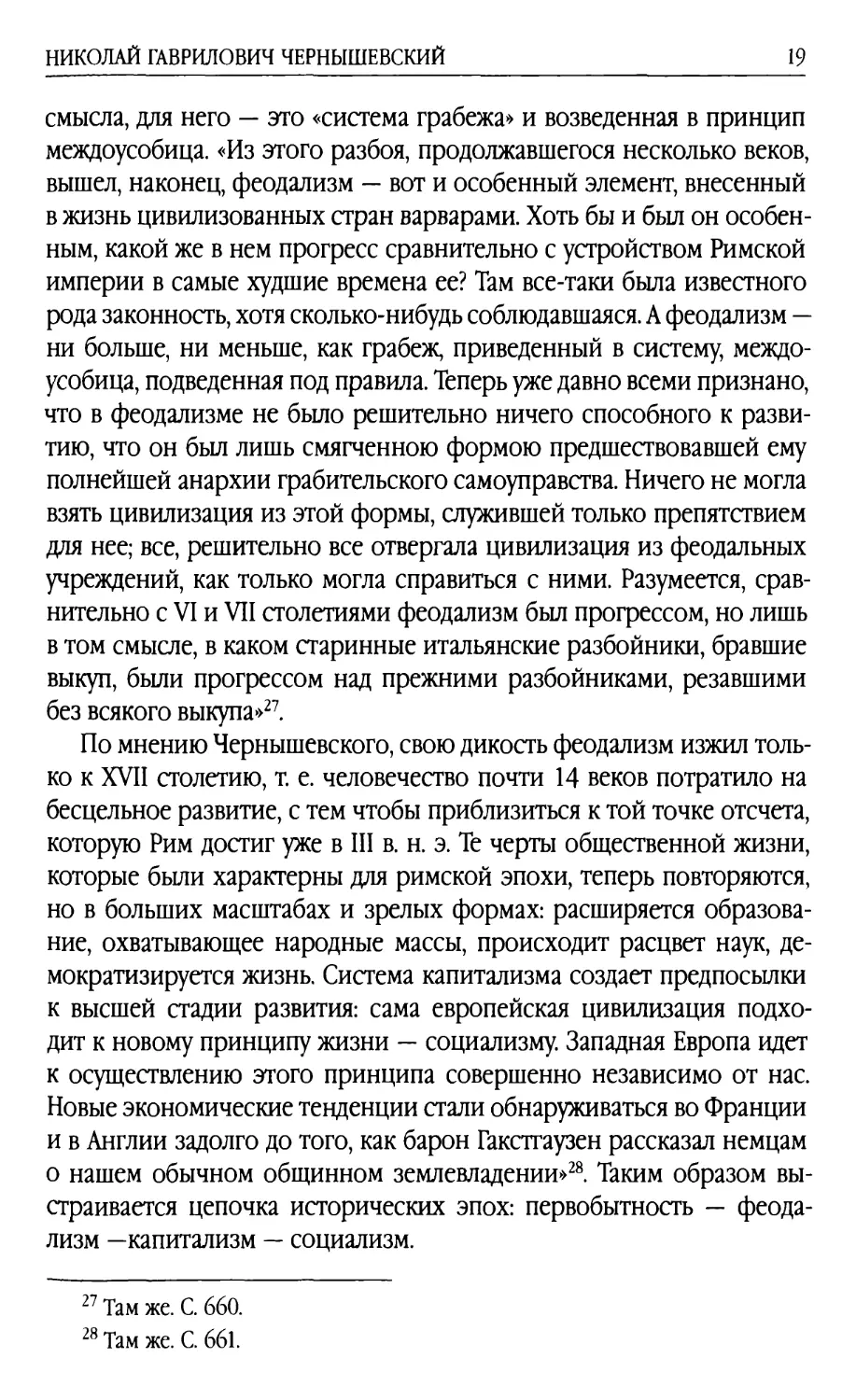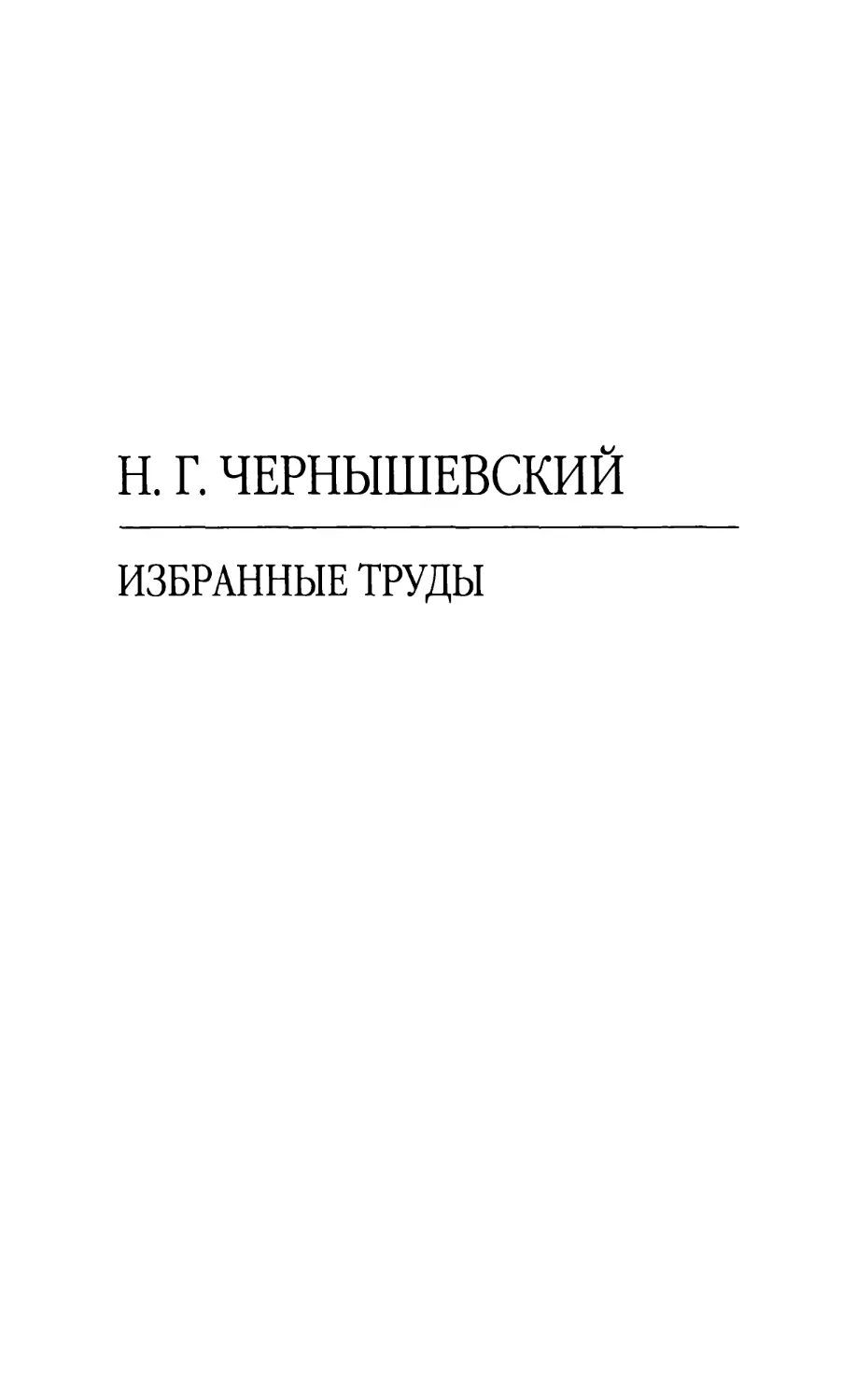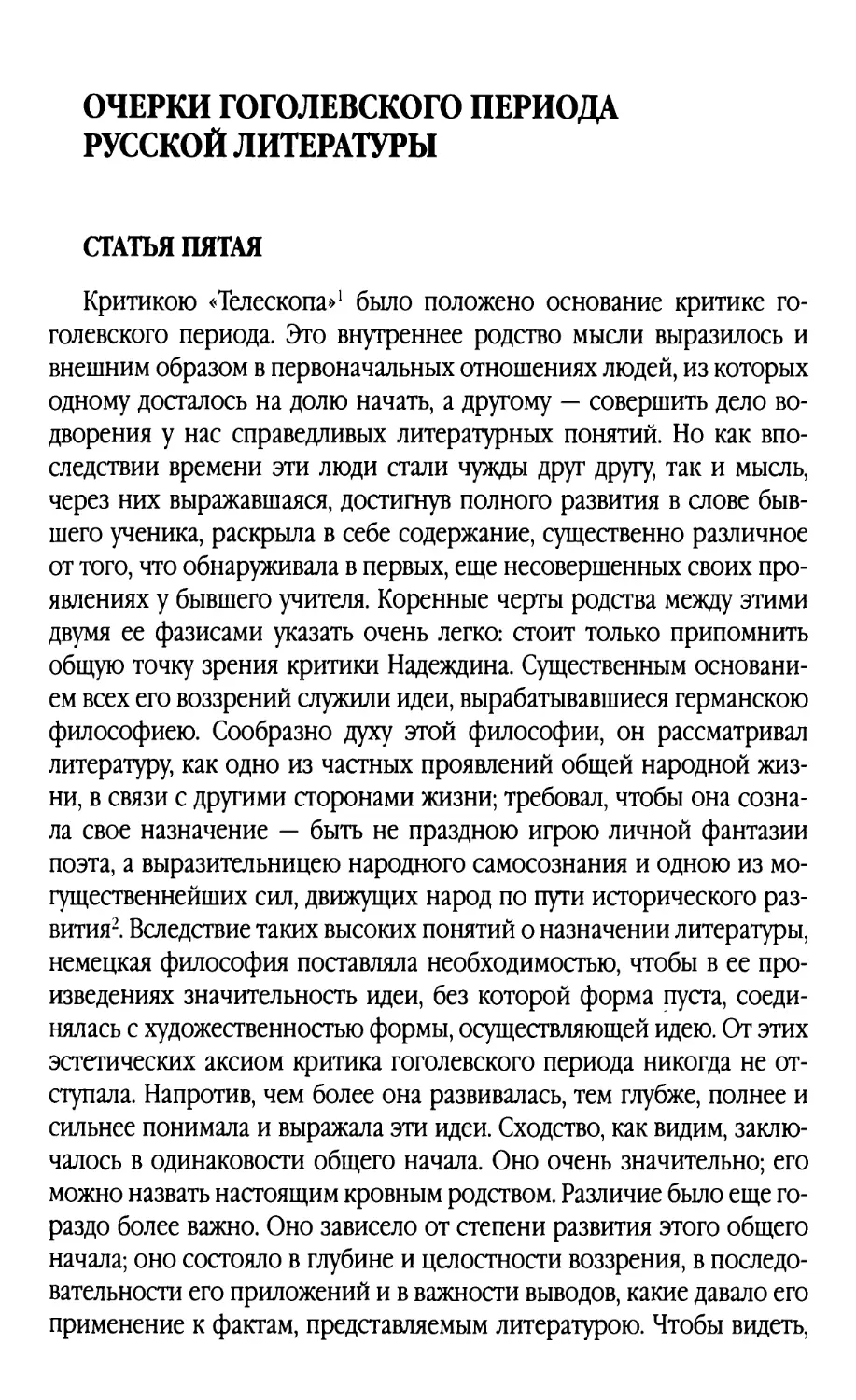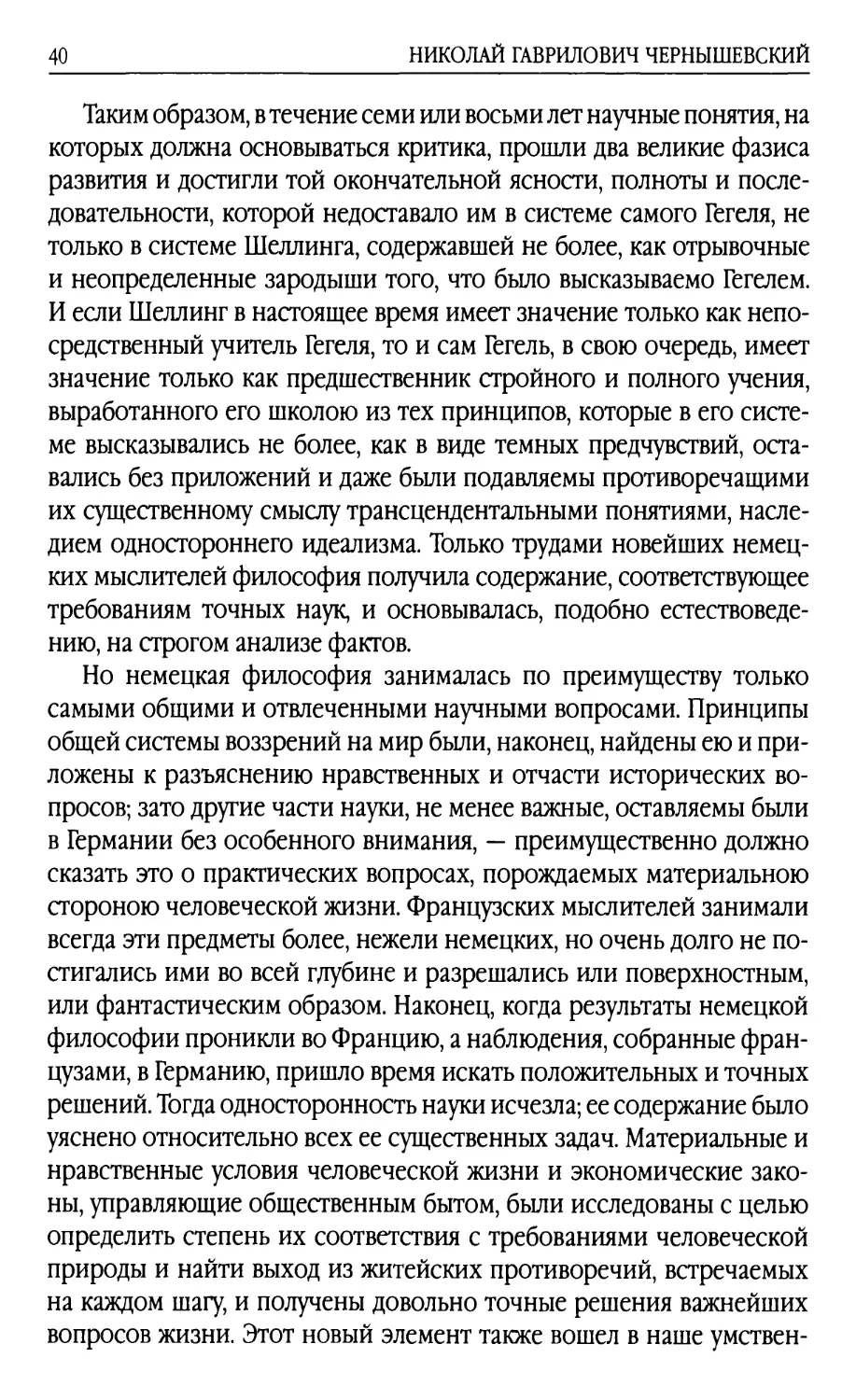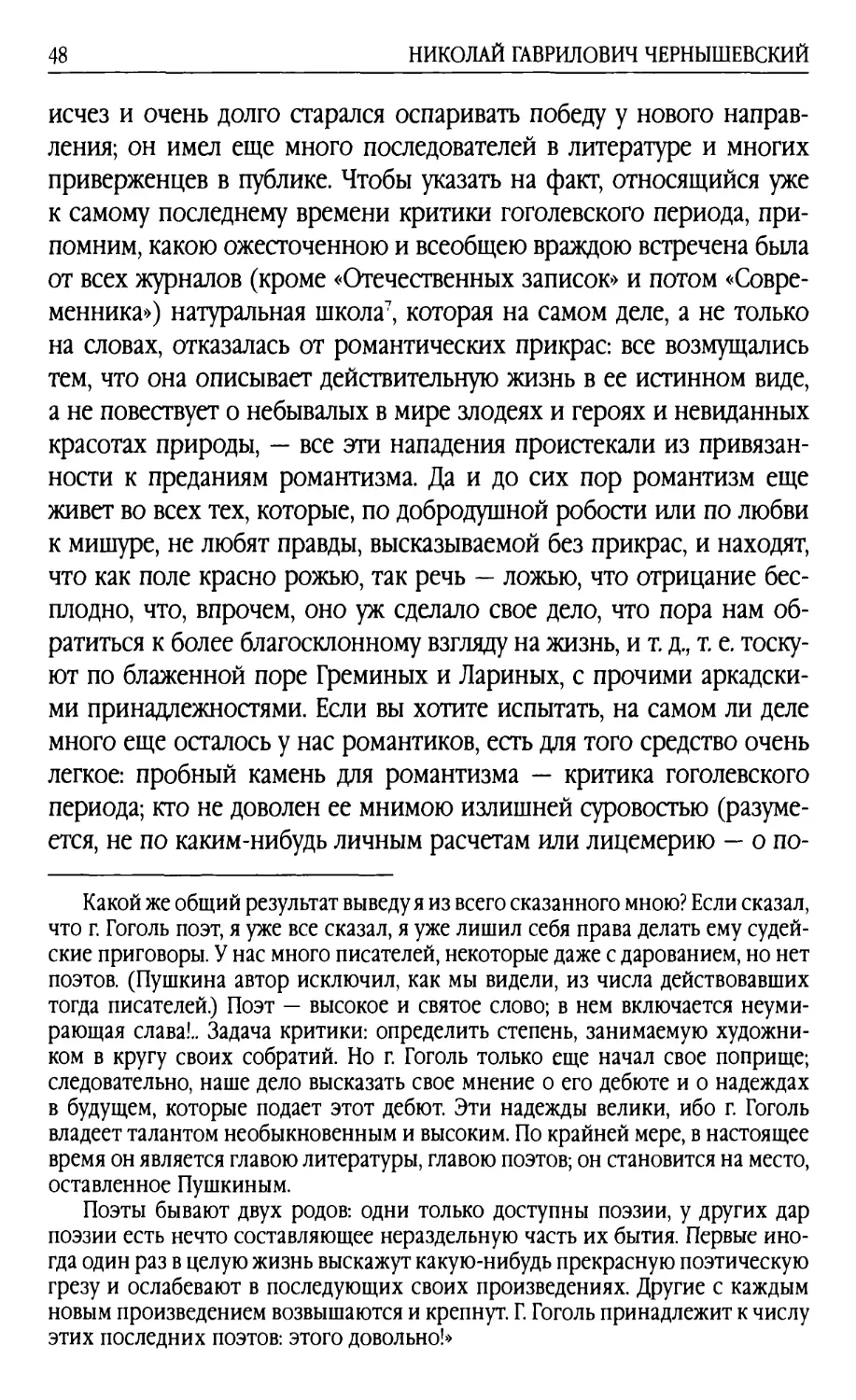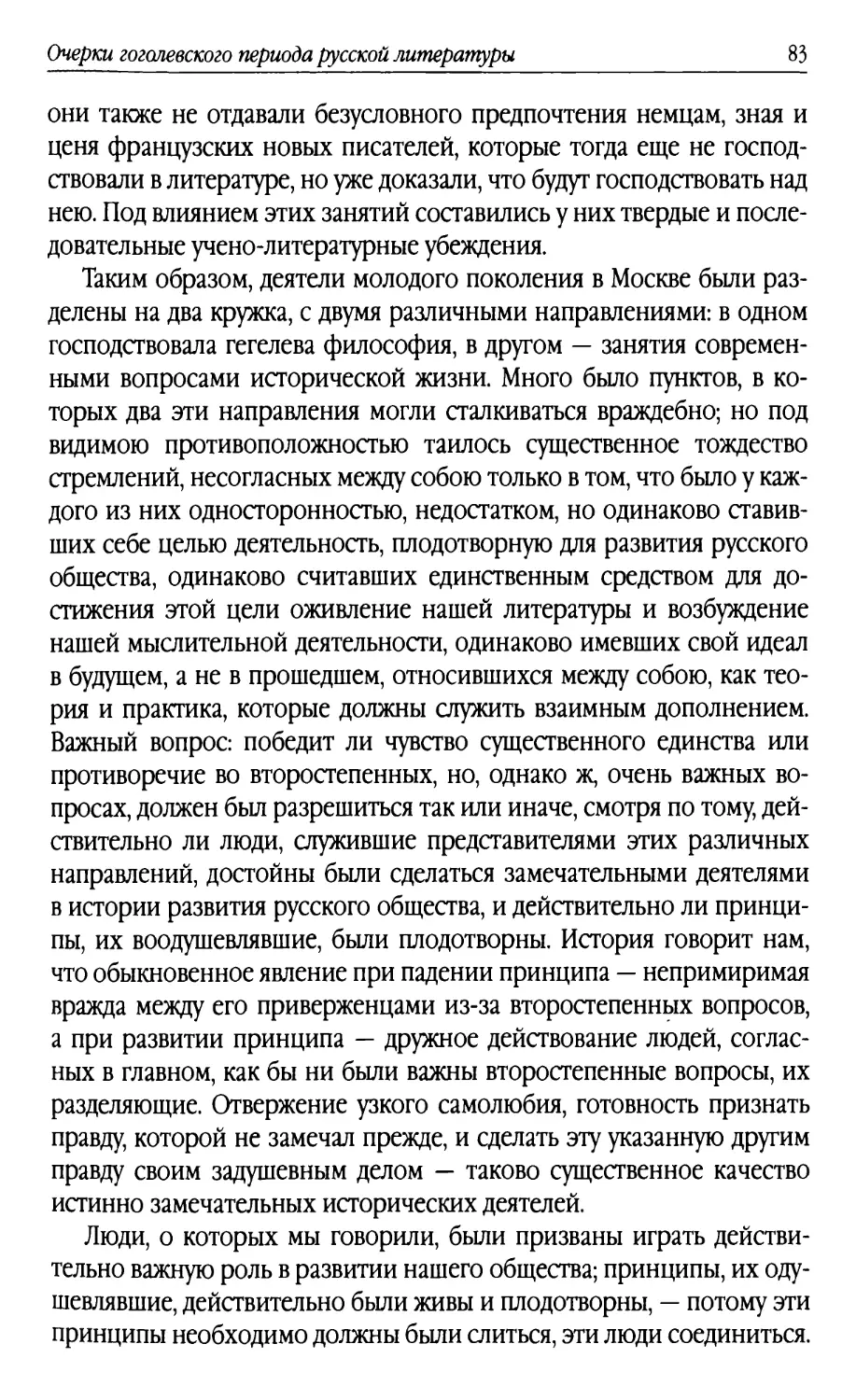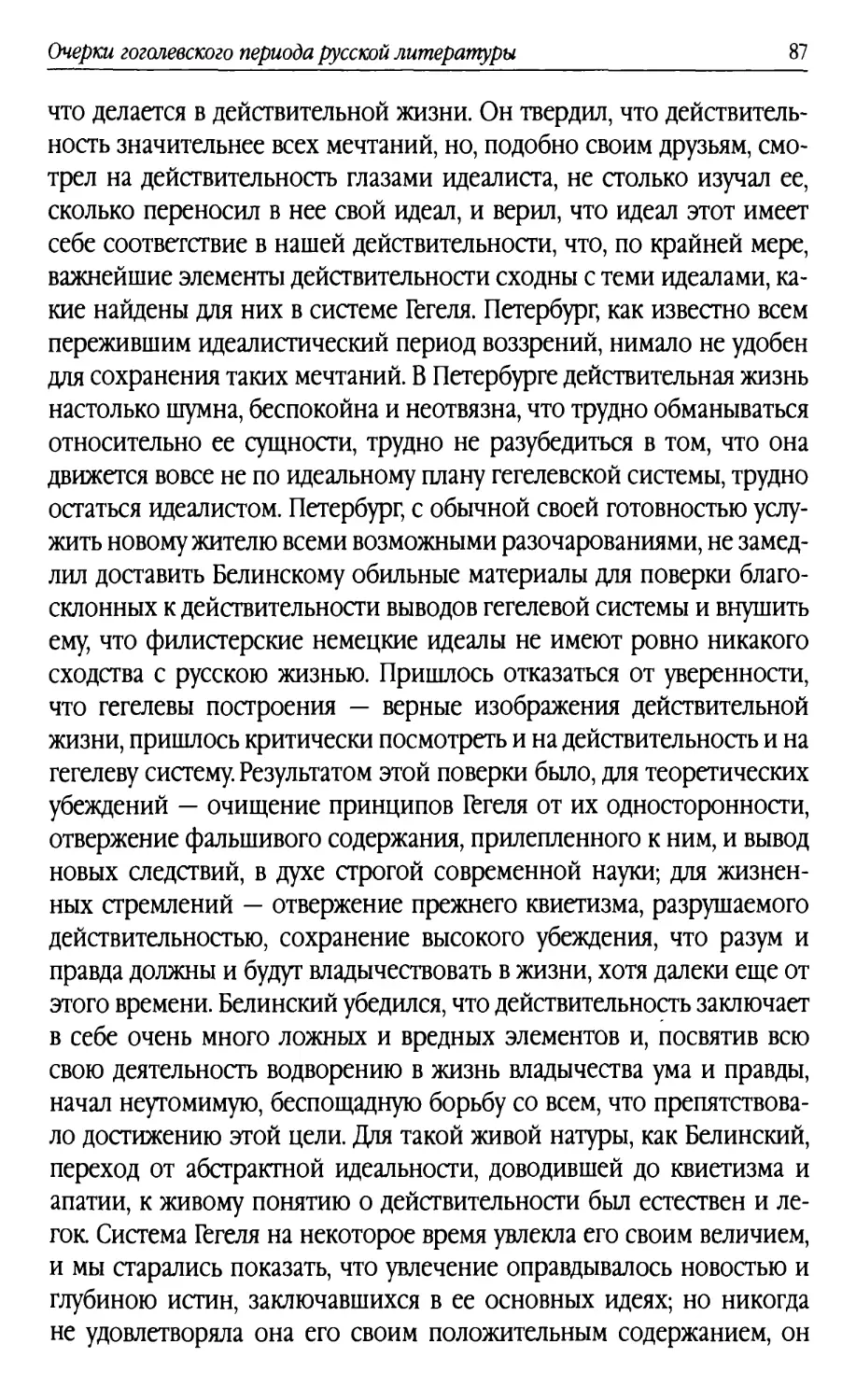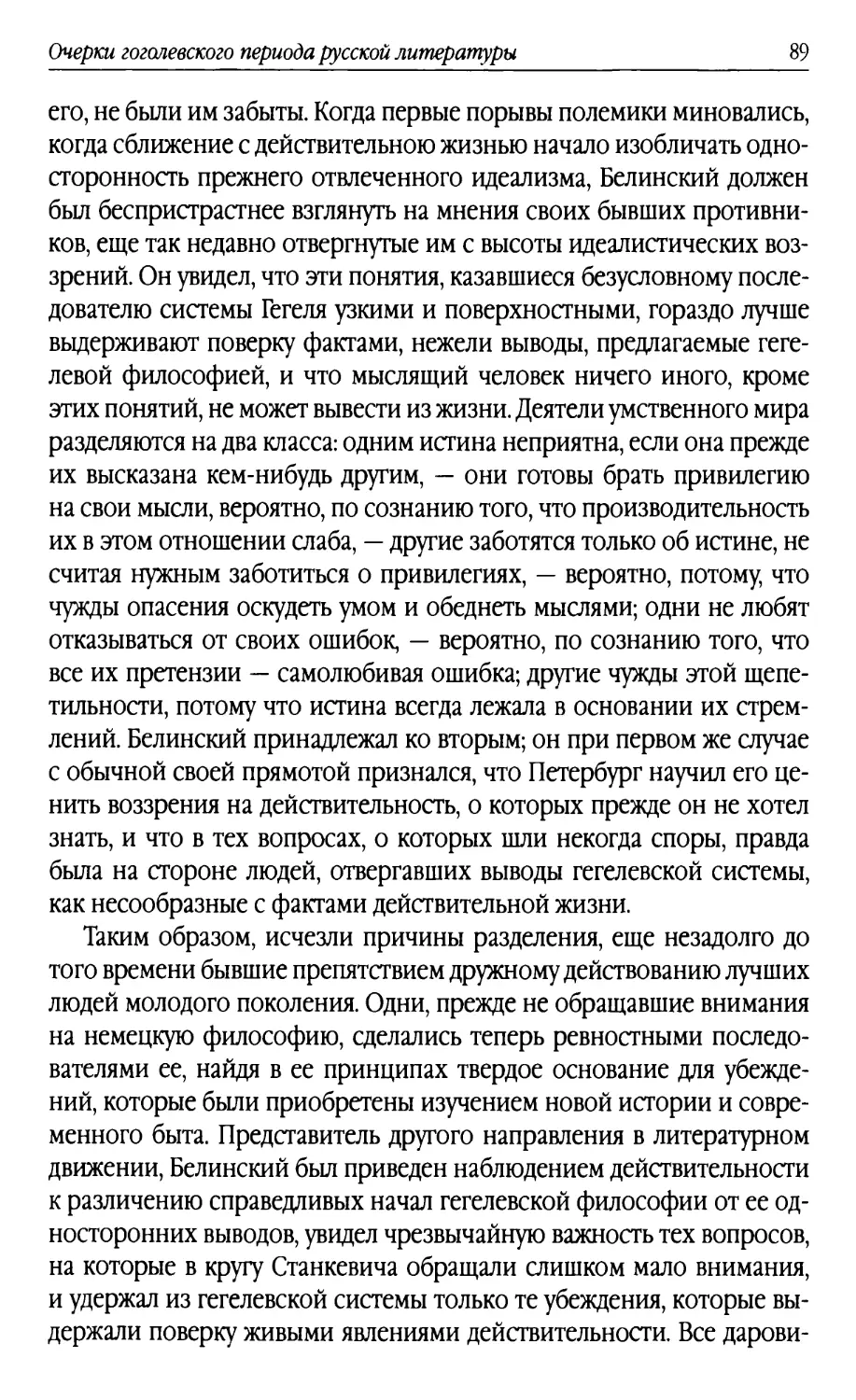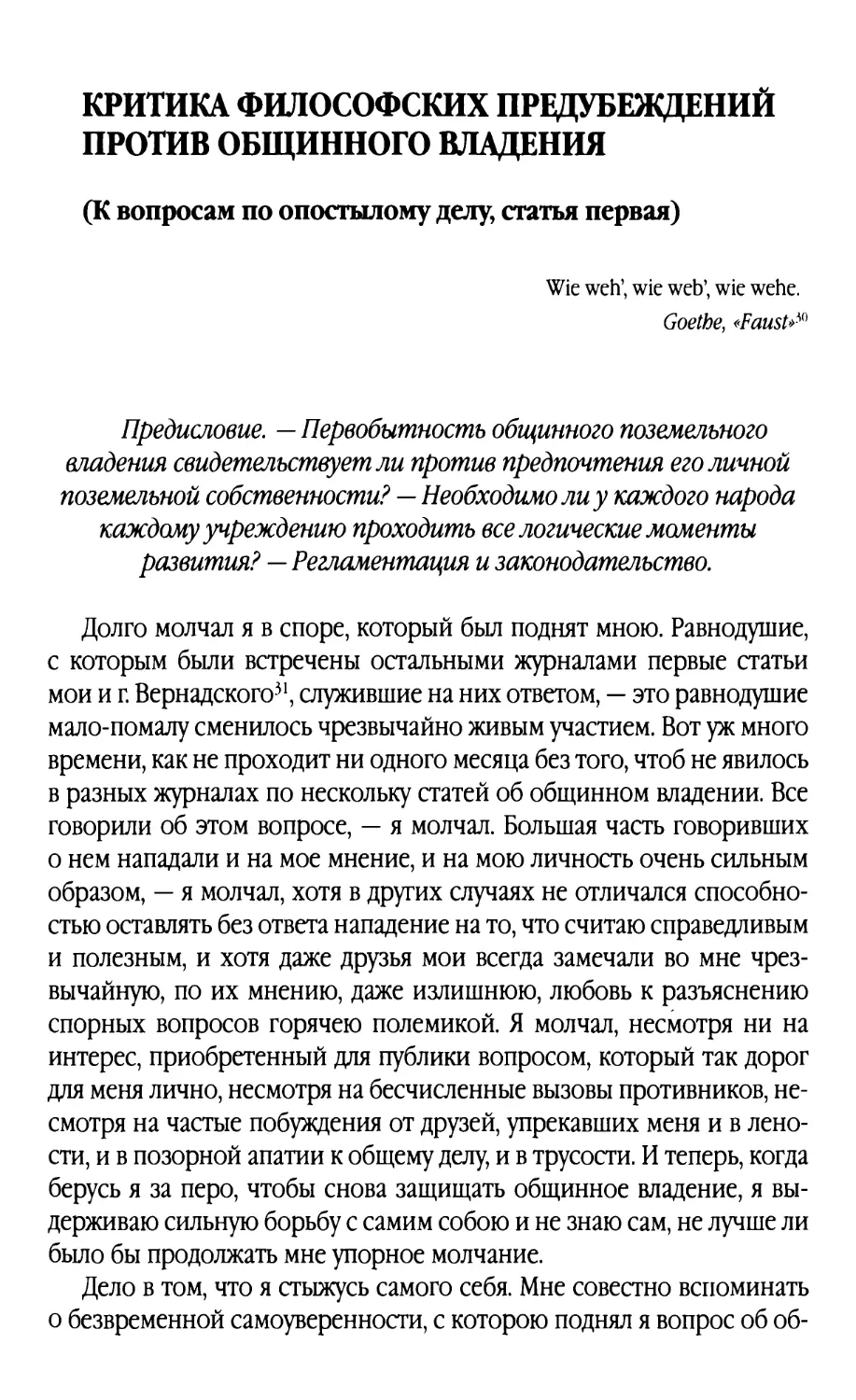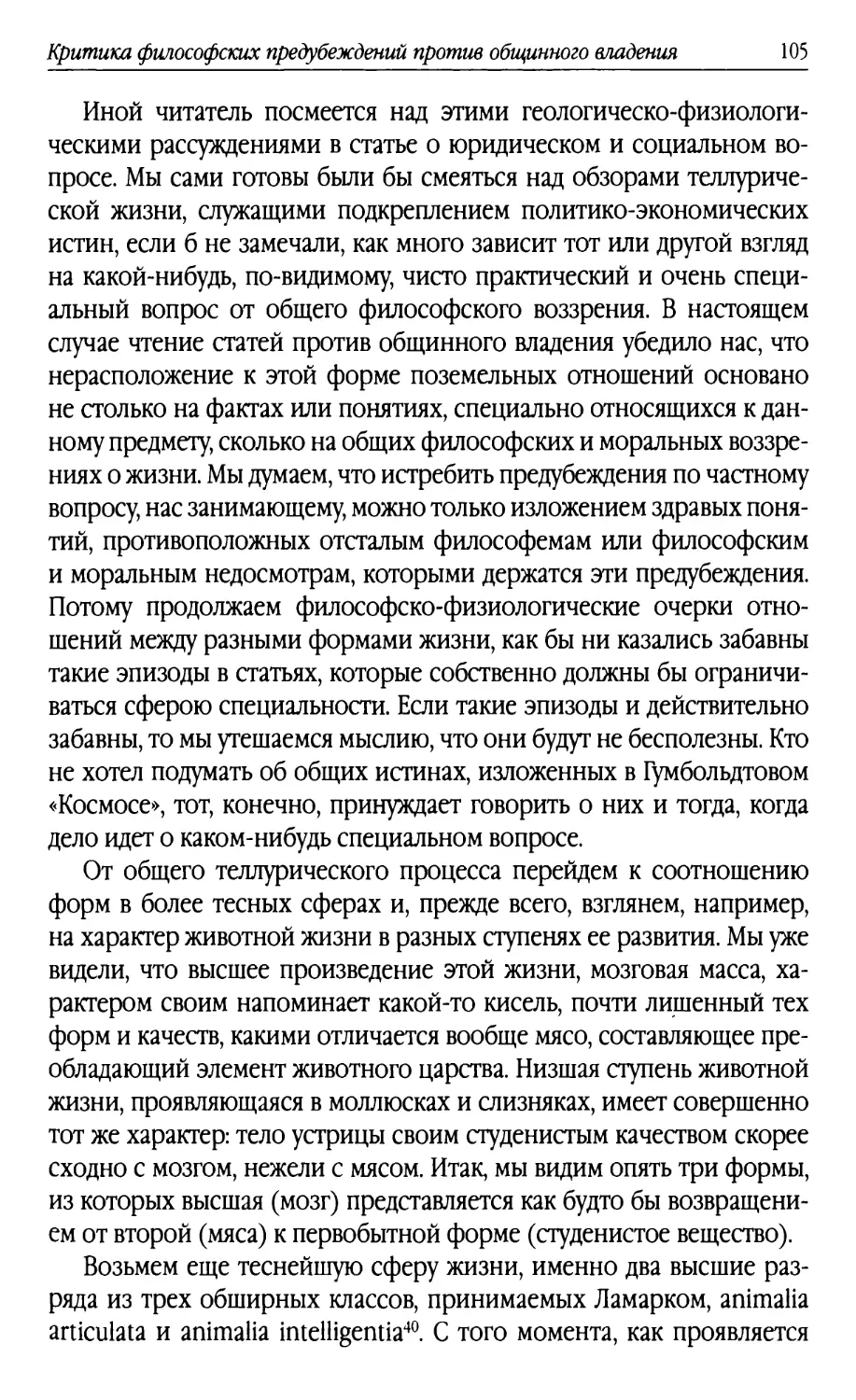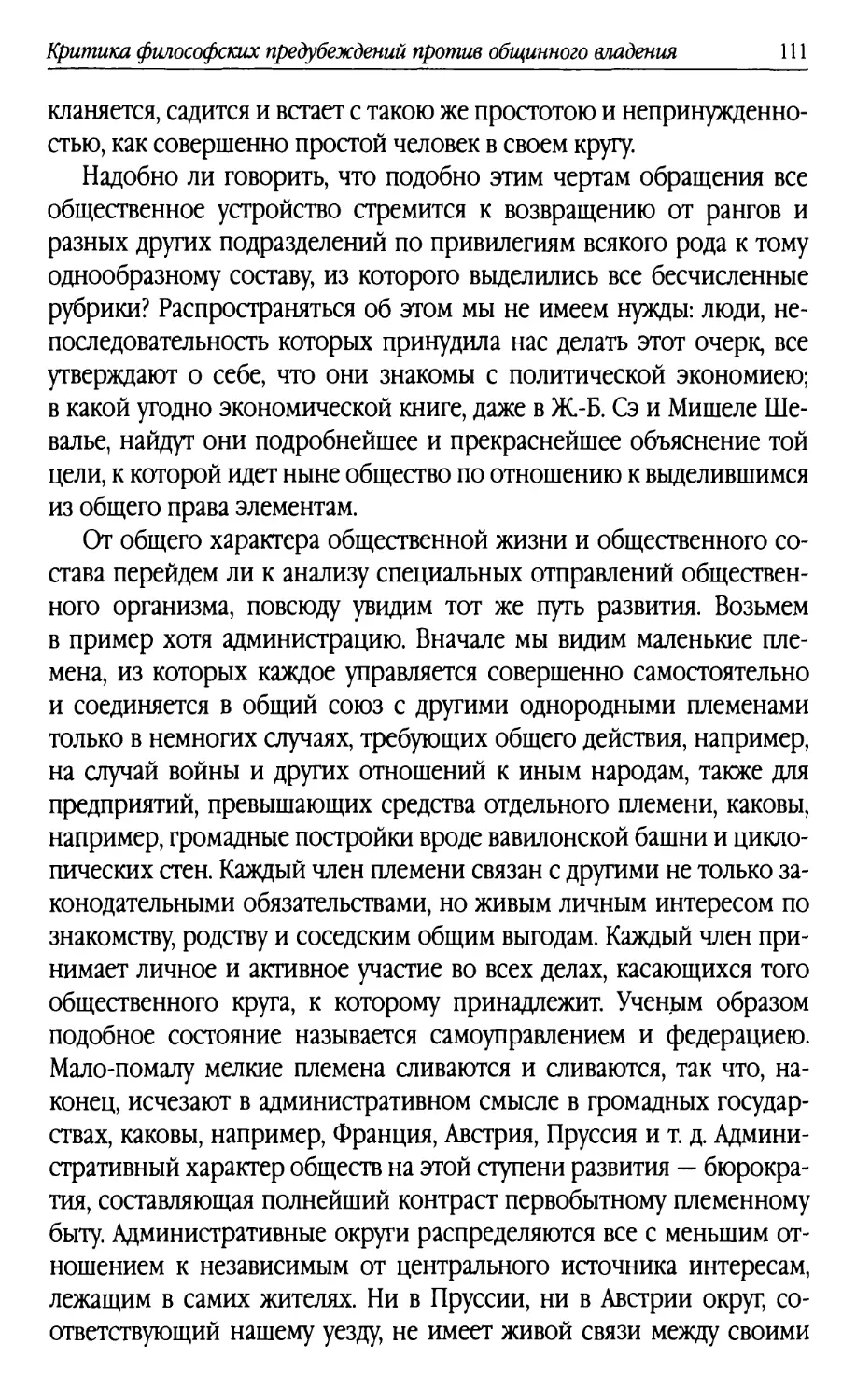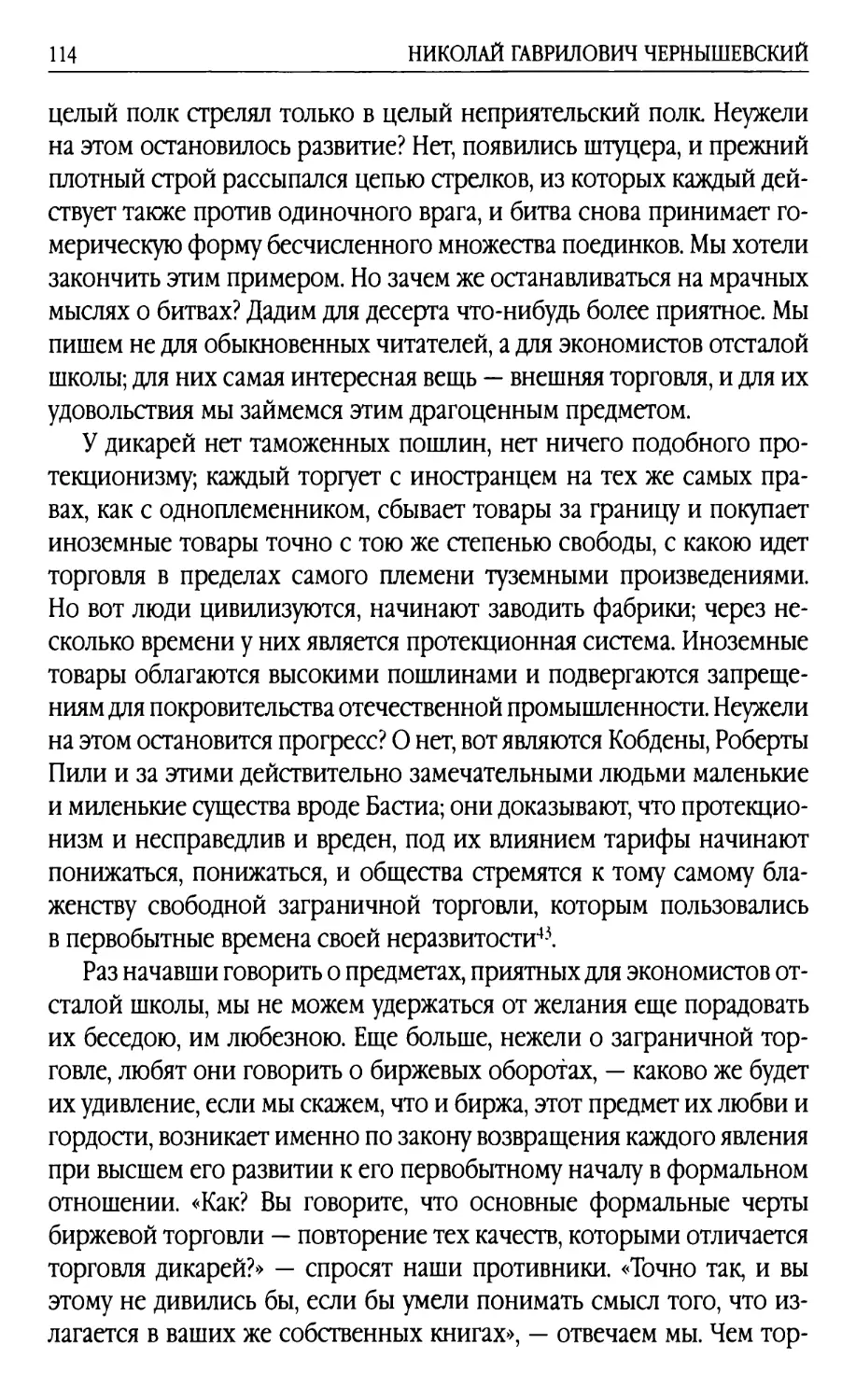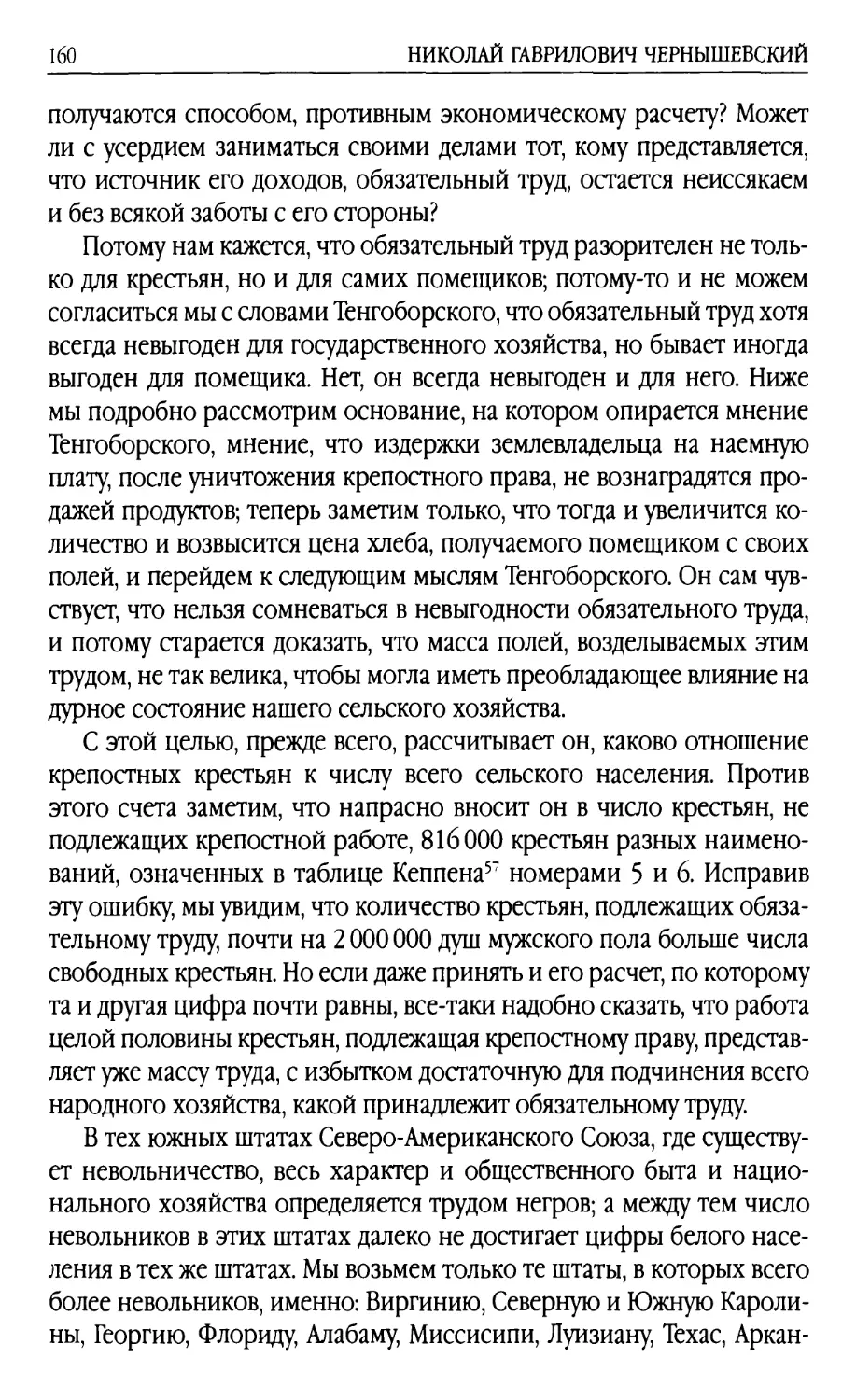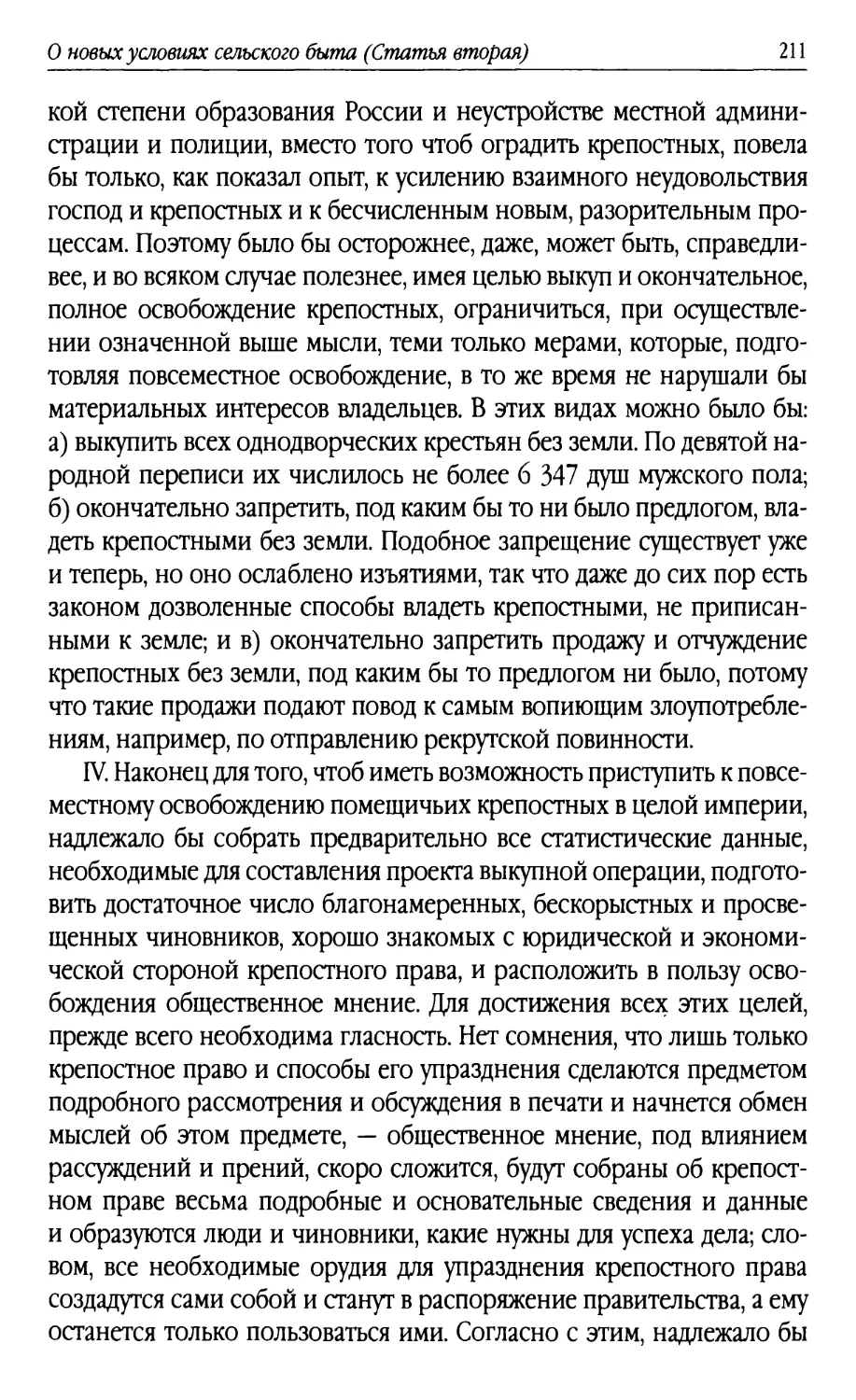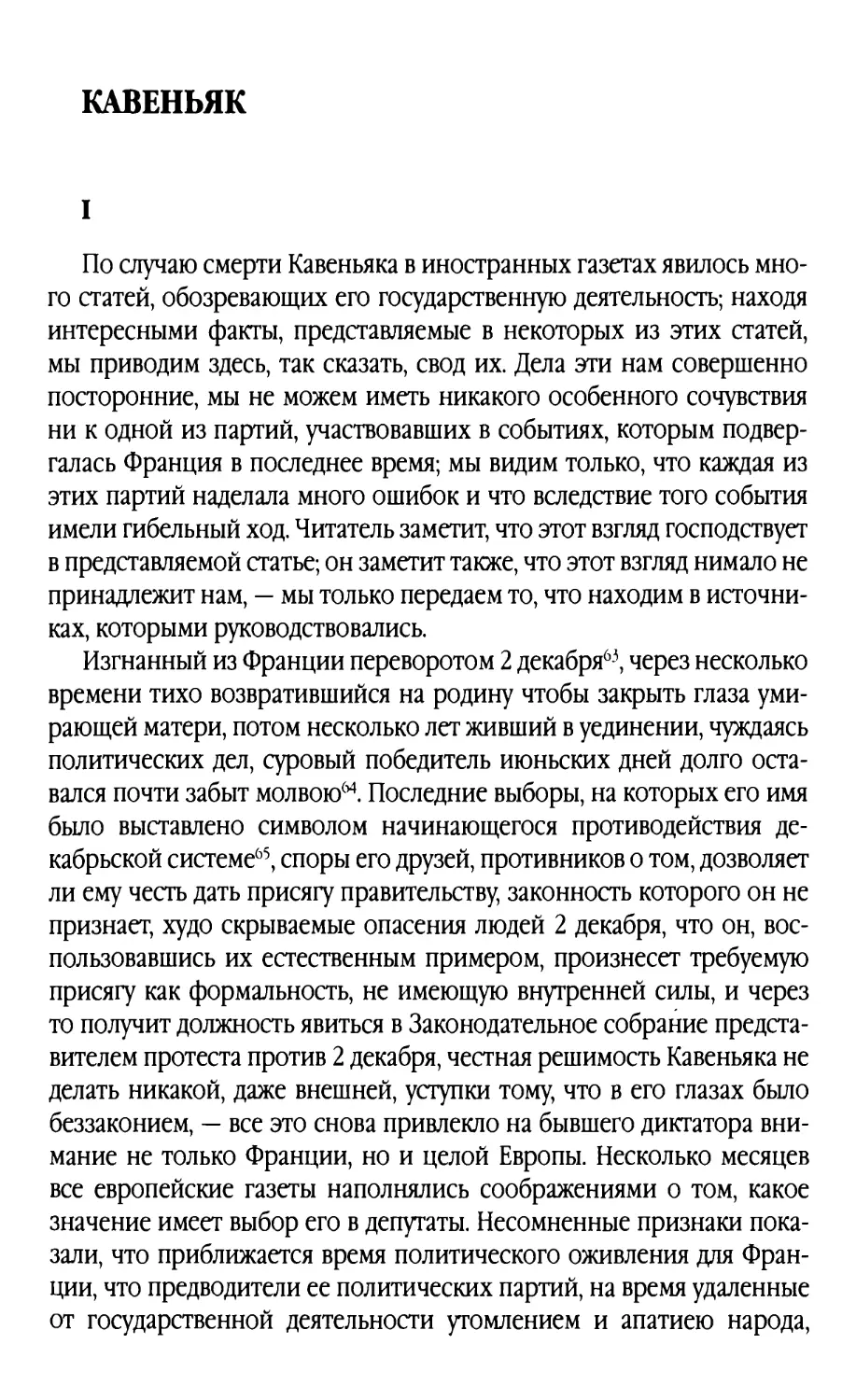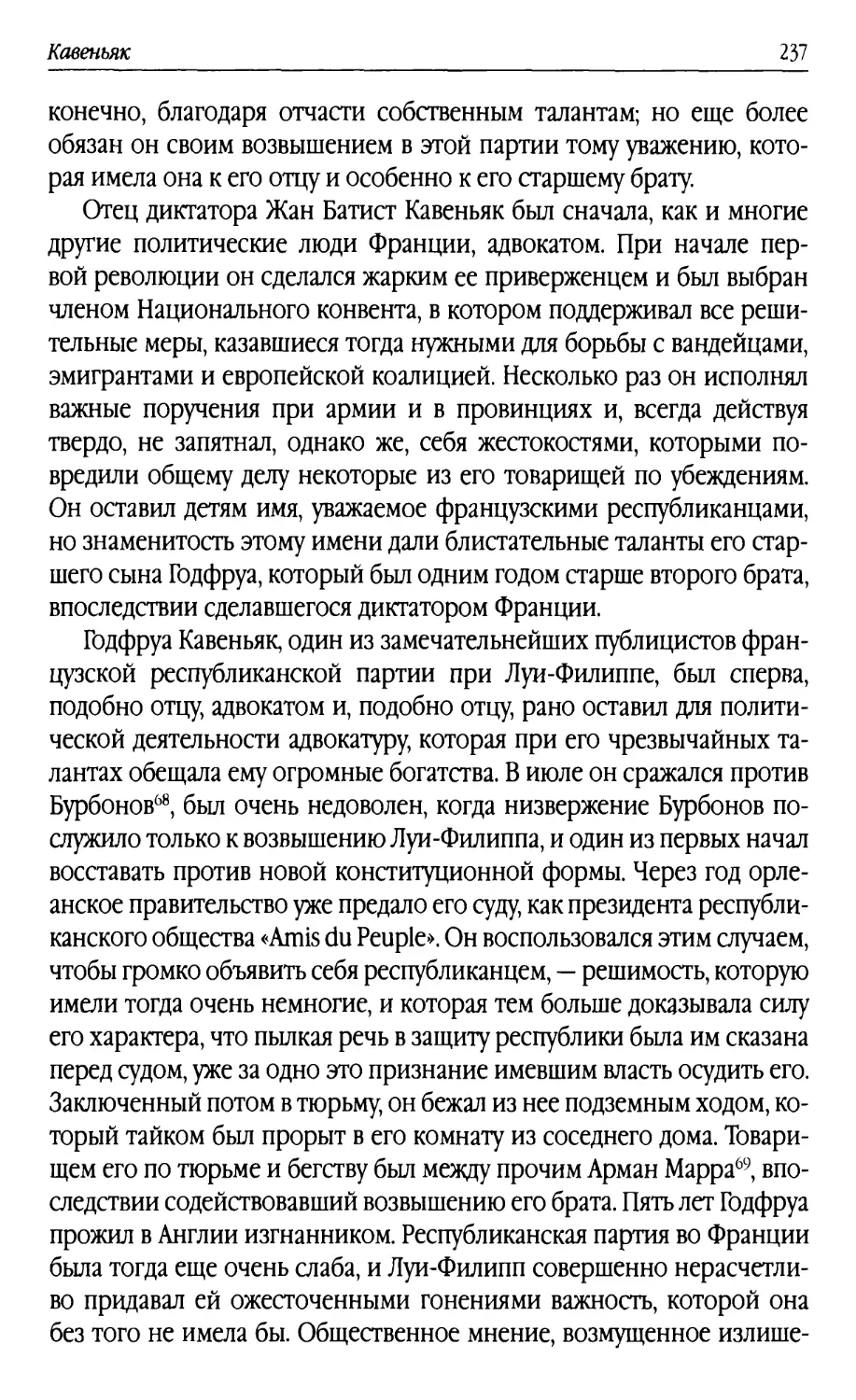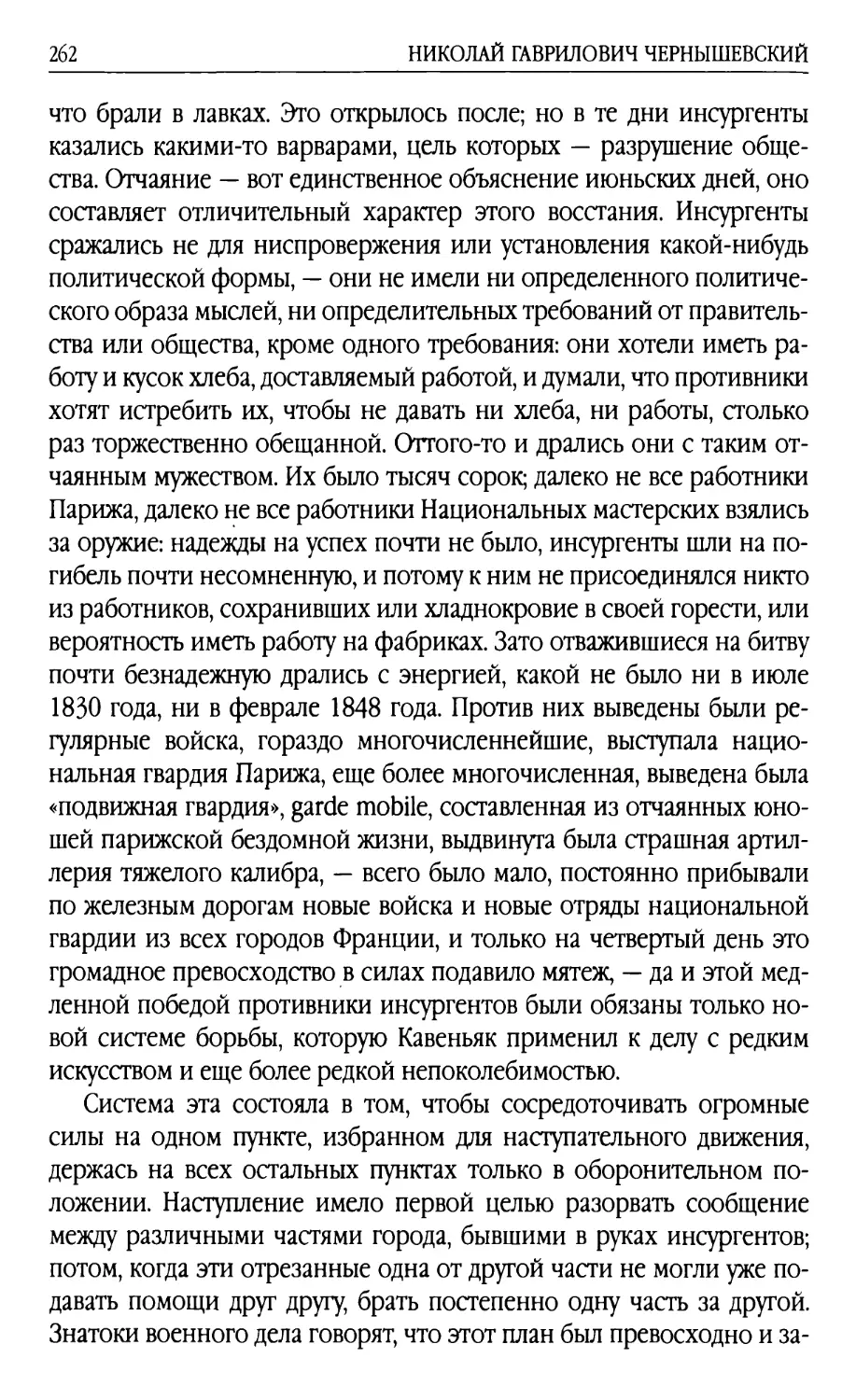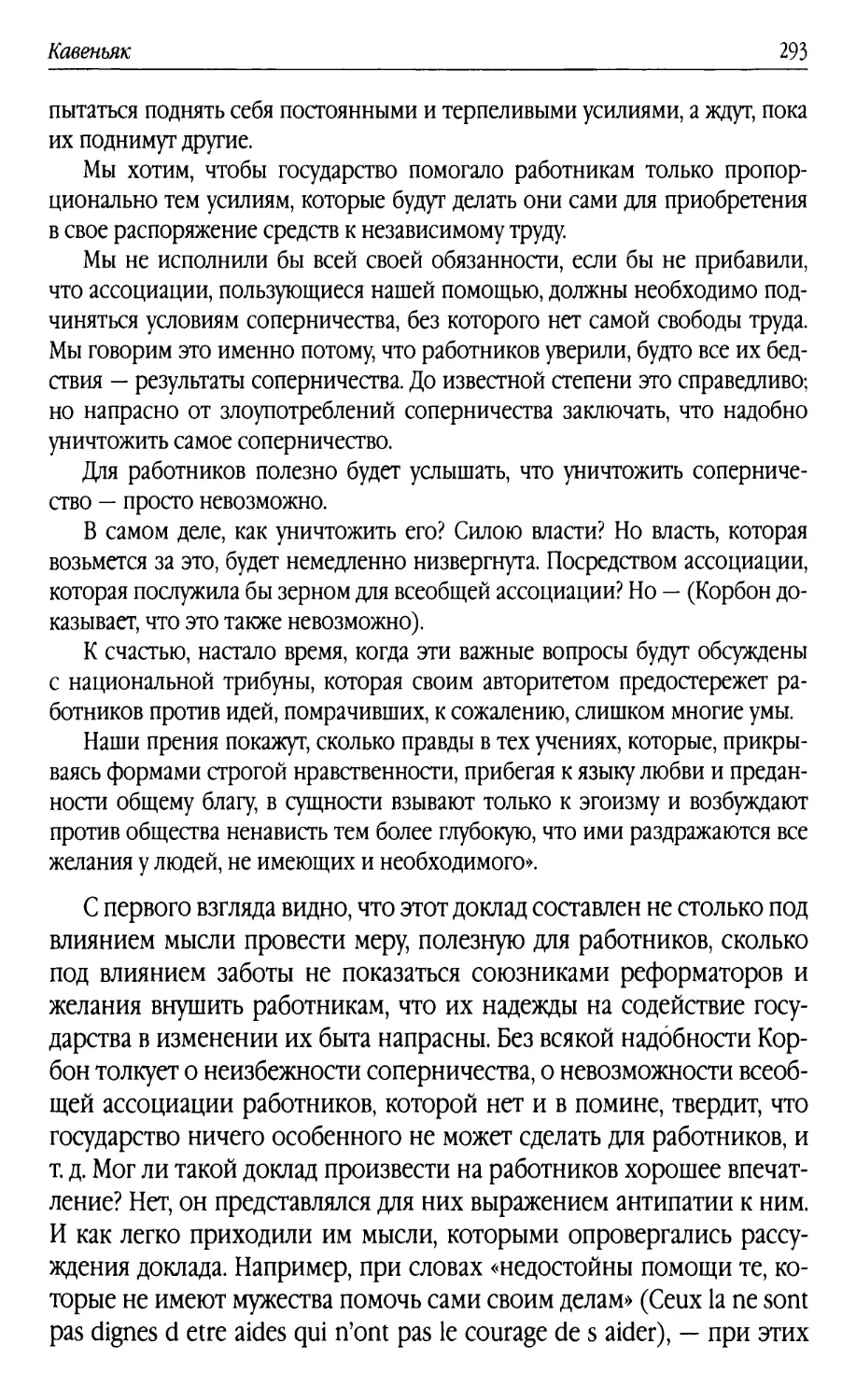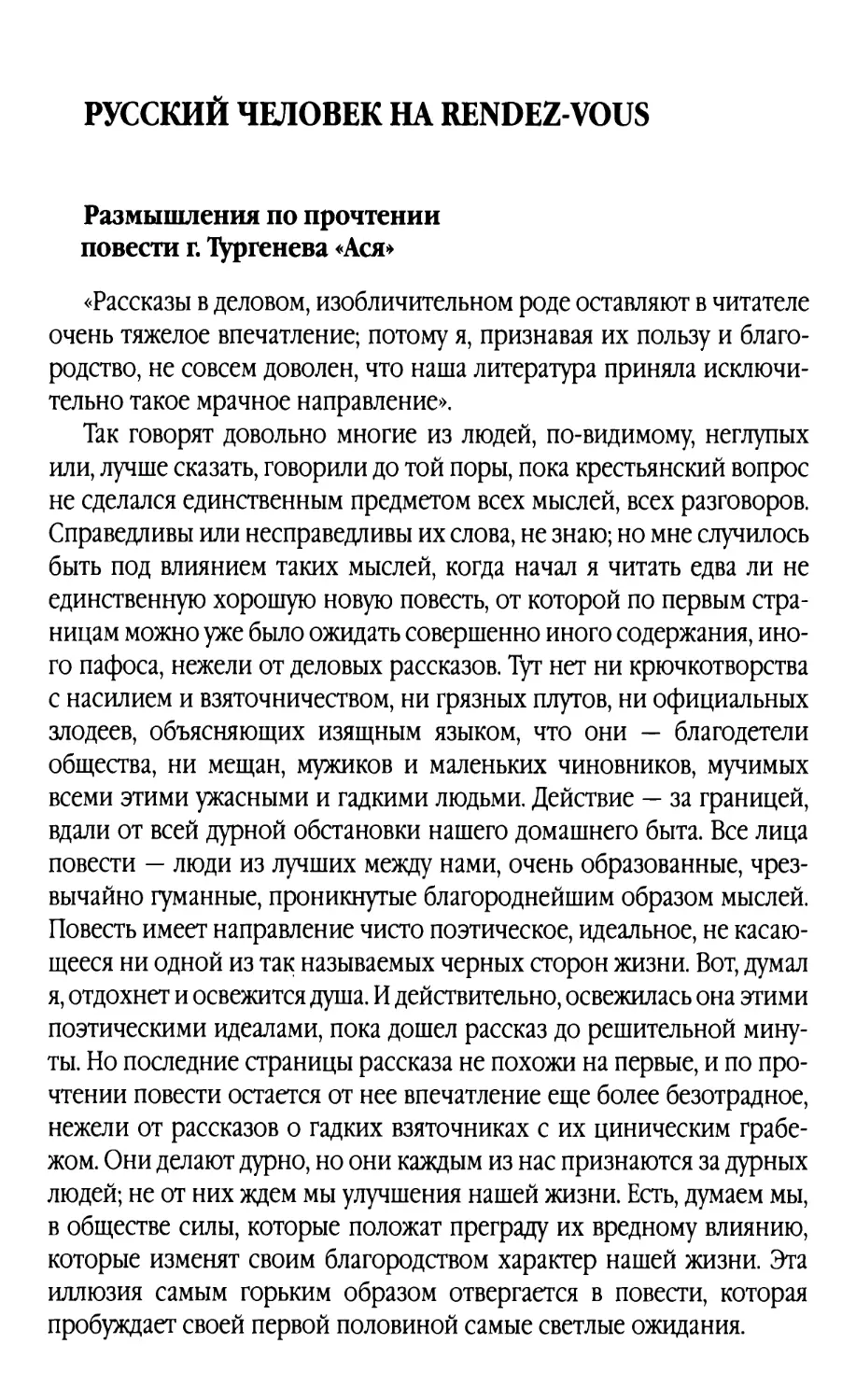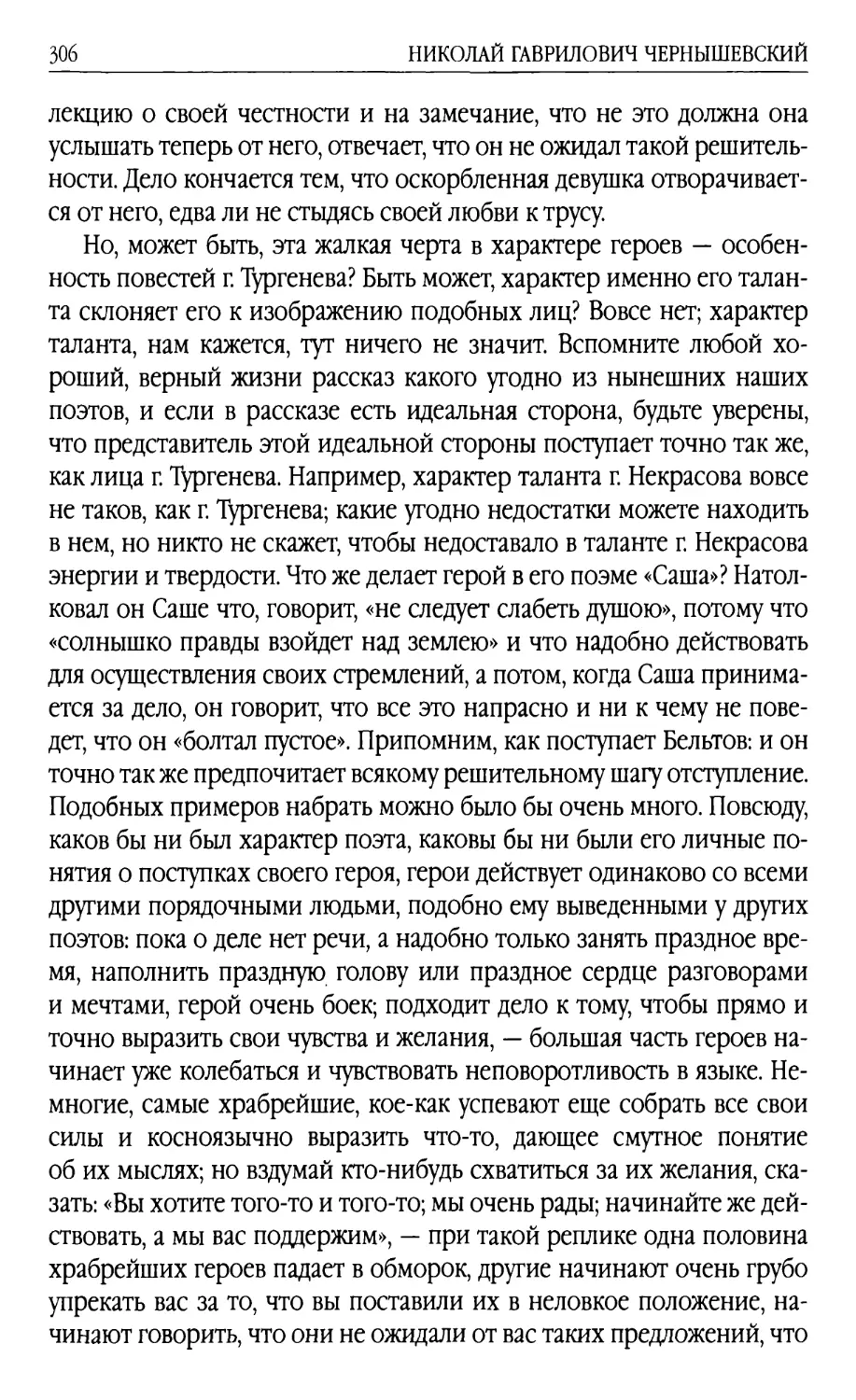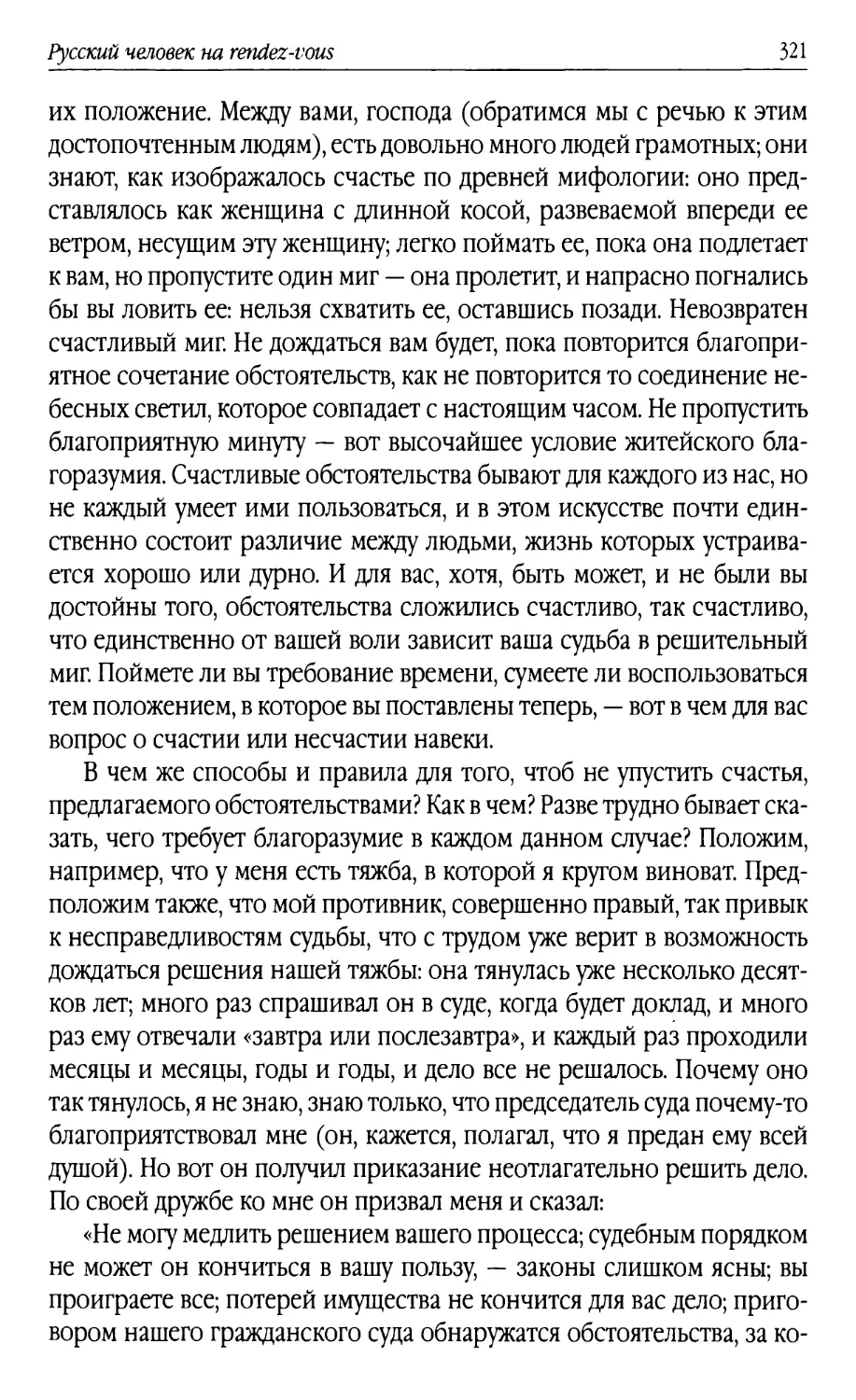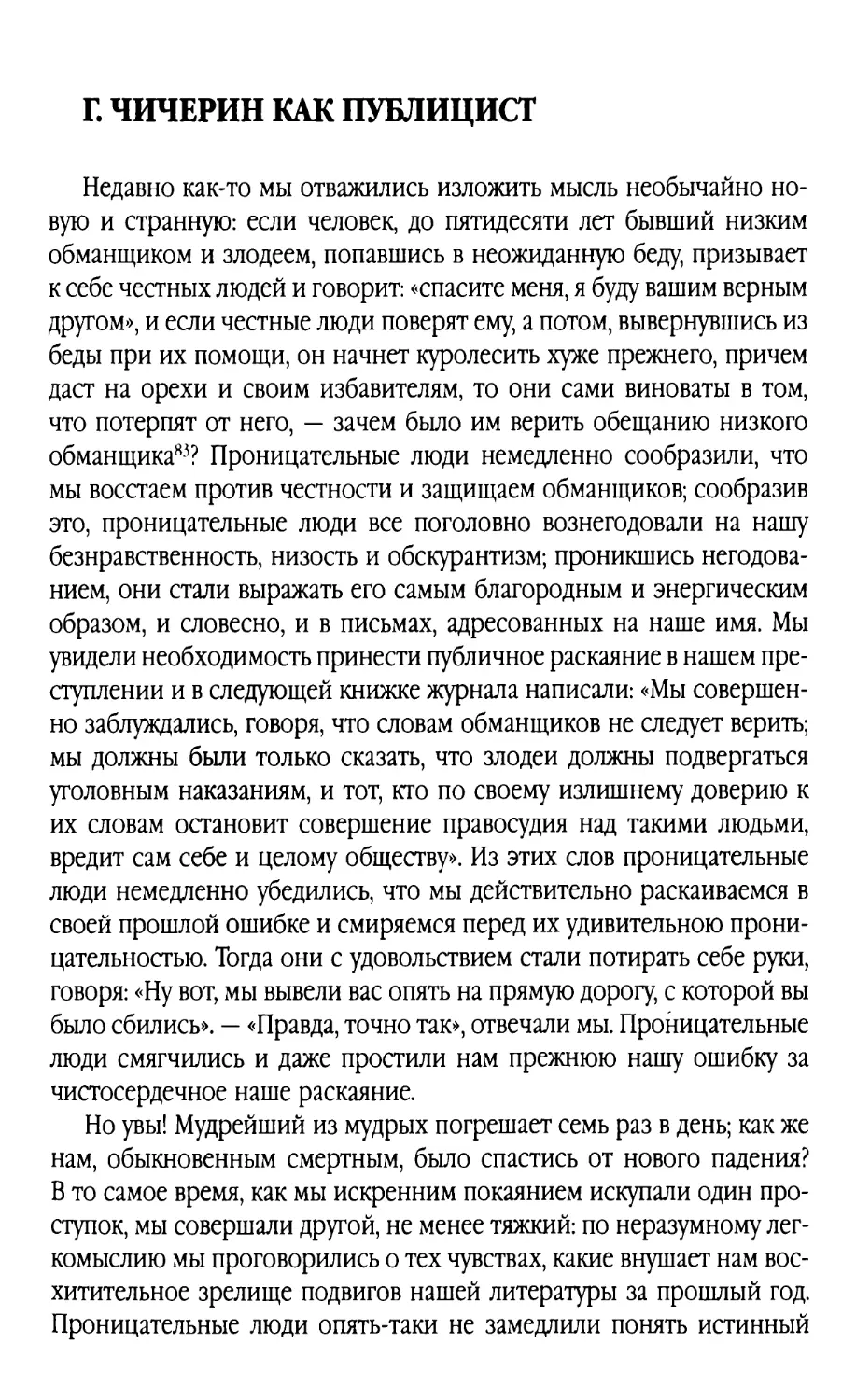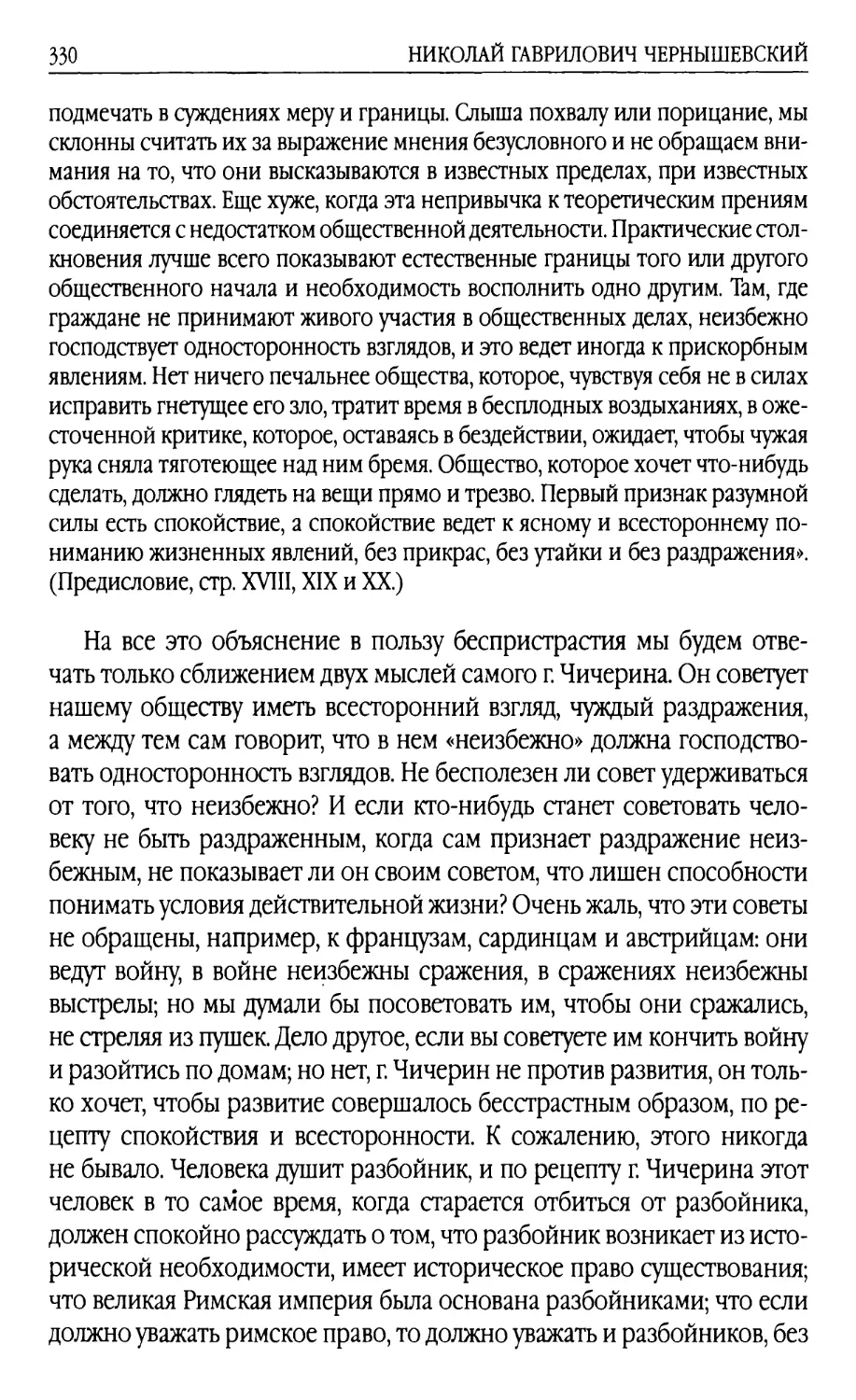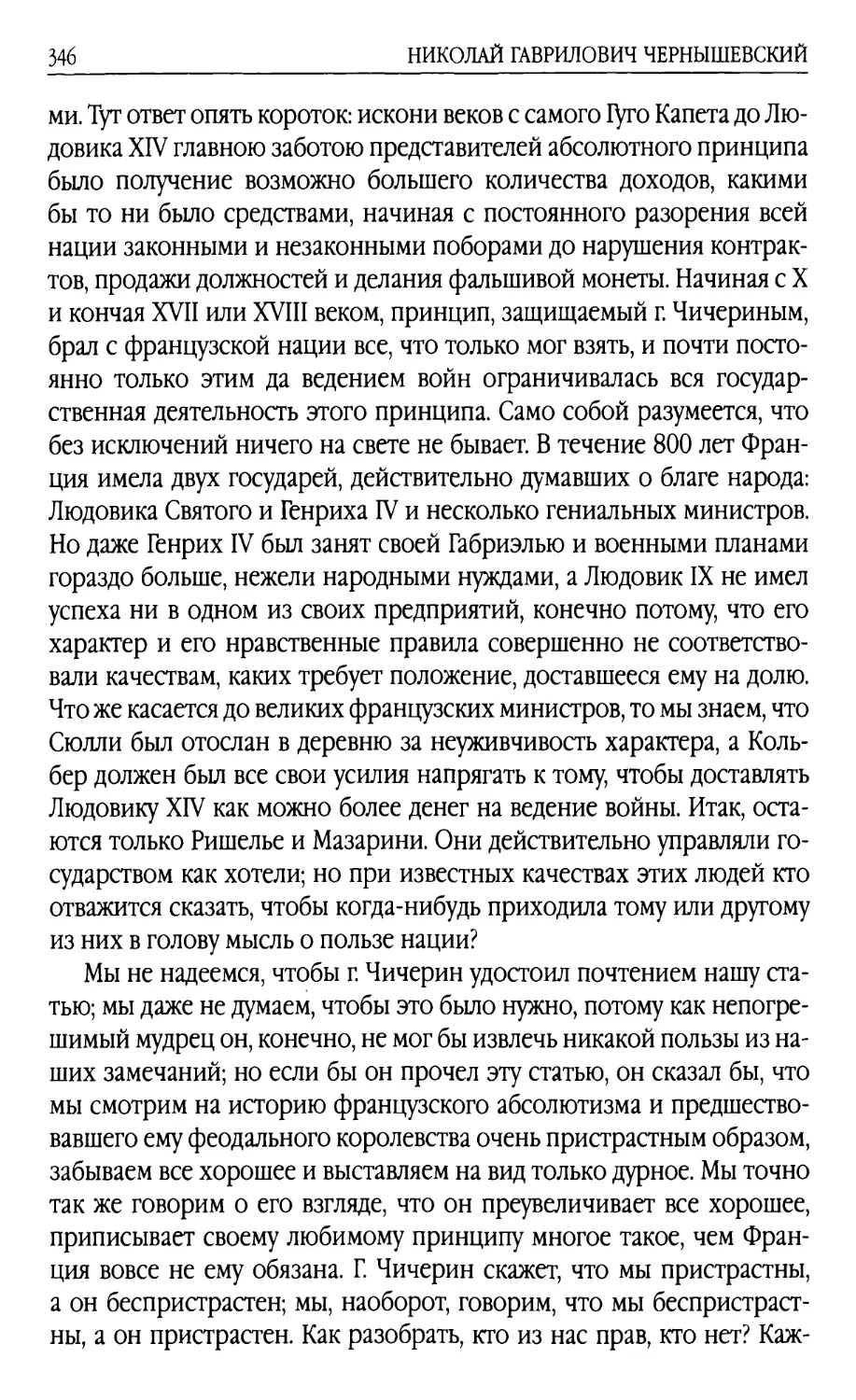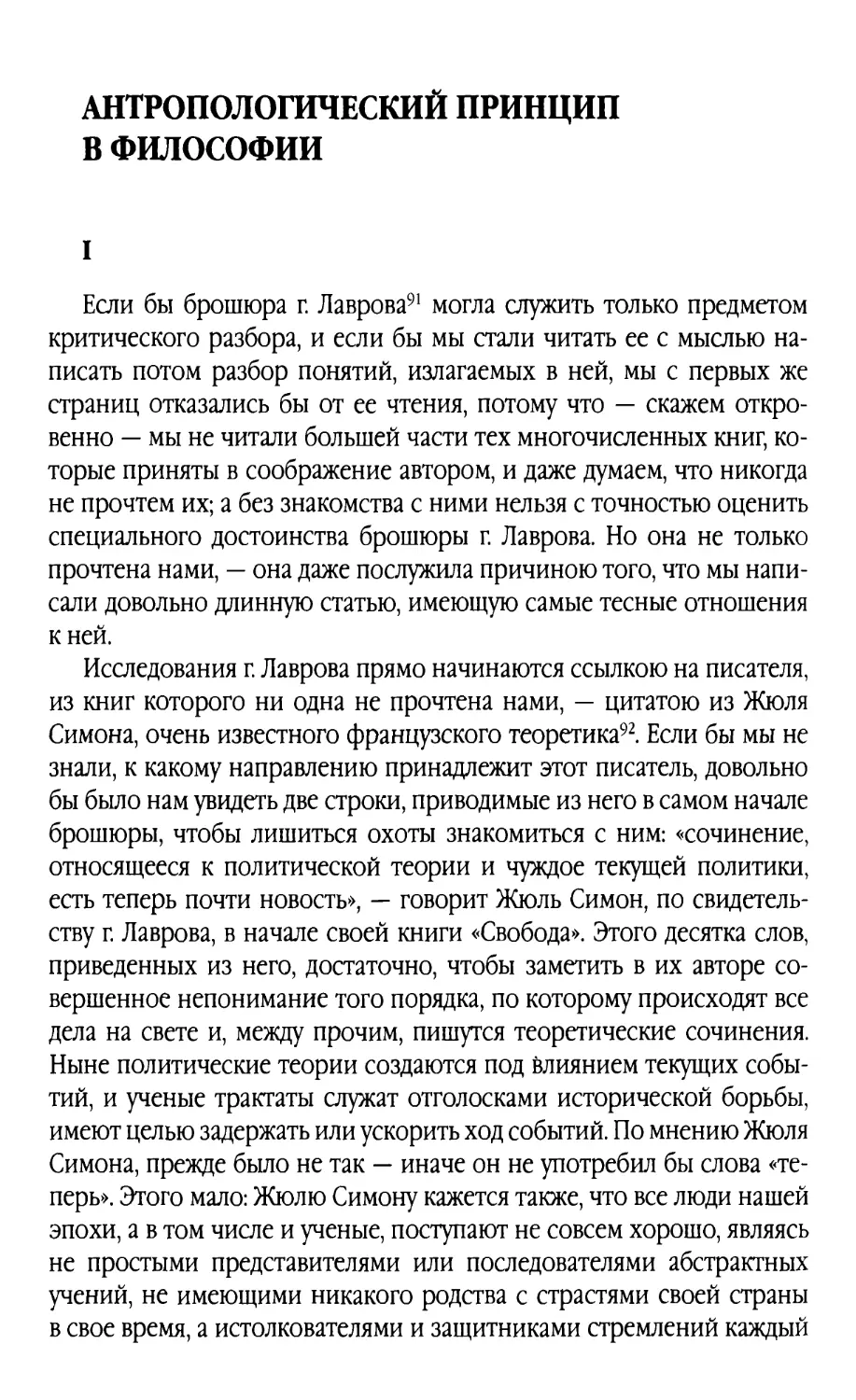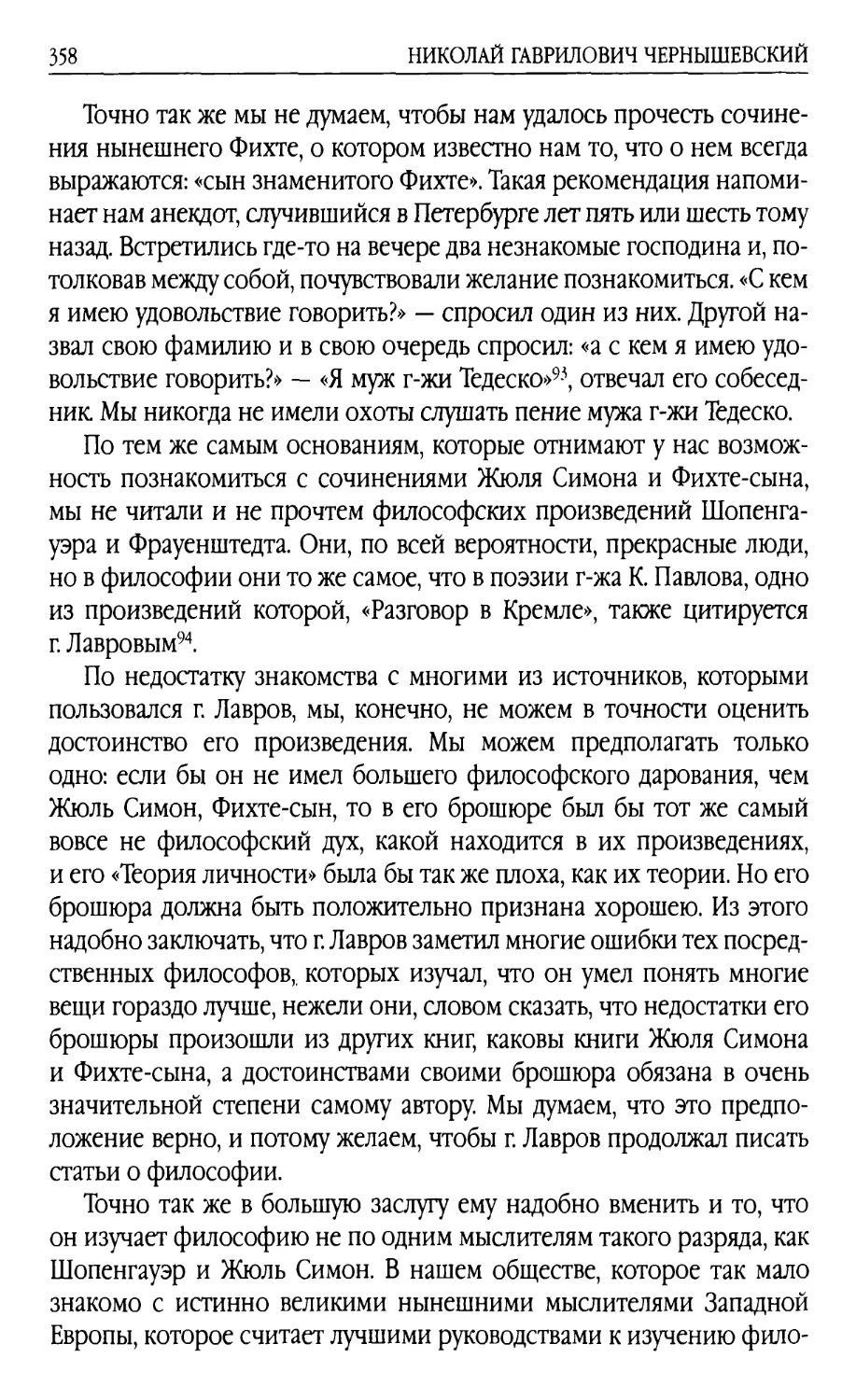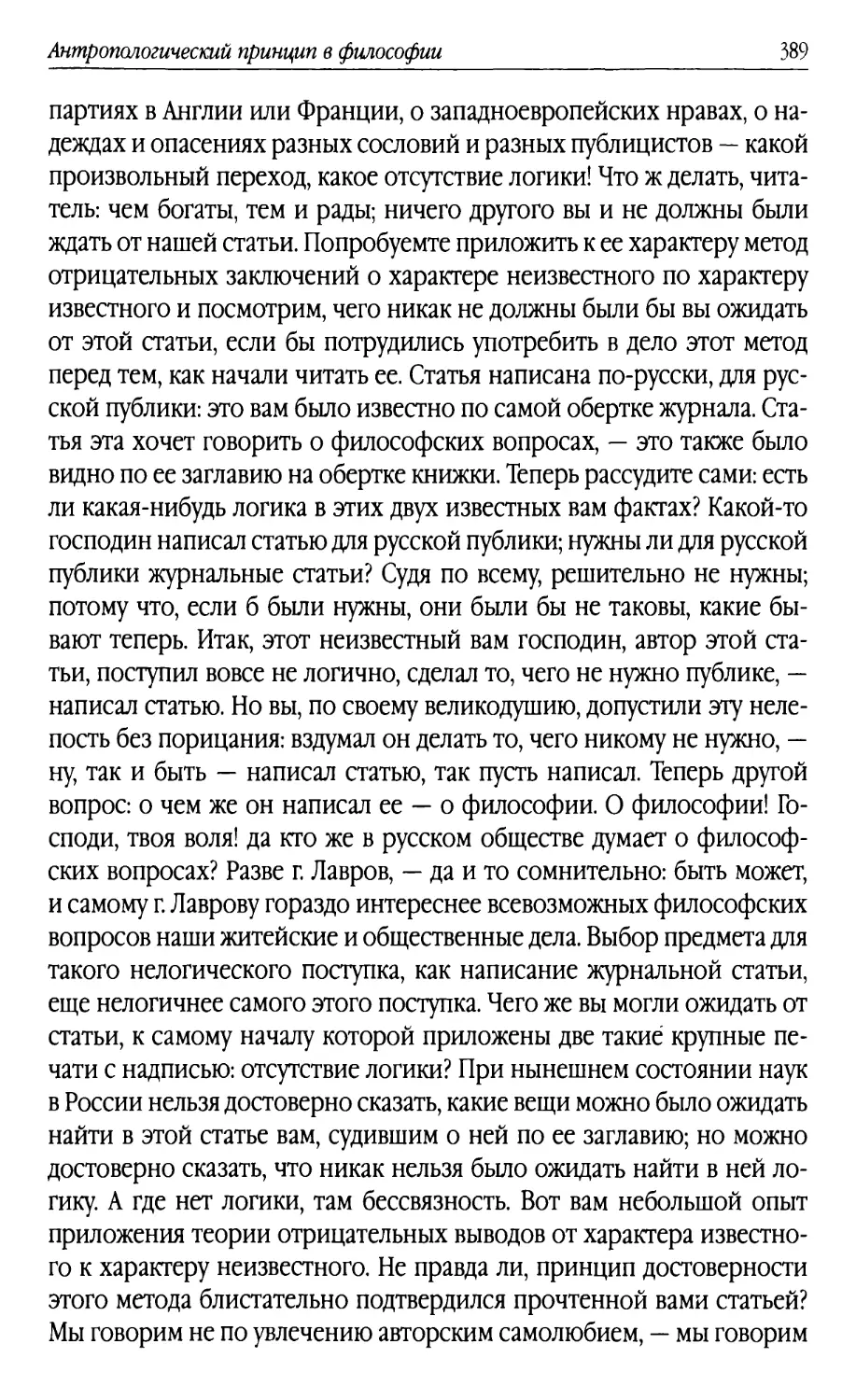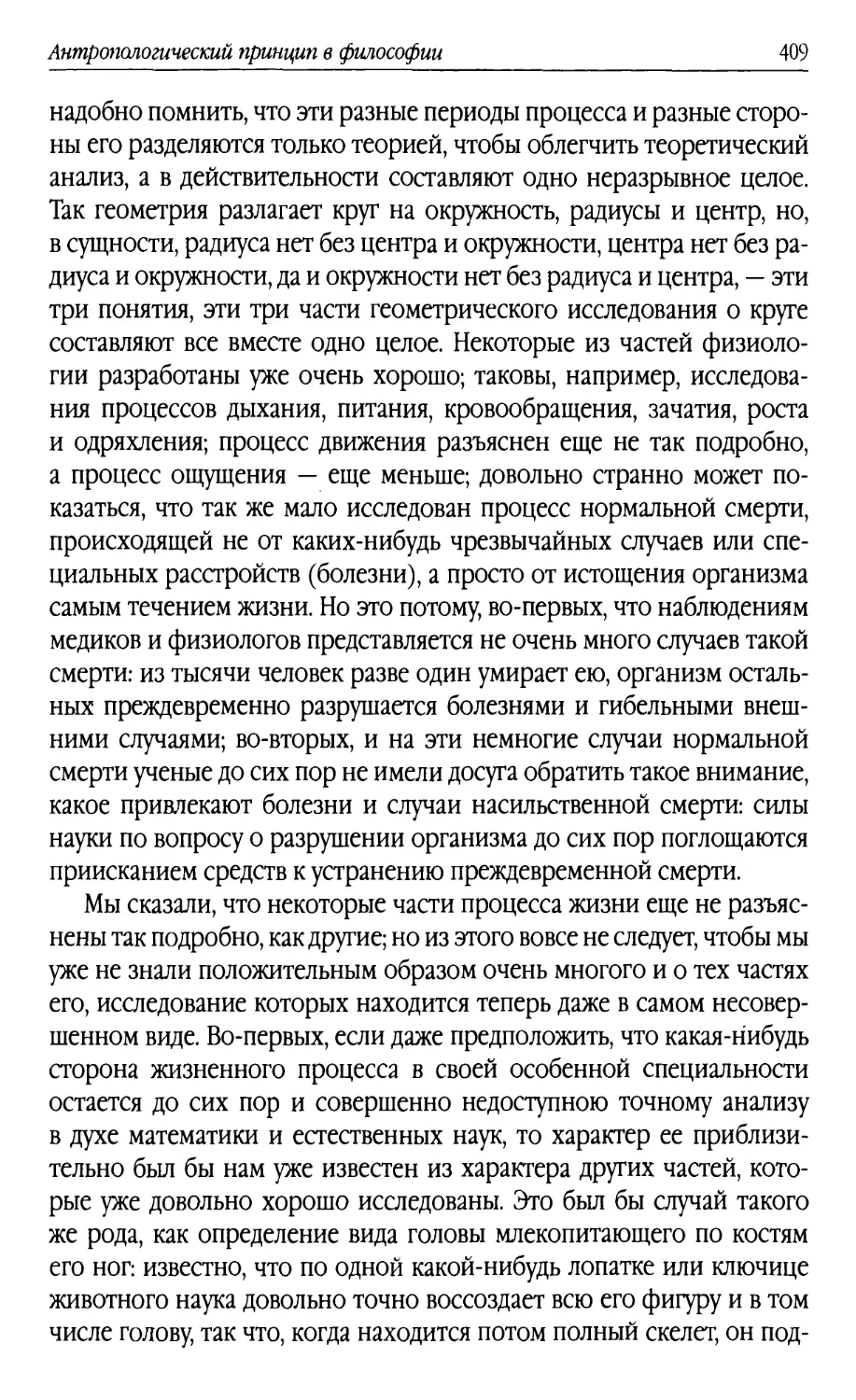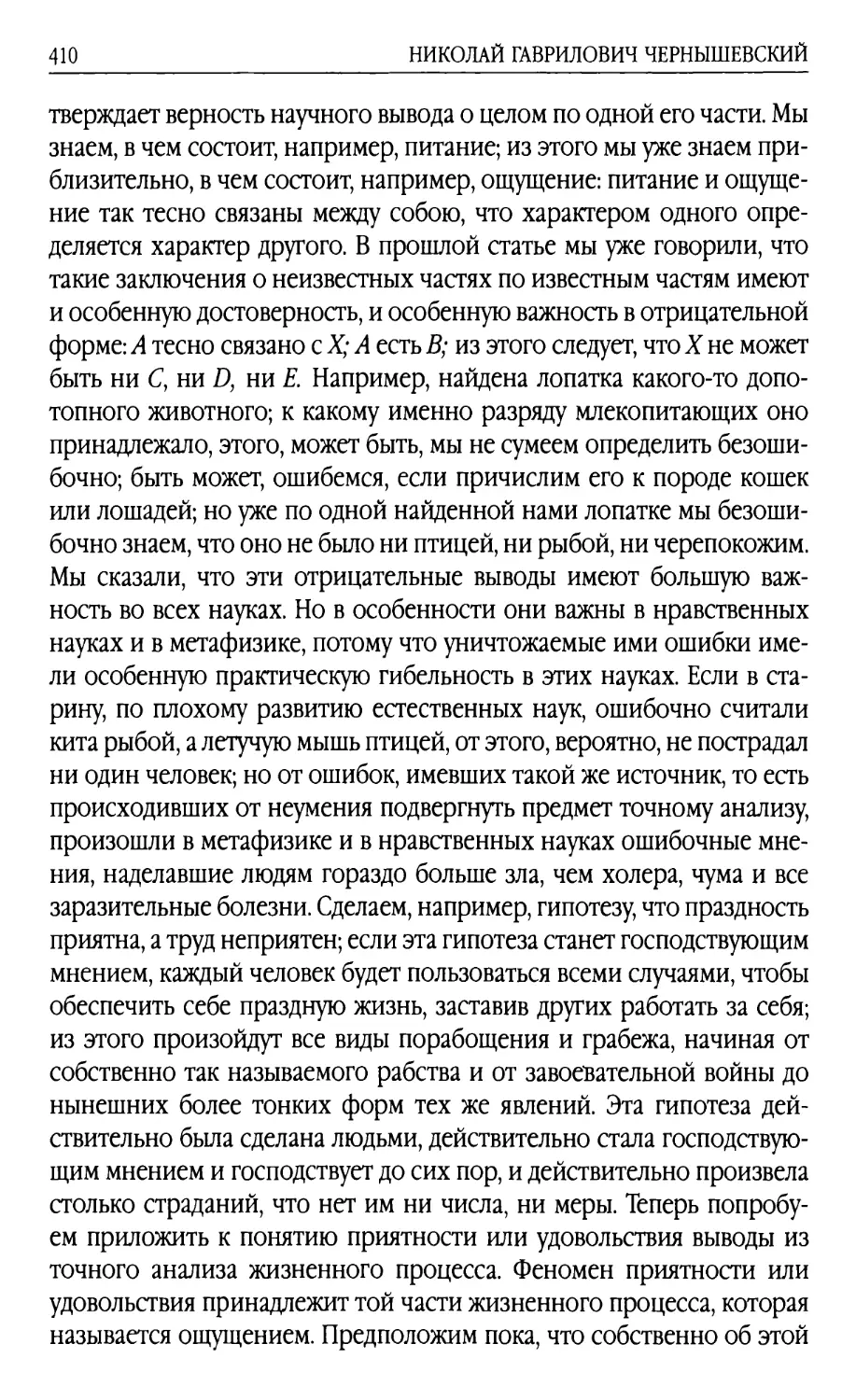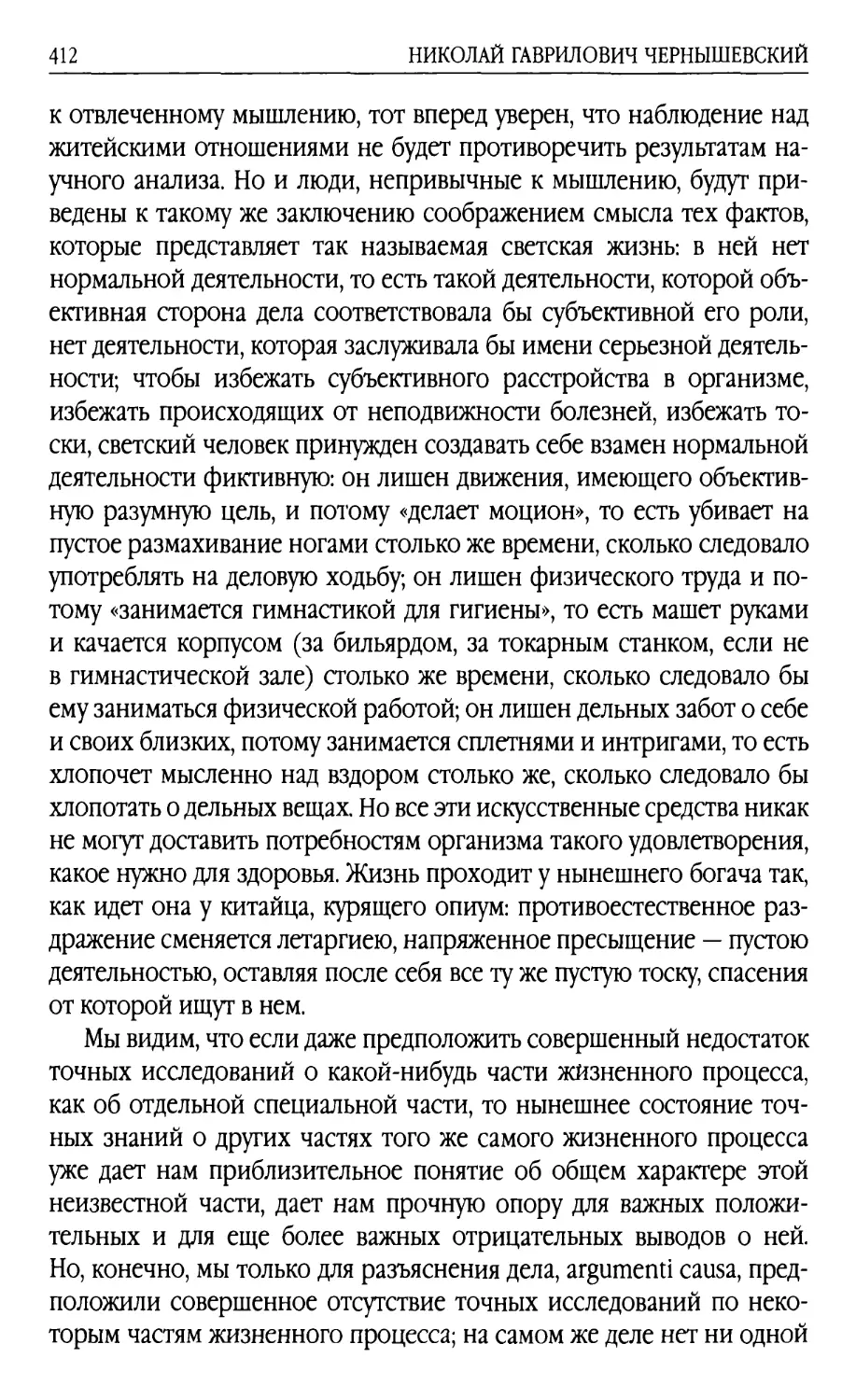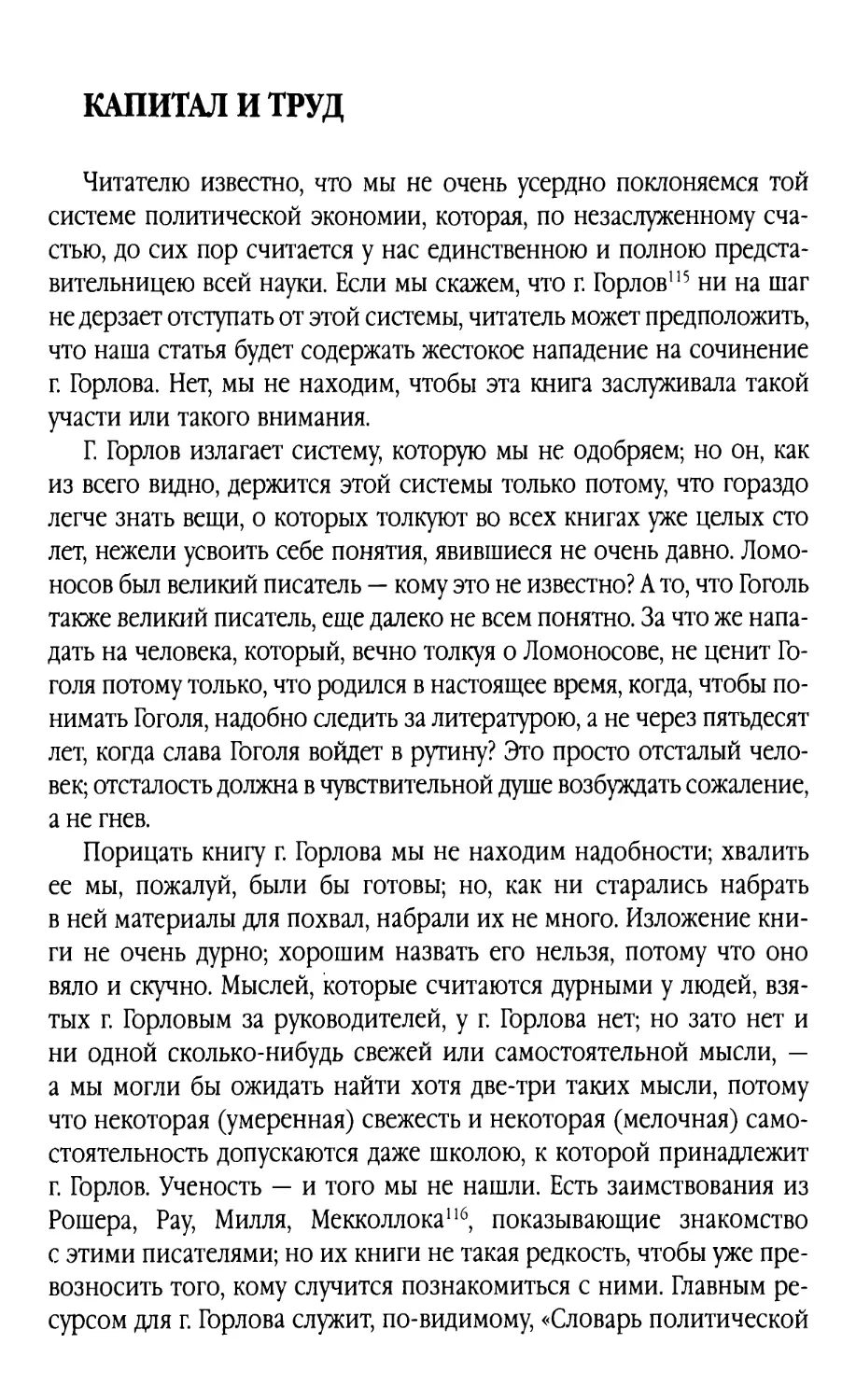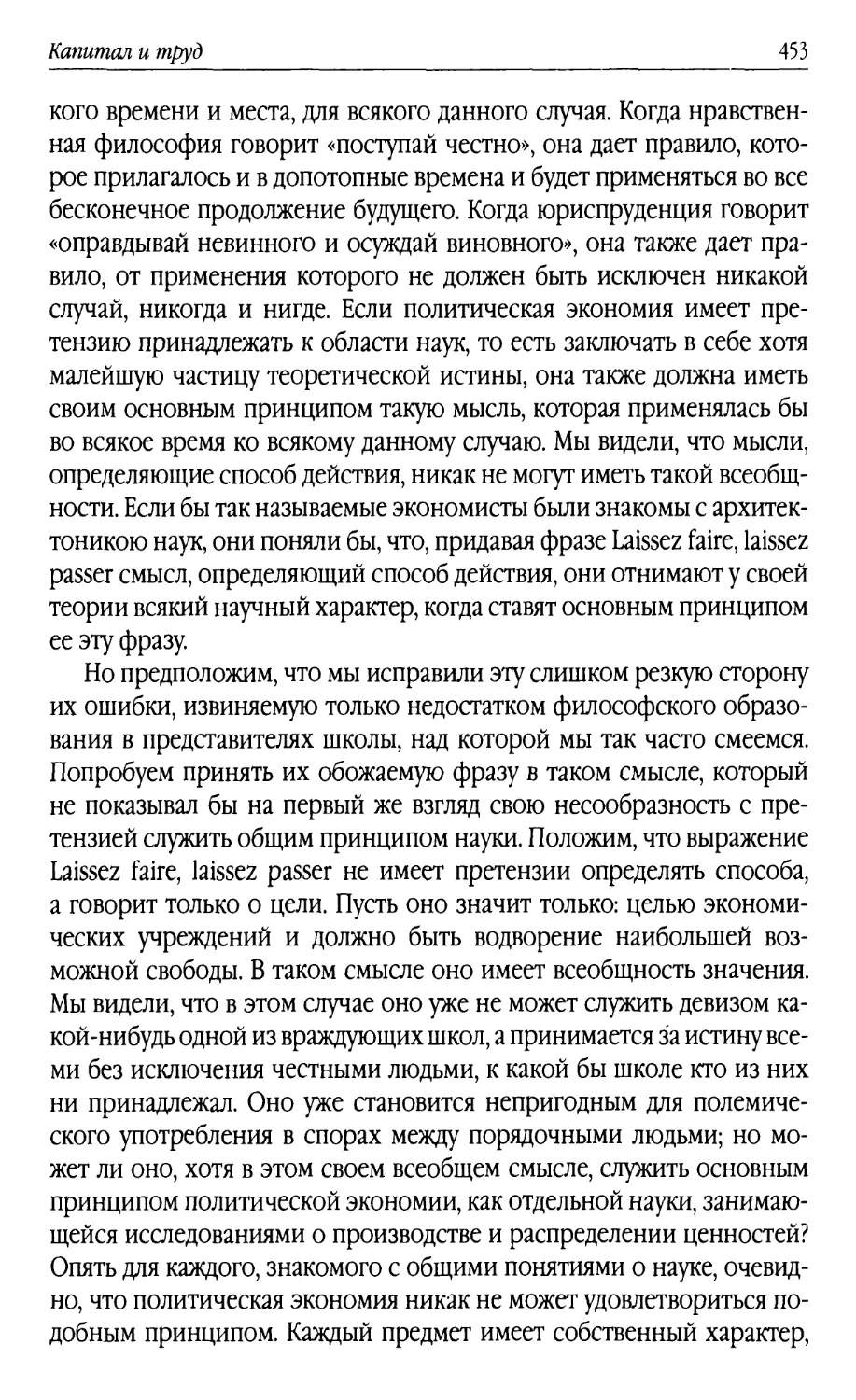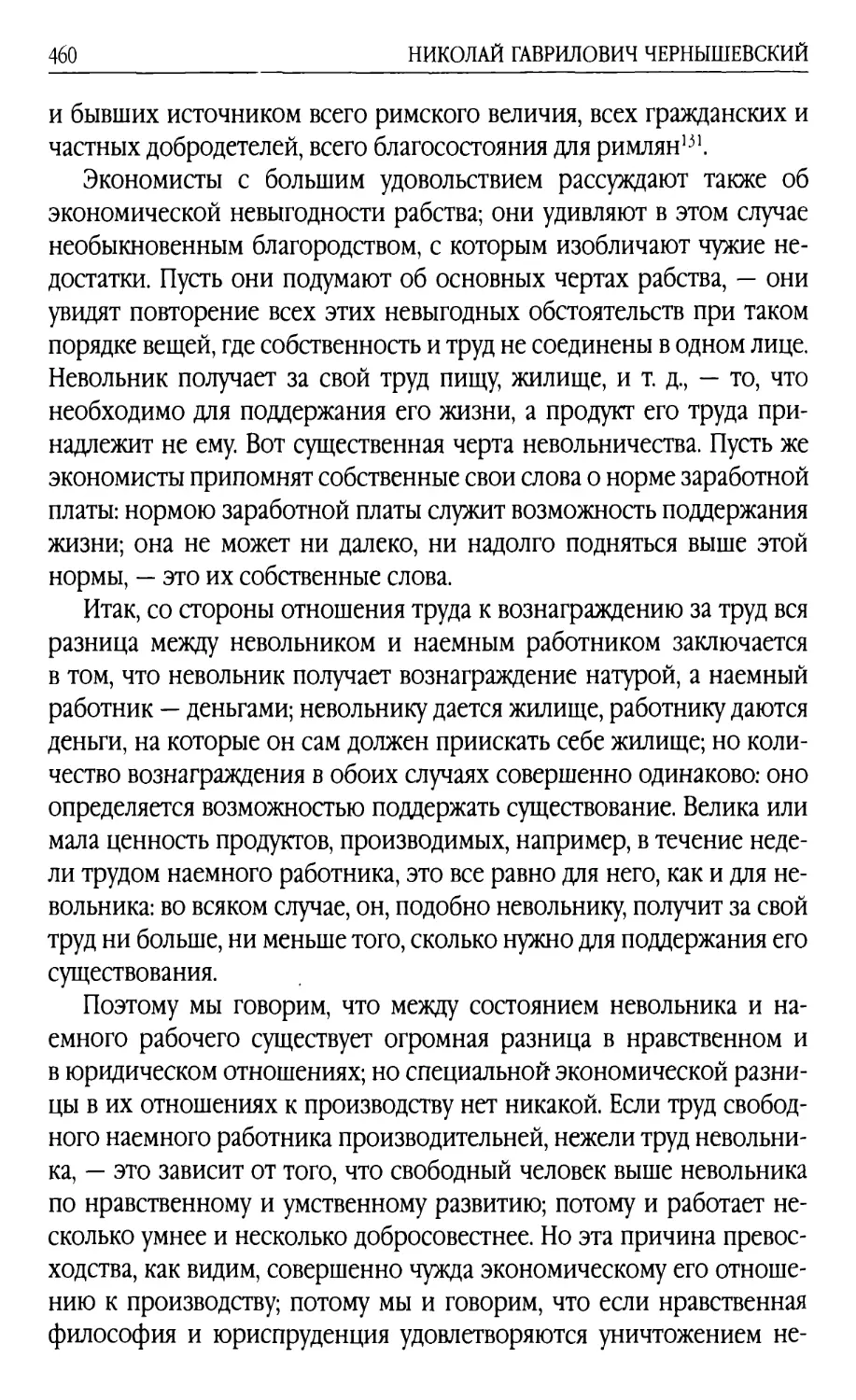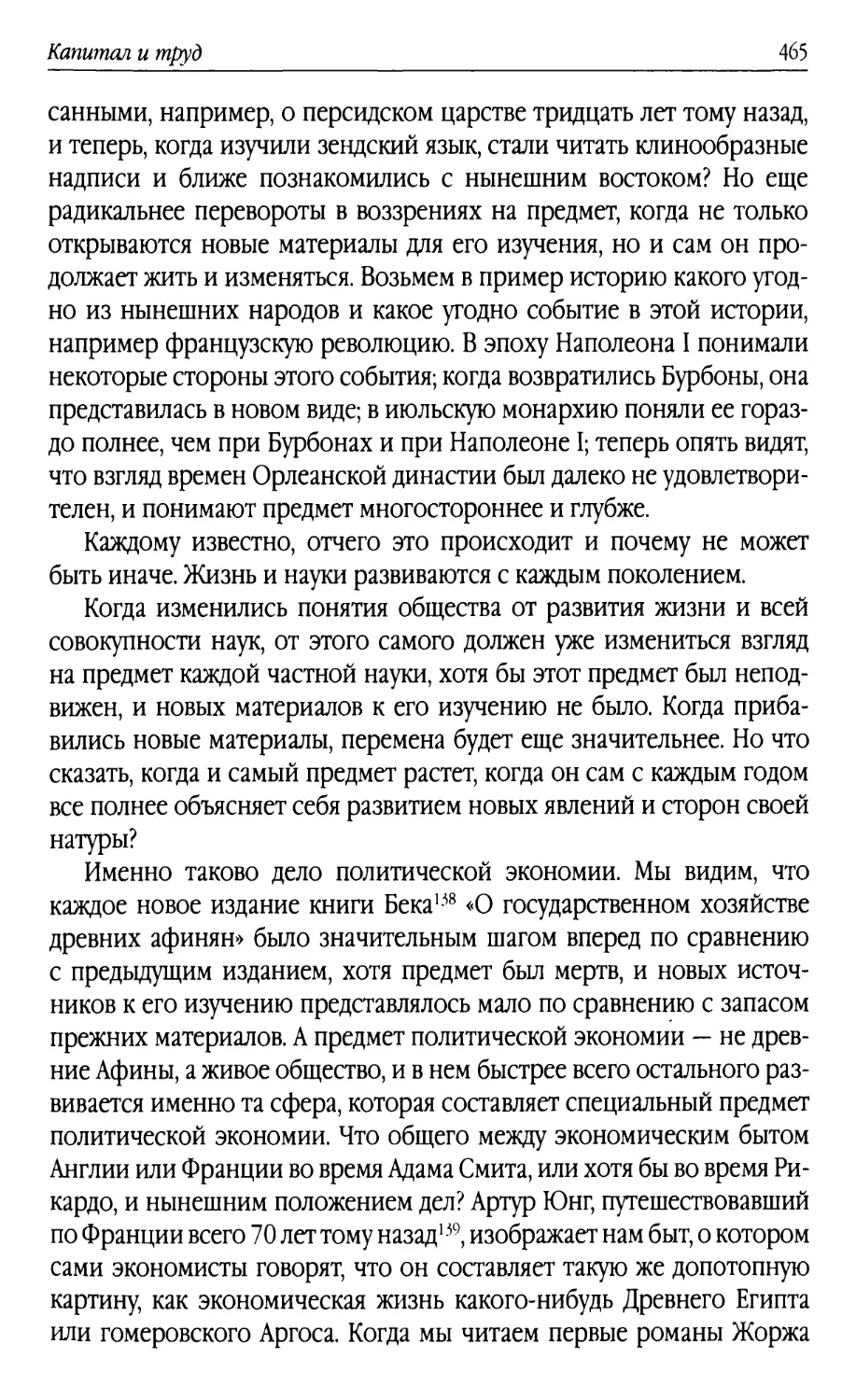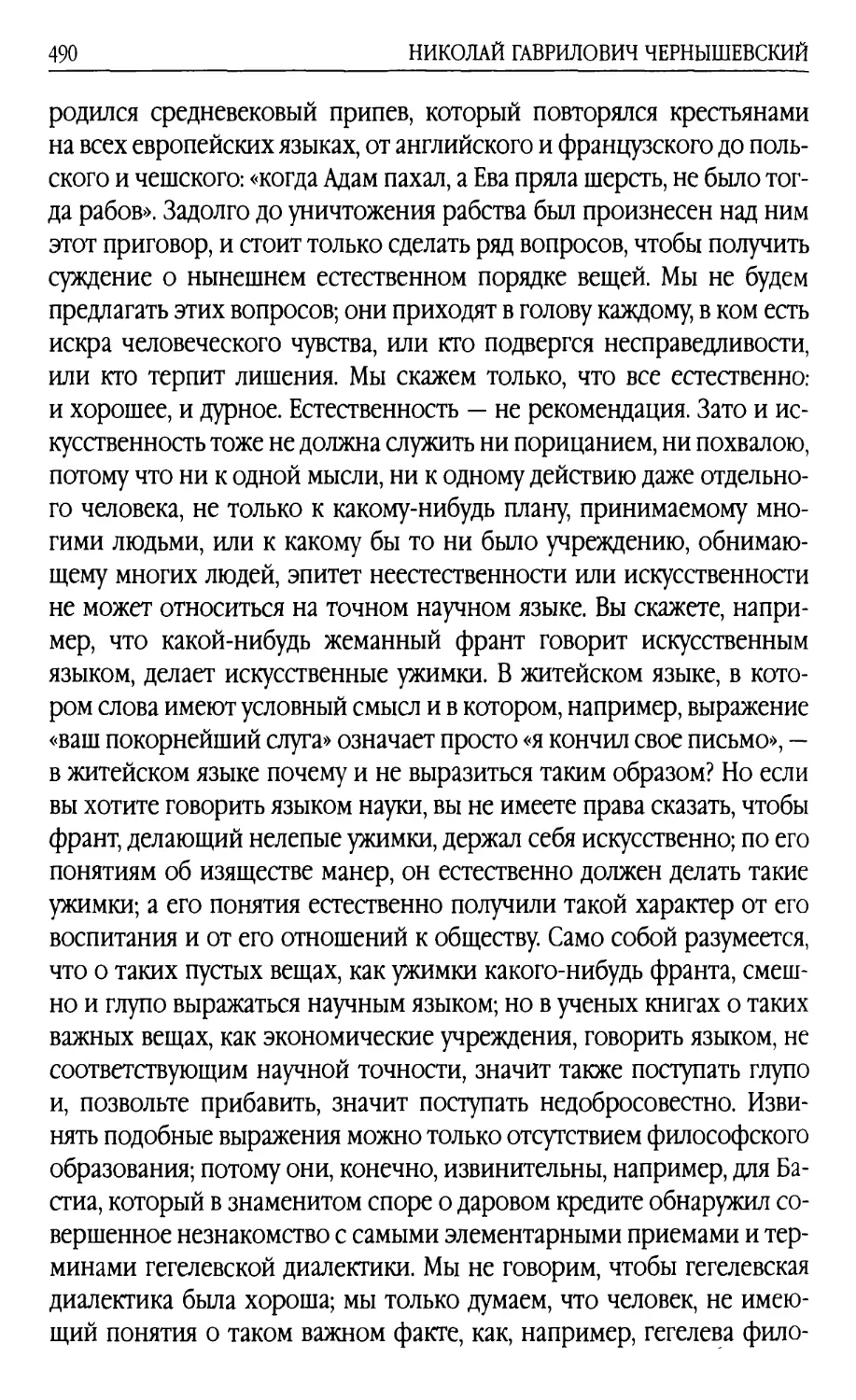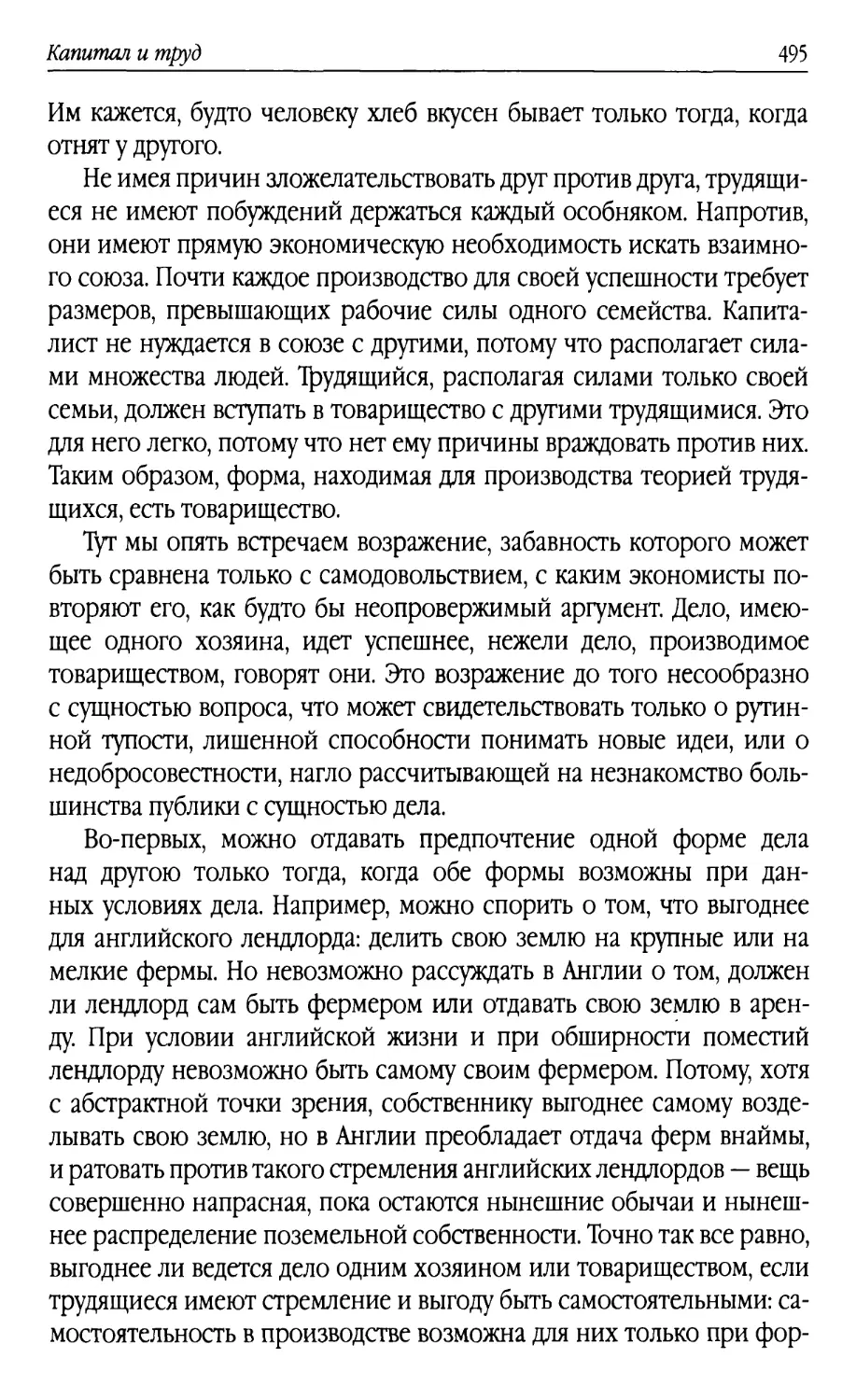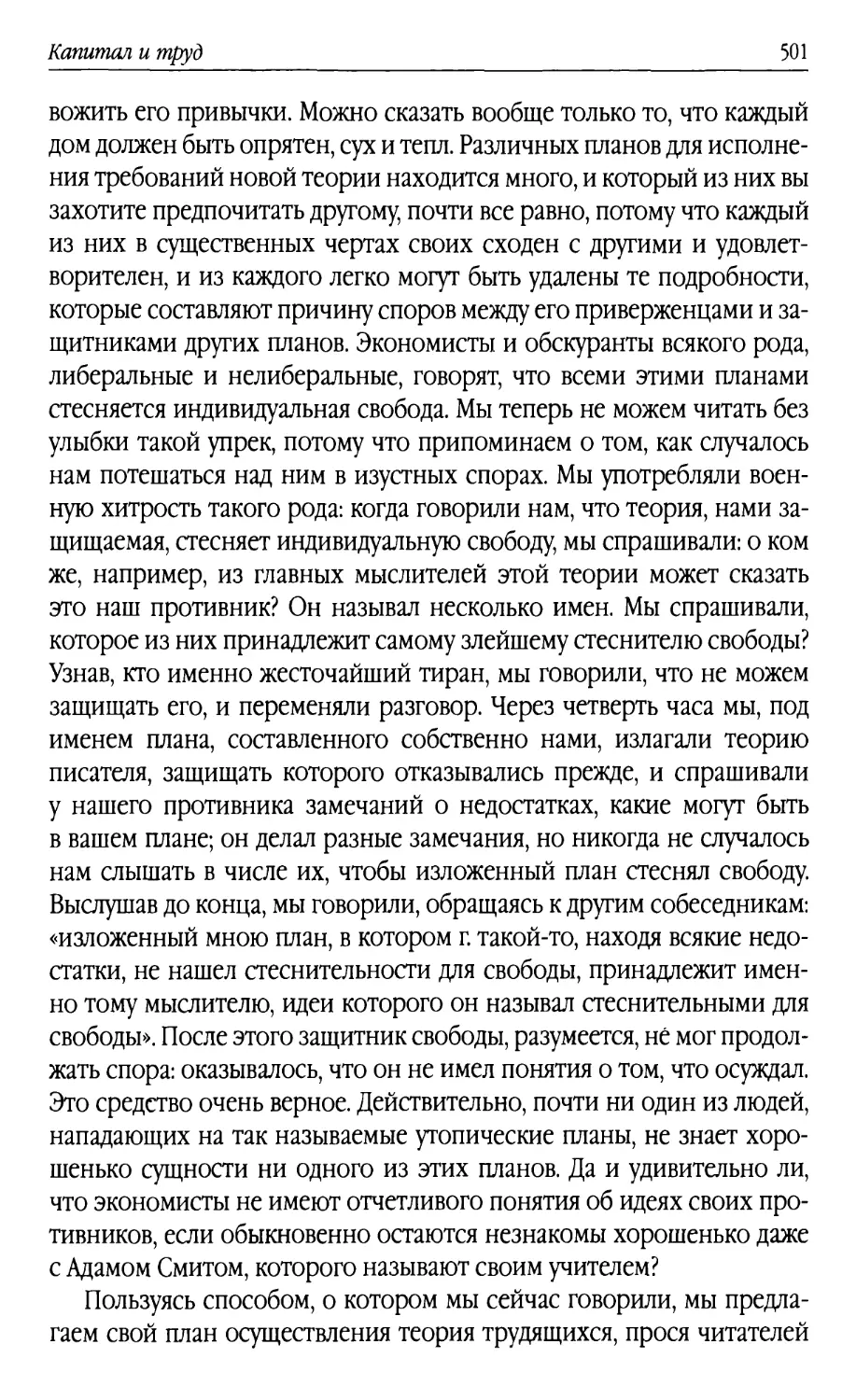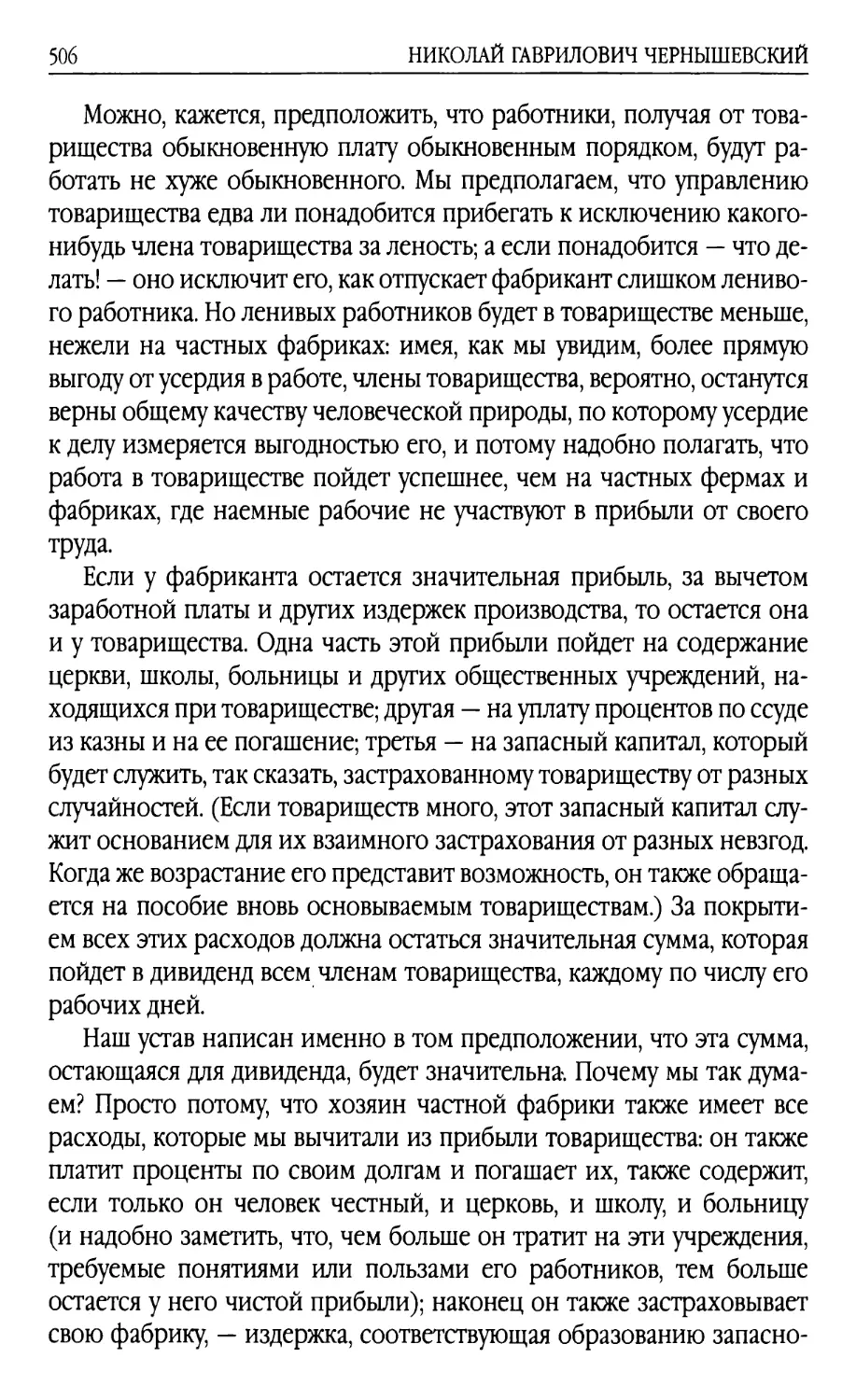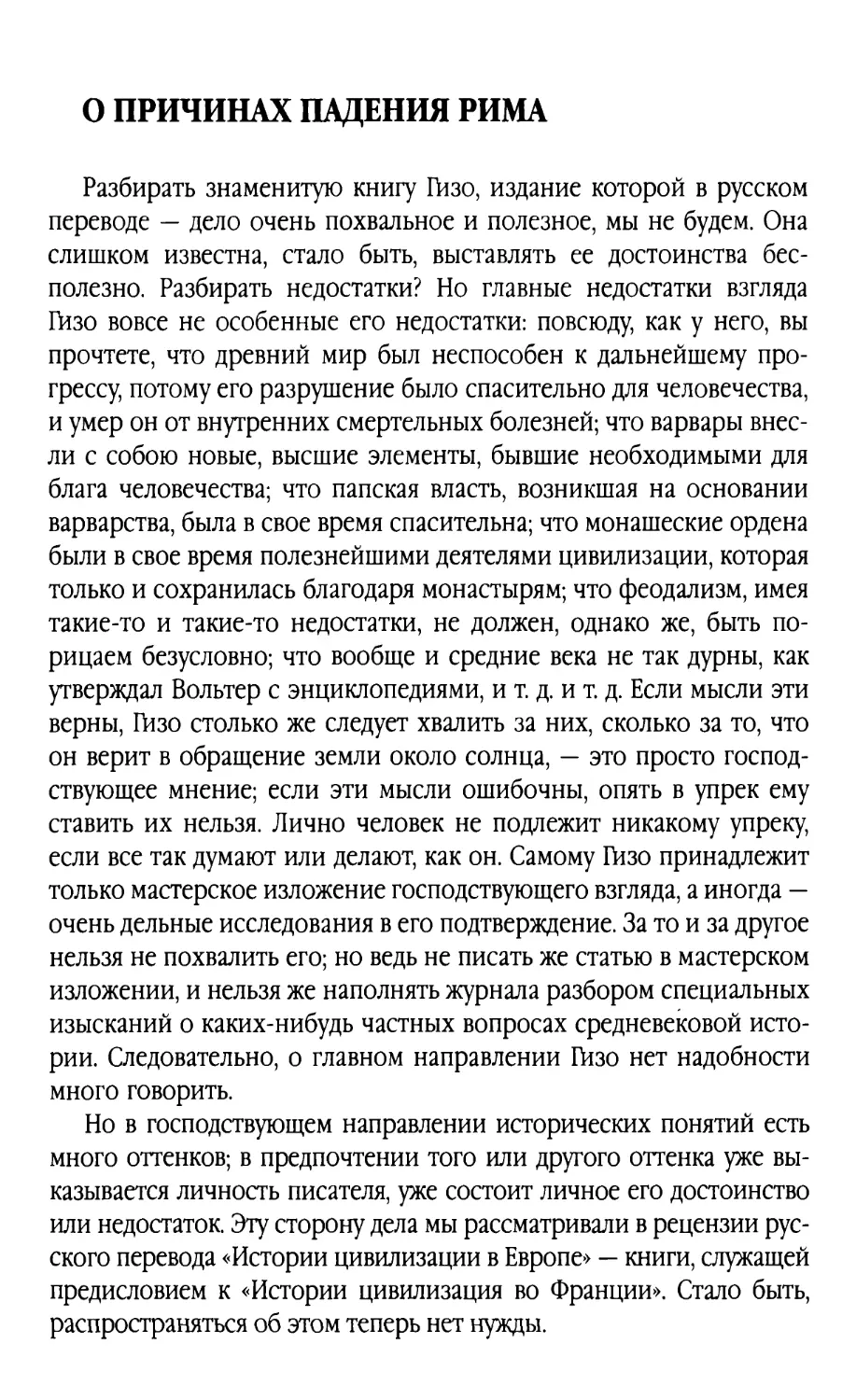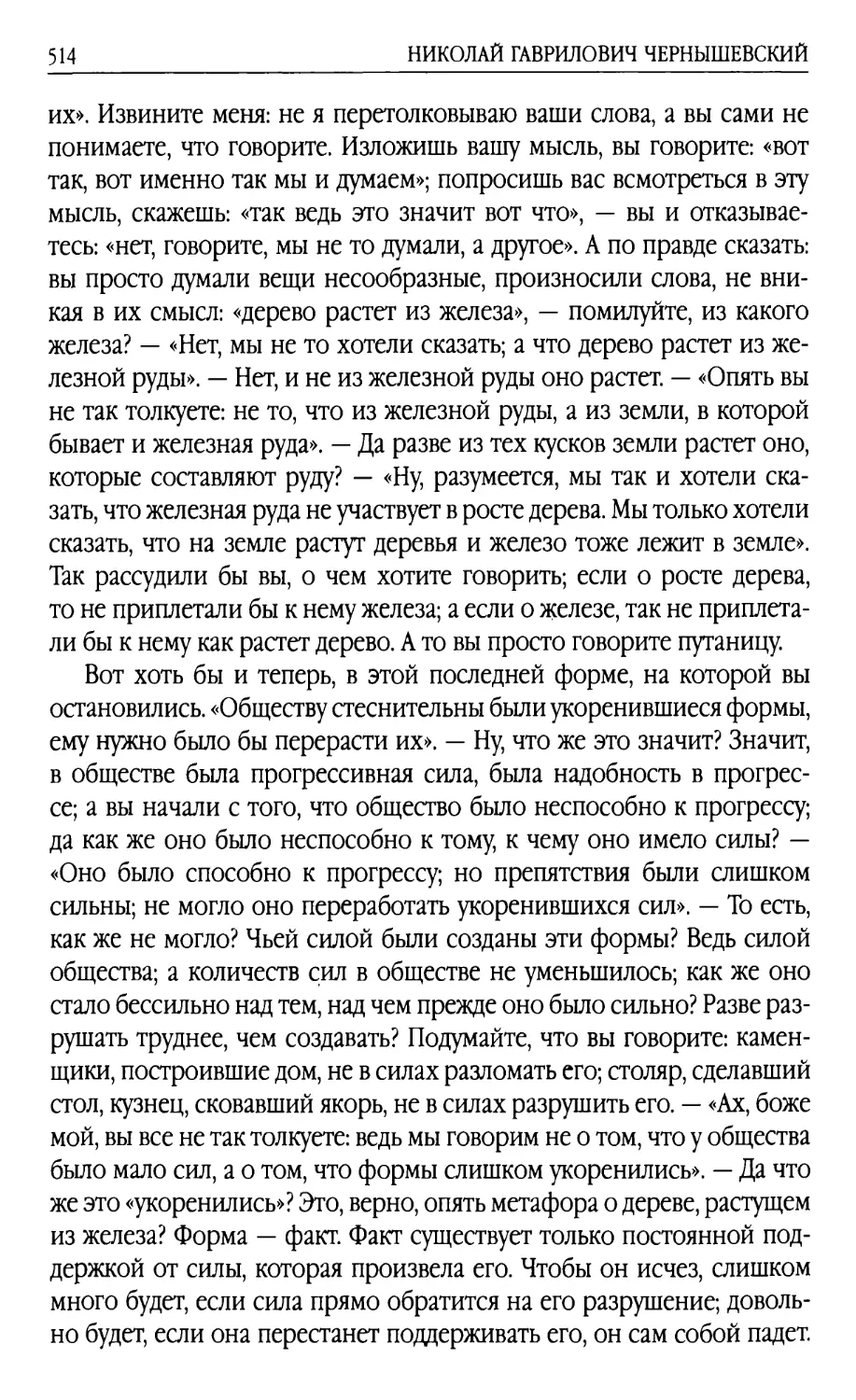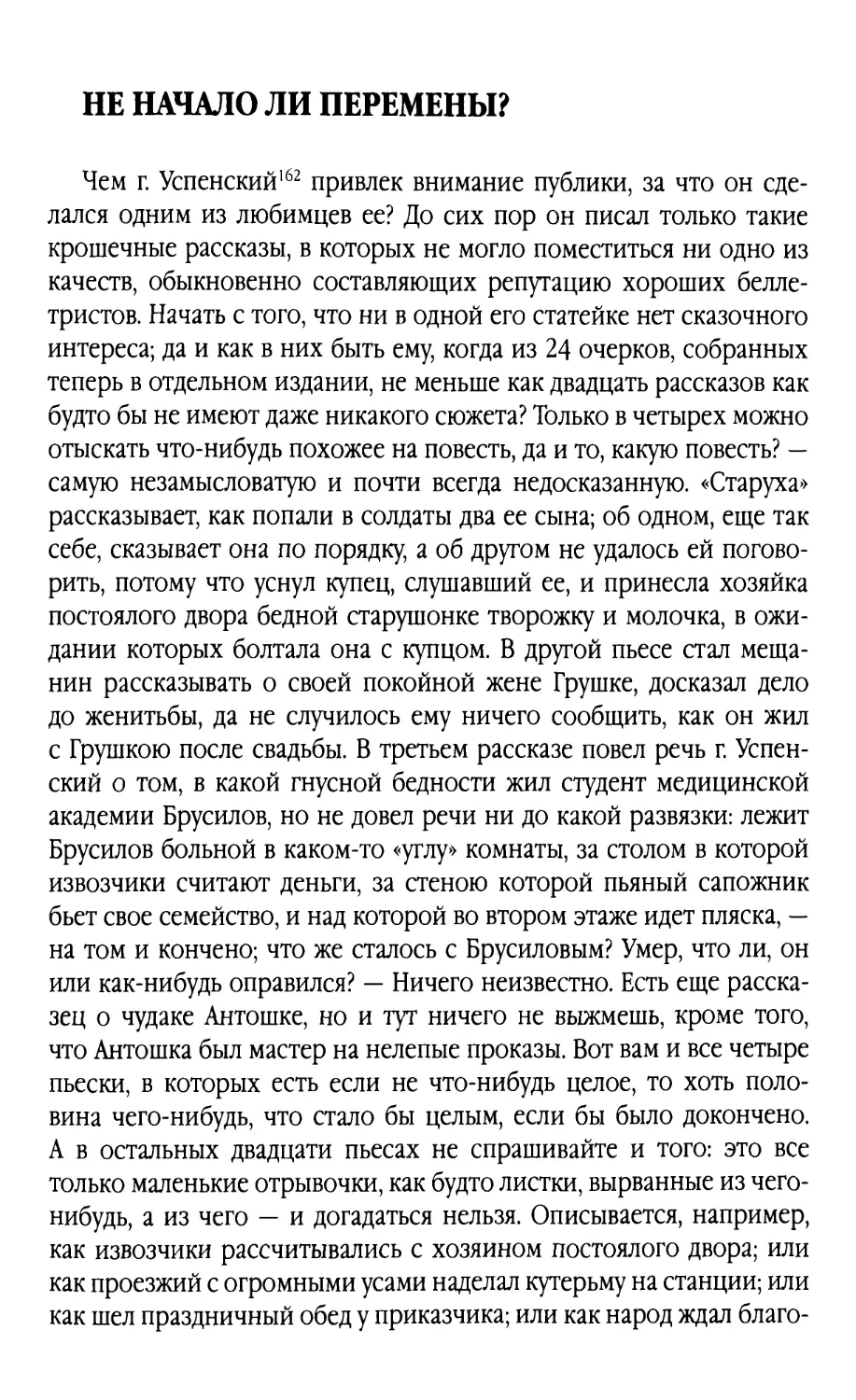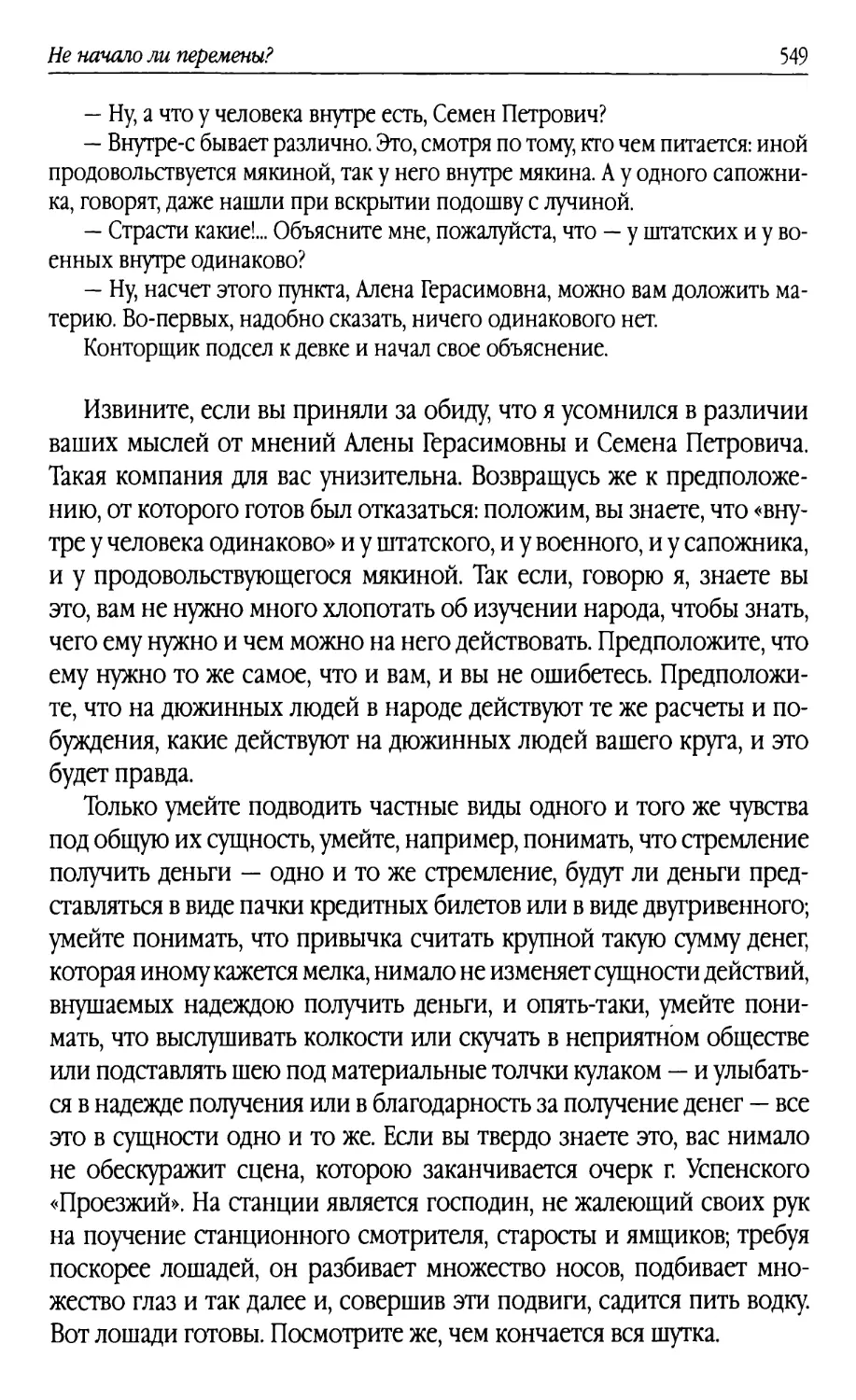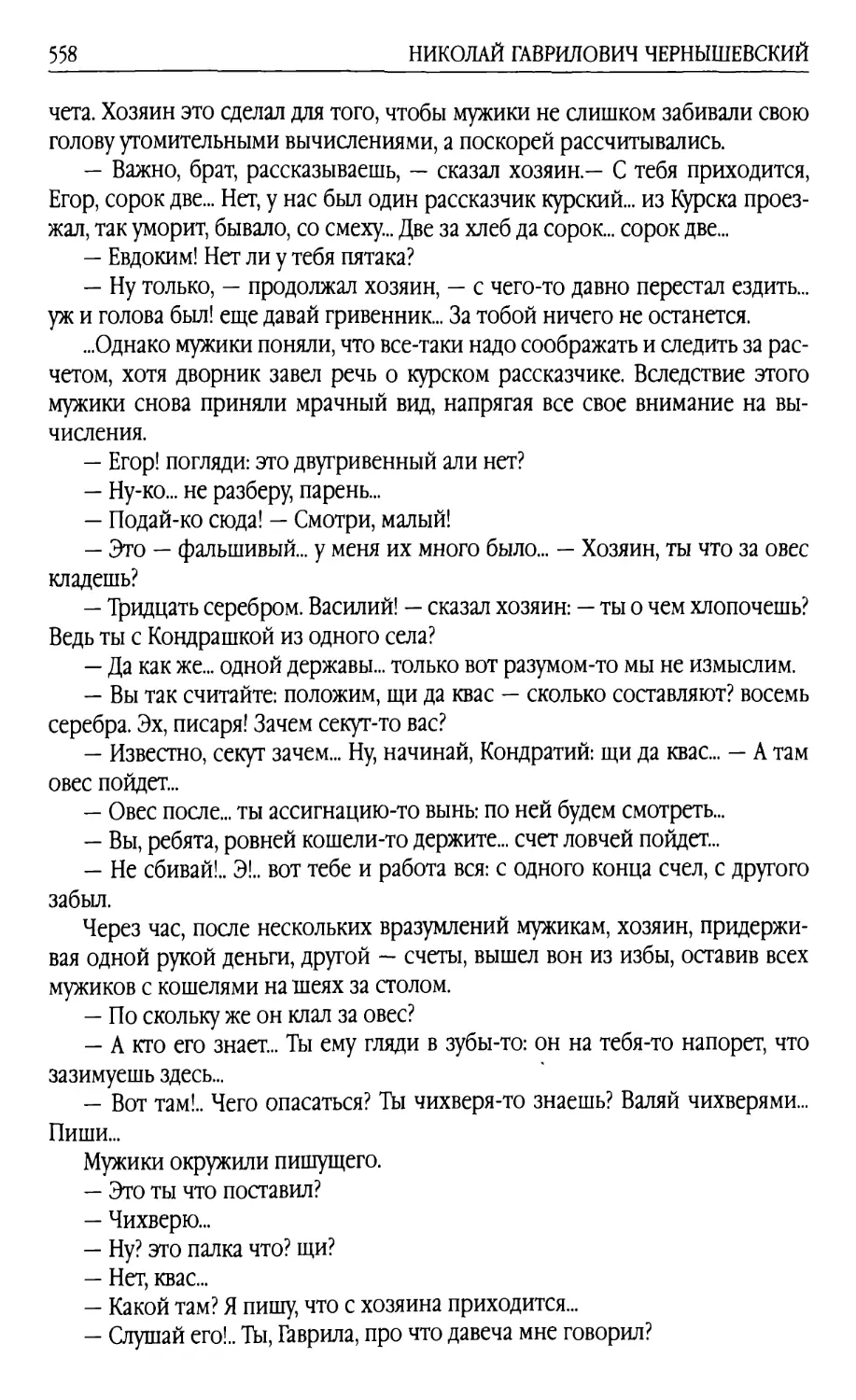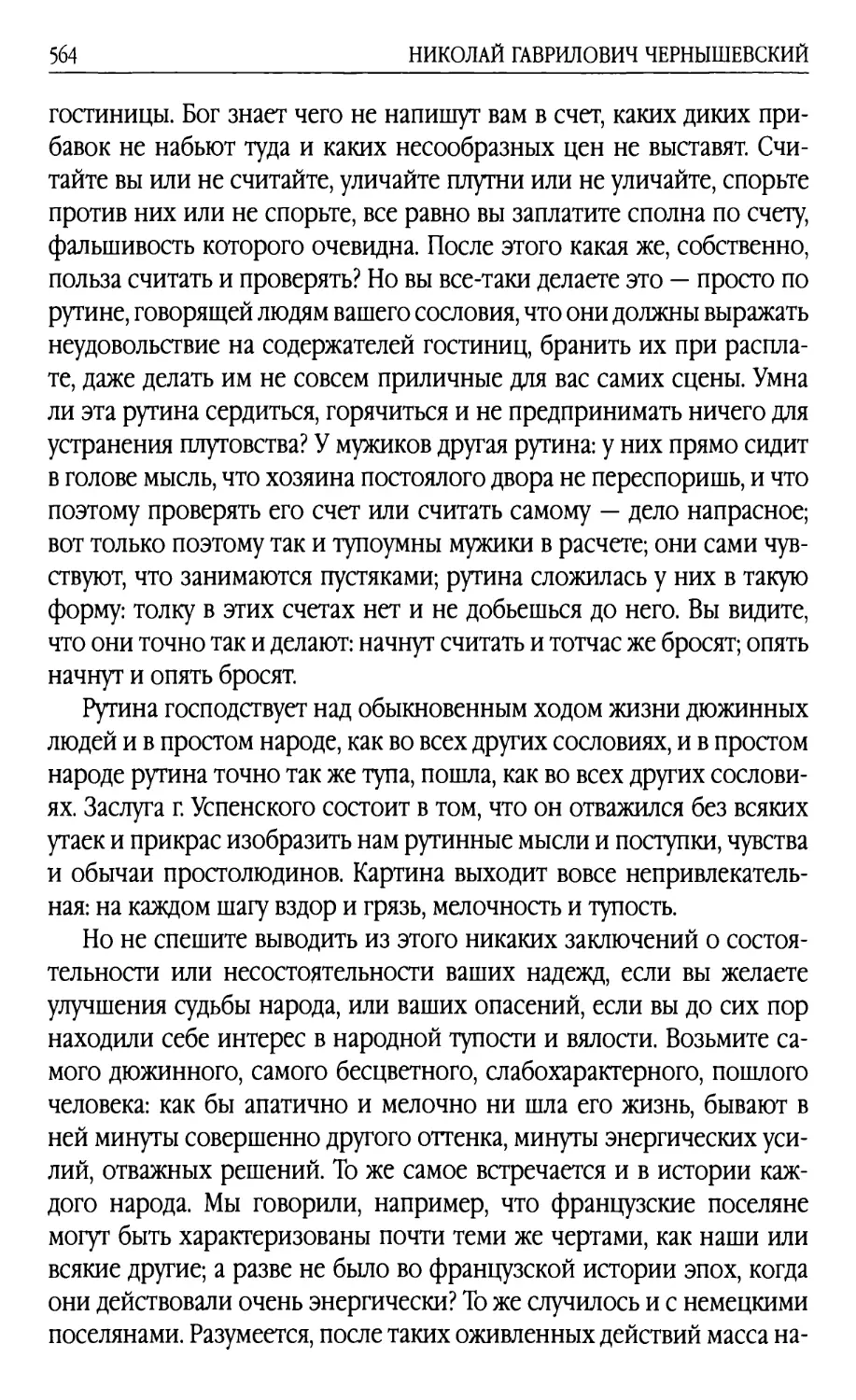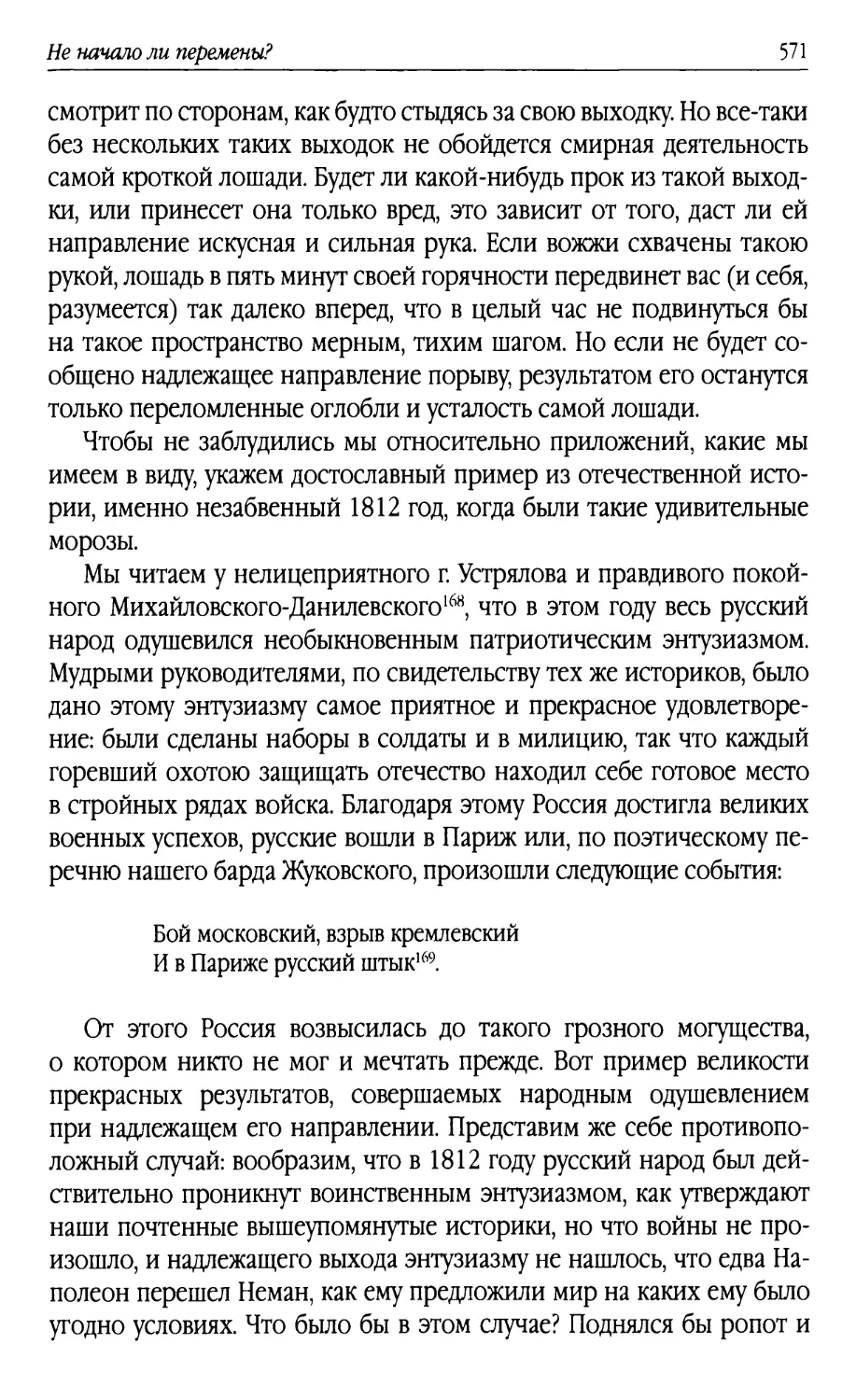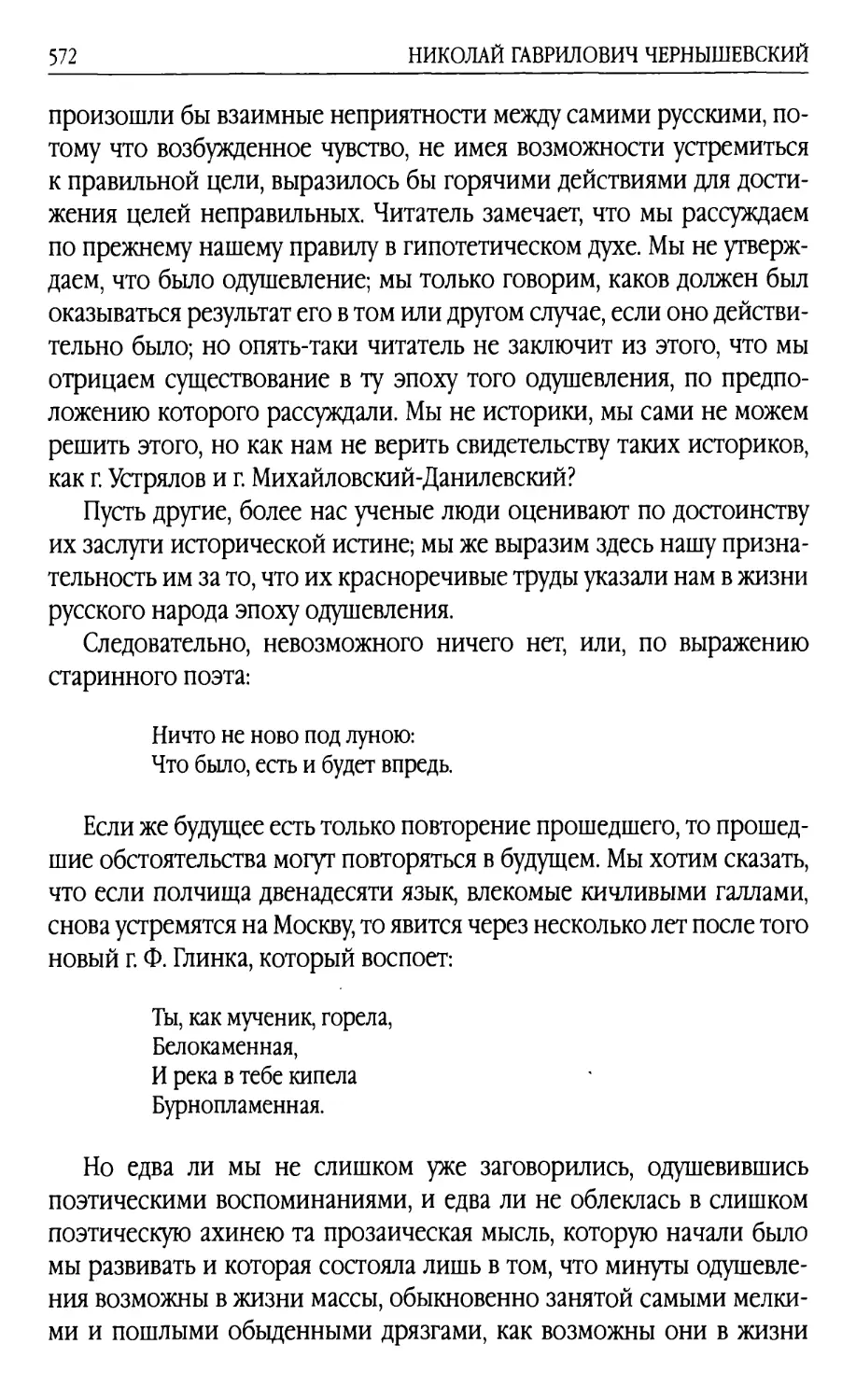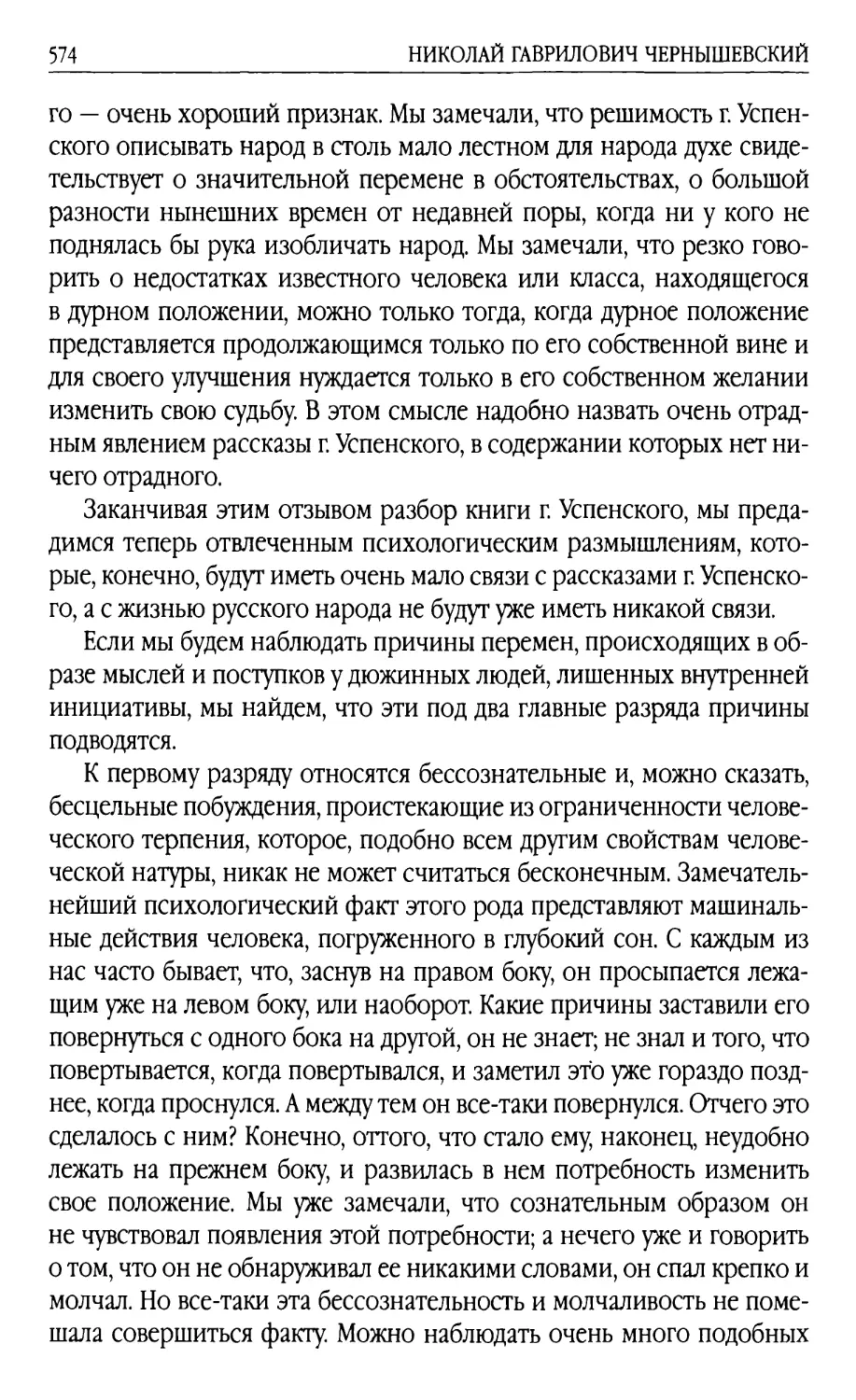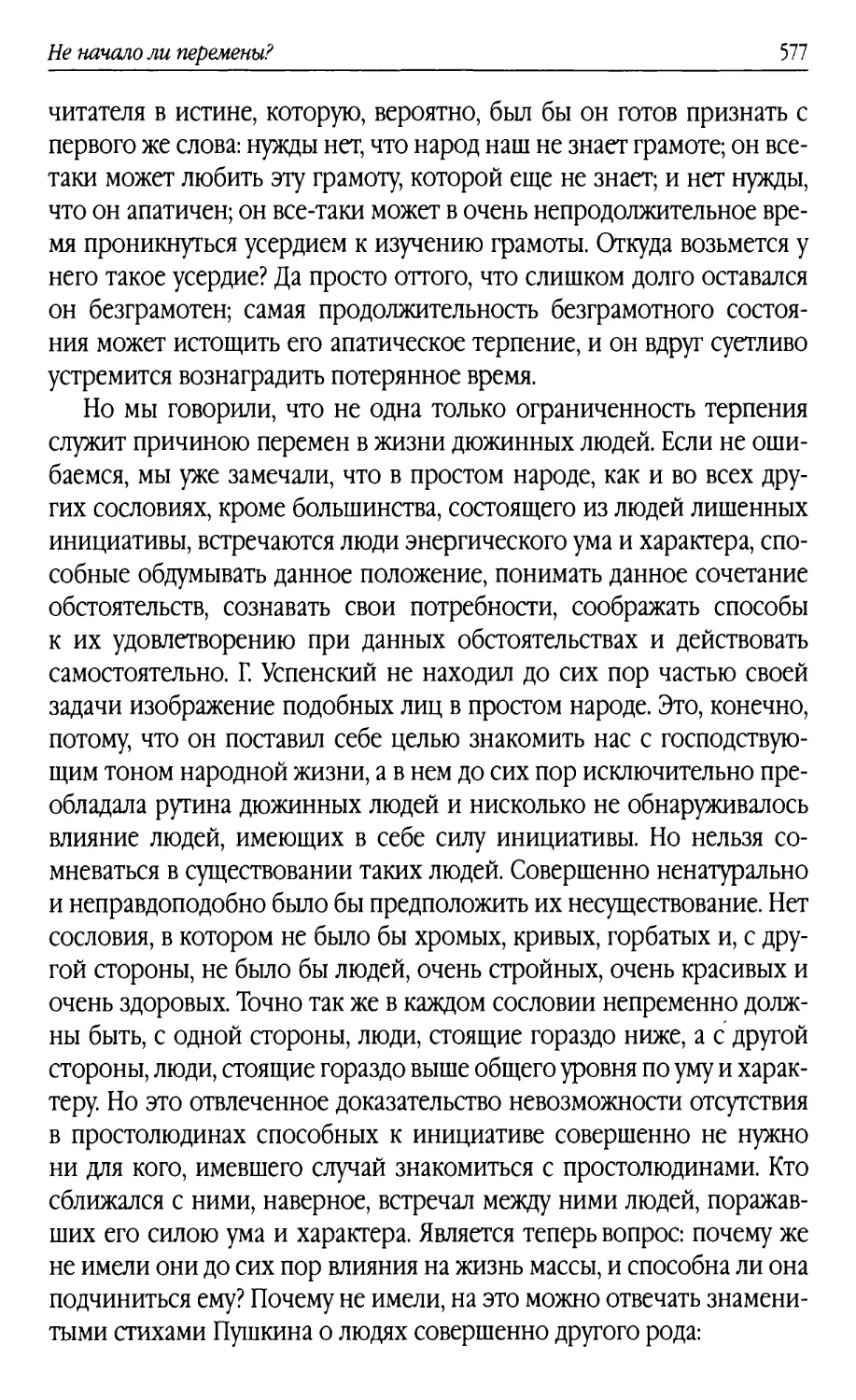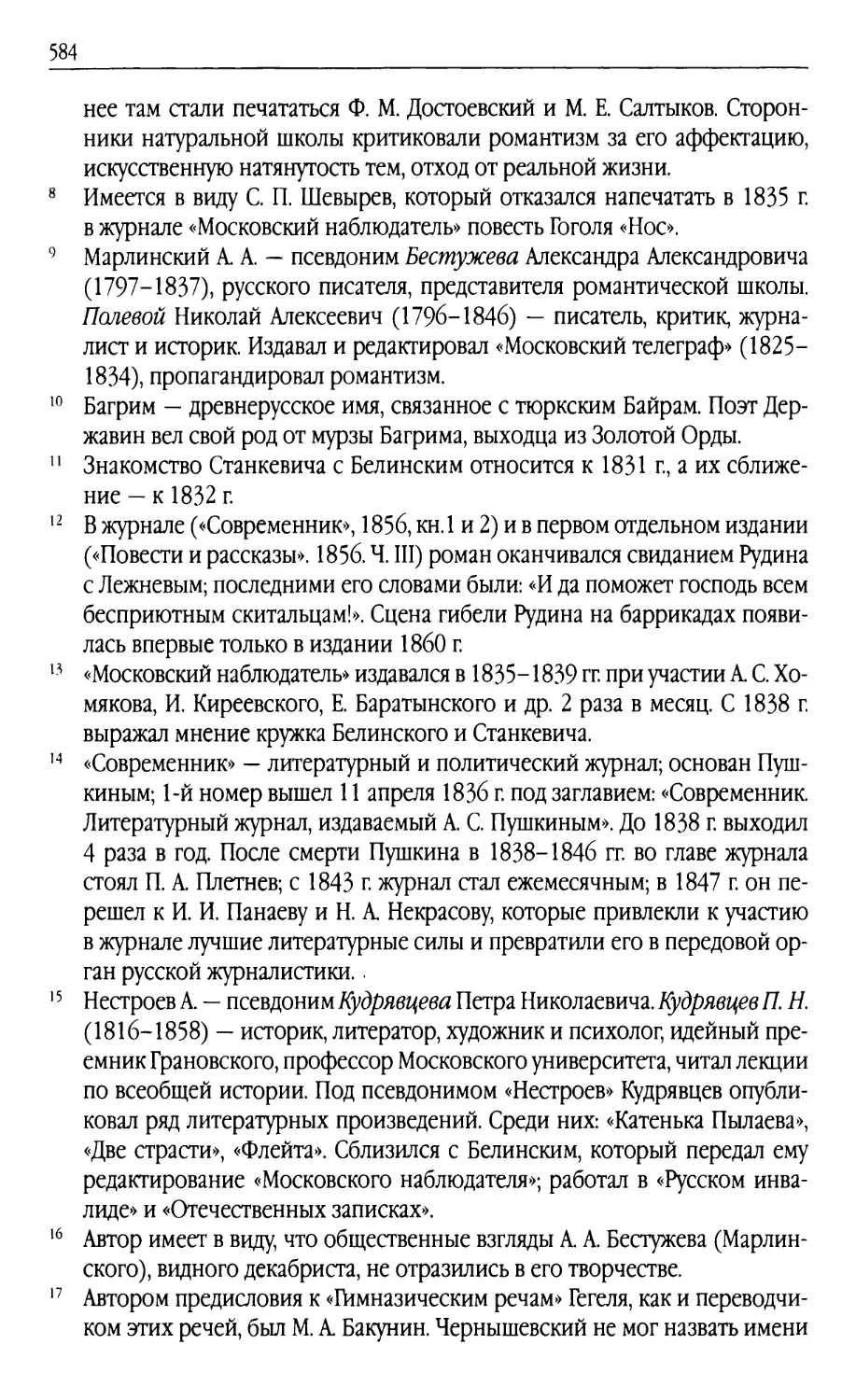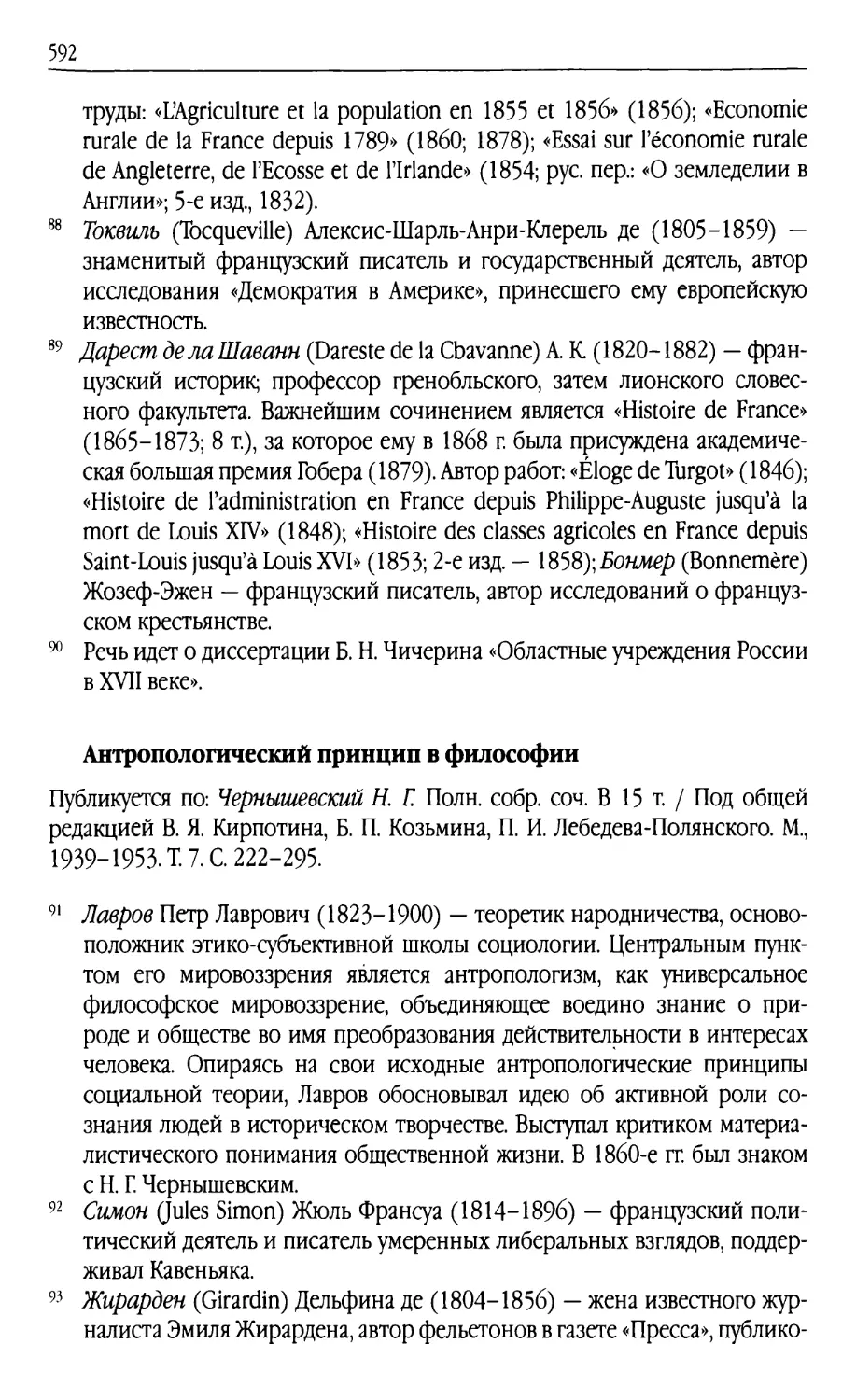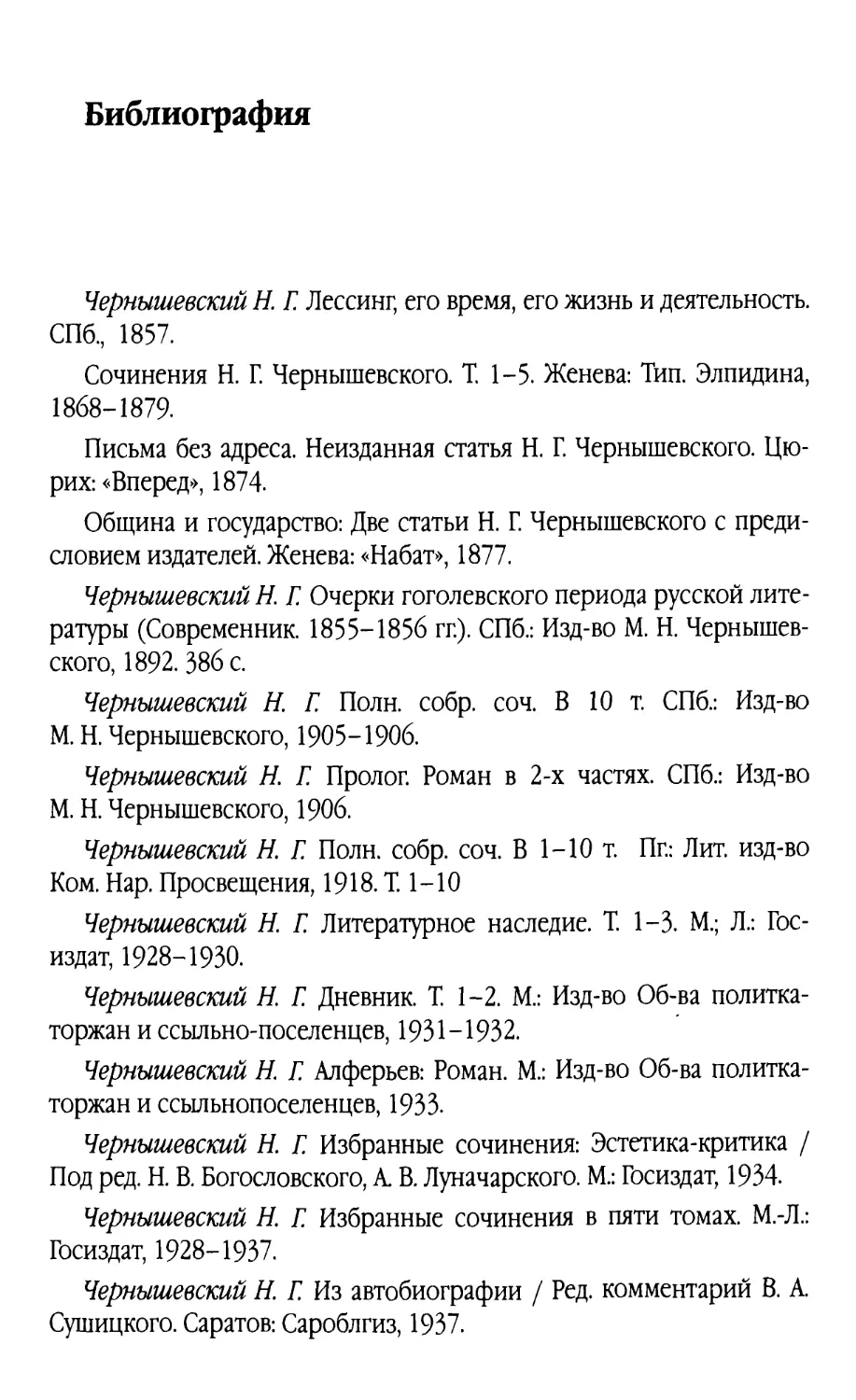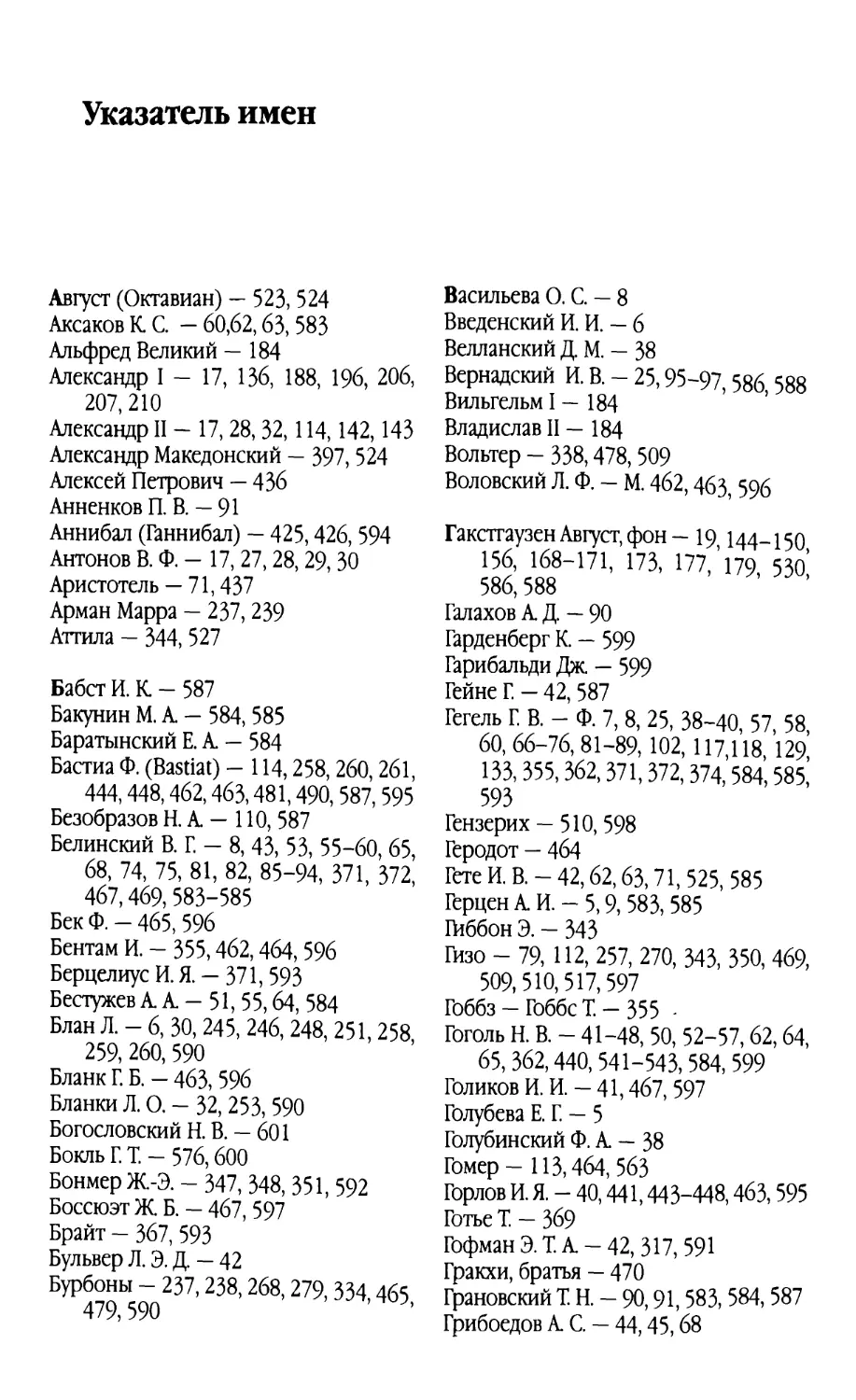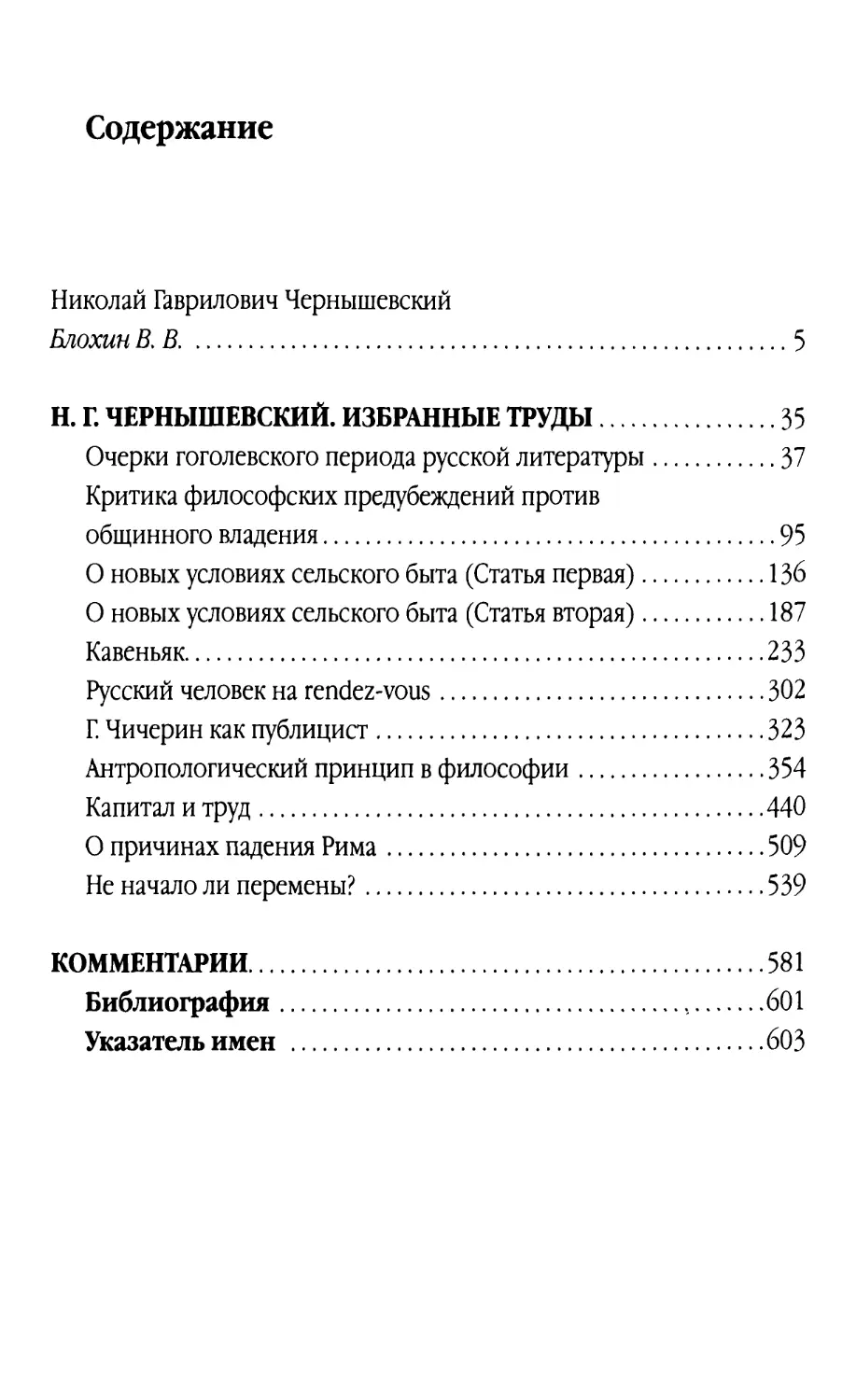Автор: Чернышевский Н.Г.
Теги: всеобщая история политика политические науки философия история россии
ISBN: 978-5-8243-1219-5
Год: 2010
Похожие
Текст
БИБЛИОТЕКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА
МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
Николай Гаврилович
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
СОСТАВИТЕЛЬ,
АВТОР ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ
И КОММЕНТАРИЕВ:
В. В. Блохин,
доктор исторических наук
МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010
Чернышевский Н. Г. Избранные труды / Н. Г. Чернышевский;
[сост., автор вступ. ст. и коммент. В. В. Блохин]. — М. : Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 608 с. - (Библиотека
отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала
XX века).
ISBN 978-5-8243-1219-5
ISBN 978-5-8243-1219-5 © Блохин В. В, составление тома,
вступительная статья, комментарии, 2010
© Институт общественной мысли, 2010
© Российская политическая
энциклопедия, 2010
Николай Гаврилович Чернышевский
В истории социально-политической мысли России XIX в. не
так уж много найдется общественных деятелей масштаба
Н. Г. Чернышевского, которые своей личностью и высоким
нравственным потенциалом выражают дух эпохи, или, вернее сказать,
определяют ее типичные черты. Он вместе с А. И. Герценом стоял у истоков
русского народнического социализма, емко и талантливо выразил
на страницах «Современника» социальные чаяния радикальной
интеллигенции, воспитал в ней дух демократизма и справедливости.
Степень влияния Чернышевского на последующее освободительное
движение была столь велика, что многие поколения народников и
социал-демократов считали себя его последователями.
Николай Гаврилович Чернышевский родился в семье
священника 12 июля 1828 г. Его отец — Гаврила Иванович — принадлежал к
духовному сословию, отличался исключительной евангельской
религиозностью, представляя «редчайший тип духовного лица,
священника Божия»1. Мать — Евгения Георгиевна Голубева — была
женщиной набожной, кроткой. Любовь к матери Чернышевский хранил
всю свою жизнь. Семейная обстановка, в которой он рос, отличались
скромностью, строгим благочестием и нежной родительской
заботой и лаской. В то же время семья Чернышевских была свободна от
религиозного аскетизма, в доме царила атмосфера здравого смысла,
разумного почитания традиций и уважительного отношения к
книжным знаниям.
Обучение в саратовской семинарии мало что дало
Чернышевскому: знания, полученные дома, были гораздо обширнее и
основательнее. По окончании семинарии Николай Гаврилович поступает на
1-е отделение философского факультета Петербургского
университета. На годы обучения в университете пришелся период идейного
становления Чернышевского. В нем рано развилось критическое
отношение к окружающей действительности.
1 Чешихин-Ветринский В. Г. Н. Г. Чернышевский. Пп, 1923. С. 13.
6
Я Я Блохин
Особую роль в формировании мировоззрения будущего
мыслителя сыграл профессор всеобщей истории М. С. Куторга. Его
воззрения на университетское преподавание отличались новаторством: он
стремился привить студентам критический взгляд на исторические
события, знакомил их с методами научных исследований. Видимо,
под влиянием Куторги Чернышевский серьезно увлекся трудами
немецкого историка Ф. X. Шлоссера.
«...Сроднившись с ним [Шлоссером. — В. Я], вы, может быть,
перестанете видеть в истории тот непрерывный ровный прогресс в
каждой смене событий и исторических состояний, который чудился вам
прежде; быть может, вы потеряете веру во всех тех людей, которыми
ослеплялись прежде, но зато никакое разочарование опыта не
сокрушит того убеждения в неизбежности развития, которое сохранится
в вас после его строгого анализа <...>. Чрезвычайно здравый взгляд
на человеческую жизнь — вот чем велик Шлоссер», — писал
Чернышевский2.
Независимый, свободный от стереотипов взгляд на мир и
историческую действительность укреплялся и под влиянием И. И.
Срезневского (1812-1880), читавшего курсы славянских древностей, истории
языка и литературы западных славян. Мало кто из профессоров того
времени обладал свойственной ему в такой мере способностью
разрушать теории и обнажать несостоятельность научных концепций.
Важную роль в процессе выработки мировоззрения
Чернышевского сыграл кружок И. И. Введенского (1813-1855), переводчика
английских романистов, историка литературы. С ним Чернышевский
познакомился на втором курсе университета. Известный историк
М. П. Погодин, в доме которого одно время жил Введенский,
сотрудничая в «Москвитянине», характеризовал его как «родоначальника
нигилистов». Отдельные члены кружка Введенского были близки
к петрашевцам. Через них Чернышевский воспринимал идеи
французского социализма Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана, Жорж Санд.
«Оттуда лилась на нас вера в человечество. Оттуда воссияла нам
уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас...»3
В начале 1840-х гг. мировоззрение Чернышевского приобретает
достаточно очерченные границы. Он резко отрицательно относит-
2 См.: Чешихин-Ветринский В. Г. Указ. соч. С. 36.
3 Там же. С. 58.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
7
ся к религиозно-богословским взглядам, к господствовавшей тогда
теории «официальной народности». Сильнейшее влияние на
Чернышевского оказал Л. Фейербах, учеником которого он себя считал.
Видимо, в эти годы Чернышевский и познакомился с книгой Л.
Фейербаха «Сущность христианства». В творческом усвоении наследия
Фейербаха, по мнению ряда исследователей, и следует искать истоки
натуралистического материализма Чернышевского4.
Оптимистическая вера в «золотой век» человечества подкреплялась
гегелевской философией, причем знакомство с философской
системой Гегеля означало для Чернышевского не просто увлечение
модными идеями очередной философской школы, а было шагом к
непосредственной подготовке «новой науки», в которой соединились бы высшие
достижения теоретического знания (гегелевская система) с научными
достижениями в естествознании, антропологии, экономике.
«Без всякого преувеличения, надобно сказать, что так называемой
школой Гегеля образовано было совершенно новое философское
учение, которому система самого Гегеля служила не более, как
предшественницей <...>. Тем завершилось развитие немецкой философии,
которая, теперь в первый раз достигнув положительных решений,
сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической
трансцендентальности и, признав тождество своих результатов с
учением естественных наук, слилась с общей теорией естествоведения и
антропологией», — писал Чернышевский в 1856 г.5
Чернышевский искренне верил в преобразующую силу научного
знания, призванного служить решению практических вопросов
жизни, открывать законы общественного развития, объясняющие
действительность. В этом повороте науки к потребностям жизни он
видел преодоление той односторонности, которая мешала последней
служить людям. «Материальные и нравственные условия
человеческой жизни и экономические законы, управляющие общественным
бытом, были исследованы с целью определить степень их
соответственности с требованиями человеческой природы и найти выход из
житейских противоречий, встречаемых на каждом шагу, и получены
довольно точные решения важнейших вопросов жизни»6.
4 Там же. С. 55.
5 Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 179.
6 Там же. С. 180
8
В. В. Блохин
Делая акцент на гегелевском диалектическом методе,
Чернышевский писал: «Сущность его [диалектического метода. — Я Я] состоит
в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком
положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он
мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется
этим предметом на первый взгляд: таким образом, мыслитель был
принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась
ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных
противоположных мнений. <...> Объяснить действительность стало существенною
обязанностью философского мышления»7.
Вместе с тем критичный ум Чернышевского видел и недостатки
гегелевской философской системы. «Принципы Гегеля, —
подчеркивал он, — были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и
ничтожны...»8.
По окончании Петербургского университета Чернышевский
вернулся в Саратов, где в 1851-1853 гг. работал преподавателем в
гимназии. В апреле 1853 г. в его жизни произошла важная перемена: он
познакомился с дочерью саратовского врача О. С. Васильевой и в том
же году женился. В 1854 г. молодая чета переехала в Петербург.
Чернышевский устраивается учителем в кадетский корпус, однако вскоре
ему пришлось подать в отставку: слишком велика была степень
несовместимости его методов преподавания с царившей в стенах данного
учебного заведения атмосферой казенщины и рутины.
В 1855 г. Чернышевский сдал магистерский экзамен и успешно
защитил диссертацию на тему «Эстетические отношения искусства
к действительности», в которой сформулировал новаторскую
эстетическую концепцию, разрушавшую традиционные представления
о прекрасном9. Следуя традициям В. Г. Белинского, Чернышевский
обосновал в своем исследовании идею служения искусства
потребностям действительности, задачам преобразования и улучшения
самой жизни.
На середину 1850-х — начало 1860-х гг. пришелся самый
плодотворный период творчества Чернышевского, связанный с его
публицистической деятельностью. Литературный путь Чернышевского бе-
7 Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 208.
8 Там же. С. 205.
9 Диссертация была утверждена тремя годами позже.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
9
рет начало в «Отечественных записках», где он помещает отдельные
статьи и рецензии. Вскоре он был приглашен Н. А. Некрасовым в
«Современник», где начинающий публицист принял участие в
обсуждении научных и общественно-политических проблем. На страницах
«Современника» были опубликованы наиболее важные его работы:
«Очерки гоголевского периода русской литературы»,
«Антропологический принцип в философии», «Капитал и труд», «Лессинг» и др.
В период с 1855 по 1863 г. Чернышевский являлся главной идейной
силой журнала, он живо отзывался на вопросы литературы,
экономической жизни, на важнейшую реформу — освобождение крестьян,
осмысливал философско-исторические проблемы, разрабатывал
теоретические основы социалистического плана преобразования
России. С 1858 г., не прерывая своей работы в «Современнике»,
Чернышевский на некоторое время становится редактором «Военного
сборника».
7 июля 1862 г. Чернышевский был арестован и заточен в
Петропавловскую крепость, в Алексеевский равелин. Ему вменялись в вину
сношения с А И. Герценом и Н. П. Огаревым. Будучи в каземате,
Чернышевский переводит XVI том «Всемирной истории» Шлоссера,
пишет роман «Что делать?», работает над переводами исторических
трудов Гервинуса и Маколея. У следствия не было прямых улик против
Чернышевского, тем не менее его обвинили в написании
прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Опираясь
на материалы заведомо сфабрикованного дела, Сенат приговорил
Чернышевского к 14 годам каторжной работы. В окончательной
конфирмации срок был сокращен до 7 лет. Утром 18 мая 1864 г.
состоялась процедура «гражданской казни» Чернышевского на Мытнинской
площади, где был оглашен приговор. Над опущенным на колени
борцом была сломана сабля. Затем он был сведен с эшафота и посажен
в карету. Стоявшая в молчаливом оцепенении публика пробудилась,
кто-то кинул в карету букет цветов, и из толпы раздалось: «Прощайте,
прощайте!».
Первые три года своего пребывания в Сибири Чернышевский
провел в Кадае, а затем был поселен в Александровский завод Нер-
чинского округа.
По окончании срока каторги Чернышевский был переведен в
разряд поселенцев. Новым местом жительства стал отдаленный сотнями
километров от Якутска суровый Вилюйск.
10
В. В. Блохин
В 1883 г. министр внутренних дел граф Д. А. Толстой
исходатайствовал возвращение Чернышевского, которому для жительства был
назначен город Астрахань. В ссылке он обстоятельно исследует
теорию Ч. Дарвина, осуществляет грандиозный перевод «Всеобщей
истории» Вебера. В июне 1889 г., по ходатайству бывшего тогда
астраханским губернатором князя Л. Д. Вяземского, ему было разрешено
поселиться в родном Саратове.
Но годы ссылки и лишений не прошли даром, организм
мыслителя был подорван, и в ночь с 16 на 17 октября 1889 г. Чернышевский
скончался от кровоизлияния в мозг.
* * *
В основе мировоззрения Чернышевского лежит антропология,
поэтому учение о человеке в нем занимает центральное место.
Понимание мыслителем природы человека объясняет и многие другие
аспекты его мировоззрения: этику, историю, эстетику.
Исходным пунктом антропологии Чернышевского является
теоретико-методологическая установка о единстве законов природы
и общества, отстаивание принципа монизма, согласно которому
только строгие и точные методы естественных наук позволяют
научно объяснить природу человека, его социальную
действительность. «Основанием для той части философии, которая
рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как
и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе.
Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со
всеми ее феноменами, — писал он в «Антропологическом
принципе», — служит выработанная естественными науками идея о единстве
человеческого организма. <...> Философия видит в нем то, что видят
медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого
дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы
человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта
другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так
как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и
проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре,
то другой натуры в нем нет. Это доказательство имеет совершенную
несомненность»10.
Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. Т. 7 С. 240.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
11
Таким образом, Чернышевский утверждает, что все, что есть в
человеке, можно объяснить физиологически, опираясь на медицину и
даже химию. Такое стремление достичь некоего непротиворечивого,
опирающегося на данные естественных наук понимания человека,
неприятие дуализма и его природы как духовно-телесного существа
является по сути образцом антифилософского мышления, поскольку
при этом человек перестает быть философской проблемой.
В трактовке монистической природы человека
Чернышевский близок к французским материалистам XVIII в. Отталкиваясь
от вульгарно-натуралистической концепции человека, он решает
вопрос о природе нравственных чувств и генезисе морали. Для
Чернышевского нравственные аспекты бытия составляют всего
лишь одно из многочисленных свойств человеческой природы, но
отнюдь не главное и определяющее. Вообще человек как духовно-
нравственное существо ему неинтересен: «...При единстве натуры
мы замечаем в человеке два различных ряда явлений: явления так
называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления
так называемого нравственного порядка (человек думает,
чувствует, желает). В каком же отношении между собою находятся эти два
порядка явлений? Не противоречит ли их различие единству
натуры человека, показываемому естественными науками?
Естественные науки опять отвечают, что делать такую гипотезу мы не имеем
основания, потому что нет предмета, который имел бы только одно
качество, — напротив, каждый предмет обнаруживает
бесчисленное множество разных явлений. <...> Например, дерево растет,
горит; мы говорим, что оно имеет два качества: растительную силу и
удобосгораемость»1 \
Чернышевский отдавал себе отчет в том, что науки нравственные,
т. е. социальные и гуманитарные, еще в достаточной степени не
разработаны, не достигли обстоятельности и «полноты» естественных.
Однако же большим шагом вперед в научном познании он считал
«подведение» нравственных и метафизических вопросов к одной
человеческой «натуре», к единому «закону».
Такой подход можно определять как позитивистский,
проявляющийся в том, что он «подчиняет область нравственного» (т. е. все
вопросы духовного порядка) тем принципам, которые господствуют
11 Там же. С 242.
12
В. В. Блохин
в сфере физико-химических процессов, что является упрощением
проблематики мира, ведущем к упразднению всякой философии12.
Осмысливая человека как биологический организм, источником
духовной и нравственной жизни Чернышевский считал пользу,
расчет, эгоизм, т. е. такие стремления, какие основывались на
удовлетворении личных интересов. По его мнению, при рассмотрении даже
самых великих и бескорыстных деяний человека «мы увидим, что
в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной
пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство, называемое
эгоизмом. <...> Если муж и жена жили между собою хорошо, жена
совершенно искренно и очень глубоко печалится о смерти мужа, но
только вслушайтесь в слова, которыми выражается ее печаль: «на кого
ты меня покинул? что я буду без тебя делать? без тебя мне тошно жить
на свете!» Подчеркните эти слова «меня, я, мне»: в них — смысл
жалобы, в них — основа печали», — писал Чернышевский13.
Даже героическое начало в человеке он объяснял сугубо
соображениями пользы и выгоды: «...Основанием пожертвования служит
личный расчет или страстный порыв эгоизма. О большей части
случаев так называемого самопожертвования не стоит говорить как о
самопожертвовании...»14.
Отталкиваясь от натуралистического понимания человека,
Чернышевский пришел к этике утилитаризма, которую можно выразить
простейшей формулой: нравственно то, что полезно. «Очень давно
было замечено, что различные люди в одном обществе называют
добрым, хорошим вещи совершенно различные, даже
противоположные. <...> Отдельный человек называет добрыми поступками
те дела других людей, которые полезны для него; в мнении
общества добром признается то, что полезно для всего общества или
для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия
наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека
вообще»15.
12 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. М., 2001. С. 321.
Следует отметить, что Т. Масарик считал Чернышевского позитивистом,
подчеркивал, что мыслитель высоко ценил творчество О. Конта.
13 Чернышевский Н. Г. Указ. соч. С. 283-
14 Там же. С. 284.
15 Там же. С. 285.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
13
При первом приближении складывается впечатление, что вопрос
о добре и зле не ставится и не разрешается Чернышевским,
поскольку эти представления являются проявлениями пользы, т. е. категории
этически относительной. Однако обозначенное противоречие
Чернышевский преодолевает самым оригинальным способом:
«...Понятие добра вовсе не расшатывается, а, напротив, укрепляется,
определяется самым резким и точным образом, когда мы открываем его
истинную натуру, когда мы находим, что добро есть польза. Только
при этом понятии о нем мы в состоянии разрешить все затруднения,
возникающие из разноречия разных эпох и цивилизаций, разных
сословий и народов о том, что добро, что зло. Наука говорит о
народе, а не об отдельных индивидуумах, о человеке, а не о французе
или англичанине, не купце или бюрократе. Только то, что составляет
натуру человека, признается в науке за истину; только то, что полезно
для человека вообще, признается за истинное добро. <...> «Погибоша
аки Обре» — эти слова повторяет история над каждым народом, над
каждым сословием, впавшим в гибельную для таких людей
галлюцинацию о противоположности своих выгод с общечеловеческими
интересами»16.
Таким образом, благо и добро определяются мерой пользы,
степенью ее распространенности на большее количество людей. Чем
польза оказывается значимей для людей, чем в большей степени она
отвечает общечеловеческим потребностям, тем она ценнее, тем
большим благом является. Для Чернышевского благо — это максимальная
польза для максимального количества людей.
Вопрос о соотношении добра и пользы Чернышевский решает
в рамках гедонистического идеала, стремления человека к
наслаждению как фундаментальному свойству своей природы. «Цель всех
человеческих стремлений, — писал он, — состоит в получении
наслаждений. Но источники, из которых получаются нами наслаждения,
бывают двух родов: к одному роду принадлежат мимолетные
обстоятельства, <...> проходящие без всякого прочного результата; к
другому роду относятся факты и состояния, находящиеся в нас самих
прочным образом или вне нас. <....> Полезными вещами называются,
так сказать, прочные принципы наслаждений. <....> Добро — это как
будто превосходная степень пользы, это как будто очень полезная
Чернышевский К Г. Указ. соч. С. 288-289.
14
В. В. Блохин
польза. Доктор восстановил здоровье человека, страдавшего
хроническою болезнью, — что он принес ему: добро или пользу?
Одинаково удобно тут употребить оба слова, потому что он дал ему самый
прочный принцип наслаждений»17.
Оценивая философско-антропологические взгляды
Чернышевского, нельзя не заметить их противоречивости. С одной стороны, он
стремится объяснить действительность посредством рациональной науки.
Это была настоящая вера в науку, в ее неограниченные возможности,
в ее познавательную мощь. От этого его рационализм проникался
пафосом «реализма», стремлением показать человека без прикрас, в его
позитивистски-натуралистическом обличье, скинуть с
действительности ореол духовного украшательства и ненужной идеализации.
Эта тенденция к реализму уже проявлялась в литературе 1840-х гг.
и развивалась под знаменем борьбы с «романтизмом отцов». Этим же
путем идет и Чернышевский. В своей статье о творчестве писателя
Н. В. Успенского «Не начало ли перемены» он призвал образованных
людей освободиться от иллюзий в отношении народного быта,
представить его в реалистическом свете и тем самым преодолеть
разделяющий народ и интеллигенцию раскол. «...Если вы действительно
любите народ, мужик не отличает вас ни по разговору, ни по языку
от своей братьи, отпущенников; это свидетельствует о том, что в числе
людей, принадлежащих по своим интересам к народу, есть уже такие,
которые довольно похожи на нас с вами, читатель. Свидетельствует
также, что образованные люди уже могут, когда хотят, становиться
понятны и близки народу. Вот вам жизнь уже и приготовила
решение задачи, которая своею мнимою трудностью так обескураживает
славянофилов и других идеалистов, вслед за славянофилами
толкующих о надобности делать какие-то фантастические фокус-покусы для
сближения с народом. Никаких особенных штук для этого не
требуется: говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас;
входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело
совершенно легкое для того, кто на самом деле любит народ, —
любит не на словах, а в душе»18.
В отличие от позднейших народников 1870-х гг., Чернышевский
не видел непроходимой пропасти между народом и интеллигенцией,
Там же. С. 291.
Там же. С. 888.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
15
в единстве которых он усматривал залог своих надежд на
социальную реконструкцию России. Романтический пафос, заложенный в
основы антропологии и утилитарной этики, побуждал его оценивать
действительность с позиций блага человека вообще, стремиться к
изменению дисгармоничной действительности, к ее преобразованию
во имя народного счастья.
С другой стороны, «раскодировка» символов эпохи посредством
научного знания, посредством предельного упрощения проблемы
человека сама несла в себе изрядный заряд «романтизма» и утопии,
формировалась наивно-сциентическая вера в науку как
освободительницу человечества. «Под покровом реализма сохранилась
настоящая и подлинная романтическая основа»19, — отмечал В. В. Зень-
ковский.
* * *
Сциентизм и позитивизм Чернышевского наиболее зримо
сказался в понимании им роли науки как инструмента улучшения
жизни, как средства социального преобразования и удовлетворения
гедонистических потребностей человека. Видимо, под влиянием
О. Конта и французских просветителей он приходит к убеждению,
что важнейшими факторами социального развития являются
интеллектуальные. Чтобы человек мог успешно удовлетворять свои
фундаментальные потребности в пище, в жилье, преодолевать свою
слабость, приумножать недостаточность средств жизни, окружавших
его в природе, он, по его убеждению, должен был обращаться к
своему разуму, научаясь тем самым выживать в экстремальных условиях
исторической среды.
Чернышевский был убежден в том, что каждое. социально-
историческое явление подлежит теоретическому осмыслению,
своеобразной научной санкции, благодаря которой и вырабатываются
принципы и законы сознательного исторического творчества. Без
такой санкции жизнь общества становилась противоречивой,
стихийной, конфликтной. Так, по его мнению, кровавые события во время
июньского восстания в Париже в 1848 г. объясняются прежде всего
тем, что общество еще не выработало необходимой научной теории,
господствовало теоретически отжившее представление экономистов
См.: Зеньковский В. В. Указ. соч. С. 317.
16
В. В. Блохин
«отсталой школы» о вредности государственного регулирования
экономической жизни и помощи социально незащищенным слоям
населения. Любые общественные новации возможны, по его мнению,
благодаря науке, которая не только осмысливает жизнь, но и
помогает ее направить в разумное, научно выверенное русло. В статье
«Капитал и труд» Чернышевский констатировал: «Никакая важная новость
не может утвердиться в обществе без предварительной теории и без
содействия общественной власти: нужно же объяснить потребности
времени, признать законность нового и дать ему юридическое
ограждение. Если мы захотим в чем бы то ни было важном обходиться без
этого, мы просто не имеем понятия об отношении общества и его
учреждений к человеческой мысли и к общественной власти. Нет ни
одной части общественного устройства, которая утвердилась бы без
теоретического объяснения и без охранения от правительственной
власти»20.
Чернышевский считал, что наука постоянно меняется под
влиянием запросов и потребностей времени: «Жизнь и науки, — писал
он, — развиваются с каждым поколением. Когда изменились понятия
общества от развития жизни и всей совокупности наук, от этого
самого должен уже измениться взгляд на предмет каждой частной
науки, хотя бы этот предмет был неподвижен, и новых материалов к его
изучению не было»21.
В научном знании он различал: науки «точные» (естественные)
и «нравственные» (социальные). По его мнению, в точных науках
человечеству удалось достичь существенно более значимых результатов,
чем в нравственных, ибо естествознание зародилось гораздо раньше:
в выводах ученых-естественников почти исчезли фантастические
гипотезы, они строятся на строго проверяемой основе. Нравственные
же науки отличаются тем, что их выводы и научные результаты
вызывают непрестанную полемику и споры, поскольку они в той или
иной степени отражают столкновения общественных интересов и
политических сил. Социально-политическая детерминированность
обществознания проявляется в том, что «каждый философ бывал
представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся
в его время за преобладание над обществом, к которому принадле-
Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 7. С. 45
Там же. С. 27.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
17
жал философ»22. С этим обстоятельством связана глубокая
убежденность Чернышевского в необходимости создания подлинно научной
теории, отвечающей потребностям современной жизни, ибо «только
просвещенный народ может работать успешно»23.
Действенная сила науки, по мнению Чернышевского,
проявлялась в институциализации разумного социально-государственного
устройства, в создании условий общественного прогресса.
Примером может служить рациональное законодательство,
«положительные законы» в экономике. Человечество давно могло бы справиться
с негативными последствиями рыночной экономики при условии
существования разумной законодательной регуляции24. Так,
Чернышевский высоко оценивал кодификационную и законотворческую
деятельность российских монархов — Екатерины II, Александра I и
Александра II. По его мнению, их реформы в области
государственного управления способствовали общественному благу, улучшали
жизнь людей25.
Размышление Чернышевского о характере исторического
развития приводило его к идее цикличности, сформировавшейся под
влиянием гегелевской философии истории.
Первоначальной стадией развития человечества, по его мнению,
была первобытно-родовая эпоха, сменившаяся фазой «ускоренного
развития», воплотившейся в греко-римском античном мире. Он
считал, что рано или поздно человечество должно вступить в высший
фазис своего развития, когда достижения будут реализовывать на
базе такого типа социальных отношений, которые были
свойственны бесклассовому «первобытному» периоду, но в существенно
обогащенном и преображенном виде. По сути высший фазис развития
человечества для Чернышевского означал реализацию гегелевской
идеи синтеза всего лучшего из прошлых эпох и возникновения на
его основе качественно нового этапа мировой истории.
Данная философско-историческая концепция Чернышевского
представляется уязвимой по нескольким основаниям. Во-первых,
22 Там же. С 223.
23 Там же. Т. 5. С. 695.
24 Там же. С 615
25 Там же. Т. 4. С. 347. См. подробнее: Антонов В. Ф. Н. Г. Чернышевский.
Общественный идеал анархиста. М,, 2000.
18
В. В. Блохин
Чернышевский явно идеализирует римское наследие. Считая
Римскую империю культурным центром мира и фактором,
цивилизующим всю окружающую ее периферию, он восхищался достигнутыми
в ней наукой, образованностью, политическими институтами и
правовыми идеями. Он полагал, что поступательное развитие античного
мира проявлялось в улучшении жизни людей, в совершенствовании
демократии, развитии общественного мнения, замене рабства
крепостничеством, зарождении в отделявшихся римских провинциях
независимых государств. При этом он упускал из виду такие
негативные явления, как античное рабство, социальное неравенство,
экспансия Рима в отношении завоеванных им народов. Представляется
не совсем убедительной и трактовка им причин упадка Римской
империи. Рим, считал Чернышевский, погиб не по причине внутреннего
кризиса, вызванного рабством, а в силу случайных внешних
обстоятельств, прежде всего вторжения варваров: «Чем же был убит
древний мир? Мы прямо говорим: исключительно волнением, которое
овладело всеми кочевыми племенами от Рейна до Амура. Тут было
ни больше, ни меньше, как погибель страны от наводнения. Никакой
внутренней необходимости смерти не было. Напротив, жизнь была
свежа, прогресс безостановочен. Погибель Римской империи —
такая же геологическая катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи.
<...> Подобные случаи погибели предмета, погибели дела от внешних
разрушительных сил, как бы ни здорово было дело, как бы ни
исполнен был жизни предмет, встречаются ежедневно в частном быту,
встречаются бесчисленное число раз в истории; только никогда не
происходила эта гибель в известной нам истории в таком огромном
размере, как при погибели всего древнего цивилизованного мира»26.
Предложенное Чернышевским понимание истории человечества
шло вразрез с мировой историографией, согласно которой
вторжение варварских племен в границы империи привели к уничтожению
рабства и, следовательно, к социальному обновлению умирающей
античной цивилизации.
Во-вторых, Чернышевский крайне негативно трактовал
феодализм. Споря с историками, утверждавшими, что варварское
вторжение привнесло в античный мир начало «личности», он
подчеркивал отсутствие в феодальной системе позитивного исторического
Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 7. С. 656
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
19
смысла, для него — это «система грабежа» и возведенная в принцип
междоусобица. «Из этого разбоя, продолжавшегося несколько веков,
вышел, наконец, феодализм — вот и особенный элемент, внесенный
в жизнь цивилизованных стран варварами. Хоть бы и был он
особенным, какой же в нем прогресс сравнительно с устройством Римской
империи в самые худшие времена ее? Там все-таки была известного
рода законность, хотя сколько-нибудь соблюдавшаяся. А феодализм —
ни больше, ни меньше, как грабеж, приведенный в систему,
междоусобица, подведенная под правила. Теперь уже давно всеми признано,
что в феодализме не было решительно ничего способного к
развитию, что он был лишь смягченною формою предшествовавшей ему
полнейшей анархии грабительского самоуправства. Ничего не могла
взять цивилизация из этой формы, служившей только препятствием
для нее; все, решительно все отвергала цивилизация из феодальных
учреждений, как только могла справиться с ними. Разумеется,
сравнительно с VI и VII столетиями феодализм был прогрессом, но лишь
в том смысле, в каком старинные итальянские разбойники, бравшие
выкуп, были прогрессом над прежними разбойниками, резавшими
без всякого выкупа»27.
По мнению Чернышевского, свою дикость феодализм изжил
только к XVII столетию, т. е. человечество почти 14 веков потратило на
бесцельное развитие, с тем чтобы приблизиться к той точке отсчета,
которую Рим достиг уже в III в. н. э. Те черты общественной жизни,
которые были характерны для римской эпохи, теперь повторяются,
но в больших масштабах и зрелых формах: расширяется
образование, охватывающее народные массы, происходит расцвет наук,
демократизируется жизнь. Система капитализма создает предпосылки
к высшей стадии развития: сама европейская цивилизация
подходит к новому принципу жизни — социализму. Западная Европа идет
к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас.
Новые экономические тенденции стали обнаруживаться во Франции
и в Англии задолго до того, как барон Гакстгаузен рассказал немцам
о нашем обычном общинном землевладении»28. Таким образом
выстраивается цепочка исторических эпох: первобытность —
феодализм —капитализм — социализм.
Там же. С. 660.
Там же. С. 661.
20
В. В. Блохин
Знакомство с философией истории Чернышевского убеждает
также в том, что он являлся последовательным приверженцем
западничества. Европа для него кладезь бесценного исторического опыта,
новаторских идей, средоточие нарождающихся новых социальных
форм.
При характеристике философско-исторической системы
мыслителя обращает на себя важная деталь: для него историческая
проблематика является неотъемлемым элементом осмысления русской жизни,
постижения им ее основ, проектирования образа лучшего будущего.
Размышляя о русском общинном землевладении как передовой
форме социальных отношений, он отмечал: «...У Европы свой ум в
голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас
нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по
обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей,
более усовершенствованной техники; а для нас самих этот обычай
пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее устройство,
его введение будет значительно облегчено существованием прежнего
обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой
тогда понадобится для нас, и дающим удобное, просторное
основание для этого нового порядка»29. В усвоении европейского опыта он
видел залог социального прогресса для России, в преодолении
научной и культурной отсталости, которую он характеризовал емким
термином — «азиатство».
Для Чернышевского «азиатство» — категория культурная,
связанная с «выключенностью» из единого прогрессивного пути развития,
«азиатство» — порождение национальной обособленности,
невосприимчивости всего передового. Закономерно, что термин «азиатство»
используется им в полемике со славянофилами, утверждавшими, что
европейская цивилизация переживает духовный кризис, а потому —
историческую исчерпанность. Для Чернышевского необходимость
заимствования странами, живущими в «азиатстве», культурных
достижений Европы является императивом прогресса. Конечно, любая
страна имеет те или иные культурные достижения; если же они
совпадают с открытиями, имеющими универсальный характер,
произведенными в Европе, то это только усиливает эффект от культурной
рецепции. Так, Чернышевский приводит яркую метафору о висячих
29 Там же. С. 663.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
21
мостах. Китайцы давно, независимо от Европы, изобрели веревочные
висячие мосты, но это ни в какой мере не ликвидировало их
отсталости и «азиатства». Создание железных висячих мостов европейскими
инженерами, не знавшими китайских изобретений, является
проявлением общечеловеческого прогресса, ибо вслед за железными
мостами явились усовершенствования в технике и транспорте, во всех
сторонах жизни. Нужно ли заимствовать эти достижения? Для
Чернышевского ответ очевиден.
Исторический прогресс мыслится Чернышевским как
поступательное утверждение разумности, как создание и конструирование
таких социальных форм, которые бы отвечали потребностям
развития человека как венца природы, удовлетворяли бы его стремлению
к благу. В наибольшей степени такой подход отразился в его
социалистическом учении.
* * *
Основа основ теоретических поисков Чернышевского — учение
о социализме, который был для него не только высшей исторической
стадией развития человечества, но и непреложным фактом,
установленным и обоснованным передовой наукой. Социализм означал для
него коренную перестройку всех социальных отношений,
творчество нового исторического содержания. Он образно сравнивал его
не с правкой книжной «опечатки», какой представлялась та или иная
политическая борьба между буржуазными партиями в современном
обществе, а с «полной переработкой всей книги, устаревшей по
содержанию».
Социалистическое будущее рисовалось Чернышевскому как
общество, в котором труд перестает быть товаром, а производственная
деятельность направлена на благосостояние работника; трудовая
деятельность становится максимально эффективной, ибо изменяется
ее мотивация.
Чернышевский обосновывает социализм, прежде всего в области
политэкономии, наиболее сильной и самостоятельной сферы его
творчества, которую высоко оценивал Маркс. Осмысливая
достижения современной ему экономической мысли, он создает «теорию
трудящихся», научную антитезу «теории капиталистов».
Формирование экономических взглядов мыслителя происходило
в сложном историческом контексте развития в Европе капитализ-
22
В. В. Блохин
ма свободной конкуренции, господства частнособственнических
устремлений и интересов. Единственным и беспощадным
регулятором хозяйственной жизни оставался рыночный механизм,
разделявший общество на собственников-предпринимателей и наемных
рабочих. Господствовавшая экономическая теория «отсталой школы»
в лице Pay Рошера, Сэ теоретически санкционировала современный
порядок вещей, призывала следовать за фактами жизни, защищая
идею невмешательства государства в экономику.
Отстаивая принципы хозяйственной свободы и рыночной
саморегуляции, либеральные экономисты явно недооценивали роль
труда как важнейшего фактора хозяйственной жизни, тем самым
пренебрегая интересами наемных работников. Чернышевскому было ясно,
что «если всякая ценность и всякий капитал производятся трудом, то,
очевидно, что труд есть единственный виновник всякого
производства, и всякие фразы об участии движимого или недвижимого
капитала в производстве служат только изменениями мысли о труде, как
единственном производителе. Если так, то труд должен быть
единственным владельцем производимых ценностей»30.
Теоретическую несостоятельность либеральной экономической
мысли Чернышевский усматривал прежде всего в отстаивании так
называемой «хозяйственной свободы». По его мнению, свобода
хозяйственной деятельности не может быть предметом специальной
науки, поскольку «основной принцип каждой науки должен иметь в себе
особенность, должен быть таков, чтобы принадлежал именно этой
науке; например, нравственная философия говорит «поступай честно».
Юриспруденция — «заботься об оправдании невинного и осуждении
виновного»; это две мысли решительно различные. Но говорила бы
что-нибудь свое, что-нибудь специально политическая экономия, если
бы сущность ее выражалась правилом «водворяй свободу»? Это одна из
задач, равно принадлежащая всем нравственным и общественным
наукам. <...> Свобода, подобно истине, <...> не составляет какого-нибудь
частного вида человеческих благ, а служит одним из необходимых
элементов, входящих в состав каждого частного блага»31.
Чернышевский подвергал критике такую категорию либеральной
экономики, как «личный интерес». В капиталистической экономике
Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 7 С. 38
Там же. С. 17.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
23
XIX в., ориентированной на достижение максимальной прибыли,
затраты на содержание наемного работника рассматривались как
неизбежные издержки производственной деятельности, а социальные
механизмы защиты интересов людей труда еще не были созданы.
При такой хозяйственной системе отчуждение работника от
результатов труда становилось неизбежным, а переоценка его мотивации
необходимой. В этой связи удовлетворение личного интереса
работника в процессе хозяйственной жизни становилось решающим
условием ее гуманизации. Для Чернышевского являлось аксиомой,
что «личный интерес есть главный двигатель производства. Энергия
производства, служащая мерилом для его успешности, бывает
всегда строго пропорциональна степени участия личного интереса в
производстве»32.
Обосновывая идею приоритетности личного интереса в
хозяйственной жизни, Чернышевский приходил к выводу о
необходимости и плодотворности соединения личности и собственности: «В чем
же состоит личный интерес? Он состоит в стремлении владеть
вещью. <...> Производство находится в наивыгоднейших условиях
тогда, когда продукт бывает собственностью трудившегося над его
производством. Иными словами, — работник должен быть
собственником вещи, которая выходит из его рук <...> Основной идеей учения
о производстве мы находим полное совпадение идеи труда с правом
собственности над продуктом труда; иначе сказать, полное
соединение качеств собственника и работника в одном и том же лице»33.
По мнению мыслителя, распоряжение результатами труда меняло
сам характер трудовой деятельности, делало его раскрепощенным
и свободным. Политическая экономия «...должна стремиться к тому,
чтобы в экономической области была произведена в отношениях
труда к собственности перемена, соответствующая перемене,
производимой в нравственной и юридической области освобождением
личности. Эта перемена должна состоять в том, чтобы сам работник
был и хозяином. Только тогда энергия производства поднимается в
такой же мере, как уничтожением невольничества поднимается
чувство личного достоинства»34.
32 Там же. С. 19.
33 Там же. С. 20.
34 Там же. С. 23.
24
В. В. Блохин
Однако кардинальное изменение в жизни работника, по мысли
Чернышевского, невозможно без реформирования системы
распределения экономических благ. В разработке теории распределения, по
его мнению, коренилось превосходство социалистического учения
над «теорией капиталистов». Наилучшей формой справедливого
распределения по труду для него является «товарищество трудящихся»,
особенно необходимое для тех стран, где уже давно потеряно «всякое
сознание об общинном быте»35.
Для организации товарищества, считал Чернышевский,
необходимо соблюсти ряд условий: во-первых, требовалась соответствующая
теоретическая подготовка организаторов и учредителей; во-вторых,
товарищества должны создаваться с целью удовлетворения
интересов всех участников.
Чернышевский мог лишь в самом общем виде представить
контуры товарищества. Он полагал, что оно будет состоять примерно
из 400 или 500 семейств, а их деятельность будет основываться на
хозрасчете. «Товарищество будет заниматься и земледелием, и
промыслами или фабричными делами, какие удобны в той местности.
Инструменты, машины и материалы, нужные для этого, покупаются на
счет товарищества. <...> Товарищество находится относительно
своих членов в таком же положении, как фабрикант и домохозяин
относительно своих работников и жильцов. Оно ведет с ним совершенно
такие счеты, как фабрикант с работниками, домохозяин с жильцами.
Нового и неудобоисполнимого тут очень мало...»36
Чернышевский полагал, что товарищество будет управляться с
соблюдением всех демократических принципов: оно «выбирает всех
своих управителей, как акционерная компания выбирает
директоров». Ленивых и нерадивых работников управление товарищества
сможет «увольнять». Однако, по мнению Чернышевского, таковых
будет мало, поскольку произойдет перемена в мотивации труда, и люди
смогут ясно осознать личный интерес в работе на себя. Не сомневаясь
в экономической эффективности товариществ, Чернышевский
считал, что полученная прибыль пойдет на цели развития, строительства
школ, содержания больниц и церквей. Допускалась им возможность
и выплаты членам товариществ дивидендов по результатам хозяй-
35 Там же. С. 58.
36 Там же. С 60.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
25
ствования. Такой в представлении Чернышевского виделась картина
функционирования товарищества в рамках рыночной экономики.
Большое внимание уделял Чернышевский судьбе русской общины
как формы коллективного труда. Свои основные труды по аграрному
вопросу он писал в преддверии и в период Великой реформы, когда
активно обсуждались пути и методы освобождения крестьян.
Представители либеральной мысли в лице экономиста И. В. Вернадского
и его последователей доказывали необходимость ликвидации
общины как исторически отжившего института, на месте которого должна
закономерно водвориться частная собственность. Славянофилы,
напротив, полагали, что освобождение крестьян возможно лишь при
сохранении общины, как гарантии от «язв пролетариатства» и как
средства решения фискальных задач правительства.
Чернышевскому была абсолютно ясна необходимость
существования общины как социальной формы, для него общинное
землевладение являлось «высшей гарантией благосостояния людей»37. Кроме
того, взгляды на общину и общинное землевладение составляли один
из элементов его социалистического учения, что побуждало
рассматривать и изучать это явление со всех теоретико-философских и
конкретно-практических сторон.
В общетеоретическом плане община представлялась
Чернышевскому естественным результатом исторического прогресса,
доказательством правоты гегелевской концепции истории.
Отвечая своим идейным оппонентам, доказывавшим на основе
гегелевских принципов развития историческую неизбежность
частной собственности, Чернышевский заявлял: «Мы — не последователи
Гегеля, а тем менее последователи Шеллинга. Но не можем не
признать, что обе эти системы оказали большие услуги науке
раскрытием общих форм, по которым движется процесс развития.
Основной результат этих открытий выражается следующею аксиомою:
«По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого
оно отправляется»38.
Опираясь на гегелевское учение о мировом развитии,
Чернышевский выделял три стадии развития форм землевладения.
«Первобытное состояние (начало развития). Общинное владение землею. Оно
37 Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 5. С. 300.
38 Там же. С. 363
26
В. В. Блохин
существует потому, что человеческий труд не имеет прочных и
дорогих связей с известным участком земли. <....> Земледелие сначала
также не соединено с затратою почти никаких капиталов
собственно на землю. Вторичное состояние (усиление развития).
Земледелие требует затраты капитала и труда собственно на землю. Земля
улучшается множеством разных способов и работ, из которых самою
общею и повсеместною необходимостью представляется удобрение.
Человек, затративший капитал на землю, должен неотъемлемо
владеть ею; следствие того — поступление земли в частную
собственность. Эта форма достигает своей цели, потому что землевладение не
есть предмет спекуляции, а источник правильного дохода»39. И,
наконец, наступает третья стадия, при которой «промышленно-торговая
деятельность усиливается и производит громадное развитие
спекуляции; спекуляция, охватив все другие отрасли народного хозяйства,
обращается на основную и самую обширную ветвь его — на
земледелие. Оттого поземельная личная собственность теряет свой прежний
характер. <...> Личная поземельная собственность перестает быть
способом к вознаграждению за затрату капитала на улучшение
земли. <...> Обработка земли начинает требовать таких капиталов,
которые превышают средства огромного большинства земледельцев,
а земледельческое хозяйство требует таких размеров, которые
далеко превышают силы отдельного семейства и по обширности
хозяйственных участков также исключают (при частной собственности)
огромное большинство земледельцев от участия в выгодах,
доставляемых ведением хозяйства, и обращают это большинство в
наемных работников. <...> Общинное владение становится единственным
способом доставить огромному большинству земледельцев участие
в вознаграждении, приносимом землею, за улучшения,
производимые в ней трудом»40.
При этом Чернышевский полагал, что общинные начала
социализма могут развиться в России под влиянием общечеловеческих
достижений прогрессивной Европы, обогащаясь ее передовым опытом
и наукой: «Под влиянием высокого развития, которого известное
явление общественной жизни достигло у передовых народов, это
явление может у других народов развиваться очень быстро, поднимать-
39 Там же. 377-378.
40 Там же. С. 380
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
27
ся с низшей степени прямо на высшую, минуя средние логические
моменты»41.
Словом, по мысли Чернышевского, достаточно изучить опыт,
накопленный европейской культурой, чтобы избежать средней стадии
развития — господства частной собственности: «Ведь мы в Европе
живем, этого довольно, — все хорошее, что сделано каким бы то ни
было передовым народом для себя, на три четверти подготовлено
уже тем самым и для нас: надобно только узнать, что и как сделано,
надо понять пользу, и тогда все будет...»42.
Так Чернышевский формулировал одну из ключевых
народнических идей о «педагогическом научении», о рецепции передового
западного опыта с целью избежать нежелательные стадии
исторического развития, о своеобразном «скачке» в более высокую передовую
форму социальной жизни, минуя неизбежное звено капитализма.
Но возможно ли такое в истории? В полной ли мере человек
способен конструировать социальную реальность по своему идеалу? И не
будет ли такой рациональный проект утопичным?
Между тем мыслитель допускал возможность существования
частного крестьянского хозяйства. Необходимость развития фермерства
диктовалась отсталым характером сельского быта в России. Фермер,
по его мнению, сможет освоить новую технику и приемы ведения
хозяйства, изменить Россию по западному образцу.
Развитие артелей и товариществ необходимо и помещикам,
поскольку будет способствовать избавлению их от монопольного
положения на рынке, вызванного привычками использовать даровой
и обязательный труд. «Чернышевский, — подчеркивает исследователь
В. Ф. Антонов, — тем самым еще раз показывал, что он не видел той
непримиримости противоречий между помещиками и крепостными
крестьянами, которые ставили бы их во враждебные отношения друг
к другу»43.
Развитие коллективных форм хозяйствования, по мысли
Чернышевского, должно воочию убедить крестьянина в выгодности общего
труда. С развитием общинного хозяйства, применением новых прин-
41 Там же. С. 385
42 Там же. С. 386
43 Антонов В. Ф. H. Г. Чернышевский. Общественный идеал анархиста. М.,
2000. С. 133,134.
28
Я Я Блохин
ципов деятельности, использованием передового научного опыта
Европы, его распространения среди основной массы населения
произойдет фундаментальная перестройка хозяйственных и социальных
отношений.
Созидание социализма, считал Чернышевский, представляет
собой исторический процесс, ход и исход которого зависит от
множества факторов: уровня культуры и образования общества, традиций,
условий быта. Каждая страна должна идти к социализму своим путем.
Переход западных стран к социализму осложнялся развитыми
частнособственническими интересами, безграничностью личных прав,
которыми было очень тяжело поступиться во имя общего союза
людей. В России же в силу сохранения в ней общинного быта дело
социализма могло иметь значительно большие шансы на успех.
Однако намерение Чернышевского, как и других народников,
воплотить социалистические идеи в крестьянской среде натолкнулись
на серьезные препятствия, вызванные нежеланием правительства
Александра И действовать в интересах народа. В конце 1850-х и
начале 1860-х гг. Чернышевский еще приветствовал реформаторские
усилия власти, сравнивая масштабы ее деятельности с
преобразованиями Петра I: «С царствования Александра II начинается для России
новый период, как с царствования Петра. История России с
настоящего года будет столь же различна от всего предшествовавшего, как
различна была ее история со времен Петра от прежних времен. Новая
жизнь, для нас теперь начинающаяся, будет настолько же прекраснее,
благоустроеннее, блистательнее и счастливее прежней, насколько
сто пятьдесят последних лет было выше XVII столетия в России»44.
По мере реализации крестьянской реформы усиливалось
разочарование в реформаторских потенциях правительства. С этим связан
был поворот Чернышевского к городу: оттуда, по его мнению, должна
была прийти помощь образованных и знающих людей.
Важнейшим элементом социалистического учения
Чернышевского стала тема «новых людей», подлинных строителей и
пропагандистов новой жизни. Под влиянием социалистических идей Р. Оуэна и
практики кооперативного движения во Франции в 1840-х гг.
Чернышевский обратился к идее создания товариществ в городах, которые
он рассматривал в качестве социальной базы общинного социализ-
Антонов Я Ф. Там же. С. 70.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
29
ма. Написанный в 1862-1863 гг. роман «Что делать?» призван был
указать молодому поколению ориентиры практической деятельности.
С его страниц Чернышевский призывал молодежь создавать артели,
организовывать товарищества, практической деятельностью менять
жизнь к лучшему. Призыв был услышан, и 1860-е гг. были отмечены
многочисленными опытами кооперативной деятельности, поскольку
участие в трудовых артелях рассматривалось многими
последователями Чернышевского в качестве необходимой ступеньки к
будущим социалистическим формам жизни. Роман «Что делать?» не был
манифестом революции, не призывал к классовому насилию — он
обобщал, пропагандировал принципиально новый опыт социальных
отношений, учил азбуке социализма. Новый мир должны были
созидать и новые люди: «Я хотел изобразить обыкновенных порядочных
людей нового поколения, людей, которых я встречаю целые сотни», —
писал Чернышевский45.
Взращенное на принципах «разумного эгоизма» и осмысленной
рациональности, поколение «новых людей» во всем следует выгоде,
однако выгоде без духа наживы, но направленной на пользу другим.
Этот тип людей только успел народиться: «Он рожден временем, он
знамение времени, и, сказать ли? он исчезнет вместе со своим
временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть
недолгой жизнью»46.
В этом описании социального типа узнается разночинная
интеллигенция, вооруженная силой научного знания, стремящаяся
изменить Россию, сделать ее лучшей. Центральной фигурой
романа является Рахметов, представленный в советской науке образцом
революционной иконографии. Своим духовным обликом он резко
выделяется из среды даже новых людей: «Рахметовы — это другая
порода; они сливаются с общим делом так, что оно для них
необходимость, наполняющая их жизнь; для них оно даже заменяет личную
жизнь»47. С точки зрения автора романа, Рахметов — это не
революционер, а скорее наставник и учитель новых форм жизни.
«Новые люди» Чернышевского — это не революционеры-фанатики,
презирающие жизнь и действующие «во тьме ночи», а скорее просве-
Лнтонов В. Ф. Там же. С. 227.
Там же. С. 145.
Там же. С. 256.
30
В. В. Блохин
тители, формирующие, воспитывающие, образовывающие народ,
несущие ему истины науки. Их призыв: «Наблюдайте, думайте, читайте
тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что
человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их — их имена
радуют сердце, наблюдайте жизнь — наблюдать ее интересно,
думайте — думать завлекательно. <...> Только и всего. Жертв не требуется,
лишений не спрашивается. Их не нужно. Счастье — в развитии»48.
При характеристике мировоззрения Чернышевского невольно
напрашивается вопрос о том, как он представлял себе методы и
средства социалистической реконструкции России, был ли он
революционером, видевшим в насилии искупительное средство прогресса, или,
напротив, отстаивал путь мирной эволюции и постепенных реформ.
Ответ на этот вопрос дает публицистика Чернышевского.
* * *
В концептуальной статье «Капитал и труд» Чернышевский
высказывается о возможности поощрения промышленно-земледельческих
товариществ со стороны государственной власти. «Правительство
назначает такую сумму, какая сообразна с его финансовой
возможностью, для первоначального пособия основанию промышленно-
земледельческих товариществ. <...> Но если оптовые торговцы и
компании железных дорог получают пособия, то нельзя назвать
излишней притязательностью предположение, что трудящийся класс
также имеет некоторое право ожидать от государства такого
содействия, которое не будет стоить ни копейки казне: получая проценты
и постепенно возвращая выданный капитал, она тут не
жертвовательница, а просто посредница между биржею и трудящимся классом»49.
Такая идея помощи низшим классам согласуется с мировоззрением
Ж. Прудона, Л. Блана, с социалистическими взглядами которых
Чернышевский был хорошо знаком. В этой связи показательна статья
«Кавеньяк», трактуемая в нашей историографической традиции как
манифест антилиберализма Чернышевского50. Действительно, в
статье осуждается непоследовательность и даже некая трусость
правительства французских республиканцев, вставших в решающий мо-
Антонов В. Ф. Там же. С. 228.
Чернышевский Я Г. Указ. соч. Т. 7. С. 58.
См. примечания к статье в кн.: Чернышевский Н. Г. Указ. соч. Т. 5.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
31
мент июньского восстания в Париже 1848 г. на сторону реакционных
сил. Однако смысл и акценты статьи совершенно в ином.
Она посвящена не столько анализу действий народа в преддверии
событий 1848 г., сколько попытке понять причины
несостоятельности французских республиканцев и их лидера — генерала Кавеньяка.
Чернышевский дает объективные характеристики представителям
французского республиканизма, нисколько не сомневаясь в
намерениях генерала Кавеньяка служить нации: «Нельзя отрицать того, —
писал он, — что Кавеньяк и его политические друзья искренно
желали отвратить все злоупотребления, облегчить все тяжести, на
которые жаловалась нация. Но еще неоспоримее то, что ничего не было
сделано ими для исполнения этих желаний»51. Среди мер, которые
могли бы произвести умеренные республиканцы в интересах народа,
по мнению Чернышевского, могла быть помощь в учреждении
промысловых и ремесленных артелей, но даже такие скромные шаги
поддержки материального благополучия народа рассматривалась
республиканцами как вредные обществу.
Чернышевский был убежден в необходимости сильной
социально-ответственной политики государства по отношению к
незащищенным слоям общества. «Но зачем же и существует государство,
как не для охранения человека от бедствий, которых не может
отвратить его собственное мужество и сила? Если так, полиция должна
была защищать от воров только того, который сам себя и без
полиции в силах прогнать или убить вора; если же разбойники нападут
на труса или больного, полиция не должна защищать от них этого
человека, потому что «он не имеет мужества помочь себе». Да
разве помощь нужна сильным и мужественным, а не слабым и забитым
обстоятельствами?»52
Отчего это произошло, почему реформаторы — умеренные
республиканцы — не поняли такой роли государства? По мнению
Чернышевского, они руководствовались отвлеченными схемами и
теориями, далекими от потребностей народа. Умеренные
республиканцы «были теоретики, не понимавшие условий практической
жизни»: народ требовал уменьшения налогов на вино, соль, сокращения
поземельных сборов.
См. примечания к статье в кн.: Чернышевский К Г. Указ. соч. Т. 5. С. 54.
Там же. С. 57.
32
В. В. Шохин
Анализ опыта истории июньского кризиса 1848 г., краха
правительства республиканцев и установления диктатуры Луи Филиппа
привели Чернышевского к выводу: «История возвышения партии
умеренных республиканцев представляется поразительным примером
того, как неизбежно осуществляется историей правило, внушаемое
здравым смыслом и так часто забываемое в увлечении политических
страстей: нужно подумать о том, каковы существенные желания
людей, прежде, нежели искать их содействия»53.
Итак, по мысли Чернышевского, мерилом величия
реформаторских усилий является стремление удовлетворить благу людей,
защите их интересов. В противном случае реформатор, лишившись
поддержки народа, обречен на крах.
Анализируя динамику политической борьбы во времена
революции 1848 г., Чернышевский ясно и определенно осуждает насилие
ее участников: «Битва шла зверски с обеих сторон. Она
необходимо должна была оставить много ненавистных следов в памяти
обеих сражавшихся сторон»54. Неприемлемы для него и любые формы
радикализма и подстрекательства. Так, О. Бланки назван им
«интриганом, увлекшим за собой опрометчивых энтузиастов»55.
Альтернативой столкновениям мог быть лишь классовый союз: республиканцы
не смогли понять, что «класс работников» был кровно заинтересован
в сохранении республиканской формы.
Любопытно время написания статьи — 1858-й год, время, когда
Александр II начинал великое дело Освобождения. Мысль автора
предельно ясна: любой реформатор обречен на крах, если не будет
учитывать интересы народа, а все благие начинания обернутся
возвратом реакции.
Мировоззренческой установке Чернышевского на полноту
человеческого бытия и его стремления переустроить мир на разумных
основаниях совершенно чужд фанатично-жертвенный тип
личности, способный сжечь в очистительном огне революционного
насилия классового врага. С этой стороны едва ли Чернышевский мог
быть предтечей будущих творцов мировой революции. В то же вре-
53 См. примечания к статье в кн.: Чернышевский К Г. Указ. соч. Т. 5. С. 37.
54 Там же. С. 33.
55 Там же. С. 22.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
33
мя ему претили всякая дисгармоничность бытия, отсталость
социальных форм, всякий символизм (религиозный или традиционный),
прикрывающий несовершенство жизни. Опираясь на «разум науки»,
Чернышевский стремился «к разуму истории», «разуму жизни» во имя
развития человека. Он выступает перед нами как просветитель-
социалист, стремящийся воплотить научно обоснованный идеал
в действительность, и при этом отчетливо сознающий многотруд-
ность этой задачи.
В этой связи правомерен вопрос об утопичности
социалистической доктрины Чернышевского; был ли он великим мечтателем,
создавшим грандиозную иллюзию будущего, или, быть может, он
являлся приземленным реалистом, критически осмысливающим реалии
жизни?
Утопические элементы в наследии Чернышевского несомненно
присутствовали как в трактовке им природы человека, в его почти
религиозной вере в неограниченные возможности науки изменить
мир, так и в его понимании средств социальной реконструкции
страны. Убежденный западник, он понимал, что европейские
страны уже существенно продвинулись по пути социальных реформ.
В самой России он не видел такого могучего потенциала
обновления, поскольку «новые люди», представители интеллигенции едва
только нарождались. Часто бывает: мысль опережает время,
увлекает его за собой, подталкивает, предлагая в повестку дня все новые
и новые темы, становящиеся некими ориентирами в дальнейшем
преобразовании.
С другой стороны, он не мог быть утопистом, ибо всегда в центр
своего внимания ставил проблемы, выдвинутые самой логикой
жизни. Его интересовали и экономика крестьянского хозяйства, и
вопросы распределения социальных благ, и требования' проведения
социально-ориентированной экономической политики со стороны
государственной власти, и проблемы просвещения и образования
народа.
В творческом наследии Чернышевского отчетливо
прослеживается генезис идей, подхваченных и развитых впоследствии
народниками-семидесятниками. Это прежде всего:
антропологический подход, сциентизм и позитивизм, принцип служения
интеллигенции народу, заимствование передового опыта западных стран,
социализм.
34
В. В. Блохин
Публикуемые сочинения Н. Г. Чернышевского относятся к
наиболее плодотворному и в то же время переломному времени 60-х гг.
XIX в. В книгу вошли статьи, напечатанные в журнале «Современник»
за период с 1856 по 1861 г., отражающие его многогранную
деятельность как в философии, истории, политэкономии, так и в
литературной критике. При подготовке комментариев к тексту составитель
опирался на опыт нескольких поколений отечественных историков
и философов. Представленные вниманию читателя труды
публикуются по Полному собранию сочинений Н. Г. Чернышевского.
В. В. Блохин,
доктор исторических наук, профессор
H. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СТАТЬЯ ПЯТАЯ
Критикою «Телескопа»1 было положено основание критике
гоголевского периода. Это внутреннее родство мысли выразилось и
внешним образом в первоначальных отношениях людей, из которых
одному досталось на долю начать, а другому — совершить дело
водворения у нас справедливых литературных понятий. Но как
впоследствии времени эти люди стали чужды друг другу, так и мысль,
через них выражавшаяся, достигнув полного развития в слове
бывшего ученика, раскрыла в себе содержание, существенно различное
от того, что обнаруживала в первых, еще несовершенных своих
проявлениях у бывшего учителя. Коренные черты родства между этими
двумя ее фазисами указать очень легко: стоит только припомнить
общую точку зрения критики Надеждина. Существенным
основанием всех его воззрений служили идеи, вырабатывавшиеся германскою
философиею. Сообразно духу этой философии, он рассматривал
литературу, как одно из частных проявлений общей народной
жизни, в связи с другими сторонами жизни; требовал, чтобы она
сознала свое назначение — быть не праздною игрою личной фантазии
поэта, а выразительницею народного самосознания и одною из
могущественнейших сил, движущих народ по пути исторического
развития2. Вследствие таких высоких понятий о назначении литературы,
немецкая философия поставляла необходимостью, чтобы в ее
произведениях значительность идеи, без которой форма пуста,
соединялась с художественностью формы, осуществляющей идею. От этих
эстетических аксиом критика гоголевского периода никогда не
отступала. Напротив, чем более она развивалась, тем глубже, полнее и
сильнее понимала и выражала эти идеи. Сходство, как видим,
заключалось в одинаковости общего начала. Оно очень значительно; его
можно назвать настоящим кровным родством. Различие было еще
гораздо более важно. Оно зависело от степени развития этого общего
начала; оно состояло в глубине и целостности воззрения, в
последовательности его приложений и в важности выводов, какие давало его
применение к фактам, представляемым литературою. Чтобы видеть,
38
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
какое огромное расстояние, уже по необходимости, лежавшей в духе
времени, не говоря о причинах различия, зависевших от личного
характера критиков, отделяло критику гоголевского периода от
критики «Телескопа», надобно сообразить, какому изменению подверглись
в своем прогрессивном движении те элементы нашей умственной
жизни, из взаимного проникновения которых слагается критика,
с той поры, когда кончилась журнальная деятельность Надеждина
(1834-1836), до той эпохи, когда критика гоголевского периода
достигла (1844-1847) крайних пределов развития, положенных ей не
столько границами сил и слишком кратковременной жизни
человека, бывшего главным ее представителем (силы эти были огромны и
раскрывались перед нами далеко не во всей полноте), сколько
границами потребностей и требований нашей публики. Надобно
припомнить ход постепенного развития у нас научных понятий и
литературы в этот период времени, очень непродолжительный, обнимающий
всего каких-нибудь двенадцать лет, но ознаменованный в нашей
умственной жизни многими очень важными фактами.
Надеждин ввел в наше литературное сознание идеи,
выработанные немецкою философиею*. Это заслуга очень важная. Но Надеждин
был последователем Шеллинга, и если принадлежал, как мы
говорили, к тем из учеников этого философа, которые развивали его
понятия сообразно духу времени, то все, однако же, в сущности, оставался
Задолго до Надеждина, немецкая философия имела последователей
между русскими учеными. Особенного внимания заслуживает то, что ею с любовью
занимались в наших духовных академиях. По случаю издания «Логики* Бах-
мана в русском переводе Надеждин говорит («Молва», 1832, № 20), что в одной
из наших духовных академий давно уже переведены сочинения Канта,
Шеллинга, Фихте. Якоби. Позднее, в Киевской духовной академии, история
философии от Канта до Гегеля преподавалась по известному сочинению Мишелета
(берлинского). Имена высокопреосвященного Филарета, митрополита
московского, и преосвященного Иннокентия одесского должны занимать в истории
философии у нас такое же место, как и в истории богословия. Всем известны
заслуги протоиерея Ф. А. Голубинского. Из светских ученых, до Надеждина,
нельзя не вспомнить о Фесслере, Велланском и в особенности И. Я. Кронебер-
ге и H. Ф. Павлове. Последний имел даже значительное влияние на молодое
поколение, воспитывавшееся в Московском университете, и ему, быть может,
даже более, нежели Надеждину принадлежит слава распространения любви
к философии между молодыми литераторами, о которых мы будем говорить.
Тем не менее, когда выступил Надеждин, немецкая философия не только для
большинства публики, но и для большей части образованнейших писателей
наших оставалась еще предметом неслыханным и непостижимым.
Очертей гоголевского периода русской литературы
39
учеником Шеллинга. Но система этого мыслителя сама по себе
неудовлетворительна, и главное значение ее состоит только в том, что она
была зародышем, из которого развилась система Гегеля. Этого
философа Надеждин, как по всему видно, никогда не признавал своим
руководителем, считая его не более, как даровитым последователем
Шеллинга. Понять Гегеля, который дал истинный смысл и настоящую
цену неопределенным и отрывочным мыслям Шеллинга, было
предоставлено уже следующему поколению, обратившемуся к изучению
немецкой философии отчасти по самостоятельному стремлению,
отчасти, конечно, благодаря деятельности Надеждина и Павлова.
Несколько времени эти юноши абсолютною истиною считали учение
Гегеля в таком виде, как излагал его этот мыслитель. Но скоро
познакомились они с сочинениями учеников Гегеля, которые, с строгою
последовательностью развивая существенные идеи учителя, отвергли
все, что в его системе противоречило этим основным принципам, и,
наконец, преобразовали его систему так, как прежде он преобразовал
систему Шеллинга. Без всякого преувеличения, надобно сказать, что
так называемою школою Гегеля образовано было совершенно новое
философское учение, которому система самого Гегеля служила не
более, как предшественницею, только в этом учении получившею свой
смысл и оправдание. Тем завершилось развитие немецкой
философии, которая, теперь в первый раз достигнув положительных
решений, сбросила свою прежнюю схоластическую форму
метафизической трансцендентальности и, признав тожество своих результатов
с учением естественных наук, слилась с общей теориею
естествоведения и антропологиею3.
Тогда и увлечение системою Гегеля, которому на время
совершенно подчинялись молодые русские приверженцы немецкой
философии, уступило место новым воззрениям, высказанным его учениками.
Предмет этот имеет высокую важность для истории нашей
литературы, потому что из тесного дружеского кружка, о котором мы говорим
и душою которого был Н. В. Станкевич4, скончавшийся в первой поре
молодости, вышли или впоследствии примкнули к нему почти все те
замечательные люди, которых имена составляют честь нашей новой
словесности, от Кольцова до г. Тургенева. Без сомнения, когда-нибудь
этот благороднейший и чистейший эпизод истории русской
литературы будет рассказан публике достойным образом. В настоящую
минуту еще не пришла пора для того.
40
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Таким образом, в течение семи или восьми лет научные понятия, на
которых должна основываться критика, прошли два великие фазиса
развития и достигли той окончательной ясности, полноты и
последовательности, которой недоставало им в системе самого Гегеля, не
только в системе Шеллинга, содержавшей не более, как отрывочные
и неопределенные зародыши того, что было высказываемо Гегелем.
И если Шеллинг в настоящее время имеет значение только как
непосредственный учитель Гегеля, то и сам Гегель, в свою очередь, имеет
значение только как предшественник стройного и полного учения,
выработанного его школою из тех принципов, которые в его
системе высказывались не более, как в виде темных предчувствий,
оставались без приложений и даже были подавляемы противоречащими
их существенному смыслу трансцендентальными понятиями,
наследием одностороннего идеализма. Только трудами новейших
немецких мыслителей философия получила содержание, соответствующее
требованиям точных наук, и основывалась, подобно
естествоведению, на строгом анализе фактов.
Но немецкая философия занималась по преимуществу только
самыми общими и отвлеченными научными вопросами. Принципы
общей системы воззрений на мир были, наконец, найдены ею и
приложены к разъяснению нравственных и отчасти исторических
вопросов; зато другие части науки, не менее важные, оставляемы были
в Германии без особенного внимания, — преимущественно должно
сказать это о практических вопросах, порождаемых материальною
стороною человеческой жизни. Французских мыслителей занимали
всегда эти предметы более, нежели немецких, но очень долго не
постигались ими во всей глубине и разрешались или поверхностным,
или фантастическим образом. Наконец, когда результаты немецкой
философии проникли во Францию, а наблюдения, собранные
французами, в Германию, пришло время искать положительных и точных
решений. Тогда односторонность науки исчезла; ее содержание было
уяснено относительно всех ее существенных задач. Материальные и
нравственные условия человеческой жизни и экономические
законы, управляющие общественным бытом, были исследованы с целью
определить степень их соответствия с требованиями человеческой
природы и найти выход из житейских противоречий, встречаемых
на каждом шагу, и получены довольно точные решения важнейших
вопросов жизни. Этот новый элемент также вошел в наше умствен-
Очерки гоголевского периода русской литературы
41
ное развитие; критика воспользовалась им, и ее основные воззрения
во многих случаях получили большую определенность и
жизненность.
Таков был ход науки вообще. Мы, насколько то было возможно,
следовали развитию общечеловеческих понятий, которые под
конец периода, здесь обозреваемого, нимало уже не походили на то,
что было нам известно в его начале. Те отрасли науки, которые, имея
предметом русский мир, должны быть обрабатываемы силами
русских ученых, также сделали в этот промежуток времени очень
значительные успехи, преимущественно русская история, от истинных
понятий о которой так много зависит и справедливое понимание
исторического хода нашей литературы. Около 1835 года мы, после
безусловного поклонения Карамзину, встречаем, с одной стороны,
скептическую школу, заслуживающую великого уважения за то, что
первая стала хлопотать о разрешении вопросов внутреннего быта,
но разрешавшую их без надлежащей основательности; с другой —
«высшие взгляды» Полевого на русскую историю, — через десять
лет ни о высших взглядах, ни о скептицизме нет уже и речи: вместо
этих слабых и поверхностных попыток, мы встречаем строго ученый
взгляд новой исторической школы, главными представителями
которой были гг. Соловьев и Кавелин5: тут в первый раз нам объясняется
смысл событий и развитие нашей государственной жизни. Около
того же времени или несколько раньше подвергается
основательному исследованию вопрос о значении важнейшего явления нашей
истории — реформы Петра Великого, о которой до того времени
повторялись только наивные суждения Голикова или Карамзина. Нет
надобности объяснять, как тесно связана с этим делом участь общего
взгляда на нашу литературу. Издания Археографической комиссии
дали каждому возможность изучать русскую историю по источникам.
Самые упорные противники всего нового соглашаются, что
изучение русской истории сделало значительные успехи в течение десяти
или двенадцати лет, о которых мы говорим. Но ближайший предмет
критики, русская литература, изменилась еще значительнее. Пушкин
явился в совершенно новом свете, когда по смерти его обнародованы
были произведения, в художественном отношении превышающие
все, что было им напечатано при жизни. Гоголь напечатал «Ревизора».
Явились Кольцов и Лермонтов. Все прежние знаменитости померкли
перед этими новыми. Явилась новая школа писателей, образовавших-
42
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ся под влиянием Гоголя. Гоголь издал «Мертвые души». Почти в одно
время явились «Кто виноват?», «Бедные люди», «Записки охотника»,
«Обыкновенная история», первые повести г. Григоровича. Переворот
был совершенный. Литература наша в 1847 году была так же мало
похожа на литературу 1835 года, как эпоха Пушкина на эпоху
Карамзина.
В литературах Западной Европы также совершались великие
перемены. Виктора Пого, Ламартина и Шатобриана, которых
прежде считали величайшими поэтами нашего века, стали находить
слишком фальшивыми, приторными или натянутыми, их не только
перестали превозносить, перестали даже бранить. Вместо их первою
славою французской литературы явилась Жорж Санд, с которой
началась совершенно новая эпоха. В английской литературе, вместо
исторических романов Вальтера Скотта, этнографических романов
Купера и фешенебельных изделий Бульвера, общее внимание
привлекли романы Диккенса. В немецкой литературе не нашлось
преемников не только Гете, но даже и Гофману. В тридцатых годах славу
немецкой поэзии отчасти поддерживал Гейне; но скоро и он оказался
человеком отсталым от своего времени; о немецкой беллетристике
в сороковых годах не было и слухов за границами немецкой земли.
Эти факты должны были оказать сильное влияние на понятия об
искусстве: кто прочитал и умел оценить Диккенса и Жоржа Санда, тот
не так будет понимать литературу, как поклонник Вальтера Скотта и
Купера, не говоря уже о Ламартине и Викторе Пого.
Словом, все кругом совершенно переменилось, и более всего
переменились именно те элементы нашей умственной жизни, от
которых непосредственно зависят характер и содержание критики:
научные понятия, служащие ей основанием, и отечественная
литература.
Условия, в которых действовала критика гоголевского периода,
были, как видим, столь новы, что, по необходимости, возлагаемой
самою сущностью дела, она должна была раскрывать собою для нашего
литературного сознания совершенно новое содержание. Понятия, на
которых она должна была опираться, факты, о которых должна была
судить, до такой степени превышали своею глубиною и
значительностью все, о чем прежде могла говорить русская критика, что все
предшествовавшие ей периоды нашей критики должны были померкнуть
в наших глазах, как маловажные в сравнении с нею.
Очерки гоголевского периода русской литературы
43
Главным деятелем критики гоголевского периода был Белинский.
Читатели, быть может, извинят нас, что в настоящей статье мы не даем
ни биографических сведений об этом писателе, ни даже его
характеристики, потому что сообщение биографических подробностей не
входит в план наших «Очерков», ограничивающихся только
рассмотрением произведений и не вдающихся в исследования о частной
жизни и личном характере писателей. Мы сами первые чувствуем
неполноту и, так сказать, отвлеченность этого плана, и утешаемся
только тем, что и неполный и сухой разбор все-таки имеет
некоторое, хотя временное, значение, пока не являются труды более живые
и полные. — Впрочем, при изложении развития и смысла критики
гоголевского периода, быть может, менее, нежели в каком бы то ни
было другом случае, чувствуется потребность в биографических
соображениях: в делах, имеющих истинно важное значение, сущность
не зависит от воли или характера, или житейских обстоятельств
действующего лица; их исполнение не обусловливается даже ничьей
личностью. Личность тут является только служительницею времени
и исторической необходимости.
Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была
действовать критика гоголевского периода, ясно поймет, что характер
ее совершенно зависел от исторического нашего положения; и если
представителем критики в это время был Белинский, то потому
только, что его личность была именно такова, какой требовала
историческая необходимость. Будь он не таков, эта непреклонная
историческая необходимость нашла бы себе другого служителя, с другою
фамилиею, с другими чертами лица, но не с другим характером:
историческая потребность вызывает к деятельности людей и дает
силу их деятельности, а сама не подчиняется никому, не изменяется
никому в угоду. «Время требует слуги своего», по глубокому
изречению одного из таких слуг.
Итак, оставим в стороне личность Белинского: он был только
слугою исторической потребности, и с нашей отвлеченной точки
зрения нас интересует только развитие содержания русской
критики, во всем существенно важном с необходимостью
определявшееся обстоятельствами, созданными историею. И если мы будем
иногда упоминать имя Белинского, говоря о той или другой идее,
то вовсе не потому, чтобы собственно от его личности зависело
выражение этой идеи: напротив, в том, что есть существенного в его
44
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
критике, лично ему, как отдельному человеку, принадлежат только
те или другие слова, употребление того или другого оборота речи,
но вовсе не самая мысль: мысль всецело принадлежит его времени;
от его личности зависело только то, удачно ли, сильно ли
высказывалась мысль.
* * *
Белинский явился на литературное поприще сотрудником Надеж-
дина, как его ученик и продолжатель. Начал он с того самого, на чем
остановился Надеждин, — с чрезвычайно резкого и горького
отрицания всей нашей литературы, до самого Гоголя, который и сам тогда
еще не доказал, что его деятельность положит конец этому
отрицанию. Первая значительная статья нового критика — «Литературные
мечтания. Элегия в прозе» — помещенная в «Молве» 1834 года, имеет
самый мрачный и беспощадный тон. Уже заглавие указывает на ее
прямое происхождение от «Литературных опасений» Надеждина,
намекает, что наша так называемая литература не более, как мечта, и
говорит, что думать о ней, значит наводить на себя тоску. Еще резче
высказывают общее направление статьи эпиграфы, выставленные
над нею. Их два:
Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.
Грибоедов, «Торе от ума»
«Есть ли у вас хорошие книги?» — Нет: но у нас есть великие
писатели. — «Так, по крайней мере, у вас есть словесность?» — Нет, у нас
есть только книжная торговля.
Барон Брамбеус
Статья, объявляющая о своем содержании таким заглавием и
такими эпиграфами, заключает обзор всей истории нашей литературы
от ее начала до 1834 года. Нужно ли говорить, что она совершенно
уничтожает ее? Вообще, только четыре писателя, по мнению автора,
имеют право называться русскими писателями: Державин, Пушкин,
Крылов и Грибоедов. Да и те — что такое успели сделать? Державина
спасло от совершенной пустоты только его невежество, — а
невежество может ли создать что-нибудь хорошее? Пушкин показал, что
Очерки гоголевского периода русской литературы
45
у него есть великий талант, но не произвел ничего, достойного
своих сил, а теперь (1832-1834) не печатает ничего хорошего: «теперь
он умер или, быть может, только обмер на время, — судя по «Андже-
ло» и сказкам, умер». Крылов хорош в баснях — важное богатство для
литературы! Грибоедов написал одну комедию, в которой главное
достоинство — едкость, а не художественность. Итак, у нас еще нет
литературы. Могут ли четыре человека составлять литературу,
особенно если явились, как то было у нас, случайно, без
предшественников и продолжателей? Литература явится у нас тогда, когда
просвещение укоренится на нашей почве; а теперь нам рано и думать
о такой роскоши. «Теперь нам нужно учение! учение! учение! а не
литература». Тем же духом проникнуто и другое обозрение,
явившееся в «Телескопе» через полтора года (1836). Существенная мысль его
достаточно выражается самым заглавием: «Ничто о ничем, или
отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской
литературы». Но Гоголь и Кольцов («Миргород», «Арабески» и
«Стихотворения Кольцова» явились в 1835 году) уже вынуждают у автора
некоторые уступки в пользу надежды на близость лучшей
будущности. Обоих он приветствовал с восторгом, и с самого начала, когда
самые проницательные из других ценителей еще не замечали
Кольцова и отзывались о Гоголе с благосклонною снисходительностью,
как о человеке, который пишет очень порядочно, он уже оценил их
вполне, увидел в их первых произведениях начало новой эпохи для
русской литературы и предсказал, какое высокое место они займут в
ней. А между тем Кольцов тогда напечатал только маленькую
тетрадку с восемнадцатью пьесами, из числа которых разве шесть или семь
были удачны, а Гоголь издал только «Миргород» и «Арабески», ни
«Ревизора», ни большей половины его повестей, ни драматических
сцен еще не было, — и, однако же, молодой критик не усомнился
и тогда назвать его «главою нашей литературы». Эта
проницательность, впрочем, покажется нам совершенно естественною, если мы
захотим сообразить, что молодому сотруднику Надеждина были
даны природою силы сделаться главою нашей критики в
начинавшемся тогда новом периоде: само собою разумеется, что он
только потому и исполнил свое назначение, что был готов к нему, что
носил в своей душе идеал будущего, истолкователем которого был,
когда оно осуществилось: трудно ли человеку, наполненному
предчувствием, узнать и оценить с первого же взгляда то, чего он ждал,
46
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
о чем мечтал? Вообще, человек очень легко понимает все сродное с
его собственною натурою*.
В этом открываются уже решительные признаки
самостоятельности Белинского при самом начале его деятельности, когда он,
по-видимому, еще совершенно следовал влиянию своего учителя.
На Кольцова Надеждин не обратил внимания; а что касается
первых повестей Гоголя, он понимал, что «Вечера на хуторе» и
«Миргород» — произведения прекрасные, но всей важности этих явлений не
замечал: находил их автора замечательным писателем, от которого
надобно ожидать много прекрасного, но не предполагал в нем
корифея совершенно новой будущности. Эта разница объясняется тем,
что один в душе совершенно был человеком нового периода, в уме
другого стремление к будущему боролось с привычками прошедшего
и если побеждало их, то после борьбы с помощью умозаключений
Вот существенные места из замечательной статьи «О русской повести
и повестях г. Гоголя»: «Арабески и Миргород» («Телескоп», т. XXVII). «Роман и
повесть суть единственные роды, которые появились в нашей литературе не
столько по духу подражательности, сколько вследствие потребности... Роман
все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы
всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди
себя. В русской литературе повесть еще гостья, но гостья, которая вытесняет
давнишних хозяев из их жилища...
У нас еще нет повести в собственном смысле этого слова... Первенство
поэта-повествователя остается за г. Полевым. Но в его повестях есть один
важный недостаток: в них заметно большое участие ума, для которого
самая фантазия есть как бы средство (т. е. они сочинены, а не созданы, в них
нет поэтического творчества). Посмотрим, нет ли между нашими писателями
такого, который был бы поэт по призванию... Мне кажется, что из
современных писателей — я не включаю в это число Пушкина, который уже свершил
круг своей художнической деятельности (так тогда думали, потому что после
«Бориса Годунова» Пушкин в течение пяти или четырех лет печатал мало
замечательного), никого не можно назвать поэтом с большею уверенностью и
нимало не задумываясь, как г. Гоголя...
Способность творчества есть великий дар природы. Творчество
бесцельно с целью, бессознательно с сознанием, свободно с зависимостью. Вот его
основные законы. (Излагается эстетическая теория немецкой философии,
введенная к нам Надеждиным)
Очень нетрудно к этому приложить сочинения г. Гоголя, как факты к
теории. Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас повесть г.
Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как все это просто, обыкновенно,
естественно и верно и, вместе, как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы
и тому, что вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами
не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам,
Очерки гоголевского периода русской литературы
47
и соображений, а не мгновенным инстинктивным влечением
родственной натуры.
Сотрудничество с Надеждиным оставило навсегда довольно
резкий отпечаток на некоторых привычках критики гоголевского
периода. Самою существенною из этих принятых по наследству
особенностей была беспощадная и непрерывная полемика против
романтизма6. У Надеждина она была едва ли не самою главною задачею
всей критики и, очевидно, проистекала из самого положения нашей
литературы. С первого взгляда может показаться, что через десять
лет в этих непрерывных филиппиках уже не было настоящей
надобности. Романтизм, по-видимому, уже перестал быть опасным, его
пора было бы оставить в покое, и несправедливо было бить лежачего
врага. Но это заключение окажется ошибочно, если мы пристальнее
вникнем в сущность дела. Во-первых, романтизм сделал только
наружные уступки, отказался от своего имени, не более, но вовсе не
и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными? Вот
первый признак истинно-художественного произведения. Потом, не знакомитесь
ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы давно знали
его, долго жили с ним вместе? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы
побожиться, что все рассказанное автором есть чистая правда, без всякой примеси
вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатью
истинного таланта. Эта простота вымысла, эта нагота действия — верные
признаки творчества. Это поэзия реальная, поэзия жизни действительной... И
возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? Что
почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается
глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконец,
называется жизнью. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно.
И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии,
сколько философии, сколько истины!
В художественных произведениях должно различать характер творчества,
общий всем изящным произведениям, и характер колорита, сообщенный
индивидуальностью автора. Я уже сказал, что отличительные черты характера
произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни,
народность, оригинальность, — все это черты общие, потом комическое
одушевление, побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния — черта
индивидуальная.
Комизм, или юмор, г. Гоголя имеет свой особенный характер: это юмор
чисто русский, спокойный, простодушный, спокойный в самом своем
негодовании, добродушный в самом своем лукавстве...
«Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде — здесь
его талант падает; но он и в самом падении остается талантом.
Вообще, надобно сказать, что фантастическое как-то не совсем дается
Гоголю.
48
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
исчез и очень долго старался оспаривать победу у нового
направления; он имел еще много последователей в литературе и многих
приверженцев в публике. Чтобы указать на факт, относящийся уже
к самому последнему времени критики гоголевского периода,
припомним, какою ожесточенною и всеобщею враждою встречена была
от всех журналов (кроме «Отечественных записок» и потом
«Современника») натуральная школа7, которая на самом деле, а не только
на словах, отказалась от романтических прикрас: все возмущались
тем, что она описывает действительную жизнь в ее истинном виде,
а не повествует о небывалых в мире злодеях и героях и невиданных
красотах природы, — все эти нападения проистекали из
привязанности к преданиям романтизма. Да и до сих пор романтизм еще
живет во всех тех, которые, по добродушной робости или по любви
к мишуре, не любят правды, высказываемой без прикрас, и находят,
что как поле красно рожью, так речь — ложью, что отрицание
бесплодно, что, впрочем, оно уж сделало свое дело, что пора нам
обратиться к более благосклонному взгляду на жизнь, и т. д., т. е.
тоскуют по блаженной поре Греминых и Лариных, с прочими
аркадскими принадлежностями. Если вы хотите испытать, на самом ли деле
много еще осталось у нас романтиков, есть для того средство очень
легкое: пробный камень для романтизма — критика гоголевского
периода; кто не доволен ее мнимою излишней суровостью
(разумеется, не по каким-нибудь личным расчетам или лицемерию — о по-
Какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Если сказал,
что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему
судейские приговоры. У нас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет
поэтов. (Пушкина автор исключил, как мы видели, из числа действовавших
тогда писателей.) Поэт — высокое и святое слово; в нем включается
неумирающая слава!.. Задача критики: определить степень, занимаемую
художником в кругу своих собратий. Но г. Гоголь только еще начал свое поприще;
следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах
в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь
владеет талантом необыкновенным и высоким. По крайней мере, в настоящее
время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место,
оставленное Пушкиным.
Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, у других дар
поэзии есть нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые
иногда один раз в целую жизнь выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую
грезу и ослабевают в последующих своих произведениях. Другие с каждым
новым произведением возвышаются и крепнут. Г. Гоголь принадлежит к числу
этих последних поэтов: этого довольно!»
Очерки гоголевского триода русской литературы
49
добных людях нечего и говорить — а по искреннему убеждению),
в том не умер романтизм. А таких людей еще набирается довольно
много. Ныне можно не обращать на них внимания: для большинства
публики их мнения забавны и только, а никак не опасны. Пятнадцать
лет тому назад было не то: мнения, которые ныне составляют лишь
забаву, утешающую отдельных людей, не имеющих влияния на
публику, были очень сильны в литературе. Стоит припомнить, как один
из тогдашних критиков не хотел печатать повестей Гоголя в журнале,
которому давал направление, и не хотел даже писать разбора его
комедии, считая эту пьесу низким фарсом8. Основанием его наивных
понятий были, конечно, романтические требования возвышенных
страстей и идеальных личностей в искусстве. А этот критик в то
время считался представителем современной науки. Каковы же были
понятия других литературных судей, даже и не подозревавших в
искусстве ничего, кроме французских мелодраматических изделий?
«Отечественные записки» одни боролись против всех журналов,
в этом случае продолжая дело «Телескопа». Но борьба с
романтизмом, которая в критике гоголевского периода более всего
остального могла бы казаться простым продолжением мысли Надеждина,
сохранила только наружное сходство с его филиппиками, получив
мало-помалу совершенно новое содержание. Надеждин восставал
против романтизма с учено-литературной точки зрения, доказывая
только, что французский новейший романтизм так же мало похож
на романтизм средних веков, как псевдо-классическая литература
на греческую, и потому, подобно ей, присваивает себе ложное имя,
а собственно должен считаться не более, как псевдоромантизмом,
жалкой подделкой под истинный романтизм, невозможный в наше
время и потому прославленные псевдоромантические произведения
нелепы в эстетическом отношении. Этою отвлеченною точкою
зрения ограничивалась его полемика. Критика гоголевского периода
смотрела на вопрос шире: она восставала на романтизм как на
выражение натянутых, экзальтированных, лживых понятий о жизни,
как на извращение умственных и нравственных сил человека,
ведущее к фантазерству и пошлости, самообольщениям и кичливости.
Надеждин и не предчувствовал, что сущность псевдоромантизма
заключается не в нарушении эстетических условий; а в искаженном
понятии об условиях человеческой жизни; он сам не был свободен
в этом отношении от заблуждений, которые ничем не отличались
50
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
от основной ошибки романтиков, считавших только колоссальные
страсти и эффектные явления достойными внимания поэта. Хорошо
понимая мелочность того, что романтики воображали себе
титаническим, Надеждин слишком наклонен был искать поэзию в одном
только возвышенном, далеко превышающем явления обыкновенной
действительности. Не нужно говорить о том, как мало могли
подходить под этот идеал писатели, подобные Диккенсу или Гоголю,
изображающие повседневную жизнь, — да и не было таких поэтов во
времена Надеждина. Все были тогда экзальтированы или старались
прикинуться экзальтированными, — разочарованность была только
особенным и едва ли не самым натянутым родом экзальтации, —
никто не догадывался о лживости экзальтированного взгляда на жизнь.
Потому-то и недовольство романтизмом возбуждалось более
формальными недостатками его произведений, нежели фальшивостью
основного его взгляда на жизнь. Только следующему поколению,
воспитанному более положительною философиею и
наслаждавшемуся более здоровыми созданиями искусства, предоставлено было
восстать против романтических фантазий не с одной литературной,
но и с житейской точки зрения. Словом, Надеждин имел дело с
романтизмом, как противоэстетическим явлением в литературе;
критика гоголевского периода, разделяя этот взгляд, обращала главное
свое внимание на романтиков, как людей, губящих жалким образом
свои силы, как на людей, по заблуждению делающихся вредными для
самих себя и смешными. Она заклеймила осмеянным именем
романтизма всякую аффектацию, натянутость, болезненную апатию,
величающую себя гордым разочарованием, всякую пошлость,
прикрывающую себя пышными фразами, всякую риторику в словах и
делах, и чувствах, и поступках. Борьба с этим романтизмом должна
быть вменена в заслугу исключительно ей. В этом деле критика
гоголевского периода не имела предшественников и своими едкими
насмешками оказала несомненную услугу не только литературе, но
и самой жизни; в нем доселе имеет она и долго будет иметь
ревностным своим последователем каждого здравомыслящего писателя,
потому что борьба против болезненного романтического направления
в жизни доселе необходима и будет еще необходима и тогда, когда
совершенно забудется имя литературного романтизма. Борьба эта
продолжится до той поры, когда люди совершенно отвыкнут
обольщаться аффектациею в жизни, когда они привыкнут смеяться над
Очерки гоголевского периода русской литературы
51
всем неестественным, как пошлым, какими бы выгодными фразами
и формами ни прикрывалась его внутренняя пошлость.
Малосведущие или увлеченные горячностью споров
противники с диким негодованием вопияли, что критика гоголевского
периода святотатственно посягает на славу знаменитых людей
нашей литературы, что она разрушает пьедесталы, на которых стоят
их величественные статуи, топчет в грязь все, чем должна
гордиться наша прошедшая литература, и т. д., и т. д. Если б эти крики были
справедливы, мы имели бы другую точку очень близкого сходства
между деятельностью Надеждина и его бывшего ученика. К
сожалению, они основаны только на незнании или беспамятности. Дело
уничтожения литературных авторитетов вовсе нельзя причислять
к новым и существенно-важным целям, достигнуть которых
хотела критика гоголевского периода, и если она когда делала что-
нибудь в этом роде, то разве относительно авторитетов, далеко не
первостепенных и нимало не освященных древностью лет, напр.,
относительно Марлинского и Полевого9. Конечно, для иных
и это неприятно, но уж решительно никому не может казаться
важным преступлением, по незначительности самого предмета.
Что же касается до святотатственного, по мнению некоторых,
посягательства на Ломоносова, Державина и других действительно
первоклассных писателей, критика гоголевского периода
совершенно лишена была возможности придумать что-нибудь в
уменьшение их славы по очень простой причине: все, что можно
было сказать в этом смысле, давно уж было высказано или Полевым,
или Надеждиным. Обвинять в этом критику гоголевского
периода значит приписывать ей заслугу, вовсе не ей принадлежащую*.
Вообще, надобно заметить, что отрицание, выражающееся печатным
образом, принимает формы, гораздо менее жесткие, нежели те, которыми
облекается оно в разговорах и частной переписке. Литература и в этом случае,
как и во многих других, пролагает путь к примирению, как скоро даст простор
выражению чувства, которое, оставаясь безвыходным, не знало бы границ
своей враждебности. Напрасно было бы воображать, что, например, Полевой,
разрушитель устаревших литературных авторитетов, ценил писателей,
предшествовавших Пушкину, менее, нежели всякий другой из его современников,
имевших хотя некоторое литературное образование и не лишенных вкуса.
Напротив, надобно признаться, что каждый из них втихомолку выражался
гораздо резче, нежели говорил Полевой. Вот как, например, думал о Державине
еще в 1825 году сам Пушкин, великий поклонник старины:
52
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Ей предстояло дело совершенно другого рода: не увлекаясь ни
старым отрицанием, ни еще более старыми панегириками, показать
историческое значение различных периодов нашей литературы
и замечательнейших ее деятелей, дать нам историю нашей
литературы, чего еще не было сделано никем из предшествовавших
критиков. Взгляд на литературу, предшествовавшую Пушкину, у
критики гоголевского периода был умереннее и снисходительнее,
нежели у критики романтического периода; а что касается
Пушкина и его сподвижников, критика гоголевского периода почти
постоянно должна была противоречить резким приговорам На-
деждина. Словом, она не разрушала, а, напротив, воссоздала все,
что в прошедшем заслуживало уважения. Иначе и быть не могло:
нападать на Ломоносова и Державина, на Карамзина и Пушкина
уже было не нужно и неуместно; если когда-то их и превозносили
безотчетными панегириками, то это слепое поклонение в
образованной части публики давно уже было уничтожено «Телеграфом»
и «Телескопом», и когда явился Гоголь, наступило время говорить
о прошедшем с уважением, потому что развившееся из него
настоящее стало заслуживать уважения. Так с уважением начинают
говорить об отцах, когда потомки их заслужат славу.
Откуда же взялось мнение, что одним из дел критики
гоголевского периода было уничтожение прежних авторитетов? Не будем
говорить о побуждениях, проистекавших из самолюбия многих
раздраженных ею тогдашних писателей, которые находили удобным
кричать: «вы не верьте, читатели, тому, что говорит этот человек о
моих сочинениях; он бранит не только меня, он бранит и
Державина, и Ломоносова, он всех великих писателей (в том числе и меня)
хочет унизить»; не будем также указывать других подобных расчетов,
какие внушаемы были завистью или враждою: все эти жалкие факты
«По твоем отъезде перечел я Державина всего. Вот мое окончательное
мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка.
У Державина должно будет сохранить од восемь да несколько отрывков,
а прочее сжечь. Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом».
(Отрывок из письма к Дельвигу, изд. 1855 г., часть I, стр. 156.)
Кажется, резче этого трудно придумать что-нибудь, и, наверное, в «Те-леграфе»
не найдется ни одного выражения, которое бы хотя сколько-нибудь подходило
к словам Пушкина своею жесткостью. А кто знает «Телеграф» и «Телескоп», тот
знает, что критика гоголевского периода вообще отзывалась о прежних наших
писателях с гораздо большею умеренностью, нежели Полевой и Надеждин.
Очерки гоголевского периода русской литературы
53
не заслуживают того, чтобы вспоминать о них. Обратим внимание
только на законные, так сказать, причины, от которых происходило
ошибочное мнение, будто уничтожение прежних литературных
авторитетов было одним из существенных дел критики гоголевского
периода. «Отечественные записки» имели гораздо более обширный
круг читателей, нежели «Телескоп» или «Телеграф»; потому даже из
старых читателей многие, не знавшие прежних журналов, из
«Отечественных записок» в первый раз вычитали суждение о нашей старой
литературе, непохожие на безотчетные и нелепые похвалы, какие
долго повторялись в наших книжках, называвших себя историями
русской словесности, пиитиками и т. п. Сюда надобно причислить
и большую часть молодого поколения, не просматривавшего старых
журналов и видевшего, что из новых только «Отечественные
записки» говорят о Ломоносове и т. д. беспристрастно, между тем, как
все остальные нападают за то на этот журнал. Молодое поколение,
конечно, не ставило этого в вину «Отечественным запискам», —
напротив; зато иные сердечно негодовали на молодое поколение,
восхищающееся «Отечественными записками», и на «Отечественные
записки», поселяющие в молодых людях непочтительность к
Ломоносову и т. д. Эти добряки должны были помнить, что во время их
молодости «Телеграф» говорил о старой литературе без
подобострастия, которого они требовали, впрочем, сами не зная, чего
требуют; они должны были бы помнить, что уничтожение авторитетов,
существовавших до Пушкина, было делом «Телеграфа», а
существовавших при Пушкине — делом Надеждина. Что однажды исполнено,
того не было уже надобности, да и не могло быть охоты делать во
второй раз. Когда явились Гоголь, Лермонтов и писатели так
называемой натуральной школы, возвышать или унижать
предшествовавших писателей было уже поздно: надобно было толькопоказать ход
постепенного развития русской литературы, в существовании
которой до того времени сомневались, и определить отношения между
различными ее периодами — вот что, действительно, было делом
новым и необходимым. И оно было исполнено Белинским. До него
существовала критика, но истории литературы у нас еще не было.
Ему обязаны мы тем, что имеем о ней верные и точные понятия.
Но русская литература до Гоголя находилась еще в первых периодах
своего развития, из которых каждый предыдущий имеет значение
не столько по безусловному совершенству ознаменовавших его
явлений, сколько по тому, что служил приготовлением к следующему,
54
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
более высокому развитию*. Сущность понятий критики
гоголевского периода об истории русской литературы состояла в проведении
этого основного взгляда чрез все факты. Это послужило для людей,
не знавших резкого тона предыдущей критики, новою причиною
предполагать, будто бы критика гоголевского периода уничтожает
прежние авторитеты: она, видите ли, доказывала, что Державин
имеет огромное историческое значение, как представитель
екатерининского века в литературе и как один из предшественников и
учителей Пушкина, а не говорила — какое преступление! — что Державин
имеет более эстетических достоинств, нежели Пушкин.
Добрые люди, находившие такие слова дерзкими и
унижающими Державина, не догадывались, что этим суждением возвращалось
Державину право на славу, которую прежняя критика совершенно
отнимала у него, потому что, отрицая эстетические достоинства его
произведений, не замечала и исторической их цены. Эти добрые
люди не знали того, как судили о Державине писатели
пушкинского периода. Тогда без дальних рассуждений решали, что Державин
«кричал петухом», и потому его сочинения «должно сжечь». После
таких решений, критика, доказывавшая, что Державин имеет большое
историческое значение, уничтожала или восстановляла его славу?
Когда утверждали, что она стремилась уничтожить прежние
авторитеты, ей приписывали чужую заслугу, — заслугу, говорим мы, потому
что уничтожение слепого поклонения кумирам (кумирами называем
старые литературные авторитеты не мы: это опять выражение
Пушкина о Державине) всегда бывает великою заслугою для умственной
жизни общества. Но у критики гоголевского периода так много
своих собственных прав на высокое место в истории литературы, что
она не нуждается в присвоении чужих. Кроме беспамятности или не-
Чтобы не подать повода к недоразумению, будто мы без меры
превозносим новое насчет старого, скажем здесь, кстати, что и настоящий период
русской литературы, несмотря на все свои неотъемлемые достоинства, имеет
существенное значение более всего только потому, что служит
приготовлением к дальнейшему, будущему развитию нашей словесности. Мы настолько
верим в будущее лучшее, что даже о Гоголе не сомневаясь говорим: будут у
нас писатели, которые станут на столько же выше его, на сколько выше своих
предшественников стал он. Вопрос только в том, скоро ли придет это время.
Хорошо было бы, если б нашему поколению суждено было дождаться этого
лучшего будущего. Если мы будем говорить о школе Гоголя, то постараемся
объяснить причины такого мнения подробнее.
Очерки гоголевского периода русской литературы
55
знакомства с прежнею критикою, была, впрочем, еще причина
считать Белинского первым человеком, заговорившим у нас, что период
Пушкина бесконечно выше предшествовавшей нашей литературы: он
излагал свой взгляд на историю русской литературы ясно,
определенно и подкреплял его доказательствами, а романтическая критика ни
о чем не могла говорить без громких фраз и доказательств не
представляла, а вместо того скрашивала свои жестокие приговоры
рассуждениями о брильянтах и изумрудах, о потомках Багрима10 и ярких
искрах, вылетающих из могущественной груди русского волкана.
Есть также мнение, будто бы критика гоголевского периода
простерла свои отрицания до того, что подвергла сомнению
существование русской литературы до Гоголя. Это опять было вовсе не ее дело.
Известно, что романтические критики прямо утверждали, что
русская литература не существует. Это говорил, еще до появления
«Телеграфа», Марлинский. Позднее то же самое еще сильнее высказывал
Надеждин. Словом, это была общая тема всей нашей критики до
самого того времени, когда русская литература получила новое
направление, благодаря деятельности Гоголя. Белинский сначала разделял
это мнение, потому что в нем было, для тридцатых годов, очень
много справедливого. Но заслуга ли или преступление изобрести мысль:
«русская литература доселе не существует», нимало не принадлежит
это изобретение Белинскому. Напротив, ему принадлежит та заслуга,
что, когда через несколько лет положение русской литературы
изменилось, он первый понял важность этого изменения и сказал: до сих
пор надобно было сомневаться в существовании русской
литературы; теперь должно положительно сказать, что она существует. Ему,
а не кому-нибудь другому досталось на долю высказать это отрадное
убеждение потому, что ему, из наших замечательных критиков,
первому судьба назначила действовать в такое время, когда безусловное
отрицание всего в нашей литературе сделалось уже несправедливо.
Вместо обыкновенной фразы, что он был в нашей критике органом
отрицания, надобно сказать, напротив, что он первый, сообразно
изменившемуся положению нашей литературы, положил границы
отрицанию, которое у Надеждина не имело границ.
Когда литература наша в течение гоголевского периода начала
становиться тем, чем должна быть — выражением народного
самосознания, и, таким образом, достигла, хотя до некоторой степени, цели,
к которой стремилась, тогда и предыдущее развитие ее получило
56
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
смысл, которого нельзя было заметить в нем прежде; только тогда
можно было заметить, что одни явления сменялись в ней другими
не напрасно и не случайно, что она имеет свою историю. Критика
гоголевского периода заметила и высказала это. Она первая начала
утверждать, что наша литература постоянно развивалась, что ее
периоды имеют между собою связь, что Державин и Пушкин явились не
случайно, как то казалось прежде, и, как мы заметили, Белинский был
первым историком нашей литературы*. Недаром его первая
значительная статья, отрицая существование русской литературы, содер-
Интересно проследить, по статьям Белинского, как изменяющееся
положение нашей литературы постепенно приводило критику от надеждинского
отрицания, справедливого в свое время (1834), к убеждению, сделавшемуся
столь же справедливым через десять лет «есть у нас, наконец, нечто достойное
называться литературою; она получила, наконец, значение, какого не имела
прежде, и мы теперь можем видеть, к какому результату вели, какой смысл
имели те литературные явления, которые прежде казались бесплодными и
случайными». Вот некоторые выписки, приблизительно обозначающие эпохи
этого движения:
1834. (До Гоголя.) «У нас нет литературы». Литературные мечтания,
«Молва», 1834 г, №39, стр. 190.
1840. (Гоголь издал свои повести и «Ревизора», но еще не имеет
решительного влияния на литературу.) «У нас нет литературы в точном значении
этого слова, как выражения духа и жизни народной, но у нас есть уже начало
литературы». Русская литература в 1840 году, «Отечественные записки»,
1841 г., том XIV, Критика, стр. 33.
1843. (Изданы «Мертвые души»; школа Гоголя начинает занимать
видное место.) «Несмотря на бедность нашей литературы, в ней есть жизненное
движение и органическое развитие; следственно, у нее есть история. Мы
желаем хоть намекнуть на это развитие и проложить другим дорогу там, где
еще не протоптано и тропинки». Первая статья о Пушкине, «Отечественные
записки», 1843 г., том XXVIIÏ, стр. 24.
1847. (Влияние Гоголя решительно торжествует.) «Было время, когда
вопрос: есть ли у нас литература, не казался парадоксом и многими разрешен
был в отрицательном смысле... Один из величайших умственных успехов
нашего времени в том и состоит, что мы открыли, что у России была своя
история. То же и в отношении к истории русской литературы... Литература
наша дошла до такого положения, что успехи ее в будущем, ее движение
вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее
заведыванию, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания,
чем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодовитее будет
ее развитие. Как бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрелости,
то уже нашла, нащупала, так сказать, прямую дорогу к ней; а это великий
успех с ее стороны». Взгляд на русскую литературу, «Современник». 1847 г.,
№ 1, Критика, стр. 4.
Очерки гоголевского периода русской литературы
57
жанием своим имела подробный обзор ее фактов от Ломоносова до
Пушкина.
Но если мы говорим о том, что критика гоголевского периода
положила границы отрицанию и дала нам в первый раз историю
русской литературы, считавшейся до того времени не более, как
случайным, безжизненным и почти всегда — бессмысленным
отражением различных явлений иноземных литератур, то мы говорим это
о позднейшей поре развития критики гоголевского периода, когда
она достигла уже полной самостоятельности и когда положение
русской литературы существенно изменилось влиянием Гоголя,
деятельностью Лермонтова и многочисленных писателей нового
поколения, воспитанных отчасти Пушкиным и Лермонтовым, а более всего
творениями Гоголя и критикою Белинского. Но в 1834-1836 гг. это
будущее едва можно было неопределенным образом только
предвидеть, и почти все оставалось в настоящем неподвижно. Не было
еще достаточных причин существенным образом изменять мнений,
представителем которых был Надеждин, и автор статей о Пушкине
начал, как мы заметили, почти тем же самым, что говорил Надеждин.
Как то всегда бывает, если человек молодого поколения принимает
мысль, выраженную его учителем, он придал этой мысли еще больше
определительности, нежели она имела у самого Надеждина.
Однако, по исторической необходимости, это скоро должно было
измениться: новый период для русской литературы уже начинался.
Мы видели, как быстро и верно предугадывал ученик Надеждина,
по «Миргороду» и «Арабескам», какого писателя мы будем иметь в
Гоголе; скоро «Ревизор» должен был оправдать это предчувствие.
Кольцов уже явился, Лермонтов скоро должен был явиться. Мы видели,
какое существенное различие между учителем и учеником.высказалось
во взгляде на значение Гоголя и достоинства первых стихотворений
Кольцова: один еще не замечал фактов, на которых другой уже
основывал свои понятия о русской литературе.
Но коренное различие между понятиями ученика и учителя о
русской литературе заключалось тогда (1835-1836) не только в том, что
один замечал необыкновенную важность новых фактов, на которые
другой медлил обратить надлежащее внимание: и те коренные
воззрения, на основании которых произносится суждение о фактах,
были уже не одинаковы. Сотрудник «Телескопа» сделался
приверженцем Гегеля, между тем как издатель, не будучи враждебен этому ново-
58
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
му фазису развития немецкой науки, оставался, однако ж, в сущности,
учеником Шеллинга. Биографические монографии, необходимость
которых в настоящее время чувствуется живее, нежели когда-нибудь,
должны объяснить нам, когда и как начались тесные дружеские
отношения между Н. В. Станкевичем и Белинским11. Мы теперь можем
положительно сказать только, что они начались очень рано; что
первым распространителем энтузиазма к Гегелю между молодым
поколением в Москве был Станкевич; что он был другом Кольцова; что когда
Надеждин, в 1835 году, уехал за границу и заведывание «Телескопом»
поручил Белинскому, тотчас появились в этом журнале
стихотворения Кольцова, перед тем самым временем отысканного Станкевичем
в Воронеже, и чаще прежнего стали являться упоминания о Гегеле,
а скоро было напечатано и обширное изложение системы этого
мыслителя. Наконец, самое содержание статей, писанных в 1835-1836
годах молодым сотрудником Надеждина, обнаруживает, что он тогда
уже находился под сильным влиянием этой новой у нас философии.
Вообще, нельзя не видеть, что, в это время, если сохранялись еще
в образе воззрений Белинского многие черты непосредственного
родства с понятиями, собственно принадлежащими Надеждину, то
еще гораздо более находилось тождественного с теми идеями,
которые потом с такою пылкостью излагались людьми молодого
поколения в «Московском наблюдателе», и, во многих частностях продолжая
быть учеником Надеждина, его сотрудник совершенно принадлежал
всеми стремлениями своими новым идеям, тогда проникавшим в
молодое поколение.
Различие в характере книжек «Телескопа», изданных в отсутствие
Надеждина его сотрудником, от предыдущих номеров бросается в
глаза. Оно так резко, что если бы издатель был человек неподвижный
в умственной жизни, то, по возвращении, остался бы решительно
недоволен направлением, приданным его журналу. Но, сколько то
видно из фактов, представляемых самим журналом, этого не было.
Напротив, оправдывая перед публикою неисправность выхода журнала
в свое отсутствие непредвиденными обстоятельствами, Надеждин
указывал на достоинство содержания изданных без него номеров,
как на доказательство того, что перед отъездом им были приняты все
меры, чтобы читатели ничего не потеряли от его поездки за границу.
Сотрудник, издавший эти номера, сохранил свое положение в
журнале, даже приобрел на его направление более влияния, нежели имел
Очерки гоголевского периода русской литературы
59
до поездки Надеждина. Критика, относящаяся к произведениям
изящной словесности и литературным журналам, перешла
совершенно в руки Белинского и получила большее развитие. Себе Надеждин
оставил только критические разборы ученых сочинений. Все, что
начато было Белинским в отсутствие редактора, продолжалось и при
редакторе, до конца «Телескопа». Молодые сотрудники, введенные в
журнал Белинским, продолжали помещать свои статьи в нем и
увлекали журнал вперед; Надеждин отдался молодому поколению.
Разногласия от литературных причин не было и, сколько можно судить по
самому журналу, не предвиделось*.
«Что было бы, если бы не случилось того, что случилось?» Что
было бы, если бы «Телескоп» не прекратился? Вопросы подобного
рода не пользуются репутацией особенного глубокомыслия, и
ответы на них не принимаются в особенное уважение, хотя очень часто
такие вопросы сами собой навязываются воображению, и ответы
на них иногда очень легко подсказываются здравым смыслом.
Признаемся, нам хотелось бы, подобно Кифе Мокиевичу, «обратиться к
умозрительной стороне» и поразмыслить о «философическом», по
его выражению, вопросе, который нам представился. Но мы
вспомнили одно из основных положений гегелевой философии, к
которой приводит нас «Московский наблюдатель»: «все действительное
разумно и все разумное действительно», и заключили, что
продолжение существования «Телескопа» было бы неразумно. Потому,
оставляя умозрения, будем продолжать историю «разумной»
действительности, в «Московском наблюдателе» — редкий случай! — являвшей
на самом деле разумною.
В «Телескопе» молодое поколение пользовалось очень зна^
ным влиянием, получило, наконец, решительный перевес, w
Эти выводы основываются на материалах, представляем*
«Телескопа» и «Молвы». Мы очень хорошо понимаем, что оц' ш
недостаточен и должен быть дополнен воспоминаниями ,ОВ,
близкими к «Телескопу»; и мы были бы очень рады, если Зли_
ния явились в печати, хотя бы и обнаружилось ими, чт
чае ошиблись. Впрочем, каковы бы ни были отношек ^ ДУ'то
с его главным сотрудником и молодыми друзьям* N^.HO за-
сторона этих отношений, которая здесь исклю^ * ельной
влетворительною точностью характеризуется ^> ** /
журнале. И выводы, представленные выше, еды w V
изменены биографическими воспоминаниями. £
60
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
не было и не могло быть полным хозяином. По прекращении этого
журнала, оно несколько времени не имело органа в литературе, но в
1838 году получило в полное свое распоряжение «Московский
наблюдатель». Материальные средства этого журнала были в то время
совершенно истощены жалким трехлетним существованием. Молодое
поколение располагало богатым запасом энтузиазма и дарований, но
не капиталами; потому «Московский наблюдатель» скоро
прекратился. Но его кратковременная жизнь при второй редакции была
блистательна. Он был прекрасным выражением стремлений молодежи,
пылкой и благородной. Главными сотрудниками Белинского были
в этом журнале: г. К Аксаков, г. Боткин, г. Катков, Ключников, Красов
и г. Кудрявцев. Невозможно отказать в уважении и сочувствии кружку,
состоявшему из таких людей. А мы еще пропустили некоторые имена,
еще более выразительные*. Душою их круга был Станкевич. Заведы-
вание журналом принадлежало Белинскому. Все эти люди были тогда
еще юношами. Все были исполнены веры в свои благородные
стремления, надежд на близость прекрасного будущего. Мудрость устами
Гегеля, все разгадавшего, как им казалось, все примирившего Гегеля,
раскрыла перед ними тайны, дотоле непостижимые людям. Поэзией
упоены были их сердца; слава готовила им венцы за благую весть,
провозглашаемую от них людям, и, увлекаемые силою энтузиазма,
стремились они вперед:
Как смело, с бодрою охотой,
Мечты надеясь досягнуть,
Еще не связанный заботой,
Пускался юноша в свой путь!
Как он легко вперед стремился!
Что для счастливца тяжело?
Какой воздушный рой теснился
Вкруг светлого пути его!
Любовь с улыбкой благосклонной
И счастье с золотым венцом,
И слава с звездною короной
И в свете истина живом...**
Например, Кольцова.
«Идеалы» Шиллера, перевод К. Аксакова, «Московский наблюдатель»,
т. XVI, стр. 543.
Очерки гоголевского периода русской литературы
61
Могучая сила
В душе их кипит;
На бледных ланитах
Румянец горит;
Их очи, как звезды
По небу, блестят;
Их думы — как тучи;
Их речи горят.
И с неба, и с время
Покровы сняты...
Шумна их беседа
Разумно идет;
Роскошная младость
Здоровьем цветет...*
И кто хочет перенестись на несколько минут в их благородное
общество, пусть перечитает в «Рудине» рассказ Лежнева о временах
его молодости и удивительный эпилог повести г. Тургенева12.
СТАТЬЯ ШЕСТАЯ
«Московский наблюдатель» был передан в распоряжение друзей
Станкевича уже тогда, когда материальные средства к продолжению
издания были совершенно истощены и только бескорыстная энергия
новых сотрудников могла продлить еще на год существование
журнала, доведенного до гибели прежнего редакциею. Но этот последний,
слишком краткий, период жизни «Московского наблюдателя» был
таков, что никогда еще ничего подобного, за исключением разве
последних книжек «Телескопа», не бывало в русской журналистике. Даже
«Телеграф» в свое лучшее время не был так проникнут единством
задушевной мысли, не был одушевлен таким пламенным стремлением
служить истине и искусству; и если бывали у нас до того времени
альманахи и журналы, имевшие гораздо большее число сотрудников,
уже пользовавшихся громкою знаменитостью, как, например,
«Библиотека для чтения» в 1834, пушкинский «Современник» в 1836 году, то
никогда еще не соединялось в русском журнале столько истинно
замечательных дарований, столько истинного знания и неподдельной
Из стихотворения Кольцова в память Станкевича.
62
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
поэзии, как в «Московском наблюдателе» второй редакции (тома XVI,
XVII и XVIII прежней нумерации и тома I и II новой). В 1838-1839
годах новые сотрудники «Наблюдателя» были юношами, еще почти
совершенно безвестными; но почти все они сказались людьми
сильными и даровитыми, почти каждому из них суждено было составить
себе прочную, благородную, безукоризненную известность в нашей
литературе, а некоторым и приобрести блестящую славу; будущность
принадлежала им, как и теперь настоящее принадлежит им и тем
людям, которые впоследствии примкнули к ним.
«Московский наблюдатель»13 менее известен, нежели «Телеграф» и
«Телескоп»; потому не излишне будет, прежде, нежели говорить
подробно об его учено-критических воззрениях, сказать два-три слова
об общей физиономии последних томов журнала, изданных людьми
нового поколения, деятельность которых теперь занимает нас.
До того времени, когда решительное влияние Гоголя на молодые
таланты обратило большинство даровитых писателей к предпочтению
прозаической формы рассказа, стихотворения были блестящею
стороною нашей изящной литературы. «Московский наблюдатель» не имел
между своими сотрудниками Пушкина, как альманахи 1823-1833 годов
или первые годы «Библиотеки» и (пушкинского) «Современника»14. Но,
если взять поэтический отдел «Наблюдателя» весь вместе и сравнить
его с тем, что представляла наша поэзия в прежних столь знаменитых
ею альманахах и в самом пушкинском «Современнике» (не говоря уже
о «Библиотеке», далеко уступавшей в этом отношении
«Современнику», «Северным цветам» и проч.), то нельзя не признать, что по отделу
поэзии «Московский наблюдатель» был гораздо выше всех прежних
наших журналов и альманахов, где, кроме произведений Пушкина и
переводов Жуковского, только немногие стихотворения возвышаются
над уровнем бесцветной и пустой посредственности, между тем, как в
«Московском наблюдателе» мы почти не найдем стихотворений,
которых нельзя было бы с удовольствием прочитать и ныне, а напротив,
кроме дивных созданий Кольцова, многие другие пьесы остаются до
сих пор замечательны и прекрасны*.
Кроме стихотворений Кольцова, в «Московском наблюдателе»
помещались:
Переводы из Гете и Шиллера, г. К. С. Аксакова, которого надобно назвать
одним из лучших наших поэтов-переводчиков. Мнение, иногда высказываемое
ныне, будто стих этих переводов был тяжел, не совершенно основательно;
Очерки гоголевского периода русской литературы
63
Мало того, что из многочисленных стихотворений, помещенных
в «Московском наблюдателе» второй редакции, только разве
немногие могут быть названы слабыми — достоинство, которым не мог
похвалиться до того времени ни один из наших журналов, — есть в этой
массе пьес другое качество, еще более новое для того времени: пустых
стихотворений в ней не найдется решительно ни одного, каждая
лирическая пьеса действительно проникнута чувством и мыслью, так
что стихотворный отдел «Московского наблюдателя» не может быть
и сравниваем с тем, что встречаем в других тогдашних журналах.
Беллетристикою журналы не могли тогда похвалиться: хороших
повестей писалось очень мало, потому что всего три-четыре
человека умели тогда писать прозою так, что их произведения можно
теперь перечитывать без улыбки. Но и по отделу беллетристики
«Московский наблюдатель» был едва ли не выше всех остальных своих
нам кажется, напротив, что мало найдется таких прекрасных и поэтических
переводов, как, например, следующая пьеса из Гете («Московский наблюдатель»,
XVI, 92):
НА ОЗЕРЕ
Как освежается душа
И кровь течет быстрей!
О, как природа хороша!
Я на груди у ней!
Качает наш челнок волна,
В лад с нею весла бьют.
И горы в мшистых пеленах
Навстречу нам встают.
Что же, мой взор, опускаешься ты?
Вы ли опять, золотые мечты?
О, прочь, мечтанье, хоть сладко оно!
Здесь все так любовью и жизнью полно!
Светлою толпою
Звезды в волнах глядятся,
Туманы грядою
На дальних высях ложатся;
Ветер утра качает
Деревья над зеркалом вод;
Тихо отражает
Озеро спеющий плод.
Приводя это стихотворение, мы имеем целью не только представить
доказательство, что не напрасно причисляем переводы г. К. Аксакова
64
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
собратий, печатая повести Нестроева (г. Кудрявцева), за которыми
должно остаться одно из самых первых мест в истории
возникновения нашей изящной прозаической литературы. В настоящей статье
не место оценивать талант Нестроева: это мы надеемся сделать
впоследствии15; но в том нет сомнения, что повести его по своему
художественному достоинству должны были занять в истории русской
прозы почетное место. Нестроев — писатель с дарованием
самостоятельным и сильным, каких тогда было очень немного, или, лучше
сказать, почти вовсе не было, кроме таких колоссальных талантов, как
Пушкин, Гоголь и Лермонтов.
Таким образом, изящная словесность в «Московском
наблюдателе» замечательна по художественному достоинству; но еще гораздо
интереснее она в том отношении, что служит вообще верным и
полным отражением принципов, одушевлявших общество молодых
людей, которые собрались вокруг Станкевича. До того времени только
очень немногие из наших поэтов и новеллистов умели приводить
смысл своих произведений в гармонию с идеями, которые казались
им справедливы: обыкновенно повести или стихотворения имели
очень мало отношения с так называемым «миросозерцанием» автора,
если только автор имел какое-нибудь «миросозерцание». В пример,
укажем на повести Марлинского, в которых самый внимательный
розыск не откроет ни малейших следов принципов, которые, без
сомнения, были дороги их автору, как человеку16. Обыкновенно жизнь
и возбуждаемые ею убеждения были сами по себе, а поэзия сама по
себе: связь между писателем и человеком была очень слаба, и самые
живые люди, когда принимались за перо в качестве литераторов,
часто заботились только о теориях изящного, а вовсе не о смысле
своих произведений, не о том, чтобы «провести живую идею» в худо-
в «Московском наблюдателе» к произведениям, имеющим положительное
достоинство: для нас «На озере» послужит поэтическим выражением
самой характеристической особенности того миросозерцания, которое
господствовало в «Московском наблюдателе».
Переводы г. Каткова из Гейне и отрывки из его прекрасного перевода
«Ромео и Джульетта» Шекспира.
Стихотворения Ключникова и нескольких других более или менее
замечательных талантов. Стихотворения Красова, который был едва ли не
лучшим из наших второстепенных поэтов в эпоху деятельности Кольцова и
Лермонтова. Его пьесы давно надобно было бы собрать и издать: они очень
заслуживают того, и напрасно мы забываем об этом замечательном поэте.
Очерки гоголевского периода русской литературы
65
жественном создании (как любила выражаться критика гоголевского
периода). Этим недостатком — отсутствием связи между
жизненными убеждениями автора и его произведениями — страдала вся наша
литература до того времени, когда влияние Гоголя и Белинского
преобразовало ее. Литературный отдел «Московского наблюдателя»
является едва ли не первым зародышем постоянной гармонии убеждений
человека со смыслом его художественных произведений, — той
гармонии, которая ныне владычествует в нашей литературе и придает ей
силу и жизнь. Молодые поэты и беллетристы, участвовавшие в этом
журнале, писали именно о том, что их занимало, а не о каких-нибудь
сюжетах, навеянных другими поэтами, смысл которых оставался,
бывало, совершенно непонятен для подражателей, очень усердно
копировавших внешнюю сторону иностранных произведений: они
понимали то, что писали, — качество, которое очень редко
замечается у прежних наших литераторов. Из этого общего правила писать
произведения, или не имеющие живого смысла, или произведения,
смысл которых остается непостижимою тайною для самого автора,
исключений бывало очень мало, и «Московский наблюдатель» —
первый журнал, в котором мысль и поэзия гармонируют между собою, и
в литературном отделе которого постоянно отражаются
сознательные стремления. Это первый в ряду таких журналов, какие имеем мы
теперь, в которых поэзия, беллетристика и критика согласно идут к
одной цели, поддерживая друг друга. Глубокая потребность истины
и добра с одной стороны, с другой — свежая и здоровая готовность
любить все, что действительная жизнь представляет
удовлетворительного, — предпочтение действительной жизни отвлеченному
фантазированию с одной стороны, с другой — чрезвычайное
сочувствие тому, что в стремлениях фантазии является здоровым
отражением истинной потребности полного наслаждения действительною
жизнью, — эти основные черты критической мысли «Московского
наблюдателя» составляют существенный характер и литературного
отдела в этом журнале. Стремления, одушевляющие его поэзию и
беллетристику, видимо, проникнуты философскою мыслью, которая
владычествует над всем.
Действительно, философское миросозерцание нераздельно
владычествовало над умами в том дружеском кружке, органом которого
были последние тома «Московского наблюдателя». Эти люди
решительно жили только философиею, день и ночь толковали о ней, когда
66
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
сходились вместе, на все смотрели, все решали с философской точки
зрения. То была первая пора знакомства нашего с Гегелем, и
энтузиазм, возбужденный новыми для нас глубокими истинами, с
изумительною силою диалектики развитыми в системе этого мыслителя,
на некоторое время натурально должен был взять верх над всеми
остальными стремлениями людей молодого поколения, сознавших
на себе обязанность быть провозвестниками неведомой у нас
истины, все озаряющей, как им казалось в пылу первого увлечения, все
примиряющей, дающей человеку и невозмутимый внутренний мир,
и бодрую силу для внешней деятельности. Главное значение
«Московского наблюдателя» состоит в том, что он был органом гегелевой
философии.
Философские стремления теперь почти забыты нашею
литературою и критикою. Мы не хотим решать, насколько литература и
критика выиграли от этой забывчивости, — кажется, не выиграли
ровно ничего, потеряв очень много; но как бы ни решал кто вопрос о
значении философского миросозерцания для настоящего времени,
каждый согласится, что господство философии над всею
умственною нашею деятельностью в начале настоящего периода нашей
литературы есть замечательный исторический факт, заслуживающий
внимательного изучения. «Московский наблюдатель» представляет
первую эпоху этого владычества философии, когда непогрешимым
истолкователем ее представлялся Гегель, когда кавдое слово Гегеля
являлось несомненною истиною и каждое изречение великого
учителя принималось его новыми учениками в буквальном смысле,
когда не было еще ни заботы о поверке этих истин, ни предчувствия,
что Гегель был непоследователен, противоречил сам себе на каждом
шагу, что, принимая его принципы, последовательному мыслителю
надобно придти к выводам, совершенно различным от выставленных
им выводов. Позднее, когда это было замечено, фальшивые выводы
были отвергнуты лучшими из бывших последователей Гегеля у нас,
и немецкая философия явилась совершенно в другом свете. Но то
была уже другая эпоха — эпоха «Отечественных записок», и мы будем
говорить о ней в следующей статье, а теперь посмотрим, какою была
гегелева система, пламенным проповедником которой был
«Московский наблюдатель». Программою журнала была первая статья его —
предисловие к переводу «Гимназических речей Гегеля» («Московский
наблюдатель», XVI, стр. 5-20)17. Мы приводим в выноске существен-
Очерки гоголевского периода русской литературы
67
ные места из этого предисловия, присоединяя к ним объяснение
технических терминов гегелевского языка, которые могли бы
затруднить тех читателей, которые не привыкли к этой терминологии:
они, надеемся, увидят, что дело было очень просто и понятно и что
различные толки о мнимой темноте гегелевой философии — чистый
предрассудок: нужно только знать смысл нескольких технических
слов, и трансцендентальная философия становится для людей
нашего времени ясна и проста*.
Содержание гегелевой философии, в том виде, как изложена она
у самого Гегеля, и как до мельчайших подробностей принималась за
бесспорную истину друзьями Станкевича в 1838-1839 годах, кажется
* Ум — только одна из способностей человека; знание — только одно из
его стремлений; потому одно умствование об отвлеченных вопросах не
удовлетворяет человека: он хочет также любить и жить, не только знать, но и
наслаждаться, не только мыслить, но и действовать. Ныне это понятно
каждому — таков дух века, такова сила времени, все объясняющего. Но в XVII
веке наука была делом кабинетных тружеников, которые знали только книги,
думали только об ученых вопросах, чуждаясь жизни и не понимая
житейских дел. Когда жизнь, в XVIII веке, предъявила свои права с такою силою,
что пробудила даже немецких ученых, они увидели недостаточность прежней
философской методы, основывавшей все на умозаключениях, принимавшей
мерою всему отвлеченные понятия. Но не могли они одним шагом перейти из
пыльного кабинета на форум жизни; они были еще слишком далеки от мысли,
что все естественные способности и стремления человека должны
действовать, должны помогать друг другу в разрешении вопросов науки и жизни. Им
показалось, что довольно будет изменить методу умозаключений, оставляя
по-прежнему и сердце и тело человека без внимания. Они думали, что ум
не обнимал живую истину во всей ее полноте не потому, что одной головы,
без груди и рук, без сердца и осязания, недостаточно человеку; они вздумали
попробовать, не удастся ли голове обойтись без помощи остальных членов
живого организма, если только голова возьмется за дела, которые
принадлежат сердцу, желудку и рукам, — и голова, действительно, придумала
«спекулятивное мышление». Сущность этой попытки состояла в том, что ум старался,
отвергая отвлеченные понятия, мыслить по так называемым «конкретным»
понятиям, — например, думая о человеке, основывать свои заключения не на
прежней фразе: «человек есть существо, одаренное разумом», но на понятии о
действительном человеке, с руками и ногами, с сердцем и желудком. Это был
большой шаг вперед. Гегель является последним и важнейшим из мыслителей,
остановившихся на этом первом фазисе превращения кабинетного ученого
в живого человека. Конечно, система, основанная на этом способе замены
прежних отвлеченных понятий более живыми воззрениями, была гораздо
свежее и полнее прежних, совершенно отвлеченных систем, занимавшихся
не людьми, каковы люди в действительности, а призраками, которые созданы
прежнею методою мышления, отвергавшею в человеке всякие способности
68
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
совершенною противоположностью тому образу мыслей, который
с таким жаром и успехом излагался потом критикою гоголевского
периода в «Отечественных записках» (1840-1846) и нашем журнале
(1847-1848); оттого и статьи «Московского наблюдателя»,
написанные Белинским и его товарищами по убеждениям под
исключительным влиянием сочинений Гегеля, представляются, на первый взгляд,
совершенно противоречащими статьям, которые тот же самый
Белинский писал через несколько лет. Это разноречие зависит, как мы
сказали, от двойственности самой системы Гегеля, от разноречия между
и стремления, кроме ума, и из всех органов человеческого существа
признававшею достойным своего внимания только мозг. Потому
«трансцендентальное» или «спекулятивное» мышление (стремящееся основывать свои
умозаключения на понятии о действительных предметах) справедливо гордилось
тем, что оно гораздо живее прежней схоластической методы, и старинный
метод основывать все на отвлеченных понятиях был заклеймен прозванием
«призрачного мышления», принадлежащего «отвлеченному уму, или
рассудку» (Verstand). Все понятия и выводы, составленные на основании этого
«отвлеченного, призрачного мышления», были опозорены именем «призрачных
понятий», «призрачных выводов», и ученики Гегеля с презрением говорили о
всех тех философах, которые строили свои системы не на основании
«спекулятивного мышления»: эти люди, по мнению Гегеля и его последователей,
не заслуживают даже имени философов, а их системы — «призрачные
построения», в которых вместо живой истины даются «отвлеченные призраки».
Особенному негодованию подвергалась французская философия, которая,
совершив свое дело, перестала занимать сильные умы, стала занятием
фантазеров и болтунов и, действительно, жалким образом измельчала и опошлилась
при Наполеоне и во время Реставрации. Тогда во Франции, действительно,
каждый под философиею понимал всякий вздор, какой только приходил в
голову, и, по произволу перемешивая этот вздор с торопливо набранными
чужими мыслями, провозглашал себя гением и творцом новой философской
системы. Против этих-то фантазий, чуждых научного достоинства,
преимущественно и направлено предисловие к речам Гегеля, служащее программою
«Московскому наблюдателю». Вот существенные места из этой программы:
«Кто не воображает себя нынче философом, кто не говорит теперь с
утвердительностью о том, что такое истина и в чем заключается истина?
Всякий хочет иметь свою собственную, партикулярную систему; кто не думает
по-своему, по своему личному произволу, тот не имеет самостоятельного
духа, тот бесцветный человек; кто не выдумал своей собственной идейки,
тот не гений, в том нет глубокомыслия, а нынче, куда вы не обернетесь, везде
встречаете гениев. И что ж выдумали эти гении-самозванцы, какой плод их
глубокомысленных идеек и взглядов, что двинули они вперед, что сделали
они действительного?
«Шумим, братец, шумим», — отвечает за них Репетилов в комедии
Грибоедова. Да, шум, пустая болтовня — вот единственный результат
Очерки гоголевского периода русской литературы
69
ее принципами и ее выводами, духом и содержанием. Принципы
Гегеля были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны:
несмотря на всю колоссальность его гения, у великого мыслителя
достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но недостало
уже силы неуклонно держаться этих оснований и логически развить
из них все необходимые следствия. Он провидел истину, но только в
самых общих, отвлеченных, вовсе неопределительных очертаниях;
увидеть ее лицом к лицу досталось на долю только уже следующему
поколению. И не только выводов из своих принципов не мог он сде-
этой ужасной, бессмысленной анархии умов, которая составляет главную
болезнь нашего нового поколения, отвлеченного, призрачного, чуждого
всякой действительности; и весь этот шум, вся эта болтовня происходит
во имя философии. И мудрено ли, что умный, действительный русский
народ не позволяет ослеплять себя этим фейерверочным огнем слов
без содержания и мыслей без смысла? мудрено ли, что он не доверяет
философии, представленной ему с такой невыгодной, призрачной стороны?
До сих пор философия и отвлеченность, призрачность и отсутствие всякой
действительности были тождественны: кто занимается философиею, тот
необходимо простился с действительностью и бродит в этом болезненном
отчуждении от всякой естественной и духовной действительности, в каких-то
фантастических, произвольных, небывалых мирах, или вооружается против
действительного мира и мнит, что своими призрачными силами он может
разрушить его мощное существование, мнит, что в осуществлении конечных
(ограниченных, односторонних) положений (суждений) его конечного
(ограниченного, одностороннего, отвлеченного) рассудка и конечных целей его
конечного произвола заключается все благо человечества, и не знает, бедный,
что действительный мир выше его жалкой и бессильной индивидуальности
(личности)... Жизнь его есть ряд беспрестанных мучений, беспрестанных
разочарований, борьба без выхода и конца, — и это внутреннее распадение,
эта внутренняя разорванность есть необходимое следствие отвлеченности
и призрачности конечного рассудка, для которого нет ничего конкретного,
и который превращает всякую жизнь в смерть. И еще раз повторяю: общая
недоверчивость к философии весьма основательна, потому что то, что
нам выдавали до сих пор за философию, разрушает человека, вместо того,
чтобы оживлять его, вместо того, чтобы образовать из него полезного и
действительного члена общества.
Начало этого зла скрывается в реформации. Когда назначение папизма —
заменить недостаток внутреннего центра внешним центром — кончилось...
реформация потрясла его авторитет... пробужденный ум, освободившись от
пеленок авторитета, отделившись от действительного мира и погрузившись
в самого себя, захотел вывести все из самого себя, найти начало и основу
знания в самом себе... Но ум человеческий, только что пробудившийся от
долгого сна, не мог вдруг познать истину: действительный мир истины был
не по силам ему, он еще не дорос до него и должен был необходимо пройти
70
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
лать — самые принципы представлялись ему еще не во всей своей
ясности, были для него туманны. Следующее поколение мыслителей
сделало еще шаг вперед, и принципы, неопределенно, односторонне
и отвлеченно высказанные Гегелем, явились во всей своей полноте и
ясности; тогда колебаниям не осталось места, двойственность
исчезла, фальшивые выводы, внесенные в науку непоследовательностью
Гегеля в развитии основных положений, были отстранены, и
содержание приведено в гармонию с основными истинами. Таков был ход
дела в Германии, таков же был он и у нас. Развитие последовательных
чрез долгий путь испытаний, борьбы и страданий, прежде чем достиг своей
возмужалости; истина не дается даром: нет! она есть плод тяжких страданий,
долгого мучительного стремления... Результатом философии рассудка было
(в Германии, у Фихте) разрушение всякой объективности, всякой
действительности и погружение отвлеченного пустого Я в самолюбивое эгоистическое
самосозерцание, разрушение всякой любви, а, следовательно, и всякой жизни
и всякой возможности блаженства... Но германский народ слишком силен,
слишком действителен для того, чтобы сделаться жертвою призрака... Система
Гегеля венчала долгое стремление ума к действительности:
Что действительно, то разумно; и
Что разумно, то действительно, —
вот основа философии Гегеля.
Обратимся теперь к Франции и посмотрим, каким образом проявилось
в ней это разъединение Я с действительностью... Рассудок человека,
неспособный проникнуть в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул
все, что было ему недоступно; а ему недоступно все истинное и все
действительное. Вся жизнь Франции есть не что иное, как сознание своей
пустоты и мучительное стремление наполнить ее чем бы то ни было, и все
средства, употребляемые ею для наполнения себя, призрачны и бесплодны...
французы (когда принимаются философствовать) превращают всякую
истину в пустые, бессмысленные фразы, в произвольность и анархию
мышления и в стряпание новых идеек...
Эта болезнь распространилась, к несчастию, и у нас... Пустота нашего
воспитания есть главная причина призрачности нашего нового поколения.
Вместо того, чтобы разжигать в молодом человеке искру божию... вместо
того, чтобы образовать в нем глубокое эстетическое чувство, которое спасает
человека от всех грязных сторон жизни, — вместо всего этого его наполняют
пустыми, бессмысленными французскими фразами... Вместо того, чтобы
приучать молодой ум к действительному труду, вместо того, чтоб разжигать в
нем любовь к знанию... его приучают к пренебрежению трудом... Вот источник
нашей общей болезни, нашей призрачности! Разверните какое вам угодно
собрание русских стихотворений и посмотрите, что составляет пищу для
ежедневного вдохновения наших самозванцев-поэтов...
Очерки гоголевского периода русской литературы
71
воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения
намеков Гегеля совершилось у нас отчасти влиянием немецких
мыслителей, явившихся после Гегеля, отчасти — мы с гордостью можем
сказать это — собственными силами. Тут в первый раз русский ум
показал свою способность быть участником в развитии
общечеловеческой науки.
Пересмотрим же теперь те принципы гегелевой философии,
которые могуществом и истинностью своею увлекли людей
«Московского наблюдателя» до такой степени, что, в пылу энтузиазма,
возбужденного этими высокими стремлениями, были забыты на время
все остальные требования разума и жизни, было принято все
содержание системы, хвалившейся тем, что она основана на этих глубоких
истинах.
Мы столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или
Аристотеля. Гегель ныне уже принадлежит истории, настоящее время
имеет другую философию и хорошо видит недостатки гегелевой
системы; но должно согласиться, что принципы, выставленные Гегелем,
действительно, были очень близки к истине, и некоторые стороны
истины были выставлены на вид этим мыслителем с истинно
поразительною силою. Из этих истин, открытие иных составляет
личную заслугу Гегеля; другие, хотя и принадлежат не исключительно его
системе, а всей немецкой философии со времен Канта и Фихте, но
никем до Гегеля не были формулированы так ясно и высказываемы
так сильно, как в его системе. Прежде всего, укажем на
плодотворнейшее начало всякого прогресса, которым столь резко и блистательно
Один объявляет, что он не верит в жизнь, что он разочарован-, другой, что
он не верит дружбе; третий, что он не верит любви...
Счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности;
восставать против действительности и убивать в себе всякий источник жизни
одно и то же; примирение с действительностью во всех отношениях и во всех
сферах жизни есть главная задача нашего времени, и Гегель и Гете — главы
этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. Будем надеяться,
что наше новое поколение также выйдет из призрачности, что оно оставит
пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознает, что истинное знание
и анархия умов и произвольность в мнениях совершенно противоположны;
что в знании царствует строгая дисциплина, и что без этой дисциплины нет
знания. Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашею
прекрасною русскою действительностью, и что, оставив все пустые претензии
на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть
действительными русскими людьми.
72
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
отличается немецкая философия вообще, и в особенности гегелева
система, от тех лицемерных и трусливых воззрений, какие
господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан:
«истина — верховная цель мышления; ищите истины, потому что в
истине благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что не истинно;
первый долг мыслителя: не отступать ни перед какими результатами;
он должен быть готов жертвовать истине самыми любимыми своими
мнениями. Заблуждение — источник всякой пагубы; истина —
верховное благо и источник всех других благ». Чтобы оценить
чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой
философии со времени Канта, но особенно энергически высказанного
Гегелем, надобно вспомнить, какими странными и узкими условиями
ограничивали истину мыслители других тогдашних школ: они
принимались философствовать не иначе, как затем, чтобы «оправдать
дорогие для них убеждения», т. е. искали не истины, а поддержки
своим предубеждениям; каждый брал из истины только то, что ему
нравилось, а всякую неприятную для него истину отвергал, без
церемонии признаваясь, что приятное заблуждение кажется ему гораздо
лучше беспристрастной правды. Эту манеру заботиться не об истине,
а о подтверждении приятных предубеждений немецкие философы
(особенно Гегель) прозвали «субъективным мышлением»,
философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности
истины. Гегель жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву Как
необходимое предохранительное средство против поползновений
уклониться от истины в угождение личным желаниям и
предрассудкам, был выставлен Гегелем знаменитый «диалектический метод
мышления». Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен
успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать,
нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил,
противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд:
таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет со
всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы
всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо
прежних односторонних понятий о предмете, мало-помалу являлось
полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие
о всех действительных качествах предмета. Объяснить
действительность стало существенною обязанностью философского мышления.
Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над
Очерки гоголевского периода русской литературы
73
которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее
в угодность собственным односторонним предубеждениям. Таким
образом, добросовестное, неутомимое изыскание истины стало на
месте прежних произвольных толкований. Но в действительности
все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, — и
потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили
о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым
возникало данное явление, — что эти общие, отвлеченные изречения
не удовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое
собственное значение, и судить о нем должно по соображению той
обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось
формулою: «отвлеченной истины нет; истина конкретна», т. е.
определительное суждение можно произносить только об определенном
факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит*. Само
собою разумеется, что это беглое исчисление некоторых
принципов гегелевой философии не может дать понятия о поразительном
впечатлении, которое производят творения великого философа,
который в свое время увлекал самых недоверчивых учеников
необыкновенною силою и возвышенностью мысли, покоряющей своему
владычеству все области бытия, открывающей в каждой сфере жизни
Например: «благо или зло дождь?» — это вопрос отвлеченный;
определенно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя
реже, приносит вред; надобно спрашивать определенно: «после того как посев
хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли
был он для хлеба?» — только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был
очень полезен». — «Но в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую
неделю шел проливной дождь, — хорошо ли было это для хлеба?» Ответ так же
ясен и так же справедлив: «нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются
в гегелевой философии все вопросы. «Пагубна или благотворна война?»
Вообще, нельзя отвечать на это решительным образом; надобно знать, о какой
войне идет дело, все зависит от обстоятельств, времени и места. Для диких
народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для
образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда.
Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа;
марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества.
Таков смысл аксиомы: «отвлеченной истины нет; истина конкретна» —
конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми
качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в
отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей (как представляет
его отвлеченное мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для
действительной жизни).
74
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
тождество законов природы и истории с своим собственным
законом диалектического развития, обнимающей все факты религии,
искусства, точных наук, государственного и частного права, истории и
психологии сетью систематического единства, так что все является
объясненным и примиренным. Время той философии, последним
и величайшим представителем которой был Гегель, прошло для
Германии. При помощи результатов, выработанных ею, наука сделала,
как мы сказали, шаг вперед; но новая наука эта явилась только как
дальнейшее развитие гегелевои системы, которая навсегда сохранит
историческое значение, как переход от отвлеченной науки к науке
жизни. Таково было значение гегелевои философии у нас: она
послужила переходом от бесплодных схоластических умствований,
граничивших с апатией и невежеством, к простому и светлому взгляду на
литературу и жизнь, потому что в ее принципах заключались, как мы
старались показать, зародыши этого взгляда. Пылкие и решительные
умы, как Белинский и некоторые другие, не могли долго
удовлетворяться теми узкими выводами, которыми ограничивалось
приложение этих принципов в системе самого Гегеля; скоро заметили они
недостаточность и самых принципов этого мыслителя. Тогда,
отказавшись от прежней безусловной веры в его систему, они пошли вперед,
не останавливаясь, как остановился Гегель, на половине дороги. Но
навсегда сохранили они уважение к его философии, которой в самом
деле были обязаны очень многим.
Но мы уже говорили, что содержание системы Гегеля совершенно
не соответствует тем принципам, которые провозглашались ею, и
которые мы указали. В пылу первого увлечения Белинский и его друзья
не заметили этого внутреннего противоречия, и не натурально было
бы, если б оно было замечено ими с первого же раза: оно
чрезвычайно хорошо прикрыто необычайною силой гегелевои диалектики, так
что в самой Германии только самые зрелые и сильные умы и только
после долгого изучения заметили это внутреннее несогласие
основных идей Гегеля с его выводами. Величайшие из современных
немецких мыслителей, не уступающие самому Гегелю гениальностью, долго
были безусловными приверженцами всех его мнений, и много
времени прошло, пока они успели возвратить себе самостоятельность
и, открыв ошибки Гегеля, положить основание новому направлению
в науке. Так всегда бывает: сам Гегель долго был безусловным
поклонником Шеллинга, Шеллинг — поклонником Фихте, Фихте — Канта;
Очерки гоголевского периода русской литературы
75
Спиноза, далеко превосходивший гениальностью Декарта, очень
долго считал себя его вернейшим учеником.
Мы все это говорим к тому, чтобы показать естественность и
необходимость безусловной приверженности к Гегелю, на некоторое
время овладевшей Белинским и его друзьями. Они в этом случае
разделяли общую участь величайших мыслителей нашего времени.
И если потом Белинский негодовал на себя за прежнее безусловное
увлечение Гегелем, то и в этом случае имеет он товарищей, не
уступающих силою ума ни ему, ни Гегелю*. Все немецкие философы,
от Канта до Гегеля, страдают тем ж самым недостатком, какой мы
указали в системе Гегеля: выводы, делаемые ими из полагаемых ими
принципов, совершенно не соответствуют принципам. Общие идеи
у них глубоки, плодотворны, величественны, выводы мелки и
отчасти даже пошловаты. Но ни у кого из них эта противоположность
не доходит до такого колоссального противоречия, как у Гегеля,
который, превосходя всех своих предшественников возвышенностью
начал, оказывается, едва ли не слабее всех в своих выводах. И в
Германии, и у нас люди ограниченные и апатичные успокоились на
выводах, забывая о принципах; но и у нас, как в Германии, эти
ученики, слишком верные букве и потому неверные духу, нашлись только
* Один из современных мыслителей говорит о своих прежних
сочинениях, написанных в духе Гегеля: «этой путаницы теперь не могу я никак
распутать; остается одно: или совершенно зачеркнуть ее, или оставить в прежнем
виде — предпочитаю последнее: многие до сих пор еще считают мудростью
то, что и мне казалось мудростью, когда я писал эти сочинения, — пусть же
они, перечитывая их, видят путь, которым я дошел до своих настоящих
убеждений — по моим следам этим людям легче будет дойти до истины». Точно так
же и мы должны думать о статьях, писанных Белинским в 1838—1839 годах:
кто не в состоянии разделять зрелых и самостоятельных убеждений
Белинского, какие выражал он в последнее время, тому принесет пользу чтение его
статей в хронологическом порядке, начиная с тех, которыми сам Белинский
впоследствии был недоволен: кто стоит еще слишком низко, тому необходимы
лестницы, чтобы стать в уровень с своим веком.
Кстати заметим, что в настоящей статье мы пользовались воспоминаниями,
которые сообщил нам один из ближайших друзей Белинского, г. А., и потому
ручаемся засовершеннуюточностьфактов,окоторыхупоминаем. Мы надеемся,
что интересные воспоминания г. А-г со временем сделаются известны нашей
публике, и спешим предупредить читателей, что тогда наши слова окажутся
не более, как развитием его мыслей. За ту помощь, какую оказали нам его
воспоминания при составлении настоящей статьи, мы обязаны принести
здесь искреннейшую благодарность глубокоуважаемому нами г. А-у.
76
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
между людьми второстепенными, лишенными сил на историческую
деятельность и не могшими иметь никакого влияния. Напротив, и у
нас, как в Германии, все истинно даровитые и сильные люди, когда
прошло первое увлечение, отбросили фальшивые выводы,
радостно жертвуя ошибками учителя требованиям науки, и бодро пошли
вперед. Потому ошибки Гегеля, подобно ошибкам Канта, не имели
важных последствий, между тем, как здоровая часть его учения
действовала очень плодотворно.
Мы нарушили бы закон исторической перспективы, если бы
стали говорить о предмете, не имевшем исторической важности, каковы
ошибки Гегеля, с такою же подробностью, как о тех его идеях,
которые оказали сильное влияние на ход умственного развития. Но так
как эти ошибки все-таки исторический факт, хотя и маловажный, то
мы не можем совершенно умолчать о них. Ниже читатели увидят в
одной из приводимых нами выписок, в чем состояла сущность этих
ошибок. Здесь мы должны только повторить, что друзья
Станкевича разделяли заблуждение со всеми замечательнейшими немецкими
мыслителями современного им поколения: на некоторое время
гениальная диалектика Гегеля ослепила всех, так что выводы,
противоречившие принципам, всеми принимались ради этих принципов, будто
необходимое их следствие.
Нельзя не признаться, что и в Германии и у нас люди,
принимавшие все содержание гегелевой системы за чистую истину, вовлекались
этим авторитетом во многие и очень важные заблуждения. Нимало
не защищая того, что действительно было дурного в этих ошибках,
надобно, однако ж, заметить, что двадцать лет назад не все то было
действительно вредным заблуждением, что ныне было бы
непростительным ослеплением: для многих мнений, которые в наше время
были бы решительно несправедливыми предубеждениями, тогда еще
существовали дельные основания,— быть может, односторонние,
быть может, несколько устаревшие, но все-таки заключавшие в себе
много справедливого. Укажем один пример. Строгие приверженцы
немецкой философии со времен Канта, особенно строгие
гегельянцы, презирали и отчасти даже ненавидели все французское. Друзья
Станкевича разделяли это отвращение, и «Московский наблюдатель»
весь проникнут «французоедством» (Franzosenfresserei), как
выражались немцы. Французоедству посвящены многие страницы
предисловия к гегелевским речам, служащего, как мы видели, программою
Очерки гоголевского периода русской литературы
11
журнала. В примечании мы приводим одну из таких страниц*. И
нельзя не сказать, что «Московский наблюдатель», ревностно выполняя
все другие пункты своей программы, не менее ревностно выполнял
и этот пункт. Он пользовался каждым случаем, каждым предлогом,
чтобы произнести грозную филиппику или вставить
презрительную выходку против французов. Говорит ли он, например, в разборе
«Современника» о статье Пушкина «Мильтон», — главное внимание
он обращает на те эпизоды, в которых Пушкин подсмеивается над
французами — тотчас же выписываются насмешки над Альфредом
«Французы никогда не выходили из области произвольных
рассуждений, и все святое, великое и благородное в жизни упало под ударами слепого
мертвого рассудка. Результатом французского философизма был
материализм, торжество неодухотворенной плоти. Во французском народе исчезла
последняя искра откровения. Христианство, это вечное и непреходящее
доказательство любви творца к творению, сделалось предметом общих насмешек,
общего презрения, и бедный рассудок человека, неспособный проникнуть
в глубокое и святое таинство жизни, отвергнул все, что только было ему
недоступно, а ему недоступно все истинное и все действительное. Он требовал
ясности, — но какой ясности! — не той, которая лежит в глубине предмета:
нет, — а на поверхности его; он вздумал объяснить религию — и религия,
недоступная для конечных усилий его, исчезла и унесла с собою счастье и
спокойствие Франции; он вздумал превратить святилище науки в общенародное
знание - и таинственный смысл истинного знания скрылся, и остались одни
пошлые, бесплодные, призрачные рассуждения, — так Жак Руссо объявил, что
просвещенный человек есть развращенное животное, и революция была
необходимым последствием этого духовного развращения. Где нет религии, там
не может быть государства, и революция была отрицанием всякого
государства, всякого законного порядка, и гильотина провела кровавый уровень свой
и казнила все, что только хоть несколько возвышалось над бессмысленною
толпою».
В «Последнем новоселье» Лермонтов буквально переложил эти слова в
СТИХИ:
Негодованию и чувству дав свободу
Мне хочется сказать великому народу:
«Ты жалкий и пустой народ! Ты жалок потому,
что вера, слава, гений,
Все, все великое, священное земли,
С насмешкой глупою ребяческих сомнений
Тобой растоптано в пыли.
Из славы сделал ты игрушку лицемерья,
Из вольности — орудье палача,
И все заветные отцовские поверья
Ты им рубил, рубил с плеча...».
78
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
де-Виньи и Виктором Пого, замечания о недостатках мольеровых
комедий, и т. д., — за то и прибавляет «Московский наблюдатель», что у
Пушкина «был верный взгляд на искусство и бесконечное
эстетическое чувство». Разбирается ли другой том «Современника», в котором
есть отрывок из «Хроники русского в Париже»18, — почти вся
рецензия состоит из выписок тех страниц «Хроники», которые особенно
неблагоприятны для французов. Разбирается ли роман г. Вельтмана
«Виргиния» — оказывается, что этот роман можно похвалить только
за одно: «многие черты французского верхоглядства схвачены в нем
преверно»; говорится ли о «Сборнике на 1838 год» — в этом сборнике
очень много стихов, и отчасти даже хороших стихов, но интереснее
всего в нем перевод эпиграммы Шиллера, в которой французы
называются вандалами. Выписав это стихотворение и похвалив за него
Шиллера, критик торжественно восклицает, обращаясь к читателям:
Французы вандалы!!! — слышите ли?
Для большей знаменательности это восклицание напечатано даже
отдельною строкою, что и соблюли мы. Говорится ли о возвращении
молодых профессоров наших из-за границы — приятнее всего
«Московскому наблюдателю» то, что они слушали лекции в Берлине, а не
в Париже. Нечего и говорить, пользуется ли «Московский
наблюдатель» случаем изобличить французское фразерство и легкомыслие,
когда является перевод «Истории Франции» Мишле... тут филиппика
достигает страшной беспощадности: едва некоторые специальные
ученые получают за свои специальные труды прощение в том, что
они французы, — но французские литераторы, поэты, мыслители,
все казнятся без всякой милости, от девицы Скюдери до Мишле,
от Ронсара до Лерминье. Общего приговора избегает только
Беранже, «гуляка праздный»: праздная гульба — французское дело, об этом
они умеют складывать веселенькие песенки, — лучшего у них не
нужно и искать. Одним словом, о чем бы речь ни шла, «Московский
наблюдатель» таки найдет предлог поразить или кольнуть французов,
и общим выводом из всей этой неутомимой полемики выставляется
заключение, что, между тем как «влияние немцев «на нас
благодетельно во многих отношениях, — и со стороны науки, и со стороны
искусства, и со стороны духовно-нравственной, с французами мы
находимся в обратном отношении: мы враждебно-противоположны
Очерки гоголевского периода русской литературы
79
с ними по сущности нашего национального духа» («Московский
наблюдатель», том XVIII, стр. 200).
Ныне, когда лучшие из французов отказываются от заносчивых
претензий, от презрения к другим народам, когда вся нация
оставляет свое прежнее легкомыслие, оставляет даже фразерство, которым
так долго жила, когда национальная жизнь обратилась к
разрешению истинно-глубоких вопросов, подобная вражда против
французов была бы совершенно неосновательна. Но тогда настроение умов
во Франции было совершенно не таково. Те направления мысли,
которые ныне приобретают Франции сочувствие серьезных людей,
едва только начинали еще обнаруживаться, и притом в странных,
еще не определившихся фантастических формах, не оказывали еще
никакого влияния на жизнь нации, напротив, были осмеиваемы
литературою, презираемы государственною жизнью. Все, чем блистала
Франция времен первой Империи и Реставрации, было фальшиво
и поверхностно или противоречило истинным потребностям
нравственной и общественной жизни; все основывалось на
недоразумении с одной стороны, на обмане или насилии — с другой. В
литературе, например, господствовали две школы, равно фальшивые: одна, —
в духе Шатобриана и Ламартина, накидывала на себя маску
искусственных восторгов учениями, которых не понимала и о которых,
в сущности, очень мало заботилась; другая накидывала на себя маску
утонченной развращенности и мелкого сатанинства (école satanique).
Те, которые не были лицемерами идеализма или цинизма, болтали
о пустяках. Только Беранже составлял исключение, но Беранже не
понимали, считая его не более, как певцом гризеток. В науке понятия
страшно измельчали, — ученые знаменитости тогдашнего времени
были шарлатаны и фразеры, хлопотавшие о примирении
непримиримого, об оправдании наукою предрассудков, о сочетании научной
истины с произвольными фантазиями19. Время теперь обнаружило,
что за люди были и чего хотели Кузен, Шзо, Тьер; а они были еще
самыми лучшими из тогдашних знаменитостей.
Кстати, припомним, что такое был знаменитый тогда
«либерализм», за который особенно прославлялись эти знаменитости,
события обнаружили пустоту и решительную бесполезность этого
либерализма, хлопотавшего только об отвлеченных правах, а не благе
народа, самое понятие о котором оставалось ему чуждо. У лучших
проповедников его это было легкомысленное заблуждение относи-
80
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
тельно истинных потребностей нации; другие пользовались этим так
называемым либерализмом, как приманкою для привлечения нации
на свою удочку, — а для чего нужно было им привлечь нацию,
оказалось потом, когда они успели захватить власть: они искали власти для
того, чтобы набить себе карманы. Таково было положение Франции и
во время Реставрации и в первые годы орлеанской династии.
Повсюду гремели фразы, лишенные смысла, во всем владычествовали
легкомыслие и обман. Но более всего должны были возмущаться люди
с горячими убеждениями и высокими принципами тем, что у
тогдашних французских знаменитостей не было ни решительных
принципов, ни строгой последовательности в образе мыслей: всему, чему
они верили, верили они только наполовину, робко и церемонно, все,
что отрицали, отрицали также только наполовину, все это были люди
вроде тех, которых изображал у нас Пушкин в своих героях, вроде
тех, которых Лермонтов заставляет говорить:
Богаты мы, едва из колыбели
Ошибками отцов и поздним их умом...
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы...
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли...
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем ни жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный...20
От этих бессильных в своем узком и пресыщенном эгоизме
людей, конечно, нельзя было надеяться ничего хорошего; от этих
выродков, оставшихся после великой внутренней борьбы, которая
поглотила все благороднейшие силы французского народа21, конечно,
нельзя было ожидать, чтоб они влили новую жизнь в свой народ; они
не должны были служить идеалами для нас, чувствовавших в себе из-
Очерки гоголевского периода русской литературы
81
быток свежих, еще нетронутых сил. К таким людям, конечно, не
могло лежать сердце пламенных юношей, готовых любить до
самоотвержения и ненавидеть смертельно, жаждавших деятельности и блага.
Вражда усиливалась особенно тем, что эти разочарованные, блазиро-
ванные, проеденные эгоизмом люди считались у нас оракулами: все
у нас кричали о французах, все восхищались французами, — а ни для
себя, ни тем более для нас французы такого разбора не были ровно
ни на что годны.
Нам нужен был энтузиазм, перед нами было широкое поле
деятельности: как же не возненавидеть было этих людей, которые могли
передать нам только свое бессилие, разочарование и бездействие?
Нелюбовь, заслуженная французами времен первой Империи
и Реставрации, незаслуженным образом распространялась и на их
предков, и столь же незаслуженным образом подвергались общему
осуждению свежие направления мысли, возникавшие в молодом
поколении мыслителей, не имевших ничего общего с прежними
знаменитостями, людей с твердыми и возвышенными убеждениями, со
свежими силами. Виною этой несправедливости был отчасти
недостаток знакомства с возникавшими во французской литературе новыми
стремлениями, отчасти также и предубеждение, составившееся
против всех вообще французов, — а более всего — безусловное
поклонение гегелевой системе, как верховной и единственной истине, вне
которой ничто не заслуживает внимания.
Поклонение Гегелю в кругу друзей Станкевича доходило, как мы
сказали, до крайности, в которой люди талантливые, одаренные
самостоятельным умом и стремившиеся вперед не могли долго
оставаться. Признаки бессознательного недовольства системою, которою
продолжали восхищаться, обнаружились в даровитейших членах
дружеского круга тем, что они говорили в гегелевском смысле
решительнее и беспощаднее, нежели сам Гегель, сделались, как говорится,
ревностнейшими гегельянцами, нежели сам Гегель. Особенно
отличался этим Белинский, который вообще был не таков, чтобы
отказываться от логических выводов из боязни уклониться от точных слов
какого бы то ни было авторитета. Это свидетельство людей, знавших
его лично, подтверждается многими его страницами, написанными
совершенно в духе Гегеля, но с такою решительностью, которой не
одобрил бы сам Гегель22. Да и вообще Гегель, говорящий обо всем
с беспристрастием поседевшего мудреца, смотрящий на все исклю-
82
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
чительно глазами кабинетного ученого, чуждого волнениям жизни,
не мог долго удержать в безусловной покорности такого пламенного,
проникнутого жизненными стремлениями двадцатипятилетнего
человека, как Белинский. Натуры учителя и ученика, потребности двух
различных обществ, среди которых они действовали, были слишком
не согласны. Белинский скоро отбросил все, что в учении Гегеля
могло стеснять его мысль, и вскоре после переезда в Петербург является
уже действователем совершенно самостоятельным.
Два обстоятельства помогли этому переходу, необходимому
по натуре самого Белинского, совершиться быстрее, нежели
совершился бы он без этих обстоятельств: сближение друзей Станкевича
с г. Огаревым и его друзьями23 и переезд Белинского из Москвы в
Петербург. Первоначальные влияния, под которыми совершалось
развитие г. Огарева и его друзей, были совершенно различны от
влияний, которым подчинялся кружок Станкевича. Немецкая философия
мало их занимала, как предмет слишком отвлеченный. Их внимание
было устремлено на те науки, которые имеют непосредственное
отношение к жизни наций. В то время во Франции возникали, как
противоречие бездушному и убийственному учению экономистов,
новые теории национального благосостояния. Идеи, одушевлявшие
новую науку, высказывались еще в фантастических формах, и
предубежденным или руководившимся своекорыстными побуждениями
противникам легко было, оставляя без внимания здравые и
высокие основные идеи новых теоретиков и выставляя в утрированном
виде мечтательные увлечения, которых вначале не избегает ни одна
новая наука, осмеивать системы, им ненавистные24. Но под
видимыми странностями и под фантастическими увлечениями скрывались
в этих системах истины и глубокие и благодетельные. Огромное
большинство и ученых людей и европейской публики, поверив
пристрастным и поверхностным отзывам экономистов, не хотели
понять смысла новой науки, все смеялись над несбыточными утопиями
и почти никто не считал нужным основательно и беспристрастно
изучать их. Г. Огарев и его друзья занялись этими вопросами,
понимая чрезвычайную их важность для жизни. С тем вместе, внимание
г. Огарева и его друзей было занято историею, особенно новейшею,
то есть именно важнейшею для жизни частью ее; и так как в
последнее время главным театром исторического развития была Франция,
то они интересовались преимущественно ее историею. В литературе
Очерки гоголевского периода русской литературы
83
они также не отдавали безусловного предпочтения немцам, зная и
ценя французских новых писателей, которые тогда еще не
господствовали в литературе, но уже доказали, что будут господствовать над
нею. Под влиянием этих занятий составились у них твердые и
последовательные учено-литературные убеждения.
Таким образом, деятели молодого поколения в Москве были
разделены на два кружка, с двумя различными направлениями: в одном
господствовала гегелева философия, в другом — занятия
современными вопросами исторической жизни. Много было пунктов, в
которых два эти направления могли сталкиваться враждебно; но под
видимою противоположностью таилось существенное тождество
стремлений, несогласных между собою только в том, что было у
каждого из них односторонностью, недостатком, но одинаково
ставивших себе целью деятельность, плодотворную для развития русского
общества, одинаково считавших единственным средством для
достижения этой цели оживление нашей литературы и возбуждение
нашей мыслительной деятельности, одинаково имевших свой идеал
в будущем, а не в прошедшем, относившихся между собою, как
теория и практика, которые должны служить взаимным дополнением.
Важный вопрос: победит ли чувство существенного единства или
противоречие во второстепенных, но, однако ж, очень важных
вопросах, должен был разрешиться так или иначе, смотря по тому,
действительно ли люди, служившие представителями этих различных
направлений, достойны были сделаться замечательными деятелями
в истории развития русского общества, и действительно ли
принципы, их воодушевлявшие, были плодотворны. История говорит нам,
что обыкновенное явление при падении принципа — непримиримая
вражда между его приверженцами из-за второстепенных вопросов,
а при развитии принципа — дружное действование людей,
согласных в главном, как бы ни были важны второстепенные вопросы, их
разделяющие. Отвержение узкого самолюбия, готовность признать
правду, которой не замечал прежде, и сделать эту указанную другим
правду своим задушевным делом — таково существенное качество
истинно замечательных исторических деятелей.
Люди, о которых мы говорили, были призваны играть
действительно важную роль в развитии нашего общества; принципы, их
одушевлявшие, действительно были живы и плодотворны, — потому эти
принципы необходимо должны были слиться, эти люди соединиться.
84
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
И действительно, люди соединились с такою благородною
искренностью и самоотречением от своих односторонностей, принципы
слились в одно общее направление с такою совершенною гармониею,
что факт этот принадлежит к числу самых редких и возвышающих
душу примеров совершенного торжества общей правды над
частными недоразумениями, общего стремления служить истине над
личными столкновениями.
Первые чувства были, натурально, недружелюбны: обоюдная
исключительность мнений возбуждала взаимную неприязнь. Те и другие
были недовольны друг другом и долго удерживались от сношений
между собою. Друзья Станкевича осуждали г. Огарева и его друзей
за то, что они не предаются изучению немецкой философии и не
признают, что вся истина заключена в системе Гегеля. Друзья г.
Огарева осуждали круг Станкевича за то, что в нем все мысли направлены
исключительно к слишком отвлеченным вопросам, и вопросы жизни
или оставляются без всякого внимания, или решаются в том
апатическом смысле, как велит решать их Гегель. Одни говорили про
других: «они пренебрегают истинными принципами»; эти говорили про
первых: «они проповедуют апатию в жизни и примиряются со
всеми недостатками действительности, восхищаясь тем, что их система
оправдывает все на свете». Различные внешние обстоятельства
содействовали тому, что личных сношений — которых не желала сначала
ни та, ни другая партия — очень долго не существовало между
людьми того и другого направления25.
Станкевича уже не было в Москве, когда г. Огарев вошел в круг,
душою которого прежде был Станкевич, и ввел за собою своих друзей.
Если бы Станкевич, кроткий и любящий, был еще между своих
друзей, вероятно, сближение произошло бы тогда же. Теперь
посредником и примирителем был только г. Огарев. Он один, не имея ни в ком
помощников, не успел пересилить противников, каждое свидание
которых было жарким спором. Вследствие одного из таких споров,
когда Белинский на все вопросы, имевшие целью вынудить у него
признание, что не все в действительности может быть оправдано
разумом, отвечал, с обычной своей неумолимой
последовательностью, признанием разумности всех тех явлений, на которые ему было
указано, — вследствие этого спора, доказавшего невозможность
поколебать его убеждения, попытки примирения кончились — на
время, как увидим, и на очень короткое время26.
Очерки гоголевского периода русской литературы
85
Между тем попытки эти не остались бесплодны, хотя, по-видимому,
привели к полному разрыву. Люди, спорившие с Белинским и его
друзьями, были изумлены той непоколебимостью, с какой встречаются
последователями Гегеля самые, по-видимому, неопровержимые
возражения против системы Гегеля, — той легкостью, с какой
последователи Гегеля находят вполне удовлетворительный для себя ответ на
все, что, по-видимому, должно бы смутить и затруднить их.
Противники результатов, до которых доходит гегелева система, увидели, что
Гегеля можно победить только его собственным оружием, и
принялись за глубокое изучение этого мыслителя. Они приступили к нему
с силами ума совершенно зрелого, с проницательностью,
изощренной привычкой к самостоятельному мышлению и богатым опытом
жизни, наполненной всевозможными столкновениями, — с запасом
твердых убеждений, данных жизнью и строгой наукой. И, как ни
трудно устоять против диалектики исполина немецкой
философии, — этой изумительно сильной диалектики, облекающей всю его
систему броней неразрушимого, по-видимому, единства, — эти люди
открыли пробелы и непоследовательности системы Гегеля, увидели
погрешности в ее выводах, несогласие принципов с ее
результатами, основных идей с применениями, постигли и односторонность
принципов, — могли, наконец, сказать: «Теперь мы постигаем все,
что постигал Гегель, но постигаем яснее и полнее, нежели он». Таким
образом, была, по выражению немецкой философии, превзойдена
(überwunden), очищена от односторонности по смыслу собственных
своих основных начал, подвергнута критике и возведена к высшей
истине философия Гегеля сильнейшими последователями одного
из направлений, между которыми до того времени преградой была
система Гегеля. Но глубина и стройность немецких философских
систем произвела сильное впечатление на умы тех, которые взялись
за изучение философии не столько по расположению к ней,
сколько по необходимости открыть слабые ее стороны; сильнейшие из
друзей г. Огарева сами получили философское направление: не
ожидая своих прежних стремлений, напротив, еще более утвердившись
в них, они возвели свои убеждения к общим философским
принципам и, увидев, как много выигрывают от того их идеи и в прочности
и в стройности, сделались ревностными приверженцами немецкой
философии, конечно, уж не системы Гегеля, на которой не могли они
остановиться, а новой философии, последним переходом к которой
86
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
была система Гегеля27. С другой стороны, подобное расширение
умственного горизонта совершилось около того же времени и в
сильнейших из друзей Станкевича. До сих пор они, как мы говорили,
были связаны между собою совершенною одинаковостью понятий
и стремлений, так что особенности отдельных личностей исчезали
в единстве общего настроения. Характеризуя «Московский
наблюдатель», деятельнейшим участником и распорядителем которого был
Белинский, мы большую часть наших выписок заимствовали из
предисловия к речам Гегеля, писанного не Белинским, а одним из
тогдашних его друзей, потому что тогда все эти люди писали совершенно
в одном и том же духе: разница была только в том, что одни умели
писать лучше других, но все, что говорил Белинский, говорили все
друзья Станкевича, и, наоборот, Белинский высказывал только то, в чем
одинаково были убеждены все. Так продолжалось до приезда
Белинского в Петербург*. Тут вскоре он сделался совершенно самобытен, и
теперь мы должны говорить уже не об общей деятельности прежнего
кружка, которого Белинский был только представителем, а о личной
деятельности Белинского, ставшего во главе нашего литературного
движения и управлявшего этим движением в союзе с новыми
сподвижниками, присоединившимися к нему не по духу какого-нибудь
кружка, а по самобытному стремлению к одинаковым целям, с
сохранением личных особенностей натуры каждого из союзников. В
Москве Белинский, подобно своим друзьям, был совершенно погружен
в теоретические умствования и обращал очень мало внимания на то,
«Москвич очень скоро свыкается с Петербургом, если переедет в него
жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазия.
Петербург, в этом отношении, пробный камень человека: кто, живя в нем, не увлекся
водоворотом призрачной жизни, умел сберечь и душу и сердце не на счет
здравого смысла, сохранить свое человеческое достоинство, не предаваясь
донкихотству, — тому смело можете вы протянуть руку, как человеку.
Петербург имеет на некоторые натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется
вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают с вас самые
дорогие убеждения; но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты,
порожденные праздною жизнью и решительным незнанием действительности, — и вы
остаетесь, может быть, с тяжелою грустью, но в этой грусти так много святого,
человеческого... Что мечты! Самые обольстительные из них не стоят в глазах
дельного (в разумном значении этого слова) человека самой горькой истины,
потому что счастье глупца есть ложь, тогда как страдание дельного человека
есть истина, и притом плодотворная в будущем...... (Статья Белинского «Москва
и Петербург» в «Физиологии Петербурга».)
Очерки гоголевского периода русской литературы
87
что делается в действительной жизни. Он твердил, что
действительность значительнее всех мечтаний, но, подобно своим друзьям,
смотрел на действительность глазами идеалиста, не столько изучал ее,
сколько переносил в нее свой идеал, и верил, что идеал этот имеет
себе соответствие в нашей действительности, что, по крайней мере,
важнейшие элементы действительности сходны с теми идеалами,
какие найдены для них в системе Гегеля. Петербург, как известно всем
пережившим идеалистический период воззрений, нимало не удобен
для сохранения таких мечтаний. В Петербурге действительная жизнь
настолько шумна, беспокойна и неотвязна, что трудно обманываться
относительно ее сущности, трудно не разубедиться в том, что она
движется вовсе не по идеальному плану гегелевской системы, трудно
остаться идеалистом. Петербург, с обычной своей готовностью
услужить новому жителю всеми возможными разочарованиями, не
замедлил доставить Белинскому обильные материалы для поверки
благосклонных к действительности выводов гегелевой системы и внушить
ему, что филистерские немецкие идеалы не имеют ровно никакого
сходства с русскою жизнью. Пришлось отказаться от уверенности,
что гегелевы построения — верные изображения действительной
жизни, пришлось критически посмотреть и на действительность и на
гегелеву систему. Результатом этой поверки было, для теоретических
убеждений — очищение принципов Гегеля от их односторонности,
отвержение фальшивого содержания, прилепленного к ним, и вывод
новых следствий, в духе строгой современной науки; для
жизненных стремлений — отвержение прежнего квиетизма, разрушаемого
действительностью, сохранение высокого убеждения, что разум и
правда должны и будут владычествовать в жизни, хотя далеки еще от
этого времени. Белинский убедился, что действительность заключает
в себе очень много ложных и вредных элементов и, посвятив всю
свою деятельность водворению в жизнь владычества ума и правды,
начал неутомимую, беспощадную борьбу со всем, что
препятствовало достижению этой цели. Для такой живой натуры, как Белинский,
переход от абстрактной идеальности, доводившей до квиетизма и
апатии, к живому понятию о действительности был естествен и
легок. Система Гегеля на некоторое время увлекла его своим величием,
и мы старались показать, что увлечение оправдывалось новостью и
глубиною истин, заключавшихся в ее основных идеях; но никогда
не удовлетворяла она его своим положительным содержанием, он
88
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
всегда рвался вперед, негодуя на стеснительное бесстрастие Гегеля,
всегда вносил в это холодное созерцание патетический жар своей
живой натуры. Таково же было отношение к Гегелю и других сильных
людей между друзьями Станкевича. Из выписок, нами приведенных,
можно видеть, чем особенно увлекались они в системе Гегеля, почему
особенно дорожили ею. В каждом теоретическом учении
соединяются две стороны: отвлеченное понятие об истине и отношение этого
знания к живой деятельности. Гегель ставит знание первою, почти
исключительною целью своей системы; следствия этого знания для
жизни стоят у него на втором плане. Этот порядок с самого же
начала был изменен сильнейшими из друзей Станкевича; они с самого
начала говорили: «философия Гегеля благотворна для жизни, потому
надобно изучать истины, ею открываемые», — ясно, что
действительная жизнь стоит для них на первом плане, отвлеченное знание имеет
уже только второстепенную важность. Люди с такими натурами не
могли долго удовлетворяться системою Гегеля: тем или другим путем,
они должны были выйти из зависимости от нее, — и,
действительно, вышли, кто тем, кто другим путем. Нас здесь занимает Белинский,
и мы видели, что его вывело из безусловного поклонения Гегелю
ближайшее знакомство с действительностью, быть двигателем которой
всегда стремился и был назначен он.
Прежние споры в Москве с друзьями г. Огарева также имели свою
долю участия в расширении взглядов Белинского. Правда, во время
самых споров никакие возражения не могли нимало поколебать его
веры в безусловную справедливость выводов, представляемых
системою Гегеля; напротив, как то всегда бывает с людьми сильными и
бесстрашными в своей последовательности, споры только утвердили его
в прежнем образе мнений, заставили его быть еще
последовательнее и строже в своих понятиях, внушили ему сильнейшее желание
настаивать на них и доказывать неосновательность всех сомнений
в том, что казалось ему истиною. Некоторые из статей, напечатанных
Белинским тотчас по переезде в Петербург, написаны под влиянием
этого полемического одушевления, и мнения, принадлежавшие всем
сотрудникам «Московского наблюдателя», доведены в этих статьях,
которые помещены были в «Отечественных записках», до крайности,
возбудившей изумление и объясняемой только их полемическим
происхождением28. Но важно было уже то, что возражения,
предложенные Белинскому его московскими противниками, сильно занимали
Очерки гоголевского периода русской литературы
89
его, не были им забыты. Когда первые порывы полемики миновались,
когда сближение с действительною жизнью начало изобличать
односторонность прежнего отвлеченного идеализма, Белинский должен
был беспристрастнее взглянуть на мнения своих бывших
противников, еще так недавно отвергнутые им с высоты идеалистических
воззрений. Он увидел, что эти понятия, казавшиеся безусловному
последователю системы Гегеля узкими и поверхностными, гораздо лучше
выдерживают поверку фактами, нежели выводы, предлагаемые геге-
левой философией, и что мыслящий человек ничего иного, кроме
этих понятий, не может вывести из жизни. Деятели умственного мира
разделяются на два класса: одним истина неприятна, если она прежде
их высказана кем-нибудь другим, — они готовы брать привилегию
на свои мысли, вероятно, по сознанию того, что производительность
их в этом отношении слаба, — другие заботятся только об истине, не
считая нужным заботиться о привилегиях, — вероятно, потому, что
чужды опасения оскудеть умом и обеднеть мыслями; одни не любят
отказываться от своих ошибок, — вероятно, по сознанию того, что
все их претензии — самолюбивая ошибка; другие чужды этой
щепетильности, потому что истина всегда лежала в основании их
стремлений. Белинский принадлежал ко вторым; он при первом же случае
с обычной своей прямотой признался, что Петербург научил его
ценить воззрения на действительность, о которых прежде он не хотел
знать, и что в тех вопросах, о которых шли некогда споры, правда
была на стороне людей, отвергавших выводы гегелевской системы,
как несообразные с фактами действительной жизни.
Таким образом, исчезли причины разделения, еще незадолго до
того времени бывшие препятствием дружному действованию лучших
людей молодого поколения. Одни, прежде не обращавшие внимания
на немецкую философию, сделались теперь ревностными
последователями ее, найдя в ее принципах твердое основание для
убеждений, которые были приобретены изучением новой истории и
современного быта. Представитель другого направления в литературном
движении, Белинский был приведен наблюдением действительности
к различению справедливых начал гегелевской философии от ее
односторонних выводов, увидел чрезвычайную важность тех вопросов,
на которые в кругу Станкевича обращали слишком мало внимания,
и удержал из гегелевской системы только те убеждения, которые
выдержали поверку живыми явлениями действительности. Все дарови-
90
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
тейшие из бывшего круга Станкевича последовали за ним, если не
вышли на ту же дорогу самостоятельно*. Односторонность обоих
направлений сгладилась.
При таком единстве понятий и стремлений должны были
сблизиться и люди. Около этого времени возвратился из-за границы
Грановский. Чем Станкевич был для своего круга, тем он стал равно
для друзей Станкевича и г. Огарева. Грановского невозможно было
не полюбить всею душой каждому благородному человеку. Все, что
было в Москве благороднейшего между людьми молодого поколения,
соединилось вокруг него. Где был Грановский, там могло быть только
одно чувство — чувство братства. Помощником его в этом деле был
г. Огарев. Скоро их влиянию подчинились и те, которые жили в
Петербурге и провинциях. Влиянием Грановского, Белинского и
других, присоединились к их литературному кругу почти все даровитые
люди молодого поколения, уже действовавшие в литературе или
выступавшие на этот путь.
Таким образом, из прежних дружеских кругов Станкевича и г.
Огарева, с присоединением новых деятелей, составилось одно большое
литературное общество, главным органом которого в литературе,
до начала нашего журнала, были «Отечественные записки» (с 1840,
особенно с 1841 до 1846 года); главным действователем в
«Отечественных записках» того времени был Белинский. С ним достойным
образом разделяли с самого начала честь быть распространителями
новых и здравых идей в русской публике некоторые другие люди,
о которых мы отчасти уже упомянули, отчасти надеемся сказать, —
именно, кроме Грановского. Г. Галахов, г. Катков, г. Кетчер, г. Корш,
г. Кудрявцев, г. Огарев и другие. Станкевич умер еще до начала этого
слияния, Ключников и Кольцов пережили Станкевича лишь
немногими годами29, как и Лермонтов, который самостоятельными
симпатиями своими принадлежал новому поколению; и только потому, что
Читатель понимает, что, говоря здесь исключительно о литературном
движении, мы не имеем права упоминать о людях иначе, как по отношению их
к литературе. Без сомнения, в тогдашнем русском обществе на различных
поприщах деятельности было много людей, замечательных не менее Белинского;
положим, что были такие люди и в кругу Станкевича. Но читатель согласится,
что мы можем называть представителем этого круга только Белинского. Мы
вовсе не имеем охоты возвышать Белинского насчет кого бы то ни было — он
в том вовсе не нуждается, а только излагаем его литературную деятельность.
Очерки гоголевского периода русской литературы
91
последнее время своей жизни провел на Кавказе, не мог разделять
дружеских бесед Белинского и его друзей. Потери эти были
вознаграждены присоединением новых людей, которые или примкнули
к Белинскому, Грановскому, г. Огареву, или были воспитаны их
влиянием. Из них надобно назвать, между прочим, г. Анненкова, г.
Григоровича, г. Кавелина, покойных Кронеберга и В. Милютина, г. Некрасова,
г. Панаева и г. Тургенева. Более или менее примыкали к тому же кругу
или воспитывались влиянием Белинского или Грановского почти все
без исключения даровитые люди нового поколения. Г. Краевский, как
редактор журнала, служившего органом деятельности Белинского,
Грановского, г. Огарева и их друзей, занял очень почетное место в
русской литературе, которая, мы с удовольствием можем сказать это,
многим обязана ему была в это время за то, что он предоставил
Белинскому в своем журнале положение, сообразное в литературном
отношении с преобладающей важностью этого лица для журнала.
Около того же самого времени, когда произошло у нас соединение
односторонних направлений в одну общую, всеобъемлющую
систему воззрений, подобное явление происходило и в Европе. Немецкие
ученые начали сознавать, что жизнь имеет свои права не только над
деятельностью, но и над наукой; французские ученые и литераторы
стали понимать необходимость глубоко исследовать общие понятия,
о которых до того времени мало заботились. В той и другой стране
прежние односторонние учения стали уступать место новым идеям,
которые уже не принадлежали исключительно тому или другому
народу, а равно были собственностью каждого истинно-современного
человека, в какой бы стране он ни родился, на каком бы языке ни
писал. Такое направление умов во всех странах образованного мира к
одинаковым воззрениям на все существенные вопросы служило
сильною поддержкою единства стремлений у всех истинно-современных
людей в каждой стране. Так и у нас, изучением новых явлений,
возникавших в умственной жизни главных народов Западной Европы и,
при всем различии своего происхождения и формы, проникнутых
совершенно одним и тем же духом, укреплялось единство понятий,
которыми связывались люди с современным образом мыслей.
Но единство понятий и людей у нас только укреплялось, а не
рождено было внешними влияниями. Деятели, стоявшие тогда во главе
нашего умственного движения, конечно, ободрялись тем, что
согласие с ними всех современных мыслителей Европы подтверждало
92
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
справедливость их понятий; но эти люди уже не зависели ни от
каких посторонних авторитетов в своих понятиях. Мы уже говорили,
что тот прогресс в понятиях, который сгладил прежнюю
разрозненность, совершился у нас самостоятельным образом. Тут в первый раз
умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли
наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало
прежде. Прежде каждый у нас имел между европейскими писателями
оракула или оракулов; одни находили их во французской, другие —
в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего
умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву
систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету.
Белинский и главнейшие из его сподвижников стали людьми вполне
самостоятельными в умственном отношении.
Этот факт — самостоятельность, которой достигла русская мысль
в Белинском и главных его сподвижниках, — интересен не потому
только, что приятен для нашей народной гордости: он важен в
истории наших литературных мнений потому, что им объясняются
некоторые отличительные качества трудов Белинского и его
союзников, — качества, которых прежде не имела наша критика; им отчасти
объясняется и быстрое распространение литературных мнений
Белинского в нашей публике.
Человек, мысль которого достигла самостоятельности,
определительностью своих понятий и верностью их приложения всегда
превосходит тех людей, которые следуют чужим понятиям, не
будучи в состоянии подвергнуть критике принципы, которых держатся.
До Белинского наша критика была отражением то французских, то
немецких теорий, потому вовсе не имела ясности и
определительности в своих основных воззрениях, а при оценке существенного
смысла и достоинства литературных явлений, если высказывала
много верного, то почти всегда или оставляла многое недосказанным,
или примешивала к верным замечаниям странные недоразумения.
Вообще, мнения лучших критиков, предшествовавших Белинскому,
очень скоро, в течение каких-нибудь пяти-шести лет, оказывались
устаревшими, неосновательными или односторонними. Так,
«Телеграф» был основан в 1825 году, а в 1829 году человек, читавший
статьи Надеждина в «Вестнике Европы», уже не мог без улыбки думать о
«высших взглядах» Полевого, не мог не убедиться, что Полевой
слишком неудовлетворительно понимал значение важнейших явлений
Очерки гоголевского периода русской литературы
93
в современной ему русской литературе. Суждения самого Надеждина
представляют странный хаос, ужасную смесь чрезвычайно верных и
умных замечаний с мнениями, которые невозможно защищать, так
что часто одна половина статьи разрушается другою половиною.
Напротив, суждения Белинского до сих пор сохраняют всю свою цену,
и верность их вообще такова, что люди, восстававшие против него,
почти всегда правы были только в том, что заимствовали у него же
самого! В последние годы у нас много говорили о
неудовлетворительности понятий Белинского; в числе этих эпигонов,
воображавших, что пошли далее Белинского, были люди умные и даровитые;
но нужно только сличить их статьи с статьями Белинского, и каждый
убедится, что все эти люди живут только тем, чего наслушались от
Белинского: они толкуют вечно только о том же самом, что говорил
Белинский, и если толкуют иначе, так это только потому, что вдаются
или в односторонность, или в очевидное пристрастие. Со времени
Белинского материалы для истории литературы деятельно
разрабатываются; но вообще, каждое новое исследование ведет только к
новому подтверждению суждений, высказанных им.
Самостоятельность его мысли была также одною из главных
причин сочувствия, с которым принимались его мнения. Слабая сторона
людей, повторяющих чужие мысли, состоит в том, что большею
частью они толкуют о предметах, не возбуждающих интереса в публике.
Правда всегда правда, но не всякая правда везде и всегда равно важна
и равно способна возбудить внимание: у каждого века, у каждого
народа есть свои потребности; то, что интересно немцу, часто бывает
вовсе не интересно французу или русскому, потому что не имеет
прямого отношения к потребностям его жизни. Надобно говорить о том,
что нужно нашей публике в наше время. Прежде наша литература
слишком часто говорила о предметах, имеющих для нас слишком
мало интереса, служа не столько выразительницею наших
собственных мыслей, не столько разрешительницею наших собственных
недоумений, сколько отголоском чужих суждений о чуждых нам делах.
Белинский всегда говорил о том, что слышать нужно и интересно
было именно той публике, которой он говорил.
В следующей статье нам должно будет излагать его деятельность
в пору зрелого развития. Характеризуя литературные воззрения
Белинского, мы будем обращать главное наше внимание на его
позднейшие статьи, потому что до самой смерти своей этот человек шел
94
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
вперед, и чем далее, тем полнее и точнее выражались его мысли; и,
конечно, мы должны будем принимать в основание своих
соображений самое зрелое их выражение. Но прежде нам остается обозначить
путь, которым шло развитие его воззрений с того времени, как
начали появляться его статьи в «Отечественных записках», до той высоты,
на которой застигнут он был смертью. В нескольких словах
существеннейшая черта развития критики Белинского с 1840 года может
быть определена так
Критика Белинского все более и более проникалась живыми
интересами нашей жизни, все лучше и лучше постигала явления этой
жизни, все решительнее и решительнее стремилась к тому, чтобы
объяснить публике значение литературы для жизни, а литературе те
отношения, в которых она должна стоять к жизни, как одна из
главных сил, управляющих ее развитием.
С каждым годом в статьях Белинского мы находим все менее и
менее рассуждений об отвлеченных предметах или хотя о живых
предметах, но с отвлеченной точки зрения; все решительнее и
решительнее становится преобладание элементов, данных жизнью.
КРИТИКА ФИЛОСОФСКИХ ПРВДУБЕЯЩЕНИЙ
ПРОТИВ ОБЩИННОГО ВЛАДЕНИЯ
(К вопросам по опостылому делу, статья первая)
Wie weh', wie web', wie wehe.
Goethe, «Faust»**
Предисловие. — Первобытность общинного поземельного
владения свидетельствует ли против предпочтения его личной
поземельной собственности? — Необходимо ли у каждого народа
каждому учреждению проходить все логические моменты
развития? — Регламентация и законодательство.
Долго молчал я в споре, который был поднят мною. Равнодушие,
с которым были встречены остальными журналами первые статьи
мои и г. Вернадского31, служившие на них ответом, — это равнодушие
мало-помалу сменилось чрезвычайно живым участием. Вот уж много
времени, как не проходит ни одного месяца без того, чтоб не явилось
в разных журналах по нескольку статей об общинном владении. Все
говорили об этом вопросе, — я молчал. Большая часть говоривших
о нем нападали и на мое мнение, и на мою личность очень сильным
образом, — я молчал, хотя в других случаях не отличался
способностью оставлять без ответа нападение на то, что считаю справедливым
и полезным, и хотя даже друзья мои всегда замечали во мне
чрезвычайную, по их мнению, даже излишнюю, любовь к разъяснению
спорных вопросов горячею полемикой. Я молчал, несмотря ни на
интерес, приобретенный для публики вопросом, который так дорог
для меня лично, несмотря на бесчисленные вызовы противников,
несмотря на частые побуждения от друзей, упрекавших меня и в
лености, и в позорной апатии к общему делу, и в трусости. И теперь, когда
берусь я за перо, чтобы снова защищать общинное владение, я
выдерживаю сильную борьбу с самим собою и не знаю сам, не лучше ли
было бы продолжать мне упорное молчание.
Дело в том, что я стыжусь самого себя. Мне совестно вспоминать
о безвременной самоуверенности, с которою поднял я вопрос об об-
96
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
щинном владении. Этим делом я стал безрассуден, — скажу прямо,
стал глуп в своих собственных глазах.
Возобновляя мою речь об общинном владении, я должен начать
признанием совершенной справедливости тех слов моего первого
противника, г. Вернадского, которыми он объявлял в самом
возникновении спора, что напрасно взялся я за этот предмет, что не доставил
я тем чести своему здравому смыслу. Я раскаиваюсь в своем прошлом
неблагоразумии, и если бы ценою униженной просьбы об извинении
могло покупаться забвение совершившихся фактов, я не колеблясь
стал бы просить прощение у противников, лишь бы этим моим
унижением был прекращен спор, начатый мной столь неудачно32.
«Как? Неужели человек, так громко провозглашавший
непобедимость доводов в пользу общинного владения, поколебался в своем
убеждении возражениями противников, бессилие которых так
высокомерно осмеивал в начале битвы? — подумает читатель. — Неужели
он чувствует себя побежденным теми фактами и силлогизмами,
которые противопоставлены ему?» О, если бы мой стыд перед самим
собою происходил из этого источника! Быть побежденным учеными
доводами, конечно, неприятно было бы для самолюбия, особенно
когда при этом наносятся еще оскорбления личности побеждаемого;
но в таком случае скорбь состояла бы в чувстве мелочном, пошлость
которого отняла бы силу открыто признаваться перед публикою
в своем стыде. Мой стыд другого рода, и как ни тяжел он, он не
боится огласки.
Не возражениями противников позорится моя безрассудная
надежда на победу. Пусть противники многочисленны; пусть
возражения громадны по объему и количеству; пусть даже некоторые из
противников принадлежат к тем людям, одобрением которых я дорожил
в других случаях, порицание которых было бы горько для меня в
других делах: не ими смущен я. С самого начала я говорил, что по
вопросу об общинном владении против меня будет огромное большинство
русских ученых и мыслителей и те литературные партии, которые
уважаются мною выше всех остальных после той, к которой
принадлежу я сам. Факт, предвиденный и предсказанный мною самим, не
мог смутить меня33. Напротив, я удивлялся, не встретив
враждебности к защищаемому мною делу в некоторых из наших публицистов,
имеющих наиболее авторитета во мнении публики и моем
собственном34. Отрадной для меня неожиданностью было, что эти люди или
Критика философских предубеждений против общинного владения 97
не напали на защищаемое мною мнение, или даже выражали свое
сочувствие к нему*.
Не многочисленностью противников был удивлен я, а тем, что
их не оказалось еще гораздо больше; удивлен, что в их рядах нет ни
одного из тех ученых, противоречие которых было бы для меня
действительно тяжело. Если не произвела на меня впечатления
огромность числа писателей, восставших против общинного владения, то
еще меньше могли поколебать мое убеждение доводы, ими
выставленные. В начале спора я указывал обыкновенные источники
возражений против общинного владения и книги, руководящие мыслями
людей, от которых ожидал я противоречия. Мои предположения, что
против меня будут повторять чужие слова, давно известные не мне
одному и давно опровергнутые не мною, а европейскими
писателями, — эти предположения сбылись даже выше всех моих
ожиданий. Ни одного нового или самостоятельного соображения не было
представлено русскими противниками общинного владения; все их
понятия были целиком взяты из устарелых книг и даже не
применены к частному вопросу, к которому большею частию вовсе не шли.
Из немногих фактов, на которых опирались эти соображения,
также не было почти ни одного, который бы прямо шел к делу; а если
которые и шли к делу, то были подбираемы так неосмотрительно,
что свидетельствовали в сущности не против общинного владения,
а в пользу его. Словом сказать, возражения были до того избиты, что,
признаюсь, я не имел интереса прочесть до конца почти ни одной
из статей против общинного владения, которые появлялись после
того, как я поместил свою последнюю статью35 против г.
Вернадского в ноябрьской книжке «Современника» прошлого года; с первых
же страниц каждого возражения я видел, что бесполезно читать эти
бледные повторения того, что уже давно наскучило мыслящему
человеку в сотнях плохих французских книжек о политической
экономии; даже приятность читать гневную брань против себя,
приятность, выше которой нет ничего для писателя, любящего колебать
старые и надменные предрассудки, не могла пересилить скуку,
приносимую вялыми повторениями общих мест старинной экономиче-
Я говорю не о славянофилах, которых я могу уважать за многое, но
симпатии которых не заслуживаю, как они сами объявляют и как я сам
чувствую.
98
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ской школы36. Только теперь, решившись возобновить свои статьи об
общинном владении, я стал читать эти возражения и убедился, что
не сделал ошибки, предположив их вовсе не заслужившими
прочтения. Итак, не сила противников заставляет меня признать, что я
заблуждался, начав говорить в защиту общинного владения. Напротив,
со стороны успеха именно этой защиты я могу признать за своим
делом чрезвычайную удачу: слабость аргументов, приводимых
противниками общинного владения, так велика, что без всяких
опровержений с моей стороны начинают журналы, сначала решительно
отвергавшие общинное владение, один за другим делать все больше
и больше уступок общинному поземельному принципу. Теперь нет
уже сомнения в том, что большинство литературного мира считает
нужным сохранить от вторжения личной частной собственности,
по крайней мере, на ближайшее время, те части земли, которые до
сих пор оставались собственностью или владением общества. Такая
уступка после первоначального совершенного и резкого отвержения
общественной поземельной собственности во всех ее видах могла
бы внушать мне некоторую гордость37. Но я стыжусь себя.
Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь сделать
это, как могу.
Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении
общинного владения, но он все-таки составляет только одну сторону дела,
к которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния
людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только
тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные
для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны
считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым
лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало.
Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно
заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено
кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения.
Примеры малой выгодности ее при противном условии часто
встречаются у нас по дворянским имениям, обремененным долгами. Бывают
случаи, когда наследник отказывается от получения огромного
количества десятин, достающихся ему после какого-нибудь
родственника, потому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти
равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме доходов,
доставляемых поместьем. Он рассчитывает, что излишек, остающий-
Критика философских предубеждений против общинного владения 99
ся за уплатою долговых обязательств, не стоит хлопот и других
неприятностей, приносимых владением и управлением. Потому, когда
человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких
обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим
обязательствам не очень велика по сравнению с рентою, если он
находит выгодным для себя ввод во владение. Только при соблюдении
этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием,
могут желать ему получение ренты.
На предположении этих двух условий была основана та
горячность, с какою я выставлял общинное владение необходимым
довершением гарантий благосостояния.
Меня упрекают за любовь к употреблению парабол38. Я не
спорю, прямая речь действительно лучше всяких приточных сказаний;
но против собственной натуры и, что еще важнее, против натуры
обстоятельств идти нельзя, и потому я останусь верен своему
любимому способу объяснений. Предположим, что я был заинтересован
принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой
составляется ваш обед. Само собой разумеется, что если я это делал из
расположения собственно к вам, то моя ревность основывалась на
предположении, что провизия принадлежит вам и что
приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои
чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что
за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги,
которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете
платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову
при этих столь странных открытиях? «Человек самолюбив», и
первая мысль, рождающаяся во мне, относится ко мне самому. «Как был
я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены
условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении
собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что
собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?»
Вторая моя мысль — о вас, предмете моих забот, и о том деле, одним
из обстоятельств которого я так интересовался: «Лучше пропадай вся
эта провизия, которая приносит только вред любимому мною
человеку! Лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение!»
Досада за вас, стыд за свою глупость — вот мои чувства. Но довольно
мне говорить о своих чувствах и о собственной личности. Как бы
то ни было, но пошло в ход глупым образом начатое мною дело об
100
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
общинном владении. Не все смотрят на него с тем чувством
отвращения и негодования, какое внушает оно мне теперь, по разрушении
надежд, в которых было начато мною. Теперь я уже сказал, я желал
бы, быть может, чтобы все оно пропало. Другие, напротив, хлопочут
о том, чтобы привести его к концу, все больше и больше склоняясь
к тем мнениям, какие были выражены мною при начале спора об
общинном владении. Дело это уже не может быть брошено. А если дело,
которому лучше было бы быть брошенным, уже не может быть
брошено, то нечего делать, надобно участвовать в его ведении.
Резким полемическим тоном был начат мною спор об общинном
владении. Крик этот имел одну цель: заставить обратить внимание
на предмет его. Теперь общее внимание обращено на предмет речи
и нет надобности ей переступать границы спокойного изложения,
чтобы быть выслушанной.
Но, — последняя дань полемическому тону, от которого я
отказываюсь по вопросу об общинном владении: мало того, что
возможно мне обойтись без полемики, — было бы недобросовестно с моей
стороны пользоваться этим оружием тогда, когда нужно не столько
обличение ошибок, сколько пополнение пробелов, производимых
незнанием пли забывчивостью. Дозволительно ли полемизировать
против человека, который не соглашается с вами только потому, что
не знает первых четырех действий арифметики или не подумал о
результате, получаемом из сложения двух с двумя? Говорить с ним
горячим тоном — это и бесполезно для него, и совестно для вас. Он
нуждается в уроке из «начатков учения», — в уроке, изложенном с такою
популярностью, которая была бы доступна его силам и пробуждала
бы деятельность его мысли.
Степень знакомства с современной наукой и привычки к
самостоятельному мышлению, обнаруженная противниками общинного
владения, предписывает мне стараться о всевозможной
популярности при следующем изложении первоначальных понятий,
касающихся вопроса о различных видах собственности на землю,
владения и пользования землею. Итак, читатель простит мне, если найдет,
что большая часть наших страниц посвящена изложению фактов
и соображений слишком элементарных: при составлении настоящих
статей я имел в виду не тот уровень знаний и сообразительности,
какой предполагается в большинстве публики, а только тот, какой
обнаружен противниками общинного владения. Прежде нежели вопрос
Критика философских предубеждений против общинного владения 101
об общине приобрел практическую важность с начатием дела об
изменении сельских отношений, русская община составляла предмет
мистической гордости для исключительных поклонников русской
национальности, воображавших, что ничего подобного нашему
общинному устройству не бывало у других народов и что оно таким
образом должно считаться прирожденною особенностью русского
или славянского племени совершенно в том роде, как, например,
скулы более широкие, нежели у других европейцев, или язык,
называющий мужа — муж, а не Mensch, homo или l'homme и имеющий
семь падежей, а не шесть, как в латинском, и не пять, как в греческом.
Наконец, люди ученые и беспристрастные39 показали, что общинное
поземельное устройство в том виде, как существует теперь у нас,
существует у многих других народов, еще не вышедших из отношений,
близких к патриархальному быту, и существовало у всех других,
когда они были близки к этому быту. Оказалось, что общинное
владение землею было и у немцев, и у французов, и у предков англичан,
и у предков итальянцев, словом сказать, у всех европейских народов;
но потом при дальнейшем историческом движении оно мало-помалу
выходило из обычая, уступая место частной поземельной
собственности. Вывод из этого ясен. Нечего нам считать общинное владение
особенною прирожденною чертою нашей национальности, а
надобно смотреть на него как на общую человеческую принадлежность
известного периода в жизни каждого народа. Сохранением этого
остатка первобытной древности гордиться нам тоже нечего, как
вообще никому не следует гордиться какою бы то ни было стариною,
потому что сохранение старины свидетельствует только о
медленности и вялости исторического развития. Сохранение общины в
поземельном отношении, исчезнувшей в этом смысле у других народов,
доказывает только, что мы жили гораздо меньше, чем эти народы.
Таким образом, оно со стороны хвастовства перед другими народами
никуда не годится.
Такой взгляд совершенно правилен; но вот наши и заграничные
экономисты устарелой школы вздумали вывести из него следующее
заключение: «Частная поземельная собственность есть позднейшая
форма, вытеснившая собою общинное владение, оказывавшееся
несостоятельным перед нею при историческом развитии
общественных отношений; итак, мы подобно другим народам должны покинуть
его, если хотим идти вперед по пути развития».
102
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Это умозаключение служит одним из самых коренных и общих
оснований при отвержении общинного владения. Едва ли найдется
хотя один противник общинного владения, который не повторял
бы вместе со всеми другими: «Общинное владение есть
первобытная форма поземельных отношений, а частная поземельная
собственность — вторичная форма; как же можно не предпочитать
высшую форму низшей?» Нам тут странно только одно: из
противников общинного владения многие принадлежат к последователям
новой немецкой философии; одни хвалятся тем, что они шеллинги-
сты, другие твердо держатся гегелевской школы; и вот о них-то мы
недоумеваем, как не заметили они, что, налегая на первобытность
общинного владения, они выставляют именно такую сторону его,
которая должна чрезвычайно сильно предрасполагать в пользу
общинного владения всех, знакомых с открытиями немецкой
философии относительно преемственности форм в процессе
всемирного развития; как не заметили они, что аргумент, ими выставляемый
против общинного владения, должен, напротив, свидетельствовать
о справедливости мнения, отдающего общинному владению
предпочтение перед частною поземельною собственностью, ими
защищаемою? Мы остановимся довольно долго над следствиями, к
каким должна приводить первобытность, признаваемая за известною
формою, потому что по странной недогадливости именно эта
первобытность служила, как мы сказали, одним из самых любимых и
коренных аргументов наших противников. Мы — не последователи
Гегеля, а тем менее последователи Шеллинга. Но не можем не
признать, что обе эти системы оказали большие услуги науке
раскрытием общих форм, по которым движется процесс развития.
Основной результат этих открытий выражается следующею аксиомою:
«По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого
оно отправляется». Эта мысль заключает в себе'коренную сущность
шеллинговой системы; еще точнее и подробнее раскрыта она
Гегелем, у которого вся система состоит в проведении этого
основного принципа чрез все явления мировой жизни от ее самых общих
состояний до мельчайших подробностей каждой отдельной сферы
бытия. Для читателей, знакомых с немецкою философиею,
последующее наше раскрывание этого закона не представит ничего нового;
оно должно служить только к тому, чтобы выставить в полном
свете непоследовательность людей, не замечавших, что дают оружие
Критика философских предубеждений против общинного владения 103
сами против себя, когда налегают с такою силою на первобытность
формы общинного владения.
Высшая степень развития по форме сходна с его началом, — это
мы видим во всех сферах жизни. Начнем с самой общей формы
процесса бытия на нашей планете. Газообразное и жидкое
состояние тел — вот исходная точка, от которой пошло вперед
образование нашей планеты и жизни в ней. Великим шагом вперед было
сгущение газов и отвердение жидкостей в минеральные породы.
В благородных металлах и драгоценных каменьях планетный
процесс дошел до совершенства в этом направлении. Сравните вековую
неразрушимость и чрезвычайную плотность золота и платины, еще
большую неразрушимость и страшную крепость рубина и алмаза
с шаткостью формы, с быстрым процессом химических
изменений в газе и жидкости, вы увидите две противоположные
крайности. Но что же затем? Истощилась ли жизнь природы достижением
крайней прочности, плотности и неподвижности в минеральном
царстве? Нет, мало-помалу на минеральном царстве возникает
растительное. С одного шага природа от страшной плотности
минералов возвращается к меньшей плотности жидкостей: удельный вес
дерева занимает средину между удельным весом разных жидкостей.
Мало этого сходства в удельном весе: минеральное основание
дерева (обнаруживающееся пепельным остатком по его разложении)
принимает в соединение с собой очень значительную массу
материи в жидком состоянии: все дерево проникнуто жидким соком,
который и составляет двигатель его жизни. Но от неподвижности
минерального царства осталась в дереве неподвижность на месте,
которое раз занято целым организмом, и неизменность в
расположении частей, какое раз приняли они одни относительно других.
Внешняя форма дерева также тверда; она только нечувствительно
расширяется временем в объеме, но за этим исключением
постоянно сохраняет одно и то же очертание. Природа вступает в новый
фазис развития, за растительным царством производит животное,
и этим шагом она еще приближается к формам бытия,
предшествовавшим минеральному царству. В организме животного жидкие
элементы занимают еще гораздо больше места, нежели в растении.
Они даже достигают самостоятельного отделения от твердых
частей, огромными массами собираясь в жилах, в сердце, в желудке и
других резервуарах животного организма. Твердая основа, которая в
104
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
растении представлялась на первом плане, в животном отступает во
внутрь, облекаясь мягкими покровами мяса и жира; теряя наружное
значение, она теряет и ту центральную важность, какую имела в
дереве, где все до самой сердцевины было твердо: в животном
центральные части, важнейшие по своему значению для организма, так же не
тверды, как и наружные покровы остова; твердый остов удерживается
единственно как опора для мягких частей. Мало того, что жидкость
изгнала минеральную твердость из центральных органов: в эти
органы проникли газы: животный организм наполнен воздухом,
значительными массами сосредоточивающемся в двух основных органах
центральной жизни, в легких и в желудке. От минерального царства
в растении сохранялось постоянство внешней формы; в животном
наружные очертания постоянно изменяются от непрерывной смены
разных положений тела. Не осталось и неподвижности целого
организма на одном месте: как частицы воды по закону тяготения и под
ударами волн атмосферы вечно движутся с места на место, так и
животный организм вечно движется с места на место. Животная жизнь
становится все интенсивнее и интенсивнее; проходя от ленивого
моллюска, почти прикованного к месту, через высшие формы
организма до млекопитающих, она достигает своего зенита в человеке.
В чем же состоят материальные отличия этого высшего животного
организма от низших? В человеке гораздо более развита нервная
система и особенно головной мозг. Что же это за масса, развитие
которой составляет венец стремлений природы? Масса мозга — нечто
такое неопределенное по своему виду, что как будто бы уже составляет
переход от мускулов, имеющих столь определительные качества по
своей форме и внутреннему составу, к какому-то полужидкому
киселю вроде тех, которыми начинается превращение неорганической
материи в органическую. Этот бесформенный кисель сохраняет
известное очертание только потому, что удерживается внешними
костяными оградами; освободившись от них, он расплывается
будто кусок жидкой грязи. В его химическом составе самый
характеристичный элемент — это фосфор, имеющий неудержимое
стремление переходить в газообразное состояние; венец животной жизни,
высшая ступень, достигаемая процессом природы вообще, нервный
процесс состоит в переходе мозговой материи в газообразное
состояние, в возвращении жизни к преобладанию газообразной
формы, с которой началось планетное развитие.
Критика философских предубеждений против общинного владения 105
Иной читатель посмеется над этими геологическо-физиологи-
ческими рассуждениями в статье о юридическом и социальном
вопросе. Мы сами готовы были бы смеяться над обзорами
теллурической жизни, служащими подкреплением политико-экономических
истин, если б не замечали, как много зависит тот или другой взгляд
на какой-нибудь, по-видимому, чисто практический и очень
специальный вопрос от общего философского воззрения. В настоящем
случае чтение статей против общинного владения убедило нас, что
нерасположение к этой форме поземельных отношений основано
не столько на фактах или понятиях, специально относящихся к
данному предмету, сколько на общих философских и моральных
воззрениях о жизни. Мы думаем, что истребить предубеждения по частному
вопросу, нас занимающему, можно только изложением здравых
понятий, противоположных отсталым философемам или философским
и моральным недосмотрам, которыми держатся эти предубеждения.
Потому продолжаем философско-физиологические очерки
отношений между разными формами жизни, как бы ни казались забавны
такие эпизоды в статьях, которые собственно должны бы
ограничиваться сферою специальности. Если такие эпизоды и действительно
забавны, то мы утешаемся мыслию, что они будут не бесполезны. Кто
не хотел подумать об общих истинах, изложенных в Гумбольдтовом
«Космосе», тот, конечно, принуждает говорить о них и тогда, когда
дело идет о каком-нибудь специальном вопросе.
От общего теллурического процесса перейдем к соотношению
форм в более тесных сферах и, прежде всего, взглянем, например,
на характер животной жизни в разных ступенях ее развития. Мы уже
видели, что высшее произведение этой жизни, мозговая масса,
характером своим напоминает какой-то кисель, почти лишенный тех
форм и качеств, какими отличается вообще мясо, составляющее
преобладающий элемент животного царства. Низшая ступень животной
жизни, проявляющаяся в моллюсках и слизняках, имеет совершенно
тот же характер: тело устрицы своим студенистым качеством скорее
сходно с мозгом, нежели с мясом. Итак, мы видим опять три формы,
из которых высшая (мозг) представляется как будто бы
возвращением от второй (мяса) к первобытной форме (студенистое вещество).
Возьмем еще теснейшую сферу жизни, именно два высшие
разряда из трех обширных классов, принимаемых Ламарком, animalia
articulata и animalia intelligentia40. С того момента, как проявляется
106
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
первый признак интенсивности в животной жизни
возникновением членораздельности (animalia articulata), мы видим, что каждая из
отдельных частей, на которые подразделился организм, имеет как
будто бы свою самобытную жизнь, кроме общей жизни целого
организма. Из этих низших животных есть такие, которые можно делить
на несколько частей, и каждая часть преспокойно будет жить по
отделении от других. Чем выше мы будем подниматься по лестнице
форм, тем сильнее и сильнее общая жизнь целого организма будет
брать перевес над жизнью отдельных членов, и, наконец, в
разряде рыб преобладание общей жизни целого организма становится
до того громадно, что даже исчезают все отдельные члены, и целый
организм сливается в один плотный кусок без всяких перехватов и
отростков. Но поднимемся еще выше, и в разрядах птиц и
млекопитающих мы уже видим возобновление прежних форм организма,
у которого к основному стержню примыкают отростки с
различными перехватами по внешней форме. Однако, если по наружности
птица и млекопитающее составляют как будто возвращение от
одного плотного куска рыбы к членораздельным формам насекомых, то
внутренняя жизнь, жизнь ощущений и стремлений, остается в птице
и млекопитающем, как в рыбе, вся сосредоточена в одном общем
органическом чувстве с подавлением самобытного значения
стремлений, свойственных отдельным органам. Зрение, слух, обоняние для
млекопитающего имеют только то значение, что служат средствами
для приискания пищи, различения предметов и местностей,
удобных и здоровых для целого организма, от нездоровых или
неудобных и для избежания опасностей. Даже вкус служит почти только для
рассортировки различных питательных материалов по степени их
здоровости для целого организма. Конечно, кошка должна
чувствовать разницу вкуса между грубою говядиною или пулярдкою; но
дайте ей вдруг два куска того и другого мяса, она не станет делать выбор
между ними и начнет есть тот, который больше или который скорее
попался ей под морду. Даже осязание очень мало служит для
животных источником удовольствий, независимых от общих
потребностей жизни целого организма. Даже половой инстинкт не занимает
их собою как самобытный источник ощущений: его отправления
служат только средством для освобождения организма от частиц,
излишнее накопление которых расстраивает общий порядок в жизни
целого организма. Можно сказать, что все ощущения животных и все
Критика философских предубеждений против общинного владения 107
их стремления являются только видоизменениями общих
потребностей и чувств целого организма, именно отправлений желудка и
чувства здоровья или болезни. Совершенно не такова жизнь
человека. Каждое из его чувств достигает самобытного интереса для него;
глаз, ухо и каждый из других органов чувств становится в человеке
как будто каким-то самобытным организмом с собственной жизнью,
с своими особенными потребностями и удовольствиями. Человек
не только по внешней форме, как млекопитающее, но и по самой
сущности своей жизни представляется как будто бы собранием
нескольких сросшихся самобытных организмов, и общая жизнь всего
организма удерживает за собою значение как будто только потому,
что служит общею поддержкою развития этих отдельных жизней.
Чем выше поднимается человек в своем развитии, чем
цивилизованнее становится он, то есть чем человечнее становится его жизнь, тем
больший и больший перевес берут эти частные стремления каждого
органа к самостоятельному развитию своих сил и наслаждению
своею деятельностью. Ощущения, доставляемые зрением, слухом и
другими физическими чувствами, различные нравственные ощущения,
игра фантазии, деятельность мышления все решительнее заслоняют
собою интересность общего органического процесса для самого
индивидуума, и, наконец, этот процесс (питание) сохраняет только
тот интерес, какой придается ему наслаждениями отдельного
органа вкуса, и вместо самобытного значения он представляется только
средством к удовлетворению частного гастрономического интереса
или теряет всякую занимательность для индивидуума.
Цивилизованный человек, если развит нормально, говорит подобно Сократу:
«Я ем только для того, чтобы жить сердцем и головою»; если
развит дурным образом, говорит: «Я ем для того, чтобы наслаждались
мой язык и нёбо». Но никогда цивилизованный человек не чувствует,
чтобы сама по себе, без частных гастрономических удовольствий,
еда представлялась ему очень занимательным процессом.
Таким образом, в конце развития собственно животной жизни,
в жизни цивилизованного человека мы видим как будто возвращение
той самой формы, какую имела животная жизнь при первом начале
своей интенсивности: в цивилизованной жизни человека, как в
существовании артикулированных животных, общая жизнь организма
решительно отступает на второй план сравнительно с самобытными
отправлениями отдельных органов.
108
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Мы обозрели все сферы материальной жизни, начиная общими
теллурическими явлениями ее и переходя к сферам все теснейшим
и теснейшим, до царства интенсивной животной жизни, и повсюду
видели неизменную верность развития одному и тому же закону:
высшая степень развития представляется по форме возвращением
к первобытному началу развития. Само собою разумеется, что при
сходстве формы содержание в конце безмерно богаче и выше,
нежели в начале, но об этом мы будем говорить после.
Быть может, наш очерк материального развития от теллурических
состояний до мозговой деятельности был слишком длинен; но мы
хотели многочисленными подробностями показать неизменную
верность природы тому закону на речь о котором не к выгоде себе
навели полемику наши противники, с необдуманным торжеством
налегая на первобытность осуждаемой ими формы одного из
общественных учреждений. Мы хотим показать всеобщее господство
излагаемого закона во всех проявлениях жизни и, окончив обзор
материальных явлений с этой точки зрения, обратимся к такому же
очерку нравственно-общественной жизни, составляющей другую великую
часть планетарного развития.
Наш очерк растянулся бы на целые тома, если бы мы захотели
упоминать о каждой сфере нравственно-общественного развития,
в процессе которой повторяется общий закон, о котором мы
говорим. Какую бы сторону жизни ни взяли мы, везде увидим господство
общей нормы, открытой новою немецкою философиею, и, приведя
на удачу несколько примеров, мы просили бы людей, которые
захотели бы сомневаться в общем владычестве этой нормы, указать хотя
один факт, на развитии которого не отпечатлевалась бы она.
Начнем хотя с общего органа умственной и общественной жизни,
с языка. Филология показывает, что все языки начинают с того
самого состояния, представителем которого служит обыкновенно
китайский: в нем нет ни склонений, ни спряжений, вообще никаких
грамматических видоизменений слова (флексий); каждое слово является
во всех случаях речи в одной и той же форме: «я идти дом» говорит
китаец вместо нашего «я иду домой». Но язык начинает развиваться,
и являются флексии; число их все возрастает и достигает той
гибкости всего внутреннего состава слова, какую видим мы в
семитических языках, достигает того страшного изобилия грамматических
наращений, какое видим в татарском языке, где глагол имеет семь
Критика философских предубеждений против общинного владения 109
или восемь наклонений, несколько десятков времен, целые десятки
деепричастий и т. д. В нашей семье на высшей точке этого периода
стоит санскритский язык. Но развитие идет далее, и в латинском или
в старославянском уже гораздо менее флексий, нежели в
санскритском. Чем дальше живет язык, чем выше развивается народ, им
говорящий, тем более и более обнажается он от прежнего богатства
флексий. Нынешние славянские наречия беднее ими, нежели
старославянский; в итальянском, французском, испанском и других
романских языках флексий меньше, нежели в латинском; в немецком,
датском, шведском, голландском меньше, нежели в старонемецком,
и, наконец, английский язык, служащий указанием цели, к которой
идут по отношению к своим флексиям все другие европейские языки,
почти совершенно уже отбросил все флексии. Подобно китайцу
англичанин буквально говорит уже «я идти дом». В начале нет падежей,
в конце развития также нет падежей; в начале нет различия по
окончаниям между существительным, прилагательным и глаголом, —
в конце развития тоже нет различия между ними (Like — 1. похожий,
2. сравнивать; love — 1. любить, 2. любовь).
В грамматическом устройстве языка конец сходен с началом.
То же самое во всех формах общежительной и умственной жизни,
общим условием для существования которой служит язык. Берем,
прежде всего, внешние черты общежития и, во-первых, ту, для
которой язык служит не только условием, но и материалом: способ
выражения в обращении между людьми.
Вне цивилизации человек безразлично говорит одинаковым
местоимением со всеми другими людьми. Наш мужик называет
одинаково «ты» и своего брата, и барина, и царя. Начиная полироваться,
мы делаем различие между людьми на «ты» и на «вы».,При грубых
формах цивилизации «вы» кажется для нас драгоценным подарком
человеку, с которым мы говорим, и мы очень скупы на такой почет.
Но чем образованнее становимся мы, тем шире делается круг «вы»,
и, наконец, француз, если он только скинул сабо, почти никому уже
не говорит «ты». Но у него осталась еще возможность, если захочет,
кольнуть глаза наглецу или врагу словом «ты». Англичанин потерял
и эту возможность: из живого языка разговорной речи у него
совершенно исчезло слово «ты». Оно может являться у него только в тех
случаях, когда по-русски употребляются слова «понеже», «очеса» и
т. п.; слово «ты» в английском языке так же забыто, как у нас несто-
по
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ровское «он-сиця» вместо «этот». Не только слугу, но и собаку или
кошку англичанин не может назвать иначе, как «вы». Началось дело,
как видим, безразличием отношений по разговору ко всем людям,
продолжалось разделение их на разряды по степени почета (немцы,
достигнувшие апогея в этом среднем фазисе развития, ухитрились
до того, что устроили целых четыре градации почета: 1) Du — это
черному народу; 2) Er — это по выражению г. Н. де Безобразова41 для
среднего рода людей; 3) Ihr — это для человеков, занимающих
средину между людьми среднего рода и благорожденными; 4) Sie — для
благорожденных потомков великороссийских, суздальских и ост-
прейссенских домов, приходит в результате снова к безразличному
обращению со всеми людьми.
То же самое и в костюме. В патриархальном народе шейх носит
точно такой же бурнус, как и последний из бедуинов его племени, и
предок великороссийского потомка г. Н. де Безобразова носил такую
же рубашку с косым воротом, какую носили тогда люди не только
среднего, но и подлого рода. Мы вступили в область цивилизации,
и г. Н. де Безобразов надел сюртук, которого не носят люди подлого
рода; но люди среднего рода уже начинают носить такой же сюртук и
к нашему ужасу все без исключения уже надели пальто, которым
прежде отличался от них потомок великороссийского рода; даже люди
подлого рода многие надели пальто, и мы с горестью предвидим
скоро день, когда потомки великороссийских родов у себя дома будут
носить точно такие же блузы, какие уже приняты у петербургских
мастеровых, и когда все без исключения люди даже самого подлого
рода будут ходить по улицам в пальто такого же покроя, как
великороссийские потомки.
Вместе с личным местоимением второго лица и костюмом
проходит три фазиса развития и вся манера держать себя. Человек
нецивилизованный и неученый прост в разговоре, натурален во всех
движениях, не знает заученных поз и искусственных фраз. Но едва
помазался он лоском образованности школьной и светской, он
начинает держать себя и говорить так, как не умеет простой человек.
Развиваясь мало-помалу, это искусство достигает блистательного цвета
в разных педантах и педантках науки и светской жизни, в précieuses42,
изображенных Мольером, в гоголевских дамах «приятных во всех
отношениях» и уездных франтах. Но человек истинно ученый и
человек, получивший истинно светское образование, говорит и ходит,
Критика философских предубеждений против общинного владения 111
кланяется, садится и встает с такою же простотою и
непринужденностью, как совершенно простой человек в своем кругу.
Надобно ли говорить, что подобно этим чертам обращения все
общественное устройство стремится к возвращению от рангов и
разных других подразделений по привилегиям всякого рода к тому
однообразному составу, из которого выделились все бесчисленные
рубрики? Распространяться об этом мы не имеем нужды: люди,
непоследовательность которых принудила нас делать этот очерк, все
утверждают о себе, что они знакомы с политической экономиею;
в какой угодно экономической книге, даже в Ж-Б. Сэ и Мишеле
Шевалье, найдут они подробнейшее и прекраснейшее объяснение той
цели, к которой идет ныне общество по отношению к выделившимся
из общего права элементам.
От общего характера общественной жизни и общественного
состава перейдем ли к анализу специальных отправлений
общественного организма, повсюду увидим тот же путь развития. Возьмем
в пример хотя администрацию. Вначале мы видим маленькие
племена, из которых каждое управляется совершенно самостоятельно
и соединяется в общий союз с другими однородными племенами
только в немногих случаях, требующих общего действия, например,
на случай войны и других отношений к иным народам, также для
предприятий, превышающих средства отдельного племени, каковы,
например, громадные постройки вроде вавилонской башни и
циклопических стен. Каждый член племени связан с другими не только
законодательными обязательствами, но живым личным интересом по
знакомству, родству и соседским общим выгодам. Каждый член
принимает личное и активное участие во всех делах, касающихся того
общественного круга, к которому принадлежит. Ученым образом
подобное состояние называется самоуправлением и федерациею.
Мало-помалу мелкие племена сливаются и сливаются, так что,
наконец, исчезают в административном смысле в громадных
государствах, каковы, например, Франция, Австрия, Пруссия и т. д.
Административный характер обществ на этой ступени развития —
бюрократия, составляющая полнейший контраст первобытному племенному
быту. Административные округи распределяются все с меньшим
отношением к независимым от центрального источника интересам,
лежащим в самих жителях. Ни в Пруссии, ни в Австрии округ,
соответствующий нашему уезду, не имеет живой связи между своими
112
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
частями; сохранились живые связи составных частей только в более
широком разграничении провинций. Но это является уклонением от
общего правила, и при первой возможности производится реформа,
какую успела уже совершить Франция разделением на
департаменты, лишенные органического единства, взамен прежних провинций.
Члены административного округа, не имея между собою живой связи
ни по своей истории, ни по своим материальным интересам, с тем
вместе лишены прежнего полновластия в управлении делами округа.
Всем заведуют особенные люди, называющиеся чиновниками и
полицейскими, по своему происхождению и личным отношениям не
имеющие связи с населением округа, передвигающиеся из одного
округа в другой чисто только по соображению центральной власти,
действующие по ее распоряжению, обязанные отчетом только ей.
Житель округа по отношению своему к администрации есть лицо
чисто пассивное, materia gubernanda. Надобно ли говорить о том,
что на этой степени общество не может остановиться? Швейцария
и Северо-Американские Штаты по административной форме
представляются совершенным возвращением от бюрократического
порядка к первоначальному быту, какой имели люди до возникновения
обширных государств.
Не касаясь политического устройства, история которого также
могла бы служить ярким подтверждением доказываемого нами
общего господства нормы развития, мы приведем в пример только еще два
общественные учреждения*.
Сначала общество не знает отдельного сословия судей: суд и
расправа в первобытном племени творится всеми
самостоятельными членами племени на общем собрании (мирской сходке). Мало-
помалу судебная власть отделяется от граждан, делается монополией
особенного сословия; гласность судопроизводства исчезает, и
водворяется тот порядок процесса, который нам очень хорошо известен;
он был и во Франции, и в Германии. Но вот общество развивается
далее, вместо судей произнесение приговора вручается присяжным,
то есть простым членам общества, не имеющим никакого ученого
Модерантисты могут найти очень недурной очерк одной из сторон
политического устройства с этой точки зрения у Гизо, которого они уважают.
В «Historie de la civilization en France» он объясняет постепенные фазисы
возрастания и ослабления правительственной власти.
Критика философских предубеждений против общинного владения 113
подготовления к юридической технике, и возвращается первобытная
форма суда (1. судит общество; 2. судят юристы, назначаемые
правительственною властью; 3. судят присяжные, то есть чисто
представители общества).
Как суд, так и военное дело в первобытном обществе
составляет принадлежность всех членов племени, без всякого специализма.
Форма военной силы везде сначала одна и та же: ополчения,
берущиеся за оружие с возникновением войны, возвращающиеся к
мирным промыслам в мирное время. Особенного военного сословия нет.
Мало-помалу оно образуется и достигает крайней самобытности при
долгих сроках службы или вербовке по найму. На нашей памяти еще
было то время, когда у нас солдат становился солдатом на всю свою
жизнь, и кроме этих солдат никто не знал военного ремесла и не
участвовал в войнах. Но вот сроки службы начинают сокращаться,
система бессрочных отпусков все расширяется. Наконец (в Пруссии)
дело доходит до того, что решительно каждый гражданин на
известное время (два, три года) становится солдатом, и солдатство не есть
уже особенное сословие, а только известный период жизни каждого
человека во всяком сословии. Тут особенность его сохранилась
только в условии срочности. В Северной Америке и Швейцарии нет уже
и того: совершенно как в первобытном племени, в мирное время
войско не существует, на время войны все граждане берутся за оружие.
Итак, опять три фазиса, из которых высший представляется по
форме совершенным возвращением первобытного: 1) отсутствие
регулярных войск, милиция на время войны; 2) регулярные войска; никто,
кроме специально носящих мундир, не призывается и не способен
участвовать в войне; 3) снова возвращается всенародная милиция, и
регулярного войска в мирное время нет.
От устройства военной силы перейдем ли к ее действию, увидим
ту же норму развития. В первобытных битвах сражается отдельный
человек против отдельного человека, сражение есть громадное число
поединков (битвы у Гомера; все битвы дикарей). Но вот состав
бьющейся армии получает все больше и больше плотности, и действие
отдельных людей сменяется действием массы; в XVII, XVIII
столетиях этот фазис достигает своего зенита. Огромные массы стоят друг
против друга и стреляют батальным огнем или идут в штыки, — тут
нет отдельных людей, есть только батальоны, бригады, колонны.
Русский солдат времен Кутузова стрелял ли в отдельного врага? Нет,
114
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
целый полк стрелял только в целый неприятельский полк Неужели
на этом остановилось развитие? Нет, появились штуцера, и прежний
плотный строй рассыпался цепью стрелков, из которых каждый
действует также против одиночного врага, и битва снова принимает
гомерическую форму бесчисленного множества поединков. Мы хотели
закончить этим примером. Но зачем же останавливаться на мрачных
мыслях о битвах? Дадим для десерта что-нибудь более приятное. Мы
пишем не для обыкновенных читателей, а для экономистов отсталой
школы; для них самая интересная вещь — внешняя торговля, и для их
удовольствия мы займемся этим драгоценным предметом.
У дикарей нет таможенных пошлин, нет ничего подобного
протекционизму; каждый торгует с иностранцем на тех же самых
правах, как с одноплеменником, сбывает товары за границу и покупает
иноземные товары точно с тою же степенью свободы, с какою идет
торговля в пределах самого племени туземными произведениями.
Но вот люди цивилизуются, начинают заводить фабрики; через
несколько времени у них является протекционная система. Иноземные
товары облагаются высокими пошлинами и подвергаются
запрещениям для покровительства отечественной промышленности. Неужели
на этом остановится прогресс? О нет, вот являются Кобдены, Роберты
Пили и за этими действительно замечательными людьми маленькие
и миленькие существа вроде Бастиа; они доказывают, что
протекционизм и несправедлив и вреден, под их влиянием тарифы начинают
понижаться, понижаться, и общества стремятся к тому самому
блаженству свободной заграничной торговли, которым пользовались
в первобытные времена своей неразвитости43.
Раз начавши говорить о предметах, приятных для экономистов
отсталой школы, мы не можем удержаться от желания еще порадовать
их беседою, им любезною. Еще больше, нежели о заграничной
торговле, любят они говорить о биржевых оборотах, — каково же будет
их удивление, если мы скажем, что и биржа, этот предмет их любви и
гордости, возникает именно по закону возвращения каждого явления
при высшем его развитии к его первобытному началу в формальном
отношении. «Как? Вы говорите, что основные формальные черты
биржевой торговли — повторение тех качеств, которыми отличается
торговля дикарей?» — спросят наши противники. «Точно так, и вы
этому не дивились бы, если бы умели понимать смысл того, что
излагается в ваших же собственных книгах», — отвечаем мы. Чем тор-
Критика философских предубеждений против общинного владения 115
говля, являющаяся по возникновении биржи, отличается по форме
от торговли периода, предшествующего бирже? Она ведется в
известном, одном, исключительном месте, в известное, одно,
исключительное время — неужели вы не замечали до сих пор, что это — черты,
принадлежащие базарам и ярмаркам? Теперь вы сами можете
построить тройственную формулу, вас удивившую.
У племен и народов, где торговое движение чрезвычайно слабо,
оно недостаточно для того, чтобы поддерживаться постоянно и
повсеместно, и потому для него удобнее сосредоточиваться в
известные сроки в известных местах. Таким образом оно производится на
ярмарках и базарах. Но вот торговля развивается. В каждом городе
купец имеет ежедневно покупщиков (потребителей), повсюду
являются лавки и магазины, открытые в течение круглого года ежедневно.
С другой стороны, купцов так много и запрос их к производителям
так постоянен, что производитель может продать им свой продукт,
когда и где ему самому удобнее, — зачем же он станет дожидаться
ярмарки или базарного дня? Таким образом ярмарки и базары,
существовавшие в Париже, когда этот город в торговом отношении
уподоблялся Козмодемьянску и Царевококшайску, исчезли. Но что же
далее? Как возникает биржа? Покупщиков и продавцов становится так
много, у каждого из них так много торговых дел и справок, что он не
успел бы управиться с ними, если бы должен был искать поодиночке
каждого из нужных ему людей. Потому необходимо назначить место
и время, где и когда сходились бы все эти занятые торговыми
оборотами люди. Таким образом возвращается первобытное ограничение
торговых сделок известным местом и временем.
Мы нарочно изложили ход этого факта с некоторою
подробностью, чтобы видна была совершенная противоположность причин,
восстановляющих первобытную форму в конце развития, с
причинами, от которых зависело ее существование при начале развития.
Доходя до высокой интенсивности, те самые обстоятельства,
которые в менее сильной степени были враждебны первобытной форме,
обращаются в неизбежный вызов к ее восстановлению. Первобытная
ограниченность торговли известным местом и временем (ярмарки и
базары) была следствием малочисленности торговых сделок. Когда
они становятся довольно многочисленными, эта многочисленность
действует отрицательно, разрушительно на первобытную форму;
но вот торговые сделки, вместо того чтобы быть просто «довольно
116
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
многочисленными», становятся «чрезвычайно многочисленными», —
первобытная форма возвращается. Избыток качества действует на
форму способом, противоположным тому способу, каким
действовала более слабая степень того же качества.
Чтобы эта формула была яснее, мы дадим грамматическое
выражение ее терминам. Превосходная степень действует на форму
способом, противоположным тому, каким действует простая
положительная степень. Если, например, человек, имеющий некоторую
справедливость («справедливый», просто, в положительной степени),
смотрит на человека, совершившего преступление, как на
преступника, на человека, преданного низкому пороку, как на человека низкого,
гнушается ими обоими, считает достойным казни одного,
претерпеваемых несчастий другого (степень справедливости, выражаемая
поговоркою «поделом вору и мука», выражаемая также уголовными
законами и тем «древним» законом, который говорил: «люби
своего друга, ненавидь своего врага»), то человек чрезвычайно или
совершенно справедливый относится и к преступнику или порочному
обратным образом: он видит в нем несчастного, заслуживающего не
презрения или отвращения и ненависти, а сострадания и помощи:
«Слышаете, яко речено бысть древнимъ: возлюбиши искренняго
твоего, и возненавидиши врага твоего. Азъ же глаголю вам:
любите враги ваша, благословите клянушдя вы, добро творите ненавидя-
щимъ вас»*.
И неужели это есть разрушение, отвержение древнего закона? Нет,
это есть его исполнение, его завершение:
«Не мните, яко прищох разорите закон и пророки: не првдох
разорите, но исполните»**.
Да, это не только заповедь любви и кротости, это — заповедь
совершенной справедливости; высшая справедливость не находит
преступников, она находит в дурном человеке только несчастного
заблудшего, не подлежащего взысканию: Summum jus — summa injuria,
pariter ас nullum jus. При отсутствии справедливости преступник
избегает закона возмездия; при водворении законного порядка он
подвергается возмездию, око за око и зуб за зуб; но когда водворяется
полная справедливость, преступник изъемлется от возмездия nemini
Матф., глава V, стих 43-44.
Матф., глава V, стих 17.
Критика философских предубеждений против общинного владения 117
fit injuria, никто не подвергается страданию ни даже во имя
справедливости*.
Собираясь закончить этот очерк, мы хотели представить в
заключение его два примера, — и представили четыре или пять, потому
только, что не остереглись от множества фактов,
представляющихся в подтверждение общей нашей мысли повсюду, к какой бы
сфере бытия мысль ни обратилась. Но довольно, довольно. Наш очерк
никогда не кончился бы, если мы не сделаем над собою усилия и не
остановимся от продолжения этих подтверждений, являющихся
нашему анализу в бесчисленном множестве. Общий ход планетарного
развития, прогрессивная лестница классов животного царства
вообще, высшие классы животных в особенности, физическая жизнь
человека, его язык, обращение с другими людьми, его одежда, манера
держать себя, все его общественные учреждения — администрация,
войско и война, судопроизводство, заграничная торговля, торговое
движение вообще, понятие о справедливости — каждый из этих
фактов подлежит той норме, о которой мы говорим: повсюду высшая
степень развития представляется по форме возвращением к
первобытной форме, которая заменялась противоположною на средней
степени развития; повсюду очень сильное развитие содержания
ведет к восстановлению той самой формы, которая была отвергаема
развитием содержания не очень сильным**.
Все изложенное нами должно было быть знакомо тем
противникам общинного владения, которые называют себя последователями
Шеллинга и Гегеля. Каким же образом не догадались они, что, налегая
В латинском языке, который довел до крайнего совершенства
определение юридических понятий, слово injuria (несправедливость, injuria est, ubi
jus deest) прекрасно выражает развиваемую нами мысль, что какое бы то ни
было страдание, по какой бы то ни было причине претерпеваемое человеком,
составляет уже несправедливость: Injuriam passus surr — это выражение имеет
два смысла: 1) я подвергся незаконному лишению, 2) я подвергся какому бы то
ни было лишению того, чем пользовался; во втором смысле говорится,
например, injuriae tempestatum, morborum temporum — убытки, приносимые моей
ниве непогодами: лишения, которым подвергается мое здоровье от болезней;
потери и страдания, наносимые мне неблагоприятными обстоятельствами.
Повторяем, что если кто-нибудь не захочет согласиться на признание
всеобщего и неизменного господства этой нормы во всех без исключения
явлениях материального и нравственного, индивидуального и общественного
бытия, тот сделает нам большое одолжение, указав, хотя один факт, который
не был бы подчинен этому решительно всеобщему закону.
118
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
на первобытность этой формы отношений человека к земле, они тем
самым указывают в общинном владении черту, сильнейшим образом
предрасполагающую к возвышению общинного владения над част-
ною поземельною собственностью? Как могли они переносить
вопрос на почву, столь невыгодную для них? Тут один ответ возможен:
Quem Jupiter perdere vult44 и т. д., то есть в русской более мягкой
форме: кому по натуре вещей нельзя не проиграть дела, тот в довершение
своей беды сам делает гибельные для себя недосмотры.
Неужели в самом деле правдоподобно, чтобы один только факт
поземельных отношений был противоречием общему закону,
которому подчинено развитие всего материального и нравственного
мира? Неужели вероятно, чтобы для этого одного факта
существовало исключение из закона, действующего столь же неизменно и
неизбежно, как закон тяготения или причинной связи? Неужели при
одной фразе «общинное владение есть первобытная форма
поземельных отношений, а частная собственность вторая, последующая
форма», — неужели при одной этой фразе не пробуждается в каждом,
кто знаком с открытиями великих немецких мыслителей,
сильнейшее, непреоборимое предрасположение к мнению, что общинное
владение должно быть и высшею формою этих отношений?*
Действительно, норма, изложенная нами и несомненная для
каждого, хотя несколько знакомого с современным положением
понятий об общих законах мира, неизбежно ведет к такому построению
поземельных отношений:
Первобытное состояние (начало развития). Общинное владение
землею. Оно существует потому, что человеческий труд не имеет
прочных и дорогих связей с известным участком земли. Номады не
имеют земледелия, не производят над землею никакой работы.
Земледелие сначала также не соединено с затратою почти никаких
капиталов собственно на землю.
Если кому-нибудь мало покажется приведенных нами подтверждений
всеобщности этого закона: «конец развития по форме является
возвращением к его началу», для такого скептика мы готовы по первому его желанию
доказать ту же норму в развитии всех половых и семейных отношений,
политического устройства, законодательства вообще, гражданских и уголовных
законов, налогов и податей, науки, искусства, материального труда; для всего
этого не нужно будет нам ни особенной учености, ни долгих соображений, —
нужно только заглянуть, например, хотя в Гегеля: у него все это давным-давно
уже доказано и объяснено.
Критика философских предубеждений против общинного владения 119
Вторичное состояние (усиление развития). Земледелие требует
затраты капитала и труда собственно на землю. Земля улучшается
множеством разных способов и работ, из которых самою общею
и повсеместною необходимостью представляется удобрение.
Человек, затративший капитал на землю, должен неотъемлемо владеть
ею; следствие того — поступление земли в частную собственность.
Эта форма достигает своей цели, потому что землевладение не есть
предмет спекуляции, а источник правильного дохода.
Вот две степени, о которых толкуют противники общинного
владения, но ведь только две, где же третья? Неужели ход развития
исчерпывается ими? Промышленно-торговая деятельность усиливается
и производит громадное развитие спекуляции; спекуляция, охватив
все другие отрасли народного хозяйства, обращается на основную
и самую обширную ветвь его — на земледелие. Оттого поземельная
личная собственность теряет свой прежний характер. Прежде
землею владел тот, кто обрабатывал ее, затрачивал свой капитал на ее
улучшение (система малых собственников, возделывающих своими
руками свой участок, также система эмфитеозов и половничества по
наследству, с крепостною зависимостью или без нее); но вот является
новая система: фермерство по контракту; при ней рента,
возвышающаяся вследствие улучшений, производимых фермером, идет в руки
другому лицу, которое или вовсе не участвовало, или только в самой
незначительной степени участвовало своим капиталом в
улучшении земли, а между тем пользуется всею прибылью, какую
доставляют улучшения. Таким образом личная поземельная собственность
перестает быть способом к вознаграждению за затрату капитала на
улучшение земли. С тем вместе обработка земли начинает требовать
таких капиталов, которые превышают средства огромного
большинства земледельцев, а земледельческое хозяйство требует таких
размеров, которые далеко превышают силы отдельного семейства и по
обширности хозяйственных участков также исключают (при
частной собственности) огромное большинство земледельцев от участия
в выгодах, доставляемых ведением хозяйства, и обращают это
большинство в наемных работников. Этими переменами
уничтожаются те причины преимущества частной поземельной собственности
перед общинным владением, которые существовали в прежнее время.
Общинное владение становится единственным способом доставить
огромному большинству земледельцев участие в вознаграждении,
120
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
приносимом землею, за улучшения, производимые в ней трудом.
Таким образом, общинное владение представляется нужным не только
для благосостояния земледельческого класса, но и для успехов
самого земледелия; оно оказывается единственным разумным и полным
средством соединить выгоду земледельца с улучшением земли и
методы производства с добросовестным исполнением работы.
А без этого соединения невозможно вполне успешное
производство. Таково сильнейшее, непреоборимое расположение мысли, к
которому приводит каждого знакомого с основными воззрениями
современного миросозерцания именно та самая черта первобытности,
которую выставляют к решительной невыгоде для себя в общинном
владении его противники. Именно эта черта заставляет считать его
тою формою, которую должны иметь поземельные отношения при
достижении высокого развития; именно эта черта указывает в
общинном владении высшую форму у отношений человека к земле.
Действительно ли достигнута в настоящее время нашею циви-
лизациею та высокая ступень, принадлежностью которой должно
быть общинное владение, этот вопрос, разрешаемый уже не
помощью логических наведений и выводов из общих мировых законов,
а анализом фактов, был отчасти рассматриваем нами в прежних
статьях об общинном владении и с большею полнотою будет
переисследован нами в следующих статьях, которые обратятся к
изложению специальных данных о земледелии в Западной Европе и у нас.
Настоящая статья, имеющая чисто отвлеченный характер, должна
довольствоваться только логическим развитием понятий, знание
которых представляется одним из условий для правильного
взгляда на дело, а искажение или незнание которых послужило
основною причиною заблуждения для лучших между противниками
общинного владения. Из числа этих общих понятий за изложенным
нами положением современной науки о преемственности форм
непосредственно следует понятие о том, каждое ли отдельное
проявление общего процесса должно проходить в действительности
все логические моменты с полной их силою, или обстоятельства,
благоприятные ходу процесса в данное время и в данном месте,
могут в действительности приводить его к высокой степени
развития, совершенно минуя средние моменты или, по крайней мере,
чрезвычайно сокращая их продолжительность и лишая их всякой
ощутительной интенсивности.
Критика философских предубеждений против общинного владения 121
По методу современной науки разрешение вопроса относительно
многосложных явлений облегчается рассмотрением его в
простейших проявлениях того же процесса. По этой методе всегда стараются
начинать анализ с физических фактов, чтобы перейти к
нравственным фактам индивидуальной жизни, которая гораздо сложнее, и,
наконец, к общественной жизни, которая еще сложнее, а общественную
жизнь стараются рассмотреть по возможности в первоначальных ее
явлениях, наименее сложных, чтобы облегчить тем анализ
чрезвычайно запутанных явлений цивилизации наших стран.
Итак, начнем с процессов физической природы, например с
окисления, которое, достигнув очень высокой интенсивности, становится
горением. Посмотрим, каким образом этот процесс достигает
степени горения сам по себе, без всяких особенных обстоятельств,
например в дереве.
Ветер наломал огромную кучу высохших деревьев. Под влиянием
сырости дерево начинает гнить (разлагаться с поглощением
кислорода). От этого процесса внутри кучи температура все повышается
и повышается, гниение все усиливается с повышением температуры
и мало-помалу достигает той степени окисления, которая
называется брожением. Брожение усиливается, температура все возвышается;
наконец из средины кучи начинает идти гнилой пар, — это значит,
температура возвысилась до того, что центр кучи начал сохнуть
от собственного жара. Вот через несколько времени вместе с паром
из одних частей идет из других уже дым, — центр кучи начал
обугливаться. Мало-помалу из черного угля образуется раскаленный,
красный уголь; масса раскаленного угля увеличивается, и, наконец, в
прилежащих к ней частях вспыхивает пламя.
Какая длинная постепенность, как много степеней! 1)
проникновение сыростью; 2) гниение; 3) брожение; 4) просыхание; 5)
образование черного угля; 6) превращение черного в раскаленный; 7)
появление пламени. (Этот путь так длинен и труден, что мы не знаем,
удавалось ли разным массам дерева достичь горения по такому пути
хоть пять или шесть раз от самого начала лесов на земле до нашего
времени.)
Каждая из этих степеней — логический момент в процессе горения
дерева. Сколько времени требует такой ход процесса, мы не беремся
решить, но, конечно, требует он не одну и не две недели. Каково же
было бы нам, людям, если бы каждый раз, когда нужно нам пламя, мы
122
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
должны были бы ждать, пока успеем пропитать сыростью огромную
массу дерева, потом она станет гнить, начнет бродить и т. д. Не только
пришлось бы тогда роду человеческому вымереть всему, не отведав
ни щей, ни супа, вымереть с отмерзлыми ушами и пальцами от
первой суровой ночи, но и теперь при одном чтении нашего рассказа
об этом процессе читателю приходится скучно и чуть ли не тошно
от таких длиннейших рассуждений, ведущих — к чему? — к
тривиальнейшему замечанию, что гораздо скорее поленья, положенные в печь,
зажигаются прикосновением горящей спички или свечи к
подложенной под них бумаге, бересте или лучине. «Неужели я нуждаюсь в
доказательствах к подобным выводам?» — с гневом спрашивает читатель.
Нет, вы не нуждаетесь, — спокойно отвечаю я, — но нуждаются в них
ученые противники общинного владения, показывающие такую
сообразительность в своих выводах, такую наклонность не признавать
тривиальнейших истин и науки и обыденной жизни, такую
требовательность на доказательства этим трюизмам (как говорят англичане),
такую способность понимать смысл самых яснейших фактов, что вот
теперь мы принуждены объяснять им, какой смысл имеет тот очень
мудреный факт, что спичка при помощи растопки очень быстро
зажигает дрова, положенные в печь, а в следующих статьях будем
объяснять, что иной человек умирает бездетным, после другого остается
один сын, после третьего человек пять сыновей или больше, также
объяснять и доказывать, что солнечные лучи согревают землю и т. д.,
и т. д. Вы скажете: «Глупо и говорить об этом». Совершенная правда.
Но что же делать? Не изложи и не докажи мы всего этого подробно,
ученые противники общинного владения сейчас закричат: «Мы не
видим, на чем основаны ваши выводы!» и «Ваши выводы
неосновательны!». Мы не лишены надежды, что по поводу общинного
владения принуждены будем написать целую статью в доказательство
существования желудка у человека, — сообразите; каково придется вам,
читатель, тогда; утешьтесь же мыслью, что теперь, сравнительно
говоря, ваше положение еще довольно сносно. Успокоив вас, продолжаем
интересное рассуждение о месте, занимаемом фосфорною спичкою
в области философского миросозерцания.
Эта фосфорная спичка даст нам следующие выводы: 1) Когда
в одном теле известный процесс достиг высокой степени развития
(спичка уже зажглась), то при помощи этого тела он может быть
доведен до той же степени развития в другом теле гораздо скорее, неже-
Критика философских предубеждений против общинного владения 123
ли как достиг бы без помощи этого опередившего пособника (дрова
в печи от нашей спички зажигаются скорее, нежели загорелись бы
тогда, когда бы процесс окисления их остался без этого пособия).
2) Это ускорение совершается посредством соприкосновения
(зажженная спичка прикладывается к лучине, а лучина положена
подле поленьев).
3) Это ускорение состоит в том, что процесс прямо с первой
степени пробегает к последней, не останавливаясь на средних (в одну
секунду по приложении спички лучина уж производит из себя пламя,
через одну минуту производят его и поленья).
4) Средние степени, через которые быстро пробегает процесс,
вообще могут быть замечены только теоретическим наблюдением, а не
практическим чувством (полено, загораясь от лучины, загоревшейся
от спички, действительно несколько подвергается гниению,
брожению и т. д., но спросите об этом у вашей кухарки — она никогда не
замечала, чтобы сухие поленья, будучи подожжены, подвергались
гниению и т. д. Она, напротив, видит, что они «как только подложишь
огонь, в тою же секундую (простите неграмматичность ее языка) так
и вспыхнут». На философском языке это отношение выражается таю
«не достигая реального осуществления (то есть имеющего
практическую осязаемость), эти логические моменты развития не переходят
за границы идеального или логического бытия».
5) Если же из быстро пробегаемых моментов некоторые и
замечаются практическим ощущением (например, глаз кухарки замечает,
что каждая наружная часть полена, прежде нежели даст пламя,
несколько чернеет, то есть проходит степень черного обугливания,
предшествующего вспыхиванию), то они в общем итоге процесса
составляют лишь самую ничтожнейшую часть (черные части дерева
в каждую данную секунду по массе своей едва ли составляют и одну
тысячную часть массы, находящейся в пламени, а по практическому
значению своему в отношении к ощущениям и действиям,
производимым топкою печи, играют еще менее важную роль, — они разве
гомеопатическою дозою участвуют в чувстве теплоты, осязаемой
кухаркою, стоящею у печи, и в кипячении горшка щей, приставленного
кухаркою к огню).
Эти выводы, столь новые в мире науки, мы изложили с возможною
полнотою и с приведением элементов факта, из которых они
извлечены нами. Мы опасаемся, что противники общинного владения за-
124
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
кричат: «бездоказательно, неосновательно!» Мы желали бы
предупредить их справедливые сомнения и вместо одного факта (зажигание
печки спичкою) анализировать столь же ученым образом двадцать,
тридцать столь же многотрудных для понимания фактов, например
закваску теста посредством куска кислого теста или дрожжей,
отбирание загнивших яблок от свежих, чтобы не попортились свежие, и т. д.
Но нельзя же быть слишком предупредительными, наша статья и без
того уже чересчур длинна. Читателю, вероятно, слишком довольно
и одного анализа растапливания печки. Перейдем же от внешнего
физического мира к человеческой индивидуальной жизни и
посмотрим, как достигает человек сам собою, без посторонней помощи до
употребления той же самой фосфорной спички.
Сначала человек не умеет не только зажигать огня, но и
поддерживать зажженного: путешественники говорят о дикарях, которые,
подобно обезьянам, любят греться у дерева, зажженного молниею, и
горюют, когда оно начинает погасать, но не догадываются
подбрасывать в огонь хворосту. Потом человек научается зажигать дерево
трением двух кусков дерева — какое торжество для жизни! Но вот
придумывают средство ускорять их вспыхивание, вставляя между ними
кусок трута. Далее придумывают огниво и кладут на кремень трут.
Но трут принимает искру не довольно верно и быстро, — в нем
усиливают эту восприимчивость, пропитывая его селитрою. Теперь трут
превосходен; но все еще сколько хлопот, чтобы из его тлеющегося
состояния извлечь пламя: надобно «придувать» его к угольку, потом
«придувать» два уголька к лучинке, вложенной между ними. Но вот
изобретена серная спичка, прямо сама вспыхивающая от
прикосновения к труту: вновь какое великое торжество! Но огниво и кремень
кажутся уже слишком хлопотливыми. Вот найдено средство облекать
серный конец спички фосфором и упрочивать фосфор в
атмосферной среде другими оболочками и примесями. '
Какой длинный путь! Человеку нужно было не менее 7 345 лет,
чтобы пройти его. Каковы же теперь для каждого отдельного человека
результаты того, что некоторые люди дошли столь длинным и
трудным процессом до употребления фосфорных спичек? Доставление
возможности всем другим людям достичь того же самого, не мучась
прохождением этого страшно длинного пути; и выводы для явлений
индивидуальной человеческой жизни получаются те же самые, какие
были прежде получены нами для явлений физического мира:
Критика философских предубеждений против общинного владения 125
1) Когда известный процесс (например, способ добывания огня)
достиг в известном человеке известной степени развития (например,
употребления фосфорных спичек), достижение этой степени может
быть чрезвычайно ускорено в других людях (именно теперь каким-
нибудь дикарям, не умеющим зажигать огня, уже нет нужды тратить
7 345 лет, чтобы достичь до фосфорных спичек — употреблению их
каждый может выучиться в две секунды, а приготовлению в два часа).
2) Это ускорение совершается через сближение человека,
которому нужно достичь высшей степени процесса, с человеком, уже
достигшим ее (именно из Парижа человек с фосфорными спичками
приезжает в Центральную Африку или дикарь из Центральной
Африки в одно из селений, где уже есть фосфорные спички).
3) Это ускорение состоит в том, что процесс развития с
чрезвычайной быстротой пробегает с низшей степени все средние до
высшей. (Дикарям нет нужды учиться сначала употреблению огнива,
потом употреблению серной спички, — они прямо берутся за
фосфорную спичку.)
4) При этом ускорении процесса средние степени открываются
только теориею, достигают только теоретического существования как
логические моменты, почти не достигая или вовсе не достигая
реального существования. (Дикари, умеющие теперь добывать огонь только
трением двух кусков дерева, выучившись прямо употреблению
фосфорных спичек, вообще будут знать только по рассказам, что прежде
фосфорных спичек существовали серные, с кремнем и огнивом.)
5) Если же и достигают реального существования эти средние
степени, опускаемые ускоренным ходом развития, то лишь в самом
ничтожном размере по своей массе и еще в меньшем по практическому
значению своей роли. (Очень может быть, что найдутся между
дикарями чудаки, которые вздумают возиться с огнивом и серными спичками
и тогда, когда выучатся употреблению фосфорных; но эта причуда
будет разве у одного человека из десяти тысяч, да и тот будет возиться с
огнивом и серными спичками лишь от безделья и при безделье, а чуть
встретится ему нужда работать или потребность быстро добыть огонь,
он бросит свою причуду и черкнет по стене фосфорной спичкою.)
Читатель, не оскорбляйтесь этими длинными рассуждениями,
имеющими целью доказывать истины столь же сомнительные, как
и то, что человек видит предметы глазами, а не ушами, держит
карты (когда играет в ералаш) руками, а не носом, и т. п.: из-за вопроса,
126
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
доказываемого этими трюизмами, велись и ведутся ожесточенные
споры, и, поверьте, мы действительно боимся, что о нас закричат:
«Это неосновательно! Это бездоказательно!», когда мы в последних
строках статьи выскажем смысл этих анализов философского
значения фосфорных спичек и способа растапливать печь. Противники,
если только предвидят этот смысл (они высказывают такую
сообразительность, что мы не поручимся, предвидят ли они его), без
сомнения, уже возмущаются духом и вопиют: «Мы этого не знаем, мы этому
не верим! Вы говорите неосновательно, бездоказательно!»
Итак, в индивидуальной жизни средние моменты развития могут
быть пропускаемы в реальном процессе известного явления, когда
человек, в котором этот процесс стоит еще на низкой степени,
сближается с человеком, в котором он достиг уже гораздо высшей степени.
Мы доказали это анализом процесса, принадлежащего к
механической жизни. То же самое мы увидели бы в каждом другом явлении
всякой другой сферы индивидуальной жизни.
Например, письмо, одна из первых основ умственного
развития, идет следующим порядком: 1) изображаются самые предметы
(на этом остановились мексиканцы); 2) их изображения
сокращаются в иероглифы (на этом застает история египтян); 3) иероглифы
сокращаются в идеографы (на этом остановились китайцы); 4) из
идеографических знаков возникает алфавит, записывающий одну
грубейшую часть звуков, согласные, с пропуском гласных (семитическая
алфавитная система); 5) из семитического алфавита возникают наши
европейские (греческая система, происшедшая из финикийской),
в которых гласные звуки записываются наравне с согласными.
Скажите на милость, кому придет в голову, что когда европейцы
примутся образовывать дикарей, вовсе не умеющих писать, то эти
дикари сначала выучатся писать иероглифами, потом китайскими
знаками, потом еврейскими и, только уже пр'ошедши все эти
градации, могут начать писать по европейской системе?
Или в школах этих дикарей надобно будет преподавать
географию сначала по гомеровской системе (Океан есть река, и
Балтийское море одно и то же с Черным морем, а вся земля имеет вид
тарелки), а потом доказывать, что земля совершенно правильный шар,
и только потом уже открыть им, что это шарообразное тело — не
совершенный шар, а несколько раздуто под экватором и сплюснуто
в полюсах?
Критика философских предубеждений против общинного владения 127
Мы выбирали такие примеры, которые относились
преимущественно к индивидуальной жизни; но по чрезвычайно тесной связи
между развитием индивидуума и развитием общества они в
значительной степени касались и общественной жизни, например ее
материальной обстановки (фосфорная спичка) и умственных успехов
(письмо, преподавание наук). Теперь обратимся к таким явлениям,
которые принадлежат уже преимущественно к общественной
жизни, то есть могут осуществляться не иначе как по инстинктивному
расположению или сознательному соглашению общества. Сюда
относятся нравы, обычаи, законы и все так называемые общественные
учреждения в обширном смысле слова.
Мы сказали, что явления, за анализ которых беремся, принадлежат
собственно общественной жизни. Но общественная жизнь есть
сумма индивидуальных жизней, и если в индивидуальной жизни процесс
явлений может перебегать с низшего логического момента на
высший, пропуская средние, то из этого уже очевидно, что мы должны
ожидать встретить ту же возможность и в общественной жизни. Это
простой математический вывод. В самом деле, пусть не сокращенный
благоприятными обстоятельствами ход развития индивидуальной
жизни будет выражаться прогрессией:
2.4.8.16.32.64...
Пусть в этой прогрессии каждым членом обозначается
известный момент не ускоренного благоприятными обстоятельствами
развития.
Пусть общество состоит из А членов.
Тогда, очевидно, развитие общества выражается следующею
прогрессией:
1А.2А.4А.8А.16А.32А.64А...
Но мы видели, что ход индивидуальной жизни может перебегать
с первой ступени прямо на третью или на четвертую или седьмую, и
положим, что относительно известного понятия или факта он пошел
по следующему ускоренному пути:
1.4.64....
Тогда, очевидно, и ход общественной жизни относительно этого
явления будет:
LA4A.64A....
Кажется, это ясно. Но противники общинного владения или
притворяются незнающими, или действительно страждут незнанием
128
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
самых первоначальных логических приемов; потому разъясним
популярнейшим примером эту и без того ясную теорему.
Одно из общественных учреждений есть военная сила; один из
элементов ее — вооружение. Не ускоренное обстоятельствами
развитие вооружения таково: 1) обыкновенная дубина; 2) дубина получает
каменное или металлическое острие, которым или тыкают, держа его
в руках, или бросают в неприятеля; 3) уменьшенное копье последнего
рода начинают бросать с помощью тетивы,— получаются лук и
стрела; 4) совершенствуясь, лук получает линейку с вырезкою для
вкладывания стрелы, и образуется самострел; совершенствуясь, линейка с
вырезкою превращается в трубочку с продольным разрезом для тетивы;
5) удар тетивы заменяется ударом пороха, лук отпадает, остается
трубка, в которой разрез уничтожается, заменяясь затравкою, а стрела
сокращается в пулю, — вот уже и ружье, но первоначально это ружье не
имеет замка, а зажигается фитилем; 6) изобретается кремневый замок;
7) он заменяется пистонным замком; 8) в стволе ружья делаются
нарезки — мы получаем охотничью винтовку; 9) охотничья винтовка не
годится для войск, покуда не изобретены для нее особенные пули, —
они изобретаются, и вот войско вооружается штуцером.
Вообразим себе, что в Новой Голландии живут еще племена
дикарей, не знающих никакого оружия, кроме дубины. Вот открыты
золотые россыпи; европейские авантюристы (со штуцерами) проникают
в места, еще не посещавшиеся европейцами, и находят этих дикарей:
спрашивается, понадобится ли этим дикарям переходить от дубины
к копью, от копья к луку, от лука к самострелу, от самострела к
фитильному ружью и т. д., если они прямо будут выменивать у
европейцев штуцера? Этим не кончилось дело.
С каждым родом вооружения соединены известные построения
войска. Копье, которое держится в руках, создает фалангу;
кремневому ружью соответствует сомкнутый строй; штуцеру — рассыпной
строй. Погодите, и этим еще не кончилось дело. Различные
построения требуют различных качеств от воина. Например, в сомкнутом
строю солдат, прослуживший всего только один год, никуда не
годится. В рассыпном строю он ничуть не хуже солдата, прожившего хотя
бы полтораста лет в казармах.
Что же из этого следует? То, что у дикарей, о которых мы говорим,
в существовании военной силы будет недоставать многих периодов,
через которые прошла она в Европе.
Критика философских предубеждений против общинного владения 129
Из нестройной дубино-махающей толпы их военная сила прямо
обратится в милицию, подобную северо-американской. Они не будут
знать ни казарм, ни регулярных войск, ни всего того, что соединено
с этими учреждениями. А с этими учреждениями соединен весь тот
порядок вещей, который произвел историю континентальной
Европы от Карла VII французского и Карла V испанско-немецкого до
вчерашнего дня. Из блаженного общественного быта лукиановых скифов
и тацитовых германцев эти дикари перейдут прямо к блаженному
быту, о котором мы с вами, читатель, можем только мечтать. История,
как бабушка, страшно любит младших внучат. Tarde venietibus дает
она не ossa, a medullam ossium45, разбивая которые Западная Европа
так больно отбила себе пальцы.
Но мы увлеклись в дифирамб, заговорили с читателем, — мы
забыли, что должны беседовать с противниками общинного владения,
то есть заниматься азбукою. Возвратимся же к азбучным понятиям.
Нас занимал вопрос: должно ли данное общественное явление
проходить в действительной жизни каждого общества все
логические моменты, или может при благоприятных обстоятельствах
переходить с первой или второй степени развития прямо на пятую или
шестую, пропуская средние, как это бывает в явлениях
индивидуальной жизни и в процессах физической природы?
Единство законов во всех сферах бытия, зависимость
общественной жизни от индивидуальной, математические формулы —
все заставляет решать эту задачу утвердительным образом каждого,
имеющего хотя какое-нибудь понятие об истории или современной
философии, или хотя о Гегеле*, или даже хотя о Шеллинге, или даже
хотя о здравом смысле; совершенная достаточность даже одного
последнего качества для разрешения задачи, вероятно, с достаточною
ясностью окажется из следующих вопросов:
Низшая форма религии, фетишизм, не знает вражды к иноверцам.
Но другие языческие формы религии более или менее наклонны
к преследованиям за веру. Грубые народы новой Европы также имели
Гегель положительно говорит, что средние логические моменты чаще
всего не достигают объективного бытия, оставаясь только логическими
моментами. Довольно того, что известный средний момент достиг бытия где-
нибудь и когда-нибудь, этим избавляется процесс развития во всех других
временах и местах от необходимости доводить его до действительного
осуществления, прямо говорит Гегель.
130
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
инквизицию. Только в последнее время европейская цивилизация
достигла того высокого понятия, что преследование иноверцев
противно учению Христа. Спрашивается теперь: когда какой-нибудь народ,
погрязавший в грубом фетишизме, просвещается христианством,
введет ли он у себя инквизицию или может обойтись без нее?
Надобно ли желать и можно ли надеяться, что у этого народа прямо
водворится терпимость или он начнет воздвигать костры, и эта средняя
степень так необходима в его развитии, что напрасно и удерживать
его от гонений на иноверцев?
Какой-нибудь народ, живущий в племенном быте, основные черты
которого самоуправление (self-goverment) и федерация, принимает
европейскую цивилизацию; спрашивается, примутся ли у него прямо
высшие черты этой цивилизации, столь сродные его прежнему быту, или он
неизбежно введет у себя бюрократию и другие прелести XVII века?
Этот народ, не имея ни фабрик, ни заводов, не имел и понятия
о протекционной системе; спрашивается, необходимо ли ему
вводить у себя протекционизм, через который прошла и от которого
отказалась европейская цивилизация?
Число таких вопросов можно было бы увеличить до
бесконечности; но кажется, что и сделанных нами уже достаточно для
получения полного убеждения в необходимости применять к явлениям
общественной жизни все те выгоды, какие нашли мы
прилагающимися к явлениям индивидуальной жизни и материальной природы.
Не доверяя ни сообразительности, ни памяти противников
общинного владения, мы повторим в третий раз эти выводы, чтобы хотя
сколько-нибудь запечатлелись они в мысли этих ученых людей, и по
правилу первоначального преподавания опять-таки к каждому
выводу присоединим ссылку на ту черту факта, представителем которой
служит вывод. Черты эти мы будем брать из последнего вопроса, для
большей определительности применив его хотя к новозеландцам,
с которыми нянчатся англичане*.
На север от Франции лежат два больших острова, которые вместе
составляют Соединенное королевство Великобритании и Ирландии. Юго-восточная
часть восточного острова называется Англиею, а жители ее — англичанами.
Новою Зеландиею называется группа из двух больших островов, лежащих
не очень далеко от Новой Голландии, иначе называемой Австралиею.
Противники общинного владения выказывали такую сообразительность, что мы
считаем не лишним пояснить употребленные нами собственные имена.
Критика философских предубеждений против общинного владения 131
1. Когда известное общественное явление в известном народе
достигло высокой степени развития, ход его до этой степени в другом,
отставшем народе может совершиться гораздо быстрее, нежели как
совершался у передового народа. (Англичанам нужно было более
нежели 1 500 лет цивилизованной жизни, чтобы достичь до
системы свободней торговли. Новозеландцы, конечно, не потратят на это
столько времени.)
2. Это ускорение совершается через сближение отставшего
народа с передовым. (Англичане приезжают в Новую Зеландию.)
3. Это ускорение состоит в том, что у отставшего народа развитие
известного общественного явления «благодаря влиянию
передового народа прямо с низшей степени перескакивает на высшую,
минуя средние степени. (Под влиянием англичан новозеландцы прямо
от той свободной торговли, которая существует у дикарей, переходят
к принятию политико-экономических понятий о том, что свободная
торговля — наилучшее средство к оживлению их промышленной
деятельности, минуя протекционную систему, которая некогда
казалась англичанам необходимостью для поддержки промышленной
деятельности.)
4. При таком ускоренном ходе развития средние степени,
пропускаемые жизнью народа, бывшего отсталым и пользующегося
опытностью и наукою передового народа, достигают только
теоретического бытия как логические моменты, не осуществляясь фактами
действительности. (Новозеландцы только из книг будут знать о
существовании протекционной системы, а к делу она у них не будет
применена.)
5. Если же эти средние степени достигают и реального
осуществления, то разве только самого ничтожного по размеру и еще более
ничтожного по отношению к важности для практической жизни.
(Люди с эксцентрическими наклонностями существуют и в Новой
Зеландии, как повсюду; из них некоторым, вероятно, вздумается быть
приверженцами протекционной системы; но таких людей будет один
на тысячу или на десять тысяч человек в новозеландском обществе,
и остальные будут называть их чудаками, а их мнение не будет иметь
никакого веса при решении вопросов о заграничной торговле.)
Сколько нам кажется, эти выводы довольно просты и ясны, так
что, может быть, не превысят разумения тех людей, для которых
писана наша статья.
132
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Итак, два печатные листа привели нас к двум заключениям,
которые для читателя, сколько-нибудь знакомого с понятиями
современной науки, достаточно было бы выразить в шести строках:
1. Высшая степень развития по форме совпадает с его началом.
2. Под влиянием высокого развития, которого известное явление
общественной жизни достигло у передовых народов, это явление
может у других народов развиваться очень быстро, подниматься с
низшей степени прямо на высшую, минуя средние логические моменты.
Какой скудный результат рассуждений, занявших целые два
печатные листа! Читатель, который не лишен хотя некоторой
образованности и хотя некоторой сообразительности, скажет, что
довольно было просто высказать эти основания, столь же несомненные
до тривиальности, как, например, впадение Дуная в Черное море,
Волги — в Каспийское, холодный климат Шпицбергена и жаркий
климат острова Суматры и т. д. Доказывать подобные вещи в книге,
назначенной для грамотных людей, неприлично. Совершенно так.
Доказывать и объяснять подобные истины неприлично. Но что же
вы станете делать, когда отвергаются заключения, выводимые из этих
истин, или когда вам сотни раз с самодовольством повторяют будто
непобедимое возражение какую-нибудь дикую мысль, которая может
держаться в голове только по забвению или незнанию какой-нибудь
азбучной истины?
Например, вы говорите: «Общинное владение землею должно
быть удержано в России». Вам с победоносною отвагою возражают:
«Не общинное владение есть первобытная форма, а частная
поземельная собственность явилась после, следовательно, она есть более
высокая форма поземельных отношений». Помилосердуйте о себе, господа
возражатели, помилосердуйте о своей ученой репутации: ведь именно
потому, именно потому, именно потому, что общинное владение есть
первобытная форма, и надобно думать, что высшему периоду развития
поземельных отношений нельзя обойтись без этой формы.
О том, как сильно налегали противники общинного владения
на первобытность его, мы уже говорили в начале статьи. Можно
предполагать, что теперь они увидели, как странно поступали, и поймут,
что та самая черта, которую они воображали свидетельствующею
против общинного владения, чрезвычайно сильно свидетельствует за него.
Но арсенал их философских возражений еще не истощен. Они с
такою же силою налегают и на следующую мысль: «Какова бы ни была
Критика философских предубеждений против общинного владения 133
будущность общинного владения, хотя бы и справедливо было, что
оно составляет форму поземельных отношений, свойственную
периоду высшего развития, нежели тот, формою которого является частная
собственность, все-таки не подлежит сомнению, что частная
собственность составляет средний момент развития между этими двумя
периодами общинного владения; от первого перейти к третьему нельзя,
не прошедши через второе. Итак, напрасно думают русские
приверженцы общинного владения, что оно может быть удержано в России.
Россия должна пройти через период частной поземельной
собственности, которая представляется неизбежным средним звеном».
Этот силлогизм постоянно следовал за их фразами о
первобытности как черте, свидетельствующей против общинного владения.
Он также выставлялся непобедимым аргументом против нас. Теперь
люди, прибегавшие к нему, могут судить сами о том, до какой степени
он сообразен с фактами и здравым смыслом.
Кончив дело с предубеждениями против общинного владения,
вытекавшими из непонимания, забвения или незнания общих
философских принципов, мы в следующий раз займемся теми
предубеждениями, которые вытекают из непонимания, забвения или незнания
общих истин, относящихся к материальной деятельности человека,
к производству, труду и общим его законам. Теперь мы говорили о
сообразительности философствующих мудрецов. В следующий раз
будем говорить о той же способности экономизирующих мудрецов46.
Если вы, читатель, так счастливы, что не занимались обучением
малолетних детей грамоте, вы теперь, пробежав нашу статью,
писанную не для вас, человека с обыкновенным запасом сведений, а для
мудрецов, изучавших досконально кто Шеллинга, кто Гегеля, кто Адама
Смита, — если вы не были учителем приходского училища, то,
пробежав эту статью, можете чувствовать, как утомительна, тяжела
обязанность этого бедного труженика.
Согласитесь, редко приходилось вам испытывать такую страшную
скуку, какая производится чтением нашей статьи, весь характер
которой выражается такою формулою:
бе — а ба, бе — а ба, баба.
Повторим еще. Это что? — б. А это? — а. Что же выходит?— ба.
А это? — тоже б. А это? — тоже а. Что же выходит? —тоже ба. Ну, что
же выходит, если сложить вместе? — баба.
134
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Повторим еще:
бе а ба, бе — а ба, баба
Повторим еще... и т. д.
Вам было скучно, а ведь вы пробежали статью в полчаса; судите
же, каково было нам, писавшим ее, — ведь мы просидели за нею
целых три дня.
Но как бедный труженик, приходский учитель, подкрепляет свои
силы мыслью о высоком и великом значении своего утомительного
дела, так подкреплялись и мы, припоминая, какое важное значение
для прояснения всего взгляда на мир имеют трюизмы, изложением
которых мы занимались. Они да еще с десяток других подобных
трюизмов —
Вот Гегель, вот книжная мудрость,
Вот смысл философии всей47.
Первый наш трюизм — не судите о нем легко: вечная смена форм,
вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием
или стремлением вследствие усиления того же стремления, высшего
развития того же содержания, — кто понял этот великий, вечный,
повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению,
о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие!
Повторяя за поэтом:
Ich hab, mein Sach auf Nichts gestellt
Und mir gehört die ganze Welt48 —
он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «пусть
будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на нашей улице
праздник!».
А второй принцип — о, второй принцип чуть ли не интереснее
даже первого. Как забавны для человека, постигшего этот принцип,
все толки о неизбежности того или другого зла, о необходимости
нам тысячу лет пить горькую чашу, которую пили другие: да ведь она
выпита другими, чего же нам-то пить? Их опыт научил нас, их
содействие помогает нам приготовить новое питье, повкуснее и
поздоровее. Все, чего добились другие, — готовое наследие нам. Не мы
трудились над изобретением железных дорог, — мы пользуемся ими.
Не мы боролись с средневековым устройством, но когда падает оно
Критика философских предубеждений против общинного владения 135
у других, не продержится оно и у нас: ведь мы в Европе живем, этого
довольно, — все хорошее, что сделано каким бы то ни было
передовым народом для себя на три четверти подготовлено уже тем самым и
для нас: надобно только узнать, что и как сделано, надо понять
пользу, и тогда все будет легкое
Нас давит времени рука,
Нас изнуряет труд.
Всесилен случай, жизнь хрупка,
— Но то, что жизнью взято раз,
Не в силах рок отнять у нас49.
О НОВЫХ УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО БЫТА
(Статья первая)
Возлюбил еси правду и возненавидел еси
беззаконие: сего ради помаза тя Бог твой (Псал., XLV,
стих. 8)
Высочайшими рескриптами, данными 20 ноября, 5 и 24 декабря
1857 года, благополучно царствующий государь император начал
дело, с которым по своему величию и благотворности может быть
сравнена только реформа, совершенная Петром Великим.
Царствования Петра III и Екатерины II, Александра I и Николая I были
ознаменованы многими благодетельными для государства мерами
чрезвычайной важности: жалованная грамота дворянству, устройство
областного управления, организация центрального правительства
учреждением министерств и государственного совета, издание Свода
законов, — каждый из этих правительственных актов был великим
шагом вперед и принес неисчислимые блага государству. Но все они
далеко не имеют такого всемирно-исторического значения, какое
принадлежит делу уничтожения крепостного состояния в России,
начатому рескриптами, названными выше. То были меры, без сомнения,
могущественным образом улучшавшие нашу государственную жизнь,
но все-таки каждая из них касалась только отдельной ветви ее:
корень, из которого возникали почти все наши бедствия и недостатки,
оставался нетронутым. Первая величайшая несправедливость
продолжала существовать, и влиянием ее искажались все другие
проявления нашей жизни, отравлялись все части нашего государственного
организма. Крепостным правом парализовались все заботы
правительства, все усилия частных людей на благо России. Ни правильный
ход администрации, ни верное отправление правосудия не были
возможны при таком порядке вещей, при котором положение большей
части отношений по имуществу не было сообразно с принципами
разумности и права, при котором сословие, имеющее своими
сочленами почти всех лиц, руководящих исполнением законов,
находилось в условиях быта, решительнейшим образом нарушавших всякую
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
137
идею справедливости, при котором другое сословие, составляющее
почти половину населения в Европейской России, стояло (по
выражению, не нам принадлежащему) вне закона50. Не могли приносить
при таком положении дел никакие правительственные меры
надлежащих плодов, не могла даже действовать сколько-нибудь
правильным образом государственная организация. Могло ли, например,
учредиться правосудие в таком обществе, в котором все
значительнейшие и влиятельнейшие жители каждой области, с одной стороны,
определяли важнейшую часть своего гражданского быта, свои
доходы и свою власть над сотнями и тысячами людей, руководясь
единственно произволом, с другой стороны — сознавали, что строгое
исполнение закона областной администрацией и внимание судебных
властей к жалобам на нарушение закона было бы и стеснительно,
и убыточно, и даже, по господствовавшему у нас ложному понятию,
обидно почти для каждого из них, влиятельных жителей области.
Они должны были на все, что делалось вокруг них, смотреть сквозь
пальцы, потому что их собственные действия нуждались в подобной
же противозаконной снисходительности. Строгая честность
администрации, неукоснительное правосудие во всех странах
поддерживается сочувствием и содействием людей, владеющих значительной
недвижимой собственностью, потому что они более всех других
заинтересованы строгим охранением порядка. У нас было напротив.
Ненормальное положение землевладельца относительно людей,
населяющих его землю, нуждалось в том, чтобы и все другие отрасли
областной жизни находились в таком же ненормальном,
беспорядочном состоянии. Возьмем одну только отрасль этих последствий
крепостного права — состояние судебной областной власти и земской
полиции. Все, в том числе и дворяне, жалуются на неправильность
хода действий по этим частям общественной жизни. По-видимому,
совершенно от дворян зависело бы отстранить эти неправильности,
потому что большинство членов (и в том числе председатели) в
уездных и губернских судебных местах и исправники, руководящие
уездной полицией, избираются помещиками. Но эти чиновники и судьи
избираются с тем, конечно, молчаливым условием, чтобы не
вмешивались в сельский быт помещиков. Таким образом, по
необходимости создается положение неразумное: если бы избранный чиновник
вздумал строго исполнять обязанности, возлагаемые на него законом
и чувством правды, он восстановил бы против себя людей, от кото-
138
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
рых зависит его выбор и в зависимости от которых находится он
постоянно во все отправление своей должности; стало быть, идут на эти
места и удерживаются на них только неисполнением и часто прямым
нарушением законных обязанностей. Таково положение избранного.
Избиратели же сами, выводя его на путь, идущий мимо закона и
часто в противность закону, не могут подвергать его серьезному отчету
за то, что он действует самопроизвольно: только этой
произвольностью, по которой он постоянно нарушает закон, когда то считает
удобным для себя, и сохраняется неприкосновенность их
собственного сельского быта. Все неудовольствия с их стороны на
чиновника — мимолетные слова, лишенные возможности примениться
к делу; правда, каждому горько бывает в ту минуту, как чиновник по
своему произволу берет с него взятку или оказывает ему
противозаконное притеснение; но если отнять у чиновника произвол по
гораздо многочисленнейшим и по гораздо важнейшим делам,
помещик потерпел бы невыгоду; случайное обстоятельство или
временное раздражение заставляют иногда землевладельца скорбеть
о нарушении закона, но постоянный интерес его состоит в том,
чтобы закон не был исполняем. Потворство избранному для того,
чтобы самому пользоваться потворством от него, — вот глубочайшее
и инстинктивное стремление огромного большинства избирателей.
Это стремление не зависит от сознательного или
бессознательного желания; оно влагается в натуру ненормальностью отношений,
доселе существовавших в сельском быте; оно управляет действиями
человека независимо от слов, независимо от его образа мыслей. Тот,
чьи домашние дела не могут выдерживать контроля, инстинктивно
соглашается на всякие уступки, лишь бы избежать контроля.
Независимым и твердым образом может действовать в гражданском быту
один лишь тот, кто чувствует себя совершенно чистым и по закону, и
по совести в своем быту.
При существовании крепостного права помещик находился в
таком отношении к правосудию и администрации, которое подобно
отношению к ним человека, имеющего два процесса: один на очень
значительную сумму, по которому закон против него, другой на
маловажную сумму, по которому закон за него; какого суда, какой
администрации будет желать этот человек? Конечно, и совесть, и выгода
заставляли бы его желать по поводу маленького процесса, чтобы суд
был справедлив, администрация честна и верна; тогда он выиграл бы
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
139
свой маленький процесс, и по приговору суда взыскание было бы
скоро и точно совершено в его пользу администрацией. Без сомнения,
это было бы ему приятно; но каков был бы результат справедливости
в суде, верности в администрации для его большой тяжбы? Эта тяжба
была бы проиграна, и взыскание по ней быстро и неукоснительно
было бы произведено с него. Пускай же будут подкупные судьи, —
только их продажность может решить тяжбу, для него важнейшую,
в его пользу. Пускай же будут продажные администраторы, — только
их продажность даст ему средства уклониться от платежа, если суд
будет справедлив, или доставить суду подложные сведения, по
которым дело решилось бы в его пользу. Разумеется, этот человек может
досадовать на продажность и неправду, по которой проиграет он
свое маловажное правое дело, но никак не захочет он изгнать из суда
и администрации неправду, которая одна полезна ему по его
большому процессу51.
Мы коснулись только одного из бесчисленного множества
последствий, возникавших от крепостного права. Какую бы отрасль
общественной жизни ни взяли мы, в каждой оказываются точно
такие же действия этого коренного зла, как в областном
судопроизводстве и управлении. Например, что может быть ближе к сердцу
людей, пользующихся и досугом, и избытком, нежели желание дать
своим детям образование? Но и в этом случае человек, богатство
которого основано на крепостном праве, не имеет ни надобности, ни
охоты поступать так, как поступал бы он, если бы он не связан был
ненормальными условиями своего быта. Из двух сторон, по которым
образование составляет предмет человеческих желаний, ни та, ни
другая не имеют при крепостном праве того интереса, какой дается
им всякими другими отношениями: практическая польза
образованности наименее чувствительна для отца, оставляющего своим детям
крепостное поместье, а идеальная привлекательность просвещения
далеко уступает в его мнении опасностям и неприятностям,
возникающим для него от науки. Справедливость, уважение к достоинству
человека — это идеи, непримиримые с крепостным правом, а наука
внушает их своему воспитаннику. В человеке просвещенном доходы
и власть, проистекающие из крепостного права, найдут порицателя;
такой человек едва ли будет способен извлекать из своих крепостных
подданных такие выгоды, как тот, кому и в голову не приходило, что
этот быт дурен. Лучше же не приготовлять себе в сыне порицателя,
140
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
быть может противника; лучше не лишать этого сына способности
пользоваться всеми выгодами наследства. Но говорят, будто
образование необходимо и для хорошего устройства житейских дел, будто
человек с неразвитой головой не умеет открывать источников для
увеличения своих доходов? Так, если эти доходы зависят от
сообразительности и предприимчивости; но при крепостном праве
вовсе не так. Увеличивать господскую запашку или оброк — вот и весь
секрет к увеличению доходов; тут не нужно никаких соображений,
не нужно даже никаких расчетов; не хуже первого мудреца в мире
круглый невежда сумеет сказать своему управляющему или старосте:
«Я хочу иметь вместо десяти тысяч пятнадцать; потому приказываю
запахивать тяглу на моих полях вместо двух десятин по три или
платить вместо двадцати рублей по тридцати». Этими словами
оканчивается все дело при крепостном праве: скажите же, к чему тут
хлопотать о развитии головы? Если таково влияние крепостного права на
учреждения, уже существующие, на потребности, уже пробудившиеся
в обществе, то легко заключить, до какой степени затрудняется им
всякое нововведение, к которому желает приступить правительство
для увеличения государственного могущества или благосостояния.
Укажем хотя на один частный случай. Постепенное понижение
нашего тарифа показывает, что правительство желает избавить
народную жизнь от громадных потерь, приносимых крайним развитием
протекционной системы. Скажите же, легко ли объяснить
огромность этих потерь людям, которые основывают фабрики и заводы
на основании обязательного труда, чуждого и противного всякому
здравому расчету? Каким образом, например, убедить в
невыгодности свеклосахарного производства такого заводчика, который или
сам не знает, во сколько обходится труд, употребляемый на его
заводе, или говорит: «Мне некуда девать рук; я построил завод потому, что
иначе не знал бы, как извлечь из них хотя какую-нибудь прибыль».
Это частный случай, маловажный в сравнении со многими
другими. Вообще правильное распределение государственных налогов и
повинностей невозможно при крепостном праве; оно делает
большую часть населенной территории государства какой-то
привилегированной землей, через это до излишества обременяет налогами
другую, меньшую часть и значительно уменьшает государственные
доходы. Рациональный бюджет невозможен при крепостном праве;
этим одним дается уже достаточное понятие о его вредном влиянии
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
141
на все без исключения отрасли государственной жизни, потому что
разумная финансовая система составляет первое условие всего
государственного благоустройства.
Дух сословия, имеющего главное участие в государственных
делах, организация войска, администрация, судопроизводство,
просвещение, финансовая система, чувство уважения к закону, народная
нравственность, народное трудолюбие и бережливость — все это
сильнейшим образом страдает от крепостного права, все искажается
им в настоящем, и сильнейшее препятствие в нем встречается каждым
нововведением, каждым улучшением для будущего. Много говорили
мы о наших недостатках и множество всевозможных недостатков
находили в себе, но общий главнейший источник всех их —
крепостное право; с уничтожением этого основного зла нашей жизни каждое
другое зло ее потеряет девять десятых своей силы. Потому-то дело,
начатое рескриптами 20 ноября, 5 и 24 декабря, представляется столь
великим, что по сравнению с ним маловажны кажутся все реформы
и улучшения, совершенные со времен Петра. С царствования
Александра II начинается для России новый период, как с царствования
Петра. История России с настоящего года будет столь же различна от
всего предшествовавшего, как различна была ее история со времен
Петра от прежних времен. Новая жизнь, для нас теперь
начинающаяся, будет настолько же прекраснее, благоустроеннее, блистательнее
и счастливее прежней, насколько сто пятьдесят последних лет были
выше XVII столетия в России.
Блистательные подвиги времен Петра Великого и колоссальная
личность самого Петра покоряют наше воображение; неоспоримо
громадно и существенное величие совершенного им дела. Мы не
знаем, каких внешних событий свидетелями поставит нас будущность.
Но уже одно только дело уничтожения крепостного права
благословляет времена Александра II славой, высочайшей в мире.
Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает
Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей
Европы, — счастьем одному начать и совершить освобождение своих
подданных. Длинный ряд великих монархов во Франции со времен
Людовика Святого стремился к делу освобождения французских
поселян, и ни у кого из них недостало силы совершить это дело.
Благороднейший человек своего времени, Иосиф II австрийский также
успел сделать только первый шаг к освобождению своих подданных.
142
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Счастливее французских королей и великого чистотой своих
намерений императора австрийского были короли прусские; благосклонная
судьба дала монархическому правлению Пруссии вполне совершить
это благодеяние; но слава его разделяется между двумя монархами:
Фридриху II принадлежит честь многих законодательных мер,
венцом которых было окончательное уничтожение феодальных
отношений при Фридрихе-Вильгельме III. В русской истории вся эта слава
будет сосредоточиваться на одной главе Александра II; его рескрипты
и полагают теперь начало величайшему из внутренних
преобразований и определяют постепенный ход этого преобразования до самого
конца.
Из бесчисленных благих последствий уничтожения крепостного
состояния в России мы теперь хотим рассмотреть кратким образом
только одну экономическую сторону дела, оставляя до будущих
статей рассмотрение его в историческом, юридическом,
административном и государственном отношениях. Даже и экономическую
сторону его мы не беремся изложить во всей ее полноте; мы коснемся
только некоторых из вопросов, ею возбуждаемых, именно таких,
которые подвергаются в обществе многочисленным толкам и решение
которых в пользу освобождения объявляется сомнительным от иных
людей, по странному заблуждению воображающих, что их выгоды
соединены с сохранением крепостного права.
Прежде всего, должны мы говорить здесь о мнении, будто в
настоящей степени развития русской жизни сохранение крепостного
права могло бы быть выгодным для сельского хозяйства, будто бы
с уничтожением обязательного труда должно уменьшиться
количество пахотных полей. Не удивительно было бы слышать
подлинные слова от людей, думающих, что земной шар стоит неподвижно,
а солнце обращается вокруг него, или полагающих, что мы с
господствующим у нас крепостным правом богаче всех других европейцев;
но изумительно то, что к стыду науки встречаются люди, которые,
по-видимому, знакомы с политической экономией, а между тем
имеют решимость говорить о пользе крепостного права для
земледелия. Между ними особенным авторитетом пользуется Тенгоборский.
Мы не знаем, действительно ли он думал о крепостном праве так, как
писал; мы знаем только, что при издании его книги в русском
переводе52 переводчик, к сожалению, не рассудил, что честь науки
требовала выбросить дурные страницы, написанные Тенгоборским об этом
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
143
предмете, если нельзя было прибавить к ним примечаний, которыми
бы восстановилась искаженная автором истина; мы можем теперь
сделать это.
«Многие иностранные и отечественные экономисты, — говорит
Тенгоборский, — приписывают почти исключительно нашей системе
крепостного права нерадивость поселянина в обработке как той
земли, которую пашет он на помещика, так и той, которую пашет он на
себя, и эту последнюю, говорят они, не считает он своей
собственностью. Прежде всего, мы должны заметить здесь, что вообще ошибочно
представляют себе мысли русского мужика о крепостном состоянии
и соединенной с ним зависимости и что крепостной крестьянин
вовсе не так равнодушен к данной ему земле, как предполагают. Каждый,
близко знающий наших крестьян, имел довольно случаев убедиться,
что они считают самих себя принадлежащими своим господам, но
что в то же время каждый из них считает ту землю, которую пашет на
себя, своей собственностью или скорее частью собственности своей
общины, частью, выделенной ему по его праву на такой участок, и
что, следовательно, он не может быть равнодушен к этой земле. Если,
несмотря на то, русский крестьянин часто очень нерадиво
обрабатывает свое поле, это надобно приписать скорее другим причинам,
о которых мы еще будем иметь случай говорить*. Крепостное право,
без всякого сомнения, может и должно иметь неблагоприятное
влияние на земледелие, потому что обязательный труд всегда менее
производителен, нежели свободный (не с точки зрения выгод владельца,
потому что есть случаи, в которых при замене обязательного труда
наемным не вознаградилось бы для собственника происходящее от
такой замены увеличение издержек производства), но с общей точки
зрения на производительность труда в создании ценностей; потому
что обязательный труд исполняется всегда более или менее
небрежно, отчего происходит потеря времени и производительных сил и,
* Эти причины, по мнению Тенгоборского, — общинное владение и
наклонность к бродячей жизни. О первом можно еще думать так и иначе, хотя
и тут Тенгоборский, по нашему мнению, сильно ошибается. Но какая
наивность в экономисте толковать о наклонности к бродячей жизни, будто речь
идет о каких-то поэтических бедуинах, а не о прозаическом русском мужике,
у которого есть поговорка: «от добра добра не ищут», есть также поговорка: «на
одном месте и камень мохом обрастает», и который потому с незапамятных
времен сидит всем своим родом на одном месте, если можно кормиться, не
уходя с него.
144
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
стало быть, урон в национальном хозяйстве. Неоспоримо также, что
крепостные повинности, когда они слишком обременительны,
часто отнимают у крепостного мужика средства хорошо обрабатывать
свою землю; но влияние этой причины на состояние нашего
земледелия не так громадно, как вообще думают. Чтобы судить о степени
влияния крепостного права на наше сельское хозяйство, надобно
сначала принять в соображение численное отношение крепостных
крестьян к свободным сельским сословиям».
Затем Тенгоборский начинает вычисление, результатом которого
оказываются следующие цифры:
Число душ муж. пола
Крепостных крестьян разных наименований 11 683 200
Свободных сельских сословий 11 687 500
Из этой таблицы Тенгоборский делает такое заключение:
«Сравнивая эти два итога, мы видим, что число крестьян,
подверженных обязательному труду, равно числу крестьян, свободно
располагающих своим трудом, и если принять в расчет, что у многих
помещиков барщина заменена оброком, то можно принять, что более
двух третей производительной земли возделывается не по системе
обязательного труда. Итак, он не может иметь на состояние нашего
земледелия такого общего влияния, как думают.
Как ни велики с общей агрономической точки зрения невыгоды
обязательного труда, но в настоящее время для значительной части
России он еще составляет необходимость нашего земледельческого
состояния, потому что: 1) масса свободных капиталов, которые
надлежало бы обратить на земледелие для заведения рационального
хозяйства с наемным трудом, не соответствует безмерной обширности
возделываемых земель; 2) во многих областях ценность
сельскохозяйственных продуктов не дала бы ренты, достаточной для покрытия
издержек производства; 3) в провинциях, бедных торговой
промышленностью, имеющих мало денег в обороте, мужику гораздо удобнее
отправлять свою повинность трудом, нежели платить какую-нибудь
ренту наличными деньгами. Поэтому иногда поселяне,
находящиеся на оброке, менее зажиточны, нежели их соседи, отправляющие
барщину, и случается даже, что с оброка они охотно возвращаются
к барщине. Это заметил и г. Гакстгаузен при проезде через Симбир-
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
145
скую губернию. Часто также замечают, что мужики, переведенные
с барщины на оброк, начинают пренебрегать обработкой своих
полей и удаляются из дому, чтобы зарабатывать хлеб менее трудным
образом. Наоборот, есть области, в которых замечаются
противоположные следствия замены барщины оброком. Везде, где работники
легко находят себе наемную работу, как, например, в большей части
губерний на Волге, мужикам бывает выгодна такая замена; это и
служит доказательством тому, что подобные перемены удаются
только там, где им благоприятствуют, и, так сказать, указывают на них
местные обстоятельства. Вообще появление желания и потребности
к замене барщины оброком может всегда считаться верным
признаком успехов благосостояния и национального богатства. Какую бы,
впрочем, степень влияния на дурное состояние нашего земледелия
ни должен был приписать беспристрастный исследователь, с одной
стороны, барщине, с другой стороны — причинам, лежащим в самом
характере нашего сельского населения, тем не менее достоверно, что
в большей части областей, имеющих плодородную землю, удобный
и правильный сбыт сельских продуктов и развитую до известной
высоты торговую и промышленную деятельность, — что во всех этих
областях и у различных классов свободных земледельцев, и у
крепостных крестьян, состоящих на оброке, и у крепостных крестьян,
еще находящихся на барщине, мы находим порядочно
обработанные поля, наполненные домашним скотом дворы и такую степень
благосостояния, какая не часто встречается во многих странах
центральной Европы. Г. Гакстгаузен видел тому много примеров, которые
и приводит в своей книге.
Этот ученый исследователь провел часть своей жизни в изучении
земледельческих отношений общинных учреждений и состояния
земледельцев в различных странах и напоследок особенно
подробным образом исследовал нравы и общественный быт славянских
племен. Чрезвычайно уважая его мнение, мы не можем не привести
здесь его слов в подтверждение того, что сказали мы выше
относительно обязательного труда.
Высчитав, во сколько обошлась бы в России в Ярославской
губернии обработка поместья известной величины наемным трудом и как
велики были бы убытки на процентах оборотного капитала, который
оставался бы празден в продолжение почти всего долгого зимнего
времени по отсутствию производительного занятия для людей, слу-
146
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
жащих на ферме, и для скота, употребляемого на земледельческую
работу, и сравнив эти издержки с доходом от такой земли в России,
во Франции и в Германии*, Гакстгаузен приходит к следующим
заключениям:
«Если бы кому-нибудь предлагали в Ярославле подарить поместье
под тем условием, чтобы он завел там хозяйство в таком же виде и по
тому же порядку, как в Западной Европе, то он должен бы,
поблагодарив за такое предложение, решительно отказаться от него: он не
только не получил бы от такого хозяйства никакой выгоды,
никакого чистого дохода, но и оставался бы каждый год в значительном
убытке.
Из этого видно, что в подобных областях владелец поместья не
может обрабатывать его наемным трудом, но с тем вместе он не
может и оставить его. Земледелие — тут не коммерческое предприятие,
рассчитывающее на выгоду, но обязанность, возлагаемая железной
необходимостью (eine eiserne Nothwendigkeit).
При настоящем положении дел я должен выразить следующее
мнение о сельском хозяйстве этих областей России. Большие
хозяйства могут здесь поддерживаться только двумя способами, именно:
или посредством барщины, так, чтобы земледелец не обязан был
сам содержать своих работников, содержать скота и других
принадлежностей земледелия, иначе сказать, чтобы расходы обработки не
лежали на нем; или посредством введения такой системы хозяйства,
связанного с промышленными предприятиями, которая
доставила бы способ с выгодой пользоваться производительными силами,
остающимися без земледельческого занятия во время долгой зимы,
пользоваться в это время рабочими руками людей и силой
домашнего скота. Обстоятельства, благоприятные последнему устройству,
встречаются редко.
Существование известного числа больших поместий я считаю для
этих стран совершенной необходимостью; потому что без них
нечего и думать об успехах земледелия, которые для России гораздо
нужнее, нежели до сих пор думают».
Итак, Россия имеет нужду в помещиках, которые жили бы в селах,
как имеет нужду и в классе людей, населяющих города; и земледелие
Этот расчет приведен в нашей статье о книге Гакстгаузена:
«Современник», 1857, № 7, Критика.
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
147
не могло бы развиваться, если бы дворянство не владело поместьями
и сельскохозяйственными заведениями, делающими для него
выгодным и необходимым жить в деревне. А если существование больших
хозяйств необходимо для успехов сельскою хозяйства и
национального благосостояния, то само собой следует, что в настоящую
минуту крепостное право не может быть еще отменено; но оно может
быть подчинено более точному порядку, введено в более нормальные
границы, ограждено законными условиями, которыми с точностью
определялись бы обязанности крестьян для удаления
злоупотреблений и произвола, именно такова цель указа 2 сентября 1842 года»
(Гакстгаузен, т. I, стр. 174 и след.).
«К этим практическим и благоразумным замечаниям (продолжает
Тенгоборский) мы должны прибавить, что русский мужик не
подлежит, как некогда подлежал французский поселянин, безотчетному
наложению произвольных податей и повинностей (taillable et corve'able
a volonte), что если он подвергается иногда несправедливым
повинностям, то это может случаться только по злоупотреблению и в
противность существующим законам. Указ императора Павла, данный
в 1797 году, определил тремя днями в неделю высшую степень
барщины, и последующие законы постоянно стремились к правильному
определению всего относящегося до этой повинности.
Нельзя также не видеть, что время и нравственный прогресс
оказывают постепенное и неоспоримое влияние на смягчение
суровости обязательного труда и производят все больше и больше
добровольных соглашений, которыми мало-помалу натуральные
повинности изменяются в личную ренту (rente personnele, рента, лежащая
не на земле, а на самом человеке, иначе сказать — оброк), которая,
в свою очередь, может со временем обратиться в поземельную ренту;
последняя замена и начинает уже производиться в государственных
имуществах (Тенгоборский говорит о переложении податей с душ на
землю). Но, внимательно наблюдая чрезвычайно различные
последствия этих отдельных случаев соглашения, следствия, изменяющиеся
по различию областей и местностей, легко убедиться в трудностях,
препятствующих общей мере, которая имела бы в виду
систематически и по однообразным условиям определить отношения
крепостных крестьян к их владельцам. Мера, которая успешна была бы в той
или другой местности, могла бы иметь самые вредные последствия
в другой, и г. Гакстгаузен очень справедливо говорит, что освобожде-
148
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ние крестьян в России непременно должно быть решаемо по
местным условиям, а не однообразно по всей империи53.
В тех областях, где земля неплодородна и неудобна для
обработки, где ее произведения не покрывают потребностей земледельца,
где он должен в других занятиях искать вспомогательных средств для
своего прокормления и уплаты повинностей, там обращение
барщины в личную ренту столько же требуется выгодой крестьянина, как
выгодой владельца; но эта замена может быть выгодна тому и
другому только в тех местах, где работнику легко найти себе занятия.
Этими причинами вызываются и размножаются подобные
добровольные соглашения в местностях, где мало пахотной земли и где
излишние руки и излишнее время легко находят выгодные себе
занятия. Напротив, в тех местностях, где пахотных земель много, где
почва плодородна, где жатва превышает потребности населения, где
в то же время есть удобный сбыт для земледельческих произведений,
владельцу часто бывает выгоднее обрабатывать свои поля барщиной,
но зато в этих местах барщина не мешает благосостоянию
земледельцев, и когда она заменяется оброком, такая замена скорее бывает
следствием взаимных удобств, нежели мерой, необходимо
требуемою местными обстоятельствами. Потому чрезвычайно трудно
закону регламентировать все эти обстоятельства по общим принципам,
заранее определенным.
Независимо от мер, принятых правительством для приведения
барщины в правильные границы, есть другие меры, могущие сделать
барщину трудом более производительным и в то же время
повинностью, менее обременительной для крестьян, и зависящие всего более
от самих владельцев. Одна из этих мер состояла бы в замене
поденщины работой по урокам, так, чтобы вспахать поле или выкосить луг
известной величины считалось за столько-то или столько-то дней
барщины. Таким образом, прилежный земледелец мог бы скорее
отправить свою повинность и иметь больше времени для собственной
работы. Это могло бы делаться по полюбовному соглашению, как
теперь делается соглашение между общиной и владельцем для замены
барщины оброком. Отдельные примеры такого положения уже
существуют в некоторых местах, и г. Гакстгаузен приводит один такой
случай, встреченный им в поместье г. Бунина в Тамбовской губернии.
Надобно желать, чтобы эти отдельные примеры находили больше
подражателей. Барщина, таким образом видоизмененная и сооб-
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
149
разованная с справедливостью, была бы значительным улучшением
в сельском хозяйстве. Но мы удерживаемся от суждения о том, до
какой степени повсеместна исполнимость такого изменения. Каковы
бы ни были, впрочем, изменения, которым может в будущем
подвергнуться и, без сомнения, подвергнется со временем система
барщины, эти изменения будут иметь только второстепенное влияние на
состояние нашего земледелия, пока не будут более или менее
изменены другие условия, в которых находится наше земледелие»54.
Из всех известных нам рассуждений в пользу обязательного труда
эти страницы Тенгоборского представляют самый рассудительный
свод экономических соображений. Потому мы и выбираем этот
отрывок, чтобы видеть, до какой степени могут быть логичны и
сообразны с фактами подобные соображения. «Многие экономисты думают,
что крепостное право вредно для обработки полей». Многие! — после
этого можно сказать, что многие астрономы думают, что земля
обращается вокруг солнца. Почему ж бы не сказать точнее: за
исключением меня, автора книги Etudes etc., и Гакстгаузена — все экономисты.
«Наш крестьянин считает поле, которое обрабатывает на себя,
своей собственностью или, лучше сказать, собственностью своей
общины». Правда, и этот факт мы должны запомнить как можно тверже;
но какой вывод делается из него Тенгоборским? «Потому наш мужик
не может дурно обрабатывать эту землю». Да разве мнением мужика
отстраняются причины, препятствующие ему хорошо обрабатывать
эту землю? Во-первых, тут надобно исключить всех поселян,
состоящих на оброке: как известно, оброк определяется сообразно
средствам мужиков заплатить его. Если деревня не может выплачивать
более 20 рублей серебром оброка с тягла, она и будет платить 20 руб.;
но если является у мужиков хотя несколько более денег, вы увидите,
что оброк не замедлит возвыситься; исключения встречаются, как
известно каждому, но встречаются очень редко. Как общее правило
надобно принять, что оброк при каждой смене владельца возвышается,
если только есть физическая возможность возвысить его. Каждому
известно, что очень часто возвышение оброка происходит иногда
по нескольку раз и при одном владельце. И вот из двух способов
получения доходов при крепостном праве один способ, оброк, является
уже совершенно прямо задерживающим старательность поселянина
в обработке своего участка. Обрабатывает он его плохо и получает
с него 10 четвертей хлеба; он платит, положим, 20 рублей серебром
150
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
оброку. Начни он и другие крестьяне той же деревни обрабатывать
свои участки лучше, и пусть возвысится сбор хлеба до 15 четвертей
с участка, — все крестьяне знают, что вслед за этим оброк не замедлит
возвыситься до 30 и хорошо еще, если только до 30, а не до 40
рублей. Спрашивается теперь, может ли эта перспектива возбуждать их
старательность, или скорее она повергает их в апатию, заставляет
обрабатывать поле как-нибудь, лишь бы только прокормиться? Ведь
им известно, что, какова бы ни была их старательность, в результате
за уплатой оброка останется им на долю одно и то же.
Но если оброк и действует прямее, очевиднее, то все-таки его
действие не так сильно, как влияние барщины. Тенгоборский,
заимствовавший все свои сведения о сельском быте нашем исключительно из
книги Гакстгаузена55, мог не знать, каким образом применяется к делу
обычай, утвержденный законом, о трехдневной барщине. Есть
поместья, в которых исполняется он по точному своему смыслу, то есть,
например, три первые дня недели берутся крестьяне на барщину,
а последние три дня оставляются крестьянам на свою работу, или
своя и барская работа идет через день. Но редки случаи, в которых
бы этот порядок сохранялся неуклонно. Большей частью он
изменяется по одному из трех следующих способов. Первый способ:
назначение того, в какой день крестьяне отпускаются на свою работу,
определяется соображениями распорядителя господских работ;
например, в понедельник крестьянам следовало бы по очереди дней
идти на барский сенокос, но помещик или управляющий видит, что
погода неблагоприятна для сенокоса, и потому отпускает крестьян
в этот день на их работу, а потом в зачет этого дня назначит
барщину в четверг или субботу, когда погода будет хороша. То же бывает
и во время пашни. В ночь с воскресенья на понедельник выпал дождь,
и вот назначается в этот день барщина, хотя бы по очереди дней
приходилось и не так. Очевидно, что такой порядок, нарушая
правильность работ на крестьянских полях, отнимая у крестьян возможность
делать предусмотрительные распоряжения для своих работ, наконец,
перенося эти работы на неудобное время, не может не иметь влияния
как на обработку крестьянских полей, так и на самый характер
работников. Но еще произвольнее и не благоприятнее второй способ, если
не ошибаемся, самый употребительный, по которому принимается
за правило, что деревня должна сначала окончить господскую работу
сплошной барщиной без очереди дней и потом уж отпускается об-
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
151
рабатывать свои поля. Соответственность обычаю, определяющему
число дней барщины равным числу дней работы крестьян на
собственных полях, полагается при таком порядке в том, что
крестьянским полям дается приблизительно такой же размер, какой имеют
господские поля. Очевидно, что невыгоды, чувствительные в первом
способе, развиваются здесь еще сильнее: вообще говоря, и при
запашке, и при сенокосе, и при жатве все наиболее благоприятное
время занято обработкой господских полей, а для крестьянских
остается уже наименее выгодное время; на этих последних и при
таком порядке все работы производятся спустя пору; пашня и посев
делаются поздно и чаще всего при дурных условиях погоды, когда
земля уже слишком много утратила соков со времени таяния снегов,
а пора весенних дождей обыкновенно уже прошла; уборка хлеба на
крестьянских полях делается очень часто тогда, когда хлеб уже
перезрел и много зерна уже осыпалось из колоса на корню; очень часто
подоспевают к этому осенние дожди, и хлеб на запоздавших полях
поляжет от них на корню. К этим неудобствам присоединяется
неизбежно еще та невыгода, что крестьяне приступают к обработке
своих полей уже не с свежими силами, а утомленные предыдущей
работой, и рабочий скот их бывает также уже истомлен. Обе эти
невыгоды неизбежны и постоянны. Но часто присоединяется к ним еще
то обстоятельство, что размер господских полей превышает ту
норму, которая соответствовала бы трем дням барщины. Надобно
притом сказать, что часто первый способ соединяется со вторым, то есть
при обработке господских полей раньше крестьянских дни дурной
погоды передаются из барщинной в собственную работу крестьян.
Нельзя забыть и того, что трехдневная норма, поставленная обычаем,
не всегда соблюдается: размер господских полей зависит от расчетов
землевладельца и достигает иногда такого объема, что требует
четырех и даже более дней в неделю. В некоторых местностях есть третий
способ отправления барщины: крестьянские тягла распределяются по
хозяйствам так, чтобы в каждом хозяйстве было четное число
работников, именно два или четыре. Если в семье только один работник,
к этой семье в дом поселяют семью батраков, имеющую также
одного работника. Тогда из двух работников один (обыкновенно хозяин)
все время остается работать на своем поле, а другой (обыкновенно
батрак или младший родственник) все рабочее время бессменно
отправляет барщину. Очевидно, что этот способ имеет новые стороны
152
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
невыгодного влияния на характер работы: крестьянин, постоянно
отправляющий барщину, без сомнения привыкает к небрежному и
сонному труду; через такую школу проходит почти каждый крестьянин,
прежде чем сделается главой семьи, и проходит он эту школу
нерадивости именно в тех летах молодости, когда формируется характер
человека и приобретаются привычки на целую жизнь.
Таковы-то способы исполнения барщины, разделяющие между
собой почти все количество крепостных крестьян, состоящих на
барщине. Кто знает их, тот не может сомневаться, подобно Тенго-
борскому, в том, велика ли степень невыгодного влияния барщины
на обработку даже тех полей, которые предоставлены крестьянам.
Мы не говорим уже о том, что обязательный труд вообще
чрезвычайно вредно действует на трудолюбие и энергию, на образование
привычек к бережливости временем и средствами. У каждого
экономиста можно найти превосходные, проникнутые благородным
жаром страницы об этой общей черте обязательного труда; мы
хотим обратить внимание читателя на то, что способами пользования
обязательным трудом, у нас господствующими, еще в значительной
степени увеличиваются те невыгоды, которые уже лежат в самой его
натуре.
Внимательный читатель, конечно, чрезвычайно дивится тому
странному направлению, какое принято нашим рассуждением о
невыгодах обязательного труда в обработке полей. «Говоря, что такой
труд не производителен, каждый рассудительный человек думает
преимущественно о тех работах, которые совершаются этим трудом,
то есть о работах на господском поле (готов нам заметить читатель);
по какому же нелепому уклонению от здравого смысла рассуждаете
вы о его влиянии на крестьянские поля, когда дело должно идти о его
влиянии на господские поля? Вы совершенно сбились с дороги».
Да, действительно, мы совершенно сбились с дороги, пошедши вслед
за нашим автором; это он рассудил придать такой оборот вопросу;
ловкость изумительная и смелость еще более изумительная! Он
должен опровергнуть мнение всех без исключения экономистов, что
барщина — работа самая непроизводительная, и опровергает он эту
мысль чем же? Тем, что на своих полях крепостной крестьянин
работает усердно. Ему говорят: человек плохо исполняет обязательный
труд, он возражает: «Обязательный труд не так плох, как вы думаете,
потому что свободный труд на собственных полях исполняется кре-
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
153
стьянином недурно, стало быть, крепостной крестьянин трудится
хорошо, стало быть, ваша мысль, будто он трудится плохо, совершенно
неосновательна». Такая открытая софистика невероятна, однако же
действительно к ней отваживается прибегать наш автор. Пусть
припомнит читатель его слова: в них нет и помину о господских
полях, он все возражение против обязательного труда сворачивает на
крестьянское поле. «Мы должны заметить, что ошибаются, думая,
что будто крестьянин равнодушен к своему участку. Люди, знающие
нашего крестьянина, знают, что он очень дорожит своим участком
и любит его и старается возделывать как можно лучше, а если
иногда возделывает плохо, так не от того, о чем вы говорите, а разве от
других каких причин». После такого поворота говорите, если
хотите, о добросовестности, об учености и тому подобном; мы дивимся
только отважности, с какой тут предполагается, что читатель —
тупоумный простак, провести которого можно самым грубым
обманом. Но для нас очень приятен тот оборот, по мнению автора очень
искусный, которым он думал увернуться от мысли о невыгодности
обязательного труда. Этот оборот заставил нас вникнуть в ту сторону
сельского быта, которая на первый взгляд представляется не
подверженной вредным действиям обязательного труда. Мы рассмотрели,
имеет ли какое-нибудь действие даже на ту работу, которую
крестьянин совершает для себя, то обстоятельство, что он подлежит также
обязательному труду, и мы нашли, что это действие очень сильно
и очень вредно; таким образом обнаружилось, что даже тот уголок,
в котором вздумал укрыться защитник обязательного труда, не дает
ему ни малейшей защиты, и хитрый оборот адвоката неправды
послужил только к тому, что вредное действие неправды раскрылось
в большем объеме, нежели как представлялось бы с первого взгляда;
сверх того от хитрости, придуманной нашим автором, мы получаем
то преимущество, что она служит для нас признанием с его
стороны невозможности отвергать то вредное влияние барщины, которое
обыкновенно указывается политической экономией. Он не
отваживается и говорить о том, производительна ли обработка господских
полей обязательным трудом, — значит, он сам признает эту невыгоду,
и нам уже не для чего много распространяться об этом; скажем
только два-три слова.
Поместья Замойских, по освобождении крестьян на них, стали
приносить в три раза более дохода.
154
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Граф Бернсдорф, великий датский министр, желая показать
датским помещикам невыгоды обязательного труда, приводил им в
пример свои собственные поместья, в которых он освободил крестьян;
и, действительно, пока его поля обрабатывались барщиной, средний
урожай ржи на них бывал сам-3, а овса сам-2 2/3, а когда он стал
обрабатывать их по найму, урожай ржи возвысился до сам-8 73, а урожай
овса до сам-8.
Датских помещиков останавливало то, что освобождение
крестьян на первый раз стоило некоторых пожертвований, но
Бернсдорф мог доказать незначительность этих пожертвований своими
приходо-расходными книгами. Освобождая крестьян, он терял сто
тысяч талеров капитала; зато доходы с его поместья быстро стали
возрастать в пропорции еще гораздо большей, нежели какая видна
из сравнения урожаев. Поместье с обязательным трудом давало ему
три тысячи талеров, через 24 года он при свободном труде получал
с этого поместья двадцать семь тысяч талеров; стало быть, если его
земли вместе с крепостными работниками могли быть проданными
за полтораста тысяч талеров, то теперь, по освобождении
работников, эти земли стоили в девять раз более или 1 350 000 талеров, —
выигрыш, кажется, достаточно вознаграждающий за видимую
потерю ста тысяч талеров при освобождении. Таких примеров
представляются тысячи всеми странами, где совершалось освобождение
крестьян. Повсюду неизменно оно было соединено с быстрым
возвышением доходов помещика, освободившего крестьян. Да и может
ли быть иначе?
Нужно только вспомнить, в какой именно пропорции наемный
труд производительнее обязательного. Негры в одну послеобеденную
половину дня успевают сделать столько же, когда работают на себя,
сколько в целый день на барщинной работе. Такова разница между
свободным и обязательным трудом даже того человека, энергия
которого подавлена и силы которого истощены обязательным трудом.
Но еще значительнее становится она, когда человек успеет отвыкнуть
от апатии, свойственной крепостному состоянию. Наемный труд
такого человека производит в день слишком в три раза больше, нежели
день барщины крепостного работника56.
Не можем отказать себе в удовольствии привести также несколько
примеров из множества фактов, представляемых превосходным
«Статистическим описанием Киевской губернии», которое составлено
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
155
покойным Журавским и издано г. Фундуклеем. Мы употребили слово:
«удовольствие», и действительно трудно иначе назвать чувство,
производимое длинным рядом фактов, неразумность которых доходит
до поразительного комизма, фактов вроде следующего. В поместье,
имевшем около 250 взрослых работников, отправлявших барщину,
все число барщинных дней простиралось до 45 тысяч в год; из них
на полевые работы употреблено менее 12 тысяч дней, то есть около
четвертой части всего труда. На что же были потрачены три четверти
рабочих дней?
Некоторое количество из них было употреблено на работы
производительные, а другие дни разошлись вроде следующих: 1900 дней
потрачено на господский сад и огород. Этот сад и огород доставляли
фруктов и овощей столько, что иногда было их достаточно для
господского стола, а иногда и недостаточно (наверное, на фрукты и
овощи к господскому столу, если бы они производились наемной
работой или покупались, не было бы употреблено и той суммы, какой
стоят хотя 500 рабочих дней; а тут при 1 900 днях нужно было еще
прикупать). На починку печей и беленье комнат и т. п. в господском
доме употреблено 950 рабочих дней; на выделку холста, кож, сапог,
для господской экономии употреблено дворовыми людьми и
крестьянами слишком 11 тысяч рабочих дней и все-таки не выделано
было столько кож и холста, чтобы обуть и одеть дворню, — нужно
было много прикупать. Итак, почти столько же, сколько на все
хлебопашество, потрачено было рабочих сил на производство платья для
дворовых людей, да и того оказалось мало. Превосходны также
факты такого рода: была при господском хозяйстве молотильная
машина; работа ею заняла около 5 800 дней, и обмолочено в эти дни около
4 200 копен хлеба, так что результат рабочего дня при этой машине
давал менее, нежели три четверти копны обмолоченного хлеба, а
надобно заметить, что машина приводилась в движение лошадьми,
работу которых мы уже не кладем в счет. Но в том же хозяйстве просто
цепом мужик обмолачивает более копны хлеба, и стало быть выходит,
что при помощи машины работа производилась гораздо медленнее,
нежели без помощи машины. Не много нужно думать о таких
цифрах, чтоб придти к следующему заключению: три четверти рабочих
сил барщины тратились в этом хозяйстве совершенно понапрасну,
не принося владельцу ровно никакого дохода, а часто обращаясь ему
в прямой убыток, который приходилось покрывать ему вычетом из
156
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
доходов, доставлявшихся ему остальной четвертою частью
барщины. Таких фактов в «Описании Киевской губернии» сотни и тысячи.
Но, может быть, в том хозяйстве, распределение барщины которого
мы видели, и в других подобных ему хозяйствах экономия была
плохо устроена? Вовсе нет, это хозяйство было еще из самых лучших.
Сводя цифры о всех помещичьих именьях Киевской губернии, Жу-
равский приходит к следующим выводам: соображая пространство
господских полей с уроками, которые отрабатываются в один день,
Журавский находит, что для полной обработки господских полей
вместе с уборкой сенокосов требовалось бы в Киевской губернии
17 500 000 рабочих дней; между тем число всех дней, отбываемых
барщиной в Киевской губернии, простирается до 65 000 000; таким
образом, три четверти барщины растрачиваются так себе, то туда,
то сюда; не считая даже вовсе зимних дней, все-таки выходит, что и
из летних дней половина растрачивается самым
непроизводительным образом*.
Теперь читатель не будет удивляться следующему расчислению,
основные цифры которого мы также заимствуем у Журавского.
Журавский определяет наемную цену, какую имеет в разных местностях
Киевской губернии летом и зимой день работы пешего мужика,
мужика с лошадью и женщины; по этим вычислениям он перелагает на
деньги всю ценность 65 миллионов дней барщины, и оказывается, что
вся ценность работ, исправляемых барщиной, доходит до 7 232 350
рублей серебром. Каковы же теперь все доходы помещиков Киевской
губернии? Каждый производительный труд дает в продукте избыток
против того, во сколько обошлось производство. Например,
фабрикант употребляет 100 000 рублей на жалованье рабочим, на покупку
материалов, на ремонт фабрики, на уплату процентов с основного
капитала и проч.; а продуктов своей фабрики продает на 120 000
тысяч и более. Если бы обязательный труд был производителен,
очевидно, что помещики Киевской губернии получали бы гораздо более
той суммы, какой стоит барщина. Сколько именно получали бы они,
трудно сказать, но легко определить наименьшую величину, ниже
которой никак не могли бы спускаться их доходы. Барщина заменяет
только наемную плату работникам. Наемная плата работникам в зем-
Этот расчет приведен в нашей статье о книге Гакстгаузена:
«Современник», 1857, № 7, Критика.
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
157
леделии никак не может составлять более половины всего
оборотного капитала, а по-настоящему надобно полагать ее гораздо меньше*.
Но если положить этот расход равняющимся целой половине
издержек производства, мы все-таки получим сумму в 14 500 000 рублей
серебром, — это издержки производства; но производство должно же
давать какой-нибудь чистый доход; положим его хотя только в 10%,
и мы получим 1 450 000 рублей серебром. Таким образом,
составляется сумма в 16 000 000 рублей серебром, и мы видим, что доходы
помещиков Киевской губернии должны были бы простираться, по
крайней мере, до этой суммы даже тогда, когда бы расход на
работников можно было считать вполовину издержек производства. Если
же считать его только в третью часть издержек, что гораздо ближе
к истине, то надобно ожидать дохода в 24 000 000 рублей серебром.
Но вспомним, что работники трудятся не по найму, а обязательно, и
мы уже можем ожидать, что доходы помещиков далеко не достигают
этой цифры 16 000 000 рублей серебром, которая при наемном
труде была бы слишком низка. Как же велики они в действительности?
Быть может 12, быть может 10 миллионов? Нет, по вычислению Жу-
равского, все доходы помещиков Киевской губернии не
простираются выше 7 123 380 рублей серебром, то есть они даже меньше той
суммы, которой стоит одна рабочая сила барщины.
Чтобы понять всю экономическую несообразность такого
порядка дел, представим себе например, что существовала бы
хлопчатобумажная фабрика, которая на одно жалованье рабочим расходовала
бы 10 000 рублей серебром, а доходов от продажи своих продуктов
получала бы 9 500 рублей серебром; вспомним, что фабрикант
должен считать проценты с основного капитала, представляемого
зданием фабрики и машинами, должен ежегодно покупать более чем на
10 000 рублей серебром хлопка, — и мы поймем, что его фабрика
При урожае сам-5 ценность посева составляет уже 20 процентов
оборотного капитала. Ренту земли, конечно, слишком низко будет оценить в одну
четверть валового дохода, который должен быть больше издержек
производства, и потому в издержках производства рента составляет более
значительную часть, нежели в нем. Но положим, что она будет составлять только одну
четверть издержек производства. Вот цена посева и рента составляют уже
45 % издержек производства. Прибавим расход на управление, и мы получим
уже гораздо более 50 %, и на жалованье работникам останется менее 50 %.
Совершенно близко к истине было бы сказать, что это жалованье составляет
в земледелии от одной четвертой до третьей части издержек производства.
158
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
представляет изумительно неразумное явление, что ее
существование противно всякому экономическому расчету, что, кроме
разорения всех участвующих в делах этой фабрики, ничего нельзя ждать
от нее. Каждый здравомыслящий человек из любви к самому
фабриканту должен посоветовать ему изменить странный порядок дел,
существующий на его фабрике. Точно таково положение
помещиков. Одной рабочей силы употребляется ими, например, в Киевской
губернии на 7 230000 рублей серебром, а всего дохода получается
только 7130000 рублей серебром*.
Но мы еще далеки от истины, полагая, что весь доход
помещиков Киевской губернии происходит от обязательного труда. Если бы
вся сумма 7 123000 рублей серебром возникала из работы, стоящей
7 232 000, это было бы уже чрезвычайно неразумно; что же надобно
будет сказать, когда сообразим, что около половины помещичьих
доходов в Киевской губернии должны считаться не плодом барщины,
а доходами с различных капиталов, кроме поземельного капитала?
Потому доход, доставляемый барщиной, следует считать не более как
в 4 000 000 рублей серебром, и в результате окажется, что все
продукты, доставляемые барщиной, едва равняются 60 % стоимости самой
барщины, и параллель с фабрикой, представленная нами выше,
изменится таким образом**:
Есть фабрикант, который кроме того, что употребляет ежегодно
более 10000 рублей на покупку сырых материалов и ремонт, одной
рабочей силы расходует на 10000 рублей, а всех продуктов своей фа-
Описание Киевской губернии. Часть II, стр. 230 и 378.
Препинация и лесная продажа дают 1 250 000 рублей серебром,
тонкорунное овцеводство, фабричная промышленность и винокурение дают более
1 300 000 рублей серебром, из них по крайней мере половину, то есть 650 000,
надобно считать доходом основного и оборотного, капитала; из дохода,
доставляемого хлебопашеством и свекловицей (3 800 000), по крайней мере,
одну пятую часть надобно считать следствием работы реманентного скота,
господских машин и т. п.; это дает около 750 000; вот у нас уже насчитано
2 650 000 рублей серебром дохода, возникающего не от барщинной работы.
Прибавив к этой цифре различные мелкие отрасли доходов, исчислять
которые было бы здесь слишком длинно и которые легко отыщет
внимательный читатель в исследованиях Журавского, мы получим тот вывод, что из
7 123 000 рублей серебром общего дохода по крайней мере 3 000000, а
вероятно, более даются помещикам Киевской губернии не обязательным трудом.
8 статье об описании Киевской губернии («Современник», 1856, № 9) этот
вычет дает меньшую цифру, но там он очень не полон.
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
159
брики продает только на 6 000 рублей,— спрашивается, разумно ли
идет его фабрика?
Но чем поправить ему свои дела? Очевидно, откуда весь
недочет: работа на его фабрике плоха, и ему должно изменить порядок
этой работы, если он не хочет с каждым годом разоряться все
больше и больше. Иначе ему никак не избежать банкротства. Этот вывод
неоспоримо следует из фактов, подробно излагаемых Журавским.
Люди, не знающие сельского хозяйства в Киевской губернии, могут,
пожалуй, подумать, что в других губерниях дела могут идти лучше,
что порядок помещичьего хозяйства в Киевской губернии хуже,
нежели в великорусских. Напротив, в ней он гораздо лучше. Отчетность
по хозяйству ведется с такой точностью, какая совершенно
неизвестна великорусским помещикам; экономии в употреблении рабочих
сил несравненно больше, небрежной растраты их гораздо меньше
в Киевской губернии, нежели в Великой России, и вывод,
представляемый исследованием Журавского для Киевской губернии, еще с
гораздо большей силой прилагается к Великой России, которую мы
имеем преимущественно в виду в этой статье.
Разорение для самих помещиков — вот очевиднейшее следствие
обязательного труда. Отчеты кредитных учреждений о количестве
заложенных имений и публикации о продаже этих имений за
неуплату долга, к сожалению, слишком громко свидетельствуют о том, как
подтверждается эта научная истина фактами нашей жизни. Недавно
ученый, которого мы не хотим называть по имени, вздумал было
доказывать, что поместья наши не так обременены долгами, как все мы
знаем, — единодушная горькая улыбка всех читателей была ответом
на такую розовую шутку. Помещик, имение которого не заложено,
представляется у нас довольно редким исключением. Точные
сведения о количестве всех долгов, лежащих у нас на дворянских имениях,
не собраны, но достоверно то, что с каждым годом тяжесть этих
долгов возрастала и что в настоящее время из всех имений в Европе
наиболее обременены долгами русские поместья. Тут можно говорить
о расточительной жизни, о пренебрежении к собственным делам; но,
во-первых, все эти и т. п. второстепенные причины недостаточны для
накопления долгов, столь всеобщих и столь громадных; во-вторых,
и расточительность, и пренебрежение к делам возникают главным
образом из того основного зла, которому ныне полагается предел.
Может ли экономически вести свои расходы тот, доходы которого
160
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
получаются способом, противным экономическому расчету? Может
ли с усердием заниматься своими делами тот, кому представляется,
что источник его доходов, обязательный труд, остается неиссякаем
и без всякой заботы с его стороны?
Потому нам кажется, что обязательный труд разорителен не
только для крестьян, но и для самих помещиков; потому-то и не можем
согласиться мы с словами Тенгоборского, что обязательный труд хотя
всегда невыгоден для государственного хозяйства, но бывает иногда
выгоден для помещика. Нет, он всегда невыгоден и для него. Ниже
мы подробно рассмотрим основание, на котором опирается мнение
Тенгоборского, мнение, что издержки землевладельца на наемную
плату, после уничтожения крепостного права, не вознаградятся
продажей продуктов; теперь заметим только, что тогда и увеличится
количество и возвысится цена хлеба, получаемого помещиком с своих
полей, и перейдем к следующим мыслям Тенгоборского. Он сам
чувствует, что нельзя сомневаться в невыгодности обязательного труда,
и потому старается доказать, что масса полей, возделываемых этим
трудом, не так велика, чтобы могла иметь преобладающее влияние на
дурное состояние нашего сельского хозяйства.
С этой целью, прежде всего, рассчитывает он, каково отношение
крепостных крестьян к числу всего сельского населения. Против
этого счета заметим, что напрасно вносит он в число крестьян, не
подлежащих крепостной работе, 816000 крестьян разных
наименований, означенных в таблице Кеппена57 номерами 5 и 6. Исправив
эту ошибку, мы увидим, что количество крестьян, подлежащих
обязательному труду, почти на 2 000 000 душ мужского пола больше числа
свободных крестьян. Но если даже принять и его расчет, по которому
та и другая цифра почти равны, все-таки надобно сказать, что работа
целой половины крестьян, подлежащая крепостному праву,
представляет уже массу труда, с избытком достаточную для подчинения всего
народного хозяйства, какой принадлежит обязательному труду.
В тех южных штатах Северо-Американского Союза, где
существует невольничество, весь характер и общественного быта и
национального хозяйства определяется трудом негров; а между тем число
невольников в этих штатах далеко не достигает цифры белого
населения в тех же штатах. Мы возьмем только те штаты, в которых всего
более невольников, именно: Виргинию, Северную и Южную
Каролины, Георгию, Флориду, Алабаму, Миссисипи, Луизиану, Техас, Аркан-
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
161
зас, Тенесси, Кентукки и Миссури. В этих тринадцати штатах число
невольников простирается до 3 075 000, а число белого населения
более, нежели до 5 400 000. Мы видим, что даже в этих штатах, имеющих
исключительно невольнический характер в своем производстве,
число свободных почти вдвое превышает цифру невольников; и, однако
же, этой одной третьей части населения, подлежащей
принужденному труду, уже достаточно для уничтожения в народном быте и труде
всякого элемента, имеющего характер свободного труда*.
Если примесь третьей части обязательного труда к двум третям
свободного оказывает такое громадное влияние, что же сказать о том,
когда целая половина работников подлежит обязательному труду?
Но Тенгоборский не останавливается на том, что неправильным
счетом уравнивает число крепостных крестьян с числом свободных,
хотя ему самому известно, что первое больше. Он идет далее и
решается утверждать, что так как «во многих поместьях барщина заменена
оброком, то надобно принять, что две трети возделываемых земель
обрабатываются крестьянами, не отправляющими обязательного
труда». Эта смелость очень замечательна; во-первых, Тенгоборский
не приводит точных сведений о числе крестьян, состоящих на
оброке, и, пользуясь этим, он отважно предполагает число их
гораздо больше, нежели каково оно должно быть в действительности: он
считает их, как видим, до 4 000 000**; но едва ли можно считать их
и 2 000 000; во-вторых, если бы даже число оброчных доходило до
4000000, из этого еще не следовало бы, что две трети земли
населены крестьянами, не отправляющими барщины: на оброк отпускаются
крестьяне преимущественно в поместьях малоземельных, а у
государственных крестьян земли вдвое и втрое меньше, нежели у помещиков
* Если бы мы, следуя примеру всех статистиков, причислили к этим
штатам Мериленд, Делавэр и т. д., то оказалось бы, что в невольнических штатах
число негров едва превышает четвертую часть всего населения, и мы могли
бы сказать совершенно справедливо, что для сообщения всему быту и
производству страны того характера, какой свойственен обязательному труду,
достаточно уже и того, когда хотя четвертая часть работников подлежит
обязательному труду. Но мы, предупреждая даже излишние притязания
противников, ввели в счет только те штаты, в которых цифры наименее
благоприятны нашим выводам: даже и эти цифры уже с избытком подтверждают наш
вывод.
Эта цифра необходима, чтобы состоящих на барщине осталась одна
треть из всего числа поселян.
162
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
по числу душ; стало быть, если бы даже только одна треть крестьян
состояла на барщине, а другие две трети состояли бы из свободных
и оброчных крестьян, то и тогда большая половина возделываемой
земли все-таки оставалась бы под поместьями, отправляющими
барщину; в-третьих, оброк у нас довольно мало отличается от барщины
по своему влиянию на характер хозяйства: возвышаясь соразмерно
возвышению доходов крестьянина, он точно так же, как и барщина,
противодействует энергии труда, потому что стремится постоянно
поглощать все избытки, ими производимые. Дело иное, если бы наш
оброк не возвышался произвольно.
Такая цепь противоречий фактам и фальшивых гипотез нужна
была Тенгоборскому чтобы придти к желанному заключению, будто
бы «обязательный труд не имеет на наше сельское хозяйство столь
преобладающего влияния, какое обыкновенно ему приписывается».
Для такого вывода нужно было слишком отважным образом исказить
смысл мнения о невыгодности обязательного труда, поворотив речь
с работы, отправляемой барщиной, к которой речь прямым образом
относится, на работу крестьян на своих полях; нужно было
представить неверный счет числа крепостных крестьян; нужно было забыть
и о характере нашего оброка, и о малоземельности оброчных
имений. И однако же — при всех этих смелых отступлениях от истины —
он мог дойти только до такого результата, который совершенно уж
достаточен для разрушения его мнения. Да, если бы у нас только
третья часть сельских работников отправляла барщину, уже и тогда все
наше сельское хозяйство находилось бы под исключительным, под
совершенно преобладающим влиянием крепостной работы. Пример
южных штатов Северо-Американского Союза уже говорит, что
свободная работа двух третей населения совершенно искажается
влиянием принудительной работы одной трети населения. Но, по словам
самого Тенгоборского, число крепостных крестьян равняется числу
свободных; в действительности же превосходит их.
Но, продолжает Тенгоборский, как ни вредна система
обязательного труда, она в настоящее время для значительной части России
необходима. Почему же? Причин на это приводится три:
1) «Капиталов у нас недостаточно для рационального хозяйства
с наемным трудом при безмерной обширности возделываемых
земель». Тут сколько слов, столько и ошибок. О том, до какой степени
безмерна обширность наших земель, мы будем говорить после; пока
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
163
здесь заметим прежде всего хитрое слово «рациональный»; оно
намекает на плодопеременную систему с искусственным луговодством,
дренажем и т. п.
Для такой системы, конечно, нужны большие капиталы, но сам
Тенгоборский говорит, что она еще не нужна и неуместна для нас;
а если б и была уместна, то наемная плата самый незначительный
расход в сравнении с расходами на луговодство, скотоводство,
машины и прочее при такой системе, и обязательный труд может только
помешать ее распространению, потому что при нем невозможна ни
строгая экономия в жизни самого хозяина, ни старательный и
искусный труд работников. Но Тенгоборский хитрит: он только сбивает
читателя намеком на плодопеременную систему в слове
«рациональный», а сам и не думает о ней, подробно доказав перед тем, что для
нас еще надолго выгоднее всех других систем трехпольное
хозяйство. При трехпольном хозяйстве капиталов не очень много нужно.
Но если бы у нас было мало капиталов даже и для этой системы, тем
сильнее доказывалась бы необходимость отменить обязательный
труд, потому что он составляет сильнейшее препятствие
образованию и возрастанию капиталов. При нем работа непроизводительна,
при нем нет ни расчетливости, ни предприимчивости. Жалоба на
недостатки в капиталах есть требование отмены обязательного труда.
2) «Во многих местах ценность сельскохозяйственных
продуктов не давала бы ренты, достаточной для покрытия издержек
производства». Не мешает заметить тут оригинальное употребление слова
«рента» вместо доход: Тенгоборский забыл, что рентою называется
только та часть дохода, которая вовсе не служит к покрытию
издержек производства, а составляет наемную плату, получаемую
землевладельцем с арендатора; его фраза подобна следующей: дивиденд
акционерной фабрики недостаточен на покрытие издержек ее.
Такие фразы свидетельствуют о сбивчивости понятий, которая одна,
впрочем, и может давать человеку решимость выступать защитником
обязательного труда. Тенгоборский не умеет сказать того, что хотел
сказать, именно, что ценностью продуктов не будут покрываться
издержки производства.
Предположим сначала, что это возражение совершенно
справедливо; в таком случае, что из него следует по теории, принимаемой
всеми без исключения экономистами? Нас часто упрекали за то, что
мы предпочитаем основательные суждения новой школы ошибоч-
164
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ным мнениям старой. Но из нашего противоречия ошибкам старой
школы вовсе не следует, чтобы мы не находили в сочинениях Сэ или
Росси ни одной страницы справедливой; есть случаи, в которых все
школы согласны; к ним принадлежит и тот, о котором мы должны
теперь вести речь. Надеемся, что Сэ не нашел бы в следующих строках
ни одного слова, с которым бы не согласился вполне.
Если ценность продуктов не покрывает издержек производства,
это значит, что производство убыточно; национальный интерес и
собственная выгода хозяина требуют, чтобы такое производство
было оставлено.
Если продукты моей фабрики не покрывают моих расходов на
фабрику, я должен или закрыть, или продать ее. Я не имею права
требовать, чтобы государство разорялось для моей фабрики, чтобы,
например, оно поставляло мне задаром или материал, мною
обрабатываемый, или машины, нужные мне для обработки, или лошадей,
приводящих в движение эти машины, или работников, управляющих
этими лошадьми и машинами.
Положим, что я занимаюсь выделкой шелка. Если продажа не
окупает мне моих издержек, это происходит от одной из двух причин:
1) или моя фабрика устроена дурно, и в таком случае я должен
стараться улучшить ее, а если не умею улучшить, то нечего мне и
тянуться быть шляпным фабрикантом, и пусть я разорюсь, государство тут
ничего не проиграет; напротив, оно выиграет, когда одним дурным
фабрикантом будет меньше; или 2) я работаю шляпы не хуже и не
дороже других — в таком случае, значит, все шляпные фабриканты
терпят убыток подобно мне; отчего же это? Оттого, что шляпных фабрик
развелось слишком много, и шляпы слишком низко упали в цене;
запрос несоразмерен предложению. Чем помочь этому? Все
экономисты согласны в том, что из этого затруднительного положения нельзя
вывести нас, шляпных фабрикантов, никакими пособиями,
нарушающими справедливость. Если бы, например, государство стало нам
давать задаром материалы для выделки шляп, мы по-прежнему стали
бы делать шляп больше, нежели требуется; чтобы сбывать этот
излишний товар, мы стали бы друг перед другом сбивать цену и сбили
бы опять-таки до того, что продажей шляп не покрывались бы наши
расходы на их выделку. То же самое было бы, если бы мы получили
от государства работников, которые делали бы шляпы на наших
фабриках по системе обязательного труда, то есть или стоили бы нам
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
165
дешевле наемных, или вовсе ничего не стоили, — мы продолжали бы
выделывать шляп больше, нежели требуется, и цена их все-таки упала
бы до того, что не покрывала бы наших издержек.
Такими разорительными для государства пособиями не
прекратилось бы наше затруднение. Корень его — излишество выделки шляп
по сравнению с требованием на них, и потому лекарство тут одно —
сократить выделку. Чем больше будем мы разорять государство
пособиями на нашу излишнюю выделку, тем больше будем только сами
запутывать свои дела; и лучшее для нас, что может сделать
государство, — не давать нам этих разорительных для него и вредных для нас
пособий или прекратить их выдачу, если уж по какой-нибудь ошибке
они выдавались нам. Так, предоставленные собственным силам, мы
должны будем взяться за ум и скоро увидим, как пособить
затруднению.
Пособить ему очень просто: выделка шляп невыгодна, итак,
надобно отказаться от нее и заняться чем-нибудь более выгодным.
Между нами, шляпными фабрикантами, найдутся люди дельные
и предприимчивые, поймут это и, закрыв свои шляпные фабрики,
займутся, например, выделкой мыла или сукна. Тогда дела остальных
шляпных фабрикантов поправятся: шляп выделывается меньше
прежнего, именно столько, сколько нужно, и цена их поднимется
настолько, чтобы быть выгодной без всякого обязательного труда и других
разорительных для государства привилегий и вспоможений.
Каждый экономист скажет, что таково единственно справедливое
и единственно возможное решение дела о шляпных фабрикантах.
Точно таково же было бы дело землевладельцев, производящих
хлеб обязательным трудом, если бы верны были слова Тенгоборско-
го, что при отмене обязательного труда не окупались бы издержки
их на наемную плату. Это значило бы только, что хлеба на продажу
предлагают они больше, нежели требуется, и что они слишком низко
сбили его цену.
Ни в одной из тех отраслей промышленности, которые
предоставлены собственным силам, невозможен случай,
предположенный нами, — именно, что издержки производства при наемной
плате не покрываются продажей продуктов. Если же наше земледелие
находится в таком ненормальном состоянии, то очевидно, что оно
введено в это положение обязательным трудом и что единственное
средство поднять цену хлеба до нормальной высоты, то есть до того,
166
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
чтобы ею окупались издержки производства, состоит в отмене
обязательного труда. Он губит наше земледелие, роняя цену на хлеб.
Неоспорим действительно тот факт, всеми признаваемый, что цены
на хлеб у нас сбиваются обязательным трудом ниже того, каковы были
бы без этой язвы земледелия. Но даже и при этих ценах возделывание
хлеба по системе наемного труда не только возможно, даже выгодно.
Это известно каждому, знающему русский быт: есть много купцов,
разночинцев, поселян, которые возделывают большие пространства
земли наемным трудом и получают от этого выгоды. Эти очень
многочисленные факты доказывают совершенную не-основательность мысли,
будто помещикам не будет выгодно обрабатывать свои поля наемным
трудом. Даже и теперь это делается, как мы сказали, купцами и
людьми других званий, не имеющими в своем распоряжении крепостных
работников. Тем выгоднее будет это при уничтожении крепостного
права, когда цена хлеба должна возвыситься.
Дело не в том, что наемный труд не окупается, — это неправда;
дело в том, что хозяйство с наемным трудом есть коммерческое
предприятие, требующее расчетливости, сообразительности, требующее
разумной заботы со стороны хозяина. Вот от этих-то условий
отвращаются партизаны крепостного права, которое дает им даровой труд
и доставляет возможность вести дело небрежно, нерасчетливо.
Если партизаны крепостного права откровенно скажут: при
отмене обязательного труда не будет в состоянии с выгодой возделывать
своих полей тот, кто не может вести своего хозяйства
экономическим, расчетливым образом, кто умеет только проживать
достающееся ему даром и не может сделаться человеком дельным, — если
они откровенно скажут это, мы вполне согласимся с такими словами,
в которых и заключается вся сущность вопроса.
Из трех доводов, представляемых Тенгоборским в подтверждение
«необходимости» крепостного права для России, мы рассмотрели два
первые, и оказалось, что они говорят вовсе не в пользу крепостного
права, а свидетельствуют о его вреде; если у нас мало капиталистов,
виной тому крепостное право, мешающее развитию свободного
труда, который один производителен, один увеличивает богатство
нации; если цены на хлеб слишком низки, виной тому опять-таки
обязательный труд, разрушающий соразмерность производства с
потреблением и уничтожающий в хозяине расчетливость. Из того и
другого одинаково следует «необходимость» не поддерживать, а как
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
167
можно скорее отменить обязательный труд. Остается третий довод
в пользу крепостного права, — довод, основанный на странном
смешении понятий.
3) «В тех местах, где торговля и промышленность слаба, где мало
денег в обороте, там мужику удобнее отправлять повинности
натурой, нежели выплачивать за наем земли деньгами», — говорит Тен-
гоборский.
Оборот очень смелый. Да разве вопрос о крепостном праве и
наемном труде есть вопрос о том, как должны производиться уплаты
по обязательствам: натурой или деньгами? Ведь сам же Тенгоборский
говорит, что в обязательном труде, кроме отправления повинности
натурой (барщина), бывает и уплата за них деньгами (оброк); и при
вольнонаемном труде уплата иногда производится деньгами, а иногда
натурой, например, при системе половничества, при нашем обычае
нанимать людей на известную земледельческую работу из третьего,
из четвертого скопа; даже на многих фабриках жалованье
вольнонаемным рабочим выдается натурой, произведениями фабрики, а не
деньгами. Дело должно идти о том, нужно ли сохранить
обязательный труд, а Тенгоборский повертывает вопрос на то, во всех ли
местностях можно заменить барщину оброком. Оборот очень смелый, но
оскорбительный для читателя, которого автор предполагает
слишком тупоумным простаком, воображая, что его можно провести
таким грубым обманом.
Вы говорите, что в малоденежных местах при обязательном
труде уплата работника хозяину удобнее производится натурой, нежели
деньгами, — что ж из того? В этих местностях при вольнонаемном
труде уплата от хозяина работнику может также производиться
натурой, а не деньгами.
Но тут опять мы должны возвратиться к вопросу: отчего же в этих
местностях мало денег в обороте, отчего слаба торговля и
промышленность? Все от той же коренной причины нашей бедности, —
от обязательного труда, разорительного для нации.
Но всех прежних доводов еще мало Тенгоборскому, он все-таки
чувствует, что не защитил крепостного права своими рассуждениями,
и пробует опереться на факты. Он говорит, что поселяне в России
живут довольно зажиточно, и полагает доказать этим, что вредное
влияние крепостного права не так велико, как все думают. О
степени благосостояния крепостных крестьян мы не считаем нужным и
168
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
говорить, — какова она, знает каждый; а если бы вздумали мы здесь
излагать то, что известно каждому, это заняло бы слишком, слишком
много места. Если же в некоторых странах Западной Европы
поселяне живут не лучше, нежели в России, хотя в этих странах и нет
крепостного права, из этого еще ровно ничего не следует в пользу
крепостного права. Иван худ и слаб оттого, что изнурен золотухой,
говорите вы, — нет, золотуха — болезнь не изнурительная, возражаю
я, и указываю вам на больного лихорадкой Петра, с торжеством
прибавляя: «Вот Петр не страдает золотухой, а не лучше Ивана, стало
быть, в золотухе нет ничего особенно дурного, и у Ивана здоровье не
страдает от нее». У нас одни причины бедности, в Западной Европе —
другие; и нам нужно заботиться о том, чтобы, уничтожая свои
недостатки, не попасть в те ошибки, которые ведут к другим бедствиям.
В чем источник страданий поселян Западной Европы, мы будем еще
иметь случай говорить, развивая наши мысли о том, как нам
предохраниться от подобных бедствий. В Западной Европе беден тот
земледелец, который не обрабатывает землю на себя; у нас каждый, даже
крепостной земледелец, имеет свой участок, — этим до некоторой
степени вознаграждаются все другие наши недостатки, и основным
принципом своих желаний по делу освобождения крепостных
крестьян мы должны принять то, чтобы они не остались без земли. Этот
принцип, слава богу, поставлен теперь вне опасности высочайшими
рескриптами, определяющими освобождение крестьян с усадьбой и
разделение господских полей от крестьянских. Об этом мы еще
будем говорить впоследствии.
Но, чувствуя, что с этой стороны, со стороны последствий
обязательного труда для благосостояния крестьян, крепостное право не
может быть защищено, Тенгоборский опять возвращается к мысли
о необходимости его для обработки господских полей; чувствуя, что
умозаключения его на эту тему мало убедительны, он думает найти
лучшую опору в авторитете и приводит отрывок из Гакстгаузена.
В статье о книге Гакстгаузена («Современник», 1857, № VII) приведена
была часть этого отрывка с предшествующим ему расчетом, на
котором основывается заключение, цитируемое Тенгоборским. Тогда же
замечено было в этой статье, что расчет Гакстгаузена о невыгодности
наемного хозяйства в России построен на фальшивом сближении
и опровергается фактами, приводимыми у самого Гакстгаузена;
замечено было также, что если б даже принять этот фальшивый расчет, из
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
169
него следовало бы вовсе не то заключение, какое делает Гакстгаузен.
Теперь мы можем точнее развить эти мысли.
Прежде всего, повторим, что уже было сказано в настоящей
статье: если бы расчет и вывод из него у Гакстгаузена был совершенно
справедлив, если бы действительно возделывание некоторых полей
в России было возможно только при обязательном труде, — что
следовало бы из того? Следовало бы только, что некоторые поля не
окупают работы, на них употребляемой, и что чем скорее прекратится
их обработка, невыгодная для государства, тем лучше будет для
государства. Если бы я, пользуясь какими-нибудь привилегиями,
данными мне от государства, вздумал разводить лес в Вологодской или
Вятской губерниях, в которых и без того слишком много леса, без
сомнения, мне удалось бы кое-как развести несколько десятин леса
на моих плантациях. Но само собой разумеется, продажа этого леса
далеко не покрывала бы моих расходов, и плантации мои
поддерживались бы только тем, что государство каждый год жертвовало бы
мне пособие, — что следовало бы из такого положения дел? Только
то, что я разоряю государство для поддержки моего
нерасчетливого производства, следовало бы, что здравый смысл должен говорить
государству о необходимости прекратить помощь, которую я
растрачиваю нерасчетливым образом, а мне должна говорить совесть,
чтобы я прекратил свое нерасчетливое производство и обратился к
какому-нибудь другому занятию, которое было бы не разорительно,
а выгодно для государства.
Основным принципом всех соображений о государственном и
частном хозяйстве должна быть аксиома, несомненная как 2 х 2 = 4
для каждого экономиста: производство, не покрывающее при
наемном труде своих издержек продажею продуктов, разорительно для
государства, и чем скорее оно прекратится, тем лучше для
государственного благоденствия.
Кто не принимает этой аксиомы, тот обнаруживает совершенную
неприготовленность свою к рассуждению о каких бы то ни было
экономических делах, государственных ли или частных, своих ли
собственных или чужих.
Таков был бы ответ на расчет и вывод Гакстгаузена о
невыгодности обработки некоторых полей в России наемным трудом, таков,
говорим мы, был бы ответ, если бы расчет был верен и вывод логичен.
Но расчет Гакстгаузена фальшив, и вывод из него ошибочен.
170
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Прежде всего, припомним точный смысл слов Гакстгаузена. Он
говорит, что если бы ему давали даром землю в Ярославской губернии
с условием возделывать ее наемным трудом в таком же роде, как воз-
делывается земля в юго-западной Германии, такое хозяйство было бы
убыточно, и он отказался бы от подарка.
Справедливо. Но в чем тут сущность дела? По выводу Гакстгаузена
кажется, будто невыгода произойдет от условия возделывать землю
наемным трудом. Так ли? Не от другого ли какого условия?
Гакстгаузен говорит, что вести хозяйство он думал бы так, как в юго-западной
Германии; не довольно ли одного этого обстоятельства для
объяснения невыгоды?
В Николаевском уезде Самарской губернии земля не удобряется,
в Рязанской удобряется. Если бы мне даром давали землю в
Самарской губернии с условием удобрять ее по-рязански, это условие было
бы разорительно, все равно, обязательным или наемным трудом стал
бы я ее обрабатывать. Чернозем не терпит рязанского удобрения, и
урожаи были бы плохи, да и ценой хлеба в Самаре не окупаются
издержки на удобрение. Наоборот, если бы я должен был рязанскую
землю возделывать по-самарски, без удобрения, я разорился бы, все
равно и при обязательном и при наемном труде; урожай без
удобрения в Рязани не возвращал бы даже семян.
Что из этого следует? Просто то, что в каждой области порядок
хозяйства должен быть сообразен с климатом, почвой и т. п. Дело
идет о том, в чем должны состоять работы, а вовсе не о том,
обязательным или наемным трудом они совершаются. В юго-западной
Германии земледелец круглый год может быть занят полевыми
работами, сообразно тому он и не занимается ничем другим. Если бы
у нас при нашей длинной зиме земледелец проводил в бездействии
все то время, когда нет полевых работ, это было бы убыточно — вот
и все. Потому у нас поселянин зимою и занимается какими-нибудь
промыслами, преимущественно извозом. Гакстгаузен не принимает
этого в расчет; оттого и выходит у него недочет в хозяйстве. Если
бы он считал, что наемный работник, точно так же, как крепостной
крестьянин, и точно так же, как самостоятельный хозяин поселянин,
половину года занят промыслами, результат был бы иной.
Пусть хозяин нанимает работника для полевых работ только на
полгода или, если нанимает его на целый год, употребляет наемщика
зимой на какой-нибудь промысел, — вот прямое известное у нас каж-
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
171
дому по опыту следствие продолжительности нашей зимы. Упускать
это из виду — значит искажать сущность вопроса.
Не менее дурное искажение состоит и в том, что, взяв
обстоятельства, существующие в Ярославской губернии, которая одна из самых
невыгодных у нас для земледелия, и в которой потому почти все
население имеет главным источником дохода не земледелие, а
промыслы, Гакстгаузен, а еще более Тенгоборский делают по этой губернии
заключение обо всей России. Это похоже на то, как если бы из
невыгодности хлебопашества на западном берегу Ирландии делать
заключение о невыгодности его во всей Западной Европе. Добросовестна
ли такая уловка?
Если бы расчет Гакстгаузена и не был фальшив, он применялся бы
только к Ярославской губернии и очень немногим другим
местностям, которые известны под именем промышленных. Добросовестно
ли брать за образец Ярославскую губернию, когда дело идет о выгодах
земледелия в России? Это все равно, что брать за образец Бранден-
бург, когда дело идет о виноградниках Западной Европы. И в Бран-
денбурге есть виноградники, и там выделывают вино, но этот
промысел невыгоден и бранденбургское вино очень дурно, — следует ли
из того, что во всех странах Западной Европы виноградники дают
мало дохода и приносят вино дурного качества?
В Ярославской губернии земледелие менее выгодно, нежели в
других русских областях, — итак, во всей России земледелие может
существовать только при обязательном труде; русское хозяйство
устраивается так, что только половину года занято земледелием, а другую
половину года другими промыслами, — итак, обязательный труд
выгоднее наемного. Какие изумительные заключения! «Я плохо играю
на скрипке, потому мой брат хорошо играет на гитаре» —
превосходный силлогизм!
Гакстгаузена и Тенгоборского занимает вопрос, возможно ли
земледелие с наемным трудом в тех местах, где земледелец может
заниматься возделыванием своих полей с выгодой для себя, — этот
вопрос представляется уже совершенной нелепостью, если вникнуть
в сущность понятий, которых он касается.
Если земледелец, возделывающий на себя свой участок, находит
выгоду обрабатывать его, это значит, что ценность производства
с избытком покрывается ценностью продуктов. Наемная плата
составляет только часть расходов производства.
172
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Каким же образом наемная плата не будет покрываться
ценностью продуктов, доставляемых трудом наемщика?
Из этого видно, что повсюду, где возможно существование
земледельца, возделывающего на себя свой участок, наемный труд и
подавно будет окупаться ценностью продуктов.
Боже мой! Не во сне ли привиделось нам, будто ученые агрономы
усомнились в возможности возделывать землю в России наемным
трудом? Наяву едва ли могла придти кому-нибудь в голову такая
химера. Разве не известно каждому, не только агроному, но и простому
человеку, что увеличение числа работников в русской
земледельческой семье считается благодатью божией, что чем больше
работников в семье, тем она зажиточнее? Разве не значит это, что содержание
работника с избытком и большим избытком окупается его работой?
Разве не известно, что каждый домохозяин, если только имеет
достаточное количество земли, считает выгодным для себя принанять
работника? Что же это значит, скажите ради бога, если не значит, что
наемный труд в русском земледелии выгоден?
Укажите местность, в которой земледельческая семья, например,
из восьми человек с тремя работниками считалась бы беднее такой
же семьи с двумя работниками, — только в такой местности труд не
окупается, стало быть невозможен труд, но такой местности в России
вы не найдете.
Боже мой, и люди, называющие себя агрономами-экономистами,
отваживаются при таких очевидных фактах говорить об
убыточности наемного труда! Неужели они не могут сообразить, что наемный
труд только тогда убыточен, когда работа не окупает себя? Неужели
же они воображают, что доходы, доставляемые работой мужика-
земледельца, возделывающего свой участок, обращаются в убыток
этому мужику? «Наемный труд в русском земледелии не окупается» —
ведь это значит, что Россия не может заниматься земледелием, что
земледелие для России — убыточное занятие.
Можно ли отваживаться высказывать такие нелепости? Ведь это —
посрамление не говорим уже для науки, это — посрамление для
смысла человеческого.
Не будем же рассуждать о том, окупаются ли в России издержки
наемного земледельческого труда; сомневаться в этом — значит
сомневаться в том, выгодное или убыточное дело хлебопашество в
России, может ли русский поселянин-земледелец иметь выгоду запашки
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
173
от своего участка, — если он имеет выгоду, то будет иметь выгоду от
своего поля и тот, кто наймет работника для его возделывания.
Тенгоборский и Гакстгаузен в своей ревности за крепостное право
зашли слишком далеко, поставили вопрос так, что сомнение в его
положительном решении представляется очевидной нелепостью.
Но это они увлеклись излишней ревностью, — в сущности, им
следовало бы говорить не о том, возможно ли вести земледелие наемным
трудом, — это не подлежит спору, — а только о том, каким образом
выгоднее для помещика вести земледелие, наемным или
обязательным трудом. Наемный труд не убыточен; но, быть может,
обязательный труд в настоящее время выгоднее для помещика?
На это положительным образом отвечает наука. Одно из
обстоятельств, от которых зависит выгодность или невыгодность наемного
труда для помещика сравнительно с обязательным, есть густота
населения. Чем меньше населения в стране, тем выгоднее для
земледельца обязательный труд; чем гуще население в стране, тем выгоднее
для него наемный труд. Токер (Tucker)58 занимался исследованием
об этом и нашел, что при населении в шестьдесят шесть человек на
квадратную английскую милю наемный труд для земледельца
становится уже выгоднее обязательного. Эта цифра слишком высока, как
мы увидим ниже; и при населении менее, нежели шестидесяти шести
душ на английскую квадратную милю, наемный труд уже выгоднее
обязательного, — это мы докажем, но попробуем применить к
России даже ту цифру, которую находим у Токера.
Чтобы применить эту цифру к России, надобно принять в
соображение два обстоятельства: число городского населения и количество
неудобных земель.
В тех странах, которые имел в виду Токер (Западная Европа и
Северная Америка), городское население составляет не менее одной
трети всего числа жителей. В России оно, считая столицы, едва
составляет десять процентов, а в большей части губерний не составляет
и девяти процентов.
В Западной Европе и Северной Америке количество неудобных
для хлебопашества земель очень невелико: пять-шесть процентов
всего пространства территории; в Европейской России неудобные
земли занимают более одной третьей части всей территории.
Эти два обстоятельства надобно ввести в расчет, если применить
к России цифру, показываемую Токером. 66 человек на английскую
174
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
квадратную милю — это дает 1 400 на квадратную географическую
милю. Из них в Западной Европе и Северной Америке на городское
население приходится не менее уз, стало быть, для сельского
населения остается 966 человек. Итак, те губернии России, в которых число
сельского населения превышает эту последнюю цифру,
удовлетворяют условию, представляемому Токером.
Но неудобной земли, которая не занимает рук, нечего считать,
когда речь идет об отношении числа рабочих рук к пространству
возделываемой земли. Есть в России губернии, например
Воронежская, Тульская. Подольская, Нижегородская, Тамбовская, в которых
пропорция неудобной земли невелика, всего 3-8 %: это пропорция
вроде той, какую имел в виду Токер. Но в губерниях Оренбургской и
Херсонской целая половина пространства — неудобная земля; в Ека-
теринославской, Ставропольской, Таврической губерниях неудобной
земли даже больше, нежели удобной. Несправедливо бьшо бы считать
население на обширные пустыни, не могущие иметь населения и не
могущие занимать работников. Потому 966 душ сельского населения
мы должны считать на удобные земли с прибавкой 5 % неудобных
земель, как считал Токер, а излишнее затем пространство неудобных
земель выбрасывать из счета: они не занимают рабочих рук
Производя применение Токерова вывода к России с
соблюдением двух этих условий, требуемых сущностью дела, мы увидим, что на
всем почти пространстве России, имеющем крепостных крестьян,
население уже достигло той плотности, при которой наемный труд
становится для земледельца выгоднее обязательного. Из областей,
имеющих сельского населения менее 966 душ на квадратную
географическую милю удобной земли с прибавкой 10 % неудобной,
о всех почти мы положительно знаем, что малочисленность
населения с избытком вознаграждается в них другими обстоятельствами,
благоприятствующими развитию выгодности наемного труда, и о
большей части этих областей мы имеем положительные факты,
свидетельствующие неоспоримым образом, что наемный
земледельческий труд в этих областях с успехом выдерживает соперничество
обязательного.
Области Русской империи, не имеющие и в настоящее время
обязательного труда или по самой плотности своего сельского
населения достигшие такого положения, при котором наемный труд
становится для землевладельца выгоднее обязательного, пли по другим
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
175
местным условиям достигшие такого же экономического положения,
обнимают почти все пространство России, и население их
простирается слишком до 63 000 000. Во всех этих областях обязательный
труд для самого землевладельца менее выгоден, нежели наемный.
Затем остаются в двух местностях округи, незначительные по
своему объему и населению в сравнении с пространством России.
Пространство этих областей составляет около 6 000 географических
миль, менее нежели одну пятнадцатую часть Европейской России,
а население простирается не более как до 3 500 000 душ обоего пола,
то есть не составляет и одной восемнадцатой части населения
России. Об этих местностях нельзя с достоверностью решить по Токе-
рову правилу, выгоднее ли в них наемный труд обязательного. Мы
не имеем сведений о том, существуют ли в них, как в других
многоземельных областях России, условия, которыми и при
малонаселенности придается наемному труду выгодность сравнительно с
обязательным; потому мы не можем сказать с достоверностью, что в этих
областях замена обязательного труда наемным будет для
землевладельцев выгодной, но еще менее оснований имеет кто-либо сказать,
что она была бы невыгодна; об этом вопросе нет точных сведений, и
нужно еще собрать их; но судя по примеру сходных с этими
областями местностей, имеющих выгоду в наемном труде, надобно ожидать,
что точнейшие сведения обнаружат выгодность наемного труда и для
этих областей*.
Вот цифры и факты, на которые ссылаемся мы в тексте. Заметим, что
числа о населенности и о пропорции неудобных земель взяты нами из того же
Тенгоборского, который говорит о невыгодности наемного груда, сам не
воображая, что данными из его собственной книги опровергается это мнение.
Царство Польское, Финляндия, Курляндия, Эстляндия и сибирские
губернии не имеют крепостного населения; общее число жителей 10 750 000.
В губерниях Архангельской, Вятской, Астраханской, Олонецкой,
Таврической, в Бессарабской области и закавказских владениях число
крепостных крестьян так незначительно, что с уничтожением обязательного труда
не может произойти никакой чувствительной перемены в экономических
отношениях, по которым возделывается земля (в Архангельской губернии
наименьшая пропорция — крепостные люди не составляют и одной
15-тысячной части населения; в Таврической губернии, где пропорция их наиболее
значительна, они не составляют и одной 15-й части населения). Общее число
жителей 6 250 000.
Из остальных губерний: А) имеют более 1 400 жителей на квадратную
милю: Московская, Курская, Подольская, Тульская, Киевская, Полтавская,
Рязанская, Калужская, Орловская, Пензенская, Ярославская, Тамбовская (по Тен-
176
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Теперь спрашивается: могут ли все области Русской империй с
громадным населением в 63 000 000 человек, — могут ли эти области, в
которых даже для самих помещиков выгодно отменение крепостного
права, — могут ли они подвергаться всем бесчисленным неудобствам,
вытекающим из обязательного труда, потому только, что в двух или
трех небольших округах, не имеющих и 3 500 000 населения, для
некоторых землевладельцев наемный труд может быть (не наверное,
вовсе нет, а только может быть, да и то едва ли) будет менее выгоден,
нежели обязательный? Припомним еще, что даже для этих немногих
гоборскому), также Харьковская (по Кеппену, см. Месяцеслов, 1855). Общее
число жителей 19 000 000.
За вычетом количества неудобной земли, превышающего 5-процентную
пропорцию, имеют более 1 400 жителей на квадратную милю губернии:
Гродненская, С.-Петербургская, Екатеринославская. Общее число жителей
2 750 000.
За вычетом городского населения, имеют более 1000 сельского населения
на квадратную милю: Черниговская, Воронежская, Владимирская,
Нижегородская, Ковенская, Казанская, Тверская, Волынская, Смоленская. Общее число
жителей 11 500 000.
За вычетом неудобных земель, сельского населения приходится более
1 000 душ на милю в губерниях: Виленской, Могилевской, Витебской,
Херсонской. Общее число жителей 3 250 000.
Губернии и области, нами исчисленные, или не имеют обязательного
труда, или уже по самой плотности своего населения находятся в таком
состоянии, при котором для землевладельца наемный труд выгоднее обязательного.
Число жителей всех этих губерний составляет цифру 53 500 000.
Затем остаются губернии: Пермская, Оренбургская, Самарская, Саратовская,
Симбирская, Костромская, Ставропольская, Минская, Новгородская,
Вологодская, Псковская и Земля донских казаков с общим населением в 13 250 000.
Эти области не имеют столь густого населения, чтобы одна плотность его
уже указывала на то, что наемный труд для возделывания полей выгоден в них
землевладельцу. Зато в большей части из них существуют другие условия быта,
приводящие к тому же результату: в одних областях — чернозем,
уменьшающий издержки найма, в других — выгодный сбыт в приморские порты или в
столицы, с избытком заменяющий малочисленность местных потребителей.
«В большей части этих областей», а не во «всех без исключения этих
областях» сказали мы только потому, что сельскохозяйственная статистика наша
разработана еще очень мало, и о состоянии сельского хозяйства в некоторых
областях нет у нас точных сведений; но во всех тех областях, о которых есть
точные сведения, известно, что возделывание хлеба наемным трудом выгодно
в них даже ныне, — нет, напротив того, ни одной области, о которой было
бы известно, что он в ней невыгоден. Исчислим же те из многоземельных
областей, в которых и ныне, по достоверным сведениям, земледельцу выгодно
возделывание полей наймом.
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
177
землевладельцев небольших округов наемный труд, без сомнения,
будет приносить выгоду, и сомнение только в том, будет ли он
приносить им столько выгоды, сколько обязательный*.
Таков результат, к которому приводит применение к России той
нормы, которая поставлена Токером. Но мы заметили, что эта норма,
под которую уже подходит почти вся Европейская Россия, слишком
высока. Было бы слишком долго здесь излагать, почему должно при-
Ставропольская губерния, подобно другим Новороссийским, с выгодой
возделывает поля наемным трудом.
Саратовская губерния также, — это доказывается хозяйством колонистов,
имеющих множество наемных земледельческих работников; доказывается
также множеством примеров русских купцов, разночинцев и поселян, также
возделывающих поля наемным трудом.
Таков же, как в Саратовской губернии, характер хозяйства в Симбирской.
То же самое в Земле донских казаков.
То же самое (по свидетельству самого Гакстгаузена) в Вологодской
губернии.
В Пермской губернии наемный труд также выгоден.
В Оренбургской губернии также, и притом число крепостных крестьян
незначительно.
Самарская губерния, составившаяся из уездов Оренбургской, Саратовской,
Симбирской, Астраханской губерний, может с такой же выгодой, как и те,
возделывать хлеб наемным трудом.
Во всех этих губерниях и областях находится жителей 9 750 000.
С прежним итогом эта цифра составляет 63 250 000 жителей.
Остаются губернии: Костромская, Минская, Новгородская, Псковская,
о которых мы не знаем, возделывается ли в них с выгодой хлеб наемным
трудом, — того, что в них это не представляло бы выгоды, мы не имеем
права сказать. Все эти губернии, единственные, в которых недостоверна (хотя и
вероятна) выгодность наемного земледельческого труда, едва имеют жителей
3 500 000.
В том числе крепостных крестьян менее 2 000 000 душ обоего пола.
Если в Вологодской и Вятской губерниях, имеющих климат более
холодный и население не более плотное (Вятка), или даже гораздо менее плотное
(Вологда), наемный труд выгоден, то мы имеем всю вероятность ожидать, что
точные сведения покажут его выгодность и для этих областей.
По Тенгоборскому, число всех помещиков в губерниях Новгородской,
Псковской, Костромской и Минской — 12 107; из них имеют менее 20 душ, то
есть ни в каком случае не могут сколько-нибудь порядочным образом жить
доходами со своих поместий, 6 323. Остается помещиков, у которых доходы
с поместий имеют некоторую важность, 5 784. Итак, с одной стороны, благо
государства и прямая выгода 63 000 000 человек (не говоря уже про
облегчение судьбы крепостных крестьян), с другой — быть может, некоторый
убыток для 5 784 лиц, — быть может, некоторый убыток, а быть может, — также
и для них самих выгода.
178
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
знать слишком высоким число 66 жителей на квадратную английскую
милю, при котором, по Токеру, начинается решительная невыгодность
обязательного труда для землевладельцев. Довольно будет указать
один факт: северные штаты Американского Союза, в которых нет
обязательного труда, процветают, как известно, при свободном труде, и
все жители их, землевладельцы и земледельцы, капиталисты и
работники, одинаково думают, что для всех их было бы разорением, если бы
существовал у них обязательный труд. Между тем густота населения в
этих штатах гораздо меньше, нежели в Европейской России*.
Но зачем искать за Атлантическим океаном примеров того, что в
землях, населенных гораздо меньше, нежели русские области с
крепостным правом, наемным трудом поля возделываются с выгодой
против обязательного труда? У нас под глазами Финляндия, в
которой населенность гораздо меньше, нежели во всех наших губерниях
с крепостным правом, в которой климат суровее, почва
неблагодарнее, нежели в русских областях нашей империи. Мы видим, что
наемный труд финляндского земледелия приносит владельцам земли
Вот цифры населения северных (не имеющих обязательного труда)
штатов Американского Союза за 1850 год:
1) Штаты Новой Англии (Мэн, Ньюгемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-
Айлэнд, Коннектикут): 2 727 579 жителей на 63 226 английских квадратных
милях, то есть 43,07 жителей на квадратную английскую милю, или 915 на
квадратную географическую милю. В Европейской России гораздо гуще
населены губернии: Московская, Курская, Подольская, Тульская, Киевская,
Полтавская, Рязанская, Калужская, Орловская, Пензенская, Ярославская, Тамбовская,
Черниговская, Воронежская, Владимирская, Нижегородская, Гродненская,
Ковенская, Казанская, Харьковская, G-Петербургская, Тверская, Волынская,
Виленская, Смоленская, область Бессарабская, губерния Могилевская, также
Царство Польское, Курляндия и Лифляндия. Равную этим штатам
населенность имеют губернии Симбирская и Витебская.
2) Северо-западные штаты (Индиана, Иллинойс, Мичиган, Висконсин и
Иова) : 5 168 000 жителей на 308 210 квадратных английских милях, то есть
по 16,75 жителей на квадратную английскую милю, или 356 жителей на
квадратную географическую милю; в Европейской России почти все области
гораздо более населены; менее 356 жителей на квадратную географическую
милю имеют только губернии Архангельская, Астраханская, Олонецкая,
Великое княжество Финляндское (во всех этих областях нет обязательного труда)
и губернии Вологодская, Пермская, Оренбургская и Земля донских казаков
(во всех этих областях наемный труд в земледелии выгоден, как известно из
положительных фактов). Во всей остальной Европейской России население
гуще, нежели в этих штатах, и, стало быть, надобности в обязательном труде
еще меньше, нежели в них.
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
179
более выгод, нежели получают наши землевладельцы от земледелия с
обязательным трудом.
Но Финляндия населена иным племенем, с другими привычками?
Есть у нас пример и в одноплеменных нам странах. Сибирь с
своим чрезвычайно редким населением превосходно возделывает свои
поля без обязательного труда. Впрочем, зачем ходить в Азию,
когда много таких примеров и в Европейской России? Архангельская и
Олонецкая губернии — самые малонаселенные страны Европейской
России, и, однако же, вовсе не нуждаются в обязательном труде
тамошние землевладельцы для того, чтобы с выгодой для себя
возделывать каждый удобный для хлебопашества кусок земли.
Если наемный земледельческий труд во всех без исключения
странах Европейской России, допускающих по своему климату
земледелие, выгоден, то мы не знаем, зачем после этого нужно существование
обязательного труда. «Затем, — говорит Гакстгаузен, — чтобы
издержки производства не падали на землевладельца» — а, это хорошо.
Впрочем, едва ли не напрасно оспаривали мы вывод Гакстгаузе-
на о необходимости обязательного труда, — он сам отступается от
этого вывода, говоря, что есть средство с выгодой вести хозяйство
наемным трудом: нужно только, чтобы наемные работники не
сидели сложа руки, — для этого следует или нанимать их только на время
полевых работ, или во время зимы, когда нет полевых работ, давать
им другое занятие. Если таким легким способом, по мнению Гакстга-
узена, можно сделать наемный земледельческий труд выгодным, к
чему же толковал он и особенно к чему еще решительней его
толковал вслед за ним Тенгоборский о надобности в обязательном труде?
И к чему опять после того начинает он толковать о необходимости
того же обязательного труда для сохранения больших помещичьих
хозяйств? Ведь он сам уже объяснил, каким образом они удобно
могут подержаться и без обязательного труда,
В заключение всего, наделав противоречий самому себе,
Гакстгаузен говорит, что обязательные повинности должны быть
ограничены законом, и Тенгоборский наивно прибавляет, что в
действительности русский крепостной крестьянин n'est pas taillable et corvéable
a volonte, как некогда французский. Так смело противоречить фактам
можно только в книге, писанной на иностранном языке,
назначенной не для русских читателей, из которых каждому слишком хорошо
известны следующие факты:
180
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Заменить барщину оброком или ссадить крестьян с барщины на
оброк зависит от воли помещика. Надобно ли объяснять, что такие
перемены чаще всего производятся в видах увеличения доходности
имения.
При оброчном положении величина оброка зависит совершенно
от воли помещика.
При барщине воля помещика определяет:
1) Пространство господской запашки; от него зависит число
рабочих дней.
2) Дополнительные к барщине сборы натурой (полотно, ягоды,
куры, яйца и т. д.).
3) Отправление обозной повинности.
При оброке и барщине воля помещика одинаково определяет, до
каких лет мужик несет тягло. Это главные и общие черты того
влияния, которое имеет воля помещика на величину повинностей.
Надобно ли прибавлять, что от воли того же лица зависит,
останется ли оно верно обыкновенному порядку, какого держится
большинство, или вздумает отличаться от большинства какими-нибудь
особенностями, то есть удовольствуется ли этими и другими
обыкновенными способами получения доходов от обязательного труда или
введет другие способы?
Из этих способов, которых не держится большинство помещиков,
но принять которые может каждый желающий помещик, назовем
хотя следующие:
1) Учреждение завода или фабрики с обязательным трудом.
2) Соединение оброка с барщиной двумя путями: А) с
преобладанием барщины, причем денежный оброк есть уже, так сказать,
сверхкомплектный оклад (независимый от дополнительных сборов,
упомянутых выше); В) с преобладанием оброка, при котором барщина
есть уже, так сказать, сверхкомплектный оклад. Например: А) полная
барщина во все время полевых работ с оброком в 5 или 10 рублей
с тягла на зиму; В) оброк в 20 или 30 рублей с тягла с работой по
одной или по полуторы недели во время запашки и сенокоса.
3) Перевод пахотных крестьян всей деревни на месячину.
4) Поставка рекрутов сверх комплекта.
Этих способов можно бы назвать гораздо больше, но полного
списка их никогда не только нам, но и никому в мире не удалось бы
составить, потому что изобретательность человеческого ума неистощима.
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
181
При всех своих уверениях в необходимости сохранить в России
обязательный труд Тенгоборский почему-то, вероятно вследствие
внутреннего увлечения ошибочными мнениями, которые так
основательно опроверг, начинает говорить о средствах уменьшить
объем и произвол обязательного труда и даже вовсе уничтожить эту
повинность. Он чрезвычайно восхищен, заметив, что в некоторых
поместьях барщина заменяется оброком, а в некоторых поместьях
вводится урочное положение, и воображает, что это великий шаг
вперед и что оброк чуть ли уже не есть превращение обязательного
труда в поземельную ренту, то есть уничтожение обязательного труда;
из такой прекрасной мечты он выводит, что можно правительству и
не заботиться об этом деле, — оно, дескать, совершается само собой,
по воле самих землевладельцев, по местным удобствам, без участия
правительства, и во всяком случае составляет местный, а не
государственный вопрос.
Мечта эта прелестна, как лучшая из идиллий Феокрита. Чтобы
верить ей, нужно только два очень легкие условия: не понимать или
отвергать факты и спутывать самые основные экономические
понятия.
Барщина иногда заменяется оброком, — есть ли это уменьшение
произвола в наложении обязательного труда? Вовсе нет, напротив,
произвол увеличивается. Обычай и в случае нужды закон может
мешать увеличению барщины выше трех дней; размер оброка не
зависит ни от обычая, ни от закона, он весь в произволе. Когда барщина
обыкновенно заменяется оброком? Тогда, когда он выгодней для
помещика, нежели барщина; потому результат его вообще—увеличение,
а не уменьшение обязательных повинностей. Барщина касается
только сельскохозяйственного, извозного и фабрично-заводского труда,
оброк обнимает все промыслы и занятия. Торговец из крепостных
людей по системе барщины должен был бы только поставить вместо
себя работника, то есть отправлять повинность ценой в 20,30 рублей
серебром в год; но он платит оброк в 50,100 и более рублей. Мы
вовсе не отдаем преимущества барщине перед оброком, мы говорим
только, что оброк нимало не составляет шага вперед к уменьшению
произвольности в наложении обязательных повинностей. Притом,
если барщина иногда заменяется оброком, то разве иногда не
сводится деревня обратно с оброка на барщину? Кто считал, которое из
этих двух направлений имеет перевес в общей массе?
182
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Урочное положение также зависит от воли помещика; и стоит
ли говорить об этом изменении, которое, может быть, и удобно для
сельских работ, но нимало не относится до различия между наемным
и обязательным трудом? Наемный труд точно так же, как и
обязательный, бывает поденный или урочный; при наемном труде
урочное положение очень часто выгодно для усиления производства; при
обязательном труде это бывает далеко не всегда, потому что уроки
определяются, подобно величине оброка, односторонним образом,
и размер их часто ведет только к расширению трехдневной
работы на четырехдневную и более, через определение таких поденных
уроков, которых нельзя исправить в день, и через пропажу для
мужика дней неудобной погоды; при таком порядке энергия труда может
ослабевать даже более, нежели при поденной работе. То же самое
часто бывает и следствием оброка.
«Оброк есть шаг к замене обязательного труда поземельной
рентой» — вовсе нет. Оброк есть средство получать с поместья больше
доходов, нежели могла бы доставить барщина; ни к чему другому ни
средством, ни шагом он не служит. Чрезвычайно любопытно
сближение его с поземельной рентой: оно совершенно похоже на
сближение обязательного труда вообще с наемным трудом. Рента
определяется свободной торговой сделкой между отдающим и нанимающим
землю точно так, как плата за работу свободным торгом между
нанимателем и нанимающимся. Оброк назначается волей землевладельца
точно так же, как и вообще размер обязательного труда. Ни на один
волос не ближе оброк к ренте, нежели барщина к найму.
«Правительство может не заботиться об уничтожении
обязательного труда», — ну да, оброк все равно, что рента, ну да, оброком уже
уничтожается обязательный труд.
«Во всяком случае, отменение обязательного труда должно быть
местным вопросом». Умилителен ловкий оборот, придаваемый делу
словами «местный вопрос». Что это значит? То ли, что по различию
местностей формы и размеры вознаграждения, определяемые
землевладельцу за отмену обязательного труда и передачу части земель
крестьянам, должны быть различны? Но в этом смысле все
совершающееся в государстве подойдет под формулу местного вопроса. Государство
берет поземельную подать с крестьян, живущих на государственных
землях; величина этой подати не по всему государству одинакова,
напротив, сообразна местным условиям. Десятина земли в одной губер-
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
183
нии платит больше, нежели в другой, в одном уезде больше, нежели в
другом. Государство дает жалованье учителям гимназий и армейским
офицерам; форма вьщачи различна; офицеры получают жалованье
по третям, учителя гимназий — по месяцам; и размер жалованья
различен по местностям: тот самый учитель латинского языка, который
в Петрозаводске получает 500 рублей серебром, в Пензе получает
только 400, потому что в Петрозаводске содержание дороже, нежели
в Пензе; вопрос о жалованье решен, как видим, по местным
условиям. Если это хотел сказать Тенгоборский, каждый согласится с ним.
Но попробуйте согласиться на выражение «местный вопрос», и через
пять минут вам объяснят защитники обязательного труда, что умысел
другой тут был, и какой именно умысел — слишком ясно
доказывается всеми предшествовавшими рассуждениями Тенгоборского о том,
что необходимо сохранить крепостное право, а если суждено когда-
нибудь уничтожиться этому выгодному для нас учреждению, то
подождем того времени, когда барщина сама собой заменится оброком,
а оброк сам собой обратится в ренту, от которой он, впрочем, мало
чем и отличается, а правительству, дескать, хлопотать об этом нечего.
«С течением времени обязательный труд облегчается
смягчением нравов, и правительству нет надобности вмешиваться в эти дела».
В ответ на это выпишем несколько слов из Рошера59, которого
никто не назовет человеком мрачного взгляда на вещи или любителем
перемен или партизаном правительственного вмешательства в
экономические отношения.
«Прогресс цивилизации отягощает бремя обязательного труда.
По мере того, как возрастают требования роскоши, бездна,
отделяющая господина от слуги или крестьянина, расширяется с каждым
днем. По мере того, как развиваются промышленность и торговля,
господин находит все больше и больше выгоды требовать чрезмерного
труда. По мере того, как с развитием общества покровительство
законов становится все более и более действительным, опасение
насилий — эта последняя узда, которая могла бы удерживать жадность, —
становится все более и более слабым, а между тем деморализация и
господ и слуг все увеличивается соразмерно возрастанию роскоши.
С обеих сторон страждет чистота нравов. Leno древней комедии был
хозяин невольниц. В английских вест-индских колониях, когда
существовало там невольничество, часто случалось, что посетитель,
приехавший в гости к плантатору, уходя спать, говорил провожавше-
184
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
му его негру, чтобы прислать ему девушку, и говорил это, стесняясь
и совестясь так же мало, как если бы в Англии просил зажечь в своей
комнате на ночь лампу.
Этим объясняется, почему у всех почти народов, при развитии
цивилизации, государственная власть старалась о смягчении
обязательного труда. Самодержавная монархия у всех почти народов
видела себя в необходимости энергически содействовать уничтожению
обязательного труда и вообще улучшению участи низших классов.
В Италии Фридрих II освободил всех государственных невольников.
В Англии Альфред Великий старался, хотя безуспешно, об
освобождении невольников. Вильгельм I имел более успеха. Королева
Елизавета совершила то же в Англии, что Фридрих II в Италии. Даже в
России царь Иоанн III возвратил крестьянам свободу перехода, которой
лишились они во время монгольского ига; но они снова потеряли
это право в смутные времена при начале XVII века, когда усилилось
значение вельмож в правительственных делах. В Богемии, когда при
Владиславе II усилилось дворянство, было восстановлено крепостное
право, уничтоженное в прежние времена. Датская аристократия,
когда усилилась в государстве, также подчинила крепостной
зависимости свободных поселян.
Наконец при высокой степени развития цивилизации
непреодолимая сила общественного мнения приводит к уничтожению всех
остатков рабства»*.
Кому это объяснение необходимости правительственных мер
к отменению обязательного труда покажется недостаточным, тому,
конечно, будет приятно прочесть следующие соображения,
которыми, как нам кажется, совершенно отстраняется всякое сомнение по
этому вопросу. Сделаем полнейшую уступку теории, говорящей, что
правительство не должно вмешиваться в политико-экономические
отношения. Положим, что правительство никогда ни в какой форме,
ни при каких обстоятельствах не должно касаться дел,
совершающихся под влиянием политико-экономических принципов.
Мы выразили правило о независимости экономического труда от
административных мер с такой безусловной энергией, от которой
далеки самые ревностные приверженцы этой системы. Прекрасно,
Рошер «Основания политической экономии», перевод Воловского, часть I,
пп. 72 и 71.
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
185
что же из этого следует? Правительство не должно нарушать
независимого действия политико-экономических отношений; так каких
же принципов и отношений не должно касаться правительство?
Политико-экономических. Теперь: обязательный труд принадлежит
ли к политико-экономическим принципам, отношения, им
порождаемые, подлежат ли правилам политико-экономической науки? Нет.
По словам Шторха60, в его лекциях, читанных покойному государю
Николаю I, тогда бывшему великим князем, — по словам Шторха,
«обязательный труд не подлежит ведению политической экономии;
он совершенно чужд кругу понятий и отношений, подлежащих этой
науке и ее правилам». Все ученые, занимавшиеся политической
экономией, от Адама Смита до Рошера, согласны в этом.
Таким образом, думайте, как хотите, о зависимости или
независимости политико-экономических принципов и отношений от
правительства, — ваши политико-экономические теории нимало не
прилагаются к вопросу об обязательном труде. Обязательный труд —
явление, совершенно чуждое правилам политической экономии,
историческое явление совершенно иной сферы. Он и возникает и держится
в противность всяким экономическим принципам; это явление чисто
историческое, возникающее из отношений и событий, подлежащих
ведению политики, военного быта, административной власти, но
никак не политической экономии. Роль его относительно политико-
экономических принципов — роль препятствия их развитию.
Правительство имеет не только право, оно, по требованию всех
экономистов, имеет прямую обязанность удалять от народной жизни все
препятствия действию экономических принципов. Например, когда
в государстве мало безопасности на дорогах, это препятствует
развитию экономических принципов, и потому государство не только
может, но прямым образом обязано водворить безопасность на
дорогах. Точно так же, по мнению всех экономистов, правительство
обязано всеми своими силами поддерживать правосудие, наблюдать
за исполнением контрактов, карать преступления и т. д. Точно таковы
же его обязанности по делу свободного труда, который один
признается политической экономией: прямая обязанность правительства
состоит из отстранения всех препятствий к развитию этого
экономического принципа.
Каким образом правительственная власть отстраняет препятствия
действию экономических начал, это дело чисто административной
186
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
науки, дело политики, но не политической экономии. Политическая
экономия требует результата; каким путем политика и
администрация достигнут этих результатов, для политической экономии все
равно.
Этот аргумент совершенно достаточен для здравого смысла. Но,
кроме здравого смысла, бывают в людях страсти. Против них
существуют аргументы еще более точные и т. д.
В этой статье мы говорили вообще о благотворности дела,
начатого высочайшими рескриптами от 20 ноября, 5 и 24 декабря 1857
года. В следующей должны мы говорить в частности о каждом из
оснований, на которых должна быть по этим рескриптам совершена
великая реформа, ими начинаемая.
О НОВЫХ УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО БЫТА
(Статья вторая)
Прошедшую статью мы окончили словами, что, объяснив
необходимость участия правительства в деле отменения крепостного права,
мы должны заняться рассмотрением начал, на которых наилучшим
образом может быть произведена эта реформа и которые
полагаются в основание ей высочайшими рескриптами. В делах подобной
важности следует людям, согласным между собою в общих принципах,
присоединяться к системе, основываемой на этих принципах одним
из исследователей61, специально разбиравших вопрос во всех его
подробностях. У каждого могут быть свои мнения о той или другой
из этих подробностей, но излишними спорами о них не должно быть
затрудняемо решение вопроса. Сообразно этому правилу думаем
поступить и мы. Из многочисленных записок, составлявшихся по
вопросу о прекращении крепостного права учеными исследователями
нашего быта и сельскими хозяевами, мы избираем одну, которая
составлена с наибольшею верностью принципам, вполне разделяемым
нами, с наиболее точным применением этих начал ко всем
подробностям великого дела, и принимаем эту записку, как выражение
наших собственных мнений и желаний 62. Само собой разумеется, что
автор записки не ставится чрез это в необходимость ответствовать за
те из подробностей нашего взгляда, прежде нами выраженных или
долженствующих быть выраженными в продолжение наших статей,
которые более или менее различны от его мнений; точно так же и
мы не отказываемся от обязанности лично ответствовать за наши
мнения. Дело только в том, что записка, нами принимаемая и
представляемая здесь в извлечении, поставляется нами, как наилучшее
развитие убеждений, с которыми мы совершенно согласны в общих
началах, — поставляется как формула, около которой, по нашему
мнению, могут соединиться все те, которые, подобно нам, разделяют
эти основные убеждения.
Начнем наши извлечения из записки тем местом ее, в котором
автор представляет краткий обзор истории частного крепостного
права с начала прошлого века.
«Петр Великий, пересоздавший условия нашей внешней и
внутренней жизни, не способствовал развитию крепостного права, как
думают многие, но ничего не сделал, чтоб уничтожить или, по край-
188
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ней мере, преобразовать его. Преемники Петра и не помышляли
о крепостном праве. Впервые на него обращено внимание в
великий екатерининский век: не только императрица, но и очень многие
из тогдашних владельцев смотрели на крепостное право глазами
энциклопедистов. Говорят, что в комиссию для составления нового
уложения было представлено много мнений, сильно и решительно
осуждавших это право. Но все тогдашние возражения против него,
будучи отголоском филантропических и философических идей
века, лишь поверхностно коснулись этого права, и взгляд той эпохи
отразился и на законодательстве великой государыни: против
дальнейшего распространения личного рабства, конечно, были приняты
некоторые действительные меры, но зато множество казенных
крестьян навсегда перешло вместе с казенными землями в помещичье
владение.
Необходимость упразднить крепостное право впервые
представилась ясно и отчетливо европейски-просвещенному уму
императора Александра 1-го. Следы этой мысли всюду проглядывают в
законодательстве его времени. Дальнейшему распространению
крепостного права поставлены решительные преграды и круг действий его
стеснен. Видно намерение по возможности уничтожить личное
рабство, а крепостную зависимость истолковать в смысле прикрепления
к земле. Наконец против жестокого обращения владельцев приняты
энергические меры. Этот взгляд и это направление не изменилось и
после, несмотря на решительный переворот в общем ходе русского
законодательства с Венского конгресса. В этом отношении
царствования императоров Александра 1-го и Николая замечательно сходны
между собою. Покойный государь гораздо настойчивее и
решительнее своего предшественника подготовлял постепенное упразднение
крепостного права, — очевидное, поразительное доказательство того,
что вопрос поднят не случайно, не по прихоти, но впоследствии
побудительных причин величайшей важности. Бросим беглый взгляд
на эти причины.
В экономическом или хозяйственном отношении крепостное
право приводит все государство в ненормальное состояние и
рождает искусственные явления в народном хозяйстве, болезненно
отзывающиеся в целом государственном организме. Как в теле от
неправильного обращения крови обнаруживаются самые разнообразные
припадки и болезни, так в государстве от крепостного права.
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
189
Не упоминая о других последствиях несвободной и даровой
работы, заметим только, что при такой работе, исполняемой лениво и
неохотно, по крайней мере, вдвое хуже вольной, весьма значительный
процент рабочих сил всего крепостного населения России
утрачивается без всякой пользы как для помещиков, так и для крепостных,
а следовательно, и вообще для государства. По самому умеренному
исчислению, потерю эту должно оценить ежегодно по крайней мере
в 96 ]/2 миллионов рублей серебром*.
В помещичьем крепостном праве заключается если не
единственная, то, бесспорно, одна из главнейших причин неправильного
распределения сельского народонаселения в империи и искусственного
направления его промышленной деятельности. Крепостной не
всегда поселен там, где ему удобнее и лучше, и не всегда ведет именно тот
образ жизни, который по местным условиям края был бы и для всего
государства производительнее, и для него самого выгоднее. Многие
Этот расчет основан на следующем: по 9-й народной переписи
крепостных помещичьих крестьян (в том числе и однодворческих) числилось в
России 10 030 407 душ муж. и 10 508 771 душ жен. пола. Положим (хотя это на
деле и не так), что целая их половина — старики, старухи и дети — вовсе не
употребляются в работу, что на остальных за тем (5 040 203-х душ муж. пола
и 5 254 198 жен.) половина же, т. е. 2 520 102 мужчин и 2 627 099 женщин
находятся на оброке и пользуются своим временем самым производительным
образом, и только другая половина несет в пользу владельца личную
повинность работой, другими словами — находится на пашне или в издельи;
наконец, положим, что последние, строго по закону, работают на своих владельцев
не более трех дней в неделю (что тоже совсем иначе бывает в
действительности); так как всеми почти хозяевами принято, что помещичьи крестьяне могут
давать владельцу, без большого обременения, 140 рабочих дней в году, то и
выйдет, что общее число рабочих дней, отбываемых крепостными в пользу
владельцев, простирается до 351 814 140 дней мужских и 367 807 508 женских.
Дворовых по 9-й народной переписи числилось 521939 душ. муж. и 513 985 жен.
иола. Применив к ним предыдущие расчеты, найдем, что из них взрослых,
способных к работе и службе, 260 959 мужчин и 256 992 женщин. Если из
них тоже половина, т. е. 150 484 души муж. и 128 496 жен. пола ходят по
оброку, а прочие служат и работают своим господам не более 280 дней в году,
т. е. исключая воскресенья и праздники, то повинность дворовых составит
ежегодно 36 335 620 дней мужских и 35 978 880 дней женских. Таким
образом, если крепостная работа только вдвое хуже вольной, то и в таком случае
для народной промышленности и производительности теряется ежегодно по
крайней мере 389 349 660 дней мужских и 403 785 400 дней женских. Оценив
каждый мужской рабочий день в 14 Vi коп., женский в 10 коп. сер., найдем,
что ежегодно теряется на мужских рабочих днях до 56 455 700 рублей, а на
женских до 40 378 640 рублей, всего до 96 834 340 рублей.
190
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
местности империи содержат, сравнительно, слишком частое
население, другие, напротив, страждут отсутствием рабочих рук; там
появляется бедность от недостатка земли, здесь остаются без
употребления и без пользы пространства самые благоприятные для
сельской промышленности. А отчего это? Оттого, что помещичье право
приковывает крепостных к той или другой местности случайно и не
дает огромным массам сельского народонаселения расселиться
правильным образом. Но этого мало; весьма нередко, посреди
народонаселения, занятого отхожими промыслами, у которого земледелие
остается на руках одних лишь стариков, женщин и детей, — совсем
некстати и неуместно лежит помещичье село или деревня на изделье
или на пашне. Как это делается? Владельцы, при направлении
промышленной деятельности своих крепостных, не всегда соображаются
с местными условиями края, и весьма часто только с собственными,
нередко невежественными, случайными и для них самих
убыточными понятиями о вещах.
Так, например, многие владельцы уверены, что они сохраняют
нравственность своих крестьян, запрещая им отхожие промыслы;
другие, в убеждении, что Россия должна быть государством
земледельческим, а отнюдь не фабричным и заводским, сажают своих
крепостных на тягло и пашню, вопреки самым несомненным
указаниям местных условий; наконец очень, очень многие, даже
наибольшая часть помещиков поступают так потому, что представляют
себе крепостную деревню не иначе, как населенную крестьянами
пашущими, косящими, жнущими и молотящими на своего барина, а
другие, не имея иного источника дохода, кроме крепостной
деревни, поселяются в ней на житье и сажают своих крестьян на пашню,
чтоб иметь чем существовать и кормиться. Рядом с этим
большинством попадаются, конечно, и такие владельцы, которые выгоняют
на заработки народонаселение мало подвижное, по преимуществу
земледельческое.
Политико-экономические результаты такого порядка вещей
весьма бедственны для целого государства. Огромное большинство
помещиков старается производить как можно больше всякого рода хлеба,
не справляясь и даже не думая о том, стоит ли заниматься
земледелием и не было ли бы выгоднее обратиться к другим промыслам.
Помещики не думают об этом потому, что пользуются трудом своих
крепостных даром, а вследствие этого рассчитывают свои выгоды или
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
191
невыгоды только по урожаю и торговым ценам на хлеб, а не
принимают, да и не могут принимать в расчет, сколько они издержали
на получение своего дохода. С первого взгляда кажется, что это
обстоятельство не очень важно, а между тем в нем именно и
заключается главнейшая причина постепенного и повсеместного обеднения
наших помещиков и крестьян. Не имея возможности рассчитать,
в сколько ему самому обошлось производство хлеба, помещик не в
состоянии определить и низшей, наименьшей цены, ниже которой
нельзя ему продать хлеба, не потерпев убытка, и потому
наибольшая часть помещиков сообразуется только с торговыми ценами и
с своими потребностями. Выжидать хороших цен на хлеб в
состоянии лишь очень немногие владельцы; а большинство, имея крайнюю
нужду в деньгах, готово отдать свой хлеб по существующим ценам.
Кто же устанавливает торговые цены на хлеб? Торговцы, хлебные
барышники и скупщики, которые руководствуются при этом одними
своими, конечно совершенно безобидными для себя
соображениями, и по стачке между собою умышленно поддерживают самые
низкие цены в местах закупки, пока весь хлеб ими не скуплен. Если б от
этого терпели одни владельцы, то и тогда вред был бы очень велик
и важен; но, к довершению несчастия, от такого порядка дел несут
чувствительные убытки не одни помещики, но вместе с ними и
крестьяне. Первые, по крайней мере, столько же поставляют хлеба на
рынки, сколько крестьяне, если не более. Роняя его цену, частью по
неведению, частью по необходимости, они сбивают ее и с
крестьянского хлеба. Таким образом выходит, что владельцы не только
пользуются половиной крестьянского труда даром, но даже и остальную
половину делают гораздо менее производительною посредством
искусственной дешевизны хлеба, чем бы она могла быть, если б не
существовало крепостного права*.
* Многие приписывают дешевизну хлеба в России не крепостному праву,
а отсутствию путей сообщения, которые уравняли бы цены на хлеб в разных
местностях империи. Сильное влияние этой причины, конечно, отрицать
нельзя, но все же она не главная, а второстепенная. В целой империи всегда
есть большой избыток хлеба, и местные неурожаи не истощили бы его
никогда, если б и был удобный подвоз хлеба из губерний, им изобилующих, в места,
терпящие в ней недостаток. Пути сообщения облегчили и усилили бы сбыт
нашего хлеба также и на заграничные рынки, но и то не постоянно, а от
времени до времени, именно при более или менее общих и сильных неурожаях
в Западной Европе. За всеми этими расходами все же оставались бы в России
192
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
След., давлением на хлебные цены крепостное помещичье право
поражает всех, кто в России живет и кормится от земли. Каждый год
это давление становится все пагубнее, потому что необходимость
изворачиваться из нужды с каждым годом делается для владельцев
и для крестьян настоятельнее, так как расходы растут, а доходы
уменьшаются, след., зависимость производителей от хлебных торговцев
и рыночных хлебных цен становится все безусловнее. Конечные
последствия этого хода дел, в весьма непродолжительном времени, при
продолжении крепостного права заключались бы в совершенном
обеднении и владельцев и крестьян; а возрастающее, соответственно
тому, уменьшение государственных доходов поставило бы и
правительство в самое трудное положение. Приближение этого состояния
мы уже начинали мало-помалу ощущать.
Наконец, осуждая на даровой труд огромные массы людей,
владельческое крепостное право делает вольнонаемных менее нужными
и тем сбивает цены на труд вообще. От этого не только терпят
низшие классы, но и само правительство, потому что чем меньше кто
зарабатывает, тем он беднее, тем меньше проживает, и, следовательно,
тем меньше платит податей и пошлин».
Изложив потом вредное влияние крепостного права на
нравственное чувство человека и характер его обращения с другими людьми,
записка продолжает:
«Рядом с этими печальными явлениями развиваются и другие.
Вследствие крепостного права владелец с детства приобретает
привычку предаваться праздности и тунеядству. Естественное течение
мыслей невольно приводит его к убеждению, что так как крепостные
его должны на него работать даром, то он может, не обременяя себя
излишними заботами и хлопотами, поручить хозяйство и дела свои
управляющему, бурмистру или старосте, а сам — веселиться, жить в
столице, в чужих краях или где бы то ни было для удовольствия соб-
огромные запасы хлеба, которые, при удобных путях сообщения, никогда не
дали бы ценам на хлеб возвыситься, а, напротив, скорее понижали бы их все
более и более. Чтоб поднять в России цены на хлеб и тем возвысить
благосостояние владельцев и крестьян, нужны две вещи: хоть какая-нибудь
соразмерность производства хлеба с потребностью в нем и свободное установление на
хлебном рынке того minimum, ниже которого цены на хлеб упасть не могут.
Оба эти требования в равной степени совершенно невыполнимы, пока
существует у нас крепостное право.
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
193
ственной своей особы, удовлетворяя одним своим прихотям и более
не думая ни о чем. Кому не приятен досуг и кому не тяжек труд,
особливо у нас, где потребность труда еще не обратилась во вторую
природу? Многие помещики думают также: зачем и учиться, когда есть
имение, которое доставляет порядочный доход, а, следовательно, и
связи, и знакомства, и все что нужно? Эти естественные, почти
невольные рассуждения, особливо в очень молодых летах, делают
большинство помещиков с детства праздными и равнодушными к своему
образованию и развивают в них привычку жить трудами чужих рук.
Так, мало-помалу, из них выходят праздные люди, которые,
лишившись, обыкновенно по своей же вине своего состояния, считают
государство обязанным снабжать их всем, что им нужно, давать им
средства не только на необходимое, но даже на прихоти.
Подобно господам рассуждают и крепостные, — особенно
крестьяне, сидящие на господской пашне, и дворовые люди. Они охотно
предаются лени и тунеядству, в той мысли, что если у них не достанет
хлеба, падет скот, сгорит изба, то барин обязан им дать все это; мысль
в основании своем справедливая, но к которой всегда
примешивается злорадное чувство, что господин, который пользуется их трудами
и работой даром, сам будет нести и убытки за эту неправду». «На все
гражданские и житейские отношения крепостное право производит
подобное же влияние», — говорит записка.
«У нас нет порядочной домашней прислуги, даже наемной, потому
что ряды ее наполняются крепостными, бывшими или настоящими,
уже развращенными; у нас нет надежных второстепенных органов
промышленности и гражданских сделок, конторщиков, приказчиков,
стряпчих, поверенных и т. п., — потому что и эти звания
наполняются или из бедного дворянства, или из вольноотпущенных. Дети
господ и крепостных с колыбели попадают под горестное влияние
этого несчастного права и чрез всю жизнь несут на себе
неизгладимую печать его.
С тех пор, как крепостное право водворилось на русской почве,
несколько раз государство стояло благодаря ему на краю погибели. Оно
было одною из главных причин наших несчастий в начале XVII века;
бунты Стеньки Разина, Пугачева и других, менее известных героев и
атаманов буйной вольницы, все эти разрушительные элементы
восставали и поднимались из мутных источников крепостного права; из
того же источника возникли гайдамаки; огромные толпы, чуть-чуть
194
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
не полчища разбойников, опустошавшие Россию в XVII, XVIII и даже
в начале XIX века, вербовали своих сподвижников преимущественно
из крепостных. Теперь, когда нравы несколько смягчились,
изменились и формы восстаний крепостных людей, удержав, однако, тот же
опасный для государства характер. Нет такого нелепого слуха, нет
такого неправдоподобного повода, который бы не служил для
крепостных достаточным предлогом для предъявления старинных
притязаний на освобождение. Вспомним движение огромных масс людей
(до 30-ти тысяч) из Могилевской и Витебской губерний по одному
слуху, что правительство дает свободу тем, которые будут работать
в течение известного времени на С-Петербурго-Московской
железной дороге; вспомним другое движение огромных масс народа из
Саратовской, Симбирской и сопредельных губерний в какую-то
обетованную страну в киргизской степи, где будто бы раздаются земли
даром; вспомним подобные же движения масс во многих
центральных губерниях по случаю издания манифеста о морском ополчении
и, наконец, недавние волнения в Киевской, Воронежской и других
губерниях по случаю ополчения государственного.
Впрочем, это только одна сторона политической опасности,
которою нам грозило крепостное право; есть другая, с первого
взгляда менее заметная, но в существе не менее действительная.
Крепостное право есть камень преткновения для всякого успеха и развития
в России.
Защищая это право последовательно, во всех малейших
подробностях, дворянство вместе с тем, по необходимости, затрудняло и
всевозможные другие внутренние преобразования, своевременность
и даже настоятельность которых сознают единогласно и
правительство и народ. Нельзя отрицать, что, действуя так, дворянство
поступало очень последовательно, ибо все сколько-нибудь значительные
внутренние преобразования в России, без' изъятия, так неразрывно
связаны с упразднением крепостного права, что одно не возможно
без другого; а потому очень естественно, сопротивляясь одному,
сопротивляться и другому. Так, например, преобразование рекрутского
устава было невозможно, потому что оно повело бы к уничтожению
крепостного права; невозможно было изменить теперешнюю
податную систему, потому что корень ее — в том же праве; нельзя было, по
той же самой причине, ввести другую, более разумную паспортную
систему; невозможно было распространение просвещения на низ-
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
195
шие классы народа, преобразование судоустройства и
судопроизводства, уголовного и гравданского, полиции и вообще администрации
и цензуры, потому что все эти преобразования прямо или
косвенно повели бы к ослаблению крепостного права. Вот почему Россия
осуждена была окаменеть, существовать в прежнем виде, не
подвигаясь ни шагу вперед. И ничто не в силах было изменить этого
положения, пока крепостное право составляло основу нашей общественной
и гражданской жизни; ибо это гордиев узел, к которому сходятся все
наши общественные язвы. Самые благонамеренные усилия государей
и отдельных лиц, правительственных и не правительственных,
поправить наше теперешнее внутреннее положение оставались
тщетными, пока существовало у нас крепостное право.
Таковы главные последствия этого права. То, что некоторые
приводят в его пользу, едва заслуживает упоминания.
Крепостные, говорят некоторые, еще не созрели для свободы.
Но государственные крестьяне разве более развиты? Однако они
пользуются же гражданскими правами.
Помещики, думают другие, суть лучшие полицмейстеры, которые
притом ничего не стоят правительству Но кто же видал, спросим мы,
чтоб в благоустроенном государстве полиция имела у себя почти в
безусловном подданстве подведомственных ей людей? Притом казне эти
так называемые полицмейстеры обходятся, конечно, дешево, но
государству — очень дорого. В этом, надеемся, никто не сомневается.
Помещики в России суть главные поставщики хлеба на рынки,
говорят третьи, а с упразднением крепостного права кто будет
производить хлеб в таком огромном количестве? Против этого заметим,
что если даже теперь, в губерниях наиболее хлебородных, разного
звания люди, в том числе и купцы, находят выгодным для себя
покупать или снимать землю, обрабатывать ее наймом и полученный с нее
хлеб продавать, то мы не видим причины, почему бы того же самого
не могли делать и владельцы после упразднения крепостного права.
Прибавим к этому, что и теперь крестьяне, крепостные и не
крепостные, поставляют на рынки огромные массы хлеба, и их хлеб нередко
бывает даже лучшего качества, чем господский. Почему бы все это
изменилось с освобождением крепостных? Мы не видим причины.
Аристократия падет в России с освобождением крестьян,
восклицают четвертые. Но какая причина пасть дворянству, когда крестьяне
будут свободны? Нет ни одного государства в целой Европе, где бы
196
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
не было высшего сословия, наследственного или ненаследственного,
а крепостных в Европе нигде уже нет. Почему же этому быть иначе
у нас, чем в других странах? Не понимаем. После всего сказанного
легко понять, почему помещичье крепостное право обратило на себя
особенное внимание императоров Александра I и Николая I: они не
могли не знать, что мысль об упразднении этого права не есть одна
лишь мечта праздного ума, воспитанного на иностранных книгах
и на пустых возгласах, но что, напротив того, она вытекает из
действительных и существенных потребностей России, удовлетворение
которых не может и не должно быть отлагаемо в слишком долгий
ящик. Оттого оба государя, в течение целого полувека, ревностно и
неутомимо противодействовали помещичьему крепостному праву.
Почему же усилия их не увенчались успехом, и крепостное право
существовало у нас почти в прежнем своем виде с самыми лишь
поверхностными и незначительными смягчениями?
Причин этому очень много. Вопрос о крепостном праве не был
достаточно зрело обсужден; цель стремлений правительства не была
определена совершенно ясно; наконец правительство не прибегало к
средствам, ведущим к цели ближайшим и вернейшим путем.
Истина и время взяли, однако, свое. Есть верные признаки, что
теперь наше провинциальное дворянство начинает просвещеннее и
разумнее смотреть на крепостное право и на необходимость
преобразования его. Это и понятно, губернское дворянство хорошо знает
свои имения и своих крепостных; оно видит Россию, хотя и не всю,
но зато лицом к лицу; наконец оно ближе понимает свои пользы и
свое положение.
Мирное, благодетельное для России разрешение вопроса о
крепостном помещичьем праве делается возможным с той минуты,
когда все стороны этого вопроса приняты в соображение, все связанные
с ним интересы, государственные и частные — взвешены и уважены
и когда, на основании предварительного зрелого обсуждения,
составится подробный, обстоятельный план упразднения крепостного
состояния. Представим здесь опыт такого плана, конечно, в самых лишь
общих чертах.
Вопрос об упразднении помещичьего крепостного права
заключает в себе два следующие: на каких началах или основаниях должно
у нас совершиться освобождение помещичьих крепостных? и какие
суть лучшие средства или способы освобождения?
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
197
Главные начала или основания, на которых надлежит
совершиться освобождению помещичьих крепостных, могут быть определены
лишь по рассмотрении всех интересов, которые сходятся в
крепостном праве и в нем связаны как бы в один узел. Эти интересы суть:
частные — владельцев и их крепостных, и общественные или
правильнее государственные.
Интерес владельцев в крепостном праве очевиден. Они защищают
в нем свое имущество, дошедшее к ним законным порядком и
потому, во всяком случае, составляющее их неотъемлемую гражданскую
собственность. Этого их права добросовестно отрицать нельзя: все
исторические доводы и юридические тонкости, приводимые в
опровержение помещичьей власти, как гражданского права, не колебля ее
нимало, только запутывают и затемняют вопрос.
Столько же очевиден и интерес крепостных. Он заключается
в полном, личном освобождении их от владельцев, с удержанием той
земли, которою владеют и пользуются для себя, избы, в которой
живут, и всего движимого и недвижимого имущества, которое
приобрели собственными трудами или наследовали от отцов своих.
Наконец интересы государства совершенно совпадают с
пользами владельцев и крепостных. По изложенным выше причинам
для государства необходимо, чтобы крепостное право
прекратилось в России, но так, однако, чтоб при этом права и интересы
обеих сторон — помещиков и крепостных — были вполне сохранены
и уважены.
Необходимость последнего условия очевидна даже при самом
поверхностном взгляде. Государство не может ни желать, ни
допустить освобождения крестьян без вознаграждения владельцев, и на
это имеет самые основательные причины. Освобождение крестьян
без вознаграждения помещиков, во-первых, было бы весьма опасным
примером нарушения права собственности, которого никакое
правительство нарушить не может, не поколебав гражданского порядка
и общежития в самых основаниях; во-вторых, оно внезапно
повергло бы в бедность многочисленный класс образованных и
зажиточных потребителей в России, что, по крайней мере сначала, могло бы,
во многих отношениях, иметь неблагоприятные последствия для
всего государства; в-третьих, владельцы тех имений, где обработка
земли наймом больше будет стоить, чем приносимый ею доход, с
освобождением крепостных совсем лишились бы дохода от этих имений.
198
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Не получив вознаграждения, многие из них на первый раз, а иные,
может быть, и навсегда, были бы осуждены на самое бедственное
существование или даже остались бы на руках у правительства, которое
через это было бы вовлечено в чрезвычайно обременительные
издержки и пожертвования.
По соображениям, столько же важным и настоятельным,
правительство вынуждено также обратить все свое внимание и на
возможно большее личное и вещественное обеспечение крестьян при
освобождении их от власти помещиков. Так, в видах общественной
тишины и порядка, правительство не может допустить сохранения
зависимости бывших крепостных от их бывших помещиков, иначе
беспрестанные столкновения между теми и другими, неудовольствия,
бесконечные тяжбы и несправедливые взаимные претензии
размножились и продолжались бы вечно, а на беспристрастное
разбирательство и решение процессов между помещиками и их прежними
крепостными долго еще нельзя рассчитывать, потому что много пройдет
времени после освобождения, а судебная и полицейская власти все
еще будут находиться по преимуществу в руках дворянства и
землевладельцев. Равным образом правительство ни под каким видом не
может согласиться на увольнение крепостных без земли, потому что
чрез это сельское население было бы поставлено, если не по праву,
то на самом деле, в слишком большую материальную зависимость
от владельцев, или же, наскучив этой зависимостью, потеряло бы
мало-помалу оседлость, для водворения которой в низших
сословиях столько принесено жертв, столько сделано усилий, и стало бы по-
прежнему перекочевывать из одного края России в другой к явному
вреду, к явной опасности для государства во всех отношениях.
Некоторые думают, что у нас есть достаточно казенных земель для
поселения на них всех помещичьих крепостных после их
освобождения. Отсюда заключают, что следовало бы освободить крепостных
лично, без земли. Но возможность осуществления такой мысли
неправдоподобна по недостатку земли; даже нежелательно, чтоб эта
мысль могла осуществиться. Водворение вновь двадцати одного
миллиона людей на государственных землях и на счет государственной
казны — план слишком уродливый, чтоб можно было на нем
остановиться. Какой человек со здравым смыслом станет серьезно
доказывать возможность нового переселения народов, с покрытием
потребных на то издержек из сумм государственного казначейства!
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
199
Из всего сказанного следует, что освобождение помещичьих
крепостных должно совершиться на следующих главных основаниях:
1) Крепостных следует освободить вполне, совершенно, из-под
зависимости от их господ.
2) Их надлежит освободить не только со всем принадлежащим
им имуществом, но и непременно с землей.
3) Освобождение может совершиться во всяком случае не иначе,
как с вознаграждением владельцев.
Принять эти начала за основания при разрешении вопроса о
помещичьем крепостном праве велит и строгая справедливость, и
государственная польза, которые здесь, как всегда и во всем, совпадают в
своих требованиях. Что касается средств или способов приведения
этих основных начал в исполнение, то в этом отношении
представляются следующие соображения:
1) Количество земли, с которым помещичьих крепостных
следовало бы освободить, может быть определено различно. Их можно
выкупить: а) со всей землей, принадлежащей к имению, в котором они
поселены, б) с определенным большим или меньшим количеством
десятин на тягло или на душу, смотря по местности, и в) с тою лишь
землей, которая находится в действительном владении и
пользовании помещичьих крепостных.
Первый способ — выкуп со всей землей, принадлежащей к
имению, — весьма неудобен. Он потребовал бы огромных капиталов и не
только не принес бы пользы, но, напротив, имел бы вредные
последствия. В имениях многоземельных, и даже большей части издельных
вообще, для крестьян было бы слишком много всей земли,
принадлежащей к имению; следовательно, она перешла бы в казенное заве-
дывание, и чрез это, как вообще при казенном управлении, стала бы
давать гораздо меньше дохода. В то же время чрез это почти исчезла
бы в России частная поземельная собственность, а с нею и все ее
благодетельные последствия для промышленности и сельского
хозяйства; ибо опытом дознано, что частная поземельная собственность и
существование рядом с малыми и больших хозяйств суть
совершенно необходимые условия процветания сельской промышленности.
Второй способ, выкуп определенного количества десятин земли на
тягло или на душу, почти совершенно невозможно привести в
исполнение. В самом деле, как назначить количество десятин, подлежащих
в каждом имении выкупу, так, чтоб было безобидно и для владельцев
200
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
и для крепостных? Подобное назначение потребовало бы
многолетних невероятных трудов, огромных издержек, подало бы повод
к тысячам произвольных действий, злоупотреблений и
столкновений, которых невозможно было бы ни открыть, ни преследовать по
громадности и сложности операции; наконец, что может быть всего
важнее, такая мера породила бы большую шаткость и
неопределенность поземельного владения во все время, пока продолжалось бы
освобождение крестьян.
Затем остается последний способ — выкупить только ту землю,
которая находится в действительном владении и пользовании
крепостных. Этот способ бесспорно лучший и удовлетворяет всем
требованиям, сохраняя и утверждая, без всяких изменений, поземельное
владение, установившееся издавна и к которому привыкли и
помещики и крепостные; кроме того, такой способ и не потребует никаких
особенных издержек и не может возбудить больших недоразумений
и неизвестности прав*.
Некоторые предлагают выкупить помещичьих крепостных с тем
лишь количеством земли, какое нужно для удержания их оседлыми
на теперешнем их месте жительства, но которого было бы
совершенно недостаточно для прокормления с их семействами. Цель та,
чтобы, воспользовавшись привязанностью крестьян к их родине,
земле и двору, побудить их поневоле нанимать землю у соседних
землевладельцев. Такая система выкупа в губерниях почти
исключительно земледельческих могла бы, может быть, действительно
принести пользу владельцам, доставя им, и то вероятно только сначала,
Разрешение некоторых частных случаев сомнений и вопросов
понадобится, конечно, и при этом способе. Так, например, может случиться, что
владелец, желая уменьшить количество отходящей от него с крепостными земли,
в ожидании выкупа, отнимет у них большую часть земли, которою они до того
времени действительно владели и пользовались. Возможность таких случаев
потребует более точного определения, что должно разуметь под выражением:
«земли, находящиеся в действительном владении и пользовании крепостных».
Далее: необходимо будет определить количество земли, подлежащей выкупу
в Южной и Юго-Восточной России, где существует залежневое хозяйство, и
нет у крестьян постоянного землевладения в одних местах. Необходимо также
будет решить весьма важный вопрос: не должно или, напротив, следует, и в
таком случае на каких именно основаниях следует, выкупать у владельцев —
сенокосы, леса, выгоны, водопои и т. п. Очевидно, однако, что разрешение этих
и других подобных вопросов представит несравненно менее затруднений, чем
приведение в исполнение двух первых способов.
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
201
выгодных арендаторов и дешевых рабочих. Но правительство может
ли согласиться на такую меру? Конечно, нет! Ему не должно смотреть
на государственные вопросы, ослепляясь выгодами одних
помещиков. В данном же случае выиграли бы — и то не наверное — они одни,
а государство и крепостные непременно бы потеряли, ибо владельцы
получили бы возможность, к крайнему стеснению бывших их
крепостных, поднять наемную плату за свои земли или же умалять плату
рабочим и работникам. Последствием этого было бы одно из двух:
или бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились
в бездомников и бобылей, — нечто вроде сельских пролетариев,
которых у нас покуда, слава богу, очень мало, — или стали бы толпами
выселяться в другие губернии и края империи. В том и другом случае
правительство, поддерживая быт выкупных крепостных на местах
или способствуя их переселению, было бы вовлечено в несравненно
большие издержки, чем выкупив их с самого начала со всей землей,
которою они теперь действительно владеют*.
2) Вознаграждение помещиков за отходящих из их владения
крепостных с землею тоже может быть произведено различным образом,
а именно: а) вознаграждение может быть выдано за одну лишь
землю, с освобождением крепостных даром, или же и за землю и за
крепостных; б) мерилом вознаграждения могут быть приняты или цены,
по каким-нибудь соображениям установленные правительством и
уменьшенные против действительности, или же существующие на
местах, во время выкупа, средние цены, как населенных имений
вообще, так и земли и душ в отдельности; наконец, в) самый порядок
вознаграждения помещиков может быть установлен различный. Так,
правительство может признать более удобным производить владель-
0 том, на каких основаниях освобожденные крепостные могли бы впредь
владеть выкупленной землей, здесь говорить не место. Заметим мимоходом,
что все юридические обычаи собственно великоруссов и белоруссов
указывают на общинную, а не личную наследственную поземельную собственность, и
мы пока не видим достаточной причины посягать на эти обычаи,
заключающие в себе, по- видимому, плодотворное начало устройства у нас поземельных
прав на новых началах, которые теперь можно лишь смутно предугадывать.
Во всяком случае, совершенно было бы необходимо по мере выкупа крестьян
с землей запретить им продажу и залог выкупленных земель под каким бы
то видом и предлогом ни было, по крайней мере, на 50 лет; ибо иначе эти
земли могли бы быть скуплены у крестьян, на первых же порах, прежними
их владельцами и другими за бесценок, как отчасти и случилось в Пруссии.
202
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
цам плату следующей за их имение суммы постепенно, на основании
банковских правил, определяя ежегодный платеж предполагаемым
или действительно вычисленным средним доходом с выкупленных
имений, или же процентами с выкупной суммы, назначив величины
процентов применительно к правилам наших кредитных
установлений, или же согласно с законами гражданскими и торговым уставом
о займах между частными лицами и ссудах коммерческих.
Но точно так же правительство может всю следующую за
выкупные имения сумму выплатить владельцам за один раз.
Подробное рассмотрение всех этих способов вознаграждения
помещиков приводит к заключению: 1) что выплата им денег за одну
землю, не принимая в расчет крепостных людей, была бы весьма
несправедлива и неуравнительна. Несправедлива, потому что
крепостные составляют такую же собственность владельцев, как и
земля; неуравнительна — потому что только в некоторых губерниях,
преимущественно густо населенных и земледельческих, земля
имеет большую ценность, а крепостные почти никакой или весьма
малую; в других же губерниях, преимущественно промышленных или
хотя и земледельческих, но мало населенных, владельцы получают
доход не от земли, а от крепостных; 2) что допущение, при выкупе
крепостных, каких бы то ни было особливых расчетов (как,
например, оценки теряемой крепостной работы и т. п.) с целью по
возможности уменьшить следующее владельцам вознаграждение подало бы
только повод к самым несправедливым и произвольным действиям
и, не сокращая существенно расходов на выкуп крепостных, только
стеснило бы владельцев и надолго затянуло бы ход дела; 3) что по тем
же самым причинам было бы неудобно назначить владельцам
вознаграждение по расчету дохода, которого они, с выкупом крепостных,
лишаются, потому что у нас невозможно определить даже
приблизительно средний доход от наибольшей части помещичьих имений;
4) что хотя выкупом крепостных на основании банковских правил
справедливость не была бы нарушена, однако на развитие
промышленности в России такого рода выкуп имел бы, по крайней мере на
первых порах, много лет сряду, неблагоприятное влияние.
Освобождение крепостных, как уже выше замечено, потребует немедленного
постановления наших помещичьих хозяйств на коммерческую ногу,
а это можно сделать не иначе, как с помощью более или менее
значительных единовременных чрезвычайных издержек, которые понадо-
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
203
бятся почти в ту же самую минуту, когда совершится освобождение.
При стесненном положении нашего дворянства ему неоткуда взять
капиталов, необходимых для покрытия таких чрезвычайных
издержек. Поэтому, если вся выкупная сумма не будет уплачена владельцам
при самом освобождении их крестьян, сельское хозяйство в России
понесет весьма чувствительный вред, от которого не скоро
оправится, а это, в свою очередь, будет иметь неблагоприятное влияние на
все государство.
Итак, владельцев следует вознаградить за выкупаемых у них
крепостных самым простым и самым справедливым образом: оценить
крепостных с следующею им землею по существующим на месте
ценам, как можно добросовестнее, как можно ближе к истине, и
затем выдавать всю выкупную сумму сполна при самом отчуждении
крепостных из частного владения. Только такой способ выкупа, не
внося в важное государственное дело освобождения никаких
искусственных и произвольных условий, напротив, принимая за исходную
точку существующий ныне порядок дел, в состоянии приготовить
преобразование сельскохозяйственного быта России легко, почти
незаметно; ибо только при помощи такого способа,
примиряющего пользы всех, новое начнет заступать место старого без перерыва
и с необходимой постепенностью.
Многие думают, что операцию выкупа крепостных следовало
бы произвести одновременно с ликвидациею долгов, лежащих на
дворянских имениях по ссудам из кредитных установлений. Зачет
сделанных ссуд, — так думают они, — значительно уменьшит
выкупную сумму, которая будет причитаться помещикам. Мы со своей
стороны полагаем, что слияние этих двух операций отняло бы у
помещиков средства, необходимые для немедленного устройства их
хозяйств согласно с новыми экономическими условиями и
уменьшило бы массу денег, которая бы без того поступила в обращение.
Оба эти последствия, без сомнения, имели бы на внутренний быт
государства такое неблагоприятное влияние, что с ним не может
идти в сравнение неудобство внутреннего или внешнего долга,
сделанного для выкупа крепостных и равняющегося предполагаемой
к зачету сумме. Такой зачет следовало бы допустить в той только
части долга кредитным установлениям, которая недостаточно бы
обеспечивалась остающейся за владельцами после выкупа частью
их имений.
204
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
3) Для определения количества земли, которое действительно
находится во владении крепостных и подлежит выкупу, и для
назначения суммы, следующей владельцу за выкупаемое имение, следовало
бы учредить по уездам оценочные комиссии, составленные
наполовину по выбору из местных владельцев, наполовину по назначению
правительства из не владельцев, однако коротко знакомых с местным
бытом и условиями края. Если владелец и крепостные с приговором
комиссии по означенным двум предметам согласятся, то он получает
законную силу; в противном же случае поступает на окончательную
ревизию губернской оценочной комиссии, составленной на
изложенных выше основаниях из владельцев и не владельцев. Кроме того,
надлежало бы учредить особенную центральную комиссию для
руководства оценочных комиссий в их действиях, для разрешения их
вопросов, сомнений и всех тех частных случаев, кои возбуждают споры
и недоразумения по недостаточности или неясности правил, данных
в руководство оценочным комиссиям.
4) Собственно финансовая операция по выкупу крепостных
могла бы быть возложена на нарочно для того учрежденный банк, на
следующих основаниях: а) по постановлениям оценочных комиссий,
вошедшим в законную силу, выкуп крепостных совершается или ими
самими, — взносом выкупной суммы сполна или только частью, или
же банком — посредством выплаты владельцу всей суммы или
только той ее части, которая не довзнесена крепостными; б) банк делает
уплаты особливыми билетами, которые всюду принимаются
наравне с билетами прочих кредитных установлений и обеспечиваются
правительством звонкой монетой не менее, как в шестой части их
нарицательной цены; в) выплаченная владельцами из банка сумма
зачисляется долгом на выкупленном имении с уплатою в 37-летний
или другой, более продолжительный, срок по равной части
ежегодно; процентов же на выкупленных крепостных-начислять: с
капитала обеспечения по пяти процентов ежегодно; со всего же выкупного
капитала, выплаченного владельцам, не более как, сколько нужно для
покрытия всех издержек выкупной операции, а по выплате бывшими
крепостными 5Д частей выкупного капитала, оплачивать
процентами уже не весь капитал обеспечения, а только ту его часть, которая
обеспечивает остающийся не погашенным выкупной капитал рубль
за рубль; г) по мере уплаты выкупленными крепостными лежащего
на них выкупного долга выпущенные банком билеты надлежит из-
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
205
влекать из обращения*; и д) по совершенном погашении бывшими
крепостными выплаченного за них помещикам выкупного капитала
владеемую ими выкупленную землю обратить в полную их
собственность на правах государственных крестьян, водворенных на
собственных землях.
5) Так как выкуп крепостных предполагается производить по
существующим на местах ценам, без всякого их уменьшения, то
перевод всякого рода долгов, казенных банковых и частных, сделанных
самими владельцами под залог населенных их имений, на
выкупленных у них крестьян ни в каком случае допускать не
должно. Вследствие этого означенные долги обеспечатся тогда только
частью имений, которая останется собственностью владельцев,
и, согласно с этим, права кредиторов на следующую владельцам
выкупную сумму будут определяться действующими законами, без
всякого изменения. Только по ссудам из Кредитных Установлений
должно бы допустить льготу, о которой упомянуто выше (во 2-м
пункте в конце).
Из сельскохозяйственной статистики Смоленской губернии, изданной
г. Я. Соловьевым (Москва, 1855), видно, что в этой губернии общее число
крепостных составляет 378 038 муж. пола душ; при среднем наделе на душу
по 13 дес. земли, средняя цена души есть 117 руб. Положим, что в
действительном владении крепостных находится целая половина общего количества
земли, какое приходится на душу (что невероятно, ибо в том же числе
положены и господские усадьбы, сенокосы, леса и т. п.); так как средняя цена
незаселенной десятины в губернии есть 5 '/2 руб., то при выкупе
помещичьих крепостных Смоленской губернии пришлось бы заплатить владельцу
за каждую выкупаемую душу средним числом 117 руб. (6 '/2 дес. х 5 Vi руб. =
= 35 руб. 75 коп.) = 81 руб. 25 коп. След., на выкуп в Смоленской губернии
всего крепостного населения потребовался капитал в 30 715 587 руб. 50 коп.
и фонд обеспечения в 5 119 254 руб. 58 '/2 коп. Если крепостные будут платить
ежегодно не более полутора процента на выкупной капитал, то это доставит
в первый год слишком 153 500 руб. дохода, который хотя в каждый за тем
следующий год и будет уменьшаться на 4 151 руб., но все же образует сумму,
с избытком достаточную на покрытие издержек всей выкупной операции, не
только по одной, но и по нескольким и даже по многим губерниям. С
причислением этого полтора процента и 5 процентов на капитал обеспечения
ежегодный платеж каждой выкупленной души на погашение долга при
разложении выкупного капитала лишь на 37 лет составит в первые 30 лет только от
2 р. 89 к. до 2 р. 55 к., — а после того и эта сама по себе незначительная плата
еще более будет понижаться. Не должно при этом забывать, что Смоленская
губерния по количеству крепостного населения занимает, вместе с Тульской,
первое место в целой империи.
206
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
6) Для успеха дела совершенно необходимы были бы: а)
предварительное опубликование целого плана освобождения крепостных
во всеобщее известие, с предоставлением права обсуждать его во всех
отношениях и во всех подробностях. Такое рассмотрение проекта
частными лицами дало бы правительству возможность, при
окончательном издании закона о выкупе крепостных, исправить
вкравшиеся в проект недостатки, неточности и ошибки; б) возможная
гласность хода всей операции, начиная с первого закона о приступлении
к выкупу и оканчивая последним взносом выкупленными следующей
с них в банк суммы; наконец в) строжайшая справедливость,
правосудие и добросовестность как при определении и выплате выкупных
сумм, так и при назначении количества выкупаемой земли.
Вот в общих чертах план упразднения помещичьего крепостного
права. Так как в этом праве сходятся интересы и владельцев, и
крепостных, и государства, то каждый из этих трех элементов принял
бы деятельное участие и в разрешении задачи: дворянство —
подвергаясь внезапному переходу к совершенно новому порядку хозяйства,
польза которого для всего владельческого сословия в массе не
подлежит сомнению, но который в применении тому или другому лицу
может вести к большим убыткам и даже к совершенному
расстройству; крепостные — выплачивая полное вознаграждение владельцам;
правительство — обеспечивая всю операцию своим кредитом и
звонкою монетою.
Кто знает Россию, кто понимает ее великое призвание, тот не
сомневается, что ей прежде всего необходимы мирные успехи,
которые, впрочем, не только у нас, но и везде вернее и прочнее всяких
других.
Начав выкуп крепостных, следовало бы в то же время
содействовать к упразднению крепостного права разными косвенными
мерами и полумерами, которые подготовили и значительно облегчили
бы выполнение изложенного плана выкупа, в обширных размерах,
во всей России. Указания на такие меры и полумеры содержатся
в нашем законодательстве и наших правах: стоит только развить их
в правительственные распоряжения.
Император Александр I старался количественно уменьшить
число крепостных и качественно придать крепостному праву значение
не непосредственной личной зависимости крепостных от господ,
а зависимости, как бы происходящей вследствие того, что земля при-
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
207
надлежит помещикам, а крепостные крепки земле. В обоих этих
направлениях очень многое остается еще сделать административным
и законодательным порядком. Владельцы, из различных побуждений,
нередко сами желают предоставить свободу своим крепостным на
различных условиях, а крепостные, с своей стороны, тоже готовы
откупиться: тем и другим надлежало бы всячески содействовать.
Огромное большинство помещиков, даже при сердечной доброте и
благонамеренности, не знают и не понимают вопроса об освобождении, —
им и в мысль не приходит, что с упразднением крепостного права
они сами во всех отношениях выиграют; следовало бы употребить
все меры, чтоб дворянство и чиновники имели возможность сами
убедиться в пользе, даже необходимости освобождения крепостных,
и содействовали в этом отношении видам правительства не нехотя, а
добровольно и сознательно.
Согласно со сказанным можно бы принять в отношении к
освобождению крепостных следующие косвенные меры:
I. Продолжая деятельность императоров Александра I и Николая,
издать ряд постановлений, которые, не касаясь существа
крепостного права, ограничили бы, однако, его дальнейшее географическое
распространение, положили бы предел размножению лиц, которые
этим правом пользуются, и наконец способствовали бы уменьшению
количества помещичьих населенных имений. Таким образом: 1) для
прекращения дальнейшего географического распространения
крепостного права: а) запретить основание где бы то ни было новых
поселений на крепостном праве; б) запретить переселение
крепостных из одного имения в другое на том же крепостном праве; 2) для
уменьшения числа лиц, имеющих право приобретать крепостных
и владеть ими: а) лицам, вновь получающим права потомственного
дворянства, не предоставлять права владеть крепостными; б)
помещикам, имеющим лишь дальних родственников (напр., в 8-й
степени и далее), дозволять продажу их населенных имений не иначе,
как с предоставлением крепостным права выкупиться с землею (см.
ниже); и в) наследование в населенных имениях после дальних
родственников в определенной степени допускать не иначе, как с
освобождением крепостных, приписанных к тем имениям по ревизии
и притом с тою землею, которою они действительно владели и
пользовались при жизни умерших их владельцев. Такое правило не было
бы несправедливо, потому что тесные родственные связи между да-
208
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
лекими родственниками теперь почти не существуют более, имения
достаются по наследству от дальних родственников большей частью
неожиданно и как бы от совершенно посторонних лиц. Поэтому
в некоторых законодательствах возникал даже вопрос: не следует ли
вовсе прекратить право наследования в слишком далеких степенях
родства; и 3) для уменьшения количества населенных помещичьих
имений: а) предоставить всем свободным состояниям в России право
приобретать населенные имения, но с освобождением притом
приписанных к ним крепостных, с владеемой ими землей, как сказано
выше; б) при продаже населенных имений с публичного торга за
долги кредитным установлениям предоставлять крепостным,
приписанным к тем имениям, право выкупиться самим и с землею, которая
находится в их действительном владении и пользовании; или же
правительству выкупать их на основании изложенных выше общих правил
освобождения помещичьих крепостных. На такие имения могла бы
быть перечислена известная часть долга кредитным установлениям;
количество следующей им земли — определено посредством
особливой оценочной комиссии, а выкупная сумма или тою же комиссиею,
или же по расчету на основании цены, предложенной за имение на
торгах и переторжке*; в) выкупать крепостных с землею, на
изложенных выше основаниях, у всех помещиков, владеющих менее чем 30-ю
душами, при переходе этих душ из одних рук в другие, по наследству,
завещанию, продаже или другим образом. Чрез это мало-помалу
стали бы уменьшаться и исчезать мелкопоместные владения, вредные во
всех отношениях; г) на тех же основаниях выкупать имения разно-
поместные при переходе их каким бы то ни было образом от одного
помещика к другому.
И. Надлежало бы всячески содействовать добровольным
сделкам между владельцами и их крепостными о выпуске последних на
В 1845 году крепостным предоставлено было право при продаже с
публичных торгов имений, к которым они приписаны, выкупаться на волю,
но оно не привело к ожидаемым результатам, потому что крепостным
вменено в обязанность вносить последнюю состоявшуюся высшую цену на торгах
за все вообще имение, и при том на взнос денег дан самый незначительный
срок. По первому из этих условий на крепостных возлагалась тяжелая
обязанность уплатить очень значительную сумму и взамен приобрести гораздо
больше земли и угодий, чем сколько им действительно нужно; по второму же
от них требовалась уплата всех денег в такой короткий срок, в какой иной
и капиталист не успел бы изворотиться.
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
209
волю с землею и без земли. О способах достигнуть этой цели
заметим следующее: а) отпущение на волю крепостных с незапамятных
времен считалось у наших предков одним из самых обыкновенных
и как бы обязательных подвигов благотворительности и
благочестия: не было предсмертного словесного распоряжения владельца,
которым бы не увольнялись крепостные. Этот исполненный любви
и христианского милосердия обычай следовало бы не только
поддерживать, но и всячески развивать между владельцами. Всего
ближе это могло бы сделаться при содействии и помощи духовенства,
которое, конечно, с радостью воспользовалось бы случаем принять
деятельное, согласное с духом Евангелия и святым пастырским
призванием, участие в решении этого государственного вопроса
первостепенной важности. Невозможно исчислить, какое огромное и
благодетельное влияние на успех освобождения крепостных могли бы
иметь увещания владельцев и владелиц, со стороны духовенства,
отпускать больше людей на волю или вовсе без выкупа, или хотя и с
выкупом, но на условиях, как можно более умеренных, как можно менее
тягостных для крепостных. Надобно стараться, чтоб достойнейшие,
наиболее почитаемые, любимые и влиятельные члены духовенства
вошли, по сердечному убеждению, в виды правительства и ради
общего блага, ради общей пользы гражданской и христианской,
добровольно захотели действовать в этом смысле: они знают, как и к кому
отнестись, кому из епархиального духовенства что и как предписать
и внушить; словом, собственное убеждение и любовь укажут им пути
и способы действования; б) следовало бы подвергнуть самому
внимательному пересмотру и существенно упростить все без изъятия
действующие ныне постановления об отпуске на волю крепостных, как
с землею, так и без земли; ибо, например, освобождение крепостных
с землею в настоящее время обставлено многосложными
формальностями; в) следовало бы также организовать правильным образом и
по возможности в обширных размерах выдачу ссуд тем крепостным
деревням, селам и т. п. и даже отдельным лицам, на увольнение
которых помещики изъявляют согласие под условием взноса известной
суммы денег. Потребность этой меры очевидна: часто бывает, что
крепостные имеют случай выкупиться с землей, на довольно
выгодных условиях, и даже деньги у них есть, да не сполна вся требуемая
сумма, и из-за этого дело расходится. Что касается до выкупа из
крепостного состояния отдельных лиц, то в больших центрах, напри-
210
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
мер в Москве и Петербурге, он совершается так часто, что давно уже
вошел в разряд юридических сделок самых обыкновенных.
Происходит это таким образом: крепостные, не имея денег для выкупа,
приискивают себе кредитора, который вносит за них всю сумму, а они ее
потом у него отслуживают. Такой выкуп, во мнении простого народа,
есть дело благочестивое, более угодное богу, чем обыкновенная
ссуда. Если б был учрежден банк или отделения банка для выдачи ссуд
на выкуп на известных условиях, согласованных с потребностями,
способами и нуждами простого народа, то нет сомнения, что при не
очень значительном оборотном капитале он оказал бы самую
существенную услугу делу освобождения и незаметно доставил бы волю
тысячам людей и множеству сел и деревень; и г) надлежало бы
содействовать всеми возможными средствами образованию капиталов
для выкупа крепостных с землею и без земли. Такими средствами
могли бы служить: открытие подписок, постоянных и временных
в целой России; сборы в церквах; разыгрывание лотерей. Следовало
бы не только дозволить, но поощрять составление обществ по
образцу благотворительных с целью выкупа крепостных; эти общества
могли бы принимать участие и в составлении договоров или условий
между господами и их крепостными о выкупе и т. п. Многие найдут,
может быть, все эти способы неприличными, или, как у нас говорят,
неблаговидными; но с этим мнением нельзя согласиться. Если не
считается неприличной подписка на выкуп пленных, на
вспоможение раненым, на покупку им не только пищи, белья, платья, но даже
лекарств, корпии и разных целебных и прохладительных снадобий,
если никому не приходило еще в голову считать неблаговидными
пожертвования деньгами и вещами в пользу бедных, вдов и сирот,
на выкуп должников из тюрьмы, на содержание бедного духовенства,
церквей, в пользу войск, даже на покрытие военных издержек, то нет
причины, почему бы неприлично или неблаговидно было собирать
пожертвования на упразднение крепостного права.
III. Выше было замечено, что император Александр I старался
поставить в крепостном праве на первый план не личность крепостных,
а землю, недвижимую собственность и к ней, так сказать, приурочить
повинности и обязанности крепостных к владельцам: мысль
глубокая. Начать теперь развивать ту мысль во всех ее подробностях едва
ли было бы полезно, потому что всякая попытка определить
отношения между крепостными и их владельцами, при теперешней низ-
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
211
кой степени образования России и неустройстве местной
администрации и полиции, вместо того чтоб оградить крепостных, повела
бы только, как показал опыт, к усилению взаимного неудовольствия
господ и крепостных и к бесчисленным новым, разорительным
процессам. Поэтому было бы осторожнее, даже, может быть,
справедливее, и во всяком случае полезнее, имея целью выкуп и окончательное,
полное освобождение крепостных, ограничиться, при
осуществлении означенной выше мысли, теми только мерами, которые,
подготовляя повсеместное освобождение, в то же время не нарушали бы
материальных интересов владельцев. В этих видах можно было бы:
а) выкупить всех однодворческих крестьян без земли. По девятой
народной переписи их числилось не более 6 347 душ мужского пола;
б) окончательно запретить, под каким бы то ни было предлогом,
владеть крепостными без земли. Подобное запрещение существует уже
и теперь, но оно ослаблено изъятиями, так что даже до сих пор есть
законом дозволенные способы владеть крепостными, не
приписанными к земле; и в) окончательно запретить продажу и отчуждение
крепостных без земли, под каким бы то предлогом ни было, потому
что такие продажи подают повод к самым вопиющим
злоупотреблениям, например, по отправлению рекрутской повинности.
IV. Наконец для того, чтоб иметь возможность приступить к
повсеместному освобождению помещичьих крепостных в целой империи,
надлежало бы собрать предварительно все статистические данные,
необходимые для составления проекта выкупной операции,
подготовить достаточное число благонамеренных, бескорыстных и
просвещенных чиновников, хорошо знакомых с юридической и
экономической стороной крепостного права, и расположить в пользу
освобождения общественное мнение. Для достижения всех этих целей,
прежде всего необходима гласность. Нет сомнения, что лишь только
крепостное право и способы его упразднения сделаются предметом
подробного рассмотрения и обсуждения в печати и начнется обмен
мыслей об этом предмете, — общественное мнение, под влиянием
рассуждений и прений, скоро сложится, будут собраны об
крепостном праве весьма подробные и основательные сведения и данные
и образуются люди и чиновники, какие нужны для успеха дела;
словом, все необходимые орудия для упразднения крепостного права
создадутся сами собой и станут в распоряжение правительства, а ему
останется только пользоваться ими. Согласно с этим, надлежало бы
212
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
принять следующие меры: 1) для собрания статистических сведений:
по каждому уезду, в котором есть крепостные, собрать за несколько
последних лет точные и полные данные о том: а) сколько в нем
находится всего крепостного населения; б) по скольку десятин земли
приходится на каждую крепостную душу; в) сколько из них находится
в действительном пользовании крепостных и след., будет подлежать
выкупу; г) какая средняя цена десятины земли удобной — пахотной,
луговой, покрытой лесом и проч. и неудобной; д) какая цена одной
ревизской души без земли; е) какая средняя цена одной ревизской души
в общем составе населенного имения и ж) сколько в уезде оброчных
и издельных имений, сколько в тех и других особливо ревизских душ
и какое в них распределение земли между владельцами и
крепостными. Все сведения, собираемые таким образом и частными лицами
от себя — печатать, не только с дозволением подвергать их строгой
поверке, но с вызовом к тому всех желающих и знакомых с делом;
2) в видах приготовления общественного мнения к упразднению
крепостного права следовало бы: а) не только разрешить владельцам
совещаться между собою об удобнейших способах освобождения
крепостных, преимущественно в той местности, где находятся их
имения, но и поощрять их к тому; б) приглашать и поощрить к тому же все
существующие в России сельскохозяйственные общества, к занятиям
которых этот вопрос непосредственно относится; в) предложить
профессорам политической экономии и статистики во всех высших
учебных заведениях подробно излагать и объяснять на лекциях пользу
и выгоду освобождения крепостных в промышленном и
хозяйственном отношениях; выполнить эту задачу им будет тем легче, что наука
давно уже признала это положение за истину неопровержимую, не
подлежащую никакому сомнению; г) дозволить печатно рассуждать
о труде добровольном и принужденном или обязательном, с
вознаграждением и без вознаграждения, и о пользе и вреде того и
другого вида для государства, общества и частных лиц в хозяйственном
и материальном отношениях. Подобные рассуждения принесли бы,
особливо при полемике, и ту еще неисчислимую пользу, что в
весьма короткое время в нашем обществе сложились бы здравые и ясные
политико-экономические и финансовые понятия, отсутствие
которых теперь так ощутительно и такие вредные имеет последствия».
Этим оканчивалась первоначальная записка. Она ходила по рукам,
вызывала к себе горячее сочувствие во всех просвещенных людях,
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
213
но вызывала и возражения со стороны некоторых. Сообразив эти
возражения, автор прибавил к своей записке рассмотрение
слышанных им замечаний. Вот извлечения из второй части записки:
«Мысль упразднить помещичье крепостное право выкупом
владельческих крестьян со всей землей, которую они на себя
обрабатывают, вызвала много возражений. Благодаря им самый предмет, столь
важный, столь, можно сказать, неисчерпаемый, более и более
уясняется с различных сторон. Признавая в полной мере, что всякое
замечание и возражение, каково бы ни было, впрочем, его достоинство,
указывает или на недостаточную разработку предмета, или, по
крайней мере, на более или менее существенные недостатки редакции, мы
считаем себя обязанными для пользы самого дела, со всевозможным
вниманием разобрать все без изъятия возражения, которые нам
удалось слышать против мысли об освобождении крепостных вообще и
в особенности против предложенного нами способа выкупа.
Остановимся сперва на возражениях и замечаниях более общих,
имеющих особенную важность, и перейдем потом к подробностям и
частностям.
I
Многие решительно восстают против обращения помещичьих
крепостных, после их выкупа, в государственные крестьяне,
водворенные на собственных землях, и остаются в убеждении, что после
освобождения крепостных дворянство в России никак сохраниться
не может.
Об этом рассуждают обыкновенно таким образом:
По освобождении, так или иначе, крепостных людей, какое будет
их законное положение? Конечно, многие помещичьи имения
действительно представляют доказательства беспечности и равнодушия
владельцев к благу их крепостных; но, к счастью, число их, с
успехом просвещения, видимо уменьшается; а взамен того, сколько же
есть таких имений, в коих благоустройство, зажиточность крестьян
и образцовый во всем порядок на деле указывают на
государственную и административную пользу помещичьей власти. Чем же можно
заменить эту власть? На кого перенести с владельцев бесчисленные
заботы по внутреннему устройству бывших крепостных общин и
попечительство над крестьянами? С другой стороны, дворянство теперь
214
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
первое сословие в империи и пользуется привилегиями, которые
обеспечивают за ним, частью по праву, но еще более на самом деле,
известное и притом довольно значительное влияние на
общественную и государственную жизнь России. С той минуты, как помещичьи
крестьяне будут освобождены и сами станут землевладельцами,
дворянство неминуемо потеряет это важное, первенствующее значение,
потому что не будет уже ни малейшего основания оставлять за ним те
привилегии, которыми оно теперь исключительно пользуется.
Потеряв всякое отличие от прочих сословий, оно смешается с ними и по
малочисленности своей затеряется в их массе. Может ли дворянство
желать такого преобразования? Но, оставляя в стороне дворянство,
можно ли желать его для государства и для России? Если б такое
преобразование действительно состоялось, то нет сомнения, что грубое
невежественное большинство заглушило бы в управлении и
общежитии просвещенное меньшинство; нравы стали бы еще грубее,
чем теперь, как во всех обществах, где аристократические элементы
стоят на втором плане. Азиатская основа нашего народного
характера опять стала бы преобладать, как было до Петра Великого, ибо
она сдерживается единственно благодаря тому, что во главе народа
и управления стоит меньшинство, принявшее европейское влияние и
нравы. Итак, сохранение теперешнего положения и роли дворянства
в России есть дело государственной важности, а это невозможно без
сохранения крепостного права. Таковы возражения против
упразднения крепостного права, которые слышатся отовсюду не только от
решительных противников этой меры, но даже и от тех, которые
признают крепостное право несправедливым и во многих отношениях
вредным для России.
В основании всех изложенных выше рассуждений лежит, во-
первых, недоверие к нашей администрации, особливо к ведомству
государственных имуществ, во-вторых, убеждение в том, что значение
и влияние должны принадлежать в России не массам, а
просвещенному и зажиточному меньшинству, представляемому дворянством.
С тем и другим нельзя не согласиться. Местное наше управление
имеет важные недостатки. Мы не станем также защищать местного
управления государственных имуществ, хотя, признаемся, и не видим
причины, почему бы ему именно принадлежало в этом отношении
невыгодное преимущество перед прочими ведомствами. Наконец
нельзя не разделять убеждения, что значение и влияние должны при-
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
215
надлежать образованнейшему сословию. Если это справедливо для
всех стран в мире, то тем более в применении к России, где
просвещение так мало развито в большинстве народа. Но именно для
преобразования местной администрации, для поставления дворянства
в то положение, какое ему приличествует, совершенно необходимо
уничтожить крепостное право. Последнее породило и питает
неудовольствие к дворянству в крепостных и недоверчивость в местной
администрации. Внутренний разлад меаду органическими стихиями
России, вытекая из крепостного права, с его существованием будет
сохраняться, с усилением его усилится, с упразднением исчезнет,
разумеется, если последнее совершится безобидно для простого народа.
Справедливость этой мысли подтверждают и история, и
ежедневный опыт.
Что есть администрация? Орудие, посредством которого
верховная власть уравновешивает различные общественные элементы,
приходящие между собою в столкновение или в соперничество.
Богатые, знатные, родовитые, сильные, просвещенные, умные имеют
огромные преимущества перед бедными, незнатными, безродными,
слабыми, непросвещенными, посредственными или глупыми и
образуют высший слой человеческих обществ. Необходимое неравенство
людей, составляющее, вопреки всем теориям, закон естественный,
повело бы к чрезмерному преобладанию меньшей части общества
над большинством, если бы не было верховной власти, которой
призвание — служить между ними посредницею, охранять и защищать
низшие классы, во всех отношениях нуждающиеся в опоре и
покровительстве.
В древней России крестьянин называл себя царским сиротой,
выражая тем глубокое, вполне верное представление русского народа
о верховной власти и ее значении, и вся наша внутренняя история от
первой страницы до последней есть не что иное, как развитие и
применение этого основного воззрения. Не дав у себя развиться, по
примеру других славянских племен, феодальным и олигархическим
зачаткам, русский народ создал власть, какой не видал еще дотоле мир,
и об нее разбились все беды, сгубившие другие славянские народы.
Зорко сторожили мы у себя за неприкосновенностью верховной
власти, поддерживали ее всеми силами в шаткие времена и
восстанавливали, когда неблагоразумие низводило ее с ее несокрушимого
подножия.
216
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Русский царь не дворянин, не купец, не военный, не
крестьянин, — он выше всех сословий и в то же время всем им близок. Сила
вещей непременно делает русского царя посредником, верховным
третейским судьей общественных интересов, справедливым
мерилом притязаний всех классов и сословий. Строго, даже сурово
и временами жестоко сдерживали наши древние самодержцы
притеснения простого народа. Защищая слабого против сильного, они
должны были мало-помалу создать себе покорное и надежное орудие
своего призвания, чуждое интересов обеих соперничающих сторон.
Таким орудием является, почти тотчас же после возникновения
самодержавия, сословие дьяков и подьячих, зародыш и первообраз звания
чиновников. Это сословие вербовалось из людей темных, но более
или менее грамотных и деловых, не принадлежавших ни к какому
званию или покинувших свое звание и потому чуждых всяким
общественным и сословным интересам. Степень образованности,
бескорыстия и добросовестности этого класса зависит от степени общего
народного образования и нравственности; но как в полуварварских,
так и в высокопросвещенных государствах характер, значение и
общественное положение этого класса остаются те же, пока не
изменятся самые отношения между сословиями или общественными
интересами. Русская пословица: «поссорь бог народ, накорми воевод»
навсегда останется и в буквальном и в переносном смысле истиною
для всех в мире народов. Напрасно многие думают, что
бюрократическое управление посредством чиновников может быть введено
или уничтожено по произволу; напрасно приписывают они вред,
происходящий от бюрократической системы, эгоистическим,
себялюбивым видам правительства. Бюрократия есть необходимый плод
взаимной вражды и недоверия сословий и общественных интересов,
не умеющих или не хотящих придти к какому-нибудь соглашению.
Говорят, что бюрократия порождена недоверием правительства к
народу. Но так ли это? Порядок вещей, при котором низшие слои
общества, по необразованности, отсутствию общественного духа и своему
положению, совершенно подчинены влиянию высшего сословия,
а последнее всеми силами стремится исключительно, эгоистически
воспользоваться этим влиянием в свою только пользу, едва ли и
заслуживает доверия. Народ, как целое, тут ни при чем. Всякому
правительству, конечно, во всех отношениях было бы удобнее управлять
народом посредством высшего класса, который по своему положе-
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
217
нию между верховною властью и низшими слоями общества мог бы
служить наилучшим представителем всенародных польз и
ходатаем за них. Но ненормальное отношение высших классов к низшим
вынуждает правительство питать к первым некоторое недоверие и
только отчасти, с важными ограничениями, предоставлять им
участие в делах общественных.
Эти выводы вполне подтверждаются у нас на деле. Наше местное
управление, можно сказать, основано на недоверии. Им только и
объясняется глубокая тайна, окружавшая не только правительственные
распоряжения, но и просительские дела, чрезмерное
сосредоточение в центральных государственных установлениях бесчисленного
множества маловажных дел и бумаг, которым следовало бы
оканчиваться в местах уездного управления и уже ни в каком случае
не восходить далее губернских инстанций; чрезвычайное развитие
в местном управлении начала бюрократического, чиновного, при
заметном ослаблении начала сословного и выборного. Отсюда прямо
или косвенно проистекают все коренные недостатки теперешней
нашей системы управления, для устранения которых одно только и есть
действительное, вполне надежное средство: все дела местного
интереса и управления, не имеющие общей государственной важности
или даже не касающиеся в одно и то же время нескольких
местностей, предоставить окончательному решению местных учреждений;
для этого сословные дела вверить заведыванию выборных из самых
сословий, а общие земские дела — учреждениям, образованным
частью из чиновников, частью из выборных, поставленных в
независимое положение от исполнительных властей; затем, для устранения
злоупотреблений, обыкновенных спутников секретного
делопроизводства, административного произвола, безответственности и
безнаказанности, подчинить местное управление, в некоторой мере,
контролю публичности и гласности.
Нетрудно доказать, что если привести в исполнение все
изложенные выше меры, то дворянство, класс самый просвещенный, самый
зажиточный, самый сильный по своему положению и связям,
получит решительное влияние на губернское и уездное управление; в этом
сословии разовьется сословный дух, который будет иметь большой
вес в целой народной жизни. Не будь дворянство поставлено чрез
крепостное право в ложные, ненормальные отношения к
половине сельского народонаселения империи, правительству оставалось
218
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
бы только с радостью воспользоваться случаем в одно и то же
время и облегчить государство от тяжкого бремени дурного местного
управления и действовать на непросвещенные массы чрез лучших,
достойнейших представителей народа. Недоверие скоро заменилось
бы доверием и любовью. Крепостное право поставляло этому
непреодолимую преграду.
Но теперь, когда крепостной получит свободу с землею,
обеспечивающею его и его семейство, — теперь дворянин и крестьянин,
сделавшись землевладельцами, придут в нормальное отношение, будут
иметь одни общие интересы, и дворянство перестанет опасаться
необходимых и полезных преобразований, и исчезнет недоверие между
ними. Простой народ увидит в дворянстве своего естественного,
достойного доверия представителя, потому что, имея одни и те же
интересы с простым народом, дворянство будет иметь все способы
защищать их для себя и вместе для простолюдинов. Весь народ сольется
в единое целое, в котором будут различения, будут высшие и низшие
классы, но не будет вражды и внутренней разорванности.
В заключение сделаем еще одно замечание. Многие думают, что
должно освободить крепостных вовсе без земли, или с одною
усадьбой, или с одной десятиной пахотной земли. Для обеспечения
крестьян предлагают взамен поземельной собственности учредить для
них вечную или продолжительную аренду в помещичьих землях,
а управление крестьянскими общинами вверить владельцам
дворянских имений, но с разными ограничениями, посредством выборных
из крестьян. Подобных комбинаций предлагается множество, с
разными вариациями, но все имеют одну цель: удержать за дворянством
всю или почти всю землю и чрез это поставить от него в
хозяйственную и политическую зависимость крестьянина. Думают, что если так
было и есть в большой части Европы, то почему же не быть тому
точно так же и у нас? Мы, со своей стороны, совершенно не разделяем
этого мнения. Дворянство, которое с первого взгляда должно чрез это
выиграть, всего более потеряет, ибо если теперь, когда владелец, по
закону и по необходимости, еще заботится о крепостных, последние
тяготятся своим положением, то что будет, когда такие заботы с него
снимутся и в то же время крестьянин останется на деле в большей
или меньшей зависимости от бывшего своего помещика?
Неудовольствие между дворянством и крепостными обратилось бы тогда в
явную и открытую вражду, которой, конечно, никто не пожелает ни для
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
219
России, ни в особенности для дворянства. Наш крестьянин не латыш,
и не эстонец, не покоренное племя, а подданный великой державы,
которую сам создал и поддерживает. И он это очень хорошо
понимает. Нет, для счастья России во сто крат лучше было бы предоставить
вопрос о крепостном праве судьбе, даже решению слепого случая,
чем было бы решить его неосновательно, противно русской истории,
русскому духу, будущности России! Для нашего крестьянина
прикрепление к земле началось в то самое время, когда Европа уже стояла на
пути к упразднению крепостного права; мы знаем, по примеру
Европы, ближайшие и отдаленные горестные последствия освобождения
крестьян без земли. Воспользуемся же этим опытом, чтоб решить
вопрос иначе, правильнее, чем он решен в большей части европейских
государств. Пусть высочайшая справедливость, беспристрастие, общая
государственная и народная польза руководят нас при упразднении
крепостных отношений; ибо только под одним этим условием
Россия получит несокрушимую прочность и то внутреннее единство, при
котором невозможны будут междоусобия, терзающие Европу. Вместо
того чтоб поправлять старую ошибку, как она теперь делает,
постараемся ее совсем не делать. А коренная ошибка есть освобождение
крестьян без земли или не со всей землей, ими владеемой.
II
Почти все убеждены в том, что необходимо произвести выкуп
разом в целой империи; а для этого потребовалась бы огромная сумма
денег. О выпуске на эту сумму банковых билетов, по отзывам людей
специальных, нельзя и думать, потому что вследствие такой
операции число кредитных знаков, обращающихся в империи, далеко
превзошло бы действительную в них потребность, и непременным
следствием этого было бы банкротство, которого не отвратит
капитал обеспечения в шестую часть выкупной суммы.
Может быть, опасения эти и не оправдались бы на деле; но если
все так думают, то такое общее убеждение уже само по себе делает
подобный способ выкупа невыполнимым.
Взамен его люди специальные и практические предлагают
выпустить на всю выкупную сумму 4-процентные облигации, в виде
бессрочного долга, конечно, с удержанием за государством права
выкупить эти облигации впоследствии, когда признает это нужным,
220
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
по курсу. Нет никакой надобности принуждать владельцев
принимать эти облигации в уплату за их имения: облигации могут быть
распроданы в России и за границей, помещикам же должно быть
предоставлено на волю получать уплату облигациями или деньгами. Такая
операция, по мнению тех же специальных людей, не представляет
никакой опасности и никакого риска.
Для обсуждения этого предположения вот некоторые числовые
данные. Если положим, что за каждую выкупаемую ревизскую
мужеского пола душу, с предложенным в проекте количеством земли,
придется выплатить владельцам по средней оценке от 105 до 150 руб.
сер., то с каждой из этих душ пришлось бы ежегодно взимать
выкупного платежа от 4-х руб. 20 к. до 6-ти рублей. Этот расчет требует
некоторых пояснений.
1) При назначении 105-150 руб. основанием служили следующие
соображения:
а) В землевладельческих губерниях средней полосы России,
имеющих относительно частое народонаселение, как-то: Тамбовской,
Рязанской, Орловской, Тульской, Курской — имения оцениваются
не по числу душ, а по количеству земли; наделение землею крестьян
по 6-ти десятин на тягло считается роскошным; если в имении число
тягол составляет половину числа ревизских душ, то такое отношение
считается особенно благоприятным; наконец средняя цена земли
в названных губерниях составляет от 35 до 50 р. сер. за десятину.
б) В многоземельных и малонаселенных губерниях южной и
юго-восточной части империи земля хотя несравненно дешевле чем
в Центральной России, но зато там, вследствие залежневой системы,
ее дается крестьянам несравненно больше.
в) Что касается оброчных имений промышленных губерний —
Ярославской, Костромской, Нижегородской и проч., то здесь средний
оброк с тягла можно положить примерно в 20 руб. А как здесь еще
более, чем в губерниях земледельческих, число тягол только вдвое
менее числа душ, то подушный оброк господину составит 10 р. сер.,
то есть от 6 % до 7 % с капитала в 150 руб., как обыкновенно и
оценивается средний доход с оброчных и даже с земледельческих имений,
кои почему-либо не поставлены в особенно выгодные или особенно
невыгодные условия.
2) Некоторые думают, что было бы несправедливо выплатить
владельцам сполна, по оценке, всю выкупную сумму за отходящую от
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
221
них часть имения и крестьян, потому что на владельцах лежат
обязанности в отношении к крепостным, которые требуют денежных
расходов и которые с освобождением перенесутся на самих
крестьян. За это справедливость требует сделать соразмерный вычет из
следующего владельцам вознаграждения.
Против этого должно заметить, что если бы вознаграждение
владельцев предполагалось произвести по расчету чистого и валового
дохода от имений и по оценке повинностей, работ и служб
крепостных в пользу помещиков, то, конечно, вычеты или удержания из
выкупной платы были бы справедливы и естественны. Но такая оценка
и такие расчеты совершенно невозможны и практически
невыполнимы по отсутствию правильного хозяйства и счетоводства в большей
части помещичьих хозяйств, по неопределенности повинностей,
работ и служб крепостных в пользу владельцев и совершенному
отсутствию всякого законоположения об этом предмете, по неразвитости
промышленности, вследствие чего во многих местностях
невозможно определить, даже приблизительно, цен на разные работы по
недостатку просвещенной, хорошо устроенной местной администрации,
на которую бы можно было возложить важную, многосложную,
деликатную и трудную задачу точного вычисления следующего владельцу
каждого имения вознаграждения. По всем этим причинам должно
произвести оценку имений по существующим на месте ценам,
которая гораздо проще и выполнимее, чем дробные расчеты, а при такой
оценке нет причины делать вычеты из выкупной суммы, потому что
местные цены на имения не могли составиться без соображения
разных по ним расходов.
III
Владельцы населенных издельных или барщинных имений в
губерниях земледельческих, как средней полосы, так в особенности
Малороссийских, убеждены, что в случае выкупа крестьян со всей
землей, которую они на себя обрабатывают, последние до такой степени
были бы обеспечены в способах существования, что по свойственной
земледельческому населению привычке довольствоваться малым и
по врожденной жителям южных краев лени и беспечности они долго
и не подумали бы наниматься в работники у бывших своих
помещиков или нанимать у них землю, а стали бы довольствоваться той
222
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
землей, которая останется их собственностью; помещики же от
совершенного недостатка в рабочих и в арендаторах были бы
поставлены по крайней мере сначала на довольно продолжительное время
в самое затруднительное положение, а менее достаточные успели бы
между тем совершенно разориться. Этого возражения нельзя не
признать заслуживающим уважения. Но сохранение за крестьянами всей
земли, которою они теперь на себя владеют, мы считаем, по
изложенным в проекте и в настоящей записке основаниям, до такой степени
во всех отношениях существенно важным условием освобождения,
что для устранения некоторых, хотя и вредных, но, во всяком случае,
временных его последствий, по нашему убеждению, невозможно
пожертвовать главным, основным началом и оставить крестьян без
земли или же с количеством земли для них недостаточным. Притом же
можно, кажется, пособить делу разными косвенными, временными
мерами, а именно: обязать выкупленных крепостных на известный
срок отбывать в пользу бывших их владельцев известные, законом
определенные работы, повинности и службы, в известном, законом
же определенном количестве и за денежную плату со стороны
помещиков по установленной законом таксе. Эта мера не только
обеспечила бы владельцам нужные для их хозяйств рабочие силы, но
дала бы и самим крестьянам надежное средство аккуратно и сполна
выплачивать ежегодный выкупной сбор. Можно было бы даже для
совершенного обеспечения этих платежей постановить правилом, что
заработанные крестьянами у их бывших помещиков деньги
вносятся последними от себя в уплату следующего с крестьян ежегодного
выкупного сбора, и только излишек выдается крестьянам на руки.
Но для пользы как владельцев, так и самих крестьян необходимо при
определении работ и служб принять за правило, чтобы: 1) число
работников и работниц было назначено с общины, а не с дома или
тягла; 2) крестьянам предоставлено было право вместо себя посылать на
работу наемных людей; 3) никакие другие обязанности, кроме прямо
относящихся к земледелию, на крестьян возлагаемы не были; 4) эти
обязанности или повинности были ограничены самой неизбежной
потребностью владельца, без малейшего излишества; 5) помещику
предоставлено было право нс пользоваться рабочими, если в них
не нуждается, и в таком случае и не платить им узаконенной платы;
6) чтобы работы были определены с возможной точностью и
возможным соблюдением польз крестьян; так, например, чтоб владелец
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
223
не имел права переносить рабочих дней из одной недели в другую,
заменять одну работу другой по произволу, требовать конного
рабочего вместо пешего, работника вместо работницы, увеличивать урок
или число рабочих часов в рабочем дне и т. под.; 7) урочные
положения были вставлены по каждому роду работ, применяясь к местным
обычаям и условиям.
IV
Кроме изложенных главных возражений на проект сделаны еще
некоторые другие, не столь существенно важные замечания, на
которые, однако, мы тоже считаем обязанностью отвечать по крайнему
разумению.
1) На каком основании следует произвести освобождение
дворовых? О дворовых не сказано в проекте особливо, потому что они
разумеются вообще под крепостными, приписанными к имениям,
и нет основания отделять дворовых от крестьян; ибо есть дворовые,
несущие тягло, и есть крестьяне, служащие помещикам лично и не
имеющие тяглового поземельного участка. Таким образом, различие
их несущественно, и почти невозможно провести между этими двумя
разрядами крепостных точной разграничительной черты. Притом
же это и совершенно не нужно. Сколько есть и теперь приписанных
к деревням и селам крестьян, которые не имеют в них поземельного
владения, а между тем числятся по приписке при своих крестьянских
общинах и несут с ними подати и повинности? В таком же точно
положении могут находиться и дворовые после освобождения. Там,
где ценность имений определяется ценностью земли с
переложением податей и повинностей на землю, распределяются по владению
и ежегодные выкупные платежи, и тогда на приписанных к
выкупленным именьям дворовых, не имеющих тягловых участков, останутся
только личные повинности, как-то: рекрутская, по выборам в разные
должности и по сословным или мирским складкам и т. п. Если же
им почему-либо окажется неудобным принадлежать к выкупленным
сельским обществам, то они припишутся к тому или другому
городу, смотря по удобству. В тех же местностях, где ценность имения
определяется не только ценностью земли, но и стоимостью труда,
на выкупленных дворовых должна быть зачислена определенная по
расчету часть выкупной суммы, и проценты с нее взыскиваться с них
224
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
в виде поголовной подати, к какому бы состоянию выкупленный
дворовый впоследствии ни приписался. Так как эта часть не может быть
значительна, то можно будет даже, для упрощения расчетов, взыскать
ее с выкупленных дворовых в течение нескольких лет, уравняв их,
по взносе всей выкупной суммы, в платежах с теми званиями, к
которым они припишутся. Наконец, что касается до круглых бобылей
и бездомников из дворовых, которые по старости, болезням или по
недостатку умственных способностей не могут кормиться сами
собою, а также малолетних и сирот, то все они поступят по выкупе на
попечение сельских обществ, к которым приписаны, как поступают
теперь подобные лица из крестьянского звания на попечение мира.
2) На каком основании должна быть произведена раскладка
ежегодных выкупных платежей между выкупленными крепостными?
Самый нормальный, самый правильный способ раскладки,
конечно, был бы по поземельному владению и промыслам, уравненный
если не в целой империи, то, по крайней мере, по каждой губернии.
Но такая раскладка предполагает оценку земли и промыслов, которая
потребовала бы много труда и времени. Поэтому, чтоб не замедлить
и не усложнить дела освобождения, едва ли не было бы полезнее на
первый раз зачислить долгом на каждом выкупленном имении сполна
всю заплаченную за него владельцу выкупную сумму, которая и
распределится между приписанными к тому имению, подобно прочим
податям и повинностям. Затем, тотчас же по освобождении целого
какого-нибудь уезда, может быть немедленно произведено уравнение
выкупных платежей между всеми выкупленными имениями того
уезда, а с уничтожением крепостного права в целой губернии — между
всеми невыкупленными имениями той губернии.
3) Многие думают, что следовало бы предоставить крепостным
право выкупаться без земли, за определенную законом цену, даже без
согласия владельцев.
Об освобождении крепостных без земли подробно говорено
нами при изложении плана выкупа и в настоящей записке. Прибавим,
что дозволение крепостным выкупаться без земли, лишив
владельческие имения самых богатых, самых промышленных крестьян,
обратило бы лучшее сельское народонаселение в неоседлых бездомников.
Не думаем, чтоб правительство, в общих государственных видах,
могло согласиться на подобную меру, которая, вдобавок, поставила бы
крепостных еще более в ложные и щекотливые отношения к владель-
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
225
цам, чем теперь. Если подобную меру допустить возможно, то только
разве в отношении к дворовым, не имеющим тяглового участка и не
занимающимся сельскими промыслами. Но и в таком случае нужно
приступить к делу весьма осторожно и обдуманно, потому что, как
выше замечено, между сословием крестьян и дворовых резкой
разграничительной черты нет.
4) Некоторые утверждают, что нет надобности выдавать владельцу
всю выкупную сумму сразу, можно ее выплатить в несколько сроков,
потому что поставление помещичьих хозяйств после освобождения
крепостных на новую ногу очень больших издержек не потребует,
а между тем большинство дворянства избежит опасности, к крайнему
своему разорению, растратить всю полученную им выкупную сумму
непроизводительно и чрез это придти в безвыходное положение.
Постепенная выплата помещикам выкупной суммы, конечно,
чрезвычайно упростила и облегчила бы выкупную операцию: но
обязать их довольствоваться посрочным получением капитальной
суммы, без их на то согласия, едва ли было бы справедливо и полезно
для государства. Имения оброчные, малоземельные, будут подлежать
выкупу в полном составе, так что их владельцам придется или купить
другие земли, или обратиться к какой-нибудь отрасли
обрабатывающей промышленности. В том и другом случае им понадобятся
капиталы, более или менее значительные, и в выплате их немедленно
по цене освобождаемого имения правительство, по справедливости,
отказать не может, не поставляя самого себя в необходимость
принять на свое попечение всех дворян, разорившихся от неполучения
разом следующей им за имения суммы. То же самое должно сказать
и обо всех мелкопоместных владельцах, которым будут
причитаться суммы столь незначительные, что при рассрочке они станут
совершенно ничтожны и послужат разве только для кратковременного
пропитания получателей.
Многие предлагают выдавать помещикам проценты за
недоплаченную им часть выкупных денег; но эта мера, по изложенным
причинам, не могла бы заменить получения капитальной суммы,
и притом какой назначить процент? Четыре — было бы ниже того,
что дает имение, а больше — было бы тяжко для крестьян или для
государства. — О замечании же, что дворяне могут воспользоваться
выплаченными им суммами не так, как следует добропорядочным
хозяевам, мы, право, не знаем, что и сказать. Оно похоже на то, как
226
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
если бы правительству рекомендовали приставить к каждому купцу
по чиновнику для наблюдения за тем, чтобы он правильно вел свои
коммерческие обороты и конторские книги, ибо купец может же
иногда повести дурно свои дела и промотаться или обанкротиться.
Конечно, будут помещики, которые после выкупа разорятся. Но разве
нет таких и теперь? По аналогии следовало бы уже отныне запретить
выдавать им деньги под залог имений. Все подобные опасения,
вытекающие из совершенно ошибочного взгляда на святой долг
правительства заботиться о благе своих подданных, к счастью, не имеют
основания; большинство дворянства давно уже принялось за ум и
понемногу распутывает гордиевы узлы, завещанные ему более
беспечной, менее предусмотрительной эпохой. И это направление
усиливается, а не ослабляется. Беззаботных людей стало в России очень мало.
Это племя теперь почти переводится.
5) Многие предвидят затруднения при уступке крестьянам вла-
деемой ими ныне помещичьей земли в том, что в некоторых
имениях крестьянское и помещичье поля не отведены к одним местам,
а лежат чересполосно. Пока все имение принадлежит одному
владельцу, это не представляет никаких неудобств; но когда крестьяне
в границах теперешних своих полей станут самостоятельными
землевладельцами, положение изменится. Между бывшим помещиком
и его бывшими крепостными начнутся беспрерывные
столкновения, тяжбы и ссоры, словом, обнаружатся все бедственные
последствия чересполосицы.
В отношении к многим имениям замечание это вполне
справедливо, хотя нельзя утверждать, что все имения более или менее
находятся в таком положении. Поэтому крайне было бы ошибочно
в предвидении означенных затруднений поручить оценочным
комиссиям по выкупу крестьян во всех выкупаемых имениях
произвести чересполосное размежевание между помещиками и
крестьянами; ибо чрез это крайне усложнилось и замедлилось бы исполнение
главнейших обязанностей комиссии по отводу земель и оценке
выкупаемых имений. Итак, всего правильнее было бы, кажется, дать этим
комиссиям право производить чересполосное размежевание в тех
только случаях, когда оставление чересполосного владения в
выкупаемых имениях было бы, по особенно важным причинам, совершенно
невозможно, например, если бы владелец или крестьяне, оставаясь
в настоящих границах землевладения, были отрезаны от воды или
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
111
не имели проезда на пастбища, пашни, луга и т. п. Там же, где нет
такой крайней необходимости изменить порядок землевладения,
лучше, кажется, предоставить уничтожение чересполосности
обыкновенному ходу этих дел, чтобы не отвлекать оценочных комиссий
от отвода земель и оценки имений.
Многие думают так: если принять за правило, что помещичьи
крестьяне должны быть выкуплены со всей землей, которой
владеют, то все почти оброчные имения вышли бы из частного
владения в полном составе и владельцам ничего бы в них не осталось.
Но чрез это в очень многих случаях были бы нарушены заветные,
фамильные воспоминания и предания, связывающие старинные
дворянские семейства с их родовыми вотчинами, и притом
вследствие такой системы выкупа во многих губерниях дворянство
исчезло бы совсем.
Против этого заметим, что все важные государственные
преобразования всегда имеют, при существенно хороших сторонах,
некоторые свои неудобства. Фамильные воспоминания, конечно,
заслуживают всякого уважения; но нельзя же жертвовать для них общими
государственными и народными пользами. С другой стороны,
должно заметить, что в большей части оброчных имений владельцы сами
не живут, а след., и воспоминания, связующие эти имения с их
родовыми владельцами, приходят в упадок и забвение. С точки же зрения
государственной и экономической пользы и справедливости, выкупа
оброчных имений в полном их составе никак нельзя отвергать.
Оброчные имения преобладают преимущественно в губерниях
малоземельных и промышленных, где сословие больших зажиточных
землевладельцев в действительности не существует, потому что там
большая часть помещичьих имений суть оброчные, в которых всею
землею и угодьями владеют крестьяне, а имений барщинных или из-
дельных очень мало. Притом же у нас есть целые края, даже не
промышленные, а земледельческие, где дворянства нет вовсе, и,
однако, отсюда не происходит никакого неудобства ни для государства,
ни для управления, ни для самой страны. Заметим, что в
промышленном, не земледельческом, краю влияние и значение естественно
принадлежит богатым промышленникам, а не большим землевладельцам.
Следовательно, и в этом случае выкуп всей земли, владеемой
крестьянами, будет иметь наилучшие последствия, водворяя нормальные
отношения там, где крепостное право рождает теперь искусственные
228
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
явления в области хозяйства и промышленности, а владельцы ничего
от того не потеряют, потому что получат полное вознаграждение за
все свое имение.
В изложении проекта, в выноске, по поводу вопроса, с каким
количеством земли должны быть выкуплены крепостные, замечено, между
прочим, что для южных и юго-восточных губерний, где существует
система залежей и обрабатываемая пашня меняется, нельзя
определить по владению ту землю, которая подлежит вместе с крестьянами
выкупу, а надобно назначить законом ее количество. Против этого
замечают, что для определения этого количества нетрудно
постановить общее правило. В каждом имении известно, сколько земли
дается на каждое тягло под ежегодную распашку, сколько лет такая или
другая земля может быть сряду обрабатываема и потом должна быть
оставляема в залежи. По одним этим данным можно совершенно
точно определить, сколько земли должно быть выкуплено в данном
имении: для этого надо разделить число тех, в продолжение которых
оставляется в залежь на число лет, в продолжение которых можно
сряду возделывать одну и ту же пашню; потом прибавить к частному
числу единицу и сумму помножить на число десятин, какое ежегодно
дается под запашку каждого тягла, наконец это произведение следует
помножить на число тягол в имении; последний результат и
определит с точностью количество пашенной земли, подлежащей выкупу
в имении южного и юго-восточного края. Таким образом, положив,
например, что в данной местности земля пашется сряду четыре года
и отдыхает в залежи двенадцать, — ежегодная запашка каждого
тягла = 5 дес, а число тягол в имении = 50. Найдем, что в том имении
будет подлежать выкупу (12/4 + 1) * 5 * 50 = 1000 десятин, то есть
по 20 дес. на тягло или по 10 дес. на душу; ежегодная запашка
составит 250 дес.; от оставления в залежь первых 250 дес. прочие 750 дес,
разделенные на три участка по 250 дес. каждый, будут возделываться
по четыре года, вследствие чего к первому возвратятся опять ровно
через двенадцать лет.
Это правило для расчета количества десятин земли, подлежащей
выкупу в южных и юго-восточных губерниях, вполне справедливо,
и им должно бы воспользоваться при составлении инструкции для
оценочных комиссий.
8) Многие думают, что совершенно необходимо дать оценочным
комиссиям в руководство какие-нибудь положительные основания
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
229
для произведения оценки выкупаемым имениям, иначе
произволу членов комиссий и поискам неблагонамеренных владельцев
откроется слишком большой простор. Полагают, что таким
основанием могли бы служить для каждой местности средние цены,
выведенные из купчих крепостей, совершенных между частными
лицами в течение последних десяти лет, но отнюдь не из
аукционных продаж. Полагают, что разница выведенных из крепостей
средних цен против действительных если бы и оказалась, была бы
самая ничтожная.
Опасение, выражаемое этим мнением, конечно, очень
основательно и справедливо. Но мера, предлагаемая для ограничения
произвола оценщиков, встретила бы единогласные и справедливые
возражения и жалобы со стороны помещиков. Цены населенных имений
никогда не означаются в крепостных актах свыше установленных
законом наименьших цен, по расчету которых взимаются гербовые
и крепостные пошлины; в действительности же они всегда,
постоянно, гораздо выше их. Следовательно, принять за основание цены,
показанные в купчих, значило бы уменьшить против
действительности следующее владельцам вознаграждение за крестьян и за землю,
вопреки справедливости и в ущерб владельцам. Конечно, во всех
отношениях было бы весьма желательно найти какое-нибудь
постоянное мерило оценки для ограждения интересов тех, которые сами
почему-либо могут отстаивать свои права и пользы. Но, к
сожалению, мы ничего в этом роде не знаем и не придумаем. Самым
надежным ручательством все-таки остается выбор в оценочные комиссии
честных и знающих людей, хотя бы даже одного председателя или
прокурора. Мы не хотим верить, что в целой империи нельзя было
приискать каких-нибудь четырех сот или пяти сот совершенно
честных и порядочных чиновников, особливо назначив им порядочное
содержание. Если в то же время объяснить выкупаемым крестьянам,
что земля по выкупе будет принадлежать им на правах
собственности, что они сами будут ее оплачивать и что, следственно, им самим
будет выгодно не дать переоценить ее, чтоб не платить лишнего,
то, без сомнения, крестьяне сами будут наилучшими блюстителями
своих выгод. Кто не видал и не знает, по собственному опыту, как
хорошо наш крестьянин понимает свое положение и свои выгоды?
Особливо это выказывается при полюбовных чересполосных
размежеваниях. Владелец никогда не сумеет так основательно и твердо
230
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
отстаивать крестьянского поля в своих поместьях, как сами
крестьяне, и кто заботится о том, чтоб сохранить это поле без уменьшения
в качестве или количестве, тому стоит только поручить это самим
крестьянам.
Желание найти основание оценки имеет, кроме изложенной
стороны, еще и другую. Оно предполагает, что для каждого уезда (так как
оценочные комиссии должны быть учреждены по уездам) будут
постановлены одни общие, нормальные цены, и по ним будет делаться
расчет выкупной суммы, следующей владельцам населенных имений,
посредством умножения этих цен на число ревизских душ или
десятин земли, подлежащих выкупу. Не спорим, что под такую гуртовую
или валовую оценку действительно подойдет самое значительное
число выкупаемых имений, но зато в некоторых, и даже во многих
случаях, такая оценка была бы неправильна.
Кто не знает, что, смотря по местоположению, удобству для сбыта
произведений, промыслам и достатку крестьян, цена имений
колеблется между суммами, очень далеко отстоящими одна от другой?
Конечно, при низких средних ценах крестьяне этих имений чрез
гуртовую оценку значительно бы выиграли: но зато многие
владельцы значительно бы потеряли, и потеряли бы незаслуженно.
Поэтому мы думаем, что оценку имений, находящихся в исключительном
положении, справедливо было бы производить особливо, назначая
по ним особливую выкупную сумму, большую или меньшую против
средней, не стесняясь последней.
9) Очень многие находят, что способ выкупа и расчеты по уплате
крестьянами капитального долга и процентов изложены в проекте неполно.
Хотя пояснение этого способа, собственно говоря, уже излишне
после того, как мы предлагаем в настоящей записке другую, более
удобоприменимую систему выкупа; однако, так как мнения об этом
могут быть различны, то мы поставляем себе в обязанность изложить
для желающих предложенный в прежней записке способ выкупа
наглядно, примерами.
Положим, что в имении, подлежащем выкупу, считается 100 душ,
и каждая из них оценена, с выкупаемою землею, в 125 р. сер., так что
следовало бы уплатить владельцу за имение 12 500 р. сер. По
предположенной первоначально выкупной операции, изложенной в
проекте, банк выплачивает эту сумму владельцу билетами, обеспечивая
ее металлическим фондом в 1/А ее часть, а именно 2 083 7з РУ& Если
О новых условиях сельского быта (Статья вторая) 231
выкуп билетов разложить на 37 лет, то крестьянам означенного
имения пришлось бы выплачивать ежегодно:
Одну тридцать седьмую часть всей
выкупной цены,— (почти) 338 руб.
72 % со всей выкупной цены, на покрытие
издержек выкупной операции 62 руб. 50 коп.
5 % с капитала обеспечения, так как последний
был бы занят под эти проценты, — (почти) 104 руб. 50 коп.
Всего 505 руб.
что составит несколько более 5-ти руб. сер. с души.
Эти платежи уменьшались бы с каждым годом, сначала только
вследствие того, что по мере выкупа капитальной суммы ежегодный
полупроцентный сбор постоянно бы уменьшался, и так
продолжалось бы до выкупа 3/4 частей всей выкупной суммы, когда
металлический фонд обеспечивал бы, наконец, эту сумму не в 1/6 часть, а уже
рубль за рубль. С этой минуты ежегодные взносы стали бы еще
быстрее уменьшаться, потому что не только цифра полупроцентного
сбора продолжала бы по-прежнему ежегодно упадать, но, сверх того,
и сумма 5-процентного сбора за капитал обеспечения стала бы тоже
постепенно уменьшаться, так что с той минуты, когда выкупная
сумма стала бы меньше капитала обеспечения, справедливость требовала
бы взимать пятипроцентный сбор не со всего капитала обеспечения,
а только с той его части, которая обеспечивает недоплаченную
выкупную сумму рубль за рубль. Таким образом, когда последняя будет
составлять 2 083 7з руб. сер., то есть сравняется с капиталом
обеспечения, пятипроцентный сбор будет еще такой же, как с самого начала;
но когда первый станет меньше второго, например не свыше 1500 р.,
то было бы несправедливо продолжать взимать пятипроцентный
сбор по-прежнему со всего фонда обеспечения, обеспечивающих
выкупную сумму рубль за рубль.
По поводу этой системы выкупа некоторые замечают, что если уже
держаться в точности принятого начала, то капитал обеспечения мог
бы также уменьшаться постепенно, по мере уплаты выкупной суммы,
так чтоб он всегда составлял не более у6 части последней. Поэтому,
начав выкуп имений не всех в один год, а разложив эту операцию на
несколько лет, можно было бы удовольствоваться фондом обеспече-
232
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ния гораздо меньше 76 части всей выкупной суммы. Соразмерно с тем
уменьшился бы и процент. Но такое ежегодное изменение платежей
было бы в практике весьма неудобно, а потому можно было бы сделать
расчет наподобие того, как рассчитываются проценты с погашением
капитала, то есть положив постоянную цифру процентов, но
меньшую, чем вышеприведенная. На это есть свои правила и теория.
Замечание это вполне заслуживает внимательного обсуждения.
10) Кроме исчисленных замечаний, сделано было еще и то, что
нигде прямо не высказано, хотя и разумеется само собою, что по
освобождении крепостных все обязанности в отношении к ним их
бывших владельцев, а также всякая ответственность владельцев за
бывших крепостных перед правительством совершенно
прекращается. С благодарностью упоминаем здесь и об этом замечании вместе
с прочими».
Читатель видит, что многие из мер, предлагаемых в этой записке,
уже приводятся в исполнение. Он видит с другой стороны, что во
многих случаях законодательная власть признала возможным
придать более широты своим мерам, нежели как ожидал автор записки, —
и конечно, тем лучше оправдались принципы, принятые в основание
этой записки и существенно одинаковые с основаниями, которые
полагаются делу освобождения крестьян высочайшими
рескриптами. Из этого пока мы выводим то следствие, что дело освобождения
поведено именно тем способом, какого желало многочисленнейшее
большинство просвещенных людей, вообще разделяющих коренные
принципы, положенные в основание плану, развитому в приводимой
нами записке.
Мы поставляем эту записку, как формулу соединения для людей,
подобно нам сочувствующих основным убеждениям автора ее. Что
касается подробностей, излагаемых запиской, многие из них,
конечно, могут видоизмениться вследствие всестороннего обсуждения
частностей дела, в ней рассматриваемого, — в следующей статье мы
будем говорить о них, следуя тому пути, который указан самим
автором записки, собравшим и обсудившим, во второй части ее,
возражения и замечания, порожденные его первоначальным проектом.
Теперь, когда настала эпоха гласности для рассмотрения вопроса
о способах выкупа, мы слышим очень много и, конечно, прочтем и
услышим еще более замечаний на систему, которую мы принимаем
в главных ее чертах. Мы не замедлим рассмотреть эти замечания.
КАВЕНЬЯК
I
По случаю смерти Кавеньяка в иностранных газетах явилось
много статей, обозревающих его государственную деятельность; находя
интересными факты, представляемые в некоторых из этих статей,
мы приводим здесь, так сказать, свод их. Дела эти нам совершенно
посторонние, мы не можем иметь никакого особенного сочувствия
ни к одной из партий, участвовавших в событиях, которым
подвергалась Франция в последнее время; мы видим только, что каждая из
этих партий наделала много ошибок и что вследствие того события
имели гибельный ход. Читатель заметит, что этот взгляд господствует
в представляемой статье; он заметит также, что этот взгляд нимало не
принадлежит нам, — мы только передаем то, что находим в
источниках, которыми руководствовались.
Изгнанный из Франции переворотом 2 декабря63, через несколько
времени тихо возвратившийся на родину чтобы закрыть глаза
умирающей матери, потом несколько лет живший в уединении, чуждаясь
политических дел, суровый победитель июньских дней долго
оставался почти забыт молвою64. Последние выборы, на которых его имя
было выставлено символом начинающегося противодействия
декабрьской системе65, споры его друзей, противников о том, дозволяет
ли ему честь дать присягу правительству, законность которого он не
признает, худо скрываемые опасения людей 2 декабря, что он,
воспользовавшись их естественным примером, произнесет требуемую
присягу как формальность, не имеющую внутренней силы, и через
то получит должность явиться в Законодательное собрание
представителем протеста против 2 декабря, честная решимость Кавеньяка не
делать никакой, даже внешней, уступки тому, что в его глазах было
беззаконием, — все это снова привлекло на бывшего диктатора
внимание не только Франции, но и целой Европы. Несколько месяцев
все европейские газеты наполнялись соображениями о том, какое
значение имеет выбор его в депутаты. Несомненные признаки
показали, что приближается время политического оживления для
Франции, что предводители ее политических партий, на время удаленные
от государственной деятельности утомлением и апатиею народа,
234
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
снова будут призваны к участию в исторических событиях
требованиями нации, пробуждающейся от дремоты. Кавеньяку очень многие
предназначали одну из значительнейших ролей в движении, близость
которого равно предвидится во Франции людьми всех мнений.
Потому внезапная смерть предводителя «умеренных республиканцев»66
Франции для многих его соотечественников была тяжелою потерею,
для многих других — облегчением опасностей. Друзья Кавеньяка
прямо выразили свою печаль, но враги его не отважились
обнаружить своей радости: боясь признаться в шаткости своего положения
тем, когда выразят удовольствие, что смерть Кавеньяка освободила
их от одного из их страхов, они поспешили принять вид также
огорченный и присоединить свои притворные сожаления к искренней
скорби друзей покойного. «Moniteur», «Constitutionel»67 и другие
органы декабрьской системы наравне с «чистыми республиканцами»
превознесли его «великие, безмерные услуги» Франции, называя его
даже «спасителем отечества».
Но если многочисленны во Франции друзья и противники
партии, предводителем которой был Кавеньяк, то еще многочисленнее
люди, смотрящие на эту партию со спокойным беспристрастием, как
на историческое явление, уже отжившее свой век, как на бесцветный
остаток старины, бессильный в будущем и на добро и на зло,
обсуждающие прошлую ее деятельность без всякого увлечения надеждами
или опасениями. Они думают, что в панегириках над гробом
Кавеньяка, внушенных одним искренностью чувства, другим —
соображениями приличия и расчетливости, гораздо больше риторики или
ослепления, нежели основательности. Они находят, что Кавеньяк,
заслуживавший полного уважения, как частный человек, качествами
своего характера, вовсе недостоин ни удивления, ни даже
признательности как государственный человек; что при всем своем желании
быть полезным родине он во время своего диктаторства принес ей
гораздо больше вреда, нежели пользы, потому что убеждениям,
руководившим его действиями, недоставало практичности, и действия
его не соответствовали потребностям общества, которым привелось
ему управлять. Его образ мыслей испортил все дело. Высокая
честность, энергическая воля, добрые намерения — этих качеств
совершенно достаточно для почтенной деятельности в размеренном круге
частной жизни, где все определяется обычными отношениями и
объясняется многочисленными примерами. Этими достоинствами обла-
Кавенъяк
235
дал Кавеньяк; но их мало государственному человеку, который
постоянно находится в отношениях очень многосложных, в положениях,
неразрешимых прежними случаями, потому что в истории ничто
не повторяется, и каждый момент ее имеет свои особенные
требования, свои особенные условия, которых не бывало прежде и не будет
после. Без достоинств, уважаемых обществом в частном человеке,
государственный человек не будет полезен родине; но, кроме их, ему
нужны еще другие, высшие достоинства. Он должен верно понимать
силы и стремления каждого из элементов, движущих обществом;
должен понимать, с какими из них он может вступать в союз для
достижения своих добрых целей; должен уметь давать удовлетворение
законнейшим и сильнейшим из интересов общества как потому, что
удовлетворения им требует справедливость и общественная польза,
так и потому, что, только опираясь на эти сильнейшие интересы, он
будет иметь в своих руках власть над событиями. Без того его
деятельность истощится на бесславную для него, вредную для общества
борьбу; общественные интересы, отвергаемые им, восстанут против
него, и результатом будут только бесплодные стеснительные меры,
которые необходимо приводят или к упадку государственной жизни,
или к падению правительственной системы, чаще всего к тому и
другому вместе. Так было и с Кавеньяком. Он наделал ошибок, которые
дорого стоили Франции и низвергли его собственную власть. В нем
не было качеств, нужных государственному человеку.
Не говоря теперь о том, хороши или дурны были цели Кавеньяка,
скажем только, что имени государственного человека заслуживает
единственно тот правитель, который умеет располагать свои
действия сообразно этим целям; а у Кавеньяка каждое
правительственное действие противоречило его целям, служило в пользу не ему,
а его противникам. Вся его государственная деятельность обратилась
только в пользу Луи-Наполеону. Тот плохой государственный
человек, кто работает во вред себе, в выгоду своим противникам.
Но ответственность за ошибки Кавеньяка не должна падать
исключительно на него. Она падает на всю ту партию, представителем
которой он был, потому что он действовал не по личным своим
расчетам и выгодам, а только как служитель известного образа мыслей,
общего ему со всею партией «чистых республиканцев»; он постоянно
руководился мнениями этой партии; ошибки его — не его личные
ошибки, а заблуждения целой партии; ими обнаруживается несо-
236
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
стоятельность для Франции того образа мыслей, которого он
держался. «Чистые республиканцы» забывали, что политическая форма
держится только тем, когда служит средством для удовлетворения
общественных потребностей; они воображали, что слово
«республика» само по себе чрезвычайно привлекательно для французской
нации; они хлопотали о форме, не считая нужным позаботиться о том,
чтобы форма принесла с собой исполнение желаний французского
народа; они мечтали. Что народ, не получая от формы никаких
существенных выгод для себя, станет защищать форму ради самой формы.
И форма упала, не поддерживаемая народом.
С начала нынешнего века эта ошибка повторялась всеми
партиями, господствовавшими во Франции. Каждая, увлекаясь своими
формальными пристрастиями, воображала, что и нация разделяет ее
пристрастие к известной форме ради самой формы, между тем как нация
с восторгом приветствовала новую форму только потому, что ждала от
нее блага себе; каждая система воображала, что нация не может жить
без нее, и забывала о том, каковы были ожидания нации. Ни от одной
системы не дождалась Франция исполнения своих надевд, и как
только распространилось в нации мнение, что система не оправдывает
надежд, на нее возлагавшихся, система падала. Так покинут был
сначала Наполеон, потом покинута реставрация, потом июльская династия,
потом и республика Кавеньяка и его друзей. Из истории всех наций
и всех эпох выводится точно такой же результат: форма держится,
пока есть мнение, что она приносит благо; она падает, как скоро
распространяется мнение, что она существует только ради самой себя, не
заботясь об удовлетворении сильнейших интересов общества. Форма
падает не силою своих врагов, а единственно тогда, когда
обнаруживается ее собственная бесплодность для общества.
История диктаторства Кавеньяка очень поучительна потому, что
в ней с особенной ясностью раскрывается этаистина. Не силою
своих врагов, не стечением неблагоприятных обстоятельств пало
правительство Кавеньяка и чистых республиканцев: восторжествовавший
противник был совершенно бессилен сам по себе, все обстоятельства
благоприятствовали продолжению власти Кавеньяка, уже во всяком
случае не менее, нежели возвышению Луи-Наполеона; единственно
ошибки Кавеньяка погубили его.
Правление Кавеньяка было, как мы сказали, правлением партии
чистых или умеренных республиканцев. Он стал ее предводителем,
Кавеньяк
237
конечно, благодаря отчасти собственным талантам; но еще более
обязан он своим возвышением в этой партии тому уважению,
которая имела она к его отцу и особенно к его старшему брату.
Отец диктатора Жан Батист Кавеньяк был сначала, как и многие
другие политические люди Франции, адвокатом. При начале
первой революции он сделался жарким ее приверженцем и был выбран
членом Национального конвента, в котором поддерживал все
решительные меры, казавшиеся тогда нужными для борьбы с вандейцами,
эмигрантами и европейской коалицией. Несколько раз он исполнял
важные поручения при армии и в провинциях и, всегда действуя
твердо, не запятнал, однако же, себя жестокостями, которыми
повредили общему делу некоторые из его товарищей по убеждениям.
Он оставил детям имя, уважаемое французскими республиканцами,
но знаменитость этому имени дали блистательные таланты его
старшего сына Годфруа, который был одним годом старше второго брата,
впоследствии сделавшегося диктатором Франции.
Годфруа Кавеньяк, один из замечательнейших публицистов
французской республиканской партии при Луи-Филиппе, был сперва,
подобно отцу, адвокатом и, подобно отцу, рано оставил для
политической деятельности адвокатуру, которая при его чрезвычайных
талантах обещала ему огромные богатства. В июле он сражался против
Бурбонов68, был очень недоволен, когда низвержение Бурбонов
послужило только к возвышению Луи-Филиппа, и один из первых начал
восставать против новой конституционной формы. Через год
орлеанское правительство уже предало его суду, как президента
республиканского общества «Amis du Peuple». Он воспользовался этим случаем,
чтобы громко объявить себя республиканцем, — решимость, которую
имели тогда очень немногие, и которая тем больше доказывала силу
его характера, что пылкая речь в защиту республики была им сказана
перед судом, уже за одно это признание имевшим власть осудить его.
Заключенный потом в тюрьму, он бежал из нее подземным ходом,
который тайком был прорыт в его комнату из соседнего дома.
Товарищем его по тюрьме и бегству был меаду прочим Арман Марра69,
впоследствии содействовавший возвышению его брата. Пять лет Годфруа
прожил в Англии изгнанником. Республиканская партия во Франции
была тогда еще очень слаба, и Луи-Филипп совершенно
нерасчетливо придавал ей ожесточенными гонениями важность, которой она
без того не имела бы. Общественное мнение, возмущенное излише-
238
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ством этих гонений, вынудило, наконец, амнистию политическим
преступникам. Годфруа Кавеньяк долго не хотел ею пользоваться; но
крайние республиканцы, находившие, что «National»70, до той поры
важнейший республиканский журнал, не довольно демократичен,
убедили Годфруа возвратиться во Францию, чтобы быть главным
редактором решительнейшего демократического журнала, который он
вместе с Ледрю-Ролленом и стал издавать под именем «La Reforme»71.
Отличаясь от редакторов «Nationale» большею резкостью мнений,
Годфруа Кавеньяк был, однако, и от них признаваемым главою
республиканской прессы во Франции. Действительно, после смерти Арма-
на Карреля она не имела столь даровитого публициста. Изнуренный
волнениями политической борьбы, Годфруа умер в 1845 году, за три
года до февральских событий. Над могилою его различные партии
французских республиканцев клялись забыть все раздоры, их
разделявшие. Более нежели кто-нибудь другой после Армана Карреля
Годфруа Кавеньяк способствовал распространению республиканских
убеждений во Франции при Луи-Филиппе до 1845 года. Все отделы
этой партии чрезвычайно уважали его.
Эжен Кавеньяк, младший его брат и воспитанник по
убеждениям, родился 15 декабря 1802 года. Окончив курс в Политехнической
школе, он сделался офицером; при июльских событиях он первый
в своем полку объявил себя против Бурбонов; подобно брату, он был
недоволен тем, что июльская революция кончилась в пользу Луи-
Филиппа, и вообще известен был в армии как ревностный
республиканец. Думая поставить его в затруднительное положение,
полковник однажды предложил ему официальный вопрос, прикажет ли он
своим солдатам стрелять по народу в случае восстания против Луи-
Филиппа. Кавеньяк, не колеблясь, отвечал: «нет». Правительство не
могло оставить без наказания офицера, который прямо отказывался
защищать его, но с тем вместе не отваживалось и предать военному
суду молодого штабс-капитана, который уже пользовался большим
уважением в армии. Дело кончилось тем, что полковнику сделали
выговор за неуместный вопрос, а Кавеньяка перевели в Алжирию. За
республиканский образ мыслей и в особенности за то, что страшный
Годфруа Кавеньяк был его брат, Эжену Кавеньяку всячески старались
не давать хода, по возможности обходили его чинами, несмотря
на блестящие подвиги. Вот один пример. Первым замечательным
делом Кавеньяка была защита Тлемсена в 1836-1837 годах. Оставлен-
Кавеньяк
239
ный в этом отдаленном передовом укреплении с одним батальоном,
без запасов провианта и амуниции, он целый год выдерживал
блокаду и отбивал приступы многочисленных арабских отрядов, терпя
недостаток во всем72. Продовольствие доставалось гарнизону только
с битвы. Когда солдаты не могли получать полных порций, Кавеньяк
сам брал себе порции еще меньше солдатских, своим примером
ободряя их терпеть голод. Алжирская армия удивлялась геройской
защите форта, но правительство не хотело награждать республиканца
и его отряд. Все представления алжирского главнокомандующего
о наградах тлемсенским офицерам были отвергаемы военным
министром. Наконец нужно же было наградить Кавеньяка, — ему сказали,
что он получит следующий чин; он отвечал, что не примет награды,
если не будут награждены также все офицеры его отряда. Мнение
армии вынудило эту уступку у министерства.
Несмотря на все затруднения, делаемые министрами Луи-Филиппа
служебной карьере республиканца, бывшего братом ненавистному
Годфруа, Эжен Кавеньяк в начале 1848 года был бригадным
генералом и губернатором Оранской провинции, потому что равно
отличался и военными и административными дарованиями. О
благосостоянии своих солдат он чрезвычайно заботился; арабы прозвали его
«справедливым султаном»; в армии считался он одним из лучших
генералов и едва ли не лучшим администратором. Если бы не опальное
его имя и не республиканские мнения, он, вероятно, подвинулся бы
гораздо быстрее в продолжение своей 14-летней воинской
деятельности. Теперь пока он оставался не более как одним из генералов,
занимавших в алжирском управлении вторые места после генерал-
губернатора. В январе 1848 года никто не предполагал, чтобы скоро
ему пришлось сделаться значительным человеком в государстве.
Но события 24 февраля 1848 года передали управление Францией
в руки республиканцев, и господствующей во временном
правительстве партией была именно та партия, к которой принадлежал по
своим убеждениям Эжен Кавеньяк, — партия умеренных или чистых
республиканцев, иначе партия «Nationale». Эжен Кавеньяк, хотя и
чрезвычайно любил брата, не был таким революционером, как Годфруа;
он был, подобно ему, демократом, но вовсе не крайним демократом.
Именно таково было и большинство временного правительства, —
Марра, Мари, Гарнье-Паже, Араго, Кремье, Дюпон де л'Ор. Все они
были друзьями Годфруа Кавеньяка, все сохранили очень сильное ува-
240
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
жение к нему, хотя он иногда и упрекал их за то, что они несколько
отставали от него.
Алжирская армия, в которой принцы Орлеанского дома имели
многих людей, лично им преданных, и вообще пользовались
популярностью, внушала временному правительству беспокойство в
первые дни нового порядка вещей.
Надобно было отдать команду над нею испытанному
республиканцу; из всех алжирских генералов ни на кого временное
правительство не могло положиться с такой уверенностью, как на Кавеньяка, и
одним из первых декретов, подписанных новыми правителями
Франции, было назначение Кавеньяка генерал-губернатором Алжирии.
Он имел столько скромности и прямодушия, что сам понял и
откровенно высказал причину своего быстрого возвышения в
прокламациях, обнародованных им при вступлении в новую должность.
«Вы, точно так же, как и я, — говорил он в прокламации к жителям
Алжира, — знаете, что память о моем благородном брате, живущая между
гражданами, меня избравшими, побудила их вручить мне управление
делами Алжирии». То же самое выражал он и в прокламации к жителям
Орана: «Моим назначением правительство хотело от имени нации
почтить память доблестного гражданина, моего брата».
Этим прямодушным сознанием очень хорошо определяется
и личный характер Кавеньяка, и его справедливое понятие о степени
своих достоинств. Он сам указывает, что далеко не имеет гения,
каким отличался его старший брат; что если бы не блеск, сообщенный
его имени деятельностью брата, он не был бы замечен как человек,
которого надобно выдвинуть вперед; но только человек, вполне
уверенный, что своими достоинствами оправдает выбор, которым
обязан постороннему обстоятельству, уверенный, что никто не назовет
его недостойным занятого им места, может так прямо и громко
говорить, что еще больше, нежели самому себе; одолжен он своим
выбором заслугам другого.
Вскоре представился Кавеньяку другой случай выказать редкую
честность своих правил. Жители Алжира хотели выбрать его своим
представителем в Национальное собрание. Он решительно отказался
от этой чести, говоря, что его положение в Алжирии не позволяет
ему принимать голоса, подаваемые в его пользу его подчиненными.
Он хотел сохранить себя совершенно чистым от всякого
подозрения в искательстве, в честолюбии, в желании пользоваться данной
Кавеньяк
241
ему властью для какой-либо личной выгоды. Парижское временное
правительство давно знало бескорыстие его характера, его
недоступность никаким соблазнам. Алжирская армия уже доказала, что вовсе
не имеет намерения поднимать междоусобные смуты: она
безусловно покорилась правительству, признанному Францией; временное
правительство могло оставить Алжирию без Кавеньяка,
воспользоваться его военными и административными талантами и редкими
качествами его характера в должности еще более важной. Парижские
работники, оружием которых восторжествовало восстание и в июле
1830 и в феврале 1848 года, волновались, не видя исполнения
своих надежд от нового правительства, поставленного их содействием.
Большинство временного правительства состояло из людей,
желавших ограничить переворот 24 февраля чисто политическими
преобразованиями без изменений в гражданских отношениях между
классом капиталистов с одной стороны, классом, живущим наемной
работой, — с другой стороны; эти изменения казались невозможными
большинству временного правительства, а между тем их требовали
парижские работники, поддерживаемые полным сочувствием своих
сотоварищей по всей Франции. Для сопротивления им большинству
временного правительства нужно было иметь и сильное войско, и
хорошего военного министра, на которого могло бы оно положиться.
В правление Луи-Филиппа система подкупов и фаворитизма
расстроила военную администрацию, как и все отрасли
государственного управления; беспорядки военного управления были таковы,
что новое правительство не нашло в конце февраля 20 000
человек, готовых к открытию кампании в случае внешней войны, хотя
армия считала 400 000 солдат. Нужен был хороший администратор для
поправления этих беспорядков. Но потребность в армии на случай
внешней войны была в глазах большинства временного
правительства еще не такой настоятельной нуждой, как необходимость
приготовиться к подавлению восстаний в самом Париже. После 24
февраля войска, побежденные инсургентами, были выведены из
Парижа как по требованию победителей, опасавшихся реакции, так и для
того, чтобы эти войска, нравственно униженные своим поражением,
могли оправиться духом вдали от улиц, напоминавших им об их
разбитии. Нужно было теперь снова ввести сильный гарнизон в Париж,
сосредоточить войска в окрестностях столицы, сделать
заготовления амуниции и т. д. на случай междоусобных смут. Это мог испол-
242
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
нить только такой военный министр, который вполне разделял бы
убеждения большинства временного правительства, потому что при
малейшей нерешительности он легко мог быть задержан в своих
вооружениях усилиями меньшинства временного правительства,
находившегося в раздоре с большинством. Кроме всего этого, нужно
было в военном министре совершенное бескорыстие, чтобы он, имея
в своих руках фактическую силу, не поддался обольщениям
властолюбия, остался верным сановником правительства, а не покушался быть
его властелином. Всем этим условиям удовлетворял Кавеньяк.
Характер его представлял совершенное ручательство, что он не употребит
против правительства силы, которую ему дадут; он был известен как
хороший генерал и отличный администратор. Нашлись бы и кроме
него генералы, обладающие этими качествами, но было еще условие,
которому никто не соответствовал столько, как он. Много было
генералов, с радостью готовых драться против «черни», la canaille; но эти
генералы были преданы Орлеанскому дому и враждебны
республике; было несколько и республиканских генералов, но почти все они
поколебались бы двинуть войска против своих соотечественников.
Кавеньяк был несомненный республиканец, но с тем вместе готов
был повести войско против граждан, сошедшихся принуждать
республиканское правительство к уступкам, которых оно не хотело делать.
Недаром, когда жители Алжира выразили желание, чтобы в Алжирии
военное управление было заменено гражданским, он сделал им
строгие упреки и сказал: «Энергия, состоящая в том, чтобы опираться на
мнение масс, не исполняя своих обязанностей, — гнусная энергия,
я отвергаю ее. Самый дурной закон лучше беспорядка». Ему послали
назначение явиться в Париж для принятия должности военного
министра. Он сказал, что примет ее только тогда, если ему позволено
будет сосредоточить сильную армию около Парижа, — это было еще
в марте, меньшинство временного правительства было тогда еще
довольно сильно; оно воспротивилось этому требованию,
соответствовавшему желаниям большинства, и Кавеньяк отказался от
министерского портфеля. Прошло два месяца; отчасти ошибочные действия,
еще более нерешительность и бездейственность очень ослабили
влияние меньшинства во временном правительстве; выборы в
Национальное собрание, произведенные под впечатлением этих ошибок
и бездейственности, доставили решительный перевес партии
умеренных республиканцев; когда временное правительство сложило
Кавеньяк
243
свою власть перед Национальным собранием, Собрание передало
ее «Исполнительной комиссии»73 из пяти членов, между которыми
только один не был из умеренных республиканцев; они теперь
стали полновластными правителями государства. Требование Кавеньяка
сосредоточить сильное войско в Париже, прежде помешавшее
вступлению его в министерство, теперь было новой рекомендацией для
него, и когда он, избранный в Национальное собрание депутатом от
департамента Ло, прибыл в Париж, Исполнительная комиссия тотчас
же назначила его военным министром (17 мая).
В Национальном собрании он не был особенно блестящим
оратором, но деятельность его по управлению министерством
соответствовала надеждам, которые имели на него умеренные
республиканцы. Он неутомимо заботился о том, чтобы иметь наготове такие
силы, с которыми можно было бы в случае восстания подавить
инсургентов.
Случай употребить в дело собранные силы не замедлил
представиться. С небольшим через месяц после того, как начал Кавеньяк свои
приготовления, восстание вспыхнуло, и вспыхнуло в таких
ужасающих размерах, каких не достигала еще ни одна междоусобная битва
в Париже, видевшем так много страшных междоусобиц. В
продолжение четырех месяцев легкомысленное бездействие и разноречащие
распоряжения временного правительства и его наследницы,
Исполнительной комиссии, раздражали массу, обманываемую в своих
надеждах, исполнение которых было ей формально обещано. Каковы
были эти надежды, разумны или неразумны, все равно; дело в том,
что их исполнение было формально обещано, дело в том, что были
формально подтверждены ожидания, и когда гнев овладел людьми,
не видевшими исполнения этим ожиданиям, когда отчаяние
овладело людьми, увидевшими, что у них отнимается всякая надежда,
удивляться тут нечему. Неудовольствие массы росло с каждым днем, и,
наконец, меры, принятые Исполнительной комиссией по повелению
Национального собрания для закрытия так называемых
«Национальных мастерских» (Ateliers Nationaux), произвели взрыв.
История Национальных мастерских и трагического их
окончания — самый печальный и вместе самый нелепый эпизод в
печальной истории столь обильных нелепостями событий, последовавших
за февральской революцией. Кого надобно винить за Национальные
мастерские? Обстоятельства были так запутаны, ошибок было надела-
244
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
но столько всеми партиями, участвовавшими в управлении Францией
после 24 февраля, что ни одна из партий этих не может похвалиться
государственным благоразумием в деле Национальных мастерских,
как увидим ниже. Но если ответственность за гибельную нелепость
должна падать преимущественно на тех людей, которыми она была
придумана, которые заведывали ее исполнением, которые не
допускали других сделать ничего для ее отстранения, то ответственность
за Национальные мастерские прямым образом падает на партию
чистых республиканцев. Дело происходило таким образом.
Республика была провозглашена во Франции по настоянию
республиканцев и работников. Республиканцы шли впереди, но их
требования не имели бы никакой силы, если бы не были
поддерживаемы работниками. Но работники увлекались вовсе не теоретическими
рассуждениями о качествах республиканской формы политического
устройства, — они хотели существенных изменений в своем
материальном быте, и когда республиканцы, достигшие власти их силой,
показали вид, что хотят ограничиться изменением политической
формы, работники потребовали от них на другой же и на третий же
день после победы принятия мер к улучшению материального
положения низших классов. Способ, которым работники предполагали
улучшить свой быт, — учреждение промышленных ассоциаций при
вспоможении правительства, — казался республиканцам химерою;
нелепою несообразностью с их понятиями о государстве казалось
им и то право, которое во мнении работников служило основанием
этому способу, именно «право на труд» (droit au travail), право
каждого, не находящего себе работы у частных промышленников, получать
эту работу от государства, которое таким образом обеспечивало бы
средства для жизни каждому, желающему трудиться. Здравый смысл
говорил, что если республиканцы не считали возможным
удовлетворить этим требованиям, они должны были решительно отвергнуть
их. Но отвергнуть их значило бы в ту же минуту лишиться власти,
потому что сами по себе республиканцы были бессильны и держались
только тем, что опирались на работников. Они решились выпутаться
из затруднения обещаниями, рассчитывая выиграть время
проволочками, надеясь, что настойчивость работников остынет мало-помалу,
что дела как-нибудь уладятся счастливыми случайностями, что
временное правительство впоследствии приобретет силу
воспротивиться работникам. Первая уступка состояла в том, что на другой
Кавенъяк
245
же день после переворота временное правительство издало декрет
(25 февраля), которым объявляло, что государство обязывается
обеспечивать существование работника доставлением ему работы в
случае надобности, — «право на труд» было, таким образом, формально
признано. Через два дня, точнее сообразив убеждения
республиканцев, работники увидели, что не будет принято временным
правительствам никаких действительных мер к исполнению этого обещания,
если исполнение его не будет предоставлено человеку,
разделяющему в этом случае идеи работников, — и снова явились (27 февраля),
требуя, чтобы для этого дела было учреждено особенное
«министерство прогресса» и министром был назначен Луи Блан, глава той
социальной школы, мнения которой господствовали тогда между
парижскими работниками. Луи Блан74 был одним из одиннадцати членов
временного правительства, но не имел в нем никакой силы, встречая
безусловное сопротивление со стороны всех своих сотоварищей,
кроме одного Альбера, который сам принадлежал к классу
работников. Поручить Луи Блану Министерство прогресса значило дать ему
власть, значило облечь правительственной силой именно те идеи,
которые девятерым из одиннадцати членов временного
правительства казались гибельной химерой. Оно не могло согласиться на это,
но не могло и совершенно отказать работникам, и вот оно
придумало вместо министерства прогресса учреждение «Правительственной
комиссии» для работников (Commission du Gouvernement pour les
travailleurs), которая под председательством Луи Блана составляла бы
проекты законов для предложения будущему Национальному
собранию. Приняв это поручение, Луи Блан в свою очередь сделал очень
важную ошибку. Он видел, что эта комиссия, не имеющая никакой
власти, учреждается только для проволочки, с целью замять дело; это
учреждение обманывало работников наружностью без всякого
действительного значения. Нечего уже и говорить о том, что, не имея
административной власти, комиссия не могла ничем облегчить
состояние работников в настоящем; очевидно было, что и составлять
проекты законов временное правительство поручало ей только в той
уверенности, что они будут отвергнуты Национальным собранием, —
да и сам Луи Блан знал это. Ясно было также, что, во всяком случае,
комиссия вовсе не нужна для составления законов, — их гораздо легче и
удобнее было бы обрабатывать без такой многосложной обстановки,
какую должны были иметь заседания комиссии. Луи Блан видел, что
246
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
комиссия придумана только для того, чтобы временному
правительству увернуться от требования работников. Ему следовало отказаться
от этого обманчивого поручения. Он отказывался и говорил, что
должен выйти из временного правительства, которое считает его
участие во власти невозможным. Но если бы он не согласился остаться
в правительстве, если бы не принял поручения, работники в тот же
час поняли бы, что им нечего ждать от временного правительства,
они восстали бы против него, произошли бы новые смуты, быть
может, новое междоусобие. Это было представлено Луи Блану его
товарищами, — и он согласился принять поручение, которое одно могло
спасти правительство от разрыва с работниками. Эту уступку с его
стороны можно приписывать слабости его характера, если думать,
что он, подобно республиканцам, по убеждению не отвращался
междоусобий. Но его образ мыслей был таков, что насилие ни в каком
случае не может вести ни к чему хорошему, что все в мире лучше,
нежели быть виновником смут, — и потому очень может быть, что
он уклонился от разрыва не по недостатку характера, а, напротив —
по твердому убеждению в том, что лучше отказаться от успеха,
нежели достигать его путем насилия. В самом деле, Луи Блану тогда нечего
было бояться разрыва: в случае борьбы победа несомненно осталась
бы на стороне работников, желавших отдать власть в его руки.
Но каковы бы ни были побуждения, заставившие Луи Блана
сделать уступку, он уступил. Для комиссии, учрежденной под его
председательством, был отведен Люксембургский дворец, в котором две
недели тому назад заседала палата пэров. Для участия в совещаниях
о мерах, касающихся быта работников, были избраны работниками
всех промыслов двести пятьдесят депутатов. Но составлять проекты
законов, которые не имели вероятности пройти через Национальное
собрание, было бесполезно, и комиссия скорее имела характер
государственной аудитории, в которой Луи Блан излагал свою систему,
нежели законодательного комитета. Главной целью речей Луи Блана
было внушить собравшимся около него депутатам работников, что
насилием они ничего не выиграют и должны надеяться только на
мирные средства для улучшения своей участи; что путь убеждения
и законных выборов — единственный верный путь для исполнения
их желаний. Пока продолжались Люксембургские конференции, они
более нежели что-нибудь другое удерживали работников от
насильственных действий. Но, с другой стороны, они составляли для работ-
Кавенъяк
247
ников самое торжественное свидетельство обещаний правительства
позаботиться об их участи. Мало того, работники необходимо
приходили через них к мысли, что законы и распоряжения, касающиеся
положения рабочего класса, могут составляться не иначе, как по
совещанию с этим классом, с его одобрения, при его участии. Легко
понять, какое впечатление после таких идей должен был произвести
на них тот факт, когда потом вдруг им объявили, что ни одна из их
надежд не может быть исполнена, что они требуют нелепости, желая,
чтобы правительство заботилось о рабочих хотя наполовину того,
как заботится о фабрикантах, и что они должны беспрекословно
повиноваться всему, что им приказывают, оставляя их, между прочим,
без средств к жизни.
В то время как на Люксембургских конференциях работники
проникались высокими мыслями о приобретенном ими участии в
решении вопросов, касающихся их быта, и беспрестанно вспоминали
декреты временного правительства, обещавшего доставление работы
от государства тем рабочим, которые останутся без работы у частных
промышленников, уже оказались естественные следствия всякого
государственного кризиса: торговые дела приостановились,
произошло много банкротств, и оттого частные промышленники должны
были сократить работу на своих фабриках, а некоторые даже вовсе
закрыть их. Произойти это должно было неизбежно: всегда и
везде за каждым государственным кризисом следует промышленный.
И в Англии при гораздо меньших усилиях к преобразованиям
гораздо меньшим бывает то же: парламентская реформа и отменение
хлебных законов соединены были с промышленными кризисами. То же
было во Франции и при начале реставрации, и после июльского
переворота, после декабрьского переворота. Но если при этих
последних кризисах французское правительство могло оставлять на волю
судьбы работников, лишавшихся работы вследствие
промышленного кризиса, нельзя было этого сделать теперь: декрет, признававший
право на труд, был еще у всех в руках; работникам еще принадлежало
фактическое владычество в Париже, еще не имевшем гарнизона
после февральских событий. Нельзя было не позаботиться о тех
работниках, которые остались без хлеба. Временное правительство никак
не хотело приступить в самом деле к обещанным преобразованиям
экономического быта; а все-таки необходимо было сделать то, что
должно было, по мнению самих работников, быть только уже ре-
248
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
зультатом этих преобразований, — пришлось дать работу от
правительства работникам, оставшимся без занятия на частных фабриках.
Временное правительство сделало это так, как делается все делаемое
против желания и убеждения, без знания и обдуманности, — сделало
так, что вышла совершенно нелепая путаница. Оно поручило одному
из своих членов, принадлежавшему к чисто республиканскому
большинству и бывшему министром публичных работ, Мари, учредить
«Национальные мастерские» для работников, оставшихся без
занятия. Имя «Национальные мастерские» было заимствовано из системы
Луи Блана, и потому люди, не знавшие о самом факте ничего, кроме
его имени, утверждали потом, что «Национальные мастерские»
произошли от него или его идей. Напротив, они были учреждены его
непримиримыми противниками, управлялись людьми, нарочно
избранными для того за личную вражду против него, устроены были
совершенно наперекор его понятиям и при всей обременительности
своей для государства, при всей гибельности для частной
промышленности долго были приятны временному правительству,
искавшему в них опоры против Луи Блана. Нелепее тех оснований, на
которых они были созданы, невозможно ничего и придумать.
Надобно давать средства для жизни работникам (так
рассчитывало временное правительство) не потому, чтобы это было хорошо,
напротив — это очень дурно; но что ж делать, без этого произойдет
восстание. Они говорят, что хотят работать; но если им дать занятие
их обыкновенной работой, это будет подрывом частной
промышленности. Потому нельзя ткачам давать ткать материи, столярам делать
мебель: нужно дать им занятие, которое не входило бы в
соперничество с частной промышленностью.
На этих соображениях были устроены «Национальные
мастерские». Единственная работа, которая не подрывала бы частной
промышленности, состояла, по мнению умеренных республиканцев,
в том, чтобы копать землю, и всех этих людей — ювелиров,
фортепьянщиков, слесарей, портных, ткачей, граверов, наборщиков
и т. д. — обратили в землекопов.
Копать землю — это прекрасно; но где взять землю, которую
нужно копать? В Париже производились различные земляные
работы, особенно по постройке дорог, мостов, укреплений. Еще больше
земляных работ предполагалось совершить со временем. Казалось,
почему бы не обратить людей «Национальных мастерских» на эти
Кавеньяк
249
действительно нужные работы, если уж они непременно должны
копать землю? Администрация мастерских обратилась к инженерному
ведомству, управлявшему всеми земляными работами в Париже, —
тут произошла вещь невероятно милая: инженерное ведомство
постоянно было во вражде с министерствам публичных работ;
бюрократическая ссора не постыдилась проявиться и тут, когда дело было
так важно для государства: инженеры отвечали, что у них нет
никаких работ для администрации Национальных мастерских. Что
оставалось делать Мари? Вместо того чтобы призвать на помощь всю
силу правительства для усмирения нелепой вражды инженеров, он
начал придумывать сам от себя работы, — нужных работ не
придумало его министерство никаких, и Национальные мастерские были
заняты совершенно пустым пересыпанием земли с одного места на
другое, потом опять с этого второго на первое, так, единственно для
препровождения времени. Это опять невероятно, но действительно
было так. Рабочие Национальных мастерских сначала вырыли рвы
и насыпали террасы на Марсовом поле, потом срыли опять террасы
и засыпали рвы, потом снова принялись рыть те же рвы и насыпать
террасы и т. д.; подобными же упражнениями занимались они и на
всех других местностях Парижа, где только было можно потешаться
лопатами и заступами.
За это совершеннейшее осуществление нашей поговорки о
пересыпании из пустого в порожнее следовало им получать плату от
правительства. Таким образом, умеренные республиканцы удивительно
разрешили задачу: содержать рабочих и заставлять их трудиться, но
так, чтобы их труд не был соперничеством частной
промышленности.
И сами рабочие, и администраторы Национальных мастерских
очень хорошо чувствовали, что их занятия — нелепая пародия труда.
Не глупо ли токарю или каретнику копать землю? Заставлять его
делать это — значит просто заставлять его бездельничать. Да и вообще
заставлять человека делать дело, совершенно ни для чего не нужное,
только затем, чтобы потом он мог заняться разделыванием
сделанного, — опять-таки нелепость, которой должен совеститься и работник,
и надзиратель. Потому очень скоро надзиратели бросили требовать
от рабочих труда; рабочим стала омерзительна пошлая возня с
лопатами. По общему согласию тех и других установилось, что весь
процесс «рабочего дня» состоит лишь в том, чтобы явиться на место
250
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
работы, как-нибудь провести на этом месте назначенные часы и
отправиться назад по окончании их, получив квитанцию за свое
присутствие в назначенном месте. Оно действительно так и следовало по
самой мысли учредителей.
Не одни люди рабочего класса, но и люди всякого звания
предпочтут пользоваться деньгами задаром, если открывается возможность
получать задаром столько же денег, сколько и за тяжелый труд. Когда
в Национальных мастерских стало нужно только прогуляться от
сборного места до какой-нибудь площади поутру и вечером прогуляться
с этой площади назад до сборного места, чтобы выдана была
квитанция за так называемый «рабочий день», а потом за эту квитанцию
выдана была плата не менее той, какая давалась на фабриках, когда
таким образом открыты были синекуры для работников, само собою
разумеется, что работники стали покидать частные фабрики для
Национальных мастерских. И без того вследствие нерешительных,
двусмысленных действий временного правительства Париж волновался
страхами всевозможных родов, кредит падал, фабрик закрывалось все
больше и больше; а тут, привлекаемые даровым жалованьем в
Национальных мастерских, многие работники уходили и с таких фабрик,
которые могли бы выдержать промышленный кризис. И вот по
обыкновению одно бедствие порождало другое и само потом увеличилось
от его влияния. Политический кризис привел к промышленному;
промышленный кризис окончательно сбил с толку временное
правительство, и без того не слишком мудрое; потерявшие голову
правители в торопливом смущении основали широкое дело Национальных
мастерских для облегчения зла, но основали в таком нелепом виде,
что от них зло могло лишь увеличиваться; вследствие превратных мер
правительства кризис возрастал, и число людей в Национальных
мастерских увеличивалось с страшной быстротой: одни шли туда потому,
что не имели работы на фабриках, другие своим уходом принуждали
закрывать фабрики и тем увлекали в Национальные мастерские
новые толпы людей, лишавшихся работы. В начале марта Национальные
мастерские имели 20 000 работников, действительно не находивших
занятия на частных фабриках; в средине июня Национальные
мастерские считали уже более 150 000 работников, из которых несколько
десятков тысяч сами бросили фабрики и тем лишили работы, может
быть, сотню тысяч людей, вовсе не желавших быть тунеядцами, но не
видевших себе другого спасения, кроме Национальных мастерских.
Кавеньяк
251
Расход государства на их содержание был громаден: каждый месяц
Национальные мастерские поглощали несколько миллионов, а
работы совершалось ими очень мало, да и та не приносила пользы ни на
грош, потому что тратилась на предметы вовсе не нужные. Мало того,
что расходы эти составляли в настоящем страшную тягость для
казны: в будущем они угрожали еще большей разорительностью, потому
что число людей в Национальных мастерских умножалось с каждым
днем. Все партии с одинаковым беспокойством смотрели на эту
колоссальную нелепость.
Все партии, сказали мы, — это выражение не совсем точно:
представители партии умеренных республиканцев во временном
правительстве, наравне со всеми жалея о страшной растрате денег на
Национальные мастерские, находили в этом своем тупоумном
порождении одну сторону, которая утешала их за все расходы. Национальные
мастерские находились в заведывании министерства публичных
работ, а министерством этим управляли вернейшие люди умеренно-
республиканской партии, сначала Мари, потом Т^ела.
Администраторы мастерских все принадлежали к той же партии: Мари, который
назначил этих агентов, был очень осмотрителен в их выборе.
Особенно могла умеренно-республиканская партия положиться на
главного администратора мастерских, — то был Эмиль Тома, честнейший
умеренный республиканец, по убеждению смертельный враг всех
крайних партий, особенно социалистов, сверх того личный враг Луи
Блана, который был тогда сильнейшим из предводителей
социалистов. Благородный и чрезвычайно гуманный Эмиль Тома пользовался
безграничной любовью людей, находившихся под его управлением;
он был очень обходителен с работниками своими, заботливо вникал
в их нужды, старался во всем помочь им, насколько от него зависело,
занимался своими трудными обязанностями с ревностью,
доходившей до самоотвержения; его кроткий характер, его ласковая речь,
его обязательность привлекали к нему толпы, находившиеся под его
начальством. Умеренные республиканцы могли, наверное,
рассчитывать, что его работники пойдут за ним, куда бы он ни повел их.
Это служило им источником великой отрады. В Национальных
мастерских умеренные республиканцы видели сильнейшую свою
опору против социалистов. В самом деле, работники-депутаты
Люксембургских конференций, имевшие громадное влияние на всех других
людей своего класса в Париже, были отвергаемы, осмеиваемы, пре-
252
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
следуемы работниками Национальных мастерских; многие из этих
депутатов были принуждены удалиться из мастерских. Словом, между
Люксембургом и Национальными мастерскими не было и не могло
быть ничего общего. Восстание социалистов грезилось замеренным
республиканцам каждую ночь, каждый день, но они с некоторой
самоуверенностью твердили себе: у нас есть против такого восстания
громадная армия.
В самом деле, Национальные мастерские с тем и были устроены,
чтобы служить армией против социалистов. Сообразно такому
назначению эти мастерские были организованы по военной системе:
каждыми десятью работниками начальствовал десятник (piqueur);
пять десятков составляли взвод (brigade) с капралом (brigadier):
несколько бригад соединялось под начальством поручика (lieutenant)
и т. д.; у бригад и отрядов, из них составлявшихся, были свои знамена;
к сборному месту шли работники из своих жилищ военным строем,
с знаменами; еще церемониальнее были их марши от сборного
места до места (так называемых) работ и обратно; от сборного места
по домам они также расходились военным порядком. Само собой
разумеется, эти марши, знамена, это мелочное распределение по чи-
ноначальству и проч. было бы совершенно неуместно, если бы
Национальные мастерские устраивались только для прокормления
людей, не находящих себе работы; но они назначались также в случае
смут доставлять защитников умеренным республиканцам, и этому
назначению совершенно соответствовала их военная организация.
Но в середине июня умеренные республиканцы чувствовали себя уже
столь сильными, что могли обойтись без помощи этих союзников.
Робость, овладевшая средним и высшим классами после февральских
событий, мало-помалу рассеивалась, когда они увидели, что низший
класс в массе ожидает улучшения своей участи от закона, не прибегает
к насилию; что предводители этого класса, крайние республиканцы
и социалисты, не захватывают силою диктатуру в свои руки, а
ожидают достичь торжества путем порядка и законности. Этому
спокойствию предводителей крайних партий было много причин: уважение
к национальной воле, выражение которой они видели в
установленном тогда suffrage universe^5; надежда, что результат этого
всеобщего права участвовать в выборах будет благоприятен людям, которые
считали себя защитниками интересов массы; неуверенность в том,
что городские пролетарии будут поддержаны поселянами, Париж бу-
Кавеньяк
253
дет поддержан провинциями, если фабричные работники в Париже
вздумают восстать против буржуазии; несогласия между различными
школами и главными людьми этих школ. Мы не можем решить,
какое из этих соображений и затруднений имело более силы;
противники говорят, что эти люди удерживались опасением восстановить
против себя всю Францию присвоением власти; сами они говорят,
что только добросовестное отвращение от насилий руководило их
действиями; как бы то ни было, но они не прибегли к
насильственным мерам, которых ожидали от них противники, — мало того, они
все свои усилия напрягали к удержанию массы от всякого насилия.
За это противники сочли их людьми, не умеющими извлекать выгоду
из обстоятельств, людьми, неспособными к практической
деятельности; действительно, они без всяких попыток присвоить себе власть
дали пройти тем дням или неделям, когда могли быть страшны своим
противникам, и противники ободрились. Некоторые слабые
движения, возбужденные интриганами вроде Бланки76, увлекшими вслед
за собой опрометчивых энтузиастов вроде Барбе и Побера,
послужили, однако же, поводом выставить честолюбцами, опасными для
общественного спокойствия, и тех, которые на самом деле старались
предотвратить эти волнения. Некоторые ошибочные меры,
принятые временным правительством против их совета, были приписаны
их теориям или желаниям. Таким образом, предводители крайних
партий были осуждаемы и за волнение 15 мая, когда клубы вторглись
в Национальное собрание и хотели разогнать его, и за возвышение
поземельного налога, декретированное умеренными
республиканцами, и за учреждение Национальных мастерских, происшедшее также
вопреки их мнениям и вне всякого их участия.
Такие обвинения противоречили фактам, но факты тогда еще не
были известны в истинном своем виде, — напротив, они доходили до
всеобщего сведения искаженными или преувеличенными. Эти
ложные слухи много содействовали упадку меньшинства временного
правительства и укреплению власти большинства, состоявшего из
умеренных республиканцев. Но всего более, конечно, произошло это
просто вследствие естественного закона, по которому за
напряжением сил следует усталость, по которому стремительный порыв масс
быстро сменяется обычной для них дремотой, по которому люди
неопытные беспечно успокаиваются после первого обманчивого
успеха. Масса, на сочувствии которой основывалась сила крайних
254
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
партий, уже воображала себя совершенной победительницей, она
воображала, что противники, низвергнутые в феврале, уже бессильны;
что умеренные республиканцы, союзники массы в феврале, будут
исполнять ее желания, потому что сделали на словах несколько уступок
этим желаниям.
Под влиянием всех этих обстоятельств умеренные республиканцы
решительно восторжествовали на выборах в Национальное
собрание; крайние партии, и прежде имевшие мало влияния на управление
делами, совершенно лишились его, когда с открытием
Национального собрания временное правительство сложило с себя власть, и она
была передана Исполнительной комиссии, в которой уже
исключительно господствовали умеренные республиканцы.
Теперь эта партия, до сих пор стеснявшаяся в своих действиях
противоречием меньшинства временного правительства, могла
беспрепятственно принимать меры, казавшиеся ей нужными. Первой
из этих мер было призвание сильных отрядов войска в Париж и его
окрестности. Крайние партии опирались на парижских
работников,— умеренные республиканцы старались, как мы видели,
подчинить этот класс своему влиянию; но все-таки он имел других
предводителей, его желания были в сущности не согласны с желаниями
умеренных республиканцев, его требования казались им гибельными
для общества химерами; работники внушали сильное опасение
умеренным республиканцам. Для обуздания этих многочисленных
недовольных необходимо было войско.
Когда сильное войско было сосредоточено в Париже и его
окрестностях, умеренные республиканцы гораздо прямее, нежели прежде,
начали говорить, что преобразования, которых желают работники,
нелепы, и правительство не может исполнить их. Разочарование
овладело умами и тех из работников, которые до сих пор сохраняли
надежду на то, что Национальное собрание постановит законы,
изменяющие материальное положение рабочего класса. Предводители
крайних партий по-прежнему убеждали массу не прибегать к
насилиям, ожидать исполнения своих желаний от употребления средств,
которые давались к тому законным правом участвовать в выборах.
Судя по всему, эти увещания и собственное благоразумие
удержали бы низший класс от смут, если бы правительство не приступило
к уничтожению Национальных мастерских способом столь же
неблагоразумным, как неблагоразумен был способ их учреждения. Пра-
Кавеньяк
255
вительство теперь твердо опиралось на армию. Ему уже можно было
обойтись без союза с защитниками ненадежными, — надобность, для
которой до сих пор содержались Национальные мастерские,
прекратилась. Решено было закрыть их. Работники их будут недовольны?
Это не важность: при многочисленной армии они не посмеют
противиться. И вот для закрытия Национальных мастерских приняты
были быстрые меры — меры, в которых самонадеянное легкомыслие
странным образом смешивалось с трусливою торопливостью, грубая
жестокость — с изворотливым коварством.
Самый недальновидный человек мог бы, по-видимому, понять,
что опасно вдруг отнимать содержание у массы в 150 000 человек,
организованной подобно войску, не предоставив этим людям
никаких других средств к существованию; но умеренные республиканцы
успокаивались надеждой на силу собранной ими армии и без
всяких церемоний вдруг объявили, что Национальные мастерские
уничтожаются, потому что государство не может содержать на свой счет
огромную толпу тунеядцев.
Прекрасно; но в каком положении видели теперь себя эти 150 000
людей, которых до сих пор кормило правительство? Фабрики были
закрыты; промышленный кризис продолжался, и не было даже
надежды, что он скоро прекратится. Благоразумие требовало бы от
правительства, чтобы оно помогло фабрикам возобновить работу и
распускало людей из Национальных мастерских только по мере того,
как они могли бы находить себе занятие в частной
промышленности. Это не было сделано. Занятий не могли они найти себе никаких.
Они оставались без всяких средств к существованию. Они могли
только умирать с голоду на улицах Парижа. Неужели этого не предвидело
правительство? Нет, предвидело и потому приняло следующие меры:
молодым и здоровым людям предложило оно поступать в солдаты,
а тех, которые неспособны сделаться хорошими солдатами, оно
приказало развозить из Парижа по провинциальным городам.
Легко было предугадать, какой вид получат в глазах работников
эти меры, которые начали приводиться в исполнение без излишнего
внимания к желанию или нежеланию воспользоваться ими со
стороны работников. «Нас насильно, противозаконно берут в солдаты, нас
насильно развозят по разным городам, в которых также закрыты
фабрики, в которых так же нет нам работы, в которых так же останется
нам только умирать с голоду, как и в Париже», — иначе не могли ду-
256
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
мать несчастные. «Нас развозят затем, что в соединении мы сильны;
разделив нас, они легче управятся с нами, как хотят».
Ясно было, что Эмиль Тома при своем гуманном характере, при
своей заботливости об участи людей, которыми управлял, не
согласится быть исполнителем таких мер. Он говорил, что нельзя так круто
повернуть этого дела, что надобно приготовить занятие распускаемым
работникам, сокращать Национальные мастерские только по мере
пробуждения деятельности на частных фабриках и т. п. И вот
придумали новую меру, чтобы избавиться от него. Его призвали к министру
публичных работ (министром был тогда Трела; Мари, прежний министр,
был членом Исполнительной комиссии, руководившей действиями
министров), — министр сказал ему, что для закрытия Национальных
мастерских нужен администратор с характером более твердым, что
если работники узнают об его отрешении, они могут
воспротивиться, собраться вокруг прежнего любимого начальника, наделать
беспорядков. «Потому немедленно отправляйтесь из Парижа, так чтобы
этого никто не знал, оставайтесь в провинции, куда я посылаю вас,
пока здесь все будет кончено. Тогда я возвращу вас в Париж». Эмиль
Тома доказывал, что его внезапное удаление встревожит работников,
усилит их подозрения, — напрасно. Он сказал, что по совести не
может повиноваться, зная, что его удаление из Парижа будет иметь
гибельные следствия. Тогда министр объявил, что принужден выслать
его из Парижа насильно, — призвал чиновников, которым поручил
взять его под стражу и немедленно уехать с ним из Парижа. Это было
исполнено в ту же минуту, и для лучшего сохранения тайны даже
семейству Эмиля Тома не было сказано, куда он исчез.
Следствие было совершенно таково, как предсказывал он.
Любимый начальник, которому верили, внезапно исчез — он пошел
к министру и не возвращался более. «Он брошен в тюрьму», —
говорили одни работники. «Он убит министром»-, — говорили другие.
«Это потому, что он не хотел выдать нас; что же хотят сделать с нами?
Как что, разве это не видно? Нас пошлют в Алжирию, где мы
погибнем от климата и от кабилов; кого не пошлют в Алжирию, кого не
берут в солдаты, тех насильно отвозят бог знает куда, развозят по
провинциям, чтобы легче было поодиночке зажать нам рот, подавить
нас; нас бросят без всяких средств к жизни, мы не найдем работы ни
здесь, ни в провинциях — работ нет нигде. Мы обречены погибнуть
от голода. Погибнуть от голода! А давно ли даны нам обещания, что
Кавеньяк
257
каждый, не находящий работы в частной промышленности, получит
работу от правительства? Исполняя этот декрет, правительство
содержало нас, пока не имело войск, — теперь оно имеет войска и
хочет поступить с нами так же, как поступал Гизо. Предатели, они хотят,
чтобы мы погибали».
В самом деле, если ни Гизо в феврале, ни Исполнительная
комиссия и Национальное собрание в июне не хотели губить работников
для собственного удовольствия, то надобно было умеренным
республиканцам признаться, что их управление сделало для
исполнения требований рабочего класса ровно столько же, сколько и Гизо.
Но Гизо по крайней мере не давал обещаний, а теперь дано было
формальное обещание декретом временного правительства, еще за
несколько недель торжественно подтверждено решением
Национального собрания, — надежды были пробуждены, официально
признаны справедливыми, — и вдруг правительство совершенно
отрекается от всяких обязательств, столько раз данных. Республиканцы
все равно, как и Шзо, говорят: молчите, или мы заставим вас молчать
штыками и картечью.
Сто пятьдесят тысяч человек оставляются без всяких средств к
существованию, начальник, которого они любили, коварно отнят у них,
их насильно берут и увозят из Парижа, им изменили. А между тем они
организованы подобно армии, неужели они отдадутся на жертву без
сопротивления?
Ошибки правительства привели к неизбежной междоусобной
войне.
В тот же день, как было объявлено решение Национального
собрания закрыть Национальные мастерские, как исчез Эмиль Тома,
и начались наборы работников для поступления в солдаты и для
рассеивания по провинциям (22 июня), работники послали депутатов
протестовать против этих распоряжений. Член Исполнительной
комиссии, бывший министр публичных работ, Мари, принял депутатов
очень дурно и сказал, что работникам остается только одно —
безусловно повиноваться.
На следующее утро (23 июня) вспыхнуло восстание. Целый день
оно усиливалось, и вечером Национальное собрание передало
исполнительную власть Кавеньяку, который, как военный министр,
с самого начала руководил действиями армии. Париж был объявлен
в осадном положении.
258
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Мы не будем рассказывать подробностей отчаянной борьбы,
продолжавшейся три дня; нас, вероятно и читателя также интересует не
стратегическая сторона этого страшного междоусобия, а причины,
его вызвавшие, характер его и следствия, к которым оно привело
французскую нацию.
Причины мы исчислили; некоторым читателям, быть может,
покажется, что наше объяснение неполно, что мы опустили из виду
влияние клубов, интриги так называемых демагогов, честолюбие
предводителей крайних партий; действительно, всему этому приписывал
очень большое участие в июньских событиях отчет, составленный
докладчиком следственной комиссии, назначенной по этому делу,
Кентеном Бошаром; но этот доклад, внушенный чувством ненависти,
давно отвергнут общественным мнением и тогда же отвергался
людьми беспристрастными и проницательными. Мы укажем один случай
и приведем одно свидетельство, чтобы читатель мог судить о том, как
смотрели еще тогда основательные и справедливые судьи на
содержание этого доклада.
Следственная комиссия, составленная наполовину из
умеренных республиканцев, наполовину из орлеанистов и легитимистов,
которые ободрились после июньских дней, главным виновником
смут, обуревавших Францию со времени провозглашения
республики до июньских дней, выставила Луи Блана, на которого сваливали
также учреждение Национальных мастерских, устроенных будто бы
по его плану. Но Луи Блан и Коссидьер, обвиняемый вместе с ним
(хотя они были враги между собой) в то время были
представителями нации (членами Национального собрания), а представители
могли быть подвергаемы судебному преследованию не иначе, как
только с разрешения Собрания. Правительство потребовало этого
разрешения, — Собранию был предложен вопрос: находит ли оно
достаточные поводы подозревать участие Луи Блана в майских и
июньских событиях и находит ли нужным предать его суду. Огромное
большинство отвечало: «да». Но в числе меньшинства, находившего
обвинение неосновательным и улики фальшивыми, был, между
прочим и Бастиа, известный экономист, который всеми силами
боролся против учений, имевших тогда своим представителем Луи Блана.
Партия, к которой принадлежал Бастиа, была скандализирована тем,
что он подал голос в оправдание Луи Блана, но вот что он писал в тот
же вечер к ближайшему из своих друзей, Кудре: «Ныне на рассвете
Кавеньяк
259
решено великое дело о докладе следственной комиссии, так тяжело
беспокоившее и Собрание и Францию. Собрание дало согласие на
судебное преследование Луи Блана и Коссидьера за участие в
преступлении 15 мая. У нас, быть может, удивятся, что в этом деле я подал
голос против правительства. Я хотел было постоянно отдавать моим
избирателям отчет в соображениях, по которым подаю так или иначе
голос по каждому делу; только недосуг и нездоровье помешали мне
исполнить это; но настоящий случай так важен, что я должен
объяснить причины моего мнения. Правительство считало отдачу под
суд этих двух представителей необходимостью; говорили даже, что
только этим оно может удержать на своей стороне национальную
гвардию, но мне казалось, что даже и это соображение не дает мне
права заглушить в себе голоса совести. Ты знаешь, что учение Луи
Блана не имело, быть может, в целой Франции противника более
решительного, нежели я. Я убежден, что эти системы имели гибельное
влияние на образ мыслей и через то на поступки работников. Но
разве мы должны были решать вопрос о справедливости его системы?
Каждый человек, имеющий какое-нибудь убеждение, по
необходимости считает гибельным противное убеждение. Когда католики жгли
протестантов, они жгли их потому, что считали их образ мыслей не
только ошибочным, но и опасным. По этому принципу нам всем
пришлось бы перерезать друг друга.
Итак, надобно было смотреть на то, действительно ли Луи Блан
виноват в фактах заговора и восстании? Мне казался он невиновным,
и никто, прочитав его защитительную речь, не может не сказать, что
он невиновен. А между тем я не могу не помнить, в каких мы теперь
обстоятельствах: у нас осадное положение, правильная судебная
власть отстранена, свобода отнята у журналов. Мог ли я выдать двух
представителей их политическим противникам в такое время, когда
нет никаких гарантий? Это — дело, которому я не могу
содействовать, это — первый шаг по пути, на который я не могу вступить.
Я не осуждаю Кавеньяка за то, что он на время отменил действие
всех законных гарантий, я думаю, что эта печальная необходимость
столь же прискорбна ему, как и нам; притом она может быть
оправдана тем, чем оправдывается все, — спасением общества. Но для
спасения общества требовалось ли, чтобы двое из наших товарищей
были преданы на жертву? Я не думаю. Напротив, мне кажется, что
такое дело может только поселить между нами раздор, ожесточить
260
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ненависть, положить бездну между партиями не только в Собрании,
но и в целой Франции; мне казалось, что при настоящем положении
внешних и внутренних дел, когда нация страдает, когда ей нужны
порядок, доверие, прочные учреждения, единодушие, — при таких
обстоятельствах не время ввергать в раздор представителей нации.
Мне кажется, что лучше бы нам забыть о наших жалобах и
неприятностях, чтобы позаботиться о благе страны; потому я радовался, что
нет ясных фактов в обвинение моих товарищей и что я не обязан
выдавать их.
Большинство думало иначе. Дай бог, чтобы оно не ошиблось! Дай
бог, чтобы решение, принятое ныне, не сделалось гибельным для
республики!
Если ты найдешь нужным, я уполномочиваю тебя послать отрывок
из этого письма в газеты».
Через несколько дней, возвращаясь к тому же предмету в другом
письме к Кудре, Бастиа продолжает:
«Говорят, что я уступил страху; страх был с другой стороны. Или
эти господа (избиратели департамента, представителем которого
был Бастиа) думают, что для борьбы против страстей, овладевающих
обществом, нужно в Париже менее мужества, нежели в
департаментах? Нам грозили гневом национальной гвардии, если мы отвергнем
требование судебного преследования. Эта угроза выходила от
людей, располагающих военной силой. Стало быть, страх мог
заставлять класть черные шары, но не белые шары. Нужна высокая степень
нелепости и тупости, чтобы вообразить, будто требуется особенное
мужество для подачи голоса в пользу той стороны, на которой стоит
насилие, армия, национальная гвардия, большинство
Национального собрания, влечение обстоятельств, правительство. Читал ли ты
следственный акт? Читал ли ты показание бывшего министра Трела?
В показании говорится: «Я был в Клиши, я там'не видел Луи Блана,
не слышал, чтобы он был там; но в жестах, в физиономии, в самых
звуках голоса работников я видел следы того, что он был там».
Высказывалась ли когда-нибудь политическая ненависть с более
опасными тенденциями? Три четверти следственного акта составлены
в таком духе!
Словом, сказать по совести... я не думаю, чтобы Луи Блан
принимал участие в майском и июньском возмущениях, и этим
объясняется, почему я подал голос против обвинения».
Кавенъяк
261
Свидетельство Бастиа в этом случае не может подлежать
подозрению; он был самый резкий, самый отважный и самый сильный
противник тех людей, которых теперь хотел защитить от обвинений.
В самом деле, невозможно читать обвинительный акт, не видя,
что он составлен под влиянием страха и ненависти. Эти чувства и
прежде руководили действиями чистых республиканцев
относительно партий, разделявших с ними власть от февраля до июня; под
влиянием этих чувств учредились и потом были закрыты Национальные
мастерские, закрытие которых было ближайшим поводом
междоусобия. Влиянием этих чувств было и вообще создано то положение
государственных дел во Франции, неизбежным результатом которого
было междоусобие. Другие причины, о которых они так много
говорили, или вовсе не существовали, или оказывали только ничтожное
влияние. Предводители партий, благоприятствовавших требованиям
рабочего класса, старались всеми средствами удержать работников
в пределах законности, старались отвратить их от всяких попыток
к действию вооруженной силой; многие клубы действовали в
противном смысле, но влияние их на массу было незначительно;
наконец, ничего подобного заговору не было в междоусобии июньских
дней: получив отказ 22 июня ввечеру, работники условились открыто,
на площади, что завтра возьмутся за оружие.
Именно отсутствием влияний, чаще всего пробуждавших
беспокойства во Франции, июньское междоусобие отличается от других
парижских междоусобий; в этом отсутствии обыкновенных
элементов мятежей и заключается тайна громадной силы, обнаруженной
инсургентами июньских дней, и ужаса, произведенного этой резней.
Массы шли на битву без всяких предводителей; ни одного сколько-
нибудь известного человека не было между инсургентами. Чего
хотели они? Это до сих пор остается смутно для того, кто не считает
достаточным объяснением их мятежа перспективу голодной смерти,
открывшуюся перед ними. То не были ни коммунисты, ни
социалисты, ни красные республиканцы, — эти партии не участвовали в
битвах июньских дней; чего хотели они? Улучшения своей участи; но
какими средствами могло быть улучшено положение рабочего класса,
если бы он одержал верх? Это было темно для самих инсургентов,
и тем страшнее казались их желания противникам; чего же они
хотели, если не были даже коммунистами? Победители говорили, что они
хотели грабить, но они наличными деньгами расплачивались за все,
262
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
что брали в лавках. Это открылось после; но в те дни инсургенты
казались какими-то варварами, цель которых — разрушение
общества. Отчаяние — вот единственное объяснение июньских дней, оно
составляет отличительный характер этого восстания. Инсургенты
сражались не для ниспровержения или установления какой-нибудь
политической формы, — они не имели ни определенного
политического образа мыслей, ни определительных требований от
правительства или общества, кроме одного требования: они хотели иметь
работу и кусок хлеба, доставляемый работой, и думали, что противники
хотят истребить их, чтобы не давать ни хлеба, ни работы, столько
раз торжественно обещанной. Оттого-то и дрались они с таким
отчаянным мужеством. Их было тысяч сорок; далеко не все работники
Парижа, далеко не все работники Национальных мастерских взялись
за оружие: надежды на успех почти не было, инсургенты шли на
погибель почти несомненную, и потому к ним не присоединялся никто
из работников, сохранивших или хладнокровие в своей горести, или
вероятность иметь работу на фабриках. Зато отважившиеся на битву
почти безнадежную дрались с энергией, какой не было ни в июле
1830 года, ни в феврале 1848 года. Против них выведены были
регулярные войска, гораздо многочисленнейшие, выступала
национальная гвардия Парижа, еще более многочисленная, выведена была
«подвижная гвардия», garde mobile, составленная из отчаянных
юношей парижской бездомной жизни, выдвинута была страшная
артиллерия тяжелого калибра, — всего было мало, постоянно прибывали
по железным дорогам новые войска и новые отряды национальной
гвардии из всех городов Франции, и только на четвертый день это
громадное превосходство в силах подавило мятеж, — да и этой
медленной победой противники инсургентов были обязаны только
новой системе борьбы, которую Кавеньяк применил к делу с редким
искусством и еще более редкой непоколебимостью.
Система эта состояла в том, чтобы сосредоточивать огромные
силы на одном пункте, избранном для наступательного движения,
держась на всех остальных пунктах только в оборонительном
положении. Наступление имело первой целью разорвать сообщение
между различными частями города, бывшими в руках инсургентов;
потом, когда эти отрезанные одна от другой части не могли уже
подавать помощи друг другу, брать постепенно одну часть за другой.
Знатоки военного дела говорят, что этот план был превосходно и за-
Кавеньяк
263
думан и исполнен Кавеньяком и что при всякой другой системе
борьбы инсургенты на некоторое время, по всей вероятности, овладели
бы всем Парижем. Но и этой системе, доставившей победу,
инсургенты долго противились с таким успехом, что 25 июня Кавеньяк еще
не ручался за победу и считал опасность столь великой, что вместе
с президентом Национального собрания принял меры перенести
Собрание и резиденцию правительства в Сен-Клу или в Версаль, если
бы инсургенты восторжествовали в Париже. Картечь, бомбы и ядра
трое суток осыпали кварталы, занятые инсургентами, — и только
это страшное действие артиллерии доставляло перевес регулярному
войску. Рукопашные битвы были чрезвычайно упорны. Число убитых
с той и с другой стороны остается неизвестным; правительство
должно было уменьшить потерю своих защитников и врагов, но и оно
показывало ее в пять тысяч; другие известия говорят о десяти и более
тысячах, и, быть может, даже эта цифра не достигает еще ужасной
действительной потери. Ветераны наполеоновских времен
говорили, что никакой штурм неприятельской крепости во времена
Первой империи не был так кровопролитен. Есть положительный факт,
слишком достоверно свидетельствующий о верности этого
впечатления: из четырнадцати генералов, командовавших войсками,
шестеро были убиты, пять других были ранены, и только трое уцелели, —
да и из этих последних под Ламорисьером были убиты две лошади.
Много злодейств было совершено с обеих сторон в ожесточении
битвы, потому что с обеих сторон за сражающимися укрывалось
много преступников, пользовавшихся бешенством сражения для
насыщения своего зверства. Так, несколькими негодяями со стороны
инсургентов был убит генерал Бреа, захваченный в плен, но с
противной стороны число страшных примеров жестокости было еще
значительнее. Рассвирепевшие солдаты и особенно подвижная гвардия,
ворвавшись в дом, занятый инсургентами, часто убивала всех, кого
там находила, — стариков, женщин, детей; множество совершенно
невинных людей, имевших несчастье попасться в руки армии и
подвижной гвардии, были расстреляны по подозрению, что они
расположены в пользу инсургентов, — и потом оказалось, что они вовсе не
имели и мысли об этом; расстреливание пленных инсургентов было
в таком обычае, что об этих случаях никто уже и не говорит; словом,
читая рассказы об ужасах, совершенных национальной гвардией,
подвижной гвардией и солдатами, видишь, что недаром было потом
264
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
в употреблении у парижан выражение «Кавеньяковские палачи», les
bourreaux de Cavaignac.
Как полководец, Кавеньяк в эти страшные дни действовал
превосходно. Все знатоки военного дела утверждают это. Кроме
стратегических талантов, он выказал качество еще более редкое —
непреклонную энергию воли, когда, несмотря ни на какие просьбы, внушаемые
нетерпением, твердо следовал своему плану, который один мог вести
к победе, и, действуя шаг за шагом, не сделал ни одного
опрометчивого движения. Как частный человек, он также вел себя безукоризненно:
напрасно враги его обвиняли, что он употребил какие-нибудь
интриги для достижения диктатуры: это низкая клевета; он верно служил
Исполнительной комиссии, пока она существовала, и когда она была
уничтожена Национальным собранием и вся власть передана ему, то
было благоразумным решением самого Собрания, и ни сам Кавеньяк,
ни его друзья не сделали ни одного шага, чтобы внушить это решение.
По окончании битвы он явился в Собрание, возвращая ему власть,
которой был облечен на время битвы, и опять совершенно ничего
не искал; когда Собрание просило его сохранить власть и сделаться
главой правительства, он, приняв это высокое поручение, нимало не
утратил простоты своих нравов, продолжал быть совершенно
прежним человеком и постоянно не только говорил, но и действовал
совершенно сообразно сущности своих обязанностей, всегда
признавая себя только доверенным лицом Собрания, вручившего ему власть,
и ни разу не сделав ни одного шага для того, чтобы расширить
пределы этой власти или отказать в повиновении Собранию, которое
совершенно вверилось его честности. Словом, как частный человек, он
выказал характер, достойный Вашингтона. Но как государственный
человек, Кавеньяк, к сожалению, не обнаружил ни особенной
проницательности, ни особенных дарований: подобно всей своей партии,
он поступил вовсе не предусмотрительно и не расчетливо. Великим
несчастьем для него и всей партии было уже то, что ее ошибками
дела были доведены до июньского междоусобия; но в этом не был
виноват Кавеньяк, он не управлял государством, не имел
значительного влияния на ход событий до июня, — он ограничивался до той
поры почти только своими специальными занятиями по должности
военного министра и управлял этой частью хорошо. Потому теперь,
когда управление перешло в руки его, человека, непричастного
прежним ошибкам, правительство умеренных республиканцев могло бы
Кавеньяк
265
явиться перед нацией как бы отказавшимся, очищенным от прежних
гибельных промахов и восстановить свою популярность. Для этого
битву следовало бы вести со всевозможной готовностью к
примирению, и тогда генерал, принявший власть среди громов междоусобия,
представился бы не столько победителем одного класса своих
сограждан во имя других классов, сколько миротворцем. Но Кавеньяк
явился не более как только хорошим генералом, смотрящим на
гражданские дела глазами своих политических друзей; а политические
друзья его, к сожалению, во всем считая себя правыми относительно
прошедшего, не находили в самых действиях своего прежнего
управления объяснений восстания и потому считали это восстание
возникшим единственно вследствие желаний, гибельных для общества;
они слишком поверили своей фразе, которую любили повторять
в апреле и мае: «варвары у ворот наших» — Les barbares sont a nos
portes; они увидели в жалких, голодных работниках не несчастных;
доведенных до безрассудной дерзости отчаянием, а злодеев,
принявшихся за оружие чисто с намерением грабить и резать. Сообразно
такому понятию и повели они борьбу против них, — не как против
• сограждан, а будто против каких-нибудь каннибалов, беспощадно,
безжалостно. Ожесточение со стороны национальной гвардии,
составлявшей опору умеренных республиканцев, и зверские поступки
со стороны шестнадцатилетних-восемнадцатилетних воинов
подвижной гвардии, увлеченных опрометчивостью кипучей молодости
и вином, вызвали много примеров такой же жестокости со стороны
инсургентов — умеренные республиканцы с каким-то
самодовольством ослепились этими отдельными случаями, оправдавшими их
мнение, и допустили себя совершенно забыть о причинах восстания,
лежавших в их собственных действиях.
Битва шла зверски с обеих сторон. Она необходимо должна была
оставить много ненавистных следов в памяти обеих сражавшихся
сторон. Но пусть инсургенты были варвары, пусть имели право
умеренные республиканцы не давать им пощады в битве,
превратившейся оттого в резню с расстреливанием пленных, — пусть им
извинительно было все это в предположении их, что инсургенты взялись
за оружие не для защиты себя от голодной смерти, а для грабежа их,
умеренных республиканцев; но вот победа стала решительно
склоняться на сторону войска и национальной гвардии. Наконец
инсургенты потеряли всякую надежду на успех. Это было на третий день
266
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
восстания, на другой день ожесточенной битвы 25 июня. В этот
момент возникали для умеренных республиканцев новые соображения,
которыми должен был бы измениться характер следующего дня, если
бы умеренные республиканцы были предусмотрительны.
Надежды противников уничтожены. Пусть прежде инсургенты
заслуживали истребления как хищные звери; но следует ли теперь
доканчивать их истребление, когда они убедились в неизбежности
своего поражения? Продолжение борьбы, уже ненужной для
отвращения от себя опасности, — опасность уже отвращена, — не введет
ли умеренных республиканцев в новую опасность?
С точки зрения собственных убеждений они должны были
принять в соображение следующие факты. Они, умеренные
республиканцы, хотели утвердить во Франции республиканскую форму
правления. Какой класс нации был единственным преданным защитником
этой формы? Только класс работников; кроме работников,
искренними республиканцами были только немногие отдельные люди, по
своей малочисленности не могшие удержаться против высших классов
и поселян, желавших низвержения республики. Прежде, положим,
работники увлекались гибельными химерами, — теперь исчезли их
надежды на осуществление этих других желаний; из всех их чувств
остается имеющим практическую силу только преданность
республиканской форме. Причины, ожесточившие умеренных
республиканцев против них, уже не существуют, существует только одно общее
обеим сторонам стремление поддержать республику. Ясно было, что
вчерашние враги должны были теперь искать сближения между
собою; ясно, что умеренные республиканцы должны были постараться
прекратить борьбу с ними. И каков будет результат, если борьба
продолжится до истребления противников? Подавлен будет класс,
который один предан республиканской форме, — она останется
беззащитна, она падет, и с нею умеренные республиканцы погибнут сами.
Продолжение борьбы было гибельно для них. Они должны были
искать примирения с укрощенными ныне вчерашними противниками.
Они не только не сделали этого, они отвергли просьбу о
примирении или хотя просто о пощаде, с которой пришли к ним
инсургенты.
Это было в ночь с 25 на 26 июня. К президенту Национального
собрания Сенару и к Кавеньяку явилась депутация инсургентов, она
говорила, что инсургенты сдадутся, если им дана будет амнистия.
Кавенъяк
267
Умеренные республиканцы отвечали устами Сенара и Кавеньяка, что
это предложение — глупость, что покорность от инсургентов только
тогда может быть принята, когда они сдадутся безусловно, на жизнь
и на смерть. «Иначе нечего и хлопотать вам, являться ко мне, — сказал
Кавеньяк депутации. — Я отвергаю всякие другие предложения».
Инсургенты могли ошибаться в значении слов «безусловная сдача
на волю победителей»: быть может, умеренные республиканцы после
этой сдачи оказались бы милостивее, нежели были до сих пор; но
инсургентам натурально мог представляться в их требовании только
один смысл, слишком ясно показанный в два предыдущие дня
беспощадным употреблением картечи, расстреливанием инсургентов,
попадавших в плен, убийствами людей безоружных, стариков и женщин,
неистовствами подвижной гвардии. Они в ответе Сенара и Кавеньяка
не могли видеть ничего иного, как требование идти под военный суд,
по законам которого каждый инсургент подвергался расстрелива-
нию. Умеренные республиканцы должны были знать, что иначе не
может быть понято их требование. Отвергая просьбу о прощении,
они сами говорили инсургентам: «Теперь вам не остается уже ничего,
•кроме как биться до последней капли крови, потому что пощады вам
не будет».
То и случилось, к чему принуждали они этим инсургентов. На
следующее утро (26 июня) с прежней беспощадностью возобновилась
битва и кончилась в половине второго часа пополудни так, как
желали умеренные республиканцы, совершенным подавлением
инсургентов.
Истребляемые в Париже, они бежали из города, рассеялись
по окрестностям. Повсюду были посланы команды ловить их. Их
находили прятавшихся в лесах, скитающихся по полям, и скоро
парижские тюрьмы переполнились пленными, переполнились ими казармы
парижских фортов, все укрепленные здания в Париже, так что,
наконец, пришлось даже набить ими подземный ход, который вел из Тю-
льери к Сене и который устроил себе на случай бегства Луи-Филипп.
Число этих военнопленных простиралось до 14 000 человек.
Они все были отданы под военный суд, почти все приговорены
к ссылке, но еще до судебного приговора было уже сделано
распоряжение о ссылке их: они были переведены на понтоны для
отправления в ссылку. Можно вообразить себе, каков был военный суд при
таких наклонностях умеренных республиканцев при таком громадном
268
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
числе подсудимых, — это было то, что называется по-французски
суд на скорую руку, justice sommaire. Нечего говорить о том, много
ли было захвачено людей совершенно понапрасну, по ошибке;
нечего говорить о том, много ли из этих арестантов, нимало не
прикосновенных возмущению, было оправдано и много ли осталось по-
прежнему арестантами...
Само собою разумеется, что общественное мнение, возмущенное
этой ссылкой целой массы народа, массы, уже отправленной на
понтоны без всякой формы суда, скоро принудило умеренных
республиканцев к уступкам. Мало-помалу стали выпускать с понтонов одну
партию пленных за другой, но все еще по прошествии целого года
оставалось на понтонах несколько тысяч человек
Ни Орлеанское, ни Бурбонское правительство не доходило до
такого произвола. С того времени, как Наполеон в начале своего
владычества без суда отправил в ссылку людей, ему опасных, не бывало
во Франции подобных примеров. Но и наполеоновская ссылка была
ничтожна перед этой произвольной мерой: тогда подвергнуты были
произвольному наказанию всего сто, полтораста человек, теперь
подвергались многие тысячи людей.
Таким-то образом началась диктатура Кавеньяка и полное
владычество умеренных республиканцев во Франции. Они утвердились
беспощадной победой в ужаснейшей из всех междоусобных битв,
когда-либо заливавших Париж кровью; победа была завершена
чудовищной ссылкой в противность всем понятиям о правосудии.
Надобно ли говорить, что в этой ссылке еще более, нежели даже
в самой беспощадности битвы, выразилась неспособность
умеренных республиканцев понимать свое положение, их
непредусмотрительность и бестактность? Государственным человеком достоин
называться только тот, в ком благоразумие господствует над
увлечениями страстей; но если мы даже извиним ослепление страстью во время
борьбы, то, по крайней мере, по достижении совершенной победы
рассудок должен вступать в свои права. Пусть умеренным
республиканцам казалось нужно не только усмирить, но и совершенно
обессилить работников. 26 июня это было сделано, и военные соображения
должны были уступить место правительственным. Самое основное
правило политического благоразумия говорит, что при внутренних
раздорах победоносная сторона может укреплять свое господство
только снисходительностью к побежденной, — так действовали все
Кавенъяк
269
истинно государственные люди, от Юлия Цезаря до Наполеона.
Умеренные республиканцы не понимали этого. Если бы после своего
полного торжества они дали амнистию побежденным, уже
переставшим быть для них опасными, они прикрыли бы этой мантией
милосердия многие свои ошибки, привлекли бы к себе многих,
отчужденных междоусобием. Они этого не сделали, и озлобление, вселенное
ожесточением битвы и ужасами победы, раздражалось и усиливалось
холодной неуместностью напрасного мщения над людьми, которые
уже не могли быть вредны победителям.
Таково было положение дел, когда умеренные республиканцы
с диктатурой Кавеньяка приобрели безграничную власть во
Франции. Ужасен и противен всем понятиям, — не говорим уже
законности или гуманности, но всем понятиям обыкновенного
житейского смысла, — был путь, который привел их к этому господству. Все,
в чем некогда обвиняли они предшествовавшие правительства, было
совершено ими в громаднейших размерах. Убийства в Т]эанснонен-
ской улице, апрельские судебные преследования77, за которые они
так осуждали Орлеанское правительство, были ничтожной шуткой
сравнительно с июньскими убийствами, расстреливаниями и
ссылкой целых масс. Если бы кто-нибудь сказал умеренным
республиканцам накануне февральских событий, что они совершат такие дела для
сохранения власти, которую тогда готовились они приобрести, они
с негодованием отвергли бы такое предсказание как нелепый бред.
А между тем все совершившееся в июне было неизбежным
следствием той системы, которая привела их к февральскому торжеству. Если
бы предусмотрительность их не была помрачена политической
страстью, они в начале 1848 года видели бы, что начинают игру слишком
двусмысленную и страшную, — игру, которая необходимо приведет
их в случае успеха к зверскому истреблению людей, которых они
тогда призывали на помощь себе.
Сами они были малочисленны и слабы в начале 1848 года. Они
одни не могли ничего сделать против Орлеанского правительства,
которое хотели низвергнуть. Они вздумали вступить в союз с
работниками и силой этого класса достигли своей цели.
Но чем они могли возбудить работников? Работники желали не
перемены политических форм, а преобразований, которыми
улучшилось бы их общественное положение. И вот республиканцы
уверили их, что эти улучшения будут произведены республикой. Такой
270
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ценой приобрели они союз. Но могли ли они в самом деле исполнить
свои обещания? Нет, желания работников признавали они
несбыточными, гибельными химерами. При этом благоразумен ли был союз?
Он основывался на самообольщении с обеих сторон. Работники
думали получить себе удовлетворение через людей, которые, в
сущности, были так же враждебны их желаниям, как Шзо и Дюшатель.
Умеренные республиканцы воображали, что удержать работников им
будет так же легко, как и возбудить их. Известно, каковы всегда бывают
результаты союзов, основанных на том, что один союзник надеется
достичь цели, которая отвергается другим; эти союзы ведут к
смертельной вражде между союзниками. Так было и тут. Возбуждая
надежды, которых не могли удовлетворить, умеренные республиканцы
должны были знать, что им придется отвергать требования, которым
они льстили. В этих требованиях работники видели вопрос о жизни
и смерти для себя — нельзя было не угадать, что для отвержения этих
требований нужна будет смертельная битва против работников.
Но формалисты ничего не предвидят. Умеренные республиканцы
легкомысленно повели в феврале против Орлеанского правительства
людей, с которыми еще гораздо менее могли ужиться в согласии,
нежели с Орлеанским правительством. Если бы они предвидели июнь,
они отказались бы от вражды против Орлеанского правительства
в феврале.
История возвышения партии умеренных республиканцев
представляется поразительным примером того, как неизбежно
осуществляется историей правило, внушаемое здравым смыслом и так часто
забываемое в увлечении политических страстей: нужно подумать
о том, каковы существенные желания людей, прежде нежели искать
их содействия. Если бы работники и республиканцы понимали друг
друга, они ни в коем случае не начали бы вместе действовать против
Орлеанского правительства, потому что между ними было
противоречие еще более важное, нежели причины их недовольства
министерством too.
Союз их был ненатурален, он привел к нелепости, — нелепость
в исторических действиях ведет к событиям, гибельным для страны.
Правда и то, что противоестественный союз между партиями,
смертельно враждебными по сущности своих желаний, был
произведен столь же противными здравому смыслу действиями Гизо, его
покровителей и партизанов. Только самообольщение Орлеанской
Кавеньяк
271
системы породило самообольщение в противниках, — это очевидно
для всякого, кто припоминает историю времен, предшествовавших
во Франции февральским событиям, и первая вина за ужасы,
совершенные после того, падает на людей, которые довели дела Франции
до нелепого положения, породившего февральские события. Здесь не
место доказывать это, — мы хотели только изложить, каким рядом
обманов и насилий умеренные республиканцы должны были
выпутываться из того фальшивого положения, в которое стали для
низвержения Орлеанской системы, какие нелепости и ужасы были
необходимым условием утверждения их власти над Францией. Теперь нам
должно рассказать вторую половину их истории; мы знаем, каким
образом достигли они власти, теперь посмотрим, каким образом
потеряли они власть; за возвышением их быстро последовало падение,
и мы увидим, что падение было неизбежным следствием тех
фальшивых или жестоких средств, которыми они достигли власти, и той
несоответственности их убеждений с потребностями французского
общества, которая с самого начала делала для них невозможным
прямой и самостоятельный образ действий.
II
Июньская победа передала в руки умеренных республиканцев всю
правительственную власть над Францией. Ужасным путем достигли
они до этого торжества, и мы видели, что неизбежен был для них
этот путь после той основной ошибки, которая сделана была в начале
1848 года умеренными республиканцами и парижскими
работниками. Две партии, стремления которых были непримиримо
противоположны, соединились тогда между собой для низвержения
противников, которые по своим убеждениям гораздо менее разнились
от умеренных республиканцев, нежели умеренные республиканцы
от своих союзников. Результатом обманчивого союза на словах при
полнейшем разногласии в желаниях была неизбежная необходимость
двум на время слившимся партиям тотчас после одержанной в союзе
победы вступить между собою в борьбу гораздо более серьезную,
нежели та, в которой общими силами они низвергли Орлеанскую
систему Фальшивые исторические положения всегда дорого обходятся
государству, но иногда бывают выгодны для тех, которые ставят в них
государство, — это тогда, когда одна из партий, вступающих в обман-
272
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
чивый союз, хитрит и коварствует. Но тут обе партии действовали не
по хитрому расчету, а по соображениям по всей своей ошибочности
прямодушным, и потому обе проиграли от ошибки, в которую одна
увлечена была другою. Парижские работники за союз с умеренными
республиканцами расплатились тем, что надолго остались без куска
хлеба и тысячами погибли в битве, тысячами были брошены в
темницы. Умеренные республиканцы поплатились тем, что пробудили
ненависть к себе во всех тех классах населения, любовью которых
дорожили.
Очень трудно было положение умеренных республиканцев после
июньских дней, хотя вся правительственная власть была в их руках.
Сами по себе они были малочисленны и слабы; они могли держаться,
только опираясь на другие партии, которые тогда все сливались в два
большие лагеря, почти поровну делившие между собою все
народонаселение Франции.
С одной стороны соединились в одну массу все те партии, идеал
которых был не в будущем, а в прошедшем. Некогда они распадались
на враждебные партии легитимистов и орлеанистов, смертельно
ненавидящие друг друга. Но теперь вражда их умолкла под грозою,
одинаково страшной для всего, чем дорожили все они одинаково.
В прежнее время был между ними спор о том, классу земледельцев
или классу капиталистов владычествовать во Франции, фамильным
преданиям с придворными нравами и феодальными стремлениями
или промышленной спекуляции с биржевыми правилами и узким
либерализмом хитрого эгоизма. Теперь тот и другой интерес
подвергался одинаковой опасности, и для своего спасения оба они слились
в один интерес — интерес возвращения господства над законами
и администрацией тому, что называется превосходством по
имуществу или значительностью в обществе. Люди, которым лично
выгодно это возвращение, немногочисленны во Франции, как и везде они
немногочисленны. Но тогда во Франции, как почти всегда во всех
странах каждый из них имел за собой более или менее значительное
число клиентов, привыкших слушаться или поставленных в
необходимость повиноваться ему. Так за капиталистами шли очень многие из
людей, зависевших от них по промышленным делам, и голосу их
следовало большинство в сословии торгующих людей и рентьеров, хотя
эти маленькие люди, если бы ясно сознавали свои выгоды, могли бы
заметить, что биржа и банкиры вовсе не представляют их интересов.
Кавеньяк
273
За большими землевладельцами во многих провинциях шли
поселяне; по воспоминаниям феодальных времен и по ультрамонтанским
стремлениям заодно с большими землевладельцами было
католическое духовенство, пользовавшееся очень значительным влиянием
на поселян. Таким образом лагерь, желавший восстановления старого
порядка, располагал очень значительными силами.
С другой стороны были люди, желавшие, как мы говорили,
изменений в материальных отношениях сословий, желавшие
законодательных и административных мер для улучшения быта низших
классов. Естественно было бы полагать, что вся масса простолюдинов
станет на этой стороне. Но знание о новых мерах, предполагавшихся
в их пользу, было распространено только между простолюдинами
больших городов. Поселянин во Франции ничего не читал, почти
не встречал образованных людей, которые рассказали бы ему, в чем
дело. Потому реформаторы имели на своей стороне только
городских простолюдинов; из сельского населения, погруженного в
совершенное незнание, большая половина следовала за своими обычными
авторитетами — землевладельцами и духовенством, и только в
немногих, ближайших к большим городам округах поселяне
сочувствовали идеям городских простолюдинов.
Посредине между этих двух огромных лагерей стояла
немногочисленная армия умеренных республиканцев. С тем и другим станом
были у ней сильные причины к несогласию, но с тем вместе и важные
точки соприкосновения, подававшие возможность к сближению.
От партий, желавших сохранения общественного быта в прежнем
его виде, умеренные республиканцы разделялись воспоминаниями
жестокой вражды с конца прошлого века до низвержения
Орлеанской системы. Еще важнее было разногласие в мнениях о форме
правительства. Реакционеры ужасались слова «республика» — не потому,
что в самом деле были искренними монархистами, а просто потому,
что представляли республику осуществлением безграничной
демократии.
От реформаторов умеренные республиканцы отделялись также
воспоминаниями о борьбе, которая была менее продолжительна,
но еще более жестока, нежели борьба с реакционерами; притом же
и воспоминания эти были свежее; последний и самый страшный акт
борьбы только что совершился, и продолжались еще его последствия:
осадное положение, арест нескольких тысяч человек, стеснение газет
274
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
и т. д. О коренном разногласии в идеях мы уже говорили: умеренные
республиканцы хотели остановиться на изменении политической
формы, реформаторы утверждали, что оно ничего не значит без
изменения в сословных отношениях, которое умеренные
республиканцы вместе с монархистами называли нелепой и гибельной химерой.
Причины к раздору были, как видим, чрезвычайно важны. Но
отношения между тремя лагерями по материальной силе были таковы,
что ни один сам по себе не мог управлять Францией нормальным
и прочным образом, — получить решительный перевес в обществе
могла каждая из трех главных партий не иначе, как в союзе с
другой. Впоследствии времени были заключаемы такие союзы, —
значит, они были возможны, несмотря на всю силу взаимных
несогласий. Так в конце 1849 года умеренные республиканцы действовали
дружно с реформаторами против реакционеров, а позднее — заодно
с монархистами против Луи-Наполеона. Но тот и другой союз был
слишком позден. Вовремя враждебные партии не хотели и слышать
о прекращении борьбы, которая поочередно погубила их. Теперь
нас занимает история умеренных республиканцев; потому,
оставляя в стороне ошибки, сделанные другими партиями, мы посмотрим
только, какие ошибки были причиной низвержения этой партии
и какими мерами было бы возможно ей предотвратить несчастие,
постигшее Францию.
В половине 1848 года все люди всех партий одинаково
чувствовали, что первой необходимостью для Франции было учреждение
прочного правительства. Прочность не зависела тут от имени и
формы, а единственно от того, чтобы партия, которая управляла бы
государством, имела бы на своей стороне решительное и прочное
большинство в нации. Ни одна из партий, взятых в отдельности, не имела
этого большинства, и всего менее могли обольщаться в этом случае
умеренные республиканцы, на каждом шагу получавшие
доказательства своей малочисленности. Кратчайшим путем к получению
поддержки большинства был бы для них прямой союз с одной из двух
многочисленных партий. На каких условиях был возможен тогда
этот союз?
Реакционеры ужасались слова республика вовсе не потому,
чтобы были искренними монархистами; они скоро примкнули к Луи-
Наполеону, сопернику Бурбонов и Орлеанского дома. Истинной
привязанности к монархической форме у большей части из них было так
Кавеньяк
Hb
мало, что они с удовольствием согласилась бы на республику, если
бы только сохранилось в этой республике преобладание высших
классов. От республиканской формы умеренные республиканцы не
могли бы отказаться ни в каком случае, но этой уступки пока от них
и не требовалось бы; возможна ли была уступка, которая
действительно требовалась реакционерами? Умеренные республиканцы имели
чрезвычайное пристрастие называть себя демократами; вот именно
эта-то прибавка к слову республиканец и возмущала реакционеров:
а между тем был ли в этой прибавке какой-нибудь реальный смысл?
Было ли практическое значение? По правде говоря, вовсе нет. Гордясь
именем демократов, умеренные республиканцы гнушались именем
демагогов, а демагогами называли всех тех, которые хотели
действовать возбуждением масс для достижения целей, сообразных с
выгодами масс. Какой же реальный смысл оставался после того за именем
демократ? Тот, что умеренные республиканцы не хотели допустить
такого преобладания аристократических элементов, какое видели
в Англии; им больше нравилось устройство Северо-Американских
Соединенных Штатов. Но во Франции аристократические элементы
вовсе не имеют той силы, как в Англии, и далеко не имели в 1848 году
притязания сделать из Франции Англию; все, чего, в сущности,
желали они, ограничивалось спокойствием на улицах и сохранением
прежних сословных отношений. В сущности того же самого желали
и умеренные республиканцы. К чему же после того было умеренным
республиканцам так шумно кричать о своем демократизме, запугивая
этим громким словом добрых людей, не замечавших, что демократ
становится пустейшим и бессильнейшим из людей, как скоро
придумывает разницу между демократизмом и демагогией?
Нерасчетливо было со стороны умеренных республиканцев отталкивать от себя
реакционеров словом без реального значения; нерасчетливо было и
со стороны реакционеров из-за пустой парадной похвальбы
отстраняться от людей, у которых за душой не было в сущности ничего
непримиримого с тогдашними потребностями реакционеров.
Та и другая партия забывали об одинаковости своих настоящих
желаний из-за споров об именах и исторических воспоминаниях.
Они могли бы действовать дружно, но не хотели того. Реакционеры
непременно хотели низвергнуть умеренных республиканцев из-за
их пустой претензии на демократизм. Если умеренные
республиканцы никак не решались отказаться от пустого слова для привлечения
276
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
на свою сторону реакционеров, то не могли ли они вступить в союз
с реформаторами?
Тут недоразумение было еще нелепее. Умеренные республиканцы,
восхищаясь своим ровно ни в чем дельном не состоявшим
демократизмом, еще с большим усердием кричали, что хотя они и демократы,
но презирают и ужасаются демагогов. Крик о демагогах был так
шумен и производился с таким серьезным выражением лица, как будто
в самом деле в 1848 году Франции угрожали какие-нибудь
Иоганны Лейденские и Томасы Мюнцеры или по крайней мере Дантоны.
А на самом деле, каковы бы ни были идеи реформаторов, но сами
реформаторы никак не должны были бы внушать ужаса, —
справедливы или ошибочны, практичны или неосуществимы были их
мнения, но сами по себе эти люди нимало не походили на возмутителей,
опасных для спокойствия парижских улиц. Это были люди не
уличных волнений, а ученых рассуждений в тишине кабинета,
заваленного головоломными книгами; даже говорить в многочисленном
обществе очень немногие из них были способны, и почти каждый из них
был силен только с пером в руке, за письменным столом. Действия
таких людей не могли, в сущности, представлять ничего опасного
для материального порядка. Но, быть может, их мнения и требования
были неудобоисполнимы или опасны?
Об их общих теориях мы не хотим здесь говорить потому, что
не их партия служит предметом нашей статьи: мы должны показать
только их отношения, в последней половине 1848 года, к партии,
главой которой был Кавеньяк. После июньских дней те силы, которыми
могли бы осуществляться теории реформаторов, были сокрушены
и надолго уничтожена всякая надежда реформаторов иметь
правительственную власть. Дела приняли такой оборот, что надобно было
ждать чрезвычайного влияния реакционной партии на ход событий.
Требования реформаторов не простирались уже до того, чтобы их
теории приводились в исполнение правительством; они почли бы себя
чрезвычайно счастливыми уже и тогда, если бы хотя половина тех
обещаний, которые два-три месяца тому назад давались не только
умеренными республиканцами, но и реакционерами, была
исполнена. И тут были громкие слова, служившие предметом споров,
например «право на труд», но под громкими словами скрывались теперь
требования самые скромные: хотя сколько-нибудь действительной
заботливости со стороны правительства о помощи стесненному
Кавеньяк
111
положению низших классов, и реформаторы были бы довольны.
Не только умеренные республиканцы, но и все рассудительные люди
между реакционерами были убеждены в необходимости
позаботиться об улучшении быта низших классов. В большинстве и умеренных
республиканцев и даже реакционеров это убеждение было не
только внушением расчета, но и искренним желанием. Кроме немногих
нравственно-дурных людей, все желали позаботиться о
распространении образования между простолюдинами, об улучшении их
квартир, об улучшении мелкого кредита, к которому они прибегают,
об избавлении их от ростовщиков и т. д. Между умеренными
республиканцами не было ни одного, который не имел бы этих желаний,
а серьезной заботы об исполнении этих желаний было бы довольно
для приобретения поддержки со стороны реформаторов. Но вместо
того, чтобы заботиться о вещах, которые всем казались и полезны
и практичны, умеренные республиканцы предпочли спорить против
разных призраков и проводили время в опровержении требований,
которых никто не предлагал, но существование которых
предполагалось умеренными республиканцами. Самая простая, самая легкая
мера вызывала против себя крики о невозможности и опасности,
потому что под нею всегда предполагалась какая-нибудь громадная
теория. Призрак материальной демагогии, за которую не хотел или
не был способен приниматься ни один из реформаторов, и призрак
утопических теорий, которых никто не хотел приводить в
исполнение в тогдашнее время, — эти нелепые призраки не давали
умеренным республиканцам и подумать о союзе с реформаторами, которых
им угодно было воображать себе сумасшедшими людоедами.
Таким образом, по существенному положению серьезного дела
умеренным республиканцам был бы возможен союз с каким угодно
из двух враждебных лагерей, разделявших между собою население
Франции. Но отчасти воспоминание о прежних причинах вражды,
отчасти громкие слова, пугавшие воображаемым значением,
которого не имели, препятствовали сближению. Вероятно, если бы
в партии умеренных республиканцев предводители были великими
государственными людьми, эти затруднения были бы устранены
своевременно, и партия умеренных республиканцев приобрела бы
прочную опору себе или от реакционеров, или от реформаторов,
смотря по тому, с каким из этих лагерей нашла бы она более точек
одинаковости в стремлениях. Нам кажется, что если бы умеренными
278
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
республиканцами руководили такие люди, как Ришелье, Штейн или
Роберт Пиль, то она предпочла бы сближение с реформаторами.
Несмотря на всю жестокость июньских битв и следовавших за ними
проскрипций, реформаторы легче, нежели реакционеры,
согласились бы поддерживать умеренных республиканцев: после
июньских дней реакционеры стали так самонадеянны, что внушали уже
чрезвычайно серьезные опасения реформаторам, и таким образом
самая жестокость поражения, нанесенного реформаторам
умеренными республиканцами, заставляла этих последних быть склонными
к поддержке победителей, за которыми выказывались грозные
полчища людей, одинаково враждебных и побежденным, и победителям.
Но в партии умеренных республиканцев недостало государственного
благоразумия на вступление в решительный союз ни с той, ни с
другой из партий, имевших наиболее существенного могущества. Они
вздумали держаться собственными силами. Ошибка эта была очень
важна; она основывалась на странном самообольщении
относительно своих сил. Умеренные республиканцы как будто не знали, что их
образ мыслей, основанный на теоретических соображениях, а не на
материальных сословных выгодах и потребностях, по
необходимости может иметь своими последователями только небольшое число
тех людей, которые действуют в жизни не по требованию житейских
интересов, а по правилам отвлеченной теории; они воображали, что
умозаключения, а не интересы руководят людьми. От людей,
впадавших в такое отвлеченное заблуждение, едва ли можно ожидать
ловкого практического образа действий; но если бы они действовали
практично, то могли бы даже без союза с сильнейшими партиями
сделать очень многое для утверждения своих идей в государственной
жизни французской нации.
Положим, что они были совершенно неисправимы в основном
своем заблуждении, в том, что считали себя гораздо более
многочисленными, нежели как были на самом деле; но все-таки они очень
хорошо знали, что слишком значительная часть народонаселения
Франции не сочувствует их политическим мнениям. Они должны
были употребить все заботы, чтобы увеличить число своих
приверженцев. Приобретать прозелитов своим убеждениям вовсе не так
легко, как находить союзников своим интересам; но все-таки искусный
государственный человек может довольно быстро распространить
свои понятия в массе, если будет заботиться об удовлетворении тех
Кавенъяк
279
материальных потребностей нации, которые не противны его
убеждениям. Умеренные республиканцы имели в своих руках
правительственную власть и при малейшем искусстве в парламентской тактике
могли верно рассчитывать на поддержку большинства в
Национальном собрании; это было уже очень важное преимущество. Несколько
месяцев им оставалось для того, чтобы укрепиться в занимаемом ими
положении, и если бы они сумели воспользоваться этим временем,
они могли бы утвердиться довольно прочно. Люди, которые,
управляя делами несколько месяцев, не будут в конце их гораздо сильнее,
нежели были в начале, неспособны управлять делами.
Не вступая в союз с многочисленнейшими партиями, умеренные
республиканцы не должны были надеяться на помощь от людей,
предводительствовавших этими партиями; но масса никогда не имеет
непоколебимых и ясных политических убеждений; она следует
впечатлениям, какие производятся отдельными событиями и
отдельными важными мерами. Эту массу могли бы привлечь к себе умеренные
республиканцы, если бы позаботились о том, чтобы их управление
производило выгодные впечатления на массу и удовлетворяло тем ее
желаниям, которые могли они исполнить, не изменяя своему образу
мыслей.
Государственный бюджет всегда составляет одну из самых общих
и сильных причин довольства или недовольства в массах. Франция
жаловалась на обременительность податей; особенно силен был
общий ропот против обременительных налогов на соль и на вино и
против пошлин, собираемых в городах с съестных припасов (octroi).
С самого Наполеона непрерывно шел этот ропот; каждое
правительство, заботясь при своем начале о популярности, обещало отменить
налоги на соль и вино; ни одно не считало потом нужным сдержать
это обещание, и при каждом перевороте одной из сильнейших
причин того глухого неудовольствия, которое предшествовало
волнению, был ропот на эти налоги. Соль и вино участвовали в падении
Наполеона, Бурбонов и Орлеанской династии. Уничтожить
городские пошлины с провизии было бы не менее полезно: пока на них
роптали только горожане, но зато от горожан зависела прочность
правительства еще больше, нежели от поселян; притом, если
существование этих пошлин не беспокоило поселян, то уничтожение их
скоро было бы признано за благодеяние и поселянами, потому что
увеличилось бы тогда потребление мяса, хлеба и т. д. в городах, стало
280
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
быть, развилась бы торговля сельскими продуктами. Налоги на соль
и вино доставляли государству около двухсот миллионов франков,
и при огромности французского бюджета было бы легко произвести
эту экономию; если же не хотели сокращать государственных
расходов, то желания масс указывали источник, из которого было бы легко
с избытком получать эти двести миллионов. Как обременительны
казались налоги на вино и соль, так, напротив, чрезвычайно популярно
было бы учреждение подати с капитала или с дохода. Ничем нельзя
было бы в делах финансовых так угодить массе народа, как
обращением косвенных налогов в прямые. Пошлины с съестных припасов
поступали в городские доходы, — эти пошлины также легко было бы
заменить прямыми налогами.
Кроме постоянных налогов, чрезвычайный ропот был возбужден
нелепым временным увеличением поземельного налога на 1848 год.
Этот временный добавочный налог равнялся почти половине
основного налога и по смете должен был доставить до двухсот миллионов
франков, но на деле доставил гораздо менее, потому что никто не
хотел его платить. В первой статье мы уже упоминали, что он был одной
из главных причин реакции, обнаружившейся против февральского
переворота. Надобно было отменить эту неудачную меру через
несколько дней после февральской революции, придуманную одним из
умеренных республиканцев, Гарнье-Паже.
Эти облегчения были бы необходимы даже в том случае, если бы
умеренные республиканцы не хотели сокращать государственных
расходов, — в таком случае надобно было бы, как мы говорили,
заменить уничтоженные косвенные налоги прямыми; но народные
желания требовали значительного сокращения бюджета, который
был доведен до страшных размеров расточительным
управлением Луи-Филиппа, при котором в течение 18 лет государственные
расходы и вместе с ними подати увеличились вдвое. Из 1 800
миллионов франков надобно было бы довести расходы не более как
до 1 200 миллионов. Благоразумные политико-экономисты видели
в этом государственную необходимость. Умеренные республиканцы
признавали справедливость их слов, но ничего важного не сделали
для исполнения этой необходимости.
Другим общим желанием дельных людей всех партий было от-
менение тех излишеств административной централизации, которые
обременяли чиновников и самым утомительным образом стесняли
Кавеньяк
281
деятельность частного человека, ровно никому не принося пользы и
ни для чего не будучи нужны. Чтобы починить какой-нибудь дрянной
мост через ручей в каком-нибудь селе, надобно было испрашивать
разрешения от министра. Постройка домов, мощение улиц — для
всего этого нужны были позволения и предписания от парижского
правительства. Умеренные республиканцы, конечно, понимали
неудобства этого порядка, связывавшего всю Францию, сами реакционеры
говорили об этом благоразумно. Но и тут ничего не было сделано.
Стеснительные меры, казавшиеся необходимостью после
июньских событий, лишали умеренных республиканцев популярности
при начале управления Кавеньяка. Ни одна из тех мер, которые мы
сейчас перечислили и которые могли бы уменьшить эту
непопулярность, не была принята правительством умеренных республиканцев
в продолжение трех или четырех месяцев, следовавших за
учреждением их правительства. Быть может, достаточным извинением тому
могли быть бесчисленные хлопоты и затруднения, в которые
впутывалось новое правительство; во всяком случае, умеренные
республиканцы надеялись через несколько времени продолжать свое
управление лучше, нежели начали его. Они надеялись раньше или позже
приобрести популярность, которой лишены были летом и осенью
1848 года. Таким образом, по их собственному мнению, весь вопрос
состоял в том, чтобы удержать за собою власть до той поры, когда
приобретется ими популярность. Выиграть время — для них было бы
выиграть дело.
Было несколько средств для них продлить свою власть. Она
вручена была Кавеньяку временным образом от Национального собрания,
и Национальное собрание сначала не хотело торопить его
прекращением этого положения. Зная свою непопулярность в настоящее
время, умеренные республиканцы могли бы прибегнуть к средству,
которое надолго упрочило бы их тогдашнее положение и даже
сделало бы их любимцами народа. Точно так же, как и все французы,
они чувствовали желание, чтобы Франция заняла в Западной Европе
то первенствующее положение, которым пользовалась при
Людовике XIV и при Наполеоне. Они считали унижением для Франции
трактаты 1815 года78. Соседние страны представляли много удобных
случаев для начатия войны на Рейне или в Италии. Италия нуждалась в
помощи французов против австрийцев. Прирейнские области Пруссии
и все государства западной Германии находились в таком волнении,
282
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
что французская армия могла явиться в Германию союзницею одной
из партий, готовившихся вооруженною рукою решать спор о
сохранении или изменении порядка дел в Германии. Нет сомнения в том,
что и та и другая война пошла бы удачно для Франции. Слава,
которую приобрело бы правительство, польстив победами национальной
гордости, придала бы ему и прочность и популярность. Но и на войну
не решились умеренные республиканцы. Но, не принимая никакой
решительной меры, Кавеньяк и его друзья давали проходить одному
месяцу за другим, пока уже поздно было вознаграждать потерянное
время. Чего же ждали они и на что надеялись? Они, кажется,
воображали, что все устроится по их желанию одним магическим действием
тех громких слов, в неотразимую очаровательность которых они
верили; они, кажется, предполагали, что Франция находит их людьми
необходимыми, потому что они сохраняют порядок и с тем вместе
защищают слово республика, как будто бы слово республика могло
восхищать само собою кого-нибудь, кроме немногочисленных и
бессильных теоретиков, и как будто реакционеры не считались гораздо
лучшими ревнителями порядка, нежели республиканцы.
Наконец был еще один путь для удержания власти: можно было
сохранять свое владычество при помощи практической силы,
отстраняя формальное выражение национальных желаний. Умеренные
республиканцы могли говорить, что партии, разделяющие между
собою Францию, находятся в такой вражде между собою, из которой
снова легко может возникнуть междоусобная война при первом
поводе к тому (и это была бы правда); что потому официальные
проявления народной жизни, слишком волнующие массу, как, например,
государственные выборы и особенно выбор президента республики,
должны быть отложены на некоторое время, пока умы успокоятся.
Они не сделали этого, не умели вовремя предвидеть результата, к
которому приведет выражение народных симпатий и антипатий при
тогдашней перепутанности понятий.
Умеренные республиканцы не имели столько благоразумия,
чтобы отсрочить на год или полтора года выбор президента республики.
Но когда обнаружилось, что их кандидат Кавеньяк не имеет
вероятности быть избранным, у них оставалось еще средство в
значительной степени уменьшить вредные для них последствия этой ошибки.
Они уже предвидели, что исполнительная власть перейдет в руки
кандидата противных им партий. Но в Национальном собрании, у ко-
Кавеньяк
283
торого законодательная власть могла оставаться еще очень надолго,
большинство принадлежало им. Политический расчет должен был
говорить им, что следует как можно более увеличить влияние
законодательной власти и как можно более подчинить ей
исполнительную. Они не сделали и этого, пожертвовав и собственными выгодами,
и спокойствием государства отвлеченному соображению о том, что
исполнительная власть должна быть сильна и независима.
При самых благоприятных обстоятельствах не могла бы удержать
за собою власти партия, действовавшая так непредусмотрительно
и нерешительно. В несколько месяцев постепенно исчезло то
могущество, которое было утверждено за умеренными республиканцами
июньской победой. Напрасно было бы винить в том обстоятельства:
если много было в них затруднительного и неблагоприятного, то
еще больше было выгодного для умеренных республиканцев; сами по
себе они были довольно слабы, но у них в руках было все то
могущество, которое дается государственной властью; притом же все другие
партии, хотя и более многочисленные, были в то время еще слабее
умеренных республиканцев; одни из них были поражены в июне,
другие в феврале, и ни одна не успела еще оправиться после
поражения. Их слабость доходила до безнадежности, и ни одна не
отваживалась даже и предъявлять притязаний на то, чтобы заступить
место умеренных республиканцев в управлении государством. И когда
пришло время борьбы за власть, единственным опасным соперником
умеренных республиканцев явился кандидат, тогда еще не имевший
никакого самостоятельного политического значения и обязанный
своим успехом преимущественно тому, что его поддерживали люди,
в сущности, столько же враждебные ему, как и умеренным
республиканцам, — поддерживали оттого, что считали его еще гораздо более
слабым, нежели были сами. При таком бессилии соперников легко
было бы надолго удержать за собою власть умеренным
республиканцам, если бы они были хотя сколько-нибудь практическими людьми.
Но за блеском и шумом своих отвлеченных формул они не видели
и не слышали ничего, и каждое событие было для них
неожиданностью, которой они беззащитно уступали до тех пор, пока, наконец,
были совершенно оттеснены от власти, которою не умели
пользоваться.
Таков общий характер событий французской истории с конца
июня до конца ноября 1848 года. Краткий обзор этих событий под-
284
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
твердит старую истину, что непредусмотрительность и
нерешительность в государственных делах гибельны бывают и для государства
и для людей, не умеющих пользоваться властью.
По укрощении восстания, Кавеньяк явился в Национальное
собрание и объявил, что возвращает ему ту диктаторскую власть,
которую получил от него на время битвы. Собрание решило, что
опасность еще продолжается, и потому просило Кавеньяка оставаться
главою правительства, предоставив ему право по своему усмотрению
составить министерство. Выбором министров и других важнейших
сановников Кавеньяк и умеренные республиканцы, им
руководившие, показали, какими ошибочными соображениями руководились
они, когда решили, что диктатура должна быть продолжена.
Большинство министров было взято из умеренных республиканцев,
но некоторые важнейшие посты были вверены людям из старинных
партий, управлявших Франциею с 1815 до 1848 года. Военным
министром был сделан Ламорисьер, друг принцев Орлеанского дома.
Этот выбор не был, впрочем, опасен для республики: человек
честный, Ламорисьер не интриговал против правительства, участником
которого был. Гораздо больше опасности представляло назначение
генерала Шангарнье комендантом парижской национальной
гвардии: Шангарнье всячески хлопотал о восстановлении системы,
разрушенной в феврале, и был известен неумеренностью своих
реакционных стремлений. Выбор его на столь важное место доказывал, что
умеренные республиканцы хотят опираться на реакционеров, что
свою диктатуру они хотят направить исключительно против
реформаторов, которых одних считают опасными для государственного
порядка.
Это прямо обнаруживалось речами и действиями умеренных
республиканцев в Национальном собрании, о котором пора нам
сказать несколько слов, потому что с июля до половины ноября от его
решения зависели все важнейшие дела.
Из девятисот «представителей народа», составлявших
Национальное собрание, до 350 человек принадлежали разным реакционным
партиям. Они сидели на правой стороне зала. Около 300 человек,
сидевшие в центре, несколько ближе к левой, нежели к правой стороне,
были умеренные республиканцы. Наконец левую сторону занимали
крайние республиканцы и реформаторы, которых находилось в
Собрании до 250 человек. При таком распределении партий очевидно
Кавеньяк
285
большинство могло составляться только посредством соединения
двух партий из числа трех. Чтобы проводить свои меры,
правительство, кроме прямых своих приверженцев, должно было иметь
поддержку или от левой стороны, — в таком случае предложения
правительства имели бы за себя большинство около 200 голосов, — или
поддержку от правой стороны, и в таком случае большинство
доходило бы до 400 голосов. Люди, незнакомые с парламентскою тактикой,
могут подумать, что при таком распределении голосов для получения
поддержки с той или другой стороны центральная партия должна
была делать много уступок той партии, голоса которой хочет иметь.
Вовсе нет; ни та, ни другая из крайних партий не могла иметь
никакой надежды приобрести большинство своими собственными
мерами потому, что они встречали бы сопротивление в обеих остальных
партиях, стало быть могли иметь большинство только такие меры,
которые выходили бы от центральной партии. Она могла по
произволу выбрать себе поддержку с той или с другой стороны, и тут
должно происходить нечто подобное тому, как бывает при встрече
двух продавцов с одним покупщиком: тот и другой продавец
наперерыв друг перед другом понижает цену до последней крайности и рад
довольствоваться самой незначительной выгодой. Малейшее
предпочтение, оказываемое центральной партией правой стороне над левою
или наоборот, уже приобретает ей голоса этой стороны. Мало того:
нужно только, чтобы центральная партия выказывала больше
нелюбви, например, к левой стороне, нежели к правой, и правая сторона
будет самым усердным образом поддерживать центр, хотя бы центр
и с нею обходился очень сурово. Это преобладание центра в
решении дел доходит до того, что искусные парламентские предводители
с центральной партией из 50 человек могут управлять решениями
собрания, состоящего из 500 человек.
Итак, умеренные республиканцы, имея целую третью часть
голосов и занимая средину между двумя крайними партиями, почти
равносильными, должны были решительно господствовать в
Национальном собрании. Им довольно было решительно отталкивать от
себя одну из этих партий, чтобы иметь горячую поддержку со
стороны другой. Какую же из двух партий будут они преследовать? — вот
вопрос, представлявшийся им после июньских дней. Левая сторона
была лишена сильнейших своих предводителей в парламенте и
потеряла свою армию вне парламента. Она не могла теперь быть опасна,
286
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
как бы громко ни выражала свой гнев. Всякое снисхождение от
центра она приняла бы без всяких условий. Но центр не видел
настоящего; ему все чудились страшные призраки июньских дней; он
воображал, что завтра, послезавтра могут снова стать на баррикаду сорок
тысяч пролетариев, забывая, что уже не осталось в Париже
пролетариев, способных драться. Умеренные республиканцы воображали,
что через неделю после Иены и Ауэрштедта пруссаки могли разбить
Наполеона, что Наполеон на другой день после Ватерлоо мог дать
новую генеральную битву Они твердили, что ужасаются страшных
замыслов левой стороны. Этим нерасчетливым выражением пустого
страха они лишили себя всех выгод своего центрального положения,
объявив, что им нет выбора между правой и левой стороной.
Естественно стала через это в очень выгодное положение правая сторона.
Центр объявлял, что она ему необходима, и она могла дорого
продавать свои голоса. Под влиянием пустого страха центр так сильно
погнулся на правую сторону, что потерял всякое равновесие, и можно
было увлекать его все дальше и дальше направо. А между тем
опасность ему была после июньских дней справа, а не слева. Силами
реакционеров была выиграна июньская победа, и победители, конечно,
были гораздо требовательнее, нежели побежденные. Никакие
уступки со стороны центра не удовлетворяли правую сторону; с каждым
днем она делалась все настойчивее, интриговала смелее и вынуждала
у центра новые уступки. Возвращая диктатуру Кавеньяку, центр прямо
говорил, что эта диктатура направлена исключительно против левой
стороны и что для поддержания своей власти он будет опираться
исключительно на правую сторону. Он давал веру всем слухам о
заговорах и замыслах левой стороны и отвергал как клевету все подобные
слухи о правой стороне, выставлял опасными все мелкие
беспорядки, при которых слышались крики, бывшие лозунгом левой стороны,
и оправдывал все подобные случаи, выходившие с правой стороны.
Кавеньяк запретил большую часть газет левой стороны, хотя они
нападали только на людей и отдельные распоряжения, а не самую
форму правительства тогдашней Франции, и охранял все газеты правой
стороны, хотя они открыто стремились к низвержению той формы
правительства, представителем и защитником которой был он, —
побежденная революция представлялась ему более серьезным врагом,
нежели победоносная реакция. Скоро для обуздания левой стороны
были предложены центром три закона: по первому каждая политиче-
Кавеньяк
287
екая газета была обязана внести в казну 24 000 франков (6 000 рублей
серебром) как обеспечение в уплате штрафов, которые могут быть на
нее наложены; по второму назначались тяжелые наказания за
газетные статьи, противные общественному порядку; по третьему клубы
подвергались строгому полицейскому надзору.
Этими законами совершенно разрушалось равновесие между
правою и левою стороною в средствах политической деятельности.
Уже и прежде правой стороне было дано гораздо больше простора,
нежели левой; теперь последняя была чрезвычайно стеснена, между
тем как до правой стороны новые законы вовсе не касались. Правая
сторона была гораздо богаче левой. Газеты правой стороны без
хлопот взяли у своих патронов требуемые обеспечения: вместо 24 000
каждая из них, не стесняясь, нашла бы и 240 000 франков. Те
проступки, которые совершались газетами правой стороны, оставались
без преследования, между тем как газеты противной партии
беспрестанно отдавались под суд и осуждались на штрафы. Клубы для
левой стороны были тем, чем балы, большие обеды и фойе Оперы
и Французского театра для правой: преследуя те собрания, в
которых рассуждали о политике приверженцы левой стороны, полиция
предоставляла полнейшую свободу всем совещаниям правой
стороны.
Просим читателя не забывать точки зрения, с которой мы
излагаем события. Мы говорим вовсе не о том, хороши или дурны были
убеждения той или другой партии. Наша цель вовсе не
теоретический разбор различных политических убеждений, существовавших
во Франции в 1848 году; до них нам нет никакого дела; до них мало
дела даже и французам настоящего времени: в десять лет все эти
убеждения совершенно устарели, и нет теперь во Франции человека,
который думал бы о вещах точно так, как думал в 1848 году. Но если
вопросы и обстоятельства в различных странах и в разное время
бывают различны, то правила благоразумия во всех странах вечно
неизменны. Только эта сторона событий, сохраняющая навсегда интерес
для жизни, интересует нас здесь. Каковы были мнения умеренных
республиканцев, нам нет дела; мы хотим только знать, благоразумно
ли поступали они; каковы были цели, которые имели они в виду, —
вопрос посторонний для нас; нам хочется только показать, что они
не умели выбирать средств для достижения целей, а из их ошибок
вывести некоторые правила политического благоразумия, — правила
288
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
вроде знаменитого латинского стиха, применяющегося ко всему, что
делается на белом свете:
Quidquid agis, prudenter agas, ef respice finem, —
«Что бы ты ни делал, поступай благоразумно и рассчитывай
последствия своих поступков». Быть может, образ мыслей умеренных
республиканцев был вреден для государства; лично мы даже уверены
в этом. Быть может, для Франции было счастьем, что вместо Кавеньяка
правителем Франции сделался Луи-Наполеон, — многие говорят это.
Мы вовсе не сравниваем этих двух людей по образу мыслей; мы
рассматриваем только, до какой степени надобно приписать Кавеньяку
и умеренным республиканцам торжество Луи-Наполеона, и находим,
что они постоянно действовали в пользу ему и во вред себе; а так
как они хотели вовсе не того, то мы и находим, что они держали
себя нерасчетливо; для того чтобы обнаружить эту нерасчетливость,
мы должны показывать, в чем должны были бы состоять для них
внушения благоразумия. Быть может, правая сторона по образу мыслей
была совершенно справедлива; но ее усиление вело ко вреду центра,
потому и не расчетливо поступал центр, содействуя ее возвышению.
Он должен был или сам принять мнения правой стороны, или
бороться с нею, — он не сделал ни того, ни другого. Правая сторона
усиливалась его помощью, а между тем продолжала ненавидеть его,
и с каждым днем он должен был уступать шаг за шагом власть врагам,
которым сам помогал.
Скоро правая сторона не удовольствовалась тем, что некоторые
из важнейших мест в правительстве отданы ей; она стала требовать,
чтобы из министерства были удалены люди, ей не нравившиеся.
Прежде других был удален в угодность ей министр народного
просвещения Карно, которого реакционеры не любили отчасти за его
имя, отчасти за то, что он издавна был дружен с людьми, которые
были подозрительны реакционерам. Не прошло двух недель после
июньской победы, как правая сторона уже потребовала его удаления,
и место его отдано человеку правой стороны, известному
историку Волабеллю. Через три месяца правая сторона снова потребовала
отдачи своим предводителям еще двух мест в министерстве. Сенар,
министр внутренних дел, бывший президентом Национального
собрания, в июне вместе с Кавеньяком принимал самые крутые меры
Кавеньяк
289
для подавления инсургентов. Тогда реакционеры превозносили его;
но в начале октября уже не хотели терпеть в министерстве
человека, которого еще недавно называли одним из спасителей общества.
Сенар должен был уступить место Дюфору, и его отвержение правой
стороной служило очень ясным предсказанием, что скоро будет
отвергнут ею и главный из июньских «спасителей общества», Кавеньяк.
Дюфор подобно Ламорисьеру не интриговал по крайней мере
против порядка дел, существовавшего тогда во Франции. Но другой член
правой стороны, вместе с ним вступивший в министерство Кавенья-
ка, Вивьен, явно стремился к низвержению правительства, в котором
стал участвовать.
Эти смены министров правая сторона уже не выпрашивала, как
прежде: в октябре она стала так смела, что уже стала отнимать свои
голоса у Кавеньяка, когда хотела принудить его к новой уступке.
Она уже открыто говорила, что поддержка ее необходима ему, что
она чуть ли не из милости держит его президентом исполнительной
власти. При таких словах было очевидно, откуда грозит опасность
центру; но он оставался непреклонен в своем ужасе перед призраком
новых баррикад и делал правой стороне одну уступку за другой.
Вместе с прениями об административных вопросах и текущих
происшествиях шли в Национальном собрании прения о
конституции. Из всех вопросов о государственном устройстве ближе всего
касался судьбы правительства вопрос об отношении исполнительной
власти к законодательной. В теории существовало об этом два
различные мнения: одни приписывали частые перевороты, раздиравшие
Францию в последние 60 лет, тому, что у правительств было будто
бы слишком мало силы для сопротивления инсургентам,
низвергавшим их одно за другим. Другие указывали на то, что постоянно
исполнительная власть во Франции подчиняла себе законодательную
и, пренебрегая законным контролем ее, впадала в ошибки, которые
и бывали прямой причиной общего неудовольствия,
приводившего к насильственным переворотам; из этого они выводили, что для
прочности исполнительной власти и сохранения государственного
спокойствия законодательную власть во Франции надобно усилить
на счет исполнительной, так чтобы контроль первой над последней
был действителен. Которое из двух мнений было справедливо в
теоретическом отношении, мы не станем рассматривать. Но очевидно
было, к которому из этих двух мнений должны были присоединиться
290
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
умеренные республиканцы. В Национальном собрании они
господствовали; каковы будут стремления исполнительной власти, когда она
сделается независимой от законодательной, они не знали наверное,
но могли предполагать, что она не будет чужда тем преданиям, какие
остались от всех французских правительств со времен Наполеона.
Эти предания были вовсе не в пользу умеренных республиканцев.
Благоразумие ясно указывало им путь.
Пусть их теоретические убеждения были бы в пользу
независимости исполнительной власти от законодательной; но они должны
были понять, что не время им проводить в дело чистую теорию и
надобно принять в соображение настоящие привычки, отлагая полное
осуществление теории до той поры, когда изменившиеся понятия
самой исполнительной власти о своих обязанностях будут служить
достаточным ручательством за то, что она не употребит во зло своей
независимости. Это было ясно. Но мы должны повторить факт, на
который уже много раз приходилось нам указывать. Умеренные
республиканцы были теоретики, не понимавшие условий практической
жизни. Они во время прений о конституции постоянно
поддерживали всевозможную независимость исполнительной власти от
законодательной и возвышали ее силы. Кавеньяк и все министры говорили
в этом смысле. Но вот дошла очередь до того параграфа, который
определял способ избрания президента республики. Тут было два
противных мнения, как и обо всем в государственных делах, у правой
и левой стороны. Правая сторона хотела, чтобы президент
исполнительной власти был избираем непосредственно нацией, — этим
возвышалось величие исполнительной власти; левая сторона хотела,
чтобы он был избираем Законодательным собранием, — через это,
конечно, он становился ниже его. Тут Кавеньяк и министры заметили,
наконец, что дело идет о сохранении или низвержении тогдашнего
порядка вещей во Франции. Они заметили, что при общем
неудовольствии нации на них, умеренных республиканцев, при
расстройстве партии реформаторов легко могут восторжествовать при
выборах президента реакционеры, если выбор будет предоставлен нации.
Кавеньяк и министры подали голос вместе с левой стороной в пользу
предложения, чтобы президент республики был избираем
Национальным собранием. Но было уже слишком поздно. Умеренные
республиканцы слишком уже приучены были своими предводителями
видеть на левой стороне смертельных врагов всякого общественного
Кавеньяк
291
порядка и вслед за реакционными журналами кричать: Les barbares
sont a nos portes! Они до того приучены были повертываться направо,
что когда теперь их предводители вздумали сделать маневр налево,
то были покинуты всем своим войском. Большинством четырехсот
голосов было решено, что президент республики будет выбран не
Законодательным собранием, а голосами всей нации.
Этим почти решена была судьба умеренных республиканцев,
подавших голос против самих себя по неумению соображать результаты
своих действий. Трудно было им надеяться на успех своею кандидата
при выборе президента голосами всей нации, потому что ничего не
сделали они для приобретения популярности, а между тем должны
были перед общественным мнением нести ответственность за все
те материальные невзгоды, которыми сопровождался февральский
переворот.
Нельзя отрицать того, что Кавеньяк и его политические друзья
искренно желали отвратить все злоупотребления, облегчить все
тяжести, на которые жаловалась нация. Но еще неоспоримее то, что
ничего не было сделано ими для исполнения этих желаний. Мы
уже говорили о тех преобразованиях, какие надобно было бы
сделать в бюджете, чтобы удовлетворить жалобам, которые сильно
содействовали февральскому перевороту, и ожиданиям, которые были
возбуждены этим переворотом. Реформы, нами указанные, были
согласны с убеждениями умеренных республиканцев. Но эта партия
была по рукам и по ногам связана реакционерами,
провозглашавшими непогрешимость бюджета прежних лет и вопиявшими против
всякой попытки сократить государственные расходы, которыми они
пользовались, или заменить распределение налогов, благоприятное
для них. Воображая себя в опасности от людей, убитых, сосланных
или изгнанных в июне, умеренные республиканцы не могли
энергически приняться и за вопрос о децентрализации, потому что
всевозможное натягивание административных пружин казалось им нужно
для охранения общественного порядка от опасностей слева, которых
уже не было. Охотно приняли бы они какие-нибудь прямые меры для
улучшения положения низших классов, но все эти меры уже
предлагались реформаторами, каждая мысль которых представлялась
умеренным республиканцам чем-то разрушительным для общества;
а если и приходила умеренным республиканцам в голову какая-
нибудь маленькая идейка о каком-нибудь маленьком законе, который
292
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
бы несколько полезен был народу, реакционеры поднимали вопль,
доказывая, что этот закон был бы подражанием проектам
реформаторов, — и действительно нетрудно было доказать это, потому что
на самом деле мысли умеренных республиканцев об улучшении
состояния простолюдинов были бледными отражениями понятий,
высказанных реформаторами, — и бедные умеренные республиканцы
с испугом отступались от того из своих сотоварищей, который был
обвиняем реакционерами в потворстве реформаторским теориям.
Чтобы объяснить нагляднее эту жалкую нерешительность, мы укажем
на единственную прямую меру, принятую Национальным
собранием для улучшения участи работников. Собрание назначило 3 000 000
франков на пособие учреждению ассоциаций между фабричными
работниками, то есть для образования чего-то похожего на наши
промысловые и ремесленные артели. По-видимому, ничто не могло
быть невиннее такого назначения. Но надобно только прочесть
доклады и речи, с которыми даны были эти деньги, чтобы понять, с
какими чувствами простолюдины должны были встретить этот заем.
Вот доклад, представленный Собранию Корбоном от имени
комитета, рассматривавшего предложение об этом пособии и
рекомендовавшего Собранию принять его:
«Наверное, в нашем Собрании нет ни одного члена, который не желал
бы всем сердцем постепенного возвышения сословий, до сих пор
содержавшихся в низком положении. С своей стороны мы искренно убеждены,
что настанет время, когда большая часть работников перейдет из состояния
наемщиков в состояние сотоварищей, как прежде перешли они из рабства
в крепостное состояние, из крепостного состояния в вольные наемщики.
Но эта перемена будет делом времени и личных усилий работников.
Конечно, государство должно помогать ей; но каково бы ни было его участие
в медленном осуществлении этого прогресса, участие государства будет
в этом деле гораздо меньше, нежели участие, какое в нем должны иметь
сами работники. Работник должен быть сыном своего труда, и если он
некогда тем или другим способом получит в собственное распоряжение
средства для производства своего промысла, этими средствами он должен быть,
прежде всего, обязан собственным усилиям.
Мы знаем, что такой приговор мало удовлетворит ту часть рабочего
класса, которую, напротив, уверили, что государство сделает все и что
работникам надобно лишь пользоваться его содействием. Недостойны помощи те,
которые не имеют мужества помочь сами своим делам, не имеют истинного
понятия ни о свободе, ни о равенстве, ни о братстве, те, которые не хотят
Кавеньяк
293
пытаться поднять себя постоянными и терпеливыми усилиями, а ждут, пока
их поднимут другие.
Мы хотим, чтобы государство помогало работникам только
пропорционально тем усилиям, которые будут делать они сами для приобретения
в свое распоряжение средств к независимому труду.
Мы не исполнили бы всей своей обязанности, если бы не прибавили,
что ассоциации, пользующиеся нашей помощью, должны необходимо
подчиняться условиям соперничества, без которого нет самой свободы труда.
Мы говорим это именно потому, что работников уверили, будто все их
бедствия — результаты соперничества. До известной степени это справедливо;
но напрасно от злоупотреблений соперничества заключать, что надобно
уничтожить самое соперничество.
Для работников полезно будет услышать, что уничтожить
соперничество — просто невозможно.
В самом деле, как уничтожить его? Силою власти? Но власть, которая
возьмется за это, будет немедленно низвергнута. Посредством ассоциации,
которая послужила бы зерном для всеобщей ассоциации? Но — (Корбон
доказывает, что это также невозможно).
К счастью, настало время, когда эти важные вопросы будут обсуждены
с национальной трибуны, которая своим авторитетом предостережет
работников против идей, помрачивших, к сожалению, слишком многие умы
Наши прения покажут, сколько правды в тех учениях, которые,
прикрываясь формами строгой нравственности, прибегая к языку любви и
преданности общему благу, в сущности взывают только к эгоизму и возбуждают
против общества ненависть тем более глубокую, что ими раздражаются все
желания у людей, не имеющих и необходимого».
С первого взгляда видно, что этот доклад составлен не столько под
влиянием мысли провести меру, полезную для работников, сколько
под влиянием заботы не показаться союзниками реформаторов и
желания внушить работникам, что их надежды на содействие
государства в изменении их быта напрасны. Без всякой надобности
Корбон толкует о неизбежности соперничества, о невозможности
всеобщей ассоциации работников, которой нет и в помине, твердит, что
государство ничего особенного не может сделать для работников, и
т. д. Мог ли такой доклад произвести на работников хорошее
впечатление? Нет, он представлялся для них выражением антипатии к ним.
И как легко приходили им мысли, которыми опровергались
рассуждения доклада. Например, при словах «недостойны помощи те,
которые не имеют мужества помочь сами своим делам» (Ceux la ne sont
pas dignes d être aides qui n'ont pas le courage de s aider), — при этих
294
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
словах, составляющих основную мысль доклада, кому из
нуждавшихся в содействии государства не приходило в голову такое
возражение: «Но зачем же и существует государство, как не для охранения
человека от бедствий, которых не может отвратить его собственное
мужество и сила? Если так, полиция должна бы защищать от воров
только того, который сам и без полиции в силах прогнать или убить
вора; если же разбойники нападут на труса или больного, полиция не
должна защищать от них этого человека, потому что «он не имеет
мужества помочь себе». Да разве помощь нужна сильным и
мужественным, а не слабым и забитым обстоятельствами?»
Но доклад Корбона был еще очень любезен сравнительно с теми
речами, какие говорились по этому делу реакционерами. Корбон
думал, по крайней мере, что в оказываемом пособии есть что-то
хоть отчасти справедливое и хотя несколько полезное.
Предводитель реакционеров, знаменитый говорун Тьер, своим пискливым
голосом кричал, что все это вздор, что деньги эти бросаются в печь,
но что он с удовольствием соглашается бросить их в печь, потому
что безуспешностью этой нелепой попытки помогать учреждению
ассоциаций докажется нелепость самой мысли об ассоциациях,
мысли сумасбродной и безнравственной. «Не три миллиона, а двадцать
миллионов следовало бы вам требовать от нас, — говорил он Корбо-
ну, — мы дали бы вам их. Да, двадцати миллионов не пожалели бы мы
на поразительный опыт, который должен исцелить вас всех от этого
колоссального сумасбродства».
Выдачу этих денег считали милостыней и прямо говорили, что
бросают их совершенно бесполезно; из этого следовало бы
заключать, по крайней мере, что пособие оказывается безвозмездно. Вовсе
нет: три миллиона назначались вовсе не в безвозмездное пособие,
а просто в заем ассоциациям, которые должны были постепенно
возвращать в казну сполна всю полученную ими ссуду. Прилично ли,
возможно ли кричать, что даришь деньги, когда даешь их взаймы?
Прилично ли тут хвастаться своим великодушием? Прилично ли
кричать о пропаже денег? Заем, выдаваемый с такими речами, оскорбит
каждого, в ком осталось хоть несколько уважения к себе.
Наконец, не говоря уже обо всем этом, какое впечатление должна
была производить самая величина ссуды? 700 000 рублей серебром на
целое государство в пособие сословию, составляющему гораздо более
семи миллионов человек. Скупость доходила тут до иронии. Какое впе-
Кавеньяк
295
чатление должны были производить эти жалкие три миллиона
франков по сравнению с десятками миллионов, ежегодно выдававшимися
от казны на покровительство биржевым спекуляциям? Но банкиры
и биржевые спекулянты как будто от природы получили привилегию
на поощрение от французского правительства. Сумм, которые
растрачиваются казной для них, не следует сравнивать с деньгами,
назначаемыми в пособие черному народу; можно сравнивать по крайней мере
величину сумм, назначаемых на разные способы пособия черному
народу. В то самое время, как определялось три миллиона для
ассоциаций во Франции, ассигновалось 50 миллионов на переселение
пролетариев в Алжирию. Речи и обстоятельства, которыми сопровождался
закон об этой колонизация, делали это переселение совершенно
подобным ссылке, предпринимаемой для удаления из Франции опасных
людей, из которых большинству предстоит на новом месте
жительства погибнуть от лишений всякого рода и кабильских пуль. В этом
смысле и было принято переселение простолюдинами; они сочли его
не результатом заботливости о них, а следствием желания удалить из
Франции предприимчивых и потому опасных простолюдинов. Какое
же впечатление производилось на работников сравнением трех
миллионов, с упреками и дурными предсказаниями выдаваемых на
исполнение задушевного убеждения простолюдинов, и 50 миллионов,
назначаемых на ссылку, прикрытую именем колонизации?
Ссуда на учреждение ассоциаций была единственной сколько-
нибудь важной мерой кавеньяковского правительства для
приобретения популярности. Очень мало было принято даже и
незначительных мер с этой целью, да и те все были обсуждаемы и исполняемы
в таком же духе, как выдача ссуды ассоциациям. Очень натурально,
что чувство, с которым народ смотрел на Кавеньяка и его партию
после июньских дней, нимало не улучшилось в течение следовавших
за тем месяцев. Умеренные республиканцы не сделали совершенно
ничего для привлечения к себе народа, и народ продолжал смотреть
на них как на людей, от которых нечего ему ждать.
Политика умеренных республиканцев была очень неудачна в
делах внутреннего управления. Этот недостаток мог бы до некоторой
степени замениться блеском и популярностью внешней политики.
Случаев к тому представлялось много, и некоторые из них были до
того благоприятны, что самый нерасчетливый человек легко
понимал их драгоценность.
296
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Мы укажем только два важнейшие.
Во Франкфурте-на-Майне собрался немецкий парламент с целью
дать немецкому народу государственное единство. По правилу, нами
принятому, мы вовсе не будем рассматривать, хороша или дурна
была эта цель, точно так, как мы вовсе не говорили и о том, хороши
или дурны были стремления Кавеньяка и его политических друзей.
Мы обращаем внимание только на то отношение, какое
существовало между потребностями положения, в каком находилось
правительство Кавеньяка, и делами Франкфуртского парламента, и хотим
показать, что Кавеньяк и его партия не умели действовать сообразно
с своими выгодами. Франкфуртский парламент искал дружбы
Франции; он был проникнут теми же понятиями, как и правительство
Кавеньяка, — действовал в духе того демократизма, который против так
называемой демагогии враждует гораздо сильнее, нежели против
реакции. Подобно правительству умеренных республиканцев во
Франции, Франкфуртский парламент вышел из революционного
движения; подобно умеренным республиканцам Франции, он утвердил свое
значение кровопролитным подавлением революционного движения,
из которого возник сам; подобно умеренным республиканцам, он
был уже в большой опасности от усиливавшейся реакции (от которой
скоро и погиб, подобно им); и подобно им совершенно не понимал
и не замечал этой действительной опасности, воображая, что
опасность грозит ему совсем не с той стороны. Словом сказать, по своим
идеям Франкфуртский парламент занимал среди немецких партий
точно такое же положение, как правительство Кавеньяка среди
французских партий. Союз между правительствами столь однородными
казался бы неизбежным. Франкфуртский парламент, не находивший
поддержки ни в одном из иностранных правительств, чрезвычайно
дорожил надеждой на дружбу с Францией и готов был чрезвычайно
дорого заплатить за эту дружбу. Тайные инструкции, данные на этот
случай его агенту в Париже, не обнародованы; но хорошо известны
мнения людей, господствовавших во Франкфурте, и не трудно
отгадать, на какие важные уступки согласились бы они. В них была
одинаково сильна нелюбовь к Пруссии и идея государства,
составленного исключительно из немецких элементов. В Рейнской провинции
Пруссия владеет несколькими округами, жители которых французы.
При ловком ведении дел не было невозможно французскому
правительству надеяться на расширение границ Франции с этой стороны.
Кавенъяк
297
Ничего не стоило Франции оказать стремлению немцев к
политическому единству такие услуги, за которые были бы с радостью даны
немцами всевозможные вознаграждения. Дипломатическое
содействие, несколько сильных мемуаров, несколько твердых инструкций
французским посланникам при европейских дворах — вот все, чего
требовалось на первый раз. Но вместо того, чтобы вступить в
выгодный союз, французское правительство даже не приняло посланника
от Франкфуртского парламента.
Еще яснее немецкого вопроса был итальянский, еще очевиднее
была выгода французских правителей принять в нем участие. Не
говорим уже о том, что итальянцы проникнуты были чрезвычайным
сочувствием к Франции и выступали с теми же лозунгами, которые
находились на знамени тогдашнего парижского правительства, —
не говорим об этих соображениях, основанных на фактах
настоящего; даже дипломатическая рутина требовала, чтобы Кавеньяк принял
сторону итальянцев против австрийцев.
Австрия была всегда соперницей Франции, издавна
дипломатические и военные торжества приобретались Францией
преимущественно в борьбе против этой державы. Но и тут правительство Каве-
ньяка не сделало ровно ничего. Не была подана итальянцам
материальная помощь, когда они нуждались в ней; а когда после поражения
итальянских армий Франция решилась, наконец, принять
посредничество с целью противодействовать слишком сильному перевесу
Австрии, дело было ведено чрезвычайно слабо и вяло и кончилось
совершенно в пользу Австрии и в стыд Франции.
Таков общий характер управления Кавеньяка. Внутренние
вопросы настоятельнейшим образом требовали разрешения, — ничего не
было сделано для этого, и путь, избранный правительством
Кавеньяка во внутренней политике, прямо противоположен бьш и смыслу
обстоятельств, и выгодам правительства. Слава внешнего
могущества, блеск дипломатических и военных торжеств мог бы доставить
правительству Кавеньяка ту популярность, которой не могла
доставить внутренняя политика, — внешняя война отвлекла бы внимание
от внутренних вопросов, соединила бы всю нацию под знаменами
правительства, но и этого не поняли и этим не воспользовались
умеренные республиканцы.
Таким образом, когда настало время выборов президента
республики, умеренные республиканцы не могли похвалиться ничем, кро-
298
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ме июньского кровопролития; ничего не сделали они для смягчения
ненависти, возбужденной этими жестокостями в одном из двух
лагерей, и своим излишним криком об ужасных намерениях этого лагеря
ободрили притязания предводителей противной партии. Ничего не
сделали они для нации, оттолкнули от себя одни партии и сделали
надменными другие партии.
Тем не менее, слабость всех других партий была так велика, что
ни одна из них не могла выставить своего кандидата с надеждой
на успех. На это рассчитывали умеренные республиканцы и
ожидали, что все благоразумные люди соединятся около их кандидата за
недостатком другого.
Действительно, так поступали многие из людей, желавших
поддержать новые формы государственного устройства. За Ледрю-Роллена79
подало голосов только меньшинство из тех, которые принадлежали
к партиям, выставившим его своим кандидатом; большинство их
политических друзей, видя, что Ледрю-Роллен ни в каком случае не
будет избран, подали голос за Кавеньяка, для общего интереса
пожертвовав своими неудовольствиями против него и умеренных
республиканцев.
Многие из людей, которых преследовало правительство
Кавеньяка, поддерживали его из преданности интересам Франции. Не так
поступили партии, которым оно делало всевозможные уступки:
гордость их возросла до того, что они уже не хотели никаких сделок
с республиканцами: они дали ненависти до того овладеть собой, что
выставили вперед человека, по своим стремлениям гораздо более
враждебного им, нежели Кавеньяк, лишь бы только низвергнуть
Кавеньяка.
Здесь не место излагать историю Луи-Наполеона Бонапарта до
декабря 1848 года. Мы должны только показать его отношения к
партиям при тех выборах, которыми решалась участь Франции.
Партия бонапартистов никогда не исчезала во Франции, но всегда
была чрезвычайно слаба, так что вовсе не могла считаться серьезной
политической партией; по своему бессилию она не могла быть
никому опасна. Она пользовалась совершенным простором для действий
благодаря всеобщему невниманию к ней.
Первое, что придало бонапартизму некоторую важность, были
неблагоразумные поступки реакционеров и умеренных республиканцев
по вопросу о главе бонапартистов Луи-Наполеоне. В феврале он про-
Кавеньяк
299
сил у нового правительства разрешения возвратиться во Францию, из
которой был изгнан постановлениями прежних правительств. Он уже
тогда считал себя претендентом на французский престол; но его
притязания были тогда еще бессильны; люди проницательные говорили,
что не нужно придавать ему важность, показывая вид, что его
опасаются, и предлагали, чтобы ему было позволено возвратиться.
Реакционеры и умеренные республиканцы отвергли этот совет. Следствием
этого было повторение просьб и жалоб с его стороны. Благодаря
отказу ему удалось возбудить к себе внимание и сожаление во многих.
Если с первого раза отказали ему, следовало уже твердо держаться
этого решения; но через несколько времени ему позволили возвратиться.
Уже успев наделать шума своими просьбами и жалобами, он теперь
отважился выставить себя кандидатом в президенты.
Реакционеры не имели кандидата, которого могли бы
противопоставить Кавеньяку. Они распадались на несколько партий, из которых
ни одна не хотела уступить другой перевеса. Притом же все
предводители этих партий были на дурном замечании у народа. Надобно
было выбрать нейтральное имя, на котором могли бы соединиться
ультрамонтанцы, легитимисты и орлеанисты80, — духовенство,
аристократы и капиталисты; надобно было отыскать такого кандидата,
против которого нация еще не имела бы предубеждения и кандидат-
ство которого обозначало бы только протест против партии,
управлявшей Францией с февраля, и не означало бы ничего другого,
потому что в этом одном были согласны реакционеры. Этот кандидат
реакционеров, которого надобно было найти вне реакционных
партий, должен был не представляться для них опасным по своей силе,
должен был получить власть из их рук, держаться только их
поддержкой и без них не значить ничего. Именно таким человеком
представлялся им Луи-Наполеон. Ничтожность его собственной партии была
причиной, что на нем остановился выбор реакционеров, которые
думали, что как теперь без них он ничего не значит, так и потом ничего
не будет значить без них, и что они будут управлять его именем.
Таким образом, все реакционеры единодушно стали за
Луи-Наполеона. Этим приобреталась ему почти половина голосов на выборах.
Тогда масса реформаторских партий, увидев, что остается
избирать только между Луи-Наполеоном и Кавеньяком, увлеклась
ненавистью к умеренным республиканцам за июньские события и решилась
предпочесть Луи-Наполеона. Умеренные республиканцы доказали,
300
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
что от них нельзя народу ждать ничего хорошего; Луи-Наполеон
будет во всяком случае не хуже, а быть может, окажется и лучше их.
Правда, его поддерживают реакционеры, но он сам не принадлежит
к ним. Во всяком случае, сам по себе он не имеет никакой силы, и его
выбор имеет только значение переходного факта, временного
перемирия между партиями, из которых еще ни одна не довольно сильна,
чтобы одной ей победить умеренных республиканцев и все другие
партии. Его власть будет только до того времени, как мы оправимся
от июньского поражения, пусть же до той поры, когда мы в состоянии
будем надеяться на победу, продолжается перемирие, и пусть будет
власть в нейтральных руках человека, который не может помешать
нам, потому что сам по себе бессилен.
Точно так же думали и реакционеры. Правление Луи-Наполеона
каждая из их партий принимала только как переходную ступень к
собственному торжеству, как перемирие с другими партиями до того
времени, как она сама станет сильнее всех других.
Для всех подававших за него голос, он казался безопасным орудием
для низвержения умеренных республиканцев, казался нейтральным
агентом, которому поручается временное ведение дел до той поры,
как доверитель сам почтет удобным взять дела из его рук в свои.
Таким образом, при выборах президента партии стали в
следующее положение относительно трех кандидатов.
За Ледрю-Роллена была только небольшая часть людей левой
стороны, — именно только те, которые компрометировали бы свою
политическую репутацию, если бы подали голос не за
официального кандидата своей партии. Масса этой партии подала голос за Луи-
Наполеона.
За Кавеньяка были умеренные республиканцы и сверх того люди,
которые никогда не желают никаких перемен, — число последних
было в то время разгара политических страстей гораздо менее
обыкновенной пропорции.
За Луи-Наполеона были все реакционеры и масса приверженцев
левой партии, предводители которой по своему положению перед
общественным мнением не могли покинуть Ледрю-Роллена. Все
приверженцы реформаторов, не имевшие своего кандидата, подали
голос за Луи-Наполеона.
При этом расположении партий все более или менее предвидели
результаты выборов; все знали, что Кавеньяк не получит больший-
Кавеньяк
301
ства, все были уверены, что коалиция, избравшая своим орудием Луи-
Наполеона, составит большинство голосов.
Тут умеренные республиканцы, покидая власть, в первый раз
приняли образ действий, соответствовавший обстоятельствам. Дела
дошли до такого состояния, при котором все меры воспрепятствовать
выбору Луи-Наполеона остались бы напрасными, и правительство
Кавеньяка не позволило себе ни одной интриги, ни одного
незаконного действия во вред своему противнику. Честность Кавеньяка
и его друзей в этом отношении заслужила им всеобщее уважение,
и действительно она была беспримерна в истории Франции. С
незапамятных времен в первый раз французы видели правительство,
которое закон ставит выше собственных интересов и не хочет
злоупотреблять своей силой для продолжения своей власти. Но и тут мы
не знаем, понимали ли умеренные республиканцы, что все попытки
сопротивления с их стороны были напрасны; действовали ли они
как государственные люди, понимающие состояние дел и
сознательно отказывающиеся от невозможного, — или они еще полагали, что
могли бы удержаться, если бы прибегли к интригам, стеснительным
мерам и открытой силе. По соображению всего, что говорили мы о
прежней их неспособности понимать обстоятельства, надобно
склоняться к последнему предположению.
Как бы то ни было, правительство Кавеньяка оставило полную
свободу выборам, неблагоприятный исход которых предвидело, и с
благоговением уступило результату выборов.
В выборах приняли участие 7 324 672 избирателя; из них подали
ГОЛОС:
За Ледрю-Роллена 407 039
» Кавеньяка 1448 107
» Луи-Наполеона 5 434 226
20-го декабря результат выборов был проверен Национальным
собранием. Кавеньяк взошел на трибуну, в немногих, но прекрасных
словах выразил свою покорность воле нации и сложил с себя власть.
С этого дня умеренные республиканцы потеряли всякое влияние
на ход событий, их политическая роль во Франции окончилась.
Полугодичное их управление Францией дает много уроков
людям, думающим о ходе исторических событий. Из этих уроков
важнейший тот, на который преимущественно и указывают факты, нами
изложенные.
РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS
Размышления по прочтении
повести г. Тургенева «Ася»
«Рассказы в деловом, изобличительном роде оставляют в читателе
очень тяжелое впечатление; потому я, признавая их пользу и
благородство, не совсем доволен, что наша литература приняла
исключительно такое мрачное направление».
Так говорят довольно многие из людей, по-видимому, неглупых
или, лучше сказать, говорили до той поры, пока крестьянский вопрос
не сделался единственным предметом всех мыслей, всех разговоров.
Справедливы или несправедливы их слова, не знаю; но мне случилось
быть под влиянием таких мыслей, когда начал я читать едва ли не
единственную хорошую новую повесть, от которой по первым
страницам можно уже было ожидать совершенно иного содержания,
иного пафоса, нежели от деловых рассказов. Тут нет ни крючкотворства
с насилием и взяточничеством, ни грязных плутов, ни официальных
злодеев, объясняющих изящным языком, что они — благодетели
общества, ни мещан, мужиков и маленьких чиновников, мучимых
всеми этими ужасными и гадкими людьми. Действие — за границей,
вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта. Все лица
повести — люди из лучших между нами, очень образованные,
чрезвычайно гуманные, проникнутые благороднейшим образом мыслей.
Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не
касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни. Вот, думал
я, отдохнет и освежится душа. И действительно, освежилась она этими
поэтическими идеалами, пока дошел рассказ до решительной
минуты. Но последние страницы рассказа не похожи на первые, и по
прочтении повести остается от нее впечатление еще более безотрадное,
нежели от рассказов о гадких взяточниках с их циническим
грабежом. Они делают дурно, но они каждым из нас признаются за дурных
людей; не от них ждем мы улучшения нашей жизни. Есть, думаем мы,
в обществе силы, которые положат преграду их вредному влиянию,
которые изменят своим благородством характер нашей жизни. Эта
иллюзия самым горьким образом отвергается в повести, которая
пробуждает своей первой половиной самые светлые ожидания.
Русский человек на rendez-vous
303
Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам,
честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя
все, за что наш век называется веком благородных стремлений.
И что же делает этот человек? Он делает сцену, какой устыдился бы
последний взяточник. Он чувствует самую сильную и чистую
симпатию к девушке, которая любит его; он часа не может прожить, не
видя этой девушки; его мысль весь день, всю ночь рисует ему ее
прекрасный образ, настало для него, думаете вы, то время любви, когда
сердце утопает в блаженстве. Мы видим Ромео, мы видим Джульетту,
счастью которых ничто не мешает, и приближается минута, когда
навеки решится их судьба, — для этого Ромео должен только сказать:
«Я люблю тебя, любишь ли ты меня?» и Джульетта прошепчет: «Да...»
И что же делает наш Ромео (так мы будем называть героя повести,
фамилия которого не сообщена нам автором рассказа), явившись на
свидание с Джульеттой? С трепетом любви ожидает Джульетта своего
Ромео; она должна узнать от него, что он любит ее, — это слово не
было произнесено между ними, оно теперь будет произнесено им,
навеки соединятся они; блаженство ждет их, такое высокое и чистое
блаженство, энтузиазм которого делает едва выносимой для
земного организма торжественную минуту решения. От меньшей радости
умирали люди. Она сидит, как испуганная птичка, закрыв лицо от
сияния являющегося перед ней солнца любви; быстро дышит она, вся
дрожит; она еще трепетнее потупляет глаза, когда входит он,
называет ее имя; она хочет взглянуть на него и не может; он берет ее руку, —
эта рука холодна, лежит как мертвая в его руке; она хочет улыбнуться;
но бледные губы ее не могут улыбнуться. Она хочет заговорить с ним,
и голос ее прерывается. Долго молчат они оба, — и в нем, как сам
он говорит, растаяло сердце, и вот Ромео говорит своей Джульетте...
и что же он говорит ей? «Вы передо мною виноваты,— говорит он
ей, — вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы
компрометируете меня, и я должен прекратить мои отношения к вам; для
меня очень неприятно с вами расставаться, но вы извольте
отправляться отсюда подальше».
Что это такое? Чем она виновата? Разве тем, что считала его
порядочным человеком? Компрометировала его репутацию тем, что
пришла на свидание с ним? Это изумительно! Каждая черта в ее бледном
лице говорит, что она ждет решения своей судьбы от его слова, что
она всю свою душу безвозвратно отдала ему и ожидает теперь только
304
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
того, чтоб он сказал, что принимает ее душу, ее жизнь, а он ей делает
выговоры за то, что она его компрометирует! Что это за нелепая
жестокость? Что это за низкая грубость? И этот человек, поступающий
так подло, выставлялся благородным до сих пор! Он обманул нас,
обманул автора. Да, поэт сделал слишком грубую ошибку, вообразив,
что рассказывает нам о человеке порядочном. Этот человек дряннее
отъявленного негодяя.
Таково было впечатление, произведенное на многих совершенно
неожиданным оборотом отношений нашего Ромео к его Джульетте.
От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этой
возмутительной сценой, что характер главного лица не выдержан, что если
этот человек таков, каким представляется в первой половине
повести, то не мог поступить он с такой пошлой грубостью, а если мог
так поступить, то он с самого начала должен был представиться нам
совершенно дрянным человеком.
Очень утешительно было бы думать, что автор в самом деле
ошибся, но в том и состоит грустное достоинство его повести, что
характер героя верен нашему обществу. Быть может, если бы характер этот
был таков, каким желали бы видеть его люди, недовольные
грубостью его на свидании, если бы он не побоялся отдать себя любви, им
овладевшей, повесть выиграла бы в идеально-поэтическом смысле.
За энтузиазмом сцены первого свидания последовало бы
несколько других высокопоэтических минут, тихая прелесть первой
половины повести возвысилась бы до патетической очаровательности
во второй половине, и вместо первого акта из «Ромео и Джульетты»
с окончанием во вкусе Печорина мы имели бы нечто действительно
похожее на Ромео и Джульетту или, по крайней мере на один из
романов Жоржа Занда81. Кто ищет в повести поэтически-цельного
впечатления, действительно должен осудить автора, который, заманив
его возвышенно-сладкими ожиданиями, вдруг показал ему какую-то
пошло-нелепую суетность мелочно-робкого эгоизма в человеке,
начавшем вроде Макса Пикколомини и кончившем вроде какого-нибудь
Захара Сидорыча, играющего в копеечный преферанс.
Но точно ли ошибся автор в своем герое? Если ошибся, то не
в первый раз делает он эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов,
приводивших к подобному положению, каждый раз его герои
выходили из этих положений не иначе, как совершенно сконфузившись
перед нами. В «Фаусте» герой старается ободрить себя тем, что ни он,
Русский человек на rendez-vous
305
ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней,
мечтать о ней — это его дело, но по части решительности, даже в словах,
он держит себя так, что Вера сама должна доказать ему, что любит
его; речь несколько минут шла уже так, что ему следовало
непременно сказать это, но он, видите ли, не догадался и не посмел сказать
ей этого; а когда женщина, которая должна принимать объяснение,
вынуждена, наконец, сама сделать объяснение, он, видите ли, «замер»,
но почувствовал, что «блаженство волною пробегает по его сердцу»,
только, впрочем, «по временам», а собственно говоря, он «совершенно
потерял голову» — жаль только, что не упал в обморок, да и то было
бы, если бы не попалось кстати дерево, к которому можно было
прислониться. Едва успел оправиться человек, подходит к нему женщина,
которую он любит, которая высказала ему свою любовь, и
спрашивает, что он теперь намерен делать? Он... он «смутился».
Не удивительно, что после такого поведения любимого
человека (иначе, как «поведением», нельзя назвать образ поступков этого
господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще
натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в
«Фаусте»; почти то же и в «Рудине». Рудин вначале держит себя несколько
приличнее для мужчины, нежели прежние герои: он так решителен,
что сам говорит Наталье о своей любви (хоть говорит не по доброй
воле, а потому, что вынужден к этому разговору); он сам просит у ней
свидания. Но когда Наталья на этом свидании говорит ему, что
выйдет за него, с согласия и без согласия матери все равно, лишь бы он
только любил ее, когда произносит слова: «Знайте же, я буду ваша»,
Рудин только и находит в ответ восклицание: «О боже!» —
восклицание больше конфузное, чем восторженное; — а потом действует так
хорошо, то есть до такой степени труслив и вял, что Наталья
принуждена сама пригласить его на свидание для решения, что же им
делать.
Получивши записку, «он видел, что развязка приближается,
а втайне смущался духом». Наталья говорит, что мать объявила ей,
что скорее согласится видеть дочь мертвой, чем женой Рудина, и
вновь спрашивает Рудина, что он теперь намерен делать. Рудин
отвечает по-прежнему «боже мой, боже мой» и прибавляет еще наивнее:
«так скоро! что я намерен делать? у меня голова кругом идет, я ничего
сообразить не могу». Но потом соображает, что следует «покориться».
Названный трусом, он начинает упрекать Наталью, потом читать ей
306
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
лекцию о своей честности и на замечание, что не это должна она
услышать теперь от него, отвечает, что он не ожидал такой
решительности. Дело кончается тем, что оскорбленная девушка
отворачивается от него, едва ли не стыдясь своей любви к трусу
Но, может быть, эта жалкая черта в характере героев —
особенность повестей г. Тургенева? Быть может, характер именно его
таланта склоняет его к изображению подобных лиц? Вовсе нет; характер
таланта, нам кажется, тут ничего не значит. Вспомните любой
хороший, верный жизни рассказ какого угодно из нынешних наших
поэтов, и если в рассказе есть идеальная сторона, будьте уверены,
что представитель этой идеальной стороны поступает точно так же,
как лица г. Тургенева. Например, характер таланта г. Некрасова вовсе
не таков, как г. Тургенева; какие угодно недостатки можете находить
в нем, но никто не скажет, чтобы недоставало в таланте г. Некрасова
энергии и твердости. Что же делает герой в его поэме «Саша»?
Натолковал он Саше что, говорит, «не следует слабеть душою», потому что
«солнышко правды взойдет над землею» и что надобно действовать
для осуществления своих стремлений, а потом, когда Саша
принимается за дело, он говорит, что все это напрасно и ни к чему не
поведет, что он «болтал пустое». Припомним, как поступает Бельтов: и он
точно так же предпочитает всякому решительному шагу отступление.
Подобных примеров набрать можно было бы очень много. Повсюду,
каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его личные
понятия о поступках своего героя, герои действует одинаково со всеми
другими порядочными людьми, подобно ему выведенными у других
поэтов: пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное
время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами
и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и
точно выразить свои чувства и желания, — большая часть героев
начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке.
Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои
силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие
об их мыслях; но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания,
сказать: «Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же
действовать, а мы вас поддержим», — при такой реплике одна половина
храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо
упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение,
начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что
Русский человек на rendez-vous
307
они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому
что «как же можно так скоро», и «притом же они — честные люди»,
и не только честные, но очень смирные и не хотят подвергать вас
неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо
всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего — ни за что
не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и
неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже
сказано, они «никак не ждали и не ожидали» и проч.
Таковы-то наши «лучшие люди» — все они похожи на нашего
Ромео. Много ли беды для Аси в том, что г. N. никак не знал, что ему
с ней делать, и решительно прогневался, когда от него потребовалась
отважная решимость; много ли беды в этом для Аси, мы не знаем.
Первой мыслью приходит, что беды от этого ей очень мало;
напротив, и слава богу, что дрянное бессилие характера в нашем Ромео
оттолкнуло от него девушку еще тогда, когда не было поздно. Ася
погрустит несколько недель, несколько месяцев и забудет все и может
отдаться новому чувству, предмет которого будет более достоин ее.
Так, но в том-то и беда, что едва ли встретится ей человек более
достойный; в том и состоит грустный комизм отношений нашего
Ромео к Асе, что наш Ромео — действительно один из лучших людей
нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас.
Только тогда будет довольна Ася своими отношениями к людям, когда,
подобно другим, станет ограничиваться прекрасными
рассуждениями, пока не представляется случая приняться за исполнение речей,
а чуть представится случай, прикусит язычок и сложит руки, как
делают все. Только тогда и будут ею довольны; а теперь сначала, конечно,
всякий скажет, что эта девушка очень милая, с благородной душой,
с удивительной силой характера, вообще девушка, которую нельзя не
полюбить, перед которой нельзя не благоговеть; но все это будет
говориться лишь до той поры, пока характер Аси выказывается одними
словами, пока только предполагается, что она способна на
благородный и решительный поступок; а едва сделает она шаг, сколько-нибудь
оправдывающий ожидания, внушаемые ее характером, тотчас сотни
голосов закричат:
«Помилуйте, как это можно, ведь это безумие! Назначать
rendezvous молодому человеку! Ведь она губит себя, губит совершенно
бесполезно! Ведь из этого ничего не может выйти, решительно ничего,
кроме того, что она потеряет свою репутацию. Можно ли так безумно
308
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
рисковать собою?» «Рисковать собою? это бы еще ничего, —
прибавляют другие. — Пусть она делала бы с собой, что хочет, но к чему
подвергать неприятностям других? В какое положение поставила она
этого бедного молодого человека? Разве он думал, что она захочет
повести его так далеко? Что теперь ему делать при ее безрассудстве?
Если он пойдет за ней, он погубит себя; если он откажется, его
назовут трусом и сам он будет презирать себя. Я не знаю, благородно
ли ставить в подобные неприятные положения людей, не подавших,
кажется, никакого особенного повода к таким несообразным
поступкам. Нет, это не совсем благородно. А бедный брат? Какова его роль?
Какую горькую пилюлю поднесла ему сестра? Целую жизнь ему не
переварить этой пилюли. Нечего сказать, одолжила милая
сестрица! Я не спорю, все это очень хорошо на словах, — и благородные
стремления, и самопожертвование, и бог знает какие прекрасные
вещи, но я скажу одно: я бы не желал быть братом Аси. Скажу более:
если б я был на месте ее брата, я запер бы ее на полгода в ее комнате.
Для ее собственной пользы надо запереть ее. Она, видите ли, изволит
увлекаться высокими чувствами; но каково расхлебывать другим то,
что она изволила наварить? Нет, я не назову ее поступок, не назову
ее характер благородным, потому что я не называю благородными
тех, которые легкомысленно и дерзко вредят другим». Так пояснится
общий крик рассуждениями рассудительных людей. Нам отчасти
совестно признаться, но все-таки приходится признаться, что эти
рассуждения кажутся нам основательными. В самом деле, Ася вредит не
только себе, но и всем, имевшим несчастие по родству или по случаю
быть близкими к ней; а тех, которые для собственного удовольствия
вредят всем близким своим, мы не можем не осуждать.
Осуждая Асю, мы оправдываем нашего Ромео. В самом деле, чем
он виноват? разве он подал ей повод действовать безрассудно? разве
он подстрекал ее к поступку, которого нельзя одобрить? разве он не
имел права сказать ей, что напрасно она запутала его в неприятные
отношения? Вы возмущаетесь тем, что его слова суровы, называете
их грубыми. Но правда всегда бывает сурова, и кто осудит меня, если
вырвется у меня даже грубое слово, когда меня, ни в чем не
виноватого, запутают в неприятное дело, да еще пристают ко мне, чтоб я
радовался беде, в которую меня втянули?
Я знаю, отчего вы так несправедливо восхитились было
неблагородным поступком Аси и осудили было нашего Ромео. Я знаю это
Русский человек на rendez-vous
309
потому, что сам на минуту поддался неосновательному впечатлению,
сохранившемуся в вас. Вы начитались о том, как поступали и
поступают люди в других странах. Но сообразите, что ведь то другие
страны. Мало ли что делается на свете в других местах, но ведь не всегда
и не везде возможно то, что очень удобно при известной обстановке.
В Англии, например, в разговорном языке не существует слова «ты»:
фабрикант своему работнику, землевладелец нанятому им
землекопу, господин своему лакею говорит непременно «вы» и, где случится,
вставляют в разговоре с ними sir, то есть все равно, что французское
monsieur, а по-русски и слова такого нет, а выходит учтивость в том
роде, как если бы барин своему мужику говорил: «Вы, Сидор Карпыч,
сделайте одолжение зайдите ко мне на чашку чая, а потом поправьте
дорожки у меня в саду». Осудите ли вы меня, если я говорю с
Сидором без таких субтильностей? Ведь я был бы смешон, если бы принял
язык англичанина. Вообще, как скоро вы начинаете осуждать то, что
не нравится вам, вы становитесь идеологом, то есть самым забавным
и, сказать вам на ушко, самым опасным человеком на свете, теряете
из-под ваших ног твердую опору практичной действительности.
Опасайтесь этого, старайтесь сделаться человеком практическим в своих
мнениях; и на первый раз постарайтесь примириться хоть с нашим
Ромео, кстати, уж зашла о нем речь. Я вам готов рассказать путь,
которым я дошел до этого результата не только относительно сцены
с Асей, но и относительно всего в мире, то есть стал доволен всем,
что ни вижу около себя, ни на что не сержусь, ничем не огорчаюсь;
(кроме неудач в делах, лично для меня выгодных), ничего и никого
в мире не осуждаю (кроме людей, нарушающих мои личные
выгоды), ничего не желаю (кроме собственной пользы), — словом сказать,
я расскажу вам, как я сделался из желчного меланхолика человеком
до того практическим и благонамеренным, что даже не удивлюсь,
если получу награду за свою благонамеренность.
Я начал с того замечания, что не следует порицать людей ни за что
и ни в чем, потому что, сколько я видел, в самом умном человеке есть
своя доля ограниченности, достаточная для того, чтобы он в своем
образе мыслей не мог далеко уйти от общества, в котором он
воспитался и живет, и в самом энергическом человеке есть своя доза
апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках не удалялся
много от рутины и, как говорится, плыл по течению реки, куда несет
вода.
зю
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
В среднем кругу принято красить яйца к пасхе, на масленице есть
блины, — и все так делают, хотя иной крашеных яиц вовсе не ест,
а на тяжесть блинов почти каждый жалуется. Так не в одних пустяках,
и во всем так. Принято, например, что мальчиков следует держать
свободнее, нежели девочек, и каждый отец, каждая мать, как бы ни
были убеждены в неразумности такого различия, воспитывают детей
по этому правилу. Принято, что богатство — вещь хорошая, и каждый
бывает доволен, если вместо десяти тысяч рублей в год начнет
получать благодаря счастливому обороту дел двадцать тысяч, хотя, здраво
рассуждая, каждый умный человек знает, что те вещи, которые,
будучи недоступны при первом доходе, становятся доступны при втором,
не могут приносить никакого существенного удовольствия.
Например, если с десятью тысячами дохода можно сделать бал в 500
рублей, то с двадцатью можно сделать бал в 1 000 рублей: последний
будет несколько лучше первого, но все-таки особенного великолепия
в нем не будет, его назовут не более как довольно порядочным балом,
а порядочным балом будет и первый. Таким образом, даже чувство
тщеславия при 20 тысячах дохода удовлетворяется очень немногим
более того, как при 10 тысячах; что же касается до удовольствий,
которые можно назвать положительными, в них разница совсем
незаметна. Лично для себя человек с 10 тысячами дохода имеет точно
такой же стол, точно такое же вино и кресло того же ряда в опере,
как и человек с двадцатью тысячами. Первый называется человеком
довольно богатым, и второй точно так же не считается
чрезвычайным богачом — существенной разницы в их положении нет; и,
однако же, каждый по рутине, принятой в обществе, будет радоваться
при увеличении своих доходов с 10 на 20 тысяч, хотя фактически не
будет замечать почти никакого увеличения в своих удовольствиях.
Люди — вообще страшные рутинеры: стоит только всмотреться
поглубже в их мысли, чтоб открыть это. Иной господин чрезвычайно
озадачит вас на первый раз независимостью своего образа мыслей
от общества, к которому принадлежит, покажется вам, например,
космополитом, человеком без сословных предубеждений и т. п., и сам,
подобно своим знакомым, воображает себя таким от чистой души.
Но наблюдайте точнее за космополитом, и он окажется французом
или русским со всеми особенностями понятий и привычек,
принадлежащими той нации, к которой причисляется по своему паспорту,
окажется помещиком или чиновником, купцом или профессором
Русский человек на rendez-vous
311
со всеми оттенками образа мыслей, принадлежащими его сословию.
Я уверен, что многочисленность людей, имеющих привычку друг на
друга сердиться, друг друга обвинять, зависит единственно от того,
что слишком немногие занимаются наблюдениями подобного рода;
а попробуйте только начать всматриваться в людей с целью
проверки, действительно ли отличается чем-нибудь важным от других
людей одного с ним положения тот или другой человек, кажущийся на
первый раз непохожим на других, попробуйте только заняться
такими наблюдениями, и этот анализ так завлечет вас, так заинтересует
ваш ум, будет постоянно доставлять такие успокоительные
впечатления вашему духу, что вы не отстанете от него уже никогда и очень
скоро придете к выводу: «Каадый человек — как все люди, в каждом —
точно то же, что и в других». И чем дальше, тем тверже вы станете
убеждаться в этой аксиоме. Различия только потому кажутся важны,
что лежат на поверхности и бросаются в глаза, а под видимым,
кажущимся различием скрывается совершенное тождество. Да и с какой
стати в самом деле человек был бы противоречием всем законам
природы? Ведь в природе кедр и иссоп питаются и цветут, слон и мышь
движутся и едят, радуются и сердятся по одним и тем же законам; под
внешним различием форм лежит внутреннее тождество организма
обезьяны и кита, орла и курицы; стоит только вникнуть в дело еще
внимательнее, и увидим, что не только различные существа одного
класса, но и различные классы существ устроены и живут по одним
и тем же началам, что организмы млекопитающего, птицы и рыбы
одинаковы, что и червяк дышит подобно млекопитающему, хотя нет
у него ни ноздрей, ни дыхательного горла, ни легких. Не только
аналогия с другими существами нарушалась бы непризнанием
одинаковости основных правил и пружин в нравственной жизни каждого
человека, — нарушалась бы и аналогия с его физической жизнью.
Из двух здоровых людей одинаковых лет в одинаковом
расположении духа у одного пульс бьется, конечно, несколько сильнее и чаще,
нежели у другого; но велико ли это различие? Оно так ничтожно,
что наука даже не обращает на него внимания. Другое дело, когда вы
сравните людей разных лет или в разных обстоятельствах: у дитяти
пульс бьется вдвое скорее, нежели у старика, у больного гораздо чаще
или реже, нежели у здорового, у того, кто выпил стакан
шампанского, чаще, нежели у того, кто выпил стакан воды. Но и тут понятно
всякому, что разница — не в устройстве организма, а в обстоятель-
312
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ствах, при которых наблюдается организм. И у старика, когда он был
ребенком, пульс бился так же часто, как у ребенка, с которым вы его
сравниваете; и у здорового ослабел бы пульс, как у больного, если бы
он занемог той же болезнью; и у Петра, если б он выпил стакан
шампанского, точно так же усилилось бы биение пульса, как у Ивана.
Вы почти достигли границ человеческой мудрости, когда
утвердились в этой простой истине, что каждый человек — такой же
человек, как и все другие. Не говорю уже об отрадных следствиях этого
убеждения для вашего житейского счастья; вы перестанете сердиться
и огорчаться, перестанете негодовать и обвинять, будете кротко
смотреть на то, за что прежде готовы были браниться и драться; в самом
деле, каким образом стали бы вы сердиться или жаловаться на
человека за такой поступок, какой каждым был бы сделан на его месте?
В вашу душу поселяется ничем не возмутимая кроткая тишина,
сладостнее которой может быть только браминское созерцание кончика
носа, с тихим неумолчным повторением слов «ом-мани-пад-ме-хум».
Я не говорю уже об этой неоцененной душевно-практической
выгоде, не говорю даже и о том, сколько денежных выгод доставит вам
мудрая снисходительность к людям: вы совершенно радушно будете
встречать негодяя, которого прогнали бы от себя прежде; а этот
негодяй, быть может, человек с весом в обществе, и хорошими
отношениями с ним поправятся ваши собственные дела. Не говорю и о том,
что вы сами тогда менее будете стесняться ложными сомнениями
совестливости в пользовании теми выгодами, какие будут
подвертываться вам под руку: к чему будет вам стесняться излишней
щекотливостью, если вы убеждены, что каждый поступил бы на вашем месте
точно так же, как и вы? Всех этих выгод я не выставляю на вид, имея
целью указать только чисто научную, теоретическую важность
убеждения в одинаковости человеческой натуры во всех людях. Если все
люди существенно одинаковы, то откуда же возникает разница в их
поступках? Стремясь к достижению главной истины, мы уже нашли
мимоходом и тот вывод из нее, который служит ответом на этот
вопрос. Для нас теперь ясно, что все зависит от общественных привычек
и от обстоятельств, то есть в окончательном результате все зависит
исключительно от обстоятельств, потому что и общественные
привычки произошли в свою очередь также из обстоятельств. Вы вините
человека, — всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его
вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмо-
Русский человек на rendez-vous
313
тритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда
его. Рассуждая о других, мы слишком склонны всякую беду считать
виною, — в этом истинная беда для практической жизни, потому что
вина и беда — вещи совершенно различные и требуют обращения
с собою одна вовсе не такого, как другая. Вина вызывает порицание
или даже наказание против лица. Беда требует помощи лицу через
устранение обстоятельств более сильных, нежели его воля. Я знал
одного портного, который раскаленным утюгом тыкал в зубы своим
ученикам. Его, пожалуй, можно назвать виноватым, можно и наказать
его; но зато не каждый портной тычет горячим утюгом в зубы,
примеры такого неистовства очень редки. Но почти каждому мастеровому
случается, выпивши в праздник, подраться — это уж не вина, а просто
беда. Тут нужно не наказание отдельного лица, а изменение в
условиях быта для целого сословия. Тем грустнее вредное смешивание вины
и беды, что различать эти две вещи очень легко; один признак
различия мы уже видели: вина — это редкость, это исключение из правила;
беда — это эпидемия. Умышленный поджог — это вина; зато из
миллионов людей находится один, который решается на это дело. Есть
другой признак, нужный для дополнения к первому. Беда
обрушивается на том самом человеке, который исполняет условие, ведущее
к беде; вина обрушивается на других, принося виноватому пользу. Этот
последний признак чрезвычайно точен. Разбойник зарезал человека,
чтобы ограбить его, и находит в том пользу себе, — это вина.
Неосторожный охотник нечаянно ранил человека и сам первый мучится
несчастием, которое сделал, — это уж не вина, а просто беда.
Признак верен, но если принять его с некоторой
проницательностью, с внимательным разбором фактов, то окажется, что вина почти
никогда не бывает на свете, а бывает только беда. Сейчас мы
упомянули о разбойнике. Сладко ли ему жить? Если бы не особенные, очень
тяжелые для него обстоятельства, взялся ли бы он за свое ремесло?
Где вы найдете человека, которому приятнее было бы и в мороз и
в непогоду прятаться в берлогах и шататься по пустыням, часто
терпеть голод и постоянно дрожать за свою спину, ожидающую плети, —
которому это было бы приятнее, нежели комфортабельно курить
сигару в спокойных креслах или играть в ералаш в Английском клубе,
как делают порядочные люди?
Нашему Ромео также было бы гораздо приятнее наслаждаться
взаимными приятностями счастливой любви, нежели остаться в дураках
314
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
и жестоко бранить себя за пошлую грубость с Асей. Из того, что
жестокая неприятность, которой подвергается Ася, приносит ему
самому не пользу или удовольствие, а стыд перед самим собой, то есть
самое мучительное из всех нравственных огорчений, мы видим, что
он попал не в вину, а в беду. Пошлость, которую он сделал, была бы
сделана очень многими другими, так называемыми порядочными
людьми или лучшими людьми нашего общества; стало быть, это не
что иное, как симптом эпидемической болезни, укоренившейся в
нашем обществе.
Симптом болезни не есть самая болезнь. И если бы дело состояло
только в том, что некоторые или, лучше сказать, почти все «лучшие»
люди обижают девушку, когда в ней больше благородства или меньше
опытности, нежели в них, — это дело, признаемся, мало интересовало
бы нас. Бог с ними, с эротическими вопросами, — не до них читателю
нашего времени, занятому вопросами об административных и
судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении
крестьян. Но сцена, сделанная нашим Ромео Асе, как мы заметили, —
только симптом болезни, которая точно таким же пошлым образом
портит все наши дела, и только нужно нам всмотреться, отчего попал
в беду наш Ромео, мы увидим, чего нам всем, похожим на него,
ожидать от себя и ожидать для себя и во всех других делах.
Начнем с того, что бедный молодой человек совершенно не
понимает того дела, участие в котором принимает. Дело ясно, но он
одержим таким тупоумием, которого не в силах образумить
очевиднейшие факты. Чему уподобить такое слепое тупоумие, мы решительно
не знаем. Девушка, не способная ни к какому притворству, не знающая
никакой хитрости, говорит ему: «Сама не знаю, что со мной делается.
Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня...
по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это
ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила,
сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка». Кажется, ясно,
какое чувство пробудилось в ней. Через две минуты она с волнением,
отражающимся даже бледностью на ее лице, спрашивает, нравилась
ли ему та дама, о которой, как-то шутя, упомянуто было в разговоре
много дней тому назад; потом спрашивает, что ему нравится в
женщине; когда он замечает, как хорошо сияющее небо, она говорит:
«Да, хорошо! Если б мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как
бы полетели!.. Так бы и утонули в этой синеве... но мы не птицы». —
Русский человек на rendez-vous
315
«А крылья могут у нас вырасти», возразил я. — «Как так?» —
«Поживете — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не
беспокойтесь, у вас будут крылья». — «А у вас были?» —«Как вам сказать?.,
кажется, до сих пор я еще не летал». На другой день, когда он вошел,
Ася покраснела; хотела было убежать из комнаты; была грустна и,
наконец, припоминая вчерашний разговор, оказала ему: «Помните, вы
вчера говорили о крыльях? Крылья у меня выросли».
Слова эти были так ясны, что даже недогадливый Ромео,
возвращаясь домой, не мог не дойти до мысли: неужели она меня любит?
С этой мыслью заснул и, проснувшись на другое утро, спрашивал
себя: «неужели она меня любит?»
В самом деле, трудно было не понять этого, и, однако ж, он не
понял. Понимал ли он, по крайней мере то, что делалось в его
собственном сердце? И тут приметы были не менее ясны. После первых
же двух встреч с Асей он чувствует ревность при виде ее нежного
обращения с братом и от ревности не хочет верить, что Гагин —
действительно брат ей. Ревность в нем так сильна, что он не может
видеть Асю, но не мог бы и удержаться от того, чтобы видеть ее, потому
он, будто 18-летний юноша, убегает от деревеньки, в которой живет
она, несколько дней скитается по окрестным полям. Убедившись,
наконец, что Ася в самом деле только сестра Гагину, он счастлив, как
ребенок, и, возвращаясь от них, чувствует даже, что «слезы закипают
у него на глазах от восторга», чувствует вместе с тем, что этот восторг
весь сосредоточивается на мысли об Асе, и, наконец, доходит до того,
что не может ни о чем думать, кроме нее. Кажется, человек, любивший
несколько раз, должен был бы понимать, какое чувство
высказывается в нем самом этими признаками. Кажется, человек, хорошо
знавший женщин, мог бы понимать, что делается в сердце Аси. Но когда
она пишет ему, что любит его, эта записка совершенно изумляет его:
он, видите ли, никак этого не предугадывал. Прекрасно; но как бы то
ни было, предугадывал он или не предугадывал, что Ася любит его,
все равно: теперь ему известно положительно: Ася любит его, он
теперь видит это; ну, что же он чувствует к Асе? Решительно сам он не
знает, как ему отвечать на этот вопрос. Бедняжка! на тридцатом году
ему по молодости лет нужно было бы иметь дядьку, который говорил
бы ему, когда следует утереть носик, когда нужно ложиться почивать
и сколько чашек чайку надобно ему кушать. При виде такой нелепой
неспособности понимать вещи вам может казаться, что перед вами
316
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
или дитя или идиот. Ни то, ни другое, а наш Ромео человек очень
умный, имеющий, как мы заметили, под тридцать лет, очень много
испытавший в жизни, богатый запасом наблюдений над самим собой
и другими. Откуда же его невероятная недогадливость? В ней
виноваты два обстоятельства, из которых, впрочем, одно проистекает из
другого, так что все сводится к одному. Он не привык понимать
ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была
его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым
он привык. Это первое. Второе: он робеет, он бессильно отступает
от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск,
опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной
мелочности во всем. Он похож на человека, который всю жизнь играл
в ералаш по половине копейки серебром; посадите этого
искусного игрока за партию, в которой выигрыш или проигрыш не гривны,
а тысячи рублей, и вы увидите, что он совершенно переконфузится,
что пропадет вся его опытность; спутается все его искусство; он будет
делать самые нелепые ходы, быть может, не сумеет и карт держать
в руках. Он похож на моряка, который всю свою жизнь делал
рейсы из Кронштадта в Петербург и очень ловко умел проводить свой
маленький пароход по указанию вех между бесчисленными мелями
в полупресной воде; что, если вдруг этот опытный пловец по стакану
воды увидит себя в океане?
Боже мой! За что мы так сурово анализируем нашего героя? Чем
он хуже других? Чем он хуже нас всех? Когда мы входим в общество,
мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках
или фраках; эти люди имеют пять с половиной или шесть, а иные и
больше футов роста; они отращивают или бреют волосы на щеках,
верхней губе и бороде; и мы воображаем, что мы видим перед собой
мужчин. Это — совершенное заблуждение, оптический обман,
галлюцинация — не больше. Без приобретения привычки к самобытному
участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина
ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола
средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится или, по
крайней мере, не становится мужчиной благородного характера.
Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли
об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием
в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой
вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом об-
Русский человек на rendez-vous
317
щую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, что останется
наблюдать мне? в чем остается участвовать мне? Остается
хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами
о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах. Если я стану
наблюдать людей в том виде, как они представляются мне при
отдалении от них участия в гражданской деятельности, какое понятие
о людях и жизни образуется во мне?
Когда-то любили у нас Гофмана, и была когда-то переведена его
повесть о том, как по странному случаю глаза господина Перигрину-
са Тисса82 получили силу микроскопа, и о том, каковы были для его
понятий о людях результаты этого качества его глаз. Красота,
благородство, добродетель, любовь, дружба, все прекрасное и великое
исчезло для него из мира. На кого ни взглянет он, каждый мужчина
представляется ему подлым трусом или коварным интриганом,
каждая женщина — кокеткою, все люди — лжецами и эгоистами,
мелочными и низкими до последней степени. Эта страшная повесть могла
создаваться только в голове человека, насмотревшегося на то, что
называется в Германии Kleinstadterei, насмотревшегося на жизнь людей,
лишенных всякого участия в общественных делах, ограниченных
тесно размеренным кружком своих частных интересов, потерявших
всякую мысль о чем-нибудь высшем копеечного преферанса
(которого, впрочем, еще не было известно во времена Гофмана).
Припомните, чем становится разговор в каком бы то ни было обществе, как
скоро речь перестает идти об общественных делах? Как бы ни были
умны и благородны собеседники, если они не говорят о делах
общественного интереса, они начинают сплетничать или пустословить;
злоязычная пошлость или беспутная пошлость, в том и другом случае
бессмысленная пошлость — вот характер, неизбежно принимаемый
беседой, удаляющейся от общественных интересов. По характеру
беседы можно судить о беседующих. Если даже высшие по развитию
своих понятий люди впадают в пустую и грязную пошлость, когда их
мысль уклоняется от общественных интересов, то легко сообразить,
каково должно быть общество, живущее в совершенном отчуждении
от этих интересов. Представьте же себе человека, который
воспитался жизнью в таком обществе: каковы будут выводы из его опытов?
каковы результаты его наблюдений над людьми? Все пошлое и
мелочное он понимает превосходно, но, кроме этого, не понимает ничего,
потому что ничего не видал и не испытал. Он мог, бог знает, каких
318
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
прекрасных вещей начитаться в книгах, он может находить
удовольствие в размышлениях об этих прекрасных вещах; быть может, он
даже верит тому, что они существуют или должны существовать и на
земле, а не в одних книгах. Но как вы хотите, чтоб он понял и
угадал их, когда они вдруг встретятся его неприготовленному взгляду,
опытному только в классификации вздора и пошлости? Как вы
хотите, чтобы я, которому под именем шампанского подавали вино,
никогда и не видавшее виноградников Шампани, но, впрочем, очень
хорошее шипучее вино, как вы хотите, чтоб я, когда мне вдруг
подадут действительно шампанское вино, мог сказать наверное: да, это
действительно уже не подцелка? Если я скажу это, я буду фат. Мой вкус
чувствует только, что это вино хорошо, но мало ли я пил хорошего
поддельного вина? Почему я знаю, что и на этот раз мне поднесли
не поддельное вино? Нет, нет, в подделках я знаток, умею отличить
хорошую от дурной; но неподдельного вина оценить я не могу.
Счастливы мы были бы, благородны мы были бы, если бы
только неприготовленность взгляда, неопытность мысли мешала нам
угадывать и ценить высокое и великое, когда оно попадется нам
в жизни. Но нет, и наша воля участвует в этом грубом
непонимании. Не одни понятия сузились во мне от пошлой ограниченности,
в суете которой я живу; этот характер перешел и в мою волю:
какова широта взгляда, такова широта и решений; и, кроме того,
невозможно не привыкнуть, наконец, поступать так, как поступают все.
Заразительность смеха, заразительность зевоты не исключительные
случаи в общественной физиологии, — та же заразительность
принадлежит всем явлениям, обнаруживающимся в массах. Есть чья-то
басня о том, как какой-то здоровый человек попал в царство хромых
и кривых. Басня говорит, будто бы все на него нападали, зачем у него
оба глаза и обе ноги целы; басня солгала, потому что не договорила
все: на пришельца напали только сначала, а когда он обжился на
новом месте, он сам прищурил один глаз и стал прихрамывать; ему
казалось уже, что так удобнее, или, по крайней мере, приличнее
смотреть и ходить, и скоро он даже забыл, что, собственно говоря, он
не хром и не крив. Если вы охотник до грустных эффектов, можете
прибавить, что когда, наконец, пришла нашему заезжему надобность
пойти твердым шагом и зорко смотреть обоими глазами, уже не мог
этого он сделать: оказалось, что закрытый глаз уже не открывался,
искривленная нога уже не распрямлялась; от долгого принуждения
Русский человек на rendez-vous
319
нервы и мускулы бедных искаженных суставов утратили силу
действовать правильным образом.
Прикасающийся к смоле зачернится — в наказание себе, если
прикасался добровольно, на беду себе, если не добровольно. Нельзя
не пропитаться пьяным запахом тому, кто живет в кабаке, хотя бы сам
он не выпил ни одной рюмки; нельзя не проникнуться мелочностью
воли тому, кто живет в обществе, не имеющем никаких стремлений,
кроме мелких житейских расчетов. Невольно вкрадывается в сердце
робость от мысли, что вот, может быть, придется мне принять
высокое решение, смело сделать отважный шаг не по пробитой тропинке
ежедневного моциона. Потому-то стараешься уверять себя, что нет,
не пришла еще надобность ни в чем таком необыкновенном, до
последней роковой минуты, нарочно убеждаешь себя, что все
кажущееся выходящим из привычной мелочности не более как обольщение.
Ребенок, который боится буки, зажмуривает глаза и кричит как
можно громче, что буки нет, что бука вздор,— этим, видите ли, он
ободряет себя. Мы так умны, что стараемся уверить себя, будто все,
чего трусим мы, трусим единственно от того, что нет в вас силы ни
на что высокое, — стараемся уверить себя, что все это вздор, что нас
только пугают этим, как ребенка букой, а в сущности ничего такого
нет и не будет. А если будет? Ну тогда выйдет с нами то же, что в
повести г. Тургенева с нашим Ромео. Он тоже ничего не предвидел и не
хотел предвидеть; он также зажмуривал себе глаза и пятился, а
прошло время — пришлось ему кусать локти, да уж не достанешь.
И как непродолжительно было время, в которое решалась и его
судьба, и судьба Аси, — всего только несколько минут, а от них
зависела целая жизнь, и, пропустив их, уже ничем нельзя было исправить
ошибку. Едва он вошел в комнату, едва успел произнести несколько
необдуманных, почти бессознательных безрассудных слов, и уже все
было решено: разрыв навеки, и нет возврата. Мы нимало не жалеем
об Асе; тяжело было ей слышать суровые слова отказа, но, вероятно,
к лучшему для нее было, что довел ее до разрыва безрассудный
человек. Если б она осталась связана с ним, для него, конечно, было бы
то великим счастьем; но мы не думаем, чтоб ей было хорошо жить
в близких отношениях к такому господину. Кто сочувствует Асе, тот
должен радоваться тяжелой, возмутительной сцене. Сочувствующий
Асе совершенно прав: он избрал предметом своих симпатий существо
зависимое, существо оскорбляемое. Но хотя и со стыдом, должны мы
320
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
признаться, что принимаем участие в судьбе нашего героя. Мы не
имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями
существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам
близких. Но мы не можем еще оторваться от предубеждений,
набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана
и загублена была наша молодость, не можем оторваться от мелочных
понятий, внушенных нам окружающим обществом; нам все
кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта), будто он
оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель
нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто бы без него
было бы нам хуже. Все сильней и сильней развивается в нас мысль,
что это мнение о нем — пустая мечта, мы чувствуем, что не долго
уже останется нам находиться под ее влиянием; что есть люди лучше
его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы
лучше жить, но в настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись
с этой мыслью, не совсем оторвались от мечты, на которой
воспитаны; потому мы все еще желаем добра нашему герою и его собратам.
Находя, что приближается в действительности для них решительная
минута, которой определится навеки их судьба, мы все еще не
хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое
положение; не способны поступить благоразумно и вместе
великодушно, — только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях
и привычках, будут уметь действовать как честные и благоразумные
граждане, а сами они теперь не пригодны к роли, которая дается им;
мы не хотим еще обратить на них слова пророка: «Будут видеть они
и не увидят, будут слышать и не услышат, потому что загрубел смысл
в этих людях, и оглохли их уши, и закрыли они свои глаза, чтоб не
видеть», — нет, мы все еще хотим полагать их способными к
пониманию совершающегося вокруг них и над ними, хотим думать, что они
способны последовать мудрому увещанию голоса, желавшего спасти
их, и потому мы хотим дать им указание, как им избавиться от бед,
неизбежных для людей, не умеющих во время сообразить своего
положения и воспользоваться выгодами, которые представляет
мимолетный час. Против желания нашего ослабевает в нас с каждым днем
надежда на проницательность и энергию людей, которых мы
упрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и действовать
сообразно здравому смыслу, но пусть, по крайней мере, не говорят они,
что не слышали благоразумных советов, что не было им объясняемо
Русский человек на rendez-vous
321
их положение. Между вами, господа (обратимся мы с речью к этим
достопочтенным людям), есть довольно много людей грамотных; они
знают, как изображалось счастье по древней мифологии: оно
представлялось как женщина с длинной косой, развеваемой впереди ее
ветром, несущим эту женщину; легко поймать ее, пока она подлетает
к вам, но пропустите один миг — она пролетит, и напрасно погнались
бы вы ловить ее: нельзя схватить ее, оставшись позади. Невозвратен
счастливый миг. Не дождаться вам будет, пока повторится
благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение
небесных светил, которое совпадает с настоящим часом. Не пропустить
благоприятную минуту — вот высочайшее условие житейского
благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но
не каждый умеет ими пользоваться, и в этом искусстве почти
единственно состоит различие между людьми, жизнь которых
устраивается хорошо или дурно. И для вас, хотя, быть может, и не были вы
достойны того, обстоятельства сложились счастливо, так счастливо,
что единственно от вашей воли зависит ваша судьба в решительный
миг. Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться
тем положением, в которое вы поставлены теперь, — вот в чем для вас
вопрос о счастии или несчастии навеки.
В чем же способы и правила для того, чтоб не упустить счастья,
предлагаемого обстоятельствами? Как в чем? Разве трудно бывает
сказать, чего требует благоразумие в каждом данном случае? Положим,
например, что у меня есть тяжба, в которой я кругом виноват.
Предположим также, что мой противник, совершенно правый, так привык
к несправедливостям судьбы, что с трудом уже верит в возможность
дождаться решения нашей тяжбы: она тянулась уже несколько
десятков лет; много раз спрашивал он в суде, когда будет доклад, и много
раз ему отвечали «завтра или послезавтра», и каждый раз проходили
месяцы и месяцы, годы и годы, и дело все не решалось. Почему оно
так тянулось, я не знаю, знаю только, что председатель суда почему-то
благоприятствовал мне (он, кажется, полагал, что я предан ему всей
душой). Но вот он получил приказание неотлагательно решить дело.
По своей дружбе ко мне он призвал меня и сказал:
«Не могу медлить решением вашего процесса; судебным порядком
не может он кончиться в вашу пользу, — законы слишком ясны; вы
проиграете все; потерей имущества не кончится для вас дело;
приговором нашего гражданского суда обнаружатся обстоятельства, за ко-
322
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
торые вы будете подлежать ответственности по уголовным законам, а
вы знаете, как они строги; каково будет решение уголовной палаты, я
не знаю, но думаю, что вы отделаетесь от нее слишком легко, если
будете приговорены только к лишению прав состояния, — между нами
будь сказано, можно ждать вам еще гораздо худшего. Ныне суббота;
в понедельник ваша тяжба будет доложена и решена; далее отлагать
ее не имею я силы при всем расположении моем к вам. Знаете ли,
что я посоветовал бы вам? Воспользуйтесь остающимся у вас днем:
предложите мировую вашему противнику; он еще не знает, как
безотлагательна необходимость, в которую я поставлен полученным мной
предписанием; он слышал, что тяжба решается в понедельник, но он
слышал о близком ее решении столько раз, что изверился своим
надеждам; теперь он еще согласится на полюбовную сделку, которая
будет очень выгодна для вас и в денежном отношении, не говоря уже о
том, что ею избавитесь вы от уголовного процесса, приобретете имя
человека снисходительного, великодушного, который как будто бы
сам почувствовал голос совести и человечности. Постарайтесь
кончить тяжбу полюбовной сделкой. Я прошу вас об этом как друг ваш».
Что мне теперь делать, пусть скажет каждый из вас: умно ли будет
мне поспешить к моему противнику для заключения мировой? Или
умно будет пролежать на своем диване единственный остающийся
мне день? Или умно будет накинуться с грубыми ругательствами на
благоприятствующего мне судью, дружеское предуведомление
которого давало мне возможность честью и выгодой для себя покончить
мою тяжбу?
Из этого примера читатель видит, как легко в данном случае
решить, чего требует благоразумие.
«Старайся примириться с своим противником, пока не дошли
вы с ним до суда, а иначе отдаст тебя противник судье, а суд отдаст
тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в темницу и не
выйдешь из нее, пока не расплатишься за все до последней мелочи».
(Матф., глава V, стих. 25 и 26).
Г. ЧИЧЕРИН КАК ПУБЛИЦИСТ
Недавно как-то мы отважились изложить мысль необычайно
новую и странную: если человек, до пятидесяти лет бывший низким
обманщиком и злодеем, попавшись в неожиданную беду, призывает
к себе честных людей и говорит: «спасите меня, я буду вашим верным
другом»), и если честные люди поверят ему, а потом, вывернувшись из
беды при их помощи, он начнет куролесить хуже прежнего, причем
даст на орехи и своим избавителям, то они сами виноваты в том,
что потерпят от него, — зачем было им верить обещанию низкого
обманщика83? Проницательные люди немедленно сообразили, что
мы восстаем против честности и защищаем обманщиков; сообразив
это, проницательные люди все поголовно вознегодовали на нашу
безнравственность, низость и обскурантизм; проникшись
негодованием, они стали выражать его самым благородным и энергическим
образом, и словесно, и в письмах, адресованных на наше имя. Мы
увидели необходимость принести публичное раскаяние в нашем
преступлении и в следующей книжке журнала написали: «Мы
совершенно заблуждались, говоря, что словам обманщиков не следует верить;
мы должны были только сказать, что злодеи должны подвергаться
уголовным наказаниям, и тот, кто по своему излишнему доверию к
их словам остановит совершение правосудия над такими людьми,
вредит сам себе и целому обществу». Из этих слов проницательные
люди немедленно убедились, что мы действительно раскаиваемся в
своей прошлой ошибке и смиряемся перед их удивительною
проницательностью. Тогда они с удовольствием стали потирать себе руки,
говоря: «Ну вот, мы вывели вас опять на прямую дорогу, с которой вы
было сбились». — «Правда, точно так», отвечали мы. Проницательные
люди смягчились и даже простили нам прежнюю нашу ошибку за
чистосердечное наше раскаяние.
Но увы! Мудрейший из мудрых погрешает семь раз в день; как же
нам, обыкновенным смертным, было спастись от нового падения?
В то самое время, как мы искренним покаянием искупали один
проступок, мы совершали другой, не менее тяжкий: по неразумному
легкомыслию мы проговорились о тех чувствах, какие внушает нам
восхитительное зрелище подвигов нашей литературы за прошлый год.
Проницательные люди опять-таки не замедлили понять истинный
324
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
смысл нашего грустного сарказма. Мы говорили, что литература едва-
едва, да и то спотыкаясь на каждом шагу, плелась вслед за вялыми
обскурантами, не видевшими, куда они идут, но желающими по
возможности идти назад, и в этом шествии получила несколько изрядных
пинков; проницательные люди тотчас сообразили, что мы не желаем
добра литературе. Мы говорили, что обсуждение важных вопросов,
умалчивающее о существенной стороне их, касающееся только
мелочей, да и то с какою-то вялою слабостью, никак не может назваться
удовлетворительным обсуждением, ничего не разъясняет, ни к чему,
кроме пошлостей и нелепостей, не приводит; проницательные люди
тотчас сообразили, что мы не сочувствуем свободе печатного слова
(термин «гласность» мы не решаемся употреблять, — до того он
опошлился). Был в наших словах и тот смысл, что каково бы, наконец, ни
было безотносительное, достоинство советов и объяснений, нечего
ожидать от них никакой пользы делу, когда советников и
объявителей просто считают злонамеренными, презирают их, гнушаются
ими; проницательные люди тотчас же поняли, в чем дело, и сильно
обиделись: они сообразили, что мы уважаем их менее, нежели людей,
чувства которых изобличали перед ними; они сообразили также, что
мы хвалим обскурантов и глупцов, и вознегодовали на нас.
Как вы полагали, читатель: можно ли было ожидать, чтобы люди
умные, ученые и отчасти знаменитые оказались одаренными такою
проницательностью?
Но к чему это предисловие? А хотя бы на первый раз к тому, чтобы
доказать необходимость еще другого предисловия.
Мы хотим быть строгими к г. Чичерину. Для вас, читатель, для вас,
человек обыкновенный, не одаренный изумительною
проницательностью, причины строгости ясны сами по себе, без всяких
объяснений. Г. Чичерин пользуется громкой известностью, а люди,
пользующиеся известностью, должны быть разбираемы строго; когда речь
идет о них, общественная польза требует не комплиментов, а
серьезной критики. Г. Чичерин человек умный и ученый. От умного и
ученого человека надобно требовать многого; если он говорит пустяки,
его можно по всей справедливости упрекать за это, —
снисходительность, на которую имеют право простаки, была бы относительно его
неуместна. Это все ясно для вас, читатель, для вас, человек с
обыкновенным здравым смыслом. Вы сами догадались бы, что мы строги
к г. Чичерину потому, что он знаменитость, и успокоились бы на этом
Г. Чичерин как публицист
325
и не осудили бы нас за строгость порицания, если бы оказалось, что
порицание основательно.
Но люди проницательные тотчас сообразят, что с этими простыми
причинами не следует ограничиваться их догадливости. Г. Чичерин —
знаменитость, стало быть, если его порицают, то порицают по каким-
нибудь личным расчетам; ведь без особенных личных побуждений
нельзя порицать знаменитостей, по мнению проницательных людей.
И они нападут на нас за г. Чичерина с таким же восхитительным
негодованием, как за Поэрио и за статью о прошлогодней литературе84.
Нечего делать, надобно покаяться перед проницательными
людьми, от догадливости которых никогда не утаишь самых сокровенных
своих мыслей! Да, наша строгость к г. Чичерину происходит из
личных побуждений. Каковы эти побуждения, мы должны объяснить, —
не ради вас, читатель, человек обыкновенный, а ради людей
проницательных.
Г. Чичерин считает себя непогрешимым мудрецом. Он все
обдумал, все взвесил, все решил. Он выше всяких заблуждений. Этого
мало. Он один имеет эту привилегию на мудрую непогрешимость.
Кто пишет не так, как приказывает он, тот человек вредный для
России. Он приказывает смотреть на все его глазами,, говорить обо всем
в его тоне под страхом политической казни. Если вы осмелитесь
заметить ему, что он напрасно принял на себя труд приказывать и
наказывать, он пожимает плечами и отвечает вам: «Вы, друг мой, человек
прекрасной души, но вы глупы. Я один понимаю вещи, вы все ничего
не смыслите; слушайтесь, слабоумные друзья мои, меня,
единственного умного человека между вами».
Из этого факта родилась наша статья. Без этого факта не только
быть строгими к г. Чичерину, но и говорить о нем мы не захотели
бы, потому что не стоило бы труда разбирать его книгу. Положим,
что она наполнена странными понятиями, но мало ли у нас книг,
наполненных странными понятиями? Почему же именно ему мы стали
бы вменять в упрек то, в чем столько же виноваты десятки других
писателей, также пользующихся известностью умных и ученых людей?
Его книга не хуже многих других, так пусть бы оставался он со своим
авторитетом, довольно безвредным по ограниченности круга людей,
имеющих охоту соглашаться с ним.
Но он взял на себя высокомерие приказывать и наказывать, он
взял на себя высокомерие объявлять вредными людьми или глупца-
326
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ми тех, кто не покоряется ему, а это уже другое дело. Надобно
посмотреть, что это такой за мудрец и владыка появился между нами.
Он предписывает нам, какие понятия должны мы иметь. Посмотрим,
имеет ли он сам понятие о том, чему учить взялся нас. Во-первых, он
учит, каков должен быть публицист. Это любопытно. Кстати же, он и
сам публицист. Посмотрим, как понимает он дело, за которое взялся:
«Когда вследствие исторических обстоятельств один из существенных
элементов государства развивается в ущерб другим, тогда общественное
мнение, чувствуя невыгоды исключительного направления, естественно
влечется в противоположную сторону. Редко при этом сохраняется
должное чувство меры. Болезненный опыт, ежечасно ощущаемый гнет делают
более живыми представления о темных сторонах известного порядка и
заставляют забывать его существенные и благие последствия. Общественное
мнение, заходя за пределы разумных требований, идет к полному
отрицанию тяготеющего над ним элемента. Так при анархическом разгуле
свободы общество воздвигает над собою власть, которая стесняет деятельность
граждан даже в самых умеренных ее проявлениях, и, наоборот, когда рука
сдерживающей власти чувствуется слишком сильно, общество естественно
видит себе спасение только в возможно большем ограничении ведомства
правительственных органов.
Публицист, который не старается льстить современному увлечению
умов, который имеет в виду не успех, основанный на поклонении
современному кумиру, а беспристрастное исследование истинных начал общежития,
не должен подчиняться подобным требованиям. Он за случайным не
забывает существенного, злоупотребления не скрывают от него благих начал, на
которых основывается то или другое учреждение. И взгляд свой, добытый
внимательным изучением истории современной жизни, он обязан
высказать прямо и откровенно, хотя бы он противоречил временному
настроению общества. Могут говорить о так называемых практических целях, о
необходимости ярче выставить недостающую сторону общежития и не дать
противоположному мнению орудия, которое может быть употреблено во
зло. Не думаю, чтобы практические цели должны были вести к намеренному
искажению истины. Известный порядок можно исправить не утаением
существенных его сторон, не старанием наложить слишком густые краски на
невыгодные его последствия, а разумным его пониманием и
беспристрастным исследованием естественных его границ. Одностороннее отрицание
ведет со стороны противоположного начала к отрицанию, столь же
одностороннему. Вместо правильного развития, основанного на взаимном
понимании, на взаимном уважении различных общественных сил, в обществе
водворяется борьба, и чем резче высказывается каждое направление, чем более
оно вдается в крайности, тем упорнее взаимное недоброжелательство, тем
Г. Чичерин как публицист
327
болезненнее столкновения, тем более жертв и страданий в общественном
организме. Повинуясь, безусловно, временному влечению, общество быстро
приходит к разочарованию; слишком напряженные силы преждевременно
ослабевают, и люди с грустью окидывают взором свое прошедшее, жалея
о неудавшихся попытках, об утраченных силах, об обманутых надеждах».
(Предисловие, стр. IX и X.)
Все это будет совершенно верно, если вместо слова публицист
поставим слово ученый: мы часто слыхивали, что главным достоинством
ученого должно быть служение науке, не поддающейся минутным
увлечениям общественного мнения. Но в этом ли должно состоять
главное качество публициста? На его ли специальной обязанности
лежит исследование истинных начал общежития? Нет, он
выражает и поясняет те потребности, которыми занято общество в данную
минуту. Служение отвлеченной науке не его дело, он не профессор,
а трибун или адвокат. Г. Чичерин не имеет понятия о качествах той
роли, какую берет на себя. Он не замечает, что публицист,
воображающий себя профессором, так же странен, как профессор,
воображающий себя фельетонистом.
В каждом человеке, для которого главное дело — живые люди, а не
отвлеченная наука, главным качеством должна быть способность
понимать, в каком положении находится его публика, его слушатели
или читатели. Если он начнет проповедовать истины, которые вовсе
не относятся к его слушателям, он будет смешон. Леность — дурной
порок; но предположим, что в Англии или в Северной Америке
является господин, начинающий ораторствовать против лености: он
будет нелеп, потому что из его слушателей, вся жизнь которых —
неутомимая деятельность, ни один не нуждается в предостережениях
против лености. Но еще смешнее, когда оратор начинает
предостерегать от исключительного увлечения каким-нибудь хорошим
качеством, которое едва-едва, самым слабым образом начинает возникать
в его слушателях. Что мы подумали бы о человеке, который стал бы
говорить о вреде исключительного пристрастия к общественной
тишине в кругу нынешних мексиканцев, каждый год сочиняющих
по три революции? Отвлеченные истины могут быть уместны в
ученом трактате, но слова публициста должны, прежде всего,
сообразоваться с живыми потребностями известного общества в данную
минуту. Что же мы слышим от г. Чичерина? Он предостерегает нас
от одностороннего увлечения каким-то отрицанием чего-то будто
328
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
бы хорошего, существующего у нас, — чего именно, предоставляем
читателю отыскать в отрывке, нами выписанном из него. Вероятно,
наше общество страдает необыкновенною живостью и силой чувств,
кажущихся г. Чичерину вредными. Вероятно, мы похожи на каких-
нибудь североамериканцев, не признающих никакого вмешательства
центральной власти в их дела? Вероятно, большинство читателей
г. Чичерина ужасные анархисты, которым надобно проповедывать
о необходимости некоторого сохранения государственной власти,
совершенно ими отвергаемой? Г. Чичерин русскому обществу
проповедует о повиновении властям, — не значит ли это совершенно не
понимать характера и положения людей, с которыми имеешь дело?
Кажется, он был бы готов доказывать готтентотам вред
одностороннего увлечения учеными занятиями, доказывать рыбам опасность
излишней болтливости, предостерегать белого медведя от пристрастия
к тропическому климату.
Мы не сомневаемся в том, что г. Чичерин проникнут
прекраснейшими намерениями, но нас изумляет прелестный такт, с которым он
берется за дело, — изумляет верность его взгляда на коренные
недостатки нашего общества. Он пишет по-русски, и ему кажется нужным
объяснять, что он не намерен потворствовать анархическим
стремлениям. Ему кажется, будто наше общество до излишества живо
чувствует вредную сторону принципов, господствующих в нем. Мы, видите
ли, страдаем избытком одностороннего отрицания, и нас надобно
предостерегать от расположения к борьбе, к упорству в
столкновениях. Странное понятие о нашем обществе!
Для публициста, кроме знания потребностей общества, нужно
также понимание форм, по которым движется общественный
прогресс. До сих пор история не представляла ни одного примера, когда
успех получался бы без борьбы. Но, по мнению г. Чичерина, борьба
вредна. До сих пор мы знали, что крайность может быть побеждаема
только другой крайностью, что без напряжения сил нельзя одолеть
сильного врага; по мнению г. Чичерина, следует избегать напряжения
сил: он не знает, что, одержав победу, войско всегда бывает утомлено
и что если оно боится утомления, то незачем ему выходить в поле.
Еще одно любопытное понятие. Г. Чичерин говорит об искажении
истины в угодность современному кумиру общественного мнения.
Боже ты мой милостивый! Мы, русские писатели, по мнению г.
Чичерина, можем искажать истину из раболепства перед общественным
Г. Чичерин как публицист
329
мнением! В каком удивительном положении он видит нас! Читатель!
Знали ли вы до сих пор, кто заставляет меня часто лгать перед вами?
Вы сами, читатель. Я, видите ли, мог бы говорить с вами обо всем,
что хочу и как хочу, но вы, читатель, связываете мне язык вашим
деспотизмом. Нет, книга г. Чичерина написана не по-русски, издана не
в Москве: он, вероятно, имел в виду североамериканскую публику,
которая делает все, что хочет, и заставляет всех преклоняться перед
своей волей. Надобно полагать, что г. Чичерину нужен был
необыкновенный запас мужества, чтобы защищать бюрократию и
централизацию, эти драгоценности, совершенно изгнанные из нашего
общества и беспощадно преследуемые в нем. Надобно предполагать,
что он писал для общества, над которым владычествуют
ультрареспубликанцы, сажающие в тюрьму каждого, кто замолвит слово в пользу
монархического порядка.
Итак, главный порок нашего общества состоит в том, что оно
слишком страстно, слишком непреклонно, слишком круто проводит
свои стремления, противные к существующему порядку, и публицист,
пишущий по-русски, обязан говорить нам, что мы должны соблюдать
умеренность в борьбе, которую ведем так энергически. Мы теперь
заняты беспощадным разрушением всего существовавшего
порядка, и надобно публицисту вразумлять нас, чтобы мы оставили хотя
какие-нибудь следы старинных наших учреждений; главное, чего
должен остерегаться публицист, это — потворства «современному
кумиру нашего временного увлечения». Изумительно, изумительно!
«Из всего предыдущего выходит, что публицист должен становиться на
точку зрения беспристрастного наблюдателя, который изучает историю
и современную жизнь во всей их многосторонности, не исключая и не
осуждая безусловно ни одного из элементов, входящих в их, состав. Такое
требование, выраженное в виде общей формулы, конечно, не встретит
возражений; но нельзя скрывать от себя, что как скоро дело доходит до
частностей, так неизбежны не только разногласия, но и прямые уклонения от
принятого начала. Людям, которые увлекаются известным направлением,
или слишком живо ощущают на себе бремя общественных недостатков, не
нравится всякое слово, сказанное в пользу того, что болезненно на них
отзывается. Признавая в теории необходимость беспристрастного воззрения,
они ропщут на него, когда оно является перед ними в осязательной форме.
Это можно ожидать в особенности у нас, где гражданская жизнь мало
развита и общественные вопросы до сих пор не обсуждались гласно. Мы не
привыкли еще обозревать их с различных сторон; мы даже не умеем еще
330
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
подмечать в суждениях меру и границы. Слыша похвалу или порицание, мы
склонны считать их за выражение мнения безусловного и не обращаем
внимания на то, что они высказываются в известных пределах, при известных
обстоятельствах. Еще хуже, когда эта непривычка к теоретическим прениям
соединяется с недостатком общественной деятельности. Практические
столкновения лучше всего показывают естественные границы того или другого
общественного начала и необходимость восполнить одно другим. Там, где
граждане не принимают живого участия в общественных делах, неизбежно
господствует односторонность взглядов, и это ведет иногда к прискорбным
явлениям. Нет ничего печальнее общества, которое, чувствуя себя не в силах
исправить гнетущее его зло, тратит время в бесплодных воздыханиях, в
ожесточенной критике, которое, оставаясь в бездействии, ожидает, чтобы чужая
рука сняла тяготеющее над ним бремя. Общество, которое хочет что-нибудь
сделать, должно глядеть на вещи прямо и трезво. Первый признак разумной
силы есть спокойствие, а спокойствие ведет к ясному и всестороннему
пониманию жизненных явлений, без прикрас, без утайки и без раздражения».
(Предисловие, стр. XVIII, XIX и XX.)
На все это объяснение в пользу беспристрастия мы будем
отвечать только сближением двух мыслей самого г. Чичерина. Он советует
нашему обществу иметь всесторонний взгляд, чуждый раздражения,
а между тем сам говорит, что в нем «неизбежно» должна
господствовать односторонность взглядов. Не бесполезен ли совет удерживаться
от того, что неизбежно? И если кто-нибудь станет советовать
человеку не быть раздраженным, когда сам признает раздражение
неизбежным, не показывает ли он своим советом, что лишен способности
понимать условия действительной жизни? Очень жаль, что эти советы
не обращены, например, к французам, сардинцам и австрийцам: они
ведут войну, в войне неизбежны сражения, в сражениях неизбежны
выстрелы; но мы думали бы посоветовать им, чтобы они сражались,
не стреляя из пушек. Дело другое, если вы советуете им кончить войну
и разойтись по домам; но нет, г. Чичерин не против развития, он
только хочет, чтобы развитие совершалось бесстрастным образом, по
рецепту спокойствия и всесторонности. К сожалению, этого никогда
не бывало. Человека душит разбойник, и по рецепту г. Чичерина этот
человек в то самое время, когда старается отбиться от разбойника,
должен спокойно рассуждать о том, что разбойник возникает из
исторической необходимости, имеет историческое право существования;
что великая Римская империя была основана разбойниками; что если
должно уважать римское право, то должно уважать и разбойников, без
Г. Чичерин как публицист
331
которых его не было бы, — помилуйте, до того ли человеку, чтобы
помнить обо всех этих прекрасных вещах!
Из этих советов быть холодным, бесстрастным, подавлять в себе
всякое раздражение мы заключаем, что г. Чичерин знает только, как
пишутся ученые книги, но не знает, какими силами развивается
общественная жизнь. Он думает быть публицистом, но является
школьным учителем, у которого главная забота та, чтобы ученики смирно
сидели по своим местам и слушали его наставления. Первым делом
у него выставляется то, чтобы общество отказалось от всяких живых
чувств из боязни нарушить теоретическое бесстрастие.
Мы думаем, что г. Чичерин напрасно взялся быть публицистом,
если нет у него в груди живого сердца. Нам кажется, что в нем
слишком сильна наклонность к схоластике. Быть может, мы ошибаемся,
и дай бог, чтобы мы ошиблись; но нам кажется, что живой человек
при нынешнем положении нашего общества не вздумал бы говорить
против «мечтательных отрицателей существующего порядка»,
против «слишком отважных нововводителей», против «болезненного
нетерпения». Быть может, в этих неуместных усилиях подавить то,
что, право, вовсе не нуждается в подавлении со стороны г. Чичерина,
виновата не натура его, а случайная односторонность его развития;
но как бы то ни было, г. Чичерин в настоящее время решительно не
понимает, какому обществу он дает свои советы, не умеет судить о
том, что уместно и что неуместно в статьях, имеющих претензию
руководить нашей общественной жизнью. Только человек, одержимый
схоластикой, может воображать, что русскому публицисту надобно
быть защитником бюрократии.
Но если г. Чичерин неспособен теперь быть публицистом,
которому нужно живое сочувствие к современным потребностям общества,
то, быть может, он имеет качества, нужные для школьного учителя.
Будем сидеть смирно по его приказанию и слушать его лекции.
Обязывая школьников сидеть смирно, школьный учитель сам обязан, по
крайней мере, быть порядочно знаком с тем предметом, о котором
читает он лекцию. Главные предметы в лекциях г. Чичерина:
демократия, централизация и бюрократия. Посмотрим, какое понятие он
имеет об этих вещах.
«...Относительно гражданского устройства и управления абсолютизм и
демократия именно потому и сходятся между собой, что в этой сфере проч-
332
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
нее всего утвердились результаты всей новейшей истории Западной
Европы, независимо от борения партий, независимо от того, куда переносится
источник власти. Уничтожение самостоятельных союзов, корпорационных
прав, сословных привилегий, вообще уничтожение средневековых форм
жизни, основанных на дробности общественного быта, и создание единого
государственного тела — вот великое дело, начало которому положили
абсолютные государи, которое преемственно перешло и к новой демократии.
В этой системе народ представляет единую, естественно расчленяющуюся
массу, в которой одна часть искусственным образом не перевешивает
другой, в которой ни один член не вытягивает из другого жизненных соков.
Государственные учреждения с целой системой чиновников составляют
общую связь этого тела, общее его строение, по которому совершаются его
общественные отправления, а централизация сводит это устройство к
единству, устанавливая центральный пункт, от которого исходит и к которому
притекает правительственное движение. Конечно, и здесь могут быть
невыгодные стороны, злоупотребления; не оживленная народным духом эта
форма может превратиться в мертвую машину. Но что касается до самой
сущности этих установлений, то нет сомнения, что они придают народной
жизни такое единство, какого бы она без того никогда не имела. В ней
создается общая среда, господствующая над всеми частными стремлениями и
интересами; в ней чувствуется единое биение пульса, разливающего кровь
по всем членам, и вместе с тем каждая часть свободно занимает то место, к
которому она тяготеет по своей природе. Народ перестает быть собранием
разнородных частей; он делается общественной единицей, он становится
особью, которая живет единою жизнью» (стр. 7 и 8).
В дополнение к этому месту приведем еще следующее:
«Демократические начала проникают и во внутреннее управление
Англии. Здесь они являются в виде усиления центральной власти на счет
местных. Независимость последних основана на преобладании
аристократического элемента в государстве. Поэтому все меры, которые клонятся к
уменьшению их значения, к замене даровых должностей, замещаемых богатыми
землевладельцами, бюрократией, доступной всем и каждому, ведут вместе
с тем к уничтожению общественного неравенства и преобладанию одного
элемента над другим. Конечно, успехи централизации и бюрократии в
Англии чрезвычайно медленны; однако они не подлежат сомнению. В течение
последнего двадцатипятилетия очевидные злоупотребления показали
необходимость преобразовать и подчинить высшему правительству управление
общественным призрением, поставить под надзор центральной власти
медицинскую полицию, тюрьмы, воспитательные заведения, наконец, в
недавнее время и самую полицию городов. Каждый новый закон об
администрации, представляемый парламенту, имеет целью усилить центральную власть.
Г. Чичерин как публицист
333
Правда, это стремление встречает себе сильное противодействие, но тем не
менее оно существует как в правительстве, так и в народе. Вопрос о
бюрократии поднят был в последнее время с особенною силою. Война выказала
в ярком свете недостатки управления, основанного на привилегиях
одного сословия. В то самое время, как раздались вопли общественного мнения
по случаю действий английской армии в Крыму, составилась лига в пользу
административной реформы. Цель ее — уничтожить в управлении
преобладание аристократии и сделать его доступным способностям и талантам,
в какой бы сфере они ни проявлялись. Сами государственные люди Англии
признают в некоторой степени необходимость преобразования, вследствие
чего этот вопрос стоит теперь на первом плане в делах внутренней
политики» (стр. 24-25).
Пусть нас извинит г. Чичерин, но мы должны сказать, что его
понятия о формах государственного устройства чрезвычайно
сбивчивы. Основным принципом его понятий оказывается
бюрократическое устройство, и ему представляется, будто демократия похожа
на абсолютизм в том отношении, что очень любит бюрократию
и нейтрализацию. Но какую централизацию и бюрократию найдет
он в Северо-Американских Штатах или в Швейцарии? По
существенному своему характеру демократия противоположна бюрократии;
она требует того, чтобы каждый гражданин был независим в делах,
касающихся только до него одного; каждое село и каждый город
независимы в делах, касающихся его одного; каждая область — в своих
делах. Демократия требует полного подчинения администратора
жителям того округа, делами которого он занимается. Она хочет, чтобы
администратор был только поверенным той части общества, которая
поручает ему известные дела и ежеминутно может требовать у него
отчета о ведении каждого дела. Демократия требует самоуправления
и доводит его до федерации. Демократическое государство есть союз
республик или, лучше сказать, образуется из нескольких
постепенных наслоений республиканских союзов, так что каждый довольно
значительный союз состоит, в свою очередь, из союза нескольких
округов, — таково устройство Соединенных Штатов. В них каждая
деревенька есть особенная республика; из соединения нескольких
деревень образуется приход, который опять-таки составляет
самостоятельную республику; из соединения нескольких приходов образуется
новая республика — графство; из нескольких графств —
республиканский штат; из союза штатов — государство. Неужели это сколько-
334
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
нибудь похоже на бюрократию? В Швейцарии каждый кантон может
иметь у себя даже особенное войско. Откуда же взялось у г. Чичерина
мнение о бюрократии как форме демократического устройства? Это
просто следствие той путаницы, какую слишком доверчивый ученый
может целыми ковшами черпать из великих мыслителей
французской мнимо-либеральной, а в сущности реакционной школы. Есть на
свете разные мелкие французы, которые многим из нас кажутся
великими людьми и которые рассуждают следующим образом: Англия —
страна аристократическая, и в ней нет ни централизации, ни
бюрократии; Франция — страна демократическая, и в ней есть
централизация и бюрократия. Следовательно, централизация и бюрократия суть
принадлежности демократии. Это умозаключение точно такого же
рода, как, например, ученые греки, приехавшие в Рим, были
развратные трусы; следовательно, просвещение ведет к разврату и трусости.
Франция более 200 лет имела абсолютное правительство; в течение
этого долгого времени абсолютизм успел выработать
соответствующие себе формы управления, бюрократию и централизацию и успел
приучить к ним французов. Вековые привычки исчезают не легко и
не скоро. Демократия не имеет такой волшебной силы, чтобы один
звук этого слова мог перерождать нравы народов в несколько лет;
потому французы до сих пор не успели отделаться от бюрократии и
централизации, введенной у них абсолютизмом, как не успели
отделаться от многих других привычек, привитых к ним абсолютизмом!
Французы, например, до сих пор мечтают о завоеваниях, до сих пор
страшно любят щегольство, франтовство, блеск и тому подобные
пошлости: неужели все это принадлежности демократии? Нет, это
просто догнивающие остатки того порядка дел, какой был у них 100 и
200 лет тому назад. Именно потому, что эти старинные привычки еще
недостаточно ослабели между французами, демократическая форма
до сих пор не могла утвердиться у них. Наполеон I и реставрация
старались воскресить аристократию; Орлеанская династия всячески
старалась поддержать ее; Наполеон III в третий раз старается
воскресить ее. У французов еще недостает привычки к демократическому
устройству, и все их правительства, возникавшие из погибели
кратковременных попыток к созданию демократического устройства,
нимало не могут служить образцами приверженности к тем новым
формам, на подавлении которых основывали они свою власть.
Наполеон I, Бурбоны, Луи-Филипп, Луи-Наполеон — все они одинаково
Г. Чичерин как публицист
335
держались опорой партии застоя или даже чистой реакции.
Удивительно ли, что при всех этих управлениях поддерживалась форма
администрации, принадлежащая французской старине? Но все те
французы, которые действительно, а не на словах только привязаны
к демократическому принципу, — все они до одного враждебны
теперь бюрократии и централизации. В ненависти к этим формам они
не уступают самому заклятому английскому аристократу. Правда, до
сих пор не успели они водворить во Франции того устройства,
какое желали бы дать своему отечеству; но из этого следует только, что
Франция до сих пор не успела получить учреждений,
соответствующих ее демократическим стремлениям, а вовсе не то, чтобы
централизация и бюрократия были принадлежностями демократического
принципа. Французы похожи на горожанина, недавно
переселившегося в деревню и прогуливающегося по полю в палевых перчатках и
лакированных сапогах. Должны ли мы заключать по этим
принадлежностям его костюма, что палевые перчатки и лакированные
сапоги составляют принадлежность истинно-деревенского образа
жизни? Надобно полагать, что, поживши в деревне, он отвыкнет от этой
великосветской дряни.
Г. Чичерин, воображающий себе демократию по неразвившимся
французским ее формам, искаженным сильной примесью старых
учреждений, которые уцелели со времен абсолютизма, имеет самое
фальшивое понятие о демократии. Не менее фальшиво его понятие
о существенном характере абсолютизма, который представляется
ему чем-то столь же враждебным аристократии, как
демократический принцип. Такой взгляд опять-таки почерпнул он из
французских книжек, восхваляющих Мазарини или Ришелье, будто бы
благодетелей Франции. Штука в том, что французские короли старались
завоевать области, принадлежавшие могущественным феодальным
правителям, и, наконец, успели покорить их. Разумеется, пока шла
война, была и вражда. Разумеется, обе воевавшие стороны прибегали
ко всяким средствам, чтобы достичь победы. Но если теперь
австрийское правительство было бы радо произвести революцию в Париже,
лишь бы сбыть с рук Наполеона III и сохранить Милан и Венецию,
из этого еще вовсе не следует, чтобы австрийское правительство
отличалось сочувствием к республиканскому устройству и ненавидело
деспотизм. Напротив, можно думать, что по своим принципам оно
очень мало разнится от своего противника. Точно так герцог бур-
336
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
гундский, герцог бретанский ничем не разнились в своих принципах
от короля французского, с которым враждовали. Вражда шла
только из-за того, что разным герцогам и графам не хотелось потерять
своих владений, а королю французскому хотелось приобрести эти
области. Чтобы склонить к измене подданных своего врага, король
французский мог покровительствовать притесненным горожанам
его областей, но зато и какой-нибудь герцог бургундский помогал
учреждению демократической республики в Париже. Все это было
военной тактикой вроде того, как монголы могли для упрочения
своего господства поднимать рязанских князей против московских или
московских против тверских. Неужели в самом деле какой-нибудь
Мамай или Узбек огорчались от притеснений, которым какой-нибудь
Всеволод или Георгий подвергал соседнее княжество?
Но вот победа была решена. Вся Франция соединилась под
властью короля, отдельных владений не осталось. Каков принцип
известного учреждения, мы можем взять, когда оно одержит победу
и получит полную силу перестроить жизнь по своему духу. Являются
ли французские абсолютные короли, начиная с Людовика XIII или
даже Генриха II, сколько-нибудь расположенными к «уничтожению
сословных привилегий», как думает г. Чичерин? Напротив, они
устраивают целое государство таким образом, чтобы весь народ жил
исключительно для содержания двора и придворной аристократии.
Все подати лежат на простолюдинах. Почти вся масса
простолюдинов обязана сверх того личными повинностями дворянству. Одни
дворяне имеют значение, они одни пользуются покровительством
государственной власти.
С Людовика XI или, пожалуй, с Филиппа Прекрасного до самого
конца XVIII века ни одна из привилегий дворянства не была отменена
королевскою властью; напротив, с каждым поколением расширяется
их покровительство дворянству и в администрации, и в богатстве,
и во всех отношениях официальной жизни. Центр всей жизни есть
двор; двор состоит исключительно из аристократов — какая тут
противоположность принципа между абсолютизмом и аристократиею?
Напротив, французский король есть представитель и глава
аристократического принципа. Он все государство устраивает в духе самой
исключительной аристократии. Не понимать этого может только тот,
кто не имеет правильного понятия ни об одном из фактов
французской истории XVI, XVII, XVIII столетий.
Г. Чичерин как публицист
337
Но от Франции г. Чичерин переходит к Англии. Он видит, что
в последнее время заметно стала падать в ней аристократия и быстро
усиливается демократический элемент. Как вы думаете, в чем
полагает он сущность этого движения? Он до того занят своей теорией
связи бюрократии с демократиею, что воображает, будто бы сущность
развития английских государственных учреждений в наше время
состоит в развитии бюрократического начала, которое до сих пор
в Англии слабо к великому сожалению г. Чичерина. Это просто
забавно. Из 28 миллионов англичан, шотландцев и ирландцев найдется ли
хотя один человек от самого отсталого ультратори до самого
горячего хартиста, который бы не гнушался бюрократией, не пришел в
неистовство от одной мысли, что бюрократия когда-нибудь может быть
введена в Англии? Английские аристократы очень щедро осыпают
своих врагов демократов всяческими упреками, но никто в целой
Европе никогда не слыхивал, чтобы они приписывали им наклонность
к бюрократии. Каждому ребенку известно, что английские
демократы с состраданием и презрением смотрят на французское
бюрократическое устройство и если сочувствуют каким-нибудь учреждениям,
то единственно австралийским и североамериканским, в которых
бюрократии еще гораздо меньше, нежели в английских. Рассуждения
г. Чичерина об усилении бюрократии в Англии от усиления
демократии могут служить самым восхитительным примером того, до
какого уклонения от очевидной истины может доводить схоластика,
отправляющаяся от фальшивого основания и безболезненно шагающая
кривыми силлогизмами с полным пренебрежением к смыслу фактов.
«Бюрократия есть принадлежность демократии. В Англии
развивается демократия, следовательно, Англия вводит у себя
бюрократию». От Пальмерстона до Эрнеста Джонса, от Росселя до Ферджуса
ОЖоннора все нововводители — и умеренные либералы,'и радикалы,
и хартисты Англии — кричат в один голос: «мы гнушаемся
бюрократией»; но г. Чичерин мужественно поучает их: «я лучше вас знаю, кто
вы таковы: вы отчаянные бюрократы». Начитавшись его книги, мы
думаем даже предложить Пальмерстону должность исправника в Ту-
руханске, это место совершенно соответствовало бы его
наклонностям по изображению г. Чичерина; с каким удовольствие писал бы он:
«На отношение вашего высокородия за № 15217 имею честь
ответствовать, что беспаспортной солдатской женки Авдотьи Никитиной
на жительстве в Туруханском уезде не оказалось».
338
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Впрочем, очень может быть, что г. Чичерин воображает себе
бюрократию не в таком виде, как представляется она нам. Быть может, и
абсолютизм, и аристократия, и демократия представляются ему вовсе
не в том виде, в каком привыкли представлять их себе мы.
Действительно, это очень может быть; по крайней мере, надобно
предполагать, что если бы эти понятия не представлялись ему совершенно
различным от обыкновенного понимания способом, то он не наговорил
бы о них таких странных вещей, какими наполнена его книга.
Мы вполне выписывали из книги г. Чичерина длинные отрывки,
на которых основываем свое заключение, что он действительно не
имеет понятия о существенном смысле тех форм государственного
устройства, объяснению которых посвящена вся его книга. Читатели
могли убедиться, что мы не взводим на него небылиц, когда говорим,
что он не знает ни демократии, ни абсолютизма, ни аристократии,
ни бюрократии, ни централизации. Получив такие результаты, мы
можем прекратить выписки, потому что вся остальная запутанность
понятий в его книге составляет уже естественное следствие
отсутствия правильного взгляда на эти основные предметы его
рассуждений. Пересмотрим же коротко содержание его книги.
Первая статья «О политической будущности Англии», написанная
по поводу книги Монталамбера85, начинается утешительным
уверением, что вопросы, волнующие Западную Европу, «не имеют для нас
жизненного значения». Утешительно это потому, что очень
благоприятствует смотреть нам на события Западной Европы «без гнева
и пристрастия». Мы готовы были бы думать, что это уверение —
просто избитая мысль, употребляющаяся многими из нас по
условному правилу, имеющему свою внешнюю выгоду; но отрывки о роли
публициста, выписанные нами из предисловия, убеждают нас, что
г. Чичерин в самом деле воображает, будто это так и будто это очень
утешительно. Это удивительно. Кому не известно, что вот уже очень
много лет наша судьба связана с судьбой Западной Европы и каждое
важное событие в ней отражается на нас? Фридрих II ограбил Марию
Терезию, — и вот мы были запутаны в Семилетнюю войну. Европа
стала поклоняться Вольтеру, и у нас началась комедия гуманных
возгласов в угодность Вольтеру, лицемерное хвастовство либерализмом;
но Вольтер имел у нас много и таких приверженцев, которые не были
лицемерами. Вспыхнула Французская революция, и характер
администрации у нас сделался решительнее, прямее, и пружины действия
Г. Чичерин как публицист
339
перестали прикрываться философскими украшениями. Из
революции вышел Бонапарте, и мы были запутаны в продолжительные
войны, кончившиеся удачно, но разорившие Россию и присоединившие
к ней Варшаву. Потом Меттерних основал Священный союз, и кому не
известно влияние этого учреждения на судьбу России? Продолжать ли
этот перечень? Нам кажется, перечисленных фактов довольно, чтобы
отказаться нам от возможности равнодушно смотреть на
западноевропейские события. «Перевес либерализма или демократии, успехи
революции или удача диктатуры в Западной Европе — все это
вопросы, не имеющие для нас жизненного значения», — этих слов уже
достаточно, чтобы показать совершенное отсутствие способности
понимать положение России. Впрочем, напрасно мы останавливались
на этом: мы уже знали, что г. Чичерин неспособен быть публицистом,
а способен быть только ученым схоластиком. Для схоластика нет
надобности понимать отношения своего общества к фактам, которыми
он занимается; ему только нужно знать факты.
Но и фактов г. Чичерин не знает сам, а принимает их на веру
от других, которые не заслуживали его доверия. Шилая оппозиция
французских академиков называет Монталамбера великим
оратором, а его книгу замечательным произведением; г. Чичерин смотрит
на вещи не так, как французские академики, и потому мог бы думать
о Монталамбере и его книге иначе. Но и он принимает этого
реакционного болтуна очень серьезно за защитника свободы, за
представителя либерализма и серьезно рассуждает о его понятиях, будто
бы о мыслях дельного человека. Монталамбер говорит об Англии
вздорные общие места вроде того, что «привязанность к старине
составляет отличительную черту английского народа», что англичане
«отличаются от других народов любовью к разоблачению своих
собственных недостатков», что английская аристократия «не враждебна
никакому прогрессу»; г. Чичерин очень серьезно повторяет эти
пустые слова, или несправедливые, или ровно ничего не выражающие:
по всему видно, что Монталамбер для него кажется драгоценным
источником сведений об Англии. Человек ученый не должен был бы
принимать дрянную брошюру за что-нибудь значительное. Он
спорит с Монталамбером очень важно, как будто бы с противником,
заслуживающим уважения.
Такое же чрезмерное уважение к пустым репутациям видно в
следующей его статье «Промышленность и государство в Англии», со-
340
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ставленной по поводу книги Леона Фоше86. Леон Фоше был человек
довольно трудолюбивый, но вовсе не даровитый. Либерализм его
всегда был очень узок и сильно отзывался консерватизмом. Г.
Чичерину кажется, что он испортился только с 1848 года. Он думает,
что только тогда Леон Фоше «покинул точку беспристрастного
наблюдателя и сделался членом партии», что только тогда «примкнул
он к тому близорукому большинству французского
Законодательного собрания, которое не умело основать новых учреждений».
Напрасное прискорбие. Леон Фоше всегда принадлежал к близоруким
людям, которые враждовали против новых учреждений. Г. Чичерин
не имеет верных сведений об отношениях партий при Орлеанской
династии; он не знает характера той оппозиции, которая
признавала своим предводителем Тьера, и характера той экономической
школы, которая называлась тогда либеральною, но либерализм
которой ограничивался хлопотами о понижении тарифа. Впрочем,
книга Леона Фоше не есть пустая болтовня, как памфлет Монталам-
бера: в ней собрано много фактов. Мы не осуждаем г. Чичерина за
то, что он вздумал серьезно пользоваться ею. Но любопытен вывод,
к которому клонятся все его выписки из Леона Фоше и Лаверня87.
Мы уже говорили об этом выводе. Г. Чичерин воображает, что
сущность реформ, произведенных парламентом в экономическом
устройстве Англии, ведет к усилению бюрократии; а между тем из
этих реформ все важнейшие состоят в робком, неполном, иногда
нелепом удовлетворении некоторым из экономических
потребностей английских простолюдинов; и если эти реформы принадлежат
к какой-нибудь системе понятий, то разве к системе тех
экономистов, которые думают прикрасить ветхое рубище своей теории
некоторыми лоскутками социализма. Например, в Англии запретили
держать детей на фабричной работе более 12 часов в день; потом
запретили нанимать женщин для работы в рудниках; потом
предписали, чтобы дети, работающие на фабриках, непременно
посещали школу; потом запретили держать женщин на фабричной работе
более 12 часов в сутки. По мнению г. Чичерина, это — бюрократия и
централизация, а по мнению каждого экономиста, эти
постановления принадлежат к тому, что г. Чичерин называет «безумными
проявлениями социализма». Таких недоразумений в статье о
промышленности Англии множество. Но вот место, которое показывает, что
г. Чичерин не знает не только того, к какому порядку идей принад-
Г. Чичерин как публицист
341
лежат перечисляемые им факты, но не знает даже того, к какому
порядку идей принадлежат его собственные мысли. Он начинает
говорить о том, что расширение центральной власти, или вмешательство
правительства, должно в Англии усилиться еще значительнее,
нежели насколько усилилось всеми произведенными реформами. Тут мы
читаем, между прочим, следующее соображение:
«Правительству должны подлежать, — говорит г. Чичерин, — все те
общественные установления, которые не требуют личной
предприимчивости и энергии. Таково, например, застрахование. В наше время оно
производится частными компаниями, но нет сомнения, что оно с таким же
успехом может быть предпринято правительством. Настоящее место
частного капитала там, где он является орудием личной деятельности; здесь же
капитал целого общества служит обеспечением риска, которому
подвергается каждый из его членов. Потому мы думаем, что с большим и большим
развитием системы застрахования оно поступит, наконец, в ведомство
правительственной власти. Самое государство можно в некотором
отношении рассматривать как общество взаимного застрахования,
составленное целым народом: каждый гражданин уделяет часть своего достояния
в общую кассу для того, чтобы получить от государства обеспечение
личной своей деятельности».
Мы не станем разбирать, сам ли г. Чичерин написал это место или
заимствовал его из Милля; он не отмечает, что заимствовал его,
следовательно, представляет как свою собственную мысль. Нам остается
только поздравить централизацию с приобретением такого
нового характера. В старину подобные вещи назывались регалиями, или
монополиями, казны, но никак не централизацией или бюрократией;
ныне называются они иначе; как именно называются ныне они и к
какому порядку идей принадлежат, мы не станем говорить. Но скажем,
что присвоение государству страхования, по понятиям нынешних
экономистов, ничем не отличается от присвоения государству
исключительного права иметь железные дороги, от наложения на него
обязанности давать работу решительно каждому, не имеющему
работы, принимать на общественное содержание каждого бедного
и т. д. Если мы не ошибаемся, все эти мысли составляют
принадлежность теории, которая заслужила от г. Чичерина название безумной.
Нам остается только жалеть, что г. Чичерин, по-видимому, незнаком
с этою теорией, а лишь слыхивал о ней от людей, подобных Монта-
ламберу Токвилю88, Сюдру, Луи Ребо. Недурно было бы ему заметить
342
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
вред, происходящий от этого пробела в знакомстве его с
произведениями современной мысли: он украшает свои статьи лоскутами той
самой теории, которую упрекает в безумстве.
Точно так же он имел бы совершенно другое понятие о смысле
демократического движения в Англии, если бы изучал его по
достоверным источникам, например по парламентским прениям, по речам
и сочинениям представителей этого движения, а не по книжкам,
писанным отсталыми людьми вроде Леона Фоше или реакционерами
вроде Монталамбера.
Третья статья «Старая французская монархия и революция»
написана по поводу книги Токвиля. Начинается она объяснением, что
дурно поступают те историки, которые пишут под влиянием
современных политических событий, что историк не должен вносить страстей
настоящего в изображение прошедшего. Словом сказать, г. Чичерин
очень подробно и хорошо парафразирует известную
характеристику летописца в «Борисе Годунове»:
Так точно дьяк, в приказах поседелый,
спокойно зрит на правых и виновных,
добру и злу внимая ревнодушно,
не ведая ни жалости, ни гнева.
Пушкин был, вероятно, прав, изображая такими наших
летописцев, людей чуждых всякого понятия о жизни, сущих книжников
и притом чрезвычайно малообразованных; но г. Чичерин напрасно
хочет, чтобы нынешние историки подражали им. Он, по-видимому,
не знает истинного смысла тех возгласов об историческом
беспристрастии, которыми наполнены все реакционные книги.
Реакционеры называют историка беспристрастным тогда, когда он доказывает,
что старинный порядок вещей был хорош. Напротив, например
книгу г. Чичерина «Областные учреждения» все реакционеры называют
пристрастною и несправедливою за то, что автор совершенно
справедливо изобразил в ней старинную систему управления не в
розовом свете. Живой человек не может не иметь сильных убеждений.
От этих убеждений не отделается он, что бы ни стал делать: писать
историю или статистику, фельетон или повесть; все написанное им
будет написано для оправдания и развития какой-нибудь мысли,
кажущейся ему справедливою. Если вы разделяете эту мысль, вам
будет казаться, что писатель изображает жизнь беспристрастно; если
Г. Чичерин как публицист
343
вы враждуете против его образа мнений, вам будет казаться, что он
изображает жизнь пристрастно и несправедливо. Следовательно,
дело не в том, проводит ли историк свои убеждения в своей книге.
Не проводить убеждений могут только те, которые не имеют их; а не
иметь убеждений могут только или люди необразованные, или люди
неразвитые, или люди тупые, или люди бессовестные; дело только
в том, хороши ли убеждения, проводимые историком, то есть,
возникают ли они из желания добра, справедливости и благосостояния
людям, или из каких-нибудь принципов, противных благосостоянию
общества, и ясно ли понимает историк, какие учреждения и
события содействовали и какие мешали осуществлению такого порядка
дел, который пользуется его сочувствием. Если убеждения историка
честны и если он понимает влияние изображаемых им событий и
учреждений на судьбу народа, тогда заслуживает он уважения; и
кроме честности убеждений, другого беспристрастия никогда не бывало
ни в каком историке, если он был одарен человеческим смыслом, а не
писал как бессмысленная машина. Откуда же взялось у г. Чичерина
мнение, что историк должен походить на пушкинского летописца?
Опять-таки оно возникло от необдуманного принятия чужих слов на
веру. Если бы он сам подумал о том, были ли равнодушны Фукидид,
Тацит, Маккиавелли, де-Ту Тьерри, Шлоссер, Гиббон или даже хотя
такие историки, как Шзо, Тьер, Маколей, к тем событиям и людям,
о которых писали, он увидел бы, что ни один сколько-нибудь
сносный историк не писал иначе как для того, чтобы проводить в своей
истории свои политические и общественные убеждения.
Но, приняв на веру чужие слова, лишенные положительного
смысла, г. Чичерин вздумал, будто бы Токвиль пишет дурно только потому,
что проводит в своей книге политические убеждения известной
партии, а не потому, что его убеждения во многом реакционны, во
многом вздорны. Мы сочувствуем Токвилю гораздо меньше, нежели г.
Чичерину, но должны сказать, что и в его нападениях на Токвиля так же
мало ясного понятия о вещах, как в книге самого Токвиля, и притом
главные нападения обращены именно на ту сторону, которая одна
только и хороша у Токвиля. Среди множества разного вздора в
книге Токвиля проводится одна верная мысль, что абсолютизм наделал
Франции несравненно больше вреда, нежели пользы. Но абсолютизм
учредил бюрократию, а по мнению г. Чичерина, бюрократия — вещь
очень хорошая, и вот он считает своею обязанностью вступиться
344
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
за французский абсолютизм против Токвиля. Он надеется защитить
дело французских королей, взяв образцовым временем их
принципа период раньше того, к которому относится характеристика
Токвиля. В XVIII веке, говорит он, абсолютный принцип уже
испортился; чтобы оценить его, надобно посмотреть, каков он был прежде.
Но сколько мы ни смотрим, никак не можем заметить, чтобы когда-
нибудь защищаемый г. Чичериным принцип не был точно таков же,
как в XVIII веке. Нравственные и политические принципы Екатерины
Медичи очень хорошо известны; человек без сильного воображения
никак не предположит, чтобы она могла сделать сама или допустить
других делать что-нибудь действительно полезное для государства.
С того времени до XVIII века господствовала та же самая политика,
Ришелье и Мазарини наверное не много принесли пользы нации,
хотя, быть может, что они умели хорошо вести дипломатические
интриги и выбирать хороших генералов. Но, быть может, и в конце XVI
и в XVII веке принцип, защищаемый г. Чичериным, был уже
«испорчен. Если так, очень жаль, потому что и Карл VIII и Людовик XII ничем
не отличались в своих тенденциях от Генриха II или Людовика XIV.
Но г. Чичерин смотрит на дело, вероятно, с иной точки зрения.
Главным благодеянием для французской нации он считает то, что она
получила политическое единство. О, если завоевывать области и по
возможности увеличивать свои владения значит быть благодетелем,
то почему же не предполагать, что Аттила и Батый были
представителями благодетельнейшего принципа: они хотели доставить всему
европейскому человечеству то благо, которым обязаны были
французы Филиппу Прекрасному, Людовику XI и другим собирателям
земли французской. Результат завоевательной политики, правда,
оказался недурен в том отношении, что французская нация соединилась
в одно государство. Но людей, занимавшихся этим делом, не стоит
называть благодетелями нации, потому что они имели в виду вовсе
не пользу нации, а только удовлетворение собственному эгоизму, и
одинаково вели всевозможные войны, не разбирая того, полезны ли
эти войны для национального единства или нет. Походы на
Бургундию, на Бретань проистекали из того же самого принципа, как и
походы Карла VIII в Италию или Людовика XIV в Германию; разница
была не в мысли, а только в том, что одни походы кончались удачно,
другие — нет. Немецкий Эльзас был покорен на том же самом
основании, как и французская Нормандия. Если завоевание Страсбурга не
Г. Чичерин как публицист
345
было внушено высокой идеей народного блага, то не было внушено
ею и завоевание Дижона.
Но все-таки надобно же благодарить кого-нибудь за то, что
Франция собралась в одно целое из раздробленных герцогств, графств и
виконтств. Чтобы узнать, кого должно благодарить за это, надобно
только сделать себе вопрос, почему Шампань осталась во владении
французских королей, а Италия, несколько раз завоеванная
французами, все-таки постоянно отрывалась от французского государства.
Ответ ясен: Шампань была населена французами, которые
стремились составить одно целое с остальными французами, а в Италии
жили итальянцы, которым не было охоты присоединяться к
французам. Теперь, кажется, не трудно сообразить, какой силе обязаны
французы тем обстоятельством, что соединились в одно государство.
Надобно предполагать, что они были обязаны этим своему
собственному стремлению соединиться в одно государство. Потому надобно
думать, что если французы должны кого благодарить за могущество,
приобретенное Францией, то должны благодарить за это только
самих себя и больше никого. Тот или другой эгоист, тот или другой
честолюбец мог находить выгодным для себя стремление к
национальному единству, врожденное французам, но не он создал его, он
только пользовался им и пользовался почти всегда вредным для
самих французов образом. За что же французам благодарить его,
называть представителем каких-то высоких идей, когда все, что было
в результате хорошего, произошло благодаря только их
собственному национальному чувству? Если мы станем благодарить
французских Валуа за то, что при них произошло воссоединение
французских провинций, всегда стремившихся к единству, то не должны ли
мы благодарить Елизавету английскую за то, что при ней Шекспир
написал «Гамлета»? Нам кажется, что за «Гамлета» следует благодарить
Шекспира, за французское единство французы должны благодарить
самих себя.
Таким образом, надобно смотреть на степень заслуги
абсолютного принципа в деле соединения французской земли. Этот принцип
только эгоистически пользовался силой, существовавшей
независимо от него; и если оценивать достоинство этого принципа, надобно
смотреть не на то, что приобретал он, потому что приобретение
делалось не его заслугами, а национальным чувством, — нет, надобно
смотреть только на то, что он делал с приобретенными провинция-
346
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ми. Тут ответ опять короток: искони веков с самого fyro Капета до
Людовика XIV главною заботою представителей абсолютного принципа
было получение возможно большего количества доходов, какими
бы то ни было средствами, начиная с постоянного разорения всей
нации законными и незаконными поборами до нарушения
контрактов, продажи должностей и делания фальшивой монеты. Начиная с X
и кончая XVII или XVIII веком, принцип, защищаемый г. Чичериным,
брал с французской нации все, что только мог взять, и почти
постоянно только этим да ведением войн ограничивалась вся
государственная деятельность этого принципа. Само собой разумеется, что
без исключений ничего на свете не бывает. В течение 800 лет
Франция имела двух государей, действительно думавших о благе народа:
Людовика Святого и Генриха IV и несколько гениальных министров.
Но даже Генрих IV был занят своей Габриэлью и военными планами
гораздо больше, нежели народными нуждами, а Людовик IX не имел
успеха ни в одном из своих предприятий, конечно потому, что его
характер и его нравственные правила совершенно не
соответствовали качествам, каких требует положение, доставшееся ему на долю.
Что же касается до великих французских министров, то мы знаем, что
Сюлли был отослан в деревню за неуживчивость характера, а
Кольбер должен был все свои усилия напрягать к тому, чтобы доставлять
Людовику XIV как можно более денег на ведение войны. Итак,
остаются только Ришелье и Мазарини. Они действительно управляли
государством как хотели; но при известных качествах этих людей кто
отважится сказать, чтобы когда-нибудь приходила тому или другому
из них в голову мысль о пользе нации?
Мы не надеемся, чтобы г. Чичерин удостоил почтением нашу
статью; мы даже не думаем, чтобы это было нужно, потому как
непогрешимый мудрец он, конечно, не мог бы извлечь никакой пользы из
наших замечаний; но если бы он прочел эту статью, он сказал бы, что
мы смотрим на историю французского абсолютизма и
предшествовавшего ему феодального королевства очень пристрастным образом,
забываем все хорошее и выставляем на вид только дурное. Мы точно
так же говорим о его взгляде, что он преувеличивает все хорошее,
приписывает своему любимому принципу многое такое, чем
Франция вовсе не ему обязана. Г. Чичерин скажет, что мы пристрастны,
а он беспристрастен; мы, наоборот, говорим, что мы
беспристрастны, а он пристрастен. Как разобрать, кто из нас прав, кто нет? Каж-
Г. Чичерин как публицист
347
дый читатель решит это сообразно своему образу мыслей. Кому наш
образ мыслей кажется справедливым, тот скажет, что и взгляд наш
на французскую историю беспристрастен. Кто, напротив, разделяет
убеждения г. Чичерина, тот назовет наши понятия о французской
истории чрезвычайно пристрастными. Но мы и не претендуем
казаться беспристрастными в глазах каждого. Г. Чичерин претендует,
но может быть уверен, что из 10 человек едва ли хотя один признает
за ним то беспристрастие, о котором он так хлопочет. Какую же
выгоду перед нами, прямо говорящими, что любим одних, не любим
других исторических деятелей, доставила ему его забота казаться
равнодушным ко всем и ко всему? Этой фальшивой претензией
может каждый из нас обольщать сам себя, но другие все-таки не будут
обмануты его самообольщением. И, например, о г. Чичерине каждый
говорит, что любовь к бюрократии и централизации заставляет его
странным образом преувеличивать все хорошее и уменьшать все
дурное в истории французского абсолютизма.
Четвертая и последняя статья в книге г. Чичерина «О французских
крестьянах» была гораздо менее замечена публикой, нежели три
первые статьи. Это дает нам возможность не говорить о ней подробно.
Заметим только одно место, интересное для определения нынешнего
направления симпатий г. Чичерина. Из трех книг, выставленных в
заглавии этой статьи, г. Чичерин обращает внимание особенно на две:
Дареста и Бонмера89. Он характеризует ту и другую. Дарест сам
объясняет свое направление следующими довольно странными словами:
«Там, где поверхностные историки видели между рабочими классами
и высшими сословиями противоборство, существовала, напротив,
тесная связь, скажу более — полное почти общение чувств и
интересов». Из этого видно, что книга Дареста написана с целью доказать,
что мятежи французских крестьян против дворян и страшная
ненависть поселян к феодальным господам была явлением мимолетным,
неосновательным, и собственно говоря, жалобы крестьян были
неосновательны. Сам г. Чичерин прибавляет: «Автор представляет
многие средневековые учреждения с слишком выгодной стороны. Он
нередко старается объяснить общественной пользой такие права,
которые были явным последствием права сильного». Бонмер, напротив
того, живо раскрывает всю тяжесть положения поселян и постоянно
сочувствует им, не оказывая потворства средневековым гнусностям.
Г. Чичерин сочувствует даже французскому абсолютизму, который
348
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
кажется ему союзником демократии, и не любит самоуправления за
то, что в Англии имеет оно аристократический характер. После этого
можно было бы ожидать, что к Бонмеру у него будет больше
сочувствия, нежели к Даресту, защитнику феодализма. Но нет: Дареста он
не лишает своей милости, но Бонмера казнит он нещадно:
«Г. Дарест и г. Бонмер могут служить представителями двух
противоположных направлений науки: один слишком старается оправдать все
прошедшее, другой слишком старается его унизить. Нельзя не сказать, однако,
что первый показал несравненно более исторического и критического
такта, нежели последний. И не мудрено: несмотря на некоторую
односторонность, он стоит на истинной дороге и смотрит на историю не с точки
зрения современной страсти, а как ученый наблюдатель, который изучает
лежащие перед ним явления. Книга его может служить лучшим руководством
для изучения истории французских крестьян» (стр. 281).
«...Сочинение Бонмера написано с крайне односторонней точки
зрения. Г. Бонмер, по-видимому, принадлежит к тому разряду французских
демократов-социалистов, которые, подводя все эпохи под исключительную
мерку настоящих своих требований, видят в истории не постепенное
развитие народа, а постоянную несправедливость, от которой следует отделаться.
Это направление вполне отрицательно. Автору нельзя отказать в
начитанности, но приобретенный материал употреблен им без всякой критики и с
явным пристрастием. Книгу его можно назвать не столько историею крестьян,
сколько повествованием об испытанных ими притеснениях. К несчастию,
даже и эта одна сторона далеко не удовлетворяет читателя. Весь рассказ
преисполнен декламациею, риторическими выходками и преувеличением,
которые невольно заставляют заподозревать самую фактическую верность
изображений» (стр. 280).
Из этого мы можем видеть, что, несмотря на все свои рассуждения
о прогрессе, несмотря на всю нелюбовь к английским
аристократическим учреждениям, г. Чичерин не колеблется отдавать преимущество
приверженцам старины над людьми, которые кажутся ему слишком
живо сознающими вредную сторону старинных учреждений. Дарест
оставляет без внимания жизненную сторону учреждений и вносит
в средневековые учреждения понятие нового времени с целью
показать законность беззакония, пользу насилия; из этого, по-видимому,
надобно было бы г. Чичерину заключить, что он лишен всякой
способности быть историком; но нет, «он стоит на истинной дороге,
и книга его может служить лучшим руководством, показывая в нем
исторический и критический такт». Из этого заключения г. Чичерин
Г. Чичерин как публицист
349
сам на себе может глядеть, что такое скрывается под фразою об
историческом беспристрастии, которою он обольстился: под нею просто
скрывается требование, чтобы историк старался оправдывать
беззаконие и выставлять хорошие качества феодальных и тому подобных
учреждений.
Мы кончили разбор, и нам остается объяснить странные качества,
найденные нами в книге г. Чичерина; остается показать, какой вывод
о положении русской литературы можно сделать из качеств,
найденных нами в одном из ее лучших представителей?
Демократия, готовая скорее согласиться на оправдание
феодализма, нежели на его порицание, либерализм, состоящий в пристрастии
к бюрократии, публицистика, равнодушная к вопросам, ею
излагаемым, ученость, не знающая характера событий и людей, известных
каждому, — каким образом объяснить эти сочетания каждого
качества с признаками решительно неуместными в нем, эту холодность
жара, обскурантизм просвещения, реактивность прогресса,
бессмыслие мысли? Мы приведем сначала общие причины, не относящиеся
к лицу, а принадлежащие почти всей хорошей части нашей
литературы. Мы видели, почему французская демократия является с формами
бюрократии: она еще слишком слаба, чтобы отвергнуть въевшуюся
в нее старину, противную ее собственной натуре. Она похожа на
одного из недавно уволенных наших кантонистов, которые еще все
по старой привычке делают под козырек проходящему офицеру, хотя
человек, уволенный от военной службы, не должен уже делать под
козырек. Все мы воспитаны обществом, в котором владычествует
обскурантизм, застой, произвол; потому, какими понятиями ни
пропитываемся мы потом из книг, все-таки большая часть из нас сохраняют
привычное расположение к обскурантизму, застою и произволу. Мы
похожи на ту ворону, обращенную в соловья, которая часто по
рассеянности каркала по-вороньи. Если бы мы все были таковы, нельзя
было бы ожидать обществу ничего хорошего при нашем поколении.
Но есть и в Западной Европе люди, у которых под либерализмом
скрывается обскурантизм; их образ мыслей нелеп и дурен, но он
имеет некоторую связность, в нем нет режущих глаза логических
несообразностей. Монталамбер, например, не станет хвалить Робеспьера,
не будет восхищаться Кромвелем. Зачем же у наших просвещенных
обскурантов такая путаница в понятиях? Почему русский человек
способен на одной и той же странице восхищаться Жанной д'Арк
350
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
и хвалить руанский трибунал, который сжег ее за сношения с
бесами? Это происходит от двух причин. Наши либеральные
обскуранты набираются, например, своих понятий из отсталых французских
книжек; в этих книжках все так хорошо, гладко, связно; но они
набиты узкими национальными предубеждениями, нелепость которых
слишком заметна каждому иностранцу. Русский ученик по
необходимости отбрасывает этот вздор вроде того, что Наполеон в 1812 году
не был побежден, что бюллетени его не содержали бесстыдной лжи,
что французы — единственная великая нация в свете и в этом
качестве никогда не грабили Германию и Италию, а должны для счастия
самих немцев владеть всем левым берегом Рейна, и т. д. От этих
выпусков оказываются в системе большие пробелы, и русский ученик
наполняет их, как умеет, лоскутами фактов и понятий, набранными
откуда бог даст. Но мало того, что он сам наделал пробелов
необходимыми выпусками: и в полном своем иностранном виде отсталая
теория не касалась многих вопросов, специально важных для
русской жизни и неизбежно представляющихся мысли русского
ученика. Он также старается приискать для них ответы, ввести их в чужую
систему. По этим двум причинам жилет из французского атласа
покрывают нашивками из английского коленкора, серо-немецкого
сукна и русской выбойки. Все эти заплаты не производили бы
арлекинского вида, если бы цветом своим подходили к основной
ткани. Но главная нелепость состоит именно в том, что цвет заплат
совсем не тот, какой нужен для гармонии. Первоначальная теория
была составлена, как мы сказали, людьми застоя или реакции с целью
охранения и защиты старины. Нам, русским, нечего жалеть в нашей
старине и нет охоты защищать ее. Потому приставки наши имеют
обыкновенно совершенно не ту тенденцию, как первоначальная
теория. До сих пор мы говорили вообще, теперь сошлемся в частности
на деятельность самого г. Чичерина в подтверждение последнему
обстоятельству. Мы видели, какого оттенка иностранные писатели,
изучением которых он занят, из которых он почерпает основные
понятия свои о европейской жизни, с которыми он, если и спорит, то
не как с противниками своими по принципу, а как с людьми,
имеющими только частные недостатки. Эти люди — Токвиль, Леон Фоше,
Лавернь, Шзо, Маколей и т. п. господа, то есть это люди так
называемого умеренного и спокойного прогресса, иначе сказать, люди,
которым застой гораздо милее всякого смелого исторического движения.
Г. Чичерин как публицист
351
Он спорит с ними, но и в спорах видно, что он чрезвычайно уважает
их, и вообще, как мы сказали, их книги, их теории служат ему
главным резервуаром мудрости. Но есть отрасль знаний, о которой они,
к несчастию, не писали и которою занимается г. Чичерин. Эта
отрасль — русская история. И г. Чичерин написал превосходную книгу
о русской администрации в московский период90. Прочтите эту
книгу, и вы почувствуете надобность протереть глаза и снова заглянуть
на обертку, чтоб удостовериться, действительно ли эта книга
написана тем же г. Чичериным, который написал «Очерки Англии и
Франции». Тот ли это человек, который предпочитает Дареста Бонмеру?
Ведь об его «Областных учреждениях» все умеренные
западноевропейцы буквально сказали бы то самое, что сказал он о книге Бонме-
ра: «Направление г. Чичерина вполне отрицательное. Автору нельзя
отказать в начитанности, но приобретенный материал употреблен
им без всякой критики и с явным пристрастием. Книгу его можно
назвать не столько историею русской администрации, сколько
повествованием о притеснениях, ею оказывавшихся. К несчастию, даже
и эта одна сторона далеко не удовлетворяет читателя. Весь рассказ
преисполнен декламацией и преувеличением, которые невольно
заставляют заподозревать самую фактическую верность изображений.
Автор тщательно выбирает из источников всякую частность, которая
может сгустить краски на его картине, и чем мрачнее событие, хотя
бы оно случилось в каком-нибудь углу государства, тем ярче оно
выставляется на вид как характеристическая черта целой эпохи».
Эти слова списаны нами с 280-281 стр. книги г. Чичерина;
читатель может сравнить их с отрывком, который представили мы выше
из его суждений о Даресте и Бонмере. Нужно было только
переменить фамилию и выпустить два-три слова, относящиеся к
характеристике слога, — и то самое, что должно служить осуждением Бонмеру,
буквально применилось к самому г. Чичерину, которому, впрочем, мы
вовсе не ставим в упрек всех тех качеств, какими может возбуждаться
подобный отзыв о его книге со стороны умеренных прогрессистов.
В самом деле, как легко г. Чичерину опровергнуть их упрек! Он
может сказать и действительно говорил: вы заподозреваете
фактическую верность моих изображений. Проверьте цитаты, и вы
найдете, что я пользовался источниками совершенно добросовестно. Вы
говорите, что я выбрал одни мрачные черты, — пересмотрите
источники, я предлагаю вам найти какие-нибудь другие черты, кроме
352
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
найденных мною. Вы говорите, что я преувеличиваю. Я прошу вас
показать хотя одно место, в котором я сказал бы что-нибудь кроме
того, о чем единогласно свидетельствуют все источники. Г. Чичерин
говорил это, и оказалось, что он совершенно прав, оказалось, что не
он, а самые источники, самая жизнь наших предков виновата в том,
если все содержание его исследования сводится к однообразному
результату; что делала администрация в XIII веке? — Грабила. Что делала
она в XV веке? — Грабила. Что делала она в XVII веке? — Грабила.
Что ж было делать г. Чичерину, если так говорили источники? Он был
честен, добросовестен, и если у него не вышла идиллия, не он
виноват.
И вот эта примесь собственной честной мысли, собственного
добросовестного взгляда к целой массе понятий, на веру принятых из
теории застоя, реакции, из теории, отвергающей все те живые силы,
без которых невозможен прогресс, из теории людей, думающих
взойти на гору без труда, сидящих в болоте, чтобы не
подвергнуться одышке от усилий выйти из болота, — вот эта смесь собственной
честности и собственного благородства с чужою пошлостью
производит тот бессвязный хаос не клеящихся одно с другим понятий,
который отпечатлелся на каждой странице «Очерков Англии и
Франции». Это сочетание противоестественно, разнородные элементы
хаоса лезут прочь один от другого. Нельзя долго служить Егове и
Ваалу вместе. Надобно отказаться от Еговы или сжечь Ваала. Мы смело
предсказываем, что г. Чичерин скоро выйдет из той путаницы
понятий, в которой находится теперь.
Но в какую сторону он выйдет из нее? Он человек честный, это
мы видим, и потому следовало бы ему, когда он двинется с
распутья, на котором стоит теперь, пойти по той дороге, по которой идут
честные люди, если природа не обделила их умом, как не обделила
г. Чичерина. Быть защитником притесняемых или защитником
притеснений — выбор тут не труден для честного человека.
Но мы начали с того, что г. Чичерин считает себя непогрешимым
мудрецом. Ему трудно будет сознаться, — ни перед нами, ни перед
публикой, — для людей с благородной гордостью не трудно
сознаваться в своих ошибках перед другими, — нет, перед самим собой
ему трудно будет сознаться, что он был введен в заблуждение
обманчивым благозвучием ложных слов; что именем беспристрастия
прикрывалась вражда против нового для сохранения старинных бед-
Г. Чичерин как публицист
353
ствий, именем справедливости прикрывалось эгоистическое
равнодушие к чужим страданиям. Успеет ли он одержать эту победу над
самолюбием, успеет ли он стать тем, чем должен бы стать по своей
честной натуре, — этого мы не знаем. А если г. Чичерин не успеет
одержать победы над чуждыми его благородству понятиями, он не
замедлит сделаться мертвым схоластиком и будет философскими
построениями доказывать историческую необходимость каждой статье
Свода законов сообразно теории беспристрастия. Потом
историческая необходимость может обратиться у него и в разумность.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
В ФИЛОСОФИИ
I
Если бы брошюра г. Лаврова91 могла служить только предметом
критического разбора, и если бы мы стали читать ее с мыслью
написать потом разбор понятий, излагаемых в ней, мы с первых же
страниц отказались бы от ее чтения, потому что — скажем
откровенно — мы не читали большей части тех многочисленных книг,
которые приняты в соображение автором, и даже думаем, что никогда
не прочтем их; а без знакомства с ними нельзя с точностью оценить
специального достоинства брошюры г. Лаврова. Но она не только
прочтена нами, — она даже послужила причиною того, что мы
написали довольно длинную статью, имеющую самые тесные отношения
к ней.
Исследования г. Лаврова прямо начинаются ссылкою на писателя,
из книг которого ни одна не прочтена нами, — цитатою из Жюля
Симона, очень известного французского теоретика92. Если бы мы не
знали, к какому направлению принадлежит этот писатель, довольно
бы было нам увидеть две строки, приводимые из него в самом начале
брошюры, чтобы лишиться охоты знакомиться с ним: «сочинение,
относящееся к политической теории и чуждое текущей политики,
есть теперь почти новость», — говорит Жюль Симон, по
свидетельству г. Лаврова, в начале своей книги «Свобода». Этого десятка слов,
приведенных из него, достаточно, чтобы заметить в их авторе
совершенное непонимание того порядка, по которому происходят все
дела на свете и, между прочим, пишутся теоретические сочинения.
Ныне политические теории создаются под влиянием текущих
событий, и ученые трактаты служат отголосками исторической борьбы,
имеют целью задержать или ускорить ход событий. По мнению Жюля
Симона, прежде было не так — иначе он не употребил бы слова
«теперь». Этого мало: Жюлю Симону кажется также, что все люди нашей
эпохи, а в том числе и ученые, поступают не совсем хорошо, являясь
не простыми представителями или последователями абстрактных
учений, не имеющими никакого родства с страстями своей страны
в свое время, а истолкователями и защитниками стремлений каждый
Антропологический принцип в философии
355
своей партии: если б он не порицал их за это, он не называл бы свою
книгу сочинением, «чуждым текущей политики». Наконец он
воображает, что может обмануть читателей, или чистосердечно полагает
сам, что говорит правду, титулуя свою книгу сочинением, «чуждым
текущей политики». Под влиянием трех этих воззрений написаны
слова, приведенные из Жюля Симона г. Лавровым, и все эти три
воззрения ошибочны до такой очевидности, что свидетельствуют или
о необыкновенной наивности и недальновидности Жюля Симона,
или о совершенном недостатке правдивости в его языке. Мы
склоняемся к первому предположению, потому что человек хитрый умеет
хитрить, а Жюль Симон говорит несообразности слишком явные,
которые могут внушаться только крайнею наивностью.
Политические теории, да и всякие вообще философские учения,
создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного
положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал
представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся
в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал
философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся
специально политическою стороною жизни. Их принадлежность к
политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббс был
абсолютист, Локк был виг, Мильтон — республиканец, Монтескье — либерал
в английском вкусе, Руссо — революционный демократ, Бентам —
просто демократ, революционный или нереволюционный, смотря
по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся
к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более
общих, к строителям метафизических систем, к собственно так
называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела
водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась
террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами
дальше: он не боится и террористических средств. Шеллинг —
представитель партии, запуганной революцией, искавшей спокойствия
в средневековых учреждениях, желавшей восстановить феодальное
государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими
патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель — умеренный
либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но
принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы
в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий
ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы го-
356
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ворим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как
частные люди, — это было бы еще не очень важно, но их
философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий,
к которым принадлежали авторы систем. Говорить, будто бы не было
и прежде всегда того же, что теперь, говорить, будто бы только теперь
философы стали писать свои системы под влиянием политических
убеждений, — это чрезвычайная наивность, а еще наивнее выражать
такую мысль о тех мыслителях, которые занимались в особенности
политическим отделом философской науки.
Но пусть себе будут похожи или непохожи на прежних
мыслителей нынешние мыслители тем, что служат представителями
политических партий; как бы там ни было в старину, а теперь мы видим,
что каждый человек с развитою головою очень сильно интересуется
политическими событиями: газету читают даже те люди, которые не
в состоянии читать книг сколько-нибудь серьезных: чем же виноваты
мыслители нашей эпохи, когда не отстают в умственном развитии
от офицеров и чиновников, помещиков и фабрикантов, лавочных
сидельцев и мастеровых? Разве мыслителю необходимо быть
тупоумнее и слепее каждого грамотного человека? Всякий, достигший
какой-нибудь умственной самостоятельности, имеет политические
убеждения, судит обо всем по соображению с ними, — чем же
виноват философ или политический теоретик, когда его образ мыслей не
лишен смысла, какой есть в образе мыслей каждого из людей,
просвещать которых он берется? Неужели учитель должен быть
невежественнее ученика? Неужели человек, пишущий о предмете, должен
интересоваться им меньше, чем интересуются люди, не
принимающие на себя претензии печатать теорию этого предмета? Нужна
баранья наивность, чтобы порицать ученого за то, что он не глупее и не
тупее неученых людей.
Но забавнее всего простодушие, с каким Жюль Симон хочет
убедить публику или успел убедить даже самого себя, будто бы его книга
чужда текущей политики. Мы слыхивали о характере теоретических
книг, писанных Жюлем Симоном в разные годы. При июльской
монархии его доктрина отличалась умеренным духом свободы и
снисходительными полуодобрениями, полупорицаниями людям
действительно прогрессивным. Во время республики элемент свободы
припрятался у него под ожесточенною реакцией против решительных
прогрессистов, которые тогда едва не захватили власть в свои руки.
Антропологический принцип в философии
357
Когда упрочилась империя и решительные прогрессисты стали
казаться бессильными, а реакция совершенно восторжествовала, Жюль
Симон стал писать в духе очень яростного свободолюбия. Из этого мы
видим, что его теории отражали на себе не просто только убеждения
его партии, а подчинялись даже каждому кратковременному
состоянию чувства этой партии. Если б мы и не читали об этом факте, мы,
наверное, могли бы знать, что дело происходило таким образом: для
нас довольно было бы знать, что Жюль Симон пользуется во
Франции некоторою репутациею и, следовательно, не совершенно лишен
ума: умный человек не может не замечать событий, происходящих
около него, т. е. принимать их в соображение, — стало быть, и его
система не может не отражать на себе хода событий. Это понимает
всякий, кроме немногих, слишком наивных людей. Г. Лавров прямо
замечает, что цитируемый им автор не сдержал своего несбыточного
обещания. А если так, к чему было Жюлю Симону взводить на себя
неправдоподобную небылицу уверением в изолированности своей
системы от влияния текущей политики?
Человек, который говорит такие наивные несообразности, может
быть добродетельным семьянином, хорошим гражданином,
приятным болтуном; но мыслителем он быть не может, потому что у него
в голове нет логики. Если он сделается писателем, его
произведения могут иметь достоинства беллетристические, археологические
и всякие другие, но не могут иметь ровно никакого философского
значения. Поэтому мы лишаем себя всякой надежды прочесть
философские сочинения Жюля Симона. Если бы мы захотели
фельетонных достоинств, мы прямо стали бы читать фельетоны г-жи Эмиль
Жирарден, Луи Дюнойе, Теофиля Готье; если бы мы захотели
наслаждаться поэзией, мы стали бы читать романы Жоржа Занда,
песни Беранже; если бы, наконец, мы захотели просто читать пустую
болтовню, мы взялись бы за романы Александра Дюма-старшего
или, пожалуй, младшего, или даже маркиза Фудраса; но какая охота
была бы нам читать философские книги Жюля Симона, в которых
может быть много приятной болтовни, фельетонной соли или даже
поэзии, но которые все-таки по самому своему предмету далеко
отстают этими достоинствами от порядочных фельетонов, хороших и
даже плохих романов, а не имеют того достоинства, из-за которого
становится интересным философское сочинение, — не имеют
логики?
358
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Точно так же мы не думаем, чтобы нам удалось прочесть
сочинения нынешнего Фихте, о котором известно нам то, что о нем всегда
выражаются: «сын знаменитого Фихте». Такая рекомендация
напоминает нам анекдот, случившийся в Петербурге лет пять или шесть тому
назад. Встретились где-то на вечере два незнакомые господина и,
потолковав между собой, почувствовали желание познакомиться. «С кем
я имею удовольствие говорить?» — спросил один из них. Другой
назвал свою фамилию и в свою очередь спросил: «а с кем я имею
удовольствие говорить?» — «Я муж г-жи Тедеско»93, отвечал его
собеседник Мы никогда не имели охоты слушать пение мужа г-жи Тедеско.
По тем же самым основаниям, которые отнимают у нас
возможность познакомиться с сочинениями Жюля Симона и Фихте-сына,
мы не читали и не прочтем философских произведений
Шопенгауэра и Фрауенштедта. Они, по всей вероятности, прекрасные люди,
но в философии они то же самое, что в поэзии г-жа К. Павлова, одно
из произведений которой, «Разговор в Кремле», также цитируется
г. Лавровым94.
По недостатку знакомства с многими из источников, которыми
пользовался г. Лавров, мы, конечно, не можем в точности оценить
достоинство его произведения. Мы можем предполагать только
одно: если бы он не имел большего философского дарования, чем
Жюль Симон, Фихте-сын, то в его брошюре был бы тот же самый
вовсе не философский дух, какой находится в их произведениях,
и его «Теория личности» была бы так же плоха, как их теории. Но его
брошюра должна быть положительно признана хорошею. Из этого
надобно заключать, что г. Лавров заметил многие ошибки тех
посредственных философов, которых изучал, что он умел понять многие
вещи гораздо лучше, нежели они, словом сказать, что недостатки его
брошюры произошли из других книг, каковы книги Жюля Симона
и Фихте-сына, а достоинствами своими брошюра обязана в очень
значительной степени самому автору. Мы думаем, что это
предположение верно, и потому желаем, чтобы г. Лавров продолжал писать
статьи о философии.
Точно так же в большую заслугу ему надобно вменить и то, что
он изучает философию не по одним мыслителям такого разряда, как
Шопенгауэр и Жюль Симон. В нашем обществе, которое так мало
знакомо с истинно великими нынешними мыслителями Западной
Европы, которое считает лучшими руководствами к изучению фило-
Антропологический принцип в философии
359
софии или произведения людей нынешнего поколения, далеко
отставших от современного развития мысли, или творения мыслителей
великих, но уже слишком давних и переставших быть
удовлетворительными при нынешнем развитии наук и общественных
отношений, — в нашем обществе за великую заслугу надобно считать то,
когда человек, кроме плохих или обветшалых руководств,
рекомендуемых ему всеми встречными и особенно всеми специалистами, сам
доискивается до лучших руководств, умеет найти их, умеет понять
их. Г. Лавров большую часть пути ведет своих читателей по прямой
и хорошей дороге вперед: это делает ему большую честь, потому что
никто в нашем обществе не показывал ему этой дороги, а, вероятно,
все, когда-нибудь служившие ему советниками, толкали его на
разные кривые тропинки, ведущие по болоту и большей частью назад,
а не вперед. Мы высоко ценим обе эти заслуги: и ту, что г. Лавров имел
силу додуматься до результатов гораздо лучших того, что давали ему
какие-нибудь Фихте-сыновья и Жюли Симоны; и ту заслугу, что он
умел найти для своих философских исследований руководства,
гораздо лучшие посредственных и отсталых книг. Но соединение
прекрасных мыслей, заимствованных из действительно великих
современных мыслителей или внушенных собственным умом, с понятиями
или не совсем современными, или принадлежащими не тому образу
мыслей, какого в сущности держится г. Лавров, или, наконец,
принадлежащими особенному положению мыслителя среди публики, не
похожей на нашу, и потому получающими неверный колорит при
повторении у нас, — это соединение собственных достоинств с
чужими недостатками придает, если мы не ошибаемся, системе г. Лаврова
характер эклектизма, который производит неудовлетворительное
впечатление на читателя, знакомого с требованиями философского
мышления. В брошюре г. Лаврова встречаются мысли, которые едва
ли совместны между собою. Мы приведем один пример тому.
Г. Лавров — мыслитель прогрессивный, в этом нет никакого
сомнения. По всему видно, что он проникнут искренним желанием
содействовать своему обществу в приобретении тех нравственных
и общественных благ, которых мы до сих пор лишены по своему
невежеству, мешающему нам сознать цели для своих стремлений и
понять средства, необходимые для достижения этих целей. Между тем,
на первой же странице книжки мы встречаем фразу «общественный
деспотизм Соединенных Штатов», и к этой фразе прибавлена для
360
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
подтверждения цитата из книги Милля «On liberty»95: «Утверждают,
что в Соединенных Штатах чувствования большинства, которому
неприятно обнаружение более заметного или более богатого образа
жизни, чем образ жизни, доступный этому большинству, действуют
как довольно действительный закон против роскоши, и во многих
местах Союза для лица, имеющего значительный доход,
действительно трудно найти средства его тратить, не навлекая на себя народного
неудовольствия». Миллю хорошо говорить это: английская публика
знает, как понимать его слова, а наша публика подумает бог знает что,
услышав их без объяснений. Г. Лавров приводит отрывок из Милля
не для какой-нибудь важной цели, а просто для того, чтобы увеличить
четырьмя словами «общественный деспотизм Соединенных Штатов»
длинный список разных политических или общественных форм,
пережитых или переживаемых западным человечеством. Для такой
неважной надобности, как представление 27 указаний вместо 26,
не стоило затрагивать факта, требующего слишком длинных
рассуждений. Напрасно г. Лавров привел его; но еще хуже, по нашему
мнению, вышло оттого, что он, указав на факт, не сказал нашей публике о
его смысле. Мы должны дополнить этот недостаток. Во-первых, факт,
называемый у г. Лаврова общественным деспотизмом, существует не
во всех Соединенных Штатах, а почти исключительно в одной части
их, в так называемых штатах Новой Англии и главным образом в
городе Бостоне. Во-вторых, этот факт, вовсе, как видим, не
повсеместный, составляет не последствие североамериканских учреждений,
как думают поверхностные наблюдатели, а просто остаток
пуританства, ослабевающий с каждым годом: известно, что штаты Новой
Англии были основаны пуританами, которые считали роскошь грехом.
В-третьих, даже и между потомками пуритан стеснение существует
вовсе не в такой значительной степени, как полагают доверчивые
люди, принимающие за чистую монету слова богатых скряг:
скряги везде ищут предлога для извинения своей чрезмерной скупости;
обыкновенно они жалуются на свое безденежье, на тяжелые времена,
а в штатах Новой Англии приискали еще новый предлог — мнимую
стеснительность какого-то поверья, почти уже переставшего
существовать.
Если уже говорить об общественном деспотизме в Северной
Америке, то следовало бы указать не на эту ничтожную черту
отживающей старины, а на другое явление, которым производятся теперь
Антропологический принцип в философии
361
такие сильные смуты в Соединенных Штатах: в той части их,
которая сохранила невольничество, общественное мнение, находясь под
владычеством плантаторов, не допускает ни одного слова, похожего
на аболиционизм; люди, говорящие против невольничества,
подвергаются грабежу, изгнанию и уголовным наказаниям. Но довольно
сказать, что в этой половине Союза, в южных или невольнических
штатах, господствует аристократия: вся власть фактически
принадлежит нескольким десяткам тысяч богатых плантаторов, которые
держат в невежестве и нищете не только своих негров, но и массу
белого населения этих штатов. Известно, что вся земля в Виргинии
и других старинных невольничьих штатах принадлежит потомкам
старинных вельмож, получивших ее по пожалованью при Стюартах.
Они постепенно расширяли свои владения и на те страны, в которых
основаны новые невольничьи штаты; они держат шайки бандитов,
подобных знаменитому Уокеру. Вообще, разница между Неаполем и
Швейцарией не так велика, как разница между южною и северною
половинами Соединенных Штатов. Северные (свободные) штаты
только в последнее время стали сознавать, что до сих пор сохраняли
над Союзом преобладание аристократы южных (невольничьих)
штатов, и коренной смысл нынешней борьбы между аболиционистами
и плантаторами заключается в том, что демократия, господствующая
в северных штатах, хочет вырвать политическую власть над Союзом
из рук аристократов-плантаторов*. Западная Европа очень богата
политическими опытами, политическими теориями, говорит г. Лавров,
но к чему же она пришла, так дорого заплатив за опыты, употребив
так много умственных сил на оценку их? Она пришла только к чув-
* В Северной Америке многие слова, относящиеся к политической жизни,
употребляются не в таком смысле, как в Европе; от этого происходят
чрезвычайно частые ошибки в европейских суждениях о североамериканских делах.
Аболиционисты, которых по европейским понятиям следует называть
демократами, называются теперь в Северной Америке просто республиканцами;
их противники, аристократы, присвоили себе имя демократов. Как
произошло такое превращение имен, рассказывать здесь было бы неуместно, и мы
замечаем о нем только для того, чтобы читатель видел, что мы, приписывая
аристократический характер защитникам невольничества в Соединенных
Штатах, не забыли о названии демократов, которое они фальшиво себе
присвоили. Такие превращения в смысле политических слов встречаются очень
часто и в европейской истории. Например, во Франции патриотами в конце
прошлого века назывались республиканцы, а в Германии в начале нынешнего
века тем же именем звали себя защитники феодальных учреждений.
362
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ству неудовлетворенности своим настоящим, к страху за свое
будущее: «Везде критика и критика; надежды, недавно кипевшие с такою
силою, ослабели; будущее страшно для всех». Этот вывод г. Лавров
подтверждает выписками из Жюля Симона, Милля и из автора
книги «De la justice»96. О мнениях Жюля Симона мы не станем говорить,
но обратим внимание на взгляды двух других писателей, цитируемых
г. Лавровым, потому что они люди действительно очень умные и
совершенно честные.
Милля мы очень уважаем; он один из самых сильных мыслителей
нынешней эпохи и сильнейший мыслитель между экономистами,
которые остались верны учению Смита. Впрочем, последняя
рекомендация сама по себе еще не могла бы служить меркою ума, потому
что других сколько-нибудь сильных в логике людей это
экономическое направление решительно не имеет. Но, говоря не по сравнению
с другими экономистами смитовской школы, с которыми
неприлично сравнивать людей большого ума, а по сравнению вообще с
учеными людьми по всем наукам, Милля можно назвать принадлежащим
к разряду тех второстепенных, но все-таки очень замечательных
мыслителей, силу мысли которых мы яснее всего определим, если
скажем, что она так же велика, как, например, сила поэтического
таланта у лучших из нынешних наших беллетристов. Г. Писемский,
например, вовсе не Гоголь, но все-таки его талант далеко недюжинный.
Точно так и Миллю далеко до таких людей, как Адам Смит или Гегель,
или Лавуазье — до людей, вводивших в науку новые основные идеи;
но довольно самостоятельно развивать идеи, уже получившие
господство, пройти несколько шагов вперед по направлению, уже
указанному другими, это дело таких людей, как Милль. Они заслуживают
большого уважения. Посмотрим же, что говорит Милль и почему он
так говорит.
Его можно характеризовать одним недавним делом. Читателю
известно, что в Англии стоит теперь на очереди вопрос о понижении
избирательного ценза97. Самые отсталые консерваторы согласны, что
это — дело неизбежное. Они всячески стараются затянуть его,
стараются уменьшить размер его, говорят о рискованности больших
перемен, об опасностях, угрожающих конституции; но сознаются, что
какую-нибудь уступку надобно сделать. В начале прошлого года,
когда умы, еще мало развлеченные внешними делами, были сильно
заняты понижением ценза, Милль издал брошюру и напечатал письмо,
Антропологический принцип в философии
363
в которых объяснял, что прежде, нежели давать права людям какого-
нибудь сословия, надобно сделать точные ученые исследования
об умственных, нравственных и политических качествах людей
этого сословия. Мы не знаем, говорил он, каковы политические
убеждения разных разрядов работников, мелких лавочников и других
людей, не пользующихся теперь политическими правами: кого они
будут выбирать своими представителями, на какой путь повлекут их
представители палаты общин? Но главным предметом его замечаний
был вопрос о замене открытой подачи голосов на выборах тайною
баллотировкою. Консерваторы говорят, что открытая подача голосов
развивает в человеке гражданскую доблесть, прямодушие и
всевозможные другие добродетели, а тайная баллотировка нужна только
трусам, которые лучше пусть и не участвуют в общественных делах,
пока не приучатся быть доблестными гражданами, или людям
двоедушным, которые на словах будут обещать свой голос одному
кандидату, а подадут голос за другого. Все прогрессисты, напротив, требуют
тайной баллотировки, говоря, что только ею ограждается
независимость избирателя. Милль, хотя сам большой прогрессист в теории, не
побоялся высказать, что не разделяет в этом случае мнения своих
политических друзей. Это делает ему, как человеку, тем больше чести,
что прежде он думал иначе и теперь с откровенным благородством
прямо говорит, что принужден отказаться от своего прежнего
мнения, как неосновательного. Значила ли эта брошюра, восхитившая
собою всех консерваторов, что Милль перестал быть прогрессистом?
Нет, в теории он по-прежнему защищает предоставление
избирательного голоса всем взрослым людям; он идет тут гораздо далее
самих хартистов, доказывая, что голос на выборах должен быть дан
и женщинам, тогда как даже хартисты говорят только о мужчинах.
Но дело в том, что к живому вопросу Милль приступает с идеальным
желанием повести его путем действительно наилучшим, по научному
взгляду: прежде чем сделать перемену, конечно, надобно собрать
самые лучшие и полные данные о качествах предмета, к которому
относится перемена, чтобы с математическою точностью можно было
предсказать ее результаты. Так и делают, например, в таможенных
реформах: высчитают до последней копейки, насколько уменьшится
в первый год таможенный сбор от понижения пошлины, с какою
быстротою начнет он потом возрастать, во сколько лет и до какой
цифры возвысится. Милль хотел бы, чтобы и парламентская реформа
364
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
была произведена таким же разумным и осмотрительным порядком.
Не собрано статистических данных о том, какое число людей
честных и вовсе не трусливых поставлены своими житейскими
обстоятельствами в такую зависимость, что при открытой подаче голосов
принуждены или вовсе не являться на выборы, или подавать голос
не за того кандидата, которого предпочитают в душе. Сведений этих
не собрано, потому и Милль после многолетнего обдумывания
решил, наконец, что нет достаточных оснований предпочесть тайную
баллотировку открытой подаче голосов. А если бы собрать
доказательства, достаточные для возведения наклонности прогрессистов
к тайной баллотировке в научную истину, Милль был бы очень рад
разделять желания своих политических друзей. Словом сказать, он
в своей брошюре явился человеком очень честным и таким же
прогрессистом, как прежде, только выставил непрактичные требования.
От чего же эта непрактичность? Просто от слишком сильного
желания, чтобы развитие общественной жизни шло путем совершенно
рассудительным. На деле этого не бывает в важных вещах ни в жизни
отдельного человека, ни в народной жизни. Совершенно
хладнокровно, спокойно, обдуманно, рассудительно делаются только вещи не
слишком важные. Посмотрите на человека, с какой обдуманностью,
как умно выбирает он, какую девицу ангажировать на кадриль или
мазурку: как зорко оценивает он и красоту, и нарядность, и
приятность в разговоре, и ловкость в танцах избираемой им дамы, прежде
чем подойдет к ней с предложением. Но ведь это потому, что дело тут
неважное для него. Так ли он поступит при выборе невесты? Дело
известное, что почти все порядочные люди становятся женихами, сами
не зная, как это случилось: кровь разгорячена, сорвалось с языка
слово—и кончено. Правда, и при выборе невесты поступают обдуманно,
благоразумно очень многие; но ведь это бывает лишь в тех случаях,
когда женитьба представляется решающемуся на нее делом простого
комфорта, то есть разве немногим поважнее, чем приискивание
удобной квартиры или хорошего повара. Даже из людей, женящихся
просто с корыстными целями, слишком часто делают
нерассудительный выбор те, у которых желание обогатиться доходит до страсти.
Где замешана страсть, там обдуманность и хладнокровие
невозможны: это истина, известная по прописям. Каждый важный
общественный вопрос возбуждает страсти — это дело также известное. Если
реформа касается только небольшой части общества или, затрагивая
Антропологический принцип в философии
365
интересы всех, представляет для каждого риск лишь
незначительного убытка или выигрыша, словом сказать, если реформа не очень
важна, она может производиться хладнокровным путем. Так,
например, понижение пошлины на чай или сахар произведено было в
Англии очень спокойно и рационально: кому охота была волноваться
из-за того, что уменьшится несколькими пенсами цена фунта чая или
несколькими шиллингами цена центнера сахара? Каждому было
приятно получить через это возможность сберечь десятка полтора или
два шиллингов в год; но кому надобность горячиться из-за такой
мелочи? Убытка не приносила реформа никому. Но большой убыток
приносила английским судохозяевам другая реформа, также очень
полезная: отмена навигационного акта, по которому английские суда
пользовались в английских гаванях таможенными преимуществами
перед иностранными. Сословие судохозяев доходило до ярости в то
время и до сих пор кипит злостью, с неистовством требует, чтобы
восстановили навигационный акт. Зато это сословие составляет лишь
ничтожную часть в торговом классе, который за исключением
судохозяев, весь выигрывал через реформу. Люди раздраженные были
бессильны, и потому дело велось обществом очень холодно. Но так
ли были отменены хлебные законы, когда теряли привилегию люди
сильные в английском обществе? Читатель знает, что людям,
хотевшим этого полезного дела, только тогда удалось побороть
могущественную оппозицию, когда разыгрались страсти в большинстве
общества, много выигрывавшего от важной реформы; а когда общество
взволновалось страстью, холодное ведение дела невозможно. Разве
у Роберта Пиля достало времени на многолетние статистические
изыскания, когда подошла неизбежность перемены?98 Нет, какие
сведения были, теми и воспользовались, медлить было нельзя. А ведь это
не совсем рационально: почему знать, если бы глубже вникнуть
в дело, быть может, некоторые подробности закона обработались бы
лучше? Быть может, представилась бы возможность вполне достичь
цели, не повредив выгодам многих противников реформы,
действительно подвергнувшихся через нее убытку? Конечно, так, но очень
важные для общества дела никогда так не делались. Посмотрите,
каким путем уничтожался феодализм или обращалась в ничтожество
инквизиция, или получались права средним сословием, вообще
уничтожалось какое-нибудь важное зло или вводилось какое-нибудь
важное благо. Милль очень хорошо понимает это как научную исти-
366
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ну, как общий принцип исторического развития; но когда пришлось
видеть на опыте приложение этого принципа, он смутился и стал
говорить бог знает что. Отчего же смущение перед фактом у человека,
ясно понимающего и отважно допускающего принцип, из которого
родился этот факт? Просто от разницы впечатления, производимого
отвлеченной мыслью и фактом, действующим на чувства. Осязаемый
предмет действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем.
Человек, хладнокровно рассуждающий о том, что он сделает в данном
случае, редко имеет силу сохранить все спокойное присутствие духа
при действительном появлении этого случая, если он сколько-нибудь
действительно важен. Когда он приятен, при первых признаках его
появления нами овладевает радостное волнение; когда он
неприятен — тяжелый трепет, и ощущения эти возбуждаются так легко, что
очень часто производятся даже простым обманом чувств;
действительных признаков еще нет, но мы уже радуемся или тоскуем по
наклонности отыскивать во всем следы занимающего нас предмета,
принимая за признаки приближающегося факта такие явления,
которые на самом деле нимало не относятся к нему. Оттого-то каждая
политическая партия постоянно видит приближение своего идеала,
истолковывая каждая по-своему одни и те же явления, как признаки
совершенно противоположных одна другой перемен. Как бы то ни
было, основательно или неосновательно бывает ожидание великих
перемен, с радостью или тоскою ждут их заинтересованные люди, но
дело в том, что их суждение, справедливое или несправедливое,
никак не может быть хладнокровно. Мы видели, с какими чувствами
принял Милль фактические признаки приближения парламентской
реформы, необходимость которой он сам признает в теории.
Отвлеченным образом он желает ее, но факт навел на него некоторую
робость. Это значит, что, в сущности, лично для него перемена
неприятна, что у него достало нравственного мужества побороть эту
неприятность в теории, но недостало силы победить более сильное
впечатление, производимое фактом.
Теперь мы можем обратиться к тому общему суждению о
положении дел в Западной Европе, которое берет из Милля г. Лавров.
Вот слова Милля: «Современное направление общественного мнения
представляет то же самое в неорганизованном виде, что мы видим
организованным в китайской политической и педагогической
системе; и если личности не будут способны успешно восстать против
Антропологический принцип в философии
561
этого ярма, то в Европе, несмотря на ее благородное прошедшее и
на исповедуемое ею христианство, разовьется второй Китай». У нас
многие с большим удовольствием схватились за эти слова,
принимая их за чистую монету; другие сильно огорчились от них. Западная
Европа идет к состоянию китаизма, она уже не в силах выработать
новых форм жизни, она будет только заканчивать систематическую
постройку прежних форм, уже оказывающихся
неудовлетворительными; потребности настоящего, несовместные с ними, будут
подавлены преданием, и на всем Западе водворяется однообразная
методичность насильственной рутины, какую мы видим в Китае. Так
говорят некоторые даже из самых лучших наших людей и указывают
на грустный приговор Милля, как на подтверждение очень сильное.
Но легко сообразить, какого доверия заслуживают в подобных вещах
впечатления человека, смутившегося даже такою частною
переменою, как парламентская реформа, и притом переменою, являющеюся
в таком умеренном объеме, какой принадлежит требованиям даже
радикальной партии парламента в лице ее представителя Брайта",
который притом лишен надежды достичь осуществления даже
своих предложений в самом смягченном и ослабленном их виде. Если
Милль смутился от парламентской реформы, то можно ли ожидать,
чтобы он хладнокровно рассудил о признаках перемены, которая
стремится обнять всю общественную и частную жизнь Западной
Европы, изменить все учреждения и нравы, начиная с государственных
форм и кончая семейными отношениями и экономическими
постановлениями? Что мудреного, если от признаков такой громадной
перемены затмится холодная ясность суждения у человека, который
может без особенного трепета анализировать отвлеченные понятия,
но которому лично неприятны факты, соответствующие этим
понятиям? В приведенных г. Лавровым словах Милля мы видим не анализ
сущности дела, а только впечатление, производимое этим делом на
человека, имеющего благородный образ мыслей, но по своим личным
обстоятельствам принадлежащего к сословиям, ожидающим себе
потерь от перемены, выгодной для всего общества. Когда он говорит:
Западная Европа находится в кризисе, исход которого сомнителен;
отвратить этот кризис, остановить развитие вещей, вернуться к
прошлому невозможно; но неизвестно, чем кончится кризис: приведет
ли он Западную Европу к развитию более высоких форм жизни или
к китаизму, к деспотизму под формой свободы, к застою под формой
368
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
прогресса, к варварству под формой цивилизации, — когда он
говорит это, нам припоминаются чувства и слова честной части
английских лендлордов во время отмены хлебных законов. Те лендлорды,
которые имели благородный образ мыслей, также говорили тогда: да,
мы видим, что отменить хлебные законы необходимо; всякое
сопротивление останется напрасно и может только увеличить размер
окончательной победы Кобдена с его товарищами100, но к чему приведет
эта неизбежная перемена? Не убьет ли она английское земледелие?
Не разорит ли она наше сословие? — это бы еще ничего: свою беду
мы перенесли бы безропотно, — но не разорит ли она и фермеров,
не пустит ли по миру голодными и миллионы деревенских рабочих,
пашущих поля для наших фермеров? Эти люди говорили
добросовестно; однако же факт показал неосновательность их мрачных
сомнений, и постороннему зрителю с самого начала было видно, что
подобные опасения за будущность внушались этим людям только
невыгодностью перемены для сословия, к которому они принадлежали.
Точно таково же происхождение боязни Милля за будущность
Западной Европы: его сомнение о предстоящей судьбе цивилизованных
стран не больше, как возведенное личным чувством в общую
формулу предчувствие того, что дальнейшее развитие цивилизации будет
уменьшать привилегии, присвоенные сословием, к которому сам он
принадлежит. Постороннему человеку очень заметна
неосновательность силлогизма, обращающего в опасность для всего общества
потерю привилегий.
В Милле мы видим представителя чувств, с которыми благородные
люди богатых сословий Западной Европы встречают предстоящую
перемену общественных отношений. Не менее любопытен характер
воззрений другого мыслителя, служащего представителем
умственного положения простолюдинов Западной Европы. Автор книги «De la
justice» был сын деревенского бочара, — не какого-нибудь хозяина
большой мастерской, нет, простого деревенского мужика, который
сам и один, без всяких наемных работников, набивал обручи на
мужицкие бочки и жил так же бедно, как все мужики той деревни. В
детстве своем мыслитель отчасти служил пастухом, отчасти помогал отцу
набивать обручи. Некоторые добрые люди зажиточного сословия,
заметив ум мальчика, помогли отцу отдать его в безансонскую
гимназию. Но книг покупать ученику было не на что, и он учил уроки
уже в классной комнате, в немногие минуты перед начатием класса,
Антропологический принцип в философии
369
по книгам своих товарищей. Бедность семейства скоро заставила его
бросить гимназию, чтобы снова стать работником; на 19-м году
удалось ему поступить в одну из безансонских типографий наборщиком;
через несколько лет сделался он корректором, а потом достиг
должности фактора. Так прошло целых 15 лет; молодой наборщик читал
книги, думал, пробовал сам писать кое-что и заодно из своих
сочинений получил трехлетнюю стипендию в 1 500 франков от безан-
сонской академии (общества любителей словесности). Это помогло
ему в занятиях. Он продолжал писать, оставаясь типографским
работником; но безансонская академия уже отвергала его новые труды,
заметив, какой неблагонамеренный характер обнаруживается в образе
мыслей ее стипендиата, который сначала представился ей человеком
самых консервативных понятий. Между тем автор, оказавшийся очень
дельным человеком по управлению коммерческими делами, приискал
себе место комиссионера, (управляющего) в конторе водяной и
сухопутной транспортировки братьев Готье в Лионе. В этой конторе
служил он до самого 1848 года, который доставил ему возможность
жить уже одними литературными трудами. Управляя конторой Готье,
он был дельцом очень распорядительным и практичным, так что
привел в цветущее положение фирму, в которой служил.
Эта внешняя сторона жизни автора книги «De la justice» служит
верным отражением общих отношений западного простонародья
в его трудовой жизни. Простонародье должно выбиваться из
самого жалкого положения; благосостоятельным классам сначала бывает
жалко видеть людей умных, честных, трудолюбивых находящимися в
безвыходной бедности и в унижении; сильные мира помогают по
чистому человеческому чувству своим менее счастливым братьям;
благодаря сострадательной заботливости зажиточных людей сын
бедного мастерового, пастух и ученик бочара поступает в школу, выводится
на дорогу, по которой и придет к почету и выйдет из бедности.
Но помощь эта, при всей своей похвальности, недостаточна,
заботливость эта, при всей своей гуманности, не довольно
внимательна: мальчик, прежде чем обратился в юношу, уже остается без
хлеба, должен бросить путь к хорошему положению в обществе, чтобы
кормить себя и свою семью черной работой. Много гибнет тут сил
и времени в неблагодарном труде поденщика, живущего со дня на
день, работающего 14 часов в сутки, чтобы иметь неверную и
скудную пищу.
370
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Но природные дарования велики у него; он еще ничему не
выучился, зато узнал, по крайней мере, что спасение может быть дано
ему только наукой: он уже не отстанет от умственного труда, как бы
ни стесняли его обстоятельства. Притом же он хочет знать правду.
Кроме материальной потребности знания, в нем уже развита
любознательность. И вот, урывая время от сна, отказывая себе во всяком
развлечении, даже в отдыхе, он посвящает час или полчаса позднего
вечера чтению, как бы ни чрезмерна была черная работа, занимавшая его
целый день. Таким образом, учится он много; а мыслит он еще больше:
голова его думает над общечеловеческими вопросами и над
вопросами о положении целого его сословия, пока руки его исполняют
черную работу. Тяжел и длинен этот путь: пятнадцать лет нужно ему на то,
чтобы приобрести сведения, которые при лучших условиях
приобрел бы он в два-три года. Зато было у него время глубоко обдумывать
все, что узнает он, и мысль его получила великую проницательность.
Вот он знает уже все, что знают ученые люди, а судит он яснее их;
он может сообщить им нечто достойное их внимания: в его мыслях
есть нечто новое, потому что порождены они жизнью, какой не
испытывают классы, имеющие ученых людей. На первый раз это новое
так же нравится ученым порядочного общества, как нравилась
прежде даровитость деревенского мальчика: они одобряют труженика; он
продолжает свой умственный труд, развивает свои мысли; но тут
догадываются, наконец, его покровители, что есть какая-то вредная
сторона в его мыслях, показавшихся сначала такими невинными. Прежнее
довольно гордое участие к нему заменяется в них подозрительностью,
она усиливается, подтверждается, переходит в положительную
нелюбовь, потом в ненависть к нему за его вредный образ мыслей, за его
гибельные стремления; он отвергнут всеми, кто имеет хорошее
положение в обществе, подвергается гонениям; но уже поздно: он уже
не нуждается в покровительстве, он уже сильнее преследователей,
он знаменит, и все его трепещут, потому что он сокрушает каждого, на
кого принужден поднять руку. Эта биография отдельного человека —
история сословия, к которому он принадлежит.
Этот человек интересен, как полный представитель умственного
положения, до которого возвышается на Западе простолюдин.
Переходя к его теориям, мы также найдем, что история его развития
отразилась в них всеми своими сторонами и в том числе своими
недостатками. Он — самоучка; по каким книгам он учился? Знал ли он,
Антропологический принцип в философии
371
какие книги выбирать, знал ли он, на какие учения обращать
внимание, как на учения действительно современные? Нет, он учился по
книгам, какие попадались ему в руки, а чаще всего попадаются книги,
написанные в духе теорий, уже получивших господство в обществе,
то есть теорий уже довольно старых и значительно устаревших.
Такова судьба всякого самоучки. Если кто-нибудь из нас, не учившихся,
например, химии, вздумает заняться этой наукой и не будет вовремя
иметь хороших руководителей, он, наверное возьмется или за
школьные руководства, служащие вместилищем всякого хлама, или за
книги химических знаменитостей, слава которых уже распространилась
в обществе: за Либиха, может быть, даже за старика Берцелиуса101;
а люди, знакомые с химиею в нынешнем ее виде, говорят, что
понятия не только Берцелиуса, но Либиха уже устарели, уже не годятся
в руководство человеку, который хотел бы узнать химию в нынешнем
ее виде; что науку эту надобно теперь изучать по другим писателям,
а книги Либиха могут служить с пользою только уже для справок,
только уже человеку, усвоившему себе другой взгляд на дело.
Г. Лавров занят философской стороной системы автора книги «De
la justice», и мы обратим внимание здесь также на эту сторону, хотя
для экономической науки его сочинения гораздо важнее, чем для
философии. Автор книги «De la justice» далеко превосходит всех своих
французских соперников тем, что знаком с немецкой философией.
Ни о каком другом французском философе нельзя сказать, чтобы
он владел этим знанием. Говорят, будто бы Кузен102 изучал
Шеллинга и Гегеля; но они оба находили, что он решительно не понимает
духа их учений, под именем их систем воображает себе какую-то
нелепицу, составившуюся в его голове из смеси непонятых немецких
выражений с принципами, противоречащими не только немецкой
философии, но и духу всякого научного исследования. Следовавшие
за Кузеном французские знаменитости по части философии точно
так же, как он, оставались чужды духу великих немецких мыслителей
или даже и вовсе незнакомы с ними. Об авторе книги «De la Justice»
надобно сказать не то: он глубоко проникнут принципами
немецкой философии. Мы читали, будто бы он не знает по-немецки; если
это правда, то все еще ничего не значит. Белинский также не знал
по-немецки, а между тем знал немецкую философию так, что не
наберется в самой Германии десяти человек, понимающих ее столь
же глубоко и ясно. Мы слышали, что главный источник знакомства
372
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
с этой наукой у автора книги «De la Justice» и у Белинского был
одинаков: разговоры с людьми, занимавшимися немецкой философией;
говорят, что даже эти люди были одни и те же. Можно полагать, что
такие известия справедливы. Но как бы то ни было, Прудон проникся
духом немецкой философии. Это составляет одну из сильнейших его
сторон. Надобно прибавить, что одна из причин
неудовлетворительности или, по крайней мере, неясности его понятий также
заключается в этом знакомстве, именно в том обстоятельстве, что он узнал
немецкую философию под формой системы Гегеля и остановился на
этой форме, как на окончательном выводе, между тем как в
Германии наука развивалась дальше. Система Гегеля, проникнутая духом,
господствовавшим над общественным мнением во время
Реставрации и получившим свое начало во время Первой империи, сама по
себе уже не соответствует нынешнему состоянию знаний. Надобно
еще прибавить, что Гегель по своей натуре или, быть может, по
расчету облекал свои принципы в одежду очень консервативную, когда
говорил о политических и теологических предметах. Смелый
французский простолюдин, усвоив себе его метод, не мог остаться
доволен его выводами и стал приискивать для принципов Гегеля
развитие, более сообразное с их собственным духом и с своим личным
образом мыслей, чем какое получили они у самого Гегеля. Если бы он
заблаговременно был познакомлен с последующим развитием науки
в Германии, он нашел бы в нем то, чего искал. Но, не имея этого
пособия, он был предоставлен своим собственным силам; а история его
умственного развития помешала этим силам сохранить или
приобрести качества, нужные для построения связной и однородной
философской системы. Он слишком много начитался новых французских
философов, прежде чем стал учеником Гегеля. Когда он переделывал
его систему, он слишком часто попадал под влияние мыслей, какие и
прежде были привычны ему по французским книгам. Таким образом,
его собственная система составлялась из соединения гегелевской
философии с понятиями французских философов, часто не
имеющими научного духа. Повсюду видна у него чрезвычайная сила ума,
но слишком часто заметно, что ум этот связывался воззрениями, не
имеющими никакого научного основания. Результатом столь
неблагоприятных условий была темнота; он сам заметил ее и хотел выйти
из нее или страстными порывами ненависти к преданию, против его
воли опутывавшему его, или усилиями придать ему разумный смысл.
Антропологический принцип в философии
373
Во всем этом мы опять видим общие черты того умственного
положения, в котором находится теперь западноевропейский
простолюдин. Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской
опытности, западноевропейский простолюдин в сущности понимает
вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более
счастливых классов. Но до него не дошли еще те научные понятия, которые
наиболее соответствуют его положению, наклонностям,
потребностям и, как нам кажется, наиболее соответствуют истине, а во всяком
случае сообразны с нынешним положением знаний. При
незнакомстве с этими понятиями он принужден учиться по книгам или
положительно дурным, или устарелым, оставаться под влиянием
ошибочных мнений, господствующих в так называемой образованной
публике, в которой достигает господства только то, что уже отжило
свое время в науке, принужден истощать свои силы на борьбу с
предрассудками, уже разоблаченными истинно современной наукой, еще
не дошедшей до него, или подчиняться этим предрассудкам,
переходить от гнева на них к покорности им, вместо того чтобы холодно
отстранить их, как разоблаченную ложь, которая стала бы для него
неопасна, как скоро он понял бы, что она чистейший вздор.
Вот почему мы думаем, что ни автор книги «De la justice», ни
Милль не могут быть авторитетами в философии. Оба они
чрезвычайно важны для человека, желающего узнать расположение мыслей
в известных сословиях западноевропейского общества: из Милля он
узнает, как благородная часть западноевропейских
привилегированных классов смущается духом при виде осуществления тех идей,
теоретическую справедливость которых сама она защищает, признавая
их логически неотразимыми и ведущими к общему благу, но которые
невыгодны для этих сословий. Автор книги «De la justice» показывает,
как простолюдины, жаждущие перемен, затрудняются в их
осуществлении тем, что воспитались в понятиях старины, не познакомились
еще с воззрениями, соответствующими их потребностям. Но
представителями этих воззрений, развитых современной наукой, ни Милль,
ни Прудон не могут считаться*.
Конечно, когда мы говорим, что Милль не представитель современной
философии, мы разумеем собственно ту часть науки, которую принято у нас
называть философией, — теорией решения самых общих вопросов науки,
обыкновенно называемых метафизическими, — например, вопросов об
отношении духа к материи, о свободе человеческой воли, о бессмертии души
374
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Истинных представителей ее надобно и теперь, как прежде, искать
в Германии. Быть может, мы ошибаемся, но нам кажется, что г. Лавров
принужден был собственными силами доискиваться тех решений,
которые уже найдены нынешнею немецкою философиею. Нам кажется,
что изучение отживших форм немецкой философии и книг,
написанных мыслителями английскими и французскими, предшествовало
у него знакомству с новейшими немецкими мыслителями, и что будь
иначе, прочти он несколькими годами позже те книги, которые
прочтены им раньше, прочти он несколькими годами раньше те книги,
которые прочтены им уже только по окончании внутренней его
работы над построением своего образа мыслей, он писал бы несколько
иначе. Мы не говорим, что он пришел бы к другим воззрениям, — нам
кажется, что сущность его воззрений справедлива, — но они
представлялись бы ему в виде более простом; быть может, мы выразились
не так, и точнее было бы сказать: он решительнее находил бы, что
отвергаемая им ложь — совершенно пустая ложь, могущая вызывать
только улыбку сострадания, а не серьезное раздумье о том, можно ли
безусловно отвергнуть ее.
Очень может быть, что убеждение в простоте истины и в
основательности совершенного разрыва современных воззрений с пустой
софистикой, в которую одета древняя грубая ложь, отразилось бы и
на его изложении большею доступностью для большинства публики;
быть может, его статьи, которые теперь всеми уважаются, более
читались бы тою частью публики, которая слишком наклонна оставлять
не прочтенными книги и статьи, внушающие ей слишком большое
уважение. Не входя в критику воззрений г. Лаврова, мы попробуем
изложить наши понятия о тех же предметах; нам кажется, что они,
в сущности, сходны с образом мыслей г. Лаврова; разница будет
почти только в изложении и в приемах постановки вопроса.
Основанием для той части философии, которая рассматривает
вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для
другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе. Прин-
и т. д. Этой частью науки Милль даже вовсе не занимался прямым образом;
он преднамеренно отклоняется от высказывания всякого мнения о
подобных предметах, как будто считая их недоступными точному исследованию.
Он, собственно, не философ в том смысле слова, по которому философами
называются у нас Кант и Гегель, но не называются Кювье или Либих (по-
английски Кювье и Либих также называются философами).
Антропологический принцип в философии
375
ципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми
ее феноменами служит выработанная естественными науками идея
о единстве человеческого организма; наблюдениями физиологов,
зоологов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека.
Философия видит в нем то, что видят медицина, физиология, химия;
эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно,
а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной
своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно
обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни
в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке
происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет.
Это доказательство имеет совершенную несомненность.
Убедительность его равняется убедительности тех оснований,
по которым, например, вы, читатель, уверены, что, например, в эту
минуту, когда вы читаете эту книгу, в той комнате, где вы сидите, нет
льва. Вы так думаете, во-первых, потому, что не видите его глазами,
не слышите его рыкания; но это ли одно ручается вам за то, что льва
нет в вашей комнате? Нет, есть у вас второе ручательство за то:
ручательством служит тот самый факт, что вы живы; если бы в вашей
комнате находился лев, он бросился бы на вас и растерзал бы вас.
Нет последствий, которыми неизбежно сопровождалось бы
присутствие льва, потому вы знаете, что нет тут и льва. Скажите также,
почему вы убеждены, что собака не умеет говорить? Вы не слышали,
чтобы она когда-нибудь говорила; само по себе это было бы еще
недостаточно: вы видели многих людей, которые молчали в то время,
как вы их видели; они просто не хотели, а не то чтобы не умели
говорить: быть может, и собака только не хочет говорить, а не то что
не умеет говорить? Так и думают люди с неразвитым умом, верящие
сказкам, в которых разговаривают животные, и объясняющие свое
предположение таким способом: собака очень умна и хитра, она
знает, что слова часто доводят до беды, оттого и молчит, рассчитав, что
молчать гораздо безопаснее, чем говорить. Вы смеетесь над такими
замысловатыми объяснениями и понимаете дело проще: вы видели
случаи, в которых собака не могла бы не говорить, если бы имела эту
способность; например, убивают собаку; она визжит изо всех сил, ей,
очевидно, невозможно удержаться от выражения своей мысли о том,
что ей больно, о том, что с нею поступают жестоко. Она ищет всяких
средств выразить это и находит одно средство — визг, а слов не нахо-
376
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
дит; значит, в ней нет дара слова; если б он был в ней, она действовала
бы иначе. Дано обстоятельство, в котором существование известного
элемента в известном предмете непременно имело бы известный
результат; этого результата нет, потому нет и этого элемента. Возьмем
еще случай. Почему вы знаете, что, например, г. Юм, наделавший у нас
в Петербурге такого шума года два тому назад своими фокусами, —
действительно только фокусник,103 а не может в самом деле знать
будущего, знать тайн, которых ему не сказывали, читать книг и бумаг,
которые не находятся у него перед глазами? Вы знаете это вот
почему: если бы он мог знать будущее, он был бы сделан
дипломатическим советником при каком-нибудь дворе и рассказал бы
министерству этого двора все, что произойдет в данных случаях: например,
он оказал бы Рехбергу в прошлом марте, что если австрийцы начнут
войну, то они будут побиты при Палестро, Мадженте и Сольферино
и потеряют Ломбардию104. Тогда австрийцы не начали бы войны, и не
было бы ничего из того, что произошло в прошлом году в Италии,
Франции, Австрии, а происходило бы что-нибудь совершенно иное.
Если бы он мог читать книги, не находящиеся у него под глазами,
тогда правительства и ученые общества не стали бы посылать ученых на
восток отыскивать древние рукописи, а обратились бы с просьбой к
нему, и он из Парижа прочел бы и продиктовал бы им какого-нибудь
неизвестного нам теперь древнего греческого писателя, список
которого уцелел в каком-нибудь сирийском захолустье. Этого нет, г. Юм
и его собратья по искусству не открыли ровно ничего ни
дипломатам, ни ученым; а непременно открывали бы им важные вещи, если
бы могли, потому что это было бы для них и несравненно выгоднее,
и несравненно почетнее фокусничества; потому они и не имеют той
способности, которую приписывают им легковерные люди. О всех
таких случаях не довольно сказать: мы не знаем, существует ли
известный элемент; нет, рассудок обязывает нас прямо сказать: мы
знаем, что этого элемента нет; если б он был, то происходило бы не то,
что происходит.
Но при единстве натуры мы замечаем в человеке два различных
ряда явлений: явления так называемого материального порядка
(человек ест, ходит) и явления так называемого нравственного
порядка (человек думает, чувствует, желает). В каком же отношении между
собою находятся эти два порядка явлений? Не противоречит ли их
различие единству натуры человека, показываемому естественными
Антропологический принцип в философии
377
науками? Естественные науки опять отвечают, что делать такую
гипотезу мы не имеем основания, потому что нет предмета, который имел
бы только одно качество, — напротив, каждый предмет обнаруживает
бесчисленное множество разных явлений, которые мы для удобства
суждения о нем подводим под разные разряды, давая каждому
разряду имя качества, так что в каждом предмете очень много разных
качеств. Например, дерево растет, горит; мы говорим, что оно имеет
два качества: растительную силу и удобосгораемость. В чем сходство
между этими качествами? Они совершенно различны; нет такого
понятия, под которое можно было бы подвести оба эти качества, кроме
общего понятия качество; нет такого понятия, под которое можно
было бы подвести оба ряда явлений, соответствующих этим
качествам, кроме понятия явление. Или, например, лед тверд и блестящ;
что общего между твердостью и блеском? Логическое расстояние от
одного из этих качеств до другого безмерно велико, или, лучше
оказать, нет между ними никакого, близкого или далекого, логического
расстояния, потому что нет между ними никакого логического
отношения. Из этого мы видим, что соединение совершенно
разнородных качеств в одном предмете есть общий закон вещей. Но в этом
разнообразии естественные науки открывают и связь, — не по
формам обнаружения, не по явлениям, которые решительно несходны, а
по способу происхождения разнородных явлений из одного и того
же элемента при напряжении или ослаблении энергичности в его
действовании. Например, в воде есть свойство иметь температуру —
свойство, общее всем телам. В чем бы ни состояло свойство
предметов, называемое нами теплотой, но оно при разных обстоятельствах
обнаруживается с очень различными величинами. Иногда один и тот
же предмет очень холоден, то есть обнаруживает очень мало тепла;
иногда он очень горяч, то есть обнаруживает его очень много. Когда
вода, по каким бы то ни было обстоятельствам, обнаруживает очень
мало теплоты, она бывает твердым телом — льдом; обнаруживая
несколько больше теплоты, она бывает жидкостью; а когда в ней
теплоты очень много, она становится паром. В этих трех состояниях
одно и то же качество обнаруживается тремя порядками совершенно
различных явлений, так что одно качество принимает форму трех
разных качеств, разветвляется на три качества просто по различию
количества, в каком обнаруживается: количественное различие
переходит в качественное различие.
378
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Но разные предметы различаются между собою своею
способностью обнаруживать известные общие им качества в очень
различных количествах. Например, железо, серебро, золото обнаруживают
очень значительное количество того качества, которое называется
тяжестью и мерилом которого у нас на земле служит вес. Воздух
обнаруживает это качество в таком малом количестве, что только
особенными учеными исследованиями оно открыто в нем, а каждый
человек, не знакомый с наукою, по необходимости предполагает,
будто бы в воздухе вовсе нет тяжести. Точно так же думали о всех
газообразных телах. Возьмем другое качество — способность
сжиматься от давления. Без особенных средств анализа, даваемых только
наукою, никто не заметит, чтобы жидкости сжимались от какого бы
то ни было давления: кажется, будто бы вода сохраняет совершенно
прежний объем под самым сильным давлением. Но наука отыскала
факты, показывающие, что и вода в некоторой степени сжимается от
давления. Из этого надобно заключать, что когда нам представляется
какое-нибудь тело, не имеющее, по-видимому, известного качества,
то надобно употребить научный анализ для проверки этого
впечатления, и если он скажет, что качество это находится в теле, то
надобно не твердить упорно: наши не вооруженные научными средствами
чувства говорят противное, а надобно просто сказать: результат,
полученный при помощи исследования предмета с нужными научными
средствами, показывает неудовлетворительность впечатления,
получаемого чувствами, лишенными нужных в этом деле пособий.
С другой стороны, когда кажется, будто бы известный предмет
имеет какое-нибудь особенное качество, которого будто бы
совершенно нет в других предметах, то надобно опять исследовать дело
научным образом. Например, нам кажется, что дерево имеет
способность совершенно особенную, какой нет в большей части других тел:
оно горит, а камень, глина, железо не горят. Но когда мы
исследуем при помощи научных пособий процесс, называемый горением,
то мы найдем, что он состоит в соединении некоторых элементов
известного тела с кислородом; вместе с этим наука показывает, что
в большей части так называемых негорючих тел постоянно
происходит точно тот же процесс соединения всех или некоторых
из составных их частей с кислородом. Например, железо постоянно
окисляется, — на разговорном языке этот вид процесса называется
особенным словом «ржаветь»; но наука открывает, что ржавенье и го-
Антропологический принцип в философии
379
рение — совершенно один и тот же процесс и что эти два случая его
представляются различными для нашего впечатления только оттого,
что в одном случае процесс происходит гораздо быстрее, гораздо
интенсивнее, нежели в другом.
Отчего же теперь разные предметы имеют различную величину
интенсивности в обнаружении известного качества при одинаковых
условиях? Отчего камень в обыкновенных житейских условиях
обнаруживает очень сильную степень качества, называемого тяжестью,
а воздух не обнаруживает его иначе, как при пособии особенных
научных средств, увеличивающих проницательность наших чувств?
Отчего окисление железа происходит в обыкновенной атмосфере
гораздо медленнее, чем окисление дерева, когда оба предмета
положены в одну и ту же горящую печь? Наука говорит, что она еще не
успела исследовать законов, от которых зависит эта разница в
немногих телах, остающихся в химии пока под именем простых, но
что во всех остальных телах, которые успела она разложить, эта
разница происходит от различия в составе или от различия состояний,
в которых находятся составные части сложного тела. Например,
разнице между водой и маслом или водяным паром и камнем
соответствует разница в составе этих тел. Разнице между углем и алмазом
соответствует то различие, что составные части угля находятся в не-
кристаллизованном, а составные части алмаза в кристаллизованном
состоянии. Естественные науки замечают также, что простые или
составленные из них сложные тела, входя между собою в химические
соединения, вообще дают в продукте тело, обнаруживающее такие
качества, каких не обнаруживали составные его части, когда
находились порознь. Так, например, из соединения в известной пропорции
водорода и кислорода образуется вода, имеющая множество таких
качеств, которых не было заметно ни в кислороде, ни в водороде.
Об этих комбинациях химия замечает, что многосложные из них
вообще отличаются большей переменчивостью, так сказать
подвижностью. Так, например, железная ржавчина, состоящая только из
соединения железа с кислородом в очень простой пропорции, очень
постоянна, так что нужно действовать на нее чрезвычайно высокою
температурою или чрезвычайно сильными реагентами, чтобы
произвести перемену в этом теле. Но кровяной шарик, в котором
железная окись служит только одним из элементов многосложной
химической комбинации с примесями разных других тел, например, воды,
380
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
никак не может долго сохранять своего состава: он, можно сказать,
не существует в постоянном виде, как существуют частички
ржавчины, а беспрестанно изменяется, приобретая новые частицы и теряя
прежние. То же надобно сказать о всех многосложных химических
комбинациях: они имеют очень сильную наклонность существовать
постоянным возникновением, возрастанием, обновлением и,
наконец, уничтожаться среди обыкновенных обстоятельств, так что
существование предмета, состоящего из таких комбинаций, состоит в
беспрестанном возобновлении частей и представляется непрерывным
химическим процессом.
Многосложные химические комбинации, имеющие этот характер,
одинаково обнаруживают его, находятся ли они в так называемых
органических телах или возникают и существуют вне их, в так
называемой неорганической природе. Еще не очень давно казалось, что
так называемые органические вещества (например, уксусная
кислота) существуют только в органических телах; но теперь известно, что
при известных условиях они возникают и вне органических тел, так
что разница между органическою и неорганическою комбинацией)
элементов несущественна и так называемые органические
комбинации возникают и существуют по одним и тем же законам и все они
одинаково возникают из неорганических веществ. Например,
дерево отличается от какой-нибудь неорганической кислоты собственно
тем, что кислота эта — комбинация немногосложная, а дерево —
соединение многих многосложных комбинаций. Это как будто разница
между 2 и 200 — разница количественная, не больше.
Итак, естественные науки видят в существовании
органического тела, каково, например, растение или насекомое, химический
процесс. Об этом явлении вообще замечают естественные науки,
что во время химического процесса тела обнаруживают такие
качества, каких совершенно незаметно в них при состоянии
неподвижного соединения. Например, дерево само по себе не жжет; трут,
кремень и огниво также не жгут; но если частичка стали, раскаленная
трением (ударом) о кремень и оторванная от огнива, попадает в трут
и, чрезвычайно возвысивши температуру некоторой частички этого
трута, дает условие, нужное для начала в этой частичке трута
химического процесса, называемого горением, то постепенно весь кусок
трута, вовлекаясь в этот химический процесс начинает жечь, чего не
делал, когда в нем не было химического процесса; будучи пододвинут
Антропологический принцип в философии
381
к дереву во время этого процесса, он также вовлекает его в свой
химический процесс горения, и дерево во время этого процесса также
жжет, светит и обнаруживает другие качества, каких не замечалось в
нем до начала процесса. Возьмем какой угодно другой химический
процесс, мы увидим то же самое: тело, находящееся в нем,
обнаруживает качества, каких не обнаруживало до начала процесса. Возьмем,
например, процесс брожения. Пивное сусло стоит спокойно в своем
чану; дрожжи также неподвижны в своей кружке. Положите дрожжи
в сусло, начинается химический процесс, называемый брожением:
сусло бурлит, пенится, бьется в своем сосуде. Разумеется, когда мы
говорим о различии состояния тел во время химического процесса и
в такое время, когда не находятся они в процессе, мы говорим только
о количественной разнице между сильным, быстрым ходом
процесса и очень медленным, слабым ходом его. Собственно говоря, каждое
тело постоянно находится в состоянии химического процесса;
например, бревно, если и не будет зажжено, не сгорит в печи, а будет
спокойно, как будто без всяких перемен лежать в стене дома, все-таки
когда-нибудь придет к тому же концу, к какому приводит его
горение: оно постепенно истлеет, и от него останется тоже только пепел
(пыль гнилушки, которая, наконец, оставит от себя на прежнем месте
только минеральные частицы пепла). Но если этот процесс, как,
например, при обыкновенном тлении бревна в стене дома, происходит
чрезвычайно медленно и слабо, то и качества, свойственные телу,
находящемуся в процессе, обнаруживаются с микроскопической
слабостью, которая в житейском быту совершенно неуловима. Например,
при медленном истлевании дерева, лежащего в стене дома, также
развивается теплота; но то количество ее, которое при горении
сосредоточилось бы в течение нескольких часов, тут разжижается (если
можно так выразиться) на несколько десятков лет, так что не
достигает никакого результата, удобоуловимого на практике:
существование этой теплоты ничтожно для практических суждений. Это то же
самое, как винный вкус в целом пруде воды, в который брошена одна
капля вина: с научной точки зрения этот пруд содержит в себе смесь
воды с вином, но в практике надобно принимать, что вина в нем как
будто вовсе нет.
Читатель, вероятно, скажет, что все наши рассуждения так же
справедливы, как справедливы были бы рассуждения об обращении
земли около солнца, о холоде на полюсах, о жаре под тропиками,
382
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
и столь же мало идут к делу. Читатель, без всякого сомнения, будет
прав, сказав, что мы занимаемся теперь пустословием. Но гораздо
легче заметить в себе недостаток или согласиться с словами людей,
указывающих его, нежели исправиться от него. Вообще люди
наклонны щегольнуть знакомством с такими вещами, с которыми, в
сущности, мало знакомы, любят выказывать это свое мнимое знакомство
кстати и некстати; почему же нам следовало бы не иметь этого
недостатка? А если мы уже имеем его, то почему же и не выказываться ему?
Пусть же себе выказывается, и будем заниматься не идущими к делу
рассуждениями о естественных науках, мало нам знакомых, пока
надоест нам это щегольство, — тогда мы займемся чем-нибудь другим,
чего, быть может, также вовсе не знаем, например, хоть
нравственною философиею. Читатель подумает: однако же, труден будет
переход от химии к общественным учреждениям. Ну вот, будто бы уже и
трудно найти фразу, которой бы связывались совершенно несвязные
части рассуждения? Когда придет нам охота говорить о философии
вместо химии, мы просто напишем: «итак, до сих пор мы рассуждали
вот о чем, а теперь будем рассуждать вот о чем», и дело будет
кончено — удовлетворительный переход сделан. Разве не делают
беспрестанно точно таких же переходов очень знаменитые авторитеты:
напишут две фразы, решительно не клеящиеся между собою, поставят
между ними «итак» или «следовательно», — и силлогизм готов, и все
доказано.
Но мы чувствуем, что еще на несколько страниц хватит у нас
желания толковать вместо философии о естественных науках,
совершенно не идущих к делу, по справедливому замечанию
читателя. Смутило было нас одно обстоятельство: мы уже истощили весь
скудный запас наших сведений о химических комбинациях и
процессах; мы не имеем, что тут больше сказать, а говорить нам охота
страшная. Вот она-то и выручает нас из беды: «сказал все, что знаешь
об одном, шепчет нам она, кидайся на другое, что подвернется под
язык». Мы послушались доброго совета. Давайте же говорить хоть
о царствах природы: кое-что каждый о них знает, хоть иной и
маловато; кое-что знаем и мы, и уже сами чувствуем, что маловато, а все-
таки на несколько страниц достанет. Но тут в другое ухо желание
как можно дольше уклоняться от настоящего предмета речи, чтобы
наговорить как можно больше не идущего к делу, подшепнуло нам
другой совет: «из трех царств природы, минерального, растительно-
Антропологический принцип в философии
383
го и животного, вы пока ничего не говорите о том, которое одно
могло бы представлять примеры хотя некоторой аналогии с
человеческою жизнью, о жизни муравьев, пчел, бобров, — не говорите
ничего о царстве животных». Мы слушаемся и этого совета, хотя он
очевидно нелеп: нелепостей в жизни делаешь так много, что одною
больше или одною меньше — не составит ровно никакой разницы,
как не составляет ровно никакой разницы в температуре
присутствие какой-нибудь сгнивающей щепы. Будем же говорить о
неорганической природе и о растительном царстве.
Нам нравится эта новая тема, собственно, потому, что, и
независимо от недостаточности наших знаний о ней, нельзя было бы сказать
о ней ничего дельного, потому что она сама по себе чужда всякой
реальности, вводя в природу подразделение, которого в природе
вовсе нет. Оно только кажется незнающему человеку, что камень — сам
по себе, а растение — вещь совершенно другого рода; в самом же
деле открывается, что оба эти предмета, столь несходные, состоят
из одинаковых частей, соединившихся по одним и тем же законам,
только соединившихся в разной пропорции. Разлагаем камень и
находим, что он составился из газов и металлов; разлагаем растение
и в нем тоже находим газы и металлы. В камнях металлы
находятся не в чистом своем виде, а в разных соединениях с кислородом;
в растениях — тоже. В камнях газы находятся не каждый особо, не
сам по себе, а в разных соединениях с другими газами и металлами;
в растениях — тоже. Больше всего в растении таких частей, которые
прямо состоят из голого камня: в живом растении этот камень
составляет две трети или три четверти всей массы растения или даже
больше; этот камень — вода. От вещей, которые называются камнями
в обыкновенном языке, этот камень отличается лишь тем, что
плавится при температуре очень низкой, между тем как обыкновенные
камни плавятся только при чрезвычайно высокой температуре. Но если
расплавленный кварц не перестает быть кварцем, камнем, то и
минерал, бывающий в расплавленном виде водою (лед), не перестает,
расплавившись, быть минералом. Итак, от обыкновенных руд, камней
и других неорганических тел растение отличается, собственно тем,
что представляет комбинацию элементов гораздо более сложную
и потому гораздо быстрее проходящую химический процесс в
обыкновенной атмосфере, чем неорганические тела, и притом по самой
своей многосложности проходящую процесс гораздо более слож-
384
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ный. В неорганическом теле происходит, например, окисление
только одного рода, а в растении одновременно совершается окисление
в нескольких степенях, и притом в неорганическом теле окислению
подвергаются один или два элемента его однообразной комбинации,
а в растении — вдруг несколько химических соединений, из которых
каждое довольно многосложно. Само собой разумеется, что,
находясь в таком быстром и многосложном химическом процессе, тела
обнаруживают такие качества, которых не проявляют при процессах
менее быстрых и сложных. Словом сказать, разница между царством
неорганической природы и растительным царством подобна
различию между маленькою травкою и огромным деревом — это разница
по количеству, по интенсивности, по многосложности, а не по
основным свойствам явления: былинка состоит из тех же частиц и живет
по тем же законам, как дуб; только дуб гораздо многосложнее
былинки: на нем десятки тысяч листьев, а на былинке всего два или три.
Опять, само собой разумеется, что одинаковость тут существует для
теоретического знания о предмете, а не для житейского обращения
с ним: из былинок нельзя строить домов, а из дубов можно. В
житейском быту мы совершенно правы, когда считаем руду и растения
предметами, принадлежащими к совершенно разным разрядам
вещей; но точно так же мы правы в житейском быту, считая лес вещью
совершенно иного разряда, чем трава. Теоретический анализ
приходит к другому результату: он находит, что эти вещи, столь различные
по своему житейскому отношению к нам, должны считаться только
разными состояниями одних и тех же элементов, входящих в разные
химические комбинации по одним и тем же законам. Для открытия
этого тождества между травой и дубом был достаточен анализ ума, не
обогащенного большим запасом наблюдений и тонкими средствами
исследования; для открытия одинаковости между неорганическим
веществом и растением нужен был гораздо -больший умственный
труд при помощи гораздо сильнейших средств исследования. Химия
составляет едва ли не лучшую славу нашего века.
Впрочем, громадный запас наблюдений и особенно тонкие
средства анализа нужны не столько затем, чтобы гениальный ум
мог увидеть истину, открытие которой требует глубоких
соображений, — чаще всего бывает, по крайней мере, в общих философских
вопросах, что истина заметна с первого взгляда человеку пытливого
и логичного ума, — обширные исследования и громадные научные
Антропологический принцип в философии
385
средства в этих случаях приносят, собственно, ту пользу, что без них
истина, открытая гениальным человеком, остается его личным
соображением, которого он не в силах доказать точным ученым образом,
и потому или остается не принята другими людьми, продолжающими
страдать от своих ошибочных мнений, или, что едва ли не хуже еще,
принимается другими людьми не на разумном основании, а по
слепому доверию к словам авторитета. Принципы, разъясненные и
доказанные теперь естественными науками, были найдены и приняты
за истину еще греческими философами, а еще гораздо раньше их —
индийскими мыслителями, и, вероятно, были открываемы людьми
сильного логического ума во все времена, во всех племенах105. Но
развить и доказать истину логическим путем прежние гениальные люди
не могли. Она известна была всегда повсюду, но стала наукою
только в последние десятилетия. Природу сравнивают с книгой,
заключающею в себе всю истину, но написанною языком, которому
нужно учиться, чтобы понять книгу. Пользуясь этим уподоблением, мы
скажем, что очень легко можно выучиться каждому языку настолько,
чтобы понимать общий смысл написанных им книг; но очень
много и долго нужно учиться ему, чтобы уметь отстранить все сомнения
в основательности смысла, какой мы находим в словах книги, уметь
объяснить каждое отдельное выражение в ней и написать хорошую
грамматику этого языка.
Единство законов природы было понято очень давно
гениальными людьми; но только в последние десятилетия наше знание достигло
таких размеров, что доказывает научным образом основательность
этого истолкования явлений природы.
Говорят: естественные науки еще не достигли такого развития,
чтобы удовлетворительно объяснить все важные явления природы.
Это — совершенная правда; но противники научного направления в
философии делают из этой правды вывод вовсе не логический, когда
говорят, что пробелы, остающиеся в научном объяснении
натуральных явлений, допускают сохранение каких-нибудь остатков
фантастического миросозерцания. Дело в том, что характер результатов,
доставленных анализом объясненных наукой частей и явлений, уже
достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов,
действующих в остальных частях и явлениях, которые еще не вполне
объяснены: если бы в этих необъясненных частях и явлениях было
что-нибудь иное, кроме того, что найдено в объясненных частях,
386
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
тогда и объясненные части имели бы не такой характер, какой
имеют. Возьмем какую угодно отрасль естественных наук — положим,
хотя географию или геологию — и посмотрим, какой характер
могут иметь, какого характера не могут иметь сведения, которых мы
еще не приобрели по разным частям предмета, исследуемого этими
науками. При нынешнем развитии географии мы еще не имеем
удовлетворительных сведений о странах около полюсов, о
внутренности Африки, о внутренности Австралии. Без сомнения, эти пробелы
в географическом знании очень прискорбны для науки и, по всей
вероятности, даже для практической жизни было бы нужно пополнить
их, потому что очень может быть, что в этих странах найдется что-
нибудь новое и пригодное для жизни: очень может быть, что во
внутренности Австралии найдутся новые золотые россыпи или рудники
еще обильнее тех, какие найдены на ее прибрежье; очень может быть,
что во внутренности Африки найдутся какие-нибудь новые горные
породы, новые растения, новые метеорологические явления; все это
очень может быть, и пока не будет произведено точное исследование
этих стран, никак нельзя с точностью сказать, какие именно вещи и
явления найдутся в них: но можно уже и теперь с достоверностью
сказать, каких вещей и каких явлений никак не будет в них найдено.
Под полюсами, например, не найдется жаркого климата и роскошной
растительности. Этот отрицательный вывод несомненен, потому что,
если бы под полюсами средняя температура была высока или хотя
умеренна, не таково было бы состояние северной Сибири, северной
части английских владений в Америке, морей, соседних с полюсами.
В Центральной Африке также не найдется полярного холода, потому
что, если бы центральная часть африканского материка имела
климат холодный, не таково было бы климатическое состояние южной
полосы Алжирии, верхнего Египта и других земель, окружающих
центр Африки. Какие именно реки найдутся в Центральной Африке
или Австралии, мы этого не знаем, но, наверное, можно сказать, что
если найдутся там реки, то течение в них будет сверху вниз, а не
снизу вверх. Точно то же надобно сказать и о тех частях земного шара,
которых еще не успела исследовать геология. Мы исследовали
только один очень тонкий слой земной коры, не составляющий и одной
тысячной части всего шара; в безмерной массе вещества,
скрывающегося под этою корою, конечно, находится много тел и явлений, не
встречающихся в доступной нам ничтожной части его. Но по этой
Антропологический принцип в философии
387
одной части мы уже достоверно знаем, какой характер имеют и
какого характера не имеют предметы и феномены, заключенные в
недоступных нам недрах шара. Мы знаем, что там температура
страшно высокая, — если бы она не была так высока, не то было бы на
поверхности земли, что находится и происходит теперь; мы знаем,
что в такой высокой температуре не могут удерживаться те
химические соединения, которые составляют так называемое органическое
царство; потому мы знаем, что в недрах земли нет растительной и
животной жизни, какая существует на поверхности земли. Там нет
никаких организмов, сколько-нибудь подобных нашим растениям
или животным.
Если мы захотим сказать, что на полюсах или в Центральной
Африке, или в недрах земли находятся тела именно вот такого
разряда, что там происходят феномены именно вот такого вида, это будет
только гипотезой, может быть и ошибочной; мы не можем отгадать,
вода или земля находится под полюсами; покрыто льдами или иногда
бывает чисто от них море под полюсами, если там море; покрыта
вечным льдом или имеет по временам какую-нибудь растительность
земля под полюсами, если там земля, — эти положительные заключения
были бы только догадками, не имеющими научной достоверности;
но отрицательные выводы, каковые например, то, что под полюсами
не может расти виноград или дуб, что не могут там жить обезьяны
или попугаи, — эти отрицательные выводы имеют совершенную
научную достоверность; это уже не гипотезы, не догадки, это —
достоверное знание, основанное на отношении явлений, происходящих
в известных нам странах земной поверхности, к неисследованным
нами феноменам неизвестных частей ее. Возможно ли, в самом деле,
усомниться в том, что под полюсами не живут попугаи? Для
попугаев нужна средняя годичная температура в 15 или 18 градусов выше
точки замерзания, а если бы на северном полюсе была такая
температура, то Гренландия имела бы климат, но крайней мере, столь же
теплый, как Италия. Или возможно ли сомневаться в том, что в слоях
земного шара, близких к центру его, нет растительных организмов?
Чтобы они могли там существовать, нужна была бы там температура
не выше точки кипения воды, потому что без воды нет никаких
растений; а если бы там была температура ниже точки кипения воды,
тогда не находили бы мы, что, чем дальше в глубь, тем выше
температура слоев исследованной нами оболочки земного шара. К чему
388
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
мы так долго останавливаемся на явлениях и заключениях, каждому
известных? Просто оттого, что по непривычке к систематическому
мышлению слишком многие люди слишком наклонны не замечать
смысл общих законов, который одинаков со смыслом отдельных
феноменов, ими понимаемых. Мы хотели как можно сильнее выставить
силу одного из таких общих законов: если при нынешнем состоянии
научного наведения (индуктивной логики) мы в большей части
случаев еще не можем с достоверностью определить по исследованной
нами части предмета, какой именно характер имеет неисследованная
часть его, то уже всегда можем с достоверностью определять, какого
характера не может иметь она. Наши положительные заключения
от характера известного к характеру неизвестного при нынешнем
состоянии наук находятся еще на степени догадок, подлежащих
спору, доступных ошибкам; но отрицательные заключения уже имеют
полную достоверность. Мы не можем сказать, чем именно окажется
неизвестное нам; но мы уже знаем, чем оно не оказывается.
Фантастические гипотезы, разрушаемые этими отрицательными выводами
в химии, географии, в геологии уже не заслуживают никакой борьбы,
потому что всеми и каждым сколько-нибудь образованным
человеком признаются за бредни. Географ не имеет нужды доказывать, что
под полюсами не найдется обезьян, в Центральной Африке не
найдется безголовых людей, в Центральной Австралии — рек, текущих
снизу вверх, в недрах земли — сказочных садов и циклопов, кующих
оружие Ахиллесу под надзором Вулкана. Но человек с логическим
умом точно так же смотрит на фантастические гипотезы и в других
науках: он так же видит, что все это бредни, несовместные с
нынешним состоянием знаний. Говорят, что открытия, сделанные
Коперником в астрономии, произвели перемену в образе человеческих
мыслей о предметах, по-видимому, очень далеких от астрономии. Точно
такую же перемену и точно в том же направлении, только в гораздо
обширнейшем размере, производят ныне химические и
физиологические открытия: от них изменяется образ мыслей о предметах, по-
видимому, очень далеких от химии. Теперь, чтобы сколько-нибудь
свести конец этой статьи с ее началом, мы опять обратимся мыслью к
будущим судьбам Западной Европы, о которых были принуждены
говорить по поводу приводимых г. Лавровым из Милля и Прудона цитат
о прискорбной будто бы перспективе, грозящей западному
человечеству. Химия, геология и потом, вдруг, рассуждения о политических
Антропологический принцип в философии
389
партиях в Англии или Франции, о западноевропейских нравах, о
надеждах и опасениях разных сословий и разных публицистов — какой
произвольный переход, какое отсутствие логики! Что ж делать,
читатель: чем богаты, тем и рады; ничего другого вы и не должны были
ждать от нашей статьи. Попробуемте приложить к ее характеру метод
отрицательных заключений о характере неизвестного по характеру
известного и посмотрим, чего никак не должны были бы вы ожидать
от этой статьи, если бы потрудились употребить в дело этот метод
перед тем, как начали читать ее. Статья написана по-русски, для
русской публики: это вам было известно по самой обертке журнала.
Статья эта хочет говорить о философских вопросах, — это также было
видно по ее заглавию на обертке книжки. Теперь рассудите сами: есть
ли какая-нибудь логика в этих двух известных вам фактах? Какой-то
господин написал статью для русской публики; нужны ли для русской
публики журнальные статьи? Судя по всему, решительно не нужны;
потому что, если б были нужны, они были бы не таковы, какие
бывают теперь. Итак, этот неизвестный вам господин, автор этой
статьи, поступил вовсе не логично, сделал то, чего не нужно публике, —
написал статью. Но вы, по своему великодушию, допустили эту
нелепость без порицания: вздумал он делать то, чего никому не нужно, —
ну, так и быть — написал статью, так пусть написал. Теперь другой
вопрос: о чем же он написал ее — о философии. О философии!
Господи, твоя воля! да кто же в русском обществе думает о
философских вопросах? Разве г. Лавров, — да и то сомнительно: быть может,
и самому г. Лаврову гораздо интереснее всевозможных философских
вопросов наши житейские и общественные дела. Выбор предмета для
такого нелогического поступка, как написание журнальной статьи,
еще нелогичнее самого этого поступка. Чего же вы могли ожидать от
статьи, к самому началу которой приложены две такие крупные
печати с надписью: отсутствие логики? При нынешнем состоянии наук
в России нельзя достоверно сказать, какие вещи можно было ожидать
найти в этой статье вам, судившим о ней по ее заглавию; но можно
достоверно сказать, что никак нельзя было ожидать найти в ней
логику. А где нет логики, там бессвязность. Вот вам небольшой опыт
приложения теории отрицательных выводов от характера
известного к характеру неизвестного. Не правда ли, принцип достоверности
этого метода блистательно подтвердился прочтенной вами статьей?
Мы говорим не по увлечению авторским самолюбием, — мы говорим
390
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
по искреннему и верному убеждению, что эта статья своей
бессвязностью, бестолковостью возвышается над всеми другими читанными
вами статьями, по крайней мере, на столько же, на сколько
интенсивность химического процесса в растительной жизни возвышается над
его интенсивностью в неорганической природе. Скажите же теперь,
не должны ли мы, чтобы выдержать характер статьи, переброситься
к рассуждениям о будущности Западной Европы от химических
рассуждений?
Мы видели, какой характер принадлежит образу мыслей в
благородной части тех сословий Западной Европы, которые ждут себе
потерь от перемен, признаваемых ими самими, за неизбежные и
справедливые. Скорбь о своей предстоящей судьбе производит смущение
в их уме. У них нет сил применить к близкому для них факту
принцип, принимаемый ими в его общем, отвлеченном виде. Мы видели,
на какой ступени развития находится образ мыслей простолюдина
Западной Европы. До него еще не дошла общая идея нынешней
науки, выводы которой согласны с его потребностями. Он еще
держится устарелых принципов, но видит совершенную несостоятельность
выводов, сделанных из них его учителями, людьми старых систем,
и беспрестанно переходит от желчного отрицания их к
подчиненности им. В этом смирении он не может удержаться надолго и опять
изливается в едких тирадах, чтобы опять смириться перед рутиной. Эта
желчная переменчивость, это колебание вовсе не принадлежит духу
новых идей: напротив, шаткость воззрений, выражающаяся смесью
скептицизма с излишней доверчивостью, происходит именно от
недостаточного знакомства с идеями, выработанными нынешней
наукой. Читатель видит, какой характер имеют ее принципы и выводы.
Основаниями своих теорий она берет истины, открытые
естественными науками посредством самого точного анализа фактов, истины
столь же достоверные, как обращение земли вокруг солнца, закон
тяготения, действие химического средства. Из этих принципов, не
подлежащих никакому спору или сомнению, современная наука делает
свои выводы путем столь же осмотрительным, как и тот, которым
дошла до них. Она не принимает ничего без строжайшей всесторонней
поверки и не выводит из принятого никаких заключений, кроме тех,
которые сами собой неотразимо следуют из фактов и законов,
отвергать которых нет никакой логической возможности. При таком
характере новых идей человеку, раз принявшему их, не остается уже
Антропологический принцип в философии
391
никакой дороги к отступлению назад или к каким-нибудь сделкам
с фантастическими заблуждениями.
Таким образом, существенный характер нынешних философских
воззрений состоит в непоколебимой достоверности, исключающей
всякую шаткость убеждений. Из этого легко заключить, какая судьба
ждет человечество Западной Европы. Свойство каждого нового
учения состоит в том, что нужно ему довольно много времени на
распространение в массах, на то, чтобы стать господствующим убеждением.
Новое и в идеях, как в жизни, распространяется довольно медленно;
но зато и нет никакого сомнения в том, что оно распространяется,
постепенно проникая все глубже и глубже в разные слои населения,
начиная, конечно, с более развитых. Нет никакого сомнения, что
и простолюдины Западной Европы ознакомятся с философскими
воззрениями, соответствующими их потребностям и, по нашему
мнению, соответствующими истине. Тогда найдутся у них представители
не совсем такие как Прудон: найдутся писатели, мысль которых не
будет, как мысль Прудона, спутываться преданиями или задерживаться
устарелыми формами науки в анализе общественного положения и
полезных для общества реформ. Когда придет такая пора, когда
представители элементов, стремящихся теперь к пересозданию
западноевропейской жизни, будут являться уже непоколебимыми в своих
философских воззрениях, это будет признаком скорого торжества
новых начал и в общественной жизни Западной Европы.
Очень может быть, что мы ошибаемся, находя, что такая пора уже
началась в годы, следовавшие за первым онемением мысли от
реакции после событий 1848 года; очень может быть, что мы ошибаемся,
думая, что поколение, воспитанное событиями последних
двенадцати лет в Западной Европе, уже приобретает ясность и твердость
мысли, нужную для преобразования западноевропейской жизни. Но если
мы и ошибаемся, то разве во времени: не в наше, так в следующее
поколение придет результат, лежащий в натуре вещей, стало быть,
неизбежный; и если нашему поколению еще не удастся совершить
его, то во всяком случае оно много делает для облегчения
полезного дела своим детям. Теперь мы замечаем, — жаль, что заметили
слишком поздно, — что эта статья, при всей своей бессвязности,
может служить предисловием к изложению понятий нынешней науки
о человеке, как отдельной личности. Если б это замечено было нами
раньше, мы постарались бы сократить окольные наши отступления
392
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
из философии в естественные науки; тогда предисловие не имело бы
такой излишней длинноты и осталось бы нам довольно страниц для
очерка теории личности, как понимает ее нынешняя наука. Но
теперь уже поздно поправлять дело, и нам остается только надежда,
что нынешняя статья, могущая, как мы видим, служить предисловием
к очерку философских понятий о человеке, в самом деле послужит
предисловием к нему.
II
Словом «наука» (science) y англичан называются далеко не все
те отрасли знания, которые у нас и у других континентальных
народов обнимаются этим выражением. Англичане называют науками
математику, астрономию, физику, химию, ботанику, зоологию,
географию, — те отрасли знаний, которые называются у нас
«точными» науками, и те, которые очень близко подходят к ним по своему
характеру; но они не разумеют под выражением «наука» ни
истории, ни психологии, ни нравственной философии, ни метафизики.
Надобно сказать, что действительно существует громадная
разница между этими двумя половинами знаний по качеству понятий,
господствующих в той или другой. Из одной половины каждый
сколько-нибудь просвещенный человек уже удалил всякие
неосновательные предубеждения, и все рассудительные люди уже держатся
в этих предметах одинаковых коренных понятий. Знания наши и по
этим отраслям бытия очень неполны; но, по крайней мере, каждый
тут знает, что нам известно основательным образом, что еще
неизвестно и что, наконец, несомненным образом опровергнуто
точными исследованиями. Попробуйте, например, сказать, что
человеческому организму нужна пища или нужен воздух, — с вами никто не
будет спорить; попробуйте сказать, что еще .неизвестно, те ли одни
вещества могут служить пищею человеку, какими теперь он
питается, и что, может быть, найдутся новые вещества, пригодные для
этой цели, — с вами также никто из просвещенных людей не
станет спорить и каждый прибавит только, что если новые вещества
для пищи и будут найдены, если и очень вероятно, что они будут
найдены, то до сих пор они еще не найдены, и человек пока может
питаться только известными веществами, вроде хлебных растений,
мяса, молока или рыбы; вы, в свою очередь, совершенно согласи-
Антропологический принцип в философии
393
тесь с этим замечанием, и спора тут у вас быть не может. Спорить
вы можете только о том, как велика или мала вероятность скорого
открытия новых питательных веществ и к какому роду вещей
скорее всего могут принадлежать эти новые, еще не открытые
вещества: но в этом споре вы и ваш противник одинаково будете знать и
признаваться, что выражаете только догадки, не имеющие полной
достоверности, могущие оказаться более или менее полезными для
науки впоследствии времени (потому что догадки, гипотезы дают
направление ученым исследованиям и ведут к открытию истины,
подтверждающей или опровергающей их), но еще вовсе не
входящие в число научных истин. Попробуйте сказать, наконец, что без
пищи человек существовать не может, — и тут каждый с вами
согласится, и каждый понимает, что это отрицательное суждение
находится в неразрывной логической связи с положительным
суждением: «человеческому организму нужна пища»; каждый понимает, что
если принять одно из этих двух суждений, то непременно надобно
принять и другое. Совсем не то, например, в нравственной
философии. Попробуйте сказать, что хотите — всегда найдутся люди умные
и образованные, которые станут говорить противное. Скажите,
например, что бедность вредно действует на ум и сердце человека, —
множество умных людей возразят вам: «нет, бедность изощряет ум,
принуждая его приискивать средства к ее отвращению; она
облагораживает сердце, направляя наши мысли от суетных наслаждений
к доблестям терпения, самоотвержения, сочувствия чужим нуждам
и бедам». Хорошо; попробуйте сказать наоборот, что бедность
выгодно действует на человека, — опять такое же множество или еще
большее множество умных людей возразят: «нет, бедность лишает
средств к умственному развитию, мешает развитию
самостоятельного характера, влечет к неразборчивости в употреблении средств
для ее отвращения или для простого поддержания жизни; она
главный источник невежества, пороков и преступлений». Словом
сказать, какой бы вывод ни вздумали вы сделать в нравственных науках,
вы всегда найдете, что и он, и другой, противоположный ему вывод
и, кроме того, множество других выводов, не клеящихся ни с
вашим, ни с противоположным ему выводом, ни друг с другом, имеют
искренних защитников между умными и просвещенными людьми.
То же самое в метафизике, то же самое в истории, без которой ни
нравственные науки, ни метафизика не могут обойтись.
394
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Такое положение дел в истории, нравственных науках и
метафизике заставляет многих думать, что эти отрасли знания не дают или
даже и вовсе не могут никогда дать нам ничего столь достоверного,
как математика, астрономия и химия. Хорошо, что нам случилось
употребить слово «бедность»: оно наводит нас на память о
житейском факте, совершающемся ежедневно. Как только какой-нибудь
господин или какая-нибудь госпожа из многочисленного семейства
достигнет хорошего положения в обществе, он или она тотчас же
начинает вытягивать из бедности, из ничтожества своих родственников
и родственниц: около важного или богатого лица появляются братья
и сестры, племянники и племянницы, все примыкают к нему и,
держась за него, вылезают в люди. Припоминают родство свое с важным
или богатым лицом даже такие господа и госпожи, которые не
хотели и знаться с ним, пока оно было не важно и не богато. Иных оно
в глубине души и недолюбливает, а все-таки помогает им, — нельзя,
ведь все же родственники и родственницы, — и с любовью к родным
или с досадой на них, оно все-таки изменяет их положение к
лучшему. Точно такое же дело происходит в области знаний теперь, когда
некоторые науки успели из жалкого положения выбиться до
великого совершенства, до ученого богатства, до умственной знатности.
Эти богачки, помогающие своим жалким родственницам, —
математика и естественные науки. Математика была в хорошем положении
давно, но чрезвычайно много времени было у ней занято заботой
об одной ближайшей ее родственнице — астрономии. Тысячи четыре
лет, если не больше, прошло в этой возне. Наконец во время
Коперника астрономия была поставлена на ноги математикой, а с
Ньютона она получила блистательное положение в умственном мире.
Едва перестав сокрушаться день и ночь о бедственном состоянии
своей сестры — астрономии, едва получив по некотором устройстве
ее судьбы несколько свободы подумать о других родственницах,
математика принялась помогать разным членам семейства, до сих пор
остающегося в нераздельном владении родовым имуществом под
именем физики: акустика, оптика и некоторые другие из сестер,
носящих родовое имя физики, особенно воспользовались милостями
математики; очень недурно стало положение и многих других
членов той же многолюдной семьи. Дело тут шло уже гораздо быстрее,
чем с выведением астрономии из жалкого положения: помогать
другим математика уже выучилась, возившись с своею ближайшей род-
Антропологический принцип в философии
395
ственницей, и, кроме того, хлопотала теперь уже не одна, а имела
в ней хорошую адъютантку Когда они вдвоем придали человеческий
вид многочисленным особам семейства физики, пресмыкавшимся
прежде в жалчайшей нищете и погрязавшим в гнуснейших научных
пороках, математика уже имела в своем распоряжении целое племя,
стала президентшей довольно большого и благоденствующего
государства. В конце прошлого века это умственное государство было
в таком же состоянии, как Соединенные Штаты в политическом мире
около того же времени. Оба общества растут с той поры одинаково
быстро. Чуть не каждый год прибавляется какая-нибудь новая область
к молодому североамериканскому государству, становится из дикой
пустыни цветущим штатом, и все дальше и дальше оттесняются
просвещенным и деятельным народом жалкие племена, не хотящие
принимать цивилизации, и все больше и больше захватывает он в свой
союз другие племена, ищущие цивилизации, но не умевшие найти
ее без его помощи: луизианские французы и испанцы Северной Ме-
хики уже присоединились и в немногие годы уже прониклись духом
нового общества, так что не отличить их от потомков Вашингтона
и Джефферсона106. Миллионы пьяных ирландцев и не менее жалких
немцев стали в Союзе людьми порядочными и зажиточными. Так и
союз точных наук под управлением математики, то есть счета, меры
и веса, с каждым годом расширяется на новые области знания,
увеличивается новыми пришельцами. После химии к нему постепенно
присоединились все науки о растительных и животных организмах:
физиология, сравнительная анатомия, разные отрасли ботаники
и зоологии; теперь входят в него нравственные науки. С ними
делается ныне то самое, что мы видим над людьми тщеславными, но
погрязавшими в нищете и невежестве, когда какой-нибудь дальний
родственник, не гордящийся как они высоким происхождением
и неслыханными добродетелями, а просто человек простой и
честный, приобретает богатство: кичливые гидальго долго усиливаются
смотреть на него свысока, но бедность заставляет их пользоваться
его подачками; долго они живут этой милостыней, считая низким
для себя обратиться при его помощи к честному труду, которым он
вышел в люди; но с улучшением их пищи и одежды пробуждаются
в них мало-помалу рассудительные мысли, слабеет прежнее пустое
хвастовство, они понемногу становятся людьми порядочными,
понимают, наконец, что стыд не в труде, а в хвастовстве, и напоследок
396
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
принимают нравы, которыми вышел в люди их родственник; тогда,
опираясь на его помощь, они быстро приобретают хорошее
положение и начинают пользоваться уважением рассудительных людей
не за фантастические достоинства, которыми прежде хвастались,
не имея их, а за свои новые действительные качества, полезные для
общества, — за свою трудовую деятельность.
Еще не так далеко от нас время, когда нравственные науки, в
самом деле, не могли иметь содержания, которым бы оправдывался
титул науки им принадлежавший, и англичане были тогда
совершенно правы, отняв у них это имя, которого они не были достойны.
Теперь положение дел значительно изменилось. Естественные науки
уже развились настолько, что дают много материалов для точного
решения нравственных вопросов. Из мыслителей, занимающихся
нравственными науками, все передовые люди стали разрабатывать
их при помощи точных приемов, подобных тем, по каким
разрабатываются естественные науки. Когда мы говорили о
противоречиях между разными людьми по каждому нравственному вопросу,
мы говорили только о давнишних, наиболее распространенных, но
уже оказывающихся отсталыми, понятиях и способах исследования,
а не о том характере, какой получают нравственные науки у
передовых мыслителей; о прежнем, рутинном характере этих знаний,
а не о нынешнем их виде. По нынешнему своему виду нравственные
науки различаются от так называемых естественных, собственно,
только тем, что начали разрабатываться истинно научным образом
позже их, и потому разработаны еще не в таком совершенстве, как
они. Тут разница лишь в степени: химия моложе астрономии и не
достигла еще такого совершенства; физиология еще моложе химии и
еще дальше от совершенства; психология, как точная наука, еще
моложе физиологии и разработана еще меньше. Но, различаясь между
собою по количеству приобретенных точных знаний, химия и
астрономия не различаются ни по достоверности того, что узнали, ни
по способу, которым идут к точному знанию своих предметов: факты
и законы, открываемые химией, так же достоверны, как факты и
законы, открываемые астрономиею. То же надобно сказать о
результатах нынешних точных исследований в нравственных науках. Очерки
предметов, даваемые астрономиею, физиологиею и психологиею, —
это все равно, что карты Англии, Европейской России и Азиатской
России: Англия вся снята превосходными тригонометрическими из-
Антропологический принцип в философии
397
мерениями; в Европейской России тригонометрия покрыла своею
сетью еще только половину пространства, другая половина снята
способами, не столь совершенными; в Азиатской России остаются
пространства, в которых только мимоездом определено
положение нескольких главных пунктов, а все лежащее между ними
наносится на карту по глазомеру, способу очень неудовлетворительному.
Но тригонометрическая сеть с каждым годом растягивается все
дальше и дальше, уже не очень далеко время, когда она охватит и
Азиатскую Россию. А до той поры мы все-таки уже знаем об этой стране
многое довольно хорошо, некоторые пункты даже очень хорошо,
и всю ее уже знаем настолько, что легко открыть слишком грубые
промахи в старинных картах ее; а если бы кто-нибудь вздумал нас
уверять, что Иртыш течет к югу, а не к северу, или что Иркутск лежит
под тропиками, мы только пожали бы плечами. Кому угодно, тот
может и до сих пор повторять рассказы нашей старинной космографии
о народах предела Симова и о «немых языках», живущих за Печерой,
заклепанных в горах Александром Македонским и запертых синкли-
товыми воротами, не поддающимися ни огню, ни железу; но мы уже
знаем, что надобно думать об этих рассказах, основанных только на
фантазии.
Первым следствием вступления нравственных знаний в область
точных наук было строгое различение того, что мы знаем, от того,
чего не знаем. Астроном знает, что ему известна величина планеты
Марса, и столь же положительно знает, что ему неизвестен
геологический состав этой планеты, характер растительной или животной
жизни на ней и самое то, существует ли на ней растительная или
животная жизнь. Если бы кто-нибудь вздумал утверждать, что на
Марсе находится глина или гранит, существуют птицы ,или
моллюски, астроном сказал бы ему: вы утверждаете то, чего не знаете. Если
бы фантазер зашел в своих предположениях дальше и сказал бы,
например, что живущие на Марсе птицы не подвержены болезням,
а моллюски не нуждаются в пище, астроном при помощи химика
и физиолога доказал бы ему, что этого даже и быть не может.
Точно так же и в нравственных науках теперь строго разграничено
известное от неизвестного, и на основании известного доказана
несостоятельность некоторых прежних предположений о том, что еще
остается неизвестным. Положительно известно, например, что все
явления нравственного мира проистекают одно из другого и из внеш-
398
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
них обстоятельств по закону причинности, и на этом основании
признано фальшивым всякое предположение о возникновении
какого-нибудь явления, не произведенного предыдущими явлениями и
внешними обстоятельствами. Поэтому нынешняя психология не
допускает, например, таких предположений: «человек поступил в
данном случае дурно, потому что захотел поступить дурно, а в другом
случае хорошо, потому что захотел поступить хорошо». Она говорит,
что дурной поступок или хороший поступок был произведен
непременно каким-нибудь нравственным или материальным фактом или
сочетанием фактов, а «хотение» было тут только субъективным
впечатлением, которым сопровождается в нашем сознании
возникновение мыслей или поступков из предшествующих мыслей, поступков
или внешних фактов. Самым обыкновенным примером действий, ни
на чем не основанных, кроме нашей воли, представляется такой факт:
я встаю с постели; на какую ногу я встану? захочу — на левую,
захочу—на правую. Но это только так представляется поверхностному
взгляду. На самом деле факты и впечатления производят то, на какую
ногу встанет человек. Если нет никаких особенных обстоятельств
и мыслей, он встает на ту ногу, на которую удобнее ему встать по
анатомическому положению его тела на постели. Если явятся
особенные побуждения, превосходящие своею силой это физиологическое
удобство, результат изменится сообразно перемене обстоятельств.
Если, например, в человеке явится мысль: «стану не на правую ногу,
а на левую», он сделает это; но тут произошла только простая
замена одной причины (физиологического удобства) другой причиной
(мысль доказать свою независимость) или, лучше сказать, победа
второй причины, более сильной, над первой. Но откуда явилась эта
вторая причина, откуда явилась мысль показать свою независимость
от внешних условий? Она не могла явиться без причины, она
произведена или словами собеседника, или воспоминанием о прежнем
споре, или чем-нибудь подобным. Таким образом, тот факт, что
человек, когда захочет, может ступить с постели не на ту ногу, на которую
удобно ему ступить по анатомическому положению тела на
постели, а на другую ногу, — этот факт свидетельствует вовсе не то,
чтобы человек без всякой причины мог ступить на ту или другую ногу,
а только то, что вставание с постели может совершаться под
влиянием причин более сильных, чем влияние анатомического положения
его тела перед актом вставания. То явление, которое мы называем
Антропологический принцип в философии
399
волей, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных
причинной связью. Очень часто ближайшей причиной появления
в нас воли на известный поступок бывает мысль. Но определенное
расположение воли производится также только определенной
мыслью: какова мысль, такова и воля; будь мысль не такова, была бы не
такова и воля. Но почему же явилась именно такая, а не другая мысль?
Опять от какой-нибудь мысли, от какого-нибудь факта, словом
сказать, от какой-нибудь причины. Психология говорит в этом случае то
же самое, что говорит в подобных случаях физика или химия: если
произошло известное явление, то надобно искать ему причины, а не
удовлетворяться пустым ответом: оно произошло само собой, — без
всякой особенной причины — «я так сделал, потому что так захотел».
Прекрасно, но почему же вы так захотели? Если вы отвечаете:
«просто, потому что захотел», это значит то же, что говорить: «тарелка
разбилась, потому что разбилась; дом сгорел, потому что сгорел».
Такие ответы — вовсе не ответы: ими только прикрывается леность
доискиваться подлинной причины, недостаток желания знать истину.
Если при нынешнем состоянии химии кто-нибудь спросит,
почему золото имеет желтый цвет, а серебро — белый, химики прямо
отвечают, что до сих пор еще не знают этой причины, то есть еще не
знают, в какой связи находится желтизна золота или белизна
серебра с другими качествами этих металлов, по какому закону, от каких
обстоятельств произошло, что вещество, принявшее форму золота
или серебра, приобрело в этой форме качество производить на наш
глаз впечатление желтизны или белизны. Это — прямой, честный
ответ; но он, как видим, состоит просто в признании своего незнания.
Богатому человеку легко сознаваться, что у него в данном случае не
нашлось денег, но легко в этом сознаваться только тогда, когда все
уверены, что он действительно богат; напротив, человеку, который
хочет прослыть за богача, будучи в сущности беден, или человеку,
кредит которого поколебался, не легко сказать, что у него в нынешнее
время не случилось денег: он всяческими хитростями будет скрывать
истину. Таково было до недавнего времени состояние нравственных
наук: они стыдились говорить: у нас нет об этом достаточных знаний.
Теперь, к счастью, не то: психология и нравственная философия
выходят из прежней своей научной нищеты, у них уже больше запас
богатства, и они прямо могут говорить: «мы еще не знаем этого», если
действительно не знают.
400
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Но если нравственные науки на очень многие вопросы должны
еще отвечать теперь: «мы этого не знаем», то ошибемся мы,
предположив, что к числу вопросов, остающихся для них неразрешенными
ныне, принадлежат те вопросы, которые по одному из
господствующих мнений признаются неразрешимыми. Нет, незнание этих наук
совершенно не таково. Чего не знает, например, химия? Она не знает
теперь, чем будет водород, перешедший из газообразного состояния
в твердое, — металлом или неметаллом; есть сильная вероятность
предполагать, что он будет металлом, но справедлива ли такая
догадка, это еще неизвестно. Химия не знает также, действительно ли
простое тело фосфор или сера, или они будут со временем
разложены на простейшие элементы. Это — случаи теоретического незнания.
Другой род вопросов, не разрешимых для нее теперь, представляют
многочисленные случаи неуменья исполнить практические
требования. Химия умеет изготовлять синильную кислоту, уксусную кислоту,
но изготовить фибрин она еще не умеет. Те и другие неразрешимые
для нее ныне вопросы имеют, как видим, характер совершенно
специальный, характер такой специальный, что и в голову они приходят
только людям, уже порядочно знакомым с химией. Точно таковы же
вопросы, остающиеся ныне еще не разрешенными для нравственных
наук. Психология, например, открывает следующий факт: при
слабом умственном развитии человек не в состоянии понимать жизни,
различной от его собственной жизни; чем сильнее развивается его
ум, тем легче ему бывает представлять себе жизнь, непохожую на его
жизнь. Как объяснить этот факт? При нынешнем состоянии науки
строго научного ответа еще не найдено, а существуют только разные
догадки. Скажите теперь, кому из людей, не знакомых с нынешним
состоянием психологии, приходил в голову такой вопрос? Почти
никто, кроме ученых, даже не замечал и факта, к которому относится
этот вопрос: это все равно, что вопрос о металличности или неметал-
личности водорода: люди, незнакомые с химией, не знают не только
этого вопроса о водороде, но не знают и самого водорода. А для
химии чрезвычайно важен этот водород, существование которого было
бы незаметно без нее. Точно так для психологии чрезвычайно важен
факт неспособности неразвитого человека и способности развитого
понимать жизнь, различную от его жизни. Как открытие водорода
повело к усовершенствованию химической теории, так и открытие
этого психологического факта имело своим последствием построе-
Антропологический принцип в философии
401
ние теории антропоморфизма, без которой ни шагу теперь нельзя
ступить в метафизике. Вот другой психологический вопрос, также не
разрешимый точным образом при нынешнем состоянии науки: дети
имеют наклонность ломать свои игрушки; отчего это происходит?
Надобно ли считать эту ломку только неловкой формой желания
пересоздавать вещи по своим надобностям, неловкой формой так
называемой творческой деятельности человека, или тут есть след чистой
наклонности к разрушению, приписываемой человеку некоторыми
писателями? Таковы почти все теоретические вопросы, точного
решения которых еще не дает наука. Читатель видит, что они
принадлежат к разряду вопросов, надобность и важность которых открывается
только наукою, понятна только для ученых, к разряду так называемых
технических или специальных вопросов, которые вовсе
неинтересны для простых людей, часто кажутся им даже ничтожными. Это все
вопросы вроде тех, из какого старославянского звука произошло «у»
в слове «рука»: из простого у или из юса, и по какому закону
образуется существительное «воз» из глагола «везу»: зачем тут буква е
заменилась буквою о? Для филолога эти вопросы очень важны, а для
нас, не филологов, они, можно сказать, не существуют. Но не будем
опрометчиво смеяться над учеными, которые заняты исследованием
таких мелочных, по-видимому, вещей: от открытия истины в
подобных, по-видимому, неважных фактах возникали результаты важные и
для нас, простых людей: разъяснялись понятия о целом ряде важных
фактов, изменялись важные житейские отношения. Из того, что
некоторые люди разъяснили нашу фонетику открытием значения юсов,
явилось более разумное обучение грамматике, и наших детей будут
меньше мучить за нею, чем мучили нас, и будут лучше выучивать ей,
чем выучивали нас.
Итак, теоретические вопросы, остающиеся неразрешенными при
нынешнем состоянии нравственных наук, вообще таковы, что даже
не приходят в голову почти никому, кроме специалистов;
неспециалист с трудом понимает даже, как могут ученые люди заниматься
исследованием таких мелочей. Напротив, те теоретические
вопросы, которые обыкновенно представляются важными и трудными для
неспециалистов, вообще перестали быть вопросами для нынешних
мыслителей, потому что чрезвычайно легко разрешаются
несомненным образом при первом прикосновении к ним могущественных
средств научного анализа. Половина таких вопросов оказывается
402
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
происходящими просто от непривычки к мышлению, другая
половина находит себе ответ в явлениях, знакомых каждому. Куда девается
пламя, носящееся над светильнею горящей свечи, когда мы гасим
свечу? Неужели химик согласится назвать эти слова вопросом? Он
просто называет их бессмысленным набором слов, возникающим из
незнакомства с самыми коренными, самыми простыми фактами науки.
Он говорит: горение свечи есть химический процесс; пламя есть
одно из явлений этого процесса, одна из сторон его, одно из качеств
его, выражаясь простым языком; когда мы гасим свечу, мы
прекращаем химический процесс; само собой разумеется, что с его
прекращением исчезают и его качества; спрашивать, что делается с пламенем
свечи, когда гаснет свеча, значит то же самое, что спрашивать о том,
что осталось от цифры 2 в числе 25, когда мы зачеркнем все число, —
ровно ничего не осталось ни от цифры 2, ни от цифры 5; ведь они
обе зачеркнуты; спрашивать это может только тот, кто сам не
понимает, что значит написать цифру и что значит зачеркнуть ее; на все
вопросы таких людей существует один ответ: друг мой! вы не имеете
понятия об арифметике и сделаете хорошо, если станете учиться ей.
Предлагается, например, очень головоломный вопрос: доброе или
злое существо человек? Множество людей потеют над разрешением
этого вопроса. Почти половина потеющих решает: человек по натуре
добр; другие, составляющие также почти целую половину потеющих,
решают иначе: человек по натуре зол. За исключением этих двух
противоположных догматических партий, остаются несколько человек
скептиков, которые смеются над теми и другими и решают: вопрос
этот неразрешим. Но при первом приложении научного анализа вся
штука оказывается простой до крайности. Человек любит приятное и
не любит неприятного, — это, кажется, не подлежит сомнению,
потому что в сказуемом тут просто повторяется подлежащее: А есть А,
приятное для человека есть приятное для человека, неприятное для
человека есть неприятное для человека. Добр тот, кто делает хорошее
для других, зол — кто делает дурное для других, — кажется, это также
просто и ясно. Соединим теперь эти простые истины и в выводе
получим: добрым человек бывает тогда, когда для получения приятного
себе он должен делать приятное другим; злым бывает он тогда, когда
принужден извлекать приятность себе из нанесения неприятности
другим. Человеческой натуры нельзя тут ни бранить за одно, ни
хвалить за другое; все зависит от обстоятельств, отношений, учрежде-
Антропологический принцип в философии
403
ний. Если известные отношения имеют характер постоянства, в
человеке, сформировавшемся под ними, оказывается сформировавшейся
привычка к сообразному с ними способу действий. Потому можно
находить, что Иван добр, а Петр зол; но эти суждения прилагаются
только к отдельным людям, а не к человеку вообще, как прилагаются
только к отдельным людям, а не к человеку вообще понятия о
привычке тесать доски, уметь ковать и т. д. Иван — плотник, но нельзя
сказать, что такое человек вообще: плотник или не плотник; Петр
умеет ковать железо, но нельзя сказать о человеке вообще, кузнец он
или не кузнец. Тот факт, что Иван стал плотником, а Петр —
кузнецом, показывает только, что при известных обстоятельствах, бывших
в жизни Ивана, человек становится плотником, а при известных
обстоятельствах, бывших в жизни Петра, становится кузнецом. Точно
так при известных обстоятельствах человек становится добр, при
других — зол.
Таким образом, с теоретической стороны вопрос о добрых и
злых качествах человеческой натуры разрешается столь легко, что
даже и не может быть назван вопросом: он сам в себе уже
заключает полный ответ. Но другое дело, если вы возьмете практическую
сторону дела, если, например, вам кажется, что для самого человека
и для всех окружающих его людей гораздо лучше ему быть добрым,
чем злым, и если вы захотели бы позаботиться, чтобы каждый стал
добр, с этой стороны дело представляет очень большие трудности;
но они, как заметит читатель, относятся уже не к науке, а только
к практическому исполнению средств, указываемых наукой.
Психология и нравственная философия находятся тут опять точно
в таком же положении, как естественные науки. Климат в северной
Сибири слишком холоден; если бы мы спросили, каким способом
можно сделать его теплее, естественные науки не затруднятся с
ответом на это: Сибирь закрыта горами от теплой южной атмосферы
и открыта своим склоном к северу холодной северной атмосфере:
если бы горы шли по северной границе ее, а на южной не было гор,
страна эта была бы гораздо теплее. Но у нас еще недостает средств
исполнить на практике это теоретическое решение вопроса. Точно
так же и у нравственных наук готов теоретический ответ почти на
все вопросы, важные для жизни, но во многих случаях у людей не
достает еще средств для практического исполнения того, что
указывает теория.
404
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Впрочем, нравственные науки имеют в этом случае преимущество
перед естественными. В естественных науках все средства
принадлежат области так называемой внешней природы; в нравственных
науках только одна половина средств принадлежит этому разряду,
а другая половина средств заключается в самом человеке; стало быть,
половина дела зависит только от того, чтобы человек с достаточной
силой почувствовал надобность в известном улучшении: это чувство
уже дает ему очень значительную часть условий, нужных для
улучшения. Но мы видели, что одних этих условий, зависящих от состояния
впечатлений самого человека, еще недостаточно: нужны также
материальные средства. Относительно этой половины условий,
относительно материальных средств, практические вопросы нравственных
наук находятся в положении еще гораздо выгоднейшем, нежели
относительно условий, лежащих в самом человеке. Прежде, при
неразвитости естественных наук, могли встречаться во внешней природе
непреодолимые затруднения к исполнению нравственных
потребностей человека, теперь не то: естественные науки уже предлагают
ему столь сильные средства располагать внешней природой, что
затруднений в этом отношении не представляется.
Возвратимся для примера к практическому вопросу о том, каким
способом люди могли стать добрыми, так чтобы недобрые люди
стали на свете чрезвычайной редкостью и чтобы злые качества потеряли
всякую заметную важность в жизни по чрезвычайной
малочисленности случаев, в которых обнаруживались бы людьми. Психология
говорит, что самым изобильным источником обнаружения злых качеств
служит недостаточность средств к удовлетворению потребностей,
что человек поступает дурно, то есть вредит другим, почти только
тогда, когда принужден лишить их чего-нибудь, чтобы не остаться
самому без вещи для него нужной. Например, в случае неурожая, когда
пищи не достаточно для всех, число преступлений и всяких дурных
поступков чрезмерно возрастает: люди обижают и обманывают друг
друга из-за куска хлеба. Психология прибавляет также, что
человеческие потребности разделяются на чрезвычайно различные степени
по своей силе; самая настоятельнейшая потребность каждого
человеческого организма состоит в том, чтобы дышать; но предмет,
нужный для ее удовлетворения, находится человеком почти во всех
положениях в достаточном изобилии, потому из потребности воздуха
почти никогда не возникает дурных поступков. Но если встретится
Антропологический принцип в философии
405
исключительное положение, когда этого предмета оказывается мало
для всех, то возникают также ссоры и обиды; например, если много
людей будет заперто в душном помещении с одним окном, то почти
всегда возникают ссоры и драки, могут даже совершаться убийства
из-за приобретения места у этого окна. После потребности дышать
(продолжает психология) самая настоятельная потребность
человека — есть и пить. В предметах для порядочного удовлетворения этой
потребности очень часто, очень у многих людей встречается
недостаток, и он служит источником самого большого числа всех дурных
поступков, почти всех положений и учреждений, бывающих
постоянными причинами дурных поступков. Если бы устранить одну эту
причину зла, быстро исчезло из человеческого общества, по крайней
мере, девять десятых всего дурного: число преступлений
уменьшилось бы в десять раз, грубые нравы и понятия в течение одного
поколения заменились бы человечественными, отнялась бы и опора
у стеснительных учреждений, основанных на грубости нравов и
невежестве, и скоро уничтожилось бы почти всякое стеснение. Прежде
исполнить такое указание теории было, как нас уверяют,
невозможно по несовершенству технических искусств; не знаем, справедливо
ли говорят это о старине, но бесспорно то, что при нынешнем
состоянии механики и химии, при средствах, даваемых этими науками
сельскому хозяйству, земля могла бы производить в каждой стране
умеренного пояса несравненно больше пищи, чем сколько нужно
для изобильного продовольствия числа жителей, в десять и двадцать
раз большего, чем нынешнее население этой страны*. Таким
образом, со стороны внешней природы уже не представляется никакого
препятствия к снабжению всего населения каждой цивилизованной
страны изобильною пищею; задача остается только в том, чтобы люди
сознали возможность и надобность энергически устремиться к этой
цели. В риторическом слоге можно говорить, будто они на самом
В самой Англии земля может прокормить, по крайней мере, 150 000 000
человек. Панегирики удивительному совершенству английского сельского
хозяйства справедливы в том отношении, что дело это там быстро улучшается;
но ошибочно было бы думать, что оно и теперь пользуется в
удовлетворительном размере пособиями науки; это только что еще начинается, и девять
десятых частей земли, возделываемой в Англии, возделывается по рутине,
совершенно не соответствующей нынешнему состоянию
сельскохозяйственных знаний.
406
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
деле заботятся об этом как следует; но точный и холодный анализ
науки показывает пустоту пышных фраз, часто слышимых нами об
этом предмете. В действительности еще ни одно человеческое
общество не приняло в сколько-нибудь обширном размере тех средств,
какие указываются для придания успешности сельскому хозяйству
естественными науками и наукою о народном благосостоянии.
Отчего это происходит, почему в человеческих обществах господствует
беззаботность об исполнении научных указаний для удовлетворения
такой настоятельной потребности, как потребность пищи. Почему
это так, какими обстоятельствами и отношениями производится
и поддерживается дурное хозяйство, как надобно изменить
обстоятельства и отношения для замены дурного хозяйства хорошим, — это
опять новые вопросы, теоретическое решение которых очень легко;
и опять практическое осуществление научных решений
обусловливается тем, чтобы человек проникся известными впечатлениями.
Мы, впрочем, не станем здесь излагать ни теоретического решения,
ни практических затруднений по этим вопросам; это завело бы нас
слишком далеко, а нам кажется, что уже довольно и предыдущих
замечаний для разъяснения того, в каком положении находятся теперь
нравственные науки. Мы хотели сказать, что разработка
нравственных знаний точным, научным образом только еще начинается; что
поэтому еще не найдено точного теоретического решения очень
многих чрезвычайно важных нравственных вопросов; но что эти
вопросы, теоретическое решение которых еще не найдено, имеют
характер чисто технический, так что интересны только для
специалистов, и что, наоборот, те психологические и нравственные вопросы,
которые представляются очень интересными и кажутся чрезвычайно
трудными для неспециалистов, уже с точностью разрешены и
притом разрешены чрезвычайно легко и просто, самыми первыми
приложениями точного научного анализа, так что теоретический ответ
на них уже найден; мы прибавляли, что из этих несомненных
теоретических решений возникают очень важные и полезные научные
указания о том, какие средства надобно употребить для улучшения
человеческого быта; что из этих средств некоторые должны быть
взяты во внешней природе, и при нынешнем развитии естественных
знаний внешняя природа уже не представляет этого препятствия,
а другие должны быть доставлены рассудительной энергией самого
человека, и ныне только в ее возбуждении могут встречаться труд-
Антропологический принцип в философии
407
ности по невежеству и апатии одних людей, по расчетливому
сопротивлению других, и вообще по власти предрассудков над огромным
большинством людей в каждом обществе.
Все эти рассуждения имели целью объяснить, каким образом
нынешнее высокое развитие естественных наук помогает
возникновению точных наук по таким отраслям бытия и по таким отделам
теоретических вопросов, которые прежде были только предметом
догадок, иногда основательных, иногда неосновательных, но ни в
каком случае не дававших точного знания. Таковы нравственные и
метафизические вопросы. Ближайшим предметом наших статей служит
теперь человек как отдельная личность, и мы попробуем изложить,
какие решения вопросов, относящихся к этому предмету, найдены
точною научною разработкою психологии и нравственной
философии. Если читатель помнит характер нашей первой статьи, он,
конечно, будет ожидать, что лишь только мы дали это обещание, как
тотчас же изменим ему и вдадимся в длинное отступление, вовсе не
идущее к делу. Читатель не ошибется. Мы отлагаем на время в сторону
психологические и нравственно-философские вопросы о человеке,
займемся физиологическими, медицинскими, какими вам угодно
другими, и вовсе не будем касаться человека как существа
нравственного, а попробуем прежде сказать, что мы знаем о нем как о существе,
имеющем желудок и голову, кости, жилы, мускулы и нервы. Мы будем
смотреть на него пока только с той стороны, какую находят в нем
естественные науки; другими сторонами его жизни мы займемся
после, если позволит нам время.
Физиология и медицина находят, что человеческий организм есть
очень многосложная химическая комбинация, находящаяся в очень
многосложном химическом процессе, называемом жизнью. Процесс
этот так многосложен, а предмет его так важен для нас, что отрасль
химии, занимающаяся его исследованием, удостоена за свою
важность титула особенной науки и названа физиологиею. Отношение
физиологии к химии можно сравнить с отношением отечественной
истории к всеобщей истории. Разумеется, русская история составляет
только часть всеобщей; но предмет этой части особенно близок нам,
потому она сделана как будто особенною наукою: курс русской
истории в учебных заведениях читается отдельно от курса всеобщей,
воспитанники получают на экзаменах особенный балл из русской
истории; но не следует забывать, что эта внешняя раздельность служит
408
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
только для практического удобства, а не основана на теоретическом
различии характера этой отрасли знания от других частей того же
самого знания. Русская история понятна только в связи с всеобщей,
объясняется ею и представляет только видоизменения тех же самых
сил и явлений, о каких рассказывается во всеобщей истории. Так и
физиология — только видоизменение химии, а предмет ее — только
видоизменение предметов, рассматриваемых в химии. Сама
физиология не удержала всех своих отделов в полном единстве под одним
именем: некоторые стороны исследуемого ею предмета, то есть
химического процесса, происходящего в человеческом организме,
имеют такую особенную интересность для человека, что
исследования о них, составляющие часть физиологии, сами удостоились
имени особенных наук. Из этих сторон мы назовем одну: исследование
явлений, производящих и сопровождающих разные уклонения этого
химического процесса от нормального его вида; эта часть
физиологии названа особенным именем — медицина; медицина в свою
очередь разветвляется на множество наук с особенными именами. Таким
образом, часть, выделившаяся из химии, выделила из себя новые
части, которые опять разделяются на новые части. Но это — явление
точно того же порядка, как разделение одного города на кварталы,
кварталов на улицы: это делается только для практического удобства,
и не должно забывать, что все улицы и кварталы города составляют
одно целое. Когда мы говорим: «Васильевский Остров» или «Невский
проспект», мы вовсе не говорим, чтобы дома Васильевского
Острова и Невского проспекта не входили в состав Петербурга. Точно так
медицинские явления входят в систему физиологических явлений,
а вся система физиологических явлений входит в еще обширнейшую
систему химических явлений.
Когда исследуемый предмет очень многосложен, то для удобства
исследования полезно делить его на части; потому физиология
разделяет многосложный процесс, происходящий в живом
человеческом организме, на несколько частей, из которых самые заметные:
дыхание, питание, кровообращение, движение, ощущение; подобно
всякому другому химическому процессу, вся эта система явлений
имеет возникновение, возрастание, ослабление и конец. Поэтому
физиология рассматривает будто бы особые предметы, процессы
дыхания, питания, кровообращения, движения, ощущения и т. д.,
зачатия, или оплодотворения, роста, дряхления и смерти. Но тут опять
Антропологический принцип в философии
409
надобно помнить, что эти разные периоды процесса и разные
стороны его разделяются только теорией, чтобы облегчить теоретический
анализ, а в действительности составляют одно неразрывное целое.
Так геометрия разлагает круг на окружность, радиусы и центр, но,
в сущности, радиуса нет без центра и окружности, центра нет без
радиуса и окружности, да и окружности нет без радиуса и центра, — эти
три понятия, эти три части геометрического исследования о круге
составляют все вместе одно целое. Некоторые из частей
физиологии разработаны уже очень хорошо; таковы, например,
исследования процессов дыхания, питания, кровообращения, зачатия, роста
и одряхления; процесс движения разъяснен еще не так подробно,
а процесс ощущения — еще меньше; довольно странно может
показаться, что так же мало исследован процесс нормальной смерти,
происходящей не от каких-нибудь чрезвычайных случаев или
специальных расстройств (болезни), а просто от истощения организма
самым течением жизни. Но это потому, во-первых, что наблюдениям
медиков и физиологов представляется не очень много случаев такой
смерти: из тысячи человек разве один умирает ею, организм
остальных преждевременно разрушается болезнями и гибельными
внешними случаями; во-вторых, и на эти немногие случаи нормальной
смерти ученые до сих пор не имели досуга обратить такое внимание,
какое привлекают болезни и случаи насильственной смерти: силы
науки по вопросу о разрушении организма до сих пор поглощаются
приисканием средств к устранению преждевременной смерти.
Мы сказали, что некоторые части процесса жизни еще не
разъяснены так подробно, как другие; но из этого вовсе не следует, чтобы мы
уже не знали положительным образом очень многого и о тех частях
его, исследование которых находится теперь даже в самом
несовершенном виде. Во-первых, если даже предположить, что какая-нибудь
сторона жизненного процесса в своей особенной специальности
остается до сих пор и совершенно недоступною точному анализу
в духе математики и естественных наук, то характер ее
приблизительно был бы нам уже известен из характера других частей,
которые уже довольно хорошо исследованы. Это был бы случай такого
же рода, как определение вида головы млекопитающего по костям
его ног: известно, что по одной какой-нибудь лопатке или ключице
животного наука довольно точно воссоздает всю его фигуру и в том
числе голову, так что, когда находится потом полный скелет, он под-
410
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
тверждает верность научного вывода о целом по одной его части. Мы
знаем, в чем состоит, например, питание; из этого мы уже знаем
приблизительно, в чем состоит, например, ощущение: питание и
ощущение так тесно связаны между собою, что характером одного
определяется характер другого. В прошлой статье мы уже говорили, что
такие заключения о неизвестных частях по известным частям имеют
и особенную достоверность, и особенную важность в отрицательной
форме: А тесно связано с X; Л есть В; из этого следует, что X не может
быть ни С, ни D, ни Е. Например, найдена лопатка какого-то
допотопного животного; к какому именно разряду млекопитающих оно
принадлежало, этого, может быть, мы не сумеем определить
безошибочно; быть может, ошибемся, если причислим его к породе кошек
или лошадей; но уже по одной найденной нами лопатке мы
безошибочно знаем, что оно не было ни птицей, ни рыбой, ни черепокожим.
Мы сказали, что эти отрицательные выводы имеют большую
важность во всех науках. Но в особенности они важны в нравственных
науках и в метафизике, потому что уничтожаемые ими ошибки
имели особенную практическую гибельность в этих науках. Если в
старину, по плохому развитию естественных наук, ошибочно считали
кита рыбой, а летучую мышь птицей, от этого, вероятно, не пострадал
ни один человек; но от ошибок, имевших такой же источник, то есть
происходивших от неумения подвергнуть предмет точному анализу,
произошли в метафизике и в нравственных науках ошибочные
мнения, наделавшие людям гораздо больше зла, чем холера, чума и все
заразительные болезни. Сделаем, например, гипотезу, что праздность
приятна, а труд неприятен; если эта гипотеза станет господствующим
мнением, каждый человек будет пользоваться всеми случаями, чтобы
обеспечить себе праздную жизнь, заставив других работать за себя;
из этого произойдут все виды порабощения и грабежа, начиная от
собственно так называемого рабства и от завоевательной войны до
нынешних более тонких форм тех же явлений. Эта гипотеза
действительно была сделана людьми, действительно стала
господствующим мнением и господствует до сих пор, и действительно произвела
столько страданий, что нет им ни числа, ни меры. Теперь
попробуем приложить к понятию приятности или удовольствия выводы из
точного анализа жизненного процесса. Феномен приятности или
удовольствия принадлежит той части жизненного процесса, которая
называется ощущением. Предположим пока, что собственно об этой
Антропологический принцип в философии
411
части жизненного процесса, как об отдельной части, еще нет у нас
точных исследований. Посмотрим, нельзя ли чего-нибудь заключить
о ней из тех точных сведений, какие приобрела наука о питании,
дыхании, кровообращении. Мы видим, что каждое из этих явлений
составляет деятельность некоторых частей нашего организма. Какие
части действуют при феноменах дыхания, питания и
кровообращения, это мы знаем; знаем и то, как они действуют; быть может, мы
ошиблись бы, если бы стали из этих сведений делать выводы о том,
какие именно части организма и каким именно образом действуют
при феномене приятного ощущения; но мы уже прямо видели, что
только деятельность какой-нибудь части организма дает
возникновение тому, что называется явлениями человеческой жизни; мы
видим, что когда есть деятельность, то есть и феномен, а когда нет
деятельности, то нет и феномена; из этого видим, что и для приятного
ощущения непременно нужна какая-нибудь деятельность организма.
Теперь анализируем понятие деятельности. Для деятельности
необходимо существование двух предметов — действующего и
подвергающегося действию, и деятельность состоит в том, что действующий
предмет обращает свои силы на переработку предмета,
подвергающегося действию. Например, грудь и легкие перемещают и разлагают
воздух при феномене дыхания, желудок перерабатывает пищу при
феномене питания. Итак, приятное ощущение также должно
непременно состоять в том, что силою человеческого организма
переделывается какой-нибудь внешний предмет; какой именно предмет
и каким именно способом перерабатывается, этого мы еще не знаем,
но мы уже видим, что источником удовольствия непременно должна
быть какая-нибудь деятельность человеческого организма над
внешними предметами. Попробуем теперь сделать отрицательный вывод
из этого результата. Праздность есть отсутствие деятельности;
очевидно, что она не может производить феноменов так называемого
приятного ощущения. Теперь становится нам совершенно понятно,
почему во всех цивилизованных странах зажиточные классы
общества жалуются на постоянную скуку, на неприятность жизни. Эта
жалоба совершенно справедлива. Богачу так же неприятно жить, как и
бедняку, потому что по обычаю, внесенному в общество ошибочною
гипотезою, с богатством соединена праздность, — то есть вещи,
которые должны были бы служить источником удовольствия, лишены
этою гипотезою возможности составлять удовольствие. Кто привык
412
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
к отвлеченному мышлению, тот вперед уверен, что наблюдение над
житейскими отношениями не будет противоречить результатам
научного анализа. Но и люди, непривычные к мышлению, будут
приведены к такому же заключению соображением смысла тех фактов,
которые представляет так называемая светская жизнь: в ней нет
нормальной деятельности, то есть такой деятельности, которой
объективная сторона дела соответствовала бы субъективной его роли,
нет деятельности, которая заслуживала бы имени серьезной
деятельности; чтобы избежать субъективного расстройства в организме,
избежать происходящих от неподвижности болезней, избежать
тоски, светский человек принужден создавать себе взамен нормальной
деятельности фиктивную: он лишен движения, имеющего
объективную разумную цель, и потому «делает моцион», то есть убивает на
пустое размахивание ногами столько же времени, сколько следовало
употреблять на деловую ходьбу; он лишен физического труда и
потому «занимается гимнастикой для гигиены», то есть машет руками
и качается корпусом (за бильярдом, за токарным станком, если не
в гимнастической зале) столько же времени, сколько следовало бы
ему заниматься физической работой; он лишен дельных забот о себе
и своих близких, потому занимается сплетнями и интригами, то есть
хлопочет мысленно над вздором столько же, сколько следовало бы
хлопотать о дельных вещах. Но все эти искусственные средства никак
не могут доставить потребностям организма такого удовлетворения,
какое нужно для здоровья. Жизнь проходит у нынешнего богача так,
как идет она у китайца, курящего опиум: противоестественное
раздражение сменяется летаргиею, напряженное пресыщение — пустою
деятельностью, оставляя после себя все ту же пустую тоску, спасения
от которой ищут в нем.
Мы видим, что если даже предположить совершенный недостаток
точных исследований о какой-нибудь части жизненного процесса,
как об отдельной специальной части, то нынешнее состояние
точных знаний о других частях того же самого жизненного процесса
уже дает нам приблизительное понятие об общем характере этой
неизвестной части, дает нам прочную опору для важных
положительных и для еще более важных отрицательных выводов о ней.
Но, конечно, мы только для разъяснения дела, argumenti causa,
предположили совершенное отсутствие точных исследований по
некоторым частям жизненного процесса; на самом же деле нет ни одной
Антропологический принцип в философии
413
части жизненного процесса, о которой наука не приобрела более
или менее обширных и точных знаний, специально относящихся
именно к этой части. Так, например, мы знаем, что ощущение
принадлежит известным нервам, движение — другим. Результатами этих
специальных изысканий подтверждаются выводы, получаемые из
общих наблюдений над целым жизненным процессом и над частями
его, более исследованными.
До сих пор мы говорили о физиологии как о науке,
занимающейся исследованием жизненного процесса в человеческом организме.
Но читатель знает, что физиология человеческого организма
составляет только часть физиологии или, точнее сказать, часть одного
ее отдела — зоологической физиологии. Заметив это, мы поправим
ошибку, сделанную на предыдущих страницах: напрасно мы
говорили, что феномены дыхания, питания и других частей жизненного
процесса в человеке составляют предмет физиологии: предмет ее
составляют явления этого процесса во всех живых существах.
Физиология человека существует только в том смысле, в каком существует
география Англии, в смысле одной главы из состава целой книги, —
главы, которая может сама разрастаться в целую книгу.
Когда мы поверхностным образом обозреваем две страны, очень
далекие по развитию одна от другой, страну дикарей и страну
высокоцивилизованного народа, нам кажется, будто бы в одной из них
нет даже и следа тех явлений, какие поражают нас своим
колоссальным размером в другой. В Англии мы видим Лондон и Манчестер,
доки, наполненные пароходами, и железные дороги, а у каких-нибудь
якутов нет, по-видимому, ничего соответствующего этим явлениям.
Но загляните в основательное описание жизни якутов, и оно уже
самым оглавлением своим наведет нас на мысль, что поверхностное
заключение наше было ошибочно; оглавление книги о якутах точно
таково же, как оглавление книги об англичанах: почва и климат;
способы добывания пищи; жилища; одежда; пути сообщения; торговля
и т. д. Как? — спрашиваете вы себя: — неужели у якутов есть и пути
сообщения, и торговля? Да, разумеется есть, как и у англичан;
разница только та, что у англичан эти явления общественной жизни
сильно развиты, а у якутов они развиты слабо. У англичан есть Лондон,
но и у якутов есть явления, возникающие из того же самого
принципа, которым создан Лондон: на зиму якуты, бросая кочевую жизнь,
поселяются в землянках; эти землянки вырыты по соседству одна
414
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
от другой, так что составляют какую-то группу, — вот вам и зародыш
города; в самой Англии дело началось с того же: зародыш Лондона
была такая же группа таких же землянок. У англичан есть Манчестер
с гигантскими машинами, которые называются бумагопрядильного
фабрикою; но ведь и якуты не довольствуются звериными шкурами
в их натуральном виде, они сшивают их, они делают из шерсти
войлок; от валяния войлока уже недалеко до тканья, от иголки недалеко
до веретена, а Манчестер составляется просто накоплением
десятков, миллионов веретен с удобною для них обстановкою; в работе
якутского семейства над изготовлением одежды лежит уже зародыш
Манчестера, как в якутской землянке — зародыш Лондона. Дело
иного рода, насколько где развилось известное явление; но явления всех
разрядов в разных степенях развития существуют у каждого народа.
Зародыш один и тот же; он развивается повсюду по одним и тем же
законам, только обстановка у него в разных местах различна, оттого
различно и развитие: берлинский кислый виноград — тот же самый
виноград, какой растет в Шампани и в Венгрии; только климат разный,
потому с практической точки зрения можно говорить, что берлинский
виноград, который ни на что не годится, вещь совершенно иного рода,
чем виноград Токая или Эперне, из которого делают дивные вина; так,
разница огромная, явная для всякого, но согласитесь, что ученые люди
поступают справедливо, утверждая, что нет в токайском винограде
таких элементов, которых не нашлось бы в берлинском винограде.
Нам нужно обозреть всю область природы, чтобы дойти до
человека; а до сих пор мы говорили только о так называемой
неорганической природе и о царстве растений, еще ничего не сказав о царстве
животных. В наиболее развитых формах своих животный организм
чрезвычайно отличается от растения; но читатель знает, что
млекопитающее и птица связаны с растительным царством множеством
переходных форм, по которым можно проследить все степени
развития так называемой животной жизни из растительной: есть
растения и животные, почти ничем не отличающиеся друг от друга, так что
трудно сказать, к какому царству отнести их. Если некоторые
животные почти ничем не отличаются от растений в эпоху полного
развития своего организма, то в первое время своего существования все
животные почти одинаковы с растениями в первой поре их роста;
зародышем животного и растения одинаково служит ячейка; ячейка,
служащая зародышем животного, так похожа на ячейку, служащую за-
Антропологический принцип в философии
415
родышем растения, что трудно и отличить их. Итак, мы видим, что
все животные организмы начинают с того же самого, с чего
начинает растение, и только впоследствии некоторые животные организмы
приобретают вид очень различный от растений и в очень высокой
степени проявляют такие качества, которые в растении так слабы,
что открываются только при помощи научных пособий. Так,
например, и в дереве есть зародыш движения: соки в нем движутся, как
в животных; корни и ветви тянутся в разные стороны; правда, это
перемещение происходит только в частях, а целый организм
растения не переменяет места; но и полип также не переменяет места: по-
липняк способностью перемещения не превосходит дерево. Но есть
даже и такие растения, которые переменяют свое место: сюда
принадлежат некоторые виды семейства Mimosa.
Не надобно обижать никого; мы нанесли бы животным обиду,
если бы, заметив, что они не должны считать себя существами иной
природы, чем растения, понизив их на степень только особенной
формы той же жизни, какая видна в растениях, не сказали
нескольких слов и в честь им. Действительно, научный анализ открывает
несправедливость голословных фраз, будто животные вовсе лишены
разных почетных качеств, как, например, некоторой способности
к прогрессу. Обыкновенно говорят: животное всю жизнь остается
тем, чем родилось, ничему не научается, нейдет вперед в умственном
развитии. Такое мнение разрушается фактами, известными каждому:
медведя научают плясать и выкидывать разные штуки, собак подавать
поноску и танцевать; слонов даже выучивают ходить по канату, даже
рыб приучают собираться в данное место по звонку, — этого всего
обученные животные не делали без ученья; ученье дает им качества,
которых без него не имели бы они. Не только человек учит
животных — сами животные учат друг друга; известно, что хищные
животные учат своих детей ловить добычу; птицы учат своих детей летать.
Но, говорят нам, это наученье, это развитие имеет известный предел,
дальше которого нейдет животное, так что каждая порода
неподвижна в своем развитии, которое относится только к отдельным членам
ее; отдельное животное может иметь свою историю, но порода
остается без истории, понимая под историею прогрессивное движение.
Это также несправедливо; на наших глазах совершенствуются целые
породы животных: например, улучшается порода лошадей или
рогатого скота в известной стране. Человек имеет пользу от развития од-
416
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
них только экономических качеств животного: от увеличения силы
у лошади, шерсти у овцы, молока и мяса у коровы и быка; потому мы
и совершенствуем целые породы животных только в этих внешних
качествах. Но все-таки из этого уже видно, что животные
доступны развитию не только индивидуумами, а целыми породами. Этого
одного факта было бы уже достаточно для несомненного
заключения о том, что и умственные способности животных каждой породы
не стоят неподвижно на одной данной точке, а также изменяются:
естественные науки говорят, что причина, производящая перемену
в мускулах, то есть изменение качеств крови, непременно производит
некоторую перемену и в нервной системе; если при перемене в
составе крови, питающей мускулы и нервы, изменяется питание мускулов,
то должно изменяться и питание нервной системы; а при различии
в питании непременно изменяются качества и действия питающейся
части организма. Лошадь улучшенной породы непременно должна
иметь впечатления несколько иные, чем простая лошадь: вы видите,
что ее глаз блещет более живым огнем; это значит, что зрительный
нерв ее восприимчивее, чувствительнее; если так изменился
зрительный нерв, то произошла некоторая перемена и во всей нервной
системе. Это вовсе не гипотеза, это — положительный факт, известный,
например, из того, что жеребенок от домашней лошади, от
благовоспитанной лошади, если можно так выразиться, гораздо скорее и
легче приучается ходить в упряжи, чем жеребенок от табунной лошади,
от дикой, невоспитанной лошади; это значит, что умственные
способности у одного более развиты в известном отношении, чем у
другого. Но тут дело идет для целей человека, а не для потребности
самого животного; это развитие касается только низших сторон
умственной жизни, как всякое развитие, налагаемое целями, посторонними
самому развивающемуся. Гораздо яснее обнаруживается в животных
способность к прогрессу, когда они развиваются по собственной
надобности, по собственному побуждению. Наши домашние животные,
привыкшие к своему рабству, развившись в тех отношениях,
которые нужны для их господина, вообще поглупели от рабства. Они
стали трусливы, ненаходчивы в непредвиденных обстоятельствах.
Но, выходя на свободу, они возвращаются к находчивости и смелости
вольного состояния. Одичавшие лошади приучаются защищаться от
волков, приучаются выбивать траву из-под снега зимой. Дикие
животные вообще умеют приспособляться к новым обстоятельствам:
Антропологический принцип в философии
417
книги о нравах животных наполнены рассказами о том, как умеют
приноровлять свою жизнь к новой обстановке осы, пауки и другие
насекомые, посаженные под стеклянный колпак. Сначала насекомое
пробует поступать по-прежнему; постепенные неудачи показывают
ему неудовлетворительность прежнего метода, оно пробует новые
методы, и если обстоятельства не губят его, оно, наконец, устраивает
свою жизнь по новому способу. Медведь, нашедши бочонок с вином,
умеет, наконец, догадаться, как выбить дно. Мы не станем
приводить бесчисленных отдельных анекдотов о находчивости животных
и заметим только один общий факт, относящийся к целым породам:
при появлении человека в пустынной стране птицы еще не умеют
остерегаться его; но постепенно опыт научает их быть
осторожными, предусмотрительными относительно этого нового врага, и все
породы дичи научаются обходиться с охотником умнее прежнего,
избегать его, обманывать его.
Мы употребляли выражение «умственные способности», говоря
о животных. В самом деле, нельзя отрицать в них ни памяти, ни
воображения, ни мышления. О памяти нечего и говорить: каждому
известно, что нет ни одного млекопитающего, ни одной птицы без
этой способности, и у некоторых пород она развита очень сильно;
памятливость собаки чрезвычайно велика: она узнает человека,
виденного ею очень давно, умеет находить дорогу в хозяйский дом из
очень отдаленного места. Воображение непременно должно
существовать, если есть память, потому что оно только соединяет в новые
группы разные представления, хранимые памятью. Если существует
нервная деятельность, то есть если происходит беспрерывная смена
ощущений и впечатлений, то прежние представления непременно
должны беспрестанно попадать в сочетания с новыми, а этот
феномен уже и есть то самое, что называется воображением.
Положительным образом существование фантазии в животном доказывается тем,
что кошка видит сны: она во сне часто бывает похожа на лунатика,
то сердится, то радуется. Впрочем, нет надобности слишком
дорожить этим частным фактом, способностью кошки иметь сновидения:
существование фантазии у животных обнаруживается другим,
гораздо более общим фактом — расположением всех молодых животных
забавляться посредством игры над внешними предметами, которые
не могли бы служить предметом такой игры, если бы не
представлялись играющему животному чем-то вроде кукол. Молодая кошка
418
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
забавляется какой-нибудь щепочкой или кусочком шерсти как будто
мышью: она бросает клочок шерсти, чтобы он как будто бежал, сама
принимает подстерегающее положение, потом прыгает и ловит
воображаемую мышь, — это прямо игра в куклы, только кукла тут имеет
роль не жениха и невесты, не барышни и служанки, а роль мышки:
что делать, каждое существо дает предметам такую роль, какая для
него интересна.
Мышление состоит в том, чтобы из разных комбинаций
ощущений и представлений, изготовляемых воображением при помощи
памяти, выбирать такие, которые соответствуют потребности
мыслящего организма в данную минуту, в выборе средств для действия,
в выборе представлений, посредством которых можно было бы
дойти до известного результата. В этом состоит не только мышление
о житейских предметах, но и так называемое отвлеченное мышление.
Возьмем в пример самое отвлеченное дело: решение математической
задачи. У Ньютона, заинтересованного вопросом о законе качества
или силы, проявляющейся в обращении небесных тел, накопилось
в памяти очень много математических формул и астрономических
данных. Чувства его (главным образом одно чувство — зрение)
беспрестанно приобретали новые формулы и астрономические данные
из чтения и собственных наблюдений; от сочетания этих новых
впечатлений с прежними возникали в его голове разные
комбинации, формулы цифр; его внимание останавливалось на тех, которые
казались подходящими к его цели, соответствующими его
потребности найти формулу данного явления; от обращения внимания на
эти комбинации, то есть от усиления энергии в нервном процессе
при их появлении, они развивались и разрастались, пока, наконец,
разными сменами и превращениями их произведен был результат,
к которому стремился нервный процесс, то есть найдена была
искомая формула. Это явление, то есть сосредоточение нервного
процесса на удовлетворяющих его желанию в данную минуту комбинациях
ощущений и представлений, непременно должно происходить, как
скоро существуют комбинации ощущений и представлений, иначе
сказать — как скоро существует нервный процесс, который сам и
состоит именно в ряде разных комбинаций ощущения и представления.
Каждое существо, каждое явление разрастается, усиливается при
появлении данных, удовлетворяющих его потребности, прилепляется
к ним, питается ими, а собственно в этом и состоит то, что мы назвали
Антропологический принцип в философии
419
выбором представлений и ощущений в мышлении; а в этом выборе
их, в прилеплении к ним и состоит сущность мышления. Само собой
разумеется, что, когда мы находим одинаковость теоретической
формулы, посредством которой выражается процесс, происходивший
в нервной системе Ньютона при открытии закона тяготения, и
процесс того, что происходит в нервной системе курицы, отыскивающей
овсяные зерна в куче сора и пыли, то не надобно забывать, что
формула выражает собой только одинаковую сущность процесса, а вовсе
не то, чтобы размер процесса был одинаков, чтобы одинаково было
впечатление, производимое на людей явлениями этого процесса, или
чтобы обе формы его могли производить одинаковый внешний
результат. Мы говорили, например, в прошлой статье, что, хотя трава
и дуб растут по одному закону, из одних элементов, но все-таки трава
никак не может производить таких действий, давать таких
результатов как дуб: из дуба человек может строить себе огромные дома и
корабли, а из травы можно только маленькой птичке свить свое гнездо;
или, например, в куче гнилушки происходит тот же самый процесс,
как в печи громадной паровой машины; но куча гнилушки никого
не перевезет из Москвы в Петербург, а паровик со своей печью
перевозит тысячи людей и десятки тысяч пудов товаров. Муха летает той
же самой силой, по тому же самому закону, как орел; но, конечно,
из этого не следует, чтобы она взлетала так высоко, как орел.
Говорят, будто бы животные не рассуждают. Это чистый вздор.
Вы поднимаете палку на собаку, собака поджимает хвост и бежит
от вас; отчего это? Оттого, что у нее в голове построился
следующий силлогизм: когда меня бьют палкой, мне бывает неприятно; этот
человек хочет побить меня палкой, итак, удалюсь от него, чтобы не
получить болезненного ощущения от его палки. Смешно и слышать,
когда говорят, будто собака в этом случае убежала только по
инстинкту, машинально, а не по рассуждению, не сознательно: нет, инстинкт,
машинальность есть тут, но не все дело произошло инстинктивно,
машинально: по инстинкту, по машинальной привычке собака
поджала хвост, когда побежала от вас, а побежала она по сознательной
мысли.
В действиях каждого живого существа есть сторона
бессознательной привычки или бессознательного движения органов; но это
не мешает участию сознательной мысли в том действии, которое
сопровождается и некоторыми движениями, происходящими бес-
420
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
сознательно. Когда человек испугается, мускулы его лица
бессознательно, инстинктивно принимают выражение испуга; но, тем не
менее, происходит в голове этого человека другая часть явления,
принадлежащая области сознания: он сознает, что он испуган, он
сознает, что сделал движение, выражающее испуг; от этой
сознательной стороны факта происходят новые последствия: человек,
может быть, постыдится себя за то, что испугался, может быть,
примет меры к обороне от испугавшего предмета, а может быть,
поспешит удалиться от него.
Но мы забыли: ведь говорят, что у животных нет сознания, что они
не сознают своих ощущений, своих мыслей, умозаключений, а
только имеют их. Каким образом понять это, каким образом могут
понимать эти слова сами те люди, которые говорят их, всегда было для нас
загадкою. Не сознавать своего ощущения — скажите, есть ли смысл
в этой фразе? Скажите, каким образом можно составить себе
отчетливое представление о комбинации понятий, которую хочет она
возбудить? Ощущением ведь именно и называется такое явление, которое
чувствуется; иметь бессознательное ощущение значило бы иметь не-
чувствуемое чувство, значило бы то же самое, что видеть невидимый
предмет или, по знаменитому выражению, «слышать молчание». Есть
очень много выражений совершенно бессмысленных, составленных
из сочетания слов, соответствующих не клеящимся между собою
понятиям; произносить их каждый может, но каждый, кто произносит
их, тем самым свидетельствует, что или сам не понимает, что говорит,
или хочет шарлатанить. Говорят, например, «невесомая жидкость»;
но что такое жидкость, какая бы то ни была? Она все-таки тело, все-
таки нечто материальное; всякое вещество имеет свойство,
называемое притяжением или тяготением, состоящее в том, что каждая
частичка материи притягивает к себе другие частицы и сама
притягивается ими; на земле это свойство обнаруживается весом, то есть
тяготением к центру земли; итак, всякая жидкость непременно
имеет вес, а «невесомая жидкость» — бессмысленное сочетание звуков,
вроде выражений: синий звук, сахарная селитра и т. п. Если в физике
так долго употреблялось бессмысленное выражение «невесомая
жидкость», то неудивительно изобилие подобных выражений в
психологии, которая разработана меньше физики; научный анализ
показывает вздорность их, и одна из сторон развития науки состоит в том,
чтобы отбрасывать их.
Антропологический принцип в философии
421
Еще забавнее становится пустая гипотеза об отсутствии
сознания в животных, когда принимает какой-то нелепо возвышенный
тон, подразделяя феномен сознания на два разряда: простое
сознание и самосознание, говоря, что животные имеют простое
сознание, а самосознания не имеют. Тут дело доходит до такой мудрости,
с которой может сравниться лишь следующая дистинкция107:
скрипка издает только синий звук, а самосинего звука издавать не может,
его издает виолончель. Кто поймет этот тонкий вывод о качествах
звука скрипки и виолончели, для того будет совершенно ясно, что
ощущение в животных сопровождается сознанием, но не
сопровождается самосознанием, — иначе сказать, что животные
имеют ощущение о внешних предметах, но не чувствуют, что имеют
ощущение, — иначе сказать, имеют чувства, которых не чувствуют.
После этого следует заключить: вероятно, животные едят зубами,
которыми не едят, ходят ногами, которыми не ходят. Теперь для нас
очевидно существование птичьего молока: птицы имеют молоко,
которого не имеют; так как они его имеют, то оно существует, а так
как они его не имеют, то простонародная поговорка справедливо
полагает, что достать его нигде нельзя. Кто убежден в
справедливости всех этих столь основательных мнений, тому остается только
просидеть Иванову ночь над папоротником, и он получит цветок-
невидимку. Прикоснемся точным анализом к факту ощущения,
и вся фантасмагория исчезает от первого прикосновения.
Ощущение по самой натуре своей непременно предполагает
существование двух элементов мысли, связанных в одну мысль: во-первых, тут
есть внешний предмет, производящий ощущение; во-вторых,
существо, чувствующее, что в нем происходит ощущение; чувствуя свое
ощущение, оно чувствует известное свое состояние; а когда
чувствуется состояние какого-нибудь предмета, то, разумеется, чувствуется
и самый предмет. Например, я чувствую боль в левой руке; вместе
с этим я чувствую и то, что у меня есть правая рука; вместе с этим
я чувствую, что существую я, часть которого составляет эта левая
рука, и, по всей вероятности, чувствую также, что эта рука болит
у меня; или я не чувствую, что она болит у меня? или, когда я
чувствую боль в руке, то я чувствую, что рука болит не у меня, а у какого-
нибудь китайца в Кантоне? Не смешно ли рассуждать о подобных
вещах, рассуждать о том, солнце ли есть солнце, рука ли есть рука,
и о тому подобных мудреных задачах?
422
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Чем отличается Ротшильд от бедняка? тем ли, что двугривенный
в кармане бедняка есть простое серебро, а груды серебряной монеты,
лежащие в подвалах Ротшильда, вычеканены из самосеребра,
которое гораздо лучше серебра? Если бы Ротшильд был человек не
богатый, а только тщеславный, он мог бы придумывать подобные вздоры
в доказательство своего превосходства над бедняком. Но, как человек
действительно богатый, он не имеет надобности в таких вздорных
фантазиях и прямо говорит бедняку: «мое серебро точно такое же,
как ваше; но у вас его один золотник, а у меня много тысяч пудов;
потому-то, измеряя богатством право на уважение, я нахожу себя
заслуживающим гораздо большего уважения, чем вы».
Говорят также, будто бы у животных нет тех чувств, которые
называются возвышенными, бескорыстными, идеальными. Надобно ли
замечать совершенную несообразность такого мнения с
общеизвестными фактами? Привязанность собаки вошла в пословицу; лошадь
проникнута честолюбием до того, что когда разгорячится, обгоняя
другую лошадь, то уже не нуждается в хлысте и шпорах, а только
в удилах: она готова надорвать себя, бежать до того, чтобы упасть
замертво, лишь бы обогнать соперницу. Нам говорят, будто бы
животные знают только кровное родство, а не знают родства, основанного
на возвышенном чувстве благорасположения. Но наседка,
высидевшая цыплят из яиц, снесенных другою курицей, не имеет с этими
цыплятами никакого кровного родства: ни одна частичка из ее
организма не находится в составе организма этих цыплят. Однако же мы
видим, что в заботливости курицы о цыплятах не бывает никакого
различия от того обстоятельства, свои или чужие яйца высидела
наседка. На чем же основана ее заботливость о цыплятах, высиженных
ею из яиц другой курицы? На том факте, что она высидела их, на том
факте, что она помогает им делаться курами и петухами, хорошими,
здоровыми петухами и курами. Она любит их, как нянька, как
гувернантка, воспитательница, благодетельница их. Она любит их потому,
что положила в них часть своего нравственного существа — не
материального существа, нет, в них нет ни частички ее крови, — нет, в них
она любит результаты своей заботливости, своей доброты, своего
благоразумия, своей опытности в куриных делах; это — отношение
чисто нравственное.
Вообще замечают, что дети, достигшие совершеннолетия,
гораздо менее привязаны к родителям, чем родители к детям. Главное
Антропологический принцип в философии
423
основание этого факта открыть очень легко: человек любит прежде
всего сам себя. Родители видят в детях результат своих забот о них,
а дети ничем не участвовали в воспитании родителей, не могут видеть
в них результат своей деятельности. При нынешнем устройстве
общества нравственные отношения совершеннолетних детей к
родителям состоят почти только в том, чтобы содержать их на старости,
да и эту обязанность исполняли бы очень немногие дети по
собственному влечению, если бы не принуждались к ее исполнению тем
чувством повиновения общественному мнению, которое
принуждает их вообще не держать себя неприличным образом, не возбуждать
своими действиями общего негодования. В тех породах животных,
которые не составляют обществ, конечно, нет и общественных
отношений, вынуждающих исполнение подобного дела. Мы не знаем,
как проводят свое дряхлое время жаворонки, ласточки, кроты и
лисицы. Их жизнь так не обеспечена, что, по всей вероятности, очень
немногие из этих животных доживают до дряхлости: вероятно, они
скоро делаются добычей других животных, когда ослабевает в них
сила улетать, убегать или защищаться. Говорят, что едва ли хотя одна
рыба умирает естественной смертью, не бывает пожрана другими
рыбами. То же надобно думать о большей части диких птиц и
млекопитающих. Те немногие индивидуумы, которые доживают до
дряхлости, вероятно, умирают от голода несколькими часами или днями
раньше, чем могли бы умереть, имея подле себя пищу. Но из этого
забвения их детей о дряхлых отцах и матерях не будем выводить
слишком резкого суждения об отсутствии детской привязанности
между животными: мы тут обязаны быть снисходительными, потому
что наше суждение об этом предмете почти вполне применилось бы
и к людям.
Когда говоришь без всякого плана, сам не отгадаешь, куда приведет
тебя речь. Вот мы видим теперь, что договорились до нравственных
или возвышенных чувств. По вопросу об этих чувствах практические
выводы из обыкновенного житейского опыта совершенно
противоречили старинным гипотезам, приписывавшим человеку множество
разных бескорыстных стремлений. Люди видели по опыту, что
каждый человек думает все только о себе самом, заботится о своих
выгодах больше, нежели о чужих, почти всегда приносит выгоды, честь
и жизнь других в жертву своему расчету, — словом сказать, каждый из
людей видел, что все люди — эгоисты. В практических делах все рас-
424
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
судительные люди всегда руководились убеждением, что эгоизм —
единственное побуждение, управляющее действиями каждого, с кем
имеют они дело. Если бы это мнение, ежедневно подтверждаемое
опытом каждого из нас, не имело против себя довольно большого
числа других житейских фактов, оно, конечно, скоро одержало бы
верх и в теории над гипотезами, утверждавшими, что эгоизм есть
только испорченность сердца, а неиспорченный человек
руководится побуждениями, противоположными эгоизму: думает о благе
других, а не о своем, готов жертвовать собой для других и т. д. Но вот
именно в том и состояло затруднение, что гипотеза о бескорыстном
стремлении человека служить чужому благу, опровергаемая сотнями
ежедневных опытов каждого, по-видимому, подтверждалась
довольно многочисленными фактами бескорыстия, самопожертвования
и т. д.: там Курций бросается в пропасть, чтобы спасти родной город,
тут Эмпедокл бросается в кратер, чтобы сделать ученое открытие, тут
Дамон спешит на казнь, чтобы спасти Пифиаса, тут поражает себя
кинжалом Лукреция, чтобы восстановить свою честь1 °8. До
недавнего времени не было научных средств точным образом вывести оба
эти разряда явлений из одного принципа, подвести под один закон
факты, противоположные между собою. Камень падает на землю, пар
летит вверх, и в старину думали, что закон тяжести, действующий
в камне, не действует над паром. Теперь известно, что оба эти
движения, происходящие по противоположным направлениям, падение
камня на землю и поднятие пара вверх от земли, — происходят от
одной причины, по одному закону. Теперь известно, что сила
притяжения, вообще стремящая тела вниз, обнаруживается при известных
обстоятельствах тем, что заставляет некоторые тела подниматься
вверх. Много раз мы говорили, что нравственные науки еще не
разработаны с такой полнотою, как естественные; но и при нынешнем,
вовсе не блистательном их состоянии уже разрешен вопрос о
подведении всех часто разноречащих между собою человеческих
поступков и чувств под один принцип, как разрешены вообще почти все те
нравственные и метафизические вопросы, в которых путались люди
до начала разработки нравственных наук и метафизики по строгому
научному методу. В побуждениях человека, как и во всех сторонах его
жизни, нет двух различных натур, двух основных законов, различных
или противоположных между собою, а все разнообразие явлений
в сфере человеческих побуждений к действованию, как и во всей че-
Антропологический принцип в философии
425
ловеческои жизни, происходит из одной и той же натуры, по одному
и тому же закону.
Мы не станем говорить о тех действиях и чувствах, которые
всеми признаются за эгоистические, своекорыстные, происходящие из
личного расчета; обратим внимание только на те чувства и поступки,
которые представляются имеющими противоположный характер:
вообще надобно бывает только всмотреться попристальнее в
поступок или чувство, представляющиеся бескорыстными, и мы увидим,
что в основе их все-таки лежит та же мысль о собственной личной
пользе, личном удовольствии, личном благе, лежит чувство,
называемое эгоизмом. Очень мало найдется случаев, когда эта основа сама
не напрашивалась бы на замечание даже человеку, не очень
привычному к психологическому анализу. Если муж и жена жили между
собою хорошо, жена совершенно искренно и очень глубоко печалится
о смерти мужа, но только вслушайтесь в слова, которыми
выражается ее печаль: «на кого ты меня покинул? что я буду без тебя делать?
без тебя мне тошно жить на свете!» Подчеркните эти слова «меня, я,
мне»: в них — смысл жалобы, в них — основа печали. Возьмем чувство
еще гораздо высшее, чистейшее, чем самая высокая супружеская
любовь: чувство матери к ребенку. Ее плач о его смерти точно таков же:
«Ангел мой! Как я тебя любила! Как я любовалась на тебя, ухаживала
за тобою! Скольких страданий, скольких бессонных ночей ты
стоил мне! Погибла в тебе моя надежда, отнята у меня всякая радость!»
И тут опять все то же: «я, мое, у меня». Столь же легко открывается
эгоистическая основа в самой искренней и нежной дружбе. Не
многим затруднительнее те случаи, в которых человек приносит жертву
для любимого предмета; хотя бы он жертвовал для него самою
жизнью, все-таки основанием пожертвования служит личный расчет или
страстный порыв эгоизма. О большей части случаев так
называемого самопожертвования не стоит говорить как о самопожертвовании:
им неприлично это имя. Жители Сагунта перерезались, чтобы не
отдаться живыми в руки Аннибала109, геройство, достойное удивления,
но совершенно одобряемое эгоистическим расчетом: они
привыкли жить свободными гражданами, не терпеть никаких обид, уважать
себя и видеть уважение от других; карфагенский полководец
продал бы их в рабство, их жизнь была бы рядом несноснейших
мучений; они поступили в том же роде, как делает человек, вырывающий
у себя больной зуб: они предпочли одну минуту страшной смертель-
426
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ной муки нескончаемым годам мучений; в средние века еретики,
сжигаемые медленным огнем на кострах из сырого леса, старались
разорвать свои цепи, чтобы броситься в пламя: легче задохнуться
в одну минуту, чем терпеть задушение несколько часов.
Действительно, таково было положение жителей Сагунта. Мы напрасно
предположили, что Аннибал удовольствовался бы обращением их в рабство:
они все равно были бы истреблены если не своими, то
карфагенскими руками, но карфагеняне стали бы долго мучить их варварскими
пытками, и здравый расчет их справедливо предпочел легкую и
быструю смерть медленной и тяжелой. Лукреция закололась, когда ее
осквернил Секст Тарквиний: она также поступила очень расчетливо;
что ожидало ее впереди? Муж мог бы наговорить ей много
успокоительных и ласковых слов, но ведь все подобные слова чистый вздор,
свидетельствующий о благородстве говорящего их, но нисколько не
изменяющий непременных последствий дела. Коллатин мог сказать
жене: я считаю тебя чистой и люблю тебя по-прежнему; но при
тогдашних понятиях, слишком мало изменившихся до сих пор, он не
в силах был оправдать своих слов делом: волею или неволею, но он
уже потерял очень значительную часть прежнего уважения, прежней
любви к жене; он мог прикрывать эту потерю преднамеренным
увеличением нежности в обращении с нею; но такого рода нежность
обиднее холодности, горче побоев и ругательств. Лукреция
справедливо нашла, что лишиться жизни составляет гораздо меньшую
неприятность, чем жить в положении унизительном по сравнению
с тем, к какому она привыкла. Чистоплотный человек охотнее будет
терпеть голод, чем прикоснется к пище, оскверненной какою-нибудь
гадостью; для человека, привыкшего уважать себя, смерть гораздо
легче унижения.
Читатель понимает, что мы говорим все это вовсе не к
уменьшению великой похвалы, какой достойны жители Сагунта и Лукреция:
доказывать, что геройский поступок был вместе умным поступком,
что благородное дело не было безрассудным делом, вовсе еще не
значит, по нашему мнению, отнимать цену у геройства и
благородства. От этих геройских дел перейдем к образу действий более
обыкновенному, хотя все еще слишком редкому; разберем такие
случаи, как преданность человека, отказывающегося от всяких
удовольствий, от всякой свободы в распоряжении своим временем для того,
чтобы ухаживать за другим человеком, нуждающимся в его забот-
Антропологический принцип в философии
427
ливости. Друг, проводящий целые недели у постели больного друга,
делает пожертвование гораздо более тяжелое, чем если бы отдавал
ему все свои деньги. Но почему он приносит такую великую жертву
и в пользу какого чувства он приносит ее? Он приносит свое время,
свою свободу в жертву своему чувству дружбы, — заметим же,
своему чувству; оно развилось в нем так сильно, что, удовлетворяя его,
он получает большую приятность, чем получил бы от всяких
других удовольствий и от самой свободы; а нарушая его, оставляя без
удовлетворения, чувствовал бы больше неприятности, чем сколько
получает от стеснения себя во всех других потребностях. Точно
таковы же случаи, когда человек отказывается от всяких наслаждений
и выгод для служения науке или какому-нибудь убеждению. Ньютон
и Лейбниц, отказавшие себе во всякой любви к женщине, чтобы
нераздельно отдавать все свое время, все свои мысли ученым
исследованиям, конечно, совершали всю свою жизнь очень высокий подвиг.
Точно то же надобно сказать о политических деятелях, называемых
обыкновенно фанатиками. Тут опять мы видим, что известная
потребность развилась в человеке так сильно, что удовлетворять ей
приятно для него даже с пожертвованием другими очень сильными
потребностями. По своему предмету эти случаи очень резко
отличаются от тех фактов расчета, в которых человек жертвует очень
большою суммою денег для удовлетворения какой-нибудь низкой
страсти, но по теоретической формуле все они подходят под один закон:
сильнейшая страсть берет верх над влечениями менее сильными
и приносит их в жертву себе.
При внимательном исследовании побуждений, руководящих
людьми, оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и
низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из
одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать,
руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или
меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего
удовольствия. Конечно, этою одинаковостью причины, из которой
происходят дурные и хорошие дела, вовсе не уменьшается разница
между ними: мы знаем, что алмаз и уголь — все один и тот же чистый
углерод, но, тем не менее, алмаз есть алмаз, вещь чрезвычайно
драгоценная, а уголь — все-таки уголь, вещь очень малоценная. Великая
разница между добрым и злым заслуживает полного нашего
внимания. Мы начнем с анализа этих понятий, чтобы увидеть, какими об-
428
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
стоятельствами развивается или ослабляется добро в человеческой
жизни.
Очень давно было замечено, что различные люди в одном
обществе называют добрым, хорошим вещи совершенно различные, даже
противоположные. Если, например, кто-нибудь отказывает свое
наследство посторонним людям, эти люди находят его поступок
добрым, а родственники, потерявшие наследство, очень дурным. Такая
же разница между понятиями о добре в разных обществах и в разные
эпохи в одном обществе. Из этого очень долго выводилось
заключение, что понятие добра не имеет в себе ничего постоянного,
самостоятельного, подлежащего общему определению, а есть понятие
чисто условное, зависящее от мнений, от произвола людей. Но точнее
всматриваясь в отношения поступков, называемых добрыми, к тем
людям, которые дают им такое название, мы находим, что всегда есть
в этом отношении одна общая, непременная черта, от которой и
происходит причисление поступка к разряду добрых. Почему
посторонние люди, получившие наследство, называют добрым делом акт,
давший им это имущество? Потому, что этот акт был для них полезен.
Напротив, он был вреден родственникам завещателя, лишенным
наследства, потому они называют его дурным делом. Война против
неверных для распространения мусульманства казалась добрым делом
для магометан, потому что приносила им пользу, давала им добычу;
в особенности поддерживали между ними это мнение духовные
сановники, власть которых расширялась от завоеваний. Отдельный
человек называет добрыми поступками те дела других людей, которые
полезны для него; в мнении общества добром признается то, что
полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец,
люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то,
что полезно для человека вообще. Очень часты случаи, в которых
интересы разных наций и сословий противоположны между собою
или с общими человеческими интересами; столь же часты случаи,
в которых выгоды какого-нибудь отдельного сословия
противоположны национальному интересу. Во всех этих случаях возникает спор
о характере поступка, учреждения или отношения, выгодного для
одних, вредного для других интересов: приверженцы той стороны,
для которой он вреден, называют его дурным, злым; защитники
интересов, получающих от него пользу, называют его хорошим, добрым.
На чьей стороне бывает в таких случаях теоретическая справедли-
Антропологический принцип в философии
429
вость, решить очень не трудно: общечеловеческий интерес стоит
выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит
выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного
сословия выше выгод малочисленного. В теории эта градация не подлежит
никакому сомнению, она составляет только применение
геометрических аксиом — «целое больше своей части», «большее количество
больше меньшего количества» — к общественным вопросам.
Теоретическая ложь непременно ведет к практическому вреду; те случаи,
в которых отдельная нация попирает для своей выгоды
общечеловеческие интересы, или отдельное сословие — интересы целой нации,
всегда оказываются в результате вредными не только для стороны,
интересы которой были нарушены, но и для той стороны, которая
думала доставить себе выгоду их нарушением: всегда оказывается,
что нация губит сама себя, порабощая человечество, что отдельное
сословие приводит себя к дурному концу, принося в жертву себе
целый народ. Из этого мы видим, что при столкновениях
национального интереса с сословным сословие, думающее извлечь пользу себе из
народного вреда, с самого начала ошибается, ослепляется
фальшивым расчетом. Иллюзия, которою оно увлекается, имеет иногда вид
очень основательного расчета; но мы приведем два или три случая
этого рода, чтобы показать, как ошибочен бывает такой расчет.
Мануфактуристы думают, что запретительный тариф выгоден для них;
но в результате оказывается, что при запретительном тарифе нация
остается бедна и по своей бедности не может содержать
мануфактурную промышленность обширного размера; таким образом, самое
сословие мануфактуристов остается далеко не столь богато, как бывает
при свободной торговле; все фабриканты всех государств с
запретительным тарифом, вместе взятые, конечно, не имеют и половины
того богатства, какое приобрели фабриканты Манчестера.
Землевладельцы вообще думают иметь выгоду от невольничества,
крепостного права и других видов обязательного труда; но в результате
оказывается, что землевладельческое сословие всех государств, имеющих
несвободный труд, находится в разоренном положении.
Бюрократия иногда находит нужным для себя препятствовать умственному
и общественному развитию нации; но и тут всегда бывает, что она
в результате видит свои собственные дела расстроенными,
становится бессильной. Мы привели такие случаи, в которых расчет
отдельного сословия вредить для своей выгоды общему национальному
430
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
интересу имеет, по-видимому, чрезвычайно твердое основание; но и
тут результат показывает, что основание только казалось твердым,
а в сущности было неверно; что сословие, вредившее народу, само
обманывалось относительно своих выгод. Это не может и быть иначе:
французский или австрийский мануфактурист — все-таки француз
или житель Австрии, и все то, что вредно для государства, к которому
он принадлежит, сила которого служит опорою его силы, богатство
которого служит опорою его богатства, — все это послужит во вред
и ему самому, иссушая источники его силы и богатства. Точно то же
надобно сказать о случаях противоположности между интересами
отдельной нации и общим человечественным благом: и тут всегда
оказывается, что совершенно ошибочен был расчет нации, думавшей
извлечь себе пользу из нанесения вреда человечеству.
Завоевательные народы всегда кончали тем, что истреблялись и порабощались
сами. Монголы Чингисхана жили в своих степях такими бедными
дикарями, что, по-видимому, трудно было им придти в положение,
худшее прежнего; но как ни дурно было состояние диких орд,
пошедших на завоевание земледельческих государств южной и
западной Азии и восточной Европы, а все-таки вскоре по совершении
завоевания эти несчастные люди, наделавшие столько вреда другим для
своего обогащения, подверглись судьбе более плачевной, чем даже
та жалкая жизнь, которую продолжали вести их соотечественники,
оставшиеся в своих родных степях. Мы знаем, чем кончили татары
Золотой орды: конечно, целая половина их погибла при завоевании
России и при неудачных нашествиях на Литву и Моравию;
остальная половина, сначала награбившая себе много добычи, скоро была
истреблена оправившимися русскими. Ученые доказывают, что из
нынешних крымских, казанских и оренбургских татар едва ли есть
хоть один человек, происходящий от воинов Батыя, что нынешние
татары — потомки прежних племен, живших в тех местах до Батыя
и покоренных Батыем, как были покорены русские; и что
пришельцы — завоеватели — все исчезли, все были истреблены ожесточением
порабощенных. Германцы при Таците жили не многим лучше
монголов до Чингисхана; но и они мало выиграли от завоевания Римской
империи110. Остготы, лангобарды, герулы, вандалы — все погибли
до последнего человека. От вестготов осталось имя, но только имя;
франков не успели перерезать порабощенные ими племена только
потому, что франки перерезались сами при Меровингах. Испанцы,
Антропологический принцип в философии
431
опустошив Европу при Карле V и Филиппе II, сами разорились,
впали в рабство и наполовину вымерли от голода111. Французы,
опустошив Европу при Наполеоне I, сами подверглись завоеванию и
разорению в 1814 и 1815 годах. Недаром сравнивают с пиявками людей
сословия, обогащающегося во вред своей нации; но вспомним, какая
судьба ждет пиявок, наслаждающихся сосанием человеческой крови:
редкая из них не губит себя этим наслаждением, почти все они
дохнут, и если иные остаются живы, то все-таки подвергаются тяжелой
болезни, да и живы остаются только благодаря заботливости того,
чью кровь сосали.
Все это мы говорили к тому, чтобы показать, что понятие добра
вовсе не расшатывается, а, напротив, укрепляется, определяется
самым резким и точным образом, когда мы открываем его истинную
натуру, когда мы находим, что добро есть польза. Только при этом
понятии о нем мы в состоянии разрешить все затруднения,
возникающие из разноречия разных эпох и цивилизаций, разных
сословий и народов о том, что добро, что зло. Наука говорит о народе,
а не об отдельных индивидуумах, о человеке, а не о французе или
англичанине, не купце или бюрократе. Только то, что составляет натуру
человека, признается в науке за истину; только то, что полезно для
человека вообще, признается за истинное добро; всякое уклонение
понятий известного народа или сословия от этой нормы составляет
ошибку, галлюцинацию, которая может наделать много вреда другим
людям, но больше всех наделает вреда тому народу, тому сословию,
которое подверглось ей, заняв по своей или чужой вине такое
положение среди других народов, среди других сословий, что стало
казаться выгодным ему то, что вредно для человека вообще. «Погибоша
аки Обре» — эти слова повторяет история над каждым народом, над
каждым сословием, впавшим в гибельную для таких людей
галлюцинацию о противоположности своих выгод с общечеловеческим
интересом.
Если есть какая-нибудь разница между добром и пользою, она
заключается разве лишь в том, что понятие добра очень сильным
образом выставляет черту постоянства, прочности, плодотворности,
изобилия хорошими, долговременными и многочисленными
результатами, которая, впрочем, находится в понятии пользы, именно этой
чертою отличающемся от понятий удовольствия, наслаждения. Цель
всех человеческих стремлений состоит в получении наслаждений.
432
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Но источники, из которых получаются нами наслаждения, бывают
двух родов: к одному роду принадлежат мимолетные обстоятельства,
не зависящие от нас, или, если и зависящие, то проходящие без
всякого прочного результата; к другому роду относятся факты и состояния,
находящиеся в нас самих прочным образом или вне нас, но
постоянно при нас долгое время. День хорошей погоды в Петербурге —
источник бесчисленных облегчений в жизни, бесчисленных приятных
ощущений для жителей Петербурга; но этот день хорошей погоды —
явление мимолетное, лишенное всякого основания и не
оставляющее никакого прочного результата в жизни петербургского
населения. Нельзя сказать, чтобы этот день составлял пользу, он составляет
только удовольствие. Полезным явлением бывает хорошая погода
в Петербурге только в тех немногих случаях и только для тех
немногих людей, когда она довольно продолжительна и когда, благодаря
этой продолжительности, успеет прочным образом поправиться
здоровье нескольких больных. Но тот, кто переселяется из Петербурга
в хороший климат, получает себе пользу в отношении здоровья, в
отношении наслаждения природой, потому что этим переселением он
приобретает себе прочный источник долговременных наслаждений.
Если человек получил приглашение на хороший обед, он получает
только удовольствие, а не пользу в этом приглашении (разумеется,
и удовольствие только в том случае, когда он находит наслаждение
в гастрономии). Но если этот человек, имеющий гастрономические
наклонности, получает большую сумму денег, он получает пользу,
то есть долговременную возможность пользоваться наслаждением
хороших обедов. Итак, полезными вещами называются, так сказать,
прочные принципы наслаждений. Если бы при употреблении слова
«польза» всегда твердо помнилась эта коренная черта понятия, не
было бы решительно никакой разницы между пользою и добром;
но, во-первых, слово «польза» употребляется иногда
легкомысленным, так сказать, образом о принципах удовольствия, правда, не
совершенно мимолетных, но и не очень прочных, а во-вторых,
можно эти прочные принципы наслаждений разделить по степени их
прочности опять на два разряда: не очень прочные и очень прочные.
Этот последний разряд собственно и обозначается названием добра.
Добро — это как будто превосходная степень пользы, это как будто
очень полезная польза. Доктор восстановил здоровье человека,
страдавшего хроническою болезнью, — что он принес ему: добро или
Антропологический принцип в философии
433
пользу? Одинаково удобно тут употребить оба слова, потому что он
дал ему самый прочный принцип наслаждений. Наша мысль
находится в настроении беспрестанно вспоминать о внешней природе,
которая будто бы одна подлежит ведомству естественных наук,
составляющих будто бы только одну часть наших знаний, а не
обнимающих собою всей их совокупности. Кроме того, мы заметили, что
эти статьи свидетельствуют о чрезвычайной сухости нашего сердца,
о пошлости и низости нашей души, во всем ищущей только пользы,
все оскверняющей отыскиванием материальных оснований, не
понимающей ничего высокого, лишенной всякого поэтического
чувства. Нам хочется замаскировать этот постыдный недостаток
поэтичности в нашей душе. Мы ищем чего-нибудь поэтического для
украшения нашей статьи; под влиянием мысли о важности естественных
наук отправляемся искать поэзии в область материальной природы
и находим в ней цветы. Украсим же одну из наших сухих страниц
поэтическим сравнением. Цветы, эти прекрасные источники
благоухания, эти столь быстро увядающие очарования нашего глаза, — это
удовольствия, наслаждения; растение, производящее их, — это
польза; на одном растении много цветов, увядают одни, распускаются на
место их другие; так полезною вещью называется то, из чего
вырастает много цветов. Но есть однолетние цветущие растения; и есть
также розовые деревья, олеандры, живущие очень много лет и каждый
год снова дающие много цветов — вот так добро превосходит своею
долговечностью другие источники наслаждений, которые
называются просто полезными вещами, но не удостаиваются имени добра, как
фиалки не удостаиваются имени деревьев: они — предметы того же
разряда вещей, но все еще не так велики и долговечны.
Из того, что добром называются очень прочные источники
долговременных, постоянных, очень многочисленных наслаждений, сама
собою объясняется важность, приписываемая добру всеми
рассудительными людьми, говорившими о человеческих делах. Если мы
думаем, что «добро выше пользы», мы скажем только: «очень большая
польза выше не очень большой пользы»,— мы скажем только
математическую истину, вроде того, что 100 больше 2, что на олеандре
бывает больше цветов, чем на фиалке.
Читатель видит, что метод анализа нравственных понятий в духе
естественных наук, отнимая у предмета всякую напыщенность,
переводя его в область явлений очень простых, натуральных, дает нрав-
434
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ственным понятиям основание самое непоколебимое. Если
полезным называется то, что служит источником множества наслаждений,
а добрым — просто то, что очень полезно, тут уже не остается ровно
никаких сомнений относительно цели, которая предписывается
человеку, — не какими-нибудь посторонними соображениями или
внушениями, не какими-нибудь проблематическими предположениями,
таинственными отношениями к чему-нибудь еще очень неверному, —
нет, предписывается просто рассудком, здравым смыслом,
потребностью наслаждения: эта цель — добро. Расчетливы только добрые
поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько,
насколько добр. Когда человек не добр, он просто нерасчетливый мот,
тратящий тысячу рублей на покупку грошовой вещи, тратящий на
получение малого наслаждения нравственные и материальные силы,
которых достало бы ему на приобретение несравненно большего
наслаждения.
Но в том же понятии о добре, как об очень прочной пользе, мы
находим еще другую важную черту, помогающую нам открыть, в
каких именно явлениях и поступках главнейшим образом состоит
добро. Внешние предметы, как бы тесно ни были привязаны к человеку,
все-таки слишком часто разлучаются с ним: то человек расстается
с ними, то они изменяют человеку. Родина, родство, богатство, все
может быть покинуто человеком или покинуть его; от одного никак
не может он отделаться, пока остается жив, одно существо
неразлучно с ним: это он сам. Если человек полезен другим людям по своему
богатству, он может перестать быть полезен, лишившись богатства;
но если он полезен людям по качествам своего собственного
организма, по своим душевным качествам, как обыкновенно говорится,
то он может разве только зарезать себя, но пока не зарежет, не
может перестать делать пользу людям, — не делать ее — выше его сил,
не в его власти. Он может сказать себе: буду зол, буду вредить людям;
но исполнить этого он уже не может, как умный не может не быть
умным, если б и не желал. Не только по постоянству и
долговечности, но и по обширности результатов добро, приносимое качествами
самого человека, гораздо значительнее добра, делаемого человеком
только по обладанию внешними предметами. Доброе или дурное
употребление внешних предметов случайно; всякие материальные
средства так же легко и часто бывают обращаемы на вред людям, как
и на пользу им. Богатый человек, принося своим богатством выго-
Антропологический принцип в философии
435
ду некоторым людям в некоторых случаях, вредит другим или даже
и тем же самым людям в других случаях. Например, богатый
человек может дать хорошее воспитание своим детям, развить в них
здоровье, ум, дать им множество знаний; это вещи полезные для них;
но будут ли они сделаны или нет, это еще неизвестно, и часто этого
не бывает, а, напротив, дети богача получают такое воспитание, что
делаются от него людьми хилыми, болезненными, слабоумными,
пустыми, жалкими. Дети богача вообще приобретают привычки и
понятия, невыгодные для них самих. Если таково влияние богатства на
людей, счастьем которых наиболее дорожит богач, то, конечно, оно
еще заметнее приносит вред другим людям, не столь близким сердцу
богача, так что вообще надобно предполагать, что богатство
отдельного человека приносит больше вреда, нежели пользы, людям,
бывающим в непосредственных отношениях к богачу. Но если
возможно некоторое сомнение относительно того, равняется ли вредное
влияние богатства на этих отдельных людей пользе, получаемой ими
от него или, как, по всей вероятности, следует думать, далеко
превышает ее, то уже совершенно бесспорен тот факт, что в действии
богатства отдельных людей на целое общество вредные стороны
гораздо сильнее полезных. Это с математическою достоверностью
обнаруживается той частью нравственных знаний, которая раньше
других стала разрабатываться по точной научной системе и в некоторых
отделах своих разработана уже довольно хорошо наукой о законах
общественного материального благосостояния или обыкновенно
так называемою политическою экономией. То, что мы находим
относительно большого превосходства одних людей над другими
посредством материального благосостояния, надобно еще в большей
степени сказать о большом сосредоточении в руках отдельных людей
другого постороннего самому человеческому организму средства
к влиянию на судьбу других людей, — о силе или власти. Она также,
по всей вероятности, приносит гораздо больше вреда, нежели
пользы, даже людям, непосредственно соприкасающимся с нею, а в ее
влиянии на целое общество вред несравненно превосходит пользу.
Итак, действительным источником совершенно прочной пользы для
людей от действий других людей остаются только те полезные
качества, которые лежат в самом человеческом организме; потому
собственно этим качествам и усвоено название добрых, потому и слово
«добрый» настоящим образом прилагается только к человеку. В его
436
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
действиях основанием бывает чувство или сердце, а
непосредственным источником их служит та сторона органической деятельности,
которая называется волею; потому, говоря о добре, надобно
специальным образом разобрать законы, по которым действуют сердце
и воля. Но способы к исполнению чувств сердца даются воле
представлениями ума, и потому надобно также обратить внимание на ту
сторону мышления, которая относится к способам иметь влияние на
судьбу других людей. Не обещая ничего, наверное, мы скажем только,
что нам хотелось бы изложить точные понятия нынешней науки об
этих предметах. Очень может быть, что нам и удастся сделать это.
Но мы едва не забыли, что до сих пор остается не объяснено слово
«антропологический» в заглавии наших статей; что это за вещь
«антропологический принцип в нравственных науках»? Что за вещь этот
принцип, читатель видел из характера самых статей: принцип этот
состоит в том, что на человека надобно смотреть как на одно
существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать
человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам,
чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как
деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно,
или если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь
особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот
орган в его натуральной связи со всем организмом. Кажется, это
требование очень простое, а между тем только в последнее время
стали понимать всю его важность и исполнять его мыслители,
занимающиеся нравственными науками, да и то далеко не все, а только
некоторые, очень немногие из них, между тем как большинство
сословия ученых, всегда, держащееся рутины, как большинство
всякого сословия, продолжает работать по прежнему, фантастическому
способу ненатурального дробления человека на разные половины,
происходящие из разных натур. Зато и все труды этого рутинного
большинства оказываются теперь таким же хламом, каким оказались
труды Эмина и Елагина по русской истории, Чулкова по собиранию
народных песен, или в наше время труды гг. Погодина и Шевырева112.
Кое-что, похожее на правду, попадается и в них, — ведь г. Погодин
совершенно справедливо говорит, что Ярослав был князь Киевский,
а не Краковский, что Ольга приняла в Константинополе православие,
а не лютеранство, что Алексей Петрович был сын Петра Великого;
ведь г. Шевырев справедливо заметил, что русский народ употребляет
Антропологический принцип в философии
437
скудную и неудобоваримую пищу, что между ямщиками
попадаются красивые парни, и отыскал в паисиевском сборнике113 довольно
любопытное свидетельство о русском язычестве. Но все эти
прекрасные и совершенно верные вещи засыпаны в книгах ученой четы
покойного «Москвитянина»114 таким множеством вздорных мнений,
что отделить в них правду от пустяков — труд столь же тяжелый, как
отыскивать годные на выделку бумаги тряпки в тех местах, которые
исследуются зоркими глазами и ловким крючком ветошников;
потому люди обыкновенные поступят лучше всего, если совершенно
откажутся от столь неприятного дела, предоставляя его привычным
к нему труженикам; но труженики эти, специалисты, идущие в
уровень с понятиями нынешней науки, находят, что в книгах,
подобных сочинениям господ, нами названных, и их предшественников
даже и ученого тряпья отыскивается слишком мало, так что чтение
их составляет совершенную трату времени, ведущую только к
засорению головы. Вот то же самое надобно сказать почти о всех
прежних теориях нравственных наук. Пренебрежение к
антропологическому принципу отнимает у них всякое достоинство; исключением
служат творения очень немногих прежних мыслителей, следовавших
антропологическому принципу, хотя еще и не употреблявших этого
термина для характеристики своих воззрений на человека: таковы,
например, Аристотель и Спиноза.
Что касается до самого состава слова «антропология», оно взято
от слова anthropos — человек, — читатель, конечно, и без нас это
знает. Антропология — это такая наука, которая о какой бы части
жизненного человеческого процесса ни говорила, всегда помнит,
что весь этот процесс и каждая часть его происходит в человеческом
организме, что этот организм служит материалом, производящим
рассматриваемые ею феномены, что качества феноменов
обусловливаются свойствами материала, а законы, по которым возникают
феномены, есть только особенные частные случаи действия законов
природы. Естественные науки еще не дошли до того, чтобы подвести
все эти законы под один общий закон, соединить все частные
формулы в одну всеобъемлющую формулу. Что делать! Нам говорят, что
и сама математика еще не успела довести некоторых своих частей
до такого совершенства: мы слышали, что еще не отыскана общая
формула интегрирования, как найдена общая формула умножения
или возвышения в степень. От этого, конечно, затрудняются ученые
438
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
исследования; мы слышали, будто бы математик очень быстро
совершает все части своего дела, но как дойдет до интегрирования, ему
приходится сидеть целые недели и месяцы над делом, которое
можно было бы исполнить в два часа, если бы уже найдена была общая
формула интегрирования. Так еще больше в естественных науках.
До сих пор найдены только частные законы для отдельных разрядов
явлений: закон тяготения, закон химического сродства, закон
разложения и смешения цветов, закон действий теплоты, электричества;
под один закон мы еще не умеем их подвести точным образом, хотя
существуют очень сильные основания думать, что все другие законы
составляют несколько особенные видоизменения закона тяготения.
От этого нашего неуменья подвести все частные законы под один
общий закон чрезвычайно затрудняется и затягивается всякое
исследование в естественных науках: исследователь идет ощупью, наугад,
у него нет компаса, он принужден руководиться не столь верными
способами к отыскиванию настоящего пути, теряет много времени в
напрасных уклонениях по окольным дорогам на то, чтобы вернуться
с них к своей исходной точке, когда видит, что они не ведут ни к чему,
и чтобы снова отыскивать новый путь; еще больше теряется времени
в том, чтобы убедить других в действительной непригодности путей,
оказавшихся непригодными, в верности и удобстве пути,
оказавшегося верным. Так в естественных науках, точно так же и в нравственных.
Но как в естественных, так и в нравственных науках этими
затруднениями только затягивается отыскивание истины и распространение
убежденности в ней, когда она найдена; а когда найдена она, то все-
таки очевидна ее достоверность, только приобретение этой
достоверности стоило гораздо большего труда, чем будут стоить такие же
открытия нашим потомкам при лучшем развитии наук, и как бы
медленно ни распространялась между людьми убежденность в истинах
от нынешней малой приготовленности людей любить истину, то есть
ценить пользу ее и сознавать непременную вредность всякой лжи,
истина все-таки распространяется между людьми, потому что, как ни
думай они о ней, как ни бойся они ее, как ни люби они ложь, все-таки
истина соответствует их надобностям, а ложь оказывается
неудовлетворительной: что нужно для людей, то будет принято людьми,
как бы ни ошибались они от принятия того, что налагается на них
необходимостью вещей. Станут ли когда-нибудь хорошими
хозяевами русские сельские хозяева, до сих пор бывшие плохими хозяева-
Антропологический принцип в философии
439
ми? Разумеется, станут; эта уверенность основана не на каких-нибудь
трансцендентальных гипотезах о качествах русского человека, не на
высоком понятии о его национальных качествах, о его
превосходстве над другими по уму или трудолюбию или ловкости, а просто на
том, что настает надобность русским сельским хозяевам вести свои
дела умнее и расчетливее прежнего. От надобности не уйдешь, не
отвертишься. Так не уйдет человек и от истины, потому что по
нынешнему положению человеческих дел оказывается с каждым годом все
сильнейшая и неотступнейшая надобность в ней.
КАПИТАЛ И ТРУД
Читателю известно, что мы не очень усердно поклоняемся той
системе политической экономии, которая, по незаслуженному
счастью, до сих пор считается у нас единственною и полною
представительницею всей науки. Если мы скажем, что г. Горлов115 ни на шаг
не дерзает отступать от этой системы, читатель может предположить,
что наша статья будет содержать жестокое нападение на сочинение
г. Горлова. Нет, мы не находим, чтобы эта книга заслуживала такой
участи или такого внимания.
Г. Горлов излагает систему, которую мы не одобряем; но он, как
из всего видно, держится этой системы только потому, что гораздо
легче знать вещи, о которых толкуют во всех книгах уже целых сто
лет, нежели усвоить себе понятия, явившиеся не очень давно.
Ломоносов был великий писатель — кому это не известно? А то, что Гоголь
также великий писатель, еще далеко не всем понятно. За что же
нападать на человека, который, вечно толкуя о Ломоносове, не ценит
Гоголя потому только, что родился в настоящее время, когда, чтобы
понимать Гоголя, надобно следить за литературою, а не через пятьдесят
лет, когда слава Гоголя войдет в рутину? Это просто отсталый
человек; отсталость должна в чувствительной душе возбуждать сожаление,
а не гнев.
Порицать книгу г. Горлова мы не находим надобности; хвалить
ее мы, пожалуй, были бы готовы; но, как ни старались набрать
в ней материалы для похвал, набрали их не много. Изложение
книги не очень дурно; хорошим назвать его нельзя, потому что оно
вяло и скучно. Мыслей, которые считаются дурными у людей,
взятых г. Горловым за руководителей, у г. Горлова нет; но зато нет и
ни одной сколько-нибудь свежей или самостоятельной мысли, —
а мы могли бы ожидать найти хотя две-три таких мысли, потому
что некоторая (умеренная) свежесть и некоторая (мелочная)
самостоятельность допускаются даже школою, к которой принадлежит
г. Горлов. Ученость — и того мы не нашли. Есть заимствования из
Рошера, Pay, Милля, Мекколлока116, показывающие знакомство
с этими писателями; но их книги не такая редкость, чтобы уже
превозносить того, кому случится познакомиться с ними. Главным
ресурсом для г. Горлова служит, по-видимому, «Словарь политической
Капитал и труд
441
экономии» Шльйомена117, — книга хорошая, спору нет, но вовсе
не имеющая своим назначением служить источником для ученых
сооружений. За что же можно похвалить г. Горлова? Разве за
спокойствие, умеренность и скромность тона? Правда, это не составляет
особенного достоинства при вялости изложения, а должно
считаться только следствием вялости; но, так и быть, похвалим его книгу за
отсутствие излишних претензий.
Говоря без тонкостей, это значит: мы не намерены нападать
на книгу г. Горлова потому, что, при всей своей почтенности, она не
заслуживает внимания. Есть читатели очень мнительные, которым
все надобно доказывать. К числу их в настоящем случае, без
сомнения, будет принадлежать и г. Горлов. «Вы говорите, что моя книга не
заслуживает внимания, — извольте же доказать это». Пожалуй. В
доказательство возьмем, чтобы не ходить далеко, хотя предисловие к
«Началам политической экономии». Вот оно, все вполне. Читатель,
который поверит нам на слово, может пропустить эту выписку, потому
что, предупреждаем его, он не найдет в ней ничего, заслуживающего
труда быть прочтенным.
В настоящее время в России поднято много весьма важных вопросов,
тесно соединенных с народным благосостоянием. Чтоб прояснить свои
понятия об этих вопросах, общество обратилось к науке, дотоле
находившейся у нас в совершенном забвении, — к государственной экономии.
Тогда оказалось, что хотя наука эта прежде и не была разрабатываема в вашей
литературе, но что начала ее были более или менее распространены между
многими образованными людьми чрез университетское преподавание или
чрез изучение иностранных сочинений. Ибо, по первому призыву
общественного мнения, возбужденного вопросами о свободе труда в сельском
хозяйстве и торговле, о способах владения землею, о монополиях и других
предметах, появились не только особые отделы в журналах, им
посвященные, но даже основались специальные журналы, назначенные для
разработки экономических идей и руководимые людьми весьма сведущими. При
таком направлении нашего времени и при таких его потребностях, напрасно
было бы оправдывать появление книги, заключающей в себе изложение
начал государственной экономии.
Однако же те ошиблись бы, которые, имея в виду вопросы
современности, стали бы искать в этой книге практических правил и способов действия
в данных случаях. В настоящее время появляется в России много разных
планов и экономических проектов. Но не такова задача этой книги; она
чужда всякого прожектерства и не есть собрание каких-нибудь политико-
экономических рецептов и способов. В ней только излагаются естествен-
442
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ные законы экономии народов, и мы почти могли бы сказать вместе с
французским экономистом К Дюнойэ118: <je n'impose rien, je ne propose тете rien,
j'expose*119. Но живая потребность ощущается, и именно теперь, в изучении
этих естественных законов. И в самом деле, если прежние искусственные
организации народной экономии, произведенные историческими
обстоятельствами, удаляются со сцены, то надобно знать, каким естественным
законам будет следовать народная экономия, когда она будет предоставлена
самой себе.
При этом случае так называемые практики, конечно, упрекнут нас в
ограниченности взгляда, который довольствуется старою, заброшенною
формулою laissez faire110 и полагается на естественные законы. Мы же, с своей
стороны, находим, что эта формула есть великое, хотя и не исключительное
начало, что она уже принесла и принесет еще огромную пользу всякий раз,
когда заставит общество убедиться в бесполезности разных искусственных
организаций, вроде glebae adscriptiom и тому подобных. А естественные
законы установлены тою же великою силою, которая управляет целым миром;
следовательно, по натуре своей они не могут быть бедственны и
разрушительны, и рассмотрение их всегда может сделаться достойным предметом
весьма важной науки.
Нам скажут, что под влиянием естественных законов человек не
только живет, но страдает и погибает. Это справедливо; так что же из этого?
По естественным законам человек может впадать в бедность и расстраивать
свое экономическое положение. Из этого выходит только то, что ему
необходимо законы эти изучать, чтоб из них извлекать всю пользу и, напротив,
избегать зла. С последней целью общество принимает некоторые меры; но
это не показывает, что надлежит отвергнуть формулу laissez faire-, это
показывает только, что надлежит в известных случаях ее дополнять. Какова
была бы медицина, если б она утверждала, что для поддержания здоровья
человека надлежит постоянно возбуждать искусственными средствами его
аппетит и таковыми же очищать его тело и что природа этого сделать не
может, будучи предоставлена самой себе? И однако же прежние
экономические системы были проникнуты духом именно подобной медицины, ибо
они искусственно возбуждали производство и потребление ценностей в
обществах, не понимая, что для них существуют естественные законы. Таких-
то экономических систем мы не признаем и желаем, чтобы они от прежней
сложности действия и искусственности обратились к потерянной простоте
и естественности.
Итак, мы излагаем теорию, естественные законы экономии народов.
Но теория была бы жалкою и бесплодною отвлеченностью, если б она
отвращалась от явлений современности, которые совершаются пред глазами
всех и живо занимают всех, кому дороги важнейшие интересы человечества.
В объяснении именно этих явлений лежит практическое значение теорий,
излагаемых в науке. Современные экономисты, Мекколлок122 и Рошер, спра-
Капитал и труд
443
ведливо заметили, что важнейшая задача теоретика состоит в том, чтобы
выразить и рассмотреть с надлежащей основательностью потребности
своего времени. Мы старались не выпускать из виду эту точку зрения, излагая
отвлеченные истины экономической науки, и, может быть, это-то придаст
нашей книге некоторую особенность и практичность, несмотря на то, что
в ней нет готовых планов действия и экономических проектов.
Обращаемся теперь к недоверчивым читателям, которые были
своею мнительностью принуждены прочесть выписанное нами
предисловие г. Горлова, и спрашиваем их: чего должно ожидать от книги,
имеющей подобное предисловие? От него веет шестидесятилетней
рутиной, вы, по крайней мере, двадцать раз читали в разных книгах
все то, что сказано на этих страницах, — и каким рутинным тоном
изложены эти всем и всякому давно наскучившие мысли! Обратите
внимание хотя бы на начало: «В настоящее время в России
поднято весьма много важных вопросов» — ведь этими самыми словами
начинает ныне решительно каждый, что бы ни начинал писать, —
фельетон о загородных гуляньях или пении г-жи Лагруа в «Норме»123,
об освобождении крепостных крестьян или о новоизобретенной
помаде для рощения волос. Итак, «в настоящее время» появление «Начал
политической экономии» своевременно. Почему же? Вероятно,
потому, что она дает решения для «вопросов», поднятых в настоящее
время? Нет, она «не есть собрание политико-экономических рецептов и
способов (к чему?). В ней не найдется практических правил и
способов действия в данных случаях». Она только описывает, а не
предписывает, — прекрасно; но в таком случае к чему же начинать фразою
«в настоящее время»? И какою ветхостью пахнет мысль, что наука
только описывает факты, а не предлагает правил! Неужели из таких
фраз можно составлять предисловия? И кто придумал эту мысль?
Несчастный Жан-Батист Сэ124, как уловку для смягчения Наполеона,
не любившего, чтобы «идеологи» мешали ему воевать! Это —
отговорка, избитая уловка, а г. Горлов принимает ее за чистую монету. Где вы
найдете книгу о политической экономии, которая не требовала бы
свободы труда и отменения протекционной системы? Сам г. Горлов
требует этих вещей. Почему же он не замечает, что книга его
противоречит своему предисловию? — Потому не замечает, что и содержание
книги, и содержание предисловия им составлены просто по рутине.
Довольно вроде «glebae adscriptio» — какая скромность в прелестном
выражении «glebae adscriptio» вместо «крепостное право»!
444
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Книга подписана г. цензором 6 апреля и 11 августа 1859 года,
когда уже свободно позволялось говорить о вреде крепостного права,
а г. Горлов все еще не решился употребить этот прямой термин в
предисловии к ней, как будто писал пятнадцать лет тому назад. И будто
бы крепостное право — искусственная организация? Просмотрите
книгу ле Пле «Les ouvriers»125 или хотя Рошера, — вы увидите, что оно
возникает так же естественно, как впоследствии возникает
отношение наемного работника к капиталисту. Естественность известного
явления, к сожалению, вовсе не ручается за его сообразность с
здравыми экономическими понятиями. У древних, например,
естественно развилось в теории понятие, а в практике явился обычай, что
свободному гражданину неприлично работать — ну что тут хорошего?
Начитавшись Бастиа126, который особенно много разыгрывал
вариаций на слово искусственность, г. Горлов забыл, что искусственным
образом не производится в общественной жизни ровно ничего, а все
создается естественным образом, — дело не в том, чтобы сказать «это
естественно», а в том, чтобы разобрать, ко вреду или к пользе
общества это служит. Ведь и протекционная система — явление
совершенно естественное в известных обстоятельствах (то есть, когда масса не
имеет здравых экономических понятий, проникнута завистью к
иноземцам, думает, что богатство состоит главным образом в деньгах
и т. д.), — а, по словам самого г. Горлова, в ней нет ничего хорошего.
Война тоже дело самое естественное и останется самым
естественным делом в истории, пока массы не будут перевоспитаны. Г. Горлов
вслед за своими учителями говорит о естественности и
искусственности, но сами его учители не знают хорошенько смысла
употребляемых ими понятий; мы на следующих страницах поговорим об этом
подробнее, а теперь заметим еще один милый факт все о том же
деликатном «glebae adscriptio». «В настоящее время, когда поднято так
много вопросов», ведется дело, между прочим, и об уничтожении
у нас крепостного права. У нас некоторые полагают, что
освобождаемые крестьяне будут лениться, не захотят наниматься на
обработку полей, и земледелие упадет, количество производимого Россией
хлеба уменьшится от освобождения крестьян. Интересно было бы
знать, подтверждаются ли такие опасения последствиями подобных
реформ в других странах. О том, каковы были экономические
последствия освобождения крестьян во Франции, Пруссии, Австрии
и других европейских землях — г. Горлов ничего не говорит; един-
Капитал, и труд
445
ственный пример освобождения, экономические результаты
которого подробно пояснены у него, — уничтожение рабства в английских
и французских колониях. К чему же привела эмансипация
английских вест-индских невольников?127 Вот к чему, по словам г. Горлова
(стр. 145 и 146): «Для плантаторов оказались неудобства, состоявшие
в том, что рабочих нельзя было находить без большого затруднения.
Негры не хотели заниматься прежними работами, а стали
возделывать пустопорожние земли, или заниматься мелкими промыслами,
или предаваться праздности. Только огромная плата могла
привлечь их на плантации, так что во время жатвы поденщики получали
до 3 и даже 4 рублей. Это положение, проистекавшее от
недостатка рук, через несколько месяцев было причиною того, что работа
на многих плантациях была совершенно прекращена. Разумеется, и
производство сахара соответственно уменьшилось». Затем следует
ссылка, разумеется, на «Dictionnaire de l'économie politique»,
служащий главным ресурсом для г. Горлова, и приводится из этого
словаря таблица, показывающая, по словам г. Горлова, что «производство
сахара, постепенно уменьшаясь, дошло только до двух третей в
период 1842-1846 годов» сравнительно с тем количеством, какое
производилось в 1827-1831 годах, до освобождения негров. Далее г.
Горлов подробно объясняет, «до какой степени пострадали колонии»
от освобождения негров. В Пшане, например, по его словам, «цена
многих плантаций чрезвычайно упала», и заключает свое
рассуждение словами: «Итак, с экономической точки зрения и имея в виду
одни только настоящие, современные интересы, эмансипация была
делом разорительным» (ст. 147). На той же и следующей страницах
говорится, опять по свидетельству того же драгоценного ученого
пособия, Dictionnaire de l'économie politique», что «те же хозяйственные
последствия, которые обнаружились в английских владениях,
оказались и во французских колониях», и до сих пор, в течение целых
одиннадцати лет, «благосостояние колоний все еще не
восстановилось» (стр. 148). «Dictionnaire de l'économie politique», изданный для
французской публики, может безопасно говорить ей об этом
предмете какой угодно вздор, потому что освобождение там — уже дело
конченное и безвозвратное. Но русский автор, пишущий для общества,
в котором вопрос об освобождении еще не покончен, не должен был
бы без всякой критики заимствовать всякое пустословие о вредных
последствиях освобождения из французских книжек или книжищ
446
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
с дурным направлением, потому что у нас нелепые суждения об этом
предмете могут иметь дурное влияние. Если бы г. Горлов потрудился
справиться с отчетами о совещаниях французского
конституционного собрания 1848 года, провозгласившего освобождение негров
во французских колониях, он увидел бы, что та партия, которая
писала статьи «Dictionnaire de l'économie politique», была партией
плантаторов, противилась освобождению негров, и увидел бы, как
опровергались мнения этих почтенных людей Шельхером, главным
двигателем освобождения негров128. Он понял бы тогда, что бедствия,
на которые жалуются французские плантаторы, были произведены
не освобождением негров, а безрассудным поведением самих
плантаторов, противившихся освобождению, раздражавших негров и не
захотевших вести свое хозяйство рациональным образом. Он мог
бы оценить тогда справедливость их жалоб на леность негров. Дело
очень просто: плантаторы не хотели по освобождении негров
изменить порядка работ, существовавшего при невольничестве, не хотели
обращаться с неграми, как с людьми свободными, хотели сохранить
на работах бич как поощрение к труду, не хотели ни платить неграм
за работу, ни изменить устройства своих плантаций так, как
требовали новые условия труда. Само собой разумеется, что и в Пруссии
разорился бы тот помещик, который захотел бы теперь сохранять
в своем поместье барщину и плеть. Совершенно неизвинительно
легкомыслие, с которым г. Горлов также повторяет жалобы английских
вест-индских плантаторов. Если бы он потрудился прочесть
полемику, которая велась об этом предмете в английских газетах много раз,
и, между прочим, в начале нынешнего года, он увидел бы, что жалобы
плантаторов на неохоту негров работать лишены всякого
основания, — да, повторяем; лишены всякого основания.
Плантаторы в большей части колоний просто не хотят платить
им порядочного жалованья, — это доказано официальным образом,
об этом свидетельствуют сами губернаторы колоний. А в тех
колониях, где плантаторы отказались от вражды против негров, где они
нанимают их по добровольному соглашению, как нанимаются
работники в Западной Европе, никакого недостатка в рабочих силах
не чувствуется и негры работают как нельзя усерднее. Напрасно
г. Горлов принял без критики пустословие «Dictionnaire de l'économie
politique», напрасно он не потрудился справиться с подлинными
документами. Вопрос о том, действительно ли освобождение в вест-
Капитал и труд
447
индских колониях имело те следствия, как утверждают плантаторы,
слова которых легковерно повторяет г. Горлов, слишком важен для
нас; потому в одной из следующих книжек «Современника» мы
переведем статью Edinburgh Review, подробно излагающую ход дела
в английских вест-индских колониях129. Документы, в ней
приводимые, доказывают, что экономическое падение колоний началось
задолго до уничтожения невольничества; что главною причиною его
было самое существование невольничества; что производство сахара
в колониях начало уменьшаться до уничтожения невольничества; что
эмансипация не усилила этого явления, происходившего от других
причин; что, напротив, выгодные последствия его, наконец, одолели
силу причин, уменьшавших производство сахара, что свободный труд
дал плантаторам возможность выдержать соперничество с другими
производящими сахар странами, которые совершенно задавили бы
производство английских колоний, если бы эти колонии сохранили
невольничество, — одним словом, что освобождение негров имело
последствия, совершенно противные тем, какие приписываются ему
неразумною злобою плантаторов: не разорило колонии, а спасло
их от совершенного разорения, являвшегося следствием
невольничества.
Понятие, сообщаемое нам книгою г. Горлова о последствиях
эмансипации, может служить примером того, до какой степени
оправдываются содержанием его книги слова его, будто бы он «не выпускал из
виду точку зрения», по которой «важнейшая задача теоретика
состоит в том, чтобы выразить и рассмотреть с надлежащею
основательностью потребности своего времени». Надобно ли говорить о том,
сколько свежести и занимательности имеет столь удачно
осуществляемая им мысль, что «теория», «не давая готовых планов действия»,
не должна, однако же, «отвращаться от явлений современности,
которые совершаются перед глазами всех и живо занимают всех, кому
дороги важнейшие интересы человечества»?
Таким образом, предисловие г. Горлова составлено из мыслей,
которые, быть может, имели свежесть лет пятьдесят тому назад, но
составлять из которых предисловие к сочинению, издаваемому
«в настоящее время», быть может, значит наводить читателя на
предположение, что он в самой книге не найдет ничего, кроме истертой
школьной рутины. Вдобавок сличение этих обещаний предисловия
с содержанием книги показало нам, что г. Горлов набирает ветхие
448
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
взгляды из своих учителей, не думая о том, оправдываются ли они
подробностями той самой теории, которую он излагает. Он восстает
против искусственности и не замечает, что, например,
меркантильная система, которую главным образом имеет он в виду («прежние
экономические системы», которые «искусственно возбуждали
производство и потребление ценностей в обществах», — эти слова явно
служат характеристикой меркантильной системы), — не замечает того,
что меркантильная система была в свое время явлением самым
естественным, да и никогда не бывало ничего искусственного в
экономических явлениях; он заимствует слово искусственность из Бастиа, не
замечая, что оно годилось только для полемики, а серьезного смысла
в себе не заключает. Он обещает надлежащим образом рассматривать
живые вопросы и по важнейшему из них, по эмансипации, без всякой
критики повторяет ложные уверения людей, защищавших рабство
и озлобленных его уничтожением.
Нам кажется, что нет надобности подробно разбирать книгу,
снабженную таким ветхим предисловием. Нам кажется, что нет оснований
и нападать на такую книгу: бог с ней, она не привлечет к себе ничьего
внимания; потому чем меньше говорить о ней, тем сообразнее будет
с ее достоинством.
Если бы нам следовало всю эту статью посвятить собственно
книге г. Горлова, статья была бы, как видим, очень коротка. Но мы
вздумали воспользоваться появлением его ветхого труда, чтобы поговорить
об отношениях нашего взгляда на экономические явления к той
системе, учеником которой является г. Горлов. Мы часто спорим против
нее, смеемся над нею; но до сих пор наши споры и насмешки
относились к разным частным вопросам экономической жизни — к теории
невмешательства общественной власти в экономические явления,
к отвержению общинной поземельной собственности и т. д. Теперь
мы хотим взглянуть на дело в его общем характере.
Если мы называем отсталыми, неверными и вредными многие
мнения той школы, учение которой у нас исключительно называется
политической экономией, то из этого еще вовсе не следует, чтобы
мы не признавали за неоспоримые и благотворные истины очень
многих существенных положений школы, называющей своим
основателем Адама Смита. Например, без всякого сомнения, постоянная
меновая ценность продукта определяется издержками его
производства, а рыночная, ежедневно колеблющаяся цена его — отноше-
Капитал и труд
449
нием запроса к предложению; без всякого сомнения также разделение
труда служит одним из могущественнейших условий для увеличения
и усовершенствования производства. Мы могли бы насчитать
множество подобных положений, с которыми мы вполне согласны; но
такой список подробностей всегда остался бы неполон, а между тем
был бы слишком утомителен; мы думаем, что лучше определим
отношение своего взгляда к господствующей школе политической
экономии, если вместо перечисления подробностей, в которых согласны
с ней, выскажем свою мысль об основной идее, которая
составляет общий источник всех этих частных мыслей. Мы удивим многих
так называемых экономистов, если скажем, что вполне принимаем
основную идею их системы. «Как? вы признаете принцип Laissez faire,
laissez passer? — скажут с изумлением так называемые экономисты,
воображающие, что понимают теорию, которой держатся, и против
которой мы постоянно спорим. «Если так, зачем же вы защищаете
столь противоречащие этому принципу мысли, как законодательное
определение экономических отношений и общинное владение
землею?» — прибавят они с негодованием. Из такого понятия о принципе
Laissez faire, laissez passer следует только, что так называемые
экономисты сами не разумеют оснований теории, которой следуют. Чтобы
объяснить им их ошибку в этом случае, мы должны будем
коснуться мыслей, которые относятся не к одной политической экономии,
а принадлежат к общей теории какой бы ни было науки. Читатель
увидит, что многие из соображений, на которых основан наш взгляд
на экономические вопросы, имеют подобный характер.
Идеи, предписывающие что-нибудь делать, стремиться к чему-
нибудь, словом, имеющие практический характер, по обширности
своего применения разделяются на два разные рода. Одни имеют
значение общее, требуют применения ко всякому данному случаю,
всегда и везде. Таковы, например, принципы: человек обязан искать
истины, поступать честно; общество обязано стремиться к
водворению в себе справедливости, законности. Цель действия
указывается такими принципами; но говорят ли они о способе, которым
надобно стремиться к ней? Нет, способ исполнения задачи нимало не
определяется ими. Как скоро мысль указывает способ исполнения,
она теряет характер всеобщей, безысключительной применимости.
Возьмем, например, самое общее определение способа к
исполнению обязанности поступать честно. Оно будет: не лги. На первый
450
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
раз может показаться, что это правило не допускает исключения.
Но Муций Сцевола сказал Порсене: «Таких людей, как я, в Риме триста
человек»; он солгал, — он был один; но кто осудит его, когда он своим
обманом спас отечество? В одной из сербских песен о битве на
Косовом поле сербы посылают своих витязей осмотреть силы врага.
Витязи возвратились; «много ли войска у турок?»— спрашивают их. «Нет,
войска у турок не очень много; мы можем одолеть его», — отвечают
они войску; потом отводят в сторону князя Лазаря и говорят: «У турок
бесчисленное войско; победить их нет возможности; мы сказали, что
турок немного, чтобы не оробели сербы».
Кто осудит этих витязей? А ведь они солгали. Они поступили бы
нечестно, если бы сказали войску правду. Мы нарочно взяли такой
способ действия, который представляется имеющим самый
высокий характер безысключительности. Но и он, как видим, встречает
случаи, в которых не соответствует общей обязанности человека
поступать честно, когда его нарушение составляет высокую доблесть.
Всякое другое правило о способе действия допускает еще гораздо
больше исключений. Надобно ли говорить, почему это так, —
почему мысль, определяющая способ действия, никак не может иметь
характера всеобщности, и характер этот может принадлежать
только мыслям, определяющим цели действия? Цель практической
деятельности постановляется природою человека, то есть элементом,
присутствующим постоянно. Способ действия есть элемент,
зависящий от обстоятельств, а обстоятельства имеют характер временный
и местный, разнородный и переменчивый. «Поступай честно» — это
можно и должно соблюдать всегда, потому что нарушение этого
правила противоречит благу человека, противоречит его натуре; условие,
из которого вытекает эта обязанность, неразлучно с человеком, как
неразлучен с ним его организм. Но в чем состоят требования
честности, — это определяется частным характером каждого данного
положения; иногда честность требует сказать правду, иногда — отказаться
от личной выгоды, иногда она требует стать во вражду с кем-нибудь
другим, поступающим нечестно, иногда помочь ближнему; нельзя
перечислить всех тех способов, которыми должна быть осуществляема
в разных обстоятельствах обязанность поступать честно; мы видели,
что эти способы при противоположности обстоятельств могут даже
иметь характер взаимного противоречия. В большей части случаев,
почти всегда, но только почти всегда, а не абсолютно всегда, чест-
Капитал и труд
451
ность требует соблюдения истины; но мы видели, что иногда она
требует ее нарушения*.
Теперь мы спросим так называемых экономистов: какой смысл
имеет их обожаемая фраза: Laissez faire, laissez passer, что хотят они
определять ею: цель экономических учреждений или способ
достижения этой цели? Что они хотят сказать, когда произносят эти слова?
Говорят ли они только то, что экономические учреждения должны
стремиться к доставлению наибольшей возможной свободы
человеку, — или полагают сказать, что устранение законодательных
определений, стеснений и запрещений есть единственный способ к
водворению наилучшего экономического порядка? В первом случае, если
бы знаменитая фраза хотела определять только цель экономических
учреждений, в ней не было бы очевидного противоречия с
характером принципов, могущих иметь всеобщность. Нужно было бы
исследовать, действительно ли это правило верно, действительно ли оно
составляет результат изысканий политической экономии; но не было
бы еще причины без всяких исследований, с первого же взгляда
называть его несоответствующим придаваемой ему претензии. Но в
таком случае принцип Laissez faire, laissez passer теряет всякую
определительность и становится решительно неспособен к полемическому
употреблению, какое придают ему так называемые экономисты.
Тогда и меркантилист, и коммунист, и регламентатор одинаково
с экономистом могут говорить, что система каждого из них служит
осуществлением этого принципа. «Цель экономических учреждений
есть наибольшая возможная свобода, — скажет, например,
меркантилист. — Мне кажется, что при запретительном тарифе цель эта
достигается полнее, нежели при ограничении пошлин чисто фискаль-
Нет надобности замечать, что случаи, в которых нарушение истины
может допускаться, принадлежат исключительно практической сфере, жизни
действия, а не жизни мысли, не теоретической сфере. В теории, в
исследовании принцип: «ищи истины, распространяй истину» определяет задачу, цель
деятельности, а не способ исполнения этой задачи. Потому этот принцип
абсолютен. Но как осуществлять его? На это опять есть разные способы, из
которых ни один не может претендовать на безысключительность. Иногда и
от некоторых людей служение истине требует заботы о новых исследованиях
в области науки; иногда нарушил бы человек свои обязанности перед истиною,
если бы отдал свои силы на новые исследования, — это бывает тогда, когда он
может оказать истине больше услуг простым распространением уже
найденных наукой истин в массе, нежели какими-нибудь учеными изысканиями.
452
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ной целью. Без запретительных пошлин житель Франции не мог бы
делать свекловичного сахара, а запретительный тариф дает каждому
французу эту возможность, — следовательно, расширяет круг его
выбора между экономическими деятельностями — следовательно, дает
ему больше свободы».
Регламентатор в свою очередь сказал бы: «свободен только тот,
кто безопасен; определим же ширину коленкора, определим, сколько
ниток должен иметь дюйм каждого сорта этой ткани, сколько веса
должен иметь каждый кусок каждого сорта и по какой цене должен
продаваться; тогда покупщик обеспечен от плутовства
фабрикантов, — следовательно, свободен». Что сказал бы коммунист, — мы не
хотим объяснять. Без всякого сомнения, экономист мог бы
опровергнуть приведенные нами рассуждения регламентатора и
меркантилиста; но он мог бы опровергнуть их только со стороны фактических
ошибок, а не мог бы упрекнуть их в недостатке любви к принципу
Laissez faire, laissez passer, если этот принцип определяет только цель
учреждений, а не способ достижения цели. Они могли бы говорить,
что, по их мнению, регламентация или запретительный тариф
служат способами к достижению этой цели. Итак, очевидно, что если
фраза Laissez faire, laissez passer служит девизом одной из спорящих
теорий, то она определяет не только цель (в этом смысле могли бы
принять ее все без исключения экономические школы), а указывает
также способ исполнения задачи. Действительно, в таком смысле
понимают эту фразу все ее приверженцы. Когда они произносят ее, они
говорят не то одно, что экономические учреждения должны
стремиться к водворению наибольшей свободы и обществе, — они
говорят также, что какова бы ни была цель общественных учреждений,
эта цель может быть достигаема исключительно одним способом:
отстранением законодательного вмешательства в экономические
отношения. Экономисты не могут указать ни одного сочинения своей
школы, в котором их любимая фраза не употреблялась бы постоянно
именно в этом определительном смысле, как указание
исключительного способа к исполнению требований науки.
После наших предыдущих объяснений читатель видит, что даже
без всяких исследований, уже по одному своему характеру, фраза
Laissez faire, laissez passer, определяющая способ действия, выказывает
себя лишенной возможности служить основным принципам науки.
Характер науки есть всеобщность; она должна иметь истину для вся-
Капитал и труд
453
кого времени и места, для всякого данного случая. Когда
нравственная философия говорит «поступай честно», она дает правило,
которое прилагалось и в допотопные времена и будет применяться во все
бесконечное продолжение будущего. Когда юриспруденция говорит
«оправдывай невинного и осуждай виновного», она также дает
правило, от применения которого не должен быть исключен никакой
случай, никогда и нигде. Если политическая экономия имеет
претензию принадлежать к области наук, то есть заключать в себе хотя
малейшую частицу теоретической истины, она также должна иметь
своим основным принципом такую мысль, которая применялась бы
во всякое время ко всякому данному случаю. Мы видели, что мысли,
определяющие способ действия, никак не могут иметь такой
всеобщности. Если бы так называемые экономисты были знакомы с
архитектоникою наук, они поняли бы, что, придавая фразе Laissez faire, laissez
passer смысл, определяющий способ действия, они отнимают у своей
теории всякий научный характер, когда ставят основным принципом
ее эту фразу.
Но предположим, что мы исправили эту слишком резкую сторону
их ошибки, извиняемую только недостатком философского
образования в представителях школы, над которой мы так часто смеемся.
Попробуем принять их обожаемую фразу в таком смысле, который
не показывал бы на первый же взгляд свою несообразность с
претензией служить общим принципом науки. Положим, что выражение
Laissez faire, laissez passer не имеет претензии определять способа,
а говорит только о цели. Пусть оно значит только: целью
экономических учреждений и должно быть водворение наибольшей
возможной свободы. В таком смысле оно имеет всеобщность значения.
Мы видели, что в этом случае оно уже не может служить девизом
какой-нибудь одной из враждующих школ, а принимается за истину
всеми без исключения честными людьми, к какой бы школе кто из них
ни принадлежал. Оно уже становится непригодным для
полемического употребления в спорах между порядочными людьми; но
может ли оно, хотя в этом своем всеобщем смысле, служить основным
принципом политической экономии, как отдельной науки,
занимающейся исследованиями о производстве и распределении ценностей?
Опять для каждого, знакомого с общими понятиями о науке,
очевидно, что политическая экономия никак не может удовлетвориться
подобным принципом. Каждый предмет имеет собственный характер,
454
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
который отличается от других предметов, или, как говорится, имеет
свою индивидуальность. Потому основной принцип каждой науки
должен иметь в себе особенность, должен быть таков, чтобы
принадлежал именно этой науке; например, нравственная философия
говорит: «поступай честно», юриспруденция — «заботься об
оправдании невинного и осуждении виновного»; это две мысли решительно
различные. Но говорила ли что-нибудь свое, что-нибудь специальное
политическая экономия. Если бы сущность ее выражалась правилом:
«водворяй свободу»? Это одна из задач, равно принадлежащих всем
нравственным и общественным наукам. Общий принцип всех их:
служить благу человека. Свобода, подобно истине (или лучше сказать
просвещению, потому что здесь имеется в виду субъективное
развитие истины в индивидуумах), не составляет какого-нибудь частного
вида человеческих благ, а служит одним из необходимых элементов,
входящих в состав каждого частного блага; свобода и
просвещение — это кислород и водород, которые не могут быть предметами
особенных наук, потому что сами по себе не составляют отдельных
предметов, не могут существовать в природе независимым,
самостоятельным образом, отделяются только от других элементов только
искусственным анализом, но без которых не существует в природе
никакая жизнь. Какое благо ни возьмете вы, вы увидите, что
условием его существования служит свобода; потому она составляет общий
предмет всех нравственных и общественных наук, — водворение
свободы служит общим принципом их. Для чего юриспруденция
старается оградить личность и собственность своими гражданскими и
уголовными законами и своими приговорами? Для того чтобы человеку
свободнее было жить на свете. Могут ли быть хороши гражданские
или уголовные законы, которые клонятся не к увеличению, а к
уменьшению свободы? Никак не могут быть хороши. Возьмем какую угодно
другую нравственную или общественную науку — о предмете и цели
каждой из них вы должны сказать то же самое. В числе других наук
это надобно сказать и о политической экономии. Но точно такую же
роль в нравственных науках играет, как мы заметили, и просвещение.
Его интересы также служат неизменной нормой того, хорошо или
худо какое бы то ни было общественное учреждение, хорошо или
дурно какое бы то ни было правило, имеющее претензию определять
жизнь частного человека или общества. Но где же отдельная наука
о просвещении? Для какой науки может служить специальным прин-
Капитал и труд
455
ципом правило: «водворяй просвещение»? Это общий принцип всех
нравственных и общественных наук. В числе их и о политической
экономии должно сказать: соответствие интересам просвещения
служит нормою ее правил, распространение просвещения верховною
целью забот ее. Итак, если говорить Laissez faire, laissez passer, то
надобно также сказать: Laissez éclairer, laissez être inteligent, — давайте
свободу, давайте просвещение. Без этих двух вещей ничего хорошего
не бывает; потому обе они равно должны служить принципами для
политической экономии, которая, разумеется, должна стремиться
к тому, чтобы на свете становилось не хуже, а лучше. Но должно
прибавить, что к этому не стремятся все нравственные и общественные
науки, и потому у всех у них общий девиз: свобода и просвещение.
Если выражение Laissez faire, laissez passer не может быть
принципом никакой науки в смысле, определяющем способ действия; если
в смысле, определяющем только цель научных исследований, это
выражение не может служить специальным принципом ни одной
из нравственных и общественных наук, будучи одинаковой нормой
для успешности исследований во всех в них, то какой же принцип
надобно назвать основной идеей политической экономии, — идеею,
специально принадлежащею этой науке? Если так называемые
экономисты доказывают только свое незнакомство с общими
философскими понятиями, забавным образом поставляя гордость свою
в выражении, не имеющем специальной связи ни с какой частной
наукой и отнимающем у их теории всякое научное достоинство,
то в какой же формуле надобно видеть основной вывод всех их
частных исследований? Если бы они были сколько-нибудь знакомы
с философскими приемами, для них было бы очень легко разрешить
задачу, которую теперь мы хотим объяснить для них по состраданию
к их философской беспомощности.
Предмет политической экономии, по общему решению всех
экономистов, составляет изучение условий производства и
распределения ценностей, или предметов потребления, или предметов, нужных
для материального благосостояния человека. Экономисты говорят,
что политическая экономия распадается поэтому на две главные
части: о производстве и о распределении продуктов. Все они
согласны, что двигателем производства служит личный интерес; все они
говорят, что счет и мера должны служить постоянным руководством
для всех соображений в политической экономии. Кажется, эти вещи
456
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
очень знакомы каждому из них; посмотрим же теперь, не достаточно
ли будет этих основных понятий для отыскания верховного
принципа политико-экономических стремлений? Для облегчения дела мы
сначала взглянем на решение задачи для каждой из двух главных
частей политической экономии в отдельности.
Личный интерес есть главный двигатель производства. Энергия
производства, служащая мерилом для его успешности, бывает всегда
строго пропорциональна степени участия личного интереса в
производстве. Кажется, мы говорим мысли, от которых никогда не
отступался ни один экономист. В чем же состоит личный интерес? Он
состоит в стремлении владеть вещью. Полное владение вещью
называется правом собственности над вещью. Итак, личный интерес вполне
удовлетворяется поступлением вещи в собственность. Поэтому
энергия труда, то есть энергия производства, соразмерна праву
собственности производителя на продукт. Из этого следует, что производство
находится в наивыгоднейших условиях тогда, когда продукт бывает
собственностью трудившегося над его производством. Иными
словами, — работник должен быть собственником вещи, которая выходит
из его рук.
Мы не знаем, нужно ли объяснять примерами эту очень простую
истину. На своем огороде каждый работает усерднее, нежели на
чужом; поэтому самое выгоднейшее дело бывает тогда, когда огород
принадлежит человеку, копающему в нем гряды. Избу для себя
каждый строит усерднее, чем для другого; поэтому самое выгодное дело
бывает тогда, когда изба принадлежит тому, кто обтесывал лес и
пилил доски для ее постройки.
Теперь обратимся к закону наивыгоднейшего распределения
ценностей. Тут нужно руководиться счетом и мерой; но вычисления
будут очень простые: четыре правила арифметики будут доааточны
для разрешения задачи. В статье «Экономическая деятельность и
законодательство» мы уже говорили, как она решается, и здесь кратко
повторим наши тогдашние слова. Наивыгоднейшее распределение
ценностей есть то, при котором данная масса ценностей производит
наибольшую массу благосостояния или наслаждения. Будем
выражать степень его цифрами. Предположим, что сумма ценностей есть
1000, а число лиц, составляющих общество, есть 100. Предположим
сначала, что в руках одного сосредоточилась ценность 604; тогда
на остальных 99 лиц осталось 396, то есть на каждого по 4. Пред-
Капитал и труд
457
положим теперь, что распределение ценностей изменилось, и в
руках одного сосредоточилась вместо 604 — сумма 802, тогда прочим
99 лицам остается только 198, то есть на каждого из них приходится
только ценность 2. Сравним это положение с прежним и посмотрим,
увеличилась или уменьшилась сумма благосостояния в обществе.
Выиграл один, и его благосостояние увеличилось на одну третью часть
против прежнего; проиграли 99, и благосостояние каждого из них
уменьшилось на половину. Итак, мы имеем одну третью часть
единицы выигрыша и 99 половин единицы проигрыша, то есть за вычетом
плюса из минуса мы имеем ровно 4 976 единиц чистого проигрыша.
Это значит: общество пострадало на столько, как будто изо 100
человек 49 лишились всякого пропитания.
Теперь взглянем на перемену в противоположном направлении.
Предположим такое распределение ценностей, что у единицы, у
которой сосредоточивалась ценность 604, осталась только ценность
406; тогда на остальных 99 приходится 594, то есть на каждого по 6.
Это значит, что у одного благосостояние уменьшилось на половину,
а у 99 других возросло у каждого на половину. Вычитая минус из
плюса, мы имеем 49 чистого выигрыша. Это значит: общество выиграло
на столько, как будто изо 100 человек 49 от совершенной нищеты
перешли к благосостоянию. Из этого следует, что
наивыгоднейшее распределение ценностей производится такими отношениями
и учреждениями, при которых общество идет к соразмерности
между количеством ценностей, действительно принадлежащих каждому
лицу, и тою долей ценностей, какая приходилась бы на его часть по
отношению количества лиц, составляющих общество, к массе
ценностей, находящихся в этом обществе.
Итак, основной идеей учения о производстве мы находим полное
совпадение идеи труда с правом собственности над продуктом труда;
иначе сказать, полное соединение качеств собственника и
работника в одном и том же лице. Основной идеей учения о распределении
ценностей мы находим стремление к достижению, если можно так
выразиться, такого порядка, при котором частное число (количество
ценностей, принадлежащих лицу) определялось бы посредством
арифметического действия, где делителем ставилась бы цифра
населения, а делимым — цифра ценностей.
Читатель, привыкший к философским приемам, без труда увидит,
что оба найденные нами принципа служат выражением совершенно
458
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
одной и той же идеи стремления к одному и тому же факту, только
с разных сторон. Действительно, когда мы берем значительную массу
людей, то все индивидуальные различия сливаются в средней цифре.
Иван может быть вдвое сильнее или умнее Петра; но, вообще говоря,
в каждом обществе существует известный уровень умственных и
физических сил и масса индивидуумов очень близка к этому уровню,
а замечательных исключений из него в дурную или хорошую
сторону так немного, что при общих соображениях о порядке дел в целом
обществе они составляют элемент решительно незначительный.
Притом же эти уклонения, эти слишком сильные или слишком
слабые индивидуумы являются разбросанными по разным группам
родственных и других гражданских отношений, так что в каждой
сколько-нибудь значительной группе взаимно уравновешиваются.
Таким образом, надобно принимать, что в каждой группе родства
или в каждой группе соседства сумма физической и умственной
способности к труду очень близка к общему уровню этой
способности для целого общества. Потому из принципа о соединении труда
и собственности в одних и тех же лицах и из права собственности
каждого лица на продукты его труда прямо следует распределение
ценностей, совпадающее с найденным нами мерилом
наивыгоднейшего распределения, то есть с распределением по средней цифре.
С практической точки зрения почти все равно, которому из этих двух
принципов отдать первое место. Но в теории принцип производства,
то есть соединение собственности в одном лице с трудом,
представляется как преобразование, или вывод, или как частный случай
принципа о наивыгоднейшем распределении ценностей, имеющего
более общее значение, Действительно, труд предполагает материю,
над которой производится; продукт предполагает существование
предшествующего ему продукта, из которого он происходит через
приложение труда; таким образом, распределение существующих
ценностей представляется условием производства. Кроме того,
ценность сама по себе есть понятие более обширное, нежели понятие
производства, которое составляет только один из моментов,
проходимых ценностью: всякое производство обращено на созидание
ценности, но ценность не есть предмет одного производства, она
служит также предметом сохранения, мены и потребления. Прибавим,
что производство имеет свою цель не в самом себе, а в потреблении,
а потребление имеет своей основой распределение ценностей, по-
Капитал и труд
459
тому и основной предмет исследований политической экономии
находится в теории распределения; производство занимает ее только
как подготовление материала для распределения.
Читатель, привыкший к анализу общих понятий, конечно,
улыбается, читая такие азбучные рассуждения, слишком знакомые
«каждому, даже не учившемуся в семинарии». Но для большинства так
называемых экономистов, решительно незнакомых с философскими
терминами и приемами, они должны показаться столь же трудною
абстрактностью, как для обыкновенного человека теория
эллиптических функций. Желая как-нибудь невразумительнее для их
непривычных мыслительных сил растолковать изложенные нами азбучные
понятия, мы скажем, что они могут уразуметь, в чем дело, если
потрудятся подумать о фактах, которые находятся в каждой из книг,
написанных их учителями или даже ими самими.
Например, Плиний как-то сказал: «большепоместность разорила
Италию» — latifundia perdidere Italiam130. Экономисты с восторгом
от своей учености тычут эту фразу в подлинных латинских словах
в глаза каждому читателю, кстати и некстати: смотри, дескать, — мы
и по латыни знаем, и Плиния читали. Это хорошо. Но в чем смысл
слов Плиния, приводящих в восхищение каждого экономиста? В том,
что распределение поземельной собственности в Италии удалилось
от средней цифры, происходившей из отношения числа югеров*
к числу семейств, населявших Италию. Пока были в действии
благотворные законы об общественной земле, ager publicus, из которой
каждому гражданину давался небольшой участок, достаточный для
прокормления его семейства, пока Цинциннат и Регул,
командовавшие войсками, сами пахали землю, до тех пор Рим был и честен, и
благосостоятелен, и могуществен. Когда «умнейшие и лучшие люди»,
«optimates», убедили римлян, что общественная земля — бесплодное
бремя, что частная поземельная собственность производительнее,
когда ager publicus перешел в частную собственность, Италия
разорилась и Рим погиб. Мы советуем экономистам прочесть, что
говорит Нибур о законах Лициния Столона, оградивших на некоторое
время общественную землю от вторжения частной собственности
Просим читателя удивиться и нашей учености: мы нарочно оставили
слово югер, чтобы он видел громадность наших сведений: мы знаем, что
у римлян земля измерялась не десятинами, а югерами. О, бездна учености!
460
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
и бывших источником всего римского величия, всех гражданских и
частных добродетелей, всего благосостояния для римлян131.
Экономисты с большим удовольствием рассуждают также об
экономической невыгодности рабства; они удивляют в этом случае
необыкновенным благородством, с которым изобличают чужие
недостатки. Пусть они подумают об основных чертах рабства, — они
увидят повторение всех этих невыгодных обстоятельств при таком
порядке вещей, где собственность и труд не соединены в одном лице.
Невольник получает за свой труд пищу, жилище, и т. д., — то, что
необходимо для поддержания его жизни, а продукт его труда
принадлежит не ему. Вот существенная черта невольничества. Пусть же
экономисты припомнят собственные свои слова о норме заработной
платы: нормою заработной платы служит возможность поддержания
жизни; она не может ни далеко, ни надолго подняться выше этой
нормы, — это их собственные слова.
Итак, со стороны отношения труда к вознаграждению за труд вся
разница между невольником и наемным работником заключается
в том, что невольник получает вознаграждение натурой, а наемный
работник — деньгами; невольнику дается жилище, работнику даются
деньги, на которые он сам должен приискать себе жилище; но
количество вознаграждения в обоих случаях совершенно одинаково: оно
определяется возможностью поддержать существование. Велика или
мала ценность продуктов, производимых, например, в течение
недели трудом наемного работника, это все равно для него, как и для
невольника: во всяком случае, он, подобно невольнику, получит за свой
труд ни больше, ни меньше того, сколько нужно для поддержания его
существования.
Поэтому мы говорим, что между состоянием невольника и
наемного рабочего существует огромная разница в нравственном и
в юридическом отношениях; но специальной экономической
разницы в их отношениях к производству нет никакой. Если труд
свободного наемного работника производительней, нежели труд
невольника, — это зависит от того, что свободный человек выше невольника
по нравственному и умственному развитию; потому и работает
несколько умнее и несколько добросовестнее. Но эта причина
превосходства, как видим, совершенно чужда экономическому его
отношению к производству; потому мы и говорим, что если нравственная
философия и юриспруденция удовлетворяются уничтожением не-
Капитал и труд
461
вольничества, то политическая экономия удовлетворяться этим
никак не может; она должна стремиться к тому, чтобы в экономической
области была произведена в отношениях труда к собственности
перемена, соответствующая перемене, производимой в нравственной
и юридической области освобождением личности. Эта перемена
должна состоять в том, чтобы сам работник был и хозяином. Только
тогда энергия производства поднимется в такой же мере, как
уничтожением невольничества поднимается чувство личного достоинства.
Эти два примера могут показать экономистам, в чем состоит
смысл средней цифры в распределении ценностей, которая служит
основной идеей политической экономии. Эти примеры могут также
показать им, что они сами обыкновенно не понимают смысла
фактов, о которых так много кричат. Мы привели два факта: один прямо
свидетельствует в пользу общинного поземельного владения, другой
прямо говорит о необходимости сделать работника хозяином,
антрепренером. Оба эти вывода повергают в ужас и в негодование так
называемых экономистов, а между тем, они прямо следуют из фактов,
которыми сами экономисты без ума восхищаются, которыми они
тычут в глаза читателей чуть не на каждой странице своих
произведений. Если бы у нас было время и место, подобные сюрпризы
можно было бы выводить решительно из каждого факта, приводимого
в подтверждение теории Laissez faire, laissez passer. Когда так
называемые экономисты обыкновенно не умеют сообразить даже частных
выводов из отдельных фактов, то нельзя уже удивляться тому, что они
не умеют сообразить, какой общий принцип выходит из всей
совокупности их любимых фактов и отдельных наблюдений. Этот общий
вывод мы уже выразили. Повторяем его: наивыгоднейшее для
общественного благосостояния распределение ценностей состоит в том,
чтобы пропорция ценностей, принадлежащих каждому члену
общества, как можно ближе соответствовала средней цифре, даваемой
отношением между суммой ценностей, находящихся в данном
обществе, и числом членов, его составляющих.
Мы вообще не имеем никакой претензии представлять читателю
что-нибудь новое, делать ученые открытия или высказывать истины,
постижение которых требует какой-нибудь учености. Так и о
выводе, который мы сейчас представили, мы должны сказать, что давным-
давно было множество писателей, превосходно объяснявших эту
мысль. Даже из людей, которых хвалят экономисты (хвалят, впрочем,
462
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
больше по непониманию, чем с умыслом), можно указать довольно
многих, представлявших такой вывод. Мы назовем одного Бентама132.
Думаем, что не трудно найти такую же мысль и у Рикардо; быть может,
отыщется она даже у Мальтуса133; об Адаме Смите нечего и говорить:
известно, что хорошие экономисты считают его страшным еретиком
и превозносят только из приличия. Но у всех этих знаменитостей
политической экономии взгляд, нами изложенный, подавлен
исследованиями о частных явлениях, анализ которых составлял главную
их задачу. Только у Бентама средняя цифра прямо и решительно
выставлена, как формула наивыгоднейшего распределения ценностей.
Мы упомянули о великих людях политической экономии. Нам
приходит в голову, что все они уже давно умерли; нам приходит в голову
спросить, какие открытия сделаны в науке после них людьми,
которые называют себя верными их учениками? Адам Смит, например,
был основателем новой науки: показал отношение труда к ценности,
участие капитала в производстве, норму вознаграждения за труд,
важность разделения труда, и мало ли каких новых открытий ни сделал
он! На нескольких страницах не перечтешь и десятой части их.
Мальтус разобрал вопрос о народонаселении. Рикардо объяснил вопрос
о ренте. Оба эти открытия послужили основными камнями для
экономической теории. Кто не знает трудов Мальтуса и Рикардо, не
может говорить ни о чем правильным образом. Но интересно было бы
нам знать, какую новую мысль можно найти у кого бы то ни было
из экономистов, славившихся после Мальтуса и Рикардо или
процветающих ныне? Какое открытие в науке сделал Мишель Шевалье, или
Бастиа, или Воловский, или Рошер, или Pay, или хотя бы даже сам
Жан-Батист Сэ? Некоторые из них были люди умные, например, Сэ
(впрочем, мы едва ли не сделали ошибку, употребив множественное
число. Кажется, что грех было бы сказать о ком-нибудь из названных
нами, кроме одного Сэ, что он человек с замечательной головой);
некоторые из них люди очень ученые, например Рошер и Pay;
некоторые замечательны способностью болтать легко и изящно,
например Бастиа и Мишель Шевалье; а Воловский134 считается диковинкой
между членами парижского общества экономистов, потому что знает
по-немецки. Но любопытно было бы узнать, что они сделали для
развития науки? Жан-Батист Сэ ввел политическую экономию во
Франции и прекрасно популяризировал мысли, открытые англичанами, —
заслуга великая, но заслуга перед французской публикой, а не перед
Капитал и труд
463
наукой. Мишель Шевалье хорошо описал Северо-Американские
Штаты и отлично доказал, что когда по открытии калифорнийских
и австралийских россыпей стали добывать золота вдесятеро больше
против прежнего, а количество добываемого серебра не увеличилось,
то золото должно понизиться в цене сравнительно с серебром, —
вещи хорошие, что и говорить, — но для науки нового в них
разве немногим больше, чем в книге г. Горлова. Бастиа писал памфлеты
против протекционистов и коммунистов, и памфлеты очень бойкие,
но в них он только рабски развивал отдельные фразы из своих
учителей. Он также, прослышав о возражениях американца Кери135 против
теории ренты Рикардо, сам сочинил против нее возражения, как две
капли воды сходные с мыслями Кери, которые лишены всякой
основательности; это тоже похвально, но повторить понаслышке чужие и
притом неосновательные мысли не значит еще двинуть вперед науку.
Что еще он сделал? — Да, вот что: несмотря на свою историю с Кери,
он был человек честный — это похвально. Мы едва не забыли о
главном. Он написал «Harmonies économiques» — в них он доказывал, что
все на земле устроено премудро и промысел направляет все к
лучшему, и, на чем свет стоит, бранил Жан-Жака Руссо. Относится ли это к
политической экономии, мы не умеем решить; но если относится, то
должно быть очень полезно для нее. Воловский перевел Рошера, —
труд похвальный, и объяснил, что крестьян в России надобно
освободить без земли, — мысль тоже хорошая, но не новая после статей
г. Бланка136 и разных сотрудников «Журнала землевладельцев». Pay
в коротеньких параграфах крупным шрифтом повторил то, что
нашел у своих предшественников, и сделал к этим параграфам
длинные примечания, напечатанные мелким шрифтом, в которых набрал
миллионы мелких фактов, иногда очень любопытных; таким
образом, вышла книга неоцененная для приискивания справок и цитат.
Рошер сделал то же самое с трудолюбием, быть может, еще
колоссальнейшим и вдобавок постарался расположить набранные им
факты в хронологическом порядке. Оба они, как видим, компиляторы
очень почтенные, не щадившие ни глаз, ни поясницы для служения
науке. Но где же во всех этих книгах, начиная от Сэ и кончая Ро-
шером, хотя что-нибудь похожее на разрешение чего-нибудь,
оставшегося нерешенным после Мальтуса и Рикардо? Ничего такого и не
ищите: если вы не читали ни одной из книг всех этих знаменитых
писателей, и в том числе вовсе не знаменитого писателя Воловского,
464
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
вы остались, быть может, не знающими некоторых фактов, полезных
для соображения, но, наверное, не лишили себя ни одной важной
мысли, когда прочтены вами Адам Смит, Мальтус, Бентам и Рикардо.
Теперь мы подумали: какое доверие можно иметь к
удовлетворительности теории, ни на шаг не подвинувшейся вперед в течение целых
сорока или сорока пяти лет? Если бы экономисты подумали об этом
и, вдобавок, если бы они знали хотя основные понятия из истории
развития наук, они сообразили бы, что, даже не вникая в их доктрину,
по этому одному признаку можно решить, что она для нашего
времени несостоятельна.
Постоянно имея в виду быть назидательными для экономистов,
мы просим у читателя позволения кратко изложить здесь вещи,
конечно, давным-давно ему известные, но, к великому состраданию и
смеху нашему, неизвестные так называемым экономистам.
Начнем с того, что даже предмет, в котором не происходит
никаких изменений, неистощим для науки, и каждый даровитый
наблюдатель открывает в нем новые стороны, не замеченные или не
понятые прежними исследователями. Лучшим примером тому может
служить история и археология классического мира. Источники для
их изучения остаются одни и те же вот уже четыреста лет. Со времен
Петрарки не открыто слишком важных греческих или римских
писателей. Гомер, Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Полибий, Плутарх, Тит
Ливии, Цицерон, Тацит, Плиний — все эти книги с возрождения наук
были в руках ученых почти в таком же виде, в каком имеем их мы.
Некоторые новые книги и отрывки отысканы, — это правда; но все
они не доставляют и тысячной доли нового материала для изучения
классической древности по сравнению с тем запасом сведений,
какой представлялся латинистам и гелленистам XV века137. Что же мы
видим? Каждое новое поколение делает новые открытия в
понимании жизни древнего мира. Взгляд на греческую и римскую историю
разъясняется, расширяется с каждым новым десятилетием. Древняя
жизнь каждому новому исследователю открывает новые стороны.
Каждая новая книга, доставляющая своему автору известность между
латинистами и гелленистами, богата новыми мыслями.
Разумеется, еще поразительнее перемены, которым быстро
подвергаются науки, занимающиеся предметами, для изучения которых
являются новые материалы. Вспомним об истории древнего востока.
Что общего в содержании и взгляде на предмет между книгами, пи-
Капитал и труд
465
санными, например, о персидском царстве тридцать лет тому назад,
и теперь, когда изучили зендский язык, стали читать клинообразные
надписи и ближе познакомились с нынешним востоком? Но еще
радикальнее перевороты в воззрениях на предмет, когда не только
открываются новые материалы для его изучения, но и сам он
продолжает жить и изменяться. Возьмем в пример историю какого
угодно из нынешних народов и какое угодно событие в этой истории,
например французскую революцию. В эпоху Наполеона I понимали
некоторые стороны этого события; когда возвратились Бурбоны, она
представилась в новом виде; в июльскую монархию поняли ее
гораздо полнее, чем при Бурбонах и при Наполеоне I; теперь опять видят,
что взгляд времен Орлеанской династии был далеко не
удовлетворителен, и понимают предмет многостороннее и глубже.
Каждому известно, отчего это происходит и почему не может
быть иначе. Жизнь и науки развиваются с каждым поколением.
Когда изменились понятия общества от развития жизни и всей
совокупности наук, от этого самого должен уже измениться взгляд
на предмет каждой частной науки, хотя бы этот предмет был
неподвижен, и новых материалов к его изучению не было. Когда
прибавились новые материалы, перемена будет еще значительнее. Но что
сказать, когда и самый предмет растет, когда он сам с каждым годом
все полнее объясняет себя развитием новых явлений и сторон своей
натуры?
Именно таково дело политической экономии. Мы видим, что
каждое новое издание книги Бека138 «О государственном хозяйстве
древних афинян» было значительным шагом вперед по сравнению
с предыдущим изданием, хотя предмет был мертв, и новых
источников к его изучению представлялось мало по сравнению с запасом
прежних материалов. А предмет политической экономии — не
древние Афины, а живое общество, и в нем быстрее всего остального
развивается именно та сфера, которая составляет специальный предмет
политической экономии. Что общего между экономическим бытом
Англии или Франции во время Адама Смита, или хотя бы во время Ри-
кардо, и нынешним положением дел? Артур Юнг, путешествовавший
по Франции всего 70 лет тому назад139, изображает нам быт, о котором
сами экономисты говорят, что он составляет такую же допотопную
картину, как экономическая жизнь какого-нибудь Древнего Египта
или гомеровского Аргоса. Когда мы читаем первые романы Жоржа
466
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Занда, писанные 25 лет тому назад, или «Пиквикский клуб»
Диккенса, писанный после «Индианы», мы видим, что вся обстановка жизни,
все экономические отношения сословий изменились в эти немногие
годы. Да что говорить об Англии или Франции? Посмотрим хоть на
себя, идущих очень тихо за другими народами. И у нас, воротившись
через 20 лет в знакомую вам губернию, вы не узнаете ее: купцы не те,
и торгуют не так, и не тем торгуют, и не на тех условиях покупают,
как прежде. И помещики живут не так, не такие имеют доходы, не на
такие вещи тратят их, как прежде. И чиновники переменились, и
мужики переменились, и все не так, и все не то, что прежде.
А какое сравнение между материалами, бывшими в руках у Адама
Смита и у Мальтуса, и нынешними материалами? Адам Смит не знал
даже числа жителей в своем королевстве; Мальтус, когда писал свои
трактат о народонаселении, единственным достоверным документом
о числе рождений и смертей и о прибыли населения имел шведские
таблицы. Через 15 лет по издании книги Адама Смита не было еще
известно количество земли, возделываемой в Англии или во
Франции. Словом сказать, великие люди, которым политическая экономия
обязана своим нынешним развитием, не имели в руках и
миллионной части тех статистических сведений, которыми владеем теперь
мы. Надобно прибавить, что они не имели описаний народного быта
и экономических учреждений даже в своих странах. Тем больше
славы для них, что они сумели найти так много истин при столь скудных
средствах; но что сказать о положении теории, которая до сих пор не
умела воспользоваться безмерно возросшим богатством сведений?
Нечего говорить о том, каковы были знания об экономической
жизни отдаленных стран, доступные великим деятелям политической
экономии, если свои собственные земли они с экономической и
статистической стороны едва ли не хуже знали, чем теперь мы знаем
тибетские и туркестанские учреждения. Даже-о Германии и об
Испании они имели самое смутное понятие. России они вовсе не знали.
Не далее как 30 лет тому назад никто в целой Англии не мог понять
характера поземельной собственности в Ост-Индии.
Что ж теперь сказать, если кто-нибудь воображает, что теория,
которая могла существовать во время Мальтуса и Рикардо, сколько-
нибудь соответствует нынешнему развитию экономической жизни,
нынешнему запасу статистических и этнографических сведений?
Вы приходите к господину, который сидит и очень усердно пишет.
Капитал и труд
467
Что это вы пишете? спрашиваете вы его. «Я пишу историю Петра
Великого». — Какие же у вас материалы и как вы смотрите на ваш
предмет? — «Я нахожу, что у Голикова несколько устарел слог, но взгляд
совершенно правилен, и, собственно, я только переделываю
Голикова по вкусу нынешней публики»140. Что вы скажете такому
господину? или, лучше сказать, можно ли говорить с таким господином?
Это какой-то урод, какое-то неправдоподобное допотопное
чудовище. Но из того, что он невежда или идиот, что его книги будут
заслуживать только презрение или насмешки, вовсе еще не следует, чтобы
Голиков не был человеком, заслуживающим величайшей похвалы.
Он сделал все, что мог сделать в свое время; но для нашего времени
нужны совершенно иные вещи.
40 лет неподвижности в теории такого предмета, как
политическая экономия! Это нечто неудобомыслимое, неправдоподобное,
невероятное. Какое единственное объяснение может быть такому
нелепому явлению? Какое предположение неизбежно вызывается в
уме таким странным фактом? — Не в одной политической экономии,
а во всех науках есть школы, остающиеся при окаменелых теориях.
До сих пор пишут исторические книги в духе «Рассуждения о
всеобщей истории» Боссюэта; до сих пор есть историки, например,
французской литературы, полагающие, что Корнель с Расином выше
Шекспира, или историки русской литературы, восхищающиеся
Княжниным и Озеровым141. Мы очень хорошо знаем, что думать о таких
школах, и знаем, как объяснять отсутствие замечательных деятелей
по таким теориям. Что отжило свой век, к тому не обратятся живые
силы, то будет предметом любви и насыщения для людей тупых или
своекорыстных; около трупа собираются только коршуны и кишат
в нем только черви. Люди с свежими силами необходимо должны
делать что-нибудь новое и свежее. Новиков, издавший словарь русской
литературы, был человек великого ума и благородства142; но когда
занялся историей русской литературы такой же человек следующего
поколения, Н. А. Полевой, он не стал повторять мнений Новикова,
и хотя продолжал его дело, но во многом прямо противоречил ему и
почти во всем расходился с ним. Когда после Полевого занялся тем
же делом новый человек, Белинский, он опять заговорил совершенно
новое, — и что значит теперь оставаться при мнениях, которые были
хороши 35 лет тому назад, при основании «Телеграфа», мы, к
несчастию, видим на брате Н. А. Полевого, г. Ксенофонте Полевом143. А ведь
468
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
и г. Ксенофонт Полевой был в свое время человеком полезным,
писал благородно и вовсе не глупо. Не дай только бог никому пережить
себя, служить посмешищем для новых поколений и самому пятнать
свое имя и свою школу.
Мы очень хорошо знаем, что думать, например, о нынешнем
значении теории и деятельности г. Ксенофонта Полевого; знаем, как
понимать его слова, что он и его литературные сподвижники
исключительно защищают чистоту вкуса, здравый смысл и благородство
в литературе, и что все люди, которых они порицают, должны
считаться злодеями; мы очень хорошо знаем, как объяснять то явление,
что вот уже 30 лет школа, к которой принадлежит г. Ксенофонт
Полевой, не производила ни одного замечательного человека. Мы
говорим: истинной критики и здравого взгляда на литературные явления
надобно искать в других школах. Школа г. Ксенофонта Полевого
потеряла способность производить что-нибудь замечательное, потому
что отстала от времени.
То же самое по необходимости предполагаешь и о школе так
называемых экономистов, когда видишь, что она утратила способность
иметь в своих рядах людей великого ума, утратила способность
открывать что-нибудь новое и развивать науку. При виде такого
явления необходимо предполагаешь, что вне ее круга, вероятно,
возникло какое-нибудь новое направление науки, привлекающее к себе
все свежие силы. Действительно, мы видим, что все умы, способные
открывать в предмете новые стороны, все гениальные писатели,
занимавшиеся экономическими вопросами после Мальтуса и Рикардо,
принадлежат к противникам так называемых экономистов. Мнения
этих гениальных людей, во многом расходятся одно с другим,
потому что никогда не может в двух самостоятельных головах развиться
совершенно одинаковый взгляд: самостоятельные и даровитые люди
именно тем отличаются от бездарных и тупых, что у каждого из них
есть оригинальность, особенность в образе мыслей. Мы не имеем
охоты говорить, чьих именно мнений мы держимся, и скажем
только, что, читая книги замечательных противников господствующей
школы, вы бываете поражены безмерным превосходством каждого
из этих людей над нынешними так называемыми экономистами, по
отношению к силе ума. Укажем в пример хотя на Сисмонди, чтобы
не говорить о других, более гениальных. Сисмонди занимался не
одною политической экономией. Он, между прочим, написал много-
Капитал и труд
469
томную историю Франции. В этой книге вы находите его человеком
бесспорно очень умным и ученым; но, сравнивая с другими
современными ему историками, с Гизо, Огюстеном Тьерри144, Нибуром, вы
не видите в нем гениальности: перед этими действительно
великими историками он кажется человеком второстепенным. Зато какая
разница, если вы сравниваете его «Новые принципы политической
экономии» с сочинениями учеников Смита, Мальтуса и Рикардо, —
он кажется гигантом по отношению к ним. Его книга во многом
очевидно ошибочна; но сколько в ней новых, свежих мыслей, какая сила
ума, какое богатство новых фактов, ведущих к новым взглядам, какая
в ней оригинальность и свежесть по сравнению с монотонными
произведениями так называемых экономистов, с этими бесцветными
повторениями произведений Адама Смита, Мальтуса и Рикардо! Что
же надобно думать об умственной силе писателей, перед которыми
кажется гением человек, далеко не имевший силы быть
первостепенным мыслителем в такой науке, которая имела деятелей
действительно великого ума? Невольно рождается мысль, что жалка и мертва та
школа, деятели которой ничтожны по уму в сравнении даже с
человеком второстепенного таланта. Мы назвали Сисмонди потому, что
хвалить его очень удобно; но читатель знает, что между противниками
так называемых экономистов он — человек далеко не самый
замечательный. Каждый вспомнит многие имена гораздо более знаменитые.
Мы упомянем из них одно: в «Современнике» недавно была
помещена статья о Роберте Оуэне. Вот, например, мыслитель действительно
великий. Читатель знает, что у него были сподвижники и остаются
продолжатели, достойные стоять с ним рядом и по гениальности,
и по благородству стремлений145.
Мы спрашиваем теперь: когда нам представляются в исследовании
известного предмета два направления, из которых одно служит только
бесцветным повторением старины, не имеет между своими деятелями
ни одного человека с замечательным умом, а к другому принадлежат
без исключения все люди гениальные, то в котором направлении мы
естественно должны предполагать ближайшее родство с
потребностями времени, наибольшую теоретическую справедливость и
практическую благотворность? Повторяем наше сравнение: если главою
одной школы вы видите г. Ксенофонта Полевого, а в другой школе
таких людей, как Белинский, — которую из двух школ вы естественно
должны предполагать истинною представительницею науки?
470
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Мы не имеем охоты излагать мнения тех людей, которых
считаем истинными представителями экономической науки в наше время.
Мы говорили, что хотим только показать отношение нашего взгляда
на экономические явления к теории так называемых экономистов,
которых теперь мы имеем право назвать отсталыми экономистами.
Мы перечислили причины, по которым необходимо предполагать,
что их теория неудовлетворительна для нынешнего времени. Теперь
из обстоятельств самого дела мы постараемся вывести заключение
о том, какого характера надобно ожидать от теории,
соответствующей нынешнему положению общества в цивилизованных странах.
Известно, что сущность исторического развития в новом мире
служит как бы повторением того самого процесса, который шел
в Афинах и в Риме; только повторяется он гораздо в обширнейших
размерах и имеет более глубокое содержание. Разные классы, на
которые распадается население государства, один за другим входят
в управление делами до тех пор, пока, наконец, водворится
одинаковость прав и общественных выгод для всего населения. В Афинах мы
замечаем почти исключительное преобладание чисто-политического
элемента: эвпатриды и демос спорят почти только из-за допущения
или недопущения демоса к политическим правам. В Риме является
уже гораздо сильнейшая примесь экономических вопросов: спор
о сохранении общественной земли, об ограждении пользования ею
для всех имеющих на нее право идет рядом с борьбою за участие
в политических правах и наполняет собою всю римскую историю
до самого конца республики. Лициний Столон и Гракхи имели
продолжателей в Марии и Цезаре. В новом мире экономическая
сторона равноправности достигает, наконец, полного своего значения,
и в последнее время политические формы главную свою важность
имеют уже не самостоятельным образом, а только по своему
отношению к экономической стороне дела, как средство помочь
экономическим реформам или задержать их.
В новом мире процесс развития не только обширнее и глубже,
но и многосложнее, чем в классической древности. В Афинах мы
видим только эвпатридов и демос, в Риме только патрициев и плебеев;
в новом обществе мы находим не два, а три сословия. Каждое из них
имеет свою политическую и свою экономическую систему. О
политических формах мы не будем говорить, а займемся только
характером экономических учреждений. Высшее сословие, с экономической
Капитал и труд
471
стороны, представляется сословием поземельных собственников.
При его владычестве господствует теория приобретения богатств
посредством насилия. В отношении к чужим народам эта цель
достигается войною, в своей собственной стране — посредством права
владельца на собственность людей, населяющих его землю, словом
сказать — посредством того, что в Западной Европе называлось
феодальными учреждениями. Характер этого быта не допускал высокого
экономического развития, потому и экономическая наука была мало
развита; но все-таки те времена имели свою экономическую теорию.
Она выражалась в том, что человеку свободному (свободным
человеком, по-настоящему, был тогда только феодал) не следует заниматься
производством. Он должен быть только потребителем. Масса его
соотечественников и все остальные народы существуют только для того,
чтобы производить для него, а не для себя, предметы потребления.
Обширного научного развития достигла только одна часть этой
системы, называющаяся меркантильной теорией. Сущность ее состоит
в том, чтобы брать у других, не давая им ничего взамен. В те времена,
при слабом развитии кредита, звонкая монета, конечно, должна была
иметь всю ту важность, какая ныне принадлежит биржам, банкирам и
вексельным оборотам. Натурально было, что накоплением
драгоценных металлов дорожили тогда точно так же, как ныне дорожат
упрочением и возвышением кредита. Меркантильная система, вытекавшая
из понятия «надобно брать, не давая ничего в обмен», натурально,
должна была применять эту идею к драгоценным металлам и потому
говорила, что надобно всячески стараться, чтобы ввоз серебра и
золота был как можно больше, а вывоз как можно меньше.
Феодальные учреждения были низвергнуты, когда среднее
сословие достигло участия в государственных правах и по своей
многочисленности, конечно, стало преобладать над высшим, лишь только
было допущено к разделению власти. В Англии среднее сословие
достигло такого положения в половине XVII века, и только в это время
были низвергнуты значительнейшие из феодальных учреждений*.
Благодаря особенному стечению обстоятельств, вынуждавшему
английскую аристократию к уступчивости, среднее сословие r,o по-
Важнейшие из феодальных повинностей были отменены при Кромвеле,
и главным условием при возвращении Стюартов было то, чтобы они признали
законность этой экономической реформы.
472
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
следнего времени само обращалось с нею снисходительнее, чем во
Франции, потому она сохранила огромную политическую силу.
Соответственно сохранению очень сильного влияния высшего
сословия на политические дела, в Англии сохранились и феодальные
учреждения в значительной степени. Земля осталась в руках
аристократии; аристократы, как лендлорды, сохранили господство над
общественными делами сельского населения и огромное участие в
составе палаты общин, которая стала верховною властью. По
уступчивости аристократии долго сохранялось фактическое преобладание
ее в государстве, и только после целого века непрерывных маленьких
приобретений все большего и большего участия в делах среднее
сословие действительно стало господствовать над ними, хотя
юридически могло господствовать с половины XVII века. К тому времени
когда среднее сословие приобрело фактический перевес над высшим
в государственных делах, то есть к последней половине прошлого
столетия, относится и возникновение новой экономической теории,
до сих пор пользующейся привилегией на имя политической
экономии, как будто она единственная теория экономических учреждений.
Дух ее совершенно соответствует положению среднего сословия
в обществе и роду его занятий. Среднее сословие составляют хозяева
промышленных заведений и торговцы; потому важнейшими из
экономических явлений школа Адама Смита признает расширение
размера фабрик, заводов и вообще промышленных заведений, имеющих
одного хозяина с толпою наемных работников, и развитие обмена.
Для отсталых экономистов, которые сами не понимают духа своей
теории, может показаться странным, что мы заботой их теории
ставим не развитие производства вообще, а именно развитие той
формы его, успехи которой измеряются расширением оборотов каждого
отдельного хозяина. Читатель, привыкший наблюдать точные черты
явлений, не ограничиваясь отвлеченностями, не составляющими их
специальности, легко поймет, почему мы выразились именно таким
образом. Возьмем в пример хлопчатобумажную промышленность,
которая справедливо составляет любимый предмет панегириков
отсталой школы. Кто не знает, что возрастание хлопчатобумажной
промышленности состояло не в увеличении числа
хлопчатобумажных фабрик, а в расширении объема каждой из них? Здесь было бы
слишком длинно объяснять, почему такое явление принадлежит всем
отраслям промышленности, развивающимся при господстве средне-
Капитал и труд
473
го сословия. Притом каждому читателю известно, что чем
значительнее капитал известного лица, тем меньшими процентами может оно
довольствоваться; что чем обширнее размер промышленного
заведения, тем дешевле и лучше производство благодаря полнейшему
разделению труда и действию более сильных и совершенных машин.
Итак, мы сказали, что расширение размера промышленных
заведений и развитие обмена составляет главную заботу господствующей
политико-экономической теории. Эта забота совершенно
соответствует положению людей, господствующих над общественной
жизнью в цивилизованных странах. Люди эти, как мы уже сказали, —
хозяева промышленных заведений и купцы. Разумеется, дела каждого
купца развиваются пропорционально общему развитию торговли,
а богатства промышленника возрастают пропорционально
обширности его заведения. Для достижения той и другой цели
могущественнейшим пособием служат биржевые обороты, банки и
банкирские дома, потому их интересы также чрезвычайно дороги для
господствующей теории. Соответственно этим главным предметам
внимания господствующая экономическая теория в своем чистом
виде почти исключительно занимается вопросами: о разделении
труда, как пути, которым расширяются промышленные заведения,
о свободной торговле, о банковых оборотах, об отношении звонкой
монеты к бумажным ценностям разного рода. Успешность занятий
банкира, купца и хозяина промышленного заведения зависит не от
собственных его потребностей, а просто от обширности круга
людей, требующих его посредничества или покупающих его
произведения. Потому главная забота каждого из них состоит в том, чтобы
расширить свой рынок.
Из этого возникают два противоположные направления: с одной
стороны, потребность мирных отношений со всеми посторонними
его ремеслу людьми, нерасположение к войне, затрудняющей доступ
на иностранные рынки, ведущей к коммерческим кризисам, с другой
стороны, стремление отбить покупателей у других промышленников,
занимающихся тем же делом, как он, то есть в сущности заменение
физической иноземной войны коммерческой, междоусобной войной
внутри каждого промысла: в банкирских оборотах — между домами,
встречающимися на одной бирже; в торговле — между купцами
одного торгового округа и одного рода торговли; в промышленности —
между фабрикантами или заводчиками одного рода занятий. Сооб-
474
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
разно этому господствующая экономическая теория провозглашает
владычество конкуренции, то есть заботы каждого производителя
о том, чтобы подорвать других производителей; но с тем вместе она
доказывает, что благосостояние каждого народа возвышается от
благосостояния других народов, потому что чем богаче они, тем больше
покупают у него товаров. Подобным образом она доказывает, что чем
успешнее идут промыслы в народе вообще, тем выгоднее для
каждого отдельного промысла, для продуктов которого внутренний рынок
становится тем обширнее, чем больше благосостояния в обществе.
Но, проповедуя такую заботливость об иностранцах и посторонних
людях как потребителях, господствующая политико-экономическая
теория не видит возможности отвратить разорительную
междоусобицу производителей, занимающихся одним делом. Соперничество,
как орудие этой междоусобной войны, принимает между прочим
форму спекуляции, которая постоянно стремится к безрассудному
риску и к коммерческому обману; это стремление промышленной
и торговой деятельности периодически производит кризисы, в
которых погибает значительная часть произведенных ценностей и во
время которых подвергается страшным страданиям масса, живущая
заработною платою. Но такой характер производства и торговли
неизбежен при нынешнем экономическом устройстве, когда
производство находится под властью хозяев и купцов, благосостояние
которых зависит не от потребления, а просто только от сбыта товаров
из своих рук; при таком порядке дел производство рассчитывается
не по истинной своей цели, а только по одному из посредствующих
фазисов. Политическая экономия, замечая неизбежную связь
спекуляции и коммерческих кризисов с нынешним порядком дел,
выставляет их вещами неизбежными и неотвратимыми.
Из трех элементов, участвующих в производстве ценностей,
недвижимая собственность и в особенности земля принадлежит высшему
классу, не участвующему прямым образом в производстве; оборотный
капитал вносится в производство средним классом, так
называемыми антрепренерами, мануфактуристами, заводчиками и фермерами;
труд почти весь совершается простым народом, который в
политическом отношении до сих пор служил только орудием для среднего
и высшего сословий в их взаимной борьбе, не сохраняя постоянного
независимого положения в политической истории. Среднее
сословие, естественно, придает наибольшее значение тому элементу про-
Капитал и труд
475
изводства, которым владеет само. Сообразно этому господствующая
теория выставляет интереснейшим элементом производства
оборотный капитал, доказывая, что без него невозможно успешное
приложение труда к материи, то есть земля останется непроизводительной,
а работники не найдут себе занятия. Но с высшим сословием средний
класс, несмотря на взаимную борьбу, находится в отношениях более
приязненных, нежели с простым народом. Во-первых, если средний
класс еще не совершенно уничтожил всякую самобытность в высшем
сословии и не совершенно поглотил его в себе, если все еще должен
вести с ним борьбу, то уже очень хорошо чувствует, что имеет
решительный перевес в ней; с каждым годом во всех странах средний класс
торжествует экономические победы и часто наносит политические
поражения своему сопернику. Выигрывающий и побеждающий,
натурально, расположен быть снисходительным к изнемогающему
противнику, близкую смерть которого предвидит. Кроме того, банкиры,
купцы и мануфактуристы имеют с высшим сословием много личных
связей; они равны ему по богатству, ведут одинаковый образ жизни,
встречаются в одних и тех же салонах, сидят рядом в театрах; почти
все лица одного сословия имеют родственников и приятелей в
другом; и, наконец, это слияние дошло уже до того, что множество лиц,
принадлежащих по происхождению к высшему сословию, занялись
промышленной деятельностью, а множество лиц среднего сословия
обратили часть своих движимых капиталов в недвижимую
собственность. Все эти обстоятельства чрезвычайно смягчают враждебность
среднего сословия против высшего; но еще сильнее действует в том
же смысле существенная одинаковость их положения в деле
распределения ценностей при нынешнем порядке. Мы видели
противоположность их отношений к производству: собственник-феодал пользуется
рентой и получает, ничего не давая в обмен; купец и хозяин
промышленного заведения приобретают богатство посредством обмена: они
покупают один предмет и продают другой, берут сырой материал
и возвращают обработанный продукт, меняют товары на деньги,
меняют кредит на деньги и на товары, дают простолюдину деньги,
покупая его труд. В этом отношении между антрепренером и
собственником большая разница. Но сходство между ними то, что часть
ценностей, поступающая к собственнику без обмена или остающаяся
в руках антрепренера после обмена, далеко превышает своим
размером то количество ценностей, какое производится в этом обще-
476
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
стве трудом одного семейства или, точнее говоря в экономическом
смысле, трудом одного работника. Фабрикант, получающий,
например, в Англии тысячу фунтов ежегодного дохода, принадлежит к
самым мелким фабрикантам; а между тем для произведения прибыли
в тысячу фунтов нужен труд десяти и двадцати работников. Таким
образом, по распределению ценностей общество распадается на два
разряда: экономическое положение одного из них основывается на
том, что в руках каждого из его членов остается количество
ценностей, производимое трудом многих лиц второго разряда;
экономическое положение людей второго разряда состоит в том, что часть
ценностей, производимых трудом каждого из его членов, переходит
в руки лиц первого разряда. Очевидно, каково должно быть
отношение интересов между этими разрядами: один должен желать
увеличения, а другой — уменьшения и приведения к нулю той части
ценностей, которая переходит от лиц второго разряда к лицам первого.
Эта общность интересов высшего и среднего сословия по отношению
к массе служит самым твердым залогом снисходительности
промышленников к собственникам. Сообразно этой мирной основе, лежащей
под оболочкою враждебности, господствующая теория признает
экономическое достоинство собственности как наследственного факта,
который дает право на часть производимых ценностей без всякого
деятельного участия в производстве их со стороны собственника.
Тот факт, что известное лицо получило известную недвижимую
собственность, уже вменяется этому лицу в заслугу, за которую оно
должно получать постоянное вознаграждение, называемое рентой. Уступая
такую привилегию недвижимой собственности, принадлежащей
главным образом высшему сословию, средний класс, натурально, должен
был выставлять делом совершенно необходимым подобную же
выгоду от простого, бездеятельного обладания движимою
собственностью (деньгами и кредитными бумагами), принадлежащею главным
образом ему самому. Сообразно этому господствующая теория
принимает неизбежность процентов и доказывает, что человек должен
считаться очень полезным членом экономического общества, когда,
получив движимый или недвижимый капитал, проводит свою жизнь
как потребитель, не принимая деятельного участия в производстве,
и видит свой капитал не уменьшающимся; она говорит, что рента
и проценты имеют свойство содержать собственника или
капиталиста без убытка для общества, хотя бы он только потреблял, а сам не
Капитал и труд
477
производил ничего. При таких понятиях об участии собственности
и оборотного капитала в производстве, конечно, не очень много
места остается в теории на долю труда. Мы видели, что в политической
жизни простой народ до сих пор служил только орудием для
высшего и среднего сословий, не имея прочного самостоятельного
значения; точно так и господствующая экономическая теория смотрит на
труд, принадлежность простого народа, только как на орудие,
которым пользуются для своего увеличения собственность и оборотный
капитал. Мы видели, что высшее и среднее сословия имеют в
распределении ценностей прямой интерес уменьшать долю труда, потому
что их собственную долю составляет сумма продуктов, за вычетом
части, отдаваемой труду; точно так и теория говорит, что продукты
должны принадлежать владельцам собственности и оборотного
капитала, а работникам может быть выдаваема на продовольствие лишь
такая часть из производимых ими ценностей, какая будет найдена
возможной по интересам собственности и оборотного капитала, под
влиянием соперничества.
Последователи господствующей системы могут быть недовольны
таким изложением характера своей теории; но читатель, знакомый
с их сочинениями, видит, что все черты, нами исчисленные,
действительно принадлежат этой теории. Определить сущность ее, по
нашему мнению, очень легко: эта теория выражает взгляд и
интересы капиталистов, ведущих промышленные и торговые дела и
отчасти уже сделавшихся владельцами недвижимой собственности,
а вообще проникнутых снисходительностью к побеждаемому врагу,
феодальному сословию, которое оказывается их союзником в
вопросе о распределении ценностей. Теория самих феодалов
выражала интересы людей, совершенно чуждых производству и понятию
обмена; потому мало найдется в ней пригодного для экономических
потребностей общества, и мы совершенно согласны с отсталыми
экономистами в том, что меркантильная система была ошибочна
в своих основаниях. Этого нельзя сказать о теории отсталых
экономистов. В ней есть элементы совершенно справедливые, и для того
чтобы получить теорию, удовлетворяющую истинным условиям
общественного благосостояния, нужно только со всею точностью
развить основные идеи, из которых выходит господствующая система,
но которые или не хочет она развивать, или подавляет примесью
враждебных с ними понятий.
478
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Мы видели, что господствующая теория соответствует
потребностям среднего сословия, существенную принадлежность которого
составляет оборотный капитал и которое источником своих богатств
имеет участие в производстве. При таком основании теория
капиталистов должна была начать анализом понятий производства и
капитала. Результатом анализа был вывод, что всякая ценность создается
трудом и что самый капитал есть произведение труда. Нужно не бог
знает какое глубокое знакомство с философскими приемами, чтобы
видеть, к чему приводит развитие этих положений. Если всякая
ценность и всякий капитал производятся трудом, то очевидно, что труд
есть единственный виновник всякого производства, и всякие фразы
об участии движимого или недвижимого капитала в производстве
служат только изменениями мысли о труде, как единственном
производителе. Если так — то труд должен быть единственным владельцем
производимых ценностей. Вывода, нами представленного, конечно,
не хотят принять отсталые экономисты, но он необходимо следует
из основных понятий о ценности, капитале и труде, найденных
Адамом Смитом. Нет ничего удивительного, если результат принципа не
был замечен тем мыслителем, который высказал принцип: в истории
наук самое обыкновенное явление то, что у одного человека
недостает силы и открыть принцип, и последовательно развить его; по
принципу разделения труда, принимаемому отсталыми экономистами,
так и должно быть. Одни люди кладут фундамент, другие — строят
стены, третьи — кладут крышу и уже четвертые отделывают дом так,
чтобы он был пригоден для жилья. Адаму Смиту тем легче было не
предвидеть логических последствий найденного им принципа, что
в те времена у сословия, которому принадлежит труд, не было, ни
в Англии, ни во Франции, никаких стремлений к самостоятельному
историческому действованию и оно было в тесном союзе с средним
сословием, с владельцами оборотного капитала, пользовавшимися
помощью простолюдинов для своей борьбы с высшим сословием.
Это были времена, когда Вольтер и Даламбер покровительствовали
Жан-Жаку Руссо; когда откупщик Эльвесиус был амфитрионом всех
прогрессистов146. Адам Смит был в сущности учеником
французских энциклопедистов; и как они воображали, что народу не нужно
ничего иного, кроме тех вещей, которые были нужны для
буржуазии, и как народ сам не замечал еще тогда, что его потребности не
во всем сходны с интересами среднего сословия, шедшего тогда
Капитал и труд
479
во главе его на общую борьбу против феодалов, так и Адам Смит не
заметил разницы между содержанием своей теории,
соответствовавшей экономическому положению среднего сословия, с основным
своим учением о труде как источнике всякой ценности. То были
времена, когда требования среднего сословия выводились из
демократических принципов и оживлялись мыслями, говорившими о человеке
вообще, а не о торговце, фабриканте или банкире.
Читателю известно не хуже нас, что с той поры положение дел
изменилось. Возьмем в пример историю Франции. В 1789 году ученики
Монтескье подавали руку ученикам Руссо и аплодировали парижским
простолюдинам, штурмовавшим Бастилию. Через несколько лет они
уже составляли заговоры для восстановления Бурбонов. Во время
реставрации они опять соединились на некоторое время с народом для
низвержения воскресавшего феодализма, но с 1830 года разрыв стал
окончательным и безвозвратным147. В 1848 году среднее сословие
постоянно действовало заодно с аристократией. В Англии разрыв не до
такой степени заметен для поверхностного наблюдателя, потому что
победа среднего сословия над феодалами еще не так полна, и оно
принуждено было прибегать к помощи простого народа при
проведении парламентской реформы в 1832 году и при уничтожении
хлебных законов в 1846-м. Но и в Англии мы видим, что работники
составляют между собой громадные союзы148 для самостоятельного
действования в политических и особенно экономических вопросах.
Партия хартистов149 иногда примыкает к парламентским либералам
и крайние парламентские либералы бывают иногда ораторами
простонародных требований если не в экономическом, то в
политическом отношении. Но, несмотря на эти союзы, среднее сословие и
работники издавна держат себя, уже и в Англии, как две разные партии,
требования которых различны.
Открытая ненависть между простолюдинами и средним
сословием во Франции произвела в экономической теории коммунизм.
Английские писатели утверждают, что после Оуэна коммунизм не
находил значительных представителей в их литературе, и это отсутствие
смертельной вражды между теоретиками соответствует отсутствию
непримиримой ненависти между английскими работниками и
средним сословием. Но если английские экономисты не находят в своей
литературе современных мыслителей, подобных Прудону, то в
практике промышленные союзы (Trade Unions) работников представляют
480
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
очень много соответствующего теориям, которые у французов
называются коммунистическими. В Англии, где не любят давать громких
имен вещам, эти союзы подвергаются упреку в коммунистических
стремлениях только при особенных случаях, каковы, например,
колоссальные отказы от работы для принуждения фабрикантов к
повышению заработной платы. При взгляде на дело более спокойном,
чем во Франции, могут в английской литературе сохранять,
благодаря своему спокойному тону, название экономистов, верных системе
Адама Смита и Рикардо, такие писатели, идеи которых, если бы
выражены были на французском языке с полемическою горячностью,
подвергли бы своих авторов проклятию всех так называемых
экономистов Франции. Замечательнейший из этих английских
писателей, без особенного шума вводящих в науку новые взгляды, — Джон
Стюарт Милль. Мы никак не думаем, чтобы его теория была вполне
удовлетворительна. Он человек бесспорно очень замечательного
ума и безмерно выше всех французских экономистов; но ум его
силен только в логическом развитии подробностей. Он превосходно
разъясняет частные истины, но создать новую систему, дойти до
поверки основных принципов и пополнить их он не в состоянии.
Он говорит, например, что все возражения экономистов против
коммунизма не выдерживают критики; а между тем он только
исправляет и дополняет в частных случаях ту теорию, односторонность
которой доказана писателями, по его собственным словам,
неопровержимыми в сущности своих мыслей. Почему же он не перестроил
всю теорию с самых оснований? Очевидно, у него нет силы
отделить сущность новых мыслей от их полемической и декламаторской
формы, перевести французское ораторство на холодную
теоретическую речь и согласить новые мысли со старыми. Во всяком случае,
политическая экономия у него далеко не похожа по своему духу на
то, что называется политической экономией у отсталых
французских экономистов.
Мы говорили, что у французских экономистов, следовавших за
Жаном Батистом Сэ, нельзя найти ни одной свежей мысли, что их
сочинения содержат только бесцветное повторение мыслей,
высказанных Адамом Смитом, Мальтусом и Рикардо. Но каким бы
раболепным переписчиком старых книг ни был новый писатель, он никак
не может остеречься от влияния некоторых мыслей,
принадлежащих его собственному времени; потому у французских экономистов
Капитал и труд
481
та теория, верность которой думают они соблюсти, представляется
с искажениями двойного рода. Адам Смит и Рикардо, когда писали
свои произведения, вовсе не думали о коммунистических теориях,
которые во время Смита не существовали, а во время Рикардо
казались невинною шуткою, не обращавшею на себя ничьего
серьезного внимания. Нынешний французский экономист, которому каждая
блуза, встречаемая на улице, представляется символом коммунизма,
грозящего разрушением французскому обществу, который был
несколько раз в пух и прах побит Прудоном, осмеявшим его,
выставившим его перед публикой за идиота и невежду, — французский
экономист не может ни одной буквы написать, не думая о коммунизме.
Как победить этого ненавистного врага? Он сам не одарен такими
умственными силами, чтобы составить теорию, которая
удовлетворяла бы его желанию опровергнуть коммунизм; он может только
переписывать старую теорию. Но при этом он вычеркивает из нее все,
что, по его мнению, может служить подтверждением коммунизму:
он искажает и определения, и факты, чтобы предохранить своих
читателей от коммунистической заразы; особенно отличался в этом
Бастиа. Адам Смит или Рикардо ужаснулись бы, увидев себя в его
переделках. Но с тем вместе французский экономист не в силах
разобрать, что в его собственной голове засели разные клочки
коммунистических теорий, и среди искаженного повторения мыслей,
например Адама Смита, вы вдруг находите страницу, от которой так и веет
коммунизмом, впрочем, также искаженным*.
Французские экономисты, вклеивающие в свои книги все больше
и больше страниц из коммунистической теории, нимало не
сообразных с общим направлением сочинений, показывают невозможность
охранить прежнюю теорию от новых идей. Английские экономисты,
и особенно Милль, прямо говорят о необходимости переделать ее,
хотя и не имеют сил для исполнения такой задачи. Но из их пере-
В пример укажем на определение ценности у Бастиа. Он страшно
ратует против Прудона и, сам того не замечая, принимает определение, данное
Прудоном, только уродует его так, что вместо внутренней ценности (valeur
en usage) выходит у него меновая ценность (valeur en échange); перепутав эти
вещи, он начинает излагать теорию обмена услуг таким образом, что можно
только удивляться, как он сам не заметил ее несообразности ни с его
собственными намерениями, ни с самыми простыми понятиями о внутренней
ценности и об издержках производства.
482
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
делок и вставок можно видеть, в каком направлении следует искать
полной переделки. Мы попробуем представить краткий очерк
теории, которая рождается из последовательного, логического развития
идей Адама Смита о труде, как о единственном производителе всякой
ценности. Читатель, конечно, не будет удивлен, если наши
определения будут иногда отличаться от определений, обычных для отсталой
экономической школы.
Надобно начать с разъяснения понятий о труде
производительном и непроизводительном. Производительным трудом мы
называем тот, результатом которого бывают продукты, нужные для
благосостояния человека; непроизводительным — тот, результатом которого
не увеличивается благосостояние. Очевидно, что тут многое зависит
от того, чье благосостояние ставится мерилом производительности.
Воровство — очень производительный промысел для ловкого вора;
но благосостояние общества не увеличивается от воровства,
потому для него это дело непроизводительно, с каким бы усердием, и
ловкостью, и прибылью ни велось ворами. Политическая экономия,
если имеет претензию на имя науки, конечно, должна рассматривать
предмет с общей точки зрения, иметь в виду выгоды общества, нации,
человечества, а не какой-нибудь частной корпорации. Потому
производительным трудом называем только такой, продуктами которого
возвышается благосостояние общества.
Благосостояние может возвышаться только при расчетливости,
а расчетливость находит убыточным всякое дело, которым
отнято время и силы от другого, более выгодного дела. Например, если
плотник, который может получать один рубль в сутки, займется
мастерством, приносящим только восемьдесят копеек, он поступит
нерасчетливо и займется работою, убыточною для него. Чтобы видеть,
какого рода труд может считаться выгодным для общества, то есть
производительным, надобно знать положение и потребности
общества. Известно, что потребности человека разделяются на
необходимые и прихотливые. Если, например, иметь за обедом мясо составляет
потребность действительную, то иметь мясо, приправленное
трюфелями, есть уже прихоть. Список первых существенных потребностей
человека не очень длинен; в наших климатах для здоровья
необходимо: довольно просторное и опрятное жилище, хорошее отопление,
теплая одежда и пища, которая бы своим питательным достоинством
равнялась пшенице и мясу. Итак, пока все члены общества не имеют
Капитал и труд
483
удовлетворения этим первым потребностям, труд, обращаемый на
производство предметов, служащих на удовлетворение
потребностей более изысканных и менее важных для здоровья, употребляется
нерасчетливо, убыточно, непроизводительно. Положим, например,
что в известном обществе не все имеют крепкое и теплое платье;
положим, что на производство такого платья для одного человека на
целый год нужно десять рабочих дней или, оценивая каждый день
в один рубль серебром, годичная ценность удовлетворительного
платья составляет 10 руб. сер. Положим, что это общество состоит
из ста человек и употребляет на производство платья 1000 рабочих
дней. Теперь, если один из членов этого общества будет носить такое
платье, что станет расходовать на него 50 руб., это значит, что труд
для удовлетворения его потребности одеваться занимает в
обществе 50 рабочих дней. Это значит, что на производство одежды для
остальных членов общества остается только 950 дней, между тем как
нужно было бы 990 дней, чтобы одеть их удовлетворительным
образом. Ясно, что первая потребность некоторых членов общества не
будет удовлетворена надлежащим образом, что они будут нуждаться
в платье. Из этого надобно заключить, что работники, употребившие
50 дней на изготовление платья, трудились непроизводительным для
общества образом, хотя бы и получили за свой труд надлежащее
вознаграждение. Их труд имел направление, невыгодное для общества,
и из 50 рабочих дней, употребленных ими на этот труд, 40 дней
составляют чистую потерю для общества.
Из этого надобно выводить такое правило: весь труд,
употребленный на производство продуктов, стоимость которых выше другого
сорта тех же продуктов, удовлетворительного для здоровья, надобно
называть непроизводительным при настоящем положении общества,
когда некоторые из членов его еще имеют недостаток в продуктах,
необходимых для здорового образа жизни. Каждая индейка,
покупаемая в Петербурге за 3 руб. сер., отнимает у общества пуд говядины,
потому что ее производство взяло столько же времени, сколько бы
нужно для произведения пуда говядины. Каждый аршин сукна ценою
в 10 руб. сер. отнимает у кого-нибудь теплую шубу, потому что на
производство этого аршина сукна потрачено время, которое было бы
достаточно для производства простой, но теплой шубы.
Господствующая экономическая теория очень близка к
подобному воззрению, но никак не умеет достичь до того, чтобы ясно сознать
484
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
его. Она запутывается в соображениях, которые имеют какой-то
меркантильный характер. Деньги, обмен, плата за услугу,
удовлетворительность вознаграждения для работавших, — эти второстепенные
понятия затемняют для нее коренную сущность дела, а сущность дела
состоит просто вот в чем: нация, имеющая известное число людей,
способных к работе, располагает известным числом рабочих дней.
Каждый рабочий день, употребленный на удовлетворение прихоти
или роскоши, пропал для производства продуктов, удовлетворяющих
первым потребностям. Если нация употребляет половину своего
рабочего времени на производство предметов роскоши, — а
предметами роскоши надобно назвать все те, которые не идут на
удовлетворение первых потребностей или хотя идут на удовлетворение их,
но имеют стоимость, превышающую ценность производства
другого сорта тех же предметов, удовлетворяющего условиям гигиены, —
если нация употребляет половину своего рабочего времени на
производство предметов роскоши, когда не удовлетворены надлежащим
образом первые потребности всех ее членов, она расточает
половину своего времени непроизводительным образом, она поступает
подобно человеку, который стал бы голодать половину дней, чтобы
иметь роскошный стол в другие дни, который тратил бы на перчатки
половину своего дохода и мерзнул бы зимою без теплой одежды.
Если хотите, вся сущность новой теории заключается в таком
взгляде на различные роды экономической деятельности. Все
остальное служит в ней или развитием этого основного требования, вовсе
не чуждого и прежней теории, или определением средств для того,
чтобы приблизиться к его исполнению.
Само собой разумеется, что средств этих нужно искать в порядке
распределения ценностей. Если я имею средства платить 40 рублей
в зиму за абонемент кресла в опере, никто не запретит мне
нанимать это кресло, и какое мне дело до того, что труд, употребленный
на производство ценностей в 40 рублей, потребляемых мною на мое
развлечение в течение нескольких вечеров, — какое мне дело до того,
что этот труд, употребленный на вещи более необходимые, доставил
бы приличную одежду или приличное жилище каким-нибудь людям,
которые теперь терпят лишения? Моя совесть так же спокойна, как
тогда, когда я кладу в чашку кусок сахара, произведенного трудом
невольников: не я, так другой занял бы это кресло, купил бы этот сахар,
и не смешон ли я буду, если я стану отказывать себе в невинном или
Капитал и труд
485
даже благородном удовольствии для каких-то абстрактных понятий
о труде и времени?
Действительно, теория трудящихся (так будем называть мы теорию,
соответствующую потребностям нового времени, в
противоположность отсталой, но господствующей теории, которую будем называть
теорией капиталистов) главное свое внимание обращает на задачу
о распределении ценностей. Принцип наивыгоднейшего
распределения дан словами Адама Смита, что всякая ценность есть
исключительное произведение труда, и правилом здравого смысла, что
произведение должно принадлежать тому, кто произвел его. Задача состоят
только в том, чтобы открыть способы экономического устройства,
при которых исполнялось бы это требование здравого смысла.
Тут мы встречаем дикое, но чрезвычайно распространенное
понятие об отношениях естественности и искусственности в
экономических учреждениях. Как, вы хотите преобразовывать экономическое
устройство искусственным образом? — говорят последователи
теории капитала. Вы теоретически придумываете какие-нибудь планы и
хотите строить по ним общество? — Это искусственность. Общество
живет естественной жизнью и все должно совершаться в нем
естественно. Публика, состоящая из людей, не имеющих ясного понятия
ни об искусственности, ни об естественности, громким хором
повторяет: да, они хотят нарушать естественные законы. О, какие они
безумцы!
Обыкновенно называют естественным экономическим порядком
такой, который входит в общество сам собою, незаметно, без
помощи законодательной власти и держится точно так же. Определение
прекрасное, только жаль, что ни одно важное экономическое
учреждение не подходит под него. Например, введение свободной
торговли вместо протекционной системы, конечно, составляет, по мнению
отсталых экономистов, возвращение к естественному порядку от
искусственного. Каким же образом оно происходит? Правительство,
убеждаемое теоретическими соображениями ученых людей,
объявляет уничтоженным прежний высокий тариф и велит повиноваться
распоряжениям нового низкого тарифа. Только правительственная
власть заставляет мануфактуристов, враждебных новому тарифу,
терпеть его; если бы они имели силу, они готовы были бы собрать
войско, овладеть таможнями и поставить в них свою стражу, которая
собирала бы высокие пошлины с одних товаров и запрещала ввоз
486
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
других. Величайшее торжество естественности составляет, по
мнению экономистов, отмена хлебных законов в Англии. Но ведь она
также была произведена по предварительному плану, составленному
Кобденом и его товарищами, была произведена парламентским
актом, и много лет новый порядок вещей поддерживался только
беспрестанными, упорными объявлениями законодательной власти, что
она не потерпит никаких попыток к восстановлению прежнего
порядка. Уничтожение навигационного акта150, возвратившее свободу
морской торговле между Англией и другими странами, экономисты
также назовут возвращением от искусственности к естественности;
но и оно было произведено также в исполнение теоретических
соображений, решением законодательной власти, и английские судо-
хозяева до сих пор так неистовствуют против свободы, данной
иностранным флагам, что если бы не правительственная защита новому
учреждению, оно было бы уничтожено завтра же. Таким образом,
признаком естественности вовсе не должно считаться то, что для ее
водворения не нужны ученые теории или законодательные
распоряжения. Никакая важная новость не может утвердиться в обществе без
предварительной теории и без содействия общественной власти:
нужно же объяснить потребности времени, признать законность
нового и дать ему юридическое ограждение. Если мы захотим в чем
бы то ни было важном обходиться без этого, мы просто не имеем
понятия об отношении общества и его учреждений к человеческой
мысли и к общественной власти. Нет ни одной части общественного
устройства, которая утвердилась бы без теоретического объяснения
и без охранения от правительственной власти. Возьмем вещь самую
натуральную: существование семейства. Если бы европейские законы
не определяли семейных отношений, могло ли бы утвердиться наше
понятие, например, о единоженстве или о праве наследства?
Различие в праве наследства, существующее между нациями равно
образованными, доказывает важность законодательных определений в
этих вопросах. В чем же заключается действительный смысл понятий
о естественности, как о чем-то независимом от законодательных
постановлений? Он заключается в том, что законы для своей прочности
и благотворности должны быть сообразны с потребностями
известной нации в известное время. В противном случае законы
оставались бы бессильны и недолговечны. Таким образом, законодательное
определение вовсе не служит нормой естественности; может назы-
Капитал и труд
487
ваться естественным такое учреждение, которое ограждено
законами, и могут называться неестественными такие учреждения, которые
также ограждены законами. Дело состоит только в том, сообразны ли
будут законы с потребностями нации.
Это говорит здравый смысл и беспристрастие; но не то говорят
эгоистические интересы. У чехов есть превосходная древняя
песня о суде Любуши. Она относится к тому времени, когда чехи были
еще язычниками, но уже начали чувствовать немецкое влияние.
По старому чешскому обычаю, который был у всех славян,
недвижимая собственность оставалась в общем владении сыновей. В крайних
случаях, при невозможности мирных отношений между братьями-
сонаследниками, допускался ровный раздел между всеми сыновьями.
Вот умер на «Кривой Отаве» владелец, как видно, очень важный и
богатый. Двое сыновей его не могли поладить между собою в вопросе
о наследстве. Дело доходит до княжны, она созывает народный сейм
для его решения. Что нам делать с братьями? спрашивает она:
Вадита се круто мезу собу (а дедине отне);
Будета им оба в едно власти,
Чи се разделита ровну меру? —
«Ссорятся они жестоко между собою (из-за поместий отцовских);
будут ли они ими оба заодно владеть или разделятся ровной мерой?»
Сейм отвечает:
Будета им оба в едно власти,—
«Должны они оба ими заодно владеть». Едва услышал это
решение старший брат, Хрудош, он встал. «Тряслись у него от ярости все
члены; махнул он рукой, заревел, как дикий бык: горе птенцам, к
которым залезет змея! горе мужчинам, которыми управляет женщина!
Мужчинами должен управлять мужчина; старшему сыну по
справедливости должно отдать поместье.
Встану Хрудош от Отаве Криве,
Т^ясехусе яростю вси уди;
Махну руку, зарве ярим турем:
«Горе птенцем, к ним жь се змия внори,
Горе мужем, им же жена владе!
Мужу власти мужем заподобно,
Первенцу дедину дата правда!»
488
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Экономисты не любят нераздельного владения, но еще меньше
одобряют они право первородства; а между тем Хрудош находит
натуральным и справедливым, чтобы старший сын получал все поместье.
Точно так во всех делах и вопросах; каждый называет естественным
то, что сообразно с его выгодами: североамериканские плантаторы
находят естественным, чтобы черная раса была в невольничестве
у белой; английские землевладельцы находили естественным,
чтобы английское земледелие охранялось пошлинами от иностранного
соперничества; банкиры находят естественным такой порядок, по
которому они владычествуют над денежным рынком;
мануфактуристы находят естественным, чтобы фабрика имела хозяина, в пользу
которого шли бы выгоды предприятия; я могу находить
естественным, чтобы публика поклонялась мне за мои статьи; г. Горлов может
находить естественным, чтобы его книгу называли очень хорошей:
что сказать обо всех этих претензиях? Обо всех одинаково надобно
сказать, что личный интерес облекает иллюзией естественности все
дела без разбора, которые для него выгодны.
С этой точки зрения наука, которая должна быть
представительницею человека вообще, должна признавать естественным
только то, что выгодно для человека вообще, когда предлагает общие
теории. Если она обращает внимание на дела какой-нибудь нации
в отдельности, она должна признавать естественными те
экономические учреждения, которые выгодны для этой нации, то есть, в случае
разделения между интересами разных членов нации, выгодны для
большинства ее членов. Если так, то совершенно напрасно говорить
о естественности или искусственности учреждений, — гораздо
прямее и проще будет рассуждать только о выгодности или
невыгодности их для большинства нации или для человека вообще:
искусственно то, что невыгодно. Заменять точный термин другим, произвольно
выбранным, значит только запутывать смысл дела.
Мы старались найти смысл во фразах о естественности,
которая будто бы должна служить необходимой принадлежностью
экономических учреждений, и, наконец, успели найти точку зрения,
с которой эти фразы могут казаться не совершенным пустословием;
но точка зрения, нами найденная, — чисто субъективная,
производимая иллюзией личной выгоды. Нет надобности говорить, что наука
не должна смотреть на предметы таким образом; она должна
стараться понимать их в том виде, какой они действительно имеют, а не
Капитал и труд
489
в таком, какой обыкновенно придается им страстями. Теперь спросим
каждого, имеющего хотя какое-нибудь понятие о законах природы,
может ли что-нибудь на свете, важное или неважное, происходить
неестественным образом? Действие не бывает без причины; когда
есть причина, действие непременно будет; все на свете происходит
по причинной связи. Это известно каждому школьнику. Связь
причины и действия естественна и неизменна; ничего противного ей не
может случиться, все требуемое ей непременно должно произойти.
После этого, кажется, ясно должно быть, что неестественного ничего
никогда в мире не было и не будет. Финикийцы приносили своих
детей в жертву Молоху; это они делали очень дурно; но если вы
разберете их понятия, то есть их суеверия, то вы увидите, что дело это
было для них совершенно естественно, что люди с такими
понятиями не могли не бросать своих детей в огонь для умилостивления
Молоха. Отчего же у них были такие дикие понятия? Опять-таки,
разберите их историю, и вы увидите, что им естественно было иметь такие
понятия. Феодальный рыцарь убивал и грабил еврея, да и не только
еврея, а всякого, не принадлежащего к рыцарскому обществу, с таким
же спокойствием совести, как вы пьете чашку чая. В его положении,
с его понятиями естественно было ему поступать и чувствовать
таким образом. То положение общества, которым произведены были
такие понятия и поступки, возникло также самым естественным
образом. Судя по этому, очень легко угадать, что скажут о нынешнем
естественном порядке дел наши потомки.
Впрочем, нет надобности этому естественному порядку дел ждать
мнений потомства, чтобы услышать приговор себе. Каково бы ни
было положение и понятия общества, все-таки тем же самым
естественным путем являются в нем или отдельные лица, или целые
сословия, которые судят о делах не по временным и местным
преданиям и предупреждениям, а просто по здравому смыслу и по чувству
справедливости к человеку вообще, а не к рыцарю или вассалу, не
к фабриканту или работнику. Каким путем развивается в них сознание
о правах человека вообще, без всяких подразделений, — все равно;
в иных производится оно высоким развитием мысли; таков, например,
был Мильтон, провозглашавший свободу совести во времена
смертельной религиозной вражды, когда честные пуритане и бесчестные
иезуиты одинаково думали, что должны казнить друг друга. Иногда
это сознание развивается невыносимостью личного положения; так
490
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
родился средневековый припев, который повторялся крестьянами
на всех европейских языках, от английского и французского до
польского и чешского: «когда Адам пахал, а Ева пряла шерсть, не было
тогда рабов». Задолго до уничтожения рабства был произнесен над ним
этот приговор, и стоит только сделать ряд вопросов, чтобы получить
суждение о нынешнем естественном порядке вещей. Мы не будем
предлагать этих вопросов; они приходят в голову каждому, в ком есть
искра человеческого чувства, или кто подвергся несправедливости,
или кто терпит лишения. Мы скажем только, что все естественно.-
и хорошее, и дурное. Естественность — не рекомендация. Зато и
искусственность тоже не должна служить ни порицанием, ни похвалою,
потому что ни к одной мысли, ни к одному действию даже
отдельного человека, не только к какому-нибудь плану, принимаемому
многими людьми, или к какому бы то ни было учреждению,
обнимающему многих людей, эпитет неестественности или искусственности
не может относиться на точном научном языке. Вы скажете,
например, что какой-нибудь жеманный франт говорит искусственным
языком, делает искусственные ужимки. В житейском языке, в
котором слова имеют условный смысл и в котором, например, выражение
«ваш покорнейший слуга» означает просто «я кончил свое письмо», —
в житейском языке почему и не выразиться таким образом? Но если
вы хотите говорить языком науки, вы не имеете права сказать, чтобы
франт, делающий нелепые ужимки, держал себя искусственно; по его
понятиям об изяществе манер, он естественно должен делать такие
ужимки; а его понятия естественно получили такой характер от его
воспитания и от его отношений к обществу. Само собой разумеется,
что о таких пустых вещах, как ужимки какого-нибудь франта,
смешно и глупо выражаться научным языком; но в ученых книгах о таких
важных вещах, как экономические учреждения, говорить языком, не
соответствующим научной точности, значит также поступать глупо
и, позвольте прибавить, значит поступать недобросовестно.
Извинять подобные выражения можно только отсутствием философского
образования; потому они, конечно, извинительны, например, для Ба-
стиа, который в знаменитом споре о даровом кредите обнаружил
совершенное незнакомство с самыми элементарными приемами и
терминами гегелевской диалектики. Мы не говорим, чтобы гегелевская
диалектика была хороша; мы только думаем, что человек, не
имеющий понятия о таком важном факте, как, например, гегелева фило-
Капитал и труд
491
софия, не может считаться просвещенным человеком, и становится
смешон, когда принимается рассуждать об ученых предметах. И вот
этакий господин полюбил слово естественность и вздумал клеймить
словом искусственность все, что ему не нравилось. И вот господа
экономисты с восхищением схватились за эти слова; это не делает чести
их ученому образованию.
Как в истории общества каждый последующий фазис бывает
развитием того, что составляло сущность предыдущего фазиса, и только
отбрасывает факты, мешавшие более полному проявлению
основных стремлений, принадлежащих природе человека, так и в развитии
теории позднейшая школа обыкновенно берет существенный вывод,
к которому пришла прежняя школа, и развивает его, отбрасывая
противоречившие ему понятия, несообразность которых не
замечалась прежней теорией. Мы видели основные идеи, до которых дошла
теория капиталистов: наивыгоднейшее положение производства то,
в котором продукты труда принадлежат трудившемуся;
наивыгоднейшее распределение ценностей то, в котором часть каждого члена
общества, по возможности, близка к средней цифре, получаемой из
отношения массы ценностей к числу членов общества. Мы видели,
что теория трудящихся, принимая эти основные идеи, точнейшим
образом развивает понятие о производительном труде и говорит, что
труд, обращенный на производство продуктов, не соответствующих
настоятельнейшим потребностям человеческого организма, должен
в нынешнее время считаться непроизводительным, пропадающим
для общества; мы говорили, что средств к развитию
производительного и к уменьшению непроизводительного труда новая теория ищет
в учреждениях, которыми давалось бы наивыгоднейшее для общества
распределение ценностей. Дух этих учреждений легко определится,
если мы сообразим экономические качества лиц, интересам
которых должна удовлетворять новая теория. Важнейшее различие между
лицом, вносящим в производство труд, и лицом, которому
принадлежит капитал, определяется следующими чертами: в производстве
трудящийся действует только собственными силами, между тем как
капиталист располагает силами многих лиц; в распределении
ценностей трудящийся не может иметь более того, что произведено им
самим, а капиталист приобретает сумму ценностей, производимую
трудом многих; цель производства для трудящегося есть
потребление произведенных ценностей, а для капиталиста — сбыт их в другие
492
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
руки для выигрыша через обмен. Мерилом производства для
трудящегося служат надобности его собственного потребления (если труд
в один день доставлял бы ему все, что нужно для потребления в целую
неделю, он стал бы трудиться только один день в неделю), а мерилом
производства для капиталиста служит только размер сбыта.
Таким образом, трудящийся не находится к другим лицам,
занимающимся тою же работою, во враждебном отношении, как капиталист.
Он может только желать, чтобы в других промыслах производилось
больше, но не имеет интереса желать, чтобы уменьшилось
производство других трудящихся, занимающихся тем же промыслом, как
он. Ныне, когда трудящийся не имеет самостоятельности, подчинен
расчетам и оборотам капиталиста, этот существенный характер
отношения к другим трудящимся затемняется соперничеством между
работниками для получения работы. Но вникнем в чувства и
рассмотрим круг деятельности тех трудящихся, которые работают
самостоятельно, — мы увидим, что для них, даже при нынешнем порядке
распределения ценностей, нет интереса действовать во вред другим
трудящимся того же промысла. Представим себе, например, русскую
или французскую деревню, в которой у каждого домохозяина есть
свой участок земли и которая лежит в таком глухом месте, что
наемных земледельческих работников нельзя там найти*. Представим, что
экономический округ, к которому принадлежит эта деревня, имеет
самый малый объем, хотя бы даже только одну милю в поперечнике.
Представим, что он населен очень мало; все-таки эта квадратная миля
будет иметь несколько сот человек населения. Предположим
сохранение нынешнего определения продажной цены не по стоимости
производства, а по отношению между запросом и предложением.
Экономисты, с обыкновенной своей проницательностью, обратятся на
выражение «глухая местность» и скажут, что предполагаемый нами быт
возможен только при неразвитости экономического быта. Действительно, работник
при нынешнем порядке дел может сохранять самостоятельность только в тех
местах и промыслах, которые не охвачены биржевым коммерческим духом. Но
читатель знает, что теория трудящихся именно к тому и стремится, чтобы дух
спекуляции, то есть отчаянного риска, заменился духом производительного
труда, который расчетлив, а потому враждебен спекуляции. Через несколько
строк мы скажем, каким образом выгодная сторона нынешнего
производительного развития сохраняется и даже усиливается в теории трудящихся с
устранением убыточной своей стороны, то есть направления к рискованному
и непроизводительному труду.
Капитал и труд
493
Все-таки разорение соседа не может принести никакой
выгоды земледельцу этой деревни: для продовольствия жителей нужен
земледельческий труд нескольких десятков семейств, и устранение
одного или двух из числа земледельцев нисколько не поднимет цены
на хлеб. Когда было, например, пятьдесят семейств, производивших
по десяти четвертей хлеба, производство было 500 четвертей. Если
Ивану удалось разорить Петра и осталось только 49 производителей,
количество хлеба уменьшилось только на одну 50-ю долю, и цена его
не могла повыситься от этой ничтожной перемены. Иван, не имея
наемных работников, не может производить хлеба больше прежнего и,
продавая по прежнему 10 четвертей по прежней цене, не найдет себе
никакой выгоды от разорения Петра. Конечно, дело иное, если б
разоренный поступил к нему в наемные работники: тогда он увеличил
бы свое производство и получил бы больше выгоды; но тогда он
занял бы уже положение капиталиста, и это показывает нам, каким
образом и по какому расчету возникает особенный класс капиталистов.
Но читатель заметит, что возникновение капиталиста основывается
на разорении другого человека, то есть на предварительной потере
некоторого количества ценностей, находившихся в обществе.
Теория, дух которой мы определяем теперь, стремится именно к тому,
чтобы предотвратить всякую потерю ценностей; а из этого следует,
что если она может найти средства для своей цели, то и превращение
Ивана в капиталиста не будет допускаться экономическим порядком,
ею излагаемым.
Итак, трудящийся, пока остается трудящимся, не имеет выгоды
себе в подрыве людей, занимающихся тем же производством, как он.
Число рук, требуемых каждым производством, так велико, что цена
продуктов не может изменяться от происков, направленных против
того или другого человека, трудящегося в этом производстве. Даже
при нынешнем порядке мы видим, что земледельцы, имеющие свое
хозяйство, проникнуты взаимным доброжелательством; между ними
нет соперничества в том виде, какое существует между
фабрикантами, торговцами или большими фермерами. В чем же может состоять
конкуренция по теории трудящихся, если она не имеет в ней
стремления подорвать друг друга, какое принадлежит ей в теории
капиталистов? Она просто состоит в выгоде производить наибольшее
количество продуктов в данное время. Выгода капиталиста требует
увеличивать число своих покупателей, то есть при данном размере
494
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
рынка отбивать покупателей у своих соперников. Выгода
трудящегося требует наработать побольше в каждый день. Из этого мы видим,
что по ней сохраняют всю свою привлекательность средства к
усовершенствованию производства. Трудящийся не хуже капиталиста
должен чувствовать выгодность усовершенствованного инструмента,
если трудится в свою пользу. Разница только в том, что выгода,
приносимая этим усовершенствованием, производится различным
образом по отношению к другим людям, занимающимся тою же отраслью
производства: выгода, получаемая трудящимся, остается его выгодою
и только; выгода, получаемая капиталистом, происходит из подрыва
других.
До сих пор мы говорили о ходе дел при нынешнем порядке.
Но для того, чтобы изложить дело яснее, надобно отбросить понятие
денег и говорить только о продуктах, как делает и господствующая
экономическая теория. Представим себе общество, для
удовлетворения нуждам которого потребно в год 1000 пар платья, производимых
трудом 6000 рабочих дней; считая по 300 рабочих дней в году, мы
видим, что производством платья должны заниматься 20 человек.
Представим себе, что ни один из этих 20 человек не находит выгоды или
возможности расширить свое производство на счет других. Должен
ли будет он и при таком порядке дел желать усовершенствований
в производстве платья?
Он производит 50 пар платья и на каждую пару употребляет 6
рабочих дней. Выгодно ли будет для него введение какого-нибудь
нового инструмента, сокращающего работу на одну треть? Разумеется,
выгодно. Тогда он произведет свои 50 пар платья, по 4 дня на каждую
пару, не в 300, а только в 200 дней, и 100 дней будет у него выиграно.
Он может употребить их на отдых или на какое-нибудь новое
занятие, для которого общество до сих пор не имело времени.
Читателю могут показаться совершенно излишними эти
рассуждения. Может ли в здоровой голове родиться мысль о том, что
усовершенствование производства, то есть сокращение труда, бывает
приятно человеку только тогда, когда служит ему средством
приобрести себе новых покупателей, и перестанет казаться ему приятным
и выгодным, если число покупателей останется у него прежнее? Да,
трудно вообразить себе такую нескладицу, но экономисты с
важностью провозглашают ее, когда уверяют, что соперничество в
нынешнем своем виде необходимо для усовершенствования производства.
Капитал и труд
495
Им кажется, будто человеку хлеб вкусен бывает только тогда, когда
отнят у другого.
Не имея причин зложелательствовать друг против друга,
трудящиеся не имеют побуждений держаться каждый особняком. Напротив,
они имеют прямую экономическую необходимость искать
взаимного союза. Почти каждое производство для своей успешности требует
размеров, превышающих рабочие силы одного семейства.
Капиталист не нуждается в союзе с другими, потому что располагает
силами множества людей. Трудящийся, располагая силами только своей
семьи, должен вступать в товарищество с другими трудящимися. Это
для него легко, потому что нет ему причины враждовать против них.
Таким образом, форма, находимая для производства теорией
трудящихся, есть товарищество.
Тут мы опять встречаем возражение, забавность которого может
быть сравнена только с самодовольствием, с каким экономисты
повторяют его, как будто бы неопровержимый аргумент. Дело,
имеющее одного хозяина, идет успешнее, нежели дело, производимое
товариществом, говорят они. Это возражение до того несообразно
с сущностью вопроса, что может свидетельствовать только о
рутинной тупости, лишенной способности понимать новые идеи, или о
недобросовестности, нагло рассчитывающей на незнакомство
большинства публики с сущностью дела.
Во-первых, можно отдавать предпочтение одной форме дела
над другою только тогда, когда обе формы возможны при
данных условиях дела. Например, можно спорить о том, что выгоднее
для английского лендлорда: делить свою землю на крупные или на
мелкие фермы. Но невозможно рассуждать в Англии о том, должен
ли лендлорд сам быть фермером или отдавать свою землю в
аренду. При условии английской жизни и при обширности поместий
лендлорду невозможно быть самому своим фермером. Потому, хотя
с абстрактной точки зрения, собственнику выгоднее самому
возделывать свою землю, но в Англии преобладает отдача ферм внаймы,
и ратовать против такого стремления английских лендлордов — вещь
совершенно напрасная, пока остаются нынешние обычаи и
нынешнее распределение поземельной собственности. Точно так все равно,
выгоднее ли ведется дело одним хозяином или товариществом, если
трудящиеся имеют стремление и выгоду быть самостоятельными:
самостоятельность в производстве возможна для них только при фор-
496
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ме товарищества, потому возражать против стремления их теории
к товариществу в производстве — дело совершенно напрасное. Если
вам угодно опровергать эту форму, доказывайте, что трудящиеся не
должны иметь стремления к самостоятельности. А если вы не хотите
говорить этого, потому что говорить это значило бы отвергать
свободу труда, объявлять себя защитником несамостоятельности труда,
защитником крепостного состояния и рабства, вы не имеете
логического основания для возражений против товарищества.
Мы не знаем, выгоднее ли шла бы постройка железных дорог,
если бы эти предприятия принадлежали отдельным хозяевам, а не
акционерным компаниям; экономнее ли было бы управление
построенными железными дорогами, если бы каждая дорога
принадлежала одному хозяину. Но дело в том, что железная дорога не может
быть построена иначе, как акционерным обществом (если не
строится государством); это дело превышает силы отдельного
капиталиста. Итак, спрашивается только: выигрывает ли общество через
постройку железных дорог, нужны ли они? — Да. Могут ли они быть
строимы отдельными капиталистами? — Нет. После этого всякая речь
о сравнительной выгодности строения железных дорог отдельными
капиталистами, а не товариществами капиталистов, становится
пустословием. Так точно мы спрашиваем: выигрывает ли трудящийся,
если приобретает самостоятельность в труде, должен ли он хотеть,
чтобы все продукты его труда оставались в его руках? — Да. Каждый
неизбежно желает своей выгоды, и общество не может не
выигрывать, когда выигрывает вся масса населения, которая состоит из
трудящихся. Могут ли трудящиеся достичь этой цели иначе, как
посредством товарищества в производстве? — Нет. После этого всякая речь
о выгодах одиночного хозяйства над товариществом становится
пустословием.
Теория трудящихся имеет полное право говорить, что не
принимает возражения о выгодах одиночного хозяйства, как возражения,
не применяющегося к сущности данных положений. При каком
порядке дел производство идет успешнее: при рабстве или при свободе?
Я этого не знаю и не хочу знать; я знаю только, что рабство
противно врожденным стремлениям раба, что свобода соответствует им, и
потому я говорю, что производство должно иметь форму свободы.
На какой фабрике больше производится продуктов: на фабрике,
принадлежащей одному хозяину-капиталисту, или на фабрике, принад-
Капитал и труд
497
лежащей товариществу трудящихся? Я этого не знаю и не хочу знать;
я знаю только, что товарищество есть единственная форма, при
которой возможно удовлетворение стремлению трудящихся к
самостоятельности, и потому говорю, что производство должно иметь форму
товарищества трудящихся.
Мы говорим: все равно, увеличивается или уменьшается
успешность производства через заменение рабства свободой и
одиночного хозяина товариществом трудящихся, — все равно, потребности
человека заставляют утверждать, что самостоятельность трудящихся,
даваемая только формою товарищества, выгоднее для общества,
нежели хозяйство отдельного капиталиста, как свобода выгоднее
рабства для общества. Но как при свободе успешнее идет и самое
производство, точно так же при форме товарищества оно должно идти
успешнее, нежели при хозяйстве отдельного капиталиста.
Одну из причин этого мы видели, когда говорили об общем
принципе производства, указываемом самой теорией капиталистов;
успешность производства пропорциональна энергии труда, а
энергия труда пропорциональна степени участия трудящегося в
продуктах; потому наивыгоднейшее для производства положение дел то,
когда весь продукт труда принадлежит трудящемуся. Форма
товарищества трудящихся одна дает такое положение дел, потому должна
быть признана формой самого успешного производства.
Другая причина заключается в направлении производства, в
характере продуктов, на которые будет обращен труд. Мы видели, что
производительным трудом должен называться только тот, который
обращен на производство предметов нужных, — таких предметов,
потребление которых одобряется расчетливостью и
благоразумием. С точки зрения трудящихся, такие продукты — вещи,
удовлетворяющие необходимейшим потребностям человеческого организма.
Пусть каждый рабочий день производит ценностей на один рубль.
Пусть для благосостояния трудящегося с его семейством нужно
потребление ценностей первой необходимости на 200 рублей в год.
Пусть общество состоит из 100 человек трудящихся. Пусть в этом
обществе 40 человек заняты производством продуктов роскоши.
Тогда для производства предметов первой необходимости остается
60 трудящихся. Они производят по 1 руб. в 300 дней — всего на 15000
рублей продуктов первой необходимости, то есть для потребления
каждого трудящегося производится ценностей только на 150 рублей,
498
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
между тем как для его благосостояния нужно 200. Ясно, что
трудящиеся должны нуждаться.
Самостоятельность трудящихся имеет тот экономический смысл,
что они трудятся для собственного потребления. Потому, пока не
достаточно продуктов первой надобности для их потребления, они не
займутся производством других продуктов. Положим, что форма
товарищества уменьшает успешность их труда, так что в рабочий день
производится ценностей только на 70 копеек. Но зато все 100
трудящихся работают над производством предметов первой
необходимости, и в каждый день производится их на 70 руб., а в 300 дней
на 21 000. Ясно, что каждый трудящийся будет иметь предметов
первой необходимости на 210 руб., когда для благосостояния нужно
только 200. Ясно, что общество трудящихся имело бы избыток даже
при предполагаемом уменьшении успешности труда, тогда как
прежде оно терпело нужду даже при предполагаемой большей
успешности его.
Это значит вот что: если из двух работников только один занят,
например, земледелием, а другой — производством бронзовых
украшений, то общество и в том числе они скорее подвергнутся
недостатку хлеба, нежели когда оба они заняты производством хлеба, хотя бы
работая оба над производством хлеба, они производили только по
10 четвертей, а при занятии одного производством бронзовых
украшений — другой оставшийся при земледелии производил по 15
четвертей в год. Во втором случае, при работе более успешной, общество
имеет только 15 четвертей хлеба, а в первом случае, при работе даже
менее успешной, оно имеет 20 четвертей.
Но мы видели, что успешность труда в каждый рабочий день
должна не уменьшиться, а увеличиться; потому избыток, производимый
формою товарищества, должен быть гораздо более значителен.
Есть еще третья причина большей успешности труда при форме
товарищества. Мы видели, что мерилом производства для
трудящегося служит не сбыт продуктов, а надобность собственного
потребления. Потребление имеет в себе элемент постоянства, которого лишен
сбыт. Вы можете наверное рассчитывать, сколько хлеба нужно для
известного семейства на неделю, на месяц, на год; обед должен быть
и ныне, и завтра. Не то в вопросе о сбыте: ныне на бирже
требуются сотни тысяч четвертей хлеба или тюков хлопчатой бумаги, через
неделю не потребуется, быть может, ни одной четверти, ни одного
Капитал и труд
499
тюка. Сбыт не вдет размеренным шагом, как потребление; он вечно
находится в лихорадочных пароксизмах, и крайняя энергия
сменяется в нем совершенным бессилием.
К довершению гибельности невозможно заблаговременно
предусматривать ни времени, ни продолжительности этих перемен, ни
интенсивности каждой из них. Потому производство капиталиста
подвержено беспрерывным застоям, а весь экономический порядок,
основанный не на потреблении, а на сбыте, подвержен неизбежным
промышленным и торговым кризисам, из которых каждый состоит
в потере миллионов и десятков миллионов рабочих дней. Эти
кризисы, эта насильственная утрата рабочего времени невозможна при
производстве, мерилом которого служит потребление. Пусть
производство капиталиста, основанное на сбыте, может бежать с
быстротой Ахиллеса; пусть производство товарищества трудящихся идет
с медленностью черепахи; но мы еще в детстве узнали, что
черепаха, шедшая безостановочно, опередила Ахиллеса, который, с
изумительною быстротою сделав несколько шагов, садился и терял даром
время.
Если мы сообразим все эти обстоятельства, дающие перевес
производству под формою товарищества трудящихся над
производством отдельного капиталиста, если мы вникнем в громадную силу
каждого из этих обстоятельств и подумаем, в какой громадной
пропорции должна возрастать она от дружной помощи двух других
обстоятельств, то мы должны будем сказать, что степень возвышения,
которую должна произвести в благосостоянии общества эта форма,
далеко превосходит все ожидания, к каким мы способны теперь при
нашем рутинном понятии об идеале общественного благосостояния.
Как самые жаркие проповедники уничтожения феодальных
учреждений остались со всеми своими панегириками призываемому новому
веку далеко ниже действительности, которую принес он людям, так
и мы теперь, какого благосостояния ни ожидали бы от формы
товарищества между трудящимися, не в силах вообразить себе ничего
равного высокому благосостоянию, которое произведет она в
действительности.
Думая о том, что люди, называющиеся учеными, воображающие
себя доброжелательными и честными, напрягают все свои силы,
чтобы пустозвонными декламациями и тупыми возражениями, не
идущими к делу, задержать реформу столь благотворную, мы не мо-
500
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
жем не иметь к ним того чувства, которое человек, желающий
улучшений в жизни, имеет к обскурантам и ретроградам. Они говорят
о своей добросовестности, об искренности своих убеждений. Но
разве огромное число всяких вообще обскурантов не состоит также из
людей добросовестных? Мало того, чтобы быть человеком честным,
нужно также думать о том, чтобы не отстать от потребностей века
в своем образе мыслей. Тяжко грешит против общества тот, кто
воображает, что не нужно ему проверять понятий, бог знает как и бог
знает когда зашедших к нему в голову и принадлежащих положению
общества, далеко не похожему на нынешнее. Но если таково наше
мнение о так называемых экономистах, то читатель видел, что мы
вовсе не подвергаем безусловному осуждению теорию Адама Смита
и Рикардо, которой они до сих пор продолжают держаться. Нам
кажется, что отличие новой теории от этой устарелой состоит только
в том, что новая теория, овладевая существенными выводами старой,
развивает их с полнотой и последовательностью, которых не
могла достигать прежняя теория. Прежняя теория провозглашала
товарищество между народами, потому что благосостояние одного
народа нужно для благосостояния других. Новая теория проводит тот
же принцип товарищества для каждой группы трудящихся. Прежняя
теория говорит: все производится трудом; новая теория прибавляет:
и потому все должно принадлежать труду; прежняя теория говорила:
непроизводительно никакое занятие, которое не увеличивает массу
ценностей в обществе своими продуктами; новая теория прибавляет:
непроизводителен никакой труд, кроме того, который дает
продукты, нужные для удовлетворения потребностей общества, согласных
с расчетливой экономией. Прежняя теория говорит: свобода труда;
новая теория прибавляет: и самостоятельность трудящегося.
Мы все говорили только о духе экономического порядка,
требуемого теорией трудящихся, но не говорили о тех способах,
которыми она предполагает достичь своей цели. Если читатель припомнит
сказанное нами в начале статьи о характере правил,
представляющих способ исполнения, он не будет ожидать, чтобы мы
предложили какой-нибудь способ, как неизбежный и непременный. Способ
зависит от нравов народа и обстоятельств государственной жизни
его. Англичанину кажется удобным расположение квартиры в два
или три этажа, о чем и не думают другие народы. Строить его дом по
одному плану с русским или французским значило бы напрасно тре-
Капитал и труд
501
вожить его привычки. Можно сказать вообще только то, что каждый
дом должен быть опрятен, сух и тепл. Различных планов для
исполнения требований новой теории находится много, и который из них вы
захотите предпочитать другому, почти все равно, потому что каждый
из них в существенных чертах своих сходен с другими и
удовлетворителен, и из каждого легко могут быть удалены те подробности,
которые составляют причину споров между его приверженцами и
защитниками других планов. Экономисты и обскуранты всякого рода,
либеральные и нелиберальные, говорят, что всеми этими планами
стесняется индивидуальная свобода. Мы теперь не можем читать без
улыбки такой упрек, потому что припоминаем о том, как случалось
нам потешаться над ним в изустных спорах. Мы употребляли
военную хитрость такого рода: когда говорили нам, что теория, нами
защищаемая, стесняет индивидуальную свободу, мы спрашивали: о ком
же, например, из главных мыслителей этой теории может сказать
это наш противник? Он называл несколько имен. Мы спрашивали,
которое из них принадлежит самому злейшему стеснителю свободы?
Узнав, кто именно жесточайший тиран, мы говорили, что не можем
защищать его, и переменяли разговор. Через четверть часа мы, под
именем плана, составленного собственно нами, излагали теорию
писателя, защищать которого отказывались прежде, и спрашивали
у нашего противника замечаний о недостатках, какие могут быть
в вашем плане; он делал разные замечания, но никогда не случалось
нам слышать в числе их, чтобы изложенный план стеснял свободу.
Выслушав до конца, мы говорили, обращаясь к другим собеседникам:
«изложенный мною план, в котором г. такой-то, находя всякие
недостатки, не нашел стеснительности для свободы, принадлежит
именно тому мыслителю, идеи которого он называл стеснительными для
свободы». После этого защитник свободы, разумеется, не мог
продолжать спора: оказывалось, что он не имел понятия о том, что осуждал.
Это средство очень верное. Действительно, почти ни один из людей,
нападающих на так называемые утопические планы, не знает
хорошенько сущности ни одного из этих планов. Да и удивительно ли,
что экономисты не имеют отчетливого понятия об идеях своих
противников, если обыкновенно остаются незнакомы хорошенько даже
с Адамом Смитом, которого называют своим учителем?
Пользуясь способом, о котором мы сейчас говорили, мы
предлагаем свой план осуществления теория трудящихся, прося читателей
502
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
обратить внимание на то, стесняется ли свобода этим планом,
который приспособлен к нравам стран, потерявших всякое сознание
о прежнем общинном быте и только теперь начинающихся
возвращаться к давно забытой идее товарищества трудящихся в
производстве. Надобно сказать также, что в государстве, для которого
предназначался этот план, правительство ежегодно бросает десятки
миллионов на покровительство сахарным заводчикам и оптовым торговцам.
Кроме того, оно дает десятки миллионов компаниям железных дорог
и тратит десятки миллионов на разные великолепные постройки.
Правительство назначает такую сумму, какая сообразна с его
финансовой возможностью для первоначального пособия основанию
промышленно-земледельческих товариществ. За эту ссуду оно
получает обыкновенные проценты, и ссуда погашается постепенными
взносами в казну из прибыли товариществ. Само собой разумеется,
что пособия от казны предполагаются только для ускорения дела.
Теперь есть много примеров, что если оптовые торговцы и компании
железных дорог получают пособия, то нельзя назвать излишней
притязательностью предположение, что трудящийся класс также имеет
некоторое право ожидать от государства такого содействия, которое
не будет стоить ни одной копейки казне: получая проценты и
постепенно возвращая выданный капитал, она тут не жертвовательница,
а просто посредница между биржей и трудящимся классом.
Теперь идея товарищества дело еще новое, и для ее осуществления
нужна некоторая теоретическая подготовленность. Потому на
первый раз ведение дела поручается человеку, которого правительство
признает представляющим надлежащие гарантии знания и
добросовестности.
Приглашаются желающие участвовать в составлении
товарищества. Число участников в каждом товариществе полагается от 1 500
до 2 000 человек обоего пола; они принимаются в товарищество
с согласия директора, который отдает предпочтение семейным
людям над бессемейными. Таким образом, товарищество состоит из 400
и 500 семейств, в которых будет до 500 или больше взрослых
работников и столько же работниц. Как поступили они в товарищество по
своему желанию, так и выходить из него каждый может, когда ему
вздумается.
В государстве, к которому относится план, находится среди полей
множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающих-
Капитал и труд
503
ся за бесценок. Для товарищества всего выгодней будет купить одно
из таких зданий, поправка которого не требовала бы особенных
расходов. Но если оно найдет выгоднейшим, то можно построить новые
здания; словом сказать, дело это ведется совершенно по такому же
расчету, как постройка или покупка здания для какого-нибудь
обыкновенного промышленного заведения. Надобно только, чтобы при
здании было такое количество полей и других угодий, какое нужно
для земледелия по расчету рабочих сил товарищества.
Разница от обыкновенных фабрик и домов для помещения
работников состоит в том, что квартиры устраиваются с теми удобствами,
какие нужны по понятиям самих работников, которые будут жить
в них. Так, например, квартира для семейного человека должна иметь
число комнат, нужное для скромной, но приличной жизни. Число
квартир устраивается приблизительно соразмерное с числом
желающих пользоваться такими квартирами. Но кому не угодно жить в этом
большом здании, тот может нанимать себе квартиру, где найдет
удобным. Обязательного правила тут нет никакого.
При здании находятся принадлежности, которые требуются
нравами или пользою членов товарищества. По нравам того народа
и его потребностям такими принадлежностями считаются: церковь,
школа, зала для театра, концертов и вечеров, библиотека. Кроме того,
разумеется, должна быть больница.
По архитектурным сметам, то есть по цифрам, точность которых
каждый может проверить, оказывается, что такое здание, со всеми
своими принадлежностями и удобствами, будет стоить такую сумму,
что лица, поселившиеся в нем, получат квартиру и гораздо лучше
и гораздо дешевле помещений, в каких живут ныне. Цена за квартиры
полагается такая, чтобы за вычетом ремонта капитал, затраченный на
здание, давал процент, обычный в том государстве.
Товарищество будет заниматься и земледелием, и промыслами
или фабричными делами, какие удобны в той местности.
Инструменты, машины и материалы, нужные для этого, покупаются на счет
товарищества.
Словом сказать, товарищество находится относительно своих
членов в таком же положении, как фабрикант и домохозяин
относительно своих работников и жильцов. Оно ведет с ними совершенно
такие же счеты, как фабрикант с работниками, домохозяин с
жильцами. Нового и неудобоисполнимого тут очень мало, как видим.
504
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Теперь, когда здание готово и все нужное для работ приобретено,
начинается дело.
Одним из важных экономических расчетов служит то, что
земледелие требует громадного количества рук в недолгие периоды посева
и уборки, а в остальное время представляет мало занятий.
Товарищество должно пользоваться временем как можно расчетливее, потому
во время горячих земледельческих работ все члены его
приглашаются заниматься земледелием, а другими промыслами и работами
занимаются в свободное от земледелия время. Впрочем, обязательности
и тут нет никакой: кто чем хочет, тот тем и занимается. В каждом
промысле для каждого разряда работников существует та самая
плата, какая обычна для него в тех местах. Какое же средство привлечь
все руки к земледелию, когда оно требует наибольшего числа рук?
Товарищество знает, что количество работы составляет сущность
дела, потому во время посева и уборки назначает за земледельческую
работу такую плату, чтобы огромное большинство членов его,
занимающихся обыкновенно промыслами, увидело для себя выгоду
обратиться на время к земледелию. Как видим, товарищество держится
в этом случае обыкновенных в нынешнее время средств: оно
держится их и во всех других случаях. Работники, не занимавшиеся до той
поры земледелием, на первый год, конечно, будут пахать или косить
хуже записных земледельцев; но под их руководством исполнят
новое дело сносным образом, а на следующие годы и вовсе привыкнут
к нему.
Мы говорили, что каждый занимается тою работою, какую знал
или какую хочет выбрать. Разумеется, однако ж, что товарищество
и в этом случае руководится расчетом. Сапожники, портные,
столяры, конечно, для него нужны, и оно найдет выгодным иметь такие
мастерские. Но если бы иной член вздумал заняться производством
ювелирных вещей, товарищество рассудит, нужна ли ему такая
работа: если нужна, оно заведет ювелирную мастерскую, если нет,
то скажет ювелиру, что когда он непременно хочет заниматься только
ювелирством, а не другим чем-нибудь, то пусть ищет себе работы где
ему угодно, а оно, товарищество, не может доставить ему мастерской
такого рода. На первый раз этот разбор возможного и невозможного
зависит от благоразумия директора, который набирает членов.
Но власть директора не ограничена только до того времени, пока
записываются поступающие члены; как только состав товарищества
Капитал и труд
505
определился, члены его по каждому промыслу выбирают из своего
числа административный совет, согласие которого нужно во всех
важных делах и вопросах, относящихся к этому промыслу; а все
члены товарищества выбирают общий административный совет,
который постоянно контролирует директора и выбранных им
помощников и без согласия которого не делается в товариществе ничего
важного.
Но вот прошел год; члены товарищества успели достаточно узнать
друг друга и приобрести опытность в том, как ведутся дела. Власть
прежнего директора, назначенного правительством, становится уже
излишней и совершенно прекращается. Со второго года все
управление делами товарищества переходит к самому товариществу; оно
выбирает всех своих управителей, как акционерная компания выбирает
директоров. Быть может, опыт и наклонности членов товарищества
указали неудобства некоторых определений устава, которым
управлялось товарищество в первый год. В таком случае, что же мешает
товариществу изменить их по своим надобностям и желаниям?
Конечно, если первоначальный директор был человек рассудительный,
если он принимал людей в члены товарищества с
осмотрительностью, то члены набрались такие, которые понимают, в чем сущность
дела, к которому они присоединились. Они, вероятно, понимают, что
товарищество существует для возможно большего удобства и
благосостояния своих членов, что сущность его состоит в устройстве, по
которому каждый работник был бы свободным человеком и трудился
в свою пользу, а не в пользу какого-нибудь хозяина. Вероятно также,
что эти люди будут люди, а не звери, то есть не станут забывать, что
общество обязано, по возможности, заботиться о сиротах и других
беспомощных своих членах; вероятно, они не захотят уничтожить
ни школы, ни больницы, видя, что есть у товарищества достаточно
средств для их содержания. А если так, то они останутся верны духу
и цели своего товарищества и тогда, когда от них будет зависеть
изменять, как им самим угодно, устав его. А если так, то надобно
полагать, что устав этот они не испортят, а разве усовершенствуют. Что
именно сделают они для его усовершенствования, это уже их дело,
а наше дело только рассказать, какой порядок заводится в
товариществе первоначальным уставом, действовавшим в первый год; одну
часть его, относящуюся к производству, мы изложили; теперь
займемся другою, относящеюся к распределению и потреблению.
506
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Можно, кажется, предположить, что работники, получая от
товарищества обыкновенную плату обыкновенным порядком, будут
работать не хуже обыкновенного. Мы предполагаем, что управлению
товарищества едва ли понадобится прибегать к исключению какого-
нибудь члена товарищества за леность; а если понадобится — что
делать! — оно исключит его, как отпускает фабрикант слишком
ленивого работника. Но ленивых работников будет в товариществе меньше,
нежели на частных фабриках: имея, как мы увидим, более прямую
выгоду от усердия в работе, члены товарищества, вероятно, останутся
верны общему качеству человеческой природы, по которому усердие
к делу измеряется выгодностью его, и потому надобно полагать, что
работа в товариществе пойдет успешнее, чем на частных фермах и
фабриках, где наемные рабочие не участвуют в прибыли от своего
труда.
Если у фабриканта остается значительная прибыль, за вычетом
заработной платы и других издержек производства, то остается она
и у товарищества. Одна часть этой прибыли пойдет на содержание
церкви, школы, больницы и других общественных учреждений,
находящихся при товариществе; другая — на уплату процентов по ссуде
из казны и на ее погашение; третья — на запасный капитал, который
будет служить, так сказать, застрахованному товариществу от разных
случайностей. (Если товариществ много, этот запасный капитал
служит основанием для их взаимного застрахования от разных невзгод.
Когда же возрастание его представит возможность, он также
обращается на пособие вновь основываемым товариществам.) За
покрытием всех этих расходов должна остаться значительная сумма, которая
пойдет в дивиденд всем членам товарищества, каждому по числу его
рабочих дней.
Наш устав написан именно в том предположении, что эта сумма,
остающаяся для дивиденда, будет значительна. Почему мы так
думаем? Просто потому, что хозяин частной фабрики также имеет все
расходы, которые мы вычитали из прибыли товарищества: он также
платит проценты по своим долгам и погашает их, также содержит,
если только он человек честный, и церковь, и школу, и больницу
(и надобно заметить, что, чем больше он тратит на эти учреждения,
требуемые понятиями или пользами его работников, тем больше
остается у него чистой прибыли); наконец он также застраховывает
свою фабрику, — издержка, соответствующая образованию запасно-
Капитал и труд
507
го капитала в товариществе, — и за всеми этими расходами у него
все еще остается значительная сумма, которая одна собственно и
составляет его прибыль: он бросил бы свою фабрику, если бы эта
сумма, остающаяся у него в руках, не была значительна. Нет причины
полагать, чтобы работа у товарищества шла менее успешно, нежели
у него, а есть причина полагать, что она пойдет успешнее; потому-то
и мы говорим, что дивиденд в товариществе будет значителен. Этот
дивиденд составляет одну сторону выгодности товарищества для его
членов; он возникает из производства. Другую сторону выгодности
доставляет посредничество товарищества в расходах его членов на
потребление.
Мы уже говорили, что все желающие члены пользуются в
общественном здании квартирами, которые лучше и дешевле
обыкновенных. Точно так же они могут брать, если захотят, всякие нужные им
вещи из магазинов товарищества по оптовой цене, которая гораздо
дешевле обыкновенной, розничной. Кому, например, кажется
удобным покупать сахар по 20 коп. за фунт, а не по 30, как он продается
в маленьких лавках, тот может брать его из магазина товарищества,
которое покупает сахар прямо с биржи, стало быть, имеет его 30-ю
процентами дешевле, чем получается он из мелких лавок. Но,
разумеется, кому угодно платить не 20, а 30 коп. за фунт, тот может покупать
его, где ему угодно. Для людей небогатых главный расход составляет
пища. Кому угодно самому готовить свой обед, может готовить его,
как хочет. Но кто захочет, тот может брать кушанья к себе на
квартиру из общей кухни, которая отпускает их дешевле, нежели обходятся
они в отдельном маленьком хозяйстве; а кому угодно, тот может
обедать за общим столом, который стоит еще дешевле, нежели покупка
порций из общей кухни на квартиру.
Нам кажется, что во всем этом нет пока ровно ничего особенно
ужасного или стеснительного. Живи где хочешь, живи как хочешь,
только предлагаются тебе средства жить удобно и дешево и кроме
обыкновенной платы получать дивиденд. Если и это стеснительно,
никто не запрещает отказываться от дивиденда.
Вот именно этот самый план имеет свойство возбуждать в
экономистах отсталой школы неимоверное негодование своей ужасной
притеснительностью, своим противоречием со всеми правилами
коммерческого расчета, своею противоестественностью и своим
пренебрежением к личному интересу, без которого нет энергии
508
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
в труде. Хороший отсталый экономист скорее согласится пойти
в негры и всех своих соотечественников тоже отдать в негры, нежели
сказать, что в плане этом нет ничего слишком дурного или
неудобоисполнимого.
Почему же такая простая и легкая мысль до сих пор не
осуществилась и, по всей вероятности, долго не осуществится? Почему такая
добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и
честных? Это вопросы интересные. Но ими мы займемся когда-нибудь
в другой раз.
О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ РИМА
Разбирать знаменитую книгу Шзо, издание которой в русском
переводе — дело очень похвальное и полезное, мы не будем. Она
слишком известна, стало быть, выставлять ее достоинства
бесполезно. Разбирать недостатки? Но главные недостатки взгляда
Гизо вовсе не особенные его недостатки: повсюду, как у него, вы
прочтете, что древний мир был неспособен к дальнейшему
прогрессу, потому его разрушение было спасительно для человечества,
и умер он от внутренних смертельных болезней; что варвары
внесли с собою новые, высшие элементы, бывшие необходимыми для
блага человечества; что папская власть, возникшая на основании
варварства, была в свое время спасительна; что монашеские ордена
были в свое время полезнейшими деятелями цивилизации, которая
только и сохранилась благодаря монастырям; что феодализм, имея
такие-то и такие-то недостатки, не должен, однако же, быть
порицаем безусловно; что вообще и средние века не так дурны, как
утверждал Вольтер с энциклопедиями, и т. д. и т. д. Если мысли эти
верны, Шзо столько же следует хвалить за них, сколько за то, что
он верит в обращение земли около солнца, — это просто
господствующее мнение; если эти мысли ошибочны, опять в упрек ему
ставить их нельзя. Лично человек не подлежит никакому упреку,
если все так думают или делают, как он. Самому Шзо принадлежит
только мастерское изложение господствующего взгляда, а иногда —
очень дельные исследования в его подтверждение. За то и за другое
нельзя не похвалить его; но ведь не писать же статью в мастерском
изложении, и нельзя же наполнять журнала разбором специальных
изысканий о каких-нибудь частных вопросах средневековой
истории. Следовательно, о главном направлении Гизо нет надобности
много говорить.
Но в господствующем направлении исторических понятий есть
много оттенков; в предпочтении того или другого оттенка уже
выказывается личность писателя, уже состоит личное его достоинство
или недостаток. Эту сторону дела мы рассматривали в рецензии
русского перевода «Истории цивилизации в Европе» — книги, служащей
предисловием к «Истории цивилизация во Франции». Стало быть,
распространяться об этом теперь нет нужды.
510
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Но если мы ничего не хотим говорить здесь о сочинении Шзо, то
думаем коснуться самого предмета, о котором трактует книга.
«Современник» порицают за недостаток серьезности, учености, — а вот
покажем же, что можем быть солидными, то есть донельзя сухими
и скучными (в этом смысле понимается солидность нашими
порицателями), напишем статью о предмете, перед которым Суэцкий
канал и зундская пошлина — сюжеты занимательные. Не угодно ли
вам порассудить с нами, например, о великом переселении народов,
о герулах и франках салийских, о визиготах и алеманнах, о Гензе-
рихе и Сигеберте151. Угодно ли, не угодно ли вам, а извольте слушать
следующую диссертацию об отношении этих занимательных племен
и лиц к не менее занимательным Максиминам, Максимианам и Мак-
сенциям152.
Факт, с которого начинается история нового мира, — занятие
провинций Римской империи варварами. По обыкновенному
понятию толкуют о каком-то очень курьезном содействии этого факта
историческому прогрессу, даже утверждают, что без него все пропало
бы: только он и спас погибавший мир. Видите ли, римский мир уже
совершенно истощил все свое содержание, ничего нового и лучшего
не мог развить из себя, — по обыкновенному выражению, умирал.
На этом способе рассуждения опираются разные вздорные мечтания
и о нынешних делах. Если бы толковали только о древней Римской
империи, то мало было бы нам огорчения и вреда. Но беда в том, что
точно так же трактуют о вопросах, важных для нынешней
практической жизни народов, в особенности народов полуварварских.
«Западная Европа отжила свой век, истощила свои жизненные
элементы; западные народы не способны продолжать дело прогресса; мир
должен возобновиться падением этих народов и заменой их новыми,
свежими племенами». Вы спрашиваете доказательств —
доказательство одно: так было полторы тысячи лет тому назад с римским миром;
для продолжения прогресса необходимо было смениться прежним
народам новыми, свежими племенами. После такого аргумента
начинаются ликование и хвастовство: «А вот уж мы и готовы возобновить
мир, внести в историю новые прекраснейшие элементы. Какие мы,
право, молодцы! Вот не нынче — завтра облагодетельствуем
человечество». Насколько это мнение происходит прямо из тщеславия,
спор против него бесполезен. Тщеславие не исправляется никакими
словесными доводами; оно уступает место справедливому сознанию
О причинах падения Рима
511
своих достоинств лишь тогда, когда в людях действительно
разовьются достоинства, приносящие им справедливую честь. Человек
уже так устроен, что ему непременно хочется гордиться собой:
нельзя гордиться путно, он гордится беспутно и становится рассудителен
в этом отношении лишь тогда, когда приобретет истинные заслуги.
Но насколько тщеславный взгляд претендует опираться на
аргументацию, насколько он раздувается и укрепляется будто бы учеными
отображениями, спор против него не остается без результатов:
тщеславие все-таки принуждено бывает становиться несколько
осмотрительнее и умереннее, когда докажут ему, что вздорность его очевидна:
вот поэтому и разберем мы роль варваров при мнимом
спасительном пособии их прогрессу человечества через занятие римских
провинций.
Чрезвычайно часто бывает, что при рассуждениях о какой-нибудь
вещи забывается одна неважная штука — сущность вещи. Сколько
толкуют, например, о благодетельных последствиях какой-нибудь
войны, забывая лишь одно то, что война разоряет обе воюющие
стороны, а разорение ведь не бог знает как хорошо и полезно. Вот этим
самым недостатком страдает и обыкновенное толкование о
благотворности завоевания римских провинций варварами, что они
будто бы принесли пользу прогрессу этим завоеванием. Да подумайте
только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар.
Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его
прямо и состоит в успехах и развитии знаний. Приложением
лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится
прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от
этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной
механики совершенствуются всякие фабрикации, мастерства и т. д.
Развивается химия; от этого развивается технология; от развития
технологии всякое техническое дело идет лучше прежнего.
Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые
понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она
устраивается успешнее прежнего. Наконец всякий умственный труд
развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране
выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, чем
больше в стране становится людей грамотных, просвещенных, тем
больше становится в ней число людей, способных порядочно вести
дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сто-
512
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
рон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука,
успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени
распространенности знаний. Вот что такое прогресс — результат
знания. Что же такое варвар? Человек, еще погрязший в глубочайшем
невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем
и человеком сколько-нибудь развитого ума, который к дикому зверю
едва и не ближе, чем к развитому человеку. Какая же тут может быть
польза для прогресса, то есть для знания, когда люди сколько-нибудь
образованные заменяются людьми, еще не вышедшими из
животного состояния? Какая польза для успеха в знаниях, если власть из рук
людей сколько-нибудь развитых, переходит в руки невежд, незнанию
и неразвитости которых нет никакого предела? Какая польза для
общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но все-
таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть
несколько разумное, — заменяются животными обычаями?
Говорят: «римский мир истощил свои жизненные силы». Тут опять
забывается сущность вещи. О чем говорится? О населении Римской
империи. Что же, разве люди, его составлявшие, утратили
человеческую натуру? Разве они перестали родиться имеющими человеческий
ум и человеческие наклонности? Или разве по какому-то особенному
случаю все люди в Римской империя рождались идиотами? Что за
вздор! Пока общество состоит из людей, оно имеет в себе все
свойства человеческой натуры. Отживает свою жизнь организм
отдельного человека; но с каждым вновь родившимся человеком является
новый организм с новыми свежими силами, и при каждой смене
поколений возобновляются силы народа. Прошло 20 лет, —
двадцатилетний юноша стал сорокалетним мужчиной и потерял юношескую
свежесть чувств, не влюбляется, не дурачится; но ведь это произошло
с Петром, а в эти 20 лет вырос Иван, новый двадцатилетний
юноша, который теперь имеет ту же самую свежесть чувств точно так же
влюбляться и дурачиться, как было с Петром за 20 лет; прошло еще
20 лет, Ивану 40 лет, и он утратил свежесть чувств. А Петр, бывший
в 40 лет здоровенным работником, стал теперь 60-летним стариком
и не может работать так много и хорошо, как прежде; но ведь его
место занял Иван, а подле Ивана вырос новый двадцатилетний юноша
Андрей, который теперь имеет точно такую же свежесть чувств,
какую имел Иван 20 лет, а Петр — 40 лет тому назад. И какая тут
перемена в составе общественных сил? Ведь и 20 лет тому назад тоже были
О причинах падения Рима
513
60-летние старики, кроме 40-летних и 20-летних людей; ведь и 40 лет
тому назад были 40-летние мужчины и 60-летние старики кроме
20-летних юношей? Как же это общественные силы могут
истощаться? Как может уменьшаться в обществе свежесть и молодость, пока
не перестают родиться люди? Кажется, пока родятся младенцы,
существует в обществе кормленье грудью, прорезыванье зубов; пока
младенцы вырастают в детей, существуют в обществе детские игры,
с звонким детским смехом; пока вырастают дети в юношей,
существуют в обществе благородные юношеские стремления с
опрометчивыми юношескими увлечениями, с чистою юношеской любовью;
а неужели вы думаете, что когда-нибудь не было в обществе
стариков с старческой усталостью и холодностью? Риторика вещь
прекрасная, — почему не городить иногда риторический вздор? — оно
и нужно бывает иногда для эффекта; но не следует же постоянно
ослепляться своей риторикой для того, чтобы совершенно забывать
здравый смысл и факты. Стареет отдельный человек, в обществе
пропорция свежих и усталых сил вечно остается одинакова. Пожалуйста,
не противоречьте физиологии, не утверждайте, что бывают народы,
состоящие из людей безголовых или не имеющих желудка, или
исключительно из одних стариков, или исключительно из одних
молодых людей, — ведь каждая из этих четырех фраз одинаково нелепа.
Что за охота выказывать себя глупцом или лгуном.
«Нет, говорят нам, вы не так поняли наши слова; мы говорили не
о количестве сил в обществе, а лишь о том, что формы
общественной жизни сложились очень дурно, не было простора человеческим
силам, не было выхода из этих форм, не было в обществе сил
переработать эти формы, выработать из них новые, более широкие». Так?
Ну, теперь верно изложена ваша мысль? На этом вы стоите? А прежде
мы не так излагали ваш взгляд? Полноте, да разве вы говорите что-
нибудь иное, чем ту же нелепость, от которой уже отказались, только
облекаете ее в другую форму, более хитрую? Как же это в обществе
недостает сил, а прежде когда-то доставало? Значит, количество сил
в обществе уменьшилось? А ведь вы сами сознались, что это —
нелепость. «Нет, возражаете вы, вы опять не так перетолковали: мы не
то говорим, что количество сил в обществе уменьшилось, а то, что
препятствия к деятельности этих сил стали тяжелее прежнего;
формы слишком укоренились; обществу нужно бы перерасти их, чтобы
приобрести простор, а они слишком тверды, не может оно сломить
514
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
их». Извините меня: не я перетолковываю ваши слова, а вы сами не
понимаете, что говорите. Изложишь вашу мысль, вы говорите: «вот
так, вот именно так мы и думаем»; попросишь вас всмотреться в эту
мысль, скажешь: «так ведь это значит вот что», — вы и
отказываетесь: «нет, говорите, мы не то думали, а другое». А по правде сказать:
вы просто думали вещи несообразные, произносили слова, не
вникая в их смысл: «дерево растет из железа», — помилуйте, из какого
железа? — «Нет, мы не то хотели сказать; а что дерево растет из
железной руды». — Нет, и не из железной руды оно растет. — «Опять вы
не так толкуете: не то, что из железной руды, а из земли, в которой
бывает и железная руда». — Да разве из тех кусков земли растет оно,
которые составляют руду? — «Ну, разумеется, мы так и хотели
сказать, что железная руда не участвует в росте дерева. Мы только хотели
сказать, что на земле растут деревья и железо тоже лежит в земле».
Так рассудили бы вы, о чем хотите говорить; если о росте дерева,
то не приплетали бы к нему железа; а если о железе, так не
приплетали бы к нему как растет дерево. А то вы просто говорите путаницу.
Вот хоть бы и теперь, в этой последней форме, на которой вы
остановились. «Обществу стеснительны были укоренившиеся формы,
ему нужно было бы перерасти их». — Ну, что же это значит? Значит,
в обществе была прогрессивная сила, была надобность в
прогрессе; а вы начали с того, что общество было неспособно к прогрессу;
да как же оно было неспособно к тому, к чему оно имело силы? —
«Оно было способно к прогрессу; но препятствия были слишком
сильны; не могло оно переработать укоренившихся сил». — То есть,
как же не могло? Чьей силой были созданы эти формы? Ведь силой
общества; а количеств сил в обществе не уменьшилось; как же оно
стало бессильно над тем, над чем прежде оно было сильно? Разве
разрушать труднее, чем создавать? Подумайте, что вы говорите:
каменщики, построившие дом, не в силах разломать его; столяр, сделавший
стол, кузнец, сковавший якорь, не в силах разрушить его. — «Ах, боже
мой, вы все не так толкуете: ведь мы говорим не о том, что у общества
было мало сил, а о том, что формы слишком укоренились». — Да что
же это «укоренились»? Это, верно, опять метафора о дереве, растущем
из железа? Форма — факт. Факт существует только постоянной
поддержкой от силы, которая произвела его. Чтобы он исчез, слишком
много будет, если сила прямо обратится на его разрушение;
довольно будет, если она перестанет поддерживать его, он сам собой падет.
О причинах падения Рима
515
«Укоренилось!» — метафора, уподобление дереву! Посмотрите же вы
на дерево: разве оно все укореняется? — Укореняется до известной
поры только, а потом начинает ветшать, падает, искореняется. Для
этого не нужно, собственно, ни бурь, ни наводнения, довольно того,
что растительная сила, поддерживавшая это дерево, начинает
покидать его, что свежие соки из почвы перестают с любовью
втягиваться в него, устремляются к чему-нибудь другому Если уж брать вашу
метафору об укоренении, из нее же самой выходит вот что:
общество — почва, на которой вырастают формы общественной жизни;
вырастают они из свежих соков этой почвы; пока они привлекают
к себе эти свежие соки, они растут, укореняются; когда свежим
сокам перестало быть привлекательно устремляться в эти формы, когда
они стали привлекаться к чему-нибудь другому, укоренившиеся
формы, как бы глубоко ни укоренились, начинают слабеть, искореняться,
и на место их возникают новые формы, с которыми потом будет
то же. — «Но когда почва истощилась, когда свежих соков нет?»
Ну вот и прекрасно, опять дерево у вас «растет из железа», опять
старая песня: в обществе нет свежих сил, — а вы уж, кажется, сознались,
что это — нелепость, что истощается отдельный человек, а не
общество, что количество свежих сил в обществе никогда не только
исчезать, но и уменьшаться не может. Или вам слишком нравится
метафора о корнях, дереве и почве? Да разберите хоть эту метафору, она
сама изобличит вашу нелепость, разве истощается почва оттого, что
покрывается растительностью, что эта растительность становится
роскошнее и роскошнее? Кажется, на самом деле бывает наоборот;
опадающие листья, истлевающие корни удобряют почву,
открывают больше простора; если в нынешнем году была растительность,
в следующем она будет лучше нынешней именно потому, что ей
предшествовала нынешняя растительность. Вот скала, почти голая, едва
прикрытая мхом, видным лишь в микроскоп; жизнью этого моха
образуется слой почвы для более заметной растительности;
постепенно является трава, за ней кустарник, наконец лес, и чем дальше растет
лес, тем глубже становится растительный слой, тем привольнее
расти лесу, тем больше свежих соков находит он себе в почве, все
улучшающейся без конца. Вот метафора, изображающая жизнь общества.
В самой себе не имеет она конца от истощения сил; напротив, чем
дальше длится она, тем роскошнее становится обилие свежих сил для
ее продолжения в формах, все совершеннейших. Но вас смущают те
516
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
примеры, что прогресс иногда уничтожается в известных странах,
в известном народе; вы не знаете, каких причин искать этому, и в
недоумении вашем сваливаете вину на самое общество. Да попробуйте
же обратиться хоть к вашей любимой метафоре об укоренении,
росте и т. д. Она поможет вам понять дело, если вы не станете искать
в ней только риторических фраз, а вникнете в факт, чтобы
сообразить действие законов природы. Разве лес не исчезает иногда?
Разве не заменяются результаты долгого развития растительных сил
жалкими низшими формами? Разве не появляется иногда
ничтожный бурьян или какой-нибудь дрянной коряжник на том месте, где
был прекрасный лес? Скажите, отчего это бывает? От истощения ли
почвы? — Нет, вы знаете, что это происходит от внешних фактов,
совершенно посторонних самому лесу и его внутренней жизни.
Случится гроза, зажжет лес молния, вот он и сгорел; чем он был тут
виноват? или чем виновата почва, на которой он вырос? Но,
разумеется, если вы не хотите довольствоваться замысловатым натуральным
объяснением, вы можете натянуть софизмами ход событий так, что
погибель леса окажется, по вашему толкованию результатом форм,
принятых его жизнью. И можете вы доказывать, что погибший лес
не мог продолжать расти сам собой от внутренних пороков. В
самом деле, почему молния могла сжечь лес? Конечно, только потому
что много было в нем высохшего, попадавшего на землю валежника,
много было на деревьях засохших или засыхавших ветвей, от
которых еще не успели освободиться деревья, много было и целых
деревьев, уже совершенно засохших, умерших, но еще
продолжавших держаться на корню, будто живыми. Значит, по-вашему, лес все
равно погибал уже? Э, полноте! То же самое было с той самой поры,
как начал разрастаться лес: с незапамятных времен было много
в нем валежнику, много было сухих деревьев; но ведь росли же подле
них новые, и разрастался же лес!
Метафоры чрезвычайно часто заменяют собой для огромного
большинства всякое непосредственное понимание дела:
«процветание», «укоренение», «увядание» — огромного большинства
историков; этими словами ограничиваются, в сущности, все понятия о ходе
истории. Потому-то мы и вникли в эту метафору, чтобы показать, что
даже из нее следовало бы извлечь взгляд на вещи более натуральный
и верный, чем какой распространен почти по всем историческим
книгам. Возвратимся, например, к факту, с которого начинается сред-
О причинах падения Рима
517
няя история. Какую книгу ни раскройте, от Гизо до г. Тимаева, везде
найдете одно и то же:
«Жизнь древнего мира была исчерпана, принципы ее развиты
вполне и истощены; древний мир разлагался, умирал и вместо него
для продолжения исторического прогресса должны были явиться
новые племена с свежими силами». Мы нарочно не употребляли тут
ботанических метафор о процветании, увядании, почве и т. д., —
обыкновенно речь бывает начинена еще этими метафорами; но скажите:
и без них что она такое, как не та же самая, слово в слово, метафора,
что, дескать, почва истощилась и нужна была новая почва, или что
лес умирает сам собой, и т.д.? Если вы, не обольщаясь риторикой и не
вводя в историю отвергаемых наукой понятий о назначении одного
народа на место другого (как на место столоначальника,
устаревшего или умирающего, назначается другой столоначальник с свежими
силами к отправлению должности), — если вы, не делая
невежественных гипотез, противоречащих законам природы, будете прямо
рассматривать дело, как оно было, вы найдете ему другое объяснение
или, лучше оказать, не найдете, а само собой оно найдется: и искать
его нечего, так оно просто. Да и объяснять дело почти нечего, так оно
будет ясно, лишь только вы позаботитесь свести главные черты его.
Мы сделаем лишь самый короткий очерк, возьмем лишь самые
главные факты; будем приводить лишь одну самую сильную причину
для каждого факта; потому очерк будет неполон: кроме главной
причины, были другие, подобные ей; кроме главного факта, были
другие очень важные, подобные ему. Но если читатель найдет нужным
дополнить наш очерк подробностями, то просим его не думать, что
мы не ценили их относительной важности. Мы имели целью не то,
чтобы отметить все, что полезно было бы отметить, а лишь одно
совершенно необходимое.
В то время как Рим возникал и постепенно усиливался в Средней
Италии, почти все пространство итальянского материка было
погружено в грубое варварство. Лишь несколько, не очень значительных
по объему, округов или успели достигнуть некоторой степени
цивилизации, более или менее самостоятельной, или получили
цивилизованное население из Греции. Из этих городов цивилизация стала
проникать в Рим, и мало-помалу он сделался главным центром ее
в Средней Италии. Какое положение дел настало, когда Рим,
благодаря превосходству военного устройства, данного ему цивилизацией
518
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
(у народов малоразвитых цивилизация прежде всего обращается на
военные цели, и в военном могуществе цивилизующийся народ
обыкновенно делает успехи быстрее, чем в других сторонах жизни), — что
мы видим в Италии, когда римская власть расширилась до реки По,
за которой начиналась тогда «дальняя» Галлия? Небольшое племя,
почти все сосредоточивавшееся в одном городе с его
окрестностями, овладевало обширной страной с многочисленным населением,
в котором лишь очень немногие небольшие частички были
несколько цивилизованы. Из своего центра оно основало много колоний по
важнейшим пунктам покоряемых земель. Этими рассадниками, при
пособии частичек, получивших цивилизацию раньше, население
Италии постепенно цивилизовалось. Когда ход дела достиг
некоторой высоты (столетия за два и за полтора до нашего летоисчисления),
явилась цивилизованная масса такой многочисленности, что
варварские и полуварварские народы, жившие в юго-западной Европе до
Дуная, в юго-восточной Европе на север от коренной Греции и по
восточному и южному берегам Средиземного моря, в Азии и Африке,
или не превосходили эту массу численностью каждый по одиночке,
или были малочисленнее. Например, лигуры или гельветы, белый
или иллирийцы могли вывести в поле тысяч 50 или 100; римляне
могли послать против них также тысяч 50 или больше войска. Какой-
нибудь полуварварский владетель Понта из Пергама, Сирии или
Армении мог выставить тысяч 50 или 150 войска; римляне могли
послать против него тысяч 100 или 80. Но римское войско было войско
вполне регулярное, а у тех варваров или полуварваров регулярного
войска или вовсе не было, или было мало, а масса сражающихся
состояла из милиции, плохо вооруженной, а еще хуже
дисциплинированной. Словом, тут было то же самое, что в столкновениях англичан
с разными ост-индскими государствами, только неравенства по
численности войск было меньше. Таким образом, римляне очень быстро
завоевали громаднейшее пространство земель, покоряя один народ
за другим, вроде того, как англичане завоевали Ост-Индию
(Македония тоже была страна полуварварская; образованная Греция,
попавшаяся в добычу римлянам, не была велика ни по пространству,
ни по числу жителей). Явилось государство, имевшее до 100 или
150 миллионов населения, от 100 тысяч до 150 тысяч квадратных
миль, которых четыре пятых части пространства и населения были
совершенно варварские, из остальной доли значительнейшая поло-
О причинах падения Рима
519
вина была полуварварская, и лишь Италия была уже порядочно
цивилизована, да еще был небольшой кусок цивилизованной земли на
востоке — маленькая Греция с разбросанными своими колониями.
Это известно каждому. Спрашивается теперь: какое положение дел
должно было возникнуть из этого? Варвары и полуварвары
понемногу цивилизовались, — вроде того, как теперь жители Ост-Индии. Дело
это шло не с быстротой молнии, — но что ж тут удивительного или
отчаянного? Вот Россия, в которой население в несколько раз
меньше, чем население Западной Европы, уже около 400 лет (не с Петра
Великого, а с Иоанна III) находится под сильным умственным
влиянием западноевропейского населения, несравненно
многочисленнейшего, чем мы, а ведь все еще нельзя нам слишком хвалиться
своими успехами, не бог знает как далеко ушли. Но что же тут погибает
и какая почва тут истощается? Вот точно так же и тогда: Пиренейский
полуостров, Галлия, Британия, южная окраина Германии, нынешняя
Турция европейская и азиатская, южная часть России, Северная
Африка с громадными своими населениями понемногу цивилизовались
влиянием, выходившим из Греции и Италии. Так прошло лет 400 или
500. Успехи всеми этими странами были сделаны очень порядочные;
но, разумеется, не успели же они достичь того уровня, на котором
были их цивилизаторы — римляне и греки.
Сначала, когда эти обширные страны стояли еще слишком
низко, небольшие цивилизованные страны, бывшие двумя центрами,
из которых разливался прогресс, легко сохраняли свое владычество
над ними, вроде того, как англичане в Ост-Индии довольно долго не
встречали опасности своему господству от народа, как только был он
раз покорен. Но мы заметили, что военная часть раньше всего
развивается у народа, начинающего цивилизоваться. Вместе с улучшением
способности сражаться начала пробуждаться у покоренных народов
мысль о независимости; начались восстания, более или менее
имевшие национальный характер и опиравшиеся на местное регулярное
войско, то возмутятся сирийские легионы, то возмутятся испанские
легионы, то возмутятся галльские легионы, — словом сказать:
начали происходить факты вроде недавнего возмущения бенгальской
армии153. Удивительно ли, что при таких обстоятельствах римляне
принуждены были управлять завоеванными странами по порядку,
в котором над всем преобладали военная часть и финансовая часть?
Сначала это было нужно для утверждения римской власти, потом —
520
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
для предотвращения и подавления попыток к отпадению. Точно так
же управляют англичане Ост-Индией. Войско и деньги на
содержание войска — как можно больше войска содержать в стране и как
можно больше денег брать в стране на содержание войска — ведь
и англичанам в Ост-Индии почти некогда думать ни о чем, кроме
этого. Точно так же было и с римлянами относительно провинций.
Спросим: неужели силы Ост-Индии истощаются от английского
господства? Неужели Ост-Индия не совершенствуется при нынешнем
порядке вещей? Слова нет, там еще очень дурно: и народ еще
чрезвычайно невежествен, и живет бедно, и подати тяжелы, и в управлении
много произвола; да разве это до англичан лучше было? Напротив,
несравненно хуже; а теперь все-таки становится с каждым годом
лучше: и дороги строятся, и дикие обычаи понемногу искореняются,
и число грамотных людей увеличивается между ост-индцами; вот уже
многие из них пишут книги вроде европейских, многие приобретают
европейские понятия о законах и законном порядке. Неужели это —
ход дела отчаянный? Положение очень дурно, но улучшается;
цивилизация еще очень слаба, но растет. К чему это приведет раньше или
позже? Спросите у самих англичан, они скажут: ост-индцы
цивилизуются; когда они оцивилизуются настолько, что не будут нуждаться
в нашем руководстве, Ост-Индия сделается независимой от Англии.
Добровольно ли мы уйдем из нее, прогонят ли нас, этого в точности
рассказать наперед нельзя; вероятно, будет отчасти добровольная
уступка, отчасти — принужденное вытеснение. Одним ли
государством останется Ост-Индия или распадется на несколько государств,
этого также нельзя рассказать вперед с точностью; но, вероятно,
будет несколько государств, потому что население распадается на
несколько огромных племен. Впрочем, все это, вероятно, будет еще не
так скоро, потому что до сих пор индийцы еще слишком далеки от
нужного для того уровня цивилизации. Это говорят сами англичане.
Что предвидят они относительно Ост-Индии, то уже начало
исполняться в римских провинциях. После долгих бесплодных попыток
к возвращению национальной независимости, — остававшихся
бесплодными по слишком малой еще тогда степени успеха провинций
в цивилизации, — Римская империя начала очень явственно
разделяться на 4 части: центром одной была Галлия, центром другой —
Италия, третьей — Греция, четвертой — Малая Азия. Что тут было
смертельного? Напротив, ведь в каждом учебнике говорится, что рас-
О причинах падения Рима
521
падение империи Карла Великого было результатом и свидетельством
успехов, сделанных нациями, основанием и залогом дальнейшего
прогресса. Вот то же самое началось и в Римской империи.
Управление империей посредством четырех, как будто федеративных
государей около времен Диоклетиана, или распределение империи на
четыре префектуры154, точно так же было фактом прогресса, как и
распадение империи Карла Великого. Тот и другой факт одинаково
показывают, что побежденные народы успели подняться настолько,
что уже не осталось прежнего чрезмерного расстояния между ними
и бывшими их завоевателями. Разница лишь в том, что римляне III
и IV веков нашего летоисчисления стояли по цивилизации гораздо
выше франков IX века, стало быть — и успехи, сделанные
провинциями в первые три века нашей эры, была гораздо значительнее
сделанных ими в первую половину средней истории.
Говорят, что стеснительность форм в Римской империи была
безвыходна, а грабительства римлян в провинциях безмерны.
Действительно, самоуправство и хищничество проконсулов, а потом
императорских правителей были чрезвычайно велики; а формы
управления были чрезвычайно обременительны. Но как ни дурно
было положение дел в Римской империи, по завоевании варварами
оно сделалось несравненно хуже. Римские гражданские и уголовные
законы имели значительную степень достоинства; по завоевании
варварами законом стал произвол, безумный каприз алчного и
кровожадного дикаря. Положим, что римский проконсул или префект
грабил и казнил очень свирепо. Но он и его помощники понимали,
что поступают жестоко и притеснительно, когда поступали таким
образом. Стало быть, они поступали так, лишь когда побуждал их
к тому расчет; они знали, по крайней мере, что резать и грабить
дурно, оставались справедливы и не жестоки во всех тех бесчисленных
случаях, когда не было им прямой пользы от несправедливостей.
Завоеватель-варвар был не таков: он резал людей так, как школьники
бьют мух — без всякой надобности, просто от скуки. Ему не нужно
было для этого уклоняться с пути, который он признавал
справедливым; у него не было ни колебаний, ни опасений, не было того
неприятного чувства, которое отталкивает человека от дурного дела
и для преодоления которого нужны особенные, довольно сильные
побуждения: нет, он не делал ничего дурного, когда резал и грабил.
Он делал это с тем чувством, с каким мы выпиваем рюмку вина или
522
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
садимся играть в преферанс. В VI или VII столетии жить было
несравненно хуже, чем в III.
И не только формы управления были в III веке менее
стеснительны, чем через 200 или 500 лет после того, — формы эти уже
готовились замениться в Римской империи лучшими. Основанием
для возможности притеснений было слишком низкое развитие
провинций сравнительно с Италией; по мере того, как провинции
цивилизовались, ослабевал этот главный источник бесправности их
жителей. Мы знаем, что право римского гражданства постепенно
предоставлялось одной провинции за другой и, наконец, было
распространено на всю Римскую империю. Конечно, сначала это право
оставалось почти только на бумаге по недостаточной приготовлен-
ности жителей провинций отстаивать его, по непривычке их считать
себя людьми. Но ведь всегда бывает так; и тоже, как всегда бывает,
провинции понемногу стали привыкать пользоваться своим правом
и желать лучшего.
Возникало общественное мнение; под конец Римской империи
оно уже достигало такой силы, что меры, принимаемые без
совета с ним, оказывались недействительными, и само правительство
увидело надобность призвать выборный элемент к участию в делах.
Градское и сельское управление мало-помалу было передаваемо
в руки самого общества, а в последние времена Римской империи
начали появляться императорские декреты об учреждении чего-то
похожего на провинциальные сеймы. Разумеется, эти уступки были
только формальными, — на деле императорская администрация
оставалась полновластной; но вначале ведь всегда так бывает.
Следовательно, формы политического устройства уже начинали
изменяться в направлении, открывавшем простор для гражданской
жизни провинций.
Столь же заметен прогресс в юридическом положении массы. Она
при завоевании провинций находилась в рабстве. Рабство довольно
быстро смягчалось, заменилось крепостным состоянием, и
крепостные люди начали постепенно приобретать больше и больше прав.
Таким образом, во всех отраслях цивилизованной жизни
Римская империя подвигалась вперед: просвещение в провинциях
распространялось; национальности шли к приобретению независимого
существования; в управлении стал являться выборный элемент; права
массы расширялись.
О причинах падения Рима
523
В чем тут признаки истощения сил, в чем зародыши смерти от
внутреннего изнурения? Напротив, везде видны зародыши более
полной жизни в лучших формах.
Варварскими нашествиями почти все существовавшее хорошее
было истреблено, римский мир отодвинут на несколько сот лет назад
к тем временам, когда владычествовали над Галлией дикие верцинге-
ториксы, бродили по Европе кимвры и тевтоны, или к временам еще
более далеким, когда Македония была населена дикарями, когда
опустошаема была Малая Азия скифами, или еще раньше, когда ходили
греки на TJxm Не раньше XVII века, быть может, только в половине
XVIII века успела континентальная Европа снова подняться до того
положения, до какого достигала в конце III, в начале IV века. Прогресс
был слишком на 1000 лет задержан падением Западной Римской
империи перед варварами.
Но, говорят, самая победа варваров над римской империей
показывала несостоятельность Римской империи. Если бы внутренние
силы римского мира не истощились, он легко отразил бы натиск
этих слабых дикарей.
То есть как же это «легко» и каких же это «слабых»? Внутренние
силы Римской республики, конечно, были в самом энергическом
процветании (если уже употреблять вашу метафору) около времен
Мария. Что же мы видим? Кимвры и тевтоны155 истребляют
несколько римских армий, чрезвычайно многочисленных, и Рим снова на
один волосок от опасности быть взятым варварами, как был взят три
столетия перед тем, как перед тем, как был взят через пять столетий
после того. Или легко было римлянам побеждать племена
Западной Германии при Августе? А с кем же тут боролись римляне? Лишь
с небольшой частицей, лишь с отдельными племенами дикарей одной
только западной окраины безмерного пространства от Рейна до
Амура, которое все занято было такими же воинственными дикарями.
Вообразим же себе, что все эти народы устремились на запад: не одни
прирейнские номады, как прежде, двигались на римлян, — эти
племена составляют теперь лишь ничтожный авангард несметных алчных
полчищ, которые волна за волной льются на цивилизованный мир
из глубины центральной и восточной Германии, из европейской
России, из Туркестана, из монгольской степи. Бьет первая волна, — она
отбита, но покрыла развалинами широкую полосу цивилизованного
прибрежья; за ней катится другая волна, за другой третья, и каждая
524
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
все выше, стремительней, и проникает все дальше. Так продолжается
в течение нескольких поколений, пока, наконец, не осталось в
цивилизованном мире уголка, который по нескольку раз не был бы
потоплен наплывом этих свирепых полчищ. Какие-нибудь кимвры и
тевтоны, составлявшие всего, может быть, сотую долю этого
варварского населения, поколебали Рим; свидетельствует ли об ослаблении
сил Римской империи тот факт, что она была подавлена всей грудой
этого номадного населения?
Надобно яснее представить себе отношение сил между
кочующими дикарями и цивилизованным народом. Когда цивилизованный
народ посылает регулярное войско для покорения дикой страны,
номады которой не думают идти всей массой на цивилизованную землю,
варварская страна завоевывается регулярным войском. Таковы были
походы Александра Македонского и римлян. Но если в
оборонительной войне номады слабы, потому что разделены обширностью своих
пустынь на племена довольно мелкие, то совершенно иное дело,
когда из глубины степей поднимаются эти кочевые племена и
двигаются через земли подобных себе дикарей на цивилизованную страну:
тут с каждым шагом стремящаяся масса их растет, захватывая в себя
или гоня перед собой племена, встречающиеся на пути. Сила дикарей
страшно вырастает и от того, что они соединяются в сплошную
массу, и от того, что они одушевлены расчетом на грабеж. В наступлении
они гораздо грознее, чем в обороне.
«Положим, что готы, вандалы, гунны и бесчисленные другие
племена и дружины варваров двигались громадными массами, натиска
которых не могли бы выдержать ни легионы Августа, ни легионы
Суллы, ни Мария, ни Сципионов. Но после того разве не было также
бесчисленных примеров, что довольно слабые шайки варваров
проходили насквозь целую страну, не встречая нигде отпора? В конце
IV века уж есть такие примеры, а в V их очень много, очень много.
Вот вам и доказательство, что древний мир умирал, был бессилен,
ветх». Разумеется, стал он, наконец, и ветх, и бессилен, и умер
напоследок, — кто в этом сомневается? — Ведь о том и речь идет, от чего
ослабел он, от чего умер. Нанесено человеку множество ударов
огромной булавой; он лежит на земле умирающий, разумеется,
теперь слабая рука может бить его хоть щепкой безнаказанно, — не
даст он отпора; а потом ведь и черви будут есть его, и не пошевелит
он пальцем, чтобы раздавить червяка. Как же он не обессилел, как
О причинах падения Рима
525
же он не умер? Только не говорите, пожалуйста, что был он слаб, что
умер от внутреннего органического расстройства. Ведь когда Антей
был брошен задушенный Геркулесом, пигмеи могли безнаказанно
потешаться над его громадным телом. Что же, по-вашему, Антей был
хилого здоровья человек или охилел от дряхлой старости?
Чем же был убит древний мир? Мы прямо говорим:
исключительно волнением, которое овладело всеми кочевыми племенами от
Рейна до Амура. Тут было ни больше, ни меньше, как погибель страны
от наводнения. Никакой внутренней необходимости смерти не было.
Напротив, жизнь была свежа, прогресс безостановочен. Погибель
Римской империи — такая же геологическая катастрофа, как
погибель Геркулана и Помпеи, как погибель страны, по которой гуляют
теперь волны Зейдерзе. Подобные случаи погибели предмета,
погибели дела от внешних разрушительных сил, как бы ни здорово было
дело, как бы ни исполнен был жизни предмет, встречаются
ежедневно в частном быту, встречаются бесчисленное число раз в истории;
только никогда не происходила эта гибель в известной нам истории
в таком огромном размере, как при погибели всего древнего
цивилизованного мира. Не толкуйте же о разумности, о благотворности
этих катастроф. Лошадь ударила человека подковой по виску, и он
умер, — какая тут разумность, какие тут внутренние причины смерти?
Лиссабон разрушен землетрясением, — виноваты ли в том
достоинства или недостатки португальской цивилизации? Поднимается
самум, заносит песком караван в Сахарской степи, — не доказывайте,
что верблюды и лошади были плохи, люди глупы, товары нехороши.
Слепая игра сил природы в стихиях, в животных или в людях, не
вышедших из животного состояния. Помните ли вы песню Гете о том,
как Тилли брал Магдебург:
«Магдебург, Магдебург! Девушки в нем красавицы, — красавицы
в нем и девушки, и женщины. Все цветет там. Идет к нему Тилли по
цветущим лугам, по цветущим садам, идет к нему Тилли. Стал под ним
Тилли. — «Кто спасет наш город, кто спасет наш дом! Иди, мой милый,
бейся с ним». — «Он не страшен, как ни грозит нам. Поцелую твои
алые губки. Он не страшен». — Конец песни вам известен. Защитники
Магдебурга перебиты, город взят; девушка бежит. Ландскнехт
останавливает ее156.
Ну, что же вы, доказывайте разумность факта: не был ли молодой
человек — трус, не была ли девушка — кокетка, не за то ли они по-
526
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
гибли, не является ли Тилли орудием прогресса, не вносит ли он в
Магдебург элементов новой, лучшей жизни? Да и в самом деле, ведь
Магдебург имел корпоративное устройство с гильдейскими и
цеховыми учреждениями, так Тилли, вероятно, помог развитию свободы
промышленности, должно быть, что без Тилли не могли явиться Адам
Смит и Кобден. Вероятно, погибель Магдебурга была необходима для
промышленного прогресса! Что за пошлость! побежденный виноват,
убитый — сам причина своей смерти. Нет, по этому признаку нельзя
судить; всячески бывает на свете: побеждают правые, побеждают и
виноватые; умирают больные, умирают и здоровые, — всячески бывает:
Скольких добрых жизнь поблекла,
Скольких низких рок щадит!
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит!157
В населении самих провинций Римской империи мы не находим
решительно никаких причин считать погибель древнего мира делом
нужным или полезным для человечества. Мы видим только крайнюю
нелепость, совершенное противоречие с фактами в обыкновенном
мнении, будто бы древний мир истощил свои силы, дошел до
предела, выше которого не мог бы развиваться, и будто бы надобно было
ему погибнуть для открытия возможности дальнейшего прогресса
человечеству. Но кроме этой дикой стороны, обращенной против
древнего мира, господствующее мнение имеет другую сторону, очень
льстивую для племен, завоевавших римские провинции. На сколько
древний мир был безжизнен и неспособен к прогрессу, на столько
же, видите ли, варвары отличались какими-то особенно жизненными
элементами и были способны к развитию; варвары, видите ли, внесли
жизненные соки, и т. д. — развивается та же деревянная метафора,
кончающаяся поэтическим уподоблением: «так мутные воды Нила,
потопляя Египет, покрывают его слоем плодоноснейшего ила», —
видите, до чего простерлась поэзия, даже рифма выходит: Нила, ила.
Превосходно! Только ни с Нилом, ни с его плодотворным илом
никакого сходства нет. Позвольте спросить: почему это варвары были
особенно способны к прогрессу, и какие новые живительные
элементы внесли они в историю?
Обыкновенно отвечают: «принцип личности». В древнем мире
будто бы личность поглощалась государством, человек исчезал
О причинах падения Рима
527
в гражданине. У варваров, наоборот, индивидуальная свобода была
выше всяких общественных уз. Тут просто-напросто
противопоставляются две эпохи общественного быта, которые, впрочем, обе
вместе со множеством других эпох существовали в самой истории
древнего мира. У всех диких кочевых племен, например, у
краснокожих североамериканцев, у калмыков нет общественных
учреждений, которые действовали бы постоянно и правильно; вождь является
с действующей властью лишь в особенных случаях; а в обыкновенное
время она спит; племенные сходки собираются тоже лишь в
особенных случаях; по обыкновенным делам между частными лицами
расправляются сами эти лица, как знают. Если одно из них обращается
за покровительством к вождю или к племенному собранию, другое
лицо покоряется или не покоряется этой власти, как само рассудит;
словом сказать, обыкновенное течение дел — полнейшая неурядица
с постоянным насилием и с полнейшим деспотизмом вождя или
сходки в тех случаях, когда возбуждается к действию эта власть,
против которой, впрочем, каждый, кто захочет, ведет войну. То же самое
было и у германцев. То же самое в старину, задолго до Филиппа, было
и у македонян. То же самое было у всех племен, вошедших в состав
древнего мира, когда каждое из них было в состоянии дикости. Что
тут особенного? И что тут особенно хорошего? Или уж не
заключается ли в таком состоянии общества прочный зародыш свободы?
Нимало. Власть вождя дремлет лишь потому, что богатств у каждого мало,
а он — человек богатый, ему и скучно хлопотать из-за пустяков; он и
спит себе, пока его растолкает кто-нибудь с просьбой о
вмешательстве. А как только является у членов общества богатство,
привлекающее внимание вождя, он перестает спать и оказывается постоянным
деспотом. Легко ему сделаться деспотом потому, что племя имеет
военные нравы; он — военный командир, а власть военного командира
не знает границ; само племя расположено к признаванию такой
власти. Вольные монголы и Чингизхан с Тамерланом, вольные гунны и
Аттила; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустьеры и атаман
их шайки — это все одно и то же: то есть каждый волен во всем, пока
атаман не срубит ему головы, как вообще водится у разбойников.
Какой тут зародыш прогресса мы не в силах понять; кажется, напротив,
что подобные нравы — просто смесь анархии с деспотизмом.
Оно так и вышло. По завоевании римских провинций каждый
человек из племени завоевателей разбойничает, грабит и режет кого
528
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ему вздумается, из завоеванного ли населения, из своих ли
товарищей, пока кто-нибудь зарежет его, а вождь между тем рубит головы у
всех, кто попадется ему в лапы.
Кроме этой особенности, никакой другой особенности мы не
видим в порядке, заведенном варварами. А эту особенность мы видим
и у печенегов, и у половцев, и у татар, завоевавших Русь, — впрочем,
оно и то сказать, есть у нас историческая школа, говорящая, что
татарский порядок был очень благотворен для России. Но вот о
египетских мамелюках, которых истреблял Наполеон, а потом Мегмет-Али,
о турецких янычарах, о мароккских, тунисских, алжирских
разбойничьих шайках с их деями и беями158 (совершенно
соответствующими готским, бургундским, аллеманским, франкским дружинам с их
предводителями) никто, кажется, не говорит, что они внесли новые
элементы прогресса в страны, где утвердился их разбой, и повели по
пути прогресса население Босны, Герцеговины, Египта и т. д.
Но ведь из этого разбоя, продолжавшегося несколько веков
вышел, наконец, феодализм — вот и особенный элемент, внесенный
в жизнь цивилизованных стран варварами. Хоть бы и был он
особенным, какой же в нем прогресс сравнительно с устройством Римской
империи в самые худшие времена ее? Там все-таки была
известного рода законность, хотя сколько-нибудь соблюдавшаяся. А
феодализм — ни больше, ни меньше как грабеж, приведенный в систему,
междоусобица, подведенная под правила. Теперь уже давно всеми
признано, что в феодализме не было решительно ничего способного
к развитию, что он был лишь смягченной формой
предшествовавшей ему полнейшей анархии грабительского самоуправства. Ничего
не могла взять цивилизация из этой формы, служившей только
препятствием для нее; все, решительно все отвергала цивилизация из
феодальных учреждений, как только могла справиться с ними.
Разумеется, сравнительно с VI и VII столетиями феодализм был прогрессом,
но лишь в том смысле, в каком старинные итальянские
разбойники, бравшие выкуп, были прогрессом над прежними разбойниками,
резавшими без всякого выкупа. Да и что специального, особенного
в западном феодализме? Возник он из того, что вольные люди
записывались в подданство могущественных соседей, чтобы через
регулярное жертвование частью дохода получать защиту против других
грабителей. Но точно так же записывались под власть сильных людей
вольные люди во всех странах в эпохи сильной неурядицы; напри-
О причинах падения Рима
529
мер, и у нас так было в смутные времена самозванцев. Возникшая
из этого форма отношений между второстепенными владельцами и
могущественным провинциальным владельцем, как их сюзереном,
между областными владетелями и владетелем страны, как их
сюзереном, тоже не представляет ничего особенного; точно таковы же
были отношения сильных раджей к императору, а мелких раджей —
к сильным раджам в Ост-Индии; какой-нибудь Ауд был как две капля
воды похода на какую-нибудь Саксонию или Бургундию XII века.
Раскройте Шах-Наме, вы увидите то же самое в старинном персидском
царстве: Рустем такой же герцог своей области, имеет точно таких
же второстепенных вассалов, как Генрих Лев, и находится к шаху
Кейкаусу159 точно в таких же отношениях, как саксонский владетель
к немецкому императору, как граф шампанский к французскому
королю. Точно в таких же отношениях были так называемые тираны
греческих малоазийских городов к царю персидскому. Теперь дело
известное, что формы, подобные феодализму являлись почти во всех
странах в период перехода от полнейшей дикости к низшим
ступеням порядка, сколько-нибудь законного. Древний мир задолго до
начала нашего летоисчисления дошел уже до форм более совершенных
или, лучше сказать, до форм менее диких.
Вот мы дошли и до конца средней истории: ведь она кончается
заменением феодализма централизованною бюрократиею или чем-
нибудь подобным. А достигла эта централизованная бюрократия
полного господства над феодализмом не раньше как в XVII веке;
а в Римской империи эта форма уже господствовала в III веке;
значит, целые 14 веков были потрачены на то, чтобы поднялась история
хоть до той высоты, с какой низвергли ее варвары. Вот теперь и
рассуждайте о благодетельном влиянии завоевания римских провинций
варварами. Вся благотворность этого события состояла в том, что
передовые части человеческого рода низвергнуты были в
глубочайшую бездну одичалости, из которой едва успели вылезть до прежнего
положения после неимоверных 14-вековых усилий.
Сделаем теперь крутой поворот. Какое нам дело до тех или других
понятий о способности или неспособности древнего мира к
дальнейшему прогрессу, о благодетельности или гибельности
вмешательства варварских племен в судьбу цивилизованных стран? Пусть
пишутся об этом специалистами ученые книги; нас занимают вопросы
совершенно иные, и, разумеется, мы не стали бы тревожить такую
530
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ветхую старину, если б разоблачение ошибочного взгляда на вопрос
ветхой старины не представлялось делом довольно важным для
очищения самохвальных и, к счастью, пустых мыслей о некоторых
живых отношениях. Мы говорим не о славянофилах. Если бы спорить
приходилось лишь против них, не стоило бы спорить, потому что
они малочисленны, и слишком уже часто встречаются люди,
любящие дешевым манером подсмеиваться над ними, не замечая того,
что сами не чужды коренной тенденции, из которой происходит
славянофильство. Оно лишь — последовательная, развитая форма
чувства, существующего чуть ли не в большинстве нашего общества,
проглядывающего, к сожалению, даже у многих из людей, имеющих
влияние на мысли всей публики. «Мы призваны обновить жизнь
цивилизованного мира, внести в нее высшие элементы, которых сам он
выработать не в силах». Всмотритесь хорошенько в самого заклятого
западника, он с этой стороны часто оказывается славянофилом.
Мы далеко не восхищаемся нынешним состоянием Западной
Европы; но все-таки полагаем, что нечем ей позаимствоваться от нас.
Если сохранился у нас от патриархальных (диких) времен один
принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к
которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет
к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас.
Новые экономические тенденции стали обнаруживаться во Франции
и в Англии задолго до того, как барон Гакстгаузен рассказал немцам
о нашем обычном общинном землевладении; а французы и
англичане узнали об этом нашем обычае от немцев еще позднее, — чуть ли
не вчера только или третьего дня. Их мыслители нашли истину без
помощи знаний о нашем быте; они и не подозревали даже, когда
составляли свои теории; что у одного из русских племен сохранилось
общинное землевладение. Распространялись и распространяются
до сих пор их мысли в Западной Европе также без всякого
отношения к нашему обычаю: ни для кого из приверженцев новых теорий на
Западе не служит он доводом в пользу новых теорий. Это все равно,
как изобретены были и распространились по Европе висячие мосты,
без всякого участия тут несколько похожей вещи, издавна
существующей — не помним — у китайцев ли или у какого-то другого восточно-
азиатского народа: перебрасываются с одного края ущелья на другой
веревки и настилаются на этих веревках доски. Европейские
инженеры и не подозревали о существовании такого факта, когда стали
О причинах падения Рима
531
доказывать возможность и пользу висячих мостов, и вошли в
употребление такие мосты без всякой помощи китайского или какого
другого восточноазиатского влияния. Какое же тут участие имели
китайцы в прогрессе европейской инженерной науки и практики?
Чем была тут или будет обязана им человеческая цивилизация или
Западная Европа? Напротив, когда они из своего бог знает какого
бестолкового состояния перейдут в порядочную цивилизацию, они
же будут учиться от Западной Европы не тем одним вещам, сходного
с которыми ничего не было у них в их прежнем азиатстве, а, между
прочим, и постройке висячих мостов, сходная с которыми вещь была
у них. Принцип, положим, действительно один и тот же. Но форма,
до какой развивается вещь, порождаемая принципом, совершенно не
та, и китайцам без помощи европейской цивилизации никак нельзя
было бы дойти до висячего моста, действительно прочного,
удобного, удовлетворяющего надобностям цивилизованного общества;
а та форма, какая существует у них при азиатстве, ведь и
неудовлетворительна для общества, сколько-нибудь развитого. Что же хорошего
в китайских веревочных мостах? Хорошо в них то, что при своем
прежнем и нынешнем азиатстве китайцы, бывшие неспособными
иметь постройки более совершенной формы, терпели бы еще
больше неудобств, если б не было у них хоть веревочных мостов.
Значит, для китайцев эти мосты были и остаются пока полезны, даже
очень полезны, пожалуй, благодетельны и спасительны; но ведь для
самих же китайцев только; а Европе не принесли, не приносят и не
могут принести никакой пользы. Они ей совершенно не нужны; они
для нее совершенно неудовлетворительны. А для китайцев они, как
мы уж говорили, очень полезны. И не только теперь полезны при
их азиатстве, при их неспособности иметь лучшие пути сообщения
с лучшими мостами. Наверное, обычный этот факт окажется полезен
и для дальнейшего их прогресса, когда они станут способны завести
у себя лучшие пути сообщения по европейской науке. Ведь
мандарины не сделаются же вдруг просвещенными европейцами,
истинными реформаторами, какими-нибудь Стефенсонами или Робертами
Оуэнами; долго будет у них в головах сидеть азиатская рутина с
отвращением от всего истинно-европейского. Вот им и будут говорить
порядочные инженеры: «что же такое, ведь висячие мосты — чисто
национальное наше китайское учреждение; ведь в них нет ничего
европейского, развращенного и гибельного для китайских порядков».
532
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Да и народ китайский нелегко поверил бы удобству и прочности
железных висячих мостов, если бы не привык к своим веревочным;
ну, а теперь каждому будет видно, что железные висячие мосты
безопасны во всех отношениях: и с китайскими порядками сходны, и
ходить или ездить по ним вовсе не страшно. Значит, китайцы будут
много обязаны своим нынешним веревочным мостам за легкие
успехи нового инженерного искусства в их стране.
Вот точно такого же рода история и с нашим обычным
землевладением. Европе тут позаимствоваться нечем и не для чего; у Европы
свой ум в голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться
ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует
у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых
потребностей, более усовершенствованной техники; а для нас самих
этот обычай пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее
устройство, его введение будет значительно облегчено
существованием прежнего обычая, представляющегося сходным по принципу
с порядком, какой тогда понадобится для нас, и дающим удобное,
просторное основание для этого нового порядка.
Кроме общинного землевладения, невозможно было самым
усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни
одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для
предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашей свежей помощью.
Мы тут говорим, разумеется, не о славянофилах; у славянофилов
зрение такого особенного устройства, что на какую у нас дрянь ни
посмотрят они, всякая наша дрянь оказывается превосходной и
чрезвычайно пригодной для оживления умирающей Европы. Один уверяет,
что очень хороша привычка нашего народа безответно подвергаться
всяким надругательствам и что Западная Европа умирает от
недостатка этой похвальной черты, а спасена будет нами через научение
от нас такому же смирению. Другой находит, что мы молодцы пить
и гулять, что Западная Европа должна научиться от нас широкому
русскому разгулу, то есть дракам в харчевнях и битью стекол в
трактирах и спасена будет от смерти собственно этим. Третий проникает
глубже в народную жизнь, и от домашнего очага, то есть от сбитой
из глины печи черной избы, выносит иное сокровище: битье жен
мужьями, битье сыновей отцами (и наоборот, битье отцов сыновьями,
когда отцы одряхлеют), отдача дочерей замуж и венчанье сыновей
по приказанию родительскому без надобности в согласии женимых
О причинах падения Рима
533
и выдаваемых замуж; эти семейные отношения должны послужить
идеалом для Западной Европы, которая и спасется через них.
Четвертый восхищается продолжительностью нашей жестокой зимы и
находит, что Западная Европа расслабела от недостатка морозов; но
уж в этом никак нельзя ей помочь, и он откровенно сознается, что
дело ее пропащее. Мы говорим не о таких людях: их мало, и спорить
с ними не стоит, — мы говорим не про чудаков, а про людей,
рассуждающих по обыкновенному человеческому смыслу. Они, кроме
общинного землевладения, не видят у себя ничего такого, чему
полезно было бы распространиться от нас на передовые страны и чем
бы могли мы содействовать их оживлению. А этому обычаю Европе
поздно научиться от нас, да и не нужно учиться, потому что сама она
гораздо лучше нас понимает, какие новые порядки ей нужны, как их
устроить и какими способами вводить. Значит, оживлять нам ее
ровно уж нечем.
Нечего нам и хлопотать об этом: никаких оживлятелей не нужно
ей. Она и своим умом умеет рассуждать и своими силами умеет
делать, что ей угодно, и своих сил довольно у ней на все, что ей нужно
делать.
Или вы начнете говорить, что она ветшает, слабеет силами, что
она отжила свою жизнь и т. д., — то есть опять возвратитесь к той
же метафоре о дереве, которая оказалась обманчива, и все к тому же
примеру древнего мира, который оказался свидетельствующим
совершенно противное, — к этому ли возвращаетесь вы? Пожалуй,
потолкуем еще раз.
«Старые страны, долго жившие исторической жизнью, истощают
свои...» — ну, довольно, продолжение мы уж слышали. Рассудимте
сначала хотя о древнем мире, для краткости — хотя о западной половине
его, о Западной Римской империи; для большей краткости будем
говорить лишь о северной части ее, о западноевропейском куске Римской
империи. Он состоял из Италии, юго-западной Германии, немецкого
рейнского прибрежья, Бельгии, Голландии, Англии, Франции,
Пиренейского полуострова — всех этих стран, какие имели долгую
историческую жизнь перед разрушением западного римского мира? — Одна
Италия. Все остальные еще в начале нашего летоисчисления были
совершенно дикими, варварскими, то есть, по вашей терминологии,
юными, свежими, девственными. От этой девственности и свежести
начинали они избавляться; мы видели, что понемногу они цивили-
534
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
зовались, мы даже хвалили их успехи, находили в них залоги
дальнейшего прогресса; но если то, что казалось нам хорошо, по-вашему
было гибельно, то нечего сказать, ведь не бог знает еще сколько этой
гибели привилось к ним, не бог знает сколько заразились они ядом
цивилизации: в конце III века, в половине IV века они все еще были
странами полудикими; масса туземного населения оставалась еще
очень невежественна, то есть, по-вашему, свежа. В исторической
жизни эта масса не принимала еще ни малейшего участия; образованные
классы были все еще малочисленны, да и они только лишь начинали
принимать участие в исторической жизни, едва лишь начинали в них
пробуждаться первые неопределенные мысли о самостоятельности.
Значит, если долгая историческая жизнь не увеличивает, а уменьшает
способность страны к прогрессу, — то есть, почва, по вашей
метафоре, не удобряется, а истощается растущим на ней лесом, и чем дальше
разрастается лес, тем меньше остается свежих соков в земле, — если
думать и так, в противность здравому смыслу, то все-таки по
вашему же принципу оказывается, что Пиренейский полуостров, Галлия,
Британия, Прирейнская немецкая полоса были странами очень
свежими, очень способными к прогрессу, в то время как варвары стали
истреблять в них рождавшуюся цивилизацию. Посмотрим теперь на
Западную Европу. Если цивилизация истощает свежесть народных
сил, если участие в исторической жизни уменьшает способность
к прогрессу, то действительно ли население Западной Европы очень
уже истощено в этих отношениях?
Образованности в Западной Европе очень много. Так, но неужели
масса народа и в Германии, и в Англии, и во Франции еще до сих
пор не остается погружена в препорядочное невежество? Утешьтесь:
она верит в колдунов и ведьм, изобилует бесчисленными
суеверными рассказами совершенно еще языческого характера. Неужели
этого мало вам, чтобы признать в ней чрезвычайную свежесть сил,
которая, по-вашему, соразмерна дикости? Нынешнее состояние массы
в самых передовых странах достаточно ручается, что она до сих
пор почти вовсе еще не жила историческою жизнью, а
продолжала искони веков дремать младенческим сном, какими дремали ваши
любимые молодые страны. А не полагаетесь вы на этот вывод, по-
нашему совершенно очевидный, то справьтесь с историей. История
прямо вам говорит, что феодальное время было временем
исторической жизни исключительно одних только феодалов и рыцарей;
О причинах падения Рима
535
сначала под этими стоящими своими именами, потом под именами
высшего сословия или аристократии, они одни распоряжались
судьбою стран: строили учреждения, какие хотелось им, воевали, судили,
управляли и поживали себе, как сами думали, не допуская других
сословий ровно ни к чему. Когда же кончился феодальный порядок?
Во Франции — в конце прошлого века, значит, еще не очень давно;
в Англии — о ней мнения различны: по словам одних, в ней он еще
продолжается; по словам других, кончился в 1846 году отменой
хлебных законов; иные говорят: еще раньше, в 1832 году, парламентской
реформой, а еще другие говорят, будто еще раньше, в конце или в
половине XVII века, при втором или при первом низвержении Стюартов.
Возьмем самый далекий срок, все-таки выходит не многим больше
200 лет. В Германии покончилось господство феодализма
наполеоновскими завоеваниями и реформами Штейна160 в начале
нынешнего века; но это лишь в Западной и Северной Германии, а в Южной,
в австрийских землях — в 1848 году. До эпох, нами обозначенных,
ни в одной из этих трех передовых стран не было в исторической
жизни сильного участия не только со стороны массы населения, но и
со стороны среднего сословия. Значит, еще некогда было
истощиться от продолжительной исторической жизни силам не только массы
населения, но и силам среднего сословия. Вы видите, что оно только
еще принимается за ведение исторических событий, за устройство
общественного порядка по своим надобностям: и в Германии, и в
Англии, да и в самой Франции, как видит каждый, еще очень сильны
элементы, сохраняющиеся от феодализма: армия и бюрократия.
По мнению порядочных писателей о сельском хозяйстве, чем
дольше возделывается земля рациональным образом, тем
плодороднее она становится. Вы, насмотревшись, должно быть, одного
только залежного хозяйства, по которому через три года земля
становится никуда негодна и нивы переносятся на новое место, думаете,
что историческая жизнь истощает силы страны. Так вот, если даже
и согласиться с вашим понятием, все-таки выходит, что лишь самая
ничтожная доля в составе населения каждой передовой страны
могла истощить свои силы, а если брать весь народ страны, то следует
сказать, что он еще только готовится выступить на историческое
поприще, только еще авангард народа — среднее сословие, уже
действует на исторической арене, да и то почти лишь только начинает
действовать; а главная масса еще и не принималась за дело, ее густые
536
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
колонны еще только приближаются к полю исторической
деятельности.
Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных
народов: они еще только начинают жить.
Но мы видели, что точно так же едва начиналась историческая
жизнь и в провинциях Римской империи. Кто нам поручится, что и
жизнь Западной Европы не подвергнется такой же катастрофе?
Ручательством за то, что не будет такой катастрофы, служит
география, статистика, технология и военное искусство. Отношение
цивилизованного мира к варварскому и полуварварскому теперь уже
и по пространству земли, и по числу населения не то, какое было
в прежние времена. Римская империя имела огромную величину;
она равнялась пространством всей нынешней Западной Европе.
Но огромнейшая часть ее состояла из земель, только еще
начинавших цивилизоваться; уровень просвещения в них возвышался еще не
столько собственными их силами, сколько влиянием Италии и
Греции; быть может, довольно скоро — через два, через три века — они
приобрели бы силу держаться и самостоятельно; но когда начался
натиск варваров, они держались еще только умственным развитием
итальянского и греческого племени. Италия, то есть пространство
земли величиной в каких-нибудь 5 000 географических миль, и
Греция со своими островами и узкой полосой малоазийского
прибрежья, то есть пространство в каких-нибудь две или три тысячи
географических миль, еще оставались единственными странами, в которых
цивилизация достигла такой силы, что образованность их уже
существовала и развивалась внутренним могуществом. Таким образом,
весь тогдашний уже цивилизовавшийся мир ограничивался двумя
небольшими землями, которые одни и служили существенно
важными частями его, центрами, к которым лишь примыкали остальные
громадные пространства, получавшие жизнь из этих центров. Теперь
не то; в Западной Европе есть страны, которые в том или другом
отношении цивилизованы больше других; но и страна, наименее
сделавшая успехов, никак уже не может быть названа полуварварской.
Какая-нибудь Испания, или Померания, или Трансильвания все-таки
страны цивилизованные. Нечто подобное положению, в каком были
все части Римской империи, кроме Италии и Греции, представляет
теперь быт лишь немногих очень небольших уголков Западной Европы —
острова Сардинии, отчасти острова Корсики; но и Корсика и Сарди-
О причинах падения Рима
537
ния все-таки несравненно дальше от дикости, чем была в III веке
Галлия, не говоря уже о других римских провинциях. Тогдашнее
состояние этих провинций можно сравнить с тем, что представляет теперь
Ост-Индия или остров Ява, или, ближе к Европе, Алжирия.
Цивилизованный элемент страны сосредоточивается
преимущественно в пришельцах другого племени; довольно многие туземцы
принимают такую же цивилизацию, и число их увеличивается, но все-
таки масса туземного простонародья еще остается совершенно
варварской. Если бы цивилизованный мир ныне ограничивался одной
Англией с Ост-Индией и если бы вообразить, что Англия лежит где-
нибудь на краю Ост-Индии, это было бы совершенно сходно с
состоянием Римской империи. Разумеется, трудно было бы ручаться, что
этот небольшой уголок, примкнутый к огромному пространству
полудиких земель и ослабляемый каждым несчастьем еще столь слабой
цивилизации в этих землях, может удержаться против наплыва диких
орд из всей Центральной Азии. Таким образам первая разница:
широта и прочность основания, приобретенного новой цивилизацией.
Соразмерно тому, как увеличилось пространство цивилизованных
земель, уменьшилось пространство земель, откуда может
устремиться в них поток варварства. Еще разительнее изменилось отношение
по числу населения. Если мы исключим Китай, Японию Ост-Индию,
племена которых, конечно, уже не грозят вторжением в Западную
Европу, то весь остальной старый свет уже не имеет столько
населения, как Западная Европа. Если считать силу по числу рук, перевес
силы уже на стороне Западной Европы. Не так было полторы тысячи
лет тому назад, когда существенное сопротивление бесчисленным
дикарям ограничивалось лишь населением Италии и Греции.
Наконец технология и военное искусство находятся теперь совершенно
в ином положении. У варвара и у римского легионера самым
сильным оружием был меч, который умеют ковать и в полуварварских
странах. Если бы судьба походов решалась и теперь палашами и
штыками, успех мог бы еще представляться возможным. Он затруднился
с изобретением пороха, с появлением ружей и пушек. Но пока
оставались старинные ружья, старинные пушки слишком топорной
работы, какой-нибудь Дост Могаммед161 афганский мог устраивать у себя
оружейные и литейные заводы не хуже европейских. Теперь не то.
Когда возмутилась бенгальская армия, англичане, разумеется, были
очень поражены неожиданной перспективой растрат, усилий, каких
538
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
стоить будет им борьба, но в заключение очень основательно
прибавляли: «мы снабдили этих сипаев превосходнейшим вооружением,
но чинить своих ружей они не могут, делать патронов для них не
могут; когда они расстреляют захваченные ими в наших арсеналах
патроны, они останутся почти безоружны против нас, потому что
теми ружьями, какие они могут и чинить, теми патронами, какие они
могут делать, сражаться им с нами нельзя».
НЕ НАЧАЛО ЛИ ПЕРЕМЕНЫ?
Чем г. Успенский162 привлек внимание публики, за что он
сделался одним из любимцев ее? До сих пор он писал только такие
крошечные рассказы, в которых не могло поместиться ни одно из
качеств, обыкновенно составляющих репутацию хороших
беллетристов. Начать с того, что ни в одной его статейке нет сказочного
интереса; да и как в них быть ему, когда из 24 очерков, собранных
теперь в отдельном издании, не меньше как двадцать рассказов как
будто бы не имеют даже никакого сюжета? Только в четырех можно
отыскать что-нибудь похожее на повесть, да и то, какую повесть? —
самую незамысловатую и почти всегда недосказанную. «Старуха»
рассказывает, как попали в солдаты два ее сына; об одном, еще так
себе, сказывает она по порядку, а об другом не удалось ей
поговорить, потому что уснул купец, слушавший ее, и принесла хозяйка
постоялого двора бедной старушонке творожку и молочка, в
ожидании которых болтала она с купцом. В другой пьесе стал
мещанин рассказывать о своей покойной жене Грушке, досказал дело
до женитьбы, да не случилось ему ничего сообщить, как он жил
с Грушкою после свадьбы. В третьем рассказе повел речь г.
Успенский о том, в какой гнусной бедности жил студент медицинской
академии Брусилов, но не довел речи ни до какой развязки: лежит
Брусилов больной в каком-то «углу» комнаты, за столом в которой
извозчики считают деньги, за стеною которой пьяный сапожник
бьет свое семейство, и над которой во втором этаже идет пляска, —
на том и кончено; что же сталось с Брусиловым? Умер, что ли, он
или как-нибудь оправился? — Ничего неизвестно. Есть еще
рассказец о чудаке Антошке, но и тут ничего не выжмешь, кроме того,
что Антошка был мастер на нелепые проказы. Вот вам и все четыре
пьески, в которых есть если не что-нибудь целое, то хоть
половина чего-нибудь, что стало бы целым, если бы было докончено.
А в остальных двадцати пьесах не спрашивайте и того: это все
только маленькие отрывочки, как будто листки, вырванные из чего-
нибудь, а из чего — и догадаться нельзя. Описывается, например,
как извозчики рассчитывались с хозяином постоялого двора; или
как проезжий с огромными усами наделал кутерьму на станции; или
как шел праздничный обед у приказчика; или как народ ждал благо-
540
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
веста к заутрене на светлый праздник; или как проезжим юношам
не удалось пошалить с смазливою бабенкою, которую посадили они
на облучок; или как одна дьяконица приезжала в гости к другой, —
и ни в одной из этих отрывочных сцен ровно ничего особенного
не описывается, и происшествий никаких нет. Если взглянуть на
рассказы г. Успенского с другой стороны, посмотреть, не
обрисованы ли в них характеры, нет ли психологических анализов, —
и того не находите. Что ж, есть беллетристы, не заботящиеся ни
о подборе приключений с занимательными завязками и
развязками, ни об обрисовке характеров, ни о психологических тонкостях,
но зато действующие на вас или яркою жгучею тенденциею, или
превосходным слогом. У г. Успенского не обнаруживается никакой
тенденции, да и пишет он так себе, не заботясь как будто бы ни
об остроумии, ни об изяществе. Правда, попадаются у него очень
смешные фразы, иной раз случится и целая страница очень
забавная; немало у него и коротеньких описаний, очень
художественных, — но все это как будто написалось у него случайно,
а вообще рассказ его идет как попало, без всякого уважения к
обязанности вознаградить хотя слогом за бесцеремонность
относительно содержания. Что же касается до тенденции, об ней лучше
и не спрашивайте: взял человек два-три листа бумаги, набросал на
них какой-нибудь разговорец или какое-нибудь описаньице и
отдает вам лоскутки этих листов без начала и без конца, совершенно
не думая о том, выходит ли какой-нибудь смысл из написанного
им. Конечно, у г. Успенского есть талант и большой талант: но что
же это за талант, который дает нам все только лоскутки? Если уже
говорить об таланте, то не следует ли только бранить его за такие
незначительные и небрежные произведения?
Незначительные и небрежные,— оно бы казалось, что следует их
считать такими, следует по всем возможным основаниям, во всех
возможных отношениях; а на деле выходит не то. Публика считает
маленькие пьесы г. Успенского заслуживающими внимания. Отчего
же это?
Нам кажется, что причиною тут не одна бесспорная
талантливость, — мало ли есть произведений, написанных с талантом и все-
таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г.
Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части
публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас.
Не начало ли перемены?
541
Давным-давно критика стала замечать, что в повестях и очерках
из народного быта и характеры, и обычаи, и понятия сильно
идеализируются. Стало быть, нам нечего и доказывать это, когда всем
оно известно. Мы лучше поищем причин, по которым не мог отстать
от идеализирования народа никто из прежних наших беллетристов,
несмотря на советы критики. По нашему мнению, источник
непобедимого влечения к приукрашиванию народных нравов и понятий
был и похвален, и чрезвычайно печален. Замечали ли вы, какую
разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете,
производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому
человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему?
Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только
о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно
он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его
самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его
недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть
панегириком ему — говорить в ином тоне было бы вам совестно.
Но совершенно другое дело, когда вы полагаете, что беда,
тяготеющая над человеком, может быть отстранена, если захочет он сам и
помогут ему близкие к нему по чувству. Тогда вы не
распространяетесь о его достоинствах, а беспристрастно вникаете в обстоятельства,
от которых происходит его беда. Обыкновенно вы находите, что
нужно перемениться и ему самому, чтобы изменилась его жизнь; вы
замечаете, что напрасно он делал в известных случаях так, а не иначе,
что ошибался он относительно многих предметов, что в характере
его есть слабости, от которых надобно ему исправляться, что в
привычках его есть дурное, которое должен он бросить, что в образе его
мыслей есть неосновательность, которую он должен уничтожить
более серьезным размышлением. Как бы ни началась ваша речь о таком
человеке, незаметно для вас самих переходит она в укоризны ему.
А вы, когда действительно желаете ему добра, нимало уже не
конфузитесь этим: вы чувствуете, что в суровых ваших словах слышится
любовь к нему и что они полезны для него, — гораздо полезнее
всяких похвал.
Упоминает ли Гоголь о каких-нибудь недостатках Акакия
Акакиевича? Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его
приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей, от которых
зависит его судьба. Как пошлы, отвратительны сослуживцы Акакия
542
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Акакиевича, глумящиеся над его беспомощностью! Как преступно
невнимательны его начальники, не вникающие в его бедственное
положение, не заботящиеся пособить ему! Акакий Акакиевич страдает
и погибает от человеческого жестокосердия. Так, подлецом почел
бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нем другим тоном. Но зато
рассудите же, можно ли в самом деле пособить Акакию Акакиевичу.
Разумеется, можно: назначить ему награду побольше обыкновенной,
подарить ему шинеленку, когда старая стала слишком плоха. Это
можно сделать. Но ведь это и делалось. Ведь начальник назначил
ему награду больше той, на которую рассчитывал сам Акакий
Акакиевич, и, без сомнения, гораздо больше той, какую в самом деле он
заслужил. А сослуживцы хотели устроить подписку для покупки ему
шинели. Правда, подписка не состоялась, но только по случайным
обстоятельствам, в которых сослуживцы никак не были виноваты, и,
может быть, на другой месяц, когда осталось бы у чиновников
несколько лишних денег, действительно собрали бы они рублей пять-
шесть на починку старой шинели. По крайней мере, желание у них
было, и кое-что они, вероятно, сделали бы. Да ведь они уж и сделали
кое-что: разве они не радовались покупке новой шинели? Они
сделали больше: они даже пригласили Акакия Акакиевича на вечеринку.
Чего же вам еще? Вы скажете, что все эти доброжелательства и
милости не спасли Акакия Акакиевича ни от нищеты, ни от унижений,
ни от жалкой смерти?— Разумеется, так, — но кто же в этом виноват?
Разве было можно кому-нибудь в самом деле улучшить жизнь Акакия
Акакиевича? Служа писцом, он получал малое жалованье; так. Что же,
можно было дать ему повышение по службе, сделать, например,
помощником столоначальника? Помилуйте, ведь начальник даже хотел
было сделать это, но Акакий Акакиевич оказался решительно
неспособен ни к чему лучшему жалкой должности писца. Он даже сам так
думал. Ведь он сам стал просить, чтобы оставили его на прежнем
месте. Скажите же, пожалуйста, в ком заключалась причина бедствий и
унижений Акакия Акакиевича? В нем самом, только в нем самом.
Сослуживцы издевались над ним. Но ведь друг над другом не издевались
же они, друг с другом обращались же по-человечески. Ведь, в самом
деле, Акакий Акакиевич был смешной идиот. Начальство давало мало
жалованья Акакию Акакиевичу: ему нельзя было давать больше, он не
заслуживал того, чтобы ему давали больше, едва ли заслуживал и
такого жалованья, какое получал. Значительный человек прикрикнул
Не начало ли перемены?
543
на Акакия Акакиевича, явившегося просить об отыскании шинели,
и прогнал его, но ведь Акакий Акакиевич не сумел ничего
объяснить ему путным образом, а все только твердил: «тово... тово.... тово...»,
и потом брякнул вздор, что секретари ненадежный народ, —
глупость, совершенно не относившуюся к делу. Скажите же по совести,
кто обязан слушать вздор, которого и разобрать нельзя? Видите ли,
теперь, Акакий Акакиевич имел множество недостатков, при которых
так и следовало ему жить и умереть, как он жил и умер. Он был
круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный. Это
видно из рассказа о нем, хотя рассказ написан не с тою целью. Зачем
же Гоголь прямо не налегает на эту часть правды об Акакии
Акакиевиче, — на эту невыгодную для Акакия Акакиевича часть правды,
выставленную нами?
Мы знаем отчего. Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче
бесполезно и бессовестно, если не может эта правда принести пользы
ему, заслуживающему сострадания по своей убогости. Можно
говорить об нем только то, что нужно для возбуждения симпатии к нему.
Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в
его пользу Но если говорить другим о нем все, что можно бы сказать,
их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатков.
Будем же молчать о его недостатках.
Таково было отношение прежних наших писателей к народу.
Он являлся перед нами в виде Акакия Акакиевича, о котором
можно только сожалеть, который может получать себе пользу только от
нашего сострадания. И вот писали о народе точно так, как написал
Гоголь об Акакии Акакиевиче. Ни одного слова жесткого или
порицающего. Все недостатки прячутся, затушевываются, замазываются.
Налегается только на то, что он несчастен, несчастен, несчастен.
Посмотрите, как он кроток и безответен, как безропотно переносит он
обиды и страдания! Как он должен отказывать себе во всем, на что
имеет право человек! Какие у него скромные желания! Какие
ничтожные пособия были бы достаточны, чтобы удовлетворить и
осчастливить это забитое существо, с таким благоговением смотрящее на нас,
столь готовое проникаться беспредельною признательностью к нам
за малейшую помощь, за ничтожнейшее внимание, за одно ласковое
слово от нас! Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г.
Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано
запахом «шинели» Акакия Акакиевича.
544
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Прекрасно и благородно, — в особенности благородно до
чрезвычайности. Только какая же польза из этого — народу? Для нас польза
действительно была, и очень большая. Какое чистое и вкусное
наслаждение получали мы от сострадательных впечатлений, сладко
щекотавших нашу мысль ощущением нашей способности трогаться,
умиляться, сострадать несчастью, проливать над ним слезу,
достойную самого Манилова. Мы становились добрее и лучше, — нет, это
еще очень сомнительно, становились ли мы добрее и лучше, но мы
чувствовали себя очень добрыми и хорошими. Это очень большая
приятность, ее можно сравнить только с тем удовольствием, какое
получал покойный муж Коробочки от чесания пяток, или, чтобы
употребить сравнение более знакомое нам, людям благовоспитанным,
мы испытывали то же самое наслаждение, какое доставляет хорошая
сигара. Славное было для нас время!
А теперь не то. Являются какие-то мальчишки, — по примеру
«Русского вестника» и «Отечественных записок», называющих
мальчишками нас, я позволяю себе назвать мальчишкою г. Успенского,
который, кстати, довольно молод в самом деле, — итак, являются
мальчишки, вроде г. Успенского, которые чувствуют, — а может
быть, и сознательно думают — кто их разберет, — что наши
прежние отношения к народу, как будто к невинному в своем
злосчастии Акакию Акакиевичу, никуда не годятся; они говорят о народе
бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сентиментальную
симпатию к нему. Если судить их слова по нашим прежним привычкам,
то не видишь в них даже любви к народу, которой мы так
гордились, по крайней мере, нет в них никакой снисходительности
к нему, и не отыщешь, в их рассказах ни одного похвального
словечка. Взгляните, например, какие черты выставляет вам в народе
г. Успенский.
Вот первый рассказ «Старуха». Один сын ее пошел в солдаты за то,
что хотел взять назад свою жену от приказчика, который жил с нею.
Какая идеальная история готова рисоваться перед вашею фантазиею,
по привычке к прежнему приукрашиванию! Сильная привязанность
жены к мужу, изверг-приказчик, насильно отнимающий красавицу-
жену, вопли жены, страшные сцены ее напрасного сопротивления
животному буйству и так далее, и так далее. Нет, у г. Успенского
ничего такого не говорится. Сама старуха, мать пропавшего из-за жены
сына, рассказывает дело таким образом:
Не начало ли перемены?
545
«Женили мы его; сыграли это свадьбу; глядь-поглядь, примечаем:
молодая, жена-то его — красивая была, бог с нею, баба — его не долюбливает и
так совсем вот не льстится. А он, сердечный, был на лицо не совсем гож:
оспа, еще когда он был махоньким, всего изуродовала. Вот как обжились
они, Петруша — его звали Петрушей — начал следить за ней: нет ли, дескать,
на сердце кручинушки али зазнобушки, не любит ли она кого. Подмечает
раз, другой — все нет... и виду никакого... на работе такая же, как и дома.
Ну, тем и кончилось, что нет да и нет. Вот раз к нам приходит староста и
говорит... дело было летом... Петр Семеныч, говорит — это приказчик, — велел
вашей Варваре собираться на барский двор, и муж, говорит, пускай придет
с ней. Думаем промежду себя: «зачем это?» У нас о ту пору все были дома:
и она и Петруша. Старик говорит: «что ж, сходи, Петруша; за чем-нибудь
понадобился: авось он тебя не съест». Петруша надел зипун, собрался это:
«ну, говорит, Варвара Борисьевна, пойдем, прогуляемся»: шутник был,
голубчик мой. А она на него так и зевнула: «да ступай, говорит, лихоманка тебя
возьми», и черным словом его... «Ступай один, без тебя дорогу знаю». Старик
в это время ковырял лаптенки, сидел на коннике; обидно ему, стало быть,
показалось: да как же не обидно? грубая... известно, баба, кормилец. Сидел,
сидел, жалко ему стало Петрушу, да и молвил: «когда ты, Варвара, будешь
умна, за что всегды зычишь на него? иной бы тебя, говорит, чем ни попадя...»
и побранил ее. Она не взлюбила: должно, не по нутру... накинула зипун,
повязала платок писаный, — она все в писаных ходила, — и хлопнула что ни есть
мочи дверью. Старик мой покачал, покачал головою — и только. «Жалко,
говорит, Петрушу, смерть — жалко!..» Вот они ушли к приказчику, а мы ждем;
помню, я тут качала на обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижу... качь,
да качь... Смотрим, приходит он один уже перед вечером.
«Ну, Петрушка, зачем?» — спросили мы. «Да что, говорит, приказчик
оставляет Варвару на кухне работницей; ласково таково со мною обошелся:
«я, говорит, с твоего согласия... если не хочешь, как хочешь; у меня ей будет
хорошо: я хошь платы не положу, зато от работы ослобоняется. Известно,
когда понадобятся ей деньги, я дам и деньжонок; платок коли куплю». Мы
подумали... что же, говорим, отчего не так? хошь одна баба и была в доме, да
ведь и при ней-то, подумали мы, не красно было: иногды сердце изнывает,
глядючи на ее грубости. «Если ты, Петруша, — это говорит старик, —
соглашаешься, так, пожалуй, и мы согласны». — «Отчего же, говорит, не
согласиться? Я рад, что ей это по ндраву: почему что, когда мы выходили от
приказчика, она на меня: «живи, говорит, Петька, да не тужи», — это она-то
ему — и ухмыльнулась... Она его все Петькой называла. «Что ж, ко мне,
Варвара Борисьевна, часто будешь ходить?» — спросил он ее. Она опять
засмеялась да и сказала: «разя на деревне баб мало, окромя меня?»
Видите, ровно никакого ни насилия, ни притеснения тут не было:
Варвара пошла в работницы к приказчику с согласия мужа и его род-
546
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
ных. Правда, через несколько времени стали они требовать, чтобы
она вернулась жить с мужем, потому что стали в селе смеяться над
Петром, Варвару в глаза ему называли приказчицей. Но мы были бы
слишком недогадливы, если бы вздумали, что только из этих слухов
и насмешек да из подсмотренной братом мужа сцены между
приказчиком и Варварой муж ее и его родные узнали об отношениях
Варвары к приказчику. Она была баба красивая, приказчик был человек
холостой, она мужа не любила, они давно полагали, что у нее есть
любовник, — с первого же слова приказчика должно было стать для
них понятно, зачем он хочет поселить ее с собой. А если они еще
не догадались об этом деле из слов приказчика, чего нельзя думать,
то уж никак нельзя было им оставаться в неведении, когда Варвара,
отпуская мужа домой, сказала, чтобы вместо нее нашел он себе
другую бабу. Однако же Петр и его семейство долго не огорчались
житьем Варвары у приказчика. Из всего видно, что они захотели
разорвать связь Варвары с приказчиком только для прекращения сплетен
и насмешек, и, если вы не оскорбитесь нашим цинизмом, мы скажем,
что они в этом случае были ни на волос не больше достойны
сочувствия, чем Фамусов, беспокоящийся только о том, «что будет
говорить княгиня Марья Алексевна». Раз отважившись на беспристрастие
к этим людям, хотя они и простолюдины, и бедны, и угнетены, мы
попробуем вас спросить: сочувствовали бы вы изображенному в
повести чиновнику или помещику, который стал бы принуждать
возвратиться к нему в дом жену, которая терпеть его не может и
отдана за него без согласия? Вы человек гуманный, признаете свободу
сердца, защищаете права женщины; наверное, вы порицали бы мужа.
Не угодно ли же вам судить мужика Петра точно так же, как судили бы
вы какого-нибудь советника Владимира Андреича или уездного
предводителя Бориса Петровича. Но не вздумайте говорить, что мужик
Петр не читал ни статей об эмансипации, ни романов Жоржа Занда.
Вы видите, что в семействе Петра были достаточно практические
понятия об этих вещах, — понятия, до которых не доходила и Жорж
Занд: ведь они не поперечили приказчику, когда он брал к себе
Варвару. Почему не поперечили? Да едва ли не потому, что ожидали от
этой полюбовной сделки выгод для себя. Не оскорбитесь циническим
предположением нашим относительно их, хотя они и мужики: ведь
если бы подобная история рассказывалась вам про светских людей,
вас нельзя было бы убедить, что не было тут с их стороны денежного
Не начало ли перемены?
547
расчета. Забудемте же, кто светский человек, кто купец или мещанин,
кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по
человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими
собою истину ради мужицкого звания.
Да, кто говорил с простолюдинами запросто, тот знает, как много
между ними людей грешных с этой стороны, на которую указывают
отношения Петра и его родных к связи приказчика с Варварой.
Никак не меньше (мы думаем, что и не больше) между мужиками людей,
грешащих такими расчетами, чем в нашем кругу. Живет муж с женою
плохо; подвертывается человек сравнительно с ним сильный и
богатый, и муж очень спокойно уступает ему свою жену и притворяется,
будто бы ничего не знает, пока слишком громкий всеобщий говор
не заставит его принять вид оскорбленного и обманутого. Бывает
и хуже: иной открыто отвечает насмешникам, что он доволен своим
положением. Но такие бесстыжие глаза довольно редки в
образованном обществе; редки и между простолюдинами. Зато нередки в
образованном обществе — разумеется, нередки и между мужиками —
примеры противного: никакими выгодами не обольстится человек
на потворство. Мы вовсе не отрицаем подобных случаев в мужицком
быту; мы только говорим, что и там, как в нашем кругу, чаще бывает
корыстное потворство, в котором принуждены мы были изобличить
Петра и его родных.
Да и с чего же вы взяли, в самом деле, что этого нет между
мужиками? Или мужики обязаны быть рыцарями благородства и героями
честности? Помилуйте, не такие ли же они люди, как и мы с вами?
Вы знаете, что в нашем кругу нельзя не быть преобладанию пошлых,
корыстолюбивых снисхождений и уступок над исключительными
случаями твердого отказа. Вы знаете обстоятельства и отношения, из
которых произошла у нас расчетливая безнравственность. Семейные
дела запутаны, а если и довольно денег, то хочется иметь их
побольше, чтобы пожить пошире; жена капризничает; муж имеет кой-какие
связишки на стороне; что же тут удивительного, если человек с
деньгами или с влиянием купит жену у мужа? Что же, в мужицком быту
нет точно таких же обстоятельств? Мужики бедны; с женами часто
живут они очень дурно; покровительство сильных людей им нужно.
Что должно выходить из этого, — рассудите сами.
Только, пожалуйста, отстаньте, кроме пресной лживости,
усиливающейся идеализировать мужиков, еще от одного очень тупоумного
548
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
приема: подводить всех мужиков под один тип, вроде того, как
сливаются в наших глазах в одну фигуру все китайцы. Китайцы от нас очень
далеко; поэтому простительно нам судить о них обо всех оптом:
китаец, дескать, привязан к старине, любит опиум, носит длинную косу
и так далее, и разницы, дескать, нет между китайцами. Ни нам, ни
им, по отдаленности между нами, нет никакого убытка от этого
гуртового способа суждений. Но мужики к нам близки: нам стыдно не
замечать разницу между ними, мы имеем с ними дела, потому и нам,
и им очень вредно, если мы будем думать и поступать по таким
безразличным, гуртовым суждениям о них. Наше общество составляют
люди очень различных образов мыслей и чувств. В нем есть люди
пошлого взгляда и благородного взгляда, есть консерваторы и
прогрессисты, есть люди безличные и люди самостоятельные. Все эти
разницы находятся и в каждом селе, и в каждой деревне. Мы, по
указаниям г. Успенского, говорим только о тех людях мужицкого звания,
которые в своем кругу считаются людьми дюжинными, бесцветными,
безличными. Каковы бы ни были они (как две капли воды сходные
с подобными людьми наших сословий), не заключайте по ним о всем
простонародье, не судите по ним о том, к чему способен наш народ,
чего он хочет и чего достоин. Инициатива народной деятельности
не в них, они, как подобные люди наших сословий, только плывут,
куда дует ветер, и поплывут во всякую сторону, в какую подует ветер.
Но их изучение все-таки важно, потому что они составляют массу
простонародья, как и массу наших сословий. Инициатива не от них;
но должно знать их свойства, чтобы знать, какими побуждениями
может действовать на них инициатива.
А впрочем, если вы тверды в гуманном принципе, повелевающем
считать человеком каждого человека, какого бы там звания ни был
он, если вы способны думать о мужике не как о странном по виду и
по разговору существе, с которым нет у вас ничего сходного, а
просто как о человеке, у которого тоже два глаза, как и у вас, тоже по пяти
пальцев на руках, если... но нет, судя по всему, что я читаю в книгах,
писанных для вас, судя по всему, что я слышал от вас, — от вас ли,
читатель, лично или от ваших друзей, или от людей, похожих на вас
и на ваших друзей, — судя по всему этому, я полагаю, что вы
рассуждаете подобно дворовой девушке Алене Герасимовне и конторщику
Семену Петровичу, которые на «гулянье» у г. Успенского ведут между
собою такую беседу:
Не начало ли перемены?
549
— Ну, а что у человека внутре есть, Семен Петрович?
— Внутре-с бывает различно. Это, смотря по тому, кто чем питается: иной
продовольствуется мякиной, так у него внутре мякина. А у одного
сапожника, говорят, даже нашли при вскрытии подошву с лучиной.
— Страсти какие!... Объясните мне, пожалуйста, что — у штатских и у
военных внутре одинаково?
— Ну, насчет этого пункта, Алена Герасимовна, можно вам доложить
материю. Во-первых, надобно сказать, ничего одинакового нет.
Конторщик подсел к девке и начал свое объяснение.
Извините, если вы приняли за обиду, что я усомнился в различии
ваших мыслей от мнений Алены Герасимовны и Семена Петровича.
Такая компания для вас унизительна. Возвращусь же к
предположению, от которого готов был отказаться: положим, вы знаете, что
«внутре у человека одинаково» и у штатского, и у военного, и у сапожника,
и у продовольствующегося мякиной. Так если, говорю я, знаете вы
это, вам не нужно много хлопотать об изучении народа, чтобы знать,
чего ему нужно и чем можно на него действовать. Предположите, что
ему нужно то же самое, что и вам, и вы не ошибетесь.
Предположите, что на дюжинных людей в народе действуют те же расчеты и
побуждения, какие действуют на дюжинных людей вашего круга, и это
будет правда.
Только умейте подводить частные виды одного и того же чувства
под общую их сущность, умейте, например, понимать, что стремление
получить деньги — одно и то же стремление, будут ли деньги
представляться в виде пачки кредитных билетов или в виде двугривенного;
умейте понимать, что привычка считать крупной такую сумму денег,
которая иному кажется мелка, нимало не изменяет сущности действий,
внушаемых надеждою получить деньги, и опять-таки, умейте
понимать, что выслушивать колкости или скучать в неприятном обществе
или подставлять шею под материальные толчки кулаком — и
улыбаться в надежде получения или в благодарность за получение денег — все
это в сущности одно и то же. Если вы твердо знаете это, вас нимало
не обескуражит сцена, которою заканчивается очерк г. Успенского
«Проезжий». На станции является господин, не жалеющий своих рук
на поучение станционного смотрителя, старосты и ямщиков; требуя
поскорее лошадей, он разбивает множество носов, подбивает
множество глаз и так далее и, совершив эти подвиги, садится пить водку.
Вот лошади готовы. Посмотрите же, чем кончается вся шутка.
550
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
На крыльце стоит проезжий с полуштофом в руках. За ним смотритель,
старуха, денщик и мещанин. Из полуотворенного окна высматривает купец.
Вокруг крыльца стоят ямщики, в том самом виде, в котором они были в
предыдущей сцене, то есть с подвязанными глазами и проч.
Проезжий. Что же, все собрались?
Ямщики (дружно). Все, ваше высокородие...
Проезжий (наливая водку). Ну-ко... Подходите... (Народ пьет и
откланивается, утираясь полами. На дворе время от времени позвякивает
колокольчик.) А что, тройка хорошая?
Ямщики. Важная, чудесная, ваше высокородие...
Проезжий (отдавая полуштоф денщику). Ну что же, вы на меня не
сердитесь?
Я м щ и к и. За что же, ваше высокородие!.. Много довольны.
П р о е з ж и й. А кто у вас тут запевало? (Ямщики вытаскивают из своей
толпы молодого парня с отдутой щекой.)
Проезжий. Ты?
Парень (скромно). Я-с.
Проезжий. Вот вам на всех... (Дает из кошелька монету: ямщики
кланяются и говорят благодарность.) Ну, спойте же песню!., да хорошенько...
(Парень, придерживая щеку, как это делают вообще запевалы, начинает;
все подхватывают. — Песня раздается.)
Ночь осенняя,
Молодка моя,
Молоденькая и т. д.
Съезжает со двора тройка. Колокольчик разливается, отчего ямщики
приходят в большой экстаз.
«Какое безнадежное падение народного духа и народной чести!»
воскликнет человек, не умеющий приравнивать своеобразные
формы проявлений общего свойства в разных сферах жизни: «эти люди
сейчас были безвинно перебиты человеком, не имевшим никакого
права не только бить их, но и взыскивать с них; и что же? этот
человек поит их водкой, дает им несколько денег на водку, и они забывают
обиду, остаются довольны, даже благодарны. Такой народ
совершенно утратил всякое чувство своих прав, всякое сознание
человеческого достоинства; он ни к чему не способен, кроме как быть битым
от всякого встречного и поперечного». Спора нет, черта,
выставляемая г. Успенским, очень печальна; но выводить из нее слишком
отчаянные заключения, значит страдать идеализацией. Разберем дело
повнимательнее. Во-первых, неужели вы думаете, что побитые ямщи-
Не начало ли перемены?
551
ки в самом деле не чувствуют ни боли, ни озлобления? Что они не
выражают этого чувства, даже поступают наперекор ему, ровно ничего
еще не свидетельствует против силы чувства и против возможности
и готовности поступить сообразно ему при первом удобном случае.
Человек очень горячо выражает свое чувство, только пока еще не
свыкся с ним; но через несколько времени он перестает жаловаться
и суетиться, если жалобы и суеты ни к чему не ведут; он получает
хладнокровный вид и даже начинает поступать, как будто бы не
имеет чувства, — но ведь это вовсе еще не значит, что оно исчезло в нем.
Посмотрите, например, на больных: у кого случился флюс в первый
раз, тот бог знает как кричит и мечется; а когда флюс случится с ним
в двадцатый раз, он уже не заговаривает сам о своей болезни, даже
неохотно отвечает на ваши вопросы о ней, может уже и шутить,
и хохотать, — неужели из этого вы заключите, что он не чувствует
боли и не имеет желания избавиться от нее? Полноте, такая мысль
нелепа. Возьмите другой пример: к вам приехал приятель, с которым
не виделись вы несколько лет. Вы с ним обнимаетесь, вы суетитесь,
вы поднимаете бог знает какую суматоху в доме, — что ж, это
натурально при первом свидании; но, заметьте, только при первом.
На другой день вы беседуете с вашим приятелем уже очень смирно;
значит ли это, что вы потеряли привязанность к нему? Так и во всем:
в первые разы, пока дело остается экстренным, чувство,
порождаемое делом, обнаруживается экстренными проявлениями; а когда дело
вошло в обычный ход жизни, чувство перестает нарушать обычный
ход жизни в ее внешних житейских проявлениях; но еще вопрос, не
усилилось ли оно от проникновения в самый корень вашей жизни,
а ослабеть уже ни в каком случае не ослабевает оно, хотя и стало
молчаливее. Ямщик с раздутой щекой подлежит действию
совершенно одинакового психологического закона, от чего бы ни вздулась
у него щека, — от флюса ли или от кулака: он был бы нелепым
психологическим уродом, если бы обычные проявления его внешней
жизни нарушились от факта, принадлежащего к обычному ходу ее.
Но совершенно другое дело спросить: доволен ли он разными
принадлежностями этого обычного хода жизни? Могут сказать: «однако
же, если отношения, производящие искусственное подобие флюса,
не нравятся этим людям, зачем не предпринимают они ничего для
изменения обстоятельств?» Пусть читатель вспомнит, о каком
разряде людей рассказывает нам г. Успенский и рассуждаем мы по его
552
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
заметкам. Это — люди дюжинные, люди бесцветные, лишенные
инициативы; во всех сословиях они одинаково живут день за день, не
умея сами взяться ни за что новое и ожидая внешних поводов и
возбуждений для того, чтобы действовать в каком бы то ни было смысле.
Г-ну Успенскому случилось выставить нам, как пример народных
обстоятельств относительно искусственного флюса, дюжинных людей
из сословия ямщиков. Посмотрите же, как поступают ямщики и в
других делах, в которых, несомненно, нашли бы они выгоду изменить
прежний порядок и с охотою изменили бы его. У нас был обычай
запрягать лошадей тройкою. Не знаем, как в других местах, а по
трактам от Москвы на юго-восток ямщики очень долго сохраняли, в
некоторых местностях, быть может, сохраняют и теперь, стремление
запрягать вам тройку, хотя бы вы платили прогоны только на пару «Да
зачем же это запрягать лишнюю лошадь, за которую я не плачу?» —
спрашиваете, бывало, вы. «Оно, батюшка, так лучше будет». — «Да чем
же лучше?» — «Оно лошадкам полегче будет». — «Да ведь я один, у меня
поклажи не больше пуда, ведь перекладная телега легка». — «Оно так,
батюшка, точно, что и на паре легко, а все лучше припрягу третью».
Неужели вы думаете, что этот ямщик не жалеет лошадей или
расположен оказывать вам большую услугу, чем обязан? Нисколько; он везет
вас из рук вон плохо, гораздо тише, чем следует по положению; он
жалеет лошадей. Зачем же он гоняет лишнюю лошадь совершенно
даром? Просто потому, что так заведено, а дюжинные люди делают
только то, что заведено, а масса людей во всяком звании —
дюжинные люди. Нужно было внешнее влияние на них, чтобы они отстали
от обычая запрягать тройку вместо пары, хотя каждый из них видел,
что обычай этот невыгоден для него. Точно то же и относительно
обращения ямщиков с проезжим, подвиги которого изобразил г.
Успенский. Разбив и разогнав ямщиков, проезжий садится закусывать,
и старуха несет ему ветчину.
Старуха (с ветчиной). Кабы он меня... Сохрани, господи!
Ямщик (обернувшись в сторону). Ты с ним не разговаривай... Может,
ничего.
Новый проезжий. Аль кто тут дерется?
Ямщик. Нет, мы так... про себя. (Проезжий идет в комнату.)
Прежний купец (высовывается из кухни с растрепанными
волосами). Бабушка! как понесешь туда закуску, захвати мой узелок... Сделай
милость.
Не начало ли перемены?
553
Старуха (вздыхает). Уж и не знаю!.. (Робко идет в комнату Со двора
у двери выглядывает толпа ямщиков с отдувшимися щеками,
подвязанными глазами и проч.)
Толпа. Где он?
Я м щ и к (в сенях, держась за нос). Уйдите от греха! Бесстрашные!!...
То л п а. Мы тогда как раз по конюшням!...
Я м щ и к. Где ж смотритель?
То л п а. В колоде лежит... (Народ начинает между собою разговаривать;
причем кто размахивается, что-то представляя, кто просит товарища
посмотреть глаз, поднимая платок, и т. д. На дворе легонько гремят
бубенчики. Вскоре раздается крик. Из комнаты выбегает старуха с посудой,
проезжий смешком и мещанин, держась за щеку; раздаются голоса:
«Православные! Ваше высокородие!» Толпа бросается вон из сеней, и видно, как
в беспорядке бежит по двору; при этом слышится голос: «Прячьтесь!»)
Проезжий (высовывая голову из-за двери и ворочая белками).
Подайте мне их сюда!.. (Народ шумит в отдалении. Поддужный колокольчик
звякает, и все затихает.)
Почему ямщики разбежались и не придержали бойкого проезжего
за руки, на что имели полное право? Просто потому, что так заведено
разбегаться и прятаться. Но вот они вновь собираются, подступают
к дверям комнаты, в которой сидит их обидчик. Вы думаете, они хотят
посчитаться с ним, связать его, представить в суд, вы думаете, они
сошлись для восстановления своих беззаконно нарушенных прав, для
отмщения обид, — нет, это не заведено; они сошлись только по
заведенному порядку, что надобно же поглазеть на всякую штуку, надобно,
значит, поглазеть и на проезжего, который в первый раз
путешествует по их тракту; они с тем собираются, чтобы вновь разбежаться по
конюшням при первом его движении, и действительно разбегаются;
не скажите, что делают они это под влиянием какого-нибудь чувства,
собственно относящегося к этому случаю, не подумайте, например,
что главная пружина туг страх или трусость собственно перед этим
проезжим, — нет, главная сила тут — обычай, машинальная привычка,
«так заведено». Тут действием ямщиков руководит та самая
машинальность, по которой ямщик рассуждает с лошадьми, или всегда
предпочитает объезд столбовой дороге, хотя бы по объезду дорога была
и длиннее, и хуже, или почесывает у себя в затылке, хотя бы вовсе не
чесалось, или ездит по весеннему льду до последней минуты, пока лед
тронется. — Во всех этих случаях одинаково управляет отдельным
человеком не расчет выгоды или невыгоды, надобности или нена-
554
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
добности, опасности или безопасности совершаемого им действия в
данных обстоятельствах, а машинальная привычка, нечто вроде той
силы, которая направляет шаги лунатика. «Так заведено», вот и все.
Кто не привык смотреть на человека во всяком звании просто как
на человека, кто разделяет мнение Семена Петровича, что «внутре
у человека бывает различно», смотря по его званию, тот опять,
пожалуй, скажет, что этою чертою действовать по заведенному порядку
народ отличается от нас, образованных людей. Нет, нисколько. И в
наших сословиях все дюжинные люди, то есть громаднейшее
большинство, поступает точно так же. Например: кто из обычных посетителей
какого-нибудь клуба или кружка не жалуется постоянно, что ему там
очень скучно, и, однако же, продолжает постоянно ездить туда;
почему же? «Так заведено». Спросите у каждого из нас, дюжинных людей,
приносят ли ему хотя малейшее удовольствие те предметы, на
которые идет большая часть его денег, приобретаемых обыкновенно
или тяжелыми трудами, или неприятными унижениями; нет,
удовольствия от этих расходов не получается никакого, они делаются только
потому, что так заведено. Впрочем, что же мы начали подробно
развивать этот взгляд как будто содержащий в себе что-нибудь новое,
требующее доказательств? Ведь все фельетоны и все разговоры наши
наполнены рассуждениями о безусловном господстве так
называемого «приличия» или «требований приличия» в образованном обществе
над всеми действительными чувствами, реальными потребностями,
здравыми расчетами и всякими другими соображениями и
побуждениями каждого из нас, составляющих массу образованного общества.
«Приличие» или «требование и приличия» — ведь это только частное
выражение общего принципа «так заведено». Если вы заметили это,
читатель, нам шутя понадобится доказывать уже не то, что господство
принципа «так заведено» сильнее в простонародье, чем в
образованном обществе, — надобно будет доказывать то, что в образованном
обществе этот принцип господствует не гораздо сильнее, чем в
народе. А по нашему взгляду, что человек всякого звания ни больше, ни
меньше, как человек, мы думаем, что во всех званиях принцип этот
одинаково господствует над дюжинными людьми, то есть огромным
большинством людей.
«Так заведено» — это еще не объяснение. Почему же «так
заведено?» Входить в подобное объяснение, значит втягиваться в
длинную историю. Вероятно, были когда-нибудь достаточные причины
Не начало ли перемены?
555
установляться такой или другой привычке; вероятно, продолжают
эти причины действовать, если она еще не изменилась. Если,
например, — но мы говорим это только к примеру, а не для выражения
каких-нибудь действительных отношений, если, например, один
человек обижает другого, и другой этот не жалуется на обидчика, то
надобно полагать, что он уверен в бесполезности жалобы или даже
опасается от нее новых обид и неприятностей себе. Точно так же,
если один человек обижает других, которые сами по себе сильнее
его и собственно от него могли бы защищаться; а между тем не
защищаются, то надобно полагать, что в случае обороны они
возбудили бы против себя другую силу более могущественную, что они
знают об этом, и что собственно только это знание удерживает их от
обороны. Мы предположили случаи, встречающиеся во всякие
времена везде. Но если мы предположим, что в какой-нибудь стране эти
случаи долго составляли сущность всех отношений, то натурально
было завестись в этой стране обычаю не защищать своих прав ни
собственными средствами, ни законными жалобами. Положительно
можно сказать, что каков бы ни был характер чувств или мыслей
народа в этой стране, обычною чертою жизни установилась бы в этой
стране безответность против обид.
Если же установился такой обычай, то неудивительно, что
обиженный без зазрения совести принимает милости от обидчика с
признательностью и, например, готов выражать благодарность и петь песни
в удовольствие человеку, только что побившему его, когда обидчик
попотчует его водкой. Ведь мы предположили, что нельзя найти
правильного удовлетворения за обиду, а попытка отмстить без
соблюдения формальностей повела бы только к новым, более тяжелым
обидам и бедам. Следовательно, тут человек получает удары как будто бы
от роковой силы, от случайных улыбок которой нельзя и
отказываться, если нельзя выйти из-под ее влияния. Кто на свете может от чего
бы то ни было терпеть больше обид, чем мы, жители Петербурга,
получаем от своего климата? Беспрестанно бьет нас он дождем и
снегом, слепит туманом, и нельзя перечесть всех наглых проделок, какие
он сочиняет над нами. А все-таки чуть покажет нам он хоть лоскуток
чистого неба, бросит нам хоть несколько лучей ясного солнышка, мы
с радостным восторгом принимаем от нашего обидчика эти милости
и спешим ими пользоваться. Опять я спрашиваю вас: значит ли это,
что мы довольны петербургским климатом, что мы в душе прими-
556
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
рились или можем когда-нибудь примириться с ним? Значит ли это,
что каждый из нас не ждет первой возможности выйти из-под власти
этого нашего врага, уехать куда-нибудь на юг или на запад? Мы
пустились в метафоры: в собственном смысле слова обид не наносит
нам климат, — он только подвергает нас неприятностям,
болезненным ощущениям. Вот точно так же только в метафорическом смысле
называет обыкновенный язык обидами те удары, которые получили
ямщики от проезжего. Удары эти даются не индивидуальною силою
проезжего, а неразумною силою вещей; его руки, бьющие по зубам
ямщиков, все равно, что ветви дерева, которые также очень больно
хлещут вас и по лицу, и по всему, по чему попало, когда вы проезжаете
мимо дерева. Обижаетесь ли вы этими ударами? Нет, они только
производят боль. Унижения вам тут нет.
Впрочем, как же не быть унижению? Нет, оно есть: вы унижены
тем, что не успели справиться с этим деревом, обломать его ветвей,
сующихся куда им не следует; вы несообразительны и бессильны;
от этого, кроме физической боли, есть в вас и досада. Однако ж все
это — тонкости, которыми не стоит заниматься: простая ли тут боль
или вместе с болью есть и унижение. Об этом не стоит рассуждать.
Важность только в том, что вы не делаете ничего особенно дурного,
когда пользуетесь при случае тенью того же самого дерева, которое
хлестнуло вас по лицу; важность еще в том, что если вы как-нибудь
воспользовались его тенью, из этого не следует еще заключить, что
вам не был неприятен удар его ветви и не чувствуете вы надобности
сломать ее, чтобы не повторяла она над вами такой же проделки.
Мы нашли ближайшую причину той невозможности защитить
свои права, которая заставляет дюжинных людей в народе
безответно переносить страдания и неприятности, не обнаруживая даже
злобы на обидчиков. Но ведь если всмотреться поближе в эту частную
и ближайшую причину, она сама требует объяснения. Понятно, что
безответно подчинялся тяжелому и оскорбительному чеченскому
порядку обращения русский пленник, уведенный в Гергебиль или Гуниб
мюридами Шамиля163. Он там был один против сотни, против тысячи
людей. А здесь наоборот: обидчик один, обижаемых десятки. От
всяких несправедливостей и наглостей страдает масса, а полезны или
приятны они только небольшому числу людей. Отчего же за
малочисленными обидчиками остается сила, а бесчисленные обижаемые
находят себя бессильными? Понять это поможет нам рассказ г. Успен-
Не начало ли перемены?
557
ского «Обоз». В этом маленьком очерке нет ровно никаких
особенных происшествий: среди сильной метели кое-как дотащился обоз
до постоялого двора; мужики поотогрелись, и один из них позабавил
товарищей на сон грядущий анекдотом о том, какие здоровенные
лошади были у какого-то неизвестного извозчика; под этот рассказ
усталые мужики крепко уснули. Дальше тоже не случилось ничего
особенного; но если мы будем сокращать рассказ о том, что было
дальше, впечатление факта ослабится, и вы не поймете всего смысла
его. Предлагаем же вам прочесть внимательно весь следующий
довольно длинный отрывок, не перебегая глазами ни через одну строку,
хотя, на всех строках все одно и то же.
В избе было как во тьме кромешной, все наповал храпело: у иного в
горле такие раскаты раздавались, что представлялось, что кто-нибудь во мраке
ночи, подкравшись к спящему, умертвил его.
Рано утром, лишь только пропели вторые петухи, кто-то из мужиков
сонным ГОЛОСОМ крикнул:
— Эй, вставай, рассчитываться пора! В избе зажгли ночник.
— Что, как погода-то, ребята?
— Не говори, брат!., такая-то бушует!
— Ах ты, господи! Что делать?
— Как мне быть с своею лошадью-то? Вряд доедет...
Извозчики разбудили хозяина и мало-помалу начали собираться вокруг
стола, медленно вытаскивая из-за пазухи кошели, висевшие на шее; иные
еще умывались, молились богу и старались не смотреть на садившегося за
стол хозяина, потому что расчет для них был невыносим. Один мужик стоял
у двери и глядел на икону, намереваясь занести руку на лоб, но хлопанье
счетов и хозяйский голос смущали его.
Мещанин, разбуженный мужиками, с проклятьями переселился на нары,
говоря там: чтоб вам померзнуть в дороге; ах, вы, горлодеры!
— Ты сколько с меня положил? — простуженным голосом спросил
хозяина извозчик.
— Тридцать копеек
— Ты копейку должен уступить для меня... Я тебе после сослужу за это...
ей-богу...
— А кто это у вас, ребята, вчера рассказывал? — вдруг, смеясь, спросил
хозяин.
— Про извощика-то? — заговорило несколько голосов.
-Да.
— Это вот Иван.
Мужики все несколько ободрились, глядя на усмехавшегося хозяина,
и были очень довольны, что он хоть на минуту отвлек их внимание от рас-
558
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
чета. Хозяин это сделал для того, чтобы мужики не слишком забивали свою
голову утомительными вычислениями, а поскорей рассчитывались.
— Важно, брат, рассказываешь, — сказал хозяин.— С тебя приходится,
Егор, сорок две... Нет, у нас был один рассказчик курский... из Курска
проезжал, так уморит, бывало, со смеху... Две за хлеб да сорок... сорок две...
— Евдоким! Нет ли у тебя пятака?
— Ну только, — продолжал хозяин, — с чего-то давно перестал ездить...
уж и голова был! еще давай гривенник... За тобой ничего не останется.
...Однако мужики поняли, что все-таки надо соображать и следить за
расчетом, хотя дворник завел речь о курском рассказчике. Вследствие этого
мужики снова приняли мрачный вид, напрягая все свое внимание на
вычисления.
— Егор! погляди: это двугривенный али нет?
— Ну-ко... не разберу, парень...
— Подай-ко сюда! — Смотри, малый!
— Это — фальшивый... у меня их много было... — Хозяин, ты что за овес
кладешь?
— Тридцать серебром. Василий! — сказал хозяин: — ты о чем хлопочешь?
Ведь ты с Кондрашкой из одного села?
— Да как же... одной державы... только вот разумом-то мы не измыслим.
— Вы так считайте: положим, щи да квас — сколько составляют? восемь
серебра. Эх, писаря! Зачем секут-то вас?
— Известно, секут зачем... Ну, начинай, Кондратий: щи да квас... — А там
овес пойдет...
— Овес после... ты ассигнацию-то вынь: по ней будем смотреть...
— Вы, ребята, ровней кошели-то держите... счет ловчей пойдет...
— Не сбивай!.. Э!.. вот тебе и работа вся: с одного конца счел, с другого
забыл.
Через час, после нескольких вразумлений мужикам, хозяин,
придерживая одной рукой деньги, другой — счеты, вышел вон из избы, оставив всех
мужиков с кошелями на шеях за столом.
— По скольку же он клал за овес?
— А кто его знает... Ты ему гляди в зубы-то: он на тебя-то напорет, что
зазимуешь здесь...
— Вот там!.. Чего опасаться? Ты чихверя-то знаешь? Валяй чихверями...
Пиши...
Мужики окружили пишущего.
— Это ты что поставил?
— Чихверю...
— Ну? это палка что? щи?
— Нет, квас...
— Какой там? Я пишу, что с хозяина приходится...
— Слушай его!.. Ты, Гаврила, про что давеча мне говорил?
Не начало ли перемены?
559
— Да не помнишь, сколько ты у меня взял в Ендове?
— Постой! Я тебе давно говорил, Гаврила, ты восчувствовать должен.
На прошлой станции кто платил? Небойсь, я!
— Ну, ты погоди говорить: сколько за свой товар приказчик дал на всех?
— По гривне.
— Ну, ладно, ты разложи эти гривны здесь на лавке; пойдем сюда к печи...
— Что там делать? А ты мне скажи: ты пил вчера вино?
-Нет.
— Ну, третево дни?..
-Нет.
— Ты бога-то, я вижу, забыл...
— Я брат, бога помню чудесно...
— Нет, ребята, лучше валяй чихверями; мы его живо обработаем! Нарисуй-
ко сперва овес...
— Да что вы с ним толкуете; давайте лучше жеребий кинем...
— Для чего жеребий?
— Разведать: может, кто из нас плутует...
— Так и узнал!.. Тут одно спасенье в чихверях... Наука вострая! — Андрей!
сочти мне, пожалуйста.
— Давай. Ты что брал?
— Сено, да ел вчера убоину...
— Ну? а кашу?
— Нет... не ел... что ж...
— А у тебя всех денег-то сколько?..
— С меня приходилось сперва сорок три... а всех денег, что такое?.. Куда
я девал грош-то?
— Ну, ты гляди сюда; что я-то говорю: ты убоину-то ел?
— Да про что ж я говорю: жрал и убоину, пропади она! — Ну, коли так,
дешево положить нельзя.
— Что за оказия! куда ж это грош девался?
— Ребята, будет вам спорить! Бросай и чихверя, и разговоры, пустим все
на власть божью!
— Да нынче так пустил, завтра пустил — эдак до Москвы десять раз
умрешь с голоду! По крайности — башку понабьешь счетами, а то смерть!
Я тебе головой отвечаю: что чихверь — первая вещь на свете!
— Ну, ребята, бросай все!
— Бросай!., провалиться ей пропадом.
— Как провалиться!.. Эко ты!
— Нет, надо считать!.. Как можно!
— Известно, считать... Ай мы богачи какие?
— Ивлий! не знаешь ли: пять да восемь — сколько?
— Пять да восемь... восемь... восемь... А ты вот что, малый, сделай, поди
острыгай лучиночку и наделай клепышков, знаешь...
560
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Мужики в беспорядке ходили по избе, обращаясь друг к другу и
придерживая кошели: кто спорил, кто раскалывал лучину; иные забились в угол,
высыпали деньги в подол и твердили про себя, перебирая по пальцам: «первой,
другой...» Два мужика у печи сидели друг против друга и говорили:
— Примерно, ты будешь двугривенный, а я — четвертак... этак слободнее
соображать.
Один будил на печи лакея, не зная, что делать с своею головою, другой
будил мещанина, который закрывался шубой и крепко ругался, покрывая
голоса всех мужиков.
Наконец мужики бросили все расчеты и счеты и, перекрестившись,
съехали со двора. Недоспавший лакей укутался на возу, ни слова не говоря ни
с кем.
На улице было темно; метель была пуще, чем вечером: ветер так и
силился снять с мужиков армяки. Верстах в пяти от станции, на горе, один мужик
крикнул:
— Эй, Егор!.. А ведь я сейчас дознал, что хозяин-то меня обсчитал.
— И меня, парень, тоже; ты рассуди: четверик овса... да я еще в прошлую
зиму на нем имел полмеры... вот и выходит...
— А ты что ужинал?
— Да хлеб, квас и щи.
— Нет, ты вот что возьми, — перебил первый мужик, и начался
продолжительный спор с разными головоломными соображениями.
Вьюга выла немилосердно, от сильного мороза мужики часто закрывали
свои лица полами армяков.
Кажется, если бы г. Успенский написал только эти три-четыре
страницы о народе, мы и тогда должны были бы назвать его
человеком, которому удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так
ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как
никому из других беллетристов. Когда вы прочтете эти страницы, вы
вспомните, что было кое-что о том же предмете замечаемо и
другими, начиная с знаменитой сцены в «Мертвых душах», когда Чичиков
расспрашивает у мужика о дороге в деревню Маниловку. Но то все
говорилось мимоходом, и смысл сказанного сглаживался резким
выставлением других подробностей народной жизни. А г. Успенский
заботливо всмотрелся в эту главную черту и дал нам вдоволь
полюбоваться на нее, не отвлекая от нее нашего пристального взгляда ничем
другим более разнообразным или живым. Скажите же, не наводило
на вас тоску то же самое бесконечное толкование наших
простолюдинов, напрасно бьющихся над соображением самым простым? Вот
сколько часов бьются люди, чтобы сосчитать сумму в какие-нибудь
Не начало ли перемены?
561
сорок копеек, — сумму, составляющуюся из сложения всего каких-
нибудь трех-четырех статей. Господи, как ломают, они голову, каких
штук не придумывают, чтобы одолеть эту трудность! и просто
считают, и мелом рисуют, и на счетах выкладывают, и какими-то чихверя-
ми валяют, и все-таки, так-таки и отдали деньги, и уехали с
постоялого двора, не сосчитав, сколько они должны заплатить и правильно ли
требует с них хозяин. Целые пять верст уже проехали они в темноте
по сугробам и, наверное, целых два часа ехали, и все в размышлениях
о неконченном расчете, — тут только, наконец, показалось одному,
будто он сообразил свой расчет, но и это чуть ли не было ошибкой:
по крайней мере, найденное им решение задачи вызвало новые
нескончаемые толки.
Правда ли это? Так ли оно действительно бывает? Скажите же
после этого, где же прославляемая сметливость русского
простолюдина? Только немногие, очень горячо и небестолково любящие народ,
поймут, как достало у г. Успенского решимости выставить перед нами
эту черту народа без всякого смягчения. Да понимал ли он, что
делает? Только в том случае, если не понимал он, и могут простить ему
этот отрывок квасные патриоты, разряд которых гораздо обширнее,
чем воображают разные господа, подсмеивающиеся над квасными
патриотами, а сами принадлежащие к их числу164. Ведь г. Успенский
выставил нам русского простолюдина простофилею. Обидно, очень
обидно это красноречивым панегиристам русского ума, — глубокого
и быстрого народного смысла. Обидно оно, это так, а все-таки
объясняет нам ход народной жизни, и, к величайшей досаде нашей, ничем
другим нельзя объяснить эту жизнь, кроме тупой нескладицы в
народных мыслях. Если сказано «простофиля», вся его жизнь понятна:
Я в деревню: мужик! ты тепло ли живешь?
Холодно, родименький, холодно!
Холодно, странничек, холодно,
Я в другую: мужик! хорошо ли ешь, пьешь?
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно!
Уж я в третью: мужик! что ты бабу бьешь?
С холоду, странничек, с холоду,
С холоду, родименький, с холоду!
562
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Я в четверту: мужик! что в кабак ты идешь?
С голоду, странничек, с голоду.
С голоду, родименький, с голоду!165
Жалкие ответы, слова нет, но глупые ответы. «Я живу холодно,
холодно». — А разве не можешь ты жить тепло? Разве нельзя быть избе
теплою? — «Я живу голодно, голодно». — Да разве «нельзя тебе жить
сытно, разве плоха земля, если ты живешь на черноземе, или мало
земли вокруг тебя, если она не чернозем, — чего же ты смотришь? —
«Жену я бью, потому что рассержен холодом». — Да разве жена в этом
виновата? — «Я в кабак иду с голоду». — Разве тебя накормят в кабаке?
Ответы твои понятны только тогда, когда тебя признать
простофилею. Не так следует жить и не так следует отвечать, если ты не глуп.
Но только вы не забудьте, что мы видим в русском мужике не
особенное существо, у которого «внутре нет ничего одинакового»
с другими людьми, а видим в нем просто человека, и если находим
какое-нибудь качество в дюжинных людях русского мужицкого
сословия, изображаемых у г. Успенского, то в этом же самом качестве
мы готовы уличить и огромное большинство людей всякого
сословия, — быть может, и мы с вами, читатель, не составляем исключения.
Исключений мало. Правда, в них-то и вся важность, от них-то только
и пошло все немногое хорошее, что есть в нашей жизни, и от них
только будет улучшаться она. Теперь, вслед за г. Успенским, мы ведем
речь не об этих исключениях, а о людях дюжинных, об огромном
большинстве людей. Русскому мужику трудно связать в голове
дельным образом две дельные мысли, он бесконечно ломает голову над
пустяками, которые ясны, как дважды два — четыре; его ум слишком
неповоротлив, рутина засела в его мысль так крепко, что не дает
никуда двинуться, — это так; но какой же мужик превосходит нашего
быстротою понимания? О немецком поселянине все говорят то же
самое, о французском — то же, английский едва ли не стоит еще ниже
их. Французские поселяне заслужили всесветную репутацию тем, что
их тупою силою были задушены все зародыши стремлений к
лучшему, являвшиеся в последнее время во Франции. Итальянские поселяне
прославились совершенным равнодушием к итальянскому делу.
Немецкие мужики в 1848 году почти повсеместно объявляли, что не
хотят никаких перемен в нынешнем положении Германии. Английские
поселяне составляют незыблемую опору торийской партии. Но что
Не начало ли перемены?
563
же говорить о каких бы то ни было поселянах, ведь они невежды, им
натурально играть в истории дикую роль, когда они не вышли из того
исторического периода, от которого сохранились гомеровы поэмы,
«Эдда» и наши богатырские песни. Посмотрите на другие сословия.
В какой кружок людей ни взойдите, вы не растолкуете большинству
их ничего превышающего круг их рутинных понятий; вы в бог
знает сколько времени не научите их сочетать правильным порядком
хотя эти привычные им понятия. После каждого спора спросите у
кого хотите из споривших, умные ли вещи говорили его противники
и понятливы ли, восприимчивы ли были они к его мыслям. Из тысячи
случаев только в одном скажет вам человек, что против его мнений
говорили умно, с толком. Значит, в остальных случаях непременно
одно из двух: или действительно бестолковы люди, с которыми
спорил спрошенный человек, или сам он бестолков. А ведь эта дилемма
захватывает всю тысячу, за исключением одного.
Но не забудьте, о чем мы говорим: мы говорим о том, хорошо ли
идет жизнь и умеют ли люди скоро сообразить, отчего она идет
дурно и чем можно поправить ее; скоро ли и легко ли растолкуешь им
это, если сам понимаешь, или скоро ли поймешь чье-нибудь дельное
толкование, если еще не понимаешь. Вот только об этом мы говорим;
только тут люди оказываются чрезвычайно несообразительны,
просто сказать, тупоумны. А в рутинных делах — помилуйте, — почти
все они очень понятливы, чуть не гениальны; быть может, не всегда
рассудительны в поступках, — что ж делать, человеческая слабость, —
но в мыслях чрезвычайно бойки. Интрижку ли устроить, отговорку ли
какую придумать, намолоть ли три короба чепухи по какому-нибудь
расчету, — на это мастер почти каждый, кто хоть сколько-нибудь
пообтерся в жизни. Но ведь в этих делах и всякий мужик, в том числе
и наш русский мужик, никому не уступит сообразительностью,
изворотливостью, живостью и быстротой мысли. Торгуется он,
например, так, что иной сиделец может ему позавидовать, — обмануть вас,
он так искусно обманет, что после только подивишься, и вы не
заблуждайтесь, не сочтите за доказательство противного ту нелепую,
тупоумную бессчетность, какую обнаружили ямщики г. Успенского
в расчете с хозяином постоялого двора. Это случай, в котором рутина
показывает напрасность всяких усилий проверить счет хозяина.
Считай, не считай, все-таки надобно отдать, сколько он требует. Вы сами
бываете точно в таком же глупом положении при всяком выезде из
564
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
гостиницы. Бог знает чего не напишут вам в счет, каких диких
прибавок не набьют туда и каких несообразных цен не выставят.
Считайте вы или не считайте, уличайте плутни или не уличайте, спорьте
против них или не спорьте, все равно вы заплатите сполна по счету,
фальшивость которого очевидна. После этого какая же, собственно,
польза считать и проверять? Но вы все-таки делаете это — просто по
рутине, говорящей людям вашего сословия, что они должны выражать
неудовольствие на содержателей гостиниц, бранить их при
расплате, даже делать им не совсем приличные для вас самих сцены. Умна
ли эта рутина сердиться, горячиться и не предпринимать ничего для
устранения плутовства? У мужиков другая рутина: у них прямо сидит
в голове мысль, что хозяина постоялого двора не переспоришь, и что
поэтому проверять его счет или считать самому — дело напрасное;
вот только поэтому так и тупоумны мужики в расчете; они сами
чувствуют, что занимаются пустяками; рутина сложилась у них в такую
форму: толку в этих счетах нет и не добьешься до него. Вы видите,
что они точно так и делают: начнут считать и тотчас же бросят; опять
начнут и опять бросят.
Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных
людей и в простом народе, как во всех других сословиях, и в простом
народе рутина точно так же тупа, пошла, как во всех других
сословиях. Заслуга г. Успенского состоит в том, что он отважился без всяких
утаек и прикрас изобразить нам рутинные мысли и поступки, чувства
и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе
непривлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость.
Но не спешите выводить из этого никаких заключений о
состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете
улучшения судьбы народа, или ваших опасений, если вы до сих пор
находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите
самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого
человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в
ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических
усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории
каждого народа. Мы говорили, например, что французские поселяне
могут быть характеризованы почти теми же чертами, как наши или
всякие другие; а разве не было во французской истории эпох, когда
они действовали очень энергически? То же случилось и с немецкими
поселянами. Разумеется, после таких оживленных действий масса на-
Не начало ли перемены?
565
рода снова впадает в прежнюю пошлую апатию, как впадает в нее
и всякий дюжинный человек после каждого чрезвычайного усилия.
Но совершившийся факт все-таки производит перемену в
отношениях. Например, увлекся пошлый человек, повенчался на девушке
без приданого, хотя постоянно думает только о денежных выгодах;
через несколько дней вспышка прошла, и опять он стал по
прежнему пошл, — а дело сделано, и он видит себя женатым и вернуться
к прошлой жизни уже никак ему нельзя. Заметьте, мы не говорим
о том, лучше или хуже стало жить ему или кому-нибудь другому от
перемены, — это как случится, — мы говорим только, что жизнь его
изменилась. Точно так же и одушевление массы не всегда приводит
к лучшему, — это как случится: иной раз бывает удачен, иной раз —
нет. Например, одушевление, которым увлеклись было немецкие
поселяне в начале XVI столетия, когда вслед за Лютером явился Фома
Мюнцер, не привело их ни к чему хорошему: говорят даже, будто их
положение стало хуже прежнего, чему мы, впрочем, не верим, потому
что хуже прежнего едва ли могло что-нибудь быть. Но бывали случаи,
о которых даже и мы не сомневаемся, что они привели к худшему.
Таков, например, был результат чешского движения, которым
началась междоусобная война, называющаяся тридцатилетней166. Чехам
стало гораздо хуже, чем было прежде. Разумеется, этот шанс
возможен только тогда, когда прежнее положение не безусловно дурно.
О случаях удачи мы не говорим, во-первых, потому, что их во
всеобщей истории довольно мало, а во-вторых, потому, что они и без нас
памятны каждому.
Странная вещь история. Когда совершится какой-нибудь эпизод
ее, видно бывает каждому, что иначе и не мог он развиваться, как тою
развязкою, какую имел. Так очевидно и просто представляется
отношение, в котором находились противоположные силы в начале этого
эпизода, что нельзя было, кажется, не предвидеть с самого начала,
к чему приведет их столкновение, а пока дело только приближается,
ничего не умеешь сказать наверное. Угадайте, например, каков будет
успех приближающегося столкновения между австрийскими и
венгерскими силами; угадайте, на чьей стороне тут будут кроаты, —
думаешь так, думаешь этак: и то, и другое может случиться. Наверное,
можешь предсказывать только то, что мирным порядком не
развяжется австрийско-венгерское дело. Да и в этом опять сколько есть
неизвестного: когда начнется эта передряга, по какому поводу, — кто
566
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
знает? Может быть, нынешнее положение протянется еще долго, —
ведь тянулось же оно до сих пор, хотя почти все были уверены, что
прошлой весны оно не переживет. А может быть, и не протянется оно
так долго, как кажется вероятным. Ведь нельзя же было, например, в
марте прошлого года ожидать, что в сентябре Сицилия или Неаполь
будут уже в положении совершенно новом167.
Мы обратились ко всеобщей истории затем, чтобы была хотя
одна страница несколько солидного содержания в нашей статье,
наполненной обыденными дрязгами. Но мы вперед соглашаемся, что
сделали эту вставку совершенно некстати и что она не имеет ровно
ничего общего с рассказами г. Успенского, главным предметом
которых служат совершенно вздорные вещи, вроде следующего отрывка
из рассказа «Ночь под светлый день».
Часов восемь вечера, сельская улица наполнена народом. Во всех окнах
светятся огни. Около слобод поповской и дворовой толпятся мужики,
дворники, приказчики, лакеи. Где просятся ночевать, поздравляют с праздником;
где предлагают услуги, расспрашивают о здоровье и проч.
— Наше почтение Савелию Игнатьевичу. С наступающим праздником
имею честь поздравить.
— Многолетнего здравия, Петр Акимович, Лукерья Филипповна!..
Авдотья Герасимовна!.. Что? и вы к заутрене жалуете?
— Да-с; и мы...
— Дело... Вот и я с супругой тоже. Нельзя. Вся причина — праздник
обширный... смешно будет не идти.
— Не знаете ли, Савелий Игнатьич, где бы мне переночевать с
семейством?
— Право-слово, не знаю. Мы с супругой у отца дьякона. Да вы
попробуйте, спросите вон в кабаке: теперь там просторно...
— Как можно!..
— Ей-богу! Да что ж вы думаете? Да мы с супругой, я вам скажу, раз в
конюшне ночевали...
Кто-то ведет в темноте даму.
— Ко мне, ко мне, Марья Павловна, пожалуйте. Сюда. Лужицу-то
пересигните...
— Куда это?
— Прямо! Валяйте!
— Сигать?
— Сигайте...
— Темь какая, господи... У-у-ух! Ну!..
— Что, втесались?
Не начало ли перемены?
567
— Втесалась.
— Да где ты, Настя? — кричит какая-то женщина.
— Я? вот...
— Иди скорей. Пойдем. Или ты не видишь, повсюду лакеи шляются. Как
же можно одной?
— Он, маменька, ничего...
-Кто?
— Лакей... барский. Он только говорит: Христос воскресе!
— А ты!
— А я говорю, воистину...
— Ну и дура за это... вот тебе и сказ!
— Здравствуйте, Наум Федотыч. Куда это вы так торопитесь?
— Здравствуйте, сударыня. — Как поживаете?
— Да что, матушка, забыл дома яйца.
В дьячковском доме при свете ночников хозяйка с засученными
рукавами переваливает с боку на бок на столе тесто. Ее крошечный сынишка, весь
в муке, стоит на полу и смотрит на нее, чего-то ожидая.
— Рано, голубчик, — говорит дьячиха. — Ни свет, ни заря... бог ушко
отрежет.
Мальчик кладет в рот палец.
Дьячку, сидящему за церковной книгой и тихонько напевающему: «тебе
на водах», дочь заплетает косу.
Или вот вроде следующих страниц из рассказа «гулянье», которым
мы уже попользовались в рассуждении вопроса, у «всех ли людей вну-
тре одинаково».
Между толпами народа видно и конторщика, идущего бодро и важно
с выпущенными из-под жилетки длинными концами шейного платка. Он
поминутно охорашивается и, видимо, хочет отделаться от пьяницы
садовника, который бредет за ним в двух шагах, стараясь о чем-то заговорить с
ним. Конторщик спешит присоединиться к дворовым девкам. '
— А что, сударыни, — раздается мягкий голос лакея в куче дворовых
девок — вы песни петь сегодня будете?
— С чего вы взяли? Вот выдумали! хи-хи-хи.
— Нисколько я не выдумал. Естество свое возьмет завсегда.
— Ведь какие горделивые! — восклицает другой лакей, идя позади девок.
— Семен Петрович, — слышится унылый голос садовника: — а я раков
твоих попытаю.
— Я тебе сказал: отстань, отвяжись. Черт тебя возьми совсем с раками!
Ты меня осрамил.
— О-ох!..
568
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
По мере удаления лакеев голоса их становятся слабее.
— Харлам Гаврилыч, Харлаша, — кричит один из мужиков, обнявшись
с своим товарищем. — Я тебе расскажу про все. Она баба расейская. А на
счет наук ты не хвались. Теперича, что поляк, что лихляндец, что швед — все
едино: к примеру, вот мы с тобой идем, все ничего. Вдруг навстречу город
али деревня.
— Нет, ты сам не знаешь, что говоришь. Верно, мало слыхал про Лих-
ляндию. Пономарев Сенька — лихач на эвти штуки. Скажет: стой, солнце, не
шевелись, земля, хоть примерно Россия аль Лихляндия.
-Так.
Мужики удаляются.
Проходят два мещанина. Один из них говорит другому:
— То есть я, батюшка мой, простудил себя, одно слово, квасом. Квасом
простудил, так простудил, — смерть. Ребята взяли наварили кулешу с
ветчиной да еще на дорогу мне положили поросенка, значит, все свиное. Я и поел,
сударь мой, так поел, хоть околевай, так то ж.
— Ik.. И накушались?
— И натрескался, Петр Афанасьевич.
Выступают две бабы. Они говорят о своих знакомых и родных. Одна
другую уверяет, на минуту приостановившись:
— О! она тебя помнит... как не помнить... и-и-и... А уж кум-то, кум-то! Бог
его знает, что за человек такой... Ей-богу... умный. А сноха-то давеча — тресть
его по голове! и-их! право слово.
Или вот следующие страницы из рассказа «На пути».
У крыльца волостного правления вокруг запыленного тарантаса стояли
мужики и бабы. Они держали в руках податные книжки, подлежащие
рассмотрению приехавшего с ревизией чиновника особых поручений. От
нечего делать шел разговор:
— Что, война будет?
— Нет, не будет, — говорил солдат, прислонясь к стене и покуривая
трубку.
— Отчего же?
— Да с кем воевать-то? Разве с черкесом? Но уж Шмеля забрали... — А с
китайцем? — спрашивал мужик.
— Китаец не пойдет... робок...
Мужик замолчал, придумывая, на кого бы еще указать? Солдат плюнул и
добавил;
— Нет, войны не будет...
В волостном правлении за столом сидел чиновник. Пред ним стояло
одетое в форменное платье сельское начальство: голова, старшина, писарь,
Не начало ли перемены?
569
староста, десятский, сотский, тысячный, выборный, полицейские,
добросовестный и смотритель магазина.
Правление разделялось на две комнаты: в одной стояли два шкапа,
называвшиеся архивами; в другой — стол, покрытый сукном, за которым сидел
чиновник; окованный железом сундук с общественною суммою; станок для
измерения рекрутов; стеклянная ваза с золотой надписью: «роковая урна».
По стенам были развешаны объявления, наставления, табели, реестры,
оклады податей и проч.
Чиновник, весь в пыли, взъерошив волосы, держал в руках печатный лист
и спрашивал по нем писаря, у которого по лицу текли ручья пота. Видно
было, что ревизия продолжалась давно: все сельское начальство, переступая
с ноги на ногу, тяжко дышало и бессознательно глядело на чиновника.
— Не проживают ли в вашем обществе беспаспортные, беглые,
дезертиры и жиды? — говорил ревизор.
— Не проживают, — машинально отвечал писарь.
— На основании каких данных и по каждому ли селению записаны
посевы и урожаи?
— По каждому.
— На основании каких данных?
Писарь молчал. Чиновник отдулся, вытер платком лицо и попросил
голову объяснить писарю слово «данных». Голова раз пять кашлянул и занес
такую околесицу, что чиновник приказал ему замолчать.
— Имеются ли выписки из люстрационных инвентарей или
сокращенные люстрационные инвентари и копии с планов с геометрическими ин-
вентарями имений, входящих в состав общества; в исправности ли они, и
отмечаются ли в инвентарях последовавшие перемены?
— Все в порядке, — промолвил писарь.
— Отправляются ли в уездный суд дела о проступках, если по свойству
проступка востребуется взыскание более трех рублей, или более
семидневного срока, или более предоставленного сельским судебным уставом
расправе наказания розгами шестьюдесятью ударами?
— Все исполняется, — сказал писарь.
— Вы поняли, что я спрашиваю? — обратился ревизор к начальникам,
которые вдруг как будто проснулись и начали оправлять свои волосы.
— Поняли... — вполголоса отвечал писарь.
— Не разбирает ли расправа тяжб поселян об имуществе, на которое
право основано на крепостных и других актах, или когда спорное
имущество стоимостью более пятнадцати рублей, а спорящие не согласятся тяжбу
свою кончить примирением, а также если подлежащие суду живут в других
местах и городах или происходят от других сословий, и отправляются ли
расправою поступившие к ней дела подобного рода в уездный суд?
Писарь молчал.
— Ты понял, что я говорю?
570
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Писарь блуждал глазами но комнате, наконец, сказал:
— Поняли...
Чиновник перевел дух и спросил лошадей. Сельское начальство
бросилось вон из правления. Чиновник набил себе трубку и стал перелистывать
дела, говоря: «вот тут и твори волю пославшего...» Вскоре он стоял на
крыльце и пересматривал податные книжки. Наконец он спрашивал мужиков:
— Довольны ли вы своим начальством?
— Довольны, — сказал один голос.
— Да вы, ребята, скорей отвечайте: мне еще ревизовать десять волостных
правлений. Ходите ли в церковь?
— Ходим.
— Любите ли друг друга?
— Любим.
— Прививаете ли оспу детям?
Сделавши еще несколько вопросов, чиновник заключил:
— Вообще, миряне, если вы чем недовольны, скажите; я жалоб не
разбираю, но могу донесть палате...
Народ молчал.
Чиновник сел в тарантас и отправился.
Сельское начальство и мужики с бабами пошли домой.
Зачем привели мы эти выписки, совершенно не идущие к делу?
Просто потому, что увидели, что статья подходит к концу, а
выписок из разбираемой книги сделано еще мало. Вот мы и отметили
несколько страниц из нее. Нужды нет, что они не имеют связи ни
с предыдущим, ни с последующим, — пусть себе стоят, куда
случилось им попасть. Сделав этот дивертисмент, займемся прежним
рассуждением.
Мы остановились на том, что в жизни каждого дюжинного
человека бывают минуты, когда нельзя его узнать, так он изменяется или
порывом благородного чувства, или мимолетным влиянием
чрезвычайных обстоятельств, или просто наконец тем, что не может же
навек хватить ему силы холодно держаться в неприятном положении.
Это все равно, что смирная лошадь (если позволите такое
сравнение). Ездит, ездит лошадь смирно и благоразумно — и вдруг встанет
на дыбы или заржет и понесет; отчего это с ней приключилось, кто ее
разберет: быть может, укусил ее овод, быть может, она испугалась чего-
нибудь, быть может, кучер как-нибудь неловко передернул вожжами.
Разумеется, эта экстренная деятельность смирной лошади
протянется недолго: через пять минут она останавливается и как-то странно
Не начало ли перемены?
571
смотрит по сторонам, как будто стыдясь за свою выходку. Но все-таки
без нескольких таких выходок не обойдется смирная деятельность
самой кроткой лошади. Будет ли какой-нибудь прок из такой
выходки, или принесет она только вред, это зависит от того, даст ли ей
направление искусная и сильная рука. Если вожжи схвачены такою
рукой, лошадь в пять минут своей горячности передвинет вас (и себя,
разумеется) так далеко вперед, что в целый час не подвинуться бы
на такое пространство мерным, тихим шагом. Но если не будет
сообщено надлежащее направление порыву, результатом его останутся
только переломленные оглобли и усталость самой лошади.
Чтобы не заблудились мы относительно приложений, какие мы
имеем в виду, укажем достославный пример из отечественной
истории, именно незабвенный 1812 год, когда были такие удивительные
морозы.
Мы читаем у нелицеприятного г. Устрялова и правдивого
покойного Михайловского-Данилевского168, что в этом году весь русский
народ одушевился необыкновенным патриотическим энтузиазмом.
Мудрыми руководителями, по свидетельству тех же историков, было
дано этому энтузиазму самое приятное и прекрасное
удовлетворение: были сделаны наборы в солдаты и в милицию, так что каждый
горевший охотою защищать отечество находил себе готовое место
в стройных рядах войска. Благодаря этому Россия достигла великих
военных успехов, русские вошли в Париж или, по поэтическому
перечню нашего барда Жуковского, произошли следующие события:
Бой московский, взрыв кремлевский
И в Париже русский штык169.
От этого Россия возвысилась до такого грозного могущества,
о котором никто не мог и мечтать прежде. Вот пример великости
прекрасных результатов, совершаемых народным одушевлением
при надлежащем его направлении. Представим же себе
противоположный случай: вообразим, что в 1812 году русский народ был
действительно проникнут воинственным энтузиазмом, как утверждают
наши почтенные вышеупомянутые историки, но что войны не
произошло, и надлежащего выхода энтузиазму не нашлось, что едва
Наполеон перешел Неман, как ему предложили мир на каких ему было
угодно условиях. Что было бы в этом случае? Поднялся бы ропот и
572
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
произошли бы взаимные неприятности между самими русскими,
потому что возбужденное чувство, не имея возможности устремиться
к правильной цели, выразилось бы горячими действиями для
достижения целей неправильных. Читатель замечает, что мы рассуждаем
по прежнему нашему правилу в гипотетическом духе. Мы не
утверждаем, что было одушевление; мы только говорим, каков должен был
оказываться результат его в том или другом случае, если оно
действительно было; но опять-таки читатель не заключит из этого, что мы
отрицаем существование в ту эпоху того одушевления, по
предположению которого рассуждали. Мы не историки, мы сами не можем
решить этого, но как нам не верить свидетельству таких историков,
как г. Устрялов и г. Михайловский-Данилевский?
Пусть другие, более нас ученые люди оценивают по достоинству
их заслуги исторической истине; мы же выразим здесь нашу
признательность им за то, что их красноречивые труды указали нам в жизни
русского народа эпоху одушевления.
Следовательно, невозможного ничего нет, или, по выражению
старинного поэта:
Ничто не ново под луною:
Что было, есть и будет впредь.
Если же будущее есть только повторение прошедшего, то
прошедшие обстоятельства могут повторяться в будущем. Мы хотим сказать,
что если полчища двенадесяти язык, влекомые кичливыми галлами,
снова устремятся на Москву, то явится через несколько лет после того
новый г. Ф. Глинка, который воспоет:
Ты, как мученик, горела,
Белокаменная,
И река в тебе кипела
Бурнопламенная.
Но едва ли мы не слишком уже заговорились, одушевившись
поэтическими воспоминаниями, и едва ли не облеклась в слишком
поэтическую ахинею та прозаическая мысль, которую начали было
мы развивать и которая состояла лишь в том, что минуты
одушевления возможны в жизни массы, обыкновенно занятой самыми
мелкими и пошлыми обыденными дрязгами, как возможны они в жизни
Не начало ли перемены?
573
самого дюжинного человека. Нужды нет, что вы видите вокруг себя
только пошлость и мелочность, апатию и трусость, нужды нет, что
только это видите вы ныне: день на день не приходится. Однако же
мы напичкали в середину своей статьи столько разной поэзии, что
с трудом вспомнит теперь читатель, о чем говорилось в начале
статьи. Будем припоминать по порядку.
Однако же не лучше ли будет нам остановиться на этом и для
заключения статьи припомнить кое-какие из мыслей, внушенные нам
книгою г. Успенского. Мы заметили радикальную разницу между
характером рассказов о простонародном быте у г. Успенского и у его
предшественников. Те идеализировали мужицкий быт, изображали
нам простолюдинов такими благородными, возвышенными,
добродетельными, кроткими и умными, терпеливыми и энергическими,
что оставалось только умиляться над описаниями их интересных
достоинств и проливать нежные слезы о неприятностях, которым
подвергались иногда такие милые существа, и подвергались всегда
без всякой вины или даже причины в самих себе. Нам вспоминается
анекдот, слышанный от одного из даровитейших наших
беллетристов, знаменитого мастерством рассказывать анекдоты. Мы
надеемся, он не посетует на нас за то, что мы воспользуемся этою его
разговорною собственностью. Анекдот начинается с того, что в будуар
жены входит муж, человек, занимающий очень почетное положение
в обществе и знаменитый своею любовью к народу, — любовью,
которую умел он перелить и в нежное сердце своей прекрасной
супруги. Он застает пышную красавицу в горьких слезах над развернутою
книжкою русского журнала. «Душенька, о чем ты так расплакалась?»—
«А, боже мой...» — голос жены прерывается от рыданий. «Душенька,
да что же такое, скажи ради бога?» — «Боже мой! какие несчастные...»
и опять голос прерывается от рыданий. «Ангел, мой! успокойся... что
такое?» — «Несчастные мужики, ах какие несчастные! Здесь
написано, что они не пьют кофе!..» Нам представляется, что сострадательная
дама читала одну из тех прекрасных повестей, в которых так
интересно изображался простонародный быт.
Книгу г. Успенского, наверное, отбросила бы она с негодованием
на автора, рассказывающего о наших мужичках такие грязные
пошлости. Очерки г. Успенского производят тяжелое впечатление на
того, кто не вдумается в причину разницы тона у него и у прежних
писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Успенско-
574
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
го — очень хороший признак. Мы замечали, что решимость г.
Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе
свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой
разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не
поднялась бы рука изобличать народ. Мы замечали, что резко
говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося
в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение
представляется продолжающимся только по его собственной вине и
для своего улучшения нуждается только в его собственном желании
изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень
отрадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет
ничего отрадного.
Заканчивая этим отзывом разбор книги г. Успенского, мы
предадимся теперь отвлеченным психологическим размышлениям,
которые, конечно, будут иметь очень мало связи с рассказами г.
Успенского, а с жизнью русского народа не будут уже иметь никакой связи.
Если мы будем наблюдать причины перемен, происходящих в
образе мыслей и поступков у дюжинных людей, лишенных внутренней
инициативы, мы найдем, что эти под два главные разряда причины
подводятся.
К первому разряду относятся бессознательные и, можно сказать,
бесцельные побуждения, проистекающие из ограниченности
человеческого терпения, которое, подобно всем другим свойствам
человеческой натуры, никак не может считаться бесконечным.
Замечательнейший психологический факт этого рода представляют
машинальные действия человека, погруженного в глубокий сон. С каждым из
нас часто бывает, что, заснув на правом боку, он просыпается
лежащим уже на левом боку, или наоборот. Какие причины заставили его
повернуться с одного бока на другой, он не знает; не знал и того, что
повертывается, когда повертывался, и заметил это уже гораздо
позднее, когда проснулся. А между тем он все-таки повернулся. Отчего это
сделалось с ним? Конечно, оттого, что стало ему, наконец, неудобно
лежать на прежнем боку, и развилась в нем потребность изменить
свое положение. Мы уже замечали, что сознательным образом он
не чувствовал появления этой потребности; а нечего уже и говорить
о том, что он не обнаруживал ее никакими словами, он спал крепко и
молчал. Но все-таки эта бессознательность и молчаливость не
помешала совершиться факту. Можно наблюдать очень много подобных
Не начало ли перемены?
575
действий, совершаемых во время глубокого сна. Например, спящий
сгоняет с лица муху, все равно как согнал бы ее бодрствующий.
Разумеется, разница между действиями сонного и бодрствующего всегда
бывает и притом очень большая. Во-первых, сонный человек далеко
не так скоро шевелит рукою для прогнания мухи, как бодрствующий:
этот последний обмахивается от мухи, лишь только она сядет ему на
нее или на лоб, а у сонного она разгуливает по лицу довольно долго,
прежде чем совершит он машинальное движение, чтобы согнать ее.
Во-вторых, это машинальное действие вообще не имеет той
верности и успешности, какая бывает в движениях бодрствующего: рука
сонного человека иногда опускается, не поднявшись до тревожимого
мухою места, иногда направляется не совсем на то место, где сидит
муха. От этой разности происходит и третья разница: муха,
прогнанная бодрствующими, обыкновенно бывает так напугана верностью и
быстротой его движений, что улетает вовсе прочь; а муха, вяло
прогнанная сонным, в одну секунду замечает, что снова может
опуститься на него, и в самом деле опять садится на место, с которого только
что слетела. — Вообще, психологические наблюдения над сном
представляют большой научный интерес, и общий вывод из них тот, что
в сонном человеке происходят все те явления, как и в бодрствующем,
только происходят они несколько медленнее и слабее.
Но сон имеет свой конец, как все в человеческой жизни, и точно
так же имеют большой психологический интерес факты,
наблюдаемые при пробуждении. Если сон кончается сам собою, а не от
внешних раздражений, пробуждение бывает очень спокойно; напротив,
когда человек не сам просыпается, а бывает пробуждаем слишком
резкими впечатлениями, он впросонках обнаруживает тревожную и
очень резкую деятельность: вскрикивает, мечется, вскакивает и
бывает похож на сумасшедшего. Это машинальное напряжение нерв
и мускулов довольно скоро успокаивается, так что не стоит
обращать на него особенное внимание; но вообще надобно сказать, что
психология находит довольно опасною вещью неосторожное
обращение с сонным. Мы указали на наблюдения над сонными людьми
в свидетельство того, что могут происходить действия решительно
без всякого предшествующего сознания надобности этих действий,
даже без сознания о неудобстве положения, к изменению которого
клонится действие. Наука находит очень много свидетельствующих
о том фактов и во всяких других проявлениях жизни. Возьмем в при-
576
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
мер немецкий обычай кушать бутерброды. Почтенные немцы,
придумавшие эту вкусную вещь, решительно не знают, почему надобно
им кушать хлеб со сливочным маслом, — они дошли до этой выдумки
совершенно машинально. Но в недавнее время наука открыла, что
хлеб сам по себе переваривается желудком не очень легко, а
сливочное масло даже очень трудно; когда же два эти питательные вещества
смешиваются, то вместе перевариваются они желудком гораздо
легче, чем каждое из них в отдельности. Таким образом, сознательная
причина для делания бутербродов открыта очень недавно, а немцы
кушают бутерброды с незапамятных времен, и до недавнего времени
почти никто из них не умел, да и теперь еще почти никто не умеет
отдать себе отчет в том, почему ему понравилось кушать бутерброды;
но это, повторяем, никому из них не мешало и не мешает любить
бутерброды.
Мы приводили примеры мелочные; но для науки мелочные факты
приобретают иногда очень важное значение, служа ключом к
разъяснению важных явлений исторической жизни. Так, например, Бокль
сделал замечательную попытку разъяснить характер индийских
учреждений и истории качествами риса, служащего обыкновенною
пищею индусов170. Почему же нам не заниматься размышлениями
о бутербродах и мухах, и назовет ли читатель опрометчивым
самохвальством, если мы скажем, что из этих наблюдений извлекаются
два вывода, важные для исторической психологии:
Во-первых, летаргическое состояние умственной жизни не
мешает физическим действиям для удовлетворения физиологических
нужд; во-вторых, можно получить наклонность к предмету, не имея
отчетливого сознания о нем.
На основании этих выводов мы скажем, что, если, например,
масса русских простолюдинов невежественна и апатична, это не дает
нам права отрицать в них способность проникнуться наклонностью
к какому-нибудь другому порядку жизни, хотя бы он и не был
хорошенько известен ей, и даже энергически устремиться к
приобретению этого лучшего неведомого ей состояния. Читатель понимает, о
каких улучшениях в жизни народа мы говорим. Мы разумеем здесь
грамотность, без которой ничего хорошего быть не может, как
доказывают почти все приверженцы народных школ, — люди,
пользующиеся полным нашим сочувствием. Быть может, напрасно шли
мы таким длинным путем извилистых рассуждений, чтобы убедить
Не начало ли перемены?
577
читателя в истине, которую, вероятно, был бы он готов признать с
первого же слова: нужды нет, что народ наш не знает грамоте; он все-
таки может любить эту грамоту, которой еще не знает; и нет нужды,
что он апатичен; он все-таки может в очень непродолжительное
время проникнуться усердием к изучению грамоты. Откуда возьмется у
него такое усердие? Да просто оттого, что слишком долго оставался
он безграмотен; самая продолжительность безграмотного
состояния может истощить его апатическое терпение, и он вдруг суетливо
устремится вознаградить потерянное время.
Но мы говорили, что не одна только ограниченность терпения
служит причиною перемен в жизни дюжинных людей. Если не
ошибаемся, мы уже замечали, что в простом народе, как и во всех
других сословиях, кроме большинства, состоящего из людей лишенных
инициативы, встречаются люди энергического ума и характера,
способные обдумывать данное положение, понимать данное сочетание
обстоятельств, сознавать свои потребности, соображать способы
к их удовлетворению при данных обстоятельствах и действовать
самостоятельно. Г. Успенский не находил до сих пор частью своей
задачи изображение подобных лиц в простом народе. Это, конечно,
потому, что он поставил себе целью знакомить нас с
господствующим тоном народной жизни, а в нем до сих пор исключительно
преобладала рутина дюжинных людей и нисколько не обнаруживалось
влияние людей, имеющих в себе силу инициативы. Но нельзя
сомневаться в существовании таких людей. Совершенно ненатурально
и неправдоподобно было бы предположить их несуществование. Нет
сословия, в котором не было бы хромых, кривых, горбатых и, с
другой стороны, не было бы людей, очень стройных, очень красивых и
очень здоровых. Точно так же в каждом сословии непременно
должны быть, с одной стороны, люди, стоящие гораздо ниже, а с другой
стороны, люди, стоящие гораздо выше общего уровня по уму и
характеру. Но это отвлеченное доказательство невозможности отсутствия
в простолюдинах способных к инициативе совершенно не нужно
ни для кого, имевшего случай знакомиться с простолюдинами. Кто
сближался с ними, наверное, встречал между ними людей,
поражавших его силою ума и характера. Является теперь вопрос: почему же
не имели они до сих пор влияния на жизнь массы, и способна ли она
подчиниться ему? Почему не имели, на это можно отвечать
знаменитыми стихами Пушкина о людях совершенно другого рода:
578
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон, и т. д.171
В самом деле, почему поэт не всегда пишет стихи, почему
живописец не вечно рисует картины, почему иной человек, очень любящий
играть на биллиарде, очень долго не берет в руки кия, почему Колумб
очень долго не ехал открывать Америку, и так далее? Всякий знает
почему: каждый человек занимается любимым делом или действует
сообразно своей натуре только тогда, когда это возможно, когда
обстоятельства располагаются вызывающим к деятельности образом
или, по крайней мере, начинают допускать эту деятельность. Не
забудем, о каких людях мы теперь говорим, о людях умных и сильного
характера. Умный человек не ввязывается в дела, пока не стоит в них
ввязываться, он держится в стороне и молчит, если достает у него
твердости характера на выжидающую роль. (А ведь мы говорим о
людях, способных к инициативе, для которой непременно нужна,
кроме ума, и твердость характера.) Очень хорошо уловлена Шиллером
эта черта исторической жизни в первых сценах «Вильгельма Телля».
Стоят и толкуют между собою люди о своих делах. Но делать им еще
нечего, и Вильгельма Телля нет между ними. Кто он и где он, мы не
знаем, он, кажется, нянчит ребенка, болтает с женой, охотится за
сернами, — словом сказать, бездельничает или погружен в свои личные
дела, и не слышен его голос в разговорах толпы о делах Швейцарии.
Но вот надобно сделать дело; не решается никто из почтенных
патриотов, рассуждавших о благе отечества. Тут бог знает откуда
появляется Вильгельм Телль, спрашивает, где лодка, и спасает человека,
который через минуту погиб бы, если бы не увез его Телль.
Но к чему возвышенное сравнение? Лучше взять пример из нашей
обыденной жизни. Пока не предвидится вакансии, нет и кандидатов
на должность. Но не было еще примера, чтобы порядочная должность
оставалась не занятою по недостатку кандидата. К этому случаю
прилагаются наши поговорки: «Был бы хлеб, а зубы будут» и «свято место
не живет пусто». Нельзя найти в истории ни одного случая, в котором
не явились бы на первый план люди, соответствующие характеру
обстоятельств. Если в обстоятельствах происходила быстрая перемена,
требовавшая людей иного характера, чем прежние деятели,
выступали на первые места люди, о которых до той поры не было ни слуху,
ни духу. Неужели вы полагаете, что Нельсон был знаменитым адми-
Не начало ли перемены?
579
ралом, когда Англия еще не начинала войн, потребовавших адмирала
вроде Нельсона172? Руссо успел стать пожилым человеком и не был
никому известен, пока не потребовались обстоятельствами
сочинения в том роде, в каком способен писать Руссо. Неужели запрягают
волов в плуг раньше, чем приходит пора пахать?
Тяжела обязанность журналиста. Едва он увлечется какими-нибудь
приятными ему психологическими изысканиями, едва он придет
в такое расположение духа, чтобы служить отвлеченной науке, как
вдруг припоминается ему журнальное отношение, надобность
угождать желанию писателя, сотрудничеством которого дорожит журнал.
Вот и нас останавливает среди многотрудных и полезных
исследований мысль: как понравится наша статья г. Успенскому? Она
решительно не понравится ему, если станет продолжаться и окончится в том
роде, как шла вторая половина ее. Он найдет, что статья о его книге
слишком мало занимается его книгою. Нечего делать, надобно
угодить г. Успенскому и начать речь собственно о нем и о его книге.
Особенность таланта г. Успенского состоит в том, что он говорит
о мужиках без церемоний, как о людях, которых он сам считает и
читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за
людей, о которых можно говорить откровенно все, что замечаешь о них.
Он нимало не стесняется в их обществе. Мы уверены, читая его книгу,
думаешь, что когда он сидит на постоялом дворе или за обедом у
мужика или бродит между народом на гулянье, его сиволапые
собеседники не делают о нем такого отзыва, что вот, дескать, какой добрый
и ласковый барин, а говорят о нем запросто как о своем брате, что,
дескать, это парень хороший и можно водить с ним компанство.
Десять лет тому назад не было из нас, образованных людей, такого
человека, который производил бы на крестьян подобное впечатление.
Теперь оно производится нередко. Если вы одеты не бог знает как
богато, если вы человек простой по характеру и если вы действительно
любите народ, мужик не отличает вас ни по разговору, ни по языку от
своей братьи, отпущенников; это свидетельствует о том, что в числе
людей, принадлежащих по своим интересам к народу, есть уже такие,
которые довольно похожи на нас с вами, читатель. Свидетельствует
также, что образованные люди уже могут, когда хотят, становиться
понятны и близки народу. Вот вам жизнь уже и приготовила
решение задачи, которая своею мнимою трудностью так обескураживает
славянофилов и других идеалистов, вслед за славянофилами толкую-
580
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
щих о надобности делать какие-то фантастические фокус-покусы для
сближения с народом. Никаких особенных штук для этого не
требуется: говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас;
входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело
совершенно легкое для того, кто на самом деле любит народ, —
любит не на словах, а в душе.
КОММЕНТАРИИ
Комментарии
583
Очерки гоголевского периода русской литературы
Публикуется по тексту: Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. В 15т/ Под
общей редакцией В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского.
М., 1939-1953. Т. 3. С 177-226.
1 «Телескоп» — журнал, издававшейся Н. Надеждиным в Москве с 1831 по
1836 г. Приложением к журналу был листок «Молва». Журнал выражал
как зачатки западнического, так и славянофильского мировоззрений.
На страницах журнала публиковались А. С. Пушкин, В. Г. Белинский,
размещались переводы немецких, французских и итальянских авторов.
Причиной закрытия «Телескопа» послужила публикация
«Философического письма» П. Я. Чаадаева.
2 Имеется в виду гегелевская идея о национальном духе.
3 Говорится о Л. Фейербахе. Фейербах Людвиг (1804-1872) — немецкий
философ. Чернышевский очень высоко оценивал его философские
взгляды.
4 Станкевич Николай Владимирович (1813-1840) — русский философ
и общественный деятель, оказавший значительное влияние на своих
современников. В 30-е гг. XIX в. организовал литературно-философский
кружок, ставший духовным центром передовых интеллектуалов и
положивший начало отечественному западничеству. В кружок входили
К. С. Аксаков, Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, Я. М. Неверов, А. П.
Ефремов, Н. П. Клюшников, В. И. Красов и др. Центральное место в его
философии занимает антропософия, в основе которой — вера в могущество
ума, одушевленного «добрым чувством».
5 Соловьев Сергей Михайлович ( 1820-1879) — историк, основоположник
государственной школы в историографии. Кавелин Константин
Дмитриевич (1818-1885) — историк, правовед, общественный деятель,
теоретик отечественного либерализма.
6 Романтизм в России возник на рубеже 1820-1840-х гг. Начало
романтизма восходит к 90-м гг. XVIII в., а расцвет принято датировать 10-30-ми
гг. XIX в. Истоки романтизма можно найти в «Русских сказках» (1780)
В. Левшина, в незаконченной драме «Русалка» (1832) А. С. Пушкина,
произведениях М. Ю. Лермонтова.
7 Натуральная школа — обозначение возникшего в 40-е гг. XIX в. в России
нового этапа в развитии русского критического реализма, связанного
с творческими традициями Н. В. Гоголя и эстетикой В. Г. Белинского.
Становление натуральной школы относится к 1842-1845 гг., когда группа
писателей (Н. А. Некрасов, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, А И. Герцен,
И. И. Панаев, Е. П. Гребенка, В. И. Даль) объединились под идейным
влиянием Белинского в журнале «Отечественные записки». Несколько позд-
584
нее там стали печататься Ф. М. Достоевский и M. E. Салтыков.
Сторонники натуральной школы критиковали романтизм за его аффектацию,
искусственную натянутость тем, отход от реальной жизни.
8 Имеется в виду С. П. Шевырев, который отказался напечатать в 1835 г.
в журнале «Московский наблюдатель» повесть Гоголя «Нос».
9 Марлинский А. А. — псевдоним Бестужева Александра Александровича
(1797-1837), русского писателя, представителя романтической школы.
Полевой Николай Алексеевич (1796-1846) — писатель, критик,
журналист и историк. Издавал и редактировал «Московский телеграф» (1825-
1834), пропагандировал романтизм.
10 Багрим — древнерусское имя, связанное с тюркским Байрам. Поэт
Державин вел свой род от мурзы Багрима, выходца из Золотой Орды.
11 Знакомство Станкевича с Белинским относится к 1831 г., а их
сближение — к 1832 г.
12 В журнале («Современник», 1856, кн. 1 и 2) и в первом отдельном издании
(«Повести и рассказы». 1856. Ч. III) роман оканчивался свиданием Рудина
с Лежневым; последними его словами были: «И да поможет господь всем
бесприютным скитальцам!». Сцена гибели Рудина на баррикадах
появилась впервые только в издании I860 г.
13 «Московский наблюдатель» издавался в 1835-1839 гг. при участии А. С.
Хомякова, И. Киреевского, Е. Баратынского и др. 2 раза в месяц. С 1838 г.
выражал мнение кружка Белинского и Станкевича.
14 «Современник» — литературный и политический журнал; основан
Пушкиным; 1-й номер вышел 11 апреля 1836 г. под заглавием: «Современник.
Литературный журнал, издаваемый А. С. Пушкиным». До 1838 г. выходил
4 раза в год. После смерти Пушкина в 1838-1846 гг. во главе журнала
стоял П. А. Плетнев; с 1843 г. журнал стал ежемесячным; в 1847 г. он
перешел к И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову, которые привлекли к участию
в журнале лучшие литературные силы и превратили его в передовой
орган русской журналистики..
15 Нестроев А. — псевдоним Кудрявцева Петра Николаевича. Кудрявцев П. К
(1816-1858) — историк, литератор, художник и психолог, идейный
преемник Грановского, профессор Московского университета, читал лекции
по всеобщей истории. Под псевдонимом «Нестроев» Кудрявцев
опубликовал ряд литературных произведений. Среди них: «Катенька Пылаева»,
«Две страсти», «Флейта». Сблизился с Белинским, который передал ему
редактирование «Московского наблюдателя»; работал в «Русском
инвалиде» и «Отечественных записках».
16 Автор имеет в виду, что общественные взгляды А. А. Бестужева (Марлин-
ского), видного декабриста, не отразились в его творчестве.
17 Автором предисловия к «Пшназическим речам» Гегеля, как и
переводчиком этих речей, был М. А. Бакунин. Чернышевский не мог назвать имени
Комментарии
585
Бакунина, находившегося в 1856 г. в заточении в Шлиссельбургской
крепости.
8 Автором «Хроники русского в Париже» в «Современнике» был Александр
Иванович Тургенев.
9 Имеются в виду попытки примирения науки и религии.
!0 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838) («Печально я гляжу
на наше поколенье...»).
!1 Имеется в виду Великая французская революция XVIII в.
12 Крайние проявления увлечения односторонне понятым Гегелем — статьи
Белинского «Менцель, критик Гете», «Бородинская годовщина» и
«Очерки Бородинского сражения».
!3 Имеется в виду А. И. Герцен, имя которого Чернышевский не называет по
цензурным соображениям.
14 Под «новыми теориями национального благосостояния» Чернышевский
подразумевает французских социалистов, которые в либеральных
концепциях подвергались критике и насмешкам.
!5 «Внешние обстоятельства, мешавшие личным сношениям» — это
высылка из Москвы Герцена и Огарева.
!6 В «Былом и думах» рассказывается об этом знаменитом споре Белин-
. ского, проявившего «неумолимую последовательность» в отстаивании
гегелевского принципа «все действительное разумно» в полемике с
Герценом. «Знаете ли, что с вашей точки зрения, — сказал я ему, думая
поразить его моим революционным ультиматумом, — вы можете доказать,
что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и
должно существовать.
— Без всякого сомнения, — ответил Белинский и прочел мне
«Бородинскую годовщину» Пушкина.
Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами.
Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана.
Бакунин хотел примирить, объяснить, заговорить, но настоящего мира
не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург
и оттуда дал по нас последний, яростный залп в статье, которую
назвал «Бородинской годовщиной». Я порвал с ним тогда все сношения...»
(Герцен А. И. Поли. собр. соч. и писем. М- Пг.; Л., 1919-1925. Т. XIII.
С. 15-16).
:7 Под «новой философией» понимается философия Л. Фейербаха.
18 См. приведенную выше цитату из «Былого и дум» — комм. 26.
19 Относительно Клюшникова Чернышевский ошибся: Клюшников умер
в феврале 1895 г. В начале 40-х гг. он покинул Москву, поселился у себя
в имении в Харьковской губернии, перестал печататься и порвал связи
с прежними знакомыми.
586
Критика философских предубеждений
против общинного владения
Работа написана в ответ на статью И. Вернадского «О поземельной
собственности». Публикуется по: Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. В 15 т. / Под
общей редакцией В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И.
Лебедева-Полянского. М, 1939-1953. Т. 5. С. 357-393.
30 Как больно, как больно, как больно! (И. Гете. «Фауст»).
31 Вернадский Иван Васильевич (1821-1884) — российский экономист,
профессор Киевского и Московского университетов (1846-1856). Был
последователем манчестерской школы политической экономии. Его
перу принадлежат: «Политическое равновесие и Англия» (М., 1855 и СПб.,
1877), «Романское начало и Наполеониды» (СПб., 1855); «Очерк истории
политической экономии» (СПб., 1858); «По поводу статистических
конгрессов и административной статистики вообще» (СПб., 1863); «О мене
и торговле, публичные лекции, с приложением статей о протективной
системе и дифференциальных пошлинах в России» (СПб., 1865) и
многие статьи в различных периодических изданиях. Кроме того, им были
переведены с французского сочинения Л. В. Тенгоборского «О
производительных силах России» (3 части, М., 1854-1858) и Г. Шторха «Курс
политической экономии, или Изложение начал, обусловливающих
народное благоденствие» (СПб., 1881. Т. I). В 1857 г. Вернадский основал в
Петербурге еженедельный журнал «Экономический указатель», который
одно время пользовался значительным успехом.
32 Полемика об общинном землевладении между «Современником» и
«Экономическим указателем» началась по инициативе Чернышевского
в 1857 г. В своих статьях «Заметки о журналах. Февраль, 1857» и «Заметки
о журналах. Апрель, 1857» Чернышевский обвинил либеральную
журналистику в том, что последняя занимается схоластикой, а не насущными
вопросами общественной жизни. Он подверг жесткой критике
«Экономический указатель» за помещенную в нем статью Д. Струкова «Опыт
изложения главнейших условий успешного сельского хозяйства» (1857,
№ 5,7,9,10), в которой развивались либеральные взгляды по аграрному
вопросу в России.
«Экономический указатель» в № 22,25, 27, 29 за 1857 г. опубликовал
статью И. В. Вернадского «О поземельной собственности», которая в июне
1857 г. была подвергнута Чернышевским критическому разбору в статьях
«Studien Гакстгаузена», а августе-октябре — в его работе «О
поземельной собственности». В полемику втянулись «Русский вестник», «Русская
беседа», «Атеней», «Отечественные записки» и многие другие журналы.
Аграрно-крестьянская проблема затрагивалась Чернышевским в его ра-
Комментарии 587
ботах: «Экономическая деятельность и законодательство», «Суеверия и
правила логики».
33 Чернышевский предвидел неприятие его позиции «литературными
партиями» «Русского вестника», «Русской беседы», однако проявлял уважение
к отдельным представителям этих партий. Среди них были либеральный
историк С. М. Соловьев, славянофил Ю. Ф. Самарин, либеральные
критики Н. Ф. Павлов и В. И. Ламанский.
34 Чернышевский, видимо, имеет в виду либеральных деятелей К. Д.
Кавелина, И. К Бабста, Н. Ф. Павлова, С. М. Соловьева.
35 Имеется в виду работа Чернышевского «О поземельной собственности».
36 Чернышевский имеет в виду последователей политэкономической
школы Ж Б. Сэ, Бастиа и других, труды которых служили основой
экономической теории и политики «Экономического указателя», «Русского
вестника» и других либеральных журналов.
37 «Журнал землевладельцев», «Русская беседа» и ряд других органов печати
высказались в 1857-1858 гг. за сохранение общинного землевладения,
как средства, предохраняющего от революции. Эту их «уступку»
Чернышевский дипломатично относит на свой счет.
38 Парабола — аллегорический рассказ, притча.
39 Возможно, имеются в виду лекции Т. Н. Грановского по всеобщей исто-
• рии, читанные в 40-х гг. в Московском университете.
40 Животные членистые и животные разумные.
41 Безобразов Н. А. — предводитель петербургского дворянства, публицист,
адепт крепостничества.
42 Жеманницы (франц.).
43 Английских политических деятелей Р. Кобдена и Р. Пиля, проведших,
как известно, в 40-х гг. реформы против протекционизма,
Чернышевский называет «действительно замечательными людьми» по сравнению
с французскими и русскими либеральными экономистами. Но,
признавая прогрессивность реформ Р. Кобдена (см. комм. 100) и Р. Пиля (см.
комм. 98), он в своей работе «Г. Чичерин как публицист» отмечал, что
«все важнейшие реформы состоят в робком, неполном, иногда нелепом
удовлетворении некоторых из экономических потребностей
английских простолюдинов».
44 «Кого Юпитер хочет погубить, того он лишает разума» (лат.).
45 «Поздно приходящим дает она не кости, а мозг из костей» (лат.).
46 Имеет в виду свою работу «Экономическая деятельность и
законодательство».
47 Строки из «Доктрины» Г. Гейне.
48 Из «VanitasL» И. Гете.
49 Отрывок из стихотворения Н. А. Некрасова «Новый год». Чернышевским
опущена из нее строка: «Живем мы для минут...».
588
О новых условиях сельского быта (Статья первая)
Впервые опубликована в «Современнике». 1858. № 2. С. 393-441 под
псевдонимом «Современник». Печатается по: Чернышевский К Г. Поли. собр. соч.
В 15 т. / Под общей редакцией В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Лебедева-
Полянского. М, 1939-1953. Т. 5. С. 65-107.
50 Намек на слова А. Н. Радищева о том, что в России последней трети
XVIII в. крепостной крестьянин был в «законе мертв».
51 «Большой процесс» — вопрос об отмене крепостного права.
52 Имеется в виду книга Л. В. Тенгоборского «Etudes sur les forces productives
de la Russie» (рус. пер.: И. В. Вернадского «О производительных силах
России». М.-СПб., 1854-1858). Тенгоборский Людвиг Валерианович
(1793-1857) — экономист и статистик; был вице-референдарием в
Государственном Совете Царства Польского. Его книга была признана одной
из лучших в области хозяйственной статистики России.
53 Die Leibeigenschaft und ihre Aufhebung oder Umwandlung musste in
Russland stets eine Local-Frage, keine allgemeine Staatsfrage sein.
54 Etudes sur les forces productives de la Russie. T. 1. P. 325-339-
55 Чернышевский имеет в виду «Исследования о внутренних отношениях
народной жизни и в особенности сельских учреждениях России»
прусского экономиста А. Гакстгаузена.
56 Principes d'Economie Politique par Rocher, traduits par M. Wolowski. Paris,
1857. Vol. l.R 157-159.
57 Чернышевский ссылается на книгу П. И. Кеппена «Девятая ревизия». СПб.,
1857.
58 Чернышевский имеет в виду труд английского экономиста XVIII в. Токера
«Four tracts and two sermonts as political and commercial subjects» (1774),
в котором доказывается, что источником богатства является труд.
59 Рошер (Rosher) Вильгельм (1817-1894) — немецкий экономист,
основоположник «исторической школы» политической экономии.
60 Шшорх (Storch) Генрих (1766-1835) — экономист. Чернышевский
ссылается на его «Курс политической экономии» (1815. Ч. 1). Г. Шторх
отрицал крепостное право с либеральных позиций.
О новых условиях сельского быта (Статья вторая)
Статья представляет собой комментарии к извлечениям из «Записки об
освобождении крестьян в России» К. Д. Кавелина (Кавелин К Д. Собр. соч.:
Публицистика. СПб., 1904. Т. 2. С. 6-87), в котором она была перепечатана
из журнала «Русская старина». 1886. Кн. 1,2 и 5. Публикация «Записки» была
Комментарии
589
произведена Чернышевским в «Современнике» за 1858, кн. 4. Публикуется
по: Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. В 15т/ Под общей редакцией
B. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского. М, 1939-1953.
Т. 5. С. 107-136.
61 Имеется в виду К. Д. Кавелин, теоретик русского либерализма, историк и
публицист.
62 Говорится о «Записке об освобождении крестьян в России». Следует
обратить внимание, что Чернышевский очень высоко отзывается о
«Записке» К. Д. Кавелина и разделяет ее основные положения:
«...Принимаем эту записку, как выражение наших собственных мнений и
желаний».
Кавеньяк
Впервые была напечатана в «Современнике» за 1858. № 1. С. 1-37; № 3.
C. 303-332. Публикуется по: Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.: В 15т/
Под общей редакцией В. Я.Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И.
Лебедева-Полянского. М., 1939-1953. Т. 5. С. 5-65.
63 Имеется в виду переворот 2 декабря 1851 г., совершенный президентом
Луи Бонапартом, в результате которого он стал императором Франции
под именем Наполеона III.
64 Кавеньяк (Cavaignac) Эжен (1802-1857) — французский генерал и
государственный деятель, брат Годфруа К Отличился военными победами
в Алжире и подавлением июньского (1848) восстания в Париже.
65 Декабрьская система — политический режим, установленный во
Франции в результате переворота 2 декабря 1851 г.
66 «Умеренные республиканцы» — либеральная республиканская партия,
представлявшая интересы широких кругов промышленной и торговой
буржуазии и цензовой интеллигенции.
67 «Moniteur» — проправительственная газета; «Constitutionel» — орган
либеральной прессы. После июньского восстания 1848 г. «Constitutionel»
стал отчасти разделять бонапартистские позиции.
68 Речь идет об участии Годфруа Кавеньяка в революции 1830 г. во
Франции.
69 Марра (Marrast) Арман (1800-1852) — французский политический
деятель, республиканец. Во время июньской революции 1848 г. был членом
Временного правительства.
70 «Le National» — орган умеренных республиканцев.
71 «La Reforme» — газета демократической партии.
590
72 Имеется в виду участие Эжена Кавеньяка в колониальной войне, которую
вела Франция против арабов в Алжире в 30-х гг. XIX в. Крепость Тлем-
сен была захвачена французами в 1836 г. Арабы неоднократно пытались
освободить ее от захватчиков.
73 Исполнительная комиссия - правительство, созданное 10 мая 1848 г.
В его состав вошли деятели правого крыла республиканцев.
74 Блан (Blanc) Жан Жозеф Луи — французский публицист и историк
Во время февральской революции 1848 г. являлся членом Временного
правительства, инициатором создания «Правительственного комитета
для рабочих».
75 Suffrage universe — всеобщее голосование (франц.).
76 Бланки (Blanqui ) Луи Огюст (1805-1881) — французский политический
деятель, брат Жерома Адольфа Бланки. В 1827 г. принимал участие в
беспорядках, трижды был ранен, арестован и заключен в тюрьму, с оружием
в руках участвовал в восстании 1830 г. и, недовольный
установившейся новой монархией, образовал республиканское общество «Amis du
peuple». 12 января 1832 г. он был присужден к годичному тюремному
заключению и штрафу, а в 1836 г. был вновь приговорен за участие в
нелегальном обществе к 2-летнему заключению. 12 мая 1839 г. Бланки стал
одним из организаторов народного восстания. 31 января 1840 г.
приговорен к смертной казни, которая была заменена королем на
пожизненное заключение. Освобожденный революцией 1848 г., Бланки основал
в Париже «Société républicaine centrale», которое инициировало
восстания 17 марта, 16 апреля и 15 мая.
77 Имеется в виду подавление правительством Июльской монархии
рабочего восстания 13-14 апреля и мае 1834 г. в Париже, а также восстаний
в Лионе и Париже.
78 Речь идет о трактатах, выработанных Венским конгрессом (1815),
ослабивших влияние Франции в Европе и поставивших ее в зависимость от
других великих держав.
79 Ледрю-Роллен (Ledru-Rollin) Александр Огюст (1807-1874) —
французский политический деятель. После Февральской революции 1848 г. —
министр внутренних дел Временного правительства. Участник
подавления Июньского восстания 1848 г. В 1849 г. один из руководителей Горы
(«Новой Горы»), В 1871 г. депутат Национального собрания. Выступал
против Парижской Коммуны.
80 Орлеанисты — монархическая группировка во Франции, приведшая к
власти в 1830 г. Луи Филиппа. В дальнейшем они поддерживали
притязания Орлеанского дома на корону. Легитимисты — приверженцы
династии Бурбонов. Ультрамонтанцы — сторонники верховной светской
власти Римского папы.
Комментарии 591_
Русский человек на rendez-vous
Впервые была напечатана в журнале «Атеней». 1858. № 18. С. 65-89. Публикуется
по: Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. В 15т/ Под общей редакцией
В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского. М., 1939-1953.
Т. 5. С. 156-175.
81 Жорж Занд (George Sand) — псевдоним писательницы Авроры Дюпен
(1804-1876). Ее произведения пользовались европейской
популярностью и были проникнуты духом демократического романтизма.
82 Персонаж из сказки Гофмана «Повелитель блох».
Г. Чичерин как публицист
Впервые статья была напечатана в «Современнике» за 1859. № 5. С. 28-58.
Публикуется по-. Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. В 15т/ Под общей
редакцией В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского. М.,
1939-1953. Т. 5. С. 644-669.
83 Имеется в виду мартовское политическое обозрение («Современник».
1859. № 3), в котором Чернышевский осудил союз неаполитанского
либерала Поэрио с монархическими кругами.
84 Чернышевский имеет в виду статью Н. А. Добролюбова «Литературные
мелочи прошлого года» («Современник». 1859. № 1,4).
85 Монталамбер (Montalembert) Шарль-Форб де TJdhoh (1810-1870) -
французский писатель, оратор и политический деятель. Во время
Июльской монархии — в палате пэров, а после революции 1848 г. — в
учредительном и законодательном собраниях был главой воинствующей
католической партии во Франции.
86 Фоше (Faucher) Леон (1803-1854) — французский политический
деятель, в период 1830 и 1842 гг. принимал участие в редактировании
различных либеральных газет и напечатал отдельными книгами «Recherches
sur l'or et sur l'argent» (Париж, 1843) и «Etudes sur l'Angleterre» (1845; 2-е
изд. — 1856). В 1846 г. избран в палату депутатов, где принадлежал к
династической оппозиции и являлся, как и в литературе, одним из главных
защитников свободной торговли. Избранный в Учредительное собрание
1848 г., примкнул к умеренным республиканцам; поддерживал сначала
Кавеньяка, потом Луи Наполеона.
87 Лавернь (Lé once-Guilhaud de Lavergne) (1809-1880) — французский
экономист и политический деятель. В 1848 г. боролся против идей Пру-
дона и оспаривал финансовые мероприятия Временного правительства.
В 1871 г. избран в Национальное собрание, правоцентрист. Главные его
592
труды: «L'Agriculture et la population en 1855 et 1856» (1856); «Economie
rurale de la France depuis 1789» (I860; 1878); «Essai sur l'économie rurale
de Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande» (1854; рус. пер.: «О земледелии в
Англии»; 5-е изд., 1832).
88 Токвиль (Tocqueville) Алексис-Шарль-Анри-Клерель де (1805-1859) —
знаменитый французский писатель и государственный деятель, автор
исследования «Демократия в Америке», принесшего ему европейскую
известность.
89 Даресгп дела Шаванн (Dareste de la Cbavanne) A. К (1820-1882) —
французский историк; профессор гренобльского, затем лионского
словесного факультета. Важнейшим сочинением является «Histoire de France»
(1865-1873; 8 т.), за которое ему в 1868 г. была присуждена
академическая большая премия Гобера (1879). Автор работ: «Éloge de Turgot» (1846);
«Histoire de l'administration en France depuis Philippe-Auguste jusqu'à la
mort de Louis XIV» (1848); «Histoire des classes agricoles en France depuis
Saint-Louis jusqu'à Louis XVI» (1853; 2-е изд. — \858);Бонмер (Bonnemère)
Жозеф-Эжен — французский писатель, автор исследований о
французском крестьянстве.
90 Речь идет о диссертации Б. Н. Чичерина «Областные учреждения России
в XVII веке».
Антропологический принцип в философии
Публикуется по: Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. В 15т./ Под общей
редакцией В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского. М.,
1939-1953. Т. 7. С. 222-295.
91 Лавров Петр Лаврович (1823-1900) — теоретик народничества,
основоположник этико-субъективной школы социологии. Центральным
пунктом его мировоззрения является антропологизм, как универсальное
философское мировоззрение, объединяющее воедино знание о
природе и обществе во имя преобразования действительности в интересах
человека. Опираясь на свои исходные антропологические принципы
социальной теории, Лавров обосновывал идею об активной роли
сознания людей в историческом творчестве. Выступал критиком
материалистического понимания общественной жизни. В 1860-е гг. был знаком
с Н. Г. Чернышевским.
92 Симон (Jules Simon) Жюль Франсуа (1814-1896) — французский
политический деятель и писатель умеренных либеральных взглядов,
поддерживал Кавеньяка.
93 Жирарден (Girardin) Дельфина де (1804-1856) — жена известного
журналиста Эмиля Жирардена, автор фельетонов в газете «Пресса», публико-
Комментарии
593
валась под псевдонимом «Виконт де Лонэ»; Дюнойе Луи — французский
журналист; Фудрас Теодор-Луи-Огюст — французский романист; Тедеско
(1826-1875) — итальянская оперная певица.
94 Фрауенштедш (Frauenstadt) Христиан Мартин Юлиус (1813-1878) —
немецкий философ. Павлова Каролина Карловна (1810-1894) —
поэтесса и переводчица.
95 Милль (Mill) Джон Стюарт (1806-1873) — основоположник английского
позитивизма, экономист, один из крупнейших теоретиков либерализма.
Его статья "On liberty" вышла из печати в 1859 г.
96 Автором книги "De la justice dans la revolution et dans l'église" является
Прудон (Proudon) Пьер Жозеф (1809-1865) — французский теоретик
социализма и анархизма. В ряде сочинений, вышедших в 50-х гг. XIX в.,
он выдвигал идеи анархистской ликвидации государства.
97 Реформа 1867 г. в Англии была нацелена на понижение избирательного
ценза, однако и после нее значительные слои населения не могли
пользоваться избирательными правами.
98 Пиль (Peel) Роберт ( 1788-1850) — английский государственный деятель.
Реформы Пиля, о которых говорится в тексте, были направлены на
уравнивание в правах католиков и отмену хлебных законов в 1846 г.
99 Брайт (Bright) Джон (1811-1889) — английский политический и
государственный деятель, представитель т. наз. «манчестерской школы».
Выступал против протекционизма, за полную свободу
товаропроизводителей. Был противником вмешательства государства в экономическую
жизнь.
100 Кобден (Cobden) Ричард (1804-1865) — английский политик,
отстаивавший идею свободной торговли и бывший убежденным противником
протекционистских хлебных законов. Благодаря его усилиям хлебные
законы были отменены в 1846 г.
101 Либих (Liebig) Юстус (1803-1873) — немецкий химик. Берцелиус Иоганн
Яков (1799-1848) — шведский химик.
102 Кузен (Cousin) Виктор (1792-1867) — представитель французского
эклектизма. Испытал влияние Гегеля. Сыграл существенную роль в
развитии образования во Франции.
103 Речь идет о фокуснике Лейстине Юме, жившем в Париже в середине ХГХ в.
Юм приезжал в Россию и демонстрировал опыты по левитации.
104 Говорится о войне между Австрией и соединенной франко-сардинской
армией, в ходе которой австрийская армия была разбита при Сольфери-
но. Рехберг Иоганн Бернгард (1806-1899) — министр иностранных дел
Австрии.
105 Проводится материалистическая точка зрения на природу вещей.
Чернышевский ссылается на греческих материалистов и представителей
древнеиндийской философии.
594
106 Французская колония в Северной Америке Луизиана была в 1763 г.
уступлена Людовиком XV США, в 1800 г. снова перешла к Франции, которая
в 1803 г. продала ее США. В 1848 г. Мексика уступила США Техас, Новую
Мексику и Калифорнию.
107 Дистинкция — различение.
108 Курций Марк (IV в. до н. э.) — римский юноша, пожертвовавший собой
для спасения Рима. Эмпедокл (V в. до н. э.) — греческий поэт и
философ. Дамон (IV в. до н. э.) —древнегреческий философ, пифагореец.
Лукреция (VI в. до н.э.) — жена Тарквиния Коллатина, изнасилованная
сыном царя Тарквиния Гордого, покончила с собой, не вынеся позора.
Как свидетельствует предание, самоубийство Лукреции послужило
поводом к изгнанию из Рима царской династии Тарквиниев и основанию
республики.
109 Сенаторы Сагунта (торгового города в древней Испании) во время
осады его войсками карфагенского полководца Ганнибала (219 г. до н. э.)
снесли на городскую площадь все имущество и казну, развели из
собранного костер и бросились в него, чтобы не попасть живыми в руки
врагов.
110 Тацит Корнелий (55-117 н. э.) — римский историк. Завоевание
германцами римской империи произошло позднее времени Тацита, в V в.н.э.
111 Меровинги — династия франкских королей (V-VIII вв. н. э.). Карл V
(1500-1558) — император священной Римской империи, король
Испанский и обеих Сицилии. Филипп II (1527-1598) — испанский король,
жестоко преследовавший противников католицизма.
112 Эмин Федор Александрович (1735-1770) — издатель журнала «Адская
почта», автор «Российской истории». Елагин Иван Перфильевич (1725-
1794) — автор неоконченной книги «Опыт повествования о России».
Чулков Михаил Дмитриевич (1740-1793) —писатель, составил и
выпустил в 1776 г. «Собрание разных песен», «Русские сказки», «Словарь
русских суеверий». Погодин Михаил Петрович (1800-1875) — один из
крупнейших историков России, профессор истории Московского
университета, академик, один из создателей теории «официальной
народности», писатель и общественный деятель консервативного
направления, издатель «Московского вестника» (20-е гг. XIX в.) и
«Москвитянина» (40-50-е гг. XIX в.). Шевырев Степан Петрович (1806-1864) — поэт
и историк консервативного направления. Вместе с М. П. Погодиным
издавал «Московский вестник».
113 Паисиевский сборник — выписки из древнерусских документов,
относящиеся к XIV в., найденные Шевыревым в библиотеке Кирилло-
Белозерского монастыря.
114 Подразумеваются издатели «Москвитянина» Погодин и Шевырев. Из
книг Погодина, о которых пишет Чернышевский, следует отметить:
Комментарии
595
«О происхождении Руси» (магистерская диссертация), «Исследования,
замечания и лекции о русской истории» (7 томов), «Древняя русская
история до монгольского ига».
Капитал и труд
Публикуется по: Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. В 15т./ Под общей
редакцией В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского. М.,
1939-1953. Т. 7. С. 5-63.
115 Горлов Иван Яковлевич (1814-1890) — профессор политической
экономии и статистики Казанского и Петербургского университетов.
Наиболее известные работы: «Теория финансов» (1841,1845), «Экономическая
статистика России» (1849). Придерживался воззрений французского
экономиста Сэ.
116 Рошер — см. комм. 59- Pay (Rau) Карл Генрих (1792-1870) — немецкий
экономист, профессор политической экономии в Гейдельберге и Эрлан-
гене (Германия). Милль — см. комм. 95. Мак Куллох (Mac-Culloch) Джон
Рамсей (1789-1864) — английский экономист.
117 «Словарь политической экономии» издавался в Париже экономистами
Пшьйоменом и Б. Кокленом (Coquelin).
118 Дюнойе (Dunoyer) Бартоломи Шарль Пьер Жозеф (1786-1862) —
французский экономист, мальтузианец. В работах «О свободе труда», «Заметки
по социальной экономике» обосновывал идею невмешательства
государства в экономические отношения.
119 «Я ничего не навязываю, я даже ничего не предлагаю, я просто излагаю»
(франц.).
120 Свобода хозяйственной деятельности (франц.).
121 Прикрепление к земле, крепостное право (лат.).
122 Правильно: Мак Куллох.
123 Имеется в виду певица Мария Лагруа, исполнительница роли в опере
«Норма» В. Беллини.
124 Сэ (Say) Жан Батист (1767-1832) — французский экономист,
представитель классической политэкономии. Главный труд — «Трактат
политической экономии или простое изложение способа, которым образуются,
распределяются и потребляются богатства» (1803). Разработал теорию
ценности в духе Адама Смита, изучал проблематику
макроэкономической стабильности рыночной экономики.
125 Лете (ле Пле) (Le Play) Пьер Шльом Фредерик (1801-1882) -
французский экономист.
126 Бастиа (Bastiat) Фредерик (1801-1850) - французский экономист,
сторонник невмешательства государства в экономическую жизнь.
596
127 Имеется в виду освобождение вест-индских крестьян в 1834 г. Рабство
во французских колониях было отменено в 1848 г.
128 Шелъхер (Schoelcher) Виктор (1804-1893) — французский
политический деятель. 27 апреля 1848 г. провел декрет об отмене рабства в
колониях.
129 В своих многочисленных сочинениях Чернышевский оспаривал
либеральные принципы экономической теории и ее основной принцип —
невмешательство государства в экономическую жизнь. Особенно это явно
в «Заметках о журналах» за февраль 1857 г., в рецензии на книги: А.
Шилова «Хлопчатобумажная промышленность» и А. Сербера-Медельсгейма
«О свободной торговле», а также в статьях: «Тюрго», «Экономическая
деятельность и законодательство» и др.
130 Плиний (Старший) Гай Секунд (23-79 до н. э.) — римский писатель.
Наиболее известная работа Плиния — «Естественная история». Выражение
заимствовано Чернышевским из этой книги.
131 Нибур (Niebuhr) Бартольд Георг (1776-1831) — немецкий историк
античности, автор многотомной «Римской истории». Лициний Столон
(IV в. до н. э.) — народный трибун, стремившийся разрешить проблему
безземелья в Риме для малообеспеченных граждан и плебеев.
132 Бентам (Bentham) Иеремия (1748-1832) — английский философ,
юрист, социолог, видный представитель утилитаризма. Сторонник
либерального реформизма.
133 Мальтус (Malthus) Томас Роберт (1766-1834) — английский экономист
и демограф. Создал теорию, согласно которой неконтролируемый рост
народонаселения должен привести к голоду. Вывел закон убывающего
плодородия почвы. Утверждал, что ни накопление капитала, ни
прогресс знаний и техники не компенсируют ограниченность природных
ресурсов.
134 Шевалье (Chevallier) Мишель (1806-1879) - бывший последователь Сен-
Симона, экономист. Ваковский (Wolowski) Луи Франсуа Мишель Раймонд
(1810-1876) — французский экономист.
135 Кери (Carey) Генри Чарльз (1793-1879) - американский экономист и
социолог. Первоначально следовал идее свободной торговли, но в
дальнейшем отстаивал протекционизм. Критиковал теорию
народонаселения Мальтуса, верил в «естественную гармонию» интересов людьми.
Спорил по вопросу о ренте с Рикардо, однако его возражения экономистам
не представляются убедительными.
136 Бланк Григорий Борисович (1811-1189) — сотрудник консервативного
«Журнала землевладельцев».
137 Латинисты и гелленисты (эллинисты) XV в. — исследователи
древнеримской и древнегреческой культуры.
138 Бек (Бёк, Beck) Филипп (1785-1867) - немецкий историк.
Комментарии
597
139 Юнг (Young) Артур (1741-1820) — английский писатель. В своем
сочинении «Путешествие по Франции» описал бедственное положение
французских крестьян.
140 Голиков Иван Иванович (1735-1801) — русский историк. Автор
12-томной истории «Деяний Петра Великого» и 18-томных «Дополнений»
к ним.
141 Боссюэт (Боссюэ, Bossuet) Жан Бенинь (1627-1704) — французский
епископ, автор «Рассуждений о всемирной истории», в которой
проводит мысль, что движущей силой истории является Божья воля, отстаивал
идею о божественной природе королевской власти. Княжнин Яков
Борисович (1742-1791) — автор трагедий на исторические темы. Среди
них: «Дидона», «Рослав» и др. Озеров Владислав Александрович (1769-
1816) — драматург, автор трагедий «Эдип в Афинах», «Дмитрий
Самозванец» и др.
142 Новиков Николай Иванович (1744-1818) — виднейший представитель
русского просвещения XVIII в. Сочинение Новикова «Опыт
исторического словаря о российских писателях», упоминаемое Н. Г.
Чернышевским, было издано в 1772 г.
143 Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801-1867) — писатель, младший брат
Николая Полевого. Помогал брату издавать «Московский телеграф»,
редактировал «Живописное обозрение». В отличие от брата не обладал
литературными талантами, а в своих критических статьях нелестно
отзывался о литературном движении 40-х гг. XIX в.
144 Сисмонди де Сисмонди (Sismondi) Жан Шарль Леонард (1773-1842) —
швейцарский экономист-историк, социалист, автор «Новых начал
политической экономии», переведенных на русский язык в 1801 г. Гизо
(Guizot) Франсуа Пьер Гкльом (1787-1874) — французский
политический деятель либерального направления, историк. Основное
сочинение: «История цивилизации в Европе». Тьерри (Thierry) Огюстен
(1795-1856) — французский историк, автор «Истории происхождения
и успехов третьего сословия» и др. В своих исторических трудах Тьерри
признает значение борьбы классов в общественной жизни.
145 Оуэн (Owen) Роберт (1771-1858) — один из представителей
английского социализма, автор произведения «A new view of Society» («Новый вид
общества», 1812-1813). Статья, о которой пишет Чернышевский,
опубликована в № 1 «Современника» (1859) за подписью Н. Т-з (псевдоним
Н. А. Добролюбова) и носит название «Роберт Оуэн и его попытки
общественных реформ».
146 Эльвесиус (Гельвеций) (Helvtius) Клод Адриан (1715-1771) —
французский философ.
147 Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи (1689-1755) — французский
просветитель, философ, правовед, историк Одно из главных сочинений
598
Монтескье — «Дух законов». Сочинение Монтескье «Рассуждение о
причинах величия и падения римлян» было хорошо известно
Чернышевскому, который использовал его для заголовка своей статьи «О
причинах падения Рима». Под разрывом «учеников Монтескье», т. е. либералов
с народом в 1830 г., о котором пишет мыслитель, Чернышевский
понимает установление Июльской монархии короля Луи Филиппа.
148 Имеются в виду профессиональные союзы рабочих.
149 Имеются в виду «чартисты».
150 Навигационный акт — закон издан Кромвелем в 1651 г. Согласно
закону, английские суда пользовались в английских гаванях таможенными
преимуществами перед иностранными. Отмена Навигационного акта
происходила постепенно, с 1849 по 1854 г.
О причинах падения Рима
Впервые напечатана в «Современнике» (1861. Кн. V. С. 89-117). Публикуется
по: Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. В 15т/ Под общей редакцией
В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского. М., 1939-1953.
Т. 7. С 643-668.
151 Гензерих (427-477) — король германского племени вандалов,
захвативших и разграбивших Рим в 450 г. н. э. Сигеберт (1030-1112) -
средневековый хронист, автор «Chronica», описывающей события с 381
по 1111 г.
152 Максимиан (Марк Аврелий Валерий) (Maximianus) (240-310) — римский
император, (286-305 и 307-310), удачно воевал против германцев. Мак-
сенций — римский император (306-312), сын Ыжсимтт.Максимин —
имя двух римских императоров: 1) Гай Юлий Вер (235-38), прославился
крайне жестокой, но победоносной войной против германских племен;
2) Галерий Валерий, по прозвищу Даза (305-313), известен своими
гонениями на христиан.
153 Имеется в виду восстание индийцев против английских колонизаторов
в 1857 г.
154 Говорится о реформах управления, проведенных императором
Диоклетианом, который разделил империю на четыре части, те, в свою
очередь, на округа — диоцезы, а диоцезы — на провинции. С учетом
этой реформы и военных успехов ему на время удалось укрепить
Римскую империю.
155 Кимвры и тевтоны — германские племена, населявшие Ютландию.
Во II в. до н. э. переселились на юг и несколько раз наголову разбили
римские армии, поставив римское государство на грань гибели. Лишь
полководцу Марию удалось разгромить тевтонов и кимвров в 101 г. до н. э.
Комментарии
599
156 Из стихотворения И. В. Гете «Разрушение Магдебурга». Тилли (Tilly)
Иоганн Церклас (1559-1632) — немецкий полководец. Магдебург был
сожжен его солдатами в 1631 г.
157 Из стихотворения И. Шиллера «Торжество победителей».
158 Мамелюки (мамлюки) — воины, рабы из пленных кавказских и
тюркских народов. Из них была составлена гвардия, влиявшая на возведение
и низвержение султанов. Власть мамлюков была уничтожена правителем
Египта Мухаммедом Али. Деи — предводители янычар и всяких
разбойников. Бей — титул турецких военных и гражданских властей.
159 «Шахнаме» — сочинение персидского поэта Фирдоуси. Генрих Лев
(1129-1195) —герцог Баварский и Саксонский. Кейкаус — шах из поэмы
«Шахнаме».
160 Реформы Штейна-Гарденберга в Пруссии в 1807-1814 гг.
провозглашали личную свободу крестьян, выкуп крестьянами повинностей за
уступку помещику от '/3 Д° 72 их надела, фактическое введение всеобщей
воинской повинности и др. Осуществлены правительствами во главе
с Г. Штейном (Stein) и К. Гарденбергом (Hardenberg).
161 Дост Мохаммед — лидер афганского народа, боровшегося против
английских колонизаторов в 40-х гг. XIX в. Под его командованием в
ноябре 1840 г. в битве при Парване части афганской регулярной армии при
поддержке племенных ополчений нанесли британским войскам тяжелое
поражение.
Не начало ли перемены?
Впервые напечатана в «Современнике» за 1861. Кн. XI. С. 79-106 (без подписи
автора). Публикуется по: Чернышевский К Г. Поли. собр. соч. В 15т/ Под
общей редакцией В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И.
Лебедева-Полянского. М, 1939-1953. Т. VII. С. 855-889.
162 Успенский Николай Васильевич (1837-1888) — русский писатель,
отличавшийся реалистическим изображением действительности.
163 Шамиль (1797-1871) — руководитель мюридизма.
164 Чернышевский имеет в виду Н. А. Полевого, обвинявшего Гоголя в
отсутствии патриотизма.
165 Из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники»
166 Тридцатилетняя война (1618-1648) велась между Германией и
Францией.
167 Речь идет о восстании в марте 1860 г. в Сицилии. 11 мая 1861 г.
Гарибальди высадился в Сицилии, которая к концу июня оказалась в его власти.
В августе того же года пала и неаполитанская монархия.
600
168 Устрялов Николай Герасимович (1805-1870) - русский историк,
профессор Петербургского университета. Михайловский-Данилевский
Александр Иванович (1790-1848) — военный писатель, автор
«Описания отечественной войны 1812 года».
169 Из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов».
170 Бокль (Buckle) Генри Томас (1821-1862) — английский историк. Он
пишет об этом в «Истории цивилизации Англии», глава IV.
171 Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».
172 Нельсон (Nelson) Горацио (1758-1805) — английский адмирал,
прославившийся победой над французским флотом при Трафальгаре.
Библиография
Чернышевский H. Г. Лессинг, его время, его жизнь и деятельность.
СПб., 1857.
Сочинения Н. Г. Чернышевского. Т. 1-5. Женева: Тип. Элпидина,
1868-1879.
Письма без адреса. Неизданная статья Н. Г. Чернышевского.
Цюрих: «Вперед», 1874.
Община и государство: Две статьи Н. Г. Чернышевского с
предисловием издателей. Женева: «Набат», 1877.
Чернышевский К Г. Очерки гоголевского периода русской
литературы (Современник. 1855-1856 гг.). СПб.: Изд-во M. H.
Чернышевского, 1892. 386 с.
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 10 т. СПб.: Изд-во
M. H. Чернышевского, 1905-1906.
Чернышевский Н. Г. Пролог. Роман в 2-х частях. СПб.: Изд-во
M. H. Чернышевского, 1906.
Чернышевский К Г. Полн. собр. соч. В 1-10 т. Пг.: Лит. изд-во
Ком. Нар. Просвещения, 1918. Т. 1-10
Чернышевский К Г. Литературное наследие. Т. 1-3. М.; Л.:
Госиздат, 1928-1930.
Чернышевский К Г. Дневник. Т. 1-2. М.: Изд-во Об-ва
политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1931-1932.
Чернышевский К Г. Алферьев: Роман. М.: Изд-во Об-ва
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933.
Чернышевский К Г. Избранные сочинения: Эстетика-критика /
Под ред. Н. В. Богословского, А. В. Луначарского. М.: Госиздат, 1934.
Чернышевский К Г. Избранные сочинения в пяти томах. М.-Л.:
Госиздат, 1928-1937.
Чернышевский К Г. Из автобиографии / Ред. комментарий В. А.
Сушицкого. Саратов: Сароблгиз, 1937.
602
Чернышевский К Г Поли. собр. соч. В 15 т. / Под общей редакцией
В. Я. Кирпотина, Б. П. Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского. М.:
Гослитиздат, 1939-1953. Т. 1-15. Т. 16 (дополнительный).
Чернышевский Н. Г. Избранные экономические произведения:
В 3 т. / Под ред. И. Д. Удалыдова. М.: Гослитиздат, 1948-1949.
Чернышевский К Г. Избранные сочинения / Вступ. ст. Г. Фридлен-
дер. М.; Л.: Гослитиздат, 1950.
Чернышевский К Г. Избранные философские сочинения. Т. 1-3 /
Под ред. М. Григорьяна. М.; Л., 1951.
Чернышевский Н. Г. Избранные педагогические произведения /
Сост. и ред. В. 3. Смирнова. М.: АПН, 1953.
Чернышевский К Г. Избранные эстетические произведения /
Вступ. ст. и комментарий Г. гуральника. М.: Искусство, 1978.
Указатель имен
Август (Октавиан) — 523, 524
Аксаков К С -60,62,63,583
Альфред Великий — 184
Александр I - 17, 136, 188, 196, 206,
207,210
Александр II - 17, 28, 32,114,142,143
Александр Македонский — 397, 524
Алексей Петрович - 436
Анненков П. В. - 91
Аннибал (Ганнибал) — 425,426, 594
Антонов В. Ф. - 17, 27, 28, 29, 30
Аристотель — 71,437
Арман Марра - 237, 239
Аттила — 344, 527
БабстИ.К-587
Бакунин М. А. - 584, 585
Баратынский Е. А. — 584
Бастиа Ф. (Bastiat) - 114,258,260,261,
444,448,462,463,481,490,587,595
Безобразов Н. А. - 110,587
Белинский В. Г. - 8, 43, 53, 55-60, 65,
68, 74, 75, 81, 82, 85-94, 371, 372,
467,469,583-585
Бек Ф. - 465, 596
Бентам И. - 355,462,464,596
БерцелиусИ.Я.-371,593
Бестужев A.A. — 51,55,64, 584
Блан Л. - 6, 30, 245, 246, 248, 251, 258,
259,260, 590
Бланк Г. Б.-463, 596
Бланки Л. О.-32, 253, 590
Богословский Н. В. — 601
Бокль Г. Т. - 576,600
БонмерЖ.-Э. - 347, 348, 351, 592
БоссюэтЖ.Б.-4б7, 597
Брайт - 367, 593
Бульвер Л. Э. Д. - 42
Бурбоны - 237,238,268,279, 334,465
479, 590
Васильева О. С. — 8
Введенский И. И. — 6
Велланский Д. М. - 38
Вернадский И. В. - 25,95-97,586,588
Вильгельм 1—184
Владислав II - 184
Вольтер - 338,478, 509
Воловский Л. Ф. - М. 462,463, 596
Гакстгаузен Август, фон — 19 144-150
156, 168-171, 173, 177,'179 53о'
586, 588
Галахов А. Д. — 90
Гарденберг К. - 599
Гарибальди Дж. - 599
Гейне Г. - 42, 587
Гегель Г. В. - Ф. 7, 8, 25, 38-40, 57, 58,
60,66-76,81-89,102,117,118,129,
133,355,362,371,372,374,584,585,
593
Гензерих-510,598
Геродот — 464
Гете И. В.-42,62,63,71, 525, 585
Герцен А. И.-5,9,583, 585
Шббон Э. - 343
Гизо - 79, 112, 257, 270, 343, 350, 469,
509,510,517,597
Гоббз-ГоббсТ.-355 -
Гоголь Н. В. - 41-48, 50, 52-57,62,64,
65,362,440,541-543,584,599
Голиков И. И.-41,467, 597
Голубева Е. Г. — 5
Голубинский Ф. А. — 38
Гомер-113,464,563
Горлов И. Я. - 40,441,443-448,463,595
Готье Т. - 369
Гофман Э. Т. А.-42, 317, 591
Гракхи, братья - 470
Грановский Т. Н. - 90,91,583,584,587
Грибоедов А. С. — 44,45,68
604
Григорович Д. В. - 42, 543, 583
Гумбольдт А. Ф. — 105
Гюго Виктор — 42,78
Даламбер — 478
Даль В. И. - 583
Дантон — 276
Дарест де ла Шаванн - 347, 348, 351,
592
Декарт Р.-71,75
Дельвиг А. А. — 52
Дельфина де Жирарден — 592
Державин Г. Р. - 44, 51, 52, 54,56
Диккенс Ч. - 42, 50
Добролюбов Н. А. - 591, 597
Дост Мохаммед - 537, 599
Достоевский Ф. М. - 584
Джонс Э. - 337
Дюнойэ К. - 442, 593, 595
Елагин И. П. - 436, 594
Екатерина II — 17
Жирарден Э.-357, 592
Занд (Санд) Жорж - 6, 42, 304, 357,
466, 546, 591
Зеньковский В. В. — 12,15
Иоанн III- 184,519
Кавелин К. Д. - 41, 583,587-589
КавеньякЭ. - 30,31,234-236,238-243,
257,258,262-269,276,281,282,284,
286,288-291,295-301,589,591,592
Карамзин ЕМ.-41,42,52
Карл Великий — 521
Карл V-129,431,594
КарлУИ— 129
Кеппен П. И. - 160, 588
Кетчер Н. X. - 90
Киреевский И. В. — 584
Кирпотин В. Я. - 583, 586, 588, 589,
591,595,598,599,601
Княжнин Я. Б. - 467, 597
Кобден Р. - 114,368,486,526,587,593
Коклен Б. - 595
Козьмин Б. П. - 583, 586, 588-592,
595,598,599,601
Кольцов А. В. - 39, 41, 45, 46, 57, 58,
60-62,90
КонтО.-12,15
Краевский А. А. —91
Красов В. И. - 60,64,583
Кромвель-349,471, 598
Крылов И. А. — 44,45
Ксенофонт — 464
Кузен Виктор - 79, 371, 593
Кудрявцев П. Н. - 60,64,90, 584
Купер Д. Ф.-42
Кутузов М. И. - 113
Куторга М. С. — 6
Кери Г. - 463
Лавернь-340,350,591
Лавров П. Л. - 354, 355, 357-362, 367,
371,374, 388, 389, 592
Ламанский В. И. — 587
ЛамаркЖ.Б.-105
Ламартин Д. Ф. Л. - 42,78
Ледрю-Роллен А. - 238, 298, 300, 301
590
Ле Пле - 444,595
Лейбниц Г. В. - 427
Лермонтов М. Ю. - 53,57,64,77,80,90
583, 585
ЛессингГ.Э.-9,б01
Либих Ю.-371, 374, 593
Ливии Тит — 464
ЛоккД.-355
Ломоносов М. В. - 51-53, 57,440
Луи Наполеон - см. Наполеон III
Луи-Филипп - 237-239, 241, 267, 280
334,590,598
Лукреция — 594
Луначарский А. В. — 601
Лютер — 565
Мазарини Дж - 335, 344, 346
Макиавелли Н. — 343
Указатель имен
605
Мак Куллох (Мекколок) — 440,442,595
МаколейТ.Б.-9,343,350
Максимин-510,598
Максимиан- 510,598
Максенций- 510,598
Мальтус Т. Р. - 462, 463, 464, 466, 468,
469,480,596
Мамай - 336
Марий Гай - 523, 524, 598
Мария Терезия - 338,470
Марлинский — см. Бестужев А. А.
Масарик Т.— 12
МегметАли (Мохаммед Али) - 528
Медичи Екатерина — 344
Меттерних К - 339
Милль Дк. Ст. - 341,360,362-368,373
374,388,440,480,481,593,595
Михайловский-Данилевский А. И —
571,572,600
Мишле Ж (Мишелет) - 38,78
Мольер Ж. Б.-110
Монталамбер Ш. - 338-342, 349, 391
591
Монтескье Ш. Л. - 355,479, 597, 598
Муций Сцевола — 450
Мюнцер Томас — 565
Надеждин Н. И. - 37-39,44-47,49-53,
55,57-59,92,93
Наполеон I - 268, 269, 278, 281, 286,
290, 334, 350, 355, 443, 465, 528,
571
Наполеон III (Луи Наполеон) — 235,
236, 238, 268, 274, 288, 298-30l|
334,335,589,591
Некрасов Н. А. - 9,583, 584, 587, 599
Нельсон Г - 578, 579,600
Нестроев А. (псевд. Кудрявцева А.) —
64,584
Нибур Г. — 459,469,596
Николай 1-136,185,188,196,207
Новиков Н. И. - 467, 597
Ньютон И. - 394,418,419,427
Огарев Н. П. - 9, 82, 84, 85, 88, 90, 91,
585
Оуэн Р.-28,469,479, 531, 597
Ольга, княгиня — 436
Павлов М. Г. — 38, 39
Павлов Н. Ф. — 587
Пальмерстон — 337
Панаев И. И. — 583, 584
Петр I Великий - 28,41,136,141,188
214,436,467,519
Петр III-136
Пиль Р.-114,278,365,
Писемский А. Ф. - 362
Плиний - 459,464, 596
Плутарх — 464
Погодин М. П. - 6,436, 594
Полевой Н. А. - 41,51,52,92,467,584,
599
Полевой К А (Ксенофонт Полевой) -
46,467,468,469, 597
Полибий — 464
Порсена — 450
ПоэриоК-325,591
Прудон П. Ж - 30, 372, 373, 388, 391,
479,481,591,593
Пушкин А. С. -41,42,44,46,48,51-57
62,64,77,342,583,584
Радищев А. Н. - 588
Расин Ж-467
Pay К Г.-22,440,462,463
Рикардо Д - 462, 464, 466, 468, 469,
480,500
Ришелье - 278, 335, 344, 346
Рошер К - 22,183-185,440,442,444,
462,463,588,595
Руссо Ж-Ж - 77,355,463,478,479,579
Салтыков M. E. — 584
Самарин Ю. Ф. — 587
Санд Жорж - см. Занд (Санд) Жорж
Сен-Симон К. А. — 6
Сигеберт— 510
Симон Ж-354-359, 362
Сисмонди де Сисмонди Ж. Ш. Л. - 468
469, 597
606
Скотт В. - 42
Смит А. - 133, 185, 362,448, 462, 464-
466,472,478-482,485,500,501,595
Сократ- 107
Соловьев СМ.-41, 583, 587
Спиноза Б. - 75,437
Станкевич Н. В. - 39, 58,60,61,64,67,
76,81,82,84,86,88-90,583,584
Столон Лициний — 459,470, 596
Стюарты-361,471
Сэ Ж. Б. - 22, 111, 164, 445, 462, 463,
480,481,587,595
Сюдр-341
Тамерлан — 527
Тарквиний - 426, 594
Тацит-343,430,464,594
Тедеско - 358, 593
ТенгоборскийЛ. В.- 142-144,147-152,
160-163,165-168,171,173,175-177,
179,181,183,586,588
Тилли И. Ц. - 525, 526, 599
Токвиль А. - 341-344, 350, 592
Толстой Д. А,- 10
Тома 3.-251,256,257
Тургенев А. И. — 585
Тургенев И. С. - 39,61, 543, 583, 585
Тьер Л. А. -78, 294, 340, 343
ТьерриО.-343,4б9,597
Удальцов И. Д. — 601
Узбек - 336
Успенский Н. В. - 14,539,540,544,548,
550,551,552,556,557,560-564,566,
573, 574, 577, 579, 599
УстряловН.Г.-571,572,600
Феокрит— 181
Фейербах Л.-7, 583,585
Филипп Прекрасный (Филипп IV
Красивый) - 336, 527
Филипп И-431, 527, 594
Фихте И. Г. - 38,70,71,74,355,358,359
ФошеЛ.-340,342,591
Фрауенштедт X. — 358, 593
ФридлендерГ.-601
Фридрих II-142,184,338
Фукидид - 343,464
Фурье Ф. М. - 6
Хлодвиг — 527
Хомяков А. С — 584
Цезарь Г. Ю. - 269,470
Цицерон — 464
Чаадаев П. Я. - 583
Чернышевский Н. Г. - 5-34, 584-589
591-599
Чичерин Б. Н. - 323-325, 327-331,
333-344,346-351,587,591,592
Чешихин-Ветринский В. Г. — 5,6
Чингисхан — 430, 527
ЧулковМ.Д.-436, 594
Шамиль — 556
Шатобриан Ф. Р. - 42,79
Шевалье М.-111,462,463,596
Шевырев С. П. - 436, 584, 594
Шекспир В. - 25, 345
Шеллинг Ф. В. Й. - 38-40,74,102,117
129,133,355,371
Шельхер В. - 446,596
Шиллер И. - 60,62,78, 578
Шлоссер Ф. X. - 6,9
Штейн Г. - 278, 535
ШторхГ-185,586,588
Эльвесиус (Гельвеций) КА- 478, 597
ЭминФ.А.-43б,594
Эмпедокл — 594
Юм Лейстин-376, 593
Юнг А.-465, 597
Ярослав Киевский (Мудрый) - 436
Содержание
Николай Гаврилович Чернышевский
Блохин В. В 5
Н. Г ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 35
Очерки гоголевского периода русской литературы 37
Критика философских предубеждений против
общинного владения 95
О новых условиях сельского быта (Статья первая) 136
О новых условиях сельского быта (Статья вторая) 187
Кавеньяк 233
Русский человек на rendez-vous 302
Г. Чичерин как публицист 323
Антропологический принцип в философии 354
Капитал и труд 440
О причинах падения Рима 509
Не начало ли перемены? 539
КОММЕНТАРИИ 581
Библиография 601
Указатель имен 603
Научное издание
Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века
Чернышевский Николай Гаврилович
Избранные труды