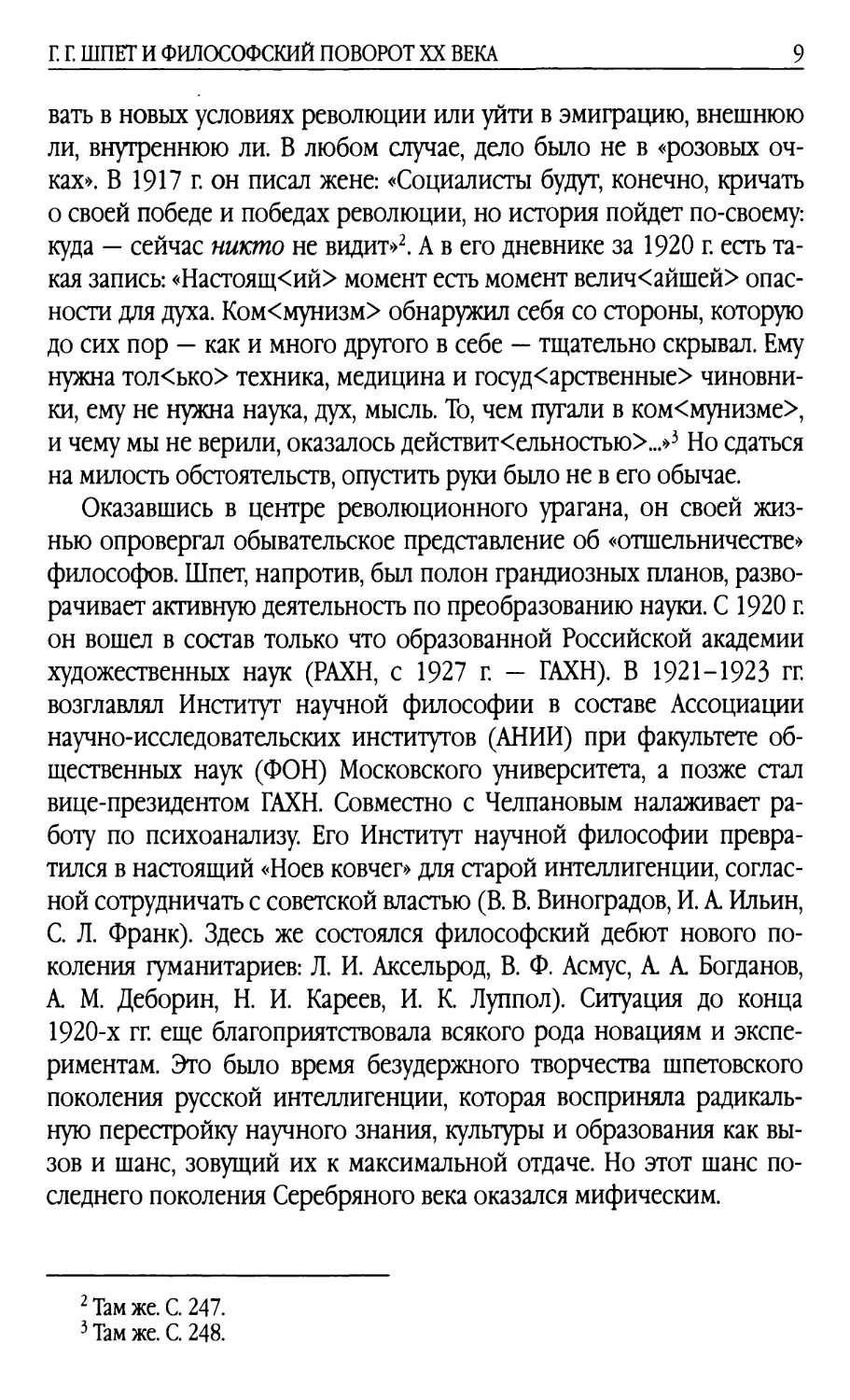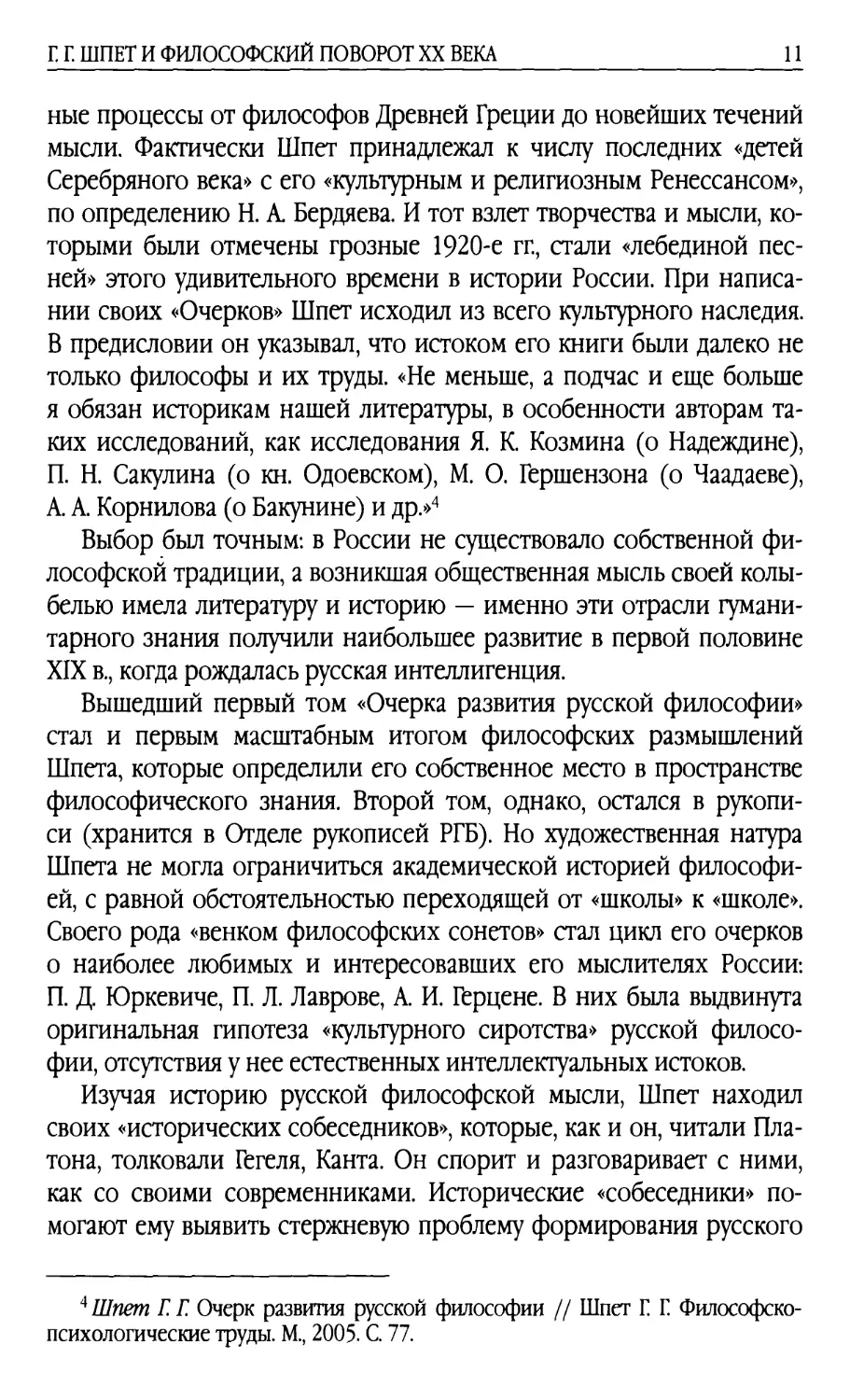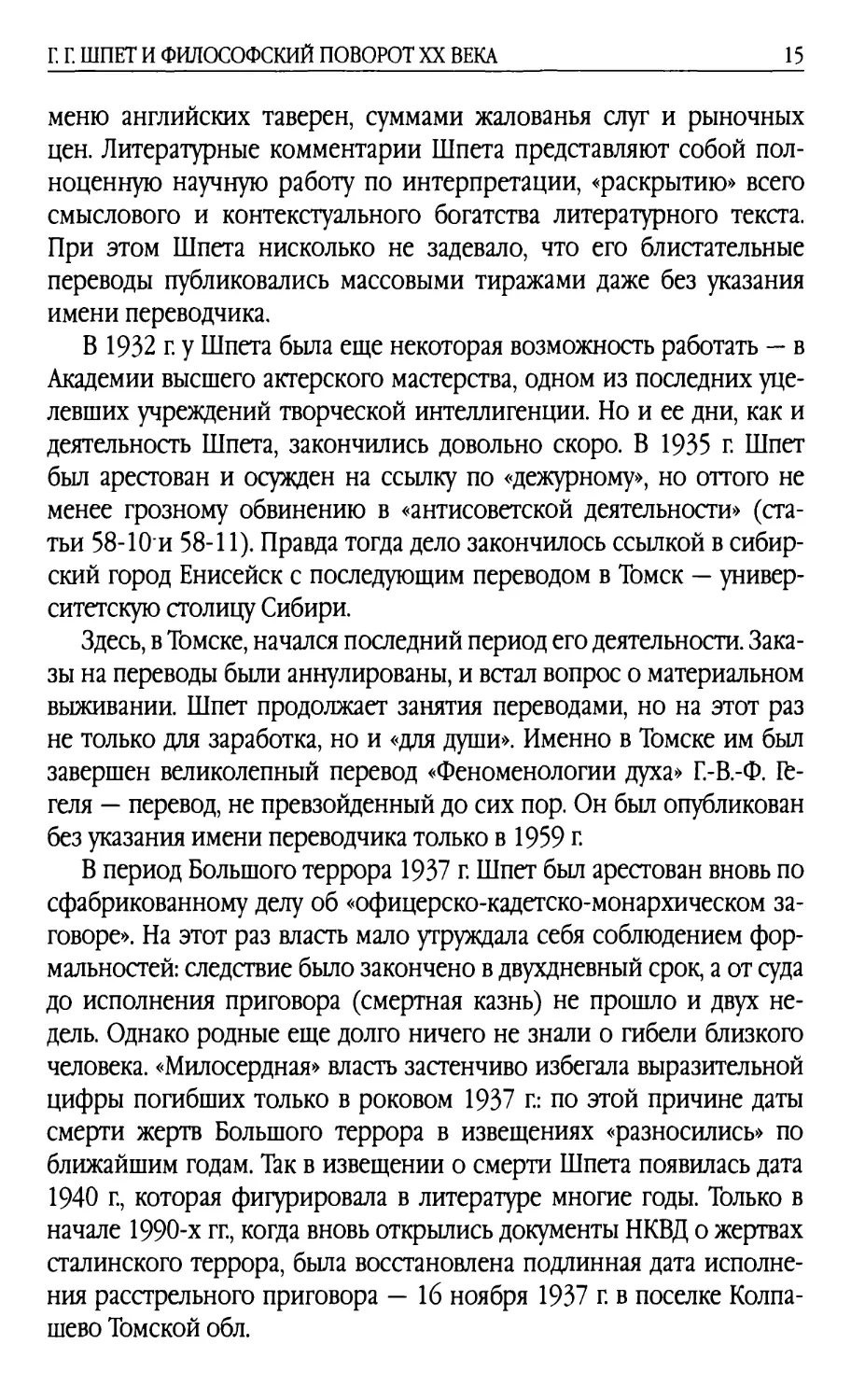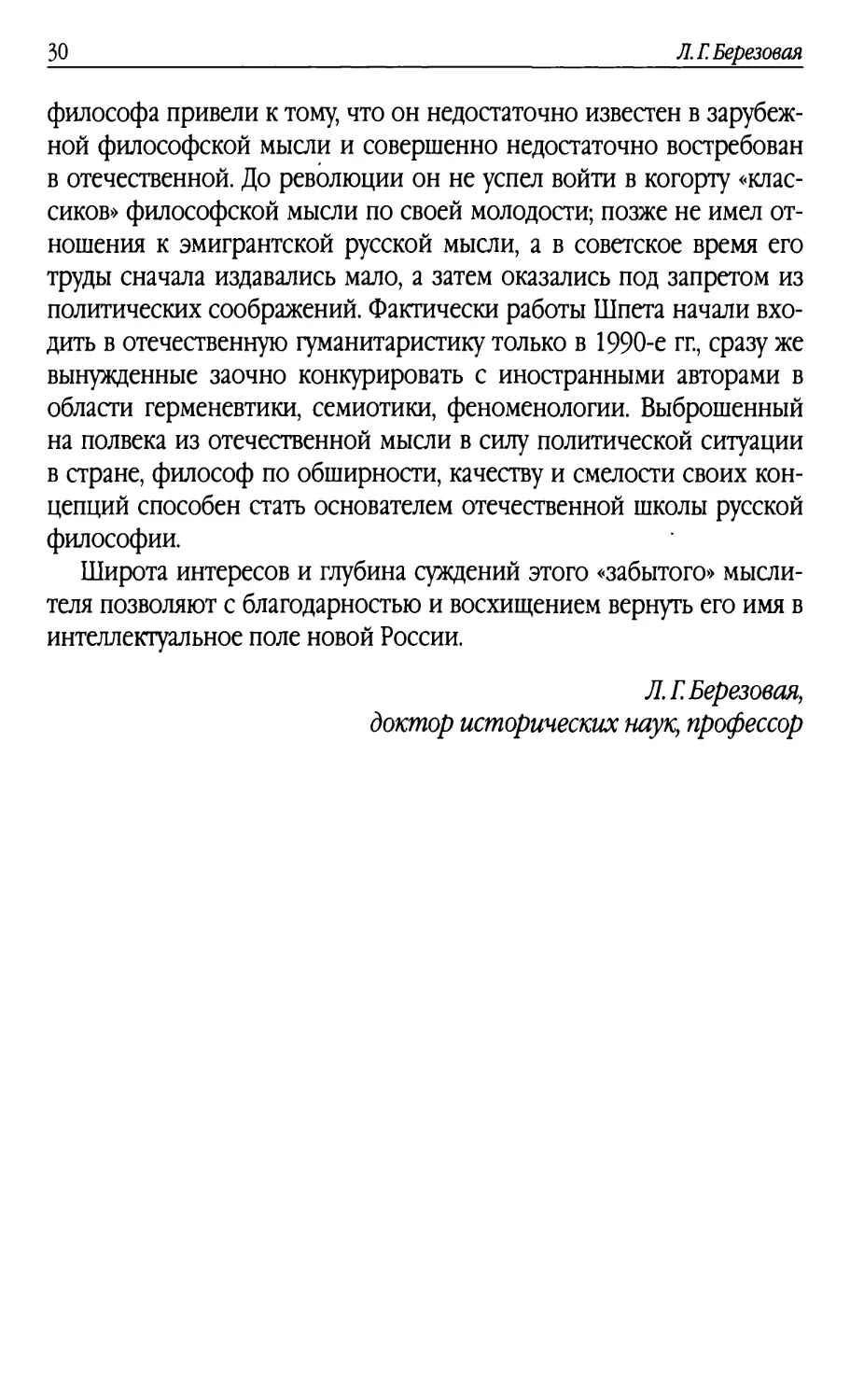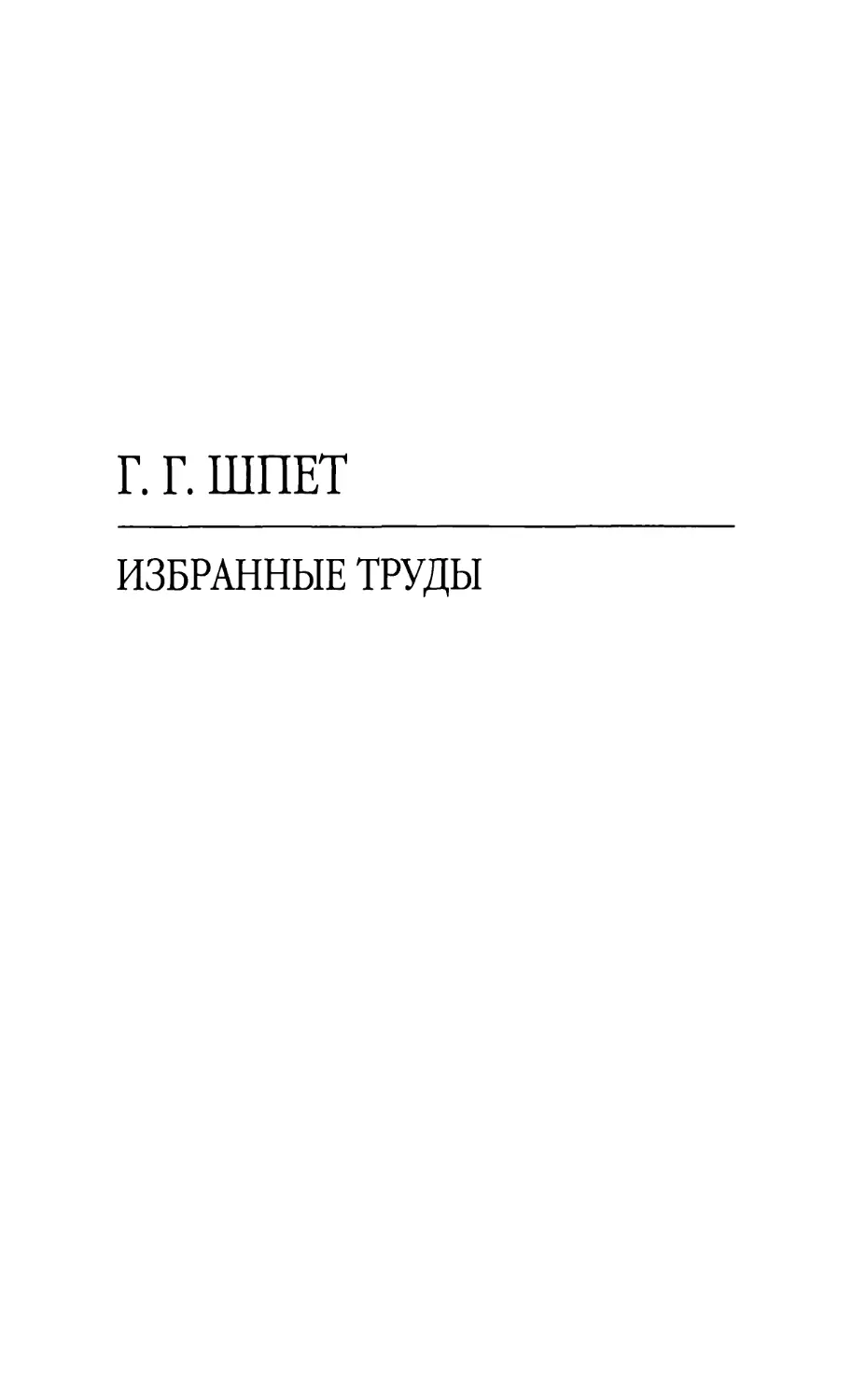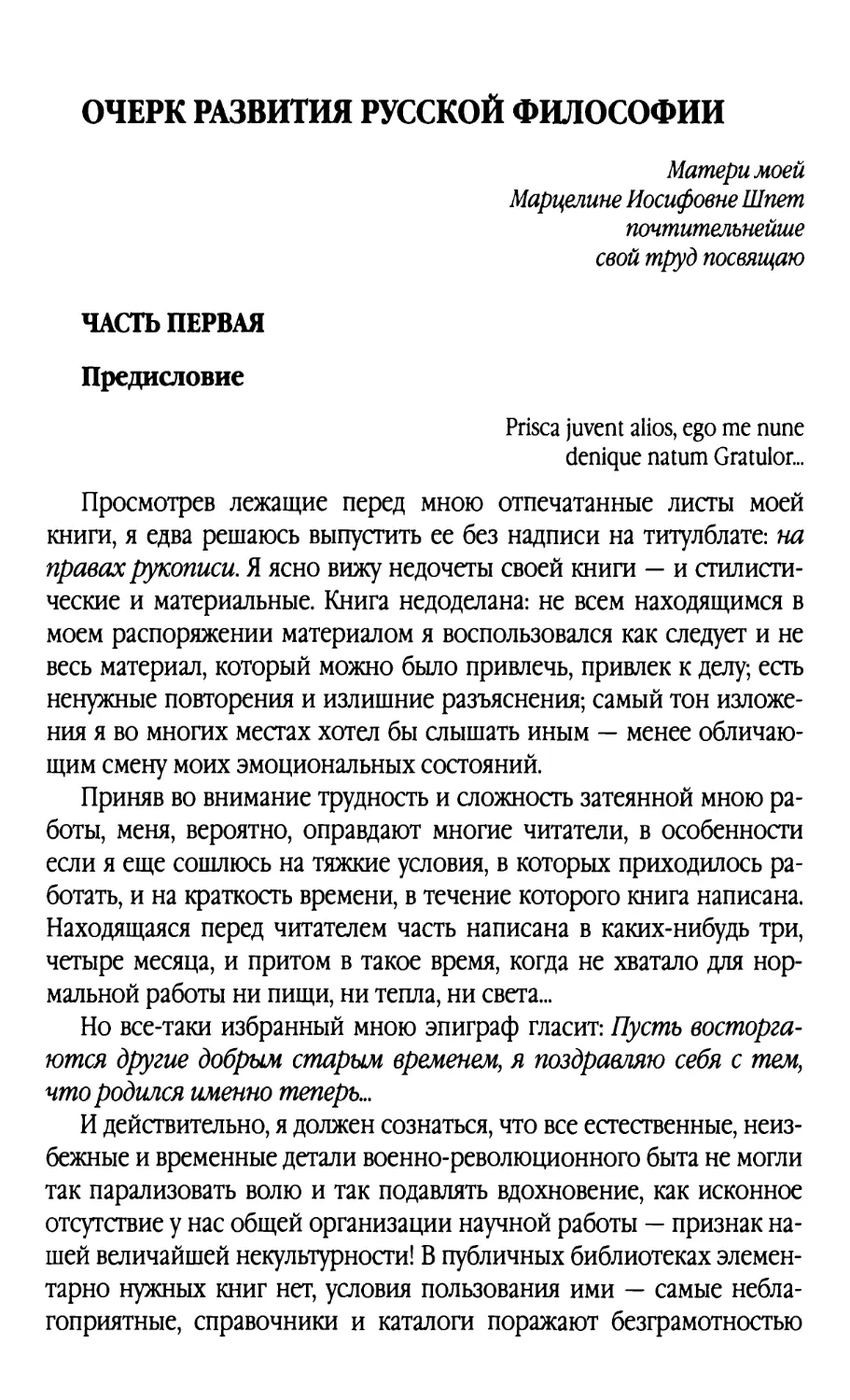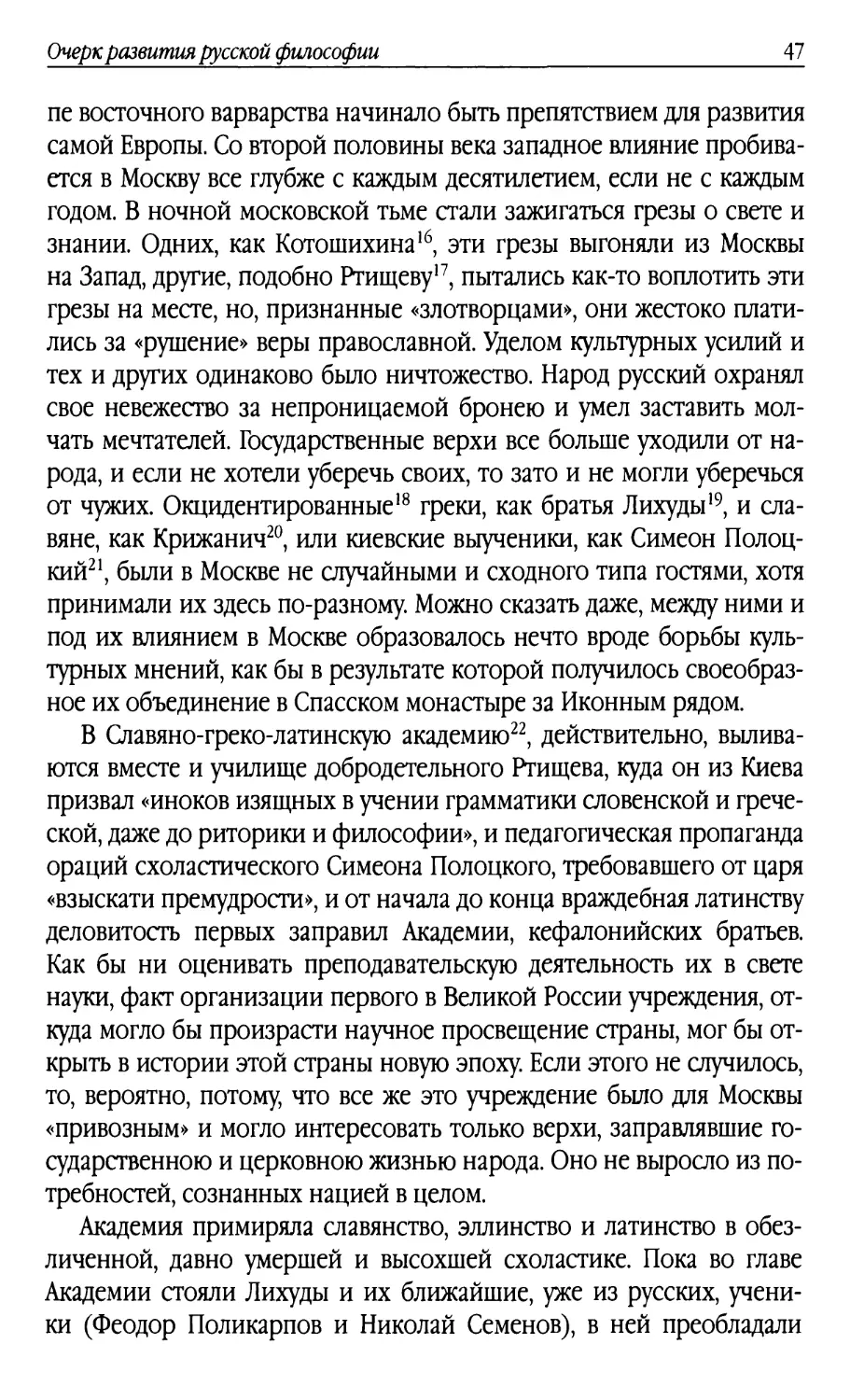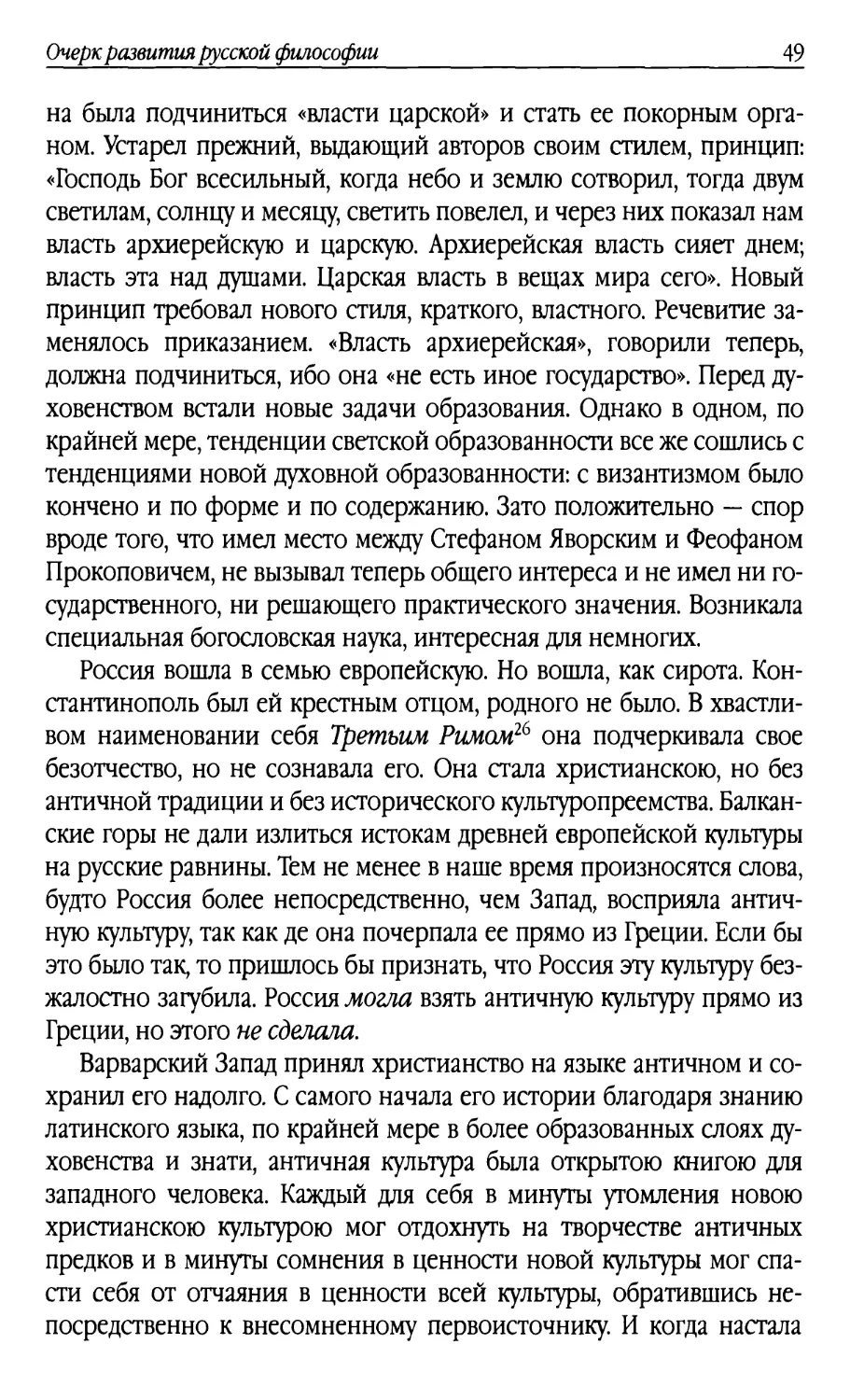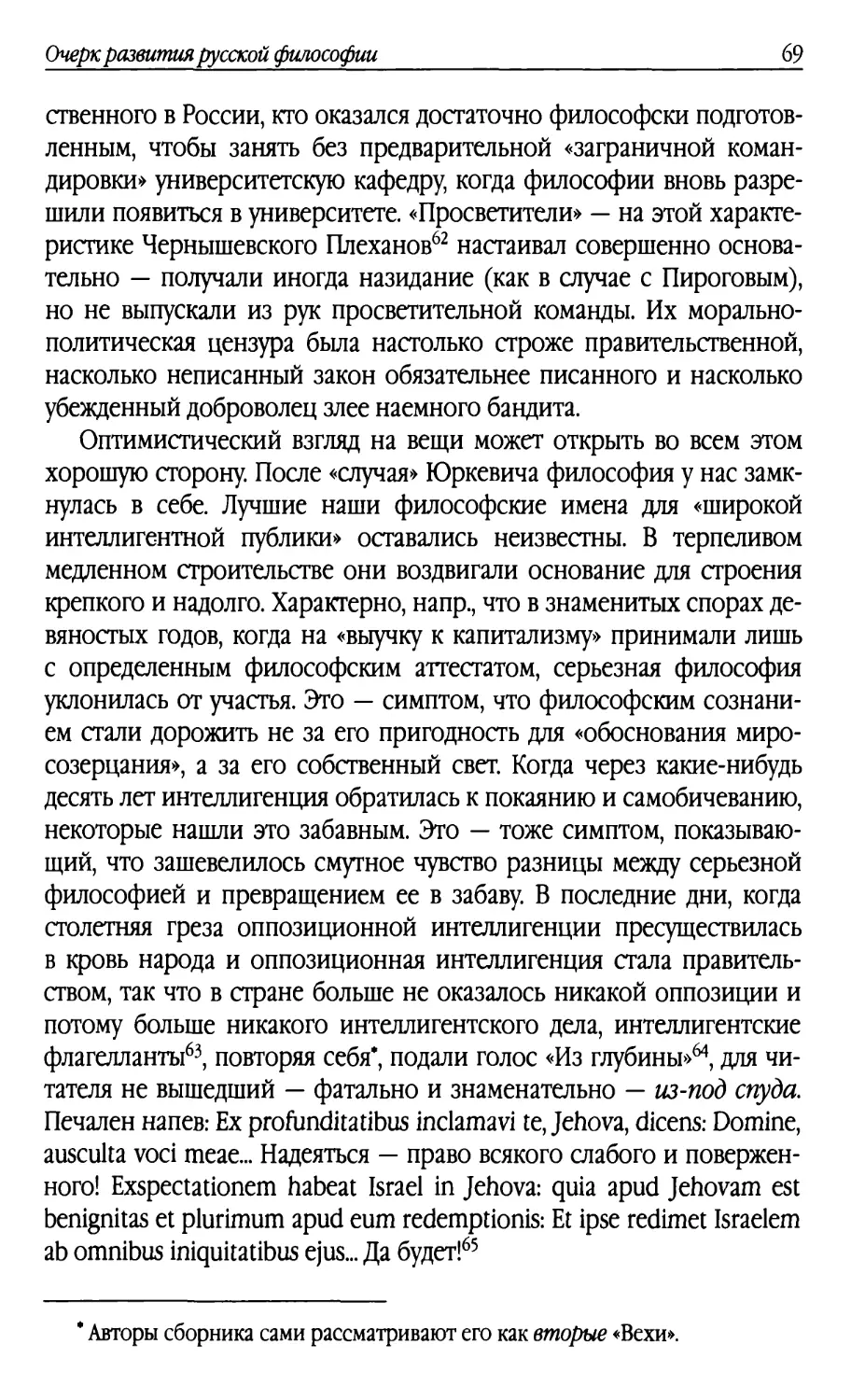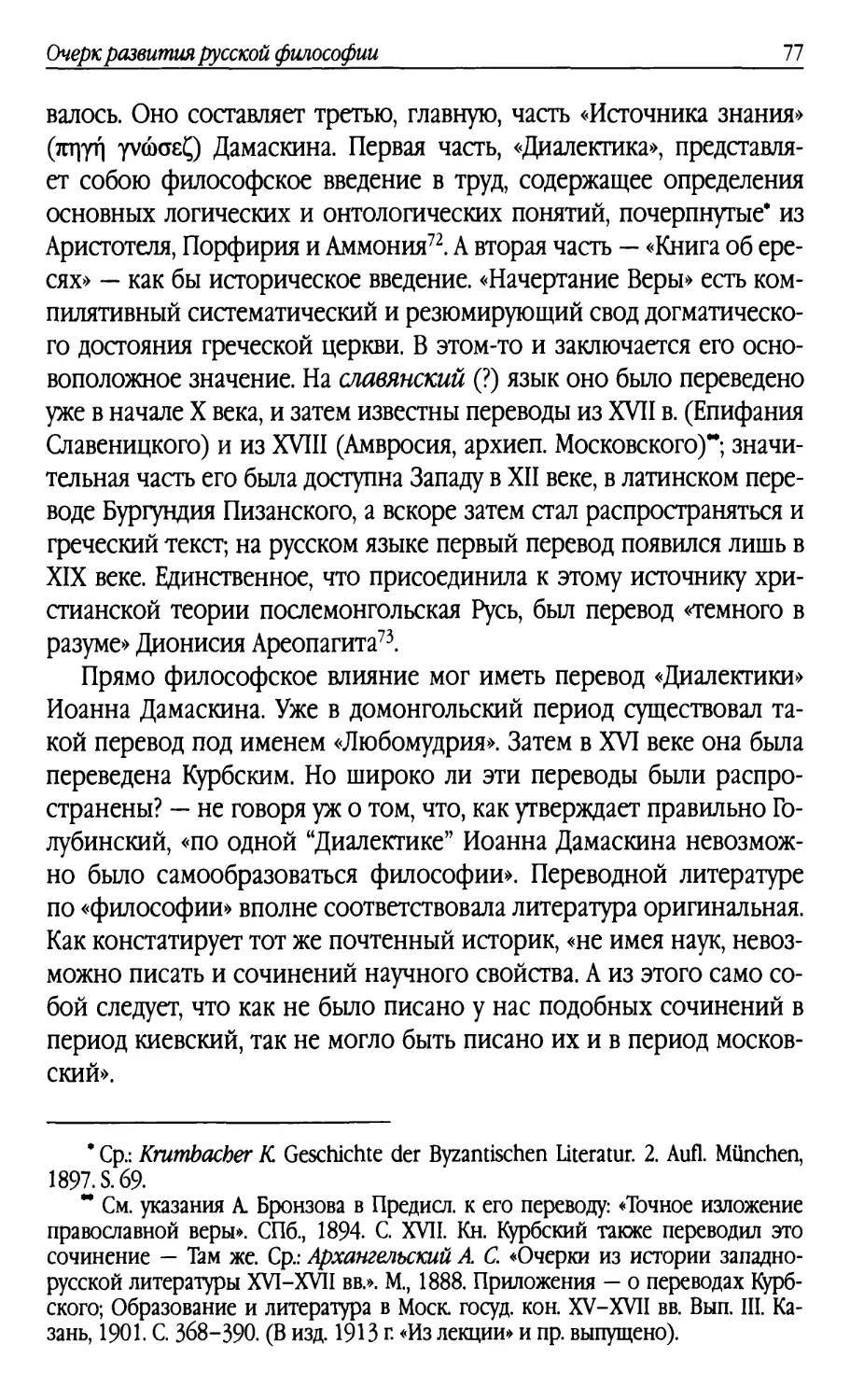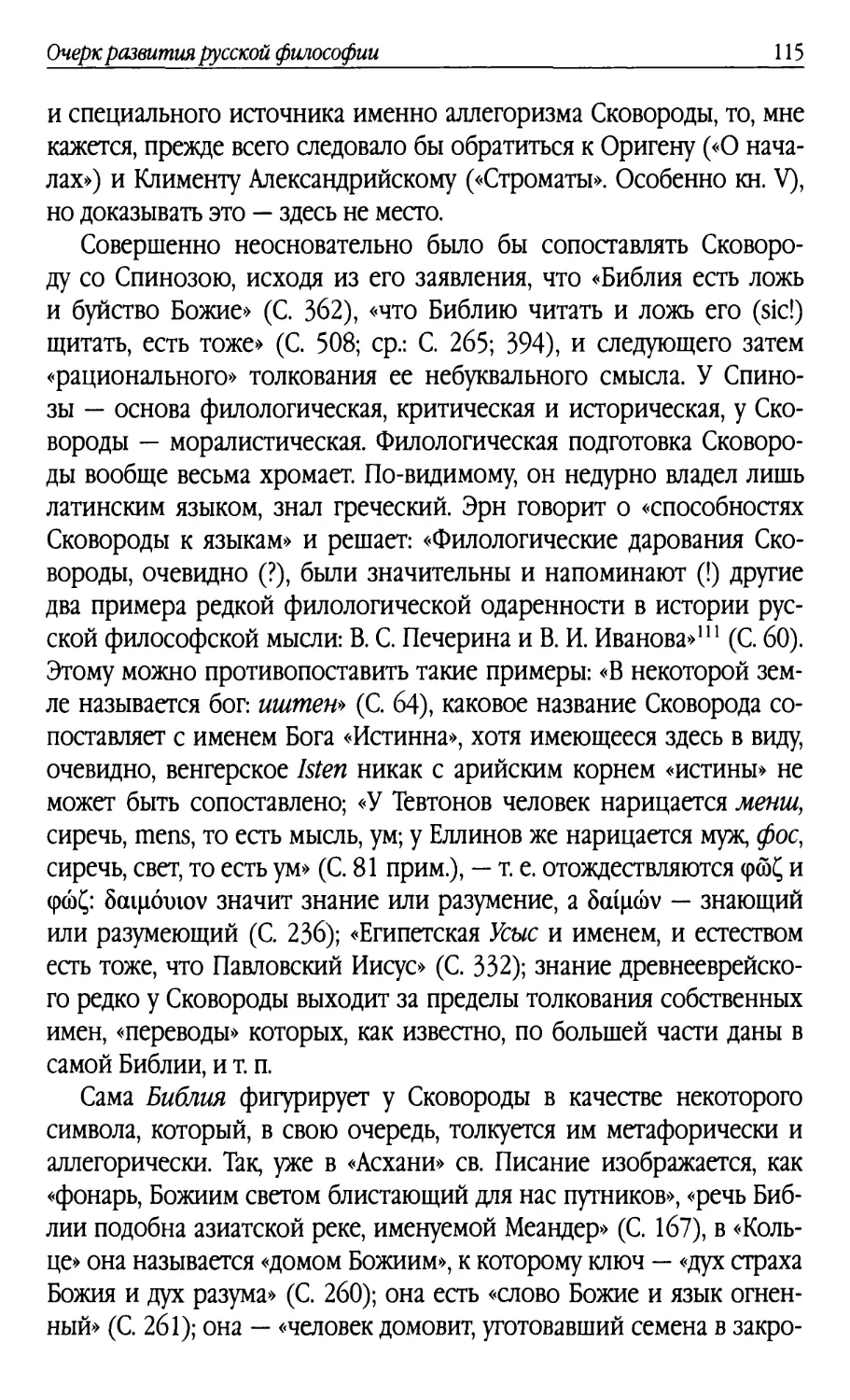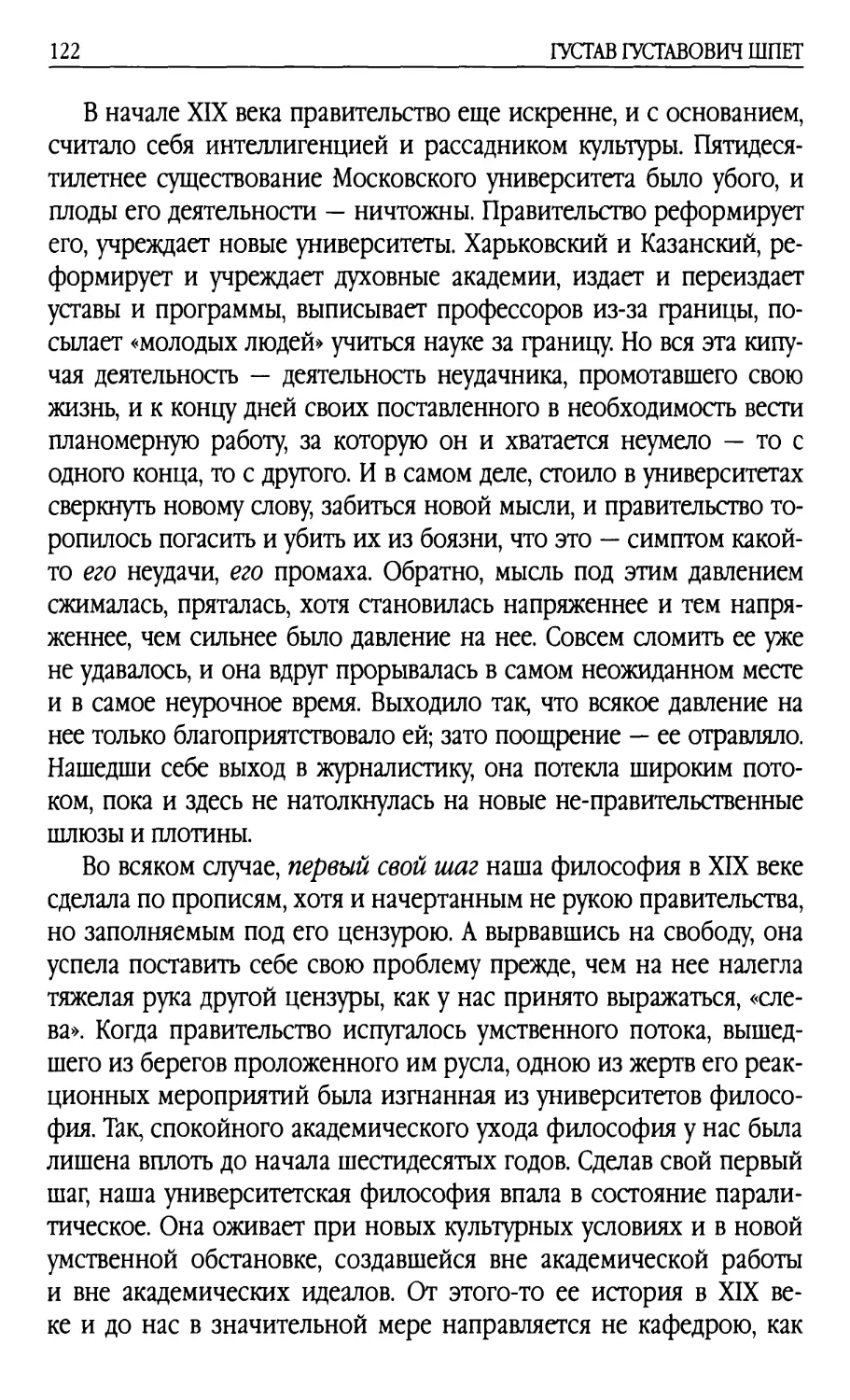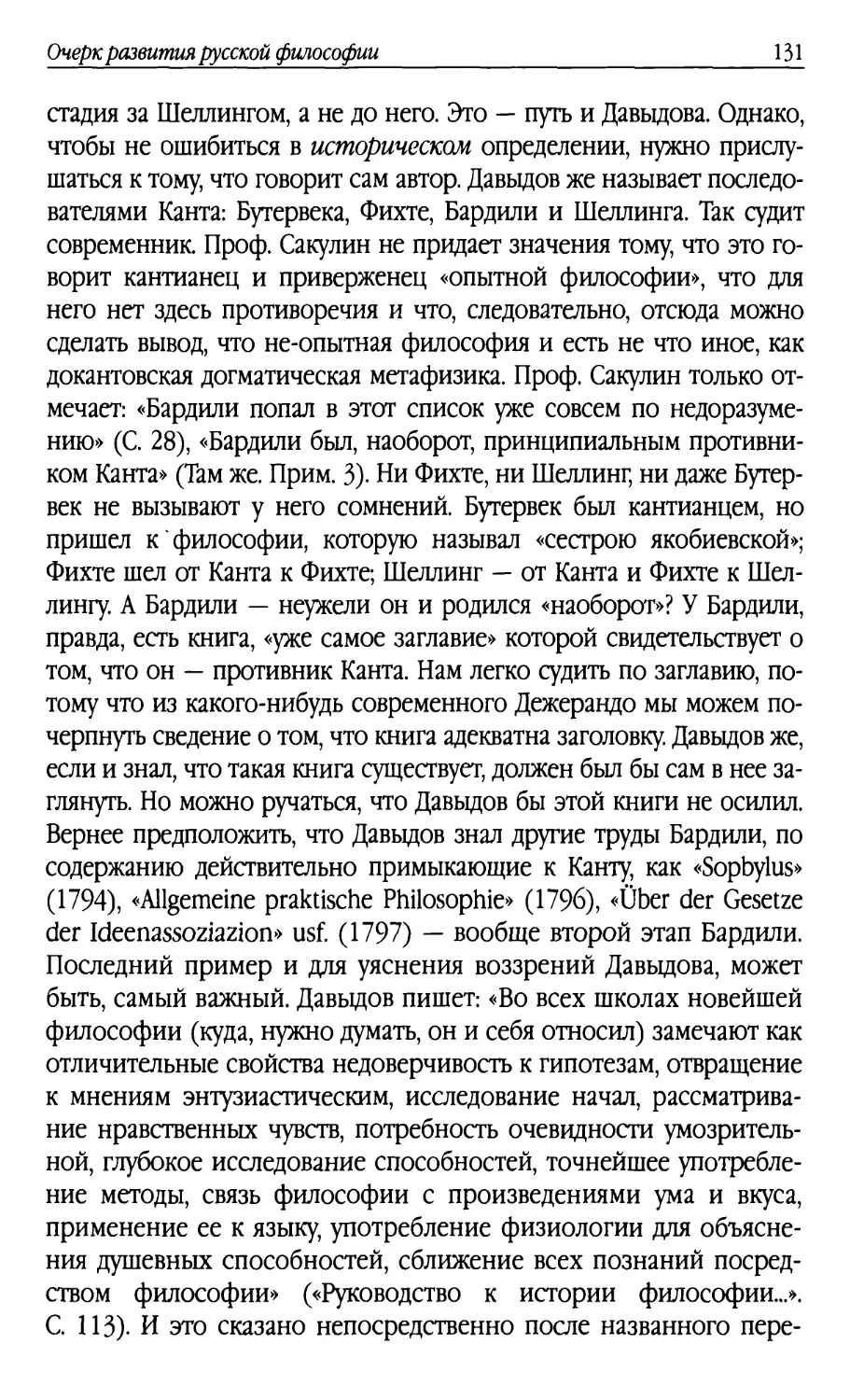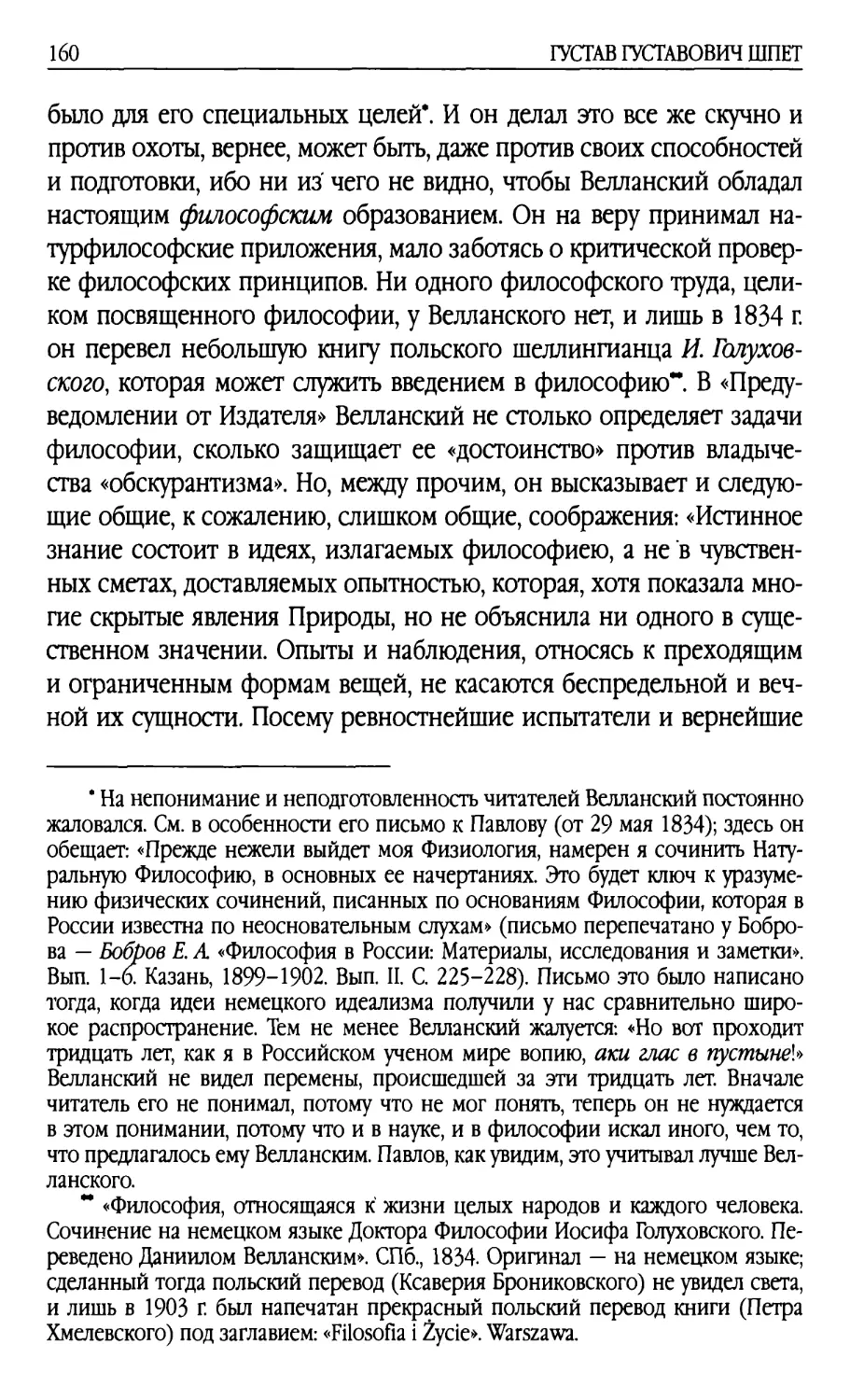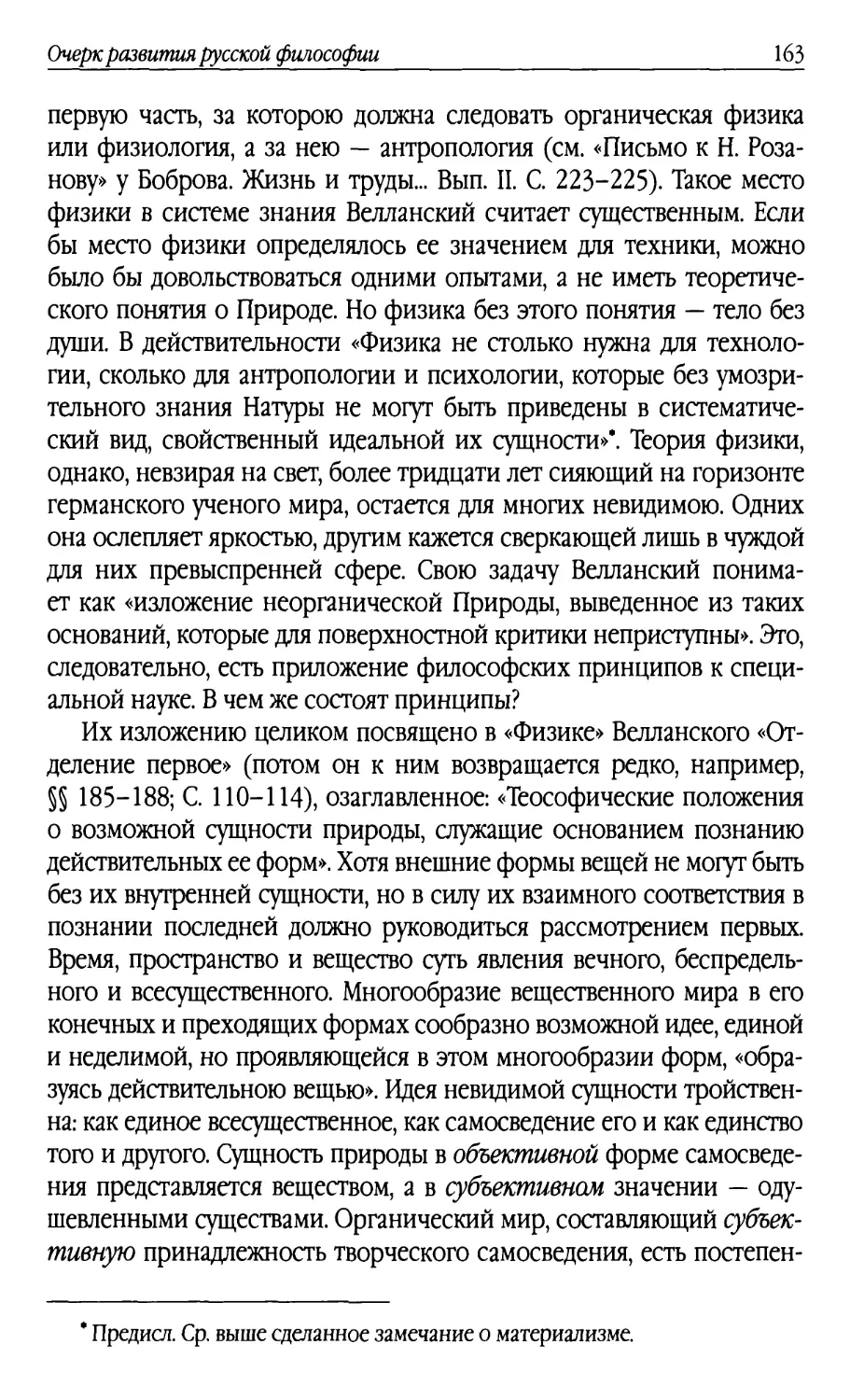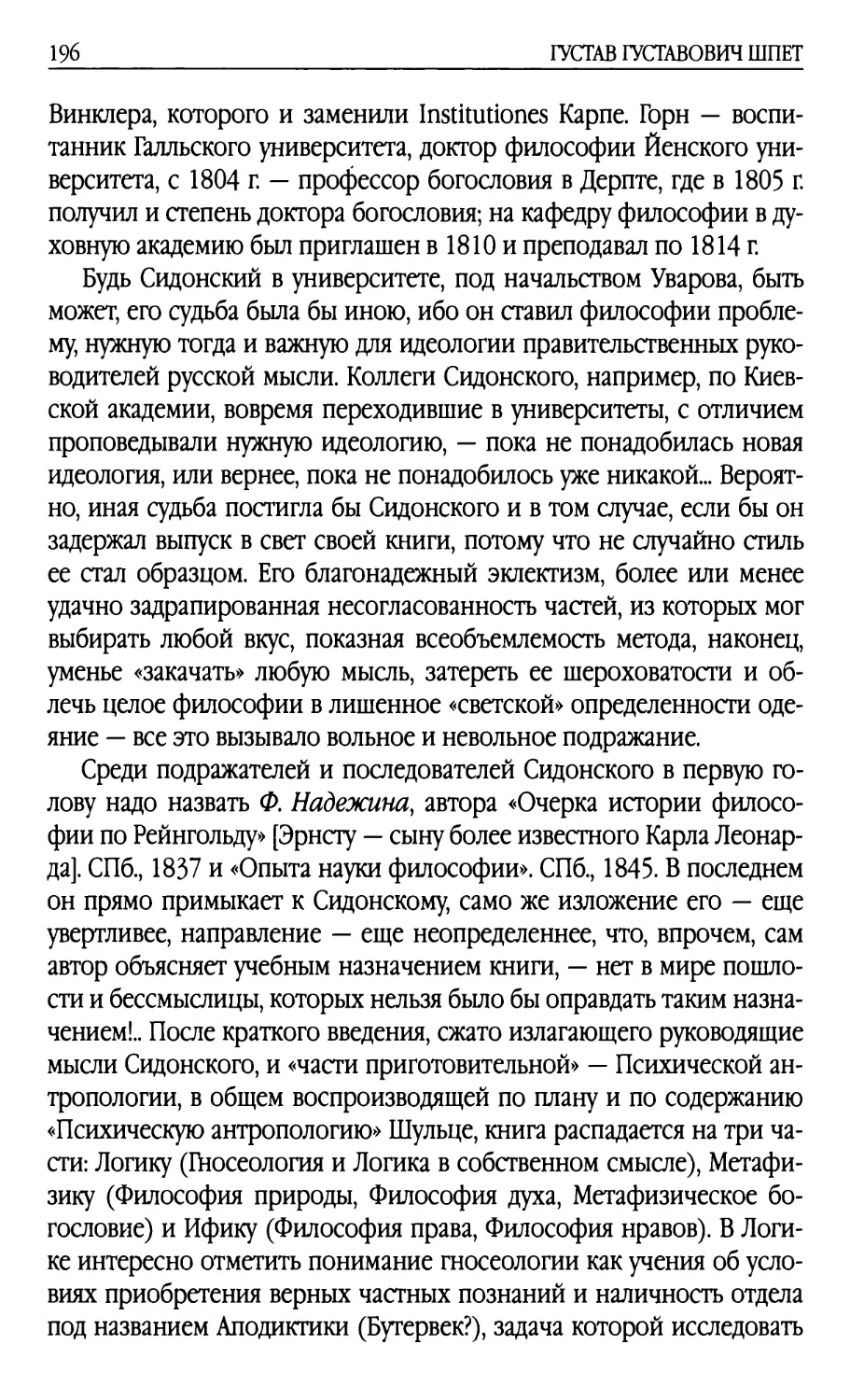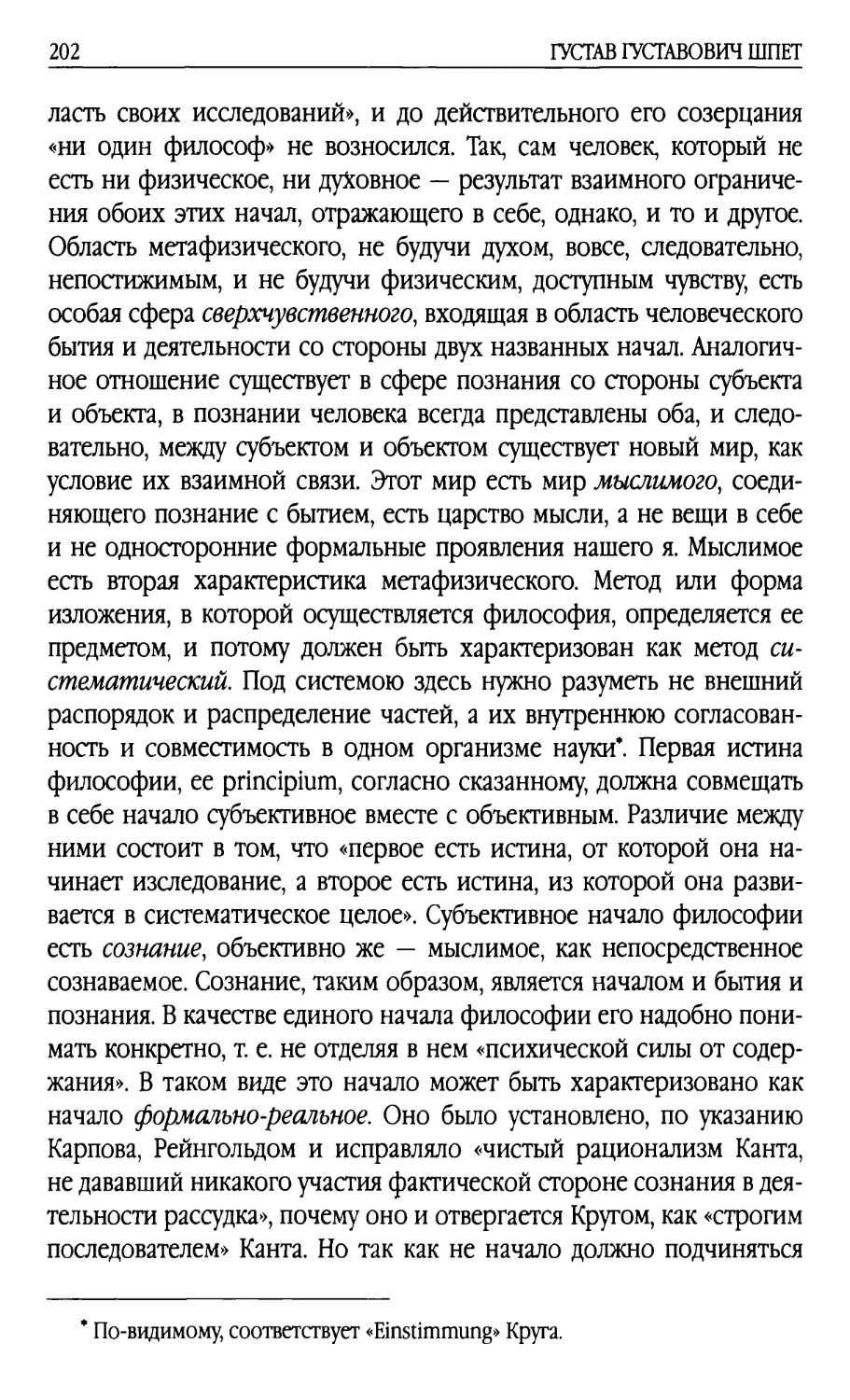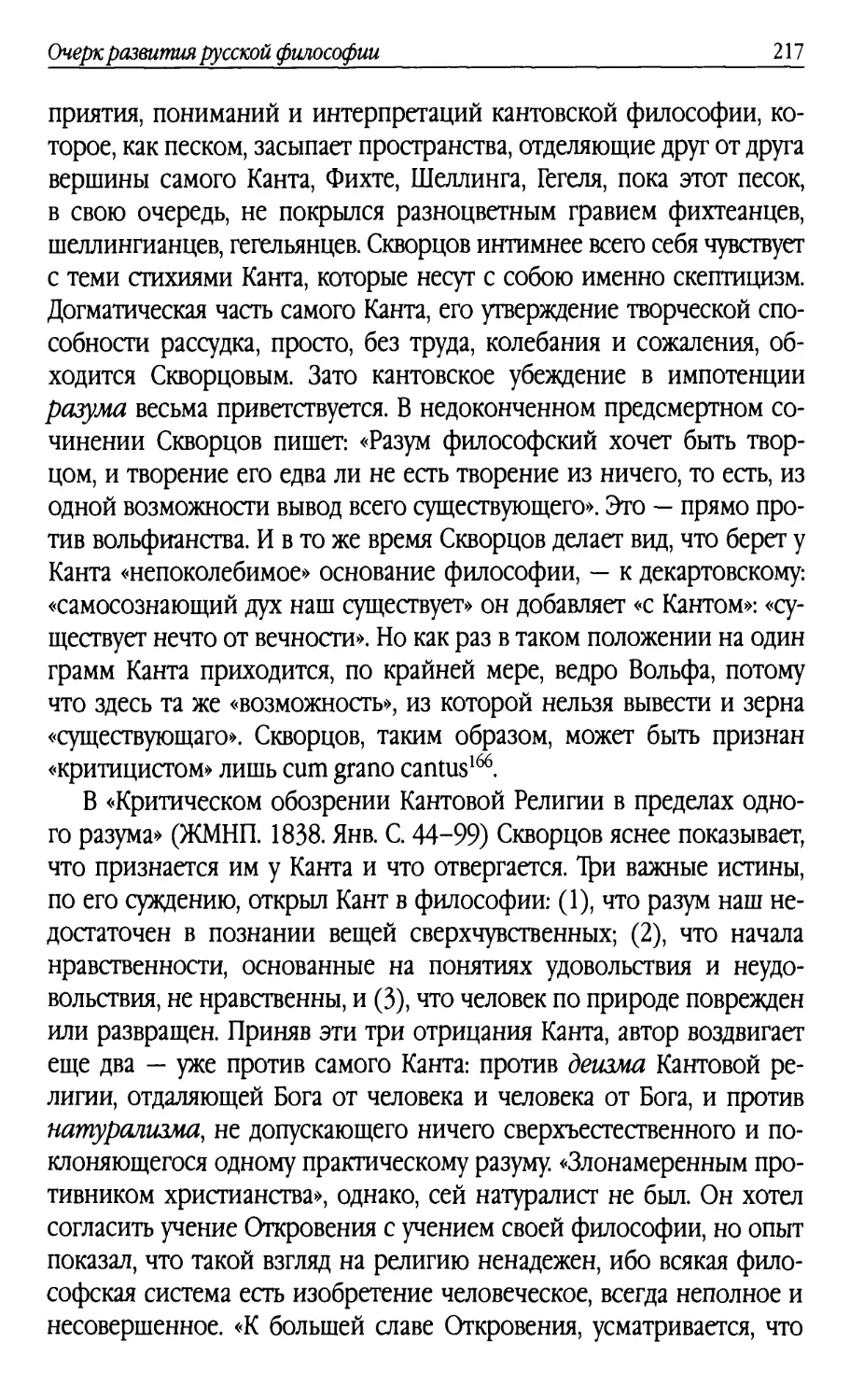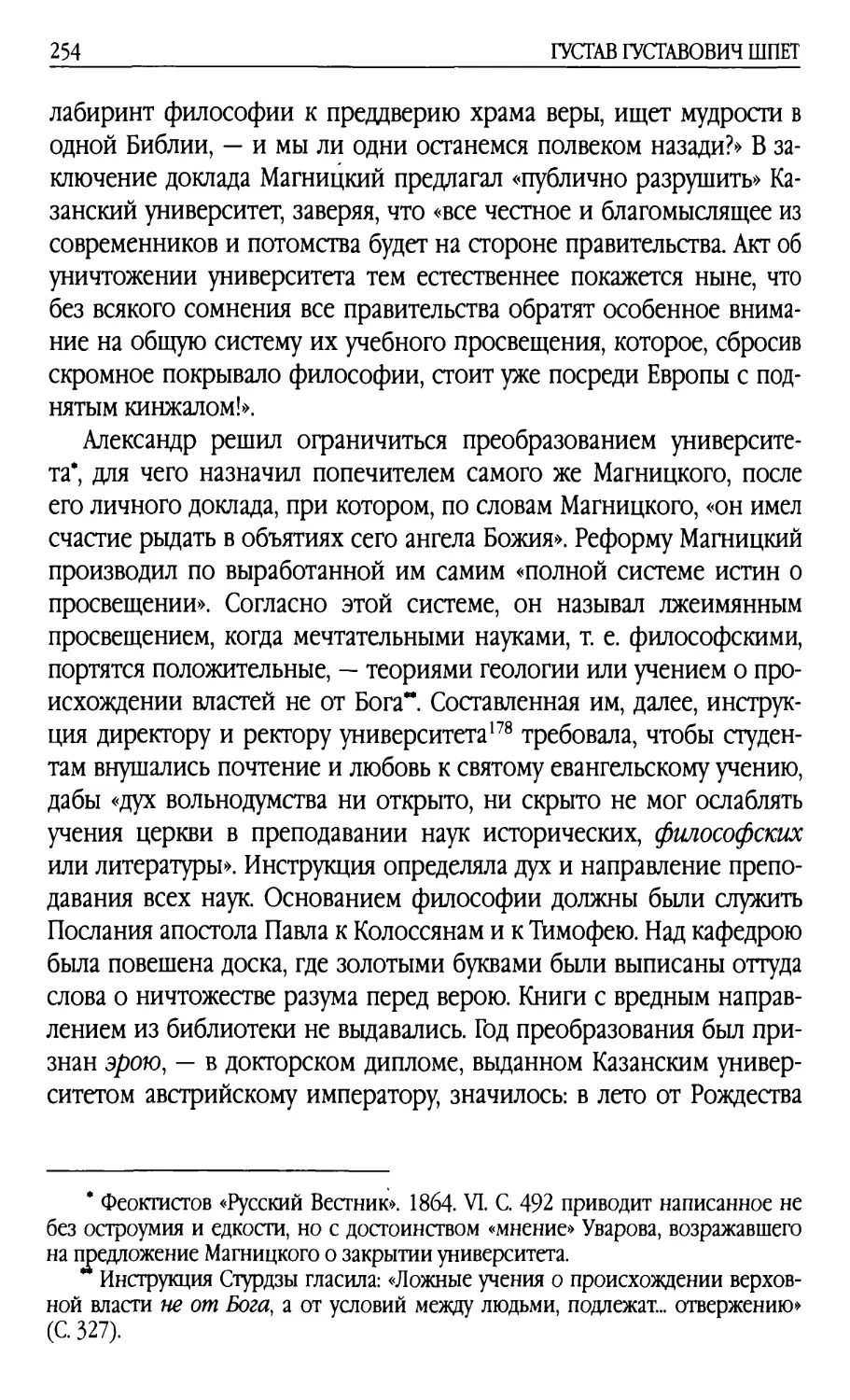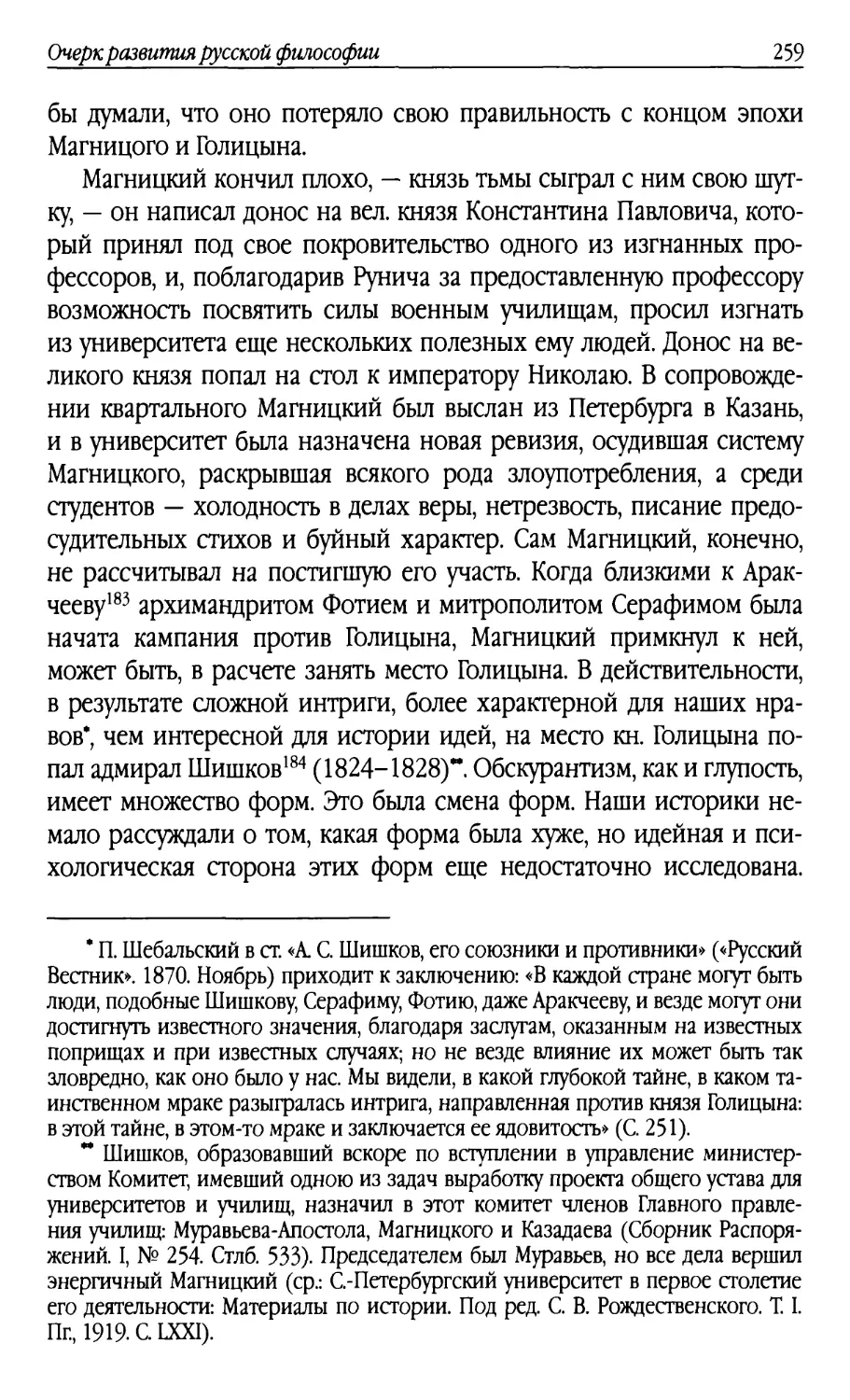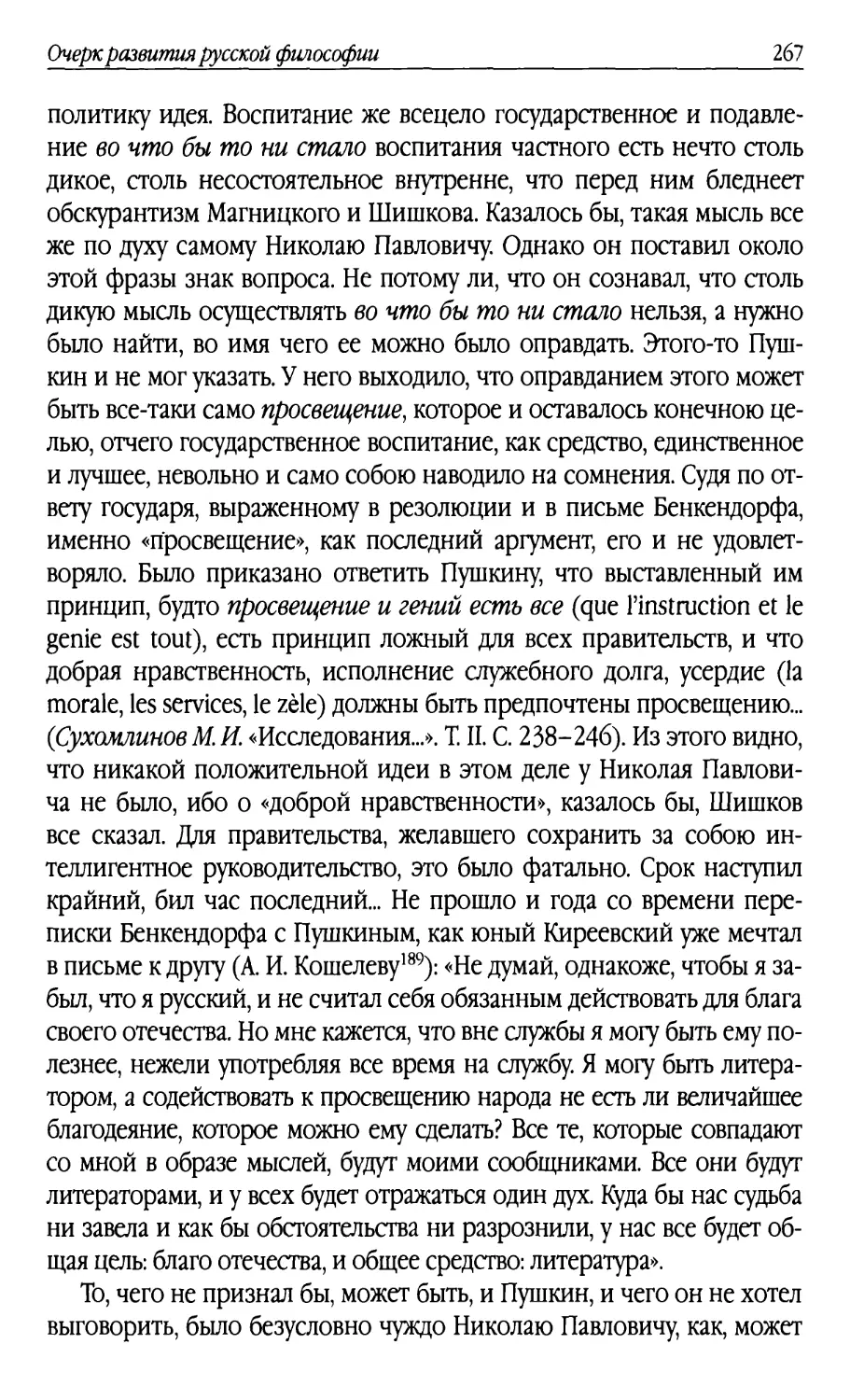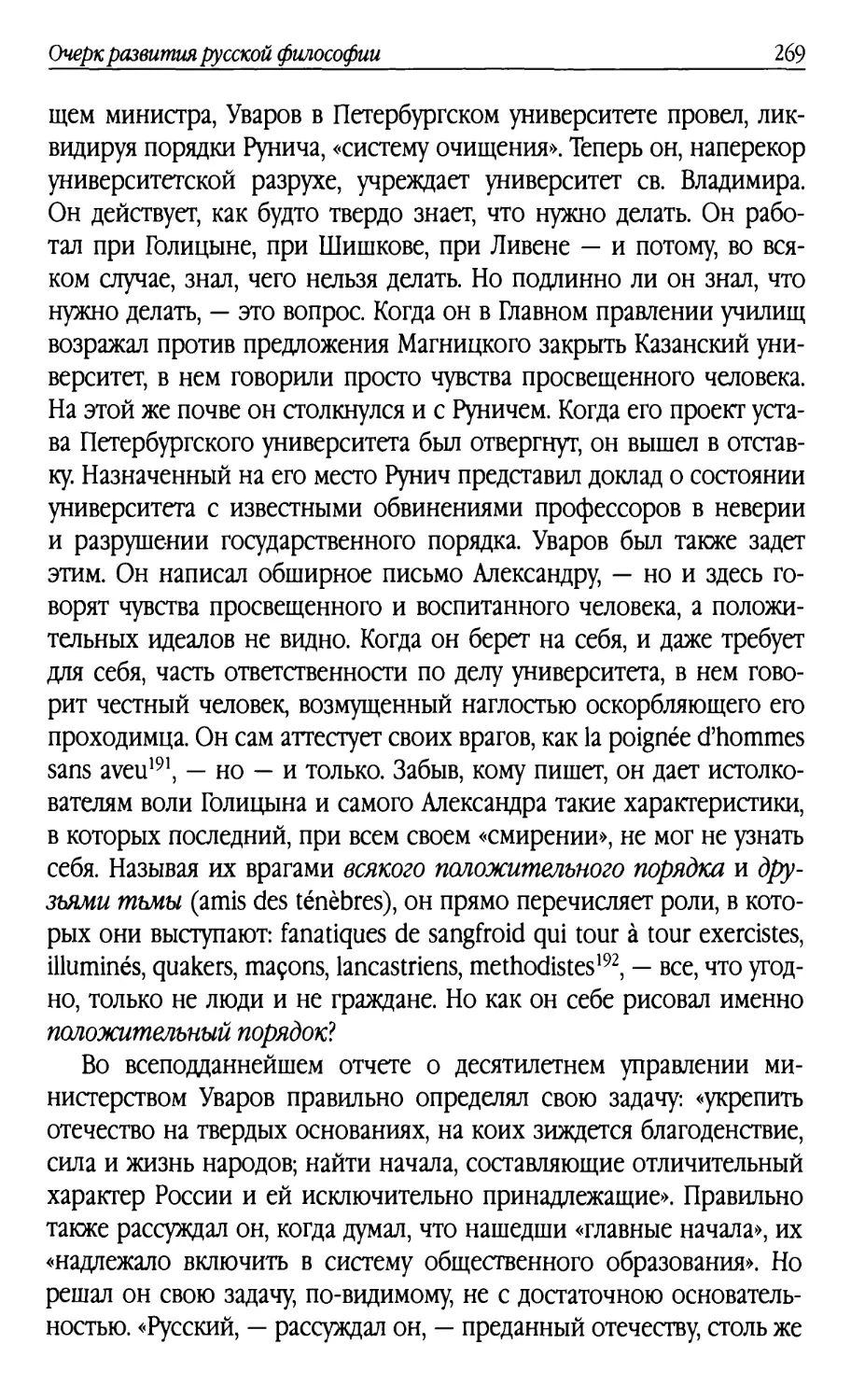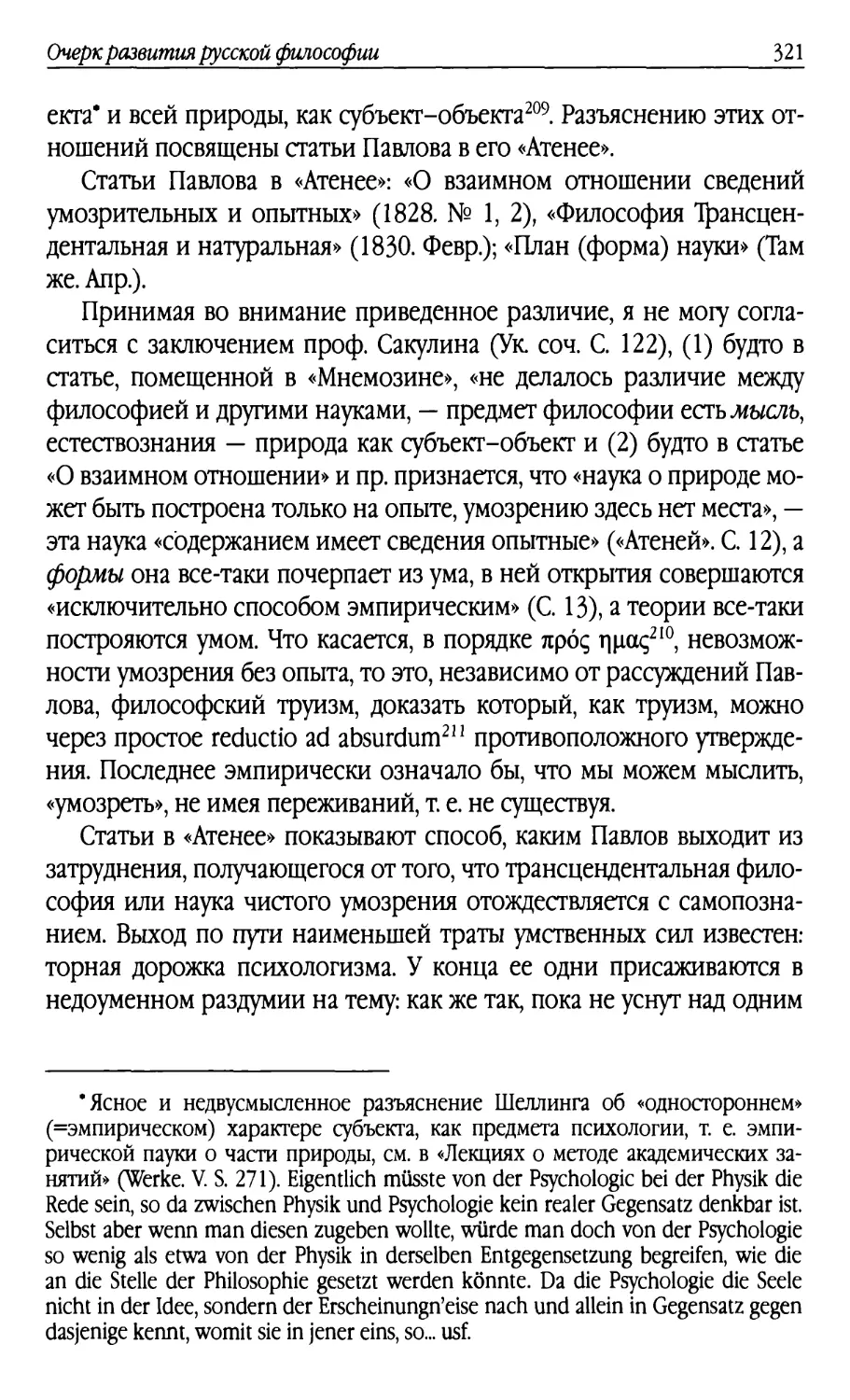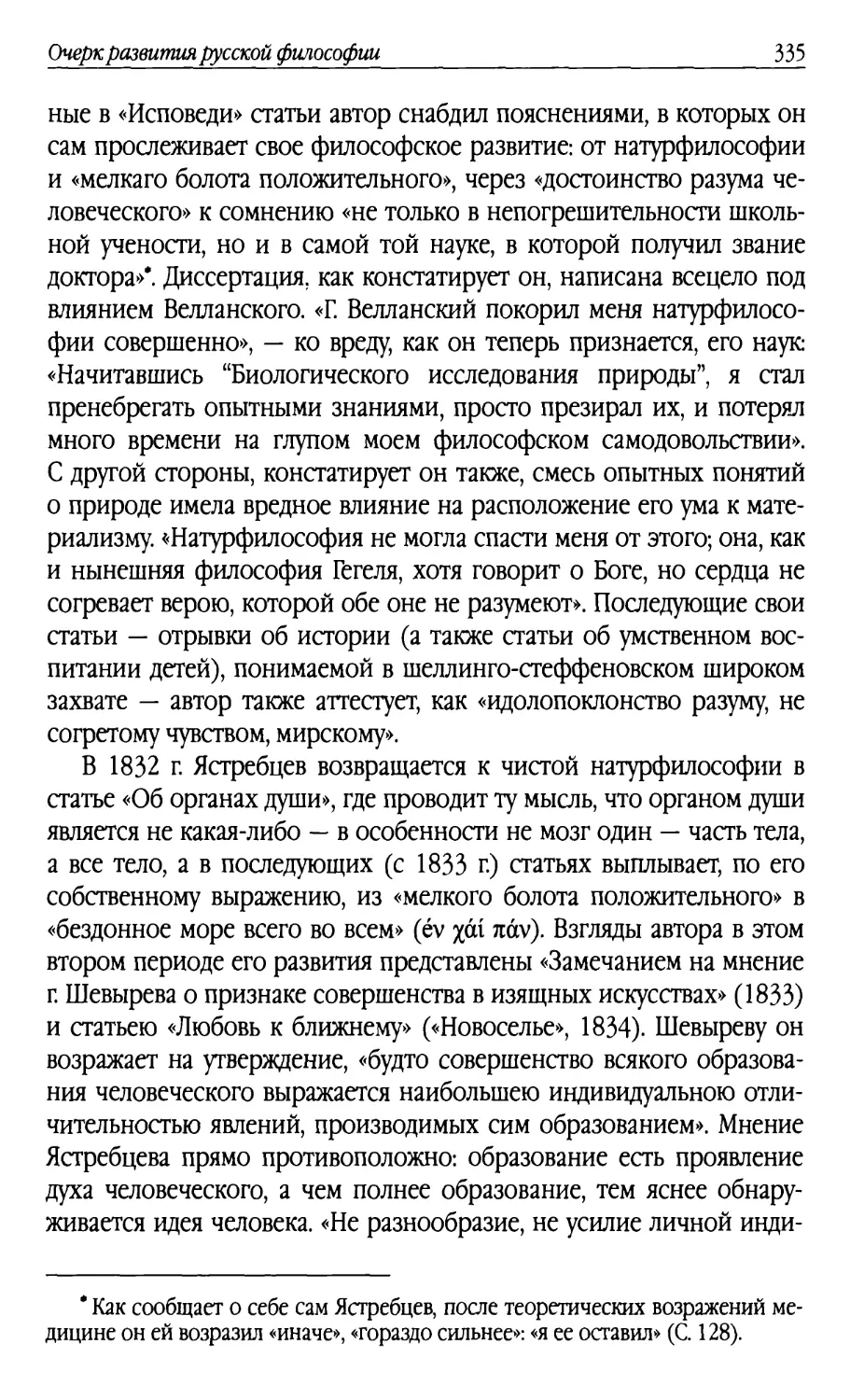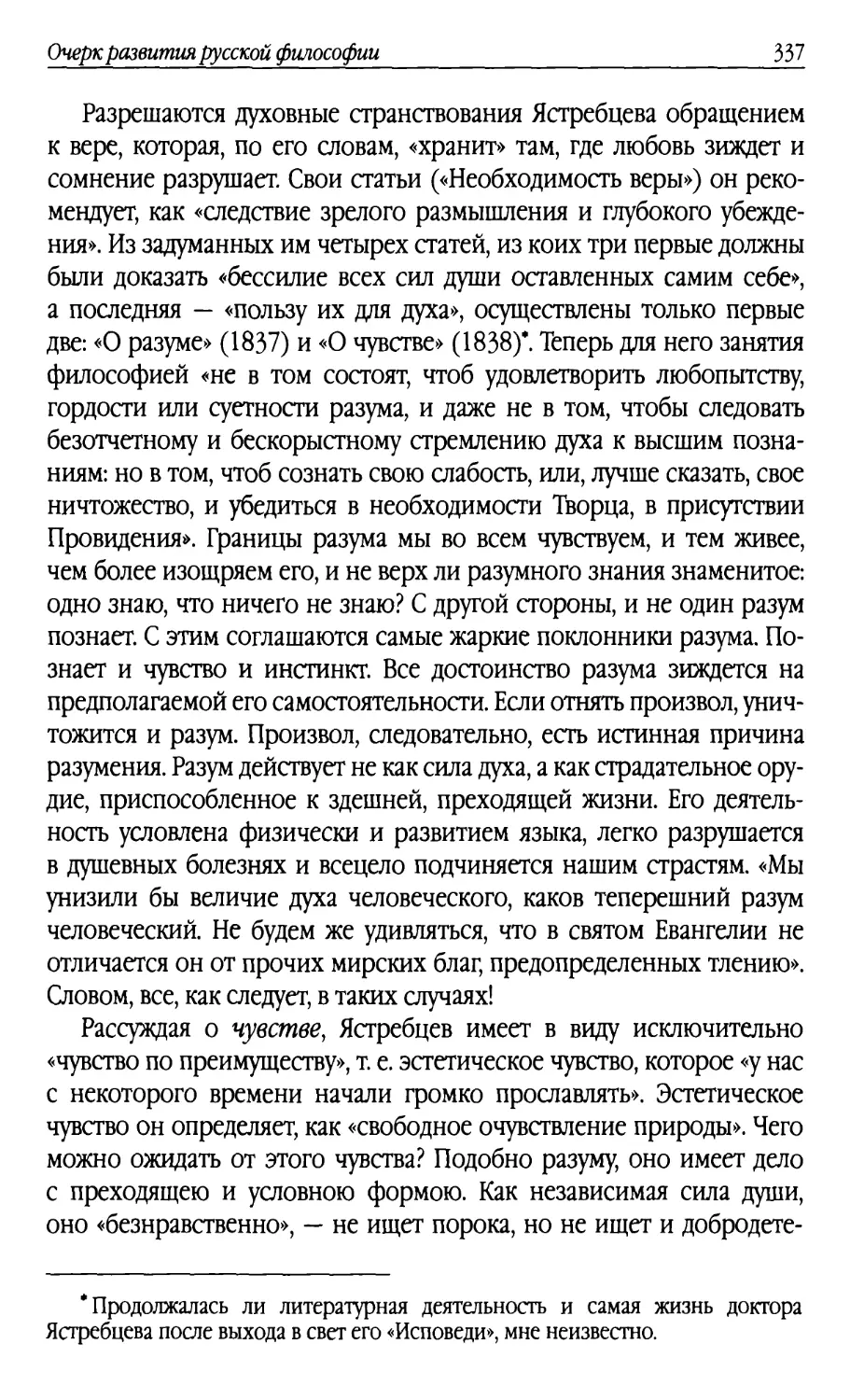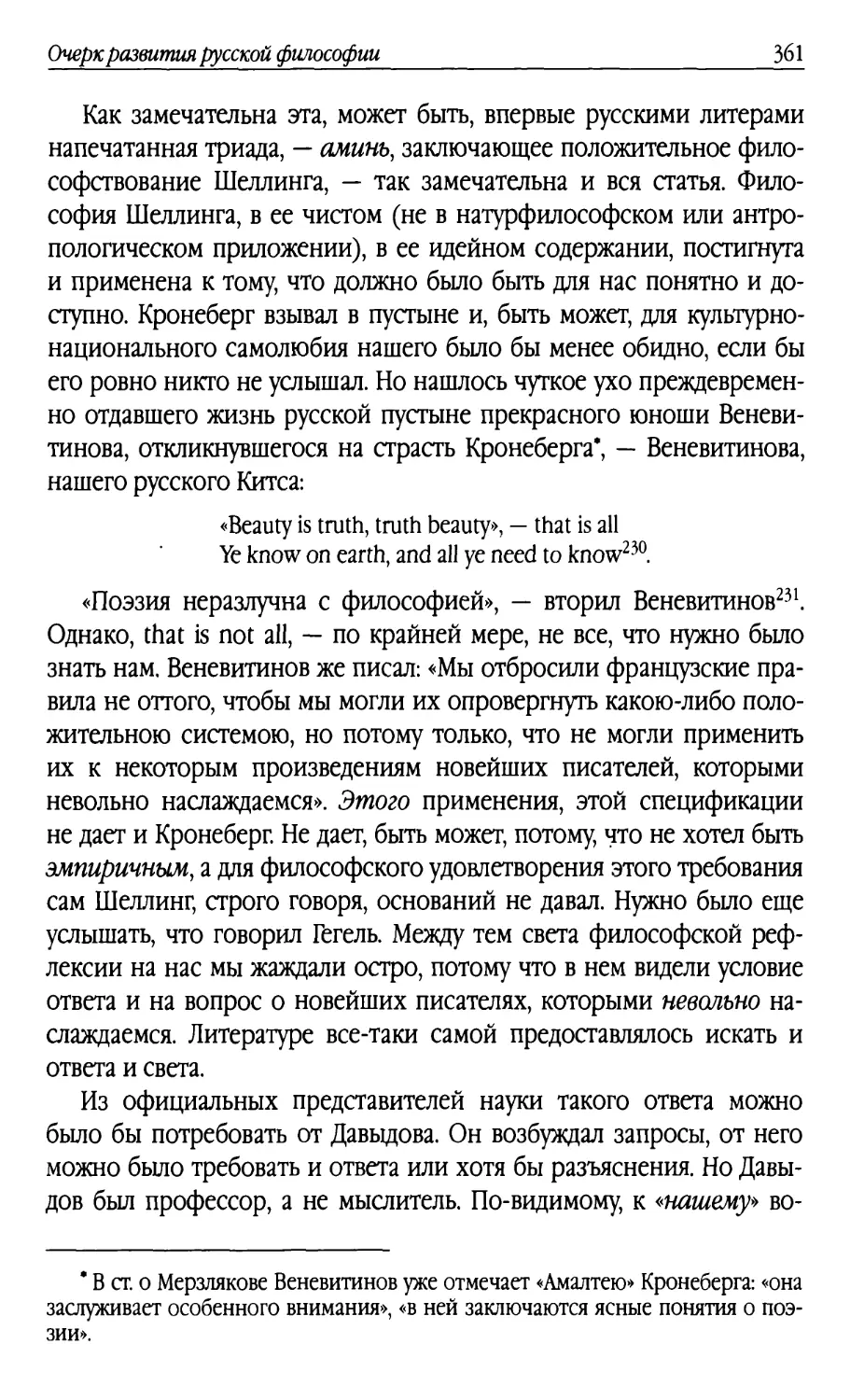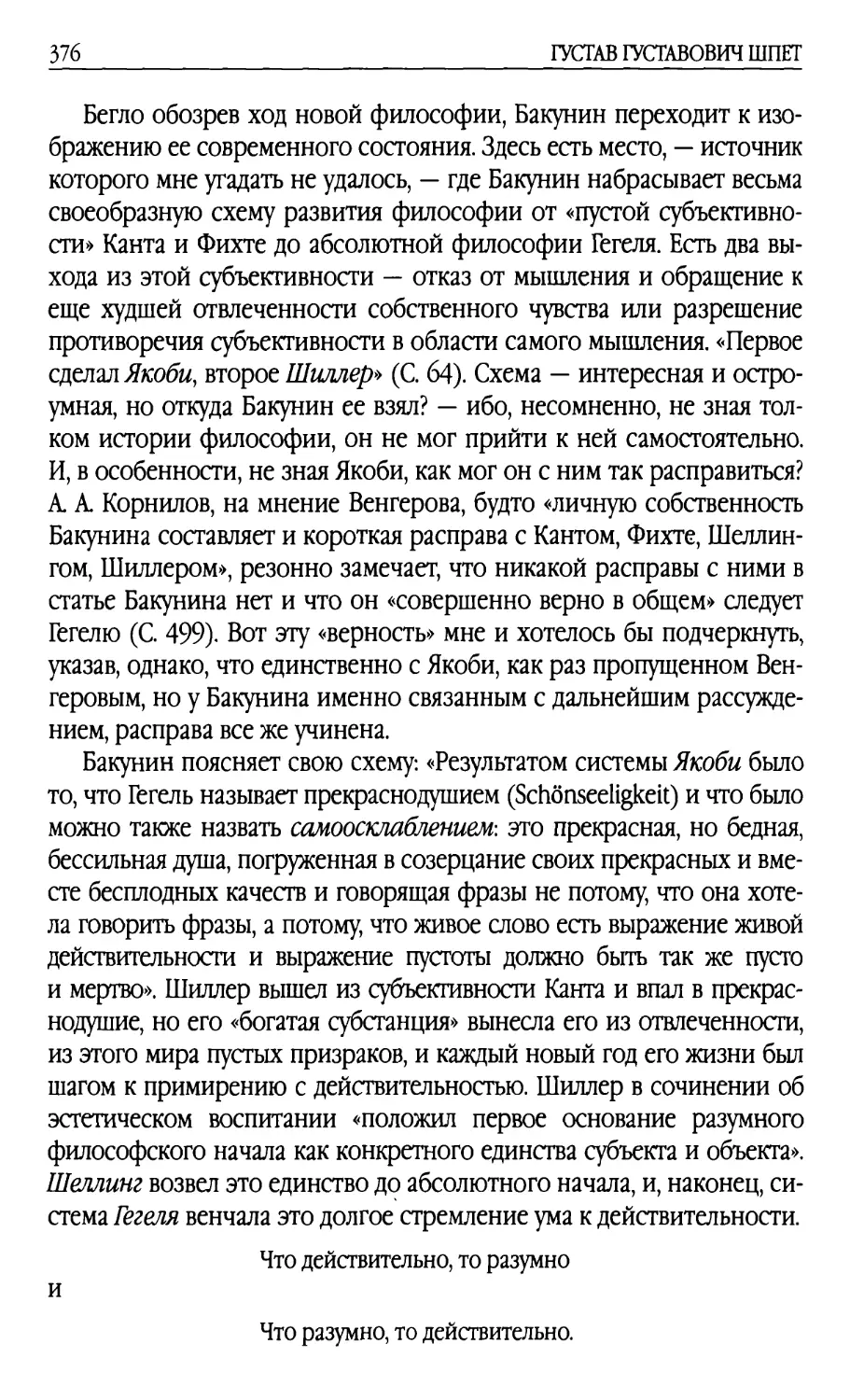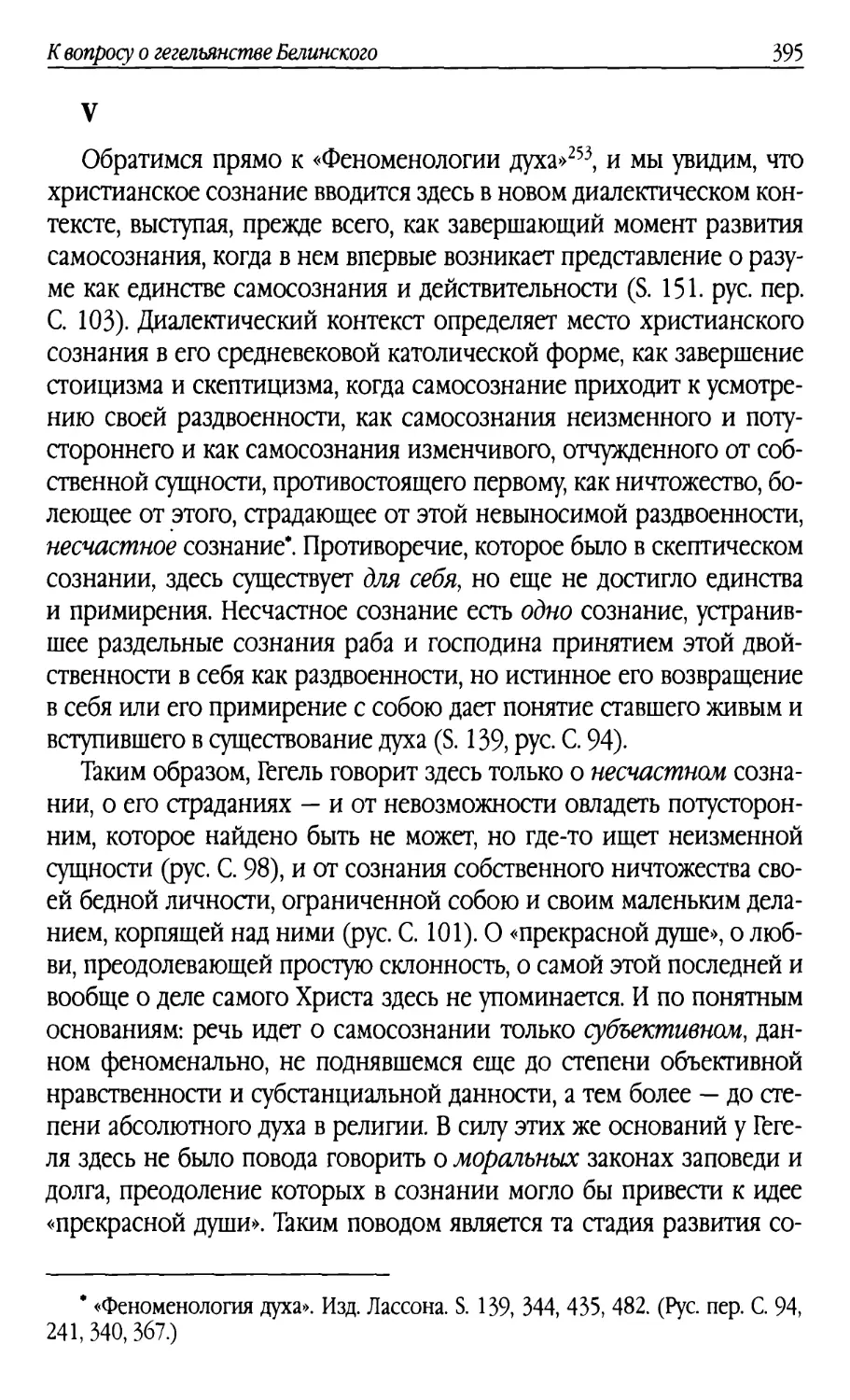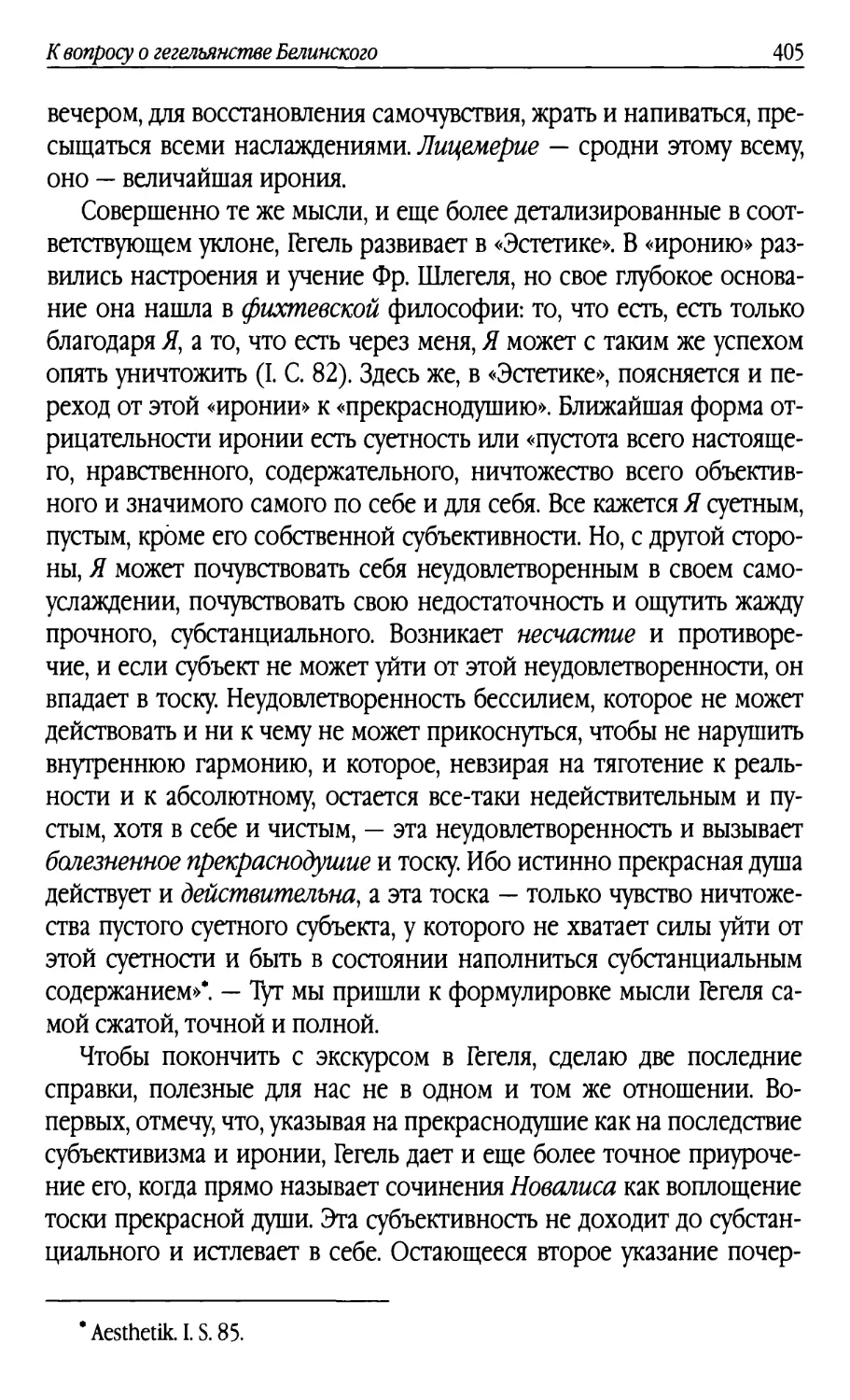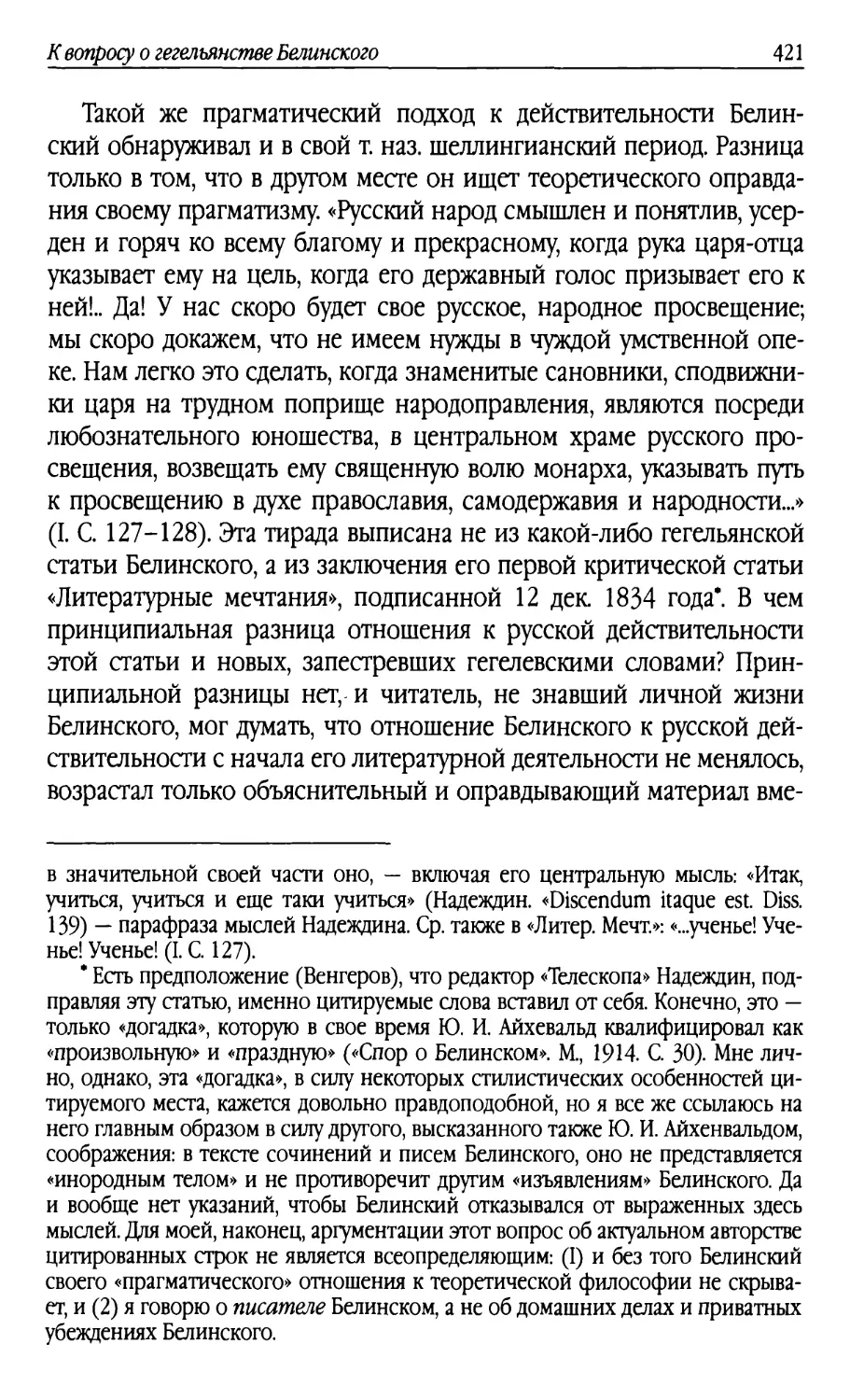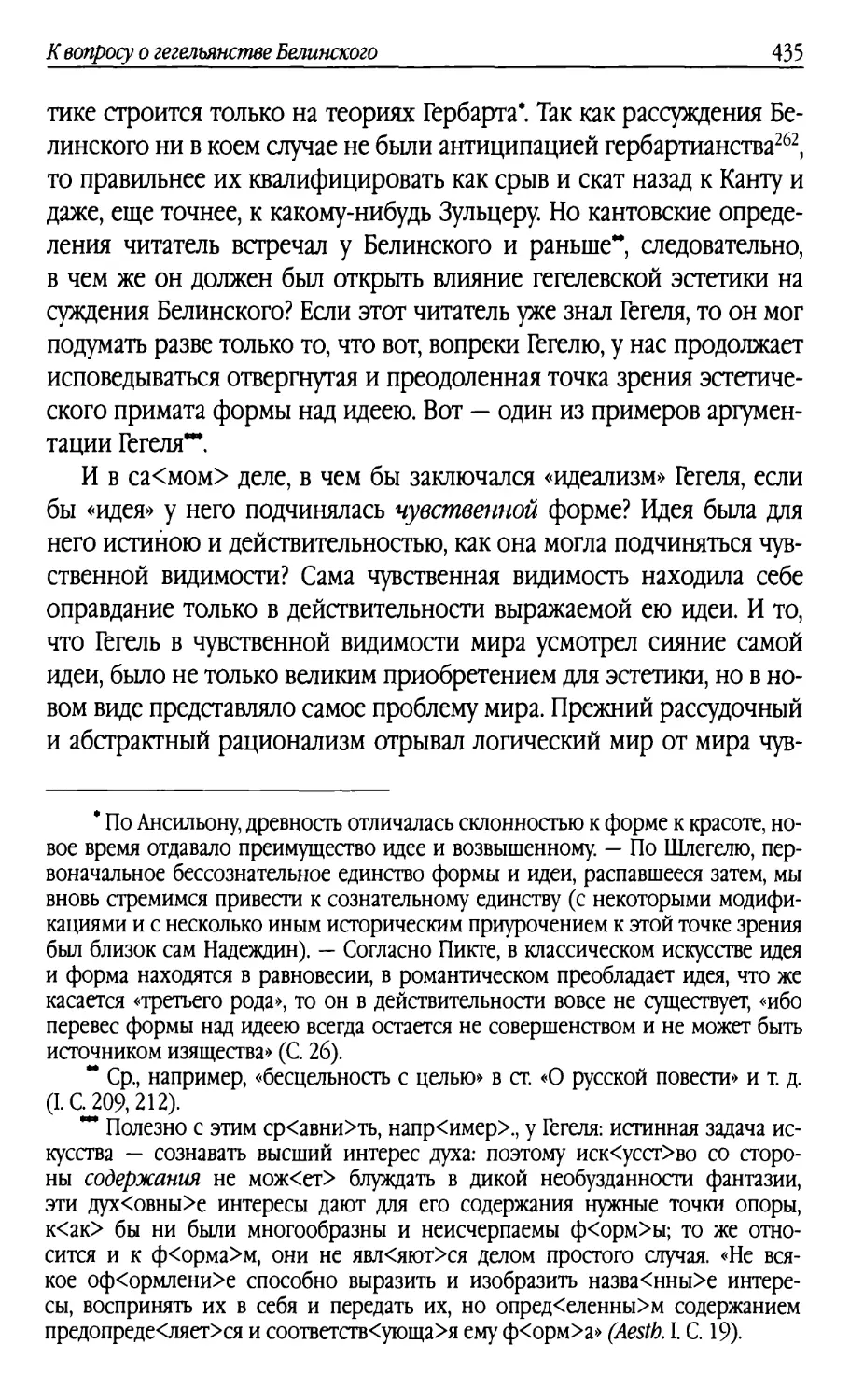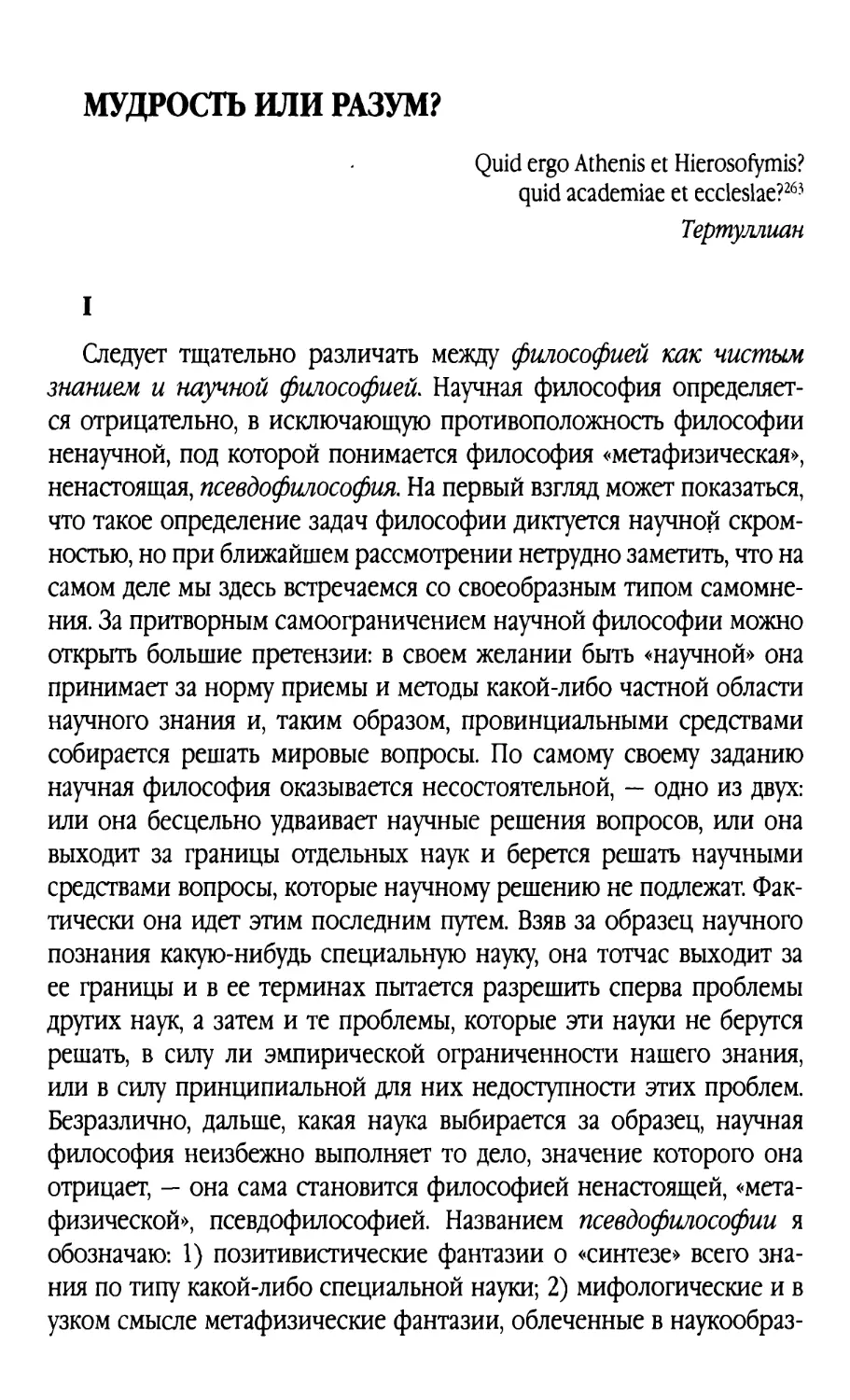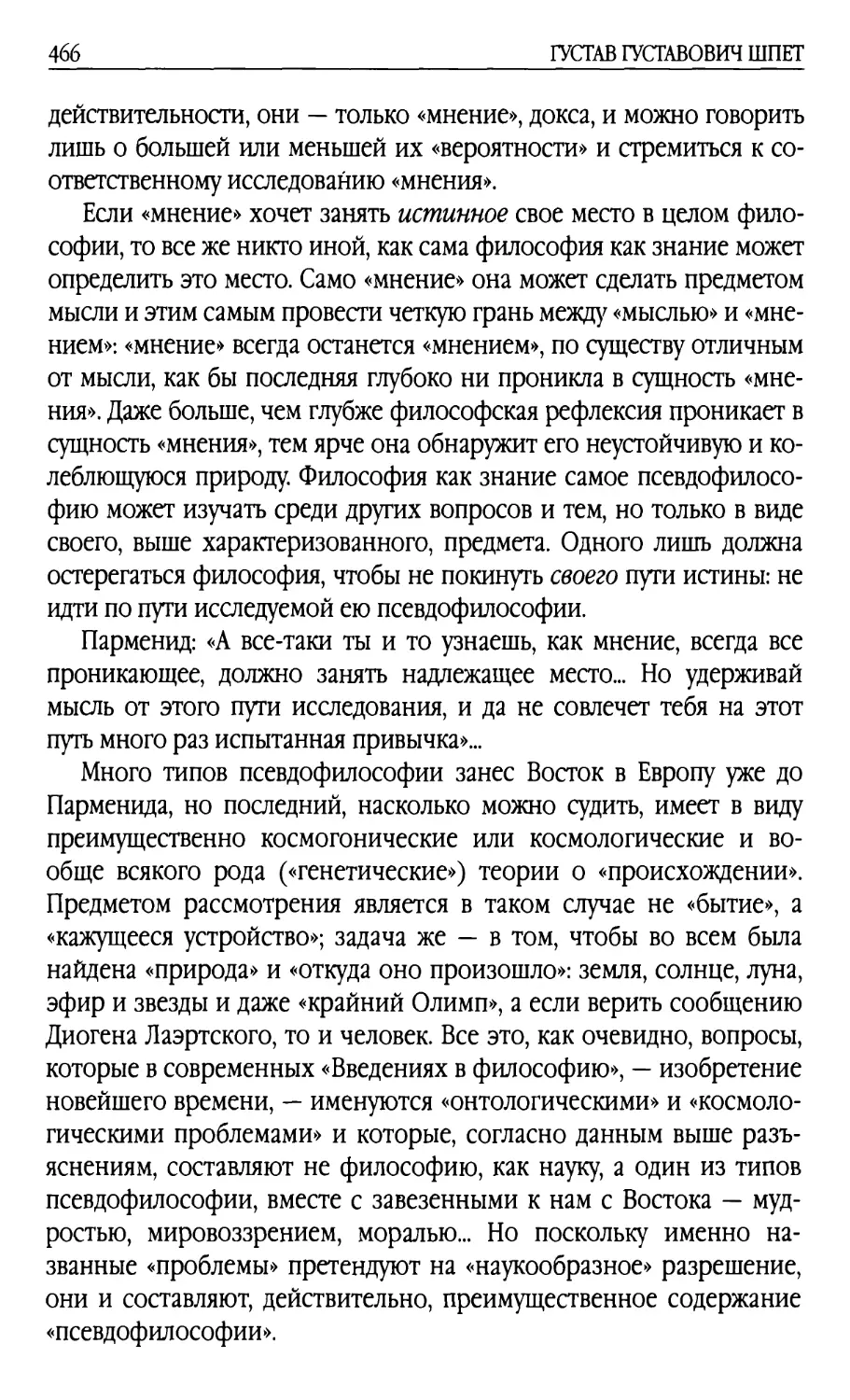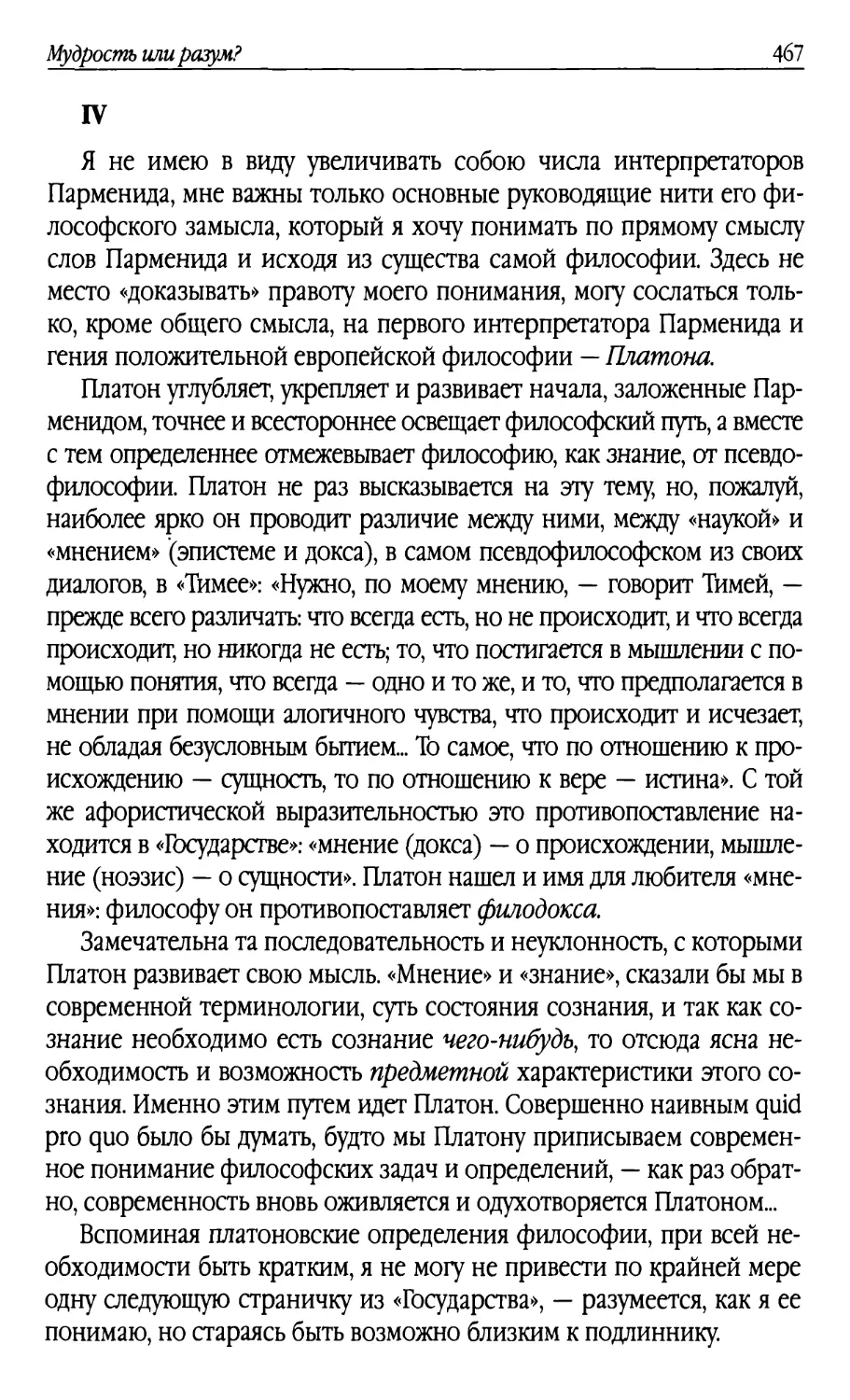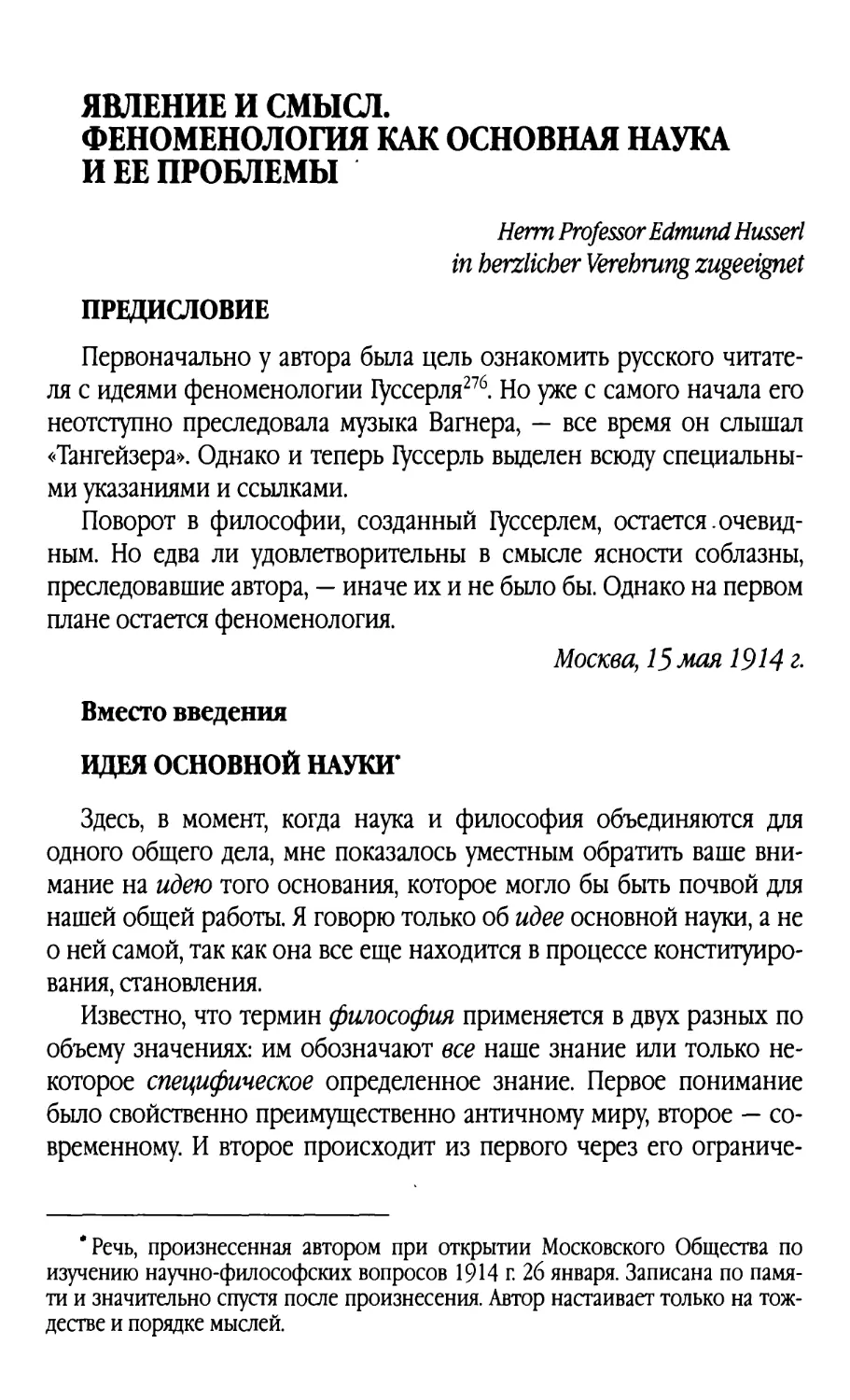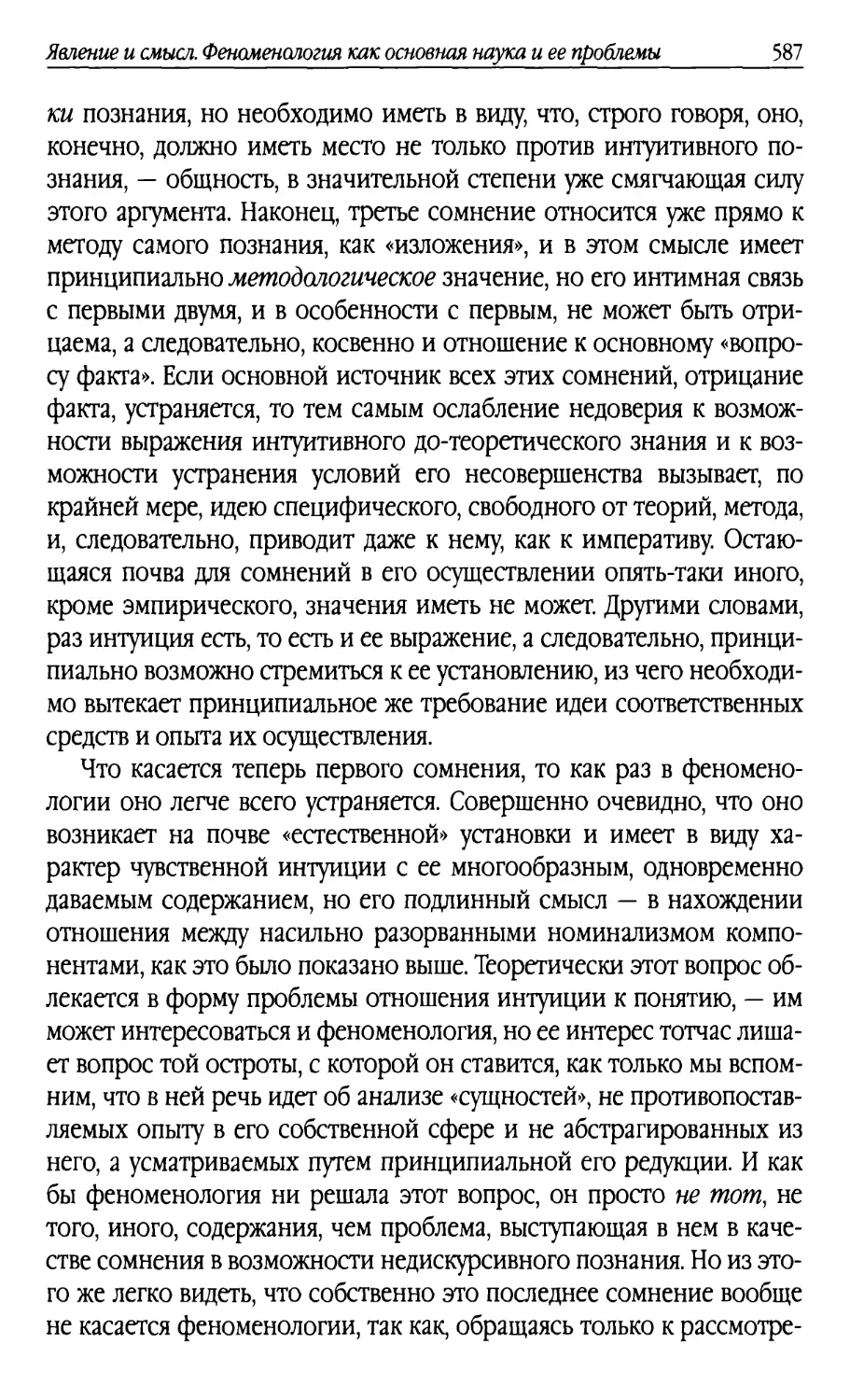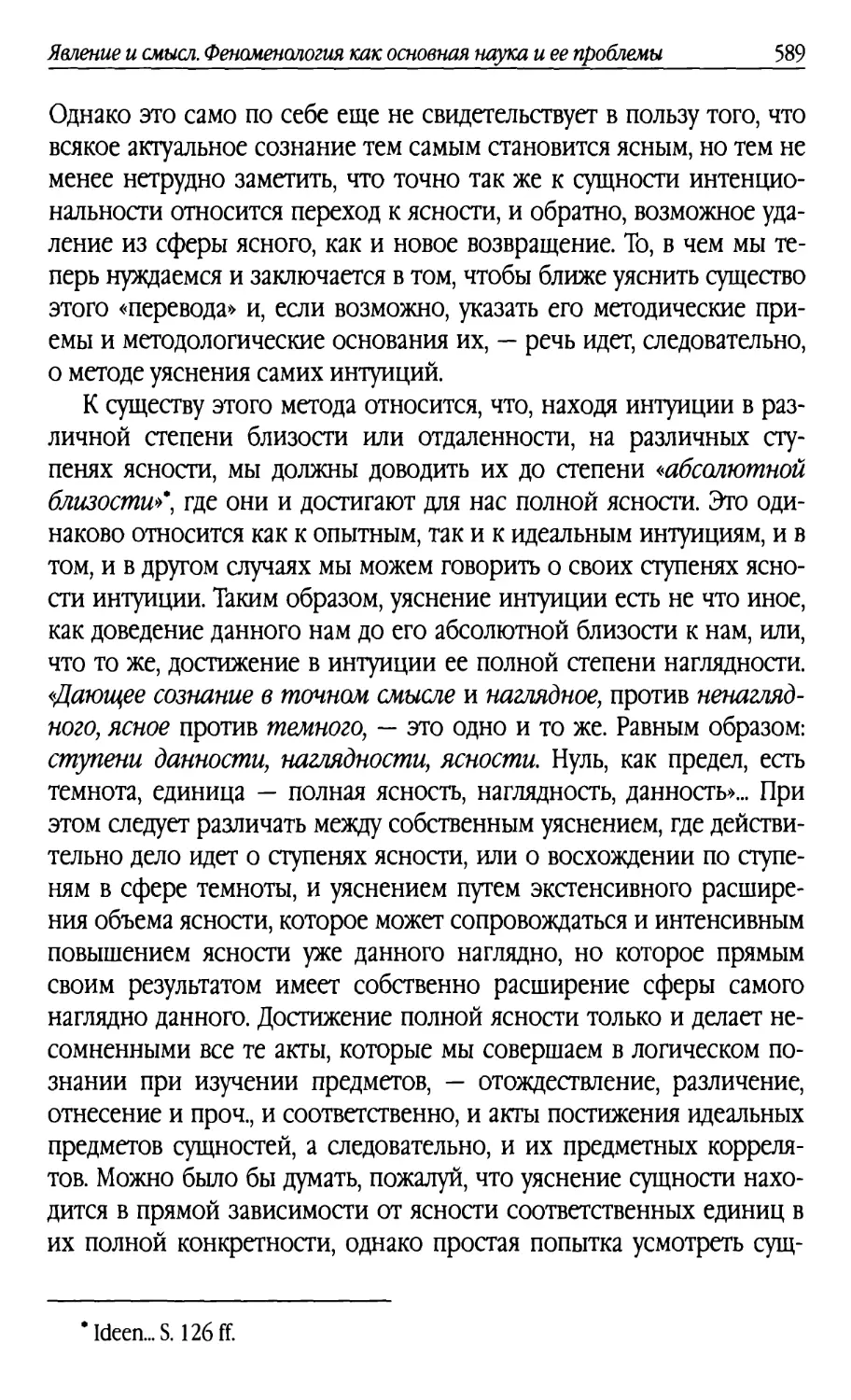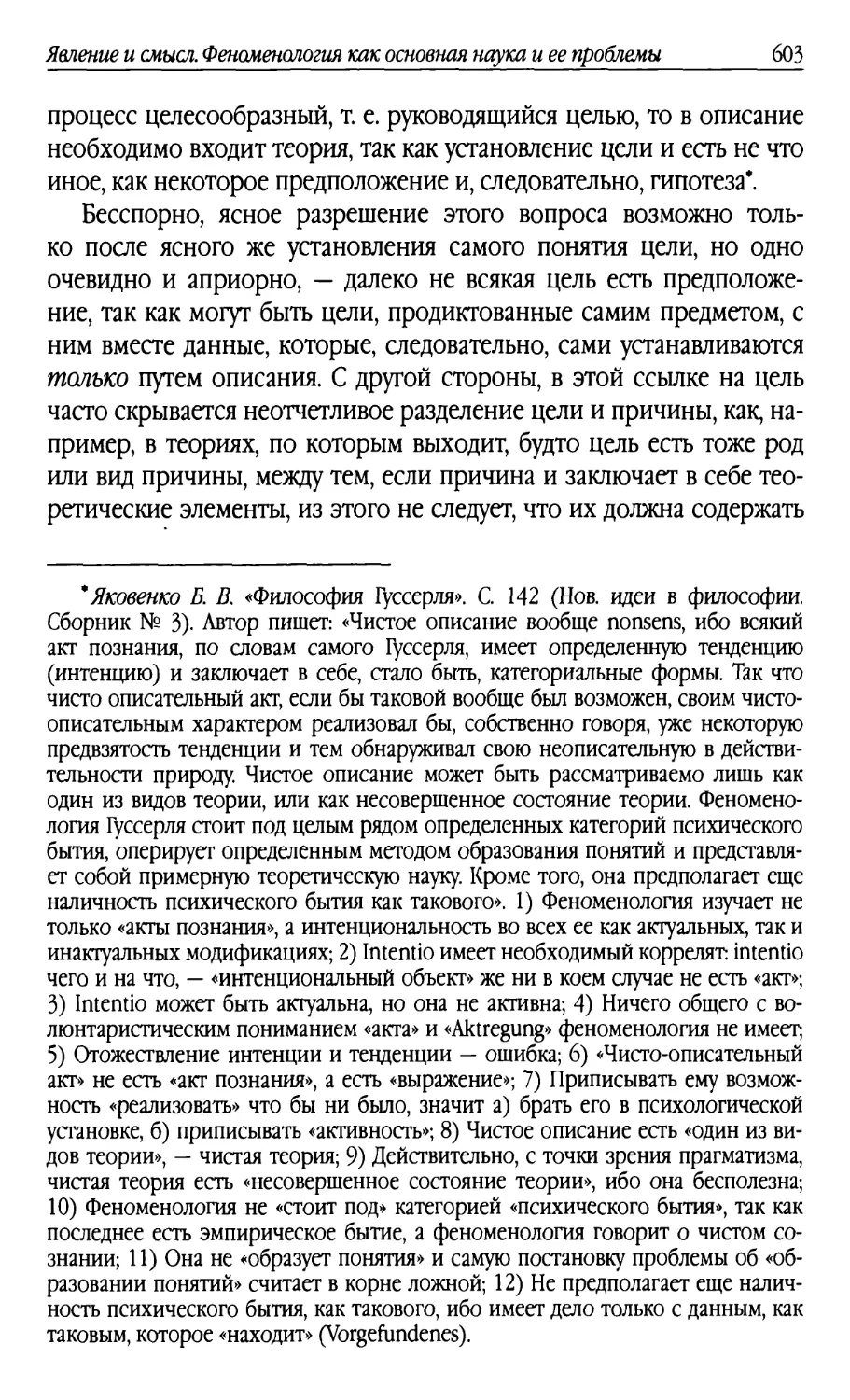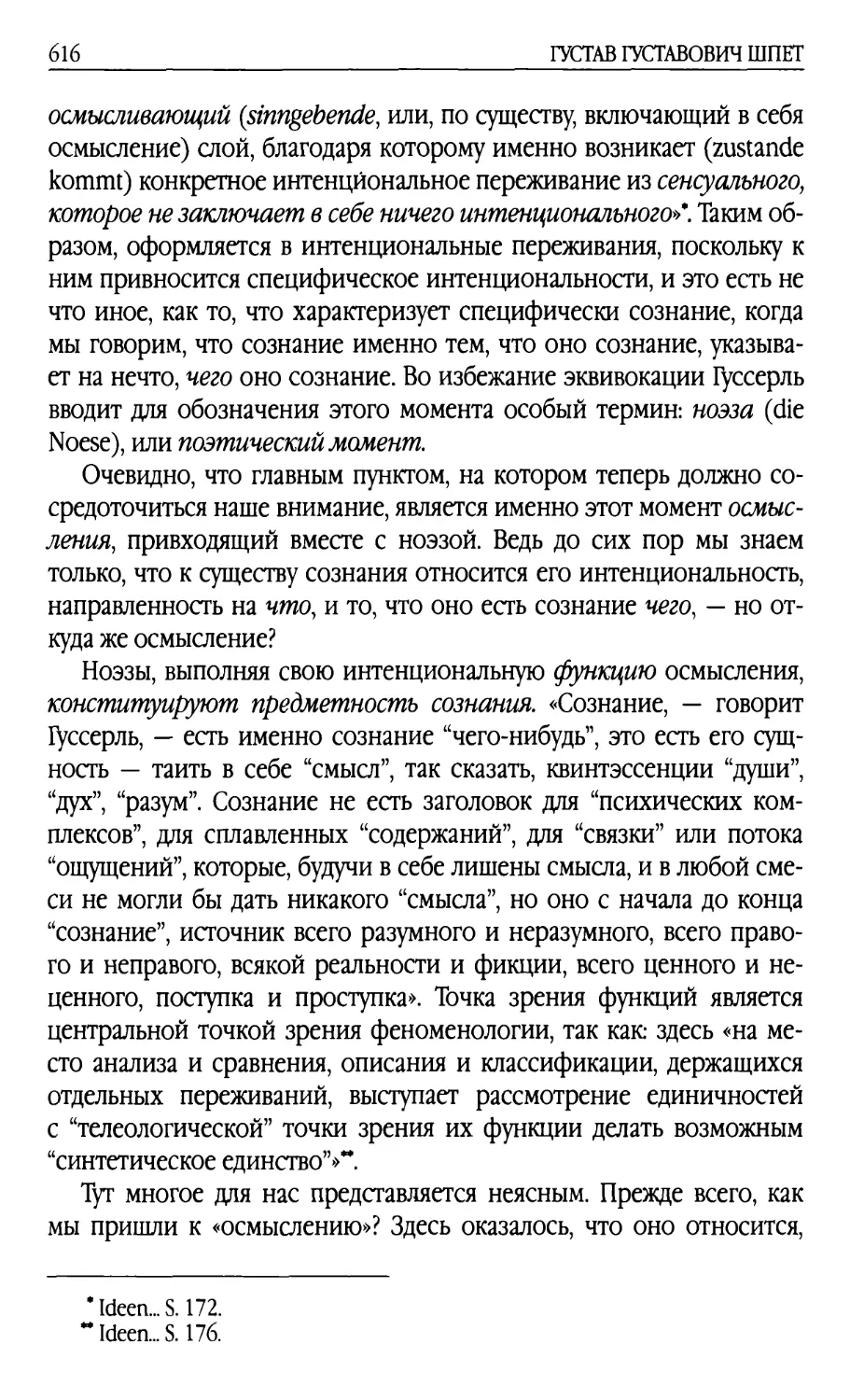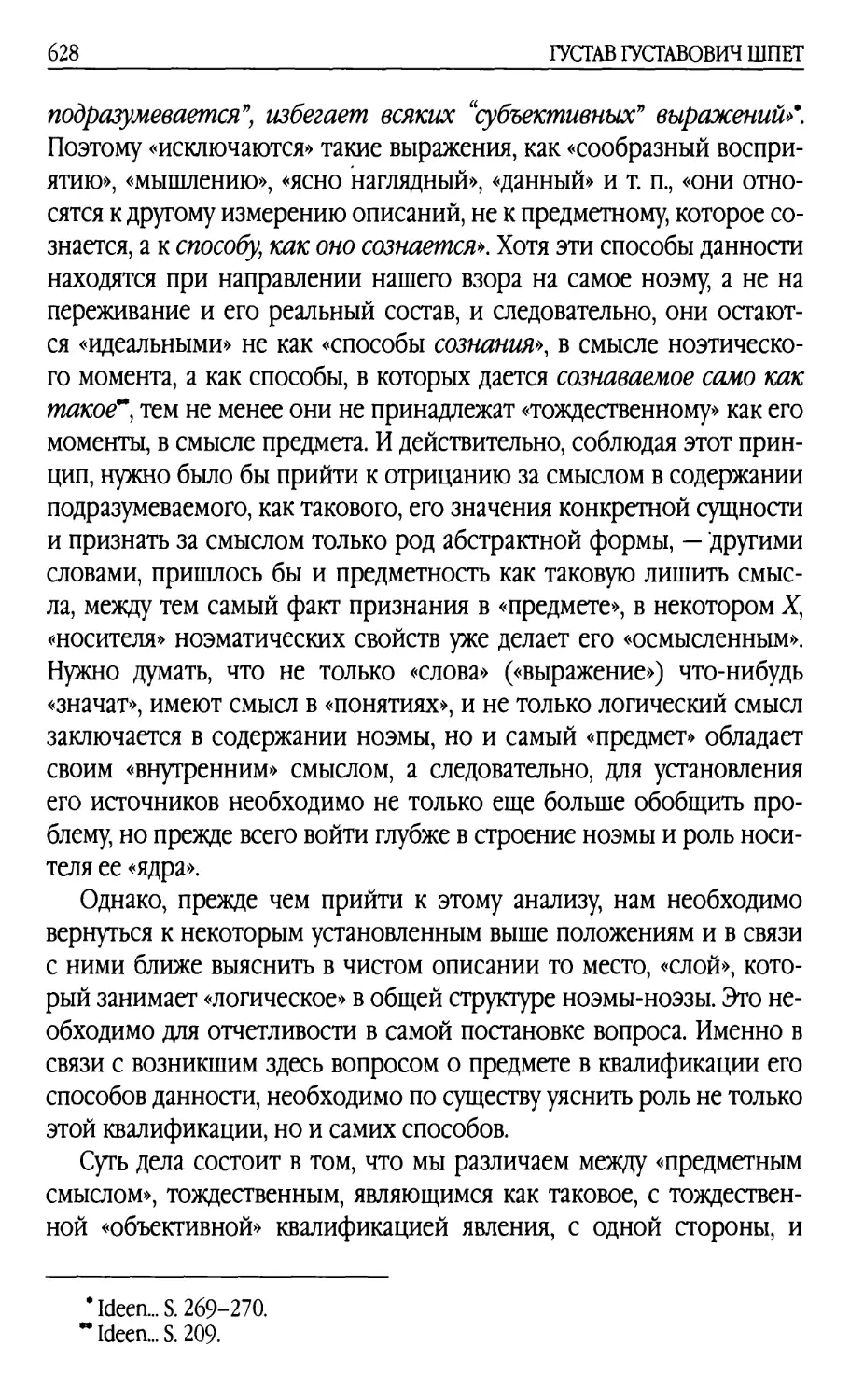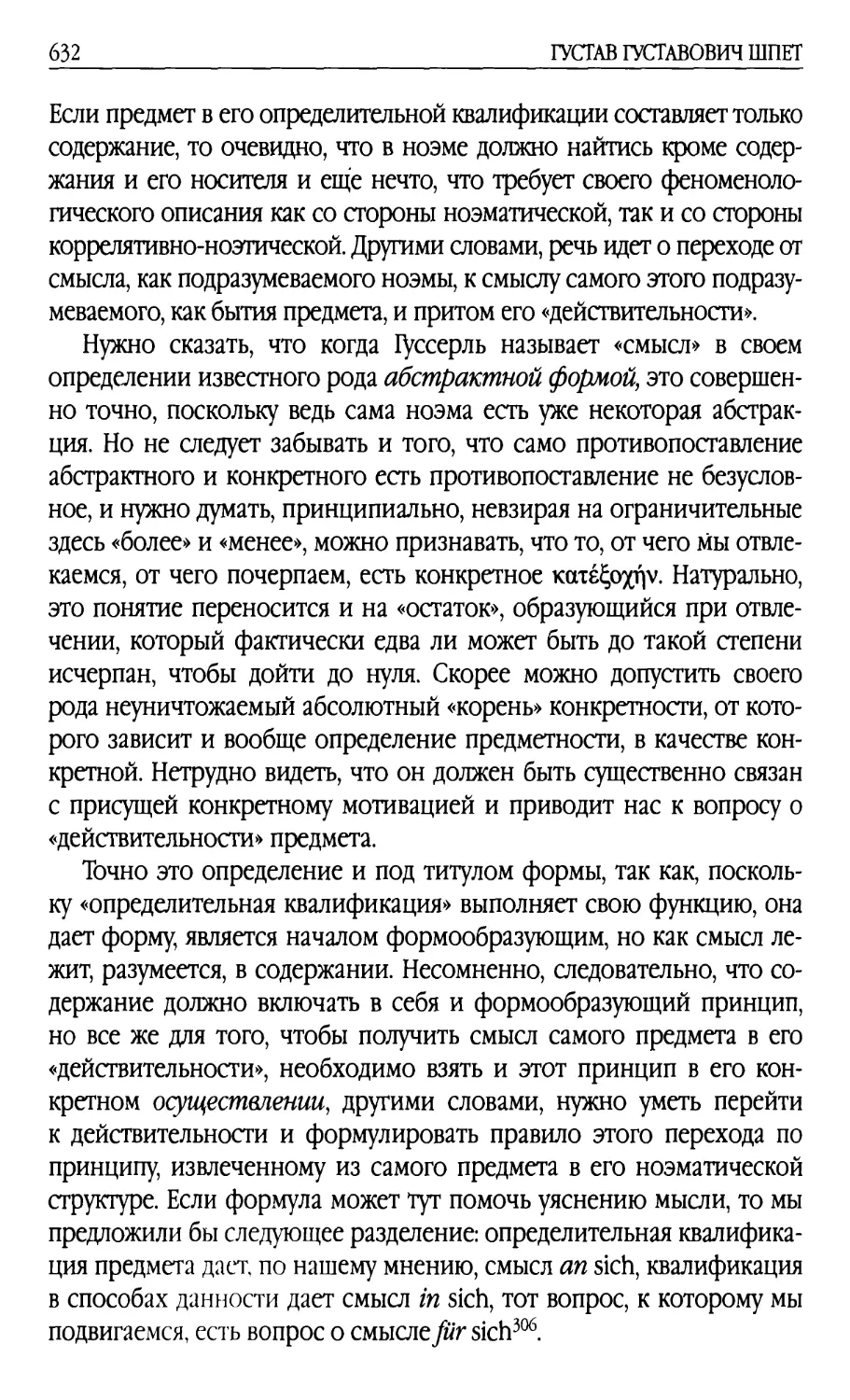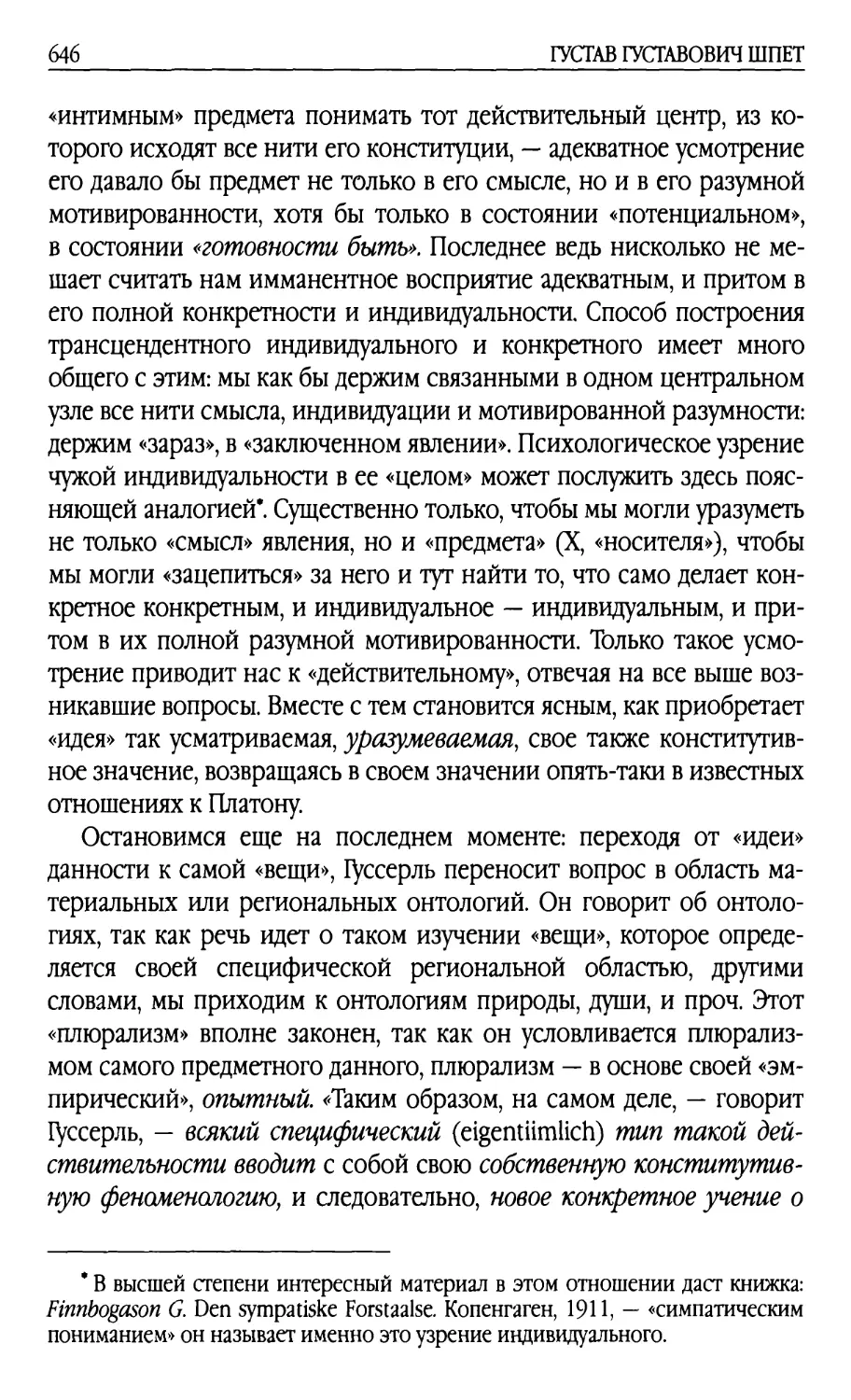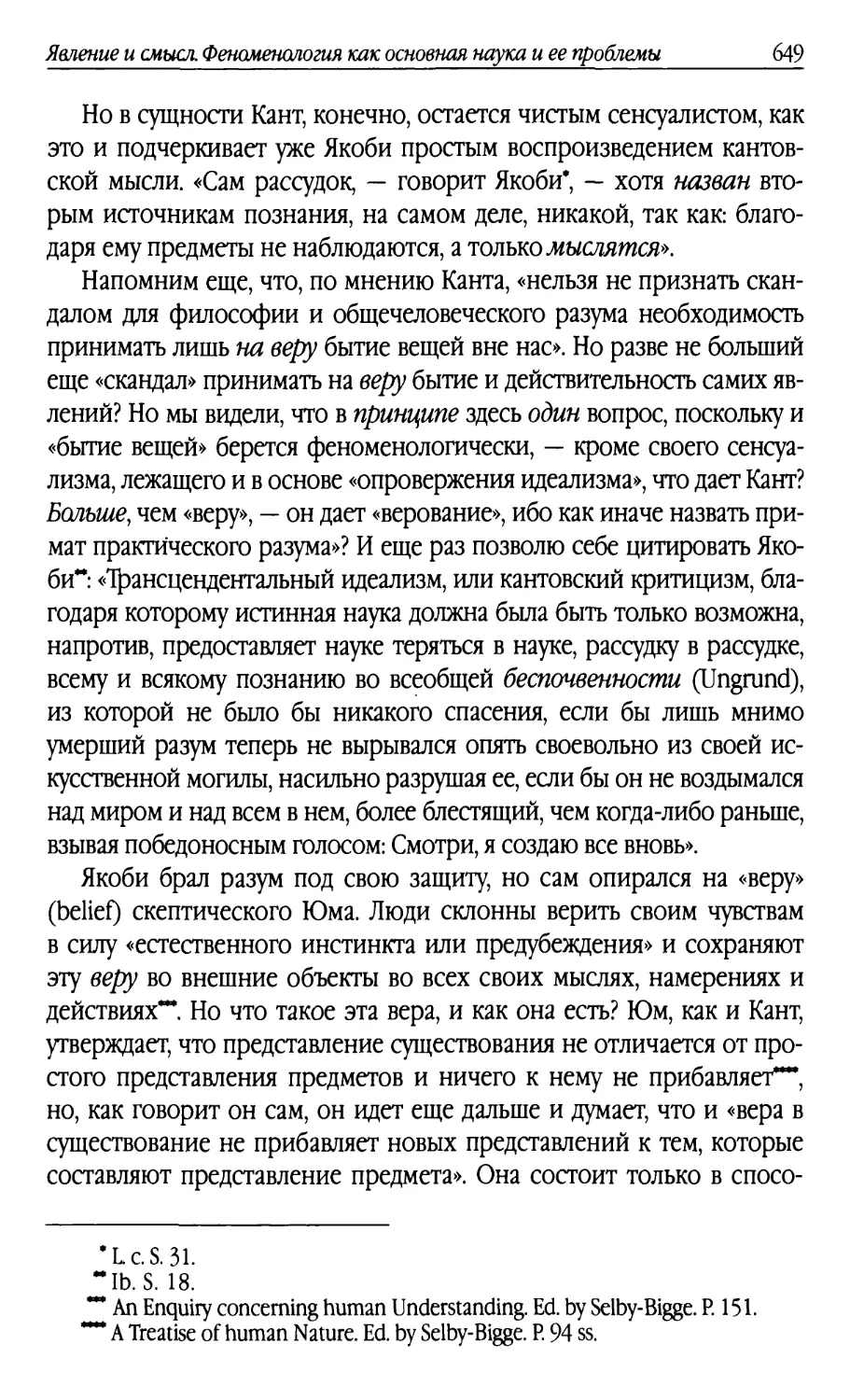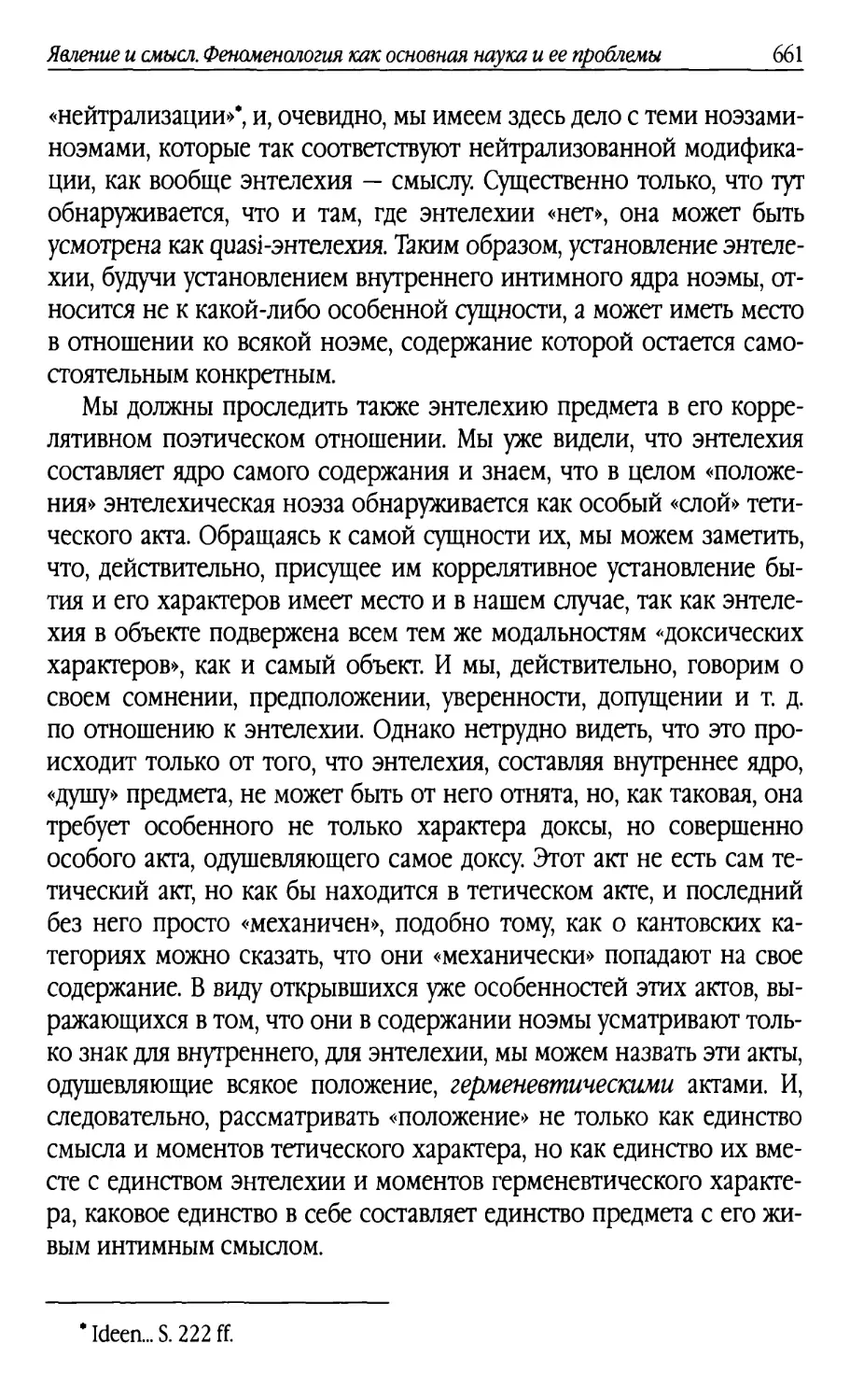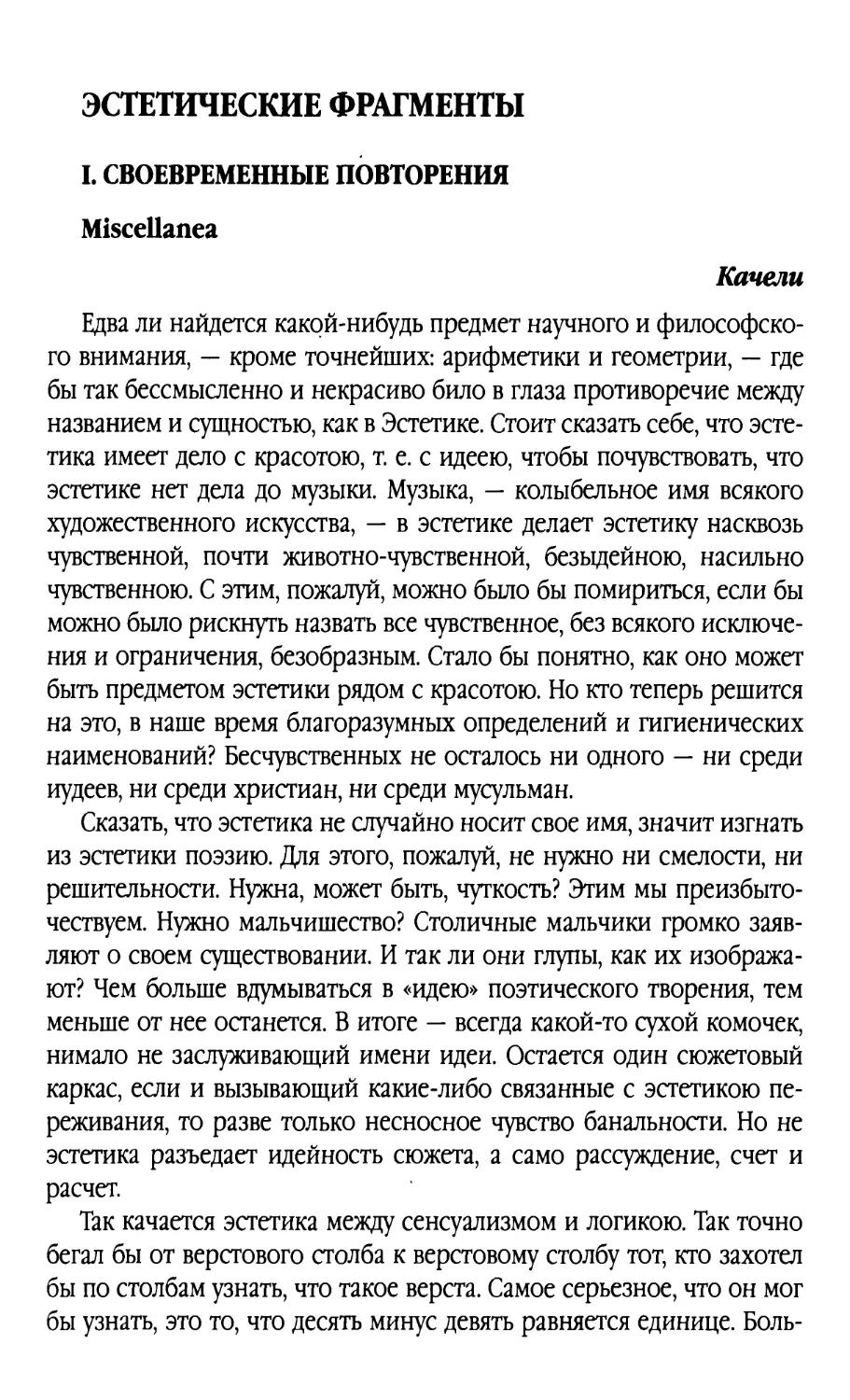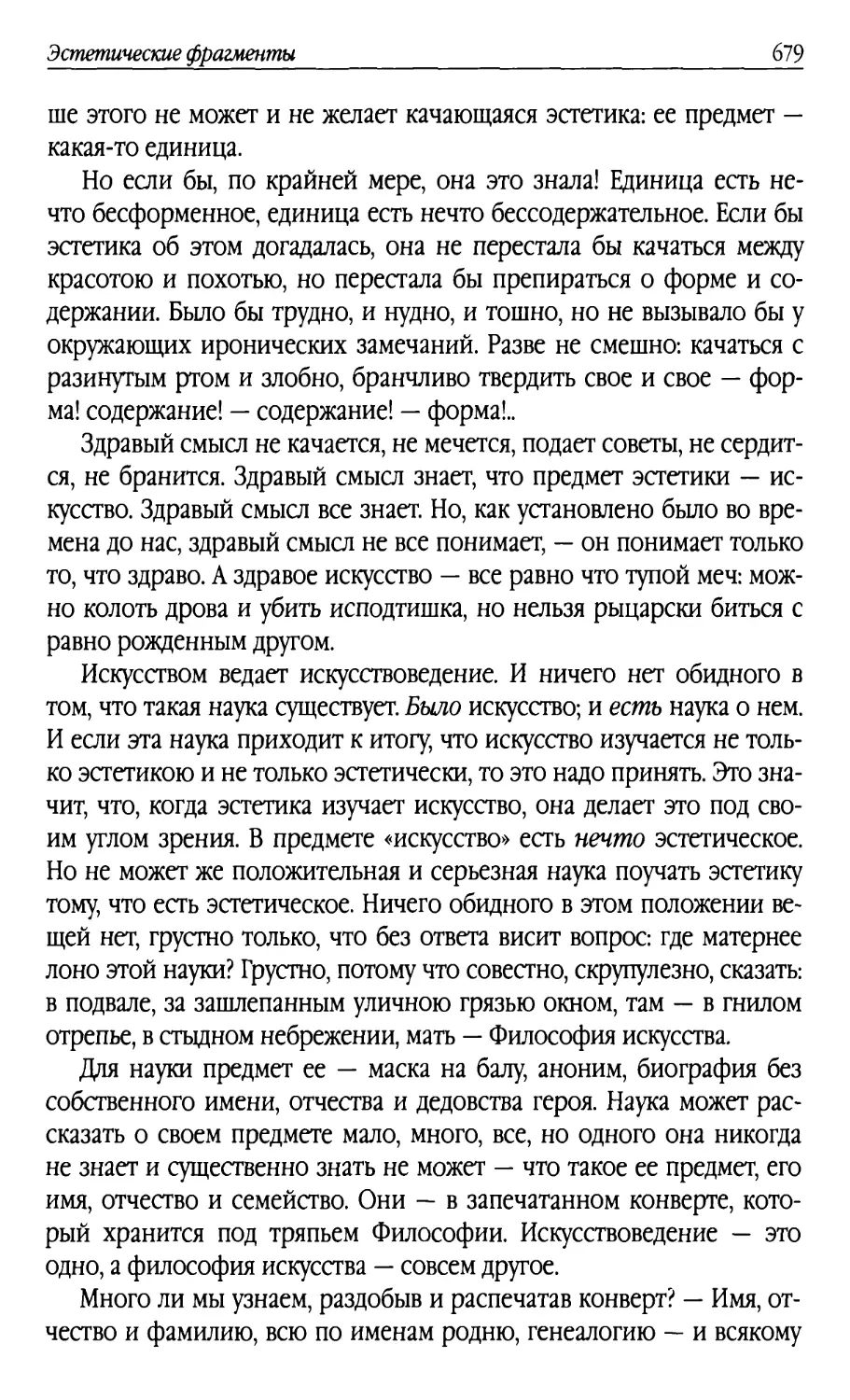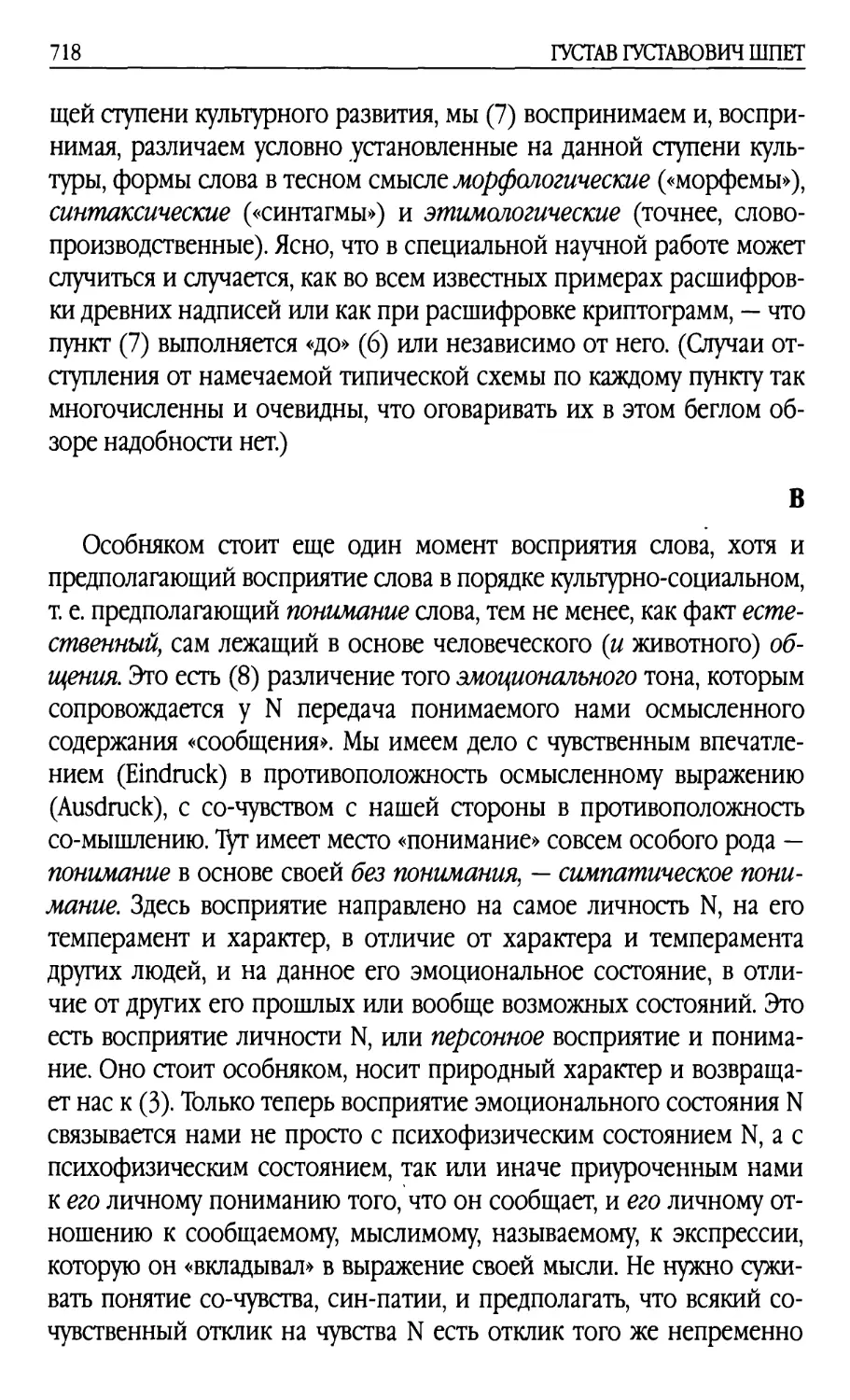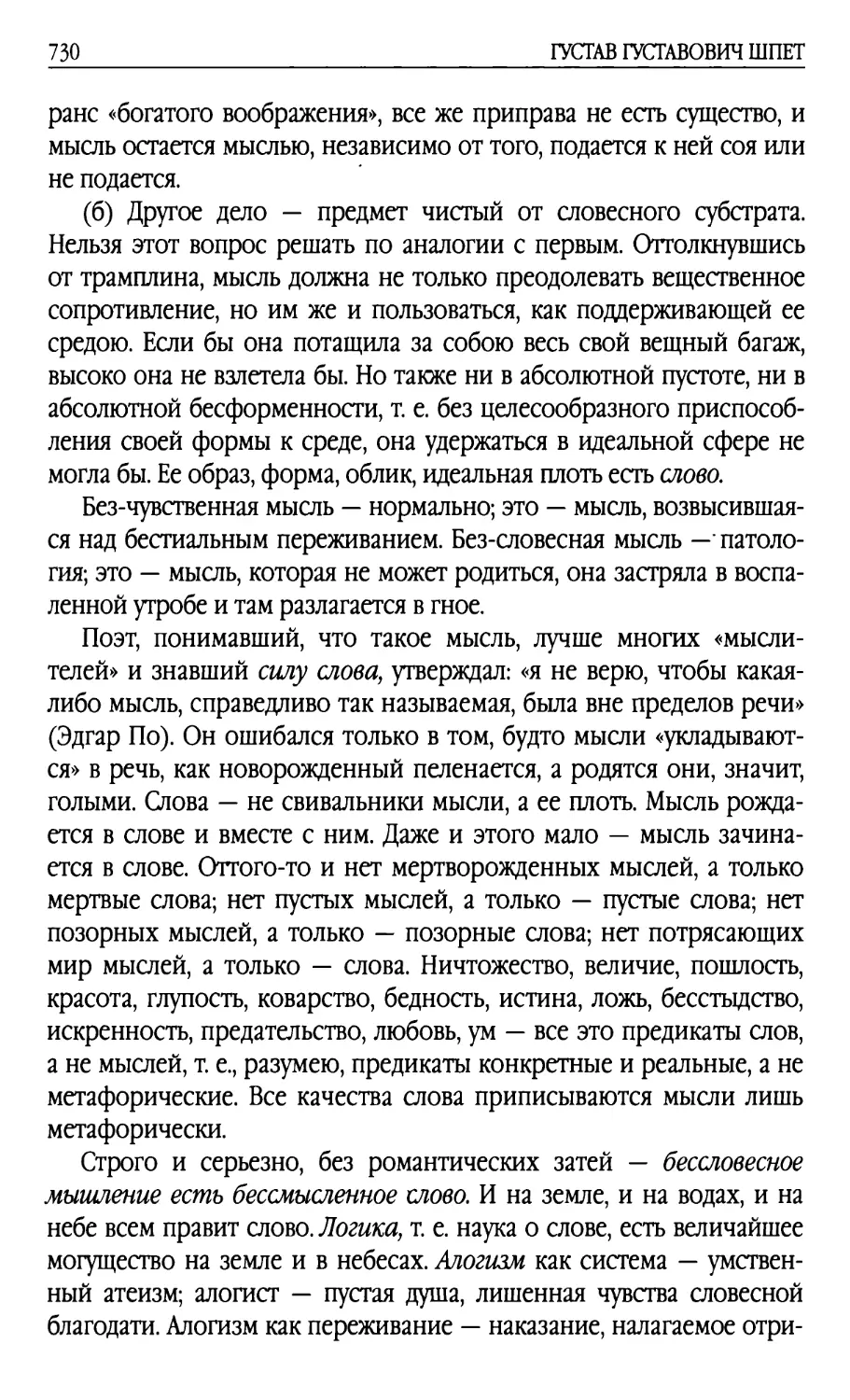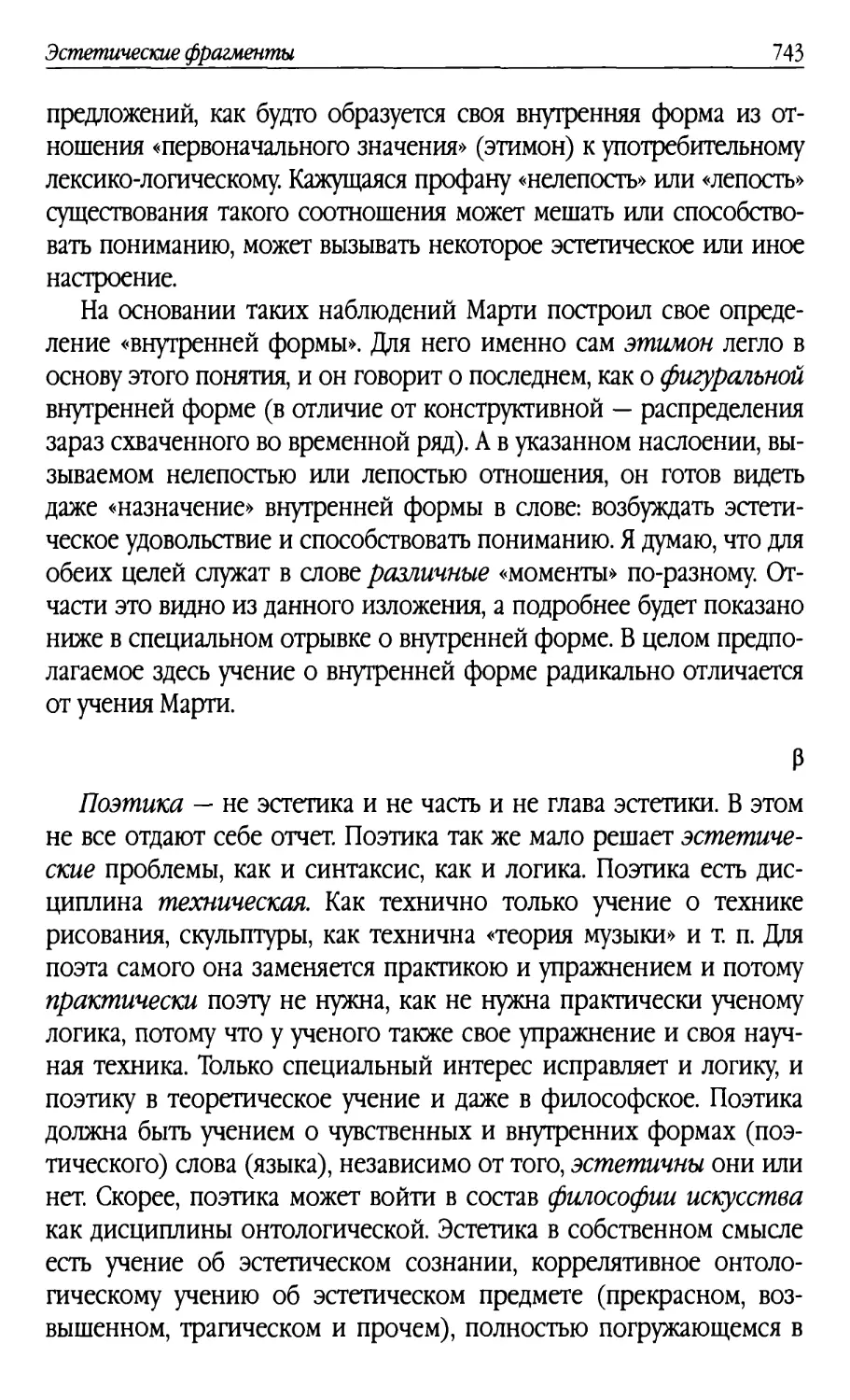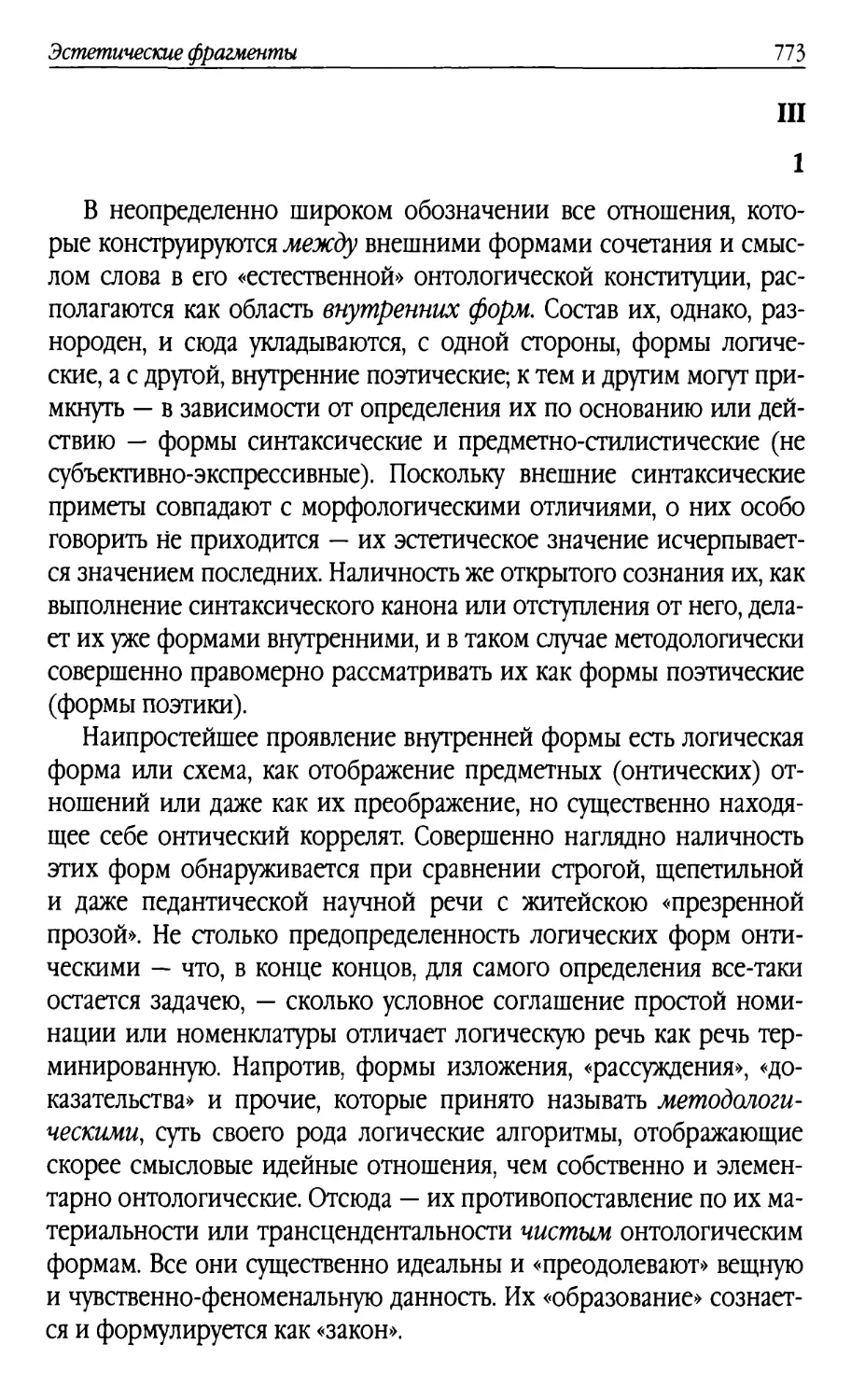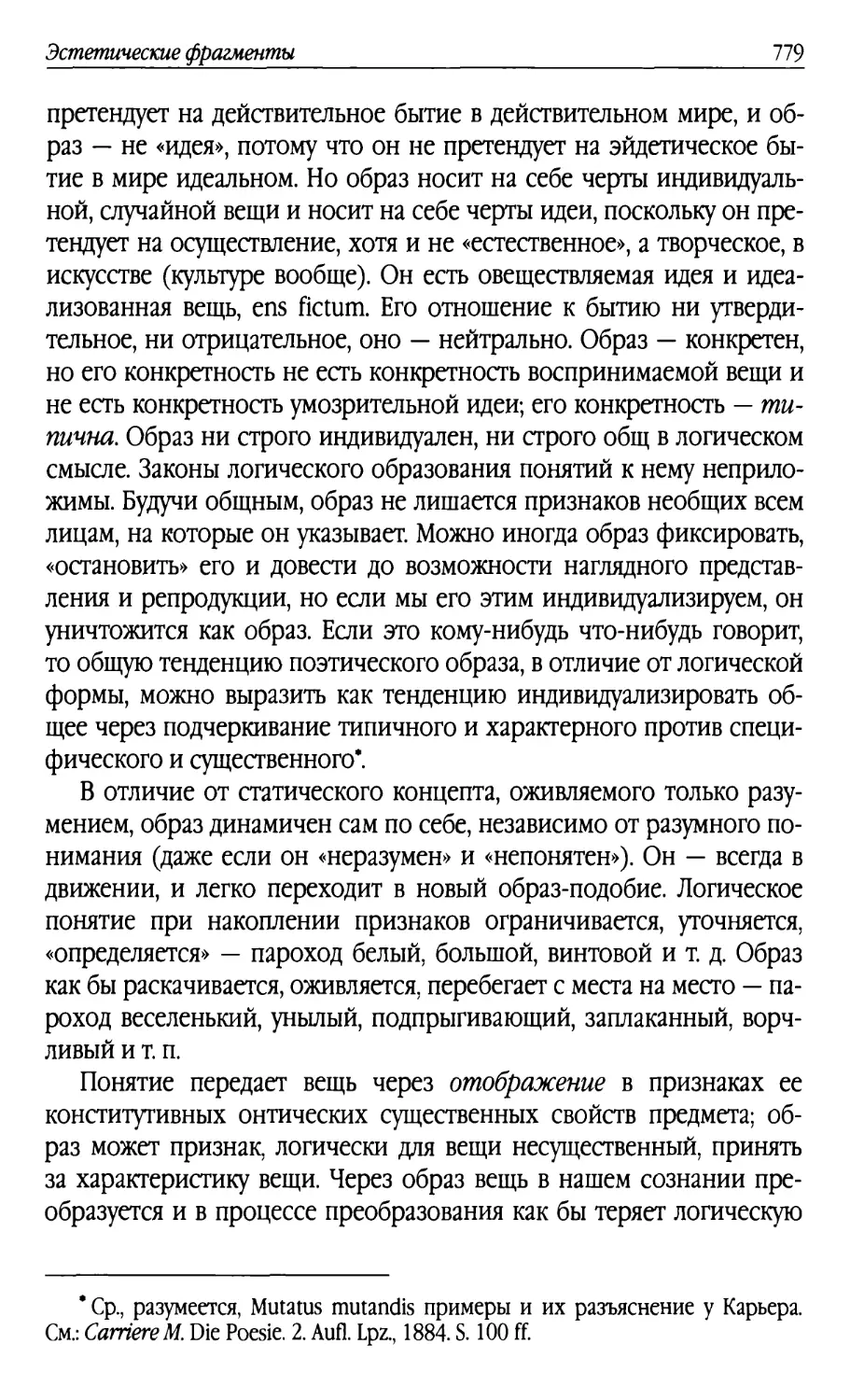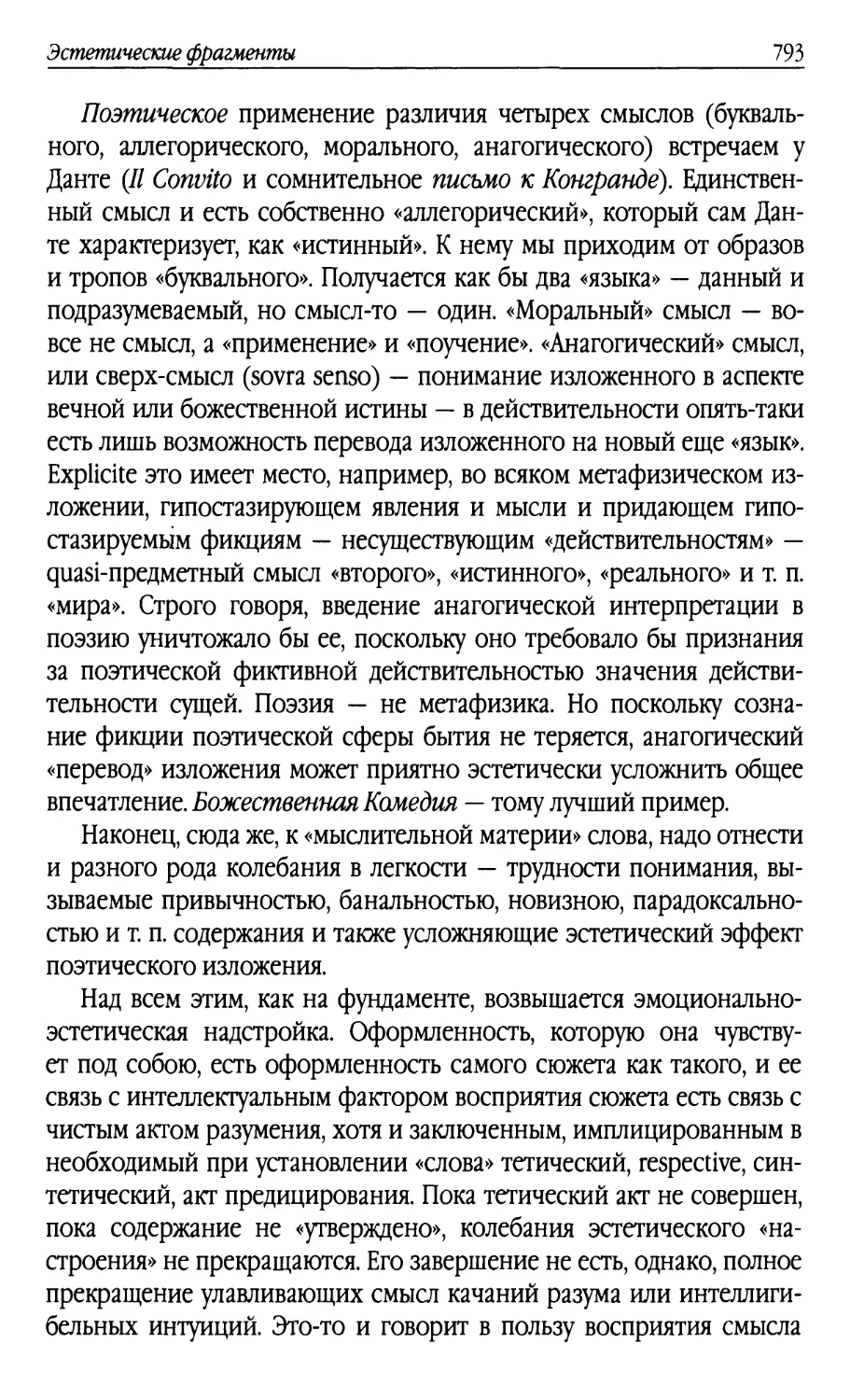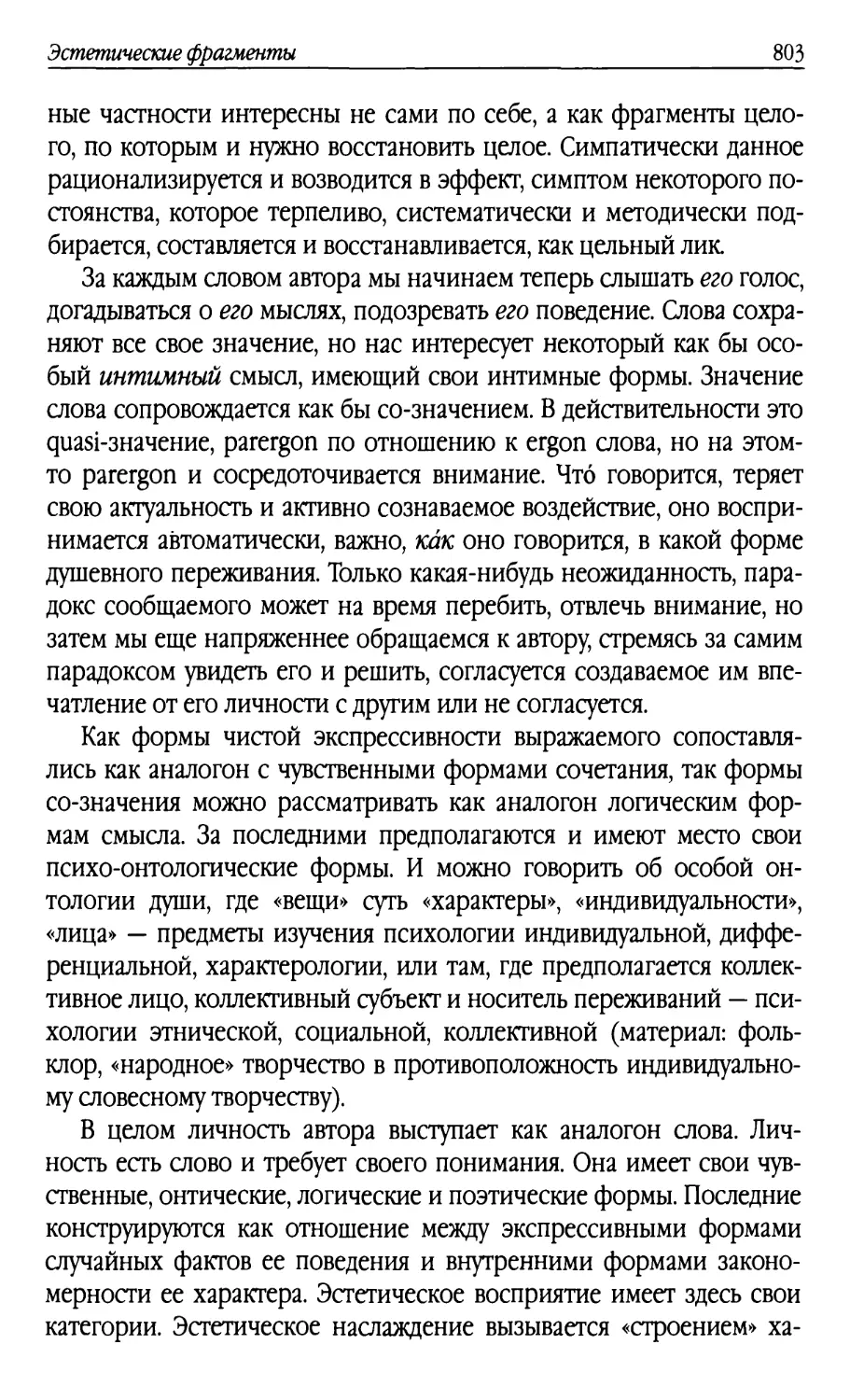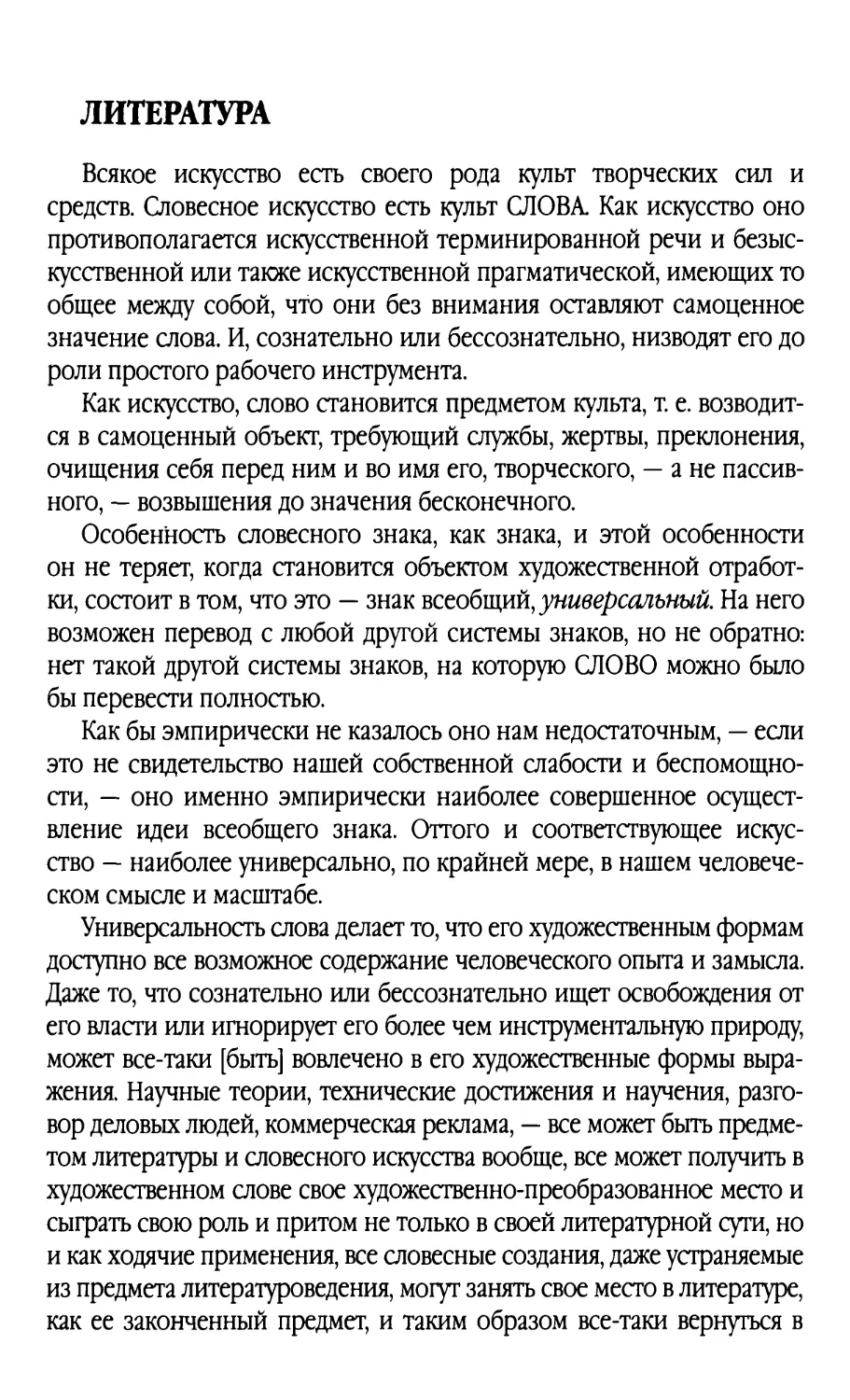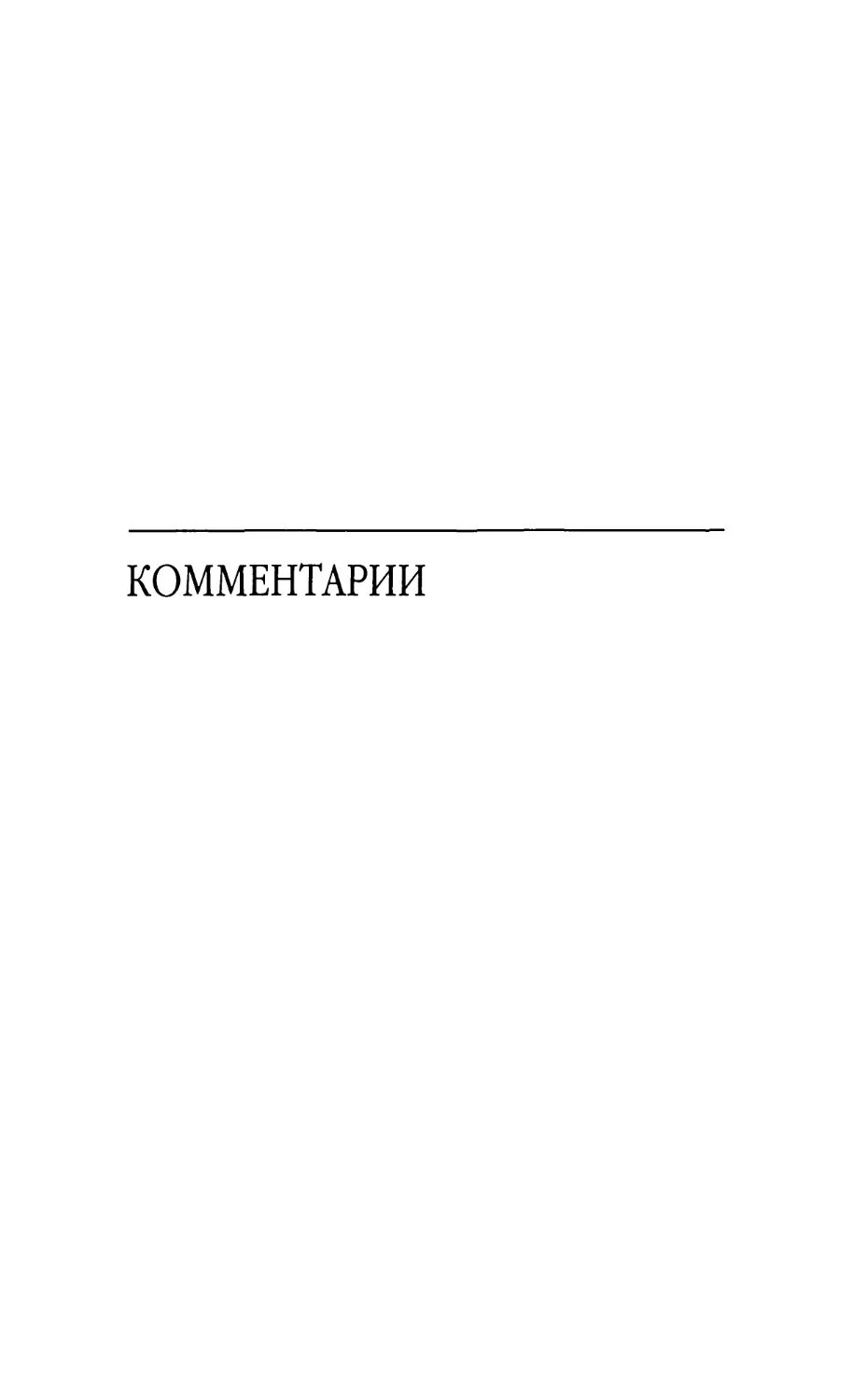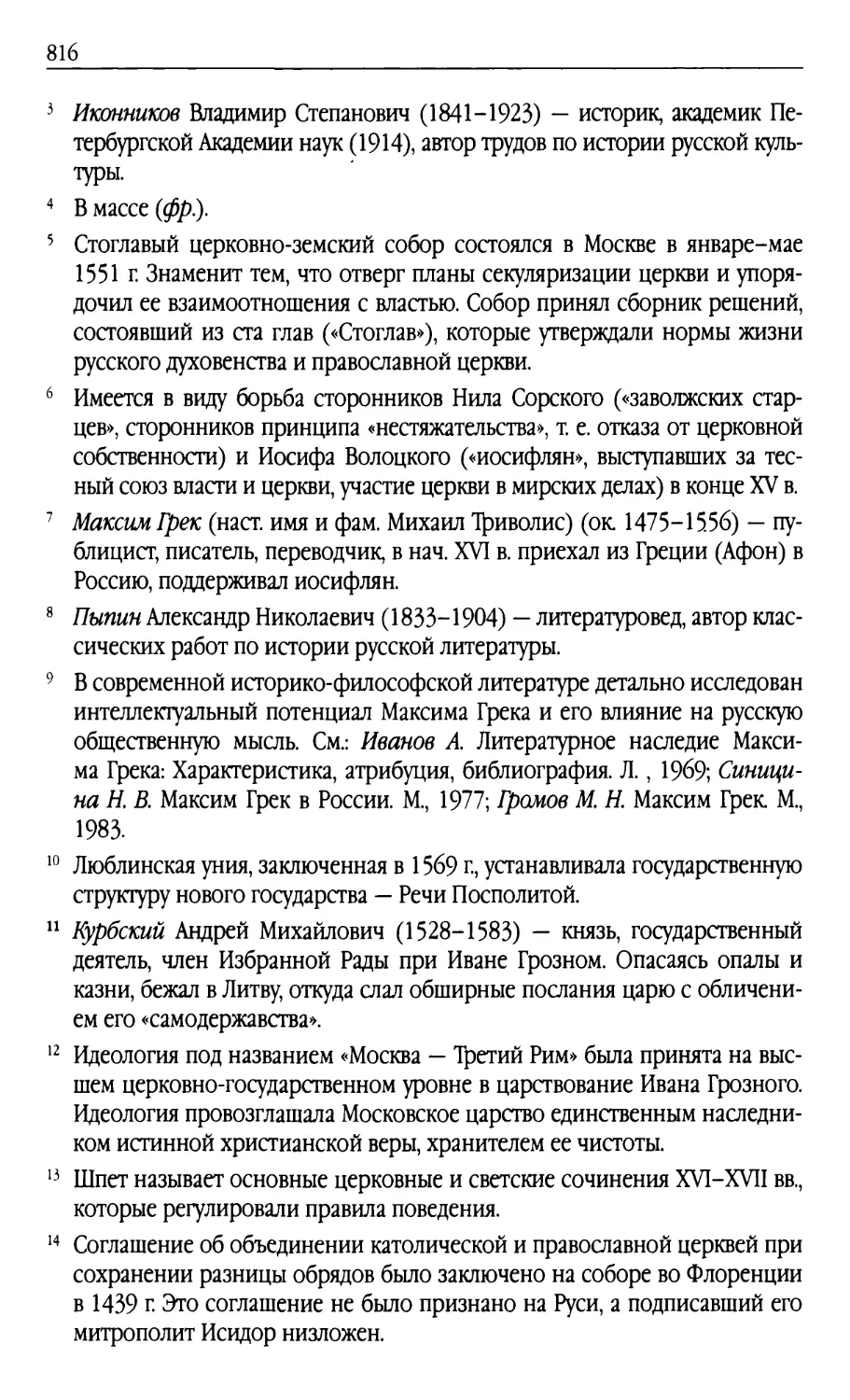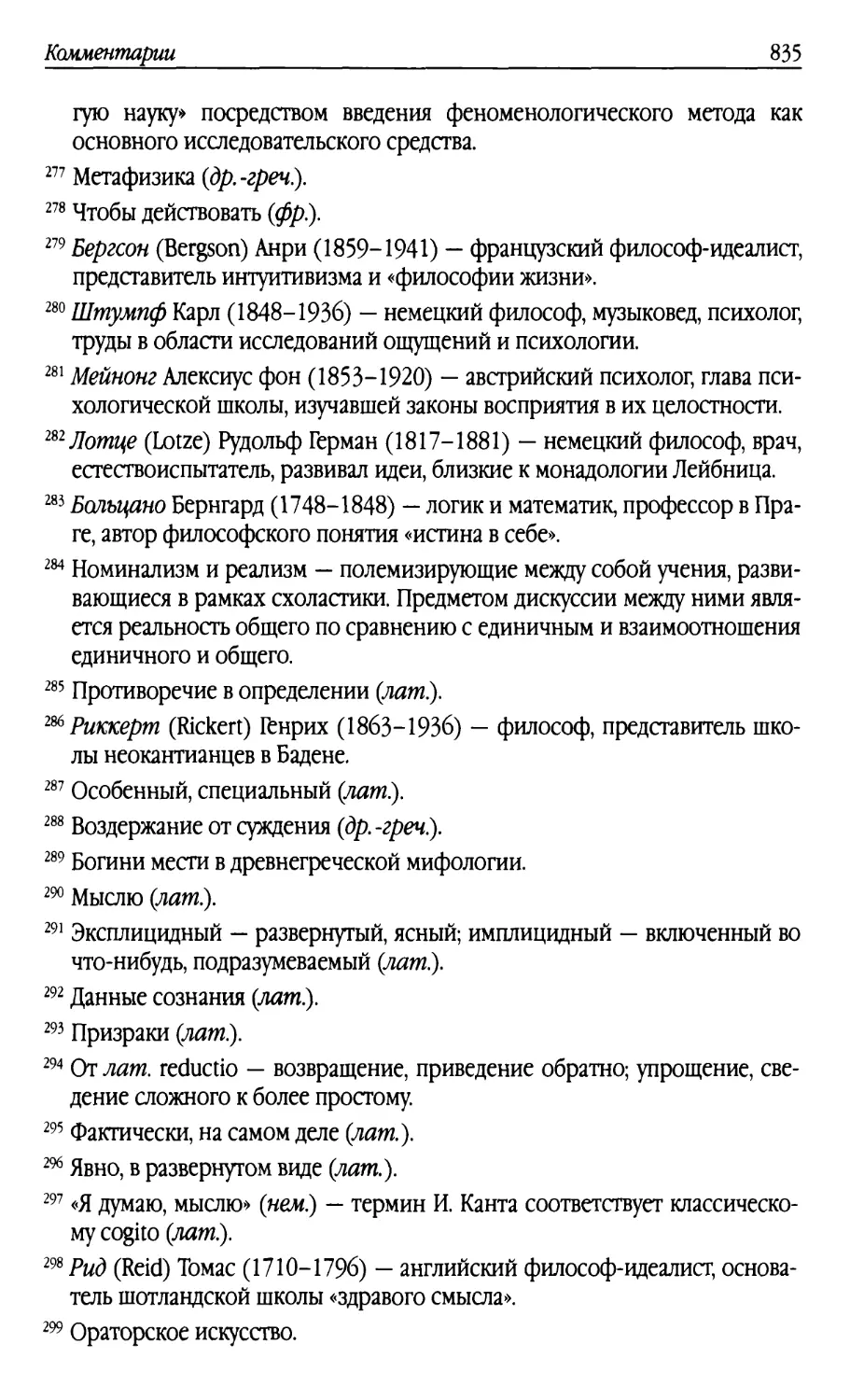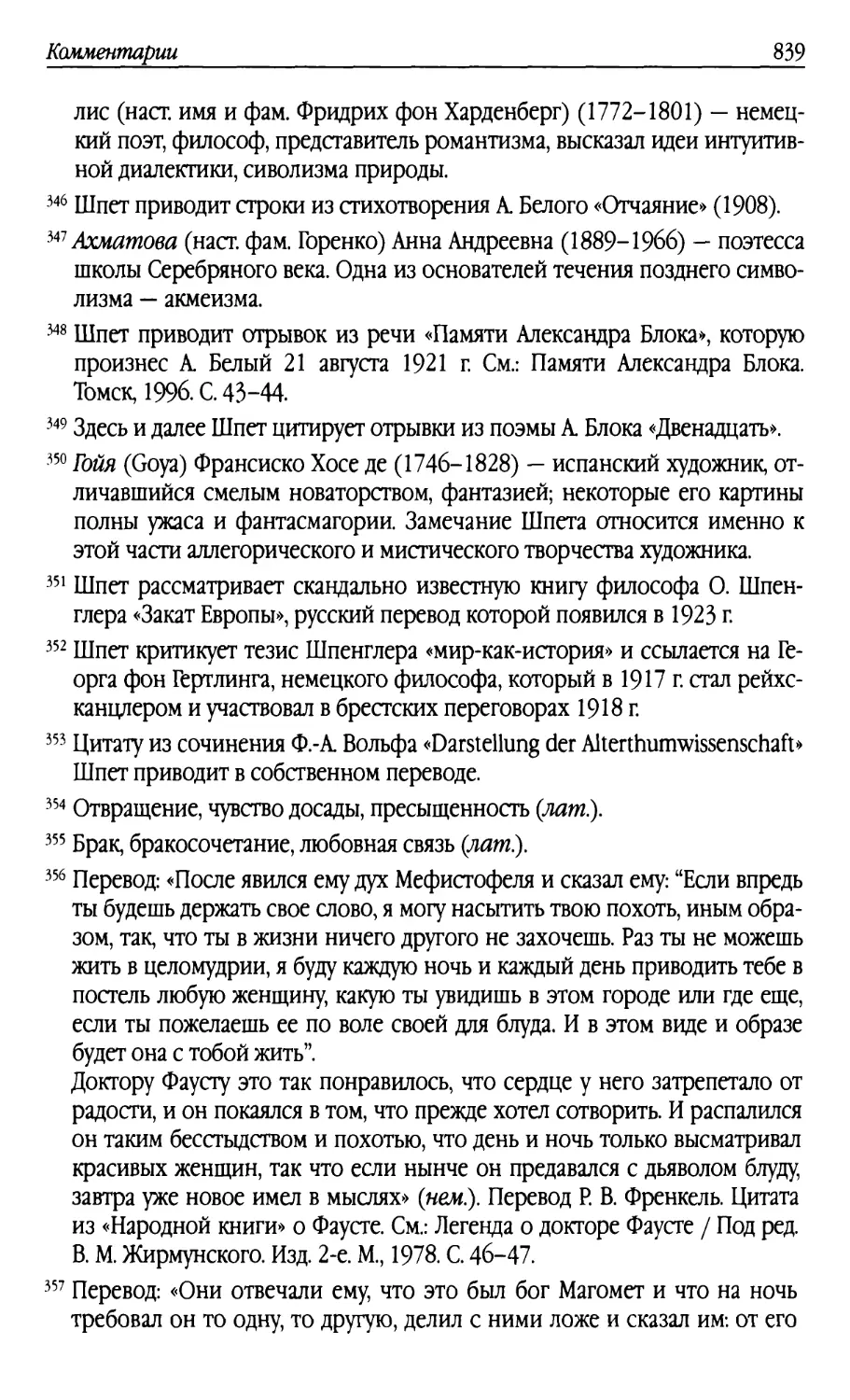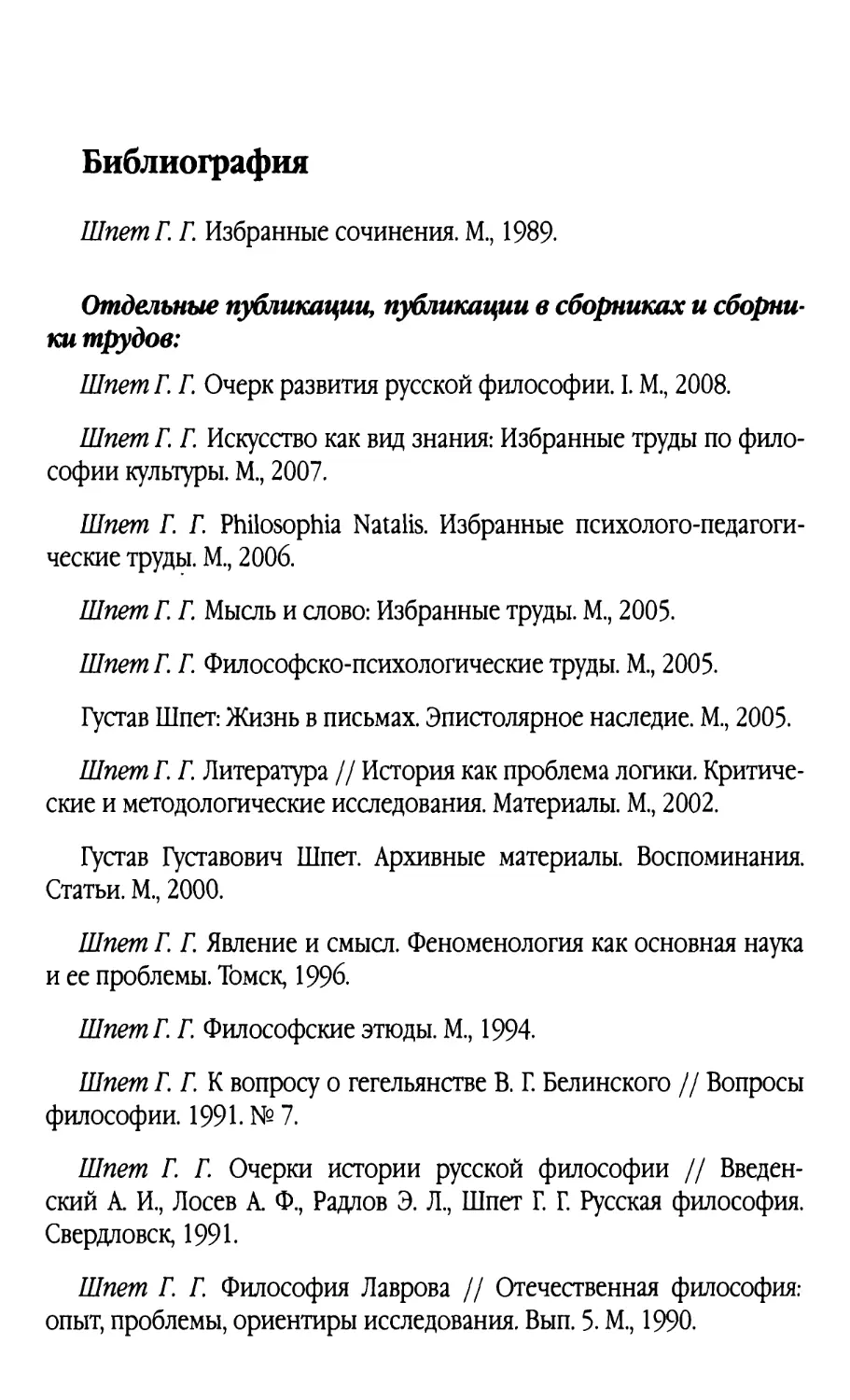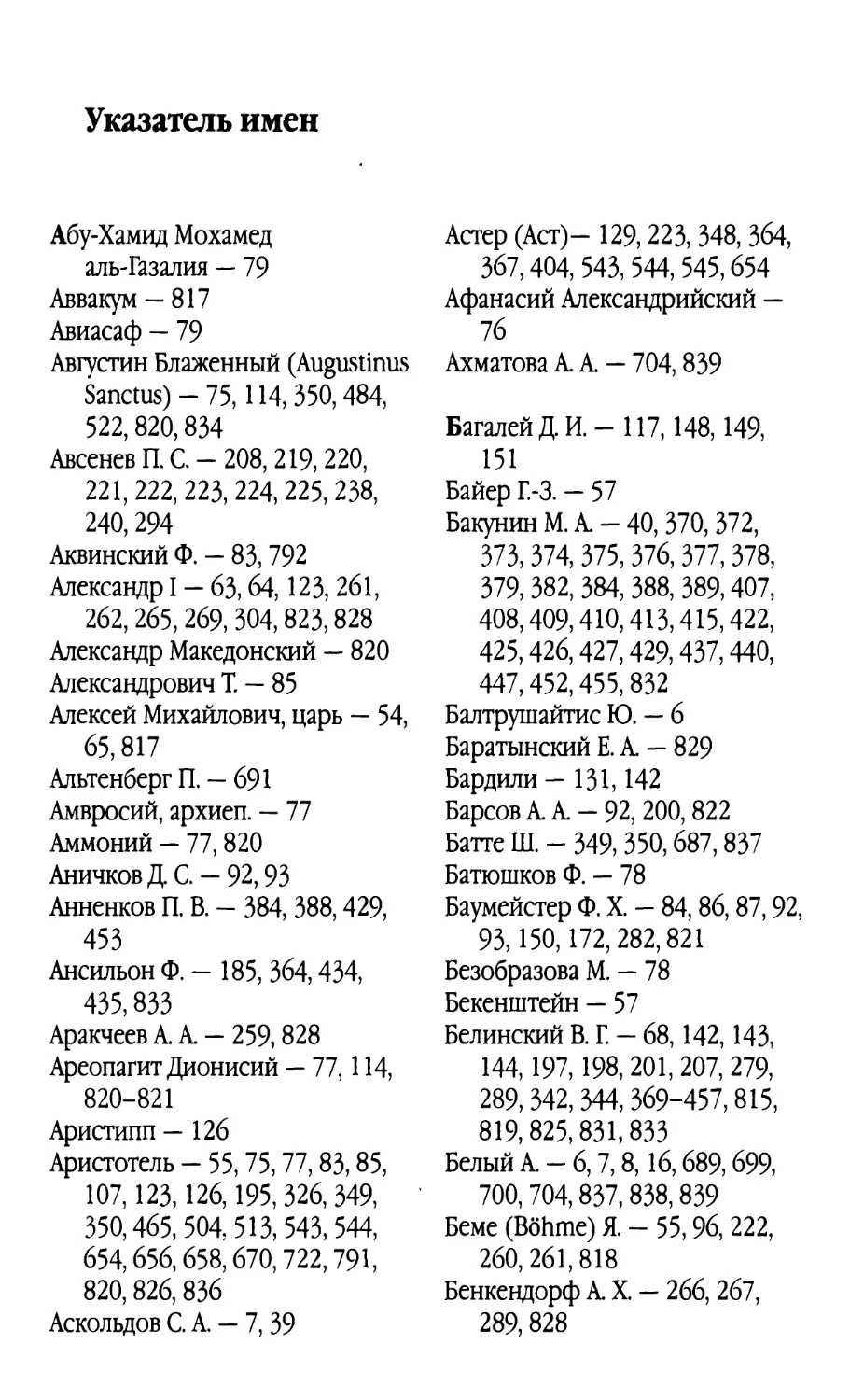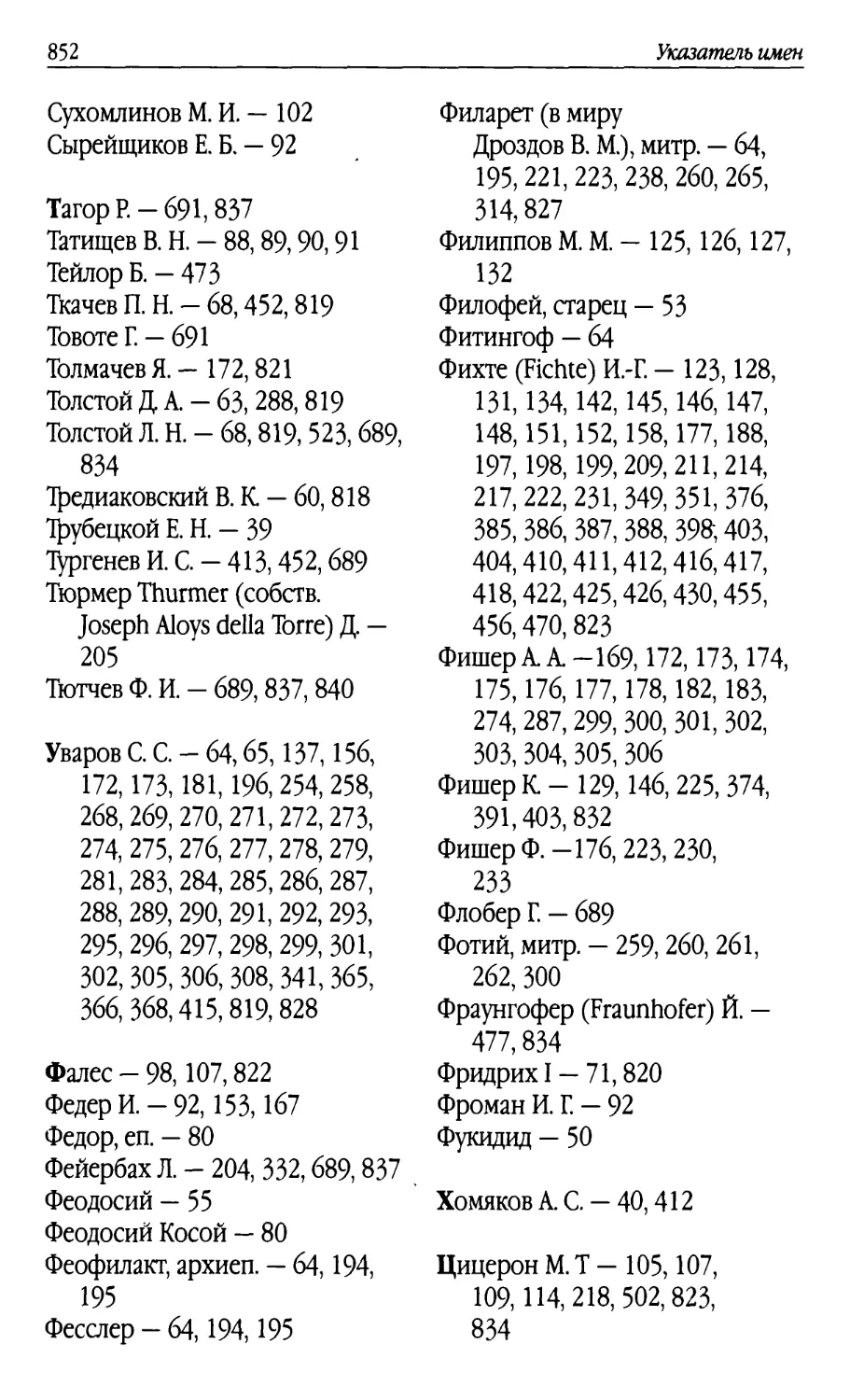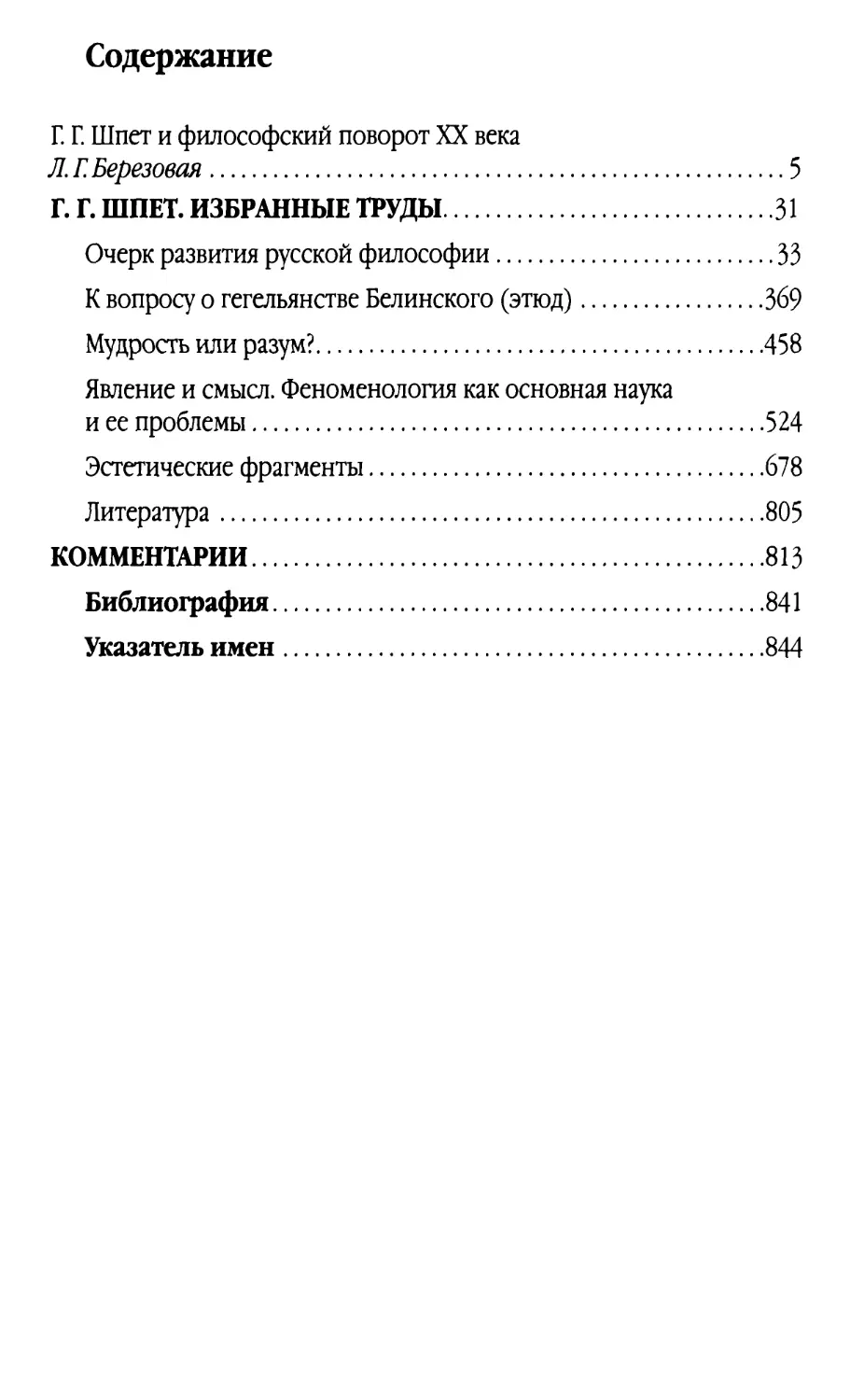Автор: Шпет Г.Г.
Теги: всеобщая история политика политические науки философия история россии
ISBN: 978-5-8243-1145-7
Год: 2010
Похожие
Текст
Очерк развития русской философии
321
екта* и всей природы, как субъект-объекта209. Разъяснению этих
отношений посвящены статьи Павлова в его «Атенее».
Статьи Павлова в «Атенее»: «О взаимном отношении сведений
умозрительных и опытных» (1828. № 1, 2), «Философия
Трансцендентальная и натуральная» (1830. Февр.); «План (форма) науки» (Там
же. Απρ.).
Принимая во внимание приведенное различие, я не могу
согласиться с заключением проф. Сакулина (Ук. соч. С. 122), (1) будто в
статье, помещенной в «Мнемозине», «не делалось различие между
философией и другими науками, — предмет философии есть мысль,
естествознания — природа как субъект-объект и (2) будто в статье
«О взаимном отношении» и пр. признается, что «наука о природе
может быть построена только на опыте, умозрению здесь нет места», —
эта наука «содержанием имеет сведения опытные» («Атеней». С. 12), а
формы она все-таки почерпает из ума, в ней открытия совершаются
«исключительно способом эмпирическим» (С. 13), а теории все-таки
построяются умом. Что касается, в порядке προς ημάς210,
невозможности умозрения без опыта, то это, независимо от рассуждений
Павлова, философский труизм, доказать который, как труизм, можно
через простое reductio ad absurdum211 противоположного
утверждения. Последнее эмпирически означало бы, что мы можем мыслить,
«умозреть», не имея переживаний, т. е. не существуя.
Статьи в «Атенее» показывают способ, каким Павлов выходит из
затруднения, получающегося от того, что трансцендентальная
философия или наука чистого умозрения отождествляется с
самопознанием. Выход по пути наименьшей траты умственных сил известен:
торная дорожка психологизма. У конца ее одни присаживаются в
недоуменном раздумий на тему: как же так, пока не уснут над одним
'Ясное и недвусмысленное разъяснение Шеллинга об «одностороннем»
(=эмпирическом) характере субъекта, как предмета психологии, т. е.
эмпирической пауки о части природы, см. в «Лекциях о методе академических
занятий» (Werke. V. S. 271). Eigentlich müsste von der Psychologie bei der Physik die
Rede sein, so da zwischen Physik und Psychologie kein realer Gegensatz denkbar ist.
Selbst aber wenn man diesen zugeben wollte, würde man doch von der Psychologie
so wenig als etwa von der Physik in derselben Entgegensetzung begreifen, wie die
an die Stelle der Philosophie gesetzt werden könnte. Da die Psychologie die Seele
nicht in der Idee, sondern der Erscheinungn'eise nach und allein in Gegensatz gegen
dasjenige kennt, womit sie in jener eins, so... usf.
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
БИБЛИОТЕКА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
МЫСЛИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XX ВЕКА
Руководитель проекта
А. Б. Усманов
Редакционный совет:
Л. А. Опёнкин, доктор исторических наук, профессор
(председатель);
И. Н. Данилевский, доктор исторических наук, профессор;
A. Б. Каменский, доктор исторических наук, профессор;
Н. И. Канищева, кандидат исторических наук,
лауреат Государственной премии РФ
(ответственный секретарь);
А. Н. МедушевСКИЙ, доктор философских наук, профессор;
Ю. С. Пивоваров, академик РАН;
А. К. Сорокин, кандидат исторических наук,
лауреат Государственной премии РФ
(сопредседатель);
B. В. Шелохаев, доктор исторических наук, профессор,
лауреат Государственной премии РФ
(сопредседатель)
МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
Густав Густавович
Ш П Е Т
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
СОСТАВИТЕЛЬ,
АВТОР ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ
И КОММЕНТАРИЕВ:
Л. Г. Березовая,
доктор исторических наук
МОСКВА
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
(РОССПЭН)
2010
Шпет Г. Г. Избранные труды / Г. Г. Шпет; [сост., автор вступ.
) ст. и коммент. Л. Г. Березовая]. — М. : Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 856 с. - (Библиотека
отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала
XX века).
ISBN 978-5-8243-1145-7
ISBN 978-5-8243-1145-7 © Березовая Л. Г., составление тома,
вступительная статья, комментарии, 2010
© Институт общественной мысли, 2010
© Российская политическая энциклопедия,
2010
Г. Г. Шпет и философский поворот XX века
Интеллектуальная биография
Густав Густавович Шпет — один из «культурных героев» XX в.,
которые создавали философию будущего, во многом
предвосхитили и подготовили современную гуманитарную науку. Одна из
книг об этом человеке называется «Прерванный полет» — его жизнь
и в самом деле похожа на полет: неунывающий, окруженный
друзьями и учениками, полный идей и замыслов, кипучей энергии
человек внезапно оказался ввергнут в безжалостную машину сталинских
репрессий и погиб.
Круг его научных интересов — философия, эстетика,
лингвистика, логика, история, психология, этнология, литературоведение —
заставляет говорить об интеллектуальном энциклопедизме, трудно
достижимом уже в XIX в., который разделил науки на отрасли знания.
Фактически Шпет предугадал тенденцию гуманитарной интеграции,
которая властно заявила о себе в наши дни. Все его работы
написаны словно на грани разных гуманитарных сфер и художественного
творчества. Не только философия — все пространство гуманитари-
стики, все множество наук о человеке и духе входили в круг его
интересов, размышлений и открытий.
Перечисление его интеллектуальных регалий — философ, один
из основателей феноменологии, герменевтики, создателей
философии языка, сотрудник многих философских изданий единственной
в мире Академии художественных наук — способно вызвать
недоумение: как мог этот человек сделать так много за неполные 58 лет?
И если учесть, что почти 20 последних лет жизни ему было
запрещено писать и печататься, то сколько же он сделать не успел! Век
философа оказался соразмерен такому же короткому поэтическому
веку его любимого поэта — Пушкина.
* * *
Густав Густавович Шпет родился в Киеве 7 апреля 1879 г. в
интеллигентной семье обедневшего дворянина. Домашнее воспитание и
классическая гимназия заложили основы образования. В 1898 г. он
6
Л. Г. Березовая
поступил на физико-математическое отделение Киевского
университета св. Владимира. При этом он разделял увлечение новейшей
философией, эстетическими новациями, свойственное студенчеству
начала XX в. — Серебряного века русской культуры. После
исключения и высылки из Киева за участие в студенческих волнениях, он
вновь поступил теперь уже на историко-филологическое отделение
Киевского университета, что с самого начала определило
энциклопедизм его образования. Здесь он близко сошелся с профессором
Г. И. Челпановым, сохранив с ним дружеские и профессиональные
отношения на всю жизнь. После окончания университета Шпет
уезжает в Москву, где пробует начать карьеру университетского
профессора. Его лекции звучали в стенах Московского университета и
Народного университета им. А. Л. Шанявского, на Высших женских
курсах, в Педагогическом институте. Но философия открывалась
перед ним не только как способ заработка и карьеры, но и как
беспредельное пространство мысли. Вместе с Челпановым он участвовал в
создании Психологического института, при его поддержке начинает
собственные научные изыскания.
Летом 1910 г. Шпет отправился в Германию для обучения в
немецких университетах, как делали тогда многие из его поколения
интеллигенции. В течение трех лет он слушал курсы в Геттинген-
ском университете, в т. ч. курс Э. Гуссерля, основателя
феноменологии. Лекции Гуссерля о феноменологии стали поворотным
моментом в интеллектуальном созревании Шпета, сформировав стержень
его философских воззрений. Лето 1913 г. Шпет провел в
библиотеках Лондона и Эдинбурга, готовя свою диссертацию и собирая
материал для будущих философских работ. К началу Первой мировой
войны он вынужден был вернуться в Россию.
По возвращении из Германии Шпет стремительно вошел в
московский круг интеллектуалов и художников. В числе его друзей
музыкальный реформатор Э. Метнер, поэт-символист А. Белый,
основатель нового театра К. С. Станиславский, поэт и издатель
Ю. Балтрушайтис. Он постоянный посетитель художественных
выставок, театральных премьер и философских дискуссий,
наполнявших жизнь Москвы в предреволюционные годы. Им было о чем
говорить и спорить — молодому поколению русских философов и
основателям символизма как нового художественного
мировоззрения. А. Белый, сохранивший дружбу со Шпетом на всю жизнь, вспо-
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
7
минал о нем как о неистощимом на выдумки, веселом и энергичном
человеке, отчаянном полемисте. Шпет хранил память о
«московском лете 1915 года», которое он провел вместе с Л. И. Шестовым и
Вяч. И. Ивановым в посещениях поэтических вечеров. Тогда на них
«правили бал» футуристы — «провозвестники будущего». Таким
образом, Шпет проникся модернистской культурой Серебряного века,
и сформировавшийся тип его мыслительной деятельности оказался
полностью в русле новаторских и энциклопедических течений
начала XX в.
Взлет его философских размышлений, апогей творчества
пришлись на самые неблагоприятные для науки годы: 1916-1922.
Зрелость и полнота его мысли в этот период выразились в настоящем
фейерверке новаторских философских работ, далеко не все из
которых увидели свет. Его диссертация «История как проблема логики»
(1916) была издана накануне революции в виде книги. Но работа
«Герменевтика и ее проблемы», обозначившая настоящую
философскую революцию, в 1918 г. не могла стать известной
интеллектуальной общественности, поскольку Россия оказалась ввергнута в
пятилетие революций и войн. А основополагающая работа Шпета
«Герменевтика и ее проблемы» впервые была опубликована только в
1989-1992 гг., а с библиографической и историографической
расшифровкой рукописного варианта — только в 2005 г.
Однако Шпет в революционные 1917-1918 гг. еще не мог знать
ни своей судьбы, ни судьбы своих рукописей. С его неуемным
характером революция воспринималась как взрывное расширение
возможностей для работы. Действительно, в самые трудные и
мятежные годы России он развивает бурную деятельность. В 1918 г. —
становится профессором Московского университета, оставаясь там
все годы жесточайшей перестройки высшего образования — до
1928 г. Тогда же он начал выпуск философского ежегодника «Мысль
и слово» (вышло 2 выпуска). В его интеллектуальном пространстве
появляются известные философы: Н. О. Лосский, М. О. Гершензон,
С. А. Аскольдов, И. И. Лапшин, Н. А. Бердяев. В 1919 г. Шпет — в
числе создателей Вольной философской ассоциации творческой и
вузовской интеллигенции. Совместно со своим учителем Челпановым
он учреждает кабинет этнической психологии в Московском
психологическом институте. В 1920 г. Шпет, «в душе артист», по словам
своего друга А. Белого, вошел в художественный совет МХАТ Верная
8
Л. Г. Березовая
дружба связывала его с реформаторами театра К С. Станиславским,
О. Э. Мейерхольдом, А. Я. Таировым.
В 1918 г. в растерзанной революцией Москве создается
лингвистический кружок молодых поклонников феноменологии, которые
начинают масштабное изучение интерпретации языка. Знаменитый
лингвистический кружок в Москве достигает пика своей
деятельности в 1919-1920 гг. Он объединил лучшие силы в области
филологии, лингвистики, философии и стал провозвестником знаменитого
«лингвистического поворота» в гуманитарных науках в XX в.
Почему он оказался в числе тех, кто, не разделяя многих
установок новой власти, не покинул страну, как немалое число его друзей
и единомышленников? Почему оставались и пытались осмыслить,
понять коммунизм другие его современники: Н. А. Бердяев, С. Н.
Булгаков, Ф. А. Степун, А. Белый, А. А. Блок, Г. П. Федотов?.. Шпет мало
интересовался политикой, еще меньше — политической
деятельностью. Но свою философскую деятельность он понимал как
действительную «философию жизни», участие в общественном движении,
интеллектуальном процессе. Идеал философской «башни из
слоновой кости» был бесконечно чужд для него. Философию он понимал
как «дело общественное», но философия не помогла ему предвидеть,
каким оно будет, это «новое общество». В одном из писем 1912 г.,
адресованных своей невесте Н. К. Гучковой, он писал: «Ты
представляешь себе "отлично", что я могу "усовершенствоваться и
углубляться" без философии, без моей книги, без чтения других книг... Я этого
абсолютно не представляю... Я даже не хочу и пытаться представить
себе что-либо подобное!.. Что для меня философия я тебе
неоднократно говорил и не буду этого повторять... История не есть история
личного совершенствования, а есть история роста духа народного, в
конечном счете, духа человечества... И кто хочет, чтобы и его капля
труда нашла свое место в этой общей сокровищнице, должен иметь
общение с этими великими прошлого — и это есть чтение книг, их
изучение, а я хочу еще и свою каплю добавить...»1
Вряд ли слова 33-летнего человека можно целиком отнести на
счет юношеского максимализма. Его взгляды мало изменились и
пять лет спустя, когда надо .было делать выбор: работать, действо-
1 Цит. по: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...»: Очерки
интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 246.
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
9
вать в новых условиях революции или уйти в эмиграцию, внешнюю
ли, внутреннюю ли. В любом случае, дело было не в «розовых
очках». В 1917 г. он писал жене: «Социалисты будут, конечно, кричать
о своей победе и победах революции, но история пойдет по-своему:
куда — сейчас никто не видит»2. А в его дневнике за 1920 г. есть
такая запись: «Настоящ<ий> момент есть момент велич<айшей>
опасности для духа. Ком<мунизм> обнаружил себя со стороны, которую
до сих пор — как и много другого в себе — тщательно скрывал. Ему
нужна тол<ько> техника, медицина и госуд<арственные>
чиновники, ему не нужна наука, дух, мысль. То, чем пугали в ком<мунизме>,
и чему мы не верили, оказалось действит<ельностью>...»3 Но сдаться
на милость обстоятельств, опустить руки было не в его обычае.
Оказавшись в центре революционного урагана, он своей
жизнью опровергал обывательское представление об «отшельничестве»
философов. Шпет, напротив, был полон грандиозных планов,
разворачивает активную деятельность по преобразованию науки. С 1920 г.
он вошел в состав только что образованной Российской академии
художественных наук (РАХН, с 1927 г. - ГАХН). В 1921-1923 гг.
возглавлял Институт научной философии в составе Ассоциации
научно-исследовательских институтов (АНИИ) при факультете
общественных наук (ФОН) Московского университета, а позже стал
вице-президентом ГАХН. Совместно с Челпановым налаживает
работу по психоанализу. Его Институт научной философии
превратился в настоящий «Ноев ковчег» для старой интеллигенции,
согласной сотрудничать с советской властью (В. В. Виноградов, И. А Ильин,
С. Л. Франк). Здесь же состоялся философский дебют нового
поколения гуманитариев: Л. И. Аксельрод, В. Ф. Асмус, А А Богданов,
А М. Деборин, Н. И. Кареев, И. К. Луппол). Ситуация до конца
1920-х гг. еще благоприятствовала всякого рода новациям и
экспериментам. Это было время безудержного творчества шпетовского
поколения русской интеллигенции, которая восприняла
радикальную перестройку научного знания, культуры и образования как
вызов и шанс, зовущий их к максимальной отдаче. Но этот шанс
последнего поколения Серебряного века оказался мифическим.
2 Там же. С. 247.
3 Там же. С. 248.
10
Л. Г. Березовая
А пока Шпета увлекает идея «поставить на службу обществу»
гуманитарные науки, которая питала дерзостный план
«гуманитарного обеспечения» строительства социализма в СССР. Казалось, что
достаточно сделать «точными» и «научными» такие тонкие сферы,
как поэзия, художественное творчество, мысль — и гуманитаристи-
ка превратится в такой же неотъемлемый и необходимый «столп»
общества, как материальное производство.
Проникнутый идеей преобразования философии, Шпет в 1921 г.
возглавил созданный в составе РАХН Институт научной
философии. В данном случае ключевым в названии института было именно
слово «научный». Шпета по-настоящему волновали критерии
«научности», которым должна была соответствовать новая философия.
Является ли философия наукой? Почему ее считают «абстрактной»
и «оторванной от жизни», «непонятной»? Почему действительно
абстрактную математику считают «полезной» и нужной, а «науку о
бытии», о «действительной жизни» — нет? Блестящее образование, в
том числе и математическое, подлинная «включенность» в богатство
европейской мысли позволяли ему разворачивать масштабные
исследования, формировать философскую мысль XX в.
Поиск ответов на злободневные вопросы современности привел
Шпета к обстоятельному изучению всей истории философии. При
этом история появления и становления интеллектуального
творчества в такой «нефилософской» стране, как Россия, оказалась
настоящим открытием, поскольку наглядно моделировала алгоритмы
решения насущных вопросов философии. Шпет задумал огромную
работу — полную историю европейской философской мысли.
Первая ее часть — «Очерк развития русской философии» — появилась
в 1922 г. Эта книга уникальна и злободневна до нынешнего
времени, а ее автор не может не поражать современного читателя своим
интеллектуальным потенциалом. Нам предстает принципиально
иной тип образованности и уже невозможная в наш век
информативной перенасыщенности широта системного мышления. Обилие
информации уже давно затеняет ее анализ, собственно
человеческую мысль. «Очерк» Шпета — продукт другой интеллектуальности.
Знание 17 (!) языков, свободное владение всеми философскими
системами своего времени, энциклопедизм, свойственный культуре
Серебряного века, позволяли Шпету легко переходить от автора к
автору, от страны к стране, обозревать многовековые интеллектуаль-
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
11
ные процессы от философов Древней Греции до новейших течений
мысли. Фактически Шпет принадлежал к числу последних «детей
Серебряного века» с его «культурным и религиозным Ренессансом»,
по определению H. А. Бердяева. И тот взлет творчества и мысли,
которыми были отмечены грозные 1920-е гг., стали «лебединой
песней» этого удивительного времени в истории России. При
написании своих «Очерков» Шпет исходил из всего культурного наследия.
В предисловии он указывал, что истоком его книги были далеко не
только философы и их труды. «Не меньше, а подчас и еще больше
я обязан историкам нашей литературы, в особенности авторам
таких исследований, как исследования Я. К. Козмина (о Надеждине),
П. Н. Сакулина (о кн. Одоевском), М. О. Гершензона (о Чаадаеве),
А. А. Корнилова (о Бакунине) и др.»4
Выбор был точным: в России не существовало собственной
философской традиции, а возникшая общественная мысль своей
колыбелью имела литературу и историю — именно эти отрасли
гуманитарного знания получили наибольшее развитие в первой половине
XIX в., когда рождалась русская интеллигенция.
Вышедший первый том «Очерка развития русской философии»
стал и первым масштабным итогом философских размышлений
Шпета, которые определили его собственное место в пространстве
философического знания. Второй том, однако, остался в
рукописи (хранится в Отделе рукописей РГБ). Но художественная натура
Шпета не могла ограничиться академической историей
философией, с равной обстоятельностью переходящей от «школы» к «школе».
Своего рода «венком философских сонетов» стал цикл его очерков
о наиболее любимых и интересовавших его мыслителях России:
П. Д. Юркевиче, П. Л. Лаврове, А. И. Герцене. В них была выдвинута
оригинальная гипотеза «культурного сиротства» русской
философии, отсутствия у нее естественных интеллектуальных истоков.
Изучая историю русской философской мысли, Шпет находил
своих «исторических собеседников», которые, как и он, читали
Платона, толковали Гегеля, Канта. Он спорит и разговаривает с ними,
как со своими современниками. Исторические «собеседники»
помогают ему выявить стержневую проблему формирования русского
4 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г Г Философско-
психологические труды. М., 2005. С. 77.
12
Л. Г. Березовая
интеллектуализма: способы освоения европейской мысли в попытке
адаптировать ее к отечественной «злободневности». Так начинался
«большой философский разговор» в культуре XX в.
Главной проблемой, вокруг которой Шпет построил свою
историю философии в России, был казалось бы «наивный» вопрос о
«пользе» философии как науки. Позитивистский XIX век с его
царствованием естественных и «точных» наук, принимая западную
философию при отсутствии собственной философской традиции,
неустанно искал «пользу» и позитивный смысл в занятиях
философией. Стремление непременно вписать философию в общую схему
разделения наук по областям знания затенял понимание
собственного предмета философии. История вопроса о «пользр» философии
позволила Шпету с редкой проницательностью и точностью
обрисовать суть философского знания вообще и специфику его
интерпретации в России.
Предмет философии — реальное бытие во всей его цельности в
человеке. Исторический подход автора высветил предельную
«конкретность», «жизненность» философского знания, а самого Шпета
поставил в один ряд, плечом к плечу с европейскими мыслителями
первой половины XX в. Складывающаяся в Европе «философия
жизни» (Дильтей) оказалась соразмерной и адекватной тому уровню
русской философии, которую представлял Шпет. На его имени было
окончательно преодолено «обезьянничанье» русского
интеллектуализма, псевдофилософичность мнений и рассуждений о «пользе» и
фактически завершен философский ренессанс конца XIX —
начала XX в. Связь с культурным ренессансом очевидна — в 1922-1923 гг.
появляются его «Эстетические фрагменты», которые заложили
основы эстетики XX в.
Однако трудно было найти более неподходящее время для
поисков философских истин в России. Поневоле деятельность Шпета
смещается с собственно научных исследований в область
практической деятельности в ГАХН. Как вице-президент ГАХН и
фактически научный руководитель Академии, он занимается множеством
организационных и представительских проблем. В этот период
окончательно оформляется его учение о языке. Через пять лет
после «Эстетических фрагментов» (в 1927 г.) вышла последняя большая
его книга — «Внутренняя форма слова», одна из классических работ
в области герменевтики. Эстетические и философские идеи Шпета
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
13
привлекли к нему талантливую гуманитарную молодежь; сложилась
научная школа. Семиотические подходы, проблемы интерпретации
легли в основу исследований будущих известных лингвистов и
теоретиков поэтики: Г. О. Винокура, Б. В. Горнунг, Р. О. Шор, Р. О.
Якобсона. Сложилась феноменологическая школа, где видную роль играли
ученики Шпета: Н. Н. Волков, Н. И. Жинкин, Б. И. Ярхо, А. А. Губер,
А. Г. Габричевский, А. Г. Цирес.
К Шпету тянулись друзья, единомышленники и просто добрые
знакомые. Проект нового искусства и новой философии, вообще
программа полного обновления всей сферы гуманитарной
деятельности увлекли значительную часть не только молодого
поколения философов, но и «старой интеллигенции», воспитанной в
культуре Серебряного века. Иные же нашли в этой деятельности
единственно приемлемую для себя платформу приложения
интеллектуальных сил. Это был проект ГАХН, который не вполне
совпадал с авангардистскими амбициозными планами формирования
«пролетарской культуры» с их идеями «пользы», «искусство — в
массы» и теургистской миссией культуры по строительству
«новой жизни». Но к концу 1920-х гг. обе установки в еще большей
степени расходились с формирующимся алгоритмом новой
культурной политики коммунистической власти. От первоначального
«контроля» и «управления» культурой новая власть переходила
к полномасштабному «конструированию» идеологической
«советской культуры», выдвинув в качестве первого шага
программу «культурной революции». Совершившаяся на рубеже 1920-
1930-х гг. «культурная революция» смела все прежние
интеллигентские проекты «обновления», заново выстраивая гуманитарную
область «советской науки». Если прежде интеллигенция
Серебряного века, не принимавшая авангардизм, могла найти свою нишу
в культурно-просветительской или научной работе, то теперь она
стала принципиально не нужна, тем самым превращаясь во
«врага». Наступало время иной интеллигенции — «специалистов» и «об-
разованцев», «советских деятелей культуры», которые не нуждались
ни в знании языков, ни в чтении иностранной литературы, ни в
размышлениях «о бытии в целом».
Первые раскаты грома прозвучали в 1927 г. После публикации
работы «Внутренняя форма слова» Шпета выдвинули в Академию наук
Однако обсуждение его кандидатуры перед выборами в Академию
14
Л. Г. Березовая
вылилось в обвинение в идеологической чуждости,
приверженности к идеалистической «буржуазной науке» и общей враждебности
советской власти. В результате он не только не попал в академики,
но и был забаллотирован при выборах на кафедре философии в
родной ГАХН. Зловещее заключалось, однако, не просто в
критике философа, а в том, что он попал под общий каток кампании
против всего гуманитарного наследия Серебряного века: разгром
«старой исторической школы» школой M. H. Покровского;
ликвидация самого предмета «История России» в школах, «дело» академика
С. Ф. Платонова, академика Е. В. Тарле, борьба против «формализма»
в искусстве на фоне открывающегося периода политических
процессов против «врагов народа». Уцелеть интеллектуально
самобытной и самостоятельной ГАХН и самому Шпету в этой ситуации не
было шансов.
В 1929 г. наступают трудные времена, ГАХН переживает
проверку за проверкой, проводятся «чистки», во время которых пострадали
многие друзья и сотрудники Шпета. В конце концов ГАХН
закрывается, поскольку не оправдал надежд советской власти на «перековку»
старой интеллигенции.
После ликвидации ГАХН Шпет разом лишился и научного
общения, и возможности публиковаться и даже заниматься научной
работой вообще. Как многих других, некоторое время его выручает
знание языков и масштабность культурного уровня. Теперь он занят
переводами на русский язык Байрона, Шекспира, У. Теккерея, других
европейских писателей. Талантливый человек, впрочем, талантлив
во всем. Шпету принадлежит один из лучших переводов «Записок
Пиквикского клуба» Ч. Диккенса с обширными комментариями. Он
получил большой заказ на перевод работы Гегеля «Феноменология
духа» и с увлечением принялся за работу. Тем не менее Шпет
продолжает разрабатывать философские концепции, хотя научные
работы остаются в рукописях.
В период своего вынужденного научного молчания после 1929 г.,
отстраненный от всех должностей, Шпет сумел в переводах
продемонстрировать на практике методы герменевтики. Блестящие
переводы произведений Данте, Шекспира, Диккенса, Теккерея
сопровождались чуть ли не томами комментариев и пояснений.
Литературный текст обретал живую смысловую плоть и все богатство
смыслов, обрастая в комментариях расписаниями дилижансов,
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
15
меню английских таверен, суммами жалованья слуг и рыночных
цен. Литературные комментарии Шпета представляют собой
полноценную научную работу по интерпретации, «раскрытию» всего
смыслового и контекстуального богатства литературного текста.
При этом Шпета нисколько не задевало, что его блистательные
переводы публиковались массовыми тиражами даже без указания
имени переводчика.
В 1932 г. у Шпета была еще некоторая возможность работать — в
Академии высшего актерского мастерства, одном из последних
уцелевших учреждений творческой интеллигенции. Но и ее дни, как и
деятельность Шпета, закончились довольно скоро. В 1935 г. Шпет
был арестован и осужден на ссылку по «дежурному», но оттого не
менее грозному обвинению в «антисоветской деятельности»
(статьи 58-10-и 58-11). Правда тогда дело закончилось ссылкой в
сибирский город Енисейск с последующим переводом в Томск —
университетскую столицу Сибири.
Здесь, в Томске, начался последний период его деятельности.
Заказы на переводы были аннулированы, и встал вопрос о материальном
выживании. Шпет продолжает занятия переводами, но на этот раз
не только для заработка, но и «для души». Именно в Томске им был
завершен великолепный перевод «Феноменологии духа» Г.-В.-Ф. R-
геля — перевод, не превзойденный до сих пор. Он был опубликован
без указания имени переводчика только в 1959 г.
В период Большого террора 1937 г. Шпет был арестован вновь по
сфабрикованному делу об «офицерско-кадетско-монархическом
заговоре». На этот раз власть мало утруждала себя соблюдением
формальностей: следствие было закончено в двухдневный срок, а от суда
до исполнения приговора (смертная казнь) не прошло и двух
недель. Однако родные еще долго ничего не знали о гибели близкого
человека. «Милосердная» власть застенчиво избегала выразительной
цифры погибших только в роковом 1937 г.: по этой причине даты
смерти жертв Большого террора в извещениях «разносились» по
ближайшим годам. Так в извещении о смерти Шпета появилась дата
1940 г., которая фигурировала в литературе многие годы. Только в
начале 1990-х гг., когда вновь открылись документы НКВД о жертвах
сталинского террора, была восстановлена подлинная дата
исполнения расстрельного приговора — 16 ноября 1937 г. в поселке Колпа-
шево Томской обл.
16
Л. Г. Березовая
Философские взгляды
Шпет сложился как оригинальный философ еще до революции.
Главная сфера его интересов определилась уже в ранних работах —
история философии и «чистая» философия. В предшествующее
революции десятилетие русская мысль была пронизана отчетливым
противоборством между наследием века Просвещения — идеей
господства разума (racio) с его позитивистскими подходами и
новой религиозной идеалистической философией, воспринявшей от
культуры Серебряного века примат «посвятительного»,
интуитивного знания. Позиция рационалистов усиливалась и модным тогда
социологизмом марксизма, претендующего на «строгую научность».
Шпет остался на независимымых позициях, не разделив ни
религиозной философской концепции ведущих мыслителей Серебряного
века, ни марксистской материалистической доктрины. Он называл
себя сторонником «реальной философии», «позитивной
философии», вкладывая в это понятие собственный смысл.
Спор между рационалистами и «интуитивистами» охватывал
всю европейскую культуру и вышел наружу после публикации
книги О. Шпенглера «Закат Европы» (в России — в 1923 г.). Суждения о
«кризисе культуры», однако, звучали в русской мысли, начиная еще
с конца XIX в. Речь шла о кризисе прежней культуры Просвещения.
Символизация художественного творчества распространялась на
сферу мысли. А. Белый, Вяч. Иванов выступили от имени искусства
и поэзии, подавая «символизм как мировоззрение». Идея «цельного»
познания, соединявшая чувства, мысль и веру, являлась ведущей в
мировоззрении культуры Серебряного века: принцип
«нераздельности и неслиянности всего» А. Блока, «всемство» Л. Шестова,
«посвятительное знание» Вяч. Иванова.
Наступивший XX в. подверг жестокой ревизии прежний
рационализм, доказав относительность «точного знания», зыбкость
моральных догм, неустойчивость общественных структур,
изменчивость эстетических оценок. Революции, катастрофы, потрясения и
войны, которыми открывалось новое столетие, только усиливали
ощущение относительности любых истин. Создавалась
разрушительная дилемма: либо отрицание всей прежней
«рационалистической» культуры, либо противостояние «хаосу» эмпирического и
интуитивного. Можно иллюстрировать эту дилемму спонтанным
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
17
диалогом М. О. Гершензона и Вяч. Иванова в их «Переписке из двух
углов» 1920 г. На уровне философии она персонифицируется
позициями Э. 1уссерля, последователем которой был Шпет, и позицией
Л. И. Шестова.
Л. И. Шестов, выражая распространенные в начале XX в.
убеждения в глубоком «кризисе рационалистической культуры XIX века»,
считал, что на смену ей придет культура с иными
мировоззренческими основаниями. Эмпирика жизненного мира предлагала
человеческую интуицию, посвятительную «мудрость» в качестве спасения
от холодной отрешенности логики рационализма, столь далекого от
реальных проблем человека. Индивидуальное существование,
индивидуальное переживание — главный источник культуры и знания.
«Самодержавие разума» отметает ценности отдельной личности,
универсальные истины уничтожают индивидуальный опыт.
Э. 1уссерль, напротив, полагал, что наступило время буквально
«спасать» философию как «строгую науку», поскольку ей угрожает
опасность исчезновения перед лицом двоякой опасности. С одной
стороны — это ее собственная претензия на «объективизм»,
неизменность «истин», пришедшие в философию в век «строгих наук»;
с другой — отрицание самой возможности универсальных, общих
истин в культуре модерна и символизма. Но 1уссерль не ставил
философию ни в общий ряд наук о природе, ни учений о
культуре, поднимая ее задачу до уровня толкования принципов
«самопознания духа»5. По его мнению, он нашел главную «причину
надвигающейся катастрофы: утрату единства между
объективностью и универсальностью знания о мире и смыслом человеческого
существования^. Под угрозой оказалась вся традиция европейской
культуры и мысли: от античности до XX в.
1уссерль совершил свой прорыв в новые пространства
гуманитарного знания XX в. — феноменологию. Феноменология 1уссерля
возникла сначала как общефилософская дисциплина, затем
постепенно сместилась в область культурологии, затронув таким образом
гораздо более широкий круг проблем. Противоположность духа и
материи феноменологически решалась путем антропологического
5 См.: Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия //
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С 123,125-126.
6 Порус В. Н. У края культуры. Философские очерки. М., 2008. С. 153-154.
18
Л. Г. Березовая
акцента. Содержание познания у Гуссерля редуцировано к
чувственному восприятию человека — в любых его формах. Человеком
создается мир феноменов, который упорядочивается через их
наименования, т. е. как априорные смысловые структуры отдельного субъекта
восприятия. Однако субъективные феномены имеют в своей основе
некую модель, идеальный тип, которому морфологически
соответствуют на всех своих этапах. Задачей феноменологии является
выделение «чистого сознания», для чего нужно освободить сознание от
привносимых в него эмпирических компонентов. Сознание
«очищается» методом редукции, т. е. отказа от «естественных установок»
обыденного сознания, индивидуальных переживаний (психология
познающего субъекта). На пути освобождения сознания от
психологизма, натурализма, историцизма 1уссерль искал объективности
гуманитарного знания. С этой точки зрения феноменология не
могла удовлетвориться предложениями исключительно
«интуитивного» знания, но при этом не умещалась и в рамках прежнего
рационализма. 1уссерлю не удалось до конца разрешить создавшуюся
дилемму.
Феноменология противостояла позитивизму XIX в., который
вообще игнорирует культуру как смысловой элемент бытия,
взятого в динамике. Фактически 1уссерль заложил основы современной
культурной антропологии, для которой культура является
проблемой глобальной сущности и смысла как человечества, так и
индивида. Культурным смыслом наполняются такие явления и
процессы, которые ранее не попадали в поле зрения исследователей —
весь актуальный и потенциальный мир человеческой культуры.
Воздействие 1уссерля испытали Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Бердяев,
Шестов, Шюц, Лосев, Лотман, Гадамер, Фуко, Деррида, Лиотар, Лук-
ман, Рикер.
Отказавшись от позитивизма и кантианства, Шпет нашел себя
в феноменологии Гуссерля, став не только последователем его
учения, но и основателем российской школы феноменологии и
герменевтики. То, что основателями общеевропейской
герменевтики позже стали М. Хайдеггер и Г. Гадамер, и мы теперь изучаем
герменевтику именно в их прочтении, — не вина Шпета, а его
трагедия. Между тем содержание и уровень его исследований в
феноменологии и герменевтике позволяют назвать Шпета «русским
Гуссерлем».
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
19
Ученик 1уссерля Шпет совершил настоящее философское
открытие, обозначив путь разрешения действительного кризиса
европейской культуры. Не отвергая доводы ни одной из сторон, Шпет
обращается к главному для науки и культуры — самому человеку, его
жизненному миру, мысли и чувству Именно на этом пути он находит
новые основания европейской культуры и европейской философии
XX в. Задавая сакраментальный вопрос — мудрость или разум?
интуиция или рациональность? — Шпет приходит к их синтезу в
феноменологии и герменевтике. Чувство, эмпирический опыт не действуют
вслепую, поскольку сам язык эмпирического описания имеет жесткие
логические основания. И универсальные истины, философские знания
не возникают «из ничего», не являются голой абстракцией,
оторванной от жизни, поскольку «нет и не бывает ничего в сознании и мысли
такого, чего не существует в реальной жизни, в истории. И напротив,
нет ничего в истории, что так или иначе не отразилось бы в мысли»7.
Позиции феноменологической философии Шпет называет
«положительной философией». Распространившаяся в начале XX в.
«отрицательная философия», плодом критики которой и стал анализ
«кризиса» культуры и науки, по существу бесплодна, за ней нет
будущего. Шпет пишет: «Отрицательная критика "все" и "вообще"
отвергает, за исключением "себя", это — чистое самоутверждение;
положительная критика — труднее: она утверждает все, но ограничивает
себя, это — самоотречение»8.
«Положительная философия» сложнее, нежели простое
отрицание («критическая философия»), поскольку занята поисками не
причин, а возможностей. «Отрицательная философия», по словам Шпе-
та, весьма острого на язык, похожа на жалобы неудачника, который
ищет, на кого свалить свои беды, но не ищет способа их преодолеть.
«Отрицательная философия» провоцирует «кризис культуры»,
расшатывая и подрывая ее основания — человеческую веру в себя, свои
силы и возможности, в свое будущее. Герменевтика снимает
бесплодный скептицизм, позволяет преодолеть «комплекс неудачника»,
обрести твердую почву.
7 Вольный перевод утверждения Шпета: «Nihil est in intellectu, quod non
fuerit in historia, et omne, quod fuit in historia, deberet esse in intellectu». —
Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis: Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 353.
8 Там же. С 342.
20
Л. Г. Березовая
Философия XX в. должна вернуться к человеку, чтобы преодолеть
кризис познания. Человек оценивает свой реальный опыт — и это
составляет «мнения», метафизику. Но рефлексия на свое осознание
действительности, т. е. самопознание, рефлексия на собственные
мысли о действительном — вот здесь и начинается философия и
универсальное, общее знание. И начинается она именно
герменевтически, поскольку требуется операция интерпретации языка
описания.
Введение герменевтики в процесс получения философского
знания привело Шпета к отрицанию самой возможности «научной
философии» в понимании XIX в. Свою работу «Мудрость или разум?»
он так и начинает с четкого формулирования своей позиции:
«Следует тщательно различать между философией как чистым знанием
и научной философией»9. Попытки философии сравняться в своей
«точности» с математикой или другой областью знания не только
безуспешны, но и гибельны для нее самой, поскольку философское
знание обладает «точностью иного рода». «По самому своему
заданию научная философия оказывается несостоятельной — одно из
двух: или она бесцельно удваивает научные решения вопросов, или
она выходит за границы отдельных наук и берется решать
научными средствами вопросы, которые научному решению не подлежат.
Фактически она идет этим последним путем. Взяв за образец
научного познания какую-нибудь специальную науку, она тотчас
выходит за ее границы и в ее терминах пытается разрешить сперва
проблемы других наук, а затем и те проблемы, которые эти науки
не берутся решать». Итог один — сама философия превращается в
«псевдофилософию»10. Философская истина в своей точности не
похожа на математические формулы, поскольку ее исходным
материалом являются не абстрактные цифры, а реально переживаемая
конкретными людьми действительность. По этой причине «математика
по существу дискурсивна, философия — интерпретативна», чистая
дискурсивность ей противопоказана.
«Научной философии»,,по мнению Шпета, противостоит
«философия как чистое знание», которая «имеет положительные задачи и
9 Шпет Г. Г. Мудрость или разум? С. 311.
10 Там же.
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
21
строится на твердых основаниях»11. Мудрость метафизична и мора-
листична; философия — разумна и универсальна. Мудрость —
область морали, мифа, сказаний и родина ее — Восток, для культуры
которого умственная жизнь — «нечто чуждое». «Чистый европеизм
пробудился в тот момент, когда первый луч рефлексии озарил
человеку его собственные переживания. Европа, — это — умственное
напряжение, но не труд, а "досуг", восторг и праздник жизни; самое
дорогое для нее — творчество мысли», и ничто не могло уничтожить
в европейской культуре эту «страсть мыслить»12. Прекрасное знание
европейской интеллектуальной истории позволило Шпету увидеть
«страсть мыслить» в античной языческой Греции, повести
философскую традицию от Парменида и Платона. Рефлексия как выражение
самопознания совершила переход от индивидуально
переживаемого опыта к универсальному разуму человечества. Поэтому ждать от
философии ответов на конкретные вопросы: что мне делать, как мне
жить, — значит обращаться не по адресу, потому что свои «вечные
вопросы» каждый — отдельный человек или целое поколение —
решает сам. Они потому и называются «вечными», что не имеют
вечных, раз и навсегда данных ответов — разве что религия или мораль
рискуют претендовать на них. «Ждать, что их за нас кто-то и где-то
разрешит — будет ли то Кант, Ницше, Магомет, приходской
батюшка, или еще кто, — все равно, есть величайшее бесстыдство в
обнаружении своей восточной лени»13. Их не решает и религия — в
противном случае действительно «Христос умер понапрасну».
Понимание, «уразумение» — вот ключ, которым будет
преодолено различие между индивидуальным опытом, его личностным
переживанием и потребностью разума вывести нечто «общее»,
универсальное; в этом кроется возможность преодоления кризиса
культуры, с одной стороны, и кризиса рационализма науки — с другой.
Философское знание получено путем интерпретации
«эмпирического переживания индивида», «самонаблюдения», саморефлексии,
осознания «осознающего человека», который рефлексией
открывает подлинную сущность, смыслы, «зашифрованные» и скрытые в
непосредственном соприкосновении с эмпирической реальностью.
11 Шпетп Г Г Мудрость или разум? С. 312.
12 Там же. С. 314.
13 Там же. С 360.
22
Л. Г. Березовая
«Сознание в рефлексии на самого себя открывает и созерцает себя в
своей подлинной сущности, и поэтому-то мы имеем здесь дело уже
не с "мнением", как эмпирическим переживанием, а с подлинным
знанием». «Дух как предмет понимания есть разумный дух» — он и
составляет предмет философии14.
Работа «Мудрость или разум?», подводившая итог философскому
спору о рационализме и интуитивности начала XX в., была написана
в 1917 г. Уже в своем названии она явно перекликается с
нашумевшей статьей М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина», подкрепленной
устными выступлениями ее автора в том же 1917 г. Статьи обоих
мыслителей даже появились в одном и том же сборнике — «Мысль
и слово», который издавал Шпет. Оба были поклонниками и
знатоками пушкинской поэзии. Но Шпету удалось найти новый ракурс
исследования поэтического текста Пушкина, не менее деликатного
и почтительного, но открыто вводившего новые философские
подходы к понятиям «образ», «поэтический текст», «мудрость», «разум»,
«слово», «истина». Иррационализм и интуитивизм в интерпретации
пушкинской поэзии, давшей такие очаровательные и эффектные
плоды в сочинениях М. О. Гершензона, получили альтернативу в виде
герменевтического анализа «текста» и «слова». Шпет исключает
понятие «мудрость» из области философского знания, оставляя за ним
пространство культуры. Но вместе с тем философия при помощи
учения о языке сама собирает обильные плоды в культуре, поскольку
именно здесь находится воплощенный индивидуальный опыт и
личностные переживания — исходный материал философского знания.
Методология культурного исследования у Шпета
принципиально другая, нежели у М. О. Гершензона. Он пытается сделать знанием
ответ на вопрос: а что Пушкин писал, оставляя в стороне
художественный стиль поэта и то, как он это делал. Такой подход
соответствовал его пониманию «философии разума», которая не отвергает
ни рассудочную логику, ни интуитивную мудрость. Шпет пишет:
«Столь помпезно провозглашенная "антиномия" между
"интуицией" и "дискурсией" вовсе не есть антиномия в собственном смысле
<...> Не нужно особенной тонкости в самонаблюдении, чтобы
заметить <...> что сплошь и рядом для выражения своего "опыта" мы
прибегаем к фигуральной речи». А всякий «образ» в «фигуральной
ШпетГ.Г.Ыудроаъ или разум? С. 340; см. также: С. 356.
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
23
речи» методом интерпретации «допускает "перевод" в форму строго
терминированную»] 5.
Несколькими годами позже Шпет возглавил институт, который
в своем названии адресовался как раз к «научной философии». Не
было ли здесь противоречия и нарушения принципиальных
позиций? Если оно и было, то не в интерпретации самого Шпета,
поскольку к этому времени его понимание «научности» уже далеко
ушло от спора в стиле «научности» позитивизма. Он уже мог
предложить новую «научность» — герменевтическую феноменологию и
свое учение о языке, о «внутренней форме слова».
Герменевтика Шпета не сводится к простой «интерпретации»
высказываний, которые требуют учитывать личность говорящего, его
душевное состояние — это всего лишь психологические основы
интерпретации. Шпет говорит о всеобщем характере
интерпретационного метода, поскольку и носитель сообщения, и его интерпретатор
погружены в соответствующий историко-культурный контекст; их
интерпретативные подходы зависят от контекста, в котором
находятся участники коммуникации. Подстерегает ли здесь опасность
субъективности интерпретации? Безусловно, но Шпет полагает, что
любые субъективные «мнения» все равно выражают объективные
реальности, ибо порождены ими. Для преодоления субъективности
интерпретаций Шпет предъявлял мощное оружие — свое учение о
языке, о «внутренней форме слова». Законы языка противостоят
индивидуальному субъективизму интерпретаций и служат основанием
для перехода от знания-«мнения» к общему, универсальному, к
«научной философии» в его понимании. Философия разума,
герменевтическая философия — подлинно «строгая наука», которая не
отвергает личностное начало, а синтезирует его в общее путем постижения
смыслов индивидуального опыта.
Оттолкнувшись от феноменологии, Шпет идет к философии
языка, который является носителем смыслов. Им были заложены основы
семиотики и герменевтики в России. У Шпета язык выступает
несущей конструкцией культуры. Главная его идея состояла в
связанности смысла вещи и символа вещи через их общий культурный код,
выраженный в языке. Так в слове сливались духовное начало (смысл)
и материальное начало (слово, звук). Их соединение — «нераздельно
15 Шпет ГГ. Мудрость или разум? С. 347-348.
24
Л. Г. Березовая
и неслиянно». При этом слово — не осколок языка, не деталь
культурной мозаики, а «полный распустившийся цветок языка». Так
капля воды есть не только частичка океана, но и образ самого океана в
его цельности и самодостаточности.
Язык, с постижением его законов, снимал противоположность
рационального знания и эмпирического опыта, индивидуального
переживания действительности и общих истин бытия. Эту
возможность давала сама культура, в языке которой и наличествовало место
встречи эмпирического и рационального, единичного,
индивидуального и всеобщего, универсального. В мире языка «переживание
перестает быть простым "переживанием" и останавливает на себе
наше внимание, как источник познания, мы имеем с ним дело <...>
как с данным, непременно облеченным в слово...» По формуле Шпе-
та, «слово есть principium cognoscendi [принципиальное основание
познания] нашего знания»16.
Слово выступало в качестве идеального образа мира, его смыслов
и значений. Выстраивалась цепочка интеллектуального познания:
вещь, явление — смысл (идея) вещи — «имя», знак вещи. Логический
анализ языка оказывался мощным и — самое важное —
универсальным орудием универсального, общего знания, которое теснейшими
узами слова было связано с индивидуальными переживаниями
человека, что превращало философию из абстрактной науки об «общем»
(Шпет называл это «псевдофилософией») в науку о насущном, о
самом важном — о бытии человека.
Философия языка Шпета положила основание новой философии
и методологии культуры. В центре ее стоит проблема творческого
понимания смыслов, анализа знаков, т. е. интерпретации.
Формировалась русская школа герменевтики, науки интерпретаций,
раскрытия смыслов, закодированных в «имени» вещи и ее знаке, символе.
Разработка методов интерпретации «смыслов» и «текстов» культуры
сделала Шпета лидером герменевтического направления в России,
которое, в том числе его усилиями, развивалось в том же
направлении, что и европейская мысль (Хайдеггер, Гуссерль, Гадамер, Шюц,
Сартр). Представления Шпета о слове как шифре культуры,
закодированном сообщении, его учение о морфологии эстетического
сознания стали определяющими идеями для формирования целой
Шпет Г. Г. Мудрость или разум? С. 345.
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
25
школы филологов и лингвистов — сначала в Москве
(лингвистический кружок), а затем в эмигрантской Праге (во главе с уехавшим
из России учеником Шпета Якобсоном). В числе московских
последователей и учеников Шпета оказались имена, много значившие в
истории европейской мысли XX в.: Г. Винокур, А. Габричевский,
братья Горнунги, Р. Шор, Б. Ярхо. Именно под руководством Шпета в
России была основана научная школа философии языка.
Ключевым отличием работ Г. Г. Шпета является то, что они
написаны так, словно их автор вообще не замечал границ, отделявших
философию от истории, историю от литературоведения или
этнологии, психологию от социологии. Гуманитарное знание только на
рубеже XX-XXI вв. осознает свое внутреннее единство, ищет общий
научный язык, осваивает единые гуманитарные методы познания.
А Шпет с легкостью преодолевал эти границы, создавая единые
методологические подходы для всей гуманитаристики. Герменевтика,
искусство интерпретации текстов, феноменология, осваивающая
социальные и культурные явления, стали той основой, которая
позволила ему достичь собственных высот в осмыслении человеческого
бытия и истории всего человечества. Наиболее значительные
работы Шпета написаны на грани наук.
Так исследование «внутренней формы слова», законов языка
формирует эстетику Шпета. Слово выступает в данном случае как
архетип культуры, ее закодированный глубинный смысл.
Подвергнувшись интерпретативному анализу, оно раскрывает внутренние
смыслы культуры. Таким образом, феноменология и герменевтика
становились основным методом постижения истории и культуры.
Ведь «слово», язык — сами по себе понятия исторические.
Принадлежа культуре и истории, они сами движутся вместе с ними. Если мы
рассматриваем историческое явление или культурный артефакт в
конкретном пространственно-временном окружении, то для
вычленения его требуется феноменологическое описание,
феноменологическая редукция. Феноменология истории и культуры, в понимании
Шпета, есть путь феноменологического описания, которое дает
материал для герменевтической интерпретации и выявления смыслов.
На стадии логико-методологического анализа «мы вступаем в
область логики», «точного знания», решая вопрос: знаком чего
является данный предмет, описанный словами? Ответ на данный вопрос,
по словам Шпета, «снимает покров» конкретности, открывая доступ
26
Л. Г. Березовая
к смыслам, причинно-следственным связям, создавая возможность
«уразумения», общего знания. «По предмету основная наука должна
быть конкретной, а по методу — идеальной»17. Таким образом
история и культура получали прочное основание в виде сознания
человека, его переживания реальности, исторической или эстетической.
Действительность возникает и развивается вместе с человеком и
обретает смысл в переживании ее человеком.
Эстетические позиции Шпета, его трактовка культуры
выражены в незавершенных «Эстетических фрагментах». Увидевшие свет
в 1922-1923 гг., в период работы философа в ГАХН, три части этого
труда вызвали оживленную полемику и стали поворотным пунктом
в интеллектуальной судьбе некоторых участников дискуссии. Среди
них исследователь Т. Г. Щедрина называет как прежних товарищей
Шпета по лингвистическому кружку, так и его новых сотрудников в
Академии: Р. О. Шор, А. К. Соловьеву, Р. О. Якобсона (уже из Праги)18.
Эта работа свидетельствовала о поисках новых философских
оснований в рамках феноменологически-герменевтических подходов
для познания истории культуры во всем многообразии ее явлений.
Здесь и обозначились его расхождения с Р. О. Якобсоном, который
продолжил лингвистические изыскания в то время, как Шпет
рассматривал достижения учения о языке и слове лишь в качестве
инструмента настоящего предмета познания — жизни. В этом плане
Шпета можно причислить к сторонникам «философии жизни»,
которые считали познание смысла ее феноменов главным предметом
философии.
Важно учитывать, что «Эстетические фрагменты» появились
фактически в одно время с нашумевшей книгой О. Шпенглера «Закат
Европы». Старая европейская культура XIX в. обрела свой некролог.
Новая — не принимала пессимизма автора. «Скандальная книга
Шпенглера, — писал Шпет в "Эстетических фрагментах", — сильно шумит
<...> из него извлекают мудрость и поучение, его канонизируют...»19
Шпет более оптимистичен — ведь «смерть есть одновременно рож-
17 Шпет Г. Г. История как проблема логики // ОР РГБ. Ф. 718. К 3. Ед хр. 1.
Л. 301.
18Щедрина Г./:Указ. соч. С. 217-224.
19 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.
С. 375.
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
27
дение». Указывая на различие и неравномерность культурных
процессов на Западе и Востоке Европы, он полагал, что буйство поисков
и течений, продемонстрированных российской культурной жизнью
в 1920-е гг., будет в конечном итоге иметь положительный результат.
К тому же Шпет принадлежал к тем счастливым натурам, которым
чужд пессимизм, а негативные утверждения всегда вызывали в нем
желание опровергнуть их.
Следуя своим философским установкам, Шпет выделял в
культуре двоякое начало. С одной стороны — дискурсивное мышление,
рационалистический компонент незыблемых принципов и правил.
С другой — интуитивное чувство художника, его талант и
художественное воображение, которым во многом был обязан конечный
«культурный продукт». Этот дуализм в «Эстетических фрагментах»
получил название «качели»: «Так качается эстетика между
сенсуализмом и логикою»20. Но в отличие от многих, Шпет не видел здесь
противоборства и противоречия. Напротив, он был убежден, что
подлинная глубина и защищенность культурного пространства
обеспечивается как раз союзом, «интимным слиянием» этих начал в
культуре точно так же, как они сосуществуют в человеческой душе.
К тому же такая двойственность давала возможность научного
исследования культурных явлений и артефактов, применений понятия
«слово-знак», использование методов герменевтической
интерпретации. Культура бытует прежде всего в Слове — следовательно, учение
о языке способно открыть ее внутренние смыслы.
В «Эстетических фрагментах» Шпет использует собственный
термин «структурные элементы культуры» в качестве характеристики
архитектоники культуры. «Духовные и культурные образования
имеют существенно структурный характер, так что можно сказать, что
сам "дух" или культура — структурны»21. «Структуры» культуры
способствовали становлению искусствознания, развитию исследований
по истории культуры. Однако изучение «структур» предполагает
выявление комплекса проблемных вопросов, поиск «существенного»,
смыслового наполнения культурных явлений. Эстетика Шпета име-
20 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид
знания (этюд): Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 175.
21 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.
С 358.
28
Л. Г. Березовая
ет ярко выраженное герменевтическое звучание, смысловую и
проблемную заданность.
В своих работах по Зстетике Шпет выделяет три группы
проблем. Во-первых, это проблема смысла бытия и способов его
постижения. Во-вторых, социальное и историческое бытие, которое
само составляет проблему культуры и выражено в символах, в языке
культуры. В-третьих, он выделяет проблему слова, его «внутренней
формы», подлежащей интерпретации. Понятие «внутренняя форма
слова» принадлежало самому Шпету и имело для него
принципиальное значение как ключевое для всей феноменологической
эстетики. Шпет понимал под ним устойчивые, познаваемые алгоритмы
языка, законы смыслообразования, логику «закладывания»
смысла в слово, что позволяло ставить и решать проблему
интерпретации языкового сообщения, обратной «дешифровки» смысла слова.
Фактически в его эстетической программе слово приобрело статус
первоначальной единицы (атома, «первокирпичика») эстетических
феноменов. Именно со слова и следовало начинать исследование
культурных смыслов.
Позже, в 1927 г., Шпет утверждал, что искусство — тоже «вид
знания», поскольку знание как рефлексирующее сознание проходит
несколько этапов «уразумения». «Чистое знание» сродни «чистому
искусству», поскольку и то и другое обретает черты всеобщности.
А «искусствознание» способно «перевести» художественное
произведение, «образ» на «язык понятий», тем самым вводя его в поле
науки. Философия — не жизнь, и искусство — не сама жизнь, а
осмысление жизни. И в том, и в другом случае возникает вопрос о
«пользе». С точки зрения рационалиста искусство так же «бесполезно»,
как и философия. Но и то и другое бесценно и вечно, как
человеческая мысль и творчество. Нет иных способов понять жизнь, кроме
осмысления опыта, данного в культуре22. Уже ограниченный в своих
творческих возможностях, отрывочно, в набросках статей и речей
в 1927 г. Шпет прокладывает путь к новой философии культуры
XX века.
Особенно привлекала его- литература как исключительное
«искусство слова». «Словесное искусство без культа слова — несносный
22 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид
знания... С. 116,120.
Г. Г. ШПЕТ И ФИЛОСОФСКИЙ ПОВОРОТ XX ВЕКА
29
цинизм», — пишет он23. Хотя писатель сочиняет художественное
произведение, мало задумываясь над лингвистическими
проблемами, слово является для него «предметом особенной заботы»,
настоящего «художественного культа», требующего «служения и жертвы».
Когда слово становится предметом творчества, оно нисколько не
теряет своих свойств всеобщего и универсального знака, а потому
допускает «перевод» с языка «образов» на язык понятий и терминов.
По мнению Шпета, «слово именно эмпирически наиболее
совершенное осуществление идеи всеобщего знака», абсолютное воплощение
единства творческой интуиции личности и рациональной логики и
терминизма науки. Из этого универсализма слова-знака «проистекает
доступность художественным формам всего действительного и
возможного содержания человеческого опыта и замысла»24. С этой точки
зрения познавательный потенциал литературы становится вровень с
философским знанием. Эти размышления философа предугадывали,
предвосхищали основы современной семиотики и семантики.
Незаконченность взлетавшей в XX век философии культуры
Шпета очевидна. Действительно, после его статьи «Литература»,
написанной в декабре 1929 г., голос философа умолк навсегда. В целом
его эстетические взгляды современные исследователи совершенно
справедливо (Т. Г. Щедрина) определяют как «феноменологическую
эстетику», поскольку интерпретационная методология легла в
основу всех научных позиций Шпета: в лингвистике, истории,
искусствознании, литературоведении. В этом отношении русский
философ закономерно может считаться одним из основателей всей гума-
нитаристики XX в.
Не лишним будет отметить и такую особенность текстов Шпета,
как редкую красоту и образность языка, «прозрачность» и
энергичность изложения. Его наука об эстетике — «Эстетические
фрагменты» — текст редкой красоты и прозрачности, в котором видна
уникальная личность автора.
* * *
Неполные и отрывочные публикации работ Шпета, закрытость
советской науки от зарубежных контактов и трагическая судьба
23 Шпет ГГ. Литература // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания... С. 164.
24 Там же. С. 165.
30
Л. Г. Березовая
философа привели к тому, что он недостаточно известен в
зарубежной философской мысли и совершенно недостаточно востребован
в отечественной. До революции он не успел войти в когорту
«классиков» философской мысли по своей молодости; позже не имел
отношения к эмигрантской русской мысли, а в советское время его
труды сначала издавались мало, а затем оказались под запретом из
политических соображений. Фактически работы Шпета начали
входить в отечественную гуманитаристику только в 1990-е гг., сразу же
вынужденные заочно конкурировать с иностранными авторами в
области герменевтики, семиотики, феноменологии. Выброшенный
на полвека из отечественной мысли в силу политической ситуации
в стране, философ по обширности, качеству и смелости своих
концепций способен стать основателем отечественной школы русской
философии.
Широта интересов и глубина суждений этого «забытого»
мыслителя позволяют с благодарностью и восхищением вернуть его имя в
интеллектуальное поле новой России.
Л. Г. Березовая,
доктор исторических наук, профессор
Г. Г. ШПЕТ
ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ОЧЕРК РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Матери моей
Марцелине Иосифовне Шпет
почтительнейше
свой труд посвящаю
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Предисловие
Prisca juvent alios, ego me nune
denique natum Gratulor...
Просмотрев лежащие перед мною отпечатанные листы моей
книги, я едва решаюсь выпустить ее без надписи на титулблате: на
правах рукописи. Я ясно вижу недочеты своей книги — и
стилистические и материальные. Книга недоделана: не всем находящимся в
моем распоряжении материалом я воспользовался как следует и не
весь материал, который можно было привлечь, привлек к делу; есть
ненужные повторения и излишние разъяснения; самый тон
изложения я во многих местах хотел бы слышать иным — менее
обличающим смену моих эмоциональных состояний.
Приняв во внимание трудность и сложность затеянной мною
работы, меня, вероятно, оправдают многие читатели, в особенности
если я еще сошлюсь на тяжкие условия, в которых приходилось
работать, и на краткость времени, в течение которого книга написана.
Находящаяся перед читателем часть написана в каких-нибудь три,
четыре месяца, и притом в такое время, когда не хватало для
нормальной работы ни пищи, ни тепла, ни света...
Но все-таки избранный мною эпиграф гласит: Пусть
восторгаются другие добрым старым временем, я поздравляю себя с тем,
что родился именно теперь...
И действительно, я должен сознаться, что все естественные,
неизбежные и временные детали военно-революционного быта не могли
так парализовать волю и так подавлять вдохновение, как исконное
отсутствие у нас общей организации научной работы — признак
нашей величайшей некультурности! В публичных библиотеках
элементарно нужных книг нет, условия пользования ими — самые
неблагоприятные, справочники и каталоги поражают безграмотностью
34
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
и хаотическим состоянием, издание и переиздание классических
авторов и трудов — сплошь и рядом под редакцией самой
беззаботной, безответственной и некомпетентной. Постоянно приходилось
чувствовать себя в тупике: как добраться до нужного сведения, с чего
даже начать? Самые тяжкие испытания и разочарования пришлось
вынести при розысках иностранных книг, которые мне так
необходимы были для установления «источников» отечественного
философствования. В этой области я ожидаю указаний на наибольшее
количество пробелов и, весьма возможно, промахов, так как мне
часто приходилось полагаться на память, сила которой у меня
минимальна, да в значительном количестве случаев и обращаться к ней
было бесполезно, так как она не могла бы вернуть того, чем никогда
обременена не была.
Другой характер носили затруднения порядка «внутреннего»,
влиявшие на идейное освещение моего материала, каковое
освещение у многих читателей также может вызвать чувство большого
неудовлетворения. Остановлюсь только на двух соображениях,
которые как замечания мне уже были высказаны.
Первое из этих замечаний касается моих авторских
особенностей и состоит в вопросе: как я могу писать историю русской
философии, которая, если и существует, то не в виде науки, тогда как
я признаю философию только как знание. Должен сказать, что это
обстоятельство если и создавало мне затруднения, то не прямо. Я,
действительно, сторонник философии как знания, не как морали,
не как проповеди, не как мировоззрения. Я полагаю, что философия
как знание есть высшая историческая и диалектическая ступень
философии, но этим не отрицаю, а, напротив, утверждаю наличность
предварительной истории, в течение которой философия
становится в знание. По моему убеждению, русская философия как раз к
этой стадии развития начала подходить. Никак не противоречием,
а именно внутренней необходимостью для меня самого казалось
подвести перед этим моментом зрелости итоги предшествующего
развития. Философия приобретает национальный характер не в
ответах — научный ответ, действительно, для всех народов и языков
один, — а в самой постановке вопросов, в подборе их, в частных
модификациях. Интерес и отношение к той или иной проблеме, к той
или иной стороне в ней носят местный, народный, временный
характер, а никак не идеальные форма и содержание проблем. Только
Очерк развития русской философии
35
в таком смысле можно говорить о национальной науке, иначе, т. е.
самое решение научных вопросов — все равно, философских,
математических или кристаллографических — по национальным вкусам,
склонностям и настроениям ничего именно научного в себе не
сохраняло бы.
Мое действительное затруднение состояло в том, что, глядя,
таким образом, с конца на все развитие нашей философии, я этот
конец и должен был делать критерием. Самое право пользоваться
таким критерием для меня бесспорно. Только весьма
поверхностный взгляд, искаженный к тому же своеобразным пониманием идеи
«прогресса», мог бы признать это за «антиисторичность».
Говорить о прогрессе в сфере идей нужно с большою опаскою,
и нужно большое остроумие, чтобы говорящему при этом не
подорвать своей репутации просто неглупого и здравомыслящего
человека. Прогресс философских идей от Платона, Декарта, Гегеля и до
современных профессоров философии есть тема весьма колючая...
Дело не в праве, а в результатах, получающихся вследствие
применения указанного критерия. Некоторые мои оценки могут
показаться слишком суровыми, неисторическими, отвлеченными.
Относительно «суровости» я хотел бы, чтобы читатель принимал во
внимание целое моего изложения, а не частности и отдельные явления.
В связи с этим я просил бы читателей, а в особенности критиков,
и вообще не торопиться с решительными и общими заключениями
о моей работе: перед ними пока только Первая часть, а что я скажу
о русской философии дальше, того они не знают. Пока еще слово за
мною.
Что касается историчности или неисторичности моих суждений,
то тут вопрос сложнее и более спорен. Историчность или
неисторичность определяется не характером оценок и не изображением
фактов, а введением их в должный «контекст», установлением и
выбором этого контекста. Здесь самый простой, хотя методологически
еще не оправданный путь есть путь объяснения. И едва ли в этом
смысле можно найти что-нибудь удобнее марксизма. Я хотел бы
быть марксистом... Но я всяких объяснений избегал, зато от
интерпретации, от усилия «дать понять» не хотелось отказываться.
Ближайшим контекстом в таком случае для моей темы было бы развитие
у нас просвещения и науки вообще. Но и здесь я свою задачу сузил
и сгустил, чем, не знаю, достиг ли нужной ясности. Мне не хотелось
36
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
входить в эмпирию культурно-бытовой среды истории, хотелось
оставаться в сфере философского и философско-исторического
освещения нашей культуры. Насколько я преодолел возникшие с
такою постановкою вопроса затруднения, судить мне еще трудно. Мне
мысль ясна, но в изложении своем темноты я различаю, тем более,
что, как теперь я убеждаюсь, основная моя идея развития и смены
интеллигенции, не будучи конечной инстанцией, может вызвать у
читателя потребность в новых и более детальных разъяснениях.
Другое из упомянутых замечаний было сделано в форме
утверждения: я, мол, не так писал бы историю русской философии, если
бы писал ее до революции. Натурально! Может быть, даже вовсе не
писал бы ее! Но раз пишу, то более чем странно было бы, если бы
вокруг меня кипела и грохотала революция, а я бы этого не видел,
не слышал и не хотел понять. Не знаю, удалось ли бы, делая
соответствующий «вид», обмануть других, себя самого обманывать было бы
нелепо. Но где же пресловутая научная объективность, если видимое
и слышимое определяет собою умонаправление и самое работу?
Если бы я только смотрел, импульсивно, самозащитно реагировал
на видимое и перенес бы это свое «душевное состояние» в самое
содержание книги, я субъективному моменту поддался бы. Но когда я,
пытаясь отойти на расстояние, смотреть на историческое
окружающее как на объективную действительность, в свете этой последней
представляю себе ее как объективный фактор, я методологически
поступаю правильно. Если мне все-таки не удается уйти от
субъективности, это — мой личный промах, но не доказательство
неправомерности метода.
Революция наша есть не только каузальное следствие и результат,
но также осуществление замысла. Этот замысел выносила, лелеяла,
себя сама на нем воспитывала наша интеллигенция
девятнадцатого века. Революция осуществляется не во всем так, как, может быть,
мечталось и хотелось этой интеллигенции, но что же это означает:
недействительность революции или недействительность
интеллигентского идеала и, следовательно, самой интеллигенции,
насколько она жила этим идеалом? Я склонен думать последнее. Оттого
отход и отказ значительной части интеллигенции от революции
есть закат и гибель этой интеллигенции. Другая часть той же
интеллигенции, в революцию воплотившаяся, также перестала быть
интеллигенцией, но по основаниям другим: из «интеллигенции» она
Очерк развития русской философии
37
превратилась в «акцию» и в «агента». Интеллигенции, таким образом,
нет, а революция есть. Я могу игнорировать мнения, традицию, но
не могу как объективную действительность игнорировать
революцию, раз заходит речь о философско-культурном контексте
развития идей наших.
Как революция сама по себе есть антитезис, предцверие синтеза,
так закат, о котором я говорю, есть завет нового восхода. Это — уже
дело субъективной веры и желания предвидеть в этом восходе не
восстановление, не реставрацию, а Возрождение как реальное новое
бытие, в строгом смысле исторической категории Ренессанса. Нет в
реальности прежней интеллигенции нашей, но становится теперь
новая, нет старой России, но возникает новая! Отдельные
представители прежней интеллигенции могут, переродившись, войти в
новую, но не они определят ее реальность, они должны будут только
принять последнюю. Преждевременно говорить о том, какова будет
идеология новой интеллигенции, существенно, что она не будет
прежнею, существенно, что она будет принципиально новою.
Иначе — не было бы ничего более неудачного, чем наша революция.
Я бы обнаружил ту самую импульсивность, о которой упоминал
выше, если бы, говоря и думая о революции, имел в виду ее
политическую и социальную стороны. Пусть именно эти стороны в нашем
быту ощущаются сильнее и больнее всего, но в свете философско-
культурном это — только смена форм и перемена лиц. Другое дело
революция в порядке идейном, культурном, духовном, революция
«сознания». Это уже не одни формы и лица, это — действительно
новые меха, действительно новое вино, действительно новые
«личности», с душами, наизнанку вывороченными. Все мироощущение,
жизнепонимание, вся «идеология» должны быть принципиально
новыми.
Насколько все это верно, настолько ясно, что революция — итог,
который также может быть критерием и завершением, в свете
которого вполне допустимо рассмотрение любого, в том числе и
идейного, материала нашей истории. В философско-культурной
перспективе, которая таким образом раскрывается, располагается контекст,
о котором я говорил, и методологически это есть не сужение
горизонта, а только его определение.
Действительное затруднение, которое тут возникало передо
мною, возникало, скорее всего, из того, что сама революция еще
38
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
не кончилась, и мой «итог» может оказаться шатким, ибо известно,
сколько уже высказано ложных оценок и сколько создано
преждевременных выводов из:за того, что новый этап принимался за конец
и иллюзорные ожидания — за действительный расчет. На это я мог
бы сказать то, что подвожу итог отнюдь не революции, а предрево-
люции. Конечно, в самой революции есть факты и события,
которые могут повлиять и на отношение к прежнему. Эти события еще
не все изжиты, и невозможно даже предвидеть, в каком нечаянном
образе они еще предстанут. Так, в порядке духовной идеологии не
может не вызвать переоценок, поскольку процесс рассматривается
именно в свете конца, недавний факт образования «живой церкви».
А кто мог бы его учесть всего несколько месяцев тому назад?
Сколько прежних, не вовсе отмерших, учений и теорий выглядят теперь
в новом свете! Для них этот «факт» едва ли не самое крупное
событие революции. Я тоже думаю, что это событие может иметь
крупное значение, настолько крупное, что его следовало бы стараться
понять и обнять в еще более широком захвате, чем русская только
культура. Это — факт, который не может не иметь значения для
всей угасшей и истлевающей христианской культуры. Но именно
эта необходимость заставляла меня быть более осторожным и не
заглядывать так далеко. Здесь я останавливался точно так же, как
перед прогнозами идеологии будущей интеллигенции. И опять
возможные прегрешения — мои личные прегрешения, а не
дефекты метода. Они так же легко могут быть корригированы читателем,
как и мною, если бы мне понадобилось вернуться к этой работе с
целью исправления ее.
В целом, если моя вера в русский Ренессанс, в новую, здоровую
народную интеллигенцию, в новую, если угодно, аристократию,
аристократию таланта, имеет основание, и если этот Ренессанс
принесет с собою и новую философию в той стадии развития,
которую я считаю высшей, то наша революция в философско-
культурном аспекте «сознания» должна побуждать к настроениям
оптимистическим. И такой оптимизм, в моих глазах, есть здоровый
оптимизм.
Разногласий во взглядах, мнениях и оценках обнаружится у моих
читателей и критиков со мною, разумеется, много, но также
разумеется, что это меня уже менее беспокоит. Поэтому здесь общие
объяснения и оправдания мне хотелось бы кончить. Каковы бы ни были
Очерк развития русской философии
39
качества моей работы, хотя бы частично она оправдывается
количеством захваченного мною материала. Все-таки в этом отношении
моя работа остается первою. Лишь после нее мне ли или кому
другому можно будет пускаться в более скрытые глубины и «контексты», и
самого философского русского слова.
Что касается специально самой работы как процесса, то,
признаюсь, часто с досадою и раздражением останавливался я перед тем,
что считал первоначально надежным пособием и руководством.
Досадно было, что приходилось терять время на розыски и
исследования, которые давным-давно должны были бы быть произведены,
если бы мы серьезнее и культурнее относились к своему прошлому
Говорю о «потере времени» не из высокомерия и высокой
оценки своего труда, а с точки зрения своих задач. Для
синтезирующего очерка мне приходилось пускаться в исследования, результаты
которых в таком очерке могли быть отмечены подчас лишь одною
строкою, словом-эпитетом или даже просто пройдены молчанием.
Раздражало, когда приходилось наталкиваться на ложные указания
и поспешно-легкие выводы, выбрасывавшиеся без всяких поводов
и мотивов, заимствовавшиеся из популярных компиляций
популярных дилетантов и случайных суждений случайных авторитетов,
повторявшиеся без проверки от автора к автору, от книги к книге и
только сбивавшие с правильного пути, опять-таки заставлявшие
терять силы и время на поиски в направлении, не ведущем к цели, а
удаляющем от нее. Некоторые отступления в тексте изыскательного
и полемического свойства, которые могут показаться излишними, —
хотя я и сам очень от них воздерживался, — есть дань этой моей
неудовлетворенности, а полемические, кроме того, и дань, по большей
части, моего уважения к соответствующим авторам. Впрочем, эти
отступления выделены отступлением и сжатием набора.
Но теперь, когда я обозреваю затраченную работу в целом,
сгладилась досада, спало раздражение, и я не могу не благодарить хотя
и немногочисленных своих предшественников. Я вижу, что без их
работы мне было бы еще труднее, а многое и вовсе укрылось бы от
меня. В особенности не могу без благодарности вспомнить о
работах по истории русской философии Я. К Колубовского и Э. Л. Рад-
лова, а отчасти и о «Материалах» проф. Е. А. Боброва. Еще полезнее,
конечно, монографические и специальные работы кн. Е. К
Трубецкого (о Вл. Соловьеве), С. А Аскольдова (о Козлове), Я А Бердяева
40
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
(о Хомякове),В. Ф.Эрна (о Сковороде), И.И.Лапшина (о Радищеве),
Д. П. Миртова (о Каринском) и др. Не меньше, а подчас и еще
больше я обязан историкам нашей литературы, в особенности авторам
таких исследований, как исследования Я. К. Козмина (о Надежди-
не), П. Н. Сакулина (о кн. Одоевском), М. О. Гершензона (о Чаадаеве),
А А Корнилова (о Бакунине) и др.1
Из друзей, сочувствовавших моей работе и помогавших мне, не
могу не назвать Е. К Коншину, чья помощь, давшая возможность
пользоваться труднодоступными книгами в наиболее для меня
благоприятных условиях, сберегла мне много времени и сил.
К П. Сидорову, предоставившему в мое пользование свою ценную
библиотеку и передавшему некоторые из своих книг в мое полное
владение, выражаю также особую благодарность.
Исключительною благодарностью считаю себя обязанным
книгоиздательству «Колос». Когда мы убедились, что затеянная нами
многотомная коллективная История русской философии по
обстоятельствам времени надолго откладывается, был задуман мой «Очерк»
в размере 10-15 листов. Написав только первую главу, я просил уже
о 20 листах, которые очень скоро перешли в план двух выпусков,
каждый по 15 листов. Мы уже приступили к набору, когда стали
рассчитывать на два выпуска по 20 листов. С единицами и нулями мы
теперь легко умеем справляться, и мы заговорили о 30 листах
каждого выпуска. Лежащая перед читателем Первая часть есть первый
выпуск из предполагаемых уже трех. Невзирая на возраставшие таким
образом технические трудности и материальные затраты,
издательство, в лице преимущественно Ф. И. Витязева, неизменно выражало
сочувствие и ободрение моей работе. Я уж не говорю о том, что,
несмотря на некоторые идейные расхождения с общим направлением
«Колоса», мне даже и намека не приходилось слышать, который мог
бы оказать давление на свободу моих убеждений, взглядов или на
мою научную совесть, я хочу только подчеркнуть, что и со стороны
чисто «издательского» отношения и материальных условий, в
которые я был поставлен, «Колос» обнаружил предельную Liberalitatem.
Это выручило меня в тягчайшие дни нашего тяжкого времени и
сохранило во мне много душевной бодрости. Припоминая, в какие
тиски попадали иногда мои друзья писатели и мои ученые коллеги, и
зная, как берег и спасал меня от этих тисков «Колос», не могу не
чувствовать, что я ему обязан жизненно.
Очерк развития русской философии
41
Могу только пожалеть, что не все наши писатели нашли таких
друзей-издателей. В особенности мне хочется назвать из членов
издательства ставшие для меня дружескими имена Ф. И. Витязева-
Седенщ А И.Доброхотовой, В. П. Бровкина.
Индекс к этой книге составлен моею дочерью Л. Г. Шпет.
Москва, 1922 г. 17 авг.
Невегласие
Говоря о периодах русской истории, проф. Е. Голубинский2
замечает: «Периоды Киевский и Московский собственно представляют
собою одно целое, характеризуемое отсутствием действительного
просвещения, которого мы не усвоили с принятием христианства
и без которого оставались до самого Петра Великого». Нельзя
признать это суждение ни крайним, ни преувеличенным, если только
под просвещением, под образованностью и под наукою понимать
не отвлеченные обозначения, а конкретные категории европейской
истории. Несомненно, что константинопольские священники,
сделавшиеся первыми русскими духовными пастырями, ввели грамотность в
церковные и государственные дела. Но также несомненно, что вплоть
до образования Московского государства, как и долгое время после
этого, русская элементарная грамотность недалеко выходила за
пределы самой церкви, двора и государственных канцелярий.
Другой русский историк, В. Иконников3, в следующих словах
резюмирует положение вещей: «В строгом смысле слова, до XVII века
[надо полагать, включительно] у нас не было науки; наша
литературная деятельность того времени верно характеризуется
названием книжность. Она стояла в самом тесном отношении к религии и
была ее результатом; книжность должна была удовлетворять только
религиозным потребностям. Это подтверждают характер школ,
содержание книг и общий уровень знания».
Широкой образованности, и тем более науки, хотя бы
богословской, при таких условиях ждать не приходится. Духовенство и знать
не только не имели представления о научных и философских
интересах, но не составляли даже, как то было в новой западной
истории, прочного образованного слоя нации. Сколько древние русские
«Поучения» и «Слова» говорят о низком культурном уровне, о
дикости нравов и об отсутствии умственных вдохновений у тех, к кому
42
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
они обращались, столько же они свидетельствуют об отсутствии
понимания задач истинной умственной культуры у тех, от кого они
исходили. Не видно, чтобы и нравственный уровень руководителей
христианским духом народа всегда находился на должной высоте.
В той же преданности, какую поучители видели у народа, обычаям
треклятых эллинов, бесовским позорищам язычников и прочим
деяниям, вызывавшим негодование «Поучений», изобличает
Владимирский Собор (1274 г.) духовенство en masse4. И даже больше, он
к этому присоединяет еще целый ряд пороков не эллинского и не
языческого, а чисто христианского происхождения.
Жестокие последствия монгольского нашествия показали и
внешнюю и внутреннюю слабость складывавшегося в Киеве государства.
Церковь в такой же мере не была в состоянии оправдать возможных
надежд государства, как государство не было в состоянии
организовать ее в качестве своего орудия. Заявленное в «Правиле»
(Владимирский собор 1274 г.) митрополита Кирилла желание упорядочить
церковь не показывает стремления достигнуть этого путем
просвещения. Жалкая наша письменность и зачатки школ, подготовлявших
к ней в XIII, XIV, XV веках, сосредоточиваются в монастырях. И если
к концу этого периода письменность выходит за пределы
монастыря в борьбе с еретиками, — коих «вся сожещи достоит», — то
готовая скорее отнести к еретичеству всякое проявление ищущей
мысли, чем поддержать и удовлетворить духовное искание. Между тем
умственный и культурный уровень низшего духовенства неуклонно
опускался до полной безграмотности и нравственной
распущенности, вызывавших серьезное беспокойство в верхах церкви
(например, Геннадий Новгородский), впрочем, также иногда попрекаемых
в «ненаказании и небрежении и лености и пьянстве».
Соборы нового государства, поскольку они не заняты только
проклятием еретиков (напр. Собор 1490 г., Соборы 1553-1554 гг.)
также не идут дальше административных предположений и
исправления некоторых формальных сторон чина богослужения (Соборы
1503-1504 гг. и в царствование Грозного, включая и Собор
Стоглавый), да поучений «попам-невегласам», культурному развитию
которых Стоглав5 подводит знаменательный итог: «ставленники,
хотящие в дьяконы и в попы ставитися, грамоте мало умеют», «а попы и
церковные причетники в церкви всегда пьяны и без страха стоят, и
бранятся, и всякие речи неподобные всегда исходят из уст их... попы
Очерк развития русской философии
43
же в церквах бьются и дерутся промеж себя, а в монастырех тако же
творят...». Одно с другим, императив с фактом — «поучение инокам»
(XIV века) гласит: «книгам не учи», и факт: среди игуменов, чернецов
и мирских попов «пьянственное питие безмерное».
Правда, именно Стоглавый собор завершил ожесточенную брань
двух церковных идеологий, но опять-таки в порядке управления, а
не решения принципиального. Борьба заволжских старцев с
«презлыми осифлянами»6, несомненно, имела значение для развития
национально-государственного сознания, а не только для
монастырской идеологии. Но в ней так же не было научной или
наукообразной аргументации, как не было и философского обоснования.
Начетничество осифлян, с одной стороны, псевдорационализм и
умное делание «нестяжателей», прямо доставленное к нам с Афона,
с другой стороны, были двумя выражениями одной — всецело
восточной — психологии.
Незадачливый Максим Грек7 со своею — действительною или
мнимою — ученостью поддержал направление востока более
просвещенного против востока варварского. Его выступление было
неудачно и в сущности нетактично, как ему мог на это раскрыть глаза,
если он этого раньше не видел. Стоглавый собор,
санкционировавший осифлянскую идеологию. Существует мнение, что «в лице
Максима Грека в первый раз проникло к нам европейское просвещение,
тогда уже зачинавшееся, и бросило, хотя еще слабые, лучи свои на
густой мрак невежества и суеверий, облегавший Россию» (митроп.
Макарий). Сообразно этому некоторые считают, что Максим Грек
послужил первым звеном, соединяющим русскую «книжность» с
западною научною школою» (Пыпин)8. Символично, что это «звено»
было прикреплено в темнице Волоколамского монастыря. Реально
же — сомнительно, чтобы Максим Грек обладал европейским
просвещением и мог быть проводником европейской науки и
философии. Во время посещения им Италии Европа сама была лишь
накануне своей новой науки. Если судить по его мнениям об еретиках,
кончине мира и т. п., а также по тому, что в вопросах космологии
для него авторитетом остается Козьма Индикоплов, то он не
весьма возвышался над господствовавшими в Москве представлениями
и над воззрениями судей, обвинявших его в «волшебных хитростях
эллинских». Лишь нравственный уровень Грека бесконечно
возвышался над средним уровнем московского варварства, в котором го-
44
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
сподствовала, по злому выражению преосвященного Макария,
«почти совершенная безнравственность»9.
Князь Курбский, первый наш «западник», хотел видеть в
Максиме Греке своего учителя. Ученик вышел находчивее учителя, найдя
для себя более удобное местопребывание — на западе «от земли бо-
жия», откуда ему можно было безопасно поучать соотечественников.
Непосредственным объектом своего поучения он избрал само
царское место, но, по-видимому, его державный корреспондент лучше
понимал, что соответствует духу московского народа. Царь, можно
думать, воплощал в себе этот дух и прекрасно сознавал это.
Люблинская уния10 должна была бы не только задеть патриотические и
религиозные чувства Курбского11, но и доказать ему, что царь твердо
стоял на почве нового царства. Ни интриги итальянско-византийских
сватов, ни безответственные слова псковского инока не составляли
еще новой идеологии, но творили уже легенду, которая
превращалась в идеологию непосредственно на глазах Курбского. Факт
завершавшегося образования государства идеологически запечатлелся
принятием идеи Третьего Римап как официального мировоззрения
уже ответственных руководителей царства. Венчание Ивана на
царство и победа осифлян на Стоглавом соборе ставили точки над «и»
государственной и церковной политики царя Ивана и митрополита
Макария.
Нужна ли была для всего этого наука и философия? Нужно было
то, что и было: «Четьи-Минеи» и «Степенная книга» митрополита
Макария, с одной стороны, «Домострой» попа Сильвестра — с другой13.
Кое за какими справками, правда, еще посылали на византийский
восток, но со времени Флорентийской унии14 доверие к нему было
подорвано так основательно, что новое государство, желавшее
теперь идти путем совершенно самобытным и самостоятельным, могло
только бояться его знаний и содержания. Нужные же для
собственного оформления схемы уже были им усвоены и осуществляемы.
Между тем не только на отдаленном, но и на ближайшем
Западе совершалось культурное движение, которое могло быть
серьезною угрозою для восточного варварства и которое этим последним
должно было отражаться уже за собственный страх и
собственными силами. Значительная часть исконной Руси, литовская Русь,
подпадала под политическое и культурное влияние латинского Запада.
Старому Киеву с конца XVI века, после Люблинской, но в особенно-
Очерк развития русской философии
45
ста со времени Брестской унии, пришлось стать ареною
ожесточенной борьбы с латинством и энергично отбивать его натиск на
восток. Киев мог, насколько мог, устоять в этой борьбе, лишь перенимая,
по крайней мере, формы западного влияния. Возникшая в начале
XVII века Киево-братская школа (1613), затем Могилянская коллегия
(1631), копировала свою организацию с готовых образцов, но
ставила перед собою задачи научного охранения своей традиции,
своего мировоззрения. Впервые философия проникает к нам, хотя и в
скромной, на Западе отжитой, роли служанки богословия. Большего
русский восток в то время не мог бы вместить. Само возникновение
наукообразного богословия уже должно считаться свежим веянием
в душном тумане всеобщего невегласия.
Смуты и разруха междуцарствия отвлекли было Москву от
положительного строительства. Но когда миновала болезнь, и
государство вернулось к органической жизни, его идеология осталась
прежнею и психологически окрепшей, пустившей более глубокие
корни в национальном сознании. Принципиальной почвы, однако,
оно по-прежнему не имело, и по-прежнему казалось, что достаточно
только оторваться окончательно от старой связи с феками, чтобы
обнаружилось и восторжествовало свое, самобытное. Русский народ
оставался благочестивым, но невежественным: «таково невежество
русского народа, — пишет иносфанный свидетель и участник
Смуты, — что не найдется и трети, которая знала бы "Отче наш" и
"Верую во единого". Можно сказать, что невежество народа есть мать
его благочестия; он ненавидит науки и особенно язык латинский;
не знает ни школ, ни университетов. Одни священники наставляют
юношество чтению и письму, чем немногие, впрочем, занимаются»
(Маржерет). Сами наставники для серьезной умственной работы
также не имели ни школ, ни университетов.
Пришло время, однако, поставить благочестие под опасность.
С недоверием и неохотою вызывала учеников киевской школы
Москва, в своем темном невежестве надеявшаяся простым
исправлением книг и обрядов обрести почву для государственного
мировоззрения. Стало во всяком случае ясно, что для выполнения даже этой
скромной цели своего доморощенного «наставления» было мало.
Один за другим стали в Москве появляться киевские ученые иноки.
«И это было весьма кстати, — констатирует историк русского
просвещения (Пекарский), — для просвещения в России, но не вовремя
46
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
для них лично. В ту пору невежество доходило там до того, что ни
одной книги не могли напечатать, не наделав тьму ошибок, не
повредив самого простого'смысла текста, а в заключении не
попросив смиренно отпущения ошибок. Но последнее было только на
бумаге...»*
В сущности, Москве все еще предстояло сделать то, что должен
был совершить Стоглавый собор: нужно было осуществить в
порядке культуры то, что выполнялось лишь в порядке управления. Для
этого нужно было отказаться от специфически восточной мысли,
будто правительство может управлять всем, в том числе духовным
творчеством. Уничтожить свою аристократию московскому
правительству удалось, но выполнить за нее ее культурную миссию оно
было, конечно, не в силах. Реформа все-таки была произведена. Она
была произведена в духе того же Стоглавого собора. Зато-нарушение
буквы Стоглава вызвало раскол15. Фатальным образом, однако,
раскол претендовал и претендует на сохранение народной
самобытности. Старообрядческие историки нашли за «буквою» живую идею об
участии самого народа в церковной жизни. И на деле
старообрядчество осуществило свою нравственную и свою духовную культуру,
истинное значение которой не раскрылось и пропало для истории,
потому что культура эта не была принята в государственные формы.
А реформа Никона, если и носит на себе едва заметные блики
западного влияния, все же, каково бы ни было ее государственное
значение, в культурном отношении оставалась бесплодною. Ее культурно-
просветительная деятельность сводилась силою вещей к борьбе с
расколом.
XVII век в западной Европе — век великих научных открытий,
свободного движения философской мысли и широкого разлива
всей культурной жизни. Последний не мог не докатиться и до
Москвы — против ее собственной воли. Блестящее одиночество в Евро-
* Существуют попытки смягчить впечатление, вызываемое
необразованностью Московского государства. Так, акад. А. И. Соболевский в интересной
актовой речи «Образованность Московской Руси XV-XVII веков» (Изд. 2. СПб., 1894)
считает, что «жалобы Геннадия, отцов Стоглавого собора и Посошкова должно
принимать с большими ограничениями». Но собственная «статистика»
автора, — если даже согласиться, что она методологически безупречна, —
доказывает, что можно, пожалуй, говорить о некоторой относительной, «с
ограничениями», грамотности, но тем меньше остается оснований говорить об
образованности Москвы.
Очерк развития русской философии
47
пе восточного варварства начинало быть препятствием для развития
самой Европы. Со второй половины века западное влияние
пробивается в Москву все глубже с каждым десятилетием, если не с каждым
годом. В ночной московской тьме стали зажигаться грезы о свете и
знании. Одних, как Котошихина16, эти грезы выгоняли из Москвы
на Запад, другие, подобно Ртищеву17, пытались как-то воплотить эти
грезы на месте, но, признанные «злотворцами», они жестоко
платились за «рушение» веры православной. Уделом культурных усилий и
тех и других одинаково было ничтожество. Народ русский охранял
свое невежество за непроницаемой бронею и умел заставить
молчать мечтателей. Государственные верхи все больше уходили от
народа, и если не хотели уберечь своих, то зато и не могли уберечься
от чужих. Окцидентированные18 греки, как братья Лихуды19, и
славяне, как Крижанич20, или киевские выученики, как Симеон
Полоцкий21, были в Москве не случайными и сходного типа гостями, хотя
принимали их здесь по-разному. Можно сказать даже, между ними и
под их влиянием в Москве образовалось нечто вроде борьбы
культурных мнений, как бы в результате которой получилось
своеобразное их объединение в Спасском монастыре за Иконным рядом.
В Славяно-греко-латинскую академию22, действительно,
выливаются вместе и училище добродетельного Ртищева, куда он из Киева
призвал «иноков изящных в учении грамматики словенской и
греческой, даже до риторики и философии», и педагогическая пропаганда
ораций схоластического Симеона Полоцкого, требовавшего от царя
«взыскати премудрости», и от начала до конца враждебная латинству
деловитость первых заправил Академии, кефалонийских братьев.
Как бы ни оценивать преподавательскую деятельность их в свете
науки, факт организации первого в Великой России учреждения,
откуда могло бы произрасти научное просвещение страны, мог бы
открыть в истории этой страны новую эпоху. Если этого не случилось,
то, вероятно, потому, что все же это учреждение было для Москвы
«привозным» и могло интересовать только верхи, заправлявшие
государственною и церковною жизнью народа. Оно не выросло из
потребностей, сознанных нацией в целом.
Академия примиряла славянство, эллинство и латинство в
обезличенной, давно умершей и высохшей схоластике. Пока во главе
Академии стояли Лихуды и их ближайшие, уже из русских,
ученики (Феодор Поликарпов и Николай Семенов), в ней преобладали
48
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
тенденции византийско-схоластические; Академия и называлась
Эллино-греческою (sic!) школою. Но лишь она перешла в новое
ведение (Палладия Роговского), она повлеклась к западному
просвещению в его латинско-схоластической форме; тут и именоваться
она стала Латинскою или Славяно-латинскою, и только к концу века
она оформилась как Академия Славяно-греко-латинская. Новое
царствование в новом веке, сперва по безразличию к этому делу, а затем
по сочувствию, благоприятствовало повороту в сторону «латинства».
Что касается отношения к новому источнику просвещения самого
народа, то народ московский по своему культурному сознанию едва
ли стоял теперь выше того уровня, на котором он был за сто лет до
этого, когда он разрушал первую московскую типографию,
открытую при Грозном, спустя сто лет по изобретении книгопечатания.
Народ просто молчал, — может быть, потому, что ему нечего было
сказать, ибо, выделив в раскол наименее равнодушных, он в своей
массе стал более равнодушным, а может быть, и потому, что в
Москве научились заставлять его молчать. Важнее всего, что пришел
Великий Петр и заставил замолчать и народ, и остатки знати. Вместе
с ним началась действительно новая эпоха.
К южному источнику культурных веяний присоединен был
Петром источник северный. Если там дуло латинством и
средневековым католицизмом, то с севера пахнуло реформаторством и новою
Европою. Сквозной ветер должен был освежить невежественный
покой России, прежде чем можно было приступить к какой бы то ни
было культурной работе. Киев оказал Петру безмерную поддержку.
По пути, проложенному Симеоном Полоцким и Димитрием
Ростовским, пошли вперед такие ученики киевской школы, как Стефан
Яворский23, Гавриил Бужинский24, Феофан Прокопович25. По доброй
их воле или против воли, Петр заставил всех действовать, как ему
нужно было. Московская академия продолжала выполнять свое
назначение в новом духе, но только до поры до времени, и в
суживавшихся пределах она оставалась источником образования деятелей
культуры, церковной и светской вместе. Задачи последней Петром
сознавались как задачи независимые, и приходилось думать о новых
средствах их разрешения. Ясно одно, что роль духовенства как
источника просвещения, как интеллигенции русского народа
кончилась. Интеллигенцией русскою с Петра становится правительство и
остается в этой роли больше ста лет. «Власть архиерейская» долж-
Очерк развития русской философии
49
на была подчиниться «власти царской» и стать ее покорным
органом. Устарел прежний, выдающий авторов своим стилем, принцип:
«Господь Бог всесильный, когда небо и землю сотворил, тогда двум
светилам, солнцу и месяцу, светить повелел, и через них показал нам
власть архиерейскую и царскую. Архиерейская власть сияет днем;
власть эта над душами. Царская власть в вещах мира сего». Новый
принцип требовал нового стиля, краткого, властного. Речевитие
заменялось приказанием. «Власть архиерейская», говорили теперь,
должна подчиниться, ибо она «не есть иное государство». Перед
духовенством встали новые задачи образования. Однако в одном, по
крайней мере, тенденции светской образованности все же сошлись с
тенденциями новой духовной образованности: с византизмом было
кончено и по форме и по содержанию. Зато положительно — спор
вроде того, что имел место между Стефаном Яворским и Феофаном
Прокоповичем, не вызывал теперь общего интереса и не имел ни
государственного, ни решающего практического значения. Возникала
специальная богословская наука, интересная для немногих.
Россия вошла в семью европейскую. Но вошла, как сирота.
Константинополь был ей крестным отцом, родного не было. В
хвастливом наименовании себя Третьим Римом26 она подчеркивала свое
безотчество, но не сознавала его. Она стала христианскою, но без
античной традиции и без исторического культуропреемства.
Балканские горы не дали излиться истокам древней европейской культуры
на русские равнины. Тем не менее в наше время произносятся слова,
будто Россия более непосредственно, чем Запад, восприяла
античную культуру, так как де она почерпала ее прямо из Греции. Если бы
это было так, то пришлось бы признать, что Россия эту культуру
безжалостно загубила. Россия могла взять античную культуру прямо из
Греции, но этого не сделала.
Варварский Запад принял христианство на языке античном и
сохранил его надолго. С самого начала его истории благодаря знанию
латинского языка, по крайней мере в более образованных слоях
духовенства и знати, античная культура была открытою книгою для
западного человека. Каждый для себя в минуты утомления новою
христианскою культурою мог отдохнуть на творчестве античных
предков и в минуты сомнения в ценности новой культуры мог
спасти себя от отчаяния в ценности всей культуры, обратившись
непосредственно к внесомненному первоисточнику. И когда настала
50
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
пора всеобщего утомления, сомнения и разочарованности,
всеобщее обращение к языческим предкам возродило Европу.
Совсем не то было у нас. Нас крестили по-гречески, но язык нам
дали болгарский. Что мог принести с собой язык народа, лишенного
культурных традиций, литературы, истории? Солунские братья
сыграли для России фатальную роль... И что могло бы быть, если бы,
как Запад на латинском, мы усвоили христианство на греческом
языке? Византия не устояла под напором дикого Востока и отнесла
свои наследственные действительные сокровища туда же, на Запад, а
нам отдала лишь собственного производства суррогаты,
придуманные в эпоху ее морального и интеллектуального вырождения. Мы,
напротив, выдержали натиск монголов, и какое у нас могло бы быть
Возрождение, если бы наша интеллигенция московского периода
так же знала греческий, как Запад — латинский язык, если бы наши
московские и киевские предки читали хотя бы то, что христианство
не успело спрятать и уничтожить из наследия Платона, Фукидида и
Софокла... Вместо того, открывший собою наш московский
Ренессанс первым провозглашением идеи Третьего Рима, старец
Елизарова монастыря похвалялся: «Аз — сельский человек, учился буквам, а
еллинских борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни
с мудрыми философы в беседе не бывал, — учуся книгам
благодатного закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от греха».
Это — просвещенный представитель века, в нем уничижение паче
гордости. А современная ему непритязательная приходская паства
формулировала просветительные итоги восточного православия
прямее и общее: «земля, господин, такова: не можем найти, кто бы
горазд был грамоте». Это вполне соответствует восточному идеалу,
как показывает аргументация, развитая по поводу того, что в
«стране, глаголемой казацкая земля, суть неции, иже в Риме и Польше от
латинов научени», и отправленная в Москву со священного востока в
конце XVII века (1686): «довольна бо есть православная вера ко
спасению и не подобает верным прелыцатися чрез философию и
суетную прелесть» (иерусалимский патриарх Досифей).
Патриарх боялся соблазна западной «прелести», но не
догадывался противопоставить ей дух живой веры в ее действительном
источнике. Он не догадывался, хотя бы с опозданием, присоветовать Руси
обратиться к языку живого церковного предания и святоотческих
писаний. Он не понимал, что русская мысль, оторвавшись от источ-
Очерк развития русской философии
51
ника, беспомощно барахталась в буквенных сетях «болгарского»
перевода. При общем невежестве его доступность с течением времени
не росла, а уменьшалась. Но и в самых пределах доступности — как
он мог служить на пользу духа и веры? Его жалкий объем
исчерпывался, и тогда нередко пополнялся «писанием», которое
признавалось божественным, потому что было освящено языком, но
которое в действительности было подлогом под «боговдохновенность»
и даже иногда пародией. Невежество дорожило им как подлинной
ценностью и запутывалось, дрожа над каждою буквою и каждым
знаком, в безнадежном буквализме. Восточный патриарх не предвидел,
что истинная опасность — в соблазне для первого сколько-нибудь
свободного ума подвергнуть сомнению неизменность и
неприкосновенность йоты. Если бы он все это видел и понимал, он,
может быть, ужаснулся бы перед судьбою народа, Ренессанс которого
должен был свестись к грамматическому исправлению отравившей
его буквы другою, столь же ему чужеродною, буквою. Само слово для
Руси так и не стало плотью.
В общем итоге московской истории получилось, что всю
культуру, а потому и философию и науку, России не пришлось почерпать
из эллинских и римских источников. Творение же в истории, как и в
природе, бывает только один раз. Поэтому, когда созрело время для
рождения русской культуры, пришлось русскому народу
отсутствовавшее у него слово заимствовать у тех, кто от предков не отрекался,
соблазна их не страшился и буквою не прикрывал своей духовной
наготы. Еще раз чужой язык стал посредником между источником
духа и русскою душою. Россия начала свою культуру с немецких
переводов. И это есть новая Россия — Россия Петра — вторая Россия.
В начале XVIII века «Europäische Fama» писала: «Из европейцев,
к которым медленнее прочих прививается просвещение, татары и
русские находились в самом лучшем положении. Первые и доныне
остаются еще в неописанном невежестве, напротив, последние
постоянно преобразовывают себя по образцу немцев и при помощи
несравненных учреждений ныне царствующего государя, начинают
смотреть не одним, но обоими глазами» (цит. у Пекарского).
Этим констатировалось как совершенное то, что предвиделось
некоторыми еще в средине XVII века. Сравнительно медленно
латинство овладевало западною окраиною России, Литовскою Русью.
Обходным путем, через Киев оно стало, наконец, просачиваться в
52
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Москву, пока не схватилось в ожесточенной схватке с восточною
ортодоксией в самом Кремле. Не самобытное славянство победило, а
тот tertius gaudens27, который под шумок конфессиональных и
обрядовых споров прямо проник к царскому двору с полезным товаром
в одной руке и с полезным знанием в другой. Действительная ересь
укреплялась на окраинах Ивангорода, и аккуратно-трудолюбивый
быт немецкого мещанства пускал прочные корни на девственной
почве ленивого восточного варварства. Время от времени хозяева,
забыв долг гостеприимства, громили гостей, но мало-помалу
конвертировали изречение собственной мудрости: кого люблю, того
бью, и стали кое-чему у битого учиться. Напрасно
препровожденный ласковым царем в Азиатскую Россию, проповедовал
самобытное рождение России утопический Крижанич: из Тобольска в Москву
было плохо слышно — и к лучшему, потому что иногда он хватал
через край. Не только против новшеств политических и
вероисповедных он восставал: «Греки научили нас некогда православной вере;
немцы нам проповедуют нечестивые и душепагубные ереси. Разум
убеждает: грекам быть весьма благодарными, а немцев избегать и
ненавидеть их, как дьяволов и драконов». И не только «телесная
распущенность» и изнеженный быт иностранцев его отталкивают:
дома, мол, их располагают к изнеженности, ибо содержатся в такой
чистоте, что гостю и плюнуть на пол нельзя, чтобы служанка тотчас
не подтерла, — «не будем подражать чересчур заботливой и не
жалеющей труда чистоплотности немцев». Он восстает, не жалея
также труда, и против западной науки: «Немцы стараются нас увлечь в
свою школу. Они навязывают нам под видом наук дьявольские кудес-
ничества, астрологию, алхимию, магию. Они советуют свободные,
т. е. философские, знания выбросить на общее употребление и
сделать доступными каждому мужику. Греки осуждают всякое знание,
всякую науку и предлагают нам невежество. А разум убеждает, чтобы
дьявольских кудесничеств мы избегали точно так же, как самого
дьявола, и признали, что невежество не может произвести ничего
хорошего; чтобы к философским наукам мы относились не так
стремительно и свободно, как относятся к ним немцы, но чтобы изучали
их с тою умеренностью, с какою их изучали и преподавали святые
отцы. Ибо святые отцы умеренно излагали и восхваляли
философские науки, и потому никто не может отвергнуть философию,
чтобы вместе с тем не отвергнуть и отцов святых. Но как всякое почти
Очерк развития русской философии
53
добро, если будет излишне, обращается во зло, так и философия,
если будет общим достоянием целого народа, приносит с собою
много вопросов и волнений и многих отвлекает от труда к
праздности, как мы это видели у немцев... Нельзя и философию делать
доступною народу, но только благородному сословию и немногим
из простолюдинов, специально для того назначенным, сколько их
потребуется для государственной службы. Иначе — достойнейшая
вещь профанируется и пошлеет: бисер мечется перед свиньями»*.
Что сказали бы на это действительные, не дегенерировавшие греки,
об этом Крижанич, вероятно, не думал. Сам он — слишком под
влиянием их ориентированных потомков и восточно-православной
премудрости. Едва ли бы Россия стала европейскою и возглавила собою
славянство, как хотелось Крижаничу, если бы послушалась
благонамеренного «разума» Крижанича.
Начавшаяся при Петре европеизация России сказывается в
сфере образованности прежде всего тем, что просочившееся уже к нам
богословское знание отводится в надлежащее ему русло. Государство
как такое обращается к науке европейской, светской. Нет ничего
при этом удивительного, что сам Петр и его ближайшие
помощники ценят науку только по ее утилитарному значению — таково
свойство ума малокультурного. Невежество поражается практическими
успехами знания; полуобразованность восхваляет науку за ее
практические достижения и пропагандирует ее как слугу жизни и
человека. Но наука имеет свои собственные жизненные силы и свои
имманентные законы развития. Служение науки человеку после
магии оккультных сил колдовства, алхимии и астрологии нагляднее
всего обнаруживается в опытном и математическом познании
природы, с одной стороны, и в систематическом познании человека и
его общественных отношений, с другой стороны. Вторая стадия в
культуре науки ведет к более углубленному пониманию названных
отношений через изучение истории человека в его быте, нравах,
* Ср.: Вальденберг В. «Государственные идеи Крижанича». СПб., 1912. С. 268
и ел. В названном исследовании целая глава (II) посвящена изложению
«философии» Крижанича. Из изложения видно, что у Крижанича больше о
философии, чем самой философии. В общем, однако, можно сказать, что его
мировоззрение соединяет аристотелевскую схоластику с библейским
провиденциализмом. Последняя черта, как то и отмечает автор исследования, приводит
Крижанича в соприкосновение со старцем Филофеем (С 57 и ел.).
54
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
творчестве. Еще позже зарождается незаинтересованный интерес
к силам, движущим человека, к его душе, мировоззрению, идеям, к
его, наконец, сознанию, словом, философский интерес в
очищенном, непрактическом смысле. Магическое понимание науки здесь
путем длинной метаморфозы перешло в эротическое.
Поднявшееся до этой ступени культурное сознание задается уже критическим
вопросом, что пользы в самой пользе, и открывает более широкие
перспективы жизни, самое жизнь видит шире и выше того, «что
человек есть», любит науку за бескорыстную радость творчества. В
философии высокое культурное сознание находит самого себя, довлеет
себе, и в практических приложениях не нуждается, ибо все
«приложение» философии — ее вольное бытие.
Отдельные умы в своем индивидуальном развитии могут раньше
или позже дойти до этой последней стадии культурного сознания,
но для общественного осознания к ней лежит многовековой путь.
Русское общественное сознание до сих пор остается
полуобразованным. Но у него уже есть история, и те предварительные стадии им
последовательно пройдены. История нашей науки началась с Петра,
но протекала в потемках общественного философского сознания.
Лишь к концу второго века после Петра стало светать, отдельные и
одинокие вершины зарделись золотым светом, умы стали
просыпаться и разбрелись для дневной работы. В этом — история русской
философии. Философское сознание как общественное сознание,
философская культура, сама чистая философия как чистое знание и
свободное искусство в России — дело будущего.
II
Оглянемся на ближайшие условия, при которых прозябала
философия в потемках русского невегласия.
Паисий Лигарид, прибывший в Москву при царе Алексее (1660)28
имел случай высказать такое мнение: «Искал я корня сего духовного
недуга, поразившего ныне Христоименитое царство Русское, и
старался открыть, откуда бы могло произойти такое наводнение
ересей на общую нашу пагубу, — и, наконец, придумал и нашел, что все
зло произошло от двух причин-, от того, что нет народных училищ
и библиотек. Если бы меня спросили — какие столпы церкви и
государства? Я бы отвечал: во-первых, училища, во-вторых, училища и,
в-третьих, училища». И он обращается к царю с убеждением: «Ты убо,
Очерк развития русской философии
55
о пресветлый царю, подражай Феодосиям, Юстинианам и созижди
зде училища ради остроумных младенец, к учению трех язык
коренных, наипаче: греческого, латинского и словенского...».
В ту пору источник крамолы видели в иноверии и расколе, и
когда, наконец, высшее училище было открыто, ему были
предоставлены все средства для искоренения ересей. Ему была предоставлена
монополия на обучение — заводившие без разрешения Академии
домашних учителей языков подвергались конфискации
имущества. Ему было вменено в обязанность наблюдать за образом
мысли и жизни и своих, и иноверцев, обращение коих в православие
поощрялось угрозами ссылки в Сибирь и костра: «без всякого
милосердия да сожжется». По словам историка (Соловьева), это было
не училище, но «страшный инквизиционный трибунал» — ибо, как
тогда «наблюдали», показывает процесс последователей Якова Бе-
ме29 (Кульмана и Нордермана), которых изжарили в Москве (через
два года по выходе в свет «Principia» Ньютона и за год до «Опыта»
Локка30*. Наконец, училищу дано было право преподавать даже
Аристотеля, но только «согласно с религией и православием».
Образовательные задачи Славяно-греко-латинской академии
таким образом упрощались до крайности. Но при Петре эти задачи
потеряли всякую остроту и всякий смысл. Не случайно, что
Академия уже в конце XVII века падает, учителя не справляются со своим
делом и предпочитают своей деятельности занятие «справщиков» в
типографии. Для государства нужны были новые школы, и не с
отрицательными только задачами, нужны были положительные
столпы и опоры. Цифирные, навигацкие, артиллерийские, инженерные
школы Петра** были призваны к этой роли и удовлетворяли до
некоторой степени нужды государства. С другой стороны, по
непосредственному распоряжению Петра появляется ряд научных переводов
по вопросам самой государственной практики как такой.
Переводятся и отчасти печатаются книги из области наук юридических и
политических. Возникают частные библиотеки (напр., гр. Матвеева,
* В то время, как христианский Запад сжигал уже только ведьм...
Англичане свою последнюю ведьму сожгли в 1716 г. (законы против ведьм отменены в
1736 г.), а немцы — в 1749 г., когда Канту было 25 лет.
** См.: гр. Толстой Д. А «Взгляд на учебную часть в России в XVIII столетии
до 1782 года». СПб, 1885 (Сб. Отд. Русск. яз и слов. Т. XXXIII. № 4).
56
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Брюса, кн. Голицына), содержащие иностранные книги по всем
отраслям знания, в том числе и по философии. Но все же школы при
Петре создаются только профессиональные. Общее образование по-
прежнему могли давать Киевская и Московская академии, а нужды
науки ничем удовлетворены быть не могли. Некультурное
отношение к науке правительства порождало такое же к ней отношение и
со стороны общества. Как подчеркивает историк нашей Академии
наук и самой науки при Петре (Пекарский), подчинение
просвещения целям государства заключало в себе нечто непрочное и
случайное, неблагоприятное для развития науки в России, так как оно
порождало капризный произвол и поверхностность, из которых
вытекало легкомысленное и неуважительное отношение к науке,
наконец, просто равнодушие к ее успехам, если только она не имела
тотчас понятного применения на деле.
Первое положительное влияние самой науки западной
выразилось у нас в учреждении Академии наук. Петр велел «сделать
академию». Но так как ни средних школ, ни университетов не было, или,
как сказано в указе об основании Академии, «прямых школ, гимнази-
ев и семинариев нет, в которых бы молодые люди началам
обучаться, и потом выше градусы наук восприять, и угодными себя учинить
могли», то Петр задумал, учреждая Академию, сразу бить по трем
целям и открыть при ней как высшем ученом учреждении также
высшее и среднее учебные заведения, чтобы «таким бы образом одно
здание с малыми убытками, тое же бы с великою пользою чинило,
что в других государствах три разные собрания чинят». Величайшие
немецкие философы того времени, Лейбниц31 и Вольф32,
способствовали предприятию Петра. Лейбниц внушил идею и план. Смерть
Петра помешала убедить Вольфа переехать во вновь учреждаемую
Академию. Но Вольф участвовал в ее создании и рекомендацией
немецких ученых и подготовкой посланных к нему русских студентов.
Непосредственно из его школы вышел Ломоносов — первый
русский ученый в европейском смысле, хотя в отличие от европейских
ученых и не создавший своей школы.
Науке и Академии Петр хотел предоставить большую свободу и
большие права, ибо «науки никакого принуждения и насилия
терпеть не могут, любяще свободу» («Регламент» 1725 г. § 4). Однако не
только права и свобода, самое существование Академии было
обеспечено плохо. Уже при открытии Академии план Петра осущест-
Очерк развития русской философии
57
вляется не полностью. В историческом («третьем» классе, который
должен был включать в себя, между прочим, также логику,
метафизику, мораль и политику, «философским образом учимую» (§ II),
представители последних не удержались*. Лишь физико-математические
науки были сразу представлены хорошо.
В 1725 году в Академию были приглашены: на кафедру
математики Герман, Дан. Бернулли33, Гольдбах, для химии Бюргер, для физики
Бильфингер, начавший академическую деятельность логикою и
метафизикою, для механики Ник. Бернулли, для анатомии и зоологии
Дювернуа, по кафедре греческих и римских древностей Байер, для
логики и метафизики Мартини, принявший сперва кафедру
физики, на кафедру красноречия и церковной истории Коль, на кафедру
правоведения Бекенштейн. В 1826 году прибыли два астронома: Де-
лиль и на кафедру механики и оптики Лейтман. Еще до открытия
Академии в Петербург прибыл Буксбаум. Наименее удачен был
выбор именно Мартини. (См.: гр. Толстой Д. А. «Академический
университет в XVIII столетии по рукописи, докум. Архива Акад. Наук»
СПб., 1885 (Сборник Отделения рус. яз. Т. XXXVIII, № 6). Бюргер умер
в 1726 г., Коль и Мартини были уволены в 1727 и 1728 годах, а в 1729
и 1731 — Буксбаум и Грос. В 31-м же году уехали Герман и
Бильфингер, а в 33-м — Даниил Бернулли. В 1737 был уволен Байер. Ученый
уровень Академии к этому времени сильно понизился; новые
академики уже не стояли на высоте первых, за исключением знаменитого
Леонарда Эйлера34, назначенного в 27-м году адъюнктом высшей
математики (по рекомендации Дан. Бернулли), в 31 г. занявшего
кафедру физики, на место Бильфингера, а в 33-м, после отъезда
Бернулли, кафедру высшей математики. Имена Эйлера и братьев Бернулли
уже были достаточной гарантией того, что наука была отдана в руки
истинных ученых, вдохновлявшихся знанием, а не службою людям.
Не так смотрела на дело среда и не того ждала. Духовенство,
отставленное от роли интеллигенции, которую оно играло в московском
государстве, ревнительно принялось доказывать свою отвергнутую
компетентность, взяв на себя миссию охранения доброй нравствен-
*Как видно из Протоколов Заседаний конференции Императорской]
Акад[емии] Наук с 1725-1803 гг. (См. Т. 1.1725-1743- СПб, 1897), с ноября 1725 г.
и по март 1727 Grossius и Martinus прочли: первый — 6 докладов на 4 темы
морального содержания, второй — 5 докладов на 3 темы логического и одну тему
метафизического содержания (de principio indiscernibilium Leibnitiano).
58
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ности и экономной государственности. В век солдатских
переворотов, цариц и фаворитов, в век выскочек, опьяненных властью и
самодурством, это было почином своевременным. Особенного
бесстыдства достигло охранительство в царение Елисаветы Петровны.
Цензура невегласов одинаково простиралась и на науки
естественные и на науки исторические. «Припадая к стопам», Синод молил
императрицу воспретить распространение идей, «ведущих к
натурализму и безбожию». Гуманитарные науки были еще раньше (1734 г.)
исчерпывающим образом оценены Синодом в его резолюции на
просьбу Академии о разрешении издавать отечественные летописи
и хронографы: «разсуждено было, что в академии затевают истории
печатать, в чем бумагу и прочий кошт терять будут напрасно,
понеже в оных книгах писаны лжи явственные».
К этому нужно присоединить еще и другие обстоятельства, мало
благоприятные для свободной науки. С одной стороны, грубое
бюрократическое управление Академией, не регламентированное,
однако, никаким уставом. Устав Академия получила лишь в 1747 году. Но
только с 1766 года (директорство гр. В. Г. Орлова) Академия
начинает жить сравнительно более свободною и самостоятельною жизнью,
а сколько-нибудь нормальный, западноевропейский порядок в ней
утвердился лишь в начале нового века (устав 1803 г.). С другой
стороны, Академия страдала от отнюдь не научных ссор и разлада внутри.
С охранением веры сплелось охранение национальности. Сам
Ломоносов35, вводивший в университетский регламент требование:
«духовенству к учениям правду физическую для пользы и
просвещения показующим не привязываться, а особливо не ругать наук в
проповедях», в националистическом увлечении не всегда сдерживался
соображениями независимости науки. Завещанная Петром свобода
науки оставалась такою же непонятностью, как и сама наука.
Вследствие всей совокупности и внешних и внутренних условий
жизни Академии словесно-исторические науки испытали в ней
особо превратную судьбу. Они то исключались вовсе из «классов»
Академии, то опять вводились, но замирали под давлением ненаучных
обстоятельств. Не сразу они заняли подобающее им место. Но все же
заняли, и лишь для философии ничего не было сделано. Правда, в
XVIII веке, пока при Академии существовали университетские курсы,
там преподавалась какая-то философия, но устав 1747-го года
настоятельно требовал от профессоров философии, чтобы они не учили
ничему противному православной вере, добронравию и форме пра-
Очерк развития русской философии
59
вительства. Профессоры должны были представлять в канцелярию
конспекты своих лекций для суждения о том, не уклоняются ли они
от ученья православной веры и не сомневаются ли они в славном
состоянии государства*.
Только учреждение Московского университета36 ввело
философию в постоянный состав высшего преподавания. Однако и здесь
ее влияние на общественное сознание оказывалось ничтожным,
потому что проходившие через университет единицы в подавляющем
большинстве смотрели на прохождение ими курса как на тяжкую
повинность, затем лишь открывавшую доступ к приятным и
прибыльным государственным и военным должностям. Университет
был открыт не для науки. Не без гордости панегирический историк
Московского университета подводил итог столетнему его
существованию: «Он обречен был с самого начала на обучение молодых
людей и на приготовление их к службе государственной по всем ее
отраслям. Вся история его есть история постоянного, полезного и
верного служения этой государственной цели» (Шевырев)37.
Более действительным средством — так как оно простиралось на
более широкий круг — для философского воспитания
общественного сознания могла бы быть книга. Неразработанность русского
литературного языка, отсутствие научно подготовленных людей,
отсутствие научной терминологии, невежество читателя, не
понимавшего, зачем ему данная книга, и не знавшего, какая книга ему
нужна, — все это стояло на пути этому средству духовного просветления
России. Русская художественная литература героически боролась с
кирилло-мефодиевским наследием в языке, и когда воссиял Пушкин,
болгарский туман рассеялся навсегда. Хуже дело обстояло в науке.
За отсутствием своего языка долго еще пришлось пользоваться
языками чужими, а переводная литература тем медленнее переходила
к настоящему русскому языку, что значительную часть работников
для нее поставляла духовная школа с ее понятной склонностью к
пользованию языком церковного обихода. Петр усердно поощрял
к переводческой деятельности; Академия могла только поощрять
усердие самих переводчиков. Сперва «Российское собрание»
(учрежденное бар. Корфом), превратившееся, по словам митрополита Евге-
* Об отсутствии при академическом университете действительных занятий
вообще см.: гр. Толстой Д. А «Взгляд...». С. 8-13.
60
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ния, в «переводческий департамент» с трудолюбивым Третьяковским
[Тредиаковским]38, затем (при Екатерине — 1768 г.) «собственная
шкатулка» императрицы,- вдохновлявшая, однако, не столько
переводчиков, сколько директоров Академии, руководивших «комиссией
для переводов», и наконец (с 1783 г.) «Императорская российская
академия» (в 1841 г. присоединенная к Академии наук как
«Отделение русского языка и словесности»)* — все эти учреждения до конца
века успели выпустить огромное количество переводов. Но все
делалось без смысла и без толка. Сперва выпускался всякий хлам,
долженствовавший знакомить со «светскостью», а затем с каторжным
усердием переводили чуть ли не всех подряд классиков. Трудно
припомнить сколько-нибудь известного греческого или римского
автора, имя которого не стояло бы в списках переведенных или
заказанных к переводу книг**. Но кому, кроме переводчиков, это было на
пользу? Отпечатанные экземпляры кучами валялись в типографии
и на складах, сбывались под макулатуру или сжигались. Читателя
не было. Но — что, может быть, было еще важнее — языка не было.
В. Н. Карпов, переводчик Платона39 в XIX веке, сам в своем
переводе не освободившийся от высокого «словено-российского» стиля, в
оправдание того, что переводчики Платона в XVIII веке (Пахомов и
Сидоровский) выражались «слишком педантски, без нужды облекая
мысль философа в славянские формы», и яснее видели и
выдерживали «значение слов, нежели мысли», справедливо задается вопросом:
«с тогдашним русским языком можно ли было сделать что-нибудь
удачнее?»*** В этом, думается мне, вся суть. Россия не вышла еще из
того состояния, когда у народа нет своего литературного языка.
* Об обстоятельствах, при которых произошло присоединение, см.:
Сухомлинов М. И. «История Российской Академии». Вып. VIII. 1887. С. 361-362; 489-492.
** См. эти списки: Сухомлинов M. И. «История Российской Академии». Вып. I.
СПб 1874. С 346-351.
*** До какого отчаяния доводил в XVIII веке наших переводчиков «недостаток
слов в изображении терминов», свидетельствует, напр., такое заявление: «Сей
недостаток так было меня тронул, что я начатый уже труд мой рассудил оставить;
однако потом, следуя других совету, что лучше хотя малым чем отечество
пользовать, нежели ничем, предпринял оный совершенно кончить». «Основания
умственной и нравоучительной философии обще с сокращенною историю
философическою, сочиненные Иоанном Готглобом Гейнекцием... с латинского языка
на российской переведенные. Печатаны при Императорском Московском
Университете 1766 году». См.: Предисловие к благосклонному читателю, ad fia
Очерк развития русской философии
61
Высшие сферы, однако, во второй половине века нашли для себя
язык. В XVII веке спорили о пользе и безопасности языков
греческого и латинского. Этот спор не был спором о двух культурах, а о
двух богословских направлениях — «пришел, — говорит русский
историк, — правитель, который на исторический вопрос, которому
из обоих языков господствовать в политическом развитии русского
общества, отвечал: ни тому, ни другому, — и заговорил по-немецки
и по-голландски» (Ключевский)40. С тех пор у нас установилось
«немецкое влияние». Оно затушевывалось в моменты
националистического подъема, хотя как-то таинственно самый национализм
русский бывал окрашен в черно-бело-красные цвета, и оно кричало о
себе в моменты индифферентизма или торжества
интернационализма — и на чистом немецком и на испорченном немецком.
Как известно, во второй половине XVIII века немцы
трудолюбиво подражали французам во всем, что касается светскости и
просвещения. Мы стали также подражать французам — французы на языке
русского народа стали также «немцами». У Фридриха его
французские друзья бражничали и ночевали, мы были скромнее — у нас на
троне была царица, — но в переписке с французскими
«философами» и мы состояли. Правительство выполняло взятую на себя роль
интеллигенции и «просвещало». Получалось то, что должно было
получиться. «Просвещением» забаррикадировали себя от серьезной
науки и от философии. Получился Радищев41 — прототип той
оппозиционной интеллигенции, которая сменила в русской истории
интеллигенцию правительственную. Как будто для крайнего
контраста Ломоносову создала его история и тем дала прообраз будущего
взаимоотношения науки и «интеллигенции». Один поехал в Европу,
учился, чему нужно было, вернулся и стал учить тому, что никому не
нужно было, и только к 200-летнему юбилею его потомки
догадались, кто у нас «собственный Невтон». Другой тоже ездил в Европу,
научился тому, чему не учили, и не научился тому, чему учили, —
через полтораста лет благодарное потомство признало в нем «первого
русского революционера».
В XIX век, таким образом, мы вступили все в том же состоянии
всеобщего невегласия. Правительственная интеллигенция, как бы
в искуплении греха цареубийства, наложила на себя либеральную
эпитимию. «Молодые люди» снова угонялись «за границу» учиться.
Едва успев научиться и никого не успев научить, они подпали под
62
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
бичи отечественного просвещения. Но уже зачиналось что-то новое.
Европа стремилась проникнуть на восток путями сверху не
регулируемыми. Безопасность государства требовала закрытия всех путей.
Спешно сооружались шлагбаумы, и к охранению дорог была
призвана вновь «вера». Мерещился в одеянии эллинской мудрости бес.
Философия была объявлена врагом человеческого рода, чертом,
источником всяческой крамолы. «Служить людям» она могла только через
посредство исключительно осененных христианскою благодатью;
в руках непосвященного она оставалась в своем исконном естестве
исчадия адова. Когда «молодых людей» еще только отправляли за
границу, начальство предупреждало в своей инструкции (1808 г.) об
особой зловредности философии, ибо она вела к «опасности быть
рассказчиком пустых умствований или бессмысленным
распространителем мистических заблуждений». Осмысленное распространение
глупостей вскоре затем было признано делом, государству
полезным. Обретшие мистическую истину могли поучать самого Господа
Бога и с пользою просвещали русский придел в Его Церкви.
Начало века ознаменовалось открытием новых университетов.
Их устав (1804) прямо привлекал дворянских детей обещанием
чинов. Так же оценивало значение университета и само дворянство —
просвещенный слой нации. Как и за сто лет перед этим, на науку
смотрели с точки зрения утилитарной. Роммель, немецкий историк,
пробывший несколько лет в Харьковском университете, пишет в
своих «Воспоминаниях»: «Почти вся молодежь смотрела на занятия
как на ступень к высшим чинам по службе... классные чины
прокладывали дорогу к высшим офицерским местам, особенно в военное
время... Везде высказывалось преобладающее стремление русских к
практическим наукам, в особенности к математике, в которой они
показывали изумительные успехи. Зато понимание высшей
философии и филологии было почти недоступно им»*. Таких
наблюдений можно было бы назвать немало. Они делались приглашенными
на кафедры иностранцами, они делались и более просвещенными
отечественными наблюдателями, напр., Карамзиным42: «У нас нет
охотников для высших наук. Дворяне служат, а купцы желают знать
* «Пять лет из истории Харьковского Университета. Воспоминания проф.
Роммеля о своем времени, о Харькове и Харьковском Университете (1785—
1815)». Харьков, 1868.
Очерк развития русской философии
63
существенно арифметику или языки иностранные для выгоды своей
торговли», или, напр., митрополитом Евгением: «Открытые
университеты едва дышат о сию пору. Ни учить, ни учиться некому... Науки
мысленные у нас еще не в моде».
Правительство со своей стороны делало все возможное, чтобы
не допустить распространения такой моды. На основании изучения
русского просвещения в XVIII столетии, гр. Дм. Толстой43 сделал
такое обобщение: «Утилитарность, практическая непосредственная
применимость учения для государственных потребностей,
составлявшие сущность всех начинаний Петра по учебной части,
продолжали и после него руководствовать правительством». Обобщение
многознаменательное. Оно сделано тем, кто сам, руководя русским
просвещением, держался той же утилитаристической традиции.
Толстой был в" России единственный радикальный министр народного
просвещения, но и он был всецело утилитарен. И не кто иной, как он,
погубил в России идею действительного образования «практическим
непосредственным применением»*. Имея это в виду, его собственное
обобщение приходится распространить, а затем и дополнить:
распространить на всю русскую историю и дополнить фактом, что не
только все правительства и всегда в России смотрели и смотрят на
образование с утилитарной точки зрения, но в подавляющем
большинстве случаев так же смотрело и смотрит само русское общество.
Возвращаясь к эпохе Александра, мы видим, что в то время,
как «науки мысленные» не были в моде, парадоксы какого-нибудь
гр. де-Местра44 принимались за чистую монету государственной
мудрости, и у нас серьезно помышляли об исключении всего того из
преподавания, чего нельзя было основать на Библии. Профессора,
и в особенности профессора философии, подвергались самой
глупой цензуре, и их жалкое преподавание должно было протекать в
атмосфере доносов, преследований и нелепых указаний на
истинное направление, которого они должны держаться. Среди немцев,
приглашенных для преподавания философии, были профессора,
склонные к кантианству, но что и как они могли излагать, когда у
руководителей просвещением страны влияние имели такие суждения,
* Здесь не место входить в педагогическую критику толстовской реформы,
коренная ошибка которой состояла в том, что она хотела сделать классическое
образование, доступное лишь для более способных, общим.
64
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
как, напр., суждение архиепископа Феофилакта (способствовавшего
удалению Фесслера), который утверждал, что философия Канта
заключает в себе двоякую цель: «ниспровержение христианства и
замещение оного не деизмом, а совершенным безбожием». Кого
могло утешить или чему могло помочь, что этот обличитель обличался
другим (митр. Филаретом) в «пантеизме и натурализме»?
Полнее всего, пожалуй, характеризовал условия, в которые
попала у нас философия и наука в начале века, умный и образованный
С. С. Уваров45, впоследствии граф, министр народного просвещения
при Николае Павловиче и попечитель петербургского округа при
Александре. Человек, хорошо осведомленный по обязанности
службы, вот что он писал в письме к барону Штейну (ноябрь 1813):
«Состояние умов теперь таково, что путаница мыслей не имеет
пределов. Одни хотят просвещения безопасного, т. е. огня, который бы
не жег, другие (а их всего больше) кидают в одну кучу Наполеона
и Монтескье46, французские армии и книги, Моро и Розенкамфа,
бредни Ш... и открытия Лейбница; словом, это такой хаос криков,
страстей, партий, ожесточенных одна против другой, всяких
преувеличений, что долго присутствовать при этом зрелище невыносимо:
религия в опасности, потрясение нравственности, поборник
иностранных идей, иллюминат, философ, франк-масон, фанатик и т. п.
Словом, полное безумие. Каждую минуту рискуешь
компрометироваться или сделаться исполнительным орудием самых
преувеличенных страстей. Вот среди какого глубокого невежества находишься
вынужденным работать над зданием, подкопанным у основания и со
всех сторон близким к падению».
В 1817 году было достигнуто примирение: министерство
народного просвещения соединялось с ведомством духовных дел.
Мотивировано было это соединение самобытно: «Желая, дабы
христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения,
признали мы полезным соединить дела по министерству
народного просвещения с делами всех вероисповеданий в составе одного
управления». Настало время торжества Стурдзы, Магницкого, Фитин-
гофа (брата пресловутой бар. Криднер). Составленная А. С. Стурдзою
«Инструкция» (5 авг. 1818 г.) учрежденному при Главном правлении
училищ Ученому комитету направлявшая идеологически работу
просвещения России, развивала «коренное правило» действий
соединенного министерства: направить «народное воспитание... к во-
Очерк развития русской философии
65
дворению в составе общества постоянного и спасительного
согласия между верою, ведением и властию, или, другими выражениями,
между христианским благочестием, просвещением умов и
существованием гражданским»47.
«Правило» это привело к самым горестным последствиям. С него
началась глава в истории русского просвещения безумная:
преследовались книги, люди, убеждения, намерения. Трудно было
философии — достаточно вспомнить «дела» Куницына, Галича, Солнцева
и подобные — найти нужный серьезный тон и защиту от глупости.
Поэтому, когда к концу царствования Николая Павловича, после
относительной передышки при Уварове, в министерство кн. Ширин-
ского-Шихматова48 совершилось первое — второе произошло через
71 год — устранение философии из университетов (1850), как
сказано было в докладе князя, для «ограждения от мудрствований
новейших философских систем», то новое положение, в которое таким
образом ставилась философия, в конце концов, более
соответствовало ее достоинству, чем, напр., продолжавшееся в то же время ее
жалкое преподавание в духовных академиях.
Можно задаться вопросом: как все это терпелось русским
обществом? Ведь оно представляло собою уже не то, что во времена
Алексея Михайловича, оно располагало новыми источниками
образованности, получаемой не только из рук правительства, но и помимо его.
Это было время, когда на смену правительственной интеллигенции
рождалась новая, оппозиционная правительству, и потому
свободная интеллигенция. Как могла она это выносить? Частичный, по
крайней мере, ответ на этот вопрос дает одно наблюдение
Грановского49, которое достаточно все же обрисовывает некоторые черты
из психологии новой интеллигенции. Грановский писал (1840 г.):
«Окружающее меня здесь нерадостно. В университете у нас есть
движение вперед, жизнь, но в этой жизни есть что-то искусственное.
Студенты занимаются хорошо, пока не кончили курса; по выходе
из университета лучшие из них, те, которые подавали наиболее
надежд, пошлеют и теряют участие к науке и ко всему, что выходит из
круга так называемых положительных интересов. Их губит
материализм и безнравственное равнодушие нашего общества. Вот почему
университетская жизнь мне кажется искусственною, оторванною от
остального русского быта». Трудно яснее выразить, что наука, мысль
оставались для нашего востока чем-то искусственным, о пользе чего
66
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
для жизни можно поспорить. Мало менялось настроение общества
и в следующие за письмом Грановского восемьдесят лет русской
истории. К мысли как мысли, к философии общество наше осталось
равнодушно, оно проникалось лишь государственной и семейной
полезностью трамваев и граммофонов.
Исключительно утилитарное отношение к культурному
творчеству проистекает или из варварского непонимания того, что такое
наука, искусство, философия, или из органической неспособности
к свободному творчеству, из бездарности. И в том, и в другом случае
просто отсутствует потребность творчества, бездействует
творческий орган. У народа нет своего выразителя; нет носителя
творческого духа нации. Пробуждение нации к творчеству есть ее второе,
духовное рождение — Возрождение. В новоевропейской истории
творческой силою была аристократия, создавшая Ренессанс Европы.
Она сменила духовенство, консервативно руководившее
просвещением средневековья, и стала, по порядку, второй интеллигенцией в
истории западноевропейской культуры. «Просвещение»,
подменившее фальшивым классицизмом возрождение в науках и искусствах
античного предания, кощунствовало над своим духовным дедом, а
аристократию возвело на эшафот, прежде чем само погибло,
раздавленное солдатским сапогом. Подражательное по существу
Просвещение было вместе с тем нигилистическим и разрушительным.
Второе возрождение покончило с нигилизмом третьей смены
интеллигенции, а вызвавшая это возрождение национально-сознательная
интеллигенция показала, что Европа — не отвлеченное понятие,
нивелирующее различия народов, а конкретно-коллективное целое,
где каждый народ выполняет свое особое дело. Сознательное
выполнение своего дела и создало из XIX века самый полный, самый
блестящий, самый интересный, самый захватывающий и
всеохватывающий век новой европейской истории.
История объясняет, почему ни в московской, ни в петровской
России не стало творческой аристократии, почему Россия вообще
прошла свой культурный путь без творчества. Может быть,
философия истории и философия русской культуры и здесь найдут первую
причину в отказе от античного наследства или в неумении принять
его. Ясно одно: что Россия становилась европейскою с помощью
правительства и немецких чиновников, переносивших сюда чужие
порядки и потому просвещавших Россию, но не творивших в ней
Очерк развития русской философии
67
и от ее лица. Правительство существенно лишено творчества и
существенно утилитарно. Правительственная и бюрократическая
интеллигенция присвоила себе в России прерогативы интеллигенции
аристократической. Отсюда специфические особенности истории
русской культуры. Правительство существенно консервативно, оно
репрезентирует народный инстинкт самосохранения и потому не
может быть творческим. Против правительственной интеллигенции
поднялась нигилистическая. Но всякий нигилизм происходит от
слова nihil50. И вот везде в истории — борьба между культурою, потому
что культура существенно свободна, и государством, потому что оно
по существу консервативно, связано и связующе. У нас эта борьба
выливается в парадоксальную форму препирательства между
невежественным государством в лице правительства и свободною культурою
невежества в лице оппозиционной интеллигенции. И многое в
культурной истории России объясняется замещением аристократии
бюрократией и оппозицией к последней со стороны нигилизма. Когда
Пушкин в критический момент банкротства правительственной
интеллигенции заговорил о творческой аристократии, когда в нашу
образованность впервые просочились идеи философии без
назидательности, науки без расчета, искусства без «пользы народной» и когда
на спонтанное развитие русской народности были брошены первые
лучи рефлексии, все это сверкнуло вспышкой молнии. А когда
ослепленный глаз вновь стал различать во тьме предметные, исторические
контуры, можно было увидеть, что правительственной
интеллигенции наследовала нигилистическая с быстротою, вызывающею
недоумение и подчас даже ужас. «Славянофилам» оставалось только
мечтать об интеллигенции творческой, а Россию просвещала по-новому
новая, нигилистическая интеллигенция, оппозиционная
правительственной, но столь же порабощенная утилитаризмом, хотя и с прямо
противоположным пониманием пользы и службы людям.
Сто лет тому назад начала складываться наша новая
интеллигенция, наша интеллигенция par excellence51, оппозиционная, и потому
партийная: либеральная и социалистическая. Русским сознанием
девятнадцатого века она усвоена как «просто» интеллигенция, не
противопоставляемая другим видам и типам интеллигенции, как
интеллигенция absolute. В том она, однако, не отличалась от двух первых
форм русской интеллигенции, что и она вошла с сознанием
просветительной — не творческой миссии, с приемами охранения себя от
68
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
инакомыслия, т. е. с желанием не образовать, а воспитать, вошла со
средствами предупреждения и пресечения ереси и крамолы, с
пониманием науки и философии, долженствующих по-прежнему
служить людям. Последнее определилось как-то сразу и без особенного
разнообразия в толковании. Все то в науке и философии, что могло
служить делу революции, — как казалось журналистам, — было
признано — полезным, просветительным, заслуживающим поддержки.
Все не ведущее прямо к этой цели, но не идущее против, было
безразлично по своей ценности. Но то, что казалось опасным делу
революции, то подвергалось опале и общественному запрещению.
Никого не смущало, что не очень-то образованная наша оппозиционная
интеллигенция из своей же среды выбирала судей для приговора по
делу о просветительной ценности научных и философских теорий.
Не весьма, кажется, она сожалела, что ее собственное философское
сознание расплывалось в клубах то политически-сентиментального
романтизма, то кроваво-скучного утопизма. Общая формула
утилитарности стала лозунгом дня — утилитарность в искусстве,
литературе, науке, философии — «ненасытная утилитарность», как выразился
умный и европейски образованный деятель той эпохи (Н. И.
Пирогов). Арбитры утилитарности заседали в журнальных редакциях,
откуда неслись по России, в свисте и улюлюкании, их
интеллигентские приговоры. Кто они были по своему происхождению, выдал
Н. К Михайловский52: «Немножко дворянства, немножко поповства,
немножко вольнодумства, немножко холопства». Характеристика их
образования еще короче: немножко семинарии, немножко
«самообразования». Полузнанием кичились, невежество плохо умели скрыть.
Базаровы кружили головы не только тургеневским провинциальным
мечтательницам. Нигилизм возводился в моральное достоинство.
«Хорошие» люди хотели командовать умными. И вот в русском
самосознании переплелись Гоголь53 и Белинский54, Толстой55 и Ткачев56,
Розанов57 и Чернышевский58, Писарев59 и наши дни, когда в
штукатурку старого московского университета влеплена в кудряшках
эпиграмма: «Дело науки — служить людям».
Что же нам философия и что мы философии?..
Новая интеллигенция двинулась правительственным
руководительством непредусмотренным курсом «просвещения масс» — через
журналистику. Журнальные номады60 и стали решать этот вопрос.
Как? Об этом говорит, напр., судьба и репутация Юркевича61 — един-
Очерк развития русской философии
69
ственного в России, кто оказался достаточно философски
подготовленным, чтобы занять без предварительной «заграничной
командировки» университетскую кафедру, когда философии вновь
разрешили появиться в университете. «Просветители» — на этой
характеристике Чернышевского Плеханов62 настаивал совершенно
основательно — получали иногда назидание (как в случае с Пироговым),
но не выпускали из рук просветительной команды. Их морально-
политическая цензура была настолько строже правительственной,
насколько неписанный закон обязательнее писанного и насколько
убежденный доброволец злее наемного бандита.
Оптимистический взгляд на вещи может открыть во всем этом
хорошую сторону. После «случая» Юркевича философия у нас
замкнулась в себе. Лучшие наши философские имена для «широкой
интеллигентной публики» оставались неизвестны. В терпеливом
медленном строительстве они воздвигали основание для строения
крепкого и надолго. Характерно, напр., что в знаменитых спорах
девяностых годов, когда на «выучку к капитализму» принимали лишь
с определенным философским аттестатом, серьезная философия
уклонилась от участья. Это — симптом, что философским
сознанием стали дорожить не за его пригодность для «обоснования
миросозерцания», а за его собственный свет. Когда через какие-нибудь
десять лет интеллигенция обратилась к покаянию и самобичеванию,
некоторые нашли это забавным. Это — тоже симптом,
показывающий, что зашевелилось смутное чувство разницы между серьезной
философией и превращением ее в забаву. В последние дни, когда
столетняя греза оппозиционной интеллигенции пресуществилась
в кровь народа и оппозиционная интеллигенция стала
правительством, так что в стране больше не оказалось никакой оппозиции и
потому больше никакого интеллигентского дела, интеллигентские
флагелланты63, повторяя себя*, подали голос «Из глубины»64, для
читателя не вышедший — фатально и знаменательно — из-под спуда.
Печален напев: Ex profunditatibus inclamavi te, Jehova, dicens: Domine,
ausculta voci meae... Надеяться — право всякого слабого и
поверженного! Exspectationem habeat Israel in Jehova: quia apud Jehovam est
benignitas et plurimum apud eum redemptionis: Et ipse redimet Israelem
ab omnibus iniquitatibus ejus... Да будет!65
* Авторы сборника сами рассматривают его как вторые «Вехи».
70
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Нельзя, однако, не видеть, что условия, в которых философия
продолжает и сегодня пребывать, суть те же условия, в которых она
была и до сего дня. Невежество — какая-то историческая константа
в развитии русского творчества и в самоопределении его путей.
Таким образом, общий итог условий, при которых развивалась
философская мысль в России, короток. Невегласие есть та почва, на
которой произрастала русская философия. Не природная тупость
русского в философии, как будет показано ниже, не отсутствие
живых творческих сил, как свидетельствует вся русская литература, не
недостаток чутья, как доказывает все русское искусство, не
неспособность к научному аскетизму и самопожертвованию, как
раскрывает нам история русской науки, а исключительно невежество не
позволяло русскому духу углубить в себе до всеобщего сознания
европейскую философскую рефлексию. Неудивительно,- что на такой
почве произрастала философия бледная, чахлая, хрупкая.
Удивительно, что она все-таки, несмотря ни на что, росла.
Складывающееся на почве невежества утилитаристическое
отношение к знанию и ко всякому свободному творчеству само по
себе не есть явление объективной реальности. Скорее, это — факт
субъективный, социально-психологический. Как такой он
знаменует собою некоторые эпохи культурного развития, но в общем имеет
значение временное, преходящее вместе с изменением живой
среды, выносящей свою оценку объективной идеи и располагающей
средствами выразить свою душевную реакцию на переживаемый
объективно-исторический факт. В частности, применительно к
философии, восприятие ее как мудрости и морали непременно
утилитарно — философия должна учить жить мудро как в самом
широком, так и в самом узком смысле практической жизни.
Понимание философии как метафизики и мировоззрения вызывает более
тонкое и возвышенное представление об ее пользе — для спасения
души, разрешения загадок смысла жизни, оправдания мира — но в
основном также порождает утилитаристическое отношение к себе.
Нужно углубиться до идеи философии как чистого знания, чтобы
восприятие ее и науки как такой перестало быть утилитарным и
выразилось также в чистом, «незаинтересованном» эросе. Везде, где
можно найти эти три понимания философии, можно встретить три
разных уклада субъективных переживаний ее. С этой точки зрения
утилитарное отношение к знанию обличает некоторую примитив-
Очерк развития русской философии
71
ность культуры и духа. Оно необходимо исчезает вместе с
развитием их. А развитие их есть преодоление варварского «невегласия».
Но когда невегласие выступает как характер народа и истории,
когда оно навязывается историческому наблюдателю как существенный
признак национальной истории, когда сам утилитаризм — не
сменяющаяся реакция, а производный признак этого существенного,
тогда над соответствующей историей в глазах наблюдателя нависает
какая-то угроза. Нация — перед лицом фатальной беды, она кажется
обреченной на «бескультурность». Такая-то нация и мечется перед
собственной проблемой, как перед угрожающей бедою. Со стороны
Россия представляется в таком положении. Ее интеллигенция — ее
репрезентант и воплощение — не дошла до надутилитарного
понимания творчества. И вот, спрашивается: исторический рок это или
только культурное несовершеннолетие?
Разговоры о «молодости» России надоели. В них много
лицемерия. Культура новой Европы — христианская; но Россия приняла
христианство раньше некоторых народов и стран. И
государственное единство России установилось раньше некоторых
европейских, а тем более американских, государств. Почему же Петр не мог
сделать даже того, что сделали его ближайшие соседи — Фридрих
и Карл?66 Как только русская философская мысль поставила перед
собою проблему «России», она нашла ответ на это. Ни государство
русское, ни его культура не уходят своими корнями в классическую
почву. Государство — самобытно-восточно, а культура
заимствована — одни вершки. И само христианство русское — не то, что в
Европе. Верно то, что принять вместе с христианством классические
источники и предания Европы мы упустили. Но почему же после
Петра и до сих пор мы не обратились к ним? И почему мы
только заимствуем — и заимствуем одни вершки, которые, как в басне,
оказываются лишь вершками чужой репы? Каждый народ в Европе
имеет свое дело, потому что занимает свое место. Мы заняли места
больше всех и вообразили, что Европа — отвлеченность, а не
конкретное собирательное целое, и у нас хотят быть не
самостоятельным органом европейского организма, а хотят стать европейцами
«вообще» — из конкретного индивидуального русского народа хотят
сделать гипостазированную отвлеченность. Русский интеллигент
только тогда не желает этого психопатологического превращения,
когда он воистину чувствует себя репрезентантом своего народа.
72
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Но по большей части средний русский интеллигент кричит о
разрыве со своим народом — какая же это репрезентация? Но если нет
репрезентации, нет сознания своей национальной
индивидуальности, то нет и творчества — одно заимствование, подражание, танец
смерти вокруг абстракций. Молодость России — отсталость; но не
она не догнала, а ее перегнали. Физически она созрела, но она
отстала умственно. И пока она не обратится к источникам
Возрождения, она будет только «просвещаться». Так было до сих пор. И
потому утилитаризм вообще — субъективный факт, здесь становится
объективным фактором.
История русской философии как мысли, проникнутой духом
утилитаризма, есть история донаучной философской мысли — история
философии, которая не познала себя как философию свободную,
не подчиненную, философию чистую, философию-знание,
философию как искусство. Это не значит, что в русской философии нет
движения идеи. Оно было. Но это значит, что восприятие идеи и
ее движения в русской мысли нечисто, донаучно, примитивно, не-
софийно, немастерское. Примитивный ум полагает, что идее так
же трудно «двигаться», как и ему, и он считает, что философия есть
трудное «делание». Принудительнейшее для него — его собственное
усилие, и он полагает, что это — усилие самой идеи. Он считает, что
вне его опыта и переживания, без них, идеи нет. Он примитивно
полагает, что нужно напрячься пережить, чтобы получилось
философствование. Он повторяет юродивое изречение: нельзя научить
философии, но можно научить философствовать, не замечая
извращенного смысла этой формулы, подчиняющей знание примату
переживания. Именно философии можно научить, а
философствовать надо отучиться. Русская философия — по преимуществу
философствование. Поэтому ее темы редко бывают оригинальны, даже
тон — ей задан. Но у нее все же есть свой собственный
(национальный) тембр голоса, у нее есть свои особые психологические
обертоны. Не в решении, даже не в постановке своих проблем, тем более
не в методе раскрывается русская философия, а главным образом в
психологической атмосфере, окружающей и постановку вопросов, и
решение их.
По своей просветительной природе оппозиционная
интеллигенция осталась, как и правительственная, началом отрицательным. Ее
просвещение прежде всего антиправительственное. Рефлексивное же
Очерк развития русской философии
73
создание литературной по преимуществу «аристократии» привело к
тому, что она сама как «народность», как «Россия» и стала
единственной проблемой романтической идеологии этой аристократии.
Отсутствие аристократии «прирожденной», в историческом быту
рожденной, и запоздалое культивирование романтической
аристократией рефлексии обусловливает своеобразие русского философско-
культурного сознания. Отсутствие исторической аристократии, т. е.
отсутствие законнорожденного творческого выразителя нации, с
точки зрения европейской истории, — самый загадочный, темный
факт русского бытия. В его свете вся русская история — какая-то
загадка. Ближайшее соприкосновение наше с западною мыслью
возбуждает и в нашем сознании чувство таинственности в
существовании и назначении России. Рефлексивная аристократия по
понятным основаниям берет на себя долг разрешения этой проблемы, и
через это «Россия» и становится законною проблемою русской
философской рефлексии. «Народ» и «интеллигенция» как творческий
выразитель народа — философско-культурная корреляция. Русская
философская мысль подходит к своей проблеме России как к
проблеме отношения названных терминов то со стороны «народа», то со
стороны «интеллигенции», но решает всегда одну проблему —
самого отношения. Разница и даже противоположность ответов — sub
specie67 народа или sub specie интеллигенции — определяет особую
диалектику русской философии и тем самым узаконивает ей
оригинальное философское место. Ее конкретные постановки вопроса как
вопроса философско-исторического, философско-религиозного и
только в последнем плане теоретического приобретают свой смысл
и оправдание. Моралистические обвивы, которыми так изобильна
русская философия, связывают — соединяют и стесняют — ее
движение, но сплетаются вокруг той же основной загадки-проблемы.
Славянофильские проблемы в этом смысле — единственные
оригинальные проблемы русской философии, как бы ни
решались они — формально-отрицательно и
контрадикторной-оппозиционной интеллигенцией. Нет истории, которая так заботилась бы
о завтрашнем дне, как русская. Потому русская философия
—утопична насквозь, даже — как ни противоречиво это — в своем
романтическом настроении. Россия — не просто в будущем, но в будущем
вселенском. Задачи ее — всемирные, и она сама для себя — мировая
задача. Тут и специфическая национальная психология: самоедство,
74
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ответственность перед призраком будущих поколений,
иллюзионизм, вызываемый видением нерожденных судей, неумение и
нелюбовь жить в настоящем, суетливое беспокойство о вечном, мечта о
покое и счастьи, непременно всеобщем, а отсюда —
самовлюбленность, безответственность перед культурою, кичливое уничижение
учителей и разнузданно-добродушная уверенность в превосходной
широте, размахе, полноте, доброте «души» и «сердца» русского
человека, в приятной невоспитанности воображающего, что дисциплина
ума и поведения есть узость, «сухость» и односторонность.
Эти строки пишутся, когда в историческом отмщении косою
рока снята вся с таким трудом возделывавшаяся и едва всходившая
культура. Почва обнажилась, и бесконечною низиною разостлалось
перед нашими глазами наше невежество. От каких корней пойдут
теперь новые ростки, какие новые семена наша почва примет в себя?
Предвидеть невозможно, а предсказывать — значит, только желать.
Станет ли, наконец, философия в России действительным
знанием, достигаемым методическим трудом и школою, а не «полезным
в жизни» миросозерцанием «всякого интеллигентного человека»,
станет ли она также общим культурным сознанием, преображенным
в себе и преображающим быт и жизнь человека, перестанет ли она
быть для кривляющегося фантазерства средством внушать правила
морального «делания» и идеалы вселенского подвига — это зависит
от ее собственной воли. Что она выберет? Склонится Пред солнцем
бессмертным ума, отдав все напряжение своей энергии
сознательному Возрождению, или расточит свои силы в работе дочерей Даная
над заполнением иррациональной пустоты «неизреченного»?..69
Около школы
III
Если бы историк западной средневековой мысли обратился к
русскому средневековью, он был бы поражен полным отсутствием
нужд и интересов в теоретическом обосновании или анализе веры
и вероучения. Западный человек получил от своих предков язык, на
котором он мог изучать европейскую литературу — и
дохристианскую и христианскую. В последней он располагал не только самою
легендою, легшей в основу его веры, но и ее защитою,
обоснованием и приложением к решению вопросов жизни. Для суждения о
Очерк развития русской философии
75
христианстве евангельская литература не дает почти ничего.
Распространение христианства в Европе становится понятно лишь
тогда, когда мы принимаем во внимание языческую дохристианскую
мифологию и основывающуюся на ней психологию. Ибо лишь
тогда только становится ясным, как новое ученье могло оформиться,
т. е. какой оно должно было принять мифологический облик,
чтобы приспособить себя к усвоению античным человеком. Бессилие
апологетики в борьбе с языческою философией подсказало
христианству выход еще с другой стороны: найти такое истолкование
философии, которое согласовалось бы с христианством.
Возможность многообразных истолкований философского учения и самих
религиозных догм, в свою очередь, создавала почву для
разномыслия, следовательно, для «выбора», для ереси. В борьбе с ересью
крепнут и углубляются догматы побеждающего истолкования, образуется
«церковь» с развитою догматической системой и со специальными
и наукообразными дисциплинами, цель которых — знакомить
христианина с содержанием его вероучения, православным
истолкованием последнего, теоретическим его обоснованием, историей,
защитою, жизненно-практическими выводами из учения и т. п. Таким
образом, напр., бл. Августин70, захватывавший в своих сочинениях
почти все эти сферы вопросов, да к тому в высшей степени искусно
приладивший к христианству философию божественного язычника
Платона, был всегда раскрыт для средневекового читателя, разрешал
ему трудные сомнения, возбуждал новые вопросы и мог поэтому
стать его любимым писателем и надежным авторитетом, к
которому следовало обращаться во всех затруднительных случаях учения
и жизни. С другой стороны, приспособляющее преодоление
античной философии давало возможность в формальной аргументации
обращаться непосредственно к авторитетам древности, как
Аристотель, — разумеется, насколько эти источники были в распоряжении
того времени, — давать им толкования и на их основе утолять новые
вопросы и сомнения.
Ничего подобного не было и не могло быть у нас. Языков
древнего мира, и, следовательно, языка евангелий и языков отцов церкви
мы не знали. Мы не могли даже переводить. За нас переводили
греки, болгары, сербы и переводили не на наш русский язык, а на язык
чужой, хотя и близкий к нашему. Но и переводной литературою мы
были нищенски бедны. Невежество, как известно, не только не умеет
76
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
отвечать на вопросы, но не умеет и задавать их. Индифферентизм
русских к теоретическому оправданию веры находит в этом,
думается, полное оправдание. Клир был некультурен и не имел
элементарных потребностей пытливого ума, паства жила в темноте и не имела
представления даже о том, что такие потребности могут
существовать. У нас объясняют иногда названный индифферентизм
принципиальными мотивами: по своему существу, говорят, православие не
допускало развития догмата. Однако лишь только мы
соприкоснулись с культурою, соответственные потребности у нас пробудились,
а когда в XIX веке мы сделали первый общий шаг с нею, у нас
появились и богословские теории и философское обоснование догматов
православия, появилась даже настоящая религиозная философия. До
тех же пор жалкая наша духовная литература вылилась, главным
образом, в творчество — переводное и оригинальное .— слов,
поучений и житий характера морально-наставительного и
исправительного. Уже простое обличение остатков первоначального язычества
и двоеверия производит впечатление каких-то одиночных холостых
выстрелов по скрывающемуся во тьме врагу или даже призраку. В
богословской литературе наибольший интерес для философии может
представлять так называемое догматическое богословие. Именно в
этой области мы встречаемся с творчеством наименее
продуктивным*. Как указывают специалисты, на славянский язык в период
домонгольский были переведены: «Точное начертание православной
веры» Иоанна Дамаскина71, «Поучения огласительные тайновод-
ственные» Кирилла Иерусалимского, «Слова против ариан»
Афанасия Александрийского, некоторые «Слова» Григория Богослова.
Более общее значение имеют два первых произведения, но из них, по
вполне авторитетному суждению (еп. Сильвестра в его «Опыт
православного догматического богословия»), второе есть труд «более
проповеднический и наставительный, чем научный и систематический».
Наибольшее и основное значение имеет творение Дамаскина,
написанное в средине VIII века, т. е. уже в период упадка Византии, и в
период, когда догматическое развитие византийской церкви заканчи-
* Сведения о духовной литературе домонгольской и московской Руси
собраны у Е. Голубинского, см.: Голубинский Е. «История русской церкви». Т. II. Вып. 1.
М., 1917. Ср. также: Соболевский А К «Переводная литература московской
Руси XIV-XVII вв.». СПб., 1903. (Сборн. Отдел<ения> Рус<ского> яз. и слов<есно-
сти> Императорской Ак Наук T. LXXIV, № 1).
Очерк развития русской философии
77
валось. Оно составляет третью, главную, часть «Источника знания»
(лт|уг| yvéoeQ Дамаскина. Первая часть, «Диалектика»,
представляет собою философское введение в труд, содержащее определения
основных логических и онтологических понятий, почерпнутые* из
Аристотеля, Порфирия и Аммония72. А вторая часть — «Книга об
ересях» — как бы историческое введение. «Начертание Веры» есть
компилятивный систематический и резюмирующий свод
догматического достояния греческой церкви. В этом-то и заключается его
основоположное значение. На славянский (?) язык оно было переведено
уже в начале X века, и затем известны переводы из XVII в. (Епифания
Славеницкого) и из XVIII (Амвросия, архиеп. Московского)**;
значительная часть его была доступна Западу в XII веке, в латинском
переводе Бургундия Пизанского, а вскоре затем стал распространяться и
греческий текст; на русском языке первый перевод появился лишь в
XIX веке. Единственное, что присоединила к этому источнику
христианской теории послемонгольская Русь, был перевод «темного в
разуме» Дионисия Ареопагита73.
Прямо философское влияние мог иметь перевод «Диалектики»
Иоанна Дамаскина. Уже в домонгольский период существовал
такой перевод под именем «Любомудрия». Затем в XVI веке она была
переведена Курбским. Но широко ли эти переводы были
распространены? — не говоря уж о том, что, как утверждает правильно Го-
лубинский, «по одной "Диалектике" Иоанна Дамаскина
невозможно было самообразоваться философии». Переводной литературе
по «философии» вполне соответствовала литература оригинальная.
Как констатирует тот же почтенный историк, «не имея наук,
невозможно писать и сочинений научного свойства. А из этого само
собой следует, что как не было писано у нас подобных сочинений в
период киевский, так не могло быть писано их и в период
московский».
* Ср.: Krumbacher К Geschichte der Byzantischen Literatur. 2. Aufl. München,
1897. S. 69.
** См. указания А Бронзова в Предисл. к его переводу: «Точное изложение
православной веры». СПб., 1894. С. XVII. Кн. Курбский также переводил это
сочинение — Там же. Ср.: Архангельский А С. «Очерки из истории
западнорусской литературы XVI-XVII вв.». М, 1888. Приложения — о переводах
Курбского; Образование и литература в Моск. госуд. кон. XV-XVII вв. Вып. III.
Казань, 1901. С 368-390. (В изд. 1913 г. «Из лекции» и пр. выпущено).
78
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Однако некоторые недоумения и сомнения все же должны были
рождаться — если и не из правильных постановок вопросов, то хотя
бы из недоразумений плохого понимания священных текстов или
неуменья их согласовать между собою. Это могло вызвать
еретические отступления от буквы закона, догмата и при своем
распространении требовало, между прочим, и литературного выражения.
В свою очередь, и официально признанное вероученье тогда
нуждалось в соответственной защите и в обличении ереси. За отсутствием
научного и философского образования и то и другое искало
аргументов через «начетничество». Но кроме того, еретическое мнение
вынуждено было искать каких-нибудь «тайных» эзотерических
источников подпольного апокрифического или иноверческого
характера. Были, конечно, и другие причины, характера социального и
культурного, вызывавшие еретическое или отрицательное
направление религиозной мысли — в особенности на окраинах государства,
легче и быстрее впитывавших в себя влияние иноверных и инобыт-
ных соседей. Так, внимание историка философии может привлечь
перевод «Логики», принадлежавший, вероятно, приверженцам
распространившейся с XV века ереси жидовствующих*. Эта «Логика»
была переведена на фантастически исковерканный славяно-русский
язык, по всей видимости, с еврейского, хотя первоначальный ее
источник — арабский. Если бы даже не было других оснований, то
достаточно было бы взглянуть на тарабарский язык рукописи, чтобы
убедиться, что ни к разумному усвоению, ни к воспитательному
воздействию она не была пригодна — она могла внушать разве только
теософическое благоговение.
* К более ранним «философским памятникам» древней Руси относят
иногда так наз. «Диоптру», перевод которой, вероятно, опосредствованный югосла-
вянским переводом, дошел до нас во многих списках. См. «Заметку о Диоптре»
М. Безобразовой в Журнале Министерства Народного Просвещения (Далее —
ЖМНП). 1893- XI, где «Диоптра» призывается в свидетельство несомненности
того, что «философией интересовались в России в весьма древние времена».
На мой взгляд, «Диоптра» философского значения не имеет, переводилась как
назидательно-богословское произведение, а воспринималась как «священный»
о посмертной судьбе души канон, подлежащий усвоению, но не критике, и
принимаемый к руководству, но не к философской рефлексии. О месте
«Диоптры» в развитии сюжета о Споре души с телом в средневековой литературе
см. под таким заглавием исследование Ф. Батюшкова (ЖМНП. 1890. IX — 1891.
VIII; отд. изд.: СПб., 1891. С. 84,91); о месте трактата в византийской литературе
см.: Krumbacher. Op. cit. S. 742 ff.
Очерк развития русской философии
79
Я имею в виду «Логику Авиасафа», описанную академиком
А. И. Соболевским («Переводная литература etc.». С. 406 и ел.),
хранящуюся в библиотеке Киево-Михайловского монастыря и изданную
С. Л. Неверовым («Логика иудействующих» по рукописи 1843 года.
К., 1909). Вопрос об авторском происхождении этой «Логики»
можно считать теперь решенным благодаря исследованию известного
семитолога П. К Коковцева («К вопросу о "Логике Авиасафа"». СПб.,
1912 // ЖМНП. 1912 г.). Найденные отрывки сочинения,
приписываемого Авиасафу, представляют части перевода сочинения Maquâsid
al-falâsifa («Стремления философов») Абу-Хамида Мохамеда аль-Га-
залия (ум. 1111), ревностного борца против философии и
реформатора Ислама в духе мистицизма (С. 9). Названное сочинение аль-
Газалия есть подготовительная логическая часть к его общему
труду Tahâfut-al-falâsifa («Ниспровержение философов»), содержащему
логику, метафизику и естествознание. Найденные отрывки русского
перевода содержат в себе, кроме частей «Логики», также часть из
«Метафизики» (С. 12). Ближайшим оригиналом русского перевода
послужил не арабский текст, а анонимный еврейский перевод
начала XIV века, легший, между прочим, и в основу комментария Моисея
Нарбонского (первая половина XIV в.) (С. 13-15,22).
Кроме того, А. И. Соболевский описывает хранящуюся в
Московской Синодальной библиотеке рукопись (№ 943) с
заглавием «Речи Моисея Египтянина», в каковой рукописи признает
перевод сочинения Моисея Маймонида («Переводная
литература...». С. 404; см. раньше его же «Логика жидовствующих» и
«Тайная тайных» в «Памятниках древней письменности и искусства»
СХХХШ. 1899). Имеются и другие списки этой «Логики» (см.:
Соболевский Л. И. «Переводная литература...». С. 401. Прим. Голубин-
ский Е. «История русской церкви». Т. II. Вып. 1. С. 887). В конце
синодального списка имеется ссылка на Авиасафа {Соболевский А. И.
«Переводная литература...». С. 405).
Благодаря одолжительной любезности проф. M. H. Сперанского, я
имел возможность познакомиться с собственноручно им сделанной
копией Соловецкой рукописи. Она отличается теми же качествами
неудобопонятности, что и другие вышеназванные рукописи.
Какова бы ни была всех их ценность историко-литературная и
историческая, философскому образованию, или хотя бы интересу к нему,
они содействовать не могли. Как сказано, в лучшем случае они мог-
80
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ли оказывать на суеверное сознание малофамотного читателя лишь
магическое или теософическое влияние.
С другой стороны, официальной, против ересей возникает своя
литература, нуждающаяся в аргументации принципиального и
философского типа. Но и собственные вопросы православных
иногда требовали авторитетного богословского разрешения. Так, напр.,
в середине XIV века новгородский архиепископ Василий разрешает
в утвердительном смысле вопрос о том, существует ли еще земной
рай и пребывают ли в нем святые или он погиб и святые пребывают
в раю мысленном, как то полагал тверской епископ Федор.
Принципиальное положение, на которое наряду с авторитетом св. Писания
и свидетельством очевидцев опирается архиепископ, есть
положение, так сказать, о сохранении сотворенного-, ничто из
сотворенного Богом погибнуть не может, пока не настанут новое-небо и новая
земля, а потому не погибли и земные рай и ад, служа
местопребыванием праведников и грешников.
Интереснее, однако, сочинения именно против еретиков, вроде
«Просветителя» Иосифа Волоколамского (против жидовствующих)*
или «Истины показания» Зиновия Отенского74 (против Феодосия
Косого) и т. п., где полемика также требовала не только ссылок на
св. Писание, но и аргументов принципиального типа. Отмечу, напр.,
метафизический характер доказательств бытия Божия, которые
приводит Зиновий. Несамобытность, сотворенность, как живых тварей,
так и неодушевленных вещей, предполагает Творца; всеобщность
веры в Бога, независимо от религии, указывает на ее естественную
присущность человеку; сохранение созданного и поддержание со-
противных стихий природы в равновесии предполагает Того, кто
удерживал бы их в таком состоянии. Но стоит сравнить это с
соответствующей (кн. 1, гл. 3) главою «Изложения веры» Иоанна Дама-
скина, чтобы увидеть первоисточник такой аргументации**.
Зиновий, впрочем, исключительно выдающееся явление
своего времени (XVI в.) по своей «книжности», логической сноровке и
богословскому сознанию — да и не только по богословскому
сознанию, как показывает его заявление о том, что «наш русский язык
* Просветитель, или обличение ереси жидовствующих. Творение
преподобного отца нашего Иосифа, Игумена Волоцкого. Изд. 4-е. Казань, 1904.
** Голубинский, однако, этого не отмечает (II, 2,228).
Очерк развития русской философии 81_
учения философского и грамматики не имать». Много нужно уже
для одного понимания Дамаскина. И едва ли он в XVI веке мог найти
достаточно обширный круг сознательных читателей. Тому
препятствовало и общее невежество, и отсутствие того специального
философского и исторического знания, которое давало бы возможность,
как следует, понимать хотя бы развившуюся в истории греческой и
византийской мысли философско-богословскую терминологию75.
Лишь в XVII веке появился у нас первый — и, кажется, до XIX века
единственный глубокий опыт систематического развития и
продолжения дела Дамаскина (Бронзов, LXVI): «Православное исповедание
католической и апостольской церкви восточной» Петра Могилы.
Этот опыт исходил, следовательно, уже от представителя русской
юго-западной образованности. Его автор есть вместе с тем первый, с
кого начинается история высшего образования в России.
До половины XVI века западная Русь отличалась едва ли не
большим — если только это возможно было — отсутствием образования,
чем и вся провинция московского государства. Историк русской
церкви (преосв. Макарий) констатирует, что до семидесятых
годов названного столетия во всей литовско-русской митрополии не
встречается ни одного училища для православных детей. Польское
пробуждение середины века, однако, стало отражаться и на
литовской Руси. Католическая пропаганда, поскольку она усваивалась,
создавала для нее новое культурное содержание, а поскольку она
вызывала противодействие, принуждала, по крайней мере, перенимать
формы организации и распространения культуры. Существовавшие,
во всяком случае уже в середине XV века, ремесленные и
экономические организации, известные под названием «братств»,
объединявших в себе членов независимо от вероисповедания, к концу XVI века
явно ставят себе новые задачи. Распространяясь среди
православного населения, они защищают свои религиозные, церковные и
национальные интересы и обращаются, наконец, к распространению
образования как средства этой защиты.
Православие вдруг обнаружило кипучую деятельность.
Иезуиты, распространившиеся в Польше с поразительной быстротою со
средины XVI века, победоносно одолевают широко разлившийся
по Польше протестантизм, но наталкиваются на упорное
сопротивление православия по восточным границам Польши и на Литве.
Первый иезуитский коллегиум был основан в 1565 г. (в Брунсберге)
82
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
введшим иезуитов в Польшу кардиналом Гозием. К концу века
иезуиты раскидывают целую сеть своих школ в крупнейших городах
края: в Пултуске, Вильне, Познани, Полоцке, Риге, Люблине, Дерпте,
Калише, Львове, Данциге, Торне, Варшаве и др. Основанная при
Стефане Батории Виленская академия (1578) сделалась главным
штабом иезуитской пропаганды. Теперь с неменьшей быстротою
возникают православные братства (в Львове, Вильне, Мстиславе, Гродне,
Могилеве, Замостьи, Люблине, Бресте, Минске, Перемышле и т. д.),
еще слабые для одоления иезуитов, но достаточно крепкие для
оказания им сопротивления и для поддержания духа среди своих.
Методы пропаганды и борьбы перенимаются от противников, и вновь
возникающие братства оказываются снаряженными все лучше. Они
открывают полемику с католичеством, составляют и печатают
соответственную литературу, открывают типографии, заводят школы,
заботясь о необходимой учебной литературе. Унии Люблинская
и Брестская дали живой толчок к развитию существовавших и к
учреждению еще новых братств.
В 1615 году открывается, наконец, такое братство и в Киеве.
Составив «упис», открыв школу и начав свою деятельность, киевские
братчики доносили царю Михаилу Федоровичу: «На утверждение
благочестия и правосл[авныя]. апостольския и отеческия веры, та-
кожде на твердейшее отражение и отгнание ересей, в церковь Бо-
жию от врага всех общаго диавола насеянных, мы христиане
различных санов, достоинств и упражнений суще, в единстве любве и в
тождество духа совокуплыпися братство... устроихом... И училище от-
рочатом православным милостию Божиею языка словено-росскаго,
еллино-греческого и прочиих дидаскалов76 великих иждевением
устроихом, — да не от чуждаго источника пиюще, смертоноснаго
яда западния схизмы упившеся, но мрачно-темным римляном
уклонятся».
В 1631 году братское училище «труды и тщанием» митрополита
Петра Могилы77 было дополнено, и таким образом было основано
первое у нас высшее учебное заведение, Киево-Могилянская
коллегия. Как название, так и организация снимались с готовых образцов
католических школ. Программа преподавания была взята из
Краковской Академии, языком школы стал язык латинский и частью
польский, были введены некоторые польские учебники, воспитательная
и учебная дисциплина была организована по образцу польских
Очерк развития русской философии
83
иезуитских школ*. Философия вводилась в состав преподаваемых
предметов в виде логики, или умственной философии, физики, или
естественной философии и метафизики, или философии
божественной. Наиболее обширное место занимала физика, более
скромное — логика «спорная» и ничтожное — метафизика. Преподавание
шло на латинском языке; учебниками, как и вообще по предметам
богословски нейтральным, пользовались готовыми, взятыми прямо с
Запада. Историки образования обычно их именуют
«схоластическими», хотя что они под этим разумеют, не всегда ясно. Исторического
указания, во всяком случае, за этим наименованием не скрывается.
Это есть, скорее, характеристика методической стороны изложения
предмета, хотя, конечно, с этой точки зрения, раз предмет
вводится в школу, он необходимо становится схоластическим. Таким
образом, если этим хотят сказать то только, что соответствующие книги
философские не были продуктом оригинального творчества, а лишь
учебными компендиями, то это — вполне отвечает
действительности. Исторически же «схоластическая» метода философских
учебников имела свои этапы развития. Первоначально это были
руководства, составленные в виде разъяснений к своими же словами
передаваемому Аристотелю и в своем плане долго отражавшие знаменитые
«Summulae logicales» Петра Испанского78, а в своем содержании —
комментарии Фомы Аквинского. Движение рамистское79 и затем в
Голландии и в протестантских странах мало вносило в эти учебники
существенных изменений. Лишь в XVII веке пор-рояльские80
учебники вносят некоторое оживление. Но уже с Вольфа вновь
устанавливается определенный канон, который закрепляется в
протестантских школах и который опять-таки сплошь и рядом историки
именуют «схоластическим». Католические, и в особенности иезуитские
школы, однако, крепко держались прежних образцов, так что в
католических школах еще и в XIX веке можно было встретить старинные
образцы учебников по логике и метафизике.
Киевские учителя философии, первоначально заимствовав
учебники, к концу XVII века начинают составлять по готовым образцам
и собственные руководства. Такие учебники, напр., были составлены
* Певницкий В. «Речь о судьбах богословской науки в нашем отечестве.
Пятидесятилетний юбилей Киевской Духовной Академии». 28-го сент. 1869 г. Киев,
1869. С. 150.
84
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
для Могилянской коллегии в 1679, 1686, 1693 годах. Какова степень
их оригинальности, трудно сказать, не имея перед собою ни их
самих, ни их образцов. Из того, что о них сообщают историки
Киевской академии, ясно все же то, что можно предполагать и a priori:
это еще не философия, это лишь школьное хождение вокруг да
около философии, интересное, конечно, для истории просвещения, но
не для самой философии.
Просуществовав с перерывами в деятельности до конца века,
успев выпустить ряд выдающихся государственных и церковных
деятелей, в 1701 году Коллегия переименовывается в Академию,
получает государственное содержание, за нею утверждаются права и
привилегии, курс наук в ней значительно расширяется. Прежние
задачи ее давно отошли на второй план, и Академия
сосредоточивается на профессиональных нуждах клерикального
образования. Однако положение философии в течение всего нового века в
Киево-Могилянской, а со времени митрополита Рафаила Заборов-
ского — Киево-Могило-Заборовской академии, мало изменилось.
Философия изучалась и культивировалась лишь как
вспомогательное для богословских целей средство. Профессорами философии
ex officio являются префекты Академии, и среди них встречается
немало образованных и во многих отношениях выдающихся
людей — к сожалению, только не в области самой философии.
Продолжается хождение около нее. Среди префектов Академии до
нового ее преобразования (в 1819 г.) в Киевскую духовную академию
встречаются такие, напр., имена, как Стефан Яворский81 (первый ее
префект), Феофан Прокопович, Георгий Конисский82. Впрочем, все
более крупные имена относятся к первой половине века,
завершаясь Конисским. В середине века (с 1752 г.) префект Давид
Нашинский, пополнявший свое образование, между прочим, в Саксонии,
ломает общее направление преподавания философии, сменяя
учебники аристотелевского духа на вольфианский учебник Баумейстера,
надолго отселе завладевающий духовною школою. В той же первой
половине века профессорами Академии был составлен ряд курсов и
трактатов, оставшихся в рукописях, но иногда и печатавшихся, как
«Философия Аристотелева, по умствованию перипатетиков»,
изданная Киевской академии префектом Михаилом Казачинским на
российском и польском языках. Киев, 1742. В рукописях остались курсы
Иннокентия Поповского, Христофора Чарнуцкого, Феофана Про-
Очерк развития русской философии
85
коповича, Иосифа Волчанского, Амвросия Дубневича, Сильвестра
Кулябки, Михаила Казачинского, Тихона Александровича, Георгия
Конисского83.
Со средины XVII века ученики киевского коллегиума выступают
в Москве как учителя. Уже в 1649 году Ртищев выписал из Киевской
лавры ученых монахов «для обучения русских свободным наукам» в
новоустроенном им близ Воробьевых гор Андреевском монастыре.
Вскоре и при царском дворе учителем наследника престола
оказался человек киевского образования — Симеон Полоцкий. В Москве
затевались уже школы по киевскому проекту и образцу, как
противник латинской образованности патриарх Иоаким обратился
к восточным патриархам с просьбою о греческом учителе. В этом
качестве прибыли братья Лихуды. Не знавшие у себя на родине
действительного примера высшей школы, учившиеся в школе
западной, они не могли, при всем возможном желании, удовлетворить
требование и наказ иерусалимского патриарха Досифея и
завести школу безусловно нового типа и исключительно на греческом
языке. И хотя у них греческий язык ставился в преимущественное
положение, значительная часть преподавания велась по латыни, и
к неудовольствию латиноненавистников было невозможно вовсе
изгнать западное влияние и знание. Правда, по изгнании Лихудов,
при их непосредственных учениках, попробовали было латинский
язык устранить из школы, но года через четыре обстоятельства так
изменились, что гонимая латынь вновь водворилась и на этот раз
взяла (со времени Палладия Роговского) явный и продолжительный
перевес.
Лихуды преподавали на греческом грамматику и пиитику, а
риторику, логику и физику — на обоих языках. Что занятия по
философии шли у Лихудов не весьма удовлетворительно, можно заключить
из того, что по удалении их из Академии (1694) их ученики (Ник.
Семенов и Федор Поликарпов) оказались не в состоянии преподавать
философию и богословие, а преподавали только грамматику,
пиитику и риторику (все на одном греческом). За восемь лет (1686-94)
ученикам были преподаны грамматика, пиитика, риторика, логика
(по Аристотелю) и часть физики (также по Аристотелю).
Раздраженный Досифей нечаянно дал, по-видимому, совершенно верную
характеристику положения дела, когда писал: «В толикие лета, что
живут [в Москве] довелось было им иметь учеников многих и учити
86
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
бы грамматику и иные учения, а они забавляются около физики и
философии». Тем не менее историк Академии (С. Смирнов) не без
удовлетворения заключил: «Цели образования достигнуты с
вожделенным успехом: русские примирились [!] с мыслью о пользе
науки...» (С. 68).
К концу века Академия совсем падает. Назначение во главе
Академии Палладия Роговского, несмотря на кратковременное
пребывание его на этом посту (ум. 1703), восстанавливает школу, но уже в
новом направлении. Сам Палладий, по-видимому, не знал
греческого языка, но много учился за границей, получил там даже степень
доктора философии и богословия — первый у нас доктор — и,
естественно, направил Академию путем ему хорошо знакомым.
Симпатии первого Протектора Академии Стефана Яворского были также
недвусмысленны. По его предложению Петр издал указ: «Завесть в
Академии учения латинские». Из Киева были вызваны не только
учителя, но и ученики, и академия Московская теперь и по форме и по
духу становится копией академии Киевской.
Философия переживает судьбу также аналогичную. Сперва
опыты составления собственных руководств применительно к западным
и киевским аристотеле-схоластическим учебникам, примеры
которых мы видим в оставшихся в рукописях руководствах префектов
Академии Феофилакта Лопатинского (учился в Киеве и за
границей), Стефана Прибыловича (Киевская академия), Гедеона
Вишневского (Киевская академия; заграничный доктор философии),
Иоанна Козловича (Киевская академия), Владимира Каллиграфа
(«перекрещенец из евреев», из учителей Киевской академии). Сочинения
последнего относятся к середине 1750-х годов и носят на себе уже
печать лейбнице-вольфианского духа. Затем воцаряется Баумейстер.
Вместе с тем во вторую половину века Московская академия берет
явно перевес над Киевскою. Она успела за это время подготовить
собственных профессоров, так что почти все преподаватели
философии теперь — бывшие воспитанники самой же Академии. Многие
из ее питомцев выделились впоследствии на ученом поприще и в
литературе. Она дала ряд профессоров Академии наук, в том числе
Ломоносова, и Московскому университету. Среди последних был и
первый профессор философии Ник. Никит. Поповский и
профессор логики и метафизики уже в конце века (с 1795 г.) Андр. Мих.
Брянцев.
Очерк развития русской философии
87
Когда при митрополите Платоне (Левшин) Академия вступает в
новый период развития (с 1775 г.), вызов ученых из Киева
окончательно прекращается. Академия стала на собственные ноги —
ее работа становится и интенсивнее, и экстенсивнее. Усиливается
преподавание языков русского и греческого, вводится
преподавание еврейского и новых языков и целого ряда образовательных
предметов, между прочим, истории философии, мифологии,
истории и др., даже «медицины». Основным руководством по
философии оставался по-прежнему один из сотен серых последователей
Вольфа, скучный и ограниченный Баумейстер. Этот выбор
показателен: как увидим ниже, под влиянием условий, отчасти
упомянутых, а отчасти просто вследствие дурного философского вкуса, а
может быть, и сознания собственной философской незрелости, в
нашей академической философии (духовных академий, а частью
и университетов) заметную роль играет выбор образцов для
подражания не из крупнейших, самостоятельных и ярких
представителей философии, а из второстепенных, подражателей,
популяризаторов. Так, сперва, Баумейстеры, Винклеры, Карпе и подобные,
затем какой-нибудь Шульце, Круг, Вейс и под., но не сами Кант,
Шеллинг, Гегель. Нужно считать значительным профессом переход к их
учительству.
Баумейстер был так популярен, что был даже переиздан в
Москве на латинском языке (1777)84, как позже Карпе (Institutiones
filosophiae dogmaticae. Mosquae, ex officina Vsevolojsky, 1815) и Бру-
кер (в Петербурге). Развития науки, конечно, никакого не было,
но, видно, и обучение шло неважно, если после восьми лет своего
управления Платон в резолюции на списке студентов философии
констатировал, что за это время он «не встречал между учениками
достойного имени студента философии». Ни одного деятеля в
области философии за это время — т. е. до преобразования и перевода
в Троицкую лавру (1814) — Академия не дала. В этот третий период
своего существования она становится исключительно
профессиональным, духовно-учебным учреждением. Если в середине XVIII века
ее образовательная роль была шире, то это объясняется, по всей
вероятности, тем, что со стороны общества в ту пору стали
предъявляться к образованию новые требования. Эти требования
возрастали, и едва ли богословская академия могла их удовлетворить, даже
если бы хотела. Нужен был университет.
88
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Пушкин назвал Ломоносова первым русским университетом.
Бестужев-Рюмин* применяет это определение к Вас. Никит.
Татищеву (1686-1750). Исследователи единодушно сходятся в признании
Татищева высшим и типическим представителем образованности
Петровской эпохи и полным выражением того наивно-варварского
утилитарного понимания задач и ценности образования, которое
так характерно для самого Петра. Татищев изложил свое
мировоззрение в «Разговоре о пользе наук и училищ»**, начало составления
которого историки относят к 1733 году. Как показано историками
(Н. Попов, П. Милюков), сколько-нибудь общие, философские
взгляды Татищева прямо заимствованы (преимущественно по
«Философскому Лексикону» эклектика вольфианского направления Вальха).
Поэтому, если не касаться его историографических заслуг, Татищев
интересен только для истории самой образованности..Для истории
философии он лишь показатель условий для нее
неблагоприятных***.
«Главною наукой» Татищев почитает, «чтоб человек мог себя
познать» (Вопр. 3), каковое познание, по его убеждению, «ведет к
будущему и настоящему благополучию» (С. 10). Изложив по Вальху
учение о человеческом организме, душе, ее силах и способностях,
Татищев приходит к заключению о необходимости обучения и
воспитания, соответственного возрастам человека (С. 29-33). Как
совершенствуются с ростом человека его знания, так совершенствуется и
знание человечества вместе с его возрастом. В усовершенствовании
научных познаний человечество прошло три возраста и находится
в четвертом: «первое просвещению ума подавало обретение письма,
другое великое применение учинило пришествие и учение
Христово; третье обретение тиснения книг» (С. 36), в последний возраст
«тиснение книг великой свет миру открыло и неописанную пользу
* Биография и характеристики. СПб., 1882. С. М. Соловьев уделяет
Татищеву наряду с Ломоносовым «самое почетное место в истории русской науки, как
науки в эпоху начальных трудов».
** Впервые «Разговор» издан Нилом Поповым в 1887 г. в Чтениях
Общества Истории и Древностей Российских. Ср., кроме ст. (первоначально 1875 г.)
Бестужева-Рюмина, ст. Нила Попова (ЖМНП. 1886. Июнь), издавшего еще в
1861 г. исследование: «Татищев и его время» (Москва), а также Милюков П. Н.
«Главное течение русской исторической мысли». СПб., 1913. С. 20 и ел.; 122 и ел.
*** Для исследователя русской философской терминологии «Разговор»
Татищева дал бы весьма ценный материал.
Очерк развития русской философии
89
приносит» (С. 43). Только назвав деление наук по предмету или по
«свойствам» — «душевное Богословия и телесное философия», — он
останавливается на разделении, которое сам обозначает как
«моральное»: «которое различествует в качестве, яко 1) нужные; 2)
полезные; 3) щегольские или увеселяющие; 4) любопытные или
тщетные; 5) вредительные» (С. 49). Так как основною целью «Разговора»
является доказательство мысли о необходимости посылать молодых
людей обучаться нужным и полезным наукам за границею, Татищев
останавливается на изображении состояния училищ в России.
«Желание и надежда» на учреждаемые Петром школы оказались, по
наблюдению Татищева, обманутыми.
Ибо «хотя люди в науках преславны скоро съехались и академию
основали», но по епархиям не только не устраивали школ, но «и на-
чатыя оставлены и разорены, а вместо того архиереи конские и
денежные заводы созидать прилежали» (С. 75). Академия с ее
гимназией, по мнению Татищева, в силу разных соображений для русского
шляхетства не подходит (С. 76). То же он утверждает относительно
и других школ: шляхетского корпуса и школ математических
(адмиралтейской, артиллерийской, инженерной) (С. 77-78). Любопытна
характеристика преподавания философии в Московской академии:
«Филозофы их никуда лучше, как в лекарские, а по нужде в
аптекарские ученики, но и учителя сами математики, которое основанием
есть философии, не знают, и по их разделению за часть философии
не исчисляют. Физика их состоит в одних званиях или именах;
новой же и довольной, как Картезий, Малебранж и другие преизряд-
но изъяснили, не знают. Не лучше их логика в пустых и не всегда
правильных силлогизмах состоит. Равно тому юриспруденция или
законоучение, в ней же и нравоучение свое основание имеет, не
токмо правильно и порядочно с основания права естественнаго не
учат, но и книг Гроциевых, Пуфендоровых85 и тому подобных,
которые за лучших во всей Европе почитаются, не имеют. О гистории
же с хронологиею и географиею, врачестве и проч., что к филозо-
фии принадлежит, про то и не слыхали. И тако в сем училище не
токмо шляхтичу, но и подлому научиться нечего: паче же что во
оной более подлости, то шляхетству и учиться небезвредно» (С. 79,
116-117). Кончается «Разговор» указаниями об учреждении новых
и о средствах исправления существующих училищ. Проникнутый
идеями утилитарного значения науки и оценкою их исключитель-
90
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
но с точки зрения пользы государственной и шляхетства как
руководящего в государстве сословия, Татищев не подходит к мысли об
учреждении университета как источника распространителя
«незаинтересованного» знания. Таким образом не Татищев, а все-таки
Ломоносов нашел себе и не метафорическое воплощение в первом
русском университете.
12 января 1755 года состоялся указ об открытии университета
в Москве. Шувалово-Ломоносовский проект об учреждении
университета мотивировал необходимость учреждения обещанием
государственных выгод: «Чрез науки Петр Великий совершил те
подвиги, которыми вновь возвеличено было наше отечество, а именно:
строение городов и крепостей, учреждение армии, заведение флота,
исправление необитаемых земель, установление водяных путей и
другие блага нашего общежития».
Университет был открыт в составе трех факультетов и десяти
кафедр: факультет философский с кафедрами философии,
красноречия, истории универсальной и российской, физики; факультет
юридический с кафедрами натуральных и народных прав («вся
юриспруденция»), юриспруденции российской и политики; факультет
медицинский с кафедрами анатомии, химии физической, особенно
аптекарской, и натуральной истории.
Дела университета пошли, однако ж, не шибко. Сперва
дворянство отдавало детей в университет, так что одно время (1758 г.)
число студентов доходило до 100. Но вскоре все пошло на убыль. На
юридическом факультете все науки читал один профессор (Диль-
тей), то же — на медицинском (Керштенс); число студентов упало
до того, что иногда было по одному студенту на факультет; лекции
не посещались, и иногда в течение года занятия осуществлялись не
более 30 дней.
Профессор философии на философском факультете должен был
обучать логике, метафизике и нравоучению. Первым профессором
был назначен бывший воспитанник Московской академии, а затем
Академии наук и непосредственно самого Ломоносова,
приобретший известность переводом (с франц. перевода) «Опыта о
человеке» Попа, Ник Никит. Поповский86. В Академических сочинениях
(1755. Авг. Ч. 2. С. 177-186) напечатана «Речь, говоренная в начатии
Философических лекций при Московском Университете Гимназии
Ректором Николаем Поповским». В этой речи молодой профессор
Очерк развития русской философии
91
так изображает свой предмет: «Представьте в мысленных Ваших
очах такой храм, в котором вмещена вся вселенная, где самыя со-
кровеннейшия от простого понятия вещи в ясном виде
показываются; где самыя отдаленнейшия от очей наших действия натуры во
всей своей подробности усматриваются; где все, что ни есть в земле,
на земле и под землею так, как будто на высоком театре
изображается, где солнце, луна, земля, звезды и планеты в самом точном
порядке, каждая в своем круге, в своих друг от друга разстояниях со
своими определенными скоростями обращаются, где и самое
непостижное божество, будто сквозь тонкую завесу, хотя не с довольною
ясностию всего непостижимаго своего существа, однако
некоторым возбуждающим к благоговению понятием себя нам открывает;
где совершеннейшее наше благополучие, котораго от начала света
ищем, но сыскать не можем и по сие время, благополучие всех
наших действий внешних и внутренних единственная причина в
самом подлинном виде лице свое показывает. Одним словом, где все
то, чего только жадность любопытнаго человеческаго разума
насыщаться желает, все то, не только пред очи представляется, но почти в
руки для нашей пользы и употребления предается. Сего толь чуднаго
и толь великолепнаго храма, который я вам в неточном, но только в
простом и грубом начертании описал, изображение самое
точнейшее есть Философия. Нет ничего в натуре толь великаго и простран-
наго, до чего бы она своими проницательными разсуждениями не
касалась. Все, что ни есть под солнцем, ея суду и разсмотрению
подвержено, все внешние и нижние, явные и сокровенные созданий
роды лежат перед глазами. От нея зависят все познания; она мать
всех наук и художеств. Кратко сказать, кто посредственное старание
приложит к познанию Философии, тот довольное понятие, по
крайней мере довольную способность приобрящет и к протчим наукам и
художествам» (С. 178-179).
В заключение речи профессор ратует за философию на русском
языке, более «изобильном», чем язык латинский: «Нет такой мысли,
кою бы по-российски изъяснить было невозможно» (С. 184)*. Но
каковы собственные философские взгляды оратора, какова его фило-
* За русский язык, и в частности против злоупотребления иностранными
словами в русской речи, высказывался уже Татищев («Разговор». Вопр. 20), хотя
пользование иностранной терминологией он вполне допускает.
92
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
софская подготовка, какие задачи должно преследовать
философское преподавание — об этом красноречивый профессор не считает
нужным сообщить, а увидеть это читателю самому за блеском
элоквенции87 нет никакой возможности. Прославившийся переводами
и оригинальными одами, Поповский через год (в мае 1756) был
назначен профессором красноречия, что, видимо, и соответствовало
его способностям и научной подготовке.
Другой профессор университета, Барсов88, на торжестве
открытия университета определял задачи философии в духе своего
времени. Философия, убеждал он, служит «без сомнения для того, чтобы
узнать, что может причиною быть нашего благополучия и от чего
оное как действие последовать может? Притом Философия при-
обучает разум к твердому познанию истины, чтоб оный напоследок
знать мог, в чем наше истинное благополучие заключается; испы-
тует неиспытанное естество Божие, разсматривает силы и свойства
наших душ и из того определяет наши должности в разсуждении
Творца нашего, в разсуждении населяющих с нами землю человеков,
в разсуждении вышших, нижших, равных, своих, чужих, кровных,
знаемых, приятелей, неприятелей»*.
В 1756-м году прибыли из Германии приглашенные для чтения,
между прочим, философии профессора Фроман и Шаден — оба
философского уровня ниже среднего. Один читал «по» Винклеру,
другой — «по» Баумейстеру логику и метафизику, а практическую
философию по Винклеру, Федеру, Якобу. Шаден, впрочем, предпочитал
«практическую» философию и, во всяком случае, хорошо уловил дух
тех, кому он обязался служить. Он живо усвоил и прелесть обычая
русских предков, начинавших всякое дело молитвою, и легкий
способ у нас решения философских вопросов с помощью той же
молитвы. «Православная Вера, — так решал он вопрос об отношении
души и тела, — да отверзет вам завесу, скрывшую эту тайну: власть ее
всемогуща, премудра и недостатки все отъять готова».
В 1760-х годах философию в университете начинают
преподавать и русские профессора. Аничков, Сырейщиков, Синьковский и
Брянцев ведут ее преподавание до конца века, последний из них и
* См. указанные «Речи...». С 47-48. «Речь о пользе учреждения
Императорского Московского Университета, говоренная при начале Университетских
Гимназий. 26 апреля. 1755». С 42-49.
Очерк развития русской философии
93
долго спустя (до 1821 г.). Преобладает по-прежнему юльфианство
с Баумейстером в качестве глашатая. Из них Аничков разве,
совмещавший преподавание философии с преподаванием математики,
обнаружил некоторую творческую литературную деятельность. Но
несмотря на всю скромность ее, она не ускользнула от бдительности
кого следует, и ему долго пришлось расхлебывать историю,
возникшую из «доношения» в синод, гласившего, что Аничков «явно
восстает противу всего христианства, опровергает священное Писание,
богознамения и чудеса, рай, ад и дьяволов, сравнивая их с
натуральными и небывалыми вещами, а Моисея, Сампсона и Давида с
языческими богами; в утверждение того приводит безбожного Эпикура,
Люкреция, да всескверного Петрония». Преемник Аничкова по
кафедре философии, ученик его и Шадена (из студентов Академии
перешедший в университет),Брянцев, если придавать значение тому, что
он стал пользоваться в преподавании маленьким кантианцем Сне-
лем, может быть, и выходил за пределы вольфианства и
«популярной философии», но, по-видимому, этот прогресс относится уже к
XIX веку и ко времени после введения нового устава (1804 г.).
В целом, таким образом, и университетские профессора в XVIII
веке лишь «забавлялись около философии». Философия не нашла
для себя даровитого представителя. Опека начальства не могла
поощрить к свободному творчеству. Но и ближайшая среда,
сотоварищи профессоров философии не поощряли к тому, пребывая в
состоянии софофобии89, как то видно из громов медицинских
профессоров Зыбелина и Скиадана, временно занимавшего место
Шадена по его смерти. У одного из этих громы направлены против
«злоупотреблений ума нынешних мнимых философов», а у другого,
убежденного, что на любви к Богу основываются все человеческие
и гражданские обязанности, против философии Канта, которую он
оценивал со своей фармацевтической точки зрения, как подогретые
щи (crambe biscoctum). He так смотрели на Канта90, однако, другие
профессора, и по почину митрополита Платона двое из них, Шаден
и профессор истории, нравоучения и красноречия Чеботарев,
внесли в рассмотрение и «духовную» точку зрения. Когда обнаружилось,
что приехавший из Геттингена с рекомендациями Гейне91 филолог
Мельман разделяет философские взгляды Канта, они подняли
историю, кончившуюся тем, что весьма достойно во все время сыска и
допросов себя державший иностранец взмолился: «Просьба моя,
94
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
чтобы не шутили и не уничижали человеческой природы и нашего
века...». Мельман до конца чувствовал себя иностранцем и принимал
русскую действительность за дурную шутку... В результате процесса
генерал-прокурор гр. Самойлов докладывал императрице:
«Профессор Мельман признан неспособным к своему званию и оказавшимся
поврежденным в уме».
IV
Таким образом, в деле насаждения философии в России
правительственная интеллигенция на первых же порах испытала ту же
неудачу, что и интеллигенция духовная. Между тем со второй
половины века жизнь начинала уже переливать через плотину
правительственных запрещений. Как ни низок был общий уровень
культурного сознания нашего общества того времени, но некоторые запросы
свободного духа проникали в него отчасти с Запада и отчасти под
влиянием первых же, хотя слабых, потребностей зарождавшейся
науки и литературы. Естественно, что, когда свободное русло
загромождено щебнем и сором, чистый поток капризными извивами
огибает их или просачивается сквозь них, теряя в своей чистоте и
ясности. Запрещение философии и свободного философствования
искажает ее, а ее искаженное творчество принимает формы уродливые и
эстетически отталкивающие. Любовь к «мудрости» как к
свободному мастерству мысли вырождается в псевдофилософское
умствование косной морали здравого смысла. Это — почва, благоприятная
для расцвета настроений в вульгарном понимании «мистических»,
а точнее говоря, теософских и эзотерических, услаждающихся
аллегорическими побасенками и многозначительным недоговарива-
нием о восхождениях морального совершенствования, таинствах
посвящения, магическом постижении непостижимого и т. п. Все это
осеняется ореолом таинственности и посвятительного «испытания».
Философская ценность таких теософических конструкций с их ал-
легорикой, кабалистикой и символикой та же, что научная ценность
эликсиров жизни, perpetuuin mobile и т. п. Запрещение свободной
философии есть плод не только невежества, но и глупости, и оно
порождает глупость и суеверие. Табу, наложенное на философию,
обвевает ее вихрем призраков, самая неуловимость которых делает
их в глазах суеверного невежества высшей реальностью, верховною
силою, мистерическим источником, соприкосновение с которым
Очерк развития русской философии
95
должно вызвать духовное обновление и перерождение
невежественного глупца. Но неизреченная истина и невыразимая благодать,
самой своей неизреченностью и невыразимостью обнаруживающие
свою природу глупости, могут утешить одну только глупость. Как
далека философия от глупости, так далека она от тех
теософических и quasi-мистических настроений, которые распространялись
в России в конце XVIII и в первой половине XIX века среди масон-
ствующих и немасонствующих представителей полуобразованного
дворянства того времени. Эти настроения рождались не в порядке
движения идей, а составляли скорее явление порядка социально-
психологического, и в истории философии для них не может быть
места.
О них, однако, следовало упомянуть по их связи с тем общим
движением образованности, которое если не прямо, то все же
отражается и на судьбах философии. Со второй половины века
правительственное просветительство — скучное в школах и игривое
вокруг трона — уже изживало себя и явно не могло удовлетворять
потребностей общества, вступившего в среду культурных влияний
и выходившего из стадии варварского быта. Сквозь гниющую почву
просветительного абсолютизма пробивались свежие ростки
будущей оппозиционной партийной интеллигенции. Они вырастали и
жили без определенной цели и без сознательного плана жизни, но
в их чисто импульсивных реакциях на среду, в свете последующей
истории, мы можем заметить некоторую целесообразность.
Один из таких ростков можно видеть в лице и деятельности
Я К Новикова92, маленького человека с малым умом и
образованием, но — в исключение из нашего национального правила —
человека трудолюбивого, усердного в своем скромном деле и ставшего
«героем» в истории русского общества — уже в полную силу нашего
национального правила — не по своим положительным заслугам, а
по тому, что он был гоним, был, по нашему провербиальному
выражению, «жертвою ненормального строя». Начав с издания
сатирических тетрадок весьма среднего достоинства и по плечу читателю, он
все больше увлекается идеей положительного нравоучительства и на
этой почве сходится с масонством, в частности с добродетельным,
но не глубоким профессором Московского университета Шварцем.
Ту среднюю мораль «любви к ближнему», которая легко
успокаивает совесть среднего человека, отвергающегося официального хри-
96
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
стианства, но ужасающегося перед свободомыслием критического
разума, масонство давало Новикову и само по себе. Но, может быть,
внутренняя пустота масонства не скрылась бы от
«чувствительности» Новикова, если бы Шварц, «сей возвышенный и редкий чувств
и оным надлежащаго испытатель», не смягчил для него аллегорики
масонства более сердечным и простодушным пиетизмом в
истолковании увлекавшей его «науки нравоучения». Что же касается того
теософического гудения, которое раздалось в «Вечерней Заре», то
оно могло гипнотизировать и чаровать, поскольку в нем можно
было выделить какую-то раздельность мотива, но зато слов, за
которыми виднелся бы философский смысл, разобрать не было
возможности. Сам Шварц со своими учениками ходил даже не около
философии, а лишь около метафорических излияний страстного ко
Христу Беме. Характерно, что для своего «нравоучительного»
издательства Новиков не нашел достойной книги по философии*.
Новейшее исследование В. Боголюбова93 хочет освободить
Новикова от упрека в обскурантизме, к которому влекло его масонство.
Автор исследования ограничивает: «Новиков отрицал не всю науку, а
только те ея выводы, которые он не мог примирить с положениями
св. Писания» (С. 265). Пусть это называется не «обскурантизмом», но
меняется ли изложенный здесь факт от прикрытия его другим
наименованием? Имя не стирает факта, иначе... всю нашу историю
пришлось бы излагать иначе. От похвальбы старца, что он «с
мудрыми философы в беседе не бывал», от отрицанья науки, потому что ее
не могут примирить со св. Писанием, и до отрицания философии,
потому что ее не могут примирить с чьими-нибудь ботаническими,
зоологическими или политико-экономическими писаниями, все
одна социально-психологическая черта русской «нравоучительной»
интеллигенции, и ее не стереть названием «необскурантизма».
Спустя триста лет после изречения старца Новиков воспроизвел его
самохарактеристику, и ее же должны повторять и некоторые наши
современники, также не могущие «примирить»: «Не забывайте, что
с вами говорит идиот, не знающий никаких языков, не читавший
никаких школьных философов, и они никогда не лезли в мою го-
* Если не считать некоторых отделов стоявшего ниже даже уровня тогдашней
учебной литературы «Учителя» («Учитель, или Всеобщая система воспитания».
Пер. с 3-го нем. изд. М., 1789. В Университетской Типографии у Н. Новикова).
Очерк развития русской философии
97
лову; это странность, однако, истинно было так» (Боголюбов В. В.
«Н. И. Новиков и его время». М., 1916. С. 37). Применительно к себе
самому в слове «идиот» Новиков ввел некоторый эвфемизм. Это
слово нужно заменить словом «невежда», и тогда всякая странность
указанного положения вещей исчезнет.
Так проявила себя одна из тенденций в сторону новой, будущей
«свободной» интеллигенции. В ее добронравии философия
задохнулась. Другая тенденция сказалась в барственном морализировании
кн. M. M. Щербатова, историка, автора памфлета «О повреждении
нравов в России», члена Комиссии для составления нового
уложения, талантливо отстаивавшего в ней права и привилегии своего
сословия. В противоположность Новикову он обладал недурным
образованием. И в то время, как Новиков суетливо хлопочет об
исправлении-нравов, кн. Щербатов лишь скорбит об их повреждении.
Новиков без плана и системы забрасывает читателя книгами, а он
пишет изящные планы «О способах преподавания разныя науки»
и поощрительные рассуждения «О пользе науки», но — лишь для
собственного семейного архива. Новиков на досуге услаждает себя
беседою с умными людьми о предметах возвышенных, выгоды не
доставляющих, а кн. Щербатов заполняет свой досуг
утопическими мечтами о роли своего сословия («Путешествие в землю Офир-
скую») и меланхолическими размышлениями о жизни, бессмертии,
«о самстве», и «о выгодах недостатка». Один склонен к настроениям
пиетизма и к признанию божественного откровения, другой — к
отвлеченному деизму и преклонению перед естественным разумом.
Наконец, Новиков видит пошлость «вольтерьянства», но
побаивается его показного свободомыслия, а кн. Щербатов имеет достаточно
вкуса, чтобы отвлечь мысли от дешевой фронды вольтеровского
вольномыслия.
Кн. Щербатов не удовлетворен состоянием образования в России.
Стремление к нему есть, но нет средств удовлетворить этому
стремлению. В частности, «университет наш Московский является не
довольно снабжен искусными учителями, и не довольно они тщания
прилагают для такого научения» (С. 438). И Щербатов составляет
обширную, показывающую его широкое образование, программу
«О способах преподавания разныя науки». Он ценит науку не
столько даже за ее техническую полезность, сколько за
«нравоучительность». Источник ее, побуждение к ней и ее последняя задача — по-
98
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
знание человеком самого себя — «колико в нем величества и
подлости!» (С. 603). Взгляд на историю философской мысли от Фалеса94
и до Декарта и Ньютона открывает ему, сколько поучительности и
пользы принесла человеку любовь к науке (С. 605 и ел.). Философия
же преимущественно может служить исправлению наших нравов:
философические науки «располагают разум наш прямыя делать
заключении, оне дают нам познание о разных чудесных свойствах
природы, возвышают великим и малым нас к познанию Всевышняго
Естества, толь мудро устроившаго все: а потому не токмо служат для
украшения нашего разума, для помощи нам во многих случающихся
делах, но и к поправлению самых наших нравов» (С. 569).
Наиболее интересное из околофилософских произведений
кн. Щербатова — «Разговор о беземертии души» (1778). Тема, как и
диалогическая форма его, прямо навеяны чтением платоновского
«Федона»*. Замысел не лишен дерзости: дать христианского Федона.
Но если судить не в соответствии с замыслом, то автор справился с
темою, хотя и без какой-либо глубины и оригинальности, но не без
изящества. Стараясь оправдать знакомство с вольномысленными
сочинениями, «суесловия» которых исчезают перед мыслью «яко дым
или яко прах» (С. 351), он косвенно оправдывает и свои симпатии
к деизму. Герой его «Разговора» «никогда ни Вышняго Естества, ни
беземертия души не отвергал, но разеуждал общественно, чему мы
можем и чему трудно верить» (С. 315). В семи аргументах он
обычными деистическими соображениями доказывает бессмертие души.
Едва ли здесь есть какое-нибудь специальное влияние. Знакомый в
общем с историей философии, как она тогда изображалась, вообще
начитанный в популярной в то время литературе, кн. Щербатов в
неопределенной форме отражает самого платоновского Федона, мо-
* С самим Платоном русский читатель 80-х годов XVIII в. мог познакомиться
по переложениям некоторых диалогов (в том числе «Федона») в «Утреннем
Свете» Новикова (1777-1778) (Ср.: Ященко А. «Русская библиография по истории
древней философии». Юрьев, 1915. С 60), но в особенности по переводу Си-
доровского и Пахомова: «Творений велемудраго Платона. Часть первая». СПб.,
1780. Части второй первая половина — 1783. Второй части вторая половина
(«Платонова гражданства или о праведном десять книг» — пер. Пахомова) —
1783. Часть третья («Законы или о законоположении тринадцать книг» — пер.
Сидоровского) — 1785, переложенный с греческаго яз. на российский свящ.
Ю. Сидоровским и Матфеем Пахомовым, находящимся при обществе
благородных девиц.
Очерк развития русской философии
99
жет быть, как-нибудь опосредствованно Лейбница (или Реймаруса),
но главным образом рационалистический деизм вообще*.
За ту же тему берется Радищев в трактате «О человеке, о его
смертности и безсмертии», который он начал с первого же года
ссылки, но который в необработанном виде был напечатан по его
смерти лишь в 1809-1811 годах в изданном сыновьями Радищева
собрании его сочинений. Щербатов писал для собственного
семейного архива; Радищев же мог бы повторить об этом сочинении
признание, какое он сделал о своем «Путешествии», когда он
«признался, извиняясь, что намерен был только показать публике, что и он —
писатель»**. Для правильной оценки Радищева эту характеристику
необходимо иметь в виду. Если мы предъявим к его произведению
высокие требования, оно окажется ниже критики — ученический
реферат о четырех-пяти прочтенных книгах. Как произведение
писателя, обращающегося к широкой публике, оно — будь оно
закончено и своевременно выпущено в свет — могло бы иметь свое, даже
философское, значение и влияние.
Философские занятия quand même95 отнюдь не составляли
жизненного призвания Радищева. Тема сочинения, как и самая идея его
составления, навеяны собственною судьбою автора. «Нечаянное мое
преселение в страну отдаленную, — начинает он свое рассуждение,
побудило меня обратить мысль мою на будущее состояние моего
существа...» Равным образом и свою компетентность говорить на
избранную тему Радищев оправдывает собственным опытом: тот, кто
близок к смерти, «мог бы разсуждения свои сопровождать
внутренним своим чувствованием; ибо, верьте, в касающемся до жизни и
смерти чувствование наше может быть безобманчивее разума...
Посторонний, а не вы, можете меня вопросить, вследствие моего
собственного положения: какое право имею я говорить о смерти чело-
* В частности, не заметно особого влияния Мендельсонова Федона.
Делалось указание на то, что кн. Щербатов был «воспитан на Юме»
{Иконников В. С. «Один из образов, проектов времени Петра Великого». Киев, 1893.
С. 25), может быть, в истории, но в философии это весьма мало
правдоподобно.
** Так смягчил показание Радищева гр. Безбородко. Сам Радищев о своем
намерении показывал, что оно «состояло в том, чтобы прослыть писателем и
заслужить в публике гораздо лучшую репутацию, нежели как об нем думали до
того». См.: «Полное собрание сочинений А. И. Радищева», под ред. Бороздина,
Лапшина и Щеголева. T. IL s. a. (T. 1.1907). С. 310, 319, 340.
100
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
века? — вопрос не лишний! и я ему скажу... Но, друзья мои, вы дадите
за меня ответ вопрошающему...»*.
Что касается выполнения работы, то, невзирая на ненужные
отступления, в общем, план его ясен. Книга первая трактует о человеке
и его положении в ряду других существ органического мира. Она
составлена в духе немецкой, так наз. популярной философии, т. е. в духе
рационализма, ослабленного влиянием английской, французской и
швейцарской (Боне) физиологической психологии, в свою очередь
смягчавшейся в Германии спиритуализмом Лейбница. Но главный и
прямой источник Радищева — Гердер96, которого он начал изучать
еще до ссылки, в Петербурге**. Радищев просто переписывает,
буквально переводя или с незначительными парафразами, рассуждения
Гердера в первом же томе знаменитых «Идей». Он оригинален лишь
в тех сентиментальных восклицаниях, которыми он связывает
отрывки из Гердера, и в некоторых примерах, которыми он
иллюстрирует мысли Гердера.
Вопрос об источниках Радищева после тщательного этюда
И. И. Лапшина («Философские воззрения Радищева» во втором
томе вышеназванного «Поли. собр. соч.» Радищева) можно
считать выясненным почти что до конца. Мне лично кажется
только, что уважаемый автор 1) недостаточно раскрыл отсутствие
у Радищева непосредственной зависимости от французского
материализма и сенсуализма, легенда о которой до сих пор
повторяется в популярных историях литературы и 2) что автор
чрезмерно снисходителен к Радищеву, называя его произведение
«оригинальным» философским произведением, изобличающим
«пытливость мысли». На мой вкус, Радищев — просто компилятор,
и его нужно оценивать преимущественно с литературной точки
зрения, поскольку оценка Пушкина еще нуждается в развитии и
детализации.
Во второй книге, где Радищев излагает естественнонаучные
сомнения в бессмертии души, он сам указывает на «путеводительство-
* См.: начало «Книги третьей». Проф. Бобров поясняет это место: «Здесь
Радищев имеет в виду смерть своей первой жены» («Философия в России.
Материалы...» Вып. III. Казань, 1900. С. 147). На чем это основано? Не натуральнее ли
предположить, что имеется в виду приговор, который Радищеву самому
пришлось пережить?
** В 1786 г. (См. показания Радищева Шешковскому. Соч. П. С. 338).
Очерк развития русской философии
101
вавшего» ему «в сих суждениях» Пристли*, который, таким образом,
и является главным ответственным лицом в этой части. Т^зетья книга
трактата Радищева посвящена развитию аргументов в пользу
бессмертия души; она состоит из двух частей, из коих первая
воспроизводит первый и второй разговоры Мендельсонова Федона, а
вторая — опять-таки «Идеи» Гердера**. Четвертая книга, где излагается
якобы собственное Радищева решение вопроса, опять-таки,
составлена по Гердеру, с привлечением, кроме «Идей», первого диалога из
сочинения97 Über die Seelenwanderung***.
Излагать мысли Гердера здесь не место. Скажем только об общем
направлении трактата Радищева, который так долго изображался в
свете превратном. Радищев — не материалист, не сенсуалист, и
бессмертие души он отстаивает недвусмысленно. Пушкин писал о
философском рассуждении Радищева: «Умствования оного пошлы и не
оживлены слогом. Радищев хотя и вооружается противу
материализма, но в нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает,
нежели опровергает доводы чистого атеизма». Последнее
утверждение — несправедливо. Что касается влияния французской
философии и, в частности, Гельвеция98, то, может быть, они оказали на
социально-политические воззрения Радищева и немалое влияние —
тем более, что и весь трактат Гельвеция «De l'Esprit»99 есть, прежде
всего, произведение моралистически-политическое («естественное
право»)****, — но для обнаружения такого влияния в сфере
философских идей требовалось исследование по источникам.
* П. Н. Милюков в своих «Очерках по истории русской культуры» (Ч. III. Вып. 2.
Изд. 2-е) утверждает, что «все главные мысли и многие отдельные места прямо
взяты из Гольбаха» (С 381). К сожалению, он этих «мест» не указывает. И. И. Лапшин
также усматривает здесь влияние Гольбаха, но и его указания мне кажутся слишком
общими. Я сомневаюсь, чтобы Радищев непосредственно пользовался Гольбахом при
составлении своего сочинения. lie Радищев «заимствует», там он просто
переписывает. На некоторое противоречие между Радищевым и Гольбахом указывает и К К
Лапшин (С XV-XVI). Гольбах и Пристли не так уж однородны, и последний, как известно,
горячо возражал Шльбаху Радищев, конечно, не очень вдумывался в противоречие
своих источников, но тут, мне кажется, он брал последовательно из Пристли.
** Последнее достаточно раскрыто И. И. Лапшиным. На Мендельсона указал
уже Милюков. Лапшин отметил 16 пунктов «почти буквального перевода
Мендельсона»; я насчитал их не менее 36.
*** См. статью Лапшина. Радищев и сам упоминает имя Гердера.
**** О распространении и влиянии идей Гельвеция в России см. гл. III
«Введения» Э. Радлова к русск. пер. 1ельвеция («Об Уме». Пг, 1917), то же под заглавием
«Гельвеций К» в «В<естнике> Е<вропы>». 1917. Апр.-июнь.
102
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Между тем решительные суждения здесь высказывались на
основании беглых замечаний Радищева, главным образом в его «Житии
Феодора Васильевича Ушакова». Так, и Милюков100 считает, что лейп-
цигские впечатления семнадцатилетнего Радищева, в том числе
впечатления от сочинения Гельвеция «De l'Esprit», обнаруживаются в его
илимском трактате. Это — давление указанного «Жития»; в самом
рассуждении следы Гельвеция случайны, определяющего значения
не имеют, иногда само упоминание имени Гельвеция есть
повторение указания Гердера (например: Кн. 1. С. 19).
Нематериалистические в общем тенденции Радищева побудили проф. Боброва сделать
его чистым последователем Лейбница (Там же. С. 227-231), с
которым Радищев был знаком «не как-либо поверхностно, а изучал его
основательно». Но быть лейбницианцем в ту пору значило или быть
вольфианцем, или примыкать к «популярной философии»,
усвоившей Локка и Лейбница «Новых опытов» (1765). Если бы не всеподав-
ляющее очевидное влияние Гердера, то, пожалуй, было бы
правильнее всего отнести Радищева к эклектизму популярной философии.
Указывали еще на Платнера (тот же Бобров, также Сухомлинов),
но и это влияние сомнительно, если оно не затерялось где-нибудь
в частностях*. Наконец, искали примирения в формуле: «Радищеву
бросалось в глаза не столько коренное различие между Гольбахом101
и лейбницианцами, сколько общее тому и другим стремление к
философскому монизму» (Милюков; Лапшин. С. VIII). Сомнительно,
чтобы Радищев доискивался какого-нибудь общего руководящего
принципа, противоречие которому его беспокоило бы. Повторяю,
серьезно о философии Радищева, как если бы она выражала нечто
большее, чем настроение эпохи, бродившей около философии,
говорить не приходится. Противоречие у Радищева между
«сенсуализмом» или «гилозоизмом» и «спиритуализмом» и «панпсихизмом» в
* К тому же Платнер в разных изданиях менял свои взгляды. Приведенное
указание основано на биографических данных: Радищев должен был слушать
Платнера. Но что он у него слушал? В пору Радищева Платнер был
медицинским профессором — читал ли он и философские курсы или Радищев слушал
изложение его физиологических теорий? Вообще же Радищев изучал
юридические науки, и, по-видимому, более или менее толково лишь в последние два
года своего пребывания в Лейпциге, когда он овладел языком и когда занятия
русских студентов были поведены сколько-нибудь систематически (Ср.:
Сухомлинов М. И. «А. Н. Радищев, автор "Путешествия"...». СПб., 1883. С. 7 и ел.).
Очерк развития русской философии
103
действительности интересует его философских читателей, его же
самого оно мало волновало по той простой причине что,
переписывая Гердера, он и не замечал некоторой двойственности своего
оригинала. Между тем разгадка разнообразия суждений о Радищеве, по-
видимому, именно в Гердере. Гердер, несомненно, продолжал
традиции рационализма Лейбница и не только его метафизики, но и его
«Новых опытов», однако, в то же время на него давили и физиологи-
зированное, если так можно сказать, лейбницианство Боне, и вся
физиологическая психология его времени, и сам барон Гольбах, а с
другой стороны, Руссо102 и Гемстергейс, с Гаманом и Якоби на крайнем
полюсе, где реставрация Спинозы103 вновь замыкала круг
рационалистически. Здесь было что угодно, кроме материализма и сенсуализма.
Было и то, что заставляло историков философии говорить об особом
направлении «философии чувства», в котором Гердер и занимал свое
место. Попросту это была философская жертва сентиментализму.
Куда тут Радищеву было разбираться в философских основах
этого сентиментализма. Но как писатель он нашел в нем близкий себе
«стиль» — отсюда-то и весь его мнимый сенсуализм.
По сравнению с Новиковым и Щербатовым, Радищев
предвосхищает по своему духовному облику то направление третьего типа
нашей интеллигенции, оппозиционно-партийной, которое,
возобладав со средины XIX века, прекратило свое «оппозиционное»
существование, как только стало «начальством», а вместе с этим
завершило и третий период нашего культурного развития. По мнению
некоторых историков русской культуры*, тремя названными именами
исчерпываются основные типы зарождавшейся в XVIII веке светской
и внеправительственной интеллигенции. Но есть основание
присоединить к ним еще четвертый тип, игравший в русской культуре
XIX века крупную роль и интересный для нас тем, что и он нашел
себе в XVIII веке околофилософское выражение. Его
представителем был мнимо-народный «философ» Григорий Саввич
Сковорода (1722-1794). Новиков неосновательно называл себя «идиотом»;
Щербаков мечтал о христианском Платоне; Радищев сравнивал себя
с Галилеем; Сковорода хочет быть русским Сократом104.
Впрочем, с кем только не сопоставляли Сковороду — Украинский
Сократ, Русский Сократ, степной Ломоносов, «под чубом и в укра-
* Например, Боголюбов В. В. «H. И. Новиков и его время...».
104
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
инской свитке» «свой» Пифагор, Ориген, Лейбниц и пр. Ср.:
Данилевский П П. «Гр. С. Сковорода». Соч. Т. VI. Изд. 4-е. СПб., 1884. С. 332,
336, 325; сам Данилевский находит сходство между Сковородою и
Новиковым. Во всяком случае, наш Сократ оказался без Платона,
что, конечно, сильно умаляет его сократическое значение. История
издания сочинений Сковороды постыдна. При его жизни не было
ничего напечатано. В 1798 г. в Петербурге без имени автора был
напечатан один из его первых диалогов под произвольным заглавием:
«Библиотека духовная, дружеская беседа о познании себя»; в 1806 —
«Начальная школа (в «Сионском Вестнике», с краткими
биографическими сведениями об авторе); в 1837 вышли «Дружеский разговор о
душевном мире», «Беседа двое», «Убогий жаворонок» и «Харьковские
басни»; в 1839 — «Брань Архистратига Михаила с сатаною». Первое
собрание сочинений: «Сочинения в стихах и прозе Гр. С. Сковороды»
(изд. Лисенковым), СПб., 1861 г. — пустое и никуда не годное
издание, в котором нет ни одного из более важных и значительных
произведений Сковороды. Лишь в 1894 г., к столетию со дня смерти
Сковороды, были изданы харьковским Историко-филологическим
обществом «Сочинения Гр. С. Сковороды» под ред. проф. Д. И. Ба-
галея, и, все-таки, по цензурным условиям, с пропуском
характернейших для Сковороды вещей (как «Жена Лотова», «Потоп Змиин»,
значительная часть «Израильского Змия»). Наконец, в 1912 г. вышел
1 том (2-го до сих пор нет) «Собрания сочинений Г. С. Сковороды»
под ред. Вл. Бонч-Бруевича, в смысле полноты и ревизии текста —
лучшее издание, но, к сожалению, с весьма несовершенным,
неудачно и некомпетентно составленным алфавитным указателем, мало
облегчающим пользование книгою.
Отчасти по собственной воле, отчасти по неудачничеству
Сковорода отказывается от интеллигентских состояний своего времени:
священника, придворного певчего, школьного учителя и становится
сперва гувернером в помещичьих семьях, а затем бродячим «стар-
чиком», странствующим по помещичьим усадьбам друзей, частью
учеников своих. Годом перелома, приведшим его к тому
мировоззрению, которое он исповедует в своих сочинениях, Сковорода считает
свой тридцатый год. Литературная деятельность его начинается еще
позже — со второй половины 60-х годов XVIII столетия. Как тип
интеллигенции Сковорода — прообраз резонирующего опрощенства
и отрицания традиционной европейской культуры, развившихся у
Очерк развития русской философии
105
нас — может быть, в параллель с чисто народным юродством — во
имя проповеди призрачного самоусовершенствования и мнимо-
углубленного самопознания. Соответствующее миросозерцание
насквозь проникается морализмом, заменяющим традиционные
учения религии, хотя и обращающимся в то же время сплошь и рядом к
источникам оспариваемого ученья. Так вокруг этого мировоззрения
складывается психология внутренне, а иногда и открыто, близкая
психологии сектантства*.
У нас сложился взгляд на Сковороду как на первого
самобытного и оригинального русского философа. Мне трудно оспаривать это
утверждение, так как собственно самой философии в сочинениях
Сковороды я нахожу количество предельно минимальное. А те
немногие напоминающие о философии мысли Сковороды, вокруг
которых бродят его фантазия и поученья, не возвышаются над
уровнем общих мест и ходячих представлений о философии**. Не
находя у этого современника Юма105 и Канта непосредственной связи
с западною новою философией, наши исследователи видят его
источники в философии античной и некоторых отцов церкви. Но и
то и другое мне кажется недоказанным — опять-таки хотя бы по той
причине, что самой философии у Сковороды немного. Несомненно,
однако, что с моралистическими трактатами Цицерона и
Плутарха Сковорода был знаком непосредственно. Ими и определяется то
приблизительное и ходячее представление Сковороды о
философа особую близость не только психологии, но и ученья Сковороды
к некоторым формам нашего сектантства уже не раз обращали внимание
(г-жа А. Я. Ефименко, Вл. Бонч-Бруевич), но каких-либо исследований этого
вопроса я не знаю. Небезызвестный историк Министерства Внутренних Дел
(Т. 8. 1858-1863) Н. В. Варадинов упрекал уже Ор. Новицкого в том, что
последний не отметил в своем сочинении «О духоборцах» (Киев, 1832) влияния
Сковороды на духоборов. Во 2-м изд. своей книги («Духоборцы. Их история и
вероучение». Киев, 1882) Новицкий признает его сильное влияние на молокан
и возможное его участие в составлении «Исповедания учения духоборцев Ека-
теринославских» (1791 г.), написанного от имени содержавшихся в тюремном
заключении сектантов для подачи бывшему тогда губернатору екатеринослав-
скому Каховскому (Новицкий. С. 178, 211).
** Должен привести одно давно высказанное мнение, которое всецело
разделяю: «Задача и пределы этой науки истории философии точно определены
и трудно уже, не подвергаясь опасности показаться несвоевременным, ввести
в нее философов вроде Сковороды». Чистович И. «История С-Петербургской
Духовной Академии». СПб., 1857. С. 294.
106
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
фии, которое через посредство этих же источников вообще было
популяризовано в широких полуобразованных кругах европейских
читателей. Понятно, что «здесь можно найти кое-какие отзвуки
платонизма, но только очень большим желанием иметь в XVIII веке
первого русского серьезного философа можно объяснить тот факт,
что Сковороду называют последователем Платона.
О талантливом изображении Сковороды в книге покойного
Ел. Эрна («Гр. С. Сковорода. Жизнь и учение». М., 1912) говорить
трудно. Книга — взвинченно-литературное произведение, а не историко-
философское исследование. Написанная с подъемом и
вдохновением, эта книга — прекрасное выражение мировоззрения самого
автора, но по отношению к Сковороде — хвалебная песнь, в которой
последний рисуется читателю таким, каким автор хотел бы видеть
первого русского философа, но не таким, каким был Сковорода
реальный. Более осторожный в исторических суждениях проф. Зелено-
горский также утверждает непосредственное знакомство Сковороды
с сочинениями Платона и сильное влияние их на его умозрительную
философию (!?); при чтении сочинений Сковороды он в этом не раз
убеждался: «кто знаком с философиею Платона, для того это ясно и
очевидно» (Вопр. философии и психологии. Кн. 3. С. 222)106. Однако
«напримеры» автора к такой очевидности не приводят. (1) Он
говорит-. «Определение философии составлено в духе Платона, который
ставил философию высшею и главною целью жизни человека». Я
вовсе не нашел у Сковороды определения философии. Кроме того, то,
что здесь приводится, не есть ее определение, а оценка, но и такой
оценки я не нашел у Сковороды, а автор не указывает, где искать. Но
если бы она у него была, почему Сковорода мог извлечь ее только из
Платона «непосредственно»? (2) «Определение души, ее природы и
жизни тоже заимствовано у Платона... "Душа есть perpetuum mobile,
движимость непрерывная", — говорит Сковорода в духе Платона
("Разговор о душевном мире")». Но найти один из многочисленных
платоновских предикатов души, значит ли показать, что у Платона
заимствовано «определение души, ее природы и жизни»? (3)
«Изречение: "Познай самого себя" истолковывается Сковородою также в
смысле Платона и его философии, т. е. познай свою высшую
природу, дух, разум». Этот «пример» вполне гармонирует с первыми двумя
тем же крайним безличием. Для полной коллекции тривиальностей
недостает только также несомненно платоновского положения, что
душа благороднее и выше тела, — положение, которое столь же не-
Очерк развития русской философии
107
сомненно повторяется у Сковороды... Кстати, еще отмечу, что сам
Сковорода свое «узнай себя самого» относит к Фалесу и, по
Плутарху107, конечно, к надписи на Дельфийском храме, хотя все же
больше ему нравится, видимо, Моисеево «Слыши Израилю, воньми себе,
внемли» (С. 319, 321-322). (4) Убедительнее — следующая за сим
ссылка проф. Зеленогорского на дуализм Сковороды, который мог
быть заимствован у Платона и Аристотеля. Но именно дуализм (?)
материи и формы, или идеи, для Сковороды — только иллюстрация
мысли, для него более основной, о дуализме вечного и тленного,
мысли, как то усердно и доказывает Сковорода, библейской и
христианской. И можно ли, находя у Сковороды такую иллюстрацию,
утверждать, что он непосредственно знаком был с сочинениями Платона?
Другой автор (г-жа Ефименко), против которого возражает проф.
Зеленогорский, имел столь же веские аргументы, доказывая, что
Сковорода был пантеистом, близким Спинозе, ибо он и в самом деле
утверждал, что среди многих других предикатов Бога употреблялся предикат
«Натура»... (5) Наконец, проф. Зеленогорский называет диалог
Сковороды, в котором будто бы последний «старается наглядно представить
и выяснить теорию идей Платона». Боюсь, что почтенный автор был
введен в заблуждение заглавием диалога: «Диалог или Разглагол о
древнем мире», ибо в нем никакого выяснения «теории идей Платона» нет
и само название «древний мир» употребляется Сковородою
аллегорически. Несравненно более доказателен проф. Зеленогорский, когда он
констатирует у Сковороды «отступление от философии Платона» и
сближает его со стоицизмом, источниками для знакомства с которым
ему могли служить те же Цицерон108 и Плутарх.
Усвоив несколько моралистических тривиальностей, в остальном
Сковорода пропитывается библейскою мудростью и как истый
начетчик засыпает глаза и уши читателя — до его изнеможения, до
одури — библейским песком. Правильно изображает эту особенность
Сковороды один из персонажей его диалогов: «Ты толь загустил речь
твою библейскими фигурами, что нельзя разуметь». Правильно же
передает самого Сковороду другой персонаж, отвечающий на это
замечание: «Простите, други мои, чрезмерной моей склонности к сей
книге. Признаю горячую мою страсть. Правда, что из самых
младенческих лет тайная сила и мание влечет меня к нравоучительным
книгам и я их паче всех люблю: они врачуют и веселят мое сердце, а
Библию начал читать около тридцати лет рождения моего, но сия
прекраснейшая для меня книга над всеми другими полюбовницами верх
108
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
одержала, утолив мою долговременную алчбу и жажду хлебом и водою,
сладчайшей паче меда и сота Божией правды и истины, и чувствую
особливую мою к ней природу»> («Разговор о душевном мире». С. 245-246).
Сообразно этому Сковорода иногда подписывает свои письма:
«Любитель Священныя Библии Григорий Сковорода» (С. 248,322).
Сковорода от начала и до конца — моралист. Не наука и не
философия как такая владеют его помыслами, а лишь искание для себя
и указание другим пути, ведущего к счастью и блаженству. «Ни о
коей же науке, — говорит он, — чаще и отважнее не судят, как о той,
какая делает блаженным человека, потому и думаю, что всякому сие
нужно, так будто и всякому жить должно». Кто же учит этой науке?
Сковорода понимает это лучше своих почитателей: «Проповедует о
щастии историк, благовестит химик, возвещает путь щастия физик,
логик, грамматик, землемер, воин, откупщик, часовщик, знатный и
подлый, богат и убог, живый и мертвый... Все на седалище учителей
сели; каждый себе науку сию присвоил. Но их ли дело учить, судить,
знать о блаженстве? Сие слова есть апостолов, пророков,
священников и просвященных христианских учителей, коих никогда
общество не лишается» («Кольцо...». С. 251). К науке как такой Сковорода,
будучи моралистом, иначе и не может относиться как скептически.
Она для него возносится лишь к «плотскому», она — «высокий есть
гроб» (С. 137); «физическия сказки» он советует оставить «беззубым
младенцам», ибо «все то бабие, и баснь и пустошь, что не ведет к
гавани» (С. 119). Мы «пожерли» множество систем с планетами, а планет
с горами, морями и городами и алчем; жажда и голод еще пуще палят
сердце наше, ибо не догадываемся, что «математика, медицина,
физика, механика, музыка со своими буйными сестрами» — лишь
«служанки при госпоже и хвост при своей голове, без которой весь корпус
недействителен» (С. 225; 322; 353). Моралист всегда перестает быть
скептиком, лишь только он становится проповедником, а это
Сковорода знает, что «учить о мире и щастии есть дело одних богопро-
поведников; учить о Боге есть то учить о мире, щастии и
премудрости» (С. 253). Тут перед ним раскрывается «новая наука», скепсису не
подлежащая, ибо она есть «наука высочайшая» и «самонужнейшая»
(С. 146). Сама основа такой науки — не знание, а нечто иное:
Qui Christum noscit, nihil est, si cetera nescit,
Qui Christum nescit, nihil est, si cetera noscit109.
(Из письма к Правицкому)
Очерк развития русской философии
109
Эта наука ведет к самоисправлению и самосовершенствованию, а
через них к счастью. Врата ее — познание самого себя.
Брось, пожалуй, думать мне
Сколько жителей в луне!
Брось коперникански сферы!
Глянь в сердечные пещеры!
В душе твоей глагол.
Вот будешь с ним весел!
Нужнейшее тебе
Найдешь ты сам в себе.
Об этом Сковорода твердит неумолчно, но первые же
написанные им диалоги «Наркисс» и «Асхань» прямо имеют эту тему своей
задачей. В них разъясняется, что познание самого себя, если оно
будет направлено не на внешнюю видимость, которая есть лишь
«пустая пустошь» (С. 151-152), предмет идолопоклонства, а на
внутреннюю сущность человека, видимую его духовному, но не плотскому
оку, раскроет нам то, что составляет истинную сущность, «исту»
и нас самих и всего мира. Пока видишь руки, ноги и все свое тело,
«ничего не видишь и вовсе не знаешь о себе.... Видишь в себе то, что
ничто — и ничего не видишь.... Видишь тень свою, просто сказать,
пустошь свою и ничто. А самого себя отрода ты не видывал» (С. 80).
То, что раскрывается внутреннему оку, — «главность», есть мысль:
«Мысль есть главною нашею точкою и среднею. А посему-то она
часто и сердцем называется. И так, не внешня наша плоть, но наша
мысль-то главный наш человек. В ней-то мы состоим. А она есть
нами» (С. 81)*. Внутреннее, или истинное, око, которым
раскрывается это истинное, есть вера: «истинное око и вера — все одно», и кто
имеет в себе истинного человека, тот его оком, верою, усматривает
уже во всем истину (С. 83).
Когда Сковорода говорит о «исте» как о мысли и сравнивает ее
далее с рисунком в красках, фигурою в письменах, планом в
строении (С. 86), и, пожалуй, когда он позже («Разглагол о древнем мире»)
говорит о «тысяче во едином человеке», в этом можно найти отзвуки
платонизма. Но его ближайшие разъяснения тотчас открывают, что
* Сковорода ссылается при этом на Цицерона: Mens cuiusque is est quisque —
Ум коегождо той есть кийждо.
по
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
это — в лучшем случае христианизированный платонизм, а с
подлинным Платоном и из первых рук Сковорода знаком не был и, во
всяком случае, не был eFo «последователем». «План», о котором он
говорит, есть «Слово Божие, советы и мысли его» (С. 83).
«Истинный человек» есть Бог. «Истинный человек и Бог есть тожде. И
никогда еще не бывала видимость истинною, а истина видимостью.
Но всегда во всем тайная есть и невидима истина, потому что она
есть Господня» (С. 130-131). «Ведь сам Бог свидетельствует: что он
Человек Божий. А Божий и Истинный — все то одно. Бог и Истина
одно. Человек Божий и сын Божий одно» (С. 128). И упомянутые
тысяча во едином человеке есть «един Божий человек в тысяще
наших» (С. 308). «Что же есть оно едино? Бог. Вся тварь есть рухлядь,
смесь, сволочь, сечь, лом, крушь, стечь, вздор, сплочь и плоть и
плетки. А то, что любезное и потребное, есть едино, везде и всегда»
(«Начальная дверь». С. 62-63). Он-то и постигается верою: «И так, пане
милый! Если можешь возвесть сердечное твое око от подлыя натуры
нашея в гору к оной господствующей святой вроде, в той день
можешь увидеть и единаго онаго Божия человека.... Видишь государь,
что едина токмо вера видит чуднаго сего человека, коего тень все
мы есмы. Вера есть око прозорливое, сердце чистое, уста отверстыя.
Она едина видит свет, во тьме стихийной светящий. Видит, любит
и благовестит его». Узреваемый верою человек — «нетленный
человек Христос Иисус» («Разглагол о древнем мире». С. 312). Так через
познание себя мы приходим к Богу, а от него вновь возвращаемся
к себе, возрожденному и воскресшему (ср. С. 401). «Подними же от
земли мысли твои и уразумей человека в себе от Бога рожденна, а не
сотворенна в последнее жития время.... Открой же око веры и
увидишь в себе тожь силу Божию, лестницу Божию, тайную, невидимую,
а, узнав сына, узнаешь и Отца Его.... Раскрой же сердце твое для
принятия веры и для объятия того человека, который отцу своему
вместо десницы и вместо силы его есть во веки веков.... Скажи с Паулом:
"вем человека"... Нашел я человека. Обретох Мессию, не плотянаго
кумира, но истиннаго Божиего во плоти моей человека» (С. 103).
То, что раскрывается нам таким образом, есть не только
истина, но также обетование и источник нашего счастья, ибо нам
открылось, что «Царство Божие внутрь нас» (С. 62), оно «вдруг, как
молния, озаряет душу и для приобретения Веры надобен один то-
чию пункт времени» (С. 248), и «кто узнал себе, тот обрел желаемое
Очерк развития русской философии
111
сокровище Божие» (С. 142) — блаженство и счастье: «по земле, по
морю, по горних и преисподних шатался за щастием. А оно у мене
за пазухою... Дома...» («Беседа нареченная двое». С. 203). «Начало
премудрости, страх Божий, он первое усматривает щастие внутрь себя»
(С. 260). Счастье наше есть мир душевный (С. 252), «узнать себе
полно, познаться и задружить с собою сей есть неотъемлемый мир,
истинное щастие и мудрость совершенная» («Кольцо». С. 263); «от
познания себе самого входит в душу свет ведения Божия, а с ним путь
щастия мирный.... Чем более кто себе узнавает, тем вышше восходит
на Сион мира» («Алфавит мира». С. 320-321). Нашел Царство Божие
внутри себя, человек находит все, что нужно в жизни, и как не
ложное, не плотское знание его началось с познания себя, так в этом
открытии оно завершается, становится далее ненужным, тщетным,
суемудрым. «Щастие твое и мир твой, и рай твой, и Бог твой внутрь тебе
есть» («Алфавит». С. 330) — «Щастие наше внутрь нас... пускай никто
не ожидает щастия ни от высоких наук, ни от почтенных
должностей, ни от изобилия... Нет его нигде. Оно зависит от сердца, сердце
от мира, мир от звания, звание от Бога. Тут конец: не ходи далее. Сей
есть источник всякий утехи и царствию Его не будет конца» (Там же.
С. 344). Звание зависит от Бога, значит, что не в нашей воле
определять свое назначение, а нужно здесь для счастья и мира душевного
подчиниться Его воле. «Воньми себе, сыщи Его и послушай Его.... Не
думай никто, будь то от нашей воли зависит избрать стать или
должность. Владеет Вышний царством человеческим, и блажен сему
истинному царю последующий» (С. 325). «Воля Божия есть то верх и
закон законов; не ходи далее...» (С. 339).
Если во всем этом преобладает еще отвлеченная мораль, то
дальше следуют указания на то, как непосредственно перейти к ее
жизненному практическому осуществлению. Для этого нужно угадать
свое естественное предрасположение, следовать, по рецепту всех
моралистов, природе, или, как выражается Сковорода, надо узнать
свою «сродность». «Нужно только узнать себе, куда кто рожден.
Лучше быть натуральным котом, нежели с ослиною природою львом»
(С. 340). Узнать свою сродность и значит то же, что уловить волю Бо-
жию. «Природа и сродность значит врожденное Божие благоволение
и тайный Его закон, всю тварь управляющий — знать то, что есть
подобие в душе и в том деле, к которому она стремится...» (С. 339).
И «лучше умереть, чем всю жизнь тосковать в несродностях. ... Без
112
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Бога, знаешь, нельзя и до порога, если не рожден, не суйся в книго-
четство. Ах! Многие через то в вечную пали муку. Не многих мати
породила к школе. Хочешь ли блажен быть? Будь доволен долею твоей
природы.... Видно, что усердно последовать Богу есть сладчайший
источник мира, щастия и мудрости. Да знает же всяк свою природу
и да искушает, "что есть благоугодно Богу"» (С. 341). Если тут
Сковорода приходит к намекам на собственную биографию и к
известному самооправданию, то это опять черта, характеризующая в нем
истинно-моралистическую, а не собственно философскую, скажем
его же словом, сродность. «Обучатися и купно обучать братию
добродетели, — пишет сам о себе Сковорода, — якоже свыше
заповедано мне, сей мой един есть жребий, и конец, и цвет, и плод жизни,
и трудов моих успокоение» (из пис. цитир. Б. Хиджеу — «Телескоп».
Ч. XXVI. С. 158).
Поэтому-то и вся мнимая философичность Сковороды,
принимаемая его панегиристами за основу его морали, за
принципиальный фундамент мировоззрения, в котором и видели платонизм,
принципиальный дуализм, пантеизм и под., есть для него, на самом
деле, лишь пристройка к главному зданию «самонужнейшей науки»
о счастьи и об оправдании, в конце концов, собственного
поведения. Поэтому-то «теория» у него так груба, набрасывается
мимоходом, «между делам», не детализуется и не возвышается над уровнем
общих мест. Сковороде хотят найти иное «оправдание», чем то,
какое он сам себе дал. Хотят приписать ему сродность, какой он не
имел. Но не лучше ли быть, в самом деле, натуральным моралистом,
«нежели с ослиною природою львом» или же с проповедническою
природою философом?*
Нехитрая философская пристройка Сковороды сводится к
следующему. Человек есть «маленький мырок»", в самопознании он
раскрывает в себе истинного человека, в познании же целого «мыра»
природы он точно так же, озаренный духом истины, раскрывает за
* Потому лучшим и наиболее цельным, ибо наиболее соответствующим
духу, <сродности> Сковороды до сих пор остается то бесхитростное и прямое,
связанное лишь с изображением жизни и личности изложение его учения,
которое дает «Жизнь Григория Сковороды», с большою теплотою и симпатией к
нему составленная его учеником и другом М. И. Ковалинским.
Сковорода иногда пишет «мыр», «мырок» (mundus) в отличие от «мир»
(pax).
Очерк развития русской философии
ИЗ
тьмою свет, за тленом истину, которая, как и тот истинный человек,
божественна, будучи самим Богом созиждена и устроена. Само узре-
ние этого нового, второго мира божественно и вдохновлено Богом.
«Всего ты теперь по двое видишь: две воды, две земли. И вся тварь
теперь у тебе на две части разделенна. Но кто тебе разделил? Бог.
Разделил он тебе все на двое, чтоб ты не смешивал тмы со светом,
тмы со правдою. Но понеже ты не видел кроме одной лжы, будь то
стены, закрывающия истину, для того он теперь тебе зделал новое
небо, новую землю. Один он творит дивную истину И так ты теперь
видишь двое — старое и новое, явное и тайное» («Наркисс». С. 96).
Нужно везде видеть «ДВОЕ» (С. 199), — «кто одно знает, а не двое, тот
одно беду знает» (С. 200). Эти двое: «мир и Мир, тело и Тело, человека
и Человека — двое в одном и одно в двоих, нераздельно и не слитно
же. Будь го'Яблонь и тень ея, древо живое и древо мертвое; лукавое
и доброе; лжа и истина; грех и разрешение. Кратко сказать: все что
осязаешь в наружности твоей, еще веруеши, все тое имеешь во славе
и в тайности Истое, твоею ж внешностию свидетельствуемое,
душевным телом духовное. В сей то центр ударяет луч сердца наперснико-
ва» («Беседа нареченная двое». С. 202). Как можно видеть из
приведенных формул, это не есть дуализм спиритуалистический — тела и
души, а дуализм космический — в духе платонизирующего
христианства, дуализм видимой действительности и невидимого Духа,
царства земного и небесного, Божьего, тленного и вечного, зла и блага*.
«Весь мыр состоит из двоих натур: одна видимая, другая невидимая.
Видима называется тварь, а невидимая Бог. Сия невидимая натура
или Бог всю тварь проницает и содержит, везде и всегда был, есть и
будет» («Наркисс». С. 100; Ср.: «Начальная дверь». С. 63).
Если этот «дуализм» и имеет вид метафизического принципа,
то зато им кончается собственно философия Сковороды. Ибо как
дальше можно было бы развивать этот принцип? Либо в
направлении метафизическом, как раскрытие т. называемой космологической
проблемы, либо в направлении собственно богословском, которое, в
свою очередь, было бы или принятием церковного догматического
Следовательно, истолкование в духе спиритуалистическом «дуализма»
Сковороды — неправильно. Эту тенденцию обнаруживает Эрн, когда говорит:
«Человек есть микрокосм. В таком случае ничего познавать человек не может
иначе как через себя* (С. 216). Это — не Сковорода.
114
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
богословия, или богословствованием за собственный страх —
диссидентством, сектантством. Сковорода избрал это последнее. Как
обычно бывает в христианских сектах, единственным источником
и авторитетом в таком случае признается Библия, остальное —
работа моралистически настроенной фантазии, ощущаемая как
«духовный свет» или боговдохновение. Вполне понятны те
психологические основания, которые приводят соответственно
настроенных интерпретаторов к аллегорическому толкованию св.
Писания; в сторону аллегоризма целиком и уходит мысль Сковороды.
Все более значительные работы его 70-х и 80-х годов посвящены
оправданию аллегорического истолкования Библии и его
применению к интерпретации некоторых текстов ее. Таковы: «Израильский
змий или картина нареченная: день», «Книжечка о чтении священ-
наго писания нареченна Жена Лотова», «Диалог. Имя ему: Потоп
Змиин».
Ковалинский называет любимейшими писателями Сковороды:
Плутарха, Филона иудеянина, Цицерона, Горация, Лукиана, Климента
Александрийского, Оригена, Нила, Дионисия Ареопагитского,
Максима Исповедника. Для исследования вопроса об аллегоризме
Сковороды интересны Филон, Ориген и Климент Александрийский, к
которым следовало бы присоединить еще бл. Августина, с которым,
по-видимому, Сковорода был знаком. Делом специального
исследования было бы сравнить и показать, заимствовал ли у них Сковорода
какие-либо из своих толкований или он усвоил только общую идею
аллегорического толкования Библии. Общий очерк развития
герменевтики см. в моей (печатающейся) книге: «Герменевтика и ее
проблемы».
А. С. Лебедев в статье «Г. С. Сковорода как богослов»110
ограничивается лишь совершенно общим указанием на Оригена и
александрийскую школу богословов (аллегористы) и не входит ни в какие
частности. Еще более бегло касается этого вопроса Вл. Эрн (С. 242).
Проф. Зеленогорский усматривает специальное влияние Оригена на
Сковороду, но опять-таки ограничивается столь общими
сопоставлениями, что уничтожает значение собственного утверждения. Но
вообще нужно сказать, что дальше идеи аллегоризма не идет
общность Сковороды с указанными предполагаемыми его источниками.
О философском влиянии здесь не может быть речи, еще раз, за
отсутствием философии у Сковороды. Если же искать более близкого
Очерк развития русской философии
115
и специального источника именно аллегоризма Сковороды, то, мне
кажется, прежде всего следовало бы обратиться к Оригену («О
началах») и Клименту Александрийскому («Строматы». Особенно кн. V),
но доказывать это — здесь не место.
Совершенно неосновательно было бы сопоставлять
Сковороду со Спинозою, исходя из его заявления, что «Библия есть ложь
и буйство Божие» (С. 362), «что Библию читать и ложь его (sic!)
щитать, есть тоже» (С. 508; ср.: С. 265; 394), и следующего затем
«рационального» толкования ее небуквального смысла. У
Спинозы — основа филологическая, критическая и историческая, у
Сковороды — моралистическая. Филологическая подготовка
Сковороды вообще весьма хромает. По-видимому, он недурно владел лишь
латинским языком, знал греческий. Эрн говорит о «способностях
Сковороды к языкам» и решает: «Филологические дарования
Сковороды, очевидно (?), были значительны и напоминают (!) другие
два примера редкой филологической одаренности в истории
русской философской мысли: В. С. Печерина и В. И. Иванова»111 (С. 60).
Этому можно противопоставить такие примеры: «В некоторой
земле называется бог: иштен» (С. 64), каковое название Сковорода
сопоставляет с именем Бога «Истинна», хотя имеющееся здесь в виду,
очевидно, венгерское Isten никак с арийским корнем «истины» не
может быть сопоставлено; «У Тевтонов человек нарицается менш,
сиречь, mens, то есть мысль, ум; у Еллинов же нарицается муж, фос,
сиречь, свет, то есть ум» (С. 81 прим.), — т. е. отождествляются cpcoÇ и
(рюС: ôaijxômov значит знание или разумение, а ôaijxwv — знающий
или разумеющий (С. 236); «Египетская Усыс и именем, и естеством
есть тоже, что Павловский Иисус» (С. 332); знание
древнееврейского редко у Сковороды выходит за пределы толкования собственных
имен, «переводы» которых, как известно, по большей части даны в
самой Библии, и т. п.
Сама Библия фигурирует у Сковороды в качестве некоторого
символа, который, в свою очередь, толкуется им метафорически и
аллегорически. Так, уже в «Асхани» св. Писание изображается, как
«фонарь, Божиим светом блистающий для нас путников», «речь
Библии подобна азиатской реке, именуемой Меандер» (С. 167), в
«Кольце» она называется «домом Божиим», к которому ключ — «дух страха
Божия и дух разума» (С. 260); она есть «слово Божие и язык
огненный» (С. 261); она — «человек домовит, уготовавший семена в закро-
116
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
мах своих» (С. 263). Далее устанавливается, что «Библия есть точный
змий» («Кольцо». С. 287; «Израильский Змий». С. 386) и в то же время
она «то же что сфинкс» («Алфавит мира». С. 355), она есть «еврейская
Сфинкс и не думай, будто об ином чем, а не о ней написано: "Яко
лев, рыкая, ходит, иский кого поглотити"» («Жена Лотова». С. 394),
«она — то есть древняя оная 1Ф1Н ("Сфынкс"). Лев-дева, или Льво-
Дева, Купно Лев и Дева» («Потоп Змиин». С. 510). Наконец, Библия
есть Начало и Мир (С. 368, 370). Но так как в мире мы все должны
видеть «два Мира — един Мир составляющие — Мир видный и
невидный, живый и мертвый, целый и сокрушаемый. Сей риза, а тот
тело. Сей тень, а тот древо. Сей вещество, а тот ипостась...» (С. 368),
то и слово Божие нужно читать в двояком смысле. «Из двоих естеств
состоит слово Божие. "Единою глагола Бог, но двойное слышно". Две
страны имеет библейное море. Одна страна наша, вторая — Божия»
(«Жена Лотова». С. 396). Библия поэтому раскрывает нам то же
самое, что и углубленное, умственное познание себя. Она ведет к нему
(С. 172) — «страх Божий вводит во внутреннюю Библии завесу, а
Библия тебе ж самаго взяв за руку, вводит в твой же внутренний
чертог, котораго ты отроду не видывал» (С. 176). Войдя в нее, услышишь
опять все то же: познай себя, «воньми себе, внемли» — «Вся Библия
дышет сим вкусом: "узнай себе" (С. 321). Через познание себя мы
проникаем в сокровенный смысл Библии, через нее мы
проникаем глубже в себя. В том и другом случае за внешним для нас стоит
одно — вечное, высшее бытие. Библия, как и непосредственное узре-
ние вечного в нас и во всем мире, «непрестанно кладет нам в уши
иное высочайшее некое естество, называя оное началом, оком,
отцом, сильным, Господем, царем, Ангелом совета, духом, радостию,
веселием, миром, и протчая» (С. 323). Словом, Библия раскрывает нам
Бога и его царство: как «вторый человек Господь с небесе» (С. 323),
так и «всей Библии предметом сам только един Бог. Тут ей конец до
последния черты. Без Его она и лжива, и дурна, и вредна, а с Ним
вкуснее и прекраснее всех невест» (С. 356).
Библия раскрывает то же, что раскрывается умному оку и в
самом мире, и в человеке, которого мы называли поэтому «маленьким
мырком». Библию можно также ввести в это тожество и приравнять
ее и человеку и миру. «Библиа есть человеком, и ты человек. Она есть
тельцом, и ты тоже. Если узнаешь ее, один человек и один телец
будет с нею» (С. 179). — «Священная Библиа есть — то позлащенная
Очерк развития русской философии
117
духом труба и маленький мирок» (С. 317). «Всяк рожденный есть в
мыре сем пришелец, слепый или просвещенный. Не прекрасный ли
храм, премудраго Бога: мыр сей? Суть же три мыры. Первый есть
всеобщий и мыр обительный, где все рожденное обитает. Сей составлен
из безчисленных мыр мыров и есть великий мыр. Другии два суть
частный и малый мыры. Первый микрокозм: сиречь — мырик,
мирок, или человек Вторый Мыр символичный, сиречь Библиа»
(«Потоп Змиин». С. 496)*.
Свои размышления о роли и значении Библии Сковорода
концентрирует в следующих словах: «Знай, друг мой, что Библиа есть
Новый мир и люд Божий, земля живых; страна и царство любви;
горний Иерусалим; и сверх подлаго — азиатскаго есть Вышний. Нет там
вражды и раздора. Нет в оной республике ни старости, ни пола, ни
разнствия." Все там общее. Общество в любви, любовь в Боге, Бог в
обществе. Вот и кольцо вечности» («Жена Лотова». С. 399).
Всем этим нимало не расширяется и не углубляется философская
концепция основного дуализма Сковороды. Но изложенное
показывает, какую он взял линию, уклонившись от метафизической
космологической проблемы. Этим раскрывается и его действительный,
жизненный, нефилософский интерес. От начала до конца Сковорода
остается моралистом. Библия для него «есть мысли Божий, сие есть
сердце вечное. А сердце вечное есть то Человек вечный» (С. 410). Но
не вечность его интересует сама по себе и даже не «мысли Бога» как
такие, а то, что из них, из Библии можно сделать основание для
морали и праведной жизни, что из нее можно извлечь «мир душевный».
* Это различение трех миров явно выражено у Сковороды лишь в
«Потопе Змиином», законченном им в 1791 г. Проф. Багалей обращает внимание
на сходство этой мысли с мыслью некоего Дютуа, мистика (?),
последователя г-жи Гюйон, книга которого, вышедшая в 1790 г., потом (в 1818 г, в эпоху
теософских увлечений правительства) была переведена на русский язык под
заглавием «Божественная и христианская философия» (Проф. Багалей Д. И.
«Опыт истории Харьковского университета». Т. 2. Харьков, 1904. С. 82-86).
Есть много данных (тут не место их рассказывать), что у Сковороды и Дютуа
был некоторый общий источник. Возможно, что Ковалинский привез из
Лозанны какие-нибудь сообщения Сковороде; так, например, не выяснена еще
роль Мейнгарта, сведения о котором сообщил Сковороде Ковалинский и имя
которого Сковорода избрал себе даже псевдонимом. В каком отношении
находится Дютуа, учившийся в Лозанне (в 40-х гг.), к Мейнгарту, жившему в Лозанне
(в 70-х годах)?
118
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Этим и определяется околофилософское место украинского
мудреца, предвосхитившего некоторые моралистические идеи
толстовства и других подобных-интеллигентских опрощенских настроений
XIX века*.
ПО ПРОПИСЯМ
V
Итак, восемнадцатый век не оставил новому ни
философского наследства, ни даже философского завета. Девятнадцатый век
и свою приобретательскую, и свою творческую работу должен
был наладить собственными усилиями. Интеллектуальное
руководительство правительства пришло быстро к концу, и со второй
четверти века начало переходить в руки новой, становившейся
все более независимой внеправительственной интеллигенции, в
значительной своей части выступавшей в оппозиции
правительству и только частью поддерживавшей отживавшую фикцию его
идейного руководительства. Между кончавшей свою духовную
историю старой интеллигенцией и вступавшей ей на смену
новой интеллигенцией идейной борьбы почти не было. Со стороны
правительства было гонение, преимущественно политического
характера, со стороны гонимых — более или менее открытый
протест и более или менее скрытое подполье. Сила государственной
организации сталкивалась с силою психологической реакции, и
последняя более влияла на развитие национального самосознания,
чем первая. Создавалось противоречие тем более невыносимое,
что обе стороны были лишены на первых порах одухотворяющей
развитие положительной идеи. Государственная организация
попробовала было провозгласить свою идею в программе т. наз.
официальной народности. Две части ее, православие и самодержавие,
формулировали утверждение господства господствовавших и, как
уже было ясно, не сумевших организовать дух страны. В третью не
* Сковорода не случайно выбирал себе друзей среди интеллигентных
помещиков и священников. Равным образом и исповедуемая им характеристика
реального народа — не просто шутка: Quidquid agit vulgus: nihil est nisi pestis et
hulcus (Что ни делает чернь, все — чума и язвина). Из Письма к свящ. Я. Пра-
вицкому. (Срезневский В. И. «Письма Г. С. Сковороды». СПб., 1894. С 10).
Очерк развития русской философии
119
поверили не столько, может быть, потому, что она была высказана
неискренне, сколько потому, что за нею не было видно и
действительно не было положительного идеального содержания. Реальное
ее значение сводилось, в глазах многих, к возможности через нее
детализовать и углублять сочетанное единство двух первых
терминов формулы.
Как бы ни было, народность была громко провозглашена. Обе
стороны могли ее принять, но вторая сторона так же не
понимала истинного значения принципа, как и первая. Никто не понимал
того, что положительное провозглашение народности
означало отрицание прав правительственной интеллигенции на звание
естественного, призванного, а не самозванного, представителя и
репрезентанта народа. Никто не видел революционной стихии
принципа-, никто не предвидел, что от простого, но
настойчивого реакционного повторения слова «народность» его смысл будет
превращен в революционное народничество. Никто не понимал
тех перебоев смысла нового лозунга, которые возникали в
зависимости от того, из чьих уст он исходил. Все без исключения уста
произносили его, не сознавая его смысла. Никто не отдавал себе
отчета в том, что генезис нового лозунга таил в себе
противоречивую двойственность. Как будет показано ниже, спонтанное
движение к народности возникло и стало раскрываться у нас чуть не
с конца XVIII века, рефлексивное же ее осознание и
порожденные им усилия к сознательной истории возбуждались простым
подражанием, как заимствование и перенесение к нам
западноевропейских идеалов. Правительственная интеллигенция,
оглядываясь назад, убеждалась в своей неорганичности,
неаристократичности, ненародности и наивно искала средств стать народностью
путем изучения народа, не подозревая, что народностью она могла
родиться, но не сделаться. Новая интеллигенция рождалась
народностью, но не чувствовала этого и даже терзалась позже
угрызениями совести, мучившей ее за мнимую «оторванность от народа».
Она видела и сознавала только второй корень генезиса идеи
народности — заимствование. Идея была заимствована из той
идеологии романтизма-неогуманизма-национализма, где она
понималась как символ новой исторической и культурной
действительности, синтезировавшей в себе, как в новом Возрождении, еще раз,
по-новому, языческий классицизм и христианский романтизм, по-
120
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
добно тому, как некогда первое Возрождение синтезировало
язычество и христианство, подобно тому, как в начале Новой Европы
рождение европейского христианства синтезировало европейское
творчество и языческую психологию лица с азиатскою мудростью
и восточною моралью безликой массы «ближних». Там, на Западе,
это была победа, и притом окончательная, дважды Возрожденной
Европы над Земным шаром; только что укрепившиеся
Американские европейской культуры Соединенные Штаты гарантировали
окончательность этой победы. Мы приняли синтетическую
формулу, не пережив еще момента антитетического112, и оттого наша
новая интеллигенция не стала самостоятельною народностью
среди независимых народностей Европы, а оказалась только
оппозиционным к собственному правительству народничеством,
демократическим, неаристократическим. И лишь в отдельных своих
представителях она показала черты еще грядущей истинно русской
народности. Таким образом, провозглашая народность и призывая
к изучению народа, правительство признавалось, что оно уже не
народно, но не уступало своих фиктивных прав. Провозглашая тот
же лозунг и призывая к просвещению народа, новая интеллигенция
предугадывала, что она уже народна, но отрекалась от своей
народности в пользу подражающего просветительства и имитирующего
демократизма, ставших в силу самого факта отречения по методу и
по содержанию чистым нигилизмом.
Итак, новая интеллигенция сама претендовала на то, чтобы
в лозунге «народности» выразить свою идею лишь до тех пор и
постольку, пока и поскольку она видела в ней заимствованную
идею. Но когда была провозглашена правительственная
тройственная формула, она своим третьим членом вырывала лозунг у
влиятельнейшей части новой интеллигенции, и последняя начала
отказываться от него, тем самым лишая формулу жизненности,
а себя всякой связи с официальной программой. У новой
интеллигенции, таким образом, была вырвана ее идея, прежде чем она
научилась ее сознательно называть. Потому-то протест оставался
пустым, безыдейным, превратившись в пассивный героизм
гонимых за чужую идею. Последняя наспех заимствовалась из чужой
истории, и хорошо, если она, по крайней мере, исповедовалась.
При господстве беспринципной цензуры, с одной стороны, и без
всякого опыта существования свободного слова и осмысленной
Очерк развития русской философии
121
правомерной борьбы за него, с другой стороны, гонению
подвергалось не только исповедание своей или чужой идеи, но даже
простое признание права на такое исповедание. Идейно пустой
протест осуществлялся как нигилизм, как «политика», как
подготовка революции. Протестующая интеллигенция пребывала в
не-интеллигентности. Полных почти сто лет истекло от первого
политического «бунта» до революции и тот же срок — от
первого выступления в журналистике («Московский Телеграф»
Полевого113) разночинца и до крушения оппозиционной
интеллигенции. В течение всего этого времени и до их общего крушения
обе стороны, правящая и бунтующая, напирали одна на другую с
каким-то тупым упорством, как две бесформенных глыбы давили
друг на друга, лишь по временам обнаруживая активность,
прорывавшуюся в импульсивных эксцессах то с одной, то с другой
стороны. В тисках правительственной и революционной политики
интеллектуальные силы страны должны были пробиваться к свету
и культурному бытию. Трудно было сохранять полную
интеллектуальную независимость при непрекращавшемся политическом
давлении с двух сторон. И если тем не менее некоторая
нейтральная сфера образовалась между ними и даже сумела поставить себе
самостоятельные проблемы, то все же в нее слишком часто
врывались влияния некультурные и определяли ее содержанием, для
нее самой посторонним. Так, по существу духовные течения —
западничество и славянофильство — оказываются сильно
окрашенными в цвета: первое либерально-революционной политики, а
второе — консервативно-правительственной. Так как либерализм
у нас никогда не был у власти и оттого становился все более
революционным, и так как правительство всегда было
консервативно и консерватизм стал синонимом правительства, то было ясно,
что чем более крепла нейтральная сфера в своем культурном
развитии, тем ближе мы подходили к тому, что она раздаст их своим
ростом, выведет из равновесия и заставит сойтись прямо в
открытой до смерти борьбе. Это уже произошло. «Культура» пока
позабыта. Но недаром она — «третья»... И бытие России — в ней, каково
бы ни было России становление. Революция долго подготовлялась
и наконец совершена. Мечта оппозиционной интеллигенции
осуществилась, а вместе окончилось и ее житие. Началась уже новая
эпоха.
122
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
В начале XIX века правительство еще искренне, и с основанием,
считало себя интеллигенцией и рассадником культуры.
Пятидесятилетнее существование Московского университета было убого, и
плоды его деятельности — ничтожны. Правительство реформирует
его, учреждает новые университеты. Харьковский и Казанский,
реформирует и учреждает духовные академии, издает и переиздает
уставы и программы, выписывает профессоров из-за границы,
посылает «молодых людей» учиться науке за границу. Но вся эта
кипучая деятельность — деятельность неудачника, промотавшего свою
жизнь, и к концу дней своих поставленного в необходимость вести
планомерную работу, за которую он и хватается неумело — то с
одного конца, то с другого. И в самом деле, стоило в университетах
сверкнуть новому слову, забиться новой мысли, и правительство
торопилось погасить и убить их из боязни, что это — симптом какой-
то его неудачи, его промаха. Обратно, мысль под этим давлением
сжималась, пряталась, хотя становилась напряженнее и тем
напряженнее, чем сильнее было давление на нее. Совсем сломить ее уже
не удавалось, и она вдруг прорывалась в самом неожиданном месте
и в самое неурочное время. Выходило так, что всякое давление на
нее только благоприятствовало ей; зато поощрение — ее отравляло.
Нашедши себе выход в журналистику, она потекла широким
потоком, пока и здесь не натолкнулась на новые не-правительственные
шлюзы и плотины.
Во всяком случае, первый свой шаг наша философия в XIX веке
сделала по прописям, хотя и начертанным не рукою правительства,
но заполняемым под его цензурою. А вырвавшись на свободу, она
успела поставить себе свою проблему прежде, чем на нее налегла
тяжелая рука другой цензуры, как у нас принято выражаться,
«слева». Когда правительство испугалось умственного потока,
вышедшего из берегов проложенного им русла, одною из жертв его
реакционных мероприятий была изгнанная из университетов
философия. Так, спокойного академического ухода философия у нас была
лишена вплоть до начала шестидесятых годов. Сделав свой первый
шаг, наша университетская философия впала в состояние
паралитическое. Она оживает при новых культурных условиях и в новой
умственной обстановке, создавшейся вне академической работы
и вне академических идеалов. От этого-то ее история в XIX
веке и до нас в значительной мере направляется не кафедрою, как
Очерк развития русской философии
123
преимущественно это имеет место на Западе, а литературою. Это
скажется и в отрицательных, и в положительных чертах русской
философии.
Начало царствования Александра Первого сопровождалось
повышенным настроением: надеждами и напряженным ожиданием.
Казалось, что русскому невегласию пришел срок; хотелось, чтобы
наступило русское просвещение. Только что учрежденное министерство
народного просвещения с гр. П. В. Завадовским114 во главе через
посредство Главного училищ правления открывает новые
университеты (в Казани и Харькове), преобразует старые (кроме Московского,
министерству были подчинены университеты Дерптский и Вилен-
ский) и вводит новый университетский устав115. Так как по новому
уставу количество кафедр увеличивалось по сравнению с прежним
московским составом их, то количество профессоров, нужных для
удовлетворения всех университетов, оказалось весьма значительным.
Пришлось опять их выписывать из-за границы. Главным
поставщиком была Германия; в ней главным советчиком был гетгингенский
профессор Мейнерс, один из представителей немецкой
просветительной эклектической философии (alter ego Федера). В общем,
состав вновь прибывших ученых оказался несравненно выше того,
каков был при открытии Московского университета. Среди философов
выделяются Буле (Joh. Gottlieb Erhard Buhle, 1763-1821), известный
историк философии, знаток и издатель Аристотеля, приглашенный
попечителем М. Н. Муравьевым116 в Москву, и Шад (Joh. Baptist Schad,
1758-1834), беглый монах, последователь Фихте117, в
натурфилософии — Шеллинга118, рекомендованный, между прочим, Шиллером119,
и Гете120 и приглашенный гр. Северином Потоцким в Харьков.
В Москве все еще продолжал тянуть вольфианскую лямку Брян-
цев, и приезд Буле (1804), развившего в Москве лихорадочную
деятельность, иногда далеко выходившую за пределы философии,
должен был весьма оживить и поднять преподавание философских
наук Буле был кантианцем того первого примитивного склада,
который больше полагался на букву, чем на дух Кантова ученья. Но Буле
был в курсе современных ему течений философии и знакомил своих
слушателей с учениями Канта, Фихте и Шеллинга*, по-видимому, не
* Что Кантово учение проникало в Россию и раньше, видно хотя бы из
появления еще в 1803 г. на русском языке перевода: «Кантово Основание для Мета-
124
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
только в порядке историческом, но и систематически-критическом.
Вероятно, не от самого Буле зависело, что преподавание его не
оставило заметного следа, если не считать таковым проходившего
философию под его руководством И. И. Давыдова121. Причиною тому был,
по всей вероятности, невысокий уровень слушателей, а может быть
и то, что чтения Буле велись на латинском языке, к которому
студенты того времени были в общем недостаточно подготовлены.
Сохранилась эпиграмма, которая передает отношения слушателей к
профессору:
Господин профессор Буле,
Ты нам строил черта в стуле...
Приглашенный вместе с Буле некий Рейнгард, видимо, был
ему плохим партнером, хотя также знакомил (и притом на
французском языке) своих слушателей с современным состоянием
философии. Оба прекратили преподавание в 1812 году, после
чего один бессменный Брянцев продолжал еще долго (до 1821 г.)
томить философию, совокупляя Вольфа с бесцветным
кантианством одного из маленьких, но многочисленных снеллей. При
жизни еще Брянцева отдельные философские предметы, впрочем,
читались также Снегиревым Ив. Мих. и Давыдовым (адъюнкт с
1817 до 1821 г., когда перешел на кафедру римской словесности),
а после его смерти (в течение одного года) также неким
Любимовым С. И. Все это были преподаватели случайные, переходившие
на другие предметы и к другим обязанностям. Специального
профессора философии не было вплоть до 1845 г., когда начал свое
преподавание M. H. Катков (до 1850 г.). Лишь за Давыдовым
можно признать известное влияние на философские вкусы и
образование московской публики двадцатых и тридцатых годов, хотя и
это влияние исходило не из его университетского преподавания
физики Нравов. С немецкого языка переведенное Яковом Рубанном». Николаев-.
В Типографии Черноморского штурманского училища, 1803- (С одобрения
московской цензуры.) Перевод посвящен (адмиралу) H. С. Мордвинову. В
Посвящении переводчик называет сочинение Канта книгой «важной и единственной
в своем роде» — «в ней глубокомысленный Кант представляет свету выведенные
им из понятия долга и воли незыблемые основания нравственности разумных
существ юобще, которые до его времени скрывались во мраке неведения». Как
пришел Рубан к Канту и к переводу этой книги?
Очерк развития русской философии
125
философии, а от его курсов словесности, о которых речь еще
впереди.
Ив. Ив. Давыдов (1794-1863), получивший довольно широкое,
хотя и не глубокое, словесное и математическое образование, был
непосредственным учеником Буле, у которого писал диссертацию:
«О различии Греческого и Римского образования» (1810). Степень
магистра он получил за диссертацию «О критике в древней
Филологии» (1814) и степень доктора словесных наук за диссертацию
«О преобразовании в науках, произведенном Бэконом» (1815)*.
Будучи одно время преподавателем Университетского
пансиона, Давыдов составил два учебника: «Опыт руководства к истории
философии. Для благородных воспитанников Университетского
Пансиона». М., 1820 и «Начальные основания Логики. Для
благородных воспитанников Университетского Пансиона». М., 1821. «Логика»
привлекла внимание Магницкого и вызвала соответствующий донос,
результатов122, по-видимому, однако, не имевший*.
В доносе г-ну министру духовных дел и народного просвещения
Магницкий писал по поводу «Логики» Давыдова: «Замечания сии
заключают вкратце весь смысл разрушительной нынешней
философии, от Канта до Стефенса, котораго имя еще никому у нас
неизвестно, кроме фанатических его адептов и малаго числа из со-
противников, между тем как он есть опаснейший довершитель
Шеллинговской философии, которой вся адская тайна в
подносимых мною примечаниях открыта и обнаружена» («Русский Архив».
1864. Стлб. 325).
M. M. Филиппов («Судьбы русской философии». Гл. V // Русское
богатство. 1894. № 8) с особою подробностью останавливается
на учебнике «Логики», который, по его мнению, свидетельствует
об эмпирическом направлении Давыдова, именно, об его локки-
анстве. Некомпетентность историко-философских суждений
Филиппова такова, что они едва ли заслуживают упоминания. Между
•Давыдов, будучи студентом философского, тогда еще
неразделенного факультета, слушал лекции обоих отделений, физико-математического и
историко-филологического; сверх того на медицинском он слушал
физиологию и анатомию. Между прочим, один год он занимался в Казанском
университете, где слушал Лобачевского.
** Феоктистов Е. «Магницкий» // Русский Вестник. 1864. Т. И. Авг. С. 407 и
ел, 430.
126
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
тем, ссылаясь именно на Филиппова, у нас говорят об
«эмпирической основе философских воззрений Давыдова» и даже
повторяют философски странное утверждение Филиппова, что в трудах
Давыдова можно видеть «чрезвычайно любопытный [еще бы!]
пример борьбы [?] локковского эмпиризма с идеализмом
Шеллинга». См.: Милюков П. К «Главные течения...». Т. I. 1898. С. 296; Саку-
линП.Н. «Из истории русского идеализма». Т. I. Ч. 1. М., 1913. С. 43-
44. Давыдов в общем правдиво изобразил свои источники, когда в
«Предисловии» к своему учебнику заявлял: «Опытные начала Лок-
ковы и Дежерандовы по возможности старался я соединить с
благоразумным Идеализмом Буле, незабвеннаго наставника моего, и
знаменитаго Кизеветтера». Учебник предваряется «Введением»,
составленным «по руководству Шеллинга». Таким образом,
Давыдов — пример распространенного после Канта профессорского
эклектизма, составлявшего учебники применительно к «новейшей
философии» вообще, поскольку она шла от Канта и хотя бы
внешне могла быть согласована с тогдашним пониманием его учения.
Основания для соединения в одно Локка, Канта и лейбницианца
Шеллинга («Настала пора, когда можно восстановить философию
Лейбница», — говорил Шеллинг. «Ideen zu einer Philosophie die
Natur». Werke. IL 20, cf. I. S. 443), прямо указаны Давыдовым:
«Теория деятельности души, упоминаемая Лейбницем, не отрицаемая
Локком и утвержденная Кантом, сделала такой же переворот в
Философии, какой сделала в Астрономии теория Коперника...»
(названное «Введение к Логике...». С. 13). Как примирял Давыдов
Локка, Лейбница и Канта, видно из следующего рассуждения (еще
в «Руководстве к Истории философии». С. 123-124): «Кант, желая
согласить опытную философию с идеализмом, не подчинил их
одну другой, но каждой придал особенное достоинство.
Обыкновенно противополагали разум чувству: но это ведет разум к
эгоизму, а чувство к слабости: Кант поставил все способности в душе
как в средоточии. Какая же разность между Локком и Кантом? Если
разуметь Локка как совершенного эмпирика, а Канта как
совершенного идеалиста и прибавить к этому новую терминологию
немецкого философа, то между ими найдется противоречие. Но
отвергает ли Кант главное положение Локково, раскрытое
Бэконом123, заимствованное от Зенона Стоика124, Аристотеля, Аристип-
па, Шппократа125 и Сократа? Начала их одни и те же. Скажут, что
Очерк развития русской философии
127
Кант дал душе собственную, произвольную, свободную
деятельность? Но и Локк не отвергал этого, и Локк говорил, что
способность познавать посредством ощущения и чувств есть
принадлежность не органов чувств, а способность души. Прибавление Лейб-
ницево к положению древних nisi ipse intellectus126 означает то же,
что Локковы слова: способность познания в душе, а не в предметах
и не в органах чувств». Проф. Сакулин называет верным
замечание Филиппова, что в цитированном «Введении» Давыдова
исчезли все «полярности и прочие натурфилософский красоты и без-
смыслицы» Шеллинга. Но зачем было вводить в логику красоты и
бессмыслицы натурфилософии? Введение-то и составляет самые
шеллингианские страницы учебника. Генерал-майор Писарев,
попечитель, защищая перед Главным правлением учебник Давыдова
от доноса Магницкого, сообщал, что это — компиляция, где
«Введение» взято из Вагнера-шеллингианца, а прочее из Локка, Кон-
дильяка, Кизеветтера, Буле, Жерандо, Помарса и др. Сомнения нет,
что генерал писал под суфлера — в лице самого автора учебника.
Философских исследований у Давыдова нет, и какого бы то ни
было интереса к ним у него также не замечается. Будучи адъюнктом
Брянцева, Давыдов в преподавании придерживался того же, что и
Брянцев, Снелль, но также и Буле. Как непосредственный ученик
последнего, и притом официально державшийся названных образцов,
он должен был вести преподавание в духе догматического
первоначального кантианства, каковое направление, очевидно,
санкционировалось университетом, потому что и другие названные случайные
преподаватели примыкали к кантианским учебникам (гл. обр.
Кизеветтера). Впоследствии Давыдов сам сообщал о себе, что «из
немецких философов Шеллинга он предпочитал всем другим».
Хронологически это заявление не приурочено, а «предпочтение» ни к чему
не обязывает и может иметь в этой формуле исключительно
субъективный смысл. Во всяком случае, стойким, как скала, шеллингистом
Давыдов, конечно, не был. Он популярно воспринимал Шеллинга и
популяризировал дальше, будучи прежде всего профессором, т. е. не
весьма углубляясь в существо самой философии и просто
предпочитая руководство Шеллинга английскому субъективизму,
французскому сенсуализму и немецкому докантовскому догматизму. Но ни один
шеллингианец, как известно, не был простым копиистом Шеллинга,
каждый хотел быть «продолжением» его. Давыдов также, не ограни-
128
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
чиваясь знакомством с Шеллингом и поглядывая на шеллингианцев,
хотел найти какой-то свой тон. Причем, пока он собирался
посвятить себя философии, он искал выхода в сторону психологизма,
чему немало способствовала его первоначальная и основная
подготовка кантианская, которая в направлении психологизма могла
найти поддержку и со стороны некоторых новых кантианцев (во главе
с Фрисом). Когда же Давыдов после разных колебаний127 (например,
с 1826 по 1831 г. он преподавал чистую математику и написал
рассуждение «Об исчислении вероятностей») перешел на кафедру
русской словесности (по смерти Мерзлякова), он, если не считать
тощего «Опыта» Галича, первый применяет новый аспект философии
Шеллинга — эстетический.
Аспект чистого тожества внесен был у нас Шадом;
натурфилософии — Велланским, Павловым; антропологии — Галичем-и
профессорами духовных академий.
Погодин128 сообщает, что шеллингианство привез в Московский
университет Павлов, а Давыдов «старался распространять» (как
будто Павлов не «старался»...) (см. «Воспоминание о С. П. Шевыреве».
Извлеч. из ЖМНП. СПб., 1869. С. 6; также сборник «В память о князе
Вл. Фед. Одоевском. Заседание Общества Любителей Российской
Словесности. 13 апр. 1869 г.». М., 1869. С. 47: ср.: Барсуков К П.
«Жизнь и труды...». Т. I. СПб., 1888. С. 203). С шеллингианством
Давыдов был знаком, во всяком случае, до приезда Павлова, так как уже
Буле разбирал со студентами не только Канта, но и Фихте и
Шеллинга. Восторженный Павлов подливал масло в огонь, уже
разгоревшийся. Но фактически Давыдов и Павлов подходили к Шеллингу с
разных сторон, и в чисто философской литературе Давыдов был,
по-видимому, начитаннее Павлова.
П. К Сакулин, давший обстоятельное изложение философских
воззрений Давыдова («Из истории русского идеализма...». Т. I. Ч. 1),
полагает, что Давыдов начал с «эмпиризма», находясь под влиянием
Дежерандо. Остроумная в общем аргументация проф. Сакулина
вызывает, однако, на некоторые возражения. Напр., из того, что
Давыдов был математиком, проф. Сакулин заключает, что Давыдов не был
склонен к метафизике и абстрактному идеализму (С. 21). Наоборот,
формализм Шеллинга по своему типу больше всего подходил к
абстрактно-математизирующему мышлению, и многие
шеллингианцы, начиная с самого Шеллинга и Окена129, прямо злоупотребляли
Очерк развития русской философии
129
математизированием. Также «эмпирическое» влияние Дежерандо —
тема весьма щекотливая. Идеологи любили говорить об «экспримен-
тальной» философии (которая, кстати, по Дежерандо, «освобождает
дух человеческий от цепей эмпиризма» — тут терминологически
надо быть весьма осторожным), но это — весьма далеко от того, что
принято называть «научным эмпиризмом». Кроме того, Дежерандо
тем и отличался от собственно идеологов как последователей
сенсуализма Кондильяка и Кабаниса, что склонялся в сторону эклектизма
и — тем более, чем более отдается первенство внутреннему опыту
над внешним — «спиритуализма». «Эмпиризм», по господствующим
понятиям того времени, был почти синонимом скептицизма (если
под эмпиризмом не разумелось простое неметодическое
накопление материала), ибо о феноменалистической гносеологии и
«научном эмпиризме» (что почти равносильно позитивизму) до Милля130
едва ли можно и следует говорить, так как и Юм получает
соответствующее освещение лишь после Милля. То же самое, (возможную!)
симпатию Давыдова к Бэкону нельзя считать симптомом его
«эмпиризма» — это также было бы исторической перестановкой. Бэкон
позже стал знаменем эмпиризма как философского направления.
В конце XVIII и в начале XIX века Бэкон был поворотным к новой
истории моментом, одинаково признаваемым и английским
субъективизмом, и континентальным рационализмом, как и сенсуализмом.
Да собственно исторически мы и сейчас так смотрим на Бэкона,
хотя истинная цена его «философии» нам хорошо известна.
Давыдов брал Бэкона предметом своей диссертации как тему
историческую. Понятно, что и Дежерандо был также его историческим
руководителем. Буле, рекомендуя историю Дежерандо, знал, что делает.
Вопреки сомнению проф. Сакулина, Дежерандо в ту эпоху,
действительно, как называет его Давыдов, был «знаменит» и даже «высок».
Нам после Гегеля, Эрдмана, Фишера, Целлера и др. легко «презирать»
Дежерандо, но что мог после пресловутого Бруккера найти Давыдов?
Семитомный, доведенный только до Беркли, Тидеман (1791-1797,
кстати, с сильным локкианским духом, который «эмпиризму»
должен бы быть симпатичен), две истории (восьмитомная древняя и
шеститомная — новая философия) самого Буле (1796-1804;
1800-1805) и неоконченный Теннеман (11 томов, 1798-1819) —
наиболее крупные и солидные; коротеньких очерков, вроде Аста и Зохера,
с которых списывал, например, Галич, и вообще компиляций можно
130
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
не считать. Насколько ценился компактный Дежерандо (Т. I—III, 1804;
2-е, сильно увеличенное изд. Т. I—IV, 1822-1823 — до конца
схоластики; 4 тома новой философии были изданы сыном), можно видеть
из того, что, когда он вышел, Теннеман прервал собственную работу
и перевел Дежерандо на немецкий язык (1806-1807); Дегальд
Стюарт в отборных выражениях приветствовал труд Дежерандо; сам
Кузен, как известно, многим был обязан Дежерандо. (Объективную
характеристику Дежерандо см. в обстоятельной книге Fr. Ricavet. Les
Ideologues. 1891.) Интерес Давыдова к Бэкону и Локку и его ссылки
на них проф. Сакулин склонен принимать как указания в пользу
«научного эмпиризма». Но, вот, например, как судит — Давыдову более,
чем нам, знакомый — кантианец Кизеветтер в той самой работе,
которую проф. Сакулин считает его основною работою: до Канта,
говорит он, по отношению к метафизике все философы делились
на две партии — догматиков и скептиков; jene (т. е. догматики), zu
welchen unter den Franzosen ein Descartes, unter den Deutschen ein
Leibnitz und Wolf, unter den Engländern ein Baco von Verulam, ein
Locke u. s. w. gehört, führten System der Metaphisik auf, ...usf. (Versuch...
der kritischen Philisophie... 3. Aufl. B. I. 1803. S. 23)131. Далее, чем
преодолевает сам Кант догматизм метафизики? Опытом и теорией
опыта. По этому одному уже кантианец мог в идеологии
(следовательно, и в Дежерандо) видеть нечто себе близкое, как идеология
находила родственное у Канта. Эмпиризмом и была или же эта же
«опытная философия», или скептицизм, или чистый сенсуализм.
Место Давыдова — довольно ясно. Наконец, после Канта выдвигается
умозрение. Но это вопрос — NB132, открытых, по представлению
современников, Кантом — функций разума. Как ни далеко уводил и
увел он от «опыта», никто из идеалистических наследников Канта не
отвергал опыта, а хотел его укрепить, «спасти» от скептического
разложения — умозрительное единство должно было внести научную
организацию в эмпирический лес (13Х,г|)133. Недаром это была
философия, прежде всего, наукословия, т. е. по принципам, а затем по
приложению: естествознание и психология на физической и
физиологической основе. Стоит заглянуть в любую антропологию шел-
лингианского направления, чтобы в этом убедиться. Бонне, Платне-
ру, Шульце и подобным было далеко до такой физиологической
научности. Факт говорит сам за себя: эта часть, наконец, перевесила, и
вся система стала на голову. Но психологизм (антропологизм) есть
Очерк развития русской философии
131
стадия за Шеллингом, а не до него. Это — путь и Давыдова. Однако,
чтобы не ошибиться в историческом определении, нужно
прислушаться к тому, что говорит сам автор. Давыдов же называет
последователями Канта: Бутервека, Фихте, Бардили и Шеллинга. Так судит
современник. Проф. Сакулин не придает значения тому, что это
говорит кантианец и приверженец «опытной философии», что для
него нет здесь противоречия и что, следовательно, отсюда можно
сделать вывод, что не-опытная философия и есть не что иное, как
докантовская догматическая метафизика. Проф. Сакулин только
отмечает: «Бардили попал в этот список уже совсем по
недоразумению» (С. 28), «Бардили был, наоборот, принципиальным
противником Канта» (Там же. Прим. 3). Ни Фихте, ни Шеллинг, ни даже Бутер-
век не вызывают у него сомнений. Бутервек был кантианцем, но
пришел к философии, которую называл «сестрою якобиевской»;
Фихте шел от Канта к Фихте; Шеллинг — от Канта и Фихте к
Шеллингу. А Бардили — неужели он и родился «наоборот»? У Бардили,
правда, есть книга, «уже самое заглавие» которой свидетельствует о
том, что он — противник Канта. Нам легко судить по заглавию,
потому что из какого-нибудь современного Дежерандо мы можем
почерпнуть сведение о том, что книга адекватна заголовку. Давыдов же,
если и знал, что такая книга существует, должен был бы сам в нее
заглянуть. Но можно ручаться, что Давыдов бы этой книги не осилил.
Вернее предположить, что Давыдов знал другие труды Бардили, по
содержанию действительно примыкающие к Канту, как «Sopbylus»
(1794), «Allgemeine praktische Philosophie» (1796), «Über der Gesetze
der Ideenassoziazion» usf. (1797) — вообще второй этап Бардили.
Последний пример и для уяснения воззрений Давыдова, может
быть, самый важный. Давыдов пишет: «Во всех школах новейшей
философии (куда, нужно думать, он и себя относил) замечают как
отличительные свойства недоверчивость к гипотезам, отвращение
к мнениям энтузиастическим, исследование начал,
рассматривание нравственных чувств, потребность очевидности
умозрительной, глубокое исследование способностей, точнейшее
употребление методы, связь философии с произведениями ума и вкуса,
применение ее к языку, употребление физиологии для
объяснения душевных способностей, сближение всех познаний
посредством философии» («Руководство к истории философии...».
С. ИЗ). И это сказано непосредственно после названного пере-
132
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
числения последователей Канта. Тем не менее на это проф. Саку-
лин замечает: «Очевидно, все это не может считаться
характеристикой немецкого идеализма, а всецело относится к опытной
философии, имеющей, по мнению Давыдова, столь огромные
заслуги» (С. 29). Но как далеко и как глубоко простирается разница
между тем, что мы называем «немецким идеализмом», и тем, что,
по мнению Давыдова, есть «опытная философия»? Если бы кто
имел искушение преувеличить эту разницу, то приведенная
прямо-таки исчерпывающая характеристика немецкого идеализма
должна бы удержать его. Филиппову («Русское Богатство». 1894.
№ 8. С. 121) пришлось сильно исказить всю эту цитату, чтобы
придать ей другой смысл.
Впервые, не стесняемый формою и требованиями
элементарного учебника, Давыдов изложил свое понимание философии во
«Вступительной лекции о возможности философии как науки»,
читанной им при открытии философского курса в мае 1826 года (отд.
брошюрой: М., 1826). Так и закончился его курс этой вступительной
лекцией или имел продолжение в количестве еще одной, двух
лекций (как передает по слухам Гончаров), мы в точности не знаем; не
знаем и причин, вызвавших прекращение курса. Давыдов перешел
на физико-математическое отделение для преподавания
математики, а философия по-прежнему (со смерти Брянцева) оставалась без
профессора. Таким образом, эпиграф, которым Давыдов украсил
свою речь, — éx<xç é%aq écxe ßeßriXoi134, — оказался двусмысленно-
пророческим...
Тема его лекции, вызывающая в памяти одновременно и Канта,
и Шеллинга, выдает его точки исхода, а выводы его направляются
по тому теистически-психологическому курсу, который был, как
увидим, общим для официозной философии всего периода.
Хронологически Давыдов один из первых взял тот курс, и возможно,
что служил образцом и указанием для других, не столько в силу
своего философского авторитета, сколько в силу именно
хронологического первенства. Вся его лекция построена по схеме
силлогизма, формально не безукоризненного: (1) всякая наука имеет
содержание и форму; (2) философия имеет то и другое; (3)
философия есть наука. По существу, однако, вопрос решается у Давыдова
отрицательно, потому что, оказывается, философия как наука есть
психология.
Очерк развития русской философии
133
(1) Различие познания определяется: (а) познаваемым,
предметом, по содержанию — Бог, природа, человек, resp. + знания
теологические, физические и антропологические и (б) познающим, по
форме — способом познания опытным, умозрительным и
соединяющим тот и другой — трансцендентальным, resp. знания опытные,
умозрительные и собственно философические. В чувственном
опыте познаются явления, в умозрении — их сущность, философски —
их нераздельное соединение. Нетрудно видеть, что такое
определение «трансцендентального» больше напоминает Бутервека, чем
Шеллинга или Канта. Но засим, ставя вопрос об «условиях
возможности знания», Давыдов обращается уже к популяризованному
Канту, элементаризованному Шеллингу, предваряя ответ на этот вопрос
психологистически-теистическим извращением понятий объекта,
субъекта и. абсолюта. Мир чувственно постигаемый, objectivitas, «для
краткости» (sic!) называется природою; дух, созерцающий внешние
предметы и себя, subject-object, «просто» (!) человек; а из творения,
т. е. природы и человека, познается сам Творец, каковое Богопозна-
ние «довершается» Божественным Откровением (С. 13-14). В этом
извращении — программа всей последующей,
преимущественно духовно-академической нашей философии первой половины
XIX века. Действительно ли это идейное первенство Давыдова было
и реальным историческим первенством, определившим генезис
последующего, трудно сказать*.
Сознание бытия видимости, рассуждает Давыдов, дается нам
созерцанием и мыслением. Первое дает чувственные качества, второе
вносит в них определенность. Многообразие явлений в природе и
человеке познается нами в пространственных формах телесности и
временных формах жизненности. Все это может быть дано в духе
только при условии согласия его законов с законами бытия явления,
отчего формы знания согласны с формами бытия и служат друг
другу взаимным объяснением. Показать тожество знания и бытия,
значит решить вопрос об условиях возможности познания. Задача Кан-
* Насколько Давыдов любил указывать свои источники — шире даже
того, может быть, насколько он действительно изучил, настолько духовно-
академическая философия не склонна была называть своих истинных
учителей. Сам Давыдов с лестными эпитетами ссылается, напр., на Велланского,
Галича, Павлова, но даже Сидонский, у которого можно отметить немало
совпадений с Давыдовым, не называет его имени.
134
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
та приводится Давыдовым к формуле Шеллинга. Эту задачу, по его -
и Шульце, добавим, — мнению, всегда предлагала себе философия,
хотя и в разном виде: как задачу о начале вещей, или исследования
законов ума, или изучения правил нравственности*. Так как все
прочие знания подводятся под названный, всякое знание объемлющий,
вопрос, то основное положение философии есть положение
безусловное, не зависящее от начал других наук Его можно найти
поэтому лишь там, где предмет непосредственно сливается с
представлением. Это тожество бытия и знания, подлежащего с предлежащим,
познающего с познаваемым удовлетворяется самосознанием
(«самосведением, conscientia sui ipsius»), которое, таким образом, является и
основанием знания и условием возможности бытия (рг. cognoscendi
et fîendi). Давыдов выражает это положение в пародирующей
Декарта формуле: я знаю, что существую, и, приняв кантовское разделение
душевных способностей на мысли, желания и чувства, приходит к
утверждению: «Могущественное Я служит идеей философии;
отсюда выводятся идеи истинного, доброго, изящного». В этом
утверждении упрощаются взгляды Фихте, так же как и Шеллинга первого
периода, но кроме того в нем можно расслышать еще некоторые
отголоски, напр., Эшенмайера и подобных.
(2) Из самосознания исходит наше духовное существование,
свободное в этом начале, но теряющее свободу по мере того, как
отражается дальше и отходит от чистого духа к телесным явлениям.
Открыть в их тожестве первообразы явлений, в нас происходящих
и внешних, — предмет и (а) содержание философии. Созерцаемое
в духе целое из понятий и идей есть система философии. В
духовном целом отражается вся природа, потому что она соединена с
духом, как тело с душою. Различное их соединение дает преобладание
той или иной стороне, но всюду мы найдем отражение названных
духовных первообразов истины, добра и красоты. Восходя от
преобладания вещественного, от стихий к духовному, к самосведению,
можно различить ступени: природы неорудной, где в правильности
и законах движения проявляется идея истины; природы орудной,
где проявляется идея изящества с ее [целесообразными] формами;
природы духовной — с идеей «доброты». Таково содержание фило-
* Ср. определения философии ниже у Сидонского, не называющего,
впрочем, ни Давыдова, ни Шульце.
Очерк развития русской философии
135
софии естественной. Душа, обращенная к себе самой, раскрывает
в себе отражение тех же идей. Идея истины отразится в
деятельности разумения, фантазии и умственного созерцания. Чувствование
отражает идею изящного по степеням чувства, оживляющего
понятия, вкуса, сообщающего им формы и образы предметов, гения,
возвышающего их до идеалов. Хотение отражает идею доброты
в побуждениях, желаниях и воле. Таково содержание философии
идеальной. Эшенмайер торжествует. К нему пришел Давьщов от
Канта и Шульце (не периода Энизидема), по неизвестным
причинам предпочитая закрасить этот переход вопросом о тожестве
и отказаться от собственно эшенмайеровской «гармонии». Итак,
все научное знание объемлется двумя названными областями;
науки изучают частные явления, содержанием философии остаются
общие законы знания и бытия. Последний вопрос — о Творце и
Вине — был философским вопросом лишь для древних, а «по
воплощении Богочеловека» он разрешается не их «лепетаньем
младенцев», а Божественным ученьем, преподанным нам через
Откровение и составляющим предмет Богословия. Что касается (б)
формы изложения законов знания и бытия, то Давыдова наиболее
удовлетворяет «новейший идентизм», представляющий
совокупное учение философии в его внутренней связи как некоторый
стройный организм, — что и должно иллюстрироваться только
что изложенным раскрытием содержания философии.
(3) Согласно всему сказанному, платоновское определение
философии как науки идей можно счесть точнейшим. Оно прямо
указывает, что ее предмет собственно душа или (sic!) дух
самопознающий в общении с видимым миром. Самосведение,
обращенное на внешнюю сторону, философия естественная, есть то же,
что умозрительная физика и Вольфова метафизика; обращенное
на внутреннюю сторону, философия идеальная, заключает в себе
Кантову теорию чистого и практического ума. В целом
философия как наука идей, наука о душе есть не что иное, как
психология. В науке о познающем содержится наука о познаваемом, т. е. о
природе и человеке. Психология поэтому содержит начала наук
физических и антропологических, равно и Богословия.
Облеките геометрические формы веществом, вы представите вселенную,
а с ее идеей — храм всех физических и антропологических наук,
«между которыми» (!) первенствует математика. «Обратно
осуществите мир идеальный — вы получите идею Словесности, или ис-
136
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
кусства по преимуществу». Мысль Шеллинговой Системы
трансцендентального идеализма сжимается до бедности, лишающей ее
понятности. Далее Давыдов плывет на собственных парусах.
Философия как психология делится Давыдовым на (А) чистую
(умозрительную и опытную) с выводимыми из нее по идеям истинного,
доброго и изящного логикою, этикою и эстетикою,
направленными на предметы идеальной философии, и (В) прикладную,
содержащую предметы естественной философии с ее частями —
онтологией, космологией и пневматологией*. Итог, к которому Давыдов
сводит свое рассуждение, таков: (1) философия есть естественное
(«врожденное») стремление познавать и находить в познаваемом
единство; этому средостремительному действию духа
противоположно действие средобежное, по которому единство раскрывает
себя в многоразличии в творениях духа; одно, след., объект науки,
другое — искусства; по терминологии древних, одно — философии,
другое — поэзии; (2) философия как наука есть психология,
ведущая к открытию единства в знании и бытии; это учение относится
к жизни как средство к цели: все знание и мысление необходимо
привести в единство, чтобы жизнь человека и человечества
соответствовала идеям самосведения, идеям истины, доброты и изящества.
В целом позиция Давыдова — позиция психологизирующего
кантианца с супранатуралистическим уклоном (эшенмайеровско-
го склонения) и с шеллигианством на закраску. В этом последнем
движении мысли Давыдова как будто хотели найти почву — о чем
свидетельствует его отожествление натурфилософии с Вольфовой
метафизикой — для легального синтеза давно принятого вольфи-
анства и уже допускавшегося теизированного кантианства. Наука
«психология» как будто гарантировала от подозрительной свободы
умозрения, а шеллинговское противопоставление «философии» и
«поэзии», во-первых, было простой характеристикой
«врожденного стремления», а во-вторых, укрывало, на случай опасности, самое
философию в искусство и в поэзию в частности**.
* Ссылка Давыдова здесь на Гербарта (Psychologie als Wissenschaft) имеет
значение не идейной солидарности, а лишь формального свидетельства, что
вольфовская классификация новейших философий не соблюдается (имеется в
виду, вероятно, § 14).
С приложением философских взглядов Давыдова к словесности мы
встретимся ниже. Психологическое основание такого приложения раскрыто им в
Очерк развития русской философии
137
VI
Влияние Давыдова исходило, как было указано, не столько от
его философских сочинений и преподавания философии, сколько
от приложения философии в его курсах словесности.
Непосредственное философское влияние, по-видимому, ограничилось его
преподаванием в Благородном пансионе. Как говорил Погодин в
своем «Воспоминании» об известном своими философскими
настроениями писателе кн. Вл. Ф. Одоевском135, одном из учеников
Давыдова по пансиону: «Последнее время в пансионе и первое по
выходе оттуда было посвящено им [Одоевским] Шеллинговой
философии, которая, привезенная профессором Павловым,
очаровала тогда всю учащуюся молодежь. Давыдов, инспектор пансиона,
был проводником ее в старших классах: он давал книги
воспитанникам, толковал с ними о новой системе и имел сильное влияние
на это поколение»*.
Нет оснований сомневаться в этом свидетельстве Погодина,
надо только различать между влиянием на развитие науки и
влиянием на образованность. Пример того же Одоевского показывает,
что Давыдов умел приготовить философски образованного
читателя, способного применить свое образование и вне собственно
научной сферы, когда читатель, как то было с Одоевским, становился
писателем. Другое дело — самостоятельное научное развитие идей
учителя. Учеников в этом смысле — школы — Давыдов не образовал.
Во-1-х, он сам не был самостоятельным мыслителем-философом,
во-2-х, его влияние исходило главным образом от преподавания
словесности. А сколько это последнее предполагало некоторое
эстетическое мировоззрение, Давыдов во внеуниверситетской
среде нашел таких соперников, по отношению к которым он сам мог
казаться лишь первою приготовительною и элементарною
ступенью, которая при случае легко могла превратиться в тормоз для
независимой умственной работы. Понятным образом ученики, желав-
статье «О связи Психологии с Физиологиею» (Проф. И. И. Д. // «Москвитянин».
1844. № 10); академические беседы, которые велись в кружке, собиравшемся у
министра С С. Уварова в его имении Поречье).
* См.: Сборник «В Память о кн. Вл. Ф. Одоевском». М., 1869. С 47. Ср.:
Барсуков К П. «Жизнь и труды М. П. Погодина». Кн. 1-22. СПб., 1888-1916. Вып. 1.
С. 125-126,213,221. Ср. выше, стр. 315.
138
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
шие сохранять независимость, должны были забыть элементарного
школьного учителя*.
Таким образом, в научном отношении Московский университет
оказался бесплодным. И, может быть, к лучшему, потому что
профессора университета того времени, будучи официальными
представителями правительственной интеллигенции, могли
культивировать философию только безвольную. Ярче всего ее бессилие
сказалось в том, что, когда интеллектуальное воспитание нового
поколения перешло в руки вольной философии, профессорские голоса
перестали быть слышны. Профессора, которые в схоластической
скромности не хотели отказаться от влияния на общественное
мнение, должны были переходить от университетской кафедры к
конторке журналиста, смутно, в конце концов, различая, чем одна
отличается от другой и чем разнится дидактика от публицистики.
Таковы были, напр., Погодин, Шевырев. Грановский изменил
старому для молодого и впервые нашел тон, сделавший голос его
слышным за пределами университета. Но философия своего Грановского
не имела.
Примером того, как угасала тогда философская мысль, школьно
воспринятая и школою развитая дальше, может служить «Опыт
исследования некоторых теоретических вопросов Константина Зе-
ленецкого», с 1837 по 1858 год состоявшего профессором русской
словесности в Ришельевском лицее в Одессе (учрежденный в 1817 г.,
преобразован в университет в 1862, открытый лишь в 1865 г.). Зеле-
нецкий сам подчеркивает влияние Давыдова на его статьи по
словесности (Предисл. ко II кн.), написанные «по препоручению и по
системе словесности» Давыдова, снабжавшего автора «многими
замечаниями, на основании коих статьи сии были написаны, а потом
исправлены». Но и его теоретические философские статьи
развивают шеллингианские мысли, по-видимому, не без влияния «системы»
Давыдова.
Принципиальные взгляды Зеленецкого изложены в статье «О
всеобщем законе жизни духа человеческого и об основных ее направ-
* Напр., Давыдов упоминает в Предисловии к «Чтениям о Словесности»
имена слушателей, составлявших его «Чтения». Среди них есть сыскавшие себе в
разной степени известность в литературе, как Буслаев, Кудрявцев, Самарин,
Строев, Катков, Ключарев, Миско и др., но много ли осталось у них от учителя?
Очерк развития русской философии
139
лениях». Все содержание нашей духовной жизни слагается из двух
стихий: безусловной сущности самого духа, «не подлежащей его
сознанию» (NB), и мира сознаваемого, т. е. совокупности
впечатлений внешней природы и наблюдений собственной деятельности.
Первая стихия называется подлежательностью и вторая — пред-
лежательностью. Первая есть высочайшее единство и безразличие
духовной сущности, вторая — величайшее разнообразие и
сложность бесконечных изменений в пространстве и времени мира
видимого. Подлежательность как вечная принадлежность духа
предшествует предлежательности, а потому первою потребностью духа,
как только предстало ему его собственное содержание, является
утвердить его независимость, или, что то же, свою самобытность.
Первоначальный закон духа поэтому есть самосознание. Для этого
дух должен выйти из состояния покоя, из общего, замкнутого в себе
состояния, и перейти к явлению, в положение частное и временное.
Ему нужно было действовать и предметом своей деятельности иметь
явление, а целью — свой первый безусловный покой. Для
достижения этой цели дух должен определить значение явления в системе
бытия, а тем самым и в отношении к себе, он должен,
следовательно, его постигнуть и отдать себе в этом отчет. Самосознание есть
поэтому первоначальный закон деятельности духа. Дух постигает
только то, что согласно с законами его разума, несогласное же
отвергает, как не-сущее, и потому явления предлежательности
пребывают в духе, не нарушая его самобытности, лишь поскольку они
сознаны разумом. Как поясняет автор в другом месте («Об основе
знания, его пределах и значении». С. 141 и ел.) в духе спиритуали-
зированного Канта: «Итак, основа знания заключается в том, что в
какой мере формальная сторона вещей доступна разуму нашему и
может объединяться с ним в его представлениях, в той и
существенная сторона их не может быть чужда духу нашему и должна
содержать в себе условия, допускающие это объединение. В мысли
посему знаменательность и бытность (идеальность и реальность)
являются в высочайшем единстве. В мысли чистейшее слитие внешней
и внутренней сторон жизни». Вытекает это из того, что всякая идея
духа есть следствие его сущности и в этом смысле — внешняя
сторона духа, а с другой стороны, данная нам внешняя действительность
дана со стороны своей формы, знаменующей вечную премудрость
Слова и, следовательно, не представляющей собою чего-либо, с
140
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
сущностью разнородного. Получающийся из этого только что
приведенный принцип сжимается у автора в формулу: «законы знания и
законы бытия суть равно законы разума» (Курс. — мой). Но нужна ли
сложная шеллингианская терминология, чтобы так просто
воспроизвести мысль Канта? Видимо, «система» Давыдова не научала
твердо отличать Шеллинга от Канта. Далее, развивает Зеленецкий свою
идею закона жизни духа человеческого, деятельность уразумления
сознаваемого есть мышление — первоначальная, основная
деятельность духа. Способность мыслить есть разум, дух человека,
рассматриваемый в деятельности мышления как сила, есть разум. Как
чувствование, желание, познание есть видоизменения одного
мышления, так фантазия, ум, рассудок, воля — видоизменения одного
разума. В своей последовательной деятельности мышление сперва
воспринимает явление, затем постигает его, наконец, созерцает его
как нечто понятое, определенное, не смущающее уже его сущности.
Первый момент мышления есть движение средостремителъное,
момент страдания; второй — сличения законов сущности с данными
явления — момент собственно мышления, где средостремительное
движение уравновешивается средобежным, страдание —
воздействием; в третьем моменте дух созерцает явление как мысль, как бытие
сознанное, понятое — момент средобежный, минута победы. В
направлении предлежательном, средобежном дух действует
преимущественно под видом фантазии, и его результат есть изящное;
направление полного самосознания есть собственно направление разума,
и его результат — истина; направление подлежательное, средобеж-
ное имеет деятелем волю и результатом благо. Общим и
первоначальным основанием всех направлений жизни человеческого духа
является, однако, религия. Дух слишком слаб, чтобы сразу утвердить
себя и отдать себе отчет в явлениях внешних, и если бы он не
постигал с первой минуты своего разумения природу как дело рук
предвечного Творца, он пал бы в бессилии перед видимым миром.
Только идея Бога спасает разум человека с самой его колыбели, он
принес ее в глубине своей сущности из горней отчизны своей как
дар от Престола вечной благодати. Это — откровение естественное
и письменное.
Нельзя не заметить в изложенном невысказанной тенденции
согласовать шеллингизм с Кантом и нужно признать, что Зеленец-
кому удалось сделать это лучше, чем Давыдову, имевшему, как мы
Очерк развития русской философии
141
видели, ту же цель. Развив дальше путем априорной конструкции
содержание каждого из намеченных им направлений, Зеленецкий
ищет оправдания своему «теоретическому изследованию» в опыте,
в данных истории. В особой статье «О предмете и значении
Политической Истории» (Кн. 1) Зеленецкий раскрывает свое гердеро-
шеллингианское понимание истории как изложение жизни рода
человеческого. Согласно его пониманию, эта жизнь выражается,
конечно, и во всяком индивиде, но слишком раздробленно, сбивчиво
и неопределенно. Необходимы народы, как бы посредники между
общею сущностью человека и людьми, существами особными.
«Каждый народ выражает собою преимущественно одну данную сторону
жизни Человечества, одно из главных его направлений, а народы,
все вместе взятые, выражают собою всю его жизнь». Чтобы
исследовать жизнь' человечества, необходимо рассмотреть жизнь народов.
Сущность человечества состоит из тех же стихий, что и сущность
каждого человека: из стихии духовной и телесной; это значит, из
деятельности религиозной, умственной, нравственной и
эстетической, с одной стороны, и из промышленности, мануфактурной и
торговой, с другой стороны. Поскольку народ избирает себе цели и
осуществляет их, он имеет личность, политическая история
народа есть история личности его; всеобщая политическая история есть
история борьбы и взаимных отношений народов как лиц,
выражающих жизнь человечества во все периоды ее развития. Каждый народ
имеет в жизни своей три периода: младенчество, зрелость и
старость; в первом периоде он только «племя», стихия неопределенная,
во втором — стройное органическое тело, в третьем он дряхлеет, его
стихия исчерпывается. «Политическое бытие народа всегда верно
выражает бытие его внутренних духовных и промышленных сил».
Обращаясь к истории за подтверждением своих теоретических
построений, Зеленецкий восстанавливает намеченный здесь
параллелизм в жизни лица, народа и человечества и констатирует в их
развитии везде один и тот же закон. В жизни лица вера в Бога
сопровождает его от колыбели до могилы, спасает разум и душу
человека; сама жизнь его делится на три периода, из которых первый
характеризуется перевесом фантазии, второй — рассудка (не разума),
а третий — воли. В жизни человечества перевесом фантазии
характеризуется весь период дохристианский; в частности, в Греции, где
зародились и история, и знание, вся умственная деятельность все же
142
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
оставалась подчинена фантазии — «это заметно даже в Платоне и
именно в его всем известном учении об идеях», — а в изящных
искусствах соответственно процветали имеющие предлежательный
перевес пластика и эпопея, а не музыка и лирика*. Наоборот, во
времена новые берет перевес начало полного самосознания, рассудок;
отличительный характер поэзии теперь — истинность, глубокое
познание сердца человеческого, мира действительного, истории,
наконец, самих законов искусства; то же в области промышленности
и знания. «Как результатом Древнего мира было Изящество, так
результатом Нового мира есть Истина. Заря жизни рода
человеческого просияет Благом во всем его блеске».
В этом схоластическом примирении Канта и Шеллинга
романтическая схематика приобретает своеобразное применение. Кантов-
ская закваска здесь просто портила тесто университетской
философии, и оно, во всяком случае, не приходилось по вкусу вольным
искателям вольной мысли. Белинский в своей рецензии на первую
книжку Зеленецкого, видимо, как-то жмется и недоумевает, что ему
сказать? По его общему настроению того времени, по существу он
ничего возразить не мог бы. Реализм, познание мира
действительного как признак новой поэзии он должен был бы принять. Статья
о предмете истории должна была ему просто понравиться. Первой
статьи этой книжки «О месте, занимаемом Логикою в системе
Философии», он, вероятно, не мог, как следует, понять и оценить. В ней
Зеленецкий отстаивает кантовское определение независимого места
логики в философии в противоположность подчинению ее
метафизике и эмпирии у Фихте и Шеллинга и смешению ее с метафизикою
у Бардили и Гегеля**. Сомнительно, чтобы все эти учения были
знакомы Белинскому, между тем он храбро заявляет: «Мы не нашли в
* Чтобы сгладить противоречие этого утверждения фактам, Зеленецкий
оговаривается: «Лирические произведения Пиндара и Анакреона имеют в
основе своей начало эпическое».
** Подробнее свое понимание логики отстаивает Зеленецкий в статье
«О Логике как о систематически целом и как о науке, объясняющей факты
Мышления и Знания» (Кн. III. С. 9). Здесь он полемизирует также с Гегелем,
Бахманом, Фрисом и даже Кантом, поскольку не хочет видеть разницы между
логикой формальною и трансцендентальною. Между прочим, он
категорически заявляет: «Само собою разумеется, что уклонение в область антропологии
[против Фриса] и метафизики суть явные погрешности в системе логики как
науки».
Очерк развития русской философии
143
книжке г. Зеленского никаких нелепостей, никаких вздоров, хотя в
то же время не нашли ничего нового или заслуживающего
особенное внимание». И вот, радуясь «бескорыстному стремлению к мыс-
лительности, до которой у нас так мало охотников и для которой у
нас так много самых ожесточенных врагов», Белинский заявляет в то
же время, что книжка Зеленецкого «глубоко (!) огорчила и
оскорбила (!) нас в другом отношении, а именно как доказательство, что у нас
еще не умеют складно и общежительно выражаться на русском
языке». Неужели грамматика, спрашивает он, мудренее философии? Дело
было, конечно, не в «грамматике»; Зеленецкий знал ее не хуже
Белинского и писал не хуже многих своих современников*. Дело, конечно,
в обнаруживавшемся уже расщеплении официально преподаваемой
философии и свободного искания. В лице Зеленецкого и
Белинского столкнулись две идеологии: интеллигенции правительственной
и интеллигенции новой. С этого момента всякая философия
школьная, и тем самым официальная или официозная, обрекалась на
невнимание и на бесплодие. Не бесплодным могло остаться только то,
что отвечало новому духу, с его собственными колебаниями,
исканиями и увлечениями. Оттого-то вся университетская философия,
даже там, где она была представлена лучше и сильнее, чем в
Московском университете, была в общем в отношении влияния на
развитие русской мысли обреченной. Это целиком распространяется и
на другой источник официально преподаваемой философии —
духовные академии. В характеризуемую эпоху и в университетах, и в
академиях философия движется как бы в особом замкнутом круге.
Такое положение вещей было бы непонятно с точки зрения
новой истории философии западноевропейской, но у нас оно легко
объясняется теми социально-психологическими условиями,
которыми характеризуется вышепоказанное определяющее нашу
духовную культуру столкновение двух сил в борьбе за руководительство
интеллектуальным развитием страны. В связи с этим стоит и другой
отмеченный мною факт, что история русской философии в
значительной степени есть история не философского знания, а
отношения к нему, само знание сплошь и рядом извращающего в простую
мудрость, мораль и поучение. Чтобы нагляднее иллюстрировать
* И, между прочим, не хуже расхваленного Белинским Дроздова (см. ниже,
см. имя по индексу).
144
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
свою мысль, остановлюсь еще на не имеющем самом по себе
значения инциденте с рецензией Белинского. Именно, почему Белинский
остался глух к содержанию статей Зеленецкого — он, внимательно
рецензировавший всякий вздор, даже не вернулся к Зеленецкому по
поводу дальнейших выпусков его книги — и так чутко «оскорбился»
грамматикою. Предполагаю, что дело не в грамматике, а в
«отношении» к философии, в стиле мысли и изложении. Белинскому трудно
было говорить по существу, но его коробил спокойный школярный
тон изложения там, где он сам волновался, трепетал и завинчивался.
Сошлюсь не только на общий социально-психологический контекст
развития Белинского и представляемого им авангарда новой
интеллигенции, но также на показательную частность.
Приблизительно тогда же, когда он написал рецензию на Зеленецкого, вышли
в Москве четыре книжечки А. Т. «О естестве мира, Устроении
вселенной» и т. д.136 натурфилософского характера. Сочинения были
встречены бранью со стороны «Библиотеки для чтения» и
«Северной Пчелы» просто за их философичность. Белинский, по его
словам, хотел было заступиться за автора, но, приступив к чтению,
после нескольких страниц потерял терпение; он нашел период в
четыре почти страницы и вот опять завопил: «Изучению философии
должно предшествовать изучение грамматики». Такое вступление,
быть может, только риторический прием и не существенно само по
себе. Но вот Белинский прорывается, видимо, с полною
искренностью: «Кто много знает и у кого знание есть род верования, у кого
ум и чувство сливаются вместе, тот имеет право не уважать
грамматики, потому что взамен этого в его речи будет жар, энергия,
движение, могущество, следовательно (!), у того слог будет
прекрасен без всякаго старания с его стороны сделать его прекрасным.
Но кто о высоких истинах говорит так же спокойно и
хладнокровно, как — о сенокосе, о вине, о псарне и своей родне, — тому
надо крепко держаться грамматики, задумываться над словом,
размышлять над фразою». В этом — секрет! Откуда знал Белинский,
что Зеленецкого не волновали вызываемые в нем самом
философией чувства, это — неважно. Существенно, что так Зеленецкого
воспринимал Белинский и так воспринимала новая интеллигенция
университетскую и вообще официозную школьную философию.
Итак, со своей философской кафедры Московский университет
немного мог внести в русскую философию. Из вновь открытых про-
Очерк развития русской философии
145
винциальных университетов как будто счастливее других был
университет Харьковский. Здесь философскую кафедру занял Иоганн
Баптист Шад (1758-1834). Свое самое крупное сочинение он
посвятил возможно доступному изложению учения Фихте137*.
Некоторые листы его были читаны самим Фихте и одобрены. Написано оно
не без темперамента, но без ясного плана, изобилует повторениями
и потому довольно утомительно. Казалось бы, достаточно утомив
читателя двумя томами повторений одного и того же — свойство не
только Шада, но и самого Фихте и его философии, — автор
предпринимает третий — по желанию издателя (см. Vorrede) — том,
заключающий в себе новые повторения. Однако в этом новом
повторении есть уже и некоторые более или менее существенные
отступления от первоначального изложения и от Фихте самого. Эти
отступления автор оправдывает, конечно, верностью духу, а не букве
излагаемого учения, а в то же время претендует не только на
большую ясность по сравнению с самим Фихте, но и на значительную
самостоятельность (ср.: В. III. S. 495). Что касается учения о религии,
то он считает, что ушел дальше Фихте и что его воззрение «в
известном отношении является совершенно новым». Но и все содержание
Фихтевой и единственной вообще истинной философии, повторяет
он несколько раз, он самостоятельно вывел, почерпнул, дедуцировал
из самого себя. «Лишь после того как я вполне понял самого себя, я
стал опять читать сочинения Фихте и тут понял и его также; я
удивлялся даже, что я его раньше не понимал» (S. 408). Выходит, что Шад
не понимал Фихте, когда писал о нем свои два первые тома... Его
объяснение (см. Vorrede), что, мол, первые два тома определяются
еще точкою зрения «рефлексии», а третий — точкою зрения
«трансцендентальною», малоубедительно. Но в общем все это — в духе того
времени, и в движении философских идей интересно потому, что
показывает, как тогда в незаметной эволюции переходили от
одного принципа к другому. Тот принцип, который раскрыл теперь глаза
Шаду и который — спешит он наперед предупредить — делает его
изложение философии яснее всякого нового «изложения наукоуче-
ния», какое еще может быть написано Фихте, сводится к признанию
в качестве основоположения философии абсолютного тожества
* Gemeinfassliche Darstellung des Fichtischen Systems und der daraus
hervorgehenden Religionstheorie. B. I—II. Erfurt, 1800. B. III. 1802.
146
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
субъективного и объективного. Другими словами, пока Шад излагал
Фихте, он стал шеллингианцем*. Равным образом, пока Шад говорит
о вере в моральный правопорядок как о религиозной вере, он еще
с Фихте, но уже сомнительно, продолжает ли он в его «духе», когда
говорит об абсолютном пункте объединения субъективности и
объективности как об абсолютной в объективном смысле субстанции
(С. 376) и о том, напр., что установление этого пункта есть основа
всякой религии (С. 377), или когда он разъясняет, применяя схемы
Шеллинга, что католицизм выражается через А = В, а протестантизм
через А = В (между ними религия разума (А = А), где первая схема
есть схема перевеса материи, а вторая — духа (С. 459). Естественно,
что когда потом Шад перешел к «Системе натурфилософии и
трансцендентальной философии» (1804), он придвинулся к Шеллингу
еще ближе. В Харьков он, следовательно, приехал с «перевесом» в
сторону Шеллинга.
В Харькове Шад издал логику на латинском языке138**. Ни по
содержанию, ни по направлению она не представляет нового этапа в
* К Фишер между прочим, так толкует Фихте, как будто этот последний в
статейке «Versuch finer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre», 1797,
близко подошел к утверждению тожества субъективного и объективного (рус. пер.
И. H. Ф.; Т. VII. С. 33; ср.: Т. VI. С. 544). Но разница между Фихтевской Ichheit
и Шеллинговой Identität так определенна, что об этом распространяться не
приходится. В этой статейке Фихте говорит лишь о единстве субъекта и
объекта и не употребляет применительно к этому единству термина Identität
или indentisch (Fichte. Werke. 1. S. 527 ff.). Точно так же и в других
указываемых Фишером (С. 684) местах речь идет о единстве, о Я как тожестве
Фихте говорит лишь в смысле «тожественного в многообразном» (например,
во «Втором введении в наукоученье», I. С. 475), говорит он также о тожестве
мышления и определении объектов («Denken und Objekte bestimmen... ist ganz
dasselbe»; Ibid. 498), но все это — не то. В более раннем изложении («Grundlage
der gesammten». Wiss., I. S. 190, 284) Фихте скромно сознавался в «неведении»
(Unwissenheit) того основания, которое должно лежать вместе в объекте и
субъекте, и предлагал «парить посредине» (mitten inne schweben); более
поздние изложения оставляем в стороне, так как для уяснения места Шада они не
нужны. Шад в своем изложении также говорит о «единстве» (включающем
«двойственность» и «тройственность») (В. III. S. 221 ff, 351, etc), но, переходя к
сравнению с Шеллингом, говорит уже о «пункте индифферентности» (S. 353), а
излагая Darstellung usf. Шеллинга, разумеется, и о «тожестве», и об абсолютном
«разуме» (387 ff).
** «Institutions Philosophiae universae. Tomus primus, logicam puram et ap-
plicatam complectus». 1812. О харьковских трудах Шада см. ст. Зеленогорского
«Ив. Б. Шад». Также в словаре профессоров Харьковского университета, Исто-
Очерк развития русской философии 147
развитии Шада. Значительная часть ее содержания взята из прежних
немецких сочинений его, главным образом, из названного
третьего тома изложения учения Фихте. Шад возражает против идеи
формальной логики Канта, так как она исходит из разделения
субъекта и объекта и покоится на отвлеченных категориях, содержащих в
себе внутреннее противоречие, поскольку они, претендуя на
абсолютное значение, выводятся тем не менее из более высокого начала
(«я мыслю»), т. е. уже не имеют абсолютного значения.
Действительный принцип логики, как и метафизики, состоит в тожестве
субъективного и объективного. Однако логика не превращается у Шада в
метафизику (или теорию познания), так как, подобно другим
современным ему противникам Канта, он приветствует Кантово
выделение разума, как способности идей, в отличие от понятий, хотя также,
подобно другим (Фихте, Якоби139, Круг, Бутервек и др.), не признает
кантовского ограничения идей разума регулятивною функцией. На
различении рефлектирующего рассудка, ограниченного опытом,
и [интуитивного] разума, направляющего на возможность опыта
и «сверхчувственное» («абсолютное»), основывается разделение
двух логик: формальной (не в отвлеченном кантовском смысле) и
трансцендентальной (также, как очевидно, не в кантовском
смысле). Задача излагаемого сочинения — логика рассудка. Она должна
раскрыть законы непогрешимого вывода в мышлении, опираясь на
способность рефлексии и обнаруживая ее наиболее общие формы.
Рассудок в целом есть некоторая единая способность, так что
логические функции: образование понятий, суждений и
умозаключений — не разные способности, а разные виды деятельности
рассудка. Умозаключение, таким образом, также есть акт рассудка, а не
разума и оно есть не что иное, как то же суждение, но выраженное
explicite, поскольку средний термин в нем дается прямо (в суждении
он содержатся implicite)140. Суждение, будучи основною формою
мышления, выражает в то же время, по принципу тожества,
действительное отношение вещей, и поэтому оно может быть
рассматриваемо как принцип установления категорий. Из ошибки разделения
субъекта и объекта у Канта получилась и другая ошибка. Признав
рико-филологический фак. Харьков, 1908. Биография Шада в Т. I «Истории
Харьковского Университета» проф. Багалея, и там же история удаления Шада
из Харьковского университета и перепечатка документов по этому делу.
148
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
категории всецело субъективными, он не только оторвал их от
вещей, но также не сумел найти для их выведения надежного
фундамента. Таким фундаментом'должна быть не субъективная форма
суждений, а само суждение как такое, и поскольку оно выражает
действительную связь вещей. Соответственно на трех частях
суждения — субъекте, предикате и связке — покоятся категории
количества, качества и отношения в их субъективном и объективном
вместе значениях. Категориями теперь, в свою очередь,
определяются виды и формы суждений, а не обратно, как выходит у Канта.
Что касается модальности, то, выражая отношение вещей к нашему
уму, она есть вид категории отношения (различается отношение
вещей друг к другу и к нашему уму) и определяет степени
возможности, действительности и необходимости вещей и нашего знания
их. «Сверхчувственное», «вещь в себе», «абсолютное» не
различается в этих предикатах, так как оно не имеет степеней, оно сразу —
безусловно возможное, безусловно действительное и безусловно
необходимое, оно есть безусловное бытие и не мыслится рассудком, а
абсолютно устанавливается (разумом) как условие всякого
возможного мышления.
И преподавательская, и литературная деятельность Шада не
остались без влияния. Так, преодолевая большие препятствия,
исходившие от университетских недоброжелателей Шада, пробился у него в
доктора философии купец Григорий Хлапонин (1814 г.). Под
руководством же Шада были составлены диссертации Гриневича и
Ковалевского*. Далее, Авксентий Гевлич, автор книги «Об Изящном» (СПб.,
1818), доктор словесных наук, также ученик Шада141. Одно из
произведений Фихте было переведено на русский язык и издано в
Харькове, надо думать, не без участия Шада, тем более, что выбор книг для
* Относительно которых было установлено специально на этот предмет
избранной комиссией, что обе диссертации почти буквально списаны из книг и
из записок лекций Шада. Немудрено, что Шад одобрил эти диссертации, но
непонятно, как он не узнал их автора. Вообще с бытовой стороны пребывание
неуемного эксмонаха в Харькове, как о нем рассказывает проф. Багалей,
заслуживает внимания любителей житейской психологии. Названный Гриневич
был некоторое время профессором латинской и греческой словесности в Ри-
шельевском лицее, а затем и в Университете св. Владимира (1839-40) —
профессором из неудачных, в Киеве ему после годичного преподавания «было
отказано» (см. «Биографический словарь...» Иконникова).
Очерк развития русской философии
149
перевода был сделан разумно*. Наконец, под влиянием «Логики» Шада
составлена и «Логика» Талызина, вышедшая в Петербурге в 1827 г.
«Логика, изданная Матвеем Талызиным». СПб., 1827. Сам автор
в «Предисловии» заявляет: «Руководителями моими были
некоторые последователи знаменитого Иммануила Канта, равно и он сам»
(С. VII). Но уже в русском переводе «Системы логики Бахмана», Ч. III.
(«История логики»), СПб., 1833, имеется указание переводчика (С. 97
прим.) на то, что «Логика» Талызина «есть сокращение Логики Шада».
Колубовский также утверждает, что она «составлена по Шаду», но на
чем основывается это утверждение, у него не сказано.
«Сокращением» «Логики» Шада она, во всяком случае, не является. С одной
стороны, в ней есть целый отдел психологический — дань
антропологическим логикам, а с другой стороны, многие определения
Талызина отличаются от определений Шада. Есть, однако, и отступления от
кантианских логик, и есть сходства с Шадом. Ък, разум понимается
как способность, порождающая идею абсолютного единства,
проникающая в область сверхчувственного и постигающая идеи как вещи
в себе; деление категорий принимается им в истолковании Шада по
частям суждения; отожествляется умозаключение и суждение и т. п.
Преподавательская деятельность Шада развивалась в условиях,
которые могли бы быть благоприятны для философии. Многие из
университетских товарищей Шада проявляли живой интерес к
философии и обладали нужною подготовкой — и в направлении
родственном Шаду, и в направлении противном ему. Для философии и
то, и другое благоприятно. Так, профессором политической
экономии с 1809 года состоял приглашенный из Гале кантианец Якоб, ав-
* «Яснейшее изложение в чем состоит существенная сила новейшей
Философии. Опыт принудить читателя к разумению. Сочин.: Ивана Готлиба Фихта.
Перевод с немецкого. Харьков: В Университетской Типографии, 1813. Свой
перевод переведший усерднейше посвящает Императорского Харьковского
Университета достопочтеннейшему сословию действительных членов его».
Посвящение подписано Ст. Ес-кий — по всей вероятности, Есикорский, учитель
и автор книг «Опыт исторической очевидности Промысла Божия у всех
народов и во всех веках». Харьков, 1822 и «Всемирная история». Харьков, 1825.
Проф. Багалей (Т. II) называет среди книг, выпущенных харьковскими
учителями: Любовский П. «Краткое руководство к опытному душесловию». Харьков.
1815; его же. «Опыт Логики». Харьков, 1818 и Любачинский Ив. «Логика».
Харьков, 1817. Имеется ли в них влияние Шада, судить не могу, книг не видал.
150
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
тор многочисленных философских сочинений на немецком языке
и обширного, в нескольких частях, учебника философии для
гимназий, выпущенного им в России на русском языке*. Приглашенный
в 1807 году, Якоб уже в 1809 покидает университет. Был
прикосновенен философии также Ив. Ст. Рижский, профессор словесности,
но он мог бы у Шада только учиться. Зато на других факультетах
Шад мог найти более интересных собеседников и оппонентов, как
об этом свидетельствует публичное выступление на торжественных
заседаниях университета профессоров Коритари, Громова, Оси-
повского. Первые двое обнаружили себя последователями
натурфилософии Шеллинга. Философская позиция третьего не так
определенна, но, по-видимому, его точка зрения была близка сенсуализму,
сопряженному с недоверием к натурфилософскому спекулятивному
способу решения вопросов физики и с защитою математических и
механических основ ее.
В бытность учителем в петербургском Горном училище Рижский
составил для своих учеников «Логику»: «Умословие, или умственная
философия, написанная... Иваном Рижским». СПб.: В Типографии
Горного Училища. 1790. Как он сам и указывает, главное содержание
книги почерпнуто «из философских сочинений Г. Голльмана; немало
из других известнейших писателей, сего рода; прочее единственно
из природного умословия» (Предисл.). Голльман — вольфианец, и
все другие источники Рижского — того же направления: сам Вольф,
Баумейстер, Гейнекций, но цитируется также и Эйлер, решительный
противник Лейбница и Вольфа (и которого «Lettres à une princesse
* По всей видимости, под именем этого Якоба (Ludwig Heinrich) была издана
книга: «Essais philosophiques sur l'homme, ses principaux rapports et sa destinée etc.
publiés par L H. de Jacob». Petersburg, 1822. (В словаре Франка указано, что
эта книга резюмирует главные мысли самого Якоба, что вышла она в Галле в
1818 году и озаглавлена, как начато, a etc. значит: fondés sur l'expérience et la
raison, suivis d'obsevations sur le beau, publiés d'après les manuscrits contés par
l'auteur). Об этой книге как об «небезынтересном опыте» сообщает в своем
Словаре Круг, называя рядом еще книгу: «Worte aus dem Buche der Bücher, oder über
Welt-und Menschenleben; niedergeschreiben vom Fürsten N... und Herausgegeb. von
A. W Tappe». Dresden, 1824, которая «содержит некоторые оригинальные,
отчасти даже пантеистические, воззрения». Обе, по его сведениям, написаны
русскими: первая Михаилом Полетикою (брат, вероятно, Петра Полетики), а
вторая кн. Николаем Абрамовичем Путятиным. Из того, что обе книги выпущены
под чужою фирмою, Круг заключает, что русские знатных фамилий стыдятся
заниматься философией...
Очерк развития русской философии
151
d'Allemagne...» вышли на французском языке в СПб., 1767-1772 и на
русский язык были переведены под заглавием: «Письма о разных
физических и философических материях, писанные к некоторой
принцессе»)142.
Коритари произнес 30 авг. 1807 г. речь: «De nexu studii Medicinae
cum studio Philosophiae»143, Громов — 30 авг. 1815 г.: «Об общих
органических силах и постепенном отношении их между собою».
Осиповскому принадлежит один из переводов на русский язык
«Логики» Кондильяка144. Возможно, что на него также оказал влияние
Эйлер, хорошо ему знакомый как математик. Против шеллингианства
Шада Осиповский был настроен довольно резко, как можно судить
по тому отзыву его об «Логике» Шада, который приводится у
Сухомлинова (Т. I. С. 115-116). Проф. Багалей («История Харьковского
Университета») сообщает, что Осиповский опровергал «известное
положение Канта о вровденности [?] категорий [?] пространства и
времени». Если Осиповский опровергал Канта, то он явно этого не
опровергал, а если он это опровергал, то он не опровергал Канта.
Осиповский читал две речи: «О пространстве и времени» (30 авг. 1807) и
«О динамической системе Канта, рассуждение» (30 авг. 1813).
Внезапная, в 24 часа, высылка Шада из Харькова и из пределов
России прекратила его преподавание (1816). Своих учеников он
не успел приготовить, и заместителем его явился некий Дудрович,
должно быть, из прикарпатских славян, которого, впрочем,
поддерживал сам Шад, рекомендуя его как человека осведомленного в
философии Канта, Фихте и Шеллинга. Дудровича до такой степени
единодушно характеризуют как «хорошего человека», что, надо
думать, философ он был никакой. Его преемник Чанов был назначен
попечителем на должность профессора умозрительной и
практической философии, но был просто не подготовлен к такой роли и
хотя обещал руководиться в преподавании умозрениями Шада и
нравоучением Дудровича, но едва ли был способен даже
разобраться в этих «умозрениях». Сменивший Чанова Протопопов (с 1834 г.),
воспитанник Харьковского университета, как отмечает его биограф
(Зеленогорский), не был подобно Чанову «совершенно несведущим
в области философских наук» и также был «человек хороший». Он
и дотянул харьковскую философию до общего ее изгнания из
университетов. Таким образом, философия в Харькове прекратилась, в
сущности, вместе с отъездом Шада.
152
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Дудрович конкурировал на кафедру в 1813 г. с Любовским. Шад и
факультет признали экзамен Дудровича без сравнения выше
экзамена Любовского. Этого Дудровича, Андр. Ив., не следует смешивать с
Ив. Ив., кандидатом Харьковского университета, профессором Рише-
льевского лицея (1817-1839), где он читал также философские
курсы. К Зеленецкий ссылается на его лекции («Опыт изследования...»
С. 234, прим.).
Чанов — тот самый «квартальный надзиратель», появление
которого на кафедре приводило в сентиментальное негодование
некоторых моралистов. Действительно, по окончании Ярославского
демидовского высших наук училища он состоял в штате Градской
ярославской полиции около трех месяцев квартальным
надзирателем (в 1806 г.), а затем перешел учителем разных предметов в
пансион при Ярославском училище. После разных служебных странствий
он был назначен директором училищ Слободско-Украинской
губернии. Отсюда он попал в профессора (в 1831 г.). Дело, конечно, не в
том, что он был квартальным надзирателем. Было бы не лучше, если
бы он был даже полицмейстером или комиссаром. А дело в том, что,
будучи угоден начальству, он был негоден в качестве профессора по
предмету, которого не знал.
Что касается «дела» и высылки Шада, то это — грязная история
с доносами со стораны коллег и со странными и назойливыми
самооправданиями Шада, характерная лишь тем, что в вину Шаду
и доносчиками, и властью ставились философские убеждения
Шада. Доносчик отлично понимал, когда докладывал: «Mais ma
faible raison se prosterne devant Schelling. Cependant j'oserais croire
que ce n'est pas là l'enseignement qui convient à la Russie. Votre
Exellence au reste est meilleur juge que moi à cet égard: je ne fait que
lui proposer mes doutes»145. Но за кого же считал Шад своих
адресатов, когда он по обвинению в шеллингианстве его «Institlitiones
juris naturae» отвечал: «Шеллинг никогда не писал естественного
права или чего-нибудь подобного... предмет философского
исследования Шеллинга — физика». Соль не в том, разумеется, что
Шад солгал: он мог действительно не знать статьи Шеллинга
«Neue Deduktion des Naturrechts»146, напечатанной в
«Философском Журнале» (Фихте-Нитгамера) в 1796-1797 гг. и не
вошедший в сборник философских сочинений Шеллинга 1809 г.
Очерк развития русской философии
153
В другом из вновь основанных университетов, Казанском,
философия совершала свои первые шаги еще скромнее. Первым ее
преподавателем был окончивший в 90-х годах XVIII века Московский
университет Лев Левицкий. Учителей своих едва ли он превзошел —
достаточно сказать, что логику он преподавал в университете по
учебнику Рижского. По-видимому, ректор дал его исчерпывающую
характеристику: «В философических познаниях, кажется, слаб и
более, мнится, по тучному его телосложению, натурально
воспрещающему заниматься умозрительностью». Но эта же причина
вскоре привела к тому, что он «обновил масть земнородных первым
адъюнктом Казанскаго университета». Это было бы неплохо, если
бы его не сменил иностранец (Фойгт), по образованию юрист, но
имевший связи среди людей влиятельных и «согласный преподавать
умозрительную философию или эстетику», потому что они были его
«коньками». Но и Фойгт недолго оставался на кафедре — на этот раз
казанский климат заступился за философию. Вакантное место занял
директор народных училищ Оренбургской губернии Алекс. Степ.
Лубкин, воспитанник духовной школы, т. е. воспитанный на
философии вольфианской. К ученой деятельности он себя не готовил, но
был раньше учителем философии в Петербургской армейской
семинарии, для которой составил даже учебник логики.
«Начертание Логики, сочиненное и преподаванное в Армейской
Семинарии, Александром Лубкиным». СПб., 1807. Кроме вольфи-
анства заметно здесь некоторое отражение немецкой популярной
философии. Книга написана не без присутствия большой доли
здравого смысла. «Теоретическая часть» сведена до минимума.
Оригинальное место в учебнике отводится третьей фигуре силлогизма.
Она под названием «отражения» (instantia) идет за индукцией
(«наведение»). Вообще теорию фигур силлогизма, основанную на
положении среднего термина, автор отвергает «как потому, что кроме
бесполезной затруднительности в себе ничего не заключает, так и
для того, что самое основание оной есть мнимое («К читателю». V).
Вместо этого внешнего различия он вводит различение
силлогизмов, основанное «на их намерении и употреблении». Отсюда и то
перенесение третьей фигуры силлогизма.
Обшее направление Лубкина было эклектическим, близким к
немецкой популярной философии (Федера и проч.), но во время уже
преподавания он — вместе со своим помощником О. Е. Срезнев-
154
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ским — стал вводить учебники и кантианского умонаклонения*. Луб-
кин умер в 1815-м году; остался один Срезневский. В 1817-м году
кн. А. Н. Голицын147 «преобразовал» министерство народного
просвещения в «министерство духовных дел и народного
просвещения», а в начале 1819-го года были произведены Магницким ревизия
и преобразование Казанского университета, возведшие на
философскую кафедру людей, достойных в глазах преобразователя. Но
именно поэтому имена их и не заслуживают упоминания. И лишь с конца
тридцатых годов и с небольшим перерывом до 1850 года
философское преподавание могло принять несколько упорядоченный, хотя
отнюдь не независимый характер, когда оно перешло в руки
архимандрита Гавриила (В. Н. Воскресенского). Его перу принадлежит
напрасно иногда восхваляемая «История философии».
«История философии» архимандрита Гавриила. Казань, 1839-1840.
Ч. I—VI. (I ч. в 1839 г. «издание второе с переменами»). У него
есть еще книжечка под многообещающим заглавием «Философия
правды». Казань, 1813. В действительности это есть весьма
элементарное изложение некоторых понятий «естественного права».
«Философия правды, — определяет автор, — есть наука о коренных,
выведенных из природы человека правах, которые, не исключая
никакого народа, принадлежат всему роду человеческому» (С. 5).
Несамостоятельность «Истории философии» Гавриила показал уже
Новицкий в отзыве, данном им по предложению Академии наук, куда
были представлены к состязанию на Демидовскую премию 1811 г.:
1) «История философии» архим. Гавриила. Ч. I—IV, из Казани и
2) «История древней философии» Зедергольма. Ч. I, из Москвы.
Новицкий признал оба сочинения несамостоятельными — первое
переводом довольно плохо написанной французской истории
философии, второе — переводом из немецких книг. (Зедергольм, 1789-1867,
протестантский священник, сперва в Финляндии, затем в Москве,
автор нескольких немецких сочинений, теист-антигегельянец.
О том, как Гавриил обобрал самого Новицкого, см. ниже.)
* Как переведенный им плоско-бездарный и тощий (даже со стороны Луб-
кина вызвавший потребность в ряде дополнений и примечаний) «Начальный
курс философии, соч. Ф. Снелля». Ч. 1-5. Казань, 1813-1814, а также учебники
вышеупоминавшегося Якоба.
Очерк развития русской философии
155
Само собою разумеется, что произведение Гавриила
неоригинально и не основано на изучении источников. Оно составлено по
иностранным книжкам, но автор не уклоняется от выражения своих
замечаний, подчас весьма темпераментных и сочных, хотя нередко
в излишне специфическом стиле наших духовных семинарий.
Например, «Как больные желтухою очи представляют весь мир
желтым, так Тидеман все философския системы представил в
единообразной одежде Локка» (1,11-12); Риттер «превосходит
скептицизмом многих записных недоумок» (I, 12); «Англицкое болото Берке-
лея» (1,13); «Теннеман, смотря в очки Канта, своими глазами совсем
не видит» (I, 38); Кант — «немецкий грекоримлянин» [?] (I, 39); «От
чтения подобных [Плотина] теорий, не очищенных судом
философским, основательный человек может потерять время, а скудоумный
лишиться и последней искры здраваго разсудка» (II, 65); «Уроды в
физическом мире не плодятся. Уроды в умственном мире —
Плотин148 и Порфирий возродились в Спинозе, Шеллинге, Гегеле и Гер-
барте» (II, 74); рассуждения «лжефилософа» Гольбаха есть
«образцовая цепь лукавых умозаключений» (IV, 24); «Сколь бедно
чувствование Юма, столь богато его воображение причудами!» (IV, 32) и т. п.
Самый ожесточенный отпор со стороны архим. Гавриила
встречает Юм, наиболее снисходителен он к Кузену, благосклонен — к
аббату Ботену. В совершенно восторженное состояние он приходит
лишь при изложении «философии восточной чистой», под
каковою разумеется «философия Палестины», заключающаяся «в книгах
Св. Писания, в творениях Отцов Церкви и в сочинениях различных
православных христианских писателей» (V, 4). Изложив в
выражениях, интересных более риторически, чем диалектически, философию
Палестины, автор через следующую экскламацию, дающую
представление об его «диалектических приемах», переходит к
«философии восточной не чистой»: «Но, ах! мы недостойны более дышать
райским воздухом земли святой; мы должны отправиться к нашей
братии, в землю заблуждения» (V, 24). Вообще же нужно сказать, что
способ изложения автора не свидетельствует о независимости его
философских воззрений от духовного звания и от «службы людям».
В особую заслугу архим. Гавриилу поставляют иногда то, что
он явился первым историком русской философии, которой он
посвятил шестой том своей «Истории философии». Однако не было
ли это предприятие преждевременным? И не пришлось ли только
156
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
благодаря этому возвести в основоположники русской философии
Владимира Мономаха149 и Даниила Заточника, а к его высшим
достижениям отнести гений любомудрия Сергия Семеновича Уварова,
современного автору министра народного просвещения? Впрочем,
к суждениям автора об особом национальном характере русской
философии со стороны их содержания, оригинальности и общего
значения мы еще вернемся ниже в другом контексте.
VII
Таким образом, в университете Харьковском философия была
уничтожена в зародыше, в Казанском не допустили и до образования
зародыша. Значение обоих новых университетов для нашего
философского развития оказалось ничтожным. Этой утере целого
полустолетия оба университета обязаны тем, что и до сих пор их
философская роль остается в области надежд и будущего. Два другие
новые университета были открыты позже: Петербургский — в 1819 г.,
в попечительство Уварова, и Университет св. Владимира — в 1834 г.,
в министерство Уварова.
Когда учреждались первые новые университеты, в Петербурге
был основан Главный педагогический институт, который в 1819 году
и превратился непосредственно в отделение университета.
Философия в институте уже преподавалась, и ее преподаватель, А К Галич,
стал продолжать свою деятельность в университете. Галич известен
у нас как распространитель идей нового немецкого идеализма.
Однако не ему пришлось сказать первое слово о новой философии.
Он действовал на почве до известной степени уже
подготовленной преподавательской и литературной пропагандой
профессора Медико-хирургической Академии, преобразованной в 1799 г. из
Медико-хирургического училища, начало которого было положено
Петром Великим, — Д M Велланского. Велланский (Кавунник, сын
ремесленника в Борзнах, Черниг. губ.) явился в России первым
проповедником идей Шеллинговой натурфилософии. Примыкая
ближайшим образом к Окену, он делает попытку и более или менее
самостоятельного приложения этих идей к разработке физиологии и
физики.
Для правильной оценки трудов Велланского не следует упускать
из виду разницы, которая вообще существует между общими
натурфилософскими принципами Шеллинга и тем приложением, которое
Очерк развития русской философии
157
нашли эти принципы у его последователей, представителей
специального знания: медиков, физиологов, физиков, психологов и т. п. Тот
«формализм», за который Гегель так жестоко порицал Шеллинга,
присущ последователям Шеллинга еще в большей мере, чем ему самому
За большинство аналогий своих последователей Шеллинг так же мало
ответствен, как мало были ответственны аптекари за рецепты,
прописывавшиеся больным врачами-шеллингианцами. Основной
«формальный» недостаток самого Шеллинга состоял главным образом в том,
что Шеллинг пользовался некоторыми терминами специальной науки
в более широком, подчас неопределенном и метафорическом смысле.
Слишком буквальное понимание шеллинговского словоупотребления
и аналогизирующее обратное применение его «параллелизмов» и
«полярностей» в специальной науке — уже не его вина. Так, напр., самый
термин «физика»150 прежде всего и сплошь да рядом означал отнюдь
не специальную науку, а философское учение о природе как целом*.
Равным образом, как известно, и такие основные понятия Шеллинго-
вой натурфилософии, как «свет», «тяжесть» и пр., отнюдь не
покрывались тем содержанием, которое в них вкладывала эмпирическая
наука, и обратно, перенесенные в специальную науку они перегружали
ее своим метафорическим балластом и создавали те то комические,
то гротескные словосочетания, которые до сих пор одних веселят, а
других, людей в словесном отношении робких, пугают.
Формалистическое схематизирование и аналогизирование есть
особая своеобразная болезнь мышления (dementia philosophica), no-
*Ср., например, ясные определения Виндишмана в ст. «Grundzuge einer
Darstellung des Begriffs der Physik» (в журнале Шеллинга «Zeitschift für speculative
Physik». Jena. Lpz., 1800. B. I. S. 78 ff.), где физика определяется в
противоположность этике и где физике дана, напротив, такая характеристика: Die Natur soll
ein für sich bestehendes Wesen, die Physik eine für sich bestehende Wissenschaft
von dieserm Wesen sein. Es wird also gefordert, das gezeigt werde, wie sie dazu
komme, sich selbst zu organisiren, sich Gestalt und Bildung zu geben (S. 90).
Окружающий нас мир, как совокупность объектов, находящихся в
постоянном взаимодействии, есть воплощение (die Darstellung) некоторой первичной
силы (eine Urkranft), которую можно мысленно выделить и назвать мировою
душою. Последняя есть все из себя развивающая деятельность — Природа,
т. е. постоянное порождение, постоянное становление. Слово (pt)oiç выражает
этот смысл, и поэтому названное исследование развитии или раскрытий (die
Entwicklungen) первосилы и указывает, в чем состоит физика: Физика — наука
об раскрытиях природы (Physik ist die [!] Wissenschaft von EntwickJungen der
Natur) (S. 104-105).
158
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ражающая обыкновенно недисциплинированные научно души. Ее
прилипчивости обязаны широким распространением некоторые
учения, злоупотребляющие метафорической терминологией. Кроме
Шеллинговой натурфилософии иллюстрацией сказанного может
служить, например, распространение так называемой органической
социологии; затем, учение Спенсера о всеобщей эволюции,
выражаемой в терминах «дифференциации» и «интеграции»,
применяемых одинаково и к миру органическому, и к миру неорганическому;
затем также, напр., так называемое физиологическое объяснение в
психологии, состоящее по большей части в простом переводе
психологических названий фактов на язык физиологических метафор;
сюда относится также имеющее место в экономическом
материализме аналогизирующее перенесение схем развития экономических
отношений на развитие идей, теорий и направлений литературы,
искусства, философии, когда оказывается, что, например,
монадология Лейбница есть выражение «крайней раздробленности
мелкобуржуазного мира», а «Бог Спинозы — идеализированное выражение
стихийного единства менового общества и царящей в нем
необходимости» (примеры не выдуманы мною) и т. п.
Велланский, заканчивавший свое медицинское образование в
Германии, примкнул к господствовавшему уже там
натурфилософскому направлению в медицине. Чтобы правильно понять быстрое
и широкое проникновение шеллингизма в специальные науки,
следует не упускать из виду, что собственное развитие Шеллинга не
определяется исключительно диалектической эволюцией его идей
из философии Канта и Фихте, как это обыкновенно схематически
изображается в учебниках истории философии. Философия
природы Шеллинга, с одной стороны, является также непосредственным
продолжением лейбнице-гердеровской идеи единства природы в ее
развитии от стадии неорганически-геологической и до человечески-
исторической, а с другой стороны, она подводит метафизические
итоги тому широкому движению научной мысли второй половины
XVIII века, которое воодушевлялось повышенным интересом к
проблеме антропологической, как в ее физиологическом, так и
психическом аспектах. Таким образом, своей натурфилософией Шеллинг
пошел навстречу общему интересу и, в свою очередь, породил
бесконечное количество новых физических и психических
«антропологии». В частности, идеи Шеллинга попадали в качестве вызываю-
Очерк развития русской философии
159
щего брожение фермента и в медицинский, если позволительно
так сказать, дух времени. В конце XVIII века много шума наделало
учение эдинбургского врача Джона Брауна («Elementa medicinae»,
1773), получившее от его имени и свое название — брауншнизм.
Хотя это учение исходило из одного динамического принципа
возбуждаемости как способности, присущей всякому органическому
телу, тем не менее браунианизм вводил в объяснение жизненных
процессов характерный дуализм, сводя их к равновесию,
нарушаемому усилением или ослаблением названной возбуждаемости, в
патологических случаях доходящими до состояния resp. стении или
астении. Проводниками браунианизма в Германию были Пфафф,
Вейкард, Шртаннер, Решлауб и др. Но противники
браунианизма с неменьшим усердием искали априористических
натурфилософских основ для своего учения. Так, например, Кильмейер,
оказавший непосредственное влияние на Шеллинга, также исходил
из идеи единства природы и закона, руководящего как развитием
индивида, так и развитием всей природы. Dpm основным
функциям жизни (чувство, движение, самосохранение) соответствуют три
органических силы: чувствительность, раздражимость и
воспроизведение, отношением которых и объясняется всякий жизненный
процесс. Словом, дух времени натурфилософствовал. Шеллинг
выражал его вместе с другими, но он давал всеобщую систему и стал
поэтому во главе времени. Если бы, однако, Шеллинга и не было,
шеллингианство, можно сказать, все-таки существовало бы. И оно
действительно продолжало существовать и распространяться, когда
сам Шеллинг перешел к более глубокому и принципиальному
учению философии тождества.
Велланский попал в это русло натурфилософского потока вместе
с Океном, с одной стороны, и медициною своего времени, с
другой. За философски еще прогрессировавшим тогда Шеллингом он
не пошел. На Велланского нельзя смотреть как на проводника к нам
собственно философских идей идеализма Шеллинга и
трансцендентализма, каким был, например, Шад. Велланский начал с
натурфилософского хвоста, а не с философских принципов, не с головы. Он
только заинтересовывал, заинтриговывал, но в самое философию
не вводил. Недаром он сам жаловался на непонимание. Ему
приходилось, по полной философской неподготовленности своей
аудитории и читателей, уделять больше времени принципам, чем нужно
160
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
было для его специальных целей*. И он делал это все же скучно и
против охоты, вернее, может быть, даже против своих способностей
и подготовки, ибо ни из чего не видно, чтобы Велланский обладал
настоящим философским образованием. Он на веру принимал
натурфилософские приложения, мало заботясь о критической
проверке философских принципов. Ни одного философского труда,
целиком посвященного философии, у Велланского нет, и лишь в 1834 г.
он перевел небольшую книгу польского шеллингианца И. Голухов-
ского, которая может служить введением в философию**. В
«Предуведомлении от Издателя» Велланский не столько определяет задачи
философии, сколько защищает ее «достоинство» против
владычества «обскурантизма». Но, между прочим, он высказывает и
следующие общие, к сожалению, слишком общие, соображения: «Истинное
знание состоит в идеях, излагаемых философиею, а не в
чувственных сметах, доставляемых опытностью, которая, хотя показала
многие скрытые явления Природы, но не объяснила ни одного в
существенном значении. Опыты и наблюдения, относясь к преходящим
и ограниченным формам вещей, не касаются беспредельной и
вечной их сущности. Посему ревностнейшие испытатели и вернейшие
* На непонимание и неподготовленность читателей Велланский постоянно
жаловался. См. в особенности его письмо к Павлову (от 29 мая 1834); здесь он
обещает: «Прежде нежели выйдет моя Физиология, намерен я сочинить
Натуральную Философию, в основных ее начертаниях. Это будет ключ к
уразумению физических сочинений, писанных по основаниям Философии, которая в
России известна по неосновательным слухам» (письмо перепечатано у
Боброва — Бобров Е. А «Философия в России: Материалы, исследования и заметки».
Вып. \-Ь. Казань, 1899-1902. Вып. II. С. 225-228). Письмо это было написано
тогда, когда идеи немецкого идеализма получили у нас сравнительно
широкое распространение. Тем не менее Велланский жалуется: «Но вот проходит
тридцать лет, как я в Российском ученом мире вопию, аки глас в пустыне\»
Велланский не видел перемены, происшедшей за эти тридцать лет. Вначале
читатель его не понимал, потому что не мог понять, теперь он не нуждается
в этом понимании, потому что и в науке, и в философии искал иного, чем то,
что предлагалось ему Велланским. Павлов, как увидим, это учитывал лучше
Велланского.
** «Философия, относящаяся к жизни целых народов и каждого человека.
Сочинение на немецком языке Доктора Философии Иосифа Голуховского.
Переведено Даниилом Велланским». СПб., 1834. Оригинал — на немецком языке;
сделанный тогда польский перевод (Ксаверия Брониковского) не увидел света,
и лишь в 1903 г. был напечатан прекрасный польский перевод книги (Петра
Хмелевского) под заглавием: «Filosofia i Zycie». Warszawa.
Очерк развития русской философии
161
наблюдатели всех веков и у всех народов не могли соделать ничего
прочного и основательного ни в физических науках, ни в
исторических познаниях. Собранные ими огромные запасы мертвых
материалов лежат в разбросанных кучах; и только то вошло в
органический состав наук, что оживотворено идеями ума, производящими
теорию как душу опытных сведений, составляющих одно тело,
зиждимое понятиями разума». Философию Шеллинга он аттестует в
следующих выражениях: «Сия Система, показав абсолютную сущность
Природы и духа, преобразовала, или, лучше сказать, вновь соделала
физические и психические науки, доставила им теоретическое
содержание, какового они никогда не имели и от которого зависит все
достоинство ученого света. Настоящая теория физики произошла
от Шеллинговой философии. Никакая из прежних систем не могла
изъяснить ни единого явления в Природе; чем и доказывается
метафизическое ничтожество оных».
Крупнейшие оригинальные труды Велланского: (1)
«Биологическое исследование Природы в творящем и творимом ее качестве,
содержащие основныя начертания всеобщей физиологии». СПб., 1812;
(2) «Опытная, наблюдательная и умозрительная Физика, излагающая
природу в вещественных видах, деятельных силах и зиждущих
началах неорганического мира — составляющая первую половину
энциклопедии физических познаний». СПб., 1831; (3) «Основное
начертание общей и частной Физиологии, или физики органического
мира. Для руководства к преподаванию физиологических лекций».
СПб., 1836. Более философичными являются первые две книги, но
главным образом вторая, хотя и в них поражает пестрота и
чересполосица «умозрительного» и фактического, а равным образом
безвкусие немотивированного перехода от одного стиля к другому. Так как
нас интересует не роль Велланского в развитии науки, а лишь его
философские взгляды, то их мы и выделим из его изложения. Хотя
следует иметь в виду, что именно эти части рассуждений
Велланского наименее оригинальны и представляют в большинстве случаев
простой пересказ определенных страниц Шеллинга, Окена, Стеф-
фенса и др.
Из Предуведомления к «Биологическому исследованию» мы
узнаем, что целью изучения природы является не эмпирическое
и поверхностное «объятие частных предметов», а искание общего
единства в природе. Такое изучение покоится на основаниях непо-
162
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
колебимых, глубоких и крепких: весь мир обладает жизнью и все в
нем одушевлено, все существа в нем суть лишь виды образований
этой всеобщей жизни. Природа и неорганическая мертвая, и живая
органическая — одинаково выражения единой мировой жизни в ее
бытии и действии*. Жизнь неорганической природы раскрывается
в динамических процессах магнетизма, электрицизма и химизма.
Для нее существенным является бытие, случайным — действие.
Наоборот, для органической природы действие существенно, а бытие
случайно. Лишь в человеке достигается целостность органического
мира на земле. Остальные животные — уединенные его части,
раскрывающие лишь определенные стороны или действия жизни.
Анатомия, химия, механика и другие эмпирические науки не могут
составить философии, так как сами требуют одушевления высшим
философским понятием единой жизни. Физиология есть настоящая
основа философии, лишь она может быть в строгом смысле
умозрительной, она сама философия живой органической природы.
На это истинно шеллинговское определение мне хотелось бы
обратить внимание тех, кто недоумевает, откуда появился в XIX веке
материализм врачей и натуралистов (получающийся, как очевидно,
при простой замене в этой формуле начала динамического
механическим), а с другой стороны, и тех, кто считает эту формулу
достаточною для определения материализма. Вообще заметим для
последующего, что нужно с большою осторожностью говорить о
материализме в философии. Материализм врачей и натуралистов так же
относится к истории науки и метафизических объяснений в ней, как
и шеллингианство врачей, антропологов и физиков начала XIX века.
Превращение этого материализма в философию есть или
сознательное отрицание ее, или отсутствие интереса к ней, связанное
с уверенностью, что метафизические объяснения в науке в полной
мере могут удовлетворять потребности знания. Физиология, однако,
по мысли Велланского, не должна быть отделяема от физики, ибо
первая излагает органический мир, рассматривает внутреннее, душу,
идеальное существо универса, а вторая должна исследовать
внешнее его содержание, тело, реальную форму (ср. письмо к Павлову).
И Велланский затевает план энциклопедии, которая должна обнять
универс со всех сторон. Физика неорганического мира составляет
* См. выше. С. 347 в прим., определение Виндишмана.
Очерк развития русской философии
163
первую часть, за которою должна следовать органическая физика
или физиология, а за нею — антропология (см. «Письмо к Н.
Розанову» у Боброва. Жизнь и труды... Вып. И. С. 223-225). Такое место
физики в системе знания Велланскии считает существенным. Если
бы место физики определялось ее значением для техники, можно
было бы довольствоваться одними опытами, а не иметь
теоретического понятия о Природе. Но физика без этого понятия — тело без
души. В действительности «Физика не столько нужна для
технологии, сколько для антропологии и психологии, которые без
умозрительного знания Натуры не могут быть приведены в
систематический вид, свойственный идеальной их сущности»*. Теория физики,
однако, невзирая на свет, более тридцати лет сияющий на горизонте
германского ученого мира, остается для многих невидимою. Одних
она ослепляет яркостью, другим кажется сверкающей лишь в чуждой
для них превыспренней сфере. Свою задачу Велланскии
понимает как «изложение неорганической Природы, выведенное из таких
оснований, которые для поверхностной критики неприступны». Это,
следовательно, есть приложение философских принципов к
специальной науке. В чем же состоят принципы?
Их изложению целиком посвящено в «Физике» Велланского
«Отделение первое» (потом он к ним возвращается редко, например,
§§ 185-188; С. 110-114), озаглавленное: «Теософические положения
о возможной сущности природы, служащие основанием познанию
действительных ее форм». Хотя внешние формы вещей не могут быть
без их внутренней сущности, но в силу их взаимного соответствия в
познании последней должно руководиться рассмотрением первых.
Время, пространство и вещество суть явления вечного,
беспредельного и всесущественного. Многообразие вещественного мира в его
конечных и преходящих формах сообразно возможной идее, единой
и неделимой, но проявляющейся в этом многообразии форм,
«образуясь действительною вещью». Идея невидимой сущности
тройственна: как единое всесущественное, как самосведение его и как единство
того и другого. Сущность природы в объективной форме
самосведения представляется веществом, а в субъективном значении —
одушевленными существами. Органический мир, составляющий
субъективную принадлежность творческого самосведения, есть постепен-
* Предися. Ср. выше сделанное замечание о материализме.
164
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ное развитие творческого действия, начавшегося в живом веществе
и завершившегося в человеке. Равным образом, и мир
неорганический, изъявляющий объективную сторону творческого
самосведения, также произошел в постепенном развитии. Оба вместе, образуя
с противоположных сторон одно и то же, составляют целое явление.
«Земная планета есть общий организм, в котором животные,
растения и ископаемые содержатся как особливые члены одного тела,
произведенные тою же жизнью, только в разных значениях
изъявляемой ими сущности, по которому оные не токмо между собою
различны, но и противоположны в их качествах». Вещественная масса
и деятельная сила земли произведены могуществом всеобщей жизни,
которая не есть ни вещество, ни сила, а идеальное обоих начало,
постигаемое умозрительно. Это начало, не подверженное внешним
изменениям и чувственным ощущениям, есть дух, не зависящий от
пространственных и временных отношений и потому творческий.
Поскольку совершенное познание требует исследования всех
родов предметов, Велланский признает одинаково односторонними
и неполными теории материалистов или атомистов, исследующих
только вещество, и динамистов, исследующих только деятельность,
и идеалистов, исследующих только идеальное представление вещей
как возможную форму без действительного содержания.
«Видимый мир есть образование идеальной возможности в
вещественную действительность, где каждая вещь производится
собственною идеей, как творимая материя зиждущим духом». Процесс
миротворения подобен творчеству в искусстве духа человеческого,
который составляет сперва план идеальной возможности, а потом
осуществляет его в вещественной деятельности. Земной мир в своем
вещественном, деятельном и идеальном содержаниях должен
развиться от начального основания до окончательного совершенства
их; главные эпохи развития суть устройство стихий и
неорганических тел, происхождение растений и животных и образование
мыслящего существа — человека; каждая из этих эпох имеет свои
периоды образовательных состояний. Физика последовательно излагает:
стихиологию, устанавливающую теорию света как начального
действия Природы и теорию тяжести как начала вещественности;
космологию как учение о Солнечной системе, основанной на тяжести,
представляющей беспредельную сущность Природы в
ограниченных формах мироздания, и геологию как учение о вещественных ка-
Очерк развития русской философии 165
чествах и деятельных свойствах земной планеты — к динамическим
предметам геологии относятся электризм, магнетизм и химизм.
Познание света связано с познанием происхождения и состояния
всего мира, ибо свет есть внешний вид внутренней силы. Умственное
самосведение человека проходит через три момента: момент
взирающего субъекта, рассматриваемого объекта и односущности их.
Только тогда человек познает в точном смысле себя, когда он
внешний мир находит в себе, собственное существо обретает во внешнем
мире, и, наконец, видит существенную одинаковость между собою
и внешним миром. Вселенная как произведение самопознательно-
го процесса Абсолютной Сущности природы состоит из света,
материальности и органической жизни, представляющих
субъективную, объективную и единосущную принадлежность самосведения.
«Единственная Сущность Природы в свойстве взирающего субъекта
является светом; в качестве рассматриваемого объекта оказывается
материею; а в начальном безразличии света с материею
представляется организмом». Как от нуля произошли все математические
числа, так от света начались все естественные вещи. Динамический
процесс вещества и органическое действие живых существ суть
произведения света, представляющего во временных формах вечную
сущность, которая химическим, электрическим и магнитным
процессом превращается в вещество, а репродуктивным, ирритабель-
ным и сенсибильным151 действием образуется в особое внутреннее
существо. В неорганическом мире главнейшее действие
показывается светом, а в животном организме чувствием, кои суть одно и то же,
хотя и в противоположном виде, так что свет есть внешнее чувствие,
а чувствие — внешний свет. Свет, изъявляющий вечность времени, и
тяжесть, показывающая беспредельность пространства, составляют
при внешнем сношении бездушную вещь, а при внутреннем
соединении — одушевленное тело. Организм как внутренний
индивидуальный мир равен внешнему универсальному, а потому и обратно,
космическое произрастание (genesis mundi) должно сходствовать с
органическим. Так как каждый атом материи содержит в себе
пространство, время и начальное единство их, то и всякое земное тело
по своему происхождению и состоянию равно целой системе мира.
Способы миротворения суть электризм, магнетизм и химизм,
составляющие динамизм или жизненный процесс неорганических
веществ земной планеты.
166
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Даже в этом кратком извлечении нетрудно уловить, что
главным руководителем Велланского был Окен*. Лишь изредка у него
выступает на сцену сам Шеллинг, а в последней части и Стеффенс.
Но это — Окена по преимуществу метафоричность и формальное
аналогизирование. Нечуткий, а потому беспечный по отношению к
чисто философскому значению своих «оснований», что
доказывается, между прочим, частым повторением у него основного постулата
противоположности и тожества субъективного и объективного без
всякой попытки анализа или философской критики, — Велланский,
по-видимому, не отдает себе отчета и в самой чистой
метафоричности своих «теорий». Таким образом, заслуга Велланского перед
русской философией преимущественно в том, что он через
преподавание специальной науки в новом духе вызывал общий интерес к
философским основам науки и знания вообще, внедряя вместе мысль
о существенной необходимости такой основы. Раскрыть и показать
эту основу он не был призван, ибо он не был философам. Не имел
он и непосредственных учеников, которым это можно было бы
вменить в обязанность. Это требование было предъявлено к Галичу**, ибо
на него смотрели уже как на философа, и, по-видимому, сам он
также хотел видеть у себя это качество.
Христиан Экеблад, профессор ветеринарии в Харьковском
университете (с 1824 г.), а затем директор Нежинского лицея (с 1853 г.),
ученик Велланского, лишь в 1872 году выпустил книгу: «Опыт
обозрения и биолого-психологическаго исследования способностей
человеческого духа». СПб. В «Предисловии» он сообщает, что
«основная нить или канва» части его книги почерпнута из лекций
Велланского. Однако Экеблад, всю жизнь посвятивший этой книге, не
застыл на Велланском, и его место — в другом контексте, хотя также
не собственно философском.
Ал. Ив. Галич (Говоров, сын дьячка г. Трубчевска, Орловск. губ.)152
был один из «молодых людей», командированных в 1808 г. за
границу, где философию слушал у Шульце (Gottlob Ernst Schulze-Aeniside-
* Даже характерная для Окена «математичность» (опущенная в нашем
изложении) воспроизводится Велланским. § 13 и след.
** В «Предисловии» ко второй книге своей «Истории философских систем»
(СПб., 1819) Галич сообщает «Склонясь на требование многих почтенных
читателей разного звания, я доставил в особом прибавлении по крайней мере
(найденным у Таннера) ключ к Шеллинговой системе в первоначальном ее виде» (IV).
Очерк развития русской философии
167
mus) и у Бутервека*. По возвращении из командировки Галич занял
кафедру философии в Педагогическом институте, а затем в
университете, где преподавание его продолжалось недолго, так как уже в
1821-м году Рунич изъял Галича из числа преподавателей
университета. Галичу остался доступен лишь литературный способ
распространения идей новой философии. Воспользоваться им в полной
мере при цензуре того времени было невозможно. Но, вероятно, к
этому присоединялось и то, что удар, постигший Галича, связывал
его свободу, и его литературная деятельность оказалась ниже тех
требований, которые к нему можно было предъявить. По сравнению с
собственной «Историей философии» он не двинулся вперед, а скорее
оказался отброшенным назад. И в «Истории философии» он только
компилятор, но все же в этой книге чувствуется жизнь, внутренний
интерес к излагаемому. Последующие его произведения вплоть до
«Картины человека» — сухие и безжизненные, формальные
конспекты, скомпилированные без интереса и без напряжения мысли.
«Опыт науки изящного». СПб., 1825. «Черты умозрительной
философии, выбранные из В-б-ра, Кл-на, Т-нура и др. и изданныя
И. С-ым.» СПб., 1829. «Логика, выбранная из Клейна». СПб., 1831.
«Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений,
извлеченная из немецкой библиотеки словесных наук». СПб., 1830. «Картина
человека, опыт наставительнаго чтения о предметах самопознания
для всех образованных людей». СПб., 1834.
Обо всех этих трудах Галича можно сказать то, что говорил
рецензент «Телескопа» (1831. Окт. № 20) об его «Логике». «Логика
Клейна, представленная на русском языке, в сокращенном извлечении,
известным нашим мыслителем г. Галичем, принадлежит к школе Шел-
линговой. Но г. Галич исключил из нее все, что ознаменовано
печатаю трансцендентального тождествословия. В ней остались одни
только голые понятия и положения, составляющие обыкновенный
* Никитенко в статье о Галиче пишет: «Неизвестно, кто был здесь (в Геттин-
гене) непосредственным руководителем Галича» (С. 10). Но в том же 1810 г.,
когда Галич переехал из Гельмштедта в Геттинген, Шульце был переведен
соответствующим же образом — не за ним ли и последовал Галич? Мейнерс умер
в этом же 1810 г., а Федер был уже в Ганновере. Следовательно, остаются все-
таки Шульце и Бутервек. Знакомство Галича с шеллингианством было, по всей
вероятности, исключительно литературным. К Шульце Галич отправился, по-
видимому, по указанию Лодия (см. ниже).
168
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
скарб логики, без всякой особой отметки и штемпеля; так что, кроме
некоторого изменения в плане и пополнения в подробностях, едва
можно приметить различие между ней и логикой Карпе или Яко-
би [?]. Следовательно, явление ее — не богатая находка нашей
философской литературы!» (С. 551-552). «Картина человека» составлена
лучше и местами написана не без пафоса, но считать ее трудом
оригинальным, как у нас до сих пор принято, можно только по
недоразумению. В основу книги положен Свабедиссен, причем первая треть
есть просто сокращенный перевод из него, с перестановкою
параграфов в двух-трех местах и со вставкою риторических орнаментов.
Затем идет более вольное изложение с привлечением других, в
предисловии названных авторов, и лишь в описании отдельных душевных
состояний Галич более самостоятелен и опирается не только на
немецкие книжки, но и на собственную житейскую наблюдательность.
Книга Свабедиссена, которую я имею в виду: «Suabedissen. Die
Grundzuge der Lehre von dem Menschen». Marb.; CasseL, 1829153.
Примеры риторических узоров на переводе из этой книги: «Вот те
Серафимы Жуковского, которых тьмы кипят в пылающей пустыне»
(это — об инфузориях!) (С. 53); «помазанника природы» вводит «Дух
планетный» (вместо «человека» у Свабедиссена) (С. 56); история
солнечной системы включается в историю мироздания, «в коем человек
теряется, как капля в океане» (С. 61); и т. п. Серьезное изложение
немца этим только портится, и, кажется, Галич сделал бы лучше, если бы
без претензий просто перевел Свабедиссена целиком, как то сделал
Сидонский с прекрасною книгою Шульце «Психическая
Антропология или опытное учение о жизни человека по духовной его стороне».
СПб., Вып. 1.1834. Вып. II (с некоторыми дополнениями переводчика),
1836. Я. Н. Колубовский (С. 535) сообщает, что Галич был «гораздо
умереннее» Велланского и что в своей «Картине человека» он «дал опыт
философской антропологии, стоящей на уровне науки того
времени». Еще бы, особенно если вычеркнуть самобытное красноречие...
Кстати отметить, что Велланский был первым рецензентом
Галича. Он признал его знания, любовь и способности к философии,
но жестоко порицал его манеру изложения: «Поэтический дух
свойствен философии по одинаковой сущности поэзии с философией:
но ежели сию представить в комическом виде, то она покажется
всякому смешною» (НикитенкоА В. «А. И. Галич...». С. 16). Академия Наук
в присуждении Демидовской премии Галичу за «Картину человека»
Очерк развития русской философии
169
(на основании рецензии комиссара университета проф. Фишера)
также отмечает его невыдержанный «слог» и «какой-то причудливый
тон», который «несовместен с целию и достоинством подобного
сочинения (См.: ЖМНП. 1836. Июль. С. 103).
Были ли какие-нибудь определенные философские воззрения у
самого Галича? По-видимому, с легкой руки Никитенко у нас
приписывают Галичу «самостоятельность» мысли, в частности по
отношению к Шеллингу, и в особенности сравнительно с Велланским.
Однако на чем же это основывается? Даже в «Истории философии»
Галич не решился сам излагать Шеллинга и изобразил его «по Тан-
неру». И далее, не в том ли его самостоятельность, что он
компилирует не Шеллинга, а шеллингианцев? Как отмечено, у русских
философов есть склонность следовать разным Клейнам, а великие их как
будто обжигают... Случай, что Галич прямо высказал свои взгляды —
его «Представление в Конференцию Педагогического Института
по поводу его экзамена» (1812 г.)*. Философия, говорит он, объем-
лет цельность познаваемых вещей вообще. В главе их стоит
существо отрешенное (абсолютное) и бесконечное; его две формы — дух
и натура. Философия, начинаясь абсолютным, сопровождает его
двойственное откровение в духе и природе и замыкается в
организующей своей методе, как дух и натура замыкаются в органическом
мире. Первый момент дает философию религии, второй —
философию духа (или идеальную, или трансцендентальную), третий —
философию естественную (физику), четвертый — орган наук,
математическую философию. «Отсюда происходит значительность
числа 4, ясно всеобщей схемы вещей». Так как жизнь вещей есть
история, то изложение философии историческое, не доказывающее,
а построяющее. Ее особенность — не доказательность, а
вразумительность, ее судья — устанавливающий безусловное разум, орудия
коего — идеи, опыт может оправдывать и поверять, но не решать.
Первая идея, дающая философию религии, и последняя, дающая
математическую философию, — просты и цельны, как и их предметы:
Бог и мир. Две средние идеи допускают обработку отвлеченную и
наглядную. Идеальная философия in concrete есть всемирная
история, естественная философия in concrete — естественная история.
Философия как такая представляет себе обыкновенно внутреннее,
* Приведено в «Приложении» к статье Никитенко.
170
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
но судьба внутреннего — стать в конце концов наружным.
Идеальная философия поэтому — с всемирной историей человечества, а
естественная философия — с историей естественной. Соединение
их и дает живое познание.
Все это очень интересно, и как жаль, что эти мысли остались без
развития. Но не потому ли, что они не были собственными мыслями
Галича? Тетрада — обща многим мыслителям, последователям
Шеллинга или самостоятельно близким ему, как позже она развивалась и
некоторыми гегельянцами. Но если я не ошибаюсь, схема Галича
ставит его в ближайшую зависимость от Вагнера (Johann Jacob Wagner).
К Вагнеру затем присоединились еще другие имена, среди которых
можно встретить и не строгих шеллингианцев и даже вовсе не
шеллингианцев (вроде Шульце, который, впрочем, может быть был еще
первее Вагнера, вроде еще Штиденрота, более близкого Гербарту, или
Гейнрота, но с уклоном весьма супранатуралистическим и т. п.)*.
Получается какой-то шеллингиастический эклектизм. При оценке его,
однако, не следует упускать из виду, что именно в ту пору не так зорко
присматривались к самоопределению по школе того или иного
направления. Участники философского движения того времени смотрели на
философию после Канта как на одну линию развития философии, и
каждый считал себя продолжателем этой линии, продолжением
одного общего начала. Поэтому и Галич был не неправ, когда смотрел на
все движение как на «новую философию» и хотел передать ее
читателю как последнее слово науки. Он просто не сумел этого сделать, как,
по-видимому, не мог быть самостоятельным «продолжателем». А если
он думал быть только педагогом и считал читателя еще не готовым
к восприятию более серьезного и самостоятельного
философствования, то ведь это и доказывает, что самостоятельным мыслителем он
не был. Велланский сердился и бранился, но от самостоятельности и
«продолжения» не отказывался. Как бы ни было, не мог, не умел, не
хотел, но требования, предъявленного временем, Галич не выполнил.
По изгнании Галича в университете оставался еще профессор
философии П. Д. Лодий, из прикарпатских славян, приглашенный
* А потому и скептическим! Пожалуй, наиболее яркое из его произведений
этого рода было переведено на русский язык в 1835 г.: «О Истине». Сочинение
И. X. А. Гейнрота. Напечатано иждивением князя А. Б. Голицына. Пер. с нем.
А. Накропин. СПб., 1835.
Очерк развития русской философии
171
в Педагогический институт при самом учреждении его (1803 г.).
В свое время Лодий составил инструкцию для Галича в его
командировке, направив его именно к Шульце. Судя по его отзыву о
Шульце, содержащемуся в названной инструкции, он ценил его высоко,
но сам, как можно судить по изданному им учебнику, оставался на
старой вольфианской точке зрения с некоторым лишь уклоном
симпатий в пользу эклектизма немецкой популярной философии. Он
ценил Шульце, по всей вероятности, за его тонкую критику Канта и
Рейнгольда и, должно быть, связывал в своем представлении Шульце
с эклектиками более тесною связью, чем то было на самом деле. См.
«Инструкцию» Лодия в «Истории Петербургского университета»
Григорьева (Прим. 21; С. 4-6 Примечаний) и «Логические наставления,
руководствующие к познанию и различению истинного от ложного.
В пользу студентов. СПб. Педагогического Института, сочиненные...
Петром Лодием». СПб. 1815 г. Григорьев совершенно не прав, когда
говорит об этой книге как о «свидетельствующей, что автору ее даже
Кантова философия была еще вовсе неизвестна» («История...». С. 11).
Книга Лодия свидетельствует об обратном. Канта он знал недурно
и не по изложениям, а из изучения собственных произведений его.
Так, явно под влиянием Канта формулированы у него вопросы
философии (Что может человек знать? Что должен делать? На что смеет
надеяться? Что есть человек? — вопросы из Логики Канта, изданной
Еше; есть у него и прямая ссылка на Еше. — С. 70) (С. 13), введение,
§ о суждениях аналитических и синтетических (С. 210); Канта Лодий
излагает, кроме того, на стр. 55-57,64,66-67,132-134 и
обстоятельно критикует на стр. 74-76, 151-153, 220-223, 265-267. Вообще у
него немало свежего материала (например, некоторые вопросы
теории познания, §§ 230-236), отчасти доставляемого той же критикою
Канта, и его учебник — неплохой. Другие наши оригинальные
логики — Рижского, Лубкина, Талызина — жалкие конспекты в сравнении
с учебником Лодия. Основной и непоправимый промах этого
учебника тот, что он запоздал. В прямую противоположность Григорьеву
Я. Колубовский («Философия у русских» Ибервег-Гейнце. «История
новой философии». Пер. с 7-го нем. изд. СПб., 1890) утверждает о
Лодий: «Автор кантианец, но в вопросах логики отличается
некоторою самостоятельностью» (С. 590).
Того требования — быть глашатаем новых идей, которое было
направлено к Галичу, Лодию нельзя было предъявлять. Точно так же
172
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ничего нельзя было ожидать и от непосредственно сменившего
Галича Я. В. Толмачева, из харьковских семинаристов,
преподававшего все, что угодно, переводчика Логики и Метафизики Баумейстера,
одной статейки Мендельсона, а затем учебника логики Кизеветтера,
и в философском образовании и кругозоре едва ли шедшего дальше
переведенных им учебников. Толмачев оставался на кафедре четыре
года, а затем был сменен себе под стать Н. Ф. Рождественским
(автором «Руководства к логике») и М. А. Пальминым*, имевшим то
преимущество перед своими коллегами, что он предварительно прошел
в Казани школу Магницкого и cum laude154 выдержал в ней
испытание. Баумейстер, Карпе, и в лучшем случае Теннеман удовлетворяли
философскую любознательность петербургских студентов.
В 1832 году в министерство народного просвещения в качестве
товарища министра возвратился С. С. Уваров. К Петербургскому
университету была применена «система очищения». Пальмин был
устранен, Толмачев «подал в отставку». Рождественский стал преподавать
гражданское право по «Своду законов»**. К преподаванию философии
в университет был приглашен А А Фишер, учившийся в иезуитском
лицее и в Венском университете, прибывший в Россию в качестве гу-
вержра (в 20-х годах) и преподававший философию в Главном
педагогическом институте с года его возобновления (1828). Фишер не
оказался неблагодарным по отношению к Уварову, но предал
философию, взвалив на нее неподобающее ее достоинству бремя
апологетики правительственных видов и идеалов. Первоначально Фишер
понял свои профессорские обязанности узко педагогически и повел
в университете занятия гимназического подготовительного типа. Но
затем идея его призвания стала ему рисоваться в плане более
широкого и направляющего воздействия на все наше образование в
духе господствовавшей официальной идеологии. То, что и как про-
* Никитенко в «Дневнике» (Т. I. СПб., 1905. С. 137, 139) сообщает, что
Пальмин в практической философии держался основных положений Канта. Я не
располагаю данными для проверки того, насколько такое суждение студента
Никитенко основательно. Он же сообщает, что Пальмин «практическое
предпочитает теоретическому и рассудок уму». Это, во всяком случае, удачный
каламбур для характеристики кантианства Пальмина.
** Никитенко. «Дневник...». Т. I. С. 222. Здесь же сообщается, что Уваров хотел
вернуть в университет Галича, хотя и не на кафедру философии, а на кафедру
словесности.
Очерк развития русской философии
173
поведывал Фишер, сколько можно судить по его литературной
деятельности, изобличает в нем человека умного и, по-видимому,
достаточно образованного — в отличие от Пальмина и казанских коллег
последнего, в угоду Магницкому иллюстрировавших
математические понятия «подобиями священных истин, христианскою верою
возвещаемых»*. Но тем хуже было для философии в России. В конце
концов, однако, и сам Фишер не сумел отстоять своей «философии»,
когда Ширинский-Шихматов выгнал из университета всех
философов. Но были обстоятельства, которых не учел ни Уваров, ни тем
более Фишер. Оба они запоздали. И на деле вышло, что Фишер для
того только гимназически подготовлял своих слушателей, чтобы
вовсе лишиться учеников, когда они стали зрелее и подготовленное**.
Фишер выразил в печати лишь самые общие свои мысли и не
столько по философии, сколько о философии. Он взялся защищать
философию, и, угадывая дух тех, кому он служил, он стал доказывать
ее «пользу». Он спасал бытие философии в России жертвою ее
самостоятельности. Его философия, согласная с «видами правительства»,
предавала философию вообще, дискредитируя последнюю даже в
глазах власти, которая получила теперь право смотреть на
философию, как на раба, по обстоятельствам то льстивого и
заискивающего, то дерзкого и заносчивого, но всегда лживого. Фишер чутьем
слуги уловил тот дух, который был угоден господину, и как будто сразу
вошел в тон речей, которыми говорила у нас отнюдь не независимая
духовно-академическая философия***. В самых общих рассуждениях
о философии он на первый план выдвигал специальный вопрос об
отношении философии к вере, как если бы решением этого вопроса
* К примеру. «Как числа без единицы быть не может, так и вселенная, яко
множество, без Единого владыки существовать не может. Начальная аксиома в
математике: всякая величина равна самой себе; главный пункт веры состоит в
том: Единый в первоначальном слове своего всемогущества равен самому себе.
...Пшотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и
мира, правосудия и любви, через ходатая Бога и человеков соединившего
горнее с дольним, небесное с земным» (из речи проф. Никольского. См.:
Сухомлинов М. И. «История...». С. 225). Такого набора звуков у Фишера нельзя найти.
** «После 1836 года, — констатирует историк университета, —
преподавание его [Фишера] далеко не пользовалось в Университете тою популярностью,
как до этого времени» (Григорьев В. В. «История...». С. 136).
*** С 1843 г. до 1853 г. он сам, бывший воспитанник иезуитского лицея,
преподавал в Духовной академии.
174
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
определялось решение всех философских проблем, в
действительности же он этим только вторил основному официальному тону
времени.
Фишеру принадлежат статьи: «О ходе образования в России и
об участии, какое должна принять в нем философия». Пер. с франц.
Речь (в торжественном заседании СПб. Университета 1834 г.) ЖМНП.
1835. Янв.; «О новейшем Естественном Праве». Там же. 1836. Янв.
(Предварительный исторический обзор; ст. не окончена);
«Введение в опытную психологию». Там же. 1839- Март; «Взгляд на
психологическую теорию чувственного восприятия». Там же. 1840. Июль;
«Вступительная лекция теоретической философии». Там же. 1845.
Янв.; «О сущности философии и отношении ее к положительному
авторитету». Там же. 1845. Июль.
В согласии со своим временем Фишер понимал философию как
разум в развитии и восхождении к самосознанию. Но он — теист и
психологист, а потому в отличие от пантеистического (гегелевского)
рационализма, самопознаюший разум у него есть его собственный
разум, а Разум, озаряющий нас лучом божественного света, есть
безусловное существо, перед которым человек повергается ниц.
Философия же — это смелый и величественный полет, «посредством
которого разум, на крыльях священного восторга, парит над
преходящим миром и востекает в область Веры, к Существу неизменяемому
и вечному — источнику всякой жизни». Всякому ясно, что при столь
возвышенном понимании философии серьезной надобности в ней
нет — религия и вероучение для таких целей «полезнее». Обычной
в таких случаях аргументацией Фишер тем не менее отстаивает
философию: естественный свет разума дает нам ясное сознание идеи
Творца и отчет в самой вере, из чего все-таки получается опасный
вывод, что Откровение сверхъестественное для самой веры
недостаточно ясно и отчетливо. Но такова воля Бога: Он «ведет нас к
нашему назначению частою естественными, частою же
сверхъестественными средствами». Это — по существу, а формально философия
как система метафизики тем отличается от религии, что она есть
основание, средоточие и завершение «особного» знания
специальных наук, она — высшее единство, субъективно («предлежательно»)
соединяющее отдельные части в одно целое. Со своей стороны, это
единство, удовлетворяющее врожденной нам любознательности,
которая влечет к полной и высшей истине, доказывая нашу духовность
Очерк развития русской философии
175
и возвышенность, возвещает человеку о высоком назначении его
существа, находящего покой лишь в вечном и бесконечном — в
Высочайшем благе. Конечная цель философии — раскрыть «обильное
содержание нравственнаго сознания» и довести до ясности
«твердые и точные начала человеческой деятельности». «Здравая
философия», чтобы оправдать свое самоопределение, не должна, однако,
ограничиваться естественными и сверхъестественными средствами,
а должна опереться еще на третий столп, по деликатной
терминологии автора, «положительного авторитета». Он также дарован от Бога,
ибо «отдаленнейшая и основная причина авторитета есть воля
Творца», сила авторитета — «невидимый духовный узел, которым
премудрое и всеблагое Провидение связало нас между собою». «Посему-
то философия обращается ко всем тем, которые по их рождению,
блистательному положению в обществе призваны или сами служить
опорою, правилом и путеводною звездою — одним словом,
авторитетом для народа...» и т. д.
Фишер тратил время на пошлость и пустяки, а между тем, как
доказывает его серьезная, не потерявшая актуального интереса и
для нас статья о чувственном восприятии, он был человеком
философски образованным и проницательным. В пору повальной
идеалистической эпидемии и психологизма Фишер, будучи сам
психологистом — психология, по его мнению, «исходный пункт и
основание» — имел чуткое философское ухо, чтобы расслышать
действительно здравый голос шотландской философии и вслед за
Ридом (отчасти и за Шульце, а может быть, также и за «реализмом»
Якоби) решать проблему реальности восприятия внешнего мира не
в идеалистическом смысле*. Рассказав в кратком и содержательном
очерке историю вопроса и показав, что идеалистическое решение
его покоится не на наблюдении, а на выводах, Фишер апеллирует
к непосредственному сознанию, которое не дает никаких указаний
на наличность в нем идей, «посредствующих» между
воспринимаемой вещью и «душою». Вообще анализ нам открывает в процессе
восприятия лишь три вещи: нечто внешнее, воспринимаемое; себя,
воспринимающего; действие или процесс между мною и предметом
* Никитенко (I. С. 395) упоминает, что при уничтожении философии в
университетах было предположение в основу сохранившихся логики и
психологии принять шотландскую школу. Возможно, что это было влияние Фишера.
176
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
восприятия. Никаких посредствующих представлений нет, и
обычная ошибка возникает оттого, что не различают два смысла слова
представление, которое означает «не только деятельность представ-
лятельную, но и то, что она представляет (представляемый
предмет)». Положение, что мы имеем «в нас» представление, когда видим,
слышим и проч., «справедливо, когда им хотят сказать, что в нас
находится духовная деятельность, называемая восприятием или более
общим именем представления; напротив, оно ложно, но, если под
словом представление будем разуметь представляемый
(воспринимаемый) Предмет, ибо он всегда находится вне нашего сознания».
Раскрыв, далее, противоречия, в какие впадает одинаково и
идеалистическая и материалистическая теория восприятия, как вхождение
«видов» («идей») «в нас» и считая нелепою самое проблему
восприятия внешнего мира, возникшую только из того, что в самом деле
трудно объяснить, «какое имеем мы право воспринятое нами
только внутрь нас перемещать во внешний мир», Фишер, отвергая также
теорию своего базельского однофамильца* о «выхождении души» к
внешним предметам, развивает далее собственный взгляд. Этот
последний сводится к следующему: посредством жизненной
органической деятельности, главным образом нервов, дух наш находится в
постоянной связи с телом, которая выражается жизненным или
общим чувством, благодаря чему мы чувствуем тело своим и усвояем
себе все его жизненные состояния. Перемены, вызываемые в нервах
действием внешних предметов, — жизненные движения —
видоизменяют общее чувство, т. е. вызывают чувство жизненного
состояния, которое мы называем ощущением и о котором ничего не
могли бы сказать кроме того, что оно раздражает душу приятно или
неприятно, если бы с ним не связывалось непосредственное
восприятие чего-то внешнего, данного нам в связи с ощущением и
независимо от нашего произвола. Ощущение, таким образом,
является естественным и необходимым признаком действующего на нас
предмета, но столь же мало сходным с последним, как мало сходно
слово с обозначаемым им предметом. Восприятие в целом не есть
* Фридрих Фишер, автор «Naturlere der Seele». 1834-1835. Представителем
этого Фишера был у нас О. Новицкий, составивший по названному сочинению
свое «Руководство к опытной психологии». Киев, 1840. В XVIII в. подобного же
взгляда придерживался позабытый ныне, но за одно остроумие свое уже не
заслуживающий забвения Лорд Манбодцо (Monboddo, Джемс Бернет, 1714-1799).
Очерк развития русской философии
177
ни чисто пассивное, ни чисто самодеятельное состояние, а есть
совокупное произведение, вызываемое предметом или производимым
им раздражением нервов и самодеятельной способности души.
В общем, принимая во внимание только философские
тенденции Фишера, можно повторить, что он не был продолжателем ни
Велланского, ни Галича. Как Галич от проблем Велланского был
отвлечен новыми интересами немецкой философии, так и Фишер шел
за последним словом этой же философии. В Германии все громче
раздавался голос спекулятивного теизма, возмущенного пантеизмом
Шеллинга и Гегеля. В его мягкие объятия охотно отдавались и те,
кто не имел поэтического дара следовать полету идеалистической
философии, и те, кто не имел философского дара и отваги
испытать в пламени гегелевской диалектики самородок здравого своего
смысла. Те, кто ничего не испытали и не разочаровались в
философии только потому, что поверили в философскую веру других,
искали в теизме ближайшего пути, которым можно было вернуться к
спокойным и прочным местам на церковных, хорошо с детства
знакомых, дедушками и бабушками просиженных, скамьях. Якоби мог
бы торжествовать, хотя, может быть, и протестовать, Баадер искал
обращения, сам Шеллинг шелестел листами Библии, духовенство
звонило в колокола, Геррес, Понтер, Даумер, с одной стороны, такие,
как Вейсе, Фихте jun., Ульрици, с другой, кто безумствуя и беснуясь,
кто благочестиво, а кто и с спокойным сознанием правоты, шли
навстречу церковному звону. Лишь Гешели оставались оглашенными
за упорное нежелание отречься от имени учителя, ставшего теперь
лжеучителем. Для многих философское благомыслие сочеталось не
только с благочестием, но и с нравственно-политическою
благонадежностью. Скоро, однако, торжественное настроение благовеста
нарушится — раздастся откуда-то «слева» шиканье и свист, смысл
которых будет разгадан, впрочем, не сразу.
По линейкам
МП
У нас, на наших низинах официального невежества, не было
никакого торжества, потому что не было никакой победы, как не было
и борьбы. Потихоньку, вяло, лениво, с полусонья сделали мы в этом
новом направлении свои первые шаги. И опять не самых ярких, све-
178
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
жих и сильных искали в руководителе, а более покладистых. Сами
же больше всего заботились о благонадежности и спасении от
грехов. Конечно, глаз сверху зорко следил и умел вовремя остановить
зарвавшихся, но почему все-таки за совершенно случайными
исключениями искреннего пафоса в подчинении знания вере в нашей
официозной философии, поставившей перед собою эту проблему,
не видно сколько-нибудь увлекательного и живого внутреннего
напряжения? Правда, во второй уже четверти века в наших
философских настроениях произошла перемена, раскрывшая и у нас живой
философский дух, но это произошло под влиянием иных интересов
и хотя по поводу проповеди некоторых официальных
представителей философии, но из побуждений, лежавших вне сферы
официального просвещения, и, главное, произошла перемена, вынесенная
на вольный свет людьми, отвергаемыми этим просвещением и его
отвергавшими. Тут только стали выдвигаться у нас свои проблемы,
важнейшая среди них: определение русской задачи в философии.
Мы еще ничему не научились, первые шаги были неудачны внешне
и бездарны внутренне, но задать вопрос можно и без особых знаний
и можно быть уверенным при этом, что он задается правильно и что
есть силы его решить.
Нельзя отрицать, однако, что некоторые, хотя и неловкие,
попытки нащупать свою «национальную» проблему были делаемы и
официальною философией. Во всяком случае, от слепого подражания она
пробовала перейти к некоторой относительной самостоятельности, от
наведения прописей — к каракулям по разлинованной бумаге. Нельзя
отрицать, что первые шаги были сделаны официальной философией.
Это были колеблющиеся шаги рахитика, неуверенного в себе и
неуверенного, что ему позволяется ступить именно так, а не иначе. Он
ступал, не зная, куда ставить ногу, и робко читал позволение в
подозрительном взоре опекающего ока. Тем не менее пробы делались. И когда
новое немецкое изобретение пришло на подмогу, трудно было уже
сказать, только решалась у нас — в угоду начальству — проблема веры
и знания или она так же ставилась нами как наша проблема.
Пример Фишера прошел уже перед нами, хотя он не вызывает
только что формулированного сомнения. Теперь нам предстоит
обратиться к примерам, не всегда отличающимся такою же
бесспорностью. В общем движении нашей философской мысли названному
вопросу суждено было занять лишь подчиненное место, поскольку
Очерк развития русской философии
179
он как частный вопрос о православной вере и европейском знании
вошел в состав проблемы для нас более значительной и в то же
время специфической. Но в одном из течений нашей философии он
естественно занял доминирующее место: в философии
православных духовных академий. Как трудно было бы решать этот вопрос и
умам более сильным, чем дала тут наша история, можно видеть из
того, что в указанной частной форме на первых порах он все же
не был поставлен. Кто осмелился бы сопоставить, иначе как в виде
риторической фигуры с предрешенным ответом, православие и
знание? В лучшем случае в виде как бы испытания ставился только
бесцветно-отвлеченный вопрос о вере вообще и о знании вообще.
Априорно ясно, что в такой постановке и не могло быть
национальной философской проблемы. Ставить иначе вопрос на тех же
первых порах' нельзя было и по другим причинам. Даже там, где
пробуждалась самостоятельная мысль, материал для работы был
доставлен из-за границы не-православной, инославной. Как и что пустить
из этого материала в работу, когда еще надежность его не
установлена? Через какой фильтр нужно было его пропустить, чтобы
обезвредить от заразы католической и протестантской? Даже в пределах
самой общей постановки вопроса трудно было философии
двигаться в духовной академии. Помимо прочих затруднений, она должна
была встать в очередь за догматикой, так что вплоть до наших дней
нельзя точно сказать, где ее чистый православный путь, и не один
представитель ее может подвергнуться «подозрению» в католицизме
или протестантизме.
В целом, однако, наступившая впоследствии замена общего
вопроса о религии частным вопросом о православии, т. е. об
официальной религии, все же придала своеобразную окраску опытам
решения его. Иногда под давлением официальности, а иногда и bona
fide155 решения этого вопроса сопровождаются, так сказать,
априорным скептицизмом по адресу науки, знания и разума. Зато,
конечно, и вырывавшаяся из официальной рутины мысль знаменуется в
решении этого вопроса таким бесшабашным отрицанием другого
члена сопоставления, что в своей беспримерности оно справедливо
заслужила титул нашего отличительного национального нигилизма.
В связи с этим, а частью опять из нежелания подвергать себя
официальной цензуре, этот вопрос серьезно и искренне философски
почти не решали. Сама его постановка, предметно-онтологическая
180
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
или гносеологическая, тщательно обходилась и заменялась либо
безыдейным «историческим исследованием», в котором найти
философское убеждение авторов (духовных) было так же трудно, как на
папоротнике цветок, либо психологическими и
«антропологическими» объяснениями, гипотетичность которых не только усугубляла
уже существовавший скептицизм по отношению к знанию, но еще
простирала его на самое веру В последнем случае столь
характерный и столь лишь для нас понятный семинарский скептицизм
официальных представителей «духовной» философии прямо переходил
в нигилизм семинарских изгнанников и отщепенцев. В результате
наши духовные академии почти не давали философских трудов, а
те немногие, какие все-таки были даны до последнего времени,
безжизненны, вялы, бессмысленны; их излюбленными темами остались
темы исторические и психологические, в философии же —
формальный скептицизм, пустота содержания и, как раб, ленивая мысль.
Лишь в ближайшее к нам время самое «антропологию» попробовали
сделать проблемою, но и то инициатива в этом исходила не от
философов специфически «духовного» образования. Бесплодность нашей
духовно-академической мысли такова, что ее собственные проблемы
интереснее и глубже — может быть, потому, что свободнее —
ставятся и даровитее решаются носителями «светского» образования.
Такова эта философия в целом, но по началу, о котором нам пока
придется говорить, всех этих результатов еще нельзя было
предвидеть. Однако указанное колебание мнения, скептицизм и
уклонение от предметной постановки вопросов к психологической и
исторически-эклектической заметны уже на первых ее
самостоятельных пробах. Духовно-академический преподаватель или
писатель был скептиком в философии по предписанию. Историк
Петербургской духовной академии дает следующую общую
характеристику преподавания истории философии в академиях: «С переменами
систем и руководств не изменяются направление и главная цель,
которым подчинено преподавание философии в духовно-учебных
заведениях. Цель эта состоит в дознании слабости и бессилия
человеческого разума — открыть истину собственными
средствами, без высшего света Откровения»*. Преподавание философии
* Чистович И. «История СПб. Духовной Академии». 1857. С. 294-295. Ср.
также цитату из проекта устава, ниже. С. 419.
Очерк развития русской философии
181
выполнялось, следовательно, по заранее определенному заданию,
и оно необходимо становилось, как сказано, априорно
скептическим. Его скептические колебания вызывались силою тяготения
нефилософского центра тяжести, вокруг которого оно вращалось.
Реальные движения его были еще сложнее, потому что оно колебалось
и около собственной оси. Подвергая сомнению всю философию
в целом и всякое самостоятельное достижение разума, духовно-
академическое преподавание должно было вместе с тем выгородить
и представить в несомненном философском свете такое учение,
которое, по убеждению интерпретатора, было бы «согласно с
истинным разумом Св. Писания». Наконец, к характеристике уже первых
шагов духовно-академической философии следует прибавить черту,
еще раз подчеркивающую ее неустойчиво-трудное положение.
Проникнутая принципиальным скептицизмом по отношению к разуму
и знанию, она обстоятельствами времени вынуждена была
отстаивать «достоинство» и «пользу» философии как особого типа знания.
Так, во времена Голицына, Магницкого и проч. — это, между прочим,
показывает «дело» Шада — как дерзость безверия каралась самая
постановка вопроса о соотношении религии и науки и как покушение
на высочайшие привилегии утверждение хотя бы тени прав за
разумом. Потом, при Уварове, для Уварова приходилось защищать
пользу философии и отстаивать хотя бы ограниченные права разума, а
во времена «нашествия Пратасова» для Пратасова извлекать пользу
из философии с неограниченным, бесправием разума.
Государственное преступление становилось государственною мудростью,
государственная мудрость определяла «духовное» поведение, «духовное»
поведение переходило в духовное преступление.
Одним из первых, кто попробовал свернуть с вольфианского пути
духовно-академической философии и кто понял вместе с тем по
содержанию задачу свою преимущественно как задачу об отношении
веры и знания, был профессор Петербургской духовной академии
Ф. Ф. Сидонский (1805-1873). Его книга «Введение в науку философии»
(1833) не целиком находилась под влиянием официальных необходи-
мостей, а относительно самостоятельна в выборе мнений*, но про-
* За что автору пришлось заплатить кафедрою и послужить
предостережением для других. Об удалении Сидонского из академии в литературе иногда
повторяются непроверенные анекдоты (Проф. Введенский А И. «О философии
182
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
чие из вышеназванных качеств духовно-академической философии
в этой книге проявляются. Книга Сидонского выгодно отличается от
книг Галича серьезностью тона и самостоятельною продуманностью
и проработанностью содержания*. Это — не простая компиляция и
положительно лучшая книга по философии из появившихся в
России до 1833 года**. Не отличаясь самобытною оригинальностью, она
примыкает в целом к некоторым из тенденций современной
немецкой философии.
Э. Радлов («Очерк истории русской философии». СПб., 1920)156
утверждает, что Сидонский «усвоил себе идеи английского
эмпиризма» (С. 13), к сожалению, не указывая источника и основания
своего суждения. Между тем это утверждение неясно. Разуметь ли здесь
«идеи» Юма? — Сомнительно. Бэкона и Локка? — также
сомнительно, но если бы это обнаружилось, я склонен был бы видеть здесь не
непосредственную зависимость, а лишь косвенную: через
посредство Вольфа и немецкого эклектизма. Я. Колубовскому «многие
рассуждения Сидонскаго напоминают Милля» (С. 538) — к сожалению,
не сказано, «напоминают» по контрасту, по смежности или по какой-
либо просто капризной ассоциации... И. В. в статье «Ф. Ф. Сидонский
и его философские взгляды» («Вера и Разум». 1906. № 7 Апр. Кн. 1)
повторяет Колубовского: ему также (метатетический) метод
Сидонского «напоминает Милля с его учением об индукции, дедукции и
проверке как трех членах процесса познания» (С. 254-255). Но
насколько названный псевдоним философски авторитетен, выдает
такое его суждение о русской философии начала XIX в.: положение,
говорит он, что «у нас царил Шеллинг, должно быть принимаемо, по
нашему убеждению, с большою осторожностью. Если находились
в России: Философские очерки». СПб., 1901. С. 13, по-видимому, просто
смешал две фамилии в источнике, которым он, надо предполагать, пользовался).
Суть анекдота Сидонского изложена у: КотовичМ. «Духовная цензура в России
(1799-1855 гг.)». СПб, 1909- С 580-582.
* Сам Сидонский, видимо, умел оценить Галича. По крайней мере, в одном
письме к Погодину он замечает по поводу своей работы над переводом Шуль-
цевой Антропологии: «Кажется, "Картина человека", выданная Галичем, не
сделает ее лишнею» {Барсуковы. П. «Жизнь и труды...». Вып. IV. С. 243).
** Совершенно заслуженно она получила полную Демидовскую премию на
том же присуждении, где «Картина человека» была удостоена лишь половинной
премии. Отзыв Академии Наук и в этом случае основан на рецензии Фишера и
отличается большою правильностью суждения.
Очерк развития русской философии
183
отдельные лица, как Велланский или Окен [не в добрый час!..],
знакомые с Шеллингом и увлекавшиеся им, то это еще не значит, что
указанная философия "царила" на Руси...» (С. 237).
Повод ко всем этим «напоминаниям» могла дать претензия
самого Сидонского, выраженная, однако, не в его «Введении», а в
следующем замечании в его рецензии (ЖМНП. 1867. Июнь) на сочинение
1}юицкого «Немецкая психология»: «Давно уже я высказал, —
вспоминает Сидонский, — свой взгляд на прием — путь догадок, к
какому необходимо прибегать в области философии, чтобы
подвинуться в расширении человеческого знания; давно уже известно, что не
анализис один и не синтезис один округляет и завершает наши
знания, а должны оба преемственно и совместно подвигать нашу мысль
в разрешении задач ее. Если бы свежий мыслитель с дарованиями
Милля подверг эту мысль разработке подобно той, какой подверг
Милль индукцию, для уяснения метода философского, думается,
сделан был бы шаг не незначительный» (С. 940).
Мне думается, что отзыв Фишера (и Академии наук) ближе к
истине, чем сопоставления Сидонского с Миллем: «Автор
действительно обладает философским даром и, при самостоятельном впрочем
воззрении на свою науку, придерживается преимущественно
немецкой школы, коротко ему знакомой» (ЖМНП 1835. VI. Июнь. С. 86).
Попытку обратить внимание на английскую эмпирическую
философию мы встречаем в рассматриваемый период в анонимной
книжечке, вышедшей, по-видимому, также из «духовных» сфер, —
«Введение к познанию философии». Ч. I. СПб., 1848. Книжечка
написана языком странным — в ней едва ли больше страниц, чем
периодов. Автор скорбит, что философия до сих пор не доведена до
степени, в которой ее можно было бы назвать наукою в полном смысле
этого слова. Философия, по его мнению, есть наука «всевозможных
умственных способностей, замечаемых и действующих в мире и
постигаемых человеческим рассудком», она обнимает все «умственныя
способности», от первых суждений по впечатлениям внешних
предметов и до самых превыспренных соображений о бессмертии, о
Вышнем Существе и т. д. Локк ближе всех «коснулся истинной цели,
ведущей к изложению истинной науки о Философии». Он первый
и единственный подошел к этому начинанию, и в его «Опыте» есть
суждения и правила, которые «неминуемо должны взойти в состав
науки о Философии». Согласно с этим «главнейшее дело» изложе-
184
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ния науки о Философии автор видит в определении того, «что такое
наше знание, в чем оно состоит, откуда происходит, как далеко
может распространиться или где его начало и пределы и к чему оно
нас ведет». Любопытно, что при этом о Канте автор сообщает
следующее: «Канта я сам не имел случая читать; выхваляют в немецкой
Энциклопедии его какие-то категории, какую-то критику ума, но из
всего об нем писанного как-то и охоты не рождается приняться за
чтение оригинала, который выхваляли германцы, начинают
изъяснять французы, едва в библиотеках своих имеют англичане, и
многие из тех, которые пытались узнать так называемую германскую
новейшую философию, сознаются, что мало что могли понять в ея
чисто мистических и ужасно многословных умствованиях» (С. 44).
В то же время автор полагает, что Россия, слишком недавно
начавшая заниматься философией, прежде чем приняться за
философствование в истинном смысле этого глагола, должна «узнать все, что
прежде было сказано о философии», пройти все, что могло
проникнуть до нее, «как в подлинниках, так и в переводах более или менее
точных». Он полагает также, что не может быть философии
германской, английской, французской, ибо наука — одна и не
раздробляется «по прихотям и умствованиям разнородных племен», она —
«принадлежность всех людей вообще и человеческого разума в
особенности». Думал ли он, что и его способ «узнать все, что прежде было
сказано о философии», есть «принадлежность всех людей вообще»
и не носит национального характера? Но тогда — где же он сам
получил свое философское образование?
Сидонский самостоятелен скорее формально, чем в содержании.
Он самостоятелен в плане книги, в подборе и расположении
аргументов, пожалуй, еще в освещении изложения, скомпонованного в
общем все же эклектически*. Есть у него и Шульце, и
трансцендентализм, и уклон к «чувству», и теизм, критицизм и антропологизм. Это
есть вообще то mixtum compositum157, представители которого
двигались на заднем плане немецкой философской сцены, в то время
как на авансцене герои всем известные произносили свои потрясав-
* Владиславлев (Протоиерей Ф. Ф. Сидонский. ЖМНП. 1874. Янв.) имел
основание сказать о «Введении» Сидонского: «Это не есть изложение
философии, а только введение в нее. Никакой системы или определенного учения в
ней не излагается, но дается указание на разные пути человеческого мышления
и возможные направления при разработке философских взглядов» (С 51).
Очерк развития русской философии
185
шие слушателей тирады. Теперь, когда мы глубже и с большим
пониманием заглядываем в историю той эпохи, мы убеждаемся, что
эти второстепенные personae dramatis158 говорили немало
интересного и остроумного, что заслуживает с нашей стороны самого
серьезного внимания. Два имени в особенности могут возбудить
наш интерес, и для обоих характерно поглощающее совмещение
разнородных тенденций, сказавшееся в той горячке мысли,
которая охватила Германию с конца XVIII в. Это имена Фриса и
Христиана Вейса. Сидонский не детализирует своих мыслей — может
быть, для нас тогда это было слишком рано, может быть, только
«введение» и требовалось, — он все время движется в колесе
совершенно общих соображений, но именно на их почве его, пожалуй,
лучше всего было бы сопоставлять с Фрисом и Вейсом и по духу, и
в особенности по его философской психологии. Но для того,
чтобы найти ему немецкий прототип и по качеству, надо спуститься
ступенькой, двумя ниже — к Эрнсту Рейнгольду, Г. Риттеру, Кругу и
даже Ансильону.
Уже в самом определении философии Сидонский старается
примирить историческое разнообразие поставленных философиею
задач. Его определение соединяет поэтому три основные проблемы
философии: бытие действительности, образование наших познаний
и законы нашей деятельности. Объединение проблем совершается
как будто в тоне, заданном Кантом: философия есть «учебное
решение вопроса о жизни вселенной, выведенное из строгого
рассмотрения природы нашего ума и приведенное до определения законов, по
каким должна направляться наша человеческая деятельность». В то
же время главной задачей философии остается «объяснение
природы как известной совокупности явлений» из действующих в ней сил
и из жизни в ней разлитой, и «уразумение жизни мира составляет
основной вопрос любомудрия». Это не мешает далее Сидонскому
характеризовать философию как «высшее развитие мысли» и даже
«как саморазумение духа человеческого», что ставит ее «выше всего
[и] предметного и своеличного. В этих и подобных (С. 228, 354, 355),
вовсе не тожественных, подсказанных немецкою философией,
определениях Сидонский думает, может быть, по примеру Ансильо-
на, примирить крайние направления для «пути средняго и верного»,
для «золотой середины», которая будто бы создает особого рода
«здравую философию» (С. 185,198,216, 233, 383).
186
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
В отличие от всякого другого знания характерными чертами
философии для Сидонского служат ее трансцендентальность
(«выспренность») и «самостоятельность* (автономность).
Самостоятельность предполагает независимость от авторитета, а транс-
цендентальность, выспренность, «отрешенность от предметного»
(NB), приводит к тому, что философия образует себе такое понятие
об «образе бытия всего сущего», которое не довольствуется тем, что
«дает видеть опыт», а проникает во «внутреннюю жизнь всего быт-
ного» и открывает «те представления, которые разрешают
загадку всякаго бытия или разливают свет на природу и законы наших
познаний и действий». Названные характерные черты покоятся на
принципах, которые устанавливаются у Сидонского без всякого
доказательства, вроде как бы постулатов или общих предпосылок
возможности философского знания. Успехи выспренности, по его
мнению, зависят от того, что «законы ума настроены согласно с
законами природы», а основание независимости состоит в
уверенности, что ум индивида настроен согласно с умом всего человечества.
По первой предпосылке мысль, следуя собственному развитию,
«может дойти до того же, что изложилось в опыте»: по второй, мысль
каждого образованного сама может дойти до того, что признается
за верное другими. Как в первом случае перевес мысли не может
уничтожить действия природы, так во втором «перевес
собственной производительности» не только не уничтожает доверия, а даже
предполагает его (С. 248). Названными качествами отличается
философия и от обычного здравого или общего смысла, и от узкого
рассудочного мышления, потому что органом философского познания
служит разум, необоримо стремящийся к выспренности и
требующий самостоятельности. Но в сущности все это — ступени одного
человеческого разумения. Мы начинаем с неясного и тайного
чувства истины, присущего всякому здравому смыслу, но лишенного
отчетливого сознания того, почему данный образ действий и
мыслей верен. Внесение нужной отчетливости — дело рассудка. Сперва
это — игра и порывы, а с течением времени наступает остепенение
рассудка, его строгое углубление в себя, и возникает доверие к его
всемогущим силам. Деятельность рассудка сводится к тому, что он
разлагает понятия, сопоставляет и находит между ними разницы и
сходства; он все это взвешивает, подводит предметы под род, но «он
всегда помнит, что при всем их сходстве разность между ними суще-
Очерк развития русской философии
187
ственная. Самую связь между предметами он готов отнести к
произведениям собственным». В то время как чувство живет конкретным,
«рассудок все дробит; ему нелегко перейти от самого есть к нет, от
действия к причине: ибо понятия сии суть понятия соподчиненные».
Поэтому философия, пока она не освободится от «обольстительной
основательности действий рассудка, не может подняться до мысли,
что есть истина, не зависящая от подчинения одной мысли под
другую».
Рассудок должен работать под надзором «разумного инстинкта».
Силою одного рассудка нельзя завершить знания: «Понятие
сущего объемлет только всю область мыслимого: но не сближает нас с
Богом». Чувство жаждет высшего, единения с ним, и тут человек, не
доверяя уже рассудку, отдается «влечению разумного инстинкта».
Рассудок перестает теперь быть властелином, сам покоряется «и
начинает работу развития и усиления владычества чувства — человек
вступает на степень разумности! Приведение всего к стройному
единству, покорение высокой цели есть дело разума» (С. 294-300;
ср.: 233, 244, 285).
В разуме философия имеет свой орган и свою опору. Природа
не может быть источником философских определений, потому что
«она дает материю мыслям, но не образует, не источает их». Мысли
составляются собственными силами нашего духа. Поэтому и опору
философии нужно искать в самом человеке, к которому естественно
обращаемся от природы. В нем такою опорою могут быть или
внутреннее чувство, или высшее озарение, или сам разум. Сидонский
высказывается в пользу разума: «Высшее умственное самосознание,
на котором утверждается философская выспренность и
самостоятельность, ниоткуда больше не развивается как из нашего разума в
его таинственном единении с сущим и Первосущим взятого».
Переходя от представлений, соответствующих чувственным предметам,
к общим понятиям, соответствующим многим предметам, лишь в
идеях разума постигают таинственный образ бытия и
происхождения предметов (С. 332-333; 336-337). Это «высшее самодейственное
сознание идей», поднимающее нас от мышления отвлеченного к
«мышлению проразумевательному», называется обыкновенно
созерцательным. Обращение от отвлеченного мышления к опытному не
достигло бы цели, так как в последнем есть только «принятие в себя
впечатлений внешних». Лишь разумное, свободное действие мыш-
188
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ления «разоблачает представления чувственные, обнажает
сокровенную в них жизнь природы и сим входит в соучастие мысли
Божественной, держащей и созерцающей сию жизнь в немерцающем
свете». Философия, будучи плодом развивающегося разума, имеет
конечною целью воплотить его в системе мыслей. Разум сам по себе
есть нечто идеальное, не вполне осуществившееся, а его плод —
созерцательные мысли — есть его стремление воплотить, «опредметить,
отелесить себя». «Сей переход разума в жизнь предметную, сие
переложение в систему понятий совершается в умозрительных усилиях
философов». Так как разум, далее, есть «сокращение жизни вселенной
в бытии идеальном», то «все развитие разума есть развитие нашего
разумения вселенной; и наоборот, развитие определений,
проясняющих естественно и удовлетворительно быт вселенной, есть плод и
явление развития разума». Умственное построение природы закончится,
«когда мы успеем в системе философской, как художник в
искусственном произведении, опредметить все идеи человеческого разума».
Такое соединение психологизированного шеллингианства с Яко-
би вызывает впечатление еще более пестрое, если принять во
внимание идею Сидонского о философском методе. Невзирая на
приведенную оценку роли и значения разума, не разум является исходным
пунктом философии и не его самостоятельность — конечная
инстанция в установлении истины. Сидонского не удовлетворяет ни
«выводной метод Фихте», ни диалектический Гегеля, ни «построительный»
Шеллинга, ни «привносительный» Гербарта. Более сочувственно он
относится лишь к методу критическому (С. 381). Однако поскольку
этот последний требует систематической проверки наших понятий
и суждений, Сидонский понимает эту работу как работу
психологического анализа и, следовательно, те основания, к которым критика
должна сводить эти понятия, не будут понятиями чистого разума, а
будут понятиями опыта. Сообразно этому Сидонский, в дополнение
к обычным методам аналитическому и синтетическому, предлагает
еще метод сличительный или сопоставительный, филологически
не весьма удачно называемый им также метатетическим.
Сущность этого метода сводится к требованию постоянного сличения
устанавливаемых разумом сверхчувственных истин со всем бытом
данной нам действительности. Совершенно последовательно — и
это редкий случай последовательности у Сидонского — при такой
методе доказательства (изложения) он и метод исследования пони-
Очерк развития русской философии
189
мает психологически, беря за исходный пункт исследование данных
опыта. Было бы внутренней нелепостью принять чистый разум за
исходный пункт, а затем проверять его положения эмпирически;
это было бы то же, как если бы мы задумали проверять
математические теоремы путем наблюдения и эксперимента. Иное дело, если
мы и к положениям разума приходим путем восхождения от данных
опыта*. Зато совершенно непоследовательно требовать, чтобы такой
исходный пункт все-таки заключал в себе «твердое, неопровержимо
ясное, чего никто не мог бы подвергнуть сомнению», абсолютное.
Между тем Сидонский не хочет видеть его вместе с идеалистами в
идеях, не хочет вместе с рационалистами — в общих положениях,
а ищет его вместе с психологистами именно в опыте (С. 149, 351).
Философия, по его убеждению, «может принять точкою обзора
абсолютное в опыте — наше Я, в котором сосредоточиваются ощущения
происходящего вне и внутри». От опыта, таким образом, исходит
философское мышление, поднимается до разума** и еще раз, по
требованию метода, нисходит к опыту для проверки устанавливаемых
этим мышлением положений.
Понятно, что при понимании задач философии как задач
объяснительных и метода философии как метода эмпирического
Сидонский должен самое работу разума оценивать как работу только
гипотетическую, а философию в целом представлять себе как
эмпирическую метафизику, влекущую за собою всю полагающуюся ей
по штату скептическую свиту. Сидонский считает, что
«умозрительные порывы» (С. 74) свободного мышления, представляющие собою
«попытки объяснить загадочное существование вселенной» (С. 75)
как «первое проявление нашей разумности, первое движение идеи»
(С. 165) суть догадки, предположения (С. 101). В них мы угадываем
* Как поясняет сам Сидонский: «Конечно, можно и нисходить от идеи
самосущего к бытному, но только после того, как совершено правильно
восхождение к нему от бытного» (С. 350).
** Сидонский даже прямо ставит исходный пункт в обосновывающую
зависимость от момента завершающего: «Ощутимый для всякого мир опыта мне
кажется самою приличною опорою, надежнейшим исходным пунктом
философского мышления: ибо он же может и завершать верность сего мышления»
(С 345). Отмечу кстати, что такого рола «эмпиризм» Сидонский мог встретить
не только у докантовских психологов и у психологизирующих кантианцев и
шеллингианцев, но также у такого, например, «гегельянца», как Бахман (ср. его
«Систему логики», рус. пер. Ч. П. СПб, 1831-1832. С. 141).
190
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
«всеобщие, непреложные законы», господствующие в природе и ее
объясняющие (С. 209). Именно как догадки эти умозрительные идеи
и предполагаемые законы природы требуют поверки через
сличение «с бытом действительным». Автор сам видит себя вынужденным
признать скептические последствия этого метода: лишь вероятность
«непреложной истины» и отсутствие в философии доказательств
«логически строгих» (С. ПО, 111). Но он обещает спасти
философию иным способом, когда «истины высшие» даже «и не вполне
доказанные мы можем принимать со всем убеждением».
Сидонский не первый попал в положение, когда хочется за
философией признать, по крайней мере, право на искание истины и
когда конфессиональная догма запрещает заподозрить ее собственные
привилегии на достижение истины. Мы увидим, как Сидонский
выходил из этого затруднения, но сперва спросим — что собственно
следует разуметь под тем «бытом действительным», к которому мы
должны обратиться за поверкою умозрительных догадок? Ответ мы
находим не неожиданный для поклонника немецкой философии
того времени, но далеко не ясный, принимая во внимание, что это
ответ последний. (1) «Под бытом предметов действительным не
надобно понимать одно положение их вне всякого сознания; но
вместе и необходимый для нашего ума образ мышления о сих
предметах или представления себе оных». (2) «С другой стороны быт
предметов должен обозначать всю совокупность их положений и
законов». Но если названный образ мышления необходим, то как же
возможны предметы «вне всякого сознания»? И какой смысл имеет
«сличать» идею разума, приводящую к «единению с Первосущим», с
«бытом действительным»? Что даст такая «поверка», кроме
заключения о бренности и ничтожестве не только «быта», но и
необходимого образа мышления, как равно и всей совокупности «положений и
законов»? И какою, наконец, «поверкою» устанавливается сама
необходимость образа мышления?
Сидонский — скептик, который боится не быть философом, и
философ, который боится не быть православным христианином.
Он захотел получить чистую философскую воду путем соединения
Канта с Якоби, но происшедший у него взрыв гремучего газа
разрушает всю его философскую лабораторию. Такой результат
получается, может быть, неожиданно для самого Сидонского и вопреки его
сознательному желанию, но несомненно, с другой стороны, что он
Очерк развития русской философии
191
и с самого начала не желал никакой независимой философии. Это
видно из постановки и решения главного для него вопроса об
отношении философии и религии. Он допускает, что философские
изыскания и истины веры — две отличные, хотя и не отдельные
области, но допускает только до тех пор, пока под верою
«разумеется не определенная какая-либо, но всякая известная по Истории»
(С. 191 прим.). В таком случае философии уделяются даже
некоторые преимущества. Когда же мы встречаемся с «истинною» верою,
«здравая» философия, хотя и может содействовать ясному
уразумению ее (С. 87) — в чем, конечно, кстати, даже и оправдание ее, — в
действительности, без веры и религиозного Боговедения человек
не был бы в состоянии подняться до прояснения собственного
сознания (С. 176-177). Философия должна служить людям верующим,
она «хочет как бы сретить Божество, в светозарном величии
исходящее из своего невечернего света воззвать к жизни не-сущее, желает
радостно приветствовать исход Его, зреть дивное пролияние жизни
во вселенную и устроение сил ее и отношений» (С. 194-195). А если
бы философия «сретила» не то Божество, которому молился о. Си-
донский? — вот на этот случай и припасается скептицизм. «Доколе
ум не вступил под знамена веры положительной, он свободен. Вера
связует нас с Божеством; правота ее — первое благо наше на земле;
в ней основа нашего спокойствия, исток наших лучших действий.
Убедившись в справедливости требований веры положительной, ум
уже сам оставит свою излишнюю пытливость и скоро сделается
живым и деятельным членом общества верующих» (С. 275-276). А если
не убедится, не оставит, не соделает? Если, напротив, скептицизм
перебросится из философии на веру? Этому у Сидонского есть
противоядие: «Отвергаем сомнение без веры, которое не знает ничего
священного, которому не на чем и остановиться» (С. 155). Но, опять
утешает автор, — себя самого, может быть, больше всего — разум и
Откровение не могут прийти в противоречие, раз оба они — от Бога.
Разум должен поэтому содержать в себе, по крайней мере,
предчувствие того, что сообщает Откровение (С. 278). И разуму, поэтому,
нужно положиться на Откровение и сократить свой скептический
путь — «философия без истинных вещаний Откровения должна
идти к истине путем длинным, чрезвычайно утомительным и едва ли
надежным» (С. 290). И, все-таки, «одному преданию, исключающему
изыскания разума, дело религии предоставить невозможно» (С. 272).
192
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Однако разум, как мы видели, идет путем догадок, вероятности, а не
логически строгих доказательств, и нам был обещан способ, при
котором мы и недоказанные истины примем «со всем убеждением».
Обещание выполняется: скептицизм в философии вознаграждается
верою в Откровение. «Смело можем сказать: религиозная
уверенность некоторых лиц рода человеческого есть наиболее надежная
опора для философской изыскательности. Таким образом, именно
живое Боговедение как непреоборимое убеждение, как естественное
стремление разумного чувства в человечестве дает верную опору
философии» (С. 287-288).
Так качается маятник убеждений Сидонского: от философского
скептицизма, связанного с верою в Откровение, к признанию прав
разума в философии, проливающего свет сознания на само
предание, и опять назад, и опять вперед. Вся книга его проникнута
робостью сказать свою мысль прямо и определенно. Стоит вырваться у
него более или менее свободному, умному и обязывающему слову,
как оно обставляется оговорками, вызывающими новые оговорки.
И так нагромождаются страницы на страницы, наполненные
полумыслями, осколками мыслей.
Вот краткий пример оговорочного стиля духовно-академического
философствования, данный Сидонским: «Согласен, что есть истины
важные, кои не хотелось бы подвергать и минутному сомнению; но
если уже убеждение человеческое не иначе может развиваться и
усиливаться, как только посредством недоверчивого испытания, то
можно и должно позволить и некоторого рода недоверчивость как
зло необходимое, неизбежное. Чтобы ограничить действие сего зла,
следует только поощрять изыскания истинного и поощрять
достаточно: иначе человеческое предрасположение ко злу разовьется в
наклонность к испровержению верного, тогда прямо препятствовать
распространению зла будет значить только помогать его развитию.
С другой стороны, сомнение так возникает естественно, так
образуется легко и вместе приносит такую пользу, что и подавлять его
иногда было бы неблагоразумно». И т. д.
Как будто ходишь по песку, никакой упругости под ногами —
безнадежная скука и раздражающее утомление Не стоило бы об
этом говорить, если бы это была черта, индивидуально присущая
Сидонскому. Здесь был задан и предугадан тон для нашей духовно-
академической философии. Задумывали водрузить неколебимый
Очерк развития русской философии
193
столп своей истины, а он во все стороны качался. Воздвигались
подпорки, и к подпоркам подпорки, столп качался из стороны в
сторону. А между тем на столпе сооружали государственное здание, ни на
минуту не пребывавшее в устойчивом равновесии. И когда думали,
что виною тому водрузители столпа, на них кричали, их
«рассчитывали», тем их запугивали и лишали остатков свободного творчества.
Так и Сидонский был признан недостаточно надежным, его
выгнали из академии, но он остался в рясе и предпочел вовсе прекратить
свою философскую деятельность. Продолжавшие вняли
предостерегающей участи Сидонского и философствовали в стиле еще более
неопределенном и колеблющемся. Самые «благонадежные» из них
не были свободны от страха сказать не так, подумать по-своему, тем
более что и говорить-то можно было не то сегодня, что дозволялось
вчера. Даровитые из представителей этой философии становились
бездарными. Свое мнение пряталось — отсюда преимущественные
занятия в области истории философии, вырабатывались и
культивировались общие и бесцветные формулы, за которыми
предоставлялось только угадывать «себе на уме» самостоятельное убеждение.
Впоследствии, когда более бойкие и неподатливые семинаристы
стали вырываться на волю «светской» журналистики, стало
обнаруживаться это «себе на уме», но тем более обезличивались и сочиняли
тем более непристойные формулы «примирения» оставшиеся
благонадежными. И среди них все-таки, как увидим, являлись таланты, и
крупные — сам Сидонский — пример несомненного, хотя и
оставшегося бесплодным таланта, но тем более скорбную картину
представляет история воплощения этих талантов в философской
литературе.
А. Никольский в статье «Русская духовно-академическая
философия как предшественница славянофильства и университетской
философии в России» («Вера и Разум». 1907. №№ II—IV, IX, XX)
задался целью реабилитировать духовно-академическую философию
путем доказательства тезиса, выставленного в заглавии статьи.
Задача оказалась ему не по силам. В статье нет ни метода, ни
компетентности, ни остроумия, а благонадежность не занавесила собою
скудости таланта. В целом статья — иллюстрация изображенного
выше «стиля». Имевший терпение прочесть статью сделает
заключение о предмете ее, обратное тому, какое, по-видимому, хотел бы
внушить автор, раз он взял на себя задачу изобличить и корректи-
194
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ровать «ненаучно-партийное отношение к делу», причина которого,
по его подозрению, «кроется в том антагонизме, в том затаенном [!]
недоброжелательстве», которое проявили «писатели западнического
направления» (П. С. 197).
Итак, фактически все-таки Сидонский был одним из тех, кто
сделал первые наши шаги в направлении к серьезной философии.
В Петербургской духовной академии до него уже были
вразумляемы Фесслер и Горн, не успевшие сделать и одного шага; он его
сделал.
Философские взгляды Фесслера и Горна кратко излагаются Чи-
стовичем («История СПб. Духовной Академии». 1857. С. 193-220) на
основании их собственных конспектов и сообщений о своем
преподавании. Фесслер определял философию как «очевидное знание
разума и деятельную жизнь духа», религию — как «свет сей жизни
и живоносное начало», совершенство духа — «во внутреннем
гармоническом согласии между разумом, рассудком, воображением и
внутренним чувством», совершенство философии — «в ее полном
единении и сообразности с единою, всеобщею, вечною,
божественною религиею, которая открыта миру в Иисусе Христе».
Формально это согласовалось с заданием философской кафедры в духовной
академии, и Фесслер, экс-католик и протестант с теософическими
настроениями, призван был соответственно настроить будущих
руководителей православной паствы. Сознания собственных
специфических задач философского образования православной страны у
руководителей образованием русского духовенства, следовательно,
еще не было. Здесь, как и в светском образовании, культура
насаждалась сверху по отвлеченным соображениям о ее «полезности» —
жизненной потребности само общество в ней не ощущало. Только
потом уже жизнь, какой она была, корригировала отвлеченные
планы. Вызванный из Львова Сперанским (по рекомендации Лодия) в
1810 г. Фесслер преподавал в академии всего пять месяцев (с февр.
по июль) и был удален по рассмотрении его конспекта и отзыва о
нем архиеп. Феофилакта в Комиссии духовных училищ. Таким
образом, становилось ясно, что формального выполнения общего
задания было недостаточно, а по содержанию из этого столкновения
профессора-теософа и православного епископа видно, что в самом
деле трудно было найти к услугам православия философию
неколеблющуюся.
Очерк развития русской философии
195
Фесслер резко отличает разум (ratio) и идею (idea) от рассудка
(intellectus) и понятия (conceptus). Разум есть способность идей;
созерцая себя, разум созерцает врожденную ему идею Бога,
бесконечного и необходимого Всецелого; из этой первоначальной идеи
разум порождает свои общие идеи и отражает их в рассудок.
Рассудок постигает в сознании, объемлет и преображает в понятия как
это отражение идей разума, так и представления чувственности;
неопределенные идеи разума рассудок ограничивает, определяет и
оформливает, а разнообразие и множественность представлений
чувственности он слагает в единство; о том и о другом он судит.
Врожденной идее о Боге Бесконечном и Всецелом Фесслер
приписывает объективную реальность и истину, а понятиям рассудка —
лишь условную реальность и условную истину. Соответственно,
созерцающий разум может обладать независимым знанием идей, а
рассудок — только условным и символическим. Вопросы, которые
Фесслер задает философии — обычные вопросы формальной
онтологии о бытии, существовании, сущности, модусах, цели и проч.
Замечания Феофилакта на конспект Фесслера — яркий
показатель того философского невегласия, в котором пребывало даже
высшее русское духовенство. Во-первых, он упрекает Фесслера в
рационализме, решительно апеллируя к опыту и сенсуализму,
авторитетами которого он почитает не только Аристотеля и Бэкона,
но также Декарта; учение о врожденности идей для него — произвол
и ложь. И в то же время, во-вторых, он ставит на вид Фесслеру его
идеализм — цель философии, по его мнению, «предметная
вещественность [реальность] и истина», Фесслер же, по его
характеристике, «приписывает началам человеческих познаний только условную
и подлежательную субъективную вещественность и истину». Как это
ни забавно, но наши материалистические нигилисты позднейшего
времени могли бы считать архиеп. Феофилакта своим предтечею.
И только в 3-м пункте он становится на единственно подобающую
ему позицию: Фесслер, по его замечанию, не удовлетворяет
требованию проекта устава духовных академий, согласно которому
преподавание философии должно быть «в постоянном подчинении
высшему авторитету». (К инциденту Фесслер-Феофилакт-Филарет см.:
КотовичАл. «Духовная цензура в России...». СПб., 1909. С. 93-96.)
Что касается сменившего Фесслера фон Горна, то его
оригинальность не простиралась далее того, что его не удовлетворял учебник
196
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Винклера, которого и заменили Institutiones Карпе. Горн —
воспитанник Галльского университета, доктор философии Йенского
университета, с 1804 г. — профессор богословия в Дерпте, где в 1805 г.
получил и степень доктора богословия; на кафедру философии в
духовную академию был приглашен в 1810 и преподавал по 1814 г.
Будь Сидонский в университете, под начальством Уварова, быть
может, его судьба была бы иною, ибо он ставил философии
проблему, нужную тогда и важную для идеологии правительственных
руководителей русской мысли. Коллеги Сидонского, например, по
Киевской академии, вовремя переходившие в университеты, с отличием
проповедывали нужную идеологию, — пока не понадобилась новая
идеология, или вернее, пока не понадобилось уже никакой...
Вероятно, иная судьба постигла бы Сидонского и в том случае, если бы он
задержал выпуск в свет своей книги, потому что не случайно стиль
ее стал образцом. Его благонадежный эклектизм, более или менее
удачно задрапированная несогласованность частей, из которых мог
выбирать любой вкус, показная всеобъемлемость метода, наконец,
уменье «закачать» любую мысль, затереть ее шероховатости и
облечь целое философии в лишенное «светской» определенности
одеяние — все это вызывало вольное и невольное подражание.
Среди подражателей и последователей Сидонского в первую
голову надо назвать Ф. Надежиш, автора «Очерка истории
философии по Рейнгольду» [Эрнсту — сыну более известного Карла
Леонарда]. СПб., 1837 и «Опыта науки философии». СПб., 1845. В последнем
он прямо примыкает к Сидонскому, само же изложение его — еще
увертливее, направление — еще неопределеннее, что, впрочем, сам
автор объясняет учебным назначением книги, — нет в мире
пошлости и бессмыслицы, которых нельзя было бы оправдать таким
назначением!.. После краткого введения, сжато излагающего руководящие
мысли Сидонского, и «части приготовительной» — Психической
антропологии, в общем воспроизводящей по плану и по содержанию
«Психическую антропологию» Шульце, книга распадается на три
части: Логику (Шосеология и Логика в собственном смысле),
Метафизику (Философия природы, Философия духа, Метафизическое
богословие) и Ифику (Философия права, Философия нравов). В
Логике интересно отметить понимание гносеологии как учения об
условиях приобретения верных частных познаний и наличность отдела
под названием Аподиктики (Бутервек?), задача которой исследовать
Очерк развития русской философии
197
предметную достаточность наших познаний или вопрос об
отношении мышления к предметам*. Надежина не удовлетворяют решения
этого вопроса, какие дают Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и Якоби. Ему
кажется, «естественному здравому взгляду на вещи» более
соответствует «опыт разъяснения наших познаний, известный под именем
системы гармонических законов», т. е. опыт разъяснения,
основанный на свидетельстве сознания и рассмотрения того места, какое
занимает человек в мире» (С. 139-140). В Философии природы автор
последовательно отвергает атомизм, динамизм (Канта),
пантеистические учения философии тождества Шеллинга и Гегеля, и
склоняется к своего рода витализму с ясною спиритуалистическою окраскою
(С. 191). «Философия духа» есть не что иное, как старая докантов-
ская умозрительная и рациональная психология. Метафизическое
богословие — попытка согласовать естественное или рациональное
богословие с общими требованиями догматики. Наконец, Ифику,
составленную в согласии, — хотя более обстоятельно и учено (расчеты
с Кантом, Кругом), — с «Опытом системы нравственной философии
Магистра Алексея Дроздова»** (СПб., 1835. Издал Св. Ф. Сидонский),
следует, конечно, оценивать в связи с разработкою так
называемого нравственного, или «деятельного», богословия, которая у нас
возникла в то время*** под влиянием новых течений в немецком
богословии, — как католического, так и протестантского направления.
В общем Надежин конструирует из эпигонов немецкого идеализма
новую схоластику, формально возвращающую преподавание
философии на привычные для Духовных академий вольфианские рельсы.
Книга Надежина вызвала весьма интересную для
характеристики времени рецензию Киреевского159 («Поли. Собр. Соч.». Т. П. М.,
1911. С. 132 и след.) Автора рецензент упрекает в
«неопределенности основной точки зрения» и в том, что «мысли, взятые в
частности, представлены как удобомыслимые, а не как логически
неизбежные», но хвалит «язык чистый, отчетливый, не лишенный иногда
новых счастливых выражений». У Белинского книга Надежина вызва-
* По принятой теперь терминологии, этот последний вопрос решается
теорией познания. Надежин пользуется здесь и этим термином. Он встречается
также у архимандрита Гавриила (С. 1,99).
** Брошюру Дроздова прославила незаслуженно восторженная рецензия
Белинского. Об этом ниже.
*** Еп. Иннокентий, И. С. Кочетов, Бажанов и проч.
198
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ла только отрицательное отношение. В немногих посвященных ей
строках он тонко отметил, что автор — из тех «добродушных
философов», которые вместе допускают и авторитет и свободно-разумное
мышление, не замечая, что они только парализуют друг друга и что
утверждение их взаимной необходимости означает признание их
одинаково ничтожными и бессильными. Белинский, таким образом,
уловил типический прирожденный дефект этого рода философии.
Из среды влияния Петербургской духовной академии вышел
также «Опыт философии природы» И. Кедрова (СПб., 1838).
Этому же автору принадлежит компилятивный учебник: «Курс
психологии». Ярославль, 1844.0 Кедрове см.: Гавриил. «История
русской философии...». С. 155-158, где излагается его ненапечатанное
«рассуждение» — «Критический взгляд на науку философии». И.
Кедров считает отличительным признаком философии выспренность,
возвышающую философию над всем временным и
пространственным, чем она и отличается от естествознания, изучающего природу
в чувственных формах пространства и времени.
Произведение Кедрова, как и сочинение Дроздова, хотя оба носят
характер монографий, по философским достоинствам стоит ниже
не только «Введения» Сидонского, но и учебника Надежина. Зато всех
названных авторов Кедров превосходит своим богословским
сервилизмом160. Ополчаясь, подобно всем теистам, против материализма,
идеализма (подлежательного — Фихте и предметного — Гегеля) и
философии тождества Шеллинга, как ведущих к атеизму и пантеизму,
а потому несогласных с «здравою философией», он сам определяет
свое положение указанием своих предшественников: «Кант, Боннет и
другие мыслители, которые держались золотой середины между
материализмом и пантеизмом» (С. 38-39). С точки зрения содержания
книги, такое признание нужно назвать весьма неожиданным. Бонне
здесь так же мало, как и натурофилософии Канта*. Может быть,
влияние Канта — примат практического разума — автор хотел видеть в
том, что рассматривал нравственность как «нечто высшее и гораз-
* Книжечка Кедрова состоит из Введения и трех «отделений»: (1) «О
природе в самой себе», (2) «О природе в отношении к Богу (О сотворении мира и
О Промысле)», (3) «О природе в отношении к разумным тварям (О средствах,
которыми природа способствует разумным тварям к достижению их
последнего предназначения, и О душевных болезнях)». Сколько-нибудь философское
значение имеет лишь первая треть книги («Введение» и «Отделение первое»).
Очерк развития русской философии
199
до важнейшее теоретического образования»? Натурфилософия для
него — лишь средство нравственного усовершения: «Коренная
задача философии Природы состоит, по нашему мнению, не в
уразумении сущности вещей, но в приобретении надлежащих сведений
о мире, способствующих к нравственному развитию и усоверше-
нию человечества». Усовершил ли Кедров человечество, проследить
трудно, последствия же другой половины своего принципа —
сравнительную неважность «теоретического образования» — он
подтвердил всем своим «Опытом». Для спутанности его «теоретических»
понятий показательно, что, соглашаясь, по-видимому, с Кантом в
том, что «созерцание разумное не есть удел существ, облеченных
плотик», он в то же время выбивает из-под философии кантовскую
подставку — рассудок. «Творить» мир нам не дано,
трансцендентальная философия мало держится опыта и «может быть названа
поэзией, носящей на себе тип немецкой национальности». Однако
за оправданием не-поэтического алогизма Кедров опять
обращается к «типу немецкой национальности», представленнной на этот раз
Якоби. Ум не ведет нас к уразумению природы вещей и посредством
логических своих форм, ибо что такое формы мышления? — «Это
сети, в которых мы непрестанно запутываемся вместе с
предметами мышления; это повязки на очах наших, сквозь которые рассудок
всего чаще истину принимает за ложь, и наоборот, во лжи уверяется,
как в истине; это, наконец, как представлял Якоби в письме своем к
Фихте, кольца меледы161, игра которыми благоприятствует
сокращению времени, но не решает никакой задачи».
Сдвинулись, по крайней мере, продолжатели Сидонского с того
места, на котором он остановился? Этого нельзя сказать. Скорее
можно констатировать, что к колебаниям, которые он обнаружил,
его последователи прибавили новое движение — назад, к
восстановлению той связи с вольфианским учением, которая до Сидонского
закрепилась в духовных академиях. Вообще и о дальнейшем нужно
наперед сказать, что философия наших духовных академий
изображает бег на месте, или, точнее, движения короткой цепью
привязанного к столбу. Каждый ее новый шаг не есть шаг вперед, а лишь в
новом направлении, вокруг одного места — теистического
спиритуализма — и не очень удаленно от пункта догматического
прикрепления. Такого рода «новый» шаг можно отметить во «Введении в
философию» (СПб., 1840) проф. В. К Карпова (1798-1867), переведенно-
200
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
го из Киева непосредственно на место Сидонского*, воспитанника
Киевской же академии, впоследствии стяжавшего себе почетное имя
переводом Платона.
«Сочинения Платона, переведенные с греческого и
объясненные проф. Карповым». Т. I—II. СПб., 1841-1842. Изд. 2-е, испр. и доп.
Т. I—IV. СПб., 1863; T. V-VI (по определению св. Синода). М., 1879.
Некоторые диалоги в переводе Карпова вышли также отдельным
изданием («Горгиас». М., 1857) или помещались в «Пропилеях» Леонтьева
(Т. V. «Федон») и в ЖМНП («Алкивиад». I. 1857; «Иппиас Меньший».
1858; «Иппиас Больший». 1859; «Федр». 1858). «Законы», имевшиеся
в русском переводе В. Оболенского («Платоновы Разговоры о
Законах». М., 1827), Карпов вновь не переводил. Конечно, перевод
Карпова — бессмертная заслуга перед русской философией. Но не был
ли он преждевременен или, наоборот, не запоздал ли он? Сам
Карпов так смотрел на свою задачу: «Найдет ли у нас Платон довольно
читателей? Эта мысль долго колебала меня: я думал, передумывал,
представлял направление нынешнего образования, соображал
требования современного общества, вслушивался в толки о
философии, ожидал внушений Сократова гения; но ничто не просветляло
моей мысли и не наклоняло ее к чему-нибудь определенному. Одно
только обстоятельство делало легкий перевес в пользу издания:
это — пробуждение духовенства к развитию в своей среде учено-
литературной деятельности и старание министерства восстановить
на кафедрах его училищ здравую и плодоносную в своих
основаниях философию. Почему же, думал я, в такую пору всеобщего
стремления к установлению прочной учености в России не пригодились
бы идеи Платона, когда и в прежние времена, за три века пред этим,
его именно творениями открывалась эпоха возрождения наук на
западе Европы?» — из «Предисловия» ко 2-му изданию 1863 года. «Воз-
* Между прочим, Карпов был одним из официальных рецензентов Сидон-
ского и, следовательно, одним из участников «похода» против него. Из
литературы о нем: Памяти русского философа В. Н. Карпова: Речи на
торжественном собрании СПб. Духовной Академии по случаю 100-летия со дня рождения
Карпова: Барсов Т. «В. Н. Карпов, как профессор»; Серебренников В. «В. Н.
Карпов, как психолог»; Великоостровский М. «Об общем характере Логики
Карпова»; Миртов Д. «Заслуги проф. В. Н. Карпова для русской философской мысли»;
АскеевП. «Два проекта православно-христианской философии (Карпов и
Киреевский)» // «Христианское Чтение». 1898. Май.
Очерк развития русской философии
201
рождения» тем не менее, как известно, не последовало... Между тем и
Белинский приветствовал Т. И. перевода Карпова — во имя
гуманизма и классического образования!
«Введение» Карпова свежее только что названных сочинений,
обнаруживает меньше склонности к попятному движению в
сторону Вольфа, свободнее обращается с источниками, доказывая
прямое знакомство с ними. Симпатии Карпова склоняются в сторону
Круга и Рейнгольда старшего (Карла Леонарда), но при
обесцвечивающем их устранении кантианства и с преувеличенным
увлечением психологизмом.
Белинский был прав, давая пренебрежительный отзыв о Надежи-
не, но снисходительный о книге Карпова. Прав он был и в своем
недоумении насчет ценности психологизма Карпова: Карпов,
действительно, «стеснил философию» и «вместо живого духа ее
получил мертвую психологию». Отгадал Белинский и тайный источник
этого психологизма: «Метафизическое (в смысле автора), —
констатирует он, — снова приводит нас к психологии и снова
разлучает нас с истинною философиею». Спиритуализм в такой же мере
всегда психологистичен, как материализм — механистичен.
Карпов понимает философию как науку, рассматривающую «все
бытие как одно гармоническое целое в сверхчувственном или
мыслимом, сколько оно может быть развито из сознания и выражено в
системе» (С. 67, ср. 32). Ее цель — найти закон гармонического
бытия вселенной и указание в ней места, значения и отношения
человека (С. 85, 101; ср. 45, 57, 79-80, 117, 127, 135). Определение
философии покоится у Карпова на двух «основаниях», или, как сказали
бы теперь, на двух предпосылках. Это: (1) принцип самосознания,
высказанный еще в древности, теперь пустивший глубоко корни и
со времени Вольфа образовавшийся в «философское учение»,
известное под именем психологии или антропологии; и (2) принцип,
требующий объединения всех наук в одно целое, и, соответственно,
исследования природы не в частных видах, а в целом едином бытии,
что само по себе уже возвышает нас над обособленными
областями опыта и вводит в область Метафизического. Последняя не есть,
понятно, физическое, но она и не духовное, ибо истинно духовное,
соединяя в себе полноту совершенств и будучи потому абсолютным,
безусловным, бесконечным и т. п., стоит выше условий
человеческого бытия и деятельности, его «ни одна метафизика не вводила в об-
202
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ласть своих исследований», и до действительного его созерцания
«ни один философ» не возносился. Так, сам человек, который не
есть ни физическое, ни духовное — результат взаимного
ограничения обоих этих начал, отражающего в себе, однако, и то и другое.
Область метафизического, не будучи духом, вовсе, следовательно,
непостижимым, и не будучи физическим, доступным чувству, есть
особая сфера сверхчувственного, входящая в область человеческого
бытия и деятельности со стороны двух названных начал.
Аналогичное отношение существует в сфере познания со стороны субъекта
и объекта, в познании человека всегда представлены оба, и
следовательно, между субъектом и объектом существует новый мир, как
условие их взаимной связи. Этот мир есть мир мыслимого,
соединяющего познание с бытием, есть царство мысли, а не вещи в себе
и не односторонние формальные проявления нашего я. Мыслимое
есть вторая характеристика метафизического. Метод или форма
изложения, в которой осуществляется философия, определяется ее
предметом, и потому должен быть характеризован как метод
систематический. Под системою здесь нужно разуметь не внешний
распорядок и распределение частей, а их внутреннюю
согласованность и совместимость в одном организме науки*. Первая истина
философии, ее principium, согласно сказанному, должна совмещать
в себе начало субъективное вместе с объективным. Различие между
ними состоит в том, что «первое есть истина, от которой она
начинает изследование, а второе есть истина, из которой она
развивается в систематическое целое». Субъективное начало философии
есть сознание, объективно же — мыслимое, как непосредственное
сознаваемое. Сознание, таким образом, является началом и бытия и
познания. В качестве единого начала философии его надобно
понимать конкретно, т. е. не отделяя в нем «психической силы от
содержания». В таком виде это начало может быть характеризовано как
начало формально-реальное. Оно было установлено, по указанию
Карпова, Рейнгольдом и исправляло «чистый рационализм Канта,
не дававший никакого участия фактической стороне сознания в
деятельности рассудка», почему оно и отвергается Кругом, как «строгим
последователем» Канта. Но так как не начало должно подчиняться
* По-видимому, соответствует «Einstimmung» Круга.
Очерк развития русской философии
203
учению, а учение должно развиваться из начала и зависеть от него,
то Bewußtseinsatz162 Рейнгольда и ложится в основу философии.
Тут, надо сказать, Карпов впадает в недоразумение. Если
руководиться хотя бы теми статьями «Словаря» Круга, на которые ссылается
Карпов (прибавив, впрочем, еще ст. Bewußtsein), то его определение
начала философии формально мало чем отличается от определения
Круга, который считает таковым началом «первоначальную связь
бытия и знания в Я», называемую им первичным фактом сознания
(Urthatsache des Bewußtseins). Круг восставал лишь против формулы
Рейнгольда, не находя ее достоверной и общезначимой. Формула,
которую Карпов имеет в виду и как она дана Рейнгольдом в «Versuch
einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögen» (1789),
гласила: «Представление различается в сознании субъектом от
объекта и субъекта и относится к обоим». Как отмечал позже сам
Рейнгольд («Über das Fundament des philosophe Wissens», 1791)163,
здесь (в «Versuch») она «скорее намечена, чем подробно
изложена» (S. 108). Разъяснение ее дается уже в «Beiträge zur Berichtigung
bisheriger Missverständniss der Philosophie»164. B. I. 1790. (B. II. 1794),
см. в особенности S. 144, 167. Приведу несколько строк из «Über
das Fundament...», которые дают дополнительные (т. е.
дополнительно к Кругу) указания на источники формально-реального начала
Карпова и его «систематического» метода. «Я разделяю, — говорит
Рейнгольд (S. 109-110), — фундамент элементарной философии на
материальный и формальный. Один — сознание, как факт;
другой — положения сознания и из них непосредственно выводимые
и ими всецело предопределяемые определения. Из одного
почерпается содержание элементарной философии, другим
предопределяется научная форма ее, всесторонняя связь ее материала, единство
многообразного, составляющего ее содержание, под одним
принципом, предопределяется систематическое в ней». «Сверхчувственное»
Карпова имеет связь с самим «представлением» Рейнгольда.
Утверждение Карпова, что «основание мыслимого» — в «существе
мыслящем» (С. 58), строго говоря, противоречит и Кругу, и Рейнгольду —
ср. Beitrage последнего, I. S. 171 ff., a также 146: «Определяемое через
простое сознание понятие субъекта понимается неправильно, если
под субъектом понимают больше или меньше того, к чему
относится отличное от объекта представление, и что ведет себя при этом,
как через представление различающее, т. е. как представляющее».
204
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Но и независимо от влияния плохо понятого Рейнгольда, Карпов
и по существу отрывается от Круга, скатываясь под гору философии
к крайнему психологизму. «Трансцендентальный синтез», который
Круг видит в «первичном факте сознания» и которым маскируется
его психологизм, у Карпова открыто превращается в «наше Я с
главными проявлениями его природы и с теми элементами, которые,
вошедши в него из мира объективного, сделались неотъемлемым
его достоянием. Посему первый момент познания есть сам человек
и первая наука в системе философии есть наука самопознания, или
субъекта в сфере мыслимого» (С. 123).
Так как, по определению самого Карпова, в мыслимом, в
содержании сознания, в «объективной стороне» мы ничего не находим,
«кроме реальности сознаваемого, которое постоянно и ближайшим
образом свидетельствует человеку о бытии и свойствах природы»
(С. 66), то мы приходим к самому неприкрытому
натуралистическому антропологизму, из которого можно сделать все скептические и
релятивистические выводы, нужные для уничтожения философии
как такой. Карпов перемудрил, потому что действительная его
тенденция — обратная, он — против натурализма, который он
связывает с пантеизмом (С. 71, 92, 97, 116). Но, с другой стороны, он —
против рационализма, против которого, как мы уже видели и как мы
еще увидим, наша духовная философия вообще*. Непонятным
логически путем именно в рационализме ей чудится скептицизм.
Исторически же такое умонаклонение понятно: богословский
рационализм, связанный с деизмом, действительно, скептически разрушал
догматику. Отсюда симпатии духовной философии как ко всякого
рода алогизму, так и к эмпиризму — до поры до времени — пока не
взметнулась грозною тенью борода Фейербаха. Скептические
последствия в самой философии духовную мысль не страшили.
Героически разрубив узел проблемы веры и знания тем, что «дух»
был отнесен в области для метафизики недоступные, Карпов уже не
боялся никаких компрометирующих философских выводов, лишь
бы они не противоречили истинам, «раскрытым в Св. Писании с
совершенною ясностию». Относительность же человеческого бытия
и познания, разумеется, Св. Писанию нимало не противоречит — и
* Ниже также будет еще речь о более поздних работах Карпова, специально
посвященных рационализму.
Очерк развития русской философии
205
не только в том случае, когда ограничение исходит от Откровения,
которое есть «голос отечества небесного, проводимый Церковию»,
но и тогда, когда оно исходит от уставов государственных, которые
суть «призывания отечества земного, возвещаемые Правительством».
Чтобы человек предался «водительству Церкви и Отечества», ему
нужна «истинная и здравая философия, которая бы беспристрастно
исследовала человеческую природу», и проч. Натурализм, к
которому ведет рассуждение Карпова, исправляется им, однако, весьма
ловко в спиритуализм, с сохранением в то же время отмежеванности от
рационалистического «формализма». Философы, признающие
самопознание исходным пунктом, разъясняет он, берут иногда в основу
своих исследований «науку мышления», но психическая
деятельность не состоит в одном мышлении, и формы действия не могут
быть определены, пока не будет определено само бытие, из
сущности которого они развиваются. Чтобы избежать этого неудобства,
обращаются к существу человека, поскольку оно является в сознании
как нечто самостоятельное (Я = Я). Но так как само это существо
есть существо чисто логическое, то ничего, кроме ряда логических
заключений, из него вывести нельзя. «Если же с понятием своего
Я мы соединяем значение бытия действительно реального и в
представлении приписываем ему некоторые определенные свойства, то
этим актом необходимо предполагаем уже предварительное
исследование собственной природы путем опыта и наблюдения...
Психология должна начинать свое поприще исследованием человеческого
бытия, а не деятельности» (С. 124).
Итак, с одной стороны, на место умозрения — опыт, а с другой
стороны, на место деятельности — бытие. И далее, на место духа —
сверхчувственное, а на место (имманентного) Абсолюта — сверх-
мунданный165 Бог, который не есть дело философии или
метафизики. Общую характеристику своего понимания философии Карпов
заимствует все же у Круга — синтетизм, — хотя считает, что у Тюр-
мера* (под названием Realidealismus) и у Круга мы находим лишь
«слабые и не совсем верные черты его». Когда, после этого, Карпов,
изобразив приподнятым слогом, как «все сложится в одну
беспредельную космораму и, став в приличном отношении к целому, со-
* Thurmer (собств. Joseph Aloys della Torre) — австрийский философ начала
века. На него указывает Круг сам.
206
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
льется в один аккорд, в одну священную песнь Всевышнему»,
называет это «трансцендентальным синтезом» (С. 132-133), то это есть
или наивное непонимание термина, или описка человека,
заимствующего чужой термин, но приспособляющего свое заимствование к
другим целям и для другой «пользы». В чем эти цели и польза
вообще, было сказано в начале этого параграфа. В частности же Карпов
специфирует «пользу» философии уже когда заявляет, что в
германской философии «все превосходно и всеобще, кроме того, что
имеет ближайшее отношение к частному, религиозно-политическому
обществу Германии». Само это «частное» определяет и для нас
пользу философии: «истинная* философия действует между внушениями
религии и политики и, открыв существенныя требования
человеческой природы, соглашает их с законами веры и условиями
отечественной жизни» (С. 114).
В целом «Введение» Карпова имеет уже вид более свободного
философствования и даже как будто независимого от «интересов»
сфер, желавших властвовать над умами и культурою. «Политика» и
«религия» — разве не могли быть искренним убеждением автора?
Ответ нужно разделить: проф. Карпова — конечно, но философа —
нет! Политика и религия, как формы сознания, могут быть
объектами философского познания, но ни регулятивами, ни выводами,
ни «приложениями» философии, как реальные агенты, они быть не
могут, не должны. Философ — не правитель, не народный
представитель и не проповедник. Такое чистое сознание философом себя
как философа, за немногими исключениями, чуждо вообще русской
философии в ее целом — она любит «руководить», «наставлять»,
«исправлять», «направлять», «обосновывать», «оправдывать». Это
сказывается с первых шагов ее развития, когда она в своей линованной
еще тетрадке стала записывать свои первые фразы. Это сказывается
и на всем протяжении ее развития, свидетельствуя о философском
еще несовершеннолетии русской философии, ибо только
подростки резонируют больше стариков и потому считают нравоучение
философией и философию нравоучением. Особенно «духовная
*Под «истинною философией» Карпов разумеет философию
христианскую. Она должна согласить «требования человеческой природы с внушениями
Церкви и Отечества». В мире же языческом философия должна была
находиться в обратном отношении к обществу и религии (С. 114, прим.). Таково было
время, что Карпов не боялся вызвать симпатию к язычеству...
Очерк развития русской философии
207
философия» — хотя тут она частью выходит даже за рамки
национальной отличительности — видела всегда свое призвание, с одной
стороны, в «поучении», не доходящем, однако, до владычества, и, с
другой стороны, в «приспособлении», доходящем до сервилизма.
Карпов — только «на вид» — которым он обманул Белинского —
свободнее, но дух у него тот же, что и у других представителей
духовно-академической философии. Он оказался лишь способнее —
и для нас это был большой шаг вперед — к усвоению европейских
научных методов изложения на место отечественной
«церковнославянской» вязи и заимствованной иезуитской схоластики. Он
научно строже Сидонского, систематичнее, и он умнее Надежина,
Кедрова, Дроздова. Только дух его — один с ними. Философское
единство этого духа в направлении теизма и спиритуализма —
нормально и натурально, хотя определяется оно не всегда
имманентно, а по предписанному заданию учреждения. Психологическое
его сложение не так элементарно и последовательно.
Православная духовная философия слишком поддавалась вне-философскому
и — что для нее хуже — вне-догматическому давлению. Чувство
связанности — преобладающая психологическая черта этой
философии. Отсюда — боязнь ясных очертаний, отчетливых форм и
четких формул. Колебательное состояние становится традицией,
создающей своеобразную преемственность в усвоении и передаче
неопределенных «сказаний»; — все равно как в нашей «свободной»
публицистике сложилась своя традиция «иносказания». Удачный
маневр между подводным камнем цензуры и нависающей прибрежной
скалою свободного суждения иностранной книжки по философии,
при отсутствии надежного руководительства разработанной и
церковью принятой православной — не инославной — догматики,
возводится если не в канон, то в особый «духовный» жаргон. От
этого, в конце концов, и говоря строго, у нас не было православной
философской школы, а есть только свой стиль — плохой стиль, но
стиль и свой — духовно-академического философствования: при
всем добросовестном, почти физическом, можно сказать,
воловьем трудолюбии, стиль ленивой туго дающейся мысли,
сопровождающейся какою-то недоговоренностью, каким-то «себе на уме»,
которое как будто ждет доверия к своей глубине и тонкости, но не
внушает, однако, его — нет его, и откуда ему взяться, из чего
зародиться, на что опереться?..
208
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
К
Итак, некоторый общий тон был задан Петербургской
академией, и его в общем держалась вся духовно-академическая философия.
Единство тона, отчасти по крайней мере, обусловливалось
генетическим единством нового периода в истории духовных академий.
Кутневич, профессор Московской академии, учитель Голубинского*,
и Скворцов, профессор Киевской академии, учитель Карпова, Авсе-
нева, Михневича, Новицкого, Гогоцкого — оба были
воспитанниками Петербургской академии. И в этот, и в более поздние периоды
можно встретить среди духовных философов людей, убежденно
и искренне, не за страх только смотревших на философию как на
средство христианского воспитания; были другие, уходившие из-
под давления на их совесть в «беспристрастное» и бесстрастное
изучение истории философии; были, наконец, и такие, которые бежали
при первой возможности из академий на более все-таки свободные
кафедры университетов**. Впечатления от целого это не меняет.
Искреннею теистическою убежденностью, насколько можно
судить, отличался Феодор Александрович Голубинский (1797-1854).
К сожалению, суждение о нем может быть скорее суждением
впечатления, чем результатом изучения. Кроме незначительной и
неоконченной статьи, он ничего не напечатал. Выпущенные его
почитателями, значительно спустя после его смерти, записи его лекции,
сделанные его слушателями, суть записи слушателей, отличаются
всеми соответствующими качествами и источником для изучения
* Из Московской академии — архим. Гавриил и непосредственный ученик
Голубинского — Кудрявцев-Платонов; непосредственным учеником
Голубинского были также его адъюнкты Д. Г. Левицкий (с 1844 г. бакалавр, с 1854 г.
экстраординарный профессор, ум. 1856), автор труда «Премудрость и благодать
Божия в судьбах мира и человека» (М., 1857), который рассматривается как
«продолжение» «Письма» Голубинского «О конечных причинах» (Прибавления
к Творениям св. Отцов. 1847. Ч. V; перепечатано в 3-м изд., М., 1885
названного труда), и И. М. Богословский-Платонов (бакалавр с 1844 г., в 1850 г. выбыл
из академии, ум. 1870), автор сочинения «Арабы и их философия»
(«Москвитянин». 1850. Ч. III). Заглавие ст. Голубинского: «Содержание и история учения о
конечных причинах или целях», напечатанное содержит только исторический
материал; цель статьи — опровергнуть мысль о возможности чисто
механического объяснения жизни, — мысль, развитую в ст. Э. Литтре «О важности и
успехах физиологии» («Современник». 1847. № 2).
** Впрочем, большую роль играло и сравнительно лучшее материальное
обеспечение профессоров университета.
Очерк развития русской философии
209
философии учителя, разумеется, служить не могут. Общее
впечатление, которое они дают о нем, есть впечатление ума настойчивого и
углубленного, исторически хорошо подготовленного, в особенности
в творениях отцов церкви и классиков философии, а потому
добросовестного в изложении, твердо уверенного в истине христианства
и потому чуждого как сервилизма мысли, так и натянутых
«согласований» или заигрываний со светскою наукою.
Все у него твердо и прочно; сторонних вопросов нет; и если
преобладающая задача духовно-академической философии —
апологетическая, то свою задачу Голубинский понимает как задачу честной,
бескомпромиссно верующей догматики. Что касается его
философского направления, то я решаюсь, вопреки высказывавшимся
суждениям, утверждать, что Голубинский в своем преподавании прежде
всего вольфианец. И опять производит впечатление, что он
привержен вольфианскому рационализму не в силу простой преданности
академической традиции и консерватизма, а в силу непорочного
убеждения. Он прекрасно знаком с тонкими подчас оттенками
между столь забытыми теперь оруженосцами славного марбургского
философа. Не менее хорошо знаком он с критикою Канта, с
обманчивым алогизмом Якоби, с пропитанными потом наукословиями
Фихте, с парениями Шеллинга, но он твердо знает преимущества
предметного рационализма Вольфа и он убежденно и вполне
оригинально отстаивает философию по его идее, хотя и рассматривает
ее под исключительным углом богословского зрения.
Больше всего и яснее всего это сказывается в его учении о
категориях*. Лишь в «Лекциях по умозрительной психологии»**
Голубинский как будто больше подается — что вполне естественно,
если иметь в виду развитие самой философии его времени —
новым веяниям и более независим от вольфовской психологии.
Наибольшую симпатию он обнаруживает к Якоби, — что покажется
противоречием лишь тому, кто не свободен от традиционных схем
немецкой истории философии, — затем к Платону, которого обиль-
* Лекции философии проф. Московской Духовной Академии Ф. А. Голубин-
ского. Из Чтений в Обществе любителей духовного просвещения. Вып. III.
Онтология. М., 1884.
** Умозрительная Психология (Записаны со слов его студентом Назаревским
и другими). М., 1871. В издании «Чтений» (с незначительными дополнениями).
М, 1898.
210
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
но цитирует, к некоторым отцам церкви и к позабытому уже Пуаре
(1б4б—1719), — что, пожалуй, более неожиданно и что придает ему
несколько мистический оттенок, прекрасно, однако, вяжущийся — и
вообще, и у Голубинского — с рационализмом. Под умозрительной
психологией Голубинский разумеет ту часть метафизики, которая
исследует сходство, отношение и связь человеческого духа с
Абсолютным Существом, возводя к идее о Бесконечном «наблюдения
внутреннего чувства или акты нашего сознания». Неизвестно, насколько
точно студенческая запись воспроизводит мысль профессора, но
это отождествление «сознания» и «внутреннего чувства» уже дает
право характеризовать его как психолога. С другой стороны, однако,
и метафизический спиритуализм (типа Лейбница) впадает иногда в
ту же ошибку, и потому важнее подчеркнуть, что независимо от
этого отождествления Голубинский излагает умозрительную"
психологию по идее не психологизма, а онтологизма. Его психология может
быть прямо названа теистической онтологией души. Правильнее ее
сопоставлять не с психологическим спиритуализмом, а с чисто
метафизическим — лейбницевским, противопоставляя, напр.,
пантеистической онтологии души у Спинозы. Симпатии к Якоби,
оказывается, не мешают Голубинскому, а Платон и отцы церкви, конечно,
на его стороне, — впрочем, и самого Якоби он, кажется, относит к
философам, восстанавливавшим платонизм. Наиболее
оригинальною у Голубинского мне представляется его попытка сопоставления
человеческой души с Абсолютным сущим путем разбора свойств
последнего и анализа того, какие из этих свойств могут быть сооб-
щимы конечному духу, или, что то же, какие из них допускают
степени. Необходимое существование («невозможность небытия»),
существование от себя (независимое), полнота бытия и совершенств,
неизмеримость и везде-присутствие, отрешение от ограничений
времени — эти качества конечному существу не могут быть
свойственны. Но существование и самодеятельность, во-первых, и
духовные совершенства, хотя бы в начатках и ограниченных степенях,
во-вторых, могут и должны быть уделены существу конечному. Далее
у Голубинского следует изложение учения о душе применительно
к онтологическим категориям. Он признает, хотя и ограниченную,
субстанциальность души, связь души и тела понимает, в согласии с
«здравою философией», как причинное соотношение, в учении о
силах души ближе всего подходит к Платону, происхождение души во-
Очерк развития русской философии
211
обще понимает как творение «из ничего», в вопросе же, наконец, о
происхождении души в каждом отдельном человеке он более
склоняется к традиционизму, чем креацианизму, хотя и первым
удовлетворяется не вполне. Таким образом, если не решения, то постановки
вопроса в общем у него соответствуют католической схоластике.
Учение Якоби об источниках познания ложится в основу и
общего понимания философии. Благодаря Якоби удалось составить
формулу, как бы примирявшую в себе платонизм с Кантом, а также
с идеализмом Фихте-Шеллинга и даже с Гегелем, — может быть,
потому, что эта формула существенно правильно передавала
действительное отношение познавательных сил в сознании. Она широко
была воспринята нашей духовной философией, хотя отнюдь
принципиально не связана ни с теизмом, ни со спиритуализмом.
Философия, по Толубинскому, имеет своим предметом силы, законы и
основания природы и духа человеческого, равно как и свойства
Виновника их, Высочайшего Существа. Соответственно, как система
познания, философия опирается на опыт внешний и внутренний, с
одной стороны, и на идеи ума, которые направляются на порядок и
красоту целого, но также на предполагаемые невидимые силы,
скрытые под видимою оболочкою чувственных явлений. Функция
интеллекта (рассудка) при этом остается исключительно формальной, его
дело — вносить единство в разнообразие, распределяя последнее
по родам и видам. Однако это все — лишь естественные
источники познания. Над ними — главный и первый источник. Откровение
Единого, Истинного и Премудрого, которое, в свою очередь, есть
откровение естественное, посредственное и непосредственное, само
Слово Божие. Если понимание «естественного» познания, как
откровения, вносит известный мистицизм в философию, то, очевидно,
«Слово Божье» есть для философии источник принципиально
гетерогенный, делу посторонний. Голубинский это выражает, запрещая
философии выходить за пределы непосредственного откровения.
Но так как сверхъестественное откровение для него несомненней-
ший источник несомненнейшего познания, то, разумеется, с точки
зрения принципиально философской Голубинский должен быть
квалифицирован как скептик.
Скептицизм духовной философии был, понятно, односторонен,
и потому защита прав философии, как такой, необходимо носила
двусмысленный характер. Отсюда колебания, оговорки, неизбежные:
212
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
«с одной стороны» и «с другой стороны». Ближайшим образом этот
скептицизм определяется своим прямым направлением на
рационализм. Его специфическое определение есть: антирационализм.
Отсюда несколько, как может показаться, внезапные симпатии к
«опыту». Их источники, однако, легко понять, если иметь в виду, что
присущий истинно религиозному сознанию мистицизм не мог служить
убежищем для антирационалиста, потому что мистицизм
необходимо допускает такую свободу религиозного переживания и
выражения, которую церковно-организованное исповедание, и более
пытливое, чем восточное православие, выносить не могло бы или не
должно бы. Требовалась какая-то особая «здравая философия», на
задачи которой забрасывались какие-то невразумительные намеки и
осуществление которой историк философии едва ли бы сумел
разыскать в своих архивах, хотя к имени ее у нас взывали прилежно.
Изобретение Якоби было бесценною находкою. «Вера», которая есть не
что иное, как «разум», с полным сохранением трансцендентности их
объекта, — что могло быть лучше? Того ясного факта, что «разум» в
неискаженном рационализме издревле не смешивался с рассудком и
сам становился источником мистического энтузиазма, не умели
разглядеть, — по причине коренной и неискоренимой путаницы, в
которой вязла духовная философия. Рационализм деистический,
исторически иногда соединявшийся с рационализмом философским, но
существенно с ним не связанный, отпугивал от себя, как крест —
Мефистофеля, робкую и прислужливую духовно-академическую
философию нашу*. Не вникая в суть дела, она шарахалась в сторону от
философского рационализма, за которым всегда ей чудились деизм
или натурализм или открытый даже атеизм. Скептицизм, как
антирационализм, был даже не убежищем, а смятенным бегством. Куда,
однако? В какое убежище? Теизм и супранатурализм были уже чем-
то вроде положительного утверждения, но крайне неопределенного.
Якоби только приоткрывал это убежище — внутри его царили
потемки. Где в нем приютиться? Как бы не оказаться у ступеней
кафедры протестантского проповедника или не склонить колени перед
оконцем католической исповедальни...
*Ср. небезызвестные нашим духовным философам того времени книги:
Stäudlin С. Fr. Geschichte des Rationalismus und Supernaturalismus vornehmlich in
Beziehung auf das Christenthum. Göttingen, 1826: Ibid. Geschichte und Geist des
Skepticismus vorzüglich in Rücksicht Moral und. Religion. B. I—IL Lpz., 1794.
Очерк развития русской философии
213
Для дальнейших утверждений оставался свободный выход. Мы
видели колебания Сидонского и его простодушную апелляцию к
внутреннему опыту. Карпов, уже проникавшийся Платоном и уже
христианизировавший его, смутно бродил между эпигонами Канта
и тем же внутренним опытом. Голубинский выбрал философский и
историко-философский, пожалуй, наиболее благородный путь
восстановления философского догматизма, помятого критикою Канта,
но ободренного изворотом Якоби и своей восстанавливавшейся
платонической генеалогией. Другие выбирали иные пути. Значительное
обогащение в наши философские построения внесла в этом смысле
Киевская духовная академия, оживившаяся после преобразования
1819 года. До начала 1830-х годов философское преподавание
оставалось здесь на латинском языке и в обязательном вольфианском
духе. По почину архим. Иннокентия, ректора академии, с 1831
года вводится преподавание на русском языке; обязательный (по
предписанию Комиссии духовных училищ 1826 г.) и для слушателей и
для профессоров Винклер мало-помалу оттесняется, профессора
составляют собственные курсы. Как и в других академиях, они, если не
ставят своих оригинальных вопросов, то все же ищут более или
менее самостоятельных ответов на кардинальный вопрос теистической
философии об отношении веры и разумного знания. С 1819-го
года (и по 1849) профессором философии в Киевской академии
состоял воспитанник Петербургской академии протоиерей Иоанн
Скворцов, философ мало одаренный и преподаватель, в содержание
философских изысканий, видимо, не весьма любивший углубляться.
Кроме официально одобренных вольфианцев, он рекомендовал
студентам Круга, и, как мы видели, для Карпова, его ученика, это
оказалось не без пользы. Круг был кантианцем весьма покладистым, да
кроме того профессора сами умели соединять и плохо соединимое.
Скворцов, одним выбором Круга уже ставивший себя между
Кантом и теизмом, пошел по линии наиболее упрощенного действия.
Он — «антирационалист», — невзирая на вольфианские дрожжи, —
и, по-видимому, больше верил Эшенмайеру, чем Якоби. Скворцову
принадлежит ст. «О философии Плотина» (ЖМНП. 1835. X —
схематическое изложение с резко отрицательным отношением). Статья
приписывается Скворцову в «Биографическом Словаре»
Иконникова. Она не подписана, но датирована: «Киев». В августовской книжке
журнала за тот же год помещена статья так же датированная и, нуж-
214
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
но думать, также принадлежащая Скворцову, «О философии Эшен-
майера», содержащая в общем сочувственное, но до пустоты
схематическое изложение взглядов этого философа. Ему же принадлежит
ст. «Критическое обозрение учения древних об истинном благе
человека» (ЖМНП. 1848. III. См. Ященко. Указатель... С. 32). Первою
печатною работою Скворцова Ив. Малышевский («Т]эуды Киевской
Духовной Академии». 1863. Авг. С. 438-439) называет его курсовое
сочинение (1817 г.) «О составе человека», написанное, по словам
Малышевского, в духе тогдашней антропологии и
рассматривающее «человека-христианина в цельности его жизни естественной,
телесно-душевной и благодатнодуховной». По поводу источников
философии Скворцова Малышевский здесь же («Ив. М. Скворцов,
кафедральный протоиерей Киево-Софийского Собора...» С. 453-454)
сообщает, что Скворцов «особенно уважал Лейбница, Канта, также
Шеллинга, Фихте и Гегель не нравились ему...», а по поводу общего
его направления, что «в воззрении его философские идеи
стремились гармонироваться с началами откровения и сближаться с
выводами наук естественных, с которыми, особенно науками физико-
математическими, он был очень знаком». В лице Скворцова, таким
образом, мы получаем один из первых образцов той безвкусной
смеси текстов Св. Писания и цитат из популярных
естественнонаучных книжек, которыми, в целях «гармонирования», до последнего
времени пестрили произведения духовно-академических писателей.
Скворцову удалось открыть способ обращения с философией,
удовлетворявший идеальным требованиям духовно-академических
программ. Он сделался образцом и авторитетом, которому
предоставлено было только следовать и подражать. Может быть, самая
тонкая вещь в нем — его уменье «философствовать» без содержания,
ограничиваясь лишь формально-логическими сопоставлениями
философских формул и положений. Еще яснее, чем в его статьях,
печатавшихся в ЖМНП, эта манера проявляется в его незаконченной
предсмертной статье-исповеди. И еще лучше она передана в
изложении философских взглядов Скворцова, сделанном его учеником
Д. П. [Поспелов]*.
* «Труды Киевской Духовной Академии». 1863. Авг. «.Последнее сочинение
протоиерея Иоанна Мих. Скворцова» (С. 512-524) и «Два слова по поводу этого
сочинения». Д. П. (С. 500-511).
Очерк развития русской философии
215
Д. П. констатирует, что последний, предсмертный взгляд его
учителя на философию не был благосклонен к последней,
напротив, «был исполнен недоверия, сомнения...». Автор спешит
отвергнуть возможное предположение, и совершенно естественное, что
это — только разочарование старости философа, он категорически
утверждает, что разочарования не было никакого «потому именно,
что и в прежних его воззрениях на эту науку, насколько они нам
известны, не было никаких следов очарования ею». Скворцов не был
поклонником ни одной философской системы, «его в высшей
степени строгий, математически точный, трезвый и последовательный
ум не позволял себе ни на минуту увлечься каким-либо
выспренним парением гениальной мысли, если она в основаниях и выводах
своих не согласовалась с истиною слова Божия и здравого разума, и
любил одну только чистую, простую истину...». Едва ли можно найти
другой пример такого уничтожающего, уничижающего, унижающего
отношения ученика к учителю! Зато сколько угодно в наших
духовных академиях можно найти таких же примеров и учеников, и
учителей, выдающих уровень и тонкость ума духовно-академической
философии.
Из философских учений, продолжает Д. П., «заметно сильное
впечатление» на Скворцова произвели учения картезианской и
особенно лейбнице-вольфианской философии. «Но это более или
менее полное успокоение его на скрижалях лейбнице-вольфианской
философии во всяком разе продолжалось очень недолго и по всей
вероятности было неглубоко. Проникший наконец и в пределы
наших духовных школ, холодный свет критической философии скоро
заставил его воспрянуть от этого догматического сна...». Однако и к
критической философии, как и ко всякой другой, Скворцов
относился «критически».
Эту свою характеристику Д. П. оправдывает далее изложением
учения Скворцова. Мыслящий дух человеческий не есть существо
безусловное, его мышление не есть абсолютное и творческое.
Истина есть данное, нами воспринимаемое и познаваемое.
Первоначальное отношение духа к истине есть отношение восприятия, чувства.
«Непосредственное чувство истины есть вера в обширном смысле».
Тут — первая форма познания, основа всего умственного развития.
Следующая ступень — стремление уразуметь непосредственное
содержание веры, возвести веру на степень знания. Из этого стремле-
216
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ния возникает наука и философия. Это знание не есть отрицание
всего первоначально данного в сознании. «Философ, отвергающий
всякую веру, и сам не заслуживает веры. Итак, философия должна
основываться окончательно на вере, на признании некоторых
положительных в самой разумной природе нашей положенных
Богом истин, на непосредственном, так сказать, общем всем людям
разуме...».
Первая обязанность философии — путем анализа разумной
природы нашего духа открыть в ней первоначальные основные
элементы истины и, очистив их от посторонней примеси, изложить в
ясных и точных понятиях. Совокупность этих истин составила бы
то, что называется philosophia prima. Но философствующий ум
человека не может довольствоваться этими первоначальными
истинами, «он стремится к полному и всестороннему познанию целости
всех вещей — к полной совершеннейшей истине». Это — philosophia
secunda. Под силу ли это человеческому уму, «создаст ли [он]
одними усилиями своего гения такую систему знания, которая
удовлетворяла [бы] врожденному нам стремлению к истине? Вот вопрос, на
который профессор философии не решался отвечать
положительно, или, лучше сказать, отвечал отрицательно». Но это стремление
должно быть удовлетворено, душе должен быть дан покой и мир; -
«и этот мир и дается ей, но не силою ума человеческого, а силою
Духа Божия, и не в философии, а во Христе Иисусе, Источнике
всякой истинной Мудрости и разума. Истинная философия, как
говорили и отцы церкви, есть путеводительница ко Христу, и Христос
есть и Путь и Истина и Живот наш. В этом-то посредничестве
философии между естественным разумом и христианством и состоит ее
истинное значение и достоинство».
Изложение Д. П. в общем заслуживает доверия, так как
согласуется с тем, что нам известно из печатных работ Скворцова, — все
они проникнуты тем же скептическим разочарованием, которому
не предшествовало искреннего очарования. С теоретической
точки зрения может представить несомненный интерес вопрос о том,
как связать философский скептицизм, порождаемый богословскою
догматикою, с догматизмом вольфианства? Однако ответ на этот
вопрос тотчас разочаровывает наше любопытство, лишь только мы
подойдем к нему со стороны истории философии. Этот скептицизм
просто включается в то пестрое и занимательное разнообразие вое-
Очерк развития русской философии
217
приятия, пониманий и интерпретаций кантовской философии,
которое, как песком, засыпает пространства, отделяющие друг от друга
вершины самого Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, пока этот песок,
в свою очередь, не покрылся разноцветным гравием фихтеанцев,
шеллингианцев, гегельянцев. Скворцов интимнее всего себя чувствует
с теми стихиями Канта, которые несут с собою именно скептицизм.
Догматическая часть самого Канта, его утверждение творческой
способности рассудка, просто, без труда, колебания и сожаления,
обходится Скворцовым. Зато кантовское убеждение в импотенции
разума весьма приветствуется. В недоконченном предсмертном
сочинении Скворцов пишет: «Разум философский хочет быть
творцом, и творение его едва ли не есть творение из ничего, то есть, из
одной возможности вывод всего существующего». Это — прямо
против вольфианства. И в то же время Скворцов делает вид, что берет у
Канта «непоколебимое» основание философии, — к декартовскому:
«самосознающий дух наш существует» он добавляет «с Кантом»:
«существует нечто от вечности». Но как раз в таком положении на один
грамм Канта приходится, по крайней мере, ведро Вольфа, потому
что здесь та же «возможность», из которой нельзя вывести и зерна
«существующаго». Скворцов, таким образом, может быть признан
«критицистом» лишь cum grano cantus166.
В «Критическом обозрении Кантовой Религии в пределах
одного разума» (ЖМНП. 1838. Янв. С. 44-99) Скворцов яснее показывает,
что признается им у Канта и что отвергается. Чщ важные истины,
по его сувдению, открыл Кант в философии: (1), что разум наш
недостаточен в познании вещей сверхчувственных; (2), что начала
нравственности, основанные на понятиях удовольствия и
неудовольствия, не нравственны, и (3), что человек по природе поврежден
или развращен. Приняв эти три отрицания Канта, автор воздвигает
еще два — уже против самого Канта: против деизма Кантовой
религии, отдаляющей Бога от человека и человека от Бога, и против
натурализма, не допускающего ничего сверхъестественного и
поклоняющегося одному практическому разуму. «Злонамеренным
противником христианства», однако, сей натуралист не был. Он хотел
согласить учение Откровения с учением своей философии, но опыт
показал, что такой взгляд на религию ненадежен, ибо всякая
философская система есть изобретение человеческое, всегда неполное и
несовершенное. «К большей славе Откровения, усматривается, что
218
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
все лучшее в Кантовой религии заимствовано из Евангелия, а все
худшее принадлежит собственно Кантовой философии». С этим
собственно нужно согласиться, и это — более остроумно, чем
полагал, вероятно, сам автор, ибо его аргументация против кантовского
учения о роли разума в деле веры не столь остроумна и далеко не
стоит на философской высоте того «худшего», что принадлежит
Канту. Конспектируя трактат Канта, названный в заглавии статьи, автор
время от времени прерывает свое занятие замечаниями, в которых
философского содержания немного и тенденция которых
наивно проста: мнимое совершенство разумного познания и полнота
сверхразумного Откровения. Разум не в силах изъяснить того, что
сверхразумно, и тут, кроме Откровения, обращаться не к чему — это
тавтологически ясно. В самом же Откровении Скворцов проблемы
уже не видел и видеть не смел. Его восклицания и вопрошания,
направленные против слов и выражений Канта, никакой философской
идеей не одушевлены.
В изданном в 1869 г. по случаю 50-летнего юбилея академии
«Сборнике из Лекций бывших профессоров Киевской Духовной
Академии» помещены «Записки по нравственной философии»
протоиерея Иоанна Скворцова, отличающиеся совершенно притупляющим
здравомыслием. У нас и это называют «философией»... Но тогда
нужно вычеркнуть из философии имена Платона, Спинозы, Гегеля и под.,
а повести ее от Экклезиаста и Соломона премудрого167, через семь
греческих мудрецов и Цицерона, до Смайльса и нашего
отечественного духовного учения о нравственности — с тем, однако, чтобы
вынести социологическое обобщение о катастрофическом регрессе в
истории философской мысли. С 1850 г. Скворцов преподавал в
университете, по выражению его слушателей, «божественную логику».
В общем Скворцов, пожалуй, самый консервативный из духовно-
академических философов, сознавших необходимость сдвинуться с
мертвой точки вольфианской философии и в то же время хотевших
сохранить уже установившуюся традицию, которая, надо думать, и
разумелась под загадочным именем, фигурирующим почти у всех
официальных философов, «здравой философии».
Приведу следующее, мне кажется, авторитетное заявление в
подтверждение своей мысли, что, с одной стороны, в духовных
академиях старались не нарушать связи с вольфианством и что, с другой
стороны, может быть, под энигматическою «здравою философией»
Очерк развития русской философии
219
разумели именно привычное вольфианство. «Усвоив простые
элементы здравой философии, определившиеся в прежнем догматико-
логическом направлении, наука наша обнаруживает стремление к
более свободному и самостоятельному философствованию,
опирающемуся на более глубоком и многостороннем знакомстве с
миром философской мысли». Так характеризовал проф. Малышевский
развитие философии в Киевской духовной академии, но, очевидно,
это — характеристика общая, тем более, что большинство духовных
философов в рассматриваемую эпоху дано было именно этой
академией (Проф. Малышевский Ив. «Историческая записка о состоянии
академии в минувшее пятидесятилетие. Речь на торжественном акте
Киевской Духовной Академии в 1859 г.». С. 104). На вольфианскую
философию в духовных академиях смотрели как на здравую, (1), потому
что уже было налажено согласование ее с догматикою, а (2), потому
что к ней привыкли — привычное же, как известно, по логике
здравого смысла и есть здоровое. Отвергать «привычное» значит, по этой
же логике, вырывать почву из-под всяческой истины. В обобщающем
определении, можно было бы сказать, краеугольным камнем здравой
философии является положение, что есть истины, которых нельзя
отвергать, иначе разрушится всякое знание и всяческая добродетель.
Получается та самая здравая философия, которую Гегель высмеивал в
лице Круга. Понятно, почему Круг пришелся по вкусу духовным
академиям, понятно, почему и всякое другое стерилизованное
кантианство могло претендовать на место традиционного вольфианства.
Иначе отнесся к проблемам, заключенным в теизме, другой
профессор Киевской академии, ее же воспитанник, Петр Семенович
Авсенев, впоследствии архимандрит Феофан (род. 1810, преподавал
философию с 1836 по 1850, а затем настоятель посольской церкви в
Риме, ум. 1852). Неопределенность Якоби могла его так же мало
удовлетворить, как и Голубинского. Но в то время как последний
укреплялся на твердынях онтологизма, Авсенев ринулся в
психологический водоворот «сверхчувственного», с искренним, видимо,
сознанием и риска, и упоения риском. Но энтузиастическому профессору
скоро было указано русло более гладкое и менее глубокое. (См.: «Из
Записок по психологии» архимандрита Феофана Авсенева в выше
цитированном «Сборнике».) С какою-то беззастенчивою наивностью
редакция («Д. П.» — проф. Д. В. Поспелов) «Сборника», перед тем
поведавшая историю злоключений Авсенева в его поисках, сообщает,
220
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
что в ее распоряжении «находится еще несколько статей, довольно
значительных (напр., "О бесновании, магии и волшебстве", о
языческих оракулах, символика природы и пр.), помещение коих в
настоящем Сборнике признано однако ж неудобным...». Так как по
некоторым нелепым причинам (С. 27 прим.) в этом издании выпущены
и другие статьи автора, то его вообще нужно признать
фальсифицированным источником для изучения воззрений Авсенева. К тому
же, некоторая часть «Записок» напечатана по студенческой записи,
хотя просмотренной и одобренной к классному употреблению, но,
разумеется, не имеющей значения аутентичности. Обо всем этом
приходится только сожалеть, потому что сама личность Авсенева
привлекает к себе внимание. Его репутация как философа ставилась
высоко: «Его имя, — сообщает автор некролога, посвященного Авсе-
неву (ЖМНП., 1853. Ч. LXXII. С. 102), — долгое время во всех учебных
округах Духовного ведомства, после имени Ф. А. Голубинского, было
синонимом философа».
Авсенев, мыслитель ума живого, может быть, даже
экзальтированного, но неподдельного религиозного чувства и искренних
убеждений, не боялся, очевидно, того, что казалось страшным
официальному надзору за верою. Авсенева тянуло к себе «сверхъестественное»
в его ближайшем соприкосновении с жизнью человека во всех
исключительных проявлениях нашей психики, как сомнамбулизм,
ясновидение, лунатизм и всякого рода обнаружения
«бессознательной» сферы души, — того, что Шуберт удачно назвал ее ночною
стороною, Nachtseite. Психологи Шеллинговой школы, как Карус,
Бурдах, Шуберт, и в особенности последний, обнаруживали живой
и повышенный интерес к этим сумеречным состояниям души с их
экстравагантными и фантастическими проявлениями. Естественно,
что Авсенев нашел для себя в Шуберте излюбленного
руководителя. Одно это должно было уже навлечь подозрение на Авсенева. Как
истый шеллингианец, Шуберт, а за ним и Авсенев, чувствуют
влечение к установлению таких параллелизмов двух порядков жизни, и
в особенности в области указанных явлений, которые, несмотря на
всю фантастичность, слишком сближают физическое и духовное, а
равно земное и небесное, и кажутся потому слишком
эмпирическими. Ничего не говорящим, но привычным для христианской
философии размышлениям о субстанциальности души, об отражении в
ней божественного образа, о духовной испорченности ее, и проч.,
Очерк развития русской философии
221
и проч., всем таким размышлениям простое углубление в «ночную
сторону» души, если оно не предваряется предохранительной
прививкою какой-нибудь благонадежной гипотезы, грозит и в самом
деле нарушением покоя и безмятежности. В наше время мы хорошо
уже знаем, что подобного рода психологические экскурсы,
сбивающие с толку недоучек, проливают иногда мягкий и теплый свет для
людей подлинно религиозного вдохновения на их собственное
сознание, а для науки могут служить источником поразительных
открытий и разоблачений тайн человеческой души.
Но профессор — бытие относительное и неустойчивое, а
начальство и по научным вопросам всегда имеет собственное мнение,
разительною приметою которого служит неизменная устойчивость.
И вот, когда Авсенев начал свое преподавание в духе Шубертова
шеллингианизма, он тотчас испытал соответствующее воздействие
«со стороны лиц, внимательно и сочувственно следивших за ходом
и направлением философской мысли в Академии». Профессор
придал своим лекциям «более благоприятный вид», но «все-таки
продолжал возбуждать разного рода сомнения и недоумения». Курс был
подвергнут еще раз новой переработке.
Эти случаи давления на научную совесть профессора оставляют
тем более тягостное впечатление, что они касаются именно науки и
только науки. Религиозная и богословская благонадежность Авсене-
ва была вне подозрений, как и его покорность следовать указаниям
начальства. Да только это и давало возможность оставаться все-таки
на кафедре. По-видимому, Авсеневу пришлось подвергнуться
давлению, во-первых, со стороны ректора, впоследствии знаменитого
проповедника архиепископа херсонского Иннокентия (Иван
Борисов), и, во-вторых, киевского митрополита Филарета
(Амфитеатрова) (ср. цитир. «Сборник», прим. ред. С. 26-27,68,71-73, и читанную
на акте в день празднования 50-летнего юбилея академии «Речь»
проф. Малышевского. С. 118-119, где говорится: «Но и самих
философов наших архипастырь-молитвенник поучал пленять разум в
послушании веры, сдерживал их смелые парения, более доверяя
философии Скворцова, чем Феофана», и в прим.: «Известно, что экзамены
по философии, производимые митр. Филаретом, иногда дорого
обходились Феофану. Он только кротко покорялся своей судьбе,
искренно уважая чистоту побуждений, вследствие которых нападали
на его философию»).
222
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Об Иннокентии уместно сказать несколько слов. Воспитанник
Киевской академии (магистр I курса Академии), замечательный
проповедник, он был также выдающимся профессором и ректором
академии (1830-1840). В его ректорство академия стала на ноги; его
роль аналогична в этом отношении роли митр. Платона (Левшина)
для Московской академии. Его лекции по основному богословию (см.
тот же «Сборник» и «Венок» Погодина. С. 26), или, как он сам
называл, «религиозистике», проникнуты серьезным философским тоном
и обнаруживают его весьма широкое и понимающее знакомство с
философией, включая и современные ему учения (любопытно
отметить его ссылки на Шада, 5, 298). Это не мешало, однако, ему в своих
лекциях составлять звукосочетания, смысл которых трудноуловим.
Например, для чего Бог не назвал животных сам, задается он
вопросом, а препоручил Адаму? «Без сомнения для того, чтобы доставить
Адаму случай к упражнению своего ума. Из наречения имен
животных, сделанных Адамом, видно: а) что Адам имел большую силу ума;
ибо маломыслящему Бог не сделал бы столь высокого поручения-
Многие языки еще и теперь недостаточны к названию всех
животных; мы например часто пользуемся в сем случае именами
греческими. Отсюда вытекает то, что ум первого человека имел очень
хорошие сведения о царстве животном». И т. п. Как совмещались с этим у
него отличные суждения о Канте, Фихте, Шеллинге, Беме и т. д.? Что
же оставалось у слушателей, обладавших научными и
философскими интересами? И все-таки в то же время, как сообщают историки
академии, в 1830-х и 1840-х годах в ней особенно процветала
философия. Это подтверждается и фактами: Новицкий (магистр V курса,
1827-1831 г.), Михневич (магистр VI к, 1829-1833), Гогоцкий
(магистр VIII к, 1833-1837), позже Юркевич (магистр XV к, 1847-1851),
Авсенев (магистр одного выпуска с Михневичем) начал преподавать
только с 1836-го года, Карпов и Новицкий раньше, так что
собственно лишь Гогоцкий был учеником Авсенева. Приписать это
возбуждение интереса к философии одному Скворцову невозможно*, как
* Лишь Карпов (магистр II курса, 1821-1825) — его непосредственный
ученик; сам Иннокентий (магистр I курса, 1819-1823) также ученик Скворцова, но,
по-видимому, весьма независимый. Ср.: Биограф. Записку о преосв. Иннокен-
тие, преосв. Макария, епископа Тамбовскаго «Венок на могилу высокопреосв.
Иннокентия, архиеп. Таврического», изданный М. Погодиным. М, 1867. С. 22.
Очерк развития русской философии
223
по его направлению, так и по его недаровитости. Несомненно, этим
академия была обязана, может быть, в большей степени
Иннокентию, интерес которого к современной философии совпадал с
настроениями времени. Есть, например, даже указание, что Карпов и
Михневич читали в академии эмпирическую психологию по
методу, предначертанному Иннокентием («Воспоминания иеромонаха
Иосафа» // Венок... Изд. М. Погодиным. С. 90). Отразившиеся на нем
философские учения ждут своего исследователя. Можно найти
сходство между разделением способностей у Эшенмайера и Иннокентия
(С. 26, 29, 33), но это — слишком общее место, позволяющее делать
и другие сопоставления. Одно время самого Иннокентия хотели
заподозрить в «вольномыслии», в склонности к т. наз. тогда
неологизму (религиозному рационализму), хотя в этом инциденте, кажется,
больше личного, чем принципиального*. Против неологизма им
написана статья, приводимая архим. Гавриилом в его «Истории
русской философии». С. 121-134.
В таком виде, в каком дошли до нас «Записки» Авсенева, влияние
Шуберта все же видно, — и не только в вопросах специальных, но
и общих**. Полным отсутствием физиологических глав, занимающих
видное место у Шуберта, Авсенев резко от него отличается, но то
смешение разделившихся в школе Вольфа психологии
рациональной (умозрительной) и эмпирической, какое наблюдается у
шеллингианцев, налицо и у Авсенева. В этом смысле он ближе к Галичу, чем
к Голубинскому, но он самостоятельнее Галича. Ему приписывают
«мистицизм», но в точном смысле это едва ли правильно. Vulgo168
мистицизм обозначает всякую туманность или возвышенный и
фантазирующий полет духа, в особенности, когда он сопровождается
религиозным пафосом. Это, без сомнения, есть у Авсенева. Преоб-
* См.: св. Буткевич Т. «Иннокентий Борисов». СПб., 1887. С. 58 и ел.; ср. об
этом и вообще о столкновении направлений Иннокентия [неразб.] и моек,
митрополита Филарета у Котовича «Духовная цензура...», по индексу.
** Некоторые суждения Авсенева прямо совпадают с суждениями
Шуберта, ср., например, его «Общее естествословие души» (25 и ел.) и Schubert V. Die
Geschichte der Seele. 2. Aufl. Stuttgart, Tübingen. 1833; первые §§. В статьях,
помещенных в «Воскресном Чтении», Авсенев, повидимому, еще ближе к Шуберту
(например, его ст. «Суббота в природе» и § 8 Шуберта Der Sabbath). Но
знакомство его с новою литературою было, по-видимому, широкое: он знает Канта,
Фриса, Бенеке, Фишера (базельского, которому следовал Новицкий), Каруса,
Бурдаха, Эшенмайера, Гейнрота.
224
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ладает все же у него изложение трезвое и эмпирическое. Под
психологией он разумеет науку, имеющую предметом «изъяснить
являющееся нам устройство и жизнь души из ее чистого существа, дабы
привести человека в истинное самопознание». Источниками
психологии служат не только наблюдение, но также умозрение и
Откровение. Умственная психология есть часть философии, «и как часть,
свою жизнь получает от целого». Психологические идеи сличаются
с философскими и проверяются по ним, но и обратно, как и у
чистых психологистов: без психологического изучения философские
теории будут «шатки и мечтательны». Большое место у Авсенева
занимает, как и у других шеллингианцев, «история души», которую он
делит на три отдела: 1) видоизменения личности (родовые, видовые
и индивидуальные); 2) безличные состояния, и 3) состояния
полного развития. В первом отделе, кроме шеллингианцев, он пользуется
Причардом. Русских он характеризует следующим образом: тогда
как у западных народов преобладает начало личности,
индивидуальности, в России мы видим слияние племен, — характер русский есть
характер универсальный; сношения с Востоком внесли в наш
характер элемент восточный, но мы питаем сочувствие и к Западу.
Медленно у нас зреют науки, но это не недостаток, и предполагает
«великую обдуманность, неторопливость и осмотрительность». В
философском отношении мы не отличились ничем самостоятельно-
оригинальным, но отвлеченные диалектические умозрения,
подобно немецким, едва ли примутся на почве нашего духа: «мы с трудом
понимаем этого рода философствование». Но едва ли разовьется и
эмпирическая философия, подобная английской. «Можно гадать,
что философия у нас будет иметь характер преимущественно
религиозный». В отделе об естественном развитии души, по вопросу об
ее происхождении, Авсенев, возражая последовательно против
теории предсуществования, креацианизма и традицианизма, во всех
находит истинное и хочет примирить их в одном определении.
Авсенев — особенно на первых порах — в увлечении Шубертом
отклонялся от того общего направления, которое принимала
духовная философия. Теистические обязательства этой философии
предопределяли ее следование образцам Якоби, Эшенмайера и под.
С другой стороны, традиция связывала с Вольфом. Авсенев
уклонился к Шеллингу, забывал о Вольфе и, в сущности, был для нас
продолжением «светского» Галича и его усовершением, потому что даже с
Очерк развития русской философии
225
уступками тому же Эшенмайеру Фишеру и подобным, с одной
стороны, Фрису и эмпиризму, с другой стороны, Авсенев оставался
менее эклектическим и более самостоятельным, чем Галич. Для теизма
открывались перспективы дальнейшего движения: Баадер* и
Шеллинг положительной философии. Но с ними мы встречаемся в
другой обстановке, птенцы же Киевской духовной академии вылетали
из своего гнезда, чтобы найти место для новых и иных песен.
Конечно, и в университетах требовалась политическая и
религиозно-нравственная благонадежность, но это было только общее
требование, и здесь не было того специального обязательства,
которым была связана философия в духовной школе. Проект устава
духовных академий формулировал ясно и требовал категорически:
«В толпе разнообразных человеческих мнений есть нить, коей
профессор необходимо должен держаться. Сия нить есть истина
евангельская. Он должен быть внутренне уверен, что ни он, ни ученики
его никогда не узрят света высшей философии, единой истинной,
если не будут его искать в учении христианском, что те только
теории суть основательны и справедливы, кои укоренены, так сказать,
на истине евангельской. Все, что не согласно с истинным разумом
Св. Писания, есть сущая ложь и заблуждение и без всякой пощады
должно быть отвергаемо» (Чистович И. «История СПб. Академии».
С. 192-193).
X
Михневич, Новицкий и Гогоцкий — магистры разных выпусков
Киевской духовной академии — перешли: первый в Одессу в Рише-
льевский лицей, второй и третий — только в 1834 году стараниями
Уварова в открытый университет св. Владимира. Иосиф Григорьевич
Михневич (1809-1885), однокурсник Авсенева, подобно
последнему, также, как будто, симпатизировал шеллингианству и выпустил
опыт популярного изложения этого учения**. Но в то же время его
* Его цитирует уже Скворцов в ст. о Канте.
** «Опыт простого изложения системы Шеллинга, рассматриваемой в связи с
системами других германских философов». Одесса, 1850. Кроме того, им
напечатаны в ЖМНП статьи: «Об успехах греческих философов, в теоретическом и
практическом отношениях» (1839. XII), «О достоинстве философии, ее
действительном бытии, содержании и частях» (1840. II; Вступительная лекция в Лицее),
226
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
определение предмета философии совпадает с определением ее у
Новицкого. Так как Новицкий выразил свои мысли в печати раньше
Михневича, с большею полнотою и с пониманием дела, то
рождается мысль о прямом заимствовании, тем более что рассуждения
Михневича и вообще не отличаются глубиною и тонкостью. Между
тем у Новицкого можно обнаружить уже новое, хотя и слабое
отклонение — в сторону гегелизма. Сознательно или бессознательно,
Михневич отражает это. Дав формальное определение философии
как науки, изучающей все и то, что есть во всем, т. е. всеобщие
начала, первоначальные формы, вечные законы и последние цели
(«О достоинстве...»), он раскрывает содержание философии по
схеме своего рода феноменологии. Разумная деятельность, как во всем
человечестве, так и в индивиде, проходит стадии развития сознания:
промышленное удовлетворение потребностей («история находит их
[художества и промыслы] в ближайшем потомстве Адама»),
появление общественности и гражданственности («ее мы застаем уже у
народов первобытного Востока»), изящная искусственность и «просвет
идеи истины», когда человек творит науку за наукою и создает,
наконец, Науку Наук — Философию, появляющуюся в достигшем
полноты сознания греческом народе. «Отсюда видно, что источником
Философии есть сознание, прошедшее главные ступени своего
развития и потом обращающее их в предмет своего исследования. Это
обращение сознания на самого себя и есть собственно Философия»
(«О достоинстве...», «Об успехе...»). Михневич знает, что именно
Гегель обратил философию в «науку абсолютнаго саморазвития
мысли или в науку сознания». Как такая, философия — знание не
только подлежательное (субъективное), но и предлежательное
(предметное), так как знание субъекта познающего не бывает без знания
познаваемого предмета. Стремясь в своем ведении все соединить с
собою и себя со всем (со-знание, со-ведение), сознание раскрывает
свою деятельность в трех актах: в стремлении от себя к не-себе (от я
к не-я, от человека к миру), от не-себя к себе и от мира и человека к
первой вине всего, к Богу («О достоинстве...»; ср. «Об успехе...»). Огра-
«Задача философии» (1842. VI) и бесцветный учебник: «Опыт постепенного
развития главных действий мышления, как руководство для первоначального
преподавания логики». Одесса, 1847 (2-е испр. изд.: «Руководство к начальному
изучению логики». Одесса, 1874).
Очерк развития русской философии
227
ничиваясь исследованием возможной, необходимой и безусловной
стороны вещей, философия есть наука не эмпирическая, а
умозрительная, «выступающая из идей» («О достоинстве...»). Определение
нимало не мешало автору, с одной стороны, видеть главную задачу в
решении трансцендентно-метафизических вопросов о Боге, мире и
человеке, а с другой стороны, считать, что «основа всех наших
знаний есть душа с ее силами и действиями» («Задача философии...»), и,
таким образом, пребывать в том теистически-спиритуалистическом
сумбуре, в который легко попасть, но из которого трудно выбраться.
Вопрос об отношении религии и науки Михневич разрешает без
особого напряжения ума, заодно перекусывая и запутанный узел о
познании Абсолюта. Языческие философы могли ломать голову над
отысканием первого виновника вселенной, для нас же Откровение
раскрыло эту «таинственную область оснований и начал» («О
достоинстве...»), — «Верховное Начало всего открыло нам себя через
свое Слово в полном свете». Если мы сравним современную
философию с философией греческой, которая не находилась в связи с
Божественным Откровением Христианской религии, мы откроем
и преимущества философии, основанной на вере, и пределы
ограниченного нашего ума, т. е. откроем, «где действует в нас Бог, и где
человек сам собою («Об успехе...»). То, чего недоставало древней
философии, из-за того, что это была лишь чистая работа ума, есть
прежде всего познание свойства Бога быть творцом, а не просто «об-
разователем» материи. Изведав, далее, достаточно внешнюю сторону
видимого мира, древняя философия недостаточно проникла в
собственный внутренний мир человека и не могла разъяснить для себя
также основную тайну первоначального происхождения человека,
откуда проистекала неполнота понятий о бессмертии души и
способах достижения будущего блаженства. В новой философии
проявился необыкновенный и сверхъестественный элемент — Откровение
христианского учения, — и мы теперь вправе заключить, что есть
истины, которых ум сам собою никогда бы не познал, и что,
следовательно, его могущество ограничено. То, чего не мог ум, открыто в
слове Божьем, и чего не мог сделать человек, то сделал сам Бог.
У философии теперь два закона: природный, неписаный, закон
ума, и закон писаный, положительный, закон Откровения. «Только та
философия вводит в святилище истинной мудрости, которая
истекает из ума, нимало не удаляясь от Откровения. Она — по духу нашего
228
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
любезного Отечества, той святой Руси, которая издревле чуждалась
мудрований ума, несогласных с заветными истинами Веры. Она -
по намерениям нашего Августейшего Монарха. Она, наконец — по
свойству самого дела, т. е. по духу и смыслу этой науки, которая
всегда была и не может не быть в тесной связи с религией». Последнее
потому и «наконец», надо думать, что оно — наименее важное.
Пожелание вышецитированного проекта выполняется Михневичем с
избытком, и притом на арене более широкой, чем та, которую
прямо имел в виду проект.
Таким образом, Михневич решился на то, на что не решались
другие духовные философы. Отвергнутая Кантом возможность
познания Абсолютного разрослась после него во всеохватывающую и
энтузиастическую проблему. Против этого скептицизма Канта, как
реакция, возник скептицизм, направленный на могущество,
приписанное Кантом рассудку, но проблема этим не уничтожалась, а
только подчеркивалась. В общем наша духовная философия не была
склонна следовать за решением проблемы у Шеллинга, будучи
напугана его пантеизмом. Выход Якоби и Эшенмайера привлекал как
выход теистический, но он оставался, как было указано,
неопределенным конфессионально. Это, может быть, и придавало
философии Якоби «тепловатость и половинчатость», которые возмущали
Шеллинга и которые, по его мнению, «погубили наш век». Якоби,
утверждал Шеллинг, обманывает многие христианские души и
смеется над непосредственным откровением. Шеллинг уничтожил
Якоби и Эшенмайера, но положительное решение вопроса от этого не
приобреталось. Оставалось или искать нового руководителя, или
решать вопрос своими силами.
Сохраняя симпатии к Якоби, наша духовная философия
попробовала взять в руководство психологию, не особенно вникая в то
различие, обусловленное разницею принципов кантианских, шел-
лингианских и др., которое образовалось в ее направлениях.
Казалось, что психология, как наука о сознании, самопознании, душе,
человеке, становится основою философии, где различий направления
уже не могло и не должно быть. Вопрос об источниках познания ею-
то и должен быть решен. Скептицизм Михневича, мотивированный
только тем, что, кроме закона ума, существует еще Откровение
Слова Божия, где источник познания не нуждается ни в каком анализе,
даже на фоне несамостоятельной и бедной нашей философии, дол-
Очерк развития русской философии
229
жен показаться непонятной скромностью. Между тем пока
антропология и путавшийся с нею спиритуализм вязли в песках эмпирии,
Гегель утверждал сознание на гранитной скале своей
«Феноменологии духа». С первого взгляда трудно представить большую
противоположность, чем Якоби и Гегель, и тем не менее их связывает в одно
вопрос о разуме. Что есть разум, развенчанный Кантом, и что есть
рассудок, посаженный Кантом на философский трон, с
завязанными глазами и заткнутыми ушами? На заданный вопрос подавали
свой голос и было полузабытые, самому Канту известные более по
имени, чем по смыслу, Платон и Лейбниц. Разобраться в этом
нужно было и нужно было или составить общий согласованный хор,
или слушать кого-нибудь одного. Для немецкой философии
характерно было — до раскола гегельянцев или вообще независимо
от него —' возникновение попыток примирять Шеллинга, Гегеля и
антропологию, как, например, у 'фокслера, — Шеллинга и Платона,
как у Аста, — спиритуализм и Гегеля, как у Хр. Вейса, — Лейбница,
Якоби и Гегеля, как у Шллебранда (Jo. Hillebrand), — и т. п. В этом же
стиле — наш Новицкий.
В то время как Михневич, перейдя в университет, перенес туда
свои духовно-академические обязательности, не отличая свойств
новой кафедры от прежней, Орест Маркович Новицкий (1806-1884),
видимо, почувствовал себя свободнее на новом месте и
внимательнее отнесся к его требованиям. Место это было защищено не очень
прочно, менее прочно, чем в духовных академиях, где короткое
предписание преподавать по Евангелию охраняло бытие, хотя и
жалкое, философии. Новицкому, как и прочим, пришлось отстаивать
«достоинство» философии и убеждать в ее пользе тех, кто в этой
последней только и видел критерий ума и цивилизованности.
Впрочем, Новицкий был искренен, потому что как русский философ, он
сам оценивал знание по этому критерию. Но в целом серьезное
содержание и тон его «Речи», произнесенной на университетском акте
1837 года, таковы, что не было бы несправедливо в этой «Речи»
признать первое русское философское произведение, написанное с
истинно философским вкусом, чутьем и сочувственным пониманием
задач философии, как в своем роде единственного и незаменяемого
вида культурного творчества.
«Об упреках, делаемых философии в теоретическом и
практическом отношении, их силе и важности. Речь, произнесенная в торже-
230
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ственном собрании Императорского Университета св. Владимира,
15 июля 1837 г. ординарным профессором философии Орестом
Новицким». Киев: Универс. Типография. 1838. Другие труды Новицкого:
«О разуме, как высшей познавательной способности». ЖМНП. 1840.
VIII, статья, целиком вошедшая в «Руководство к опытной
психологии. Киев, 1840; «Руководство к логике». Киев, 1841 (составлено, как
и «Руководство по психологии», по Фридриху Фишеру, но
воспроизводящее последнего в более свободной переработке, хотя и с
незначительными в общем оригинальными дополнениями). Логика есть
наука о естественных законах мышления, «часть психологии» и как
бы ее продолжение, она имеет характер «естествоиспытания» и есть
«даже естественная наука». Напомню, что по идее самого Шеллинга
логика есть эмпирическое учение (Vorlesungen über die Methode des
akademischen Studiums). Новицкий — Фишер одинаково против как
логики формальной в понимании Канта, так и логики материальной
Гегеля. «Краткое руководство к логике с предварительным очерком
психологии». Киев, 1844 (2-е изд. 1846); «Постепенное развитие
древних философских учений в связи с развитием языческих
верований». Ч. I-IV. Киев, 1860-1861.
Содержание философии, по Новицкому, заложено в глубине
нашего собственного духа. Рождаясь в нем, оно освещает его новым
светом ведения — светом отчетливой мысли. Выступая из себя,
сознание ограничивается сторонними себе предметами познания, и
отражаясь от них к себе, ставит себя центром, а прочие предметы —
окружностью познавания. То и другое отражается в нашем сознании
только идеально, а не реально, потому что действительное бытие
вещей не зависит от нашего сознания и познания. Поэтому сознание
изначально полагает нечто высшее себя и мира, в чем нет ни центра,
ни окружности, что есть единая бесконечность.
Ср. Гегель: Die Philosophie betrachtet zuerst das Logische, reines
Denken, das sich sodann entschließt, als Naturäusserlich zu sein; das
Dritte ist der Geist; а, с другой стороны, Шеллинг, например, Dieses
(тождество идеального и реального) aber ist die Idee des Absoluten,
welche die ist: daß die Idee in Ansehung seiner auch das Sein ist. So dab
das Absolute auch jene oberste Voraussetzung des Wissens und das etste
Wissen selbst ist (V. 2l6)169. А И. Введенский утверждает: «Новицкий...
находился под влиянием Фихте» («Судьбы философии в России:
Философские очерки». Вып. I. СПб., 1901. С. 17). Колубовский (1890 г.)
Очерк развития русской философии
231
высказывает одно за другим два сходных, но не тождественных
суждения: 1. «Фихте нашел себе некоторый отголосок в Новицком».
2. «О. Новицкий... стоит главным образом под влиянием Фихте
старшего...» (С. 536-537). Второе, по крайней мере, не возвышает
Новицкого, первое не умаляет Фихте...
Как наука обо всем, как наука наук, философия исключает все
частное и имеет своим содержанием лишь общие формы и законы
бытия. Как всеобщие, они не могут быть взяты из опыта, а их
первоначально созерцает в себе наш разул, как собственную природу,
созерцает, как закон единства в собственных идеях. «Мир идей есть
родина философии», ибо философия требует непреходящего, вечного,
неограниченного, беспредельного, неизменяемого, существенного,
а это все отражается только в идеях*. Опыт и умозрение действуют
всегда неразлучно, поскольку одно дает содержание, «были», а
другое — формы, «законы», одно — действительность, другое —
единство и необходимость. Темные, в чувстве заложенные начатки
возможного разумного ведения, при обращении сознания к себе
самому, при рефлексии, раскрываются рассудком, как органом
философского познания, и обнаруживаются в высшем свете отчетливого
сознательного знания. Но рассудок есть разлагающая и синтетически
лишь формальная способность, со стороны же содержания только
самодеятельный разум всегда и везде един, сам с собою согласен
и по существу неизменчив. Встречая в философии противоречие
взглядов, разнообразие мнений и борьбу систем, мы не должны
этим поражаться, потому что «противоположность и борьба
составляют существо самого сознания нашего». Только в целом своего
развития, как дело человечества, философия может быть представлена
как единая и стройная система. Новицкий прямо указывает на
Гегеля. Как по внутренней форме, по «внутренней связи и
диалектическому движению мыслей» философия отражает единство и систему
разума, так и по внешней форме изложения в своем строгом методе
и непреклонной математичности философия есть отражение
логических форм рассудка.
Вопрос о вере и знании решается Новицким более в духе
свободно-философском, чем преданно-богословском. Он убежден,
* Ср. ScheUing, VS. 254-255.
232
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
что ни религии, ни государству философия не может быть
вредна или опасна, и он цитирует известные слова Шеллинга: что это
было бы за государство и религия, для которых философия была
бы опасна? Будь это так, вина должна была бы пасть на самое
религию и на государство! За философией должны быть признаны
самостоятельность и свобода мышления. «Буйное своеволие, как исчадие
ада, есть плод неразумения свободы», и в самом разуме проявляется
неотразимое требование веры в высочайшее существо. Все
великие люди, и в особенности замечательнейшие философы, —
представители своего народа, они доводят до сознания то, что темно и
безотчетно таится в духе народном. «Не философы развратили
народ и довели его до ужасов вольнодумства и своеволия, а народ
развратил и портил тех, которые по дарованиям своим могли бы быть
философами». «Безопасность» философии, однако, еще не
доказывает ее полезности. И Новицкий отмечает факт, который он считал
характерным для своего времени, но который в действительности
оказывается признаком доминирующим в истории русской
культуры: «Мысль о бесполезности философии до безмерности усилилась
в настоящее время, когда пользу поставляют выше всего, стремятся
преимущественно к пользе и пользою измеряют и оценивают все».
Для практиков, соглашается он, философия совершенно бесполезна,
но, спрашивает, напоминая своим вопросом еще более острый
вопрос Лессинга, к чему самая польза? Какая цель ее?
«Исключительное стремление к пользе, — восклицает он, — становится, по своим
непременным следствиям, не говорю бесполезным, а вредным и
гибельным для духа народного!»
Из разъяснений Новицкого видны и причины, почему русская
культура пребывает утилитарной: это — принадлежность
определенной стадии культурно-исторического развития. Идея полезного,
утверждает он, есть только первое достижение человечества в
борьбе с враждебными силами природы. Идея правды стоит уже выше.
Еще выше — идея прекрасного. Но и этого недостаточно — выше
мира искусства стоит идея Бога и естественной религии. А человек
все-таки чувствует еще новую и высшую потребность: отдать самому
себе отчет в предметах своего ведения. За естественною верою
следует углубление в себя, «вникание», рефлексия, что знаменует собою
пробуждение в человеке идеи истинного. Тут человек мысли своей
подчиняет собственную свою мысль, тут рождается философия в его
Очерк развития русской философии
233
духе, и тут мысль достигла своего крайнего естественного предела.
Удивительно ли, спрашивает Новицкий, что для искателей пользы
философия кажется решительно бесполезною? Но
последовательность требует освободить философию и от того вида полезной
службы или служения, который предписывается ей не-естественною
религией. И Новицкий высказывает свое суждение недвусмысленно,
чем дает философски достаточный предварительный ответ на
вопрос об отношении откровенной религии и знания. Если в
философии мысль достигает своего предела, то что могла прибавить —
воспользуемся противопоставлением хотя бы Михневича — к
языческой философии философия христианская? Новицкий допускает,
что философия может озариться высшим светом откровенной
Религии, «но это не есть степень ее собственного развития, а дивная
Божественная помощь человеческому роду» (С. 39; курс. — мой).
Таким заключением философская роль религии в сущности
сводится лишь к праву ее задавать философии вопросы, но не
разрешать их за нее. Этим сам собою устраняется и богословский
скептицизм, так старательно прививаемый философии богословием. Но
этим, конечно, еще не разрешена положительная проблема разума.
В ее разрешении Новицкий, однако, не остается на достигнутой им
принципиальной высоте. Он спускается за разгадками этой
проблемы в психологию, и тем не только побуждает других если не к
богословскому, то к эмпирическому сомнению, но и сам теряет то
чувство независимости философии, которым проникнута его речь,
и в особенности последнее приведенное нами разграничение.
В чтении курсов по психологии Новицкий, по собственному
объяснению (Иконников. «Словарь...». С. 513), следовал сперва Эшенмай-
еру, а затем руководствам Каруса, Гейнрота и Фишера (Фридриха,
базельского). Его «Руководство» составлено по Фишеру, на что он и
указывает, с некоторыми незначительными добавлениями, и лишь
его статья «О разуме» вошла в книгу как оригинальная и
самостоятельная глава. Учебник Фишера сам по себе обладает
особенностями, которые должны бы заставить заинтересоваться им, — напр.,
уже упоминавшаяся его теория чувственного восприятия, как
«выступления сознания», или глава о понимании, как непосредственном
специфическом акте, сопоставляемом с восприятием (проблема, к
которой мы только теперь подходим как следует), и т. п.
Самостоятельная глава о разуме представляет для нас, по указанным только
234
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
что соображениям, исключительный интерес. Разум, в отличие от
формально-логического рассудка, есть способность созерцать и
уразумевать предметы мира сверхчувственного или духовного.
Созерцания разума называются идеями. Разумное познание
отличается своею непосредственностью, не может быть почерпнуто из
чувственного наблюдения или фантазии, не посредствуется
понятиями, не выводится из начал и не нуждается в доводах, как знание
рассудочное. Разум есть духовное око, его созерцания — особый
духовный опыт, непосредственно вводящий нас в реальную жизнь
духа. Главные идеи разума суть идея истинного, того, что в мире
духовном есть, идея доброго, того, что должно быть в мире явлений
по отношению к миру высшему, и идея прекрасного, созерцание в
мире явлений того, что может быть, при отношении этого мира к
высшему порядку вещей. Процесс раскрытия идей совершается по
степеням: от первоначальной неясности и неопределенности до
ясного сознания.
(а) Воспринимаемые сердцем идеи разума превращаются в
чувствования истинного, доброго и прекрасного, которые сами у
разных людей имеют разные степени. Здесь всегда вера совпадает со
знанием. Всматриваясь ближе в эти чувствования, мы различаем,
как модифицируются основные идеи в зависимости от предметов
созерцания: души, вселенной и Бога. Они даются в идее истинного,
как созерцание того, что есть, в идее добра, как созерцание того, что
должно быть под формою идей физического совершенства,
нравственного добра и верховного блага, и в идее прекрасного, как то,
что может быть под формою идей красоты природы, духа и
лепоты бесконечной.
(б) Из области чувствований идеи переходят в фантазию,
оплодотворяемую идеями сердца. Здесь они составляют содержание
естественной религии, и как предмет религиозного созерцания, идея
истины есть предмет верования, идея добра — предмет религиозной
деятельности и чаяния, идея красоты — предмет религиозной
символики и сердечного стремления.
(в) Рассудок открывает несообразность между сверхчувственным
содержанием представлений фантазии и их формою предметов
внешнего мира, и фантазия начинает перерабатывать эти формы
в формы, противоположные чувственным формам пространства и
времени, так что идея вселенной созерцается в форме неизмеримо-
Очерк развития русской философии
235
сти, идея души — в форме вечности, и идея Бога в форме
бесконечности. Далее, рассудок с помощью анализа раздробляет эти
непонятные для нас формы и преобразует раздробленные идеи в
понятия (которые называются умственными, идеальными или просто
умопонятиями, иногда также идеями, каковые идеи суть уже идеи
третьей степени), из понятий образует суждения и составляет
умозаключения. Рассудок, таким образом, сообщает идеям
вразумительность, «но вместе с этим унижает их сущность, их беспредельность».
С помощью синтеза рассудок восстанавливает порядок, но тут
обнаруживается расхождение и противоположность обыкновенных
понятий и умопонятий. Относительно идеи истинного: рассудок
замечает во внешнем мире лишь ограниченные порядки явлений, а идея
вселенной указывает на беспредельную цельность; во внутреннем
мире рассудок замечает одно временное бытие, а идея души
напоминает о бессмертии; рассудок познает зависимые причины, а идея
Бога извещает о бытии безусловном. Аналогичные противоречия
раскрываются по отношению к идеям прекрасного и доброго. При
таком распадении рассудок попадает в антиномии, что приводит к
скептицизму, или выходит из противоречий односторонним путем
натурализма, материализма, рационализма, спиритуализма,
пантеизма и проч. Правильный выход один: рассудок должен признать
реальность идей, как и собственных понятий, и, подчинившись
разуму, отказаться от окончательного суда в познании мира
сверхчувственного. Тогда идеи сообщают полноту, гармонию и жизнь
понятиям рассудка, и из надлежащего синтеза их разовьются: Закон,
примиряющий свободу и необходимость, счастье и добродетель, как
средство и цель; Искусство, сближающее конечное с бесконечным,
как форму и содержание; Наука, сочетающая условное с
безусловным, как действие с причиною.
(г) Развиваясь в Закон, Искусство и Науку, идеи переходят из
внутреннего мира во внешний и осуществляются в жизни человека и
человечества. Закон, как выражение добра, развивается
законодательством. Искусство, как выражение идеи красоты, раскрывает ее
богатство в созданиях изящных. Наука, как выражение истины, в
системах науки наук — в философии. Закон, Наука и Искусство — еще
не последнее развитие наших духовных сил и не вполне
удовлетворяют идеальным стремлениям сердца. Безусловное остается
необъятным для знания, не-земное, верховное благо нам еще не дается за-
236
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
коном, и бесконечное в искусстве соединяется с вещественною
формою, но не с нашим сердцем. Этот недостаток восполняется в
Откровенной религии. Она восполняет недостаток идеального знания
верой, ведет к блаженству путем несомненной надежды, и связует
нас с Богом живым союзом любви. Религия есть высочайший синтез
Закона, Искусства и Науки.
Своей теорией разума Новицкий отвечает на наш вопрос, но в
значительной степени и разочаровывает. Он спустился к
психологии, но в действительности дал только схему. Схема может быть
первым шагом к анализу, и психологическому и философскому, но
может быть принята или не принята и независимо от последнего.
Несомненно, в схеме Новицкого немало остроумия, но и большие
уступки той принципиальной позиции, которую он занял в «Речи».
Здесь можно заметить одновременное возвращение от Гегеля и к
догматическому рационализму, и к Эшенмайеру, и даже к Канту.
Догматическое разделение предметов сверхчувственных — вполне
вольфианское. Игра «сердца» остается фактором еще более
неопределенным, чем вера-разум Якоби и Эшенмайера. В праве рассудка на
суд над разумным познанием сверхчувственного отказывает и Кант.
Наконец, все в целом не есть ли пример того «формализма»,
который бичевался Гегелем у Шеллинга и его последователей и которым
тем не менее злоупотребляли многие поклонники самого Гегеля. Что
касается Откровения, как «синтеза» Закона, Искусства и Науки, то
этот синтез появляется подлинно, как deus ex machina170.
Изображение функций разума уже исчерпано; ясно, что к Откровению они не
имеют отношения. В лучшем случае, как говорил Новицкий раньше,
это — свет со стороны, сверху, но не от самого предмета разума, и
только на худший конец можно было придумать то, что получилось
у Новицкого; начертал схемы, разместил по ним все, что ему было
нужно, и опрокинул на все чернильницу... Едва ли это объясняется
только тем, что автор свою теорию излагает в русском учебнике;
вернее это — ratio ignava171 самой его философии.
Якобианская неопределенность теизма, которую, таким образом,
Новицкий перенес из духовной академии в университет, здесь уже
не является серьезным упреком. Серьезнее то, что, прикоснувшись
как-то Гегеля, Новицкий все-таки не сумел или не захотел провести
ясное разграничение между верою-разумом (Якоби) и чистым
спекулятивным разумом (Гегель). Гегель, как известно, и сам признавал
Очерк развития русской философии
237
у себя некоторые точки соприкосновения с Якоби, но резко
подчеркнув и продолжая подчеркивать пункты различия. Осмысленное
усвоение Гегеля русской академической философии было еще не по
плечу. Эпоха еще не созрела. Основные тенденции Гегеля: научность,
методическое развитие процесса, имманентизм, критический
рационализм — оставались ей недоступны. Неоткуда было взяться
нужной для этого философии серьезности. Место научности занимали
потребности сердца; процесс не интересовал, а усваивались только
результаты; имманентизм был непонятен в корне, и не столько по
причине враждебности трансцендентизму, сколько по антипсихо-
логичности. Но есть еще одна тенденция в гегелевой философии,
для которой наша мысль уже созревала и к которой она обнаружила
такую исключительную способность, — как бы последняя ни
объяснялась: врожденным предрасположением или жизненным
воспитанием и культурным развитием русской мысли, — что, может быть,
ее-то и следует считать одною из главных характеристик русской
мысли. Эта тенденция — историзм.
История есть единственная наука, быстро ставшая у нас на
собственные ноги и развивающаяся у нас с поразительной
самостоятельностью. Сама жизнь требовала и требует, чтобы мы через
историю решали проблемы своей культуры, и исторический метод этим
как будто сам собою навязывается нам. Своим запоздалым
вступлением в европейскую жизнь Россия более всего обязана тем, что ее
история должна была стать сознательной историей, сознательно
направляемой и руководимой. Все время отставая от европейских
народов, мы не можем не смотреть на пройденное ими развитие
как на некоторый образец — хотя и не идеал — для себя. Будет ли
пониматься, дальше, задача этой сознательной истории как
творческая задача русской культуры в европейском духе, или как простое
подражание европейским формам, или, наконец, как отказ от
Европы и протест против нее в духе мечтательно-азиатском и в анархо-
моралистическом бесформии, это — уже разница направлений.
Независимо же от направления, проблема самой России, как
материальная проблема и проблема истории и историзма, как
формальная и методологическая проблема, не могли, силою вещей, не стать
основными «национальными» проблемами русской философии.
Не усвоив других тенденций гегелевой философии, Новицкий с
полною отчетливостью усваивает труднейшую идею ее о том, что
238
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
противоположность и борьба есть существо самого сознания, что
каждая идея постижима только в своем исчерпывающем (во «всех
изгибах идеи») развитии ив контексте целого (в «связном
организме») и что это развитие внутренне необходимо, что философия -
истинна в целом движении мысли, а не в какой-либо отдельной
системе, какой бы широкой последняя ни казалась. Если Новицкий,
тем не менее, в явном противоречии этой идее, повторяет пустые
слова о «здравой философии» с ее здравою полезностью, то, может
быть, это просто дань времени, которое он сам же в
соответствующих чертах и характеризовал, а может быть, и это также общая
национальная особенность...
Литературная деятельность Новицкого началась раньше, чем
Михневича. Можно бы предположить общий источник у них, — в
лице их общего учителя, но стоит только заглянуть в статью Сквор-
цова о Канте или в Записки о нравственной философии, чтобы
убедиться, что для «историзма» Скворцов далеко еще не созрел.
Критика Авсенева не только «догматическая». Но наибольшая заслуга здесь,
вероятно, принадлежит Иннокентию. Стоит отметить, что проф. Ма-
лышевский в цитированной выше юбилейной речи усиленно
подчеркивает исторический дух, каким прониклась вся научная
работа духовной академии за первую половину XIX в. (ср. С. 97, 103, 120;
86), и также приписывает выдающуюся роль в этом Иннокентию.
Свящ. Буткевич (см. его «Иннокентий Борисов». СПб., 1887. С. 408)
противопоставляет направление Киевской академии вообще (под
влиянием Иннокентия и м. Евгения), как историческое,
московскому (влияние митроп. Филарета)172 догматическому. Может ли это
противопоставление умов Филарета и Иннокентия служить
априорной характеристикой и научного направления двух академий,
сомнительно. Вопрос может быть решен только сравнением
фактической работы в той и другой академии. Это требует специального
исследования. (Книга свящ. Буткевича никак авторитетом служить не
может; в ее составлении больше участвовали ножницы и клей, чем
даже чернильница и перо, и выводы автора поэтому «случайны».)
В порядке чистой мысли тема «истории» выдвинута была, как
известно, Шеллингом, который несколько раз возвращался к
вопросам о возможности истории как науки, о возможности
философии истории и вообще о возможности философского трактования
исторического (о первой постановке вопроса у Шеллиига см. в моей
Очерк развития русской философии
239
книге: «История, как проблема логики»). Быть может, некоторым
отражением шеллингианского интереса к теме вызвана ст. «О связи
философии с историей» (ЖМНП. 1837. IX). Автор начинает с
констатирования факта: кажется, что между философией, как наукою об
идеях, и историей, общего нет: «Философия стремится к
идеальному. История представляет существенное [существующее?]. Идеальное
возможно для мысли, существенное для жизни. Чтобы, возносясь
духом в области идеального, не потеряться среди воздушных
образов и мечтаний, должно с основательностью исследовать область
существенного, где нас удерживает жизнь и действительность». Одна
из точек зрения, раскрывающих связь истории с философией, есть
история самой мысли философской, тут история —
вспомогательная наука любомудрия. Общее заключение гласит: «Итак, история и
философия должны искать точку соединения в человеческом духе,
который есть единое великое целое. Ход исторических событий дает
главное направление философии, и каждый период истории
обязывает своих философов к разрешению новых вопросов». Из этого
прямо вытекает требование формулировать «новый вопрос» своего
времени. Автор ограничивается, однако, лишь изображением самого
исторического момента, который даст, очевидно, новое «главное
направление философии», предоставляя, по-видимому, самое
проблему формулировать читателю. «Настоящий век имеет свои задачи, и
мы видим с утешением то время, в которое страна, счастливая своим
положением, патриархальными нравами народа, героическою хра-
бростию войска, отеческим правлением самодержцев,
благоразумною системою законов, пламенным стремлением к наукам,
неизменная уставам Вселенской Церкви и следственно не имевшая нужды в
Реформации, сильная верою в Промысл, вступает на первый план
картины современного быта семейственного, гражданского и
религиозного». Это-то благополучие вскоре, действительно, и стало
проблемою.
Понимание историзма как метода можно приписать и Михневи-
чу, потому что едва ли было простою случайностью, что Михневич,
столь близкий к Новицкому, для решения теоретического вопроса,
в чем сила ума, воспользовался таким блестящим приемом, как
сопоставление философии языческой (греческой) и христианской.
Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий (1813-1889), третий из
перешедших в университет магистров Киевской академии, ученик,
240
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
главным образом, Авсенева*, еще в большей мере проникается
историзмом, хотя также не выходит из колеи теистического трансцен-
дентизма, и вопрос о «разуме» и «вере» принимает в постановке и
решении Новицкого, т. е. как вопрос о «разуме» или «вере»**. Кто
сравнит его работу о Канте со статьей о Канте Скворцова, тот
наглядно убедится, какие успехи были сделаны в Киеве в течение всего
десяти лет. Это уже не резонирующее противоположение взглядам
философа суждений «здравого» смысла и восклицаний об «высших»
истинах, а проба через историю добиться положительных ответов
на свои положительные запросы.
С Канта, по толкованию Гогоцкого, начинается новая эпоха,
потому что Кант, признав, что дело философии заключается в
уразумении сущего через мышление, направил философию на само
мышление. Гогоцкий понимает Канта антропологически, и направление
философии на мышление, поэтому, не может понимать иначе, как в
виде самонаблюдения. Тут — наибольшая заслуга, но с этим же
связана и коренная ошибка философии Канта. Раз он признал, что не
мышление вращается около вещей, но вещи около мышления, то это
значит, «что вещи знать нас не могут, что они не в состоянии
сообщить нам и знания, потому что не сами вещи познают себя в нас,
но мы познаем вещи». Поэтому, заключает Гогоцкий, Кант впадает в
противоречие, когда говорит, что именно потому мы не знаем
внутренних законов бытия, что созерцаем их в формах мышления. Но
все же и «самое свойство отрицания критической философии»
таково, что ею возбуждается деятельность самопознания, и она
вызывает противоположное себе положительное направление. Оставляя
*Авсенев сам совмещал одно время (1838-1844) преподавание в
духовной академии и в университете. По сообщению Колубовского («Материалы
для истории философии в России...» // Вопросы философии и психологии.
М., 1890.1,4. С. 12, Гогоцкий слушал философию у Карпова, но Карпов ушел из
Киева в 1833 г., а Гогоцкий поступил в академию в 1833 г. Учеником Авсенева
Гогоцкий сам себя называет («Словарь» Иконникова).
** См. в особенности его статьи в «Философском Лексиконе» (Т. I—IV. Киев,
1857-1873): «Разум», «Идея», «Вера». К рассматриваемому периоду (до 1850 г.)
относятся: «Критический взгляд на философию Канта. Рассуждение,
написанное магистром философии Сильвестром Гоготским, для получения звания
доцента философии в Императорском Университете св. Владимира». Киев, 1847,
и Гогоцкий С. «О характере философии средних веков» // Современник. 1849.
VI (T. XV).
Очерк развития русской философии
241
в стороне историческую и по существу правильность такого
толкования Канта, нетрудно видеть, что Гогоцкии, спасаясь от отрицания
и скептицизма Канта, впадает сам в типичный для психологизма и
спиритуализма скептицизм. Ведь если мы познаем вещи в нас
самих, то это значит, что сами вещи познают себя в нас, и ровно
настолько, насколько они могут проникать в себя.
Для прочего остаются «явления» и «формы мышления», в
которых единственно мы познаем, и значит, внутренние законы бытия,
отличного от «нас», скрыты от нас. Таким образом, «положительное
направление», о котором говорит Гогоцкии, есть тот же скептический
психологизм, который был свойствен и остальным рассмотренным
нами писателям. Зато теизм Гогоцкого, строго говоря, уже не
выводится из «познания самого себя», а связывается с некоторою новою более
интересною космологией, чем космология спиритуалистическая.
Частные заслуги «Критики чистого разума» Гогоцкии видит в том,
что она твердо установила предопытность форм чувственного
воззрения и рассудка, отличала разум от рассудка, как по их предмету,
так и по отправлениям, и что это различие она открыла в том, что
рассудок имеет дело только с явлениями, тогда как разум — с
безусловным. То ограничение прав разума, которое мы встречаем у
Канта, Гогоцкии, понятно, не принимает, но интересно, что и здесь его
внимание останавливает на себе не простое утверждение
познавательных функций веры, а отмеченные самим Кантом противоречия
и антиномии, требующие более высокого разрешения и приводящие
«к признанию в противоречиях рассудка имманентного закона
самого мышления». Это — то зерно, «из которого развилась потом
блистательная система Гегеля и ее диалектический метод». Еще выше
заслуга Канта, по мнению Гогоцкого, в практической философии.
Возвращая здесь разуму то, что отняла у него «Критика чистого разума»,
Кант тем самым утверждает первенство духа над природою и
открывает его свободную и разумную самостоятельность внутри самого
человека. Наконец, заслуга «Критики способности суждения» в том,
что она связывает безусловное с явлениями и раскрывает, во-1-х,
истинное значение изящного, и во-2-х, целесообразное развитие духа
по свободным целям, а не по механическому процессу причинной
связи. Этому последнему факту Гогоцкии придает исключительное
значение, побуждающее и всю Критику способности суждения
рассматривать как высшее достижение Канта, как «фокус, в котором
242
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
сходятся все части философии Канта и заменяют у него прежнюю
метафизику». Он называет учение Канта о телеологическом
суждении «почти пророчественной мыслью», так как в нем
предуказывается, какова должна быть «метафизика, или в собственном» смысле
философия». Понятие цели ведет к единству всех частей целого, и
весь ряд явлений развертывается в стройную, органическую,
замкнутую в себе целость, «где разум выражается в явлениях, а явления
проникнуты разумом». Ясно, что это уже не спиритуалистическая проза
и что мысль Гогоцкого устремляется в направлении того созерцания
мира, которое видит идею Бога во «всесовершенном разуме» и
которое послужило вдохновением Шеллинга и Гегеля. Их Гогоцкий
считает непосредственными продолжателями Канта, расширившими
Канта еще в том отношении, что у них идея Безусловного Существа
устанавливается не на основании только требования нравственной
породы человека, а значительно шире, особенно у Гегеля, который
старается сообщить ей полную действительность*.
«Несообразности», которые Гогоцкий открывает у Канта, по
сравнению со всем сказанным кажутся частными и формальными. Все они
вытекают из отмеченного коренного противоречия, разорвавшего
разум, как мыслящее начало, с сущностью предметов познания, -
«разум остается без способности проникнуть в сущность вещей, а
сущность вещей без возможности быть понятою». От этого, например,
пространство и время суть только субъективные формы, а с другой стороны,
практический разум, составляющий одно с теоретическим, резко от него
оторван. Последствием этого уже является то, что нравственная
деятельность у Канта отрешается не только от представлений блага и счастья,
но даже от представления Бога, как законодателя и мздовоздателя.
Когда, наконец, к этому еще присовокупляется упрек Канту в вытекающем
отсюда «рационализме», то это уже возвращает нас к Скворцову, т. е. к
неразличению рационализма философского и богословского.
«Критический взгляд» Гогоцкого, таким образом, не есть
догматическое противопоставление заученных утверждений и не есть та
пресловутая quasi-имманентная критика — удел бездарности —
которая по отсутствию самостоятельной мысли вылавливает в раз-
* Позже, однако, основной недостаток Гегеля Гогоцкий видит в его
утверждении имманентности Бога, но «Критике способности суждения» по-прежнему
уделяется самое высокое место. См. в «Философском Лексиконе» ст. «Гегель», «Кант».
Очерк развития русской философии
243
бираемом учении одни формальные противоречия и словесную
несогласованность. Критика Гогоцкого проникнута историзмом в
хорошем философском смысле. Ее дух в еще большей степени
сказывается во второй философской работе Гогоцкого — «О характере
философии средних веков»*. Средневековая философия
оценивается им по ее месту в общей истории философии и затем
сопоставляется с общей культурною характеристикою средних веков.
Каждая эпоха философии, думает Гогоцкий, характеризуется
отношением, в которое ставит себя мыслящий дух к бытию. В
философии древне-классического мира это отношение еще не могло быть
сознательным, и в ней преобладает безотчетное признание
гармонии между мышлением и его предметом. Христианство нарушило
эту гармонию, оно подорвало уважение к природе и направило все к
религиозному авторитету. Новая философия сознает эту
противоположность миросозерцания и природы, ставя своей задачей
примирить их. Этим определяется положение средневековой философии:
она — вступительный период новой.
Но она отрицает самостоятельное отношение мышления
познающего духа к своему предмету и вносит в человеческое существо
раздвоение и вражду. Философии средних веков недоставало того
возведения мышления к высшему сознательному, духовному бытию,
которое могло бы заменить прежнюю непосредственную гармонию
природы и духа. Эта философия оставалась вне сознания, вне
психологического основания своих исследований. Потеряв неограниченную
самостоятельность, наука средних веков не могла в самом духе человека
указать путь к показанию истины, и на место разумного усвоения ее
открыла доступ произвольным мечтаниям или одному рабскому,
механическому принятию буквы. Будучи по отношению к вероучению
чем-то лишь вспомогательным и склоняясь к занятиям
исключительно предметами веры, став, другими словами, чем-то для себя
беспредметным, не имея действительного содержания, философия не имела
и соответствующей философскому исследованию формы, не имела
метода. Она не имела ни своих вопросов, ни сознания места и
важности в общей философской системе тех вопросов, которыми она
*До своих философских работ Гогоцкий написал выдержавшее
несколько изданий «Критическое обозрение учения римской церкви о видимой главе
церкви». Изд. 2-е. Киев, 1841.
244
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
занималась. От этого у нее не могло быть последовательного
развития, не было внутреннего и самостоятельного движения.
Гогоцкий, в отличие от своих коллег, воздержался от
преждевременного суждения о русской философии, иначе ему пришлось бы
сделать применительные выводы из собственной, только что
приведенной, характеристики философии средневековой и
противопоставить их оптимизму апологетов: вспомогательность,
беспредметность, отсутствие метода и своих вопросов, последовательного
развития и внутреннего, самостоятельного движения. Это было, во
всяком случае, приложимо к официальным представителям философии
его времени. Гогоцкий первый делает попытку сознательно выйти из
этого состояния философского покоя.
В статье Гогоцкого видно не только удачное применение
исторического метода для уяснения существенного характера самой
философии, но видно также, что исследование производится по
продуманным предпосылкам. Принципиальная самостоятельность
философии и независимая методичность, при несомненной связи
постановок вопросов с общими требованиями времени, — это такое
понимание, которое выгодно отличает Гогоцкого от его
предшественников. В его подходе к делу — новый тон и новый способ держать
философскую речь. Союз философии с университетскою наукою
выгодно отражался на философской работе, и можно было ожидать,
что дальнейшее непредвзятое исследование принесло бы свои
плоды. Но, может быть, именно потому, что этого можно было ожидать,
потому, что философия освобождалась от того подчиненного
положения, в которое она ставилась преподаванием в духовных
академиях, потому, следовательно, что она переставала «служить людям»
и «приносить пользу», стоявшие на вахте русского просвещения
забили тревогу. В панической растерянности приказано было рубить
мачты, ослепленные страхом несчастные люди не видели, что руль
давно не повинуется рукам сумасшедшего рулевого...
Первые испытания
XI
Третья эпоха в развитии русской культурной мысли и
просвещения началась раньше, чем кончилось господство правительственной
интеллигенции. Новое развитие не ждет последнего конца умираю-
Очерк развития русской философии
245
щей эпохи, чтобы тогда только засвидетельствовать о своем
существовании. Оно рождается в недрах умирающего, когда последнее,
по-видимому, еще живет полной жизнью, оно питается им и в нем
самом находит необходимые условия своего роста. Скорее можно
сказать, что рост нового истощает перезревший уже организм и
прямо способствует его умиранию. Отсюда неизбежные внутренние
противоречия так называемых переходных периодов, когда старое
еще не отмерло, а новое не стало на самостоятельные ноги. Новый
период ясно обнаруживается уже в конце 1830-х годов, когда все
громче заявляет о себе свободная интеллигенция, скоро
разбившаяся на партии и тем внесшая в руководительство просвещением, в
противоположность прежним, менявшимся, но единым началам,
начала разрозненные, иногда противно противоположные. Возникает
некоторая необходимая для духа анархия, а вместе с тем и
оживленное разнообразие и свободная борьба — впредь до нового насилия,
до новой монополии на просвещение, в случае победы одной из
борющихся партий, впредь до новой национализации просвещения,
преодолевающей и покоряющей партийность.
Новое бывает реально обусловлено всем наследием прошлого, но
психологически всякое развитие играет противоречиями и
отрицаниями. Новое психологически претендует на безусловное и
всеобщее отрицание и уничтожение старого. Следует отдать себе отчет,
во-первых, в той идеологии, которая отживала уже собственные
реальные (государственно-организационные) условия и вызывала
всестороннюю оппозицию со стороны новой интеллигенции, а во-
вторых, в той реальной наследственности, которая обновляющимся
обществом впитывалась вместе с кровью и реальным характером
предков, и которая может быть модифицирована, но не может быть
уничтожена, пока существует самый субъект культуры.
После Петра ни одно событие не имело такого значения для
культурной истории России, как Отечественная война и походы в
Европу 1813-го и 1814-го года. До этого времени мы смотрели на
Европу сквозь петровское окно, царицы наши заигрывали иногда с
европейцами, живущими «через дорогу», иногда мы выскакивали и
принимали участие в потасовках, происходивших на этой дороге,
били других и были биты сами, посылали отдельных мальчиков туда
на учебу но лишь в Отечественной войне впервые Россия, в лице
своей военной делегации, совершила широкое образовательное пу-
246
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
тешествие по Европе. До этого времени — худо ли, хорошо —
старались вести самостоятельную политику и за собственный страх,
отгораживаясь от соседских влияний. Теперь, именно потому, что так
старательно отгораживались, простое вхождение в общую связь,
желание играть роль в международной политике заставляло нас и свою
внутреннюю политику делать международной. Перед другими не
возникало такого требования, потому что внутренняя жизнь
каждого давно была налажена и согласована с жизнью соседей. Мы вошли
с сознанием каких-то свыше нам данных прав и преимуществ,
учредили интернациональный реакционный заговор против свободы и
стали распоряжаться сперва во Франции, а после в Швеции, Польше,
Венгрии, пока нам в собственном Севастополе не напомнили о
добродетели скромности173. Началось запоздалое и против воли
равнение на соседей. Однако, даже в пору самозабвенного упоения
своими преимуществами, мы не могли не видеть — хотя и не понимали
причин — культурного первенства Европы. Правительство хотело
оставить за собою насаждение культуры, придав ей то направление,
какое, по его понятию, более соответствовало нашему духу. Оно не
замечало, что ее семена, помимо его самого, уже были заброшены
на нашу почву, а если и замечало, то не верило ни в их спонтанную
силу развития, ни в пригодность почвы для их восприятия. Между
тем они были брошены, дали всходы, и интеллигентная монополия
правительства приходила к концу, но, слабоумное, оно успело
причинить много зла и оставило порочную наследственность.
«Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы. Их Величества...
объявляют торжественно, что предмет настоящаго акта есть открыть
перед лицем вселенныя их непоколебимую решимость
руководствоваться заповедями сея святыя веры, заповедями любви, правды и
мира...», — так начиналась декларация, предложенная русским царем
в качестве договора, связывавшего христианских монархов в
Священный союз и подписанная тремя из них уже в сентябре 1815 года.
«Единое преобладающее правило» договора требовало приносить
друг другу услуги и почитать себя как бы членами единого народа
христианского, «поелику союзные государи почитают себя аки
поставленными от Провидения для управления единаго семейства
отраслями, исповедуя таким образом, что Самодержец народа
христианского — не иной подлинно есть, как Тот, кому собственно
принадлежит держава, поелику в нем едином обретаются сокровища люб-
Очерк развития русской философии
247
ви, ведения и премудрости безконечныя...». Таким образом, в лице
La Sainte Alliance174 сам Христос поставлялся во главе европейской
реакции.
Печальнее всего влияние этого кощунственного учреждения
отозвалось на высшем образовании. Пресловутые карлсбадские
конференции вводили в германских университетах институт попечителей,
на которых, между прочим, возлагалась обязанность следить за тем,
чтобы профессора не преподавали студентам «опасных учений».
Такими мерами, однако, ни «революционные покушения», ни
«демагогические общества» нимало не задевались. Через пятнадцать лет
(1834) германский сейм признал нужным издать новые правила, на
этот раз направленные не столько против профессоров*, сколько
против студентов. Ни вартбургских празднеств, ни Занда и Ленинга
(покушавшегося на президента фон-Ибеля), ни тайных
политических обществ среди студентов у нас еще не было. Лишь Коцебу был
наш, и таких у нас имелся еще не малый запас, но делать-то им у нас
все-таки нечего было. Правда, это у нас именно о кинжале Занда
было сказано:
Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды...175
Но ведь сказанное так недаром пятьдесят пять лет пролежало под
спудом, — за это время, действительно, успели вырасти и выхолить
нечто такое, что могло бы объяснить существование десятка
Коцебу. В период карлсбадских постановлений, во всяком случае, нам
делать, казалось бы, было нечего. Но слабоумие имеет свои законы
и правила: у нас начали подготовлять то, чего еще не было, и
прежде всего у нас стали по-своему толковать вышецитированный акт
и искать применения вытекавших из этого толкования директив.
Есть вообще нечто фатальное, для нашей психологии
характеристичное, в наших «толкованиях». Мы неудержимо склонны к
толкованию и пониманию всякого рода фигуральных и метафорических
* Характерен fatum просвещения. В Германии в пору издания этих правил
было распространено убеждение, что главный недостаток образования того
времени заключался в ложном направлении, которое давалось юношам,
обучавшимся латинскому и греческому языку и через то проникавшимся духом
греков и римлян, которого, однако, рассуждали тогда, ни они, ни «некоторые»
из профессоров надлежащим образом понимать не могут...
248
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШЛЕТ
выражений в буквальном смысле, с одной стороны, и к приложению
общего их значения тотчас к самому частному и даже
единственному случаю, с другой стороны. Такие фигуры речи, как «помазанники
Божий», «поставленные от Провидения», «осененные благодатью»,
а затем — «всеобщее равенство», «выпитая кровь народа»,
«предательство интеллигенции» и т. д. понимались у нас буквально как
говорившими, так и слушавшими, и соответственно доказывалось «во
имя Отца и Сына», что вертикальные углы равны, или — во имя идеи
«всеобщего равенства», — что нужно писать не «Парфенон» и «ифи-
ка», а «Парбенон» и «ибика», не «Богъ», а «бог», и т. д. Так случилось
и с принципами Священного союза, — они поняты были у нас
буквально и прилагались даже к ведению кухонного хозяйства и к
покрою платья. Наши толкователи были убеждены в том самом, в чем
сомневался уже Ломоносов, будто «по псалтыре научиться можно
астрономии и химии».
Итак, в осуществлении принципов Священного союза, с целью
организации просвещения на религиозных началах, в 1817 г.
состоялось преобразование Министерства народного просвещения в
«Министерство духовных дел и народного просвещения»,
доверенное кн. А. Н. Голицыну, главе Библейского общества, ревнителю
религиозного благочестия. При министерстве был учрежден «ученый
комитет», для руководства которому член его Ал. Стурдза* сочинил
инструкцию, составленную по принципам декларации
Священного союза. Согласно инструкции комитет должен был озаботиться
тем, чтобы посредством лучших учебных книг направить народное
воспитание «к водворению в состав общества (в России)
постоянного и спасительного согласия между верою, ведением и властью,
или, другими выражениями, между христианским благочестием,
* В 1818 г. Стурдза, дипломатический представитель тогда России на Аахен-
ском конгрессе, составил Mémoire sur l'état de L'Allemagne, в котором с
невиданною наглостью нападал на германские университеты, предлагая меры к
устранению зла и к реформе университетов. По его плану, университеты должны
быть лишены вовсе привилегий; планы преподавания должны быть
предначертаны; профессорская корпорация должна быть рассматриваема
исключительно как совещательное собрание. Чтобы дать пишу беспокойной деятельности
образованного класса, он проектировал учреждение особого института,
который бы занимался обработкою языка и содействовал развитию наук и искусств.
В Германии этот проект вызвал всеобщее возмущение. Для нас же он был еще
преждевремен — за отсутствием самой «беспокойной деятельности».
Очерк развития русской философии
249
просвещением умов и существованием гражданским». Названный
«философско-научный» принцип «спасительного согласия»
полагался не только в основу оценки учебных книг, но и ложился в
основу «классификации учебной системы», заслуживающей
внимания, так как ею, несомненно, руководились составители учебников
и курсов того времени. Все науки делятся согласно указанным трем
целям воспитания по трем коренным началам — бог, человек,
природа — на три главные области, связанные двумя посредствующими:
(1) духовные книги, которые через посредство сочинений духовно-
нравственных и об естественном праве связываются с (2)
антропологическими сочинениями, именно, грамматикою, логикою,
метафизикою, словесностью, историей, правоведением, политической
экономией и пр., каковые науки, через посредство врачебной науки
и прикладной математики, связываются с (3) науками
естественными и физико-математическими. Науки антропологические
отделялись от естественных, чтобы указать на высокий сан человека,
душою обреченного Богу и лишь телом соединенного с вещественным
миром. Интересно специальное определение метафизики,
нашедшее себе прямое отображение, как мы уже знаем, в официозной и в
особенности в духовной философии, которая, в некоторых частях,
поддерживала принципы объединенного ведомства и по
прекращении объединения. «Метафизика, — гласит "Инструкция", — во всех
частях должна способствовать изощрению умов. В области сей
науки допускается скептицизм, но обращаемый всегда на пользу веры,
и дабы обозрением всех систем привести учащихся к сознанию в
необходимости откровенных истин».
Комитет понял свои задачи надлежащим образом и начал
реформу науки с прописей, ограничив их содержание цитатами из
Евангелия и книги о «Подражании Христу». Среди осужденных книг вскоре
оказались: «Метафизика» Лубкина, «Естественное право» Куницына,
«Логические наставления» Лодия и др. Книга Лодия была признана
исполненной опаснейших по нечестию и разрушительных начал;
о самом Лодии был составлен донос, в котором сообщалось, что
он превосходит нечестием и Куницына, и Галича, занимая в то же
время должность декана и преподавая естественное право176.
Наиболее энергичными проводниками новых идей явились, как
известно, Д. П. Рунич, разгромивший Петербургский университет (1821), и
М. А. Магницкий, воспитанник Московского университета, член Глав-
250
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ного правления училищ, ревизовавший и преобразовавший
Казанский университет (1819). В «докладе» Комитету о «Праве
естественном» Куницына* Рунич цитирует «Инструкцию» Стурдзы177 и
разбирает книгу по принципам инструкции. По его определению, «вся
книга есть не что иное, как пространный кодекс прав, присвояемых
какому-то естественному человеку, и определений, совершенно
противоположных учению Св. Откровения. Везде чистые начала какого-
то непогрешающего разума признаются единственною законною
поверкой побуждений и деяний человеческих». В заключение, предлагая
«без потери времени» изъять книгу из употребления, Рунич
мотивирует предложение, имея, очевидно, в виду общие принципы политики:
«ибо публичное преподавание наук по безбожным системам не может
иметь места в благословенное царствование благочестивейшего
государя, давшего торжественный, пред лицем всего человечества, обет
управлять врученным ему от Бога народом по духу Слова Божия».
Магницкий прямо заявлял, что желает построить всю систему
образования в высших учебных заведениях «на акте Священного союза».
По поводу естественного права у Магницкого было особое
мнение (Русский Архив. 1864. Стлб. 321-325). Предлагая прекратить
преподавание естественного права, пока оно не будет согласовано
с учением евангельским, Магницкий приводит в защиту своего
мнения следующие доводы. (1) Наука естественного права, без которой
обходился древний мир, Франция в течение 800 лет и доныне
обходятся университеты Англии и Италии, «наука естественного права,
сия метафизика прав и приделка к народному, публичному и
положительному праву, есть — изобретение неверия новейших времен,
северной Германии». (2) «Она всегда была опасна; но когда Кант
посадил в претор так называемый им чистый разум, который вопросил
истину Божию: что есть истина? и вышел вон; тогда наука
естественного права сделалась умозрительною и полною системою всего
того, что мы видели в революции французской на самом деле;
опаснейшим подменом Евангельского Откровения». «Наконец, призна-
* По компетентной оценке Коркунова, «Естественное Право» (Т. 1-П. 1818-1820)
Куницына не стояло на уровне современной науки и не представляет ничего
выдающегося. Это — только «толковое и талантливое изложение Руссо и
Канта». Коркунов Я М. «История философии права». Изд. 2-е. СПб., 1898. С. 348.
Глава IV Части третьей отведена изложению научной разработки права в
России в XVIII и в первой четверти XIX в. §§ 27-31 (С. 274-350).
Очерк развития русской философии
251
юсь, что я трепещу перед всяким систематическим неверием
философии, сколько по непобедимому внутреннему к нему отвращению,
столько, и особенно потому, что в истории 17-го и 18-го столетий
ясно и кровавыми литерами читаю, что сначала поколебалась и
исчезла вера, потом взволновались мнения, изменился образ мыслей
только переменою значения и подменом слов, и от сего
неприметного и как бы литературного подкопа алтарь Христов и
тысячелетний трон древних государей взорваны, кровавая шапка свободы
оскверняет главу помазанника Божия и вскоре повергает ее на плаху.
Вот ход того, что называли тогда только философия и литература,
и что называется уже ныне либерализм».
Магницкий в своих доносах, речах и инструкциях особенно
красноречиво выражал идею правительственной политики, которую
он считал себя призванным осуществлять без всякого компромисса.
Еще в бытность свою симбирским губернатором Магницкий,
открывая местное отделение Библейского общества (1818), произнес
речь, напечатанную в отчетах общества и обратившую на себя
внимание государя и кн. Голицына. Он доказывал, что история движется
«политикой мира сего», во главе которой стоит князь тьмы, и
«видами Провидения», глава коего Господь наш Иисус Христос. Политика
князя тьмы меняется, преодолеваемая Провидением. В наше время
«выдуман новый идол — разум человеческий; богословие сего
идола — философия. Жрецы его — славнейшие писатели разных веков
и стран». Французская революция и Наполеон были торжеством
князя тьмы. По расчетам его земной политики, и Россия должна была
покориться, но смиренный и крестный рыцарь, заключивший свои
подвиги вечным союзом царей, предстал выполнителем плана
Провидения и мечом пресек чудовищный замысел. «Но не одна война
составляет борьбу царства тьмы с царством света. Князь мира сего и
идолопоклонством, и развращением нравов, и философиею на
распространение своего владычества действует...» Но «великий
ратоборец царства света, вложив обвитый лаврами меч в ножны, воюет
мечем слова Божия», — утешается Магницкий.
В то же Главное правление училищ Магницкий внес проект
учреждения цензуры, в обосновании которого его мировоззрение
развивается дальше. «Тот самый дух, который у Иосифа II под
личиною филантропии; у Фредерика, Вольтера, Руссо и энциклопедиков
под скромным плащом философизма; в царствование Робеспьера
252
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
под красною шапкою свободы; у Бонапарта под трехцветным
пером консула и, наконец, в короне императорской, искал овладеть
вселенною, тот самый дух ныне, с трактатами философии и с
хартиями конституций в руке, поставил престол свой на запад и хочет
быть равен Богу. Когда водворился общий мир, когда мир сей
запечатлен именем Иисуса, когда государи европейские сами поставили
себя в невозможность его нарушить, взволновались университеты,
явились исступленные безумцы, требующие смерти, трупов, ада! Что
значит неслыханное сие в истории явление? Сам князь тьмы
видимо подступил к нам. Слово человеческое есть проводник сей адской
силы, книгопечатание — орудие его; профессоры безбожных
университетов передают тонкий яд неверия и ненависти к законным
властям несчастному юношеству, а тиснение разливает его по всей
Европе...» (Сухомлинов М. И. «Исследования и статьи по русской
литературе и просвещению». В 2 т. СПб., 1889- Т. I. С. 184-185,467).
Европа быстро идет по пути гибельных происшествий, Россия была бы
счастлива, ежели бы ее можно было оградить от Европы так, чтобы
и слух о тамошних неистовствах не достигал до нее.
До чего могла довести философия по «убеждению»
Магницкого, видно из его «мнения», представленного министру по
поводу «Логики» Давыдова (Русский Архив. 1864. Стлб. 325-329). Свои
«примечания» на «Логику» он предваряет такой аттестацией:
«Замечания сии заключают вкратце весь смысл разрушительной
нынешней философии, от Канта до Стеффенса, которого имя еще никому
у нас неизвестно, кроме фанатических его адептов и малого числа
их сопротивников, между тем как он есть опаснейший довершитель
Шеллинговой философии, которой вся адская тайна в подносимых
мною "примечаниях" открыта и обнаружена». Присоединив к
«примечаниям» «выписку» о тайном учении иллюминатов, Магницкий
выражает надежду, что Его Сиятельство, сообразив одно с другим,
удостоверится, что «нынешняя философия есть не что иное, как
настоящий иллюминатизм», лишь новому имени обязанный тем, что
христианские правительства допускают его преподавание «и даже
платят жалованье распространителям оного». Посвятив пять лет на
«неусыпное изучение сего предмета и на бесполезный вопль против
неизбежной и близкой опасности», в последний раз Магницкий
умоляет Его Сиятельство «поразить сие страшное чудовище, спокойно
подрывающее у нас алтари и трон открытым преподаванием начал
Очерк развития русской философии
253
во всех университетах наших и во всех тех высших училищах, где
установлены философския и политическия кафедры...». Заключение
доноса художественно: «Прошло уже то время (т. е. три года тому
назад), когда рассматривали мы учения сии как вредные только
теории вольнодумствующих профессоров; с тех пор бунтующие войска
опрокинули уже несколько тронов (революции в Сардинии,
Испании, Неаполе), а ныне три государства разрушительные начала сии
проповедают, и одно из них — глава сего адского союза,
противопоставленного врагом Союзу священному, посреди своего парламента
объявило торжественно, что оно признает, что власть державная
получает свое начало от народа. Ежели справедливо устрашил нас
в свое время сей нечестивый догмат Марата в проф. Куницыне, то
неужели не страшен в устах Канинга, по слову которого могут
двинуться многочисленные войска и на всех морях владычествующие
флоты Англии на подкрепление сего правила? — Итак, врагу Божию
три года только нужно было, чтобы довести дело свое от кафедры
Куницына до потрясений Неаполя, Турина, Мадрида, Лиссабона и
до сей торжественной исповеди Английского Парламента; от одной
строки профессора до 200 штыков и ста линейных кораблей, до
обливаемых кровью государств». (9 Мая 1823). И вот, этот скоморох,
«нравственный феномен», как его называли, был ревизором и
попечителем университета. Но из этого следует, что его толкование идей,
положенных в основу Священного союза, признавалось
правильным. В докладе по ревизии Казанского университета Магницкий
писал по поводу недостатка религиозного образования студентов:
«Время уже вникнуть в цели правительства, которое хочет, и хочет
непреоборимо, положить единым основанием народного
просвещения — благочестие. Время стать на ряду с просвещеннейшими
народами, кои не стыдятся уже света откровения. В Париже издается
новый перевод пророчеств Исайи; вся Англия учится
оригинальному языку Библии; Германия, благодаря Канту*, пришедшему через
*Это не мешало Магницкому о кантианце Срезневском дать отзыв, что
тот, «следуя системе Якоба [т. е. предписанному министерством учебнику — см.
выше], — руководствуется духом не весьма полезным, и по счастию преподает
лекции так дурно, что их никто не понимает». Это не помешало Магницкому,
познакомившись поближе с Срезневским в реформированном уже
университете, дать этому «философу» другую оценку. Самого Канта Магницкий также
аттестовал не с непоколебимым постоянством (см. выше).
254
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
лабиринт философии к преддверию храма веры, ищет мудрости в
одной Библии, — и мы ли одни останемся полвеком назади?» В
заключение доклада Магницкий предлагал «публично разрушить»
Казанский университет, заверяя, что «все честное и благомыслящее из
современников и потомства будет на стороне правительства. Акт об
уничтожении университета тем естественнее покажется ныне, что
без всякого сомнения все правительства обратят особенное
внимание на общую систему их учебного просвещения, которое, сбросив
скромное покрывало философии, стоит уже посреди Европы с
поднятым кинжалом!».
Александр решил ограничиться преобразованием
университета*, для чего назначил попечителем самого же Магницкого, после
его личного доклада, при котором, по словам Магницкого, «он имел
счастие рыдать в объятиях сего ангела Божия». Реформу Магницкий
производил по выработанной им самим «полной системе истин о
просвещении». Согласно этой системе, он называл лжеимянным
просвещением, когда мечтательными науками, т. е. философскими,
портятся положительные, — теориями геологии или учением о
происхождении властей не от Бога**. Составленная им, далее,
инструкция директору и ректору университета178 требовала, чтобы
студентам внушались почтение и любовь к святому евангельскому учению,
дабы «дух вольнодумства ни открыто, ни скрыто не мог ослаблять
учения церкви в преподавании наук исторических, философских
или литературы». Инструкция определяла дух и направление
преподавания всех наук. Основанием философии должны были служить
Послания апостола Павла к Колоссянам и к Тимофею. Над кафедрою
была повешена доска, где золотыми буквами были выписаны оттуда
слова о ничтожестве разума перед верою. Книги с вредным
направлением из библиотеки не выдавались. Год преобразования был
признан эрою, — в докторском дипломе, выданном Казанским
университетом австрийскому императору, значилось: в лето от Рождества
* Феоктистов «Русский Вестник». 1864. VI. С. 492 приводит написанное не
без остроумия и едкости, но с достоинством «мнение» Уварова, возражавшего
на предложение Магницкого о закрытии университета.
Инструкция Стурдзы гласила: «Ложные учения о происхождении
верховной власти не от Бога, а от условий между людьми, подлежат... отвержению»
(С 327).
Очерк развития русской философии
255
Христа Спасителя 1824, от обновления же своего пятое (restauratae
universitatis veto quinto)*.
Как же реагировали на это профессора? Вероятно, не все считали
Магницкого и его инструкции нормальными, но на местах
оставались, а многие легко приноровились к новым порядкам. Ректор
(Никольский) признавался, что до Магницкого «дым кладезя бездны и
надменные волны лжемудрия, от которых все вещи двинулись с мест
своих, коснулись и нашего университета», но действия попечителя
«вызвали его из небытия к бытию, из неустройства к новому
порядку; воссиял над ним свет истинный, просвещающий всякого
человека грядущего в мире, воссиял над ним свет Христов, и тьма
удалилась с обманчивыми своими огнями».
В университетском отчете за 1819-1820 гг., — (составлен
проф. Городчаниновым, автором многочисленных opera179 в духе
времени, в том числе: «Изложение естественного права в
обличительном смысле, по вопросам и ответам», или compendium180,
одобренное советом (!) Казанского университета к преподаванию и
напечатанию, 1823), — в этом отчете говорится: «Сей наш год
достопамятен для Казанского учебного округа важнейшими
происшествиями. Он составляет блистательную эпоху преобразования,
совершенного обновления Казанского университета. Высшее ученое
сословие, долженствовавшее разливать свет Христов, само лежало во
тьме века сего. В недре университета тлетворный яд его ("всеразру-
шающего вольнодумства") начинал уже разливаться в словопрениях
лжеименного разума, в употреблении при кафедре философской
таких авторов, коих учение совершенно противно религии
христианской. Между книгами, составляющими студенческую
библиотеку, находились несообразныя с духом благочестивого воспитания.
В июне 1819 года утверждено преобразование университета, а в
августе получено от попечителя, истинного сына церкви и отечества,
предписание об удалении профессоров, которые при осмотре не
* Лишь в 1826 г., в новое царствование, в министерство Шишкова, было
сделано распоряжение: «В грамотах, выдаваемых Казанским университетом, после
лета от Роадества Христова, выставляется лето от обновления Университета.
Находя сию форму неприличною, я покорнейше прошу Ваше
Превосходительство предписать Университету об уничтожении оной, тем более, что она
введена самопроизвольно, без дозволения высшего начальства».
256
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
были одобрены. Директор университета, обращаясь с питомцами
его, как отец с детьми, самые забавы обращает в пользу им. По его
убеждениям и советам, казенные студенты университета в
прошедшее лето обрабатывали собственными руками часть
университетского сада. Смиренномудрие, терпение и любовь сопровождает
поступки студентов. Связуемые духом христианской любви... все
члены, все сословия университета взаимно друг-к другу оказывают
чинопочитание и уважение. Под сению благочестия все приемлет
новый вид. Все науки университетские преподаются в духе
святого евангельского учения. Опаснейшая из наук философских, наука
права естественного... представлено мнение об основании сей
науки... на святом и спасительном учении Христа». «Казанский
вестник». 1821. Кн. 1. С. 3-44.
Совет in corpore181 ответствен за то, чтобы были избраны
почетными членами университета Рунич, Карнеев*, Кавелин (директор
Петербургского университета, сподвижник Рунича), Попов
(директор департамета народного просвещения, сотрудник Голицына,
ревностный последователь хлыстовской секты Татариновой), и
подобные182. Некоторые профессора стали читать собственные
предметы в обличительном смысле, другие искали в них подтверждения
истин Св. Писания. Профессор математики находил выражение
премудрости Божией в прямоугольном трехугольнике, профессор
анатомии — в строении человеческого тела. Некоторые науки, как,
напр., геология, перестали преподаваться, так как они во всех
своих теориях противоречили св. Писанию. Один из профессоров так
определял принципы своего преподавания: «Да будет началом моего
слова Всеблагий Бог; да будет началом моего слова могущественный
Александр,... да приимет начало слово мое от соизволения
знаменитейшего нашего попечителя...».
В Петербургском университете в актовой речи (1823) проф. Дегу-
ров (Dugour), приобретший еще в Харькове — по делу Шада —
опытность в доносах и услужении, по мысли и указаниям из министер-
* 3. Я. Карнеев, попечитель Харьк<овского> уч<ебного> округа. Когда
Магницкий представил в Главное правление училищ проект об уничтожении
философии, на том основании, что преподавание ее невозможно без пагубы
религии и престола, то бывший тогда же членом правления Карнеев в своем
«мнении» осуждал философию за то, что она ни во что не ставит черта и
волшебников, тогда как черт и колдуны много производят бед на свете.
Очерк развития русской философии
257
ства, возвещал о водворении новых начал и в столице. Священный
союз, по его толкованию, остановив развитие нечестия и опасность,
грозившую цивилизации, побудил правительства удалить из
преподавания вредные учения. Университеты имели право отвергнуть
и преследовать ложные и пагубные начала новейшей философии.
Справедливо осуждено учение о воображаемой древности
вселенной, противоречащее свидетельству св. Писания о сотворении мира.
Всеобщая история должна доказывать превосходство
монархического образа правления. И т. д.
Когда после шести лет своего управления (в 1825 г.) Магницкий
на экзамене студентов произнес речь, он мог с полным сознанием
услуги, оказанной правительству, констатировать, что Казанский
университет — «единственный по своему достоинству. ... В то
самое время, — говорил он, — как лжеименная философия, отравляя
все науки и даже словесность и самые искусства тлетворным своим
ядом, беснует умы на Бога и царей, в университете нашем самый яд
сей претворяется в целительное средство против буйной гордости
разума. ... Вместо тех буйных мечтаний некоторых германцев, кои
возникли со своевольством Лютеровой реформы и так лживо
называются ныне философией,... принята у нас та здоровая, истинная,
беззатейная философия, которая прямит и изощряет умы, с которою
жили счастливо отцы, верные Богу и царям, в которых воспитаны и
образовались отличнейшие мужи нашего отечества, светила нашей
церкви»*.
Магницкий толковал волю пославших его и задавал тон. Рунич
меньше рассуждал, достаточно кривлялся и усердно исполнял. Кар-
неев в Харькове старался пахнуть тем же запахом. Голицын,
представляя в комитет министров дело профессоров Петербургского
университета, заключал его выводом, которому придавал общее
значение: «Системы открытого отвержения истин Св. Писания и
христианства, соединяемые всегда с покушением ниспровергать и
законные власти, — сии ужасные системы, заразившие головы
новейших ученых, были последствием отпадения от веры Христовой
* С наилучшею полнотою ревизия и время попечительства Магницкого в
Казани изложены у Загоскина: Загоскин Я. П. «История Императорского
Казанского Университета за первые сто лет его существования». Т. III. Казань, 1904.
4.3.1819-1827. С 253-576.
258
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
и причиною всех народных мятежей и революционных бедствий,
которые потрясли многая государства, пролили потоки крови и
ныне еще не перестают нарушать спокойствие Европы». Голицын,
как и Магницкий, исходил из идеи, выраженной в декларации
Священного союза. Последний мог не считаться с фактами, но те,
кому надлежало осуществлять его идеи, наталкивались на
непреодолимый факт «ужасных систем», и потому с их стороны было
безумием вступать с ними в борьбу путем частичных поправок и
переделок в русском просвещении. Как ни широки были замыслы
Магницкого, который хотел придать своей инструкции силу,
обязательную для всех университетов, он был ничтожно смешон
перед лицом европейской науки. Потому-то и в своем отечестве он, в
конце концов, мог бороться лишь с лицами, а не с идеями. Нужно
было бы реформировать самую науку, но это было бы не под силу
даже и Меттерниху*.
Как реагировало на все это общество? Количество студентов
таяло во всех университетах, а в Казанском университете на всех
факультетах был всего 91 студент. Пришлось прибегнуть к казенным
стипендиям. В остальном общество, как такое, никак не реагировало:
не протестовало, не поддерживало единичные голоса возмущения**,
считало, по-видимому, вместе с правительством, что ему виднее, что
просвещение — его дело и больше ничье. Магницкий знал среду, в
которой действовал, ибо действовал смело, и, пожалуй, его
характеристика русского общества правильна и дает достаточный ответ на
наш вопрос. «В характере шумных мнений нашей публики, —
заявлял он, — всегда приметить можно два направления: первое —
слухи, рассеваемые для впечатления на мнение высшего правительства,
дабы увлечь его в свой смысл; и потом второе — не далее, как на
другой день после решительного его поступка, молчать и думать
согласно с ним...» Мы истолковали бы ошибочно это заявление, если
* Довольствовавшемуся переводами теософических трактатов, но не
помышлявшему о полной «реформе науки». Это могло быть задумано и сделано
лишь спустя сто лет, в наше смелое время и в нашем смелом отечестве. (Мет-
терних перевел на нем. яз. Theologia mystica Пордеджа.)
** К таким единичным голосам относятся, напр., голоса Уварова, Паррота.
Но даже такие влиятельные и просвещенные люди, как, напр., Карамзин,
называвший министерство Голицына министерством затмения, не считали
нужным вмешиваться в дело. Наследник престола Константин издевался, опасался
«средних веков», но также предпочитал оставаться в стороне.
Очерк развития русской философии
259
бы думали, что оно потеряло свою правильность с концом эпохи
Магницого и Голицына.
Магницкий кончил плохо, — князь тьмы сыграл с ним свою
шутку, — он написал донос на вел. князя Константина Павловича,
который принял под свое покровительство одного из изгнанных
профессоров, и, поблагодарив Рунича за предоставленную профессору
возможность посвятить силы военным училищам, просил изгнать
из университета еще нескольких полезных ему людей. Донос на
великого князя попал на стол к императору Николаю. В
сопровождении квартального Магницкий был выслан из Петербурга в Казань,
и в университет была назначена новая ревизия, осудившая систему
Магницкого, раскрывшая всякого рода злоупотребления, а среди
студентов — холодность в делах веры, нетрезвость, писание
предосудительных стихов и буйный характер. Сам Магницкий, конечно,
не рассчитывал на постигшую его участь. Когда близкими к
Аракчееву183 архимандритом Фотием и митрополитом Серафимом была
начата кампания против Голицына, Магницкий примкнул к ней,
может быть, в расчете занять место Голицына. В действительности,
в результате сложной интриги, более характерной для наших
нравов*, чем интересной для истории идей, на место кн. Голицына
попал адмирал Шишков184 (1824-1828)**. Обскурантизм, как и глупость,
имеет множество форм. Это была смена форм. Наши историки
немало рассуждали о том, какая форма была хуже, но идейная и
психологическая сторона этих форм еще недостаточно исследована.
* П. Шебальский в ст. «А. С. Шишков, его союзники и противники» («Русский
Вестник». 1870. Ноябрь) приходит к заключению: «В каждой стране могут быть
люди, подобные Шишкову, Серафиму, Фотию, даже Аракчееву, и везде могут они
достигнуть известного значения, благодаря заслугам, оказанным на известных
поприщах и при известных случаях-, но не везде влияние их может быть так
зловредно, как оно было у нас. Мы видели, в какой глубокой тайне, в каком
таинственном мраке разыгралась интрига, направленная против князя Голицына:
в этой тайне, в этом-то мраке и заключается ее ядовитость» (С. 251).
** Шишков, образовавший вскоре по вступлении в управление
министерством Комитет, имевший одною из задач выработку проекта общего устава для
университетов и училищ, назначил в этот комитет членов Главного
правления училищ: Муравьева-Апостола, Магницкого и Казадаева (Сборник
Распоряжений. I, № 254. Стлб. 533). Председателем был Муравьев, но все дела вершил
энергичный Магницкий (ср.: С-Петербургский университет в первое столетие
его деятельности: Материалы по истории. Под ред. С. В. Рождественского. Т. I.
Пг, 1919. С. LXXI).
260
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Можно судить только по некоторому общему впечатлению и имея в
виду черты исключительно типические.
Одно обстоятельство бросается в глаза. В походе на
просвещение со стороны Голицына и компании наше духовенство в целом
и в своих видных представителях не принимало участия*.
Напротив того, Фотий и Серафим в своем походе против Голицына, какую
бы роль тут ни играли личные мотивы, располагали, несомненно, и
мотивами идейными, и притом разделявшимися в общем
духовенством. И это понятно: атеизм, ереси, сектантство — не такие враги
всякой религии и реальной церкви, как теософия. Из среды
протестовавшего духовенства вышли некоторые сочинения,
направленные против так называемой «мистики»**, Библейского общества
и покровительствуемых им изданий и переводов. Из этой же
среды направлялись соответствующие доносы в высшие сферы.
Наконец, — впрочем, когда Голицын уже пал, — в 1825 г. по указу Синода
при конференции Петербургской духовной академии был
учрежден комитет для рассмотрения книг, «заключающих, под видом
истолкования Св. Писания, развратные и возмутительные лжеучения,
противные гражданскому благоустройству, догматам и преданиям
нашей Церкви, и напечатанных в частных типографиях без
разрешения св. Синода». Сюда входили сочинения Беме, Штиллинга, Эк-
* Митр. Филарет (тогда еще архимандрит) был членом Библейского
общества, рядом с католическим епископом (Сестренцевичем), лютеранскими и
англиканскими проповедниками, а также членом Гл. правления училищ, но в
последнем не разделял крайних мнений своих сочленов и открыто восставал
против них. Преследования и нападки, которым он сам подвергся в
министерстве Шишкова, вызваны были, вероятно, в большей мере характером его
личности, чем убеждений.
** У нас «мистикою» называют, что кому нравится, — или, чаще, не нравится.
В действительности, может быть, в кружке Голицына и были один, два мистика
(в чем я, впрочем, сомневаюсь), — но по существу это был кружок и течение
теософские. Теософ — вояжер по всем религиям, наукам и «ведениям». Он
катается во всяком экипаже — религиозном, мистическом, естественнонаучном,
философском, магическом, оккультном, телепатическом. Существенной связи
у него с ними так же мало, как у любого седока с нанятым им экипажем.
Теософию можно было бы также сравнить с тряпкою, которая всасывает в себя и
воду, и вино, и грязь. Нужно иметь особый склад ума, чтобы вследствие этого
тряпку считать источником чистой воды или вина, — что бы она ни всосала,
она отдаст только грязь. Теософ-мистик, в идее, то же, что кинжал из пробки, —
обман возможен только, пока пробка — в ножнах от настоящего стального
клинка.
Очерк развития русской философии
261
картгаузена, г-жи Пюн, Дютуа и «Сионский Вестник». Комитет был
составлен из двенадцати «образованнейших и довереннеиших лиц
здешнего (петербургского) духовенства». В то же время было
сделано распоряжение об изъятии этих книг из употребления и из
библиотек учебных заведений. Сверх рассмотрения книг,
присланных из Синода, комитет должен был открывать и доносить о других
вредных для православия и благонравия книгах. В виде
генерального отчета комитету было поручено составить обзор того, как это
вредное направление началось, развилось и какие принесло плоды.
Комитет, достаточно огравденный от вторжения любопытства,
меняясь в составе, работал около двадцати лет (Чистович И. «История
СПб. Духовной Академии...». С. 420-421; ср.: Котович. «Духовная
цензура...». С. 424-431).
В чем же была разница между новою идеологией и идеологией
свергнутого министра? Шишков и его сторонники упрекали
Библейское общество и его литературу — неопределенно в зловерии и
ереси, а более определенно — то в католицизме, то в протестантизме.
О влиянии то протестантизма, то католицизма говорят и
современные историки. Наконец, все говорят о мистицизме. Между тем вся
так называемая «мистическая» литература, выходившая в
царствование Александра и раньше, мистического заключала в себе немного.
Это была литература по преимуществу теософско-назидательного и
масонско-моралистического содержания. В ней больше признаков
систематизирующего гностицизма и морализирующего
пиетизма, чем ни в какие правила не укладывающегося, всегда свободно-
опытного мистицизма. Отличительным ее теософическим
признаком является как раз то, что она не конфессиональна и более
похожа на эклектическую смесь или гностическое отвлечение из разных
религиозных и церковных доктрин. Все эти Беме, Штиллинги, Эк-
картгаузены и им подобные «мыслители» столь же мало могут быть
названы католиками, как и протестантами. И, в сущности, для
Магницкого, как и для других истолкователей декларации
Священного союза, эта литература была самой подходящей. Стоило бы трем
христианским монархам, первым подписавшим договор, заговорить
каждому на языке своего христианства, чтобы вместо христианской
симфонии получилась полная диафония. Победа Фотия и
назначение Шишкова министром означали наступление у нас внутреннего
кризиса в самой идее интернациональной реакции. Таким образом
262
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
и произошла лишь смена типа обскурантизма и его идеологии. От
туманной теософии возвращались к родному национальному
православию и церкви.
И действительно, Шишков, уже после восстания 14 декабря,
приводя в связь с ним теософическую литературу, утверждал, что из
нее — «все лжемудрствования о так называемой внутренней
церкви (т. е. никакой)», и т. д. Напротив, Голицын, нападая на одно
сочинение, обличавшее теософическую литературу и бравшее под
защиту «греко-российскую церковь», видимо, с раздражением писал:
«Защищение наружной церкви против внутренней наполняет всю
книгу. Разделение, непонятное в христианстве! Ибо наружная без
внутренней церкви есть тело без духа. Вообще понятие о церкви
представлено в превратном виде: ибо, где говорится о церкви,
везде видно, что одно духовенство принимается за оную». Сам Фотий
в «Записке», врученной Александру, о министерстве Голицына,
доказывал, что Голицын намеренно ввел министерство духовных дел
и слил его с министерством просвещения, чтобы духовенство ему
не мешало: «Все противное церкви вводилось, и духовенство не
смело ничего сказать. Для смешения всех религий министерству
подчинены все религии, даже жидовская и магометанская».
Требовалось вернуться к православию. Шишков прямо говорил
Александру о своих предшественниках: «под видом распространения
христианства стремились поколебать Православную Веру». И все
библейские общества, по его словам, «имели намерение составить из
всего рода человеческого одну какую-то общую республику и одну
религию».
Яснее всего положительные идеи Шишкова выразились в проекте
манифеста, который Александром подписан, однако, не был.
«Истинное просвещение, — говорилось здесь, — состоит в страхе Божием,
который есть начало премудрости, в утверждении себя в
православной нашей вере,... и наконец в украшении ума своего науками,
отверзающими путь к обширнейшим познаниям, к полезным
искусствам и художествам. ... Истинное любомудрие там водворяется, и
свет оного там светит, где люди руководствуются законами вышнего
и правилами веры.... И хотя русский народ ... верен церкви,
престолу и отечеству — но мы повелеваем вам войти в строгое
наблюдение — не преподаются ли где в университетах, гимназиях, народных
училищах и пансионах, под видом наук, какие-либо вредные учения,
Очерк развития русской философии
263
не разсеваются ли где в светской словесности подобные же мысли и
рассуждения, не выдает ли кто себя за проповедника и учителя
подобных новизн» (Шишков А С. «Записки, мнения и переписка». 1870.
Т. 2. С. 175-176).
В речи, обращенной к собранию членов главного правления
училищ, Шишков выразил свой взгляд на задачи просвещения. Если,
говорил он, обучаемое юношество, между прочим, заразится
«лжемудрыми» умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлою
гордостью и пагубным самолюбием,... то сколько в последствии времени
произойдет от того зла и в воинских ополчениях, и в судебных
заседаниях, и в исполнении всяких должностей, и в семействах, и
вообще в пользах общежития. Науки, изощряющие ум, не составляют
без веры и без нравственности благоденствия народного. ... Сверх
сего, науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и
преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности,
какую всякое в них имеет»*.
В связи с идеями нового министра понятен и его проект об
учреждении высшего цензурного комитета, который, между прочим,
должен был обратить внимание на «образ учения, преподаваемый во
всех университетах, гимназиях и училищах». Назначение
Шишкова на место Голицына в некоторых, по крайней мере, просвещенных
кругах общества вызвало все же несомненное сочувствие. Пушкин
приветствовал его в известном «Послании цензору»: «Министра
честного наш царь избрал», «печальные науки» изымались из «пакостных
рук». Но Шишков не оправдал возможных ожиданий. Университеты
были достаточно разрушены и теперь предоставлялись самим себе,
попрежнему без прав, без средств и под угрозою не угодить новой
идеологии. Все свои старческие силы Шишков отдал изысканию и
преследованию «карбонарства», порожденного, по его убеждению,
Библейским обществом. Он придумывал цензурный устав, из сетей
которого не ускользнул бы ни один его враг. Но так как к тому же
у Шишкова были свои литературные вкусы и были старые счеты с
некоторыми литературными направлениями, то его цензурные сети
* Главное правление училищ изъявило готовность споспешествовать
намерениям министра и постановило его речь напечатать «на счет сумм
Департамента народного просвещения» и разослать по учебным заведениям (Сборник
Распоряжений. I. № 251).
264
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
раскидывались очень широко. Свободная умственная культура по-
прежнему не могла найти поощрения и просачивалась лишь путями
непредусмотренными.
Отношение Шишкова к теософскому направлению
предшествовавшего министерства ясно видно из докладной записки, читанной
им государю, где он подверг критике пресловутую «Божественную
философию» Дютуа (в переводе Е. Карнеева, племянника 3. Кар-
неева и его преемника на должности харьковского попечителя).
Шишков писал: «Неизвестный переводчик о неизвестном
сочинителе сей философии говорит,... что он два года провел на кресте в
ужасных мучениях, среди которых писал сию книгу (как провел на
кресте? Неужели распят был, и вися на нем писал? Какия чудеса! Нет,
господин лгун, мучение на кресте, какое претерпел Спаситель наш,
не могло и несколько часов продолжаться: стало быть, твое
двухлетнее, среди которого ты мог писать, было не такое!), что он и умер на
кресте, сказав своим друзьям: я имел некоторое удовольствие пить
шоколад, зато я умру задохнувшись (С. 10). Можно ли, не
насмехаясь над читателями, начинять какую-нибудь книгу такою гнилью: два
года провел на кресте в ужасных мучениях, пил шоколад, сочинял
и перед смертью сказал своим друзьям какой-то глупый каламбур?
И это — боговдохновенный человек, избранный Богом возвещать
его премудрость! И это переводится на русский язык и печатается
в университетской типографии!.. После сего помещен еще третий
подобный же рассказ о некоторой знатной особе из наших
соотечественниц, которая умерла в Лозанне, что тело ее, прежде нежели
земле было предано, вынесено было в церковь... (Вот какую новость
сказал. Да кто ж не знает этого, что мертвых никогда после
предания земле не выносят в церковь?) Тут какой-то Дютуа (это сам
автор) взглянул на ее мертвое тело и возрыдал о том состоянии, в
каком находилась душа, от него отлучившаяся (С. 12). Да почему
он узнал о состоянии ее души? Разве потому, что покойница вместе
с ним грешила? Но посмотрим еще далее, чем это кончилось: он взял
на себя ее грехи. Бог три дня его мучил неизобразимым страданием
и потом удостоверил его, что душа покойницы вкусила райские
сладости (там же). Можно ли что-нибудь придумать богохульнее,
нелепее сего?» Засим автор от «безумия» переходит к «неверию», где ему,
православному, теософические нелепицы, натурально,
представляются злочестивым богоотступничеством.
Очерк развития русской философии
265
XII
Вступление на престол Николая Павловича185 меняло
положение вещей и отношений. Оно перепутало все карты, тем более что
немногие ожидали видеть на престоле именно его. Теософический
кисель, которым наслаждался его брат, Николаю Павловичу был не
по вкусу. Ему более подходили умы и характеры вроде митрополита
Филарета. Свое отношение к управлению Голицына он достаточно
выразил, когда принял под свое покровительство изгнанного Ру-
ничем из университета Арсеньева. Магницкий сам себя предал. Ко
всему политические интересы в Турции приводили нового царя к
разрыву с Австрией и политикою Меттерниха186. Идеи Священного
союза, как такого, теряли свое актуальное и всеопределяющее
значение. Были ли у нового царя какие-нибудь свои положительные
идеи в политике народного просвещения — трудно сказать. Шишков
на первых порах был оставлен на своем посту, и государь не
замедлил передать ему записку, представленную в свое время Александру
проф. Парротом и содержавшую сдержанную, но весьма
убедительную критику инструкций Магницкого, — записку, оставленную
Александром без внимания.
Проф. Дерптского университета Паррот, выдающийся натуралист
и физик, бескорыстно преданный Александру, написал ему, на
правах связывавших их некогда дружеских отношений, записку: «Coup
d'oeil moral sur ks principes actuels de l'instruction publique»187.
Паррот начинает с общего осуждения нашей политики просвещения,
не имеющей твердых начал и постоянно меняющейся. Что касается
инструкции Магницкого, то при чтении ее мотивов, писал Паррот,
«содрогается сердце всякого честного человека». Один из
параграфов инструкции предписывал излагать философские системы,
доказывая в то же время, что истины, основанные на одном разуме, суть
лишь эгоизм и скрытая гордыня. Но если так, спрашивает Паррот, к
чему вообще знакомить с ними юношество? А если излагать, то
зачем изображать их в презренном виде. Паррот думает, что
христианская мораль не нуждается в фальшивых уловках для обнаружения
своего превосходства над языческой моралью. Заставлять
профессора астрономии и физики во все продолжение курса удивляться
премудрости Божией и ограниченности наших средств познания
значило, по словам Паррота, только вредить собственной цели. Пустые
разглагольствования и частое повторение заказанной мысли лишь
266
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
возбудят насмешки, и эффект утратится. В инструкции ректору Пар-
рот не видит ничего, «кроме бесконечной фразеологии, где
невежество облекается мантией эрудиции и знаний». В таком же тоне
и его разбор инструкции директору о наблюдении за
нравственностью студентов — водить молодого человека от 18 до 25 лет на
помочах значит делать из него негодяя или автомата, существо
без воли, без характера, неспособное ни к какой самостоятельной
деятельности.
Затем, по мотивам далеко не ясным, Николай Павлович через
Бенкендорфа188 обратился к Пушкину с предложением заняться
«предметами о воспитании юношества». Пушкин отнесся к делу с
серьезностью недостаточною. Лишь после второго письма
Бенкендорфа он наскоро набросал «Записку», содержания чрезвычайно
общего и неопределенного. Мотив царя как будто раскрывается в
словах письма Бенкендорфа: «И предмет сей должен представить
вам тем обширнейший круг, что вы на опыте видели совершенно все
пагубные последствия ложной системы воспитания». Пушкин
говорил, что он знает, чего от него хотели (Майков Л. «Пушкин». СПб.,
1899. Дневник Вульфа... С. 177-178), и, может быть, потому и
начинает с того, что ему должно было быть известно «на опыте»:
«Последние происшествия обнаружили много печальных истин».
Причины «происшествий» он не хочет видеть в одном только влиянии
«чужеземного идеологизма»; корень всякого зла — «воспитание, или,
лучше сказать, отсутствие воспитания». И он тотчас апеллирует к
высочайшему манифесту (от 13 июля 1826 г.), где было сказано: «Не
просвещению, но праздности ума — недостатку твердых познаний
должно приписать сие своевольство мыслей», и т. д. Все это Пушкин
заключает: «Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать
новые безумства, новые общественные бедствия». Но ведь весь
вопрос для правительства, желавшего держать в своих руках все
водительство просвещением, в том и состоял, чтобы найти идеи,
которыми можно было оправдать и направить руководительство. На этот
вопрос ответа нет. Ибо предложение Пушкина сделать воспитание
всецело государственным и «представить чины целию и
достоянием просвещения» не может считаться ответом. Чины, как цель
просвещения, были в духе русского общества, — это сам Пушкин
подчеркивает: «Чины сделались страстию русского народа», — но это —
психологическая характеристика, а не обосновывающая возможную
Очерк развития русской философии
267
политику идея. Воспитание же всецело государственное и
подавление во что бы то ни стало воспитания частного есть нечто столь
дикое, столь несостоятельное внутренне, что перед ним бледнеет
обскурантизм Магницкого и Шишкова. Казалось бы, такая мысль все
же по духу самому Николаю Павловичу. Однако он поставил около
этой фразы знак вопроса. Не потому ли, что он сознавал, что столь
дикую мысль осуществлять во что бы то ни стало нельзя, а нужно
было найти, во имя чего ее можно было оправдать. Этого-то
Пушкин и не мог указать. У него выходило, что оправданием этого может
быть все-таки само просвещение, которое и оставалось конечною
целью, отчего государственное воспитание, как средство, единственное
и лучшее, невольно и само собою наводило на сомнения. Судя по
ответу государя, выраженному в резолюции и в письме Бенкендорфа,
именно «просвещение», как последний аргумент, его и не
удовлетворяло. Было приказано ответить Пушкину, что выставленный им
принцип, будто просвещение и гений есть все (que l'instruction et le
genie est tout), есть принцип ложный для всех правительств, и что
добрая нравственность, исполнение служебного долга, усердие (1а
morale, les services, le zèle) должны быть предпочтены просвещению...
{Сухомлинов M. И. «Исследования...». Т. II. С. 238-246). Из этого видно,
что никакой положительной идеи в этом деле у Николая
Павловича не было, ибо о «доброй нравственности», казалось бы, Шишков
все сказал. Для правительства, желавшего сохранить за собою
интеллигентное руководительство, это было фатально. Срок наступил
крайний, бил час последний... Не прошло и года со времени
переписки Бенкендорфа с Пушкиным, как юный Киреевский уже мечтал
в письме к другу (А. И. Кошелеву189): «Не думай, однакоже, чтобы я
забыл, что я русский, и не считал себя обязанным действовать для блага
своего отечества. Но мне кажется, что вне службы я могу быть ему
полезнее, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть
литератором, а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее
благодеяние, которое можно ему сделать? Все те, которые совпадают
со мной в образе мыслей, будут моими сообщниками. Все они будут
литераторами, и у всех будет отражаться один дух. Куда бы нас судьба
ни завела и как бы обстоятельства ни разрознили, у нас все будет
общая цель: благо отечества, и общее средство: литература».
То, чего не признал бы, может быть, и Пушкин, и чего он не хотел
выговорить, было безусловно чуждо Николаю Павловичу, как, может
268
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
быть, и вообще русскому человеку: свобода просвещения, обучения,
образования. Николай Павлович искал твердости, но — это есть
верный признак ограниченности ума — думал, что твердость
предполагает единообразие. Он дал соответственное приказание
учрежденному им Комитету для устройства учебных заведений, но все же
это указание могло быть «формальным» принципом, а идейной души
Комитету недоставало. В Комитет вошли кн. К А. Ливен190, еще в
качестве члена Главного правления училищ боровшийся с Магницким,
и выступавший, между прочим, в защиту философии Уваров, также
боровшийся открыто с Магницким, но они, помимо прочего, в такой
же мере не были сторонниками и Шишкова. Комитет рассуждал о
«единообразии» — уставов, программ, курсов, учебников,
университетского правления, осуждал фаворитов Голицына, реабилитировал
некоторые его жертвы, но также мешал и Шишкову, смягчая,
например, его мстительное цензурное вдохновение. В 1828-м году
Шишков, наконец, ушел. Николаю Павловичу в поисках людей, за
недостатком обладателя полным комплектом нужных ему совершенств,
приходилось ограничиваться хотя бы одним — усердием. Кн. Ливен,
по-видимому, в точности удовлетворял этому требованию. Он был
человек честный, благородный, исполнительный по службе,
усердный. И что же? Вышло, что этих качеств — мало, а может быть, и
вообще не они нужны — простые аксессуары чего-то более
существенного. Ничего не сделав, он ушел в 1833-м году, и его сменил бывший
уже с 1832-го года его помощником С. С. Уваров.
Государь лично недолюбливал Уварова, но назначил его, потому
что Уваров полнее других удовлетворял его требованиям, да к тому
же был просвещеннейшим человеком, одним из самых
просвещенных тогда в России. Но он призван был уже после того как пробил
час, и на его долю пришелся жалкий жребий быть смешным Дон-
Кихотом отживавшей правительственной интеллигенции. Во всех
его действиях и словах, против искренних побуждений и добрых
намерений, ему — как, может быть, и самому Николаю Павловичу —
приходилось быть реакционерам. Таков, кажется, и вообще удел
реакции — приходить, когда она уже не нужна, как удел революции —
вторгаться, когда ее не ждут. Одна слишком запаздывает, другая
торопится.
Уварову, в бытность его попечителем, был больше всего обязан
своим возникновением Петербургский университет. Будучи товари-
Очерк развития русской философии
269
щем министра, Уваров в Петербургском университете провел,
ликвидируя порядки Рунича, «систему очищения». Теперь он, наперекор
университетской разрухе, учреждает университет св. Владимира.
Он действует, как будто твердо знает, что нужно делать. Он
работал при Голицыне, при Шишкове, при Ливене — и потому, во
всяком случае, знал, чего нельзя делать. Но подлинно ли он знал, что
нужно делать, — это вопрос. Когда он в Главном правлении училищ
возражал против предложения Магницкого закрыть Казанский
университет, в нем говорили просто чувства просвещенного человека.
На этой же почве он столкнулся и с Руничем. Когда его проект
устава Петербургского университета был отвергнут, он вышел в
отставку. Назначенный на его место Рунич представил доклад о состоянии
университета с известными обвинениями профессоров в неверии
и разрушении государственного порядка. Уваров был также задет
этим. Он написал обширное письмо Александру, — но и здесь
говорят чувства просвещенного и воспитанного человека, а
положительных идеалов не видно. Когда он берет на себя, и даже требует
для себя, часть ответственности по делу университета, в нем
говорит честный человек, возмущенный наглостью оскорбляющего его
проходимца. Он сам аттестует своих врагов, как la poignée d'hommes
sans aveu191, — но — и только. Забыв, кому пишет, он дает
истолкователям воли Голицына и самого Александра такие характеристики,
в которых последний, при всем своем «смирении», не мог не узнать
себя. Называя их врагами всякого положительного порядка и
друзьями тьмы (amis des ténèbres), он прямо перечисляет роли, в
которых они выступают: fanatiques de sangfroid qui tour à tour exercistes,
illuminés, quakers, maçons, lancastriens, méthodistes192, — все, что
угодно, только не люди и не граждане. Но как он себе рисовал именно
положительный порядок?
Во всеподданнейшем отчете о десятилетнем управлении
министерством Уваров правильно определял свою задачу: «укрепить
отечество на твердых основаниях, на коих зиждется благоденствие,
сила и жизнь народов; найти начала, составляющие отличительный
характер России и ей исключительно принадлежащие». Правильно
также рассуждал он, когда думал, что нашедши «главные начала», их
«надлежало включить в систему общественного образования». Но
решал он свою задачу, по-видимому, не с достаточною
основательностью. «Русский, — рассуждал он, — преданный отечеству, столь же
270
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия,
сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова.
Самодержавие составляет главное условие политического существования
России. Наряду с сими двумя национальными началами находится и
третье, не менее важное, не менее сильное: "народность"». Наименее
ясным представляется начало народности, как «национальное
начало». Если это не простая тавтология, — то какой положительный
смысл вкладывал Уваров в понятие народности*? Из сопоставления
его с двумя другими нельзя установить даже отрицательных его
признаков, не говоря уж о том, что строго логический анализ был бы
здесь не безопасен, так как он требовал бы исключения из понятия
нашей народности двух других начал. Разъяснения, какие мы
встречаем у самого Уварова, не идут дальше общих мест. Не вдаваясь в
ведущие к сомнениям подробности содержания и генезиса этой идеи,
можно только видеть в ней отражение или восприятие
западноевропейского романтизма вообще или, например, исторической школы
права. Но все-таки перенесенная к нам она могла быть принята, как
задача. Ее можно было задать русскому просвещению, но не ставить
принципом.
Это вытекает из собственных рассуждений Уварова.
«Относительно к народности, — пишет он ("Десятилетие Министерства...". С. 3), —
все затруднение заключалось в соглашении древних и новых
понятий; но народность не заставляет идти назад или останавливаться;
она не требует неподвижности в идеях». Уваров переписал задачу
из западноевропейских тетрадок — но понимал ли он, что идея
национального возрождения, охватившая Европу и знаменовавшая со-
* «Десятилетие Министерства Народного Просвещения». 1833-1843. СПб.,
1864. С. 2-4, ср.: С. 106-108. Этот вопрос до сих пор не разъяснен в
достаточной мере нашими историками. Кажется, у одного Пыпина было на этот счет
вполне определенное мнение: «слово "народность" был эвфемизм,
обозначавший собственно крепостное право...» {Пыпин А Н. «История русской
этнографии...». Т. СПб., 1890. С. 388). К сожалению, это суждение Пыпина никак не
доказывается. Его пространные суждения об «официальной народности» в
«Характеристиках литературных мнений» только закрывают от читателей факты,
на которые Пыпин мог бы опираться. Но и факты указываются нередко
ошибочно. Мы располагаем теперь большим количеством лучших источников и
исследований, чем какие были в распоряжении Пыпина. Ненормально только,
что в новом издании ошибки Пыпина не исправлены, хотя издание снабжено
дополнительными примечаниями.
Очерк развития русской философии
271
бою выступление новой (четвертой) смены интеллигенции, прямо
противоречила тому, что делалось у нас? Там национальное
возрождение было народным, и правительства могли присоединиться или
не присоединиться к истинным репрезентантам народности. У нас
народности просто-напросто не было, потому что не было
соответствующей репрезентации, и правительство само хотело взять на
себя эту роль. Вместо того, чтобы обеспечить условия, без которых
задача не могла быть решена, опирались на данное и предписывали
его, как решение. Вместо «народности» осуществлялся национализм
самодержавного государства.
«Народность» Уварова не была уже l'esprit général d'une nation
Монтескье, и не было еще Volksgeist Гегеля193. Поэтому ее и нужно
сопоставлять с идеями романтиков, а как государственную идею —
с так называемой исторической школой в праве. Вопрос о генезисе
идей Уварова остается открытым, — почему-то он наших историков
не интересовал. Между тем несомненно, что государственная
мудрость наших правителей не была всецело оригинальною. Вероятно,
во времена Магницкого нам не оставались вовсе неизвестны какие-
нибудь Галлеры или Мюллеры, вероятно, и Уваров имел своих
«оправдателен. Разрешение вопроса о генезисе его общего и
политического мировоззрения могло бы быть предметом интересного историко-
культурного исследования. Уваров был учеником немецких
неогуманистов, был воспитан в идеологии, возглавляемой Фр. Авг. Вольфом
и видевшей путь к немецкой народности через эллинизм; он был
лично знаком с Гете (которому посвятил одно из своих
филологических исследований), состоял с ним в деятельной переписке (ср.: его
речь о Гете 1833 г. — «Etudes de Philologie et de Critique par S. Ouvaroff».
S.-Pétersbourg, 1843. Appendice)194; он был лично знаком с Шлегелями
и другими руководителями немецкой культуры; состоял в целом ряде
иностранных академий и ученых обществ, с членами которых
находился в личных сношениях; — все это не могло остаться без влияния
на его понимание задач русского просвещения.
Не считая себя компетентным для решения указанного вопроса,
не могу не отметить — не настаивая, впрочем, на генетической
связи — некоторого сходства идей Уварова с государственным учением
в свое время небезызвестного историка Лудена (Luden H. Handbuch
der Staats-weisheit oder der Politik. Jena, 1811)195. Совокупность
индивидов, определяет он, в которых культура получает некоторую свое-
272
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
образную форму, называется народом, а сама эта особая культурная
форма — народностью (Volkstümlichkeit, § 7, — Луден отмечает, что
заимствовал этот термин, как и термины Voiksthum, volksthümiich, у
Яна, надо думать, у известного Turnvater'a Фр. Л. Яна, которого,
между прочим, сочинение под заглавием «Deutsches Voiksthum» вышло
в 1810 г.). Правитель государства должен стремиться к тому,
чтобы единая человеческая культура возникла в государстве как
своеобразная народная культура (§ 83). Правитель должен связать задачи
государства с своеобразием народной культуры, но это не значит,
что последняя должна явиться по приказу или принуждению (§ 84).
«Культура народа в настоящем всегда есть результат жизни народа в
прошлом» (§ 84 Anm. S. 213). Науки по своей природе общи и
выходят за пределы государства, но так как не может быть культуры без
народности, и государство есть условие всякой культуры, то
государство не может быть равнодушно к научным стремлениям и должно
направлять ход науки и на познание самой народности, и на
возбуждение любви к отечеству (§ 144). Приказаниями и
предписаниями здесь ничего достигнуть нельзя, свободному духу должно быть
предоставлено свободное движение, но если исследование
направляется на предметы, которые могут быть опасны для религии,
добрых нравов, отечества и народности, тогда правительство обязано
выступить против нарушения порядка и публичного благополучия.
Напротив, оно обязано содействовать тем, кто действует в науке на
славу и пользу отечества, и кто содействует развитию духа в
направлении особенностей своего народа. У всякой науки есть такая
сторона, но в особенности внимания правительства заслуживает
отечественная история, жизнь и деяния предков (§ 145). Это — едва ли
не главный пункт программы министерства Уварова. Как частность,
отмечу совпадение этой программы с взглядами Лудена по вопросу
о «частном воспитании». Луден является его решительным
противником, в особенности в руках «иностранного, ветреного гувернера»
(§ 175 Anm.). Если позволительно идти дальше и сопоставлять с
общими принципами Уварова те требования, которые он прямо
предъявлял к политике просвещения, то можно заметить, что они
выливаются в директивы для этого как будто достаточные. Уваров хотел,
«при оживлении всех государственных сил, охранять их течение в
границах безопасного благоустройства», хотел «изгладить
противоборство так называемого европейского образования с потребностя-
Очерк развития русской философии
273
ми нашими: исцелить новейшее поколение от слепого,
необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя
в юных ушах [умах? душах?] радушное уважение к отечественному и
полное убеждение, что только приноровление общего, всемирного
просвещения к нашему народному быту, к нашему народному духу
может принести истинные плоды всем и каждому» (ср. выше
взгляды Лудена). Но кто должен и будет решать, в чем состоит названное
приноровление? Сам просвещенный Уваров не мог бы ответить на
вопрос ясно и определенно, между тем, каждому предоставлялось
по собственному разумению разгадывать тот X — «дух народный»,
«дух русский». Простейший выход был тот, что дух народный только
и определялся теми двумя предикатами, которые в качестве
принципов выставил Уваров рядом с народностью. Исторически
отношение вещей упрощалось еще больше. Православное духовенство уже
давно исчерпало свои интеллигентные силы, и его руководственная
роль в светском образовании кончилась. XVIII век шел под эгидою
отвлеченного «разума» с его «естественными правами».
Теократическая, — Христос — «Самодержец народа христианского», —
реакция Александровской эпохи ставила на место разума неразумие, но
обходилась без православного духовенства. Теперь она называлась
врагом всякого положительного порядка, и следовательно на
последнем и нужно было сосредоточить все усердие. В цитированном
выше «Отчете» Уваров писал, что его тройственная формула
восстановила против министерства не только представителей
либеральных идей, но и «мистических, потому, что выражение —
православие довольно ясно обнаружило стремление министерства ко всему
положительному в отношении к предметам христианского
верования и удаление от всех мечтательных призраков, слишком часто
помрачавших чистоту священных преданий церкви» (С. 107). В виде
реакции против реакции неразумия выдвигалась положительная
историческая религия. Но разве, серьезно говоря, ей теперь
позволили бы и позволяли играть руководящую роль? Православие давно
было слугою государства*. Если бы теперь у духовенства даже хвати-
* Конечно, православие не было в формуле Уварова только эвфемизмом, но
в центре или на периферии — оно было вполне по обстоятельствам. Никитен-
ко передает (I, 334) поучительный эпизод. Дело идет о назначении
профессоров католической академии, куда был определен и сам автор этой записи: «На
274
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ло смелости и сил заявить свои претензии на руководительство,
такая дерзость была бы мгновенно укрощена. Это не значит, что
православие не было реальною силою. Оно было ею. Именно потому
оно и нужно было государству — для санкции, в глазах верующих,
его правительственного поведения и соответственно для цензуры
всего антиправительственного, как если бы оно было
антирелигиозным. Открыто существовать духовенство могло только, поскольку
оно было покорно государству, ибо независимое духовенство, как
фактор антигосударственный, в государстве несвободном обречено
на подполье. Положительный порядок, в противопоставление
порядку естественному («естественное право», «естественная религия»)
и порядку сверхъестественному («божественному»), понимается
теперь как исторический государственный порядок. Этим порядком
было одно чистое, национальное и неограниченное самодержавие.
В этом идея эпохи: национализм против Священного
интернационала*. Отождествление государственности и самодержавия не было
здоровым. Как бы исторически, в связи с общеевропейскими
делами и событиями, ни объяснялся этот период нашей истории,
психологически он был чувством смертельной болезни и предчувствием
неизбежного конца. Отсюда мнительность, неуверенность и
импульсивность, при видимом самообладании и напускной твердости.
При таких условиях, искренно или неискренно, но правительство
не могло иначе относиться к просвещению, как в полной
уверенности в своем нераздельном праве на руководство им. Идеологию
предоставлялось придумывать, — но с другой стороны и только тем,
кто мог понимать создавшееся положение и честно —
«нравственно, в исполнении служебного долга, усердно» — отдавал свои
способности и силы самодержавному государству Поэтому настоящая
программа Уварова не в его «тройственном понятии», — оно только
философию никого не находят. Да где же у нас не только философы, но и сама
философия? Я советовал обратиться к Карпову,... Галича не хотят... Фишер, наш
университетский профессор, не люб, потому что сам католик». Но этот католик
был допущен к преподаванию в православной духовной академии и преподавал
там 10 лет, из них последние три года устраненный из университета вследствие
уничтожения кафедры в 1850-м году.
*А не в мнимом «продолжении» осуществления идей Священного союза,
как изображал тот же Пыпин, его изображение неточно и идеологически и
фактически.
Очерк развития русской философии
275
случайная постановка вопроса в духе времени, — а в его убеждении,
что правительство есть единственный интеллектуальный
руководитель страны. Как он сам это ясно формулировал: «Если выход из
грубой тьмы невежества и беспрерывное дальнейшее движение к
свету необходимы для человека, то попечительное в этом деле
участие правительств необходимо для народов. Только правительство
имеет все средства знать и высоту успехов всемирного
образования, и настоящие нужды отечества». Что же тогда делает наука и ее
реальные носители, ученые? Для государства, как такие, они не
нужны; государству могут быть нужны только приложения науки, и
следовательно, нужны техники в широком смысле. Но может ли быть
приложение науки без науки? Нет, конечно. Под государственными
мундирами и вицмундирами можно до поры до времени скрывать
проказу невежества, но ее лечение таким образом только
запускается. Уваров думал, что он сохраняет науку и спасает государство,
«блюдет истинные выгоды народа» — было ли правительство,
которое не говорило этого? — и предохраняет его от «нравственно
политических язв», — какое правительство и этого не говорило? Во
имя этого спасения, соблюдения и предохранения, он, обращаясь к
университетам, предписывал: «Каждый из профессоров должен
употребить все силы, дабы сделаться достойным орудием
правительства».
Уваров думал, что правительство может все знать — и успехи
всемирного просвещения и нужды отечества. Однако было нечто,
чего он не знал. Он не знал, что философия для государства ни на
что не пригодна, что применения ей нет и «служить людям» она не
может. Он воображал, что может быть такая философия, которая
будет отстаивать само государство, или, выражаясь более поздним
стилем, которая будет «обосновывать» заданные ей политические
темы, и которую, выражаясь таким же стилем, государство
«использует» в своих целях. Он плохо слушал то, что громко говорилось его
собственными современниками на языке его собственных научных
руководителей. Может быть, и слышал, но не понимал того, что
философия живет и движется противоречием, и если он оставляет
хотя бы гран ее, казавшийся ему полезным, из него вырвется вихрь
для него вредный. Чем резче очертить пределы полезной, нужной
государству философии, тем скорее, напряженнее, стремительнее
она раскроет беспредельное им противоречие. И чем прочнее свя-
276
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
жет себя государство с полезною ему философией, тем легче
бесполезная философия разоблачит противоречие, которое существует
между правами ее разумного духа и жалким неразумием
государственных претензий ограничить эти права. Когда до
самодержавного российского государства донесся отдаленный свист
европейской бури 1848-го года, наше правительство расслышало наконец
в нем, как переходит полезная государству философия в свое
противоречие. Тут только убедились в последовательности Магницкого
и решили отменить философию в нашем государстве. Уваров ушел
в сентябре 1849 года, и выполнение этого подвига выпало на счастье
кн. Пл. А. Ширинского-Шихматова.
Когда Уваров в своем «Отчете» в светлых тонах изображал
движение в России науки и высшего образования, он во многом был прав.
За отчитываемое десятилетие, действительно, университеты наши
стали на ноги. Иностранцы были уже не нужны, появился целый
ряд своих ученых, преподавание по многим кафедрам стояло на
европейской высоте. Конечно, не все предметы были у нас на такой
высоте, как русская история, напр., но везде замечалось стремление
к научности у преподавателей и интерес к научности у студентов.
Уваров неправ был лишь в убеждении, что все это достигнуто
мерами министерства. Идеи и психология их восприятия имеют свои
имманентные, от воли руководителей не зависящие законы. Раз
зародившаяся научность развивается независимо от того, полезно или
бесполезно это развитие государству, поддерживает оно его или не
поддерживает. Ум, воспламенившийся идеею, не успокоится на
пассивном приятии ее дозволенной полезной части и найдет
источники, которые увлекут его к запретному целому. Политика Уварова
возбуждала интеллектуальную страсть, но не давала средства
удовлетворения ее. Положительному порядку это не могло
благоприятствовать. Люди без научного вкуса Уварова и без его научной
совести беспристрастнее видели создавшееся в государстве
противоречие и были более правы, чем он. С середины 1840-х годов, отчасти
помимо Уварова, отчасти с вовлечением и его, создается целый ряд
институтов и предпринимается ряд отдельных мер для пресечения
и предупреждения вредных самодержавному государству идей.
Европейский 1848-й год окончательно осудил Уварова, и энергия
обскурантов взвинтилась. Ясно было, что половинчатость Уварова — враг
в собственном доме, предательство. И вот, можно сказать, накануне
Очерк развития русской философии
277
крушения всей колоссальной машины николаевского самодержавия
обскурантизм с судорожным отчаянием принимается за
уничтожение своего смертельного врага.
Мы видели, с какою неопределенностью вводилось в
программу Уварова понятие народности. Каждому было предоставлено его
толковать по-своему. И действительно, вся русская мысль 30-х и
40-х годов предалась разгадке тайны этого сфинкса. Но не вся она
развилась под опекою государства, и не вся она решала этот вопрос
в исключительных интересах государственной пользы. Наконец, и
официозная наука стала заражаться вольностью некоторых
толкований, крепко, впрочем, убежденная, что ею в точности выполняется
задание министра. Казалось, люди, государству вполне преданные,
толковали «народность» вполне государственно, и тем не менее в
их толкованиях было явное отклонение от пользы современного
им государства. Одни слишком откидывались назад в поисках за
разгадкою народного духа, другие слишком решительно рвались
вперед, усиливаясь проникнуть взором за черту современного
горизонта и там найти успокоиваюшую совесть разгадку. Правительство
теперь только убедилось в необходимости дать свое однозначное
толкование. Уваров все опаздывал. Лишь через четырнадцать лет
его управления, «по высочайшей воле», было сделано нужное — или
вернее уже ненужное, как запоздавшее — разъяснение. 1-го июня
1847 г. проф. Никитенко записывал в своем «Дневнике»: «Вчера, т. е.
31 мая, состоялось чрезвычайное заседание совета в университете
под председательством попечителя... Читали предписание министра,
составленное по высочайшей воле, где объясняется, как надо
понимать нам нашу народность и что такое славянство по отношению к
России. Народность наша состоит в беспредельной преданности и
повиновении самодержавию, а славянство западное не должно
возбуждать в нас никакого сочувствия. Оно само по себе, а мы сами
по себе. Оно и не заслуживает нашего участия, потому что мы без
него устроили свое государство, без него страдали и возвеличились,
а оно всегда пребывало в зависимости от других, не умело ничего
создать и теперь окончило свое историческое существование. На
основании всего этого министр желает, чтобы профессора с
кафедры развивали нашу народность не иначе, как по этой программе и
по повелению правительства. Это особенно касается профессоров:
славянских наречий, русской истории и истории русского законо-
278
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШЛЕТ
дательства». Никитенко, конечно, конденсировал «предписание», но
ведь тут и важна только идея, а не форма выражения.
Несомненно, такое разъяснение шло уже против воли и
истинных принципов самого Уварова, а в глазах опекаемых им это его
только компрометировало. Уварову самому теперь пришлось
испытать реальное значение «начал» народного воспитания Николая
Павловича: исполнение служебного долга, усердие. Положение Уварова
делалось все более фальшивым. Он уже стал в чужих руках орудием
цензурных преследований, где покрывал своею ответственностью
явное и тайное мракобесие, теперь он становился только орудием
и в делах высшего образования. С 1848-го года на университеты
градом посыпались мероприятия, долженствовавшие их
стерилизовать и обезвредить в государственном смысле. Уваров из
руководителя все больше превращался в орудие чужого действия.
Запрещаются заграничные отпуска и командировки, ограничивается
число своекоштных студентов, — кроме полезного медицинского
факультета, — признается полезным, чтобы дети властвующего
сословия искали преимущественно военной службы, «для чего
университетское образование не есть необходимость». Количество
студентов, возросшее с 1836-го по 1848-й год почти в два с половиною
раза*, к 1850-му году резко падает, а введенные нормы заставляют
выбирать предметы занятий не по склонности и желанию, а по
обстоятельствам случайным и по соображениям сторонним.
Положение Уварова из фальшивого становилось глупым. Он
искренне хотел быть опорою самодержавия, а был в его руках
простою погремушкою. По принципам своим не мог он обратиться за
подцержкою и к обществу. Оно ушло из-под его опеки и едва ли не в
нем видело своего злейшего врага. Как увидим ниже, он попробовал
в критический момент обратиться к вскормленному им
профессорскому перу. Но результат этого обращения обратился против него
же, не говоря уже о том, что если бы Уваров собрал теперь в свою
защиту всех своих Давыдовых, Погодиных и проч., в глазах «ново-
* Не считая Дерптского университета: Виленский был закрыт перед
открытием Киевского. Общее количество студентов пяти русских университетов: в
1836, 1848 и 1850 гг. последовательно 1466, 3412, 2464. Последовавшее затем
некоторое увеличение этого числа объясняется введением в университетское
преподавание военных наук и увеличением норм для медицинских
факультетов ввиду их крайней необходимости для нужд войны.
Очерк развития русской философии
279
го» общества их выступление против мракобесия означало бы
сдачу позиций и вызвало бы не столько сочувствие, сколько злорадное
торжество. Их положение в русской культуре было также
фальшиво. Каково бы ни было, однако, политическое положение Уварова,
несвоевременность его идейной позиции раскрывалась яснее с
каждым днем и обществу, и правительству Между последними уже
прошел разделивший их поток, и уже нужно было находиться на
одном или на другом берегу. Этот поток пролился с Запада. Ники-
тенко сделал 2 дек. 1848 г. такое наблюдение: «События на Западе
вызвали страшный переполох на Сандвичевых островах.
Варварство торжествует там свою дикую победу над умом человеческим,
который начинал мыслить, над образованием, которое начинало
оперяться. Но образование это и мысль, искавшая в нем опоры,
оказались еще столь шаткими, что не вынесли первого же
дуновения на них варварства. И те, которые уже склонялись к тому,
чтобы считать мысль в числе человеческих достоинств и
потребностей, теперь опять обратились к бессмыслию и к вере,
что одно только то хорошо, что приказано... на Сандвичевых
островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный
порыв, как бы он ни был скромен, клеймятся и обрекаются гонению
и гибели. И готовность, с какою они гибнут, ясно
свидетельствует, что на Сандвичевых островах и не было в этом роде ничего
своего, а все чужое, наносное. Поворот назад, таким образом,
сделался гораздо легче, чем ожидали и надеялись некоторые
мечтатели... Наука бледнеет и прячется. Невежество возводится в систему...
уже простодушные люди со вздохом твердят: "видно, наука и впрямь
дело немецкое, а не наше"».
Фатально. Наука — не наше восточное дело. Натиск
обскурантизма—и вот те, кто склонялся уже к мысли, обращаются к
бессмыслию и покорности приказу... Трудно сказать, кого конкретно имел в
виду Никитенко, но само собою подсказывается пример,
иллюстрирующий его наблюдение. В июльской книге «прогрессивных»
«Отечественных Записок», органе «нового общества», в том же 1848-м г.
появилась статья (без подписи) редактора журнала Краевского под
заглавием «Россия и западная Европа в настоящую минуту». Кра-
евский, некогда проповедывавший «философию» Ботена, затем
бывший пестуном Белинского, Герцена и др., подвергавшийся
преследованию за либеральные идеи, «в настоящую минуту» заговорил
280
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
языком ничем не прикрытого невежества и воспитания искренне
рабского*.
«Отечественные Записки» возвещали: «Европа представляет
теперь зрелище беспримерное и чрезвычайно поучительное. В одной
половине ее — безначалие со всеми своими ужасными
последствиями; в другой — мир и спокойствие со всеми своими благами». Это -
западная Европа и Россия. Отчего же это «изумительное явление»?
Оказывается, началом новых государств на Западе было завоевание,
у нас — «свободное призвание властителей». Оттого с самого
начала мы управляемся не на основах феодализма, а на основах
«патриархальной, отеческой, самодержавной власти». «Церковь и Государь
сделались началами всех действий народа, и никакие события,
никакие несчастий и бедствия не разъединяли у нас этих священных
властей между собою; никогда и народ не переставал видеть в них
свое счастие при обыкновенном течении дел и свое спасение в дни
бедствий». Петр водворил у нас науки и искусства, не пренебрег ни
одного вещественного улучшения в нашем быту, но ни он, ни его
преемники не коснулись основных начал силы и величия России.
И русские по-прежнему, если не больше, привязаны к своим
государям, к вере отцов, к своей национальной самобытности. Петр
заставил нас полюбить образованность, и мы сделали шаги, подобных
которым не представит история: «в полтораста лет мы не только
догнали, но даже перегнали в некоторых отношениях самые
образованные народы, а как государство Россия уже давно заняла первое
место в целом мире». В заключение статьи говорилось: «Россия и в
юности своей была государством самобытным, отвергнувшим все
покушения Запада, а в крепости мужества своего она составляет
незыблемый колосс. Летописи мира не представляют подобного
величия и могущества, и счастье быть русским есть уже диплом на
благородство среди других европейских народов. Как в древнем мире имя
римлянина означало человека по преимуществу, так значительно в
наши дня имя русского.... Они [иностранцы] хотят отделить нас от
себя?.. Неразумные! Они не видят, что мы уже отделены от них,
отделены лучше, нежели стенами^ — отделены историческим своим
'Дело, конечно, не в личности автора — вероятно, он был человеком
«порядочным» и общественнополезным, — а в его статье как социально-
психологическом явлении русской общественности.
Очерк развития русской философии 281
развитием, нравственными своими началами, образованием всех
частей нашего государственного устройства».
Статья все-таки вызвала в некоторых кругах негодование, хотя
меньше всего, кажется, своим невежеством, а больше по мотивам
морального порядка. Взволновался, между прочим, даже Погодин,
благородство волнения которого, впрочем, смягчалось тем, что
Погодин увидел в статье «Отечественных Записок» пародию на
собственные воззрения. Шевырев уверял, что он «от всей души
смеялся» и что такая статья — орден «Москвитянину». Зато Бутурлиным
она была принята, как он писал Уварову, за отличающуюся
«верным взглядом на описываемый предмет, беспристрастным, чуждым
какого-либо ласкательства и внушающим тем более доверия
изложением, особою теплотою религиознаго чувства и патриотическим
увлечением, достойным всякой похвалы». Одурачить Бутурлина
было, значит, нетрудно. Сам царь одобрил статью — вместо того,
чтобы примерно наказать шута. Уваров мог только увидеть себя
одураченным совсем в другом смысле: его идеи могли быть приняты
правительством лишь в доведенном до абсурда смысле. В порядке
историко-психологическом статья Краевского была симптомом, что
романтизм Уварова в исторически трезвых — хотя бы и
цинических — глазах смешон. Идея правительственной интеллигенции
потерпела крах. Отныне ее минимальное руководительство развитием
русской культуры в действительности было только борьбою с
реальным руководительством новой, вне-правительственной
интеллигенции. Уваровцы, попавшие между двумя берегами, если не приставали
к одному из них, гибли в пучине бурного потока.
Обскурантизм брал верх и, в лице кн. Платона Ширинского-Ших-
матова, опять завладел министерством русского просвещения. В
сентябре Уваров вышел в отставку, а в октябре университеты лишились
права избрания ректора, который теперь мог быть назначен и из
лиц посторонних университету; избрание деканов было
ограничено, и они могли также назначаться; было сделано распоряжение
принимать в студенты почти исключительно детей дворян,
обладающих недвижимою собственностью, ибо не имеющие таковой
слишком много мечтают о своих способностях и сведениях и «гораздо
чаще делаются людьми беспокойными и недовольными настоящим
порядком вещей, особливо, если не находят пищи своему чрезмерно
возбужденному честолюбию». Далее, было ограничено право уни-
282
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
верситетов и академии наук получать книги из-за границы. Взялись
и за самое науку. С конца 1849-го года было прекращено
преподавание государственного права европейских держав, а с 1850 была
уничтожена кафедра философии196. Оставалась, как некогда
проектировал Карнеев, лишь логика и психология, преподавание которых
поручалось профессорам богословия по программам,
установленным духовным ведомством и под его наблюдением. Как докладывал
Ширинский-Шихматов, цель уничтожения философии —
«ограждение от мудрований новейших философских систем». Впрочем,
философию исключили не без колебания — предполагалось
первоначально оставить и вести преподавание в обличительном духе.
Невозможность найти способных для этого преподавателей побудила
вовсе отменить кафедру*.
Ширинский-Шихматов, кроме благословений Магницкого и
Карнеева, вдохновлялся также добронравием своего брата, в миру
капитан-лейтенанта Сергея, в иночестве Аникиты, который в
Правлении училищ, при обсуждении предложения Магницкого,
советовал из философских наук допустить преподавание логики,
«заключающей в себе весьма полезные наставления, как правильно
составлять предложения и выводить из них справедливые доказательства»,
и психологии, ибо «рассматривание свойств души, ее способностей
и даже страстей принадлежит к истинному просвещению». Что
касается собственно философии, то она способна совратить умы на
самый гибельный путь. Все философские сочинения были
источниками ересей и неверия. Сам Баумейстер почти на каждой странице
своего учебника высказывал мысли, противные нравственности и
религии. Для преподавания философии должен быть составлен
особый учебник, где были бы изложены «наставления из книг боговдох-
новенных Ветхого и Нового Завета, удерживая, сколько возможно,
даже самые выражения Св. Писания», как в знаменитого Боссюэта
«Священной политике». «К таковым из Св. Писания правилам
истинного благонравия надлежит еще, для доставления сему важнейшему
учению полного совершенства, присовокупить из жития св. отцов
поучительные и всякого подражания достойные примеры, с
правилами, по опыту составленными, соединенные, как при помощи
'Рассказывают, что проф. Голубинскому было предложено опровергнуть
учение немецкого идеализма; он отвечал, что он — не в состоянии.
Очерк развития русской философии
283
благодати одолевать и искоренять в самом себе самые сильные
порочные страсти и достигать самых высоких христианских
добродетелей» {Феоктистов Е. М. «Магницкий: Материалы для истории
просвещения в России» // Русский вестник. 1864. VIII. С. 431-432).
Преподавание остальных наук было взято под усиленный
надзор — деканы следили за профессорами*, ректор, не несший
профессорских обязанностей, — за деканами — и строго
регламентировано. Преподаватели перед началом курсов должны были
представлять точные программы с указанием сочинений, которыми они
пользуются. Приказано было следить, «чтобы в содержание
программы не укрылось ничего, несогласного с учением православной
церкви или с образом правления и духом государственных
учреждений». Диссертации допускались лишь содержания
благонамеренного, извлеченные из них тезисы долженствовали иметь «надлежащую
полноту, определительность и ясность» и не должны были допускать
обсуждения в одобрительном смысле «начал, противных нашему
государственному устройству». И все-таки это были только полумеры.
Возникла, правда, мысль об уничтожении университетов и о
замене их специальными школами, но до осуществления ее все-таки не
дошли. До последней радикальной меры — запрещения печатания
книг и в особенности печатания учебников — также не дошли.
Назначением Ширинского-Шихматова, таким образом, все
старания Уварова вывести под руководством правительства русское
просвещение на положительный путь развития оказались сразу
уничтоженными. Противоречие вскрылось. Уваров оказался в положении
жалком и почти смешном, — тем более жалком, что он понимал
свое положение, и тем более смешном, что он не понимал
ненужности своих прежних стараний. Назначение Ширинского-Шихматова
было уже победою полного обскурантизма над политикою Уварова,
* Появлялись на лекциях и сторонние визитаторы. Ор. Новицкий передает,
что после событий 1848-го года «в петербургских влиятельных сферах были
убеждены, что философия оказывает вредное влияние на молодежь, вследствие
чего преподавание ее в университетах подвергнуто было негласному надзору.
В Киеве на лекциях Новицкого являлся постоянным его слушателем какой-то
старичок-чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Бибикове;
а затем этого посетителя сменил адъютант Дмитрия Гавриловича, Лермонтов,
который, по его словам, когда-то в Берлине имел случай слышать публичную
лекцию Шеллинга» {Иконников. «Словарь...». С. 511).
284
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
и в то же время — с точки зрения конкретного целого русской
культуры — смысл этого назначения был в победе идеи оппозиционной
интеллигенции над идеей Уварова. Ширинский-Шихматов —
смертельный удар для правительственной интеллигенции. Фатальная для
правительства борьба против Уварова была начата раньше и велась
исподволь. Уваров сдался не сразу и, как во времена Магницкого,
снова выступал, хотя на этот раз и чужим пером, в защиту науки.
Волею истории ему пришлось обратиться к тому средству, которое
он сам всячески старался ослабить, — к печати. В «Современнике»
(ред. Панаева и Некрасова, 1849. Т. XIV. Март) появилась без подписи
статья: «О назначении русских университетов и участии их в
общественном образовании». Статья была составлена проф. Давыдовым,
но проредактирована и исправлена самим Уваровым. Статья
защищает университеты от покушения темных людей, публично еще не
выступивших, но подготовлявших парадные платья к своему
выступлению. Идеология статьи слепо воспроизводит прежние
сакраментальные лозунги тройственной формулы. Их противоречия между
собою и их противоречия истории Уваров все еще не видит. Свое
почти смешное положение Уваров сделал окончательно смешным:
редакция журнала за его статью получает нагоняй. А сам Уваров,
как и в прежние времена, пожелавший честно взять на себя свою
долю ответственности, получил от царя напоминание: «Должно
повиноваться, а рассуждения свои держать про себя».
С недавнего времени, разъясняет статья повод своего
возникновения, в обществе стали обращаться мысли о преобразовании
университетов. Но затем авторы статьи поворачиваются лицом к
легкомыслию поверхностных мечтателей, жаждущих преобразования
будто из подражания Западу и игнорирующих наши национальные
добродетели преданности, благоговения и пр. Для того, чтобы этих
мечтателей уличить, достаточно, считают авторы, показать то, что
стоит в заголовке их статьи. Пробежав историю университетского
образования от Елизаветы и до своих дней, авторы приходят к
выводам оптимистическим и опять поворачиваются не к «мечтателям»
уже, а к своим реальным противникам. Несмотря на осязательные
результаты, говорят они, «люди легкомысленные обвиняют
университеты в образовании, будто поверхностном и ничтожном. То, что
за сто почти лет считалось необходимым, что в продолжение
почти века произвело столь благодетельное влияние на всю Россию, то
Очерк развития русской философии
285
ныне считают преждевременным!» Полагают, что у нас могут быть
только специальные училища. «Но кем дышат и питаются все эти
заведения? Профессорами и наставниками университетов. Да иначе
и быть не может: без универсального учения не может быть и
специального». Разобрав аргументы, выдвигаемые против
университетов, — революционный дух классического образования, подражание
немцам — статья приходит к выводам: «В благополучное
нынешнее царствование, проникнутые чувством народности, мы умеем
заимствовать у немецких и других ученых все полезное для науки,
оставаясь русскими. Уже не доверяем сказаниям иностранцев, но
сами исследуем свою природу, свое небо, исследуем нравы и обычаи
предков наших, законы, язык, искусство. Университетам, имеющим
дело с идеями, элементом, непрерывно изменяющимся, предстоит
непрестанная с ними борьба. Для идей нет ни стен, ни таможен: при
всей бдительности оне, неудержимые и неуловимые, переносятся
через моря и горы; против них один оплот — народное образование,
основанное на благоговении к православной Вере, преданности к
православному Государю и любви к православной России.
Университеты и их учебные заведения этими священными чувствованиями
глубоко проникнуты». «Разливать благотворный свет современной
науки, не меркнущий в веках и народах, хранить во всей чистоте и
богатить отечественный язык, орган нашего православия и
самодержавия, содействовать развитию народной самобытной словесности,
этого самопознания нашего и цвета жизни, передавать юному
поколению сокровища мудрости, освященной любовью к вере и
престолу — вот назначение русских университетов и участие их в
общественном образовании».
Заключение — в духе романтически-философском, тогда как мы
явно перешли уже к реализму. Уваров запаздывал. Статья вызвала
общее распоряжение: «Впредь не должно быть допускаемо ничего
насчет наших правительственных учреждений». А когда месяц спустя
по поводу посещения Уваровым Московского университета Погодин
написал («Москвитянин». 1849. VII) статью об этом посещении, то
несколько слов этой статьи: «становится необходимым стать за них
[за университеты] во имя просвещения», довели до
«собственноручного» на соответственном донесении начертания: «Министру
народного просвещения подтвердить, что я решительно запрещаю все
подобные статьи в журналах за и против университетов», Уваров не
286
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
выдержал. В октябре 1849-го он подвергся нервному удару и вышел
в отставку. Ширинский-Шихматов приступил к реальному делу.
Посмеивались иногда-над формулою Ширинского-Шихматова:
«польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Она —
комична по своему резкому контрасту с стараниями профессоров ува-
ровского времени доказать во что бы то ни стало пользу
философии. Сама же по себе она не должна вызывать улыбки — во всяком
случае, у того, кто расценивает науки по их полезности государству.
Ширинский-Шихматов был более прав, чем Уваров, и с точки
зрения пользы государственной, и с точки зрения самой философии.
Если философия допускается, она должна быть допущена как
свободная философия; если она в каком бы то виде не допускается, ее
нужно вовсе уничтожить. Уваров был вдвойне непоследователен: он
требовал от университетов, как государственных учреждений,
полезной государству философии, и он допускал в литературе
философию более свободную. Он не виноват, потому что опоздал, а срок
полного запрещения все равно он не мог задержать. Ширинский-
Шихматов, правда, и на литературу наложил более тяжелую руку, чем
была рука Уварова, но также слишком поздно: «противоречия» уже
раскрылись. Сделал Ширинский-Шихматов и прямой промах:
философия оставалась в духовной школе. Тут она казалась ему
безвредною. Действительность его обошла. Если противоречия
литературной философии, начавшие распускать свои почки при Уварове,
взывали к знанию, хотя бы и бесполезному, то дозволенная «духовная»
философия, без знания и без труда, в силу вышеуказанного закона ее
имманентного развития, дала такие «противоречия», от которых
государству русскому не поздоровилось. Смотрели на духовную школу
и судили по первым рядам ее, не замечая, что в задних рядах
помещались будущие герои русской «свистопляски», вышедшие вскоре
на поверхность нашей литературы в виде вывороченных наизнанку
Магницких и Карнеевых. Ибо точка в точку, как последний, например,
обижался на то, что в философии нет места чертям и колдунам,
«свистуны» уверяли, что философия кишит ими. Голицыны и Шихматовы
пугали философов черным крестом, их оборотни отвлекали
внимание от философии подвигами «реального дела». Князья удушали
философию ладаном, семинаристы — уличною пылью и грязью.
Итак, Ширинский-Шихматов, запретив в 1850-м году
преподавание философии в университетах, сделал государственное дело. Про-
Очерк развития русской философии
287
фессора при Уварове были вполне благонадежны, и правительство в
лице нового министра боролось не с ними. Благонадежнее Фишера
трудно было найти. Новицкий был назначен цензором, Михневич
сделался попечителем, Гогоцкий остался в университете
преподавать «полезную» педагогику и т. д. Это не была борьба с лицами, а
это было последовательное проведение «принципа» людьми,
отрешившимися от предрассудков и видевшими вещи как они есть,
иллюзий себе не строившими.
XIII
Министерствование Уварова — исключительно интересный
момент в ходе нашей образованности. Наш общественный и
государственный порядок всегда был основан на невежестве. Создавалась
традиция невежества. Наша история есть организация природного,
стихийного русского невежества. Наше общество и государство
никогда не могли преодолеть внутреннего страха перед
образованностью. Отдельные лица кричали об образовании, угрожали гибелью,
рыдали, умоляли, но общество в целом и государство пребывали в
невежестве и оставались равнодушны ко всем этим воплям. Страх
перед «неизвестностью» культуры делал их глухими и
непонимающими. Министерство Уварова впервые, преодолевая свой страх,
задается вопросом, нельзя ли приноровить общее всемирное
просвещение к нашему народному быту, к нашему народному духу. Обладая
прекрасным образованием, сам Уваров видел его ценность, но он
преувеличивал свои силы и плохо понимал ту «народность», к духу
которой он хотел приноровить всемирное просвещение. В самой
постановке дела заключалась внутренняя несообразность: Уваров
хотел, чтобы русская народность поставила о себе проблему по его
указке, как будто не народность правительству задает задачи, а
правительство народности. Зато, когда народность сама, в своей
литературе, а не в «правительственных учреждениях» поставила перед
собою ту же проблему о себе самой, она в лице славянофильских
оптимистов подвергалась иногда еще большему гонению, чем в лице
«западнических» критиков. Уверяли, что не верят в искренность их
патриотизма, в чистоту их любви к России. Когда что-нибудь
серьезное прикрывается глупостью, это серьезное есть боязнь за
существование — глупость тут — верный инстинкт самосохранения.
Правительство чувствовало, что за ним остается какое-то идейное право и
288
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
оправдание, если за ним будет признана привилегия на звание того,
что такое народность, и привилегия на самую сильную любовь к ему
только известной, как следует, народности. Но так как в
действительности Россию и русскую народность все-таки не знали, то они
оставались проблемами, решения которых ждали от своих же
государственных философов-профессоров.
Сверх всего Уваров сразу же начал действовать недобросовестно.
Для себя он допускал полную свободу образованности, для русского
духа он ее, как и другие, боялся. Во всяком случае, первый
получивший не только домашнее воспитание министр, он первый
предложил некоторую программу и указал некоторые руководящие идеи
русскому просвещению. Он знал, что такое образование, но не знал,
к чему он его прививает, и боялся. До него не знали и того, что
такое образование. Не знали и после него — вплоть до другого
замечательного руководителя русским просвещением, гр. Д. А. Толстого,
который действовал добросовестно, но неприлично, и потому
окончательно скомпрометировал в глазах общества — и себя, и истинное
образование. Никитенко приводит характеристики «министерство-
ваний» министерства народного просвещения после Уварова: мини-
стерствование Шихматова — помрачающее, Норова —
расслабляющее, Ковалевского — засыпающее, Путятина — отупляющее, Голов-
нина — развращающее, следующее — Толстого — было
компрометирующим. Министерство Уварова было лишь запаздывавшим. Но
его значение исключительно и приобретает драматический интерес,
если представить его в том живом контрасте с развивавшейся в то
время новою интеллигенцией, в каком Уварову пришлось
осуществлять свои намерения. Ограничимся пока чистыми результатами его
положительного влияния.
Верный инстинкт подсказал Николаю Павловичу обратиться к
Пушкину. Карамзин, Жуковский, Пушкин, кн. Вяземский и все
пушкинское были единственною возможностью для нас
положительной, не нигилистической культуры. «Литературная аристократия»,
говоря термином Пушкина, была возможность новой
интеллигенции. Но положение Пушкина было для его эпохи непонятно: он
щелкал Полевого и свистел в уши Уварову. Действительная история всей
нашей духовной культуры есть, однако, история, определяемая не
отношениями Пушкина, а отношением к Пушкину. Мне представляется
более важным, чем то, что Пушкин «началом» народного воспитания
Очерк развития русской философии
289
признал «просвещение», то словечко, которое приписал Пушкину и
присоединил к этому началу Бенкендорф (и царь?) — словечко
«гений». Если бы Пушкин сам захотел сделать откровенно и искренно
эту прибавку, он написал бы: «просвещение и я»... Но Пушкину все
равно не поверили, потому что нужен был «порядок». На этот
предмет и был приглашен Уваров. Порядок Пушкина был отвергнут,
Пушкин невзлюбил Уварова, но это уже случайность. Кто бы ни был
на месте Уварова, он неизбежно услышал бы тот же свист Пушкина.
В результате между Пушкиным и Уваровым расположился
«беспорядок» Белинского и всей отвергнутой литературной аристократии.
Где Пушкин, может быть, еще успел бы, там Уваров опоздал.
Царь заводил порядок не только потому, что был одержим идеей
сильного русского государства, но еще и потому, что грезил о
честном русском обществе в народе, в среде которого воровство, взятка,
обман и лицемерие в детстве — игра, а в зрелые годы —
единственное дело, все остальное — слова. Единственная возможность
перенесения грезы в явь была царем отвергнута. Отверженное и
отвергаемое или бранилось, или потихоньку заносило в «Дневник»:
«Неужели, в самом деле, все честное и просвещенное так мало уживается с
общественным порядком! Хорош же последний! На что же заводить
университеты? Непостижимое дело!» Это непостижимое дело и было
дано теперь на выполнение Уварову.
На Востоке владеют тайною закупоривать духов в закрытые
сосуды; у автора «Опыта об Елевзинских мистериях» предположили
также знакомство с такою тайною. Но оказалось, что в восточные
волшебники эллинист Уваров не годился. Духи разлетелись гулять
по российским просторам... «В этой сторонушке на каких вздумаешь
крыльях летать — летать просторно, только бывает, что сесть
некуда». Пока просвещенный министр выполнял в Петербурге роль
восточного мага, Москва взяла на себя роль русской Пандоры. Уваров
должен был и здесь поспеть, он принялся гоняться за
разбегавшимися уже по пространствам бесами. Крышка ящика захлопнулась — и
с нею надежда на возможность «литературной аристократии». Стало
уже многим слышно то, что раньше слышно было одному Пушкину:
les aristocrates à la lanterne!197 Невежество охлократии шло на смену
невежеству титулованному. Таким-то образом Уваров, не будучи
обскурантом, провозгласив программу просвещения, стал
реакционером и, как таковой, естественно, всюду запаздывал и хотел оттянуть
290
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
с собою всю Россию. Никитенко передает замечательный монолог
Уварова: «Мы, т. е. люди XIX века, в затруднительном положении; мы
живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой
быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может
предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не
должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог.
Надобно продлить ея юность и тем временем воспитать ее*. Вот
моя политическая система. Я знаю, чего хотят наши либералы, наши
журналисты и их клевреты: Греч, Полевой, Сенковский и проч. Но
им не удастся бросить своих семян на ниву, на которой я сею и
которой я состою стражем — нет, не удастся. Мое дело не только блюсти
за просвещением, но и блюсти за духом поколения. Если мне
удастся отодвинуть Россию на 50 лет, от того, что готовят ей теории, то я
исполню мой долг и умру спокойно. Вот моя теория; я надеюсь, что
это исполню. Я имею на то добрую волю и политические средства.
Я знаю, что против меня кричат: я не слушаю этих криков. Пусть
называют меня обскурантом: государственный человек должен стоять
выше толпы». Фатальным образом Уваров не «отодвинул Россию», а
предоставил ей идти как угодно. Он считал Россию «девственною»,
думая, что нам «еще рано читать» переводы книг, которые
«аристократия» уже читала в подлинниках, и возбуждал против себя «гений»
Пушкина. Уваров видел аристократию в другом месте, не там, где
видел Пушкин, и опаздывал. Пушкин не уважал Полевого, но когда
Уваров набрасывался на «Московский Телеграф» и в конце концов
добился его закрытия, и царь признался: «Мы сами виноваты, что
так долго терпели этот беспорядок», — сторонники Пушкина
должны были иначе смотреть на это, и акт Уварова вызвал широкое
сочувствие к Полевому. Чаадаев, также «аристократ», при Уварове был
караем за сумасшествие, ответы Пушкина остались тайною частной
корреспонденции, а в том же «Телескопе» оперялся, учился летать и
клевать «неистовый Виссарион». В «Журнале министерства
народного просвещения» Краевский198 переводил пустую статью о
философии (Ботена), и министр приказывал руководиться ею в
преподавании философии, а через несколько лет тот же Краевский печатал в
«Отечественных Записках» статьи Герцена. Уваров докладывал царю
* Говорилось в 35-м году, т. е. в год воспитательного путешествия Герцена в
Вятку.
Очерк развития русской философии
291
о мерах, которые он считал необходимыми «для некоторого
обуздания так называемого духа времени», а последний унесся так далеко
вперед, что министр его и видеть не мог.
Программа просвещения Уварова, которая долженствовала
«отодвинуть Россию на 50 лет», опоздала. Самодержавие по существу
есть лишь историческая категория, Уваров возводил его в идею,
абсолютизировал — также типическая черта реакционера — и не
видел, что — поздно. Православие, поскольку оно не есть также
государственный институт, могло быть идеей — как настаивали
славянофилы — но его просветительная роль также уже была изжита, еще
в предшествовавшем веке. Следовательно, и здесь Уваров опоздал.
Остается народность. Но, как мы видели, Уваров опоздал дать
адекватное толкование, а пока она оставалась загадкою, Россия успела
ознакомиться с такими разгадками, после которых уже неделикатно
было говорить о ее «девственности». Уваров говорил, потому что ему
поддакивали те, кто оставался в ограниченном кругу им созданного
и поддерживаемого порядка. Как же тут понимали Уварова и его
программу? Для нас этот вопрос интересен не как вопрос
эмпирической истории, а в смысле русского идейного самосознания. Выше-
очерченное положение и роль Уварова обязывают к такому
вопросу. Наша собственная задача, однако, позволяет его сильно сузить.
Самосознание народа выражается через посредство его
литературы, науки, искусства, но философия считается преимущественным
органом такого выражения. В ее характере также считать вопрос о
«народном духе» своим вопросом. Какие же философские разгадки
были даны на загадку Уварова? Речь идет об официозной
академической философии, которая непосредственно испытывала
положительное влияние министра и до известной степени обязана была
отвечать на заданный им вопрос. Эти ответы должны были лежать в
границах порядка, и они тем интересны, что по ним можно судить,
какие вообще лежали бы перед философией перспективы, если бы
она строго держалась указанных границ. Наконец, вопрос, так
заданный, как задавался он Уваровым, сам собою побуждал с
определениями «народности» связать определение тех специфических
задач, которые может принять на себя эта народность. В число этих
задач включаются и задачи самой русской философии.
В лице Гогоцкого мы видели высшее достижение, какое было
возможно для уваровского профессора. Помимо Гогоцкого, как увидим
292
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ниже, сказано было много более смелого и более важного. Его путь
был академически осторожный, но строгий и, по-видимому,
правильный. Историзм, к которому пришел Гогоцкий, был, пожалуй,
неизбежным методом нашей философии и, во всяком разе, не
случайным, как не случайно было развитие у нас науки истории.
Напротив, например, Лобачевский199 именно «случаен» для нас.
Можно не иметь своих отечественных предков, но необходимо
иметь потомков, чтобы дело лица было делом национальным.
Лобачевский буквально с неба упал к нам. Признали его немцы. Тогда
стали и мы изучать, как изучают чужую страну, но настоящего
продолжения его дела я и сейчас не вижу. Оно — у тех же немцев.
Лобачевский не случаен разве в том только смысле, что не имел
непосредственного продолжения. Лобачевский явился в Казани, как мог
бы явиться в Харькове, в Торне, Лионе, Стокгольме или Геттингене.
Ни Карамзин, ни Погодин, ни Востоков200, ни Буслаев201, ни Даль202,
ни Соловьев203, ни многие прочие не могли бы явиться вне России,
хотя начинали они с немцев, некоторые из них — даже от рождения
(Востоков — из немецкой семьи Остенек, Даль — по отцу датчанин,
по матери — немец).
Мы входили в Европу исторической и этнографической
загадкою. Таковою были и для себя. Мы все могли получить от Европы
уже в готовом виде, но чтобы не остаться самим в ней вещью,
предметом познания, чтобы засвидетельствовать в себе также лицо,
живой субъект, нам нужно было осознать и познать самих себя.
Историческое сознание и историческое познание — наше самосознание
и самопознание. В лице Гогоцкого философия наша пошла верным
путем. Это уже была не Уварова вина, что ей не дали идти дальше,
что наши абсолютисты предпочли, чтобы истина проникла к нам
путем нелегальным, и чтобы их тупое казарменное невежество было
смещено озорною семинарскою невменяемостью. Но интересно,
что Гогоцкий, едва ли не единственный из уваровских профессоров,
не спешил с ответом на вопрос Уварова. Он не задавался вопросом:
какова задача русской философии, какая от нее польза нам и что
такое наша народность, — первое, может быть, потому, что он решил
его, последнее, может быть, потому, что понимал, что на этот вопрос
нельзя ответить, не зная, в чем европейская культура.
Было естественно, что духовная философия хотела видеть нашу
национальную проблему в вопросе об отношении веры и знания.
Очерк развития русской философии
293
Также естественно было, что уже при постановке своей этот вопрос
предрешался, — поэтому только Магницкий мог бояться самой
постановки вопроса. Было, конечно, странно, что этот вопрос
оставался у нас в своей католической средневековой и общетеистической
форме, а не специфировался, как следовало бы, в форму вопроса
о православной вере и знании. Указанная профессорам духовных
академий «нить» — «истина евангельская», в особенности
«истинный разум Св. Писания» могли бы позволить войти в православный
разум веры, но этого, по-видимому, боялся уже не один Магницкий.
Можно предположить, что это объясняется и тем, что пройденный
период есть по преимуществу период подражания, перенесения к
себе чужого и заимствования из него. Однако же именно в этот
период не просто перетаскивали все, что ни попадется, с Запада к нам,
а выбирали. И не случайно, хотя, конечно, и не по одному
предписанию начальства, искали решения своего вопроса в смысле торжества
веры, в направлении теизма и антропологизма, как основы
философии, в предпочтении эмпиризма умозрению, в духе скептицизма по
отношению к «разуму», который нельзя было отождествить с самою
верою, и т. д. Со всеми этими внушениями философия из духовных
академий переходила и в университеты, куда Уваров допускал
охотно ее представителей. Не лишено интереса поэтому остановиться и
на духовных разрешениях уваровских вопросов.
О философском национальном сознании до уваровской эпохи
говорить не приходится. Первое десятилетие есть лишь более или
менее твердое наведение изготовленных за границею прописей.
Магницкий рвал в клочья эти злосчастные тетрадки. Примерное
поведение духовных академий поставило их в привилегированное
положение, и они в общем раньше перешли к самостоятельному
выведению своих первых упражнений, пользуясь печатанными на
Западе буквами лишь как образцами. Только при Уварове и
университеты свободнее могли проявить свои способности, сразу
превзойдя длиннополую и тугоповоротливую бурсу. Сами бурсаки
побуждались к большему напряжению духовных сил здесь — в атмосфере
более свободного научного духа и более независимой организации
самой науки. Приблизительно через месяц по вступлении Уварова
в управление министерством цензор профессор Никитенко
разрешил к выпуску «Введение в науку философии» Сидонского.
Первая же фраза книги заявляла: «Слабо изучение философии в нашем
294
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
отечестве; самостоятельных произведений по сей отрасли
умственных изысканий почти и вовсе не видно». Вставленное здесь «почти»
написано, очевидно, на всякий случай. Автор тем не менее убежден,
что «со временем» гений славян и на эту область наложит печать
своего величия. «Гений славян» — было не весьма скромно, так как
уже до Сидонского этот гений обнаружил себя в широком
масштабе*. Что касается собственно русского «со временем», то Сидонский
не захотел брать на себя роль прорицателя и ограничивается весьма
умеренным предложением: «На средине между богатым жизнию, но
бедном собственною деятельностью Востоком и изыскательным,
самостоятельным Западом, — мы, противопоставляя сначала элемент
неподвижности, впоследствии может быть через меру увлеклись
силою быстротечного запада. — Поймем свое назначение, — удержим
средину, которая указана нам природою. Познание природы
человеческой, как развилась она доселе, должно предохранить нас и от
неумеренного стеснения ума и от безмерного послабления порывам
своего воображения». «Средина» — стезя, как мы уже знаем, по
которой хотел проскользнуть Сидонский, но наше отечество «средину»
не очень обожает и, более склонное к неумеренному стеснению ума,
оно оттеснило автора от той кафедры, которою он владел всего три
года. С точки зрения собственно «духовной» философии, более
правильно рассуждал Авсенев — несмотря на то, что и он искал
«средины», — желавший видеть философию у нас не умозрительной и не
эмпирическою, а «преимущественно религиозной», ибо, как говорил
он, религия глубоко укоренилась в нашем духе и вошла в самое
существо его.
Более категорически судит о нашей философии и о нашем
народном духе заместитель Сидонского, Карпов. Всего семь лет
отделяет «Введение» Карпова от «Введения» Сидонского, но Карпов уже
знает, в чем наша народность и какова должна быть наша
философия. Проблема веры и знания по понятным причинам была
выдвинута Сидонским, Карпов в ее решении готов уже видеть ту
полезность, которая оправдает нашу философию. В чем должна состоять
отечественная философия, спрашивает Карпов, и «какой наукослов-
ной пользы можно ожидать от национального ее характера?» От-
* О чем через год по выходе книги Сидонского напомнил Велланский
своим переводом Голуховского.
Очерк развития русской философии
295
вет Карпова построен как раз по тому методу исключения, который
подсказывается неопределенностью в формуле Уварова, — ни в чем
ином народность не состоит, как именно в православии и
самодержавии. Истинная философия, по суждению Карпова, действует
«между внушениями религии и политики», соглашает существенные
требования человеческой природы с законами веры и условиями
отечественной жизни. Частные верования и положительные законы
страны превращают субъект универсальный в множество народных
субъектов. Народность поэтому условливается внешне — обычаями
и государственными постановлениями и внутренне — духом веры и
правилами Церкви. Русская оригинальная философия должна,
определив место человека в мире, охарактеризовать его, как тип истинно
русской жизни, т. е. в условиях нашей общественной жизни и
уставах православной нашей Церкви, «элементы которых существенно
вошли в природу россиянина и сделали его субъектом народным», —
и тогда, наконец, «прояснить ему его обязанности по отношению к
Отечеству и Религии». Тезис, что такая философия есть философия
«безусловно полезная для религиозного и национального нашего
быта», высказывается Карповым более убежденно, с меньшим
количеством доказательств, чем тезис о «наукословной пользе» нашей
национальной философии. Карпов умно замечает, что если государство
имеет свою философию, то должна образоваться своя «наукослов-
ность», если же оно не проявило своей народно-философской идеи,
то или довольствуется подражанием, или «еще живет одною жизнию
практическою». Но мысль об умственной незрелости нашей Карпов
слишком торопится устранить, не замечая, что самая поспешность
его заключения о том, что «мы живем не одною жизнию
практическою», из самодовольного наблюдения: «нет нужды доказывать, что у
нас процветают науки», говорит против него. Философия, по
Карпову, ложится в основу наук, поскольку она определяет гармоническое
бытие мира и закон его развития, но какая получится «оригинальная»
наукословность и наука, если это гармоническое бытие
национально условилось положительными законами и уставами Церкви?
Философски честно в этом только то, что Карпов не хотел допустить
мысли, чтобы его отечество могло жить «одною жизнию практическою».
Но что, если этот признак незрелости для других народов есть
существенный признак русской народности? Разве не так же обстоит
дело на всем Востоке? На эти сомнения Карпов не дает ответа.
296
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
До постановки вопроса о русской народности и контексте
народов Европы и Востока Карпову было еще далеко. А между тем, когда
Карпову нужно было не рецепт давать, по которому должна
составиться русская философия, а нужно было оправдать сделанный им
перевод «Истории философии» Риттера, у него нашлось простое и
понятное указание на то, что нам нужно делать, чтобы иметь
оригинальную философию. Говоря коротко: учиться, учиться именно из
истории. «Россия, — утверждает он, — по всем отраслям наук сделала
уже значительные успехи; одной только философии нет или почти
нет в России». Всякий народ, вступающий на поприще философии,
должен изучить в связи идеи предшествующих поколений, должен
исследовать философию человеческого ума в его вековом развитии,
тогда определится точка его состояния, и видно будет, чего можно желать
и искать в будущем*. Но мы — именно такой народ, и следовательно,
наше наукословие и наш метод — исторические по преимуществу
Этого вывода Карпов не сделал. Университетские профессора,
перешедшие из академий в университеты, перенесли туда свои духовные
навыки, но от них теперь прямо требовалось то, что в академиях само
собой разумелось: быть «орудиями правительства». Как же они
философски осмысливали свою задачу? Мог ли быть Уваров удовлетворен
ими? Во всяком случае, он был доволен. Вполне «откровенным» был
Михневич. Его духовная «средина», казалось ему, сама себе довлеет и
достаточна для нашего духа. У философии два закона: природный,
ума, и положительный — Откровения. По самому духу и смыслу,
следовательно, философия не может не быть в тесной связи с религией.
Но все-таки это — в-третьих и «наконец», а во-первых, «она — по духу
нашего любезного Отечества, той Святой Руси, которая издревле
чуждалась мудрований ума, несогласных с заветными истинами Веры»,
и, во-вторых, «она — по намерениям нашего Августейшего Монарха,
который, желая утвердить благоденствие мудро управляемого им
народа на незыблемых основаниях, с отеческой заботливостью печется
о том, чтобы гордый ум человеческий не возвышался на разум
Божий, а пребывал бы в должном послушании Веры».
* Упоминавшееся выше анонимное «Введение к познанию философии»
(1848) ставит задачей для России изучить все, что было прежде сказано о
философии, хотя и не считает правильным говорить о национальной философии.
Впрочем, для себя автор не считал нужным изучить даже Канта.
Очерк развития русской философии
297
Та же серединка вдохновляла и архимандрита Гавриила,
когда он за духом нашей философии возлетал до Даниила Заточника
и Владимира Мономаха. Характеристика «духа народного» у архим.
Гавриила не так стилистически эффектна, как в посланиях Уварова,
но не менее приятна. «Россиянин богобоязлив, до безконечности
привержен к вере, престолу и отечеству, послушен, нерешителен
и даже недеятелен там, где подозревает какое-либо зло
поспешности, трудолюбив, хитр, непобедим в терпении, рассудителен; по
отношению к любомудрию отличительный характер его мышления
есть рационализм, соображаемый с опытом». Это последнее
положение, как принадлежащее к самой философии, автор доказывает:
(1) пословицами русского народа, (2) уже древним языческим Бо-
гоучением русских, которое было чуждо тех отвратительных
картин, какими преисполнена мифология греков, (3) уклоняющейся к
спиритуализму мифологией входящих в состав Российского
государства чувашей, (4) избранием веры Владимиром Святым. «С сих
пор любомудрие поставило для себя новый закон: рационализм,
соображаемый с опытом, поверять через откровение; и никогда оно от
сего закона не отступало». Это положение доказывается новыми
аргументами: (1) 1812 г., когда ум вельмож предсказал: потеря Москвы
не есть потеря отечества, за чем следовал опыт. Москва «к столу
Наполеона и воевод его могла доставить одних галок, ворон, воробьев,
собак и кошек...» и т. д.; (2) устав духовных академий 1814-го года, где
сказано, что в толпе разнообразных человеческих мнений следует
держаться нити евангельской истины.
Чем же теперь русская философия отличается от прочих? Как в
сознании три предмета: «я», «не-я» и Причина всех тварей, то должно
быть и три направления в философии. Первое господствует в
Германии, второе развито в Англии с Бэкона и во Франции с Кондилья-
ка, но ни то, ни другое нас не удовлетворяет. «Полагая в основание
мышления плодоноснейшие начала, она доселе счастливо избегала
тех односторонностей и заблуждений, которые в таком
необъятном количестве наводнили всю просвещенную Европу». В Германии
начинают чувствовать потребность не только соединить теорию с
опытом, но и примирить их в высшем начале. Но двух направлений
одной идеи один народ не может выражать, «и потому
осуществление третьего направления философии издревле принадлежит
народу великому и сильному, который, полагая краеугольным камнем фи-
298
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
лософствования рационализм, соображаемый с опытом, завершает
этот храм любомудрия как бы светозарным куполом — откровением
и преимущественно материею всех идей — понятием о Боге». Это
снова доказывается: (1) тем, что каждый простолюдин, приступая к
делу, говорит: «Господи помилуй», (2) стихотворением Жуковского,
где на каждую чару вина призывается Божие благословение, (3)
пословицами вроде — «Бог не выдаст, свинья не съест», (4) и наипаче
избранными местами из русских философов, к изложению которых
автор и переходит — с IX-X века до Сергия Семеновича Уварова, —
коего высокие качества «поставили его выше многих Несторов
европейского ученого мира» — и Иннокентия Борисова включительно.
Новицкий упрекал «Историю философии» архим. Гавриила в
несамостоятельности, но едва ли имел в виду при этом приведенные
аргументы, ибо, национально ли или индивидуально, но они вполне
оригинальны. Новицкий был прав вообще, а в последних суждениях
о русской философии особенно хорошо знал источник своего
казанского коллеги, ибо, начиная с разделения предметов познания
и далее, Гавриил просто-напросто списывал у Новицкого, не
только здесь не называя его, но не найдя ему места и в изложении
русской философии — ни до Уварова, ни после Уварова. Единственное
оригинальное суждение самого Гавриила — фраза с гордым
словечком «доселе», убивающим скромное «почти» Сидонского и Карпова.
В сущности, Новицкий заслужил, что его рассуждения были
переписаны и уснащены такими нелепыми доказательствами о.
архимандрита, — они обнаруживают комическую сторону сервилизма
самого Новицкого, имеющего у него отнюдь не смешной, а весьма
серьезный даже вид. Определив, как списано у него Гавриилом и
как выше приведено, дух русской философии, Новицкий через это
дает точный ответ и на загадку Уварова. «Философия есть, в высшей
степени, самосознание народное; следовательно, в ней должен
выражаться собственно дух самого народа: а дух народа русского кому
неизвестен? Примерная религиозность, глубокая преданность
Отечеству и Царю — вот господствующие черты его характера и духа!
Этим-то духом философия нашего Отечества должна быть вся
проникнута и животворима, потому что только тогда она будет
достойною великого народа русского, только тогда она будет философиею
национальною, произведением и достоянием нашим собственным,
а не заимствованным». Трудно, в конце концов, отличить, где Но-
Очерк развития русской философии
299
вицкий, где Гавриил, где Михневич, Карпов, где сам Уваров? Но
такая прочная солидарность, такое единомыслие представителей того
самого народа, о духе которого они говорят, не втесняет ли силою
подлую мысль, что, быть может, само раболепие и является
отличительною чертою этого духа? Иностранцы это не раз отмечали,
начиная с своих первых столкновений с Московией, и, когда нужно было,
искусно сами входили у нас в этот тон.
Петербургский Фишер был таким иностранцем. Он выступает
пламенным идеологом всей практики правительственной
интеллигенции, и в особенности Уварова. Его речь, произнесенная на
торжественном собрании университета 20 сент. 1834 г., «О ходе
образования в России и об участии, какое должна принимать в нем
философия», в высокой степени интересна и идеологически, и
психологически. Все искусство западно-образованного человека было
призвано для оправдания правительственной монополии в деле
просвещения. А профессору философии нужно было показать, что
философия при такой системе может существовать, потому что
может быть полезна. В каком же виде должна предстать философия,
чтобы ей нашлось здесь место? Нас могут возмущать или смешить
доводы оратора, но если иметь в виду неразрешимые трудности его
задачи, то в формальном искусстве построения ему отказать нельзя.
Психологически это была тщательно проработанная гармонизация
простых напевов Уварова, уснащенная пышными аккордами и
искусными модуляциями. Исторически речь Фишера оказалась похорон-
ною песнью правительственной интеллигенции. Мало только кто ее
слышал. За стенами университета новые птицы пели новые песни.
Россия представляется Фишеру единственною по ходу
образования страною. Везде образование возникает самодеятельно,
развивается сразу во многих пунктах и с разных сторон. Правительствам
остается только ограждать его от нападений невежества и грубости.
У нас само правительство преподносит подданным светильник
образования. «У нас мудрый Монарх, окруженный знаменитейшими
мужами, русскими по сердцу и европейцами по обширности своих
познаний, представляется в величественном образе, как умственное
солнце, которое, стоя выше управляемой им системы, устремляет к
одним и тем же идеям пятьдесят миллионов умов, озаряет своими
лучами и оживляет своею жизнию все, что подчинено закону его
притяжения». Правда, признается Фишер, есть среди иностранцев
300
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
клеветники, утверждающие, что наше образование «расчислено и
употребляется в пользу одним правительством, а народ принимает
его с отвращением», но наше правительство, убежденное, что оно
«имеет в виду единственно благо своего народа», пренебрегает
нелепыми клеветами. И Фишер влагает в уста правительства ответ,
достойный подражания со стороны тех, кому отвечать нечего, где
«говорят дела», потому что «слово безмолвно»: «Придите в Россию,
взгляните и судите».
Начала, на которых Россия утверждает народное просвещение, —
Религия и Законодательство, — внутренне связаны между собою и
даже тождественны. Ничего прочнее этого нельзя найти, но все
же существенное могущество их опирается на деятельную помощь
силы воспитания. «Заставить эту силу содействовать осуществлению
высоких намерений, основанных на Вере и законах
государственных, было всегда одною из священнейших обязанностей русского
правительства». Таким образом, просвещение, вводимое в интересах
блага народного, на деле, оказывается, должно содействовать
осуществлению высоких видов государства и правительства. Не замечая
противоречия, в котором вязнет сама задача оратора, он переходит
к «неудобствам», которые наследовали современные ему «Возроди-
тели России» от прежнего порядка. За неимением русских
наставников пришлось довериться иностранцам, а за неимением «публичных
заведений» приходилось довольствоваться воспитанием домашним.
Последнее, как известно, в царствование Николая Павловича
сделалось козлом отпущения. Декабрьское восстание потому и
послужило поводом к повороту в национальную сторону, что причины его
хотели видеть не в собственных недостатках, а в тлетворном
влиянии европейского просвещения. Разоблачение смешных сторон
гувернерского воспитания, начатое уже в XVIII веке, сочувственно
было встречено закоренелыми ретроградами, потому что они
получили таким образом возможность не скрывать своей ненависти к
европейскому образованию вообще. Священный
интернациональный союз, влияние политики Меттерниха, пропаганда Библейского
общества — все это смешивало цвета. Трудно было придумать общее
между Шишковым, ставленником Фотия, и Пушкиным. Оно нашлось.
После декабрьского восстания ретрограды трубили во все трубы;
другая сторона должна была смущенно молчать, потому что всякое
оправдание «европеизма» было бы сочтено за оправдание декабри-
Очерк развития русской философии
301
стов. гувернерское воспитание стало в глазах одних очагом заразы,
для других — «отводом глаз», для всех — средством самооправдания,
хотя и в разных смыслах. Пушкин, очевидно, не думал, что говорит
«просвещенья плод — разврат и некий дух мятежный», когда
утверждал: «нечего колебаться во что бы то ни стало подавить воспитание
частное». Пушкину все-таки «вымыли голову», именно потому, что
он не сказал первого. Уваров нашел выход из затруднения:
просвещение — дух мятежный, пока оно не «приноровлено» к нашему духу,
здравому, высокому, смиренномудрому, и пр., и пр., и предложил
меру для такого духа в самый раз — национализировать домашних
наставников, т. е., как формулировал этот акт Фишер: включить их
«в категорию государственных чиновников и подчинить их
действия надзору властей общественных». Понятна радость иностранца
Фишера, приехавшего в Россию в качестве гувернера и, как он сам
признается, изведавшего тяжести этой должности и все
неприятности ее и теперь узнающего о такой попечительности правительства
о домашних наставниках: почетное место, «самая одежда, им
носимая», и, наконец, надежда увидеть беспомощную старость
защищенною от бедности. Но как апологет Уварова, он выдвигает на первый
план самый принцип: дух народный отвлечен от опасности утратить
достоинство под внушением правил, не согласующихся с религией и
политическими постановлениями Отечества. Великая задача:
«напитать народным духом это частное воспитание» — разрешена.
«Высокая мудрость Императора Николая постигла всю важность великой
задачи водворения согласия между воспитанием частным и
публичным и вверила решение его государственным дарованиям министра,
коего уму и редким достоинствам мы ныне удивляемся. Следствием
этого был закон беспримерный в летописях гражданского
образования», — зато, как мы знаем, служивший потом не раз примером.
Тут единственная по ходу образования страна достигла своей
высшей точки. Правительство — единственный источник, оно
господствует над системою, которой следует, и оратор надеется, что
сила, умевшая создать образование и управить ход, и впредь
сохранит навсегда это сокровище от ложной примеси и передаст его
грядущим поколениям, обогащенное приращениями, «которые доста-
вятся ему трудами нашими». Фишер — не чета скромным
профессорам домотканого семинарского воспитания. Он ведет тонко: момент
апогея выводится из всей истории нашего просвещения. Это — не
302
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
простосердечное поддакивание лозунгам, выкинутым в
министерстве, это — тонкое понимание идеи и важности идеи сохранения
интеллигентной монополии за государством. Что государство в
данный момент воплощается в самодержавии и что православие — его
верный исторический спутник, это он знает, говорит и еще будет
говорить, но нужен принцип, а не простое констатирование
исторического факта. Принцип — то, что до сих пор направляло самое
историю и что впредь должно предохранить ее от «слепого случая,
произвола, беспечности и злонамеренности». Фишер апеллирует и
к «народному духу», но, подобно самому «Возродителю России», не
развлекается углублением в него, понимая, что в его устах это —
действительно случайный вопрос: дух времени вызывал духа народного.
Фишер проникает в самый смысл правительственной заботы: во что
бы то ни стало удержать интеллект страны за собою. Как ни твердо
провозглашал это Уваров, сомнения у него должны были быть, —
недаром он был так беспощаден в цензурных гонениях. Фишер
говорит тверже, он крепче Уварова верит в правительственную Россию.
Как и Уваров, он ораторствовал на краю пропасти, но назад не
пятился, потому что не видел, где стоит, и не чувствовал отчаяния
своего патрона. Он, вероятно, вспомнил роль западных университетов
и воображал, что теми стенами, в которых он говорил, твердо
ограничено русское просвещение, и что за их пределы выходит только
то, что нужно правительству, предносящему подданным
«светильник образования». Словом, он постиг принцип и его провозгласил,
а факты должны были подладиться под него. Его чисто русские
коллеги собирали факты и подлаживали под принципы, присланные из
столицы, не весьма вдумываясь в самые принципы: они были готовы
к тому, чтобы назавтра приладить те же факты к другому
принципу. Речь Фишера поэтому яснее раскрывает смысл уваровской эпохи
русского просвещения, чем все прочие комментарии — и
поддакивавшие Уварову, и видевшие то чисто карьерные легкомысленные
мотивы его деятельности, то адское намерение удержать «народ» во
тьме, в рабстве, в угнетении и прочих состояниях, обыкновенно, для
большего впечатления, характеризуемых метафорически.
Как искренне «для блага народного» Фишер защищал уже
реакционную программу министерства, так же искренне он был убежден,
что само народное сознание, определяемое государством, не может
в России быть иным, как правительственно-государственным. Иначе
Очерк развития русской философии
303
он не разрешал бы так легко того противоречия, которое
заключается в самих словах: прикладная философия, и иначе он не говорил
бы того вздора, которым заканчивается его речь, и который
доказывает, что он на миг забыл всю историю философии. Вопрос о том:
что делать, при развитых принципах, с философией, возникавшей в
других странах «самодеятельно»? Так как было бы поистине чем-то
беспримерным в летописях гражданского образования, чтобы
правительство насаждало вещь для него совершенно бесполезную, но
вред от которой возможен, то нужно было «доказать, что в системе
образования, которому следует правительство, изучение философии
не составляет, как думают некоторые, занятия пустого и
бесплодного». Фишер, конечно, этого не доказал, как мог он сам убедиться из
бесед с Ширинским-Шихматовым* и из действий последнего. Но
положение профессора философии обязывало доказывать. Эта часть
речи не так тонка, как первая, и состоит из несложных аргументов,
желающих устрашить и привлечь. Мощное притяжение
правительства, уверяет он, может оказать воздействие «даже на философские
идеи», не только препятствуя ходу ума, но, напротив, служа ему
щитом от «гибельных последствий лжеобразования — этого
чудовищного порождения нашего века, которое, подобно нравственной язве,
заражает и повреждает более и более общественное тело
дряхлеющей [NB!] Европы». По логике вышеизложенного следует, что само
правительство, имеющее «все средства знать и высоту успехов
всемирного образования, и настоящие нужды отечества», должно бы
предписать соответствующую философию. Фишер, чувствуя себя
«достойным орудием правительства», берет на себя начертать план
такой полезной философии. К сожалению, Фишер не задался еще
новой мыслию: ввиду явной бесполезности самого плана найти ему
особое оправдание.
Итак, вопрос в том, полезна ли философия и при каких условиях
она совместна с системою образования, принятого в России? Ответ
получается из определения философии и ее задач, с которыми мы
уже знакомы. Кроме общих мест о пользе света разума для веры, о
пользе философии для других наук, Фишер останавливается специ-
* Суждение о том, что польза философии не доказана, а вред от нее
возможен, было высказано министром именно в разговоре с самим Фишером (Ники-
тенкоАВ. «Дневник...». Т. I. С. 395).
304
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ально на пользе психологии, которая уже находит себе приложение
и «к практике» — в воспитании, в познании людей и уменьи
действовать на их волю, каковые два дарования необходимы
«преимущественно законодателю, государственному сановнику и всякому
находящемуся в высшей сфере общества», — наконец, психология
также ключ к истории. Все это пустяки, тысячи раз повторявшиеся,
и добрая половина этих аргументов заведомо недобросовестна:
никогда и никаких сановников философия полезному для них не
научила. Фишер сам чувствует это, как и то, что если есть энтузиазм,
философией внушаемый, то о таких пустяках говорить не стоит, ибо
он прав, его «слабое мнение» не могло ничего прибавить к
похвалам и «высокой цене» философии, даваемых «отличнейшими
мыслителями». Если же такого энтузиазма нет, то все эти рассуждения —
смешны, ибо при всей их очевидности, как общих мест, философия
остается «в презрении». А главное, и доказать-то требовалось не это,
а другое — зачем философия нужна в России, при русской
правительственной системе просвещения. Тут против Фишера вопиял им
самим изображенный «ход образования в России». Без всякой
философии «единственная» Россия довела просвещение до такой
беспримерной высоты, когда каждый домашний наставник — чиновник
государства, тогда как во всей «истории веков минувших или в
настоящем бытии народов современных» всюду, где есть философия, есть
«бесстыдная суетность». Фишер апеллирует, однако, к Петру,
которого «гений, в высшей степени практический», не почитал философии
излишней. Фишер с удовольствием вычитывает из первой страницы
напечатанной по повелению монарха газеты: «Повелением Его
Величества Московские школы умножились, и 45 человек слушают,
философию, а уже диалектику окончили». Однако отчего же при
таком благополучном начале через 130 лет Сидонский открыл свое
«Введение» решительным заявлением: «Слабо изучение философии
в нашем Отечестве»? «По самой природе своей», рассуждает Фишер,
философия требует ума зрелого и может быть изучаема лишь в
университетах. Наше «частное воспитание» торопится выпустить
юношей на поприще общественного служения, и до философии они
не доходят. Но вот Александр открыл пять новых университетов, и
«с этого времени изучение философии беспрерывно преуспевает».
Про восьмидесятилетнее существование Московского университета
Фишер так же забыл, как не заметил, что его «преуспевает» говорит-
Очерк развития русской философии
305
ся всего через один год после «слабо изучение» Сидонского. Но на
философии лежит еще вина в том, что она сделалась соучастницею
плачевных ужасов неверия и разрушения. Торжественно
провозглашая свою невинность, она все-таки «вмешивается во все бунты,
колеблющие Европу, и даже делает себя их услужливою
защитницею». Но это — философия в руках злонамеренных. Наше «мудрое
правительство» приняло свои меры, и «кто дерзнет упрекнуть наше
правительство тем, что оно смотрит за публичным преподаванием
философии с большею строгостью, чем другое?» Таким образом,
вопрос Фишера разрешается тем, что та философия будет полезна и
совместна с системою нашего образования, которая будет одобрена
правительством, — философия здравая. Ее распространением
правительство разоблачит и приведет в смущение «отвратительное
чудовище, псевдофилософию, прежде, чем успеет она осквернить
Россию своим ядовитым дыханием и вонзить кровавые когти свои в
недра ее». После этого нельзя сомневаться, что основания, на которых
должна преподаваться у нас философия, суть: «священное уважение
к религии, неколебимая верность монарху и безусловное
повиновение существующим законам».
Таким образом, в лице Фишера Уваров нашел для правительства
орудие преданное и истолкователя здравого. Вопрос о народности
был просто вопросом русской государственности. Фишер знал, что
иначе он неразрешим, но что и решать его, собственно, иначе не
нужно. Вера и полезное государственное знание — философская
проблема; ее государственное решение — православие и
самодержавие. Уваров мог быть спокоен, университеты стояли на правильном
пути. Фишер не видел только того, что все-таки не давало спокойно
спать Уварову* и что устранить ему гения не хватило.
Национализировав домашних наставников, Уваров, непонятно почему,
остановился перед национализацией литературы. Его цензурные мероприятия
не поспевали за ее ходом. И тот самый вопрос, который Уваров задал
профессорам, стали решать и вне университетов, почему и решался
* Никитенко передает со слов кн. Волконского, что Уваров сказал ему, что
хочет, чтобы, наконец, русская литература прекратилась, — «тогда, по крайней
мере, будет что-нибудь определенное, а главное, — говорил он, — я буду спать
спокойно» (1, 348). Конечно, не нужно быть глупым и понимать это иначе, как
bon mot, но ведь до этого bon mot надо дойти!
306
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
он не всегда в духе государственной народности. Роковое
запоздание Уварова сделало в конце концов то, что им же самим
возбужденный вопрос о народности стал в руках ^национализированных
наставников рычагом, подводившимся под все просветительное здание
Уварова. Этот рычаг он и не мог удержать в своих руках, он поздно
схватился за него. Фишер понимал, что «народность» — случайное
слово в устах Уварова, что «народность» стоит на месте «русская
государственность». И ему, как и Уварову, казалось, что «самодержавием»
ответ исчерпывается. Фишер не хотел и не смел видеть философской
проблемы в самой государственности*. Между тем, рычаг,
выкованный не руками правительства, был сделан из философской стали.
Накидывавшиеся на него цензурные сети он разрывал. Допущение
философии в университетах сделало только то, что когда Ширинский-
Шихматов убедился в силе ее действия, он не поверил самому
Фишеру и напал именно на университетскую философию. Удар был сделан
мимо действительного врага. Правительство вместе с Шихматовым
набрасывалось на того, кто ближе всех и с романтическою любовью
принял к сердцу преподанную Уваровым тему о народности и
потому громче всех рассуждал (на славянофилов). Это был новый промах
погибавшей правительственной интеллигенции. Свободная
философия, решавшая вопрос о народности не в смысле
правительственного понимания действительной русской государственности и не в
смысле романтической идеализации возможной русской
государственности, отошла в сторону. Правительство победило. Но удержать
за собою руководства просвещением не могло. Не найдя в нем
покорного орудия, оно некоторое время еще отбивалось от него, а
потом стало заботиться лишь об одном, — чтобы оно не мешало ему в
остальных его делах. Выпавшее из рук правительства кормило
правления просвещением страны было подхвачено взращенными им же
невеждами. Правительство было еще достаточно сильно, чтобы
бороться за свое существование, но справиться с судорожными
зигзагообразными порывами в движении образованности оно не могло.
То откровенно, то лицемерно, то лишь скрыто признавая свои
принципы опороченными, оно не Знало даже, что подцерживать и чему
* Любопытно отметить, что начатая им работа «Об естественном праве» в
целях философского оправдания нашей государственности не пошла дальше
начала, посвященного истории теорий.
Очерк развития русской философии
307
противодействовать. Его порывы были по большей части
импульсивны: оно выступало нередко против друзей, создавая себе из них
врагов, и нередко поощряло врагов, не приобретая друзей.
Философия в особенности испытала на себе все превратности
хаотического метания в движении русской культуры и образованности. Когда
порожденное общим невежеством и из этого невежества
развившееся озорство нового руководителя просвещением, новой
интеллигенции, в обращенном виде возобновило преследование не желавшей
от него зависеть свободной философии, когда и оно потребовало от
нее полезности, правительство с беспокойным видом
прислушивалось к раздавшемуся свисту, но само оставалось в стороне.
Оскорбленное, оно принимало вид третьего радующегося.
Первые ученики
XIV
Светлым и чистым в русской умственной культуре
представляется перехват, образовавшийся между эпохою кончавшегося
руководительства правительственной интеллигенции и новой эпохой,
когда новая интеллигенция еще не обнаружила своих далеко не
аристократических, как хотелось Пушкину, манер. С детским доверием
прислушивались к голосу мысли, с непорочною радостью
наслаждались творчеством художника. Образованность хотела быть самою
собою, ничему не служить и только всем светить. Единственный,
может быть, момент в русской истории, где не было злобы,
человеконенавистничества, зависти, затаенного недоверия и скептицизма!
Люди этого момента пробовали идти своею, никем и ничем не
предписываемой дорогой. Они отрешались от указки учителей и
начинали верить в способность к самостоятельному творчеству Вчерашние
учителя их невзлюбили, не поощряли, наказывали; прошло немного
времени, и их колотили товарищи. Они были прозваны
«мечтателями» и «идеалистами», их творчество было признано бесполезным.
Сжимавшиеся уже под ударами учителей, они быстро стали
разбегаться. Одни вернулись к правительственной указке, другие
смешались с озорниками, третьи просто отстали и отошли в сторону,
остальные сбились в кучку и, сосредоточенные на своем, не
понимаемые ни друзьями, ни врагами, оставались мечтателями без
реального дела и влияния.
308
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Это — эпоха литературы с самого конца двадцатых и до
середины сороковых годов. Она совпадает с временем самого сильного и
интересного напряжения государственной политики просвещения.
Но блестящий Уваров потому и меркнет, что его рассматривают как
контраст самостоятельному творчеству эпохи. Как будто, в самом
деле, против придворной аристократии возникала аристократия
«литературная»! Пушкин соединял в себе оба типа аристократии,
но, когда нужно было выбирать, он не был вместе с Уваровым. Он
не желал, не мог подчинить свою «вольность» государственному
регламенту. Уваров затмевался и, зажигая свои государственные
огоньки, в то же время хотел погасить свободное распространение
света. Оттого-то его положение и двусмысленно. Как было указано,
все кончилось тем, что свет погас с обеих сторон. Уваров опоздал
и оказался реакционером. До него уже пробудились новые силы, и
он также был поставлен перед выбором: с ними или против них. Он
выбрал последнее, не заметив, что он слабее их, что он, не будучи
романтиком, защищает и осуществляет дело, безобразие которого
могла бы сгладить лишь романтическая фантазия. И он стал
циником. А литературный «романтизм» наш остался единственным
настоящим днем для современников, классическим днем для истории
и предметом романтической грезы для потомков.
К П. Силъванский в статье «Материалисты двадцатых годов»
(«Былое». 1907. Июль) высказывает такое суждение.- «В начале двадцатых
годов, незадолго до восстания 14 декабря, в Москве возник кружок
молодых философов, упивавшихся «магическими струями»
«небесной» философии Шеллинга... Они, однако, мало замечательны сами
по себе и не они типичны для наших двадцатых годов». Это звучит
в полный диссонанс с фактами, пока читатель подсказывает себе
логически естественное противопоставление: типичность какой-то
нешеллинговой философии. Но автор имеет в виду иное
противопоставление: «Типичными представителями двадцатых годов были
не мечтательные поклонники немецкой небесной [!] метафизики,
а политики [курс, мой] и материалисты, воспитанные на
французской литературе [курс, мой] века Просвещения». В «политике»
натурально, иная типичность, чем в философии, тем не менее, автор
имеет непременное желание как-то связать обе «типичности», что
приводит его к суждениям, по меньшей мере, легкомысленным.
«...И. И. Давыдов оставался, — утверждает он, — в десятых годах вер-
Очерк развития русской философии
309
ным господствовавшей [!] у нас французской философии... он учился
в России и усвоил из распространенных [?] здесь книг и воззрений
высокое уважение к французскому эмпиризму [?]». «Мнемозина» с
ее «небесной» философией, отрешенной от действительности, шла
против общего течения и успеха не имела: издатели вынуждены
были прекратить издание на 4-й книжке «за недостатком
подписчиков». Обращаясь к «политикам», автор утверждает: «В кружках
декабристов всюду настольными книгами были французские классики
по политике и философии (?) и те иностранные политические
сочинения, которые были усвоены французами». Доказательства
просты: в начале 20-х годов в Тульчине образовался кружок молодых
офицеров, «усердно изучавших, наряду с французскими
политическими книгами, и французскую философию Гольбаха и Кондилья-
ка». Но тут же эти доказательства и обрываются, потому что дальше
в подробностях излагается биография некоего Николая Крюкова.
Если бы, однако, такое «доказательство» и показалось кому-либо
убедительным, все же оно доказывало бы не больше того, что у нас
изучалась французская литература. Но ведь под «типичными
представителями» науки и философии принято разуметь не изучающих,
а учащих... Впрочем, и применительно к «изучающим» утверждения
Сильванского находятся в противоречии с фактами. Их много, и
они достаточно засвидетельствованы историческими очевидцами.
Приведу одно только свидетельство, ценное тем, что оно исходит
не из среды «увлекающихся», а потому, может быть, и пристрастных.
Е. А. Боратынский204 писал из Москвы Пушкину: «Надо тебе сказать,
что московская молодежь помешана на трансцендентальной
философии». Это было написано в средине января 1826 года, т. е. всего
через месяц после декабрьского восстания.
Большую роль в умственном развитии России этой эпохи
сыграли Москва и Московский университет. Но последний играл эту
роль не через свою философскую кафедру, которой, как мы уже
знаем, здесь фактически и не было, и не потому также, что
университет был активным источником умственных исканий того времени, а
тем, главным образом, что в лице некоторых своих представителей
он сам примкнул к литературе, действительно активному
источнику новой умственной жизни, и тем еще, что, войдя в литературу, он
нашел способ распространять философские идеи не через самое
философию. Вследствие этого и вышло, что в Московском универ-
310
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ситете университетские учителя не столько направляли умственные
запросы московского общества, сколько удовлетворяли их, отвечая
на задаваемые вопросы. А поскольку московское общество состояло
из учеников своего университета, выходило, что ученики
«направляли» и «определяли» своих учителей. В 30-х годах Московский
университет был более славен своими учениками, чем учителями. Дело
менялось лишь по мере того, как эти ученики, в свою очередь,
становились учителями, — характеристика, данная Пушкиным: «ученость,
деятельность и ум чужды Московскому университету» — теряла свою
безусловную всеобщность.
Москва всегда жила своим особым укладом жизни и своим
внутренним духовным интересом. Московский университет фактически
должен был считаться с особыми требованиями самой Москвы
подчас больше даже, чем с министерскими предписаниями, и, ßo всяком
случае, то, что выливалось за рамки этих предписаний, всегда было
в непосредственной связи с настроениями и запросами
московского образованного общества*. Если можно говорить о какой-либо
традиции, выработанной университетом за семидесятипятилетнее
его существование, то это именно была связь его жизни с жизнью
Москвы. Московские профессора искали этой связи и то удачно, то
неудачно, но все-таки связывали науку с литературою. И московские
же профессора впервые в своих публичных чтениях нашли себе
аудиторию более широкую, чем аудитория официально учащихся.
Прочие университеты, свежие создания петербургского
правительства, напротив, сами должны были играть роль источников
интеллектуальных интересов своей среды. Москва во взаимодействии со
своим университетом зарождала свою московскую интеллигенцию.
Пришло время — и перед последнею поднялся вопрос: встать на
сторону правительственной интеллигенции или идти
самостоятельно, в конце концов, в оппозиции к правительству, и вследствие
* Как запомнилось Гончарову о самом начале 30-х годов: «Наш университет в
Москве был святилищем не для одних нас, учащихся, но и для их семейств, и для
всего общества. Образование, вынесенное из университета, ценилось выше
всякого другого. Москва гордилась своим университетом, любила студентов, как
будущих самых полезных, может быть, громких, блестящих деятелей общества.
Студенты гордились своим званием и дорожили занятиями, видя общую к себе
симпатию и уважение. ...Эта симпатия вливала много тепла и света в жизнь
университетского юношества». Гончаров И. А «Поли. Собр. Соч.». Т. 9. СПб., 1889. С 5-6.
Очерк развития русской философии
311
этого уже со значением не только местным, но и общерусским. Эта
дилемма не решалась, понятно, безусловно в пользу одного из
своих концов. Были примиряющие и посредствующие звенья. Но самая
наличность дилеммы имела историческое значение. Отсюда
начинается новая эпоха нашей умственной культуры; здесь родилась
новая интеллигенция, неофициальная, свободная, оппозиционная.
Превращение ее состояния из неопределенно-оппозиционного в
партийно-дифференцированное совершалось уже на пространстве
всего государства.
Складывалась новая интеллигенция и первые свои заявления
делала скромно, в единении с официальною образованностью, без
ясного самосознания. Чем ярче становилась она, чем больше
проникалась сознанием своего назначения, тем дальше отходила от
официальной учености и уходила в литературу. Сопротивление
течению, прорвавшемуся сквозь правительственные плотины, и
усилия связать новое с правительственным руководительством, на
поприще самой же литературы, были иногда напряженны и упорны,
но справиться с бурною стремительностью освобожденного потока
там не хватало ни таланта, ни умения, ни, самое главное, авторитета,
который бы мог внушить к себе доверие общества. Чем откровеннее
этот авторитет обличал свою санкт-петербургскую инспирацию, тем
более компрометировались его московские проводники в глазах
нового «общества».
При таких обстоятельствах факт, что Московский университет в
области философии не мог дать даже того, что давал Петербург или
Киев, оказался фактом для развития философии литературным
путем только благоприятным.
Пресловутый «допожарный» Брянцев продолжал свое
преподавание до самой своей смерти в 1821 году, оставляя у слушателей
впечатление, что он состоит профессором в университете со дня
основания этого последнего, — и это было самое сильное
впечатление от его философского преподавания. В последние четыре года
его жизни Давыдов, в качестве адъюнкта, помогал ему в
преподавании, но чему собственно и как он учил в университете, мы в
точности не знаем. Меньше всего об этом говорит официальная история
университета. Но лишь только мы подойдем к этому времени с
другой стороны — со стороны интересов образованного общества —
мы видим очень яркую картину загорающейся умственной жизни и
312
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
увлечения философией, эстетикою, поэзией, вообще свободным и
бесполезным творчеством. Во всем этом чувствуется и историей уже
раскрыто влияние западноевропейских идей и идейных течений.
Влияние проникало и ширилось без правительственного
руководства и поощрения, иногда, может быть, против его желаний. Среда,
в которую по преимуществу проникал дух времени, была близкою
правительству дворянскою средою, и на первых порах, казалось, нет
надобности принимать специальных мер ограждения — лишь бы
это не выходило, действительно, за сферу «бесполезного». Однако
с точки зрения правительства, которое хотело сохранить за собою
руководство всею умственною жизнью страны, это была ошибка. Те,
кто не хотел ничего различать в новшествах, кто вооружался против
них только потому, что это были новшества, были последовательнее.
Общество, проникаясь новыми настроениями, считало себя вправе
требовать от университета и науки ответов на свои запросы, а
университет считал себя вправе, в меру своей компетентности, отвечать
прямо, поскольку и пока это не было запрещено, и — в
замаскированной форме, когда прямой ответ мог повлечь за собою
начальственное осуждение.
В культурной истории этого времени достаточно внимания
привлекали к себе кружки, связывавшие группы молодежи по ее
литературным и философским интересам. Существенно и
показательно для кружков этой эпохи, что члены их объединялись не только
потребностью собственного образования, но также стремлением
перебросить увлекавшие их идеи в более широкие круги общества.
Молодые люди искренне были убеждены, что являются вестниками
новой образованности, не отменяющей официальное просвещение,
но его дополняющей и вместе с тем увлекающей вперед, к более
живому и жизненному развитию. Не беда, что здесь учителями
иногда хотели выступить те, кто сам не доучился. Они не брались учить
больше того, что сами знали. Они собирались быть только
пропагандистами чужого, но признанного уже в его всеобщей ценности.
Они не отрекались от тех, у кого они сами учились. И нередко их
вчерашние учителя становились их сотрудниками. А совсем юная
учащаяся молодежь охотнее шла за свежим словом
неофициальных учителей, на них же полагаясь и в своей оценке официальной
науки. Впоследствии это привело ко многим и печальным
извращениям. Теперь это было рождением нового духа умственной культу-
Очерк развития русской философии
313
ры. Можно говорить о большей или меньшей любви нового
поколения к старшему, но еще не было большей или меньшей степени
слепой ненависти, не было характеризующей следующее поколение
(60-х годов) самодовольной насмешки трезвых детей над
охмелевшими от идей отцами. Новое честно шло на смену старому, и только
когда последнее силою не уступало своего места, началась борьба.
Взаимная ненависть выросла лишь когда стало ясно, что победит не
убеждение, а физическая сила. За это время обе стороны
истощились в духовной энергии и деморализовались.
Участники первых волнений и провозвестники первых веяний
нового духа с благодарностью вспоминали тех из представителей
казенной образованности, которые шли навстречу их юным
увлечениям. А те и сами увлекались юными идеями европейского
творчества, вдохновившегося как бы реабилитацией себя после тех
разрушений и опустошений, которыми ознаменовалась история Европы в
конце предыдущего века, и которые все еще продолжали
компрометировать ее. Увлечение официальных профессоров скоро остывало
под влиянием вразумления свыше или собственного благоразумия.
Вчерашние новаторы также «доучивались» и становились
официальными. Время сохраняло лишь наиболее стойких. Но поток истории,
тихий или бурный, все равно — состоит из капель, а время
распознается по смене моментов.
Новое течение пробилось наружу в литературе и журналистике,
на страницах которой значились имена и официальных
представителей науки. С новыми философскими исканиями сопрягались
имена Павлова, Надеждина, Максимовича, даже Погодина и Шевы-
рева, и подобных. Одни из них были только учителями нового
поколения, другие — их сверстниками и сочленами кружков,
следовательно, уже на университетскую кафедру несшими новую мысль. Но
вдохновение свое они все-таки получали за стенами университета.
Можно назвать лишь два имени среди профессоров Московского
университета, которым приписывается инициатива пропаганды
новых философских идей и которые не вышли ни из кружков, ни из
журналов. Это — имена Давыдова и Павлова. Давыдов, по
свидетельству его собственных учеников, вводил их в круг этих идей уже до
20-го года, когда они были воспитанниками университетского
благородного пансиона. Павлов в 1820-м году вернулся из-за границы с
свежим запасом шеллингианского энтузиазма. Но уже в 1826-м году,
314
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
когда Давыдов читал свою выше рассмотренную лекцию, он
перестал быть только учителем и инициатором и должен был
отвечать на возникавшие вне университета запросы. А Павлов еще в
1824-м году вступил на поприще свободного журнального
писателя. Его статья появилась, впрочем, под псевдонимом П. П. в вольном
полуальманахе-полужурнале «Мнемозина», одним из руководителей
которой был кн. В. Ф. Одоевский — воспитанник Давыдова и глава
одного из «кружков» («Общества любомудрия»). В 1827 году во главе
нового журнала становится университетский преподаватель
Погодин («Московский Вестник», 1827-1830), также член одного из
кружков (кружка С. Е. Раича), не чуждого и философии*. А в 1831-м
году только что добившийся профессуры, а до того бывший едва ли не
единственным живым и смелым сотрудником (Надоумко) скучно-
профессорского полуофициального «Вестника Европы» (Каченов-
ского, в 1828 г.)205, Н. И. Надеждин206 основывает сыгравший
исключительную роль также новый журнал «Телескоп» (1831-36).
Таково начало взаимодействия университета и свободной
журналистики, поскольку последняя через литературу вводила в
умственный обиход русского общества европейские понятия о философии,
независимо от учебных программ, предписывавшихся
правительственным руководством. Что же, прежде всего, дали русской
философии эти нового типа профессора, и что, затем, сделала из этого
литература? Были ли они только слепыми сеятелями, не видевшими,
куда падает зерно и как оно прорастает, или они сознательно
расстраивали ряды, которые были призваны вести в слепом
повиновении команде высшего правительственного интереса? И другая
сторона — сразу ли поняла, что, выступая на смену и занимая свой
ответственный пост, она становится на tertia vigilia207 духовной
культуры России? На два последние вопроса история отвечает
отрицательно, ибо это есть история роста самосознания новой интелли-
* Сам Погодин придавал большое значение также чисто студенческим
собраниям. Он это отмечает в своей автобиографии («Биографический Словарь
М. Университета...». Т. П. С. 237): «Но, кроме лекций, всего важнее для
образования в Университете было общество, где студенты взаимною беседою
образовывались», — Раичу (брат Киевского митр. Филарета), между прочим, принадлежит:
«Рассуждение о дидактической поэзии, сочиненное Императорского
Московского Университета кандидатом словесных наук Семеном Амфитеатровым, для
получения степени магистра». М., 1822 (первонач. в «Вестнике Европы» за 1822 г).
Очерк развития русской философии
315
генции, а не констатирование скачка через пропасть. Сознание того,
что пропасть существует, — хотя и не в хронологии идей, а в них
самих, — пришло позднее. Оно вновь расслоило каждую из сторон и
по-новому распределило эти слои. Как это произошло, видно из
ответа на первый из поставленных вопросов.
Давыдов, в первые годы своего преподавания, удовлетворял
новым запросам не потому, что сам понимал свое назначение как
новатора и проповедника нового. Вернее всего, только потому,
что он был более других подготовлен отвечать ученикам на
внушенные временем вопросы. В ином свете обрисовывается роль
проф. М. Г. Павлова (1793-1840), который в воспоминаниях своих
слушателей выступает именно как новатор-проповедник, умевший
заражать своим научным энтузиазмом. Равным образом, и его
литературная философская деятельность — не отчет перед
специалистами о самостоятельной работе, а вольное обращение ко всем
желающим услышать о новых идеях времени. В обоих случаях Павлов —
популяризатор и агитатор. Подобно Велланскому, Павлов — не
философ по специальности. Его ближайшая специальность —
агрономия. Но в ту пору энциклопедических профессоров ему
приходилось читать теоретические курсы по естествознанию, которые он и
одушевлял шеллингианскою натурфилософией. Его «Физика»
должна быть сопоставлена с сочинениями Велланского и других, отчасти
уже упоминавшихся, натурфилософов естественников, место
которых — в истории нашей научной мысли.
«Основания физики» Павлова (Ч. I. М., 1833. 2-е изд. 1835. Ч. II.
М., 1836) встретили суровый отзыв со стороны известного Ленца,
характеризовавшего книгу как поверхностную и ученическую,
автор которой не осведомлен в экспериментировании и математике.
Ленц указывает также ряд фактических ошибок Павлова. Свое
неубедительное оправдание Павлов старается свести на разницу
философских предпосылок (Ленц — в Dorpater Jahrbücher für Litteratur
usf. 1834; Павлов — «Телескоп». 1834. Ч. XX; подробное изложение
см.: Бобров. «Филос. в России». Вып. II. С. 191-210). Велланский
также, по-видимому, невысоко ставил Павлова. В одном частном письме
(к Розанову, 15 дек. 1833) он сообщает, что был в Москве, где Павлов
его чествовал обедом и познакомил, между прочим, с Давыдовым,
Надеждиным и др. После обеда он часов восемь с ними беседовал
в физическом кабинете Павлова. «Московские ученые, — утверждает
316
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
он по поводу этой беседы, — чувствуют всю важность философского
естествознания, хотя ни один из них не понял моей "Физики"». А
самому Павлову Велланский писал (мая 29, 1834): «Мне крайне
желательно иметь либо противников, либо сотрудников на поприще
физических знаний. Но вот проходит тридцать лет, как я в российском
ученом мире вопию, аки глас в пустыне!» (Письма перепечатаны у
Боброва. Вып. I. С. 220-228). Во что же он ставил Павлова?
Бобров (вып. II и IV) собрал некоторые материалы о Павлове. Но
способ изложения у этого автора вообще таков, как будто ему не о
чем спросить излагаемого мыслителя и не о чем с ним поговорить.
Для любителя скучного жанра литературы это — идеальное чтение;
для исследователя же было бы приятнее найти в «Материалах»
точную и исчерпывающую библиографию либо точную перепечатку
цельных статей.
Некоторые подробности о Павлове см. в исследовании проф.
Саккулина «Из истории русского идеализма...». Гл. II. С. 115-127.
Подобно Велланскому, Павлов привез новые идеи из
заграничной командировки, но возможно, что первые семена шеллинги-
анства были заброшены в его мысль уже в Харькове — Шадом или
близкими ему по шеллингианству медицинскими профессорами —
где Павлов слушал лекции до переезда в Москву (1813-14). Но есть
заметная разница в общем направлении Велланского и Павлова.
Велланский прежде всего ученый. Павлов — профессор. Велланский
усваивает принципы, чтобы из них развить новую науку, он хочет
быть реформатором; Павлов популяризует, и потому к
существующей науке приделывает новые принципы. Велланский с планом в
голове углубляется в лесную чащу и силою прокладывает себе
дорогу; Павлов чертит планы, оставаясь у опушки леса. Научное
значение Велланского выше; значение Павлова — педагогическое. Вынося
философию в литературу, Павлов ставит перед читателем в первой
же своей статье, напечатанной в «Мнемозине» (1824), — «О способах
исследования природы», — проблему, которой официозная
философия долго не уделяла самостоятельного места, проблему знания,
как такого, — не в подчинении вере, — о его видах и их ценности.
Скоро он сам убеждается, что его слушатели и читатели для такой
проблемы не созрели. Он основывает собственный журнал «Атеней»
(1828-30), где рядом с разъяснением общего вопроса о знании
помещает статьи, посвященные популяризации вопросов самого есте-
Очерк развития русской философии
317
ствознания. Его «Основания Физики» в сущности служат той же
цели, как и статьи, помещавшиеся им в «Телескопе», по прекращении
«Атенея». Однако Павлов не мог не видеть, что больше, чем наука,
говорила русскому читателю сама литература и поэзия, и что,
следовательно, философская постановка проблемы искусства и знания
о нем для читателя есть вход более близкий и доступный в
философию, чем проблема знания. Он воздействует на психологию
читателя и с этой стороны — не только самим фактом издания «Атенея»,
но и собственными соответствующими статьями. Так, в «Атенее» он
помещает статью «О различии между изящными искусствами и
науками» (1828. V), а позже, основываясь на принципе этого различия,
набрасывает общую классификацию знания — «Общий чертеж наук»
(«Отечественные Записки». 1839).
Везде Павлов остается верен себе, симплифицирует208,
популяризует, набрасывает «планы» — философского или психологического
анализа понятий у него нет и в зародыше. Шеллингианец он был,
конечно, приблизительный. Общая черта истории шеллингианства —
выделение какой-нибудь основной мысли Шеллинга и развитие ее
в специальную научную область. Вне этого — лишь популяризация и
посильное самостоятельное толкование принципа в его отношении
к другим направлениям философии и другим видам знания. Не было
того, что нормально создает философскую школу —
последовательного развития и углубления принципов путем приложения их к решению
чисто философских проблем и конструирования системы Это как бы
предоставлялось самому Шеллингу, который, впрочем, ю всякой попытке
построить систему также уклонялся от самого себя, как и те, кто рисковал
взять на себя эту задачу учителя, подобно, напр., 1егелю, Эшенмайеру а
затем и еще меньшим. Ближе всего к Шеллингу Павлов в «Физике», т. е.
именно при переходе к специальному знанию. В популярных же статьях
общего характера можно говорить лишь об общем шеллингианском
умонаклонении и о преобладающих в эту сторону симпатиях.
Логическим отправным пунктом для Павлова служит то
разделение, которое ближе всего, пожалуй, подходит к разделению,
открывающему «Систему трансцендентального идеализма» (1800)*.
* Тогда как в других произведениях времени до системы абсолютного
тождества он исходит, например, в «Первом наброске» (1789) из
противопоставления вещи «самому бытию», как безусловности, а во «Введении к набро-
318
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Но в то время как сам Шеллинг в этом наиболее философском из
сочинений своих периодов натурфилософии и философии
тождества уходит в сторону идеальную и трансцендентальную, наши
шеллингианцы, как мы видели, зарываются в антропологизм и теизм*.
Первому благоприятствуют симпатии кантианские, второму —
якобианские. Павлов, сосредоточивая свой интерес на проблеме
самого знания, как такого, имеет характерное отличие в том, что не
выходит из пределов собственно методологических. Методология
всегда бывает проникнута некоторым позитивистическим духом.
Не чужд последнему и Павлов. Павлов сразу ограничивает
«подлежащее нашему исследованию» «сотворенным» и делит его природу:
«познаваемое только» и «разумение» (intelligentia), т. е. «познаваемое
и познающее вместе», которое «относится к познающему в человеке
духу». Так начинается первая статья, и то же разделение, с
пояснением, что природа — objectum, а разумение — subjectum встречается и
в последней его статье («Общий чертеж наук». С. 98)**. Но в то время,
как теисты обращались отсюда к Творцу и Вине, трактуя и субъект и
объект соотносительно Ему, а Давыдов, как кантианец,
сосредоточивается на субъекте и его функциях, Павлов прямо относится к
теории научного познания, где его внимание привлекают не
познавательные функции субъекта, как такие, а само знание и его виды, как
продукты этих функций. Природа, — устанавливает он, — прежде
всего, есть в своих продуктах, это — ее пребываемость. Но, кроме
того, она изменяется, это — ее производимость, она живет***. В
несметном многоразличии существующего и в бесчисленности дей-
ску» (1799) — из противопоставления интеллигенции бессознательной и
сознательно продуктивной. С другой стороны, если сближать наше шеллинги-
анство с «Изложением моей системы философии» (1801) и последующими
произведениями, к чему повод может дать апелляция к «самопознанию», то
здесь отрицательной инстанцией, помимо прочего, всегда остается спинозизм
и «разум».
* Оставляя в стороне уход в «физику», как, по-настоящему, отход от
философии.
** В Физике Павлов пользуется и свойственными Шеллингу терминами:
сознательное-бессознательное (Т. I. С. 5-6). Там род существующее имеет виды:
Творец и творение. Природа, как сотворенное, есть природа сознательная, мир
духовный, познающее и познаваемое вместе, и природа бессознательная, мир
физический, только познаваемое.
*** Это уже напоминает «Введение к наброску системы натурфилософии»
(S. 284) и «Первый набросок» (S. 14 ff.).
Очерк развития русской философии
319
ствий и явлений, однако, наблюдается единство и гармония («О
способах исследования природы». С. 6-7). Цель исследования в том и
состоит, чтобы «сорвать завесу, сокрывающую от нас пружины сей
гармонической машины», найти главную причину всех движений,
словом, «образовать общую теорию природы» и при ее свете
погрузиться в дела Всесотворившего (С. 7-8). Но вместо того чтобы
погрузиться в построение такой теории, Павлов пускается в
исследование способов или методов самого построения.
Как есть два пункта, от которых направляется наше стремление
к единству и теории, — опыт и умозрение, — так существует два
способа исследования природы — аналитически-эмпирический
и синтетически-умозрительный. По Павлову, получается
соответствие между способом познания и предметом. Именно в области
эмпирии — все случайно, само вещество в своих временных
формах — случайность, поскольку оно может войти либо в ту, либо в
иную форму и быть, следовательно, случайным отпечатком
последней. Лишь сами эти формы, как нечто противоположное веществу
и потому условно называемое идеальным, представляются нам как
идеи, законы, заключающие в себе не случайное, не феномен, а
существенное, ноумен.
В этих двух предметах, направляющих наше исследование,
природа раскрывает две свои стороны: внешнюю и внутреннюю. Разум
силится свести чувственное многообразие в его видимости к
безусловному, но располагает для этого только формальными
средствами: составления понятий, суждений и умозаключений. Теория
разума есть логика. Отвлеченное единство формы, к которому
приходит разум, есть пустота, действительное в ней исчезает*. Для того
чтобы найти единство не как внешнюю форму, а как внутреннюю и
существенную сторону вещи, т. е. идею, во внешней форме
отражающуюся лишь как тень, надо обратиться к понятиям не разума, а ума,
каковые понятия Павлов предлагает назвать мыслью, в
противоположность понятию формальному. Мысль есть предмет философии.
Мысль, как произведение ума, есть произведение «души,
погруженной внутрь себя». Павлов исходит из противопоставления только
* Поскольку здесь Павлов не выходит за границы Шеллинга, он мог
опираться на «Лекции о методе академических занятий» (1-е изд. 1803 г., 2-е 1813 г.).
Его разум есть, конечно, Verstand, иум — Vernunft.
320
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
познаваемого познаваемому и познающему вместе и ставит два
вопроса: (1) что все это, что вне меня, что «не-я»? и (2) что такое я сам?
В статье «О способах исследования природы» он, натурально,
решает только первый вопрос, другими словами, вопрос о природе
как предмете естествознания или физики (в шеллинговском
широком смысле). Ответ его: это есть нечто, что имеет две стороны —
внешнюю и внутреннюю; это есть, говоря термином Шеллинга,
субъект-объект. Способы познания природы, отсюда, ясны:
эмпирический вместе с умозрительным; один эмпирический дает
только внешнюю сторону, с пустыми, отвлеченными формами.
«Каждое явление, — умозаключает Павлов, — следовательно, и
природа, как совокупность явлений, есть соединение противоположных
(synthesis oppositorum) — совместность идеального с
вещественным; посему, умозрительное познание и эмпирическое каждое
отдельно, как одностороннее — неполно». Из сказанного сама собою
ясна ценность «умозрительного способа» для естествознания:
«ежели теории в естественных науках необходимы, то умозрительный
способ изследования заслуживает большее внимание ученых,
нежели сколько обыкновенно удостоевается оного; мудрая древность не
без причины в самопознании полагала начало всякого знания».
В познании природы мы, таким образом, имеем два вида
знаний: только эмпирическое, неполное, внешнее, и соединение
опыта, «доводящего до открытий», с умозрением, доставляющим
теорию. Сам собою поднимается вопрос: возможно ли одно, или
чистое, умозрительное знание? Из того способа, каким задает
себе вопрос сам Павлов, следует, что нужно спросить себя: знание
чего? Природы? На это, согласно всему сказанному, нужно дать
отрицательный ответ. Может быть «чистое» (одностороннее)
эмпирическое изучение природы, но чистого умозрительного быть
не может. Его область — иная. Это — область одного ума и
мыслей, предметом которого и содержанием которых могут быть, как
очевидно, лишь мысли, идеи, а не «вещественные» явления.
Следовательно, как и указано, это есть область философии. В ней нужно
искать ответа на второй из основных вопросов: что такое я сам? Это
есть чистое самопознание. По терминологии Шеллинга, здесь
нужно говорить, в отличие от натурфилософии, о трансцендентальной
философии, о познании «субъекта» безусловного,
обусловливающего всякое познание: одностороннего объекта, одностороннего субъ-
Очерк развития русской философии
321
екта* и всей природы, как субъект-объекта209. Разъяснению этих
отношений посвящены статьи Павлова в его «Атенее».
Статьи Павлова в «Атенее»: «О взаимном отношении сведений
умозрительных и опытных» (1828. № 1, 2), «Философия
Трансцендентальная и натуральная» (1830. Февр.); «План (форма) науки» (Там
же. Апр.).
Принимая во внимание приведенное различие, я не могу
согласиться с заключением проф. Сакулина (Ук. соч. С. 122), (1) будто в
статье, помещенной в «Мнемозине», «не делалось различие между
философией и другими науками, — предмет философии есть мысль,
естествознания — природа как субъект-объект и (2) будто в статье
«О взаимном отношении» и пр. признается, что «наука о природе
может быть построена только на опыте, умозрению здесь нет места», —
эта наука «содержанием имеет сведения опытные» («Атеней». С. 12), а
формы она все-таки почерпает из ума, в ней открытия совершаются
«исключительно способом эмпирическим» (С. 13), а теории все-таки
построяются умом. Что касается, в порядке ярос щщ210,
невозможности умозрения без опыта, то это, независимо от рассуждений
Павлова, философский труизм, доказать который, как труизм, можно
через простое reductio ad absurdum211 противоположного
утверждения. Последнее эмпирически означало бы, что мы можем мыслить,
«умозреть», не имея переживаний, т. е. не существуя.
Статьи в «Атенее» показывают способ, каким Павлов выходит из
затруднения, получающегося от того, что трансцендентальная
философия или наука чистого умозрения отождествляется с
самопознанием. Выход по пути наименьшей траты умственных сил известен:
торная дорожка психологизма. У конца ее одни присаживаются в
недоуменном раздумий на тему: как же так, пока не уснут над одним
'Ясное и недвусмысленное разъяснение Шеллинга об «одностороннем»
(=эмпирическом) характере субъекта, как предмета психологии, т. е.
эмпирической пауки о части природы, см. в «Лекциях о методе академических
занятий» (Werke. V. S. 271). Eigentlich müsste von der Psychologie bei der Physik die
Rede sein, so da zwischen Physik und Psychologie kein realer Gegensatz denkbar ist.
Selbst aber wenn man diesen zugeben wollte, würde man doch von der Psychologie
so wenig als etwa von der Physik in derselben Entgegensetzung begreifen, wie die
an die Stelle der Philosophie gesetzt werden könnte. Da die Psychologie die Seele
nicht in der Idee, sondern der Erscheinungn'eise nach und allein in Gegensatz gegen
dasjenige kennt, womit sie in jener eins, so... usf.
322
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
из «таков», а другие тут-то и узревают обетованную землю, —
философия есть психология, все цветочки — из одного корешка. Павлов
от этой дорожки уклонился, невзирая на то, что в первой его статье
у него замечается неясность в определении «идеального»,
которому приписывается, с одной стороны, ноуменальная деятельная
сущность, а с другой стороны, оно же понимается, как возможность (in
potentia)*. В статье «О взаимном отношении» он в «возможном»
находит более философский выход, философия, как чистое умозрение, и
есть «решение вопросов о возможности предметов нашего познания»**.
Таким образом, у Павлова получается отчетливое разделение видов
знания по предмету и по способу познания. Усвоив, далее, хотя и в
весьма упрощенном виде, шеллинговское противопоставление науки
и искусства, он набрасывает в общем весьма остроумную и удачную
классификацию наук Она отличается такою же простотою
построения, как и прозрачностью обоснования. То основное
противоположение, которое разделяет природу и разумение, дает первую пару наук
науки физические, о природе, и науки психические, о человеке, как
существе мыслящем, одаренном разумом и волею. Условное и
зависимое, к чему человек относит и себя, предполагает высшее, Творца.
Стремясь его постигнуть и чувствуя свое бессилие, человек переходит
от заблуждения к заблуждению, пока над ним не загорится заря Веры.
Верование, приведенное в систему, составляет предмет наук
богословских. Этими тремя группами не исчерпываются известные нам науки,
следовательно, должны существовать еще другие предметы познания.
Мы их найдем, когда всмотримся в деятельность самого мыслящего
духа. Павлов теперь кратко резюмирует мысли, развитые им еще в
1828 г. в статье «Различие между изящными науками и искусствами»***
(«Атеней». V). Здесь ход его рассуждения таков. Для возможности
науки необходимы: предмет, или понимаемое, разумение, или пони-
* Но это — основная невозможность и Шеллинга — трясина, в которую он
провалился и из которой выбраться можно только с божественной помощью.
** Павлов сам ссылается при этом на «Идеи по философии природы»
Шеллинга (1803, 1-е изд. 1797), но ссылка эта носит характер случайный —
контекст у Шеллинга иной, чем у Павлова. Вероятно, он просто вспоминал
первоначальную канто-фихтевскую постановку вопроса Шеллинга.
*** Некоторые отступления, которые замечаются здесь, от его первой
статьи едва ли стоят обсуждения, раз автор вообще не выходит из границ общих
утверждений и не делает вывода из производимых им разграничений.
Очерк развития русской философии
323
мающее, т. е. объект и субъект, и содержание, или понятие. Понятие
есть общее изображение предмета, отвлеченное от частных
изображений особых (индивидуальных) предметов. Последние
изменяются, исчезают, возрождаются, понятия же неизменны. Через понятия
для человека образуется новый мир, где предметы превращаются в
мысли, где действительное становится умственным. Этот мир есть
область наук. Науки, следовательно, суть «списки» предметов,
составляемые из понятий и мыслей. Обратно этому, изящные искусства
выражают понятие или мысль. В мраморе статуи, в красках
картины, в звуках музыки, в словах поэзии общая мысль приобретает
особое (индивидуальное) существование. В целом, это — особый мир
понятий, обращенных в предметы, «новая Природа», где зиждитель-
человек, отражение Зиждителя вселенной. С точки зрения
основания изящных искусств (мысль) и цели (обращение мысли в
предметы), искусства составляют один ряд, но с точки зрения средств
(звуки, образы, слова), их три вида, как бы три царства новой природы:
музыка, искусства изобразительные и словесность. Подобно
природе Творческой, эта создаваемая человеком природа становится
предметом исследования, как действительный мир.
Напомню, что до Павлова в общем, смутном и неразвитом виде
Давыдов высказал уже мысль: «Обратно осуществите мир
идеальный — вы получите идею Словесности или искусства по
преимуществу» («Вступительная лекция...» 1826. С. 40). С точки зрения
Шеллинга, по его «Системе трансцендентального идеализма», в этом
нельзя не усмотреть заметной симплификации. Схема Шеллинга
такова: представления по отношению к предметам суть или копии
(отношение теоретическое, необходимость), или образцы
(отношение практическое, свобода). Чтобы объяснить гармонию между
ними, нужно допустить одну творческую деятельность: создающую
объекты, копирующую их и дающую образцы им. В ней состоит
тождество деятельности бессознательной и сознательной, природы
и интеллекта, знания и хотения, вследствие чего она может быть
названа также слепым интеллектом и бессознательною волею. Ее
продукты в одно и то же время — слепой механизм и целесообразность,
т. е. они целесообразно определяются, но целями не объясняются.
Телеология в субъективном интеллекте, в сознании, и есть не что
иное, как деятельность эстетическая или художественная.
Реальный мир объектов природы и идеальный мир искусства — продукты
324
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
одной деятельности. По «Системе трансцендентальной философии»
теоретическая философия познает мир, практическая приводит его
в порядок, а философия искусства творит его. Однако и симплифи-
цированная схема Павлова воспроизводит Шеллинга не только по
духу, но и по букве, как можно видеть, например, из следующего
заявления Шеллинга: «Das Subjektive in ihm [dem Künstler] tritt wieder
zum Objektiven, wie im Philosophen stets das Objektive ins Subjective
aufgenommen wird. Darum bleibt die Philosophie, der inneren Identität
mit der Kunst ungeachtet, doch immer und nothwendig Kunst, d. h.
real» (Vorlesungen über die. Methode des akademischen Studiums. 1803.
2. Aufl. 1813. Werke. V.S.349)212.
«Списки» новой природы суть науки словесные и теория
изящных искусств. Павлов воспроизводит это же противопоставление
в «Общем чертеже наук» и присоединяет к первым трем четвертую
группу наук — словесных. Несколько немотивированно — хотя
приискать эти мотивы вовсе нетрудно — к этому присоединяется пятый
предмет — мир политический и соответственно — науки
политические. Наконец, не умея определить новую предметную область,
Павлов обращается к способам познания и, связав познание
богословское с откровением, познание прочих четырех групп наук — с
«опытностью», он оставляет место для предмета, постигаемого
умозрением. Положительные* науки познают свой предмет в
действительности (как он является в пространстве и времени), на долю же
умозрения приходится возможность. Что этим сам Павлов
указывает не только «способ» познания, но и специфический предмет,
этого он не чувствует. Тем не менее, шестую группу наук —
умозрительных или философских — он подразделяет опять-таки как если
бы следовал сознательному противопоставлению области
умозрительных предметов. Это — идеи, как начало явлений, с одной
стороны, с наукою идеологией, и формы, явления идей в пространстве
* Под положительными науками следует разуметь, в противоположность
«предположительным» (теориям), тег которые ограничиваются изучением
явлений со стороны их свойств и действия, а не в их сущности, не в том, что
предмет есть сам по себе. При одних и тех же фактах теории могут быть различны
(ср. «Физику». I. С. 19). Следовательно, нельзя думать, что в классификации
Павлова философия противопоставляется первым пяти группам наук, как наук
положительных; они состоят из положительных «сведений» и теорий, философия
есть чисто умозрительная наука.
Очерк развития русской философии
325
и времени, с другой стороны, с наукою математикою. Идеология и
математика составляют одно целое — философию, как науку чисто
умозрительную.
С точки зрения этого разделения, само собою раскрывается
слабое место Физики Павлова, где он признает для физики лишь два
способа исследования: опытность (наблюдение и опыт) и
умозрение, считая пережитком вольфианский третий способ познания —
математический (I. С. 17 ел.). Непонятно, почему рядом с опытом
и теорией математика для физики есть только, хотя бы и «весьма
значительное», пособие, подобно, например, логике? Возможно,
что Павловым здесь руководила боязнь «механизма» и склонность
к динамизму. Ф. Менцов в ЖМНП (1840. П. «Обзор русских газет и
журналов». С. 70-75) сделал несколько замечаний по поводу статьи
Павлова. Из них интересно одно: указание на недостаточное
различение наук психических и философических. Если первые, —
возражает он, — изучают человека, а вторые — все предметы, являющиеся
в пространстве и времени, но со стороны возможности, то человек
должен быть включен в разряд предметов философских. Непонятно,
почему автор того же не сказал о науках физических. Но Павлов
отчасти виноват: «возможность» — не «сторона» предмета, а особый sui
generis213 предмет, и, следовательно, между психологией
(эмпирической) и философией — такая же разница, как между опытом и
умозрением вообще.
XV
Таким образом, в литературной форме Павлов не вывел
философию за пределы общих определений и лишь обещающих намеков.
Такова же была, по отзывам его слушателей, его преподавательская
пропаганда*. Павлов взвинчивал интерес и покидал
заинтересованного. Как не-философ, он, вероятно, и не мог дать большего;
вероятно, он и сам не мог бы сказать, куда дальше идти и как войти внутрь
философии. Впрочем, нужно сказать, что это есть особенность
самого шеллингизма. Последний оставлял своего адепта перед
множеством дверей — в любую ему предоставлялось войти с философским
* Суждения слушателей о лекциях Павлова см. у Боброва. «Философия в
России...». Вып. IV. С. 20-35.
326
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
сознанием, но где сама философия, никто, включая Шеллинга,
хорошенько не знал. И толкались в двери теософии, натурфилософии,
антропологии, философий искусства, философии истории, всюду
вносили новый дух, вызывали в умах брожение и
неудовлетворение. «Онтология» была осмеяна, «критика ума» отвергнута, «науко-
учение» превзойдено. Шеллингом было объявлено, что философия
есть наука об абсолютном, и в то же время, что все науки суть
части единой философии, т. е. стремления причаститься познанию
(an dem Urwissen teilzunehmen). Что задача философии не в том,
чтобы вербовать себе абсолютное, разъезжая по научным
провинциям, и что, может быть, суть философии не в нашей погоне за
абсолютным, а в том, что философия есть то место, где абсолютное
само приходит к знанию о себе, — к этому пришла лишь
следующая смена философии, нашедшая себе пророка в лице Гегеля. Сам
Шеллинг, пока не бросился очертя голову в теософию, долго
раздумывал и должен был недоумевать, отчего его философия только
амальгамирует другие науки и не поддается ковке, а, напротив, при
малейшем его движении выскальзывает из рук и разбрызгивается
мелкими каплями.
Павлов насаждал шеллингианство на почве скудной и
некультивированной. А из сказанного видно, что шеллингианство по
существу таково, что его надо не насаждать, а прищеплять — к ростку
хотя бы дикому, но живому. К чему же можно было у нас сделать
такую прищепу? Науки у нас еще не было, но возникала уже
литература. Павлов много сделал тем, что «привез из-за границы»
шеллингианство, выступил с ним в общелитературных органах и сам
учредил один из них. Павлов воодушевил многих: и товарищей по
работе и учеников. Довершать им начатое должны были другие.
Ближайшим образом его учениками, заявившими себя в ученой и
литературной работе, называют И. А Галахова иМ.А Максимовича.
Оба начали как натуралисты и натурфилософы. Не случайно оба
закончили как словесники. Галахов в «Московском Вестнике» в первый
же (1827) год его существования поместил статью «Четыре
возраста естественной истории», где в свойственной самому Павлову
общей форме развивает мысли своего учителя. Естественная история,
в младенчестве выражавшая лишь непосредственное удивление
человека перед природою, уже в руках Аристотеля и Плиния, в свою
юношескую пору, переходит к наблюдению. На закате ее юношества
Очерк развития русской философии
327
появляется Линней, силится подвести рассеянные наблюдения под
общие правила и представить природу в системе. Мужественный
образ науки должен довести до конца это предприятие. Отрицать
эмпирические сведения так же безрассудно, как признавать их
главными или единственными. Эмпирический и аналитический способ
исследования не может открыть внутренней идеальной стороны
природы. Между тем полная и единая система должна свести все
явления, все существа и все действия природы на идеи так, чтобы из
одного высшего начала можно было вывести все развитие природы,
как неорудной, так и органической. Здесь превосходство способа
умозрительного и синтетического — очевидно. Ни тот способ, ни
другой, сами по себе, не могут удовлетворить требованиям ума, но
соединение их, идентитизм, доставят нам истинное знание
предмета. Таковы результаты новейших изысканий (№ 17. С. 40-58, ст. не
подписана, в оглавлении: «№...»).
Статья Галахова типична по отсутствию в ней философии с
присущими философии анализом, критикою, своим «умственным»
предметом. В лучшем случае, это — популяризация популяризованных
Павловым методологических упрощений. Но, в самом деле, куда с
этими предпосылками углубляться? Идти к испытанию самой мысли,
как такой, можно, когда эта мысль не спит, а работает, и притом над
чем-нибудь определенным. Работы-то этой самой и не было.
Максимович пробует ее найти для себя. Он погружается в само
естествознание. Но тут — фатум шеллингизма: он оплодотворяет науку и тем
самым теряет в ней свою самостоятельность. Зачинается жизнь
науки как такой. И чем добросовестнее служение науке, тем меньше
с ее ростом в ней следов оплодотворившей ее философии.
Специальная задача — из развитой науки выкапывать вновь особую
«научную» философию есть затея позднейших эпох, когда налицо
развитая наука, за деревьями которой перестают видеть уже философию.
Деятельность Максимовича — весьма показательна. Чем глубже он
погружается в естествознание, тем дальше он от Павлова*. Ему при-
* Неудивительно, поэтому, что он, в конце концов, вступил в полемику с
самим Павловым. В «Московском Телеграфе» были помещены его статьи: «О
физике Атенея» (1828. Ч. XX. № 7. Апр., подписано: М.) и «Комментарий на
возражения Атенея» (Там же. XXI. № 10. Май; подписано: M. M.), в «Северной
Пчеле» — «Разбор "Оснований Физики" Павлова». Ч. 1. (1833. №№ 192 и 207). Ста-
328
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
надлежит несколько десятков книг, статей, заметок и рецензий по
естественным наукам, где школа Павлова время от времени
сказывается, как слабое, бессильно замирающее эхо. И, по-видимому, лишь
однажды Максимович попробовал говорить о самой философии —
в «Письме о философии» (Е. П. Ю-ой), помещенном в «Телескопе»
Надеждина (1833. Ч. XV. № 12).
Вопрос ставится в общих «школе», бледных «методологических»
очертаниях, и тем не менее «Письмо» выдает большую
интеллектуальную тревогу. Максимович дает почувствовать, что философия в их
понимании попадает в скептический тупик, и чтобы выбраться оттуда,
нужно перелезать через какие-то стены, сбросив с плеч бремя самой
философии. Философия, как любовь к мудрости, не может быть
построена на расчетах одного «разума», нужно сердце — (самая скорая,
но неумная «поправка» тех, кто, при недостатке философского
понимания, хочет сохранить вид, по крайней мере, мудрого). «Разум кичит,
любовь созидает. Истинная, живая мудрость разума утверждается на
любви!» Но вопрос, конечно, не здесь — Максимович видит ясно.
«Кого люди не называли философом? Про что не говорят они
люблю? Но что есть наука философия? Какой предмет ее?..» И
Максимович начинает качаться на скептических качелях. Что философия
может быть наукою, это доказывают курсы философии. Но она не есть
особая, отдельная наука. И ее особливым взглядом является
стремление проникнуть во внутреннее значение и в единство предметов. Но
тогда она может быть во всяком произведении ума, может входить в
поэзию, может простираться на жизнь. Философ по преимуществу
тот, кто сводит главнейшие отрасли знания к общему началу и
развивает их в стройной системе. Но все найденные систематиками
общие начала всегда утверждались ими в их собственном частном
тьи в «Телеграфе» не помешали Максимовичу сотрудничать в «Атенее» Павлова,
впрочем, по вопросам литературной критики, а не натурфилософии или
естествознания. В 1829-м году (Ч. И. Апр.) была помещена его статья «О поэме
Пушкина "Полтава" в историческом отношении». [(По поводу подписи под статьею
«О физике Атенея» проф. Сакулин спрашивает-. «Не Максимович ли?» В весьма
полной (где пропущено, однако, разбираемое в тексте «Письмо о философии»)
библиографии сочинений Максимовича, составленной А. И. Соболевским и
Иконниковым, засвидетельствована принадлежность обеих статей в
«Московском Телеграфе» Максимовичу (Биогр<афический> словарь проф<ессоров>
Ун<иверситета> св. Владимира... С. 395)].
Очерк развития русской философии
329
значении, все они, разлившись и освежив на время поле нашего
знания, входят затем в тесные берега и вливаются в море истории
философских систем. Кроме того, теперь от каждой науки требуют,
чтобы она была системою, и философия уже не введение или
заключение к науке, а вся наука должна быть философическою.
Предметом философии, поэтому, может быть всякий предмет нашего
познания, до малейших своих подробностей. Оттого философия
принимала на себя разные науки: богословие, психологию, логику,
математику, метафизику, физику, «в наше же время главнейшие
вопросы ее связаны с наукою историей»; оттого философия бывала
схоластицизмом, формализмом, материализмом, критицизмом,
мистицизмом и проч. «и наконец она получает характер
исторический}.». Изведав столько идеалов, надежд, увлечений, философия
научилась дорожить действительностью, желает согласить в себе
разум и сердце, полюбила гармонию жизни и старается одушевить
ею все ей доступное.
Предчувствие новой, «исторической», философии достойно
внимания, но это — не то гегелевское умонаклонение, сознание
методологической и принципиальной ценности которого мы встретили у
Гогоцкого. Не есть также это и тот «историзм», который переводил
романтизм в «реализм», пока не был вытеснен натурализмом. Скорее,
это — также форма скептицизма, позже поразившая некоторые
течения европейской мысли и выразившаяся в признании за
философией права только на историю философии. Быть может, для
Максимовича дело обстояло еще проще: перед ним клубился кузеновский туман.
Он обращается к своему другу, издателю «Телескопа», с «Запискою»,
в которой тот призывает снять друга с качелей. Зная, что последний
также считает философию мировоззрением — «образом мыслей»,
поставляет ее в «высшем эклектизме» и соглашается, что прохождение
ее должно более состоять в «истории систем», чем в «догматике», и
сознавая, что он сам оставил вопрос о философии, как особой науке,
нерешенным, он перелагает свое затруднение на Надеждина. Куда же,
спрашивает он, после того как объявил, что философия
распределяется по наукам, девать вопросы о добре и зле, назначении человека,
о сущности знания, наук и самой мудрости? И в чем их единство?
А если на эти вопросы должна отвечать не особая наука философия,
то к каким наукам их отнести? «Вот задача, — заключает он, —
разрешение коей я желал бы от твоего систематизма».
ззо
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Надеждин в ответ признается, что предмет сей издавна был его
любимым, задушевным предметом, и обещает поставить для себя
«приятнейшую обязанность отвечать на оный». Но вместо ответа
издателя печатается новое «Письмо к издателю "Телескопа" о
философии» некоего В. Перцова (датировано: Чернигов, 1833. Ноября 15),
любопытное тем, что автор, не чувствуя себя связанным никакою
академическою noblesse, ставит точки над всеми «и»
Максимовича. Максимович оттолкнулся от философии и не умел вновь к ней
причалить; его земляк и вовсе пустился в открытое море. «Письмо»
Перцова написано не без подъема, — к которому вообще почему-то
вдохновляет отрицание философии, — в хорошем тоне, хотя и с
заметным беспокойством. Его цель — не ученого, известного трудами,
а скромного любителя мудрости, он хочет «принести и свою лепту
на алтарь общего служения науке, на коем — обращается он к
издателю — сожигаете вы ей от себя чистыя жертвы» («Телескоп». Ч. XVI.
1833. С. 553-566).
Недоверие к философии, как науке, распространявшееся у нас
прежде, чем мы даже только поняли, что такое философия как
наука, по-видимому, не было в 1830-е и 1840-е годы фактом редким.
Но как учесть то, что происходило на всем пространстве империи?
Поневоле приходится единичные известные факты принимать
типически. Интересны, конечно, не те сомнения и отрицания, которые
внушались официальным богословием, а те, которые
проистекали из внутренних мотивов. Неинтересно, поэтому, и философское
скоморошничание — sit venia verba214, невзирая на изумление,
которое вызывает литературный талант, ученость и лингвистический
гений Сенковского — «Библиотеки для чтения». Интересны только
такие явления, как «Письмо» Перцова, интересны и как факт, и по
своему характеру — углубленности, вдумчивости, просто
некоторого знания. Для подтверждения выставленного тезиса о «недоверии»
можно было бы сопоставить с «Письмом» некоторые литературные
явления, хотя и стоящие далеко его ниже по вдумчивости и
литературному выражению. Например, уже цитированное «Введение к
познанию философии» или выщедшую в Москве в 1839 году книгу
Феофила Гайдебурова «Нынешний способ познания и новый способ
познания». В этой книге, лишенной элементарных литературных
достоинств, все же не без остроумия вскрываются слабости и
неясности догматической традиционной логики. Жаль только, что автор
Очерк развития русской философии
331
не ограничился одною критическою частью. Все его открытие — в
том, что «в природе все, что ни есть, есть явление, и каждое
явление имеет свое основание, и каждое основание имеет свое явление,
и каждое явление есть особенное явление, и каждое основание есть
особенное основание» (С. 107). А потому, «оставив мышление,
отвлечение и всякое заключение», следует «познавать явления, познавая
их основания, и познавать основания, познавая их явления» (С. 119).
Тут, если угодно, есть больше основания говорить об русской
антиципации215 Милля, чем по поводу Сидонского. К таким же примерам
разочарованного скептицизма, с переходом от «разума» к «вере»,
нужно отнести и д-ра Ястребцева, о котором речь ниже.
Автор «Письма к издателю "Телескопа"» сразу объявляет свой
козырь: философия, как наука ума, задача ложная. Мы рождаемся с
любовью к философии, зародыш ее с летами прозябает, произрастает,
приносит плоды и цветы, но не плоды ума. Философия есть не
наука, «а знание, любовь к мудрости». Рассудок, ум ограничивает
философию знанием внешним, предмет ее лежит перед ним, как мертвое
тело, которое ждет своего воскрешения, как бесцветная тень,
которая ждет жизненного света. Что же есть знание не внешнее?
«Знание, знание — есть альфа и омега всей проблемы философии.
Знание есть живое присвоение истин, таящихся в природе, человеком,
снимающим покров с ее лица. Жизнь сия возбуждается не умом, но
чувством; а чувство находится в тесной связи с жизнию — с духом».
Философии мы научаемся не из школьных выводов и раздробления
условных форм мышления, а раскрывая книгу природы, книгу
человечества, и читая письмена их с пламенным желанием познать себя
и угадать отношение свое к миру. «Теперь философия
представляется нам, как наука. Признав все, что в ней есть святого, отвергнем
унижающее ее название науки, которое ей приписывали столь
долгое время, разрушая сим великое и стройное ее бытие в
человечестве». Род человеческий от первых попыток познания природы до
высоких сближений опыта с умозрением трудился над решением
великой задачи бытия. Естествознание новейшего времени выпутало
его из сетей заблуждения, из крайностей обращения науки о жизни
в искусство, светлых представлений истины в темные доводы
разума. Автор взвивается, охваченный алогическим пафосом: «Теперь
назовите философию наукой; дайте ей в удел те жалкие формы, коими
так безщадно издевались над высокою природою ума; то лжеумство-
332
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
вание, которое находило удовольствие вооружаться орудием сатиры
и диалектики; ту бесцветную схоластику, которая, как яркая заплата,
блестит на жалкой порфире философии, убранной многими веками!
Чем вам представится философия?.. Сухою коркою, которой едва ли
достанет для дневного пропитания ума, алчущего знания!»
Философия должна быть основана на знании живом, чувственном
природы и человека. Она должна быть живым открытием, переводом
тайн природы в ум наш. Т^уд бесполезный объединить и обобщить в
полную и стройную систему всю великую массу знаний о природе и
человеке. Где науки, системы философии? Труды мыслителей —
живые доказательства бесплодных усилий ума создать философскую
систему. «Итак, нет системы для философии! Скажем более, быть не
может». Сооруженный многими веками и верованиями храм ее — с
первого взгляда, бесформенное здание, но в частях его, «носящих
образ духа народного, где оные создались», удивляющая стройность.
Таковы все системы философские древних, в Индии, Египте, Греции.
Давать им систему науки безрассудно. Наше время имеет свою
задачу знания о природе и человечестве. «Свиток первой развивает пред
глазами нашими естествознание: последний — критика и история».
С их помощью мы не заблудимся в лабиринте умствований, коим
скоро-скоро дадут смешную форму тривиальности. «Тогда прощайте,
критики чистого Разума, идеологии, метафизики, тщетные
словопрения... Создайте, народы современные, триумф нашему поколению за
искупление вас от нечистоты греховной заблуждения.... Преклоните
колена пред первым, положившим камень в основании храма
естествознания!» Сделаем любимым предметом наших изысканий «наше
естество». И это не будет смещением поэзии и философии; мы
только выводим их из одного источника жизни и не называем их
науками. В этом автор и хочет видеть «ключ к таинствам нашего
романтического направления».
Нетрудно заметить кровное родство этого «романтизма» с тем же
шеллингианством. Максимович и Перцов оторвались от одного
места. Но Перцов смелее бросается в волны отрицания и
иррационализма — в целом ряде своих суждений он прямо как будто
антиципирует Фейербаха. Однако терминологическая неустойчивость Пер-
цова, как «скромного любителя» только мудрости, не затемняет его
истинных намерений. А они крайне знаменательны. Это — все тот
же шеллингианский тупик. Но только этот автор и не помышляет из
Очерк развития русской философии
333
него выбираться. Наукою его оттуда так же не выманить, как и
теософией. Забившись в своем жизненном закоулке, он мечтает; и
воображает, что радости его мечтательного мира навсегда заменят ему
труд разумной мысли, и он легко проживет на них свою закоулоч-
ную жизнь. Но бич Гегеля уже свистал над головами ему подобных, и
как бы глубоко, с головою, ни забился он в кротовое свое «естество»,
он будет выгнан на свет Божий мысли. Зато, как исторический
феномен, он — прав, как он вообще прав и философски в своем
нефилософском быту. Из шеллингианства философского хода вперед
нет. Потому-то и Максимович, не дождавшись обещанного ответа от
Надеждина, побродив по естествознанию, ушел в словесность.
Можно было бы счесть попыткою такого ответа статью в
«Телескопе» «Общий очерк природы по теории Павлова», но фактически и
она — только лишняя иллюстрация того положения, что дальше от
Павлова его приверженцам идти было некуда. «Очерк» есть именно очерк
природы — худой или удовлетворительный, — но не философии.
Эта статья подписана: «-й -ъ.» («Телескоп». 1836. Ч. XXXIV).
Проф. Бобров («Философия в России...» I. С. 90 ел.) по
неприводимым мотивам сомневается, чтобы автором ее был Надеждин. Угадать
этих мотивов не могу. Качествами, которыми должен обладать
предполагаемый автор статьи, по выкладкам проф. Боброва, Надеждин
обладал. Он не был слушателем, но был приятелем Павлова;
значительная часть статьи излагает мысли Павлова, выраженные печатно,
остальное он мог почерпнуть или из предоставленных ему
Павловым записок, или из бесед с ним. Надеждин был, во всяком случае, не
менее сметлив, чем слушатели Павлова «Кованого» языка Павлова в
статье я не заметил, хотя, впрочем, не заметил его у самого Павлова.
Павлов пишет схематически, как будто не договаривает, но просто и
флегматически; эта статья, скорее, написана сангвиником и с
большим количеством знаков вопроса и восклицания, чем свойственно
Павлову, написана не проще, но легче, с большим расходом слов,
оборотов и литературных приемов*.
* Проф. Бобров называет учеником Павлова, кроме вышеупомянутых, также
H. H. Курляндцева, проф. одесского Ришельевского Лицея, переводившего
естественнонаучные работы Шеллинга, Шуберта, Стеффенса. Но его зависимость
от Павлова еще требует доказательства (решающими среди которых я признаю
не биографические анекдоты, а анализ самих трудов), а переводческое усердие
Курляндцева только подтверждает выставленный мною в тексте тезис.
334
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
И все же насаждение у нас шеллингизма Павловым оказалось в
конечном итоге плодотворнее, чем «проповедование» Велланского.
Возможность перехода к эстетическим проблемам сделала «Пав-
ловцев» философски более жизнеспособными, чем были ученики
Велланского. Как показывает пример Экеблада, последние могли
переходить от физических и биологических исследований к
антропологическим и психологическим, но, как было отмечено, всякое
сколько-нибудь серьезное углубление в этом направлении уходило
из философии в специальную науку. Отсутствие свободного
философского выхода необходимо должно было привести к
скептицизму, а вместе к «вере» — будто спасающей от философского
скептицизма. И у нас есть интересный пример такого перехода, который
можно сопоставить с вышеприведенными образцами «недоверия»
к разумной философии, недоверия, связанного с неопределенною
«верою», как источником «истинной» философии. В общем,
конечно, эти поспешные, при элементарных неудачах, измены
философии — свидетельство отсутствия предварительной настоящей
философской школы и подготовки.
В 1841 г. в Санкт-Петербурге (Предисловие помечено: «Гродно.
Декабря, 1839») вышла книга: «Исповедь, или Собрание
рассуждений доктора Ястребцева». Это — собрание двенадцати статей автора,
начиная с его докторской диссертации (De functionibus systematis
nervei, 1825), печатавшихся преимущественно в «Московском
Телеграфе» (затем в «Сыне Отечества» и «Литературных Прибавлениях»),
отражающих постепенный переход автора от узкой
натурфилософии к попыткам разрешения общих философских задач* и
заканчивающихся провозглашением «необходимости веры». Перепечатан-
* К таким попыткам надо отнести и педагогический труд Ястребцева,
представляющий опыт методологической эксплуатации шеллингизма и
фихтеанства: «О умственном воспитании детского возрасга». М., 1831 (первоначально
также в «Моек Телегр.»); 2-е издание, «умноженное и переработанное», под
заглавием «О системе наук, приличных в наше время детям, назначаемым к
образованнейшему классу общества». М., 1833, об этом сочинении нам еще
придется говорить ниже. Ив. Ив. Ястребцев учился в Московской духовной академии
и преподавал в ней французский язык, потом служил в Синоде. В 1816 г.
(сорока лет от роду) поступил в Московский университет, окончил в 1820. До
докторской диссертации переводил «Избранные Слова Массильона» (1809-1817)
и Таулера «Благоговейные размышления о жизни и страданиях Иисуса
Христа» (1823). (Эти сведения почерпнуты мною из Энциклопедического Словаря.)
Очерк развития русской философии
335
ные в «Исповеди» статьи автор снабдил пояснениями, в которых он
сам прослеживает свое философское развитие: от натурфилософии
и «мелкаго болота положительного», через «достоинство разума
человеческого» к сомнению «не только в непогрешительности
школьной учености, но и в самой той науке, в которой получил звание
доктора»*. Диссертация, как констатирует он, написана всецело под
влиянием Велланского. «Г. Велланский покорил меня
натурфилософии совершенно», — ко вреду, как он теперь признается, его наук:
«Начитавшись "Биологического исследования природы", я стал
пренебрегать опытными знаниями, просто презирал их, и потерял
много времени на глупом моем философском самодовольствии».
С другой стороны, констатирует он также, смесь опытных понятий
о природе имела вредное влияние на расположение его ума к
материализму. «Натурфилософия не могла спасти меня от этого; она, как
и нынешняя философия Гегеля, хотя говорит о Боге, но сердца не
согревает верою, которой обе оне не разумеют». Последующие свои
статьи — отрывки об истории (а также статьи об умственном
воспитании детей), понимаемой в шеллинго-стеффеновском широком
захвате — автор также аттестует, как «идолопоклонство разуму, не
согретому чувством, мирскому».
В 1832 г. Ястребцев возвращается к чистой натурфилософии в
статье «Об органах души», где проводит ту мысль, что органом души
является не какая-либо — в особенности не мозг один — часть тела,
а все тело, а в последующих (с 1833 г.) статьях выплывает, по его
собственному выражению, из «мелкого болота положительного» в
«бездонное море всего во всем» (év %ài nàv). Взгляды автора в этом
втором периоде его развития представлены «Замечанием на мнение
г. Шевырева о признаке совершенства в изящных искусствах» (1833)
и статьею «Любовь к ближнему» («Новоселье», 1834). Шевыреву он
возражает на утверждение, «будто совершенство всякого
образования человеческого выражается наибольшею индивидуальною
отличительностью явлений, производимых сим образованием». Мнение
Ястребцева прямо противоположно: образование есть проявление
духа человеческого, а чем полнее образование, тем яснее
обнаруживается идея человека. «Не разнообразие, не усилие личной инди-
* Как сообщает о себе сам Ястребцев, после теоретических возражений
медицине он ей возразил «иначе», «гораздо сильнее»: «я ее оставил» (С. 128).
336
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШЛЕТ
видуальности, а единообразие, истребление личности должно быть
следствием совершенства для человека; ибо дух человеческий один;
свойства его одни». Общую линию истории Ястребцев видит
именно в направлении к «обезличению» духовного облика европейских
народов, достигаемого их сообщением между собою и взаимною
передачею открытий и усовершенствований. Эта идея общности
неличного духа разрешает для него нравственную проблему Любви к
ближнему и методологическую — изучения истории человечества
(«Взгляд на историю и на факты исторические», 1835). Дух наш —
не личное, ограниченное и преходящее существо — твердит нам о
нашем пагубном равнодушии к истинной жизни и наказывает
неизменною тоскою бездействия. Нужно большее развитие человечества,
проникновение в вечные истины большего числа людей, чтобы
научиться напряженно жить и легче осуществлять добродетель. Высшая
нравственная истина — любовь к ближнему, а «ближний не есть
только друг наш или родственник, но человек вообще». Все люди — одно
существо; всякий особенный человек — особенная идея в общей душе
человеческой. Индивиды сами по себе, «неделимые», «имеют только
призрак души; живет истинно только род*. В чувстве любви мы
возвышаемся до сознания рода, и совершенствование человека в том и
состоит, «чтоб люди научились постепенно обезличиваться».
Не сумев из натурфилософии подняться до философии, доктор
Ястребцев спланировал на моральную плоскость, покрытую
скептическим вереском. Сомнение — «одно из самых ужасных слов
ума человеческого, может быть самое ужасное», — констатирует он
(в ст. «Взгляд на историю»). Но все же он, пока, верит в любовь,
которая «зиждет», и признает хотя бы ограниченное значение
«отвлечения», которое есть следствие того, что люди, хотя еще и смутно,
начали признавать общее свое единство. «Отвлечение» он
противопоставляет «фактомании» в истории и призывает на место собирания
фактов их «обдумывание». История людей прекратилась, «началась
история рода человеческого», — «народы почитаются как бы
членами одного тела». Задача истории — показать возраст жизни
человечества в данное время и взаимное в ней количество Судьбы
(«творческой необходимости», «законов Божеских») и произвола людей*.
* Эту фихтеанскую задачу автор ближе освещает и пробует решить в
указанной книге «О системе наук» («Четвертое условие системы учения...». С. 127-146).
Очерк развития русской философии
337
Разрешаются духовные странствования Ястребцева обращением
к вере, которая, по его словам, «хранит» там, где любовь зиждет и
сомнение разрушает. Свои статьи («Необходимость веры») он
рекомендует, как «следствие зрелого размышления и глубокого
убеждения». Из задуманных им четырех статей, из коих три первые должны
были доказать «бессилие всех сил души оставленных самим себе»,
а последняя — «пользу их для духа», осуществлены только первые
две: «О разуме» (1837) и «О чувстве» (1838)*. Теперь для него занятия
философией «не в том состоят, чтоб удовлетворить любопытству,
гордости или суетности разума, и даже не в том, чтобы следовать
безотчетному и бескорыстному стремлению духа к высшим
познаниям: но в том, чтоб сознать свою слабость, или, лучше сказать, свое
ничтожество, и убедиться в необходимости Творца, в присутствии
Провидения». Границы разума мы во всем чувствуем, и тем живее,
чем более изощряем его, и не верх ли разумного знания знаменитое:
одно знаю, что ничего не знаю? С другой стороны, и не один разум
познает. С этим соглашаются самые жаркие поклонники разума.
Познает и чувство и инстинкт. Все достоинство разума зиждется на
предполагаемой его самостоятельности. Если отнять произвол,
уничтожится и разум. Произвол, следовательно, есть истинная причина
разумения. Разум действует не как сила духа, а как страдательное
орудие, приспособленное к здешней, преходящей жизни. Его
деятельность условлена физически и развитием языка, легко разрушается
в душевных болезнях и всецело подчиняется нашим страстям. «Мы
унизили бы величие духа человеческого, каков теперешний разум
человеческий. Не будем же удивляться, что в святом Евангелии не
отличается он от прочих мирских благ, предопределенных тлению».
Словом, все, как следует, в таких случаях!
Рассуждая о чувстве, Ястребцев имеет в виду исключительно
«чувство по преимуществу», т. е. эстетическое чувство, которое «у нас
с некоторого времени начали громко прославлять». Эстетическое
чувство он определяет, как «свободное очувствление природы». Чего
можно ожидать от этого чувства? Подобно разуму, оно имеет дело
с преходящею и условною формою. Как независимая сила души,
оно «безнравственно», — не ищет порока, но не ищет и добродете-
* Продолжалась ли литературная деятельность и самая жизнь доктора
Ястребцева после выхода в свет его «Исповеди», мне неизвестно.
338
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ли. Оно глухо ко всему, кроме себя. «Между Музами нет Музы
добродетели». «Нисходя до чувств, оно часто превращается в грубую
чувственность». Нечего, поэтому, в изящном искать всего достоинства
человеческого, утрату которого оплакивает наш дух.
Таким образом, не нашел Ястребцев успокоения своему
сомнению и на том, на чем успокаивались эстетизирующие
шеллингианцы. Это его, конечно, личная неудача, но она не способствовала бы
процветанию у нас философии, если бы Ястребцев имел больше
читателей, чем те, кто искал удовлетворения философской жажды
в эстетической рефлексии. Вопреки скептикам и в разуме
отчаявшимся, именно эстетика у нас оставалась убежищем и
хранительницею если не философии, то, по крайней мере, философской
идеи. Через эстетику философия у нас продолжала еще дышать и
надеяться.
Как в очерченном кругу, топтались на одном месте наши друзья
натурфилософии; каждый свободный шаг — вон из круга, и на все
четыре стороны. Оставалось одно: можно было, забыв об
облегающих круг философии науках, оторваться от философской почвы и
предаться свободному парению над нею, помня о ней как о точке
отправления, и возвращаясь к ней для отдыха и накопления сил к
новому взлету. Надеждин так и поступал. Шеллинг указал, Давыдов
и в особенности Павлов перевели это для нас, — хотя это же
узнавалось и другими путями, — что одно дело познать идею, другое —
осуществить ее познанную, не предаваясь даже заботам о том, как
она познана — умом, сердцем, из пыльных фолиантов или из
«естества», систематически или в бреду. Это осуществление было уже
практикою. Случайно ли наши мыслители умалчивали о практике,
или к тому обязывала практика же их действительности, — но они
ей предпочли романтическую грезу и могли видеть «осуществление»
только в искусстве. Для философии это имело важное последствие.
Разлагаясь и растворяясь в науках, философия давала им жизнь, но
сама свою прекращала. Метафизическое выщелущивание ее из наук,
которому и поныне предаются материалисты, спиритуалисты и
прочие метафизицирующие рассудочники, есть занятие, дух
развлекающее, но не питающее. Сохраняемая в искусстве, в поэзии и лелеемая
эстетическими теориями и критикою, философия могла ждать, пока
к ней не предъявятся запросы, отвечать на которые — ее право, долг
и власть.
Очерк развития русской философии
339
Но и обратно, без творчества, хотя бы и безотчетного, просто
даже без предварительной работы духовной, сознательное
философствование не появляется. Кузен удачно выбрал термины,
противопоставив познание спонтанное познанию рефлексивному.
Первое дается всем, второе — немногим, желающим отдать себе отчет в
первом, из чего и видно, что второе без первого не бывает, но зато
оно способно вновь стимулировать это первое.
В Германии натурфилософия Шеллинга вызвала небывалый
подъем в области естествознания. Оно не могло уже оставаться
только эмпирическим и образовалось в научную теорию. Начались
блестящие успехи немецкого ума во всех отраслях естественной
науки. Тот же шеллингизм оплодотворил антропологию и
психологию. Так точно Гегель вызвал к жизни немецкую историческую науку.
Но во всех этих случаях соответствующая «материя» науки, научный
хаос и труд были налицо. Иначе дело обстояло у нас. Велланский
писал как-то (1834 г.) в письме к Павлову, что о физиологии в
России до его возвращения из чужих краев, т. е. до 1806 г., «не было ни
малейшего понятия». То же можно было бы сказать о других науках.
Как переняли мы метафизическое естествознание, так дальше
перенимали научное. Ничего своего в области науки, на что бы можно
было рефлексировать, у нас не было. Это не значит, однако, что у
нас вовсе никакой духовной работы не было. Выше уже упоминалось
вскользь, что наш язык был тем объектом, на который направилось
прежде всего наше спонтанное культурное творчество. Его плодом
была литература. Славный «карамзинский период» — не новая
эпоха, а итог XVIII века. И, строго говоря, именно как итог, он целиком
относится к той эпохе истории нашей образованности, которая
находится всецело и несомненно под эгидою правительственной
интеллигенции. Карамзин — также официальный историограф. Но, как
член новиковского кружка, он также живая связь между теми анти-
ципациями новой интеллигенции, которые замечаются в XVIII веке,
и теми осуществлениями, которые задумываются в кружках уже
новой формации. Он же — журналист, заканчивающий эпоху, — если
не официальный, то официозный. В новую эпоху — эпоху
Пушкина — возникла новая журналистика, сама не ведавшая еще, что
творившая, ибо она также невинно делала свое дело, как невинное дитя
может затащить в свои игрушки заряженное ружье. Так, например,
невинно, т. е. не только без предвидения последствий, но и без со-
340
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
знания значения совершенного акта, Чаадаев зарядил свое
«Философическое письмо», а Надеждин им выпалил.
И в литературе и в истории Карамзин имел за собою, по
крайней мере, пятидесятилетнюю спонтанную работу русского духа. Но
ни в той, ни в другой области он не дошел до рефлексии и
подобно предшественникам остался эмпириком. Рефлексия, как сказано,
достояние немногих, и ей также нужно учиться. Мы видели, что это
учение было подражанием. До нашей европейской охоты за
Наполеоном мы звали немцев к себе, они учили нас по своим навыкам, не
замечая того, что их материал для нашей рефлексии был objectum
fictum216. He видя и не понимая его жизненности, мы, пожалуй, во
многих случаях иначе и не могли относиться, как только спрашивая:
какая от сего польза?
Один лишь Буле отнесся к своему назначению серьезно. На
приглашение попечителя M. H. Муравьева он отвечал, что предпочел бы
место профессора изящной литературы и изложения древних
историков должности преподавателя спекулятивной философии, «курс
которой для того, чтобы быть привлекательным и полезным
русскому юношеству, представил бы большие затруднения». И по приезде в
Москву свою литературную деятельность он посвящает не
философии, а русским древностям, археологии и т. п. Он издает уже «Опыт
критической истории литературы русской истории» и наряду с
общими «Московскими Учеными Ведомостями» специальный «Журнал
Изящных Искусств» (где статьи Буле переводились Кошанским)217.
Об этом издании Буле писал, что «оно, сколько можно, будет ближе
к гению и характеру российского народа, ко всем отношениям
внутренним и внешним, к местному положению и к нынешнему
состоянию искусств в России». Журнал прекратился после третьей книжки.
Теперь, в новую эпоху, понимание задач образованности
стало двоиться. Неофициальная образованность, сама того не желая,
уклонялась от официальной. И чем больше в официальной
образованности протест против подражательности означал насаждение
неподражаемых идей Священного союза и его идеологии, тем
сильнее в неофициальной образованности раздражалась потребность
самостоятельности. Когда была объявлена официальная программа
удовлетворения этой потребности, как мы видели, было поздно, и
эта программа оказалась непригодной. Рефлексия нашла себе
объект и без официальной указки. Скорее, последняя пошла навстре-
Очерк развития русской философии
341
чу новому сознанию, так же искренне, как и оно, веря, что оружие
в руках его — невинная игрушка. Объект, который новое сознание
нашло для своей рефлексии, были литература и история.
Правительственная профессура жила по немецкому времени и
продолжала свои подражательные уроки, в то время как не стесненная
программами мысль искала точки опоры для начала самостоятельного
движения. Московские профессора, сошедшие с кафедры и
приблизившиеся к живому спонтанному творчеству, вынуждены были взять
на себя бремя первой рефлексии. Когда Пушкин на похвалы Уварова
литературному дарованию Максимовича заметил: «да мы г.
Максимовича давно считаем нашим литератором», он сказал больше, чем
заключал в себе буквальный смысл его слов по контексту и по
приложению к одному Максимовичу. Мы слышали уже заявление Ив.
Киреевского ö своем и близких ему назначении.
Профессорам, переносившим новинки немецкой философской
рефлексии в литературу, последняя могла быть только благодарна.
Применять к своему объекту и к своему материалу училась уже она
сама. Но на первых порах, самое главное, благодаря их внушениям
она почувствовала необходимость этой рефлексии, даже не сознавая
ясно, в чем она и как ею надо пользоваться. Это — торжественный
момент крещения и наречения своего самостоятельного творчества,
когда, наконец, уже не спрашивают, зачем и какую пользу это
приносит. Рефлексия не может задержать спонтанного творчества хотя бы
потому, что, как сказано, первое — для всех, второе — для немногих.
Поэтому она сама отстает, и нужен большой опыт рефлексивного
творчества, чтобы оно шло в ногу с творчеством спонтанным. Наше
спонтанное творчество в эпоху формирования сознания
неофициальной образованности и культуры прорвалось в таком
невероятном явлении, как Пушкин. Едва-едва только теперь мы приходим к
его осознанию. Достаточно, если современная ему мысль хотя бы
«почувствовала» его, ибо в самом этом чувстве уже было
непреодолимое побуждение в рефлексивной работе мысли. Действительным
же материалом и объектом оставалось прежнее, допушкинское,
прежде всего, карамзинское. Мерка для Пушкина — недостаточная, но
тем более, следовательно, возбуждалось и не прекращалось
беспокойство. Полевой, один из наименее подготовленных и способных
к рефлексии, но самый ярый зачинщик новой образованности,
заметил по поводу Карамзина, что это — писатель не нашего време-
342
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ни: все его взгляды в литературе, философии, политике и истории
устарели с появлением у нас новых веяний европейского
романтизма. Эмпиризмом Карамзина кончался у нас эмпиризм
литературы и истории. Тут важно не констатирование нового самого в себе,
а именно сознание необходимости нового крещения: европейским
романтизмом.
Что же это такое? Вот — точка приложения рефлексии у нас, а
не естествознание! Европейской науки у нас не было, а литература
образовывалась своя. Потому и рефлексия на нее должна быть
своею. И она была, она искала в западной философии уже не объект, а
только приемы. В первой своей статье Белинский входит в
положение читателя: «"Как, что такое? Неужели обозрение?"» — спрашивают
меня перепуганные читатели. — Да, милостивые государи, оно хоть и
не совсем обозрение, а похоже на то». Это «похоже» можно'было бы
заменить словами: «совсем не похоже». Новый дух, дух мысли, веял
со страниц «похожего» на «эмпирическое» по природе своей
«обозрение». Критика, как чувство, переходила в мысль. Сама рефлексия
входила в состав спонтанного обнаружения русского духа. Вольное
парение Надеждина закреплялось у Белинского мало-помалу в
определенное направление. Не менее удачно, чем сопоставление
рефлексивного и спонтанного, сделанное у нас Ап. Григорьевым
сопоставление силы и сознания, — так в Пушкине он видел воплощение «всех
творческих сил нашей народной личности, по крайней мере, на
долгое время», а в Белинском — воплощение «нашего критического
сознания, по крайней мере, в известную эпоху».
Однако, что такое был этот «европейский романтизм»,
пересаженный на русскую почву? Даже в настоящее время мы встречаем
лишь формальные ответы на этот вопрос. Но формальный ответ —
всегда только заголовок. По существу, т. е. философски, мы так же
далеки от ответа, как и исторически. Достаточно того, что мы до сих
пор даже Пушкина знаем, сколько знаем, только эмпирически...
Наконец, не знаем мы и того, как следует, что разумелось в ту пору под
романтизмом. С одной стороны, европейский романтизм не есть
понятие общее, а лишь общное,и национальные типы его никак
генерализируемы быть не могут. Наша литература испытывала
влияние и немецкого романтизма, и английского, но из этого не следует,
что получалось что-то среднее. Получалось новое — национальное.
С другой стороны, те, кто называли романтиком Карамзина, знали,
Очерк развития русской философии
343
что это не классицизм, и только. Тогда для «новых» их новое было
не-классицизм и не-Карамзин — опять и только. На одном не как
будто все сходились: не-подражательность. Но когда старый,
идущий от XVIII века, бытовой протест против подражания
иностранцам стал вопросом литературного направления, эстетики, истории
и философии, убедились, что это — целая программа и нелегкая
проблема. Полевой назвал новый период пушкинсконародным,
Белинский утверждал в «Литературных мечтаниях», что за карамзин-
ским периодом нашей словесности последовал период пушкинский,
другие просто называли его народным. Ив. Киреевский в самом
Пушкине находил «третий» период развития его поэзии — русско-
пушкинский. О карамзинском периоде вообще Киреевский говорил,
как о французском, Жуковский, по его мнению, начал новый
немецкий период. Это, пожалуй, указания самые точные, но нужно знать,
как у нас преломлялись французское и немецкое влияния. А до тех
пор все эти определения остаются формальными титлами какой-
то неформальной проблемы. При всей своей формальности,
однако, они обладали таким свойством, что простое усвоение немецкой
философии и немецких теорий романтизма ничего в них не
решало. Усвоить их нужно было, но нужно было отдельно учиться
применить их к решению своей проблемы.
Профессора, как официальные представители науки,
переносившие к нам новые западные идеи, честно и прямолинейно, а потому
плохо, выполняли то, чего требовало от них правительство — быть
орудием его. Свои мысли они прятали. От них ждали самобытной
идеологии, а они давали лишь в духе и букве официальных
программ. Это было тем «применением», которое нашла философия у
нас. Отступавшие от этого и искавшие «применения» теории в
культурной жизни тем самым отходили от программ и погружались в
жизнь, т. е. в литературу, единственную у нас тогда форму культуры.
С их помощью литература затем выдвинула своих идеологов. Но
первое, хотя бы в неизбежно схоластической форме, «применение»
было сделано официальными представителями науки. Когда
правительство требовало применения философии и науки к оправданию
и обоснованию своего дела, это превращало философию и науку в
слуг и подчиняло их утилитарности. Пока литература жила своею
жизнью, своим делом, она оставалась чужда утилитарности, ибо
собственное ее дело сознавалось ею, как дело самодовлеющее, в себе
344
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
самом заключающее цель. В эту пору философия не призывалась
служить исправлению нравов, конституции, социального
непорядка, ибо и сама литература ценила в себе не средство, а творчество
и искусство. Она достигла степени самосознания. В карамзинский
период литература уже не служит цели исключительной
назидательности и заказного восхваления торжественных и отмечаемых
в святцах событий. Дух карамзинского периода сознает свое право
страдать, плакать или радоваться по собственному побуждению и
по поводам, свободно избранным. Разумеется, и сама эта новая
литературная практика была заимствована. Ее также нужно было
прищепить к своему дичку. Может быть, Белинский судил правильнее
других (например, Киреевского), когда не включал между
периодами карамзинским и пушкинским период Жуковского, именно
потому, что Жуковский в изобилии доставлял новые сравнительно с
Карамзиным культурные принципы, но не одомашнивал их. Лишь у
Пушкина это делалось само собою, — русская стихия становилась у
него идеей, а русская идея была его стихией. В одном отношении,
однако, Жуковский, по-видимому, сыграл значительнейшую роль.
В большей степени, чем Карамзин, он подготовлял литературу нашу
к сознанию ее бесполезности. Как бы ни казалось это качество
духовной культуры — внешним, до него надо дожить. Без принятия его
ни один народ еще не доходил до стадии образованности; и тот
народ тотчас впадал в рецидив некультурности, который терял
понимание полной бесполезности развития духа. Есть ли, кроме русской,
другая история, которая так определялась бы борьбою вокруг этого
свойства культуры? И понятно, потому что это — борьба за
европейское бытие или восточный анабиоз русского народа. Может быть,
потому эта борьба такая смертельная, отчаянная, что это — борьба
не только за бытие русского духа в истории, но и против него
самого в какой-то его коренной, исконной основе. Недаром три смены
интеллигенции, руководившей русскою образованностью, суть три
смены утилитарного ее направления: дух нам нужен был
последовательно (в основном, разумеется, и типически) — для церкви, для
государства, для народа, но не для себя самого, не для того, чтобы
церкви, государству, народу — можно было жить в нем и им. Тут не
государство, церковь и народ существуют для манифестации и
воплощения духа, а дух должен работать на них. Нужно, однако,
признать в то же время, что не случайно ни одна из этих смен ни на
Очерк развития русской философии
345
минуту не торжествовала при полном молчании голоса
культурной совести, всегда взывавшей к духу во имя сознания, уже не
высокой, а позорной «ненужности», бесплодности, бездарности, «людей»,
духа лишенных по тому одному уже, что они заставляют его себе
служить.
Как ни тривиальны эпитеты, которыми наделяют музу
Жуковского: мечтательная, идеальная, неземная, — нам нужны были все эти
немецкие, иногда русифицированные, привидения, страхи, тени и
призраки, прежде всего для того, чтобы Пушкин, невзирая на
зубоскальство дикарей, на понятном, хотя бы по буквам, для них языке
запечатлел раз и навсегда о всяком истинном творческом духе: «мы
рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв»*. Из
истории русской культуры никакие электрификаторы и никакие Сальери
отныне уже не вытравят этих слов, и эти слова будут волновать
русского человека, пока не будет упразднен самый язык русский. У
Пушкина это было уже спонтанным творчеством русского духа,
манифестацией какого-то затертого, забитого и забытого, но не угасшего
вовсе, порыва этого духа. Теперь требовалось его рефлексивное
осознание и уяснение. Киреевский писал в «Обозрении русской
словесности за 1829 г.»: «Нам необходима философия: все развитие нашего
ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна
может дать душу и целость нашим младенчествующим наукам, и самая
жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности».
Философия, которую немецкие романтики считали своею и на
основании которой они строили свои эстетические оценки, наиболее
подходила для момента нашего поэтического самосознания. Она
внушала мысль о самоцели и самоценности поэзии и творчества, она
научала видеть в ней не средство к достижению морального или
иного благополучия, а необходимое осуществление самодовлеющей
идеи. Но для этого и требовалось, чтобы поэзия, как деятельность
духа, была переведена из состояния смутного бессознательного
удовлетворения творческого влечения в стадию сознательного выпол-
* Жуковский хотел найти какой-то мостик. В отличие от Пушкина он
заботился о том, чтобы его поняли лишенные дара понимания. Осторожно, с
оговорками, с пояснениями, он старается «доказать» тезис, что «стихотворцу не
нужно иметь в виду непосредственного образования добродетелей,
непосредственного пробуждения высоких и благородных чувств...»
346
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
нения поэтом своего назначения. «Романтизм», таким образом,
превращался из чувства в философскую задачу, в радикальном решении
которой рассеивалась сумеречность спонтанного переживания.
XVI
Натурфилософия не могла прямо удовлетворить потребности в
эстетической рефлексии. Нужно было ознакомиться с принципами
новой немецкой философии и их приложением к эстетике. Наши
натурфилософы не могли помочь в этом, потому что не были
философами. Павлов указал место художественному творчеству в
отношении к науке, но в дальнейшее рассмотрение вопросов эстетики не
входил. Его ученики, променяв естествознание на словесность, как
будто и не думали о том, что словесность также может иметь свои
философские основы. Между тем именно словесники и
представители наук об искусстве, хотя бы в удовлетворение требований духа
времени, должны были бы подумать над этими основами. Дяя них
это было нелегко, раз сама философия молчала, но тем не менее
именно им мы обязаны распространением философского
образования и в эту сторону. И здесь свободная литература сделала больше,
чем официальная наука.
В 1825 г. вышел «Опыт науки изящного, начертанный А. Галичем»*,
но по своим качествам он стоял невысоко и обильного питания
эстетической рефлексии не давал. Галич, подобно другим
профессорам своего времени, до банальности симплифицировал
немецкие теории и подавал их читателю в сухом схоластическом виде,
малоспособном пробудить мысль к деятельности или хотя бы
расшевелить любознательность. Одно его определение «изящного», о
котором он говорит, как о «чувственно-совершенном проявлении
значительной истины свободною деятельностью нравственных сил
Гения» (XII), могло своею добродетельною законченностью усыпить
всякого любителя изящного. Компилятивность, если так можно
сказать, этого определения, иллюстрируя «метод» Галича, в то же время
показывает, что если он и разбирался в индивидуальных
тенденциях современной ему эстетики, то все же относился к ним
индифферентно и не-философски толерантно. А вернее, он и не разбирался
* Ср. изложение Замотина И. «Романтизм 20-х годов...». Изд. 2-е. Т. I. СПб.;
М, 1911-1913. С 108-117.
Очерк развития русской философии 347
в них, а эклектически компилировал, не обладая оригинальностью
даже настолько, чтобы выделить чью-нибудь оригинальность и
следовать ей. Лишь треть его небольшой книжечки посвящена
принципам эстетики, остальная, большая часть, «прилагает» их к
рассмотрению отдельных искусств. Обе сжаты в параграфы, перечисляющие
вопросы, но их не анализирующие — без диалектики мысли и без
угрызений критической совести. К этому присоединяется
схематичность и бесстильность: результаты — чужого, конечно — умозрения
обвиваются психологическими перевязками. Все определения
боевых терминов тогдашней эстетики: красота, гений, вкус и пр.
лишены и вкуса, и гения, и красоты, а потому и интереса. Кардинальный
вопрос эстетики и критики того времени, вопрос о направлении
нового искусства, лишь намечен в весьма скупых параграфах главы «О
разностях прекрасного, происходящих в Истории от духа
народного образования» (§§ 50-57. С. 51-59).
Раскрывающееся сознание духа в юности народов, сообщает
Галич, представляет себе самообраз изящного, а следовательно, и
всего истинного и доброго, во внешней природе, и лишь
впоследствии отдельно от нее. Поэтому прекрасное древнего мира
отличается характером ощутительного, пластического, простодушного,
а прекрасное новых времен — характером романтического.
Искусство древних, соответственно, отличается характером внешним,
натуральным, искусство новых — внутренним, духовным; там
действительные существа и явления, усматриваемые чувствами,
очищаются и облагораживаются художником, чтобы показать Всесо-
вершеннейшее в природе, здесь оно, представляемое фантазией и
созерцаемое умственным оком, низводится в мир чувственный. Для
древних настоящее — благо, исполнение и цель жизни; высшее
художественное образование новоевропейского духа не прилепляется
к тщете земного бытия и устремляет свои нравственные помыслы к
беспредельной существенности. В классическом стиле преобладает
мужественный характер силы, строгой правильности и благородной
простоты, в новом европейском — женский характер мечтательной
любви и нежной чувствительности. Поелику же прекрасное, как
чувственно-совершенное явление невидимого, основывается на
согласии идеального с естественным, свободного с необходимым, «то
совершенное откровение безусловной красоты возможно только в
романтической Пластике, которая предметам лучшего, неземного
348
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
мира умеет давать явственные, определенные очертания». Этот род
искусства предугадан некоторыми гениями итальянских
живописцев и немецких поэтов, и есть идеал будущего. Как ни туманен этот
вывод, при отсутствии каких-либо пояснений, его ненужность
становится явною, когда к нему грубо приметывается сообщение о том,
что в границах совершившейся истории, к которой и мы
принадлежим, на юге Европы преобладает духовная сторона, на
скандинавском севере чувственная или материальная грубая масса
господствует над идеей, давая произведения жестокие, огромные и уродливые,
а «на восточном ее краю — у греков, находим ту и другую сторону в
совершеннейшей и следовательно для нас образцовой отделке».
Видимо, трудно было Галичу, но не легче и нам...
Только путем исключения можно прийти к тому, что здесь —
отголоски шеллингианской эстетики: может быть, весьма элементаризи-
рованный Золгер — известный, скорее, по какому-нибудь популярно-
упрощенному изложению, — вернее, Аст, но также упрощенный, а то
и еще меньшие. А если сколько-нибудь строго относиться к
терминам, то «прекрасное», как «чувственно-совершенное», просто
отбрасывает к Баумгартену. Неспособность к умозрению — свойственная,
впрочем, всем русским профессорам философии того времени,
принимавшим умозрение «на веру», а не «по опыту», — очевидна, и все
покрывается, как пылью, серым налетом домашнего эмпиризма. Что
мог извлечь из этого русский поэт или критик, поставленный
Галичем сразу и перед — полученным путем простого словосочетания —
идеалом «романтической пластики», как синтеза древней и новой
Европы, и перед — навеянным псевдо-генеалогическою
обязанностью — императивом образцовой для нас «отделки» греков?
Галич оказал бы нашему философскому просвещению большую
услугу, если бы просто перевел какое-нибудь доступное нам
немецкое руководство. Не встречая указаний или подцержки со стороны
философов, представители заинтересованных наук сами должны
были озаботиться подготовкою читателя и слушателя к пониманию
новых идей, вводимых ими в свою науку и в эстетическую критику*.
* Вскоре после книги Галича, действительно, появляются переводы: в 1829 г.
(«Московский Вестник». 4. IV. С. 18-81) Аст Ф. «Основное начертание
Эстетики» (Ast. Fr. Grundlinien der Aesthetik. Landshut, 1813; о вторичном «переводе»
Аста Розбергом см. ниже) и в 1832 г. Бахман К. Ф. «Всеобщее начертание теории
Очерк развития русской философии
349
Результатом такой работы можно считать появление в 1829 г.
исторического очерка истории эстетических теорий Ивана Среднего-
КамашевсС. Автор откровенно — хотя, приходится думать,
неискренне — отмежевывает себя от умозрения, теряющегося в
неопределенных и ложных умствованиях, и отдается под руководство ясности и
опыта. Характерно его заявление, оправдывающее тем не менее, как
будто, умозрение в применении к природе: «Цель наша изящные
искусства, а не природа: средства наблюдения основательные и точные,
приложенные к произведениям человека, а не явлений нашей воли, где
обнаруживается только ничтожность земного разума». Пределы
своего обозрения автор видит, с одной стороны, в Платоне и Аристотеле,
с другой, в завершающих эмпирическую эстетику трудах Бате, Берка и
Баумгартена, трех писателей, отражающих в себе особенности трех
различных-народностей. Не столько уже из народного характера,
сколько из «совокупного наблюдения умов в деле науки» вырастают
учения эклектика Зульцера и обновителей платонизма Винкельма-
на218 и Лессинга219. Здесь и кончаются, по мнению автора, учения об
изящном, имеющие начало в опыте. Умозрения новейших относятся
«более к философии, нежели к науке об изящном». Немотивированно
и выходя за пределы указанной схемы, он присоединяет замечания
о Канте, Фихте, Бутервеке. Не совсем вяжется с взглядом автора,
отрекающегося от умозрения и философии, привлечение Платона
в качестве верховного авторитета. Автор оправдывает это тем, что
Платон — родоначальник науки об изящном, и что его ошибка есть
ошибка века, а не собственного духа. Понятно с этой точки зрения,
что и платонизм новейшего умозрения — также ошибка — века или
собственного духа, — но непонятно, каким образом ошибку века
родоначальника науки возобновляют завершители ее — Винкельман и
Лессинг и каким образом к нему же примыкает сам автор, не находя
ничего его выше и не замечая, что современное ему умозрение было
реставрацией платонизма.
изящных искусств». Пер. М. Чистякова (Kunstwissenschaft in ihrem allgemeinen
Umrisse usf. Jena, 1811, — одно из первых употреблений современного термина
«искусствоведение»; перевод этот вызвал обширную статью Надеждина.
«Телескоп». 1832. № 6-7; см. ниже. Ч. II).
* «О различных мнениях об изящном». Рассуждение на степень магистра
Кандидата Ивана Среднего-Камашева». Москва: В Университетской типографии,
1829.
350
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
В общем «Рассуждение» изложено ясно, критические замечания
отчетливы и существенны. Оскорбляет только отсутствие развития
своего положительного взгляда и нежелание признать таковой у
«новейших», которые по существу дела как раз и раскрывали
скрытые теоретические основы эстетической критики Винкельмана и
Лессинга. Основная мысль эстетического учения Платона,
исходившего из представления о природе, как начале не внешнем только, но
божественном и одушевленном, — мысль о «подражании» отнюдь
не означала копирования и слепков с внешних образов природы.
Поэт и художник действуют по вдохновению, в энтузиазме, и
раскрывают внутренний мир идей, следовательно, образы не внешние,
а существенные, вечные, как сами идеи, принадлежности коих они
сами составляют. Для Платона, как и для следовавшего ему в
основном Аристотеля и затем Августина, «подражание» возводилось до
степени творческой изобретательности; для них сливалось в одну
идею fingere и imitari220. Французы неправильно приняли
подражание в тесном смысле подражания наружности предметов. В
частности Батге, понимая изящное, как подражание изящной природе,
впадал в явный круг, и вместо теории изящного, во-первых, обратился к
самому творящему, а во-вторых, запутался в частностях незначащих
объяснений и описания по наружному признаку. Ошибка англичан,
склонявшихся к платонизму в августиновском понимании (единство
в многообразии), была, главным образом, в том, что они основывали
изящное на «средствах» выражения художника более, чем на
существенном значении самого изящного. Так, Гетчесон наблюдал его
исключительно в отношении к уму, а Берк — в отношении к
нравственным чувствам. Но «впечатления» суть только средства,
обнаруживающие изящное для человека, но не раскрывающие, что есть изящное
по существу и само по себе, как не могут они раскрыть и
истинного самого по себе. Иными словами, французы ушли в «наружное
бытие», а англичане — в психологические начала, вместо
рассмотрения внутреннего существа самого изящного. Немцы первые
попытались, в лице Баумгартена и Мейера, создать науку об изящном,
но перенесли в нее ошибки своей метафизики. Лейбнице-вольфов-
ское понятие о совершенстве было применено здесь к
чувственному, что давало не только слишком широкое определение
изящному, но заключало в себе также противоречие, ибо чувственное
представление, как представление, остается предметом ума, и таким
Очерк развития русской философии
351
образом изящное делается просто низшею степенью
математических вычислений. Винкельман и Лессинг не развили своих взглядов
в систему, но они впервые перестали относить изящное к чувствам
или уму, и, «дав фантазии место в лоне божества, произведения ее
созерцали, как явления высшего откровения духа». Таково было
значение их «идеалов», делавших из них возобновителей платонизма.
В новые ошибки впал Кант, когда он, увлеченный субъективностью
(«подлежательностью») форм познания, и начала красоты заключил
в тесные рамки личности и утверждал их на зыбкой почве
непостоянных, переменчивых, случайных чувств. Фихте, несмотря на
влияние, которое он оказал, не дал полной теории изящного. Наконец,
учение Бутервека, испытавшего влияние и Канта и Фихте, невзирая
на повторение ошибочного Кантового утверждения
непроницаемого для разума бытия вещей, «пред всеми новейшими авторами,
преимущественно приближается к понятиям платонизма». Но «можно
ли предпочесть первоначальный свет солнца, неистощимого в
своих излияниях, могущественного в лучах своих, тусклому,
заимствованному свету луны?» По этой-то причине автор и провозглашает
учителем не Винкельмана, Лессинга и Бутервека, а самого Платона.
Последний вопрос Камашева — только риторический. Почему на
самом деле он успокоился на Платоне? Почему вообще в его
«Рассуждении» такая ограниченность интереса? Неужели он не понимал,
что для всякой не-платоновской современности Платон есть Plato
redivivus — восстановленный и восстанавливаемый? Не мог он не
видеть, что самое восстановление Платона оправдывается только живым
положительным интересом новой мысли! Как можно заставить себя
остановиться как раз на пороге своего и актуального? — Камашев —
убедительнейшая иллюстрация необходимости различения у нас
философии «профессорской», казенной и официозной, и философии
вольной, «литературной». Камашев писал диссертацию, согласуясь со
вкусами и мерками, которые были санкционированы, в свою очередь,
санкционированными представителями соответствующих кафедр*.
* Как могли в университете встретить еще не санкционированное,
показывает анекдот, случившийся при представлении диссертации Надеждиным.
Проф. Ивашковский и Снегирев, поставив в вину Надеждину его шеллингиан-
ство, желали «прежде всего знать, может ли сие учение быть допущено в нашем
университете».
352
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Защитив диссертацию, Камашев (по причинам мне неизвестным) в
состав преподавателей университета не вошел, но зато развил
значительную литературную деятельность. И вот этою последнею и
обнаруживается нарочный и, может быть, даже вынужденный характер
«ограниченности» его диссертации. Не только вкус и интересы его —
шире того, что явлено в диссертации, но он выступает с
самостоятельными и оригинальными, хотя и в духе времени, литературно-
эстетическими воззрениями. К ним мы еще вернемся.
В качестве instantia negativa221 к характеристике профессорской
науки, как отстающей и несовременной, можно было бы
припомнить профессора латинской словесности Харьковского
университета Ивана Яковлевича Кронеберга (1788-1838), человека хорошо
образованного и европейски культурного. Но правильнее все-таки
было бы смотреть на Кронеберга, как на пример того раздвоения
между кафедрою и журналистикою, на которое выше уже
указывалось, и которое характерно не только для образования и развития
журналистики, но и самой официальной науки. Если одних
журналистика целиком перетягивала к себе, то и на других она не
оставалась без влияния. Она подстегивала их и подгоняла до линии
современности, пока не создался некоторый, по крайней мере, кадр
свободно мыслящих и научно независимых профессоров. Совершилось
это позже, а в рассматриваемый период образования вольной
литературы примеры аналогичные Кронебергу суть примеры момента
переходного и колеблющегося.
Отец известного переводчика Шекспира и один из первых у нас
шекспироведов, по словам историка Харьковского университета,
«гордость и украшение словесного факультета» (БагалейД. И. «Опыт
истории Харьковского университета». В 2 т. Т. II. Харьков, 1909.
С. 681), свое образование Кронеберг завершил в университетах в
Галле и в Иене (1800-1807). Здесь не мог он не заразиться
господствовавшим философским и романтическим духом. Общее
литературное значение имеют: его «Амалтея, или собрание сочинений и
переводов, относящихся к изящным искусствам и древней
классической словесности». Ч. 1-Й. Харьков, 1825-1826; «Брошюрки»,
выходившие непериодически, №№ 1-Х. Харьков, 1830-33 (содержание
«Брошюрки» № X составляет извлечение из сочинения Бруно «О
причине, начале и едином», под заглавием «Философия Ноланская»,
однако статья эта не оригинальная — в ней легко узнать перевод
Очерк развития русской философии
353
«Извлечения», сделанного Якоби для его «ber die Lehre des Spinoza, in
Briefen in Herrn Moses Mendelssohn», Beil. I, Werke. IV, 2, перевод
точный и лишь с небольшими, вероятно, цензурными, пропусками)222;
«Минерва». Харьков, Ч. 1-4. 1835 (Собрание статей из «Амалтеи» и
«Брошюрок»). Белинский писал о Кронеберге (XII, Некролог): «Любя
знание, как цель, а не средство, он не следил за ветреными
прихотями толпы, не толкался на рынке литературных предприятий; но,
в свободное от своих гражданских обязанностей время, уединялся
в тиши своего кабинета, читал, перечитывал и изучал своего
любимейшего поэта — Шекспира, писал разборы и замечания на его
драмы; исследывал разные эстетические вопросы, преследовал судьбы
искусства у древних и новых народов» (С. 75).
Две из «Брошюрок» Кронеберга (№ 1,1830; № VI, 1831) посвящены
историческим обзорам эстетических учений. Оба не окончены.
Первый — под заглавием: «Исторический взгляд на эстетику». Предварив,
что эстетика, как наука, создана немцами, Кронеберг считает, что к
ним одним и должна относиться история эстетики. Но в этой статье
автор ограничивается лишь беглым обозрением французского
понимания задач поэзии и чисто отрицательного влияния этого понимания
на немцев. Ложь французской литературы — в ее чисто механическом
подражании древним. Шекспир — «он есть загадка, как и сама
природа! он непостижим, как и она! он величествен, как она! многообразен,
как она!» — поворотный пункт поэзии, и он мог бы научить иному, но
не был известен или считался нарушителем установленного
французами пиитического кодекса, а время то было, «где вся Европа желала
здравствовать, когда Франция чихала!» (С. 23). Германия рабски
подражала Франции. Первый, кто опрокинул жертвенники перед
французскими идолами, был Лессинг, «неограниченный презритель буквы».
Баумгартен старался создать систему; «Философия Канта отвергла
возможность Эстетики и вместе с сим дала ей новое направление;
Диоскуры Шлегели довершили начатое Лессингом; Шеллинг вдохнул
новую душу» (С. 14). Главное учение французов вращалось около двух
точек подражания природе и вкуса. Первое противоречиво, нелепо,
не только когда разумеют подражание изящной природе*, или когда
говорят о подражании украшающем — ибо, если природа не хоро-
* На противоречия теории Батге в этом направлении указывал, как
известно, Фр. Шлегель. См.: Гайм Р. «Романтическая Школа...» М., 1891. С. 661.
354
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ша, то нечего подражать, а если хороша, то не для чего украшать, —
но и тогда, когда, как у Шеллинга, природою называют вечно
творящую силу вселенной. В последнем случае подражания не может
быть, ибо, согласно самому Шеллингу, тот только может и постольку
может творить в искусстве, в кого и поскольку вложена «оная
творческая сила природы». Что касается вкуса, то это есть удовольствие
всегда нами в чем-нибудь находимое и субъективное, на чем,
следовательно, теории изящного построить нельзя. Чем чище идея
изящного, тем менее она зависит от вкуса, «и чистейшая идея изящного
должна быть совершенно безвкусною» (С. 26). Влияние французской
критики и литературы в Германии пресеклось с Шлегелем; что Вин-
кельман учинил относительно древней пластики, то Шлегель (Август
Вильгельм)223 сделал относительно драматического искусства.
Второй из названных обзоров носит название: «Материалы для
истории эстетики». Нам надо начинать с истории, потому что до
сих пор «у нас Эстетика известна еще только par renommée»224.
Кроме Опыта Галича, заслуживающего, по мнению Кронеберга,
всяческого уважения, все прочее — набор мыслей несвязных, незрелых,
ложных. Перевод немецких эстетик нам не помог бы, потому что
они основаны на философии, которой у нас еще нет. Свое
изложение автор начинает с Баумгартена и доводит до Шеллинга, включая
сюда Батте (Batteux), Винкельмана, Мендельсона, Зульцера, Канта,
Гейденрейха, Шиллера. Изложение сопровождается
принципиальною критикою с точки зрения явной симпатии к Шеллингу.
Совершенно основательно замечание автора, направленное против
эмпирического начала в эстетике и высказанное по поводу теории
Батте: «выведенные из оного правила искусства всегда показывают те
творения, от которых они отвлечены». Кант, по его суждению,
смотрел на эстетику не с надлежащей точки зрения, «его определение
изящного, в котором ни малейшая частица изящного не
отражается», неудовлетворительно — «на голых высотах его философии едва
ли мог прозябать хоть один цветок поэзии». Изложение Шиллера и,
как сказано, Шеллинга — ход мыслей которого в «Системе
трансцендентального идеализма» он представляет в сжатом конспекте —
сочувственно. Последний породил ряд эстетик и эстетических
критик — «одни держались Шеллинговой системы, другие пролагали
себе особенный путь; лучшие все более или менее шеллингианцы».
Из новых эклектиков автор останавливается только на Жан-Поле225.
Очерк развития русской философии
355
В систематической форме Кронеберг не излагал своих
эстетических воззрений, но легко можно уловить, что он руководится ими в
своих литературных оценках и в критике. В форме афористической
он имел случай прямо высказать некоторые из своих мыслей — уже
в «Амалтее» (Ч. I), а затем в «Брошюрках» (№ II) и в «Минерве» (Ч. I).
Его позиция так определенна, что нескольких примеров достаточно
для исчерпывающей характеристики ее. «Поэзия, — говорит он, —
есть живая сила, созидающая высший мир, нежели в котором мы
живем, проницающая материю духом и облекающая дух в материю».
«Критический разбор пиитического произведения сам должен быть
пиитический, потому что поэзию в прозе созерцать нельзя, что к
удовлетворению какой-нибудь нужды служит, то не принадлежит к
области изящного искусства»* («Амалтея»)226. «Эстетика, основанная
на вкусе, то же что покрой платья, основанный на моде; вкус
переменился — и эстетика не годится». «Эстетика не имеет целью
руководствовать гения; но понимать его в его действиях и творениях,
развивать и направлять чувство искусства». «Гений не только образ, но
часть творческаго духа природы, и действуя сообразно ее законам,
имеет в искусстве свою автономию» («Брошюрка». II, 23). «Критика
не останавливается на букве, но в букве созерцает изящное. Критик
должен иметь дух универсальный». «Поэзия не имеет никакой
внешней цели. Истинно пиитическое творение есть необходимое
произведение природы, а по сему и органическое целое, жизнь»
(«Брошюрка». №11. С. 21).
Эти принципы нашли себе приложение в прекрасной статье Кро-
неберга «О изучении словесности» (ЖМНП. 1835. Ноябрь. С. 253-289).
Что бы мы ни объясняли, мы во всем найдем букву, внешнее, смысл,
внутреннее свойство частей в отношении к целому, и дух,
безусловное единство буквы и смысла, самый свет, истинную жизнь.
Положение у нас гимназии и университета — это буква и смысл. Цель
пребывания в университете — достижение возможного умственного и
нравственного совершенства. Но есть ученики, которые хотят
ограничить науки полезным. «Наука должна им служить для
обрабатывания полей, для усовершенствования промышленности, для поправ-
* Ср. с этим такое, например, заявление Фр. Шлегеля: «Poesie kann nur durch
Poesie kritisiert werden. Ein Kunsturteil, welches nicht selbst ein Kunstwerk ist, hat
gar kein Bürgerrecht im Reiche der Kunst» (Fr. 125).
356
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ления испорченных соков, и т. п.» Геометрия — прекрасна, потому
что учит межевать поля и строить дома. «А греческий и латинский
язык на что?» Никто теперь на них не говорит. «Занятия совершенно
бесполезные! Т]эата времени!» А философия? «Она не учит ни хлебы
печь, ни промышлять». «Но что такое польза», — спрашивает с
негодованием автор, — «и полезна ли сия прославляемая польза?» «Не
свет губит, но сумрак полузнания. Наука есть чистая, живая струя!
Запруди ее, она, правда, разольется, но скоро начнет цвесть и
превратится в болото, заражающее воздух» {Курс. мой). — Не
первый случай, что «мечтатель» оказывается пророком! Прошло лишь
двадцать лет, и правда невнемлемой Кассандры заставила забыть
о ней самой... «Польза! польза! — еще восклицает автор. — Какую
пользу приносит эта польза?» Кронеберг не знал еще, что на
самые вопросы эти, как на бесполезные, ответа не будет,' что они
останутся в истории просвещения его родины лишь поводами для
презрительной характеристики всей его эпохи, как эпохи
«мечтательной», «идеалистической», и для снисходительной ее
характеристики по масштабу здравого смысла, как эпохи «юношеских
увлечений».
Кронеберг полагает, что цель университетского учения
отнюдь не в пользе, а в постижении смысла в указанном значении.
Уподобляя знание комете — ядру, несущемуся по небу, с длинным
лучезарным хвостом, он утверждает, что и знание облекается
лучезарным светом, когда оно имеет несущееся по небу ядро.
Посвящающий себя какой-либо науке должен сперва познать место,
занимаемое ею в целом, дух, коим она оживляется. Органическую
связь наук и частей одной науки показывает философия, ибо она
есть развитие частного знания из одного начала или одной идеи.
Университет есть реализующая система наук. Словесный его
факультет объединяет науки словесные или науки слова. «Слово есть
форма, и каждый из тех видов, в коих выражается ум и творческий
дух человека, есть слово». Форма предполагает материю, как
некоторую внешнюю жизнь, их объединяет дух своею внутреннею
жизнью. Поэтому «Словесность есть проявление духа человеческого
во внешности». В приложении к наукам: дух есть философия,
материя — история, форма — язык. Все науки основаны на опытности,
лишь философия разверзает небо и солнечную систему идей,
светом коих озаряются, согреваются, развиваются все науки и опло-
Очерк развития русской философии
357
дотворяется мир поэзии. «Знание вообще не имеет внешней цели:
оно само себе цель. То же самое должно сказать и о философии».
Задача умственного образования — независимость от буквы; там
только и могут процветать науки, где есть эта независимость. Путь
к ней — через область философии. «В философии паче всего
требуется независимость от буквы. Буква же в философии есть
эмпиризм. Как буква содержится к слову, так эмпирия к идее. Идея есть
слово в высочайшем смысле. Без сего слова нет и нравственности;
нравственные деяния суть отражения идей. Идея есть самобытная,
сама в себе живая, материю оживляющая мысль. Идея есть мысль
живая: ибо мышление, как самобытное, по существу своему, есть
живое. Идея есть мысль, оживляющая материю: ибо всякая жизнь в
материи есть выражение идеи, и материя сама в ее существовании
есть только отражение сокрытой от глаз наших идеи; а отсюда и
ее движимость и живость. Не плоть живет, но дух». С идеей
связана самородная деятельность, формы осуществления которой также
называются идеями. Эта деятельность, втекая в материю
посредством нашей силы, образует мир искусств; втекая в общественные
отношения, образует мир нравственности и права; втекая в
созерцание вселенной или в знание, созидает мир наук; втекая в
единый источник всей жизни, пробуждает религию. Эта деятельность,
созерцая себя, как реальный объект, как проявление духа
человеческого во внешности, созидает круг словесности. Философия по
отношению к древу словесности — сила, которая гонит в него соки
и соделывает дерево живым и цветущим. Без нее дерево лишается
соков, вянет, сохнет, умирает.
Слово, выражающее ум, есть язык; слово, выражающее
творческий дух человека, есть искусство; наука о слове — филология.
Особенное значение Кронеберг придает изучению языков
греческого и латинского, выступив пламенным защитником
классического образования в пору, когда этот путь культурного развития
нами еще не был испробован, и когда, следовательно, можно еще
было верить, что этот самый прямой путь к европейской
образованности не закрыт для России. Не без беспокойства, поэтому,
взирал Кронеберг на опасность утери этого пути. О его
бесполезности он мог бы повторить уже сказанное, но он видел
опасность и еще с одной стороны — обстоятельство, заставившее его
в споре о классицизме и романтизме занять свою особую пози-
358
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
цию*. Он боится, как бы наш подражательный романтизм в борьбе
с подражательным подражанием классицизму не направился
против истинного классицизма. «Презрение, — говорит он, —
внушаемое нашими романтиками к древней словесности, не заслуживало
бы никакого внимания, если бы не делало столько вреда. Оно,
конечно, проистекает не от духа истинного романтизма, но от
плоскости и невежества лжеромантиков, однако, ведет к поверхности,
приучает к пустоте, и, сбивая питомцев Муз с настоящей
дороги, портит целое поколение. Это жаль! Но делать нечего! Levius fit
patientia quidquid corrigere nefas227. Когда-нибудь сей чад пройдет, и
тогда, удостоверившись в истине, что прочное учение и высшее
образование должно быть основано на древних, обратятся к Греции и
Лациуму».
Со своею энергичною апологией классицизма Кронеберг
является представителем первого, здорового, героического периода
романтизма. В общем представлении о немецком романтизме и в
общих его характеристиках часто не различают этого периода от
периода «конца» романтизма, его декаданса. Повторяется обычная
судьба исторических оценок: первые из них составляются и
даются побежденному победителем, который судит павшего не только
односторонне, но, что еще несправедливее, по признакам его
замирающей деятельности, по чертам его упадка. Героический
романтизм ниспровергал ложный классицизм и был опьянен истинным
классицизмом, — в этом его революционная увлекательность. Он
идет об руку с положительным возрождением эллинизма у немцев.
Гейне, Фр. А. Вольф, Бек, Эрнести, Винкельман, Шлейермахер,
В. Гумбольдт228, Гете, Шиллер, Гельдерлин и еще многие другие —
эллинизаторы немецкой культуры. Бессмертная заслуга Вольфа и
«филологии» того времени — возведение в методический принцип
анализа всякого явления культуры, как выражения единого духа
народа. Принципиальное, философско-историческое и культурное
значение идей Вольфа характеризуется (как удачно формулировал
* Проф. Багалей («Опыт истории Харьковского унивситета...». П. С. 687)
замечает: «Кронеберг своими изданиями сыграл в Харьковском университете
такую же роль, какую позже в Московском университете — Леонтьев своими
"Пропилеями"». Это поучительное замечание наводит на грустные
размышления: и «Пропилеи» оказались не по плечу русскому читателю, и голос Кроне-
берга оставался гласом в пустыне мертвой.
Очерк развития русской философии
359
К. Ф. Герман) «стремлением все частности эллинской жизни в
историческом понимании концентрировать под фокусом
национального характера»*.
Этот романтизм — национален, потому что обращается к
восстановлению собственной нации, сравниваемой с народами античного
мира. Он пантеистичен и даже язычески-чувственен. Перелом и
упадок — реакционны, националистичны и в то же время католически-
универсальны. Доказательств этого можно было бы привести
сколько угодно, но достаточно об этом только напомнить, чтобы не
терять из виду перспективы целого**. Кронеберг, следовательно, не
реакционер ложно-классик и не декадент-романтик Он правильно
указывал, с чего нам следовало бы начать — хотя бы из подражания
тем же немцам, начавшим свой второй Ренессанс. Кронеберг взывал
к культурной пустыне, и предчувствие горя не обмануло его. Он и
здесь остался Кассандрою, невзирая на любовь к Аполлону. Не
заимствованный романтизм, а собственный домотканый лжереализм,
опрокинув романтизм, и истинный и ложный, с яростью Калибана
вцепился в горло подлинной классичности. И сей чад не прошел.
Всякий язык — продолжает Кронеберг — развивается сообразно
своему небу и своей почве. Язык сообразуется с правами и образом
мыслей народа; литература должна слиться с языком народа.
«Литература растет в языке, язык в литературе, язык и литература
неразрывны». Другая форма, в которой выражается ум и творческий дух
человека, — искусство. Его творения также идеи и созерцания
поэзии. Поэзия изображает идеи или реальным образом, или в
свободных творениях духа «непосредственно» через слово. Она относится
* В его Lehrbuch des griechischen Antiquitäten. 1,9 — цитирую по 6-му изд.
1889, herausgegeben, v. Thumser (1-е изд. 1831 г., где собственная редакция
автора несколько отлична от приведенной, так, например, вместо
Nationalcharakter — Nationalgeist).
** Старое сочинение Cbolevius [?], Geschichte der deutschen Poesie nach ihrem
antiken Elementen. 2. B. Lpz. 1854-1856 (См.: Th. IL S. 339 ff.) до сих пор остается
весьма поучительным. Из современных суждений см., например, Ricarda Huch.
Die Romantik. В. I (Blütezeit der Romantik). 3. Aufl. Lpz. 1908. S. 212; также
прекрасную книгу Ed. Spranger, W. v. - Humboldt u. dieHumanitätsidee. В., 1909. S. 461 ff.,
477 ff. Сжатый и содержательный очерк эволюции идеи античности у Фр. Шле-
геля (гл. обр. по письмам) дает статья проф. Ф. А Брауна «Немецкий
романтизм» (История западной литературы. Под ред. проф. Ф. Д. Батюшкова. Т. I. М.,
1912, особенно С 212 и след.).
360
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕГГ
к искусству, как внутренняя жизнь к внешней, как идея к образу.
«Наука искусства (эстетика) принадлежит к области поэзии, но
проходит через философию, как Венера через солнце». Философия в
организме наук уподобляется уму, наука искусства — душа их, поэзия
в искусстве — жизненный огонь, развивающий формы изящного.
«Искусство есть совершенное соединение реальнаго и идеальнаго,
но содержится к философии, как реальное к идеальному; а посему
и возможно только философии вникнуть в душу искусства, и
философ видит сущность искусства яснее, нежели сам художник. Ибо как
идеальное есть высший рефлекс реального, так в философе
необходимо есть высший рефлекс того, что в художестве реально». Дух
человеческий, проявляющийся внешне в словесности, проявляется
в истории и посредством истории. История, как полное изложение
внешней жизни народов, есть отпечаток внутренней,
обусловленной внешними обстоятельствами, жизни. Историю можно
рассматривать эмпирически, тогда она имеет дело с буквою, и это —
история бытоописательная и прагматическая, или идеально, и тогда она
понимается или философски или религиозно. Философски мы
понимаем историю в ее целости, как откровение Божества,
религиозно — как творение Провидения. История основывается на синтезе
идеального и действительного, но не через философию,
поскольку последняя уничтожает действительное, а через искусство. Оно
представляет реальные события в таком совершенстве, что они
делаются выражением высших идей. История, как знание, благодаря
этому переселяется в высшую область идеального чрез искусство и
поэзию.
С философией, историей и поэзией в тесной связи находится
мифология, ибо она — древнейшая поэзия, относящаяся к
древнейшей истории, заключающая начатки религии и философии,
облекавшая идеи древности в народное предание. Она есть связь
философии с историей. Религия, государство, знание, искусство, история,
коротко сказать, все человеческое в ней образует одно непрерывное
целое.
Обозревая все сказанное, можно заключить: «Философия
втекает во все части, как общий дух, все оживляющий, как vj/oxm кооцой229
и связует материальную часть Словесности с формальною. В жизни,
искусстве, науке дух все связывающий есть синтеза, поглощающая
тезу и антитезу».
Очерк развития русской философии
361
Как замечательна эта, может быть, впервые русскими литерами
напечатанная триада, — аминь, заключающее положительное
философствование Шеллинга, — так замечательна и вся статья.
Философия Шеллинга, в ее чистом (не в натурфилософском или
антропологическом приложении), в ее идейном содержании, постигнута
и применена к тому, что должно было быть для нас понятно и
доступно. Кронеберг взывал в пустыне и, быть может, для культурно-
национального самолюбия нашего было бы менее обидно, если бы
его ровно никто не услышал. Но нашлось чуткое ухо
преждевременно отдавшего жизнь русской пустыне прекрасного юноши
Веневитинова, откликнувшегося на страсть Кронеберга*, — Веневитинова,
нашего русского Китса:
«Beauty is truth, truth beauty», — that is all
Ye know on earth, and all ye need to know230.
«Поэзия неразлучна с философией», — вторил Веневитинов231.
Однако, that is not all, — по крайней мере, не все, что нужно было
знать нам, Веневитинов же писал: «Мы отбросили французские
правила не оттого, чтобы мы могли их опровергнуть какою-либо
положительною системою, но потому только, что не могли применить
их к некоторым произведениям новейших писателей, которыми
невольно наслаждаемся». Этого применения, этой спецификации
не дает и Кронеберг. Не дает, быть может, потому, что не хотел быть
эмпиричным, а для философского удовлетворения этого требования
сам Шеллинг, строго говоря, оснований не давал. Нужно было еще
услышать, что говорил Гегель. Между тем света философской
рефлексии на нас мы жаждали остро, потому что в нем видели условие
ответа и на вопрос о новейших писателях, которыми невольно
наслаждаемся. Литературе все-таки самой предоставлялось искать и
ответа и света.
Из официальных представителей науки такого ответа можно
было бы потребовать от Давыдова. Он возбуждал запросы, от него
можно было требовать и ответа или хотя бы разъяснения. Но
Давыдов был профессор, а не мыслитель. По-видимому, к «нашему» во-
* В ст. о Мерзлякове Веневитинов уже отмечает «Амалтею» Кронеберга: «она
заслуживает особенного внимания», «в ней заключаются ясные понятия о
поэзии».
362
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
просу он сам пришел лишь тогда, когда все вокруг жило и
волновалось только этим вопросом. Он дождался, наконец, официального,
министерского закрепления вопроса. Но это закрепление, как мы
видели, предрешало ответ, и литература, которая пришла к своему
вопросу не под руководительством и опекою правительства, хотела
уже не официального ответа, который необходимо и по существу
был эмпиричен. Литература не искала чего-нибудь идущего против
эмпирии, она только хотела света, который пролился бы на самое
эту эмпирию. Она даже твердо уверена была, что свет разольется над
роскошным, пламенеющим цветами, лугом. После только
обнаружилось, что освещенная эмпирия выглядела хуже эмпирии, покрытой
туманом и скрытой темнотою, где она могла только подозреваться,
и, следовательно, быть источником одинаково и страха и надежды.
Давыдов был эмпиричен и официален, т. е. был также убежден, что
занимавшаяся заря возжена самим начальством и продлится,
сколько нужно ему, чтобы привести нашу эмпирию в состояние,
достойное света открытого солнца. Наоборот, самозагоравшийся свет, свет
определявшегося самосознания, он считал лишь искусственно
зажигаемыми огоньками.
Когда Давыдов (в 1831 г.) заместил Мерзлякова на кафедре
российской словесности, он был поставлен в самые благоприятные
условия для завершения того, что он начал, как воспитатель
счастливого Веневитинова и неудачного кн. Одоевского. От него могли
требовать ответа ясного и всестороннего. Говоря языком Кронебер-
га, ядро кометы он указал, он должен был указать и хвост. Если он
этого не сделает, никто не поверит ему дальше. Так и случилось. Сам
он видел комету на небе, а хвост ее на земле. Он не видел единого
небесного явления, не видел неразлучности, на которую всем
указывал — следовательно, и ему — Веневитинов, и он хотел сшить
официальными нитками нематериальные предметы. Когда он думал, что
своими «Чтениями о словесности» (1837-38) он разрешил, наконец,
эту полуумную задачу, было поздно. Давыдов был никому не нужен.
Когда-то потом, в другом где-то месте, и на другой «должности», он
умер, и это тоже никому нужно не было232.
Давыдов сам так характеризовал свои «Чтения»: «Чтения его о
словесности» отличаются от всех других сочинений по сей части
философским воззрением» («Биографический словарь...». I. С. 283).
И это — правда, вместе с словечком «всех» — правда, даже когда
Очерк развития русской философии
363
было писано, хотя писано было в середине 50-х годов, — потому что
это — правда и по сей день. И все-таки это было никому не нужно,
ибо его «Чтения» — странное строение: на эмпирическом песчаном
дне высохшего потока — блеровский фасад с крышей ему
посторонней философической архитектуры. Действительное
содержание книги — традиционная школьная «поэтика» и «риторика», не
проникнутые никаким единым духом, не одушевленные никакою
идеею, тогда как новая поэтика требовала бы на место этих
формалистических определений и эмпиристических разделений
умозрительного анализа самой идеи «словесности» и конструкции или
«развития» содержания этой идеи*. Лишь в «Предисловии» к книге и
двух главах, открывающих как бы в форме введения второй и
третий тома сочинения, автор намечает некоторые свои общие точки
зрения. Во «Введении» ко всему курсу он противопоставляет
историю словесности, как действительное в мире словесного искусства,
философии словесности, как изложению возможности творческих
словесных произведений, при известных условиях изящного.
Согласно этому, цель философии словесности — открыть законы
мысли в слове и через это застигнуть дух в самом творчестве. Это
есть определение, основанное на противопоставлении постижения
и творчества, науки и искусства, — противопоставлении, которое
мы уже встречали у того же Давыдова и у Павлова, и хотя оно
изложено теперь многословнее, но не глубже и не шире. Кое-где можно
было бы также отметить отражение мыслей, заявленных в русской
литературе — Галича, Кронеберга. Встречающиеся в книге ссылки
на немецкие авторитеты, в том числе, напр., на Золгера и Гегеля, не
убеждают в том, что Давыдов изучал их и пользовался ими**. Самое
* Сказанное не относится к Курсу IV («Поэзия драматическая»), самому
ценному и интересному, так как он в значительной своей части есть
воспроизведение Лекций Шлегеля.
** Некоторый весьма упрощенный отголосок Золгера я еще готов признать,
но, все-таки, сомневаюсь, чтобы Давыдов Золгера изучал. При всей своей
одаренности и разносторонности он не мог бы понять ни Золгера, ни Гегеля. И от
обратного: если бы он затратил столько времени, сколько нужно было для
одоления их, он не преминул бы кричать и писать об этом. Вернее, он знал о них
только по немецким рецензиям и рефератам. Один из таковых он перевел в
«Вестнике Европы» еще в 1822 г. (июль). Наиболее специфические мысли «Эр-
вина» — о фантазии, значении религии, роли иронии, универсального
значения «поэзии», и т. п. — вовсе не замечены и не оценены Давыдовым.
364
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
его старание соединить всех в одно доказывает, что он плохо
понимал современное ему эстетическое развитие, вся жизнь которого
состояла именно в борьбе. Слабее всего он в попытке определить
«идею изящного» («Чтения о словесности» М., 1837-1838. Курс П.
Чт. 16). Здесь он начинает как будто с Шеллинга и передает его
точнее, чем в упомянутом противопоставлении, потому что теперь он
противопоставляет «мысль» и «действие», а «изящное» выступает,
как третье их высшее противопоставление. Но сейчас же следующее
рассуждение о «вкусе» и «гении» подозрительно напоминает Батте и
лишь дальше становится ясно, что оно — от Канта*. «Бескорыстное
удовольствие» прямо указывает на Канта, а еще дальше следующее
утверждение о превосходстве изящного в искусстве над изящным в
вещественной природе может быть отнесено, если угодно, и к Зол-
геру и к Гегелю. Наоборот, противопоставление классической и
романтической поэзии в «III Курсе» уклоняется от обоих и как будто
идет в сторону Аста и Бахмана, а может быть, и Шлегелей. Изящное,
как выражение беспредельного духа в конечной форме,
возвращает нас к Шеллингу, но также воспроизводит и Аста, тем более, что
следующее затем различение высокого, прекрасного и прелестного,
как гармонии элементов прекрасного, идеи и формы, или как
преобладания одного из них, уже прямо из Аста**. В целом, таким
образом, к характеристике Давыдова следует прибавить еще одну черту,
объясняющую несвоевременность его «Чтений», он соединял и
лишал определенности взгляды, которые высказывались, как взгляды
партийные. Эпохи партийности в литературе суть эпохи цвета или
разложения. В первом случае всякий синтетизм и синкретизм
преждевременны, во втором — они запаздывают, ибо распад потому и
наступает, что синтез уже не удался. Поэтому-то синкретизм
никогда и не бывает своевремен. Это только — миг: как будто тело какое-
то большое переворачивается с одного бока на другой, на
мгновение замирает в неустойчивом равновесии на линии переворота, и
валится на другой бок — эта линия и есть линия синтетизма и син-
* Впрочем, несомненно, сам Кант тут пользовался Батте, которого Les beaux
arts réduits à un même principe (1746) были переведены (Адольфом Шлегелем)
на немецкий язык уже в 1752 г. и затем выдержали несколько изданий.
** (§ 19) У Аста: Erhabenes, Schönes, Anmuth u. Reiz. Разным отношением
формы и идеи определяли род и направление искусства Шиллер, Ансильон,
Авг. Шлегель, Пикте.
Очерк развития русской философии
365
кретизма. В эпоху выхода «Чтений» Давыдова масса культуры уже
заняла новое положение, резец, обделывавший ее, был в руке,
водившейся вдохновением нового стиля. Давыдов был только профессор
и ничего этого не понимал. Подводя на последних страницах своих
Курсов общий итог, он в явном противоречии с действительностью
говорит чуждым ей успокоенным тоном о самом тогда жизненном
вопросе, как о вопросе академическом. Он переносит себя
воображением в старую борьбу опыта и умозрения и удовлетворенно
констатирует мирную картину: они «рука об руку идут в
святилище истины». Отвлеченным от жизни умозрением умы утомились
и возвращаются к ней умудренные опытом, «всех» убедившим, что
«общее благоденствие зиждется единственно святою покорностью
общественному порядку» (IV, 290). Такое спокойствие его
академический взор видит в результате и новой борьбы: «Классицизм не
почитается враждебным романтизму; словесность отличает
красоты мировые от народных, согласует изящную форму древней
поэзии с глубокою идеей новой. Отсюда господствующая мысль о
словесности народной, созидаемой из отечественных элементов».
Автор не видит или не хочет знать о том, что это народное как раз
теперь упрямая загадка, что оно, вопреки профессорскому и
министерскому синтезу, делается, уже сделалось, новым боевым лозунгом,
не к миру зовущим, а к войне, что если сказанное примирение и
состоялось, то состоялось перед лицом нового общего противника.
Но если бы автор не был убаюкан своим спокойствием, он заметил
бы, что его собственные слова таят загадку там, где он видел
основание для мира. У него против классицизма стоит романтизм,
против «мирового» — «народное». Но в его апелляциях к «новейшим»,
как и у других ею официальных коллег, мы не видим обоснования
предполагаемого здесь тождества между «романтическим», «новым»
и «народным». Может быть «народное» вытекает из «романтизма»,
порождается им, это официально, однако, не разъяснено. Между
тем «порождение» не всегда бывает «мирно» и безопасно. История
самих богов, как известно, начинается тем, что порождение,
несмотря на всю предусмотрительность порождающего, обессиливает его
и уничтожает. Давыдов был благополучен, потому что он верен — не
народности вовсе, а другу своему — Уварову. То, что говорила
народность сама о себе, звучало за замкнутым кругом его кафедры.
Понятно, что, оставаясь на ней, он этого не слышал. Но чтобы и впредь
366
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
на ней оставаться, он и тогда, когда сходил с нее и возвращался в
обыденную жизнь, продолжал не слушать.
В том же 1838 г., в год выхода «Чтений» Давыдова, в Дерпте вышло
«О Развитии Изящного в Искусствах и, особенно, в Словесности, Раз-
суждение, писанное на степень Доктора Философского факультета
Михаилом Розбергом, Исправляющим должность Ординарного
Профессора русскаго языка и Русской Словесности в Императорском
Дерптском Университете». «Рассуждение» посвящено С. С. Уварову.
Розберг (1804-1874) — воспитанник Московского университета,
сотрудник павловского «Атенея»*. В 1832 г. Розберг выпустил в Одессе
книжку «О содержании, форме и значении изящно-образовательных
искусств», в 1837 г., в Дерпте — «Sur la signification historique de la
Russie»233 (этих книг я не видал). В 1825 г. Розберг, будучи
кандидатом Московского университета, принимал участие (вместе с
Максимовичем, тогда также кандидатом, Погодиным, уже магистром, и др.)
в кружке «Педагогических чтений» Мерзлякова. Будучи в Одессе,
Розберг затевал литературный альманах «Евксинские Цветы», куда
приглашал Погодина и Максимовича (Барсуков К П. «Жизнь и
труды...». III. С. 194-195). От литературы к профессуре он перешел...
через плагиат!
В «Предисловии» к «Рассуждению» Розберг повествует: «Краткость
времени не позволила мне распространяться, входить в
подробности, иногда важные: оттого, местами, я [sic!] принужден был
ограничивать одной страницей изложение мыслей, которые бы мог вполне
удовлетворительно высказать и подтвердить множеством примеров
на двадцати.... Причины сии, вероятно, сделали несколько неясными
иные выводы моего [?] "Рассуждения"; но я готов дать обстоятельный
отчет в каждом». Никаких источников и пособий «автор» не
указывает. В книге имеется одна лишь «цитата» (С. 7) — из «Платона», но я не
взялся бы отыскать для нее платоновский контекст. В книге
встречается только одно собственное имя эстетического теоретика — Вин-
кельмана, но оно сопровождается такою тонкою характеристикою
качеств этого писателя, что возбудило во мне сомнение: откуда такая
*Если я правильно расшифровываю встречающуюся в «Атенее» подпись
«М. Р-ъ». Этих статей не указывает проф. Петухов в «Биографическом Словаре
профессоров Юрьевского Университета». Т. II. Под ред. Г. В. Левицкого. Юрьев,
1903. С 355-357.
Очерк развития русской философии
367
тонкость суждения у русского профессора того времени? На этот
раз моя добродетель была вознаграждена любезною прекрасново-
лосою Мнемосиною!.. (1) Из 71 параграфа «Рассуждения» первые
§§ 1-9 составляют сокращенный перевод части знаменитой речи
Шеллинга, произнесенный 12 окт. 1807 г. в мюнхенской Академии
наук, «Über das Verhältniss der bildenden Künste zu der Natur (Werke,
B. VII, cf. S. 292-311). «Цитата» из Платона у Шеллинга фигурирует,
как его, Шеллинга, собственное рассуждение. (2) Остальные §§, 10-
71, точка в точку соответствуют 63 параграфам (§§ 2-3 соединены
у Розберга в один — II) книжечки Фридриха Аста «Crundlinien der
Aesthetik»234, той самой, которая еще в 1829 г. была переведена в
«Московском Вестнике».
Принимая во внимание это последнее обстоятельство, нельзя
не согласиться с проф. Сакулиным, когда он пишет: «Мысли
автора никому не показались новыми. К средине тридцатых годов уже
достаточно успели убедиться в истине тех положений, которые
защищал Розберг» («Из истории русского идеализма...». Т. 1.4. 1.
C. 515). Но в силу вышеуказанного нельзя согласиться с почтенным
исследователем, когда он заключает изложение книжки
«Розберга»: «Так понимает Розберг сущность искусства, видимо, находясь
под общим влиянием немецкой идеалистической школы и в
частности под влиянием эстетики Гегеля» (С. 517). И Шеллинг (1807) и
Act (1813) высказались задолго до того, как Гегель впервые
изложил свои эстетические воззрения. Не могу согласиться и с тем, что
«ничего яркого и оригинального эстетика Розберга, как видим, не
представляет» (С. 518), — если под «Розбергом» разуметь
действительных авторов «Разсуждения» «О развитии изящного». В
официальном «Обозрении деятельности второго Отделения
Императорской Академии Наук за 1874 г.» (составленном А. В. Никитенком и
напечатанном в ЖМНП. 1875. Апр.) сообщается о смерти
экстраординарного академика М. П. Розберга и серьезно оценивается его
«замечательный трактат» «О развитии изящного» и пр. По словам
автора «Обозрения», «профессор обнаружил здесь много
глубокомыслия и понимания высокой задачи искусства... Если ему не
удалось, как и немецким эстетикам, разъяснить сущность изящного,
то он показал, что умеет чувствовать глубоко его обаятельную силу
и влияние на образование человечества» (С. 88-89). Чересчур
глубоко, пожалуй!..
368
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
В ином положении, чем Давыдов, оказался другой профессор
Московского университета, по кафедре изящных искусств, Николай
Иванович Надеждин (1801-1856). Он слушал, слышал, сам
заговорил, и не по своей воле замолчал. Но его отличие — то, что на
кафедру он взошел уже получив литературное боевое крещение и, заняв
кафедру, литературного оружия не сложил. С кафедры он сходил в
редакторский кабинет, и входя вновь на кафедру, не мог забыть
литературной жизни. Одновременно и покинул он литературу и кафедру.
В итоге и его слушали и слышали. Он не опоздал, а пришел вовремя:
и для того, чтобы громче всех сказать то, что говорилось всеми
между собою, и для того, чтобы хронологически точно отметить день
рождения нового духа русской умственной жизни, и для того, чтобы
подготовить первого вождя этой жизни и первое воплощение
этого духа. Разумеется, Надеждин так же мало хотел разрыва со старым,
как мало отдавал себе отчет в последствиях своего выступления
Чаадаев235, как мало предвидел, куда он повернет, Белинский. Таков был
каприз истории, а может быть, и та ананке256, которой не в силах
не повиноваться сами боги, что неудачный семинарский профессор,
с провиденциальным для последующей умственной истории России
титлом экс-студента, выступил в благонамеренно профессорском
органе в качестве первого русского свободного критика. Он так же
мало думал об оппозиции государственному руководительству
правительства, как и аристократический Пушкин. Даже меньше. Пушкин
имел свои счеты кой с кем, в том числе с самим Уваровым;
Надеждин нападал на Пушкина, но не «выше». Его «Телескоп» был вполне
благонамерен. Когда Надеждин и его «Телескоп» говорили о
народности и вооружались против «европеизма», Надеждин был уверен,
что это — то самое, чего требует правительственная интеллигенция.
И если Уваров терзался каким-то предчувствием, то только потому,
что слышал в «Телескопе» еще один голос о народности: голос самой
народности, так же натурально выходивший из уст Надеждина, как
он сам натурально не принадлежал к правительственной
интеллигенции. Белинский также говорил о народности, и даже прямо
отождествлял ее с «избранными», с élite, отнюдь не с плебсом, но ясно
было, что недоучившийся студент говорит если не как власть
имеющий, то как человек, готовый принять на себя эту власть. Надеждин
оказался осью, но то, что завертелось вокруг него, было приведено в
движение не им, а какою-то другою силой.
К ВОПРОСУ О ГЕГЕЛЬЯНСТВЕ БЕЛИНСКОГО
(ЭТЮД)
Мещане увидели слова:
философия Гегеля, и сказали: сухо.
К В. Станкевич
Белинский умер — жив Белинский!
Кн. П. Вяземский
В течение семидесяти пяти лет, прошедших со смерти Белинского,
писали о нем немало, только изучали его и изучен <он>
недостаточно. Судорожная экспрессия Белинского как будто мешала проникнуть
в смысл его слов. Его поведение усвоивалось, его отклики на жизнь и
мир принимались, его страсти оценивались и переоценивались, его
мысли глубоко не исследовались. Мы интересовались его
биографией, бытовой и исторической обстановкою, в которой он жил, как
будто не стоит труда передумать его мысли — то, чем он жил.
И с дерева неведомого плод
Беспечные беспечно мы вкушаем.
Беспечно, как игрушку, мы развинтили духовный остов
Белинского на отдельные части, разложили их по более или менее
удобной для нас схеме, установили «периоды», «эпохи» в его духовном
развитии, и популяризуем все это, мало заботясь и об формальной
и об материальной проверке. Зачем-то однавды сказано. А, кажется,
никогда потребность проверки не была столь насущной и
своевременной, чем теперь, когда в красном зареве настоящего все прошлое
видно яснее, четче, строже.
Нижеследующее не ставит себе этой задачи в ее целом, оно имеет
в виду несколько осветить только один из так называемых
«периодов» духовных исканий Белинского. Его литературную деятельность
обычно делят на две части: первая — Белинский под влияниями
немецкой идеалистической философии, вторая — Белинский,
рассчитавшийся с этими влияниями. В первой части различают «периоды»:
шеллингианства, фихтеанства, гегельянства. Различение —
относительное, условное, спорное. Имея в виду эти оговорки, я и выделяю
370
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
для ближайшего рассмотрения гегельянство Белинского, которое
вызвало немало толков и отвлеченных споров — отвлеченных от
самого гегельянства*.
Как известно, в этих обсуждениях центральное место занимали
восприятие и понимание Белинским гегелевского термина
«действительность». Я считаю такую постановку вопроса правильною и
также буду ее держаться.
I
Смену шеллинго-надеждинского вдохновения Белинского
морализирующим фихтеанством едва можно было бы заметить, если бы
не биографические данные, раскрывающие влияние на Белинского
его дружбы с М. Бакуниным237. Точно так же, прежде всего на
основании биографических данных, ограничительно устанавливается
следующий «период» увлечений Белинского — гегельянский. Тот же
Бакунин, затем Катков и Боткин были источниками новых
философских познаний, вдохновений и проповедываний Белинского.
С точки зрения интереса к жизни и быту человека, биографический
подход — самый короткий и прямой. С точки зрения объективного
изображения развития идей, где важно не личное образование
писателя, а последовательность в раскрытии самого содержания
проповедуемых идей, биографические объяснения имеют лишь
вспомогательное и подчиненное значение. Идеи Белинского воспринимались
образованной и образовывавшейся Россией, которая биографии
Белинского не знала и его переписки с друзьями не читала. Перед
нею был «писатель» определенного умонастроения. Его мысли
принимались или не принимались, усвоивались, влияли, находили
последователей, отражались на их развитии, воплощались дальше в их
собственной писательской, научной, практической деятельности
и таким образом входили в общий состав русской культуры,
определяли настоящее содержание русского культурного сознания и
предопределяли его будущее развитие. Поэтому в свете общего
развития русской философской мысли существеннее уяснить, в каком
*Еще и особо подчеркиваю: я не считаю указанную периодизацию
соот<ветств>ующей дей<ствительн>ому развитию литературной
деятельности Белинского, а лишь условно и относительно принимая ее, ограничиваю
материал, которым пользуюсь в настоящем этюде.
К вопросу о гегельянстве Белинского
371
идейном окружении выступал Белинский, каков был тот круг идей,
который он поддерживал и который его поддерживал. Коротко, как
критерий, можно представить себе читателя, который связывал
Белинского с одним кругом мыслей и противопоставлял ему другой,
который связывал с Белинским одних, противополагал ему других.
При таком подходе гегельянский «период» Белинского хотя и
кажется для исследователей достаточно мотивированным, для
современного ему, даже внимательного читателя распознавался не сразу.
Если с трудом можно было заметить, что Белинский «Московского
наблюдателя» уже не был простым продолжателем и
популяризатором идей Надеждина, что он шел куда-то вперед, то еще больше
усилий требовалось, чтобы разгадать — идет он в сторону от
Надеждина или вглубь того, что высказывал раньше. Это мог определить
далеко не всякий читатель. Переход для читателя все же оставался
постепенным*.
Единственное, что внешним образом оттеняло новое
мировоззрение Белинского, были помещенные в самом «Наблюдателе»
статьи, мысли которых Белинский, со своей стороны, иллюстрировал
и комментировал in concreto в приложении к оценке русского
спонтанного творчества. Каковы бы ни были источники научения самого
Белинского, поскольку для читателя и для историка идей
существенны только содержание и имманентное развитие этих идей,
названные статьи и должны рассматриваться как отправные пункты пропо-
* Убедительное подтверждение этого представляет собой Чернышевский,
читатель — философски некомпетентный, но по отношению к Белинскому,
очень внимательный. Он считал, что «коренное различие» ученика
(Белинского) и учителя (Надеждина) обнаруживается уже в 1835-36 гг., — «Сотрудник
"Телескопа" делался приверженцем Гегеля, между тем как издатель, не будучи
враждебен этому новому фазису развития немецкой науки, оставался, однако,
в сущности, учеником Шеллинга». Уже в 1835-ом году в «Телескопе» чаще
прежнего стало упоминаться имя Гегеля, скоро было напечатано «обширное
изложение систем этого мыслителя. Наконец, — заключает Чернышевский, — само
содержание статей, писанных в 1835-1836 годах молодым сотрудником
Надеждина, обнаруживает, что он тогда уже находился под сильным влиянием этой
новой у нас философии». («Очерки гоголевского периода русской литературы».
Поли. Собр. Соч. II. С. 175; под «обширным изложением систем Гегеля», надо
думать, Чернышевский разумеет недоконченный перевод Станкевича статьи
Вильма «Опыт о философии Гегеля», — об «обширности» этого изложения
«систем» читатель может судить по перепечатке перевода в книге: Станкевич К В.
«Стихотворения. Трагедия. Проза». М., 1890. С. 183-238.)
372
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
веди Белинского. Это — статья Ретшера238 «О критике
художественного произведения», переведенная для «Наблюдателя» Катковым, и
статья Михаила Бакунина «Предисловие» к переводу «Гимназических
речей» Гегеля*.
В статье Бакунина не могло не привлечь к себе внимания то, что
и на самом деле составляло ее основное ядро, смысл и новость -
ставшее впоследствии пресловутым сопоставление разумности и
действительности. Понимание нашими «гегельянцами» этого
сопоставления вызвало среди биографов много разговоров, особенно
истолкование «действительности» Белинским. Интересовал прежде
всего вопрос, насколько толкование Белинского было адекватно, а в
зависимости от ответа на этот вопрос ставились и решались другие.
Отступлением от этого, а по тому одному уже и оригинальностью,
* Ст. Ретшера в «M. H.» [Московский Наблюдатель»)]. 1838. Т. XVII. Май. Кн. И.
Июнь. Кн. I и II; Ст. Бакунина в Т. XVI. С. 5-20. — В «Отечественных] Запусках].
1840 (Т. IX. С. 55-78 в отд. Науки и Художества) помещена другая ст.
Бакунина «О философии» (начало только — «Статья первая»), но она специального
отражения в дальнейших писаниях Белинского уже не находит. — Так как
названные «Гимназические речи» для знакомства с философией Гегеля ничего не
дают, то и приходится говорить только о «Предисловии» Бакунина. Белинский
сам признавал, что именно статья Бакунина задала тон «Московскому
Наблюдателю» времени его редакции. В письме к Станкевичу (1839,2 окт.) он писал: «..я
давно уже дальше «Наблюдателя». Смешная и детская сторона его совсем не в
нападках на Шиллера, а в этом обилии философских терминов (очень
поверхностно понятых).... Статья Бакунина погубила «Наблюдатель» не тем, что она
была слишком дурна, а тем, что увлекла нас (особенно меня — за что я и зол на
нее), дала дурное направление журналу и на первых порах оттолкнула от него
публику и погубила его безвозвратно в ее мнении. Что же до достоинства этой
статьи, которая тебе показалась лучшею в журнале,... о содержании не спорю,
но форма весьма неблагообразна, и ее непосредственное впечатление очень
невыгодно и для философии и для личности автора ... Вместо предисловия к
статье одни понятия, вместо живого изложения одна сухая и крикливая
отвлеченность» (Пис. I. С. 346). Принимая содержание статьи, Белинский и
прилагает усилья внушить его читателю в иной, менее сухой и отвлеченной форме. Он
растолковывает содержание статьи, прилагая его к освещению наших вопросов
не только в «Наблюдателе», но и позже в петербургских «Отечественных
записках». Как констатирует Белинский в одной из своих статей (Поли. Собр. Соч.
Фон-Визина. — «Юрий Милославский...» // «М<осковский> Н<аблюдатель>».
1838. XVIII. Июль. Кн. 2. № 10), для читателя и Ретшер оказался «темен» и
«недоступен для понимания». Белинский и Ретшера берет под защиту и тотчас
приступает к его разъяснению (II. С. ЗЮ). Белинского везде цитирую, где это не
оговорено, по изд. 1859 г.
К вопросу о гегельянстве Белинского
373
отличается трактовка темы, нашедшая наиболее яркого
выразителя в лице покойного С. А. Венгерова239. Он считает самые упреки в
том, что в кружке Белинского плохо знали философию Гегеля,
«комичными» по существу, а «еще более комичными» по негодующим
выводам, которые из этого делались. Не подозревая того далеко не
комического факта, что непонимание и извращение философских
положений влечет за собою отнюдь не открытие новых
философских истин, а простое уничтожение самой философии, Венгеров в
искажении Гегеля нашими «гегельянцами» наперед готов был
признать выражение оригинальности и самобытности «русского
умственного течения». Как обобщение, почерпнутое из более
обширных наблюдений, он констатирует у нас особую способность
«претворять заимствованные извне отвлеченные системы в нечто вполне
самостоятельное, в чисто русский катехизис практической жизни»
(курс. — мой). Это обобщение — чрезвычайно поучительно и само
по себе, так как оно достаточно освещает фатальные неудачи
развития философии на русской почве. Но для самого автора
обобщения оно имеет особое значение, сделавшись для него своего рода
императивом. Ибо только при таком отношении к философии и ее
истории он мог выставить свой вполне «комичный» тезис о
«второстепенном» значении для философии Гегеля формулы о «разумной
действительности», будто бы только «мимоходом» им высказанной.
Собственная философская неодаренность и неподготовленность*
почтенного биографа и библиографа освобождает от обязанности
задерживаться на исправлении его заблуждений, тем более что здесь
у меня и вообще нет места входить в детали, хотя б и интересные,
всех возникших вокруг нашего вопроса разговоров.
Отмечу только некоторые результаты разысканий А. А.
Корнилова в его биографии Бакунина240. Изложение Корнилова является
не только наиболее свежим и принявшим в расчет прежние
суждения, но и наиболее внимательным и осторожным философски. Если
тем не менее и он не пожелал обратиться к источникам чуждой ему
специальности и довольствовался не всегда правильно понимаемой
* Кстати отметить, к юбилею Белинского, что редактирование Венгеровым
издания сочинений Белинского основательно испорчено «философскими»
комментариями редактора. С этой стороны лучше пользоваться] изданием]
И[ванова] Р[азумника].
374
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
им «литературою», то все же этою литературою был обстоятельный
К Фишер241, а не приблизительные отговорки авторов студенческих
учебников.
А. А. Корнилов не вполне точно характеризует место
интересующей нас формулы в различных трудах Гегеля* (С. 448) неточно
следуя, впрочем, К Фишеру, изображает «Энциклопедию» просто как
«вторую часть» системы, где первою частью служит «Феноменология
духа» (С. 393-394). Поэтому неправ он, когда считает именно этот
порядок сочинений Гегеля наиболее дидактическим путем для
проникновения в Гегеля, — чего Бакунин, не зная К Фишера, конечно,
не подозревал (С. 394), — неправ и тогда, когда находит «странным»
совет, которому следовал Катков242, начавший изучение Гегеля с
«Эстетики» (С. 451), неправ, наконец, и тогда, когда «превратность» и
«поверхностность» идей Белинского, полученных от Каткова,
объясняет именно этою (мнимою) неудачею Каткова (ib.). Но в одном он
совершенно прав: когда подчеркивает фундаментальное значение
сказанной формулы для философии Гегеля в целом (С. 448-450).
А это — основной опорный и принципиальный пункт в его
полемике с другими толкователями нашего «гегельянства». Прав он, как
будет еще показано, и в признании (вопреки мнению Милюкова)243
«прямого влияния» статьи Бакунина на «сформирование
искаженного фаталистического гегелианства Белинского» (С. 451).
Мне только кажется, что «фатализм» тут вообще нашею
критикою (С. 446, ел.) напрасно вовлечен в обсуждение, так как без
нужды усложняет и без того запутанное дело, зато способ и содержание
«искажения» — как раз та сторона этого дела, которая заслуживает
самого пристального расследования.
Отмечу еще раз две частности в изысканиях Корнилова, важные
для последующего изложения как фактически, так и
методологически. Ссылаясь на конспекты Бакунина, между прочим и на конспект
того параграфа «Энциклопедии», где Гегель разъясняет понятие
разумной действительности, Корнилов утверждает, во-первых, что
смысл, который вкладывался Гегелем в слово «действительность», был
* Напр., когда он говорит (С. 448), что само «положение» о разумной
действительности разъяснено «с особенной обстоятельностью» в «логике» Гегеля.
По всей вероятности, впрочем, и здесь он опирается на интерпретацию К.
Фишера (ср. рус. пер. С. 532).
К вопросу о гегельянстве Белинского
375
Бакунину ясен (С. 448), а во-вторых, что Бакунин в 1837-38 годах
«Феноменологии» «так и не осилил» — дальше «Введения»
(«Предисловия» и «Введения») и первой главы не пошел (С. 394). Последнее
формально не доказано, ибо конспект мог быть утерян самим
Бакуниным, мог быть им передан Белинскому для изучения и быть
потерян последним, наконец, можно изучать и «осилить» книгу, вовсе
не составляя к ней конспекта. По существу же, как здесь, так и по
поводу первого замечания нужно отметить, что в вопросе о
степени знания и понимания Бакуниным усвоенных им идей все-таки
последнее решение принадлежит не биографии, а публичному,
печатному выражению мыслей Бакунина. Таков вообще основной
источник и первоисточник развития философской мысли в
обществе, и это же — источник для историка этой мысли. И вот тут есть
пункт, на который мне и хотелось бы обратить внимание
настоящей статьей, пункт, с которого «искажение» Бакуниным и вслед за
ним Белинским учения Гегеля в действительности предстает в
новом свете.
II
С самого начала статьи Бакунин244 уже выдвигает идею
действительности в связи и с характеристикою «нашего нового поколения»,
призрачного, отвлеченного, чуждого действительности, главную
болезнь которого составляет «ужасная, бессмысленная анархия
умов» с ее пустою болтовнёю и шумом. Эта-то болтовня и
выдавалась за философию. Чуждый действительности философ мнил, что
своими призрачными силами он может разрушить мощное
существование действительного мира, мнил, что положения его
конечного рассудка, его конечные цели и произвол заключают в себе все
благо человечества. Он не знал, что действительный мир выше его
жалкой и бессильной индивидуальности, что болезнь и зло
заключаются не в действительности, а в нем самом; конечный рассудок
мешал ему видеть, что «в жизни все прекрасно, все благо, и что
самые страдания в ней необходимы, как очищение духа, как переход
его от тьмы к свету, к просветлению» (С. 59). — Таково вступление
статьи Бакунина, такова характеристика ненормального положения
философии, из которого автор ищет выхода. Сколько раз теперь
Белинский станет повторять не только эти мысли, но и самые слова и
риторику их!
376
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Бегло обозрев ход новой философии, Бакунин переходит к
изображению ее современного состояния. Здесь есть место, — источник
которого мне угадать не удалось, — где Бакунин набрасывает весьма
своеобразную схему развития философии от «пустой
субъективности» Канта и Фихте до абсолютной философии Гегеля. Есть два
выхода из этой субъективности — отказ от мышления и обращение к
еще худшей отвлеченности собственного чувства или разрешение
противоречия субъективности в области самого мышления. «Первое
сделал Якобы, второе Шиллер» (С. 64). Схема — интересная и
остроумная, но откуда Бакунин ее взял? — ибо, несомненно, не зная
толком истории философии, он не мог прийти к ней самостоятельно.
И, в особенности, не зная Якоби, как мог он с ним так расправиться?
А. А Корнилов, на мнение Венгерова, будто «личную собственность
Бакунина составляет и короткая расправа с Кантом, Фихте,
Шеллингом, Шиллером», резонно замечает, что никакой расправы с ними в
статье Бакунина нет и что он «совершенно верно в общем» следует
Гегелю (С. 499). Вот эту «верность» мне и хотелось бы подчеркнуть,
указав, однако, что единственно с Якоби, как раз пропущенном Вен-
геровым, но у Бакунина именно связанным с дальнейшим
рассуждением, расправа все же учинена.
Бакунин поясняет свою схему: «Результатом системы Якоби было
то, что Гегель называет прекраснодушием (Schönseeligkeit) и что было
можно также назвать самоосклаблением: это прекрасная, но бедная,
бессильная душа, погруженная в созерцание своих прекрасных и
вместе бесплодных качеств и говорящая фразы не потому, что она
хотела говорить фразы, а потому, что живое слово есть выражение живой
действительности и выражение пустоты должно быть так же пусто
и мертво». Шиллер вышел из субъективности Канта и впал в
прекраснодушие, но его «богатая субстанция» вынесла его из отвлеченности,
из этого мира пустых призраков, и каждый новый год его жизни был
шагом к примирению с действительностью. Шиллер в сочинении об
эстетическом воспитании «положил первое основание разумного
философского начала как конкретного единства субъекта и объекта».
Шеллинг возвел это единство до абсолютного начала, и, наконец,
система Гегеля венчала это долгое стремление ума к действительности.
Что действительно, то разумно
и
Что разумно, то действительно.
К вопросу о гегельянстве Белинского
377
«Вот, — заключает Бакунин, — основа философии Гегеля...»,
основа, нашедшая много противников, а особенно возбудившая
негодование «в рядах этой смешной юной Германии» (С. 65)*.
Установив «основу», Бакунин рисует в негодующих и презрительных тонах
французскую философию, как философию, никогда не выходящую
«из конечных категорий рассудка» и потому пришедшую и к
отрицанию религии, и к отсутствию истинной поэзии (С. 66-67). Благодаря
нашему воспитанию, отрицательное влияние Франции несчастным
образом отразилось и на нас: «...подобное воспитание образует не
крепкого и действительного Русского человека, преданного Царю
и отечеству, а что-то среднее, бесцветное и бесхарактерное»; оно —
«источник нашей общей болезни, нашей призрачности», нашего
«бессильного и слабого прекраснодушия» (С. 71). Последнее
вдохновляет наших поэтов, и сам Пушкин, «этот чисто русский гений», также
начал прекраснодушною борьбою с действительностью и прошел
через долгие испытания; борьба и примирение с действительностью ему
стоили дорого (С. 71). Статья завершается призывом и выражением
надежды: «Да, счастье не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой
действительности; восставать против действительности и убивать в себе
всякий живой источник жизни — одно и то же; примирение с
действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая
задача нашего времени, и Гегель и Гете — главы этого примирения,
этого возвращения из смерти в жизнь Будем надеяться, что новое
поколение сроднится, наконец, с нашею прекрасною Русскою
действительностью и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно
ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительными
Русскими людьми» (С. 72-73). (И опять все это, и в общем, и в
частностях, и в духе и в букве, мы встретим у Белинского).
В бакунинской интерпретации учения Гегеля одно бросается в
глаза прежде всего и разительнее всего: соединение темы
«прекраснодушия» с темою «разумной действительности». Примирение с
действительностью непременно понимается как преодоление
«прекраснодушия», а само «прекраснодушие» толкуется как борьба с
действительностью. У Гегеля, ни в «Философии права» («Предисловие»),
* Ср. у Белинского (ст. «Современник». Т. X. СПб., 1838. И. С 421): «Да, эта юная
Германия — великий и поучительный урок рдя юношества всех наций» и т. д.
378
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ни в «Энциклопедии» (§ 6), где разъясняется формула разумной
действительности, она в такую связь не поставляется. Такую связь скорее
всего можно установить на основании тщательного изучения
«Феноменологии духа», но и для этого требуется или хорошее понимание
Гегеля, или обладание исключительно зорким философским глазом,
или, наконец, особые обстоятельства, которые сюда привлекли бы
внимание изучающего. По-видимому, именно последнее условие и
было налицо, как у Бакунина, так и у Белинского. Во всяком случае,
именно в этом пункте установления и толкования названной связи
Белинский следует за Бакуниным более, чем в чем бы то ни было
ином. Вот это-то все и должно было прежде всего привлечь
внимание изучавших Белинского, а вовсе не первостепенное или
второстепенное место у Гегеля самой формулы, ибо только здесь можно
было бы спрашивать об оригинальности «русского гегельянства»,
если таковая вообще существует.
С первых статей Белинского «периода гегельянства» и до самого
конца этого периода мы везде встречаем у него повторение слов и
мыслей Бакунина, с более или менее пространным к ним
комментарием*. И лишь если исключить некоторые частности (как, например,
суждение о прекраснодушии и преодолении его у Пушкина), в своих
эстетических воззрениях и их обосновании Белинский
оказывается более независимым от Бакунина. Здесь на него влиял Катков — и
в личном общении, и своим переводом статьи Ретшера, и своими
«тетрадками»**. Надеждин не испарился со страниц Белинского, «ро-
* Из дальнейшего это будет видно само собою. Здесь только в особенности
отмечу делаемое Белинским сопоставление Пушкина с преодолением
«прекраснодушия» (II. С. 331) в первой же своей статье в «M. H.» (Март. «Литературная
хроника»), повторяющееся противопоставление французов и немцев с
характеристикою их, тождественною характеристике Бакунина (особ, в ст. по поводу
соч. Фон-Визина; II. С. 305, ел., 309 и др.), прямое воспроизведение схемы
новейшей философии от Канта до Гегеля (в ст. «Горе от ума». III. С. 335), наконец,
постоянные апелляции к русской действительности.
** Белинский уже в 1837 г. (в Москве) пользовался указаниями и советами
Каткова: «Катков передал мне, как умел, а я принял в себя, как мог, несколько
результатов "Эстетики" (Пис. Станкевичу 2-го сент. 1839 г.; I. С. 348, ср. С. 139 и
219 — см. ниже С. 152, прим.) А позже (1841), по собственному признанию, при
составлении большой работы эстетического характера пользовался
конспектами и заметками Каткова. «Катков оставил мне свои тетрадки — я из них
целиком брал места и вставлял в свою статью. О лирической поэзии почти все его
слово в слово» («Письмо к Боткину 1 марта 1841» // Письма. И. С. 215).
К вопросу о гегельянстве Белинского
379
мантическое беснование» (II. С. 310) ставится в укор французам еще
резче, чем раньше, но мало-помалу, до неразличимости, прежние
эстетические взгляды Белинского сплавляются в одну массу с
идеями, интерпретирующими Гегеля.
Напечатав перевод Ретшера в своем журнале, Белинский тотчас
сам принимается пересказывать ее, и, по-видимому, не только в
целях популяризации, но также желая договорить то, что казалось ему
недосказанным у Ретшера.
Но общий тон, как в понимании эстетических теорий самого
Гегеля, так и в понимании статьи Ретшера, был задан все же Катковым.
Это устанавливается не на одном общем биографическом
материале; внимательный читатель «Московского наблюдателя» должен был
связать эстетические разъяснения Белинского не только с
«Предисловием» Бакунина, но также с «Предисловием» и примечаниями к
статье Ретшера, составленными Катковым. В особенности это
относится к разъяснению отдельных понятий, которое дает Белинский,
вводя их в свои рассуждения, как «конкретное» (в смысле
«сращенное»), «тоталитет», «рассудок» и «разум», «моральность» и
«нравственность» и т. п. Но и формулировка коренной мысли о роли
действительности, как мы ее читаем у Каткова, также потом отражается на
формулировках Белинского. «Предисловие» Каткова мало известно,
оно не цитируется историками литературы, поэтому позволяю себе
привести довольно длинную выписку. «Философия, — пишет
Катков, — вступила окончательно в свои права и заняла свое
абсолютное место; содержание и форма ее, примиренные, отождествились,
и форма стала ничем иным, как самим же имманентным развитием
содержания. Отвлеченная общность понятий наполнилась, и
понятие обняло все свои моменты, и срастило их в одно определенное,
живое целое. Философия не враждует уже против
действительности, не насилует фактов, не думает исправлять прекрасного божьего
мира и законов, на которых он зиждется. Она выговаривает не то,
что должно быть*, не болезненные отвлеченные идеи, которым
не достает безделицы — силы дать себе действовать; а то, что есть,
понятие, которое есть самый же понимаемый предмет, но только
* Противопоставление действительности тому, что должно быть, прямо
напоминает «Предисловие» Гегеля к его «Философии права» (изд. Лассона. S. 15;
Изд. 3-е. S. 18).
380
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
перенесенный из области явлений, из эмпирического сознания, во
внутреннее святилище духа, в страну мышления» («M. H.». 1838. Май.
Кн. П. С. 159-160). Далее Катеов характеризует открывающуюся
эпоху философии как эпоху разума в противоположность рассудку, —
противопоставление потом у Белинского повторяющееся.
«...Рассудок, — говорит он, — откроет, наконец глаза и смиренно объявит
себя не более как моментом всеобъемлющего разума, не более как
покорным исполнителем его велений...» (ib.)
В частности, что касается эстетики, то для последующего не
лишено интереса отметить следующие замечания Каткова. Он
подчеркивает особенное значение для популяризации философских идей
эстетического разбора художественных произведений, ибо
«понятие об искусстве, объемлющее во всей полноте то, что дается в
созерцании, доступно для всякого человека с образованным
эстетическим чувством...». Достоинство таких сочинений еще увеличивается,
когда критическое изучение направлено на какое-нибудь
произведение искусства. «Развивая определенный конкретный мир его
образов, оно вводит нас в святилище идеи вообще и в те обособления
ее, которые олицетворены в данном произведении» (С. 162). Первым
необходимым условием критического изучения художественного
произведения должно быть «познание идеи целого». Эта идея есть
конкретно определенная мысль, разливающая свет на все наше
созерцание. Затем «философская критика преследует разбор каждого
отдельного лица, каждого положения этих лиц, их характеров и
действий, и развивая все это из конкретной, философски
определенной идеи целого, просветляет ваше воззрение на окружающую вас
действительность» (С. 163). Человек с образованным эстетическим
чувством, с созерцанием бесконечного, почерпает из философской
критики то, что однажды им было уже воспринято как
непосредственное наслаждение художественным произведением, — «он
дважды сознает одно и то же содержание: в самом акте наслаждения и в
определенной мысли, оправдывающей это наслаждение» (С. 163)*.
* Как любопытную частность отмечу одно примечание Каткова к ст. Ретше-
ра. Ретшер спрашивает: «Где можно услышать теперь требование того, чтобы
при рассмотрении изящного произведения спрашивали о его цели и старались
извлекать из него поучительную мораль?» Катков по этому поводу отмечает
необходимость различать, с точки зрения гегелевской философии, «моральность
К вопросу о гегельянстве Белинского
381
III
Исходя из сказ<анно>го, основным пунктом нашего внимания
мы оставляем подчер<кну>тое Белинским соединение в
гегелевской философии «действительности» и «прекраснодушия». Первый
из этих терминов более известен, и я напомню его значение и
место у Гегеля только в самых общих чертах и ограничиваясь лишь
формальными указаниями, более конкретное разъяснение которых,
применительно к нашей теме, будет дано ниже и между прочим, в
связи с понятием «прекраснодушия». На этом же последнем
термине придется остановиться подробнее, так как его история и вообще
мало разработана, и в частности его употребление Гегелем как-то не
привлекало к себе достаточного внимания среди исследователей Ге-
гелевой философии.
Для понимания термина действительность необходимо иметь
в виду градации бытия у Гегеля, по которым сознание
диалектически восходит от смутной непосредственной чувственной данности
и до последней спекулятивной разумной данности духа и
абсолютного. Следует различать термины, в соотношении с которыми
только и понятно значение интересующего нас выражения
«действительность», — это термины «бытие вообще (Sein), определенное
и наличное бытие (Dasein) и реальность (Realität) как
противоположность отрицанию, существование (Existenz), действительность
(Wirklichkeit), субстанциальность (Subsctantialität) и объективность
(Objektivität).
Бытие есть первая непосредственность как такая. Лишенное
определений и различий, оно — ничто; определенное, оно есть
данное, наличное бытие (Dasein), нечто, которому противостоит иное
(по отношению к реальности нечто оно есть отрицание).
Существование как последующая ступень непосредственности относится к
сфере сущности (Wesen) (напр., вещь с ее качествами), к которой
мы проникаем от непосредственного и определенного бытия как
к основе, составляющей истину бытия. Существующая вещь отли-
и нравственность» (С. 166). Это замечание оттеняет собственную осторожность
Каткова, боявшегося здесь, по-видимому, «экстремы», но, кроме того, оно
действительно в духе Гегеля: искусство как обнаружение духа существенно лежит в
сфере объективного и нравственного.
382
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
чается от других вещей основанием (Grund), от которого зависит
ее существование; существование поэтому есть обоснованное
наличное (определенное) бытие. Всякое существующее находится во
взаимодействии и отношении с другим существующим, поэтому,
будучи относительно непосредственным (как единство отражения
в себя и иное), существование является результатом условий и
среды («Enz.» § 123). Явление есть существование, в котором
раскрывается сущность. Действительность содержит названное основание в
себе самой и составляет единство сущности и существования, или
внутреннего и внешнего* (как физическая вещь имеет
существование, так организм, вселенная, относительная тотальность обладает
действительностью). В строгом смысле действительно только
абсолютное, и в этом смысле оно отождествляется с разумом и оно есть
единственно истинное действительное («Aesth.» I. S. 140). Наконец,
объективность есть наиболее полное выражение и осуществление
системы идей или истины, ибо здесь только другое название для
абсолютного**.
В частности, по поводу «разумной действительности» напомню
только то разъяснение из «Энциклопедии» (§ 6), которое прямо
отвечает на нападки, вызванные неправильным пониманием формулы
Гегеля, и которое, кстати отметить, было хорошо известно
Бакунину***. Мои слова, говорит Гегель, что разумное — действительно и
действительное — разумно, подверглись нападкам даже со стороны
людей, которые не считают себя чуждыми религии и философии.
Ссылаться на религию, думает Гегель, нет надобности, так как в ее
учении о божественном мироуправлении это выражено ясно. Что
* «Enz.». § 142. Розенкранц поясняет это след. обр.: «Являющаяся сущность
есть действительное. Сущность как основание явления есть его внутреннее;
явление как форма — в которой сущность полагается как содержание — есть
внешнее. Внутреннее и внешнее, следовательно, в своем единстве составляют
выполнение формы. Сущность, которая не имела бы силы овнешниться
(обнаружиться sich zu äussern), никогда и не была бы действительно» (S. 34).
** Приведенные определения составлены из обеих «Логик» (Большая. Кн. П.
Отд. III и др., Малая. § 142 и др. — в «Энциклоп<едии>». В действительности
между обоими изложениями есть различие (Розенкр<анц> 34-35), но для
наших целей оно остается иррелевантным.
*** Как можно судить по конспекту, составленному Бакуниным при
изучении им «Энциклопедии». Конспект воспроизведен в приложении
(Приложение IV в книге Корнилова. См. с. 704).
К вопросу о гегельянстве Белинского
383
касается философского смысла этих положений, то для
понимания их достаточно столько образования, чтобы знать, «не только то,
что Бог действителен, что он — самое действительное, что он один
только и есть истинное действительное, но также и то, в смысле
формальном, что вообще наличное бытие частью явление и только
частью — действительность». В обыденной жизни всякий промах,
заблуждение, зло, всякое преходящее существование называют
действительностью. Но и для обычного чувства «случайное
существование» не заслуживает эмфатического имени действительного, ибо
случайное есть существование не большей ценности, чем
возможное, так как оно с таким же успехом может быть, как и не быть. Но
когда я, продолжает Гегель, говорил о действительности, следовало
бы вспомнить, в каком смысле я пользовался этим выражением, так
как в «Логике» я достаточно точно показал разницу не только между
действительностью и случайностью, которая также имеет
существование, но между действительностью и наличным бытием,
существованием и другими определениями*. Ниже мы увидим, как все эти
понятия и расчленения в живой диалектике духа принимают
конкретный и одушевленный облик Здесь ограничимся только сказанным и
обратимся к наиболее важному для нас понятию «прекраснодушия».
Нельзя сказать, чтобы биографы Белинского не останавливались
на этом выражении, — в биографическом материале, в
воспоминаниях, письмах оно встречается еще чаще и играет еще большую
роль, чем в печатных выступлениях кружка Белинского, — но они не
потрудились над исследованием того, какое же место занимает этот
термин в философии самого Гегеля, и предпочитали решать
связанные с ним вопросы о его смысле, о его месте, о его роли просто —
от собственной прекрасной души.
Пыпин245 (в биографии Белинского. С. 160 прим.) по поводу
применения Белинским этой характеристики к себе разъясняет, что
этот термин, «очень употребительный тогда между друзьями»,
означал «особую ступень развития, где понимание высшего содержания
(чего?) оставалось неполным и не входило в самую жизнь
вследствие недостатка воли или сильного чувства истинного и прекрас-
* Специально в защиту положений Гегеля от упреков в реакционности
выступил издатель и редактор его «Философии права» Эд. Ганс в «Предисловии»
ко 2-ому изд. (1833 г.). S. X. f. f. (цитирую по 3-ему изд., 1854 г.).
384
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШЛЕТ
ного». Это не вполне внятное разъяснение относится к письму
Белинского Бакунину середины ноября 1837 г. (I. С. 167-168). В
письме к нему же от 1 ноября Белинский упрекает самого Бакунина в
«прекраснодушии» и добавляет: «Я теперь понимаю, отчего
Станкевич, в письме своем ко мне, сказал, что прекраснодушие есть самая
подлейшая вещь в мире» (I. С. 151). Из этого можно заключить, что
именно Станкевич ввел в круг друзей этот термин*.
Действительно, еще раньше, 31-го мая того же 1837 г., он пишет в
письме к Бакунину**: «...но чтобы быть в состоянии так любить,
нужно быть более развитым, нужно стать духом, а я был только душою и
к тому еще болен прекраснодушием, во мне не было этой высокой
деятельной жизни, я имел о ней только понятия, которые я еще не
претворил в мое собственное существование, у меня было
благоговение перед этой жизнью, да, конечно, и любовь к ней начала уже
зарождаться в моей душе, а все-таки я еще не мог охватить эту более
высокую жизнь во всем ее объеме; перед моими глазами все еще
стоял, сам не знаю какой, средний путь, к которому мы все более или
менее привыкли с детства. И в этом было наше несчастье, а эта
ужасная катастрофа была, быть может, необходима, чтобы спасти мою
душу от болезненного прекраснодушия, от вялости, разрушить
воображаемую фантастическую жизнь, перевести меня в этот мир, дабы
* Анненков в своих «Воспоминаниях» («Замечательное десятилетие»)
сообщает, что Бакунину «принадлежит ввод в печать нового русского
презрительного слова «прекраснодушие», возбудившего такое недоумение в публике и
журналах своим, действительно, не очень складным составом, которое, будучи
буквальным переводом немецкого «Schönseeligkeit», призвано было обозначить у
нас благородные, но несостоятельные отрицания личного мышления и личного
суда над современностью» («Литерат<урные> воспом<инания»>. С. 190).
Фактически «в печать» это слово было введено одновременно Бакуниным и
Белинским — тот и другой употребляют его впервые в статьях, напечатанных в одном
и том же номере «М. Е». Станкевич же все-таки первый ввел слово в
кружковое употребление. — В остальном приведенное свидетельство интересно, —
поскольку оно правильно, — как указание на то, что читатель действительно
обратил внимание на новую сторону в проповеди Белинского. (Ср. также
указание Станкевича, «Переписка». С. 184.) По существу же замечание Анненкова
показывает еще то, что и ему остались неизвестными и действительное
значение термина, и его источник.
** Цитируемая часть письма написана Станкевичем по-немецки. Даю
буквальный перевод, несколько отступающий от перевода, приложенного к
изданию «Переписки» Станкевича. С. 625-627.
К вопросу о гегельянстве Белинского
385
я мог в этом мире деятельно, конкретно жить как человек, как разум
или признать свое ничтожество во всей его наготе, и тогда — что же
еще остается делать? — самоубийство? — нет! Я не способен на это...»
(«Переписка». С. 625-626,639,723).
Это — центральное место письма, в нем, как и в других его
частях, можно признать некотор<ые> гегелевские термины, и
принимая во внимание контекст всей переписки Станкевича, есть
основание думать, что оно действительно отражает, «переводит в
жизнь» то, что почерпнуто Станкевичем из его ознакомления с
Гегелем*. Но действительно ли это влияние Гегеля? Прямых указаний
в письме нет, а названная терминология собственно есть вообще
терминология немецкого идеализма. Выделяется выражение
«прекраснодушие», но можно ли с безусловностью доказать, что этот
термин заимствован Станкевичем246 именно у Гегеля, а не, напр., из
«Исповеди прекрасной души» у Гете? Сомнение здесь даже весьма
даже уместно, ибо контекст, в котором вводит Станкевич этот
термин, только с натяжкою может быть истолкован в гегелевском
смысле. А с другой стороны, имея в виду такие выражения, как «высокая
деятельная жизнь», «воображаемая жизнь», их противопоставление,
«мир» и т. п., а в особенности имея в виду, что все это говорится в
связи с вопросами о цели, смысле, «назначении» жизни и человека,
* Укажу только несколько важнейших дат: в начале ноября <18>35 г.
Станкевич сообщает, что Гегеля он еще не знает, и тут же имеется указание на то,
что он принимается за Канта, изученье которого, впрочем, у него не далеко
ушло (С. 338); в конце того же месяца он, продолжая занятия Кантом,
переводит для «Телескопа» статью (Вильма) о Гегеле (С. 594), каковая работа
продолжается в <18>36 г. (напр. С. 406); в конце апреля и начале мая того же года он
читает Фихте «Назначение человека», произведшее на него сильное
впечатление и теоретически, как преодоление Канта, и жизненно (С. 605-607, письма
к Бакунину от 21 апр. и 5 мая 1836 г., — указанные здесь Wissen и Glauben -
заголовки второй и третьей книги «назначение человека», первая называется
Zweifel). Станкевичу кажется, что сочинения Фихте предуказывают
возможность еще «другой системы» (С. 605-606), и в то же время он сообщает:
«вышел из прежнего неприятного состояния, помирился с Шеллингом, не
читавши, начал лучше понимать Гегеля (С 607, NB!); в последних месяцах того же
<18> 36-го года он озабочен получением сочинений Гегеля и наконец
получает их (С. 368,619, 621, 624); уже в мае <18>37 г. (31-го) он пишел Бакунину
цитированное в тексте письмо. Натурально, что заинтересовавшись Гегелем,
он старается почерпнуть о нем сведения и из литературы о нем (ср. указание
на Рейнгольда. С. 624).
386
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
в связи с стремлением Станкевича внести философию в
разрешение личных и практических задач*, нельзя не заметить во всем этом
отзвука истерики злополучного философствования Фихте. Может
быть, наиболее подходящим здесь было бы признать, что Станкевич,
действительно, отражает Гегеля, но отражает, как он его воспринял,
преломленным в призме фихтеанства. Если это — гегельянство, то
гегельянство сильно фихтеанизированное. С таким выводом вполне
согласуются и данные «Переписки» Станкевича. Недаром
сообщает он в ней, что прочитав трактат Фихте «О назначении человека»,
он, «не читавши, начал лучше понимать Гегеля, т. е. то, что он знал
о Гегеле из чужих изложений его учения (С. 607). Именно на
фихтеанское влияние здесь прежде всего приходится возложить
ответственность и за проскальзывающую тенденцию в «деятельности», в
«высшей жизни» найти способы решения философских проблем, и
за явно выраженную тенденцию приложить философское
размышление к разрешению противоречий и затруднений личной жизни,
видеть в философской рефлексии предписания для оценки добра и
зла и средства для вкоренения одного и искоренения другого.
Если, невзирая на все это, мы продолжаем говорить о
гегельянстве Станкевича, хотя и окрашенном охрою фихтевского
морализирования, то не столько в силу формального анализа терминологии,
сколько и главным образом в силу отрицательного отношения
теперь Станкевича к самому прекраснодушию. Если в тот момент, когда
Станкевич писал разбираемое письмо, он того еще не видел или не
почерпнул из Гегеля, то рано или поздно он должен был признать, что
все морализирование Фихте, в частности, его «деятельная совесть»,
будто бы разрешающая и теоретический вопрос о действительности
мира, подпадают под удары Гегеля, беспощадно им наносимые
всякому морализированию, всякому прекраснодушию, всякой
безапелляционной апелляции к «голосу совести». Отрицательное отношение к
* Ср. «Переписку». С. 594. Также с. 609-610. Впрочем, в то же время как
один раз он пишет: «Я не думаю, что философия окончательно может решить
все наши важнейшие вопросы, но она приближает к их решению. Она
зиждет огромное здание, она показывает человеку цель жизни и путь к этой цели,
расширяет ум его» (С. 594. 24 ноября 1835 г.), другой раз он более строг: «Если
вопрос о пользе какой-нибудь науки считается странным, то вопрос о пользе
философии нелеп. Я буду всякому, кто спросит, отвечать, что она бесполезна»
(С. 619.22 окт. 1836 г.).
К вопросу о гегельянстве Белинского
387
«прекраснодушию» было несомненною новостью для Станкевича, ибо
во время подавляющего влияния на него Фихте «прекрасная душа» для
него отнюдь не было выражением порицательным или ироническим.
Пасторская риторика Фихте могла подсказать употребление этого
выражения только в стиле и смысле возвышеннейших.
И чрезвычайно показательно, что в фихтеанские рассуждения
Станкевича однажды, незаметно, без желания подчеркнуть это или
отметить, без сознания важности или значительн<ости> слова, а
так, естественно, само собою, мимоходом, подчиняясь течению
контекста и его стиля, вскользнуло словечко «прекрасная душа» и
тотчас же в этом месте и замерло*. Именно в письме из Пятигорска,
21 июня 1836 г., еще под самым свежим впечатлением от трактата
Фихте, Станкевич, излагая его истины в поучение другу, переходит
к восклицающим обобщениям, где, между прочим, пишет: «А
сколько, друг, на Руси таких созданий, которым мысль о различии добра и
зла не приходила в голову? Нет! Для меня святы и прекрасны души,
истерзанные внутренними страданиями: тяжкая борьба, их
истомившая, ручается за сокровища, которыми они обладают» (С. 610).
Гегель вызвал новое отношение к «прекраснодушию», но, как не
избавились друзья от собственного прекраснодушия оттого, что
прекраснодушно восставали против прекраснодушия, так и это
новое отношение к словечку не переменило лежавшего в их природе и
укрепленного через Фихте моралистического оптимизма. Напротив,
именно через оптимизм они все время смотрели и на Гегеля. Ярче и
последовательнее всего это выражено у Белинского, готового было
«оправдать» все и вся, всякое «зло», всякую мерзость, всякую
«действительность». Это — тот самый фихтевский оптимизм, который
некоторыми исследователями Белинского толковался как
навеянный будто бы Гегелем «фатализм»**. Точно так же и в том, что, вос-
* Настолько незаметно замерло, что, сколько мне известно, оно осталось
незамеченным исследователями Белинского, интересовавшимися этим термином.
** С совершенною ясностью этот оптимизм заявлен у Фихте в «Назначении
человека» в след<ующих> напр., словах: «Если бы в вечный план нашего
нравственного развития и развития всего нашего рода не входило то, что на нас
должны быть наложены именно такие обязанности, они не были бы
наложены на нас, и совсем не имело бы места то, посредством чего они налагаются
на нас и что мы называем злом. Поэтому все, что происходит, — благо и
абсолютно целесообразно. Возможен только один мир, абсолютно хороший мир.
Все, что происходит в этом мире, служит улучшению и развитию людей и осу-
388
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ставая против «прекраснодушия», друзья поняли это «восстание» как
«резигнацию», как внутреннее усовершенствование, как моральное
(т. е. бездейственное) «деяние», — во всем этом фихтеанство
торжествовало над философией. Заметнее всего проявляется такое умо-
наклонение у Станкевича, постоянные рефлексы его встречаются у
Белинского, проявилось оно... и у Бакунина. Но именно Бакунин, под
влиянием первого же своего ознакомления с Гегелем, оставляя
указанное Станкевичем место за прекраснодушием, т. е. толкуя его не
как сомнение в собственной действительности и внутреннюю
борьбу в человеческой душе, а как поведение, руководимое убеждением
в призрачности «мира», заменяет понятие «мира» гегелевским
понятием «действительности». Соответственно, против борьбы с
действительностью выдвигается примирение с нею как подлинное
преодоление прекраснодушия. Бакунин, таким образом, первый связывает
эти понятия, а потому, если эта связь толкуется им фальшиво, то он
первый и ответствен за эту фальсификацию. Белинский мог только
дополнить промахами и ошибками акт Бакунина, но не исправить
его. Анненков («Литер<атурные> восп<оминания>». С. 190) как-то
назвал Бакунина «отцом русского идеализма», — это не
единственный случай, когда к продукту нашего собственного производства мы
прибавляем эпитет русский вместо «фальсифицированный».
IV
Как мы еще убедимся, фальсификация произошла здесь не столько
из непонимания того, что такое гегелевская действительность,
сколько из домашнего толкования термина «прекраснодушие». Итак, что же
такое «прекраснодушие», главным образом, что значит оно у Гегеля?
А. А. Корнилов сообщает, что «термин этот пущен был в ход в
германской литературе именно Шиллером (в его эстетике)», но что
ществлению ими их земной цели. Этот высший мировой план и есть то, что
мы называем природою, когда говорим: природа ведет людей чрез недостаток
к трудолюбию, чрез бедствия всеобщих неурядиц к правовому устройству, чрез
невзгоды беспрестанных войн к конечному вечному миру. Эта высшая природа
есть только твоя воля, Бесконечный, твое Провидение» (рус пер. С. 122-123).
Настолько все, конечно, знают Белинского, чтобы заметить сходство этой
«теодицеи» с его «оправданием» страданий, «случайностей». — Не с гегелевским
колпаком нужно было раскланиваться Белинскому, а с колпаком Фихте,
преподнесенным Белинскому в дар его друзьями!
К вопросу о гегельянстве Белинского
389
Бакуниным он употреблен в «гегелевском смысле, в котором он и
перешел в кружок Станкевича и Бакунина» (С. 449).
Первое едва ли правильно*. В «Толковых словарях» немецкого
языка указывается, что выражение Schöne Seele было употребительным
словом в XVIII в. и образовалось как перевод французского выражения
belle âme. Оно распространилось, по-видимому, в период так
называемого сентиментализма, ибо, по толкованию тех же словарей,
обозначало «тонкую чувствительность». Кроме того, оно составляло некоторого
рода pendant247 к выражению Schöngeist, бывшего также переводом
французского bel esprit. Сколько я могу судить, по-видимому,
употребление этих выражений распределялось так, что последнее служило
преимущественно характеристикою способности эстетического
восприятия, a schöne Seele — морального. Любопытно указание,
встречающееся в словаре Г. Пауля248, что слово Schöngeist «постепенно приняло
презрительный привкус». С этим интересно сопоставить разъяснение,
имеющееся в «Философском Лексиконе» Круга249 (1833 г., 2. Aufl.).
Оно подтверждает указание Пауля, но различает употребление ein
schöner Geist в смысле более серьезном, имеющем в виду человека с
развитым чувством красоты, и ein Schöngeist в смысле только
делающего вид, будто он знаток и любитель прекрасного. Die schöne Seele
(belle âme), по Кругу, отличается «тонкими, нежными, мягкими
чувствами, также и в морально-религиозном отношении». Поэтому она
чаще всего встречается среди женщин. Иногда сюда вкрадывается и
простая мечтательность. Другими словами, можно, по-видимому, и
здесь провести то же разграничение оттенков смысла: более серьез-
* П. Милюков (в ст. «Любовь у "идеалистов тридцатых годов"», — «Из
истории русской интеллигенции». Изд. 2-ое. СПб., 1903. С. 91) сообщает: «Высшая
жизнь духа все еще остается для Белинского единственным царством истинной
"действительности'', тогда как "пошлая" жизнь толпы по-прежнему считается
"призрачной". Для промежуточного состояния, открытого в себе Белинским, он
начинает теперь употреблять слово "прекраснодушие" — термин,
заимствованный Станкевичем из лексикона немецкого романтизма. Вслед за Станкевичем
и Белинский придает этому термину смысл порицания прежнего настроения
друзей. "Прекраснодушно" все, что не естественно, не просто, не нормально,
не действительно, а только призрачно». Все это — чрезвычайно ценные
сведения, только, к сожалению, автор не указывает, откуда он их почерпнул. — Мне
встретился термин дважды у Новалиса, но во-1-х, в употреблении совершенно
неопределенном, и, во-2-х, лишь в его фрагментах («aus den Studienheften»)
(Изд. Минора. В. III. Fr. 937,948). Это, конечно, еще ничего не говорит ни за, ни
против сообщения Милюкова, но все же указание источников остается за ним.
390
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ного, лаудабильного, и более презрительного. Для понимания
«гегелевского смысла» этот последний оттенок важно иметь в виду.
Напротив, у Шиллера термин имеет смысл совершенно иной и
строгий. Его определение находится в статье «О грации и
достоинстве» (1793 г.), где Шиллер говорит: «Мы называем душу прекрасною,
когда нравственное чувство настолько проникло во все ощущения
человека, что он может без опасения предоставить аффекту
управление волею и никогда не подвергается опасности очутиться в
противоречии с решениями воли. Поэтому в прекрасной душе не
отдельные действия нравственны, а весь характер таков. .В
прекрасной душе чувственность и разум, долг и влечения находятся в
гармонии, и грация — показатель этой гармонии в явлении».
Мне неизвестно, в какую связь ставят историки литературы
названную статью Шиллера в знаменитую главу из Вильгельма Мейсте-
ра: «Исповедь прекрасной души», — но некоторое совпадение
бросается в глаза. Начало работы Гете относится к середине 70-х годов,
но именно эта часть (книга шестая) была написана лишь в 1795 г.
(Белып<овский>. II. С. 117)250, т. е. через полтора, примерно, года по
выходе в свет статьи Шиллера. «Исповедь», как известно,
составлена на основании некоторых материалов, которыми располагал Гете
и которые прямо передавали историю одной женской жизни
(Сусанны фон Клетенберг). Лишь конец «Исповеди», называющийся у
Белыповского «критическим дополнением», — со вступления Филис
в кружок гернгутеров, — свободное построение самого Гете. Но
любопытно, что именно пребывание в этом круге, в особенности
общение с дядею, производит на «прекрасную душу» впечатление, под
влиянием которого она убеждается, что уход в себя, личное
самоусовершенствование, отрицание внешнего, не составляют еще сами по
себе безусловного нравственного приобретения, а скорее таят в себе
опасность утери подлинной нравственной высоты и
культивирования эгоистической мечтательности, и что истинное добро требует
обращения к внешнему, а главное к последовательному
обнаружению своей нравственной личности в решительных и
последовательных действиях (Гете. В. VII. S. 339, ср. Белып<овский>. II. С. 140-141).
И лишь в результате соответствующего перевоспитания Филис
получает право закончить «Исповедь» словами: «Я не вспоминаю никаких
заповедей; ничто не является передо мною в образе закона;
влечение руководит мною и всегда ведет меня право; я свободно следую
К вопросу о гегельянстве Белинского
391
своим склонностям (Gesinnungen), и так же не знаю ограничения,
как и раскаяния».
Не знаю, было ли на это обращено внимание историками
литературы, но несомненно, что известный параллелизм меаду
историей «прекрасной души» у Гете и диалектикою прекраснодушия у
Гегеля есть. К. Фишер лишь мимоходом, в скобках отмечает: по Гегелю,
«из совести возникает прекрасная душа (не в смысле "Признаний" в
романе Гете, а) в форме слабой и боязливой сентиментальности...»
(Гегель, Пол<утом> I. С. 419, рус. пер.). Это «не в смысле» как будто
исключает право на сопоставление, но, думается мне, оно все-таки
может быть сделано — не для отожествления, конечно, а дня
параллелизма, который мог быть у Гегеля намеренным. Новый вопрос
возникает относительно самого Вильгельма. «Исповедь»
производит на него действие, отражающееся на всем его поведении, как оно
изображено и во второй части Вильгельма Мейстера («Годы
странствия». 1821-29). Здесь Вильгельм путем «отречения» поднимается от
инстинктивных и эгоистических страстей и стремлений до разумной
и «общественной» личности. Как интерпретирует Белыповский, здесь
погибает «прекрасная личность», но на ее место встает «полезная»
(П. С. 468). Это — проповедь «дела» и «действительной личности»,
выполняющей свое дело в реальной действительности. Нельзя ли здесь
поднять вопрос уже об отражении у Гете некоторых идей Гегеля?
Или это были только слова, когда Гете в 1824 г. писал Гегелю: «Пусть
все, что я еще способен сделать, всегда примыкает к тому, что Вы
основали и возводите»*. Обращаясь к Гегелю, в связи с поднятым
вопросом нельзя не вспомнить, прежде всего, его собственных
юношеских работ**. Специальное исследование еще должно установить связь
таких работ с «Феноменологией духа» и проследить преобразования,
которым в последней подверглись «юношеские» мысли и интересы
J Briefe van und an Hegel. 2Th - WW. XIX. 2 - S. 144-145.
** Соответствующими рукописями Гегеля пользовался уже Розенкранц в
своей биографии Гегеля (1844). Обстоятельный анализ рукописей Гегеля,
хранившихся в Библиотеке в Берлине, был дан Дильтеем в его превосходной работе
«Die Jugendgeschichte Hegels» (1905) с дополнениями из «Наследия» Дильтея — в
его «Gesammelte Schriflen» (В. IV. 1921). Названные рукописи были изданы лишь
в 1907 г.: «Hegels theologische Jugendschriften» hrsggb v. Hermann Nohl. Tubing.
Другие статьи из того же собрания «Die Verfassung Deutschlands» и «System
der Sittlichkeit» вошли в изданные Г. Лассоном «Hegels Schriften zur Polilik und
Rechtsphilosophie». Lpz. 1913-
392
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Гегеля. Здесь уместно ограничиться только самыми общими
указаниями и применительно только к нашему вопросу.
На первый взгляд может казаться, что между «теологическими»
фрагментами Гегеля и его Феноменологией духа вообще нет
внутренней связи. Одно обстоятельство кажется особенно поразительным.
Т<ак> наз<ываемые> «теологические» сочинения Гегеля в строгом
смысле весьма мало содержат в себе именно теологического — это,
скорее, пробы психологии или, если угодно, феноменологии
иудейского и христианского религиозного духа. Прямые указания Гегеля
свидетельствуют о том, что рассуждения Мендельсона251 давали повод
и пищу для его размышлений. Но иудейство не само по себе
интересовало Гегеля, а как момент духовного развития, непосредственно
сменившийся в истории христианством. Интерес к Мендельсону,
поэтому, возбужден не самим этим автором и не иудейством как таковым, а
только производно вытекал из интереса к христианству. Едва ли
Мендельсон своими статьями об еврействе заинтересовал бы Гегеля, если
бы у Гегеля не было внутренних побуждений заняться этим вопросом.
И действительно, биограф Гегеля, К. Розенкранц, констатирует, что
вопрос этот, как «мрачная загадка», всю жизнь мучил Гегеля*. Но в то же
время Розенкранц отмечает, что эта «загадка» во всех трудах Гегеля,
где был повод остановиться на ней, как-то Гегелем обходится или
вызывает к œôt разное отношение. То, как в «Феноменологии», Гегель ее
игнорирует, то как в «Философии права», она примыкает к
германскому духу, то как в «Философии религии», она координируется как
непосредственная форма духовной индивидуальности, духу греческому и
римскому, то, наконец, как в «Философии истории», она включается в
персидское царство. Остановимся на «Феноменологии духа»,
поскольку это нужно для разъяснения нашего вопроса.
Более внимательное рассмотрение показывает, что
заключение Розенкранца неточно. Лишь при беглом и поверхностном
буквальном сопоставлении мы пропустим в «Феноменологии духа»
темы первых работ Гегеля. Между тем, здесь требуется тем более
осторожности и внимания, что вообще, как известно, философско-
историческая подоплека «Феноменологии духа» не всегда прямо
называется Гегелем, а иной раз его крайне общее изложение дает
повод к разноречащим толкованиям одного и того же пассажа. О «пре-
* G. W. F. Hegel's Leben beschrieben durch К. Rosenkranz. Brl., 1844. S. 49.
К вопросу о гегельянстве Белинского
393
красной душе» Гегель говорит в обоих сопоставляемых нами
случаях. Приурочение этого понятия, действительно, разное, но вопрос
именно в том, чем вызвана такая перемена в применении понятия?
Есть это — уточнение понятия или пустой каприз? Нет ли общих
оснований для применения термина в разных контекстах, и не
показывает ли это основание отчетливее действительный смысл его?
В юношеских фрагментах Гегель дважды подходит к «прекрасной
душе». Один раз — в связи с темою «вины невинности» и ее
конфликта с судьбою. Невинность, по выводу Гегеля, никогда не страдает,
всякое страдание есть вина. Действующий человек сознательно
принимает на себя вину и отдается судьбе. Страдание храбрости для него —
правая судьба. Храбрости противостоит пассивность с ее бессильным,
болезненным терпением. Между ними — красота души. Прекрасная
душа возвышается над лишением права и над борьбою без страдания,
в добровольном отказе от жизни. Она уходит из опороченных
условий, так как не может в них оставаться, не теряя собственной чистоты.
Отрицательным атрибутом красоты души является «высшая свобода,
т. е. возможность отказаться от всего, чтобы сохранить себя».
Другой раз, в другом контексте, Гегель противопоставляет заповеди
и закону склонность*, «т. е. готовность поступать определенным
образом» (die Gesinnung... d. h. die Geneigtheit so zu handeln). По Гегелю,
такое противопоставление и было сделано Иисусом. Он
противопоставил заповеди предков и заповеди собственного духа «склонность»
к моральному поведению. Но как такая она ограничена, она
«покоится» (статична) и приводится в действие лишь тогда, когда есть
соответствующее условие. Переход к более высокой ступени морали образует
тот момент, когда возникают стремление и потребность объединить
эти акты в одно целое. Это — стадия любви. Но и она имеет границу,
обусловливающую судьбу прекрасной души. Полнота ее любви остается
неудовлетворенною. «У нее есть прекрасные моменты наслаждения, но
и только моменты, а слезы сострадания, умиление над таким
прекрасным поступком составляют уныние от своей ограниченности». В целом:
«Склонность преодолевает (hebt auf) положительность, объективность
заповеди, любовь — границы склонности, религия — границы любви».
* NohL S. 388-190. cf. Dilthey. ГУ. S. 78 ff. Ср. выше цитату из Гете.
Хронологически не исключено, кажется, что Гегель, при сопоставлении цитируемого
«наброска», мог быть знаком с «Ученическими годами Вильгельма Мейстера».
394
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Мы уловим связь обеих характеристик «прекрасной души», если
отметим, что во втором случае «прекрасные души» характеризуются
как несчастные, вследствие ли того, что они сознают свою судьбу,
или вследствие того, что они не удовлетворены во всей полноте
своей любви. Особо, для последующего, подчеркиваю квалификацию
«прекрасной души» как несчастной.
В целом, следовательно, можно сказать, что «прекрасная душа»,
по Гегелю, есть некоторый момент морального самосознания,
характеризующийся положительно, как преодоление простой
«склонности» и переход к активной любви, а отрицательно, как отказ от
мира и стремление сохранить себя, в сознании вины и в страдании
от правой судьбы и умиленного терпения. В культурно-исторической
приуроченности этот момент морального самосознания связывается
с моментом вхождения в историю христианского духа. Преодоление
раздвоенности, ограниченности и «несчастия» этого момента
предполагает более высокую ступень развития духа — религию как такую.
Возникает вопрос: насколько указанною приуроченностью
исчерпывается возможность культурно-исторического приложения
понятия «прекрасной души»? Феноменология духа показывает, что
это приуроченное не только не единственное, но и не вполне
точное — возможны еще некоторые дистинкции*. Основание для них
ясно подсказано уже и в «теологических» фрагментах.
Противопоставляя иудейскому повиновению заповеди и закону мораль Христа,
Гегель неуклонно вспоминает о кантовском преклонении перед
законом отвлеченного долга**, и последнее, как правильно
интерпретирует Дильтей252, не имеет в глазах Гегеля преимущества перед
иудейским повиновением закону.
* Г. Лассон (G. Lasson) в «Предисловии» к юбилейному изданию
«Феноменологии духа» (S. XXIV) намекает на какое-то соответствие понятия «прекрасной
души» с пиетизмом (гернгутеров) и как будто ищет какого-то биографического
происхождения этому сопоставлению. В моем распоряжении нет
биографических данных, которые давали бы право разрешить этот вопрос отрицательно
или положительно, смысловая же интерпретация такому сопоставлению,
думается мне, неблагоприятна. Не наведен ли Лассон на свое сопоставление (может
быть, бессознательно) воспоминанием об «Исповеди прекрасной души»?
** NohL S. 387,265 ff. Dilthey. S. 76-78; ср. также Dilthey. S. 88-89 и Nohl. 278 ff.
Впервые и более конкретно Гегелева критика Канта нашла себе публичное
выражение в ст. Гегеля «Veb. d. wissenschaftlichen Behandlungsarten des
Naturrechts». 1802. В изд. Лассона см. S. 352 ff. (Hegels. «Schriften zur Politik» и
«Rechtsphilosophie». Lpz., 1913).
К вопросу о гегельянстве Белинского
395
V
Обратимся прямо к «Феноменологии духа»253, и мы увидим, что
христианское сознание вводится здесь в новом диалектическом
контексте, выступая, прежде всего, как завершающий момент развития
самосознания, когда в нем впервые возникает представление о
разуме как единстве самосознания и действительности (S. 151. рус. пер.
С. 103). Диалектический контекст определяет место христианского
сознания в его средневековой католической форме, как завершение
стоицизма и скептицизма, когда самосознание приходит к
усмотрению своей раздвоенности, как самосознания неизменного и
потустороннего и как самосознания изменчивого, отчужденного от
собственной сущности, противостоящего первому, как ничтожество,
болеющее от этого, страдающее от этой невыносимой раздвоенности,
несчастное сознание*. Противоречие, которое было в скептическом
сознании, здесь существует для себя, но еще не достигло единства
и примирения. Несчастное сознание есть одно сознание,
устранившее раздельные сознания раба и господина принятием этой
двойственности в себя как раздвоенности, но истинное его возвращение
в себя или его примирение с собою дает понятие ставшего живым и
вступившего в существование духа (S. 139, рус. С. 94).
Таким образом, Гегель говорит здесь только о несчастном
сознании, о его страданиях — и от невозможности овладеть
потусторонним, которое найдено быть не может, но где-то ищет неизменной
сущности (рус. С. 98), и от сознания собственного ничтожества
своей бедной личности, ограниченной собою и своим маленьким
деланием, корпящей над ними (рус. С. 101). О «прекрасной душе», о
любви, преодолевающей простую склонность, о самой этой последней и
вообще о деле самого Христа здесь не упоминается. И по понятным
основаниям: речь идет о самосознании только субъективном,
данном феноменально, не поднявшемся еще до степени объективной
нравственности и субстанциальной данности, а тем более — до
степени абсолютного духа в религии. В силу этих же оснований у
Гегеля здесь не было повода говорить о моральных законах заповеди и
долга, преодоление которых в сознании могло бы привести к идее
«прекрасной души». Таким поводом является та стадия развития со-
* «Феноменология духа». Изд. Лассона. S. 139, 344, 435, 482. (Рус. пер. С 94,
241, 340, 367.)
396
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
знания, когда оно, как дух, объективируется в нравственной жизни
народа, и притом еще не в непосредственной истине
объективирующегося духа, а в его возвращении к себе, когда пройдена стадия его
самоотчуждения и образования и достигнута его для себя самого
достоверность, находящая свое выражение в слове совести*. Здесь же
переход и к абсолютному духу, как он является в религии.
Вот теперь, действительно, Гегель обращается к «прекрасной
душе», и мы уже подготовлены к тому, чтобы встретиться с нею как
с преодолением отвлеченного закона морали, выдвинутого
Кантом, преодолением, впрочем, недостаточным, потому что
«несчастным», — в силу ли сознания своей судьбы или в силу не во всей
полноте удовлетворенной любви, — и потому нуждающемся, в свою
очередь, в еще более высоком преодолении и примирении
заключающихся в ней двойственности и противоречия.
Моральное миросозерцание как такое в изображении Гегеля с
самого начала предполагает моральное сознание вообще, для
которого долг имеет значение сущности, а оно само действительно и
деятельно и в своей действительности и деятельности выполняет этот
долг (S. 390, рус. С. 274). Основным постулатом морального
миросозерцания является гармония моральности и природы, каковой
постулат дифференцируется в ряд подчиненных ему постулатов, через
острую критику которых Гегель и производит свой расчет с
понятием отвлеченного закона морали вообще и с кантовым понятием
долга в частности**. Моральное мировоззрение оказывается на деле (in
der Tat) ничем иным, как раскрытием с разных сторон лежащего в
его основе противоречия. Он, говорит Гегель, пользуясь подходящим
сюда выражением самого Канта, есть «целое гнездо бессмысленных
противоречий» (S. 398, рус. С. 280). Основное противоречие состоит
в том, что в моральном мировоззрении сознание, с одной стороны,
само сознательно порождает свой предмет, а не находит его как
нечто наперед данное и чуждое себе, и оно знает его, как самого себя,
именно потому, что оно его порождает, а с другой стороны, само же
* Несомненно, что у Гегеля этот момент духа, der seiner selbst gewisse Geist,
не в виде случайного каламбура завершается формою сознания, обозначаемого
как Gewissen.
** Для правильного понимания Гегеля эта критика должна быть
дополнена тем, что он говорит о морали Канта в своей «Истории философии». Th. III.
S. 532-539 (2 Aufl. 1844).
К вопросу о гегельянстве Белинского
397
оно устанавливает его вне себя как нечто себе потустороннее (S. 398,
рус. С. 280). Иными словами, это есть противоречие долга и
действительности: я поступаю морально, когда я сознаю себя выполняющим
только чистый долг, а не что-либо иное, т. е., на самом деле, когда
я вовсе не поступаю; когда же я действительно поступаю, я сознаю
нечто иное, действительность, которая есть и которую я хочу
создать, — тут у меня есть определенная цель и я выполняю
определенный долг (S. 411, рус. С. 289).
Еще иначе, в терминах теологических фрагментов, все это
значило: Кант подчиняет игу общего единичное, тогда как истинная
(Христова) нравственность возвышает единичное до общего и в
их объединении устраняет их противоположность*. Здесь, как мы
помним, и вступала «склонность» (Gesinnung), любовь с
«прекрасною душою» и религия. В «Феноменологии духа» роль примирителя
противоречий берет на себя, прежде всего, совесть (das Gewissen)**,
которая и выступает, отрекаясь от всех перестановок и подтасовок
морального мировоззрения, когда она отрекается от сознания,
постигающего долг и действительность как противоречие (S. 411,
рус. С. 289). Совесть примиряет в себе это противоречие, выступая
как действительность долга.
Но скоро оказывается, что это объединение в совести закона
долга и склонности единичной личности — неустойчиво и легко
переходит в свое противоречие. Совесть есть свобода самости в себе
самой (S. 409, рус. С. 287), вкладывает в долг сам по себе содержание,
почерпаемое ею из своей естественной индивидуальности; это
содержание само становится долгом, который выполняется совестью,
и этим пустой чистый долг устраняется, или устанавливается, как
момент; содержание есть его устраненная пустота или
заполненность (S. 418, рус. С. 294). Но точно так же совесть свободна от
всякого содержания вообще, она отрешается от всякого определенного
долга, который мог бы иметь значение закона (ib.). Как сказано,
содержание совести почерпается из ее естественной
индивидуальности, и само по себе оно представляет равенство и справедливость,
но в отношении к другому, как бытие для другого, оно в своей досто-
J Nohi. S. 387; Dilthey. S. 76-77.
** В «Философии права* Гегель сам определяет: «Das wahrhafte Gewissen ist
die Gesinnung, das, was an und für sich gut ist, zu wollen (§137. S. 173. 3 Aufl. 1854).
398
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
верности остается неизвестным. Другие не знают, добра ли совесть
морально или зла, и даже необходимо считают ее злою. Они так же
свободны и от квалифицированности* долга и от долга самого по
себе. Они сами умеют подтасовать то, что им сдано**, они от
последнего не только свободны, но должны разрешить его в собственном
сознании, уничтожить его в своей оценке и объяснении, чтобы
сохранить собственное я (S. 420, рус. С. 295). Нужно достигнуть
взаимного признания и тем самым возведения индивидуального голоса
совести до общего. Стадия, на которой здесь рассматривается
феноменологическое развитие сознания, не есть момент отвлеченного
морального сознания, а есть момент объективного духа,
возвращающегося к себе после просветительного самоотчуждения и готового
перейти к последнему завершающему моменту абсолютности. Это
необходимо помнить, чтобы правильно понимать Гегеля. Ибо, когда
совесть обращается к провозглашению убеждения в общей
значимости своих императивов, это в ней говорит сам нравственный дух,
а его язык есть закон и простое веление и жалоба, «слеза, пролитая
над необходимостью». Именно в языке самость обособляется от себя
самой и, как чистое Я=Я, становится предметом, сохраняет себя и в
то же время сливается с другими*** (S. 421, рус. С. 296).
Так как это — язык духа, то кажется, что мы достигли последнего
примирения в действительности самого духа. Но на деле это еще
не так. Поскольку изображаемый момент должно сопоставлять, как
мне кажется, с учением Фихте, недостаточность достигнутого можно
выразить следующим разъяснением: я, о котором идет речь,
сохраняет в себе значение единичного самосознания, поэтому оно
остается противоположным общему или духу, будучи только моментом
его. По существу, следовательно, можно сказать, мы не сдвинулись
с противоречия, в которое попало моральное сознание, когда оно,
*Так я передаю термин Гегеля Bestimmtheit. Такая передача
подсказана предложением Стерлинга переводить Bestimmung через qualification
(Beschaffenheit он передает через talification).
** Или переставить то, что им выдано за... — непереводимое сопоставление:
Was es ihnen hinstelt, wissen sie selbst zu verstellen.
*** Одно уже упоминание формулы Я=Я подсказывает связь воображаемого
со взглядами Фихте, духом же Фихте от него давно уже веет. Однако для
полного уразумения всего этого пассажа следует сравнить его со статьей Гегеля
«Glauben und Wissen». 1802 (WW. 1832.1. особ. S. 116 ff. 149 ff.) и с «Историей
философии», особ. S. 571-578 (2 Aufl. 1844).
К вопросу о гегельянстве Белинского
399
как у Канта, подчинилось игу абстрактного закона и долга. Опять
все отброшено в сомнения, колебания и страдания несчастного
сознания, раздвоенного в себе и не нашедшего примирения в
действительности.
Гегель следующим образом рассказывает об этой неудаче
сознания в нахождении окончательного примирения единичного и
общего. Самосознание здесь уходит назад, вглубь самого себя, где
исчезает все внешнее как такое, уходит в созерцание Я=Я, где это Я есть
вся сущность и наличие. Доведенное до своего крайнего заострения,
самосознание тонет в этом понятии самого себя, моменты его
различия как реального сознания целиком расплываются в абстракции,
сознанию не за что удержаться, и все, что до сих пор было для
сознания сущностью, ушло в эти абстракции. Разъясненное до такой
чистоты сознание выступает в своем самом убогом облике, и эта
убогость, составляющая его единственное обладание, сама есть
некоторое исчезновение; абсолютная достоверность становится
абсолютною неистинною, которая в себя и проваливается; это —
абсолютное самосознание, в котором тонет сознание (S. 424, рус. С. 298).
Далее, чтобы прийти к действительному примирению
противоречия, в котором бьется запутавшаяся таким образом совесть (как
«склонность»), мы можем рассматривать сознание, погрузившееся в
самосознание, как его (сознания) знание себя (Wissen als sein Wissen)
или можем рассматривать совесть в ее действовании (Handeln).
Первый путь выступает в виде общего антитезиса к попытке через
совесть утвердить действительность долга и этим разрешить
противоречие отвлеченного общего (закона, долга) и единичного
(естественной индивидуальности), но он приводит к отрицанию,
которое только во втором пути находит себе синтетическое завершение,
возвращающее совесть к действительности духа в его абсолютном
самонахождении.
Упомянутое знание, как сознание, разделяется на
противоположность себя и предмета, который для него есть сущность, но
этот предмет есть его самость, и его сознание есть только знание
себя. Вся жизнь и вся духовная существенность ушли в это «само»,
и его различие с самим Я утерялось. Моменты сознания
оказываются крайними абстракциями, неустойчивыми, переходящими друг
в друга, теряющимися одна в другой и порождающими друг друга.
Внутри несчастного сознания происходит мена с самим собою;
400
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
его непосредственная достоверность перестает звучать для разума,
она превращается в предметность его независимого бытия (seines
Fursichseins). Но этот созданный — надо помнить, субъективный —
мир есть его речь, которую он непосредственно улавливает и эхо
которой возвращается только к нему. Такое возвращение не
означает, однако, что сознание в нем есть само по себе и для себя — так
как сущность для него не есть нечто само по себе, а оно само, — и
точно так же оно не есть наличное бытие — так как предметное не
доходит до того, чтобы быть негативом действительной самости, как
и эта последняя не доходит до действительности (S. 425, рус. С. 299).
Это разъяснение Гегеля надо понимать в том смысле, что в
указанном возвращении мы остаемся всецело в сфере субъективности.
Субъективный же идеализм, как новая форма несчастного сознания,
не есть выход в действительность, где должны объединиться
сущность и существование, внутреннее и внешнее, и не есть искомое
в ней примирение, не есть, можно сказать, забегая вперед,
отрешение от естественной индивидуальности и отдача себя
нравственному духу.
«Сознанию, — продолжает Гегель, — недостает силы
обнаружения, силы овеществить себя (sich zum Dinge zu machen) и выносить
бытие. Оно живет в страхе запятнать великолепие своего
внутреннего мира поступком или наличным бытием; и чтобы охранить
чистоту своего сердца, оно избегает соприкосновения с
действительностью и пребывает в упрямом бессилии отречься от своей, до
крайней абстракции заостренной, самости и сообщить себе
субстанциальность, или (т. е.) превратить свое мышление в бытие и довериться
абсолютному различию. Пустой предмет, который оно создает себе,
оно заполняет сознанием пустоты; его делание есть тоска; «и в этой
прозрачной чистоте его моментов несчастная т. наз. прекрасная
душа истлевает в себе и исчезает, как бесформенный пар,
расплывающийся в воздухе» (S. 425, рус. С. 299).
VI
Дошедшая через субъективный идеализм до прекраснодушия
совесть, таким образом, расплывается в простую мечтательность,
которая не может преодолеть противоположности абстрактного долга и
склонностей естественной индивидуальности. Высшее примирение
остается для этой мечтательности недостижимым: бытие для «пре-
К вопросу о гегельянстве Белинского
401
красной души» невыносимо, она уходит в свой субъективный
внутренний мир, создает свой мечтательно-субъективный мир вещей
и предметов и не подозревает, что именно в этой сплошной
субъективности — непреодолимая преграда для лелеемого в тоске
примирения, что только отказ от субъективности может привести к
достижению более высокого тожества, тожества в духе, ибо последний
для своей объективации требует как раз пожертвования
субъективностью и осуществления духовного деяния.
И действительно, как было указано, совесть можно рассматривать
как действующую и поступающую. Долг тогда для нее является
только внешнею всеобщностью, к которой она относится отрицательно
и считает себя свободною от него. Она наполняет пустой долг
содержанием, почерпаемым из себя самой как естественной
индивидуальности,, сознавая себя как единичность в противоположность
всеобщему (S. 426, рус. С. 300). Совесть распадается на единичности,
которые стоят друг против друга в своем неравенстве, и
поскольку каждая во внутреннем определении видит сущность, а во
всеобщем — только момент, то для всеобщего сознания, преданного
долгу, единичное сознание выступает как злое, т. е. заключающее в себе
неравенство своего внутреннего бытия и всеобщности. А так как оно
само говорит о своем поведении как равенстве с собою, как долге
и добросовестности, оно выступает для преданного долгу сознания
как лицемерие*. Но провозглашая единичное сознание злым и
лицемерным, всеобщее сознание в своем приговоре ссылается на свой
закон, который тем самым становится, в противоположность
закону злого сознания, особым законом. Результат получается обратный
ожидаемому: оба закона стоят друг против друга непримиренными
(S. 428, рус. С. 301). Оба сознания относятся друг к другу, одно как
знающее закон и оценивающее, но бездеятельное, другое — как
поступающее (S. 429, рус. С. 302). Первое во всяком поступке второго
отыскивает низкие мотивы и осуждает его, но этим самым оно также
становится низменным и лицемерным, поскольку оно выдает себя за
лучшее знание, превозносит себя над осужденными делами и
выдает пустые речи за прекрасную действительность (S. 430, рус. С. 303).
Наконец, поступающее сознание, убедившись в своем равенстве
* Скорее здесь можно подразумевать за единичным сознанием пиетизм, о
котором говорит Лассон, — см. выше.
402
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
с тем, признается ему7 в том, что оно «злое», и ждет от того такого
же признания. Поскольку последнее не отвечает первому взаимным
признанием, оно, с заключенным в нем знанием, остается
пребывающим в себе прекраснодушием, не имеющим силы проявить наружу
свое знание, а потому лишенным духа и действительности. В
сознании противоречия своей чистой самости и необходимости для
последней проявиться в бытии и осуществиться в действительности,
прекрасная душа изнемогает в безумии и чахнет в тоске* (S. 432,
рус. С. 304)254. Но если второе ответит первому взаимным
признанием, оно должно будет отречься от своего одностороннего
непризнанного суждения, как первое отреклось от своего одностороннего
непризнанного наличия особого независимого бытия (Fursichsein);
второе воплотит этим власть над своим определенным понятием,
как первое — власть духа над своею действительностью. В этом
самоотречении поступающее сознание становится всеобщим,
возвращается из своей внешней действительности в себя как сущность;
всеобщее сознание, таким образом, узнает в нем себя самого и
признает его добрым. «Слово примирения есть наличествующий дух,
который созерцает чистое знание себя самого, как всеобщей
сущности, в своей противоположности — в чистом знании себя, как
абсолютно в себе сущей единичности, — взаимное воспризнание,
которое есть абсолютный дух» (S. 433, рус. С. 305). Отсюда — уже
непосредственный переход к последней стадии в развитии
сознания, к абсолютной сущности самой по себе и для себя, к
самосознанию духа. Это — переход от объективного духа нравственности,
государства, истории к религии.
Изложенные описания Гегеля приобретут полную конкретность,
если мы найдем для отдельных моментов развития моральности их
историческое приурочение. Последнее устанавливается из общего
смысла движения мысли Гегеля не без труда, но с достаточною
убедительностью, в особенности там, где на основании других
сочинений Гегеля можно подобрать у него открыто высказанные и
исторически определенные параллели. Этим приемом мы уже
воспользовались выше, когда пришли к сопоставлению момента
отвлеченной морали закона с идеей долга у Канта. Но именно в этом случае
* В подлиннике сильнее: «zur Verrücktheit zerrüttet und zerfliesst in sehnsüchtiger
Schwindsucht»
К вопросу о гегельянстве Белинского
403
изложение феноменологии духа и само по себе прозрачно. Дальше
несколько труднее. Однако по отношению к моменту «совести» уже
К Фишер настоятельно подчеркивал связь его с гегелевским
истолкованием Якоби (Фишер К «Гегель». I. С. 418). К Фишер опирается
как раз на сопоставление «Феноменологии духа» со статьей Гегеля
«Вера и знание» (1802). Но путь Фишера — не от смыслового
анализа к подтверждению его результатов иными данными, а обратный,
более грубый путь — от данных биографии и истории работ Гегеля
к толкованию смысла. Этим и объясняется, что К. Фишер
одинаково относит к Якоби гегелевские характеристики и «совести» и
«прекраснодушия». В действительности такое толкование
прекраснодушия приемлемо только в очень широком смысле этого слова и
допустимо лишь, поскольку его более узкий и строгий смысл у Гегеля
вообще включен как момент в стадию «совести» как морального
сознания «действительного долга». Ибо, как это видно из вышеданно-
го изложения, моменту прекраснодушия предшествует еще момент
«чистой субъективности». К последней можно прийти от «совести»,
resp. от учения Якоби, но такое движение можно рассматривать и не
как обязательное. Оно ведет к новому нарушению долга и
действительности, тогда как от «сердечного субъективизма» Якоби можно
и непосредственно прийти к тому же примирению, где «природа»,
«естественная индивидуальность», возвышается до всеобщности
«универсума». Такое движение приводит от Якоби к Шлейермахеру
и разрешает страдания «прекрасной души», в себе самой ею
неразделимые*. Другой путь от Якоби — к «чистой субъективности» Фихте, а
отсюда к тоске «прекраснодушия» и к «лицемерию».
Непосредственно ясно, что характеристики Гегеля имеют здесь в виду романтизм
к романтиков. Содержание и самая последовательность изложения
в «Истории философии» Гегеля подтверждают это сопоставление.
* Cf. ту же статью Гегеля «Glauben und Wissen». В. I. S. 112-113 (изд. 1832). -
Упрощение схемы у К Фишера, может быть, проистекло из того, что он, имея
в виду «биографический» факт принадлежности Гегелю статьи о Якоби в
«Heidelbergische Jahrbücher fur Literatur» (1813), вообще неправильно
представлял себе отношение Гегеля к Якоби (см. Фишер К «Гегель». I. 108-110. ср 264),
между тем принадлежность этой статьи Гегелю теперь вовсе отрицается.
Отношение Гегеля к Шлейермахеру сложнее и не так устойчиво, как может
показаться из сказанного мною в тексте. Следует иметь в виду также оценку Гегелем
Шлейермахера в его «Истории философии». Я в это не вхожу здесь, потому что
для темы моей статьи это значения не имеет.
404
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
В частности, отмечу только способ, каким теперь устанавливается
у Гегеля переход от Фихте к Шлегелю и романтизму. Гегель
подчеркивает, что Фихте, что фихтевское Я, устанавливая в не-Я предмет,
оставляет последний неопределенным, вследствие чего не-Я не
имеет никакого положительного, самого по себе сущего определения, и
всегда остается некоторая чистая потусторонность (III, С. 571). Эта
характеристика прямо напоминает данную в «Феноменологии духа»
характеристику «несчастного сознания», в христианстве
тосковавшего по потустороннему, и объясняет, почему, подходя к
изображению «прекрасной души», Гегель в «несчастном сознании» отмечает
общность того и другого момента в ходе развития сознания*.
Моральная действительность Я, по Фихте, — продолжает Гегель, — есть
тоска, стремление, — то же, что кантовское долженствование. Как
и кантовская философия, поэтому, философия Фихте остается
субъективизмом. На бесконечную тоску потом смотрели, в красоте и в
религиозном чувстве, как на высшее**.
В связи с этим и стоит романтическая ирония, на собственную
характеристику которой, данную в другом месте (в связи с
характеристикою «иронии» Сократа), ссылается здесь сам Гегель. По его
словам («G<eschichte> d<er> Philos<ophie>». II. ssff), следует
отличать сократовскую иронию от «современной», как она
изобретена (по выражению «Эстетики» Гегеля) Фр. Шлегелем255 и вторящим
ему Астом***. Эта ирония проистекла из фихтевской философии, — в
ней субъективное сознание справляется со всеми вещами, она есть
игра со всем и может все превратить в иллюзию. Она
обнаруживается всюду, где есть переход из одной крайности в другую, от самого
превосходного к самому худшему: в воскресенье самоуничтожаться,
сокрушаться, повергаясь в прах, колотить себя в грудь и каяться, а
* См. сделанные выше обобщения. Ср. с этим и след. общее пояснение
Розенкранца: «В несчастном сознании, в которое, по Гегелю, переходит
скептицизм, уже изображается романтическая тоска и изломанность, которые
возвращаются в отчуждении духа еще раз как вера, затем как прекраснодушие и,
наконец, как переход от откровенной религии к абсолютному знанию» (Hegels
Leben. S. 205.).
** G<eschichte> d<er> Philos<ophie>. III. S. 571.
*** Как известно, исключительную роль «ирония» играет в эстетике Зольгера,
но Гегель последнего резко отличает от Шлегеля и его ближайших
сторонников. Cf. Vorles Üb. d Aesthetik. I. S. 87-8 (2 Aufl. 1842); Ср. также «Grundlinien der
Philosophie des Rechts». S. 196-197 (3 Aufl. 1854).
К вопросу о гегельянстве Белинского
405
вечером, для восстановления самочувствия, жрать и напиваться,
пресыщаться всеми наслаждениями. Лицемерие — сродни этому всему,
оно — величайшая ирония.
Совершенно те же мысли, и еще более детализированные в
соответствующем уклоне, Гегель развивает в «Эстетике». В «иронию»
развились настроения и учение Фр. Шлегеля, но свое глубокое
основание она нашла в фихтевской философии: то, что есть, есть только
благодаря Д а то, что есть через меня, Я может с таким же успехом
опять уничтожить (I. С. 82). Здесь же, в «Эстетике», поясняется и
переход от этой «иронии» к «прекраснодушию». Ближайшая форма
отрицательности иронии есть суетность или «пустота всего
настоящего, нравственного, содержательного, ничтожество всего
объективного и значимого самого по себе и для себя. Все кажется Я суетным,
пустым, кроме его собственной субъективности. Но, с другой
стороны, Я может почувствовать себя неудовлетворенным в своем
самоуслаждении, почувствовать свою недостаточность и ощутить жажду
прочного, субстанциального. Возникает несчастие и
противоречие, и если субъект не может уйти от этой неудовлетворенности, он
впадает в тоску. Неудовлетворенность бессилием, которое не может
действовать и ни к чему не может прикоснуться, чтобы не нарушить
внутреннюю гармонию, и которое, невзирая на тяготение к
реальности и к абсолютному, остается все-таки недействительным и
пустым, хотя в себе и чистым, — эта неудовлетворенность и вызывает
болезненное прекраснодушие и тоску. Ибо истинно прекрасная душа
действует и действительна, а эта тоска — только чувство
ничтожества пустого суетного субъекта, у которого не хватает силы уйти от
этой суетности и быть в состоянии наполниться субстанциальным
содержанием»*. — Тут мы пришли к формулировке мысли Гегеля
самой сжатой, точной и полной.
Чтобы покончить с экскурсом в Гегеля, сделаю две последние
справки, полезные для нас не в одном и том же отношении. Во-
первых, отмечу, что, указывая на прекраснодушие как на последствие
субъективизма и иронии, Гегель дает и еще более точное
приурочение его, когда прямо называет сочинения Новалиса как воплощение
тоски прекрасной души. Эта субъективность не доходит до
субстанциального и истлевает в себе. Остающееся второе указание почер-
•Aesthetik.LS.85.
406
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
пается из «Философии права», где «прекрасная душа» фигурирует во
«второй части», в «Моральности», непосредственно перед
переходом моральности в (объективную) нравственность. Именно с этой
стороны нам полезно еще немного на этом задержаться. Длинное,
весьма важное примечание к § 140 посвящается Гегелем
рассмотрению главных форм субъективности. Высшею формою
субъективности опять-таки признается ирония, в смысле уже указанном, и опять
субъективность у Гегеля завершается «прекрасною душою»,
истлевающею в собственной недействительности. Гегель сам
напоминает о своей разработке этой темы в «Феноменологии духа», отмечая
разницу в толковании перехода этого момента на высшую стадию.
Теперь этот переход толкуется как единство субъективного и
объективного блага в нравственности. В ней совершается их
примирение. Право и мораль не могут существовать самостоятельно, они
должны иметь в нравственном своего носителя и основание, так как
праву недостает момента субъективности, присущего единственно
морали. Оба момента, каждый для себя, лишены действительности
(С. 204). Так как, по Гегелю, «государство есть действительность
нравственной идеи» (§ 240. S. 305), то ясно, что теперь искомое
примирение и есть примирение в этой действительности. Но так как,
с другой стороны, действительность для Гегеля есть разум, — так что
задачу своей «Философии права» он прямо определяет как
«попытку понять и изобразить государство как нечто в себе разумное», —
то можно сказать, что названное примирение есть примирение в
разуме. Можно, наконец, это заключение выразить и еще в одном
терминологическом порядке, так чтобы показать в нем общий
завершительный ответ на вопрос, волновавший Гегеля с юности, —
вопрос о «примирении» единичного и общего. Не в его аутентичной
формулировке, но точно в духе его основных мыслей этот ответ
дает один из параграфов (С. 156) «Философии права»:
нравственное не абстрактно, а в интенсивном смысле — действительно. Дух
имеет действительность, и акциденции ее — индивиды. По
отношению к нравственному поэтому возможны только две точки зрения:
или идут от субстанциальности, или оперируют атомистически, т. е.
идут от единичности, — последняя точка зрения лишена духа, ибо
она ведет только к некоторой связи, тогда как дух есть единство
единичного и общего. Конкретнее и имея в виду осуществление духа,
эта мысль выражается у Гегеля еще следующим образом: государство
К вопрос о гегельянстве Белинского
407
как действительность субстанциальной воли, следовательно, духа —
есть разумное само по себе и для себя. Поскольку нравственность в
своей действительной форме государства есть объективный дух, сам
индивид имеет объективность, истину и нравственность лишь как
член государства. Объединение как такое есть истинное содержание
и цель, а назначение индивидов — вести общую жизнь. Разумность
состоит, рассматриваемая абстрактно, в сквозном единстве общего и
единичного, и конкретно — по содержанию в единстве объективной
свободы, т. е. общей субстанциальной воли, и субъективной свободы,
как индивидуального знания и воли, ищущей своих частных целей, а
по форме — в поведении, определяющемся общими законами и
положениями*.
VII
Из последних разъяснений делается однозначным точный смысл
приложения к философии нравственности и государства общей
логически-онтологической формулы Гегеля: что разумно, то
действительно, и что действительно, то разумно.
С этой формулой мы возвращаемся к статье Бакунина. Не
подлежит спору, что формула точно выражает центральную мысль
философии Гегеля и что, следовательно, Бакунин с полным правом
характеризовал ее как «основу философии Гегеля». Точно так же не
подлежит спору, что философия Гегеля ни в какой мере не
ответственно за те патриотические применения ее, которые нашел нужным
сделать Бакунин. Эти применения передают его личные убеждения,
сложившиеся независимо ни от какой философии, но под которые
он подводил, как под фундамент, Гегеля и мог бы подвести любое
другое очень отвлеченное или общее философское основание. Это
существенно отметить для того, чтобы иметь в виду, что отказ от
этих личных убеждений или перемена их не предрешали
объективной необходимости отказа и от философии Гегеля. Таковой должен
обусловливаться другими причинами, лежащими в самой же фило-
* § 258. S. 306-307, Cf.: «форма в ее конкретнейшем значении есть разум, как
постигающее в понятиях познание» (als begreifendes Erkennen); «содержание
есть разум, как субстанциальная сущность нравственной, точно так же как и
естественной действительности»; «сознаваемое тожество обоих есть
философская идея». (Phlios<ophie> d<es> R<pehis>. S. 19.)
408
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
софии, а не в случайном применении ее. Конечно, и субъективная
связь могла установиться настолько прочно, что крушение личных
взглядов влекло за собою разочарование в самой философии. Но и
это ничего не решает о философии, а только об отношении
субъекта к философии, т. е. более характеризует психологию
философствующих, чем предмет и содержание философии. Все это
относится не только к Бакунину, а за ним и к Белинскому, но и ко всему
нашему философствованию в целом.
Оставляя в стороне психологию и обращаясь к предмету и
содержанию, если мы интересуемся развитием и судьбою русской
философии, после сделанных оговорок мы должны руководиться
вопросом: что по преимуществу заимствует русская философия у
западных творцов философии, какие проблемы занимают ее в последней
и как она распоряжается заимствуемым? В этом должны сказаться ее
собственные способности и ее философский дух.
В этом смысле я считаю в высшей степени показательною ту
постановку вопроса, которая имеется в статье Бакунина. Как я отмечал,
в более общем контексте «Очерка развития русской философии»,
коренною проблемою русской сознательной мысли становится
вопрос о самом русском, о России, о народности, об интеллигенции
как члене этого народа и духовном представителе его, за него и
перед ним ответственном*. Рассматриваемая теперь тема —
иллюстрация этого общего тезиса. Но она может дать и больше:
присматриваясь к тому, как заимствованные мысли, под руководством
указанного общего интереса, преобразовывались и преображались в
рассуждениях русских мыслителей, мы получаем данные для вывода
об специфическом характере самого развития русской философии,
ее неудач, ее неумения переносить эти неудачи и ее
неподготовленности к тому выходу, который вместо разочарований возбуждал бы
надежду и веру в свои силы.
Бакунин связал «разумную действительность» Гегеля с
преодолением у Гегеля «прекраснодушия». «Основа» философии Гегеля была
понята им как решение вопроса личного сознания. Такое сопостав-
* Невзирая на то, что этот вопрос нередко решается в аспекте
самонаблюдения, его решения сплошь и рядом превращаются в норму оценки, и аргумент от
«всякого порядочного человека» и ко «всякому порядочному человеку»,
превратившись в ходовой, постепенно деградировал от убеждающего, устрашающего,
угрожающего до развлекающего или раздражающего. Это — так же к психологии.
К вопросу о гегельянстве Белинского
409
ление вопроса и ответа отныне и становится господствующим в
русской философии. Бакунин и Белинский — родоначальники одного
из способов рассмотрения этого сопоставления. Что они из него
извлекли, что с ним сделали и к чему привело это их дело?
Из предшествовавшего изложения ясно, что для сделанного
Бакуниным сопоставления «прекраснодушия» и «разумной
действительности» в философии Гегеля имелось развитое и оправданное основание.
Но насколько правильно Бакуниным поняты термины
заинтересовавшего его отношения, а следовательно, и самое отношение? Статья
Бакунина — программно — сжатая и бедная развитием мыслей, но
поскольку Белинский, в своих статьях этого периода, является
комментатором Бакунина, из общего материала, ими обоими доставляемого,
можно прийти к заключениям достаточно полным и ясным.
Руководясь этим совокупным материалом, можно утверждать, что
в общем «разумная действительность» толковалась друзьями если и
не адекватно точно, то все же приблизительно верно. Так, в статье
«Горе от ума» («От<ечественные> 3<аписки>». 1840. Январь)
Белинский, провозгласив: «действительность — вот пароль и лозунг
нашего века» (III. С. 355), воспроизводит все историко-философские
сопоставления, какие были сделаны в статье Бакунина — от Канта до
Гегеля и Гете, включая сюда и ссылку на Шиллера, долженствовавшую
иллюстрировать «прекраснодушие», против которого и делалась
апелляция к «действительности». А несколькими страницами ниже
Белинский дает определение слова «действительность» (III. С. 361.
Ив<анов>-Р<азумник>. С 608)256. «Под словом "действительность"
разумеется все, что есть — мир видимый и духовный, мир фактов и
мир идей. Разум в сознании и разум в явлении, словом,
открывающийся самому себе дух, есть действительность] тогда как все
частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, как
противоположность действительности, как ее отрицание, как кажущееся, но
не сущее». В приведенном отрывке, можно, конечно, не признать
адекватным Гегелю употребление <таких> слов, как «случайное»,
«призрачность», «не сущее», но после того, что мы знаем об участии
Станкевича и Бакунина в первоначальном усвоении Белинским
Гегеля, это фихтеанизирование Гегеля генетически понятно. Более
строгое разъяснение, которое Белинский дает страницею ниже (С. 362):
«Не все то, что есть, только есть. Всякий предмет физического и
умственного мира есть или вещь по себе, или вещь и по себе (an sich) и
410
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
для себя (fur sich). Действительно, есть только то, что есть и по себе,
и для себя, только то, что знает, что оно есть и по себе и для себя, и
что оно есть для себя в общем»*.
С точки зрения собственного развития, Белинскому, как и
Бакунину, казалось, что самым важным в новом их мировоззрении
является преодоление того субъективизма, который в крайней своей,
фихтеанской, форме только что владел их душою.
«Действительность» поэтому представлялась для них прежде всего как
объективная действительность, в противоположность субъективной, в
терминах самого же Фихте, призрачной. Белинский высказывает и
повторяет мысль о том (III. С. 209, 328), что действительность, как разум
явившийся и отелесившийся, всегда предшествует сознанию, ибо,
прежде чем сознавать, нужно иметь предмет для сознания. Разум не
создает действительности — как это выходило по учению
субъективного идеализма, — а только сознает ее (С. 328). Все, что ни есть,
* Иванов-Разумник — первый, кто^ нас отнесся с должным вниманием к
сопоставлению Белинского с подлинным Гегелем, все-таки считает, что
определение действительности у Белинского («мир видимый...» и пр.) сделано «вопреки
Гегелю». Это — верно, поскольку гегелевское разделение дано в фихтевском
одеянии, но последнее не окончательно укрыло от зрителя очертания
настоящего гегелевского определения. Иванов-Разумник ссылается на «Большую
логику» Гегеля. Но Белинский, со слов Бакунина, должен был знать скорее
определения «Малой логики» («Энциклопедии»), которую Бакунин так усердно
конспектировал (см. Корнилов, Прилож. IV). В ней же (§ 6) понятие действительности
вводится приемом, сходным с приемом Белинского, т. е. сперва говорится, что
содержание философии есть совокупное содержание всего мира «внешнего и
внутреннего мира сознания». Первое (das nächste) сознание этого содержания
мы называем опытом. И только дальнейшее, более проникновенное
рассмотрения (eine sinnige Betrachtung) мира открывает нам, что в области внешнего и
внутреннего наличного бытия только преходящее явление и что поистине
заслуживает имени действительности. В пояснении к этому важному параграфу,
которое уже цитировалось выше, содержится ответ на недоразумение,
вызванные формулою о разумной действительности, и даются дальнейшие указания
по поводу приведенного различения.
Возвращаясь к замечанию Иванова-Разумника, подчеркну еще его
совершенно правильную мысль, что, в то время как для Гегеля разумность
действительности вытекала из «объективно-логического построения», для Белинского
она вытекала из «субъективно-психологических настроений» (Собр. соч.
Белинского под ред. Иванова-Разумника. Т. I. С 586-387). Но именно поэтому едва
ли можно согласиться с другим утверждением талантливого критика, которое,
как мне кажется, находится с приведенным в противоречии. «Само, — говорит
он, — <примирительное> настроение явилось только следствием гегелианства
Белинского...» (ib., С 441).
К вопросу о гегельянстве Белинского
411
разъясняет Белинский, есть или являющийся разум (разум в
явлении), или разум сознающий (разум в сознании). Именно сознающий
разум сознает, а не творит действительность (С. 209). Человеческое
знание, как теория познаваемого предмета, есть сознание законов
этого предмета (П. С. 287). Отсюда понятно, как к двум
отожествляющимся терминам: действительность и разумность, —
присоединяется третий: необходимость. «Все, что есть, то необходимо, разумно и
действительно»*, — формулирует Белинский.
Наконец, так как необходимость непосредственно и тесно
связывается со всеобщностью, в ней мы получаем еще новый признак
подлинной действительности в противоположность только
субъективному и потому призрачному. Поскольку общее, с одной стороны,
и субъективное, с другой стороны, толкуются в аспекте не только
теоретическом, но и моральном, как общий интерес и эгоистическая
личность, мы оказываемся уже на переходе от теоретического
рассуждения к практическому применению теории, а через связь
действительности с «жизнью» мы перейдем и к эстетическому применению.
Если не слишком гоняться за буквальностью, то все эти
разъяснения Белинского можно признать пусть упрощенным, но все же
выражением мыслей Гегеля. Равным образом, принимая во внимание
толкование Гегелем действительности как объективированного духа,
можно принять и ту формулу Белинского, в которой он связывает
действительность с жизнью: «Действительное есть во всем, в чем
только есть движение, жизнь, любовь; все мертвое, холодное,
неразумное, эгоистическое есть призрачность» (III. С. 364) — хотя,
несомненно, эта формула отравлена моралистическим дыханием Фихте**.
* III. С. 327, ср.: С. 136: «Признак разумности всякого явления есть его
необходимость, тогда как, наоборот, признак бессмысленности всякого явления
есть его случайность». С точки зрения Гегеля строгой, это, конечно, не точно.
** Так как именно этою связью Белинский пользуется для перехода к своей
теории поэтического, то не может быть сомнения во внутренней связи этой
теории с прежними, внушенными Белинскому Надеждиным взглядами, в
частности с формулою, которую любил повторять Надеждин ubi vita ibi poesis [где
жизнь — там и поэзия] и которую Белинский уже воспроизводил в своих
статьях эпохи «Телескопа». Приведу только один из примеров: «Итак, вот другая
сторона поэзии, вот поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности,
наконец, истинная и настоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный
характер состоит в верности дей<ствительно>сти». Это пример из статьи,
помещенной в «Телескопе» за 1835 г., «О русской повести и повестях Гоголя» (1.181).
412
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Белинскому хочется идти еще дальше, хочется до конца быть
последовательным, и он приходит к такому толкованию самой
призрачности, которое потом юлновало некоторых его современников, как
тема о «свирепой» и «свирепейшей имманенции» (Хомяков, 1Ьрцен).
Белинский здесь соприкасается с существом диалектики Гегеля, но
скользит над нею, не подозревая, над какою глубиною пробегает его
плоскодонная ладья, подгоняемая ветром фихтеанского оптимизма.
Призрачность сама, поясняет он, получает характер необходимости,
если, оставив субъективную сторону человека, взглянуть на него
объективно, как на члена общества (III. С. 364). Все служит духу, и
истина идет всеми путями, не разбирая их. Иной служит низким нуждам и
страстям своим, не думая о пользе общества, но тем не менее невольно
и бессознательно он служит именно обществу. Само отрицание и
отрицательное входят как необходимые стихии в развитие и проявление
духа. «Действительность есть положительное жизни; призрачность
ее отрицание. Но, будучи случайностью, призрачность делается
необходимостью, как уклонение от нормальности вследствие свободы
человеческого духа. Так здоровье необходимо условливает болезнь,
свет — темноту. Целое заключает в себе все свои возможности, и
осуществление этих возможностей, как имеющее свои причины,
следовательно, свою разумность и необходимость, есть действительность»
(III. С. 364-365). Однако и при этом крайнем обобщении, где как
будто вовсе стирается грань между Фихте и Гегелем, Белинский не
потерял гегелевского отличия собственной действительности, как
действительности духа. Он уловил, или друзья сумели ему разъяснить, и то, что
кроме вышеуказанных формальных признаков, «действительность»
обладает еще признаком материальным, действительность — не явление
просто, а идея и явление идеи. Если мы возьмем человека как явление
разумности, поясняет Белинский, его идея еще не полна; для своей
полноты она должна содержать все свои возможности, а
следовательно и уклонение от нормы, «падение». Поэтому пустой, глупый человек,
сухой эгоист — призрак, но идея глупца, эгоиста, подлеца есть
действительность, как необходимая сторона духа, как уклонение его от
нормальности (С. 365)*.
* Ср. выше прим. цитата из Фихте («то, что мы называем злом, следствие
злоупотребления свободою» и т. д.) и вообще весь конец «Назначения
человека». А с другой стороны, и осуществление возможностей, даже имеющих свои
причины (основание, по Гегелю), еще далеко не действительность и может
К вопросу о гегельянстве Белинского
413
Белинскому однажды удалось схватить и передать читателям
основную мысль Гегеля в формуле, ничего не оставляющей желать
в смысле философской выразительности и изящества:
действительность есть «истина в явлении» (III. С. 359)*. Таким образом, в целом
нужно все же, вопреки распространенным заявлениям, признать, что
друзья Белинского, т. е. главным образом Бакунин и Катков,
правильно схватили, что одною из основных идей философии Гегеля
является учение Гегеля о действительности как объективировании духа,
и, по-видимому, поняли смысл этой идеи, потому что Белинский, в
общем, правильно ее перебросил дальше читателю. Этого вывода не
опровергает тот факт, что у Белинского оказалось сбитым вместе и
стиснутым воедино то, что у Гегеля говорится по разным поводам и в
разном контексте — в «Феноменологии духа», в «Философии права»,
в «Логике», в «Эстетике». Не нужно все-таки забывать, что Белинский
не был вовсе философом и, имея вообще весьма скромное
образование, философское свое развитие почерпал только из вторых и
третьих рук. Для надобностей публициста и литературного критика во
времена Белинского, как и свидетельствует история, этого хватало,
тем более что недостающее с избытком покрывалось литературным
даром критика. Этот-то «избыток» и сделал то, что, по собственному
разъяснению Белинского, и «призрак» становится необходимым в
развитии человечества, когда, удовлетворяя «потребности
собственного духа», он тем не менее «невольно и бессознательно» служит на
пользу обществу (III. С. Зб4). Литература была призвана у нас
заразить общество европейской философией, и «призрачный» философ,
литератор Белинский, явился у нас орудием этого духа. В этом
смысле нельзя Белинского исключить из развития нашей философии.
Его включение в эту историю — не произвол историков, но также
и не чисто отрицательная необходимость, когда при общей
бедности приходится вносить в историю и такие имена, которые в более
счастливой истории были бы преданы беспорочному забвению.
оставаться «несущественным», «внешним» по отношению к действительности и
случайным (действительность есть единство внутреннего и внешнего).
'Тургеневу принадлежит часто цитируемая и принимаемая сентенция:
«Если б кто-нибудь шепнул тогда молодым философам, что Гегель не все
существующее признает за действительное, — много бы умственной работы и
томительных прений было сбережено...» (Литер<атурные> в<оспом>инания.
Т. X. С. 24, по 4 изд. 1897 г.) Этот «шепот» только повторил бы то, о чем
«молодые философы» кричали.
414
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Положительная необходимость говорить о Белинском в
изложении судьбы русской философии состоит в том, что он возбудил
в широких кругах русского' общества интерес к философии, но еще
более в том, что он предуказал также путь и способ выхода из
философии, предначертал то отношение к ней, которое составляет
необходимое условие ее «уклонения от нормальности» и «падения»,
говоря опять же его образами. Так отрицательное деяние становится
для историка положительною необходимостью, пренебрежение
которою дало бы изображение «неполной» действительности. В силу
этих соображений, невзирая на скомканность и спутанность мысли
у самого Белинского, ее нужно расчленить по тем самым
группировкам, которые были установлены первоисточником этой мысли, т. е.
философией Гегеля. Это расчленение само собою подсказывается
контекстом, в котором эти мысли заданы в первоисточнике, т. е. в
«Философии права (и истории)», в «Феноменологии духа», в
«Эстетике». Для Белинского это — проблемы государства и народности,
личности и морали, эстетики и поэзии. Нечего ждать здесь какой-либо
системы или ее подобия в теоретическом развитии
соответствующих проблем. Иначе Белинский был бы философом. Это — только
декларируемые высказывания, худо или хорошо передающие
мысли Гегеля, а затем применительные выводы из этих высказываний.
Именно здесь Белинский оригинален, именно здесь определяющие
условия и для воспитывавшихся Белинским читателей, и для его
литературных продолжателей. Сами применения, о которых идет речь,
могут быть философскими или вне-философскими. И в этом как раз
прежде всего и важнее всего отдать себе отчет для правильного и,
может быть, окончательного суждения о роли Белинского в
развитии русской философии.
VIII
В одной из заметок, помещенных в «Московском Наблюдателе»
(1838. № 8. «Петровский театр»), воспоминание об актере
Волкове дает Белинскому повод требовать «полного уважения к самим
себе, к своему родному» (И. С. 608)257 и задеть тех, кто не видит
«самородного богатства русского духа и русской жизни» только
потому, что ставит себе целью не уступать французам в уменьи
говорить и писать по-французски, но не знает русской
орфографии и читает «Историю» Карамзина во французском перево-
К вопросу о гегельянстве Белинского
415
де*. Перечислив анекдоты, долженствующие свидетельствовать о
нашей самобытности, Белинский заключает: «Но, слава Богу, это
жалкое предубеждение <против нашей самобытности>
рассеивается все более и более, с того времени, как раздался священный
голос с престола, повелевающий Русским быть Русскими и
возвещающий, что кроме самодержавия и православия, всегда бывших
и всегда будущих сокровенным родником русской жизни, ее
твердою опорою и залогом ее исполинского могущества на страх
врагам и благо мира, — да будет еще и народность, и да проникнет
собою и наше знание, и наше искусство, и наши произведения, и
да сообщит им ту оригинальность и самобытность, без которых
нет прочности и действительности...» (II. С. 610-611).
Русская история рисуется воображению Белинского как
диалектическое развитие от допетровской самобытности, непосредственной и
субъективной, через отрицание ее к «новой прекрасной жизни»,
начало и предзнаменование которой Белинский видит в своей эпохе.
Только вблизи великое и истинное кажется нам простым и обыкновенным,
но это нимало не отрицает его действительности (II. С. 611).
Едва ли есть основание даже ставить вопрос о том, насколько
Гегель не ответствен за привлечение его к оправданию
государственной мудрости С. С. Уварова. Обратим внимание только на то, с какою
поспешностью Белинский связывает самые общие положения
философии с последнею эмпирическою злобою, своему дню довлеющею,
и в особенности на тот способ, каким эта связь устанавливается.
Белинский не углубляется в спецификацию общей философской
истины, чтобы через такую спецификацию, не теряя под собою
философской почвы, перейти к возможному «применению» философии,
т. е. к постановке в ее свете волнующей нас прагматически данной
проблемы. Белинский позабыл или игнорировал основное
методологическое требование, которое он узнал, впервые знакомясь с
Гегелем, из Станкевичем переведенной и самим Белинским в
«Телескопе» помещенной статьи Вильма: «Прежде, нежели спросим новую
философию о ее отношении к человечеству, надобно исследовать ее
как науку» (Н. В. Стан<кевич>. С. 184)258.
* В письме к Бакунину (12-24 окт. 1838 г.) Белинский сообщает об этой
своей «выходке» что Чаадаев принял ее на свой счет и взбесился. Теперь ему
самому стыдно стало» (I. С. 306).
416
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Белинский поступает прямо вопреки этому философскому
методическому требованию, он наперед, по-своему, практически же
оценивает данное ему в жизненном опыте и потом ищет оправдать роль
и значение этого данного, как и своей оценки его, тою философией,
которая представляется ему «мирообъемлющей и последней
философией нашего века» (И. С. 501). Горе, следовательно, если она не
выполнит возлагаемых на нее надежд или если найдется другая
«последняя философия нашего времени», которая выполнит
возлагаемую на нее обязанность охотнее, почтительнее, приспособительнее
первой, а еще пуще горе ей, если она вовсе откажется от
навязываемой ей роли — ей всегда найдется более податливая и покладистая
замена!*
Можно было бы подумать, и иногда так толкуют Белинского, что
он просто неправильно усвоил Гегеля, так как идеальное-значение
терминов «народ», «государство», «действительность» он понял
только эмпирически. По отношению к «действительности» выше было
показано, что понимание Белинским общих положений Гегеля о ней
было относительно правильным. То же можно сказать и о других
терминах. Так, употребив слово «народность» в другой статье того
же времени («Литературная хроника»), Белинский тотчас поясняет,
что им имеется в виду «высшее значение этого слова, как выражение
субстанции народа, а не тривиальной простонародности» (II. С. 331.
ср. С 304-305,424Г-
Полнее взгляд Белинского на народ и государство развит в
статье, напечатанной уже в «Отечественных записках» (1839), по
поводу «Очерков Бородинского сражения» Глинки.
Народ не отвлеченное понятие, а живая индивидуальность,
организация, все функции которой направлены к единой цели. Народ
есть личность. Так начинает свою статью Белинский (П. С. 205), как
отмечалось уже исследователями Белинского, в духе Шеллинга***,
или, может быть, по отношению к Белинскому точнее было бы ска-
* Грубоватый, как то свойственно Фихте, но формально в высшей степени
четкий образчик правильно-философского пути Фихте показывает в
«Основных чертах современной эпохи».
** Кстати отметить, что эта оговорка связывает новое понимание
Белинским народности с его прежним пониманием, составившимся в период
непосредственного на него влияния Надеждина.
*** Ср. Иванов-Разумник Собр. соч. Белинского. I. С. 497.
К вопросу о гегельянстве Белинского
417
зать, в духе и по букве шеллинго-надеждинских. Далее, Белинский
фантазирует, периферически касаясь то шеллинго-шлегелевского,
то гегелевского кругов идей, пока не переходит, наконец, к более
ясно выраженным словосочетаниям в духе Гегеля. Народ, утверждает
он, только тогда делается государством, когда законность
приобретает формальность, народная жизнь получает определенные формы,
которые переходят в закон. «Государство есть высший момент
общественной жизни и ее высшая и единая разумная форма. Только
ставши членом государства, человек перестает быть рабом природы, но
делается ее повелителем, и только как член государства является он
существом истинно-разумным» (III. С. 214). Если не добиваться
точности понятий, а довольствоваться только мимолетным взглядом,
скользящим по поверхности мысли, то, пожалуй, отблеск Гегеля есть
то, что прежде всего бросается в глаза в приведенном определении*.
Белинский опять отступает к Шеллингу, романтикам и Фихте,
когда поясняет, что всякая разумность сперва должна явиться как
естественность и как непосредственное откровение, вследствие чего она
объясняется также священною и мистическою, по причине ее
близости к «источнику всего сущего, к божественной идее» (III. С. 214).
Последовательность развития, через которую Белинский проводит
государство, еще более отдаляет его от Гегеля: «Точно так же, по тому
же самому и государство есть разумное, а потому и священное
явление, что его начало скрывается в естественно-семейном родстве
людей, перешедшем потом в родство племенное, а наконец в
народное»**.
И, наконец, в духе вообще реакционных теорий государства и
права Белинский пытается интерпретировать Гегеля, когда еще
теснее связывает понятие государства с теорией божественного
происхождения государственной власти. Коренные государственные по-
* Ср. «Предисловие к Философии права» Гегеля, а также §§257 ff. или 513 ff.
«Энциклопедии».
Белинский не воспроизводит даже внешней последовательности
диалектики Гегеля, у которого нравственный дух объективируется, проходит от
непосредственного и нерасчлененного единства семьи, через устранение и
расчленение этого единства в гражданском обществе, к сознательному единству
и примирению в государстве. В большей мере схема Белинского напоминает
опять об Надеждине (см. его диссертацию «De origine etc.», pp. 127-128) или
даже об Зеленецком, которого Белинский с таким пренебрежением
рецензировал в «Молве» Надеждина. (См. мой «Очеркразвития русской философии». Ч. I.)
418
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
становления священны, рассуждает он, потому что они — идеи не
отдельного, а каждого народа, и потому что, перешедши в явления,
они диалектически развивались в историческом движении, так что
самые изменения их суть моменты их собственной идеи (С. 217).
Как священно существо человека, потому что рождение и развитие
его есть для него тайна, так и по тем же причинам священно и
существование общества (С. 216). Сила векового предания и
таинственность происхождения освящает явления как свидетельство, что эти
явления — не человеческие выдумки, а непосредственное
откровение. И в этом — глубокая мысль, что нет власти, которая не была бы
от Бога (С. 217-218).
Так, наматывая на осколки гегелевых выражений мысли или,
вернее, отзвуки мыслей учений об естественном праве, исторической
школы, богословской и реакционной, романтиков, Шеллинга, Фихте,
Белинский приходит к заключениям, от которых потом сам
отрекался. Мистическая и священная идея отца-родоначальника, утверждает
он, была живым источником идеи царя (С. 218). Доказать этого из
опыта нельзя, история не может показать развития идеи отца в идею
царя, и вот Белинский бросает на стол последний козырь: из опыта
этого вывести нельзя, «но в умозрении это очень понятно» (С. 219),
«...кто внушил человеку чувство мистического, религиозного
уважения к виновнику дней своих, освятил сан и звание отца, тот
освятил сан и звание царя, превознес его главу превыше всех смертных
и земную участь его поставил вне зависимости от случайной воли
людской, сделав личность его священною и неприкосновенною
... Поэтому царь есть наместник Божий, а царская власть,
замыкающая в себе все частные воли, есть преобразование единодержавия
вечного и довременного разума» (С. 219). Весь этот вздор не
заслуживал бы внимания, если бы Белинский вьщавал его только за свое
собственное творчество и не внушал читателю, что таковы идеи
«новой» и «всеобъемлющей» философии Гегеля. Между тем, Белинский,
в другом месте (в ст. о Менцеле) прямо заявил: «Философия Гегеля
признала монархизм высшею разумною формою государства, »
(III. С. 302, и таким образом давал читателю право думать, что им,
Белинским, в самом деле точно и адекватно передается мысль
Гегеля. Что Белинский не знал общего, достаточно развитого учения
Гегеля о монархии и монархе, в том не может быть сомнения, но
знал ли он, по крайней мере, что Гегель, говоря о монархии, имеет
К вопросу о гегельянстве Белинского
419
в виду — и он прямо об этом говорит — монархию ограниченную
и конституционную, — что для нас разница небольшая, а для
времени Белинского — весьма даже существенная. Если он не раскрывает
своего знания по соображениям цензурным, то ему следовало бы по
этому вопросу просто молчать, а не вводить читателя в заблуждение,
выдавая за гегелевское то, от чего Гегель по чистой совести должен
был бы отречься. Белинский думал, писал и внушал читателю мысли
о нашем «монархе», о нашей «монархии», т. е. о том, что в
терминологии Гегеля обозначалось как деспотизм, а эта «форма
правления» характеризуется у Гегеля как раз признаком, противоположным
тому, какой сам Белинский счел нужным указать для разумного
государства, т. е. не законностью, которая приобретает формальность,
не определенностью форм народной жизни, которые переходят в
закон, а именно и прежде всего без-законностью, где частная воля
как такая выступает в роли закона и вместо него*.
Как указано, важно не то, что Белинский не понимал и
неправильно толковал Гегеля, а то, как он его применял для решения
вопросов, выдвигавшихся окружающими его условиями, и для отыскания
правил собственного поведения в этих условиях. Русская
действительность, русский народ и интеллигенция («общество»), которая теперь
не хотела быть оторванной от своего народа**, — таковы были
прагматические проблемы новой интеллигенции. Белинский превращал их в
проблемы философские. Но вся суть именно в том, как он это делал?
Путем философских выводов и спецификации общего учения Гегеля
или ища в последнем только оправдания своего готового
прагматического же их разрешения? Для полной убедительности и, кстати, для
раскрытия действительного источника, внушившего Белинскому
прагматическое же разрешение указанных проблем, приведу в добавление
к уже сделанным цитатам из Белинского еще одно его рассуждение
(из рецензии на «Бородинскую годовщину» Жуковского).
«Да, в слове "Царь", — восклицает он, чудно слито сознание
русского народа, и для него это слово полно поэзии и таинственного
значения...» (III. С. 266). И это, поясняет Белинский, не случайность,
* Crundlinien der Philosophie des Rechts. 278. hrsgb. V. Lasson, S. 227: «Aber
der Despotismus bezeichnet überhaupt den Zustand der Gesetzlosigkeit, wo
der besondere Wille als solcher, es sei nun eines Monarchen oder eines Volks
(Ochlokratie), als Gesetz oder vielmehr statt des Gesetzes gut ».
** Ср.: Белинский. «Литературные мечтания». Гл. V. ав, init.
420
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
а самая строгая, самая разумная необходимость, раскрывающаяся в
нашей истории. Ход нашей истории — обратный по отношению к
европейской: там исходною точкою была борьба и победа низших
степеней государственной жизни над высшими, у нас — обратно,
правительство всегда шло впереди народа, было его путеводною
звездою к его высокому назначению, а царская власть всегда была
живым источником обновления, солнцем, лучи которого
разбегались по всему великому государственному телу и проникали его
жизненною теплотою и светом. В царе — наша свобода, потому
что от него — наша цивилизация, наше просвещение, жизнь наша.
Не будем толковать о необходимости повиновения царской власти,
это ясно само по себе, «нет, есть нечто важнее и ближе к сущности
дела: это — привести в общее сознание, что безусловное
повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но
и высшая поэзия нашей жизни, наша народность, если под словом
"народность" должно разуметь акт слияния частных
индивидуальностей в общем сознании своей государственной личности и самости*.
И наше русское народное сознание вполне выражается и вполне
исчерпывается словом "Царь", в отношении к которому "отечество"
есть понятие подчиненное, следствие причины» (III. С. 267-268).
Петр Великий, приобщив Россию европейской жизни, дал нашей
жизни новую форму, но не изменил ее субстанциального основания.
Этот взгляд должно положить в основу понимания русской истории,
чтобы не заблудиться в дремучем лесу абстрактных умствований
ложно понятого «русского европеизма»**. И так далее. Но
достаточно и приведенного, чтобы видеть, что высказанная Белинским
интерпретация русской истории и его апология уваровской формулы
имеют свой источник отнюдь не в философии Гегеля, а в тех
влияниях, которые Белинский испытал задолго до того, как его друзья
стали изучать Гегеля***. Все это — из наследия Николая Ивановича На-
деждина.
* Ср. также. III. С. 261.
** Ср. также. III. С 235-236.
*** <А. Н> Пыпин («Белинский, его жизнь и пр.». С. 149) подметил уже, что
«примирительный консерватизм» Белинского «вполне развит» у него уже в
половине 1837 г., до того, как он познакомился с Гегелем. В доказательство этого
Пыпин ссылается на письмо Белинского (из Пятигорска, 7 авг. 1837 г.) Д. П.
Иванову («Письма». И. С. 83-101). Стоит прочесть это письмо, чтобы убедиться, что
К вопросу о гегельянстве Белинского
421
Такой же прагматический подход к действительности
Белинский обнаруживал и в свой т. наз. шеллингианский период. Разница
только в том, что в другом месте он ищет теоретического
оправдания своему прагматизму. «Русский народ смышлен и понятлив,
усерден и горяч ко всему благому и прекрасному, когда рука царя-отца
указывает ему на цель, когда его державный голос призывает его к
ней!.. Да! У нас скоро будет свое русское, народное просвещение;
мы скоро докажем, что не имеем нужды в чуждой умственной
опеке. Нам легко это сделать, когда знаменитые сановники,
сподвижники царя на трудном поприще народоправления, являются посреди
любознательного юношества, в центральном храме русского
просвещения, возвещать ему священную волю монарха, указывать путь
к просвещению в духе православия, самодержавия и народности...»
(I. С. 127-128). Эта тирада выписана не из какой-либо гегельянской
статьи Белинского, а из заключения его первой критической статьи
«Литературные мечтания», подписанной 12 дек 1834 года*. В чем
принципиальная разница отношения к русской действительности
этой статьи и новых, запестревших гегелевскими словами?
Принципиальной разницы нет, и читатель, не знавший личной жизни
Белинского, мог думать, что отношение Белинского к русской
действительности с начала его литературной деятельности не менялось,
возрастал только объяснительный и оправдывающий материал вме-
в значительной своей части оно, — включая его центральную мысль: «Итак,
учиться, учиться и еще таки учиться» (Надеждин. «Discendum itaque est. Diss.
139) — парафраза мыслей Надеждина. Ср. также в «Литер. Мечт.»: «...ученье! Уче-
нье! Ученье! (I. С 127).
* Есть предположение (Венгеров), что редактор «Телескопа» Надеждин,
подправляя эту статью, именно цитируемые слова вставил от себя. Конечно, это —
только «догадка», которую в свое время Ю. И. Айхевальд квалифицировал как
«произвольную» и «праздную» («Спор о Белинском». М., 19 И. С. 30). Мне
лично, однако, эта «догадка», в силу некоторых стилистических особенностей
цитируемого места, кажется довольно правдоподобной, но я все же ссылаюсь на
него главным образом в силу другого, высказанного также Ю. И. Айхенвальдом,
соображения: в тексте сочинений и писем Белинского, оно не представляется
«инородным телом» и не противоречит другим «изъявлениям» Белинского. Да
и вообще нет указаний, чтобы Белинский отказывался от выраженных здесь
мыслей. Для моей, наконец, аргументации этот вопрос об актуальном авторстве
цитированных строк не является всеопределяющим: (I) и без того Белинский
своего «прагматического» отношения к теоретической философии не
скрывает, и (2) я говорю о писателе Белинском, а не об домашних делах и приватных
убеждениях Белинского.
422
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
сте с образовательным развитием самого Белинского. Только из
биографии его мы узнаем, в каком хаосе влияний билась все это время
его неустойчивая мысль, как мучителен для него был выбор и как
страстно было его подчинение всякому новому влиянию. В
личности Михаила Бакунина и в обстановке семьи Бакуниных Белинский
нашел то же решение проблемы русской действительности, какое он
уже раньше усвоил из литературной, профессорской и, надо думать,
дружеской проповеди Надеждина. Правда, биографы раскрывают
еще один «период» в развитии Белинского, который лежит между
его «шеллингианством» и «гегельянством», период внушенного тем
же Бакуниным «фихтеанства». Указывают, что этот «период» имел
литературное выражение в одной из рецензий Белинского (на
книжечку Дроздова)259. Но это выражение было столь скромным и сам
Фихте был воспринят в его столь общем здраво-моралистическом
аспекте, что без помощи биографов его дыхание в названной
рецензии раскрыть было бы трудно. Но раз оно так или иначе
раскрыто, мы убеждаемся, что оно дает себя постоянно чувствовать, и
в т. наз. гегельянский «период». Во всяком случае, можно ручаться,
что широкий читательский круг Белинского этого зигзага — от
Шеллинга к Фихте, от Фихте к Гегелю — его увлечений не мог
заметить: слишком незаметны были внешние сигналы, а если бы
читатель мог проникнуть к внутреннему ядру внешне столь неярких
переходов, он понимал бы больше своего учителя и Белинский не
занимал бы того места в истории нашей культуры, которое он по
праву занимает.
Итак, действительно, новый «период» исканий Белинского был
не столько гегельянским, сколько шеллинго-фихте-гегельянским, с
переводчиками для Белинского этих немецких слов — Надеждиным,
Станкевичем, Бакуниным, Катковым. Гегель не поглотил их и не
устранил первых влияний, а только их дополнял и углублял*.
То, что для читателя должно было явиться в «гегельянский
период» действительно новым мотивом проповеди Белинского, что для
читателя было некоторой неожиданностью и на первых порах даже
* Иванов-Разумник, сам придерживающийся разделения литературной
деятельности Белинского на «периоды», и притом именно по схеме, которой и я
следую, тем не менее подчеркивает, что вступая в фихтеанство, Белинский не
разрывает с шеллингианством (Соч. Белинского. I. С. 333), которое далее
переходит в гегельянство (ib. С. 497).
К вопросу о гегельянстве Белинского
423
непонятностью, это — связь, которой раньше не было,
положительных философских утверждений с диатрибами против
«прекраснодушия» — связь, с которой мы начали наше расследование*. Здесь
действительно можно констатировать не только перемену в общем
мировоззрении Белинского, но, как следствие, впрочем, ее, также
изменение многих частных его суждений, в особенности эстетических
и литературных оценок
IX
В наиболее общей форме, в форме постановки вопроса об
личности и обществе, соответствующие мысли Белинского высказаны
им в статье по поводу «Очерков Бородинского сражения» Глинки.
Рассмотрев «общество или народ» (III. С. 224) в его развитии до его
наивысшей, разумной формы государства, Белинский переходит
к освещению вопроса об обществе с новой точки зрения. До сих
пор оно рассматривалось как нечто единое и целое, теперь он
хочет взглянуть на него как на единство противоположностей,
борьба и взаимные отношения которых составляют жизнь общества
(III. С. 225). Общество состоит из людей, из коих каждый
представляет собою личность и самоцельную индивидуальность,
составляющих исходный пункт их действий и условие их действительности.
Как индивидуальность, каждый человек стремится к своему
личному удовлетворению, но встречает всегда препятствие в стремлениях
других к их личному удовлетворению. Возникает борьба личностей,
пока человек не приходит к сознанию, что то, что ему казалось
только что враждебным, имеет такое же право на личное удовлетворение
и, следовательно, вправе требовать от других помощи и уступок.
Таков закон любви, которая есть как бы чувственный разум или
бессознательная разумность. Из этого закона проистекает нравственный
закон, «который сознается из столкновения внутреннего (субъектив-
* Подтверждением того, что на «прекраснодушие» действительно было
обращено внимание, может служить следу<ющее> сообщение Станкевича в его
письме к братьям и сестрам из-за границы (из Аахена. 18 июля 1838 г.)
Передавая о своей встрече с Шевыревым, он, между прочим, пишет: «Ст. Петр.
Ничего, говорит, что гегелизм распространяется в России, что он рад, что молодые
люди имеют хоть какой-нибудь интерес, но жаловался, что они сами себе
вредят смешными повторениями двух, трех слов: Schönseelikeit и проч. Это похоже
на правду!» («Переписка Н. В. Станкевича». С. 184). Ср. выше.
424
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ного) мира человека с внешним (объективным) миром» (III. С. 226).
Субъективная сторона человека — истинна и действительна, но,
доведенная до крайности, она впадает в нелепость. Субъект есть
личность, но как такая он есть выражение и определение бесконечного
духа, «следовательно, субъективная личность не должна быть
ограниченностью; дух истинен, следовательно, субъективная личность
не должна быть эгоистическою». Между тем, с другой стороны,
ограниченность есть условие субъективности. Как же примирить это
противоречие — в столкновении субъективной личности человека
с объективным миром? «Человек есть частное и случайное по своей
личности, но общее и необходимое по духу, выражением которого
служит его личность». В отношении к его индивидуальной
особенности мир объективный есть мир ему враждебный, но в отношении к
его духу, как проблеску бесконечного и общего, этот мир — ему
родной мир. «Чтобы быть действительным человеком, а не призраком,
он должен быть частным выражением общего или конечным
проявлением бесконечного. Вследствие этого он должен отрешиться от
своей субъективной личности, признав ее ложью и призраком,
должен смириться перед мировым, общим, признав только его истиною
и действительностью»* (III. С. 227). В духовном развитии человека
момент отрицания необходим, но он должен быть только моментом,
а не целью его жизни. «Но горе тем, которые ссорятся с обществом,
чтобы никогда не примириться с ним: общество есть высшая
действительность, а действительность или требует мира с собою,
полного признания себя со стороны человека, или сокрушает его под
свинцовок) тяжестью своей исполинской длани. Кто отторгся от нее без
примирения, тот делается призраком, кажущимся ничто, и погибает»
(III. С. 229Г.
* Очень поучительно сравнить это с «шеллингианством» «Литературных
мечтаний», где мир есть «дыхание вечной идеи», проявляющейся в
«бесконечном разнообразии форм», где человек есть порождение «божественной идеи»,
в нем живущей, каковая «жизнь есть действование, а действование есть борьба»,
где бесконечное, высочайшее блаженство человека состоит в уничтожении его
«я в чувстве любви», в отречении от себя, в подавлении своего эгоизма,
попрании своекорыстного и т. д. (I. С. 19-20).
** Ср. в ст. по поводу «Горе от ума», III. С. 361, 363, 365. — Если искать этому
симплифицированному изображению Гегеля его возможный реальный
первоисточник, то прежде всего нужно было бы обратиться к «Энциклопедии». См.,
в частности, §§ 426 ff., 430 ff., 471 ff. и др.
К вопросу о гегельянстве Белинского
425
Хотя все изложенное передает Гегеля до крайности упрощенно,
неточно, сбрасывая разнородные вопросы в одну общую кучу и с
чуждою Гегелю моралистическою (Фихте) окраскою, тем не менее
не узнать Гегеля в этом кривом изображении нельзя. Как и по
вопросу о государстве, не будем останавливаться на том, чего Белинский
не знал и не понял, в чем его промахи и ошибки, а обратимся к
другому вопросу: зачем ему все это понадобилось и какое он сделал из
этого употребление?
Не входя даже в разбор биографических указаний, а оставаясь в
сфере лишь того, что выразилось в публично-литературной
деятельности Белинского и через это имело общественно-воспитательное и
историческое значение, достаточный ответ на свой вопрос мы
найдем в самых первых статьях Белинского, помещенных в
«Наблюдателе» (1838 г., ст<атьи> о Гамлете и Мочалове и «Литературная
хроника»). Именно в этих первых статьях времени увлечения Гегелем
яснее всего отразилось, зачем, за разрешением каких своих
прагматических задач Белинский обращался к помощи Гегеля.
Как известно из собственного признания Белинского {Письма. I.
С. 273), время его пребывания в Прямухине (лето 1836 г.) было
«самым важным периодом» его «распадения и отвлеченности. Это было
как раз время, когда Бакунин и Белинский увлекались моралью
Фихте. Непосредственно пришедшее на смену этому увлечению
увлечение Гегелем и было прямой реакцией на настроение «распада и
отвлеченности», а косвенно и опосредствованно эта реакция была
перенесена на «фихтеанство» друзей, которое и стало теперь
частично, по крайней мере, отожествляться с «прекраснодушием». Письма
Белинского с достаточною ясностью раскрывают, в чем заключается
этот «распад» и какой сложной, порывистой, необузданной и даже
распущенной жизни итогом он явился. Этот и следующий годы были
для Белинского в нравственном отношении годами испытания, он
зараз должен был мучаться и воспоминаниями о прежних
легкомысленных похождениях своих, и новым романтическим увлечением,
и перебоями в отношениях с друзьями, и лишением возможности
литературной работы, наконец, просто «гривенниками» и
мелочами и внешних условий и внутреннего своего развития и
морального состояния духа*. Немного отдохнув на Кавказе, подлечившись и
* Ср. «Письма». Т. I. С. 121,128,129, 273.
426
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
овладев своим настроением, он в письме к Бакунину из Пятигорска
(16 авг. 1837 г.) мог уже свести к одной теме и формулировать
волновавшие его вопросы: «...прежде вопроса о здоровье, — пишет он, —
мне еще должно решить вопрос о жизни кое-что обдумал — и
не худое, лишь бы вопрос быть или не быть решился в мою пользу.
Лишь бы благодать Божия снова проникла в мою завялую и
засохшую душу, а то я составил план хорошего сочинения, где в форме
писем или переписки друзей хочу изложить все истины, как постиг
я их о цели человеческого бытия, или счастья» (<Письма> I. С. 129).
Дальнейшее разъяснение как своих душевных перемен, так и
замыслов Белинский опять-таки дает сам же, в письме к Бакунину от
1-го ноября 1837 г. Он констатирует в себе теперь «больше
спокойствия в душе, вследствие облегчения телесных страданий, а потому
и больше способности лучше и глубже понимать истину» (I. С. 136).
В этом же письме, по-видимому, впервые он ставит в связь свой
вопрос о «цели человеческого бытия» с преодолением
«прекраснодушия», чего в только цитированном письме из Пятигорска нет*.
В этом направлении, по крайней мере, теперь он представляет
себе осуществление задуманной в Пятигорске «Переписки друзей».
Он сообщает Бакунину, что начал эту работу, «где в форме
переписки и в форме какого-то полуромана будут высказаны все те идеи
о жизни, которые дают жизнь». «Это будет, собственно, переписка
прекрасной души с духом**; первое лицо, как разумеется, будет моим
субъективным произведением, а второе — чисто объективным.
В лице первого я поражу прекраснодушие, так что оно устыдится
самого себя. Короче сказать, в этой прекрасной душе я изображу
себя, и, надеюсь, очень верно; и в этом портрете я наплюю на
самого себя и оплачу самого себя» (I. С. 137). Слово «прекраснодушие»
теперь в переписке Белинского занимает видное место!*** Не может
* Именно в этом письме Белинский в связи с оценкою прекраснодушия
ссылается на Станкевича: «..я теперь понимаю, отчего Станкевич, в письме своем ко
мне, сказал, что прекраснодушие есть самая подлейшая вещь в мире» (I. С. 151).
** Напомню, что вторая часть «Назначения человека» у Фихте изложена в
форме беседы «я» с «духом».
*** Ср. I. С 137, 151, 152, 162, 167, 174, 281, 285, 321, 336. Ср. т<ак>же
пис<ьмо> к Стан<кевичу> 29 сент. — 8 окт. 1839 г., именно писанное под
2 окт. (I. С. 345-377), сплошь усыпано словами «пр<екрасно>д<уши>е»;
здесь обращает на себя внимание фраза в прониц<ательны>х словах
цитаты в тексте. Бел<ински>й, меж<ду> пр<очим>, оговаривает: «впрочем,
К вопросу о гегельянстве Белинского
427
быть сомнения, что при личной встрече между друзьями на эту тему
велось еще больше разговоров. Первым просвещал Белинского, по
возвращении его с Кавказа в Москву, по-видимому, Катков, но Катков
в это время, кажется, занимался преимущественно эстетикою Гегеля,
а Белинский больше нуждался в такой стороне учения Гегеля,
которая давала бы ответ на его моральные запросы. Тут-то Бакунин и
пришел второй раз на помощь Белинскому*. Дело, по-видимому, шло
так<им> обр<азом>: Станкевич пустил в оборот гегелевское
словечко, выразив и отношение к нему, Белинский это подхватил,
применив, как то, впрочем, сделал и Станкевич, прежде всего к себе, а
следовательно, и к своей жажде примирения с действительностью,
и стал искать у Бакунина гегелевских же подкрепления и
поддержки для разрешения мучавших его вопросов «жизни». «Предисловие»
Бакунина, включавшее в себя указание на «прекраснодушие» и на
выход из него через «примирение с действительностью», было
публичным выражением исканий и бесед обоих, а, может быть, и всех
трех, включая Станкевича, друзей. Первые же статьи Белинского в
«Наблюдателе» подробнее развивали волновавшую его тему и
подробнее отражали совместное решение ее у молодых друзей, но для
читателя статьи Белинского должны были представляться
развивающимся комментарием к кратким формулам, набросанным в
«Предисловии» Бакунина. Лабораторная работа для читателя оставалась
скрытой, он мог узнавать только результаты ее и по ним только
учиться и философии, и способу обращения с нею. Что же он
получал для своего ученья и для отношения к изучаемому?
X
Гамлет явился для Белинского самым подходящим поводом
высказать наболевшие мысли и чувства: недаром Белинский
формулировал в пятигорском письме свой вопрос как вопрос о «быть или
страдания»; — остальные указ<анны>е места согла<суют>ся с этим
описанием как с публично-литер<атурны>м осужд<ение>м Бел<ински>м
«пр<екрасно>д<уши>я». Названы «другие отношения»...
* В письме к Бакунину от 14-го авг. 1838 г. Белинский вспоминает; «Много
прошел я курсов, но важнейшим была первая поездка в Прямухино По
возвращении с Кавказа я был в переходном состоянии, — дух утомился
отвлеченностью и жаждал сближения с действительностью. Катков, сколько мог,
удовлетворял этой жажде Гегелем, но тут был нужен ты — и ты снова явился мне
провозвестником истины. Это был второй курс» (I. С. 219).
428
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
не быть». На статью о Гамлете, прежде всего, поэтому приходится
смотреть как на статью автобиографическую. Гамлет здесь в глазах
Белинского — он сам, Белинский. Но одного, после сказанного, мы
уже не должны забывать: не философия привела к философскому
освещению «натуры» Гамлета-Белинского, а для оправдания
решения личной гамлетовской проблемы Белинский обратился к Гегелю*.
«Гамлет!... Понимаете ли вы значение этого слова? — оно велико и
глубоко: это жизнь человеческая, это человек, это вы, это я, это
каждый из нас, более или менее, в высоком и смешном, но всегда в
жалком и грустном смысле...» (II. С. 475). Есть вообще два рода людей:
одни прозябают, жизнь для них есть сон и они им удовлетворены
вполне; другие живут, жизнь для них есть подвиг, выполнение
которого, без противоречия с внешними условиями, есть блаженство,
но и при добровольных лишениях и страданиях жизнь их должна
быть блаженством, если человек, «уничтожив свое Я во внутреннем
созерцании или сознании абсолютной жизни, снова обретает его в
ней» (И. С. 478). Этому последнему состоянию «просветления»
предшествует длительная и тяжелая борьба, через которую необходимо
должен пройти в своем развитии и каждый отдельный человек, и все
человечество. Для одних такая эпоха начинается вследствие избытка
их собственных сил, для других она ускоряется внешними
обстоятельствами, хотя действительная причина этого заключается все-
таки в духе самого человека. Таков именно Гамлет. Гете
формулировал идею шекспировского Гамлета как слабость воли при сознании
долга, но так как Гамлет из своей борьбы выходит все же
победителем, то, по мнению Белинского, не в слабости воли — основная идея
трагедии. Ее нужно искать глубже, слабость воли есть только
проявление другой, более глубокой идеи — «идеи распадения, вследствие
сомнения, которое, в свою очередь, есть следствие выхода из
естественного сознания» (П. С. 479)**.
* Одно место из объяснительной статьи Иванова-Разумника (Соч.
Белинского. I. С. 353) со ссылкою на «Феноменологию» Гегеля дает право думать, что
у самого Гегеля в этом месте «прекрасная душа» иллюстрируется Гамлетом.
Правильно ли я понял уважаемого автора? — но у Гегеля в указанном месте я такого
сопоставления не нашел, оно имеется, однако, в «Эстетике» (П. С. 204).
** К «Фаусту» ту же схему Белинский применил в обзоре русских журналов за
1839 г. (III. С. 110-111; «M. E». 1839) по поводу помещенного в «От. 3.» разбора
«Фауста», переведенного Губером. Фауст вышел из естественной гармонии духа,
К вопросу о гегельянстве Белинского
429
Это переходное состояние в развитии духа напоминает
изображенное Гегелем в «Феноменологии духа» состояние
«прекраснодушия». Белинский, вместе с Бакуниным, выносит на публику то, что
имело для друзей личное значение и что, надо думать, не раз
обсуждалось между друзьями, и притом, вероятно, с особым вниманием к
соответствующим местам Гегеля. Есть основание предполагать, что и
Гамлет обсуждался друзьями прежде, чем Белинский выступил с
публичным применением к нему гегелевской теории*.
В состоянии распада, сомнения, колебания Гамлет — «прекрасная
душа». Он, напр., не умеет обманывать других, но может обманывать
себя, объясняя свою нерешительность и слабость жаждою мести
(II. С. 490). Но Гамлет не только прекрасная душа, но и великая,
потому что он так умеет понимать миродержавныи промысел и так
умеет ему покоряться, как то делает только сила, а не слабость. Здесь
источник преодоления распада прекраснодушия и предвестник
нового и лучшего спокойствия (И. С. 498, ср. С. 557). Гамлет, как
прекрасная душа, не есть нечто определенное и действительное, не есть
действительный и конкретный человек. Общая участь и
необходимая для «всех порядочных людей» пройти через состояния
распадения, но для «лучших людей» есть из этого дисгармонического
распадения выход в гармонию духа (П. С. 504). Таким образом, в целом,
идея Гамлета — слабость воли, но не по его природе, а вследствие
распадения (П. С. 508). Это есть «распадение, переход от младенче-
поссорился с действительностью и, пройдя все противоречия и отрицания
жизни, вновь в высшей сознательной гармонии души обрел себя в конкретном
единстве с действительностью. Распад и сомнение в душе Фауста были, таким
образом, не случайностью, а необходимостью. Как известно, ту же схему
Белинский применял и для истолкования Пушкина («Литер<атурная> хроника».
«М. Н.»>. 1838). Равным образом требовал он осуществления этой схемы и от
того, кто хотел понять Пушкина. Явно, что это требование было вместе с тем
и автобиографическим признанием; чтобы постигнуть глубину последних
произведений Пушкина, писал он, «должно пройти через мучительный опыт
внутренней жизни и выйти из борьбы прекраснодушия в гармонию
просветленного и примиренного с действительностью духа» (И. С 331). На повторные
приложения этой схемы обратил внимание уже Анненков («Замечательное
десятилетие: Литературные воспоминания». СПб., 1909. С. 196).
* Станкевич в письме к Л. А. Бакуниной (30 янв. 1837 г.) сообщает, что он
вместе с Белинским посещал представления «Гамлета» в исполнении Мочалова
и что они делились не только впечатлениями от игры актеров, но также
обсуждали по существу персонажи трагедии («Переписка». С. 509-510).
430
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ской, бессознательной гармонии и самонаслаждения духа в
дисгармонию и борьбу, которые суть необходимое условие для перехода
в мужественную и сознательную гармонию и самонаслаждение духа
(И. С. 507).
Как Белинский представлял себе эту последнюю заключительную
и синтетическую стадию, видно из его общего резюме впечатления
от шекспировской трагедии. Все лица ее действуют в заколдованном
кругу своей личности, не догадываясь что, служа себе, они служат
общему. Занавес опускается, когда все погибло: погибли Гамлет,
Офелия, король, погибли добрые и злые. Мучительное чувство должно
бы возбудиться в душе зрителя при виде этого кровавого зрелища, а
между тем зритель уходит из театра с чувством гармонии и
спокойствия в душе, с просветленным взглядом на жизнь и примиренный с
нею, «и это потому, что в борьбе конечностей и личных интересов
он увидел жизнь общую, мировую, абсолютную, в которой нет
относительного добра и зла, но в которой все — безусловное благо!...»
(И. С. 520)*.
Отсюда ясен тот императив, которому должен следовать
человек, желающий выйти из распада и прекраснодушия. Везде в чудном
мире Божьем красота и премудрость, везде величие и гармония, но
вместе с тем и везде нечто, а не все, везде — только частица,
только уголок беспредельной вселенной, ибо за бесчисленными
множествами видимого нами скрывается еще бесчисленное множество
таких же бесчисленных множеств нами невидимого. «Чтобы
постигнуть беспредельность, красоту и гармонию создания в его це-
* Ср. Фихте. «Назначение человека». С. 120, ел. 124,127 и вообще все
заключение книги. Здесь, а не в гегелевском мнимом «фатализме», как это уже указано
выше (см. прим. выше. Ср<авни> собств<енные> указ<ания> Б<елинско>го.
«Письма». I. С. 273), разгадка неумеренного оптимизма Белинского. Я рад был
увидеть, что подчеркиваемая мною здесь связь оптимизма Белинского со
взглядами Фихте не ускользнула от внимания такого знатока Белинского, как
Иванов-Разумник. В «пылкой проповеди о целесообразности всего
существующего» он с полным основанием усматривает влияние Фихте. Отмечает он и то,
что это убеждение Белинского было высказано им еще в «Литер<атурных>
мечтаниях» и равным образом «получило позднее обоснование в гегельянстве
Белинского» (Соч. Бел<инского>. I. С 333). Это все и есть лучший аргумент в
пользу высказываемого мною взгляда, что не от философии приходит к своему
жизненному мировоззрению Белинский, а к последнему подгонял он
приходившие с Запада философские и вообще теоретические учения.
К вопросу о гегельянстве Белинского
431
лом, должно, отрешившись от всего частного и конечного, слиться
с вечным духом, которым живет это тело без границ пространства
и времени, и ощутить, сознать себя в нем: только тогда исчезнет
многоразличие, уничтожится всякая частность, всякая конечность, и
явится для просветленного и свободного духа одно великое целое...»
(И. С. 499-500). Или, по другой уже цитированной, более короткой
формуле, этот императив гласит: «выйти из борьбы прекраснодушия
в гармонию просветленного и примиренного с действительностью
духа» (II. С. 331). Или, наконец, соединяя обе эти формулы, как мы
уже слышали, человек «должен отрешиться от всякой субъективной
личности, признав ее ложью и призраком, должен смириться перед
мировым, общим, признав только его истиною и
действительностью» (П. С. 227). В этой соединительной формуле Белинский слил
для себя фихтеанство с гегельянством и, казалось ему, достиг
высшей и сознательно-покойной ступени духовного развития. Т<аким>
о<бразом>, мы пришли к той самой формуле, которою Белинский
разрешал и общественный вопрос: горе тем, кто ссорится с
обществом, ибо общество есть высшая действительность, а
действительность или требует полного мира с собою, или сокрушает того, кто
ссорится с нею (П. С. 229). Таким образом, в одном разрешении
сливаются и задачи прагматической действительности и тревоги
личных душевных запросов.
XI
Последовательно и согласованно в этом же разрешении находят
себе последнее основание у Белинского эстетические суждения и
оценки. Но если не считать некоторых изменений в высказываниях
Белинского по поводу отдельных явлений художественной
литературы, то, пожалуй, именно в разрешении общей эстетической
проблемы читатель Белинского еще в меньшей степени мог заметить
его переход от Шеллинга к Гегелю, чем в решении двух других
указанных вопросов. Правда, уже первые статьи Белинского в
«Наблюдателе» запестрели новым словечком, разрешающим у него и
критикующим всякое затруднение в эстетической оценке. Это — словечко
«конкретный». Его постоянное применение Белинским и как
принципа и как критерия в частных оценках могло, конечно, обратить на
себя внимание, но должно ли было оно свидетельствовать о новом
философском направлении критика?
432
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
В статье о Гамлете и Мочалове оно встречается в контексте,
который, по-видимому, должен был заинтересовать читателя. Именно,
характеризуя Гамлета как «прекрасную душу», Белинский
противопоставляет последней действительного, конкретного человека
(II. С. 504)*. Интерес к этому противопоставлению мог быть
удовлетворен только прямым и положительным разъяснением того, что же
следовало разуметь под «конкретным». Простое сопоставление
«конкретного» с «действительным» таким разъяснением быть не могло.
Между тем, в других статьях «Московского Наблюдателя», с первого
же номера, вышедшего под редакцией Белинского, слово начинает
играть столь значительную роль, в качестве эстетического
определения и критерия, что специальное разъяснение его было
необходимо**. Оно вскоре и дается Белинским в его статье по поводу драмы
«Уголино» Полевого («М. Н.». Т. XVI. Май. Кн. 1). «Конкретность, —
провозглашает он, — есть главное условие истинно-поэтического
произведения...» (П. С. 378). Тотчас дается и разъяснение
термина: формальное, в виде наивного, историей философской
терминологии неоправдываемого, словопроизводства, — concretus от
concresco, — и применительно к тексту, «как выражение
органического единства идеи с формою. Конкретно то, в чем идея
проникла в форму, а форма выразила идею, так что с уничтожением идеи
уничтожается и форма, а с уничтожением формы уничтожается
идея»***. В дальнейшем «закон конкретности» интерпретируется
Белинским как простое следствие «закона свободного творчества».
Соответственно и вышепровозглашенное «условие» само возводится к
своему основанию. Произведение искусства потому художественно,
что оно создано по закону необходимости, ничего произвольного
* Когда Белинский в этой же статье (С. 528) мимоходом определяет образ
как конкретное выражение истины, то такое общее указание не могло,
конечно, поразить читателя ни новизною, ни оригинальностью.
** В какой степени «конкретность» была не только принципом
художественности в глазах Белинского, но и совершенно частным критерием, видно, напр.,
из следующего его замечания в «Литер<атурной> хронике», помешенной в
одной книжке «Наблюдателя» со статьей о Гамлете (и Мочалове): <А...
«Капитанская дочка»?..> Только один Гоголь умеет писать повести, еще более
действительные, более конкретные, более творческие, — похвала, выше которой у нас нет
похвал!» (II. С 329). А еще в 1835 г. в «Телескопе» Белинский писал: «...г. Гоголь —
поэт, поэт жизни дей<ствительн>ой» («О русской повести» и пр., I. С. 207).
*** Ср. в ст. «Горе от ума». III. С. 426: «...конкретная идея, т. е....».
К вопросу о гегельянстве Белинского
433
в нем нет, и ничто в нем не может быть заменено. Это — не
отрицание «свободы творчества», а, напротив, ее утверждение — в
противоположность произволу, «в котором нет ни разума, ни смысла,
ни жизни»*. Еще дальше названные законы возводятся Белинским к
их последнему основанию — творческому одушевлению
художника. Эти законы сознаются, но процесс творчества — тайна. В
минуту творческого одушевления художником сознается и чувствуется
творческая необходимость, но само это одушевление сводится
Белинским все же к необъяснимому дальше, иррациональному началу.
Оно есть «принадлежность творческого дара, получаемого от
природы ее избранными любимцами» (И. С. 381).
Можно ли утверждать, что разъясненное таким образом
«конкретное» есть действительно «конкретное» Гегеля? Согласно наиболее
общему определению Гегеля, конкретное есть «единство различного» (die
Einheit Unterschiedener ist eben das Concrete). Это единство различных
определений, организованное целое; высшее и последнее
конкретное, с которым и имеет дело философия, есть органическое существо
мира или абсолютное. Применительно к эстетическим определениям
«формы» и «идеи», у Гегеля каждое из этих понятий обозначает
конкретное, идея как содержание, а форма как чувственный образ. Но
поскольку обе эти «стороны» посредством искусства воплощаются в
«свободной примиренной тотальности» (Aesth. I. С. 89), последняя, в
свою очередь, может рассматриваться как конкретность. Кажется, с
точки зрения Гегеля, противоречия в этом нет. Но если и признать,
что в этом пункте Белинский как-то прицепляется к Гегелю, тем
разительнее подчеркивается прямо-таки антигегелевский дух его
дальнейших рассуждений. Как согласовать с Гегелем апелляцию к «творческой
необходимости», а в конечном итоге к «одушевлению» и дару
избранных любимцев природы, тему о которых Гегель вообще считал
нужным «исключить из круга философского рассмотрения»**? Это — даже
не Шеллинг, — потому что, хотя Шеллинг и говорил о
«воодушевлении», но под «духом» здесь разумел не индивидуальную «силу»
любимца природы, а силу «духа, простирающегося в целом»***, а это какой-то
* И. С. 379. Ср. «Семь статей В. Г. Белинского» под ред. Ефремова и Якушки-
на.М, 1898. С. 21-22.
** Aesth. I. S. 352; о «воодушевлении» ср. 35 ff., 360 ff.
*** Ср. его «Мюнхенскую речь» (Veber das verhältniss der bildenden Künste zu
der Natur. 1807). WW. В. VII. S. 326.
434
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
немотивированный рецидив совершенно романтических затей, с
преодоления которых, казалось, Белинский ведь и начал*.
Дальнейшие разъяснения, которые мы находим в той же статье
Белинского, мало могли удивить современного ему читателя
новизною, насколько сильно нас, знающих о «гегельянстве» Белинского,
они потрясают своей несуразностью! Собственные слова
Белинского, которые я имею в виду, гласят: «В творчестве сила не в идее, а в
форме, которая, само собою разумеется, необходимо предполагает
и условливает идею, и эта форма должна быть проникнута кротким,
благолепным сиянием эстетической красоты. Величие содержания
(идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще
часто оподазривает ее И таково всегда истинно
художественное произведение, что в нем идея, так сказать, поглощается формою,
и вы больше видите ее, нежели понимаете. В этом-то и состоит
непосредственность искусства» (И. С. 382-383).
О чем, собственно, думал Белинский? Противопоставлением
«формы» и «идеи» (как содержания) для характеристики если и не
художественности, то, по крайней мере, направления в искусстве,
в романтической и современной ей эстетике пользовались
достаточно часто, чтобы это могло быть известно и Белинскому. В
доступных для него изложениях (хотя бы и того же Надеждина, в его
диссертации «De origine» etc. PP. 62—65), a частью и переводах
(статья Пикте260 была переведена в «Московском телеграфе» Полевого.
1828. Сентябрь. № 17) Белинский мог найти разные применения
этого противопоставления у Ансильона261, Пикте, Авг. Шлегеля. Как
ни разнообразны были эти применения, одно у всех названных
авторов было общее, и это общее выражало смысл и направление всей
новой эстетики, начиная, пожалуй, с Шиллера, — отклонение
превалирующего для искусства значения формы. Диалектически и
исторически это было естественною и понятною реакцией против
практики и эстетических теорий ложного классицизма и формального
рационализма XVII-XVIII веков. Кант завершал собою эстетический
формализм. Новая эстетика Шеллинга и Гегеля доводила до
крайнего предела реакцию, провозглашая безусловный приоритет
содержания и идеи, недаром в эстетике термины «идеализм» и «эстетика
содержания» сделались тожественными, Новый «формализм» в эсте-
* Ср. «Литературные мечтания». I. С. 123.
К вопросу о гегельянстве Белинского
435
тике строится только на теориях Гербарта*. Так как рассуждения
Белинского ни в коем случае не были антиципацией гербартианства262,
то правильнее их квалифицировать как срыв и скат назад к Канту и
даже, еще точнее, к какому-нибудь Зульцеру Но кантовские
определения читатель встречал у Белинского и раньше**, следовательно,
в чем же он должен был открыть влияние гегелевской эстетики на
суждения Белинского? Если этот читатель уже знал Гегеля, то он мог
подумать разве только то, что вот, вопреки Гегелю, у нас продолжает
исповедываться отвергнутая и преодоленная точка зрения
эстетического примата формы над идеею. Вот — один из примеров
аргументации Гегеля***.
И в са<мом> деле, в чем бы заключался «идеализм» Гегеля, если
бы «идея» у него подчинялась чувственной форме? Идея была для
него истиною и действительностью, как она могла подчиняться
чувственной видимости? Сама чувственная видимость находила себе
оправдание только в действительности выражаемой ею идеи. И то,
что Гегель в чувственной видимости мира усмотрел сияние самой
идеи, было не только великим приобретением для эстетики, но в
новом виде представляло самое проблему мира. Прежний рассудочный
и абстрактный рационализм отрывал логический мир от мира чув-
* По Ансильону, древность отличалась склонностью к форме к красоте,
новое время отдавало преимущество идее и возвышенному. — По Шлегелю,
первоначальное бессознательное единство формы и идеи, распавшееся затем, мы
вновь стремимся привести к сознательному единству (с некоторыми
модификациями и с несколько иным историческим приурочением к этой точке зрения
был близок сам Надеждин). — Согласно Пикте, в классическом искусстве идея
и форма находятся в равновесии, в романтическом преобладает идея, что же
касается «третьего рода», то он в действительности вовсе не существует, «ибо
перевес формы над идеею всегда остается не совершенством и не может быть
источником изящества» (С. 26).
** Ср., например, «бесцельность с целью» в ст. «О русской повести» и т. д.
G-C209,212).
*** Полезно с этим ср<авни>ть, напр<имер>., у Гегеля: истинная задача
искусства — сознавать высший интерес духа: поэтому иск<усст>во со
стороны содержания не мож<ет> блуждать в дикой необузданности фантазии,
эти дух<овны>е интересы дают для его содержания нужные точки опоры,
к<ак> бы ни были многообразны и неисчерпаемы ф<орм>ы; то же
относится и к ф<орма>м, они не явл<яют>ся делом простого случая. «Не
всякое оф<ормлени>е способно выразить и изобразить назва<нны>е
интересы, воспринять их в себя и передать их, но опред<еленны>м содержанием
предопреде<ляет>ся и соответств<ующа>я ему ф<орм>а» (Aesth. I. С. 19).
436
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ственной пестроты, новый разумный рационализм видел и
утверждал их конкретное единство. Рассудочный рационализм
противопоставил чувственное совершенство логическому и первое отдал
в ведение замкнутой в себе эстетики, а второе — такой же логики;
рационализм Гегеля вновь объединял разодранные совершенства в
конкретном и действительном единстве самого духа, и его
философия духа, как абсолютная философия, вмещала в себя их как
диалектические моменты саморазвития и планомерного самораскрытия
абсолютного духа. Чувственное проявление идеи Гегель назвал
прекрасным, но только потому и постольку, что и поскольку
чувственный мир через красоту открывал нам истину и действительность
духа. Д/1Я эстетики это имело откровенное значение, через него
эстетика становилась философией, потому что ее предмет —
красота и искусство, — будучи предметом непосредственного
наглядного созерцания, и самое идею таким образом давал нам уже в первом
непосредственном видении, как истину, действительность и дух.
Какое это было для философии радостное открытие, должен
одинаково понимать и тот, кто от этой первой непосредственности, через
опосредствованную напряженность рассудка, абстракции и
отрицания, пробился к конечной непосредственности истины, и тот, кто на
этом тяжком пути терпел крушение и все-таки оставался утешенным
созерцанием истины — в красоте.
При таких принципах, что же может служить мерою красоты и
художественности? Как сказано, только сама идея, само содержание,
духовное содержание, вместе с его выполненным или
невыполненным категорическим и безусловным требованием достойной его,
соответствующей ему формы. Без последней не было бы вовсе
данной нам чувственной красоты, но мера последней — в готовности
и способности чувственной формы выполнить те требования,
которые повелительно диктуются идейным и духовным содержанием.
Только при внутреннем, полном и завершенном единении внешней
формы с идейным содержанием можно говорить о художественном
произведении в полном и строгом смысле. Приведу определение
самого Гегеля: «Так как искусство имеет задачею изображать идею для
непосредственного созерцания в чувственном образе, а не в форме
мышления и чистой духовности вообще, и это изображение имеет
свою ценность и достоинство в соответствии и единстве обеих
сторон, идеи и ее образа, то высота и превосходность искусства в
сообразной его понятию реальности зависит от степени интимности
К вопросу о гегельянстве Белинского
437
и согласия, до которой оказываются выработанными друг в друга —
идея и образ»*.
XII
Итак, памятуя, что и раньше в своих эстетических определениях
Белинский колебался между Шеллингом и Кантом, какой же вывод
мог сделать читатель о перемене эстетического фронта Белинским?
В лучшем случае можно было думать, что Белинский повернул в
эстетике вспять — к эстетике до-шиллеровской, тем более что сам
Шиллер подвергся за «прекраснодушие» гонению со стороны
Белинского. Заметным новшеством в эстетических воззрениях Белинского
* Aesth., 1. С. 92. Ср. 129-130. Как могло случиться, что Белинский извратил
Гегеля, поняв его в смысле, прямо противоположном его действительным
интенциям? Первая мысль, что эту «вину» можно сложить на Каткова, так как, по
собственному признанию Белинского, «...Катков передал мне, как умел, а я
принял в себя, как мог, несколько результатов "Эстетики''» (Письмо к Станкевичу
29 сент. — 8 окт. 1939 г., т. I. С. 348), наталкивается на целый ряд возражений (в
частности, на согласованность с Гегелем как раз тех статей Белинского, при
составлении которых он пользовался тетрадками Каткова, - «Разделение поэзии
на роды и виды» и только посмертно напечатанная «Идея искусства»). Но
всякого рода предположения и контрпредположения устраняются свидетельством
Белинского, данным в том же письме. 1) Он пишет: «..я был помешан на идее
объективности как необходимого условия в творчестве и идее искусства,
понимаемого не в романтическом смысле со стороны содержания, а в первобытном
и чистом значении классической формы» (С. 377). Это указание, с одной
стороны, подтверждает, что в проповеди примата формы у Белинского мы имеем
дело именно, как указано мною в тексте, с рецидивом, а с другой стороны, что
Белинский не знал или не понимал, что под «формою» Гегель понимал не
специфические «поэтические» формы, а непосредственно и чувственно
воспринимаемые облик или образ (Gestalt). 2) Он называет и действительного
виновника такого толкования Гегеля в лице Бакунина: «Бакунин первый (тогда же)
провозгласил, что истина только в объективности и что в поэзии субъективность
есть отрицание поэзии, что бесконечного должно искать в каждой точке, что в
искусстве оно открывается чрез форму, а не чрез содержание, потому что само
содержание высказывается через форму, а где наоборот - там нет искусства»
(С 349). Таким образом, и нужно признать, что мнимое гегельянство
Белинского в рассматриваемом пункте - плод домыслов Бакунина, сочиненных
тогда, когда он сам с «Эстетикою» Гегеля знаком еще не был; а поскольку он был
знаком со взглядами Канта, можно думать, они и подсказали ему толкование в
пользу примата формы. Возможно также, что Бакунин был сбит с толку
некоторыми замечаниями об искусстве Гегеля в «Энциклопедии» (§ 566, ел.); эти
замечания Бакунин и мог толковать не в связи с учением Гегеля о развитии духа
вообще или, в частности, с эстетическими теориями Гегеля, а в связи с
собственными общими представлениями об немецком идеализме..
438
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
поэтому можно было бы считать только его неоконченную статью
по поводу «Сочинений» Фон-Визина, которую Иванов-Разумник в
своем издании Белинского удачно озаглавил: «О критике». Читатели
жаловались на непонятность и темноту помещенной в
«Наблюдателе» (в переводе Каткова) статьи Ретшера, призванной познакомить
русских читателей с эстетическим учением Гегеля. Желая
опровергнуть заключение читателей, Белинский своими словами излагает ее
содержание, принимая теперь излагаемые взгляды к собственному
руководству и применению. Основная мысль этой статьи,
заинтересовавшая, по-видимому, прежде всего Белинского, состоит в
определении философской критики художественного произведения, в
отличие от критики психологической, имеющей целью уяснение
характеров и лиц, как такой критики, которая ставит себе задачею
найти в частном и конечном проявлении общего, бесконечного,
абсолютного (И. С. 317). Последнее, как конкретная идея, воплощено в
конкретной же художественной форме (И. С. 316). «Мысль, —
передает Белинский Ретшера, — в художественном произведении должна
быть конкретно слита с формою, т. е. составлять с нею одно,
теряться, исчезать в ней, проникать ее всю» (II. С. 316)*.
Этого достаточно, чтобы видеть, что новая точка зрения
коренным образом отличается от того утверждения примата формы,
которое недавно Белинский выдавал за гегельянство. Но отмечу еще
некоторые истины, которые извлекает Белинский из Ретшера.
Художественное произведение дается нам в чувственно
прекрасной форме, однако, чтобы действительно проникнуть до его
глубины, нам надо обратиться к посредству мысли, которая и приведет нас
к выражаемой идее, к бесконечному, к истине развивающегося бытия
(И. С. 311). Может показаться, что, идя этим путем, мы только
приводим в конфликт чувство с разумом, но такая видимость существует
только до тех пор, пока мы не увидим их высшего конкретного
единства, пока мы не понимаем, что чувство и разум нас ведут к одному —
к истине, пока мы не хотим признать или не видим, что чувство само
есть бессознательный разум, а разум — сознательное чувство, что,
следовательно, они не враждебны друг другу, а «должны быть еди-
* Ср. ст. Ретшера (С. 192) и «Предисловие» Каткова — (С. 164): «...углубление в
особоапи и частности искусства, понимание великих художественных
произведений в их разумной архитектонике, в их внутреннем единстве мысли с
выражением, содержания с формою составляет теперь современную задачу эстетики».
К вопросу о гегельянстве Белинского
439
ным, органическим, конкретным». Это конечное единство, как
отожествление чувственного и мыслимого, совершается через мысль,
через ее посредство. Только пройдя через мысль, через идею в
художественном произведении, и возвратившись к частной, конечной
данности последнего, мы поймем его как выражение бесконечного
и общего, как сказанное конкретное единство. Ретшер «говорит, —
передает опять Белинский, — что нельзя понять художественного
произведения, не понявши его в его целом (тоталитете) и не
увидевши в нем частного, конечного проявления общей, бесконечной идеи.
Идея есть содержание художественного произведения и есть общее;
форма есть частное проявление этой идеи» (II. С. 314). Чтобы понять
это общее, надо оторвать идею от формы и найти ее место в
диалектическом ее развитии. «Надо содержанием оправдать форму». Надо
определить, конкретна ли идея художественного произведения и
вполне ли выражает себя; только конкретная идея может воплотиться
в конкретный образ. «Поэзия есть мышление в образах», и если идея
не конкретна, не полна, то и образ не художествен (И. С. 315)*. Когда
в процессе критики выполнена эта первая задача постижения самой
идеи и оправдание ею формы, тогда наступает второй момент —
органического сочленения разорванного целого в выше
характеризованное целостное единство бесконечного (II. С. 317)**.
Нетрудно видеть, что изложенное коренным образом отличается
от провозглашенного было Белинским примата формы. Становится
он, по крайней мере, теперь гегельянцем? Что именно Ретшер отныне
и становится каноном для Белинского, несомненно, — ближайшим
образом следующие за названной статьей Белинского его эстетические
* Под образом Ретшер понимал «беспрерывное сопроникание идеи с
действительностью; мысли с ее чувственным проявлением» (С. 168).
** Ретшер: первый момент в философском рассмотрения художественного
произведения — «разрушение формы, которым на одну минуту расстраивается
прекрасное строение» (С. 187). — «Но разрушенная на одно мгновение форма
должна быть вновь восстановлена: дух, добровольно изгнавший себя из
страны красоты и из круга живых образов, возвращается назад, чтобы уже самосо-
знательно жить в этом мире и разуметь язык и звуки, оглашающие этот мир»
(С. 90). В целом; «существо нашей методы рассматривать художественное
произведение состоит в том, чтобы открыть общее конкретной идеи в
обособлении и понять разумность ее формы, порожденной творческою фантазией
художника, и таким образом покорить мысли целое произведение» (С. 194-195).
440
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
рассуждения отражают это в полной мере. Вот, напр., к<ак> он
кончает ст<ать>ю о Менделе-. «Растолкуйте Менделю» и т. д. (III. С. 336)*.
Но можно поставить другой вопрос- насколько сам Ретшер был
гегельянцем в специфическом и строгом смысле? Категорического
утвердительного ответа на этот вопрос мы, однако, дать не вправе.
Из приведенных образцов его мыслей ясно, что это — смесь
гегельянства и шеллингианства, прекрасно согласованная в себе, но
лишающая специфической остроты и яркости как воззрения Гегеля, так
и построения Шеллинга**. Наибольшее уклонение от Гегеля я вижу в
неразъясненности 1) гегелевского понятия «идеала» как саморазвития
духа в мир красоты и 2) специфического понимания формы у Гегеля
как «конечной» чувственной данности, спасающей от «призрачности»
только тем, что само «явление» вводится Гегелем в «сущность вещей».
Белинский, со своей стороны, естественно, должен был смотреть на
разъяснения Ретшера как на углубление и развитие уже знакомых ему
(более или менее) взглядов Шеллинга и вообще немецкого
идеализма, т. е. в конце концов как на продолжение той линии, на которую
он уже стал как ученик Надеждина. И здесь, следовательно, в глазах
Белинского было справедливо то, что Бакунин писал о Гегеле вообще:
его система «венчана» долгое стремление ума к действительности.
В одном, однако, нельзя не отметить у Белинского своеобразия в
толковании и применении действительно гегелевского мотива. Как
было отмечено, Белинский настолько тесно сопоставлял «конкретное»
и «действительное», как будто даже отожествлял их, что каждое из
этих понятий одинаково, и на одинаковых, по-видимому, основаниях,
служило для него принципом и критерием определения
художественности литературного произведения. С одной стороны, несомненно,
в этом сопоставлении сыграло свою роль то значение, которое
Бакунин придавал «действительности» в системе Гегеля, и притом в связи
с преодолением «прекраснодушия» как «неполноты» и потому
недействительности не только в сфере моральной, но и эстетической***.
А с другой стороны и также несомненно, Белинский мог, а его чита-
* Ср. с цитатой из Гегеля (Aesth. I. С. 19).
** Мне кажется, что к изложению Ретшера ближе всего стоят рассуждения
Шеллинга на тему о красоте, которые имеются в диалоге Шеллинга «Бруно, или
о божественном и естественном начале вещей» (1802).
*** Откуда и проистекали постоянные расценки и переоценки Белинским
писателей и поэтов.
К вопросу о гегельянстве Белинского
441
тель должен был рассматривать это обращение к действительности
для надобностей эстетических оценок как продолжение и развитие
идей Надеждина. Новые статьи Белинского (по поводу «Горе от ума» и
о Менцеле) пестрят такими афоризмами, как «искусство есть
воспроизведение действительности» (III. С. 329), «предмет поэзии есть
действительность» (III. С. 359), «новейшая поэзия есть поэзия
действительности, поэзия жизни» (III. С. 357, ср. С. 355, 365 и др.). Белинский
этим как будто открыл новую стадию в развитии нашей эстетической
поэтики: как Надеждин вводил в самый состав поэтики «народность»,
так теперь Белинский вводит в поэтику критерий «действительности».
Но по существу и это нововведение можно рассматривать как
развитие мысли Надеждина о новом синтетическом искусстве и
выставленного им для характеристики этого искусства тезиса: Ubi vita ibi poesis.
Белинский часто повторял этот тезис, называя его даже «аксиомою»
(I. С. 313, ср. С. 215, 239), а раскрывая его, прямо антиципировал
собственные «гегельянские афоризмы, как напр., когда он писал (в ст.
«О русской повести» и пр. — «Телескоп». 1835): «...вот другая
сторона поэзии, вот поэзия реальная, поэзия жизни, наконец, истинная и
настоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный характер
состоит в верности действительности; <...>». (I. С. 181. Ср. С. 186). И все-
таки, несмотря на зависимость здесь Белинского от Надеждина, есть
основание говорить о своеобразии Белинского, в особенности если
иметь в виду последующее, послегегельянское, эстетическое
проповедование Белинского, когда, при гибкости и многозначности слова
«действительность»*, его «реализм» заменил свое немецкое
идеалистическое основание французскою «социальностью»**.
* Как указано в самом начале статьи, я ограничиваю свое исследование
условно принятым «периодом гегельянства». В действительности и позже не
так мысль и слова, но даже фразы Гегеля вставлял в аргументацию Белинский.
Сравните два примера, которые он относит к 1841 и 1842 гг. — ГУ. С. 268; VI.
С. 310, где высказываются фразы о разумной действительности.
** Хотя для исторической последовательности идей небезынтересно
отметить, что и в этом пункте Надеждин был предтечею Белинского и вообще
реально-исторического (в противоположность реально-идеалистическому)
направления нашей критики. Основная мысль и смысл рассуждений Надеждина
в его «Диссертации» в том и состояли, чтобы вывести понятие «романтизма»
из его исторического генезиса. Поэтому он и мог резюмировать свое
исследование заявлением, что поэзия романтическая «была верным эхом
действительности» (mundi ilaque realis fuil echo), а вместе с тем и антиципировать
«социальный» критерий, напр., когда он писал: «Наш век как будто соединяет или, по
442
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Не отрицаемое своеобразие Белинского нужно видеть в том
способе, каким он применил к эстетике гегелевское понятие
«действительности». С полною ясностью это применение выразилось в статьях
Белинского: «Менцел, критик Гете» и «Горе от ума» (Обе в «От<ечественных>
Зап<исках>» 1840)*. Первая из этих статей поднимает общий вопрос о
цели искусства. Основная точка зрения Белинского о самоценности и
самоцельности искусства — та же, что и раньше, в период его телескоп-
ских статей. Новое — мотивы и способ обоснования. Белинский исходит
из истории, понимая ее как осуществление жизни духа, в развитии
которого в человечестве ничто не теряется, не пропадает, потому что все
разумно обосновано. Поскольку это есть развитие духа, оно само в себе,
внутренне (имманентно) разумно, самоценно и бессмертно. Омар мог
уничтожить александрийскую библиотеку и погубил просвещение древних,
но «просвещение чудная вещь — будь оно океаном и высуши этот океан
какой-нибудь Омар, — все останется под землею невидимый и
сокровенный родник живой воды, который не замедлит пробиться наружу
светлым ключом и превратиться в океан» (III. С. 300). Исходя из этой
идеалистической веры в силу и неуничтожимость духа, Белинский утверждает
и бессмертность просвещения, — «ибо оно не имеет вне себя никакой
цели, обыкновенно называемой «пользою», но есть само по себе цель и
в самой себе заключает свою причину, как внутренняя жизнь
сознающего себя духа». Удовлетворение духа, стремящегося к сознанию, есть и
причина и цель просвещения; внешняя польза — только результат, хотя
и необходимый. Сказанное о просвещении одинаково относится и к
искусству, и к науке. Белинский вооружался против критики Менцеля,
потому что основная идея этой критики — что «искусство должно служить
обществу» — признается Белинским идеею ложною (С. 303). Белинский
не отрицает, что искусство служит обществу, «выражая его собственное
сознание и питая дух составляющих его индивидов возвышенными впе-
крайней мере, стремится к соединению сих двух крайностей, чрез упрочение,
просветление и торжественное, на алтаре истинной мудрости, освящение уз
общественных.... Таким образом, стремление к установлению, возвышению и
просветлению гражданственности составляет существенный характер периода,
в котором мы живем» (Haec tendentia ad vitam socialem stabiliendam, perfciendam
et illustrandam, essetialem characterem period<e> qua vivimus, consutuit, — «De
origine» etc., P. 127; КозмжН.К. «H. И. Надеждин». СПб., 1912. С. 229-230).
* Первая из этих статей написана по поводу вышедшей в 1838 г. на русском
языке книги: «Немецкая словесность». Из книги Вольфганга Менцеля. Ч. 1-Й.
СПб., 1838. Статья о Гете — последняя во второй части. С. 384-461.
К вопросу о гегельянстве Белинского
443
чатлениями и благородными помыслами благого и истинного», но оно
служит само по себе и имея в себе самом цель и причину, а не по
заказу, когда на поэта смотрят, как на подрядчика, которому можно заказать
один раз одно, а другой раз — другое. И Белинский не жалеет красочных
выражений для осуждения такого примитивного и вместе искаженного
понимания задач искусства. Аналогичным образом Белинский
выступает и против другой «фальшивой мерки для искусства», принятой также
Менделем и имеющей много представителей против «нравственной
точки зрения на искусство» (III. С. 315 ел.). И здесь он исходит из
представления об искусстве как выражении духа и потому заключает: «что
художественно, то уже и нравственно, что нехудожественно, то, может быть,
не безнравственно, но не может быть нравственно» (III. С. 316).
Все эти мысли покоятся, как очевидно, на общей
идеалистической предпосылке о духе как основе развития творчества, и
Белинский мог их разделять и разделял, принимая шеллинговскую точку
зрения на искусство, а не потому что познакомился с Гегелем.
Можно сказать больше — все эти мысли можно разделять, и не
примыкая к тому или иному толку идеалистической философии. Основой
этих мыслей, в конце концов, является не какая-либо система
философского идеализма, а просто так называемый практический
идеализм, т. е. вера в самодовлеющую силу знания и творчества. В
крайнем случае, с точки зрения мерок здравого смысла, нужно было бы
внести только незначительные поправки в словесные формулы, и
возражать против этих мыслей ни одно умное существо не должно
было бы. Острота споров вокруг формулы «искусство для искусства»
(как и «наука для науки») возбуждается лишь непониманием
синекдохи, представляемой формулою. Сторонники формулы имеют в
виду «красоту для красоты», и переходя к «искусству», им, для
умиротворения благоразумия, следовало бы разъяснять: красота остается
в искусстве для красоты, но само искусство может преследовать и
фактически, о чем говорит и история, преследовало не только
задачу выражать красоту и свидетельствовать о ней. Другими словами,
формулу следовало бы построить так: искусство не только средство,
а и, между прочим, хотя бы наискромнейшим образом, в самом
ничтожном количестве, при самых укромных обстоятельствах также
и сама себя оправдывающая цель. Кроме того, говоря о самоцели,
следует иметь в виду творчество, говоря о средствах — проповедь
общественную, нравственную, какую угодно, а следовательно, и
антиобщественную и безнравственную. Белинский был прав, что ис-
444
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
кусство, преследующее художественные цели, тем самым, и притом
положительно, служит обществу, потому что, выражая его сознание
сообразно этим целям, оно выражает его именно со стороны
красоты, а не грязи и уродства. Но его можно призвать и для служения
другим целям, как то признал позже и Белинский сам; будет ли оно
при этом и художественно, остается вопросом, который
разрешается не априорным и общим приговором, а в каждом отдельном
случае, хотя бы и по общим правилам критерия — какого же? — может
быть, художественного, вероятно, художественного.
XIII
Во второй из названных статей («Горе от ума») нет
принципиально ничего нового по сравнению с отмеченным, но знакомством
с эстетикою как будто более адекватно и как будто более детально
устанавливается связь поэтической проблемы с формулою Гегеля о
разумной действительности, как это понимает Белинский*.
Примыкая, в общем, к Надеждину в способе толкования классицизма и
романтизма, внося некоторые переоценки под влиянием бакунинского
«Предисловия» (III. С. 335), Белинский в то же время в
противопоставлении классицизма и романтизма непосредственно сближается с
соответствующим противопоставлением у Гегеля (Aesth. I, С. 96-100).
Собственную позицию Белинский характеризует как не классицизм
и не романтизм, затрудняясь в положительном ее определении.
Новое искусство, по его словам, исторически непосредственно
происходит от романтизма, но иного названия Белинский не может ему
найти, как «новейшее». Его характер — «в примирении классического
и романтического, в тожестве, а следственно и в различии от того и
другого как двух крайностей... Оно примирило богатство своего
романтического содержания с пластицизмом классической формы»
(С. 349). Формально — все тот же Надеждин, а как можно видеть из
этих заключительных слов, со стороны содержания — Гегель.
* Ср. Иванов-Разумник (Соч. Белинского. I. С. 585). «Итак, настоящая статья
является тесно связанной и с предыдущими, и с последующими статьями
Белинского; это важно отметить потому, что слишком часто считают статьи
Белинского 1839-1840 гг. каким-то временным недоразумением в его
критической деятельности, "черным пятном", изолированным и от предыдущего, и от
последующего это не верно».
К вопросу о гегельянстве Белинского
445
Как и в статье о Менделе, Белинский защищает точку зрения,
согласно которой поэзия не имеет цели вне себя, а есть сама себе
цель (С. 354). Но теперь еще яснее принцип автономности искусства
связывается с принципом «действительности» как предмета
искусства. Поэзия, говорит Белинский, есть истина в форме созерцания,
ее создания — воплотившиеся, видимые идеи. Поэзия потому та же
философия, то же мышление, поскольку и мышление и поэзия
направляются на одно содержание — на абсолютную истину. Разница
лишь в том, что мышление имеет его с диалектическим развитием
идеи из себя самой, а поэзия с непосредственным явлением идеи в
образе. Именно через отношение к содержанию, к истине поэзия,
как и мышление, связывается с действительностью. «Высочайшая
действительность есть истина; а как содержание поэзии —
истина, то и произведение поэзии суть высочайшая действительность»
(С. 354). Романтическая поэзия отрывалась от действительности,
уносилась по ту сторону ее и жизни, наша, «новейшая» поэзия есть
«поэзия действительности и жизни». Только слабые и болезненные
(«прекрасные»?) души видят теперь в действительности юдоль
страдания и бедствия, души нормальные и крепкие находят блаженство в
живом сознании живой действительности, Божий мир для них
прекрасен и само страдание — только форма блаженства (С. 357).
Все это кажется очень последовательным и согласованным с
общими взглядами Белинского на принцип «действительности», но
оно таит в себе немало противоречий и непоследовательности, если
его сопоставлять с самим Гегелем. Но и для Белинского все это было
спаяно не крепко. Как мы видели, в философии Гегеля он искал
ответов на личные сомнения и мучения раздвоенности, — отсюда его
нападки на «прекраснодушие» и «слабодушие», т. е., в конце концов,
на себя самого, и отсюда апология того, чего в себе он не находил,
но что казалось ему признаком душ «нормальных» и «крепких». Как
в жизни, так и в искусстве он ищет «примирения» с
«действительностью» и считает <это> требованием самого времени. Достаточно
было «жизни» состроить перед Белинским другую, новую гримасу, и
все его химерическое философское и эстетическое построение
рассыпалось на части, безобразные, как сами те несогласуемые
существа, из которых Белинский лепил свою химеру.
С одной стороны, Белинский не хочет зачислять себя ни в
романтики, ни в классики, и то и другое им отвергается, а с другой
стороны, «наш век», т. е. век «новейшей» поэзии, он называет «веком при-
446
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
мирения» (С. 356). Это противоречие оставалось в свое время
неразрешенным и у Надеждина, Белинский продолжает его как будто не
замечать, но в то же время, отвернувшись от него и стоя перед
гегелевским противопоставлением «прекраснодушия» и «объективности
духа», он в последнем, в его форме «действительности» хочет найти
положительные признаки «новейшего» в его устремлении к
«единству» и «тотальности». Однако этим утверждается только новое
противоречие: если «действительность» есть предмет поэзии, как
«истина», то ведь это определение надо понимать как указание признака
существенного для всякой поэзии, а не только поэзии какого-нибудь
отдельного времени. Такое определение остается только
формальным, пока оно не связано с материальным, историческим или
диалектическим осуществлением истины. Именно историческое выяснение
романтизма у Надеждина тем и было ценно, что оправдывало для
своего времени и классицизм и романтизм. Неоклассицизм и
псевдоромантизм — терминология Надеждина — потому и приняли по его
толкованию, уродливые формы, один — «педантизма», а другой —
«лунатизма» (о. с. р. 135. Cf S. S), что пытались отображать
«действительность» в несоответствующих ей формах. И это, конечно,
отвечало, хотя бы одною своею «научностью», — духу философии Гегеля.
Белинский, когда связывал Надеждина с Гегелем, когда, напр., писал:
«мечтательность была высшею действительностью только в
периоде юношества человеческого рода» и т. д., как будто признавал, что
словечко «действительность» не раскрывает еще тайны «новейшей»
поэзии, но возникавшего из этого признания противоречия не
замечал. Смысл и метод диалектического устранения противоречия
были, во всяком случае, для него непонятны, и противоречие просто
зияло перед его читателем, как разверстая пасть.
Белинский ищет примирения с действительностью на место
гегелевского примирения в действительности и, по-видимому, склонен
видеть в «новейшей» действительности, все в себе примиряющей,
наконец, всю действительность — в противность прежним
историческим моментам ее, односторонним, отвлеченным. Но из этого у
него проистекает только оправдание всякой всячины, какая может
встретиться во всей действительности, — всего случайного,
жестокого, больного, деспотического. И в жизни само страдание
оказывается «блаженством», а в поэтическом изображении «кровавое зрелище»
вызывает «чувство гармонии и спокойствия в душе», «просветленный
взгляд на жизнь и примирение с нею» (ст. о Гамлете и Мочалове. И.
К вопросу о гегельянстве Белинского
447
С. 520). Но ведь это-то все и есть прекраснодушие, т. е., по Гегелю,
психология романтика. Именно Гегель, характеризуя романтизм,
писал: «Это внешнее имеет свое понятие и значение уже не в себе и не
само по себе, как в классическом, а в душе, которая находит свое
явление не во внешнем и не в его форме реальности, а в себе самой и
может сохранить или вновь приобрести эту примиренность с собою
во всем случайном, во всем образующемся для себя акцидентальном,
во всяком несчастье и боли, даже в преступлении» (Aesth. I. С. 103).
Белинский остается прекраснодушным романтиком, ибо из этого
внутреннего состояния выхода для него, по-видимому, не было. Могли
быть только внешние перемены в способах обнаружения этого
прекраснодушия и романтизма, могли быть только внешние же «выходы»,
перемены, отречения. Одним из таких мнимых выходов из самого себя,
из своего существенного, была для Белинского замена «призрачности»,
в противопоставление действительности, другою призрачностью,
смена призрака призраком. Коррелятивно, конечно, и «действительность»
всякий раз ему представлялась иною. Отсюда — калейдоскоп
«мировоззрений» Белинского при постоянстве какого-то формального
основания и при повторяемости каких-то пестрых осколков,
складывающихся, как в подлинном калейдоскопе, после кавдой встряски в новый узор
осколков, собранных в редакции «Телескопа» и дружеском кругу
Станкевича, Бакунина, Каткова, Боткина. А названным формальным
единством могла быть, в конце концов, его собственная раздвоенность,
тосковавшая по примиряющему единству, но его не нашедшая, и
толкавшая его от одной крайности к другой — и в собственных настроениях,
и в отношениях к людям, и в отношениях к миру, и в художественных
оценках, — все это у него легко перебрасывалось с одного полюса на
другой, нигде и ни на чем долго не задерживалось, как носимое
ветром по полям перекати-поле. Действительность, толковал Белинский,
есть положительное жизни, призрачность - ее отрицание. Отсюда две
стороны жизни — разумная действительность и призрачная, отсюда и
поэзия как воспроизведение действительности — положительная и
отрицательная (С. 365). Но что положительно в жизни и что
отрицательно, это зависело от «сего дня», от его романтической грезы. Менялись
жизненные настроения, идеалы, прегрешения и решения, менялись и
философские «предпосылки». Анти-философия направляла
философию. Лично и субъективно Белинский поступил, наконец, правильно
и честно, когда отрекся вовсе от философии. Но от чего он
отрекался объективно и общественно? Ошибка Белинского — ошибка многих:
448
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
хотят с помощью ф<илософ>ии решить вопросы своей жизни и
своего дня, и испытав неудачу, на к<отор>ую с сам<ого> начала обречено
такое предприятие, они отрекаются от ф<илософ>ии, к<ак> бегут от
девушки, к к<отор>ой обращаются, к<ак> к потаскушке, а она —
невеста. Собственно, от изложенного выше он не отрекался, — потому-
то исследователи и находят в его позднейших, послегегельянских
«периодах» развития те же гегельянские «моменты», точнее сказать, те же
обще-идеалистические моменты, с провозглашения которых
Белинский начал свою литературную деятельность*.
Действительное отречение у Белинского было только
отречением от той связи, в которой теперь, в «гегельянский период»,
толковались вышеприведенные общие места. И эта-то связь и была
указанным своеобразием, своеобразным способом привлечения
философии, гегельянства к обоснованию сих общих мест. Связь
устанавливалась через понятие действительности, как она толковалась
именно в статье о Менделе и с чем мы уже знакомы. Своеобразие же
заключалось в том, что Белинский, вопреки тут же
провозглашенному пониманию самоценности искусства и знания, привлекал
философию для разрешения прагматических вопросов и личных. Этим
самым уже предрешалось и последующее отречение. Белинский
повторяет то, что было уже сказано им в телескопский период:
«искусство есть воспроизведение действительности» (Ст. о Менделе.
III. С. 329), но под действительностью, — влияние Гегеля, —
разумеет не вполне то, что раньше — так, напр., «неистовая французская
литература» не воспроизводит действительности в ее полноте, а
выбирает «отвратительные картины прелюбодеяния» и т. п., и потому
она ложна, и потому она нехудожественна, и потому она
безнравственна, чего раньше Белинский с такою остротою, несмотря на все
его столь признанное чутье, не чуял. Зато еще позже, когда он под
действительностью понимал уже не действительность, не немецкую
*В этом отношении я считаю авторитетом разъяснение Плеханова, «За
20 лет». Изд. 3-е. С. 200. «Несмотря на насмешки над философским колпаком
Гегеля, он еще оставался чистейшим гегельянцем. Его первая статья о Петре
Великом вся пронизана духом гегелевской философии. Во второй статье
преобладает тот же дух, хотя здесь Белинский пытается стать на другую точку зрения
в своих рассуждениях о влиянии географической среды на духовные свойства
отдельных народов, но эти довольно неудачные рассуждения нимало не
изменяют общего характера его тогдашнего миросозерцания, которое остается
совершенно идеалистическим» (Бельтов. «За 20 лет». Изд. 3-е, СПб., 1909. С. 200).
К вопросу о гегельянстве Белинского
449
и не русскую, он признал как раз французскую литературу. А
отрекшись и от философской действительности, он вообще стал
проповедовать действительность просто не-философскую. При всех этих
переменах формула «искусство есть воспроизведение
действительности» могла оставаться нетронутою в своем эстетическом
значении — все утверждения и отрицания касались только того или
другого наполняющего ее содержания. В той же статье о Менцеле
Белинский писал: «Истинно-художественное произведение возвышает
и расширяет дух человека до созерцания бесконечного, примиряет
его с действительностью, а не восстанавливает его против нее, — и
укрепляет его на великодушную борьбу с невзгодами и бурями
жизни» (III. С. 332-333). Вот где своеобразие Белинского в
рассматриваемый период: — примирение с действительностью, а восстание
против нее — естественно повлечет за собой новый «период».
Причем только здесь эстетика, раз примириться с действительностью
можно и без нее, и причем здесь утверждение самоценности
искусства, если примирение с действительностью служит критерием
художественности произведения? Действительная мысль, своеобразная
мысль Белинского должна была бы быть формулирована как раз
обратно приведенному заявлению: произведение, которое примиряет
с действительностью, а не восстанавливает против нее, есть
произведение истинно-художественное. Тогда понятен смысл «отречения»,
его пафос, и тогда сразу дается и формула новой эстетики:
произведение, которое восстанавливает против действительности, а не
примиряет с нею, есть произведение истинно-художественное.
XIV
Выше, к<ак> итог было выведено, что в одной и той же ф<ор-
мулиров>ке примирения с дей<ствительность>ю для Бел<ин-
ског>о, в различ<аемы>й нами период, решает и вопросы общего
поведения или запросы личных исканий. Теперь мы вправе сказать,
что та же ф<орм>ула разрешала для него и проблему худож<ест-
венн>ой критики.
Обратим, однако, теперь внимание на некоторую смысловую
двойственность у Белинского формулировок идей и смысла
«примирения». На эту двойственность, думается нам, не обращено
должного внимания, а между тем из освещения ее только и выясняется
философское значение гегельянства Белинского и его
действительная роль в судьбах русской философии и отношения к ней русско-
450
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
го общества. Не столь важно, говорили мы, правильно или
неправильно понял Гегеля Белинский, а важно, как он им воспользовался.
Воспользовался он философией, как видно из всего сказанного, для
оправдания того прагматического решения практических и личных
проблем, к которому он пришел кидаемый жизнью, житейскими
размышлениями и порывами своего чувства от одной крайности своих
настроений к другой. Путь — нефилософский. Но мы сами, и с
особенным упорством, настаиваем на том, что путь биографический не
есть объяснение развития общественного и культурного сознания, и
как бы Белинский ни пришел к своей проповеди гегельянства,
общество, читатели, продолжатели дела Белинского воспринимали его
проповедь прежде всего со стороны ее объективного смысла и по ее
предметному значению. Именно с этой точки зрения
представляется убедительным тот вывод, согласно которому Белинский, -пусть
неправильно понял, исказил даже Гегеля, но тем самым задал тон нашей
оригинальной философии, нашему оригинальному отношению к
ней и специфическим требованиям, которые только мы предъявляем
к ней. И с этой точки зрения может показаться все-таки важным
установить, в чем отошел Белинский от Гегеля, ибо с этой точки зрения
данный вопрос тожествен вопросу об названной оригинальности.
Философские задачи должны решаться философскими
средствами. Всякий другой способ их решения есть уничтожение самой
философии. Из ее истории тому можно было бы привести
несчетное количество примеров, — это был бы длинный мартиролог идей
и людей. Кто не умеет пользоваться философским орудием, тот не
может способствовать ее созиданию, для него остается доступным
только одно философское деяние: отойти от философии и дать ей
развиваться своими собственными силами. Действовать в
философии нефилософскими средствами — то же, что действовать
веревкою и кнутом, где требуется сердечное участие любви. Вот почему
для нас разъясненное прагматическое отношение Белинского к
философии — достаточный ответ и на другие вопросы. Последователи
Белинского и с ними русское общество и руководившая этим
обществом интеллигенция не нашли способов быть в философии
философами — они оставались в ней русскими интеллигентами. Сказать,
что это произошло потому, что Белинский и другие отошли от
Гегеля, значит ничего не сказать. От Гегеля можно отойти и оставаться
в пределах философии. Но отойти от философии в Гегеле, как и во
всяком другом истинном философе, значит отойти от самой фило-
К вопросу о гегельянстве Белинского
451
софии. Это было сделано Белинским. Его собственная литературная
проповедь после этого — не просто пример и историческая
случайность, а неизбежное и необходимое последствие. Белинский
сорвался с философской орбиты и понесся по касательной к ней, прочь от
нее, и тем скорее, чем сильнее был толчок в момент отрыва от нее.
Итак, двойственность вышеприведенных формул Белинского
состоит в том, что, повторяя и воспроизводя собственные мысли
Гегеля в их философском обличий, он и в свою формулу вкладывает
философский вывод — вывод, также подсказанный Гегелем. Но как
только Белинский начинает говорить своими словами, он срывается
и мчится, подгоняемый центробежною силою, прочь от философии
в пустоту «мировоззрения».
Действительность, истина, разумность — вот высшие формы, в
которых объективирующийся дух изживает все свои противоречия, в
них, в этих формах, находя высшее примирение всех диалектических
отвлеченностей, через которые он прошел в своем феноменальном
развитии. Все это — Гегель и философия. Но вот и Белинский: он
пребывал в состоянии «распадения», он ссорился с обществом, с
окружающею его действительностью, ему самому было мучительно и больно,
он страдал, действительность сокрушала его «под свинцовою
тяжестью своей исполинской длани» (III. С. 229), он не выдерживал, а сама
действительность со всех сторон подсказывала ему малодушное
смирение перед нею, толкала его к покорному примирению с нею. И это
ли философский акт, когда он захотел повлечь за собою и все и вся?
Это — психологическая черта, а не философский акт, и притом
черта не индивидуально только характеризовавшая Белинского... И если
этого прямо нельзя было сделать, ему оставалось говорить и
проповедовать. Такая проповедь есть моральная проповедь, и, конечно,
Белинский не первый хотел произносить ее с философской кафедры.
Моральное, нефилософское слово, произнесенное им с гегелевской
кафедры, было провозглашением примирения с действительностью
на место гегелевского примирения в действительности. И как
прекраснодушие было понято не в смысле раздвоения в себе, а в смысле
борьбы с действительностью*, так и философия Гегеля была
принята как средство примирения с действительностью, а не в ней.
Так, на место высшего всеобъемлющего синтеза мысли,
включающего в себя в последнем осуществлении всю духовную культуру, у Бе-
* Ср. Бакунин. С. 7\.
452
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
линского становится мировая сделка, которую потерпевший и
слабый предлагает в расчете на сострадание сильного. На место
мысли — будничная прагма. Как похвалялся в «Воспоминаниях»
Тургенев (С. 25): «Мы тогда в философии искали всего на свете, кроме
чистого мышления!» Хорошо бы, если бы на этом можно было о мысли
позабыть! Белинский не мог этого сделать, и он самое мысль задумал
привлечь для оправдания, перед собственною совестью, сделки
своей. Он делал из философии жизненное, прагматическое
мировоззрение. Однажды, в эмфатическом припадке, Белинский писал (Письмо
Бакунину, <18>38 г. I. С. 239): «...я хватился за ум и теперь за поцелуй,
за улыбку охотно плюну на философию, на науку, журнал, мысль и на
все. Ощущения, волнования жизни — это главное; а там можно и
пофилософствовать — этак, как выкинется — иногда прозою, а иногда
и стишками». Это — частные письма, и это — эмфаза — нельзя брать
этого всерьез и обобщать. Не случайно ли, что через более строгие
и менее откров<енны>е публичные высказывания Бел<инског>о
был слышен и этот тон? Не случайно, пот<ому> ч<то>, отбросив
пародийность и эмфазу, этот тон услышали, восприняли и
повторяли всерьез и обобщенно продолж<ател>и дела Бел<инског>о, пока
Писарев и Ткачев не исчерпали его. Не случайно и то, что любившие
и ценившие, но не продолжавшие Белинского (хотя Ап. Григорьев)
именно этого не слышали, не хотели слышать, не могли.
Психологически любопытна, но не неожиданна для того, кто
присматривался к личности Белинского, та страстность, с которою он
потом проклинал свое малодушие, свое примирение с
действительностью и проповедь такого примирения. Как психологически же не
неожиданно было, что под влиянием пустого субъективного
морализирования Белинский, чтобы только не задохнуться в его пустоте,
готов был униженно преклонить колени перед любой
действительностью, но только с настоящею реальною плотью, кровью и дыханием
жизни. Перед умственным взором Гегеля как будто предносился
жизненный облик Белинского, когда Гегель произносил перед своими
слушателями следующие пророческие слова: для субъективного
морального сознания «может возникнуть такая тоска по объективности,
когда человек скорее унизится до роли раба и полной
подчиненности, только бы уйти от мук пустоты и отрицательности»*.
* Rechtsphilosophie. Zusatl zu § 141. S. 325 по изд. Лассона. S. 203 по Изд. 3,1854 г.
К вопросу о гегельянстве Белинского
453
Наконец, психологически не неожиданно, что неправо
вовлеченная Белинским в личные дела и в прагматические задачи философия
стала для него предметом нелюбви, недоверия и некоторого страха.
Как он мог любить то, что он предал и над чем надругался?
Стремясь приобрести мир с действительностью, Белинский потерял мир
с философией — не оправдав его надежд, она для него потускнела и
испарилась. Анненков вспоминает: «Внутренняя жизнь Белинского в
эту эпоху представляла раздвоение поистине трагическое и
исполнена была страданий и сомнений, которые по временам он и
открывал собеседникам в резком, неожиданном слове, можно сказать, в
вопле истерзанной души. Он судорожно и отчаянно держался за
новые свои верования, но с каждым днем все более и более чувствовал,
что они меняются, тускнут и испаряются на его собственных
глазах» (С. 198). Не так ли бывает и всегда, когда объект чистой любви
и преклонения мы превращаем в свою истопницу и прачку? И не в
духовном ли только проникновении в собственный дух объекта мы
примиряем «жизнь и идеал»?
Мысли как мысли Белинский не любил («Письма». I. С. 193, 195).
Белинский и умер с философией непримиренный, и, как завет, он
передал поколениям свое не-философское отношение к
философии. Белинский — «прекрасная душа» и тогда, когда он исповедует
и проповедует прекраснодушие, и тогда, когда он отрекается от него
и исповедует свое отречение*, и тогда, когда на место того, от чего
он отрекается, строит утопию за утопией, и тогда, когда он свои
утопии, то с раздражением, то с увлечением, бросает в жизнь, терзая
действительность и опьяняясь благими порывами ее созидания. Для
нас это не только биография, не просто идея, — Белинский —
символ! А философия и прекраснодушие — две вещи несовместные.
Чтобы примириться прагматически с действительностью,
Белинский отрекся от философского примирения диалектических
противоречий мысли в разуме и действительности. При таком положении
вещей не приходится говорить о правильном или неправильном
понимании Гегеля, не приходится говорить о новом направлении
и толковании Гегеля или об оригинальности понимания, дающего
* Это он и сам признал, когда отрекался от гегелизма, отрекался и от
прекраснодушия: «Я мучил... действительности... Да, теперь... мои герои... теперь
снова... (Письма к H. Бакунину. 6-8 апреля. 1841 г., II. С. 232-233).
454
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
основания к новому направлению философии. Все эти темы
оказываются вне указанного положения вещей, поскольку они ставятся в
философских интересах или с точки зрения разрешения каких бы
то ни было философских проблем. Все это — вне и мимо
философии. Здесь нет философии ни положительно, ни отрицательно,
разве только — против нее. Это — последнее слово, а что же после
него можно добавить, если оно правильно? А в пользу его
правильности можно было бы из истории философии свидетельствовать и
свидетельствовать. Но едва ли в настоящем контексте есть лучший
свидетель, чем сам Гегель. Это он и всем духом своей философии
и прямыми словами утверждал, что философия есть наука,
истинное знание, напряжение разума, а не пустое философствование, не
построение мировоззрений, не формализирование и
морализирование. Чернышевский, сам того не желая, поступил жестоко по
отношению к Белинскому, когда в своих статьях о Белинском
следующим образом интерпретировал значение гегелевской философии:
«истина — верховная цель мышления; ищите истины, потому что в
истине благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что
неистинно; первый долг мыслителя: не отступать ни перед какими
результатами; он должен быть готов жертвовать истине самыми
любимыми своими мнениями». Чтобы оценить важность этого
требования, поясняет Чернышевский, требования, «особенно энергически
высказанного Гегелем», надо вспомнить, какими «странными и
узкими» условиями ограничивали истину мыслители других тогдашних
школ; «они принимались философствовать не иначе, как затем,
чтобы "оправдать дорогие для них убеждения", т. е. искали не истины, а
поддержки своим предубеждениям; каждый брал из истины только
то, что ему нравилось, а всякую неприятную для него истину
отвергал*
* Белинский: «Я мыслю (сколько в силах), но уже если моя мысль не
подходит под мое созерцание или стукнется о факты — я велю ее мальчику вымести
вместе с сором» (курсив мой; Письмо к Бакунину. 12 окт. <18>38 г. I. С. 268).
Характерно и это «или». (Относит<ельно> моих ссылок на письма я просил
бы читателя им<еть> всюду в виду, что, прибегая к ним, ни в коем случае не
хочу дать этим цитатам общей хар<актеристи>ки писателя Бел<инског>о.
Это только т<ак>ие личные клочки, отмечающие одно мгновение, против
кот<оры>х ст<оль>ко же других клочков, сколько мгновений в скачках
настроений Бел<инског>о. В целом т<ак>ие цитаты — только ф<ормальна>я (?)
характеристика отношения Бел<инског>о к мысли и философии. Если бы со-
К вопросу о гегельянстве Белинского
455
Эту манеру заботиться не об истине, а о подтверждении
приятных предубеждений немецкие философы (особенно Гегель)
прозвали "субъективным мышлением", философствованием для личного
удовольствия, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко
изобличал эту пустую и вредную забаву. Как необходимое
предохранительное средство против поползновений уклониться от истины в
угождение личным желаниям и предрассудкам был выставлен
Гегелем знаменитый "диалектический метод мышления"» («Очерки
гегелевского периода». Соч. И. С. 186-187).
Бакунин и Белинский начали свою общую работу по
философскому образованию с популярных проповедей Фихте. Именно
моральные предубеждения — наихудший сорт тех «предубеждений»,
против которых предостерегал и Чернышевский. Но проповеди
Фихте так.интимно слились у друзей с их личными запросами, что
для нас напрасно Гегель именно эти фихтевские проповеди изгонял
даже из истории философии, «хотя бы, — как оговаривает Гегель, —
они по своему содержанию обладали величайшей ценностью»*. По
неисповедимой злобе судьбы наши «гегельянцы», наперекор
Гегелю, выявили те самые «поэтические и пророческие, томительные
(sehnsuchtige) тенденции», те «наросты» (Auswüchse), по
определению Гегеля, которые произошли из фихтевой философии. Этим они
надолго задали тон русскому философствованию, которое в итоге и
дало право на выше уже цитированное обобщение, согласно
которому главною особенностью умственных движений русского
общества была способность претворять заимствованные извне
отвлеченные системы в «чисто русский катехизис практической жизни».
Поэтому я не могу придумать лучшего заключения для своего
этюда, чем указать критерий, по которому следует судить о
философском значении наших первых гегельянцев, заимствовав этот
критерий и у самого Гегеля.
брать все эти мгновения в их против<оречиво>сти, хар<актеристи>ка не
изменилась бы, а только обнажилась бы в ужасающую картину душевного
распада, до кот<орог>о может <быть> доведен ч<е>л<ове>к, лишенный веры в
объективность истины и не способный выйти из мглы и мрака субъек<тивны>х
утверждений и самоутверж<дени>й. Но этого чел<овеческо>го я не
касаюсь, к<ак> и вообще не имею в виду личности его, — мои цитаты из
писем, сл<едователь>но, только случ<айны>е иллюстрации выводов, что по-
луч<ают>ся из анализа писателя.)
* Gesck d. Phifos. III. С. 555, ср. С. 579.
456
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Семнадцатая страница «Философии права» Гегеля гласит
нижеследующее:
«"Что разумно, то действительно;
и что действительно, то разумно".
В этом убеждении пребывает всякое непредвзятое сознание, как
и философия, и отсюда исходит последняя точно так же в
рассмотрении духовной вселенной, как и естественной. Если рефлексия,
чувство или какой бы облик не имело субъективное сознание, если
оно принимает наличную данность (die Gegenwart) за нечто
пустое (ein Eitles), ставит себя выше и "лучше знает", то оно
занимается только собою (so befindet es sich im Eiteln), и так как оно
действительность (Wirklichkeit) имеет только в наличной данности, то
оно таким образом само только пустота. Если, обратно, идея имеет
значение только идеи, подразумеваемого представления, то взамен
этого философия обеспечивает воззрение, что кроме идеи нет
ничего действительного. Тогда дело идет о том, чтобы познать в
видимости временного и преходящего субстанцию, которая имманентна,
и вечное, которое налично дано. Ибо разумное, что есть синоним
идеи, вступая в своей действительности вместе с тем во внешнее
существование, выступает в бесконечном богатстве форм, явлений, и
образований и облекает свое ядро пестрою корою, в которой
хозяйничает прежде всего сознание, которую проникает понятие лишь
затем, чтобы найти внутренний пульс и нащупать его точно так же
и во внешних образованиях еще бьющимся. Но бесконечно
многообразные отношения, которые образуются в этой внешности
через проявление сущности в ней, этот бесконечный материал и его
регулирование — это не предмет философии. Тут она вмешивалась
бы в вещи, которые ее не касаются; она может обойтись без того,
чтобы давать об этом хорошие советы; Платон мог бы воздержаться
от того, чтобы советовать нянькам никогда не стоять с детьми
смирно, а всегда раскачивать их на руках, и точно так же Фихте мог бы
воздержаться от того, чтобы, как называлось это, "конструировать"
усовершенствование паспортной полиции вплоть до того, чтобы в
паспорте помещались не только приметы подозрительного лица, но
рисовался даже его портрет. В подобного рода творениях
философии не видно уже и следа, и она может покинуть подобного рода
ультра-мудрость тем более, что она должна относительно этого
К вопросу о гегельянстве Белинского
457
бесконечного множества предметов выказать себя как раз самым
либеральным способом. Тогда наука окажется в наибольшем
удалении и от той ненависти, которая вздымается в пустоте лучше —
знания ко множеству обстоятельств и учреждений, ненависти, в
которой мелочность находит наибольшее наслаждение, так как только
благодаря этому она приходит к некоторому самочувствию».
Курсив в этой цитате мой.
Москва, 1923, мая 1-го
МУДРОСТЬ ИЛИ РАЗУМ?
Quid ergo Athenis et Hierosofymis?
quid academiae et eccleslae?263
Тертуллиан
I
Следует тщательно различать между философией как чистым
знанием и научной философией. Научная философия
определяется отрицательно, в исключающую противоположность философии
ненаучной, под которой понимается философия «метафизическая»,
ненастоящая, псевдофилософия. На первый взгляд может показаться,
что такое определение задач философии диктуется научной
скромностью, но при ближайшем рассмотрении нетрудно заметить, что на
самом деле мы здесь встречаемся со своеобразным типом
самомнения. За притворным самоограничением научной философии можно
открыть большие претензии: в своем желании быть «научной» она
принимает за норму приемы и методы какой-либо частной области
научного знания и, таким образом, провинциальными средствами
собирается решать мировые вопросы. По самому своему заданию
научная философия оказывается несостоятельной, — одно из двух:
или она бесцельно удваивает научные решения вопросов, или она
выходит за границы отдельных наук и берется решать научными
средствами вопросы, которые научному решению не подлежат.
Фактически она идет этим последним путем. Взяв за образец научного
познания какую-нибудь специальную науку, она тотчас выходит за
ее границы и в ее терминах пытается разрешить сперва проблемы
других наук, а затем и те проблемы, которые эти науки не берутся
решать, в силу ли эмпирической ограниченности нашего знания,
или в силу принципиальной для них недоступности этих проблем.
Безразлично, дальше, какая наука выбирается за образец, научная
философия неизбежно выполняет то дело, значение которого она
отрицает, — она сама становится философией ненастоящей,
«метафизической», псевдофилософией. Названием псевдофилософии я
обозначаю: 1) позитивистические фантазии о «синтезе» всего
знания по типу какой-либо специальной науки; 2) мифологические и в
узком смысле метафизические фантазии, облеченные в наукообраз-
Мудрость или разум?
459
ные формы, также по преимущественному образцу какой-либо
специальной науки; 3) теологические фантазии, облекающие верования
и произвольно прокламированные догматы в наукообразную форму;
4) всякого рода гностические фантазии; — между всеми — общее:
придать своим фантазиям наукообразную форму и именовать ее
философией. Поскольку все эти «фантазии» выходят за сферу
строгих пределов науки, они в широком смысле могут быть названы
метафизикой. Последняя, как свободное индивидуальное творчество,
может быть выражением истинно философского переживания и в
этом смысле не подлежит, разумеется, никаким ограничениям, пока
она не претендует на «научность». Следовательно, псевдофилософия
есть метафизика в широком смысле, претендующая быть точной
наукой. И только в том редком случае, когда термин «метафизика»
намеренно и произвольно употребляется в качестве синонима
философии как чистой науки, метафизика не подходит под это
определение. Таким образом, механизм, динамизм, биологизм
(эволюционизм), субъективизм (психологизм, гносеологизм), историзм и
тому подобные направления научной философии принципиально
не отличаются от метафизических учений, например, материализма,
спиритуализма, монизма, с их привативными подвидами:
механистическим, эволюционным, историческим материализмом,
динамическим, интеллектуалистическим, волюнтаристическим и подобным
спиритуализмом, идеалистическим, реалистическим,
энергетическим и подобным монизмом и пр., и пр. Эта многочисленность
направлений научной философии лишает ее единства оснований, и
мы можем говорить здесь, самое большее, только о единстве ее типа.
При многообразии объяснительных направлений она оказывается
дробной, привативной; каждое направление в ней относится
отрицательно к другим направлениям; это — философия по
преимуществу нетерпимая.
Философия как чистое знание имеет положительные задачи и
строится на твердых основаниях. Единая по замыслу, она и в путях
своих единообразна. Она может показаться претенциозной, когда
она объявляет предметом своего изучения все, но строгость ее
метода и высокие требования, предъявляемые ею к выполнению своих
задач, точно и надежно обурочивают ее границы. Ее задачи
определяются ее предметом, отличным от предметов других видов и типов,
как научного, так и ненаучного познания. Ее самоограничение — ис-
460
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
кренно и недвусмысленно: она эмпирически ограничена мерою
наших человеческих сил, и в этом же смысле безгранична, как
безграничен в идее их рост или как безгранично в идее прозрение гения;
принципиально она ограничена тем, что не может брать на себя
решение задач, не подлежащих решению по ее строгим методам, но
и в том смысле она — безгранична, как безгранично содержание ее
собственного предмета. Философия как чистое знание не
противопоставляет себя в своем исключительном положении другим наукам,
потому что она сама — наука; точно так же, как часть, — а не как
противоречие, — она занимает свое определенное место в целом
философии, под которой в широком смысле понимается и строгое
знание, и «метафизика», и «жизнь». «Мудрость», с одной стороны,
и псевдофилософия, с другой стороны, суть житейские соблазны
для философии как знания, но, строго соблюдая свой собственный
путь, она занимает по отношению к ним определенное положение.
В истории можно констатировать не один случай, что она
поддавалась этим соблазнам, и тогда она оказывалась смешной, пытаясь
применить свою строгость там, где последней не должно быть
места. Но, разумеется, не слепым отрицанием псевдофилософии или
мудрости философия как знание может укрепить свое место, а
только положительным уяснением собственного содержания и
отношения к целому и другим частям «философии» в широком житейском
смысле слова.
В движении мысли человечества ни одна наука не обошлась без
странных и таинственных попутчиков-незнакомцев: искателей
эликсиров жизни, магов и чародеев, наконец, просто уличных
фокусников и колдунов. Непреклонно и последовательно науки
освобождают свое общество от компании темных проходимцев. У философии
есть свои алхимии, астрологии и магии; черным налетом налегли
они на нее; философия как знание имеет прямой обязанностью
очистить себя от этой копоти и показать прямо и честно свои
истинные цели и намерения. В наши дни пересмотра научных путей и
методов приходится иногда слышать сожаления о том, что напрасно
наука в свое время отбросила как негодную ту или иную
«алхимическую» проблему, так как теперь при строгом отношении науки к
своим обязанностям та же проблема вновь возникает перед нами...
Но науке торопиться некуда, — по крайней мере, той науке, которая
не состоит в услужении и на посылках у современного престидижи-
Мудрость или разум?
461
татора — техники, вершащей сейчас судьбы науки и человеческой
мысли!.. Заброшенные было проблемы, говорят, теперь поднимаются
вновь... Значит, поднимаются все-таки! А если из этого требуется
извлечь мораль, то она — только в том, что очищение науки не
должно идти путем голого отрицания, что оно должно стать еще строже
и осмотрительнее. Философия как знание имеет, поэтому, перед
собою громадные построительные задачи, но и не меньшие
исторические и критические. Исходным пунктом ее должно быть точное
указание своих целей и тех средств, которыми она располагает для
их осуществления, а равным образом и своего состава, т. е. тех
органов, которые должны выполнять намеченные ею себе цели.
Философия как знание, будучи частью по отношению к некоторому более
обширному целому, сама составляет целое из нескольких
философских наук. '
II
Наша культура, — по происхождению: средиземноморская,
теперь: всемирная, — направляется, вообще говоря, двумя стихиями —
восточной и европейской. В этом противопоставлении я беру
название европейская в узком и собственном смысле самостоятельного
творчества народов, населяющих Европу Его, это самостоятельное
творчество, в чистом виде можно проследить в культуре
европейцев только до распространения в Европе христианства, т. е. главным
образом, и выражаясь точнее, — идей христианства, христианской
идеологии и христианского «мировоззрения»264. Едва ли можно
сомневаться, что и там, в дохристианской Европе, мы найдем следы и
отголоски восточного происхождения, но точно также нет
сомнения, что на новом месте создавалось и нечто свое, новое.
Европейское же в более широком смысле, и в особенности в течение
последних двадцати веков европейской истории, заключает в себе так
много восточного, что само сделанное нами противопоставление
Востока и Европы подчас теряет свой смысл. Во всяком случае,
выделение той или иной из названных нами стихий в составе нашей
культуры — дело не легкое, требует большого внимания и все-таки
остается только приблизительным. Поэтому и на нижеследующие
разъяснения нужно смотреть не более как на тенденцию.
Именно Восток есть родина мудрости, всяческих сказок, сказаний
и мифов. Восток их переживает, ими питается и в них выражается.
462
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Он не знает, что такое рефлексия; умственная жизнь для него —
нечто чуждое; он с трудом отличает ее от тяжелого физического
труда, он отдыхает, когда от него не требуют умственного напряжения;
умственная лень — его природа и его добродетель. Чистый
европеизм пробудился в тот момент, когда первый луч рефлексии озарил
человеку его собственные переживания. Европа, — это —
умственное напряжение, но не труд, а «досуг», восторг и праздник жизни;
самое дорогое для нее — творчество мысли; и никакая сила, — ни
меч, ни моральная проповедь, — не могли уничтожить в европейце
его страсти мыслить. Европа пережила сказок и мифов, мудрости
и откровений не меньше, чем Восток, но она не только их
переживала, она их также передумывала. Как глубоко она переживала и как
глубоко передумывала пережитое, об этом свидетельствует ее
создание — трагедия, высшая форма художественной рефлексии.
Вообще, это ее создание — основные направления рефлексии: строгое
искусство и строгое чистое знание. «Строгое искусство» — нередко
синоним «античного искусства», т. е. европейского. К «строгой науке»
мы как будто пришли позже, когда Европа «ориентировалась», когда
ее историю вело христианство. Но нужно ли напоминать
мартиролог философии, когда она стала обнаруживать волю быть наукой, и
мартиролог науки, когда она становилась строгой наукой?
Философия как чистое знание есть порождение античной
языческой Европы, т. е. Европы в нашем узком и более точном смысле.
Восточная стихия надолго оттеснила ее на задний план истории, но
не могла уничтожить вовсе, а, напротив, сама впитала в себя немало
от столь чуждого ей европеизма. Настал момент Возрождения наук
и искусств, и Европа открыто и в полной мере стала обнаруживать
себя и свое, — все, что тлело до тех пор под спудом, но не угасало ни
на мгновение.
Философия никогда не переставала быть философией, и средние
века не менее богаты ею, чем последующее время, и в
средневековой философии можно открыть все те же моменты, что и в
предшествовавшее ей или следующее за ней время, — речь идет только о
том, что с Возрождения опять выдвигается на первый план истории
то, что было чисто европейским созданием и что было оттеснено
на задний план средневековым христианским. Дело, начатое
Возрождением, еще не доведено до конца. Новое время есть время
завершительной борьбы между Востоком и Европой. На чью сторону
Мудрость или разум?
А6Ь
склонятся весы истории? Европейская в широком смысле культура —
теперь мировая культура, и борьба, о которой идет речь, давно уже
далеко вышла за пределы того пространства, которое обозначается
географическим титлом «Европа». Восток все меньше переживается
и все больше изучается. Сам Восток приобретает способность
рефлексии и, во всяком случае, все больше «упражняется» в ней.
Философия в европейском понимании становится мировым достоянием.
Нужно отдать себе по возможности ясный отчет в том, что
составляет ее существенные признаки и в чем ее собственный смысл.
Философия как чистое знание есть чистая европейская
философия, — дитя Европы. Удивительно, с какой строгой неизменностью
эта философия на протяжении всей своей истории понимала свои
задачи, с какой неуклонной последовательностью она выполняла их,
с какой, наконец, прямотой возвращалась к ним, когда соблазн
сказки и мудрости отвлекал ее от ее верного пути или когда фанатизм
Востока силою и угрозой преграждал ей этот путь. Уже в момент
своего возникновения ей удалось определить свой предмет и
довольно ясно обозначить своеобразный метод, ведущий к раскрытию
и уяснению этого предмета. Моментом зарождения философии как
знания, философии в понимании и в смысле чистой европейской
мысли, нужно считать тот момент, когда эта мысль впервые
направила свой рефлектирующий взор на самое же мысль.
Парменид265, но определению Платона, Великий, — был первым
европейским философом. У него мы находим ясно проведенное
различие между философией, как чистым знанием, и
псевдофилософией, как сказкой, мифом, «мнением», поскольку они претендуют
на философский титул. Он точно устанавливает для философии ее
собственный предмет и открывает тот путь, которым философия
призывается разрешить проблему этого предмета. Две части Парме-
нидовой поэмы легко согласуются, если смотреть на первую из них
как на утверждение принципов философии как чистого знания, а
на вторую как на характеристику псевдофилософии или, по крайней
мере, как на изображение одного из самых первоначальных и самых
распространенных типов псевдофилософии. Как та и другая не
исключают друг друга, так и обе части поэмы не находятся во
взаимно контрадикторном отношении, как это иногда себе представляют.
Истина есть истина, ее связи и отношения — истинны; видимость
есть видимость, связи и отношения в ней случайны, «вероятны» и
464
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
гипотетической природы. Каждому свое. Нельзя только думать, что
в сфере истины господствует такая же немощь, как в наших головах,
устремленных на эту сферу; и нельзя думать, что мы внесем
строгий и абсолютный порядок в область по своему существу случайной
и беспорядочной видимости. Другими словами, нельзя смотреть
на «истину» как на «мнение», а на «мнение» как на «истину». Это —
наши ошибки, когда мы «истину» провозглашаем относительной и
вероятной, а «мнение» — истиной. В действительности, повторяю,
истина — истинна сама по себе, — такова она есть, а видимость нам
кажется, и потому она есть для нас, как она кажется.
«Ты должен все узнать, — говорит сам Парменид, — и
неколебимое сердце совершенной Истины, и мнения смертных, в которых
нет истинной достоверности».
III
Предметом философии как знания является, следовательно,
истина, т. е. то, что есть, бытие. Не тот или иной вид бытия в
частности, а само бытие, как такое, в его сущности, значит, бытие в
противоположность не-бытию. Как бы ни казалось нам такое понятие
бытия «формальным», тем не менее оно — самостоятельный и
своеобразный предмет для познания. Бытие — то, что есть, его
противоположность — не то, что есть, — прежде всего то, что не есть, а
затем и то, что сверх и помимо того, что есть, то еще, что не есть,
а приключается, происходит или проистекает, появляется и опять
исчезает, что кажется. «Нужно говорить, — утверждает Парменид, —
и мыслить о бытии того, что есть. Бытие есть, а то, что — ничто, то
не есть».
Это ясно, но это еще не определяет вполне философии как
знания, так как еще не видно, как мы приходим к философскому
познанию бытия. Ведь может быть, действительно, мы придем к нему
от изучения частных, «эмпирических», «кажущихся» его видов,
например, через их обобщение или через отвлечение. Но, очевидно,
это был бы «е-философский путь, это был бы прямой путь
«мнения». Как я указывал, философия как знание сознается тогда, когда
мы направляем свою мысль на самое мысль. Бытие, как то, что есть,
как истина, тогда изучается подлинно философски, когда наша
рефлексия направляется на самое мысль о бытии. Ибо для мысли
мысль открывается в себе самой, в своей подлинной сущности, а не
Мудрость или разум?
465
как возникающее и преходящее, «нам кажущееся», — здесь
подлинно «незыблемое сердце совершенной Истины». Бытие само по себе
есть бытие, и только. Лишь через мысль бытие становится
предметом мысли и, следовательно, предметом философии как знания.
Нужно прийти к этому сознанию, что бытие философски есть
через мысль, что предмет мысли и предмет бытия: есть одно и то же,
есть один предмет. «Одно и то же, — по Пармениду, — мышление и
бытие». Или он говорит еще яснее: «Одно и то же мышление и то,
на что направляется мысль; и без сущего, в зависимости от
которого высказывается мысль, ты не найдешь мышления». Итак, не только
предмет бытия для философии есть предмет мысли, но и мысль, на
которую направляется философия, есть непременно мысль о
предмете, и мысли «ни о чем», следовательно, нет. Здесь у философии как
знания — прочное и надежное начало.
Философия как знание не исключает человеческого «мнения»,
«мнения смертных», которое определяется своим предметом,
отличным от предмета-«истины» и допускающим только относительное и
условное знание. «Мнение» в философии имеет свое законное право
на существование рядом с философией как знанием, но оно не
может быть отожествляемо с последней. «Метафизика» в узком смысле
входит в состав философии в ее целом и через это имеет, конечно,
пункты соприкосновения с философией как знанием. «И любитель
мифов ("фгАоцйбос"), — говорил Аристотель, — есть в некотором
роде философ». Можно сказать, что предмет псевдофилософии есть
также бытие, но она берег его не через мысль и не в мысли, а как
если бы оно было само по себе, и как оно тогда было бы. Она сразу,
следовательно, допускает некоторую гипотезу о бытии как
природе, которую, затем, пытается оправдать, сводя бытие к тем или иным
частным типам его. Но так как для человеческого «мнения»,
руководимого теперь не мыслью, а «чувственным восприятием», более
основной или достоверной «кажется» то один, то другой из
названных типов, то мы и получаем в результате столько
псевдофилософских «учений», сколько только можно различить типов
эмпирической природы. Самый метод при этом решительно меняется. Начав с
предположения о действительном бытии той или иной природы, мы
и дальше не сходим с пути предположений о ее возникновении,
развитии, назначении и т. д. «Мнения смертных», таким образом,
плодятся и распространяются, каждому хочется занять место истины, но, в
466
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
действительности, они — только «мнение», докса, и можно говорить
лишь о большей или меньшей их «вероятности» и стремиться к
соответственному исследованию «мнения».
Если «мнение» хочет занять истинное свое место в целом
философии, то все же никто иной, как сама философия как знание может
определить это место. Само «мнение» она может сделать предметом
мысли и этим самым провести четкую грань между «мыслью» и
«мнением»: «мнение» всегда останется «мнением», по существу отличным
от мысли, как бы последняя глубоко ни проникла в сущность
«мнения». Даже больше, чем глубже философская рефлексия проникает в
сущность «мнения», тем ярче она обнаружит его неустойчивую и
колеблющуюся природу. Философия как знание самое
псевдофилософию может изучать среди других вопросов и тем, но только в виде
своего, выше характеризованного, предмета. Одного лишь должна
остерегаться философия, чтобы не покинуть своего пути истины: не
идти по пути исследуемой ею псевдофилософии.
Парменид: «А все-таки ты и то узнаешь, как мнение, всегда все
проникающее, должно занять надлежащее место... Но удерживай
мысль от этого пути исследования, и да не совлечет тебя на этот
путь много раз испытанная привычка»...
Много типов псевдофилософии занес Восток в Европу уже до
Парменида, но последний, насколько можно судить, имеет в виду
преимущественно космогонические или космологические и
вообще всякого рода («генетические») теории о «происхождении».
Предметом рассмотрения является в таком случае не «бытие», а
«кажущееся устройство»; задача же — в том, чтобы во всем была
найдена «природа» и «откуда оно произошло»: земля, солнце, луна,
эфир и звезды и даже «крайний Олимп», а если верить сообщению
Диогена Лаэртского, то и человек. Все это, как очевидно, вопросы,
которые в современных «Введениях в философию», — изобретение
новейшего времени, — именуются «онтологическими» и
«космологическими проблемами» и которые, согласно данным выше
разъяснениям, составляют не философию, как науку, а один из типов
псевдофилософии, вместе с завезенными к нам с Востока —
мудростью, мировоззрением, моралью... Но поскольку именно
названные «проблемы» претендуют на «наукообразное» разрешение,
они и составляют, действительно, преимущественное содержание
«псевдофилософии».
Мудрость или разум?
467
IV
Я не имею в виду увеличивать собою числа интерпретаторов
Парменида, мне важны только основные руководящие нити его
философского замысла, который я хочу понимать по прямому смыслу
слов Парменида и исходя из существа самой философии. Здесь не
место «доказывать» правоту моего понимания, могу сослаться
только, кроме общего смысла, на первого интерпретатора Парменида и
гения положительной европейской философии — Платона.
Платон углубляет, укрепляет и развивает начала, заложенные Пар-
менидом, точнее и всестороннее освещает философский путь, а вместе
с тем определеннее отмежевывает философию, как знание, от
псевдофилософии. Платон не раз высказывается на эту тему, но, пожалуй,
наиболее ярко он проводит различие между ними, меладу «наукой» и
«мнением» (эпистеме и докса), в самом псевдофилософском из своих
диалогов, в «Тимее»: «Нужно, по моему мнению, — говорит Тимей, —
прежде всего различать: что всегда есть, но не происходит, и что всегда
происходит, но никогда не есть; то, что постигается в мышлении с
помощью понятия, что всегда — одно и то же, и то, что предполагается в
мнении при помощи алогичного чувства, что происходит и исчезает,
не обладая безусловным бытием... То самое, что по отношению к
происхождению — сущность, то по отношению к вере — истина». С той
же афористической выразительностью это противопоставление
находится в «Государстве»: «мнение (докса) — о происхождении,
мышление (ноэзис) — о сущности». Платон нашел и имя для любителя
«мнения»: философу он противопоставляет филодокса.
Замечательна та последовательность и неуклонность, с которыми
Платон развивает свою мысль. «Мнение» и «знание», сказали бы мы в
современной терминологии, суть состояния сознания, и так как
сознание необходимо есть сознание чего-нибудь, то отсюда ясна
необходимость и возможность предметной характеристики этого
сознания. Именно этим путем идет Платон. Совершенно наивным quid
pro quo было бы думать, будто мы Платону приписываем
современное понимание философских задач и определений, — как раз
обратно, современность вновь оживляется и одухотворяется Платоном...
Вспоминая платоновские определения философии, при всей
необходимости быть кратким, я не могу не привести по крайней мере
одну следующую страничку из «Государства», — разумеется, как я ее
понимаю, но стараясь быть возможно близким к подлиннику.
468
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
«Скажи нам вот что: познающий познает что-нибудь или ничего?
Отвечай ты мне за него. — Отвечу, сказал, что познает что-нибудь. —
То, что есть, или не то? — То, что есть; как же можно было бы
познать что-нибудь, что не есть? — Итак, достаточно ли этого, — с
каких бы сторон мы ни рассматривали, — что безусловно сущее
безусловно познаваемо, а не сущее никоим образом не познаваемо? —
Вполне достаточно. — Допустим. А если что-нибудь так обстоит, что
оно и бытие и не бытие, не между ли оно находится тем, что явно
есть, и тем, что никоим образом не есть? — Между. — Так как о
сущем было знание, а незнание по необходимости — о не сущем, то
об этом "между" следует и искать что-нибудь между не знанием и
знанием, не найдется ли что-нибудь такое? — Конечно. — Не
называем ли мы нечто мнением? — Отчего же нет? — Иную способность,
чем знание, или ту же? — Иную. — На иное, следовательно,
направляется мнение, и на иное — знание, — то и другое сообразно разной
своей способности. — Да. — Итак, знанию не естественно ли по
отношению к сущему познавать, что сущее есть? Однако, мне кажется,
нужно, пожалуй, прежде разъяснить вот как. — Как? — Мы скажем,
что способности есть некоторый род того, что есть; благодаря им
только и мы способны к тому, к чему мы способны, и все иное, что
бы ни обладало способностью: например, зрение и слух, я называю
способностями, если только ты понимаешь, что я хочу сказать этим
понятием. — Понимаю, конечно, сказал он. — Слушай же, что мне
представляется относительно их. Я не вижу ни какого-либо цвета
способности, ни облика, как во многом другом, взирая на что, я кое-
что различаю вокруг себя: одно — такое, другое — иное. В
способности я вижу только то, на что она направляется и что выполняет, и
сообразно этому я назвал каждую способность; той, которая
направляется на одно и выполняет одно, я даю одно имя, той, которая
направляется на другое и выполняет другое, я даю иное имя. А ты что?
Как поступаешь?»...
На этом вопросе можно остановиться. Сказанного достаточно.
Нужно ли переводить это еще на современную терминологию?
Получим ведь мы то же, — может быть, наши термины строже, но
существо дела выражено Платоном ясно. Вопросы происхождения, т. е.
вопросы объяснения эмпирической деятельности, составляют
предмет мнения, решаются на основании предположений и допускают
только более или менее вероятные ответы — «мнения»; знание имеет
Мудрость или разум?
469
дело с иным предметом, принципиально отличным от чувственно-
воспринимаемого и кажущегося. Но те не точно понимают
положительные задачи философии, формулированные Платоном, кто
думает, будто всю действительность Платон объявлял «призраком».
Такое утверждение «идеализма» или, точнее, феноменализма и
иллюзионизма, отрицательное по существу, а никак не положительное,
есть также восточный импорт. Напротив, первая задача философии,
как знания, в различении того, что иллюзорно («та файномена»), от
того, что существенно или сущно есть («ycia»), в самой данной
действительности («та онта»). Такова, между прочим, тема
платоновского «Софиста». То, что остается, затем, как подлинный предмет
философии, как знания, что остается в изменчивой текучести «тем
же» («тавтон»), есть названная сущность, постигаемая нами в
определенных, логически и словесно фиксируемых формах («эйдос»). Но
самое замечательное — то, что Платон, показав так ясно, в чем —
предмет философии, как знания, и резко отделив философию от
псевдофилософии, не впал в ошибку, которая здесь так естественна
и которая делается, по-видимому, признаком сегодняшней
философии, в противоположность психологизму вчерашней философии, —
разумею ошибку формального «онтологизма». Для Платона — ясно,
что различие предметов есть различие и способов направленного
на них сознания: предположения и мышления, чувственной
интуиции и интуиции «умной», различие между которыми есть различие
самой направленности. Это-то «открытие» и предуказывает
философии ее единственный и верный путь. Рефлексия на самое
направленность, вникание в нее, восхождение по ней к первично-данному
(«анамнезис»), спасает философское знание от формализма чисто
онтологических наук, вроде, например, «математики», составляющей
все-таки предмет рассудка (<данойа») или «рассуждения», а не
умственного постижения в строгом смысле («ноэзис»), разума («нус»).
Направляясь на самое мышление в его предметной направленности,
философская мысль созерцает его в чистой интуиции, как «идею»,
т. е. как содержание, значение или смысл предметных форм. Это-то
и возводит собственно философию, как знание, диалектику, — уже
в противоположность «рассуждению», — на самую высшую ступень:
постижения смысла, разума («логос») самой сущности, как
определяет диалектику в «Государстве» сам же Платон. Впрочем, именно
учение об «идеях» нуждается в особом разъяснении и углублении,
470
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
так как именно оно дало повод к многочисленным искажениям
псевдофилософского характера: идеи как «реальности», идеи как
«законы» и «методы», идеи как «имманентный предмет», наконец,
по наименее удачному остроумию восточности, идеи как «мысли
Бога», — все это — соблазны, но никак не углубления.
V
Если мы вдумаемся в смысл приведенных разъяснений и
вспомним «историю» европейской философии, мы должны будем
признать удивительную устойчивость философии, как знания, в
понимании и чувстве своего методологического пути. К нему постоянно
обращалась, и на него возвращалась, пресыщенная житейскими и
псевдофилософскими искушениями, утомленная мудростью и
моралью, философская мысль; на нем она находила новые источники
для своего творчества и почерпала новые силы для своей серьезной
работы. Не только положительная, но и отрицательная философия
обнаруживала подчеркнутое мною чутье, и мы легко можем под
разными названиями уловить одно: «сознание», «память», «мышление»,
«мысль», «cogitatio», «перцепция» (Юм), «познание» (Фихте), «перво-
знание» (Шеллинг), «дух» и много других имен, в числе коих даже, —
poenitendum est, — «душа», прикрывали собою честную верность
философии, как знанию, наряду с изменою ей.
Чего же мы теперь достигли, что касается понимания задач
философии, в результате многих веков философского труда? Мы прежде
всего утверждаемся в том, что истина, как задача философии,
истинна, а не условна и не относительна. Мы знаем, что
действительным источником заблуждений и блужданий является человек,
который в своей эмпиричности — весьма многим обусловлен и весьма
ко многому соотнесен. Мы понимаем, что вследствие этого самые
ошибки его и заблуждения имеют только условное и
относительное значение, что их источником является его собственная
недостаточно твердая философская воля, поддающаяся нефилософским
соблазнам. Мы добились, далее, большой точности не только нашей
терминологии, но и анализов, достигающих иногда несравненной
глубины и силы диалектики. Приходится подчас слышать жалобы на
«трудность» современных философских книг, и, что особенно
странно, жалобы эти часто исходят от людей, допускающих законность
этой «трудности» для других научных областей. Это — все еще пере-
Мудрость или разум?
471
житки просветительства: от философии ждут и в ней ищут
«просвещения». Спора нет, бывают моменты, когда философия, выполняя
свой гражданский долг, занимается «просвещением», но видеть в
этом существо философии — такая же ошибка, как видеть существо
математики или физики — в их технической приложимости. И,
наконец, еще в одном отношении мы достигли больших успехов, — и
это, может быть, самое главное, — мы достигли большой точности в
понимании задач философии.
Когда речь заходит о точности, ее часто понимают как какую-то
словесную неподвижность, оледенелость, забывая, что это
означало бы не успехи знания, а остановку в развитии языка и его
творчества, застывающего в однообразии уже созданных форм. Нередко со
стороны «точности» сопоставляют философию с другими науками, в
особенности с математикой, — к мнимому посрамлению философии:
каких, дескать, «успехов» достигла математика и что — в сравнении с
этим философия... Мы оставим в стороне суждения темных людей, —
obscuroram virorum, — современности, которые руководятся только
одним своеобразно прагматическим критерием — техникой. Но не
будем отрицать правомерности сравнения с точки зрения самого
знания. Сравнение можно здесь провести в двух плоскостях: в плоскости
достигнутых успехов и в плоскости особенностей предмета точной
математики и точной философии. В первом случае результат
сравнения — отрицательный, во втором — положительный; в первом случае
обыкновенно подчеркивают различие, во втором — сходство.
Обратим внимание, напротив, на сходство в первом случае и различие —
во втором, и мы убедимся, что названная квалификация результатов
сравнения сильно упрощает действительное положение вещей.
Не важнее ли, в самом деле, различие, которое мы можем
констатировать во втором из названных случаев? Не оно ли именно ближе
открывает существенное в каждом из сравниваемых типов знания?
Это различие проистекает из того, что результаты математики все-
таки отвлеченны, она абстрагируется от живого опыта, от факта, что
все данное нам дано через сознание. Но отвлеченность от сознания
есть отвлеченность от содержания. Математика, поэтому,
существенно онтологична. Как точно определял ее место Платон, — рассудок,
способность геометров, между мнением и умом, — математика
имеет дело с предметной сущностью, но еще не с мыслью,
направленной на этот предмет, как такой. Напротив, философия должна
472
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
всегда оставаться конкретной, — даже псевдофилософия,
поскольку она положительна, она — конкретна, — и результаты ее работы,
поэтому, отличаются необычайной сложностью, которой
математика не знает. Философия оперирует над безусловной полнотой
данного в живом переживании; она существенно принципиальна, а не
онтологична; философия, как знание — «основная» наука в самом
прямом и первоначальном смысле. Математика и философия
сходны, поскольку обе имеют дело с «сущностью», а не с «фактом», —
обе — знание, скажем, усюлогическое или эйдетическое, но далее
они должны строго различаться. Неумение видеть это различие
приводило к тому, что философия поддавалась общему увлечению
математической точностью, подражала математике, становилась
онтологической, абстрактной, и теряла свою принципиальную
самостоятельность. Опять-таки и здесь, в отношении точности более
существенным является отдать себе отчет в различии, чем в сходстве.
Точность в математике и точность в философии — не одно и то
же. Речь идет, очевидно, о логических приемах того и другого типа
знания, но в то время как в математике мы встречаемся с приемами
определения, доказательства, дедукции и т. п., в философии мы
требуем точности указания, описания, уяснения, приведения к
первичной данности. Математика по существу дискурсивна, философия —
интерпретативна. Различие методологических приемов в разных
областях знания приводит к «качественному» различию точности,
и слишком примитивна та мысль, которая ограничивается
различением только степеней точности. Конечно, точность не есть
установление навеки оцепенелой формулой, как заклятия, в котором не
подлежит изменению ни одна буква, — точность есть большее или
меньшее приближение к логическому идеалу, но сравнивать степени
демонстративно-математической точности со степенями точности
диалектически-философской, кажется мне, действительно, имеет
не больше смысла, чем сравнивать ценность посылки силлогизма с
ценностью почтовой посылки.
VI
Напротив, со стороны успехов обеих наук важно было бы
помнить и сходство, которое имеется между ними; может быть, мы
тогда придем не к таким уж безусловно отрицательным для философии
результатам. Ни в малейшем отношении я не имею в виду отрицать
Мудрость или разум?
473
или преуменьшать успехи математики, — и не из того
«практического» соображения, что такой прием не послужил бы нисколько к
украшению философии, а прежде всего потому, что это была бы неправда.
Математическое знание я ценю, как только возможно высоко, и вижу
в нем, как в чистом знании, одну из наиболее ярких манифестаций
подлинно европейского духа. Но именно с точки зрения уяснения
ее чистоты, уразумения ее основ, как основ чистого знания, думается
мне, она переживает судьбы, во многом аналогичные судьбам
философии. Лучше всего мне при этом сослаться на суждение писателя,
всецело захваченного «очищением» математики и немало положившего
трудов для установления ее «принципов». Речь идет об авторе
«Принципов математики» Бертране Расселе266, взгляды которого Л. Кутюра,
также автор книги под заглавием «Принципы математики»,
характеризует следующим образом: «Они являются необходимым
завершением и венцом всех критических исследований, которым посвящали
себя математики в течение пятидесяти лет». Над словами Рассела
стоило бы задуматься тем, кто впадает в каталептическое состояние при
звуке слов: «математическая точность». Вот, например, что он говорит
о геометрии Евклида267, которая, по убеждению многих, отличается
тою, вообше несвойственною человеческому порождению,
привилегией, будто она, только появившись на свет, уже зашагала в нем в
броне неуклонной точности: «Не только сомнительно, верны ли аксиомы
Евклида, но вместе с тем очевидно, что его предложения не
вытекают из выставленных им аксиом... Даже первое предложение Евклида
является недоказанным». Или еще пример: «Маколей, противополагая
достоверность математики сомнительности философских учений,
спрашивал, слышал ли кто-нибудь о реакции против теоремы
Тейлора. Если бы он дожил до настоящего времени, то он узнал бы о тех
ограничениях, которые ввели в изложение этой теоремы
современные исследования». Разумеется, эти «новые», — быть может, для кого-
нибудь даже футуристические, — воззрения на природу математики
следует брать cum grano salis, и — весьма, — но все же магия заклина-
тельной формулы: «математическая точность» должна рассеяться при
свете разума, который не может на нее смотреть, как на музейную
вещь, которую можно разглядывать, но нельзя трогать.
Мне хочется, опираясь на того же Рассела, отметить еще
некоторые неожиданные черты сходства между философией и
математикой. Философию иногда упрекают в том, что она, вместо того что-
474
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
бы идти всегда вперед, слишком часто возвращается назад, что она
всегда готова, — а особенно в настоящее время, — возродить
схоластику, давно оцененную нашим просвещенным временем. Рассел,
утверждая, что философия Канта несовместима с настоящей
математикой, — (кстати отметить, что Кутюра видит причину неудач Канта
в том, что Кант недостаточно был рационалистом), — и допуская,
что схоластикам мешало несовершенство и узость их логики, тем
не менее признает, что «аристотелевская доктрина схоластиков
ближе по своему духу к доктринам, одухотворяющим современную
математику».
Чтобы отметить важнейшее, на мой взгляд, сходство между
успехами философии и математики, приведу еще одно заявление Рассела.
Сколько раз приходилось слышать, что философы, мол, до сих пор
не столковались даже о том, в чем состоит их философия... Рассел
утверждает: «Один из главных триумфов новейшей математики
заключается в открытии, в чем, действительно, состоит математика»...
Даже жаль, что это сказано о математике, — до такой степени это
подходит к философии и точно выражает ее современные успехи.
Впрочем, и еще кое-что сделала в наше время философия: еще
яснее, чем математика, она умеет объяснить разницу в самих
результатах философского и математического знания. Рассел следующим
образом определяет математику: «Математика может быть определена
как доктрина, в которой мы никогда не знаем, ни о чем мы говорим,
ни того, верно ли то, что мы говорим». Расселу потому удалось дать
такое меткое определение математики, что он ясно понял ее чисто-
формальный характер как науки, и, разумеется, это — большой
«триумф» для математики: осознать свою собственную природу. Но
только сама философия, которая также исходит из такого
понимания математики, может найти настоящее место этого рода знанию
рядом с другими его видами и рядом с собою. Для философии —
ясно, что при таком понимании математики, если ее и сопоставлять
с логикой, то нужно сопоставлять ее с особым «ядром» и основою
логики в широком смысле, с так называемой «чистой логикой», для
которой существенным является ее чисто предметный
онтологический характер, вследствие которого она только и оказывается чисто-
формальной дисциплиной. Но из этого следует, что чистая
математика вместе с той «чистой» логикой включают свои проблемы в
сферу особой философской дисциплины — формальной онтологии,
Мудрость или разум?
475
или вместе с этой последней образуют особую замкнутую область,
титулованную еще старым рационализмом как Mathesis universalis.
Напротив, сама философия, как основная и принципиальная наука,
наполняющая предметные формы содержанием живого
переживания, сознания этих предметов, не входит в этот формальный
триумвират, а со своими «материальными» задачами выполняет свою
самостоятельную работу.
Таким образом, определение философией задач философского
знания и ее ответ на вопрос, в чем состоит философия, оказывается
ее двойным триумфом: она не только указывает место разным типам
точного знания, но определением этого места указывает и то
различие качества самой точности, неясное сознание которого
порождало столько недоразумений.
VII
Однако и на этом не кончаются достижения современной
философии. Она эмансипировалась от «математизма» и «онтологизма»,
потому что глубже поняла как их формальный, так и собственный
sui generis предмет. Но само это понимание было ею достигнуто
вследствие того, что она глубже проникла в то различие предметов,
которое было открыто уже родоначальниками европейской
философии, она сумела принципиально провести различие между
«идеальным» и «эмпирическим» предметами, между предметами «знания» и
«мнения». Она строго отмежевала себя от роковых для нее
псевдофилософских искушений и в то же время рассеяла призрак единого
научного образца. Она сумела показать, что «научная» философия
есть такая же псевдофилософия, как и «метафизическая»
философия, раз обе поставляют себе задачей разрешение вопросов
«происхождения» и «объяснения».
Здесь, в этом пункте освобождения себя от всякого рода
догматов научного и здравого смысла, современная философия
предъявляет к себе требования такой строгости, о которой она не ведала во
всем своем прошлом. Только теперь она до конца проникается
величием двух заповедей философской строгости, — исходящих опять-
таки от Платона, — которым всякий философ должен следовать,
приняв их с клятвенной торжественностью и искренностью.
/. Для философии как чистого знания нет истин важных или
неважных.
476
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
//. Для философии как чистого знания нет ничего само собою
разумеющегося.
Сам Платон всей своей деятельностью осуществлял эти
заповеди, хотя как будто специальной задачей поставил себе раскрыть их
значение; первой — в «Софисте», и второй — в «Теэтете». Но,
кажется, только теперь мы постигаем их сокровенный смысл во всей его
полноте, когда мы требуем, чтобы в философии как чистом знании
не было ничего, что не дается нашей интуиции в своей первичной
и непосредственной данности; когда мы требуем, чтобы из
философии, как чистого знания, была изгнана не та или иная теория, а
всякая теория и всякая гипотеза; когда мы требуем, наконец, чтобы во
всяком повороте нашего интуитивного взора, во всяком движении
нашей рефлексии, направленной на самую «незначительную» мысль,
был отдан самый тщательный и точный отчет.
Но чем строже мы становимся в определении задач философии
как знания, тем свободнее, по-видимому, мы в определении
остальных видов и типов знания. Не затем мы ограничиваем философию,
как знание, чтобы стеснить другие типы знания, а затем, чтобы эти
последние, между прочим, яснее понять в их свободе «мнения», а
также и затем, чтобы, эмансипировавшись от псевдофилософии,
а с нее сняв непосильное для нее бремя чистоты, предоставить ей
полный простор в ее деле «утешения» человечества и
«осмысления» его судеб, равно как и в ее заботах о приведении в порядок
непредусмотренных в свое время Творцом космических неурядиц.
Науки сами, «специальные» науки, давно завоевали себе
необычайную свободу: казалось когда-то, что мертвая «физическая» природа
подчинена строгости прямо-таки математических законов. Это
время давно стало воспоминанием. Эмпирический мир оказался
много шире. «Опыт» далеко вышел за пределы «физического» опыта, и
один за другим эмпирические предметы входили в состав научного
знания: живая природа, душа, наконец, социальная и историческая
«природа». И чем более широкую область захватывал опыт, тем
яснее становилось, что строгость «законов природы» есть мнимая
строгость, что, как нам ни хочется, чтобы эти законы были строги,
но на самом деле они — только эмпиричны. «Относительность
познания» становится поговоркой; «релятивизм» — припевом,
который разучивается в детском саду науки. И нет, казалось бы, никаких
оснований стеснять в этом отношении и псевдофилософию, кроме
Мудрость или разум?
477
разве, — и то только в некоторых случаях, — основания
педагогического. Дело в том, что псевдофилософия, отличаясь большой
подражательностью и суггестивностью, всегда довольно верно, — сколько
только поспевала, — старалась идти в ногу с эмпирической наукой.
Она прекрасно сознавала, что неудобно, например, после
Коперника оправдывать капризы Иисуса Навина, но, с другой стороны,
после Фраунгофера268 она считала себя в полном праве поговорить о
том, как обстоят дела на Сириусе или Веге, а после Дарвина она с
большим вдохновением стала изображать нам происхождение
парламентаризма из туманности, заполнявшей в свое время место
нашей солнечной системы. И таким-то образом псевдофилософия,
со всеми своими материализмами, спиритуализмами, монизмами,
эволюционизмами, немножко отставая, немножко забегая вперед,
все-таки в целом старалась быть на уровне «опытного знания». Но
иногда она капризничала и обнаруживала значительное своеволие,
выступая с видом независимым и к опыту пренебрежительным. В
полете своей фантазии тогда она приподнимала для нас завесу с самых
глубоких тайн и с большой обстоятельностью бралась передать нам
свое детальнейшее «знание» обо всех замыслах, планах и действиях
мировых владык, имена которых обычно пишутся с большой
буквы: Фатум, Демиург, Иегова, Любовь, Воля, Бессознательное, Энергия
и т. п. Вот тут-то некоторое стеснение педагогически можно,
пожалуй, оправдать: надо бы все-таки, как того хотел платоновский Ти-
мей, «ограничиваться вероятностью». Впрочем, нужно признать, что
и здесь современная Европа, — и притом в самом чистом своем
выражении, — в английском духе, — нашла вполне достаточный
критерий: прагматизм...
Прагматизм открывает широкий простор для индивидуального
метафизического творчества, подчиняя его оценку оценке самого
творческого индивида: чем богаче, разностороннее и глубже автор
метафизической системы, как изображения его личного
мировосприятия, тем интереснее его построение. Истинно метафизические
построения — честно индивидуальны и личны. Их значительность
прямо пропорциональна значительности их авторов. Как я
воспринимаю мир — гласит всякая подлинно метафизическая система.
Потому-то и ничтожны, с другой стороны, «последователи»
метафизических систем, которые являются своего рода философскими
поэмами. Нельзя смотреть на них, как на знание, — мое восприятие и
478
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
чувство мира не есть даже мое знание. Но, разумеется, личное
творчество в метафизике не безусловно, оно условлено, и
повторяющиеся условия, под которыми слагаются «мировоззрения» индивида,
дают возможность распределять их по типам. «Религиозное»
мировоззрение, «позитивное», «мифологическое»,
«спиритуалистическое» и т. п. суть такого рода типы, самое название коих указывает
на источники их руководящих идей и схем. Но какие бы типы
метафизики мы ни устанавливали, все-таки самым существенным для
них остается индивидуальное творчество. Поэтому так
бессмысленна «борьба» против метафизики. Эта «борьба» имеет своим
источником одну и ту же псевдофилософию: стремление исключить
индивидуальное, а на его место водворить наукообразное «общее».
Скажут ли — метафизика есть точное знание, скажут ли —
метафизика не есть наука, а потому нужно на ее место поставить
«научное» позитивное знание, — оба раза провозглашают идею
псевдофилософии. В действительности философия, как чистое знание,
так же уживается с метафизикой, как и с относительным знанием
действительности, — но только при полной автономии
индивидуального, эмпирического и чистого. Покушение одного из них на
свободу другого — неизменный источник псевдофилософских
соблазнов.
Но довольно о псевдофилософии, и вернемся к тому
положительному, что еще достигнуто философией, которая хочет быть чистым
знанием. Мы должны теперь отметить еще одно из ее крупных и
существенных достижений. Располагая точным определением
предмета философии как знания и установив путь для его исследования,
мы вместе с тем получаем возможность по-новому осветить всю
историю философии. Это определение дает нам в руки критерий, по
которому мы не только различаем, что относится к положительной
философии и что — к отрицательной, но отдаем себе также отчет
в том, что внесла собственно отрицательная философия в общую
историю мысли, какую собственно весьма полезную роль она
сыграла в развитии самой положительной философии. Своим
сомнением и даже отрицанием она нередко ставила перед
положительной философией весьма интересные и глубокие проблемы. Всякий
понимает, что есть разница между искренним сомнением Юма или
Милля, пришедших к отрицанию, но задавших много проблем
философии, и отрицанием Протагора или Канта, положительную роль
Мудрость или разум?
479
которых можно видеть разве только в той реакции, которую они
вызывают против себя. Далее, и роль псевдофилософии становится
ясной с точки зрения того же критерия. Конечно, есть разница между
псевдофилософией, выступающей в качестве мага и целителя душ
или разгадчика «мировых загадок», и псевдофилософией, искренне
убежденной в просветительной, вдохновляющей, эстетической или
какой-либо иной ценности своих откровенных фантазий, как есть
разница также между псевдофилософией, утверждающей свое
«мнение» как истину, и «мировоззрением», не забывающим, что «мнение»
есть «мнение». Так, мы легко различаем между каким-нибудь Гекке-
лем, с одной стороны, и Джордано Бруно или Фехнером, с другой
стороны; точно так же мы легко улавливаем разницу между каким-
нибудь Вундтом, с одной стороны, и Джеймсом, с другой. Но с
новым критерием мы достигаем еще большего: у каждого философа в
отдельности мы различим положительную и отрицательную
философию, философию как знание и философию как мнение,
«честную» псевдофилософию и оракул; и нас не введет уже в
заблуждение собственное противопоставление «знания» и «мнения», если мы
встретим его у какого-нибудь Спенсера, и мы тотчас против него
выдвинем такого, например, вполне европейского философа, как
Гамильтон. Мы, наконец, различим, где псевдофилософия приходила
в близкое соприкосновение с философией как знанием, и пусть
давала тут ответы по-восточному грубые, тем не менее
способствовала успехам философии, и где она играла роль прямо-таки
задерживающую. Так, для философии вовсе не все равно, трактовалась она
в псевдофилософии как научно-абстрактное построение, или ее
существенно конкретный характер не упускался из виду, не все равно,
следовательно, попадала она в руки того же, скажем, Спенсера или в
руки Шеллинга; не все равно также, игнорировала она свой
подлинный путь «через» мысль и сознание или помнила о нем и, —
сознательно или несознательно, — обращалась к нему как единственному
правомерному пути, — этим, например, ясно определяется значение
псевдофилософии материалистической, с одной стороны, и
спиритуалистической, с другой стороны. Нет надобности останавливаться
еще на том, что наш критерий с особой ясностью раскроет нам те
пункты в движении философской мысли, где она соблюдала свои
традиции и оставалась верна первому началу положительной
европейской философии.
480
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
VIII
Итак, во всех перечисленных нами пунктах мы можем уже
говорить об осуществленных достижениях философии как знания и
даже о некоторых ее «триумфах». Но обернемся в другую сторону,
в сторону будущего, и мы увидим, что перед философией, строго
соблюдающей свои задачи, открывается бесконечное поприще для
серьезного и увлекательного труда. Здесь, в области перспектив и
будущего, где мы видим задачи сегодняшней и завтрашней
философской эпохи, мы не можем говорить ни об окончательных
решениях, ни даже о последних постановках вопросов. Здесь
непременно скажется печать времени, индивидуального интереса, не вполне
законченного суждения и не до конца обожженного критикой
творчества. Но в сфере философии как знания никто, конечно, .не может
претендовать на «окончательность», на «последнее слово», — да едва
ли кто и захочет, пока только он не забыл, что перед ним
философия как знание. Впрочем, ошибка памяти здесь — дело нетрудное и
нередкое, — была бы только воля к исправлению. Во всяком случае,
ошибается и заблуждается не философия, а философы, — и не
следовало бы «отрицателям» и «позитивистам» делать вид, что они не
замечают разницы между философией и философом. А философ, в
свою очередь, обязан принять на себя свои философские ошибки и
нести за них ответственность.
Понимая задачи философии как чистого знания в выше
намеченном смысле, мы становимся, как я указывал, на один самим
существом философии предопределенный ей путь. То, что
открывается нам на этом пути как конечный пункт стремлений, есть сама
действительность в своем подлинном бытии, — то, что есть, сущее.
Действительность, — то, что есть, — всегда вокруг нас, мы в ней и ею
живем: страдаем, редко радуемся, боимся, негодуем, боремся, любим,
умираем. Среди таких многочисленных и многообразных
переживаний есть одно переживание или, точнее, одна группа переживаний,
занимающих вообще наискромнейшее место в жизни человека, но
иногда разрастающихся до чудовищных размеров, — группа
переживаний, которые обозначаются нами именем философских. В них
господствует, вырастающий иной раз до подавляющих размеров,
интерес к самой действительности, к тому, что есть и что,
следовательно, переживается нами, в его целом, во всем. Лишь только мы сдела-
Мудрость или разум?
481
ли попытку удовлетворить своему интересу и только поставили себе
вопрос: что есть, что — это все, — как мы уже назвали предмет,
который потом определяем как философский предмет. Таким образом,
самим этим вопросом мы противопоставили своему переживанию
нечто «большее», чем оно; пока мы просто «живем», это все
находится в нашем переживании, — одно в нем приходит, другое уходит,
одно дается, другое отнимается, но все-таки мы все переживаем —
и только. Наш вопрос как бы вывел нас за сферу нашего
переживания, что уже не так легко «уходит», что не так легко и отнять: что-то
останавливается пред нами и стоит как загадочный вопросительный
знак, становящийся «за» всем и все останавливающий в его прежде
непрерывном течении. Предмет есть вопрос; начинается искание
или ожидание ответа на него — начинается философия. На то, что
есть, мы теперь смотрим другими глазами: в нем же мы ищем
разгадки на возникший вопрос. А оно нас то обманывает в наших поисках
и ожиданиях, то вселяет надежду, разочаровывает и опять
ободряет. Мы становимся недоверчивее и подозрительнее: не все, что мы
переживаем, годится для искомого нами ответа; мы стараемся
освободить себя от обмана и нередко попадаем в его еще более тонкие
и тесные сети; иногда мы всецело доверяемся, — или делаем такой
вид, — тому, что «кажется» в переживании, и все-таки не встречаем
того, что нужно. Может быть, ничего и нет, и не нужно искать, и не
нужно вдать, и никаких «ответов» не бывает, — рассуждать обо всем
этом уже дело морали. Философия же остановиться не может и не
должна, ее остановка — ее смерть, мораль — яд, причиняющий эту
смерть. Если «ничего» нет и «ответов» быть не может, то философия
и найдет этот ответ как свой ответ, а не как назидание морали. Но
в чем же здесь ее свое, ее дальнейший путь?
Если есть «кажущееся», то есть и не кажущееся, если есть
«случайное», то есть и не случайное, и притом оно есть в том же всем, в
сущем и переживаемом, — «кое-что» в добавлении ко «всему», если оно
не «ничто», — также ведь глубоко моральное добавление.
Философский путь ведет дальше по меже, между кажущимся и не кажущимся,
истинным, и это путь для философии — свой, но нам он не всегда
виден: и ночь, и слепота, и нежелание видеть. Приходится и самый
путь разыскивать, пролагать его себе. Не все в том, что есть, есть
«на самом деле», не все в переживании данное есть «действительное
данное, не все сущее есть существенно. То, что составляет в сущем
482
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
существенное, его сущность, нужно отличить от того, что
несущественно. Мы можем повернуться лицом прямо к сущному и рассказать,
в чем оно, как мы его увидим, — если бы только наши сувдения о нем
не были так часто ошибочными суждениями, если бы мы к сущному не
привносили от себя то, что не сущно. Мы можем поступить иначе:
сосредоточить свое внимание на не-сущном и «отделить» его от сущно-
го, тщательно устраняя из данного то, что «кажется», и то, что
«придумано», «очищая», следовательно, его от того, к чему мы «привыкли», от
предположений, догадок, гипотез, теорий и от того, что только
«слушается», «приключается», «выпадает» в сущем, но что не пребывает в нем.
Сущное и то, что пребывает в бытии, остается собою, «то же», — все
это — одно; бытие, то, что есть, только через то и сущее, что в нем
пребывает сущность («ycia»), если бы нам сказали, что переменчивость,
случайность — есть сущность бытия, то тем самым признали бы, что
в них — «тоже» этого бытия, признали бы, что переменчивость,
«мигание» и есть то, что пребывает, — именно это разумели бы под
сущностью. Сама восточная мудрость не может уйти от сущности:
признавая все, что есть, иллюзией, она в иллюзии видит «то же» бытия и его
сущность. Если же нам скажут, что мы часто сущность принимаем за
иллюзию, а иллюзию за сущность, то мы вынуждены будем повторить,
что наши ошибки не суть ошибки самого сущего, и от того, как мы
примем сущность, она не перестанет быть сущностью.
Хотя мы таким образом подвигаемся по пути философии, мы
далеко еще не вступили на тот ее путь, который прямо ведет к
философии как чистому знанию, мы все же пребываем в том состоянии
философии, когда она обнаруживается нами как наше переживание,
или как наш опыт. Оставаясь все еще в сфере переживания, мы
можем продвинуться несколько дальше. Различая в том, что есть,
сущность и случайность, пребывающее и преходящее, мы убеждаемся
еще в том, что мы их видим разным взором. Я выше отметил тот
момент, когда у нас впервые открываются глаза на действительность,
как на загадку, когда мы смотрели на «все» иными глазами, это —
момент перехода от простого переживания «всего» к его
философскому переживанию. Мы сделали только один робкий шаг, но опять
должны заботиться о просвещении своего философского взора. Как
раньше от обычного взгляда на привычную действительность мы
перешли к созерцанию ее как некоторой загадки, так и теперь,
различив в сущем случайное и сущное, мы констатируем, что эти два
Мудрость или разум?
483
«рода» бытия мы созерцаем двояким родом зрения. Как в первый раз
мы от слепого переживания действительности перешли к более
просветленному, так и в том же направлении идем и теперь, но и
действительность все одна и та же, и взор-то — один.
Легко уловить источник этого различия и тожества: мы не
находим действительности как бы разделенной на две части,
положенных одна «рядом» с другою, или одна «за» другою, или одна «над»
другою, или что еще, что может нам неправильно подсказать
образность речи, а мы находим одну действительность, только взор наш
то останавливается на ее случайной «поверхности», то сквозь нее
проникает «глубже» до ее сущного «нутра». Два рода интуиции,
направленной на данное нам, есть одна интуиция, но только —
разной степени узрения. Едва ли мы сильно отойдем от принятого
словоупотребления, если сопоставим два указанных «рода» интуиции с
обычным противопоставлением зрения «внешнего» и
«внутреннего», «чувственного» и «мысленного», просто зрения и умозрения. Во
всяком случае, эти противопоставления весьма выигрывают в своем
смысле от такого сопоставления.
IX
Результаты, к которым мы, таким образом, пришли, в высшей
степени важны, потому что они дают нам возможность теперь
вплотную подойти к тому приему, с помощью которого философия
приступает к своему делу. Мы нашли, с одной стороны, что существует
принципиальное различие между двумя родами предметов, которые
нами называются и на которые направляется наше переживание или
наше сознание. С другой стороны, мы видим, что этому различию
строго соответствует различие тех способов, какими мы приходим к
этим предметам в их различного рода данности. Нетрудно заметить,
что эта респективность предмета и направленной на него
интуиции имеет совершенно всеобщий характер, не только в том смысле,
что всякий предмет относится к сознанию, а сознание есть
сознание этого предмета, но и в смысле более точном, так что предмету
определенного рода соответствует свой особый уклад или состав
сознания, или, как еще говорят, своя «установка» сознания. Все
сознание в его целом соответствует своему роду предмета, хотя мы легко
переходим из одной установки в другую: из случайного в сущное, из
фактического в эйдетическое, и обратно.
484
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Если мы теперь в нашем анализе обратимся на само сознание как
такое и сделаем его предметом своего рассмотрения и изучения, мы,
кроме конкретного единства, в котором находится сознание
разного рода установок, найдем, что сознание того или другого из
установленных нами видов существенно характеризуется своей
направленностью на предмет, — или, применяя получивший опять права
гражданства термин, — своей — интенционалъностъю. Здесь мы на
пороге философии как чистого знания, и чтобы дать себе возможно
ясный отчет в том, к чему мы приходим, обратимся еще раз к
различию фактического и эйдетического. И попробуем подойти к ним
теперь философски, через сознание их, — мы таким образом ближе
уясним себе суть дела, а вместе с тем иллюстрируем способ именно
философского подхождения к вопросу.
Мы называем разного рода предметы нашего переживания,
подразумеваем их, приводя примеры, и совершенно непосредственно
констатируем различие между двумя родами данности, которая
выступает перед нами как «содержание» подразумеваемых предметов,
некоторых «неопределенных носителей» данного. Это
непосредственно сознаваемое различие может казаться «само собою
разумеющимся», может быть положено в основу классификации наук, — и,
действительно, полагается, — предмет, даваемый таким образом,
может быть принят как предмет науки, и даже онтологии, но все-
таки это — данность «догматическая», а не философская в строгом и
точном смысле. Нужно обратиться, следовательно, к респективным
различиям самого сознания этих предметов с данным в них
содержанием. Здесь мы тотчас заметим, как по-разному «ведет себя»
сознание в своей интенциональности в зависимости от той или иной
из своих установок. Мы остановимся только на одной стороне,
имеющей первостепенную важность в нашем вопросе, стороне, так
поразившей Блаженного Августина, судя по его «Исповеди», и давшей
уже ему возможность наметить четкую грань между сознанием
фактического и сознанием эйдетического.
Имею в виду «сторону», которая в самом общем и широком
смысле может быть названа «репроДуктивностыо» данного в
переживании. Когда мы наблюдаем действительность, в которой мы живем,
мы замечаем в ней некоторые вещи, которые «длительно» остаются
предметом нашего наблюдения, а рядом с ними мы замечаем другие
вещи, движущиеся, постоянно меняющие свое место и форму. Во-
Мудрость или разум?
485
круг нас стоят «неподвижно» дома, мимо нас проходят и пробегают
люди, животные, машины, мы видим, как колеблются деревья и дым
бьет клубами из труб, — словом, одни из окружающих вещей более
или менее устойчивы, другие — подвижны. Путем размышления и
«теории» мы приходим, однако, к тому, что все подвижно, все
меняется и все обусловлено в своем месте, форме, фигуре и т. п. Но если
мы в этом наблюдении действительности примем во внимание
также самих себя, имрека, как «носителя» и как бы центр разного рода
процессов жизненных, душевных, социальных, процессов, которые
нам даны как наши переживания, и если мы сообразим роль,
которую они играют в акте нашего наблюдения, мы легче усвоим мысль
о всеобщей подвижности и неустойчивости данной нам
действительности. Не только цвет окружающих вещей, шум, производимый
ими, их взаимное отношение, но даже фигура, форма, величина и
прочее в значительной степени зависят от нашего собственного
положения и состояния. И вот, если мы теперь сосредоточимся
исключительно на самих наших переживаниях, мы до конца поймем,
что значит та характеристика действительности, которую мы так
часто повторяем, говоря об этой действительности как о
непрерывной смене «явлений», о потоке переживаний, о течении, о движении
и т. п. Поэтому-то и получается, что мы, желая сделать какую-либо
часть или «отрывок» действительности предметом своего изучения,
не только извлекаем ее из целого, как бы обрывая нити, связующие
в переживании этот отрывок с целым, но еще, оказывается,
«останавливаем» фиксируемый «отрывок», и в то время как сама
действительность и все наши переживания ушли и уходят куда-то далеко
вперед, мы остаемся, строго говоря, лишь при «прошлом», истекшем,
которое само, так сказать, собственнолично уже не дано, а только
воспроизводится нами. Воспроизведение однажды данного и
пережитого может быть повторено, как новое переживание,
неопределенное число раз, при этом мы не только сознаем эту «новизну», но
замечательным образом также, не будучи в силах вызвать в
сознании первоначальную данность переживаемого во всей его
точности, мы, тем не менее, всегда сознаем, что есть различие между этой
первоначальной данностью и всеми ее «копиями», повторяющимися
в нашем переживании. Никакое рассмотрение «вещи» немыслимо
без воспроизведения уже «бывшего», сравнения его, суждения о нем
и т. д. И в этом отношении нет принципиальной разницы между
486
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
«наблюдением» над вещью и «самонаблюдением», т. е.
наблюдением жизненных и душевных, «психофизических» процессов в самом
наблюдателе, — в обоих случаях мы имеем дело с «фактическим»:
factum. Фактически данное, таким образом, рассматривается нами
всегда как данное опосредствованно, оно требует, чтобы быть
предметом рассмотрения, репрезентации, и нисхождения до того, что
здесь действительно первично дается, что — презентативно, что, —
еще иначе, — «остается» по удалении всего, что привносится нашим
«воспоминанием», «воображением», «рассуждением», «желанием»,
«апперцепцией» и прочим, — дойти до чего в высшей степени трудно.
Если мы представим себе свободную форму воспроизведения и,
связав ее с комбинирующей деятельностью, назовем это
деятельностью фантазии, мы найдем в ней самые разнообразные способы
перегруппировки данных репродукции и полный «произвол» в них.
В одном отношении, однако, этот произвол кажется ограниченным:
мы не можем добиться такой репродукции, которая была бы точной
копией первичной данности. Это по существу невозможно, и мы всегда
сознаем, что разница есть; она принципиально, — несмотря на то, что
в действительности мы часто обманываемся и принимаем «сходство»
за «тожество», — должна быть, хотя бы мы достигли, или нам
«казалось бы», что мы достигли, максимальной «точности» и «адекватности».
X
Фактическому респективно противостоит эйдетическое. Его
часто изображают как законченную в себе систему, пребывающую в
состоянии статической уравновешенности, где каждое «понятие»
занимает свое строго определенное и скупо отмеренное «место», так
что оно не может быть «сдвинуто» с этого места без того, чтобы не
нарушилась связь целого, не нарушились какие-то «логические
законы», не создалось какое-то, — таинственная маска смерти! —
«противоречие»... Забывают, что «понятия» — не дикие звери, которых
следует держать в клетках... Воображают, что именно «понятие»
ответственно за природную ограниченность воображающих... Верно
то, что есть слепые к сущному: чей умственный взор не рассекает
эмпирическую оболочку предмета и не проникает
непосредственно к его эйдосу, к его сущному содержанию, тому трудно «дойти»
до «понятия», тот начинает его «образовывать» и в результате
своих усилий получает закругленные «объемы», концепты, которые он
Мудрость или разум?
487
и размещает в некотором «порядке», как развешивают картинки на
гвоздочках, — одно подле другого, и над другим. Эйдос,
действительно, устойчив и «крепок», — как сама истина, — он покоен, потому
что свободен от житейской суеты, от суеты мудрости Екклесиаста.
Но это далеко не «статизм» и отрицание «динамики» в нем. Он не
динамичен в том смысле, что он не измеряется лошадиными
силами и пудо-футами, ничего с места не сдвигает и не увеличивает ни
самомалейшим образом количества мировых сил и энергий. Но его
существенный динамизм легко уловит тот, кто «понятием» не
только отмеривает «объемы», но кто еще понимает понятия, — тот
увидит, что эйдос не только наполняет свои формы всегда действенным
содержанием, смыслом, но еще точнейшим образом отражает
собственным «движением» мельчайшие требования со стороны
формующего содержание предмета. Эйдос, вырванный из связи
целого, — где он составляет необходимый член ряда системы,
структуры, — статичен, ибо он безжизнен, лишен своего смысла; как член
целого — он осмыслен и живет. Его динамика — динамика смысла.
Подлинная бессмыслица — ждать от него подвижности жонглера,
силы паровоза или динамитного взрыва.
Итак, против эмпирической суетливости эйдос,
действительно, устойчив и самотожествен. Что это значит, мы наглядно
увидим, если теперь к нему, как выше к эмпирическому, приложим тот
же критерий «репродукции». Мы найдем здесь то, чего мы и
вправе ожидать от эйдоса, поскольку мы характеризуем его со стороны
его «устойчивости» и тожественности. То, что открывается нашему
умственному взору в интуиции сущности, не убегает тотчас от него,
а остается перед ним в самой своей первичной данности. Оно не
меняется так, как меняется эмпирическое переживание, оно не
определяется нами в моментах своей «последовательности», в нем
нет «после» и «сейчас», и вообще нет никакого временного
определения. Таким образом, говорить о репродукции здесь можно только
в несобственном смысле: воспроизводимое не является здесь всякий
раз «новым» и измененным по сравнению с первично-данным. Само
первично данное «самолично» перед нами, сознание всегда может
направиться на него или «отвернуться» от него, но оно не застанет
его в новом «измененном» виде. Сущность не нуждается ни в
какой репрезентации, она дается презентативно; сущная интуиция —
принципиально адекватна. Анализируя здесь сознание, мы имеем
488
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
дело не с изменчивым и «случайным» переживанием, а с респектив-
ной ему необходимостью: само сознание рассматривается нами в
его существенной интенционалыюсти.
Это не значит, конечно, что само сознание, как такое, не
подвергается ровно никаким модификациям, но оно подвергается им
именно как такое. То есть, оставляя в стороне «материальное» различие
актов сознания, мы в них самих можем подметить некоторые
модификации, касающиеся не только их «качественного» разнообразия,
но модификации самого сознании, как такого, «в целом». Кроме
чисто атенциональных изменений, от сосредоточения «внимания» то
на том, то на другом «пункте», и кроме апперцептивных
«перестановок» его, здесь прежде всего приходится упомянуть о своеобразном
«заполнении» или «поглощенности» сознания одним каким-нибудь
«качеством», так что мы начинаем рассматривать его как сознание,
например, рассуждающее, считающее, соображающее, оценивающее
и т. п.; соответственно мы и к предмету подходим как к предмету
«того или иного» сознания. Наряду с этой, можно сказать,
экстенсивной изменчивостью сознания мы констатируем также
«изменчивость» интенсивную, когда говорим об актуальном или
неактуальном состоянии сознания. В действительном процессе переживания
мы присутствуем при постоянной смене таких состояний, и тут
особенно ярко обнаруживается разница между эмпирической и сущной
предметностью: раз эмпирический предмет ушел из поля
актуального сознания, мы принципиально не можем «вернуть» его, как не
можем остановить или обратить вспять время. Эйдос, сущность,
остается «в нашей власти», он стоит «над временем», и мы «когда угодно»
можем обратиться к нему и застать его в его безусловной тожеса-
мости. Мы легко «переводим» рассматриваемую сущность из одного
состояния сознания в другое, она всегда — «в нашем распоряжении»,
и когда бы она ни «понадобилась» нам, она всегда неизменной
оказывается перед нами. Она всегда «есть», а не воспроизводится, тогда
как factum — «является» и может быть потом только
воспроизведено. Эта модификация сознания, как интенсивная, принципиально
допускает «степени», хотя мы и отмечаем сплошь и рядом
«внезапные» переходы от одного состояния к другому. Эти степени могут
быть характеризованы как степени большей или меньшей ясности
сознания; предмет, на который направляется сознание, помещается
на расстоянии большей или меньшей близости, он находится даль-
Мудрость иш разум?
489
ше или ближе от наиболее ясного «центра» сознания. Но при всех
этих модификациях сознания, при самых разнообразных степенях
его «напряжения» или «тонуса», созерцаемая в нем сущность
неизменно и покойно остается одной и той же.
Допустим теперь по отношению к сущности полную свободу
фантазии и произвольного комбинирования. Насколько легко и
просто мы при этом меняем содержание и форму эмпирического
предмета и не можем добиться только одного: адекватной точности,
настолько мы связаны последней в сфере эйдоса. В первично и
непосредственно данной нам сущности мы ничего изменить не в
силах, — она есть, как она есть. Отсюда замечательная особенность
эйдетического: даже в воображении мы его получаем и можем изучать,
как первично данное. В этом — специфическое и источник
«точности» эйдетического знания. «Допустим», «вообразим», «представим
себе», — имеют в эйдетических науках, — в формальной онтологии,
в математике, в философии, как знании, — совсем особое значение.
«Недопустимо», «невообразимо» здесь то, что немыслимо: а
мыслимо все, что только — возможно. Это — сфера чистой возможности,
сфера — «закона противоречия». «Закон противоречия» — вовсе не
заповедь, которую должно не нарушать и которая, следовательно,
всегда нарушается. Он — просто ненарушим, и в этом оказывается
только особой характеристикой самой сущности. «Закон тожества»
только означает, что сущность (essentiae entis) есть, как она есть, — и
с этим ничего не поделаешь; а «закон противоречия»
модифицирует это же обстоятельство: сущность не есть иначе, как так, как она
есть, — и с этим опять ничего не поделаешь. Мнимое нарушение его
в сфере эмпирического есть, напротив, характеристика самого
эмпирического, — знак, что мы из «возможности» (possibilitas) перешли
в «действительность» (actualitas), из «необходимого» в «случайное».
Некоторые псевдофилософские опыты гипостазирования
эмпирического, и обратно, применения эмпирических определений к сущ-
ному, собственно не суть «противоречия», а просто —
несоответствия, являющие собою, в конце концов, примеры глубоко
комического. Наконец, и «противоречия» в изложении или выражении
наших мыслей и взглядов — не суть собственно противоречия, а есть
простая несогласованность нашего изложения, наличность которой
говорит только о том, что мы не всегда замечаем несогласованность
своих слов и суждений, и не всегда даже об этом заботимся.
490
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
XI
Подведем итоги и двинемся дальше. «Догматическое» разделение
предметов получает свое критическое оправдание в анализе
направленного на них сознания; видны и преимущества такого
философского метода изучения «того, что есть», — так как всякое сознание
есть сознание «чего-нибудь», то эта его существенная респектив-
ность дает нам возможность, изучая само сознание, раскрыть
предмет во всем богатстве и во всей полноте его содержания. Во всяком
случае, это — видно уже по отношению к формальной стороне
эйдетического; а если может казаться, что вопрос еще не до
конца освещен, что касается стороны эйдетического «содержания», то
это проистекает только из того, что мы еще недостаточно уяснили
основную опору философии как знания: что само сознание в этом
изучении дано нам эйдетически. В этом и заключается гарантия
того, что философское знание всего, что есть, есть знание строгое и
безусловное; в этом же — самоограничение философии как знания
против безмерных притязаний псевдофилософии и мудрости.
Мы начали свой анализ с собственного переживания,
констатировав себя как «вещь» среди вещей окружающей действительности.
Как всякая вещь, как всякое состояние или действие вещи, наше
переживание является всецело эмпирическим фактом,
«случайностью». Составляя какую-то часть действительности, «переживающий»
implicite отражает в себе, может быть, ее всю, — как то и допускают
некоторые метафизики, — и, может быть, через микрокосмос ведет
один из путей к познанию космоса. Такое мнение, как всякое
мнение, полно догадок, предположений и образов, но нам оно кажется
вероятным, и, во всяком случае, в принципе названная возможность
не исключена. Но, должно быть, осуществление этой возможности
представляет особые трудности, ибо, хотя она высказана очень
давно, эмпирическая наука продолжает идти иным путем. Она
разбивает догматически ею принимаемую действительность на ряд
«предметов» или «областей», в изучении которых она хочет обнять в конце
концов всю эмпирическую действительность. Среди этих «областей»
некоторое скромное место занимает также эмпирическая наука о
самих «переживаниях» и о «переживающих субъектах», —
«психология», — и как такая, т. е. как эмпирическая наука, она уже не
претендует на познание космоса через микрокосмос. Правда, есть немало
псевдофилософских, — психологистических и спиритуалистиче-
Мудрость или разум?
491
ских, — попыток вернуть ее на вышеуказанный путь, но это не есть
путь «знания», а есть путь «мнения смертных», и, как мы слышали от
Парменида, его «ты должен узнать», «но удерживай мысль от этого
пути исследования»...
Переживание, как такое, доставляет нам некоторое чисто
эмпирическое знание, — «опыт», — который в течение всей жизни
человека накопляется, пассивно или активно пополняется,
классифицируется, упорядочивается и прочее, и прочее, — вообще так или
иначе усвояется. Но можно ли называть само переживание познанием
даже в широком несобственном смысле, это — сомнительно. То есть
это значит, что его нельзя даже называть «мнением». Дело уже не в
его «условности», «относительности» и тому подобных предикатах
эмпирического и случайного, а дело в том, что только один
специальный вид переживаний, и то — при особых условиях, может быть
назван «несобственным знанием» или «мнением». Переживание
вообще есть «эмпирическое сознание», точнее, есть сознание, которое
принадлежит эмпирическому человеку как его «собственность», —
именно в таком своем качестве оно не есть познание, ни в коем
случае не может быть смешиваемо с познанием, так как оно само —
эмпирический предмет познания, и самое большее — только повод к
познанию эйдетическому. Переживание, как «мнение»,
составляющее «несобственное знание», тем отличается от других
переживаний, что, направляясь к цели познания, оно действует активно, но не
в смысле, например, волевого действия на окружающие вещи, и не в
смысле чувственного привлечения или отталкивания их, а в
смысле «суждения» о них. Это последнее и предполагает особые условия:
«мнение», как переживание, только тогда выполняет познавательную
функцию, когда оно то, что нам эмпирически дано, начинает
«перерабатывать», т. е. обобщает его, объясняет, воспринимает, дополняет
догадками, гипотезами, теориями и т. д. В таком виде переживание
не только «доставляет» материал для знания, но и само выступает на
фоне других переживаний как познающее сознание.
В таком виде представляется нам переживание, как эмпирическое
состояние «вещи»: человека, животного, психофизического
субъекта; в таком виде оно изучается эмпирической наукой. И таким оно
необходимо остается до тех пор, пока мы его рассматриваем как
состояние указанного субъекта. Мы можем попытаться перейти от
рассмотрения переживаний собственных или какого-либо иного
492
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
субъекта к «переживаниям вообще» или к переживаниям «субъекта
вообще», мы получим ряд эйдетических суждений о переживании,
которые включим в соответствующую науку под соответствующим,
может быть, титлом: например, в психологию, под титлом
«эйдетической психологии», но все-таки мы будем иметь дело, без
сомнения, с научным или онтологическим знанием, но еще не с
философией как чистым знанием, не с принципиально «основной наукой».
Для того чтобы перейти к последней, нужно, чтобы наши
эйдетические суждения высказывались не о «переживаниях» или «сознании»
субъекта, данного как эмпирическая вещь, а о самом сознании в его
сущности. А для этого нужно перестать само переживание
рассматривать как «догматически» данную вещь действительного мира,
нужно взглянуть на него в свою очередь через сознание, как оно
дано в своей сущной данности, первично, непосредственно и
адекватно в эйдетической интуиции. Нужно, другими словами,
получить сознание не как эмпирическое переживание индивида, не как
данное «наблюдения» или «самонаблюдения», а как сознание,
данное сознанию же, сознание в рефлексии на самого себя.
Поскольку здесь оно нам раскрывается в своей респективности, как чистая
интенциональность, как сознание всякого предмета и всякого
предметного содержания, постольку уже — не гипотеза и не
метафизическая догадка, что все, что есть, есть через сознание, и что это —
путь, и притом строгий философский путь, изучения «всего». Здесь
нечего строить никаких гипотез и объяснений, так как от сознания
в его сущности ничего не «зависит», оно ни на что не
«воздействует» и на него ничто не «воздействует»: оно не есть «вещь», не есть
«реальность», а есть сущность и «идея». Всякая данность есть
данность сознанию, но ее можно рассматривать «догматически», как
просто «данность», и философски — как она дана через сознание.
Тут надо только рассказывать, не строя никаких догадок,
предположений и объяснительных теорий, и нечего бояться, что что-нибудь
может ускользнуть от философского анализа. Нет таких деталей,
оттенков или излучин предмета и его содержания, которые не
«отражались» бы в сознании и до которых мы не могли бы дойти
через сознание. Сознание в рефлексии на самого себя открывает и
созерцает себя в своей подлинной сущности, и поэтому-то мы имеем
здесь дело уже не с «мнением», как эмпирическим переживанием
индивида, а с подлинным знанием.
Мудрость или разум?
493
Как я уже отмечал, само «мнение» может быть предметом
строгого знания, равно и всякое несобственное эмпирическое знание здесь
становится предметом строгого знания, хотя, конечно, это — только
частные вопросы там, где задача — познавать «все», но из этого
одного видно, между прочим, как узки попытки привативной философии
выдать за «основную философскую науку» теорию познания, а тем
более превратить философию в «научную философию». Не может быть
в полном смысле основной философской наукой и онтология, если
философия не должна быть «формальной» и «отвлеченной»,
«односторонней». Идя ко «всему» через сознание, философия не может не быть
конкретной; всякая форма в нем заполняется, всякая односторонность
дополняется и ничего не остается «пустого»; и все содержание
предмета дается в своей исчерпывающей полноте с такой же адекватностью,
как и его форма, так как оно само слагается из чистых и сущно данных
«актов» сознания, из чистых его интенций. Из этого видно, что
философия, будучи строгим знанием, подобно онтологическим наукам и,
в частности, подобно математике, коренным образом отличается от
этих видов знания в том, что она оказывается знанием конкретным и
«материальным», тогда как то знание — отвлеченно и формально.
То, что философия, как материальное знание, нимало не
теряет в своей эйдетической природе, можно легко проверить путем
применения к ее данным, — интенциям, — вышеуказанного
критерия — репродуктивности. Если я в целях, скажем, психологического
изучения воспроизвожу пережитое мною вчера состояние,
например, эстетического наслаждения, я восстанавливаю в своей памяти
не только себя самого, как припоминаемым образом реагирующий
психофизический организм, но и соответствующую обстановку
времени и места переживания. Я сосредоточиваюсь на «себе самом» и
последовательно воспроизвожу каждое свое движение, жест, могу
воспроизвести даже степень напряжения мышц лица, своеобразное
«сжатие в груди» и другие детали своего переживания. Но при всем
том я не повторил в точности самого переживания, а только
«воспроизвел» его. Далее, я собираю ряд других «самонаблюдений»,
сравниваю, обобщаю; но всего этого мало: я прибегаю еще к гипотезе
«физиологических» и «душевных» причин своего состояния,
объясняю его, ссылаясь на эти факторы как на реальные силы и т. д. —
Совсем иное нужно для философского исследования. Допустим, что я
беру в качестве повода к своему философскому анализу то же пере-
494
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
живание. Я воспроизвожу его, как и раньше, но только теперь
направляю свое внимание не на «себя», как на данный организм в
данной обстановке, а как бы мимо себя или «сквозь» — на само
переживание, как эстетическое сознание в его сущной данности. Я тотчас
не только убеждаюсь, что вся обстановка и я сам — не нужны мне
для моего анализа, и тем более мне не нужно умножать количества
«примеров» эстетического впечатления, но я вижу также, что то, что
я получаю как «содержание» сознания — некоторое единство
фондированных и не фондированных интенций, — вовсе не есть
«воспроизведение». Это те же акты восприятия, суждения, признания и
прочих, что были «вчера», и никакой новый «пример» ничего в них
не меняет; я могу даже сфантазировать любую обстановку
эстетического переживания, которой «не было», но акты сознания, которые
я различаю в рефлексии на него, все — те же. Чем больше я в них
вдумываюсь и хочу разглядеть их истинную природу, тем «дальше» я
ухожу от «факта», который послужил поводом к моему исследованию,
он мне оказывается уже «не нужен». И по мере того, как я углубляюсь
в само эстетическое сознание, я обнаруживаю в нем весьма сложную
структуру различных актов, — «простых» и «сложных», «тетических» и
«синтетических» и т. д., — и их взаимных отношений. Все это я
ставлю себе задачей «вскрыть», расчленить, установить и описать. И если
я строго держусь этой чисто идеальной сферы эйдоса или сущного в
эстетическом сознании, у меня не может явиться ни малейшего
побуждения, ни малейшей надобности в построении каких-либо
объяснительных гипотез или «теорий». Обратно, верный знак, что я
покинул эту область идеального, если у меня явилось побуждение что-то
«объяснить», вставить в реальную связь причин и действий.
Убеждение, будто в философии, которая сохраняет при этом свое Privilegium
odiosum — чистоту, должно последовать за «описанием» также
«объяснение», — это убеждение — типичный образчик псевдофилософии.
В действительности, если в ней за «описанием» следует «объяснение»,
то она подвергается тому же превращению, какому она
подвергается, если объяснение, по нашему недосмотру, войдет» в само описание,
т. е. философия из «знания» превратится в «мнение».
XII
Наиболее отрицательное значение для философии в этом
превращении имело бы то, что «мнение» опять выступило бы в роли
Мудрость или разум?
495
«знания». Гарантия философской строгости — только в «чистоте» ее
описаний, в действительной передаче того, что «мы видим» в сущ-
ном анализе сознания. Но вполне законен и другой вопрос:
философия может быть и строга, да исполнители могут быть плохи, — как
поручиться, что философ рассказывает только то, что «видит»,
ничего не примышляя и не предполагая? Как показывает история,
самые убедительные моральные аргументы: угроза Страшного суда и
смертная казнь не могли остановить философов, и они продолжали
выдавать свои мнения за знание. Больше успеха имела свобода
высказывать любое мнение и такая же свобода его критики. Разумеется,
это еще не «гарантия», но иной, по-видимому, для философа и быть
не может: он должен тщательно проверять каждый свой шаг, каждое
свое высказывание, должен выкорчевывать всякое «предположение»
и всякий домысел. Философии нечего бояться длины и
продолжительности такой проверки, и фактически путь ее, действительно,
усеян жертвами критической беспощадности, — ей нечего бояться
и некуда торопиться: ее предмет неизменен и стоит вне времени.
Но сам человек торопится, и, может быть, имеет к тому основания.
Остается, по-видимому, ему предоставить полную свободу
высказывать любое мнение, даже вопрос о «вероятности» не должен его
связывать. Тот же, кто «ограничит» себя и пожелает иметь «знание»,
очевидно, сам должен идти к нему, не полагаясь на чужие мнения.
Когда он увидит то, что сущно есть, что он узнает не через какого-
либо репрезентанта, а столкнется с ним лицом к лицу, когда он
убедится, что оно «само» перед ним, он узнает и своих союзников по
стремлению к «знанию», узнает и их «личные» ошибки, и сумеет
отделить одно от другого. Тогда и сама критика философов перестает
быть отрицательной критикой и становится положительной.
Философская критика знания не в том, что знание «вообще» невозможно,
недостижимо, относительно, субъективно и т. д., а в уяснении того,
что мы действительно видим в каждом данном случае,
подвергаемом нами обсуждению, и в устранении того, что к данному нами же
привнесено от себя. Отрицательная критика «все» и «вообще»
отвергает, за исключением «себя», это — чистое самоутверждение;
положительная критика — труднее: она утверждает все, но ограничивает
себя, это — самоотречение.
Как свидетельствует история философии, на этот трудный акт
«самоотречения» не всегда была способна даже положительная фи-
496
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
лософия. В отрицательной же философии одним из немногих
пунктов, где она обнаруживала некоторое постоянство, было
утверждение «я», как опоры и центра, на которых все зиждется и вокруг
которых все движется. «Я» оказывалось критерием, мерою, источником,
собственником и даже, — бывало и такое, — гарантией не только
своих собственных рассуждений, но и «всех вещей» и самой
истины. Где такое «я» выступало вместо имени индивида, там сплошь и
рядом, предоставляя ему законодательную функцию, приходили,
натурально, к релятивизму и негативизму. Но иногда это «я»
изображалось таким властным и всемогущим, что, казалось,
непременно оно должно было «все» устроить, привести в порядок, а потому
оно гарантирует и «знание» всего. При ближайшем рассмотрении,
однако, именно это-то «я» оказывается «самоутверждающимся»
ничтожеством: серой тенью индивида, в бесцветности которой видели
ее права на всефилософскую «значимость» и которой
присваивалось «местоимение», потому что свое «имя» запамятовала и она сама.
И вот, этот безыменный «субъект» выступал с гарантиями
философского и всяческого знания.
В статье «Сознание и его собственник» я старался показать, что
сознание ни в каком собственнике философской нужды не имеет,
что сознание, как такое, рассматриваемое в своей сущности, —
ничье. Если мы, действительно, философски анализируем сознание,
мы в нем, в его потоке, никакого собственника его не найдем, но
найдем, как особый предмет исследования, разного рода и типа
единства сознания: единства строго индивидуальные или
коллективные. Среди этих единств мы найдем и «единство познания», но
1), оно ни при каких условиях не может служить
«гносеологической» гарантией; 2), оно не может быть называемо «я». «Я», в
действительности, всегда есть unicum, социальная «единица», имрек.
Конечно, каждый имрек есть также «единство» сознания, но
единство — непременно фактическое, эмпирическое, историческое.
Если единство познания, как сущное, составляет некоторую «часть»
в «целом» сознания, то, очевидно, философская проблема познания
просто проходит мимо имрека, его «не касаясь»: он одинаково не
может ни давать, ни не давать гарантий знания. Это может
оставаться неясным только до тех пор, пока не выяснено, что сознание
в своей сущности, — а следовательно, и та его «часть», которая
объединяется титлом «познание», — не есть мое сознание, или какого-
Мудрость или разум?
497
либо иного имрека, или вообще какого-либо реального существа,
что сущное, эйдетическое сознание есть идеальность, а не
реальность. Как абсурдна самая идея реальной зависимости реального
от идеального, так абсурдно думать, будто сущное сознание может
испытывать влияние со стороны реального индивида. «Идеальный
индивид», не как объект, а как субъект, «гносеологическая»
фикция, — таковы «чистое я», «трансцендентальное я» и т. п., — в
качестве «идеального» должен быть сущным; допустив такую фикцию,
нельзя было бы уже признавать существования ошибок и
заблуждений. Для того, кто натолкнулся на факт познания и факт
заблуждения в самой действительности, можно допустить для объяснения
этого факта, мне кажется, одну из двух гипотез: реально познаю и
ошибаюсь я, имрек, живой и действительный член данного
общества, и нас много таких «познающих» и «мнящих», или: есть один
в мире реальный субъект познания, а мы, имреки, его органы, он
познает через посредство нас, наше познание неведомыми путями
есть его познание. Мне кажется первая гипотеза более вероятной,
так как и во второй ближайшей познающей реальностью являемся
все-таки мы, живые люди, имреки. Но если так, то в «субъекте
познания» никаких гарантий нет и быть не может; имрек, как субъект
познания, капризен, неустойчив, смертен. Знание же есть знание, и
суета имрека вокруг него так же мало его гарантирует или
определяет, как мало его колеблет.
Имрек сам тем не менее заинтересован в знании, и ему нужно
уметь отделить свое мнение от истинного знания. Не находя для
этого средств ни в самом себе, ни в фиктивных созданиях
отрицательной философии, философ ищет других путей для обеспечения себя
от своих случайных ошибок и заблуждений. Сознание в рефлексии
на самого себя «видит» свою сущность не через посредство
образов или «репродукций», как мы знаем, а безусловно презентативно,
т. е. сущность сознания налична рефлексии, в ней «находится», или
еще иначе, имманентна самому сознанию. Поэтому здесь «ошибок»
быть и не может, ибо это была бы «ошибка» самого бытия, самой
истины, а это все равно, что здесь ничего не было бы. Источник
«ошибок», значит, нужно искать в другом месте, и это — одинаково
философское требование: найти источник ошибок и найти средства для
их устранения. Это требование должно быть выполнено
философскими же средствами.
498
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕПГ
XIII
К сожалению, я не имею возможности здесь и сейчас входить в
подробный анализ этого в высшей степени важного для философии
вопроса. Я представляю здесь только некоторые результаты своего
анализа.
Когда мы говорим, что наше знание получается из опыта, беря
понятие опыта в самом широком его смысле — переживания, мы
правильно указываем источник нашего познания, но при
ближайшем рассмотрении такая формула для principium cognoscendi269 —
слишком груба. Она до известной степени передает только тот факт,
что «для нас» началом познания служит наше переживание, но она
ничего не говорит о том, как дело обстоит «по природе». И тут
возможны недоразумения, проистекающие из предвзятых теорий,
двоякого рода. Как только замечают, что наше познание построяется
сообразно двум принципиально разным предметам: эмпирическому
и идеальному, начинает казаться, что один из них «незаконен», и
возникают попытки, с одной стороны, показать «происхождение»
идеального из эмпирического, а с другой стороны, «вывести»
эмпирическое из идеального. В действительности, как мы отчасти уже
видели, «предмет», как трансцендентное, на которое направляется
наше сознание, один и «тот же», но он представляется нам с
эмпирическим или сущным содержанием, смотря по тому, в какой
установке сознания он нами берется, как данное чувственной интуиции или
как данное интуиции сущной. Мы в том и другом случае, конечно,
можем говорить об «опыте», потому что и в том и в другом случае
мы добиваемся первично и непосредственно данного, но очевидно,
что формула этого не выражает. Но, далее, неуясненность того, что
сущное содержание предмета само имманентно сознанию, что оно,
следовательно, дано презентативно, побуждает иногда искать в
сознании репрезентанта трансцендентному предмету в виде особого
рода «имманентного предмета» или «идеи», как мысленного
концепта, которые «замещают» в сознании трансцендентный предмет и,
таким образом, служат объектом и принципом познания. Того
тожества, следовательно, которое «пронизывает» эмпирически данное и
остается как сущная основа в эйдетически данном, которая, поэтому,
создает «единство» предмета, приведенная формула также не
отражает. Наконец, и еще в одном отношении эта формула дает повод к
недоразумению. Мы говорим об «опыте», как источнике знания, за-
Мудрость или разум?
499
бывая или игнорируя то обстоятельство, что именно тогда, когда
переживание перестает быть простым «переживанием» и
останавливает на себе наше внимание как источник познания, мы имеем с ним
дело не как с «голым» данным, а как с данным, непременно
облеченным в слово, или в другой знак, заменяющий слово, в принципе,
следовательно, все-таки слово. Слово же, прикрывая собою одинаково
как чувственное, так и сущное содержание, хотя дает различить их в
строго терминированной речи, или просто даже в «контексте», тем
не менее составляет новый повод для недоумений по вопросу, что
же является действительным началом познания. Его роли формула
также не отражает. Между тем, именно здесь лежит средство к
устранению и всех вышеуказанных недоразумений. Слово играет в нашем
познании такую роль, что я готов переделать самое формулу: слово
есть principium cognoscendi нашего знания.
Действительно, анализируя наше сознание, мы не можем не
заметить, что «слово» залегает в нем как особый, но совершенно
всеобщий слой. Пока мы просто живем, наши переживания текут
одно за другим, среди них есть и «словесные переживания», но
они занимают свое место рядом с другими, также появляются и
уходят, и их всеобщее значение мало заметно. Но стоит
остановиться на чем бы то ни было для его познания, и оно немедленно
запечатлевается словом. Отныне мы познаем его в его словесной
форме. Как изображает Платон в «Теэтете»: душа сама с собою
ведет речь о том, что она рассматривает; «размышляя, она именно
говорит с собою, самое себя спрашивает и отвечает, утверждает и
отрицает».
Станем дальше анализировать слово в присущих ему формах, и
мы заметим их большое многообразие: формы слова
грамматические, стилистические, эстетические, логические. Последнее нам и
важно: эти формы не суть случайные или эмпирические формы, а
сущные и необходимые, столь же устойчивые и самотожественные,
как тожествен в себе формообразующий предмет. По некоторой
аналогии с гумбольдтовской «внутренней формой языка» я называю
и эти логические формы — идеальными внутренними формами
языка. Они оказываются налицо во всяком процессе познания, и если
иметь их в виду, то все вышеприведенные недоразумения не могут
иметь места: они прямо указывают на единство предмета познания,
делают ненужным какой-либо «имманентный предмет» как репре-
500
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
зентант трансцендентного, и выдвигают слово в его познавательной
роли на подобающее ему место.
Еще более углубленный философский анализ «слова» в его
идеальной внутренней форме покажет нам, что такое слово, логическое
слово, выполняет в познании многообразные функции. Оно
называет предмет (номинативная функция), оно обозначает в содержании
значение или смысл (семасиологическая функция), оно
устанавливает его в его форме (предикативная функция). Далее, слово в
своей развернутой форме есть предложение или положение, в
свернутой — понятие. Довольно уже этих примеров, чтобы увидеть, из чего
складывается область логических форм. Философия, как строгое
знание, выделяет из себя логику, как особую науку, которая имеет
дело с названными формами и которая, следовательно, изучает
слово именно как principium cognoscendi. Сама логика идет еще дальше:
познание, как переживание, тогда только становится наукой и
знанием, когда оно выражается в слове. Она изучает слово как
выражение познания. Если бы слово, как идеальная внутренняя форма,
могло непосредственно передаваться, может быть, наша наука была бы
столь же безошибочной, как сама истина, которую она хочет
передать. Но так как идеальные логические формы в самом слове тесно
связаны с другими формами и так как последнее эмпирическое за-
печатление слова само эмпирично, — то тут и лежит существенный
источник ошибок и заблуждений. Логика и призывается
философией для проверки и установления путей, способов и методов нашего
выражения истины. Логика, таким образом, контролирует самое
философию, когда последняя приступает к изложению и изображению
усматриваемого ею в ее анализе сущного сознания. И логика есть
конечная инстанция, так как и свои собственные «выражения» она
может проверить сама же. Она должна найти для всего этого
средства. Больше этого и дальше этого для «исправления» и контроля
познающего и ошибающегося индивида средств нет.
XIV
Не нужно, однако, представлять себе дело так, как если бы
«логика» была изобретена философией ad hoc, только для проверки себя
и для контроля. Значение логики несравненно шире и
принципиально. Она накладывает такую сильную печать на все наше знание, что
для нас слова знание и логическое знание существенно оказывают-
Мудрость или разум?
501
ся синонимами. Это — совершенно понятно, раз мы признали, что
«логический слой» в сознании налегает на все наше познание. Все
содержание знания от этого мы видим только сквозь этот слой; оно
не может, следовательно, как знание, иначе быть, как в
необходимо присущих ему логических формах. И так как эти формы имеют
собственную закономерность, то и все знание устанавливается нами
по законам логики. Логическая природа знания есть такой же
существенный признак знания, как интенциональность — существенный
признак сознания. И опять-таки, это — не «заповедь», а это — то, что
есть. По существу, поэтому, нелепостью является весь тот шум,
который поднят вокруг логики некоторыми представителями
современной псевдофилософии: «протест» против логических форм мысли —
такой же абсурд, как протест против решения математических
проблем по правилам и средствами математики. «Алогизм» и «арацио-
нализм» имеют смысл, когда они выражают неудовлетворенность
узостью и формализмом некоторых логиков; они побуждают к
пересмотру и расширению логики; но они смешны, когда они логику, как
такую, ниспровергают, — впрочем, логическими же средствами, — и
либо желают видеть на ее месте «инстинкт», «полноту жизни»,
«жизненный порыв» и другие преимущества дословесного животного, —
лучше всего, фабровских насекомых, как у автора «Творческой
эволюции», — либо «ничего» не желают на место логики.
Недостатки логики давно выяснены. Как и должно быть, это —
недостатки не ее существа, а результаты некоторых «увлечений» и
односторонности логиков. Положительной философией они
замечены, и она принимает меры к их устранению. Основными ее
недостатками были: 1) то, что она слишком отдалась формам
«математического естествознания» и мало внимания уделяла конкретному-,
2) то, что она, сосредоточиваясь на изучении «объема», забывала о
роли «содержания». Оба пункта между собою, как понятно, связаны.
Дальше этих указаний не пошла и отрицательная философия. Столь
помпезно провозглашенная «антиномия» между «интуицией» и «дис-
курсией» вовсе не есть антиномия в собственном смысле; это —
такая же «антиномия», как между глыбой гранита и резцом,
высекающим из нее монумент, — между материалом и орудием
производства. Одно дело — признаться себе и другим, что мои логические
слова, понятия, бледны, что я недостаточно умею ими пользоваться,
что я вижу больше, чем я могу выразить в строгой логической речи;
502
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
другое дело — свалить собственную ограниченность на понятия и
провозгласить убожество логики. Не нужно особенной тонкости в
самонаблюдении, чтобы заметить, что «видим» мы больше, чем
можем выразить в строгой логической форме, что сплошь и рядом для
выражения своего «опыта» мы прибегаем к фигуральной речи. Но,
как я уже указывал, в области «мнения» должна быть предоставлена
полная свобода высказывать все что угодно и как угодно, а «истина»
не спешит, она пребывает: о ней ничего не может сказать А или В, о
ней скажет X или У, которые будут владеть логическими формами
речи. Я, конечно, не исключаю того, что истина может быть
выражена и в фигуральной форме, — вероятно, это часто и бывает, — но
всякая фигуральная форма принципиально допускает «перевод» в
форму строго терминированную. Мысль в своей форме
выражения при этом может потерять эстетическую или стилистическую
привлекательность, но она из «переживания» обратится в «знание».
Кому что нужно: одному — спасение души, другому — таблица
умножения; но одно другого не исключает — может понадобиться и то,
и другое. Нельзя только в таблице умножения искать рецептов для
спасения души, а для спасения души, может быть, в самом деле, все
равно, 2x2=4 или 5. Это элегантно изображает христианский
Цицерон270: «Остается та третья часть философии, которую зовут
логикой и в которой содержится вся диалектика и все искусство речи
(omnis loquendi ratio). Ее не требует божественная ученость, потому
что мудрость — не в языке, а в сердце; и неважно, какой
пользоваться речью, ибо домогаются вещей, а не слов, и мы рассуждаем не о
грамматике или ораторе, коих наука — в том, как подобает говорить,
а о мудрости, учение которой — в том, как надо жить» (Inst. III. С. 13).
По моему, впрочем, убеждению, элегантность Лактанция так же мало
нужна для этой полезной цели, как и таблица умножения...
Ныне в некоторых псевдофилософских кругах любят ссылаться
на особого вида переживания —мистические переживания или
мистический опыт, как на такого рода источник знания, где не только
логическая, но и фигуральная речь бессильна, так как здесь
нашему «видению» дано «неизреченное». Нельзя отрицать факта таких
переживаний, мне лично даже кажется более сомнительным
утверждение, что такие переживания не всем «доступны». Но от признания
«факта» переживания весьма далеко до признания в нем
познавательного переживания. Мы видели, что формула: знание получается
Мудрость или разум?
503
из опыта, весьма груба. Нужно показать, как можно говорить о
мистическом опыте как об источнике знания. «Исступление» или
«прострация» суть также переживания и «опыт», но, кроме того, что они
дают материал для суждения о соответствующих состояниях
сознания, я не вижу, в каком смысле их можно было бы назвать «началами
познания». Мистическое сознание есть sui generis состояние его, и
кто хочет получить философский ответ на вопрос какова его
природа, должен к философии и обратиться, тогда видно будет, является
мистический опыт началом знания или нет.
Анализ мистического сознания представляет для философии
одну из интереснейших проблем, и нет ни малейшего основания
утверждать, что содержание мистического опыта никак не выразимо,
или, в частности, не выразимо в логической форме. Если только оно
выразимо как-нибудь, то ему будет найдена и логическая форма. Но
говорят иногда, оно вовсе невыразимо... «Чудовище, немая мысль без
слов»... Если бы дело обстояло так безнадежно, то мы ничего и не
знали бы о мистическом сознании, — его не было бы. Но нам о нем
рассказывают, и немало, хотя и не всегда вразумительно. Это-то иногда и
считается показателем его алогичности или арациональности. Я
сознаюсь, что та «рационализация» мистического опыта, которую нам
преподносят в виде таких даров Востока, как гностицизм или
теософия, есть явление глубоко отвратительное и эстетически
отталкивающее, но думаю, что оно столь же безобразно и логически. Однако
отсюда так же мало следует, что мистическое переживание не
выразимо, как мало следует из безграмотности кинематографических
либретто, что они не могут быть составлены грамотно. Не берусь
решать вопрос, знали ли прежние писатели, изображавшие
мистические переживания, о них только понаслышке или испытывали их,
и каким путем осведомлены о них современные писатели,
утверждающие, что они неизобразимы, но думаю, во всяком случае, что, если
они выразимы, хотя бы в несвязном бреду и бормотании, для них
найдется осмысливающая форма в логике. И как только философия,
как знание, попытается описать особенности мистического
сознания, выделит его на фоне остального сознания, будет искать, как оно
отражается на целом и в целом, является ли оно, действительно,
источником познания или оно — особый тип интерпретации того, что
есть и прочее, и прочее, — во всех этих вопросах философия, как
знание, иначе как в логической форме ответов дать не может.
504
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
XV
Когда в отрицательной философии нападают на немощность
логики, то при этом забывают, что именно те, кто на нее нападает,
поддерживают всеми силами идею ограниченной логики, так как только
в ее формалистичности и пока она — формалистична, могут иметь
значение делаемые ей упреки. Поэтому ответом со стороны логики
на такие нападки должно быть: подчеркивание таких своих сторон,
которые игнорируются нападающими, и дальнейшая ее
положительная работа. Слова логики, терминированные слова, суть понятия.
Понятия же, по утверждению противников логики, «умерщвляют»
жизненное богатство опыта, они — «скучны», «статичны»,
«формалистичны», «кинематографичны» и т. п. Все это — до известной степени
справедливо, пока речь идет о логике, которая смотрит на «понятия»,
как на чисто объемные отграничения одного содержания от другого,
и когда она занята только этими объемными отношениями понятий.
Но идею такой узко формалистической логики мы не найдем ни у
Аристотеля, ни у стоиков, ни в средние века, ни в Пор-Рояле, ни в
рационализме позднейшем, ни в новейшее время. Идею такой
логики на протяжении всей истории философии мы встречаем только у
самого гениального отрицателя — Канта. Почему современные ало-
гисты в понимании задач логики — кантианцы, в этом, конечно,
загадки нет: иначе пришлось бы отрицать не всю логику огулом, а
«части» ее, и, следовательно, заботиться вместе с положительной
философией об «исправлении» их, т. е. нужно было бы от занятий чистым
отрицанием перейти к положительному творчеству.
Если мы обозначим объемную сторону отношения понятий как
сторону концептивную, то мы увидим, что именно к концептизму
относятся все нападки алогистов. Но стоит вспомнить, что каждое
слово имеет значение, чтобы увидеть, чего алогистическая критика
ни малейшим образом не задевает. Значение слова лежит в его
содержании, содержанием же является все, что есть, что переживается,
что сознается. Если мы не только конципируем понятия, но и
понимаем их, то через понятия, как знаки, мы улавливаем все, что
обозначают эти знаки. Мы можем понимать плохо или хорошо, но, еще
раз, это — наш дефект, а не логики. В своем значении понятие —
конкретно, когда речь идет о конкретном, абстрактно, когда — об
абстрактном, обще, общно, частно, единично, — все в зависимости
Мудрость или разум?
505
от того, о чем идет речь. Нужно умертвить все, чтобы понятие было
мертвым. Но, пожалуй, тогда будет еще «скучнее», потому что тогда и
понятий не будет. Понятие в своем семасиологическом качестве уже
по существу не может быть характеризовано как «статическое» или
как «отрезок». Напротив, оно принципиально динамично, как
динамично значение его. Понятие здесь не «отрезок», а живой орган.
Понятие понимаемое живет и движется. Любая словесная частица
понимается только в связи с другими и с большим целым; это
целое понимается опять в новом целом, которого оно — часты слово,
предложение, период, разговор, книга, вся речь, — здесь нет
остановок для без конца углубляющегося понимания. В каждом понятии,
таким образом, implicite — все связи и отношения того, что есть. Эта
особенность понятия, как логического, которое, как указано,
покрывает собою все сознание, придает особый характер философскому
знанию, как знанию в понятиях по преимуществу.
Все, как эмпирическое все, имеет у нас еще одно название, это
есть история. Историческое познание есть познание
интерпретирующее, герменевтическое, требующее понимания. Логика
исторического познания, говоря конкретно, есть логика принципиально
семасиологическая, принципиально всеобъемлющая. Но через это
и философия как знание, излагаемое по этой логике, становится в
особо углубленном смысле исторической философией или также
герменевтической, уразумевающей философией. Такова печать
логики на философию. Историческая наука описывает и, как
эмпирическое знание, объясняет; философия, как мы видели, принципиально
не нуждается в объяснении, она только описывает, но описываемое
постигается нами как значение, и она становится «чистой
историей», — припоминая прежде разъясненное, мы можем сказать: она
становится чистой историей сознания. Логика этой истории есть
диалектика.
Но иногда высказывается мнение, что именно «описание» есть
прием, который прямо противоположен логической дискурсии;
мало того, в описании видят средство, которое призвано заменить
логические операции с помощью строгих понятий. В основе этого
мнения лежит недоразумение. Описание, конечно, не есть
демонстрация или объяснительная дедукция, но неверно, будто она
противоположна им в том, что не пользуется логическими понятиями как
своими средствами. Может быть, под «описанием» понимают просто
506
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
образную, фигуральную речь, но что мы выиграем от такой подмены
логики стилистикой? Воображают, что образная речь «богаче»
логической. Но в каком отношении? Образов в ней, разумеется,
больше, но ведь нам важно значение, смысл, а чтобы его извлечь, нужно
«перевести» образы в понятия. Но понятия, говорят еще, выражают
лишь сущность вещей, а не их эмпирическую полноту. Я думаю, что
и эмпирическую полноту иначе не выразить, как только словами, но
для философии как знания ничего, кроме этого «лишь», не нужно,
так как именно сущность она имеет своим предметом.
Тут мы возвращаемся к началу, и я снова апеллирую к Платону271:
«Итак, узнай, что другой частью мыслимого я называю то, чего
касается сам разум способностью диалектики, когда он делает
предположения не началами, а действительно предположениями, — как
бы приступом и натиском, — чтобы, когда он дойдет до
непредполагаемого, что лежит в начале всего, когда коснется его, и снова
последует за тем, что из него следует, так дойти до конца, отнюдь не
обращаясь ни к чему чувственному, но к самому эйдосу, через него, в
нем, и закончить в эйдосе».
Кто представляет себе такое диалектическое восхождение и
нисхождение как формально-отвлеченную «дедукцию» чистых
«концептов» или как формально-классификационное распределение
«родов» и «видов» по объему, т. е., действительно, как установление
таких логических отношений между понятиями, в которых «нам
дела нет до содержания», тот, ясно, ничего не увидит, кроме
«формализма» и «статизма», — и не потому, будто в самом деле «можно»
построить такие «чистые» схемы, а именно потому, что он не
обращает внимания на «содержание». Если же наш мыслитель
«сообразит», что распределяемые им понятия имеют некоторый смысл, что,
не понимая их, нельзя совершить над ними наипростейшей
операции, он должен тогда догадаться также, что его представление о
логике — весьма примитивно, и что «алогизм» и «арационализм» есть
подлинная бессмыслица, в атмосфере которых, верно, позавидуешь
даже «инстинкту насекомых»... Возьмем в пример деление
треугольников на плоскости; оно совершается над предметом эйдетическим,
формальным и по признакам также существенно-формальным. Мы
делим треугольники, скажем, на остроугольные, прямоугольные и
тупоугольные. Мы непосредственно «усматриваем» в нашей
идеальной интуиции треугольника эти существенные признаки его клас-
Мудрость или разум?
507
сов и называем их. Но сколько бы мы на них ни «смотрели», мы не
увидим, что такое деление — исчерпывающе, пока мы не понимаем
его. И если бы ученик, приступивший к изучению планиметрии,
задал учителю вопрос, все ли тот треугольники на земле пересмотрел,
делая такое категорическое утверждение, и нет ли еще каких-нибудь
плоских треугольников на Полярной звезде, то учитель сказал бы,
что ученик не понимает геометрии, а родители ученика сказали
бы, что учитель не сумел уяснить ученику смысла геометрического
предмета.
Философия, как чистая наука, тем отличается, как мы видели, от
математики и вообще формально-онтологических дисциплин, что
она «материальна», т. е. имеет дело с предметными категориями,
формующими не абстрактное, а конкретное содержание,
составляющее само сознание в его сущности, но и в его полноте. Может быть,
можно и здесь глядеть и не разуметь, но если только в сознании
шевельнется хотя бы малейшее побуждение к установлению
«видимого» или «в видимом», — а как показывают современные
исследования, «установление» лежит в природе каадого акта сознания, —
пусть даже в форме чистой перцептивности: «вот —
воспоминание», «вот — сомнение» и т. п., тотчас вступает в отправление своих
обязанностей понимание. Оно-то и не дает застыть в каком-нибудь
«объеме», оно побуждает переходить границы всякого объема, так
как с наглядностью показывает всякое значение и всякий смысл
только в живом его движении. Connexio, которую обнаруживает все,
что есть, составляет и его предельный момент. От того, что
понимание не есть копирование «многообразия», как многообразия, а
есть искание в нем некоторого «согласия», consensus in varietate, —
от этого оно не делает «все» беднее и не представляет «смысла»
менее разнообразным, чем он есть. Напротив, именно
«разнообразие» содержания философии, не только во «всем», как целом, но и
интенсивное «разнообразие» каждого акта сознания, делают то, что
философия не может удовлетвориться теми формами и приемами
логики, которые достаточны для формально-онтологических наук,
и потому настоятельно требует разнообразия от самой логики.
«Описание» как свободное и гибкое средство логики не уменьшает и
тем более не уничтожает роли и значения логики, а, напротив,
усиливает ее значение и возвеличивает ее роль. Поэтому совершенно
неосновательным является мнение, будто описание «преодолевает»
508
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
формализм и схематизм понятия. Описание в философии точно так
же пользуется понятиями и только понятиями, как и всякий другой
прием логики. Описательная диалектика имеет свои строгие
методы очищения знания от эмпирических ошибок, приемы анализа,
подсчета, разделения, дистинкции и пр. Эмпирический познающий
субъект, — а иного нет, — слишком «тороплив», он сплошь и рядом
более бросающийся ему в глаза признак принимает за
существенный признак, признак вида — за признак рода, он поддается
привычным переживаниям и не всегда достаточно дисциплинирован
для чистой философской работы в сфере чистого эйдоса. Описание
должно держаться строгих требований диалектики, чтобы не
перенести «мнение» в сферу «знания». В «мнении», конечно, есть также
своя диалектика, свой «спор», своя логика — логика вероятного, и в
преемственности положительных мнений есть своя направляющая
диалектическая линия, но истинно прототипическую роль
диалектика играет лишь в сфере строгого и чистого философского знания.
XVI
Позволю себе сделать теперь последний вывод в области
перспектив, которые открываются перед философией, когда мы
учитываем не только катартическую, но и гегемоническую роль логики
в «знании». При всей осторожности, с которой я подхожу к этому
выводу, я испытываю боязнь перед недостатком слов, а «вывод» мне
представляется крайне увлекательным и... необходимым. Речь идет
вот о чем: в понятии, как внутренне оформленном слове, мы видим
не только «концепт», но также, — и это существенно, —
эйдетическое содержание, носящее в себе смысл или значение понятия, к
которым мы проникаем не путем простого «конципирования», а через
акт «установления», включающий в себя, — поскольку он сам по себе
является лишь оформливающим актом, — sui generis акт
«интеллигибельной интуиции», дающий нам «понимание» соответствующего
смысла. Таким образом, слово-понятие для нас не только «объем» и
«класс», но также знак, который требует понимания, т. е.
проникновения в некоторое значение, как бы в «интимное», в «живую душу»,
слова-понятия. Говоря еще иначе, слово-понятие, терминированное
слово, требует интерпретации. Отсюда логика носит для нас
существенно герменевтический характер и накладывает эту свою печать
на всю философию как чистое знание. Философия становится от
Мудрость или разум?
509
этого исторической, и мы по-новому применяем однажды
высказанный принцип: nihil est in inteliectu, quod non fuerit in historia, et
omne, quod fuit in historia, deberet esse in inteliectu272.
Теперь мы хотим пойти еще дальше, сохраняя в виду этот
существенно «исторический» характер философского познания. В сфере
чистого сознания, где нам открывается эйдетическое «содержание»
всякой предметности, сделаем еще шаг глубже: попробуем и здесь
проникнуть в consensus in varietate, ища уразумения самого
эйдетического содержания как нового «знака». Как завершающее
устремление философских исканий, эта идея — не нова, у некоторых
мыслителей это устремление достигало ошеломляющего, поистине
«сумасшедшего» напряжения, — так у самого Платона, у Плотина, у
Спинозы, у Гегеля. Тут — философские высоты, на которых редкая
голова не закружится, и не раз человеческое познание срывалось с
них. Более философски поступает тот, кто, испытав свои силы,
останавливается на доступной ему высоте, чем тот, кто достигнутое им
считает «последним» и всем запрещает идти дальше, выдавая свои
«мнения» за «знание» конечных вершин. Эти «мнения» — источник
самых непристойных псевдофилософских домыслов: нас пугают
сперва «неведомым Богом», а потом рассказывают в подробностях
его биографию, либо нас просто засыпают словами с прописной
буквы: Истина, Разум, Воля, Я, Благо, а однажды нас попытались
утешить: «там» — то же, что — «здесь», — псевдофилософия
гипостазировала самое мораль, — там, оказывается, «моральный
миропорядок»...
То, что мы вправе сказать об этом углублении философского
разумения, не рискуя впасть в фантастические откровения
псевдофилософии, поневоле должно носить характер «чистых» указаний:
как нам видится предмет философии в этом новом углублении
знания, какая задача здесь перед нами, — а отнюдь не разрешение
задач и не «объяснение», — и затем, как раскрывается перед нами
философский путь, ведущий к указанному предмету? Что касается
самого предмета, который здесь открывается, то он указывался не
раз со стороны своего «формального» облика, и, по всей
вероятности, о нем больше наперед и не следует говорить: даже когда Платон
говорит в таком случае о «красоте самой» или «красоте в себе»,
может быть, он говорит больше, чем можно сказать без риска ввести в
«соблазн». Удовлетворимся поэтому неопределенным указанием ра-
510
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ционалистов: perfectio, или столь же неопределенным намеком
схоластики: bonitas transcendentalis273.
Больше можно и нужно сказать там, где мы находимся на
твердой почве философского пути, освещаемого, кроме того, логикой.
Современный патетит выдвигает «аномальные» состояния
сознания не только как исключительно ценный «источник» знания, но
также, — и это в устах представителей «патетической философии»
звучит особенно кокетливо, — подчеркивает законность такого
познания. Но именно «законность» — «наш» аргумент, аргумент
философии как чистого знания, и «мы» не согласимся, конечно, называть
«аномальными» явления «законные». Нужно только указать место,
которое они, действительно, занимают. Еще раз, — во избежание
упрека в модернизме, — сошлюсь на Платона. Это — два разных
«уклада» сознания; мудрость, здравый смысл («асофросгиут]»), с одной
стороны, и безумие, наитие, вдохновенность («|xavia»), с другой
стороны. «Мания», таким образом, есть особая «сфера» сознания,
истинно философский анализ которой указывает не только «общий»
предмет направленности этого сознания, но должен также
произвести рассмотрение, и прежде всего — расчленение «видов», как того
требует контролирующая анализ диалектика. В «Федре» Платон,
отделив «манию», которая ничего путного дать не может, от той,
которая может доставить «величайшие блага», в этой последней
различает: наитие, исходящее «от бога» и проявляющееся в религиозных
прорицаниях; наитие нравственного характера, также связанное с
прорицаниями в области исцеления и очищения; поэтическое
наитие и вдохновение; наконец, философский восторг или энтузиазм.
Объятый философским восторгом характеризуется у Платона как
«влюбленный», разумеется, также философской «умной любовью», —
amor intellectualis, — направленной на само высшее «разумение» и
«умение» («соф1а»). Поэтому-то «философ» и есть философ, что он
стремится к разумению истины, хотя еще не может быть назван
разумеющим («софос») ее. Философ, как раскрывается эта мысль в
«Пире», занимает место между разумеющим и несмыслящим.
Однако было бы неправильным толкованием Платона и
неправильным пониманием философского пути, если бы в изображенном
«укладе» сознания увидели и самый источник философского
познания. Это есть изображение «типа» переживаний в их конкретной
полноте, с указанием «признаков», сопровождающих особый «спо-
Мудрость или разум?
511
соб познания», но не самый «акт» познания. Последний как таковой
всегда один — разум, но в разных «установках» сознания он
открывает или видит разное, проникая в разную глубину «данного». Уклад
сознания, который мы называем философским энтузиазмом, или
amor intellectualis, есть совокупность переживаний, фондированных
на разумном познавательном акте. Этот последний в своей чистоте
характеризует и абсолютную чистоту предмета, на который он
направлен, который, следовательно, сам есть «разум вещей», взятых в
их сущности. Общее напряжение сознания, о котором идет речь,
может достигнуть своей максимальной степени, превышающей «норму
здравого смысла», энтузиазм может дойти до экстаза, — не в
смысле, понятно, восточного «верчения» или «радения», а в смысле
абсолютного покоя, респективного покойному пребыванию сущного
предмета, — и все-таки познавательный акт есть все «тот же» сущно
разумный акт. Но как в одном и том же акте разума мы различаем в
зависимости от глубины его проникновения моменты его
эмпирического и сущного видения, моменты чувственной и
интеллектуальной интуиции, так в этом новом углублении можно видеть еще
третий момент, который в своей книге «Явление и Смысл» я называл
интеллигибельной интуицией. Здесь нам открывается возможность
не только интеллектуального понимания, но и разумного
уразумения самого «разума вещей», их разумных оснований. Как Спиноза
характеризовал свой «третий источник познания»: с его помощью
«вещь» постигается в познании эссенциальных (сущных) причин
ее или единственно в ее собственной сущности — per solam suam
essentiam — (если она — causa sui).
XVII
Если мы не хотим, чтобы наш «вывод» носил характер
«теоретического вывода» забегающей вперед гипотетической догадки, он
должен быть чистым описанием самого акта уразумения на этой
конечной стадии углубления разума. Мы нашли в эйдетическом
содержании слова-понятия, на которое смотрели как на «значащий» знак,
значение понятия. Этим мы признали, что философии мало увидеть
«эйдос» в рефлексии на сознание, нужно еще его понимать, что
достигается в акте его установления (суждения). Теперь то же
требование, что мы предъявляли к «слову», мы предъявляем к эйдосу: на
самое сущность мы смотрим как на знак. Переход от знака к смыслу
512
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
вовсе не есть «умозаключение», а, по крайней мере, в основе своей
это есть первичный и непосредственный акт «усмотрения» смысла.
В этой первичности мы его и отыскиваем. Семасиологическое
принятие самой сущности ео ipso заставляет искать в ней, как «начале»,
смысл, который раскрывается перед нами как разумное основание,
заложенное в самой сущности; сущность в своем содержании здесь
исходит из разума как из своего начала. В конечном итоге можно
сказать/сам предмет выступает здесь не как «задача» в собственном
смысле, а как знак того, что здесь — задача, и, следовательно, самая
формулировка ее еще прямо не дана, а «будет» найдена в процессе
расшифровки знака ее. Так, мы видели, что математика только «теперь»
приходит к уразумению своего предмета, хотя изначально шла под
«знаком» его; аналогично мы высказались о философии. Но это
«теперь», конечно, — «процесс», и процесс, далекий от завершения. Где
его предел? — это вопрос для тех, кто любит безнадежную работу...
Итак, в своем идеально завершающем моменте, как и во всем
своем целом, герменевтическая философия, по существу, остается
рациональной философией, философией разума. Рационализм —
первое слово, постоянное, и останется последним словом
европейской философии. Все, что есть, сущее, в своей сущности, разумно;
разум — последнее основание и первая примета сущного.
Такова формула рационализма. Но уже приходилось слышать вопрос:
а это суждение — не «мнение» ли? Отвечаю: нет, не мнение, а
знание, хотя, может быть, выраженное весьма несовершенно; «мнение»
же, — и притом весьма мало вероятное, — гласило бы: эмпирическая
действительность, в которой я живу, разумна... Но это даже не
«мнение» философии, а мнение мудрости. А в таком случае я, по крайней
мере, затруднился бы отличить это «мнение» от не менее
глубокомысленного «мнения» той же мудрости: «суета и томление духа»...
Но разум со своей неизбежной логикой, гласит современная
мудрость, фоб для творчества, тесно в нем... Для какого творчества? Для
творчества самой мудрости, дряхлой, как Восток? Напрасное
волнение: для нее найдется как раз по мерке... Однако этот страх перед
разумом, логофобия, весьма показателен для мудрости, дожившей
до наших дней. Не потому ли, что именно накануне «наших дней»
против разума было испытано сильнейшее оружие? Пока моральные
отравители делали свое дело, такого «страха» не было, но вот некто
начал «философствовать молотом»... Казалось, по «разуму», и оказа-
Мудрость или разум?
513
лось по «разуму», — только «разум» был наковальней, а между нею и
молотом попала сама мораль. Отсюда — страх: не действителен ли
против разума только сам же разум, а где его взять, загубившим его
для себя? Философствовавший молотом резюмирует «новый взгляд»
на «"Разум" в философии» в следующих четырех тезисах:
Первое положение. Основания, по которым «этот» мир был
назван кажущимся, подтверждают, напротив, его реальность, —
реальность иного рода — абсолютно недоказуема.
Второе положение. Признаки, которыми было наделено
«истинное бытие» вещей, суть признаки не-бытия, ничего, — «истинный
мир» построили из противоречия действительному миру: подлинно
кажущийся мир, поскольку он — лишь морально-оптический обман.
Третье положение. Нет ровно никакого смысла сочинять сказки
об «ином» мире, если нами не владеет инстинкт опорочения,
унижения, оклеветания жизни: в таком случае мы мстим жизни
фантасмагорией «другой», «лучшей» жизни.
Четвертое положение. Делить мир на «истинный» и
«кажущийся», — на манер ли христианства или на манер Канта {вероломного
христианина, в конце концов), — есть только внушение декаданса:
симптом закатывающейся жизни...
Я привел эти четыре тезиса Ницше, желая лишь подчеркнуть, что
принять их и утвердить без всяких оговорок, ограничений и
иносказаний может только положительная европейская философия,
философия как чистое знание, как логически последовательно
проведенный рационализм. В новом толковании это не нуждается;
комментариями же да послужит все сказанное выше.
XVIII
На этом я мог бы закончить. Но имея в виду популярный характер
моей статьи, мне хочется остановиться еще на некоторых
специально айдотических (f| aiôcbç) или, в популярной терминологии:
педагогических соображениях, — (под педагогикой здесь я понимаю
исходящее из философии разумное учение о средствах, которого еще
нет, но которое возникнет на место сегодняшней морали и мудрости;
кое-что из этого учения можно найти в оракуле Грациана, но... даже
и у Овидия).
Аристотель, автор и источник многих псевдофилософских
теорий, правильно, однако, уловил идею европейской философии как
514
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
чистого знания: «Ясно, что мы ищем философии не по причине
какой-либо пользы, для нее посторонней. Как человека мы называем
свободным, когда его цель — он сам, а не кто-либо иной, так и
философия: она одна — свободное знание, так как только у нее цель — в
ней самой». Это — то, чего не может понять Восток, допускающий
знание только для мудрости, и что разучивается понимать
современная государственная и капиталистическая Европа, допускающая
знание только для техники. «Оторванность от жизни»,
«бесполезность», «кабинетная ученость», «схоластика», «метафизика» и много
других укоров отливают из почетных вообще имен современные
идеологи мудрости, рассчитывавшие найти в философии средства
для устроения своих моральных, душевных, религиозных и других
дел. За идеологами — ряды «вершителей», действительно, не
оторванных, а крепко привязанных к жизни, — чиновники, инженеры,
депутаты, рясофоры. С сожалением приходится констатировать, что
не только псевдофилософия, но и сама философия сделали в этом
отношении странные и ничем не оправдываемые уступки. В
особенности два мнения пользуются распространением.
Одно из них заставляет думать, будто принципиально-общие
положения философии — только «первые» положения, от которых
философия когда-нибудь придет к «самой жизни». Эти положения —
общи и далеки от жизни, но путем выводов и дедукции мы перейдем
к самому конкретному и эмпирическому. Но кроме того, что в
основе этого утверждения — старая психологистическая ошибка, будто
«единичное», «индивидуальное» есть «минимальный вид», последний
пункт в процессе спецификации понятий, — кроме этого, такое
мнение — просто мистификация. Если бы даже было верно, что
философию можно изложить в виде дедуктивной системы, то все-таки
в корне ложным оставалось бы предположение, будто от идеальных
положений о «возможном» есть аналитический переход к
«действительному». Последнее, как это прекрасно выражали раньше, по
сравнению с «возможным» требует всегда некоторое complementum,
путем чистого анализа «возможного» никак не открываемое, если мы
сами наперед его туда не подложили. В конце концов, эта
мистификация — просто наивна: она проистекает из того, что многие до сих
пор убеждены, будто мы приходим к своим мыслям именно так, как
мы их излагаем, в порядке, например, строгой дедукции, или
«доказательства». В философии мы исходим из «данного» и можем рас-
Мудрость или разум?
515
сказать об эмпирически данном только то, что дано эмпирически,
и о сущном — то, что дано в сущности, и это — всего только
нелепость: думать, будто из знания сущного мы почерпнем также знание
случайного в его случайности. Такая же нелепость — думать, что из
мнения о случайном мы получим знание сущею в его сущности.
Другой еще взгляд кажется мне не менее странным. Философию
толкуют иногда как «искусство», как искусство жизни, но менее
изысканно это значит понимать философию именно как мудрость. Я не
отрицаю, что есть особое «искусство» философской жизни, и
философ — не только представитель знания, но может быть также
жизненным типом, характеризуемым особым укладом сознания: выше
уже мы встретились с ним. Но тот обманывает, кто говорит, и тот
обманывается, кто верит, будто философия как знание даст уроки
того, как должно жить: никаких жизненных рецептов, или средств
для спасения души, в ней не содержится. Дело воображают себе
иногда так, как будто в философии «две части»: одна — «теоретическая»,
далекая от «жизни», а другая — «практическая», «прикладная», —
решающая высшие задачи: о смысле и цели жизни и всего мира, о
добре и зле в нем, словом, о самой мудрости. А когда философия,
желая быть чистым знанием, заявляет, что этих вопросов она не
берется решать, так как это — не ее вопросы, или когда поверивший,
будто философия обязана разрешить ему эти вопросы, убедится, что
в ней нет нужных ему ответов, тогда начинают сердиться на самое
философию, находят ее «сухой и скучной» и упрекают в
игнорировании «наших насущных» проблем. Что касается «скучности», то что
же на это можно сказать. Изучает философия все, но философия
далеко не для всех составляет «все», и вне философии есть немало
вещей, которые могут «развлекать» и «веселить». Кто хочет быть
«веселым» и «добрым», пусть обращается к «жизни» и «мудрости», кто
хочет изучить «веселость» и «добро», должен перестать «веселиться»
и должен обратиться к психологии и истории, к самонаблюдению и
свидетельству ближних, а кто хочет знать, как выглядят эти
«предметы» в свете сознания, какое место в нем занимают, тот должен от
«самонаблюдения» отказаться, и обратиться к философской
рефлексии: на правильный вопрос он получит тут и правильный ответ.
А что касается «наших насущных» проблем, — они же: «проклятые
вопросы», — то философия, рассматривая «все», в собственном свете
и о них имеет, что сказать, именно она может изобразить, «описать»
516
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
соответствующие отношения и «уклады» сознания, но, как от нее
часто требуют, сказать: «откуда зло», «зачем жить», «как возник мир» и
прочее, она не может. Сами вопросы эти для нее, для философии,
как знания, суть праздные вопросы, или, — если слово «праздный»
тут неясно, — можно еще сказать: суть реальные вопросы, с ними-то
и нужно адресоваться к псевдофилософии и мудрости. Сверх того,
нужно понять, что вообще лишено смысла упрекать философию
в том, что она не решает, не берется решать и не в состоянии
решить вопросы, которые суть наши собственные, имрека, а не ее
вопросы. Ждать, что философия за нас станет давать ответы на наши
вопросы: что мне делать, как мне жить и т. п., значит уподобиться
тому школьнику, который, не выучив урока, кладет книгу под
подушку и ждет, что наутро у него в голове появятся нужные знания.
Свои вопросы каждый лично для себя и должен решать: ждать, что
их за нас кто-то и где-то разрешит, — будет ли то Кант, Ницше,
Магомет, приходской батюшка, или еще кто, — все равно, есть
величайшее бесстыдство в обнаружении своей восточной лени. Но, вообще
говоря, мы слишком поспешны в наименовании наших вопросов и
сомнений философскими. Нужно стать «философом» и,
следовательно, уйти от своих проблем, «умереть», чтобы иметь право именовать
свои вопросы философскими.
XIX
Но, как понятно, в этом-то и заключается вся трудность
вопроса: «как стать философом?». Во всяком случае, не путем «выводов» и
«приложения» найденных другими принципов. Правильная
философская постановка вопроса гласит, однако, даже не «как стать
философом», а «что такое философ» и «как становятся им», — и это,
действительно, одна из тем философии. Несомненно, и нашему
обычному сознанию преподносится некоторый образ «философа»,
а в истории философии мы встречаем попытки определить его и
в его сущных чертах. У Платона, наряду с указанным выше
изображением философа как «влюбленного», есть другое, мы скажем
теперь «педагогическое», изображение его, но, разумеется, нисколько
не противоречащее первому, а скорее его предваряющее: философ
устремляет свою мысль на истинно-сущее, его мало трогают
мелочные и личные заботы, он созерцает вечное, логически
упорядоченное и, насколько возможно, сам подражает и уподобляется ему. Со-
Мудрость или разум?
517
образно этому мы представляем себе педагогическое значение
философии складывающимся из двух моментов: момента «очищения»
и момента «вдохновения». Как мы уже знаем, диалектика, как такая, в
особенности служит первому из этих моментов. Она «приучает» нас
«очищать» свои высказывания от предвзятых теорий и «мнений», от
«доксософии» (по «Софисту»), от уверенности в том, что мы знаем
там, где мы не знаем; это есть постоянная и методическая проверка
наших понятий. Больше этого мы сделать не можем, но и не
нужно: очищенному от предвзятостей, чистому взору истина предстоит
(«налична» ему) в своей первичной и непосредственной данности.
Жизнь в самой философии, поэтому, постоянное обращение к
«философскому», внимание, на него направленное, постоянная
«установка» сознания на него, — вот что создает само философское
сознание, философа. Это своеобразное «упражнение» — аскезис — в делах
философских не только приучает свободнее и прямее разрешать
философские собственно вопросы, но также своеобразно префор-
мирует все сознание человека, создает для него sui generis
«философский уклад сознания». Человек начинает жить в нем так же
«естественно», как homo civilis живет в своем «укладе», homo religiosus — в
своем и т. д. Он становится естественным homo philosophus, он
«естественно» ко всему подходит «с точки зрения» сущного,
«философского», sub specie aetemitatis, — он становится философом не
только в философии, но и в жизни. Таков единственно путь
философской «аскетики» — путь от «теоретических», «оторванных от жизни»,
принципов к самой жизни. Она не решает за нас наших вопросов,
но она нас преображает. Философия требует личного
самоотречения, но не потому, что ей нужен человек, а потому, что истина не
может быть личной. Нечего бояться, поэтому, что философия
отнимет личное «дело» и личную «жизнь». Не человек нужен философии,
а философия нужна человеку, и он должен отдать себя ей, —
только через это он может утвердить собственные права человеческой
единственности: философия возвратит ему отданное очищенным и
просветленным. Преображенный человек, — «философ», — есть,
таким образом, живая связь между истиной и делом: он постигает
единую истину, но осуществляет свое единственное дело.
И в этом — педагогическое значение философии, а не в
«выводах» и не в том, что она может решить или «помочь» (!) нам решить
свои вопросы о «смысле жизни» и о смысле всякой бессмысли-
518
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
цы. Морали и мудрости такой «тип человека» может не нравиться,
но философия мало этим задевается, так как ее забота лишь в том,
чтобы знать, таково или не таково философское сознание. И даже
когда философия делает шаг дальше, — свой последний шаг, — и
открывает, что сама идея «философа» только «знак», «смысл» которого,
разумное основание которого в идее человечности, — humanitas, —
она и здесь только устанавливает и списывает, а не предписывает, не
дает «заповедей», не проповедует и не оценивает: худо ли это или
хорошо, важно или не важно, почетно или не почетно, она говорит
только, что это так есть. И не только в этом «онтическом»
характере, мне кажется, обнаруживается отличительная черта европейской
философии по сравнению с мудростью Востока, в этом ее первом
слове, в ее альфе, но и особенно в ее последнем слове, в ее омеге:
человечности, или в словесно-рщмном облике последней: в ее
язычестве. Это есть последнее слово европейской философии, потому
что — в нем последнее «разумное основание», и, следовательно,
конечное оправдание: мир должен быть очеловечен...
Напротив, для Востока: «как оправдается человек перед Богом?»
(Иов). — Мудрость, разумеется, также есть одна из тем, — хотя и
занимающих скромное место, — философии. Но здесь, имея в виду
исключительно педагогический вопрос, я ограничусь лишь
некоторыми педагогическими же замечаниями. Мудрость есть переживание
морального порядка и потому — некоторая «добродетель». Именно
как такая она выступает иногда в роли регулятива, прежде всего и
по существу практического, а затем и критерия. Как регулятив, она
приобретает quasi-теоретическое значение, значение «разума» в
вульгарном смысле этого слова, т. е. всегда с приправой
практического же, — (например, «он поступает разумно», «разумный образ
жизни» и т. п.). «Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и
удаление от зла — разум» (Иов). «Мудрость» не вполне тожественна
«здравому смыслу» только потому, что она его утончение:
квинтэссенция здравого смысла. Мудрость не понимает, что может быть
познание ради него самого, — само познание должно быть морально
оправдано и должно непременно претворяться в практику жизни.
Познание «первого сорта» есть познание морального долга,
различение добра и зла, проникновение в тайны Промысла и т. д., всякое же
не-практическое знание есть извращенность и глупость. Мудрость
дает заповеди, предвещает, предостерегает, поощряет. «Она — одна,
Мудрость или разум?
519
но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя
из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и
пророков; ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью...
Она быстро распространяется от одного конца до другого и все
устрояет на пользу... она все знает и разумеет, и мудро будет
руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе...» (Соломон).
Мудрость не может быть, подобно знанию, доступна всем, она — для
избранных: «Премудрость соответствует имени своему, и немногим
открывается» (Иис. Сир.). Поэтому мудрость резонирует и
отличается своеобразным практическим скептицизмом: «Человек не может
постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек
ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого; и если
бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть
этого» (Экклезиаст). «Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц
небесных утаена» (Иов). Тем не менее сама мудрость судит
безошибочно, и против нее нет и не может быть возражений: истина
может поколебаться и измениться, мудрость — никогда. Мудрость есть
gratia gratis data: «Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий
на Престоле Своем, Господь» и «Всякая премудрость — от Господа, и
с Ним пребывает во век» (Иис. Сир.); «Волю же Твою кто познал бы,
если бы Ты не даровал премудрости и ниспослал свыше святого
Твоего Духа?» (Соломон). Мудрость, таким образом, не только лишает
смысла всякую самодеятельность и личный почин, она в самом
зародыше убивает интерес к исследованию «сущего», так как до всяких
вопросов она уже дает ответ самого Иеговы: «Я есмь Сущий». И пред
лицом Иеговы лицо живого человека — ничтожество; проблема
каждого из нас заменяется безличным вопрошанием: «Что есть человек
и что польза его? что благо его и что зло его?» (Иис. Сир.),
вопрошанием, которое в своем тоне уже содержит готовый ответ: ничтожная
малость. — Таков — Восток.
Мудрость всегда поучает. Поэтому она органически связана не
только с моралью и практицизмом, но также с просветительством.
Вся история христианства есть история просветительства.
Европа также имеет свою мудрость, и эта последняя в просветительстве
сказывается наиболее ярко и оригинально, тогда как мораль
Европы всецело восточного и христианского происховдения. Такими
же оригинальными плодами чисто европейской мудрости являются
еще государство и техника. Но, может быть, самым безвкусным, —
520
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
по безвкусию равным разве только так называемой теософии, —
является обнаруживающееся в связи с этим стремление подчинить
жизнь и культуру личности научным отвлеченным теориям.
Принимая во внимание все это содержание мудрости в
восточноевропейской культуре Европы и всего мира, мы не можем не признать в нем
исключительной и притом совершенно реальной силы. Удивительно
только то, что она до сих пор не уничтожила и не сокрушила своих
исконных врагов: языческой человечности и чистого философского
знания. Может быть, причина этого в et мудром решении: побеждая,
обращать своих врагов в рабство, заставить их служить себе, отняв у
них даже их собственное природное имя. Так «человечность»
переименовывается в «Ипостась», а «философия» — в «любовь к
мудрости». Библейская «хохма», как можно видеть из приведенных выше
цитат, есть, действительно, «мудрость», но «соф1а» не есть «мудрость»,
и «софос» — не «мудрец». Формально «соф1а» есть названная уже
мною perfectio, a по существу «софос» — тот, кто смыслит в том, чем
он занят; «софос» может быть и плотник, и игрок на флейте, и поэт,
и мыслитель. Вот подлинно европейская идея софт — мастерство
в том, за что берешься, и это — подлинно европейская добродетель.
Восточная лень породила мудрость, предрешающую все, вплоть до
личных забот и потребностей; европейский досуг, — схоле, —
породил философию, любовь к мастерству даже в разрешении личных
сомнений и беспокойств.
XX
Итак, восточное влияние на Европу сделало из добродетели
источник знания, а из познавательного мастерства оно извлекает
мораль. Против этого должно возмущаться неизвращенное
европейское чутье. Вот почему уместно в связи с «философией» поднять
вопрос о «педагогике». Как философская диалектика очищает «знание»
от «мнений», так философская педагогика имеет задачей также
«очищать» личные пути жизни от обязательных правил, заповедей,
авторитетов, от убеждения, что здесь кто-то что-то знает и может за нас
разрешить наши волнения, словом, отлепи властвовать над собою.
Философия, как знание, после диалектического очищения
становится чистым положительным учением, единым и внутренне
однородным; педагогика есть всецело отрицательное учение, она должна
составляться всегда вновь и вновь, и должна, таким образом, в точ-
Мудрость или разум?
521
ности отражать отрицательный характер самого «искусства жизни».
Нельзя преодолевать мораль моралью, а потому единственное, что
остается в педагогике постоянным, есть голое отрицание.
Педагогика не может предъявлять к человеку иного требования, как то,
чтобы он отверг для себя, для своего «дела», все пути уже испытанные.
Насколько, следовательно, в познании — традиция и испытанный
путь, настолько в осуществлении «человеческого» — свобода и
произвол. Человек не нуждается в оправдании, так как единственное
оправдание всего может быть только «человечность». Она должна
быть осуществляема всеми человеческими путями и средствами. А в
оправдании, т. е. именно в очеловечении, нуждается мир, Бог, но не
человек.
Прямой путь оправдания того, что ему подлежит, заключается в
опровержении всех учений о нем, поскольку это — учения о
происхождении и реальности его, оправдываемого. Таким образом,
выходит, что философия, как знание, самим существованием и делом
своим опровергает всякую мораль, всякую космогонию и теогонию,
всякий Восток, и тем самым прививает языческий принцип
отрицания — принцип человечности. Это — не цель философии, она
об этом не заботится и не думает, не для этого существует, но само
собою так выходит, что, где — чистая философия, там — чистая
человечность. Философия, как мы видели, дает своего рода аскезис, —
один из результатов его, что человек перестает иметь нувду в
авторитете, — лица ли, или отвлеченной нормы, — и абсолютно
свободен в выборе своего жизненного образца или «идеала»; даже
подражая, человек сохраняет в себе полную свободу творчества,
углубления, преобразования и преодоления своих «образцов».
Это мнение требует некоторого разъяснения, все в сфере той
же педагогики. Дело в том, что источником самих педагогических
стремлений каждого, как имрека, является то отвращение к себе,
которое так естественно присуще каждому. Любовь к другим, высокая
их оценка не могут погасить в человеке его отвращения к самому
себе, хоть и порождают желание «быть достойным» того другого, что
и диктует конкретные, хотя в конце концов немощные идеалы
совершенствования, — идеалы подражания. Более радикальным
средством для достижения этой цели оказывается «уход» или от себя в
«общество», как служение так называемому «общественному благу»,
или — в себя, прочь от «общества». Уйти вовсе из «общества», однако,
522
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
человек не может, он всегда носит «общество» с собою: в уединение
или в одиночество нельзя не унести своего прошлого, своей
истории. Поэтому-то реально осуществляется человек лишь в «обществе».
Единственный абсолютный «уход» — уход в другой мир, мир
идеального. Тут философская аскетика, как мы видели, может сыграть роль
и в жизни каждого. Но ее смысл в том, что она освободит человека
от груза «принятого», а сделавшись более свободным, — в идее
абсолютно свободным, — он должен будет затратить еще больше сил
и творчества на «искусство жизни»: это — приманка не для многих;
другие всегда предпочтут, чтобы кто-нибудь писал за них их
дневник, чтобы была мораль...
Издавна указанный «уход» рассматривался как «умирание». В этом
есть какая-то увлекательность, ибо это — мечта о средстве погасить
отвращение к себе. Но как неразумно, антирационалистически
толкуется эта мечта, как «борьба с плотью». Плотиновский стыд тела —
только образ. Именно тела-то и не стыдно, — это — выдумка
Востока, — а «души» своей бывает стыдно. «Недовольный человек» и
«довольная свинья», «недовольный Сократ» и «довольный дурак», — как
распределяет это Милль, — души, а не тела. Но умирание души при
конкретном идеале «Человека» есть nonsens, не спасение, а довольно
грубый самообман, хотя и нужный для многих до последней
крайности... Язычество, как вера в тварь, а не в Творца, также знает
конкретные идеалы, — не один для всех и каждого, не Человек, — много
у него идеалов, много «помазанников»: Фемистокл и Спиноза, Брут
и Дж. Бруно, Перикл и Галилей, — и без конца. Этого ему мало, оно
не только окутывает эти имена «идеальными» вымыслами, но
создает чистые фантазии и ставит их как конкретные идеалы: тут
Прометеи, Тезеи, Ромулы, Ахиллы и Патроклы, Манфреды, Гамлеты, мужи,
жены и дети. Но вера в тварь не признает «умирания» с конкретным
идеалом. Идея «человечности» — настоящее оружие самоубийства.
Спасение — по ту сторону данного не в восточном смысле, против
которого были выше приведены «тезисы» энгадинского
самоубийцы, а в смысле отрицания испытанного, так как только
абсолютное до конца отрицание может довести до абсолютного очищения
от «бывших» идеалов и до спонтанной «само собою» манифестации
«человечности» из человека, когда «каждый» уже не списывает свой
«дневник», а пишет, — так что, вопреки блаженному Августину,
«Христос умер понапрасну»...274
Мудрость или разум?
523
Эту свою мысль я в особенности подчеркиваю: только когда
человек отвергнет все другими испытанные пути, из него само
собою проистечет его «естественная человечность», которая
двинет его, его собственным путем. Никто не знает, как долго и откуда
в нем накопляется энергия, которая вдруг производит
оглушительный взрыв. Мы живем этими взрывами, — тут — истинное начало
«нравственного», — и где не расходуется накопившееся в мелких
вспышках, там «взрывы» поражают наше воображение. Пример —
уход Толстого275. Но внутренне еще поразительнее, чем эти
актуальные формы, формы потенциального сосредоточения, пока еще
«терпеть» можно. Тут — настоящие «конфликты», а актуализация — часто
момент второстепенный, «разрешение». Собственно в этой
потенциальности человек «очеловечивается»; актуализация — нередко лишь
новый «ложный» шаг, новый повод для «не» по критерию педагогики.
Все это — личное мнение, готовое услышать свое «не» и занять
свое место в области «менее вероятного», но нестерпима
ограниченность положительной морали и нестерпимы самомнение и
самодовольство теистического Востока, в особенности в его новейших
утверждениях. «Все хорошее — у нас», — заявляет прозванный ими
«философом» апологет и враг человеческой «страсти».
Действительно, язычество во всем было страстно, поэтому и философию его
можно принимать только страстно, — пусть она «оторвана от
жизни», но не оторвана от жизни дилемма: мудрость и Восток или
философия и человечность? Иерусалим или Афины?..
Москва. 1911, январь
ЯВЛЕНИЕ И СМЫСЛ.
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК ОСНОВНАЯ НАУКА
И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ
Herrn Professor Edmund Husserl
in herzlicher Verehrung zugeeignet
ПРЕДИСЛОВИЕ
Первоначально у автора была цель ознакомить русского
читателя с идеями феноменологии Гуссерля276. Но уже с самого начала его
неотступно преследовала музыка Вагнера, — все время он слышал
«Тангейзера». Однако и теперь Гуссерль выделен всюду
специальными указаниями и ссылками.
Поворот в философии, созданный Гуссерлем,
остается.очевидным. Но едва ли удовлетворительны в смысле ясности соблазны,
преследовавшие автора, — иначе их и не было бы. Однако на первом
плане остается феноменология.
Москва, 15 мая 1914 г.
Вместо введения
ИДЕЯ ОСНОВНОЙ НАУКИ'
Здесь, в момент, когда наука и философия объединяются для
одного общего дела, мне показалось уместным обратить ваше
внимание на идею того основания, которое могло бы быть почвой для
нашей общей работы. Я говорю только об идее основной науки, а не
о ней самой, так как она все еще находится в процессе конституиро-
вания, становления.
Известно, что термин философия применяется в двух разных по
объему значениях: им обозначают все наше знание или только
некоторое специфическое определенное знание. Первое понимание
было свойственно преимущественно античному миру, второе —
современному. И второе происходит из первого через его ограниче-
*Речь, произнесенная автором при открытии Московского Общества по
изучению научно-философских вопросов 19Н г. 26 января. Записана по
памяти и значительно спустя после произнесения. Автор настаивает только на
тождестве и порядке мыслей.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 525
ние в отожествлении философии с метафизикой. Это случайное
наименование: Мета та сргкпка277, однако, имеет свое строго
определенное содержание, — это, прежде всего, область принципов, начал,
исходных пунктов, оснований. Когда вскрывается, таким образом,
действительное содержание философии, мы видим, что на нем
объединяется и древний мир, и наш во всех своих многообразных
направлениях и течениях.
Только своеобразие философского метода, вытекающее из
сущности самой философии, вечные в ней да и нет, вечный диалог,
часто переходящий в сложную драму с многими действующими
лицами, мешает иногда разглядеть в истории философской
мысли ее единство, преемственность, философскую традицию. Между
тем именно в искании основ она всегда была и остается. Научные
взгляды, как и всякое миропонимание вообще, должны опираться
на философский фундамент, ибо нет иного знания об основаниях.
Так было в античном мире, такова была роль философии, когда она
как ancilla держала на себе порядок и блюла чистоту парадных
покоев теологии, так осталось и в новое время. Идея Mathesis universalis
XVII в., границы познания Локка, география ума Юма,
Трансцендентальная философия, Наукоучение, Основные начала Спенсера и т. д.,
и т. д., — все это, невзирая на различие содержаний, образцы и
примеры попыток осуществления одной философской идеи.
Подойдем с другой стороны к определениям миропонимания, и
мы встретим его характеристики: математические, механические,
биологические, исторические, социологические и т. п. Что же? —
Безуспешная принципиально, безнадежная и узкая попытка узурпации
философских прав, — прежде всего узкая, потому что здесь каждый
из своего угла, даже закоулка, тщится по близкому для него
образцу охватить все, истолковать целое по части, понять вселенную по
образу мыслей в чувств своей области, своей провинции. Поистине
провинциальные мировоззрения! Но беспокойный дух
философского творчества витает и над этими созданиями человеческого ума, в
них обнаруживается, как свойственное ему стремление, как его идея!
Но отчего же сама философия не дала философского общего
взгляда на мир, не указала единого основания? Здесь не место
входить в рассмотрение причины этого, но вот факт: наше время
сознало и формулировало это как свою задачу, оно доросло до нее,
и мы, наконец, подошли к моменту, когда уже «нащупывается» идея
526
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
основания, о которой у нас идет речь. Мы можем, по крайней мере,
наметить те требования, которым должна удовлетворять философия
как «основная наука».
Мы ищем в ней начал, оснований, истоков и хотим, чтобы это
были последние основания, чтобы это были абсолютные начала!
Всякое знание должно покоиться уже на этих началах и это знание
есть прежде всего знание научное. Научное знание мы берем как
знание теоретическое, т. е. объяснительное, устанавливающее
законы, и в этом смысле всегда обусловленное, гипотетическое,
относительное и эмпирическое. Конечно, и знание начал также можно
назвать теоретическим знанием, мало того, мы его назовем чистим
теоретическим, однако, в ином смысле, чем знание выводное и
обоснованное. Оно чистое теоретическое знание только потому, что
в нем нет места для каких бы то ни было «практических» санкций
и утверждений, но оно не теоретично в том смысле, что свободно
от каких бы то ни было «доказательств», «обоснований» и
«построений». Будучи не теоретическим, оно принципиально автономно и
свободно от «практических приматов», тогда как научное
теоретическое знание неизбежно прагматично. Истина современного
прагматизма не в том, что так должно быть, а в том, что так есть:
научное знание по существу есть знание прагматическое и даже
техническое, знание pour agir!278 Свободное, чистое, абсолютное
философское знание начал должно быть поэтому чистым, абсолютным,
свободным от всякой теории, в недрах своих таящей червь
прагматизма, и так как это знание именно начал, то оно должно быть
знанием до-теоретическим. Таково первое и главное требование, какое
мы предъявляем к основному философскому знанию.
Но откуда же оно черпается, где его «источник»?
До-теоретическому знанию науки, до-научному знанию, мы противополагаем знание
обыденное. Не отсюда ли почерпаются и философские начала? Если
угодно, да! Ибо это есть знание жизненное, почерпнутое из целого,
еще не ограниченного ни рамками теорий, ни предписаниями
рассудочного раздробления. He-философский успех философии
Бергсона — знак, что мы подошли к новому роднику, или, вернее,
раскапываем старый, заваленный в веках мусором, родник живого знания.
Однако родник должен быть не только открыт, но он должен быть
также чист, — ведь обыденные теории и деяния не менее теории
и деяния, чем научные! Бергсон сокрушает старые кумиры, — и тут
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 527
уже находит свое удовлетворение давно назревшая потребность. Но
нужно и другое, недостаток чего у Бергсона и дал мне повод
квалифицировать его успех, как не-философский: AOIOIПОУITOL
Итак, ограниченности интеллектуального противостоит
беспорядок интуитивного, условной незыблемости понятий —
безусловная случайность потока жизни. Но всмотритесь в эту безусловную
и безудержную случайность, и вы увидите, что все ее беспокойство
от того, что она требует, ищет себе господина, как тень, она
преследует его: безусловную необходимость! Меняющееся, преходящее,
текущее, всеми своими разнообразными голосами призывает нас
признать его собственную необходимость быть таким, — и этого
одного довольно, чтобы попытаться проникнуть взором сквозь него
и увидеть там ту сущность, что составляет и его собственную
необходимую основу, исход, принцип и начало. Через преходящее бытие
чувственного взора проникаем мы умственным оком к бытию же, но
вечному и непреходящему, бытию идеальному!
Но не прав ли Бергсон279, что тут как раз и ускользают от нас жизнь
и движение? Не прав ли он, что нашему умственному взору присуща
гипнотизирующая и мертвящая сила глаз ядовитой змеи,
приковывающая свою жертву к месту и лишающая ее способности движения и
борьбы? Но на это я спрошу: как же проникает этот зачаровывающий
взор к жизненности и полноте собственного философского
беспокойства и пафоса Бергсона? Подлинно ли мы глазом только видим и
умом только охватываем, душим и убиваем в своих объятиях, глухие
как к стонам и проклятиям, так и к радости? Но если мы не только
видим и охватываем, но и разумеем видимое и охватываемое, то надо
же в положительном слове о философии к чувственности и
рассудку привлечь к участию также разум. Или современную философию
разум тешит только иллюзиями и кажущимся?
Для раскрытия моей мысли я прибегну к пояснению,
методологическая небезупречность которого для меня ясна, но прошу иметь
в виду, что я не анализирую, а иллюстрирую. Я возьму один
определенный вид и форму бытия: бытие социальное. Как к нему
прийти? За оболочкой слов и логических выражений, закрывающих нам
предметный смысл, мы снимаем другой покров
объективированного знака, и только там улавливаем некоторую подлинную
интимность и в ней полноту бытия. И вот оказывается, что мы — не
заключенные одиночных тюрем, как уверяли нас еще недавно (Зигварт),
528
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
а в непосредственном единении уразумения мы открываем
подлинное единство смысла и конкретную целостность проявившегося в
знаке, как предмете.
Это — правда, что ни чувственный опыт, ни рассудок, ни опыт в
оковах рассудка нам жизненного и полного не дают. Но сквозь
пестроту чувственной данности, сквозь порядок интеллектуальной
интуиции, пробиваемся мы к живой душе всего сущего, ухватывая ее в
своеобразной, — позволю себе назвать это — интеллигибельной, —
интуиции, обнажающей не только слова и понятия, но самые вещи,
и дающей уразуметь подлинное в его подлинности, цельное в его
цельности, и полное в его полноте.
Таким представляется мне путь основной философской
науки, удовлетворяющей главному требованию, выставленному нами,
сообразно намечающейся идее ее. Она должна быть не только до-
теоретической и чистой по своей задаче, но также полной и
конкретной по выполнению ее, и разумной по своему пути.
Необходимость такого основания живо чувствуется всеми,
прежде всего, для самой философии, низвергшей столько кумиров,
переменившей столько вер. Но не менее необходимо оно для
науки, где математизм сменяется механицизмом, механицизм —
биологизмом и т. д. и т. д., где путаются пределы и грани, где также для
каждого назревает потребность знать, наконец, свое место. Да и не
только место, но самую почву, на которой ведется работа.
Математик докапывается до своего грунта и в результате блестящих
открытий и решения сложнейших задач стоит в недоумении перед
собственной основой, также физик, физиолог, историк. Что есть
пространство, время, число, движение, сила, жизнь, смерть, душа,
общество? Не решать задачи физика или историка призвана
философская основная наука, а указать ему его собственные корни,
источник, начала, подвести всеобщий фундамент под всю громаду
современного знания. Мало того, она должна указать не только,
как есть все сущее и каждую форму сущего бытия, должна указать
каждому не только его место и назначение, но вскрыть единый
смысл и единую интимную идею за всем многообразием
проявлений и порывов творческого духа в его полном и действительном
самоосуществлении.
Эта задача — задача основной философской науки, и только ее, и
это есть задача, как я указал, нашего времени. Но к этому констатиро-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 529
ванию факта мне хочется добавить и характеристику моего личного
отношения к нему, — мне кажется, что я не высказался бы вполне,
если бы не мог здесь выразить и своего субъективного отношения
к названному факту. Задача нашего времени, — теперь добавлю, —
и лучшего из когда-либо бывших! И невольно возникает вопрос: не
вправе ли мы повторить слова лучшего представителя другого
счастливого времени: науки процветают, искусства развиваются, весело
жить!? Нет? Падают теории, сокрушаются мировоззрения, рухнут
догматы и колеблются престолы и алтари... а все-таки весело жить!..
Безнадежное время, когда было провозглашено «банкротство
науки», изжито, материалистическая эра, когда в философии
воцарились «нищие духом», завершена. Во всех областях научного знания
и в самой философии мы или присутствуем при радикальной ломке
старого и сооружении нового, или находимся накануне его. Период
сомнения, декаданса, болезненного бессилия, апатии и квиетизма —
за нами! Неслыханные потрясения во всех областях
естественнонаучного знания — только следствие могучего роста и обнаружения
новых сил и новой жизни; увлекательнейшие порывы и все более
проясняющийся свет нашего прошлого во всех областях
гуманитарных наук свидетельствуют о том же; проникновенное
устремление философского духа, уводящее в самые затаенные глубины его, в
философии, в его собственном самосознании открывает ту же черту
нашего времени! И не накануне великой эпохи мы стоим, а уже в
ней, в ее неудержимом стремлении!
И сегодня мы присутствуем при знаменательном факте
актуального выражения духа нашего времени! В одной цели мы хотим
объединить свои разнородные устремления, и одна идея единит наши
разнообразные пути; дух нашего времени ради себя самого сводит
нас здесь. Как ни скромны наши собственные цели, но нас зовет к
их осуществлению тот же дух истории, который ведет за собой и все
современное культурное человечество.
ЯВЛЕНИЕ И СМЫСЛ
... Ώστε τούτψ γε τψ λόγψ μη πίστευε
τψ πάντα τά έναντιώτατα εν ποιοΰται..
Вступление
Одним из существенных признаков негативной философии
является отрицание ею единства в развитии философской мысли и
530
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
отрицание наличности определенного состава ее проблем, а, тем
более, решения их. Поэтому негативная философия всегда
выступает с замыслами и планами не только реформаторскими, но и
«революционными». Этот признак присущ негативной философии во
всех ее видах, — от простого нигилизма, и через скептицизм и
релятивизм, до позитивизма включительно. Напротив, положительная
философия в самом существе своем носит уважение к философской
традиции и видит в прошлом философского развития свои задачи и
непрерывность подготовки их, положительная философия, поэтому,
всегда есть философия с положительными задачами. Задача
познания сущего во всех его формах и видах никогда в ней не
подменялась другими задачами, — от Платона и до Лотце, через Декарта и
Лейбница, идет ее один прямой путь.
Нетрудно заметить, что и положительной философии
приходится иногда «отрицать» и критиковать, но это не меняет ее существа,
так как всякое ее отрицание, будучи направлено против
негативизма, тем самым приобретает характер утверждения. Поэтому
действительным ее врагом является не прямой нигилизм, а его
софистически утонченные модификации, выступающие в форме ограничения
и вообще привативизма, — всякого рода натурализм, психологизм,
историзм, гносеологизм и т. п., где негативизм маскируется в
положительную форму, но раскрывается в своем отрицательном
значении, как только мы замечаем, что во всяком утверждения такого
рода, как провозглашение задачей философии «определить пределы
разума или познания, «свести все к одному», что уже
рассматривается какой-нибудь специальной наукой и т. п., — что во всех этих
утверждениях есть privatio, a следовательно, и связанная с ним
negatio. Положительная философия, поэтому, должна обладать, — и
исторически она всегда шла этим путем, — такой основой, в
которой путем утверждения и оправдания всего во всех его формах и
видах предотвращались бы не только эти софистические попытки
подмены общего частным, но и всякая Meiaßacnc sic <Ш,о yévoç
Не нужно думать, что вследствие этого негативная
философия должна быть квалифицирована, как сплошная «ошибка» или
сплошное недоразумение в философии, — нельзя отрицать
ценности ее критики, а, тем более, ее вопросов, и следует тщательно
отличать в ней догматическое отрицание от простых вопросов,
на которые она, может быть, и не находит ответов, но ищет и ждет
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 531
их: есть принципиальная разница между сомнениями и исканиями,
«вопросами», например, Юма, и на все готовыми ответами. И
действительно, негативная философия сыграла в истории
немаловажную роль, обращая внимание философов в своей критике на новые
стороны и на новые виды сущего, и выдвигая новые о нем
вопросы и сомнения, — в этом смысле заслуги, например, Протагора,
Локка, Юма, Канта, суть действительные заслуги перед
философией. Таким образом, и критика, начавшаяся с Локка, и обостренная
до крайней степени Юмом, — но потом через Канта перешедшая
в привативизм «теории познания», — открыла новые проблемы и
новое поприще для положительной философии. Шотландская
философия могла с успехом оппонировать Юму, но, в свою очередь,
подпала под критику Канта как раз с такой стороны, что
обнаружила слабость, общую со своими противниками, — психологизм.
Этот исторический пример открывает нам другую сторону в
развитии философской мысли и является очень хорошей
иллюстрацией того, как философия, задаваясь положительными целями, тем
не менее может перейти в привативизм и засохнуть, как сохнет
ветвь на живом стволе философии. Подобные примеры учат опять-
таки, как должно строиться и собираться то основание философии,
о котором было упомянуто: в нем должно быть не только все, но и
каждое на своем месте.
Попытку этого поворота к творческому построению основ
философии, принимая уже во внимание те пробелы, которые отмечены
критикой негативизма XIX в., дает феноменология, как она
понимается Гуссерлем*. Еще не время, может быть, устанавливать ее
отношение не только к другим современным учениям, сходным по
задачам или по имени, как, например, учение Штумпфа280, с одной
стороны, или Мейнонга281, — с другой, но и исторически ей
предшествующим, хотя преемственная связь ее с Лотце282, Лейбницем и
Платоном так же очевидна, как и влияние негативной философии
в лице Локка, Юма и даже Милля. Однако исчерпывающее
выяснение роли этих влияний — все еще такой же открытый вопрос, как
* Logische Untersuchungen. Bd. I-II. Halle, 1900; Idem. Bd. I—II. Halle, 1913;
Philosophie als strenge Wissenschaft // Logos. 1910-1911. Bd. I. H. 3; Ideen zu einer
reinen Phänomenologie und phänom enoiogischen Philosophie // Jahrbuch für
Philosophie u. phänomenologische Forschung. B. 1.1913.
532
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
и вопрос о роли Больцано283 или Брентано. То, что мы ставим здесь
своей целью, имеет в виду уяснение роли самой феноменологии, и
при этом именно со стороны указанной ее задачи быть основной
философской наукой и, следовательно, продолжить работу и
традиции положительной философии. Другими словами, мы имеем в виду
проникнуть в самый смысл феноменологии, как он обнаруживается,
прежде всего, в ее постановках вопросов, и в меньшей уже степени
в ее решении их. Разумеется, где идет речь об отыскании смысла,
там идет речь о понимании и, следовательно, интерпретации, а при
тех трудностях, которые присущи феноменологии не только в силу
своеобразия ее вопросов, но и в силу самого существа их, эта
интерпретация может подвергнуться оспариванию и вообще упрекам в
неправильности самого понимания. Трудности здесь, действительно,
немалые, но мы поступим совершенно в духе самой феноменологии
и согласно ее собственным требованиям, если будем излагать то, что
сами видим в самом деле, видим, в феноменологии. Конечно, и при
этом интерпретация неизбежна, но где нет никакой интерпретации,
там нет никакого понимания.
Как результат интерпретации можно рассматривать, между
прочим, то, что здесь выдвигаются на первый план не столько
конечные выводы и результаты, к которым приходит феноменология,
сколько самый захват ею проблем, их постановка и формулировка.
Феноменология — не откровение, в ней нет истин «навеки данных»,
многое может быть исправлено, иное и вовсе отвергнуто*, но ее
заслуги должны быть оцениваемы, прежде всего, по тому, как она
приходит к своим результатам, и если путь ее — надежный путь, то и ее
место в развитии положительной философии определяется твердо.
Как бы ни показалась «субъективной» интерпретация
феноменологии в этой ее части, мы все же не сомневаемся, что ее дух и умение
ставить проблемы будут оттенены с достаточной ясностью. Большое
количество проблем и сравнительно малое количество их решений
может смутить только того, кто требует от философии вообще не
присущего ей, кто смотрит на философию, как на оракул,
требующий не работы, а послушливого вопрошания.
* Как справедливо отвечает Канту Гуссерль, в философии нет «королевского
пути»... Husserl, Ideen... S. 291.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 533
Мы, напротив, ценим самую постановку проблем, и поэтому,
чтобы еще больше оттенить именно эту сторону и показать, как
вырастают проблемы на почве основной философской науки, закончим
свое изложение указанием на еще новые проблемы, на наш взгляд,
непосредственно вытекающие из самих начал ее и ведущие ближе
к постоянно окружающей нас эмпирической жизни. Опять-таки это
еще не готовые результаты, это свидетельство в пользу
плодоносности почвы, на которую мы вступаем.
И метод, к которому мы прибегаем, может показаться спорным:
все как будто сосредоточивается вокруг одного только вопроса, но
было бы действительным сужением задач основной философской
науки, если бы осталось скрытым, как вяжутся и переплетаются с
этим вопросом, можно смело сказать, все проблемы философии, так
как речь идет о вопросе для нее фундаментальном. Тяжба
номинализма и реализма284 не только не разрешена в истории философии,
но всегда является новым побуждением к философским спорам, и
можно заметить, что всякая крупная эра в философии отмечается
ее формулировкой в новых формах и в новой инсценировке. Это —
стержень, вокруг которого можно расположить, нанизав на него
одно за другим, все звенья исторической философской мысли. И ни
для кого не тайна, что в наше время вновь этот вопрос требует
своего обсуждения, и это последнее является центром самого
напряженного и острого внимания, так как в нем сосредоточиваются самые
насущные потребности философии, ищущей положительных путей.
Проблема логического выражения интуиции в понятиях есть только
новое одеяние для этой вековечной проблемы, она естественно
вытекает из вопросов о методе основной науки, так как сама лежит в
основе всякой методологии. А раз поставленная, она уже само собою
влечет целый ряд новых и принципиальных проблем, идущих,
отчасти, в направлении ее собственного обобщения, а отчасти — в
направлении углубления и перехода от выражаемого к выражающему,
и, в конце концов, — к последнему источнику всего действительно-
разумного.
I. Интуиция опытная и идеальная
Итак, для философии одной из ее первых задач является вопрос
об основании, на котором можно было бы построить все здание
нашего знания, как знания философского, так и научного, как действи-
534
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
тельности, так и «идеального мира». «Философия по своей сущности
есть наука об истинных началах, об источниках, о «ριςώματαπάντων»*.
В самой философии, следовательно, необходимо позаботиться об
отыскании фундамента, «начал», — о таких началах и принципах по
своей идее и призвана говорить «первая» философия. Но в то время,
как исходным утверждением положительной философии было
признание того, что «основной» философской наукой должна быть
наука об основах всего существующего, следовательно, о самом бытии,
негативная философия относилась к этому основоположению
отрицательно, и в своем мнимо-утверждении, софизме, задачи «первой»
философии видела в изучении не познаваемого бытия, а
познающего субъекта, но опять-таки не в его бытии, как познающего
субъекта, а только в его познавательных формах. В этом собственно и есть
главный грех софистики и «теории познания», — психологизм есть
только частное выражение этого основного недостатка негативной
философии, и, очевидно, от него в его философском, указанном
смысле «теория познания» по существу освободиться не может, так
как он принадлежит к ее собственному существу.
Поэтому-то «теория познания», если она отожествляется с
теоретической философией вообще, неизбежно приводит или к
субъективистической метафизике или к прямому отрицанию философии как
познания действительно сущего. Для характеристики
положительной философии мы принимаем не раз высказывавшийся принцип,
нашедший свое самое яркое выражение, на наш взгляд, в формуле
Юркевича: «Для того, чтобы знать, нет нужды иметь знание о
самом знании»**.
* Husserl Ε. Philosophie als strenge Wissenschaft. S. 340.
** Юркевич П. Д. «Идея». С. 11. Впрочем, то же ср.: Спиноза: «пап opus est, ut
sciam, quod sciam me scire». — Tractatus de intellectus emendatione. Ed. Bruder,
Vol. II. P. 16-17. Хорошо у Тейхмюллера: «Auch die Erkenntnisslehre kann sich
ohne den Begriff des Seins nicht vollziehen, da die Erkenntniss selbst schon etwas
ist und Seiendes zum Gegenstande hat». — Die wirkliche und die scheinbare Welt.
Breslau, 1882. S. 3. Конечно, это — развитие мысли Лотце. Ср. его Grundzage der
Logik. Lpz., 1883. § 92. S. 90. Нечего уж говорить о Гегеле. Разумеется,
шеллинговская идея «тождества» относится сюда же, хотя здесь уже есть и нечто новое.
Своеобразное место в отношении к онтологии занимает у Лотце
феноменология. Grundzuge der Metaphisik. Lpz., 1883. Ср. также Class: Untersuchungen zur
Phänomenologie und Ontologie des menschlichen Geisies. Lpz., 1896
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 535
Необходимо отметить весьма важный момент в истории
философии, который, по крайней мере отчасти, объясняет и широкое
господство в современной философской мысли негативизма. Дело
в том, что положительная философия часто выражалась как в
решении, так и в постановке своих задач, если и не неправильно, то
во всяком случае неполно. Обращая все свое внимание на решение
проблемы бытия, с первых же своих шагов (Платон) она находит
различие между действительным и идеальным бытием, равно как
и между различными видами каждой из этих форм бытия, но она
оказывается неполной в том смысле, что она не обратила должного
внимания на бытие самого познающего субъекта. Именно этот
пробел и использовала с таким успехом негативная философия. Но этот
пробел превращался нередко прямо в недостаток, в ошибку, когда
положительная философия пыталась представить бытие
познающего субъекта как эмпирическое действительное бытие, потому что
таким образом в положительную философию в форме, по большей
части, психологизма, но и натурализма вообще, проникал тот самый
недостаток, — только с другим знаком, — который лежит в основе
«теории познания». И именно Кант тем и занял свое крупное место
в истории философии, что он усматривал, иногда даже кажется, что
ясно видел, особое, не-эмпирическое и не-действительное бытие
субъекта познания.
Развитие положительной философии, таким образом, стало
возможно в двояком направлении: заполнение указанного пробела и
дальнейшая разработка завещанного веками, а вместе с тем
освобождение от софизма через признание одним из вопросов
«первой» философии вопроса о бытии познающего разума; дальнейший
путь — через установление отношения этого вида бытия к другим
видам и формам его и, таким образом, возвращение к
положительной философии.
Именно этим путем, сколько я понимаю, и идет Гуссерль, его
феноменология и должна быть той «первой» философией, без
которой не мыслима ни философия, ни наука вообще, она должна
быть «основной наукой философии» (die Grundwissenschaft der
Philosophie)*.
* Ideen... S. l.Cp.S. 121.
536
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕГГ
Окружающий нас мир явлений при нашем «естественном»
отношении к нему представляет собой мир опыта и науки,
направляющиеся на изучение его/имеют дело с бытием, которое мы
можем характеризовать, как бытие действительное, реальное, «бытие в
мире»*. Эти науки суть науки эмпирические, об опыте или о «фактах»
реального мира, всегда индивидуальных, т. е. относящихся к
определенному пространству и времени, и потому, фактах «случайных». Эта
«случайность» фактов означает здесь то, что они, будучи
обнаружены в определенном месте и времени, не заключают в себе по
существу ничего такого, что исключало бы возможность их во всяком
другом месте и времени, при всякой другой обстановке, и т. п. Так
называемая закономерность или законность их сама выражает только
фактическое правило, которое могло бы при иных обстоятельствах
быть совершенно иным. Однако уже из самого смысла, из
сущности такой случайности, вытекает ее соотносительность с некоторой
также существенной необходимостью, противостоящей простым
фактическим правилам эмпирической действительности. Таким
образом, случайности фактов, «бытия в мире», противостоит нечто, что
характеризуется как необходимость сущности, как «бытие в идее», и
мы можем соответственно говорить о науках идеальных,
эйдетических, или науках о сущностях в противоположность эмпирическим
наукам или наукам о фактах. Чистые идеальные науки — «чисты» от
всякого опыта, как опыта, одинаково как в смысле своего предмета,
так и в смысле его обоснования, они предполагают другое
отношение к окружающему нас миру явлений, не «естественное», а
идеальное. Как мы увидим ниже, это не есть уничтожение или отрицание
действительности, но это есть известное устремление нашего зрения,
новая «установка» нашего теоретического отношения, благодаря
которой мы получаем возможность непосредственно переходить от
«естественного» бытия в мире к бытию иного порядка и иных
сущностей и, таким образом, говорить, наряду с науками
эмпирическими, о науках идеальных.
Принимая во внимание это разделение случайного и
необходимого, эмпирического и эйдетического, идеального, — вообще
«факта» и «сущности», — мы должны признать, что феноменология
может быть только наукой о сущностях, и этим уже гарантируется ей
* Ideen.. S. 7 f.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 537
тот абсолютный характер, без которого «основная наука» вообще
немыслима. Сущность вообще, и та сущность, на которую
направляется изучение феноменологии, не есть нечто получаемое путем
гипотез и выводов, а есть «такая же» интуиция, усмотрение нашего
разума, как и индивидуальная интуиция действительного, — такая
же по непосредственной данности, но, разумеется, иная по
данному интуиции. «Все дело заключается в том, чтобы мы видели и
вполне усвоили, что точно так же непосредственно, как можно слышать
тон, можно интуитивно видеть некоторую «сущность», сущность
«тон», сущность «вещь в явлении», сущность «видимая вещь»,
сущность «образное представление», сущность «суждение» или «воля»
и т. д., — видеть и в интуитивном видении высказывать эссенциаль-
ные (Wesensurteile) суждения»*. Гуссерль не останавливается на
общем определении того, что изучает феноменология в качестве
«сущностей», но идет дальше в определении бытия его и характеризует
его вообще как «интенциональность». Таким образом, открывается
широкое поле для исследования как самого этого бытия, так и всех
других его форм и видов как в их взаимном коррелятивном
отношении, так и в их коррелятивном отношении к интенциональному
бытию. Но особое преимущество Гуссерля, — и это именно его
решительно отличает от негативной и софистической философии, —
что предмет феноменологии он получает не путем отрицания
действительности, а также не путем абстрактного извлечения его
из действительности и гипостазирования продукта этой
абстракции, — так как абстракция действительности всегда остается все же
«частью» действительности или является просто фикцией, — но
также и не путем искусственных умозаключений, построенных на
двусмысленных, благодаря своему отрицательному характеру, понятиях
«предела» или «границы», а путем только перемещения устремления
«зрения», путем иной, как он сам говорит, «установки».
Ведь, в конце концов, мы наталкиваемся на обычную вещь:
философия желает изучать «все», но это «все» изучается другими науками,
разбирается ими по частям, что же остается философии? Здесь
повторяется этот же вопрос: науки как естественные, так и психология,
в естественных и культурных явлениях изучают «явления»,
«феномены», — что же остается на долю феноменологии? «Феномен» может
* Philosophie als strenge Wissenschafl. S. 318.
538
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
приобретать сколько угодно значений, — если философия желает
изучать «все», то все эти значения должны стать и ее объектами
изучения, здесь нельзя говорить, что философия изучает «иные» значения
или в ином смысле, чем специальные науки. И феноменология,
действительно, желает изучать «все», только в иной установке, чем это
делают другие науки, и таким только образом она может, не уничтожая
действительности, оставаться наукой обо «всем», и притом основной
наукой. Ничьи права здесь не нарушаются, ничьи интересы не
затрагиваются, никакое бытие не вносится в проскрипционные списки,
никакое познание не попадает в Index scientiarum prohibitarum, —
познанию бытия открывается совершенно свободный путь.
Мы не ограничиваемся этим общим указанием, а остановимся
подробнее на некоторых понятиях, так как, по крайней мере,
отчасти они усваиваются последующим изложением.
Феноменология, в нашем истолковании, желает изучать «все», но
все в его «сущности» или «идее», эйдосе. Этим воспроизводится
только старое определение Платона, по которому философ любит всякое
значение и ненасытен в нем, этого еще мало, есть любители
прекрасных звуков, красок, форм, но их ум не способен видеть и любить
природу самого прекрасного, истинный философ способен стремиться к
красоте самой по себе и видеть ее самое по себе, т. е. в ее сущности*.
Таким образом, уяснение понятия сущности, и в особенности в его
роли предмета феноменологии есть ближайший вопрос, как можно
будет видеть, составляющий уже часть ее самой, так как при решении
этого вопроса уже намечаются первые и основные проблемы,
подлежащие решению феноменологии. Характер специально
феноменологической «установки» и ее смысл — следующая и связанная с этим
вопросом проблема, ведущая, в свою очередь, вглубь к установлению
и определению методов феноменологического описания.
гуссерлевское решение вопроса о «сущности», эйдосе, опять-таки
приближает нас в известном смысле к Платону. Феноменология как
основная философская наука не может обойти коренной вопрос
всякой философии, вытекающий из антиномии: всякое бытие —
индивидуально, всякое познание — обще. И тем не менее познание
* Πολιτεας έ, 475 С. 476 В... αυτού" δε του καλοΰ άδύατος αυτών ή διάνοια την
φύσιν ίδεΐν τε καί άσπάσασθαι... Οί δε δή έπ αυτό τό καλόν δυνατοί ίέναι τε καί
σραν καό αύθό...
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 539
бытия, как оно есть, задача не только метафизики, но и науки, хотя
только метафизика так формулирует свою задачу, принимая ее во
всей ее непосредственности. «Теория познания»
^субъективистическая метафизика) усвоила себе специально этот вопрос под
заглавием: об отношении сознания к бытию, но совершает здесь явно
подмену и начинает поэтому с ничем не оправдываемого догмата, желая
познавать само познание, но уже не как бытие, а как «условие» его, —
голословная антиципация, пока мы не знаем, что познание есть и
как оно есть, и nonsens, coniradictio in adjecio285, когда оказывается,
что реальное бытие подчиняется трансцендентальному условию.
Отсюда нетрудно видеть, что гносеологическое решение этой
антиномии по существу, если только иметь в виду «субъективизм»
такого решения, обязывает к номинализму. Дело нисколько не
меняется от того, будем ли мы называть свою теорию познания
психологической или трансцендентальной. Тут номинализм Беркли,
Юма или Милля одного порядка с номинализмом Канта и
неокантианского позитивизма. В конце концов, номинализм, будучи
доведен до скептического абсурда, как у Риккерта286, с провозглашением
идеала познания в наибольшем удалении от действительности, уже
не может рассматриваться как попытка разрешения вопроса, так как
представляет собой простое возвращение к нему, — на вопрос, как
разрешить приведенную антиномию, позитивизм нам отвечает:
признанием и утверждением антиномии! Это — крайний номинализм.
Гуссерль, на наш взгляд, возвращает наблюдателя к его
нормальной позиции: данное рассматривается прежде всего как данное, как
находящееся перед нами, как предмет, как данный вопрос. Здесь нет
теорий и готовых ответов, всякое высказывание о данном
подвергается анализу с целью выделения на самом деле данного, и дальше —
на самом деле первично данного. Все существующее и сущее, —
каковы бы ни были формы их бытия, — представляют собой
многообразие называемых предметов, на которые направляется наше
теоретическое (в самом широком смысле) отношение, как на задачу, в
которой первым вопросом является вопрос о первично данном
прямой дающей интуиции. Реально данное мы получаем в интуиции
через «восприятие», как индивидуальное, фактическое. В «восприятии»
мы отличаем данное в «воспоминании» или иным воспроизводящим
образом от того, что дано «первично». Мы видели, как коррелятивно
«случайности» этого индивидуально данного устанавливается
«необходимость» сущности. Нетрудно видеть, что «что» индивидуального
540
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
становится «что» соответствующей сущности, поскольку мы его
устанавливаем, «полагаем в идее»*, — эмпирическая или индивидуальная
интуиция, таким образом, превращается в «идеацию», идеальную
интуицию или «интуицию сущности». Данное этой интуиции
составляет по отношению к эмпирической интуиции соответствующую ей
чистую сущность, или эйдос, — одинаково, идет ли речь о высшей
категории или ее спецификации, и вплоть до полной конкретности.
Наряду с предметами «естественного» мира мы начинаем говорить о
новых, иных предметах, иного сорта интуиции и, очевидно, иного
рода бытия. «Сущность (эйдос) есть нового вида предмет. Как
данное индивидуальной или опытной интуиции есть индивидуальный
предмет, так данное интуициям сущности — чистая сущность».
Есть полное основание говорить здесь об особого рода предмете
и особого рода интуиции, так как речь идет не о простой внешней
аналогии, а о действительно общем: точно так же, как
эмпирическая интуиция «дает» индивидуальный предмет, «совершенно так
же интуиция сущности есть сознание чего-то, "предмета", чего-то,
на что направляется ее взор, и что в ней "дано само"; но что потом
также в других актах может "представляться", смутно или отчетливо
мыслиться, делаться субъектом истинных и ложных предикаций —
именно как всякий "предмет" в необходимо широком смысле
формальной логики». Но, само собой разумеется, вместе с тем, что эта
интуиция должна быть тщательно и принципиально отличаема от
эмпирической интуиции, — как говорит Гуссерль, она
«принципиально собственного и нового вида»**.
Стоит ближе присмотреться к характеру обоих «видов»
интуиции, чтобы сделать возможно ясным их отношение и избежать в
будущем недоразумений. Гуссерль говорит о двух «видах»
интуиции. Вполне ли это точно? Интуиция «вообще», следовательно, яв-
J Ideen... S. 10 f.
** Очень ясно высказывает аналогичную мысль по поводу отношения
«единичных представлений» и «общих понятий» Штумпф: «Как бы в других
отношениях ни думали о сущности понятий — одно ясно, что они не могут
разрешиться ни в простую сумму, ни в простое Среднее единичных представлений. И что
касается их возникновения, то это ясно, что они получаются без расходования
и без производства единичных представлений и без изменений содержания
последних. При определенных условиях... понятие выступает сверх наличных
явлений и отношений, по их поводу, ими несомое, но не из них сложенное»
(Stumpfe Erscheinungen u. psychische Funktionen. Brl. 1907. S. 24-25).
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 541
ляа'ся «родом», и мы получаем право устанавливать отношения и
делать выводы, какие вообще допускает логика, когда речь идет об
отношении «вида» и «рода». Но стоит вдуматься, с одной стороны,
в принципиальное различие их, видное уже из различия
«фактического», случайного и необходимого, что касается предмета, и еще
глубже, из различия их положения среди других актов, и даже
просто психических процессов, а с другой стороны, и в то, что,
действительно, является для них «общим». В первом отношении
подчеркнем только одно: репродукция эмпирических восприятий, как
воспоминание во времени, не имеет ничего общего с
репродукцией идеальных интуиции, «воспроизводящих» одну и ту же сущность
вне всякого времени. Ясно, что из этого одного вытекает
бесконечный ряд других не менее принципиальных различий. С другой
стороны, ведь единственным «общим» является для них их «первичная
данность», причем характер этой данности уже принципиально
разный. Не имеем ли мы дела в этом обобщении, в конце концов,
не с «обобщениями», а просто с логическим формалшировани-
ем? Конечно, если иметь это в виду, можно избежать эквивокации,
пользуясь термином вид.
Но, что здесь, действительно, есть повод к недоразумениям,
проистекающим из непонимания именно взаимного отношения
интуиции, ясно из той полемики, которую вызывает приведенное
разделение их. Их взаимное отношение, по-видимому, ясно: речь идет не о
двух эмпирических «зрениях», не о двух «сторонах», или «подходах»,
или «точках зрения», или как еще, а о некотором одном
устремлении, «направленности» взора-сознания, который в являющемся ему
и схватывает то, что мы при естественном отношении к миру
называем фактом, опытно данным, опытной интуицией, и т. д., но тот
же «взор» не останавливается на этом, а как бы идет дальше вглубь,
«проникает насквозь» индивидуальное вплоть до его сущности в
разных, может быть, бесконечных, ступенях его спецификации и гене-
рификации. И понятно, что это «проникновение» «исходит» от
индивидуальной интуиции, — хотя также оно может «исходить» от
воспоминания и даже от образа фантазии, — но все же оно не есть ни
в коем случае схватывание ее самой, не есть установление какой бы
то ни было действительности, а есть установление принципиально
542
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
нового сорта предметов*. В то же время и в связи с этим
установление интуиции сущности не включает, конечно, установления
эмпирического существования, и чистые высказывания о сущностях не
содержат никаких утверждений относительно фактов, во всяком
случае, из них одних нельзя заключать к фактическим истинам. Таким
образом, невзирая на их тесную «связь» и даже на «неотделимость»
эйдоса от индивидуального, мы не можем найти между ними ничего
«общего» кроме формального признака непосредственной
первичной данности. Наконец, каждый «сорт» интуиции может
устанавливать сколько угодно видов предметов, и можно говорить о видах как
опытной, так и идеальной интуиции, между соответствующими из
них может наблюдаться постоянное коррелятивное отношение, но
все же они сами по себе остаются принципиально разными, фактом
и сущностью, — со стороны самого бытия, — «существованием» и
«сутью» («Existenz» und «Essenz»)**.
Таким образом, можно видеть, как вырывается почва из-под ног
номинализма, — смысл коренной отмеченной нами антиномии
выступает в таком освещении, что призрачность самой
антиномии становится наглядно ухватываемой, хотя, конечно, этим еще
не разрешен, пока даже не затронут вопрос, составляющий
историческое оправдание номинализма, специальный вопрос о роли
nomina***. Что касается принципиальной стороны «реализма»
Гуссерля, то она может только требовать уяснения новой проблемы,
именно его постановкой вопроса и вызываемой: как и откуда мы
приходим к тому, чтобы в первично данном интуиции видеть
некоторое X, загадки-предметы, требующие своего теоретического раз-
* «Gewiss liegt es in der Eigenart der Wesensanschauung, dass ein Hauptstuck
individueller Anschauung, nämlich ein Erscheinen, ein Sichtigsein von Individuellem
ihr zugrunde liegt, obschon freilich keine Erfassung desselben und keinerlei Setzung
als Wirklichkeit; gewiss ist, dass infolge davon keine Wesensanschauung möglich ist
ohne die freie Möglichkeit der Blickwendung auf ein "entsprechendes" Individuelle
und der Bildung eines exemplarischen Bewusstseins — wie auch umgikehrt keine
individuelle Anschauung möglich ist ohne die freie Möglichkeit des Voilzugs einer
Ideation und in ihr der Blickrichtung auf die entsprechenden, sich im individuell
Sichtigen exemplifizierenden Wesen; aber das änden nichts daran, dass beiderlei
Anschauungsarten prinzipiell unterschieden sind, und in Sätzen, derart wie wir sie
soeben ausgesprochen haben, bekunden sich nur ihre Wesensbeziehungen». Ideen...
S. 12; Cp- Log. Untersuch. B. II. S. 108 f. (2. Aufl.).
2 Ideen... S. 12-13.
~* Ср. об этом вопросе Log. Uniers., главным образом I, II и IV.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 543
решения, и вообще: как есть действительность! Mutatis mutandis
мы воспроизводим сомнение Гегеля по адресу интеллектуальной
интуиции Шеллинга, — не представляет ли она самое действительность
недействительным образом? — Этот вопрос, относящийся
одинаково к предметам как эмпирической, так и идеальной интуиции, мы
оставляем как руководящий для всего последующего, отметим
только здесь же, что, если какой-нибудь смысл имеют еще попытки
реставрации номинализма, то только в направлении этого вопроса, —
в остальном они частью плод недоразумения, частью
восстанавливают номинализм просто как замаскированный реализм.
Новейшая попытка Астера* реставрировать номинализм может
послужить иллюстрацией последнего вывода. Астер устанавливает
дилемму, — или Гуссерль, или номинализм, — которую он
формулирует следующим образом: «или речь об одном тождественном общем
предмете, человеке вообще, цвете вообще (...) и т. д. есть просто
фиктивная речь: тогда мы остаемся при номинализме. Или такое
образование (ein solches Gebilde) есть, тогда мы должны от Аристотеля
вернуться к Платону, поскольку мы должны искать это образование
не в индивиде, а вне его, хотя бы даже не как реально существующую
вещь»**. Прежде всего именно у Гуссерля ни о каком «образе» или
«образовании» (Gebilde) речи нет, — у него говорится не о воображении,
а об «идеации» или интуиции сущности, которую он, хотя и называет
«видом» интуиции, но тем не менее не думает, конечно, что на него
можно переносить то, что может быть приписано другому виду. Не
менее неудачно здесь, где речь идет об основных до-теоретических
вопросах, поднимать разговор о чем-то «вне» или «внутри» индивида.
Психологически его недоразумения возникают из того, что он,
оставаясь сам при психологическом истолковании понятий и
суждений (опираясь на Корнелиуса, он считает суждения
воспоминаниями и ожиданиями), — так понимает и 1уссерля, ждет от идеальных
интуиции возможности возникнуть в воспоминании, считает их
«образами» и т. п., игнорируя, что они не подлежат никакому
эмпирическому и прежде всего никакому временному определению. Он
приписывает, например, критикуемому им направлению и такой взгляд,
* Aster E. von. Prinzipien der Erkenntnislchre. Versuch zu einer Neubegründung
des Nominalismus. Lpz., 1913-
**0.c.S.43,46-48.
544
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
как если бы само понятие «рода» здесь получалось путем абстракции
от всякого hic et nunc, не только не принимая во внимание учение
об абстракции названного направления, но просто закрывая глаза
на тот факт, который лежит в самой основе этого учения, — что сама
возможность такой абстракции может быть обусловлена только тем,
что уже должна быть налицо интуиция этого «рода».
Но важно также, какие соображения выдвигает Астер против
второй части дилеммы по существу. Он допускает, что теория 1уссерля
«единственно возможная теория общего», если не стать на точку
зрения номинализма. Но его побуждает выступить именно против fyc-
серля то, что так или иначе для себя разрешали и Аристотель, и Локк,
но чего не сделал 1уссерль: «Аристотель и Локк пытаются сделать для
нас понятным до известной степени общее и тот путь, каким мы
доходим до него от индивидуального», но и обратно, он не находит у
него никаких сведений «об отношении общего к индивиду». «И,
наконец, может быть, самое важное. Когда мы устанавливаем положения
о треугольнике, треугольнике вообще, эти положения ео ipso
годятся (gelten) также для единичного, и притом для всякого единичного
треугольника, для всех треугольников». Эта связь остается у Гуссерля
непонятной: «Вопрос о дальнейшем "почему" остается без ответа».
Фактически неверно, будто Гуссерль этих вопросов не касается*,
но принципиально важно, что их для 1уссерля в такой форме, как их
ставит Астер, и не должно быть, — именно здесь не с Локком и
Аристотелем надо сопоставить его взгляды, а с Платоном. Мы видели, как
проникает идеация через опытную данность к эйдетическому
предмету, видели, в чем состоит коррелятивность предметов интуиции
обоего сорта, наконец, видели и относительную автономию каждого
рода предметов, запрещавшую от «одних» эйдетических предметов
переходить к эмпирическим. Правда, все это открывается не через
«почему», не через посредство «теории», а путем
феноменологического описания данного, как оно дано, как мы его «видим». Но Астер
отказывается именно видеть, — в случаях отношения индивида к
species287 ему «кажется», что налицо «не данность species, а знание о
принадлежности данного индивидуального содержания к чему-то,
* На протяжении всех Log. Unters., — в особенности тут важны
направленные против номинализма страницы, и среди них 149 (по нов. изд.), где § 17
заканчивается словами о «die Scheinprobleme und die Scheintheorien».
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 545
что непосредственно не дано»*. Что оно непосредственно не дано
эмпирически, «чувствам», об этом нет спора, но если оно дано, как
думает Астер, не непосредственно, то ведь остается все та же старая
психологистическая антиномия: первый источник его или
эмпирический, или не-эмпирический. Вот последнего Астер и не хочет ни за
что допустить. Лишено интереса повторять аргументы против
психологизма, интереснее другое: феноменологический источник этого
недоразумения у Астера. Нам кажется, что уже последнее замечание его
о «чем-то» приводит нас к поставленному выше вопросу о «предмете»
и «действительности»... То же говорит и самое определение Астером
своего и всякого номинализма: «Номинализм всякого оттенка, — это
именно выражает его сущность, — утверждает, что общие понятия,
общие предметы суть фикции, предметы, которые ни в каком смысле,
ни как реальные, ни как идеальные, ни как физические, ни как
психические, ни как самостоятельные, ни как части предметов, не
существуют, образования, которые, следовательно, и ни в какой форме нам не
могут быть знакомы, ни при каких обстоятельствах не могут быть для
нас налицо как феноменальные данности»**. Если в этом определении
присущую негативизму категоричность перевести на язык
действительного сомнения и вопрошания, то проблема, которая здесь
затрагивается, состоит именно в том, как от непосредственной данности
интуиции мы приходим не только к предмету, но прежде всего к
самому вопросу о «предмете» как некоторой «действительности».
Непосредственное усмотрение в идеальной интуиции особого
рода предмета как сущности влечет за собой, как было указано,
вопрос о тех «условиях», при которых обнаруживается эта sui generis
предметность, — при требовании, вытекающем из существа
основной философской науки, это исследование должно составлять уже
часть самой феноменологии, так как всякий психологический или
иной специально-научный анализ всегда здесь окажется предвзятой
теорией, искажающей смысл самого вопроса. Но и вообще первым
шагом во всяком самостоятельном научном или философском
исследовании является строгий пересмотр, ревизия тех понятий и
представлений, с которыми приходится иметь дело
исследователю, — это верно, как в большом, так и в малом. Сомнение («мето-
•O.c.S.49.
** Ib. XXI. S. 34-35.
546
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
дическое»), критика, воздержание от суждений (Urteilsenthaltung),
вообще Énoyf\2m, — разные названия, выражающие это необходимое
методологическое требование познания. И как большие эры в
развитии философской и научной мысли связываются с фактами
подобного пересмотра, ревизии, так они проникают, или по крайней мере,
должны проникать, и в каждую частную работу научного
исследования, должны сопровождать ее на каждом ее шагу. Философская
основная наука только в том случае и выполнит свое назначение,
если она начнет с ревизии уже установившихся понятий, теорий,
предположений, часто предрассудков, сумеет отделить истинное от
ложного, иллюзорное от действительного и установит собственное
содержание на основании строго проверенных и несомненных
данных. Эта работа не раз производилась в философии, но философия
не должна уставать повторять ее вновь и вновь.
Смысл подобного рода «ревизии» и пересмотра состоит в том, что
мы желаем найти такое твердое начало философствования, которое
не было бы «обременено» никаким «предрассудком», предвзятостью
вообще, и в широком смысле не имело бы «предпосылок*. Как будто
Эринии289 преследуют современную философию в ее стремлении
начать свое деле без «предпосылок» и «допущений»! Нужно, однако,
отдать себе отчет в том, от каких предпосылок мы хотим быть
свободны, так как и здесь мы имеем дело с эквивокацией, и притом сложной.
Иногда разумеют под предпосылками просто «посылки», — те
первые положения, из которых мы выводим в своем построении
содержание данного изложения. Такого рода «предпосылки», по
существу, суть положения недоказуемые, т. е. не выведенные из других, и
не подлежащие доказательству, — в этом смысле и они могут быть
названы «усмотренными» в сущности, до-теоретическими
положениями. Можно считать особой задачей логики и основной науки
раскрытие их содержания и освещение путей их достижения. Основная
философская наука их самих и имеет своим содержанием, и уже по
этому одному должна быть свободна от них, как «предпосылок». Но
в ней и вообще нет посылок, из которых в ней самой делались бы
теоретические выводы, или которые служили бы условиями этих
выводов или их применения.
Точно так же, как чистое знание, она должна быть свободна от
«предпосылок» и в том смысле, где под ними разумеются некоторые
положения, получающие свое оправдание только в процессе теоре-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 547
тического построения или через применение его. По существу,
такие предпосылки носят в широком смысле практический характер и
называются постулатами.
Но если называют «предпосылками» также принципы
собственной работы того или иного знания, то от них, разумеется, основная
наука не может быть свободна. Но и здесь она находится в
совершенно особом положении, которое может иметь аналогию только
в логике. Подобно последней, и принципы своей работы основная
наука включает в собственное содержание и кроме осуществления
их дает себе о них полный и исчерпывающий отчет.
Наконец, называют иной раз «предпосылками» и эмпирические
условия самого философствования и познания, — все эти
«предпосылки» сводятся, в конце концов, к факту нашего собственного
существования. Понятно, что для того, чтобы философствовать, мы
должны не только уже стремиться к истине, верить в ее
достижимость и т. п., но должны, конечно, родиться, иметь родителей, пить,
есть и выполнять много других функций, прежде всего, значит,
нужно существовать. От такого рода «предпосылок», надо думать, не
свободна и феноменология.
Философию не без основания характеризуют как науку о
принципах вообще. Принципы суть, прежде всего, начала, под которыми
вовсе нет надобности разуметь рациональные принципы, так как
речь идет о началах, как «исходных пунктах». Очевидно, что
основная наука, будучи именно начальной наукой по смыслу своему и в
идее своей исключает возможность иметь какие-либо
«предпосылки», поскольку только в нее не вносятся начала гетерогенные, как в
последнем значении понятия «предпосылки».
II. Чистое сознание
Человек сознает окружающий его мир во всем его многообразии,
сознает самого себя, свои цели и действия, и собственное
стремление к познанию, но нетрудно заметить, что, как только он
начинает отдавать себе во всем этом отчет, в его мыслях и высказываниях
тесно переплетается то, что он, действительно и непосредственно
видит, слышит и так далее, и то, что слышал от других, то, что он
предполагает на основании виденного и слышанного и т. д.
Первая задача основной философской науки может и должна состоять
только в том, чтобы определить то, что человек непосредственно
548
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
находит в данном ему сознании, от того, что он сам примышляет, к
чему он заключает и т. п. Здесь нет оценки, нет суждения о большей
или меньшей полезности или важности какой-либо из этих двух
составных частей того, о чем мы мыслим и говорим, — здесь только
требование отдать себе отчет в «источнике» каждого понятия, мысли
и слова. Но, в то же время, очевидно, что о ценности
примышленного нами, «теоретического», мы можем судить только после того, как
мы знаем, чем мы обладаем без этого теоретизирования, до него.
Основная философская наука должна быть свободна в своем
исходном пункте: судя обо «всем», она может все взять своим исходным
пунктом, «началом», — тех «догматических» принципов, с которых
начинает всякая другая наука, в ней не должно быть, так как ведь она
есть основная наука. И указанное «естественное» положение
человека к окружающему его и к нему самому она может взять за свой
исходный пункт и произвести в нем указанную работу разложения
и выделения действительно данного от примышленного к нему*.
Мир вещей, животных, людей, ценностей, благ и прочее в этой
естественной установке выступает перед нами, как «естественный мир»,
но наряду с ним мы констатируем в своем сознании и такие данные,
которые мы не считаем данными естественного мира, и если мы
обратимся только к ним, мы как бы покидаем этот естественный мир и
попадаем в мир совершенно иного облика и порядка. Таков,
например, мир чисел, арифметический мир, где два, пять, и т. д., не суть ни
вещи, ни люди, ни блага, и тем не менее мы ориентируемся в этом
мире, и он существует «вне» того естественного мира. Мы легко
совершаем переход из одного мира в другой, не уничтожая при этом
ни одного и не сомневаясь в другом, который мы только что
покинули, последний просто остается вне рассмотрения, т. е., он может быть
даже задним планом моего сознания, но только не может составлять
того «горизонта», в котором заключен новый мир, к которому мы
переходим. Одно только «объединяет» оба эти мира, —
«действительный» и «идеальный», — это то, что они являются мне данными в моем
сознании, спонтанные акты которого, постоянно меняясь и
переливаясь, направляются на вне-данное, рассматривают его и исследуют,
объясняют, выражают в понятиях и словах, описывают, сравнивают,
различают, считают, радуются на него, боятся его, и т. д. и т. д. Мы
•ldcciL.S.48.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 549
можем обозначить всю эту совокупность «спонтанностей» по
отношению к «данному» общим термином, картезианским cogito290. Само
cogito может сделаться «предметом», на который направляются
другие cogito, — одно несомненно, что эти cogito всегда налицо при
той естественной установке, с которой мы начали, с такой же
несомненностью, как все то, на что они направлены, как на данное. Речь,
конечно, идет не о несомненности каждого отдельного переживания
и его данного, не о факте наличности того и другого, наоборот, по
отношению ко всему данному в частности всегда может иметь
место сомнение или, во всяком случае, может иметь место попытка к
сомнению. Таким образом, по отношению ко всему «естественному
миру» мы получаем возможность установить следующий
«генеральный тезис естественной установки»: Я всегда нахожу налицо перед
собою эту одну пространственно-временную действительность, к
которой принадлежу я сам так же, как все другие в ней находимые
и равным образом к ней относимые люди. «Действительность, — это
уже выражает слово, — я нахожу, как находящееся предо мною тут-
бытие (daseinde) и принимаю ее, как она мне дается, так же, как
находящееся предо мною тутбытие»*.
Этот тезис естественной установки мы совершенно свободны
попытаться подвергнуть весь и во всех его частностях как сомнению, так
и 8яохг|, от этого в нем, как тезисе естественной установки,
утверждающем наличное тутбытие мира, не меняется ничего, он остается
целью и задачей соответственных наук. Делая попытку подвергнуть что
бы то ни было сомнению или просто воздерживаясь от суждения о
чем бы то ни было, мы бесспорно совершаем некоторое
«уничтожение», «снятие» соответственного тезиса, но в высшей степени важно
точно понимать значение этого «уничтожения». Это не есть
превращение его в антитезис, не есть вообще превращение утверждения в
отрицание, или предположение, или допущение, или сомнение, так как
подобные превращения, состоящие в изменении нашего убеждения,
не зависят от нашей воли, а обусловливаются соответственным
содержанием предмета и его бытием. И все же, делая попытку подвергнуть
нечто сомнению, мы подвергаем тезис известной модификации в том
отношении, что, хотя оно остается тем, что оно есть, оно полагается
нами как бы вне действия, выключается, заключается в скобки,
другими словами, мы просто не делаем из него никакого применения.
* Ideen... S. 56. Ср. S. 142, также и S. 278.
550
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Мы совершим, таким образом, перемену «установки», если
подвергнем феноменологической еяохп с помощью метода выключения
установленный выше тезис «естественного мира», другими словами,
следовательно, в новой нашей установке мы не будем иметь дела с
«естественным миром», — не отрицая его и не сомневаясь в нем, мы
его оставим вне нашего пользования. «Если я так поступаю, —
говорит Гуссерль, — и в этом я совершенно свободен, — то я, таким
образом, не отрицаю этого мира, как если бы я был софистом, я не
сомневаюсь в его тутбытии, как если бы я был скептиком; но я
произвожу «феноменологическую» етгохп, которая мне совершенно
закрывает всякое суждение о пространственно-временном тутбытии»*.
Следовательно, и что касается наук о естественном мире, то как бы
мы их ни оценивали, и они со всеми своими суждениями и
тенденциями должны остаться вне нашего пользования. Но тут и
возникает вопрос, что же остается, если мы выключаем весь действительный
мир, со всем знанием о нем, выключаем, в конце концов,
следовательно, в том числе и самих себя со всем нашим cogitare?
Остается, конечно, весь «мир как эйдос», — например, мы видели
его уже в примере чисел, — но в феноменологии как основной
философской науке, речь идет не о нем, хотя и здесь мы, выходя из сферы
естественной установки, должны будем остаться в области
эйдетической. То особое бытие, на которое теперь направляется наш взор, есть
то, что выше было обозначено, как cogito, сами наши переживания,
сознание, бытие совершенно своеобразное и, действительно,
включающее все. Речь идет не о психологических процессах, так или
иначе связанных с существами животного мира и человека, так как этот
мир уже подвергнут редукции и составляет предмет
соответствующих «естественных» наук, а о чистой сфере сознания,
открывающейся имманентно нашему рефлектирующему взору. Это сознание, — мы
о нем говорим, как о сознании вообще, — в силу своего абсолютно
sui generis бытия, не было и не могло быть подвергнуто
произведенному выше выключению. «Таким образом, оно (сознание) остается
как "феноменологическое residuum", в качестве принципиально
своеобразной области бытия (Seinsregion), которая, действительно, может
* Ideen... S. 52-53- Перевод термина das Dasein через «тутбытие» заимствую
у Вл. Соловьева
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 551
стать поприщем (das Feld) новой науки — феноменологии»*. Однако,
прежде чем переходить к анализу его в собственно
феноменологической установке, остановимся на рассмотрении сущности сознания
в его полной конкретности, в живом потоке сознания. Всякое
переживание может быть схвачено в направленной на него рефлексии со
стороны его собственной интуитивной сущности, как своеобразное
«содержание», — на этом мы пока и сосредоточим свое внимание.
Нужно тщательно отличать то, что относится к самому cogito,
и то, что относится к его cogitatum. Во всяком восприятии есть его
воспринимаемое, которое ни в коем случае не есть само
переживание, последнее есть бытие принципиально совершенно иного вида.
Все воспринимаемое есть нечто существующее «здесь и теперь», оно
лежит в поле восприятия или интуиции, как бы окруженное
другими восприятиями или интуициями, которые также входят в
сознание или переживание, но в силу необходимого соотношения cogito
и cogitatum обо всякой интуиции и обо всяком восприятии можно
сказать, что это есть с необходимостью «сознание чего-нибудь». То,
что относится к восприятию, относится и ко всем другим
переживаниям, воспоминаниям, фантазии и т. д., равно как и к переживаниям
чувствования или хотения. Различие между интуициями, данными
ясно, на которые направлен наш «духовный взор», и окружающим
фоном; их можно рассматривать как две разные модификации
сознания: актуальное и инактуальное, или потенциальное, сознание
explicite и сознание implicite291. В целом поток переживаний никогда
не может состоять только из чистых актуальностей, но всегда один
модус сознания переходит в другой, cogito, как акт, акт сознания,
переходит в потенциальное сознание, и обратно**. Но существенное
свойство сознания сохраняется при этих переходах, и всякое
переживание сознания сохраняет свою существенную особенность, —
быть сознанием чего-нибудь, быть направленным на что-нибудь, и
в этом смысле всякое переживание остается «интенциональным
переживанием», и, таким образом, хотя не всякий реальный момент в
конкретном единстве интенционального переживания обладает
характером интенциональности, — как например, ощущения, как data
переживаний и т. п.; наоборот, то, что принадлежит к cogitatum292,
* Ideen... S. 59.
** Ideen... S. 63.
552
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
может являться только объектом для интенционального
переживания, но не становится от этого самим сознанием, актом. Оно может
быть «интенциональным объектом» и отличается от просто
подмечаемого объекта в том смысле, что на него направляется целый ряд
актов, — не только акты восприятия и вообще подмечания «вещи»
физическим или умственным оком, но и акты оценки, практического
отношения и подобные, — но, во всяком случае, как интенциональныи
объект оно всегда остается принципиально иным, чем акт, по самому
виду своего бытия. Поскольку мы все переживаем в cogito, сама наша
cogitatio не является таким интенциональным объектом, но мы всегда
и на нее можем направить свой рефлективный взор, — в форме,
понятно, новой cogitatio, — можем сделать ее предметом «внутреннего
восприятия», и, следовательно, также объектом*. Таким образом, мы
получаем различие переживаний или актов: внутренне, имманентно
направленных, к сущности которых относится, что их интенциональ-
ные предметы принадлежат к одному с ними потоку переживаний,
и представляют собой одно непосредственное единство одной
конкретной cogitatio; и, с другой стороны, трансцендентно
направленных переживаний, интенциональныи предмет которых по существу
не может принадлежать этому потоку и дан не в непосредственном
единстве, а по существу не самостоятельно, абстрактно.
Если мы ближе рассмотрим это отношение восприятия и
воспринимаемого, вещи в восприятии (как и всяких cogitatio и
cogitatum), и притом не с точки зрения какой-либо теории, теории
физика, психолога или примитивного, «наивного», человека, а как
подобает основной науке, — в их непосредственной данности, то
мы ближе подойдем к нашей цели установления сущности чистого
сознания через уяснение вопроса о взаимном отношении
трансцендентного и сознания. При восприятии какой-либо вещи,
например, стола, мы констатируем, с одной стороны, постоянно
меняющееся восприятие, так что ни при каких условиях при повторении
оно не может быть тем же, но, с другой стороны, сама
воспринимаемая вещь не только не меняется, а остается той же во всех
наших актуальных переживаниях, она может оставаться той же и для
потенциального сознания, или вовсе не будучи воспринятой**. Лю-
* Ideen... S. 67 f. О рефлексии к ее роли в феноменологии см. S. 144 ff.
**Ideea..S.74ff.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 553
бая вещь, как и каждая ее часть, сторона или момент, остается «тем
же», некоторым единством, «синтезом отождествления», несмотря
на то, что она дается нам в непрерывно меняющемся
многообразии оттенков, в которых выступают перед нами data ощущений, но
оттенки эти опять-таки, как переживание, — хотя, как было
указано, и не интенциональное переживание, — есть нечто
принципиально иное, чем оттеняемое в них, они, как переживания, не
пространственны, а оттеняемое может быть принципиально возможно
только как пространственное и не может быть переживанием; и, с
другой стороны, воспринимаемая вещь только и воспринимается
в своей действительности, через посредство оттенков как
некоторое интенциональное единство явлений, тогда как переживание
не выступает в оттенках, а дано существенно. Таким образом, мы
получаем общее положение, которое и должно быть поставлено в
основу самой основной науки: вещь, воспринимаемое, ни в каком
возможном сознании вообще, — потому что это принадлежит к
существу как вещи, так и сознания, — не может быть дана, как
реально имманентное; между бытием, как переживанием, и бытием,
как вещью, выступает в основе существенное различие. Это
означает, что сама вещь сплошь трансцендентна, — и, таким образом,
вскрывается самое глубокое принципиальное различие, как между
двумя видами бытия: сознанием и реальностью, так и между теми
способами, какими они нам даны: прямо в своей сущности или
через посредство оттенков в явлениях.
Вещь, как восприятие всегда дана через оттенки только и
необходимо в явлениях, иначе и она могла бы стать имманентным
бытием и быть просто воспринимаемой как абсолютное, и
также необходимо она дается всегда в известной неадекватности,
«односторонне», — некоторое ядро «действительно
представляемого» (Dargestellten) всегда окружено горизонтом
несобственно вместе-данного, с большей или меньшей
неопределенностью, которая, однако, раскрывается как законченная
определенность, предписываемая самой вещью, и с постоянными
переходами от одного момента к другому, от нового к новому или старому
и т. п.; напротив, переживание есть имманентное восприятие,
простое усмотрение того, что дано в восприятии, как абсолютное
(и не тожественное явлениям, даваемым через оттенки), оно не
имеет никаких сторон и не представляется (darstellen) то так, то
554
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
иначе*. И переживание, воспринимаемое имманентно, никогда
не может быть воспринято совершенно и в своем единстве
адекватно, так как оно представляет собой поток, в котором наш взор
направляется на один какой-нибудь момент, тогда как остальное
уплывает от него, поэтому и само имманентное восприятие
возможно только в форме ретенции. Но, очевидно, что эта
неполнота и это несовершенство принципиально иного рода, чем те,
которые мы встречаем в трансцендентном восприятии явления
через посредство оттенков, так как, хотя и здесь могут иметь место
относительные различия степеней ясности или смутности, тем
не менее они даются прямо как таковые, «абсолютно», а не через
меняющиеся и колеблющиеся оттенки.
Бытие переживания имеет то особенное, что его восприятие,
имманентное восприятие, направляется совершенно непосредственно
на всякое переживание в форме рефлексии, т. е. воспринимаемое
переживание дается как нечто, что не только есть и длится, но уже
было прежде, чем на него был направлен взор. Это в высшей
степени важное свойство имманентного восприятия обнаруживает новые,
глубокие и принципиальные отличия его от трансцендентного
восприятия. Переживания суть не только сознание чего-нибудь, но они
сами составляют сознание, так что, если даже на них не
направляется рефлектирующий взор, то все же нерефлектированно они всегда
составляют задний план сознания и всегда «готовы» быть
воспринятыми. Нечто подобное имеет место и при трансцендентном
восприятии, но только по отношению к вещам, которые уже явились в
нашем поле зрения, но остались незамеченными, но не все вещи
выполняют это условие, хотя бы уже по одному тому, что поле зрения
внимания не бесконечно. Переживание «являться» не может, и оно
«готово» быть воспринятым только благодаря самому способу
своего бытия по отношению к совершающему рефлексию Я**.
К этому добавим еще, что этот способ бытия не может быть
назван существованием, как вытекает из всего предыдущего, а также
относится к «сути», т. е. имманентное восприятие по своему существу
* «Während es zum Wesen der Gegebenheit d. Erscheimmgen gehört, dass keine
die Sache als 'Absolutes" gibt, stall in einseitiger Darstellung, gehört es zum Wesen der
immanenten Gegebenheit, eben ein Absolutes zu geben, das sich gar nicht in Seiten
darstellen und abschatten kann». Ideen... S. 81.
~ Ideen... S. 83-84. Ср. также S. 92-93-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 555
дает не бытие во времени, а бытие вне времени, или, что то же, —
«всегда». В этом смысле приведенные выше указания на «прежде» не
есть указания на эмпирическое время, а есть констатирование того,
что данное имманентное восприятие не «появилось» сейчас, — оно
не могло появиться, потому что оно не есть явление, но именно
поэтому оно и не обладает существованием, а обладает сутью.
Таким образом, мы необходимо приходим к утверждению общего и
существенного характера, что всякое имманентное восприятие
есть интуиция не эмпирическая, а интуиция сущности, тогда как
трансцендентное восприятие вещи в явлении может быть и
эмпирической интуицией, и интуицией сущности, — будет ли это
восприятие физической вещи или animalia, или любое иное.
Возвращаясь к аргументации Гуссерля, мы находим у него, как
следствие проведенного им различения имманентного и
трансцендентного восприятия, выводы, согласующиеся, на наш взгляд, с
изложенным только что: поскольку речь идет об имманентном
восприятии, оно необходимо обеспечивает нам существование его предмета,
это есть «абсолютная действительность», отрицать бытие которой
принципиально невозможно, сомнение в нем противоречит
смыслу, т. е. здесь приходится повторить то, что говорил Декарт о своем
cogito. Напротив, существование вещей не необходимо в своей
данности, сомнение в нем не противоречит смыслу, и оно всегда может
быть подвергнуто сомнению, оно всегда в известной мере случайно,
тезис мира противостоит, как «случайный» «необходимому», — не
подлежащему сомнению тезису чистого Я, потока переживаний*.
Эти выводы Гуссерля могут вызвать некоторые возражения и
сомнения, которые я делаю попытку предотвратить следующими
замечаниями. Ниже будет показано, что несмотря на возможность
подвергнуть сомнению «тезис мира», фактически необходимо существует
этот единственный мир, и несмотря на случайность восприятий его,
трансцендентных восприятий, как уже вскользь было указано, есть
существенная необходимость в предписывании вещами
определенности их восприятия в явлениях. Но, наоборот, «тезис Я», как
потока переживаний, не может быть принципиально подвергнут
отрицанию или сомнению, следовательно, само бытие его существенно
необходимо, хотя какое-либо актуальное переживание, как таковое,
* Ideen... S. 85,86.
556
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
не представляет существенной необходимости, а составляет
необходимость факта. Но может возникнуть вопрос, нельзя ли, по крайней
мере, попытаться подвергнуть сомнению и «тезис Я», или совершить
по отношению к нему и е,ко%г\? Непосредственная рефлексия этого
акта открыла бы нам, что мы при этом остаемся все-таки в «тезисе Я»,
но важно раскрыть другое: сущность этой невозможности
сомнения. Дело в том, что эта невозможность есть или бессмыслица, или
нечто противоречащее смыслу, — в первом случае, отрицание
смысла есть не что иное, как его ограничение, privatio, т. е. допущение,
что «некоторый» смысл все же сохраняется, так что даже при полном
отрицании можно прийти, к утверждению «некоторого» смысла,
потому что всегда может остаться нечто вроде «смысла бессмыслицы»:
бессмыслица имеет свой смысл — быть бессмыслицей. Другое дело,
противоречие смыслу: это вещь недопустимая, в особенности, когда
противоречие смыслу обнаруживается в существе
осмысливаемого. Итак, с чем же мы имеем дело в данной попытке сомнения или
отрицания? Отрицать существенную необходимость
имманентного бытия или сомневаться в ней, значит приписывать ей
необходимость факта, — отрицать и необходимость факта, невозможно в силу
указанной рефлексии. Но если это только необходимость факта, то,
как бы ни казался этот факт необходим, он относится к такого рода
бытию, которое может прекратиться или исчезнуть. Мы можем
сказать, что, так как речь идет о бытии, данном в интуиции сущности,
то об исчезновении или прекращении не может быть речи. И это
правильно, но против этого можно сказать вместе с Лейбницем, что
пусть это бытие не может «прекратиться», но оно может быть
«уничтожено». Однако нетрудно видеть, что «уничтожающий»* должен
* Это допущение «уничтожающего», resp. допущение «создающего», не есть
простая игра ума или «пустое» логическое допущение только с целью
доведении до абсурда рассматриваемого сомнения, — легко убедиться, что проблема
«уничтожения» и «создания» нуждается в своем, и притом феноменологическом
освещении. Сказанное здесь уже дает повод к интересному направлению
мысли: «уничтожающий» обнаруживает свою абсолютность имманентно, но будучи
Абсолютом (не в смысле абсолютности сознания) по приписываемой ему
возможности «создавать» и «уничтожать» (не в смысле реальной причинности), он
проецируется трансцендентно (не в смысле реальной трансцендентности), так
как само имманентное восприятие не обнаруживает в нас переживания
«создания» и «уничтожения» сущностей, т. е. той абсолютной свободы, которую мы
приписываем Абсолюту. Идет ли здесь речь о специальном новом виде интуи-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 557
имманентно воспринимать в переживании «уничтожение», и притом
как абсолютное бытие, в чем обнаружатся все те же законы
сущности, и следовательно, это бытие не может быть уничтожено и не
может быть бытием факта, а это и свидетельствует о том, что наша
попытка сомнения по существу противоречит смыслу. Раз оно не может
быть уничтожено, то, обратно, оно не было «никогда» и «создано»,
т. е. оно не «появлялось», не есть «явление» и вообще не обладает
«существованием», — это, действительно, бытие необходимости,
абсолютное, «суть». Оно просто не подлежит никакому определению во
времени, именно в этом смысле оно и «не существует»,
«недействительно», «нереально». Как уже было указано, констатируемое нами
при всяком имманентном восприятии: оно «было», «превде», не
означает указания на время, а есть именно выражение вне времени, «всег-
дашности»; так как то, что — вне времени, о том можно сказать, что
оно есть всегда, — «есть» в своей сути, разумеется, — «всегда»
сознается, «всегда» переживается, хотя и не всегда в актуальных
переживаниях, — это уже фактическая необходимость, — но «всегда» «готово»
быть пережитым, как «всегда» есть сама рефлексия, доставляющая
имманентное восприятие. Таким образом, сомнения в существенной
необходимости бытия «тезиса Я» в том обнаруживает противоречие
смыслу, что смысл бытия имманентного восприятия есть само
необходимое бытие. Наоборот, существенная необходимость этого бытия
составляет предпосылку необходимости бытия трансцендентного,
но уже не как существенной необходимости, — иначе и оно было бы
имманентным, — а как необходимости факта. Отсюда понятно,
почему сомнение в этом бытии, отрицание «тезиса мира», не
противоречит смыслу, — хотя и может быть признано бессмысленным, — смысл
бытия трансцендентного в том, что оно существует для
имманентного бытия, но для него может существовать, — логически
допустимо, — и какое-либо иное трансцендентное бытие, какой-либо иной
«мир».
Таким образом, мир имманентного восприятия и мир
трансцендентного восприятия резко противостоят друг другу, как во всем
различные миры, однако было бы ошибкой думать, что между ними
ции или о чем ином, это — специальная тема. Любопытно еще отметить, что
этот аргумент «к уничтожающему», обнаруживающий существенную
невозможность отрицания «тезиса Я», возвращает нас к картезианской мысли о
существовании Я, «потому что» Бог существует.
558
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
нет никакого отношения, или что мир трансцендентного, по
крайней мере, может рассматриваться вне отношения к миру
сознания как сам по себе существующий предмет. Напротив, из
изложенных различий уже вытекает, что мир сознания, как имманентный и
абсолютный, может быть дан только так, как он дан, но иначе
обстоит дело по отношению к миру трансцендентному, — уже в силу
своей «случайности» он, — действительный мир, — должен
рассматриваться, как один из возможных случаев разнообразных миров*.
Однако, как видно из сущности их возможной и действительной
данности, они могут быть даны только совершающему опыт
сознанию, и, следовательно, стоят к нему в существенно необходимой
корреляции, — чем бы вещи ни были, что бы мы ни высказывали
об их бытии, мы можем говорить о них только как о вещах
опытами определенных связях опыта. Говоря о возможности для вещи
быть предметом опыта, мы имеем в виду не возможность,
требуемую логическим законом противоречия, равно как и не каузально-
субстанциальную обусловленность, а возможность самого
действительного опыта, т. е. возможность, мотивированную в связях
самого опыта. Пусть вещь не воспринимается нами в опыте актуально,
но возможность быть предметом опыта обозначает для нее то, что
она может войти в сферу актуальности и стать данной; через
мотивации связей опыта она относится к неопределенному, но
определимому горизонту актуального опыта, который всегда указывает
и мотивирует, выходя за собственные пределы, новые возможные
опыты, и т. д. до бесконечности, — вещь, как предмет опыта,
всегда есть вещь мира и «обстановки». Таким образом, действительный
мир, как и всякий возможный иной мир, мыслим только в
коррелятивном отношении к сознанию, — и это именно делает то, что
феноменологическое исследование самого сознания никогда не
остается пустым, а вместе с тем становится понятным, почему
феноменологическое исследование мира действительного и других
возможных миров не может быть смешиваемо с догматическим
исследованием трансцендентных предметов, как это имеет место в
специальных науках.
С другой стороны, из необходимости и абсолютной данности
сознания вытекает, что и то, чего оно есть сознание, следовательно, и
* Ideen... S. 87.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 559
весь мир, действительный мир, несмотря на формально-логическую
возможность других миров, т. е. на отсутствие запрещения со
стороны закона противоречия, фактически есть единственный мир. Уже
в силу коррелятивности вещи, как вещи опыта, сознанию ясно,
думаем мы, что всякий «иной» гипотетический мир был бы по
существу такой же данностью, как и тот мир, о котором мы говорим как
о действительном мире, «инаковость» мыслимого мира может
означать только фактическую ограниченность того или иного опыта,
принципиально же всякий «иной» мир должен выполняться в связях
и мотивациях этого мира, который поэтому и является
единственным, — «иной» мир может быть только в этом мире.
Фактически наше сознание всегда может быть ограничено, и
фактический мир в разных его частях доступен то одному, то
другому Я, равно как и одному и тому же в разных степенях
определенности, но одно исключается всем сказанным: допущение какого-нибудь
иного мира вне данного на том основании, то он может быть
недоступен, не дан нашему сознанию, но дан какому-нибудь иному. Это
исключается в силу того, что данное одному какому-нибудь Я
принципиально должно быть доступно для всякого*, — это ясно уже из
разъясненной абсолютности тезиса чистого Я.
После приведенного разъяснения отношения cogito и cogitatum
отчетливее выступает смысл характеризованной выше
феноменологической установки и содержание того «residuum», на которое она
направляется: феноменология как основная философская наука,
действительно, изучает все, но всегда остается на почве
непосредственно данного отношения трансцендентного и имманентного и
все описывает в той коррелятивной связи их, которая также дана
непосредственно. Мы можем пояснить это следующим образом: все
непосредственно данное, — как и все вообще данное, о чем мы
говорим, думаем и проч., что существует в какой бы то ни было
форме бытия, — необходимо является нам с определенным
коэффициентом сознания; исследуя ту или иную область действительности
или бытия вообще, мы можем исследовать ее или догматически-
научно, не принимая в расчет стоящего перед ней
коэффициента, — и такое исследование будет исследованием вполне законным,
оно действительно определит данное X или Y, или иное неизвест-
* Ideen... S. 90.
560
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ное и их алгебраическую связь, — но можем исследовать данное X
также «вместе» с сопровождающим его коэффициентом и в нем, —
такое исследование будет феноменологическим, по крайней мере,
по роду своему. Очевидно, мы можем производить многочисленные
операции над выведением за скобки то одного, то другого общего
множителя и таким образом получать феноменологические
описания разной степени общности и разного характера по существу.
Продолжая эту задачу идеально до конца, мы можем предвидеть,
что останется некоторый коэффициент, общий множитель ко
«всему» заключенному в скобках. Его исследование, как
коэффициента всего, и есть чистая область феноменологии во всем ее
всеобщем и основном значении. Если мы продолжим анализ
нашего образа, то мы тотчас заметим: 1) те трудности, на которые
должна натолкнуться феноменология с первых же своих шагов, и
2) на своеобразие ее проблем и, следовательно, требование их
отчетливой формулировки.
Именно, не может ли оказаться, что тот совершенно общий
множитель, о котором у нас шла речь, окажется просто «единицей», с
которой нам нечего делать? С другой стороны, чем бы ни оказался
этот множитель, уже в силу его общности его исследование не
может дать знания «всего» в его конкретности и специфичности, а
принимая во внимание относительность понятий «общий — частный»,
мы должны признать, что ограничивая свое поле исследования
только самым общим, мы бесконечно сузили бы задачи науки, которая,
действительно, хочет быть основной по отношению ко всему и во
всем. Отсюда, как необходимое требование, возникает, что
феноменология не может и не должна ограничиваться описанием «одного
только» сознания, хотя в то же время чистое сознание и составляет
главную ее цель и задачу. Все может быть объектом феноменологии,
начиная вот с этой сожженной спички и пепла, и вплоть до
мирового и надмирового целого, включая в него и божество, целого —
действительного и идеального, мнимого и реального, безобразного и
прекрасного, порочного и менее порочного.
Но главные ее трудности связаны все же с главной темой —
чистым сознанием: надо не только сделать его объектом
феноменологического исследования, но и показать, что он не представляет
собой той пустой единицы, которая остается вне скобок
действительности и идеальности как лишенный содержания индекс. Таким
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 5б1_
образом, точно определена первая проблема феноменологии: в чем
состоит бытие чистого сознания, как оно изучается как таковое и
каково его содержание?
Несмотря на то, что данный мир опыта есть единственный
фактический мир, этим еще не установлено, что мир вообще или какая-
нибудь вещь необходимо должны существовать, и как мы видели,
всякого рода трансцендентное в силу его относительности может
быть подвергнуто сомнению и отрицанию. Наоборот, имманентное,
даже принимая во внимание отмеченную выше коррелятивность, в
силу его абсолютности, «уничтожено» быть не может, — именно это
обстоятельство побуждает нас сделать чистое сознание
специальным и особым объектом исследования.
Бытие сознания, как оно дано нам в потоке переживаний, есть
всегда некоторая интенциональность, «направленность» на что-
нибудь, но если от этого «что-нибудь» в tro вещном или жизненном
многообразии, при феноменологической установке, и остается
только бесцветное и умерщвленное «нечто», — хотя, нужно подчеркнуть,
что обесцвечение и умерщвление отнюдь не следует понимать, как
негативистическое отношение к действительности, а как было
указано, мы просто ею не пользуемся, и оно в этом смысле
представляет собой мертвый капитал, — если и остается это неопределенное
«нечто», то все же само сознание не теряет особенностей своего
бытия, — и хотя оно при этом необходимо модифицируется, тем не
менее эта модификация не касается сущности бытия сознания*.
Модификация происходит здесь оттого, что из полного потока
переживаний выключаются все связи опыта эмпирического мира, а
следовательно, и все теоретические и иные акты сознания, поскольку в
их направленности констатируется коррелятивность выключаемого
трансцендентного. Не выключенные таким образом переживания
характеризуются тем, что они не нуждаются ни в каком реальном
бытии, не нуждаются в существовании вещей, выступающих в
сознании как явления. Отсюда следует, что бытие сознания может
изучаться, как оно есть, т. е. как абсолютное бытие, и мы теперь имеем
право определить тот смысл, в каком мы говорим об абсолютном
бытии сознания, как имманентного бытия, — «оно принципиально
nulla "re" indiget ad existendiim».
'Ideen-S. 91.
562
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Трансцендентное бытие, хотя также не «зависит» от сознания,
но оно «указывает» на него, и требует его, и притом в его
актуальной сущности, но не в силу их каузального или иного вида взаимной
реальной обусловленности, равно как и не в силу логического
отношения в качестве формы и материи или категории и содержания, а в
силу того интенционального характера всякого актуального
переживания, которое в самом себе носит постоянно подчеркиваемую нами
коррелятивность обоих видов бытия. Трансцендентное бытие всегда
дано, как было указано, в опыте и в определенных и мотивированных
связях опыта, это есть бытие по самому своему смыслу
относительное, для сознания, оно всегда есть только интенциональное бытие.
Трансцендентное бытие всегда относительно и поэтому частно,
и оно относит себя к сознанию как абсолютному, которое имеет
бытие и без отнесения к частному и относительному. Вообще же, ни в
коем случае это «отношение» не должно мыслить, как какое-нибудь
«действительное» отношение, ибо этим уже бытие сознания
ставилось бы в один род, род «действительности», с трансцендентным,
т. е., становилось бы относительным. Правда, мы здесь уже говорим
о двух видео; бытия, что может зародить вопрос об их общем роде,
точно так же мы говорим и о том, и о другом, как о «предметах»,
и т. п., однако, своеобразный характер такой «общности» мы имели
случай отметить по другому поводу, говоря о двух «видах»
интуиции, как о разных «сортах», подлежащих «обобщению», разве только
в силу подведения под формальную общую логическую категорию,
обстоятельство, которое давало нам случай усомниться: подлинно
ли речь идет об обобщении, а не о «формализировании»
соответствующих nomina или соответствующих терминов. Это поистине
два мира, два царства, по Платону, но только царство идей
противостоит царству действительного, не как действительность, а как нечто
принципиально абсолютное. «Между сознанием и реальностью
зияет поистине пропасть смысла. В одном случае бытие оттеняющееся,
которое никогда не может быть дано абсолютно, только случайное и
относительное; в другом случае абсолютное бытие, которое
принципиально не может быть дано в оттенке или явлении»*. Как возможно
отношение двух «вещей», которое связывало бы их не «реально» и
не уничтожало бы в своей коррелятивности абсолютного характера
* Ideen... S. 93.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 563
одной из них, можно видеть опять-таки на примере математики:
всякая вещь «указывает» на число, требует счета, но число не теряет от
этого своего независимого абсолютного бытия, и может оставаться
объектом специального изучения, — число представляет собой
«другое» царство, чем вещи, — вещь нуждается в нем, но оно в вещи не
нуждается, и все-таки есть корреляция в счете чистых чисел и
именованных предметов.
Таким образом, выясняется, как изучается чистое сознание, — в
его абсолютной сущности, — именно в самом его абсолютном
бытии, — и становится понятным смысл того, что выше было названо
феноменологической установкой. Несмотря на то, что мир вещей,
людей, живых существ не уничтожается, мы получаем возможность,
просто оставляя этот мир вне употребления, произвести
«феноменологическую редукцию», направить нашу рефлексию на самые ин-
тенциональные акты и изучать чистое сознание в его абсолютном
бытии. Феноменология имеет своим предметом в найденном нами
«феноменологическом residuum» то абсолютное имманентное
бытие, которое открывается актом рефлексии, направленным на
сознание, на интенциональные переживания как абсолютные
сущности. Что при этом нет речи об эмпирическом, психологическом
или психофизическом сознании, это до такой степени ясно, что на
этом нет надобности останавливаться, но может возникнуть мысль,
не является ли чистое сознание только простой абстракцией от
этого действительного психологического сознания? Но такой
вопрос обнаруживал бы только ту «духовную слепоту», которая вообще
мешает разглядеть специфическое существование идеального
бытия наряду с эмпирическим, но совершенно «независимо» от него.
Всякое идеальное бытие есть бытие sui generis, и оно усматривается
путем особого направления внимания или путем особой
«установки», — в корне неверно поэтому утверждение, видящее в идеальных
«вещах» только продукты нашего абстрагирующего познания. Если
идеальные предметы суть только продукты абстракции, то они не
отличаются принципиально от других не абстрактных предметов
действительности; они могут стоять в коррелятивном отношении к
идеальным предметам, но они не тождественны последним и не
обусловлены ими. Очевидно, все это относится к феноменологической
установке: чистое сознание не есть абстракция, иначе оно было бы
относительным, «естественным» сознанием.
564
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Таким образом, мы получаем общее указание на то, в чем
состоит бытие чистого сознания, остается открытым вопрос о его
содержании. Мы видели, что проблема последнего источника нашего
познания в области феноменологической установки разрешается
точно так же, как и всякого познания: в конечном счете оно
дается через непосредственное усмотрение в прямой интуиции. Само
собой разумеется, что только благодаря своеобразной установке
нашего «взора» становится возможной сама эта интуиция, и
следовательно, она по существу и принципиально должна отличаться от
других интуиции, возникающих в зависимости от других установок.
Действительный мир дается нам в «чувственной» интуиции опыта, —
феноменологический не может быть дан в ней, хотя бы уже
потому, что чувственная интуиция предполагает то самое сознание,
которое мы делаем объектом специального изучения в
феноменологии. Точно так же, — и по тем же основаниям, — это не может быть
интуиция психологического опыта, немыслимого без отношения к
своему физическому корреляту и исторической (социальной)
обстановке, как не может быть и интуицией понимания, имеющей место
в социальных отношениях. Вообще, ведь весь «действительный» мир
нами «выключен», следовательно, и источник познания мира
феноменологического мы должны искать вне тех форм интуиции,
которые приносят с собой познание действительного мира. Начало всех
начал, «принцип всех принципов» самой основной философской
науки требует, чтобы всякую первоначальную интуицию мы брали
такой, как она «первично» является перед нами, в границах ее
данности, — только при этом условии мы получим возможность
производить свое исследование независимо от влияния ложных пред-
взятостей и idola293. Но если бы мы стали утверждать, что sentire est
scire, что всякое познание сводится к чувственным интуициям, как к
своему источнику, мы должны были бы отвергнуть поправку
Лейбница: «excipe: nisi intellectus», стали бы на точку зрения теории,
которая уже достаточно обнаружена в ее несостоятельности. Вообще,
это одна из основных и важнейших задач самой феноменологии —
выяснить и перечислить все виды интуиции, их характер,
отношение, зависимости и объем, здесь мы можем довольствоваться
только указанием на то, что, признавая основное деление интуиции на
две группы: интуиции опыта и интуиции идеальные, проникающие
в существо вещи или предмета, и не предрешая пока вопроса о раз-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 565
личных видах интуиции внутри этих классов, мы, во всяком случае,
должны признать, что интуиции, дающие нам чистое сознание в
его абсолютном бытии, суть интуиции идеальные. Но если
очевидно, что все чувственные интуиции должны быть «выключены» при
феноменологической установке, вопрос о сущностях,
открывающихся только в ней, подлежит более детальному рассмотрению, так
как только после него мы можем ответить и на поставленный выше
вопрос о содержании феноменологии как основной науки. Мы уже
видели на частном примере чисел, что существуют идеальные
интуиции, выключаемые тем не менее из сферы чистой
феноменологии, так как и они, подобно чувственным интуициям, представляют
собой не само чистое сознание, а указывают только, на что оно
направлено, т. е. относятся к сознанию чего-нибудь. Если мы выключим
и эти интуиции, то, по-видимому, еще больше сузим поле
возможной работы феноменологии, что же остается на ее долю?
Ответ на этот вопрос и предполагает более углубленный анализ
того, что остается на долю феноменологии после того, как в
феноменологической редукции будет подвергнуто выключению все то,
что открывается в се специфической установке не как чистое
сознание в своем абсолютном бытии.
III. Феноменологическая редукция294
В «естественной установке» данное нам бытие есть
действительное бытие, в своей первичной данности оно есть данное для нашей
интуиции, — и будет ли это данность вещи, «внешнего восприятия»
или данность «внутреннего опыта» или какая-либо иная данность,
поскольку речь идет о действительном мире, мы можем говорить
о ней, как о данности интуиции опыта. К существу опытной
интуиции относится, что всякий даваемый ей объект дается в
определенной обстановке пространства и времени, всякая возможная
мотивация чувственной данности заключается в отнесении объекта к его
пространственно-временной среде. Объект может обладать
известным самостоятельным постоянством и при перемене этих условий
его среды, как может приобретать постоянство «несамостоятельное»
в силу того, что он рассматривается оторванно от этой среды и
вообще от некоторого «целого», — одинаково его данность есть в
конечном счете данность опытной интуиции. Эта зависимость объекта
как в его самостоятельности, так и в его отвлеченности, делает его,
566
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
в конце концов, совершенно «случайным» в том смысле, что самое
бытие его «случайно» и зависит от «случайной» обстановки. Сама
повторяемость объекта в разных пространственно-временных
условиях указывает на эту случайность, — абстрактный предмет не
менее «случаен» поэтому, чем конкретный, во всяком случае, его
необходимость не простирается дальше того объема пространственно-
временных данностей, от которого он отвлечен, — в этом смысле
абстрактный закон не менее «случаен», чем конкретный факт. На
почве «естественной установки» поэтому неизбежно вырастает и
развивается юмовский скептицизм, ограничиваемый только
необходимостью прошедшего времени, factf95. Неслучайность,
необходимость устанавливается новым путем, и мы видели, что иные
установки, чем «естественная», открывают перед нами иные отношения
и показывают существенно иные «предметы», которые, однако, стоят
в коррелятивном отношении к предметам действительной
установки, и этим только сообщают ей самой тот характер необходимости,
который по существу «действительному» не присущ.
Но следует обратить внимание на то обстоятельство, что, говоря
о возможности изменения обстановок среды, объекта, изменения
его условий и, следовательно, его самого, мы все же допускаем
возможность не только «узнать» его в его новой обстановке, но даже
признаем, что он необходимо должен сохранить нечто
существенное, чтобы остаться «тем же» при всех «случайностях» своего
обнаружения. И это нечто, относящееся к существу объекта, вовсе не
есть продукт абстракции, как мы видели, но оно уже для того, чтобы
быть абстрагированным, должно быть усмотрено как
существенное. С другой стороны, оно не есть и продукт индуктивного
обобщения, как утверждают некоторые теории, так как сама индукция
основывается на его предположении и так как мы вовсе не
нуждаемся в бесконечном повторении для того, чтобы, наконец, выделить
существенное, или чтобы оно «само» для нас выделилось, осело
lanquam in fiindo (Bacon). Милль утверждал, что тот, кто сможет
ответить на вопрос, почему в одном случае тысячи наблюдений мало
для получения обобщений, а в другом — достаточно одного,
разрешит труднейшую задачу индукции, но Милль не усмотрел того, что
эта задача уже была разрешена Платоном, но только это вовсе не
была задача индукции. Существенное усматривается нами не путем
процесса умозаключения, а путем такой же непосредственной ин-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 567
туиции, как и то, что усматривается опытной интуицией, и таким
образом, наряду с опытной интуицией с ее разнообразными
видами, мы говорим об интуиции идеальной также с ее
разнообразными видами.
Обращаясь к 1уссерлю, мы находим у него такое
противопоставление «индивидуальной интуиции» интуиции сущности
(Wesenserschauung), или «идеации»*, где сущность получается не
путем абстрактного установления некоторого «что», обозначающего
сущность индивидуального бытия, а благодаря тому, что это «что»
может быть установлено в идее («in Idee gesetzt»). То, что
усматривается таким образом в идее, и есть чистая сущность, или эйдос, —
при этом, как мы уже говорили, речь может идти как о высших
категориях, так и об их спецификациях, вплоть до полной
конкретности. Таким образом, в сущности, или эйдосе, мы имели совершенно
новый, нового вида, предмет, — принципиальное различие обоих
видов интуиции есть и принципиальное различие их предметов:
факт и эйдос, к каждому факту или индивидуальному предмету
относится своя сущность, свой эйдос, и всякой сущности
соответствуют возможные индивиды.
Сообразно этому и науки были нами разделены на науки о
фактах и на науки о сущностях, или эйдетические науки, в которых
факты опыта не могут выполнять обосновывающей функции. К
чистым наукам о сущностях относятся чистая логика, чистая
математика, чистое учение о времени, пространстве, движении и
подобное, но так как всякая эмпирическая наука, каков бы ни был род ее
опытного обоснования, нуждается в некоторых формальных
принципах, то можно здесь вообще говорить о комплексе формально-
онтологических дисциплин, который наряду с формальной
логикой в узком смысле охватывает и остальные дисциплины «mathesis
universalis», имеющей дело с «предметами вообще»**. Но так как, с
другой стороны, всякий факт заключает в себе и материальный
элемент сущности и всякая истина, относящаяся к чистой сущности,
должна предстать в форме закона, связывающего данные факты, то
является возможность говорить еще о материальных эйдетических
* Ideen... S. 10.
** Ideen... S. 18 f. Дальнейшее об отношении формально-логического и
формально-онтологического см. S. 307.
568
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
онтологиях. Эмпирические конкретные предметы, рассматриваемые
со стороны их материальной сущности, объединяются в особые
«региональные области» (Region) эмпирических предметов, которые
представляют их высший материальный род, образуя, таким
образом, «категории региональной области» наряду с аналитическими,
«формальными категориями», относящимися к формальной
сущности предмета вообще. В этом смысле мы можем говорить,
следовательно, например, об онтологии природы, как эйдетической науке
о физической природе вообще по отношению к естественным
наукам, понимая под ней совершенную рационализированную
эмпирическую науку, составляющую самое всеобщее и принципиальное
основание наук о природе. То же самое относится и к другим
региональным областям: всякой региональной области соответствует своя
региональная онтология со своим рядом покоящихся на ней
региональных наук; в зависимости от того, составляют ли высшие роды
наук региональные (конкретные) роды или только их
несамостоятельные компоненты, и сами науки выступают, как науки
конкретные или абстрактные*. Вместе с формальными онтологиями,
относящимися одинаково ко всем наукам, эти региональные онтологии
или региональные эйдетические науки в их спецификации
составляют существенный теоретический фундамент всякой
эмпирической науки.
Приняв сказанное во внимание и зная, что феноменология тоже
есть наука эйдетическая, о сущностях, мы теперь можем ответить на
вопрос: что же остается на долю феноменологии, по выключении
всех предметов эмпирических наук, равно как и предметов
нашего практического, эстетического, культурного и проч. отношений к
ним, и в каком отношении она стоит к другим эйдетическим наукам,
т. е. выключаются ли и они в феноменологической редукции и в
какой степени, и что остается после такого выключения?
Едва ли могут возникнуть затруднения для выключения тех из
вышеназванных материальных онтологии, которые относятся к
региональным сферам индивидуального бытия, обнимающих, хотя и в
высшей рационализированной форме, но именно те области
предмета, которые относятся нами к cogitatum. Трудности возникают
прежде всего в отношении чисто логического, и вообще всего того,
* Ideen... S. 134.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 569
что обнимается у Гуссерля термином mathesis universalis, того, что
составляет сферу формальной онтологии, так как здесь речь идет не
о реальных предметах, а о «всеобщих» предметах и «сущностях»*,
составляющих высшие категории, обязательные для всех предметов и
наук. Формальная онтология, следовательно, имеет дело с предметом
вообще, который не составляет региональной области в том смысле,
в каком мы говорим об областях предметов действительного мира;
если до известной степени «предмет вообще» и составляет
региональную категорию, то только в переносном и образном смысле,
строго говоря, это не региональная, а quasi-региональная область.
Трудности возникают в особенности по отношению к логике по той
причине, что феноменология должна не только следовать ей, но она
постоянно имеет дело с теми же предметами, что и логика, она
постоянно образует понятия, суждения и выводы. Но не нужно
забывать, что феноменология, исследуя чистое сознание, имеет в виду
только чисто описательный анализ, производящийся в чистой
интуиции, тогда как в логике ее собственный предмет, как и сущность
формально-категориального вообще, уже сами предполагают и
требуют феноменологического основания. Поэтому, феноменология
требует еяохл и по отношению к эйдетической сфере логического, и
вообще всей maihesis universalis, — для нее даже формальные теории
логики, алгебры и других математических дисциплин также
остаются вне использования, остаются «выключенными»; для нее и эта
область остается трансцендентной, хотя и в другом смысле
трансцендентности, чем трансцендентность действительного мира.
Этот вопрос о «выключении» логики из сферы феноменологии
имеет, на наш взгляд, вообще принципиальное и основное значение,
и не только в указанном здесь смысле. Напротив, в этом смысле
вопрос не так труден, как кажется с первого взгляда, и уже априорно
предрешается именно тем, что феноменология — чисто
описательная дисциплина и, следовательно, должна быть до-теоретической
не только в смысле свободы от не-практических оценок и
мотиваций, как не может быть свободна от них логика и наука вообще, но
до-теоретична и в смысле самой логики, т. е. можно бы сказать до-
логична. Трудности, которые, действительно, коренятся в этом
вопросе, касаются, следовательно, не столько способа его разрешения,
* Ideen... S. 111.
570
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
сколько способа понимания этого разрешения. Дело в том, что, с
одной стороны, феноменология все же чисто теоретическая наука, —
в самом широком смысле этого слова при его противопоставлении
тоже в самом широком смысле практическому, — и это абсолютно!
Но, с другой стороны, утверждая, что феноменология должна быть
до-теоретической, не приписываем ли мы ей некоторого
практического значения, хотя бы в том смысле, в каком Гегель предлагал
войти в воду, чтобы научиться плавать? Что нечто может быть названо
до-теоретическим, — это мы очень хорошо понимаем, так как
фактически очень многому в жизни научаемся до всякой теории, но как
понимать до-теоретическое здесь? В согласии со всем вышеизложенным,
мы можем только еще раз подчеркнуть, что в феноменологии речь
идет именно об интенциональности, и притом в ее актуальной
модификации, так как, в конце концов, in potentia всякое cogito актуально.
Конечно, и актуальное можно назвать sui generis «практическим», но
речь идет не о словах, а о правильном понимании употребляемых
здесь терминов, и, по преодолении указанных затруднений в
понимании, все же вопрос остается последовательно разрешенным.
Но, как указано выше, здесь имеются трудности совсем иного
свойства, — это общее возражение против возможности
интуитивного познания и чистого до-логического описания вообще,
возражения, которые и служат самым сильным препятствием для
выключения сферы логического из феноменологии, и следовательно,
препятствием стать ей действительно основной философской
дисциплиной. Нужно сказать, что простая апелляция к интуиции
потому не кажется убедительной, и дает только повод торжествовать
противникам, что она в самом деле недостаточна, пока мы не можем
указать, что же собственно в самой интуиции ставит ее в такое
исключительное положение, что дает возможность говорить об
интуитивном до-теоретическом познании. Простое противопоставление
интуиции, понятно, ровно ничего не говорит, так как, возьмем ли
мы опытную интуицию или интуицию идеальную, — то, в чем они
противопоставляются понятию, только и делает понятным их
различие, но не показывает, как есть чисто интуитивное познание. Мы
можем пойти еще дальше, — и тут сторонники интуитивного
познания если и не укрепляют своей позиции, то все же сбивают с
позиции своих противников, во всяком случае, лишают их права
пользоваться тем оружием, каким те думают нанести интуиции самый
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 571
сильный удар, — ведь по отношению к понятию имеет всю силу тот
же аргумент, что и по отношению к интуиции: непонятно, как есть
чисто интеллектуальное познание. Кантовское решение здесь
вообще ни при чем, так как из двух непонятных вещей нельзя сделать
одну понятную, — интуиция и понятие — не «части» и не
абстракции. Вопрос просто-напросто идет о том, как мы понимаем
понятия, и соответственно, как мы понимаем интуиции, а можно
поставить и вопрос, как мы понимаем понятия с «подводимыми» под них
интуициями. Пока нет ответа на этот вопрос, — а его нет, — все
возражения интеллектуализма против интуитивизма не имеют
принципиального значения. Правда, это не обосновывает интуитивизма,
но зато избавляет его от ответа на мнимые возражения, и ставит
перед ним, — как и перед интеллектуализмом, — действительную и
насущную проблему. Не случайно, что эта проблема становится
ясной только на почве самого интуитивного описания, и поэтому, в
конце концов, интуитивизм призван разрешением ее оказать
большую услугу и враждебному ему интеллектуализму. Гуссерль, однако,
здесь этой проблемы не касается, и мы поэтому здесь хотели только
указать на нее по причине ее кардинальной важности, но к попытке
разрешения ее перейдем уже ниже, оставляя проблему в следующей
форме: как есть действительное вообще, как оно есть в интуиции
и как — в понятии, — так как ближайший анализ открыл, что
простого факта, что у нас есть интуиции и понятия (или интуиции,
подведенные под понятия), явно недостаточно, — это мертвые термины,
засушенные растения, гербарий, а не «жизнь».
Итак, допуская, что интуитивное познание, как до-теоретическое
вообще, так и до-логическое, есть; следовательно, если оно есть, то и
область чистой логики и формальной онтологии подлежит
выключению при феноменологической шоуу\. Затруднения, на которые
мы при этом натолкнулись, таким образом, затруднения не столько
принципиальные, сколько просто некоторые трудности, требующие
для своего устранения ясности и отчетливости понимания.
Несколько иначе, и притом сложнее, обстоит дело по отношению к
некоторым дисциплинам материально онтологическим, поскольку и они
направляются не на cogitatum, a на само cogito; вопрос об их
«выключении» не только требует ясности в своем решении, но может
вызвать и принципиальные недоразумения, и притом очень
щепетильного свойства. Дело в том, что при выключении действитель-
572
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ного мира при феноменологической установке для нас не
встретилось никаких препятствий вместе с «природой», «человеком»
и проч. выключить и «действительное», эмпирическое, животное и
человеческое, сознание. Но в числе онтологии материальных мы
встретим наряду с «природой» и проч. опять «сознание», и на этот
раз не эмпирическое, действительное, а эйдетическое, идеальное,
взятое, усматриваемое, в его сущности. Как было сказано,
феноменология также рассматривает сознание идеально, в его сущности, и
она есть материально эйдетическая наука*, — не оказывается ли она
тождественной с материальной онтологией сознания? После
стольких усилий это был бы плохой результат, так как феноменология не
только утеряла бы свое значение основной философской науки и
заняла бы место в ряду других наук, требующих «основания», но и само
ее место оказалось бы одиозным, «психологическим» местом-, —
очевидно, что онтологический характер рассмотрения против
эмпирического нисколько дела по существу не менял бы: рациональная
психология есть все же психология, а не основная философская
дисциплина. Из этого ясно, до какой степени щепетилен вопрос, к
которому мы подошли. Гуссерль разрешает вопрос следующим образом**:
согласно сказанному выше, феноменология, сосредоточивая все
свое внимание на чистом сознании, обращается в своей
специфической установке исключительно на имманентное. Но в таком случае
не только действительность окажется для нее трансцендентностью,
но и не все сущности останутся в сфере имманентного, напротив,
многие из них придется отнести к трансцендентному, именно не
только «сущности» материальных онтологии «природы», но и такие
сущности, как «человек», «человеческое ощущение», «душа» и
«душевное переживание» (переживание в психологическом смысле),
«личность», «свойство характера» и т. п., являются для феноменологии
трансцендентными сущностями. Таким образом, получается
возможность подвергнуть редукции и предметы материально-эйдетических
наук, так как принципиально признано, что никакая
трансцендентность не может служить предпосылкой при исследовании и чистом
описании чистого сознании, феноменология должна до конца
оставаться в совершенной независимости.
* Ср. Ideen... S. 133.
** Ideen... S. 113-115.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 573
Нет сомнения, что решение Гуссерля принципиально правильно,
и во всяком случае, последовательно, — феноменология,
действительно, должна оставаться абсолютно независимой, — все, что ей
ни понадобилось бы, — хотя бы из мира других установок или
областей идеального, — она должна сама для себя установить. И тем
не менее именно принимая во внимание указанную щепетильность
вопроса, нам кажется, что ответ на поставленный вопрос должен
содержать в себе больше определенности, больше наглядной
ясности. Прежде всего может показаться, что «выключаемые» сущности
суть сущности того же порядка, что и невыключаемые, остающиеся
в сфере феноменологической установки, между тем, на самом деле
этого нет, следовательно, простого указания на различие
имманентного и «трансцендентных сущностей» недостаточно, необходимо
указать, что собственно относится, так сказать, к сущности
«трансцендентных сущностей». С другой стороны, мы выключаем
«душевные переживания», — в психологическом смысле, — и не только в
их эмпирической действительности, но и в их сущности, но если
мы не укажем этой сущности, то рискуем впасть в ошибку: или
выключить вместе и чистое сознание, или оставить не одно чистое
сознание, — как очевидно, здесь и кроется источник щепетильности
всего вопроса.
Между тем неясность здесь вовсе не представляется
непреодолимой. Начать с того, что хотя мы в материальных онтологиях
(основных науках по отношению к различным региональным областям
предметов) и имеем дело с сущностями, т. е. с идеальными
предметами, но все же мы получаем их в иной, — им самим свойственной, —
установке, чем в феноменологии. Эта установка в известном
смысле «ближе» к той, в которой мы получаем «действительный мир», к
естественной, так как и она носит специально научный, а не
философский характер, в том отношении, что и в ней идеальные
предметы берутся вне необходимой их корреляции к сознанию. Наоборот,
при феноменологической установке, если мы и обращаемся к этим
предметам, то в их корреляции к сознанию, а само чистое сознание
получаем только вследствие специфической установки, при которой
все коррелятивные ему предметы оказываются в скобках. Этим
различием уже несколько ближе определяется характер
трансцендентности сущностей материальных онтологии, выключаемых при
феноменологической установке.
574
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Но это пояснение не менее еще обще, чем пояснение fyccep-
ля, — оно одинаково относится как к онтологии «природы», так и
к онтологии «души» и «духа», между тем, последние находятся еще
под специальным подозрением. Можно ли выключать и их,
рассматриваемых в их сущности? Не является ли здесь разница установок
одним «разговором»? Но что, в самом деле, относится к сущности
души, душевного, духовного, психического? Беря их в естественной
установке, мы видим, что они в большей или меньшей степени могут
поддаваться абстрактному изучению, но не только как конкретные
предметы, но и в этой своей абстрактности они стоят в
необходимом, т. е. эмпирически постоянном, отношении к предметам
«природы». И это отношение не есть логическое, или какое-нибудь
идеальное отношение, а есть отношение, входящее в эмпирический состав
самой же действительности как отношение действительное.
Перейдем к новой установке и станем рассматривать те же предметы, как
идеальные предметы, в их сущности, — мы увидим, что эти
отношения остаются вместе с ними. По существу и принципиально,
следовательно, объекты психологии и так называемых наук о духе вообще
не могут рассматриваться иначе, как в их «натуральной», — и
социальной, добавим, — обстановке или среде, и как в естественной
установке мы констатируем «влияние» среды и обусловленности самих
названных объектов, так и в идеальных науках мы ищем выражения
этой обусловленности в «законах» и эссенциальных связях. Но ведь
ни о какой обусловленности в феноменологическом изучении
сознания речи нет, — описывать «чистое» сознание в его натуральной
или социальной обстановке и обусловленности, взятых хотя бы в их
сущности, было бы невыносимой нелепостью, так можно было бы
говорить и о том, что «четыре» или «тринадцать» обусловлены
«развитием производительных сил» или «состоянием почвы и климата».
Дело ясное, что при феноменологическом устремлении зрения мы
даже и не увидим ничего подобного, нужно только, чтобы
устремление это действительно было совершено, — тогда на самом деле
откроется свободное поле для чистого описания чистых данных
сознания, чистых интенциональностей или переживаний.
Наконец, указание характера выключаемой трансцендентности
требуется и еще с одной стороны: имманентное, как абсолютное,
может столкнуться еще с проблемой абсолютного, как
трансцендентного, может явиться мысль рассматривать чистое сознание, как
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 575
сознание Божества, — простая редукция теологических предметов
на том основании, что они относятся к «практическим» объектам, а
последние во всех установках подвергаются редукции для
феноменологии, явно недостаточна, так как сознание Бога, — как,
например, у Беркли и в мистицизме, — может играть роль и в качестве
чисто теоретического мотива. Явное дело, что это Абсолютное есть
абсолютное в совершенно ином значении и смысле, чем тот, о
котором идет речь при обсуждении имманентного опыта, как на это и
указывает Гуссерль*, но и здесь положение вещей оставалось бы
темным, если бы нельзя было провести указанного выделения чистого
сознания, — после него проясняется и необходимость редукции в
отношении к теологическим объектам сама собою.
Таким образом, после тщательного выяснения всего того, что,
действительно, является трансцендентным, и феноменологической
редукции его выключения из сферы нашего взора, мы приходим к
тому, что перед нами остается в качестве сферы исследования одно
чистое сознание, т. е. область чистых переживаний, рассматриваемая
в свойственной им сущности, идеально и эйдетически.
Многообразие и сложность потока переживаний, как он является нам в
естественной установке, обещает и для феноменологии такое же богатое
и разнообразное поприще исследования, так как, как мы видели,
существенное свойство сознания: быть направленным на что-нибудь,
быть сознанием чего-нибудь, сохраняется и в феноменологической
установке, т. е. оно остается «интенциональным переживанием». Ин-
тенциональность характеризует сознание и позволяет нам поэтому
весь поток переживаний обозначить, как поток сознания и как
единство одного сознания**. Но интенциональность переживаний
состоит именно в том, что сознание всегда есть сознание чего-нибудь, в
самом общем значении восприятие есть восприятие чего-нибудь,
суждение — суждение о чем-нибудь, оценка, любовь, деятельность
и т. п., — все предполагает свое что-нибудь, на которое они
направляются, — все, что было обозначено выше, как cogito, которое (или
так как оно) и есть не что иное, как особый модус интенционально-
го, интенциональность explicite, акт в широком смысле. Explicite296
интенциональное переживание есть некоторый «совершенный» акт
* Ideen... S. 110-111.
** Ideen... S. 168 f. u. S. 235.
576
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
cogito или, пользуясь выражением Канта, «ich denke»297, — во
всяком актуальном cogito направляется «наш» взор на «нечто», предмет,
вещь, обстоятельство и т. д., хотя и не во всяком переживании эта
актуальная направленность интенционального «единства сознания»,
«нашего взора», «Я», дана актуально, напротив, мы знаем интенцио-
нальное и в другой его модальности, где «акт» интенциональности
еще «не совершен», еще только «побуждение к акту» (Aktregung):
потенциальное поле восприятия остается как окружающий фон или
задний план актуального восприятия, где с помощью новых
«совершений» мы почерпаем и новые предметы, не «создавая» и не
присутствуя при их «появлении», а только переводя из одной
модальности в другую. Таким образом, сам собой здесь выдвигается вопрос
как по отношению к «совершенным» актам, так и по отношению к
«несовершенным», к «побуждениям», вопрос о «единстве сознания»,
единстве интенциональных направленностей, о «нас», об ego cogito,
словом, о Я, направляющем свой взор на предмет, на нечто,
наличность чего характеризует существенно все сознание, весь поток его,
как интенционстьный поток переживаний. Возникает вопрос: кто —
это Я? Не подлежит ли и оно феноменологической редукции, не
составляет ли cogito простой «совокупности» переживаний, «a bundle
or collection of different perceptions», по крайней мере, как предмет
феноменологии? А с другой стороны, не вносится ли с ним, если он
не «выключается», то «естественное» или какое-либо иное
трансцендентное, от которого мы старались предохранить себя до сих пор?
Нет надобности опять возвращаться к повторению сказанного
о психическом и духовном, — в своей эмпирической и идеальной
данности они уже подвергнуты редукции. Точно так же очевидно,
что это «Я», это «наше» сознание, «наше» cogito, «наше»
феноменологического исследования не есть эмпирическое «я» философа,
производящего феноменологическую установку, — оно в таком же смысле
«наше», в каком, «мы» производим дедукцию теоремы или мы
принимаем, что две величины, равные порознь, третьей равны, «мы»
«представляем» содержание закона противоречия и т. д., и т. д.* Явно, что
и в феноменологии, как и во всех подобных случаях, речь идет не
только об обороте речи, носящем «субъективную» форму, но — об
исследовании, производимом над предметами, не теряющими нима-
* Ideen... S. 122.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 577
ло в своей идеальности от этих эмпирически неизбежных оборотов
языка. Следовательно, в поставленных нами вопросах речь идет
просто о том, можем ли мы констатировать такое единство в интенцио-
нальных переживаниях, которое могло бы войти в феноменологию
как «чистое я» сознания, и если вообще можем, то входит ли оно в
состав феноменологического исследования, или тоже должно быть
подвергнуто редукции?
Этот субтильный вопрос требует особенного внимания и
предосторожности по отношению ко всякого рода «теориям» и
«мировоззрениям», в особенности по отношению к теориям негативным,
отрицающим вовсе значение того, что называется здесь «я», или
наоборот, сводящим все предметное к его активной деятельности.
Зато при беспристрастном и «чистом» отношении к вопросу в его
решении обнаруживается особенная важность самой
феноменологии как основной философской дисциплины. Любопытна в этом
отношении та эволюция, которую претерпели взгляды Гуссерля, в
«Логических исследованиях», где идея феноменологии еще не
реализуется во всей своей определенности и законченности. Гуссерль
скептически решает вопрос о «чистом Я»*, в опыте обоснования
феноменологии, но при установлении того, что может быть
подвергнуто редукции, он свой взгляд меняет. Мы не можем не
констатировать того, думает он, что всякая совершенная cogitatio принимает
explicite форму cogito" т. е., разумеется, Ego cogito. Переживания в
своем беспрерывном потоке многообразно меняются, мы их можем
обозначать каким угодно именем, но одно не меняется, остается
постоянным и тождественным, и это есть Я, к которому относятся все
эти разнообразные переживания и акты, «из него проистекают», в
нем актуально «живут». Но если мы перейдем к только
потенциальному фону актуальных переживаний, мы и здесь с неизбежностью
приписываем этому фону принадлежность к Я, объединяющему его
вместе с актуальными переживаниями в один поток, где имеет место
постоянный переход из одной модальности сознания в другую. Но,
с другой стороны, если бы мы захотели найти это Я в самом потоке
переживаний, интенциональностей, найти как одно из переживаний
ФСр. Ideen... S. 110. Ср. также 2-е изд. Log. Untersuch., Untersuch. V, Erstes
Kapitel.
-Ideen-. S. 109 f. Ср. S. 160.
578
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
среди других, нас постигла бы неудача, — оно не появляется и не
исчезает вместе с ними и среди них, и в то же время оно
констатируется постоянно и как постоянное оно именно «направляет» свой
«взор» «через» самые переживания, через всякое актуальное cogito,
на предметное. Всякая cogitatio может меняться, появляться и
исчезать, безразлично, идет ли речь о необходимо преходящем или мы
это констатируем только как факт, тогда как чистое Я оказывается
принципиально необходимым и при всей возможной смене
переживаний абсолютно тождественным, а как таковое, следовательно, уже
не может ни в каком смысле составлять реальную часть или момент
переживания. Таким образом, оно выступает как некоторая
своеобразная «трансцендентность в имманентности», — и как таковая,
т. е. в самом имманентном находимая, она, очевидно, уже не может
быть подвергнута феноменологической редукции, а входит в
состав содержания феноменологии, так как необходимо и по существу
быть «направленным на что-нибудь», «быть занятым чем-нибудь»,
что-нибудь испытывать, страдать и т. д., и т. д., требует исхождения
из Я или направления к нему. Но именно эти же существенные
свойства отношения Я и «его» переживаний указывают на то, что чистое
переживающее Я само для себя (fur sich) не может быть взято и не
может быть сделано, поэтому, собственным объектом
исследования, — вне своих «способов отношения» оно «пусто» в своем
существе и у него нет никакого объяснимого содержания, само по себе
(an und fur sich) оно даже не поддается описанию: «чистое Я и
больше ничего» («reines Ich und nichts welter»)*.
И здесь нам не достает ясности представления, так как и здесь
необходимо больше определенности в том, что такое эта
«трансцендентность»? Каким образом то, что чистое Я, как некоторая
трансцендентность, не подвергается тем не менее редукции, согласуется
с самой постановкой проблемы: произвести феноменологическую
установку на одно абсолютное, имманентное, и редуцировать все
трансцендентное, как не абсолютное, а обусловленное,
мотивированное, относительное? Строгость метода требовала, чтобы мы
редуцировали даже абсолютное трансцендентное, как Бог, почему же мы
оставляем другое трансцендентное, которое, конечно, тоже должно
быть абсолютным, но все же оно подобно первому трансцендент-
• Ideen.. S. 160.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 579
ному. Исчерпывающий ответ на этот вопрос могло бы дать само
феноменологическое исследование чистого Я, которое мы здесь еще
не можем предпринять, поэтому, мы должны ограничиться только,
по крайней мере, устранением возможных недоумений, предполагая
не столько решение проблемы, сколько намечая тот путь, в
направлении которого она может быть решена.
Основное затруднение возникает уже в чистом описании этого
чистого Я: действительно, наше сознание, как актуальное, так и
потенциальное, необходимо относится к Я, но оно само, как
переживание, в то же время среди этих переживание не дано. Всякое
переживание есть «мое» переживание, подобно тому, как, всякое «что-
нибудь» есть «что-нибудь» по отношению к сознанию. Это подобие
находит свое выражение и в языке, когда мы различаем перцепцию
и апперцепцию, сознание и самосознание. Но именно «выделение»
этого «само» из сознания и представляет трудности по той причине,
что мы не находим его в самом сознании, оно оказывается по
отношению к нему «трансцендентным», мало того, если мы вдумаемся
в смысл этого «трансцендентного», как оно констатируется в
естественном мышлении, мы увидим, что это «трансцендентное» в
самом истинном первом значении. Для наивного сознания
«предметное» не составляет трансцендентности в собственном смысле; оно
«свое», «здешнее», несомненно и в своей полноте данное, но вот это
некоторое «само», которое констатируется на каждом шагу, какое-то
не-здешнее, «появляется» неизвестно откуда, «уходит» неизвестно
куда, но и уходит ли? Не остается ли оно, по крайней мере, в
своем влиянии из нездешнего на здешнее? и т. д., — вопросы, которыми
впервые и определяется смысл «трансцендентного». Мы
производим феноменологическую редукцию, но и при новой установке это
трансцендентное ускользает от нас опять как будто нездешнее, — и
в то же время оно «влияет» и не может быть редуцировано вместе со
всем, что теперь было названо трансцендентным. Его бытие
принадлежит к его собственной сущности, — истинное, подлинное бытие,
бытие по существу, но бытие не коррелятивное бытию сознания, как
всякое другое трансцендентное, эмпирическое или идеальное бытие,
а бытие абсолютное, по отношению к которому только, поскольку
оно выражается актуально в сознании, есть и все остальное; это —
бытие самого же имманентного сознания. Переживания приходят
и уходят, их поток не прекращается, но сами они всегда и во всем
580
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
разнообразны, они «даются» в абсолютности своих актов, качеств и
характеров, но не в абсолютной непреходимости своего бытия.
Бытие как таковое, абсолютное бытие, относится к сущности Я, и оно
может быть трансцендентно только по отношению к возникающим
переживаниям, по отношению к становлению в потоке
переживаний. Может ли это своеобразное трансцендентное быть
редуцировано при установке на сущность чистых интенциональностей?
Различая трансцендентность предмета и Я, мы тем самым
устанавливаем для них некоторое родовое общее, но необходимо
постоянно иметь в виду его границы, чтобы предотвратить
возникновение бесплодных проблем и вредных смешений, которые могут
возникнуть при переходе через названную границу. Наиболее опасным
нам представляется соблазн со стороны метафизических проблем,
возникающих по поводу отношения Я и предмета в форме
отношения субъекта и объекта. С одной стороны, на непредвзятое до-
теоретическое исследование могут оказать влияние эти проблемы в
теориях субъективизма всех оттенков, как и его противоположной
крайности — уничтожающего отрицания самого Я; с другой
стороны, обобщение «предмета» и «Я» как трансцендентного, может дать
предлог для наделения каждого из них свойствами другого, —
рискованный для основной науки путь в направлении материализма и
спиритуализма.
Что касается первой апории, то она возникает из задачи, по
нашему мнению, в основной философии мнимой. Некоторые
философские направления особенно беспокоит так называемый
дуализм Я и предмета, субъекта и объекта. Известно, как много сил и
остроумия было потрачено на «преодоление» этого «дуализма»,
однако одно основное обстоятельство дает право считать эту задачу
мнимой для основной философии. Дело в том, что главным камнем
преткновения в этой проблеме служит недоумение, «непонимание»
того, как же можно установить понятное отношение между
субъектом и объектом, раз самой постановкой вопроса они ставятся на
двух полюсах нашего мышления, так что заранее исключается
всякая возможность перехода от одного к другому, а, тем более,
возможность необходимого будто бы для искомого взаимоотношения
сходства обоих. Для нас существенно здесь не столько то, что это
постулирование «сходства» до известной степени сужает
проблему и указывает на предвзятую антиципацию в самой постановке
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 581_
вопроса о Я, сколько сама неизбежность этого ограничения,
доказывающая безо всякой возможности оговорок, что проблема эта
берется по отношению к действительности и в смысле
действительности.
В самом деле, будучи мнимой проблемой для основной
философии, эта проблема имеет совершенно насущное значение в сфере
действительного, так как она всецело только на его почве и
возникает. Она проистекает из действительной раздельности субъекта и
объекта и только в таком виде и существует, т. е. это проблема
прежде всего психологии как науки о субъекте и субъективных
процессах и явлениях действительности. Поэтому и всякая попытка решать
такую задачу, а, следовательно, и попытка преодоления названного
дуализма, есть попытка по существу своему психологическая.
Рассматривая дело по существу, мы можем открыть только
«тождественность», на которую натолкнулся еще Шеллинг. Всякое сознание есть
сознание чего-нибудь и всякое что-нибудь есть только для сознания,
само же Я мыслимо только в своих актах, которые и суть акты
сознания. Не уловить этого и стремиться философски «преодолеть» тут
дуализм, значит тем самым не желать сойти с психологической точки
зрения. Конечно, это — точка зрения не непременно
психологическая, но она непременно теоретическая точка зрения по отношению
к действительному, следовательно, вообще или натуралистическая,
или метафизическая. Но и метафизическая точка зрения ведь есть
уже определенное понимание, она может дать иное решение, чем
психология или другие науки, но источником теоретических
колебаний между субъективизмом и объективизмом неизбежно остается
названное принятие проблемы от действительности. Что касается
основной философской науки, о которой только и идет у нас речь,
то она характеризуется своей полной индифферентностью не
только ко всякому решению этого вопроса, но, как видно, и к самой
постановке его, — индифферентностью, как принципом и методом,
а не результатом философской беззаботности.
Во втором случае мы имеем дело с теоретическими выводами,
научный (натуралистический или психологический) или
метафизический характер которых еще очевиднее, поэтому и «выключение»
их представляется делом более легким, но несколько слов о нем
нужно сказать, чтобы тем более отчетливо оттенить собственное и
существенное значение трансцендентности Я. То, что может, на наш
582
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
взгляд, породить здесь неясность или вызвать недоразумение,
заключается в том, что, называя одинаково «предмет» и «Я»
трансцендентностью, мы можем дать повод обобщить их на почве их
феноменологической характеристики, как «пребывающих» или
«тождественных» в себе, как «того же», что лежит в «основе» один раз в качестве
трансцендентного «оттеняющегося», другой раз в качестве
исходящего в актах. Может возникнуть соблазн подсунуть в том или другом
или даже в обоих случаях на место «того же» понятие субстанции, и
тут ясно, что мы вынуждены будем отдаться во власть
соответствующей теории. Однако, отстранив всякие теории, нетрудно убедиться,
что между «пребыванием» или «тем же» предмета и «пребыванием»
Я лежит существенное и по существу различие. Говоря о предмете,
мы относим его пребывание к его сущности, но это нисколько не
характеризует рода или вида его бытия, тогда как пребывание и «то
же» Я относится как раз не к сущности Я, так как эта сущность в его
актуальности, но к сущности его бытия, мало того, так как предмет
есть предмет только в его коррелятивности сознанию, то и к
сущности бытия предмета, как действительного или как идеального, все
равно. Поэтому, хотя мы и говорим в обоих случаях о
трансцендентности, по отношению к предмету речь идет о реальной (опытной)
действительности, которая реально же оказывается и преходящей
или, если даже речь идет об идеальной предметности, то она не
обнаруживается как трансцендентное в имманентном, — в
разъясненном выше смысле, — а как нечто, на что направлено сознание.
Напротив, трансцендентность Я относится к совершенно иного рода
бытию, к сущности которого относится пребывание и
тождественность, а потому к бытию не только не преходящему в своей
сущности, но и в своей собственной (абсолютной) «действительности».
Это оправдывает и сказанное выше о коррелятивности предмета и
абсолютности Я. Предмет — коррелятивен, но Я стоит в сознании
абсолютно, так как только к нему все и «относится», а оно само не
«относится», а осуществляется, по-своему «реализуется» в бытии
сознания, сообщая ему абсолютность, необходимую для отнесения к
нему, в свою очередь, предметности. Попытаемся пояснить это,
возвращаясь к сказанному раньше.
Сознание, как поток переживаний, узнается, усматривается в
феноменологической установке в то время, когда редуцируется все, на
что сознание направляется, но не может быть редуцировано то, от
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 583
чьего имени производится эта направляемость. Все редуцируемое —
коррелятивно сознанию, но попробуем также рассматривать
сознание и Я, самосознание, попробуем считать Я коррелятивным
сознанию, и мы ничего не получим, некому будет направлять само
сознание, исчезнет не только бытие сознания, но и коррелятивных ему
трансцендентностеи, так как всякое переживание есть переживание
Я. Мы можем подойти к Я и с другой стороны, — попробуем
произвести, так сказать, трансфеноменологическую установку и
трансфеноменологическую редукцию, направляя свой взор на само чистое
Я, попробуем оставить его «одно», — и мы опять не получим ничего;
без своего сознания Я — ничто. Следовательно, подобие, с
которого мы начали, между сознанием и самосознанием только
кажущееся, здесь нет той коррелятивности, которая есть между сознанием и
предметом; напротив, несмотря на имманентность одного и
трансцендентность другого, они сами, по существу, — одно. Всякое
разделение их при таких условиях, — будь то разделение абстрактное
или разделение «установки», — есть вещь невозможная, оно может
привести только к гипостазированию пустых понятий: Я — только
Я своих переживаний, переживания — переживания своего Я, — и
это принципиально по существу и абсолютно. И, однако,
устраняется ли этим противоречие, которое чувствуется в самом сочетании:
трансцендентность в имманентности; трансцендентное и
имманентное в одно и то же время? Но не есть ли это свойство самого
абсолютного — быть трансцендентным и имманентным,
преодолевая само это противоречие в силу его относительности, а не
обусловленности безусловного? В самом деле, если бытие Я — в
сознании, а бытие сознания, как бытие — в Я, то что может значить его
трансцендентность? Имманентное — то, что открывается нам во
всяком переживании, и всякое переживание есть переживание Я,
но открывается — не то, что в каждом отдельном переживании или
группе их, — а то, что во всей совокупности их, открывается ли это
Я в своей цельности и абсолютной полноте? Очевидно, что на долю
трансцендентного здесь остается неизмеримо большой «запас»!
Имманентное открывается нам только в своей актуальности, в
актуальном Ego cogito, но не все Ego актуально; Я трансцендентно,
поскольку наши переживания не актуальны. Но к сущности абсолютного
же бытия должно принадлежать, что все неактуальное может быть
«переведено» в актуальное, — здесь не остается места для тайн, для
584
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
неведомого. Всякие границы, пределы, запреты носят только
эмпирический характер и сами до последней степени относительны, —
замкнуться ими от абсолютного — пустая затея, детская игра в
прятки. Феноменология, если она желает быть «первой» философией и
желает сохранить традиции положительной философии и
продвинуться дальше вперед в решении ее проблем, не может редуцировать
то, что по своему существу составляет подлинную и истинную
характеристику абсолютного бытия.
IV. К вопросу о методе
Феноменология, благодаря строгости и чистоте своего
абсолютного предмета, после всех произведенных редукций оказывается
строго замкнутой в себе дисциплиной, свободной не только от
всяких теоретических и практических предпосылок, но и
оперирующей только над материалом, который она сама же для себя может
установить. Являясь основной для всего философского и
специального знания, феноменология не может ничего «получать», она сама
«берет», — в этом смысле выше было указано, что феноменология
всегда может пользоваться для своих целей объектом любой
установки, но в своем содержании, разумеется, она все это «преобразует»
согласно собственному духу и собственным целям. Это относится не
только к объектам феноменологии, но к ее средствам и методам, —
они также не могут быть «заимствованы» и не могут опираться на
основания других установок и других наук. Если феноменологии
приходится пользоваться каким-либо формальным принципом,
например, логическими законами, то даже и в этом случае она
должна иметь для них собственное оправдание. Так как феноменология,
будучи «до-теоретической» наукой, опирается не на дискурсию,
а на интуицию, как мы видели, то ее способ обеспечить себе
правильный путь и метод должен быть усмотрен в самой же интуиции,
и так как феноменология имеет дело не с чувственными интуиция-
ми, а с идеальными, то и метод ее должен быть усмотрен в сущности
самой идеальной интуиции. Это само по себе совершенно ясное и
бесспорное требование указывает и тот путь, каким должна
феноменология, по крайней мере, начинать свое исследование: она вовсе не
нуждается в теоретических дискурсивных методах установления
отношений, а может довольствоваться только анализом определенных
случаев и примеров, устанавливая сущность объектов и отношений
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 585
уже в этом чисто экземплификационном анализе их. Разумеется,
«примеры», от которых исходит феноменологический анализ,
имеют годность только для пределов соответствующего объема, но при
соблюдении этих границ мы найдем, что правила метода
предписываются самим предметом и их норма, следовательно, определяется, в
конечном счете, характеристикой региональной области по роду ее
предметного бытия и предметной структуры.
Так как феноменология есть основная не-теоретическая наука, то
этот путь и есть, собственно, выполнение требования Гегеля: влезть в
воду! Но ни Гегель, ни существо дела не могут запретить
феноменологии давать себе самой отчет в своей деятельности, по мере того,
как она развертывается, — и, таким образом, следовательно, не
только проверять свои шаги, но и вырабатывать себе некоторые регуля-
тивы, которые можно назвать методологическими приемами
феноменологии. Это — неизбежный путь не только феноменологии, но
всякой науки, которая в том или ином отношении является
основной и поскольку она основная; таков, например, путь и логики*.
Определение самой феноменологии, ее сущности, задач и
предмета есть уже работа феноменологическая и
феноменологическими методами, поэтому, опираясь на этот пример и представляя себе
работу феноменологии на других примерах, мы можем попытаться
здесь уже установить некоторые регулятивы
феноменологического метода. По существу, феноменологии нет никакой надобности
спешить с оправданием и установлением своих методов, — они
должны быть установлены и оправданы в самом процессе се
работы, но потребность а этом установлении выдвигается другой, более
внешней стороной дела, — необходимостью для феноменологии
еще отстаивать свое право на существование. Возражения, часто
серьезные и принципиальные, обязывают ее заранее показать, на чем
покоится ее оригинальность, и в чем гарантия ее продуктивности.
Нужны хотя бы самые первоначальные указания на то, как
пользоваться интуитивным познанием, и какими средствами оно
достигается. Названные возражения касаются, главным образом, следующих
пунктов: 1) высказывается сомнение в том, чтобы вообще было иное
познание, чем дискурсивное, — интуитивное познание, думают, есть
* Об этом методологическом обращении феноменологии к себе самой см.
у Гуссерля: Ideen... § 65. S. 122 ff.
586
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
contradictio in adjecto, всякое познание есть познание в понятиях;
2) сама по себе интуиция потому уже не гарантирует истинности
познания, что с ней, — а иногда и преимущественно с ней, —
связаны неясность и неотчетливость; 3) чистое описание, — до всякой
теории и свободное от всякой теории, — вещь вообще
невозможная, всякое описание фактически так тесно связано с теорией, что
вообще его «чистота» может трактоваться только относительно, и в
конце концов она вообще — только абстракция.
С этих трех пунктов ведется, так сказать, генеральная осада не
только феноменологии, ко и всякой попытки выбиться из оков
формально рационализирующей методики интеллектуалистической
логики. И нужно признать, что дело касается, действительно, самого
существа новой проблематики и ее методологии. Вместе с тем все
три пункта нападения так тесно между собой связаны, задевая
существо нового метода, что нет возможности ограничиться частичным
устранением одного какого-либо из названных сомнений, требуется
принципиальное ослабление их в их связи и в их целом. Но их
глубокая внутренняя связь между собой, с другой стороны, облегчает
дело критики, так как возражения против каждого из них задевают и
тот общий источник, из которого они все проистекают. Ослабление
каждого из них есть ослабление всех вместе.
Эти сомнения направляются на самый смысл методики
феноменологии и интуитивно-описательного познания вообще, обнимая
все его стороны и проявления. Первое сомнение, несмотря на то,
что оно выражает, прежде всего quaestio facti, тем не менее и
методологически имеет существенное значение, так как отрицание факта
в нем не является «слепым» отрицанием, а покоится на совершенно
общем и формальном аргументе, касающемся способа «выражения»
нашего знания. И в этом смысле мы здесь имеем дело, главным
образом, с аргументом общелогическим и синтактическим. И второе
сомнение точно так же связано до известной степени с вопросом
факта, поскольку, очевидно, что, раз приняв принципиально факт,
мы уже не можем придавать серьезного и фундаментального
значения критике, направленной на средства, с помощью которых мы
должны освободиться от, в конце концов, случайных и даже только
эмпирических условий, доставляющих нам интуиции то в более, то
в менее благоприятной обстановке. Во всяком случае, как сомнение
методическое, это сомнение касается по преимуществу методи-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 587
ки познания, но необходимо иметь в виду, что, строго говоря, оно,
конечно, должно иметь место не только против интуитивного
познания, — общность, в значительной степени уже смягчающая силу
этого аргумента. Наконец, третье сомнение относится уже прямо к
методу самого познания, как «изложения», и в этом смысле имеет
принципиально методологическое значение, но его интимная связь
с первыми двумя, и в особенности с первым, не может быть
отрицаема, а следовательно, косвенно и отношение к основному
«вопросу факта». Если основной источник всех этих сомнений, отрицание
факта, устраняется, то тем самым ослабление недоверия к
возможности выражения интуитивного до-теоретического знания и к
возможности устранения условий его несовершенства вызывает, по
крайней мере, идею специфического, свободного от теорий, метода,
и, следовательно, приводит даже к нему, как к императиву.
Остающаяся почва для сомнений в его осуществлении опять-таки иного,
кроме эмпирического, значения иметь не может. Другими словами,
раз интуиция есть, то есть и ее выражение, а следовательно,
принципиально возможно стремиться к ее установлению, из чего
необходимо вытекает принципиальное же требование идеи соответственных
средств и опыта их осуществления.
Что касается теперь первого сомнения, то как раз в
феноменологии оно легче всего устраняется. Совершенно очевидно, что оно
возникает на почве «естественной» установки и имеет в виду
характер чувственной интуиции с ее многообразным, одновременно
даваемым содержанием, но его подлинный смысл — в нахождении
отношения между насильно разорванными номинализмом
компонентами, как это было показано выше. Теоретически этот вопрос
облекается в форму проблемы отношения интуиции к понятию, — им
может интересоваться и феноменология, но ее интерес тотчас
лишает вопрос той остроты, с которой он ставится, как только мы
вспомним, что в ней речь идет об анализе «сущностей», не
противопоставляемых опыту в его собственной сфере и не абстрагированных из
него, а усматриваемых путем принципиальной его редукции. И как
бы феноменология ни решала этот вопрос, он просто не тот, не
того, иного, содержания, чем проблема, выступающая в нем в
качестве сомнения в возможности недискурсивного познания. Но из
этого же легко видеть, что собственно это последнее сомнение вообще
не касается феноменологии, так как, обращаясь только к рассмотре-
588
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
нию «сущностей», идеальных предметов, она не дает повода именно
этому сомнению, относящемуся к чувственной интуиции. Если бы
даже и на самом деле познание было возможно только в понятиях,
то ведь феноменология и не претендует на познание в чувственных
интуициях* естественной установки, а против того, что идеальная
интуиция может выражаться в понятии, по-видимому, никто не
спорит. Можно говорить только о том, в какой степени вообще мы
имеем в понятии достаточно надежное орудие для достижения
необходимой нам ясности и отчетливости, но, не говоря уж о том, что
вопрос о понятии и о логическом вообще сам требует своего
феноменологического освещения, ясно, что в приведенной постановке он
переводит нас уже ко второму пункту сомнения. Во всяком случае, с
этой стороны едва ли может быть оспариваем серьезно
методологический принцип, который Гуссерль кладет в основу методологии
феноменологии: «В феноменологии, которая желает быть ничем иным,
как учением о сущностях в пределах чистой интуиции, мы
совершаем на экземплярных данных трансцендентально чистого сознания
непосредственные узрения сущностей (Wesenserschauungen) и
фиксируем их в понятиях, resp. терминологически»*.
Другое дело — сомнение в возможной отчетливости и ясности
самого нашего интуитивного знания, поскольку оно направляется
уже не на «выражение», а на само выражаемое, — здесь сомнение,
на первый взгляд, имеет более серьезную почву, во всяком случае,
рационалистическая философия, начиная с Декарта, всегда видела
здесь некоторые препятствия для истинного познания. Правда,
рационалистические сомнения опять-таки направлялись на
чувственные интуиции и имели эмпирическую подкладку, но тем не менее
принцип требования метода этим «ответом» устраняется еще не
вполне, в особенности, если иметь в виду установленную
коррелятивность опытных интуиции и идеальных, в силу которой неясность
опытной интуиции может послужить препятствием к
«проникновению» в нее и через нее к интуиции сущности.
Мы видели уже, что в потоке сознания совершается постоянный
переход из состояния потенциальности в состояние актуальности, и
это принадлежит к сущности сознания, что самый «перевод» из
сферы потенциальности в сферу актуальности всегда в нашей власти.
* Ideen... S. 124.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 589
Однако это само по себе еще не свидетельствует в пользу того, что
всякое актуальное сознание тем самым становится ясным, но тем не
менее нетрудно заметить, что точно так же к сущности интенцио-
нальности относится переход к ясности, и обратно, возможное
удаление из сферы ясного, как и новое возвращение. То, в чем мы
теперь нуждаемся и заключается в том, чтобы ближе уяснить существо
этого «перевода» и, если возможно, указать его методические
приемы и методологические основания их, — речь идет, следовательно,
о методе уяснения самих интуиции.
К существу этого метода относится, что, находя интуиции в
различной степени близости или отдаленности, на различных
ступенях ясности, мы должны доводить их до степени «абсолютной
близости»*, где они и достигают для нас полной ясности. Это
одинаково относится как к опытным, так и к идеальным интуициям, и в
том, и в другом случаях мы можем говорить о своих ступенях
ясности интуиции. Таким образом, уяснение интуиции есть не что иное,
как доведение данного нам до его абсолютной близости к нам, или,
что то же, достижение в интуиции ее полной степени наглядности.
«Дающее сознание в точном смысле и наглядное, против
ненаглядного, ясное против темного, — это одно и то же. Равным образом:
ступени данности, наглядности, ясности. Нуль, как предел, есть
темнота, единица — полная ясность, наглядность, данность»... При
этом следует различать между собственным уяснением, где
действительно дело идет о ступенях ясности, или о восхождении по
ступеням в сфере темноты, и уяснением путем экстенсивного
расширения объема ясности, которое может сопровождаться и интенсивным
повышением ясности уже данного наглядно, но которое прямым
своим результатом имеет собственно расширение сферы самого
наглядно данного. Достижение полной ясности только и делает
несомненными все те акты, которые мы совершаем в логическом
познании при изучении предметов, — отождествление, различение,
отнесение и проч., и соответственно, и акты постижения идеальных
предметов сущностей, а следовательно, и их предметных
коррелятов. Можно было бы думать, пожалуй, что уяснение сущности
находится в прямой зависимости от ясности соответственных единиц в
их полной конкретности, однако простая попытка усмотреть сущ-
* Ideen... S. 126 ff.
590
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ность в интуиции такого «общего», как например, тон вообще или
цвет вообще, убеждает нас в том, что, соответственно, такие
наиболее «общие» различия сущностей могут устанавливаться и не при
полном уяснении единичных интуиции в их отдельности и
конкретности. Это очень важное обстоятельство для метода феноменологии
однако не исключает регулятивного значения того правила, которое
можно рассматривать как резюме приведенных соображений о
методе уяснения: метод уяснения интуиции до полной ее
очевидности требует постоянного приближения изучаемого переживания до
степени его абсолютной близости, «самоданности», через уяснение
соответственных единичных интуиции, равно как и через
определение сплетающихся с ними сущностей, путем углубления в уяснение
их взаимных связей и отношений, причем экземплификационный
способ выбора самих интуиции остается достаточным от начала до
конца. Две вещи требуют здесь несомненно более детального
рассмотрения: 1) вопрос о том, как же узнать, что интуиция доведена
до полной ясности, до последней абсолютно близкой ступени
интуитивной данности? Опять-таки из сущности самой интуиции
нетрудно усмотреть, что об этом может свидетельствовать и будет
свидетельствовать только очевидность самого данного в интуиции, как
абсолютно свидетельствует о наличности всякого интенционально-
го переживания его очевидная наличность. То, что усматривается с
полной ясностью, необходимо должно быть очевидно, — и
проблема очевидности становится необходимой составной частью
методологии феноменологического исследования. 2) Вопрос о том, что
оправдывает сами экземплификационные приемы исследования
феноменологии? Вопрос этот не возникал бы здесь, если бы мы имели
уже ответ на поставленный выше общий вопрос, как есть само
действительное вообще, так как уяснение «действительного» в данности
интуиции, — опытной и идеальной, — открыло бы в них ту именно
сторону, которая оправдывает применение экземплификационного
приема при исследовании сущности, потому что это именно и есть
одна из сторон вопроса об отношении опытной и идеальной
интуиции. Но как и выше, обсуждение этого вопроса мы откладываем,
оставаясь при констатировании факта, что интуитивное усмотрение
действительного, как установление его вообще, имеет место в нашем
познании. На первый же из этих вопросов, как на вопрос самого
метода, мы здесь делаем некоторые указания.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 591_
Эти указания должны касаться прежде всего и главным образом
названного отождествления непосредственного усмотрения и
очевидности. Действительно, здесь в сущности нечего прибавить: если
мы вдумаемся в смысл и значение того, что мы называем ясным и
отчетливым видением, видением при полном свете нашего
сознания, мы убедимся, что речь идет о непосредственном усмотрении, и
что это и есть не что иное, как очевидность. Это надо признать, что
очевидность не есть нечто привходящее, прибавляющееся или
присоединяющееся к нашей интуиции, а есть сама эта интуиция, только
в особенно «благоприятных» условиях сознания, — ясная интуиция.
И это относится как к чувственной, так и к идеальной интуиции, — в
сущности мы можем одинаково пользоваться для обозначения этого
ясного состояния нашей интуиции как термином
«непосредственное усмотрение», так и термином «очевидность». Метод уяснения,
следовательно, и есть не что иное, как метод, с помощью которого
мы делаем наши интуиции очевидными, — весь вопрос,
следовательно, сводится к возможно тщательному выяснению тех условий, при
которых достигается эта последняя степень ясности, которая в
своем пределе и обозначается как очевидность, где слова «очевидное
усмотрение» должны являться простой тавтологией. Разумеется, речь
идет не о способах устранения тех препятствий, которые стоят на
пути всякого «усмотрения, и которые затемняют его, — хотя и этот
вопрос принципиально большой важности, но скорее критический,
чем построительный. С этой последней точки зрения важно только
выяснить: если не всякое усмотрение очевидно, то какое же
именно? Какое — не эмпирически, не фактически, а принципиально, т. е.
к идеальной сущности какого усмотрения относится это «свойство»
быть очевидным?
Опять ничто нам не мешает начать с естественной установки и
даже с эмпирического зрения, чтобы затем перейти к выяснению
того, что относится к его сущности и, следовательно,
сохраняется за ним в идеальной установке, в том числе — и
феноменологической. Что касается, действительно, зрения (и слуха, и осязания, и
так далее), то здесь — очевидно то, что хорошо видно, т. е., прямо,
вплотную, непосредственно видно, — и нетрудно согласиться, что
эта непосредственность и составляет то, что называется иначе
очевидностью: очевидность усмотрения здесь и непосредственность —
одно. Дело как будто сложнее, где идет речь о разумном усмотрении,
592
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
например, в идеальных предметах математики, — здесь как будто
все очевидно, и однако все требует «доказательства», которое есть не
что иное, как приведение очевидности до самоочевидности. Но мы
здесь должны оставить в стороне вопрос о смысле и значении того,
что называют «доказательством», и мы откроем, что по существу (an
und fur sich) между очевидностью и самоочевидностью нет
принципиального различия, — оба будут непосредственным усмотрением.
«Доказательство» какой-либо теоремы со стороны усмотрения
отношения, которое она формулирует, вовсе не требует «сведения»,
«дедукции», и подобное, а требует только непосредственности
усмотрения, стоит припомнить «доказательство» любой теоремы, чтобы
убедиться, что дело обстоит именно так, ибо каково бы ни было
доказательство, оно ведется в процессах усмотрения под разными
заголовками: прибавим, вычтем, извлечем корень, дифференцируем
и так далее. Повторяем, дело здесь не в совокупности и отношении
этих процессов, как процессов доказательства, а в их собственной
непосредственной данности как очевидных. Всякая очевидность
есть с этой стороны, если угодно, самоочевидность, или
самоочевидность и есть очевидность, т. е. полная непосредственность.
Весь вопрос, таким образом, сводится к тому, в чем состоит эта
непосредственность, какие условия сознания создают нам ее?
Бесспорно, во всяком видении и всяком усмотрении есть известная
непосредственность и, следовательно, очевидность, но где эта
очевидность есть на самом деле самоочевидность? С точки зрения
феноменологии с ее принципом всех принципов, ответ на это может
быть только один, — там, где, действительно, усматриваемое само
стоит перед нами, как предмет, где оно поистине воспринимается,
словом, где оно дается нам в своей первичной данности. Первичная
данность объекта в сознании, таким образом, и является тем
условием, при котором мы восходим к очевидному усмотрению и,
следовательно, праву и основанию всех наших актов полагания*.
Последнее обобщение требует большего углубления в
содержание феноменологии, чем то, которого мы могли достигнуть до сих
пор, так как в нем речь идет уже о целом «феноменологии разума».
Однако и при достигнутых результатах смысл и направление
исследования открываются с достаточной ясностью. То, что сказано в
* Ср. Ideen... S. 282 ff.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 593
предыдущем о непосредственности в смысле первичной данности,
простирается на всю область разума, где мы встречаемся с
противопоставлением первично и не-первично данного. Очевидность,
выступающая в первично-данном, составляет разумную мотивировку
соответствующих данностей вторичного и иных порядков. Дающее
сознание, как очевидность или усмотрение, таким образом,
оказывается мотивированным в самой данности, отчего, разумеется, зависит
и характер очевидности. Так мы должны различать между
очевидностью опыта, «смотрением», и очевидностью идеального
«усмотрения», — различие, влекущее за собой очень существенное различие
очевидности со стороны ее адекватности и неадекватности.
Реально трансцендентное, по существу «оттеняющееся», не может давать
адекватной очевидности, открываясь в явлении необходимо
«односторонне», и напротив, идеальное эйдетическое усмотрение стоит
здесь совершенно в ином положении, доставляя, таким образом,
чистую очевидность в точном смысле.
И мы видим, что тут замыкается круг феноменологии, мы
возвращаемся к тому, с чего она начинает выполнение своих задач
до-теоретического описания непосредственно данного, и мы
видим, что, действительно, ей обеспечивается положительный путь
построения, так как исходным пунктом ее по существу и
принципиально оказывается не что иное, как очевидность. Уже к
содержанию самой феноменологии относится вопрос о том, что же считать
первично-данным, — выше мы допустили вместе с Гуссерлем, что
первично-данное есть данное в опытной интуиции, с ее
разнообразными формами «даваемого» экзистенциального бытия, и
данное идеально, в сущности, также с различными формами
«даваемого» бытия, но эссенциального. Мы полагаем, что существует и еще,
если не вид, то все же особая форма первичной данности, которая,
собственно, и делает впервые возможным установление бытия в его
разумной мотивированности, а через это показывает, как есть само
истинное, как «действительное», феноменологически, а идеально, на
этой основе, как есть всякая истина; или эмпирически можно
просто сказать: делает вообще возможным постижение какого бы то
ни было «действительного» бытия. Другими словами, должен быть
поднят еще вопрос о разумном бытии самого сознания, из
которого непосредственно было бы усмотрено его бытие, как бытие
воспринимающего в непосредственной и первичной данности. Важно
594
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
только подчеркнуть, что такое бытие принципиально не может быть
бытием не первичным, в известном смысле, — напротив, его можно
назвать еще «более» первичным, чем бытие, получаемое в опытных и
идеальных интуициях, — если только тут можно говорить еще о
степенях самой первичности. Во всяком случае, тот смысл, который мы
здесь имеем в виду, должен указывать на «первичность» в отношении
исходного пункта всякой разумной мотивированности и включает в
себя общую проблему оправдания разума и смысла разумности.
Приведенные соображения при всей своей краткости
достаточны не только для уразумения существа дела, но дают возможность
сделать некоторые выводы, которые защищают феноменологию от
предвзятых взглядов, побуждающих вообще философию с самого
начала вступить на ложный путь. Прежде всего, чистое
исследование самого сознания в его бытии и сущности открывает нам здесь,
что действительно в нем «есть», и чего нет, что, следовательно,
неправильно приписывается ему. Если очевидность есть не что иное,
как сама интуиция в ее совершенной ясности, то мы явно не можем
ее рассматривать, как что-то по отношению к интуиции «внешнее»,
к ней привходящее, присоединяющееся, благодаря каковому
присоединению будто бы «неочевидное» и становится очевидным.
Гуссерль совершенно справедливо говорит по этому поводу:
«Очевидность, на деле, не какой-нибудь индекс сознания, который, будучи
пристегнут к суждению (а обыкновенно только при таковом говорят
об очевидности), взывает к нам, как мистический голос из лучшего
мира: Здесь истина! — как будто такой голос мог бы нам, свободным
духам, что-нибудь сказать и скрыть свой легальный титул». В
особенности этот вывод ценен, поскольку он отвергает «психологическую»
теорию очевидности, в которой, как мистический index veri,
выступает «чувство очевидности», или «чувство истины»*.
Дело, конечно, не в том, что это «психологическая» теория, —
если бы только она была верна, она нашла бы и свое
феноменологическое оправдание, — а дело в том, что просто идея очевидности,
как какого-то привеска к непосредственному и ясному усмотрению,
не имеет никакого оправдания-в самом непосредственном
переживании. Если вообще в теории очевидности и может идти речь о
* Ideen... S. 300. S. 39. Ср. также Log. Untersuch. В. I, § 51, в особенности 2-е,
здесь исправленное, издание.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 595
каком-либо «индексе», то из предыдущего ясно, что его характер
может быть только «теоретический», а потому и свое последнее
основание он должен искать, а не претендовать на то, чтобы служить таким
основанием.
Но не следует закрывать глаза на те трудности, которые
действительно могут возникнуть из обобщения чисто феноменологического
описания очевидности в теоретический критерий всякой
истинности. «Недостатки», которые при этом обнаружит «описание»
очевидности, конечно, не есть его ложность, а это, именно,
недостаточность, недостаточность для теории, так как теория не состоит из
одних только интуитивных данных, но здесь уместно на них
остановиться, и не столько, чтобы предотвратить возможные
недоразумения, а, скорее, для того, чтобы в их же основании отметить здесь
новую проблему для самой феноменологии.
Возражениям, которые часто делаются и которые сводятся к тому,
что при ссылке на очевидность мы будто бы лишаемся возможности
отличить иллюзию, галлюцинации, сон, от трезвой и реальной
действительности, — такого рода возражениям мы не придаем большой
цены. Прежде всего, как на это будет указано ниже, феноменология
обладает средствами описывать иллюзии именно как иллюзии и сон
как сон, но против возражений этого типа мы могли бы привести
и еще одно соображение. Верно, что во сне мнимое мы принимаем
за действительное, как если бы встретились с ним в бодрственном
состоянии наяву, точно так же в иллюзии и галлюцинации мы
приписываем действительность тому, что ею не обладает, но из этого не
только не следует, что в бодрственном состоянии мы видим
сновидения, а в «нормальных» условиях галлюцинации и иллюзии, но и
просто как факт подобные утверждения показались бы нам
нелепостью или юмористическими конверсациями. Пусть, когда мы спим,
мы говорим себе иногда, что, вот, мы бодрствуем, но нужно
выдумать исключительные условия для того, чтобы бодрствующий
человек сказал о себе: я сплю. Но так как и философия делает свое дело
в состоянии бодрствования, то ее задачи вообще не имеют ничего
общего с задачами «Толковника снов и видений», и подобный
скептицизм, не свидетельствуя о глубине своих оснований, может быть
оставлен в стороне.
Другое дело — те затруднения, которые вытекают из существа
дела, и потому вызывают такие возражения, которые простым «отво-
596
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
дом» устранены быть не могут. Вопрос об очевидности — не новый,
и очевидность интуитивного познания в свое время горячо
отстаивалась противниками юмовского феноменализма и скептицизма,
в шотландской философии. Серьезное возражение, на которое
натолкнулась эта философия, состоит в том, что она, как на последнее
основание, вынуждена опираться на веру, — положение, с которым
не мирится наш теоретический разум. И это возражение не пришло
откуда-нибудь извне, а обнаружилось в недрах самого течения, как
его основная апория. Уже сам Рид оперирует с верой и «всеобщим
согласием», но в особенности его продолжатели не могут
справиться с устранением этого нерационального основания из
нашего рационального познания. Некоторая вульгаризация философии
Рида298 у Битти с избытком возмещалась элоквенцией299 Д.
Стюарта300 и основательностью Гамильтона, и тем не менее, можно
сказать, именно на этом месте закатилась звезда философии «общего
согласия»*.
Тот ответ, который может быть дан на упрек в «вере», есть тот же
ответ, который выдвигается против аргументов всякого
субъективизма, и он может состоять только в указании на то, что само
«реальное», или общее, предмет, заставляет нас познавать его именно
так, а не иначе, т. е. признавать только ему действительно присущее
бытие, а не иное. И указание на эту принудительность есть в то же
время утверждение за предметом целостности и «системности», т. е.,
другими словами, признание рациональности как познания, так и
познаваемого. Но такой ответ еще не устраняет указанной апории,
так как ведет к новым вопросам, и прежде всего: 1) на чем
основывается это признание рациональности и 2) как же мирится это с
прежде высказанным, — разве соединение интуиции и рационализма не
есть соединение огня с водой, — и как же мы в этом «соединении»
приходим к «действительному»?
Что касается первого вопроса, то ответ на него может быть
иногда прямо предательским, — вот, например, один из
защитников взгляда, что рациональность познания выражается в давлении
предмета и системности реального, в конце концов приходит к за-
* В оправдание новшества при переводе термина common sense см. Reid Th.
Essays on the intellectual powers of man. Essay VI. Ch. II (Ed. by Hamilton, 1880.
P. 421).
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 597
ключению, которое рациональным нельзя назвать. Бозанкет301
отожествляет вопрос «что есть истинное» с вопросом «что согласуется с
данной системой»* и по этому поводу поясняет: «Мы никогда не
сомневаемся в этом принципе; если бы усомнились, мы не могли бы
иметь науки». Но чем же это отличается от аргументов «общего
согласия» и веры? Что мы рационалисты от рождения, что мир
рационален, потому что иначе нельзя было бы его познать, и под., — суть
аргументы ad vertiginem, или апелляция к той же вере. Если бы мы,
наконец, захотели выйти из затруднения тем, что опирались бы на
наше разделение интуиции и видели принудительность опытного
мира обоснованной в принудительности идеальных интуиции,
помогли ли бы мы делу? Ведь, по-видимому, идеальная вера не делает
еще рациональной веру чувственную.
Нужно обратиться к самому делу. Во время своих размышлений
я подошел к окну. Из окна виден город, крыши домов, вдали горы,
но все заволочено туманом. Подумал: «туман идет с моря». Вдруг
заметил на соседней крыше негра: голова в черных кудрях, плечи,
серый парусиновый пиджак Должно быть, иллюзия, — почему негр на
крыше? Но почему же это невозможно^. Важнее, — почему негр на
крыше? Но и это сомнение тотчас устраняется, — здесь я встречал
немало негров, индейцев и под. Очевидно, негр! Но почему так долго
он не меняет своего положения, — слишком для человека
неподвижен. Очевидно, это труба, а не негр!
Ясно, что здесь моя чувственная интуиция, даже доведенная до
возможной степени ясности, меня все же не удовлетворила, и мое
«очевидно» было отвергнуто во имя чего-то другого, что я тоже
характеризовал, как «очевидно». В чем же эта вторая «очевидность»? Из
примера явствует, что есть все основания назвать ее рациональной,
и притом в указанном смысле: моя интуиция не согласовалась с
целым моего опыта. При этом и само целое, как видно из описания, я
мыслил не как данное интуитивное целое, а как некоторое
возможное, — и моя интуиция «исправлялась» именно этой «возможностью»
и «невозможностью». Ясное дело, что я опирался на «рациональное»,
причем рациональное входило в мое сознание, как мотивировка
моих утверждений об интуитивно усматриваемом. Другими словами,
интуиция, доведенная до степени очевидной ясности, нуждается еще
* Bosanquet. The Essentials of Logic. Ldn. 1910. P. 153-
598
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
в мотивировке или оправдании моего опыта, и притом не только
наличного, но и возможного. .
Достаточно этого для ответа на наш вопрос? Нет, потому что:
1) указанная мотивировка есть все-таки апелляция к интуиции в
прошлом, которой я «больше» верю, чем данной сейчас, —
рациональное здесь только в силу этого «прошлого»; 2) в этот анализ
внесено столько «теории», что не видно, какое феноменологическое
значение может иметь этот опыт. Действительно, ссылка на
«прошлое» может легко здесь превратиться в regressus in infinitum302 всего
нашего опыта, и все-таки остается неясным, как одна интуиция
может делать другую очевидной, — на самом ли деле здесь речь только
о прошлом\
Что касается «теорий», то от них нужно теперь освободиться:
прежде всего, теоретическое было в основе «негр», — в
действительности, я видел «черное» с «серым» в «туманном» и т. д. Но я имел все
же основание сказать «негр» (в кавычках), т. е. как негр, и тогда моя
аргументация принимает как бы следующий вид: пусть негр, но к
«сущности» негра не относится быть на крыше, — следует
возражение; к сущности нефа не относится быть здесь, — следует
возражение, и т. д. Существенны эти возражения действительно или нет, не
важно, — важно, что я остановился на мотиве: неподвижность, а это
действительно относится к сущности «человека», и в идеальной
интуиции «идеальный человек», как неподвижное, очевидно, вздор. Нет
надобности здесь на бумаге продолжать этот анализ, всякий может
его мысленно довести до удовлетворяющей его степени точности и
раздельности, мы переходим непосредственно к тому, что из него
получается.
«Освобождение» от теорий приводит нас к тому, что мы
убеждаемся только, что, действительно, «рациональность» мотивировок в
анализируемой очевидности опирается не на «прошлое» и состоит
не в нем, так как сущность, к которой мы здесь обратились, не
имеет вообще ни прошлого, ни настоящего, а есть сущность, идеальный
предмет. Таким образом, наше «по-видимому» выше, где мы
говорили об основании чувственной веры через идеальную, есть только
по-видимому, на деле, действительно, идеальные интуиции
мотивируют очевидность чувственных, и идеальные предметы
мотивируют предметы чувственные. Но только самое выражение «идеальная
вера» было подсказано аналогией, которая места не имеет, — по-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 599
знание идеального бытия предметов есть знание, а не вера, и оно-
то и мотивирует познание в чувственных интуициях, которое Рид
и другие неправильно сводили к «природе», согласию, вере и под.,
и притом именно потому, что разделяли в основном принцип,
обозначенный выше, как принцип Index veri. Говоря об отношении наук
о фактах, эмпирических, к наукам о сущностях, 1уссерль отмечает,
что если всякая эйдетическая наука принципиально независима от
всех наук о фактах, то обратное по отношению к эмпирическим
наукам утверждать нельзя*. И это абсолютно верно, мы можем теперь
видеть, что эта зависимость и сказывается в искомой нами
мотивировке. Вместе с тем становится понятным, что речь, действительно,
идет не о вере, так как рациональность этой мотивировки есть не
что иное, как включение в систему, в указанном выше смысле, и эту
«системность» мы вовсе не «допускаем» потому, что будто иначе не
могло бы быть науки, а констатируем ее, как относящуюся к
сущности самих идеальных предметов.
Но таким образом, все-таки оказывается, что мы соединяем
«огонь с водой», возвращаясь ко второму из возникших прежде
вопросов: интуицию с рациональным. Возвращаясь еще выше к
нашему изложению, мы увидим, что это тот самый вопрос о том, как есть
отношение между опытной интуицией и интуицией сущности,
чувственного и идеального, рассмотрение которого мы все время
откладываем, и который спрашивает вообще о бытии действительном,
или истинном.
Для перехода к этому вопросу обратим внимание на только что
сказанное о «негре»: несомненно должно было остаться неясным то
место нашего изложения, где мы говорили, что негр есть,
собственно, «как бы негр», «негр» (в кавычках) и т. д., должно было остаться
неясным, как и чем отличается «негр», взятый теоретически и негр —
феноменологически. Эта неясность изложения проистекала
всецело от трудности словесного изложения мыслей, текущих в разных
«установках», но которые мы вынуждены обозначать одним словом.
С этим затруднением выражения своей мысли встретится каждый,
кто попытается его выполнить, и тем не менее мысль сама станет
ясной и при обдумывании ее, и при изложении, если понимать,
что мы собственно разумеем под словом в каждом отдельном слу-
* Ideen... S. 18.
600
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
чае, — как здесь: я под «негром» разумел «человека» и разумел
комплекс «зрительных ощущении». Таким образом, в наше изложение и
в связи с главным его вопросом входит новый фактор: понимание
как уразумение. В чем его роль, как оно связывается со словом и
рациональным вообще (понятием) и, наконец, как оно может помочь
нам разрешить нашу главную проблему?
Мы видели, что вопрос уяснения был центральным вопросом из
трех вышепоставленных: раз фактически возможно интуитивное
познание с его доведением знания до полной ясности и
очевидности, то должна быть и его логика с синтаксисом, и его методология,
так как возможностью уяснения как совокупности эвристических
приемов предписывается и соответственный путь, т. е. метод
изложения, — это зависит от того, что при исследовании уяснения мы
не только указываем методические приемы исследования, но из них
усматриваем также и цель, — каковой для нас явилась очевидность
с ее коррелятом — истиной. Специфическим методом
феноменологии как дисциплины до-теоретической мы уже называли метод
описания, чистого описания. С ним также связываются некоторые
сомнения и затруднения, через рассмотрение которых мы ближе
подойдем непосредственно к только что сформулированной
проблеме, анализ которой составит уже часть содержания самой
феноменологии.
Метод описания до настоящего времени не нашел еще своего
классического изобразителя подобно тому, как это имеет место по
отношению к методам математическому, индуктивному и др. Одну
из причин этого факта нельзя не видеть в той исторической
традиции, которая дошла до нас от математизирующей философии XVII
и XVIII веков, и которая до сих пор гипнотизирует умы не только
представителей специальных наук, но и философов идеалом
«точной» науки, исходящей из определений абстрактных предметов. До
сих пор можно и в философской литературе встретить наивные
мечтания о будущей, по крайней мере, «точности» описательных наук,
как будто это только случайное и временное явление, что
предметы, во всяком случае, как задачи, существуют раньше в своем бытии,
чем в гипотезах, объяснениях и теориях, и как будто это только
случайность, что изучение этого бытия предметов требует своего
собственного метода, как будто дело не в том, что этот метод вытекает
из самой сущности задачи. С другой стороны, не меньшей наивно-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 601
стью должно быть признано неожиданное притязание на описание
со стороны представителей и поклонников абстрактных наук, —
неожиданное логически, но с достаточным фактическим основанием
свидетельствующее о насущности проблемы «описания»*. Во всяком
случае, в настоящее время положение вопроса таково, что сами
возбужденные недоразумения и, как их следствие, запутанность
вопроса, могут быть вполне достаточными доказательствами насущности
проблемы, ее важности и, главное, существования. Последнего же в
свою очередь достаточно, чтобы им обосновывалось и
существование того, что иной раз отрицается в пылу спора об описании, —
самого описания как метода sui generis. Нужно, наконец, отрешиться от
материалистической логики, или, как она себя чаще всего именует,
логики математического естествознания, чтобы понять ту простую
истину, что из того, что есть математика, не следует, что все науки
должны быть математикой, и что вообще нет места для суждений по
аналогии там, где нет самой аналогии.
Гуссерль справедливо указывает, что речь идет о
«фундаментальных и еще не решенных проблемах принципиального уяснения
отношения «описания» с его «дескриптивными понятиями» и
«однозначного», «точного определения» с ею «идеальными понятиями»,
и параллельно этому, уяснения еще так мало понятого отношения
между «описательными науками» и «объяснительными»**. Для нас
речь идет не о разрешении этих проблем, а только об уяснении и
устранении тех возражений, которые направляются против самой
возможности описания как научного метода. Мы принимаем
определение задач описания в том виде, как они, на наш взгляд, наиболее
удачно были формулированы Дильтеем, как метод достижения того
знания о предмете, которое находит свой предел в теории и
гипотезе. Уже это определение, сопоставленное с задачами
феноменологии, указывает не только что, но и почему феноменология должна
обратиться к описанию. Возражения, которые здесь возможны, мож-
* Есть здесь место и для следующего интересного сопоставления:
требование чистого описания в естественных науках исходит от сторонников идеала
«математического естествознания», но, как было указано выше, ведь только
очевидность в области идеальных предметов есть очевидность адекватная. Идеал
математизации науки открывается здесь со своей хорошей и подлинно
философской стороны.
**Ideea..S. 137.
602
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
но предвидеть с двух сторон: 1) общие возражения против метода
описания вообще и 2) специальные — против метода описания в
феноменологии как основной философской науке с ее
специфическим характером предмета, как идеального предмета, как эйдоса или
сущности.
Относительно первой группы возражений: они касаются
главным образом двух пунктов. Говорят, что описание потому будто не
может иметь места, что оно вообще нецелесообразно, так как мы
должны пользоваться при описании понятиями и словами, между
тем как понятия и слова всегда и необходимо суть уже абстракции
и «упрощения» действительности. По другому поводу выше мы уже
имели случай отметить недоразумение, которое лежит в этом
возражении, и мы указывали, что как раз по отношению к
феноменологии оно меньше всего может иметь применение, так как она говорит
об идеальных предметах и сущностях. Следовательно, это
соображение только дает нам основание глубже войти в вопрос, который
мы уже наметили, как свой главный вопрос, так как мы имеем здесь
дело вовсе не с возражением, а именно с вопросом: как вообще
оперируют с понятиями в целях знания, как они являются его
орудиями, ибо только имея ответ на это, можно серьезно обсуждать
вопрос: годятся ли понятия для описания или только для дискурсии, и
как они должны употребляться, и т. д. Этот вопрос, таким образом,
есть только следствие сомнения в роли понятий, проистекающего
из того, что, действительно, логика не дала не только
удовлетворительного ответа на эти вопросы, а даже никакого, она просто
обходила его, как «само собой разумеющуюся» вещь, но если «само собой
разумеется», то ведь это и значит для философии —
проблематическое. Но и сомнения, и вопросы здесь действительно
превращаются в возражения, если им придается форма разделительного
вывода: или все знание есть знание теоретическое, или есть знание и не
теоретическое, но если последнее подвергается сомнению, то явно,
что верна первая часть разделения, а потому стоит только показать,
что на деле всякая попытка не теоретического знания есть теория,
и описание как особый метод должно быть отвергнуто. Для
усиления доказательства, что всякое описание необходимо все же
остается теорией, указывают на то, что, мол, всякое описание есть
процесс целесообразный, если оно вообще хочет иметь ценность, и это
в особенности выдвигается против «чистого описания», — а раз это
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 603
процесс целесообразный, т. е. руководящийся целью, то в описание
необходимо входит теория, так как установление цели и есть не что
иное, как некоторое предположение и, следовательно, гипотеза*.
Бесспорно, ясное разрешение этого вопроса возможно
только после ясного же установления самого понятия цели, но одно
очевидно и априорно, — далеко не всякая цель есть
предположение, так как могут быть цели, продиктованные самим предметом, с
ним вместе данные, которые, следовательно, сами устанавливаются
только путем описания. С другой стороны, в этой ссылке на цель
часто скрывается неотчетливое разделение цели и причины, как,
например, в теориях, по которым выходит, будто цель есть тоже род
или вид причины, между тем, если причина и заключает в себе
теоретические элементы, из этого не следует, что их должна содержать
*Яковенко Б. В. «Философия Гуссерля». С. 142 (Нов. идеи в философии.
Сборник № 3). Автор пишет: «Чистое описание вообще nonsens, ибо всякий
акт познания, по словам самого Гуссерля, имеет определенную тенденцию
(интенцию) и заключает в себе, стало быть, категориальные формы. Так что
чисто описательный акт, если бы таковой вообще был возможен, своим чисто-
описательным характером реализовал бы, собственно говоря, уже некоторую
предвзятость тенденции и тем обнаруживал свою неописательную в
действительности природу. Чистое описание может быть рассматриваемо лишь как
один из видов теории, или как несовершенное состояние теории.
Феноменология Гуссерля стоит под целым рядом определенных категорий психического
бытия, оперирует определенным методом образования понятий и
представляет собой примерную теоретическую науку. Кроме того, она предполагает еще
наличность психического бытия как такового». 1) Феноменология изучает не
только «акты познания», а интенциональность во всех ее как актуальных, так и
инактуальных модификациях; 2) Intentio имеет необходимый коррелят intentio
чего и на что, — «интенциональный объект» же ни в коем случае не есть «акт»;
3) Intentio может быть актуальна, но она не активна; 4) Ничего общего с
волюнтаристическим пониманием «акта» и «Aktregung» феноменология не имеет;
5) Отожествление интенции и тенденции — ошибка; 6) «Чисто-описательный
акт» не есть «акт познания», а есть «выражение»; 7) Приписывать ему
возможность «реализовать» что бы ни было, значит а) брать его в психологической
установке, б) приписывать «активность»; 8) Чистое описание есть «один из
видов теории», — чистая теория; 9) Действительно, с точки зрения прагматизма,
чистая теория есть «несовершенное состояние теории», ибо она бесполезна;
10) Феноменология не «стоит под» категорией «психического бытия», так как
последнее есть эмпирическое бытие, а феноменология говорит о чистом
сознании; 11) Она не «образует понятия» и самую постановку проблемы об
«образовании понятий» считает в корне ложной; 12) Не предполагает еще
наличность психического бытия, как такового, ибо имеет дело только с данным, как
таковым, которое «находит» (Vorgefundenes).
604
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
и цель. Наконец, не следует упускать из виду и происхождение этого
аргумента, так как им обнаруживаются его истинные границы
применения. Этот аргумент возник из желания показать
несостоятельность «чистого описания» в объяснительных науках, на что
претендовали некоторые писатели, лишенные достаточной философской
подготовки. Суть дела здесь в том, что этот аргумент в таком
применении оказывается совершенно правильным, так как он в
сущности напоминает и повторяет в себе самую задачу теоретических
наук: эта задача есть теория. Разумеется, где описание руководится
целью — достичь теории, там цель превращает описательное знание
в теоретическое.
Следовательно, цель не сама по себе компрометирует
описание, а только некоторые определенные цели, а потому из того, что
и описание — целесообразно, не следует, что оно невозможно, как
не-теория. В частности, феноменология именно и ограничивает
свою задачу «чистым описанием», оставаясь исключительно в сфере
до-теоретического, и как мы видели, действительно, эта цель дается
в ней, обнаруживается спонтанно, в самих приемах ее работы, как
конечная цель уяснения, т. е. доведения интуиции до последней
степени ясности, до очевидности. Совершенно ясно, что было бы
полным извращением всех понятий, если бы феноменологию с ее
принципом всех принципов и с такой целью, как очевидность, объявить
теоретической объяснительной наукой. Явное дело, что это общее
возражение против «описания» как раз к феноменологии и не
подходит. По-видимому, больше оснований имеет частное возражение
против возможности описания именно в феноменологии, так как
оно вытекает как раз из указанной особенности феноменологии —
быть наукой интуитивного познания.
Дело в том, что, хотя феноменология и интуитивная
дисциплина, но ведь ее интуиции — не чувственные интуиции, а «идеальные»,
она — наука о сущностях, эйдетическая наука, об идеальных
предметах, т. е. о предметах, по существу, находящих свое выражение в
понятиях. Гуссерль сам предвидит это возражение в форме,
присущей логическому материализму: в лице геометрии и арифметики мы
имеем дело с эйдетическими дисциплинами, но они являются
образцом не описательных, а «точных» наук, образцом теоретического
знания, — не окажется ли и феноменология по аналогии с
математикой также теоретической наукой? Аналогия здесь, конечно, есть, но
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 605
пределы ее в высшей степени ограничены, во всяком случае, они не
касаются существа метода, и Гуссерль решительно
противопоставляет основную науку математике: «трансцендентальная
феноменология, как дескриптивная наука о сущностях, относится к совершенно
(total) иному основному классу эйдетических наук, чем
математические науки»*. Но собственно в отрицании названной аналогии и
в утверждении этого положения и лежит устранение специального
возражения против описания в феноменологии, так как оправдание
приложения самого метода лежит в тех особенностях
феноменологии, которые чужды математики**. Следует только напомнить, что
весь смысл феноменологической установки и ее отграничение от
простого абстрагирования состояли в том, что сущность
изучаемого предмета благодаря этой установке не только не меняется, но
напротив, обнаруживается в своей полной и первоначальной чистоте.
Но странно было бы ожидать, чтобы сущность конкретного
предмета явилась теперь перед нами в форме абстрактной, а если предмет
феноменологии, — сущность чистого переживания, — по существу
своему должен быть и всегда остается конкретным, то этим
исключаются доказательные мотивы теоретических абстрактных наук, но
не исключается описание, предшествующее дедуктивному
«доказательству» так же, как и всякого рода объяснению. К этому остается
только добавить, что и это возражение проистекает из эквивокации
термина «теоретический». Сопоставление основной науки с
математикой указывает на теоретическое уже не как на «объяснительное»,
а как на «демонстративное», но ни в том, ни в другом смысле
основная наука теоретической быть не может. Только в самом широком
смысле слова она может быть названа теоретической, где этот
термин противостоит тоже в самом широком смысле «практическому»
и «прагматическому», но такая «теория» не исключает описания и в
противоречие с идеей его не входит.
Феноменология задается целью изучать сознание, как полное
переживание в его модусе сознания чего, интенционального сознания,
и в той его чистой форме, которая обнаруживается как чистое
сознание чистого Я, — если бы мы забыли при этом, что сознание
дается нам только как непрерывный и многообразный поток, с пере-
* Ideen... S. 141.
** См. развитие этого взгляда у Гуссерля: Ideen... S. 72-75. S. 113 ff.
606
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ходами актуального и потенциального, с переменами общего фона
и т. д., и т. д., мы погрешили бы против собственных определений, и
только такой ценой могли 6bi отказаться от метода описания и
признать замену его какими-либо другими методами.
Своеобразие сознания вообще, признает Гуссерль*, состоит в
непрерывном колебании, препятствующем точному
фиксированию в понятиях каких-либо эйдетических конкретностей и их
непосредственно конституирующих моментов. Возьмем, как пример,
переживание фантазии, направленной на вещь, как она дается нам в
феноменологически-имманентном восприятии. Мы можем здесь
говорить о данной определенной вещи, следовательно, не только, как о
«роде», но и единично, в ее полной конкретности, — в той
определенности и неопределенности, с той или иной стороны ее, как она
является нам в ее отчетливости или туманности, ясности или смутности
и т. п., словом, так, как она вплетается в конкретный поток
переживаний. Феноменология принимает все это конкретное содержание в
эйдетическом сознании, но только в его идеальной сущности, а
следовательно, в возможности бесчисленных экземпляров той же
сущности. Она, таким образом, отнимает только определенное hic et nunc
у данной индивидуальности и, следовательно, вообще находит свой
предел во всякого рода индивидуации. Тем не менее нечего думать
фиксировать в понятии или терминологически такую текучую
конкретность или какую-либо ее часть. Однако невозможность
однозначного определения эйдетического единичного не исключает еще
прочных различений, отождествлений, закреплений в понятии сущностей
высших ступеней спецификации, и можно говорить о строгих
понятиях, например, восприятия вообще, воспоминания, хотения, равно
как и более низких видах и более высоких родах, восприятия,
например, физической вещи, с одной стороны, или переживания вообще,
cogitatio вообще и под., с другой стороны. В связи с этим необходимо
также отметить, что дедуктивное теоретизирование исключено для
феноменологии, но этим, конечно, в ней не запрещаются
опосредствованные заключения, хотя, действительно, они в феноменологии,
как и всякие приемы ненаглядного оперирования, имеют только то
методическое значение, что они приводят к вещам, которые должны
быть приведены затем к данности прямого узрения сущности.
* Ideen... S. 139.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 607
Таким образом, описание ни в коем случае не мешает строгому
фиксированию понятий, но оно тем отличается от теоретического
изучения, что оно не допускает дедуктивного построения,
присущего другим идеальным наукам. То единственное препятствие, которое
видит Гуссерль, для полной логизации феноменологического
познания заключается в самой сущности предметов феноменологической
установки как предметов полной конкретности. Но, по-видимому,
здесь мы и вообще наталкиваемся на пределы логического
выражения, так как та же конкретность останавливает нас и в области
эмпирического опыта при естественной установке, даже больше, здесь мы
наталкиваемся на индивидуацию, на hic et nunc, что окончательно
ускользает как от теоретического, так и от дескриптивного
закрепления в понятиях.
Сопоставление этих предельных моментов для «ratio»
представляется нам в высшей степени важным в следующем отношении:
феноменология, как основная наука, в сущности конкретного
единичного встречает низший вид, как предел, за которым начинается
чистая жизнь. Вот — пункт, вызывающий такое торжество
антиинтеллектуализма и алогизма. От логического к эмпирическому,
живому, «перехода» нет! Феноменология не претендует на этот
переход, в этом — смысл разделения установок, опытной и
феноменологической, но прежний рационализм повинен в попытках найти этот
переход, «определить» и «фиксировать» то «запредельное», — ordo
rerum303 для него, в самом деле, было вещью беспокойной. Если бы и
феноменология шла так же далеко, то одна опасность ей
несомненно угрожала бы, она перестала бы быть основной наукой и стала
бы основой rerum. Но, действительно ли это доказывает, что ratio и
ограниченность суть синонимы? Я обращу внимание на следующее
обстоятельство: описание, как метод до-теоретического знания,
находит свою границу там же, где и теоретическое знание, в
конкретной жизни и переживании, но, как показывает феноменологический
анализ, этот предел — вовсе не эмпирическая конкретность, не
индивидуальная действительность, а конкретность в самой
своей сущности. Может показаться, что это обстоятельство еще более
ухудшает положение вещей, — пожалуй, при предпосылке, что ordo
et connexio idearum idem esc, ас ordo et connexio rerum! Но для нас
эта предпосылка содержит тот основной недостаток, что она —
теоретична, и притом получена путем дедукции. Необходимо обратить-
608
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ся к чистому описанию интуитивно данного в самой конкретной
сущности: пока мы в ней не найдем существенных же признаков,
заставляющих логическое так суживаться и делаться смешным, мы не
вправе утверждать, что понятие останавливается в своем бессилии
перед эмпирической действительностью, что оно — застывшая
форма или кинематографический снимок.
Гуссерль с самого начала противополагает опытную интуицию
интуиции сущности, как индивидуальную интуицию, и теперь для
него индивидуация есть сфера опытного и действительного. Я не
совсем с этим согласен, и поэтому избегал по возможности этого
термина. В самом деле, когда речь заходит о логическом
выражении и мы обращаемся к понятиям, мы невольно испытываем
смущение при странном сочетании: «индивидуальное понятие», и хочется
как-то выйти из того странного определения его, какое встречается
в традиционных изложениях логики: это понятие об
индивидуальном! Но, с другой стороны, еще менее удовлетворительны
определения его из понятия низшего вида и под., и в конце концов кажется,
что это определение в самом деле лучшее, во всяком случае, если,
согласно старому схоластическому разделению, считать его
определяющим признаком нумеричность. Однако же, если индивидуальное
понятие, как нумерическое, есть понятие об индивиде или
индивидуальном, то непонятно, почему не быть «индивидуальному» понятию
общим). Мало того, я не вижу препятствий и к чисто индивидуальной
сущности. Разумеется, она не попадает от этого в действительный
опытный мир, а остается в том же мире идеальных сущностей.
Конечно, смешно говорить о «Наполеонности» или «Ньютонности», но
положительно к сущности Наполеона относится его hic et nunc, как
оно относится и к сущности Казановы, невзирая на единство их в
сущности рода, и равным образом hic et nunc304, с другой стороны,
Ньютона, относится к его сущности, раз не всякая земля и не всякое
время его рождают. Я уж и не говорю о том, что hic et nunc не
исчерпывают вообще индивидуальности!..
Таким образом, ничего из проблемы понятия, как орудия
теоретического и дескриптивного метода мы выбрасывать не хотим, и
тем не менее ставим под вопрос своевременность алогических
тождеств, так как сомневаемся, чтобы в характеристике понятия, как
кинематографического снимка, была запечатлена истинная и полная
сущность логического понятия. Наш вопрос теперь состоит в еле-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 609
дующем: выше мы указывали, что несвойственный феноменологии
метод был бы умерщвлением жизни, превращением живого
познания, живого бытия в гербарий, — но как же возможно сохранение
живого, если средством его сохранения является то, что по существу
убивает именно многообразие жизни, сохраняя только схемы и
скелеты? Как становится логическое понятие орудием жизни, а не
уничтожения ее?
Мы упрекали интеллектуализм в том, что он не решает
проблемы, и тем признали правду алогизма, теперь через
интуитивизм мы приходим ко лжи алогизма, но это, конечно, не означает,
как и было только что подчеркнуто, что мы намерены вернуться к
старому рационализму, — мы хотим и здесь остаться на почве до-
теоретической, и, признавая силу упреков алогизма, мы не
удовлетворяемся его негативной позицией, а делаем попытку найти путь к
положительной философии. Вследствие этого наш вопрос
касается столь же данного интуиции, как и его логического выражения в
понятии, мы одинаково, как относительно интуиции, так и
относительно понятия спрашиваем: как есть действительное, как мы к нему
приходим и, — как частный вопрос этой общей проблемы, — как
оно «выражается», и еще специальнее, как оно выражается в
«понятии»? Проблемы «реализма» (resp. «номинализма»), «отношения»
интуиции опытной и идеальной, очевидности и разумной
мотивации, действительности и истины, интуиции и «логоса», — схоцдтся
для нас в одном пункте. Объединение вопросов не может
уничтожить различия содержания их, как не делает их тождественными и
то единство ответа, к которому мы можем прийти. Но если таковой
есть, то он должен касаться основания самого философствования
так же, как и самой «действительности», — установление его было бы
«началом» рассмотрения этих, — как и еще многих других вопросов,
уже в порядке дифференциации.
V. Предмет, положение, понятие
Недовольство и неудовлетворенность, которые замечаются в
современной философии по поводу знания в понятиях и через
понятия, проистекают главным образом из того, что понятия, как
средства познания, выступают определенными, т. е. следовательно,
ограниченными, — и это не случайность, не временный недостаток, а
это есть единственный и необходимый способ сделать понятие «ло-
610
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
гическим» понятием. Возникший теперь вопрос о дескриптивном
познании и имеет в виду возможность познания не в этих
ограниченных пределах, а, скорее, вопреки им, — едва ли для решения
такого вопроса может быть лучший метод, чем простое осуществление
самого описания. Конечно, этим не разрешится наш главный вопрос
о том, как есть действительное и как оно есть в познании, т. е. как
мы приходим к действительному, так как этот вопрос одинаково
стоит и перед дискурсивным познанием, и перед дескриптивным,
но это путь к решению, по крайней мере, один из путей: мы должны
знать, как мы приходим к действительному, дискурсивно и
дескриптивно, чтобы тем полнее осветить и ответ на вопрос о том, как оно
есть, так как оно устанавливается не путем априорных конструкций
неведомого материала, а должно быть усмотрено из него самого, в
самом факте бытия. Идущие с разных сторон, от Дильтея до
Бергсона, попытки осуществить само описание, таким образом, только
предварительная работа, — она становится настоящим поворотом
в философии только, поскольку мы в ней находим и основания, на
которых покоится сама эта работа. В сущности, в этом только мы и
видим действительный критерий, позволяющий оценить значение и
реформаторскую роль попыток, которые мы имеем в виду. И с этой
точки зрения, по нашему убеждению, феноменология идет дальше и
вернее, чем какое-либо иное из современных реформаторских
течений, — в направлении к этим основаниям должно идти и
последующее изложение.
Обращение к самой работе описания необходимо здесь как
начало еще и потому, что таким только образом устраняется тот
упрек, который может явиться по отношению к нашей постановке
вопроса: стремясь ответить на вопрос, — как мы приходим к
действительному, не воспроизводим ли мы в новом виде кантовский
софизм? Не обращаемся ли мы также за основаниями к особой
«теории познания»? Этот упрек может быть выставлен в двоякой
форме. Более грубой, где, в сущности, будут повторены только те
основания, которые вообще приводят будто бы к необходимости
«теории познания», как основной дисциплины. Однако этот упрек
мы должны отклонить, так как подчеркивали уже, что речь идет не
об изучении познания, как оно фигурирует в психологии,
эмпирически, или в логике, хотя и идеально, но не в своем бытии, а в своей
роли средства, а об изучении самого этого бытия в его сущности,
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 611
как особого рода бытия; поэтому, если это и есть «теория» (в самом
объемлющем смысле слова), то теория не познания, а бытия. Кроме
того, не следует забывать, что если бы даже вообще этот вопрос был
тождествен по смыслу вопросу «теории познания», то мы могли бы
его определить просто, как часть феноменологии, как
феноменологию познания.
Более тонко то возражение, которое может усомниться в праве
феноменологии на название науки, если она хочет быть основой
наук, так как само это право должно быть обосновано, а это ведет
к идее некоторой всеобщей теории науки и знания вообще. На этот
упрек мы можем пока ответить только аргументом, который
услышим из уст высказывающего его, так как, очевидно, каково бы ни
было это высказывание, оно направляется и против собственного
содержания. Мы избегаем regressus infinitus здесь тем, что вводим
в круг феноменологии все и всякое бытие, а потому оставляем ее
границы не ограниченными только научным знанием, как и само
последнее — неопределенным. Имеет ли право, поэтому, сама
феноменология именовать себя наукой, — для нас вопрос не
предварительной новой науки, а вопрос ее собственного содержания.
Одно, впрочем, и для нас несомненно, что эта «наука» не есть наука
в смысле объяснительной или дедуктивной теории, демонстрации
дедуктивного метода так же чужды ей, как и гипотезы, обобщения,
предвидения, индукции и прочие методы объяснения.
Теория познания со своими постулатами общеобязательного
знания уже потому не заменяет феноменологию и не стоит в ее
основании, что для феноменологии как науки о самом бытии нет вовсе
вопроса об обязательности или необязательности, а весь ее вопрос
только в том, что есть. Но если бы феноменология даже
ограничилась тем, что есть, как предмет наук, то и здесь высказанные
упреки не могли бы найти места, пока феноменология не объявила бы,
как объявляют, действительно, негативистические теории познания,
что кроме этого бытия нет иного. Феноменология, иными словами,
может сосредоточивать на этом свое внимание, не отрицая иного,
и этого факта опять-таки пока достаточно, — вопрос о том, есть ли
она сама наука, поэтому, может быть отнесен пока к проблемам
этого «иного». Но, с другой стороны, замыкая свое поле внимания,
феноменология не должна ограничиваться изучением только
поверхности его, а может взрыть его как угодно глубоко, проникая во вся-
612
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
кий слой рассматриваемого бытия. Принимая это во внимание, мы
должны требовать и при решении вопроса о бытии познания таких
ответов, которые относились бы не к какому-либо виду познания,
например, научному или ненаучному, логическому или
нелогическому, а к познанию в самом бытии его и в сущности этого бытия. Так
неограниченно поставить вопрос не может уже логика, так как она
говорит о научном, «логическом», познании, а может только
психология, и, действительно, в этом вопросе психология даст
эмпирический коррелят феноменологического исследования, так можно
представить себе некоторую идеальную психологию, онтологию духа,
которая даст идеальный коррелят феноменологического исследования,
но ничего третьего мы не найдем, что стало бы в основание самой
феноменологии для изучения предмета в его абсолютной чистоте.
Итак, наша задача теперь состоит в том, чтобы утвердить
наличность дескриптивного познания, показать, как оно есть, но не
психологически, не эмпирически, а феноменологически, в его
сущности, и так, чтобы была открыта не только сущность дескриптивного,
но и всякого познания в его бытии, как чистого переживания, fyc-
серль показывает, как получается такое чистое описание сущности.
Сознание есть непрерывный поток, в котором никакая конкретность
не поддается строгому фиксированию в понятиях, —
феноменология оставляет в стороне то, что относится к чувственной интуиции
вещи, — к тому, что Гуссерль называет «индивидуацией», hic et nunc
вещи, — но полная ее конкретность при этом сохраняется, и,
очевидно, такое конкретное не поддается строгому фиксированию в
понятиях или терминах. Но если мы от «эйдетических единичностей»
(der eidetischen Singularitäten) обратимся к сущности более высоких
ступеней спецификации, мы найдем, что они доступны описанию,
так как допускают различения, отождествления и, следовательно,
выражения в понятиях. Именно этот момент установления «того же» и
является существенным для описания, так как вместе с ним дается в
самой вещи и та «цель», по которой должно вестись все описание.
1уссерль неоднократно подчеркивает, и мы вполне разделяем
это утверждение, что «всякий вид бытия... имеет сообразно
сущности свои способы данности и, следовательно, свои способы метода
познания»*. Если мы возьмем это положение исходным пунктом и
* Ideen... S. 157.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 613
обратимся к установлению самих видов бытия, то мы можем
проследить, как мы приходим к ним. Установив принцип всех
принципов и показав, что «реальность» существует только через
«чувственную данность», Гуссерль различает, как разные виды бытия, бытие
физических вещей, animalia и психическое сознание*. Однако здесь
бросается в глаза именно для теоретически непредвзятого взгляда,
что пропущен особый вид эмпирического бытия, — бытие
социальное, которое, согласно принятому нами положению, должно иметь
и свою особую данность, и свой особый способ познания. Простой
дескриптивный анализ этого вида бытия показывает нам в самом
его начале, что нам здесь действительно приходится иметь дело с
совершенно своеобразным способом познания, в котором
основную роль играет так называемое вчувствование (Einfühlung) и
сходные с ним.акты. Но 1уссерль, признавая, что в этом виде «узрения»
(Ansehen), мы имеем узрение «интуитивное, дающее», отказывается
признать его «первично (originär) дающим актом», и в этом, нам
кажется, причина того, что в указанном месте он не останавливается
на выделении социального бытия, как особого вида бытия. Мы,
напротив, считаем, что именно феноменологическое освещение
этого вопроса является задачей принципиальной важности, так как те
перспективы, которые открываются при анализе этой проблемы,
показывают в совершенно новом виде решительно все предметы как
научного знания, так и философского, сама феноменология
испытывает при этом значительные модификации. Именно исследование
вопроса о природе социального бытия приводит к признанию
игнорируемого до сих пор фактора, который только и делает познание
тем, что оно есть, показывает, как оно есть, — но этим путем,
слишком длинным для наших настоящих целей, мы здесь идти не можем.
Мы выполняем эту работу в другом месте, а здесь имеем в виду
только представить некоторые результаты ее в порядке систематическом
и применительно к вопросу о задачах феноменологии как основной
философской науки.
Вопрос о социальном бытии потому является таким
плодотворным вопросом, что ответ на него обнаруживает неполноту или
недоговоренность в том разделении, которое было произведено нами
в самом начале и было принято до сих пор как достаточное, имен-
* Ideen... S 52-54. S. 97 ff.
614
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
но — разделение интуиции на интуиции опытные и идеальные.
Является ли это разделение исчерпывающим, достаточно ли признать
эти два рода интуиции, чтобы показать возможность всякого
познания, — другими словами, всякое ли бытие дается нам только в ин-
туициях этих двух родов? Разумеется, здесь речь идет только о родах
интуиции, из которых каждый может иметь свои виды, и именно, в
этом различии родов лежит вся трудность проблемы. Ведь вся
история философии дает только это разделение: чувственное и разум, —
в разных формах, под видом разных теорий об одном идет речь у
Платона, Декарта, Канта, — и не прав ли теперь Гуссерль, признавая
первичную данность только за чувственными интуициями и интуи-
циями сущности? Мы не думаем здесь исправлять Платона или
Декарта, но обращаем внимание на обратную сторону этого
основного философского разделения: всюду, где оно приводится в-той или
иной форме, мы встречаем и коренное затруднение в философии
при попытке перекинуть мост через пропасть, образующуюся между
названными двумя родами источников познания. Вот собственно о
нем и идет у нас речь, — и едва ли вызовет удивление, если мы
скажем, что единственно у Платона можно найти и правильные
указания по этому поводу. Но и это исследование, как ни интересно оно
само по себе, мы принуждены оставить здесь, так как хотим только
показать, как приводит к нашей проблеме феноменология.
Может быть, Гуссерль прав, что собственно Einfütlung не есть
первичная данность, но что между чувственной интуицией и
идеальной есть еще нечто «третье», что не составляет вида каждого из
этих родов и что впервые только показывает, как суть оба эти рода
интуиции, и что поэтому занимает совершенно самостоятельное
место в отношении их обоих, — это все побуждает уже за
названным третьим признать некоторое первичное значение и первичную
данность. Но, оставаясь на почве феноменологии, мы можем
воздержаться от этих, хотя бы принудительных выводов, и обратиться
к самому данному, — мы увидим, что именно в самом разделении
интуиции на два рода и лежит то, что принуждает нас к новому
вопросу, можно сказать, что этот вопрос лежит в самой сущности
разделения. Мы получаем эмпирическую действительность в
естественной установке и через посредство опытной интуиции, и получаем
в феноменологической установке эйдетическое, сущность, но какое
же между ними соотношение вне зависимости от различных видов
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 615
того и другого? Что это соотношение, коррелятивность, есть, и что
оно определяется самим способом получения социальных
интуиции, это мы старались показать выше. Теперь вопрос состоит только
в анализе того, как оно есть?
Речь идет не о логическом отношении, а о том, что есть,
следовательно, как выходит, что мы не только владеем нашими интуициями,
как содержанием нашего знания, но и пользуемся ими, как
средствами, причем между интуициями опытными и идеальными
обнаруживаем постоянную и, как мы убеждены, необходимую корреляцию, так
что, в конце концов, единственным и достаточным средством
оказывается нечто третье, что одинаково представительствует как
за чувственную интуицию, так и за идеальную. Очевидно, что
возможность такого представительства, «отображения» обоих родов
интуиции в одном основывается на том же, на чем покоится
коррелятивность самих интуиции; таким образом, наша задача есть не что
иное, как феноменологическое освещение того, как есть понятие,
как выражение интуиции. Ясно, что такие попытки, как, например,
кантовская, разрешить этот вопрос путем анализа
формулированной им софистической дилеммы, — просто бесплодны, так как сама
формулировка дилеммы исключает то третье, что нам нужно.
Учение Канта о схематизме есть бессильный порыв заполнить ту
пропасть, которую он сам создал своей дилеммой, — неправильность
которой лучше всего и обнаруживается как в указании на
сенсуалистические тенденции Канта, так и в установлении идеальных
предметов. С этим вместе и возникает до вопроса о теории отношения
предмета и понятия вопрос о том, как есть это отношение? Чтобы
разобраться в этом вопросе, войдем в некоторые подробности
самого содержания феноменологии 1уссерля. Во всей
феноменологической области большую роль играет, по мнению 1уссерля,
замечательная, открываемая в имманентной рефлексии переживаний
«двойственность и единство»: сенсуальной ϋλη и интенциональной μσρφή.
Именно в переживании мы должны выделять переживания как
«первичные содержания» («primäre Inhalte»), «сенсуальные» переживания
или «содержания ощущений», — это сенсуальные data цвета, звука,
удовольствия и проч. Эти конкретные data переживания входят как
компоненты в некоторые другие более объемлющие конкретные
переживания, которые, как целое, интенциональны, «и притом так, что
над этими сенсуальными моментами лежит как бы "одушевляющий",
616
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
осмысливающий {sinngebende, или, по существу, включающий в себя
осмысление) слой, благодаря которому именно возникает (zustande
kommt) конкретное интенцйональное переживание из сенсуального,
которое не заключает в себе ничего интенционалъного»*. Таким
образом, оформляется в интенциональные переживания, поскольку к
ним привносится специфическое интенциональности, и это есть не
что иное, как то, что характеризует специфически сознание, когда
мы говорим, что сознание именно тем, что оно сознание,
указывает на нечто, чего оно сознание. Во избежание эквивокации Гуссерль
вводит для обозначения этого момента особый термин: ноэза (die
Noese), или поэтический момент.
Очевидно, что главным пунктом, на котором теперь должно
сосредоточиться наше внимание, является именно этот момент
осмысления, привходящий вместе с ноэзой. Ведь до сих пор мы знаем
только, что к существу сознания относится его интенциональность,
направленность на что, и то, что оно есть сознание чего, — но
откуда же осмысление?
Ноэзы, выполняя свою интенциональную функцию осмысления,
конституируют предметность сознания. «Сознание, — говорит
Гуссерль, — есть именно сознание "чего-нибудь", это есть его
сущность — таить в себе "смысл", так сказать, квинтэссенции "души",
"дух", "разум". Сознание не есть заголовок для "психических
комплексов", для сплавленных "содержаний", для "связки" или потока
"ощущений", которые, будучи в себе лишены смысла, и в любой
смеси не могли бы дать никакого "смысла", но оно с начала до конца
"сознание", источник всего разумного и неразумного, всего
правого и неправого, всякой реальности и фикции, всего ценного и
неценного, поступка и проступка». Точка зрения функций является
центральной точкой зрения феноменологии, так как: здесь «на
место анализа и сравнения, описания и классификации, держащихся
отдельных переживаний, выступает рассмотрение единичностей
с "телеологической" точки зрения их функции делать возможным
"синтетическое единство"»**.
Тут многое для нас представляется неясным. Прежде всего, как
мы пришли к «осмыслению»? Здесь оказалось, что оно относится,
* Ideen... S. 172.
** Ideen... S. 176.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 617
по-видимому, к самой сущности сознания, — быть сознанием чего-
нибудь и значит здесь — давать смысл, — но раньше мы этого не
усматривали, — следовательно, что нового нашли мы в сознании,
что открывает его осмысливающую функцию? Присуще ли
осмысление самим ноэзам? Но как? Мы раскрыли то в сознании, что
конституирует его предметность и что делает возможным в нем
«синтетическое единство». Но разве это одно и то же: конституирование и
осмысливание? Не возвращаемся ли мы опять к Канту, хотя и к
«Канту» в кавычках? Если даже мы можем с несомненностью и
очевидностью констатировать, что в интенциональной функции,
конституирующей предметность, вносится «синтетическое единство», то
значит ли это еще, что оно необходимо и само по себе вносит также
смысл\ Ведь аналогичное отношение мы имели в отношении
сенсуальной \)h\ и интенциональной цор(рг|, но мы не говорим и не
думаем, что вместе с цар(рт| вносится в наше переживание, как компонент
сознания, чувственный материал, чувственные data, a несмотря на их
«единство», подчеркиваем их «двойственность». Обращаясь теперь к
«синтетическому единству», как интеллектуальной функции, не
теряем ли мы специфичность именно того, что мы ищем, «смысла»? Во
всяком случае, в непредвзятом теоретически рассмотрении вопроса
остается неясным, откуда же и как функция, к сущности которой
относится «конституировать», дает смысл? Вопрос этот совершенно
правомерен, если бы даже оказалось, — чего мы не думаем, — что само
«конституирование» тождественно «осмыслению». И, наконец, просто
как иллюстрация неизбежности всех этих вопросов возникает
частное сомнение: откуда мы знаем о «телеологической» точке зрения
рассмотрения частностей, т. е. как мы приходим к утверждению этой
«телеологии»? Именно, принимая феноменологические требования,
мы и здесь должны спросить сперва, не как конституирует сознание
предметность, а как есть то, что здесь было названо ноэзой?
Сам Гуссерль утверждает, что этим еще ничего не сделано, когда
говорят или видят, что всякое представление относится к
представляемому, всякое суждение — к выраженному в нем и т. д.* Проникая
глубже в то, что мы характеризуем как интенциональность, мы
можем произвести различение между собственными компонентами
интенциональных переживаний и их интенциональными корреля-
* Ideen... S. 179. И к последующему S. 181-182.
618
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
томи, или их компонентами. Первые мы получаем в реальном
анализе переживания, где мы рассматриваем само переживание, как
некоторый предмет среди других предметов, и где мы говорим о его
реальных частях или моментах. Но, с другой стороны, интенцио-
нальные переживания, как воспоминание, как суждение, как воля,
и т. д., по своей сущности есть сознание чего-нибудь, и мы можем их
рассматривать в их сущности со стороны этого «чего-нибудь».
Всякое интенциональное переживание, благодаря своему
поэтическому моменту, есть ноэза, т. е. к его сущности относится «таить в себе»
«смысл» и выполнять свои функции «осмысления». Такие поэтические
моменты суть, например, направляемость чистого Я на
«подразумеваемый» им вследствие осмысления предмет, аппрегензия этого
предмета, удержание, в то время, когда Я обращается к другим предметам,
выступающим в том, что «подразумевается»; объяснение, отношение,
концептирование, уверенность, догадка, оценка и т. д. В сущности
всех этих реальных компонентов переживания однако
обнаруживается и нечто, что нереально, обнаруживается именно в том, что
выступает под заголовком «смысл»; таким образом, многообразным
данным реального, ноэтического содержания соответствует
многообразие данных, выступающих в чистой интуиции, в коррелятивных
«ноэматических содержаниях», или поэмах. Так, восприятие имеет
свою ноэму, в своем смысле восприятия, воспринимаемое как такое-,
воспоминание — в своем вспоминаемом, как таком, и т. д., вообще по
отношению к сознанию — сознаваемое, подразумеваемое, как такое.
«Везде ноэматический коррелят, обозначающий здесь (в очень
расширенном значении) "смысл", следует брать точно так, как он
"имманентно" лежит в переживании восприятия, суждения, удовольствия
и т. д., т. е. как он нам дается переживанием, если мы обращаемся с
чистым вопросом к самому этому переживанию», — «чистым», т. е. в
феноменологической установке, по выключении всего реального.
Всякое интенциональное переживание имеет свой «интенцио-
нальный объект», т. е. свой предметный смысл, так как основной
характеристикой сознания является «иметь смысл», обладать чем-
нибудь осмысленно, — другими словами, сознание не только
переживание, но и осмысливающее переживание, «поэтическое»*. Но
если мы, действительно, от естественной установки переходим к
* Ideen... S. 185.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 619
феноменологической и сосредоточиваем свое внимание только на
сознаваемом как таком, на ноэматическом, мы можем заметить, что
вместе со «смыслом» нам дана еще неполная ноэма, равно как и
соответственная ноэтическая сторона переживания не исчерпывается
одним только моментом «осмысления», — смысл составляет только
как бы некоторый центральный слой, ядро, на котором
фундируются существенно другие моменты, которые, однако, в
распространительном толковании можно обозначить как «моменты смысла».
Полная ноэма состоит из различных слоев, группирующихся
вокруг этого ядра, чистого «предметного смысла», которое выступает
во всех разнообразных феноменологических описаниях, как нечто
тождественное, невзирая на различные характеры, неотъемлемо
присущие данному в зависимости от того, идет ли речь о смысле
воспринимаемого или вспоминаемого, или воображаемого, и т. д.
Теперь мы подошли к заключению фундаментальной важности,
которое Гуссерль выражает следующим образом: «Мы видим вместе с
тем, что параллельно, — если мы снова устраним совершенные в
тезах выключения, — в соответствии с различными понятиями смысла,
должны быть различаемы разные понятия "модифицированных объ-
ективностей", из которых "просто предмет", именно тождественное,
то воспринимаемое, то прямо воспроизводимое, то представляемое
картинно в виде образа и т. п., намечает только одно центральное
понятие»*.
Мы подчеркиваем значение этого вывода у Гуссерля, так как оно
именно и должно послужить исходным пунктом для решения
нашего вопроса. Здесь, действительно, рассматривается тайна бытия
самого нашего познания и проливается свет на его природу в
указанном выше смысле, т. е. на природу его бытия. Мы знаем его в его
бытии, как логическом бытии — согласно всему духу
феноменологического учения о корреляции ноэзы и ноэмы, очевидно, и
логическое представляет собой в них один из слоев, актов в цельном
переживании. Но этого, очевидно, мало, если мы ищем уяснения
сущности этого бытия в его роли познавательного орудия, тем
более загадочной, что она одинаково проникает в сферы различных
установок, сохраняя собственную тождественность. Смысл,
центральное ядро ноэмы, вместе с «просто предметом», как видно из
* Ideen... S. 189.
620
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
этого, захватывается логическим понятием и в нем находит свое
выражение, в нем закрепляется, — это так, но как раньше было
неясно, как оказалось, что к сущности сознания относится осмысливать,
так неясно и теперь, как понятие «захватывает» этот смысл, —
пожалуй, теперь основание вопроса выступает еще ярче. Если
именно в логических актах удерживается сознаваемое как такое, смысл,
то относится ли это к сущности самих этих актов — давать смысл,
«одушевлять» «предмет просто», или это необходимое
«сосуществование» осмысления и логизирования имеет иную основу, тогда в чем
же она? Как понятие есть так, что в нем выражается смысл? Мы
видели, что, поскольку речь идет о «предмете просто» в некотором
ноэтически-ноэматическом переживании, он выступает, как
некоторое центральное ядро, вокруг которого складывается своеобразная
структура целой ноэмы, состоящая из многочисленных характеров
ноэматического ядра. Исчерпывающий анализ самой названной
структуры должен был бы открыть роль и значение этих характеров
как в сфере наличной данности, так и в ее репродуктивных,
символических, образных и других модификациях. Особое место тут у fyc-
серля занимают характеры самого бытия и связанных с ним
модификаций, равно как и соответствующих доксических модальностей
в сфере убеждения, веры, сомнения и т. п. Наконец, позициональные
или нейтрализующие модификации сознания в их отношении к
актуальным и потенциальным полаганиям приводят к таким новым
расширениям самого понятия акта, которое переходит за пределы
чистого cogito и раскрывает в структуре ноэмы-ноэзы новые
предметности, хотя и фундированные в «представлении», — но
необходимо присущие всякому цельному переживанию. Это также своего
вида «полагания», но открывающие ноэзу, а соответственно и ноэму,
уже не только со стороны ее когитативной, но и со стороны
чувствующей, желающей, оценивающей, и т. д., и т. д. Существенно, что такое
расширение понятия «полагания» (Selzung) за пределы доксических
модальностей дает возможность обо всех характерах говорить, как о
тетических актах или тезах и, следовательно, в этом расширенном
значении говорить о всяком сознании как о «тетическом» актуально
или потенциально (в позициональной модификации сознания, —
соответственно, в модификации нейтрализующей о quasi-тезах). Но
так как, с другой стороны, всякий полагающий акт полагает
необходимо, — какого бы он ни был качества, — также «доксически», т. е.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 621
в каком бы модусе ни было совершено полагание, он в то же
время всегда полагает нечто как сущее, то не только всякий акт должен
рассматриваться, как «объективирующий», но и всякий акт
заключает в себе (а, соответственно, и его коррелят) explicite или implicite
«логическое», в котором он может быть «выражен». И очевидно, это
опять-таки одинаково относится, как к простым тетическим, так и
синтетическим актам с их объединением «плюрального» сознания в
высшее единство и, таким образом, с превращением, с одной
стороны, политетических актов в монотетические и с конституированием
некоторого единосовокупного предмета, — с другой стороны*.
Нетрудно из этого видеть, что, какое бы значение сам по себе ни
имел этот сложный феноменологический анализ структуры ноэмы-
ноэзы, интересующий нас здесь в частности вопрос о «логическом»,
как специальном и специфическом «слое» в ней, легко выделяется
в силу своей всеобщности, покрывающей все частные различения
структуры, в особую проблему, которую можно подвергнуть
исследованию, независимо от остальных различений**.
Гуссерль, анализируя «логический» слой в корреляции ноэмы-
ноэзы и различая «значение», «значит» («Bedeutung», «Bedeuten»),
с одной стороны, и «выражение» («Ausdruck»), с другой стороны,
расширяет сферу понимания этих слов за пределы их
первоначальной области языка и, таким образом, распространяет их на всю
ноэтически-ноэматическую сферу, следовательно, на все акты,
независимо от того, переплетаются они с собственно «выражающими
актами» или нет. Именно так, поясняет он, идет у него речь о
«смысле» при всех интенциональных переживаниях, — «смысл», другими
словами, вообще употребляется как равноценное «значению». Но
для отчетливости он предпочитает для старого понятия слово
значение, в особенности в сочетании «логическое» или «выражающее»
значение, а слово «смысл» употребляет в более объемлющем
применении. Допустим, мы в некотором восприятии наличного предмета
совершаем в акте полагания раскрытие данного и выделяемых в нем
моментов по схеме: «вот, белое», — этот процесс может обойтись
* Ideen... 3. Abschnitt. 4, Kapitel.
** Фактически именно с этой стороны подошел Гуссерль сам к идее
феноменологии во втором томе своих «Логических исследований». Особ, см.:
Исследование 1-е.
622
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
вовсе без «выражения», — ни в смысле звукового выражения, ни в
смысле значения слова, которое может быть независимо от
звукового выражения (например, если бы мы забыли его). Но если мы
подумали или высказали: «белое», то в одно с «подразумеваемым как
таким» чистого восприятия входит некоторый новый слой. И это
относится не только к воспринимаемому, но и к вспоминаемому, к
образу фантазии, — всякое «подразумеваемое как такое» любого акта
в его ноэматическом смысле может быть выражено через
«значения», следовательно, «логическое значение есть выражение».
«"Выражение" есть замечательная форма, которая подходит ко всякому
"смыслу" (ноэматическому "ядру") и вводит (erhebt) его в царство
"логоса", охваченного в понятии [des Begrifflichen] и, следовательно,
"всеобщего"**.
Очевидно, что здесь ответа на поставленный нами вопрос мы
не получаем, напротив, приняв во внимание приведенное
разделение «значения» и «смысла», мы окончательно убеждаемся, что, если
к сущности понятия и относится «выражать значение», то «смысл»
остается, если он также входит как необходимый слой в
корреляцию ноэмы-ноэзы, как нечто без рода и имени. Он
«захватывается» в понятии уже готовым. Между ним и «значением» в этом
расширенном на всю область интенциональных переживаний смысле
обнаруживается принципиальное различие, которое нисколько не
может быть замаскировано тем, что «значение» выходит за сферу
своего первоначального применения, за сферу языка и становится
существенным для логического акта. И при таком расширении
остается несомненным, что, если в идеальной интуиции схваченная
сущность попадает в понятие, как его «значение» и, таким образом,
превращает логическое в «выражающее», то «осмысливание» и «смысл»
должны искаться нами именно не в логическом и не в логических
актах, как таковых. Осмысление и логизация — по существу и
принципиально не тождественны. И, однако, осмысление присуще
всякой ноэзе, и коррелятивно смысл-ноэме.
Сделаем еще последний шаг для освещения вопроса, оставаясь на
почве высказанного Гуссерлем, — зададимся вопросом: не играет ли
роль «творца» смысла само чистое Я, а с другой стороны, войдем в
анализ предметного значения ноэмы, чтобы увидеть, к чему же в ней
* Ideen... S. 256-257.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 623
прикрепляется смысл, отделяя теперь от него «логическое» или
«выражающее» значение.
Что касается чистого Я, то его наличность всегда характеризуется
при всех актах сознания, и всех интенциональных актах, как
обнаружение также некоторого акта со своим специфическим характером,
который мы обозначили, как «направляемость», как «духовный взор»
самого чистого Я. Нетрудно уловить, что не только
терминологическая характеристика этого акта указывает на его близость к тем ин-
тенциональным переживаниям, которые обычно обозначаются как
«внимание», или мы можем говорить здесь вообще о переживаниях
«аттенциональных превращений» (die attentionalen Wandlungen).
Эти аттенциональные превращения всегда предполагают уже
некоторое ноэтическое ядро и характеризующие его разного рода
моменты, — но они сами по себе не меняют соответственных ноэма-
тических функций, хотя, тем не менее, представляют превращения
всего переживания как со стороны ноэтической, так и со стороны
ноэматической. Взор чистого Я проникает через различные ноэти-
ческие слои, равно как и в данном общем поле интенциональных
ноэз (или ноэтических объектов) мы переходим от целого к части
или моментам и обратно, к рядом стоящим вещам и их связям;
переходим внезапно от восприятия к случайному объекту воспоминания,
возвращаемся назад или переходим в воспоминании на другие
ступени или в мир фантазии и т. д. Аттенциональный взор исходит от
чистого Я и определяется в предметном, направляется на него или
от него отклоняется, но он не отделяется от Я, а сам есть и остается
взором, излучением Я (Ich-strahl), это есть акт самого Я: Я «живет» в
таких актах*.
Совершенно очевидно, что эта «деятельность» чистого Я не
может брать на себя функций, которые мы ищем. Мы приписали бы
чистому Я больше того, что ему присуще по существу, если бы сказали,
что оно само в характеризованных своих «жизненных» актах
обнаруживает такую творческую способность, которая «создает» в
соответствующих ноэмах их смысл. Напротив, «жизнь» чистого Я может
обнаруживаться описанным образом, но предмет со своей ноэмой,
на который направляются акты нашей аттенциональной
направляемое™, остается мертвым, — или оставался бы мертвым, если бы
* Ideen... S. 190-192.
624
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
не носил в себе оживляющего смысла. Смысл не «творится» чистым
Я, не окрашивает предмет субъективной краской произвольной
интерпретации, а относится к тому постоянно пребывающему в
предмете, что остается тождественным, несмотря на все перемены
интенциональных переживаний и несмотря на колебания аттенцио-
нальных актов чистого Я. Таким образом, чтобы осветить вопрос с
другой из указанных выше сторон, остается войти еще в более
детальный анализ строения самой ноэмы и ее предметного
отношения, сосредоточивая теперь свое внимание на самом ноэматиче-
ском «ядре», независимо от присущих ему постоянно меняющихся
«характеров».
«Всякая ноэма имеет "содержание", именно свой "смысл", и
относится через него к "своему" предмету»*, — это и есть то, что нам
надо теперь исследовать ближе. Каждое интенциональное
переживание, как мы знаем, имеет «отношение к предметному», или оно есть
«сознание чего-нибудь», но если мы возьмем полную ноэму самое по
себе, мы должны будем и в ней различать собственно ее
«содержание» и «предмет», к которому она относится «через посредство»
этого содержания. Выше мы говорили о центральном ядре ноэмы,
теперь мы в самом этом ядре должны различать некоторый
необходимый центральный пункт его, выступающий как «...носитель
специально ему принадлежащих ноэматических особенностей, ноэматически
модифицированных свойств "подразумеваемого как такого", — этот
носитель и есть ничто иное, как предмет»**. Описание предмета,
предметности, есть описание «подразумеваемого предметного так,
как оно подразумевается» без примеси каких-либо «субъективных»
выражений, характеризующих способ, каким предметное сознается,
дает нам некоторое прочное, устойчивое содержимое всякой
ноэмы. Таким образом, мы получим некоторую совокупность
определений, выраженных в понятиях, которые составляют совокупность
«предикатов», определяющих в своем модифицированном значении
«содержание» предметного ядра ноэмы***. Предмет, не будучи
единством предикатов, является пунктом их связи, «носителем»,
представляя собою некоторое тождественное, интенциональное «то же», с
* Ideen... S. 267.
** Ideen... S. 269.
*** Ideen... S. 270.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 625
меняющимися, но от него неотделимыми «предикатами»; «предмет»,
«объект», «тождественное», «определенный субъект своих
возможных предикатов, — чистое X в абстракции от всех предикатов, —
выделяется как центральный ноэматическии момент и отделяется
от этих предикатов, или точнее, предикатных ноэм».
На один объект направляются многообразные акты и способы
сознания, так что никакой объект немыслим без этих
многообразных потенциальных переживаний, связанных в непрерывное
синтетическое единство, в котором он сознается как «нечто»
тождественное, но все-таки ноэматически разными способами. Именно
характеризуемое ядро является переменчивым, а предмет, как чистый
субъект предикатов, остается тождественным. Если мы выделим
просто часть имманентной деятельности какого-нибудь акта, как «акт»,
то мы можем рассматривать и его, и совокупный акт, как некоторое
единство непрерывно связанных актов. Точно так же могут
совокупляться в одном согласном единстве и раздельные акты, —
например, двух восприятий или восприятия и воспоминания и т. д., —
сознание одного и того же предмета, невзирая на раздельность их
«ядер». Вообще можно сказать: «Ноэмы многих актов имеют здесь
везде различные ядра, однако так, что они, невзирая на это,
совокупляются в единство тождества, в некоторое единство, в котором
"нечто", подлежащее определению, лежащее во всяком ядре,
сознается, как тождественное»*.
Во всякой ноэме есть такое чистое предметное нечто, как пункт
единства, и мы можем в ноэматическом отношении различать два
понятия предмета: этот чистый пункт единства, ноэматическии
«предмет просто» и «предмет в своей определительной
квалификации» (im Wie seiner Bestimmtheiten). «"Смысл" и "есть этот
ноэматическии "предмет в своей определительной квалификации", со
всем тем, что выше характеризованное описание могло в нем
очевидно найти и выразить в понятиях"». Он может меняться от ноэмы
к ноэме вообще, но может оставаться абсолютно одним и даже
может быть характеризован как «тождественный», но нет ноэмы, в
которой он отсутствовал бы, и нет ноэмы, в которой отсутствовал бы
ее необходимый центр, пункт единства, чистое подлежащее
определению X; с другой стороны, очевидно, что в силу необходимости для
* Ideen... S. 271.
626
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
смысла иметь своего «носителя», не только всякий смысл имеет свой
«предмет», но и различные смыслы относятся к тому же предмету*.
Во всем этом, несомненно, чувствуется некоторый пробел. Не
только остается неясным, как мы приходим к усмотрению смысла
в содержании ноэмы, т. е. само это отождествление вызывает
сомнения, но, что важнее, непонятно, как предикативные
определения предмета могут исчерпать содержание ноэмы. Ведь если
можно еще признать, что такие определения выражают смысл ноэмы в
идее (в кантовском смысле), то все же это не оправдывает ни
отождествления смысла с содержанием, так как остается неясным, как
«привходит» или «осуществляется» при этом смысл, ни дает надежды
на то, что смысл в своей полноте будет приобретен в этой операции,
раз мы не знаем, откуда он привносится к самому содержанию.
Единственно, что может быть допущено при таком определении«смысла»,
это только имманентная присущность его логическому, ибо
утверждение осмысливающей роли за квалифицирующей предмет
предикацией только это и утверждает, но в таком случае мы не продвинулись
еще вперед в сравнении с простым констатированием логического
слоя в структуре ноэмы-ноэзы. В то же время факт
«неисчерпаемости» содержания, в приведенном здесь смысле, ведь и есть тот факт,
на котором споткнулся теперь интеллектуализм и по поводу
которого справляет торжество его критика. Или в самом деле нужно
сознаться в своем бессилии? Но сознаться в этом не позволяет самый
простой факт: мы не только предмет видим, где он есть, но и умеем
рассказать (выразить) это, и притом с таким совершенством, что ан-
тиинтеллектуалистическая критика, ведомая ничем иным, как интел-
лектуалистическим оружием, кажется нам до последней степени
убедительной!.. Выходит, что нельзя еще сознаваться в своем бессилии, а
приходится верить и в силы. И прежде всего нужно их учесть.
Гуссерль ясно видит, что его определение «смысла» не
приводит к «действительному, конкретно совершенному ядру ноэмы», —
«смысл, так, как мы его определили, — говорит он, — не конкретная
сущность во всем совокупном составе ноэмы, а вид ей присущей
абстрактной формы. Как же получить его во всей его конкретной
"полноте?"»**.
* Ideen... S. 272.
** Ideen... S. 273.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 627
Так как ноэма со всем своим содержанием может быть дана в
различной степени ясности, то и «подразумеваемое» со всем своим
определяющим содержанием со стороны полноты ясности может
быть весьма различным, а потому наряду с «предметом в его
определительной квалификации» следует еще различать предмет «в
квалификации его способов данности» (im Wie seiner Gegebenheitsweisen).
Темно сознанное, как таковое, и то же самое ясно сознанное
совершенно различны в отношении их ноэматической конкретности, но
это не мешает тому, чтобы определяющее содержание, с которым
то и другое подразумеваются, были бы абсолютно тождественны,
их описания совпадали бы и некоторое синтетическое сознание
единства охватывало бы обе стороны так, что речь шла бы,
действительно, об одном и том же подразумеваемом. Тогда «полным ядром»
можно считать полную конкретность соответственного ноэматиче-
ского состава, следовательно, «смысл в модусе его полноты».
По этому поводу мы ограничимся только кратким указанием на
то, что, если таким образом и уясняется, как мы приходим к
полному ядру ноэмы в ее конкретности, то все же остается невыясненным,
как мы достигаем ее смысла и какая связь между смыслом и
конкретностью. Напротив, дело усложняется и затемняется:
источником смысла является двоякого рода квалификация предметности, —
определительная, выражающаяся предикативно, и квалификация со
стороны данности, имеющая значение, — как выясняется из самого
изложения, — не предметное просто, иначе возможное
отождествление подразумеваемого, выступающего столь различным в различных
способах данности, и кроме того еще в «как» самих этих способов,
было бы подвержено большому сомнению, и притом
принципиально. Если же, тем не менее, оба источника служат одинаково делу
осмысления, то необходимо не только показать собственное место
смысла в каждом из них, но и решить ряд возникающих
недоразумений, напр., как может смысл одинаково выступать и в виде
абстрактной формы и в виде полной конкретности, как он может исходить
из содержания и из способа данности, и т. п. Наконец, направив свое
внимание на анализ ноэмы, как таковой, в себе, на чистую
предметность, мы должны строго держаться того принципа, который
устанавливает сам Гуссерль, требуя, чтобы описание «предметности»
совершалось в определенном ограничении, «именно в том,
которое, как описание "подразумеваемого предметного так, как оно
628
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
подразумевается", избегает всяких "субъективных" выражений»*.
Поэтому «исключаются» такие выражения, как «сообразный
восприятию», «мышлению», «ясно наглядный», «данный» и т. п., «они
относятся к другому измерению описаний, не к предметному, которое
сознается, а к способу, как оно сознается». Хотя эти способы данности
находятся при направлении нашего взора на самое ноэму а не на
переживание и его реальный состав, и следовательно, они
остаются «идеальными» не как «способы сознания», в смысле ноэтическо-
го момента, а как способы, в которых дается сознаваемое само как
такое**, тем не менее они не принадлежат «тождественному» как его
моменты, в смысле предмета. И действительно, соблюдая этот
принцип, нужно было бы прийти к отрицанию за смыслом в содержании
подразумеваемого, как такового, его значения конкретной сущности
и признать за смыслом только род абстрактной формы, — другими
словами, пришлось бы и предметность как таковую лишить
смысла, между тем самый факт признания в «предмете», в некотором X,
«носителя» ноэматических свойств уже делает его «осмысленным».
Нужно думать, что не только «слова» («выражение») что-нибудь
«значат», имеют смысл в «понятиях», и не только логический смысл
заключается в содержании ноэмы, но и самый «предмет» обладает
своим «внутренним» смыслом, а следовательно, для установления
его источников необходимо не только еще больше обобщить
проблему, но прежде всего войти глубже в строение ноэмы и роль
носителя ее «ядра».
Однако, прежде чем прийти к этому анализу, нам необходимо
вернуться к некоторым установленным выше положениям и в связи
с ними ближе выяснить в чистом описании то место, «слой»,
который занимает «логическое» в общей структуре ноэмы-ноэзы. Это
необходимо для отчетливости в самой постановке вопроса. Именно в
связи с возникшим здесь вопросом о предмете в квалификации его
способов данности, необходимо по существу уяснить роль не только
этой квалификации, но и самих способов.
Суть дела состоит в том, что мы различаем между «предметным
смыслом», тождественным, являющимся как таковое, с
тождественной «объективной» квалификацией явления, с одной стороны, и
* Ideen... S. 269-270.
" Ideen... S. 209.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 629
меняющимися видами «представления» в их различии способов
данности. Тождественное может сознаваться нами как «первично»
данное или «в воспоминании», или «образно» и т. д., как было
указано, это — не ноэтические моменты сознания, а характеры в самом
«идеальном», в «являющемся как таковом»*. Особенно существенной
и важной представляется та группа характеров, которая относится к
различным модальностям бытия. Ноэтическим характером, как
характером «доксическим» или «характером убеждения», соответствует
как ноэматический коррелят в являющемся «объекте» характер
бытия. Таким образом, доксическому характеру «достоверности»
соответствует «действительный» характер бытия, и в соответствующих
характерах допущения, вопроса, сомнения и т. д. — модальности
бытия «возможного», «вероятного», «сомнительного» и проч. Один
и тот же ноэтичесий, resp.305 ноэматический, характер указывает и
на существующее теперь, на бывшее (в воспоминании), на будущее
(в ожидании), во всяком случае, мы всегда тут имеем дело с
«полагающими» бытие актами, тетическими (Seins-«Setzende» Akte,
«thetische»~). Это в высшей степени существенный момент в
структуре ноэзы-ноэмы, потому что, как мы видели, он простирается на всю
область сознания, и поэтому, в широком смысле слова, всякое
сознание актуально или потенциально является «тетичесжм»*~, хотя
бы «полагания» в них и не были в строгом смысле доксическими.
Для того, чтобы признать все сознание тетическим, достаточно
расширить понятие «тезиса», как акт [неразб.] настолько, чтобы во
всяком «интенциональном переживании», как акте, найти «тезис», — над
«тезисом» в узком смысле модальности и убеждения («доксы») стоит
его широкий смысл, позволяющий говорить о тетическом характере
ноэз желания, удовольствия и проч. Но, с другой стороны, нетрудно
заметить, что всякий фундированный тезис должен указывать на
некоторый пратезис доксического полагания, и всякое положение
удовольствия, желания, оценки и т. п. можно превратить в доксическое
положение. И, таким образом, не только «полагание», является
существенно присущим всякому сознанию, но всякое сознание, как тети-
ческое, можно в широком смысле рассматривать и как доксическое,
* Ideen... S. 209.
" Ideen... S. 214.
"* Ideen... S. 241-242. Ср. также § 106. S. 217-218.
630
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
так как всякое положение иного качества, положение оценки,
желания и проч., есть вместе с тем и доксическое положение. Разница
только в модусе самого сознания, которое оказывается актуальным в
позициональных актах и потенциальным в полаганиях недоксиче-
ских. Другими словами, всякий позициональный акт полагает также
и доксически, т. е. что бы ни «полагалось», оно всегда полагается, —
хотя бы и не актуально, — также и как существующее*.
Отсюда и получается уже отмеченная универсальность
логического, ибо, поскольку оно заключается, explicite или implicite, во
всяком акте, всякий акт, — и акт удовольствия или хотения, —
оказывается «объективирующим», актуально — в доксическом cogito и
потенциально — в сознании не-доксическом**.
Если мы теперь обозначим само полагаемое как таковое
термином «положение» (Satz), то в силу всего сказанного мы должны
видеть в положении некоторое единство тетического характера и
смысла, вследствие чего понятие положения начинает играть при
анализе ноэматической структуры основную роль, так как понятия
смысла и положения неотделимы от понятия предмета. Мы можем
говорить о различных положениях, одночленных и многочленных,
синтетических, положениях сомнения, удовольствия, желания,
приказания, оценки и проч. Понятие положения, таким образом,
расширяется в высшей степени, оно относится ко всем сферам актов, так
что даже в чистой интуиции необходимо отличать и интуитивный
смысл, и интуитивное положение. Гуссерль подчеркивает, что
понятия смысла и положения ничего не содержат от выражения и
логического значения, но тем не менее они охватывают в себе все
выражающие положения или значения положений***.
Однако, согласно сказанному о возможности объектирования
всякого акта, нужно думать, что принципиально всякое «положение»
может быть выражено и, следовательно, может быть определено его
логическое значение. Остается теперь сопоставить это со
сказанным выше, где приводилось разграничение логического значения и
смысла, чтобы увидеть, что проблема отношения смысла к
выражению здесь получила необычайное расширение и перенесена на всю
* Ideen... S. 243.
** Ideen... S. 224.
*** Ideen... S. 274.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 631.
область интенционального сознания. Однако от этого проблема не
только не теряет в своей ясности в строгости, а, напротив, еще
выигрывает в этом отношении, так как при новой постановке вопроса
мы наглядно убеждаемся в том, что речь идет не о частном или
специальном вопросе логики, а о действительно принципиальном
вопросе самой основной философской дисциплины и, следовательно,
касается по существу всех центральных проблем философии. Но
можем ли мы остановиться на этом, принимая во внимание ту
постановку, с которой мы начали? Ведь мы можем повторить здесь то, что
высказали раньше по поводу логических значений и понятий
(выражений), — смысл захватывается положением, но не видно, каким
образом тетическии акт сам по себе может открыть смысл в ноэме или
предмете. Можно сказать даже, что неясность в этом пункте при
новом расширении отношений обнаруживается еще ярче. Ведь, строго
говоря, «смысл» здесь выступает не как нечто новое по сравнению
со «значениями», а только как очень расширенное понятие самих
этих последних. Но, как мы видели, при этом совокупность
значений есть не что иное, как «содержание» предмета. И мы очень легко
можем разделить и понять это отделение «положения» не только от
«смысла» как содержания, но выделить и чистого носителя этого
последнего, «чистое нечто», предмет. Отношение тетических моментов
и содержания тоже не вызывает сомнения, но осмысление все же мы
не улавливаем, так как не видно, как, и где, и почему тетическии акт
может быть и осмысливающим актом. А коррелятивно к этому ноэти-
ческому анализу мы в конце концов должны убедиться, что и то, что
мы называли «смыслом», вовсе не есть смысл, оно исчерпывается
«содержанием». Обратим внимание только на следующее: полное ноэма-
тическое ядро в его конкретности получается только в модусе
полноты смысла, так как смысл, будучи предметом в его определительной
квалификации, по мнению Гуссерля, не есть конкретная сущность
совокупной ноэмы, а только род присущей ей абстрактной формы.
В этом пункте и возник наш вопрос. Смысл не как предмет в
его определительной квалификации, а как подлинный смысл есть
отнюдь не абстрактная форма, а то, что внутренне присуще
самому предмету, его интимное. По существу, следовательно, смысл не
только может быть присущ исключительно конкретному предмету,
но он, смысл, таковой только и определяет, так как в смысле лежит
и то, что создает из разрозненного содержания целое и цельное.
632
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Если предмет в его определительной квалификации составляет только
содержание, то очевидно, что в ноэме должно найтись кроме
содержания и его носителя и еще нечто, что требует своего
феноменологического описания как со стороны ноэматической, так и со стороны
коррелятивно-ноэтической. Другими словами, речь идет о переходе от
смысла, как подразумеваемого ноэмы, к смыслу самого этого
подразумеваемого, как бытия предмета, и притом его «действительности».
Нужно сказать, что когда Гуссерль называет «смысл» в своем
определении известного рода абстрактной формой, это
совершенно точно, поскольку ведь сама ноэма есть уже некоторая
абстракция. Но не следует забывать и того, что само противопоставление
абстрактного и конкретного есть противопоставление не
безусловное, и нужно думать, принципиально, невзирая на ограничительные
здесь «более» и «менее», можно признавать, что то, от чего мы
отвлекаемся, от чего почерпаем, есть конкретное катеСоэду. Натурально,
это понятие переносится и на «остаток», образующийся при
отвлечении, который фактически едва ли может быть до такой степени
исчерпан, чтобы дойти до нуля. Скорее можно допустить своего
рода неуничтожаемый абсолютный «корень» конкретности, от
которого зависит и вообще определение предметности, в качестве
конкретной. Нетрудно видеть, что он должен быть существенно связан
с присущей конкретному мотивацией и приводит нас к вопросу о
«действительности» предмета.
Точно это определение и под титулом формы, так как,
поскольку «определительная квалификация» выполняет свою функцию, она
дает форму, является началом формообразующим, но как смысл
лежит, разумеется, в содержании. Несомненно, следовательно, что
содержание должно включать в себя и формообразующий принцип,
но все же для того, чтобы получить смысл самого предмета в его
«действительности», необходимо взять и этот принцип в его
конкретном осуществлении, другими словами, нужно уметь перейти
к действительности и формулировать правило этого перехода по
принципу, извлеченному из самого предмета в его ноэматической
структуре. Если формула может тут помочь уяснению мысли, то мы
предложили бы следующее разделение: определительная
квалификация предмета даст, по нашему мнению, смысл an sich, квалификация
в способах данности дает смысл in sich, тот вопрос, к которому мы
подвигаемся, есть вопрос о смысле/wr sich306.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 633
VI. Явление и действительность
Наш руководящий вопрос состоит в том, как есть
действительное и как мы приходим к нему? Указанное выше расширение
проблемы смысла ведет нас уже непосредственно к ответу на этот
вопрос, но он нуждается в освещении еще с новой стороны для того,
чтобы было понятно его всеобщее принципиально философское
значение. Как мы увидим, отыскание смысла ноэмы, поскольку речь
идет о ее логическом, выражающем слое, дает общий метод для
решения поставленного вопроса, но его собственный смысл
выясняется из углубления проблемы до его конечного философского
источника. Ввести наш вопрос в свет основного философского сомнения
и показать, какую роль он играет в его разрешении, значит вместе
с тем показать его значение как исходного пункта положительного
философствования. Наконец, и задачи феноменологии как
основной науки находят здесь свое завершение, что касается их
постановки и определения.
Философская догматика всегда начинает с утверждений,
касающихся не просто бытия, а «действительного», «подлинного» бытия,
но отсутствие ответа на вопрос, как мы приходим к этому бытию,
порождает законное сомнение, в свою очередь ведущее к критике,
направленной на «познание» его и по существу заканчивающейся
неизбежным самоофаничением и, следовательно, отрицанием. Так
получается для положительной философии новое побуждение к
проверке и пересмотру своих отправных пунктов, после чего
положительная философия перестает быть догматической и становится
разумно-почвенной. И этот «диалектический процесс» философии
будет продолжаться до тех пор, пока она не переживет все догматы
и не найдет всех ответов на вопрос и сомнение о том, как мы
достигаем действительного.
Самый реакционный момент в ходе философского саморазвития
составляет «критика» по той причине, что она, — как это относится
к сущности философии, — будучи возведена в принцип, принуждает
в результате к универсальному отрицанию и привативному
самодовольству. Подделка под положительную философию в «критике»
состоит в том, что вопрос о том, как есть действительное, подменяется
и исключается вопросом о том, как мы достигаем его. Ценность же
догмата уже состоит в том, что он достигает; разумная почвенность
634
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
раскрывает нам и пути достижения. Основная философская наука
не имеет в виду доказывать, но именно поэтому она не может
декретировать, а должна показывать тот путь, каким она приходит к
своим утверждениям. Философское гениальничанье может
возводить в принцип интуитивное прозрение и усмотрение
действительного, положительная философия дает отчет в путях истины.
Предвосхищая результат, к которому мы придем, мы скажем, что
положительная философия должна показать не только то, что в подлинной
действительности разум находит самого себя и утверждает в себе
истину, но она должна показать и как приходит к себе разум через
путь уразумения.
Весь путь феноменологии до сих пор вел в этом направлении: в
раскрытии структуры ноэмы-ноэзы мы всегда имели на каждом шагу
систематическое освещение путей достижения при всяком ее
усмотрении и утверждении. Остается проследить в ней завершающую
фазу проникновения в подлинную действительность и открыть путь
этого проникновения. Феноменология начала свою работу с
редукции «действительного» как опытной данности; теперь ей предстоит
проникнуть в действительное как подлинное бытие в истине. Мы не
вправе здесь ожидать какого-либо «синтеза» в смысле позитивизма
или даже гегелевского диалектического завершения, так как до сих
пор мы не имели дела ни с «разложением», ни с «уничтожением» и
«отменением». Напротив, с самого начала феноменология
подчеркивает только свою εποχή, но она удерживает ее и сейчас: подлинная
действительность в ней достигается именно благодаря этой εποχή по
отношению к действительности опыта. Ни презрению, ни
высокомерию по отношению к опытной действительности здесь нет места,
есть, напротив, признание в ней разумности через обнаружение ее
в истине подлинной действительности и, следовательно,
утверждение самой опытной действительности в ее смысле. Речь идет только
о некотором систематическом пути, вызываемом сущностью
самого предмета феноменологии. «Заголовок проблемы, который
охватывает всю феноменологию, есть интенциональность. Он выражает
именно основное свойство сознания, все феноменологические
проблемы [нсразб.], включаются в него. Таким образом, феноменология
начинает с проблем интенциональности; но сперва во всеобщности
и не вовлекая в свой круг вопросов действительного (истинного)
бытия того, что в сознании сознается. Что позициональное созна-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 635
ние со своими тетическими характерами в самом всеобщем смысле
может быть обозначено как "подразумевание" и как таковое
необходимо подлежит рациональному противоположению значимости и
незначимости, — остается вне рассмотрения»*. И только как второй
ряд выдвигаются теперь проблемы самой действительности и
разума.
Направление, в котором Гуссерль дает ответ на эти вопросы, мы
предвосхитим, приведя следующий его вывод: «"Предмет" для нас
везде есть заголовок для эссенциальных связей сознания, он
выступает сперва как ноэматическое X, как субъект смысла различных
эссенциальных типов смысла и положений. Он выступает далее как
заголовок "действительный предмет", и тогда это — заголовок для
известных эйдетически рассматриваемых связей разума, в которых
осмысленное единство X получает свое разумное полагание»**.
Это «возвращение» к «действительности» дает нам повод
отметить еще один важный факт, также требующий некоторого
«возвращения», и притом к самому первому слову феноменологии. Между
этими обоими «возвращениями» есть связь.
Мы начали с того, что назвали феноменологию наукой о
«феноменах», притом всех и во всех значениях, но только в особой
специфической установке. Суть последней заключается в том, что
«феномен», благодаря особому приему феноменологии,
«очищавшему» путем редукции психологический феномен от его «реальности»,
выводившему его из «реального» порядка, становился ирреальным,
и этим достигалась возможность его «чистого» рассмотрения в его
сущности. «Не учением о сущности реальных, а
трансцендентально редуцированных феноменов должна быть наша
феноменология», — обещал Гуссерль"*. Однако только теперь, уяснив структуру
ноэмы-ноэзы в их принципиальной координации и раскрыв в них
место предмета с его содержанием и смыслом, а равно установив
роль полагающих актов в их разнообразных характерах и получив
определение «положения», мы можем понять смысл этого
утверждения Гуссерля. А вместе с этим теперь только поддается точной
формулировке сам феноменологический подход к действительности как
* Ideen... S. 303.
- Ideen.. S. 302.
~ Ideen... S. 4.
636
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
опытной, так и идеальной. Следующие слова 1уссерля можно
рассматривать, как резюмирующий результат пройденного пути:
«Как всякое интенциональное переживание имеет некоторую
ноэму и в ней некоторый смысл, благодаря которому оно относится
к предмету, так, обратно, все, что мы называем предметом, о чем мы
говорим, что мы имеем как действительность перед глазами, считаем
возможным или вероятным, что себе еще так неопределенно
представляем, по одному этому есть уже предмет сознания; и это значит,
что, чем бы ни были мир и действительность вообще и что бы они
ни означали, они должны быть представлены (venreten) в рамках
действительного и возможного сознания соответственным выполненным
смыслом, resp., положениями, с более или менее наглядным
содержанием. Если поэтому феноменология совершает "выключения", если
она, будучи трансцендентальной, заключает в скобки всякое
актуальное полагание реальностей и совершает другие заключения в скобки,
которые были выше описаны, то мы теперь понимаем из более
глубокого основания смысл и правильность раньше выставленного тезиса:
что все феноменологически выключаемое все же при известном
изменении индекса находит себе место в рамках феноменологии. Именно
реальные и идеальные действительности, подпадающие выключению,
представлены в феноменологической сфере соответствующими им
совокупными многообразиями смысла и положений»*.
Так мы видели в положении некоторое единство тетических
моментов и смысла, который относился к своему «тому же», предмету,
некоторому X, как «носителю». «Но действительно ли, —
спрашивает дальше Гуссерль, — оно (это X) то же? И "действителен" ли сам
предмет?» Во всяком познании, как таковом, заключаются
вопросы о действительности, так как всякое познание имеет свой
коррелят в «предмете», который подразумевается, как «действительно-
существующий». Но всегда возникает вопрос: когда ноэматически
«подразумеваемое» тождество X есть «действительное тождество», а
не «просто» подразумеваемое, и что означает это «просто
подразумеваемое» («bloss vermeint»)?
Высказывая что-нибудь о предмете просто, мы подразумеваем
обычно под ним некоторый действительно существующий предмет,
и если это высказывание разумно, то подразумеваемое, как высказы-
Ф Ideen... S. 278-279- Ср. к этому § 76. S. 142.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 637
ваемое, должно быть «обосновано», «доказано», прямо или косвенно
«усмотрено»*. В логической сфере, в сфере высказывания, таким
образом, существует принципиальная корреляция между «быть
истинно» или «действительно» и «быть разумно-доказываемым» или
вообще указываемым. Анализ разумного сознания, которое составляет
это разумное «доказательство», раскрывает в нем ряд различий, —
так мы различаем между переживаниями, в которых полагаемое
дано первично (акты «восприятия», «видения») и не первично
(воспоминание и под.).
Это различие касается не чистого смысла, resp., положения, а
1) того способа, каким он, будучи простой абстракцией ноэмы,
составляет выполненный или невыполненный смысл (положения), а
2) также качество (das Wie) этого выполнения (например, способ
переживания смысла может быть «интуитивный» и
подразумеваемый «предмет, как таковой» является наглядно сознаваемым).
Специфический характер разумности оказывается присущ характеру по-
лагания в том случае, если это полагание совершается на основе
выполнимого смысла, а не только вообще смысла. Полагание при этом
так относится (zugehören) к явлению какой-либо вещи, что оно не
только составляет одно с ним, но оно «мотивировано» им, и притом
«разумно мотивировано». Это то же, что сказать: полагание имеет в
своей данности свое законное основание (den Rechtsgrund), в случае
первичной данности это основание будет «первоначальным».
Полагание «первично» данной сущности в идеальной интуиции точно
так же относится (zugehoren) к «смыслу» в его способах данности
и поэтому является разумным и первоначально мотивированным в
специфическом характере «усматривающего» полагания, которое и
устанавливает таким образом то, что мы называем «очевидным
положением».
Строго говоря, очевидность, в собственном смысле, имеет место
только в области идеальной, как «усмотрение» сущности (например,
что 2+1 = 1+2), где оно выступает в адекватной данности и где оно
«разумно» в самом точном смысле. Это побуждает к дальнейшим
важным различениям, из которых отметим только два, именно, что
касается, с одной стороны, сущности («аподиктическое»
усмотрение) и индивидуального («ассерторическое» видение), а с другой
* Ideen... S. 282 ff.
638
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
стороны, адекватность в эйдетической области и неадекватность в
сфере опыта.
Из разумного «обеспечения» действительно сущего в очевидном
и непосредственном полагании и из опосредствованного полагания
с его опосредствованной очевидностью видны те общие основания,
на которых покоится не только «действительность» предмета как
истинно существующего, но и источник, по которому конституируется
действительность всякой вещи. Не только «истинно существующий
предмет» и предмет, который должен быть установлен разумно,
составляют эквивалентные корреляты, но также «истинно
существующий предмет» и предмет, который должен быть установлен в
«первоначальном совершенном тезисе разума»*. Этот тезис должен давать
предмет совершенно, а не только «односторонне». «Так как тезис
разума должен быть первоначальным, то он должен свое разумное
основание иметь в первичной данности определяемого в полном
смысле: X — не только подразумевается в полной определяемости
(die Bestimmtheit), но именно в ней первично дается». Указанная
эквивалентность сущности означает, что «всякому "истинно
существующему" предмету принципиально соответствует (в
априорности безусловной эссенциальной всеобщности) идея возможного
сознания, в котором предмет сам может быть подмечен [erfass-bar]
первично, и притом совершенно адекватно. Обратно, если эта
возможность обеспечена, то предмет ео ipso истинно существует».
Особенно важное значение имеет то, что всякая категория кон-
цепирования (Auffassungskategorie) (составляющая коррелят всякой
категории предмета) определенно предуказывает форму образования
конкретных, совершенных или несовершенных концепций
предметов такой категории, равно как для всякого несовершенного концепи-
рования предуказываются способы его усовершенствовать, достигнуть
в нем полного смысла, выполнить в интуиции и обогащать дальше
самою интуицию. Всякая категория предмета есть общая сущность,
которая должна быть сама принципиально доведена до адекватной
данности, в которой она предписывает непосредственно
усматриваемое общее правило (eine generelle Regel) для всякого частного,
сознательно становящегося в многообразии конкретных переживаний
предмета. Например, видимые свойства какой-нибудь вещи, как та-
* Ideen... S. 296 ff.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 639
ковые вообще, пространственны, — это дает уже правило для
восполнения невидимых сторон являющейся вещи, правило, которое в
своем полном раскрытии дает чистую геометрию, и т. д.
Таким образом, эйдетически быть истинно — коррелятивно
разнозначаще быть адекватно данным и быть очевидно полагаемым. Но
нужно различать, сообразно делению самого «восприятия» на
имманентное и трансцендентное, различные виды данности. С одной
стороны, речь идет о «конечной данности», тут бытие есть
«имманентное» бытие, — бытие, как заключенное переживание или его
ноэматический коррелят; здесь дающая интуиция адекватна и
имманентна, первично выполненный смысл и предмет совпадают;
«предмет есть именно то, что подмечается, полагается в адекватной
интуиции, как первичное "само", вследствие первичности
непосредственно усматриваемое, вследствие полноты смысла и полного
первичного выполнения его абсолютно непосредственно
усматриваемое». С другой стороны, речь идет о данности в форме идеи (в кан-
товском смысле), это — бытие трансцендентное, бытие,
«трансцендентность» которого заложена в бесконечности ноэматического
коррелята; дающая интуиция, будучи трансцендирующей, не может
довести предметное до адекватной данности, дается только идея
такого предметного и вместе с тем правило для закономерных
бесконечностей неадекватных опытов. Следовательно, все
трансцендентные предметы, все «реальности» природы или мира в «заключенном
явлении» воспринимаются неадекватно, т. е. это значит, что они и не
могут быть даны в заключенном сознании в совершенной опреде-
ляемости и совершенной наглядности. Но, как «идея», совершенная
данность предуказывается как абсолютно определенная по типу
сущности система бесконечных процессов непрерывного явления,
resp., как поле этих процессов — априорно определенное
континуум явлений, различных, но определенных измерений, по строгой
закономерности сущности. «Идея мотивированной сообразно
сущности бесконечности не есть сама бесконечность; очевидное
усмотрение, что эта бесконечность принципиально не может быть дана,
не исключает, а скорее требует непосредственно усматриваемой
данности идеи этой бесконечности».
Дальнейшее углубление в «действительность» ведет к новым
принципиально существенным проблемам «феноменологической
конституции», дающим методологические указания на то, как про-
640
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
изводится установление «действительного» во всех многоразличных
видах его бытия. Гуссерль дает в высшей степени интересный анализ
«области вещи», который, в то же время, может служить вообще
«руководящей нитью» (Leitfaden) феноменологического исследования.
В ретроспективном обзоре намечается последовательный ход
феноменологического анализа в его законченной систематичности и полноте*.
Нетрудно видеть, что, согласно установленной в начале
терминологии, такой переход к «вещи» указывает на некоторые новые
методологические приемы самой феноменологии, состоящие в том, что
феноменология использует совершенно особым образом те связи,
которые устанавливаются между ней самой в решении проблемы
«конституции» («конститутивные феноменологии») и, соответственно, между
онтологиями, как формальными, так, в особенности, и
материальными. Феноменология здесь не «подчиняется» онтологиям и не получает
из них «обоснования», она только пользуется онтологическими
положениями и понятиями, как «руководящей нитью» для собственной
цели, — как говорит Гуссерль, — онтологическое понятие или
положение служит «индексом» для конститутивных связей сущности**.
Существенно в этом то, что наша погоня за «действительным»,
resp. «разумным» приводит нас к региональным онтологиям с
руководимыми ими проблемами конституции прежде всего
материальной вещи, а следовательно, и animalia, и души и т. д.
Региональные онтологии направляют свое внимание на
материальную сторону сущности, точно так же развертывающуюся по
предписываемым самой вещью правилам и законам. «Всякая
региональная область дает здесь руководящую нить для собственной
законченной группы исследований»***. Общая проблема, возникающая
отсюда, и есть проблема «конституции» предметностей данной
региональной области в трансцендентальном сознании, или
«феноменологической конституции», например, вещи. Идея вещи, с которой
мы имели дело до сих пор, замещается выраженной в понятии
мыслью «вещь» определенного ноэматического состава****.
* Ideen... S. 312-319.
** Ideen... S. 322-323.
^ Ideen... S. 309 ff.
**** «Die Idee des Dinges, um bei dieser Region zu verbleiben, ist, wenn wir jetzt
von ihr sprechen, bewusstseinsmassing vertreten durch den begrifflichen Gedanken
"Ding" mit einem noematischen Bestand».
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 64].
Еще раз подчеркиваем принципиальную важность проблем
«феноменологической конституции» ввиду того, что здесь только в
совершенной полноте (как было сказано выше, не игнорируя
проблемы «действительного»), осуществляется принципиальная задача
феноменологии как основной науки, но со своей стороны для целей
последующего сосредоточиваем внимание только на самом
отношении проблем, которое, говоря вообще, состоит в том, что
феноменология разума, поскольку поднимаются вопросы о
действительном и истинном, переходит в ряд конститутивных феноменологии
сообразно региональным предметам, дающим руководящие нити
в названных конституциях. «Последовательность [die Slufenfolge]
формальных и материальных учений о сущности, предуказывает
известным образом последовательность конститутивных
феноменологии, определяет их ступени общности и дает им "руководящие
нити" в онтологических и материально эйдетических основных
понятиях и основоположениях»*. Из этого отношения вытекает новое
определение феноменологии, которое, опять-таки, передадим
собственными словами Гуссерля. «Всестороннее, обращенное одинаково
как на ноэтические, так и на ноэматические слои сознания решение
конститутивных проблем явно было бы эквивалентно полной
феноменологии разума во всех его формальных и материальных, а
вместе с тем в его аномальных (негативно-разумных), равно как и его
нормальных (позитивно-разумных) формациях [die Gestaltungen].
Но далее напрашивается, что такая полная феноменология разума
совпала бы с феноменологией вообще, что систематическое
выполнение всех описаний в сфере сознания, какие требуются общим
титулом предметной конституции, должны были бы обнимать в себе
все описания в сфере сознания вообще». Таковы заключительные
слова «Идей» 1уссерля.
Воспользуемся теперь всем изложенным для того, чтобы ближе
определить смысл и место собственной задачи. Требования
системы, как мы видели, определяли для Гуссерля тот путь, каким он шел:
исследование проблемы «чистой» интенциональности, и только
затем обращение к проблеме действительного. И наша проблема
возникла определенно только в связи с вопросом об очевидности и
мотивации, что свидетельствует о ее крепкой связи, действительно, с
* Ideen... S. 323.
642
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
проблемой «разума». Однако и чистый анализ ноэмы-ноэзы толкал
нас в сторону того же по смыслу вопроса, хотя и в иной форме, в
форме проблемы об источнике и способе перехода от выражения к
значению. Мало того, как оказалось, сама возможность
«проникновения» к сущности от простого опыта требовала ответа на вопрос,
каков путь этого проникновения. Для нас все это — одна проблема,
но это — верно, что только с вопросом о «разуме» она выдвигается
во всех своих характерных целостности и смысле.
Не желая опять-таки сходить с почвы проблематики
феноменологии Гуссерля, мы должны сперва, прежде чем окончательно
разъяснить свою постановку вопроса, проверить, с какой стороны она
вскрывается в анализе самого 1уссерля.
Прежде всего, для Гуссерля без дальнейшего очевидно, что
разумное сознание вообще есть высший род тетических
модальностей*, поэтому для него совершенно последовательно и
естественно простое утверждение корреляции действительности и разума.
Между тем, для нас здесь именно коренится вопрос, относящийся
ко всякого рода модальности, resp. ко всякого рода полаганию: как
привходит осмысливающая функция к «пустому» тетическому акту?
Мы усомнились ведь именно в том, чтобы тетический акт был сам
по себе осмысливающим, а, с другой стороны, и смысл положения
без соответствующего поэтического коррелята оказывался «слепым»,
«логическое выражение» не решало недоумения, так как, во-первых,
положение не покрывается им, а шире его, а во-вторых, мы и здесь
могли бы повторить свое сомнение: как «хромое» логическое
выражение овладевает «слепым» значением?
Ограничивая свое внимание только первично и
непосредственно данным, следовательно, оставляя в стороне все возможные
репрезентативные формы, и сосредоточиваясь исключительно на
«восприятии», мы из анализа «положения», как единства смысла и
тетических моментов, приходим к понятию «явления», как взятого в
его наглядной полноте смысла интуитивного положения**. Здесь мы
имеем дело с важнейшим моментом в содержании феноменологии,
и уже здесь мы можем спросить: как есть явление, как смысл
восприятия, и как мы приходим к нему?
* Ideen... S. 285-286.
**Ideea..S.275.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 643
Т. е. мы предполагаем, что уже восприятие включает в себя, как
особый момент, усмотрение не только данности, не только
«содержания» ее, но совсем особо и «смысла ее».
Но далее оказывается, что этот вопрос, вообще говоря,
равносилен вопросу: действительно ли мы имеем здесь дело с «тем же»,
т. е. с «предметом» (X, «носителем смысла»)? Есть ли это сам
предмет «действительно»! Тут как будто обнаруживается та новая особая
функция, о которой у нас идет речь: разумность «действительного»
и, следовательно, сам разум, —разум в действительном явлении, —
и разум, полагающий действительное, — чистое индифферентное
тождество (абсолютное уничтожение субъекта-объекта!).
Так ли это? Ведь выходит, что уже здесь, одинаково, как опытную,
так и идеальную интуицию, насквозь пронизывает уразумение,
проникая в глубочайшие и последние тайники данного?
Хорошо, не будем делать этого утверждения, и тогда наше
«возвращение» к действительному окончательно отодвигает и
затирает вопрос об интимном смысле самого предмета, как носителя
смысла-содержания. Справедливо ли это?
Но это не все. Отодвигание названного вопроса побуждает
ставить другие и отвечать на них. Один из распространенных
предрассудков состоит в том, что для полноты понимания требуется
полнота «представления». Думается, что действительное описание
понимания должно бы разрушить этот предрассудок*. Невзирая на то, что
мы понимаем и конкретное, мы едва ли можем отнести богатство
его «чувственного» содержания к существенному моменту,
требуемому для понимания. Об этом достаточно свидетельствует именно
понимание абстрактного, а, в особенности, понимание идеального
и всякой вообще интуиции сущности.
Возвращаясь к Гуссерлю, мы находим у него, что само
действительное выступает у него в наполненном интуитивно смысле, и,
таким образом, оно исчерпывается, как разумное основание,
являющимся. Следовательно, здесь вопроса о смысле действительного, как
особом «мотиве» его самого, вовсе нет.
Но этого мало, если и можно признать, что способ данности в
своей полноте мотивирует полагание, то все же, как есть эта
мотивация, и как мы к ней приходим (т. е. как данное в интуиции есть в
* Как его разрушают в психологии исследования Вюрцбургской школы.
644
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
то же время и мотивирующее?), так как непонятно, каким образом
данность как таковая, наполняя положение, тем самым мотивирует
его разумно, т. е. нужно допустить, что «разумность» или есть новый
момент, требующий своего раскрытия, или она относится к существу
данности и, следовательно, должна быть тмуже раскрыта. Простое
установление коррелятивности в модальности бытия и доксических
характеров не дало нам здесь ответа уже раньше.
Поскольку мы ищем ключ ко всей проблеме, существенна здесь
не столько мотивированность полагания, сколько
мотивированность и разумность самого действительного бытия. Это именно
существенно. Что каждому «истинно сущему» предмету соответствует
идея возможного сознания, в котором предмет постигается
первично и адекватно, — это мне представляется бесспорным, но как
предмет, обнаруживает свою «истинность», свою разумность? Категория
предмета в своей адекватной данности предписывает общее правило
для всякого особого предмета, становящегося в многообразии
конкретных переживаний, но как «явление» может предписывать
«правила» для положения, если мы не знаем, подчиняется ли и как оно
само разумному правилу? А что дают нам эти «правила» без
уразумения действительности? Они дают, конечно, очень много: они
составляют основание не только методологии, как формального учения,
но и «натурфилософии», «философии духа», «философии истории»
и т. д., однако и здесь нельзя усмотреть, как же простая возможность
может стать действительностью! И думается, что само «правило» не
может быть усмотрено, если нет уразумения его предметного
источника. Предмет как X, как «носитель», должен быть раскрыт именно
в том, что предписывает это правило и для предмета, и для самого
разума, — только для предмета это — простое «для», а для разума это
также и «в».
Когда речь идет о явлениях «заключенных», они
воспринимаются, по мнению Гуссерля, неадекватно, но в бесконечном процессе
непрерывного явления, мы имеем дело с «континуумом явлений»,
данность которых развертывается до совершенной полноты и
адекватности, она выступает в таком случае как «идея» в кантовском
смысле.
«Идея» в кантовском смысле, сколько я могу судить, заключает
в себе далеко неоднородные моменты: она явно носит
«практический» характер, она только регулятивна, и она составляет «понятие
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 645
максимума». Оставим в стороне «практический» характер. Идея, как
только перестает быть регулятивной, только регулятивной, по Канту,
порождает иллюзии, а едва ли у Гуссерля «адекватную данность»
явления, предписываемую в ее «правиле», можно рассматривать только
в регулятивном значении. Остается «понятие максимума»,
приобретающее здесь вполне законченный смысл, раз мы вспомним, что
дело идет именно об адекватном выполнении «общего правила»
предметной категории. Но ведь весь вопрос в том и состоит, как мы
усматриваем этот «максимум», как мы усматриваем, что мы его еще
не выполнили, как мы усматриваем, что проблема есть! Должны ли
мы довольствоваться утверждением Канта, что идеи «даны природой
самого разума»? Или перед нами по-прежнему остается вопрос: как
есть сам разум? Гуссерль сам говорит: «Идея по существу
мотивированной .бесконечности не есть сама бесконечность; усмотрение
того, что эта бесконечность принципиально не может быть дана, не
исключает, а скорее требует усматриваемой данности (die einsichtige
Gegebenheit) идеи этой бесконечности»*. Ну, так вопрос ведь именно
в том, как мы усматриваем эту идею, resp., как она есть?
Важнее, однако, для раскрытия положительного направления
в решении проблемы рассмотреть по существу поднятый вопрос о
«неадекватности» самой данности. Мы приняли, что
трансцендентное восприятие принципиально «неадекватно», но что это означает
и как может оно оказаться тем не менее адекватным данным, хотя
бы в «идее»? Гуссерль различает восприятие в «заключенном
явлении» и «априорно определенный континуум явлений», но нетрудно
видеть, что речь идет уже о различных видах данности. Второй вид
уже не может во всяком случае рассматриваться как данность
первичная, напротив, утвервдение «адекватности» только в этом виде
данности составляет принципиальное отрицание первичной
адекватной данности, — распростертое в «бесконечный» ряд
«заключенное явление» перестает быть именно этим последним. И нужно
признать, что, поскольку предмет со своим «смыслом» понимается как
наглядная полнота, мы должны отказаться от мысли так скомкать
время и длительность, чтобы представить континуум в заключенном
явлении. Но это все нисколько не исключает возможности
адекватной данности явления, если не только под «смыслом», но и под
* Ideen... S. 298.
646
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
«интимным» предмета понимать тот действительный центр, из
которого исходят все нити его конституции, — адекватное усмотрение
его давало бы предмет не только в его смысле, но и в его разумной
мотивированности, хотя бы только в состоянии «потенциальном»,
в состоянии «готовности быть». Последнее ведь нисколько не
мешает считать нам имманентное восприятие адекватным, и притом в
его полной конкретности и индивидуальности. Способ построения
трансцендентного индивидуального и конкретного имеет много
общего с этим: мы как бы держим связанными в одном центральном
узле все нити смысла, индивидуации и мотивированной разумности:
держим «зараз», в «заключенном явлении». Психологическое узрение
чужой индивидуальности в ее «целом» может послужить здесь
поясняющей аналогией*. Существенно только, чтобы мы могли уразуметь
не только «смысл» явления, но и «предмета» (X, «носителя»), чтобы
мы могли «зацепиться» за него и тут найти то, что само делает
конкретное конкретным, и индивидуальное — индивидуальным, и
притом в их полной разумной мотивированности. Только такое
усмотрение приводит нас к «действительному», отвечая на все выше
возникавшие вопросы. Вместе с тем становится ясным, как приобретает
«идея» так усматриваемая, уразумеваемая, свое также
конститутивное значение, возвращаясь в своем значении опять-таки в известных
отношениях к Платону.
Остановимся еще на последнем моменте: переходя от «идеи»
данности к самой «вещи», Гуссерль переносит вопрос в область
материальных или региональных онтологии. Он говорит об онтоло-
гиях, так как речь идет о таком изучении «вещи», которое
определяется своей специфической региональной областью, другими
словами, мы приходим к онтологиям природы, души, и проч. Этот
«плюрализм» вполне законен, так как он условливается
плюрализмом самого предметного данного, плюрализм — в основе своей
«эмпирический», опытный. «Таким образом, на самом деле, — говорит
1уссерль, — всякий специфический (eigentümlich) тип такой Ьей-
ствителъности вводит с собой свою собственную
конститутивную феноменологию, и следовательно, новое конкретное учение о
* В высшей степени интересный материал в этом отношении даст книжка:
Finnbogason G. Den sympatiske Forstaalse. Копенгаген, 1911, — «симпатическим
пониманием» он называет именно это узрение индивидуального.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 647
разуме»*. Но таким образом, выходит, что у нас нет общего учения о
«действительности». Ведь не следует забывать, что при решении
конститутивных проблем феноменологии в них начинают играть роль
«руководящей нити» материальные онтологии. Это не есть, конечно,
«обоснование», как подчеркивает и Гуссерль, но тем не менее
признание этого факта требует некоторых выводов, заставляющих
опасаться, что «основание» придет с другой стороны, если мы не признаем,
что «конкретным учениям о разуме» должно предшествовать общее
принципиальное учение о нем. Из того, что феноменология вообще
совпадает (zur Deckung kommt)** с полной феноменологией разума,
вытекает только, что именно проблема «разума», resp., «уразумения» и
«действительности», составляет центральную проблему
феноменологии, основную по отношению к плюралистическому рассмотрению
действитедьности, и что если требование «систематичности» и
заставило Гуссерля пока сосредоточить свое внимание на чистой интен-
циональности, то все же главная проблема только здесь возникает.
С другой стороны, как указано, если это требование,
предъявляемое к «основной науке», не будет ею выполнено, то искомое «общее»
должно быть всецело предоставлено метафизике. Но проблема
«реальности» ведь имеет также две стороны: теоретическую, чисто
метафизическую, но и принципиальную, начальную, т. е. сторону
принципов и начал. Строго говоря, без феноменологического анализа
и метафизика может быть только «догматической», как это хорошо
показал Кант, отвергнув разум как источник опытного познания он
показал, что всякое да и нет в метафизике остается одинаково
правомерным или одинаково неправомерным, — что одно и то же.
Небольшая историческая иллюстрация поможет нам уяснить
свою тенденцию. Интересующий нас вопрос есть вопрос о
«действительном», следовательно, о действительном бытии, — как оно
есть? Наш ответ: в непосредственном свидетельстве разума, в его
усмотрении, уразумении (в «выражении», «явлении», и наконец, в
«предмете») самого себя. Взаимное отношение Канта, Юма иЯкоби
дает яркую иллюстрацию смысла проблемы, причем мы видим в них
и три различных позиции в отношении вопроса: чистый
негативизм, скептицизм и догматизм. Кант отвергает разум как источник
* Ideen... S. 319.
** Ideen... S. 323.
648
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
опытного знания, Юм — в нем сомневается и апеллирует к
инстинкту, Якоби — утверждает разум, но для всех трех существенна наша
«вера» в действительность и" отношение к ней, но, как увидим, только
Якоби уловил истинный смысл вопроса.
Для Канта «действительность» есть категория модальности, а как
таковая, будучи определением предмета, не обогащает содержание
понятия, а только выражает отношение этого понятия к способности
познания. Кант, таким образом, сосредоточивает внимание на ноэ-
тическом моменте и игнорирует его коррелятивно-ноэматическое
значение. Это — последовательно со стороны «субъективизма» или
«субъективного идеализма», представителем которого остается Кант,
невзирая на его «опровержение идеализма»*. Но это требует и другой
последовательности — чистого феноменализма — которой Канту,
принимая во внимание фактически им высказанное, не доставало**.
Но поскольку Кант сохраняет здесь последовательность, т. е. не
знает ничего о «вещах в себе», он приходит к своеобразному, но
необходимому при его «началах», феноменалистическому сенсуализму. «В
одном лишь понятии вещи нельзя найти признаков ее
существования... Итак, наше знание о существовании вещей заходит настолько
далеко, насколько простирается восприятие в его связи согласно
эмпирическим законам»***. Но это и есть тот самый эмпиризм, который
Кант же обозвал «скептицизмом». Тут Кант поворачивается к нам
другой стороной: косматая действительность подвергается
рационалистической стрижке, и мы получаем «по законам» природу. Но вопрос
остается по-прежнему вопросом: как же тетические акты
категориального полагания приводят к смыслу и предметности? Если даже на
этот вопрос мы не получаем ясного ответа, то тем более мы далеки
от вопроса, как есть действительное и как мы его узнаем?
* Якоби совершенно прав, когда пишет, что Кант, «чтобы исцелить этот
(веру в существование внешнего мира) недуг философии, изобрел
демонстрацию, которая, — довольно чудесно! — опровергла прежние несовершенные и
половинчатые идеализмы Декарта, Мальбранша и Беркли полным и
совершенным кантовским универсальным идеализмом». Werke. В. П. Lpz., 1815. S. 38.
** Подчеркиваем, что нас интересует не так называемая проблема
реальности внешнего мира, проблема чисто метафизическая, а мы желаем только
довести до конца анализ содержания явления, беря его, как предмет
феноменологии, в его существенной данности. К чисто метафизической стороне вопроса
относится и «доказательство» Канта «существовании вещей вне меня».
*** С 162-163, в пер. Н. Лосского.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 649
Но в сущности Кант, конечно, остается чистым сенсуалистом, как
это и подчеркивает уже Якоби простым воспроизведением кантов-
ской мысли. «Сам рассудок, — говорит Якоби*, — хотя назван
вторым источникам познания, на самом деле, никакой, так как:
благодаря ему предметы не наблюдаются, а только мыслятся».
Напомним еще, что, по мнению Канта, «нельзя не признать
скандалом для философии и общечеловеческого разума необходимость
принимать лишь на веру бытие вещей вне нас». Но разве не больший
еще «скандал» принимать на веру бытие и действительность самих
явлений? Но мы видели, что в принципе здесь один вопрос, поскольку и
«бытие вещей» берется феноменологически, — кроме своего
сенсуализма, лежащего и в основе «опровержения идеализма», что дает Кант?
Больше, чем «веру», — он дает «верование», ибо как иначе назвать
примат практического разума»? И еще раз позволю себе цитировать
Якоби**: «Трансцендентальный идеализм, или кантовский критицизм,
благодаря которому истинная наука должна была быть только возможна,
напротив, предоставляет науке теряться в науке, рассудку в рассудке,
всему и всякому познанию во всеобщей беспочвенности (Ungrund),
из которой не было бы никакого спасения, если бы лишь мнимо
умерший разум теперь не вырывался опять своевольно из своей
искусственной могилы, насильно разрушая ее, если бы он не воздымался
над миром и над всем в нем, более блестящий, чем когда-либо раньше,
взывая победоносным голосом: Смотри, я создаю все вновь».
Якоби брал разум под свою защиту, но сам опирался на «веру»
(belief) скептического Юма. Люди склонны верить своим чувствам
в силу «естественного инстинкта или предубеждения» и сохраняют
эту веру во внешние объекты во всех своих мыслях, намерениях и
действиях***. Но что такое эта вера, и как она есть? Юм, как и Кант,
утверждает, что представление существования не отличается от
простого представления предметов и ничего к нему не прибавляет****,
но, как говорит он сам, он идет еще дальше и думает, что и «вера в
существование не прибавляет новых представлений к тем, которые
составляют представление предмета». Она состоит только в спосо-
• LcS. 31.
Л lb. S. 18.
*** An Enquiry concerning human Understanding. Ed. by Selby-Bigge. P. 151.
**** A Treatise of human Nature. Ed. by Selby-Bigge. P. 94 ss.
650
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
бе (a manner), каким постигается наше представление, а этот способ
обусловлен, с одной стороны, наличностью впечатления, а с другой,
вызывается чувством привычки. В результате мы имеем дело только
с более яркими и живыми представлениями. Разум как рассуждение
нас здесь ни в чем убедить не может.
Считает ли Юм эту веру достаточной? Юм считает
несовместимым с мудростью природы доверить «порядок представлений»
разуму, между порядком природы и наших представлений он
допускает предустановленную гармонию и доверяет нашу мысль
«инстинкту». Особенного «скандала» для философии Юм в этом не
видит и это ему, по крайней мере, позволило разглядеть проблему,
которая тут на самом деле есть, и пусть нас не удовлетворяет ни его
скептическое отношение к разуму, ни его определение веры как
некоторого чувства, отличающего истинные суждения от ложных, одно
несомненно, что он понимал проблему, и притом ставил ее
феноменологически. Говоря об «очевидности», мы отвергли ее
истолкование как чувственного индекса истины, но тут и встает вопрос: чем
его «заменить»? Что же гарантирует на самом деле действительность
действительного? Постановка вопроса Юма — чрезвычайно ясна.
Якоби опирается всецело на учение Юма о «вере», но
противопоставляет себя всякому идеализму, как «решительного реалиста» («der
entschiedene Realist»)*. Но как же тогда разрешить сомнение Юма?
Его пытались разрешить прежде всего шотландцы, но их решение
обнаруживает, что именно ноологической проблемы в нем они и не
подозревали; его разрешает и всякий реализм, но теоретически,
причем эти теоретические средства низводят иногда до степени
простой аналогии. Между тем именно Якоби с самого начала
остается на позиции до всякой теории, хотя, разумеется, у него
встречаются неудачные обороты, но именно его ответ и свидетельствует
о том, что это — только неудачные обороты. «У реалиста нет
ничего, — говорит он, — на что могло бы опираться его суждение,
кроме самого дела [die Sache]; ничего кроме факта, что вещи [die Dinge]
действительно стоят перед ним. Может ли он это выразить более
удачным словом, чем слово откровение!» И дальше: «У нас ведь нет
вовсе никакого доказательства в пользу существования самого по
себе такой вещи вне нас, кроме существования самой этой вещи, и
'Werke. В. ILS. 165.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 651.
мы должны считать совершенно непостижимым [unbegreiflich], что
мы можем воспринять [gewahr werden] такое существование». Затем
он спрашивает: на чем основывается убеждение реалиста? «На самом
деле, ни на чем, кроме прямо-таки откровения, которое мы иначе
назвать не можем, как поистине чудесным».
Я не настаиваю на том, что ответ Якоби убедителен или
безукоризнен, я хочу только отметить его чувство необходимости дать
какой-нибудь ответ, потому что вопрос возник, — «откровение» — не
лучше, чем что-либо иное. Но не есть ли это ответ тоже sui generis
нигилистический или, по крайней мере, скептический по
отношению к разуму и уразумению? Не думаю, так как «откровение» и может
быть только «уразумением», может быть даже уразумением опытной
интуиции или логического выражения, но во всяком случае не сама
же это интуиция или понятие. Если сам Якоби еще неясно сознавал
роль «разума» в момент выхода цитированного здесь «Разговора»*,
то тем ярче подчеркивал он его смысл позже, во «Введении» к
своим философским трудам. Опять и здесь Якоби интересует нас не со
стороны нашего с ним согласия или несогласия, а исключительно
как свидетель в пользу существования намечаемой нами проблемы.
Если из «Разговора» и можно еще, — в силу, по нашему убеждению,
неудачных оборотов речи и под влиянием таковых у Юма, —
вынести впечатление, что его интересует только метафизическая
проблема о реальности внешнего мира, то названное «Введение» ясно
раскрывает другую сторону дела.
Он видит недоразумения, которые породило его употребление
слов «разум» и «вера», и интерпретирует теперь самого себя.
Теперешние свои взгляды он видит и в «Разговоре», но тогда они были
еще заволочены туманом господствующих представлений. «Со всеми
ему современными философами он называл разумом то, что не есть
разум: парящую над чувственностью простую способность понятий,
суждений и заключений, которая непосредственно из себя
решительно ничего открыть (offenbaren) не может. А то, что есть разум
* David Hume über den Glauben, oder Idealismus und Realismus. «Ein Gesprach»
вышел в свет в 1787 г. К нему «Vorrede, zugleich Einleilwig in des Verfassers Simtlichi
Schriften», в 1815 г. Werke. В. И. Напомним, кстати, что Гегель в своей Гейдель-
бергской статье уже признал, что если не в методе, то в цели он сходится с
Якоби, а что такое «разум», Гегель знал лучше, чем кто-либо.
652
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
действительно и истинно: способность предполагания (die
Voraussetzung) истинного самого по себе, доброго и прекрасного, с
полным доверием к объективной значимости этого предполагания, он
выставлял под именем веры, как способность над разумом»*. Теперь
он приписывает «разум» только человеку, животное обладает лишь
чувственностью и рассудком, «животное чует (vernimmt) только
чувственное; одаренный разумом человек — и сверхчувственное, и он
называет то, чем он чует сверхчувственное, своим разумом, как он
называет то, чем он видит, своим глазом»**.
На этом мы можем закончить это историческое сопоставление,
считая, что смысл искомой нами проблемы достаточно выяснен, и
не в одной только постановке, но даже и в попытках, сделанных в
направлении к ее решению. Мы резюмируем в параллельной
совокупности возбужденные вопросы, предполагая найти один общий
ключ к решению их. Феноменология начинает с вопроса, как есть
явление, и путем описания и различения приходит к утверждению
их данности, в конечном счете, первичной данности в интуиции,
опытной и идеальной, — вопрос в том, как мы приходим, и что есть в
интуиции, что она — интуиция, опытная и идеальная; далее, вопрос,
как есть предмет в явлении, удовлетворяется утверждением предмета
в ноэме, как носителя смысла, входящего в устанавливаемое
положение, заключающее под собой и всякий вид логического выражения,
составляющего один из слоев ноэмы, — вопрос в том, как
захватывается в тетическом моменте смысл, в частности в логическом
выражении; наконец, вопрос, как есть в действительности явление, или как
действительно явление разрешается утверждением разумной
мотивации вообще через анализ очевидности и выяснение конститутивных
проблем данности, — вопрос в том, как есть сама эта
действительность, и как мы приходим к источнику разумной мотивации.
VII. Смысл и уразумение
От проблемы выражения опытной и идеальной интуиции мы
перешли к проблеме, глубже заложенной в основании самой
феноменологии и поэтому всеобщей принципиальной важности, к пробле-
• ib. S.u.
-ib. S. 9.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 653
ме предметной структуры, и через вопрос об отношении тетических
актов и смысла в положении возвращаемся к проблеме выражения,
но совершенно обобщенной, так что решение ее одинаково имеет
значение и для интуитивного, и для интеллектуального. Мало того,
из этого обобщения и в нем раскрывается новый смысл проблемы
«действительного бытия» и ее основного значения для всей
философии, сводящего все наши вопросы и сомнения к одному центру.
Как мы отмечали, особенность феноменологии в изложении
Гуссерля состоит в том, что он пока не столько решает проблемы,
сколько ставит их, — и в этом одном уже обнаруживается высокая
продуктивность феноменологического метода. Для философии нет
ничего «само собою разумеющегося, по увидеть философскую
проблему, — также требует особого философского зрения, —
феноменологическая установка облегчает усмотрение проблем и выступает
чреватая ими». Всякое решение проблемы или попытки его, какие
могут быть сделаны уже теперь, в свою очередь раскрывают перед
нами новый ряд вопросов и требуют новых дальнейших углублений.
Наш вопрос вырос указанным способом и именно в том месте, где
он уже давал решение первому вопросу, причем вырос в виде
проблемы, которая никак частной названа быть не может, а согласно
отмеченной черте феноменологического исследования, — постоянно
возвращаться к себе самой, к уже сделанному, для новой проверки и
новой рефлексии, — мы и здесь получаем повод говорить о вопросе
не менее важном, чем основной «принцип всех принципов».
Наш вопрос возник как вопрос факта. Собственно, его можно
было бы формулировать как сомнение, требование критического
ответа по поводу «само собой разумеющегося» различия двух «сортов»
интуиции и связанного с проблемой их «отношения» спора
номиналистов и реалистов. Сомнение превращается в положительный
вопрос: исчерпывается ли этим разделением характеристика
источника «первичной» данности? Но только в выяснении вопросов
феноменологической методики и методологии это сомнение получает
свой смысл и определяется тенденция его основания. Углубление в
содержание феноменологии, вскрывшее основные моменты в
структуре явления, имело целью показать, что заподозренный с самого
начала пробел имеет действительно место и вызывает за собою, как
следствие, то, что само «содержание» явления оказывается
раскрытым не до конца. С одной стороны, устанавливаются несомненные
654
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
и твердые связи-отношения между тетическим актом и смыслом в
положении, тогда как остается неясным, неполным, описание
источника, свидетельствующего об этом «совпадении» друг с другом
двух моментов единого «положения»; с другой стороны,
структура явления прослеживается не до его последнего «начала», так как
за обнаружением «значения» под покровом «выражения» (понятия)
и за обнаружением «смысла» под покровом предметной ноэмы мы
должны были остановиться перед покровом самого предмета, за
которым лежит еще загадка: «начало» самого предмета и с ним вместе
«источник» его разумной мотивации. Между тем, из единства
сущности всех этих актов «снятия покрова» вытекает указание на
принципиальное значение самих актов, как источников либо самой
первичной данности, либо еще незамеченных свойств этой первичной
данности. В то же время, именно ввиду существенного единства
названного акта, все равно на какой «стадии» этого «снятия покрова»,
сам собой оправдывается наш метод обращения к экземплификаци-
онному приему, направленному, главным образом, на «частную», но
в настоящее время животрепещущую проблему логического понятия
и действительного многообразия.
Таким образом, мы должны начать с того, чтобы напомнить в
нескольких словах данное в первой главе разъяснение
феноменологического ответа на вопрос о роли интуиции, так как, как указано,
с него начинаем собственную проблематику. Поводом
остановиться на нем служит еще то обстоятельство, что ответ, по-видимому,
остается неясным даже добросовестным критикам феноменологии,
и естественно ожидать, что и новые проблемы не сразу будут
усмотрены в их ясности и значении.
Феноменологии ставится упрек, что она не решает вопрос об
отношении чувственного и идеального предметов, поскольку это
отношение есть повторение старой проблемы об отношении
индивидуального и общего. Так, например, Астер, как мы видели, считает*,
что из двух ответов, — ответ Аристотеля и ответ Локка, —
неприемлем ни один в силу неустойчивости самой позиции их; позиция
* Аналогичный смысл имеет замечание Б. В. Яковенко, что для выделения
чисто-логического из общего феноменологического переживания необходимо,
чтобы оно как-то было «смешано» или стояло там в связи с психологическим.
«Философия Эд. Гуссерля» // Новые идеи в философии. Кн. 3- С. 143- Думаю, что
мои замечания против Астера должны разъяснить и это недоумение Б. В.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 655
Гуссерля устойчива, но запрещает спрашивать: почему там, где еще
напрашивается этот вопрос, так как считает данности чувственную
и идеальную первоначальным фактом.
Мы должны были обратить внимание на то, что этот упрек
совершенно игнорирует смысл феноменологической редукции и
возникает только из того, что автор упрека сам остается на
психологической точке зрения. Он видит старое психологическое
затруднение в установлении отношения между вещью и понятием и требует
психологического же его решения. Между тем решение его может
быть дано только на почве самой феноменологии, так как не
только идеальный предмет усматривается при эйдетической установке,
но и сущность его отношения к чувственному, как всякая сущность,
тоже требует той же эйдетической установки. И мы ее усматриваем
в изложенном выше выделении в ноэме предмета и смысла,
выделении, из коего ясно, как от просто «являющегося» мы приходим к
уяснению того, что присуще ему по существу. Феноменологическая
редукция, заключая данное натуральной установки в скобки, не
уничтожает этим данного в опытной интуиции, напротив, сохраняет
во всей его неприкосновенности, но видит теперь другим зрением.
Принадлежащее к сущности усматриваемого по существу не может
быть разным в разных установках, иначе оно не было бы
сущностью. Например, сущность двенадцати не меняется от того, идет ли
речь о двенадцати апостолах или двенадцати месяцах или просто
о числе «двенадцать». Усматриваемое в сущности несет с собой при
переходе от одной установки к другой то, что в ней есть, тетический
акт, проникая во все слои ноэмы, вплоть до ее смысла и предмета,
и окрашенный любым характером, направляется по единой идее и
единственной сущности. Поэтому и логическое выражение
переносит в понятие то и только то, что было дано «глазу». Из этого следует,
что содержание ноэмы как ее смысл сохраняется при всех
операциях, которые могут быть произведены над ноэмой, проникает все ее
слои, а потому входит и в логическое выражение как его значение.
Здесь, именно из самого этого решения возникшего вопроса и
вырастает другая, действительно принципиальная проблема.
Логическое, как выражающее, есть только один из слоев в полной ноэме, но
именно через то, что оно выражает, через «значение», оно переводит
нас к новому, более обширному вопросу: не только логическое
выражение в понятиях противостоит предмету с его логическими «значе-
656
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ниями», но всякое положение противостоит «смыслу», заключая его
в себе и своим единством с ним само осуществляющееся как
положение, — без этого оно только тетический акт сознания. Теперь для
нас понятно, как тетический акт, направляясь на содержание
предмета, образует положение «об» этом содержании, так как
феноменологическое описание их нам и открывает в таком виде их данности.
Но первое затруднение, какое мы испытываем, вызывается тем, что
при этом описании мы принуждены констатировать содержание,
как «смысл», в виде некоторого рода «абстрактной формы».
Каким же образом «форма» может составлять «смысл», т. е.
«содержание» предмета или ноэмы? Если бы мы захотели решать этот
вопрос «теоретически», мы бесспорно должны были бы обратиться
к учению Аристотеля с тем, чтобы взойти до Платона, а потом,
перейдя ряд веков, встретить аналогичную мысль Лейбница, —· и здесь
мы, действительно, нашли бы «форму» в виде того
«одушевляющего» мертвое, в каком и у Гуссерля выступает, по-видимому, смысл.
Но не то же ли мы найдем при обращении к самой феноменологии
и к ее чистому описанию? Возьмем любой предмет в его
абстрактной несамостоятельности, и хотя мы найдем в нем «предмет в его
определительной квалификации» (der Gegenstand im Wie seiner
Bestimmtheiten), мы не найдем того подлинного смысла, который
обнаруживается только через проникновение во внутреннее
интимное стоящего перед нами! Возьмем конкретный предмет, вспомним
пример Аристотеля — секира, и мы, правда, найдем его «внутренний
смысл» в его «рубить». Смысл обнаруживается в полноте
конкретного «самостоятельного» предмета. Это — совершенно справедливо, но
откуда присоединиться этому, нами подчеркиваемому
внутреннему, если его не было в собственных квалификациях предмета? Мало
того, его, этого внутреннего, не было и в содержании абстрактной
несамостоятельности предмета: как мы указывали, «смысл» остается
очень расширенным «значением», а то, что мы ищем, в нем не
заключается*.
Однако, если мы не можем найти его в абстрактном предмете, а
в конкретном он не только налицо, но, как нетрудно убедиться,
действительно относится и к сущности его, а потому, составляя сущ-
* О роли «полноты» в смысле способов данности и вообще интуитивной
полноты мы говорили в предыдущей главе.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 657
ность конкретного, «самостоятельного, это последнее впервые
только и «создает», если так, то нам остается описать его таким, каким
мы его находим именно в конкретном предмете. Другими словами,
рассмотрим ноэму не только в ее предметной квалификации, но и
во всей конкретности выполнения ее, т. е. выполнения ее смысла.
Если мы возьмем названный пример, секиру, и дадим себе отчет
в том, что мы действительно находим в ней данным, ища в самом
данном первично данное, мы не можем не отметить того
обстоятельства, к констатированию которого мы пришли по другому
поводу выше, именно при описании и установлении «то» и «как»
предмета, — мы не ограничиваемся «голословной» данностью и
очевидностью, а открываем также ее «мотивацию». Эта мотивация отводит
нас к сущности описываемого, и в то же время показывает в ней
также существенные «связи» описываемого. Очевидно, что и они могут
предицироваться, как бы составляя «часть» предмета в tvo
определительной квалификации, но в то же время этим предикатам
«мотивации» свойственно нечто, что и побуждает нас говорить именно о
«мотивации», нечто, что как бы «уводит» нас от центрального ядра
ноэмы. Коррелятивно и ноэзы принимают новое направление, и мы
можем констатировать, что интенциональное сознание «переходит»
как бы в новую сферу переживаний, не меняя, впрочем, направления
внимания, которое по-прежнему может оставаться направленным на
соответственное центральное ядро ноэмы. Таким образом,
открывается при описании предмета в его определительной квалификации
новый слой, тесно связанный с этим «как» предмета, но требующий
выделения из него в силу указанных соображений.
Мы имеем основания считать этот слой еще более глубоким,
чем рассматриваемый слой «смысла», так как он открывается толь*
ко в последнем, но не как свойство какого-либо из предикативных
определений, — поэтому ему, самому по себе, неоткуда взяться и при
интуитивном выполнении «смысла», — а он относится к сущности
«целого» ноэмы. Мы называем его «внутренним», так как «смысл», как
содержание, также сам по себе его не обнаруживает, а дает только на
него «указания», является «знаком» его. В нашем примере мы
«усмотрим» в «секире» не только слой ее квалификаций как чистых «как»,
но усмотрим и «внутренний смысл» в том, что секира «рубит».
Конечно, я могу это «рубить» предицировать и как чистое качество, но
нельзя игнорировать того, что это именно есть то качество, которое
658
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
«уводит» меня от «секиры», как «содержания» некоторой ноэмы к
названным мотивирующим связям. Если я обращусь к этому качеству,
имея в виду именно эту его «сторону», то оно само по себе будет
для меня уже только «знаком», и «рубить» окажется чем-то интимно-
внутренним самого предметного содержания, и притом в его целом
окажется, по Аристотелю, его «душой», или энтелехией. Нетрудно
представить в этом энтелехическом слое или, вернее, ядре
самого смысла, как содержания, нечто, что имеет своего носителя в том
же предмете, что и вся ноэма, но для которой предмет в его
определительной квалификации является только «внешним» знаком. Как
относящаяся к сущности ноэмы в ее целом энтелехия уже не есть
абстрактная форма какого бы то ни было рода, а есть нечто
закрепляющее предмет в его конкретности. Энтелехия, таким образом,
содержит в себе то, что характеризует предмет со стороны его
определения «к чему», она показывает нахождение предмета в некотором
«состоянии» целеотношения, или телеологичности. При самом
тщательном описании мы не могли бы открыть в первично данном той
цели, об отношении к которой здесь идет речь, поэтому названное
определение «к чему» не должно быть понимаемо в том смысле, что
мотивация принадлежит первичной данности, но самая наличность
«энтелехии» (τό εντελές έχειν)307, включенность в телеологическую
мотивацию, констатируется нами в первичной данности, хотя и
через посредство «знаков».
Это — удивительная вещь, что такой неоспоримый, замеченный
уже древней философией, факт до сих пор не получил своего
всеобщего признания, между тем, как отчасти покажет дальнейший
анализ, мы имеем дело с фактом такой принципиальной важности,
что от него зависит и сам характер всего философствования.
Большую роль в игнорировании этого факта сыграла столь характерная
для философии нового времени «борьба против телеологии», хотя
самая безуспешность этой борьбы должна бы, по крайней мере, для
нас свидетельствовать, что она есть не что иное, как борьба слепых
против зрячих. Однако, следует внимательнее отнестись и к
источнику такого ожесточения ослепленных, так как мы открываем здесь
новую сторону вопроса, важную для него по существу.
Дело в том, что экземплификационный метод в феноменологии
не есть ее изобретение; его достоинства, как и недостатки, могут
перейти и в феноменологию, как они имели место и в других, даже эй-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 659
детических, науках. Невзирая на то, что феноменология оперирует
над сущностями и над эйдетическим, она может при экземплифика-
ционном методе оказаться «односторонней», не только рискуя
смешать сущности, но и вообще отнести к сущности высшего рода то,
что присуще сущности только вида. Конечно, это недостаток не
феноменологии, а наш собственный, — по-видимому, он и имел место
в обсуждаемом теперь ослеплении противников телеологии.
Примеру с «секирой» нетрудно противопоставить такой предмет, в
котором «содержание» исчерпывается в его выполнении, и мы не только
не заметим в нем «указания» на энтелехию, но ее действительно «не
будет». По справедливости, такой предмет мы должны были бы
признать «абстрактным»*, но, чтобы не удаляться от нашей прямой
задачи, мы можем просто воздержаться от решения этого вопроса и
согласимся, что могут быть указаны предметы, лишенные энтелехии.
Само собой разумеется, что при этом допущении мы должны
игнорировать и проблему отношения средства-цели, с одной стороны,
и части-целого, — с другой. Выберем, следовательно, пример,
который оказался бы наиболее чист от телеологических подозрений и
мог исчерпаться, по-видимому, самим собой, например, звезда,
песчинка — все равно. Онтологически — это «вещь»,
феноменологически — предмет со своими определениями и качествами, содержание
которого ни прямо не содержит энтелехии, ни указывает на нее.
Феноменологически, со стороны эйдетической, как предмет, секира
дает те же определения, и тем не менее еще нечто, что, как ни
покажется парадоксальным, относится к ее «тождественному» и все-таки
не обнаруживается, когда мы к тому же тождественному приходим
от другого примера естественной установки. Мы должны вспомнить,
однако, что уже при первых своих установлениях феноменология
обращает внимание на разнородность данного не только в
чувственной интуиции, но и данного в идеальной интуиции сущности.
Эта разнородность имеет место в нашем случае: мы без
дальнейшего переходим к феноменологической установке от естественной и в
примере с секирой, и в примере с песчинкой, между тем, уже в
естественной установке их место определяется разно, и это различие
* И причем «абстрактным» не в логическом смысле, а в смысле самой
действительности. Онтологически и метафизически это означает, что, например,
материя (физики или химии), как действительность окружающего нас мира,
есть сплошная абстракция.
660
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
не может сгладиться при рассмотрении сущности. Напротив, оно и
обнаружилось, как мы видим. Секира, как явление мира социального,
и песчинка, как явление мира «естественного», с одной стороны, —
предмет с внутренним смыслом, энтелехией, и предмет чистого
содержания, — с другой.
Но феноменологическая установка позволяет нам теперь яснее
усмотреть и то, что, хотя имеет место и в естественной установке,
но не усматривается в своей принципиальной важности просто в
силу индивидуального многообразия эмпирической данности.
Нетрудно убедиться, что всякий предмет, — во всяком случае,
конкретный, — может иметь свою энтелехию, для этого нужно только
«содействие» соответственного акта интенционального сознания. Это
не значит, что мы допускаем «творческое» превращение сущности
одного рода в сущность другого рода, например, «естественного» в
«социальное», но мы имеем в виду возможность того «перехода» в
мотивации, который «зависит» от самой направляемости не только
наших аттенциональных превращений, но и актов тетических,
актов полагающих вообще и доксически полагающих «положения», в
частности. Но, как мы видели, установление энтелехии не присуще
тетическому акту, как таковому, самому по себе, следовательно, здесь
речь идет о некоторой коррелятивности в ноэме, так «связанной» с
тетическим сознанием, как связан «смысл» с предметом в
«положении». Так как мы оставляем вне внимания отношение «часть-целое»
и допускаем «чистые» содержания, как исчерпывающиеся в
определительной квалификации предмета, то мы, действительно, стоим
перед своеобразным положением вещей: мы, следовательно, можем
увидеть энтелехию там, где ее «нет», энтелехию «не существующую».
Это — не энтелехия в собственном смысле, а «как бы» энтелехия,
quasi-энтелехия. В естественной установке мы постоянно имеем
дело с quasi-энтелехиями, когда «полагаем» явлению, вещи, нечто ей
«несвойственное» собственно; например, песчинка пляшет, звезда
предсказывает, секира рассказывает. Этот «сказочный» мир
предполагает совершенно особую модификацию сознания, которая, хотя и
не теряет своего тетического характера, тем не менее устанавливает
положения sui generis, — когда мы не протестуем против «ложности»
их, но и не утверждаем их «истинности», когда в самом тетическом
акте мы остаемся вне самого этого разделения. Эту своеобразную
модификацию Гуссерль обстоятельно анализирует под именем
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 661
«нейтрализации»*, и, очевидно, мы имеем здесь дело с теми ноэзами-
ноэмами, которые так соответствуют нейтрализованной
модификации, как вообще энтелехия — смыслу. Существенно только, что тут
обнаруживается, что и там, где энтелехии «нет», она может быть
усмотрена как quasi-энтелехия. Таким образом, установление
энтелехии, будучи установлением внутреннего интимного ядра ноэмы,
относится не к какой-либо особенной сущности, а может иметь место
в отношении ко всякой ноэме, содержание которой остается
самостоятельным конкретным.
Мы должны проследить также энтелехию предмета в его
коррелятивном поэтическом отношении. Мы уже видели, что энтелехия
составляет ядро самого содержания и знаем, что в целом
«положения» энтелехическая ноэза обнаруживается как особый «слой» тети-
ческого акта. Обращаясь к самой сущности их, мы можем заметить,
что, действительно, присущее им коррелятивное установление
бытия и его характеров имеет место и в нашем случае, так как
энтелехия в объекте подвержена всем тем же модальностям «доксических
характеров», как и самый объект. И мы, действительно, говорим о
своем сомнении, предположении, уверенности, допущении и т. д.
по отношению к энтелехии. Однако нетрудно видеть, что это
происходит только от того, что энтелехия, составляя внутреннее ядро,
«душу» предмета, не может быть от него отнята, но, как таковая, она
требует особенного не только характера доксы, но совершенно
особого акта, одушевляющего самое доксу. Этот акт не есть сам те-
тический акт, но как бы находится в тетическом акте, и последний
без него просто «механичен», подобно тому, как о кантовских
категориях можно сказать, что они «механически» попадают на свое
содержание. В виду открывшихся уже особенностей этих актов,
выражающихся в том, что они в содержании ноэмы усматривают
только знак для внутреннего, для энтелехии, мы можем назвать эти акты,
одушевляющие всякое положение, герменевтическими актами. И,
следовательно, рассматривать «положение» не только как единство
смысла и моментов тетического характера, но как единство их
вместе с единством энтелехии и моментов герменевтического
характера, каковое единство в себе составляет единство предмета с его
живым интимным смыслом.
* Ideen... S. 222 ff.
662
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Мы не считаем возможным остановиться на этом до последней
степени сжатом выражении того, что раскрывает нам
феноменологический анализ в отношении предмета и сознания, а должны
войти в несколько более детальное рассмотрение некоторых сторон
вопроса, не стесняя себя теперь в свободе перехода от чисто
феноменологического описания к онтологическим выводам из него, а
равно — и в оценке того общефилософского значения, какое могут
иметь эти выводы. Но, с другой стороны, мы должны подчеркнуть,
что в наше намерение не входит дать сейчас и решение
возбужденных проблем, напротив, мы хотим только возможно яснее оттенить
самую постановку их и значение, которое они имеют.
Мы исходим из анализа «смысла», к которому приводит гуссер-
левское рассмотрение предмета, но, как мы уже указывали по
этому поводу, «смысл» у Гуссерля является скорее очень расширенным
«значением». Бесспорно, мы имеем достаточно оснований
отождествлять в известном направлении эти термины, но мы желаем
также выдвинуть на первый план те различия, которые им присущи.
В сущности, мы совершенно безразлично пользуемся ими главным
образом в сфере «значений» слов, языка, вообще грамматической и
филологической сфере, хотя все-таки и здесь предпочитаем
термин «значение». Напротив, говоря о вещах, идеях, предметах, мы не
только говорим преимущественно об их «смысле», но и различаем
довольно резко между «значением» и «смыслом». Вообще
наличность «знака», имеющего «значение», более присуща именно
«выражениям», как «высказываниям», в словах или жестах, чем самим
предметам, как таковым. В этом последнем случае «смысл»
приобретает более глубокий, более внутренний оттенок, и то, что
является знаком, не рассматривается как знак par excellence308, a его бытие
в качестве знака, действительно, входит как одна из квалификаций
предмета. Мы предпочли бы, поэтому, сохранить за термином
«значение» в определении Гуссерля присущее ему указание на
«содержание» «выражения», тогда как термин «смысл» употреблять для
обозначения предмета в его определительной квалификации как
содержания; тогда внутренний смысл самого предмета обозначится
как энтелехия.
В связи с этим, очевидно, и термин «положение» (Satz)
требует своего параллельного термина, так как и по существу дела речь
идет не об устанавливающих бытие характерах, а, как мы уже можем
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 663
сказать, об актах, устанавливающих смысл действительного бытия.
И действительно, «смысл» как «значение», — по преимуществу
логическое значение, — поскольку он «выражает» «смысл» предмета,
не выходит за границы определяемого «содержания», тогда как мы
говорим о смысле самого предмета, или онтологически: о смысле
вещи. Ведь очевидно, что смысл положения и составляет его
содержание, предмет в его определительной квалификации, но смысл
самого предмета есть нечто совершенно иное и новое. В тех случаях,
когда мы мыслим, например, «понятие» не выраженным в слове, мы
имеем все же его содержание, которое можем рассматривать как
значение. Другое дело, внутренний смысл предмета, который в само
понятие (или положение) входит, как нечто к нему прикрепленное,
только потому, что был совершен вместе с тетическим актом какой-
то другой акт, привнесший с собой этот смысл. Понятия, имеющие
свое определенное значение, могут оказаться совершенно
лишенными смысла, например, понятие «природа» в механическом
естествознании, и тот факт, что мы можем привнести в него quasi-смысл,
указывает, что акт осмысления есть самостоятельный sui generis
акт, не привязанный необходимо к чистому тетическому акту. Акт
осмысления, следовательно, или герменевтический акт, нуждается и
в соответственном определении термина для того, что
коррелятивно выполняет «выражение», для смысла в положении, и это есть не
что иное, как «интерпретация», или «истолкование». Однако само
«истолкование» «выражается», и притом в том же положении,
которое представляет собой единство смысла и тетического момента.
Это — обстоятельство в высшей степени важное, так как из него мы
и усматриваем основание такой тесной слитности актов тетиче-
ских и герменевтических. Έστι δέ λόγος άπας μέν σημαντικός, ούχ ώς
όργανον δέ, άγγ... κατά συθήκην (de interpt. С. IV).
Онтологические выводы, которые можно сделать из этого
анализа, представляют несомненный интерес и принципиальную
важность. Дело в том, что возможность получения энтелехии
предмета путем чистого описания свидетельствует о том, что отношение,
играющее первостепенную роль во всех философских спорах,
отношение цели-средства вовсе не является чем-то привносимым
нами для «удобств» познания в нашем теоретическом познании, а
есть отношение, присущее самой вещи по существу и в такой форме
констатируемое нами. Как и феноменологическое описание, онто-
664
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
логические конструкции телеологических систем не есть «теория»,
а есть выражение некоторого порядка сущностей, а равно и самой
деятельности, поскольку речь идет о ней в ее конкретности. «Связи»,
которые мы не «построяем», а действительно находим, суть связи
осмысленные, телеологические.
Само собой разумеется, что этим не утверждается, что простое
усмотрение открывает нам в вещах и их цель, но оно открывает
наличность ее, так как оно именно открывает наличность смысла.
Этого и достаточно, так как дальнейшее открывается анализом самого
содержания предмета после того, как мы различили тетические
содержания от герменевтических.
Новейшая форма отрицания телеологии — учение об отношении
цели-средства как обращенной причинности (Вундт), поэтому, явно
не соответствует действительному положению вещей, если только
за причинным познанием сохраняется ему par excellence присущее
значение теоретического познания. Я считаю это учение
отрицательным, так как вижу в нем скрытую форму механического
натурализма, где вопреки прямому заявлению его представителей,
достигается вовсе не «примирение» телеологии с механизмом, а напротив,
отрицание за телеологией ей специфически присущих основании
имманентной спонтанности и выбора средств. Тот теоретический
элемент, который необходимо привносится с построением теории
и гипотез при всяком обращении к причинности, как к
объяснению, по существу не присущ телеологии. Телеологическое
отношение устанавливается не путем гипотез и теорий, и потому не может
играть в нашем познании объяснительной роли, что составляет
подлинный смысл всякого обращения к каузальному отношению.
Напротив, так как цель устанавливается путем описания, то она сама
нуждается еще в объяснении подобно другим квалификациям
предмета, равно как и всем свойствам и отношениям предмета. В этом
именно и заключается кажущаяся сила всех детерминистических
утверждений, — так как, действительно, о каждом даже самом
свободном нашем выборе мы всегда можем сказать, или, во всяком
случае, считаем законным вопрос, о* тех почему, на основании которых
нами сделан выбор. И, очевидно, что здесь обращение к самой цели
являлось бы только уклонением от ответа, так как при возможной
многочисленности средств к ее достижению важно указать, почему
выбрано именно это, а не иное средство.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 665
Однако этим самым указывается и правильное отношение,
которое существует на самом деле между телеологией и каузальностью.
Именно потому, что наличность цели свидетельствует о некотором
деиствовании, которое в своих причинах возникает перед нами как
проблема, именно поэтому ясно, что вопрос о действующей
причине прежде всего возникает там, где удается констатировать
целеустремление. Другими словами, истинное отношение между
каузальностью и телеологией таково, что констатирование
целесообразности служит побуждением к отысканию и действительных причин,
цель является эвристическим средством установления каузальных
отношений, — обстоятельство, на которое, впрочем, в литературе
уже было обращено внимание (Зигварт). Каждым своим моментом
система целей-средств связана с особой системой каузальных
отношений, но* каждая из них лежит в своем особом измерении.
Следование путем анализа каузальных отношений и систем ведет к
теоретическим обобщениям и к созданию особых модификаций
предметного содержания — абстрактных законов и отношений, тогда
как устремление в сторону телеологического заострения системы
никогда не покидает почвы конкретной самостоятельности
предмета и приводит к индивидуализированию системы.
Эти выводы побуждают нас вернуться снова на почву
феноменологического анализа и ответить на вопрос, который до сих пор
остается открытым: каким путем мы приходим к этому последнему
завершению или заострению телеологической системы, — к
индивидуальному? Решение этого вопроса в современной логике явно
неудовлетворительно, так как и само словосочетание «индивидуальное
понятие» заключает в себе contradictio in adjecto, и его определение
как понятия об индивиде логически далеко не совершенно. С другой
стороны, мы встречаем отождествление индивидуального понятия
с чувственной интуитивной полнотой (Риккерт), которое основано
на очень несовершенном психологическом анализе и не заключает
в себе ровно никаких указаний на то, каким же путем мы приходим
к признанию наличности индивидуального. Мы должны обратиться
теперь к феноменологическому анализу поэтического коррелята тех
ноэм, в которых нам удастся констатировать наличность энтелехии
и среди них отыскать этот важный источник наших высказываний о
целесообразности и индивидуальности. До сих пор эту сторону мы
характеризовали совершенно обще как особую сферу герменевтиче-
666
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ских актов, привязанных к актам тетическим вообще, но и в их
частных модификациях. Мы желаем ближе исследовать природу этих
актов, не останавливаясь перед необходимыми онтологическими и
психологическими выводами. Мы видели, что единство «смысла» и
тетического характера выражается в положении, в его
чрезвычайно расширенном значении, в силу чего мы получаем возможность
рассматривать всякий интенциональный акт сознания как акт,
устанавливающий положение, и, следовательно, могли говорить также
об особом интуитивном положении, как и интуитивном «смысле»
(значении); соответственно, мы можем говорить и относительно
внутреннего смысла, энтелехии, о герменейе вообще, как о единстве
энтелехия с герменевтическим характером, а также и специально об
интуитивных герменейях, так как, принимая во внимание
расширенное значение энтелехии, где в ее сферу вводится и quasi-энтелехия,
мы можем сказать, что всякое сознание может быть
герменевтическим сознанием. Мы выбираем для анализа именно интуиции не
потому, будто индивидуальное тождественно интуитивно
многообразному, — а потому, что в интуиции имеем дело с первично данным, и
если здесь мы сможем ответить на вопрос, как мы приходим к
установлению энтелехии, то потом проследить ее данность в других
характерах уже не составит столь трудной задачи.
Мы различали два рода интуиции: интуиции опытные и
интуиции идеальные, или интуиции сущности; теперь это разделение
выступает для нас в совершенно новом свете, так как мы видим,
насколько было условно самое наименование их «родами», или
«классами», или как-нибудь иначе. Речь идет, следовательно, просто
об одном «источнике» первичной данности, о начале или о
первоначале, «происхождении» в специфическом смысле, Ursprung, но о
различных устремлениях взгляда «в» него, различных установках,
которые и дают различие в усмотрении. Поэтому, когда
поднимается вопрос о первичной данности, то ответ на него должно искать
согласно основному требованию принципа всех принципов. Тут
может возникнуть прежде всего вопрос, не является ли и данность
энтелехии просто первичной данностью, которую мы могли бы
назвать данностью интуитивной? Тогда нам пришлось бы говорить об
особого рода интеллигибельной интуиции, как требует
соответствие со всем сказанным. Но как мы должны были бы это понимать?
Есть это — третий «род» интуиции наряду с первыми двумя? И в та-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 667
ком случае мы имели бы характеристику и какого-то третьего рода
предметов наряду с предметами опытно и идеально данными, и это
как будто согласовалось бы с тем, что энтелехия усматривается не
во всякой вещи и не во всяком предмете. Однако это легко
опровергается простым обращением к описанию, — и если здесь еще
могут быть сомнения при естественной установке, ввиду разного
рода интроекции и антропоморфизма, то при феноменологической
они исчезают, так как можно показать, что существуют предметы, к
сущности которых наличность энтелехии не относится, самое
большее — в них можно говорить о quasi-энтелехии. С другой стороны,
такое утверждение означало бы не что иное, как то, что здесь
высказывается идея новой установки, но это не соответствовало бы
пройденному нами феноменологическому пути, который ведь и
открыл наличность интеллигибельной интуиции. Там оказалось, что
усмотрение энтелехии привязывается к тетическому акту и без него
существовать не может. Если мы опять-таки обратимся к
феноменологическому анализу интуиции с целью описания самого
характера интеллигибельности в первично данном, то мы найдем, что,
действительно, в этом первично данном, поскольку мы его берем в
целостности нашего переживания, он оказывается налицо. Однако и
это не говорит еще в пользу его собственной первичности, так как
в том же целом мы находим в его конкретности многое множество
данного и не первично данного, так как констатируем всегда еще
воспоминания, образы, представления и проч. Однако имеем ли мы
право относить усмотрения энтелехии целиком к репродуктивному
содержанию переживания?
Вот здесь и обнаруживается совершенная своеобразность ноэ-
тической стороны герменевтического положения. Если бы мы не
могли в энтелехии усмотреть ничего, кроме репродуктивного
содержания, то мы должны были бы признать, что она всецело
сводится к содержанию интуиции и в конце концов попали бы в довольно
странное положение, защищая, согласно принципу всех принципов,
при естественной установке — чистый сенсуализм, а при
феноменологической — чистый интеллектуализм. Но и утверждение за
интеллигибельной интуицией презентативного характера налагает
большую ответственность, так как при несводимости ее в целом к этим
двум характеристикам первичной данности перед нами возникает в
высшей степени трудная проблема об источнике герменевтических
668
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
актов. Действительно, попытка путем чистого описания выделить
презентативные моменты интеллигибельной интуиции
наталкивается на исключительные трудности. Во всех примерах, какие бы ни
выбрали дли анализа, — в простой естественной установке, — мы
единственно о содержании интеллигибельной интуиции не можем
сказать того, что говорим о содержании других интуиции, мы не
можем «прощупать непосредственно ее первичность и сказать: вот
она!» В естественной установке вещи постоянно выступают перед
нами как знаки; язык, искусство, всякий социальный предмет,
организмы, люди и проч. и проч. — всегда выступают как знаки, и со
своим внутренним интимным смыслом. Но мы его не видим, не
слышим, не осязаем, а «знаем» все-таки. Мы знаем, что der Tisch значит
стол, стол значит орудие для такой-то цели, вот тут уже его смысл,
его энтелехия; мы знаем, что у птицы крылья для летания; что
данный памфлет написан для протеста; наконец, просто, вот лежит
что-то для чего-то! И феноменологический анализ
соответственных предметов покажет нам только, что, действительно, к сущности
социального относится — иметь цель, т. е. обладать энтелехией, то
же — к сущности организма, и проч. Нетрудно, анализируя эти
примеры в любой области жизненных отношений, заметить, что здесь в
высшей степени трудно установить именно презентативные
моменты, так как фактически мы будем всюду восходить или нисходить в
сторону разного рода умозаключений и в результате будем терять
их начало где-то в темных догадках о своем детстве. Но и этот
естественный анализ уже должен был остановить свое внимание на
другой в высшей степени интересной стороне этого «узнавания», — мы
сплошь и рядом приходим к конечному пункту, который
характеризуем словами: мне сказал такой-то, я прочел там-то, учился в школе
и т. п. Причем среди так узнанных «фактов» есть много таких,
которые навсегда и останутся узнанными от «другого», от «свидетеля»,
хотя в то же время нередко обнаруживается, что именно энтелехию
или целемерность мы «видим» и по-иному, чем передающий
«свидетель», не оспаривая самого факта. Конечно, опять здесь играют роль
выводы и, может быть, другие показания, сопоставление их, и т. п.
Но стоит обратиться к феноменологическому анализу, и мы увидим,
что наше «самостоятельное» отношение, наша «критика» и
«интерпретация» относятся к самой сущности интеллигибельной
интуиции, но также к ее сущности относится то, что мы ее «вкладываем» и
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 669
в интуицию, и во всякий тетический акт, следовательно, налицо
всегда есть особого рода направляемость в сторону энтелехии, которая
точно так же не сводится к актам интуитивного восприятия, как
например, не сводятся аттенциональные превращения и вообще акты
внимания. Но есть и принципиальное различие: акты внимания,
вообще чистые акты Я, ничего сами по себе не дают (кроме себя), а
здесь нечто дается, «прибавляется» к данным интуиции.
Очевидно, нужно обратить внимание на само это «учение»,
«узнавание от других» и проч. Есть «факты», которые иначе нами не
воспринимаются, как из передачи другого, но передача другого не
есть сущность соответственных вещей, не есть акт сознания как
направляемость, сама передача составляет интенсиональный объект,
но не является сознанием чего-нибудь. Нужно обратиться именно в
эту сторону, в сторону того, как мы приходим к тому, что «передача»
является для нас «первоначалом». Не о психологии идет речь, не о
том, как «развивается» это воспринимание и понимание «передачи»,
а о том чудесном, что само делает ее возможной, что также имеет
свою психологическую сторону, но что должно быть усмотрено в
своей сущности, потому что нетрудно убедиться, что оно само
только и делает сколько-нибудь осмысленными всякие психологические
объяснения. Мы психологически сколько угодно можем говорить
о взаимодействии индивидов, об общем духе и еще о чем угодно,
но важно, что к сущности самого сознания принадлежит не
только усматривать, но и понимать, уразумевать усмотренное. И это
«уразумение» не есть только умозаключение, как не есть оно только
и репрезентативная функция вообще, но и презентативная. Она,
действительно, окрыляет предметы, одушевляет их, и мы,
действительно, можем говорить об особой группе предметов, к сущности
которых относится быть уразумеваемыми. Феноменологический анализ
охватывает собой всякое психологическое разделение и держит под
собой это чудесное единение индивидов как один из «актов» наряду
со множеством других, для него нет «одиночных тюрем», о которых
говорит Зигварт. Абсолютное социальное одиночество, «одиночная
камера», есть удел не индивида как такого, а только
сумасшедшего; утерять способность интеллигибельной интуиции, уразумения,
даже при полном совершенстве интуиции опытной и идеальной, —
значит сойти с уйма, — единственный путь выхода из социального
единения.
670
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Но раз к сущности сознания в каких бы то ни было актах его
принадлежит это «свойство» ломать перегородки и проникать в
интимное того, что само хочет быть таким замкнутым, то эта
сторона «духа» или, вернее, сам дух-разум должен быть обнаружен
и в нормальной естественной установке. Здесь не входит в наши
планы излагать психологию уразумения, мы обращаем внимание
только на следующий факт: сколько бы мы ни говорили об
уразумении, которому мы «научаемся», всегда несомненным остается
наличность «способности» к нему, особой bernoccollo уразумения, и
как это присуще всякой «способности», в разной степени от
тупости и до дара. Consensus309, — συνθήκη, о которой говорит
Аристотель, — не может быть рассматриваем как результат какого-то
развития, а сам consensus есть условие развития, и в психологически-
биологическом развитии, очевидно, на первом плане для
объяснения этого consensus'a должно быть привлечено единство рождения.
Не только факт понимания речи, но в еще большей степени факт
понимания в пределах рода, вплоть до самых неопределенных форм
его, как механическое подражание, симпатия, вчувствование и проч.,
суть только проявления этого единого, условливающего всякое
общежитие, «уразумения» как функции разума.
Применительно к постановке вопроса в пятой главе мы
убеждаемся теперь, что смысл явления, поскольку он открывается в
содержании предмета, действительно, заключает в себе правило
раскрытия вещи в ее действительном бытии. Но это правило открывается
только через уразумение в энтелехии самого предмета, и тут только
оно выступает в своем принципиальном значении, так как из него
усматривается принцип осмысленная всякого предмета. Подобно
тому, как смысл идеального предмета лежит в самой его
идеальности, и смысл абстрактного — в его абстрактности, как
несамостоятельном бытии, так открывается и смысл конкретного в его
«переводящем» отношении части и целого, где усмотрение энтелехии и есть
не что иное, как полное узрение «идеи» в ее выполняющем
значении. Чисто-формального констатирования отношения части-целого
бывает достаточно для определения «действительности» вещи; таким
образом оно и может послужить эвристическим средством для
перехода к уразумению конкретного, так как откуда, в самом деле, как не
из энтелехии проистекает принципиальное различение между
«целым» и «суммой»? Что, как не «назначение», говорит о разнице двух
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 6Т\_
таких «сумм частей», как например, «целый» стакан и «разбитый», эта
страница — набранная и рассыпанная в наборной кассе и т. д., и т. д.?
В этом аспекте действительного бытия приобретает новый вид
и проблема «выражения». Бытие рассудка, ограниченное в тетиче-
ской деятельности установления положений, только благодаря еще
глубже проникающему уразумению выступает как осмысливающая
функция и по-новому освещает свой «выражающий» слой.
«Выражение» (понятие) как бы распадается на две части: и рядом с чисто
логической, рассудочной формой «охвата» и «обнимания» мы
замечаем другой, разумный момент «осмысления» и «уразумения». Бытие
разума состоит в герменевтических функциях, устанавливающих
разумную мотивацию, исходящую от энтелехии, как «носителя»
предметного бытия, как «духа предмета». Последний находит свою
характеристику в логосе, — «выражении», — проникающем предмет
и составляющем явление, «обнаружение», «воплощение» духа. Его
«объективирование», будучи разумным, мотивированным, есть
организующая направленность различных форм духа в их социальной
сути: язык, культ, искусство, техника, право.
С этой стороны открываются совершенно новые пути к консти-
туитивному раскрытию как высших региональных категорий, так
и всякой индивидуально-опытной данности. Причем, принимая во
внимание наличность полной осмысленности только в полной же
конкретности, нетрудно видеть, что само «размещение»
региональных областей находит свой разумный принцип в самом исходном
пункте конституирования конкретно-разумной действительности.
Строгое соблюдение «принципа всех принципов», что касается
«явлений», и последовательное проведение принципа законодательства
самой «действительности» в явлениях гарантируют получение
«действительного» смысла «мира» в его действительной разумности, —
никакая «субъективность» интерпретаций не может принципиально
закрыть «объективности» интерпретируемого.
К этому остается добавить заключительный вывод, что
«разделение» интуиции на интуиции опытные и сущности по самому смыслу
и существу своему есть разделение, исключающее третью
возможность, так как это разделение не есть установление двух видов или
родов, как было показано, а есть указание на путь «устремления»
от опытного к сущности в самом предмете через неограниченную
перспективу спецификации и генерификации. Поэтому вообще
672
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
и принципиально существует только одна единая интуиция, и это
есть опыт в самом объемлющем смысле слова, как бы ни было
велико многообразие тех видов и форм бытия, которые охватываются
этим смыслом. Если иметь в виду действительное содержание
всякого действительного переживания, то можно сказать еще больше:
всякий действительный опыт есть опыт сенсуальный с фактической
необходимостью в его содержании определенных data ощущений.
В этом направлении для нас нет ни малейшего повода делать
исключения для опыта мистического или откровенного, — как первичная
данность он есть прежде всего данность опытной интуиции, и
притом с сенсуальными содержанием. И не просто бытие,
открывающееся в этом опыте, отличает его от других видов бытия, но прежде
всего интеллигибельно в ней усматриваемое, каковое, впрочем, и
вообще определяет впервые вид и форму бытия в его специфической
мотивации; откуда следует, что и «мистическое восприятие» не есть
особый «вид» интуиции, а тоже «опытная» интуиция, но со
специфической энтелехией ее предмета, и следовательно, представляет
собой не особый вид познаваемого, а особый род «уразумеваемого»; в
этом свете и весь мир мистики и откровения есть тот же мир, того
же опыта, но особого уразумения.
Затронутый вопрос имеет потому существенное значение, что
это есть единственная форма опыта, которая с видимым
основанием могла быть противопоставлена или поставлена рядом с
опытом чувственным. Но «видимость» этого основания легко явствует
из любого описания мистического опыта, где наличность
чувственного содержания не только неизбежно констатируется, но и
принимает сплошь и рядом особенно яркое и интенсивное изображение.
Что касается утверждения самого мистического уразумения опыта,
то, как явствует из предыдущего, условием его является не решение
второстепенного вопроса о месте уразумения в нем этического или
эстетического, а об удовлетворении требования, с которым
выступает для своего «приятия» сам уразумеваемый Дух Устранение
«одиночества» через единство рождения и единокровность всего
«разумного» в соборно-социальном единении и мотивации Его
объективирований есть в этом смысле и столп Его самого.
Такое освещение вопроса даст, думается нам, право на
проведение границы между философией уже в ее целом и тем «особым»
уразумением, которое может стать на ее собственное место. Это но-
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 673
вое отграничение философии, очевидно из только что сделанных
замечаний, принципиально иного рода и иного значения, чем ее
отграничение от «специальных» уразумений специальных наук
Философия через «уразумение» мира, как он есть, через самоуразумение
разума тем самым приходит к его «правде» и его «красоте». «Красота
спасет мир», «мир осуществляет правду», «разум — его движитель» и
тому подобное, — все эти утверждения и прозрения объединяются
«мирно», мирски, светски в одной задаче философии: в оправдании
мира, в его полном о-«правда»-нии. «Мир должен быть оправдан весь,
чтобы можно было жить». Следовательно, межа, которая тут пролага-
ется между философией и названным «особым» уразумением мира,
определяется ясно: для философии нес в мире «греха» и
«преступления»...
Отсюда философия всегда — тревога, всегда — притязание,
всегда — беспокойство, философ не имеет пристанища; и в этом самая
большая ценность философии — свобода; только как раба и
служанка может она подойти к «тому пристанищу где умиряется
тревога сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой
нисходит в разум»*...
* Слова о. Флоренского. «Столп и Утверждение Истины». М. 1914. С. 5. «Да, в
жизни все мятется, — говорит он еще (С. 12), — все зыблется в миражных
очертаниях. А из глуби души подымается нестерпимая потребность опереть себя на
"Столп и Утверждение Истины"». Но почему же должно удовлетворять эту
«потребность» и отвернуться от того, где «все мятется»? Потому что это —
«преступление»?.. О. Флоренский питает «надежду на чудо», на «дар, как gratia quae
gratis datur» (С. 40-41) в своей попытке, преодолеть скепсис, — это
преодоление должно быть и преодолением существенной антиритмичности,
противоречия, проникающего все и вся. Если я правильно понимаю, то она
преодолеете^, «когда познается и познается Утешитель, как Ипостась» (С. 128). Нетрудно
видеть, что в «особом» уразумении, это — проводимая нами мысль. Но именно
с «Греха» начинается все по-разному. «Грех есть беззаконие», — берет о. Фл. у
св. Иоанна Богослова (С 168), и «Преступление есть пре-ступление за границу,
черту, предел "закона"», «как и пре-любодеяние есть половое деяние за
границею, опричь черты должного» (С. 700). Но ведь и пре-мудрый, и пре-благий, и
пре-красный... Конечно, и это — пре-ступление! Как же быть? И разве gratia quae
gratis datur не есть пре-ступление?.. А вот тоже «грех»: «Умерший муж,
посещающий ночами свою тоскующую вдову: сын или дочь таинственно приходящие из
далекой разлуки к родителям; жених, являющийся невесте, или наоборот;
ангел света, слетающий к запостившемуся и возгордившемуся подвижнику; — все
эти случаи вампиризма и бесо-явления...» (С. 698. — Выделено, подчеркнуто
мной). Ну, а что, если и... страшно вымолвить!?.. Конечно, можно и по-другому,
674
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Философ говорит*: «Бегство от мира мыслимо лишь как бегство
от того мира, который знаком, от той жизни, которую переживали.
Только воспоминание о богатстве духовного существования, о сча-
стьи и несчастьи, надеждах и разочарованиях, заключающихся и
зарождающихся в общном сплетении человеческих стремлений,
может доставить уединенной созерцательности предмет размышления,
раздумывая над которой она образует свои представления
сверхчувственной жизни. Кто ничего не пережил, того уединение не
сделает мудрее, а обхождение с явлениями природы и мыслями, которые
еще мог бы уберечь отрешенный от человеческого общества дух, не
могло бы привести к иному миру, кроме того, каким обладает
животное».
Заключение
Мы не решаем здесь открывшихся задач, а только указываем их.
Мы перешли от феноменологической проблематики к этим уже не
чисто философским проблемам, желая показать ее связанность с
проблемами живого эмпирического познания и, таким образом,
иллюстрировать, как из ее собственных проблем выдвигаются новые
проблемы и для нее самой, и для научного познания во всех его
сферах. Действительно, сфера развернувшихся вопросов
показывает, что феноменология может и должна быть основной наукой во
всех смыслах и отношениях, и выбранный нами специальный
вопрос иллюстрирует на частном примере, как в свете ее оснований
связываются в одно проблемы от частно-научных до самых общих
но тут я могу к о. Флоренскому обратиться только с вопросом. Первый закон:
«λ от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертию умрешь». Первое пре-ступление: захотел человек
умереть. «И сказал Господь Бог вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло;
и теперь как бы не простер руки своей, и не взял также от древа жизни, и не
вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог...» Но запрета взять от
древа жизни, значит, не было. Потом пошли потомки Каина, строили города,
жили в шатрах со стадами, играли на гуслях и свирелях, были ковачами всех
орудий из меди и железа, но были у Каина и другие потомки, «другое семя
вместо Авеля», и от них произошел Человек, Сын Человеческий, который «взял от
древа жизни» и через это оправдал мир. Но к чему же Дух влечет, к оправданию
или к «блаженству» и «вечной памяти» (С. 185)?.. (Скажут, может быть, — ересь,
оригенизм? — Ничего подобного!)
* Lotze. Mikrokosmus. 5. Aufl. Lps., В. III. 1909. S. 48.
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 675
философских. Мы, в нашем примере, нашли почву для постановки
не только психологических и социальных проблем, придя к ним от
общего вопроса о целях и мотивациях данных нам связей в едином
целом мировой осмысленности и целесообразности во всех его
конкретных обнаружениях и в тех индивидуальных завершениях
их, через которые только и может быть построено единое цельное и
конкретное познание, познание, по существу, философское.
На самое феноменологию, таким образом, в ее целом мы
посмотрели здесь sub specie entelechiae310, и видим, понимаем ее смысл в
ее конечных задачах, быть основной философской наукой для
положительного творчества в области философии. Это — основание, так
что это благодарная почва, на которой рождается и развивается
философская проблематика. Нельзя во что бы то ни стало отстаивать
это развитие в его деталях и частностях, но мы видим здесь твердые
основания в самих принципах, чуждых софистических уловок
негативизма и гносеологизма. Субъективно, может быть, и не все
принципы феноменологии одинаково ценны, мы подчеркиваем, поэтому,
как резюме всего изложения, то, что представляется таким на наш
взгляд и в нашей интерпретации.
Краеугольный камень всего здания феноменологии
составляет твердое установление его презентативизма всего сущего во всех
его видах и формах для нашего сознания, чем одинаково
наносится удар и феноменализму, и кантовскому дуализму. Принцип всех
принципов остается единственным критерием при установлении
всякой формы и всякого вида бытия, действительное осуществление
этого принципа приводит к абсолютной очевидности, к источнику
проверки высказываний об этом бытии, и этим разрушается всякое
софистическое построение сущего «от себя». Анализ
непосредственно и первично данного приводит к утверждению абсолютно
данного в имманентном восприятии, и этим обезвреживаются все усилия
релятивизма свести философию ни к чему. Строгая коррелятивность
предмета и сознания после этого служит достаточной гарантией
успеха при утверждении отношений и форм всякого рода бытия.
Наконец, констатирование множества и многообразия предметов,
выступающих всегда как задачи, еще подлежащие нашему разрешению,
открывает полную химеричность всех попыток априорно
постигнуть бытие как продукт логизирующего рассудка, руководящегося по
большей части одним уже достигнутым образцом. Догма «образцо-
676
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
вой науки» («математического естествознания»!) этим опровергается
не только как догма, но и самый метод конструирования,
«образования понятий» и под., раскрывается в своей вдовьей бесплодности.
Живой и продуктивный метод описания не терпит никаких
теоретических конструкций, а неисчерпаемое поприще для приложения
своих сил он находит в единственном непосредственном
источнике и пункте приложения всякого творчества — в интуиции. Одной
из самых больших заслуг феноменологии является то, что старый
спор о единичном и общем, реализме и номинализме она
перевела из сферы бескровных абстракций в живую гущу интуитивного
опыта, который в целом переживания и составляет «начало» и
«источник» всякого философствования. Феноменология с ее методом
редукций и различения установок открывает «новые миры бытия, но
не по ту сторону от нашего действительного бытия, а в нем самом,
точно так же усматриваемые интуитивно всяким не слепым по
отношению к идеям», — платоновское царство идей раскрывается нам
как наше царство. С разрешением вопроса об отношении общего и
единичного устанавливается или, вернее, вновь обнаруживается то
непосредственное единство их, в котором мы живем и действуем, и
само содержание жизни одушевляется не только через
открывающиеся в нем значения, но и через тот внутренний смысл,
благодаря которому возникает в нас чувство собственного места в мире и
всякой вещи в нем. Ужасы, которые рассказывает Бергсон, были бы
на самом деле, и философия не могла бы спастись от них, если бы
в самом бытии, как целом, и за кошмарными и чудовищными
сторонами его не открывалась возможность уловить смысл и значение.
Бытие есть бытие не только потому, что оно констатируется, но оно
должно быть и оправданно, но это оправдание не в законах его, а в
его осмысленности, — здесь также имеет свой глубокий смысл,
сказанное по другому поводу: «А если законом оправдание, то Христос
напрасно умер»...
Здесь уже мы собственно выходим за пределы того, что
подлежало нашему резюмированию, но мы остановились на моменте в
высшей степени важном для нашей современной философии и ее
будущего. С одной стороны, в настоящее время получила
совершенно всеобщее признание мысль о недостаточности и
неудовлетворительности логизирующего познания в понятиях, и эта мысль
приобретает тем более яркое выражение и тем яснее обнаруживает свое
Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы 677
значение, чем решительнее мы отвернемся от софистических
подделок под философию и зададимся прямым философским вопросом
с целью искать его решение не в «теории познания», а в «жизни
бытия». Редли удачно формулировал идею этой неудовлетворенности:
«Вселенная не балет бескровных категорий!» Но все-таки — «балет»?..
Это зависит только от того, имеет ли она смысл или quasi-смысл, и в
чем этот смысл? Но ответить на этот вопрос не было возможности,
пока во вселенной ничего не видели, кроме бескровных категорий и
упитанных интуиции.
Однако, с другой стороны, как ни сильна неудовлетворенность
этим «категориальным» пониманием бытия, средства для
положительного устранения этой неудовлетворенности применяются не
всегда годные. Часто вместо исследования того, чем же не
удовлетворяет нас рациональное познание и, следовательно, критического
анализа того, что же в рациональном познании
неудовлетворительно, составляет ли это неудовлетворительное его сущность, как это и
почему вдруг развенчивается и обесценивается орудие, столько
веков верно служившее истине, и, словом, вместо отыскания плохого в
нем и исправления, оно целиком забраковывается. Ratio, как
орудием, пользовался Платон, им же пользуются и современные эпигоны
других великих умов, — почему же неудовлетворительность этого
орудия в руках последних должна вести к отрицанию самого
орудия? Вместо ответа на этот вопрос мы нередко встречаем
провозглашение таких средств, которые и оценке, как средства, не подлежат.
И все-таки мы рукоплещем декадентской философии, взывающей к
темным сторонам сознания и направляющейся реабилитировать то,
чем человек не отличается от скота, и имя ratio меркнет во тьме
инстинкта или élan vital...311 Но пока автору «Le Hire» удалось открыть
«смешные» стороны рациональной философии, положительная же
философия требует и положительных средств, а как мы хотели здесь
показать, эти средства должны быть не только осмысленными, но
средствами самого смысла, — самим разумом.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ
I. СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПОВТОРЕНИЯ
Miscellanea
Качели
Едва ли найдется какой-нибудь предмет научного и
философского внимания, — кроме точнейших: арифметики и геометрии, — где
бы так бессмысленно и некрасиво било в глаза противоречие между
названием и сущностью, как в Эстетике. Стоит сказать себе, что
эстетика имеет дело с красотою, т. е. с идеею, чтобы почувствовать, что
эстетике нет дела до музыки. Музыка, — колыбельное имя всякого
художественного искусства, — в эстетике делает эстетику насквозь
чувственной, почти животно-чувственной, безыдейною, насильно
чувственною. С этим, пожалуй, можно было бы помириться, если бы
можно было рискнуть назвать все чувственное, без всякого
исключения и ограничения, безобразным. Стало бы понятно, как оно может
быть предметом эстетики рядом с красотою. Но кто теперь решится
на это, в наше время благоразумных определений и гигиенических
наименований? Бесчувственных не осталось ни одного — ни среди
иудеев, ни среди христиан, ни среди мусульман.
Сказать, что эстетика не случайно носит свое имя, значит изгнать
из эстетики поэзию. Для этого, пожалуй, не нужно ни смелости, ни
решительности. Нужна, может быть, чуткость? Этим мы преизбыто-
чествуем. Нужно мальчишество? Столичные мальчики громко
заявляют о своем существовании. И так ли они глупы, как их
изображают? Чем больше вдумываться в «идею» поэтического творения, тем
меньше от нее останется. В итоге — всегда какой-то сухой комочек,
нимало не заслуживающий имени идеи. Остается один сюжетовый
каркас, если и вызывающий какие-либо связанные с эстетикою
переживания, то разве только несносное чувство банальности. Но не
эстетика разъедает идейность сюжета, а само рассуждение, счет и
расчет.
Так качается эстетика между сенсуализмом и логикою. Так точно
бегал бы от верстового столба к верстовому столбу тот, кто захотел
бы по столбам узнать, что такое верста. Самое серьезное, что он мог
бы узнать, это то, что десять минус девять равняется единице. Боль-
Эстетические фрагменты
679
ше этого не может и не желает качающаяся эстетика: ее предмет —
какая-то единица.
Но если бы, по крайней мере, она это знала! Единица есть
нечто бесформенное, единица есть нечто бессодержательное. Если бы
эстетика об этом догадалась, она не перестала бы качаться между
красотою и похотью, но перестала бы препираться о форме и
содержании. Было бы трудно, и нудно, и тошно, но не вызывало бы у
окружающих иронических замечаний. Разве не смешно: качаться с
разинутым ртом и злобно, бранчливо твердить свое и свое —
форма! содержание! — содержание! — форма!..
Здравый смысл не качается, не мечется, подает советы, не
сердится, не бранится. Здравый смысл знает, что предмет эстетики —
искусство. Здравый смысл все знает. Но, как установлено было во
времена до нас, здравый смысл не все понимает, — он понимает только
то, что здраво. А здравое искусство — все равно что тупой меч:
можно колоть дрова и убить исподтишка, но нельзя рыцарски биться с
равно рожденным другом.
Искусством ведает искусствоведение. И ничего нет обидного в
том, что такая наука существует. Было искусство; и есть наука о нем.
И если эта наука приходит к итогу, что искусство изучается не
только эстетикою и не только эстетически, то это надо принять. Это
значит, что, когда эстетика изучает искусство, она делает это под
своим углом зрения. В предмете «искусство» есть нечто эстетическое.
Но не может же положительная и серьезная наука поучать эстетику
тому, что есть эстетическое. Ничего обидного в этом положении
вещей нет, грустно только, что без ответа висит вопрос: где матернее
лоно этой науки? Грустно, потому что совестно, скрупулезно, сказать:
в подвале, за зашлепанным уличною грязью окном, там — в гнилом
отрепье, в стыдном небрежении, мать — Философия искусства.
Для науки предмет ее — маска на балу, аноним, биография без
собственного имени, отчества и дедовства героя. Наука может
рассказать о своем предмете мало, много, все, но одного она никогда
не знает и существенно знать не может — что такое ее предмет, его
имя, отчество и семейство. Они — в запечатанном конверте,
который хранится под тряпьем Философии. Искусствоведение — это
одно, а философия искусства — совсем другое.
Много ли мы узнаем, раздобыв и распечатав конверт? — Имя,
отчество и фамилию, всю по именам родню, генеалогию — и всякому
680
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
свое место. Это ли эстетика? Искусствоведение и философия
искусства проведут перед нами точно именуемое и величаемое искусство
по рынкам, салонам, трактирам, дворцам и руинам храмов, — мы
узнаем его и о нем, но будем ли понимать? Узрим ли смысл?
Уразумеем ли разум искусств? Не вернее ли, что только теперь и
задумаемся над ними, их судьбою, уйдем в уединение для мысли о смысле?
Уединенность рождает грезы, фантазии, мечту — немые тени
мысли, игра бесплотных миражей пустыни, утеха лишь для
умирающего в корчах голода анахорета. Уединение — смерть творчеству:
метафизика искусства! Благо тому, кто принес с собою в пустыню
уединения, из шума и сумятицы жизни, достаточный запас живящего
слова и может насыщать себя им, создавая себя, умерщвляя ту жизнь:
смертию смерть попирая. Но это уже и не уединение. Это — беседа
с другом и брань с врагом, молитва и песня, гимн и сатира;
философия и звонкий детский лепет. Из Слова рождается миф, тени — тени
созданий, мираж — отображенный Олимп, грезы — любовь и
жертва. Игра и жизнь сознания — слово на слово, диалог. Диалектика
сознания, сознающего и разумеющего смысл в игре и жизни искусства,
в его беге через площади и рынки, в его прибежище во дворцах и
трактирах, в чувственном осуществлении идеи, — эстетика не
качающаяся, а стремительная, сама — искусство и творчество,
осуществляющее смыслы.
Между ведением и сознанием, между знанием и совестью,
втирается оценка, — между искусством и эстетикою — критика. Она не
творит, не знает, не сознает, она только оценивает. Идеальный
критик — автоматический прибор, весы, чувствительный
бесчувственный аппарат. Только фальшивый критик — живое существо. Критик
должен бы, как судья, изучить закон и уметь его применить,
подавляя страстное и нетерпеливое сердце, защищая закон и право, но
не интересы человека, внушая правосознание, но не благородство.
Установленного закона нет для судьи линчующего, судьи по
совести. Критик тогда не автомат, когда и судит по закону Линча и сам
же осуществляет приговор: бессовестный приговор совести. Иными
словами: критика есть суд толпы, безотчетный, безответственный,
немотивированный. Критик — палач при беззаконном суде.
Критика — публичная казнь, как уединение было самоубийством. Но от
уединения есть спасение в самом себе, публичная казнь — бесчестье
казнящего, падающее на доброе имя казнимого.
Эстетические фрагменты
681
За искусством забывается в эстетике «природа». Но, собственно
говоря, так и должно быть. Здравый смысл делает здоровый
прецедент и создает здоровую традицию. Было бы не только
эмпирическим противоречием говорить об эстетическом сознании эр
архейской, палеозойской, мезозойской. Культура — где-то в эре
кайнозойской, когда началась аннигиляция природы. Поэтому-то «природа»
прежде должна быть окультурена, охудожественна, чем
восприниматься эстетически. «Природа» должна перестать быть
естественною вещью, подобно тому, как она представляется чувственному
сознанию неидеальною возможностью. Коротко: «природа»
приобретает всякий смысл, в том числе и эстетический, как и все на свете,
только в контексте — в контексте культуры. Природа для эстетики —
фикция, ибо и культура для эстетики — не реальность. Эстетика не
познает, а созерцает и фантазирует.
Прекрасная культура — фиктивна; фиктивная культура —
эстетична. К этому же выводу можно прийти путем самого банального
силлогизма, стоит только в его большей посылке провозгласить, что
искусство есть творчество. Только искусственная природа может
быть красивою природою. Зато, как музыка, природа может
раздражать и тешить нервы, сохраняя в себе все свое естественное
безобразие.
О синтезе искусств
Дилетантизм рядом с искусством — idem312 с наукою,
философией — флирт рядом с любовью. Кощунственная шутка над эросом!
Дряблая бесстильность эпохи — в терпимом отношении к
дилетантизму, когда дилетантизм становится бесстыден и вопреки
правилам общественного приличия ведет жизнь публично открытую. По
существу, дилетантизм — всегда непристойность. Цинизм достигает
степени издевательства, когда с деланно невинным видом
вопрошает: «но что такое дилетант?». Вопрос предполагает, что дилетантизм
и искусство — степени одного. Тогда и флирт был бы степенью
любви. Какой вздор! В искусстве есть степени: от учащегося до
научившегося, до мастера. Дилетантизм — вне этих степеней; мастерство
и дилетантизм — контрадикторны. Dilettante значит не «любящий»,
а развлекающийся (любовью), «сластолюбец». Поэтому также
дилетантизм есть ложь. В нем то, что неискусно — άτέχνως313, — лживо
выдается за то, что должно быть безыскусственно — άτεχνώς. Наш-
682
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
нец, только философ — φιλόσοφος = друг мастерства, — одержимый
эросом, имеет привилегию понимать все, хотя он не все умеет.
Привилегия же дилетанта — даже не в том, чтобы все знать, а только —
быть со всем знакомым.
Только со всем знакомый и ничего не умеющий — άσοφος314 —
дилетантизм мог породить самую вздорную во всемирной
культуре идею синтеза искусств. Лишь теософия, синтез религий, есть
пошлый вздор, равный этому. Искусство — как и религия —
характерно, искусство — типично, искусство — стильно, искусство —
единично, искусство индивидуально, искусство —
аристократично—и вдруг, «синтез»! Значит, искусство должно быть
схематично, чертежно, кристаллографично? Над этим не ломает головы
развлекающийся любовью к искусствам. И в самом деле, какое
развлечение: на одной площадке Данте, Эсхил, Бетховен, Леонардо и
Пракситель! Лучше бы: турецкий барабан, осел, Гете и сам
мечтательный дилетант — но, к сожалению, не поможет, решительно не
поможет...
Но если дилетанты виновны в том, что такой рассудочно-
головной ублюдок, как «синтез искусств», появился на свет, то не
одни уж дилетанты виною тому, что этот неблагороднорожденный
и неаппетитный субъект получил доступ в эстетическое общество.
Интересно не faux pas315 эстетики, а какая-то note fausse316
самого искусства. — Говорю не в назидание, а исключительно в порядке
рефлексии. — Поражает один факт. Ведь картина на станке,
партитура на пюпитре, рукопись на письменном столе — все-таки еще не
реальность. Мало ли какие бывают «случаи»: пожар, революция,
плохой характер, прогрессивный паралич, злая воля — не один Гоголь
жег свои рукописи. Картина идет на выставку, рукопись — в печать.
Зачем? Чтобы реализоваться, осуществиться на деле.
Для искусства это и значит найти «применение», «приложение».
Другой пользы из творчества красоты извлечь нельзя. Когда в
публичный дом перевели из храма и дворца музыку, живопись, поэзию,
когда театры из всенародного празднества превратили в ежедневно
открытую кассу, искусство лишилось своего «применения».
Теперешние пинакотеки, лувры, национальные музеи, вообще «третья-
ковки» — пошли на службу к педагогике. Как будто можно скрыть за
этим безвкусие и государственное поощрение накопления в одном
сарае — как вин в винных погребах — продуктов художественного
Эстетические фрагменты
683
творчества, не нашедших себе «применения» или, еще хуже, изъятых
из «применения», «национализированных».
То же относится к томикам поэтов в публичных библиотеках и
к музыке в музыкальных залах консерваторий. Везде и всюду
консерватории — склады ломанного железа. Недаром они содержатся
на государственный и общественный счет, вообще «содержатся».
«Свободная» консерватория не просуществовала бы и пяти минут —
была бы расхищена для «применения». Что бы сказали старые
мастера, если бы им предложили писать картину не для храма, не для
дворца, не для home — a, а... для музея общественного или для
«частной» коллекции? Теперь пишут... Получается искусство не к месту, а
«вообще себе». Нашли было путь к «применению» вновь: Рескины317,
Моррисы318, кустари, «художественная промышленность». Но от
искусства до кустарничества и расстояние примерно такое же, как от
благородства до благонравия. В конце концов, в обе стороны прав
художник, сам немало прокормивший кустарей: «Раб
"художественной промышленности" настолько же нелеп и жалок, насколько
некультурен художник, затворивший себе все двери выявлений
творчества, кроме холста или глины» (Рерих)319. Но сердиться здесь не на
что: промышленный стиль — такая же историческая необходимость,
какою некогда был стиль «мещанский»: с цветочками и стишками на
голубеньких подвязочках.
В итоге, как жизненный силлогизм самого искусства,
заключение дилетантизма о синтезе искусств: большой публичный дом, на
стенах «вообще себе» картины, с «вообще себе» эстрад несутся звуки
ораторий, симфоний, боевого марша, поэты читают стихи, актеры
воспроизводят самих зрителей, синтетических фантазеров... Можно
было бы ограничиться одними последними для выполнения
«синтеза»: оперную залу наполнить «соответствующими» звукам
«световыми эффектами»; пожалуй, еще и вне-эстетическими
раздражителями, вроде запахов, осязательных, тепловых, желудочных и других
возбудителей!.. Но пьяная идея такого синтеза — в противовес выше-
предложенной «площадке», если бы была высказана, едва ли бы
имела методологическое значение, а не только симптоматическое — для
психопатологии.
Не припоминается, кто недавно, ужаснувшись перед нелепостью
«общего синтеза» искусств, заявлял, что без всякого синтеза роль
синтеза выполняет поэзия. Впрочем, слова: «без всякого синтеза», ка-
684
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
жется, добавляю от себя, остальное, надо полагать, сказал поэт. Если
живописец подумает, он вынужден будет сказать то же о живописи,
музыкант — о музыке. И везде философствующий эстетик должен
добавлять: «без всякого синтеза», ибо структурность каждого
искусства, каждого художественного произведения, т. е. органичность
его строения, есть признак конкретности эстетических объектов,
но отнюдь не синтетичности. Структура потому только структура,
что каждая ее часть есть также индивидуальная часть, а не
«сторона», не «качество», вообще не субъект отвлеченной категоричности.
«Синтез» поэзии имеет только то «преимущество», что он есть
синтез слова, самый напряженный и самый конденсированный. Только
в структуре слова налицо все конструктивные «части» эстетического
предмета. В музыке отщепляется смысл, в живописи, скульптуре
затемняется уразумеваемый предмет (слишком выступают
«называемые» вещи).
Искусство насквозь конкретно — конкретно каждое воплощение
его, каждый миг его, каждое творческое мгновение. Это для
дилетанта невыносимо: как же со «всем» «познакомиться»?
Мастер, артист, художник, поэт — дробят. Их путь — от
единичности к единственности. Долой синтезы, объединения, единства! Да
здравствует разделение, дифференциация, разброд!
Искусство и жизнь
Что искусство возникает из украшения, это — не только
генетический факт, это также существенная функция искусства, раз
искусство, так или иначе, целиком или частично, между прочим или
всецело, представляет красоту. Поэтому-то и бессмысленно,
неодушевленно, бессубстанциально искусство «вообще себе». Но нельзя
обращать формулу, ибо это обращение есть извращение, — нельзя
сказать: всякое украшение есть искусство.
Украшение — только экспрессивность красоты, т. е. жест, мимика,
слезы и улыбка, но еще не мысль, не идея. Экспрессивность —
вообще от избытка. Смысл, идея должны жить, т. е., во-первых,
испытывать недостаток и потому, во-вторых, воплощаться, выражаться.
Красота — от потребности выразить смысл. Réalisez — tout est là
(Сезанн)320. Потребность — пока она не успокоена — беспокойство,
неутоленность. Творчество — беспокойная мука, пока не найдено
выражение. Муки ученика страшнее мук мастера: пока-то выраже-
Эстетические фрагменты
685
ние не «удовлетворит», пока-то не выразишь волнующего.
Поистине, пока оно не выражено, оно уничижает сознание, издевается над
разумом. Волнует простор неба, грудь женщины, величие духа —
художник пишет, рисует, высекает, пока не «снял» выражением
беспокойной страсти. «Мастер» не так мучается, как «ученик» — оттого
есть мастера маститые, «академики». Есть, впрочем, мастера-ученики.
Но, конечно, не в том дело, что «притупляется» страсть и
волнение, — разве маститый меньше чувствует потребность жизни, чем
мальчик, — а в том, что маститый не хватается за выражение «не по
силам». Инстинкт почестей против инстинкта жизни!
Так и формула: искусство есть жизнь — для немногих все-таки
верна. Извращенный крик: жизнь — искусство! Такие обращения-
извращения повторяются: жизнь есть философия, жизнь есть
поэзия. Это — социально-психологический симптом. Это — признак
эпохи, когда ложь дешева. Это — вопль вырождающихся. Жалкую
увядающую жизнь хотят косметицировать философией, искусством,
поэзией. Это называется «вносить» философию, искусство, поэзию в
жизнь... Или, наглее, не отрывать их от жизни. Но молодость об этом
не кричит, а сама собою украшена и никаких потерь и разрывов не
страшится.
Жизнь — искусство, «создание» из жизни искусства, жизнь даже
величайшее из искусств, — все это типическое декадентство. Это
знал падавший древний мир, знал романтизм — падавшее
христианство, — это слыхали недавно и мы от падавшего демократизма и
натурализма — у каждого в собственном архиве найдутся
напоминания. Вне декадентства «искусство жизни» — фатовство и пошлость.
Если жизнь есть искусство, то искусства нет. Ибо украшение
должно быть украшением чего-нибудь, а если оно не украшает
жизни, то и оно не существует, и жизнь — истязание. А украшать
украшение — своего рода aesthetical insanity321.
Художественное создание — хотят того или не хотят
декаденты — входит в жизнь как факт. С этим ничего даже и поделать
нельзя. Художественное произведение, вошедши как факт в жизнь, уже и
не может не быть жизнью. Хотят же другого. Хотят, чтобы то, что не
может быть, перешло в то, что есть, что не может не быть. Но это и
есть возвращение к неукрашенной жизни, природной, животной, —
прекрасной только в некоторых редких случаях игры и безобра-
686
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
зия природы. Тут почти всегда вместо золота — горсть глиняных
черепков.
Только искусство подальше от жизни, далекое, далекое ей, может
быть ей, безобразной, украшением. А искусство в жизни, близкое
ей, — новое в ней безобразие. Не довольно ли того, что есть?
Искусство должно быть не в жизни, а к жизни, при ней, легко
отстегиваемое, — отстегнул и пошел дальше — пристегнуть к другому краю...
Красота — праздник, а не середа.
Поэзия и философия
Искусство не есть жизнь, и философия не есть жизнь.
Никакого логического вывода из этих отрицаний сделать нельзя. Но если
всмотреться в смысл этих отрицаний, то их положительное
значение раскрывается скоро. Жизнь есть только материал и искусства и
философии, следовательно, жизнь есть только отвлеченность.
Философия же — последняя, конечная в задании и бесконечная в
реальном осуществлении, конкретность; искусство — именно потому, что
оно искусство, а не уже-бытие, творчество, а не созданность — есть
предпоследняя, но все же сквозная конкретность. Философия может
быть предпоследнею конкретностью, и тогда она — искусство, а
искусство, проницающее последнюю конкретность, есть уже
философия. Так, искусство как философия есть философия как искусство —
и следовательно, пролом в стене между искусством и философией.
Философия есть искусство, и искусство есть философия — две
истины, вовсе не получающиеся путем взаимного формального
обращения. Оба утверждения реально независимы и самобытны.
Философия есть искусство как высшее мастерство мысли, творчество
красоты в мысли величайшее творение; ображение безобразного,
украшение безобразного, творение красоты из небытия красоты.
Философия есть искусство, т. е. она начинает существовать «без пользы»,
без задания, «чисто», — в крайнем случае, разве лишь в украшающем
«применении».
Теперь искусства — органы философии. Тут особенно ясно
видно бессмыслие синтеза искусств: что такое «синтез» рук, ног и
головы? — кровавая каша из мышц, нервов, костей. Но что такое
живопись в поэзии, поэзия в музыке и т. п.? — То же, что ходить на руках,
обнимать ногами, целовать теменем... Цирковой фокус, если говорят
всерьез. В действительности лишь метафора. Столько же общего
Эстетические фрагменты
687
между музыкальностью поэзии, изобразительностью и
осмысленностью музыки, поэтичностью картины — сколько его вообще между
произвольно подобранными омонимами, между часом грозным и
часом пополудни, между талантом, зарытым в землю, и талантом
гробокопателя, мевду гробокопателем и клоуном.
Смешным делом занимается модерн — поэтика, перенося в
поэзию музыкальные аналогии. Только при готтентотском дворе
можно было бы исполнять музыкальную пьесу, написанную по правилам
Буало, Батте и Брюсова322. Поэзия как «синтез» музыки и смысла,
есть синтез паутины и меда. Как может смысл делать музыку? Смысл
не делает музыки — музыка убивает смысл — тон калечит поэзию.
— Поэзия исключает музыку, музыка — поэзию.
— Почему?
— Потому что их хотят соединить!
Искусства — органы философии; философия нуждается не
только в голове, также и в руках, глазах и в ухе, чтобы осязать, видеть,
слышать. Пора перестать ходить на голове и аплодировать
(футуризму) ушами!
Когда музыкальная внешность — вся музыка непосредственно
только внешность — убивает смысл в поэзии, хватаются за
живописность, за «образ». Образ не на полотне — только «образ», метафора;
поэтические образы — фигуры, тропы, внутренние формы.
Психологи сделали поэтике плохой дар, истолковав внутреннюю форму как
образ — зрительный по преимуществу. Утверждение, что внутренняя
форма живописный образ, есть ложь. Зрительный образ мешает
поэтическому восприятию. Принимать зрительный образ за поэтический
то же, что читать всякое созерцание, всякую интуицию зрительною.
Напрягаться к зрительному образу «памятника
нерукотворного» или «огненного глагола», любого «образа», любого символа —
где формы не зрительны, а фиктивны — значит, напрягаться к
непониманию и к не-восприятию поэтического слова.
Бывает и есть, конечно, и музыкальная внутренняя форма; без нее
музыки не было бы. Но это не оправдывает сведения поэзии к
музыкальности. Доказательство — история. Каждая поэзия имеет своих
«музыкантов», сама она, каждая, своих и назовет, когда требуются
примеры. Но поэтов поэзия знает и не только «своих», а просто всех
для всех...
688
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Нужны поэты в поэзии, и как не нужны в поэзии музыканты, так
не нужны и живописцы. Живописная поэзия родилась на заборе,
там и место ей.
Внутренняя форма, «образ», созерцание, интуиция бывают также
умными. Тут начинается искусство как философия, перевал к
последней конкретности, тут кончается вместе псевдофилософия и
псевдоискусство, кончаются, для имеющих глаза и уши, до-прометеевские
сумерки, когда — dl πρώτα μεν βλέποντες "εβλεπον μάτην, / κλύοντες
ούκ ήκουον — имели глаза, и попусту смотрели, напрягали слух, а не
слышали.
Признаки и стили
Восемнадцатое столетие великолепно своею монолитностью.
В него влились потоки Ренессанса, истощившиеся в рассудочной
сухости семнадцатого столетия, слились в одну большую волну, и
примерно к середине века вздыбилась эта волна исторического течения.
Она опять ниспадает к концу века, чтобы в начале следующего
подняться в многообразных переливах национальных Возрождений.
Провал середины девятнадцатого столетия только резче выделяет
новый взлет культурно-исторической волны к концу замечательного
века. Наше время захотело быть орудием в руках злого гения
истории и воздвигло поперек ее течения чудовищную военную плотину.
Как игрушечную, смел ее напор духа и мысли — ибо, невзирая на
мильоны трупов и искалеченных тел, это была война духовных, а не
плотских сил, и не оказалось народов побежденных и победителей,
есть только низверженные и взнесенные. Мы — первые низвержен-
ные — взносимся выше других, быть может, девятым и последним
валом европейско-всемирной истории. Ныне мы преображаемся,
чтобы начать наконец — надо верить! — свой европейский
Ренессанс. От нас теперь потребуется стиль. До сих пор мы только
перенимали.
Сороковые годы составляют, пожалуй, последний естественный
стиль. По философской задаче времени это должен был быть стиль
осуществлявшегося в действительности духа — стиль прочный,
обоснованный, строгий, серьезный, разумный. На деле, быт нередко
принимался за действительность и вытеснял культ: демократизм и
мещанство заслоняли собою духовность. Реализм духовный остался
нерешенною задачею, потому что средства символизации такого ре-
Эстетические фрагменты
689
ального найдены не были. Философия истории запружалась
эмпирическою историей. Строгая разумность замещалась распущенным
благоразумием и расчетливою уютностью. Мещанские революции
внесли сумбур в жизнь, искусство демократизировалось, иррацио-
нализировалось и дегенерировало — aequis cano встало на место
equitibus cano323. С «натуралиста» Фейербаха324 началось алогическое
беспутство в самой философии. Эстетика растряслась. Натурализм
бесчинствовал. Можно говорить о разности талантов, но не о
различии осуществляемых форм. Золя и Толстой, Тургенев и Флобер,
Чехов и Мопассан, Шпильгаген, Зудерман, Сенкевич, и опять
Толстой — разница только талантов, и, следовательно, чувства меры.
Крейцерову Сонату, Сентиментальное воспитание, Une Vie от
пошлости выручает только талант, но не направление.
Соответственно, эстетика натурализуется, психологизируется, этнологизируется,
социологизируется, вообще занимается пустячками, «фактиками»,
сплетнями о происхождении и о похождениях искусств.
Собственный высокий стиль эстетики стал непонятностью, потому что
недостаточно понятным, иностранным, стал сам разум. Поистине
вовремя начал философствование молотом классик Ницше325! Нам нужно
снова стать классиками, — твердил Сезанн.
Только в России продолжала звучать, несмотря ни на что,
разумная непонятность лирики Тютчева326 и продолжала
надоедать бессмысленным умам непонятная разумность трагики
Достоевского. Их роль и пути — над-исторические. Исторически
реализм сороковых годов сломался вместе с Гоголем. Тютчев и
Достоевский остаются обетованиями нового стиля. Ответственный
подвиг принимает на себя Андрей Белый327 преждевременным
выполнением обетования — потому что стиль может явиться только
после школы.
Этот стиль должен быть наш. Всякий стиль руководится, всякий
стиль направляется избранным для того, во-своевременьи, народом.
Но стиль бывает только после школы. А мы школы не проходили.
В этом наша культурная антиномия. Запад прошел школу, а мы
только плохо учились у Запада, тогда как нам нужно пройти ту же школу,
что проходил Запад. Нам учиться всегда недосуг, вместо σχολή у нас
ασχολία. За азбукою мы тотчас читаем последние известия в газетах,
любим последние слова, решаем последние вопросы. Будто бы дети,
но на школьной скамье, мы — недоросли. Такими родились — наша
690
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
антиномия — от рождения, вернее, от крещения: крестились и
крестимся по-византийски, азбуку выучили болгарскую, книжки читаем
немецкие, пишем книжки без стиля.
Натурализм, который приняли мы, как последнее слово, был
чистым эстетическим нигилизмом. По своему существу, по идее своей,
натурализм — принципиальное отрицание не только стиля, но и
направления. «Направление» в натурализме заменяется поучением,
моралью, потому что нигилист, отрицая бесполезное творчество,
никакого для себя оправдания, кроме утилитарного, придумать не
в состоянии. Направление в искусстве — серьезность, нигилизм —
беспечность, утилитаризм — лицемерный покров духовной
праздности, деланная серьезность тунеядца, практичность варвара,
цивилизованность семинариста.
Символизм явился для формальной защиты и для
восстановления прав искусства. В силу оснований, прямо противоположных
с натурализмом, символизм как такой также не может иметь стиля
и не может быть «направлением». Как натурализм — отрицание
искусства, так символизм — существенное свойство искусства.
Символизм — исключительно сосредоточенное искусство, и потому
символический стиль всегда искусственный стиль, а не естественный,
всегда стилизация.
Символ — сопоставление порядка чувственного со сферою
мыслимого, идеи, идеальности, действительного опыта (переживания)
со сферою идеального, опыт осмысливающего. Искусство, в
аспекте эстетики, существенно между тем и другим. Ошибочно
утверждение, будто символ устанавливается непременно на основе
«сходства». «Сходство» физического и духовного, чувственного и
идеального — вообще весьма хитрая проблема, если под «сходством»
понимать «подобие», а не просто «схождение» — с двух безусловно
неподобных концов к какому-то условно одному пункту. Символ и
не аллегория. Аллегория — рассудочна, «измышлена»,
плоскоконечна. Символ — творчески-пророчествен и неисчерпаемо-бесконечен.
Аллегория — теософична, символ — мистичен.
Хотя бы совершенно условно, символ — знак в смысле «слова» как
знака других слов, прямо (или метафорически) называющих «вещь»
(процесс, признак, действие). Следовательно, символ есть sui generis
suppositio328. Поэтому слово, с другого конца, есть прообраз
всякого искусства. Поэтому же и его структура — исчерпывающе полна и
Эстетические фрагменты
691
составляет тип всякого эстетического предмета. Искусство — модус
действительности, и слово — архетип этой действительности,
недействительной действительности.
В итоге, символизм принципиально есть утверждение прав
искусств. Исторически символизм — время всяческих реставраций и
стилизаций. У нас, например, — классицизма, архаизма
(славянизма), романтизма, народничества. Но нам теперь, сейчас, не
реставрации нужны, а Ренессанс.
Через символизм Европа спасала себя от несерьезности,
праздности, утилитарности, варварства, восточной мудрости: стилизовался
сам Восток, стилизовали японцев и других варваров, даже дикарей и
вообще низкорожденных, для того только, чтобы их европейски
облагородить. В примитив только играли, потому что нужно было на
место смешного поставить веселое, на место нелепого — умное,
незабываемого Сезанна — на место позабытого Гокусая. И если в наше
время уже истлели в памяти разные Альтенберги, Товоте, Шницле-
ры и им подобные329, то разве не затем, чтобы подчеркнуть
провинциальное безвкусие еще существующей способности к «чтению»
какого-нибудь Рабиндраната Тагора330?
В борьбе за право искусства, за «веселую науку» Европа
потеряла стиль. Стиль сделался вопросом не осуществления, а только
изучения.
Стилизация замещала школы мастерства. Дисциплина
хорошего воспитания исчезла; парикмахеры и портные заменили собою
гувернера; коммивояжер вкладывал прейскурант торгового дома в
обложку Готского Альманаха331. Так случилось, что в эпоху техники
был утерян секрет техники, не бывший, однако, секретом для
веселых мастеров серьезного цеха.
Реализм также существенное свойство искусства. Требование
формы исходит от содержания. Содержание без формы есть
чистая страдательность. Содержание страждет формы — и страдает
без нее, как страдает само от себя все отвратительное, как страдает
душа «сама по себе», лишенная тела, отвратительная. Формы без
содержания составляют предмет не творчества, а собирания,
коллекционирования — музыканты в поэзии, например коллекционеры,
бездомны, их домашний очаг — уют музея, они спят, едят, любят и
делают прочее в магазинах старого платья. Одно содержание, без
формы, есть стихия природы и души — отвратительность и ложь ду-
692
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ховная, логическая, эстетическая в культуре, ибо и культура —
рождение, преображение и Возрождение духа — есть для природы ложь
нравственная.
Реализм, если он — не реализм духа, а только природы и души,
есть отвлеченный реализм, скат в «ничто» натурализма. Только дух
в подлинном смысле реализуется — пусть даже материализуется,
воплощается и воодушевляется, т. е. осуществляется в той же природе
и душевности, но всегда возникает к реальному бытию в формах
культуры. Природа просто существует, душа живет и биографствует,
один дух наличествует, чтобы возникать в культуру, ждет, долготер-
пит, надеется, все переносит, не бесчинствует, не превозносится, не
ищет своего. Христианская метафора духа — любовь. Смешно и
жалко слушать, когда христиане говорят о любви·, рассуждение слепого
о цветах, глупого об уме, лжеца о правде, теософа о мистике,
кастрата о брачных радостях. Утверждение, что любовь есть источник — и
притом особенно глубокий и плодотворный — познания,
творчества, красоты, так же истинно, как было бы истинно заверение, что
плакучие ивы — источник полноводия озера, к которому они
склоняются и в которое они роняют свои слезы. Дух — источник
всяческого, в том числе и любви.
Дух — не метафизический Сезам, не жизненный эликсир, он
реален не «в себе», а в признании. «В себе» он только познается, в себе
он только идея. Культура, искусство — реальное осуществление,
творчество. Дух создается. Без стиля и формы — он чистое и
отвлеченное не-бытие. Реализм есть реализация, а не бытие. Познать
реальное, узнать идею и осуществить ее — таков путь от
Возрождения к стилю. Когда-то он еще будет? Наша теперь задача — только
Возрождение. Потому-то нужнее теперь учитывать признаки, чем
заботиться о стиле. Стиль сам придет, нечаянно, когда, быть может,
устанем ждать; Дух ждать не устанет, он переждал христианство,
переждет и теперешний послехристианский разброд. Но мы-то сами,
конечно, уже устали. Недаром умы наших современников
иссушаются восточною мудростью, недаром нас оглушает грохот
теософической колесницы, катящей жестокую Кали, недаром беснуются ее
поклонники, душители разума. Это — их последнее беснование.
Обреченная ими жертва — искупление готового родиться нового духа.
Эта жертва — дорогое для разума, но не законное его детище —
европейская метафизика. Ей будет сооружена гробница в новом ста-
Эстетические фрагменты
693
ле, ее соорудит возрожденный разум — в законных уже формах
реализации духа. Новый реализм, реализм выраженный, а не реализм
быта, будет выражением того, что есть, а не того, что случается и
бывает, того, что действительно есть, а не того, что кажется.
Распад и новое рождение
Дифференциация — новое рождение и рост, центростремитель-
ность до пресыщения, до напряженности, не выдерживающей
сжатия внутренних сил и разрешающейся в систему новых центров,
отталкивающихся друг от друга, самостоятельно способных к
новым конденсациям и к новым дифференциациям. Сперва
концентрация жизни, затем разметывание кругов: разлетаются каждый со
своим центром, хранящим в себе только воспоминание о некогда
общном, едином пра-центре. Творчество — подражание (μίμησις)
по воспоминанию (ανάμησις). Поэтому подражание никогда не есть
копирование. Воспоминания не было бы, если бы не было
забывания. Забывание — кнут творчества, оно вздымает на дыбы фантазию.
Парящий в пространствах фантазии «центр» напрягается до
способности нового рождения, расслоения сконцентрировавшегося,
дифференциации.
Из распада ничего не вырастает. Распад — голодание, когда жизнь
поддерживается питанием за счет организма, самоедство организма.
Распад — гниение. Его продукт и его назначение — удобрение.
Распад исключает смерть, потому что это есть механизм,
кругообращение вещества, сохранение материи. Нет смерти,
следовательно, нет и нового рождения — сохранение на место созидания.
Смерть — маска творчества, домино любви. Смертный брак —
тайна, мистерия рождения и творчества. Любовь и непосредственно
за нею, — через столько-то часов или месяцев — рождение есть
иллюзорное творчество. Настоящее творчество — из ничего,
следовательно, в промежуток между любовью и рождением входит смерть.
Вот — те часы и месяцы «между» — часы и месяцы ожидания. Новое
рождение поджидает ветхую смерть. Смерть — взрыв, революция,
разрушение. Рождение — тишина, покой, единственный и
неустойчивый миг равновесия, после которого начинается рост,
напряжение, конденсация. Муки родов — образ, как «восхождение солнца»,
также — propter hoc ergo post hoc332. А в действительности — муки
смерти, движение земли вокруг солнца, post mortem ergo propter
694
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
mortem333. В матернем чреве — смерть, ничто — там, где была
жизнь; в солнечном мире — новое рождение, нечто из ничего.
Почему после символизма нет нового реализма? То есть еще нет,
пока еще нет. Первая мысль — что совершается распад, удобрение,
унавожение. Свидетельство того — наглядно: искусство самоедству-
ет, рефлексирует. Не это ли подлинный декаданс, питание
собственными тканями? Никогда, кажется, не было такой неосмыслицы в
духовной жизни: философия вместо рефлексии ищет познания через
«переживание», перепутала все значения и смыслы слова concipio и
бежит от лица разума, ненавидящая его, а искусство на место
спонтанного творчества рефлексирует, исполняет все значения слова
experior и подчиняет переживание «поэтике» — настоящего,
прошлого и будущего, ибо поэтики absolute, вне времени, не бывает.
Поэтику будущего принимают за поэтику absolute. Футуризм554 есть
теория искусства без самого искусства. Футурист не только тот и не
всегда тот, кто называет себя футуристом, — в распаде искусства
исчезает и искусство наименования, — а тот, у кого теория искусства
есть начало, причина и основание искусства. Когда называвшие себя
футуристами призывали «поджигателей с почерневшими пальцами»,
было не страшно — славные ребята, думалось. Когда они
командовали: «сройте основания славных городов»335, было непонятно и
любопытно — непонятно, потому что все знали, что такие «основания»
давным-давно срыты, а любопытно, потому что «манифест»
обращался к нам: кто же из нас, думалось, — при поглядывании искоса
на «ближних» — деловых людей, бросит отца и матерь свою, чтобы
идти срывать давно срытое и не срываемое? Но сразу становилось
невкусно и отвратительно щекотало обоняние, когда Манифест
обнародовал возраст Их Величеств: самым старшим из нас, говорилось
там, тридцать лет! Как? Вам тридцать лет, и у вас уже есть теория
искусства? — тогда вы — не художники, не художники в творчестве, не
художники и в теории. Вы можете быть художниками разве только в
теории! Практика, последовавшая за теорией, была на разный вкус.
Утверждающие примат поэтики над поэзией — футуристы.
Футуризм «творит» по теорий — прошлого у него нет —
беременность футуристов — ложная. Классики проходили школу,
преодолевали ее, становились романтиками, романтики через школу
становились реалистами, реалисты — символистами; символисты могут
стать через школу новыми классиками. Футуристы, не одолевшие
Эстетические фрагменты
695
школы, не одолевают и искусства, будут в ней не хозяевами, а
приказчиками, хотя бы и государственными. Дело не в
«искусственности», как толкуют иногда. Искусственность только тогда
искусственность, когда это заметно, и потому и тогда только искусственность
может быть упреком. Прием всех декадентов — привлечь внимание
фокусом. Говорят о неискренности, но какое кому до этого дело?
Должно быть искренне произведение, а не производитель.
Неискренность и искусственность значат простое: фокус не удался.
Критерий — не таланта, не художественности, — а неподдельности, не
фальсификации, подлинности: первое opus художника. Если оно «по
учителю», «по школе», по «принятым» формам, один против одного,
что из художника выйдет реформатор; если оно по его собственным
«новым» формам, десять тысяч против одного, что из него выйдет
чиновник. "
Футуризм, таким образом, распад, гниение и удобрение. Почва —
готова. Первая мысль не ответила на вопрос, почему нет нового
реализма. Вторая: потому что мы не знаем, что такое реальность.
Потеряли. Мы грезим о ней, значит, не знаем, что есть она. Наша жизнь
стала ирреальною, действительность — белибердою. А значит,
угасло эстетическое восприятие и приятие действительности, осталось
одно прагматическое. Ирреальное «работает», белиберда — высшая
реальность. Белибердяи выдавали теософические трудовые книжки
художникам; теософическая премудрость загоняла в подполье
творимую действительность. Теософические теории искони внушают,
что реальность под покрывалом; приподнявшему его складки —
ужас безумия. И правда: перед черным ничто — кто не лишится ума?
Вот критерий для распознания художника: поставить испытуемого
перед покрывалом, внушать ему приподнять покрывало, и художник,
не теософ, строго отстранит экспериментатора. Разве можно
циническим движением руки разрушать эту тайну — красоту складок
покрывала? Разве можно художнику собственноручно разрушить
данную его глазам и потому подлинную действительность? Разве есть и
разве может быть иная? Ей можно только «подражать», ее надо
творить; она — налицо, за нею — ничто. Изображайте ее, но не
обезображивайте. Все ее внутреннее — ее внешнее. Внешнее без
внутреннего может быть — такова иллюзия; внутреннего без внешнего —
нет. Нет ни одного атома внутреннего без внешности. Реальность,
действительность определяется только внешностью. Только внеш-
696
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ность — непосредственно эстетична. Внутреннее для эстетического
восприятия должно быть опосредствовано внешним; жир, мышцы,
чрево — эстетичны только обтянутые кожею. Само
опосредствование — предмет эстетического созерцания через свое касание
внешнего.
Εύρύμαχ'η τοι έμήν άρετήν είδος τεδέμας τε ώλεσαν αθάνατοι, —
Доблесть мою, Евримах, погубили бессмертные боги, —
Вид и наружность мою ...336
Славное было время, когда под «добродетелью» можно было
понимать «вид и наружность»! Если бы в наше время согласились
признать внешность добродетелью, стоило бы не только быть
добродетельным, но даже проповедовать добродетель...
Все это верно эстетически, и жизненно должно быть верно.
Эстетика должна вывернуть жизнь наизнанку, чтобы жизнь была
правдива. Что мы приобретаем от сильной любви «ближних», если
эта любовь — «в глубине души»? И как много мы приобретали бы,
если бы нас не обманывали мнимою действительностью глубин
задушевных, а только бы всегда во-вне проявляли, выражали, вели
себя, как ведут любящие. Что же жизненно-реально: расположение
внутри и невоспитанность извне, «благо человечества» внутри и
нож, зажатый в кулаке, извне, или неизменная ласка и
предупредительность извне, а внутри — не все ли равно, что тогда «внутри»?
Можно предпочитать тот или другой способ поведения, но реально
сущее в первом случае есть невоспитанность, в последнем —
любовь. Вообще, не потому ли философам и психологам не удавалось
найти «седалище души», что его искали внутри, тогда как вся она,
душа, вовне, мягким, воздушным покровом облекает «нас». Но зато
и удары, которые наносятся ей — морщины и шрамы на внешнем
нашем лике. Вся душа есть внешность. Человек живет, пока есть у
него внешность. И личность есть внешность. Проблема бессмертия
была бы разрешена, если бы была разрешена проблема
бессмертного овнешнения.
И для философии: «внутри» — только идеальное, а не реальное,
не действительное, не действующее. «Внутреннее» — «только» идея.
Немцы научили нас приставлять к «идее» словечко «только», чтобы
выражением «только идея» сказать: ничто. И верно, если «идея» не
разрешима внешне, во вне, она — ничто. Но если она — живая дей-
Эстетические фрагменты
697
ствительная идея, она не «только идея», a ιδέα, τ. е. вид, прежде всего,
внешний видимый облик. Идеальное как ничто, только постигается,
конципируется, оно — реально не-сущее. Бергсониада — визгливое
«молчи» перед не-сущим. Внешность требует не конципирования, а
уразумения и истолкования. Слово — незаменимый и неизменный
образ действительности как внешности: все, без остатка,
действительное бытие — во-вне, все внутреннее — только идеально.
Художник должен утвердить права внешнего, чтобы мог
существовать философ. Только действительно существующее внешнее
может быть осмысленно, потому что только оно — живое. Только
художник имеет право и средства утверждать действительность
всего—и бессмысленного и осмысленного, лишь бы была перед ним
внешность. Философ узурпирует чужие права и привилегии, когда
он, заикаясь, бормочет что-то об иррациональном бытии и о
действительности иррационального. Вся действительность — во
внешнем, и потому такое бормотание также действительно только как
бормотание — алогическая белиберда.
Продолжение о том же сюжете
Мы не знаем теперь, что такое действительность, хотя
философия всегда имеет одну задачу — познать действительность. С
некоторого времени философия потеряла не только решение этой
задачи, но и самое задачу. Появилось в мире не-знание, которого
раньше не было. Это не-знание возникло тогда, когда философы
вообразили, что они не познают, а «творят» и «преодолевают».
Появились, под титлом идеалистов, философы-командиры. Современные
переживалъщики — их дегенеративные, цинические потомки; их
болезненное состояние — moral sanity337 — делает их философски
невменяемыми: они — на свободе только потому, что они здравы.
Ни один дисциплинированный философ не решился бы на призыв:
«переживемте», как никто в воспитанном обществе не воскликнет в
публичном обращении: concipite — публично такие команды могут
быть произносимы только в публичном доме.
И художник не творит действительности, не производит — то,
что он производит, есть искусство, а не действительность — он
подражает и воспроизводит. Но он раньше философа утверждает
действительность, потому что впереди всякого познания идет
созерцание. По этому поводу говорят об особой наблюдательности
698
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
художника. Что под этим разуметь? Художник видит «больше»? —
Но нет, он видит меньше, потому что он видит избирательно: не
все, что видишь, художественно. Он видит острее? Это и значит
меньше: чем острее одно, тем тупее другое. Разница зрения
художника от обыкновенного зрения — не количественная, а
качественная. Это — лучший сорт зрения. Для него явственна красота
действительности. И это — все? Ни в коем случае! Явственная для
него красота может остаться его тайною. Какое нам дело до
чужих тайн? Художник не просто для себя созерцает, а разоблачает
тайны. Запечатлеть — здесь только начинается художественно-
совершенное зрение художника — явленность вовне. Красота —
дважды рожденная, дважды явленная. Оттого она — и смысл и
значение. Оттого она не только эстетична, но и философична. Но,
прежде чем передать действительность философу, художник
должен утвердить ее права на бытие в созерцании: еще нереального и
уже не идеального только.
Мы не знаем теперь действительности, но чтобы познавать,
мы должны найти ее утверждаемую. Быть утверждаемой
действительность может только в красоте, безобразное не может быть
утверждаемо — если только в нем самом, как имманентное в
трансцендентном, не будет открыта красота. Безобразное —
существенно трансцендентно. Нужно «перевести» — traducere ad suam
intuitionem338 — трансцендентное на язык внешности, чтобы узреть
и уразуметь. В этом переводе — переход от ограниченного
человеческого к божественному: сама мать в ужасе бежала, увидав Пана,
Милого сына Гермеса, лицом — безобразное диво, —
Сын козлоногий, двурогий, шумливый, с веселой усмешкой,
но бог разумения, Гермес,
...не медля в объятия ребенка
Принял и сердцем своим без конца веселился на сына339.
Художник не творит действительности, а только воспроизводит.
В этом гарантия утверждаемой им действительности и
действительности утверждаемого им. Творец может ошибиться и создать одну
действительность вместо другой — по заблуждению, по
нерасчетливости, по лукавству, по неискусности или по другой причине.
Художник воспроизводит действительность уже созданную. Его
утверждение относится к сущему. Как бы ни была действительность задумана
Эстетические фрагменты
699
создана, созданная и существующая, она — такая, а не иная, и
другой — нет. Может быть, ложная в замысле и в осуществлении, она
истинна в бытии. Ее истинность — ее внешность.
У нас нет действительности, потому что мы ее отвергли. И снова,
пусть идеалисты и переживалыцики заикаются, что отвержение есть
уничтожение, как утверждение — творение. Отвержение есть знак
неудовлетворения и призыв к углублению. Теософы и бергсонософы
передергивают карту, и углубление во внешнее подменяют
углублением «в себя»: не этот, тот, —
Вот этот вот: он — туп, как... пуп...
(Андрей Белый)
Омфалопсихия — титул этого углубления, самоуглубления.
Другое углубление — другая подмена: заглядывание под
покрывала — во «внутрь» (будто бы!). Это — просто отвлечение внимания
от настоящего и мысли пленной раздражение. Нужно углубление в
само внешнее, по правилу Леонардо: вглядываться в пыльные или
покрытые плесенью стены, в облака, в ночные контуры древесных
ветвей, в тени, в изгибы и неровности поверхности любой вещи,
везде — миры и миры. Глубже, глубже вглядываться в ткань
покрывала, и она шевелится, она плывет, она шелестит, она выдает образ
за образом. Видение требует разумения. Начинается философия,
начинается логика, потому что оформливается ее исход, принимает
живой облик, зажигаются блеском глаза ее первого основания: ante
hoc ergo propter hoc340. Видение первое, значит, разумение —
первое. Начинают видеть разумом: начинают видеть уши (ср. немецкое
vernehmen — Vernunft) и слышать глаза.
Во тьме и ужасе ночного бденья
Слух тщетно звуки силился б обнять...
Считай, считай последние мгновенья,
Душа, уставшая напрасно ждать...
Но
...можешь радость вплесть в судьбы оковы,
Дерзай очами слушать ночи зоны!
Как давно разгадано:
700
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
То hear with eyes belongs to love's fine wit.
(Шекспир)541
Вот — вопрос, перестать увертываться от которого следовало
бы: что видно? или, по крайней мере, что уже видно? или, по самой
меньшей мере, — видна ли звезда нового Вифлеема? Воспроизводит
ли новую действительность наше искусство? Ведь в этом гарантия,
условие и начало нового рождения! Назначение художника: увидеть.
Увидели ли наши художники уже новую действительность в нашей
старой сущности? Общее мнение, что увидел Блок342. Я думаю, что
увидел Андрей Белый. Блок не довольствовался видением, хотел
видения и приоткрыл покрывало; но недаром около его вести
столько толков и толкований.
...Так идут державным шагом —
Позади голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвыожной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос343.
Итак, что же «внутри» — Впереди — Иисус Христос, позади —
голодный пес, а посредине — Петька Катьку полюбил — наше
исконное статье, былье, бытье... Дальше — Чичиковы, Хлестаковы, Смердя-
ковы, Молчалины — старый мир, старый быт... И только-то?.. Стоит
ли из-за этого от «внешности» отрекаться?..
После этого Блок был обречен. Блок — искупительная жертва
нашего преступного любопытства, потому что все толкали его и все
у нас побуждало его к тому, чтобы приоткрыть завесу, совлечь
веющие древними поверьями упругие шелка, заглянуть за то, что прежде
было для него внешнею, но и достаточною реальностью.
Видение Андрея Белого — другое видение внешнего, настоящего,
действительного. Белый тут уже не «символист», ибо понимать это
нереально, значит отказаться от надежд здесь, в реальном, значит
остаться с им же испепеленным действительным прошлым, не
настоящим.
Эстетические фрагменты
701
В глухих
Судьбинах,
В земных
Глубинах,
В веках,
В народах,
В сплошных
Синеродах
Небес
— Да пребудет
Весть:
— «Христос
Воскрес!» — Есть.
Было.
Будет.
И Слово,
Стоящее ныне
По середине
Сердца,
Бурями вострубленной
Весны,
Простерло
Гласящие глубины
Из огненного горла:
— «Сыны
Возлюбленные, —
"Христос Воскрес!"»344.
Если это Великий Пан воскрес, что это обещает? — что это
обещает для нас? Философский полный ответ может дать философия
культуры. Там и анализ, и истолкование. В эстетику — результаты.
Между прочими результатами и тот, что Воскресение есть обет
Нового рождения. Зачалом Возрождения всегда было искусство. Есть.
Было. Будет. Искусство есть воспроизведение произведенного. Новое
эллинство было бы «подражанием» Творцу — древнему эллинству.
Возрождение — припоминание рождения. Так эмпирически.
Оттого — эллинство. Но также и существенно, потому что Возрождение
как выявление, вовнешнение, реализация, есть прежде всего модус
эстетический. Не политический, не педагогический — как убого
жалки все эти практики-практиканты. Эротическое заявление о себе
действительности — существенно первично. Прочее приложится.
702
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Новое эллинство приведет к новому Вифлеему. «Подражание» —
не копирование, копирование — ложное подражание, ложное
эллинство, «псевдоклассицизм». Философский ответ о
действительности нужен, чтобы не было этого «псевдо», иллюзионизма, идеализма,
«переживаний», чтобы была жизнь и реализм. Возрождение есть
воплощение тайны, ее овнешнение. Возрождение есть «воз-рождение»,
и его требование к познанию, к философии: вос-познания —
познания познанного. Тайна филологов должна быть разоблачена; все
должны стать словолюбцами, все призываются к познанию
познанного. То, что внешне было только для филологов, должно быть
открыто для всех. В величайший праздник — всякий может стать
жрецом, если только готов принять на себя бремя жречества.
В раскрытые врата храма перед всеми очами трепещет ткань
божественного покрова. В этом его, Пана, слово, и весь он — в этом
слове. Это слово — Все, вся действительность. Ничего помимо
этого, никакого реального «внутри». Все действительное — во-вне,
внутри — только идеальное.
Слова — обман, говорили натуралисты — idola.
Слово — символ, говорили символисты.
Слово — не обман, не символ только, слово — действительность,
вся без остатка действительность есть слово, к нам обращенное,
нами уже слышимое, ждущее вашего, философы, уразумения, —
призван сказать новый художник — реалист.
Слово — пластично, музыкально, живописно, это имеет смысл,
когда все эти предикаты — к субъекту действительности. Это —
философский язык. Пластика, музыка, живопись — словесны. Такова —
внешность их; через словесность, присущую им, они действительны.
Это — реально-художественный язык
Обо всем этом и говорит трепетание покрова. Внешность есть
знак Натуралист считал «знак» природою; это был лжереализм;
новый реализм должен взглянуть на природу, как на знак
Романтический христианский реализм был иллюзионизм; он гипостазировал
«только идею», и этим обманывал себя; он объявлял внешность
иллюзией и этим обманывал других. Романтизм, — как и все
христианство, — не имел мужества искренней лжи, какое было, например, у
циников и Пиррона, и спрятался за иронией. Какая прозрачная
анаграмма, и, тем не менее, христианский мир ее не разгадал. Ειρωεία =
illusio, романтизм = иллюзионизм. Христианство не могло этого
Эстетические фрагменты
703
понять, потому что оно само — романтизм. Романтизм,
провозглашая себя, провозглашал христианство и, провозглашая
христианство, провозглашал себя. И в христианстве, и в романтизме
сознательный иллюзионизм прикрывал неискренность лжи. Кризис
культуры теперешней есть кризис христианства, потому что иной
культуры нет уже двадцатый век. Сколько в искусстве культурного
нехристианского, столько переживущего кризис. Возрождение новое
есть искреннее рождение новое Пана. Новый реализм — словесный,
реализм языков, народов, а христианство и интернационал —
единая ткань, плащ Мефистофеля: черный на красной подкладке. Новый
реализм — реализм народов, языков, — языческий. Новая
действительность — торжественное вступление любителя хороводов Пана
в город, Возрождение Пана в городе. Город — не природная
реальность: в природе, в лесах, полях и небесах, действительных городов
нет; только сказочные. Город же — быль. Город действителен только
как знак, слово, культура; быль — история. Пришло время истори-
зировать природу и Пана; время весны города. Новая
действительность — историческая — завершение незавершенной мысли
романтика: «излагать историю мира, как историю человечества, находить
всюду только человеческие события и отношения» (Новалис)345.
- ЭЙ! ОТКЛИКНИСЬ, КТО ИДЕТ?
Наша история сейчас — иллюзия. Наша быль — пепел:
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!346
Революция пожрала вчерашнюю действительность. Но
революция — часы и годы «между», смерть для нового рождения,
онтологическая фикция. Исторически — действительным и действительно —
историческим останется лишь то, что не расплавится в пламени
революции, очистительном пламени. Языки пламени — слова нового
значения и смысла, знаки того, что Возрожденному — жить в
живительном свете. Философия, наука, искусство — не разные дети одной
матери, все это — одно, в разных качествах и разного времени. Но не
будет Возрождения мысли и рефлексии, если не будет Возрождения
искусства, спонтанного творчества. Художники — в первой линии.
Когда действительность становится иллюзией, существует только
пустая форма. Вот откуда наша теперешняя утонченность в
поэтической технике, способность даже выковывать новые формы — для ни-
704
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
какого содержания. Никакое, ничтожное, содержание в
многообещающей форме есть эстетическая лживость (Ахматова, например)347 —
знаменование потери восприятия и чувства мира. Бытие космоса
распалось в буднях, быль слова не уразумевается, остается мозаика
клочков быта, выдаваемая за монолитную действительность. Есть
разбитые догматы, затасканные учения, есть теософическая
пошлость, нет истинно-религиозного ни на что эха. И есть еще
раздвоение, расщепленность, расплесканность. Есть гений художника
Андрея Белого, и есть размахайка кристаллографа Андрея Белого,
гениальная эпопея («исторической действительности») и
гностический гербарий. Недаром Борис Бугаев жаловался на Андрея Белого:
ему жутко при виде двух Андреев Белых.
Один из них дал любопытное толкование «Двенадцати»: «И вот в
Катьке и Петьке "Двенадцати", в том звуке крушения старого мира,
который Александр Александрович услышал со всей своей максима-
листической реалистичностью, должно было быть начало восстания,
начало светлого воскресения, Христа и Софии, России будущей: —
впереди — "в светлом [!] венчике из роз, впереди — Исус Христос".
Да не так же это надо понимать, что идут двенадцать, маршируют,
позади жалкий пес, а впереди марширует Исус Христос, — это было
бы действительно идиотическое понимание. "Впереди Иисус
Христос" — что это? — Через все, через углубление революции до
революции жизни, сознания, плоти и кости, до изменения наших чувств,
наших мыслей, до изменения нас в любви и братстве, вот это "все"
идет к тому, что — вот к какому "впереди" это идет»348.
«Пес», конечно, ясен,
Поджавший хвост, паршивый пес,
пристал к товарищам, отстав от благодетеля,
...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстает —
Пес холодный — пес безродный...
Христос все же не так-то ясен. Твердо одно: «максималистическая
реалистичность». Стало быть, внешность — знак? Но какой же: цель
или видение? По-видимому, видение!
— Кто еще там? Выходи!
— Кто в сугробе — выходи!..
Эстетические фрагменты
705
— Эй, откликнись, кто идет?
— Кто там машет красным флагом?
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?349
Чего же видение, и знак, и символ? Не трансцендентного
«ничто», а прежде всего собственного сознания, совести. И это двояко:
(1) как — «во имя Христа» и (2) как укор — «что же делаем»? В
первом ничего антихристианского нет. Христианство одинаково
осуществляло во имя Христа и убийство и социализм — последнее не
как экономический план — хотя бывало и такое, — а просто в виде
игры на худших струнах человеческой души, vulgo, как утверждение
забитого, нищего, убогого, жалкого, больного, и притом превыше
энергичного, талантливого, сильного, бодрого, здорового. Так,
антихристианского или нехристианского в этом ничего не было бы, но
была бы неправда реальная, а потому и символическая. У нас и до
революции Христос отожествлялся с «попом». В этом своеобразный
демократизм православной русской церкви. И у римских католиков,
и у греческих Церковь — Христос, но у первых папа, у нас поп (все
равно, иерей, архиерей, при случае и диакон, хотя, конечно, и тепло:
«батюшка»). Там сосредоточенно, здесь дистрибутивно.
Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?..
В результате, «долой папу» ничего серьезного не обозначало:
протестантский маргарин, а «долой попов» стало означать «долой
Христа». Но так как укол совести — в венчике из роз, — все-таки, и с
малолетства, — то как же отогнать навязчивое видение?
— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
Над собой держи контроль!
И снова, и снова, и снова — беспокоящее видение, и все
настоятельнее тревога, что видение — действительность, та самая
разрушаемая и разрушающая действительность.
706
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
— Все равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!
Действительное выстрелов не боится. Знак, слово, имя —
всегда действительны, всегда реальны. Одно только имя — и видение
оплотнеет. «Здраво рассуждая», раз отвергнут Сам, должно быть и
Имя «изъято» — может быть, с затаеннейшею, «завиральною»
мольбою к Нему же о снятии бремени с души...
— Ох, пурга какая, Спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Значит, все «долой» — в «бессознательность»: и Его, и Имя, и
просто голос совести человеческой!.. Здесь-то рука и хватается
приподнять завесу... Что за нею предстало Блоку? Холодное ничто, о
котором поэт не говорит, да и сказать о ничто нечего. Лишь проникает
в душу беспредметный ужас, рождающий отчаяние перед
невозрождением, отчаяние от того, что все — понапрасну, отчаяние, что в
самой революции — старый быт, «старый мир, как пес паршивый»...
И, вдруг, в самом деле, не видение есть действительность, а
трансцендентное, нами гипостазированное, наше старое
нигилистическое ничто? Значит, оно — не кошмар, и впредь останется?.. Есть у
Блока две обнадеживающие строки:
Т]эах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах.
Заливается смехом злобным, торжествующим,
издевательским? — Нет, едва ли! Но тогда этот смех не над провалом и
бездною, а только над легкою неудачей, над смешною ошибкою: само
«трах-тах-тах» по действительному видению — не действительно, не
реально, иллюзорно. В этом — надежда. Ошибался, поэтому, и тот,
кто говорил «вполголоса»:
— Предатели! — Погибла Россия!
Ошибался, Россия не погибла.
Эстетические фрагменты
707
Новая действительность не может быть романтическою
реставрацией Москвы, ибо почему же и для чего же была революция?
И всякое Возрождение — патриотично. Вопрос только в том, будет
ли оно европейским? Христианство довело свою культуру до
кризиса. В этом признаются называющие себя христианами. Условно
противопоставление культуры и цивилизации, но, раз оно сделано,
всмотримся в него. Христианская культура дошла до христианской
цивилизации. Крестом осеняли и святою водою кропили не только
человеческие лбы, но и стальные машины. Культуру изгадили
цивилизацией — в этом каются, но не раскаиваются. Не раскаиваются —
это видно из того, что в жалобах на «кризисы» взывают о спасении к
востоку. Где же на Востоке культура? Восток, как и все мировое
варварство, способен только к восприятию, к усвоению, а может быть, и
к творчеству, цивилизации. Инженер с раскосыми глазами — в этом
ничего противоестественного, но Платон, Эсхил, Данте, Шекспир,
Гегель — с раскосыми глазами — мотив из Гойи350.
Скандальная книга Шпенглера351 сильно шумит, и его
противопоставление культуры и цивилизации на наших глазах делается для
толпы каноническим. Из него извлекают мудрость и поучение.
Между тем именно у Шпенглера это противопоставление только
формально, и чем его заполнить — вопрос. Цивилизация есть
«завершение и исход» культуры. И потому «каждая» культура имеет свою
цивилизацию. Как будто в мире существует не одна культура,
варьирующаяся по народам, не единая и генетически и существенно! Да уж
если цивилизация — «исход и завершение», то какой смысл в этом
противопоставлении? — Отливы и приливы, ниже и выше. Но новый
прилив разве не есть Возрождение, т. е. продолжение той же единой
культуры? Разница должна быть принципиальною. И при всем этом
Шпенглер говорит об «исторической философии», о «мире, как
истории»... Но, вот, дальше, уже не формально, а по содержанию:
оказывается, что наша философия страдает органическим пороком —
невмешательством в практическую жизнь. Что это значит? Это значит:
1) из нас не глаголет «душа времени». Конечно, это — порок. Но
спрашивается, где же эта философия и когда вообще существовала
философия, которая не выражала бы времени? Куда же девался
пресловутый историзм? Но 2) — и тут суть дела яснее — вот, например,
досократики были купцами и политиками, Платон едва жизнью не
поплатился за то, что хотел подправить сиракузские дела, Декарт —
708
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
«первый техник своего времени» (!), а современные философы — не
техники, не политики, не купцы. Если фон Гертлинг352 еще не умер,
он может выдрать Шпенглера за уши, да и не один фон Гертлинг. Но
это едва ли чему научит Шпенглера — хозяином фактов он считает
одного себя. Существенно другое: если факт, что философы не
торгуют, не электрифицируют, не санкционируют смертных
приговоров, — признак цивилизации, то да здравствует цивилизация! Если,
наоборот, факт, что философ-инженер есть признак цивилизации,
а не культуры, признак восточной мудрости и философии именно
не установившейся, не осознавшей, что ее участие в великой, как
выражается Шпенглер, действительности есть мысль, а не купля-
продажа и не сооружение водяных турбин, а тем паче не
преследование свободного слова, тогда, пожалуй, и насчет «гибели Запада»
придется сделать диагноз иной, чем тот, какой ставит Шпенглер.
У Шпенглера все меряется «доселе» и «отселе», считая с года выхода
его книжки. «Открытий» и изобретений у него, поэтому, столько, что
хватило бы на тринадцать инженеров. Но лучше бы ему не
«открывать», а просто сослаться на то противопоставление цивилизации
культуре, которое, действительно, следовало бы сделать
каноническим и которое было указано, на его собственной родине, более ста
лет тому назад. Во всяком случае, ему пришлось бы извиниться, по
крайней мере, за не считающееся с историческим первенством
терминологическое злоупотребление. Сто пятнадцать лет тому назад
знаменитый Фридрих Август Вольф писал: нельзя ставить на одну
доску египтян, евреев, персов и другие восточные народы с греками
и римлянами. «Одно из главнейших различий между теми и
другими народами состоит в том, что первые или вовсе не возвысились
над тем родом образованности, который надо назвать гражданскою
выправкою или цивилизацией, в противоположность высшей,
собственной культуре духа, или возвысились лишь в незначительной
степени. Первый род культуры рачительно занимается
условиями жизни, нуждающейся в безопасности, порядке и удобстве;
он для сего пользуется даже некоторыми высшими изобретениями
и знаниями, которые, однако, будучи найдены не научным
путем, не должны были никогда пользоваться славою возвышенной
мудрости; наконец, этот род культуры не только не нуждается в
литературе, но и не созидает ее — причем под литературою
понимается комплекс сочинений, в которых делаются вклады для просвеще-
Эстетические фрагменты
709
ния современников не отдельною кастою, сообразно с ее
должностными целями и нуждами, но каждым из народа, сознающим в себе
высшие идеи»353. Вот в этом-то и дело!
Вольф — один из возродителей немецкого народа. Он начинал
с Гомера. Оттуда же начинается и всякое Возрождение. Начинаем
ли мы? Начнем ли?.. Цивилизаторское и просветительное
подражание античным формам у нас было и есть. Нужно больше и больше.
Нужно дойти до собственного мастерства, до софийности. Нужно
дойти до искусства в воспитанных формах выразить нашу
действительность. Нужно стать европейцами не по копированию, а по
воспроизведению красоты. У нас раньше кричали, что мы — «между»
Европою и востоком. Это — не верно. До сих пор это «между»
занимали немцы. Только после поражения немцев мы можем стать между
ними и востоком. Для этого нужно стать Европою, а Европа, еще и
еще и еще раз, зачиналась на берегах Эгейского моря.
Вслед за Шпенглером христианские цивилизаторы и у нас пугают
«закатом Европы». Нимало не страшно! Крушение Германии не есть
крушение Европы, да еще и Германии — крушенье ли? Шпенглер
изображает Западную Европу в виде Фауста. Но собственно почему,
и главное — за что? — Хотя бы гетевский Фауст, а то — нет, Фауст
просто, «вообще»!.. За что?.. Фауст — повеса, фокусник и шарлатан, с
безграничною похотью и плоскою рассудочностью, теософ. За что
и почему это — образ Западной Европы? Фауст — немецкое
изобретение, хотя Шпенглер и сделал «открытие» «доселе» неведомого, что
фаустовская душа обрела тело в западной культуре, как она
«расцвела с рождением романского стиля в X веке на северных [!] равнинах
между Эльбою и Тахо» (S. 254). Все же славяне этой души не
приняли, не приняли ее и романские народы, если не считать, как и делает
Шпенглер, «равнины» между Тахо и, скажем, Луарою «северными»...
Англичане — но, вот признание Фауста у Марло:
И я давно покончил бы с собою,
Когда бы сладость чувственных отрад
Отчаянья в душе не побеждала.
(Перевод К. Бальмонта)
Только в глазах немца, и то после <19> 14-го года, такая
автохарактеристика может быть признана идеалом англичанина. Наконец,
не приняли и мы — уж, кажется, до чего неутоленные, неугомонные
710
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
и стремительные!.. Или неужто наши Пушкин и Достоевский —
Фаусты? К сюжету «Фауст» подходили, как известно, с разных сторон, но
не кто иной, как Пушкин, в двух словах запечатлел источник «неуто-
ленности» Фауста: «Мне скучно, бес». А пушкинский Мефистофель
дает и исчерпывающее объяснение фаустовского taedium354 —
..думал ты в такое время,
Когда не думает никто...
Но это и есть connubium355 рассудочности и похоти*. Говорили,
что Иван Карамазов — русский Фауст, хотя он душу черту и не
прозакладывал, а совершенно национально «упивался» и «убивался».
Уж если какой-либо из Карамазовых — Фауст, то скорее всего
Федор Павлович, который умел отлично обделывать свои
имущественные делишки и в то же время был сладострастнейшим человеком
во всю свою жизнь. Фауст легенды не без успеха обделывал свои
делишки, а насчет прочего, вот что гласит бесхитростно-наивное
повествование, не предсказывающее, а собиравшее «факты» и
рассказывавшее ИХ:
Nach diesem kam der Geist Mephostophiles zu ihm und sagte: Wo du
hinfüro in deiner Zusagung beharren wirst, siehe, so will ich deine Wollust
anders ersättigen, dass du in deinen Tagen nichts anders wünschen wirst.
So du nicht kannst keusch leben, so will ich dir alle Tag und Nacht ein
Weib su Bett führen, welches du in dieser Stadt oder anderswo ansichtig
und nach deinem Willen zur Unkeuschheit begehren wirst. In solcher
Gestalt und Form soll sie dir beiwohnen.
Dem Doktor Fausto ging soches also wohl ein, dass sein Herz vor
Freuden zitterte; und reute es ihn, was er anfänglich hatte fürnehmen
wollen. Und geriet in eine soche Brust und Unzucht, dass er Tag und
Nacht nach schönen Weibern trachtete, dass, so er heut mit diesem Teufel
Unzucht trieb, morgen einen andern im Sinn hatte356.
В конце концов, не ставит ли себя Шпенглер в положение
турецкого императора, во дворце которого Фауст, в образе Магомета,
провел шесть дней и ночей, и не воображает ли он, что его
«фаустовские души» — тот великий народ, который Фауст, как свое наследие,
наобещал турку через его жен:
* Ту же черту, только не с пушкинскою выразительностью, отмечал у Фауста
Клингер. По словам последнего, у Фауста горело воображение, «которое
никогда не удовлетворялось настоящим, в самый миг наслаждения замечало пустоту
и неполноту достигнутого».
Эстетические фрагменты
711
Sie (seine Weiber) berichteten ihm, es wäre der Gott Mahomet
gewesen, und wie er zur Nacht die und die gefordert, sie beschlafen und
gesaget, es würde aus seinem Same nein gross Volk und streitbare Helden
entspringen357.
Но если Западная Европа не этот «великий народ» и не эти
«воинственные герои», потомки Фауста, то непонятно, за что
Шпенглер вдувает в Европу «фаустовскую душу». Не потому ли, что
Фауста терзают муки «гносеологической трагедии»? Но если Фаусту не
нравилась схоластика, что довольно понятно, то почему
«гносеологическая трагедия» требует обращения к магии и некромантии, а не
к Гомеру или Платону? He-фаустовская Западная Европа обратилась
именно к ним, и едва ли имеет основание жалеть об этом. Гете
хотел заставить поверить в какую-то бесконечную духовную неутолен-
ность Фауста. Верно: не только философия, но и искусство — от не-
утоленности, от духовного беспокойства. Но разве Данте от неуто-
ленности знания и любви начал ловеласничать и искать
приключений под руку с чертом?.. Гете был большой патриот и, кроме того,
hohe Exzellenz358 ему, понятно, хотелось украсить национальное
изобретение. Но отчего такое волнение за судьбу всей Европы, когда
битый Фауст поднял вопль? Поделом, собственно говоря, бит.
Все это — только свое, местное, нам даже и неприлично
вмешиваться в это. Нам нужно наше собственное в Европе Возрождение,
начинаемое с возрождения античности, а когда-то еще дойдем до
«заката»? Сверх того «закат» античности не лишил разума нового
западного человека, и последний вбирал в себя все, что узнавал о
ней. Не торжествовать следовало бы по поводу предречений
Шпенглера, а торопиться вобрать в себя побольше от опыта и знаний
Европы. А там, впереди, видно еще будет, подлинно ли она
«закатывается».
Как бы ни было, у нас — слово за искусством, и прежде всего за
искусством слова. Как оно скажет, так и будет в действительности, в
мысли, во всей нашей культуре. Россия теперь, как невеста:
Россия,
Ты ныне
Невеста...
Приемли
Весть
Весны...
712
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Земли
Прордейте
Цветами
И прозеленейте
Березами:
Есть-
Воскресение...
С нами —
Спасение...
Кому суждено быть женихом? Один — с востока:
Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед...
Другой — «единый из вас»:
...в тереме будет сидеть он своем,
Подобен кумиру средь храма,
И будет он спины вам бить батожьем,
А вы ему стукать да стукать челом...
Третий —
К гипербореям он
В страну далекую, к северу дикому,
Взойдя на колесницу, правит.
Лебеди белые быстро мчатся.
Москва, 26 января 1922
II. СВОЕВРЕМЕННЫЕ НАПОМИНАНИЯ
Структура слова in usum aestheticae
Термин «слово» в нижеследующем берется как комплекс
чувственных дат, не только воспринимаемых, но и претендующих на
то, чтобы быть понятыми, т. е. связанных со смыслом или значени-
Эстетические фрагменты
713
ем. Слово есть чувственный комплекс, выполняющий в общении
людей специфические функции: основным образом — семантические
и сенсемантические и производным — экспрессивные и дейктиче-
ские (указание, призыв, приказание, жалоба, мольба и т. д.). Слово
есть prima facie сообщение. Слово, следовательно, средство общения;
сообщение — условие общения. Слово есть не только явление
природы, но так же принцип культуры. Слово есть архетип культуры;
культура — культ разумения, слова — воплощение разума.
Все равно, в каком качественном чувственном комплексе
воспринимается слово. Эмпирически наиболее распространенным
является качество звукового комплекса. Одно качество может быть
переводимо в другое. Законы и типы форм одного качества могут быть
раскрыты и во всяком другом качестве. Художественное и вообще
творческое преобразование форм одного качества может
рассматриваться как типическое для всякого качества.
Слово есть знак sui generis. He всякий знак — слово. Бывают
знаки-признаки, указания, сигналы, отметки, симптомы, знамения,
omnia и прочие, и прочие. Теории о связи слова как знака с тем, что
он значит, основанные на психологических объяснениях —
ассоциациях, связи причины и действия, средства и цели, преднамеренного
соглашения и т. п., — только гипотезы, рабочая ценность которых
при современном кризисе доходит до нуля. Связь слова со смыслом
есть связь специфическая. Она является «родом», а не подводится
под род. Если бы даже оказалось возможным подвести ее под род,
или если бы какие-нибудь принципиальные предпосылки допускали
такое подведение и требовали его, все-таки методологически
правильнее, безупречнее и целесообразнее до построения каких бы то
ни было теорий рассматривать названную связь как специфическую.
Специфичность связи определяется не чувственно данным
комплексом как таким, а смыслом — вторым термином отношения, —
который есть так же sui generis предмет и бытие. Только строгий
феноменологический анализ мог бы установить, чем отличается восприятие
звукового комплекса как значащего знака от восприятия
естественной вещи. Слова-понятия: «вещь» и «знак» — принципиально и
изначально гетерогенны, и только точный интерпретативный метод мог
бы установить пределы и смысл каждого. Это — проблема не менее
трудная, чем проблема отличия действительности от иллюзии, и
составляет часть общей проблемы действительности.
714
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Что такое «одно» слово или «отдельное» слово, определяется
контекстом. В зависимости от цели, из данного контекста как отдельное
слово может быть выделен'то один, то другой звуковой комплекс.
В новое время графическое изображение и выделение в отдельное
слово звукового комплекса устанавливается произвольно — по
большей части по соображениям удобства и потребностей
грамматической морфологии. «Ход» есть отдельное слово, также «пароход»,
также «белый-пароход», также «болыпойбелыйпароход», также «явижу-
болыпойбелыйпароход» и т. д. Синтаксическая «связь слов» есть
также слово, следовательно, речь, книга, литература, язык всего мира,
вся культура — слово. В метафизическом аспекте ничто не мешает и
космическую вселенную рассматривать как слово. Везде
существенные отношения и типические формы в структуре слова — одни.
Графически слово может изображаться сложною и простою
системою знаков. Пиктография и граммография имеют свою историю.
Графический знак всегда может быть заменен звуковым. Даже такой
графический знак, как свободный промежуток между двумя
написанными, нарисованными или напечатанными «словами» —
«пробел», — может быть заменен звуковым комплексом или звуковою
паузою, которые могут принять на себя любую функцию знака, в
том числе и слова, т. е. осмысленного, со значением знака. Теория
слова как знака есть задача формальной онтологии или учения о
предмете, в отделе семиотики.
Слово может выполнять функции любого другого знака, и любой
знак может выполнять функции слова. Любое чувственное
восприятие любой пространственной и временной формы, любого объема
и любой длительности может рассматриваться как знак и,
следовательно, как осмысленный знак, как слово. Как бы ни были
разнообразны суппозиции «слова», специфическое определение его
включает отношение к смыслу.
В
Под структурою слова разумеется не морфологическое,
синтаксическое или стилистическое построение, вообще не «плоскостное»
его расположение, а, напротив, органическое, вглубь: от чувственно
воспринимаемого до формально-идеального (эйдетического)
предмета, по всем ступеням располагающихся между этими двумя
терминами отношений. Структура есть конкретное строение, отдельные
Эстетические фрагменты
715
части которого могут меняться в «размере» и даже качестве, но ни
одна часть из целого in potentia но может быть устранена без
разрушения целого. In actu некоторые «члены» могут оказаться
недоразвившимися, в состоянии эмбриональном, или дегенерировавшими,
атрофированными. Схема структуры от этого не страдает. Структура
должна быть отличаема от «сложного», как конкретно разделимого,
так и разложимого на абстрактные элементы. Структура
отличается и от агрегата, сложная масса которого допускает уничтожение и
исчезновение из нее каких угодно составных частей без изменения
качественной сущности целого. Структура может быть лишь
расчленяема на новые замкнутые в себе структуры, обратное сложение
которых восстанавливает первоначальную структуру.
Духовные и культурные образования имеют существенно
структурный характер, так что можно сказать, что сам «дух» или
культура — структурны. В общественном мире структурность — внешне
привходящее оформление. Само вещество принципиально лишено
структуры, хотя бы состояло из слагаемых, структурно
оформленных. Масло, хлеб, воск, песок, свинец, золото, вода, воздух. Дух
принципиально невеществен, следовательно, не допускает и
соответствующих аналогий. Воздух приобретает формы лишь в «движении»
(«дух»), вода — в течении, в сосудах и т. д. Структурны в
вещественном мире лишь оформленные образования — космические,
пластические, органические, солнечная система, минеральный кристалл,
организм. Организм есть система структур: костяк, мышечная
система, нервная, кровеносная, лимфатическая и т. п. Каждая структура в
системе сохраняет свою конкретность в себе. Каждая часть
структуры — конкретна и остается также структурою, пока не рассыпется и
не расплавится в вещество, которое, хотя также конкретно, но уже
не структурно.
В структурной данности все моменты, все члены структуры
всегда даны, хотя бы in potentia. Рассмотрение не только структуры в
целом, но и в отдельных членах требует, чтобы никогда не
упускались из виду ни актуально данные, ни потенциальные моменты
структуры. Всякая структурная форма рассматривается актуально и
потенциально полною. Актуальная полнота не всегда дана explicite.
Все имплицитные формы принципиально допускают экспликацию.
Применительно к слову особенно важно помнить об этом. Так, энти-
мема потенциально и implicite содержит в себе силлогизм со всеми
716
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
его структурными членами; теория сжимается в формулу;
математическая форма содержит не только потенциальные отношения,
раскрывающиеся в актуальных количественных измерениях, но также
имплицирует приводящий к ней алгоритм; предложение in potentia
есть система выводов и implicite — заключение силлогизма; понятие
(терминированное слово) — in potentia, а также implicite —
предложение; метафора или символ — implicite система тропов и in
potentia — поэма и т. д.
2
Exempla sunt odiosa359
II
1
А
Слово, как сущая данность, не есть само по себе предмет
эстетический. Нужно анализировать формы его данности, чтобы найти в
его данной структуре моменты, поддающиеся эстетизации. Эти
моменты составят эстетическую предметность слова. Психологи не раз
пробовали начертать такую схему слова, в которой были бы
выделены члены его структуры (ср. попытки Мессера, Мартинака и
подобных; наиболее интересна Эрдманна «Erkennen und Verstehen»). Но
они преследовали цели раскрытия участвующих в понимании и
понятии психофизических процессов, игнорируя предметную основу
последних. Вследствие этого вне их внимания оставались те
моменты, на которых фундируются, между прочим, и эстетические
переживания. Если психологи и наталкивались на эстетические
«осложнения» занимавших их процессов, этот эстетический «чувственный
тон» прицеплялся к интеллектуальным актам, как загадочный
привесок, рассмотрение которого отсылалось «ниже». «Ниже»
эстетическое «чувство» обыкновенно опять «объяснялось» без всякого
предметного основания и без предметной мотивировки.
Возьмем слово, как мы его воспринимаем, слышим от нашего
собеседника N, нечто нам сообщающего, «передающего».
Безразлично, желает он вызвать в нас эстетический эффект или таковой
вызывается помимо его сознательного желания. Если бы вместо
Эстетические фрагменты
717
этого мы взяли нами самими произносимое слово или «внутренне»
данное как препирательство с самим собою, мы нашли бы его менее
«связным», его назначение и роль как сообщения была бы не столь
ясна, но в своих предметных свойствах это слово существенно не
отличалось бы от слова, слышимого из уст N. Особенно был бы
затруднен анализ такого примера тем, что в поле внимания все
время вторгались бы условия, причины и поводы возникновения этой
внутренней речи, т. е. вся генетическая обстановка речи, интересная
для психолога, но иррелевантная для предметного анализа.
Услышав произнесенное N слово, независимо от того, видим мы
N или нет, осязаем его или нет, мы умеем воспринятый звук
отличить, (1) как голос человека — от других природных звуков,
воспринять его как общий признак человека, (2) как голос N — от голоса
других людей, как индивидуальный признак N, (3) как знак особого
психофизического (естественного) состояния N, в отличие от
знаков других возможных состояний его или какого-либо другого
человека. Все это — функции слова естественные, природные, в
противоположность социальным, культурным. До сих пор слово еще ничего
не сообщает; сам N есть для нас «животное», а не член, in potentia
или in actu сознаваемого, общежительного единства.
Далее (само собою разумеется, что эта последовательность
не воспроизводит временного эмпирического ряда в развитии и
углублении восприятия), — мы воспринимаем слово как явление
не только природы, но также как факт и «вещь» мира культурно-
социального. Мы воспринимаем, следовательно, слово (4) как
признак наличности культуры и принадлежности N к какому-то менее
или более узко сознаваемому кругу человеческой культуры и
человеческого общежития, связанного единством языка. Если оказывается,
что язык нам знаком, каковая знакомость также непосредственно
сознается, то мы его (5) узнаем как более или менее или совершенно
определенный язык, узнаем фонетические, лексические и
семасиологические особенности языка и (6) в то же время понимаем
слышимое слово, т. е. улавливаем его смысл, различая вместе с тем
сообщаемое по его качеству простого сообщения, приказания,
вопроса и т. п., т. е. вставляем слово в некоторый нам известный и нами
понимаемый смысловой и логический номинативный (называющий
вещи, лица, свойства, действия, отношения) контекст. Если, кроме
того, мы достаточно образованны, т. е. находимся на соответствую-
718
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
щей ступени культурного развития, мы (7) воспринимаем и,
воспринимая, различаем условно установленные на данной ступени
культуры, формы слова в тесном смысле морфологические («морфемы»),
синтаксические («синтагмы») и этимологические (точнее,
словопроизводственные). Ясно, что в специальной научной работе может
случиться и случается, как во всем известных примерах
расшифровки древних надписей или как при расшифровке криптограмм, — что
пункт (7) выполняется «до» (6) или независимо от него. (Случаи
отступления от намечаемой типической схемы по каждому пункту так
многочисленны и очевидны, что оговаривать их в этом беглом
обзоре надобности нет.)
В
Особняком стоит еще один момент восприятия слова, хотя и
предполагающий восприятие слова в порядке культурно-социальном,
т. е. предполагающий понимание слова, тем не менее, как факт
естественный, сам лежащий в основе человеческого {и животного)
общения. Это есть (8) различение того эмоционального тона, которым
сопровождается у N передача понимаемого нами осмысленного
содержания «сообщения». Мы имеем дело с чувственным
впечатлением (Eindruck) в противоположность осмысленному выражению
(Ausdruck), с со-чувством с нашей стороны в противоположность
со-мышлению. Тут имеет место «понимание» совсем особого рода —
понимание в основе своей без понимания, — симпатическое
понимание. Здесь восприятие направлено на самое личность N, на его
темперамент и характер, в отличие от характера и темперамента
других людей, и на данное его эмоциональное состояние, в
отличие от других его прошлых или вообще возможных состояний. Это
есть восприятие личности N, или персонное восприятие и
понимание. Оно стоит особняком, носит природный характер и
возвращает нас к (3). Только теперь восприятие эмоционального состояния N
связывается нами не просто с психофизическим состоянием N, a с
психофизическим состоянием, так или иначе приуроченным нами
к его личному пониманию того, что он сообщает, и его личному
отношению к сообщаемому, мыслимому, называемому, к экспрессии,
которую он «вкладывал» в выражение своей мысли. Не нужно
суживать понятие со-чувства, син-патии, и предполагать, что всякий
сочувственный отклик на чувства N есть отклик того же непременно
Эстетические фрагменты
719
качества, отклик «подражательный», «стадный». Речь идет только об
известном параллелизме, корреспонденции — «со», «сип» указывают
здесь только на фактическую и существующую совместность и на
формальное соответствие, где на «да» может последовать и «да», и
«нет», и неопределенная степень колебания между ними, duellum.
Осложненный случай, когда N скрывает свое душевное
состояние («волнение»), подавляет, маскирует, имитирует другое, когда N
«играет» (как актер) или обманывает, такой случай вызывает
восприятие, различающее или неразличаюшее, в самом же
симпатическом и интеллектуальном понимании, игру и обман от того, что
переживает N «на самом деле». Получается интересная своего рода
суппозиция, но не в сфере интеллектуальной, когда мы имеем дело
со словом о слове, с высказыванием, сообщением, смысл которых
относится к слову, а, в параллель интеллектуальной сфере, в сфере
эмоциональной. Здесь не «значение» налезает на «значение», а «со-
значение» — на «со-значение», синекдоха (не в смысле
риторического тропа; а в буквальном значении слова) на синекдоху. Можно
сопоставить это явление также с настиланием символического,
иносказательного вообще смысла или смыслов на буквальный — своего
рода эмоциональный, respective, экспрессивный символизм,
которого иллюстрацией, например, может служить условность
сценической экспрессии. Такой случай весьма интересен в особенности еще
и потому, что есть один из случаев перебоев естественного и
искусственного, «природы» и «искусства». Он очень важен, следовательно,
при анализе эстетического сознания, но не составляет
принципиально нового момента в структуре слова.
Возможно также «осложнение» другого типа: N сообщает о
своем собственном эмоциональном состоянии — особенно об
эмоциональном состоянии, сопровождающем высказывание, тогда его
состояние воспринимается (а) как смысл или значение его слова, по
пониманию, и как (б) со-значение, по симпатическому пониманию,
(а) и (б) в таком случае — предметные данности разных порядков:
(а) относится к (6), (б) — к (8).
Возможны еще более запутанные и занятные осложнения и
переплетения. Нужно, тем не менее, всегда тщательно различать
предметную природу фундирующего грунта от фундируемых наслоений,
природу слова как выражения объективного смысла, мысли, как
сообщения того, что в нем выполняет его прямое «назначение», его
720
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
έργον от экспрессивной роли слова, от его πάρεργον, от
субъективных реакций на объективный смысл*. Как чумы или глупости надо
поэтому бояться и остерегаться в особенности теорий,
похваляющихся «объяснить» одно из другого, «происхождение» смысла
разумного слова из бессмысленного вопля, «происхождение» понимания
и разума из перепуганного дрожания и ослабленной судороги про-
тоантропоса. Такое «объяснение» есть только занавешивание
срамной картинки голого неведения.
2
Приведенное расчленение восприятия слова только
приблизительно намечает самые общие контуры его структуры. Каждый
член ее — сложное переплетение актов сознания. Распутать эти
узлы остается открытою проблемою принципиального анализа.
Обратимся к установлению также приблизительной,
резюмирующей схемы соответствующего воспринимаемому чистого
предметного остова словесной структуры, насколько это нужно для
последующего.
Оставляя в стороне предметность слова «природную»,
сосредоточимся на том моменте, когда мы признаем в нем некоторую
«вещь» порядка культурно-социального и исторического. Слово
по-прежнему остается некоторою чувственно-эмпирическою,
чувственно воспринимаемою данностью, но теперь наряду с чистыми
формами сочетания в нем чувственных качеств (Gestaltqualität, the
form of combination) мы различаем новые формы сочетания как бы
служебного значения. Повторяющиеся сочетания связываются уже
со «значениями» каким-то неизвестным, подлежащим
исследованию образом. (Утверждение, будто эта связь есть связь так
называемой «ассоциации», по меньшей мере, поверхностно — оно просто
теоретично, и, как всегда, гипотеза прикрывает незнание и лень
узнать.) Изучая эти формы сочетания, мы убеждаемся, что они или
по преимуществу определяются естественными же
(психофизическими) законами и соотношениями, несмотря на то, что «связаны
* К уяснению терминов, которыми я пользуюсь в вышеизложенном, ср. мою
статью «Предмет и задачи этнической психологии» в «Психологическом
Обозрении. (1916.1—IV), и во Введении в этническую психологию (Вып. I. СПб.:
Колос, 1921).
Эстетические фрагменты
721
со "значениями"», или, напротив, они определяются изменениями
самих значений и внутренними отношениями значащего
содержания. Этим общим направлениям меняющих формы тенденций не
противоречит то, что первые формы иногда испытывают влияние
со стороны вторых, связанных со значением [в особенности при
оформлении неартикулированного вздоха (ορμή) в
артикулированный (εναρθος) и потому также έγγάμματος], а вторые могут
модифицироваться под давлением феноменов психофизического
характера. Не следует также думать, что второго рода формы «связаны» со
значением так, что сами являются «словами», т. е. прямо являются
носителями смысла. Такова только та группа этих форм, которая
получила название форм корневых. Другая группа — форм
приставочных — может быть носителем смысла (например, в китайском — ci,
ce, so, tï etc. частью в агглютинирующих), но эти формы могут быть
и просто «характерами» или «характеристиками», синсемантиками,
потерявшими самостоятельный смысл, но «осмысленными» в другом
значении: в значении примет, указывающих на отношения, так
сказать, внутри смысла, внутри содержания и его собственных
логических, синтаксических и онтологических форм.
В интересах ясности различения и во избежание указанной эк-
вивокации слова «смысл», следует тщательно наблюдать за тем, идет
речь о самодовлеющей звуковой форме самого значения (смысла)
или о служебно-грамматическом значении (роли) этой формы. Эти
формы, корневые и приставочные, и суть преимущественно
морфологические в тесном смысле формы; первые же формы, в своей
формальности не обусловленные и не мотивированные смыслом,
суть формы сочетания фонетические. Нетрудно видеть, что
фонетические формы в общем до такой степени свободны от подчинения
законам смысла, что влияние на них последнего, в общем же,
можно игнорировать. Это важно признать принципиально, потому что
если в частности иногда и констатируется более тесная связь
значения и фонемы, то из этого не следует, что между ними есть
отношение, позволяющее строить общие гипотезы о натуральной связи
фонемы со значением, ссылаясь, например, на звукоподражательное
образование слов, на экспрессивно-эмоциональную роль звуков
и т. п. Напротив, морфема, как звуковое образование, будучи
всецело подчинена законам фонетики, не без труда освобождается и от
давления смысла. Она может до известной степени, как лава, затвер-
722
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
деть и сковать собою смысл, но он под ее поверхностью клокочет и
сохраняет свой пламень. Исторические и археологические раскопки
раскрывают его динамику и движение, но иногда и просто удачное
применение слова — особенно в поэтической речи — напоминает
нам о живом духе, бьющемся под окаменевшими морщинами
морфемы. Приставочные морфемы окаменевают «скорее» и
безнадежнее, их смысловое одушевление рассеивается и как бы
атрофируется, вследствие чего их роль и сводится преимущественно к роли
примет и характеристик.
Таким образом, фонема в силу своей прямой причастности
природе и независимости от смысла еще не конструирует слова как такого.
Что касается морфемы, то если ей и можно приписать такую
способность, то, как ясно из предыдущего, только в силу ее более интимной
связи со смыслом (мыслью) как таким. Морфема — первая ступень
от чувственного к мысленному, верхнее платье смысла, первая точка
опоры для рычага понимания. Но, чтобы она была такой, чтобы она
была первою ступенью, нужно, чтобы она не была единственною,
чтобы она была слита в одно целое с последующими ступенями,
чтобы она была включена в контекст подлинных и непосредственных
форм самого смысла как такого. Не только, как примета,
приставочная морфема, но и корневая морфема, вообще морфема, чтобы
преодолеть свою статичность, должна быть членом контекста,
динамические законы которого конструируются по формам синтаксическим и
логическим. Это самоочевидно, но об этом нужно напомнить, чтобы
сделать вывод, вынуждаемый этою самоочевидностью.
Дело в том, что применение термина «значение» к тому, что
«обозначается» изолированным, не в контексте взятым словом,
как вытекает из сказанного, неточно. Изолированное слово,
строго говоря, лишено смысла, оно не есть λόγος Оно не есть слово
сообщения, хотя и есть уже средство общения. Полезно припомнить
и поставить в параллель с этим различением различение стоиков
между λόγος и λέξις, где логос — звук с осмысленным значением, а
лексис — только членораздельный звук (иначе, чем у Аристотеля, у
которого лексис — всякое высказывание, утвердительное,
приказывающее, молитвенное и прочее). Соответственно, и то, что
«обозначается», «указывается», есть не «смысл» (не ενοια), a λεκτόν (dicibile).
В точном смысле dicibile ничего не «значит», оно может только
«относиться», «указывать на», «называть» вещь (res).
Эстетические фрагменты
723
Если здесь можно говорить о «значении», то не об «осмысливающем
значении», а об указывающем и номинативном. Значение должно быть
сопоставляемо здесь не со смыслом, а с замыслом, намерением,
некоторою целью. Слою здесь — только средство, орудие, инструмент,
которым в передаче смысла сообщения можно воспользоваться в самых
разнообразных направлениях и многочисленными способами.
«Значение» здесь — в возможности им пользоваться, применять его,
значение прагматическое, а не поэтическое и познавательное. Им можно
воспользоваться для сообщения, но также для приказания, мольбы, во-
прошания и прочего (каковые различения, впрочем, мы в этом
предварительном кратком изложении оставляем в стороне, ибо сообщающая
функция слова не только важнейшая, но и фундирующая остальные).
Таким образом, это «значение» слова также следует отличать от
смысла, как отличается значение-смысл и от значения-важности.
В таком виде, т. е. как номинативная возможность, слово помещается
в лексиконы. Словарь не есть, в точном смысле, собрание или
перечень слов с их значениями-смыслами, а есть перечисление имен
языка, называющих вещи, свойства, действия, отношения, состояния,
и притом в форме всех грамматических категорий: субстантивной,
глагольной, препозиционной, любой — все то, следовательно, что
обозначается философским термином res или ens. Лексикон
поэтому и в этом аспекте можно назвать алфавитно-расположенными
«реалиями» (realia). Мы спрашиваем: «что значит pisum?», и отвечаем:
«pisum значит горох», но в то же время спрашиваем: «как по-латыни
или как в ботанике горох?», и отвечаем: «pisum», т. е. собственно в
этом обороте речи подразумевается: «как называется и прочее».
«Горох», следовательно, не есть значение-смысл слова pisum.
Но и дальше, если «предложение» («суждение») определяется
только синтаксической формою, то не все предложения суть λόγοι,
т. е. имеют значение-смысл. Обратно, если предложение
непременно включает в себя смысл, такие словарные словосочетания,
«фразы», как «pisum — горох», «die Stadt — город», не суть предложения.
А фразы типа: «горох есть стручковатое растение» или «горох есть
род растений из семейства бобовых» — должны рассматриваться
то как фразы без смысла («осмысленные» только телеологически
или прагматически), то как предложения (со смыслом), в
зависимости от того, пользуемся (поэтому-то «сами по себе»,
изолированно они и имеют только служебное, инструментальное «зна-
724
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
чение») — мы ими как номинальными (называющими «вещь») и
классификационными определениями, или как объяснительными,
например, предложениями, одушевляющими фразу смыслом через
«включение» вида в род. То или иное применение фразы
определяется опять-таки контекстом. Простейший способ создать
контекст будет, например, сказать; «"Горох есть стручковатое растение"
есть номинальное определение», каковой оборот в практике речи
сплошь и рядом просто «подразумевается». Тогда сразу понятно
(если новая фраза не есть опять номинальное определение,
которое можно таким образом спускать ad infinitum), почему фраза
«горох есть стручковатое растение» лишена смысла, — это есть
просто лексис.
В некоторых герменевтиках предлагалось говорить о
«значении» слова, когда оно помещено в лексиконе или берется
изолированно, и о «смысле» — в связной речи. Это и непрактично и
теоретически необоснованно, потому что «значение» как термин
с его разными смыслами — не только омоним, но и модус суп-
позиции. Мы будем различать номинативную функцию слова,
respective, номинальную предметность слова, и функцию
семасиологическую, respective, смысловую предметность. Nomen, название
как такое, есть эмпирическая, чувственно-воспринимаемая вещь.
Оно есть знак, Signum, связанный с называемой вещью не в акте
мысли, а в акте восприятия и представления. Если угодно, можно
назвать эту связь ассоциативною, не для «объяснения», а для того,
чтобы у называемого факта, «вещи» было свое «название»,
«указывающее» на то, что эта связь не связь мышления, respective,
суждения, а связь автоматически-чувственная. Ее может «устанавливать»,
«переживать», испытывать и субъект не-мыслящий, например,
животное (если оно есть существо не-мыслящее). Вещь, например,
зрительно и осязательно данная (топор, этот человек)
ассоциативно связана с вещью, данной слуху (со звуками: «топор», «Алексей»).
Ассоциация — по смежности, в редких случаях — по сходству (ку-
ку — кукушка). Таким образом, слово как средство, орудие, в его
номинативной функции есть просто чувственно-воспринимаемая
вещь, вступающая в чувственно-воспринимаемую связь с другою
чувственно-воспринимаемою вещью. Нужно ли добавлять, что в
номинативном (не номинальном) предложении или суждении, в
которое номинация входит как подлинный смысл, как семасио-
Эстетические фрагменты
725
логическое одушевление, мы уже имеем дело с другой функцией
слова — с другой ступенью и с другим предметным моментом в
структуре самого слова.
Оставляю в стороне другие образования и суппозиции слова в
его номинативном качестве, хотя они весьма интересны и для
полного учета эстетических свойств слова нужны и поучительны.
Например, «горох и прочее» служил мне в моем изложении
«примером», т. е. опять новое прагматическое, но не смысловое «значение»
слова, новая прагматическая суппозиция; или почему я взял в
пример «горох»? — потому что, например, надоело замызганное в
логиках и психологиках «яблоко», а может быть, и по более сложным и
«глубокомысленным» соображениям, может быть, по случайной
ассоциации, и т. п. — все это психологическое, «личное», субъективное
обрастание, ek parergon, но не вокруг смысловой, а около той же
номинативной функции слова, направленной на вещно (res)
предметный момент словесной структуры. Все эти «субтильности» требуют
особой и специальной работы. Моя задача — только самая общая,
минимальная схема.
3
А
Дальше как будто легче; эквивокаций и омонимов не меньше, но
разобраться в них проще, и их отношения нагляднее и яснее,
потому что от чувственного переходим к умственному.
Когда мы слышим из уст N слово, которое воспринимаем как
номинальный знак вещи, мы не только обращаемся к этой вещи —
наличной или вспоминаемой. Бывает, что и вещи этой нет налицо, и
не вспоминается ничего конкретно-определенного (если еще сама
вещь конкретна) или мы даже и не знаем, какая определенная вещь
названа. Собственно даже, если нет прямого указания (например,
указательным пальцем, тростью и т. п.), которое может дать повод к
возникновению у нас приблизительно такого представления вещи,
какое имеется у N, то мы никогда не знаем, какую именно вещь
называет N, какое у него представление ее и о ней. Сам N, называя
вещи, если он пользуется не только собственными, но и
нарицательными именами, называет их неопределенно, т. е. и он это делает и
нас заставляет относить названия к целому ряду, к группе или мно-
726
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
жеству вещей; так что и для него и для нас с точки зрения познания
и понимания безразлично, какая вещь будет представлена.
Существенно только то, что N, называя, и я, слыша слово-название, будем
подразумевать под словом одно и то же. Это есть предмет, о
котором идет речь, о котором высказывается «слово». При всем
многообразии потенциально называемых вещей, они относятся к одному
формальному единству — онтическому, или единству предмета. По
своим формальным качествам и по отношению к другим предметам
предмет характеризуется как род, вид, класс и т. п. Предмет может
быть также конкретным, абстрактным, коллективным,
вещественным (масло, кислород и т. п.) и т. д.
В структуре слова — новый предметный момент, не чувственного
восприятия, а умственного, интеллектуального. Слово теперь
относится не к чувственной, а к интеллектуальной данности. Слово
указывает теперь на нечто, презентирующее, достигаемое не по
указательному персту, не по чувственной, а по интеллектуальной
интуиции. То, на что теперь указывает слово, подразумевается под ним,
под словом подразумевается предмет. Его подразумевает N, и его
подразумеваем мы; он его «имеет в виду», и мы его «имеем в виду».
Подразумевание и подразумеваемое не надо смешивать с
уразумением и уразумеваемым, что относится уже к смыслу, к
семантическим функциям и к семантической предметности (не онтической
и формальной, не рассудочной, а «материальной», разумной).
Подразумевание — не понимание, а только понятие, как понятие,
схватывание, объятие, конципирование, имение в виду. Ничего — о
содержании и значении-смысле, только об объеме и форме — если и
о значении, то только в смысле «места» в какой-то формальной же
системе.
Говорим: «подразумевается» — не субъектом-лицом, не N, не
«нами», а самим словом и в самом слове. «Подразумевается» то, к
чему слово относится «само», абсолютно независимо от
высказывающего, переживающего, от N веселого или грустного, N скучного
или озорника, N скептического или цинического, N лгуна или
невежды.
«Предмет» подразумеваемый есть только некоторый пункт
внимания, «нечто», задаваемая тема. Выполнение, осуществление (по
содержанию), разработка темы есть дело дальнейшее,
предполагающее новые данности, новые функции, новые углубления и «ступе-
Эстетические фрагменты
111
ни». Предмет только вопрос, даже загадка, X, условия для раскрытия
коего еще должны быть даны и постигнуты какими-то другими
способами.
Говорят, что под словом или за словом подразумевается
«понятие». Можно, конечно, — лишь бы под понятием подразумевался
«предмет» как он характеризован, а не «представлялось»
«переживание». Лучше, во избежание этой передержки, называть
понятием само слово в его форме терминированной, в отличие от формы
«обыденного» и «поэтического» словоупотребления, и в его функции
именно понятия, как по-ятия, конципирования, подразумевания.
Понятие, тогда, есть слово, поскольку под ним нечто (предмет)
подразумевается.
Часто смешивают «предмет» и «вещь». И действительно, вещь есть
предмет реальный, и предмет есть вещь идеальная. Но именно эти
терминирующие эпитеты: реальный и идеальный, показывают
направление, в котором их нужно различать. Всякая действительно,
эмпирически, реально существующая вещь, реальное лицо,
реальное свойство, действие и т. п. суть вещи. Предметы — возможности,
их бытие идеальное. Сказать, например, что число π есть «вещь
математическая», не бессмысленно, если только подразумевать:
число π, -1, i или эллипсоид, псевдо-сферическая поверхность и т. д.
суть «вещи идеальные», только возможные (по принципу
противоречия), мыслимые. Очевидно — злоупотребление терминами в
метафизике, когда «идеальная вещь», возможная, мыслимая,
объявляется вещью «реальной». Реализация идеального, как сказано, сложный
процесс раскрытия смысла, содержания — перевод в эмпирическое,
единственно действительное бытие, — а не пустопорожнее гипоста-
зирование, т. е. со стороны предметной — взращивание капусты в
облаках, со стороны функций — шлепанье губами.
Но именно потому, что предмет может быть реализован,
наполнен содержанием, овеществлен, и через слово же ему будет сообщен
также смысл, он и есть формальное образующее начало этого
смысла. Предмет группирует и оформляет слово как сообщение и как
высказывание вообще. Он держит и себе содержание, формируя его со
стороны семасиологической, он «носитель» смысла, и он
переформирует номинальные формы, скрепляет их, утверждает, фиксирует.
Если бы под словом не подразумевался предмет, сковывающий и
цементирующий вещи в единство мыслимой формы, они рассыпались
728
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
бы под своим названием, как сыпется с ладони песок, стоит только
сжать наполненную им руку.
Предмет есть подразумеваемая форма называемых вещей,
конкретная тема, поскольку он извлекается из-под словесно-
номинальной оболочки, но не отдирается от нее. И предмет есть
сущий (в идеальной возможности) носитель свойств, качеств,
существенных, атрибутивных, модальных, поскольку он берется
отвлеченно от словесного своего обличия, от словесного знака его
идеального достоинства. Предмет есть объект и субъект вместе; он есть
формально и materia circa quam, и materia in qua. И только materia ex
qua дается не через подразумевание, а через новую функцию в
восприятии слова.
Сфера предмета есть сфера чистых онтологических форм, сфера
формально-мыслимого.
В
Было сказано, что N, называя «вещи», подразумевает под
названием «предмет», «схватывает» его, «постигает», «ймет» или «объ-
емлет», «конципирует». А за N то же делаем и мы, воспринимая
«название». Может показаться, что «подразумевание» и «конципирова-
ние» — акты не обоюдные в данном случае, а лишь взаимные:
например, N «подразумевает», а мы «конципируем». Чтобы не создавать из
этого ненужного затруднения, достаточно только сослаться на то,
что N, называя нечто нам, тем самым называет его и для себя и
только с этого момента и начинает «подразумевать» и «конципировать».
Следовательно, акты эти, действительно, обоюдные, а не взаимные.
Но есть в этом сомнении другая, более интересная, сторона. Если
подразумевание идет через название, то не является ли конципиро-
вание чистым постижением предмета? Или, обратно, быть может,
конципирование возможно только через название, а
подразумевание может быть и чистым?
Это — вопрос о чистом предмете, как чистом мыслимом. Его
запутали с двух сторон, и запутывают еще больше, когда хотят для
обеих сторон непременно однородного решения. Чистота предмета
есть (а) чистота от чувственного содержания, (б) чистота от
словесной формы (или формулы).
(а) Как мыслимый он конечно и необходимо должен быть чист
от чувственного, в противном случае мы должны были бы допустить,
Эстетические фрагменты
729
что мы и мыслим чувственно, т. е., примерно, бодрствуя спим.
Логически ясное расчленение запутывают, однако, генеалогическим
любопытством.
И чем бы современные мудрецы отличались от костлявых
логиков — потому что им мало отличать себя от обычных смертных, —
если бы они не вопрошали о «происхождении»? Образуется порода
людей, завинчивающих свое глубокомыслие на том, чтобы не
понимать, что говорит N, пока им неизвестно, каких родителей N сын,
по какому закону он воспитан, каковы его убеждения и прочее. Беда в
том, что и тогда, когда они все это знают, они все-таки ничего не
понимают, потому что их всегда раздирает на крошечные части
сомнение, не лжет ли правдивый N в данном случае и не говорит ли правду
лгун M в этом случае? В результате выходит, например, что никогда
нельзя понять Гамлета, потому что неизвестно, верил Шекспир в
Бога, когда сочинял свою пьесу, или не верил, пил он в то время
Лиссабонское или простой стаут, предавался любостяжанию или
смирялся душою, каялся и ставил свечки за упокой безвременно усопших
любостяжателей. Или, на другой пример, вы думаете, что мчатся тучи,
закружились бесы, и значит, что бесы мчатся и вьются, но это только
ваша наивность, никаких бесов в природе не бывает, и генетическое
глубокомыслие раскрывает вам глаза на истину — то — теща
(родилась в таком-то году) утомленного (причины неврастенические)
поэта (кровь — направления по компасу ЮЮВ) шелестит над его
ухом (любил Моцарта, не понимал Баха) неоплаченными (на сумму
40000 рублей ассигнациями) счетами (фирмы и их адреса).
Логика понимания «из происхождения» — та же, что в
аргументе, который пишущему это пришлось слышать от одного близкого
ему юного существа, изобразившего в диктанте «щепку» через «ять»
и мотивировавшего это тем, что «щьпка происходит от полъна».
Оставляя в стороне, по причине их вздорности, все теории
происхождения, в том числе и теорию происхождения мысли из
чувства, признаем, что поводом для мысли является вес же именно
чувственно данное. Оно — трамплин, от него мы вскидываемся к
«чистому предмету». Там мы ходим как по вершинам гор — не нужно
смотреть вниз, иначе начинается головокружение. Некоторые
считают, что нельзя все-таки вовсе отвязаться от чувственных приправ
представления, и ссылаются на «переживания» (например,
американский психолог Титченер). Отдадим им этот жизненный префе-
730
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ране «богатого воображения», все же приправа не есть существо, и
мысль остается мыслью, независимо от того, подается к ней соя или
не подается.
(б) Другое дело — предмет чистый от словесного субстрата.
Нельзя этот вопрос решать по аналогии с первым. Оттолкнувшись
от трамплина, мысль должна не только преодолевать вещественное
сопротивление, но им же и пользоваться, как поддерживающей ее
средою. Если бы она потащила за собою весь свой вещный багаж,
высоко она не взлетела бы. Но также ни в абсолютной пустоте, ни в
абсолютной бесформенности, т. е. без целесообразного
приспособления своей формы к среде, она удержаться в идеальной сфере не
могла бы. Ее образ, форма, облик, идеальная плоть есть слово.
Без-чувственная мысль — нормально; это — мысль,
возвысившаяся над бестиальным переживанием. Без-словесная мысль —■
патология; это — мысль, которая не может родиться, она застряла в
воспаленной утробе и там разлагается в гное.
Поэт, понимавший, что такое мысль, лучше многих
«мыслителей» и знавший силу слова, утверждал: «я не верю, чтобы какая-
либо мысль, справедливо так называемая, была вне пределов речи»
(Эдгар По). Он ошибался только в том, будто мысли
«укладываются» в речь, как новорожденный пеленается, а родятся они, значит,
голыми. Слова — не свивальники мысли, а ее плоть. Мысль
рождается в слове и вместе с ним. Даже и этого мало — мысль
зачинается в слове. Оттого-то и нет мертворожденных мыслей, а только
мертвые слова; нет пустых мыслей, а только — пустые слова; нет
позорных мыслей, а только — позорные слова; нет потрясающих
мир мыслей, а только — слова. Ничтожество, величие, пошлость,
красота, глупость, коварство, бедность, истина, ложь, бесстыдство,
искренность, предательство, любовь, ум — все это предикаты слов,
а не мыслей, т. е., разумею, предикаты конкретные и реальные, а не
метафорические. Все качества слова приписываются мысли лишь
метафорически.
Строго и серьезно, без романтических затей — бессловесное
мышление есть бессмысленное слово. И на земле, и на водах, и на
небе всем правит слово. Логика, т. е. наука о слове, есть величайшее
могущество на земле и в небесах. Алогизм как система —
умственный атеизм; алогист — пустая душа, лишенная чувства словесной
благодати. Алогизм как переживание — наказание, налагаемое отри-
Эстетические фрагменты
731
цаемым богом за преступление против него; алогист — в
прогрессивном параличе мысли, как следствии легкомысленного его
словесного нецеломудрия. Смирительная рубашка логики — мучительный
алогиста бред!
Вывод из всего сказанного короткий: чистый предмет, как
предмет мыслимый, будучи рассматриваем вне словесной формы своей
данности, есть абстракция. Конкретно он дан нам только в
словесной логической форме. Разумеется, это не мешает устанавливать
конкретные отношения, так сказать, внутри формальных онтиче-
ских образований как членов целого, подобно тому, как ничто не
мешает рассматривать как конкретные формообразования
геологическое строение земли и после того, как мы отвлекаемся от ее
флоры и фауны. Земля без ее флоры и фауны есть отвлеченная земля по
своему бытию, но для рассмотрения она конкретная связь
конкретных членов. Чистый предмет — член в структуре слова. Вынутый из
слова, он — часть целого и постольку сохраняет конкретность, но
своей жизни вне слова он не имеет, и постольку он —
отвлеченность.
Беря «предмет» в структуре слова, мы признаем в нем форму и
формообразующее начало того вещественного содержания, которое
N называет, именует. Наименованием это же содержание
оформляется с другой стороны, фонетической, сигнификационной. Оно
вкладывается в рамки определенной морфемы. Из этого следует то,
что явно и само по себе. Между формами онтическими (вместе с
оформленным содержанием) и между формами морфологическими
(с их содержанием, которое то же, что и у онтических форм)
вклинивается как система отношений между ними сплетение новых
форм, именно форм логических. В понимании того, что говорит N,
на них теперь и сосредоточивается умственное наше напряжение.
В эти новые формы для нас теперь целиком и переливается все
содержание того, что сообщает N, и мы следим — «замечаем», где-то
на втором плане сознания отмечаем — за колебаниями морфем и
онтических форм лишь постольку, поскольку перемены в них
модифицируют логические формы самого смысла. Когда мы вновь
переносим на них удар внимания или они сами вынуждают нас к тому
своей «неожиданной неправильностью», гротескностью, уродством
или, наоборот, неожиданно чарующей прелестью, мы теряем
равновесие «понимания», и смысл как такой ускользает от нас.
732
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Необходимо подчеркнуть, однако, что, конципируя чисто
логические формы, мы их не только конципируем. Ибо, говоря тут же
о понимании в собственном смысле, мы хотим сказать, что мы
понимаем вместе с конципированием, но не всецело через него. Если
бы мы только конципировали, мы получали бы только «понятия»,
концепты, т. е. схемы смысла, русло, но не само течение смысла по
этому руслу. Тот, кто принимает концепты, «объемы» мысли за самое
мысль, за «содержание», тот именно не понимает и, чтобы скрыть
собственную растерянность перед своим неразумием, кричит на
весь мир, что его надувают, что логика, пообещав ему могущество и
власть, на деле схватила его за горло, душит, не дает дышать. Его
звали на трон править миром, а посадили в темную кинозалу и
показывают «кинематографические картинки» мира. Но он не Санхо Панса,
оруженосец Дон Кихота, и ему нельзя внушить любой сан, он учился
у Фабра и сам не хочет быть фабером, он творец творческой
эволюции, и он хочет реально переживать эволюцию творчества мира.
Дело не в том, как он себя называет, — название модифицирует наш
концепт его, но не меняет смысла, а по смыслу он все-таки
слабоумный Ксаилун, и желание его есть в действительности желание
Ксаилуна так измениться, чтобы избавиться от побоев своей Оатбхи.
История его изменения известна: придется побывать и в ангелах и
в чертях, но так как Гарун-аль-Рашид — калиф добрый, то все
кончится благополучно... Итак, логические формы как концептивные
формы только абстракция. Они как «чистые» формы отвлечены от
собственного содержания. В этом «чистом» виде они, строго говоря,
и не логические, а только логистические — и наука правильно
отличает теперь Логику от Логистики. Поэтому настоящие логические
формы должны мыслиться лежащими между морфемами и онтиче-
скими формами, мыслимыми вместе с их содержанием. Они суть
отношения между морфемами как формами вещного называемого
содержания, и онтическими формами как формами
предметного подразумеваемого содержания. Они сами конкретны как формы
смыслового содержания. Они, следовательно, суть «отношения»,
термины которого: языковая эмпирическая форма слова и
принципиальный идеальный смысл. Как такие они именно и терминируют
изложение, respective, познание, т. е. логически его конструируют.
Логические формы суть формы конструирующие или конструктивные,
созидающие и дающие (id.: «передающие», сообщающие, «воспроиз-
Эстетические фрагменты
733
водящие») в отличие от онтологических — «данных», «созданных» и
только рефлексивных, хотя и конститутивных вещей. Прицепляясь
к гумбольдтовскому формальному определению, я называю
логические формы внутренними формами речи.
Действительно, если признать морфологические формы
слова формами внешними, а онтические формы называемых вещей
условиться называть формами чистыми, то лежащие между ними
формы логические и будут формами внутренними, как по
отношению к первым, так и по отношению ко вторым, потому что и в
этом последнем случае «содержание» предмета есть «внутреннее»,
прикрываемое его чистыми формами содержание, которое, будучи
внутренно-логически оформлено, и есть смысл. Логические формы
суть внутренние формы, как формы идеального смысла,
выражаемого и сообщаемого; онтические формы суть чистые формы сущего и
возможного вещного содержания.
Отсюда-то и возникает такое тонкое соответствие логических
и онтологических форм, что его делают критерием логической
истинности высказываний, с одной стороны, и что оно приводит, с
другой стороны, к сбивчивому распределению задач логики и
онтологии, вследствие чего, например, законы тожества, противоречия
и прочие, то трактуются как законы логические, то как законы
онтологические, само понятие то отожествляется с предметом или его
«сущностью», то с каким-то особым «логическим» умообразованием
и т. д. В действительности, между ними — строгое соответствие, и
всегда возможен перевод с языка логики на язык онтологии и
обратно. Можно было бы составить такой лексикон: предмет — термин,
свойство — признак, род — общий термин, индивид — единичный
термин, положение вещей (Sachverhalt) — положение (Satz),
включение — сказуемость, обстояние — истинность, причинность — ви-
нословность, объективный порядок — метод и т. д., и т. д. Указанная
сбивчивость распределения задач сделала многие термины
тожественными, а другие просто путаются, мешают ходу или
задерживаются, где их, хотя бы незаконно, но гостеприимно приласкают.
Сходный параллелизм терминов можно также частично отметить
и в направлении от логики к грамматике. Недаром учителя
грамматики, серьезно предупредив, что есть разница между логическим
и грамматическим разбором, затем, сообща с юным стадом своим,
пускаются в самые веселые логические авантюры. Не до шуток им
734
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
зато, когда из-под масок логических и грамматических субъектов
начинают вылезать рогатые рожи еще и психологических
субъектов, которых здоровые и трезвые люди никогда и не видели, ни во
сне, ни наяву Психологический «субъект» без вида на жительство и
без физиологического организма есть просто выходец из
неизвестного нам света, где субъекты не живут и физиологических функций
не отправляют. Психологического в таком субъекте — одно
наваждение, и стоит его принять за всамделишного, он непременно втащит
за собою еще большее диво — психологическое сказуемое...
Подчеркиваемое мною соответствие логических и
онтологических форм не нужно все-таки понимать как их полное совпадение.
Онтологические формы — формы всего сущего и всякого
содержания, тогда как логические формы — формы существенного смысла,
следовательно, в методологическом применении, формы
категориально отобранные и отбираемые. Кроме того, онтологические
формы вскрываются уже в номинативной функции слова, в простом
подразумевании, и это сказывается в их спокойном безразличии к
своему содержанию, в их, можно сказать, небрезгливости ко
всякому содержанию. Напротив, логические формы разборчивы,
воспитаны и действуют только при наличии особой санкции — смысловой.
В номинальной функции как такой они еще не содержатся,
требуется особый акт для их самоутверждения. Этот акт есть акт
утверждения или отрицания, акт установления или положения (Setzung).
Вследствие этого положение (Satz) и есть фундаментальная форма,
которая лежит в основе всей логики. Модификации самого слова
как высказывания логически суть модификации положения как
такого. Функция слова здесь, в отличие от его номинативной функции,
должна быть названа устанавливающей (ср. выше о «конструкции»),
полагающей или, по крайней мере, предицирующей.
Соответственно, можно сказать, что внутренняя логическая форма слова так же
отличается от чистой онтической, как предикативная функция слова
в целом — от его номинативной функции, также в целом.
Специальное развитие намеченного здесь только в самых общих
чертах есть уже изложение самой логики, как я ее понимаю и
определяю, т. е. как науки о слове (логосе), именно о внутренних формах
словесного выражения (изложения).
Примечание. Собственно, называние, как также установление
(Setzung), где предикатом служит имя, формально есть уже логиче-
Эстетические фрагменты
735
екая функция. Только поэтому и возможно, что наименование есть
не просто чувственный акт (например, ассоциативная связь двух
чувственных комплексов, восприятий или представлений), а акт
умственный — подразумевание. Особенность наименования как
предикации — в том, что предметность предиката здесь не вещная, а
именно номинативная. (Ср. к этому нижеследующие замечания об
онтическом характере синтаксических форм.)
С
α
Определение «слова», из которого я исхожу, обнимает всякое, как
автосемантическое, так и синсемантическое языковое явление. Это
определение настолько широко, что оно должно обнять собою как
всякое изолированное слово, «словарный материал», так и связное,
следовательно, период, предложение, так же как и любой их
органический член или произвольно установленную часть. Я прибег к
такому определению, чтобы сберечь место, иначе необходимое для
доказательства того, что, действительно, какую бы конкретную часть из
целого человеческой речи мы ни выделили, в ней хотя бы
виртуально заключены свойства, функции и отношения целого. Логика,
между прочим, давно уже извлекает пользу из той мысли, что «суждение»
(предложение собственно) есть «понятие» (термин) explicite, a
понятие есть суждение imlicite. Такая общая предпосылка и дала мне
возможность поместить логические формы в простое отношение между
морфологическими и онтическими формами предметного
содержания. Так как в широком смысле термином морфология пользуются,
включая в нее и учение о формах «предложения», т. е. учение о
синтаксических формах, то специальный вопрос о роли последних в
структуре слова как будто решался простым включением этих форм
в морфологические. Но, во-первых, морфему в тесном смысле все же
нужно отличать от, скажем, синтагмы, хотя бы последняя не имела
иного телесного носителя, кроме морфемы, и хотя бы морфема сама
определялась только из наблюдения над синтаксическою динамикою
слова, а во-вторых, в синтагмах как формах имеются свои
особенности, которых без некоторого хотя бы уяснения оставить нельзя.
Было бы самым простым, в развитие предлагаемой мною схемы,
поместить синтаксические формы между формами морфологи-
736
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ческими в узком смысле и логическими. Исходя из природы самой
синтаксической формы, можно было бы убедительно мотивировать
предназначаемое ей таким образом место. С другой стороны,
непосредственно видно, что и положение логических форм вполне
прояснится лишь тогда, когда мы их сопоставим прямо с формами
синтаксическими и, следовательно, динамическими, а не с
неопределенно морфологическими формами или с определенными чистыми
морфемами, всегда статическими — даже в своей истории
(эмпирической). Роль и положение логических форм и не осуществляются в
живом языке, и непонятны без посредства синтаксических форм.
И действительно, такое представление о положении
синтаксических форм не неправильно. Но оно ничего нам не даст, если мы
будем понимать его слишком упрощенно, не входя в детали некоторых
исключительных его особенностей. Если представить себе
углубление от фонетической поверхности к семасиологическому ядру
слова как последовательное снимание облегающих это ядро слоев или
одежек, то синтаксический слой облегает последующие причудливо
вздымающимися складками, особенности которых, тем не менее, от
последующего строения всей структуры не зависят и сами на нем не
отражаются. Лишь взаимное отношение этого синтаксического и
ближайшего логического слоя дает сложный своеобразный рисунок,
отображающий на себе особенности строения названных складок.
Или, если весь процесс изображается как восхождение по
ступеням, то оказывается, что со ступени синтаксической нельзя просто
перешагнуть на логическую, а приходится перебираться с одной на
другую по особым, иногда причудливо переброшенным
соединительным мостам. Между формами синтаксическими и логическими
происходит, таким образом, как бы задержка движения мысли,
иногда приятная, иногда затрудняющая продвижение (задержка
понимания), но такая, на которую нельзя не обратить внимания.
Вдумываясь в существо синтаксических форм и замечая, что и их
особенности (как морфологические, так и акцентологические)
исчерпываются чувственно воспринимаемыми эмпирическими
свойствами, мы видим, что их отношение как форм к идеальным членам
словесной структуры есть отношение не существенное и
органическое, а только условно-конвенциональное. Это, конечно, есть знак,
но знак не только семасиологический или номинативный, но
также симптоматический, скажем. Одна и та же фонема, respective, мор-
Эстетические фрагменты
737
фема, выступает и как знак значения и вещи, и как знак того, что
она есть этот знак. Это как бы nomen вещи и в то же время nomen
nominis. Например, окончание винительного падежа указывает
(называет и означает) не только вещь, на которую переходит действие
другой, но также то, что название этой вещи занимает место
«дополнения» в данном предложении. Фонема и морфема «падежного
окончания» являются, таким образом, признаком, симптомом его
особого, «вторичного» номинативного значения, как бы второй
производной в номинативной функции слова. Если вообразить язык,
лишенный какого бы то ни было рода морфологических и
синтаксических примет, можно было бы ввести две системы особых
названий, акцентов или просто индексов, прибавление которых к словам-
именам языка указывало бы всякий раз роль их в аранжировке речи.
Частично нечто аналогичное осуществляется в китайском языке,
но в большей степени в задуманной Раймундом Луллием Ars magna
или в ars characteristica combinatoria Лейбница, также в
символической логике (логистике) и даже просто в математической условно-
символической речи, которая пользуется не только знаками «вещей»
и отношений между ними, но также знаками своих действий со
своими знаками. Условимся, например, цифрами и строчными буквами
обозначать приставочные морфемы, а прописными синтаксические
формы, respective, синтаксическое место имени, и вообразим, что
лексикон вещных имен в нашем языке состоит из букв и сочетаний
букв греческой транскрипции. Тогда можно было бы получить
следующие графические изображения:
пусть π — отец, στ — любить, υ — сын, тогда SnsïïPps3aiOasO
означало бы: отец любит сына, и, например, формулы OasïïPps3aiSnsO,
Χν8πΥί82στ(Ι№8υ, SnsïïPfs3atOapO должны означать: отца любит сын,
отец, люби сына! отец будет любить сыновей. И притом, значение
тут остается независимым от порядка символов π, στ, υ, каковой
порядок при других условиях сам может служить синтаксическим
знаком, что фактически имеет место в реальных языках.
Из этого примера видно, что синтаксические значения (SPOXY)
отмечают одновременно 1) вещи и отношения (π, στ, υ,); 2)
морфемы, корневые (π, στ, υ,) и приставочные (ns, ps2, etc). Но из него
видно еще и другое·, без синтаксических значков можно вполне
обойтись и, тем не менее, безошибочно читать и понимать наши
формулы. Также и в реальном языке мы можем обходиться без синтаксиче-
738
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ских знаков синтаксического (quasi-логического наших грамматик)
ударения, интонации, порядка слов, пауз и т. п.
Это показывает, что синтаксические формы для передачи
смысловых и онтических отношений вещей в структуре слова
принципиально не нужны. Они могут служить при случае даже помехой,
задержкой пониманию. Одних морфологических форм для
осмысленной речи было бы достаточно, от них переход к логическим
формам так же прост, т. е. логические формы могут так же хорошо
обуздать морфологическую материю, как то делают и формы
синтаксические, — что и ввергает грамматиков в соблазн и фех измены
синтаксису и прелюбодеяния с логикой...
Идеальная «ненужность» (не необходимость) синтаксических
форм или реальная ненужность для них особых, помимо
морфологических, знаков наперед предсказывает то, к чему мы сейчас
придем иным путем. Синтаксические формы суть формы собственно не
данные прямо во внешнем знаке, а суть формы подразумеваемые,
«чистые» и как такие, следовательно, формы онтологические sui
generis. Их подразумеваемое^ и вскрывает их динамическую
природу. Напротив, морфологические формы есть как бы статическое
регистрирующее резюме из наблюдения живого в синтаксисе языка.
Синтаксис — изложение, морфология — индекс и оглавление к нему.
Лишенным синтаксиса и построенным на одной логике языком,
может быть, увлекся бы, как идеалом, ученый педантизм или право-
блюстительный канцеляризм, но им решительно ступефицирова-
лось бы всякое поэтическое чувство. Логика для себя приводила бы
живые и вольные морфемы в порядок, можно сказать, каторжный.
Но что делала бы грамматика, которая понимала бы, что назначение
слова не в том только, чтобы «логически сообщать», и что слово
сообщает не только логически. Грамматика, опирающаяся только на
гетерономную силу, обрекает язык на каторгу. Синтаксические
формы живого языка — шире логических, целиком в последние они не
вливаются. Спрашивается, каким идеальным нормам подчинится то
в свободной динамике языка, что заливает и затопляет своими
волнами русло логики?
В самом языке должно быть свое свободное законодательство.
Формы языкового построения, конструирования, порядка,
уклада должны быть автономны. Их и надо отыскать в самом языке.
Для этого не надо только забывать, что слово есть не только знак
Эстетические фрагменты
739
и в своем поведении определяется не только значимым. Слово есть
также вещь и, следовательно, определяется также своими
онтологическими законами. Его идеальная отнесенность двойная: сигнифика-
ционная и оптическая, прямая. Слово есть также «слово». «Слово» есть
также название вещей-слов, и под ним подразумевается предмет —
слово. Синтаксис изучает не слово как слово о чем-то другом, а просто
слово, т. е. сам синтаксис есть слово о слове, о слове как слове, о слове
как слововещи. Синтаксис изучает отличие этой «вещи» от всякой
другой вещи, иновещи (например, отличие фонемы от всякой иной акус-
мы — откашливания, причмокивания, экспрессивного тона и т. д.*), и
должен строго блюсти свое достоинство слова о слововещи в отличие
от слов об иновещах, от других наук В таком своем качестве
синтаксис есть не что иное, как онтология слова — часть семиотики,
онтологического учения о знаках вообще. Если какой-либо представитель
синтаксической науки выразит изумление перед тем, что он
оказывается в объятиях онтологии, то придется поставить ему на вид, что
он сам этого хотел, высвобождаясь из плена логики. Синтаксис, как
формальная онтология слова, есть синтаксис «идеальный», если
угодно «универсальный», синтаксис же данного конкретного языка есть
онтологии материальная, применительно к форме бытия языка как
факта социального, исторического, онтология историческая.
История языка должна ответить на вопрос о формах его эмпирического
существования, развития, изменений, возникновения и прочего.
Как формы исторические синтагмы даны нам внешне, т. е. имеют
свое чувственное, внешнее обличие, — в самой ли морфеме
соответствующей или в особом признаке: акцентуации, паузе, временной
последовательности морфем и т. д., хотя, как сказано, специальные
знаки для них идеально не необходимы, так что они могут суппо-
нироваться другими внешними датами. Как формы онтологические
они даны идеально, в интеллектуальной интуиции, т. е. как формы
чистые и подразумеваемые. Синтагмы не конструктивны для своей
науки, синтаксиса. Последний, слово о слове как слове, должен иметь
свою конструкцию, свою логику, повернувшись в сторону которой
мы попадем опять в свою обычную общую логику. Здесь синтагмы
* Сама фонетика (как физиология звуков речи) этого не изучает, т. е. не
может обосновать, для нее фонема — данность. Обосновать отличия знака от
«простого» звука может только семиотика.
740
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
только конститутивны для языка как вещи, но не конструктивны для
слова как значащего, осмысленного знака.
Другой горизонт откроется, если мы теперь повернем в
сторону конструктивного значения синтагмы, как формы выражения.
Отношение последней как такой к внешним формам, т. е.,
следовательно, между прочим, но и главным образом, к морфемам, должно
дать своеобразный аналогон логическим формам, но еще не сами
эти последние. Это — совсем особые синтагматические внутренние
формы. Они должны быть, согласно определения, также
конструктивными формами. Их отличие в том, что логические формы ими
должны уже предполагаться, ибо, как сказано, через этот вход мы
возвращаемся и общую обычную логику и самый синтаксис
излагаем по правилам этой логики. Весь вопрос в том, остаются указанный
обход и возвращение в логику бесплодными или мы возвращаемся,
как из долины Есхола, с ветвью виноградной, гранатовыми
яблоками и смоквами?
Несомненно, логические формы мы встретим те же, но новое
отношение, в которое теперь станут синтагмы, не как простые
тожества морфемы, а как чистые (автоонтологические) формы самого
имени, к чистым онтологическим формам называемых вещей и
обозначаемых смыслов, должно соответственно модифицироваться, т. е.
должны соответственно модифицироваться сами логические формы.
Разница между первоначальной внутренней логической формою и
этою модифицированной формою может оставаться
незамеченного, может казаться несущественною, пока прямо и открыто о ней
не поставлен вопрос. Ибо, имея обычно дело именно с
модифицированной формою и не подозревая ее модифицированности, мы не
задаемся вопросом об этой модификации. Определение этой
разницы, дифференциала двух логических форм, и установление
отношения его к первоначальной простой форме укажет меру нового
конструктивного обогащения речи.
Этот дифференциал и его отношения есть сфера новых форм,
точно так же внутренних, как и логические формы. Назовем их, в
отличие от чисто логических, внутренними дифференциальными
формами языка. Они слагаются как бы в игре синтагм и логических
форм между собою. Логические формы служат фундирующим
основанием этой игры, и постольку в ней можно заметить идеальное
постоянство и закономерность. Эмпирические синтагмы — доставля-
Эстетические фрагменты
741
ются капризом языка, составляют его улыбку и гримасы, и постольку
эти формы игривы, вольны, подвижны и динамичны.
Это — формы языка поэтические. Они суть отношения к
логической форме дифференциала, устанавливаемого поэтом через
приращение онтического значения синтагмы к логической форме.
Они — производные от логических форм. Получается sui generis
поэтическая логика, аналогон «логической» — учение о
внутренних формах поэтического выражения. У этих форм свое
отношение к предмету, дифференцированное по сравнению с отношением
логических форм, и постольку здесь можно говорить о третьем
роде истины. Рядом с истиной трансцендентальной (материальной)
и логической получается истина поэтическая, как соответствие
синтагмы предмету, хотя бы реально несуществующему,
«фантастическому», фиктивному, но тем не менее логически оформленному.
В игре поэтических форм может быть достигнута полная
эмансипация от существующих вещей. Но свою sui generis логику эти вещи
сохраняют. А вместе сохраняют и смысл, так как эмансипация от
вещей не есть эмансипация от смысла, который налицо, раз налицо
фундирующие игру фантазии логические формы.
Через конструкцию этих форм слово выполняет особую, свою —
поэтическую — функцию. Рядом с синтагмой, ноэмой и прочим,
нужно говорить о поэмах, и соответственно о поэзах, и вообще о
поэтическом сознании. Наука, обнимающая эти проблемы, есть
Поэтика. Ее понятие шире поэтической логики, потому что у нее есть
также проблема поэтической фонетики, поэтической морфологии
(disposition), поэтической семасиологии, поэтической риторики
(elocution) и т. п. Поэтика в широком смысле есть грамматика
поэтического языка и поэтической мысли. А с другой стороны,
грамматика мысли есть логика. Поэтическая логика, т. е. логика
поэтического языка как учения о формах поэтического выражения мысли
(изложения), — аналогон логике научной или терминированной
мысли, т. е. учения о формах научного изложения.
Примечание. В противоположность внешним формам
звукового сочетания, поэтические формы также могут быть названы
внутренними формами. В не всегда ясном изложении Гумбольдта,
которое можно толковать так и этак, стоит вдуматься в следующее,
например, утверждение: в отличие от внешней формы и в противо-
742
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
положность ей характер языков состоит «в особом способе
соединения мысли со звуками» (in der Art der Verbindung des Gedanken
mit den Lauten*). Внутренняя поэтическая форма непременно
прикреплена к синтаксису. Иначе, как бы узнать ее? Иначе была бы
поэзия без слов!.. Следовательно, она дана в выражении синтагмы
внешне и чувственно — совершенно так же, конечно, как и
деловая, житейская, прагматическая речь, и точно так же, как научная
терминированная. Из их взаимного сравнения,
противопоставления и отношения уясняется специфическая их природа и «законы»
каждой.
Характер отношения внутренней формы к мысли осязательнее
всего сказывается в «словах» и «фразах» (в смысле английских
грамматик и логик), неоправленных синтаксически, т. е. в
потенциальном состоянии внутренней формы. «Воздушный океан»,
«потрясение» имеют потенциальную внутреннюю форму, как и
потенциальный смысл. Всякое слово лексикона — в таком положении.
Внимание к «отдельному слову» или «образу», сосредоточение
на них (в особенности со стороны поэта, лингвиста, логика)
обнаруживает тенденцию актуализировать потенциальную силу слова.
Это может привести к некоторому потенциальному предициро-
ванию и предложению. Так, лингвист, знающий этимологическое
происхождение слов «стол», «истина» и т. д., может предицировать
им их потенциально-этимологическое значение и «иметь в уме»
соответствующее предложение. Так, и нелингвист может
приурочивать некоторые слова к первоначальному корню или к основе,
поскольку то или иное словообразование кажется ему очевидным,
например, когда он имеет дело с новообразованным переводным
термином. В свое время некоторых смущало слово «влияние» (ввел
Карамзин) — от «лить, вливать», а между тем — «влияние на кого».
Для профана ясно: «понятие» от «по-ять». И т. п. В таких
«размышлениях», при отсутствии определенных синтаксически оформленных
* В общем все же заимствую у Гумбольдта только термин, а смысл влагаю
свой. — Компетентный читатель припомнит противопоставление внешней и
внутренней формы в «Поэтике» Шерера, но сам же и заметит, что оно ни в
какой связи с моим применением термина не находится. См.: Scherer W. Poetik.
Brl., 1888. S. 226 ff.
Эстетические фрагменты
743
предложений, как будто образуется своя внутренняя форма из
отношения «первоначального значения» (этимон) к употребительному
лексико-логическому. Кажущаяся профану «нелепость» или «лепость»
существования такого соотношения может мешать или
способствовать пониманию, может вызывать некоторое эстетическое или иное
настроение.
На основании таких наблюдений Марти построил свое
определение «внутренней формы». Для него именно сам этимон легло в
основу этого понятия, и он говорит о последнем, как о фигуральной
внутренней форме (в отличие от конструктивной — распределения
зараз схваченного во временной ряд). А в указанном наслоении,
вызываемом нелепостью или лепостью отношения, он готов видеть
даже «назначение» внутренней формы в слове: возбуждать
эстетическое удовольствие и способствовать пониманию. Я думаю, что для
обеих целей служат в слове различные «моменты» по-разному.
Отчасти это видно из данного изложения, а подробнее будет показано
ниже в специальном отрывке о внутренней форме. В целом
предполагаемое здесь учение о внутренней форме радикально отличается
от учения Марти.
ß
Поэтика — не эстетика и не часть и не глава эстетики. В этом
не все отдают себе отчет. Поэтика так же мало решает
эстетические проблемы, как и синтаксис, как и логика. Поэтика есть
дисциплина техническая. Как технично только учение о технике
рисования, скульптуры, как технична «теория музыки» и т. п. Для
поэта самого она заменяется практикою и упражнением и потому
практически поэту не нужна, как не нужна практически ученому
логика, потому что у ученого также свое упражнение и своя
научная техника. Только специальный интерес исправляет и логику, и
поэтику в теоретическое учение и даже в философское. Поэтика
должна быть учением о чувственных и внутренних формах
(поэтического) слова (языка), независимо от того, эстетичны они или
нет. Скорее, поэтика может войти в состав философии искусства
как дисциплины онтологической. Эстетика в собственном смысле
есть учение об эстетическом сознании, коррелятивное
онтологическому учению об эстетическом предмете (прекрасном,
возвышенном, трагическом и прочем), полностью погружающемся в
744
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
предмет художественного творчества и фантазии («фиктивный»
предмет) вообще.
Проводя дальше аналогию между логиками научного и
поэтического мышления, можно отметить, что как логика наук от элементов
восходит к методам наук, так можно говорить о методах и приемах
поэтического мышления. То и другое есть творческое мышление
(конституирующее) и устанавливает разные типы методологии.
Методологии творчества поэтических форм классифицируются, имея в
основе свою классификацию предметов, так как предметы
поэтические, как мы видели, особенные, «фиктивные» — эмансипированные
от реального бытия, и смысл поэтический — тоже особый,
«фиктивный» — id, cui existentiam non repugnare sumimus, utut rêvera eidem
repugnet, ensflctum appellatur. Предметы поэтики — мотивы,
сюжеты — должны иметь свое материальное оправдание и заполнение,
свой смысл и содержание, как и предметы науки.
Не входя в детали дела, достаточно отметить, что указанное
соответствие, корреспонденция методологий предмета действительного
и поэтического не случайный параллелизм, но и не
обусловливаемый третьей общей «причиной», а есть внутреннее отношение, где
реальная вещь есть фундирующее основание поэтической. Всякий
поэтический предмет есть также предмет реальный. Поэтому-то
реализм и есть specificum всякой поэзии. А с другой стороны, так как,
в силу сказанного, корреспонденция или сопоставление,
«совпадение» принципиальны и существенны, то символизм также есть
существенный признак всякой поэзии. Учение о поэтической
методологии есть логика символа или символика. Это не та отмеченная,
чисто рассудочная символика, которая встретилась нам выше, как
семиотика или Ars Lulliana, а символика поэтическая, фундамент всей
эстетики слова как учения об эстетическом сознании в его целом.
Это — высшая ступень эстетического поэтического восхождения.
Эстетическое сознание здесь пламенеет на высшей ступени
поэтического проникновения в смысл сюжета (в содержание предмета),
переплавляется в высшее поэтическое разумение.
Символ здесь не отвлечение в не отвлеченный признак,
characteristicum, a конкретное отношение. Как логический смысл
есть данное уразумеваемое в данном контексте, так символический
смысл есть творимое, разумное в творимом контексте. Логический
смысл, смысл слова в логической форме, есть отношение между ве-
Эстетические фрагменты
745
щами и предметами, вставленное в общий контекст такого
отношения, которое в конечном счете есть мир, вся действительность. Он
методически выполняется, осуществляется в изложении предмета, в
разработке темы; материал же его — соответствующие вещи, в
конечном счете, мир, действительность и их познание.
Символический поэтический смысл, смысл слова в поэтической форме, есть
отношение между логическим смыслом и синтагмами, как sui generis
предметами (словесно-онтологическими формами).
Поэтому-то символ рождается только в переплетении синтагм,
синтаксических форм, и форм логических, нося на себе всегда
печать обоих терминов. Сфера поэтических символических форм —
сфера величайшей, напряженнейшей, огненной жизни слова.
Это — заросль, кипучая неистощимым жизнетворчеством слова.
Мелькание, перебегание света, теней и блеска. Символическая
семасиология — каскад огней всех цветов и яркости. Всякая симплифи-
цирующая генетическая теория символов — ужимка обезьяны перед
фейерверком. Чего требует от зрителя развертывающееся перед ним
творчество символов?
Любуйся ими и молчи!
В особенности опасны опыты выведения символа из «сходства».
В основании сходства должно быть какое-то тожество — идеальное
в действительном или в идеальном же. Может сходствовать
эмпирическое с эмпирическим, действительное с действительным,
идеальное с идеальным, но не действительное с идеальным. А таков
символ всегда, во всяком символе внешним символизуется внутреннее.
Через символ внутреннее есть внешнее, идеальное — реальное,
мысль — вещь. Через символ идеальная мертвая пустота
превращается в живые вещи — вот эти — пахнущие; красочные, звонкие,
жизнерадостные вещи.
Питайся ими и молчи!
Символ — не сравнение, потому что сравнение не творчество, а
только познание. Оно — в науке творчество, а в поэзии символ —
творчество. Связанные символом термины скорее антитетичны,
исключают друг друга, сеют раздор. Сравнение может двоить смысл
746
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
аллегорически, в басне, притче, но не в «поэме», где не сравнение,
а творчество, созидание «образа» из ничего. И путь этого
творчества именно от ничего, от идеального, от внутреннего, от 0 — к 1,
к внешнему, реальному, ко всему. Fundamentum relationis в символе
само может быть только идеальное, т. е. опять-таки ничто, нуль. Сами
же символы как отношения, все — êv καί näv, космическая гармония
вещей.
Внимай их пенью и молчи!
Истинно, истинно SILENTIUM — предмет последнего видения,
над-интеллектуального и над-интеллигибельного, вполне реальное,
ens realissimum. Silentium — верхний предел познания и бытия. Их
слияние — не метафизическое игрушечное (с немецкой
пружинкой внутри) тожество бытия и познания, не тайна (секрет)
христианского полишинеля, а светлая радость, торжество света, всеблагая
смерть, всеблагая, т. е. которая ни за что не пощадит того, что
должно умереть, без всякой, следовательно, надежды на его воскресенье,
всеблагое испепеление всечеловеческой пошлости, тайна, открытая,
как лазурь и золото неба, всеискупительная поэзия.
Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих зыбей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная — к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре...
Поэтические формы суть творческие формы, суть
символические формы, потому что, как указано, поэтические формы
составляют аналогон логическим, а поэтический смысл символа — аналогон
логического смысла. В логическом смысле имеет место отношение
предмета и вещей (идеального и номинативно-реального), в
символе — отношения идеальных (внутренних) логических форм и
реальных языковых форм конкретного языка (синтагм). Символ и
сам есть sui generis смысл, — оттого-то он есть и тожество «бытия»
и «мысли» — со-мысль и син-болон. Аналогон логической
предикатной функции в символе — quasi-предикативность, ибо — так как
предмет поэтической формы онтологически нейтрален, отрешен,
фиктивен, символ не включает реализации познавательной и тем
Эстетические фрагменты
747
более прагматической. Формально можно было бы подняться на
дыбы: это-то и есть «чистая» предикация, — безотносительно к
бытию. Но так как логика познания, предполагающая это отнесение,
уже забрала в свое ведение предикативные функции, то что же
делать? Поэтическая предикация — только quasi-предикация, не
установление (Setzung), а со-поставление (symbolon).
Если же брать символ как самый смысл — «второй» смысл, — то
разница между символом и смыслом (разумно-логическим) без
остатка растворится в творческих поэтических актах,
распределится, разделится между ними, не уничтожая самого логического
смысла, а лишь нейтрализуя и отрешая его. Так что, условно:
σύμβολον — δννοια
ποίησις или
ςύμβολον ξ έννοια (mod. ποίησις)
Такова пародийно-математическая формула, quasi-формула,
фиктивная формула художественного творчества, искусства. Если
из изображаемого поэтически факта вычесть все логически
необходимое, то вся индивидуальная обстановка факта падает на долю
творчества, распределяясь между его отдельными актами.
Положительная разница (+) — на долю фантазии; отрицательная (-) — на
долю гипотез (научных, метафизических); равенство, т. е.
разница = 0 — голое копирование.
Д
Данность чистых и внутренних форм есть данность
интеллектуальная. Конципирование принято рассматривать не только как
характернейший акт интеллекта, но даже как его единственно
возможную деятельность. Отсюда — распространенные жалобы на
формализм рассудочного познания и более или менее истерические
усилия «преодолеть» его. Однако с давних времен философы более
наблюдательные различали в деятельности интеллекта две
функции; более «высокую» и более «низкую». Под последней и разумели
преимущественно конципирующую, рассудочно-формальную
деятельность. Первую вьщеляли под именем разума. Почти всегда под
разумом понималась «способность», которая не одним только своим
противопоставлением рассудку, но и положительными своими чер-
748
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
тами, формально сближалась с «чувствами». Этого не сумел отнять у
разума даже Кант.
Из существенных признаков разума отметим только нужные для
последующего. Они показывают, почему собственно деятельность
разума квалифицировалась именно как «высшая». Не точно, но
настойчиво противопоставляли разум рассудку, как способность
интуиции в противоположность дискурсии. Это неправильно хотя бы
уже потому, что и рассудок в основном покоится на интуиции: кон-
ципирование так же немыслимо без интеллектуальной интуиции,
как чувственное восприятие — без чувственной интуиции, и
разумное понимание — без интуиции разумной или интеллигибельной.
С другой стороны, вообще поверхностно-глубокомысленное
противопоставление интуиции и дискурсии имеет видимость оправдания
только до тех пор, пока мы in abstracto резко противопоставляем
процесс постижения, «познания», и процесс логического изложения,
доказательства, передачи познанного другим. Но чем больше
вдумываться в то, что само «постижение» мыслимо только в «выражениях»,
тем более становится ясно, что дискурсия и есть не что иное, как та
же интуиция, только рассматриваемая не в изолированной
отдельности каждого акта, а в их связи, течении, беге. Истинно только то
в указанном противопоставлении, что формализм рассудка имеет
дело с данностью абстрактивною, тогда как умозрение разума
существенно направляется на предметность конкретную. Это с неза-
темнимою уже ясностью показал Гегель. И вот, этим-то разум входит
в понятное сопоставление с чувством.
Тесно связана с этим естественно возникающая из
констатирования этих особенностей разума склонность толковать предмет
разума как действительность по преимуществу. Так как разуму, далее,
приписывается способность глубокого проникновения во внутрь
вещей, к их «истинной природе» — и этим уже он отличается от
поверхностного соприкосновения чувств только с внешностью
вещей, — то названная «действительность» определялась
рискованным термином «истинной», «подлинной», «внутренней», «глубинной»
и т. п., и вслед за тем гипостазировалась и утверждалась, как какая-то
вторая «реальнейшая» действительность рядом с чувственною или
за нею. Но если умели раскрыть положительные черты этой
действительности, то убеждались, что она — та самая, о которой
свидетельствует постоянно наш опыт, что она — единственная вообще,
Эстетические фрагменты
749
как единственен и сам опыт, включающий в себя разум, а не
прибавляющий его к себе как дар, получаемый свыше за исполнение десяти
заповедей Моисеевых и одной Христовой. Убеждались также в том,
что если разумная действительность и имеет привилегии, то
последние состоят только в том, что разумная действительность есть
«критерий» действительности вообще. Сама глупость,
действительная глупость, должна быть признана разумной, чтобы как-нибудь не
обмануть нас и не заставить признать себя за иллюзорную. Если же
у разумной действительности положительных качеств не
находили, а характеризовали ее только отрицаниями, «апофатически», то
долблением словечка «нет, нет» ставили себя в положение той бабы,
которая под руку мужику, сеявшему жито, твердила «мак, мак», а
наблюдателя ставили в положение, когда разумным оставалось только
повторить ответ мужика: «нехай буде так, нехай буде так». Не
замечали, что, приписывая разуму только апофатические способности, тем
самым оснащали его качествами только формалистическими и,
следовательно, напрасно сердились на его слабость там, где следовало
бы оплакивать собственное бессилие.
То, что дает разум, есть по преимуществу содержание. Основная
ложь кантианского идеализма — в сенсуализме, в убеждении, будто
содержание познания доставляется только чувственным материалом.
Великое преимущество подхода к изучению познания
конкретного, не отвлекающегося от слова как действительного орудия
познания, состоит в том, что при этом подходе нельзя упустить разумно-
содержательного момента в структуре слово-понятия. Разум, то, что
разумеет, и есть функция, направленная на усмотрение смысла. Его
акты суть акты понимания, интеллигибельной интуиции,
направление на само содержание высказываемого N слова. Это — функция в
восприятии слова по преимуществу семасиологическая.
В структуре слова его содержание, смысл, принципиально
занимает совсем особое место в сравнении с другими членами
структуры. Смысл не отделим, если воспользоваться уподоблением этой
структуры строению и сложению организма, от прочих членов, как
отделимы костяк, мышечная система и прочее. Он скорее
напоминает наполнение кровеносной системы, он — питание, разносимое
по всему организму, делающее возможным и нормальную
деятельность его мозга-логики, и радостную — его поэтических органов
чувств. С другой стороны, смысловое содержание можно уподобить
750
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
той материи, которая заполняет собою пространства, из
вращательного движения которой вокруг собственного центра тяжести и от
конденсации которой складываются в систему хаотические
туманности. Живой словарь языка — хаос, а значение изолированных
слов — всегда только обрывки мысли, неопределенные туманности.
Только распределяясь по тем многочисленным формам, о которых
до сих пор была речь, смысл приобретает целесообразное
органическое бытие.
Поэтому, строго говоря, и нельзя отдельно, отвлеченно обсуждать
самый смысл. О нем все время идет речь, когда говорится о
формах, потому что если даже эти формы обсуждаются in abstracto, как
«пустые», то все-таки всегда имеется в виду их заполнение, и о них
осмысленно, не попусту можно говорить только применительно к
их возможному содержанию. «Чистое» содержание еще большая
отвлеченность и условность, чем «чистая» форма, еще более —
указание тенденции анализа, чем «вещи», еще более имеет только
регулятивное, а не предметно определяющее значение.
Чистый смысл, чистое содержание мысли, буквально и
абсолютно, есть такая же невозможность, как и чистое чувственное
содержание. Это есть только некоторое предельное понятие, ens imaginarium.
Чистое содержание как предмет анализа есть содержание с
убывающе малым для него значением формы. Это есть рассмотрение при
минимальном внимании к формам. Это есть рассмотрение, когда
остается одна только неопределенная «естественная» форма,
которую отмыслить уже невозможно. Стоит попробовать представить
себе какой-нибудь «цвет», независимо от предметных форм и
отношений окрашенных поверхностей, чтобы убедиться, что
представляемый цвет расстилается перед представляющим по какой-то
поверхности и в пространственных формах, хотя бы неопределенных,
расплывчатых и «на глазах» расходящихся. То же самое по отношению
к мысли. Как бы ни была она расплывчата и неуловима, она «дается»
в чистом виде в формах, хотя неопределенных, сознания. Это
всегда есть мысль на что-нибудь направленная, хотя бы оно
представлялось, как самое расплывчатое «нечто», «что-то», и оно-то уже —
minimum той «естественной» формы, без которой мысль немыслима.
Этот minimum формы онтологической бытием своим уже
предполагает также хотя бы minimum формы логической. И, следовательно,
minimum мысли постулирует уже хотя бы также minimum, некото-
Эстетические фрагменты
751
рый эмбрион, «словесности». Поэтому-то так детски беспомощны
попытки изобразить мысль бессловесную. Они рисуют мыслителя в
виде какого-то глухонемого, погруженного в «чистое» мышление, как
в клубы табачного дыма, и притом глухонемого не эмпирического
живого, потому что последний непременно для мысли обладает
своими средствами ее воплощения и передачи, а глухонемого
бесплотного — не то ангела, не то беса.
Когда мы силимся представить себе просто «цвет» как чистое
чувственное содержание и «рассматриваем» его при этом на какой-то
поверхности, мы и эту поверхность не представляем себе плоскою,
и цветное содержание, которым мы ее покрываем, мы не
представляем себе абсолютно устойчивым, статическим. Поверхность
имеет кривизну и подсказывает себе какую-то плотность, непременно
переводящую «взор» в третье измерение. Цветное содержание само,
кроме того, дрожит, колеблется, складывается в складки и
распускается, движется, простирается динамически во времени. И мыслимое
содержание самого элементарного «нечто» мыслится динамически.
Оно не помещается нами в пространстве, не уплотняется, и его ана-
логон времени — не само время, но все же оно также динамично и
требует углубления в свою предметность. Оно, говорим мы,
диалектично.
Отсюда особенности «естественной» формы мыслимого. Оно не
только расплывается и склубляется вокруг какого-то центра
тяжести складывающегося смысла, пока тот окончательно не закреплен
и не фиксирован контекстом, но всегда носит на себе, так сказать,
историю своего сложения. Как всякая вещь, даже в природе, не
только есть вещь, похожая на другие или отличная от них, но еще
имеющая и носящая на себе свою историю. Смысл есть также
исторический, точнее, диалектический аккумулятор мыслей, готовый
всегда передать свой мыслительный заряд на должный приемник.
Всякий смысл таит в себе длинную «историю» изменений значений
(Bedeutungswandel).
Не нужно в принципиальном рассуждении понимать эту
историю эмпирически, слишком эмпирически. Не следует забывать,
что в самом эмпирическом изложении названная история не
может быть раскрыта, если она не имеет под собою принципиальных
оснований. Именно потому, что эмпирическое языкознание таких
оснований не знало, оно и запутывалось в такой простой вещи, как
752
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
разница и отношение между смыслом, представлением и вещами в
их истории. То, что до сих пор излагают как «историю значений»,
в значительной части есть история самих вещей, перемены в
способах употребления их, вообще быта, но не «история» смыслов как
идеальных констелляций мысли. Поэтому-то, в действительности, до
сих пор у нас нет не только «истории значений» (собственно
словообразования или словопроизводства — из этимон), — но нет даже
принципов классификации возможных изменений значений.
Опыты Пауля, Бреаля, Вундта — решительно неудачны. Не говоря уже о
смешении названия со «словом», вещи и представления со смыслом,
в них смешиваются в качестве принципиальных формы логические
с поэтическими. Между тем смысл разливается и по тем и по другим,
т. е. от рода к виду, и обратно, от части к целому, от признака к вещи,
от состояния к действию и т. п., но также от несущественного
логически, но характерного поэтически к вещи и т. п. «Однорукий», как
название «слона», не меняет логической формы, но на ней
водружает новую форму. «Земля в снегу», «под снежным покровом», «под
снежной пеленой», «в снежной ризе» и т. п. — все эти слова могут
рассматриваться как одна логическая форма, но здесь не одна
внутренняя форма поэтическая. Еще, однако, безнадежнее обстоит дело,
когда за «историю значения» принимают историю вещи и,
следовательно, respective, историю названия, имени. Лишь вторично и про-
изводно можно говорить об истории значения вслед за
изменением наименования, отнесения звукослова к данному классу и объему
вещи (свойств, действий). Но это — один из методов. Очевидно, что
словопроизводство может идти и иными путями: по предписаниям
и указаниям потребностей реализации самого смысла.
Свои диалектические законы внутренних метаморфоз в самой
мысли еще не раскрыты. Законы развития, нарастания, обеднения,
обрастания, обсыпания и прочих, и прочих сюжетов, тем, систем
и т. п. должны быть найдены как законы специфические. История
значения слов, историческая семасиология, история литературы,
философии, научной мысли — все это еще научные и
методологические пожелания, а не осуществленные факты. Слава Богу, что
покончили хотя бы с ними, как эмпирическими историями быта, «влияний
среды», биографий — если, впрочем, покончили. Настоящая история
здесь возможна будет тогда только, когда удастся заложить
принципиальные основы идеальной «естественной» диалектики возможных
Эстетические фрагменты
753
эволюции сюжета. Тогда только и эмпирическая история как
история эмпирически осуществившейся одной из возможностей или
нескольких из возможностей получит свой смысл и оправдание.
Подобно тому, как «мотивы» должны завинтиться, завихриться и
закружиться в каком-то коловращении, чтобы получился сюжет, и
сюжеты сами сталкиваются друг с другом, сбиваются в кучу и
рассеиваются, вновь вздымаясь в крутящийся и несущийся смерч.
Удивительна динамическая подвижность, сила внимательного
сосредоточия и способность перестраивать и переиначивать любые
синтетические и антитетические комбинации со стороны следящего за
развитием сюжета и уразумевающего его в каждое мгновение его
изменения и в каждом характере его изменения. Как само слово от
мельчайшей своей атомной или молекулярной дробности и до
мировой связи в языках народов и языках языков есть одно слово, так
и смысл, сюжет, все содержание мыслимого во всех логических и
поэтических формах — одно содержание. Оно воплощается во всей
истории слова и включает, через сопровождающее осмысление
наименования вещей, все вещи на земле и под землею.
Это указание на «вещи» должно напомнить еще одно
обстоятельство, дополняющее общую картину бытия «сюжета» как смысла.
Понимание, втягивая в сферу разума самые вещи, тем самым
втягивает и присущее им чувственное содержание. Онтические и
логические — формально-рассудочные — схемы оживают под дыханием
разума и расцветают, становясь вновь осязательно-доступными
нашему опыту, переживанию, после того как рассудок на время удалил
от нас это чувственное многообразие под предлогом
необходимости внести порядок в его хаос. Разумно-осмысленные чувственные
картины действительности превращаются теперь из простого
материала обыденного, «пошлого» переживания в материал эстетически
преображенного переживания. Разумная эстетика восстанавливает
тот разрыв, который внес в живой опыт рассудок, и она напоминает
о том конечном оправдании, из-за которого мы допустили
названный разрыв. «Теория познания» забывает часто, зачем мы садимся
в ее вагон, и воображает, что наше пребывание в ее более или
менее комфортабельных купе и есть собственно вся цель нашего
познавательного путешествия. Величайшая углубленность интуиции
разума — не в том, что они якобы доставляют нас в «новый»
запредельный мир, а в том, что, проникнув через все нагромождение
754
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
онтических, логических, чувственных и не-чувственных форм, они
прямо ставят нас перед самой реальной действительностью. Земля,
на которой мы родились,' и небо, под которым мы были
вскормлены, — не вся земля и не все небо. Оправа, в которую нужно их
вставить, меняет самое существо, смысл их, действительность их.
Цель и оправдание нашего путешествия — в том, чтобы, вернувшись
из него, принять свою действительность не детски-иллюзорно, а
мужественно-реально, т. е. с сознанием ответственности за жизнь и
поведение в ней. Боратынский написал:
Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть успеваем, —
Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?
Что, наконец, поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум?
Что? Точный смысл народной поговорки.
Как странно, что эта мысль облечена в пессимистическое
выражение! Как будто здесь не указано на постижение величайшего
из уповаемых чудес! И не это ли надменность ума — считать такой
результат не стоящим усилий наблюдения зорких очей, опытов и
дум? Какой скорбный пример разлагающего влияния иудейско-
христианских притязаний на постижение непостижимого — хотя
пример и случайный из массы таких примеров. И как должно быть
отлично от этого мироощущение человека, влекомого к своему
храму за постижением коротенького речения El, разгадка «точного
смысла» которого обещала не иллюзорные только радость и силу и
к которой манила не разочаровывающая приманка потустороннего
блаженства, а реальная земная красота земного бытия и разумная
вера в постижение его смысла.
Когда мы говорим о вещном заполнении форм идеальной
диалектики смысла и сюжета, мы говорим уже о завершающем
моменте познания и понимания. Мы говорим здесь об эмпирически-
историческом бытии смысла. Говорим о конечном Объективном
моменте прибытия слова N из его уст и сознания в наше сердце и
сознание. Этот последний объективный момент — не последний,
как увидим, вообще, но прежде о нем еще нужно сказать несколько,
и притом важных, слов.
Эстетические фрагменты
755
Вещное заполнение смысла, овеществление сюжета, не есть,
конечно, изготовление самой вещи. Иначе нужно было бы признать,
что к нам из уст N прилетела, как письмо или посылка по
пневматической почте, сама вещь. Вещи существуют, а не сообщаются.
Смысл — не вещь — т. е. не вещь, которую можно осязать, жевать,
взвешивать на весах, обменивать на другую вещь, продавать или
закладывать. Это есть «вещь» осмысленная, следовательно, мыслимая,
омысленная, и именно потому и через это приобретшая
возможность войти в мыслимые же формы сообщаемого, в формы онтиче-
ские и логические. Вещь существующая должна быть «осмысленна»,
чтобы войти в состав смыслового содержания. Смысл — не вещь, а
отношение вещи (называемой) и предмета (подразумеваемого).
Через название мыслимая — а не только чувственно
воспринимаемая — вещь вступает в это отношение, которое само — мыслимость и
может связывать только мыслимости. Мечтать о связи «самой» вещи с
идеальной связью, и в особенности мечтать об этой связи так же, как
о «вещной», значило бы мечтать о том, чтобы курица снесла к Пасхе
математический эллипсоид и чтобы философствующий кавалер
напялил к этому празднику на свою голову математический цилиндр.
Вещь включается в сюжет через то только, что, становясь
мыслимою, как мысль и входит в совокупность со-мыслей смысла. Если она
идет в своей «естественной», неотмыслимой форме, то она входит,
иными словами, в идейное содержание слова как идея. Смысл есть
идейный член в структуре слова. Смысл есть идейная насыщенность
слова. К предметной данности слова, чувственно-эмпирической и
формально-логической, прибавляется данность его материально-
идейная. К функции слова номинативной и концептивной
прибавляется функция идеирующая, разумная. Слово — идейно.
Идея, смысл, сюжет — объективны. Их бытие не зависит от
нашего существования. Идея может влезть или не влезть в голову
философствующего персонажа, ее можно вбить в его голову или
невозможно, но она есть, и ее бытие нимало не определяется емкостью
его черепа. Даже то обстоятельство, что идея не влезает в его голову,
можно принять за особо убедительное доказательство ее
независимого от философствующих особ бытия. Головы, в которых отверстие
для проникновения идей забито прочною втулкою, воображают, что
они «в самих себе» «образуют» представления, которые будто бы и
составляют содержание понимаемого. Если бы так и было, то это,
756
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
конечно, хорошо объясняло бы возможность взаимного
непонимания беседующих субъектов, Для того же, чтобы при этом
предположении объяснить именно понимание, приходится придумывать
более или менее хитростные теории, но всегда остается вопрос: зачем,
раз сами эти теории — представления и объективно не существуют?
Во-первых, раз они не существуют, то их и найти нельзя, а
можно только «выдумать», а во-вторых, как субъективные выдумки, они
останутся в соответствующей голове, недоступные для другой, даже
если она проглотит первую. Да и к лучшему, что они недоступны, и
потому что вторая голова не обязана даже интересоваться тем, что
«себе» и «в себе» выдумывает первая, и потому еще, что это
поощряет к самостоятельной работе... представления.
Неспециалистам, философам, которым, собственно, нет дела до
философских архивов и до того, какое там место и за каким
номером занимает забавной памяти субъективный идеализм, следовало
бы также не заглядывать в популярные введения в философию,
тогда — если их мозги не безнадежно испорчены
псевдопсихологическими и псевдофилософскими теориями, контрабандою
проникшими в их собственную специальность, — они нигде больше не найдут
указаний на то, что их пониманию способствуют или их
понимание составляют так называемые представления. Они нигде этого
не найдут, потому что их собственное сознание, остающееся после
рекомендованного воздержания единственным источником, им
этих указаний не даст. Кстати, быть может, и философы тогда
скорее прикончат свой спор о том, куда бы приткнуть «представления»
в мышлении и познании. Ограничимся здесь заявлением, что если
представление есть идея, мысль, то оно и есть мысль, т. е. то самое,
что составляет мышление, и его второе имя есть только псевдоним,
из которого так же мало вытекает бытие особой вещи, как из
христианского имени Вероника, что была такая христианская мученица
и святая. Если же представление не есть мысль, а что-то другое, то
ему и не следует путаться там, где идет разговор о мысли. На этом
основании, слушая сообщение N, пока мы не перестали и не хотим
перестать интересоваться смыслом того, что он говорит, какие бы у
него при этом ни возникали «представления», относящиеся к
смыслу или не относящиеся, для нас они все остаются к смыслу не
относящимися — если, конечно, он не сообщает прямо именно о своих
представлениях, а говорит о вещах действительного мира и идеаль-
Эстетические фрагменты
757
ных отношениях между ними. Так что, если он говорит о луне,
звездах, музыке, пожаре, гипотезе Эйнштейна, голоде, революции и
прочем, и прочем, то мы так и будем понимать, что он говорит об этих
«вещах», а не о своем представлении этих или других вещей. Если же
он переменит тему и заговорит о своих представлениях этих и
других вещей, то 1) мы поймем, что он переменил тему, а 2) мы на сами
«представления» теперь станем смотреть как на объективируемые
словом sui generis «вещи», о которых его представления, опять-таки,
нашего внимания до поры до времени не привлекут.
Если же мы теперь вернемся к пониманию, смыслу и идейному
мыслимому содержанию слова, мы заметим еще некоторые не
лишенные интереса подробности. Люди, любящие получать
глубокомысленные решения по методу наименьшего напряжения
мыслительных сил, давно порешили, что, конечно, содержание без формы
не годится, но и форма без содержания мало поучительна. А если
они заглядывали в словари философских терминов, то еще знают
они и то, что форма и содержание — понятия соотносительные и
что одно не бывает без другого. Обидно бывает соглашаться с
вещами до приторности банальными, но тем не менее это — верно.
И все-таки соглашаться обидно, потому что банальность есть не что
иное, как скучная бессмыслица, лишенная аромата и свежей
прелести здоровой, захватывающей глупости. Положение банальное по
форме лишено содержания — не потому ли оно «верно» и не потому
ли у него такая отталкивающая узкогрудая верность?
Соотносительность терминов форма и содержание означает не
только то, что один из терминов немыслим без другого, и не только
равным образом то, что форма на низшей ступени есть содержание
для ступени высшей, а еще и то, что чем больше мы забираем в
форму, тем меньше содержания, и обратно. В идее можно даже сказать:
форма и содержание — одно. Это значит, что чем больше мы будем
углубляться в анализ заданного, тем больше мы будем убеждаться,
что оно ad infinitum идущее скопление, переплетение, ткань форм.
И таков собственно даже закон метода: всякая задача решается, через
разрешение данного содержания в систему форм. То, что дано и что
кажется неиспытанному исследователю содержанием, то
разрешается в тем более сложную систему форм и напластований форм, чем
глубже он вникает в это содержание. Таков прогресс науки,
разрешающий каждое содержание в систему форм и каждый «предмет» —
758
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
в систему отношений, таков же прогресс поэзии. Мера содержания,
наполняющего данную форму, есть определение уровня, до
которого проник наш анализ. Содержание — неопределенное и
безграничное μή όν, ждущее своего оформления и определения. Определенное
же содержание — множество «низших» форм по отношению к
высшей единой форме. Так, капля воды — чистое содержание для весьма
ограниченного уровня знания; для более высокого — система мира
своих климатических, минеральных и органических форм.
Молекула воды — система форм и отношений атомов двух элементов;
атомы — электронные системы форм. Чистое содержание все
отодвигается, и мы останавливаемся на уровне нашего ведения. Как глубоко
можно идти дальше, об этом мы сами не знаем. Мы знаем только
императив метода: постигать содержание значит разлагать смутно
заданную материю в идеальную формальность.
Сюжет, смысл, содержание слова суть системы идеально-
разумных форм, точно так же, как чувственная данность
эмпирического мира в каждом своем качестве есть система чувственных форм
и принципиально разрешима в эту систему. Пустых форм только в
том смысле и не бывает, что всякая форма полна, как единство,
многообразием других форм, т. е. новых единств, новых многообразий.
Понимать слово, усматривать его смысл и значит усматривать
единство в многообразии, видеть их взаимное отношение, улавливать
текст в контексте, значит, как было сказано, улавливать отношение
между многообразием называемых вещей и единством оформли-
ваюшего их предмета, значит, совсем коротко, конкретно жить в
мире идей.
Предметное единство, как мы также видели, есть единство
данное, не конструктивное, хотя и конститутивное. Логический акт по-
лагания (Setzung) конструирует формы смысла. Он — пуст для того,
кто не видит, что установляемое, формируемое им есть единство
многообразия, а не голая единица. Как остановленный в движении
кинематографический снимок — он единство многого, но он
единица, выделенная искусственною остановкою, а в действительности
составляющая текучий момент других единств, координированных в
подчинении высшему единству. Пустое конципирование — иллюзия
абстракции; конципирование всегда и разумение, т. е. оно не только
фиксирование логической точки, но и сознание ее текучей,
динамической полноты. Каждая точка конципирующего и вместе разумного
Эстетические фрагменты
759
внимания — момент на траектории движения мысли, слова и вместе
ключ, из которого бьет мыслью и смыслом. Только в этой своей
динамике и постижимо слово до своего объективного конца.
Акт понимания или разумения, акт восприятия и утверждения
смысла в концепте, выступает как бы заключенным в оболочку
концепции, формально-логического установления (Setzung). Кто видит
только оболочку, тот конципирует, не понимая, для того мысль и
как функция разума есть рассудочное стеснение, тот, в самом деле,
рассуждает, но не понимает. Естественно, все ему рисуется в его же
безнадежном положении рассудочной асфиксии. Ему можно только
посоветовать спешно принять меры к рассеянию окутывающих его
асфиктических газов теории. Немного разумного кислорода, и он
оживет в естественном и непосредственном понимании, если не
будет насильно отворачиваться от расстилающегося перед ним
смысла и не захочет насильственно уморить себя — уже из одного лишь
каприза. Акт Setzung пустой, без смысла внутри его, можно было
бы сравнить с выстрелом ружья, заряженного холостым патроном.
В действительности нужно взять гильзу, набить взрывчатым
веществом, забить кусок свинца, и тогда только палить. Алогисты
уверяют, что логика палит только холостыми патронами, что слово —
самое большее, только пыж Не из того ли их аргументация, что они,
дорожа переживаниями, дрожат за жизнь. Трусость, в том числе и
мыслительная, часто не видит действительной опасности. Логофо-
бия изобретает алогические снаряды для обстрела истины, не
подозревая опасности, которою угрожает алогистам их изобретение.
Дело в том, что как только они его изобретут и как только обтянут
его оболочкою слова, чтобы послать его для разрушения разума, они
не могут утаить секрета изобретения от себя, и себя же прежде всего
взорвут на воздух. Разум при таких взрывах уже не раз
присутствовал, для него это только иллюстрации к его признанию силы слова.
И алогист на что-нибудь нужен!..
Ε
Покончив с интерпретацией объективной, следует обратиться
как раз к тем «представлениям», которыми N сопровождает свое
сообщение. Это — его личные, персональные переживания, его
личная реакция на сообщаемое. Сообщая нам нечто, он вольно или
невольно «передает» нам также свое отношение к сообщаемому,
760
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
свои волнения по поводу его, желания, симпатии и антипатии. Все
эти его переживания в большей мере, чем через слово, передаются
нам через его жестикуляцию, мимику, эмотивную возбужденность.
Но они отражаются и на самом слове, на способе его передачи, на
интонациях и ударениях, на построении речи, спокойном или
волнующемся, прерывистом, заикающемся, вводящем лишние звуки или
опускающем нужные и т. п. И несомненно, что в весьма многих
случаях этот «член» в структуре слова для нас превалирует, так что само
передаваемое со своим смыслом, по его значению для нас отходит
на второй план.
Значенья пустого слова
В устах ее полны приветом...
То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно;
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.
Понимание как интеллектуальный фактор в восприятии такого
слова или в восприятии слова с этой стороны, отступает на второй
план, и приходится говорить, если о понимании все-таки, то
понимании особого рода, не интеллектуальном, а любовном или
ненавидящем. Чтобы подчеркнуть имеющую здесь место
непосредственность переживания у воспринимающего как ответ на
переживание N, здесь уместно говорить о симпатическом понимании.
Слово «симпатия» оттеняет и эмоциональный по преимуществу способ
восприятия переживаний N, и его непосредственность, основанную
на прямом «подражании», «сопереживании», «вчувствовании» и т. п.
Нет надобности думать, что определенного качества переживание N
возбуждает в нас переживание того же качества. Не только степени
симпатического переживания неопределенны и меняются от
воспринимающего к воспринимающему, но даже качество переживания
у воспринимающего не предопределяется качеством переживания N.
Его радостное сообщение может вызвать в нас тревогу, его страх —
раздражение и т. п. Co-переживания наши, однако, следует отличать
от самостоятельных, не симпатических реакций наших и на
содержание сообщаемого, и на собственные чувства N. Так, его арах по
поводу сообщаемого вызывает непосредственно, симпатически
раздражение, а само по себе сообщаемое может вызвать при этом не-
Эстетические фрагменты
761
доумение о причинах его страха, а сознание того, что N испытывает
страх по такому поводу, может вызвать чувство комического и т. п.
Во всяком случае, слово выполняет, играя роль такого
возбудителя, новую функцию, отличную от функции сообщающей, —
номинативной, предицируюшей, семасиологической, — и в структуре
своей выделяет для выполнения этой функции особый член. Но, имея
в виду, что внутренняя расчлененность слова отражается и на
внешнем чисто звуковом облике слова, мы тщетно искали бы постоянной
звуковой приметы, «симптома» субъективных реакций N. Если в
известных пределах можно сказать, что такую роль играют
«междометия», «частицы» (в особенности, например, в греческом), то, с
другой стороны, очевидно, что их употребление слишком ничтожно, а
указанные реакции и без их помощи передаются достаточно полно.
Вместе с тем не следует забывать и того, что «значение» меадоме-
тий и частиц — условно и что известная часть междометий
образуется в языке в результате потери словом своего собственного
смысла. Такие междометия и частицы, как «спасибо», «corbleu», «parbleu»,
«dame», «jemine» и прочие, свидетельствуют против пресловутой
теории происхождения языка из «естественных» воплей, но в пользу
того, что как выразители субъективного состояния N они
получились по атрофии в них собственного смысла.
Таким образом, если нет в слове или среди слов особого
«выразителя» субъективных «представлений» N, то нужно признать, что
для слова как такого эта функция вообще является второстепенной,
прибавочной. И, конечно, дело так и обстоит. Слово, как мы его до
сих пор рассматривали, было «вещью» социальною, тогда как в
качестве «выразителя» душевных субъективных волнений оно факт
всецело «естественный». Животные, не имеющие никакого языка и
потому не мыслящие, тем не менее издают звуки, «выражающие» их
эмоции, состояния организма и прочее. В точном и строгом смысле
такие «звуки», как лишенные в точном же смысле «смысла», не суть
«выражения». Это знаки — другой категории. Психологически или
психофизиологически это — составные части самого переживания,
самой эмоции. Мы говорим о крике, «выражающем» страх, в таком
же смысле, в каком мы говорим о побледнении, дрожании
поджилок и т. п. как выражениях страха. Все это — не выражения «смысла»,
а части, моменты самого переживания или состояния, и если они
внешне заметнее других моментов или если их легче установить, то
762
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
это даст им возможность быть симптомами, но не «выражениями» в
точном смысле. Естественный крик, вопль, стон, только потому, что
он исходит от человека, не становится ео ipso речью. Речь
сопровождается естественными проявлениями душевного и физического
состояния говорящего. И обратно, эти проявления отражаются на всем
его поведении, в том числе и на его речи. Чтобы понимать слово,
нужно брать его в контексте, нужно вставить его в известную сферу
разговора. Последняя окружается для говорящего известною
атмосферою его самочувствия и мироощущения. Воспринимающий речь
понимает ее, когда он вошел в соответствующую сферу, и он
симпатически понимает самого говорящего, когда он вошел в его
атмосферу, проник в его самочувствие и мироощущение.
Из этого ясно, почему в слове как таком нет особого носителя
субъективных представлений и переживаний говорящего. Через них
понимание слова как такого не обогащается. Здесь речь идет о
познании не смысла слова, а о познании самого высказывающего то
слово. Д/ш слова это — функция побочная, πάρεργον.
Этого заключения нужно твердо держаться, потому что не
только дилетантизм до сих пор возится со словом, как передатчиком
«чужой души». Если угодно, то, конечно, можно на этой роли слова
сосредоточить все внимание, и это, конечно, не лишено интереса,
но этот интерес, эти занятия, это внимание — психологов. Слово —
одно из могущественнейших орудий психологического познания,
но нужно отдавать себе отчет в том, зачем мы к нему подходим. Для
лингвиста, логика, семасиолога, социолога — слово совсем не то,
что для психолога или биографа. Психологическая атмосфера
слова складывается из разнообразных воздушных течений, не только
индивидуальных, присущих, например, лично автору сообщения,
но также исторических, социально-групповых, профессиональных,
классовых и прочих, и прочих. Все это — предмет особого рода
знания, особых методов. Останавливаться на этом не буду, так как могу
отослать читателя к моей статье «Предмет и задачи этнической
психологии», где именно эта сторона вопроса освещена подробнее.
Итак, данность слова здесь уже не объективная, а субъективная,
индивидуально- и социально-психологическая или также
психологически-историческая. Функция, с которой мы имеем дело,
выполняется не над смыслом, основанием слова, a ek parergon над
известным наростом вокруг слова. Углубившись в анализ структуры слова,
Эстетические фрагменты
763
от его акустической поверхности и до последнего интимнейшего
смыслового ядра, мы теперь возвращены назад, опять к
поверхности слова, к его субъективной оболочке. И верно, что душевное
состояние N, его волнения, скорее и вернее всего передаются именно
переливами и переменами самого звука, дрожанием, интонацией,
мягкостью, вкрадчивостью или другими качествами, иногда ни в
какой зависимости от смысла не стоящими.
Совокупность всех названных качеств придает слову особого
рода выразительность. Чтобы отличить эту выразительность слова
от его выражательной по отношению к смыслу способности, лучше
ее отличать особым условным именем. Таково название:
экспрессивность слова. Соответственно можно говорить об экспрессивной
функции слова. Можно было бы говорить здесь и об импрессивности
слова, потому что часто задача пользующегося словом в том и
состоит, чтобы вызвать в нас впечатление известного рода, а не только в
том, чтобы сообщить нечто. Своеобразные задачи и свои трудности
в субъективно-психологической интерпретации и в персональном,
симпатическом понимании лица представляют те случаи, где
приходится расчленять самое атмосферу экспрессивности, чтобы отделить
в ней «естественное» от «искусственного», замысел от выполнения,
ложь от искренности, «себе на уме» от откровенности и т. д.
Иногда именно экспрессивной стороне слова придают
исключительное эстетическое значение. Поскольку экспрессия имеет
целью и даже независимо от сознательно поставляемой цели, наряду
с прочими эмоциями вызывает и эстетические, постольку этого
отрицать нельзя. Но как принцип это утверждение в корне
неверно. Ни с каким членом структуры слова эстетическое восприятие
исключительно не связано. В целом оно сказывается как сложный
конгломерат переживаний, фундированных на всех моментах
словесной структуры. Роль каждого члена, как положительная, так и
отрицательная, должна быть учтена особо для того, чтобы составить
представление о совокупном действии целого.
Лишь одно обстоятельство следует наперед и обще отметить,
потому что оно действительно играет особую роль, когда становится
целью сознательного усилия. Там, где подмечено особое
эмоциональное значение экспрессивных свойств слова и где есть
целесообразное старание пользоваться словом для того, чтобы вызвать
соответствующее впечатление, там находит себе место своеобразное
764
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
творчество в сфере самого слова и творчество самого слова.
Созданное дли цели экспрессии и импрессии, слово, затем, обогащает и
просто сообщающее слово. Это есть творчество поэтического
языка. Не обязательно это есть вместе и эстетическое творчество — и
вообще, как мы видели, поэтика не есть эстетическая дисциплина, —
так как экспрессивность может относиться и к эмоциям порядка,
например, морального, возбуждающего чувства нравственные,
патриотические, чувства справедливости, негодования и т. д. Те средства, к
которым обращаются для этих целей, издавна получили название
фигуральных средств или просто фигуральности слова.
Как некоторые речения из осмысленных превращаются в
экспрессивные, так фигуры речи могут стать вспомогательными
средствами для передачи самого смысла, подчеркивания его оттенков,
тонких соотношений и таким образом способствуют обогащению
самого сообщающего слова. Фигура из поэтической формы
становится внутренней логической формою. Язык растет. Субъективное
переживание воплощается в объективном смысле. Автор умирает,
его творчество сохраняется как общее достояние в общем богатстве
языка. Поэтому, если мы читаем литературное произведение,
следовательно, не личное к нам послание, обращение или письмо и если
мы его читаем не с целью биографического или вообще
персонального анализа, а читаем именно как литературное произведение, для
нас его фигуральность остается только «литературным приемом»,
«украшением» речи и в этом смысле должна быть отнесена скорее
к области внутренних поэтических форм самой речи. Формы
личной экспрессии, таким образом, объективируются в поэтические
формы слова. И опять-таки независимо от расчета и желания
автора. Вопрос об искренности писателя есть или вопрос литературный,
поэтический и эстетический, или попросту вопрос неприличный, в
воспитанном обществе недопустимый. Только при таком отношении
к автору автор есть автор, а не легкомысленный Иван Георгиевич,
пустой Георгий Иванович, глупый Иван Иванович, вор и картежник
Александр Иванович, благонадежный ханжа Иван Александрович.
Тут, по-видимому, граница и первое правило хорошего тона и вкуса
литературной критики — в отличие от биографического
тряпичничества и психологистического сыска.
Старые риторики противопоставляли фигуральность как язык
страстей — разительный и сильный, свойственный жару чувств,
Эстетические фрагменты
765
стремлениям души и пылкому движению сердца, — тропам,
языку воображения, — пленительному и живописному, основанному
на подобиях и разных отношениях. Едва ли это условное
разделение имеет какое-либо иное значение, кроме генетического. Это я и
хочу подчеркнуть, говоря, что фигуральность обогащает самое речь.
В поэтическом анализе поэтика имеет полное право смотреть на
экспрессивные формы как на свои и видеть в поэте поэта не только
в ущерб его персоне, но и в прямое ее игнорирование. Наоборот, в
глазах его лавочника, лакея, биографа и его чисто поэтические
качества выглядят как экспрессивные персональные черты.
Москва, 1922. Февраль, 13
III. СВОЕВРЕМЕННЫЕ НАПОМИНАНИЯ
I
Эстетические моменты в структуре слова
Собственно, в статье Структура слова in usum aestbeticae все,
что относится к этой новой теме, показано и сказано. Все «i»
выписаны. Остается только поставить над ними точки.
Под эстетическими моментами разумеются такие моменты
в предметно-данной и творческой структуре, которые связаны с
эстетическим переживанием (опытом). Безразлично,
квалифицируется этот опыт «положительно» или «отрицательно», как
наслаждение или отвращение. He-эстетическими в строгом смысле остаются
только моменты эстетически безразличные, не вызывающие ни
положительной, ни отрицательной эстетической реакции. Во
избежание эквивокации такие моменты можно называть внеэстетически-
ми. Бывают в предметных структурах такие моменты, наличность
которых не связана с эстетическим переживанием, моменты
эстетически безразличные, но устранение или преобразование которых
эстетически не безразлично и квалифицируется отрицательно или
положительно.
Эстетический опыт есть опыт предметный, но эстетическое
переживание не направляется непосредственно на предметы, если
под «предметами» разумеются только предметы сущие и идеальные,
т. е. предметы бытия действительного или идеально-возможного,
по принципу противоречия. Существующий или мыслимый пред-
766
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
мет должен быть известным образом транспонирован в сознании,
чтобы стать предметом эстетическим. Эстетическое, «прекрасное»,
respective, «безобразное» требует особой установки, не чувственной
и не идеальной, a sui generis. Существенно — эстетических
предметов в смысле бытия фактически воспринимаемого или
мыслимого нет; поэтому всякий не внеэстетический предмет может быть
предметом эстетического сознания. Таковы предметы чувственного
опыта. Идеальные предметы как такие — внеэстетичны; семь ни
прекраснее, ни безобразнее восьми, семиугольник ни прекраснее, ни
безобразнее пятиугольника, «обезьяна вообще» ни прекраснее, ни
безобразнее «женщины вообще». Чувственный предмет, становясь
предметом прекрасным, «идеализуется», «эстетизируется»,
«стилизуется». Формы эстетического предмета не суть формы ни
действительного, ни идеального бытия, но могут совпадать с ними или
походить на них; поэтому-то и не бессмысленно говорить о «красоте
природы». Такие совпадения — формы и в пределах форм. (Об
эстетическом предмете см. «Эстетические Фрагменты». Вып. IV.
«Проблематика современной эстетики».)
Эстетические формы и категории не суть формы и категории
бытия как такого, но они идеализуют бытие эмпирическое, и
обратно, делают чувственно-наглядным бытие идеальное.
Эстетическое по форме так же посредствует между чувственным и
идеальным, как смысловое посредствует между эмпирическим и
идеальным предметом по содержанию. Соответственно, эстетическое
сознание корреспондирует с сознанием «разумеющим». Не только
эстетические формы суть посредствующие в указанном смысле;
всякие внутренние формы суть посредствующие; эстетические
формы — среди «посредствующих» — не логические и не «формы
сочетания».
Примечательно к sui generis эстетическому предмету, к его
«нейтральному» и «отрешенному бытию» приходится говорить о sui
generis эстетическом сознании, respective, эстетическом восприятии,
представлении, образе, идее и т. п. Отдельные моменты в структуре
слова суть in potentia такого рода эстетические предметы.
Соответственно, можно говорить об эстетическом суждении, восприятии
etc. этих моментов или об их эстетичности, в положительной или
отрицательной квалификации. Нужно выделить в структуре слова
моменты существенно внеэстетические.
Эстетические фрагменты
767
Как категории, формы и предметы действительного бытия
нейтрализуются, становятся индифферентными в смысле фактического
бытия, как они от него «отрешаются», трансформируясь при
эстетической установке, так, обратно, собственно эстетические
категории могут овеществляться и логизироваться. Так, можно говорить о
трагическом, возвышенном, комическом и прочем не только как о
категориях эстетических; бывают возвышенные идеалы, комические
положения, трагические случаи и т. п., в действительном бытии, и
притом безотносительно к их эстетической квалификации. Отсюда
понятна и иногда необходима конверсия, в силу которой
приходится особо оговаривать эстетически комическое, трагическое и т. п.
Все это косвенным образом подтверждает и непосредственно
очевидную формальную природу эстетической предметности.
В предметном эстетическом сознании конкретно выделимо и
различимо, в рефлексии и анализе, фундированное эстетическое
переживание. На всех его ступенях — безотчетная эмоция
(наслаждение — отвращение), «переживание прекрасного» и подобное,
«настроение», «сознание в целом» (культурной эпохи subjective, стиля
objective — и т. п., и т. д.) — надо отличать эстетическое наслаждение
и т. д. от внеэстетического.
He-эстетическое есть не только внеэстетическое
(эстетически безразличное) и «неэстетическое» или противоэстетическое
(«безобразное»), но также лишенное эстетичности, где «лишенное»
означает положительное отнятие, разрушение и уничтожение
эстетичности и, следовательно, влечет за собою положительную
невозможность эстетической квалификации — как бы ущерб красоте,
убийство ее, насилие над нею (а не простая нейтральность, как во
внеэстетическом). Подобно этому, нелепость, бессмыслица все-таки
логические квалификации (имеющие свою специальную
логическую ценность, как, например, понятие квадратного круга,
абракадабры и т. п.), но лишение, отнятие смысла, существенное отсутствие
его, есть не только внелогичность, как, например, чувственно и
эмпирически случайное, но и положительное насилие, убийство
логического смысла, например, в идиотизме, в идиотическом наборе
слов. Таким убийственным для эстетического смысла, respective, для
эстетического понимания (= вкуса), является прагматизм,
прагматическая установка, прагматическое сознание, в частности, стало быть,
моральное.
768
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Все, что нужно, сказано Эдгаром По: «Единственный верховный
Судья красоты — Вкус; с Рассудком и Совестью у нее связь только
побочная; с Долгом и Правдою у нее нет никакой связи, кроме случайной».
Нижеследующее не дает анализа самого эстетического сознания;
его задача указать и квалифицировать положительные,
отрицательные и внеэстетические моменты в структуре слова. Следовательно,
здесь только тематика и проблематика, а анализ самого сознания
еще где-то впереди.
II
1
Первое, с чем мы встречаемся при восприятии слова, —
акустический комплекс. Нам вовсе не надо знать его значение или
смысл, чтобы быть в состоянии эстетически его оценить. А в
интересах точности анализа даже необходимо отвлечься от всех других
его качеств, сосредоточиваясь только на качествах акустически-
фонетических. Разобщать еще и эти последние, т. е. фонетические, с
собственно акустическими («природными», не «словесными»)
надобности нет, так как это было бы уже в интересах чисто акустической
эстетики, а не эстетики слова. Достаточно представить себе, что мы
слышим абсолютно незнакомый язык или искусственный подбор
звуков, намеренно лишенных смысла. Большее напряжение,
пожалуй, нужно употребить на то, чтобы отвлечься также от
эмоционального тона, от экспрессивности такого звукоряда. Но и это, конечно,
достижимо, в особенности если не поддаваться ложному внушению
некоторых теоретиков, будто с (музыкальными) звуками
существенно связано то или иное «настроение». Никакой существенной связи
здесь быть не может, точно так же, как нет ее между звуком и
смыслом. Чисто акустические впечатления (в фонемах имеющие только
весьма ограниченное применение), вроде очень высоких визгливых
тонов, так называемых биений, царапанья железом по стеклу и т. п.,
если и сопровождаются устойчивым чувственным тоном, то в
основе своей никаким иным, а именно «эстетическим».
С другой стороны, нужно принять за правило рассматривать
словесный звукоряд как ряд немузыкальный. Смешивать эстетику
музыкальную и словесную всякий горазд, надо уметь их различить.
Для музыки безразлично, на каком языке, хотя бы на голландском,
Эстетические фрагменты
769
поется ария, — для языка голландского партитура не
переписывается с языка итальянского, ее формы остаются строго
неизменными. Равным образом для словесной эстетики иррелевантны такие
факторы, как тембр голоса, мягкость или чистота его, колоратурные
переливы и т. п. Все это может быть приятным добавлением, но
случайным и для звуко-слова как такого несущественным. Обычно
музыка и не судит о других элементах словесного звука, кроме гласных,
т. е. тонов. С «шумами» она сама справиться не умеет. Между тем не
одними гласными определяется эстетическая ценность слова, и,
например, финский язык из-за обилия гласных едва ли может быть
поставлен эстетически выше языка хотя бы чешского. Самые
разнообразные шумы, звон, свист, шипение, завывание, скрип, грохот, сви-
рестенье, визг, шуршание, даже гнусавость и сколько угодно других
могут получить меру когда они становятся в звуко-слове эстетически
приемлемыми, оправданными и приятными. В слове для шумов свои
законы, не переписываемые из музыки и на ее элементарные
(сравнительно) законы отношений тонов не сводимые. Сама музыка, когда
говорит у себя об «идеях», «содержании», «настроениях» даже, только
более или менее удачно подражает и аналогизирует. И никакое
музыкальное подражание не передаст того эстетического впечатления,
которое мы переживаем, и притом независимо от «смысла», хотя бы
от одной строки:
Звени, звени хрустальный альт стаканов...
Ссылки на то, что поэзия, может быть, родилась из пенья с
музыкой, нимало не убедительны, как все ссылки на генезис. Такие
ссылки не устанавливают существенной связи. Происхождение
(возможное) поэзии от пения так же мало для поэзии существенно, как
не существенен для поэзии Пушкина тот факт, что Пушкин родился
близ Горохового, а не Воронцова поля, если бы даже Пушкин
воспевал Гороховое поле. Если бы связь поэзии с пеньем и музыкою была
связью существенной, они никогда не разошлись бы, и притом в
такой беспечальной разлуке. Если поэтика сохраняет такие термины,
как мелодия, напевность, музыкальность и т. п., то для нее это —
собственно метафоры.
Остается некоторый звуковой комплекс, расположенный во
временной ряд и носящий свои отличительные характеристики:
долгота и краткость гласных, счет их (слогов), метрическое сочета-
770
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ние — подлинное или аналогически условное, тоническое
объединение вербальных ударений в целях конструкции, ритм,
периодическое повторение звуков, рифма, аллитерация, ассонанс, наконец,
акцентуация, паузы, цезуры. Некоторыми из этих приемов, паузами,
ударениями, можно воспользоваться и для выделения смысловых
отношений или эмоциональной экспрессивности, наряду с
модуляциями голоса, особыми эмфазами в произнесении, интенсивностью
звукового напряжения, но все же законно и понятно выделение ряда
чистых звуковых впечатлений. Они целиком распределяются в
чистые звуковые формы сочетания и «очертания» (Gestaltqualitäten) и
именно как такие и должны рассматриваться в своей эстетической
ценности. В особенности тщательно от них нужно отделять
эмоциональный тон звуков, как, например, знаков опасности, любовного
напряжения и т. п., и как предмет особого эстетического
восприятия и как сам по себе чувственный тон, отличный от эстетической
эмоции. Тон произношения, так называемый «акцент», дает еще
нечто большее, чем эмоциональное указание, будучи признаком
самого индивида или принадлежности его к слою населения,
национальности. Подобная персональная и этническая диагностика
может быть присоединена к диагностике — в отличие от
интерпретации — эмоциональной и может открыть основу
эстетического тона речи, но она выводит, строго говоря, за границы того, что
эстетически дается одним «чистым» звуком. Только применительно
к этому последнему следует говорить о «формах сочетания» в
строгом смысле.
Пользуясь старым эстетическим термином, можно сказать, что
в этом последнем акте мы имеем дело с чисто феноменальной
видимостью (Schein). И, следовательно, наслаждаемся только ею как
такою. Это есть чистая чувственная интуиция, т. е. ничего в себе не
заключающая интеллектуального или эмоционального
(эмоциональное — «надстройка», а не сама интуиция). И это есть чистая
эстетическая интуиция, т. е. ничего, кроме эстетической
приятности, в себе не заключающая, отрешенная как от действительности,
так и от мысли. Мы имеем дело с «красивостью», но еще не с
«красотою». В этой интуиции мы не приписываем никакой физической
действительности самому звуковому ряду, но и не воспринимаем его
еще как знак, заместитель или представитель какой-либо
физической или духовной действительности.
Эстетические фрагменты
771
Такое чистое эстетическое наслаждение можно было бы назвать
формальным, не только по причине его объективной фундирован-
ности на чистых формах, но также потому, что требования,
которыми оно, по-видимому, удовлетворяется, суть требования
формальные, как расчлененность, разнообразие, грациозность группировки,
пропорциональность, единство и т. п. Конечно, это — не мотивы
эстетического наслаждения, и, быть может, даже отличительная
черта этого рода эстетического восприятия, что оно не
мотивировано. В этом отношении, и притом совершенно формально — т. е.
не перенося никаких «законов», «критериев» и правил обсуждения
из одной области в другую — можно сопоставить такое
формальное наслаждение звукословом с наслаждением от музыкального
тона, независимо от тона «экспрессии», «настроения» и т. п. В обоих
случаях сила его определяется формальною силою, тонкостью или
развитием вкуса. Оно как бы навязывается с принудительностью
физической реальности и по ощущению характеризуется в терминах
иррационально-физиологических. Отдать отчет в источнике и
мотивах наслаждения «красивостью» почти невозможно, и отрицание
их носит характер деланного критиканства. Тем не менее вкус здесь
в состоянии производить свой «выбор», «отбор» или оценку, плохо
мотивированную и, по-видимому, ничем не руководимую, кроме
привлекательности самого переживания. Принудительность
эстетического признания вообще стоит здесь рядом с безграничною
свободою выбора в каждой частности.
Если условиться обозначать расчлененные формальные
элементы этого эстетического впечатления как некоторый ряд u0 u, u2...
un..., то совокупное впечатление можно обозначить символом суммы
ZU,
2
Присоединяющееся к чистому восприятию звука сознание
фонетически-морфологического строения едва ли как такое
обладает качествами положительного повышения эстетического
впечатления. Знакомость языка и знание его эмпирической
определенности могут вызывать известное чувство «успокоения», отсутствия
«тревожной напряженности», отсутствия «ожидания
неожиданностей», но эти и подобные чувства не связаны прямо с эстетическими
качествами самих морфем. Пределы выбора, которые давали бы воз-
772
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
можность эстетически предпочесть одно сочетание другому, крайне
стеснены, с одной стороны, сознанием связи морфемы со
значениями, с другой стороны, ее связанности внутренними логическими
формами. Вопрос об эстетическом предпочтении, например,
выражения «греческий язык» — «эллинской речи», «саженей» — «сажен»,
«дней» — «дён», пассивной формы глагола активной и т. п., часто
определяется не эстетическими соображениями, а необходимостью
передач и «стиля» «характерности» и прочего. А если, при всех
прочих равных условиях, может быть поставлен и вопрос эстетический,
то эстетическое значение данной формы будет определяться не по
ее грамматической роли, а исключительно по звуковому
впечатлению (и0 и, и2...).
Не имея положительных эстетических качеств, морфемы могут,
однако, играть роль в складывающемся эстетическом впечатлении
отрицательную. Так, резкое нарушение привычных форм может
служить препятствием к непосредственному положительному
эстетическому восприятию. «Сткло», усеченные причастия в стихе — не
только неблагозвучны, но также нарушают привычный для нашего
времени склад формы, как и, например, «ненастроенный рояль» для
того, кто привык говорить «ненастроенная» и т. п. Этим эстетически
неприятно нарушается не только стиль или синтаксис, но и
непосредственное слуховое впечатление привычных «форм сочетания».
Именно потому, что здесь имеет место нарушение привычки и зна-
комости, незначительные, нерезкие уклонения от «нормы» могут
отраженным путем играть роль, наоборот, приятного возбудителя,
подобно тому как ее играют некоторые отступления от привычного
произношения.
Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
сердечный трепет
Произведут в груди моей.
Некоторые морфологические архаизмы или провинциализмы,
независимо от присущей им от «неупотребления» свежести
внутренних поэтических форм, могут нарушать или возбуждать
эстетическое впечатление.
Условимся обозначать роль морфем в эстетическом восприятии
СИМВОЛОМ: 1.
Эстетические фрагменты
773
III
1
В неопределенно широком обозначении все отношения,
которые конструируются между внешними формами сочетания и
смыслом слова в его «естественной» онтологической конституции,
располагаются как область внутренних форм. Состав их, однако,
разнороден, и сюда укладываются, с одной стороны, формы
логические, а с другой, внутренние поэтические; к тем и другим могут
примкнуть — в зависимости от определения их по основанию или
действию — формы синтаксические и предметно-стилистические (не
субъективно-экспрессивные). Поскольку внешние синтаксические
приметы совпадают с морфологическими отличиями, о них особо
говорить не приходится — их эстетическое значение
исчерпывается значением последних. Наличность же открытого сознания их, как
выполнение синтаксического канона или отступления от него,
делает их уже формами внутренними, и в таком случае методологически
совершенно правомерно рассматривать их как формы поэтические
(формы поэтики).
Наипростейшее проявление внутренней формы есть логическая
форма или схема, как отображение предметных (онтических)
отношений или даже как их преображение, но существенно
находящее себе онтический коррелят. Совершенно наглядно наличность
этих форм обнаруживается при сравнении строгой, щепетильной
и даже педантической научной речи с житейскою «презренной
прозой». Не столько предопределенность логических форм онти-
ческими — что, в конце концов, для самого определения все-таки
остается задачею, — сколько условное соглашение простой
номинации или номенклатуры отличает логическую речь как речь
терминированную. Напротив, формы изложения, «рассуждения»,
«доказательства» и прочие, которые принято называть
методологическими, суть своего рода логические алгоритмы, отображающие
скорее смысловые идейные отношения, чем собственно и
элементарно онтологические. Отсюда — их противопоставление по их
материальности или трансцендентальности чистым онтологическим
формам. Все они существенно идеальны и «преодолевают» вещную
и чувственно-феноменальную данность. Их «образование»
сознается и формулируется как «закон».
774
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Сами по себе, при закономерности и стройности их
образования, эти внутренние идеальные отношения, дающие впечатление
ясности и раздельности, вызывают своеобразное чувство
интеллектуального наслаждения, а не чисто эстетического, «чувственного».
Здесь чувствуется, требуется и вызывается известная как бы
«подтянутость» ума, а не возбуждение и напряжение чувства. Это как бы
логическая удовлетворенность, спокойствие логической совести.
Поэтому при соблюдении речью логических законов, подобно тому
как и при ненарушении морфологических и синтаксических
привычек, наблюдается в их восприятии простое спокойствие, равновесие,
но не положительная прибавка к эстетическому чувству.
Случаи суппозиции, игра омонимов и синонимов, некоторые
силлогистические приемы (например, рогатые силлогизмы) и т. п.
при введении их в рассуждение привлекают внимание и потому,
может казаться, вызывают и чувствования положительного качества.
Но любопытно, что в логике именно эти случаи связаны как раз с
учением о «логических ошибках», и главный их источник — в «игре
словами», в «каламбуре», каковые формы правильнее уже относить к
поэтическим внутренним формам. И действительно, в научном
изложении это — уроды, «софизмы», в поэзии это необходимая
принадлежность некоторых литературных форм, — комизм, остроумие
и т. п. — и прием для некоторых авторов излюбленный (например,
у Ф. Сологуба, ср. «ножи давилки» и т. п.). Здесь всегда —
«переплетение», «игра» между формами чувственного восприятия звукослова и
идеальными логическими формами. Логика этого не любит. Все
учение о суппозиции, положительно разрешающее «планы»
предметности, «отнесенность», интенции (primae, secundae), имеет
предупреждающее и запретительное значение: не смешивать понятия (слова)
о предмете (о «вещи») с понятием о понятии (словом о слове) как
предмете («идее»).
Но если логическое спокойствие не есть положительный,
действующий фактор (causa effïciens) эстетического возбуждения, а
только пассивное условие, то — как и в морфологической
планомерности — нарушение равновесия может вызвать эстетически
отрицательную реакцию. Логически-синтаксическая неясность,
например, выражения «тьмы низких истин мне дороже...» — как бы
ожидаем «чего?» или «чем что?» «нас возвышающий обман»,
вызывает потерю равновесия и переворот в установке сознания — затра-
Эстетические фрагменты
715
та, эстетически не вознаграждаемая, а скорее как-то осаживающая
общее течение эстетического переживания. Стоит восстановить
логическое равновесие, понять фразу, и она и эстетически проходит
глаже. Но, как сказано, следует отличать интеллектуальное чувство,
и его удовлетворение или неудовлетворение от собственно
эстетического. Например, «субъект определяет объект» — логически
двусмысленно, эстетически — может быть вне оценки. Можно было бы
ввести какой-нибудь синтаксический знак, например, порядок слов,
который устранил бы двусмысленность, или просто сказать:
«объект определяется субъектом», respective, «субъект определяется
объектом». Но и в таком виде эта апофегма* может довести логически
дисциплинированный ум до состояния глубокой меланхолии:
«субъект» — эмпирический или чистый? — «определяется» — логически,
причинно,.функционально? — «объект» — материальный,
осуществленный, как цель, как причина? и т. д. Сколько сочетаний, столько
недоразумений — но именно недоразумений, т. е. интеллектуальных
преткновений, а не эстетических.
Поскольку логическое несовершенно формальное выражение
является, однако, и эстетическим преткновением и, следовательно,
соответственно понижающим фатором эстетического наслаждения,
обозначим условно его участие в эстетическом восприятии как у.
2
В вульгарном понимании, речи рассуждающей, логической,
терминированной, «только сообщающей» противопоставляется речь
поэтическая, риторическая, образная и фигуральная, вызывающая
всякого рода, в том числе и эстетические, эмоции. В
действительности, и той и другой форме речи противостоит речь
«бесформенная», житейская, утилитарная, составляющая в общем запасный
склад, материал для чеканки и логических и поэтических
элементов речи. Располагая логическими и поэтическими критериями, мы
легко извлекаем из «пошлой» (т. е. чисто утилитарной) речи и
термины, и «образы». Что касается взаимного отношения речи
логической и поэтической, то оно определяется внутренним положением
самих этих форм между чистыми идеальными формами предмета
и чистыми сенсуальными формами звукослова, причем логические
* За фертографию этого слова автор на себя ответственности не берет.
776
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
формы остаются фундирующими внутренними формами, а
поэтические формы — фундированные внутренние формы. Строгое и
чистое выполнение этого канона обозначается термином
историческим, но приобретшим уже и теоретическое значение: классицизм.
С точки зрения отношения форм логических и поэтических едва ли
не самый прозрачный образец — «Божественная Комедия» —
произведение по форме всецело классически-реалистическое (невзирая
на «фантастичность» — реалистическое поэтически, не
метафизически, не с точки зрения «восприятия реального мира») — чуждое
«небрежности» романтического идеализма. Хотя, конечно, творчески-
генетически идет впереди и руководит раскрытием сюжета форма
поэтическая, а логический фундамент как бы двигается под нее. Если
бы генезис был обратный, мы говорили бы о философском
произведении, изложенном в поэтической форме, а не о поэтическом
творении с философским сюжетом. Обратный пример: поэтическая
неудача, а вместе и философская, второй части Фауста Гете —
рассыпанной груды поэтической штукатурки и философских камней,
где нет поэтически одушевленной логики и нет логически крепко
сшитой поэзии.
В каком бы противопоставлении мы ни пользовались
характеристикою поэтической речи, как образной и фигуральной, термин
«образ» требует своего безотносительного истолкования, как sui generis
форма. Как словесная форма вообще, отличающая один ряд слов
от другого, «образ» (точно так же, как и «термин») должен обладать
тою же принципиально структурою, что и слово вообще. Лишь
отдельные члены структуры, подлежащие специальному определению,
будут отличаться какими-то своими специфическими
особенностями, например, интенсифицирующими какие-то отношения форм,
ослабляющими, растягивающими, сокращающими и т. п. Внешне
образ запечатлевается в особых стилистических формах, со
стороны внешней сводимых в конце концов к формам синтаксическим
и коррелятивных формам логическим. Таковы формы композиции
целого и частей, распределения и построения частей: глав, сцен,
строф и прочих, отдельных фраз: периодов, отрывистых суждений
(изумительное, например, «Путешествие в Арзрум») и, наконец,
отдельных элементов предложения. Должно быть нечто, отличающее
их от простого и голого логического построения, что и дает право
характеризовать их как образные или образы. Это находит себе чи-
Эстетические фрагменты
111
сто внешнее выражение: повторения, параллелизмы прямые,
обращенные, анафоры, рефрены и т. п.
Образность речи присуща не только «поэзии» как
художественной литературе. Это есть общее свойство языка, присущее также и
научному изложению. Речь идет не о том, что в науке можно
излагать «изящно», «художественно» и т. п., а о научном изложении как
таком, которое не может обойтись без помощи творческого
воображения в построении «наглядных» (?) гипотез, моделей, способов
представления. Например: «Атомы меди расположены настолько
близко одни к другим, что металл кажется нам несжимаемым; с
другой стороны, понятно, что чем ближе между собою атомы, тем
легче каждый из них может передать отделимый электрон соседнему
атому. — На цинке накапливаются электроны, и мы строим мост, по
которому излишек их мог бы перейти на медь» и т. п. Поэзии здесь
никакой, фантазии и «образности» много. Теории, вроде органичной
теории в социологии, физиологического объяснения в психологии,
механистическое миропонимание, органическое развитие
производительных сил, определяющее историю, также любая
метафизическая теория — все это построения фантазии, образы, но образы не
«поэтические», в узком смысле художественных и эстетических
факторов. Как мы уже и видели, «поэтические» формы — не есть прямой
предмет эстетики. Вопрос об их эстетичности — особый вопрос.
Тем не менее нужно отличать, хотя бы по тенденции, слово-образ
от слова-термина. Слово-образ отмечает признак вещи, «случайно»
бросающийся в глаза, по творческому воображению. Оно — всегда
троп, «переносное выражение» как бы временное, когда и пока
прямого собственно еще нет; «прямого», т. е., прямо направляюще
направляющего на значение; или когда есть и прямое, но нужно
выразить его именно как воображаемое, поэтическое переживание. —
Это — слово свободное; главным образом, орудие творчества
языка самого.
Слово-термин стремится перейти к «прямому выражению»,
обойти собственно образ и троп, избегнуть переносности. Так как
всякое слово, в сущности, троп (обозначение по воображению), то
это достигается включением слова в соответствующую систему.
Живая речь оправляет его в контекст и ближе этим подводит к
«прямому», но собственно терминирование есть включение его в систему
понятий, составляющих контекст своими особыми законами, иде-
778
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
альными отношениями понятий. Когда выдумывают термин,
стараются припечатать его существенным признаком. — Это — слово
запечатанное; главным образам, орудие сообщения.
Очень существенно расширить понятие «образа» настолько,
чтобы понимать под ним не только «отдельное слово»
(семасиологически часто несамостоятельную часть предложения), но и любое
синтаксически законченное сочетание их. Памятник, Пророк,
Медный Всадник, Евгений Онегин — образы; строфы, главы,
предложения, «отдельные слова» — также образы. Композиция в целом есть
как бы образ развитой explicite. И обратно, образ, например,
метафоричность «отдельного слова», есть композиция implicite. Развитие
простого названия, имени в легенду, миф, сказку есть, как известно,
вещь обычная. Поэтому, забегая вперед, надо сразу же отметить как
необыкновенно узкое и упрощающее действительное положение
вещей то убеждение, что, например, метафора возникает из
сравнения, — если, конечно, не расширить само понятие сравнения до
значения любого сопоставления. Формально должно быть столько
же видов метафорического построения, сколько существует видов
предметных отношений, полагаемых в основу суждений.
Со стороны внутренней противопоставление
терминированной и образной речи точно так же относительно. Оно не означает
вытеснения одного ряда форм другим — из предыдущего мы уже
знаем, что внутренние поэтические формы надстраиваются на
внутренних логических, — а лишь относительное развитие одного и
относительное обеднение другого ряда. Взаимное отношение их
как необходимых членов словесной структуры принципиально не
меняется. Следовательно, неправильно мнение, будто в поэтической
речи концепт заменяется образом и конципирование — фантазией.
Это опровергается и отношением образа к другим членам структуры
слова: образ предицируется, что не есть функция фантазии, и образ
понимается, что также не есть функция фантазии.
Отличительные признаки «образа» как sui generis внутренней
поэтической формы приблизительно и предварительно намечаются
в следующих чертах. В структуре слова он ложится между звукосло-
вом и логической формою, но также и в отвлеченном анализе как
самостоятельный предмет изучения он помещается между «вещью»
и «идеей». Он одновременно носит на себе черты одной и другой,
не будучи ни тою, ни другою. Образ — не «вещь», потому что он не
Эстетические фрагменты
779
претендует на действительное бытие в действительном мире, и
образ — не «идея», потому что он не претендует на эйдетическое
бытие в мире идеальном. Но образ носит на себе черты
индивидуальной, случайной вещи и носит на себе черты идеи, поскольку он
претендует на осуществление, хотя и не «естественное», а творческое, в
искусстве (культуре вообще). Он есть овеществляемая идея и идеа-
лизованная вещь, ens fictum. Его отношение к бытию ни
утвердительное, ни отрицательное, оно — нейтрально. Образ — конкретен,
но его конкретность не есть конкретность воспринимаемой вещи и
не есть конкретность умозрительной идеи; его конкретность —
типична. Образ ни строго индивидуален, ни строго общ в логическом
смысле. Законы логического образования понятий к нему неприло-
жимы. Будучи общным, образ не лишается признаков необщих всем
лицам, на которые он указывает. Можно иногда образ фиксировать,
«остановить» его и довести до возможности наглядного
представления и репродукции, но если мы его этим индивидуализируем, он
уничтожится как образ. Если это кому-нибудь что-нибудь говорит,
то общую тенденцию поэтического образа, в отличие от логической
формы, можно выразить как тенденцию индивидуализировать
общее через подчеркивание типичного и характерного против
специфического и существенного*.
В отличие от статического концепта, оживляемого только
разумением, образ динамичен сам по себе, независимо от разумного
понимания (даже если он «неразумен» и «непонятен»). Он — всегда в
движении, и легко переходит в новый образ-подобие. Логическое
понятие при накоплении признаков ограничивается, уточняется,
«определяется» — пароход белый, большой, винтовой и т. д. Образ
как бы раскачивается, оживляется, перебегает с места на место —
пароход веселенький, унылый, подпрыгивающий, заплаканный,
ворчливый и т. п.
Понятие передает вещь через отображение в признаках ее
конститутивных онтических существенных свойств предмета;
образ может признак, логически для вещи несущественный, принять
за характеристику вещи. Через образ вещь в нашем сознании
преобразуется и в процессе преобразования как бы теряет логическую
* Ср., разумеется, Mutatus mutandis примеры и их разъяснение у Карьера.
См.: Carrière M. Die Poesie. 2. Aufl. Lpz., 1884. S. 100 ff.
780
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
устойчивость, будучи безразлична в себе и для себя к
собственному существенному основанию и нуждаясь в нем не столько для себя,
сколько для оформливаемого образом сюжета (содержания). Смысл
в образе не довлеет себе, как в понятии. Понимание, переливы
смысла, делающие динамическим понятие, заменяются в образе
парением, реянием и, соответственно, требуют чутья, вкуса и т. п. на место
понимания или, вернее, в добавление к пониманию фундирующего
его основания. В некоторых эстетиках говорят о «внутреннем
подражании» — применительно к образу, это и есть как бы его
понимание, потому что понимание как бы гонится за потоком смысла, а
«внутреннее подражание» пробегает по фигуре, очертаниям, схеме,
композиции и т. п., овнешнивающих образ. Образ, как и понятие,
не воспроизведение, не репродукция, и соответственно
«воображение» — не «восприятие» и не «представление». Оно между
представлением и понятием.
Оно должно быть сопоставляемо с «допущением» (по
терминологии Мейнонга). В особенности важно, что образ — не
представление (к этому мы еще вернемся), — и потому психологизм из
поэтики, как учения о внутренней поэтической форме, об образе, должен
быть искореняем с такою же твердостью, с какою он искореняется
из логики. Психологическая поэтика, поэтика, как «психология
художественного творчества», есть научный пережиток. Наше антипо-
тебнианство — здоровое движение. Потебня вслед за гербартианца-
ми вообще и, в частности, вслед за Штейнталем и Лацарусом,
компрометировал понятие «внутренней формы языка».
Задача логического понятия — ясность и отчетливость. Наука,
принимая условно какое-нибудь название вещи за знак понятия,
присоединяет к нему другие названия, как новые терминирующие
знаки, и вводит логические требования адекватности как условие
самого соединения. Логика следит за тем, чтобы все это совершалось
сообразно задаче-предмету; что и называется истинностью понятия.
Образ не довольствуется раз выбранным названием. Прикрепленное
к вещи, оно для него обесцвечивается и умирает. Его нужно
тормошить, расцвечивать. Образ набрасывает на вещь гирлянды слов-
названий, сорванных с других вещей. Но и здесь есть своя
«сообразность» и свой страж — поэтика. Метафора, сравнение,
олицетворение, сопоставление привычного с непривычным и обратно и т. п. —
все это имеет свои основания, и также онтологические, только пред-
Эстетические фрагменты
781
мет этой онтологии — само слово. Как для наук в их специальных
методологиях мало одной формальной онтологии и вокруг каждой
науки располагается своя онтология материальная — запас и
аппарат научных (логических) моделей, фикций, рабочих гипотез и т. п.,
применительно к материалу данной науки, так и поэтику не может
удовлетворить один синтаксис. Вокруг поэтического произведения
к его услугам располагаются не только синтаксис, но со всем
материальным богатством стилистика данного языка. Почерпая отсюда
поэтические модели и фикции, поэтика по ним строит, шьет
словесный наряд для своей мысли, заменяя им обесцветившиеся и
истрепавшиеся от повседневного употребления названия вещей.
Поэтика — наука о фасонах словесных одеяний мысли. Она так же мало,
как и логика, предписывает правила и моды, она их учитывает.
Логика — история логического, поэтика — поэтического костюма
мысли. Отношение между внешними чувственными формами сочетания
и логическими-онтическими формами бытия, жизни мысли —
формы поэтики или образа.
Из сказанного видно, что образы как формы, творимые
поэтом, — через воспроизведение моделей отношения имен и
осмысленных форм — суть формы «искусственные». Поэтика как
учение о них есть одна из проблем философии искусства. Всякая
формально-предметная дисциплина имеет необходимый коррелят
в конкретном и материальном учении философии о самом смысле,
развивающемся по этим формам, или вообще о жизни и игре
отражающегося на гранях форм и преломляющегося через них сознания.
История научного сознания есть история действительного
осуществления в науке одной из возможностей логического сознания
вообще. Равным образом и из возможных форм творчества и искусства
действительно осуществленные имеют свою историю, как историю
эстетического сознания. История эстетического сознания, наряду
с историей научного сознания, входит во всеобъемлющую историю
культурного творческого сознания вообще.
Из самого положения образа, как внутренней поэтической
формы, таким образом, вытекает требование, чтобы образ был
«согласован». Это есть прежде всего согласование, по общему
онтологическому принципу тожества с самим собою. А затем также по общему
онтологическому принципу достаточного основания — почему
именно такой, а не иной? образ как отношение должен быть согласован
782
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
со своими терминами. Но для этого оба термина отношения —
логический смысл и фонетически-морфологический знак — каждый
в себе должны быть каноничны. Их коррелятивные колебания есть
динамика самого образа, который теперь также приобретает свою
каноничность — «гармонию» — как в своем построении, так и в
движении. Он должен быть готов к вопросу: как следует выразить
данный смысл, чтобы восприятие его было эстетическим? и своим
бытием он дает ответ на этот вопрос: вот как нужно видеть вещь, если
хотите видеть ее эстетически!
Как мы уже говорили, эстетическое требование к обоим
терминам образа как отношения к морфеме и логической форме — было
только отрицательным: не мешать. Ибо нарушение своего канона
любым из этих терминов влекло за собою разрушение всего
отношения. Для них опускалась только некоторая ограниченная
вольность, и то при условии, что всякое отступление от канона должно
быть чем-нибудь компенсировано эстетически. Нарушение
логичности должно компенсироваться удовлетворением цели, например,
особого «подчеркивания», привлечения внимания, произведения
«впечатления». Равным образом, «неясность», «новизна»,
«неточность» морфологически-синтаксических «знаков» должны
искупаться способностью самих «дефектов речи» привлекать к себе
эстетическое внимание. Лишь бы при всех этих отступлениях не
нарушался канон внутреннего образа, в общем весьма широкий и свободный
в силу существенно присущей ему динамичности.
По отношению к образу, напротив, требование наших
эстетических запросов положительно. Образ должен разрешать
положительную задачу: уложить сюжет (тему, материал), логически
оформленный (например, если А есть В, то С есть 13), в синтаксические
схемы (например, когда а есть Ь, то с есть d, когда е есть/и g, когда
h и/суть k, тогда тп естьрд), обозначаемые свободно
подобранными фономорфологическими знаками, связанными внешними
формами сочетаний (например, свободно выбранными ритмическими
расчленениями). Выбор здесь настолько широкий, что вопрос о том,
разрешена эта задача или нет, может быть удовлетворен только
непосредственно чувством или анализом каждого отдельного случая.
Если мы ощущаем образ, внутреннюю поэтическую форму, как
достигнутое осуществление задачи, мы констатируем наличность
эстетического впечатления. И только, может быть, одно есть общее пра-
Эстетические фрагменты
783
вило: восприятие должно быть как бы обратно творчеству,
композиция в целом должна ощущаться как соответствующая и подчиняемая
разливу сюжетного материала, его собственному внутреннему
движению, а не обратно. Иначе искусство для нашего сознания
переходит в искусственность. Хотя само творчество потому должно идти
путем обратным, — от «втиснения» материала в форму, — что
материал дается сперва поэту как мысль общая лишь в своей
«естественной» форме идеи. Образование идеи в поэму, пьесу есть чувственное
расцвечение ее.
Мы имеем здесь дело в целом, следовательно, с особого типа
сознанием: с умственно-эстетическим переживанием,
сопровождающим восприятие образа как некоторой идеализации вещи и
реализации идеи. Как умственное (в «воображении») переживание оно в
целом противополагается переживанию чувственному аноэтиче-
скому, безотчетному, иррациональному, от внешней музыки (ритма
и прочего) звукослова. В привычных терминах эстетики, это есть
эстетическое сознание красоты — союза волшебных звуков и дум.
Прошла любовь, явилась Муза,
И прояснился темный ум.
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум.
Условимся положительное эстетическое значение наслоения
образов, как внутренних форм поэтической речи, прибавляемых к
некоторой логической единице, обозначать символом произведения
множителей вида 1 + Un т. е. как Π (1 + Un).
3
Образ — не представление. Правильнее было бы говорить об
образе как предмете представления, а отожествлять их, значит играть
омонимами (image — и «образ» и «представление»). Можно иметь
представления об образе, но они так же отличаются от самого
образа, как отличаются представления о Кремле от Кремля, как
представления о той, отвращенной от вас, стороне луны от нее самой,
как представления о гиперболоиде от самого гиперболоида. Евгений
Онегин, Дон Жуан, Прометей, Фауст — образы, но не
представления. Как образы они отличаются и от сюжетов «Фауст», «Дон Жуан»
и т. д., получивших у разных поэтов разное поэтическое оформле-
784
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ние. Некоторым это не столь очевидно, когда речь идет об образах,
обнимаемых простою синтагмою или даже автосемантическими
или синсемантическими членами ее. Воображают, что есть особая
способность воображения, которая рисует какие-то «картины»,
воспроизводящие воспринимаемое или комбинирующие «элементы»
воспроизводимого, — воображают, значит, и в этом акте
воображения о деятельности воображения должна рисоваться какая-то
картина? Нет, «воображают» значит и здесь: построяют какой-то образ-
фикцию, отрешенный от действительности и имеющий свои, не
чувственные и не логические, законы форм.
Стоит того, чтобы напрячься и в самом деле «представить» себе,
«воспроизвести», нарисовать «картину» при восприятии
поэтических образов: «Горные вершины спят...», «хоры звездные светил...»,
«души успокоенной море», «ненастной ночи мгла / По небу
стелется одеждою свинцовой», «взбесилась ведьма злая / И, снегу за-
хватя, / Пустила, бегая, / В прекрасное дитя» и т. д., без конца.
Стоит постараться о сказанном, чтобы раз и навсегда убедить себя в
том, что если какие-нибудь «картины» перед нами и возникают, то
они играют такую же роль в эстетическом восприятии
поэтического слова, какую они играют в понимании научной или обыденной
речи. Как «представление» понятия задерживает понимание и
мешает ему, так оно задерживает эстетическое восприятие слова и
мешает. Если «представления» вообще тут появляются и сопровождают
поэтическое восприятие, то как нечто побочное, ek parergou,
несущественное.
Образ как внутреннюю форму поэтической речи и как предмет
«воображения», т. е. надчувственной деятельности сознания, ни в
коем случае недопустимо смешивать с «образами» чувственного
восприятия и представления, «образами» зрительными, слуховыми,
осязательными, моторными и т. п. Другое, еще более существенное
различие образа-формы и образа-картины — в том, что форма, раз она
создана, она существует одна для всякого ее воспринимающего, для
самого поэта та же, что для слушателя или читателя, будь он Потеб-
ня или иной профессор, или учитель словесности, или просто
недоучка. Представления же «картины», вызываемые у них этою формою,
у всех разные, и даже у каждого из них о них разные в разные
случаи их обращений к этой форме, как разны у них и эстетические
наслаждения этою формою. Слово значит, обозначает значение,
Эстетические фрагменты
785
смысл, в данных внутренних формах, логических и поэтических, —
значит, и это значение объективно есть. «Представление» же слова
не значит, представление словом только вызывается, пробуждается.
Значение так-то оформленное — одно, представлений — множество,
хотя бы и они были об одном предмете. Конечно, одно и то же
содержание, мысль может быть выражена в разных формах, но каждое
выражение — предметно и как такое постигается не через
представление, как и некий единый предмет самого представления
постигается не через представление, а лишь по поводу его.
Образность речи не есть, скажем, зрительная красочность, или
контурность, или что-либо подобное, не есть вообще зрительная
или иная чувственная форма, а есть некоторая схема, предметно
коррелятивная воображению, как акту не чувственному, а
умственному. Со стороны распространенного понимания «ума» и
«умственного» освещается еще раз источник ошибок отожествления «образа»
и «картины». Никак не могут освободиться от сенсуализма,
заставляющего все, что не есть «рассудок», сваливать в одну кучу с
«чувством». Вместе с тем и само мышление суживают, ограничивая его
функции познанием. Сужение — произвольное. Воображение,
медитация, «размышление» — не познавательные умственные акты,
точно так же, как «мышление эмоциональное», эстетическое,
религиозное — не познание, но и не чувствование. В основе поэтического
образа лежат акты, которые могут иметь и познавательное значение,
но, вот, оказывается, имеют и поэтическое, и эстетическое значение.
Таковы, например, акты сравнения, сопоставления, группировки,
контрастирования, параллелизации и прочие.
В целом ряде умственных актов мы приходим к построениям,
которые являются в некоторых отношениях аналогами познания, но
не составляют его в строгом и собственном смысле. Если
последние в своем закономерном течении вызывают, фундируют своего
рода интеллектуальные эмоции, интеллектуальное наслаждение,
то эстетическое наслаждение, фундированное игрою поэтических
образов, можно рассматривать как аналогон интеллектуального
наслаждения. Красота не есть истина, и истина не есть красота, но
одно есть аналогон другого. Есть своя эстетическая прелесть и
привлекательность в новизне, яркости и смелости сопоставлений, в
неожиданном выходе из привычной «сферы разговора», в приведении
к совпадению двух разных кругов темы и т. п. Я не ставлю себе здесь
786
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
задачи входить в анализ самого эстетического сознания красоты в
поэзии, ограничиваясь формальными расчленениями предметной
основы эстетического поэтического восприятия. И с этой точки
зрения придаю указанному аналогону немаловажное значение.
Подобно логически оформленному термину, перенесение образа
из одного контекста в другой вызывает перемену в его эстетическом
толковании и понимании. Образ требует своей точности. Контекст
его модифицирует, и он влияет на образование контекста. Есть
немало случаев «цитирования» поэтом поэта, причем это не есть
простая вставка в свое стихотворение строки или образа из
стихотворения другого поэта, а есть нередко новое quasi^onrcecKoe» —
развитие самого образа.
Поверили глупцы, другим передают;
Старухи вмиг тревогу бьют —
И вот общественное мненье,
И вот та родина!..
(Грибоедов)
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов;
Но шепот, хохотня глупцов...
И вот общественное мненъе\
(Пушкин)
Интереснее, пожалуй, другие случаи, когда образ принуждает к
выбору точного выражения. Например, Пушкин пишет:
В пустыне тощей и глухой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Растет, один во всей вселенной,
и поправляет: «чахлой и скупой» и «стоит». Первая поправка
придает образу силу: едва ли здесь поправка вызвана мотивами чисто
звукового преимущества одних эпитетов перед другими. «Тощая
и глухая» «пустыня» так обычно, что идет как бы за одно слово,
внутренняя конструкция как бы исчезла, стерлась, fundamentum
comparationis не ощущается. «Чахлая» уже ярче и свежее, а «скупая» —
уже поразительно ярко, неожиданно, fundamentum comparationis
прямо-таки осязается. И кстати к предыдущему·, чем, например, в
Эстетические фрагменты
787
зрительном образе-представлении отличается пустыня вообще от
пустыни глухой, а обе они — от пустыни скупой?..
Но «стоит» вместо «растет» прямо вызвано логикою самого
смысла образа. «Анчар» растет, но «часовой» стоит. Сравнение
заставляет изменить выражение самого предмета: оно как бы вносит с
собою требование нового контекста и нового «положения» вещей,
а контекст образа поправляет контекст логики, в которой была
«подана», «пришла» мысль. Что здесь дело не в «зрительности», ясно
из создавшегося «зрительного противоречия»: часовой — «один во
всей вселенной», но схема, внутренняя поэтическая форма от этого
не страдает. Не страдает также она и оттого, что дальнейшее
описание в пьесе также «противоречит» вводящему образу «часового»
(«Яд каплет сквозь его кору... К нему и птица не летит, И тиф
нейдет...» — т. е. к тому, что «растет», а не к тому, кто «стоит»). Дело не в
зрительности, а в sui generis общности, т. е. в мысли и в умственном
созерцании, а не чувственном. Эту общность я уже имел случай
обозначить как «типичность», подбор характерного признака на место
(логически) существенного. Типическое положение, достигаемое
через сравнение, например, выступает как характеристика не только
данного, изображаемого положения, но и сходных. Сходство не есть
предмет чувственного восприятия или представления. Какое-нибудь
«солнце — око» — типическое положение, а не зрительный «образ»
(ибо «чье» око — судака или рака? да и око судака, рака или совы —
понятие и образ, а не «картина»: nature morte, портрет, пейзаж,
иллюстрация к Брему). Понятно в этом аспекте и то, как само слово из
«знака» вообще, произвольно применяемого, становится символом,
т. е. канонизированным образом. Понятно и само становление в
свете умственного поэтического творчества.
Невзирая на ясность, в общем, отношений, определяющих
«образ», как внутреннюю поэтическую форму, часто повторяются
указания, что зрительные образы действительно сопровождают
восприятие поэтического слова. Но раз существенной связи между ними нет,
то эта прибавка должна быть относима не на счет природы самой
формы, а исключительно на счет воспринимающего индивида. У
одних индивидов зрительное представление может способствовать
яркости восприятия и эстетичности его переживания, но у других
оно может безусловно служить помехою. Такую же роль играют и
вообще вспыхивающие у индивида, по индивидуальным причинам,
788
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
сопровождающие прямое восприятие «ассоциации», хотя именно
им иногда психологическая эстетика (Фехвер) пыталась приписать
определяющую роль и на них переносила эстетическую
ответственность за воспринимаемое. Равным образом и чувственный тон,
сопровождающий эти побочные для существа дела, но родные и
интимные для индивида, представления и ассоциации не обязательно
есть тон эстетический. Могут иметь место и «волнения» другого
рода, внеэстетические и неэстетические, в общем также то
затрудняющие эстетическое переживание, то благоприятствующие ему.
Каждый индивид мог бы или должен бы составлять на этот предмет
свое личное эстетическое уравнение, и с его помощью вносить
поправку в субъективное переживание, возвращая ему его объективно-
предметное значение.
Условимся обозначать эту личную поправку, прирост и ущерб к
объективному эстетическому восприятию символом ± S.
IV
1
Может ли смысловое содержание как такое, т. е. независимо от
его логических и поэтических форм, быть предметом эстетического
восприятия и, следовательно, источником эстетического
наслаждения? Если противопоставление формы содержанию понимать
абсолютно, то ответ в пользу одних форм получается несомненный
и категорический. В действительности такой ответ — мнимый.
Абсолютная материя есть — чистое небытие, несознаваемость, меон.
И лишь, как методологическое построение, понятие абсолютной
материи может пригодиться в научном анализе. Применительно к
слову «чистое» его содержание, чистый смысл означали бы, вопреки
задаче, именно бессмыслицу, внутреннее противоречие. «Чистая», без
логических (словесных) форм, мысль есть nonsense, немыслимость.
Как было указано, не при абсолютном противопоставлении формы
и содержания, путем отбора форм, мы приходим к идее некоторого
«остатка». Это как бы предел восприятия и мышления. Как такой он
существенно эмпиричен, т. е. свидетельствует об ограниченности
познания данного момента. Принципиально материальный «остаток»
подлежит дальнейшему разрешению в формы. Проблема «смысла» и
«понимания» слишком мало еще исследована, и об имманентных их
Эстетические фрагменты
789
формах, о характере и типе их немного можно сказать, но априори
видно, в каком направлении искать эти формы, раз смысл не только
этимологически есть со-мысль.
Те формы, которые могут быть присущи самому смыслу как
такому, т. е. тому сырому материалу, который подлежит сознательному
и планомерному логическому и поэтическому оформлению, выше
были условно названы «естественными». Смысл предыдущего
вопроса именно в том состоит, чтобы узнать, имеется ли в смысле как
таком предметное основание для эстетического осознания его.
Вопрос приобретает фундаментальное философское значение, если
обратить внимание на то, что постижение смысла, понимание как
функция разума поставляется нами в аналогон чувственному
восприятию как sui generis восприятие или интуиция интеллектуальная
и интеллигибельная. Может ли понимание как чистая деятельность
разума быть основанием своего рода эстетического наслаждения?
Может ли, например, сама философия быть источником
эстетической радости и, следовательно, своего рода искусством?
Платоновский эрос и красота мысли — значит, не иллюзия?
Констатирование в «смысле» имманентных, «естественных»
форм ео ipso прекращает мудрствования по поводу
противоположности формы и содержания, и предуказывает положительный ответ
на заданный вопрос. Проблема эстетического наслаждения, как и в
других случаях, здесь — только частная и может быть показана как
спецификация более общей проблемы об «энтузиазме», «мании»,
«страсти» и «страстности» мысли вообще. Эстетическое
наслаждение — только специальный случай. Не предрешая вопроса,
насколько это — общее свойство, отмечу интересную особенность
имманентной формы содержания, связанной с эстетическим
восприятием. Несомненно, что она не только носит онтологический характер,
но прямо предопределяется идеальными свойствами предмета. Но
так как собственные формы содержания суть некоторые отношения
между возможным идеальным предметом и его действительными
вещными выполнениями, то такое отношение, хотя бы
ограничением идеальных возможностей, вносит в чистые онтологические
формы модификации, лишающие их, прежде всего, их чистоты.
Собственные смысловые формы конструируются в виде опять-таки
аналогона форм поэтических — (формы сочетания звукослова):
(внутренние логические формы) = (формы сочетания вещного со-
790
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
держания): (идеальные онтические формы). Этим констатируется
факт, давно лежащий в основе сопоставления творчества «создателя»
мира, Демиурга, с творчеством художника.
Итак, хотя руководящими в конструировании содержания,
«сюжета» остаются идеальные онтологические формы, тем не менее при
абстрактном рассмотрении самого по себе этого содержания более
привлекают к себе внимание новые модифицированные формы.
Одна особенность их исключительно важна в аспекте эстетическом.
Хотя каждый сюжет может быть формулирован в виде общего
положения, сентенции, афоризма, поговорки, однако эта общность не
есть общность понятия, а общность типическая, не определяемая, а
характеризуемая. Вследствие этого всякое удачное воплощение
сюжета легко индивидуализируется и крепко связывается с каким-либо
собственным именем. Получается возможность легко и кратко
обозначать сюжет одним всего именем: «Дон-Жуан», «Чайльд Гарольд»,
«Дафнис и Хлоя», «Манон Леско» и т. п.
Существенная особенность индивидуального в том, что мы его
рассматриваем прежде всего в интенсивности его признаков и в
идее даже вовсе исключаем признаки экстенсивные, или, вернее, их
игнорируем. Это необходимо влечет за собою то, что сюжет
развертывается в нашем сознании как ряд временной. Поскольку речь идет
об идеальном развертывании сюжета, применение термина
«временной» неточно, так как речь не идет об эмпирическом
«астрономическом» времени, а именно о той идеальной необходимой
последовательности, в которой мыслится интенсивность индивида, и которую
можно было бы называть разве только абсолютной временной, и
которой прообраз мы видим в законе развертывания, например,
математического числового ряда.
Насколько бы поэтому безразличную к задачам поэтики форму
передачи самого по себе сюжета мы ни взяли, в самой
элементарной передаче сюжет уже в самом себе обнаруживает «игру» форм,
действительно, аналогичную формам поэтическим. Мы здесь уже
встретим параллелизм, контраст, превращение, цепь звеньев и т. п.
Действительно, «содержание» принимает вид формы, роль материи
по отношению к которой берет на себя то, что принято называть
«мотивом» в поэтике сюжета и что можно бы назвать обще, по
отношению ко всякому содержанию, элементом. Способ
конструирования содержания из элементов — так сказать, схемы сложения ато-
Эстетические фрагменты
791
мов материи в молекулы — в его динамике и есть то, на предметном
сознании чего фундируются эмоциональные переживания,
настроения, волнения и т. д. Дальнейший анализ, конечно, и в «атоме»
обнаружит форму, и потому прав, например, Веселовский, когда говорит
о «формулах» и «схемах» не только сюжетов, но и мотивов.
Сравним с этой точки зрения, например, сюжеты: Эдип, Дон-
Жуан, Прометей, Елизавета Венгерская. Независимо от известных
нам поэтических форм изображения этих сюжетов, можно говорить
о разных эмоциональных тонах, в которые окрашиваются в
сознании эти сюжеты. Царь Эдип может вызвать ужас, отвращение,
подавленность и другие чувства, но, кажется мне, едва ли все согласятся
признать этот сюжет сам по себе эстетическим*. Равным образом,
такие, например, сюжеты, как Дон-Жуан, Прометей, Фауст, не
вызывают, по "крайней мере на первом плане, интереса эстетического.
Напротив, сколько бы ни морализировали — но, как известно, есть
и прямо имморальные разработки этого сюжета, — чудо с цветами
Елизаветы прежде всего вызывает эффект эстетический.
Сюжет Елизаветы Венгерской красив — значит, что в
«естественной» данности мотивов он предуказывает форму изложения, овнеш-
нения, при которых неизбежен эстетический эффект. В нем есть,
так сказать, прирожденная внутренняя поэтическая форма; без нее
нет и самого сюжета. В самом деле, чтобы ввести в содержание его,
непременно надо затратить время на изображение моментов:
характер ее супруга; ее отношение к возлюбленному (по более
«христианской» версии — к бедным); внезапное появление грозного супруга,
застающего ее за преступным деянием. Затем вдруг — непременно
* Спорным мне кажется и то, преследовала ли античная трагедия
изображением этого сюжета цели эстетические или исключительно эстетические.
Косвенно, между прочим, это лишнее свидетельство в пользу того, что поэтика
не есть «часть» эстетики. Родоначальница всех поэтик, поэтика Аристотеля —
не эстетический или не только эстетический трактат в нашем смысле; и его
«катарсис» далеко не имеет только эстетического значения. В некоторых
отношениях это третья часть его «Этики»: соответственно этика, дианоэтика и
пойэтика. Впрочем, и этика Аристотеля не «этика» в современном смысле. Это
не противоречит энергично защищаемому Бучером утверждению, что
Аристотель сознательно устраняет дидактику из поэтики (Р. 221 s.). Ср. у самого Буче-
ра pp. 233, 238 (The aesthetic representation of character he views under ethical
lights, and the different types of character he reduces to moral categories); ср. также
p. 337 ff. Butcher S. G. Aristotle's Theory of Poetry etc. 4 ed. Lda, 1911.
792
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
вдруг, — цветы! Вот — это-то «вдруг», неожиданная развязка и
вызывает эффект. Но в то же время именно эта необходимость закончить
«речь» и показывает, что без обращения к «знаку», без «внешности»,
не было бы эстетического переживания. Тем не менее — хотя бы
потому, что есть повод к такому «обращению», здесь можно говорить
об особом эстетическом моменте, который если не составляет
принципиально особой прибавки в качестве самостоятельного фактора,
так как он поглощается собственно поэтическою формою, к общему
впечатлению, но все же он является каким-то добавочным
коэффициентом, предувеличивая действенную силу самой этой формы. Он
в общем как бы повышает эстетические потенции предмета, делает
их «легче» выразимыми в формах канонических.
Итак, и на чистом мыслительном, разумном, интеллигибельном
акте понимания может располагаться своя эстетическая атмосфера.
Если от предметности смысла обратиться к коррелятивным
колебаниям самого акта, то в смысле можно подметить и еще некоторый
источник эстетического отношения к понимаемому. Так, понимание
может быть ясным или неясным, легко или трудно включающим
данное содержание в необходимый для понимания контекст. Кроме
того, так как этот контекст может быть или контекстом понимания
сюжета вообще, или контекстом данной «сферы разговора»,
апперцепцией вообще и пониманием в собственном смысле, то между
обоими может получиться своеобразный перебой. Последний или
оживляет эстетическое восприятие, или мешает ему. Равным
образом такой же эффект могут производить неопределенность и
«перебой» смыслового ударения, возможной его приуроченности, с одной
стороны, и нагромождения, наслоения смысла и его применений, с
другой стороны.
До сих пор еще говорят о «нескольких» смыслах слова. Это —
неточно. Смысл — один, но передача его может быть более или менее
сложной. Средневековая библейская экзегетика возвела почти в
канон различение четырех смыслов — в особенности со времени Бо-
навентуры и Фомы Аквинского. Такое четырехчленное различение
встречается уже у Беды Достопочтенного; иные различали семь и
больше «смыслов», иные меньше. Все это в основном восходит к
иудейской экзегетике и эллинистической филологии*.
* См. мою книгу «Герменевтика и ее проблемы».
Эстетические фрагменты
793
Поэтическое применение различия четырех смыслов
(буквального, аллегорического, морального, анагогического) встречаем у
Данте (II Convito и сомнительное письмо к Конгранде).
Единственный смысл и есть собственно «аллегорический», который сам
Данте характеризует, как «истинный». К нему мы приходим от образов
и тропов «буквального». Получается как бы два «языка» — данный и
подразумеваемый, но смысл-то — один. «Моральный» смысл —
вовсе не смысл, а «применение» и «поучение». «Анагогический» смысл,
или сверх-смысл (sovra senso) — понимание изложенного в аспекте
вечной или божественной истины — в действительности опять-таки
есть лишь возможность перевода изложенного на новый еще «язык».
Explicite это имеет место, например, во всяком метафизическом
изложении, гипостазирующем явления и мысли и придающем
гипостазируемым фикциям — несуществующим «действительностям» —
quasi-предметный смысл «второго», «истинного», «реального» и т. п.
«мира». Строго говоря, введение анагогической интерпретации в
поэзию уничтожало бы ее, поскольку оно требовало бы признания
за поэтической фиктивной действительностью значения
действительности сущей. Поэзия — не метафизика. Но поскольку
сознание фикции поэтической сферы бытия не теряется, анагогический
«перевод» изложения может приятно эстетически усложнить общее
впечатление. Божественная Комедия — тому лучший пример.
Наконец, сюда же, к «мыслительной материи» слова, надо отнести
и разного рода колебания в легкости — трудности понимания,
вызываемые привычностью, банальностью, новизною,
парадоксальностью и т. п. содержания и также усложняющие эстетический эффект
поэтического изложения.
Над всем этим, как на фундаменте, возвышается эмоционально-
эстетическая надстройка. Оформленность, которую она
чувствует под собою, есть оформленность самого сюжета как такого, и ее
связь с интеллектуальным фактором восприятия сюжета есть связь с
чистым актом разумения, хотя и заключенным, имплицированным в
необходимый при установлении «слова» тетический, respective,
синтетический, акт предицирования. Пока тетический акт не совершен,
пока содержание не «утверждено», колебания эстетического
«настроения» не прекращаются. Его завершение не есть, однако, полное
прекращение улавливающих смысл качаний разума или
интеллигибельных интуиции. Это-то и говорит в пользу восприятия смысла
794
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
как нового самостоятельного фактора эстетической организации
сознания в интеллектуально-материальном членении структуры
слова. Последний завершающий колебания и устанавливающий
самый характер эстетического наслаждения момент есть подведение
сюжета под чисто эстетическую категорию: величественного,
героического, грациозного, комического, безобразного и прочего.
Положительное значение «содержания» как эстетического фактора
обозначим символом М; чтобы подчеркнуть наличность
«естественных» имманентных форм, «идейность» содержания, напишем Мг.
2
Чистый предмет как форма без содержания, т. е. как такая форма,
в которую может быть внесено любое указанное определением
содержание, легко мыслим и поддается анализу. Само собою
разумеется, что с точки зрения того совершенно общего определения
«слова», из которого исходит настоящее рассуждение, «предмет»
мыслится везде не только как корреляция «представлению» или «понятию»,
но также как «положение вещей», «обстоятельство», как «объектив»
(термин Мейнонга), коррелятивный «положению» (Satz) или
«предложению». Данность предмета в этом смысле аналитически первее
данности смысла, как «подразумевание», «имение в виду» предмета
первее понимания его содержания. Предмет дается прежде всего как
некоторая задача, а, следовательно, то, что заключает в себе
конститутивные формы содержания, еще должно быть найдено. Эти
формы раскрываются, однако, в процессе нашего ознакомления с
предметом. Первый же момент встречи с ним есть привлечение к нему
нашего внимания, интереса. Только в этот момент он, строго говоря,
чист. Он еще не связан — для нашего сознания — логическими
цепями, и представляется нам «сам по себе». Обратно, чтобы получить
его чистую заданность, надо в абстракции снять с него формы и
одежки словесные.
Если бы мы могли мыслить «без слов», может быть, умели бы
получить чистый предмет и без указанного очищения его, и, вероятно,
условия его установления были бы иными, чем теперь. Между тем
неясность называния — не как слова со значением, не как вложения
слова, а просто как указания, где издавание звуков заменяет, скажем,
направление указательного пальца, — уже вносит в установление
предмета колебательность и неопределенность. Но и при полной
Эстетические фрагменты
795
определенности указания мы легко принимаем в задаваемом
предмете существенный признак за несущественный, и обратно,
гипостазируем идеальное, субстанциируем свойства и атрибуты,
материализуем формы и т. д.
Все это для поэтики как такой может иметь мало значения, если
не видеть в самих этих «ошибках» продукта творческой фантазии и
источника, следовательно, эстетического наслаждения. Для поэтики,
во всяком случае, все модальности подразумевания предмета
выступают уже в логическом обличий. С другой стороны, слишком грубая
логическая ошибка — неправильности предметного восприятия у
нас часто не только — источники логических ошибок, но прямо
называются логическими ошибками — может разрушить и
эстетическое впечатление. Но, как и чисто логическими ошибками,
творческая фантазия может воспользоваться в известных пределах
неточным схватыванием предмета для специально эстетических целей,
конструируя предмет комически, сатирически, карикатурно и т. п.
Не может быть сомнения, что и здесь — в развитии предмета как
отрешенного — есть своя онтологическая закономерность, также
определяющая фантастическую конструкцию, как рассечение
квадрата диагональю предопределяет получение двух равных
треугольников, прямоугольных и равнобедренных.
При бессловесном рассмотрении предмета, может быть, нельзя
было бы говорить о беспредметности, потому что при отсутствии
предмета как «термина» не могло бы быть и смысла как отношения
между вещью и предметом. Это значит: не «бессмыслица» имела бы
место, а просто на место смысла — ничего, 0, т. е. мы ни о чем не
думали бы, не подозревали бы о необходимости мыслить, мысль не
пробуждалась бы, отсутствовала, как не возникает мысли о жене и браке,
слуге и службе, когда мы произносим: «китаец», и пока не скажем:
«женатый», «господин». Правда, строя фикцию бессловесного предмета,
мы все же говорим о чувственном содержании его, «представляемом»,
«воспринимаемом». Но и здесь надо различать беспредметность как
отсутствие предмета и как спутанность, «чувственную» нелепость его.
Первое, например, имеет место при абсолютно аноэтическом
состоянии сознания — обморок, «потеря сознания»; второе — расстройство
ноэтических и фантазирующих актов — галлюцинации, например.
Но возможно ли словоизлияние беспредметное? Это могло бы
быть прежде всего чисто звуковое явление, не имеющее и смыс-
796
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
ла, имеющее «значение» (роль, функция) только эмоционально-
экспрессивное или указующее, вообще значение «знака без
значения». Эстетически его расценивали бы, например, по его
музыкальности: tra — la — la... — forte (crescendo) или na — na — na... piano
(diminuendo). Это относится к форме Σ. Затем беспредметность
может указывать также на бессмыслицу, нелепость, внутреннее
противоречие. Такое словосочетание не оторвано от смысла и есть не
только дейктический знак, но настоящее слово. Но, строго говоря,
оно имеет смысл, этот смысл есть бессмыслица — например,
абракадабра, белая ворона, круглый квадрат — и «беспредметность» есть
род предмета, sui generis предмет. Каково бы ни было его
логическое значение, «беспредметное слово» может иметь положительное
эстетическое значение, поскольку в нем все же раскрываются свои
внутренние поэтические формы. Последние налегают и на
беспредметные слова, подчиняя их своим законам или приемам
конструкции. Мы строим и бессмыслицу по тропам параллелизма, контраста
и т. д., равно как и по правилам синтаксиса («идет улица по курице»).
Эстетическое значение соответствующих «поэм» относится к ώ.
Натурально, от этих случаев следует отличать метафорическую игру,
где бессмыслица только «видимость» и чувствуется лишь при
крайней остроте, новизне метафоры или при специальном к ней
внимании, — «тот ошарашил его псевдосферою», «Пифагоровых штанов
Павлуша уже не мог вместить в свою голову».
Предмет как чистая заданность, как пункт сосредоточения
внимания при всей своей конститутивной нерасчлененности, также не
всегда остается всецело вне-эстетическим. Но его эстетическое
действие, именно благодаря тому, что он есть предмет внимания,
определяется общим положением его в сфере сознания и специально в
ясном поле внимания. Колебания внимания и апперцепции
предмета могут или испытывать влияние «извне», или исходить из самого
предмета, как, например, «неинтересного», «обманывающего
интерес», «ожидание» и т. п. Предмет подвергается особой эстетической
модификации — не без влияния, впрочем, сюжета — как предмет
«ничтожный», «серьезный», «банальный», «пошлый», «стертый» и т. п.,
что вызывает, в свою очередь, sui generis интерес.
Обозначим эстетическую роль чистого предмета через: А.
Психологизм, вмешивающийся в невоспитанное аналитически
отрение предмета, подставляет нередко «вещь» и «представле-
Эстетические фрагменты
797
ние» на место чистых подлинных предметов и отношений и
соответственно модифицирует эстетическое восприятие. Но это —
фактор субъективный, дистурбационную роль которого невозможно
предусмотреть в особенностях самого предмета. Это — некоторая
субъективная константа, определимая через личное уравнение и
присоединимая как + или - к общему эстетическому впечатлению.
Обозначим ее через ±г.
V
1
Объективная структура слова, как атмосферою земля,
окутывается субъективно-персональным, биографическим, авторским
дыханием. Это членение словесной структуры находится в исключительном
положении, и, строго говоря, оно должно быть вынесено в особый
отдел научного ведения. При обсуждении вопросов поэтики ему так
же не должно быть места, как и при решении вопросов логики. Но
еще больше, чем при рассмотрении движения научной мысли, до
сих пор не могут отрешиться при толковании поэтических
произведений от заглядывания в биографию автора. До сих пор историки
и теоретики «литературы» шарят под диванами и кроватями поэтов,
как будто с помощью там находимых иногда утензилий они могут
восполнить недостающее понимание сказанного и черным по
белому написанное поэтом. На более простоватом языке это
нелитературное занятие трогательно и возвышенно называется объяснением
поэзии из поэта, из его «души», широкой, глубокой и вообще
обладающей всеми гиперболически-пространственными качествами. На
более «терминированном» языке это называют неясным по смыслу,
но звонким греческим словом «исторического» или
«психологического метода» — что при незнании истинного психологического
метода и сходит за добро.
Если не оправданием, то объяснением такой обывательщины в
науке может служить, что не только — возвышенный или рабий —
человеческий интерес к человеческой душе влечет в область
биографии поэта, но и действительно методологические требования
изучения самой поэзии. Во-первых, поэт не только «выражает» и
«сообщает», но также производит, как уже говорилось, впечатление.
Хотя бы для того, чтобы отделить поэтическую интерпретацию от
798
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
экспрессивной, нужно знать обе. Во-вторых, опять-таки для
выделения объективного смысла поэмы, надо знать, чему в авторе ее мы
сочувствуем, чтобы не смешать этого с тем, что требуется со-мыслить.
Ведь и тряпичник, выискивая из груды мусора тряпки, подымает и
переворачивает груды обглоданных костей, жестянок, истлевших
углей и прочего сору, который может наводить его на всевозможные
воспоминания и волнения.
Что касается первого пункта, то инстинктивные попытки
выделить его в особый предмет изучения существуют, пожалуй, с тех пор,
как различают поэтику и риторику*. В основе своей «впечатление» от
слова не зависит от специфических особенностей самого слова как
такого, а должно быть сопоставляемо с «впечатлением» от других
способов и средств экспрессивного «выражения ощущений и чувств».
Генетические теории, выводившие осмысленное слово из
экспрессии, много здесь напутали. Самого простого наблюдения
достаточно, чтобы заметить, что развитие осмысленного
словоупотребления и эмоционального окрашивания его идут независимо друг
от друга и сравнительно поздно достигают согласования. Известно
особое, нередко прелестное своеобразие детской речи,
проистекающее из употребления ребенком сильных эмоциональных речений и
оценок без тени соответствующих переживаний и без согласования
* Наиболее обстоятельное (известное мне) исследование по вопросу о
различии собственно Dichtkunst от Sprachkunst есть богатая историческими
справками и примерами книга: Gerber G. Die Sprache als Kunst. Β. Ι—II. 2 Aufl. Brl.,
1885; в частности, см.: В. I. S. 50 ff., В. II. S. 501 ff. Основная по интересующему
нас поводу мысль автора — углубление старинного разделения: die Sprachkunst
сперва преодолевает трудности воплощения души в звуке, затем отвердевший,
абстрактный, ставший только знаком язык старается одушевить до выражения
индивидуального; поэзия же требует, чтобы язык удовлетворял сознанию рода,
и чувственная живость, с которой часто говорят по поводу поэзии,
подчеркивает, что касается языка, только частности, а живость целого, следовательно,
самого художественного произведения, покоится в поэзии на глубине и величии
мысли (S. 53). Выпишу одну интересную цитату: Es fällt also bei der Dichtkunst
das ganze Gewicht auf die Dichtung, Erdichtung, Verwandlung, Umschaffung
der Erscheinungswelt, die Gedankenverschlingung, den Gedankenkampf; bei der
Sprachkunst auf die Vollkommenheit der Darstellung eines Seelenmoments durch
die Sprache; der Dichter erfindet Verwicklungen, Lösungen, Umatände, Lagen,
giebt eine Weltanschauung; der Sprachkünstler erfindet Wörter, Satzformationen,
Figurationen, Sprüche, geibt das Abbild eines Lebensmoments der Seele36()(S. 52).
Далеко не все у Гербера распутано, приемлемо и современно, но, увы, многое
заживо погребенное нужно вернуть с кладбища.
Эстетические фрагменты
799
со смыслом. Эмоциональная экспрессивность ребенка первее
всякого словоупотребления, но post hoc не значит propter hoc, и визг,
писк, ор, плач не превращаются в мысль, как не превращается на
ночь солнце в луну. Ребенок извивается в импульсивных
движениях и жестах, но независимо от того, какого искусства он в них
достигает, он начинает узнавать и называть вещи, а затем понимать и
сообщать. Значительно позже с этим связываются «осмысленные»
жестикуляции и эмоциональная экспрессия. Есть индивиды, вполне
овладевающие импульсивными движениями, и тем не менее, до
конца дней своих не умеющие согласовать сообщаемого с экспрессией.
Другим источником путаницы являются объяснительные
эстетические теории, принимающие за объяснение простые факты
вчувствования, интроекции и т. п. Не говоря уже о том, что именно
то и требует объяснения, каким образом эти факты могут служить
источниками эстетического наслаждения, в корне ошибочно
предполагать, будто здесь и весь источник эстетичности слова и будто
в других своих функциях слово вызывает эстетическое впечатление
по тому же принципу вчувствования.
Несомненно, симпатическое понимание вообще есть тот путь,
которым мы проникаем в «душу», исходящую в экспрессии. Но
через симпатическое понимание мы сопереживаем не только
эстетическое переживание другого, сообщающего слово. Кроме того, если
ограничиться только, так сказать, эстетическим симпатическим
переживанием, мы еще ничего не разъясним, так как тогда пришлось
бы признать, что мы эстетически воспринимаем только то, что
эстетически переживается самим сообщающим. В действительности,
мы можем проходить эстетического волнения мимо эстетических
эмоций сообщающего, и обратно, испытываем эстетическое
впечатление там, где он его не испытывает. На этом факте и основаны
соответствующие «обманы», притворства, сценическая игра и т. п.
В общем, эти факты только подтверждают наличность
«бессознательного» (собственно аноэтического) симпатического понимания,
так как они прямо на него рассчитаны. В сценической игре актера
мы наперед знаем о «притворстве» и игре, и тем не менее наша
симпатическая реакция от этого не уничтожается. Но ясно, что разная
сила и разное качество их зависят не от самого факта
симпатического восприятия экспрессии, а от особенностей этой экспрессии.
Игра бывает «хорошая» или «плохая».
800
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Несмотря на то, что мы воспринимаем экспрессию через
«симпатии» и субъективно, мы в эстетической оценке ее смотрим на
экспрессию, как на sui generis предмет. Намеренность или
ненамеренность предметного для нас характера экспрессии не меняют, она все
равно должна вылиться в какие-то формы, способные к
эстетическому воздействию на воспринимающего. Впечатление от (выражения)
ласки, гнева, протеста, презрения, ненависти и прочего должно
облечься в предметную форму, насаженную на семантические формы
слова. Подобно непосредственным чувственным впечатлениям от
форм сочетания звукослова, и здесь мы имеем дело, следовательно,
с чувственными формами сочетания. Эмоции так же имеют свои
формы, как и сочетания. Но как в простейшем ощущении
чувственный (эмоциональный) тон наседает на него, окрашивает его, от него
самого отличаясь, так и в восприятии слова как целого экспрессия
есть его окраска, паренье над ним.
Особенно интересны случаи сложного наслоения эстетических
переживаний. Интонации, тон, тембр, ритм и т. д. мы воспринимаем
как ощущения, формы сочетания которых эстетически нас волнуют.
Но эти же интонации, этот же ритм и прочее, поскольку они
служат цели экспрессии и выдают душевное волнение говорящего, они
вызывают свои эстетические переживания. Одно наседает на другое.
Но, далее, эти душевные волнения могут быть волнениями радости,
печали, гнева, любви, зависти, но также эстетического наслаждения.
Последнее само опредмечивается и фундирует на себе следующей
степени эстетическое переживание. Сверх всего этого, слушая,
например, на сцене Гамлета, мы различаем слова Гамлета самого,
может быть, также Шекспира и непременно еще актера,
изображающего Гамлета. И все это вызывает наслоение одной персональной
экспрессивности на другую, всех их на осмысленное слово, не
говоря уж о зрительных источниках эстетического наслаждения.
Достаточно, однако, двум любым слоям «разойтись», и начинаются
перебои, «эстетические противоречия» разрушающие все сооружение.
Не меньшей угрозой такого разрушения является и то, что нередко
симпатическое понимание вызывает в нас реакцию, на которую не
рассчитывает экспрессия. Так, угрозы изображаемого героя могут
вызвать у нас впечатление скуки, его страх и трепет — чувство
презрения и т. п., в такой мере, что они заглушают требуемое
изображаемой экспрессией эстетическое чувство. Неудачный автор может
Эстетические фрагменты
801
погубить талантливого актера, «несимпатичный» актер (к которому
зритель чувствует личное нерасположение или у которого
«противный» голос и т. п.) может «провалить» хорошую роль.
Для эстетического восприятия эмоции в ней должны быть свои
эмоциональные формы, определяющиеся законами своей
эмоциональной «гармонии», «уравновешенности» эмоции, или, иначе
говоря, законами уравновешенности экспрессии. Последнее можно было
бы и не добавлять, так как экспрессии и есть сами эмоции (как слово
есть мысль) — для воспринимающего, во всяком случае. И как
эмоции и экспрессия не расчленимы для переживания их, так должно
быть и для восприятия. Их тожественность — основное положение
симпатического понимания. Факт «притворной» экспрессии — для
воспринимающего — притворной эмоции — так же мало этому
противоречит, как произнесение слов тем, кто их не понимает,
например, прочтение стихотворения на незнакомом языке (как иногда
певцы поют иностранные романсы, заучивая их переписанными по
знакомой им транскрипции). Правда, можно автоматически
повторять чужие слова, не понимая их, но нельзя их выдумать, «создать»,
а актер именно «творит» в своей экспрессии. Однако и актер не
«выдумал» бы экспрессии, если бы ему (и зрителям) были абсолютно
чужды, «неизвестны» эмоции, и если бы творчество актера не в том
и состояло, что способность симпатического понимания и
подражания в нем могут быть развиты до дара, до таланта.
Условимся обозначать эстетическое впечатление от
экспрессивности, облегающей слово, звук и слово-семантику, через символ: е,
являющийся их общим экспонентом.
2
Второй из вышеозначенных пунктов составляет всецело предмет
психологического интереса к персоне автора слова. Интерпретация
слова с этой точки зрения есть истолкование поведения автора в
смысле его правдивости или лживости, его доброжелательного или
злостного отношения к сообщаемому, его веры в него или сомнения
в нем, его благоговейного или цинического к нему отношения, его
убежденности в нем, его страха перед ним, его восторга и прочего,
и прочего. Сколько бы мы ни перечисляли качеств его отношения
к сообщаемому, все это качества, во-первых, психологические, во-
вторых, его, автора, субъекта, для которого сообщаемое — такой же
802
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
предмет, как и для нас, хотя, быть может, душевные переживания оно
вызовет в нас совершенно иные, чем у него. Если выше, только что,
мы говорили все же об экспрессивных свойствах слова, которые
могли стать предметом нашего внимания и независимо от их
автора, то теперь только на автора и переносится интерес. Слушая
актера, мы слушаем не актера, а героя или автора пьесы; читая Гамлета,
мы переносим установку внимания на Шекспира; и т. п.
Обращение к автору также происходит на основе
симпатического понимания и по поводу экспрессии. Но экспрессия здесь —
только повод, а симпатическое понимание — только исходный пункт. От
внешней экспрессии требуется переход в глубь, в постоянный ее
источник, к руководящему его началу. От симпатического
понимания необходимо перейти к систематическому ознакомлению с
автором и его личностью. Здесь важно не «впечатление» от содержания
слова, а повод, который дает его экспрессивность для
проникновения в «душу» автора. Мы сперва только указываем его в его
выражениях, понимаем то, что он говорит, но хотим угадать также, что он
хочет сказать, как он относится и к тому, что он говорит, и к тому,
что говорит, и к сообщаемому, и к собственному поведению
сообщающего. Нам важен теперь не объективный смысл его речей, а его
собственное «переживание» их как своего личного действия и как
некоторого объективируемого социально-индивидуального факта.
Угадываем мы на основании показаний симпатического понимания,
улавливающего соответствующие интонации его голоса,
учитывающего, например, спокойствие или прерывистость — натуральные
и деланные — его речи, намеренную или «случайную», из глубины
души и свойств характера, а также из его культурности или
невежества, творческих напряжений или пассивного повторения,
вытекающую «фигуральность» его речи, пониженный или повышенный
голос, свидетельствующий о его раздражении, зависти, ревности,
подозрительности и прочем, и прочем.
На почве этих первых догадок и «чутья» мы дальше начинаем
«сознательно» воспроизводить, строить, рисовать себе общий облик его
личности, характера. Тут нужно ознакомление с другими, из других
источников почерпаемыми фактами его поведения в аналогичных
и противоположных случаях, с фактами, почерпаемыми из его
биографии. Симпатическое подражание играет все меньшую роль, на
место его выступает конгениальное воспроизведение. Экспрессив-
Эстетические фрагменты
803
ные частности интересны не сами по себе, а как фрагменты
целого, по которым и нужно восстановить целое. Симпатически данное
рационализируется и возводится в эффект, симптом некоторого
постоянства, которое терпеливо, систематически и методически
подбирается, составляется и восстанавливается, как цельный лик.
За каждым словом автора мы начинаем теперь слышать его голос,
догадываться о его мыслях, подозревать его поведение. Слова
сохраняют все свое значение, но нас интересует некоторый как бы
особый интимный смысл, имеющий свои интимные формы. Значение
слова сопровождается как бы со-значением. В действительности это
quasi-значение, parergon по отношению к ergon слова, но на этом-
то parergon и сосредоточивается внимание. Что говорится, теряет
свою актуальность и активно сознаваемое воздействие, оно
воспринимается автоматически, важно, как оно говорится, в какой форме
душевного переживания. Только какая-нибудь неожиданность,
парадокс сообщаемого может на время перебить, отвлечь внимание, но
затем мы еще напряженнее обращаемся к автору, стремясь за самим
парадоксом увидеть его и решить, согласуется создаваемое им
впечатление от его личности с другим или не согласуется.
Как формы чистой экспрессивности выражаемого
сопоставлялись как аналогон с чувственными формами сочетания, так формы
со-значения можно рассматривать как аналогон логическим
формам смысла. За последними предполагаются и имеют место свои
психо-онтологические формы. И можно говорить об особой
онтологии души, где «вещи» суть «характеры», «индивидуальности»,
«лица» — предметы изучения психологии индивидуальной,
дифференциальной, характерологии, или там, где предполагается
коллективное лицо, коллективный субъект и носитель переживаний —
психологии этнической, социальной, коллективной (материал:
фольклор, «народное» творчество в противоположность
индивидуальному словесному творчеству).
В целом личность автора выступает как аналогон слова.
Личность есть слово и требует своего понимания. Она имеет свои
чувственные, онтические, логические и поэтические формы. Последние
конструируются как отношение между экспрессивными формами
случайных фактов ее поведения и внутренними формами
закономерности ее характера. Эстетическое восприятие имеет здесь свои
категории. Эстетическое наслаждение вызывается «строением» ха-
804
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
рактера как «цельного» («единство в многообразии»),
«гармоничного», «последовательного в поведении», «возвышенного по чувствам»,
«героического», «грациозного в манерах», «грандиозного в
замыслах» и т. д.
Для возможности эстетического восприятия личности еще
больше, чем в эстетическом восприятии экспрессивности самих
знаков, нужно освободиться от своих личных реакций на личность
как предмет созерцания. Она в нашем сознании может запутаться в
совершенно непроницаемом тумане наших «симпатий» и
«антипатий», переживаний не эстетических, а иногда прямо им враждебных.
Любовное отношение здесь может мешать не меньше враждебного,
пиетет не меньше снисходительности. Надо отойти как бы на
расстояние, чтобы выделить и оценить свое эстетическое отношение
к личности и ее типу. Ее индивидуальные формы — типичны, и мы
легко можем к личности отнести эмоциональную реакцию,
привычную для нас в отношении к соответствующему типу. Можно было бы
сказать, что эстетическое отношение к личности вырастает, в
конце концов, именно на преодолении симпатического понимания ее.
Оно, это «преодоление», только и способно создать нужную
«уравновешенность».
Обозначим эстетическое значение восприятия личности самого
автора слов как некоторый постоянный коэффициент S к самому
слову во всех его объективных фонетических и семасиологических
функциях.
VI
Общая пародийно-математическая формула эстетического
восприятия слова складывается следующим образом:
ς[ 1ипП(1+ип)Мг1е
Москва, 1922, февраль 19>Г.Шпет
ЛИТЕРАТУРА
Всякое искусство есть своего рода культ творческих сил и
средств. Словесное искусство есть культ СЛОВА. Как искусство оно
противополагается искусственной терминированной речи и
безыскусственной или также искусственной прагматической, имеющих то
общее между собой, что они без внимания оставляют самоценное
значение слова. И, сознательно или бессознательно, низводят его до
роли простого рабочего инструмента.
Как искусство, слово становится предметом культа, т. е.
возводится в самоценный объект, требующий службы, жертвы, преклонения,
очищения себя перед ним и во имя его, творческого, — а не
пассивного, — возвышения до значения бесконечного.
Особенность словесного знака, как знака, и этой особенности
он не теряет, когда становится объектом художественной
отработки, состоит в том, что это — знак всеобщий, универсальный. На него
возможен перевод с любой другой системы знаков, но не обратно:
нет такой другой системы знаков, на которую СЛОВО можно было
бы перевести полностью.
Как бы эмпирически не казалось оно нам недостаточным, — если
это не свидетельство нашей собственной слабости и
беспомощности, — оно именно эмпирически наиболее совершенное
осуществление идеи всеобщего знака. Оттого и соответствующее
искусство — наиболее универсально, по крайней мере, в нашем
человеческом смысле и масштабе.
Универсальность слова делает то, что его художественным формам
доступно все возможное содержание человеческого опыта и замысла.
Даже то, что сознательно или бессознательно ищет освобождения от
его власти или игнорирует его более чем инструментальную природу,
может все-таки [быть] вовлечено в его художественные формы
выражения. Научные теории, технические достижения и научения,
разговор деловых людей, коммерческая реклама, — все может быть
предметом литературы и словесного искусства вообще, все может получить в
художественном слове свое художественно-преобразованное место и
сыграть свою роль и притом не только в своей литературной сути, но
и как ходячие применения, все словесные создания, даже устраняемые
из предмета литературоведения, могут занять свое место в литературе,
как ее законченный предмет, и таким образом все-таки вернуться в
806
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
литературоведение. Может быть, величию и захвату этой идеи более
соответствовал бы и иной знак, но у нас, людей, — по мере нашего
собственного несовершенства, — другого нет.
Слово — универсально, как само сознание, и потому-то оно и
есть выражение и объективация всего культурного духа
человечества: человеческих воззрений, понимания, знания, замыслов, эн-
тузиазмов, волнений, интересов и идеалов. Как всеобъемлюще по
своему существу слово, так всеобъемлюща по содержанию и смыслу
литература, ибо она не частный вид общего рода «слова», а
его особая форма. Предмет литературы, следовательно, в реальном
культурном осуществлении самого духовного начала, в полноте его
проявления и возможностей как конечных, так и бесконечных.
Литературное сознание — есть сознание, направленное на предмет,
смысл и содержание которого — конкретно — эмпирический дух
и его развитие. Поэтому о литературе можно с полным правом
сказать, что она, в своей идеальности, есть выражение самосознания,
как такового.
Поскольку литература есть словесное искусство, умение
художественно владеть словом, а в высшем напряжении — и творить его,
внимая его собственным формам и законам, постольку литература
как выражение духа человеческого не только отражает его и
запечатлевает, но также активно творит. Она — выражение самодеятельности
в творческой потенции. Творя в своих формах спонтанно,
литература, — в отличие от философского рефлексивного анализа, —
возводит через искусство свое спонтанное творчество в наблюдаемую
закономерность, которая предписывает пути нового творчества и сама
становится предметом изучения, как особая проблема
литературоведения. Последняя, таким образом объемлет сознание, со стороны его
осуществления в социально-культурной действительности, по его
содержанию и смыслу, — дух в его объективной жизни, но равным
образом и формальные закономерности путей его реализации.
Сказанное еще не разъясняет вопроса о необходимости
литературы, как специфического вида словесного искусства — в «письменной»
форме. Конечно, дело не в эмпирическом «случае» письменности,
иероглифа, чертежа, типографического знака, — об этом можно
повторить то, что сказано об эмпирической случайности словесного знака,
а в сущности идеи запечатления духовного содержания в устойчивой
вещи, в смысле воплощения слова, как energeia, в слове как ergon.
Литература
807
Когда мы говорим о чистом сознании и исследуем его
философски, мы, строго говоря, имеем дело только с предметом, с
чистым предметом. Пусть это сознание дано нам в завышенном и
завершающем единстве, мы лишь условно можем это единство назвать
субъектом, мы знаем, что в действительности оно не субъект в
точном смысле субъекта, как material in qua.
Другое дело — эмпирически реализованное сознание: оно
действительно, имеет субъект, как носителя себя, независимо от того,
будет ли этот субъект неделимым или коллективом. Есть в
сознании, как тако<во>м, предметные единства, которые, реализуясь,
воплощаются в формы конкретно-индивидуальных или конкретно-
собирательных субъектов. Литературное сознание, как выражение
духовного самосознания, должно иметь своего носителя, репрезанта
исторического самосознания, требующего для себя, для своего
бытия, в указанном смысле форм «письменности». Если словесное
сознание вообще есть сознание, как на предмет, на себя, на духовный
субъект (на субъект культуры), то литература, в смысле
«письменности» должна быть какою-то модификацией того же самосознания,
где предмет и соответствующая интенция меняются не
принципиально, а лишь специфически. В чем же особенности этой новой
специфической модификации культурного самосознания? В чем,
другими словами, его специфическая интенция?
У эмпириков встречается на этот вопрос ответ, который гласит,
что простой количественный рост художественной словесной
продукции с течением времени превышает силу памяти нашей и тем
самым побуждает к такому запечатлению созданного, которое могло
бы надолго оставаться, могло бы переходить из рук в руки лиц и
поколений, а не только из уст в уста, и которое было бы доступно для
всякого, усвоившего новую систему устойчивых знаков.
Такое рассуждение должно показаться очень поверхностным и
мало убедительным, однако, думается мне, только потому, что оно —
эмпирично, т. е. слепо, сделано без понимания действительного
смысла констатируемого явления, без осознания его границ и
горизонтов. Но по этой же причине всякие эмпирические разъяснения
и дополнения не могут его сделать более глубоким и отчетливым.
Нужно раскрыть ту правильную интуицию, которая лежит в основе
всякого, а следовательно, и эмпирического суждения, и которая
требует к себе особого, рефлективного внимания, чтобы стать
путеводной нитью критического анализа.
808
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Разумеется, устойчивость письменного знака перед звуком —
только относительна, и письменный или начертанный зрительный
характер его только случаен. Принципиальное основание для
перехода к новой системе запечатления словесного творчества должно
лежать в характере самого творчества, и следовательно не является
капризом. Само запечатление должно поэтому осмысливаться
определенной целью. Не всякая цель может быть здесь достаточною для
принципиального оправдания названного перехода. В основе его
должна лежать существенная необходимость. Простая графическая
запись для памяти, сохранения, удобства, напоминания и т. п. не
становится ео ipso литературою. С этой точки зрения, она остается
«случайною», таковы, например, деловые письма, договорные акты,
дарующие права грамоты и др<угие> документы, имеющие целью
гарантировать в целом и частностях некоторый социальный акт от
забвения или искажения; таковы также, например, объявления,
вывески, рекламы, визитные карточки и т. д., — все, что имеет целью
указание, напоминание. Все это примеры «случайного» пользования
более или менее устойчивым знаком и никакой «необходимости»
литературного бытия в себе они не заключают. Особый характер
«случайности» всех этих произведений графического знака в том,
что, не будучи случайны по содержанию, так как они выражают
определенный социальный акт, напоминание о нем, сохранение его,
указание на него, они не имеют необходимой
индивидуальной формы и не имеют закона ее или формообразующего
начала, которое обусловливало бы его внешнее напечатание. По этой же
причине, и обратно, раз найденная внешняя, прагматически
условно — удобная, формула здесь легко превращается в штамп и шаблон,
действительною, внутреннею необходимостью не обусловленный.
Даже в тех случаях, когда перед нами письменный документ,
составляющий «единственную возможность» общения или коммуникации,
например, частное или официальное письмо лица, отдаленного
расстоянием от другого, мы не видим искомой необходимости, т<ак>
к<ак> подобно другим примерам рассматриваемого типа
необходимость его прекращается, лишь только достигнута его
прагматическая цель. Все это не литература, а та же прагматика, и не
литература, потому что — прагма.
Необходимость, о которой идет речь, есть необходимость в
самой форме, которая требует к себе и к своему закону особого вни-
Литература
809
мания. Когда мы запечатлеваем нечто более или менее устойчивым
знаком и хотим, чтобы оно так и осталось, в этом так
лежит сознание некоторой закономерности его выполнения. Это есть
необходимость самой литературной формы в противоположность
не только «случайной» прагматической форме и не только также
случайной импровизационной художественной, экстатической,
энтузиастической или иной подобной форме, но и форме постоянной
в смысле штампа или закономерной в смысле всеобщности,
характеризующей как письменное, так и всякое слово (например,
закономерности логических форм). Это есть признание формы
всецело индивидуальной, но обнаруживающей сознание направляющего
ее индивидуальное осуществление формообразующего начала. Это
не простая потребность памяти, а желание, руководимое
подмеченною закономерностью формы, рефлексия на последнюю и
стремление вновь и вновь ее реализовать, заполнять, привлекая новое
содержание и новый материал. Сила внутренней необходимости в
устойчивом запечатлении так велика, что первоначальное
отношение двух систем знаков, к которым мы прибегаем, становится
обратным изначальному их соотношению. Мы искали написания, чтобы
запечатлеть произносимое, теперь написание совершается до
произнесения, — это не записывание, а как бы пред-писывание. В идее
предписывания есть мотив требования, задания, и, действительно,
литературное произведение как бы требует от нас·, следи за моими
формами, через них я — новое, своеобразное, отличное от всего
иного, что ты знаешь и чему ты внемлешь в слове.
Среди встречавшихся мне энциклопедических формулировок я
нашел одну, где интуиция увлекла эмпирика глубже поверхности,
и он следующим образом подчеркнул рассматриваемую
необходимость: «не может быть литературы без письма; ибо литература
предполагает твердо намеченную форму (implies fixed form) и,
хотя память может творить чудеса (do great feats), чисто слуховая
традиция не может гарантировать твердо намеченной формы»
(proff.Jebb)*.
Приведенная формула подсказывает нам, как можно двинуться
дальше. Слуховой традиции и памяти по слуху противополагается
* Цит. из кн.: Posnett H. M. Comparative literature. London. 1886. P. 13- (Book I.
What is Literature?).
810
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
«письмо», т. е. традиция литературная и, следовательно, особого
рода память, входящая... в состав литературного сознания, память
литературная. Как sui generis361 тип, она должна
характеризоваться чертами качественными, зависящими от содержания
предмета, на который она направляется. Оно, это содержание, своим
постоянством сообщает литературному сознанию в целом не только
его формально-необходимую устойчивость, но и специфическую
по смыслу характеристику. Это — какая-то коллективная родовая
память, и притом, как со стороны своего предмета, так и со стороны
субъективной, со стороны единства составляющих ее актов.
Поскольку у нас речь идет о культурном сознании, это есть
культурная память и память культуры. В этих ее культурных качествах и
состоит ее универсальность, духовная универсальность. Ни в
коем случае не следует понимать здесь термин д у χ в смысле
гипостазируемой трансцендентности; если бы этот термин
позволялось употреблять только в этом смысле, от него было бы лучше
вовсе отказаться. Коренной недостаток метафизического
злоупотребления — в том, что оно не может обойтись без
объяснительных тенденций, полагающих реальность духа в его
трансцендентном в себе бытии. А такое объяснение непременно заключает в себе
circulus vitiosus, в действительности, дух народа определяется по его
литературе, а не есть нечто, из чего можно было бы ее объяснить,
мы ищем для духа последней интерпретации, переходящей в
философию культуры, а не конечного объяснения, сводящего первично
данное к химерической первопричине. В нашем
словоупотреблении вся реальность духа — только в его объективном, — культурно-
историческом, — проявлении; вне этого, в его потенции, в его an
sich, дух нереален, он не действует, его нет. Мы не только знаем его
по его проявлениям, но и на самом деле он есть не иначе, как в
своих проявлениях.
Ограничивая сферу духа его культурно-историческим бытием
и деянием, мы не можем выходить за пределы его действительного
объективного в истории данного бытия.
Литературное сознание в этом смысле есть само
историческое сознание, сознание историческим родом и народом своего
собственного культурно-исторического становления и бытия.
Литературное сознание, как сознание родом себя в своем
собственном слове, ближе определяется как сознание национальное, т. е.
Литература
811
не неопределенно-этническое сознание, а именно национально-
историческое, литературным словом, литературного речью,
преодолевающее устно-словесное многообразие этнических диалектов. По
предмету и содержанию, это есть сознание народом своей
народности в ее собственном образовании.
Национальная культура — есть национальная образованность.
Последняя, как таковая, сознается, возводится в руководящее
правило и культурою запечатлевается на память и дальнейшее культурное
образование, как выражение исторически, т. е. в реальном
осуществлении, — определяющегося самосознания, себя самого только и
сознающего в этом процессе культурного становления и образования.
Если специфицировать культурное сознание народности, как его
интеллигентное сознание, то литературное сознание таким и
является.
Если это сознание народности себя самою, как народности,
понимание ее, что себя она сознает в своих собственных чертах и в
собственном смысле, что и весь мир сознается ею через
самосознание, то можно говорить о содержании культурного сознания, как
о мировоззрении, и оно-то и есть сознание литературное.
Объективируя себя самое и свое образование в литературе,
народность тем самым создает в литературе средство для усвоения
собственного духа в целом, в мировой истории. Здесь предполагается,
следовательно, возможность такого усвоения, признания и
разумения народностью себя самой, предполагается, другими словами,
наличность и способность к развитию sui generis народного
интеллекта, к которому непосредственно и обращается литература, образуя
и культивируя его дальше. Образованное, интеллигентное сознание
переходит [таким образом] в общенародное культурное сознание.
Так достигается последняя духовная объективация, к<отора>я и
м<ожет> б<ыть> названа культурною в широком и
последнем смысле, категорией объемлющей все модификации культурного
образования, т. е. философию, право, хозяйство, религию, науку,
искусство. Но положение литературы остается исключительным,
поскольку она есть выражение народного самосознания, потому что в
этом ее единстве воспроизводится все указанное содержание, тогда
как философия, например, есть сознание духом себя лишь в
качестве объекта, наука — в познавательной деятельности, искусство
вообще в творческом оформлении сознанием самого себя, и т. д.
812
ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ ШПЕТ
Литература как искусство, в силу указанного ограничения также
как будто ограничивается, но это ограничение касается только ее
необходимых форм и только определяет ее формальное место
среди объективируемой культуры, как целого. По содержанию и смыслу
ей здесь нет пределов. У нее есть только начало, initium, от которого
развертывается названное содержание, лишь только оно принимает
свою первую объективную форму. Эмпирически это — важнейший
момент перехода кочующего по диалектам слова к его оседлому
консервативному бытию, которое и называется теперь
литературою, как особый вид жизненного многообразия бытия,
действительности, переживания.
Это — то многообразие, перед которым стоит
литературоведение, это — материал, из которого оно почерпает ответы на вопросы
познания, первый повод к которым дается усмотрением в этом
материале своеобразного предмета научного изучения. «Счастлив, кто
посетил сей мир в его минуты роковые»362.
КОММЕНТАРИИ
814
В данное издание избранных трудов Г. Г. Шпета вошли ключевые
произведения мыслителя, раскрывающие суть его философских взглядов и
интеллектуального новаторства.
История формирования интеллектуализма в России стала тем
предметом, который позволил Шпету обобщить собственные позиции в «науке
о бытии». Тот шаг, который он сделал от феноменологии к герменевтике,
фактически означал создание собственной школы «герменевтической
феноменологии». Поскольку Шпет был менее всего «абстрактным
мыслителем», его философские взгляды реализованы в цельном учении о
современной эстетике. Следует учесть, что значительное число работ Шпета
вследствие трагической судьбы автора не получили своего завершения, а в
ряде случаев и авторской «отделки», печатаясь по черновикам рукописей
или записи выступлений. Остается во многом незавершенной и
современная историографическая и библиографическая расшифровка его
рукописей. В черновиках ссылки на периодические издания и указания на работы
других авторов даются в сокращенном виде, иногда лишь условными
обозначениями. Особенно распространены сокращения в обширных
примечаниях, которые являются характерной приметой работ Шпета. В данном
издании дается максимальная расшифровка сокращенных и условных
названий, указания на страницы изданий, которые уже установлены
современными исследователями творчества Шпета, а также некоторые
комментарии, сделанные Т. Г. Щедриной, Т. Д. Марцинковской, Л. В. Федоровой.
Для составления комментариев к публикуемым работам использованы
исследования В. Н. Поруса, Т. Г. Щедриной, Л. А. Микешиной, В. П. Зинченко,
В. К Кантора, В. Г. Кузнецова и др.
Орфография, пунктуация и библиографические описания приближены
к современным, но в ряде случаев сохранена авторская манера (авторские
многоточия, тире, кавычки, курсив). Исправления, расшифровки и
дополнения отмечены угловыми и прямыми скобками.
Очерк развития русской философии
Одно из основательнейших сочинений по истории философской
мысли в России. Оно стало своего рода итогом дореволюционного периода
научной деятельности Шпета в содружестве с его единомышленниками.
Задуманная ими обширная история русской философии не была
осуществлена, но проделанная работа послужила основанием для «Очерка» Шпета,
подготовленного к печати в 1922 г. Работа вышла в Петрограде в
издательстве «Колос». Многие погрешности сносок и сокращение выходных данных
объясняются тем, что философ вынужден был работать подчас без
возможности достать требуемые сочинения, пользуясь либо своими
записями, либо адресуясь к памяти. До сих пор библиографическая дешифровка
рукописи проведена не полностью, а ранние издания «Очерка» сохраняли
Комментарии
815
все черновые пометки автора. Шпет предполагал продолжить «Очерк»,
закончив первый том на главе «Первые ученики». Оставалось самое важное —
анализ складывающейся самостоятельной философской школы в России,
переход от «ученичества» к полноценному творчеству, однако работа не
была завершена. О значительном ее продвижении свидетельствуют
обширные очерки, посвященные ключевым мыслителям России: В. Г. Белинскому,
А. И. Герцену, П. Д. Юркевичу, славянофилам.
Проблема философской мысли в России всегда интересовала Шпета, и
он подошел к философии со стороны ее истории и гносеологических
корней. Изучение трудов русских мыслителей XIX — начала XX в. в
значительной степени повлияло на оценки истории отечественного интеллектуализма.
Основная идея мыслителя состоит в защите философии от критерия
«полезности», который преследовал ее на ранних этапах становления.
Предметная область философии, ее связь с этикой, эстетикой, а также
другими областями гуманитарного знания находится в центре внимания
философа. Шпет выделяет главную характерную черту русской философии —
ее первоначальную опору на историю и литературу как наиболее развитые
сферы проявления национального сознания. Антропологизм и духовность
русской науки и русской мысли способствовали раскрытию своеобразия
складывающейся школы русского интеллектуализма.
Публикуется по: Очерк развития русской философии. Ч. I. Пг, 1922.
Учтены современные достижения в дешифровке тех мест рукописи Шпета,
где приводятся сокращенные записи цитат и названий работ, которыми он
пользовался при подготовке своего труда.
1 У перечисленных работ следующие выходные данные: Колубовский Я. Н.
История русской философии // Ибервег-Гейнце. История философии.
СПб., 1900; Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии. СПб., 1912;
2-е изд. Пг., 1920; Бобров Е. А Философия в России: Материалы,
исследования и заметки. Казань, 1899-1902. Вып. 1-6; Трубецкой Е. Н.
Миросозерцание В. С. Соловьева. М., 1913. Т. 1,2;Аскольдов CA. А. А. Козлов. М., 1912;
Бердяев H.A. А. С Хомяков. М., 1912; Эрин В. Ф. Г. С. Сковорода. М., 1912;
Лапшин И. И. Философские взгляды Радищева. Пг, 1922; Миртов Д. П.
М. И. Каринский и его философские воззрения // Мысль и слово. М.,
1918. Т. 2; Котин Н. К Н. И. Надеждин. Жизнь и научно-популярная
деятельность. 1804-1836. СПб., 1912; Сакулин П. К Из истории
русского идеализма. Князь Одоевский В. Ф. Мыслитель-писатель. ML, 1913. Т. 1.
Ч. 1; Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб., 1908;
Корнилов А А Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915.
2 Голубинский Евгений Евстигнеевич ( 1834-1912) — историк
либерального направления, западник, автор «Истории русской церкви» (1903).
816
3 Иконников Владимир Степанович (1841-1923) — историк, академик
Петербургской Академии наук (1914), автор трудов по истории русской
культуры.
4 В массе (φρ.).
5 Стоглавый церковно-земский собор состоялся в Москве в январе-мае
1551 г. Знаменит тем, что отверг планы секуляризации церкви и
упорядочил ее взаимоотношения с властью. Собор принял сборник решений,
состоявший из ста глав («Стоглав»), которые утверждали нормы жизни
русского духовенства и православной церкви.
6 Имеется в виду борьба сторонников Нила Сорского («заволжских
старцев», сторонников принципа «нестяжательства», т. е. отказа от церковной
собственности) и Иосифа Волоцкого («иосифлян», выступавших за
тесный союз власти и церкви, участие церкви в мирских делах) в конце XV в.
7 Максим Грек (наст, имя и фам. Михаил Т]эиволис) (ок. 1475-1556) —
публицист, писатель, переводчик, в нач. XVI в. приехал из Греции (Афон) в
Россию, поддерживал иосифлян.
8 Пыпин Александр Николаевич (1833-1904) — литературовед, автор
классических работ по истории русской литературы.
9 В современной историко-философской литературе детально исследован
интеллектуальный потенциал Максима Грека и его влияние на русскую
общественную мысль. См.: Иванов Л. Литературное наследие
Максима Грека: Характеристика, атрибуция, библиография. Л., 1969; Синици-
на Н. В. Максим Грек в России. М., 1977; Громов М. Н. Максим Грек. М.,
1983.
10 Люблинская уния, заключенная в 1569 г., устанавливала государственную
структуру нового государства — Речи Посполитой.
11 Курбский Андрей Михайлович (1528-1583) — князь, государственный
деятель, член Избранной Рады при Иване Грозном. Опасаясь опалы и
казни, бежал в Литву, откуда слал обширные послания царю с
обличением его «самодержавства».
12 Идеология под названием «Москва — Третий Рим» была принята на
высшем церковно-государственном уровне в царствование Ивана Грозного.
Идеология провозглашала Московское царство единственным
наследником истинной христианской веры, хранителем ее чистоты.
13 Шпет называет основные церковные и светские сочинения XVI-XVII вв.,
которые регулировали правила поведения.
14 Соглашение об объединении католической и православной церквей при
сохранении разницы обрядов было заключено на соборе во Флоренции
в 1439 г. Это соглашение не было признано на Руси, а подписавший его
митрополит Исидор низложен.
Комментарии
817
15 Расколом называется движение, возникшее в середине XVII в. в ходе
спора об истинной «старине», в центре которого стояли патриарх Никон,
протопоп Аввакум и царь Алексей Михайлович. В результате раскола
часть православной церкви, не признавшая реформ патриарха
Никона, порвала с официальной церковью и властью; образовалось течение
«старообрядчества».
16 Котошихин Григорий Карпович (1630-1667) — подьячий Посольского
приказа, бежавший в Швецию и там написавший книгу о России.
17 Ртищев Федор Михайлович (1626-1673) — глава ряда приказов, открыл
на свои средства школу в Андреевском монастыре.
18 Натурализовавшиеся.
19 Лихуды Иоанникий (1633-1717) и Софроний (1652-1730) — братья,
греки, учились в Италии, сыграли большую роль в русском Просвещении
XVII в., в частности, в становлении Славяно-греко-латинской академии.
20 Крижанич Юрий (ок. 1618—1683) — писатель, хорват, один из деятелей
русского Просвещения.
21 Симеон Полоцкий (в миру Самуил Емельянович Петровский-Сит-
нианович) (1629-1680) — белорусский и русский общественный
деятель и просветитель.
22 Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учебное заведение
в России, образована в Москве в 1687 г.
23 Стефан Яворский (1658-1722) — церковный деятель, писатель,в 1700-
1721 гг. — местоблюститель патриаршего престола при Петре I. См.
также комм. 81.
24 Гавриил Бужинский (?—1731) — церковный деятель, протектор школ и
типографий петровского времени, писатель, переводчик
25 Феофан Прокопович (1681-1736) — государственный и церковный
деятель, писатель, сподвижник и идеолог Петра I, глава Ученой дружины
при государе, автор ряда политических трактатов.
26 Шпет имеет в виду концепцию «Москва — Третий Рим», которая утвердилась в
качестве официальной доктрины в правление царя Ивана Грозного (XVI в.).
27 Третий радующийся, извлекающий пользу из борьбы двух противников
{лат).
28 Паисий Лигарид — Газский митрополит, прибыл в Москву не в 1660 г.,
как пишет Шпет, а в марте 1662 г. Он имел репутацию авантюриста и
даже принимал католичество. Однако царь Алексей Михайлович
закрыл на это глаза. Приведенная цитата взята из его «Опровержения
челобитной попа Никиты» (1666), опубликованной в книге «Материалы
для истории раскола за первое время его существования» (М., 1895. Т. 9.
818
С. 134). Подробнее о Паисии см.: Елеонская А. С Русская публицистика
второй половины XVII века..М., 1978.
29 Беме (Böhme) Якоб (1575-1624) — немецкий философ-пантеист, автор
работ по натурфилософии и мистике. Оказал значительное влияние на
романтическую школу мысли и литературы.
30 Лож (Locke) Джон (1632-1704) — английский философ-материалист,
создатель идейно-политической доктрины либерализма, автор теории
познания в работе «Опыт о человеческом разуме».
31 Лейбниц (Leibniz) Готфрид Вильгельм (1646-1716) — немецкий
философ-идеалист, математик, физик, языковед. По Лейбницу, реальный
мир состоит из психических деятельных субстанций — монад,
находящихся между собой в состоянии предустановленной гармонии.
32 Вольф (WolfO Христиан (1679-1754) — немецкий философ-идеалист,
представитель рационализма, сторонник идей Лейбница.
33 Бернулли (Bernoulli) Даниил (1700-1782) — сын знаменитого
математика Иоганна Бернулли из немецкой семьи математиков и ученых, один
из видных математиков, положивший начало русской математической
школе, член Петербургской Академии наук
34 Эйлер (Euler) Леонард (1707-1783) — математик, механик, физик,
астроном, академик Петербургской Академии наук
35 Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) — первый русский ученый-
энциклопедист, поэт, просветитель. Пушкин называл Ломоносова
«нашим первым университетом». Принимал активнейшее участие в
формировании и деятельности Московского университета и Петербургской
Академии наук
36 Это произошло в 1755 г.
37 Шевырев Степан Петрович (1806-1864) — критик, историк литературы,
поэт, академик Петербургской Академии наук
38 Тредиаковский Василий Кириллович (1703-1768) — поэт, филолог,
академик Петербургской Академии наук
39 Платон (428/427 — 348/347 до н. э.) — древнегреческий философ-
идеалист, ученик Сократа, основатель философской школы в Афинах.
40 Ключевский Василий Осипович (1841-1911) — знаменитый историк,
академик Петербургской академии наук, основатель русской
исторической школы рубежа XIX-XX вв., автор «Курса русской истории».
41 Радищев Александр Николаевич (1749-1802) — мыслитель, писатель,
провозвестник вольнолюбивых идей в России.
42 Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) — литератор, журналист,
историк Автор 12-томной «Истории государства Российского».
Комментарии
819
43 Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889) — граф, государственный
деятель, историк, обер-прокурор Синода (1865-1880) и министр народного
просвещения (1866-1880).
44 Местр (Maistre) Жозеф Мари де (1753-1821) — граф, французский
публицист, политический деятель и религиозный философ.
45 Уваров Сергей Семенович (1786-1855) — граф, государственный
деятель, с 1833 г. министр народного просвещения.
46 Монтескье (Montesquieu) Шарль Луи (1689-1755) — французский
просветитель, правовед, философ, представитель передовой общественной
мысли Франции XVIII в.
47 См. подробнее: Зверев В. М. Философия в России до и после «суда» над
профессорами Петербургского университета // Вестник
Ленинградского университета. 1969. № 5. Философия. С. 99-100.
48 Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790-1853) — князь,
государственный деятель, академик Петербургской Академии наук
49 Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855) — историк,
общественный деятель, профессор Московского университета, один из
основателей «западнического» направления общественной мысли в XIX в.
50 Ничего (лат.).
51 По преимуществу (φρ.).
52 Михайловский Николай Константинович (1841-1904) — социолог,
публицист народнического направления.
53 Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) — писатель, основатель
реалистической школы в русской литературе.
54 Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) — литературный
критик, публицист, сотрудничал в журналах «Отечественные записки» и
«Современник».
55 Толстой Лев Николаевич (1828-1910) — писатель, почетный академик
Петербургской Академии наук, основатель школы русского
классического романа. Создал собственное панморалистическое учение —
«толстовство».
56 Ткачев Петр Никитич (1844-1885/86) — публицист, один из
основателей радикального течения народничества, автор «Катехизиса
революционера».
57 Розанов Василий Васильевич (1856-1919) — писатель, публицист,
философ, апологет стихийного в сознании, один из создателей эссеистской
прозы, в его работах отражено религиозное экзистенциональное
умонастроение.
820
58 Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889) — писатель
демократической направленности, один из основателей «критического реализма»,
редактор журнала «Современник».
59 Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868) — публицист радикального
направления, литературный критик, сторонник утопического социализма
и материализма.
60 Кочевники.
61 Юркевич Памфил Данилович (1826-1874) — религиозный философ,
занимался проблемами христианской антропологии.
62 Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) — деятель российского и
международного марксистского движения, основоположник
российского марксизма, организатор первой марксистской группы «Освобождение
труда» (1883), автор трудов по марксистской философии.
63 Аскеты-фанатики.
64 Сборник «Из глубины», подготовленный в 1918 г. авторами, большей
частью участвовавшими в сборнике «Вехи» (1909), не был пропущен
цензурой. Издан в Париже в 1967 г.
65 Из глубин я воззвал к тебе, Иегова, говоря: Господи, внемли голосу
моему... Надежду да возымеет Израиль в Иегове, потому что у Иеговы есть
Власть и сам он освободит Израиль от многих несправедливостей его.
66 Шпет имеет в виду Фридриха I, короля Пруссии, и Карла X, короля
Швеции.
67 С точки зрения (лат.).
68 Противоположно.
69 Шпет имеет в виду древнегреческий миф о дочерях Даная — данаидах,
которые в Аиде (царстве мертвых) несли наказание за убийство своих
мужей, наполняя водой бездонный сосуд.
70 Августин Блаженный (Augustinus Sanctus) Аврелий (354-430) —
христианский теолог и церковный деятель, основатель западной патристики,
автор многочисленных теологических работ.
71 Иоанн Дамаскин (ок. 675 — до 753), византийский богослов, философ и
поэт, систематизатор греческой патристики; ведущий идейный
противник иконоборчества. Автор церковных песнопений.
72 Аристотель (384-322 до н.э.) — древнегреческий ученый и философ,
воспитатель Александра Македонского. Аммоний (ок. 175 — ок. 242) —
древнегреческий философ-идеалист, учитель Плотина. Порфирий
(232-301) — древнегреческий философ-неоплатоник.
73 Дионисий Ареопагит (I в. н. э.) — первый афинский епископ, которому
приписывается авторство четырех трактатов и десяти писем — ареопа-
Комментарии
821
гитиков, которые, как теперь доказано, ему не принадлежат. В России
они были известны с XIV в.
Зиновий Отенский (? — ок. 1568) — монах, писатель, ученик Максима
Грека.
См. другую точку зрения: Замалеев А Ф. Философская мысль в
средневековой Руси. Л., 1987.
Учителей (древнерусск.)
Могила Петр Симеонович (1596/1597-1647) — деятель украинской
культуры, писатель, публицист, митрополит Киевский и Галицкий (с 1632),
основатель Киево-Могилянской коллегии.
Речь идет о знаменитом учебнике логики Петра Испанского
(ум. в 1277) — логика и философа, избранного за год до смерти папой
под именем Иоанна XXI.
Учение французского философа-гуманиста П. Рамуса (Раме) (1515-
1572), названное рамизмом, ратовало за сближение логики и риторики.
Пор-Руайяль — монастырь около Парижа, в котором в XVII в. создалась
сильная философская школа, с которой были связаны известные ученые
этого времени: Б. Паскаль, Ж. Расин, Р. Декарт. Созданная философская
школа выработала логическое учение о принципах мышления,
основанное на идеях Декарта и Паскаля.
Стефан Яворский (в миру Симеон Иванович) (1658-1722) —
церковный деятель, местоблюститель патриаршего престола с 1700. Президент
Славяно-греко-латинской академии с 1701 г. Президент Святейшего
правительствующего Синода (с 1721), автор трактата «Камень веры».
Григорий Конисский (1717-1795) — украинский писатель, церковный
деятель, автор проповедей, стихов, богословских статей.
В настоящее время многие из философских курсов Киево-Могилянской
коллегии обнаружены и введены в научный оборот (см.: Ничик В. М. Из
истории отечественной философии конца XVII — начала XVIII в. Киев,
1978).
Баумейстера неоднократно переиздавали на русском языке и в XIX в.
Так, «Логика» в переводе Я. Толмачева издавалась в Москве в 1817,1823 и
1827 гг., а «Метафизика» в переводе Я. Толмачева издавалась дважды — в
1808 и 1830 гг.
Пуфендорф (Pufendorf) Самуэль (1632-1694) — немецкий ученый,
юрист, представитель естественно-правового учения.
Поповский Николай Никитич (1730-1760) — просветитель, философ,
поэт, профессор Московского университета.
Красноречия.
822
88 Барсов Антон Алексеевич (1730-1791) — языковед, член Петербургской
Академии наук, автор научной грамматики русского языка.
89 Боязни мудрости.
90 Кант (Kant) Иммануил (1724-1804) — немецкий философ,
родоначальник классической немецкой философии.
91 Гейне — филолог, выдающийся знаток античной истории и культуры,
профессор Геттингенского университета. В конце XVIII в. Геттингентский
университет имел особенно важное значение для России, поскольку в
этом немецком университете учились большинство русских студентов-
дворян второй половины XVIII — начала XIX в. Он ценился в России как
образец университетского дела и идеал истинной учености и
свободомыслия.
92 Новиков Николай Иванович (1744-1818) — просветитель, издатель,
журналист, основатель русской сатирической журналистики
93 Имеется в виду кн.: Боголюбов В. Н. И. Новиков и его время. М., 1916.
94 Фалес (ок. 625 — ок. 547 до н. э.) — древнегреческий философ,
родоначальник античной философии (милетская школа), возводил все
многообразие явлений к единой первооснове — воде.
95 Все-таки (лат.).
96 Гердер (Herder) Иоганн Готфрид (1744-1803) — немецкий философ,
писатель-просветитель, теоретик «Бури и натиска», друг И. Гете,
утверждал равноправность национальных самобытных культур.
97 Сочинение Гердера «О странствиях души» на нем. яз.
98 Гельвеций (Helvetius) Клод Адриан (1715-1771) — французский
философ-материалист, утверждал мысль о вечности и бесконечности
материального мира, сторонник учения о решающей роли среды в
формировании личности.
99 Трактат Гельвеция «Об уме» на франц. яз.
100 Милюков Павел Николаевич (1859-1943) — общественный и
политический деятель, один из лидеров партии кадетов. Историк, автор «Очерков
по истории русской культуры».
101 Гольбах (Holbach) Поль Анри (1723-1789) — французский философ-
материалист, атеист, активный сострудник «Энциклопедии» Д. Дидро,
автор труда «Система природы».
102 Руссо (Rousseau) Жан Жак (1712-1778) — французский писатель и
философ, один из видных деятелей и идеологов французского Просвещения.
103 Спиноза (Spinoza, d'Espinosa) Бенедикт (Барух) (1632-1677) —
нидерландский философ-материалист, понимавший природу как
пантеистическую, единую, вечную и бесконечную субстанцию.
Комментарии
823
104 Сократ (470/469-399 до н. э.) — древнегреческий философ, один из
родоначальников диалектики, провозглашал целью философии
самопознание как путь к постижению истинного блага.
105 Юм (Hume) Дэвид (1711-1776) — английский философ, историк,
экономист. Сформулировал основные принципы агностицизма, автор
трактата «О человеческой природе», в котором развито идеалистическое
учение о чувственном опыте как источнике знания.
106 Имеется в виду работа: Зеленогорский Ф.А Философия Г. С. Сковороды —
украинского философа XVIII столетия // Вопросы философии и
психологии. 1894. Кн. 23-24.
107 Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк,
составитель жизнеописаний выдающихся греков и римлян.
108 Цицерон (Cicero) Марк Туллий (106-43 до н. э.) — римский
политический деятель, оратор и писатель, сторонник республиканского строя,
который отстаивал в своих речах.
109 [Тот,] кто Христа знает, ничтожен, если прочего не знает.
[Тот,] кто Христа не знает, ничтожен, если даже знает остальное.
110 Опубликована в журнале «Вопросы философии и психологии». 1894.
Кн. 27.
111 Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949) — русский поэт-символист,
теоретик символизма. С 1924 г. жил в Италии.
1 ] 2 Противоположного.
113 Полевой Николай Алексеевич (1796-1846) — литератор, журналист,
историк, издатель «Московского телеграфа». Его «История русского
народа» была полемически направлена против исторической концепции
H. M. Карамзина.
114 Министерство народного просвещения впервые было учреждено в 1802 г.
115 Имеется в виду обширная реформа образования в начале царстювания
Александра I: образование 5 новых университетов, принятие
государственной программы развития образования (1803) и нового Устава
университетов (1804), который предусматривал их значительную самостоятельность.
116 Муравьев (Виленский) Михаил Николаевич (1796-1866) — граф,
генерал, государственный деятель.
117 Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762-1814) — немецкий философ,
представитель классического идеализма, профессор Йенского университета,
отвергал кантовскую «вещь в себе», автор учения о «мире объектов», его
идеи были восприняты Шеллингом и Гегелем.
118 Шеллинг (Schelling) Фридрих Вильгельм (1775-1854) — немецкий
философ, представитель романтизма, сторонник бессознательно-духовного
творческого начала.
824
119 Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих (1759-1805) — немецкий поэт,
драматург, теоретик искусства Просвещения, один из основателей
романтизма в литературе.
120 Гете (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749-1832) — немецкий писатель,
основоположник немецкой литературы. Его произведение «Фауст» стало
основанием для оперных постановок.
121 Давыдов Иван Иванович (1794-1863) — филолог, автор работ по
русской грамматике.
122 На самом деле последствия были достаточно серьезные. В
Министерстве народного просвещения секретно рассматривалось дело «О
вредном преподавании философских наук». «Начальные основания логики»
И. Давыдова подверглись обсуждению, что в конечном итоге было одной
из причин отстранения его от преподавания философии в Московском
университете.
123 Бэкон Фрэнсис ( 1561-1626) — английский философ, родоначальник
английского материализма, главный труд — «Новый органон», где автор
провозгласил главной целью науки увеличение власти человека над
природой.
124 Зенон из Элей (ок. 490-430 до н. э.) — древнегреческий философ, один
из основателей диалектики как искусства постижения истины
посредством толкования противоположных мнений.
125 Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий врач,
реформатор античной медицины, символ высокого нравственного облика
врача («клятва Пшпократа»).
126 Ничего, кроме самого разума (лат.).
127 На самом деле «разные колебания» И. Давыдова зависели не от него.
Министр народного просвещения адмирал А. С. Шишков запретил ему
преподавать философию, разрешив занять лишь кафедру математики.
128 Погодин Михаил Петрович (1800-1875) — историк, писатель, академик
Петербургской Академии наук, издатель журналов «Московский
вестник», «Москвитянин».
129 Окен (Oken) Лоренц (1779-1851) — немецкий естествоиспытатель и
натурфилософ, последователь Шеллинга.
™Милль (Mill) Джеймс (1773-1836) — английский историк, философ,
экономист, последователь и толкователь философии Юма.
131 Те (т. е. догматики), к которым среди французов принадлежали Декарт,
среди немцев — Лейбниц и Вольф, среди англичан — Бэкон Верулам-
ский, Локк и др., создают метафизические системы (Опыт... критической
философии. Берлин. 1803).
Комментарии
825
132 Nota Bene — смотри внимательно (лат). Сокращенный значок этого
выражения (NB) используется для обозначения в тексте наиболее
важных мест.
133 Материя, вещество (греч.)
134 Подальше, подальше будьте вы, непосвященные (греч).
135 Одоевский Владимир Федорович (1803/1804-1869) — князь, писатель,
музыкальный критик, председатель «Общества любомудрия».
136 Шпет имеет в виду пять книг А. П. Татаринова, вышедших в Москве в 1835 г:
«Движимость естества или устремления видов к равности отношений
по их проявлениям»; «Естество мира или личность во времени, а
пространство в объеме»; «Натура земли в проявительности и видоизменен-
ности»; «Очертательность естества или наружная форма проявления»;
«Устроение вселенной или расположение естественных видов по их
проявлениям». В полном собрании сочинений В. Г. Белинского
(Белинский В. Г. Поли. собр. соч. В 13 т. М., 1953. Т. 2. С. 703) указано, что их
автор Алексей Тихменев.
137 Перевод названия упомянутой Г. Г. Шпетом книги с немецкого языка:
Совокупное (резюмирующее) изложение системы Фихте и проистекающей
из нее теории религии. Эрфурт, 1800. Т. 1-Й; 1802. Т. III.
138 Перевод книги Шада, написанной по-латыни: «Наставления
универсальной философии. Том первый, охватывающий притом и приложенную
логику». 1812.
139 Якоби (Jacobi) Фридрих Генрих (1743-1819) — немецкий писатель,
философ-иррационалист, друг И. Гете, развивал философию «чувства и
веры».
140 Включено (лат.).
141 Кроме названных, учениками Шада, защищавшими под его
руководством диссертации в Харьковском университете, были: Гесс де Кальве
(1812), Брозоль (1814), Дудрович (1814), Любачинский (1816).
Диссертации некоторых из них обнаружены.
142 Опубликовано в Петербурге в 1768 г.
143 «О связи изучения медицины с изучением философии». Подробнее см.:
БагалейД. Опыт истории Харьковского университета (1802-1815).
Харьков, 1893. Т. 1.
144 См.: Кондильяк Э. Логика или умственная наука, руководствующая к
достижению истины, соч. аббата Кондильяка / Пер. с фр. Осиповского. Т. 1.
М, 1805.
145 Но мой слабый ум преклоняется перед Шеллингом. Между тем, я бы
осмелился полагать, что не просвещение нужно России. В остальном
826
ваша светлость по этому поводу лучший судья, чем я: я только вам
предлагаю свои сомнения (φρ.).
146 «Новое выведение естественного права».
147 Голицын Александр Николаевич (1773-1844) — князь, государственный
деятель, обер-прокурор Синода (с 1803), председатель российского
Библейского общества (с 1813), министр народного просвещения и
духовных дел (1817-1824).
148 Плотин (ок. 204/205-269/270) — древнегреческий философ-идеалист,
основатель неоплатонизма. Сочинения Плотина были изданы его
учеником Порфирием.
149 Владимир Мономах (1053-1125) — князь смоленский, черниговский,
великий князь киевский (с 1113), успешно боролся против княжеских
междоусобий. В своем «Поучении» призывал следовать христианским
заповедям.
150 Шпет приводит фразу из статьи «Основные пути представления понятий
физики» в журнале Шеллинга «Журнал спекулятивной физики» (Йена;
Лейпциг, 1800. Т. 1): «Природа должна быть для себя сущей сущностью,
физика — для себя сущей наукой об этой сущности. Требуется,
следовательно, показать, как она придет к тому, чтобы организовать сама себя,
задать себе облик и структуру» (нем.).
151 Воспроизводящим, раздражающим, воспринимающим чувствами.
152 Шпет опирается на книгу: Никитенко А Александр Иванович Галич.
СПб, 1869.
153 Свабедиссен. Основные направления учения о человеке. Марбург, Гас-
сель, 1829.
154 С похвалой, хорошо (лат.).
155 Добросовестно, чистосердечно (лат.).
х%Радлов Эрнест Леопольдович (1854-1928) — философ-идеалист,
директор Петербургской публичной библиотеки (1917-1924), переводчик
«Этики» Аристотеля.
157 Сложная композиция, смесь (лат.).
158 Действующие лица (лат. ).
159 Киреевский Иван Васильевич (1806-1856) — философ, литературный
критик, публицист, один из основоположников славянофильства.
160 Раболепством.
161 Старинная игра, состоящая из замкнутой вилки и 7-9 колец, которые
необходимо снять или надеть определенным образом.
162 Норма сознания (нем.).
Комментарии
827
163 Статьи на немецком языке: «Опыт новой теории человеческих
способностей представлений». «О фундаменте философского знания».
164 Доклады к исправлению доныне существовавших недоразумений в
философии. 1790. Т. 1; 1794. Т. 2.
165 Надмировой.
166 «С крупинкой соли» {лат), т. е. иронически, с известной осторожностью.
167 Шпет имеет в виду сюжеты Библии.
168 Обыкновенно, в просторечии (лат.).
169 Шпет приводит для сравнения цитаты из Гегеля: «Философия
рассматривает вначале логическое, чистое мышление, которое затем решает
отпустить себя вовне в виде природы; третье есть дух», и Шеллинга: «Это
(тождество идеального и реального), однако, есть идея Абсолюта, — то,
что идея в созерцании его тоже есть бытие. Так что Абсолют есть та
высшая предпосылка знания и сам есть первое знание» (нем.).
170 Латинское выражение «Бог из машины» означает внезапность,
неожиданность явления в силу непредвиденных обстоятельств.
171 Косный, трусливый итог.
172 Филарет (в миру Дроздов Василий Михайлович) (1782-1867) —
церковный деятель, с 1826 г. — московский митрополит.
173 Шпет имеет в виду афессивную внешнюю политику Николая I, которая
потерпела фиаско во время Крымской войны 1853-1856 гг., когда
англофранцузские войска взяли Севастополь.
174 Священный Союз европейских монархов, образованный в 1815 г.
175 Имеется в виду празднование летом 1817 г. в Вартбурге трехсотлетия
реформации, с грандиозной студенческой манифестацией и
публичным сожжением книг реакционных писателей, особенно известной
«Mémoire» A, Стурдзы. Студенты считали, что она принадлежит
реакционному драматургу Коцебу, которого, как агента русского правительства,
в 1819 г. заколол кинжалом студент Эрлангенского университета К. Занд.
Ему посвятил А. С. Пушкин свое стихотворение «Кинжал» (1821). В
тексте приведены две начальные строчки этого стихотворения. Как
пишет современник, «все это заставляло призадуматься и искать средств к
успокоению умов и прекращению беспорядков» (см.: Греч К И. Записки
о моей жизни. М.; Л., 1930. С 372-373).
176 Книга Лодия «Логические наставления» была изъята из книжных
магазинов решением Ученого комитета Главного управления училищ от
26 ноября 1821 г. После доноса Магницкого, поданного им в
Министерство духовных дел и народного просвещения в 1823 г., где он
особо подчеркивает, что книга Лодия полна «опаснейших по несчастью и
разрушительности начал; а автор превзошел открытостью нечестия и
828
Куницына и Галича» (за два года до того изгнанных из
Петербургского университета), министерство отказало Лодию во втором издании,
а спустя год Рунич лишил его кафедры и через некоторое время —
деканства.
177 Стурдза (Sturdza) Михаил (1795-1884) - господарь Молдавии (1834-1849),
активный сторонник самодержавной формы правления.
178 «Инструкция директору и ректору Казанского университета» была
утверждена Александром 117 января 1820 г. Опубликована в кн.: Загоскин Н. П.
История Казанского университета. Казань, 1904. Т. 3. С. 344-350.
179 Трудов (лат.).
180 Сокращение (лат.).
181 В полном составе (лат.).
182 Среди почетных членов помимо названных были: министр духовных дел
и народного просвещения кн. А. Н. Голицын, гр. Аракчеев, ряд генерал-
губернаторов. Наконец, университет в 1820 г. назвал почетным членом и
самого Магницкого «за распространение света и царствия Христова», за
«исторжение плевел, насаждаемых и питаемых суемудрием» (см.: Загоскин К П.
История Казанского университета. Казань, 1906. Т. 4. С. 404-408).
183 Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) — государственный деятель,
генерал, временщик при Александре I.
184 Шишков Александр Семенович (1754-1841) — адмирал,
государственный деятель, министр народного просвещения (1824-1828).
185 Это произошло после восстания 14 декабря 1825 г.
]%Меттерних (Metternich) Клеменс (1773-1859) — князь, министр
иностранных дел Австрии (1809-1821), канцлер (1821-1848), один из
активных деятелей Священного союза монархов.
187 «Моральный взгляд на современные принципы народного образования».
188 Бенкендорф Александр Христофорович (1783-1844) — граф, генерал,
государственный деятель, с 1826 г. — шеф жандармов.
189 Кошелев Александр Иванович (1806-1883) — общественный деятель,
славянофил, участник подготовки актов об отмене крепостного права.
тЛивен Христофор Андреевич (1777-1838) — барон, участник
Наполеоновских войн, дипломат.
191 Горстку бессовестных людей (темных личностей).
192 Хладнокровных фанатиков, которые периодически бывают экзерциста-
ми, иллюминатами, квакерами, масонами, ланкастерцами, методистами.
193 Формула Монтескье «Общий дух нации», а Вольтера — «Дух народа».
194 Уваров С. С. Этюды филологические и критические. СПб., 1843.
Комментарии
829
тЛуден X. Руководство к государственной мудрости или политике.
Йена. 1811.
196 По каждому из распоряжений в департаменте Министерства народного
просвещения были заведены специальные дела. Например: «О пересмотре
и постепенном сокращении объема учебных программ некоторых
политических и юридических наук» (1849); «О прекращении преподавания
философии в императорских российских университетах» (1850) и др.
197 Аристократов на фонарь! (фр.)
198 Краевский Андрей Александрович (1810-1889) — издатель журнала
«Отечественные записки», журналист.
199 Лобачевский Николай Иванович (1792-1856) — математик, создатель
неевклидовой геометрии, ректор Казанского университета. Открытие
Лобачевского не было признано в нач. XIX в., т. к. опередило время.
200 Востоков. (наст. фам. Остенек) Александр Христофорович (1781-1864) —
филолог, поэт, академик Петербургской Академии наук, исследователь
русского тонического стихосложения.
201 Буслаев Федор Иванович (1818-1897) — филолог и искусствовед, автор
классических трудов в области языкознания, литературы, фольклора,
основоположник отечественной школы филологии.
202 Даль Владимир Иванович (1801-1872) — писатель, этнограф,
фольклорист, составитель первого «Толкового словаря живого великорусского
языка».
203 Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — религиозный философ,
поэт, публицист, основатель идеи «вселенской церкви», «всемирного
христианства», «всечеловечества».
204 Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800-1844) — поэт,
близкий к кругу Пушкина.
205 Каченовский Михаил Трофимович (1775-1842) — историк
«скептической» школы, академик Петербургской Академии наук, ректор
Московского университета (с 1837), редактор «Вестника Европы». Пушкин имеет
в виду критику Предисловия к «Истории» Карамзина в журнале «Вестник
Европы».
шНадеждин Николай Иванович (1804-1856) — критик, публицист,
издатель журнала «Телескоп», в котором в 1836 г. и было опубликовано 1-е из
«Философических писем» Чаадаева.
207 Третью стражу, смену {лат).
208 Упрощает.
209 Перевод приведенного Шпетом немецкого текста: «Собственно речь
должна идти о психологии при занятии физикой <...> так что между
физикой и психологией не может быть мыслимо никакой реальной про-
830
тивоположности. Но даже если хотеть согласиться с этим, то все же о
психологии столь же мало, сколь и о физике, при таком
противопоставлении можно было бы понять, как они могут быть поставлены на место
философии. Так как психология души познается не в идее, а по способу
проявления и единственно в противоположность ей, причем они в ней
едины, и т. п.» (нем.).
210 Отношение к нам (грен).
211 Доведение до абсурда (лат).
212 Субъективное в нем [художнике] вновь переходит в объективное, так же как
в философе постоянно объективное воспринимается как субъективное.
Поэтому философия остается, невзирая на внутреннее тождество с искусством,
все же всегда и необходимо искусством, т. е. реальной («Лекции о методе
академических занятий». 1808; 2-е изд. 1813. Собр. соч. Т. 5. С. 349) (нем).
213 Своеобразный (лат.).
214 С позволения сказать (лат).
215 Предвосхищение.
216 Предмет выдумки, фантазии (лат).
217 «Журнал изящных искусств» Буле издавал в 1807 г. Вышло 3 номера.
218 Винкелъман (Winkelmann) Иоганн Иоахим (1717-1768) — немецкий
историк искусства, просветитель, автор трудов по истории античности,
один из идеологов классицизма.
219 Лессинг (Lessing) Готхольд Эфраим (1729-1781) — немецкий драматург,
искусствовед, просветитель, один из основоположников идеологии
классицизма и возрождения античности.
220 Воображать и подражать (лат).
221 Отрицательного примера (лат).
222 «об учении Спинозы по письмам к господину Мозесу Мендельсону»
(нем.).
тШлегель (Schlegel) Август Вильгельм (1767-1845) — немецкий историк
литературы, критик, поэт, один из ведущих поэтов и идеологов
романтизма в искусстве.
224 Посвященным, известным (фр).
225 Имеется в виду Иоганн Рихтер (1763-1825) — немецкий писатель и
эстетик прогрессивного романтизма.
226 Шпет сравнивает с этой мыслью заявление Фр. Шлегеля (в сноске):
«Поэзия может критиковаться только поэзией. Суждение, высказываемое
искусством, которое само не является произведением искусства <...> вовсе
не имеет прав гражданства в царстве искусства» (нем).
227 Легче бывает с помощью покорности всякий грех исправить! (лат).
Комментарии
831
228 Гумбольдт Вильгельм (1767-1835) — немецкий философ, языковед,
государственный деятель. Автор учения о языке как «формирующем
органе мысли».
229 Душа мира (греч.).
230 «Красота правдива, правда красива» — все мы это знаем о мире, и все
должны это знать (англ.).
231 Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805-1827) — поэт, критик
романтического направления.
232 И. И. Давыдов в 1841 г. был избран академиком. С 1847 по 1858 г. являлся
директором Петербургского Главного педагогического института.
Скончался он в 18бЗг.
233 «Об историческом значении России» (фр).
234 «Об отношении изобразительного искусства к природе»; «Основные
направления эстетики» (нем.).
235 Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) — русский писатель и философ;
офицер; близкий друг Пушкина. С 1821 г. — член тайного
декабристского общества Союз благоденствия, оказался в опале после публикации
своего «Философического письма» (1836).
236 Божество необходимости.
К вопросу о гегельянстве Белинского (этюд)
Статья была написана в 1923 г. и впервые опубликована только в 1991 г.
с машинописной копии (с правками автора), которая хранится в Отделе
рукописей ГБЛ. Рукописные правки содержат значительные сокращения
названий работ и документов, использованных Шпетом, а также
сокращения приводимых им цитат. Это вызвано, в частности, еще и тем, что
статья, по-видимому, представляет собой вариант доклада, с которым 21 мая
1923 г. Г. Г. Шпет выступал на литературной секции Государственной
Академии художественных наук (ГАХН). Вопрос о гегельянстве Белинского
вызвал оживленное обсуждение в ходе мероприятий памяти великого
критика в связи с 75-летием со дня его смерти. Доклады и сообщения,
приуроченные к этой дате, вошли в юбилейный сборник «Венок Белинскому».
М., 1924. Однако статья Шпета в сборнике не появилась. Поскольку статья
находилась в процессе подготовки, некоторые сокращения Шпета требуют
дополнительной историографической и библиографической
расшифровки. Наиболее часто его сокращения касались названий журналов ХГХ в. и
философских работ. «М. Н.», «О. 3.», «В. Е.» — соответственно, журналы
«Московский наблюдатель», «Отечественные записки», «Вестник Европы».
Наиболее часто цитируемые работы: «Aesth.» — «Эстетика» (Aesthetik) Гегеля;
Gesch. d Philos. — Geschichte der Philosophie; Enz. — Enziklopädie.
Публикуется по: «Вопросы философии». 1991. № 7. С. 115-171.
832
237 Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) — революционер,
теоретик анархизма, один из идеологов раннего народничества.
тРетшер Генрих Теодор (1803-1871) — немецкий теоретик эстетики и
драматического искусства. Статья, о которой пишет Шпет, была
опубликована в журнале «Московский наблюдатель» (1838. Т. XVII. Май. Кн. II.
Июнь. Кн. I, II) под названием «О философской критике
художественного произведения».
239 Здесь и далее речь идет о книге литературоведа С. А. Венгерова «Эпоха
Белинского». Петроград, 1919- С. 11-12.
240 Имеется в виду книга историка либерального направления А. А.
Корнилова «Молодые годы М. Бакунина». М., 1915. Далее в тексте Шпет
указывает страницы из этой книги.
241 Речь идет о книге немецкого философа К. Фишера «История новой
философии». СПб., 1902. Т. 8. «Гегель, его жизнь, сочинения и учение».
242 Катков Михаил Никифорович (1818-1887) — публицист, издатель
журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости»
243 Речь идет об упоминаемой далее статье историка культуры П. Н.
Милюкова «Любовь у "идеалистов тридцатых годов"», которая вошла в его
книгу «Из истории русской интеллигенции». СПб., 1903.
244 Имеется в виду уже упоминавшаяся Шпетом статья М. А. Бакунина в
журнале «Московский наблюдатель». 1838. Т. XVI. Далее Шпет цитирует эту
статью по не известному до сих пор исследователям источнику.
245 ПыпинА Н. Белинский, его жизнь и переписка. Изд. 2-е. СПб., 1908.
246 Станкевич Николай Владимирович (1813-1840) — общественный
деятель либерального направления, поэт, философ.
247 Пара, парный предмет (φρ.).
248 Пауль Герман (1846-1921) — немецкий языковед-германист. Паулю
принадлежат многие работы в области истории германских языков, в
частности «Словарь немецкого языка» (1897) и «Грамматика немецкого
языка» (1916-1920).
249 Круг Вильгельм (1770-1842) — немецкий философ, составитель одного
из первых словарей философских терминов.
250 БельшовскийА. Гете. Его жизнь и произведения. Т. 1-2. СПб., 1898-1908.
251 Мендельсон Моисей (1729-1786) — немецкий философ. Шпет имеет в
виду его сочинение «Иерусалим, или о религиозной власти и еврействе»
(1783).
252Дильтей (Dilthey) Вильгельм (1833-1911) — немецкий историк
культуры и историк-идеалист, представитель «философии жизни», основатель
герменевтики.
Комментарии 833
253 Здесь и далее Шпет цитирует и ссылается на немецкое издание
«Phänamenologie des Geistes». 3. Aufl. Lasson, 1907 и на русское издание:
Гегель В. Феноменология духа / Под ред. Э. Радлова. СПб., 1913. Т]эуды
С-Петербургского философского общества. Вып. VIII.
254 В подлиннике: «...потрясена до безумия и тает в истомляющей чахотке»
(перевод Г. Шпета).
255Шлегелъ (Schlegel) Фридрих (1772-1829) — немецкий критик, философ
культуры, языковед, писатель.
256 Иванов-Разумник Разумник Васильевич (1878-1946) — публицист,
журналист, философ, историк русской общественной мысли.
257 Здесь и далее Шпет ссылается на изд.: Белинский В. Г. Соч. М., 1859.
258 Переписка Николая Владимировича Станкевича. М., 1914.
259 Речь идет о статье В. Г. Белинского «Опыт системы нравственной
философии. Сочинение магистра Алексея Дроздова», опубликованной в
журнале «Телескоп». 1835. Кн. 21-22.
260 Шпет имеет в виду статью: Пиктет А Классицизм и романтизм //
Московский телеграф. 1828. № 17.
261 Ансилъон Фридрих (1767-1837) — прусский министр, член Академии
наук, королевский историограф, автор ряда философских работ.
262 Гербарт (Herbart) Иоганн Фридрих (1776-1841) — немецкий философ-
идеалист, психолог и педагог, основатель плюралистической школы в
философии.
Мудрость или разум?
Написанная в январе 1917 г. статья была задумана как часть более
обширного «Введения в философию», что отражено в архиве Г. Г. Шпета.
Статья отличалась небывалой для философских сочинений страстностью и
«прозрачностью» языка и открывала простор для развития
герменевтических оснований знания.
Публикуется по: Мысль и Слово: Философский ежегодник / Под ред.
Г. Г. Шпета. Т. I. M., 1917. С. 1-69. Учтены современные комментарии к статье.
263 «Что общего у Афин и Иерусалима, Академии и Церкви?» (лат.).
264 См. подробнее об этом в работе Г. Г. Шпета «Эстетические фрагменты».
265 Парменид из Элей (ок. 540 — ок. 470 до н. э.) — древнегреческий
философ, представитель элейской школы; впервые провел принципиальное
различие между умопостигаемым неизменным, вечным единым бытием
(сфера истинного знания) и чувственно воспринимаемой преходящей
текучестью вещей (сфера мнений).
834
266 Рассел (Russell) Бертран (1872-1970) — английский философ, логик,
математик, основоположник ангийского неореализма и неопозитивизма.
Шпет цитирует Рассела по изд.: Рассел Б. Новейшие работы о началах
математики // Новые идеи в математике. Сборник I. СПб., 1913.
267 Евклид (III в. до н. э.) — древнегреческий математик, основатель
классических основ античной математики, элементарной геометрии.
шФраунгофер (Fraunhofer) Йозеф (1787-1826) — немецкий физик,
известный своими работами в области оптики и наблюдений за
небесными светилами.
269 Принцип познания {лат).
270 Шпет имеет в виду церковного писателя Лактанция (ок. 250-325 н. э.),
который получил прозвание «христианского Цицерона» за изящный
литературный слог своих сочинений. Главное сочинение — «Божественные
установления», которое и цитирует Шпет.
271 См. Платон. Государство. VI. С. 511 Ь-с.
272 Ничего нет в сознании, чего не было бы в истории, и все, что было в
истории, должно быть в сознании {лат).
273 Трансцендентальная благодать {лат).
274 Шпет имеет в виду сочинение блаженного Августина «Expositio Epistulae
ad Galatas». Paris, 1845.
275 Шпет имеет в виду события осени 1910 г., когда Л. Н. Толстой, переживая
душевный кризис, покинул свой дом.
Явление и смысл.
Феноменология как основная наука и ее проблемы
Книга о феноменологии, опубликованная в 1914 г., стала поворотным
моментом в становлении Г. Г. Шпета как ведущего философа XX в. Знакомя
читателей со своим пониманием философских идей Э. Гуссерля, Шпет
продвигается существенно дальше, представляя феноменологию как
основание философского знания. Интуитивно-описательное познание получало
«строгое научное основание». Однако Шпет не ограничился
представлением феноменологии, делая следующий шаг в понимании способов и
смысла интерпретаций, что означало выход в область герменевтики. Именно с
этой работы начинается становление русской школы герменевтики,
которой именно на основании работ Шпета дано название
«феноменологической герменевтики».
Публикуется по: Шпет Г. Г. Философско-психологические труды. М.,
2005. С 308-414.
276 Гуссерль (Husserl) Эдмунд (1859-1938) — немецкий философ-идеалист,
основатель феноменологии. Стремился превратить философию в «стро-
Комментарии
835
гую науку» посредством введения феноменологического метода как
основного исследовательского средства.
277 Метафизика (др.-греч).
278 чтобы действовать (φρ.).
279 Бергсон (Bergson) Анри (1859-1941) — французский философ-идеалист,
представитель интуитивизма и «философии жизни».
280 Штумпф Карл (1848-1936) — немецкий философ, музыковед, психолог,
труды в области исследований ощущений и психологии.
281 Мейнонг Алексиус фон (1853-1920) — австрийский психолог, глава
психологической школы, изучавшей законы восприятия в их целостности.
шЛотце (Lotze) Рудольф Герман (1817-1881) — немецкий философ, врач,
естествоиспытатель, развивал идеи, близкие к монадологии Лейбница.
283 Больцано Бернгард (1748-1848) — логик и математик, профессор в
Праге, автор философского понятия «истина в себе».
284 Номинализм и реализм — полемизирующие между собой учения,
развивающиеся в рамках схоластики. Предметом дискуссии между ними
является реальность общего по сравнению с единичным и взаимоотношения
единичного и общего.
285 Противоречие в определении (лат.).
шРиккерт (Ricken) Генрих (1863-1936) — философ, представитель
школы неокантианцев в Бадене.
287 Особенный, специальный (лат).
288 Воздержание от суждения (др.-греч).
289 Богини мести в древнегреческой мифологии.
290 Мыслю (лат).
291 Эксплицидный — развернутый, ясный; имплицидный — включенный во
что-нибудь, подразумеваемый (лат).
292 Данные сознания (лат).
293 Призраки (лат).
294 От лат. reductio — возвращение, приведение обратно; упрощение,
сведение сложного к более простому.
295 Фактически, на самом деле (лат.).
296 Явно, в развернутом виде (лат.).
297 «Я думаю, мыслю» (нем) — термин И. Канта соответствует
классическому cogito (лат).
298 Рид (Reid) Томас (1710-1796) — английский философ-идеалист,
основатель шотландской школы «здравого смысла».
299 Ораторское искусство.
836
300 Стюарт (Steuart) Джеймс (1712-1780) — английский экономист, один
из крупных представителей течения меркантилизма.
301 Бозанкет (Bosanquet) Бернард (1848-1923) — английский философ-
идеалист, неогегельянец.
302 Движение назад, в бесконечность, неопределенность (лат.).
303 Упорядочивающее (лат.).
304 Здесь и теперь, тут же, немедленно (лат.).
305 Resp[onsum] — соответственно (лат.).
306 Для себя (нем.).
307 Понятие «энтелехия» введено Аристотелем как обозначение завершения,
осуществленности какой-либо возможности бытия, а также движущего
фактора этого осуществления.
308 По преимуществу (φρ.).
309 Согласие, единодушие (др.-грен.).
310 С точки зрения цели, энтелехии (лат.).
311 «Жизненный порыв» (фр.) — термин, введенный А. Бергсоном.
Эстетические фрагменты
Название не вполне отражает структуру работы, отличающуюся
удивительной цельностью, что подчеркивалось одинаковым названием всех трех
частей — «Своевременные напоминания». Г. Г. Шпет в этой работе
подводил итоги эстетических исканий Серебряного века, видя исчерпанность
футуристического направления с точки зрения следующего этапа развития
культуры. В этой работе Шпет в полной мере реализовал новые
феноменологические подходы, давая блестящие образцы интерпретации смыслов,
анализа структуры слова и содержания культурных явлений.
Полностью «Эстетические фрагменты» (3 выпуска) выходили
отдельным изданием: Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Пг, 1922-1923 и в кн.:
Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989- С. 343-472 (в последнем случае — с
авторскими дополнениями, вырезанными цензурой).
Публикуется по: Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 343-472.
312 Такой же, также, равным образом (лат.).
313 Без искусства, просто (грен).
314 Немудрый, глупый (греч.).
315 Ложный шаг, промах, ошибка (φρ.).
316 Фальшь, фальшивый знак (φρ.).
Комментарии
837
317 Рескин (Раскин) (Ruskin) Джон (1819-1900) — английский теоретик
искусства, критик, историк, публицист, рассматривал искусство как синтез
природы, красоты и высокой нравственности.
318 Моррис (Morris) Уильям (1834-1896) — английский художник, писатель,
теоретик искусства, общественный деятель, близок к идеям
прерафаэлитов, отстаивавшим повышенное внимание к натуралистическому
изображению, близкому к «стихийности» природы.
319 Шпет цитирует статью художника Н. К. Рериха: Рерих Н. К
Художественная промышленность // Золотое руно. 1907. № 6. С. 58-59.
320 Шпет приводит высказывание Сезанна о цели искусства: «Передать —
все, что чувствуешь» (φρ.).
321 Эстетическое слабоумие (англ.).
322 Шпет соединяет имена теоретиков модернистской поэзии и новых
видов искусства в разных странах и в разные времена: Буало Николя
(1636-1711) — французский поэт, критик, теоретик классицизма,
пользовался огромным авторитетом в период становления классической
поэзии; Ватте Шарль (1713-1780) — французский эстетик, философ и
педагог, считал античную поэзию абсолютной нормой, один из
теоретиков классицизма; Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924) — поэт,
издатель, теоретик символизма, работал над теорией нового стиха.
323 Смысл приводимых латинских слов состоит в противопоставлении
искусства для избранных («пою всадникам», т. е. знатным людям Рима) —
искусству для всех, для равных («пою лошадям»).
324 Фейербах (Feuerbach) Людвиг (1804-1872) — немецкий философ,
материалист и атеист.
325 Ницше (Neitzsche) Фридрих (1844-1900) — немецкий философ,
представитель школы иррациональной философии, основатель т. н.
«философии жизни».
326 Тютчев Федор Иванович (1803-1873) — русский поэт, стихи которого
часто носят философский смысл, дипломат и государственный деятель.
32''Белый Андрей (наст, имя и фам. Борис Николаевич Бугаев) (1880-
1934) — поэт, прозаик, один из идеологов символизма как нового
мировоззрения.
328 Своего рода подмена (лат.).
329 Шпет называет немецких и австрийских литераторов рубежа ХГХ-ХХ вв.,
которые объединены мировоззрением оторванности от мира,
субъективизма, асоциальности и художественным принципом афористичности,
символичности, психологизма.
330 Тагор Рабиндранат (1861-1941) — индийский писатель-гуманист,
общественный деятель, в статье «Кризис цивилизации» (1941) высказывал
мысль о неизбежности усиления национальных движений.
838
331 Готский Альманах — дипломатический и статистический ежегодник,
издаваемый в Готе с 1783 г., который для привлечения читателей стал
наряду с серьезными статьями и информацией помещать гравюры на
сюжеты известных романов, портреты знаменитостей и проч.
332 По причине этого, следовательно, после этого (шт.).
333 После смерти, следовательно, по причине смерти (лат.).
334 футуризм — от лат. futurum — будущее. Авангардистская идеология,
ставшая основой ряда школ авангардного искусства, главным образом, в
Германии, России, Италии в 1910-1920-х гг. Стремясь создать «искусство
будущего» и преобразовать жизнь по его законам (теории урбанизма,
машинная эстетика, кинетическое искусство и т. п.), футуристы считали,
что старая культура в «музейных склепах» мешает «пробиться» новому
искусству, а потому она подлежит уничтожению. Основные идеологи: Ф. Ма-
ринетти, В. Хлебников, В. Маяковский, К Малевич и др. См.: Тексты
манифестов: Литературные манифесты: От символизма до «октября». М., 2001.
С. 129-211.
335 Шпет имеет в виду тексты футуристов. В Манифесте родоначальник
футуризма — Ф. Т. Маринетти провозглашал «поджигателей с
испачканными сажей пальцами» провозвестниками новой культуры на месте старой,
музейной, подлежащей уничтожению. К Малевич утверждал о
необходимости сносить все города каждые пятьдесят лет, чтобы строить их
заново, для новых поколений.
336 Шпет цитирует произведение Гомера «Одиссея». Исследователи
предполагают, что перевод приведенной строфы сделан самим Шпетом.
337 Нравственно здравый ум, моральное здоровье (англ.).
338 Перевести при помощи своей интуиции (лат.).
339 Шпет цитирует неизвестный перевод гимнов Гомера. Возможно, перевод
принадлежит самому Шпету.
340 До этого, следовательно, по причине этого (лат.).
341 Шпет цитирует фрагменты собственного стихотворения «Ночной
кошмар», а затем фразу из сонета 23 Шекспира «Прочтешь ли ты слова
любви немой? / Услышишь ли глазами голос мой?», видя в них созвучие
собственным мыслям.
Ц2Блок Александр Александрович (1880-1921) — поэт-символист, чья
поэзия стала образцом модернистской поэзии, полной философских
размышлений о природе искусства и судьбах России.
343 Шпет цитирует заключительные строфы поэмы А. А. Блока «Двенадцать»
(1918).
344 Шпет приводит стихотворение А. Белого «Христос Воскрес».
345 Шпет цитирует слова поэта Новалиса из книги: Новалис. Гейнрих фон
Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. СПб., 1995. С. 167-168. Нова-
Комментарии
839
лис (наст, имя и фам. Фридрих фон Харденберг) (1772-1801) —
немецкий поэт, философ, представитель романтизма, высказал идеи
интуитивной диалектики, сиволизма природы.
346 Шпет приводит строки из стихотворения А. Белого «Отчаяние» (1908).
347 Ахматова (наст. фам. Горенко) Анна Андреевна (1889-1966) — поэтесса
школы Серебряного века. Одна из основателей течения позднего
символизма — акмеизма.
348 Шпет приводит отрывок из речи «Памяти Александра Блока», которую
произнес А. Белый 21 августа 1921 г. См.: Памяти Александра Блока.
Томск, 1996. С. 43-44.
349 Здесь и далее Шпет цитирует отрывки из поэмы А. Блока «Двенадцать».
350 Гойя (Goya) Франсиско Хосе де (1746-1828) — испанский художник,
отличавшийся смелым новаторством, фантазией; некоторые его картины
полны ужаса и фантасмагории. Замечание Шпета относится именно к
этой части аллегорического и мистического творчества художника.
351 Шпет рассматривает скандально известную книгу философа О.
Шпенглера «Закат Европы», русский перевод которой появился в 1923 г.
352 Шпет критикует тезис Шпенглера «мир-как-история» и ссылается на
Георга фон Гертлинга, немецкого философа, который в 1917 г. стал
рейхсканцлером и участвовал в брестских переговорах 1918 г.
353 Цитату из сочинения Ф.-А. Вольфа «Darstellung der Alterthumwissenschaft»
Шпет приводит в собственном переводе.
354 Отвращение, чувство досады, пресыщенность (лат.).
355 Брак, бракосочетание, любовная связь (лат.).
356 Перевод: «После явился ему дух Мефистофеля и сказал ему: "Если впредь
ты будешь держать свое слово, я могу насытить твою похоть, иным
образом, так, что ты в жизни ничего другого не захочешь. Раз ты не можешь
жить в целомудрии, я буду каждую ночь и каждый день приводить тебе в
постель любую женщину, какую ты увидишь в этом городе или где еще,
если ты пожелаешь ее по воле своей для блуда. И в этом виде и образе
будет она с тобой жить".
Доктору Фаусту это так понравилось, что сердце у него затрепетало от
радости, и он покаялся в том, что прежде хотел сотворить. И распалился
он таким бесстыдством и похотью, что день и ночь только высматривал
красивых женщин, так что если нынче он предавался с дьяволом блуду,
завтра уже новое имел в мыслях» (нем.). Перевод Р. В. Френкель. Цитата
из «Народной книги» о Фаусте. См.: Легенда о докторе Фаусте / Под ред.
В. М. Жирмунского. Изд. 2-е. М, 1978. С. 46-47.
357 Перевод: «Они отвечали ему, что это был бог Магомет и что на ночь
требовал он то одну, то другую, делил с ними ложе и сказал им: от его
840
семени пойдет великий народ и родятся храбрые богатыри» (нем.). Там
же. С. 71.
358 Ваше высокопревосходительство (нем).
359 Не будем приводить примеров (букв.: примеры ненавистны) (лат).
360 Г. Г. Шпет цитирует филолога Гербера: «В искусстве стихосложения
главным является сам процесс, выдумка, превращение, придание реальности
поэтической формы, побуждение к размышлению. В ораторском
искусстве главным же является умение представить состояние души
средствами языка. Поэт придумывает различные повороты сюжета, решения,
обстоятельства, передает свое мировоззрение, а оратор передает
состояние души, подбирая подходящие слова, синтаксические и
стилистические средства, крылатые выражения».
Литература
Статья касается методологических проблем искусства художественного
слова и демонстрирует эстетические позиции Шпета в философии. Ее
написание относится к декабрю 1929 г., когда работа Г. Г. Шпета в ГАХН
стала уже невозможной. Статья предназначалась для «Словаря эстетических
терминов», который готовился в ГАХН в 1923-1929 гг. Статья известна в
двух вариантах, которые хранятся в разных архивах (РГАЛИ и НИОР РГБ).
Вариант текста, хранящийся в РГБ, опубликован в книге: Шпет Г. Г.
Искусство как вид знания: Избранные труды по философии культуры. М., 2007,
а также: Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды
по знаковым системам. Вып. XV. Тарту, 1982. С. 150-158. Здесь
приводится рукописный вариант текста, который хранится в фонде В. И. Нейштадта
(РГАЛИ. Ф. 1525. Оп. 1. Ед. хр. 128. Л. 18-24), опубликованный впервые в
книге: Шпет Г. Г. История как проблема логики: Критические и
методологические исследования: Материалы. В 2 ч. М., 2002. С. 1133-И 36.
Публикуется по данному изданию.
361 Своего рода, своеобразный (лат).
362 В данном варианте статья Шпета заканчивается цитатой из
стихотворения Ф. И. Тютчева.
Библиография
Шпет Г. Г. Избранные сочинения. М., 1989.
Отдельные публикации, публикации в сборниках и
сборники трудов:
Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. I. M., 2008.
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания: Избранные труды по
философии культуры. М., 2007.
Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006.
Шпет Г. Г. Мысль и слово: Избранные труды. М., 2005.
Шпет Г. Г. Философско-психологические труды. М., 2005.
Густав Шпет: Жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005.
Шпет Г. Г. Литература // История как проблема логики.
Критические и методологические исследования. Материалы. М., 2002.
Густав Густавович Шпет. Архивные материалы. Воспоминания.
Статьи. М., 2000.
Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука
и ее проблемы. Томск, 1996.
Шпет Г. Г. Философские этюды. М., 1994.
Шпет Г. Г. К вопросу о гегельянстве В. Г. Белинского // Вопросы
философии. 1991. № 7.
Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии //
Введенский А. И., Лосев А Ф., Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Русская философия.
Свердловск, 1991.
Шпет Г. Г. Философия Лаврова // Отечественная философия:
опыт, проблемы, ориентиры исследования. Вып. 5. М., 1990.
842
Библиография
Шпет Г. Г. Философское наследство П. Д. Юркевича (К
сорокалетию со дня смерта) // Юркевич П. Д. Философские произведения.
М, 1990.
Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст:
Литературно-теоретические исследования. 1989; 1990; 1991; 1992. М., 1990-
1993.
Шпет Г. Г. История как предмет логики //
Историко-философский ежегодник — 88. М., 1988.
Шпет Г. Г. Литература // Ученые записки Тартуского
государственного университета. Т]эуды по знаковым системам. Вып. XV.
Тарту, 1982.
Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы
Гумбольдта). М., 1927.
Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. Вып. 1. М., 1927.
Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Ч. I—III. Пг., 1923.
Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. Ч. I. Пг., 1922.
Шпет Г. Г. Антропологизм Лаврова в свете истории философии //
П. Л. Лавров. Статьи. Шпет Г. Г. Воспоминания. Материалы. М., 1922.
Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1921.
Шпет Г. Г. Скептик и его душа // Мысль и слово. Вып. 2. Ч. 1. М.,
1921.
Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово. Вып. 1. М.,
1917.
Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. М., 1916.
Шпет Г. Г. История как проблема логики: Критические и
методологические исследования. Часть 1. М., 1916.
Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука
и ее проблемы. М., 1914.
Библиография
843
Полная библиография трудов Г. Г. Шпета
Начала. 1992. №1.
Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...»: Интеллектуальная
биография Густава Шпета. М., 2004. С. 377-397.
Указатель имен
Абу-Хамид Мохамед
аль-Газалия — 79
Аввакум —817
Авиасаф — 79
Августин Блаженный (Augustinus
Sanctus)-75,114,350,484,
522,820,834
АвсеневП.С-208,219,220,
221,222,223,224,225,238,
240,294
Аквинский Ф. — 83,792
Александр I — 63,64,123, 261,
262,265,269,304,823,828
Александр Македонский — 820
Александрович Т. — 85
Алексей Михайлович, царь — 54,
65,817
Альтенберг П. — 691
Амвросий, архиеп. — 77
Аммоний — 77,820
Аничков Д. С.-92,93
Анненков П. В. - 384, 388,429,
453
Ансильон Ф. - 185, 364,434,
435,833
Аракчеев А. А. -259,828
Ареопагит Дионисий — 77,114,
820-821
Аристипп— 126
Аристотель - 55,75,77,83,85,
107,123,126,195,326,349,
350,465,504,513,543,544,
654,656,658,670,722,791,
820,826,836
Аскольдов С. А. — 7, 39
Астер (Аст)-129,223,348,364,
367,404,543,544,545,654
Афанасий Александрийский —
76
Ахматова А. А. — 704,839
БагалейД.И.-117,148,149,
151
Байер Г.-З. - 57
Бакунин М. А.-40, 370, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378,
379,382,384,388,389,407,
408,409,410,413,415,422,
425,426,427,429,437,440,
447,452,455,832
Балтрушайтис Ю. — 6
Баратынский Е. А. — 829
Бардили-131,142
Барсов А. А.-92, 200,822
Багге 111.-349,350,687,837
Батюшков Ф. — 78
Баумейстер Ф. X. - 84,86,87,92,
93,150,172,282,821
Безобразова М. — 78
Бекенштейн — 57
Белинский В. Г. - 68,142,143,
144,197,198,201,207,279,
289,342,344,369-457,815,
819,825,831,833
Белый А. - 6,7,8,16,689,699,
700,704,837,838,839
Беме (Böhme) Я. - 55,96,222,
260,261,818
Бенкендорф А. X. — 266,267,
289,828
Указатель имен
845
Бергсон (Bergson) А. — 526,527,
610,676,835,836
Бердяев H.A.-7,8,11,18,39
Березовая Л. Г. - 5-30
Бернулли (Bernoulli) И. и Д. —
57,818
Бернулли Н. — 57
Бестужев-Рюмин К Н. — 88
Бильфингер — 57
Блок А А - 8,16,700,706,838,
839
Бобров Е. А.-39,100,102,160,
316,325,333
Боголюбов В. ^96,97,103
Бозанкет Б. - 597, 836
Больцано Б. — 532,835
Бонч-Бруевич Вл. - 104,105
Боратынский Е. А. — 309,754
Боткин В. П. - 370,447
Браун Дж. — 159
Бровкин В. П. — 41
БронзовА. —77,81
Бруккер-87,129
Брюсов В. Я. - 687,837
Брянцев А. М. - 86,92,93,123,
124,127,132,311
Буало Н. - 687,837
БужинскийГ-48,817
Буксбаум — 57
Буле (Joh. Gottlieb Erhard
ВиЫе)Дж.-Г.-123,124,125,
126,127,128,129,340,830
Бургундии Пизанский — 77
Буслаев Ф. И.-138,292,829
Бутервек — 131,133,147,167,
196,349,351
Бэкон Ф.-126,129,130,182,
195,297,566,824
Бюргер — 57
Вальх И. Г. - 88
Василий, архиеп. — 80
Вейкард- 159
ВелланскийДМ.-128,133,
156,159,160,161,162,163,
164,166,168,177,183,294,
315,316,334,335
Венгеров С. А. - 373, 376,421,
832
Веневитинов Д. В. — 361,362,
831
Винкельман (Winkelmann) И.-И. —
349,350,354,358,366,830
ВинклерХ.-87,92,196,213
Витязев Ф. И. - 40,41
Вишневский Г. — 86
Владимир Мономах — 156,297,
826
Волоколамский И. — 80
Волчанский И. — 85
Вольф (Wolff) Xp. - 56,83,87,
136,150,182,201,209,217,
223,224,818,824
Вольф Ф.-А. - 271, 358,708,709,
839
Востоков (наст. Остенек) АХ —
292,829
Вяземский П. А - 288, 369
ГалаховИ.А.-326, 327
Галич А. И.-65,128,129,133,
156,166,167,168,169,170,
171,172,177,182,223,224,
225, 249,274, 346, 347,348,
354,363,828
Гегель Г.-В.-Ф. - 11,14,15, 35,87,
129,142,155,157,177,188,
197,198,211,214,217,218,
219,226,229,230,231,236,
846
Указатель имен
237,241,242,271,317,326,
333,335,339,361,363,364,
367,369,371,372,373,374,
375,376,377,378,379,381,
382,383, 385,386,387, 388,
391,392,393,394,395,396,
397,398,399,400,402,403,
404,405,406,407,408,409,
410,411,412,413,414,415,
416,417,418,419,420,422,
425,427,428,429,431,433,
434,435,436,437,439,440,
441,443,444,445,446,447,
449,450,451,452,453,454,
455,456,509,534,543,570,
585,651,707,748,815,823,
827,831
Гейне - 93, 358,822
Гейнекций И. Г. - 60,150
Гельвеций (Helvetius) К.-Л. — 101,
102,822
Геннадий Новгородский — 42
Гербарт (Herbart) И.-Ф. - 136,
155,170,188,435,798,833
Гердер (Herder) И.-Г. - 100,101,
102,103,822
Герман К Ф. - 57,359
Гертлинг Г. фон - 708,839
Герцен А. И.-11,279,290,412
Гершензон М. О. - 7,11,17,22,
40
Гете (Goethe) И.-В.-123,271,
358,377,385,390,391,393,
409,428,441,682,711,776,
822,824,825
Шппократ — 126,824
Шртаннер — 159
Гоголь Н. В. - 68,432,682,689,
819
Гогоцкий С. С. - 208,222,225,
239, 240, 241,242, 243,244,
287,291,292, 329
Гозий, кард. — 82
Гойя Ф.Х.де-707,839
Голицын А. Н. - 56,154,181,
248,251,256,257,258,259,
260, 262,263,265,268, 269,
286,826,828
Голубинский Е. Е. - 41,76,80,815
Голубинский Ф. А. - 208,209,
210,211,213,219,220,223,
282
Гольбах (Holbach) П.-А. ^ 101,
102,103,155,309,822
Гольдбах Хр. — 57
Гончаров И. А.-132,310
Грановский Т. Н. - 65,66,819
Грек М.-43,44,816,821
Григорий Богослов — 76
Грос - 57
Гроций Г. - 89
1умбольдт В. - 358,741,742,831
Гуссерль (Husserl) Э. — 6,17,18,
19,24,524,531,532,535,537,
539,540,542,543, 544,550,
555,567,569,571,572,573,
574,575, 577,585,588,593,
594,599,601,603,604,605,
606,607,612,613,614,615,
616,617,619,620,621,622,
626,627,630,631,632,635,
636,640,641,642,643,644,
645,646,653,655,656,660,
662,834-835
Давыдов И. И.-124,125,126,
127,128,129,130,132,133,
134,135,136,137,138,140,
Указатель имен
847
252,278,284,308,311,313,
314,315,318,323,338,361,
362,363,364,365,366,368,
824,831
Даль В. И. - 292,829
Дамаскин И. - 76,77,80,81,820
Данте А.-14,682,707,711,793
Дежерандо - 128,129,130,131
Декарт Р.-35,89,98,134,195,
530,555,588,614,648,707,
821,824
Делиль — 57
Дильтей Ф.-Г. - 12,90,391, 394,
601,610,832
Доброхотов Α. И. — 41
Досифей, патр. — 50,85
Достоевский Ф. М. — 689,710
ДроздовА.-143,197,207
Дубневич А. — 85
Дювернуа — 57
Евгений, митр. — 59-60,63
Евклид - 473,834
Екатерина II — 60
Елизавета Петровна, имп. — 58,
284
Епифаний Славеницкий — 77
Ефименко А. Я. - 105,107
Жуковский В. А. - 168, 288,298,
344,345,419
Заборовский Р. — 84
Завадовский П. В. — 123
Заточник Даниил — 156,297
Зеленецкий К - 138,140,141,
142,143,144,152,417
Зеленогорский Ф. А. — 106,107,
114,146,151
Зенон из Элей — 126,824
Золя Э. - 689
Иван IV Грозный - 42,44,48,
816,817
Иванов Вяч. И. - 7,16,115,823
Иванов-Разумник Р. В. — 373,
410,422,428,430,438,444,
833
Иконников В. С. - 41,99,213,
328,816
Иоаким, патр. — 85
Иосиф Волоколамский — 80
Иосиф Волоцкий — 816
Исидор, митр.— 816
Казачинский М. — 84,85
Каллиграф В. — 86
Кант И.-11,21,55,64,87,93,
105,123,124,125,126,128,
130,131,132,133-134,135,
139,140,142,147,148,149,
151,155,158,170,171,172,
184,185,190,197,198,199,
202,209,211,213,214,217,
218,222,223,225,226,229,
230,236,238,240,241,242,
250,252,253,296,349,351,
353, 354,364,376,378,385,
394,396,397,399,402,409,
434,435,437,474,478,504,
513,516,531,532,535,539,
576,614,615,617,645,647,
648,649,748,822,835
Карамзин H. M. - 62,258,288,
818,292,339,340,341,342,
343,344,414,823,829
Каринский М. И. — 40
Карл Х-71,820
848
Указатель имен
КарнеевЗ. А.-256,257,264,
282,286
Карпе-87,1б8,172,196
Карпов В. Н. - 60,199,200,202,
203,204,205,206,207,208,
213,222,223,240,274,294,
295,296,298,299
Катков М. Е-124,138,370,372,
374,378,379,380,381,413,
422,427,438,447,832
Каченовский М. Т. - 314,829
Кедров И. - 198,199, 207
Керштенс И.-Х. — 90
Киреевский И. В. - 197, 341, 343,
344,345,826
Кирилл, митр. — 42,76
Кирилл Иерусалимский — 76
Ключевский В. О.-61,818
Козлов А. А. — 39
Козлович И. — 86
КозминЯ.К-11,40
Козьма Индикоплов — 43
Коковцев П. К — 79
Колубовский Я. Н. - 39,149,168,
171,182,240
Коль Г. - 57
КонисскийГр.-84,85,821
Константин Павлович, вел.
князь - 258,259
Коншин Е. Н. — 40
Корнилов A.A.— 11,40, 373, 374,
376, 388,832
КорфИ.А.,бар.-59
Котошихин Г. К — 47,817
КошелевА.И.-2б7,828
Краевский А. А. - 279,281,290,
829
Криднер, бар. — 64
КрижаничЮ.-47, 52, 53,817
КронебергИ.Я.-352,353,354,
355,356,357,358,359,361,
362,363
Круг В. Т. — 87,147,150,185,197,
201,202,203,204,205,213,
219,389,832
Кулябка С. - 85
Кульман К. — 55
Куницын А. П. - 65, 249,250,
253,828
Курбский А. М.-44,77,816
Лапшин И. И.-7,40,99,100,
101,102
Левицкий Л.— 153
Левшин Платон, митр. — 87,93,
222
Лейбниц Г.-В. - 56,64,99,100,
102,103,104,126,127,150,
158,210,214,229,530,531,
556,564,656,737,818,824,
835
Лейтман — 57
Лессинг (Lessing) Г.-Э. - 232, 349,
350,351,353,830
Ливен X. А.-268,269,828
ЛихудыИ.иС-47,85,817
Лобачевский Н. И.-125,292,
829
Лодий П. Д. — 167,170,171,194,
827
ЛоккДж.-55,102,126,127,130,
155,182,183,525,531,544,
654,818,824
Ломоносов М. В. — 56, 58,61,86,
88,90,248,818
Лопатинский Ф. — 86
Лотце (Lotze) Р.-Г. - 530,531,
534,835
Указатель имен
849
Лубкин А С. - 153,154,171,249
ЛуденХ-271,272,273,829
Магницкий М. А. — 64,125,127,
154,172,173,181,249,250,
251,252,253,254,255,256,
257,258, 259,261, 267,268,
269,271,276,282,284,286,
293,827,828
Макарий, митр. — 43,44,81,222
Максимович М. А. — 313, 326,
327,328,329,330,332,333,
341,366
Малебранж — 89
Малышевский Ив. И. — 214,219,
238
Манбодцо (Monboddo) Дж.-Б. —
176
Маржерет — 45
Мартини — 57
Мейнонг А. - 531,780,794,835
Мендельсон М. - 99,101,172,
354,392,832
Местр (Maistre) Ж.-М. де — 63,
819
Метнер Э. — 6
Меттерних К - 258,265, 300,
828
Милль (Mill) Дж. - 129,182,183,
331,478,522,531,539,566,
824
Милюков П. Н. - 88,101,102,
374,389,822,832
Миртов Д. П.-40, 200
Михаил Федорович, царь — 82
Михайловский Н. К — 68,819
Михневич И. Г. - 208,222,223,
225,226,227, 228,229,233,
238,239,287,296, 299
Могила П. С. —81,82,821
Моисей Маймонид — 79
Моисей Нарбонский — 79
Монтескье
(Montesquieu) Ш.-Л. - 64,271,
819,828
Мопассан Г. — 689
Моро — 64
Моррис У.-683,837
Муравьев (Виленский) M. H. —
123,340,823
НадеждинН.И.-40,313,314,
315,328,329,333,338,340,
342,351,368,371,378,411,
416,417,420,421,422,434,
435,440,441,444,445,446,
829
Надежин Ф. - 196,197,198,201,
207
Наполеон-64,251, 252, 297,
340,608
Нашинский Д. — 84
Неверов С. Л. - 79
Никитенко А. В. - 167,169,172,
175, 273,277, 278,279,288,
290,293, 367
Николай I, император — 64,65,
259,265, 266,267,268,278,
288,300,301,827
Никон, патр. — 46,817
Нил Сорский — 114,816
Ницше (Neitzsche) Φ. — 21, 513,
516,689,837
НичикВ.М.-821
НовалисФ.-389,405,703,
838-839
Новиков Н. И. - 95,96,97,98,
103,104
850
Указатель имен
Новицкий О. M.-105,154,
176,208,222, 223, 225, 226,
229,230,231,232,233,236,
237,238,239,240,283,287,
298-299
Нордерман К — 55
Ньютон-55,98,608
Одоевский В. Ф. - 40,137, 314,
362,825
Окен (Океп) Л. - 128,156,159,
161,166,183,824
Орлов В. Г. - 58
Отенский 3.-80,821
Павлов М. Г.-128,133,137,160,
162,313,314,315,316,317,
318,319,320,321,322,323,
324,325, 326,327, 328,333,
338,339,346,363
Парменид - 21,463,464,465,
466,467,491,833
Паскаль Б. — 821
Пауль Г. - 389,752,832
Пахомов М. - 60,98
Пекарский П. П. — 45, 51, 56
Петр 1-41,48,51,53,54,55,56,
58,59,63,71,86,88,89,90,
156,245,280,304,420,817
Петр Испанский — 83,821
Пирогов Н. И. - 68,69
Писарев Д. И. - 68,127,452,820
Платон-11,21,35,50,60,75,
98,103,106,107,110,142,
200,209,210,213,218,229,
349,350,351,367,456,463,
467,468,469,471,475,476,
499,506,509,510,516,530,
531,535,538,543,544,562,
566,614,646,647,656,677,
707,711,818
Плеханов Г. В. - 69,448,820
Плотин- 155,509,820,826
Плутарх — 105,107,114,823
Погодин М. П.-128,137,138,
182,222,278,281,285,292,
313,314,366,824
Полевой H.A.-121,288,290,
341,343,432,434,823
Поликарпов Ф. — 47,85
Полоцкий С. - 47,48,85,817
Попов Н. - 88, 256
Поповский И. — 84
Поповский H. H. - 86,90,92,821
Порфирий - 77,155,820,826
Поспелов Д. В. - 214,215,216,
219
Прибылович С. — 86
Прокопович Ф. - 48,49,84-85,
817
Пуфендорф (Pufendorf) С. - 89,
821
Пушкин А. С. - 5,22,59,67,88,
100,101,263,266,267,288,
289, 290, 300, 301, 307, 308,
309,310,339,341,342,343,
344,345,368,377,378,429,
710,769,786,818,827,829,
831
Пфафф-159
Пыпин А. Е-43, 270,274,383,
420,816,832
Радищев АН.- 40,61,99,100,
101,102,103,818
Радлов Э. Л. — 39,101,182,826
РаичС.Е.-314
Рамус(Раме)П.-821
Указатель имен
851
Расин Ж-821
Рассел (Russell) Б. - 473,474,834
Рейнгард— 124
Рейнгольд К-Л. - 196,201,202,
203,204
Рейнгольда-185,196
Рерих Н. К - 683,837
Рескин (Раскин) (Ruskin) Дж. —
683,837
Ретшер Г-Т. - 372, 378, 379, 380,
438,439,440,832
Решлауб— 159
Рид Т.-175,596,599,835
Рижский И. С.-150,153,171
Риккерт Г. - 539,665,835
Риттер (Ритер) Г. - 155,185,296
Роговский П. - 48,85,86
Розанов В. В.-68, 315,819
РозбергМ.П.-Зб6,Зб7
Розенкамф — 64
Розенкранц К — 392,404
РоммельДХ. — 62
Ростовский Д. — 48
Ртищев Ф.М.-47,85,817
РуничД.П.-1б7,249,250,25б,
257,259,265,269,828
Руссо (Rousseau) Ж.-Ж. - 103,
250,251,822
СакулинП.Н.-11,40,127,128,
129,130,131,132,316,321,
328, 367
Сезанн П.-684,689,691,837
Семенов Н. - 47,85
Сенкевич Г. - 689
Серафим, митр. — 259,260
Сидонский Φ. Φ. - 133,134,181,
182,183,184,185,186,187,
188,189,190,191,192,193,
194,196,198,199,200,207,
213,293,294,298,304,305,
331
Сидоровский Ю.— 60,98
Сидоров Н. П. - 40
Сильванский Н. П. — 308
Сильвестр — 44, 76
Синьковский Д. Н. — 92
Скворцов И. М. - 208, 213,214,
215,216,217,218,221,222,
238, 240,242
Сковорода Г. С. - 40,103,104,
105,106,107,108,109,110,
111,112,113,114,115,117,
116
Смирнов С. — 86
Соболевский А. И. - 46,79, 328
Сократ-103,126,404,522,822
Солнцев — 65
Соловьев В. С. - 39, 55, 550,829
Соловьев С. М. — 88
Софокл — 50
Спенсер Г.-158,479,525
Сперанский М. Н. - 79,194
Спиноза (Spinoza,
d'Espinosa) Б. - 103,107,115,
155,158,210,218,509,511,
522,534,822,830
Срезневский О. Е. — 153-154,
253
Станиславский К С. — 6,8
Станкевич Н. В. - 369, 371,372,
384, 385, 386, 387, 388, 389,
409,415,422,426,427,429,
447,832
Стурдза А. С. - 64,248,250,254,
827,828
Стюарт (Steuart) Д. - 130,596,
836
852
Указатель имен
Сухомлинов М. И. — 102
Сырейщиков Е. Б. — 92
Тагор Р.-691,837
Татищев В. Н. - 88,89,90,91
Тейлор Б. - 473
Ткачев П. Е-68,452,819
Товоте Г. - 691
Толмачев Я.-172,821
Толстой Д. А-63,288,819
Толстой Л. Н. - 68,819,523,689,
834
Т^едиаковский В. К — 60,818
Трубецкой Е. Н. - 39
Тургенев И. С.-413,452,689
Тюрмер Thurmer (собств.
Joseph Aloys della Torre) Д. —
205
Тютчев Ф. И. - 689,837,840
Уваров С. С.-64,65,137,156,
172,173,181,196,254,258,
268,269,270,271,272,273,
274,275,276,277,278, 279,
281,283,284,285,286,287,
288,289, 290,291,292,293,
295,296,297,298,299,301,
302, 305, 306, 308, 341, 365,
366,368,415,819,828
Фалес-98,107,822
ФедерИ.-92,153,167
Федор, еп. — 80
Фейербах Л. - 204,332,689,837
Феодосии — 55
Феодосии Косой — 80
Феофилакт, архиеп. — 64,194,
195
Фесслер - 64,194,195
Филарет (в миру
Дроздов В. ML), митр. — 64,
195,221,223,238,260,265,
314,827
Филиппов Μ. Μ. - 125,126,127,
132
Филофей, старец — 53
Фитингоф — 64
Фихте (Fichte) И.-Г. - 123,128,
131,134,142,145,146,147,
148,151,152,158,177,188,
197,198,199,209,211,214,
217,222,231,349,351,376,
385, 386, 387, 388, 398", 403,
404,410,411,412,416,417,
418,422,425,426,430,455,
456,470,823
ФишерА.А.-1б9,172,173,174,
175,176,177,178,182,183,
274, 287,299, 300, 301,302,
303,304, 305, 306
Фишер К-129,146,225,374,
391,403,832
Фишер Ф.-176,223,230,
233
Флобер Г. - 689
Фотий, митр. — 259,260, 261,
262, 300
Фраунгофер (Fraunhofer) Й. —
477,834
Фридрих 1-71,820
Фроман И. Г. - 92
Фукидид — 50
Хомяков А. С-40,412
ЦицеронМ.Т-105,107,
109,114,218,502,823,
834
Указатель имен
853
Чаадаев П. Я. - 40,290, 340,368,
415,829,831
Чарнуцкий Хр. — 84
Челпанов Г. И. — 6,7
Чернышевский Н. Г. — 68,69,
371,454,455,820
Чехов А П.-689
Шад (Joh. Baptist Schad) И.-Б. -
123,128,145,146,147,148,
149,150,151,152,159,181,
222,256,316,825
Шаден И. М. - 92,93
Шевырев С: П. - 59,138,281,
313,335,423,818
Шекспир В. - 14, 352, 353,700,
707,729,800,802,838
Шеллинг (Schelling) Ф.-В. - 87,
123,125,126,127,128,131,
132,133,134,137,140,142,
146,150,151,152,155,156,
157,158,159,161,166,169,
170,177,182,188,183,197,
198,209,211,214,217,222,
224, 225, 228,229,230,232,
236, 237, 242,283,284,286,
308,317,318,319,320,321,
322, 323, 324, 326, 333, 338,
339,353,354,361,364,367,
371,376,385,416,417,418,
422,431,433,434,437,439,
440,470,479,543,581,823,
824,825,826,827
Шиллер (Schiller) И.-Ф. - 123,
354,358,364, 372,376,388,
390,409,434,437,824
Ширинский-Шихматов П. А. —
65,173,276,281,282,283,
303,306,819
Шишков А. С-255,259,260,
261,262,263,264,265,267,
268,269, 300,828
Шлегели, братья - 253,271,
364
Шлегель (Schlegel) A.-B. - 354,
363,364,434,435,830
Шлегель Φρ.-355,359,404,
405,830,833
ШницлерА. —691
Шпенглер О. - 16,26,707,708,
709,711,839
ШпетЛ.Г-41
Штейн, бар. — 64
ШтумпфК-531,540,835
Шульце (Энизидем) — 87,130,
134,135,166,167,168,170,
171,175,182,184,196
Щербатов Μ. Μ. - 97,98,99,
103
Эйлер (Euler) Л.-57,150,818
Эйнштейн А. — 757
ЭрнВ.Ф.-40,106, ИЗ, 114,
115
Эшенмайер - 134,135,213,223,
224,225,228,233,236,317
Юм (Hume) Д.-105,129,155,
182,470,478,525,531,539,
647,648,649,650,651,823,
824
Юркевич П. Д. - 11,68,69,222,
534,815,820
Юстиниан — 55
Яворский С. - 48,49,84,86,817,
821
854
Указатель имен
Якоб Л. К-92,149,150,154,
253
Якоби (Jacobi) Ф.-Г - 103,147,
168,175,177,188,190,197,
199,209,210,211,212,213,
219,224,228,229,236,237,
353,376,403,647,648,649,
650,651,825
Ястребцев И. И. - 334,335,336,
337,338
Содержание
Г. Г. Шпет и философский поворот XX века
Л.Г.Березовая 5
Г. Г. ШПЕТ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 31
Очерк развития русской философии 33
К вопросу о гегельянстве Белинского (этюд) 369
Мудрость или разум? 458
Явление и смысл. Феноменология как основная наука
и ее проблемы 524
Эстетические фрагменты 678
Литература 805
КОММЕНТАРИИ 813
Библиография 841
Указатель имен 844
Научное издание
Библиотека отечественной общественной мысли
с древнейших времен до начала XX века
Шпет Густав Густавович
Избранные труды