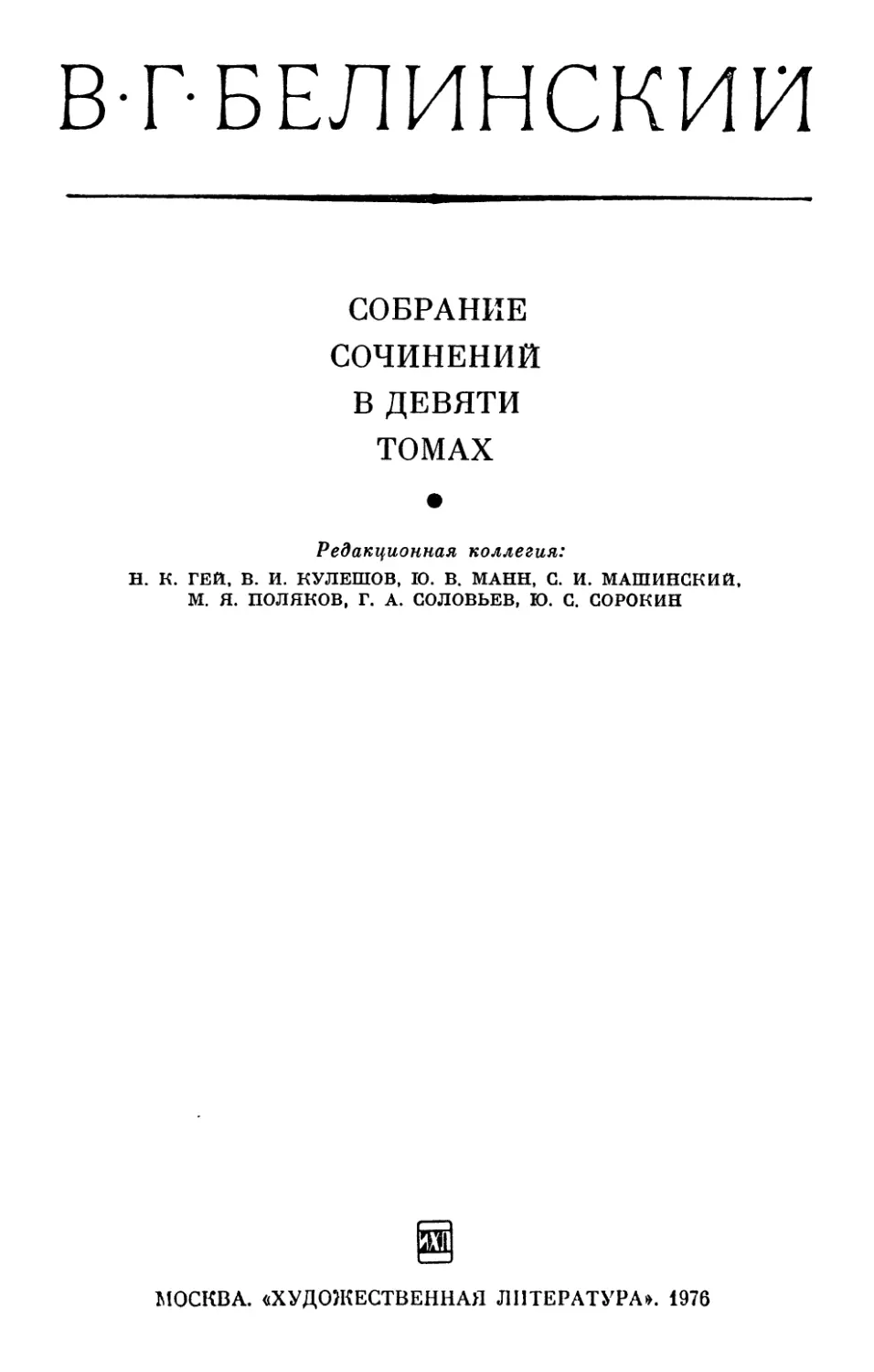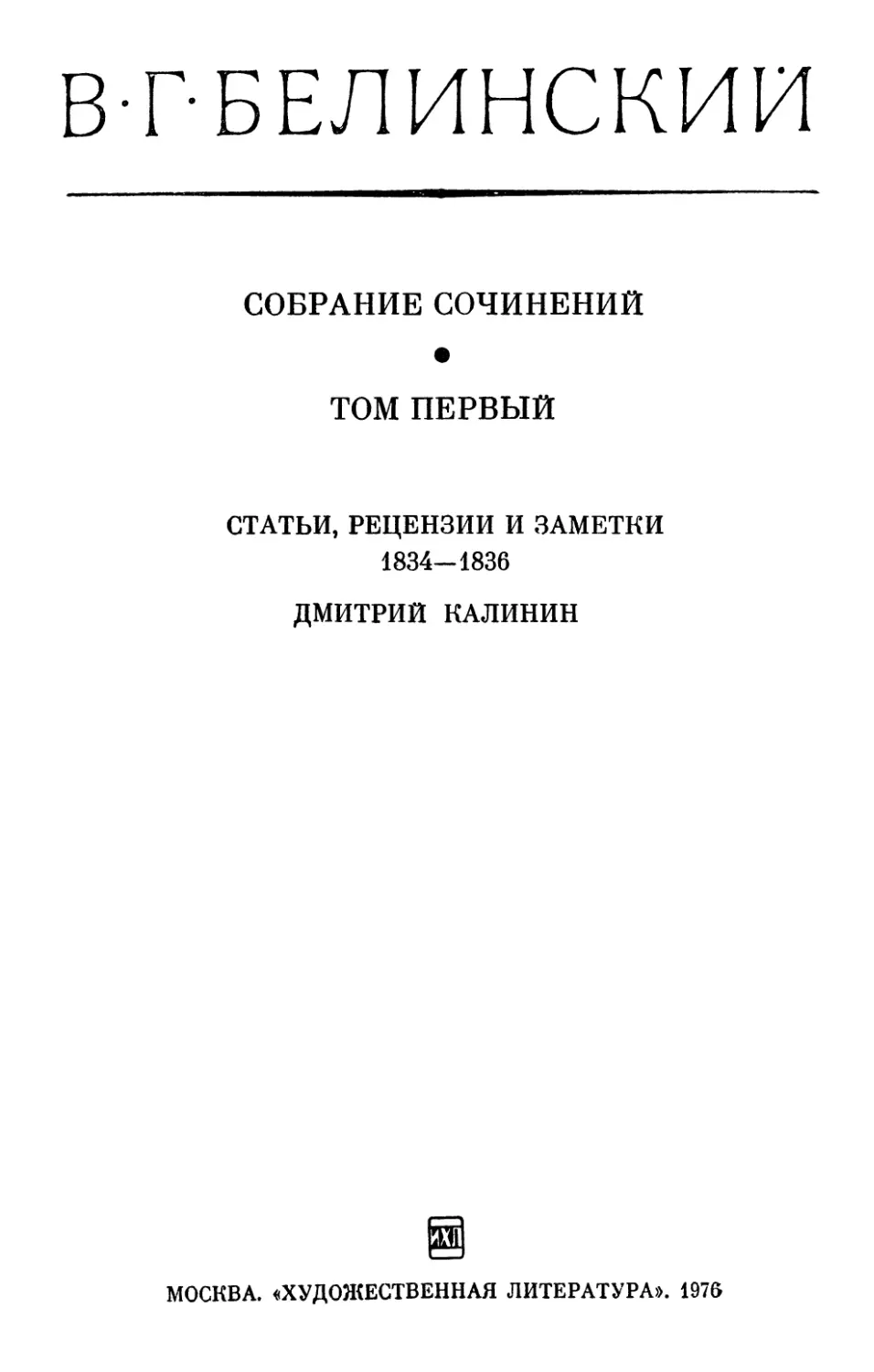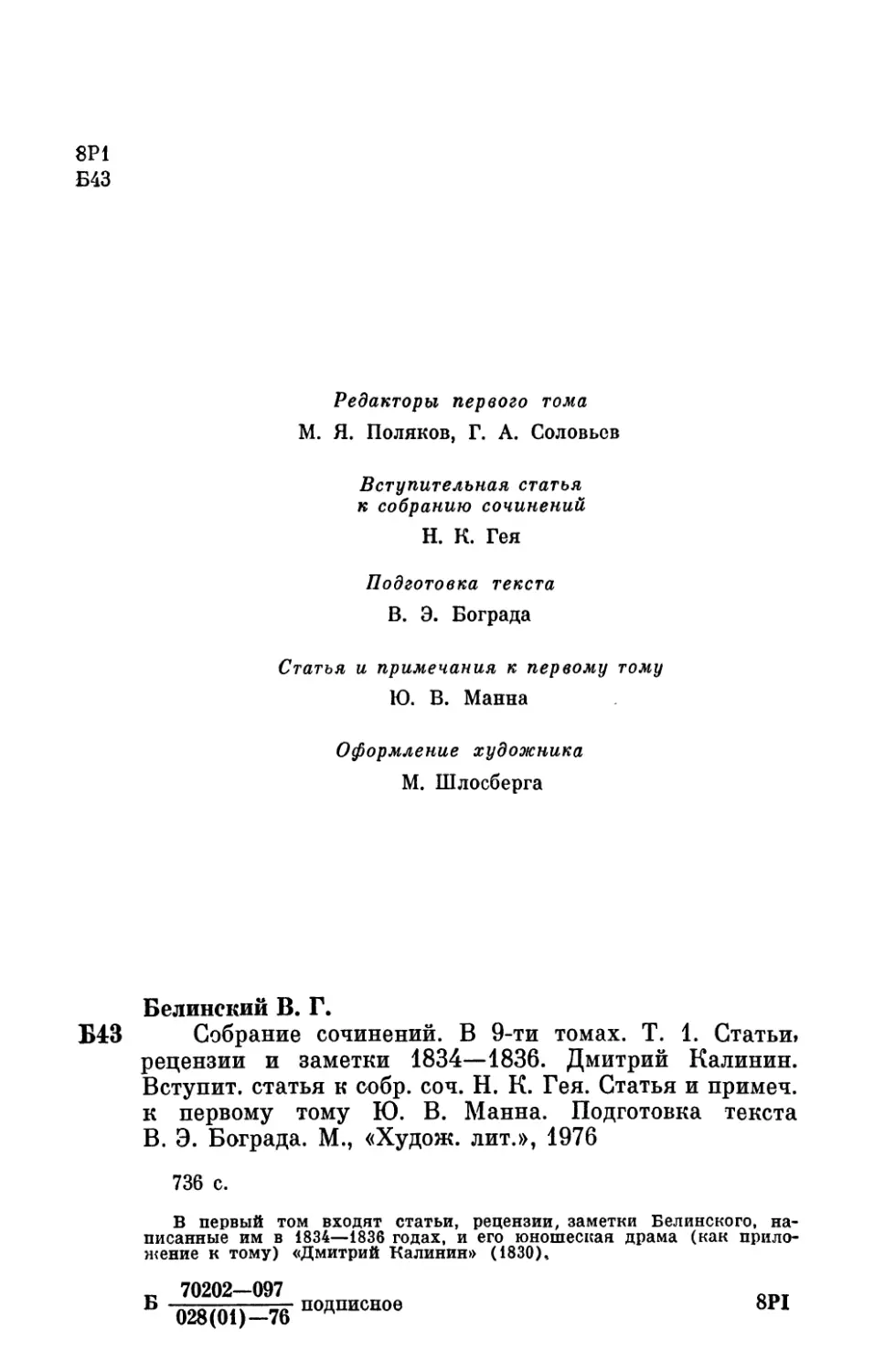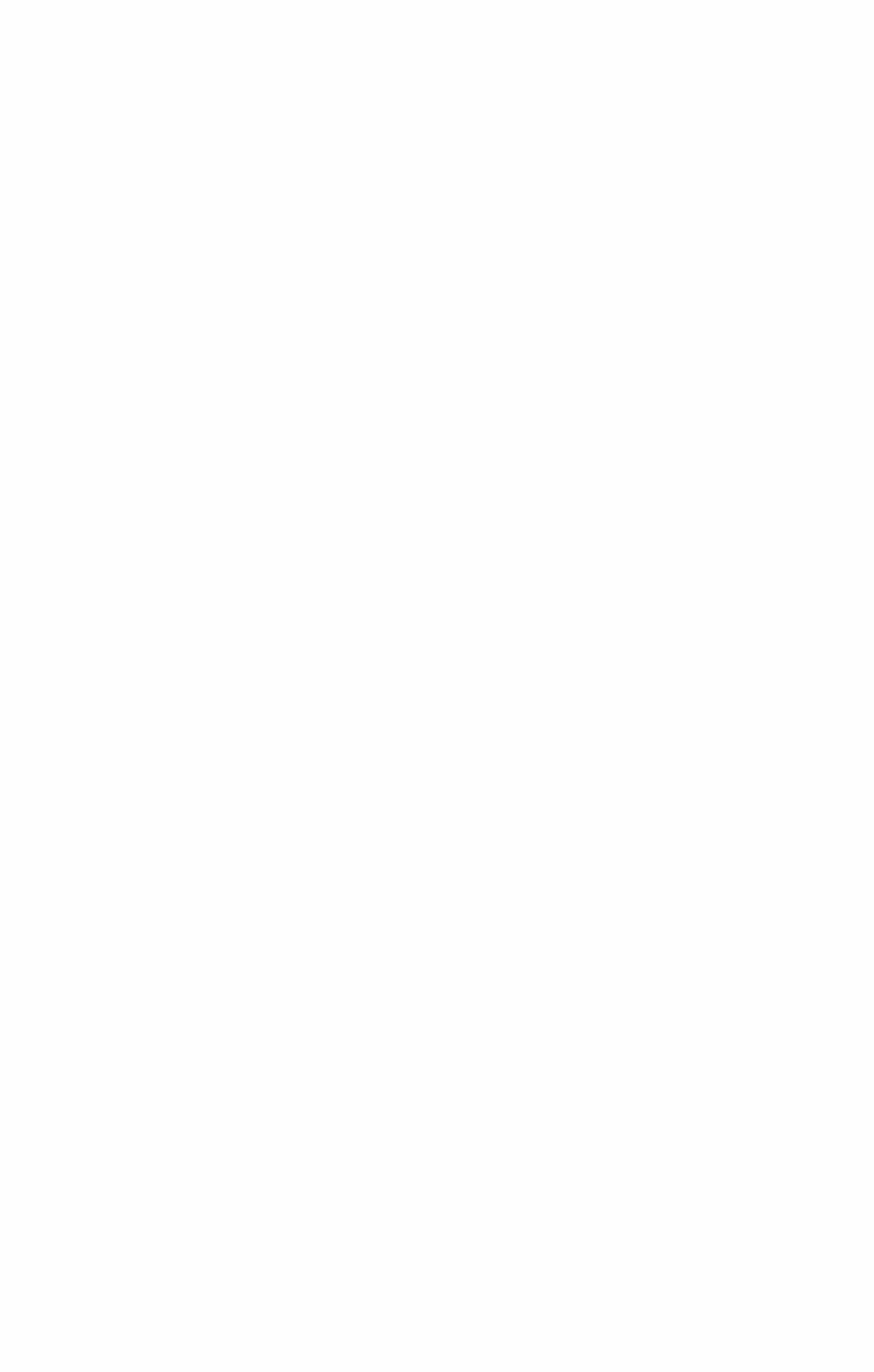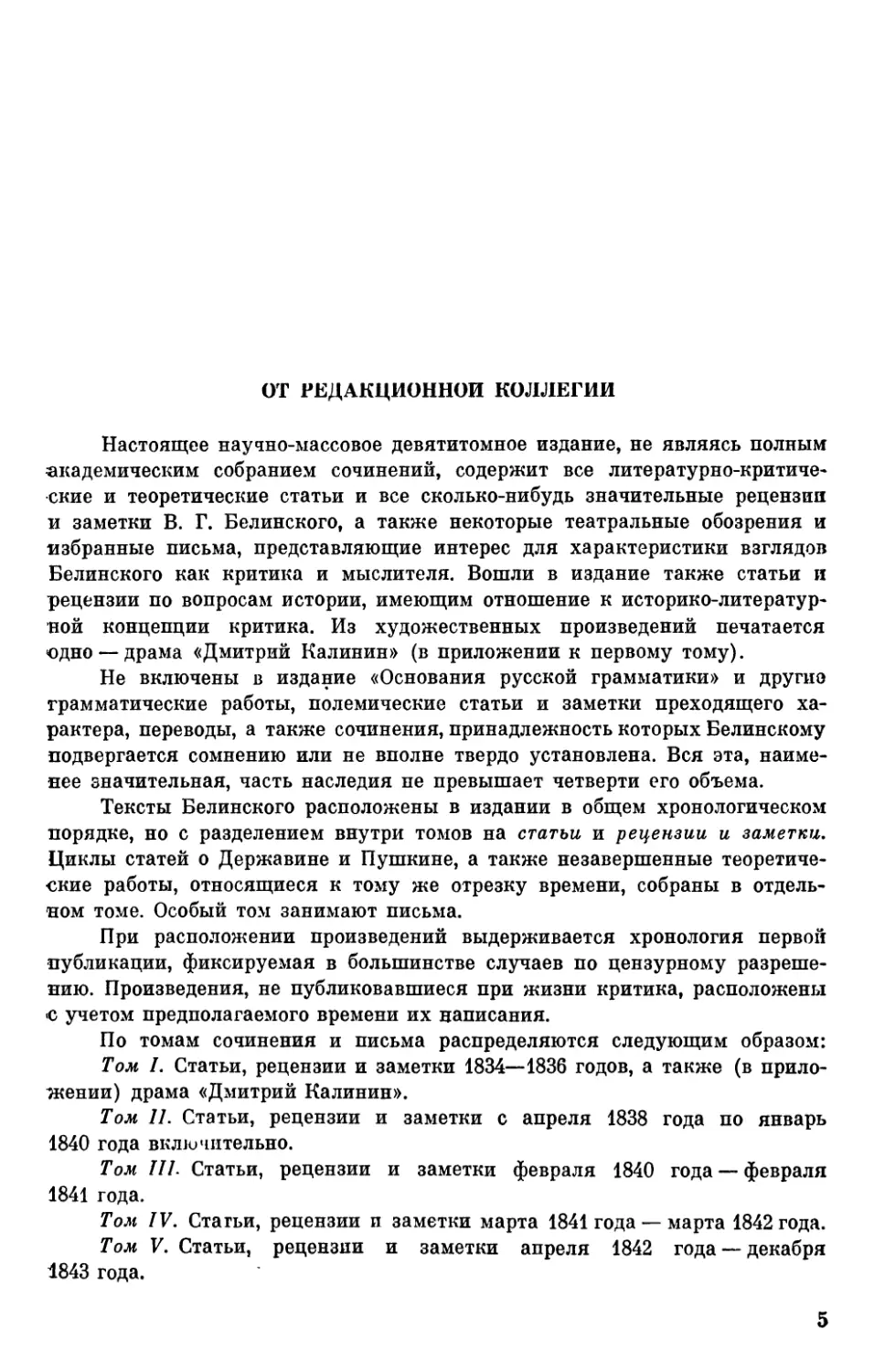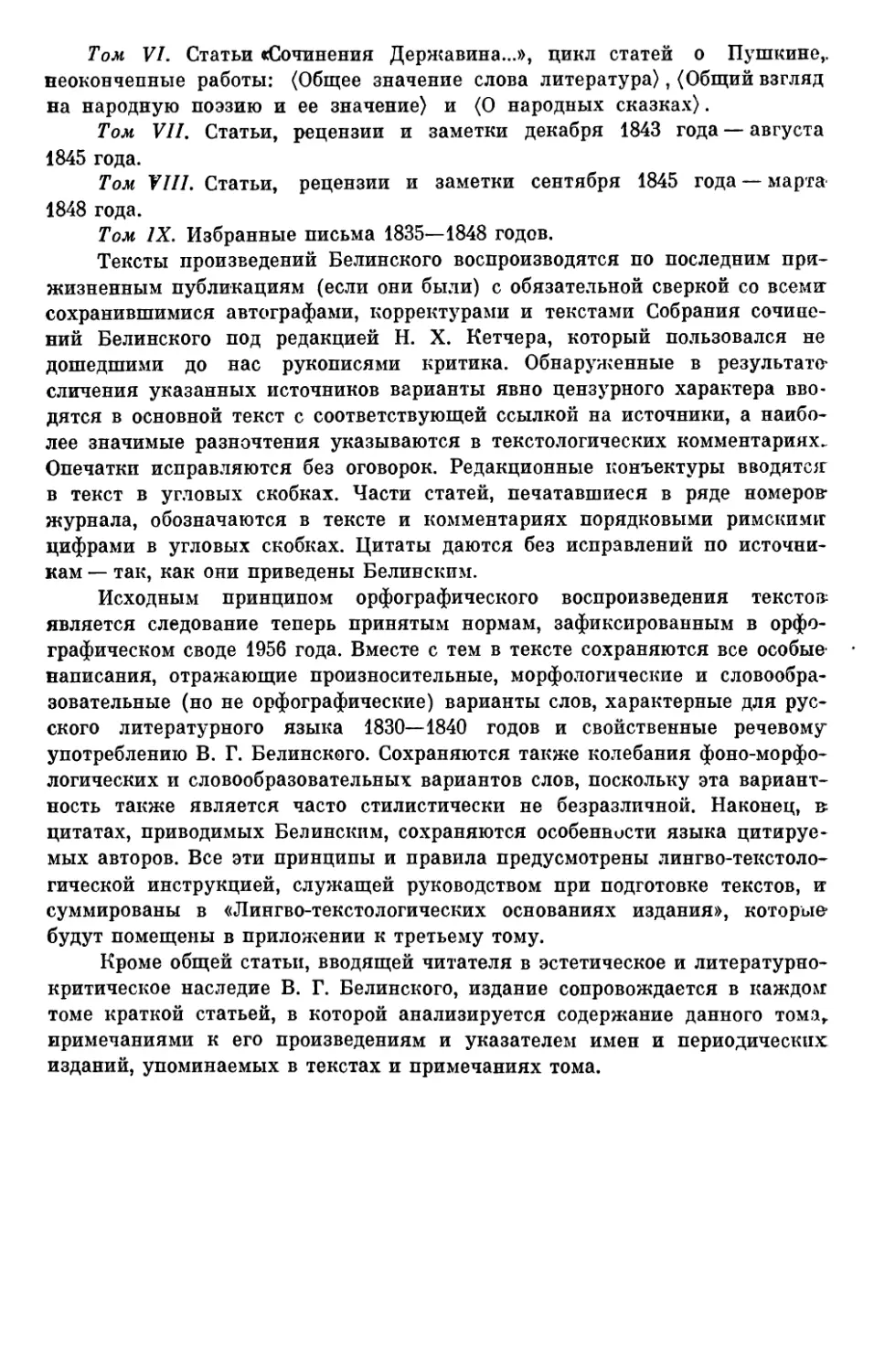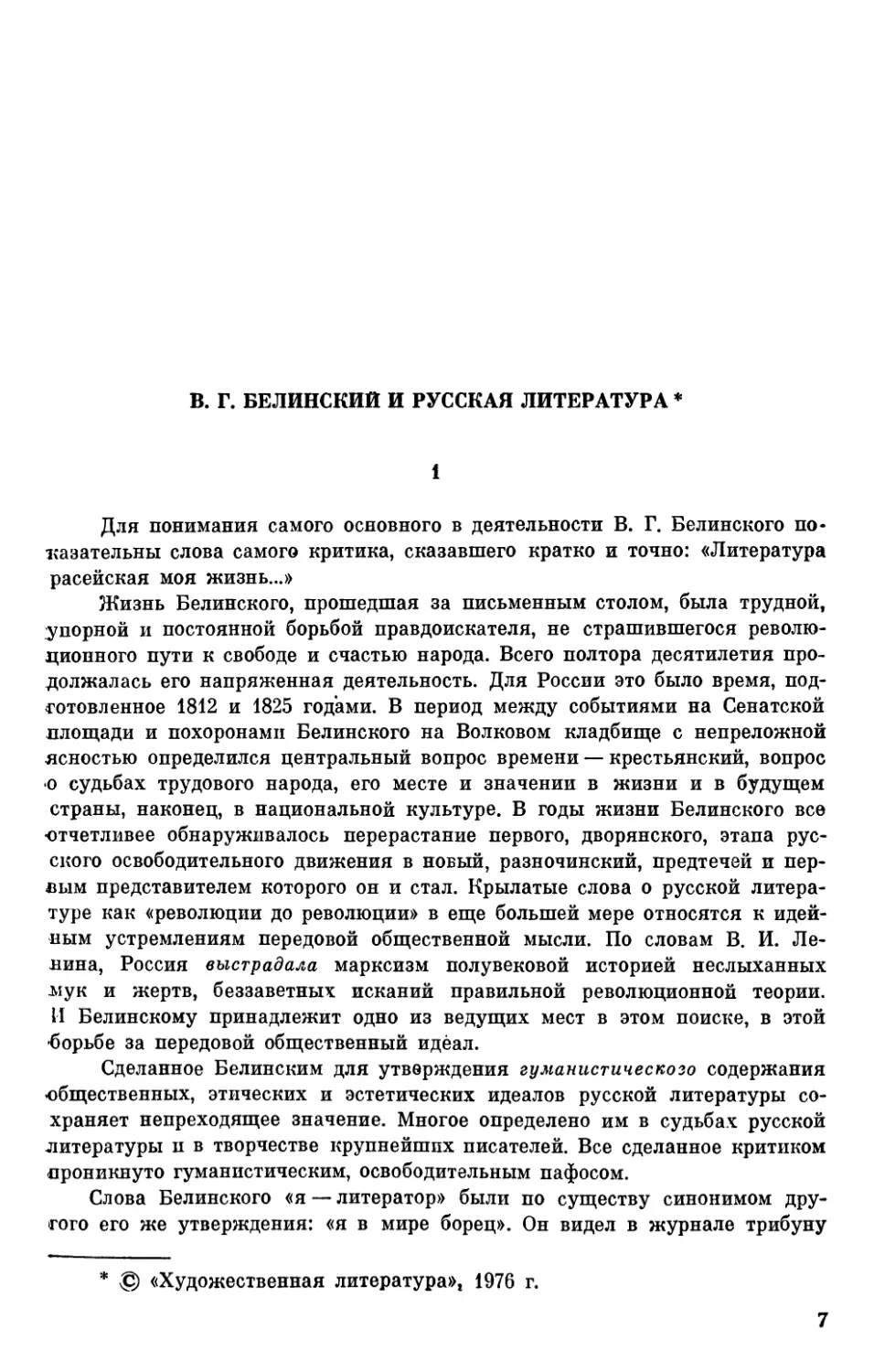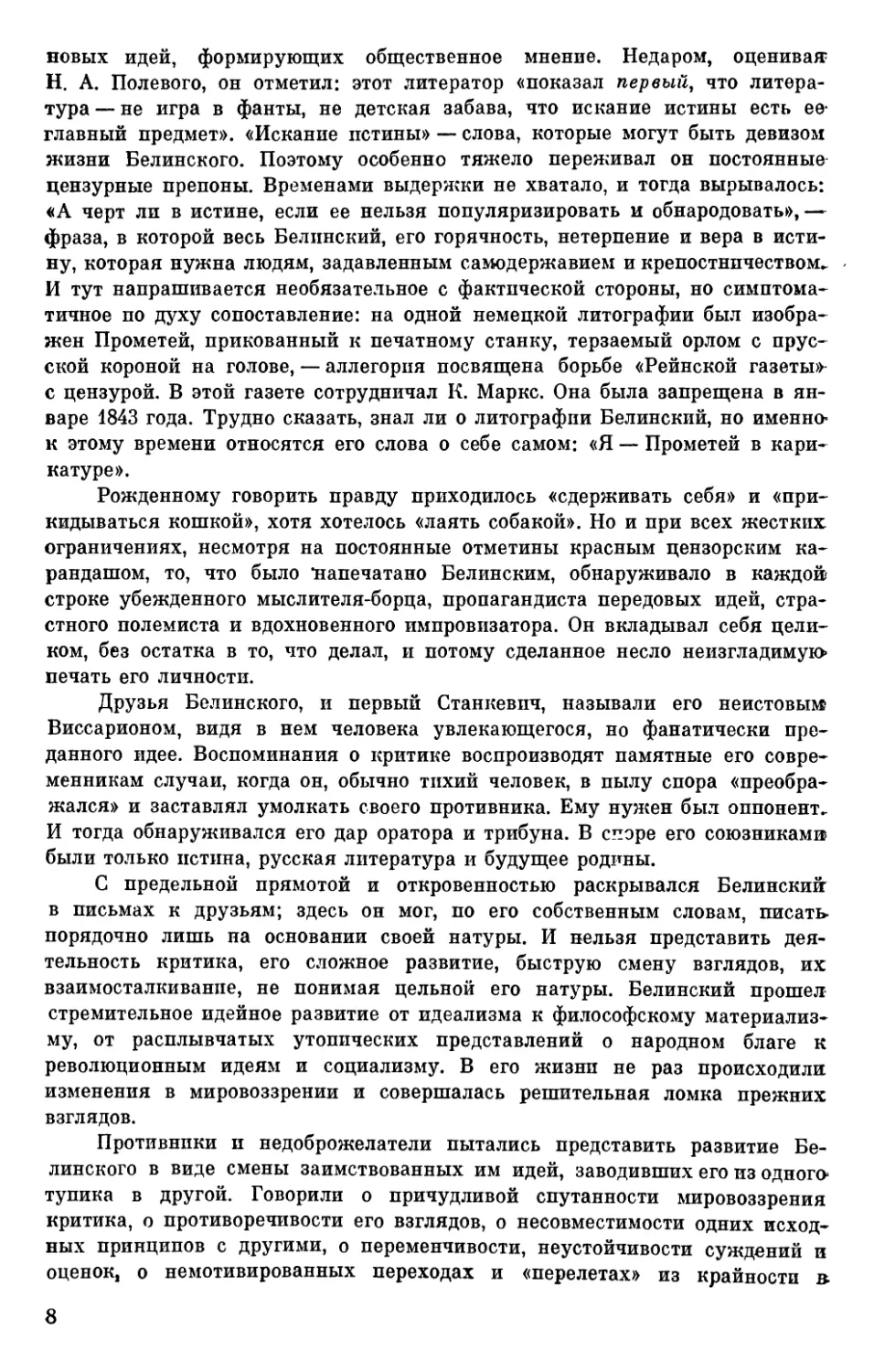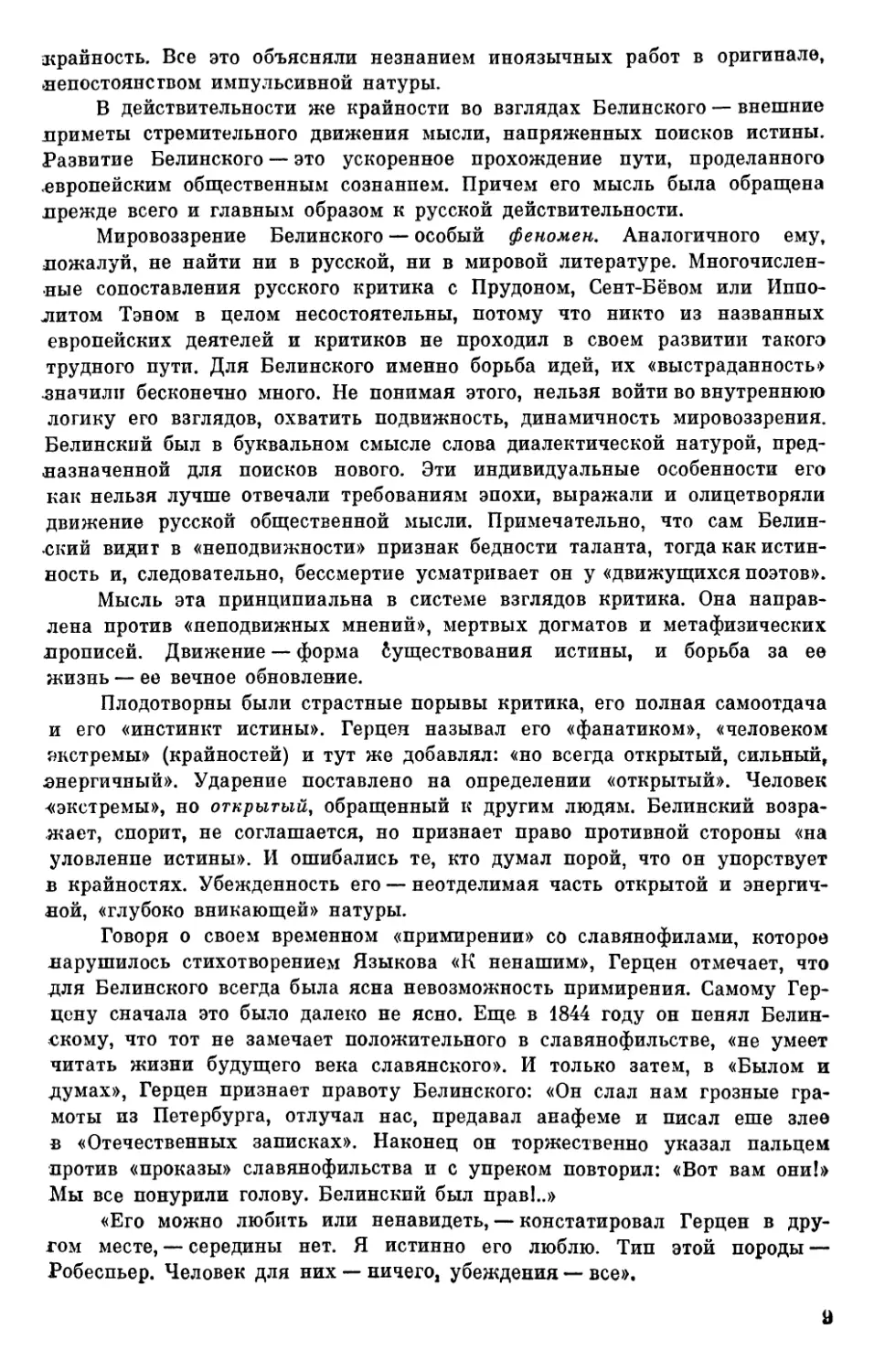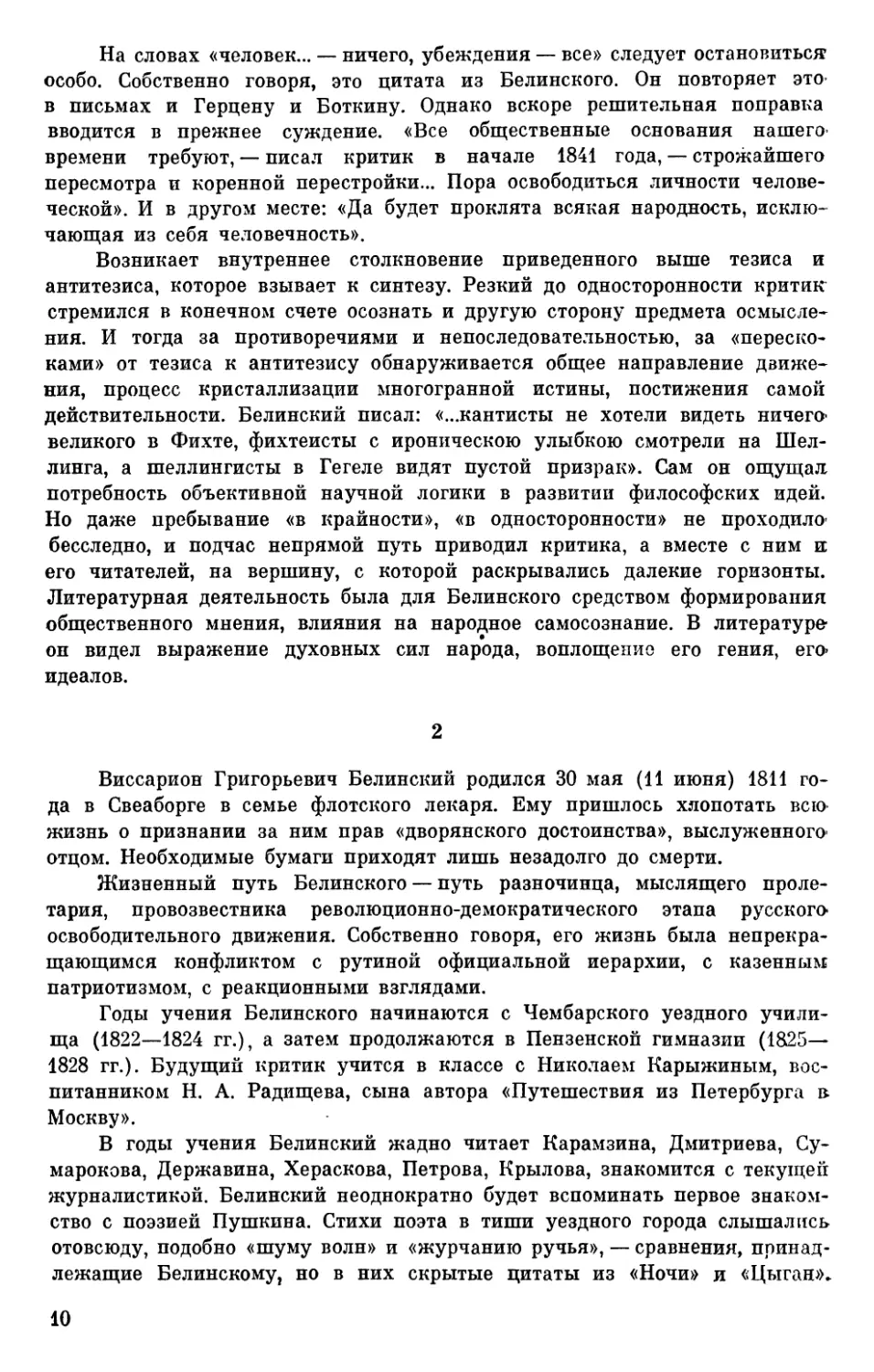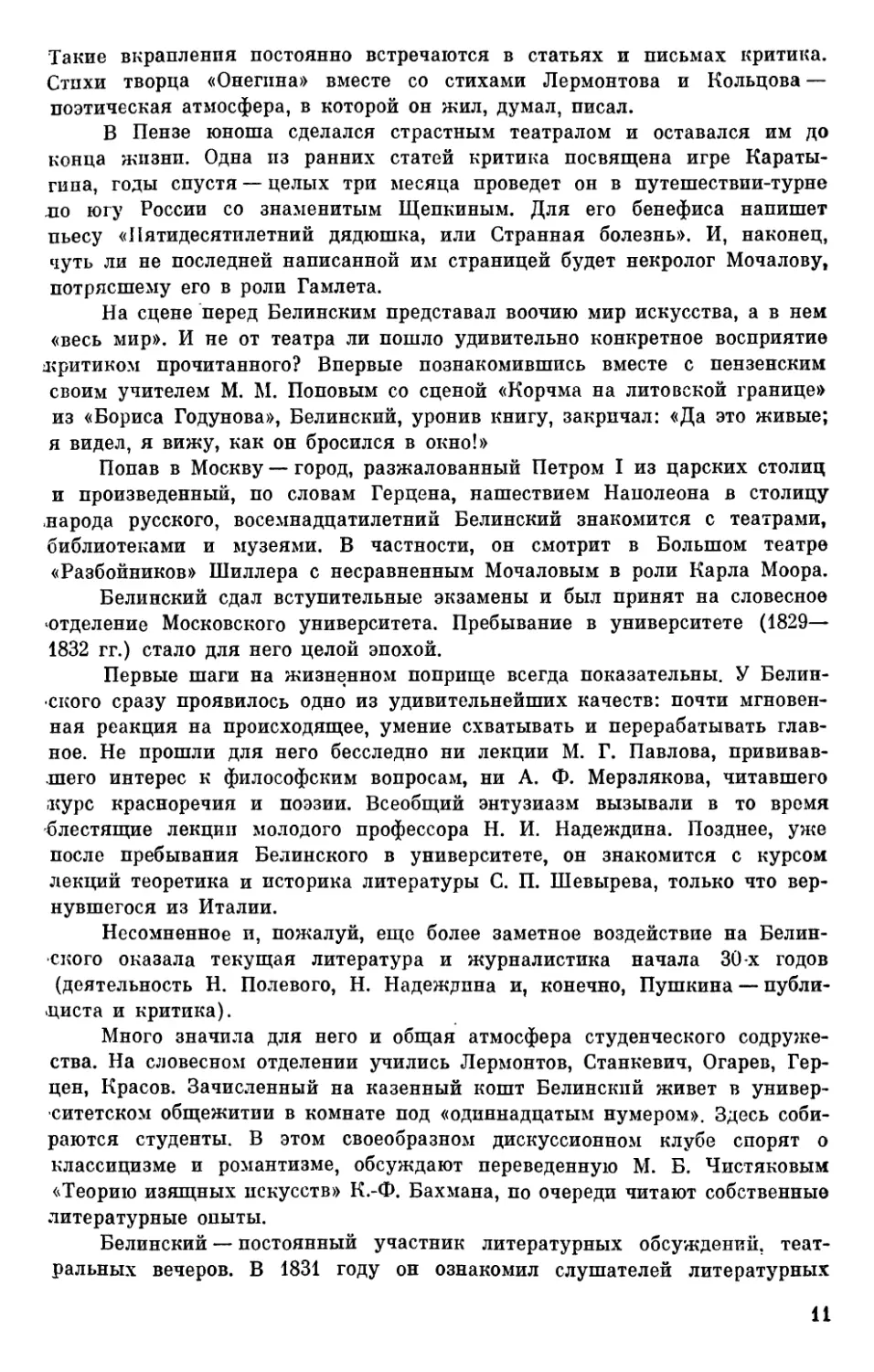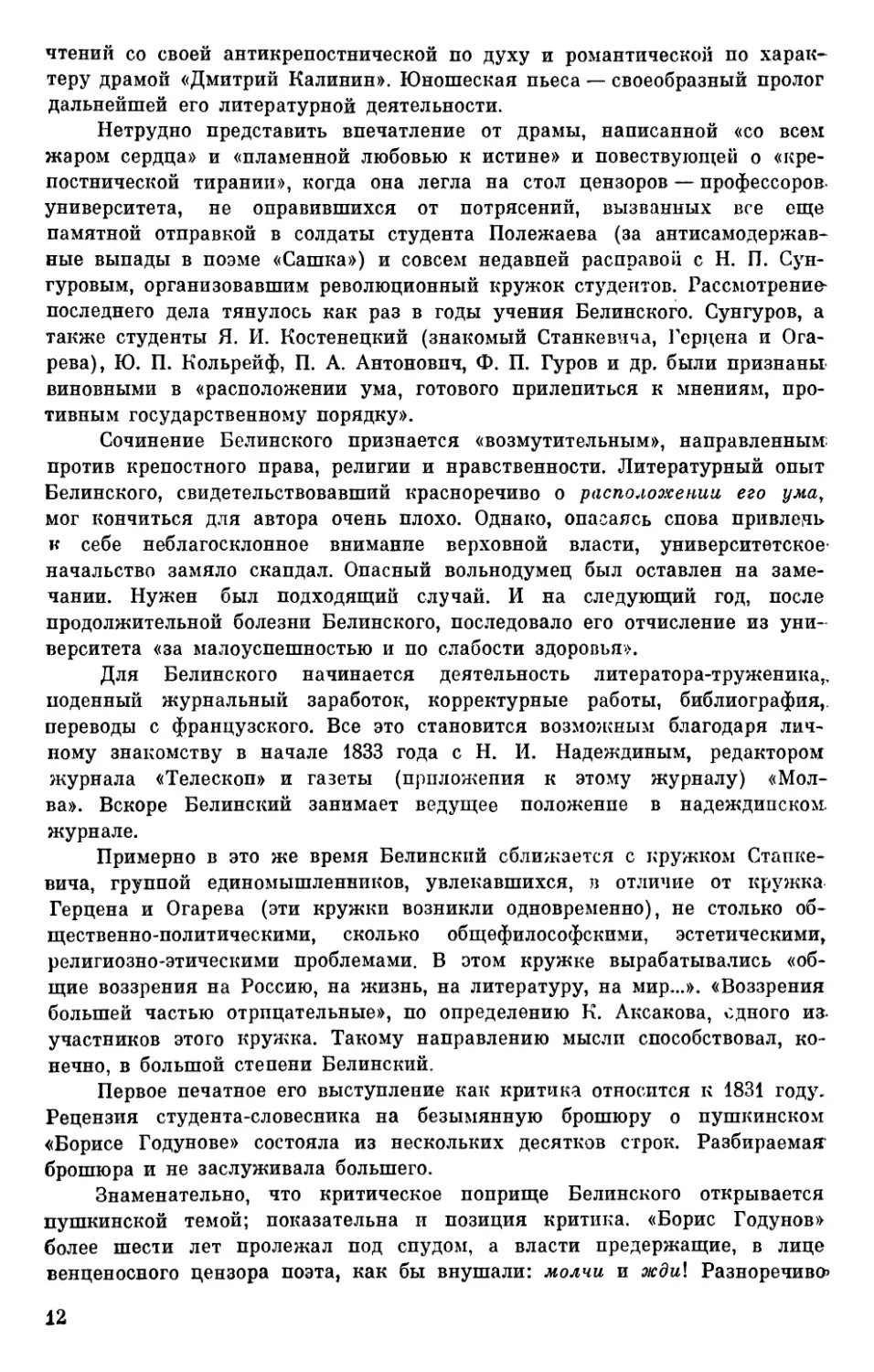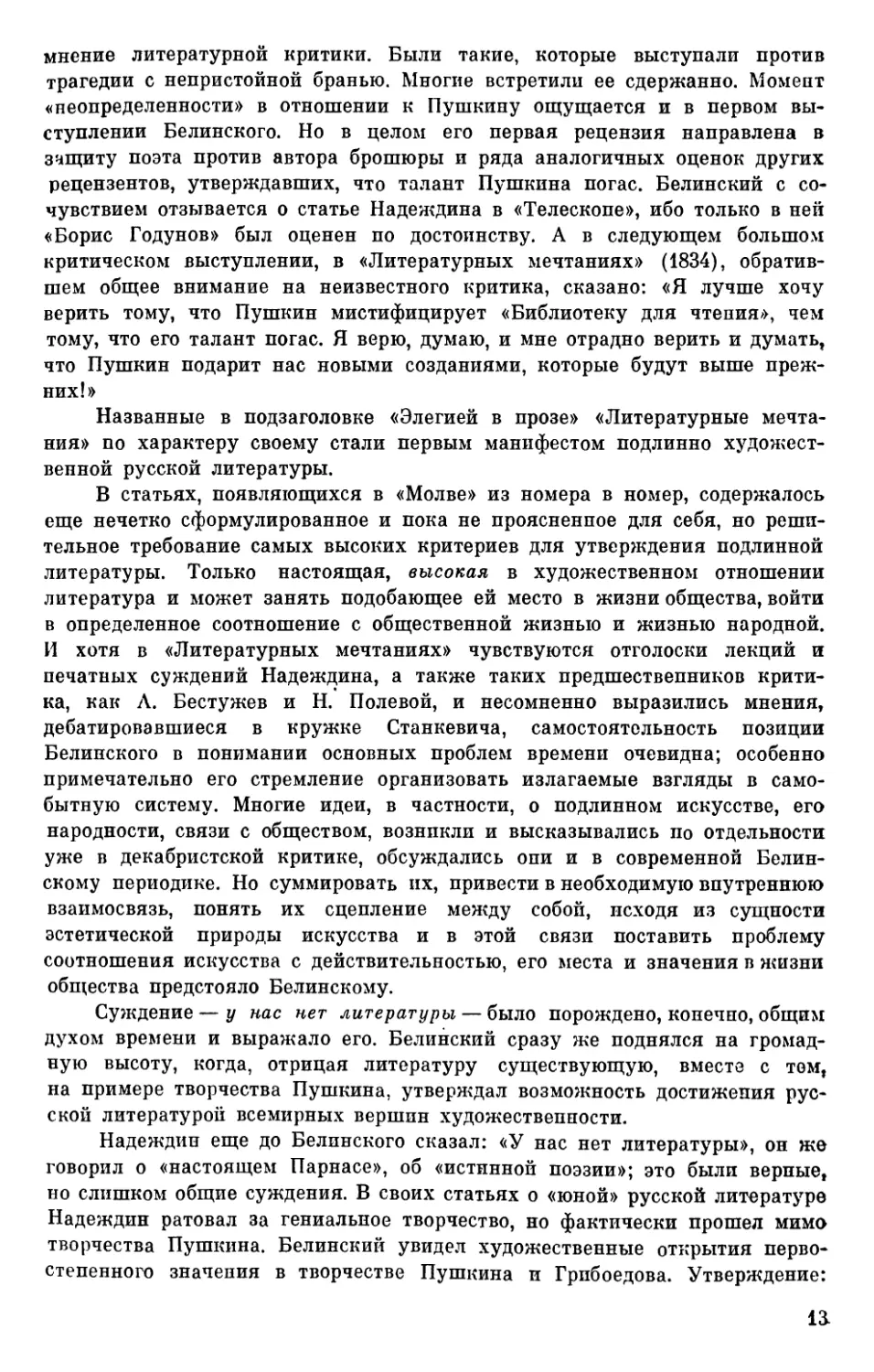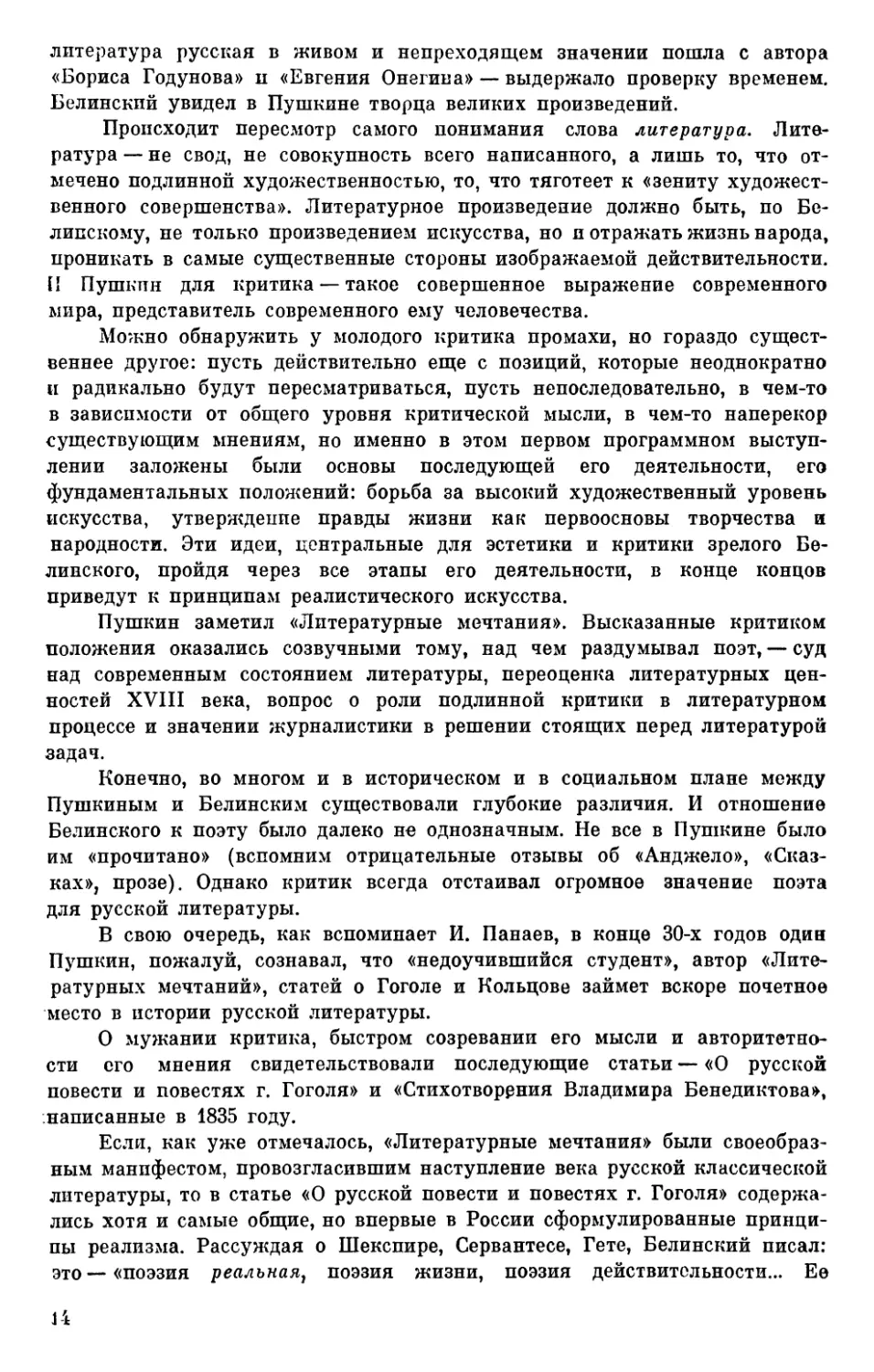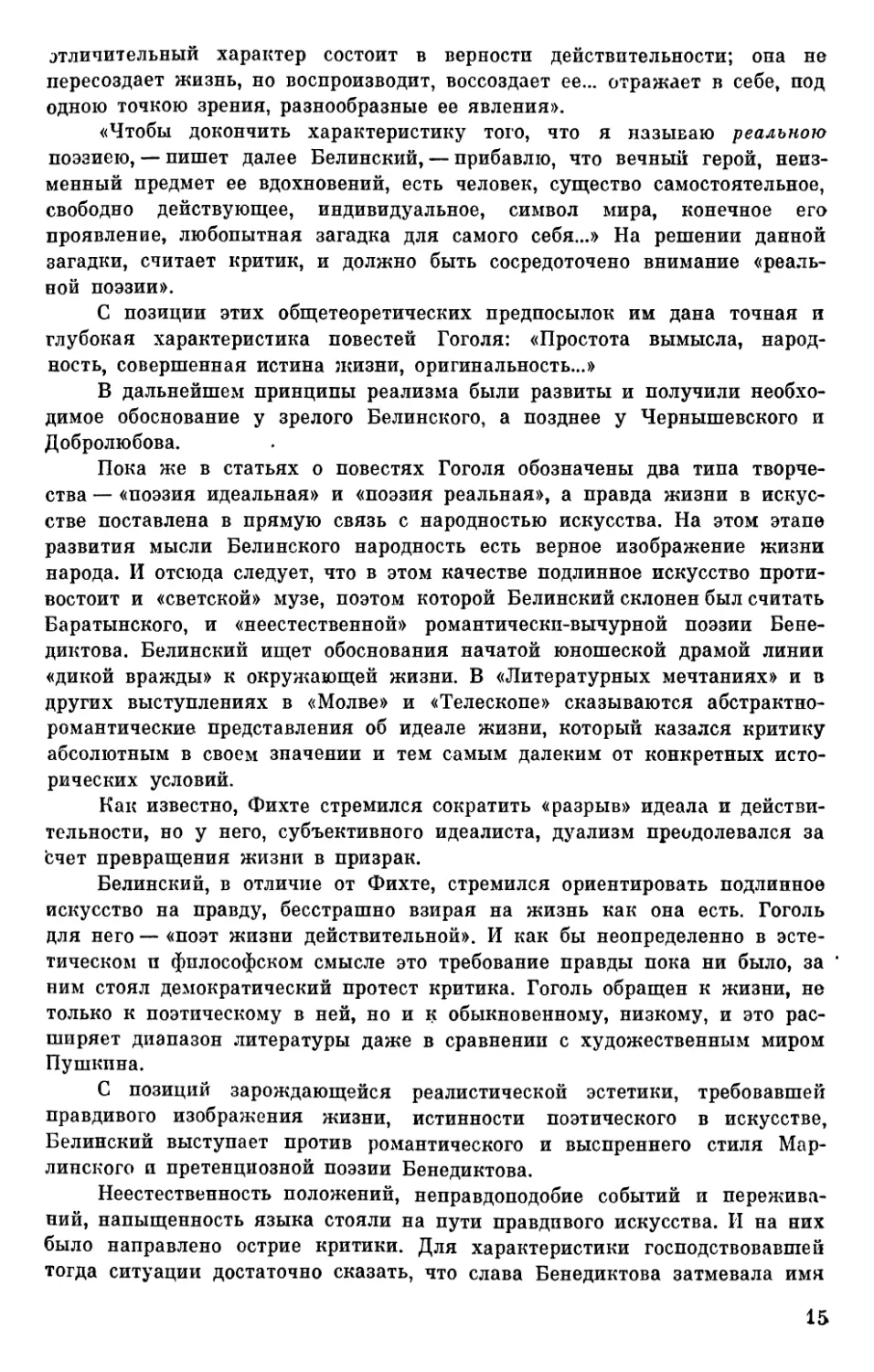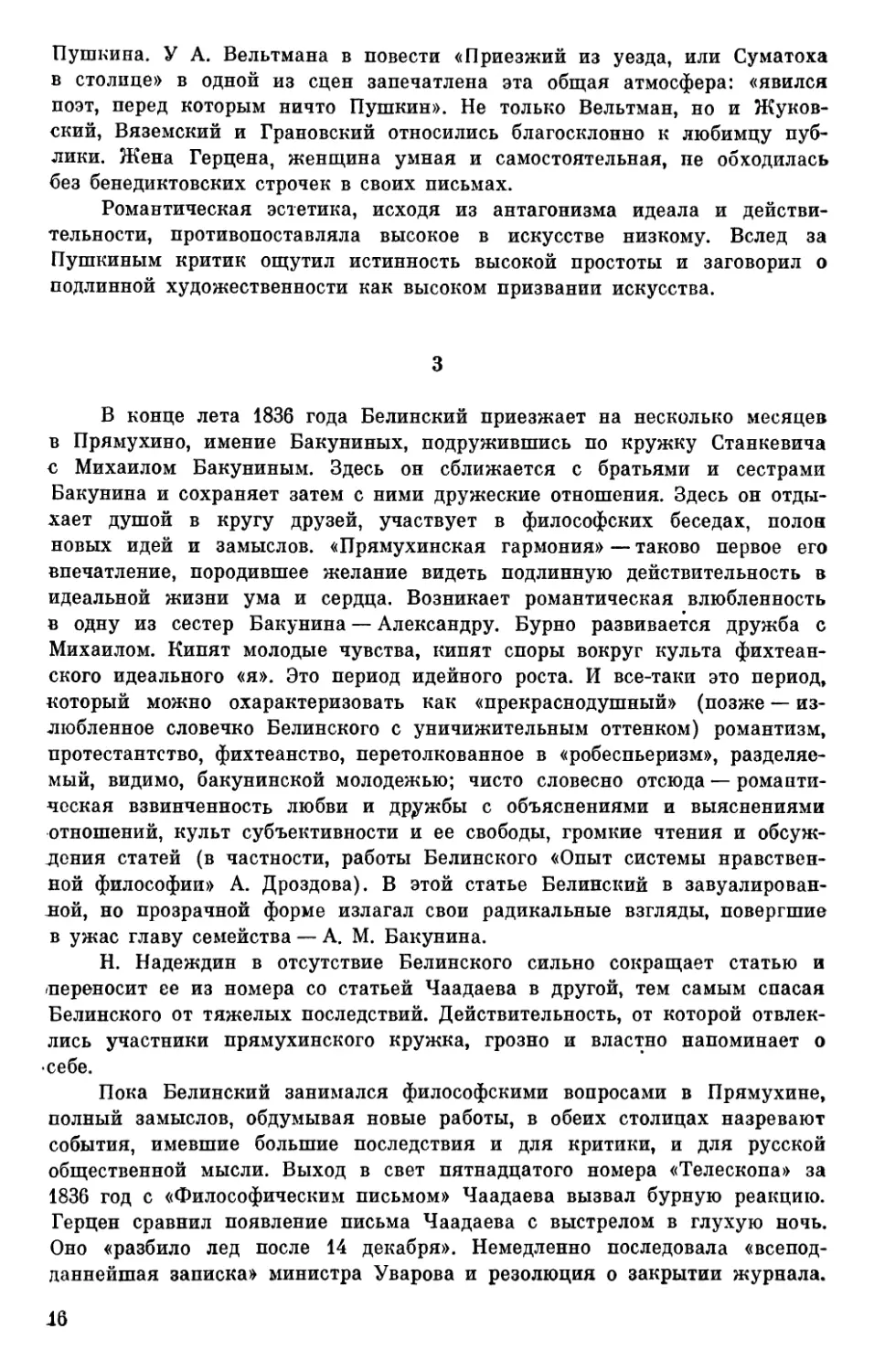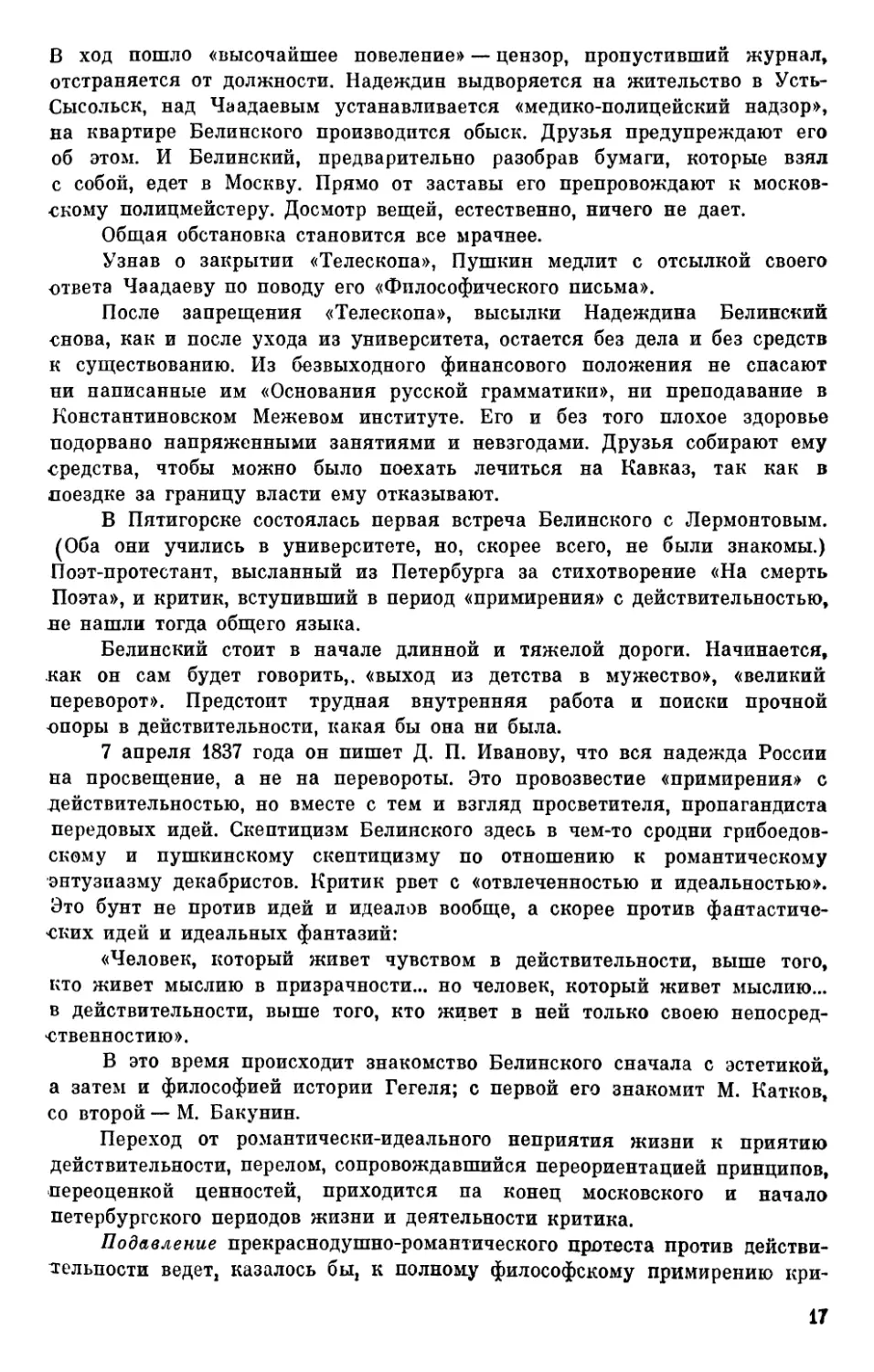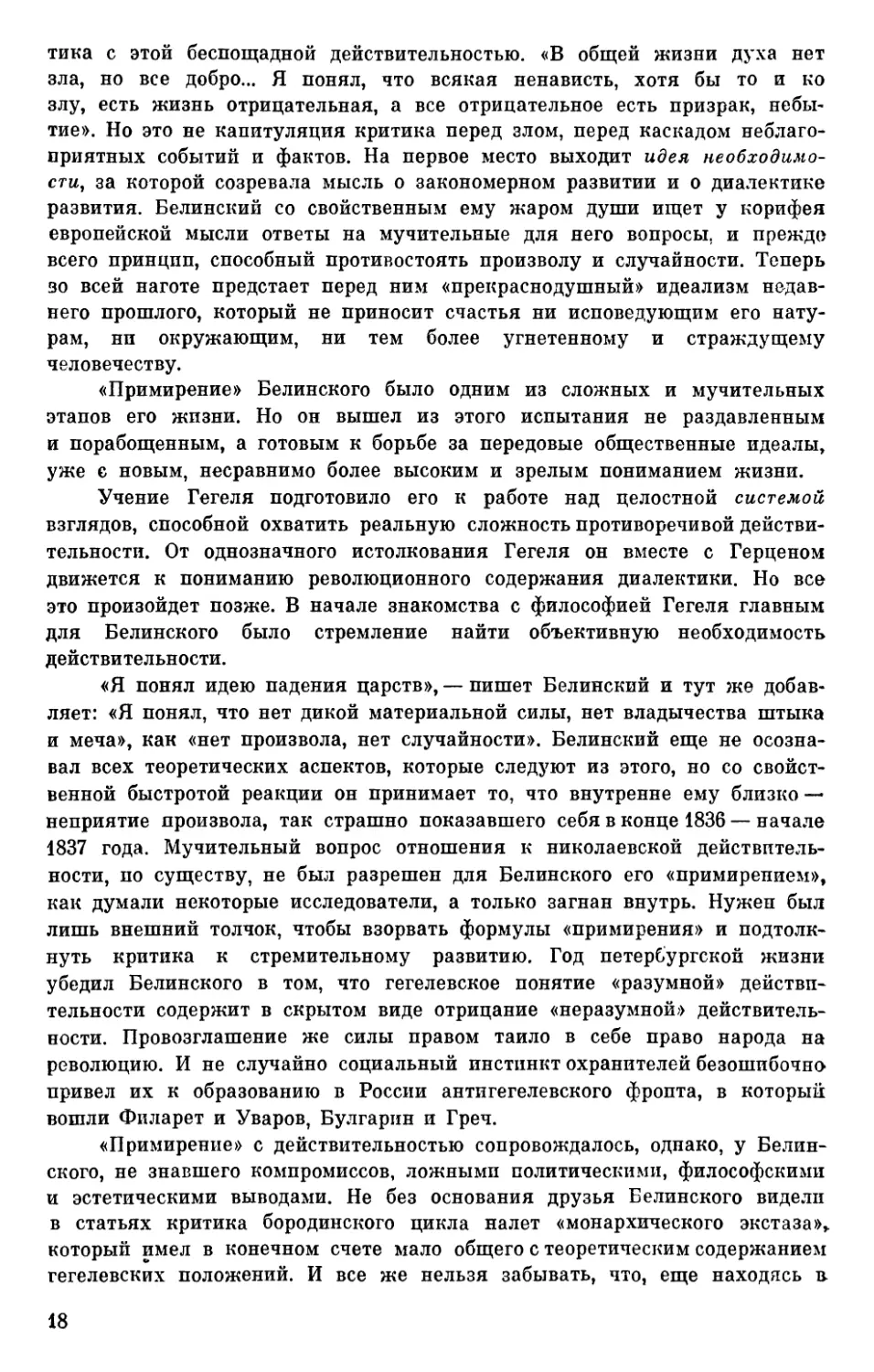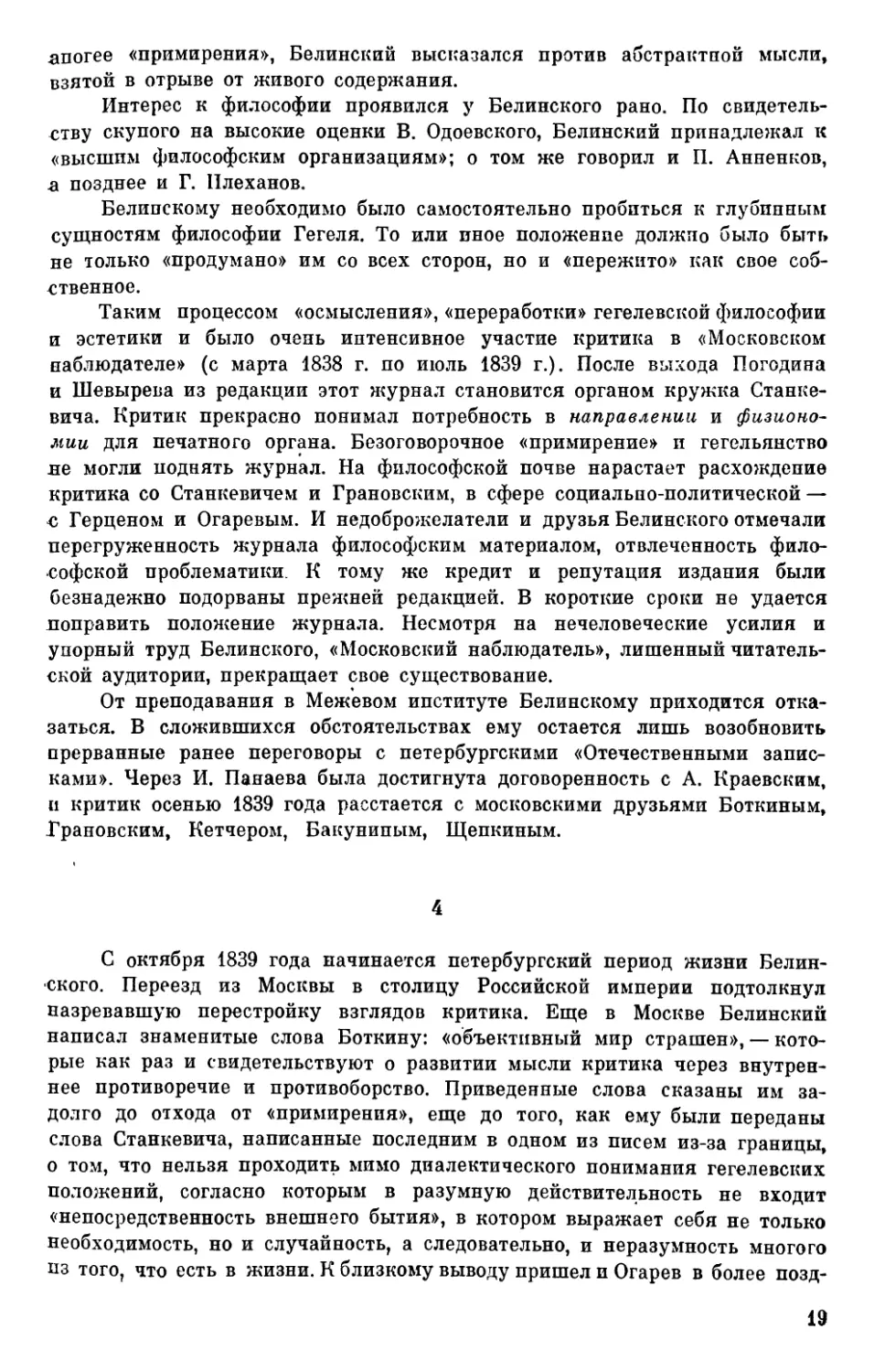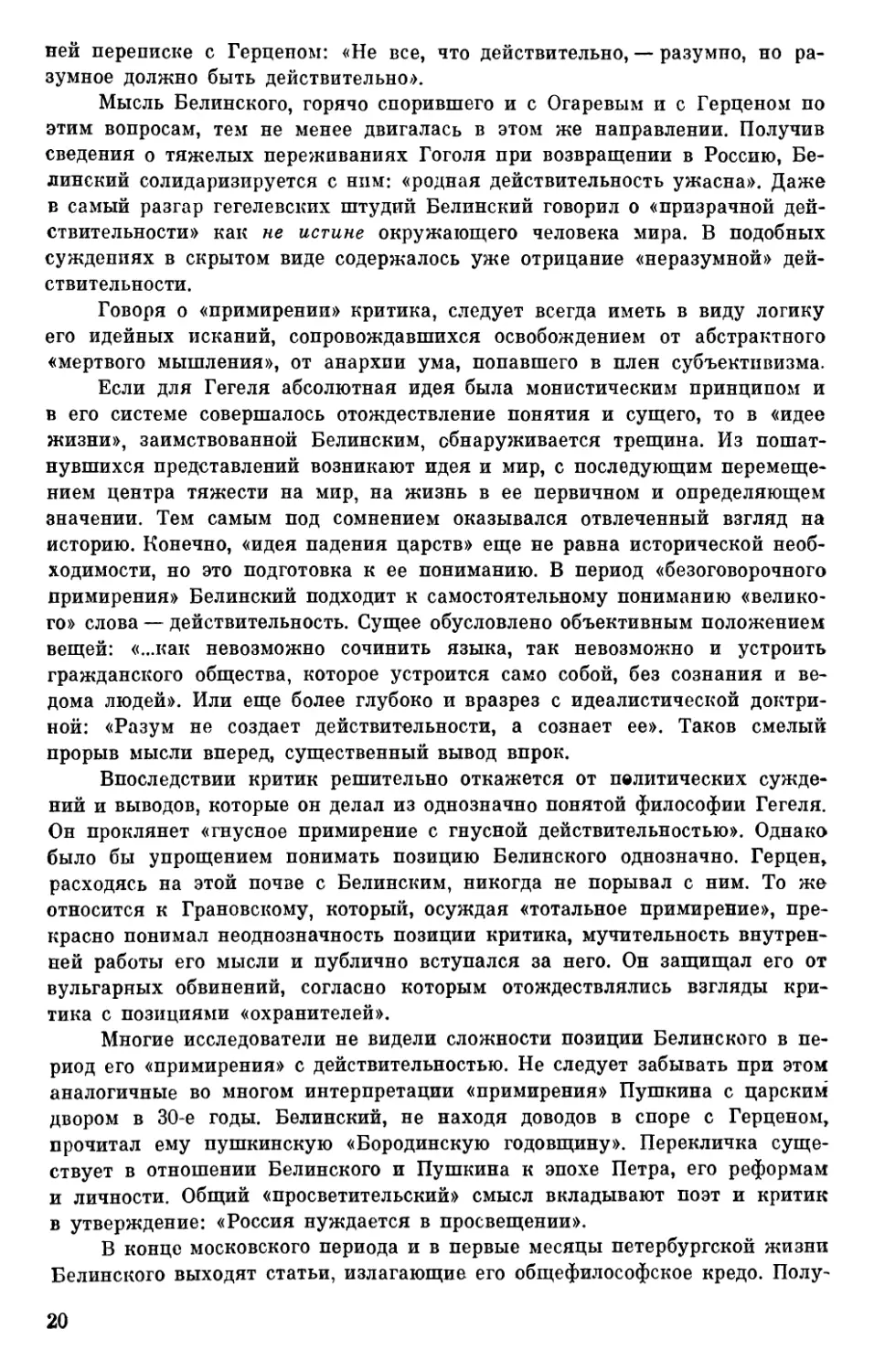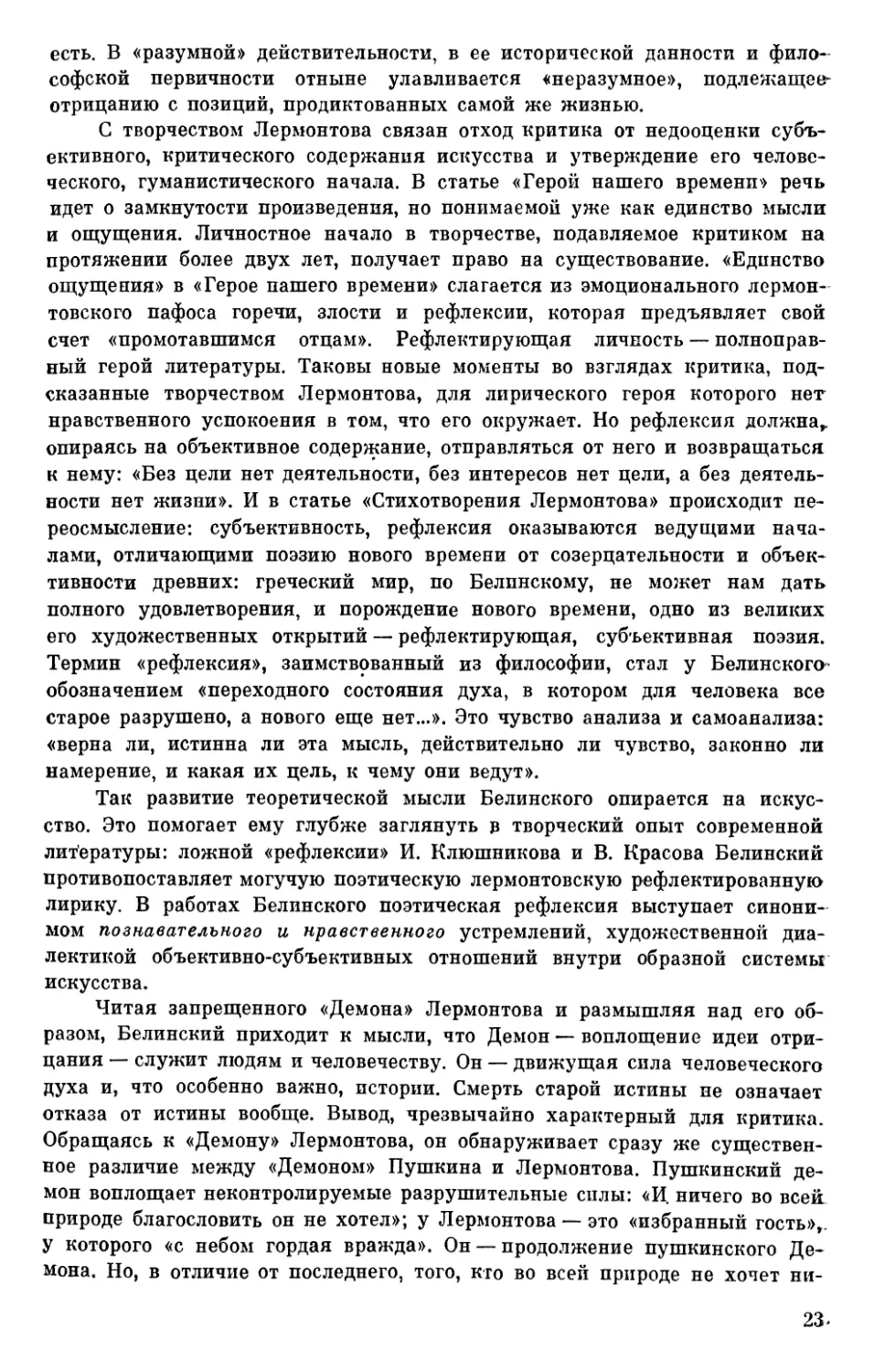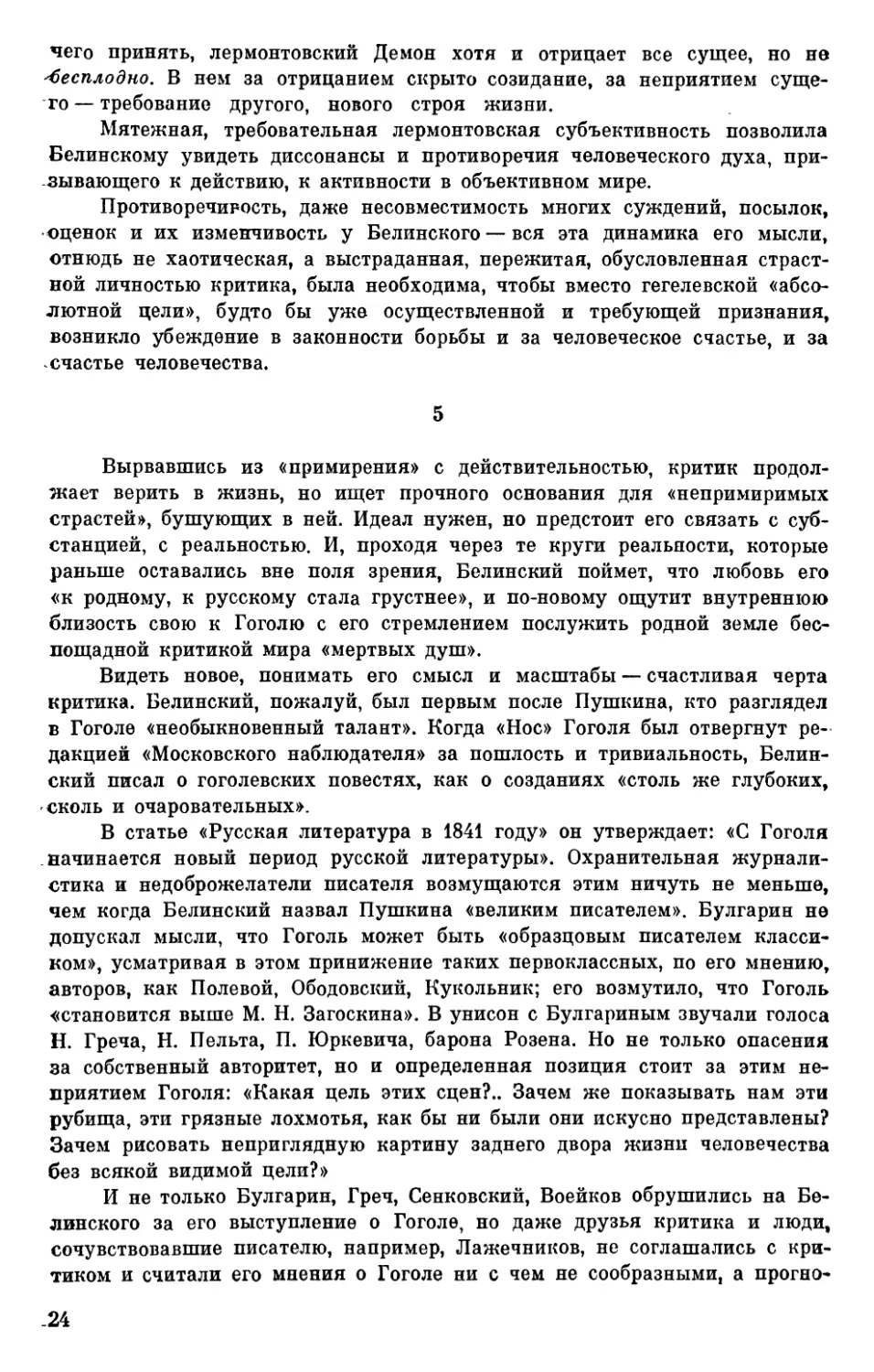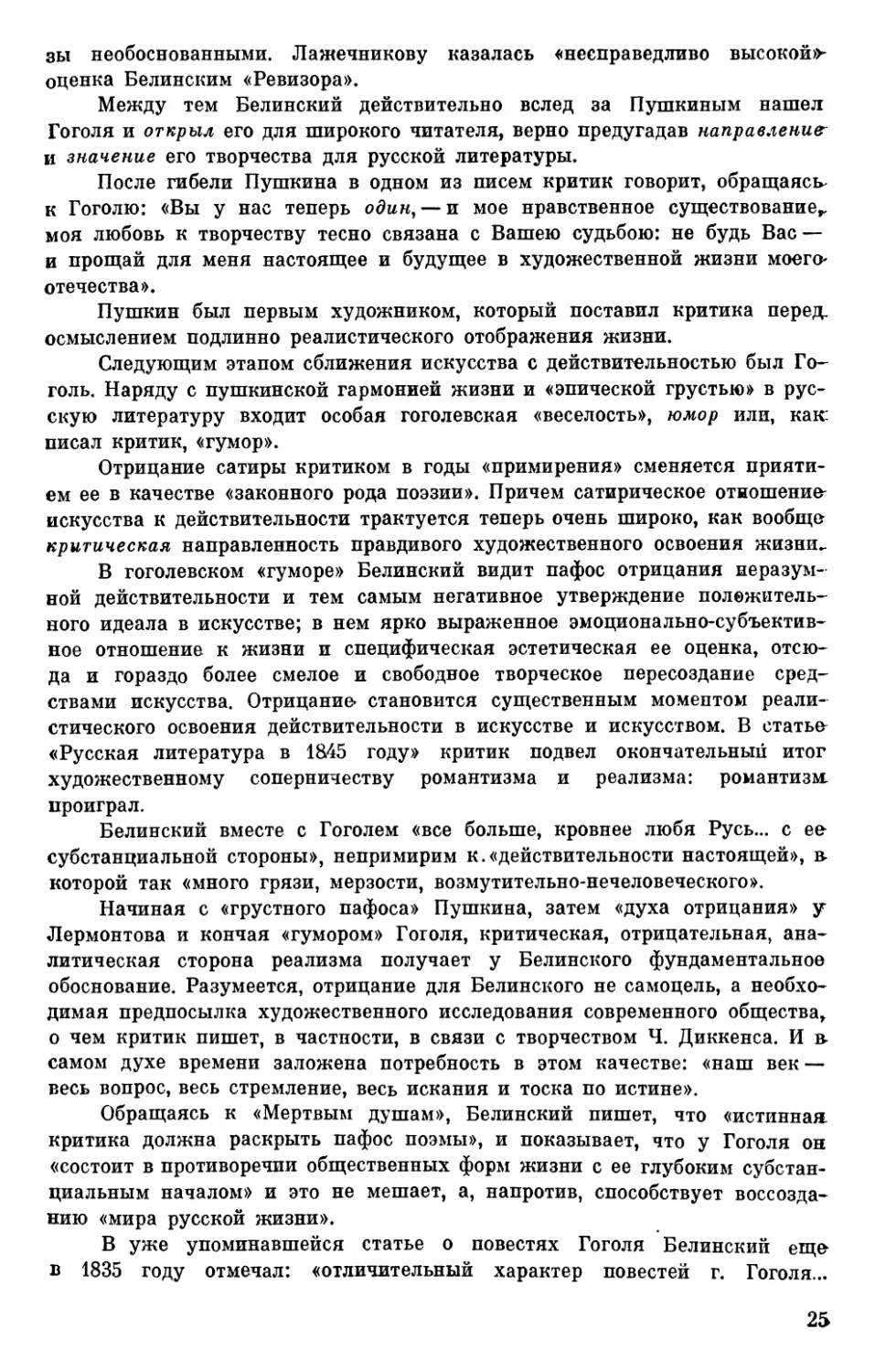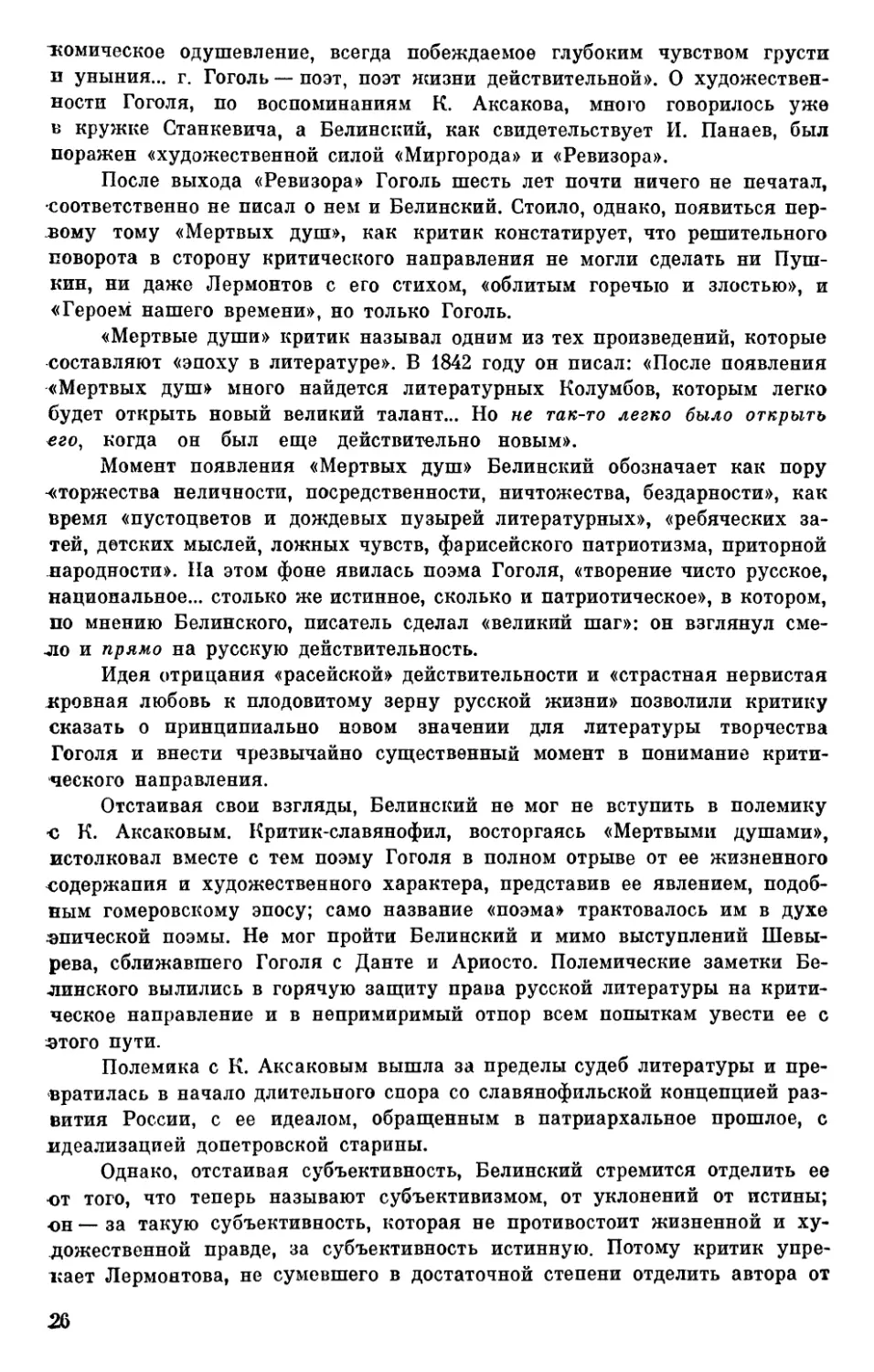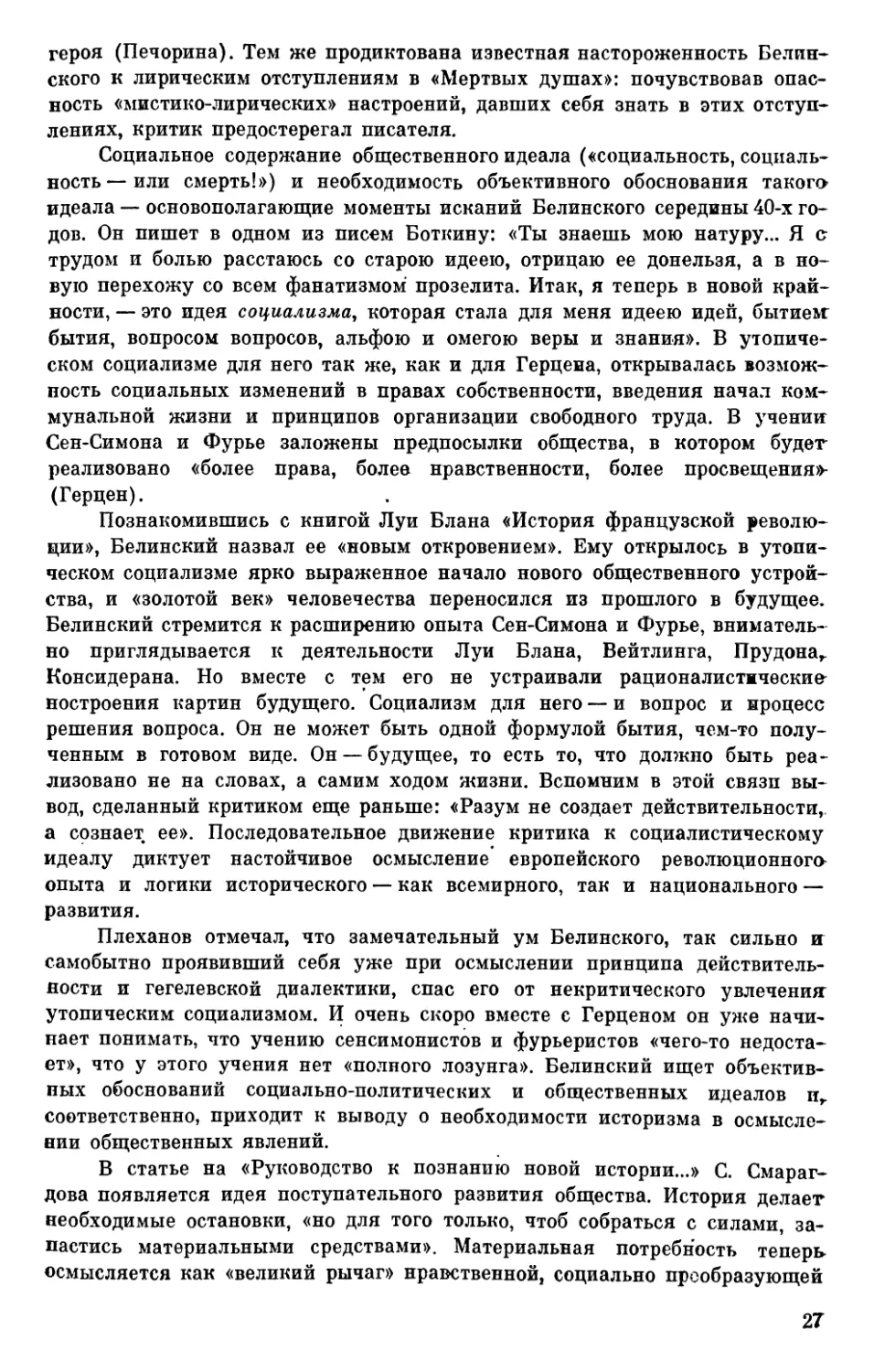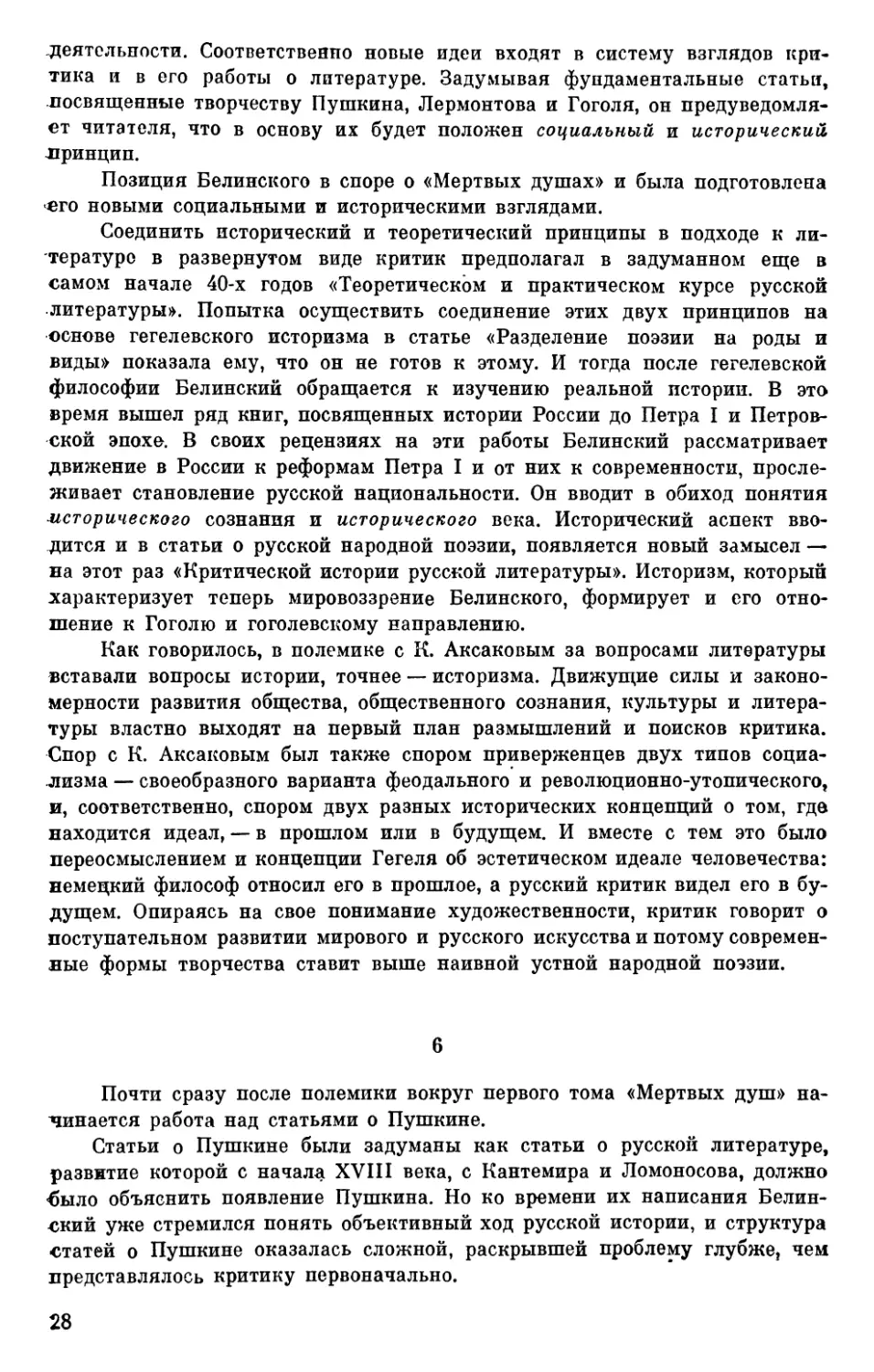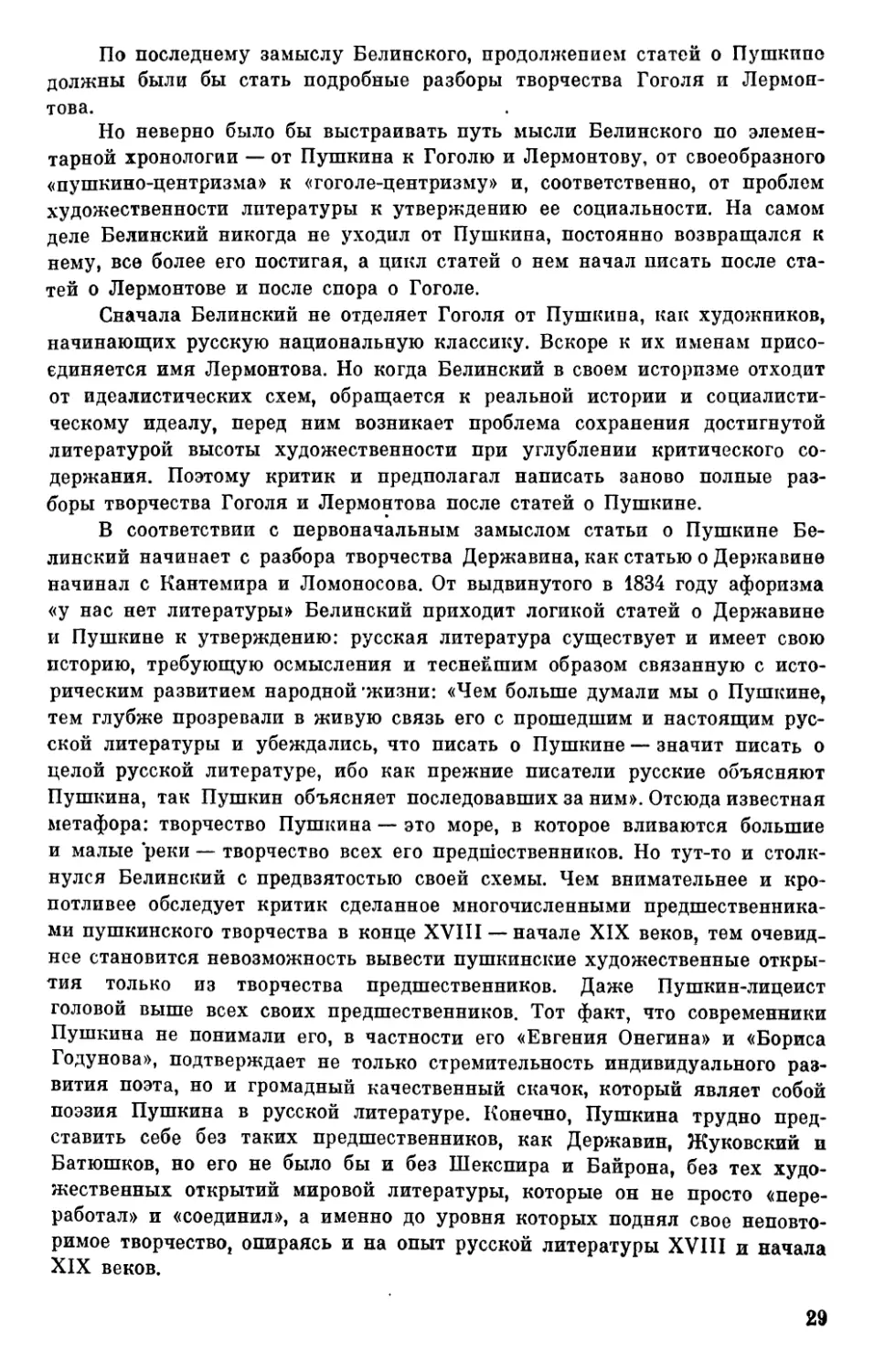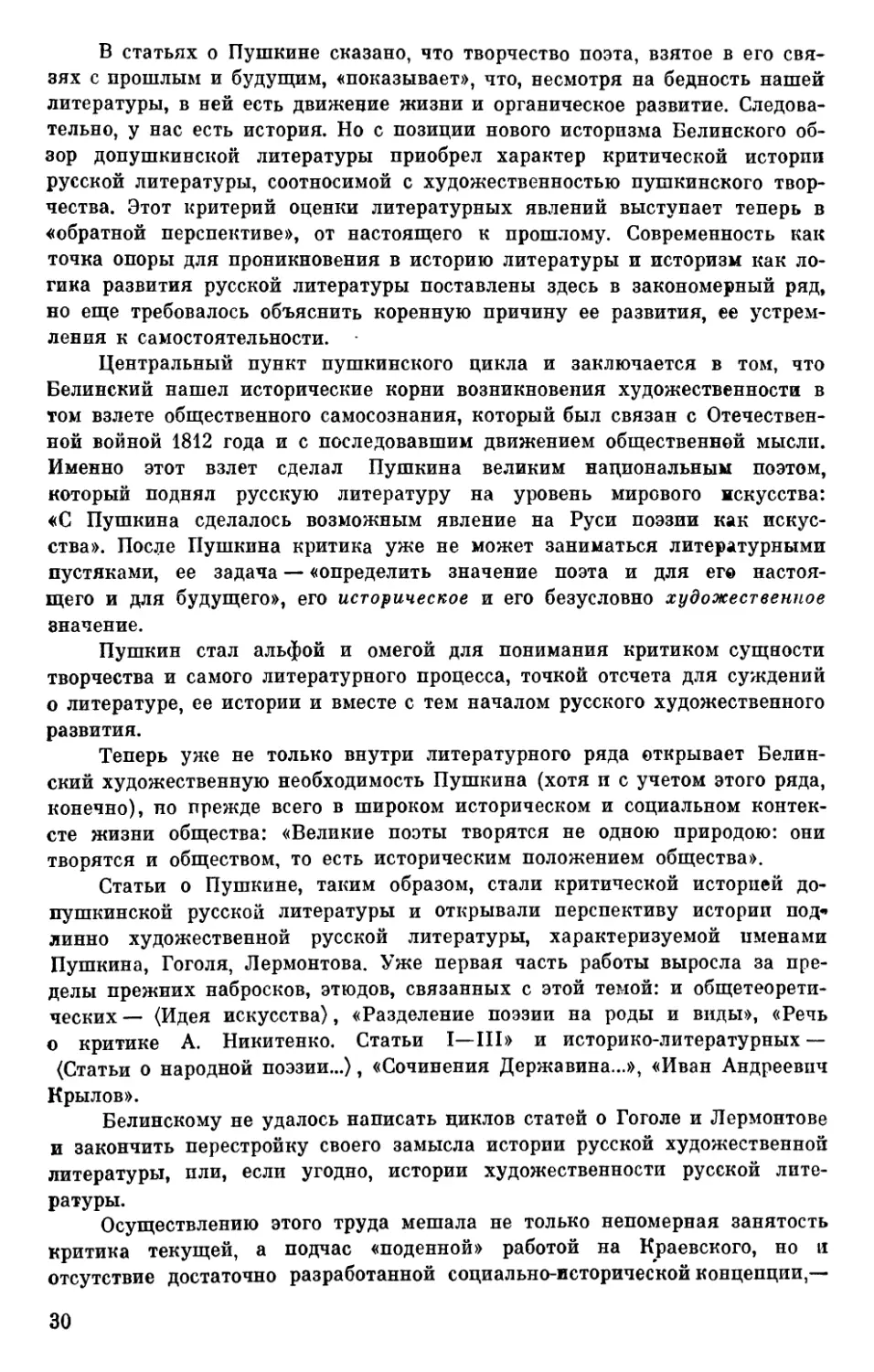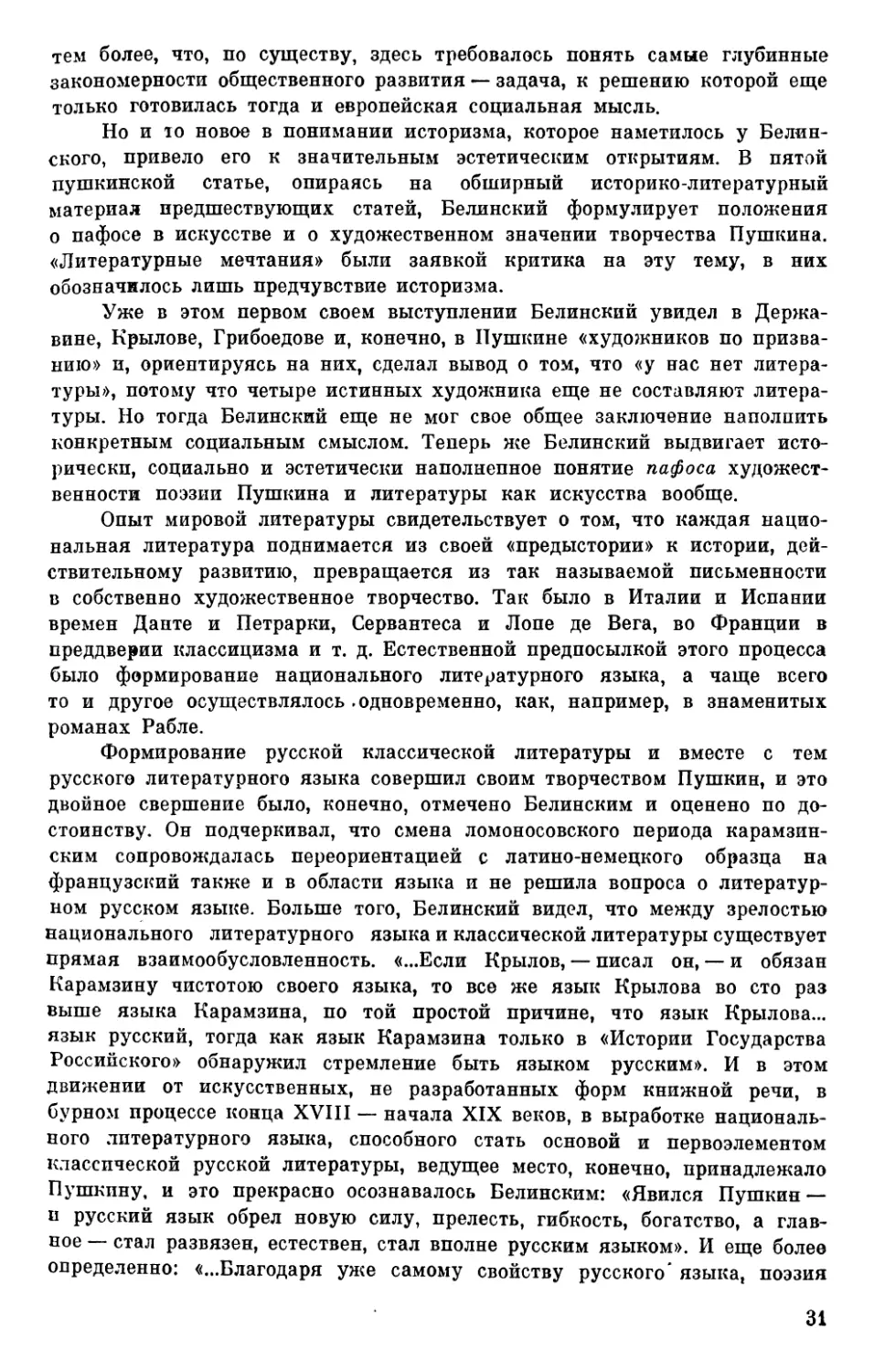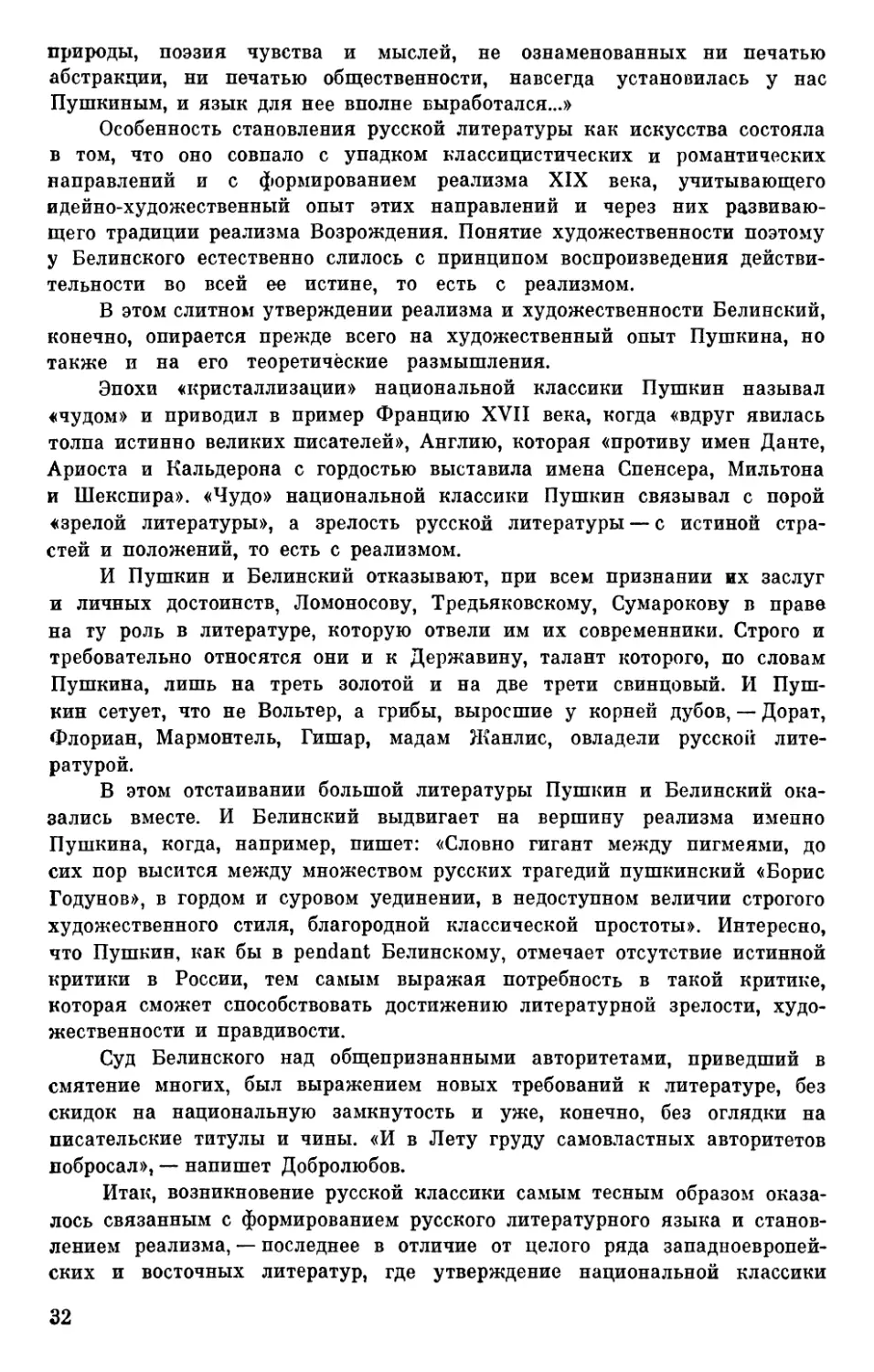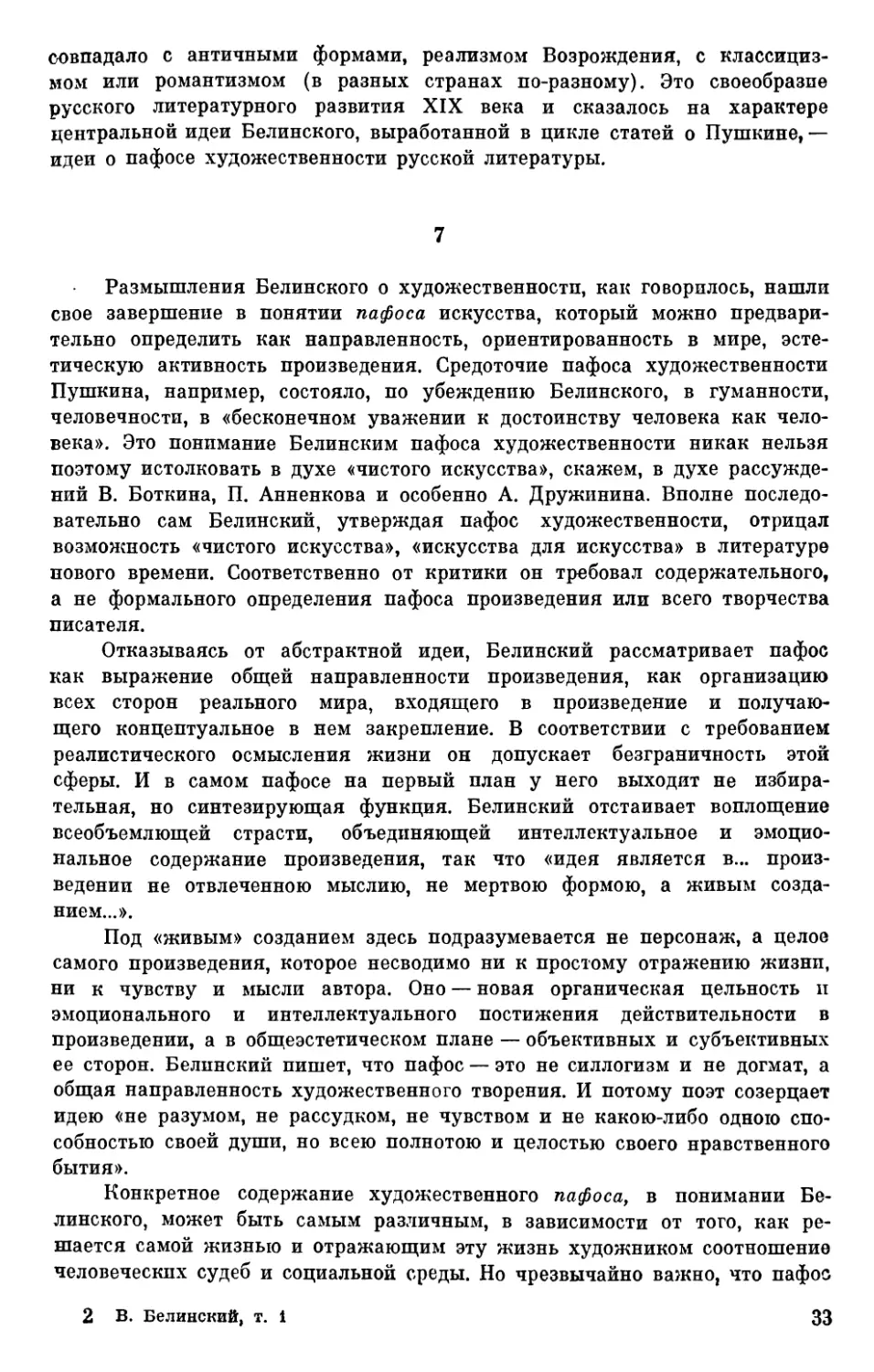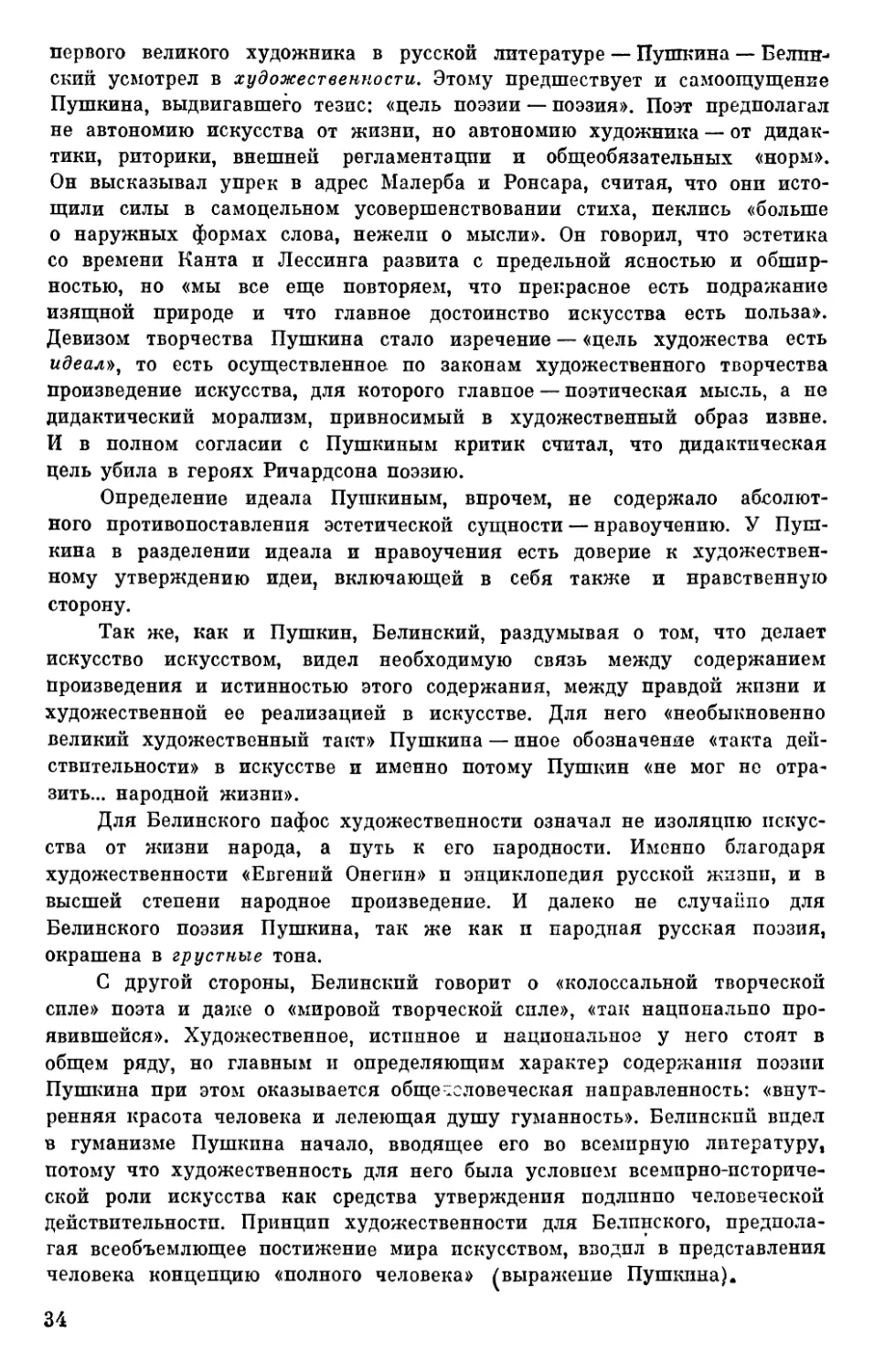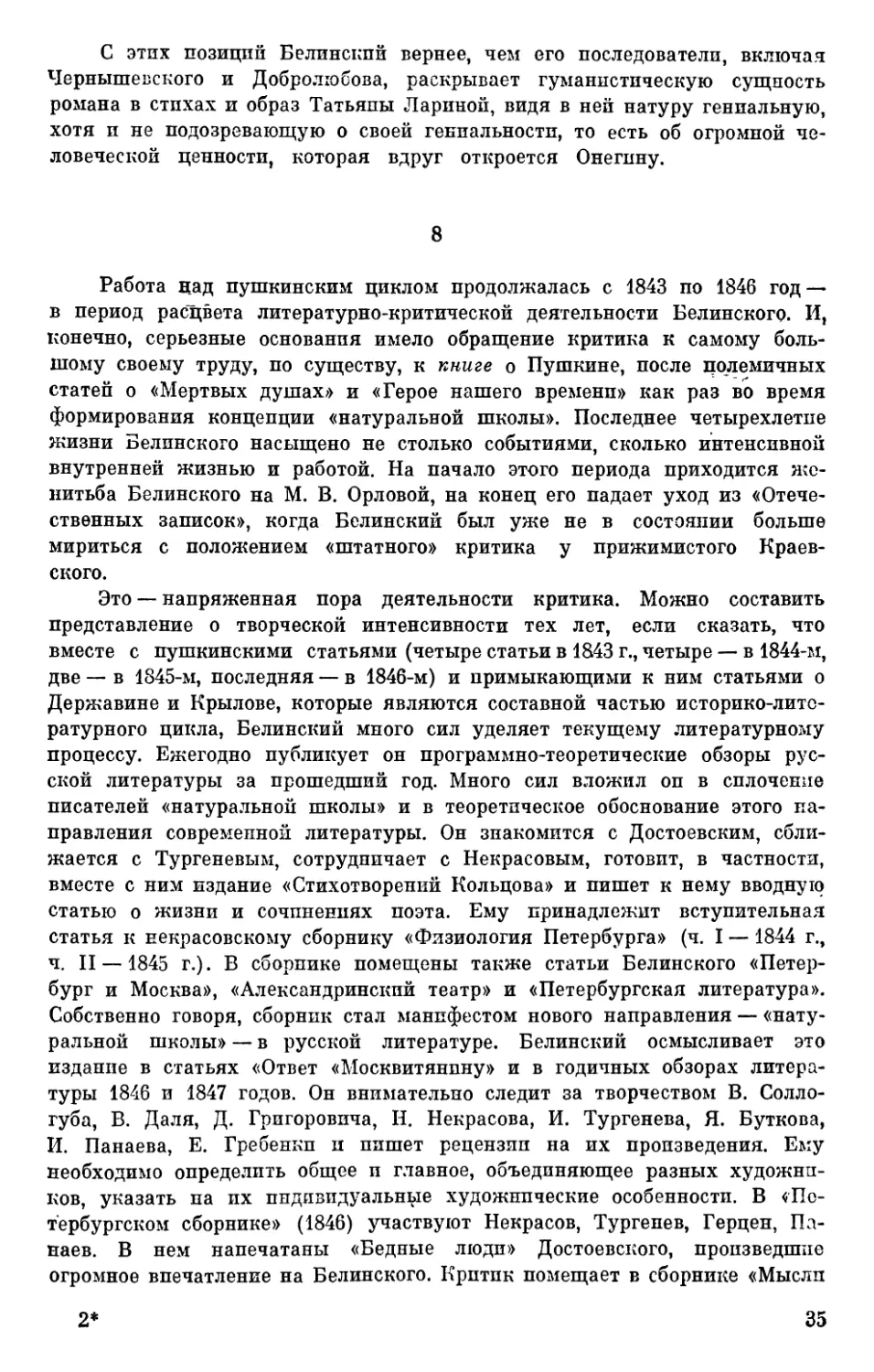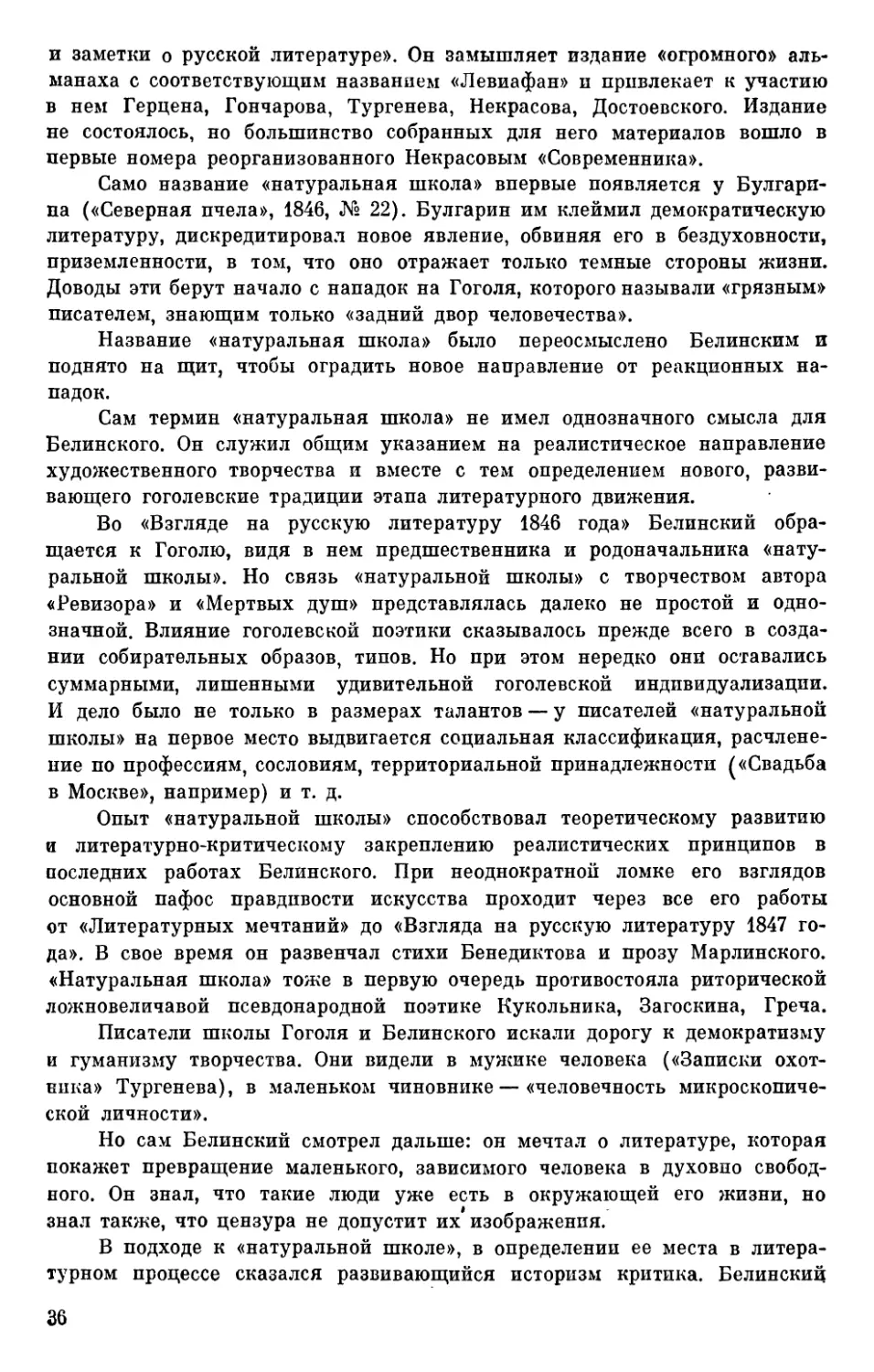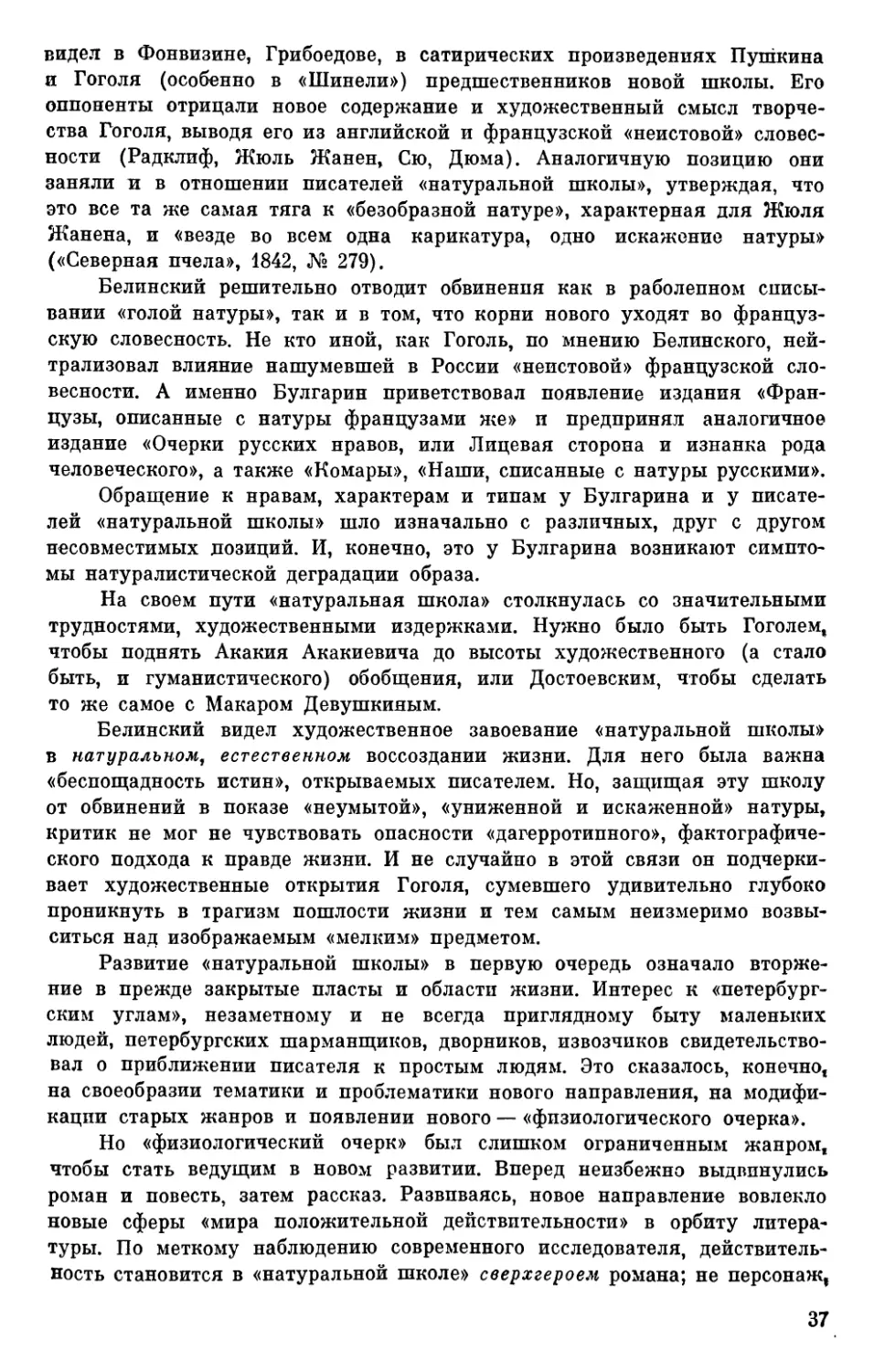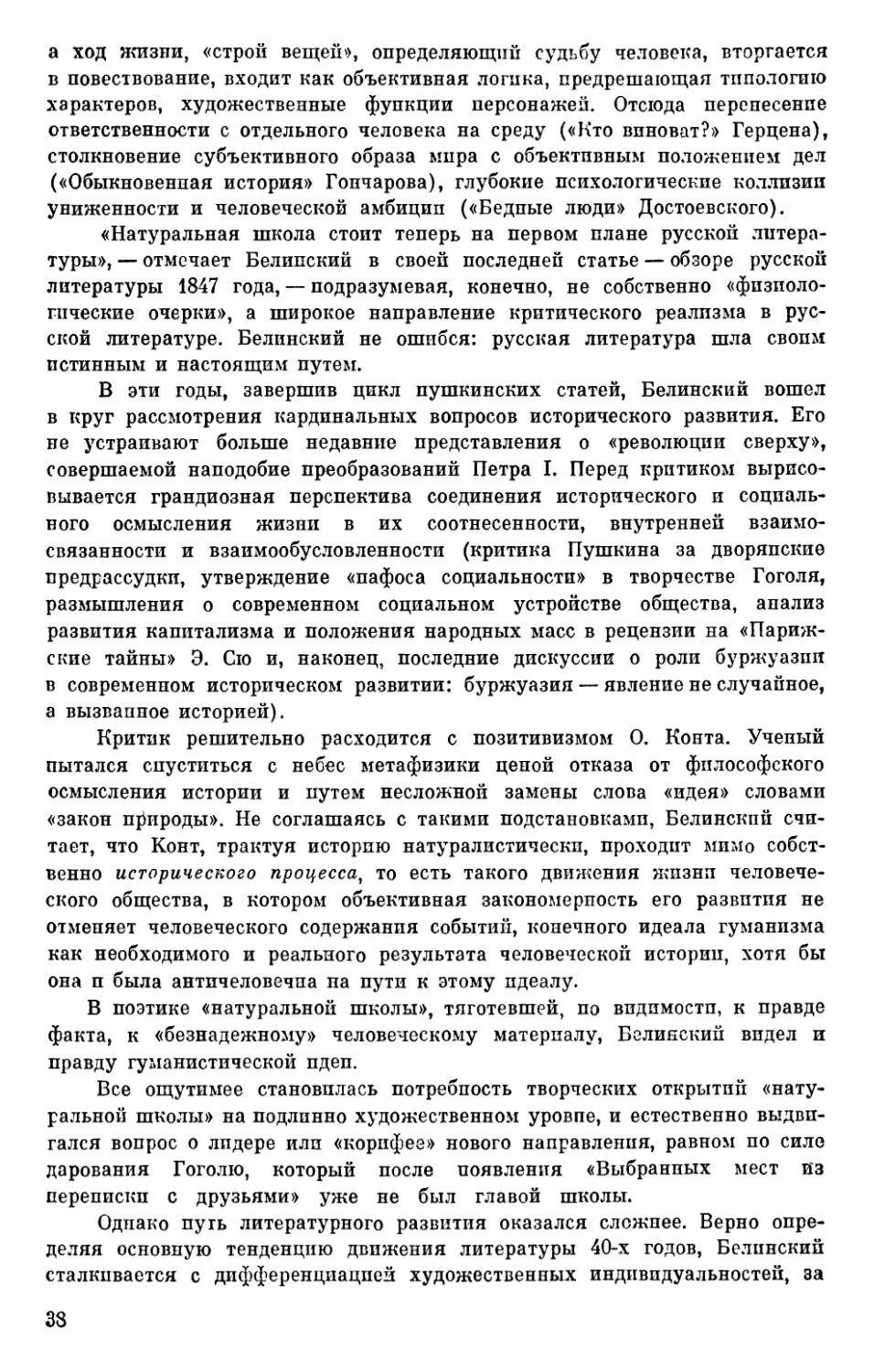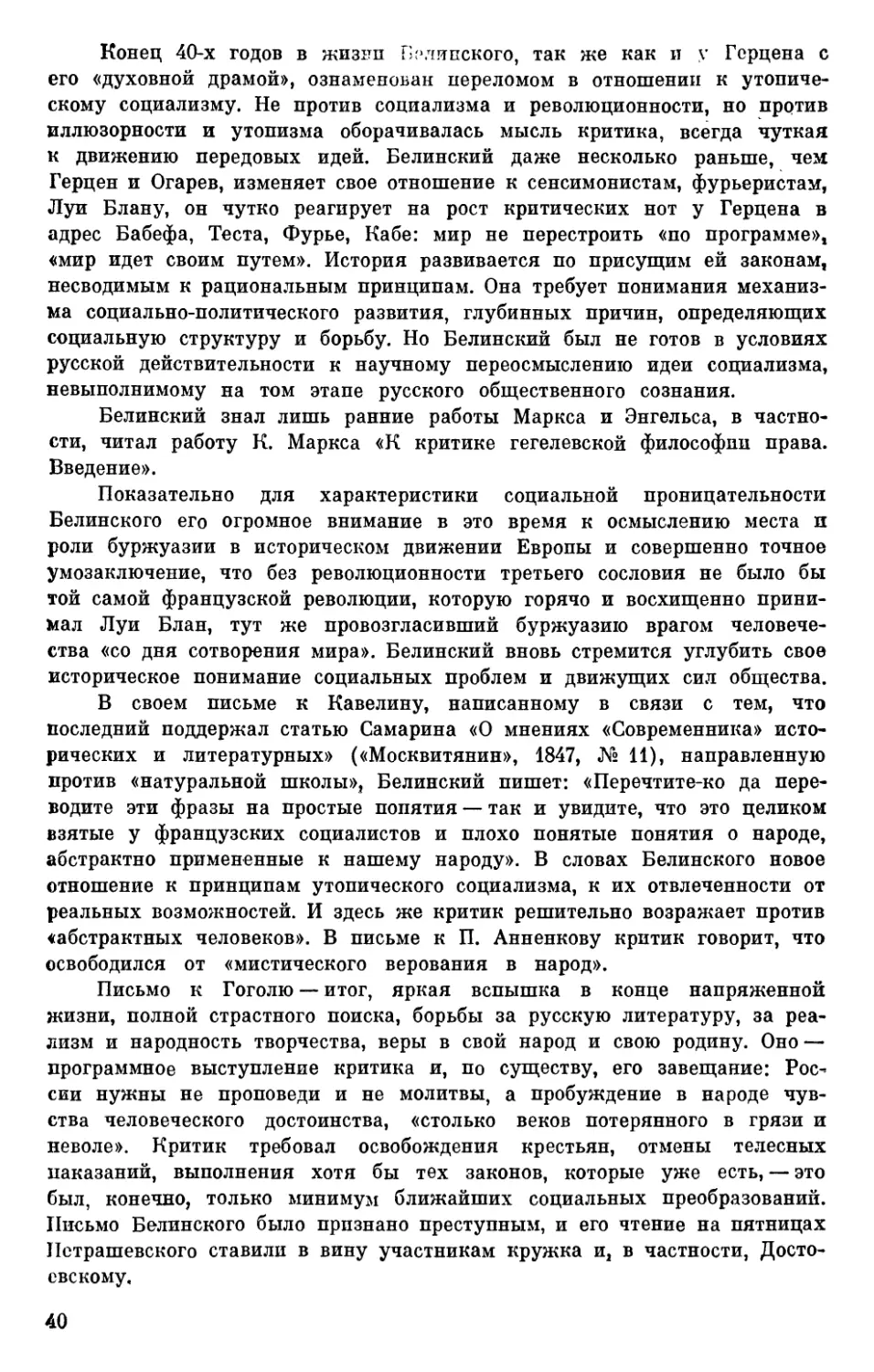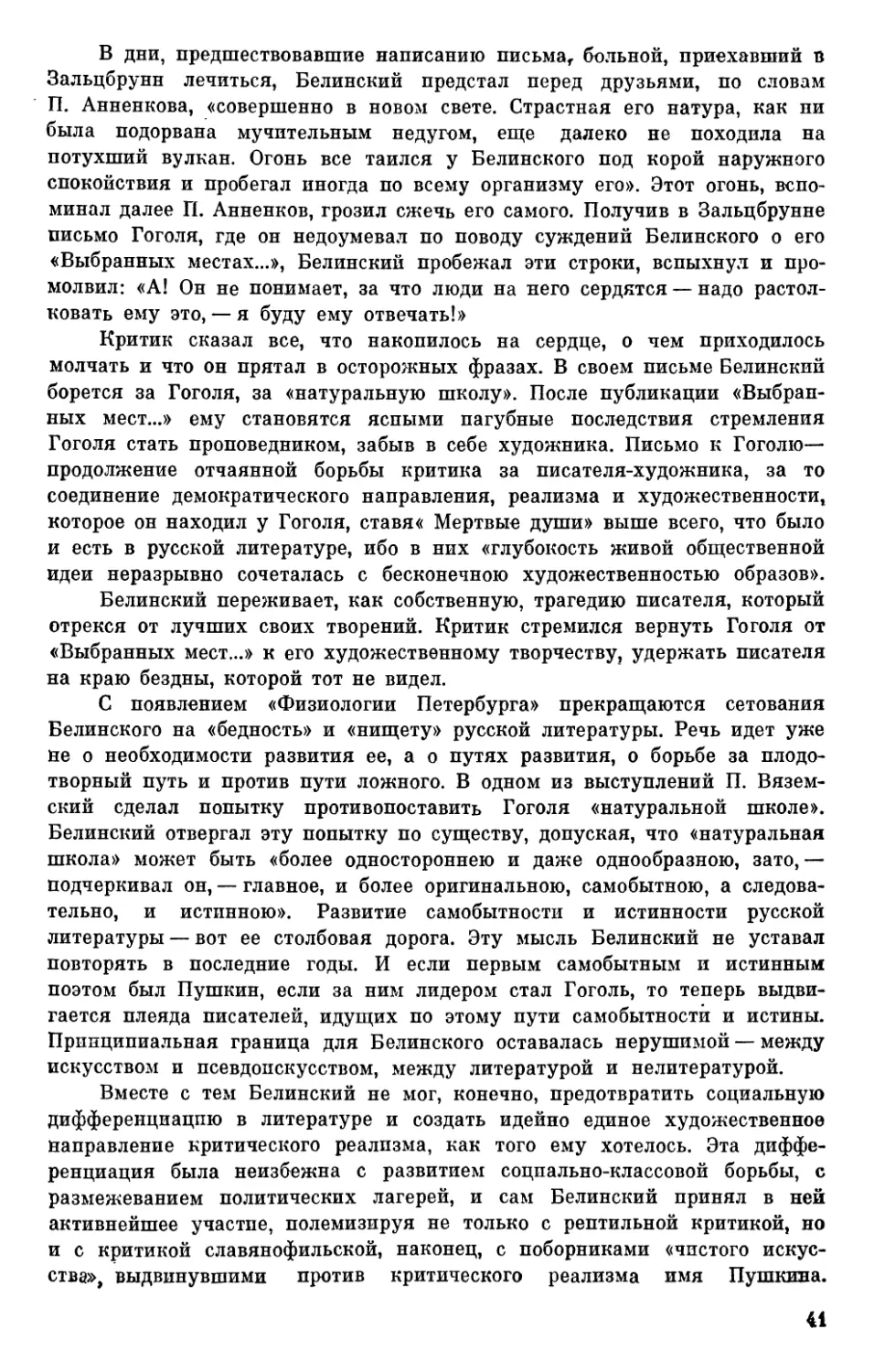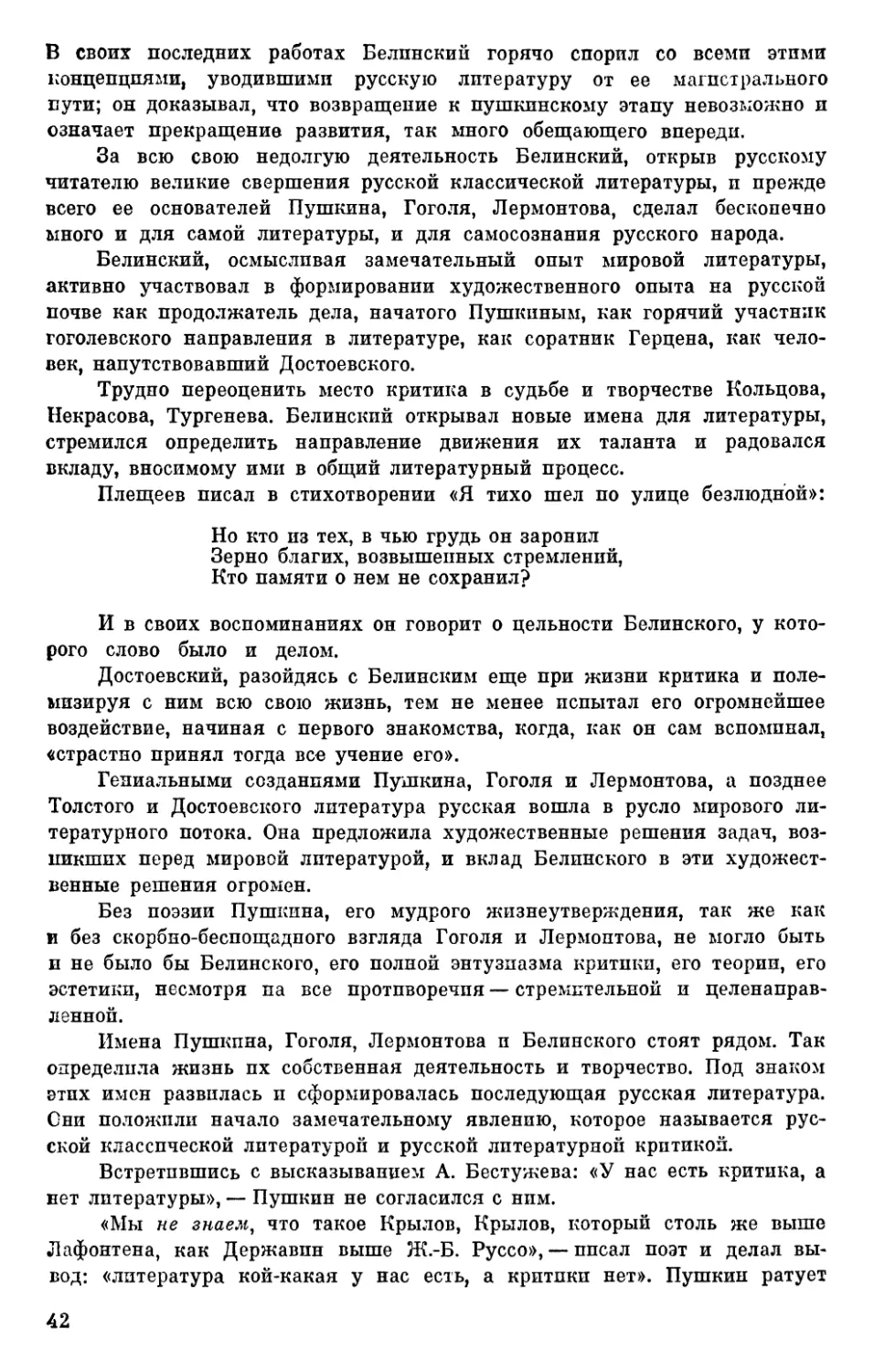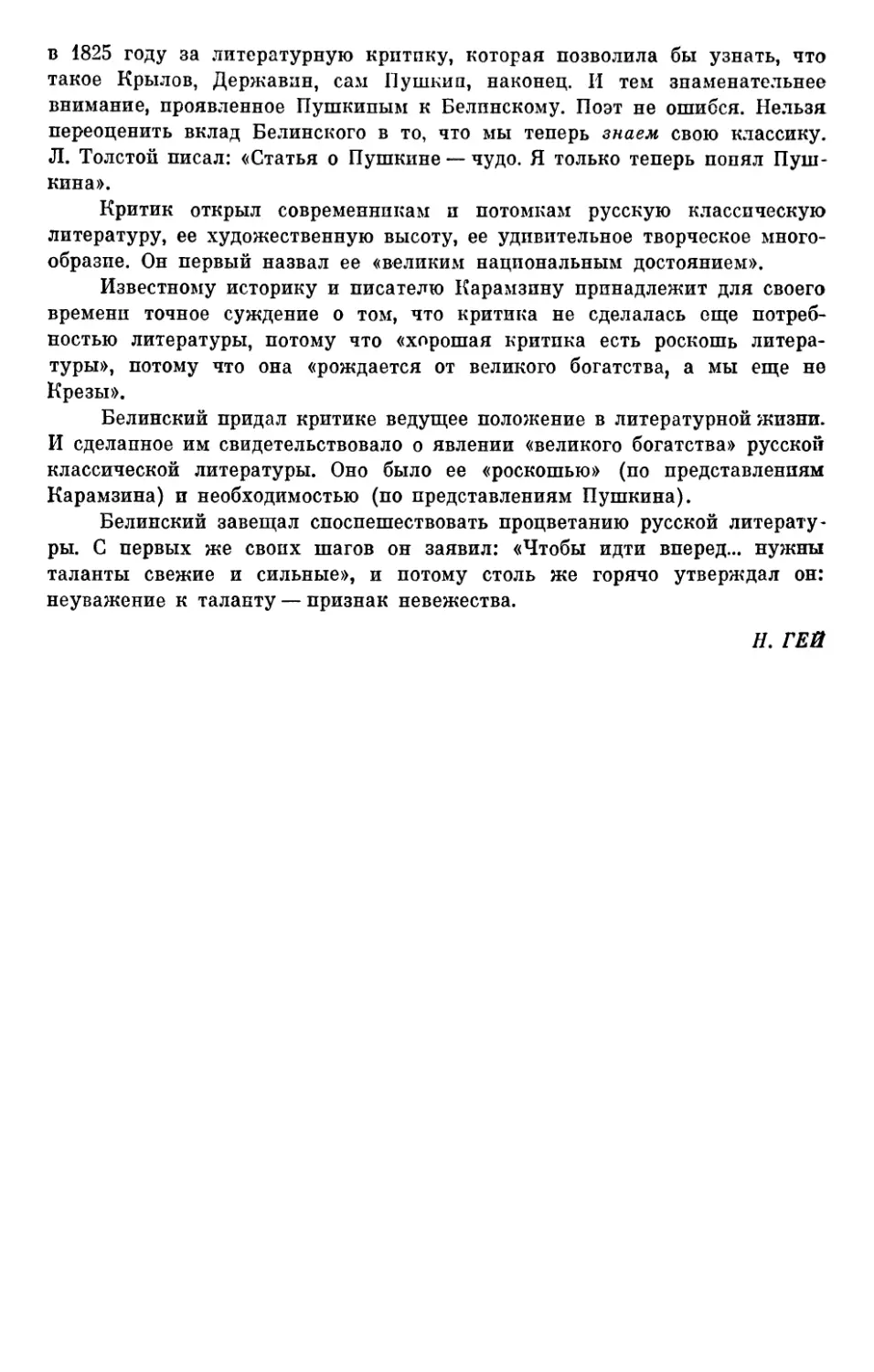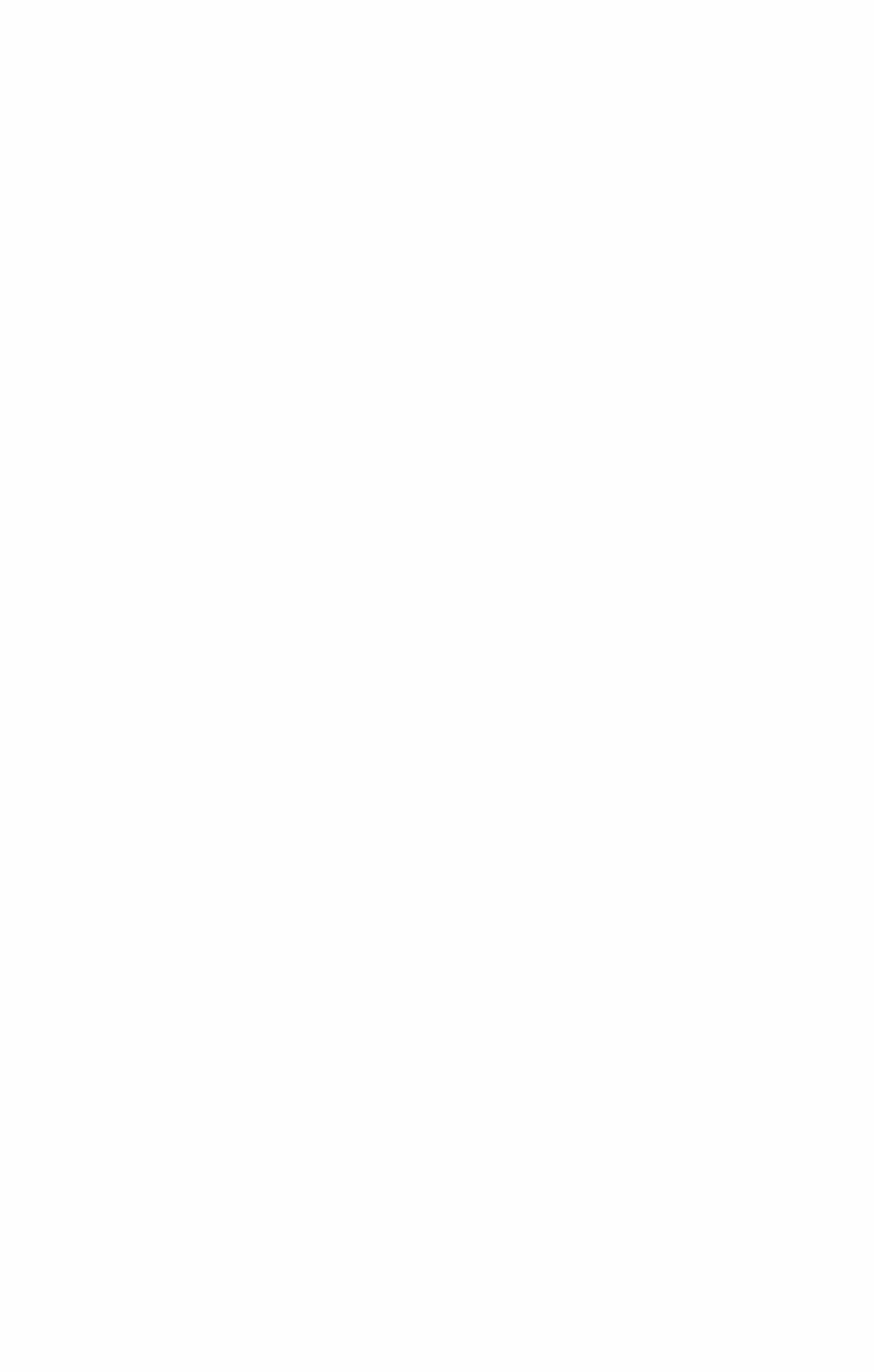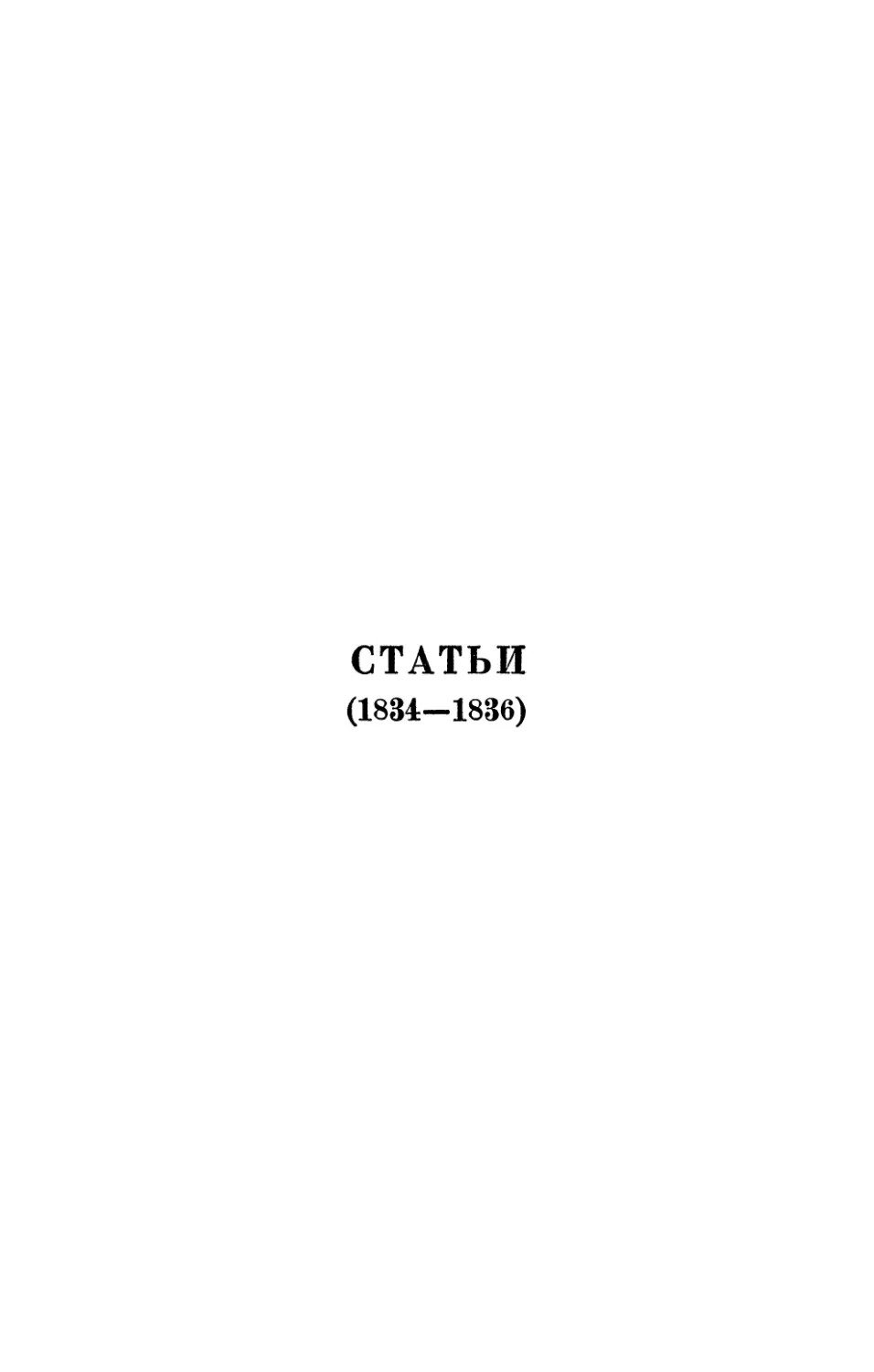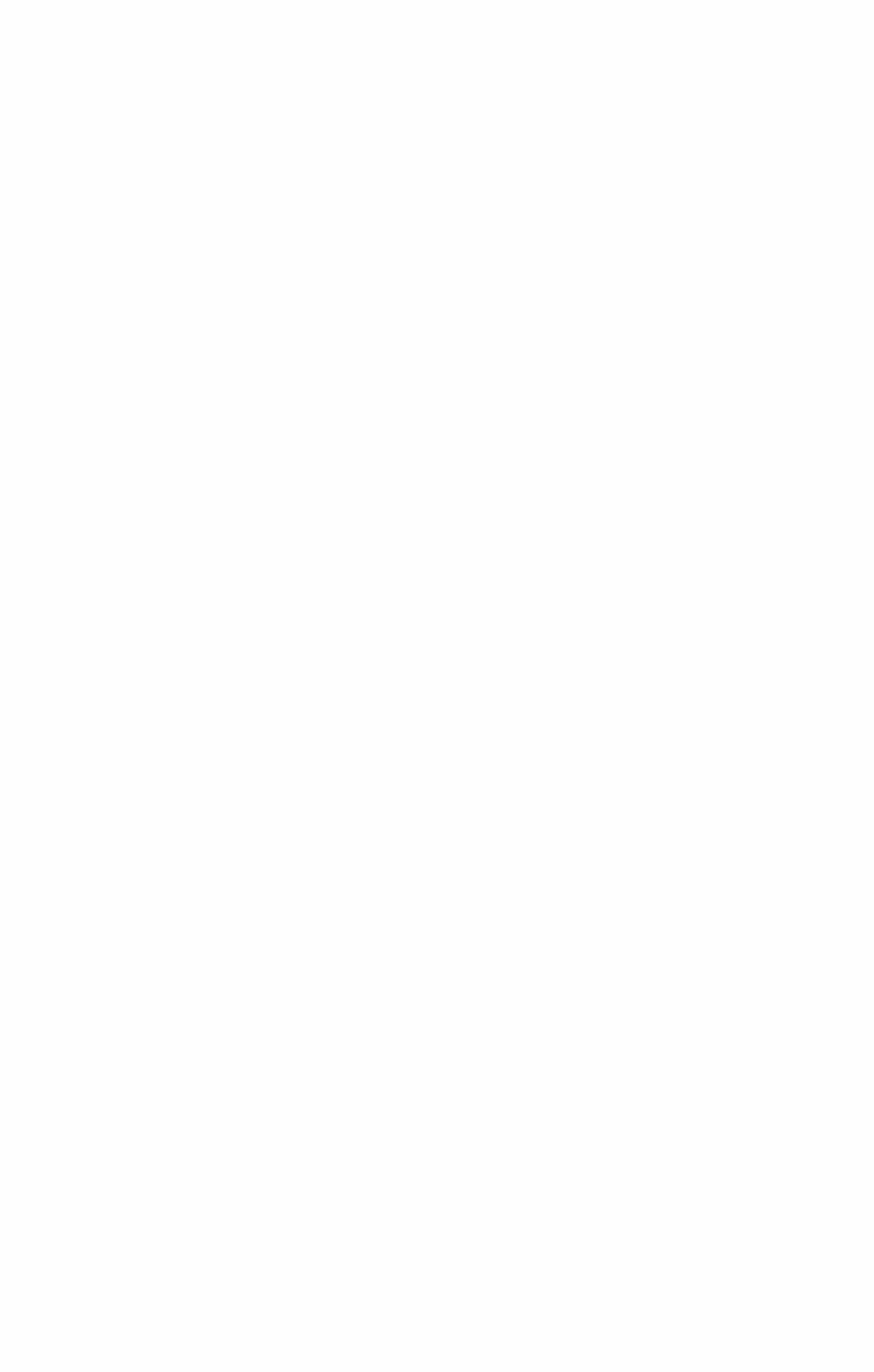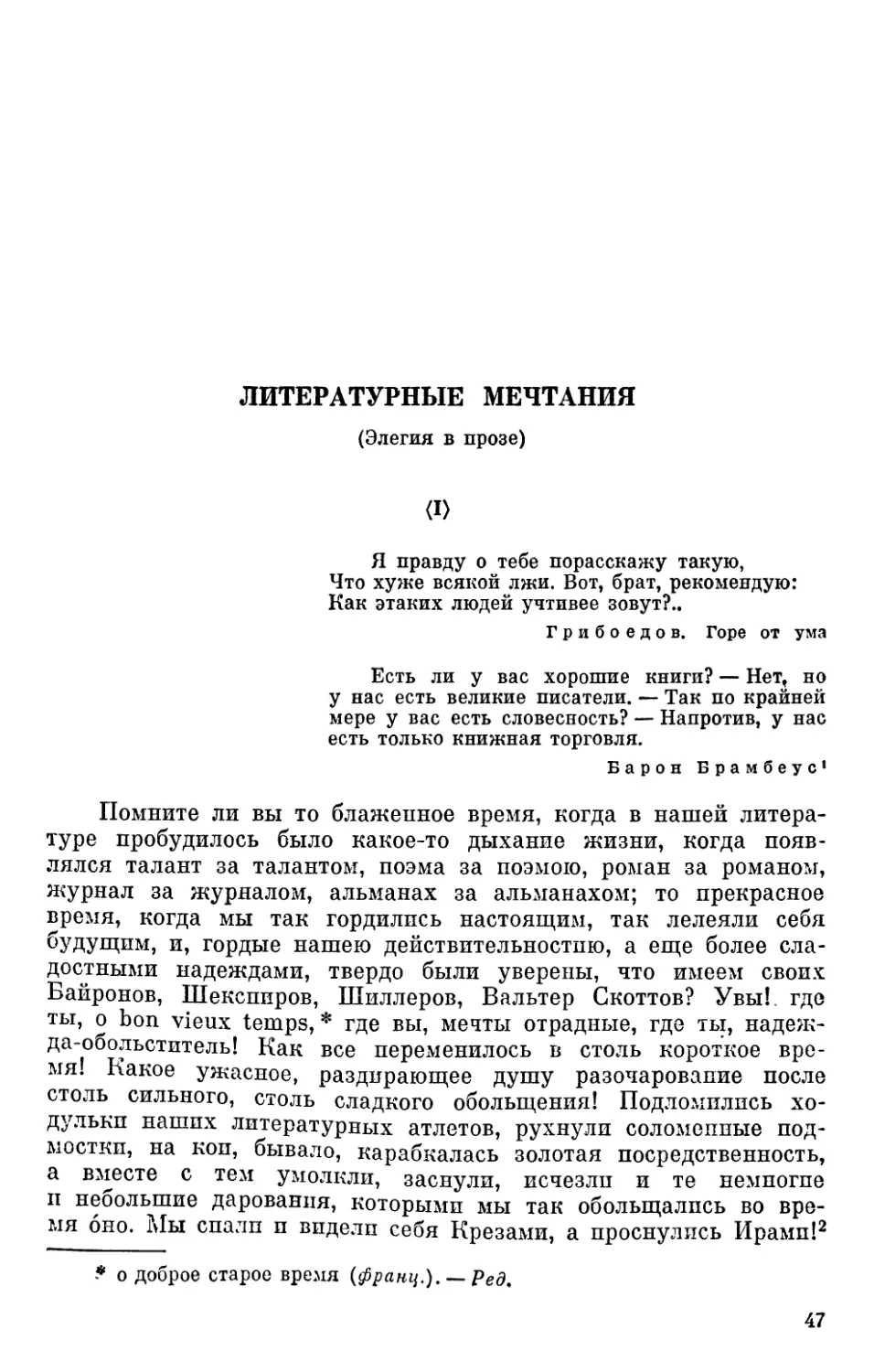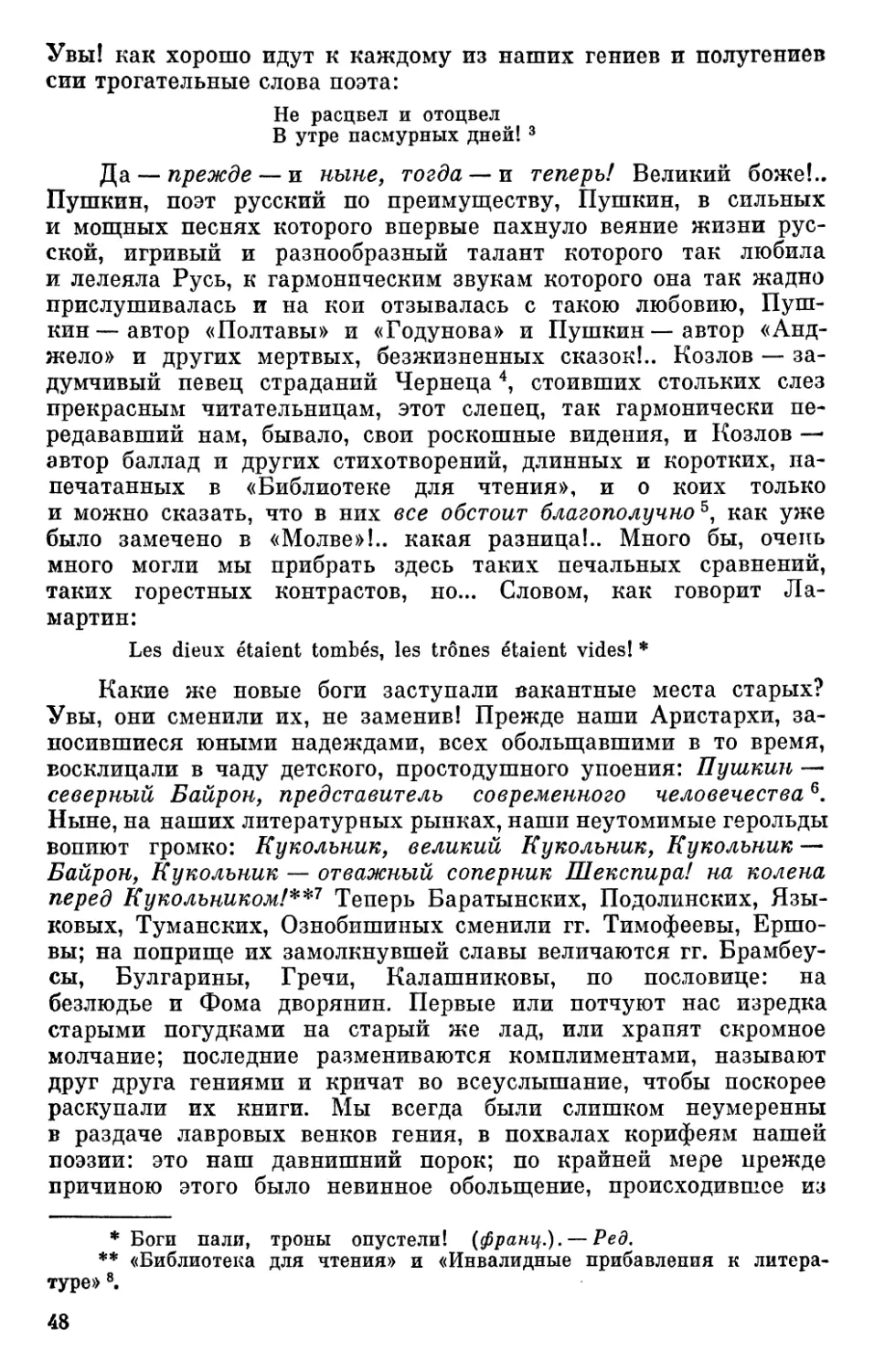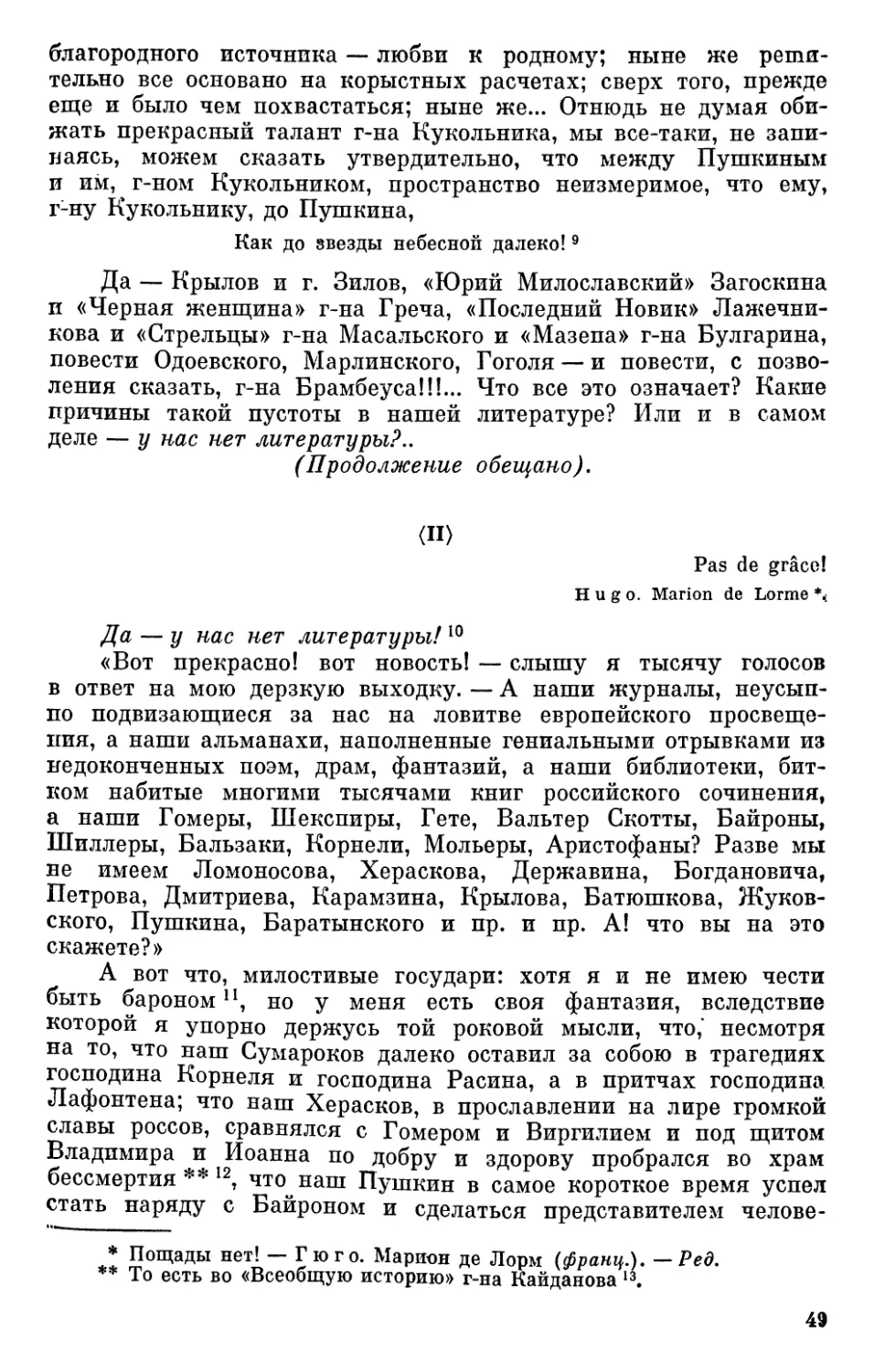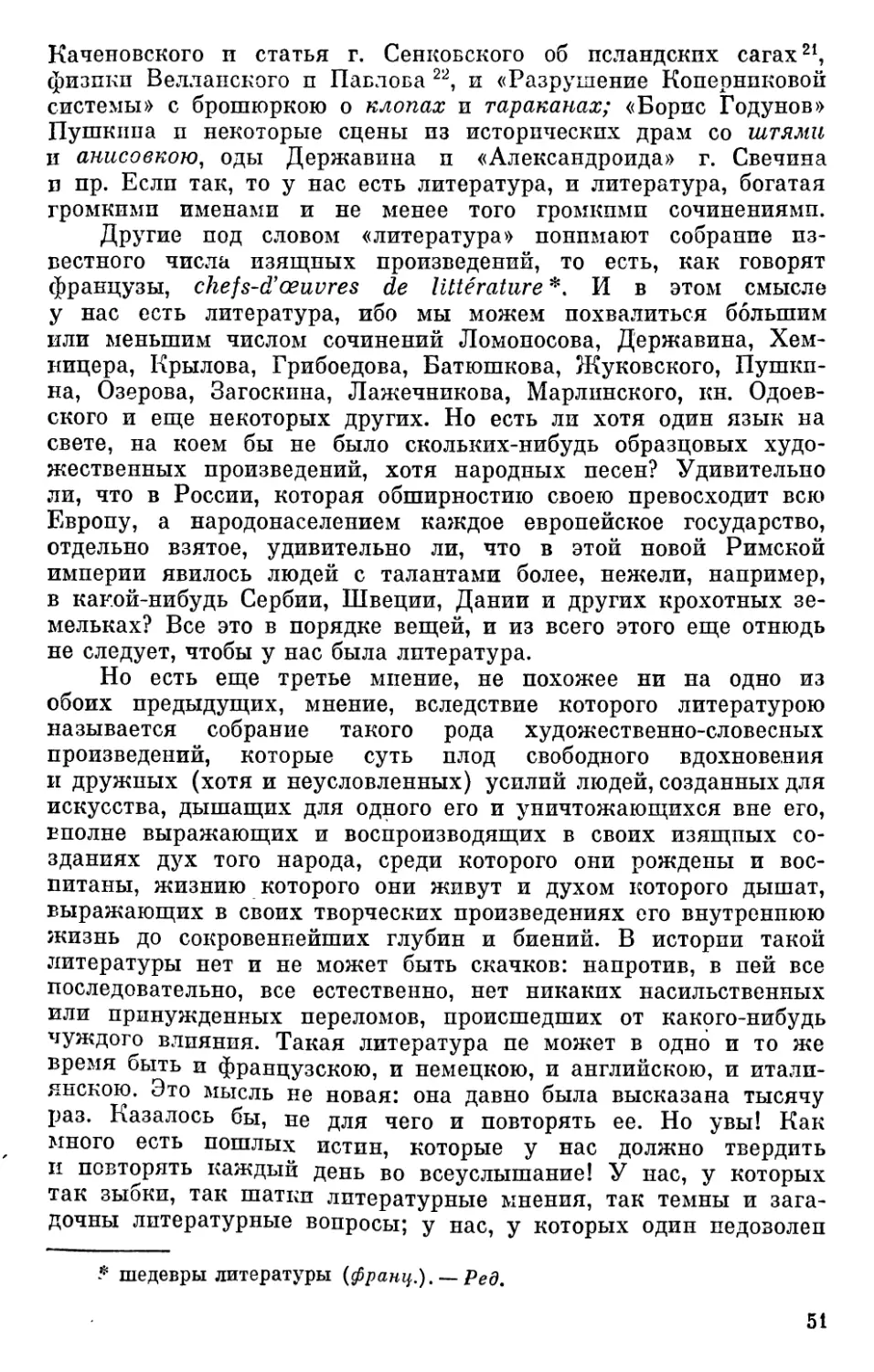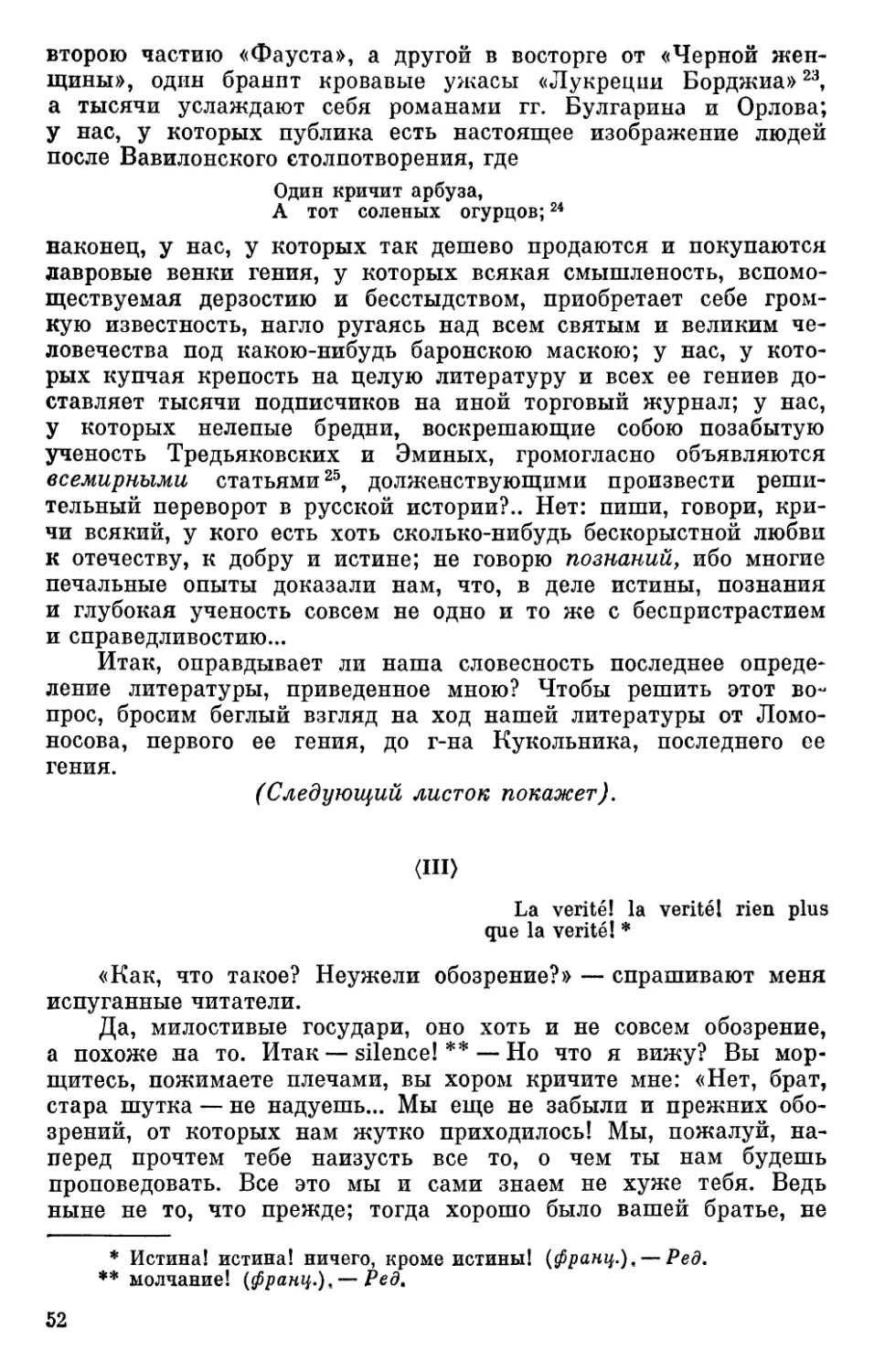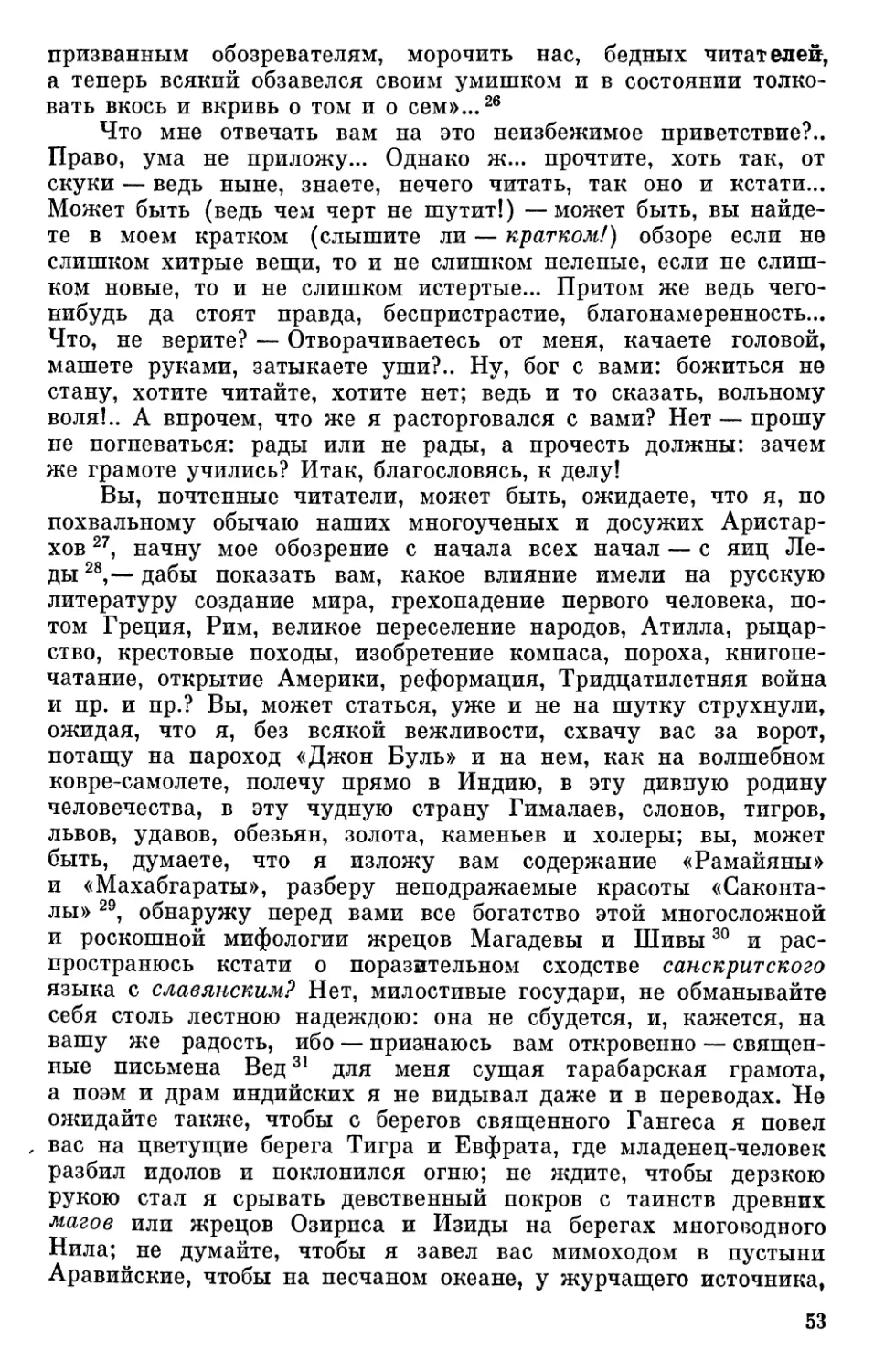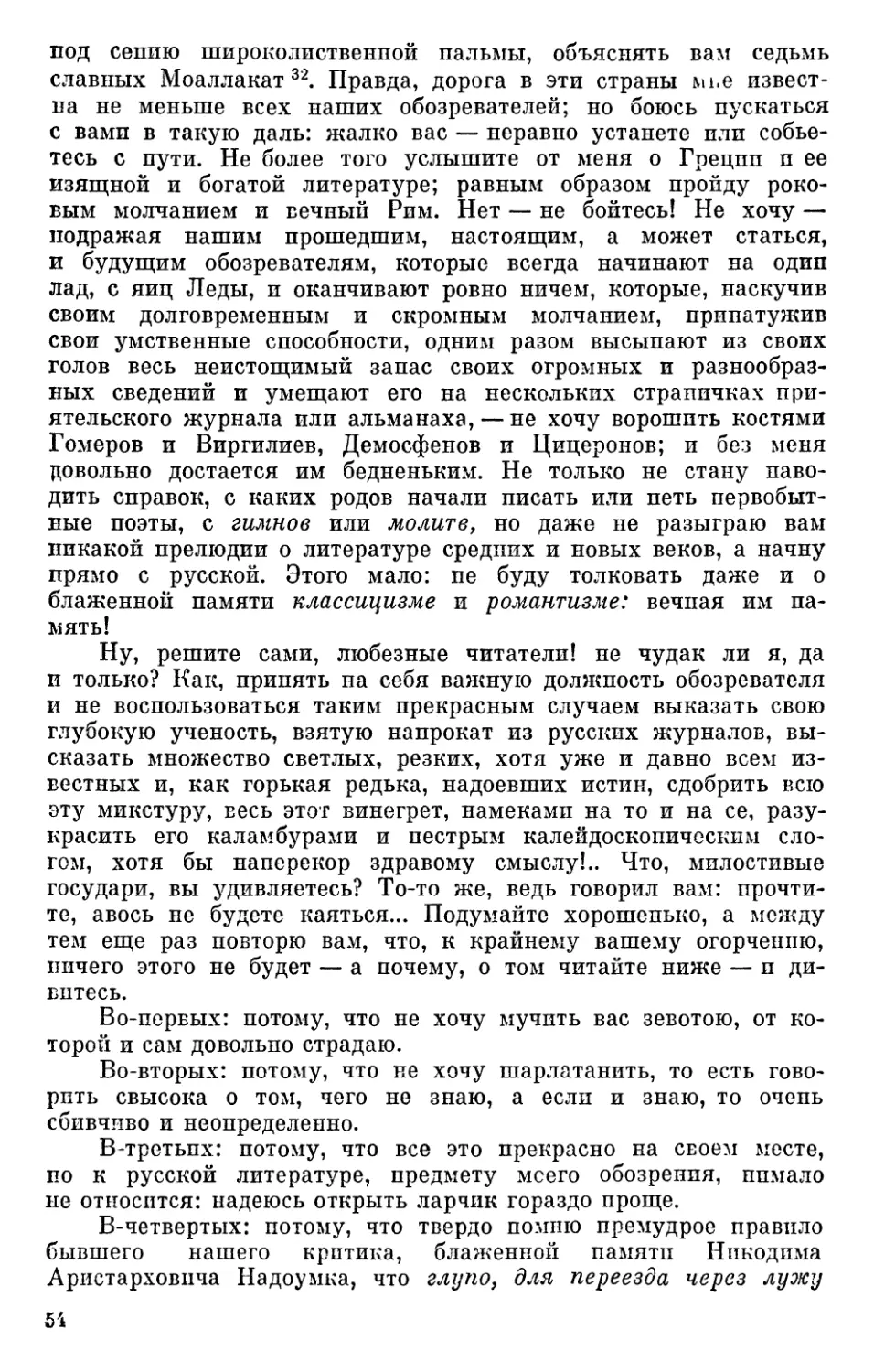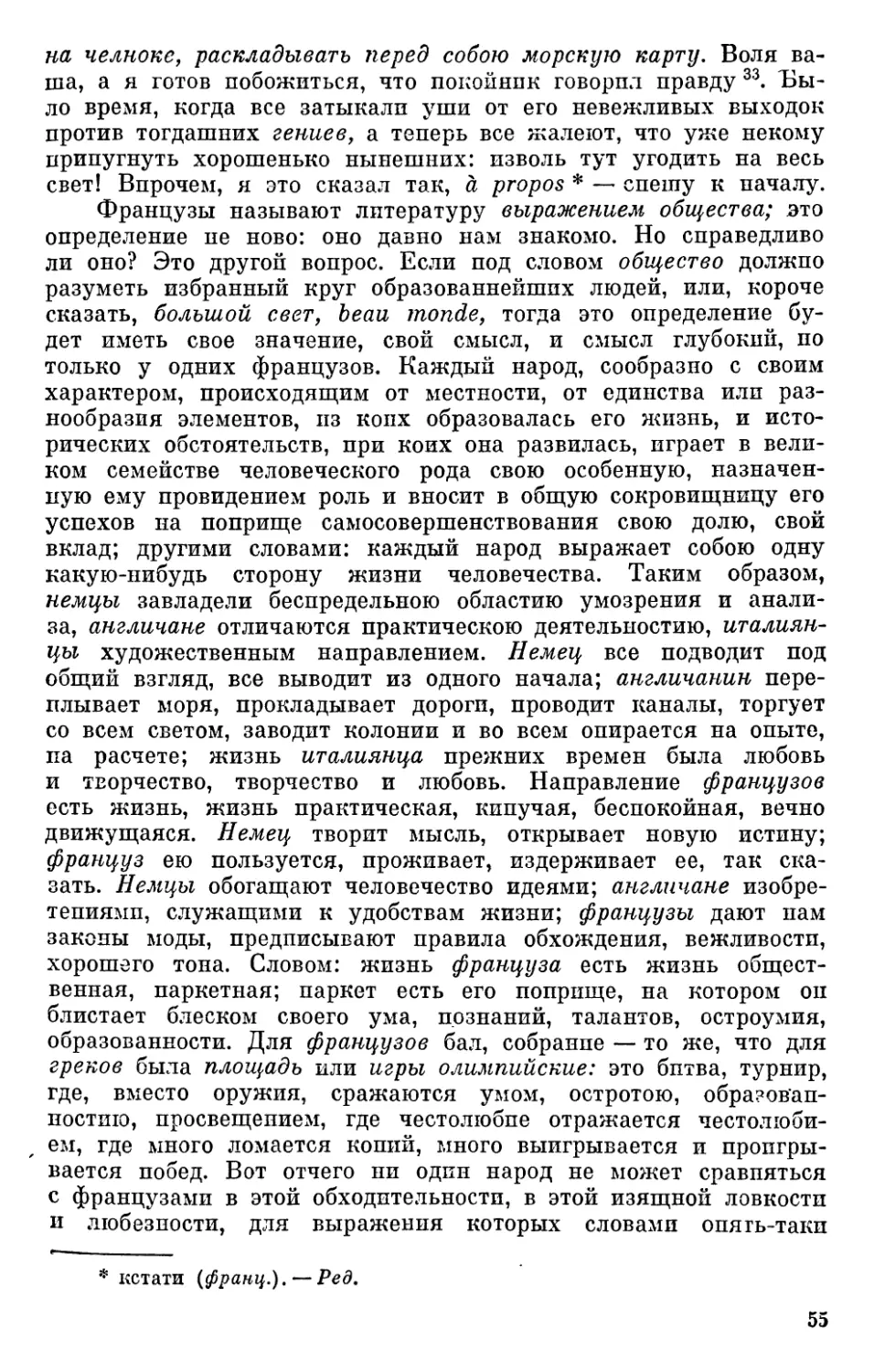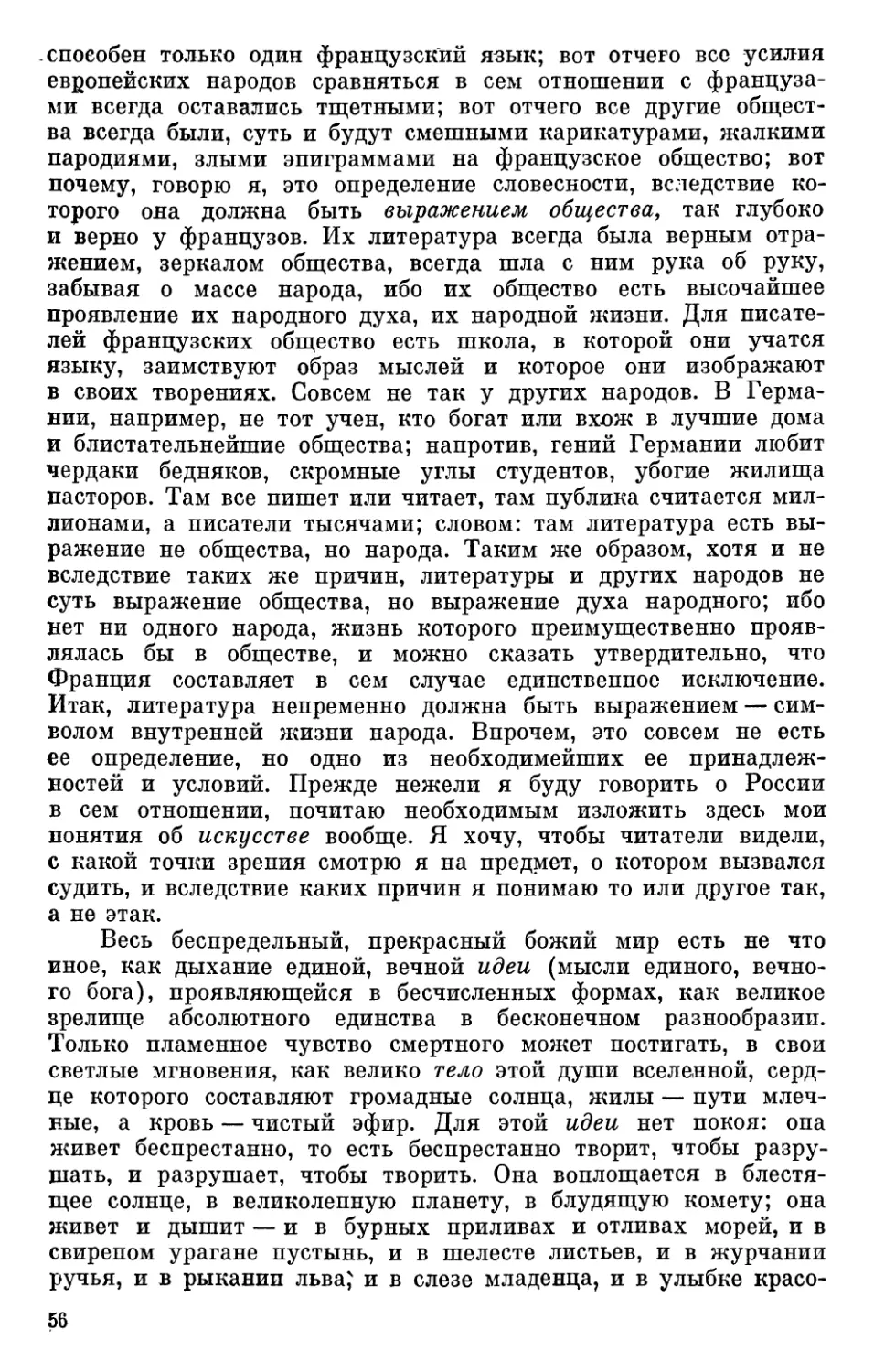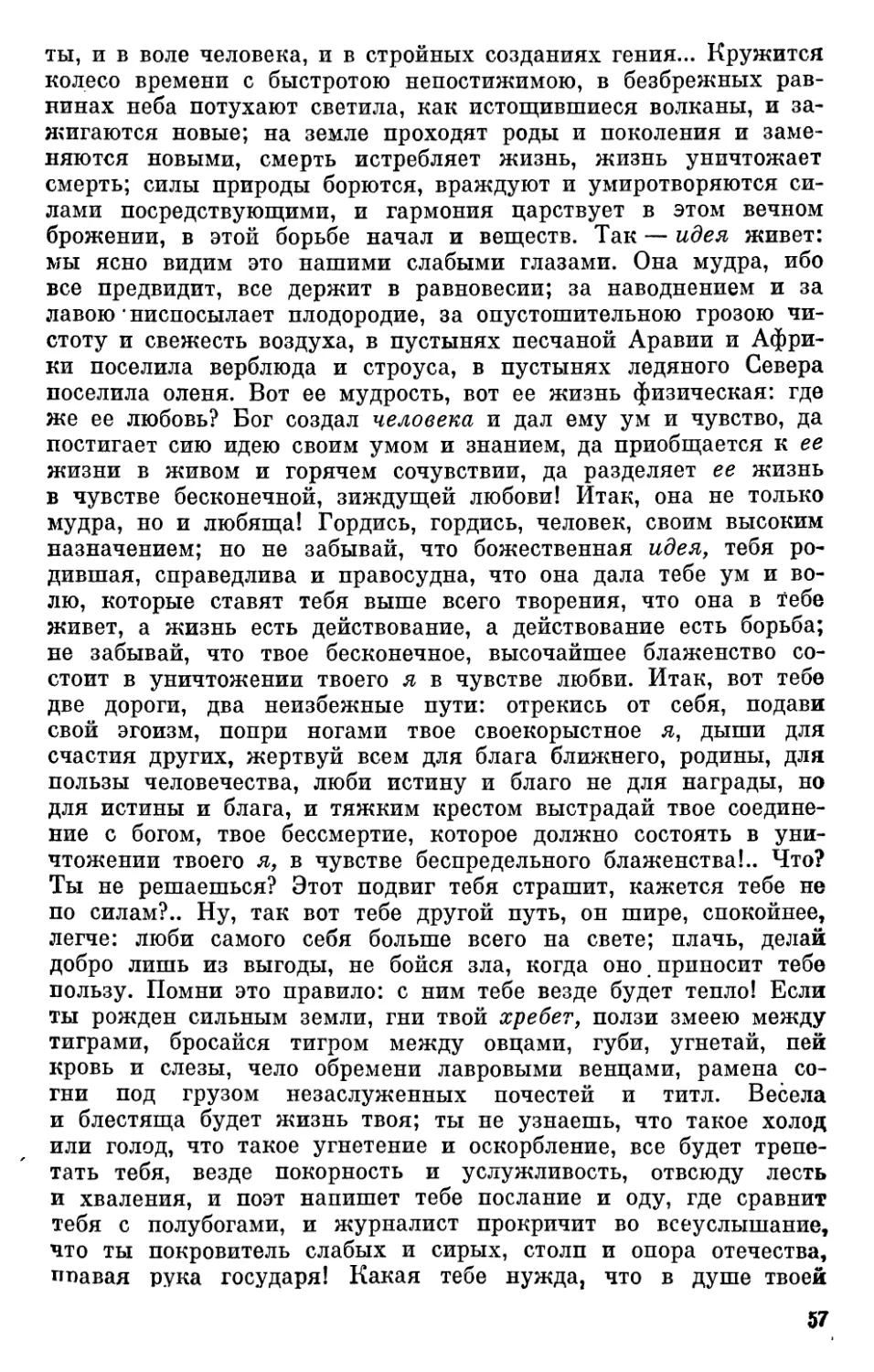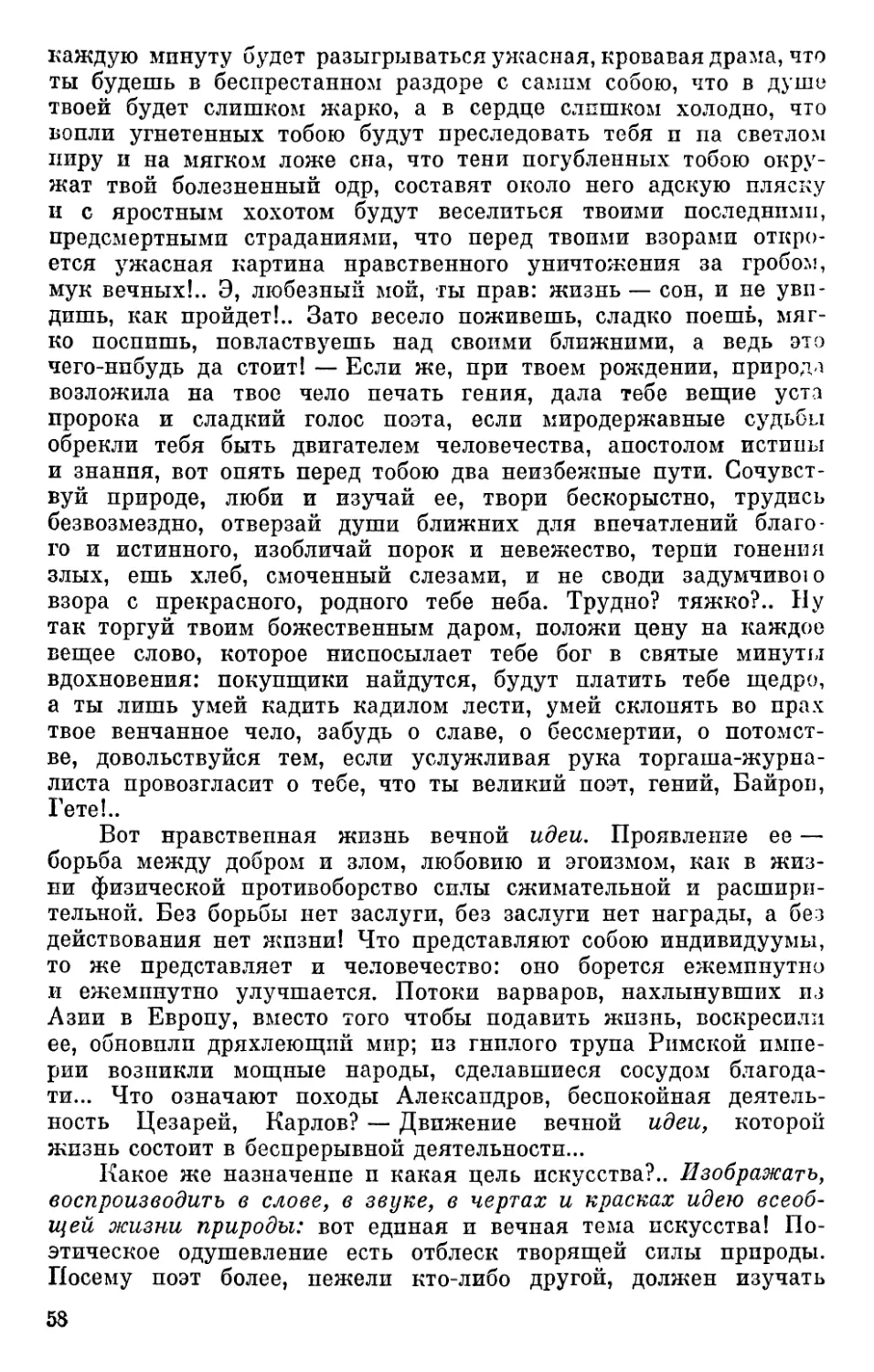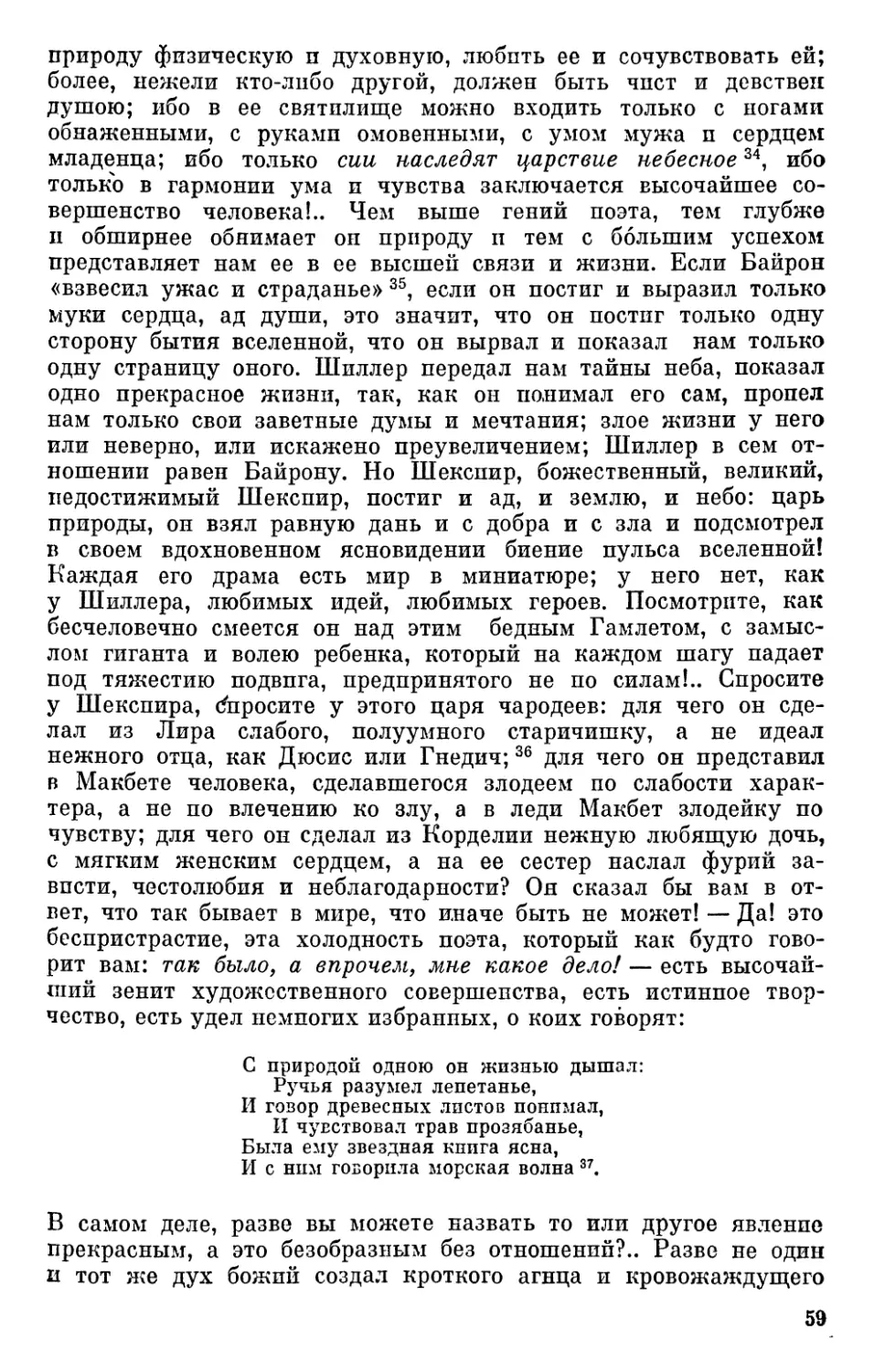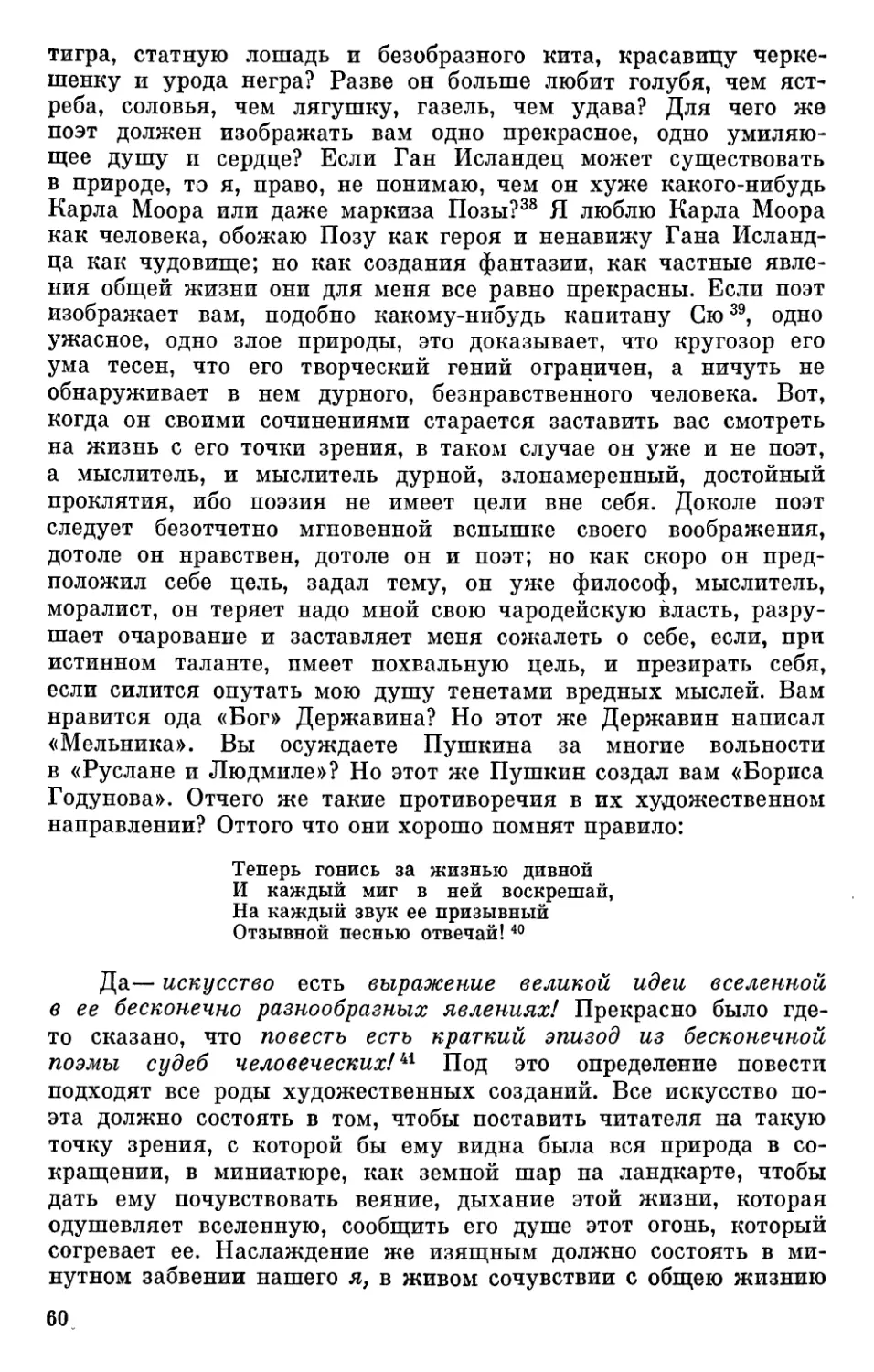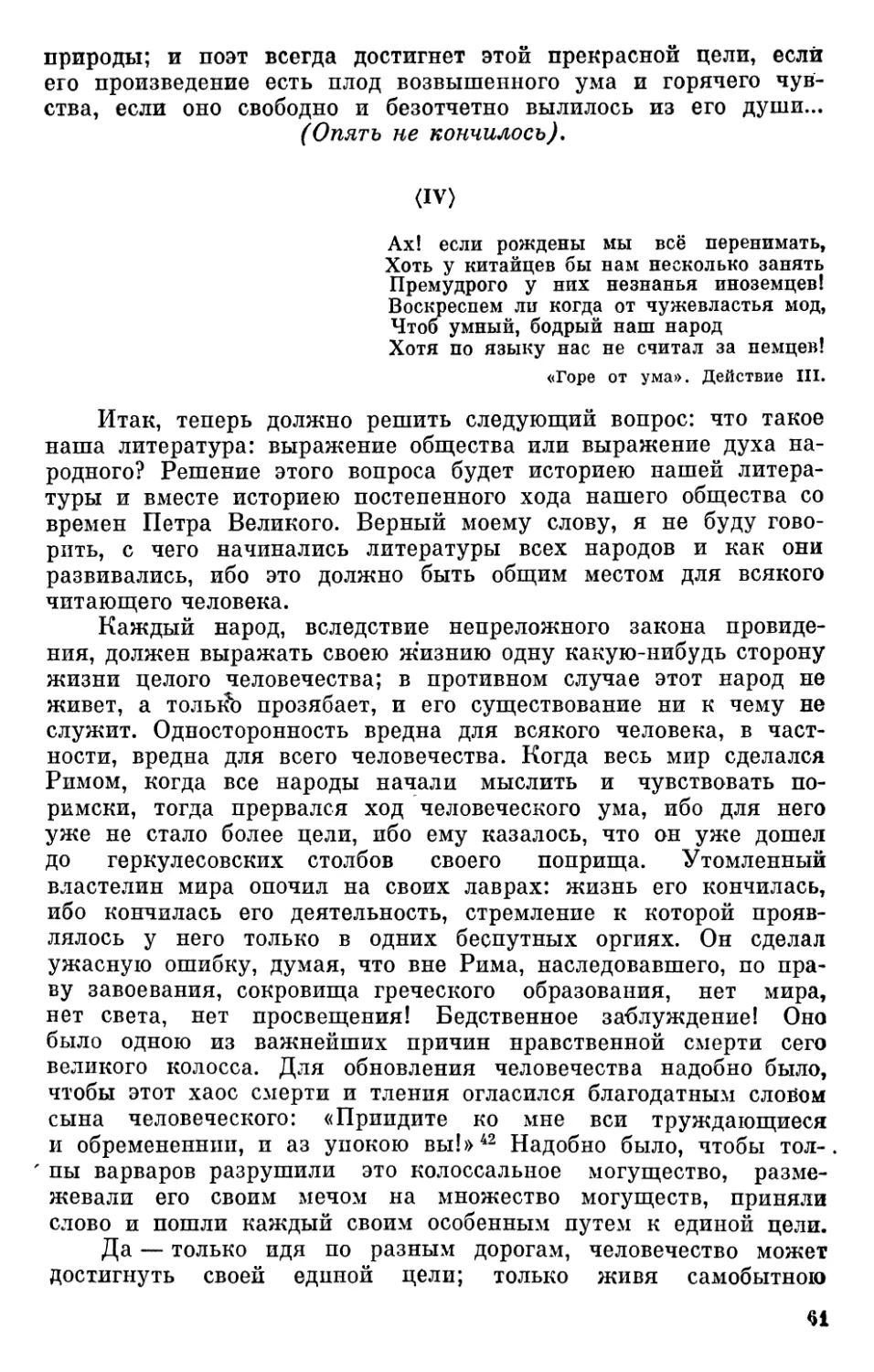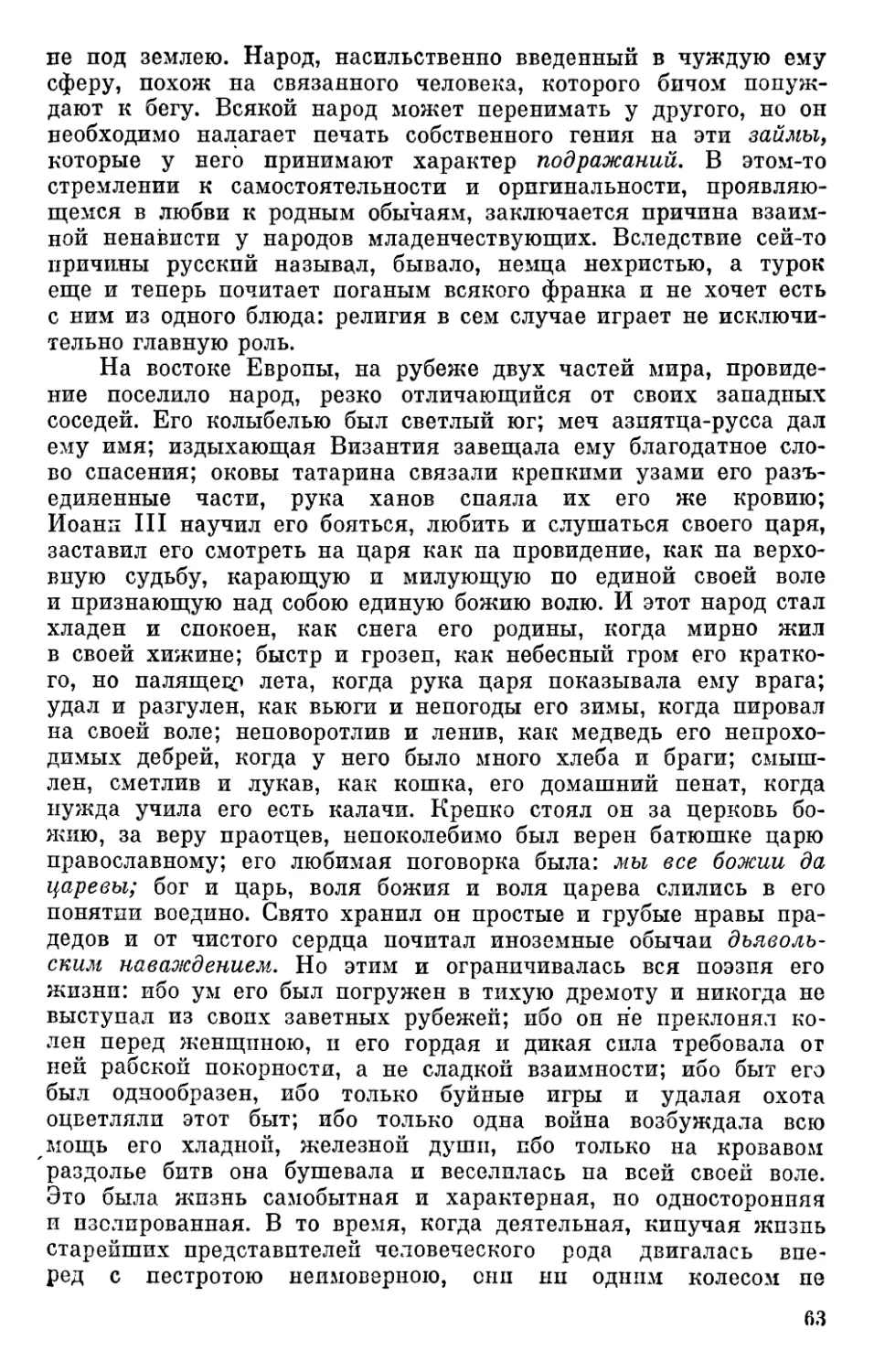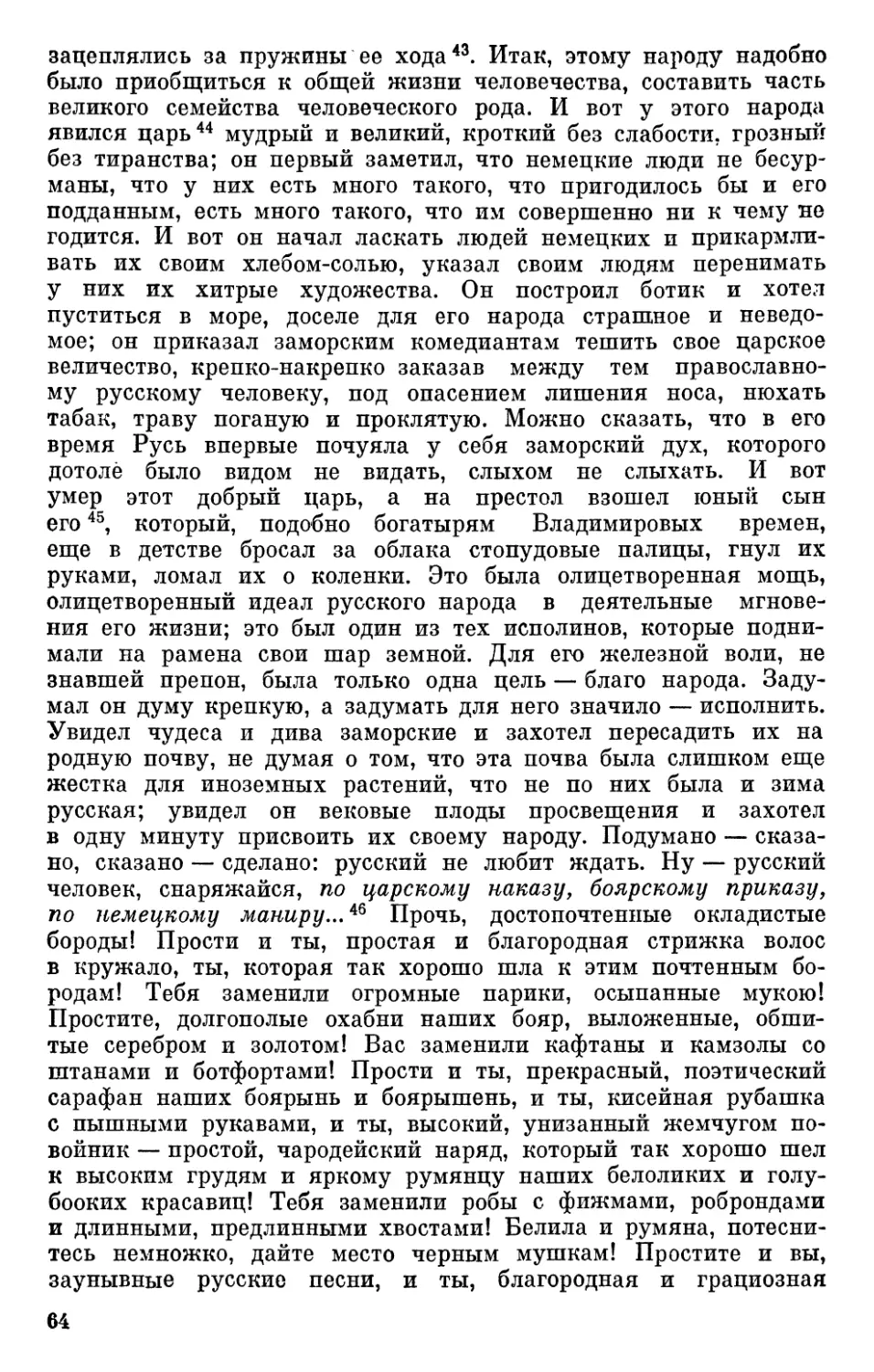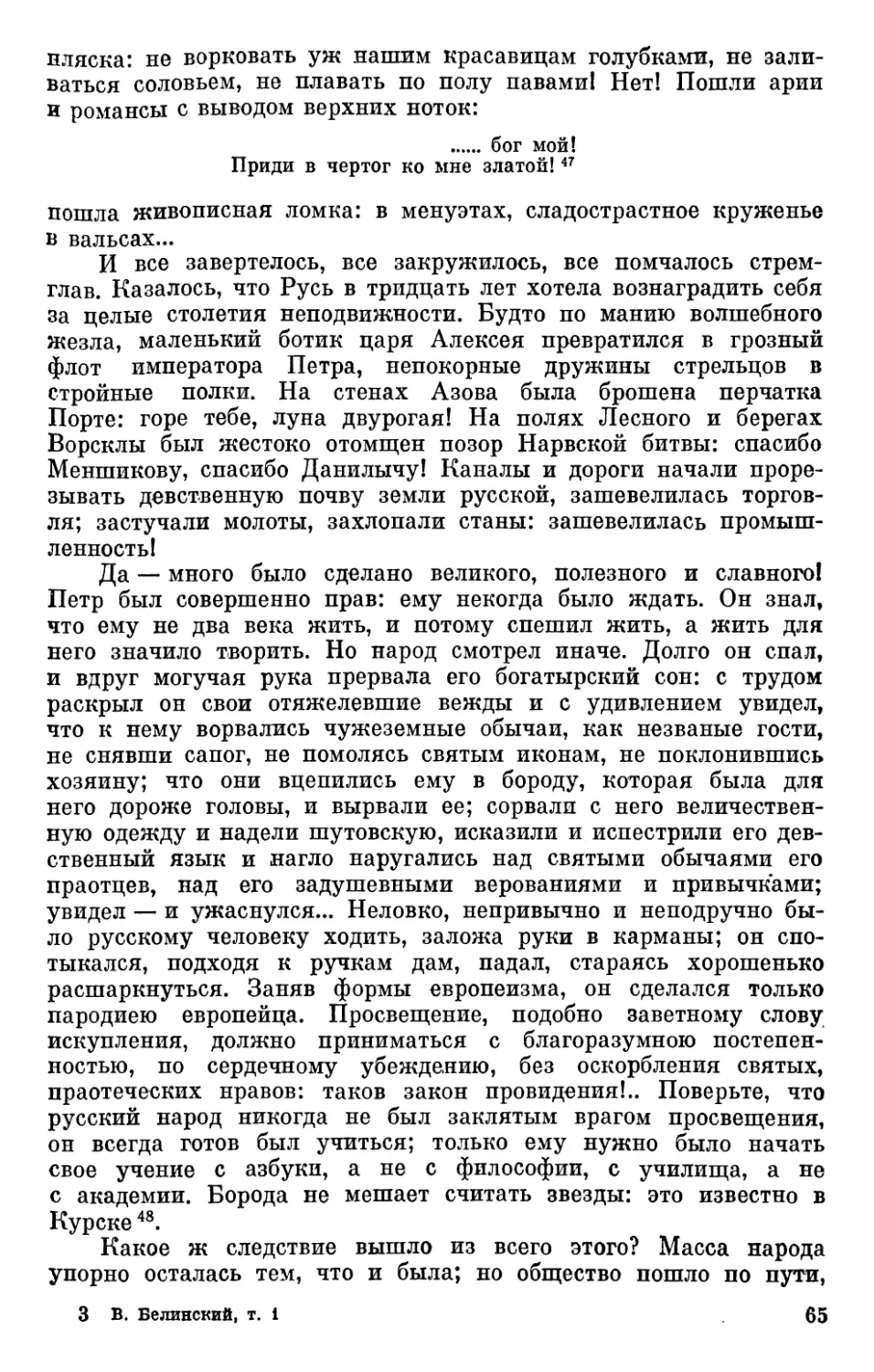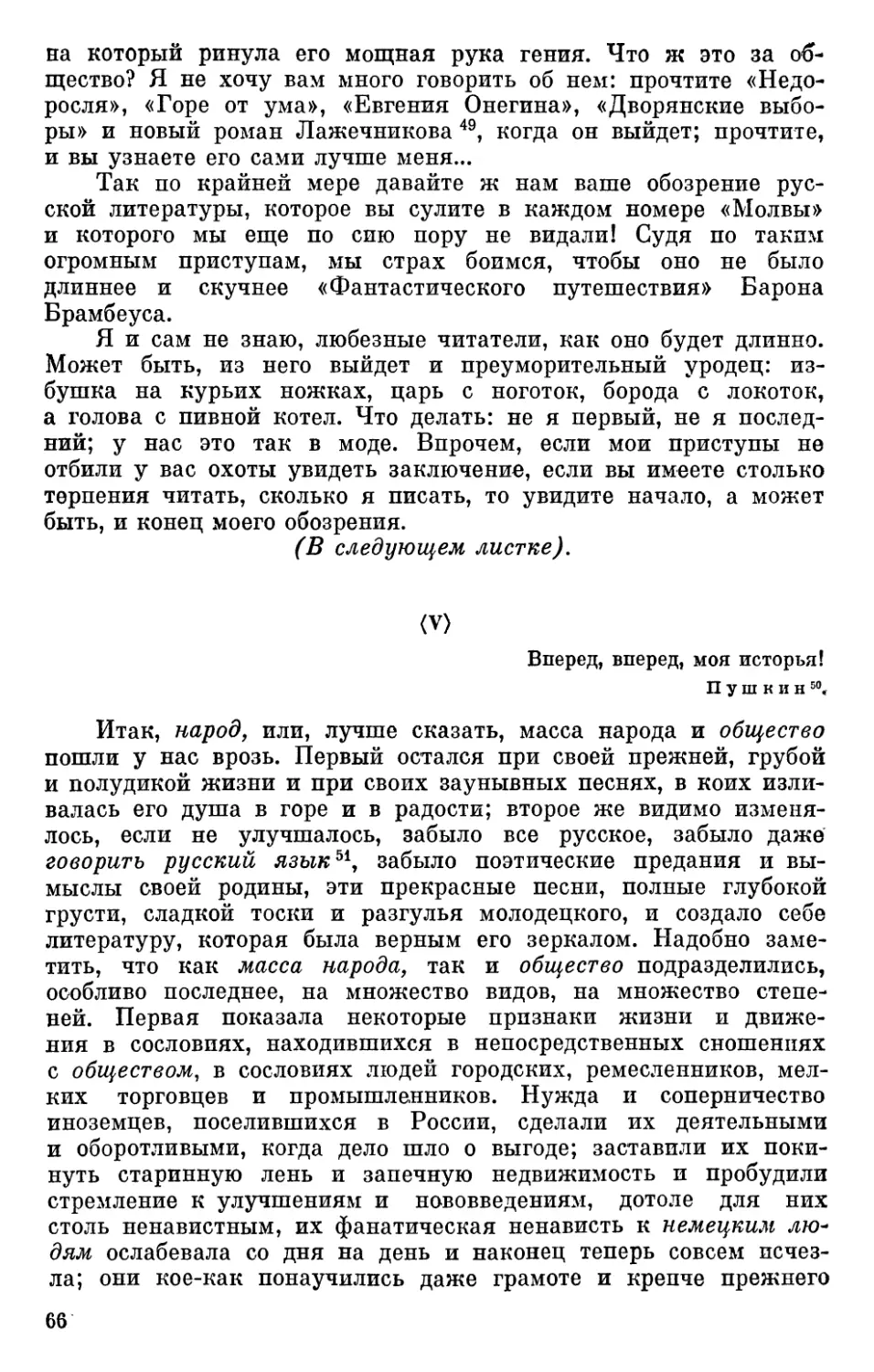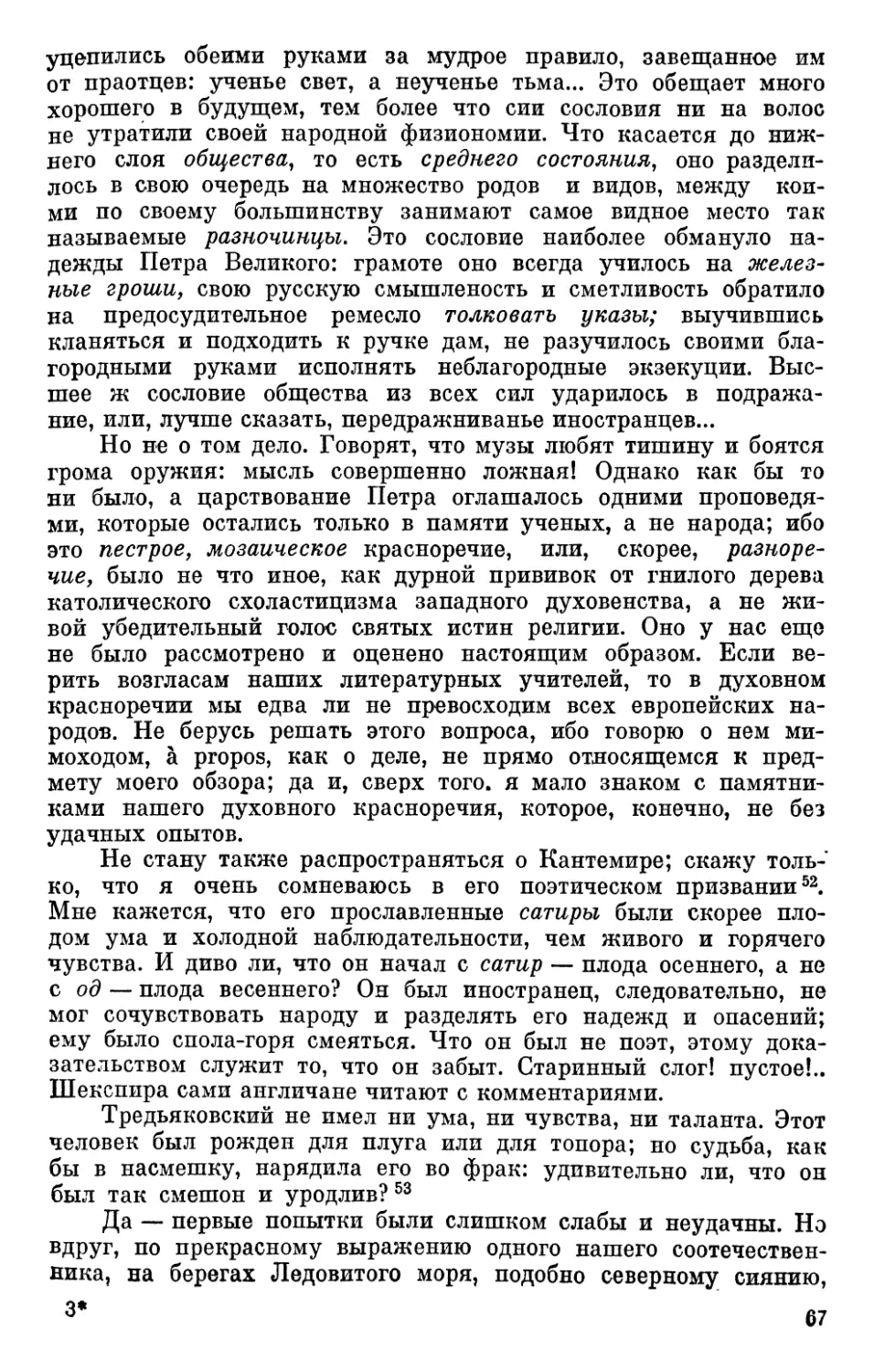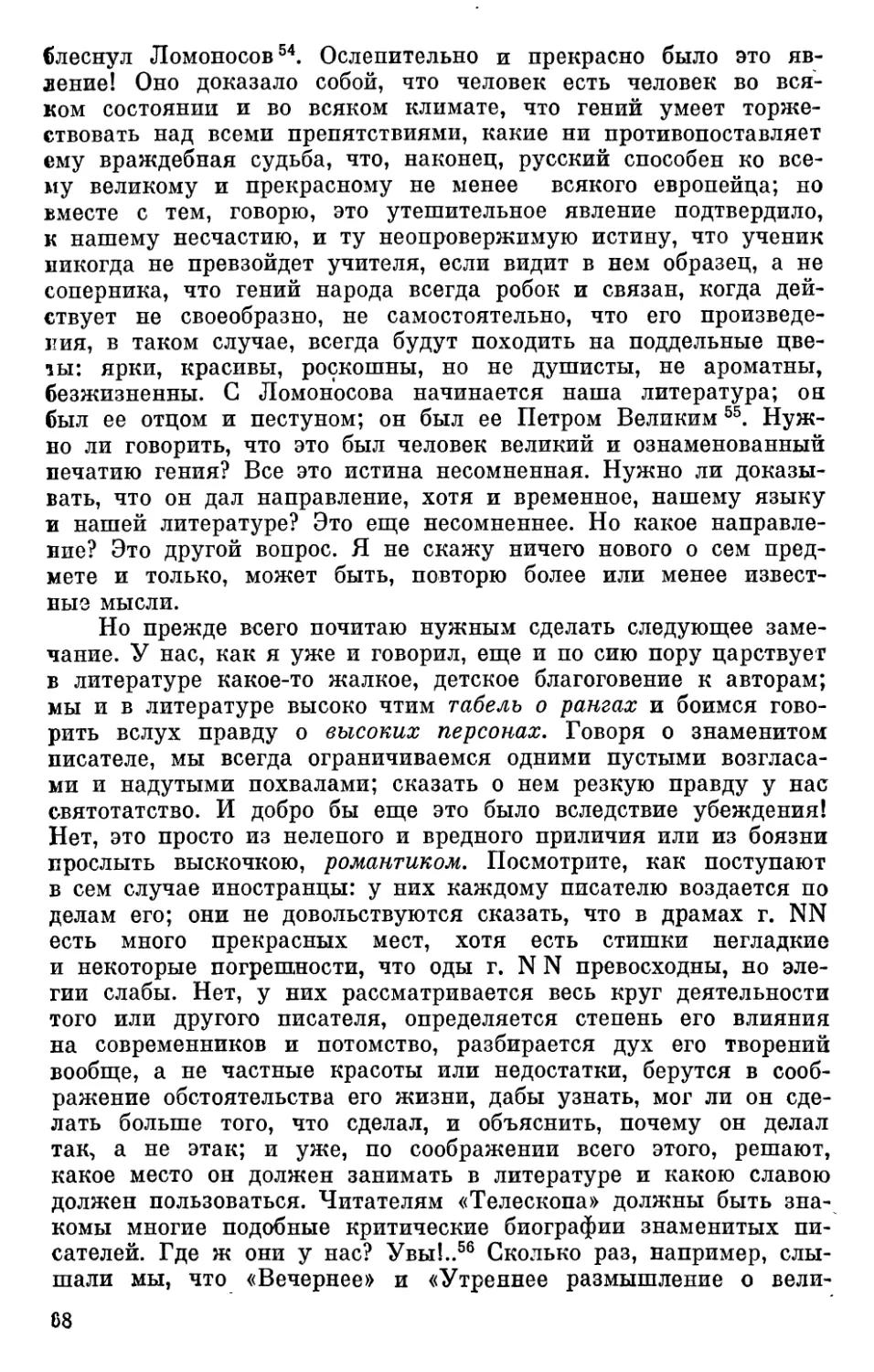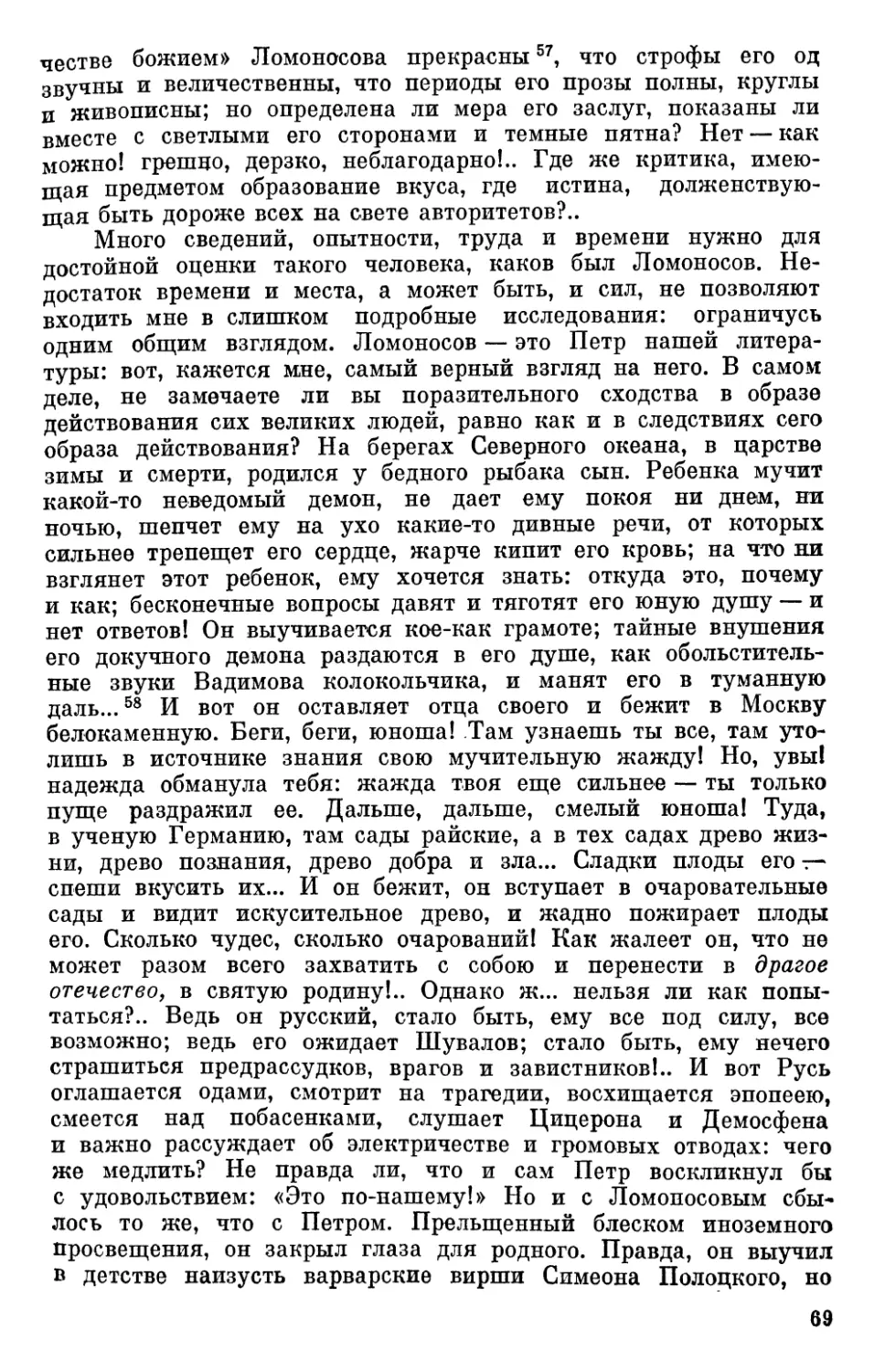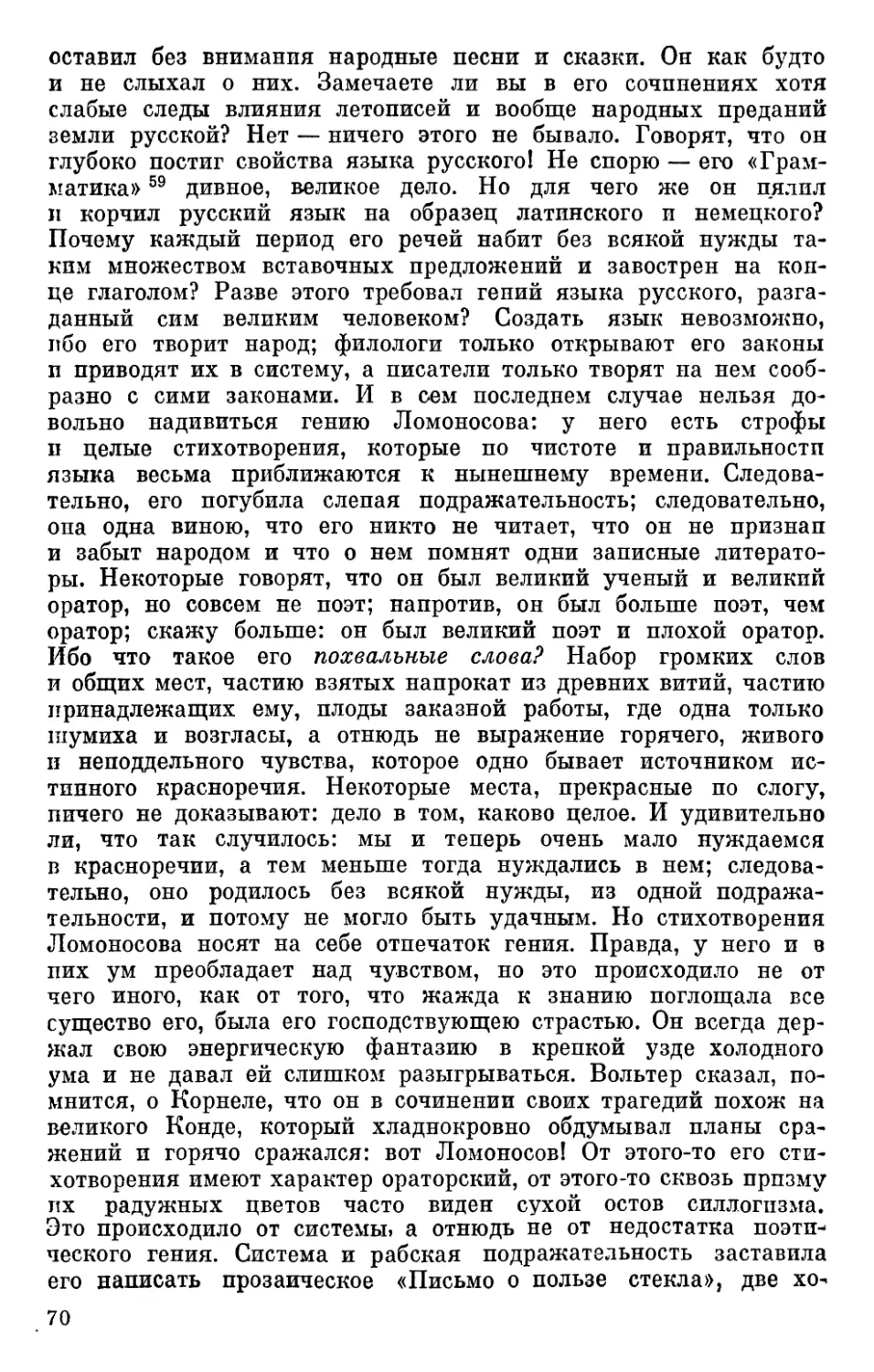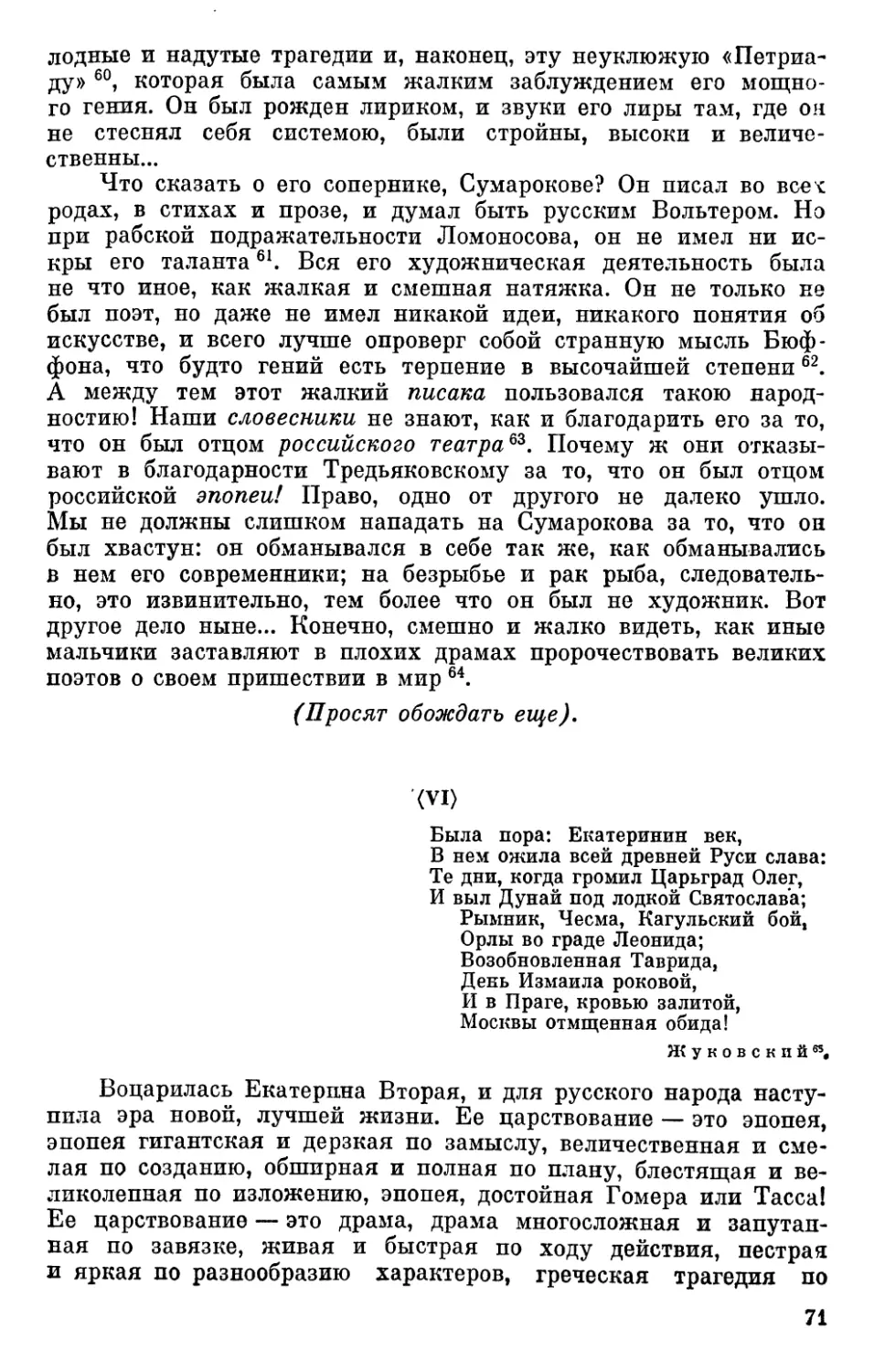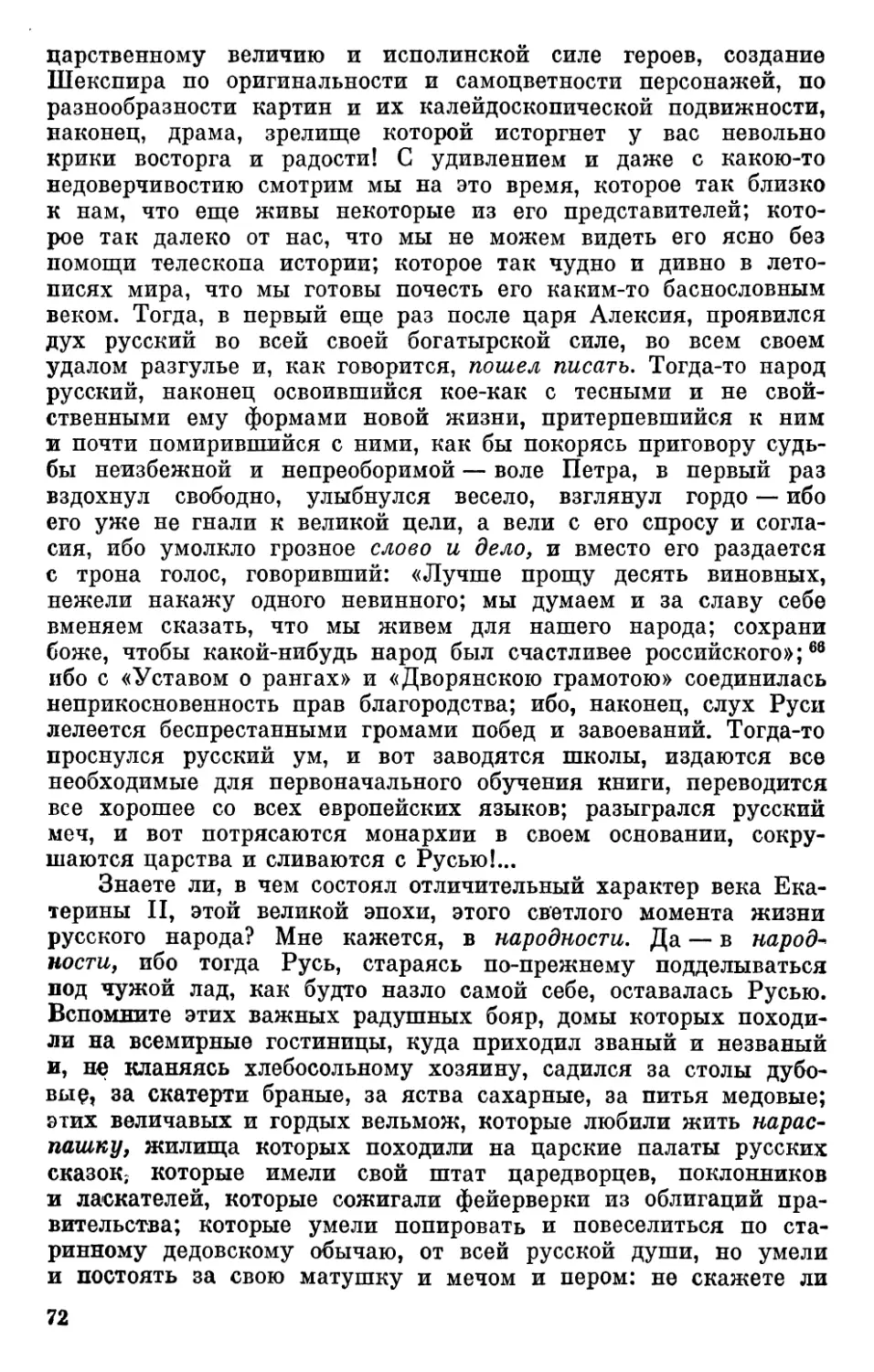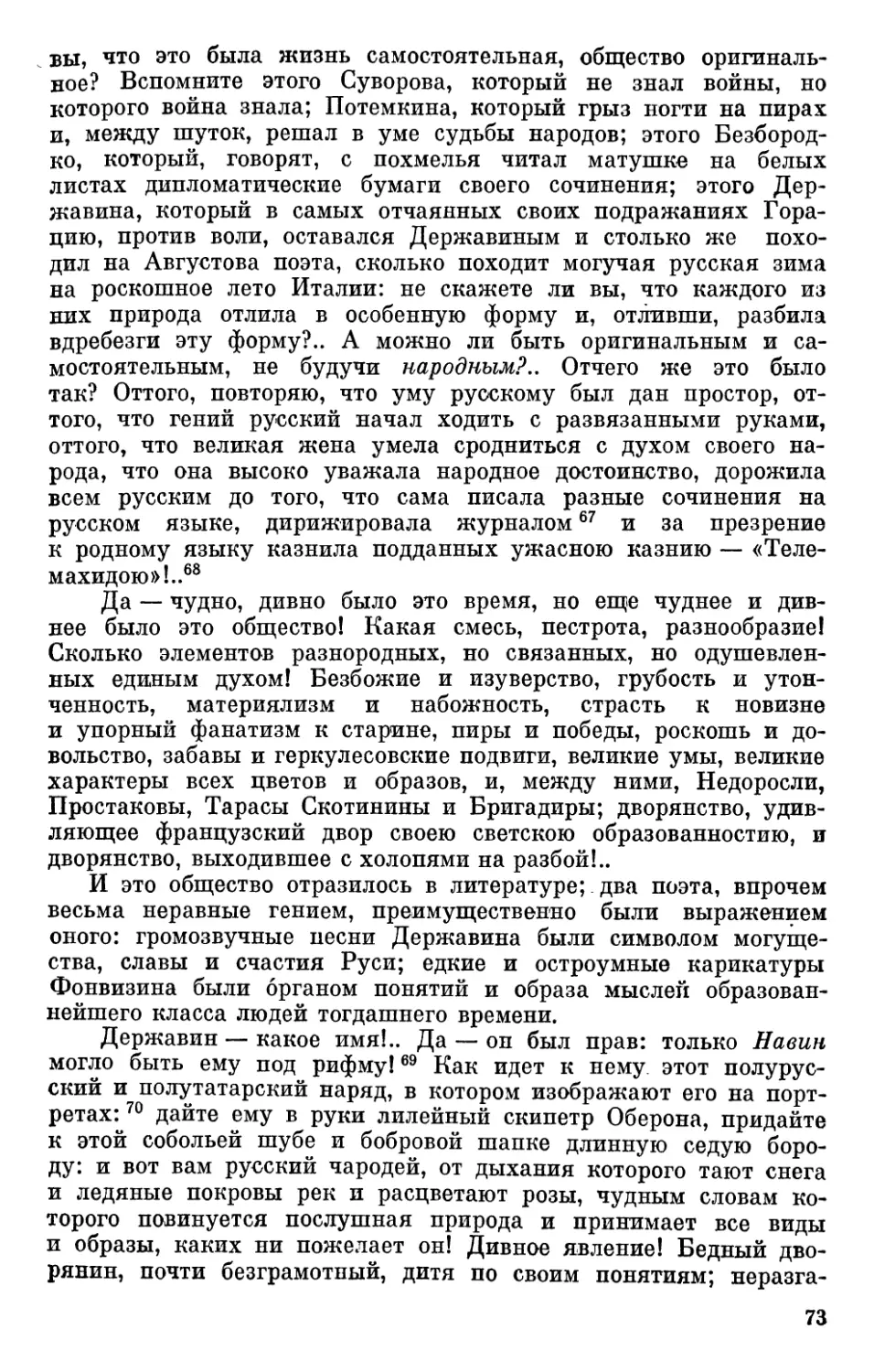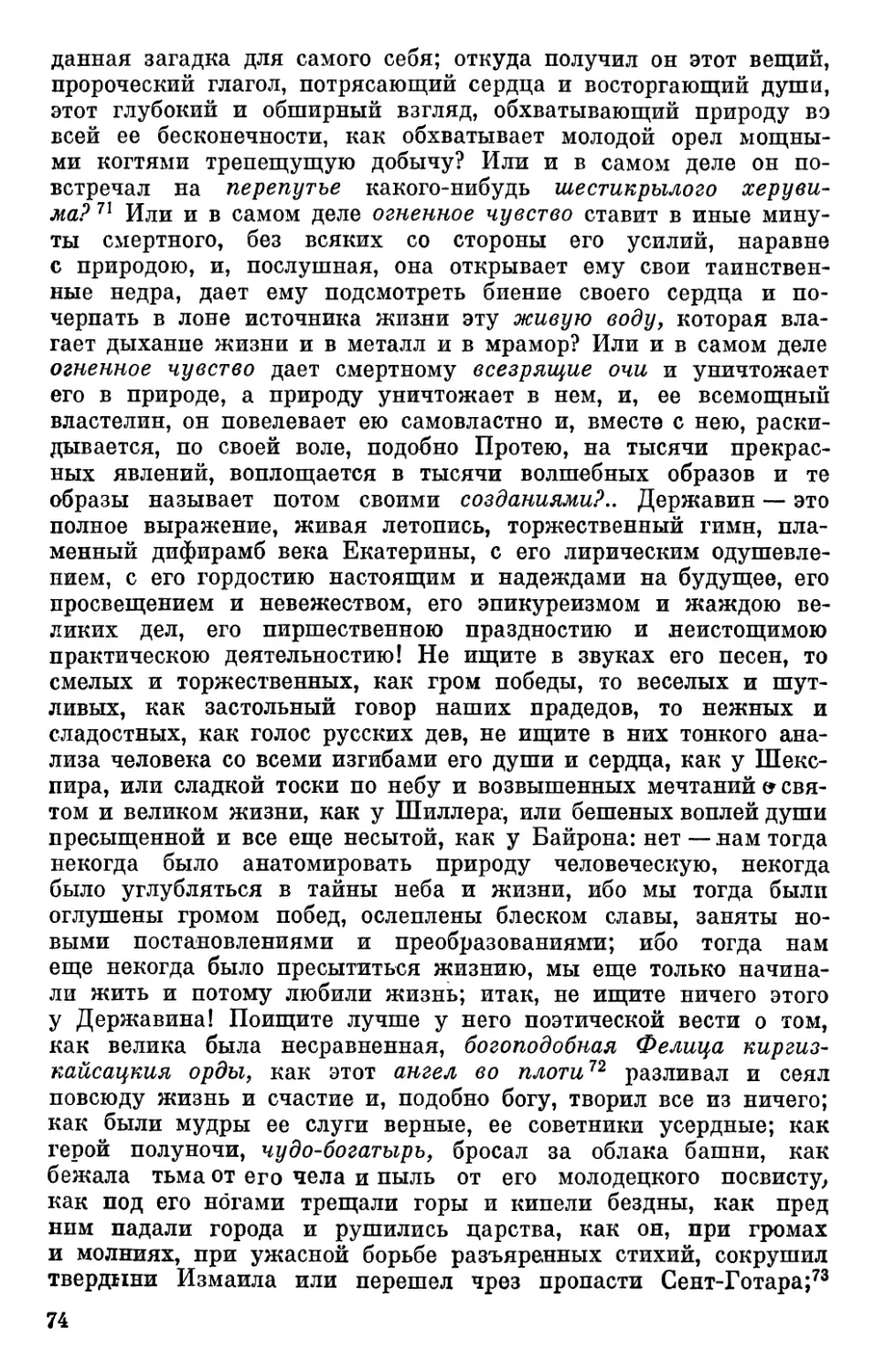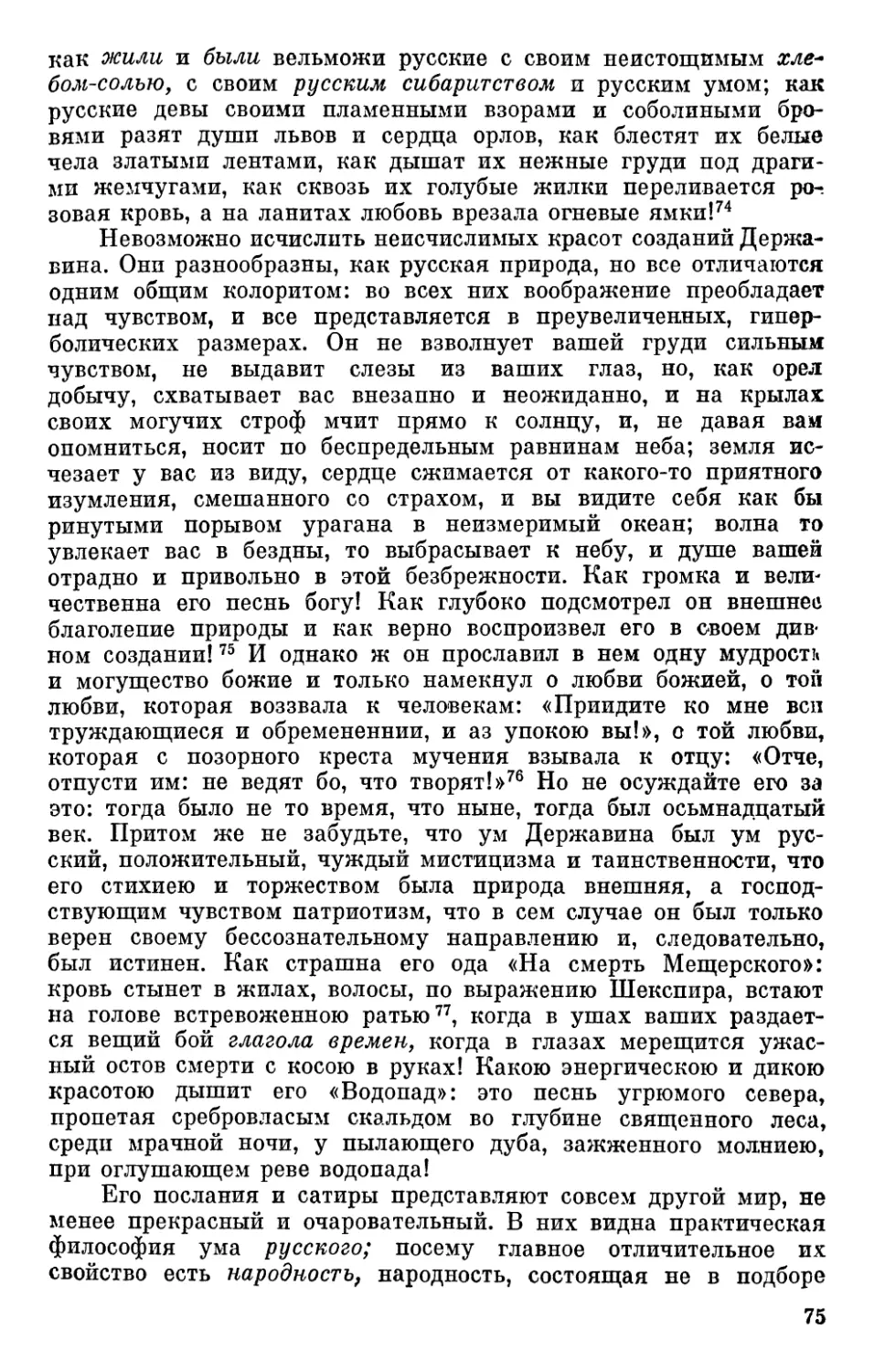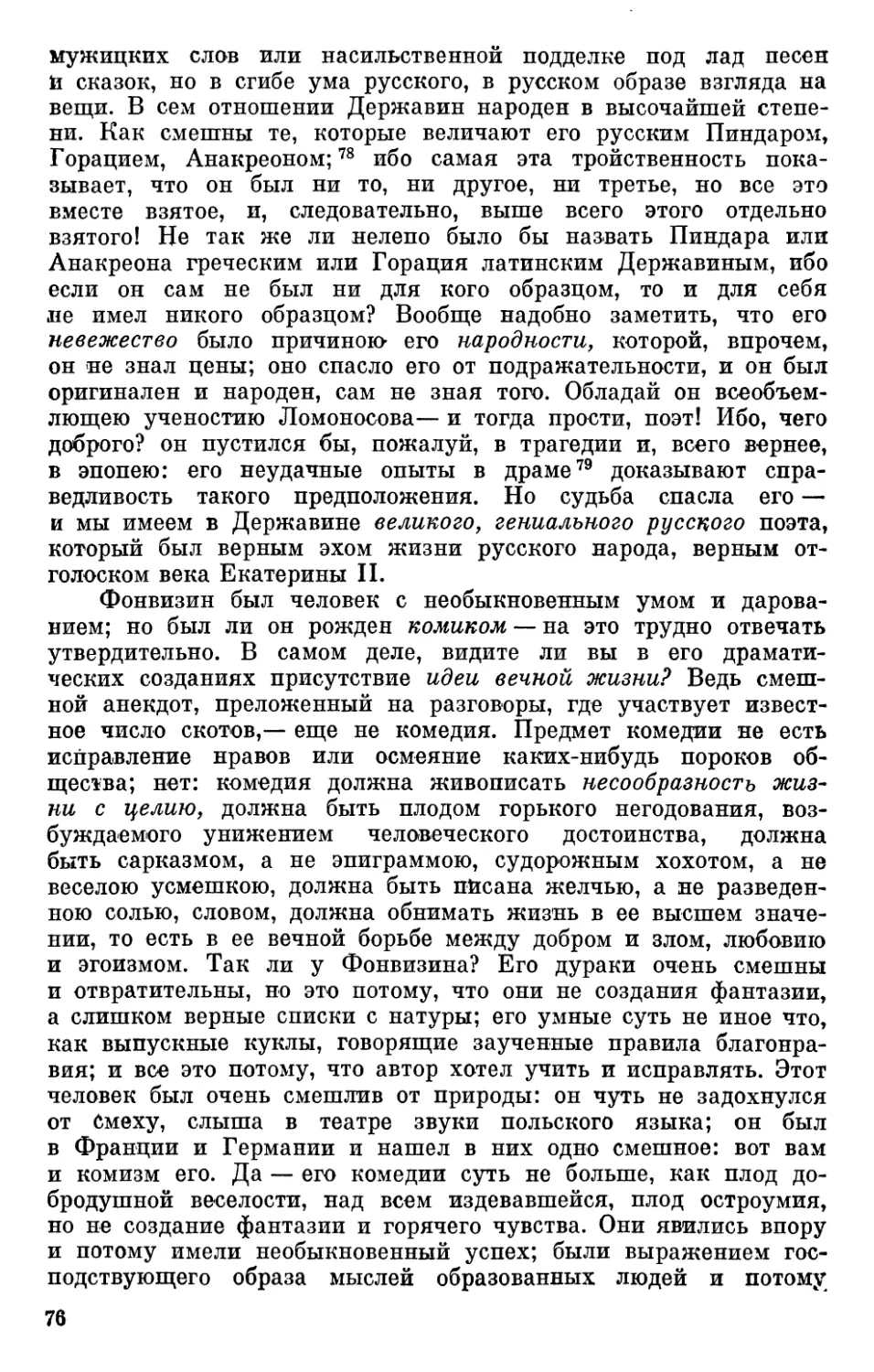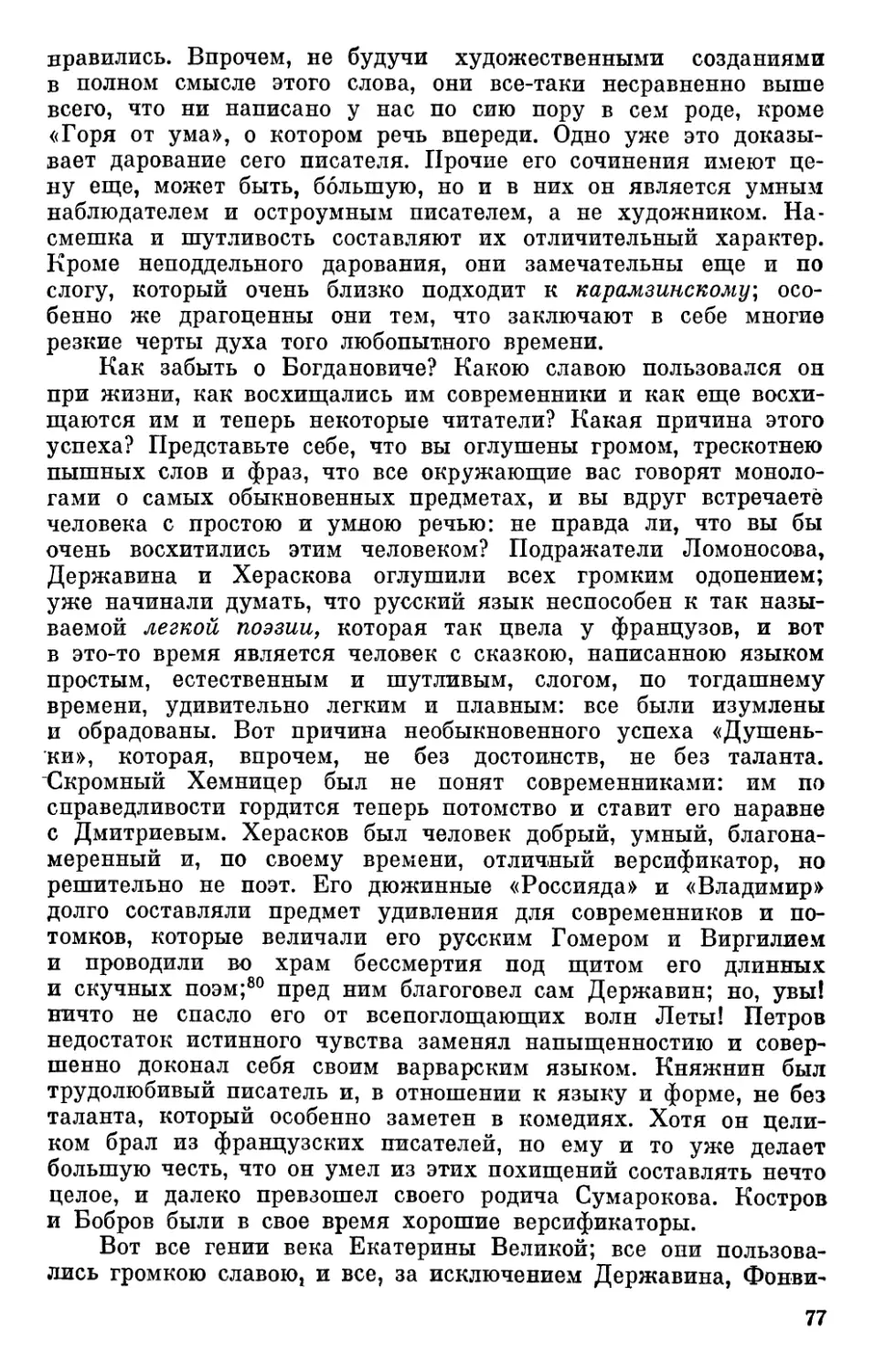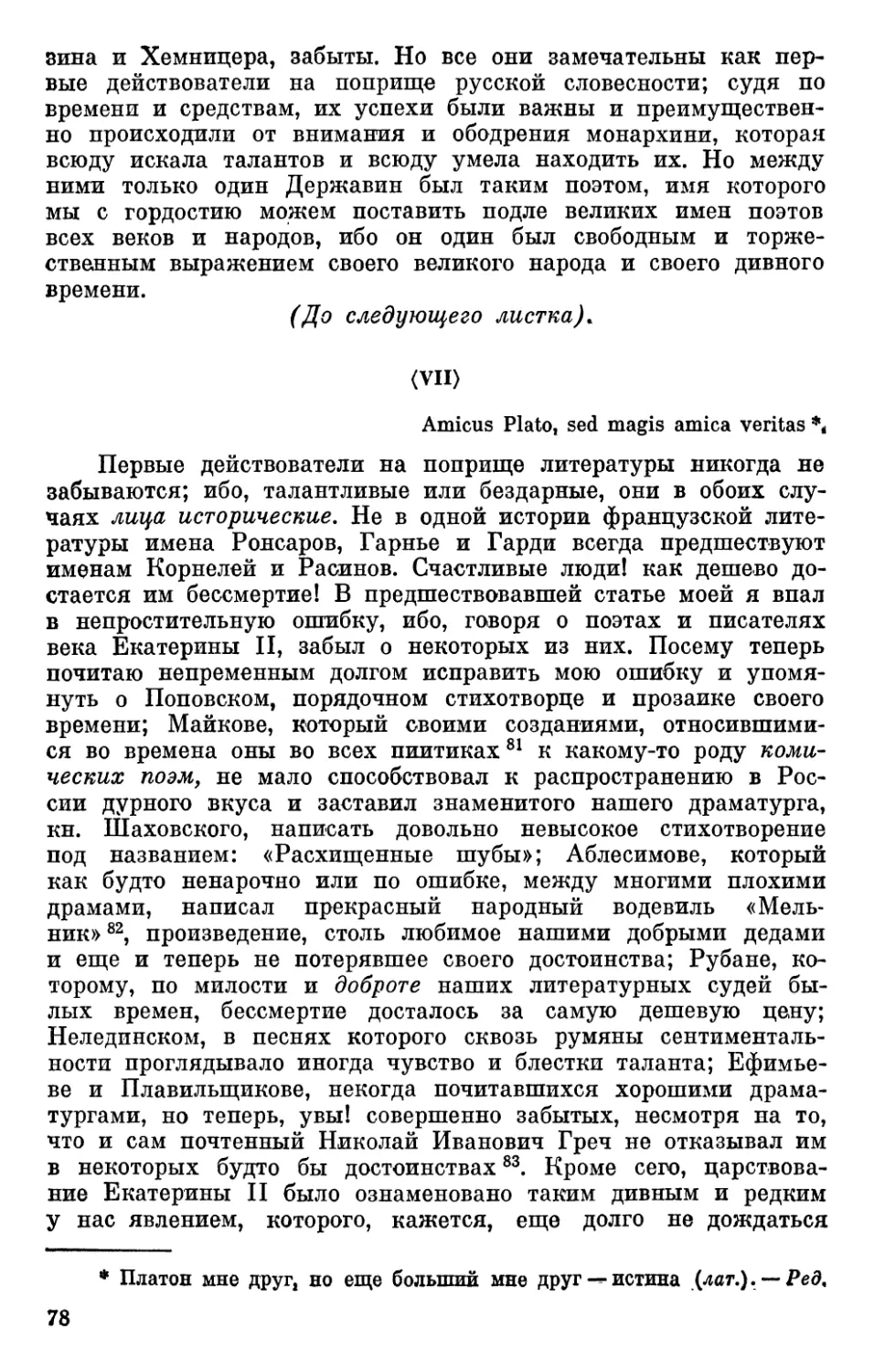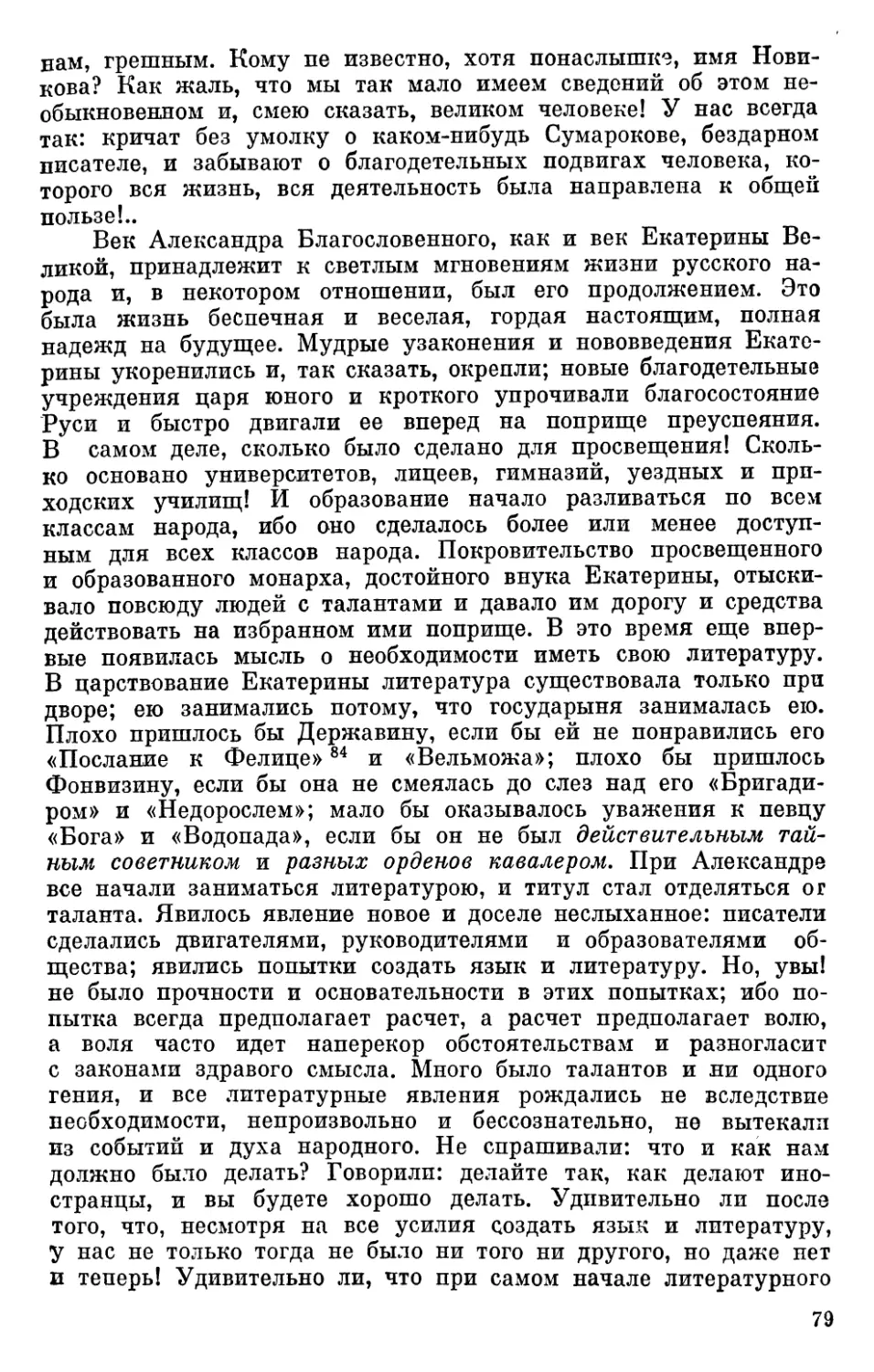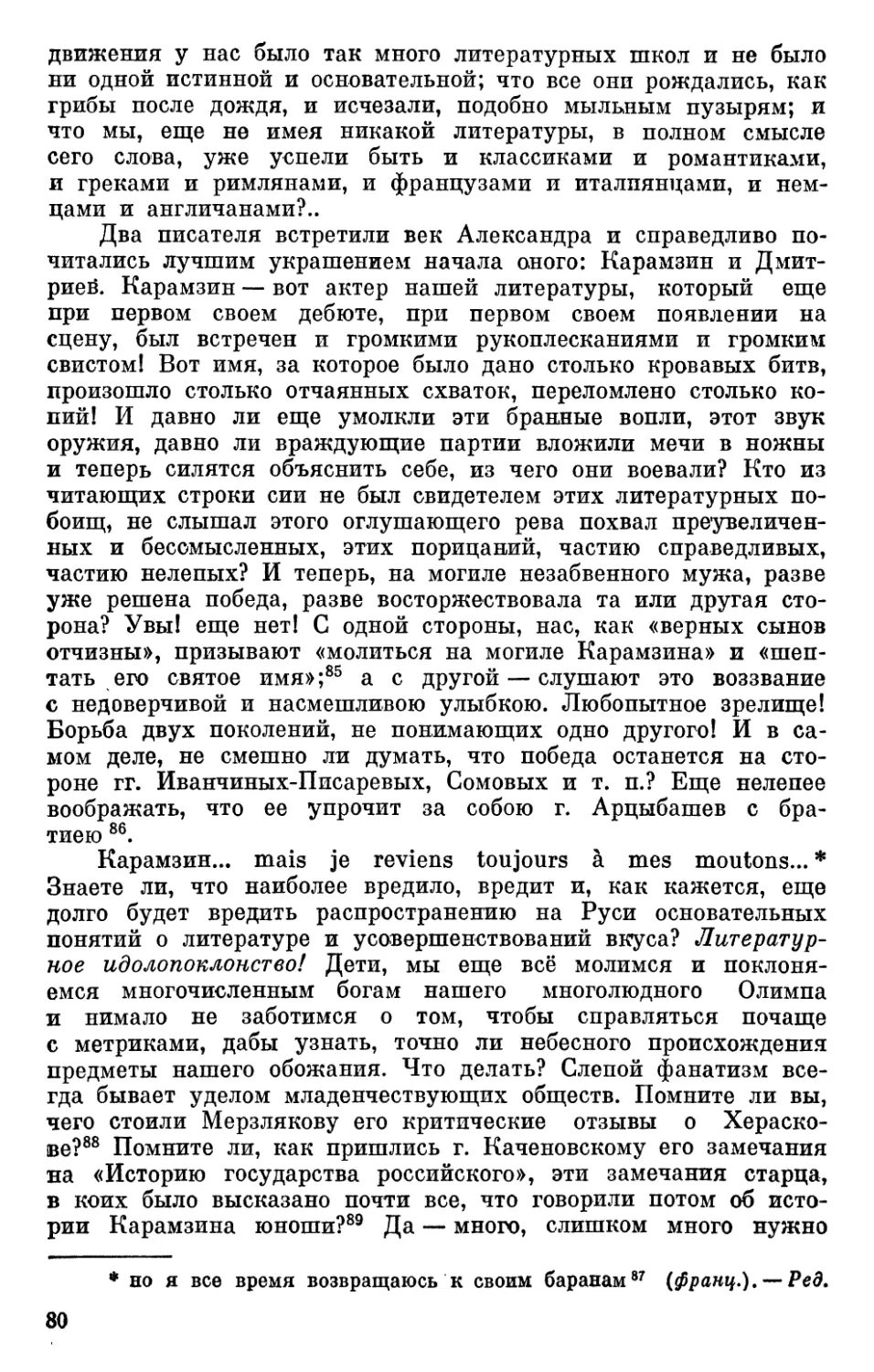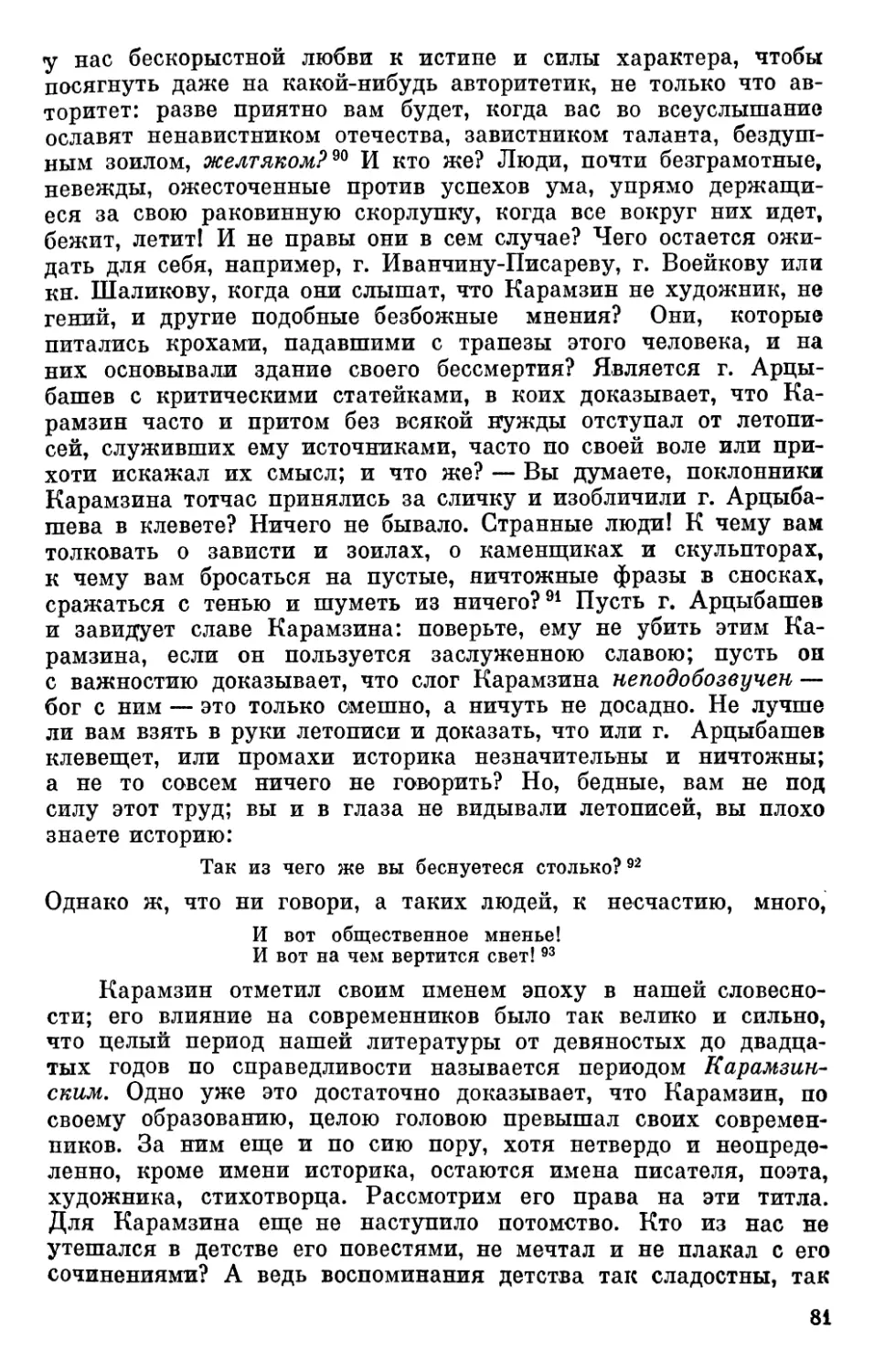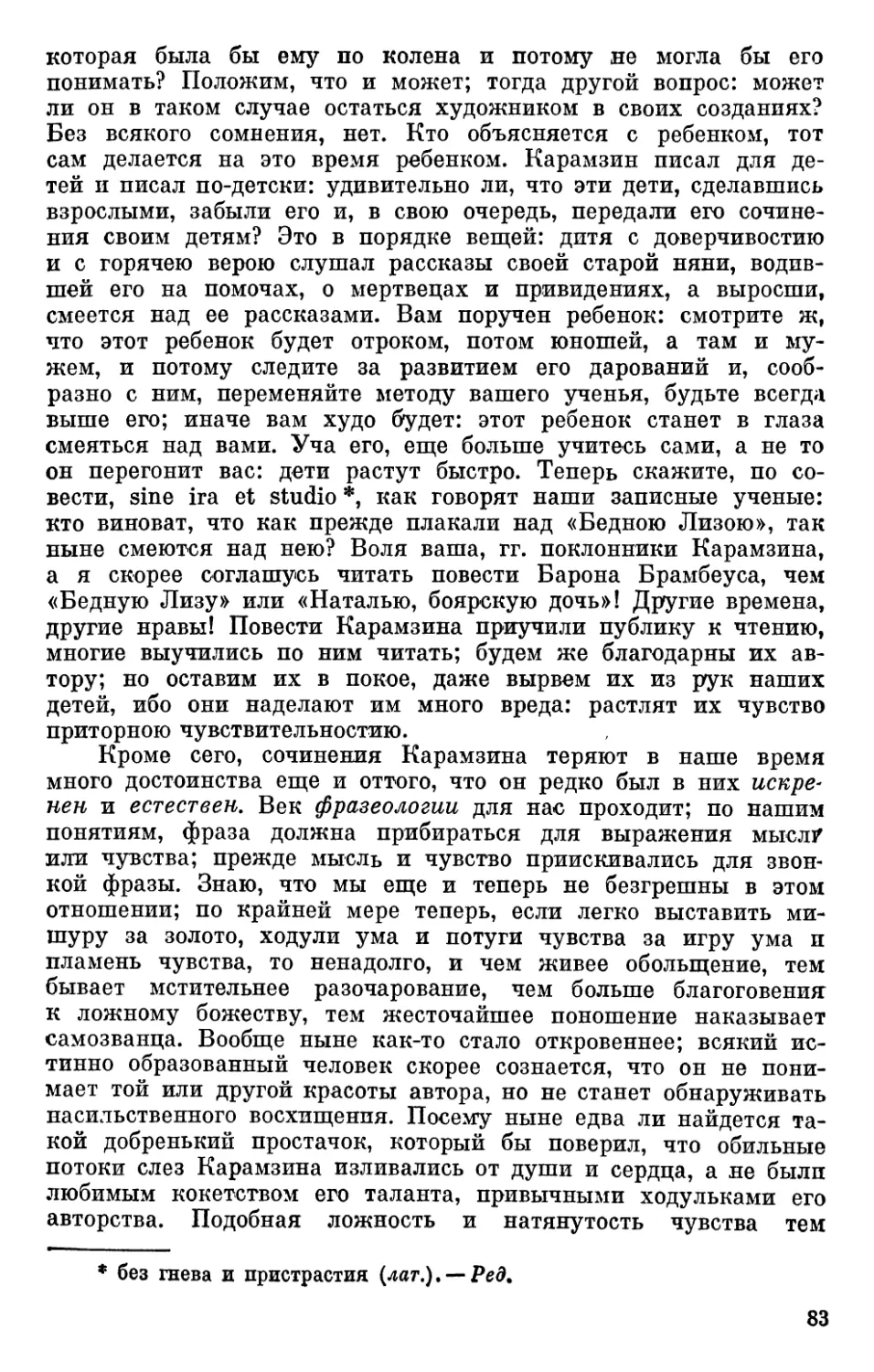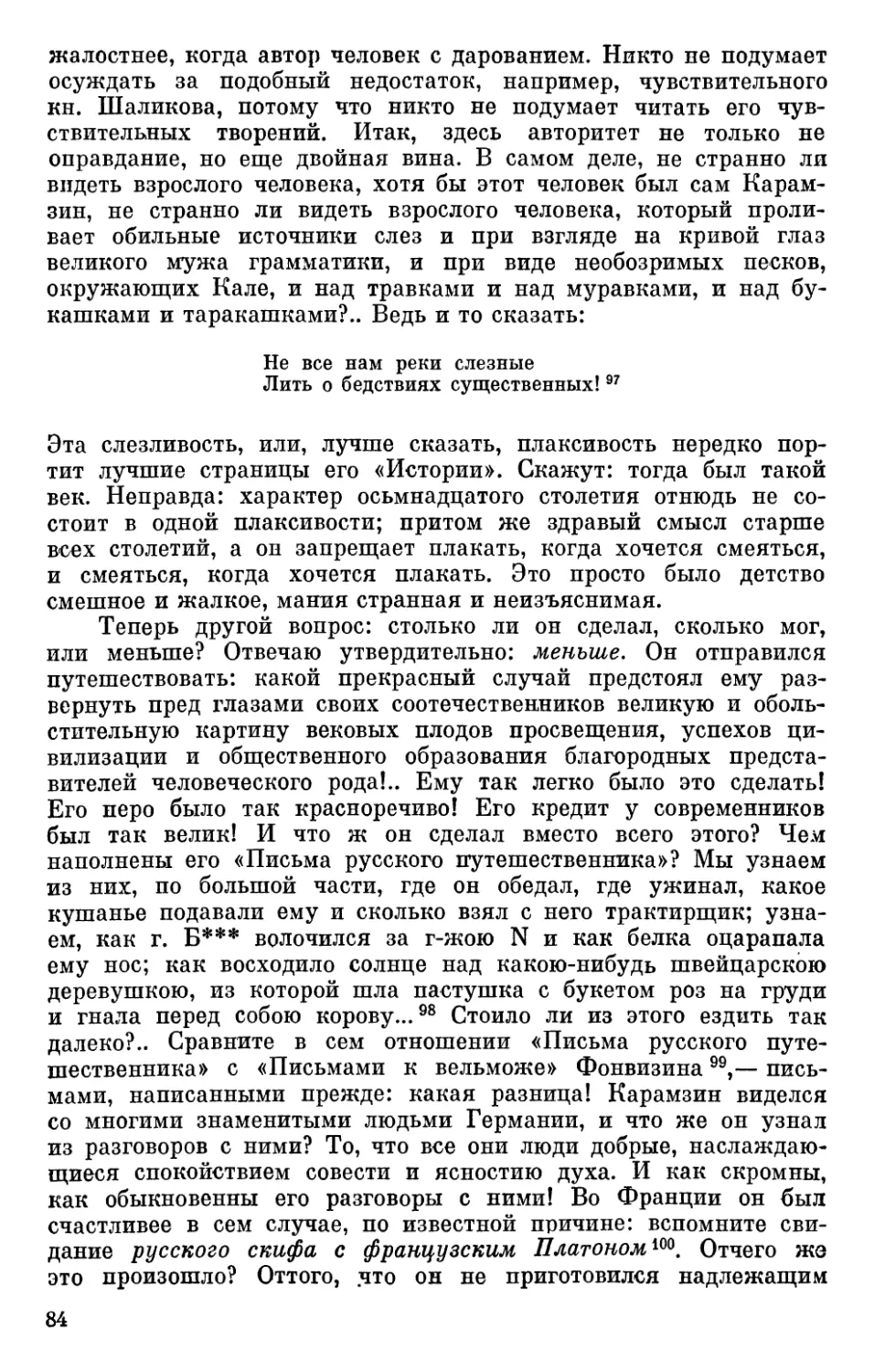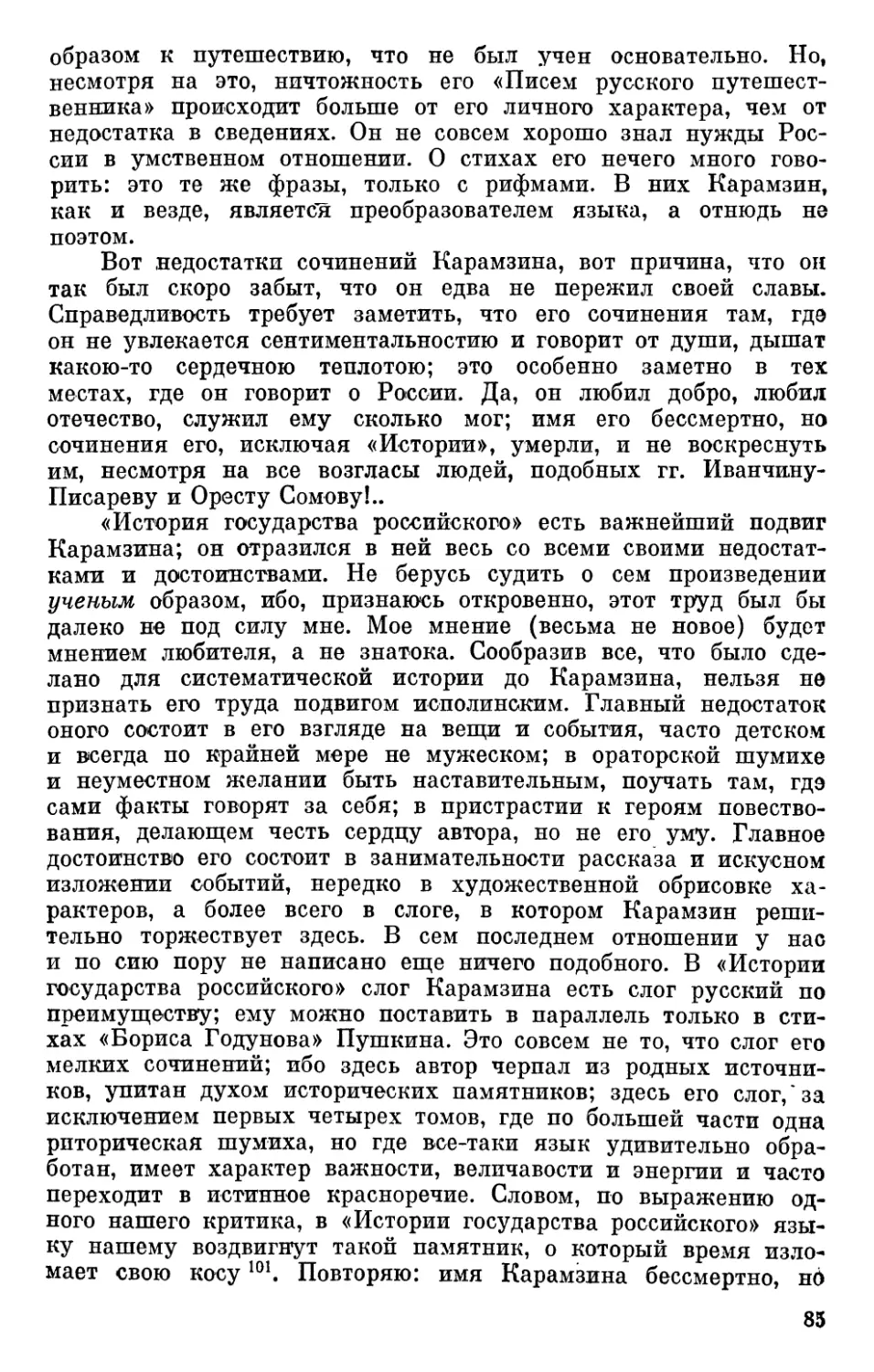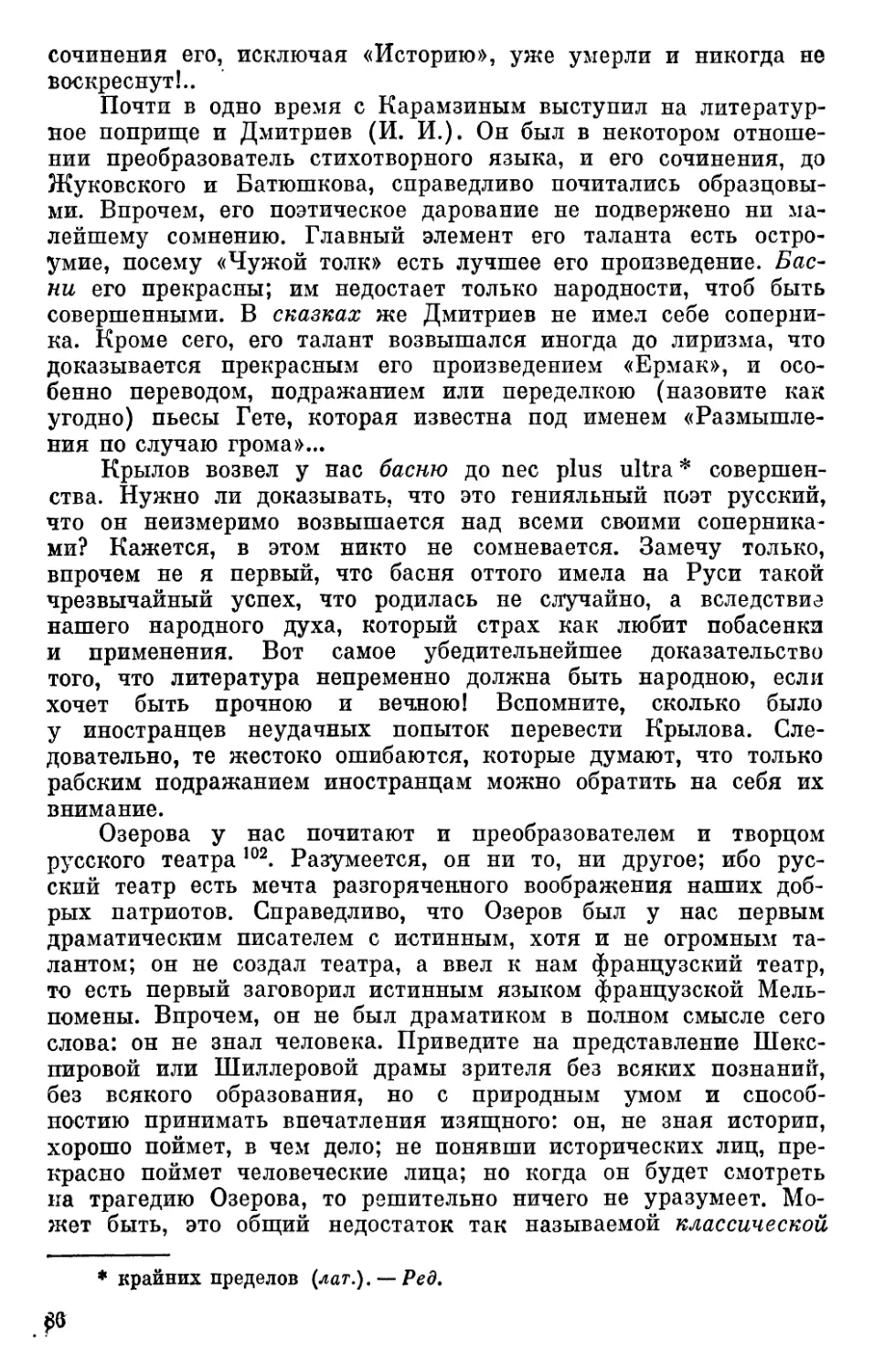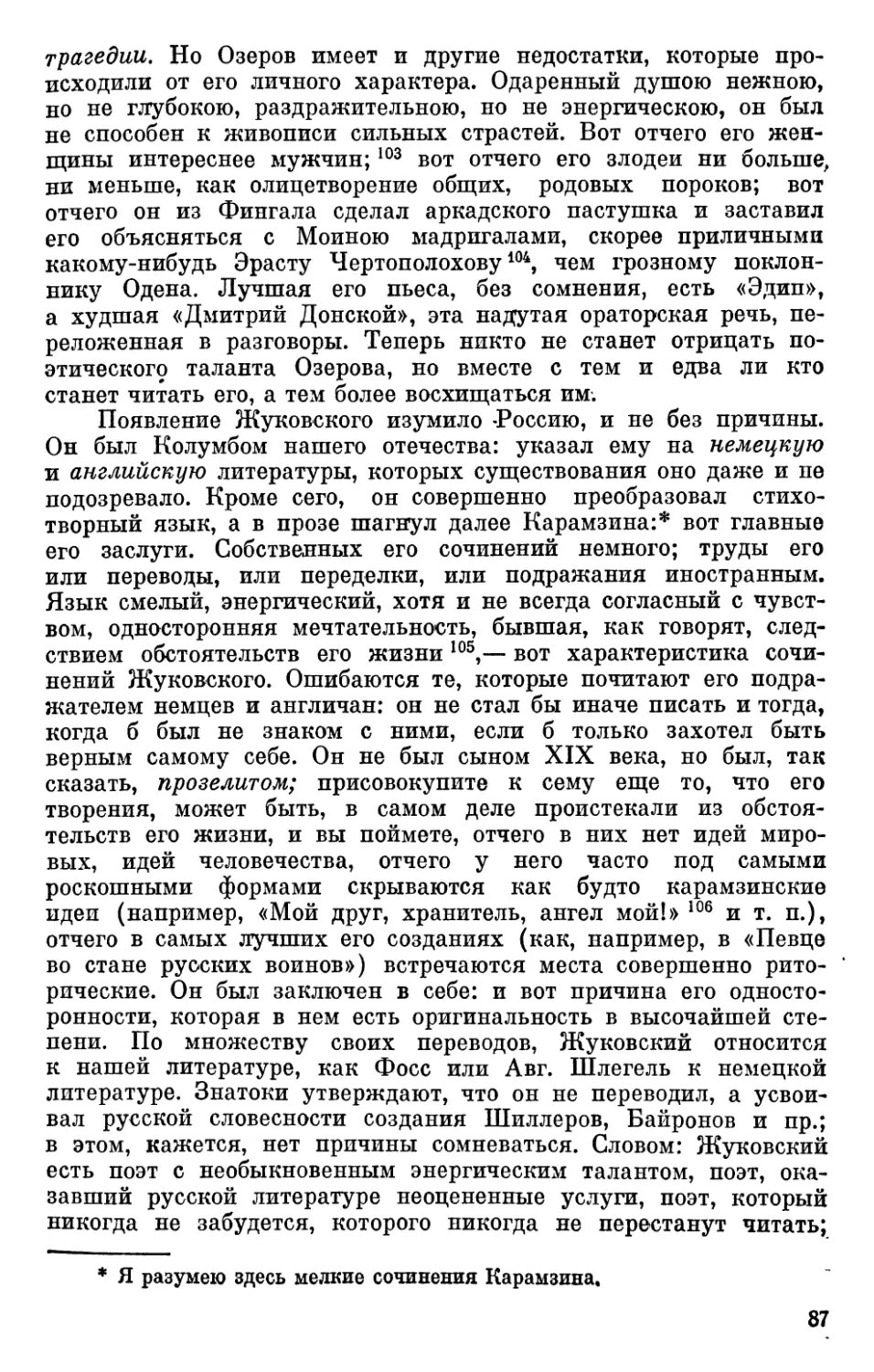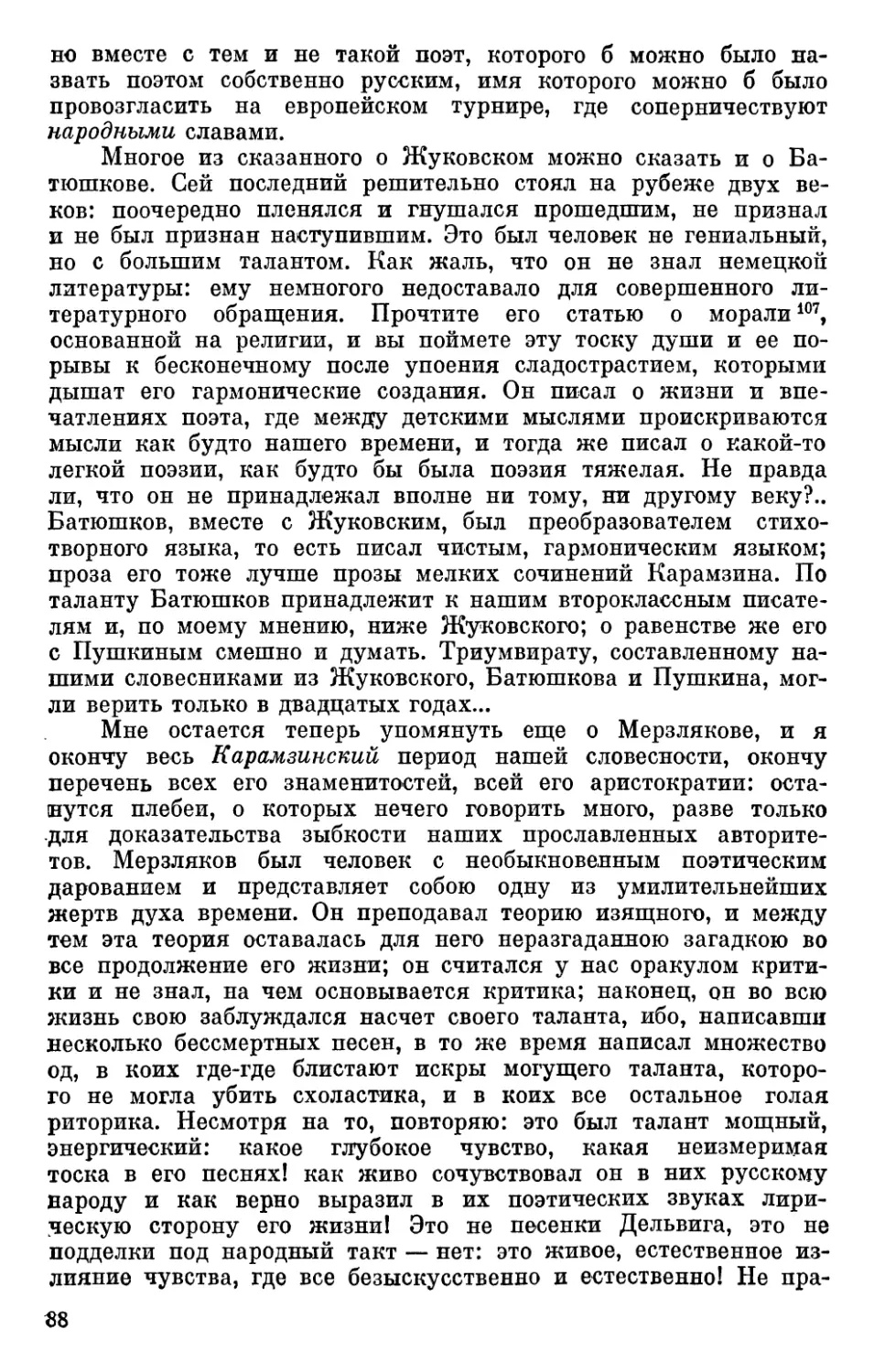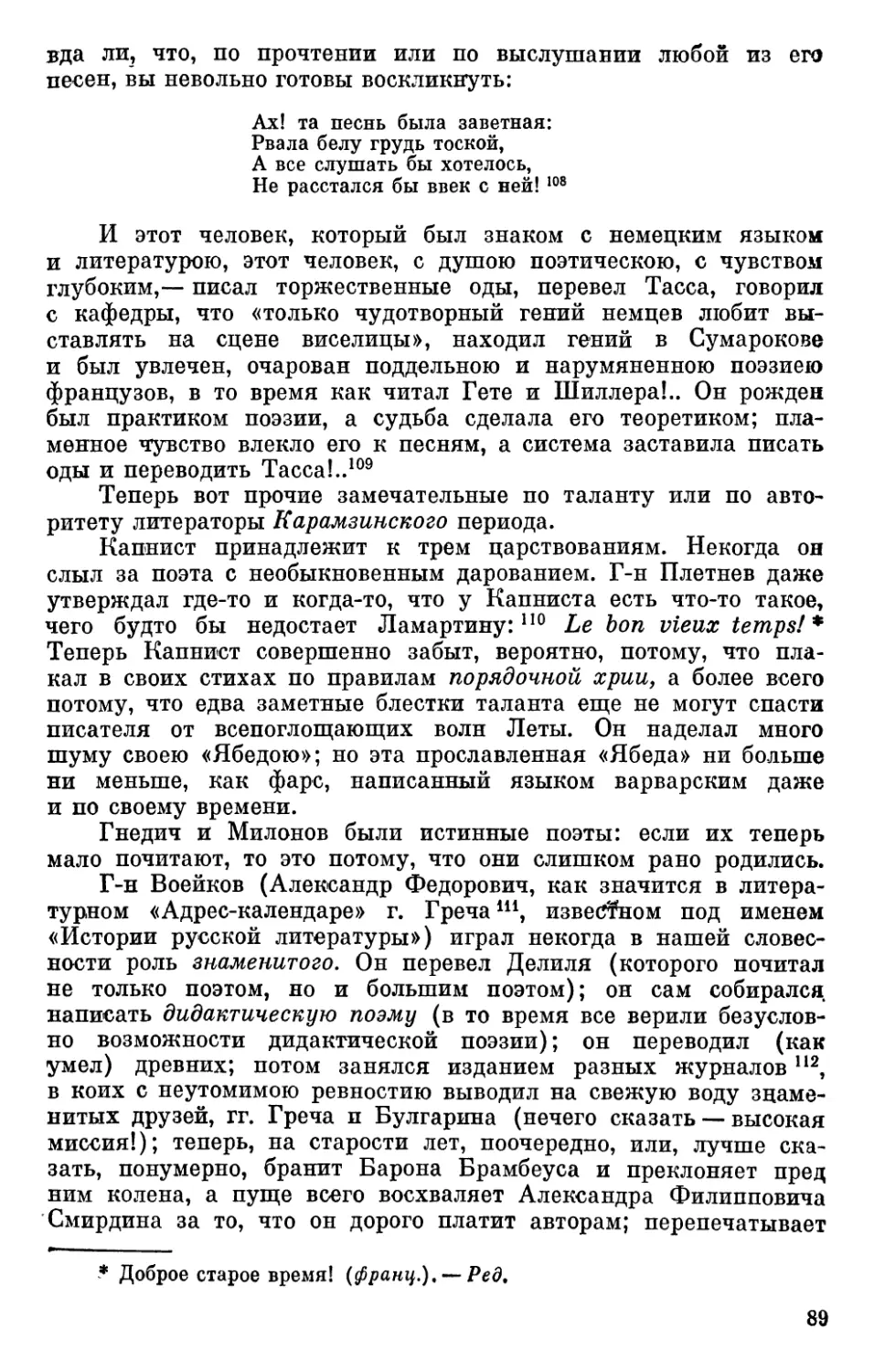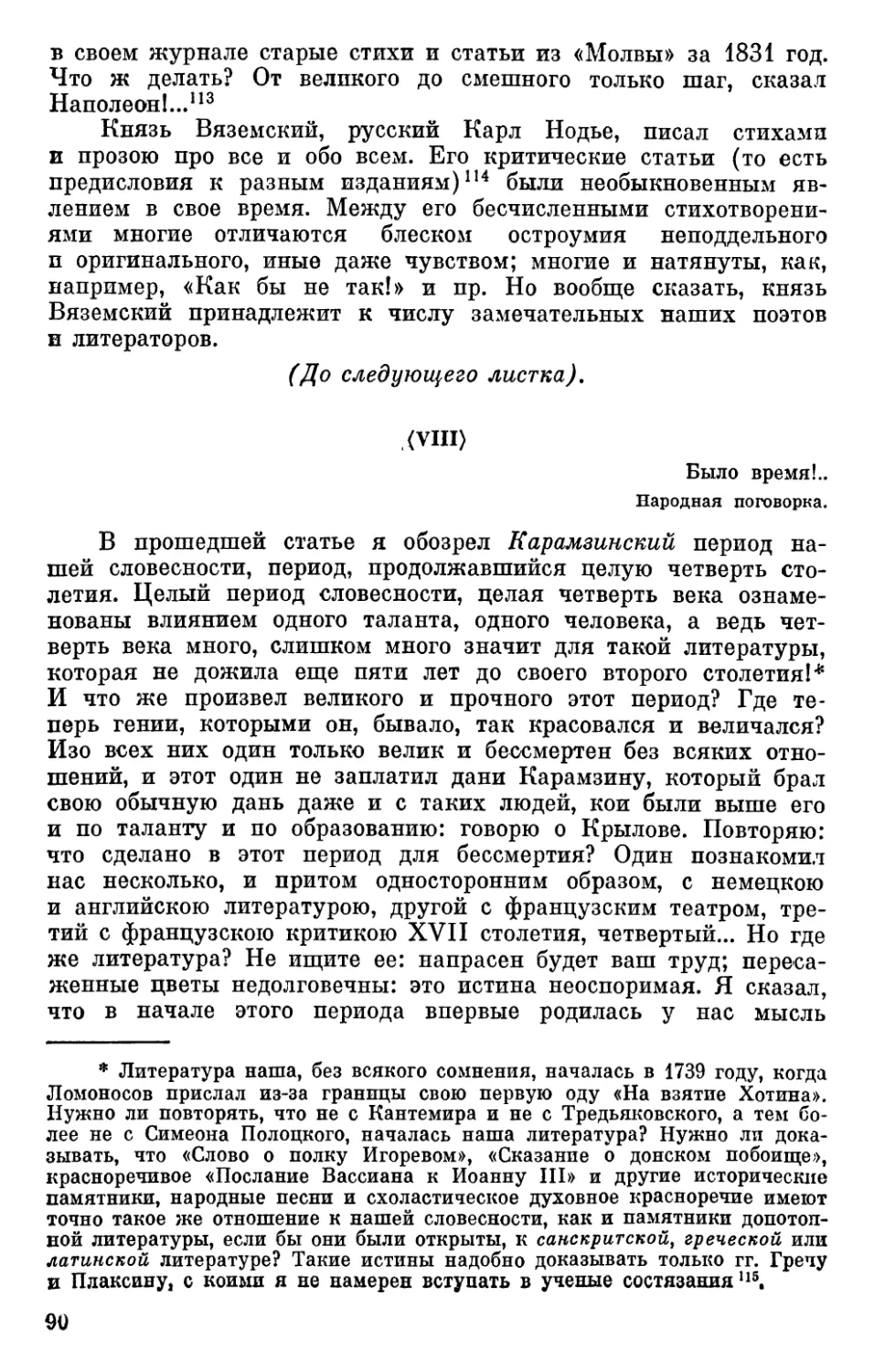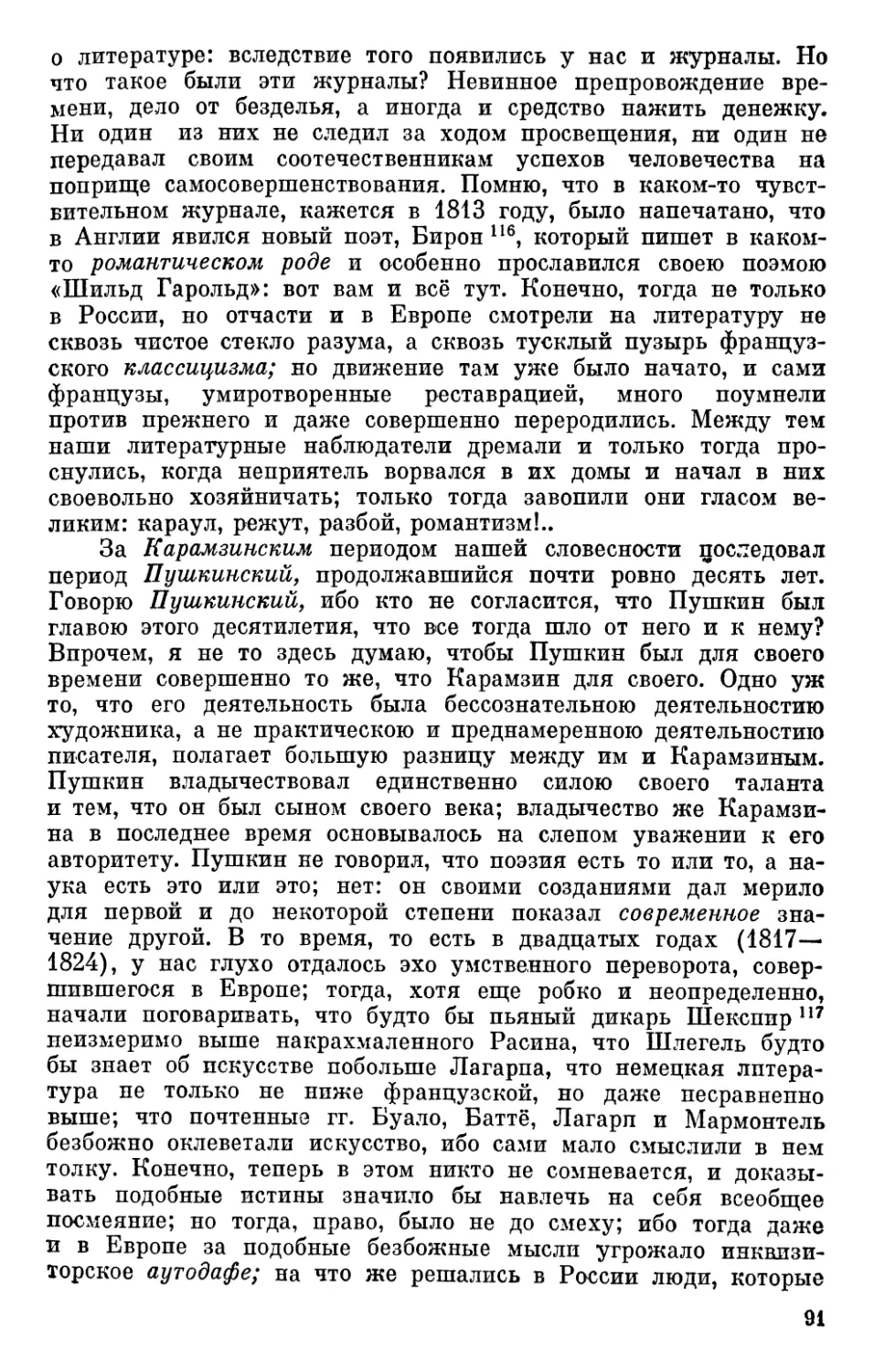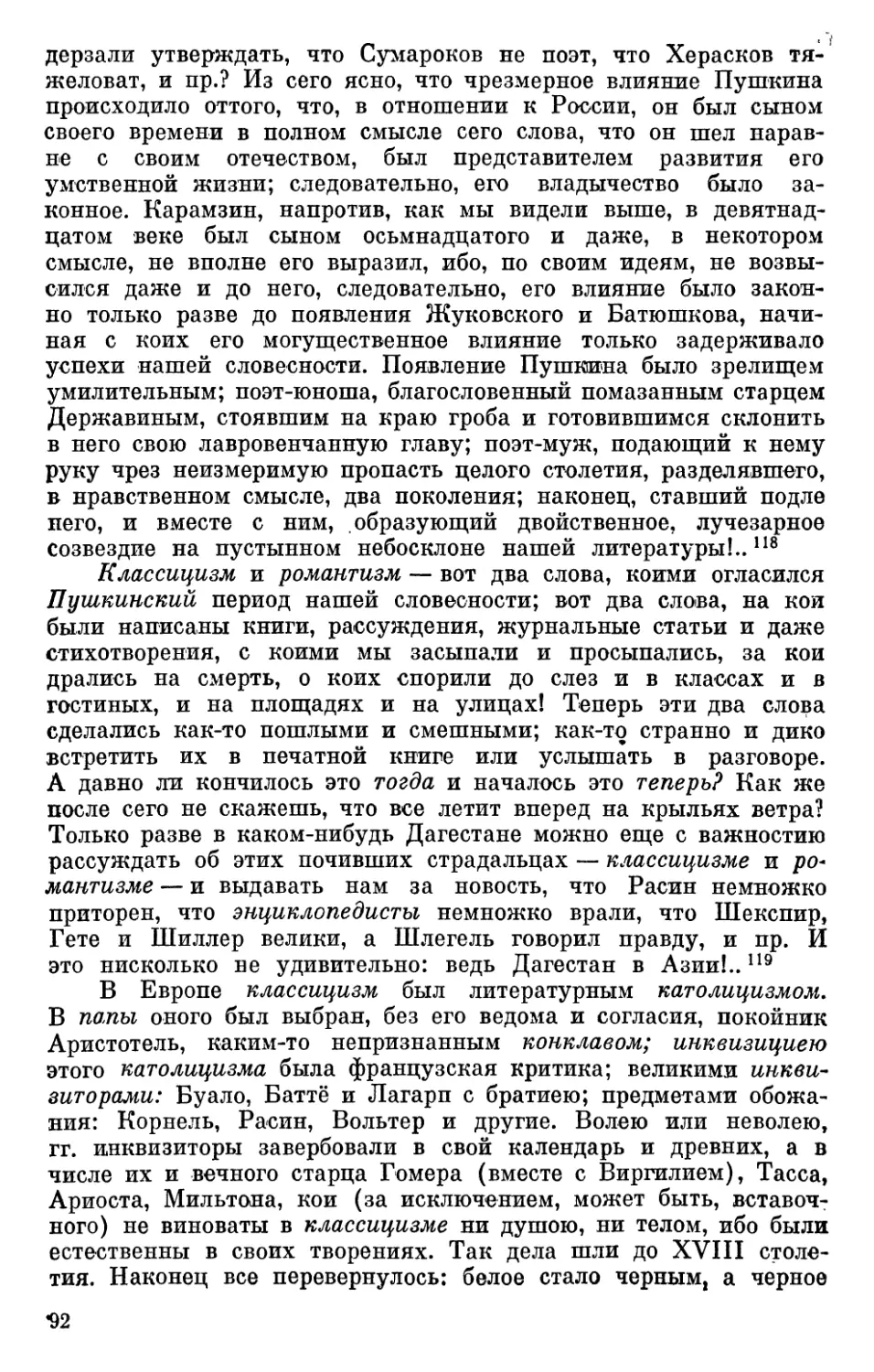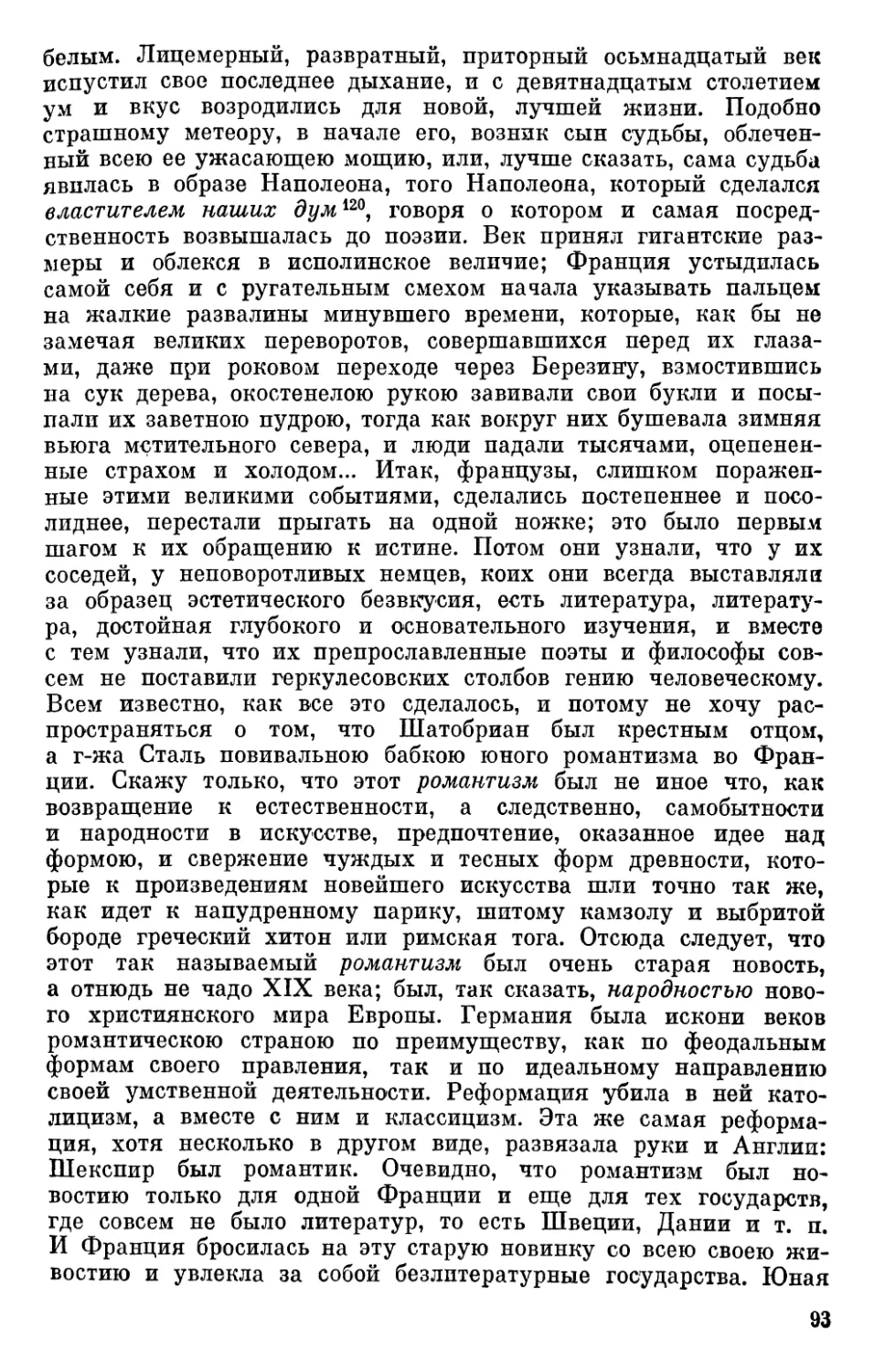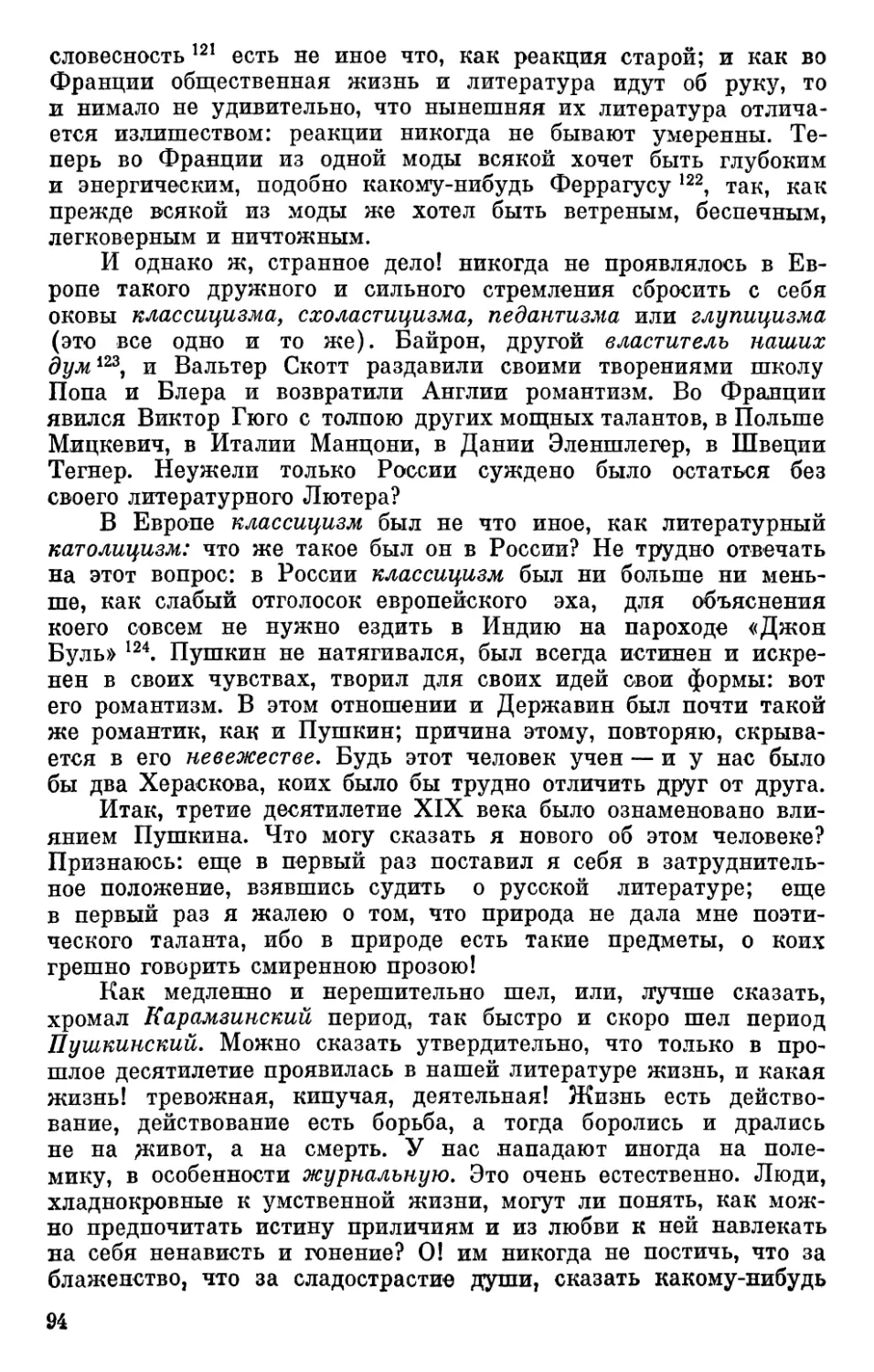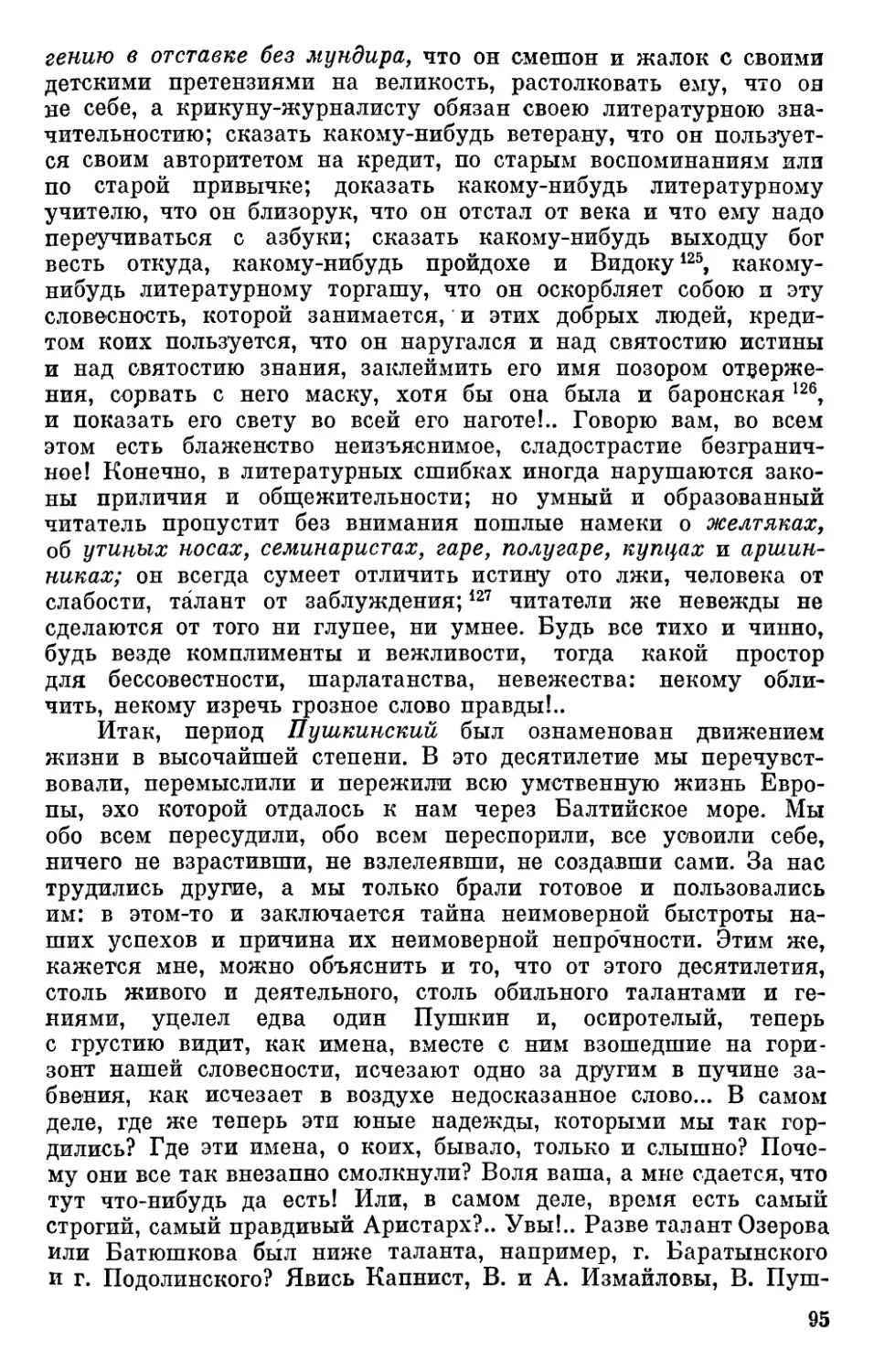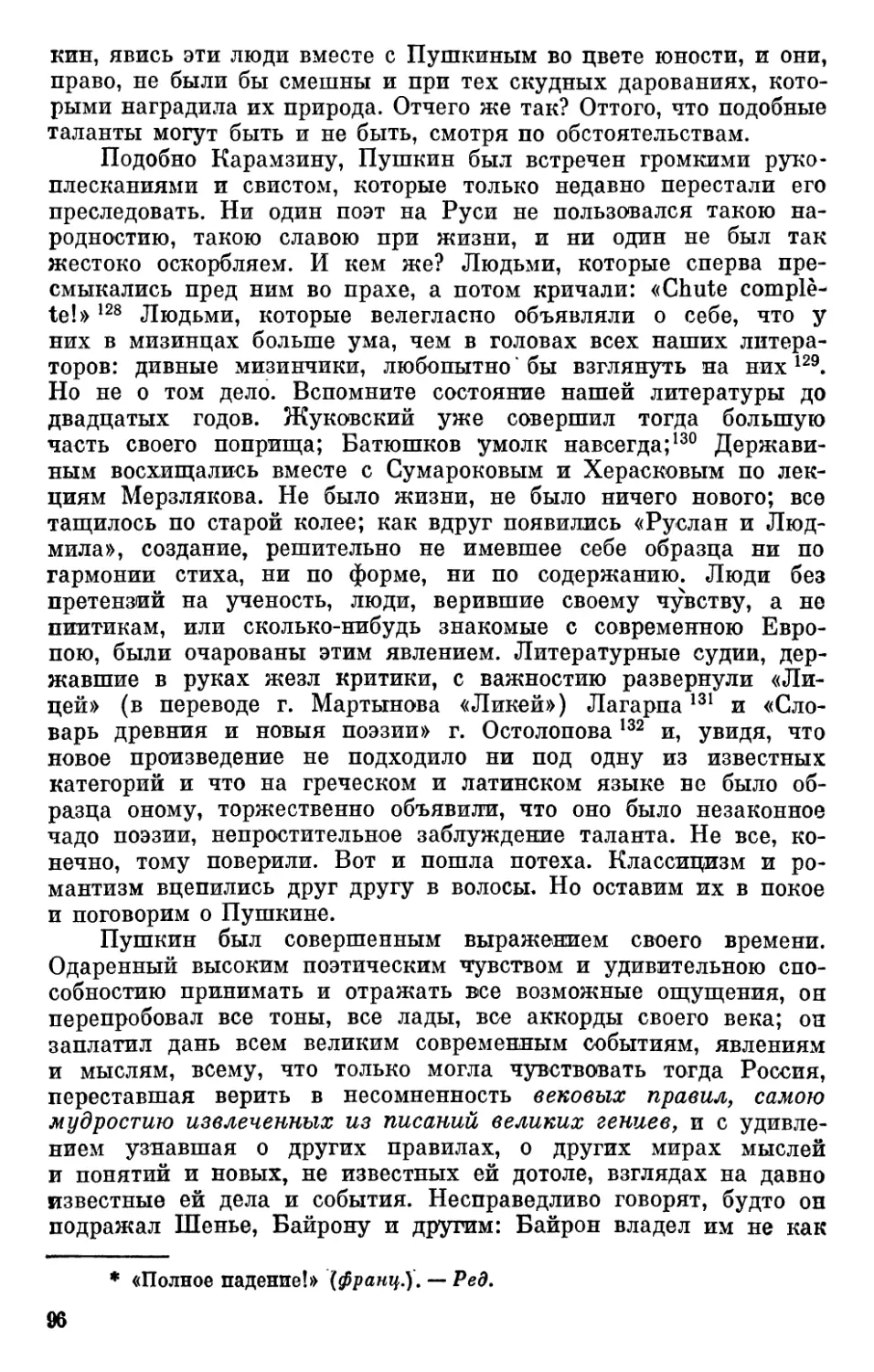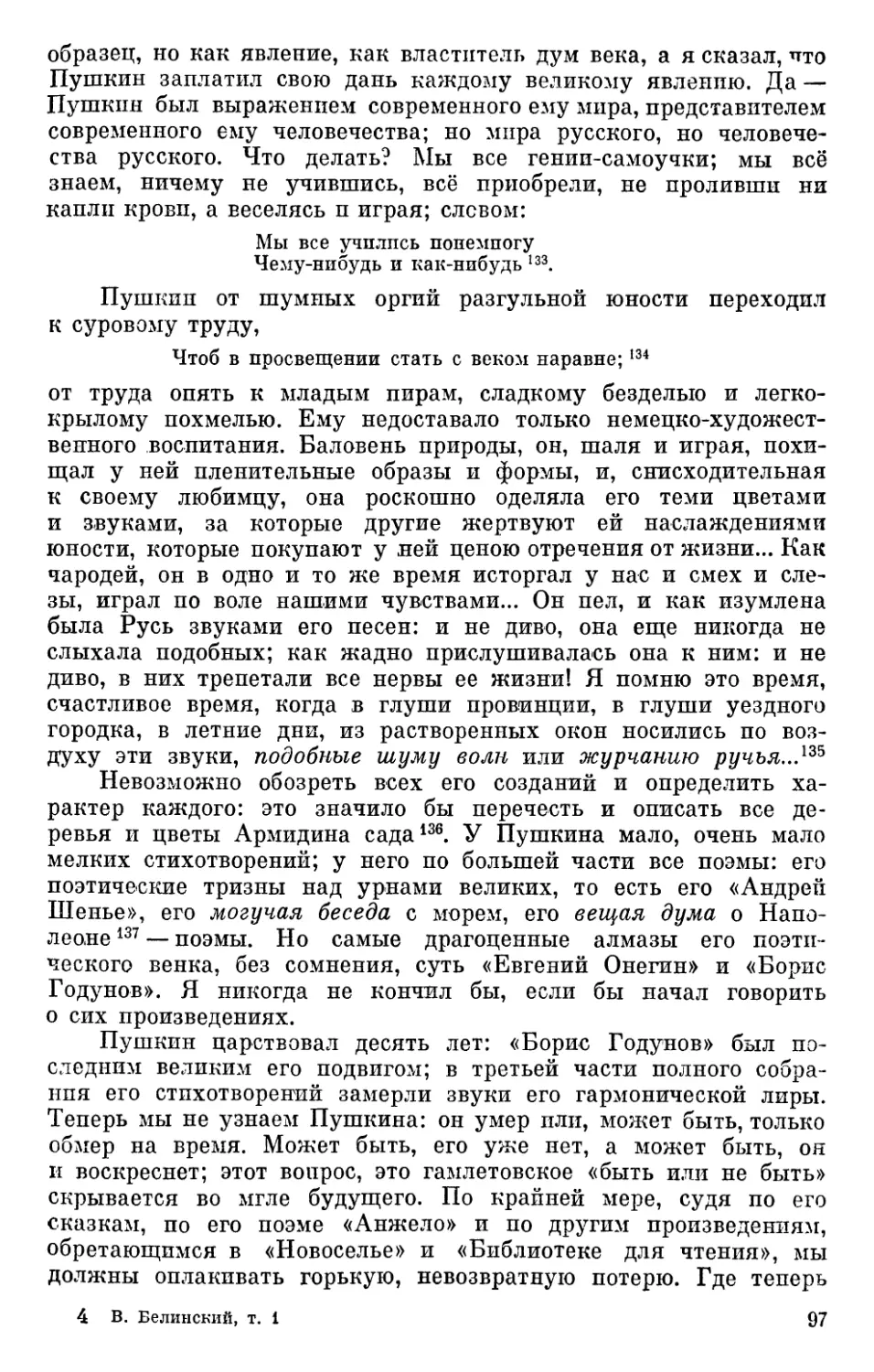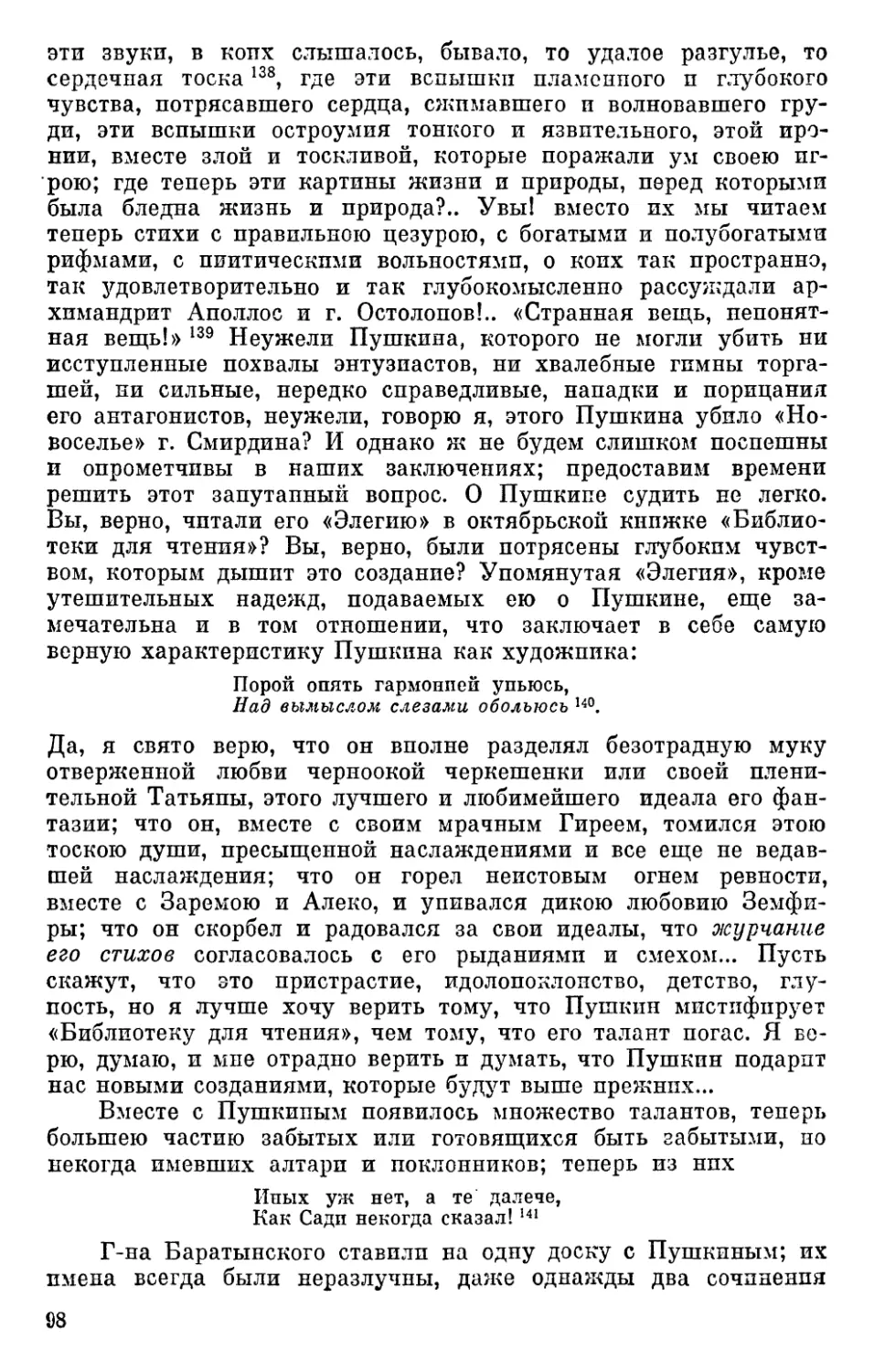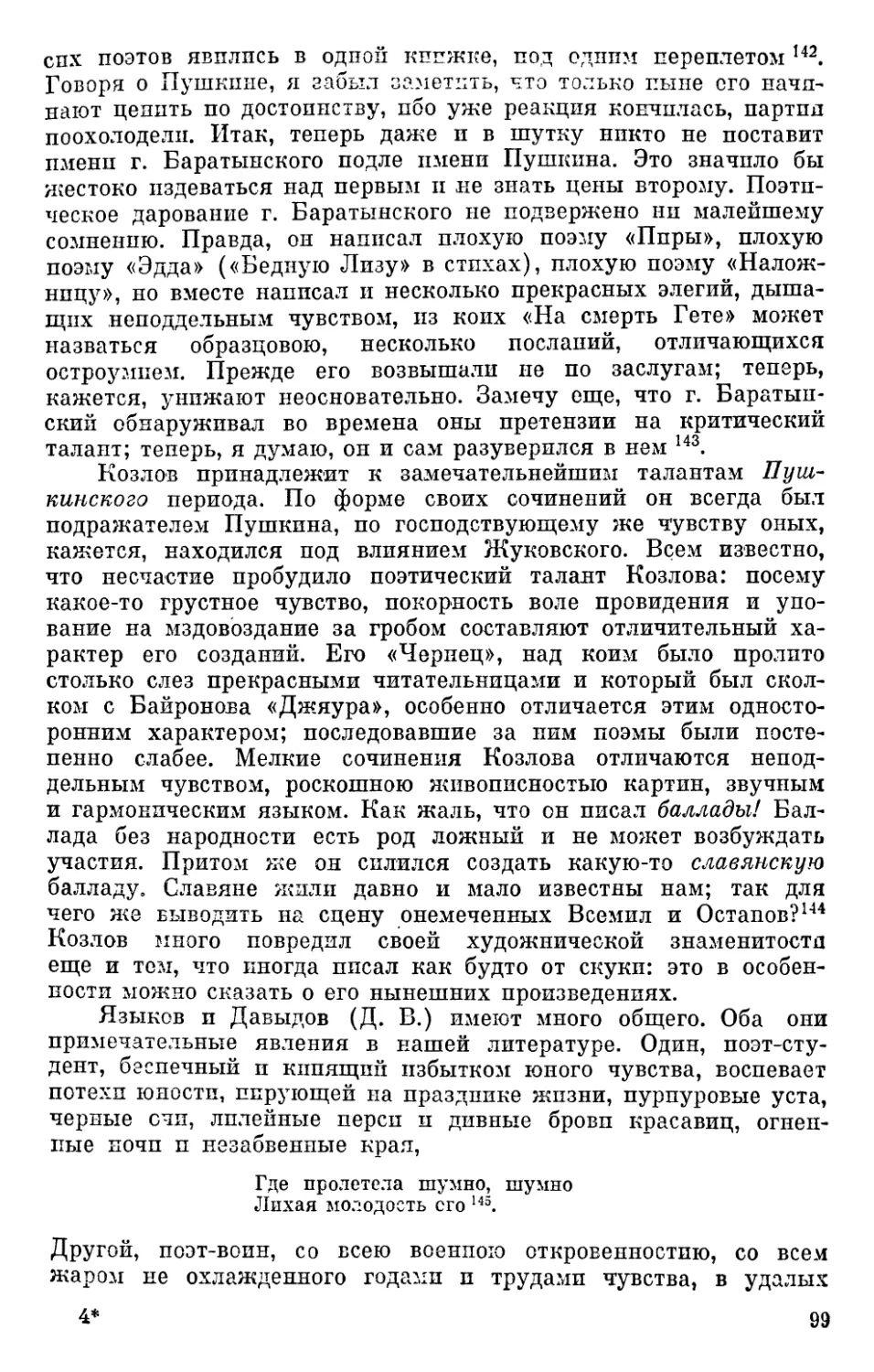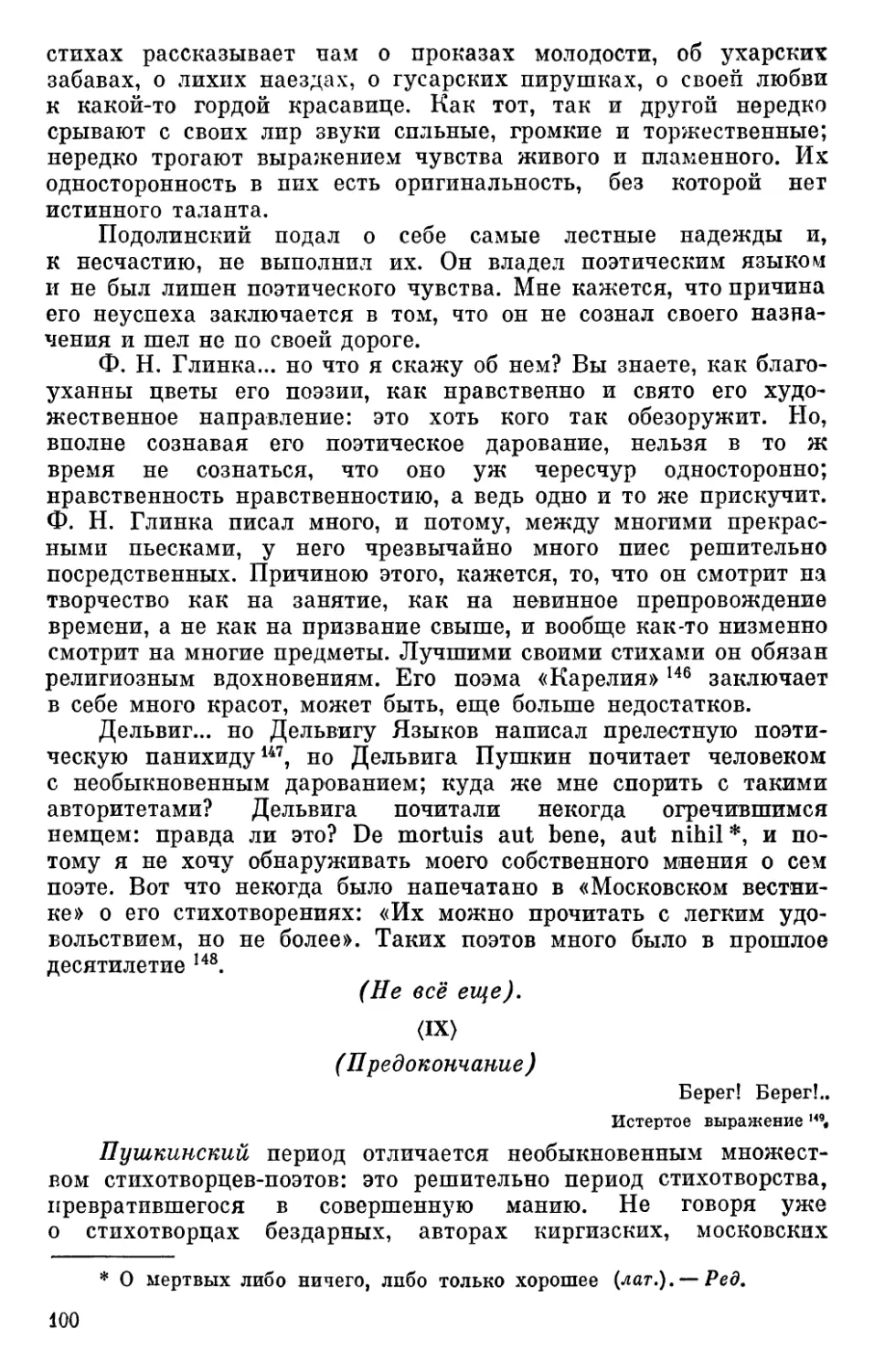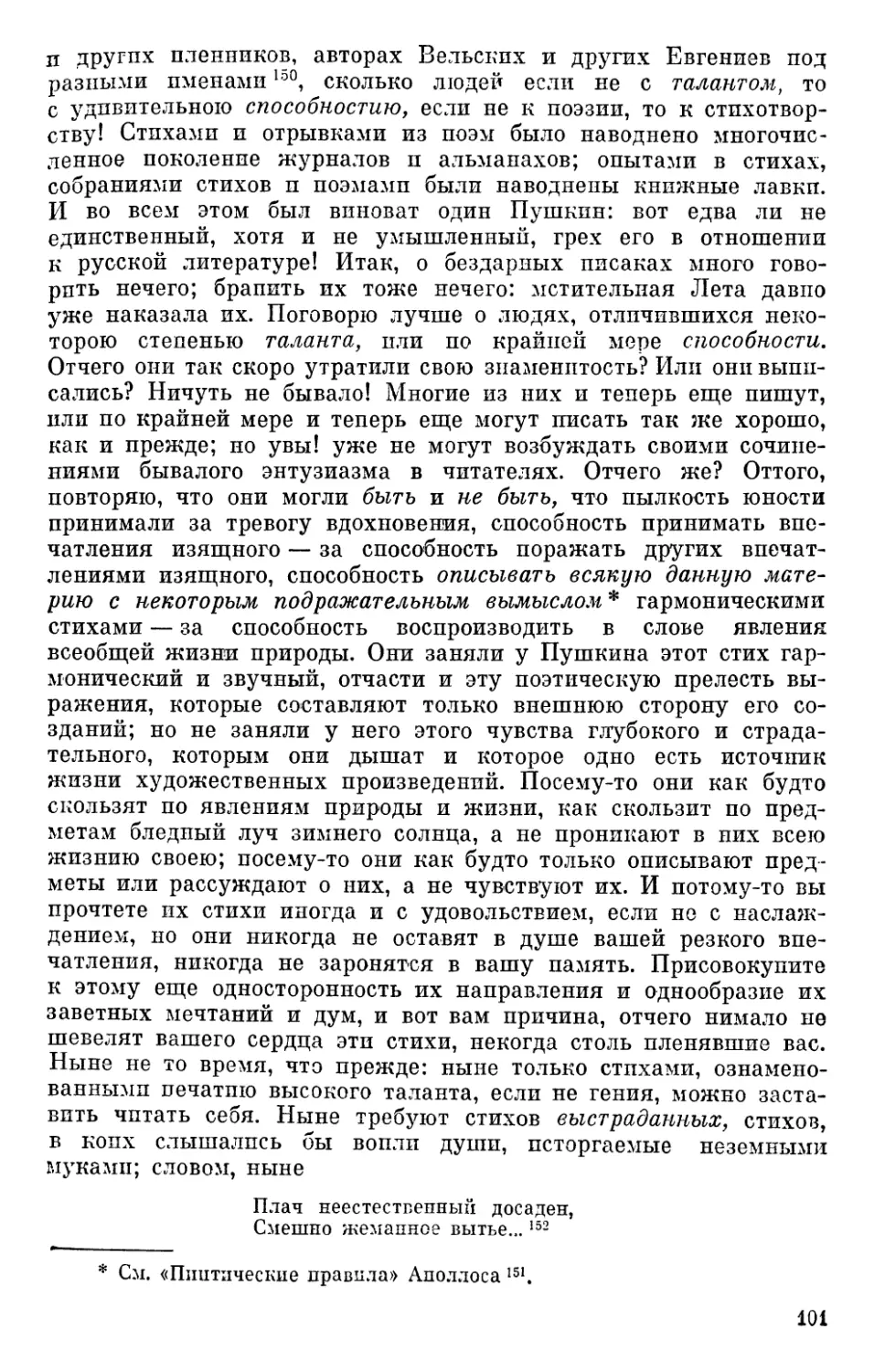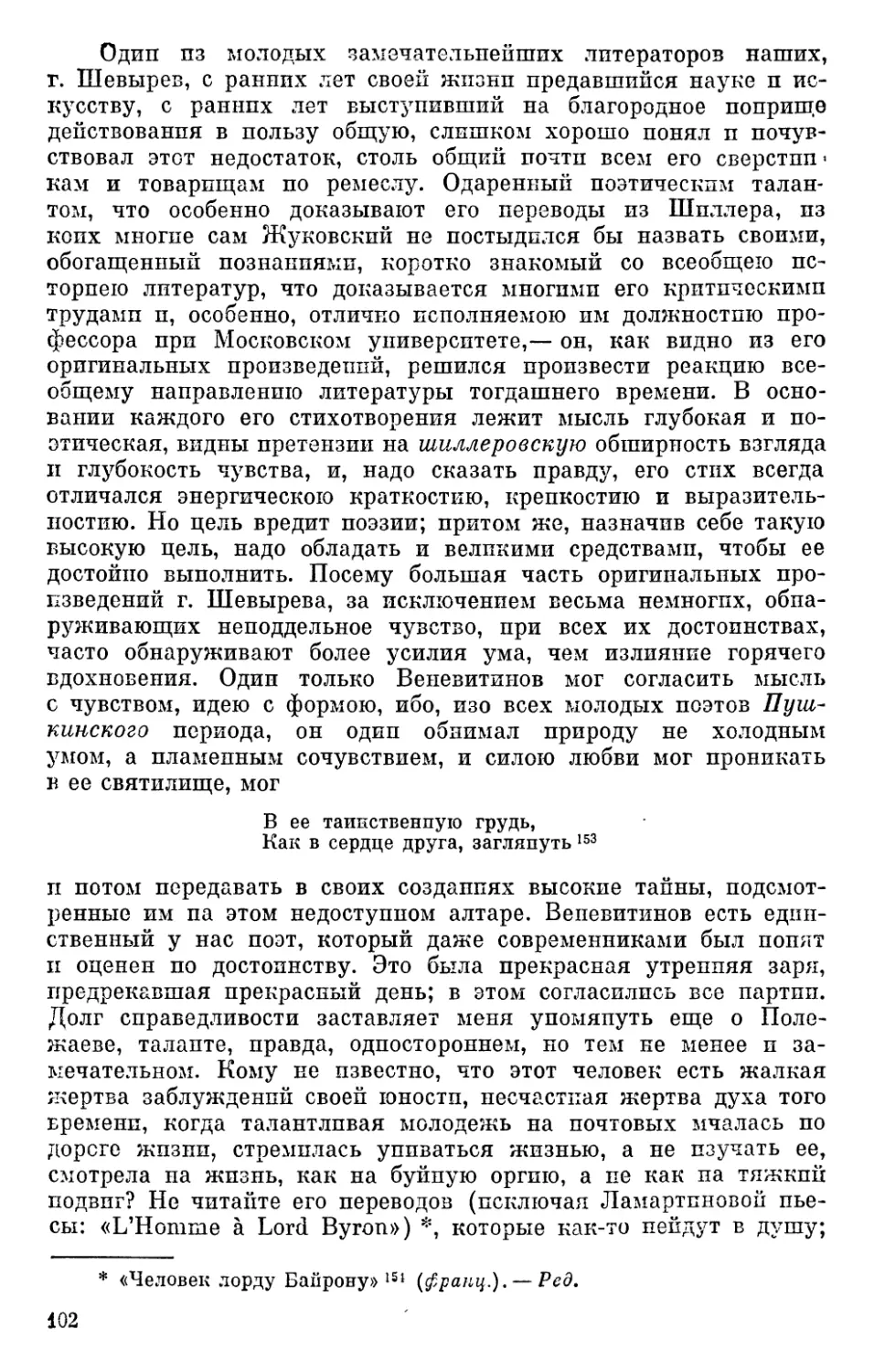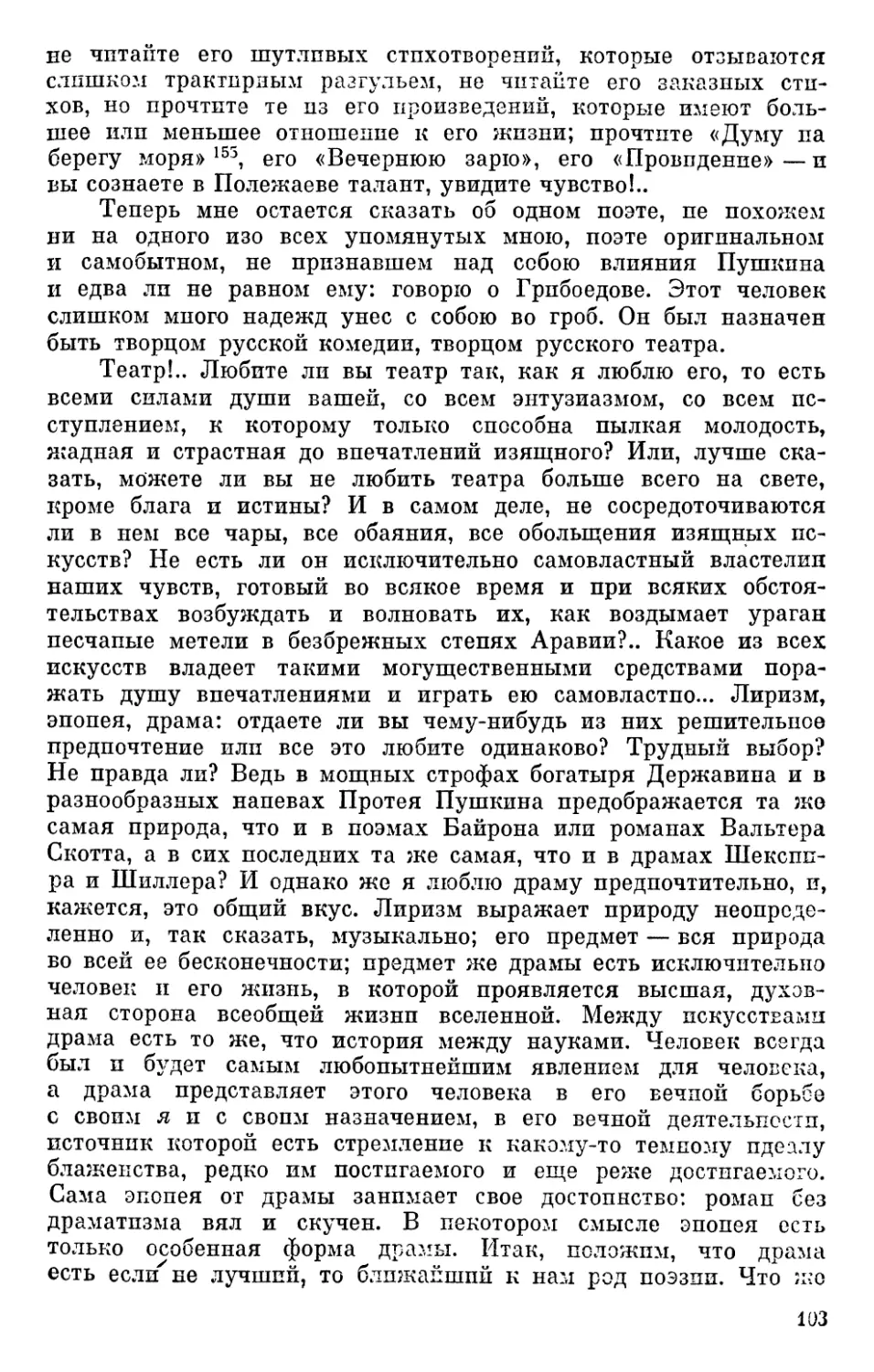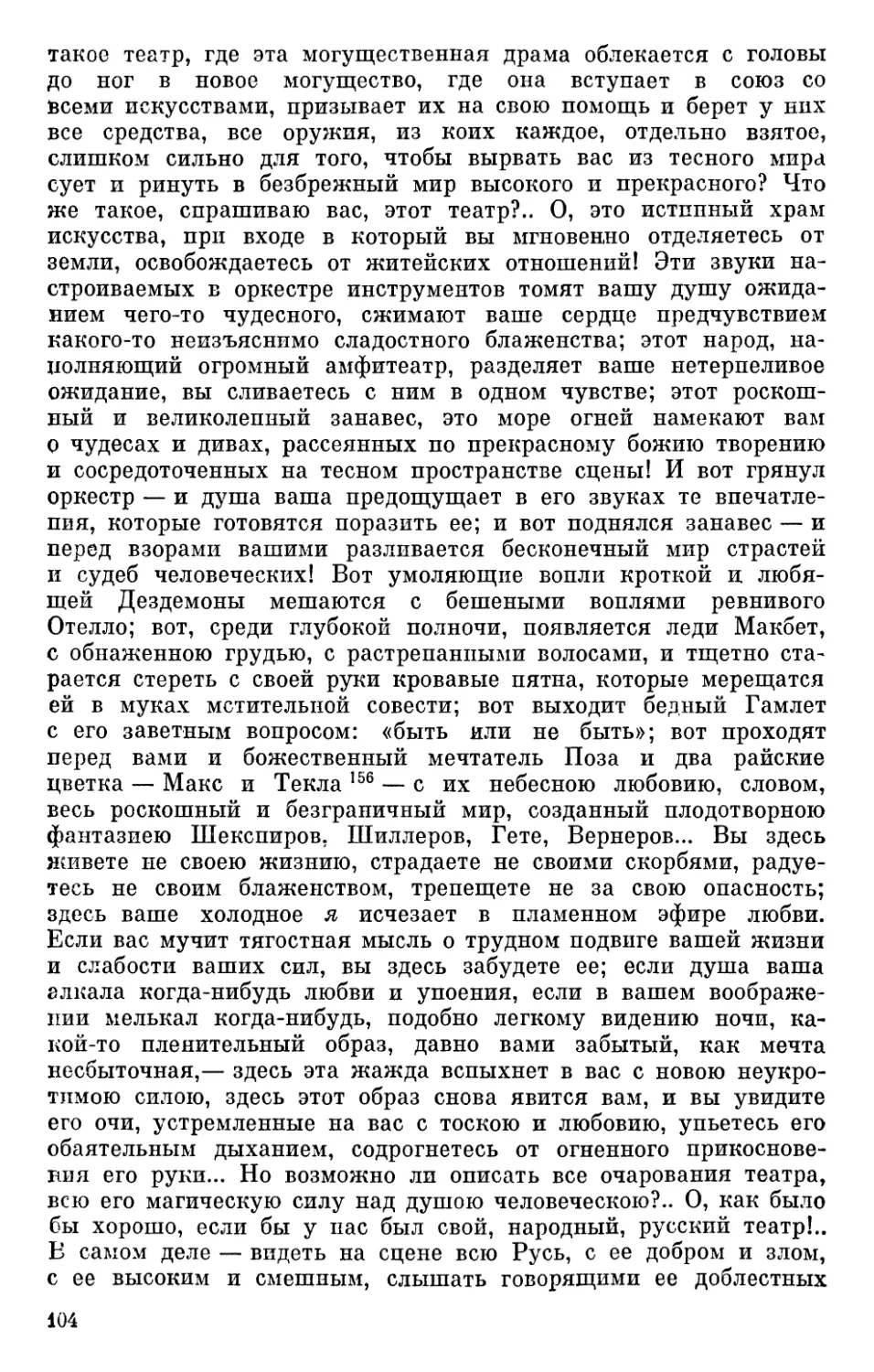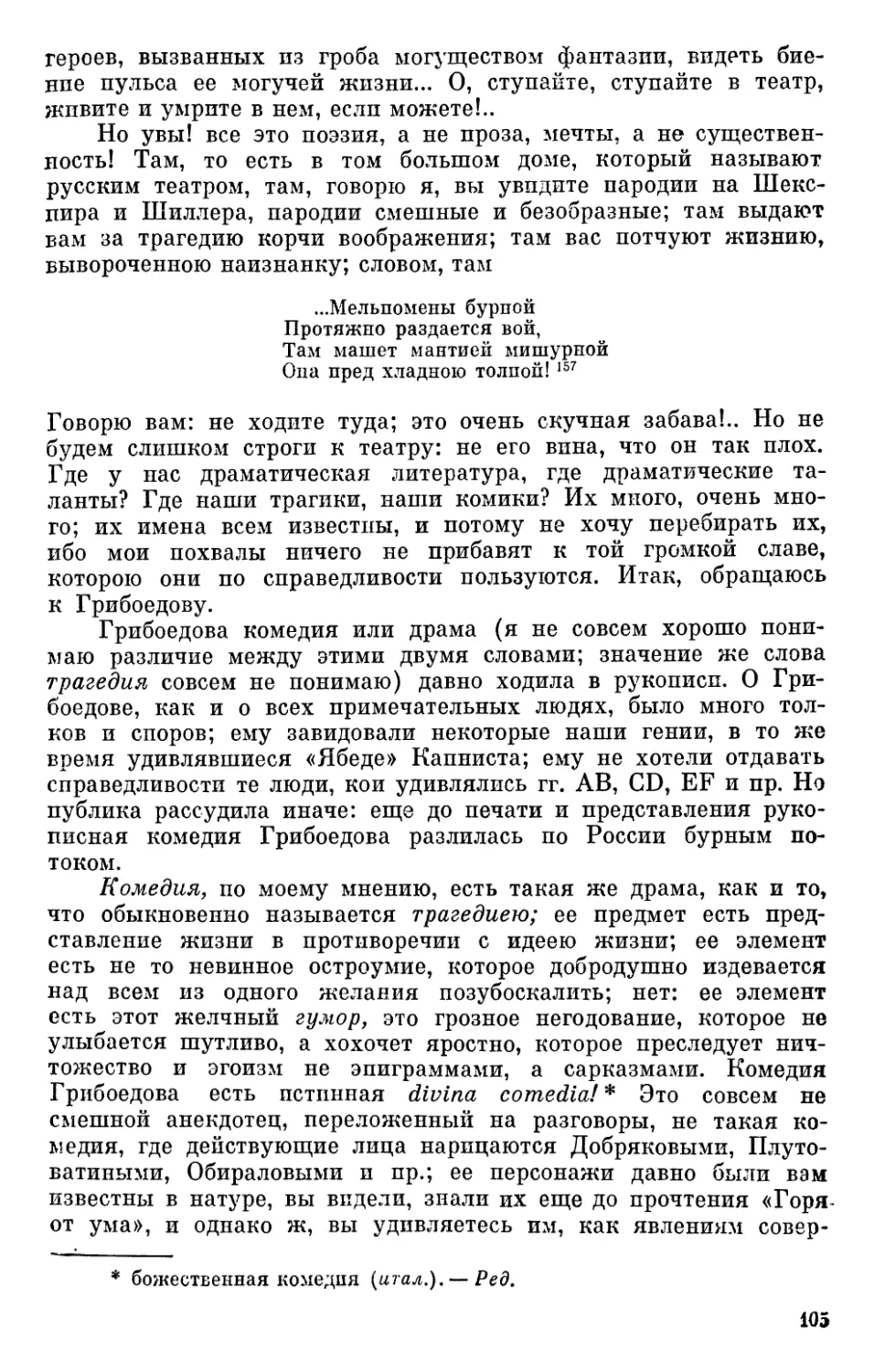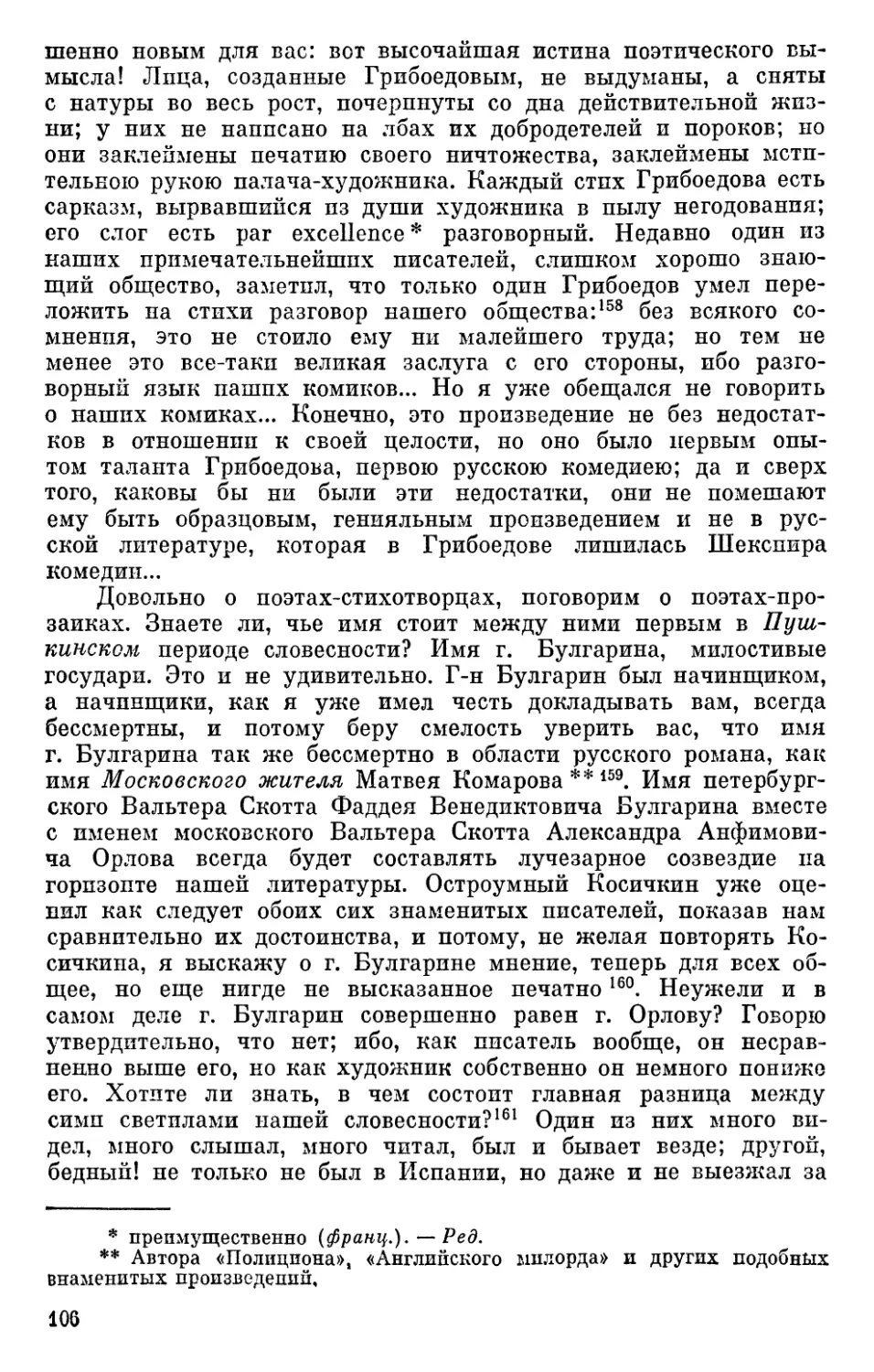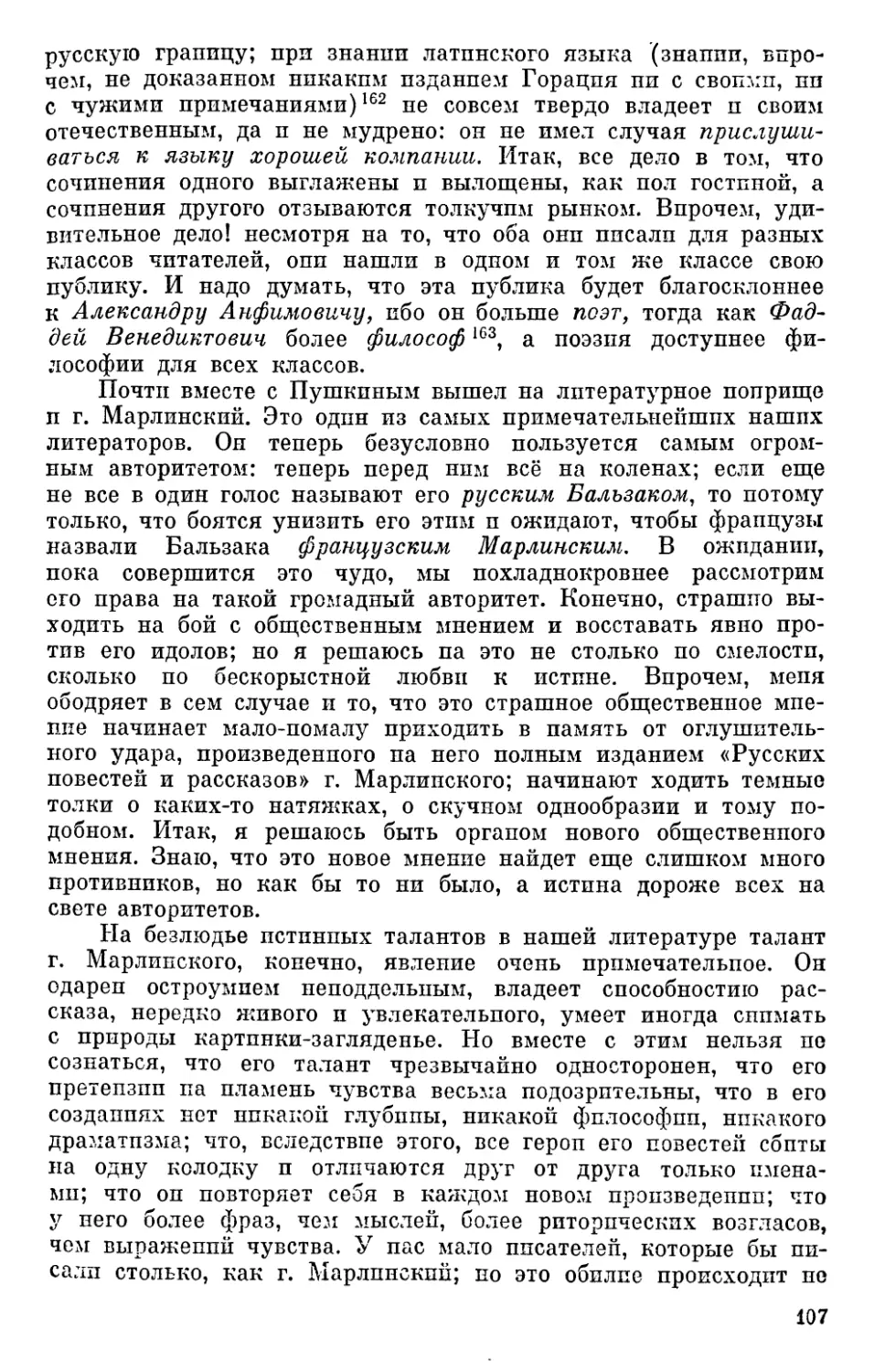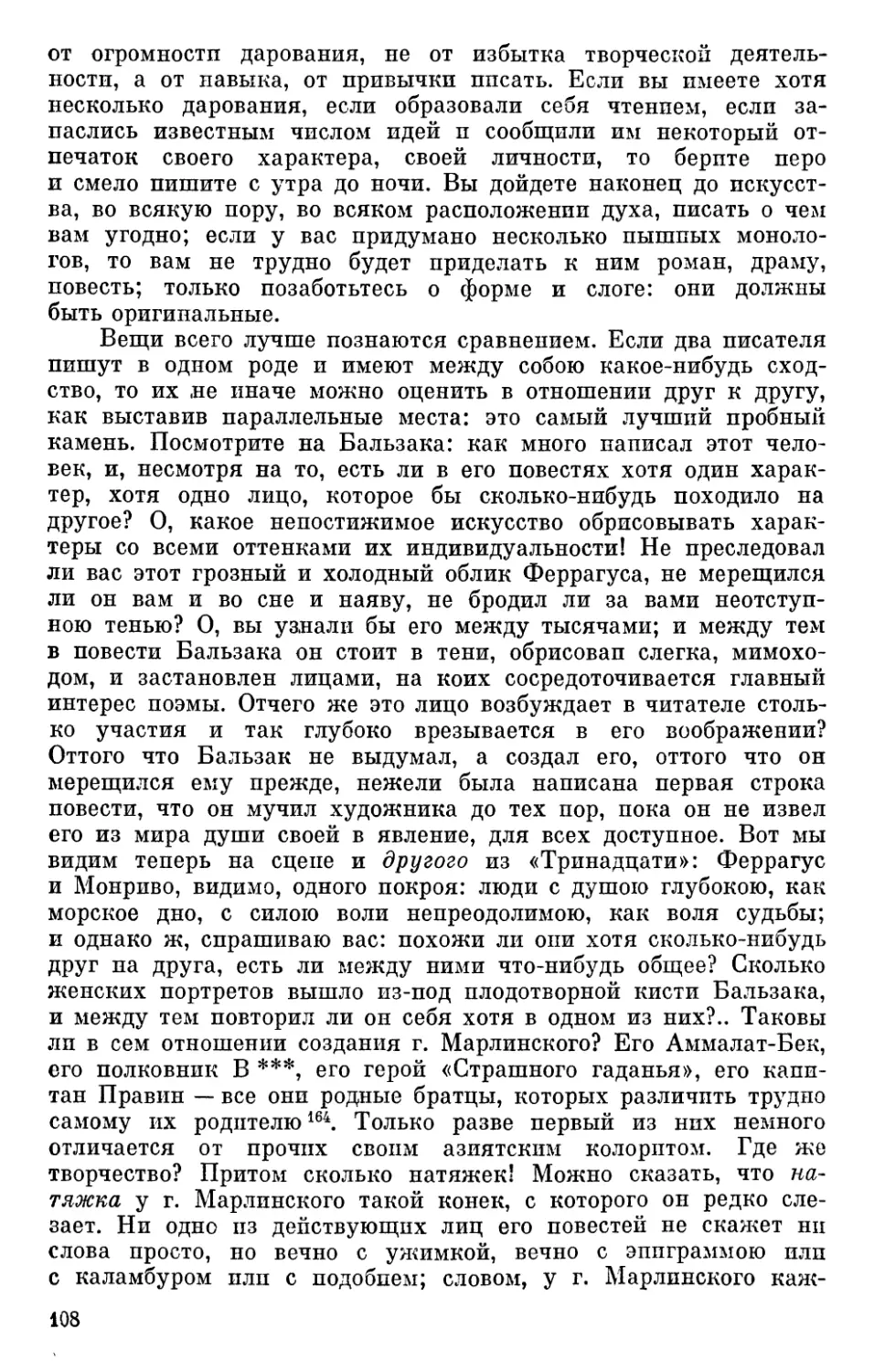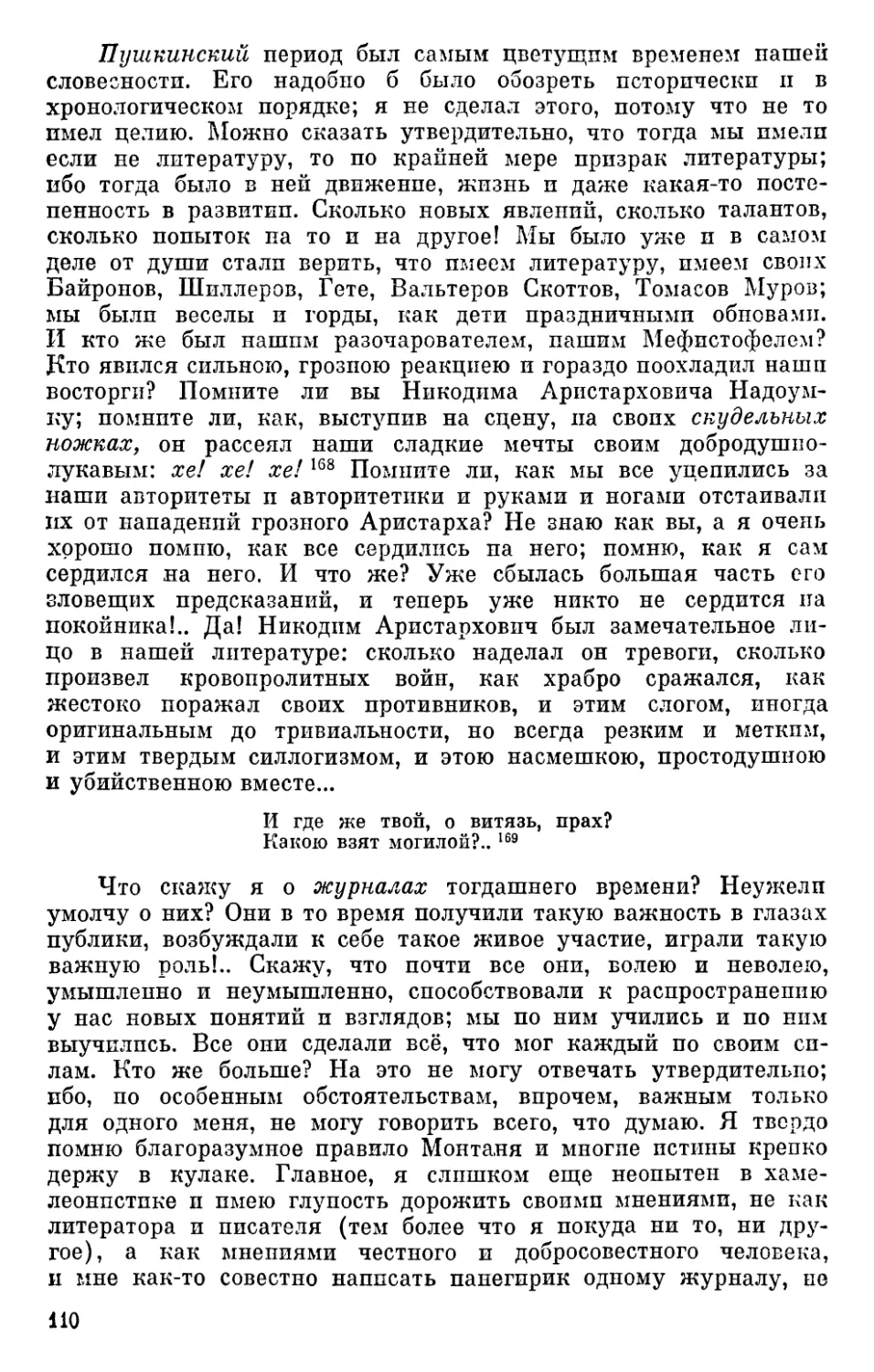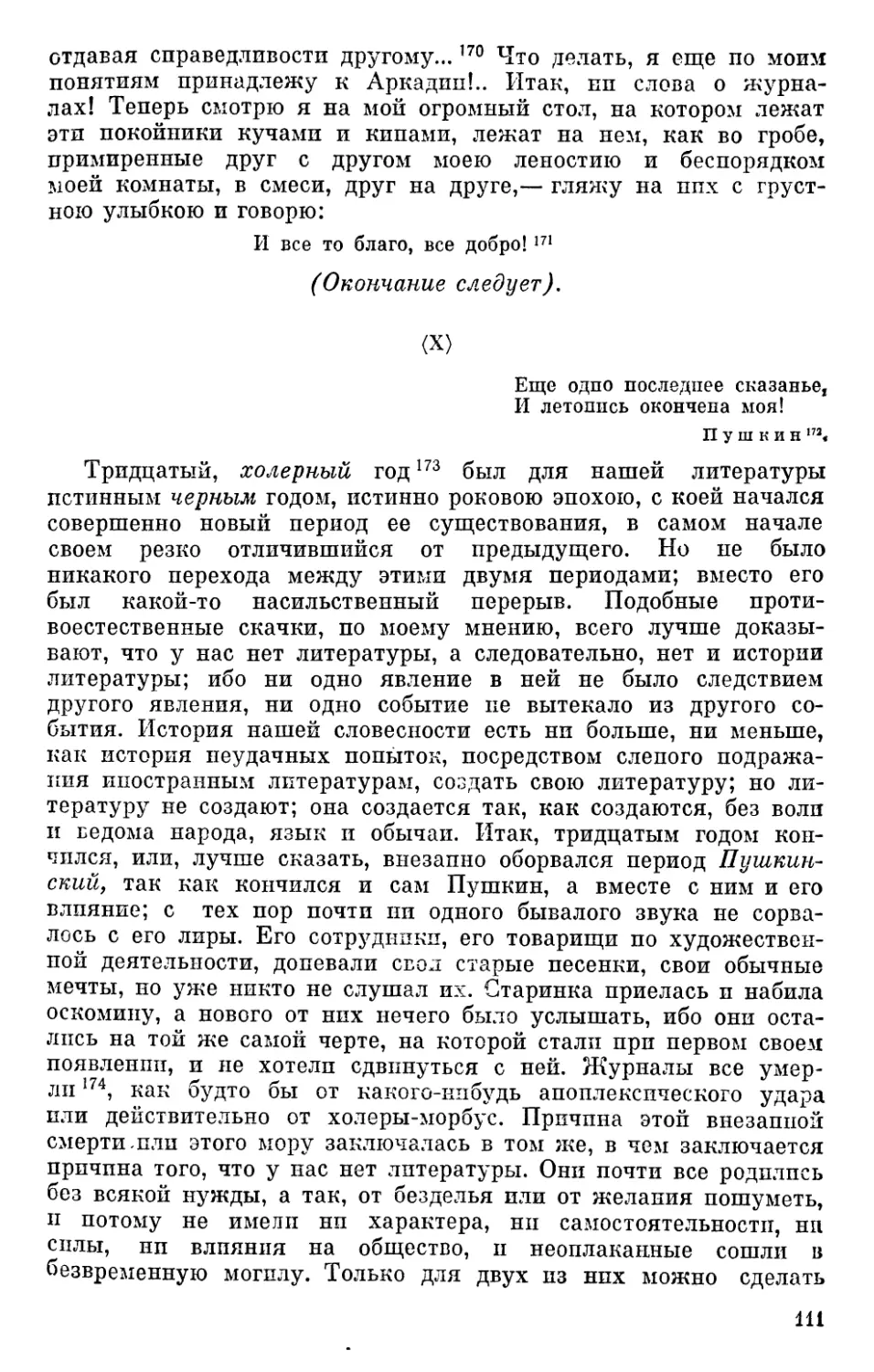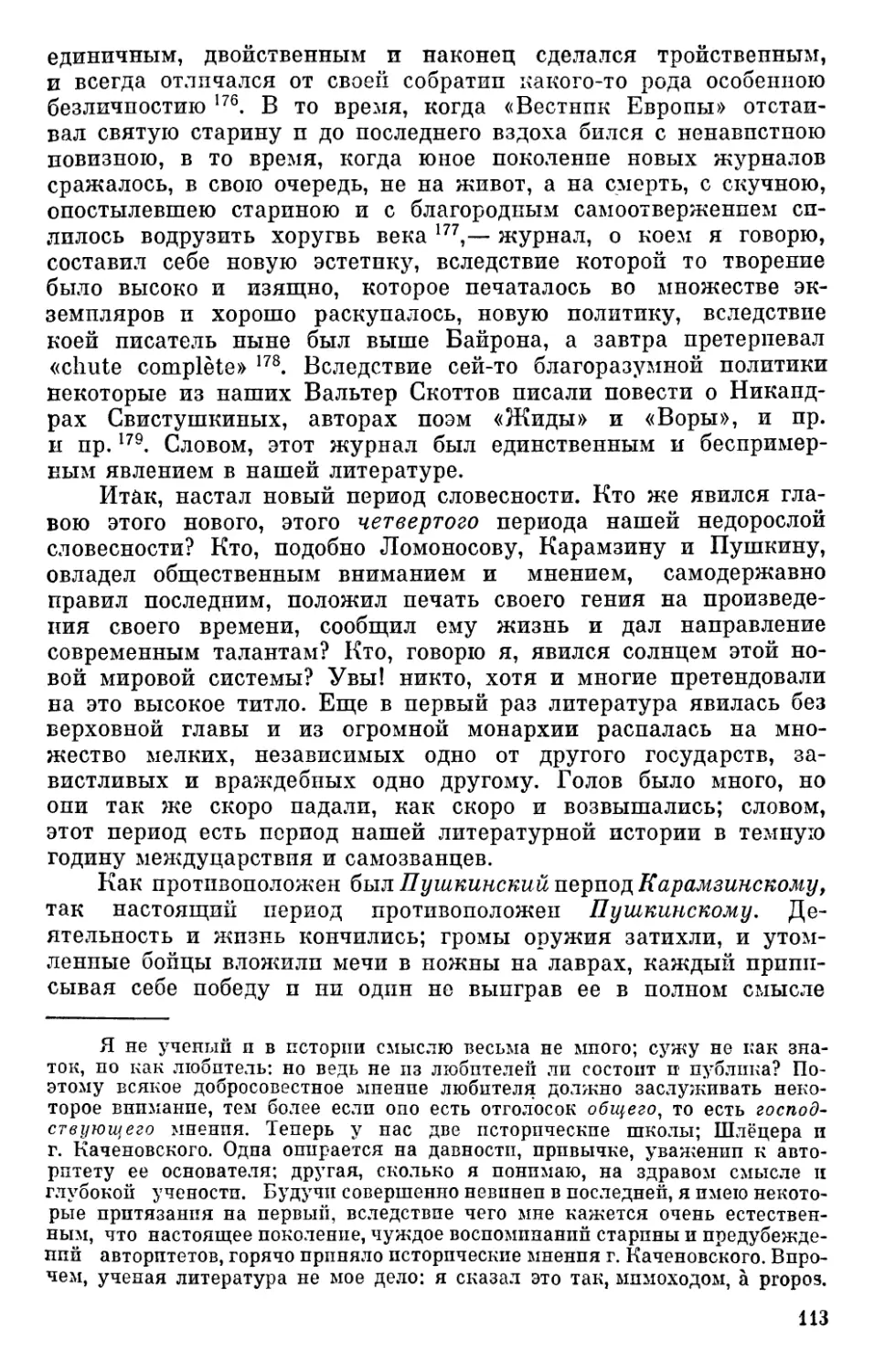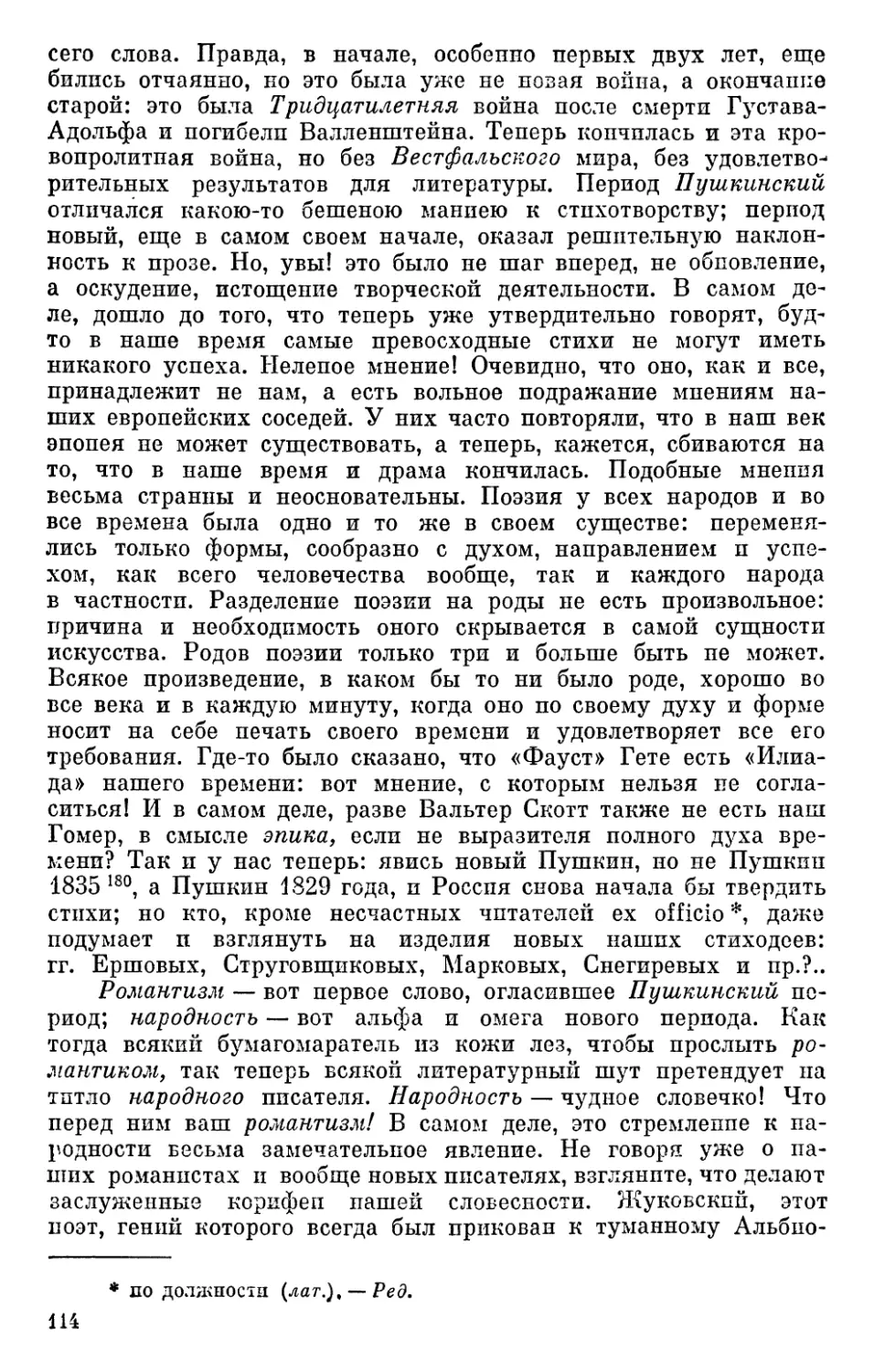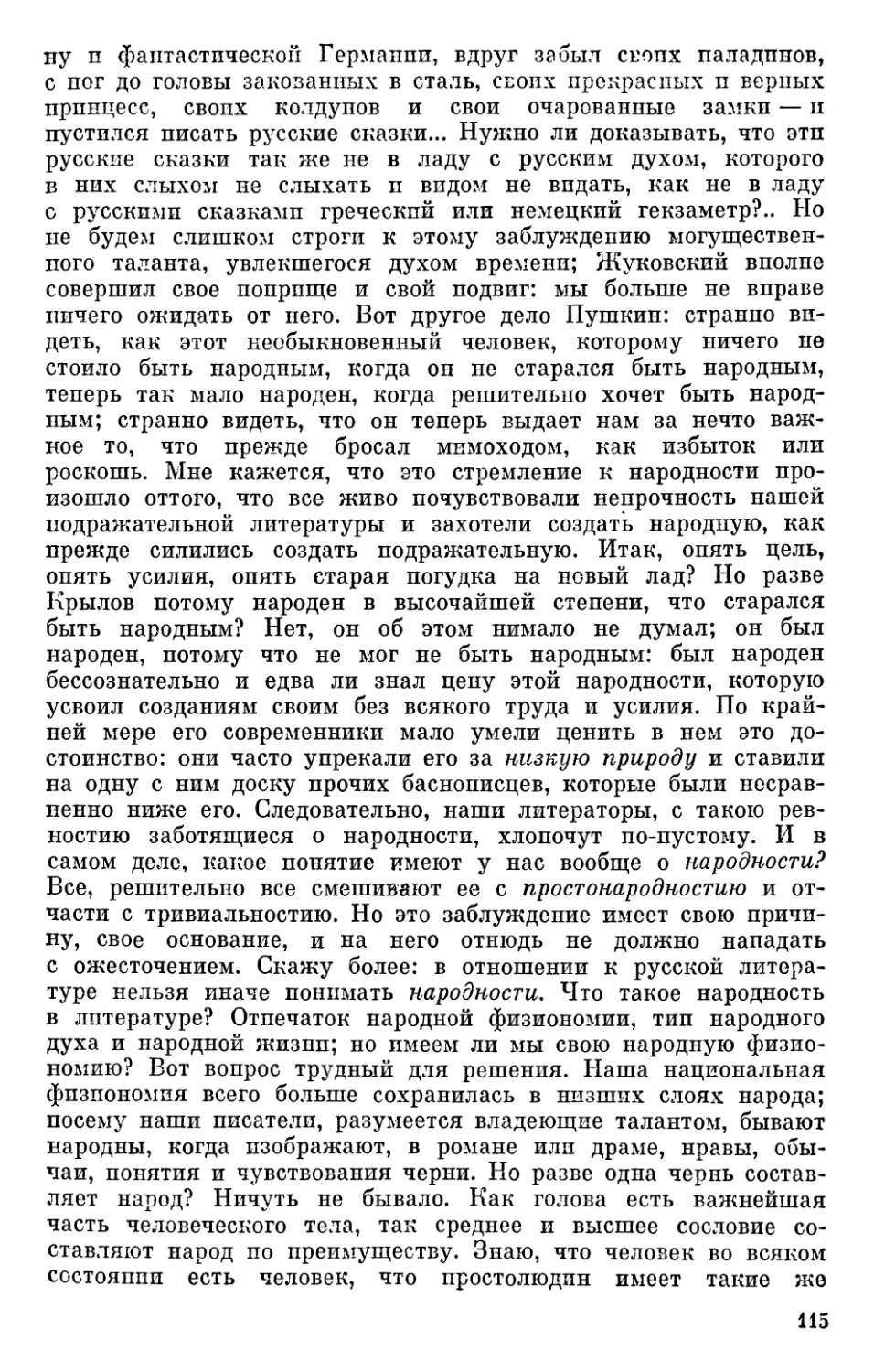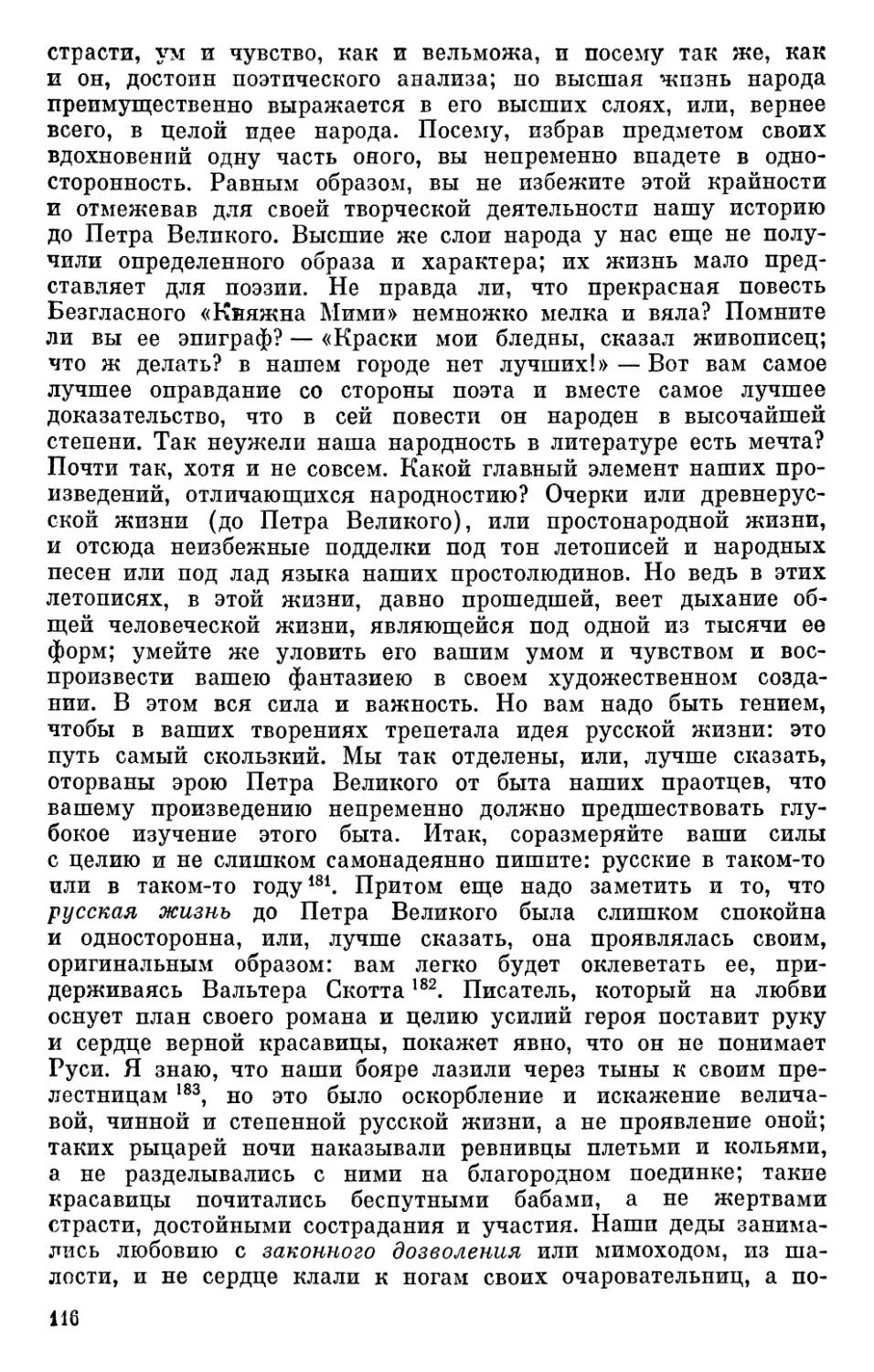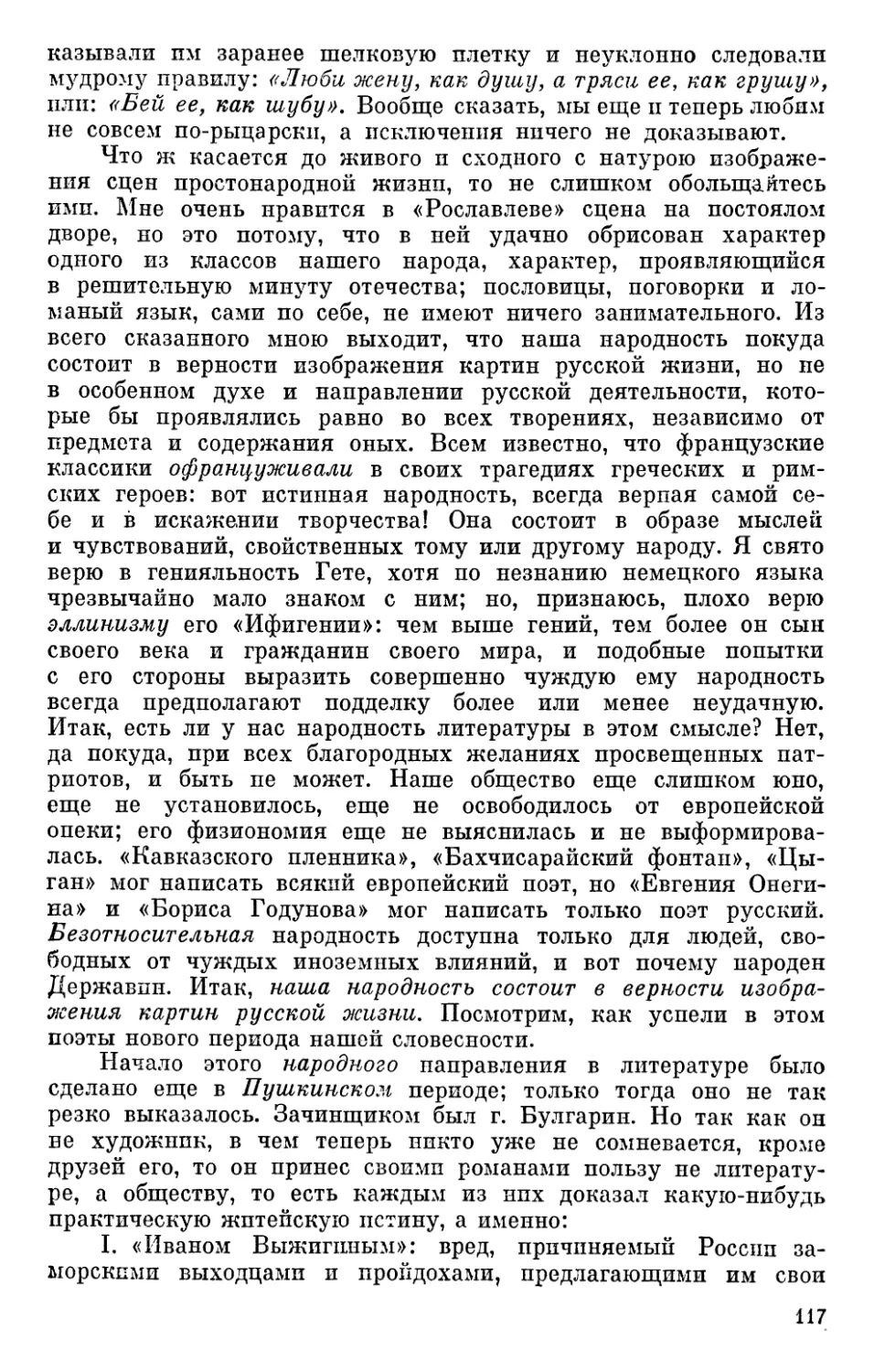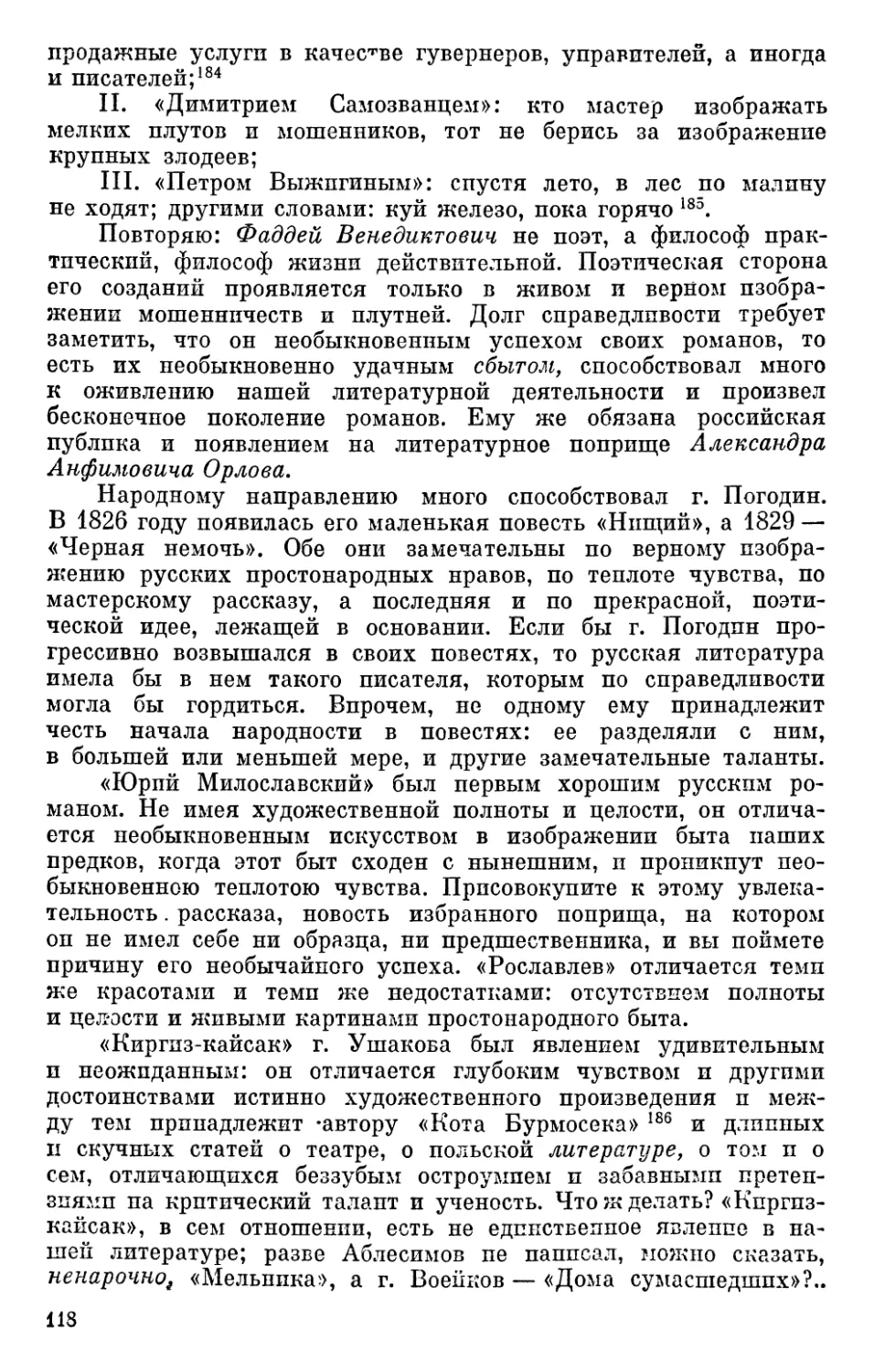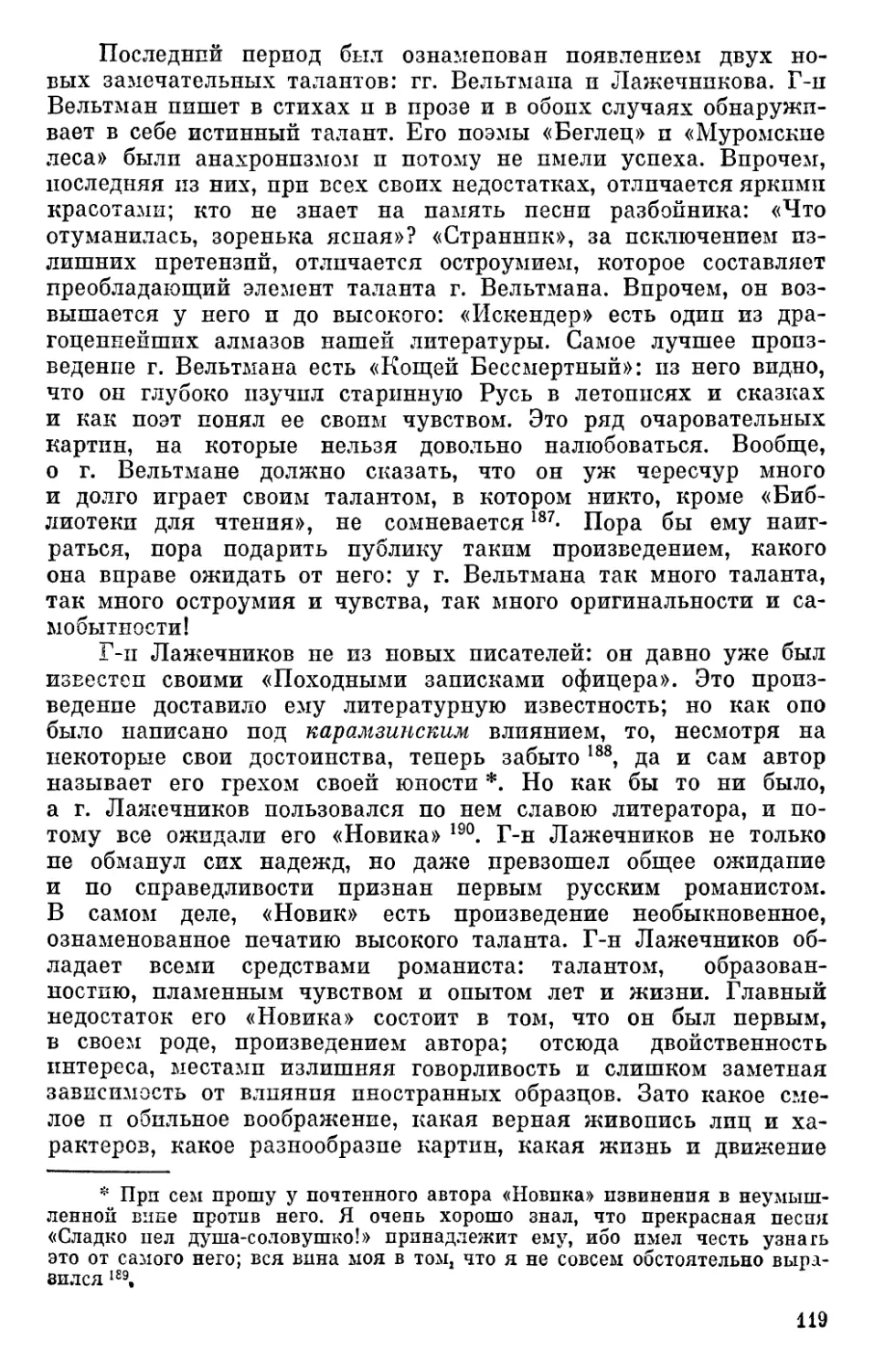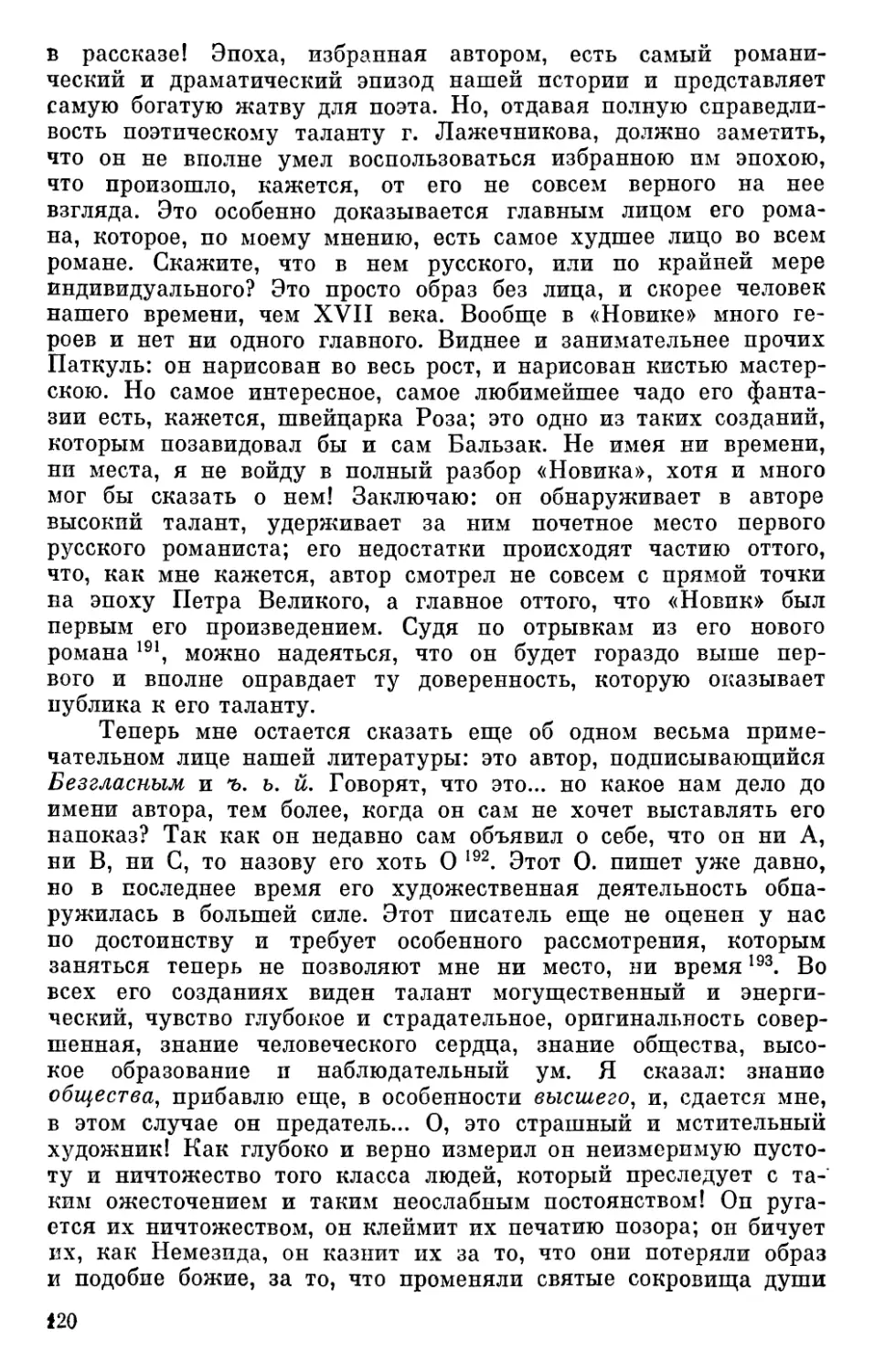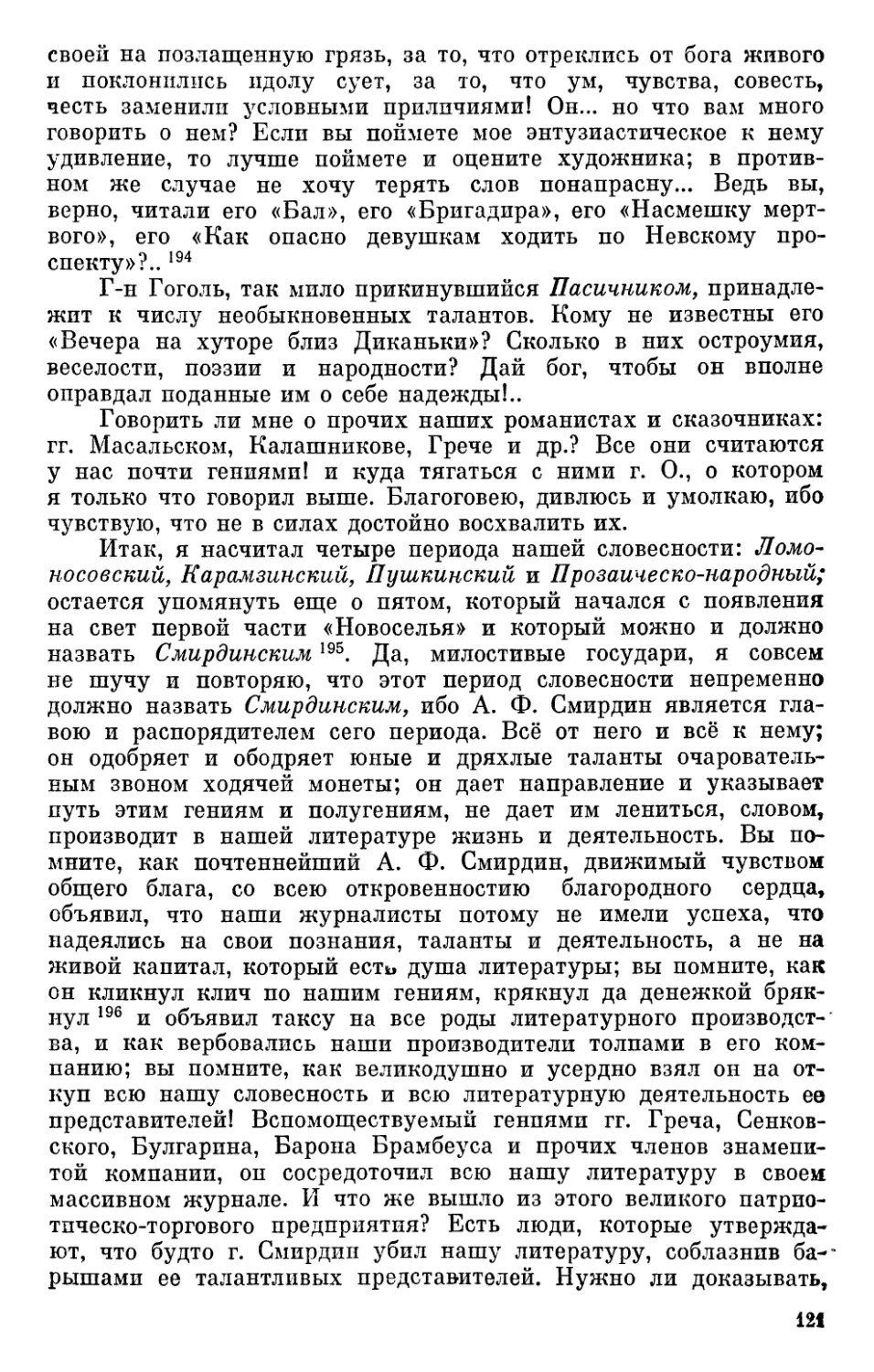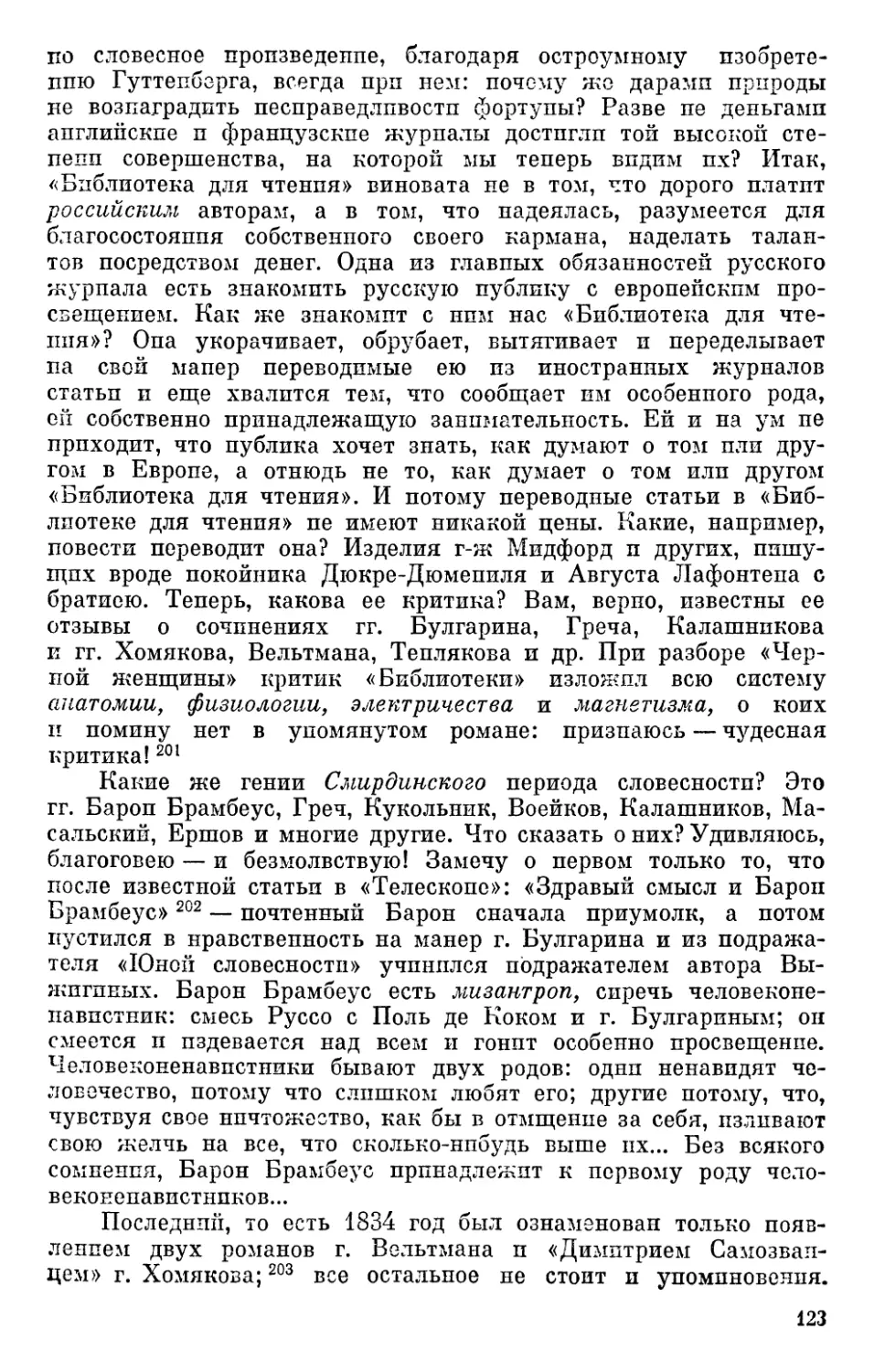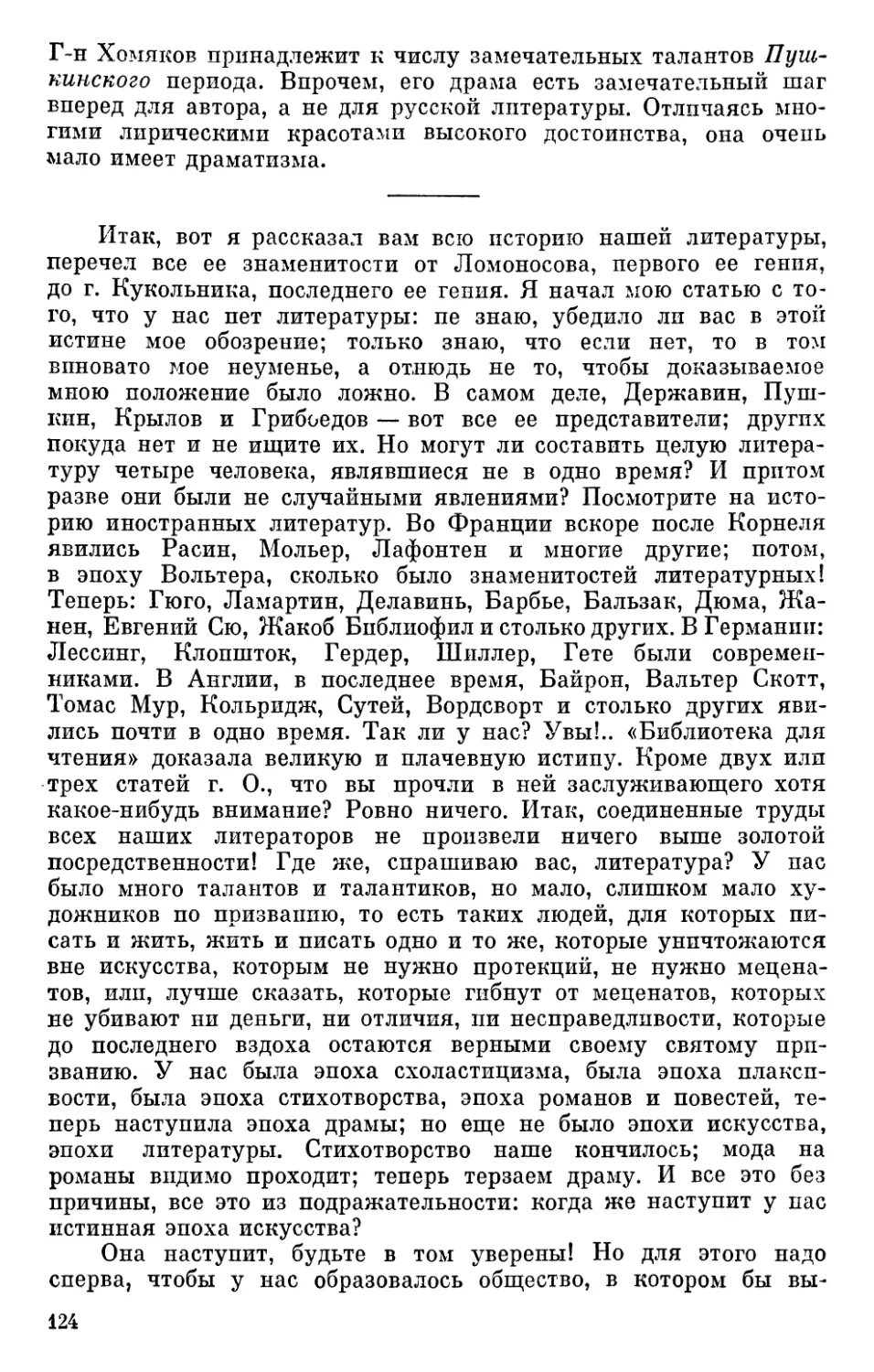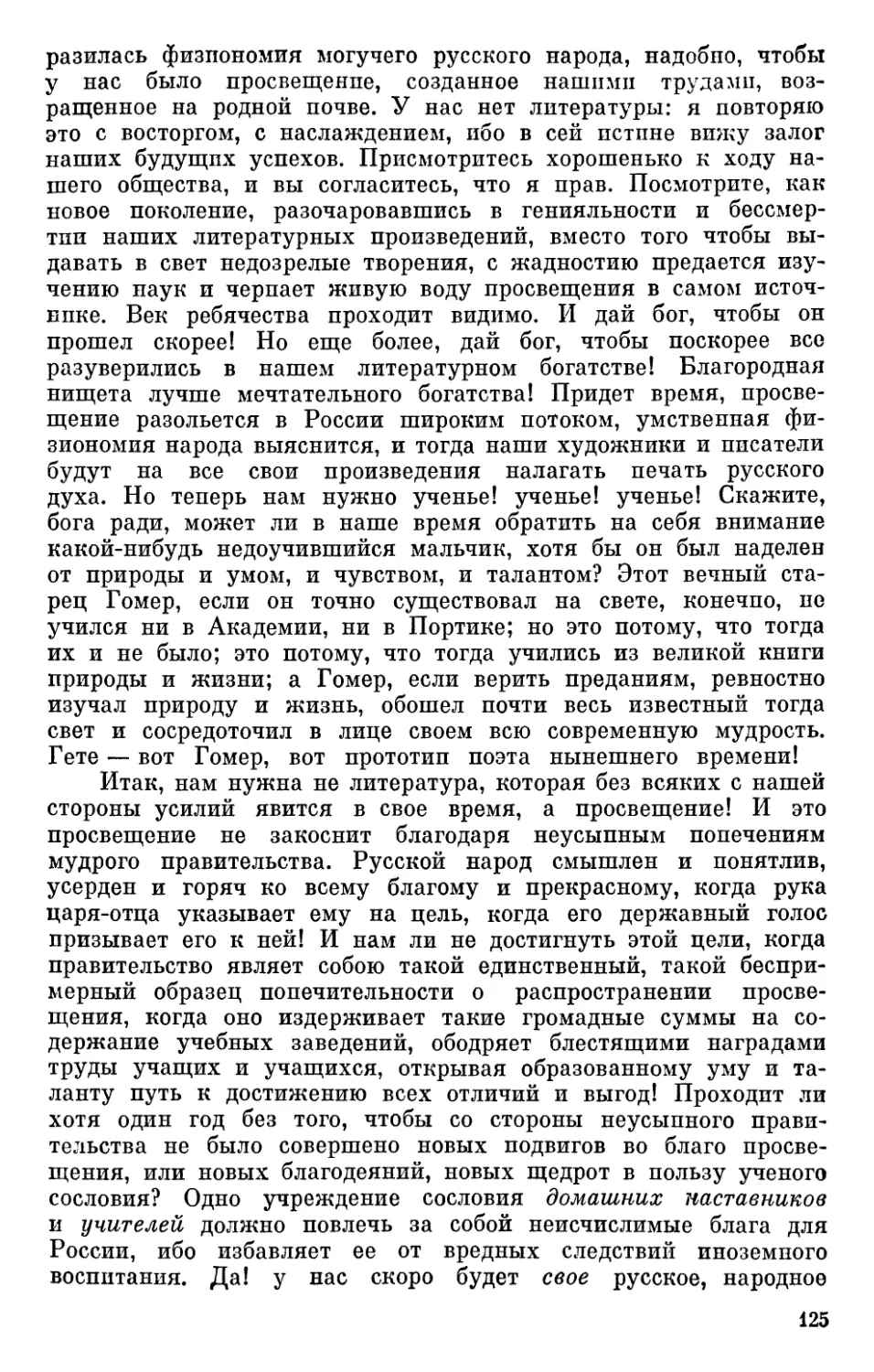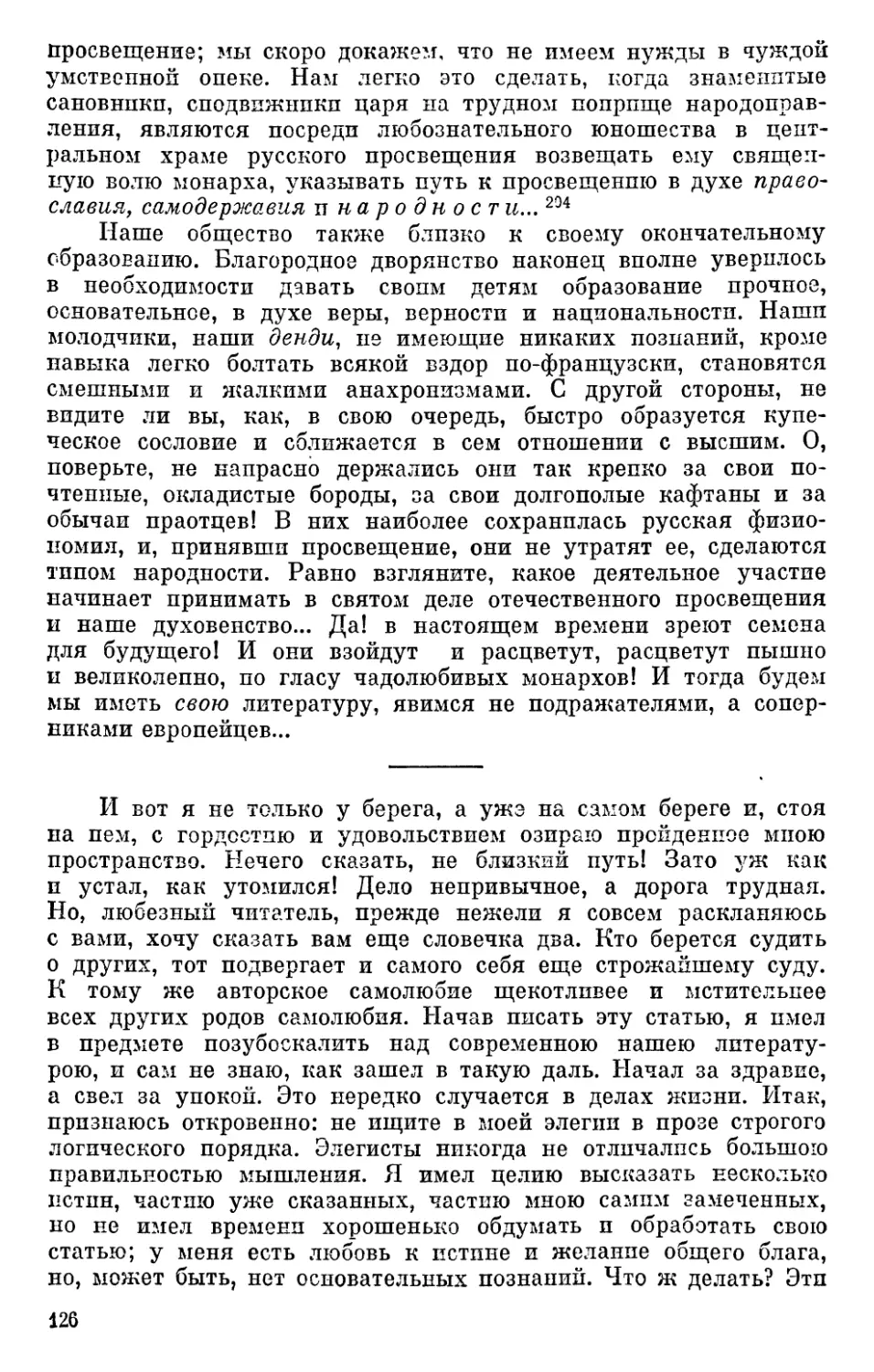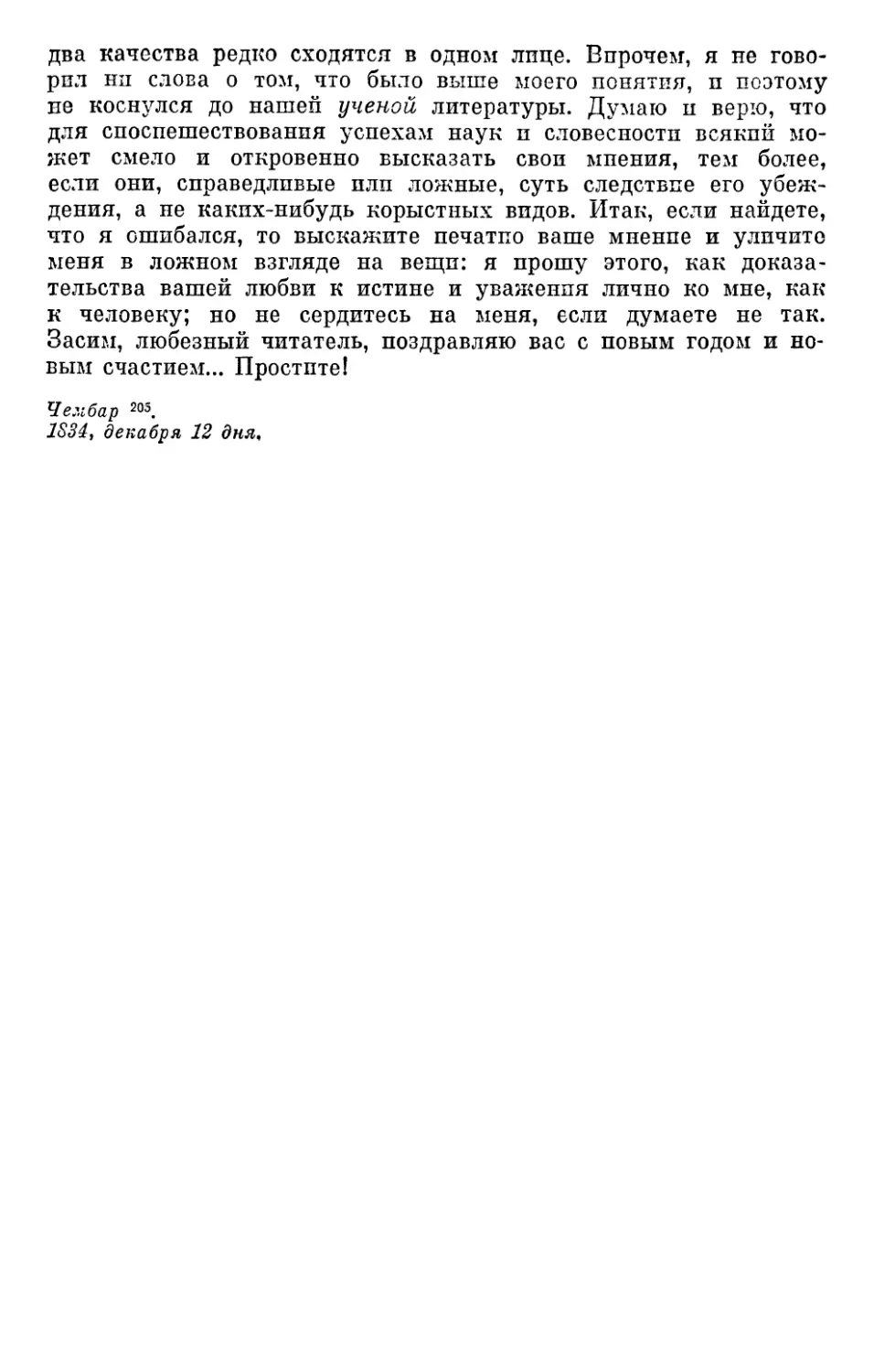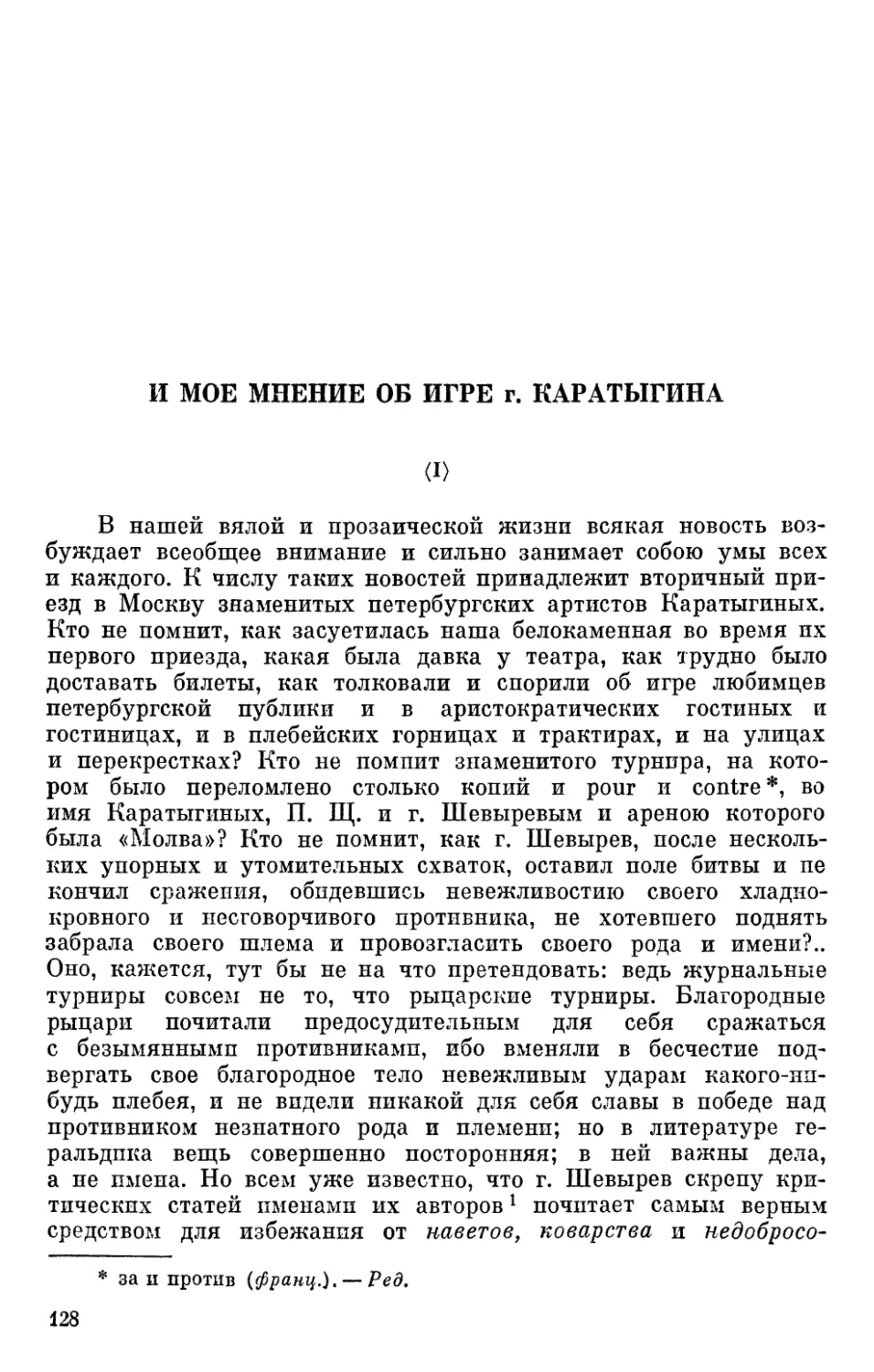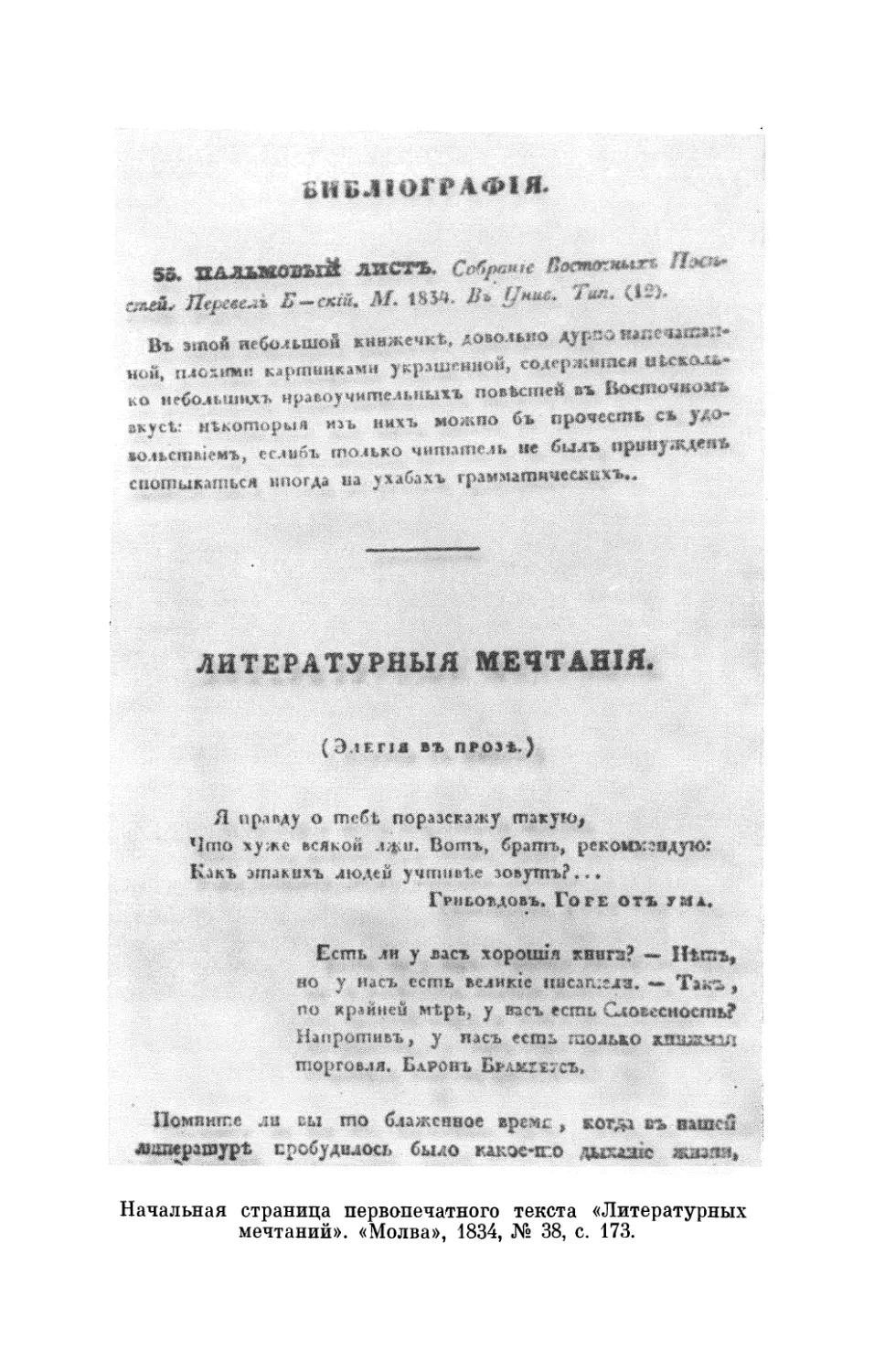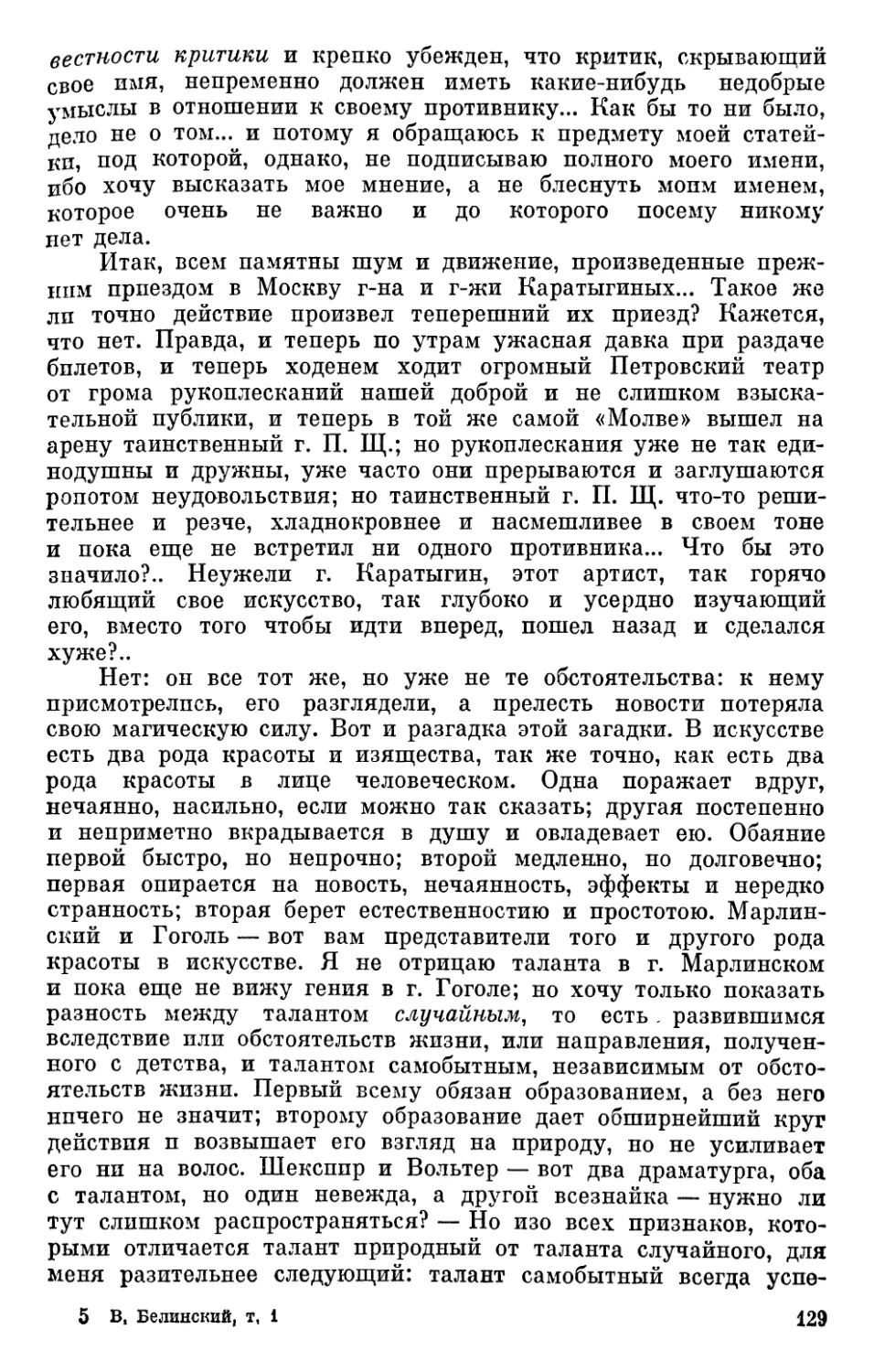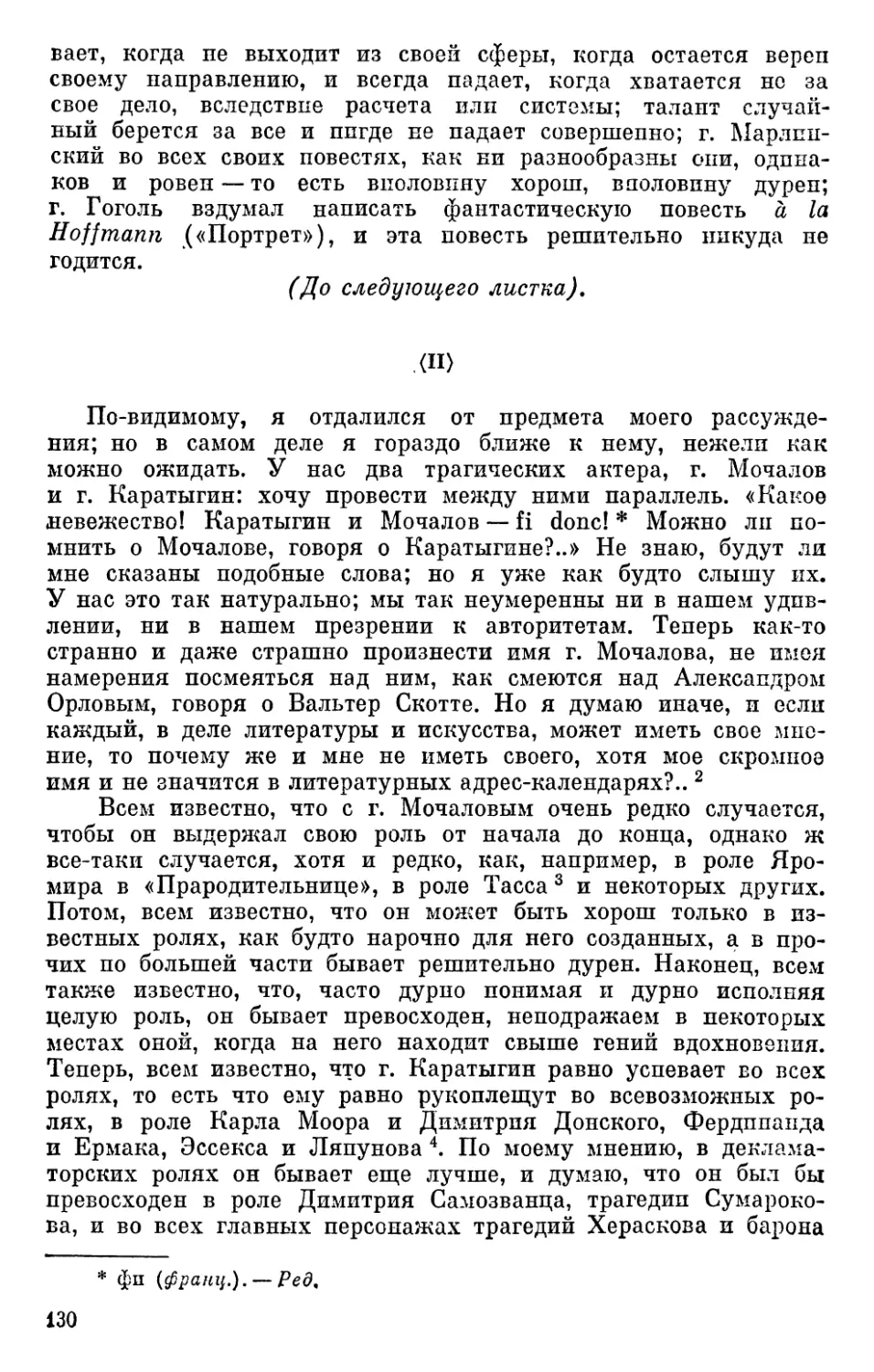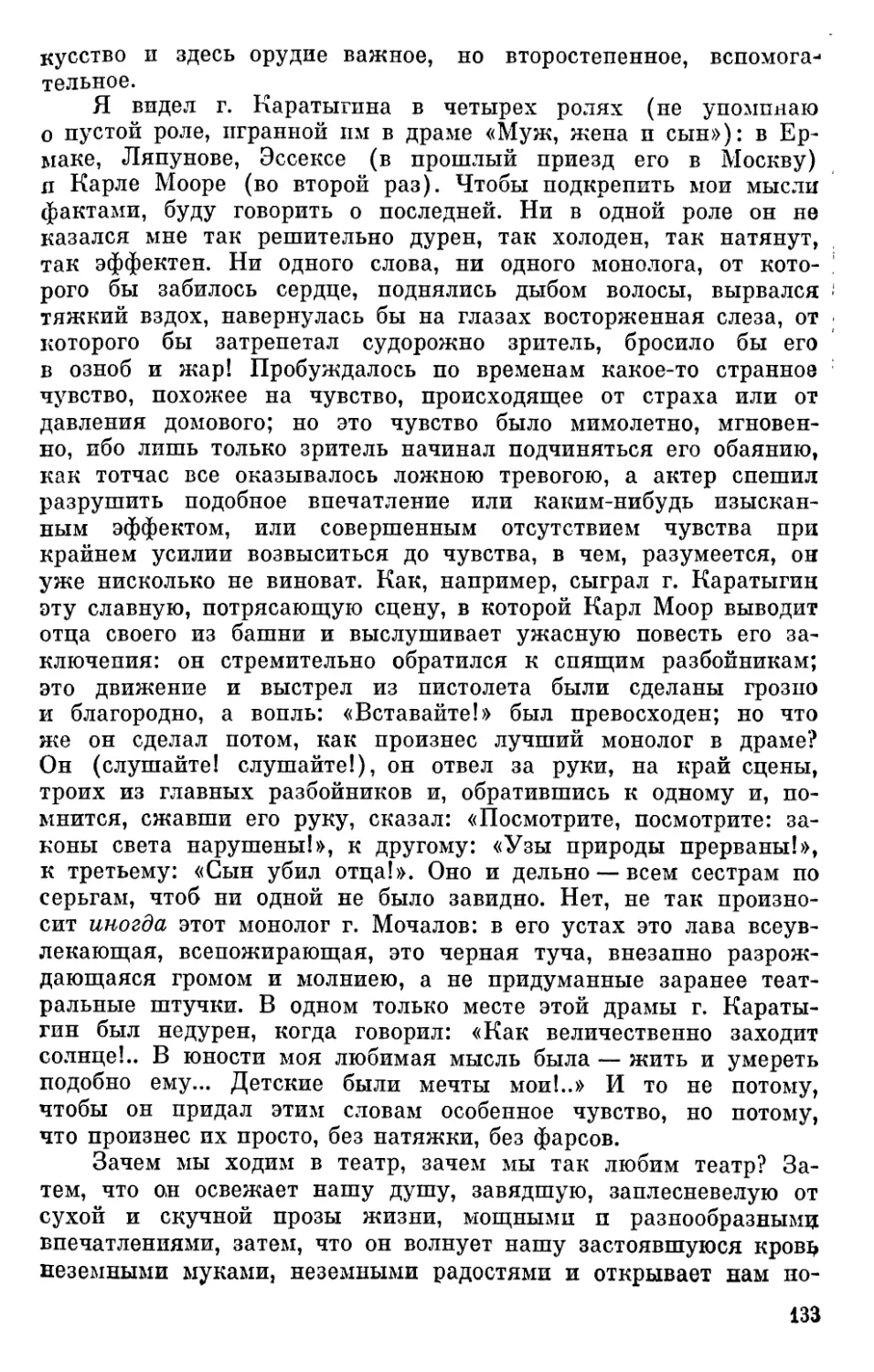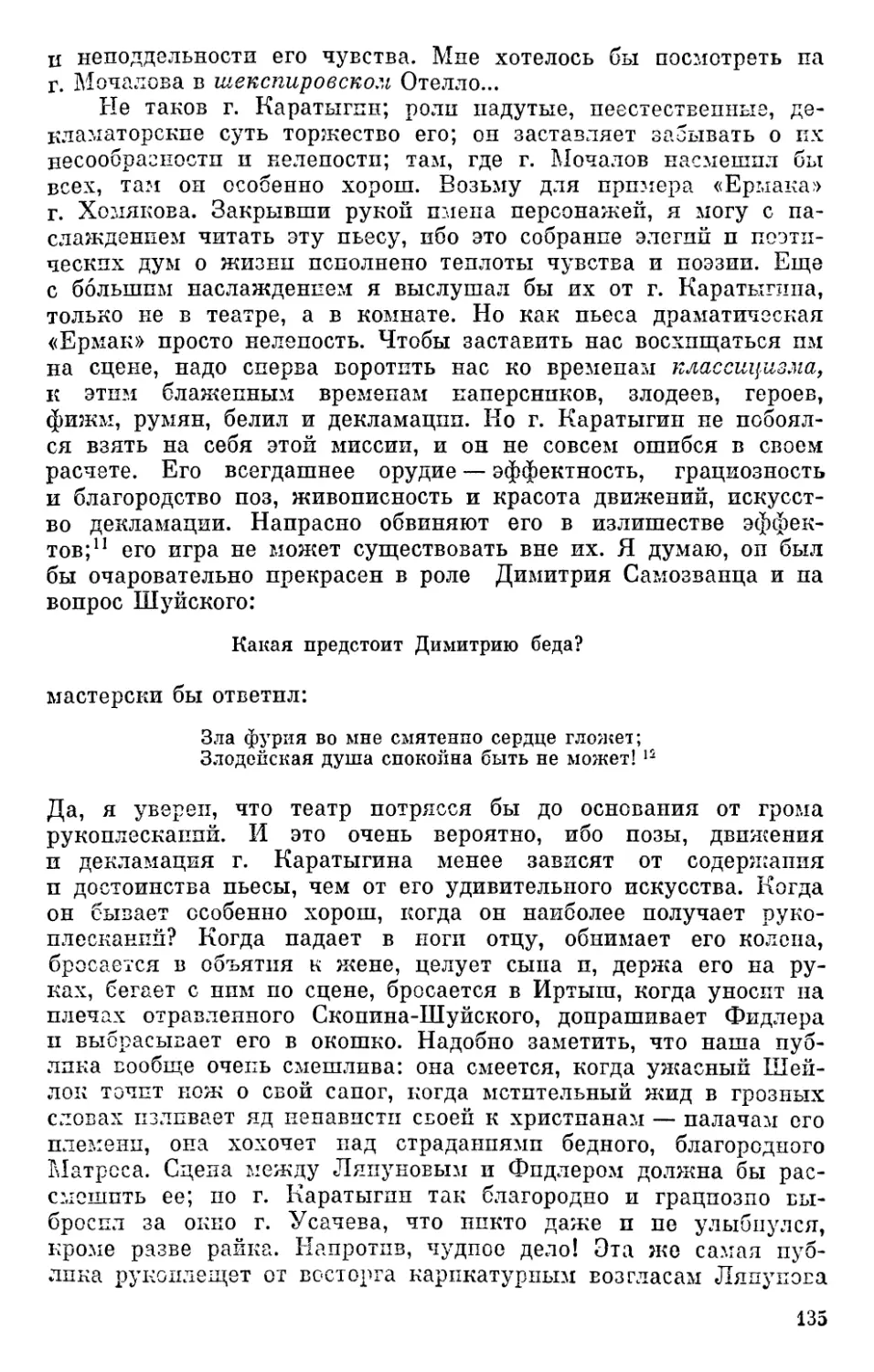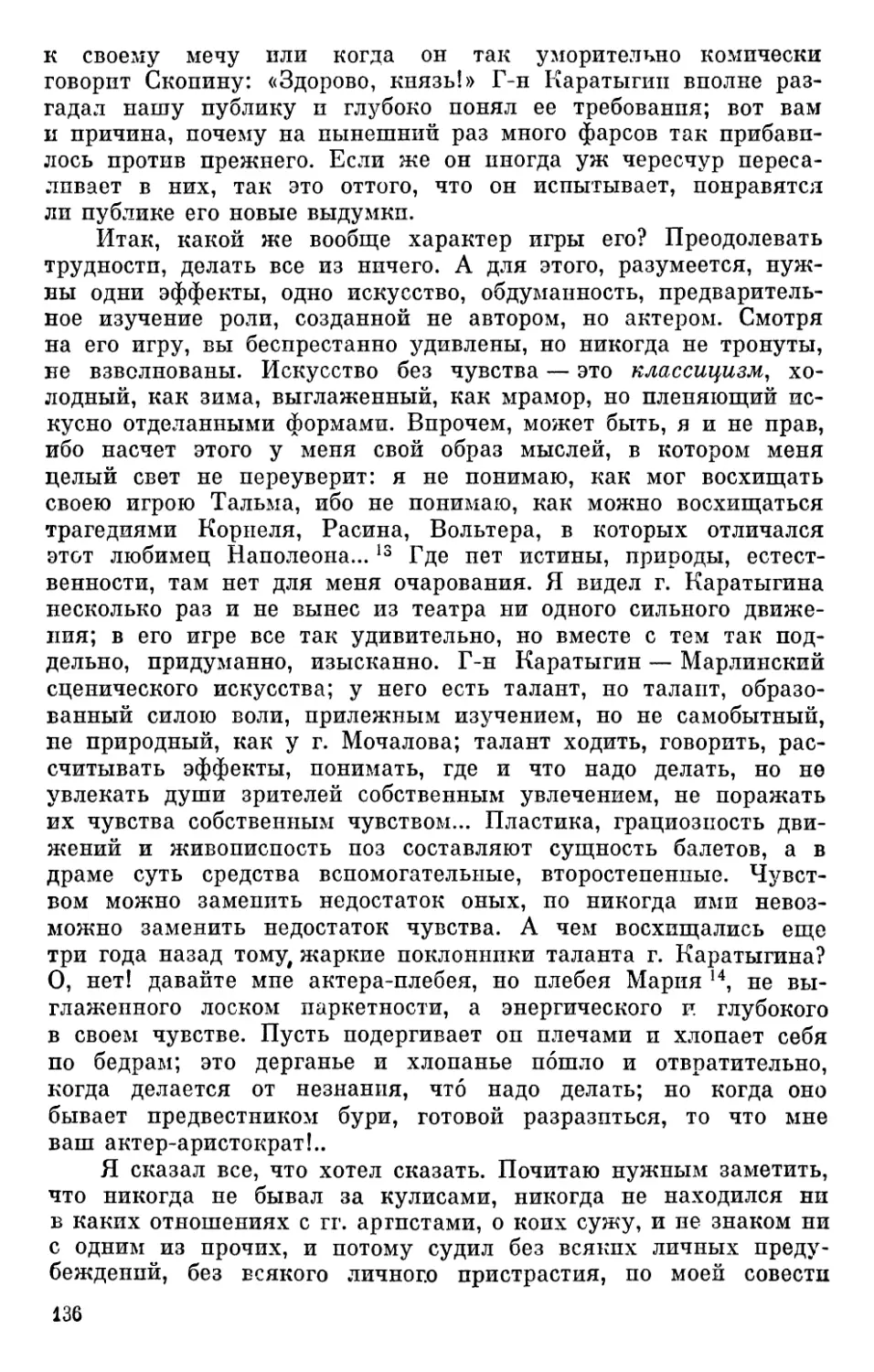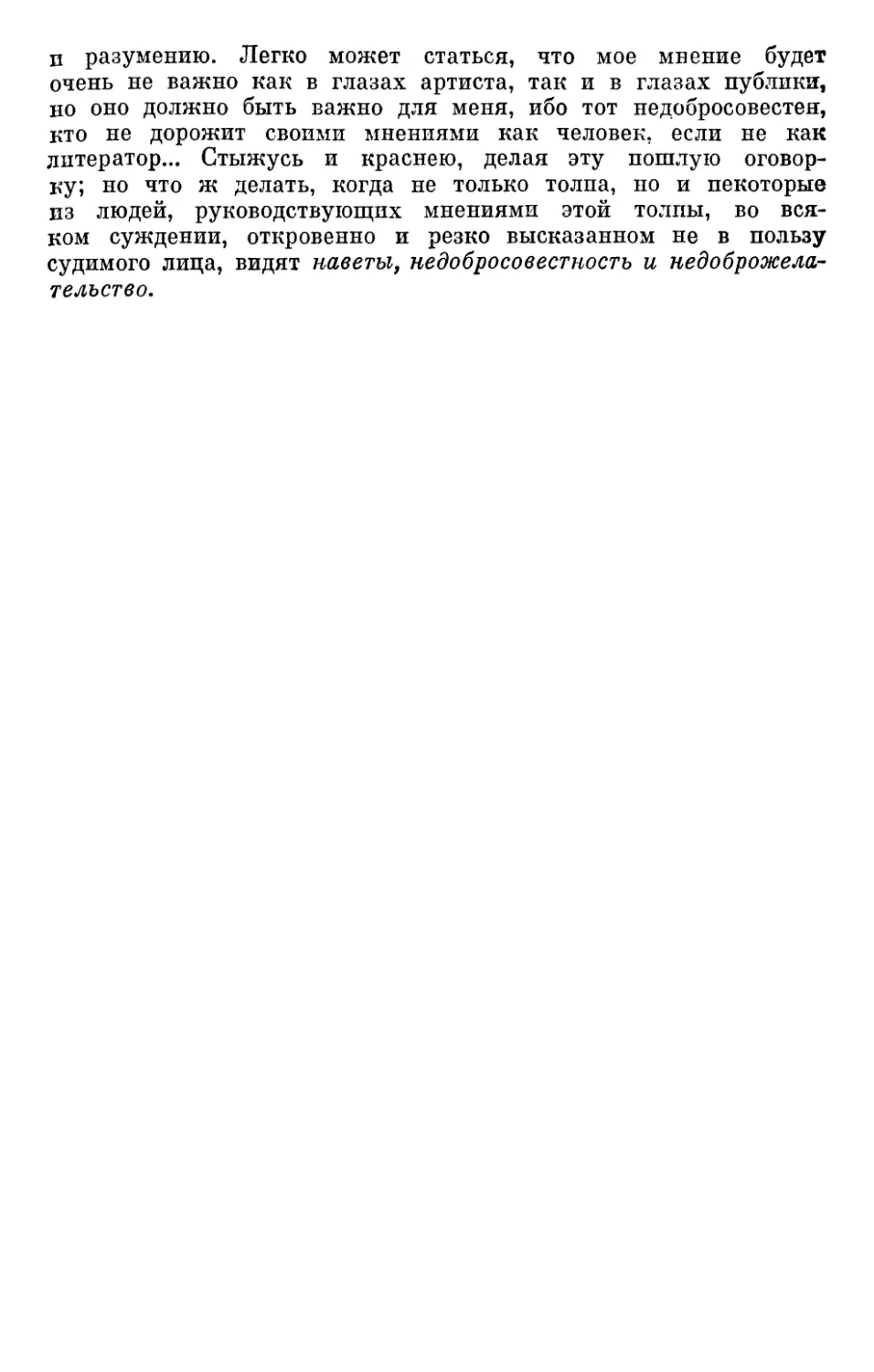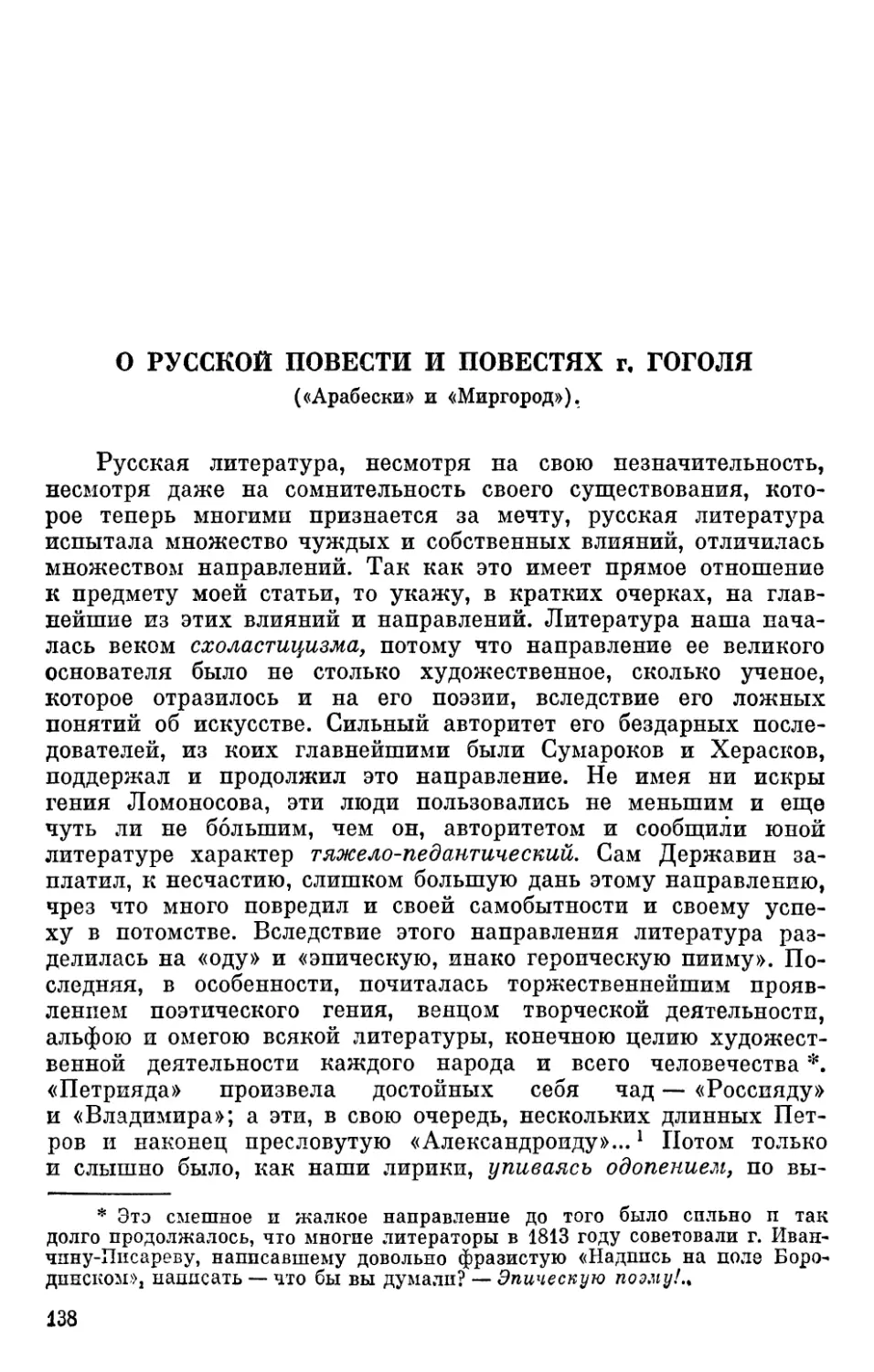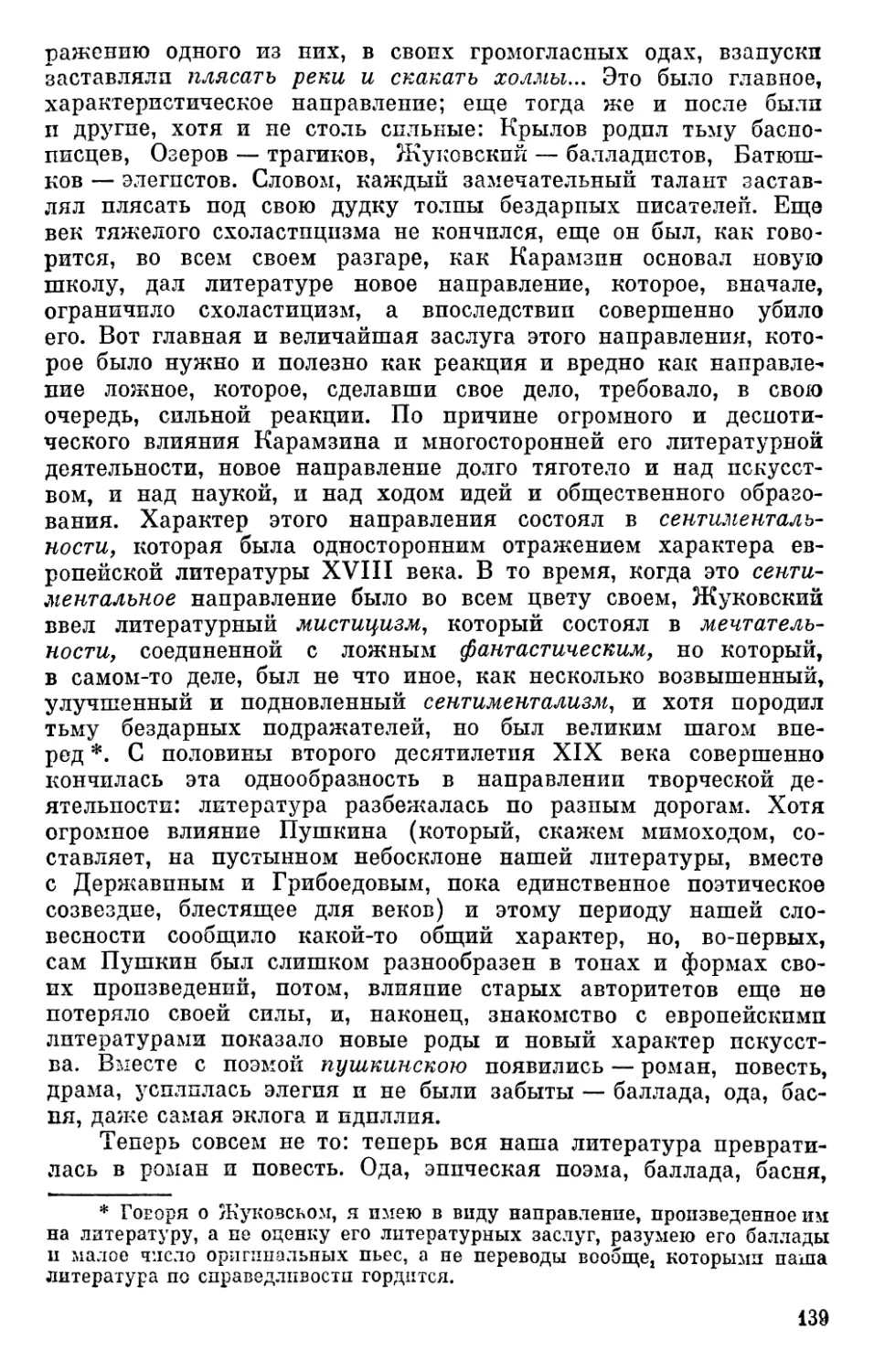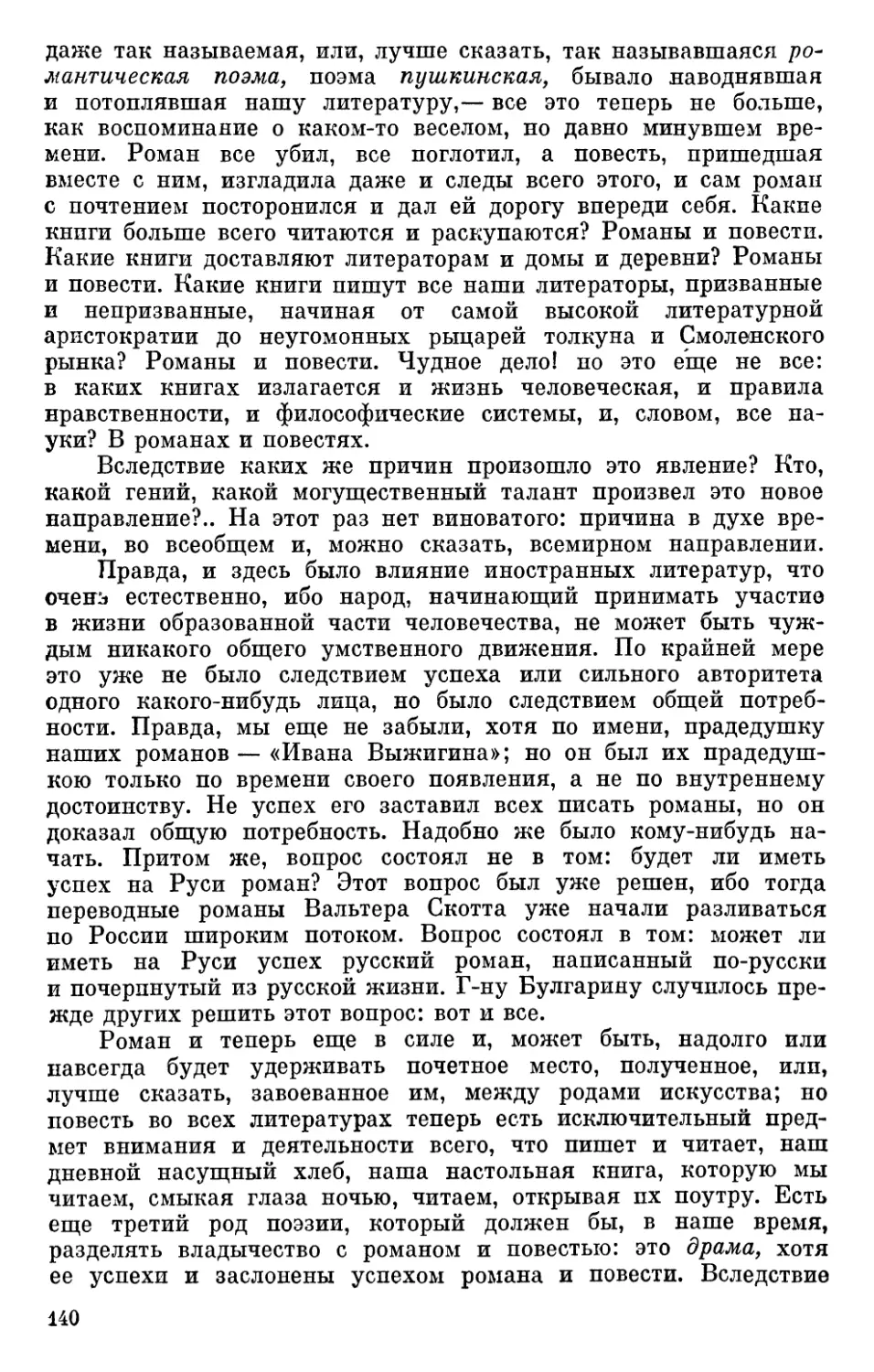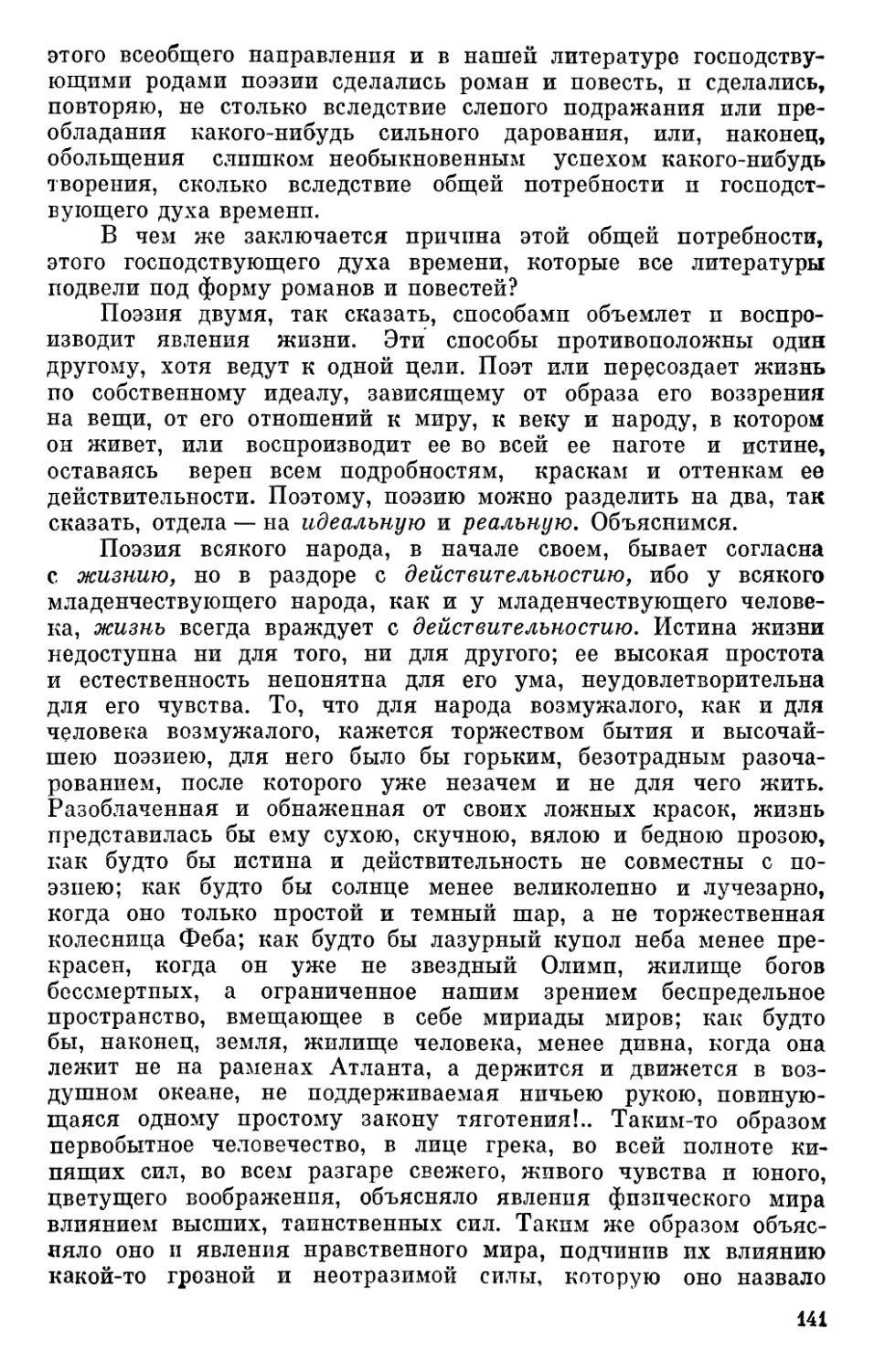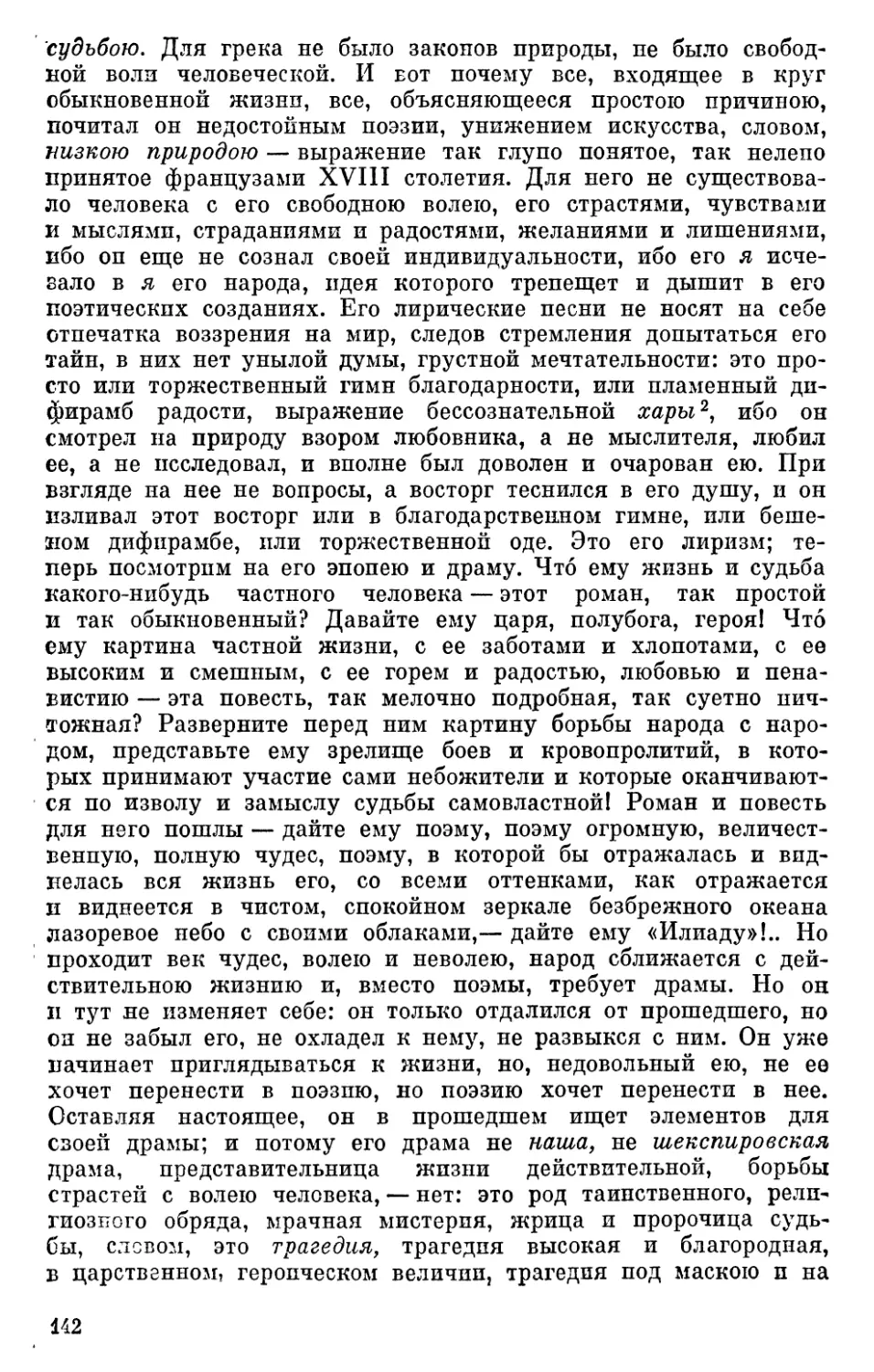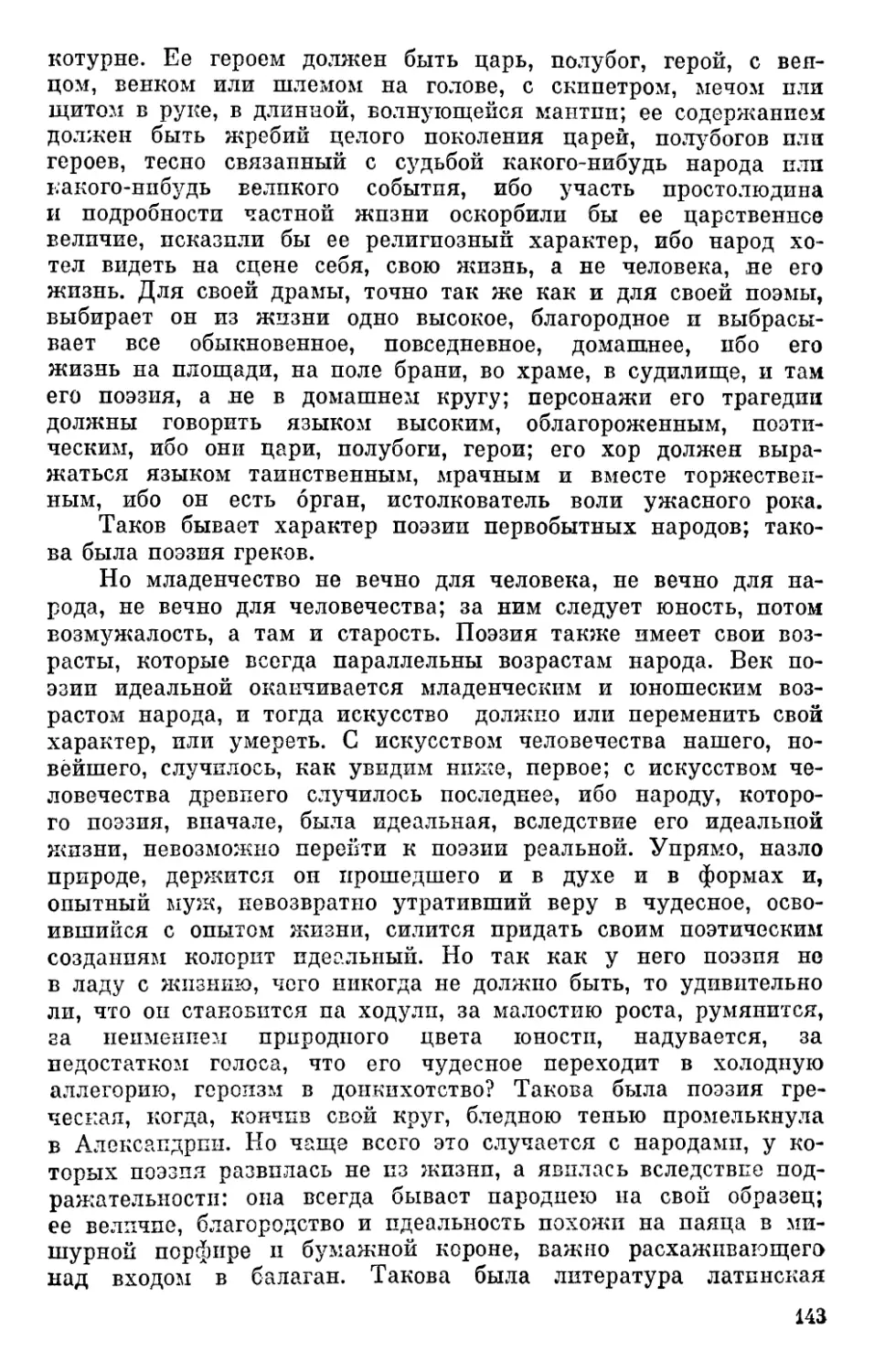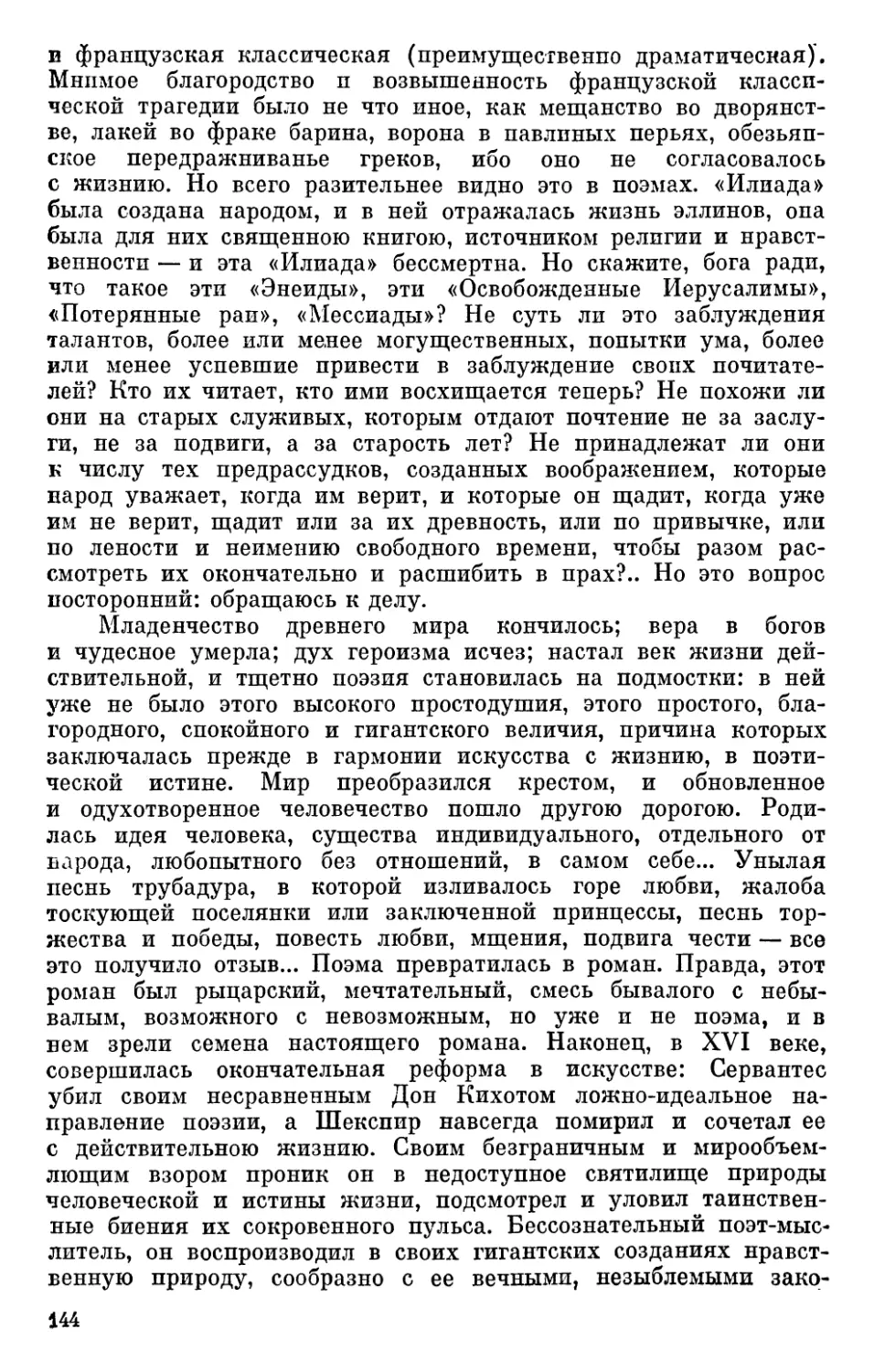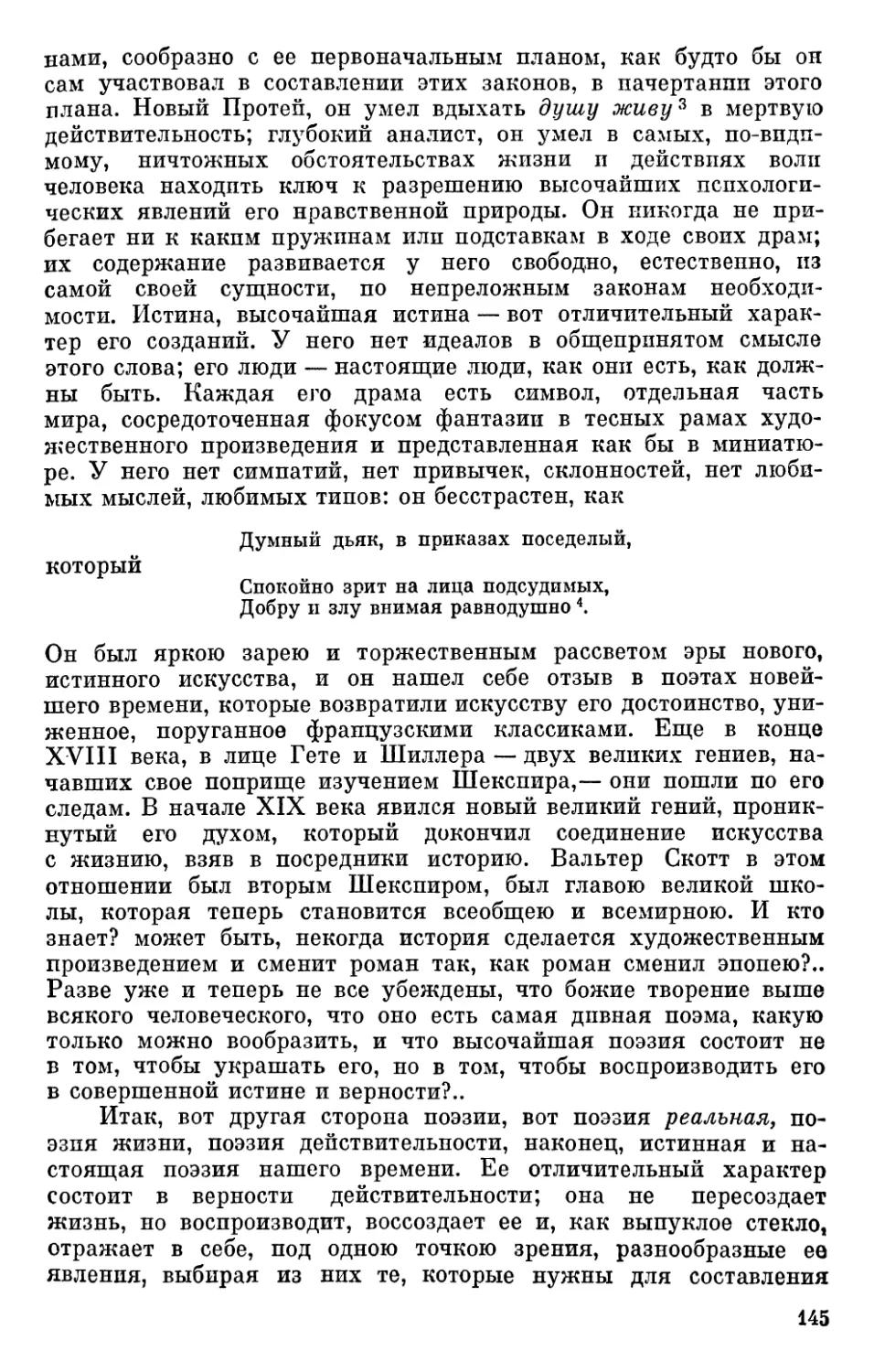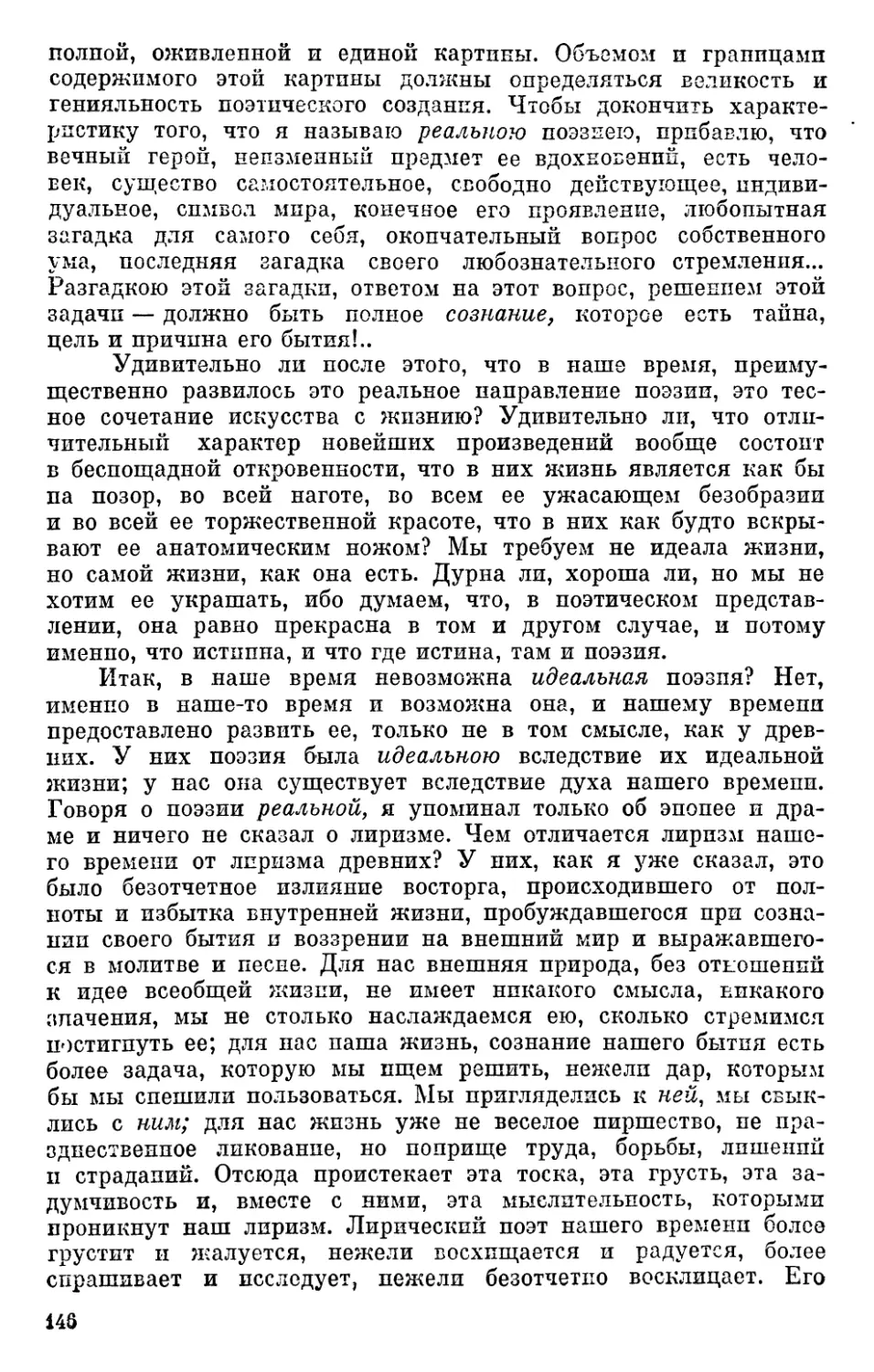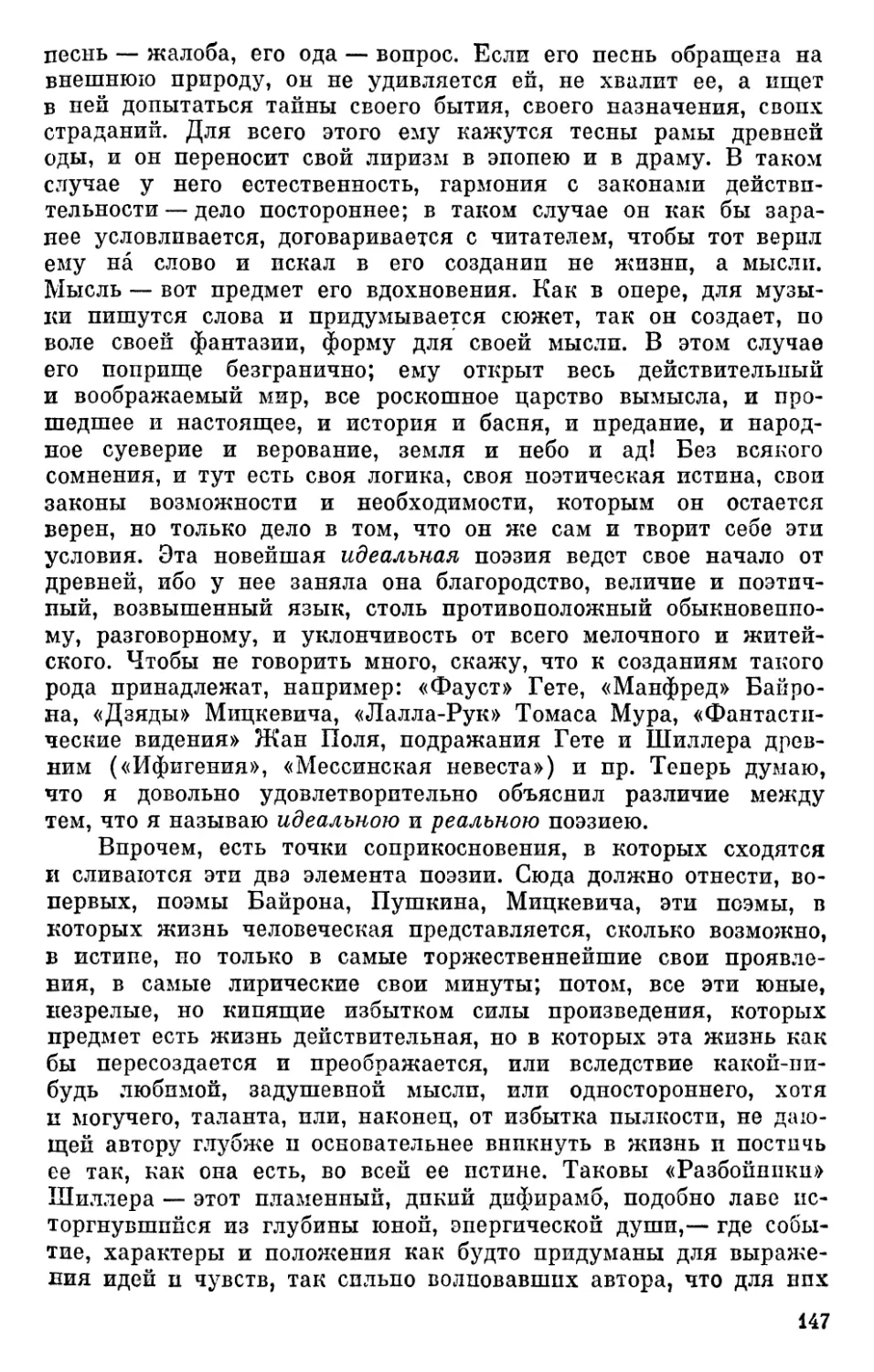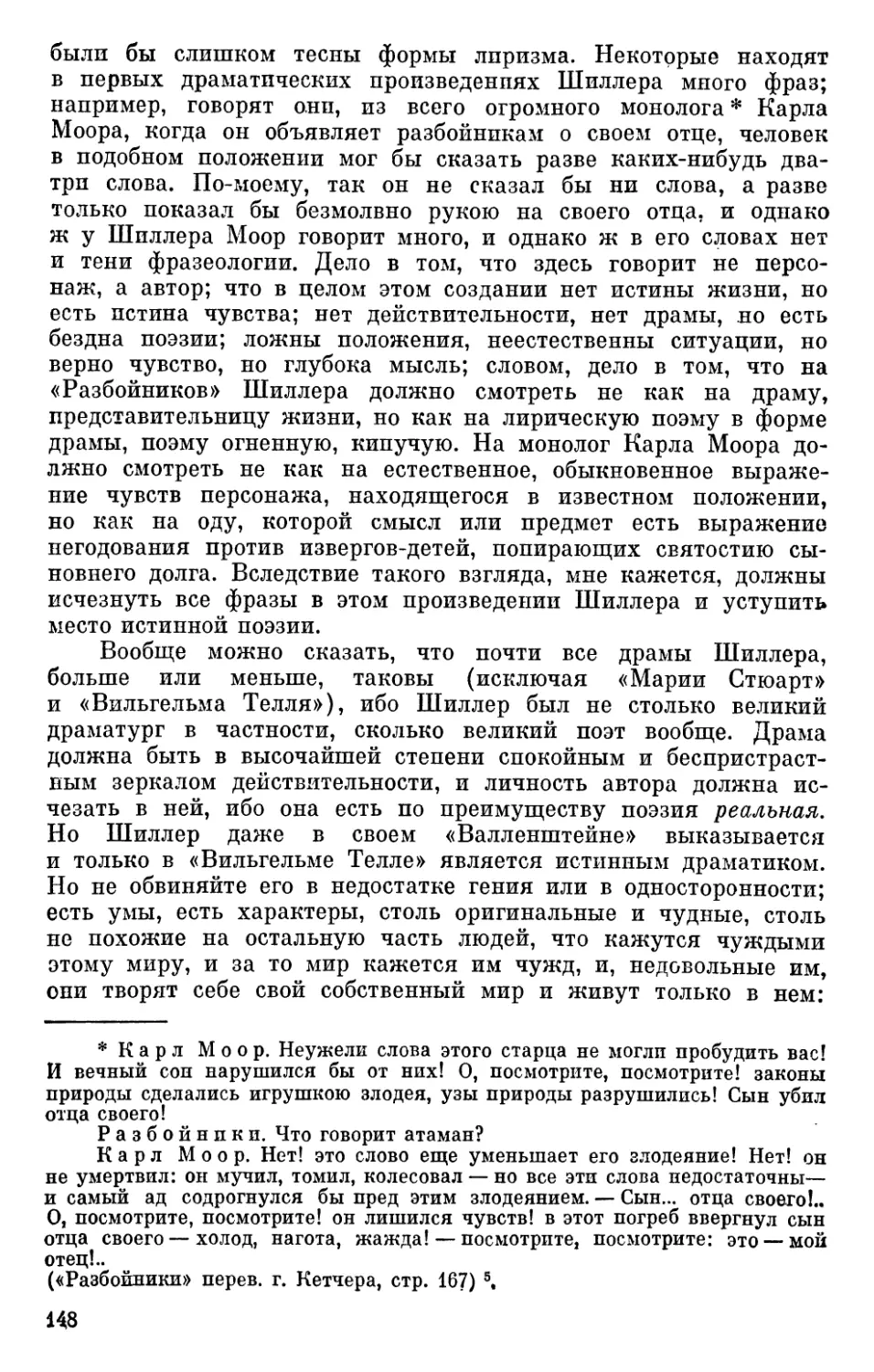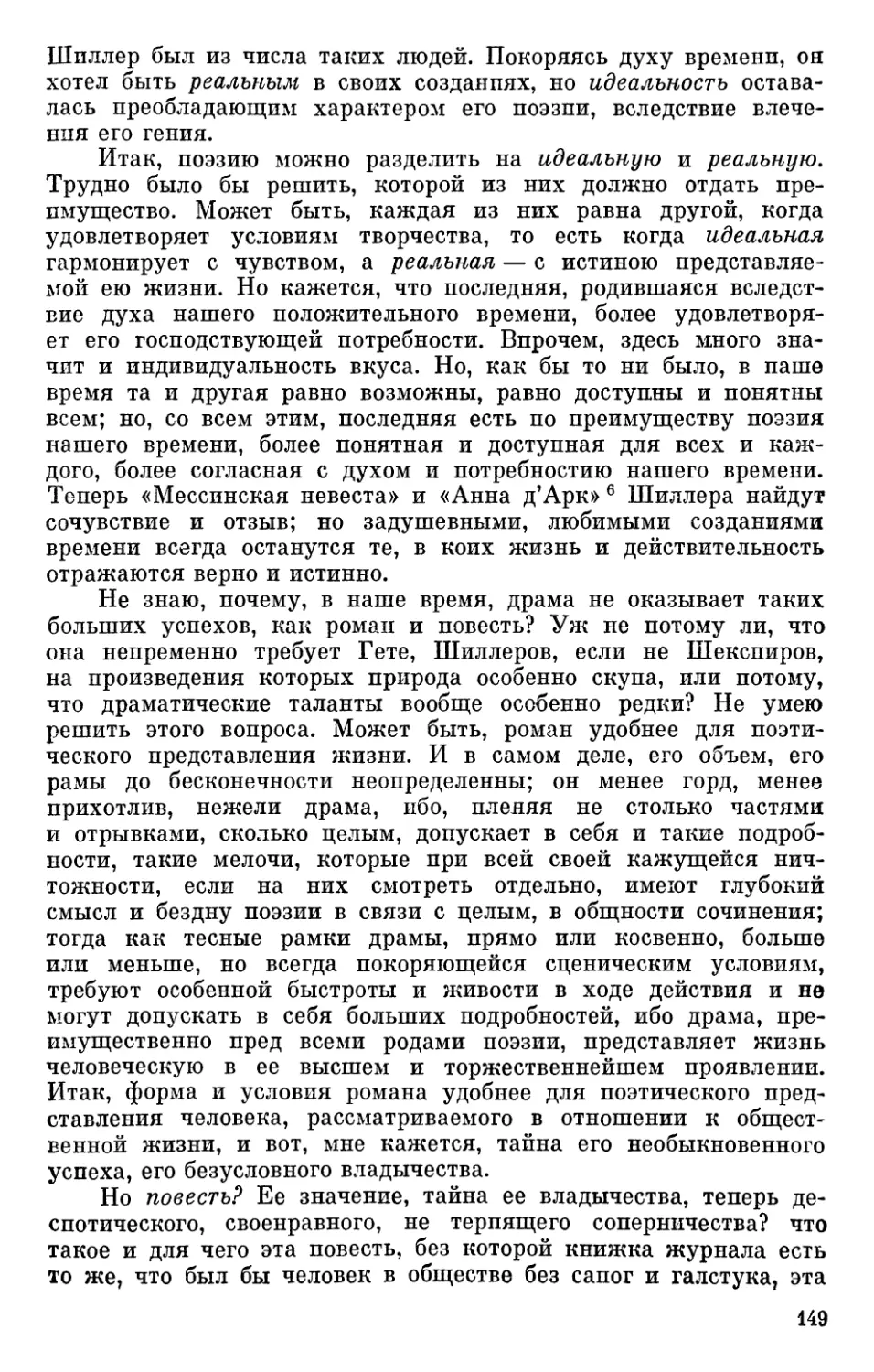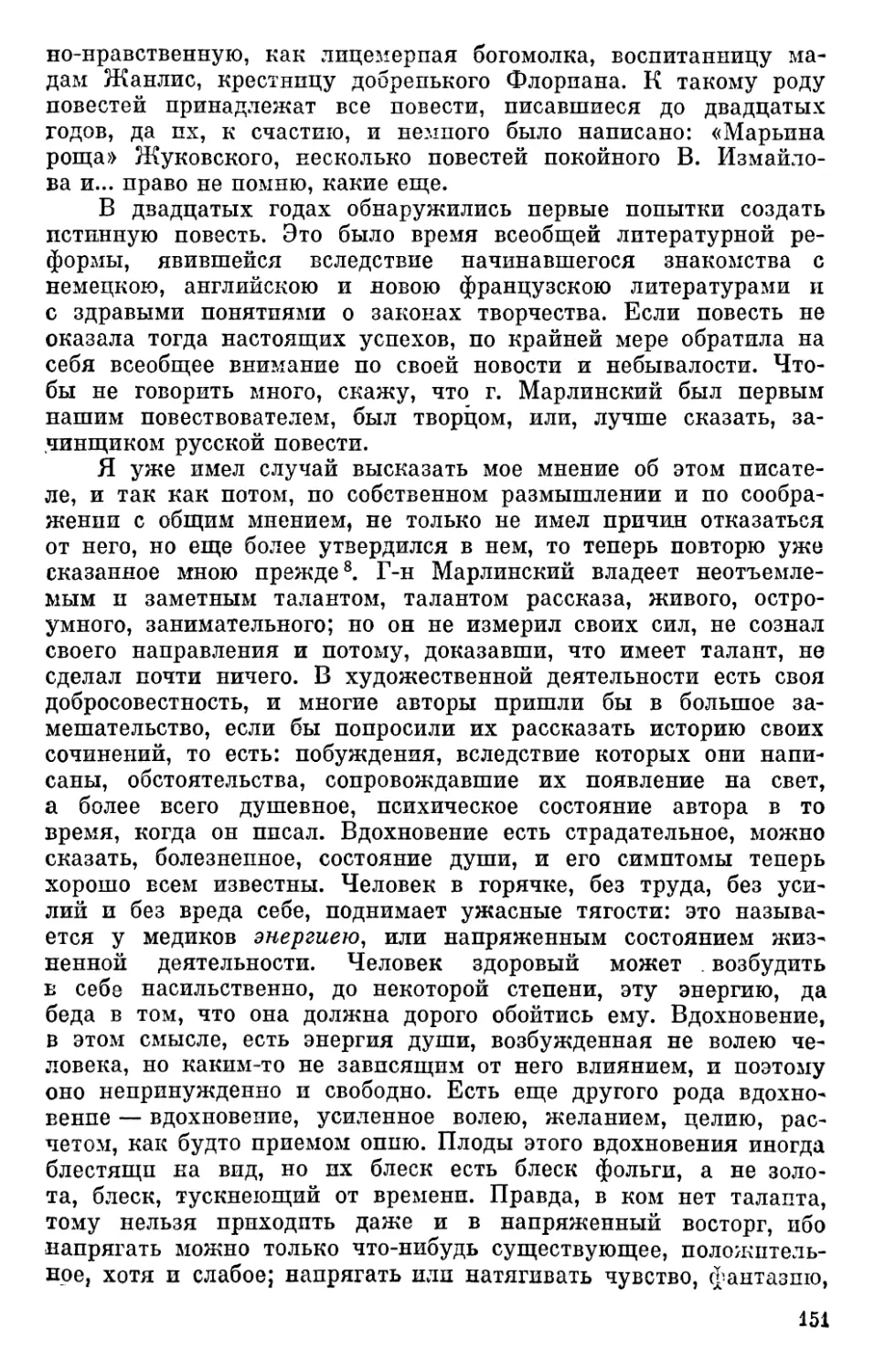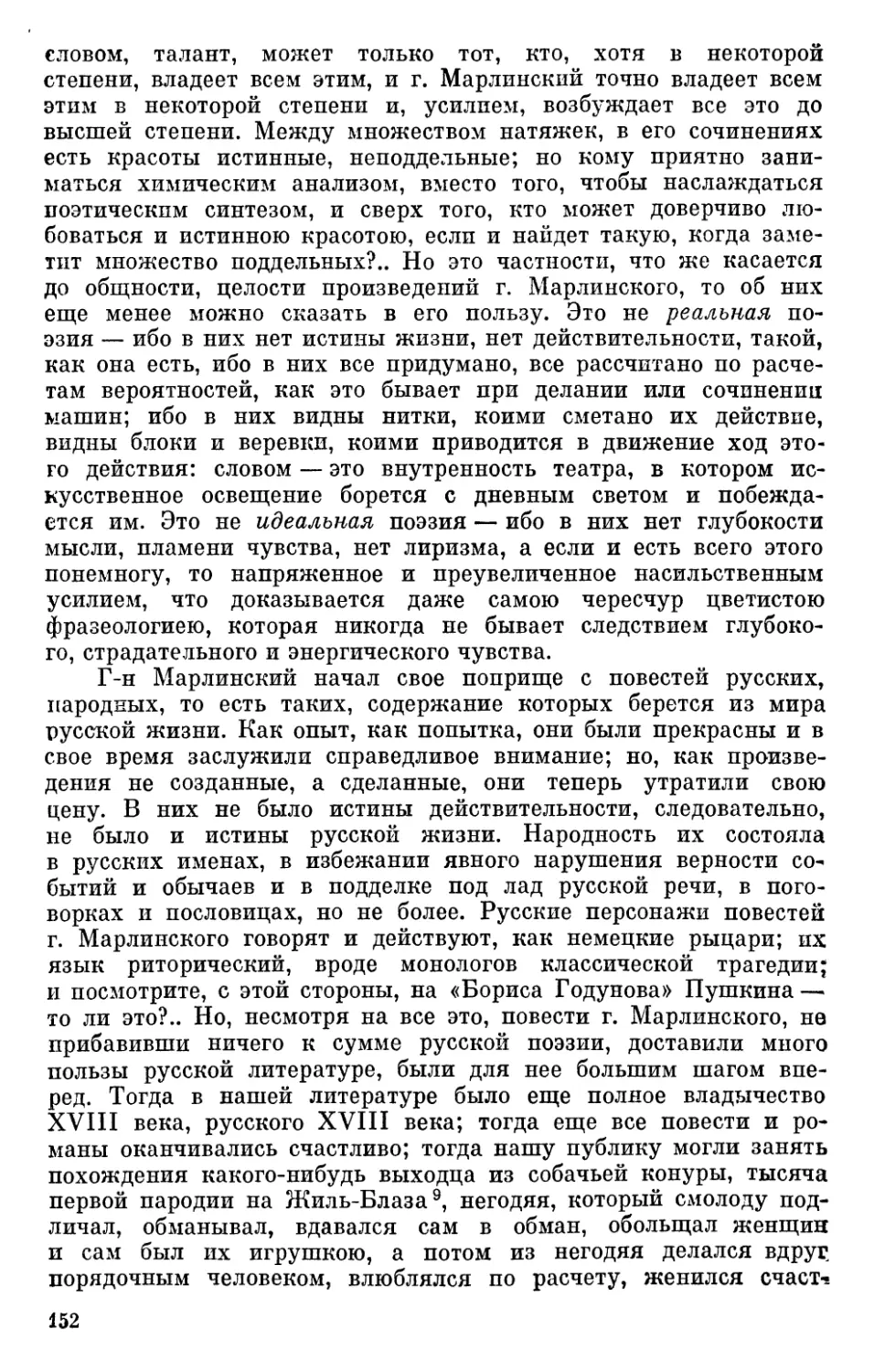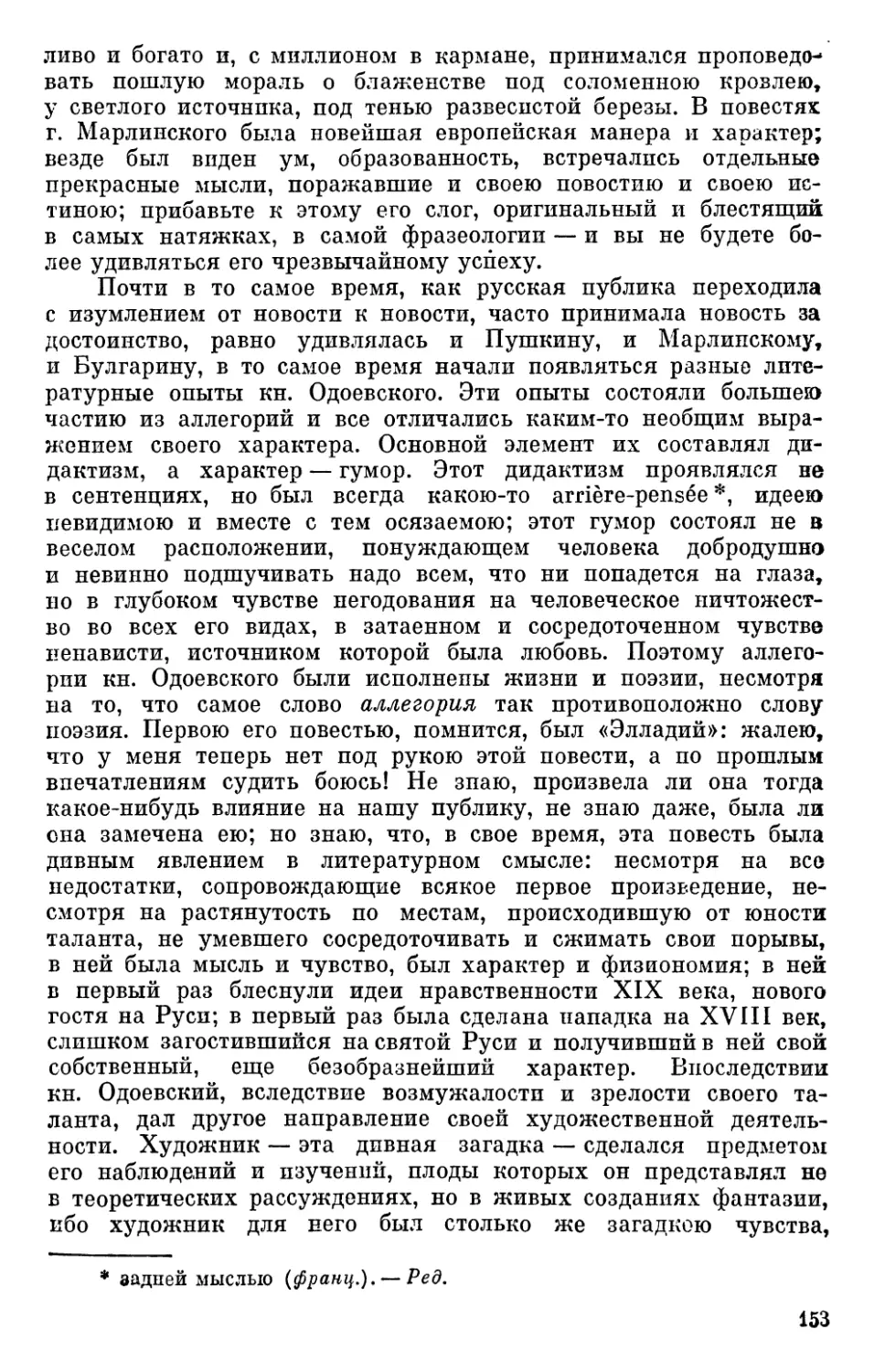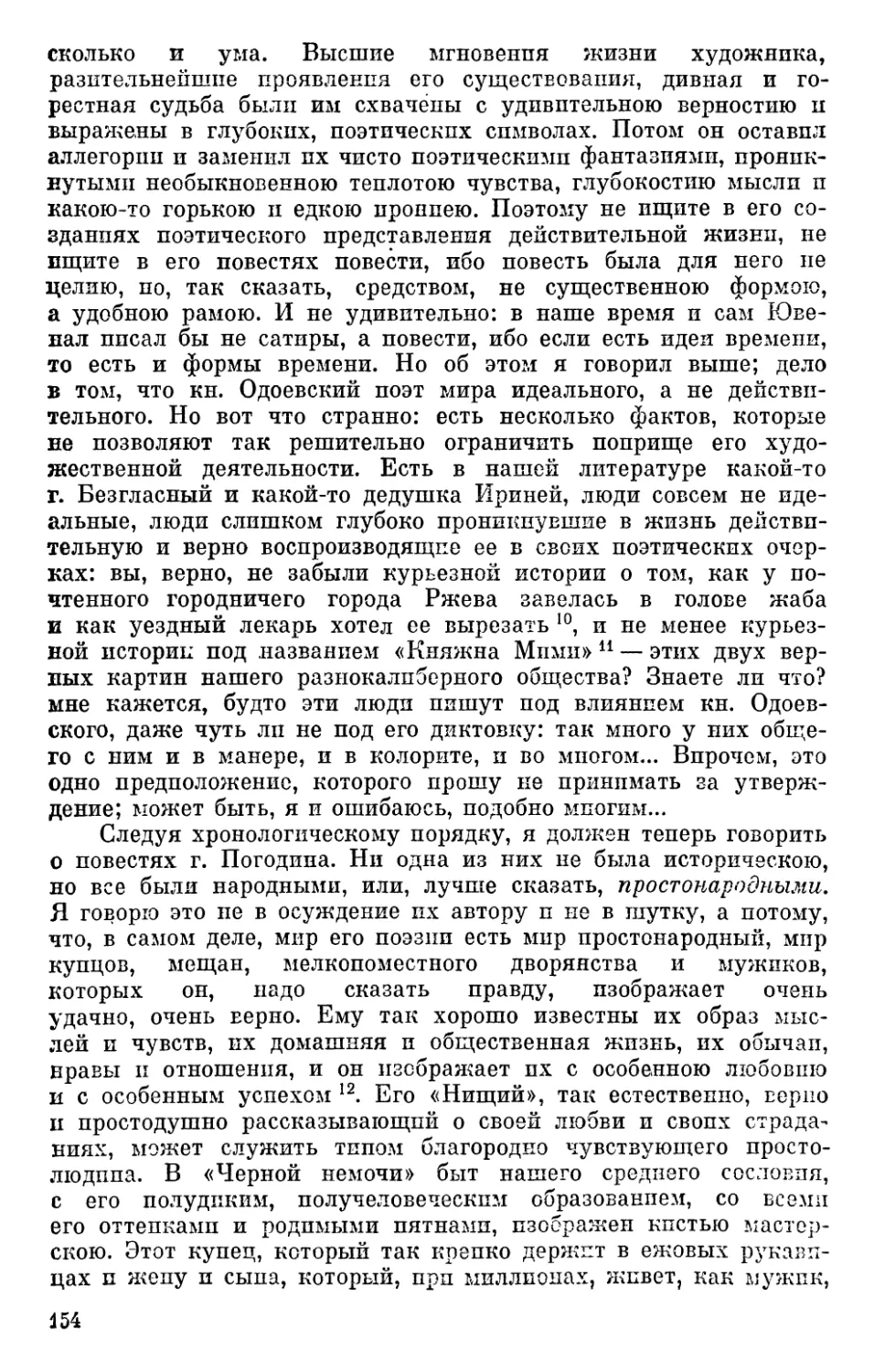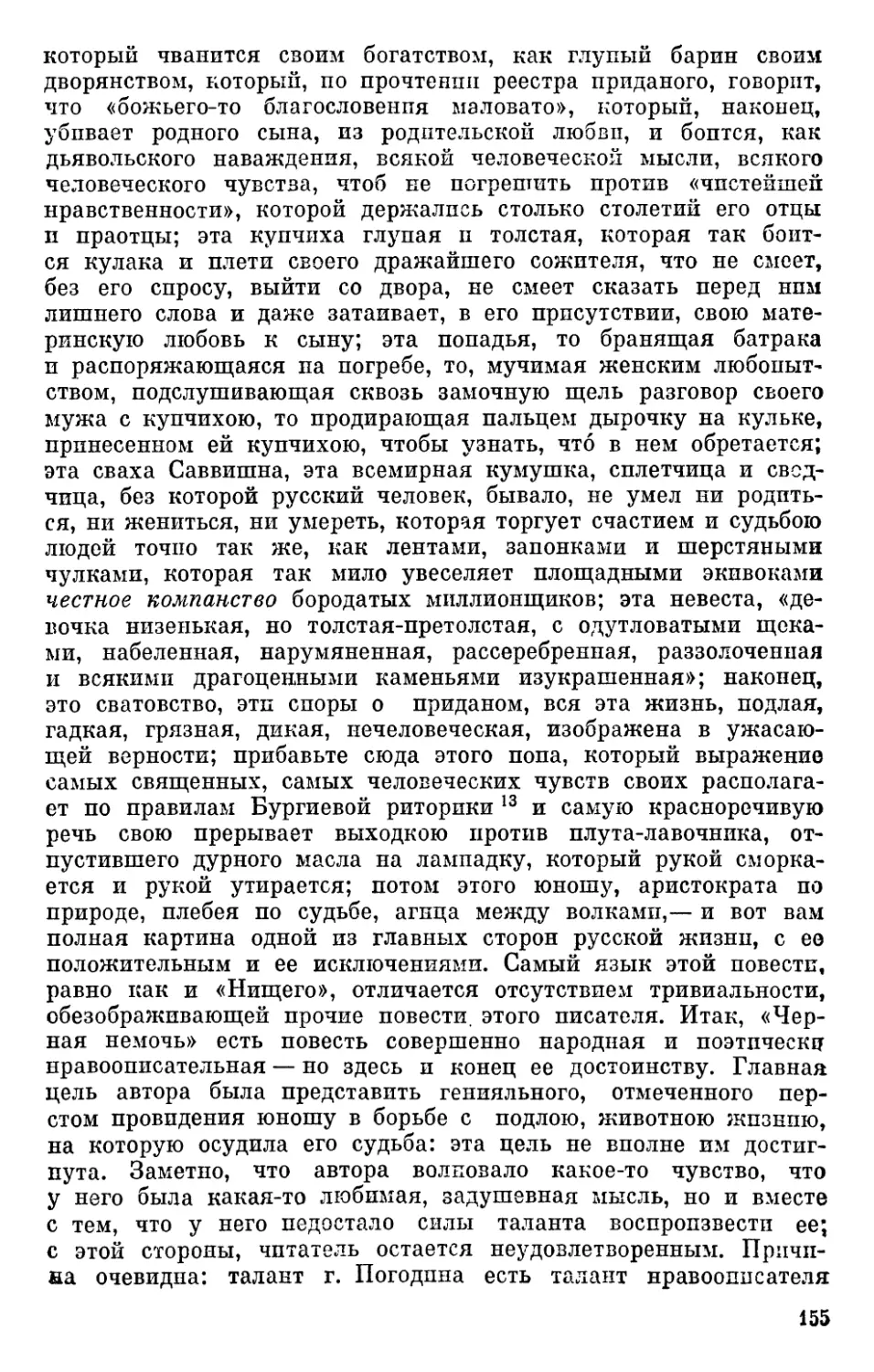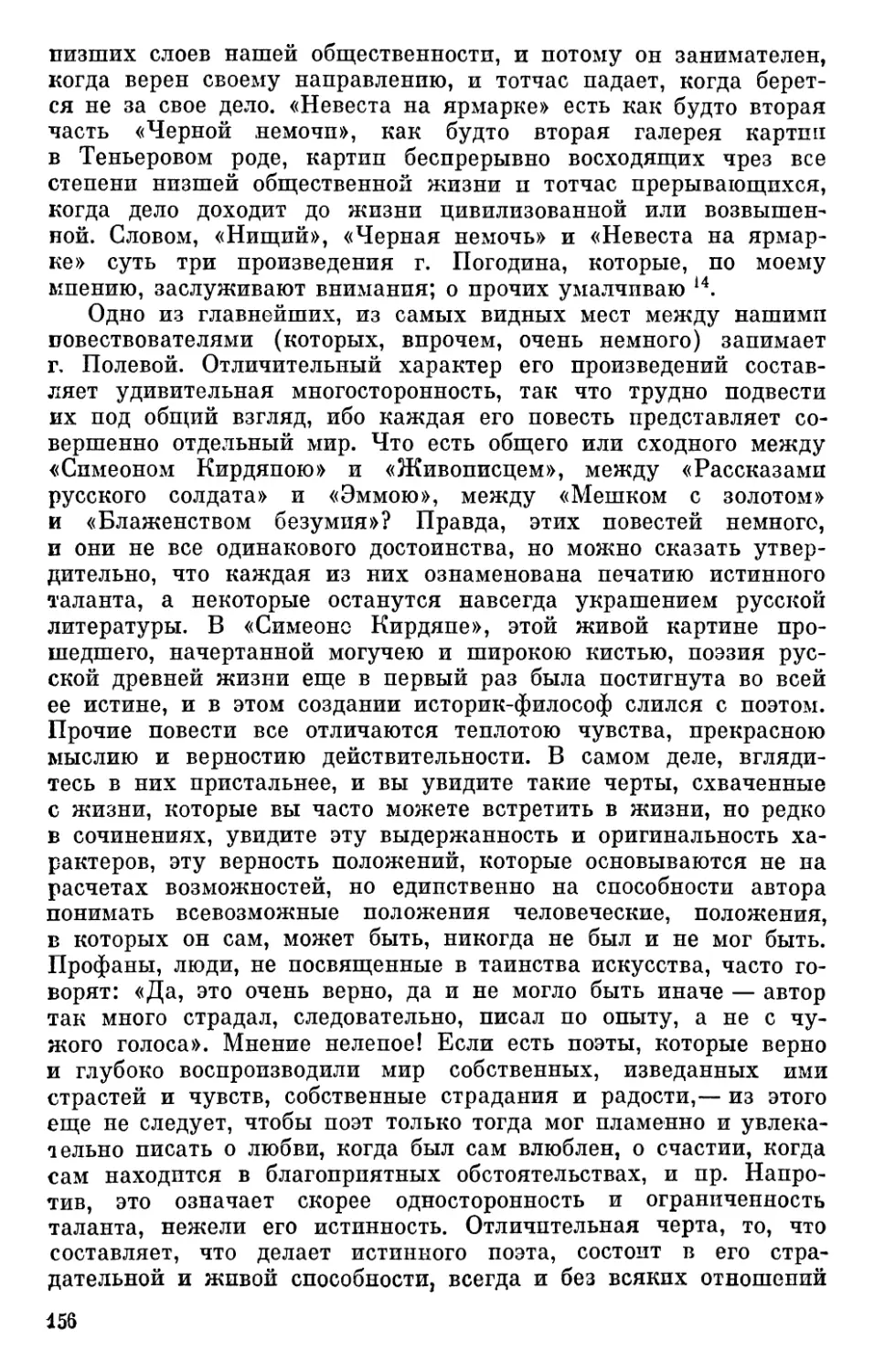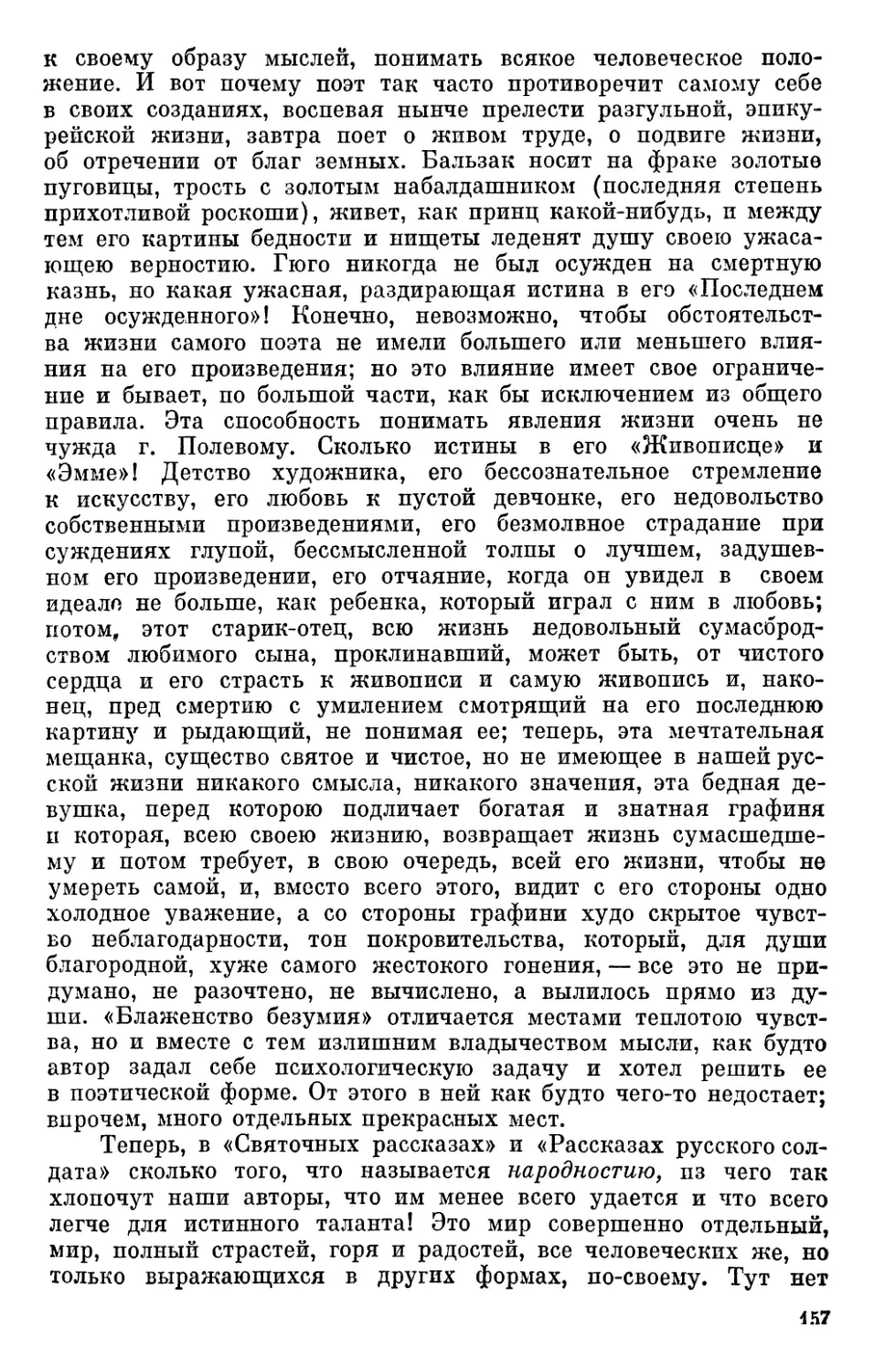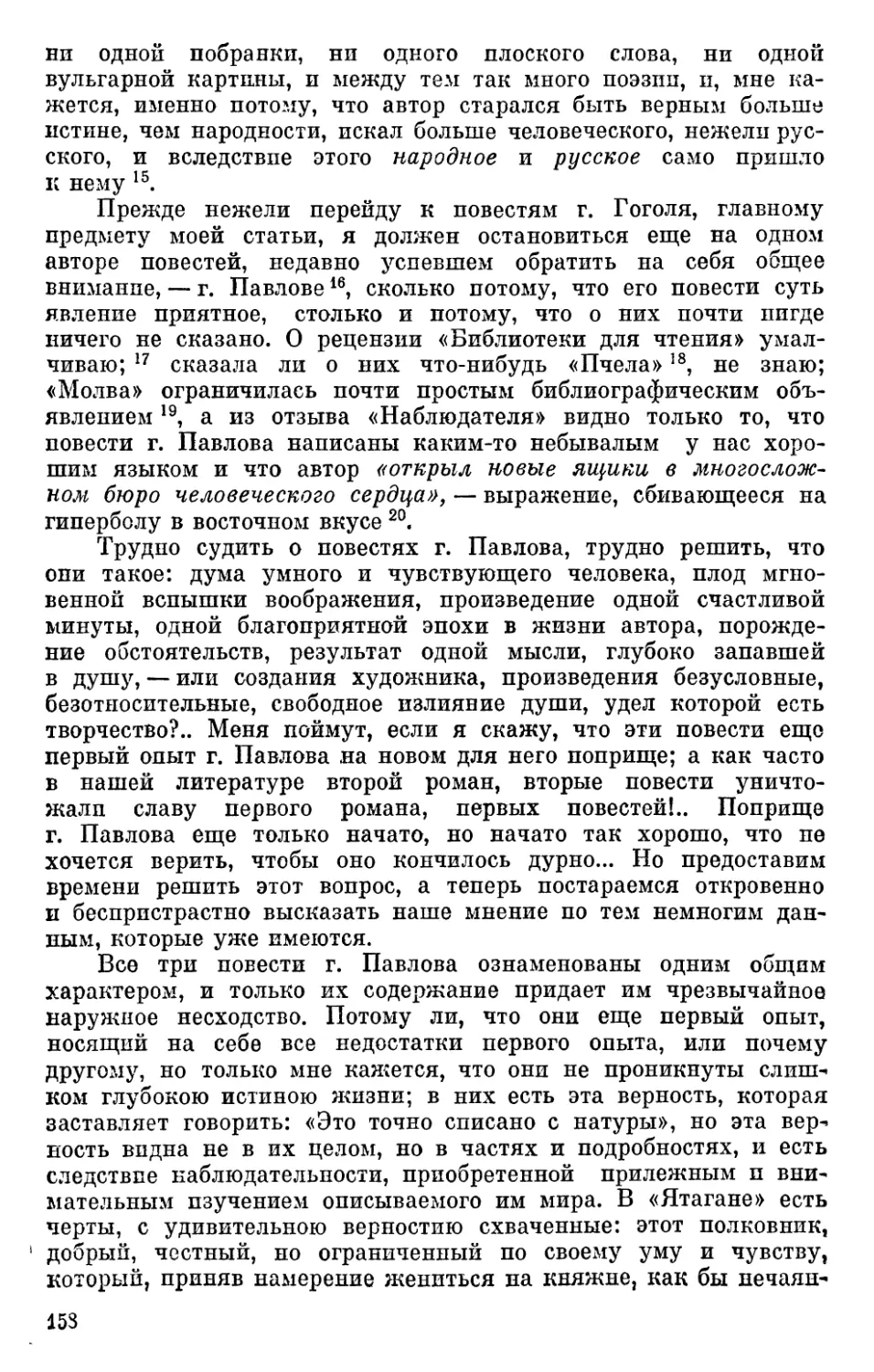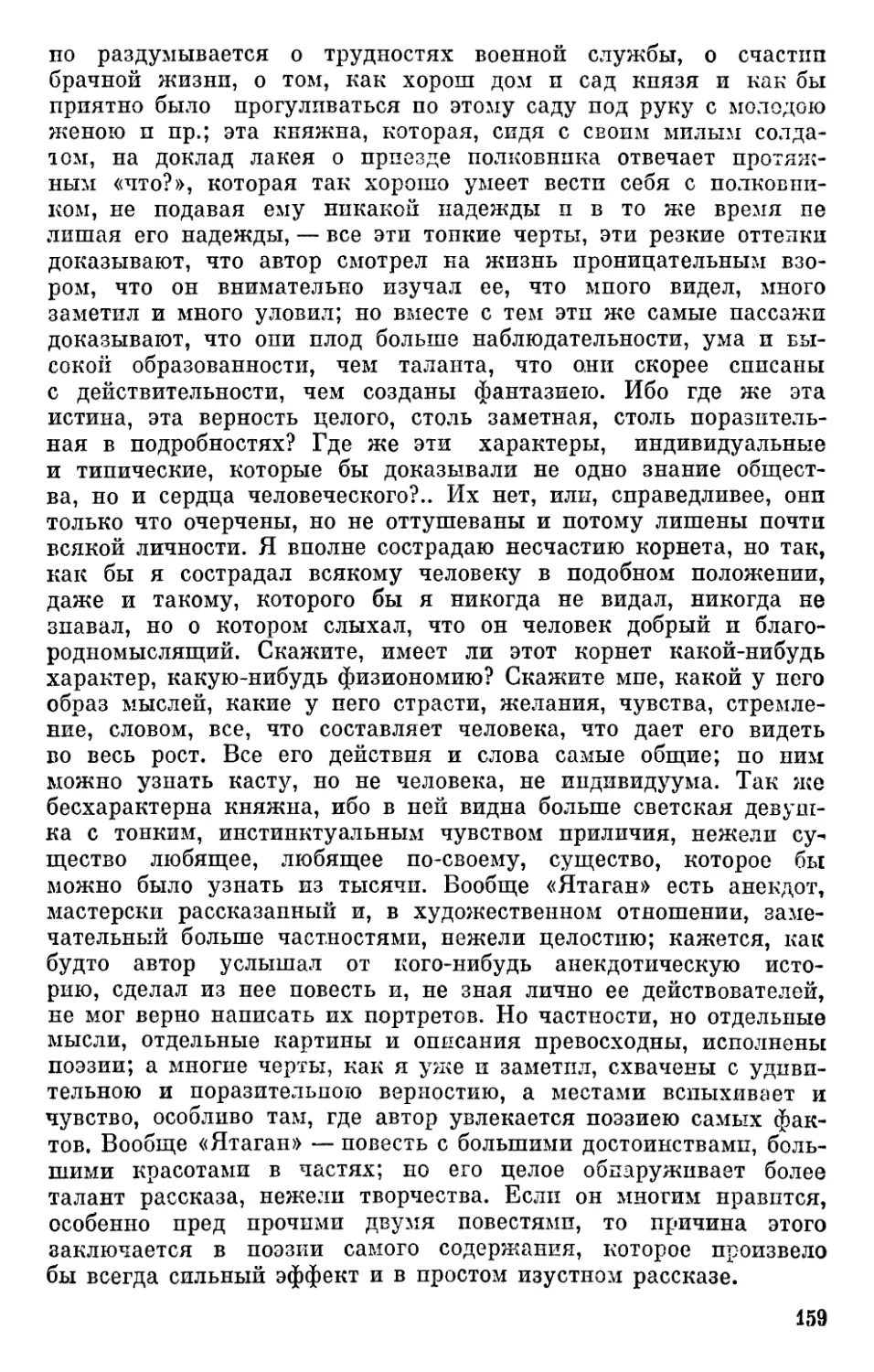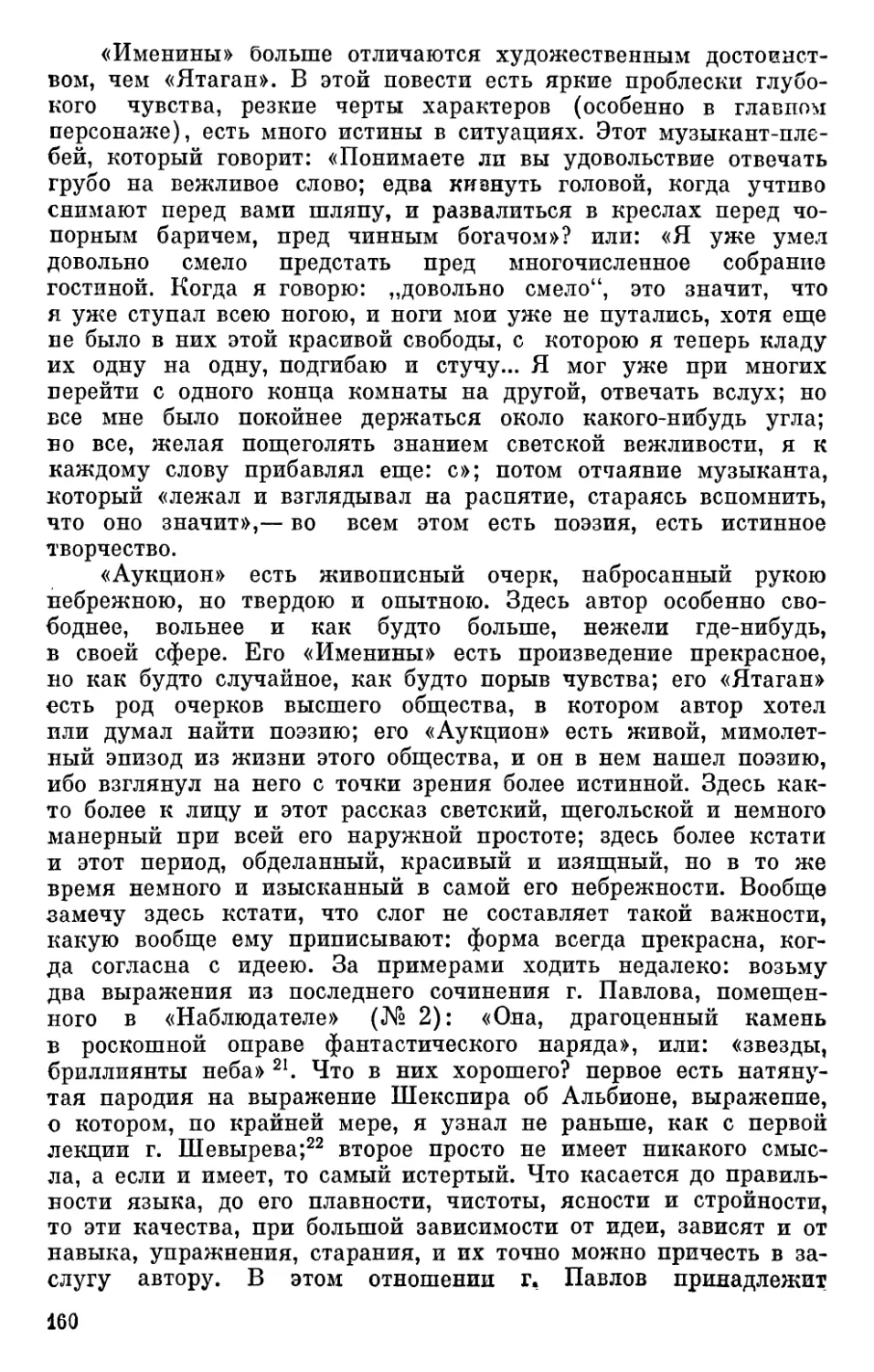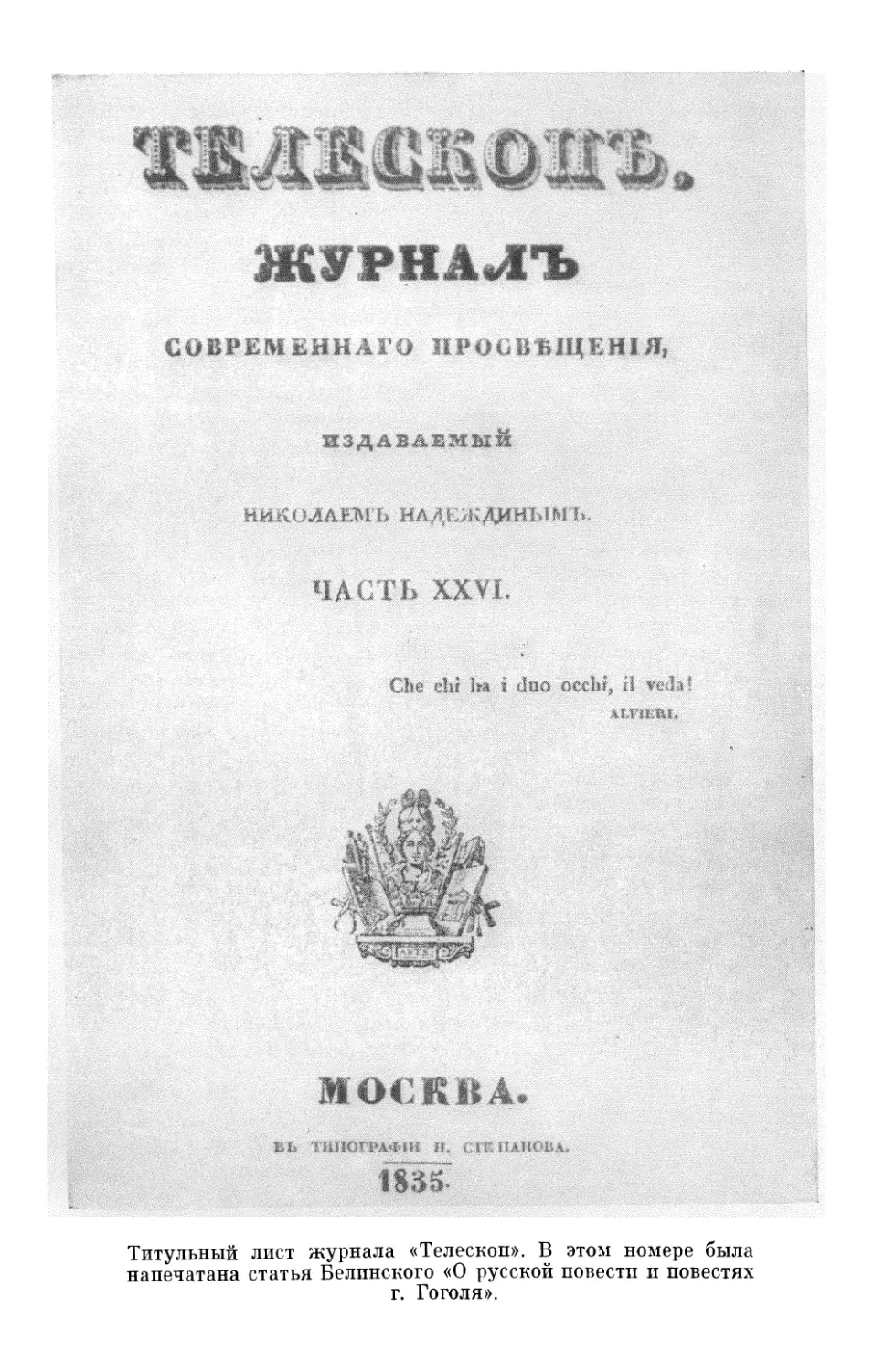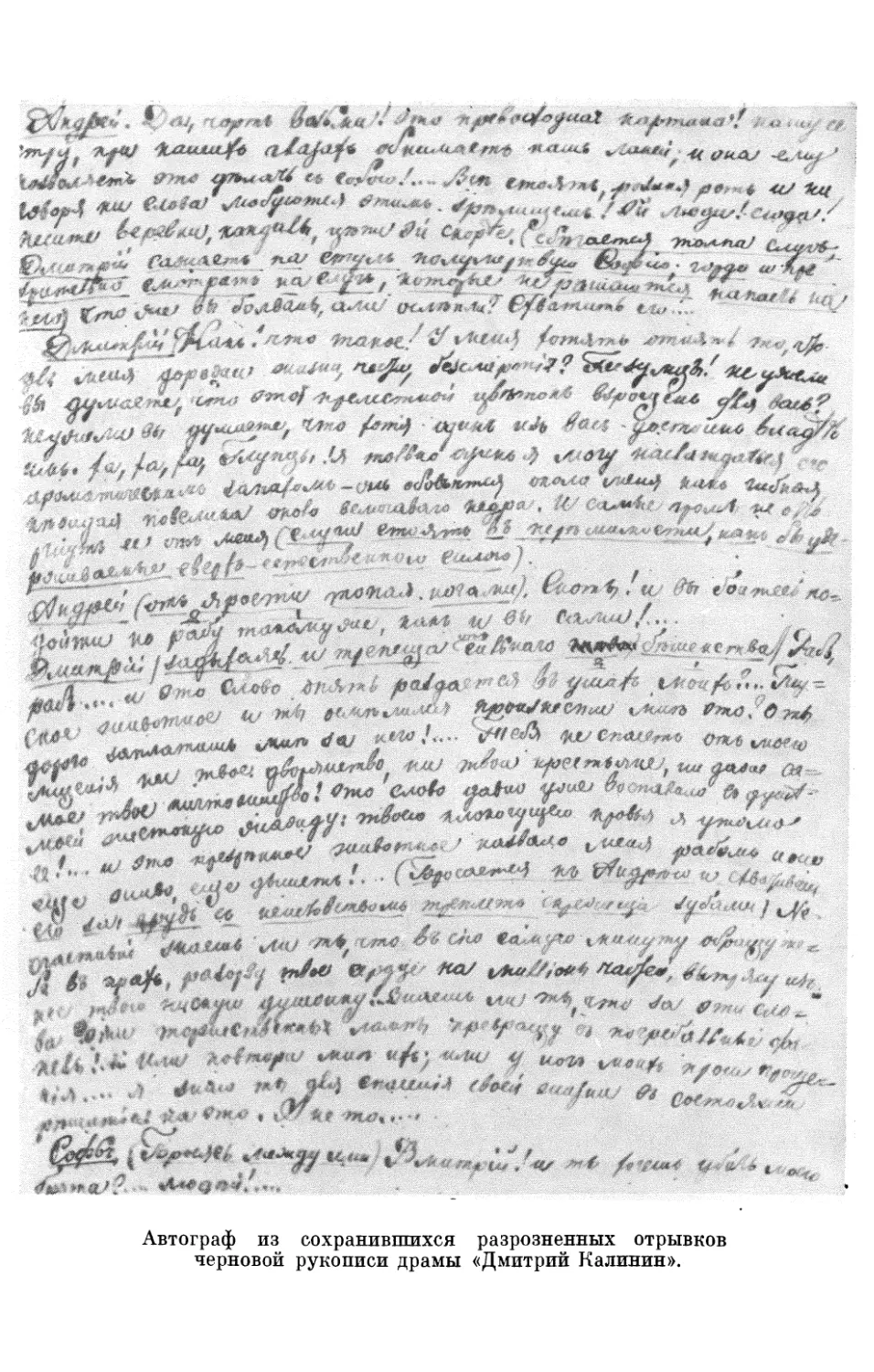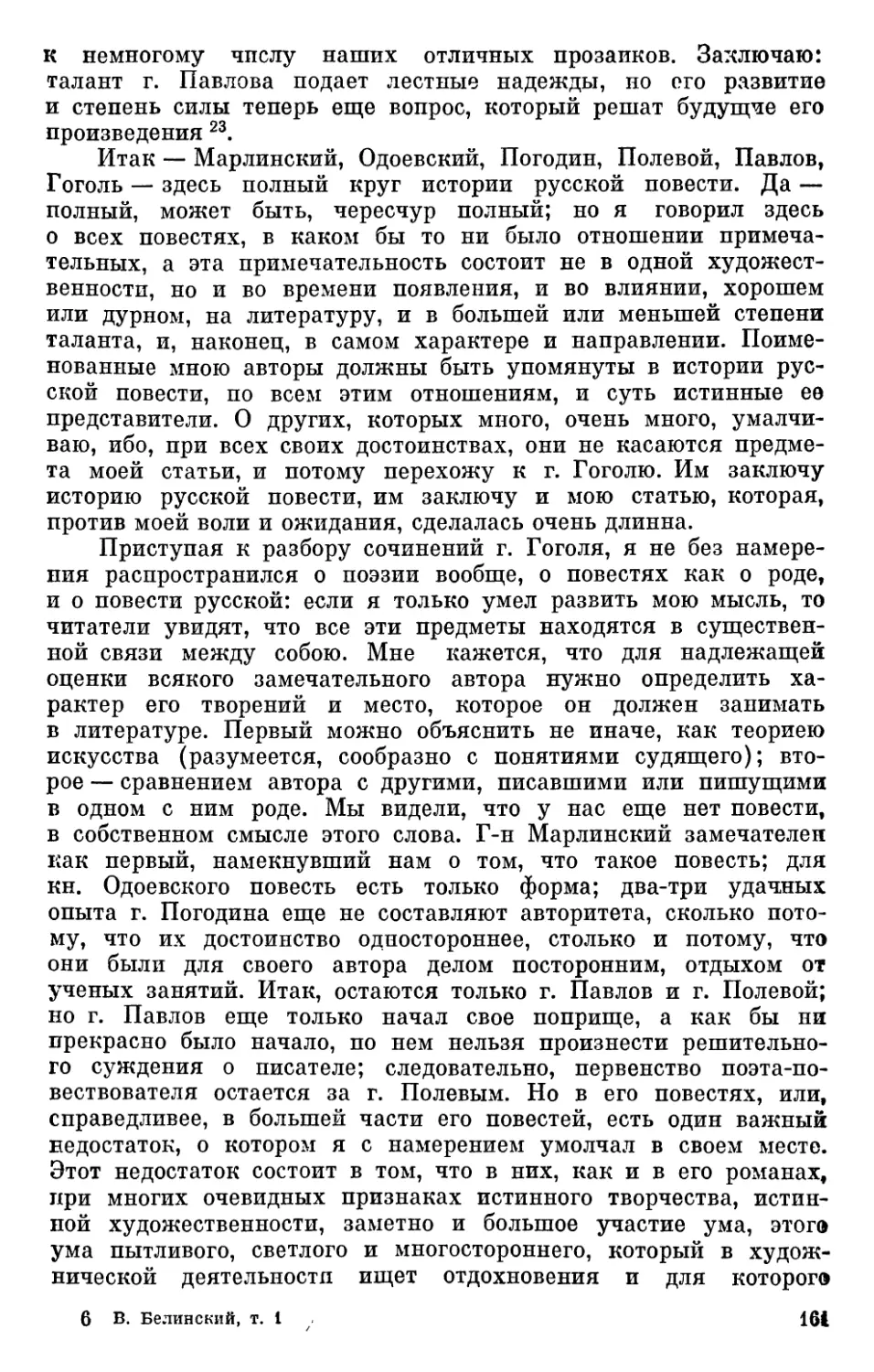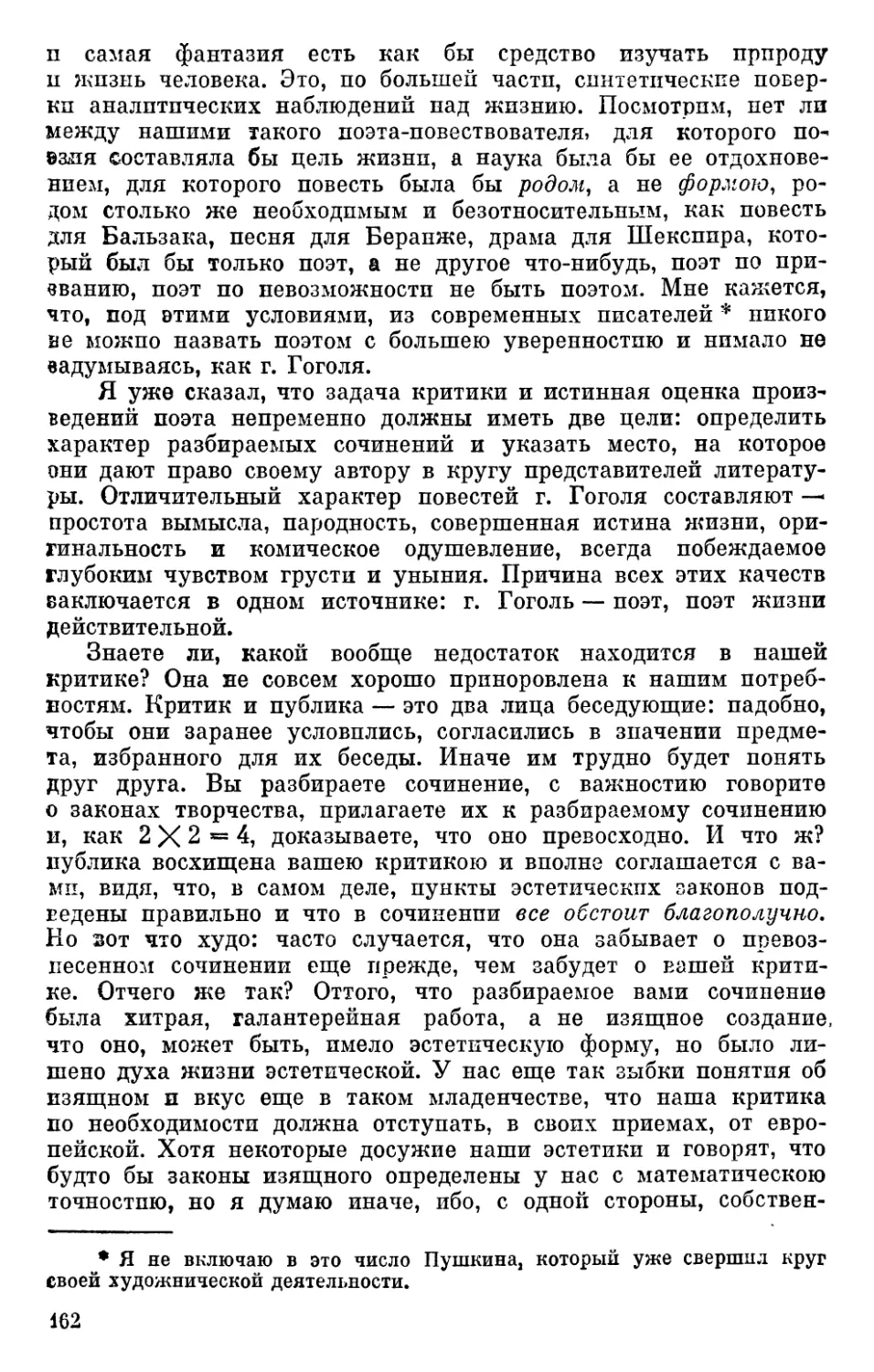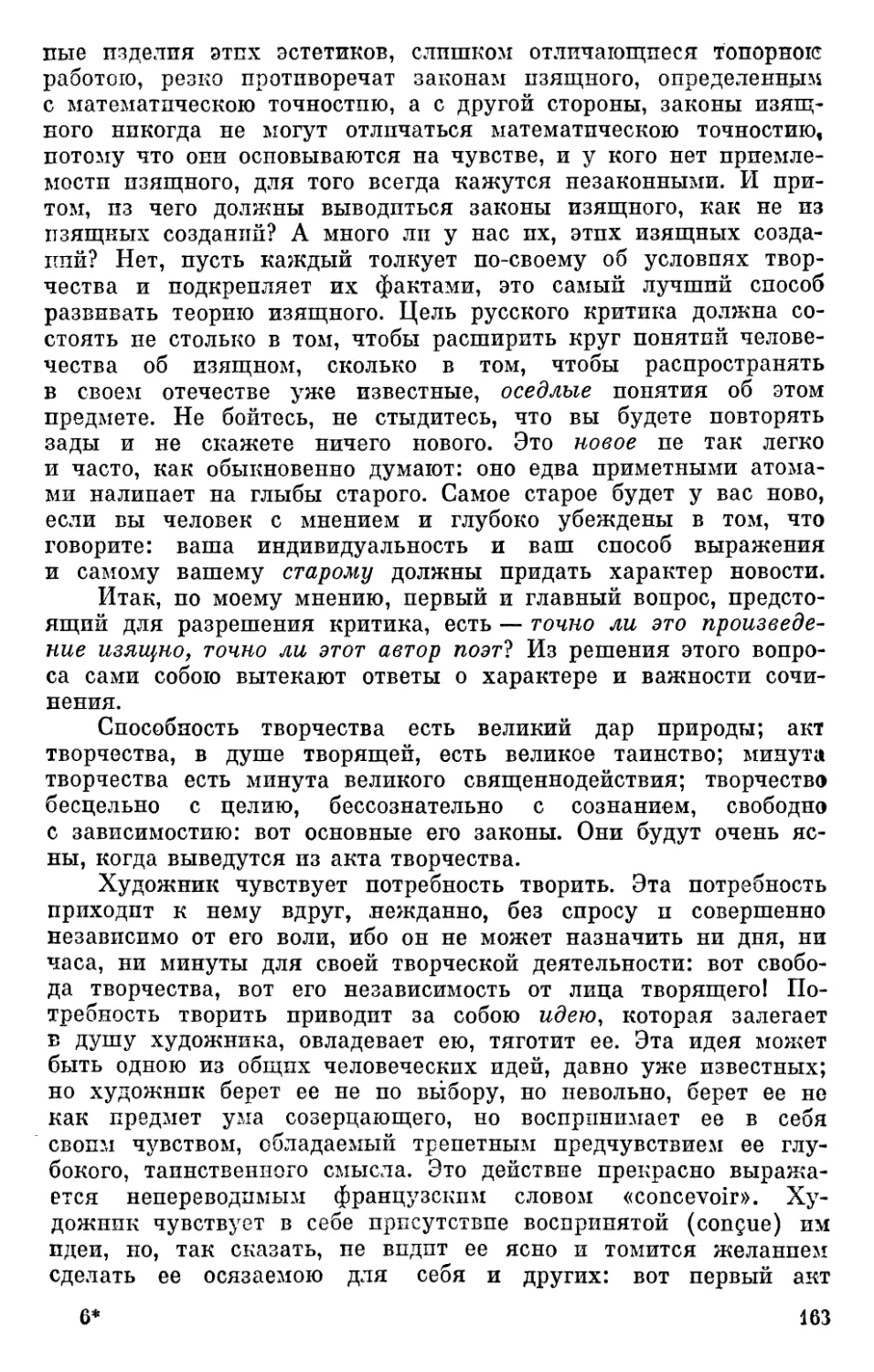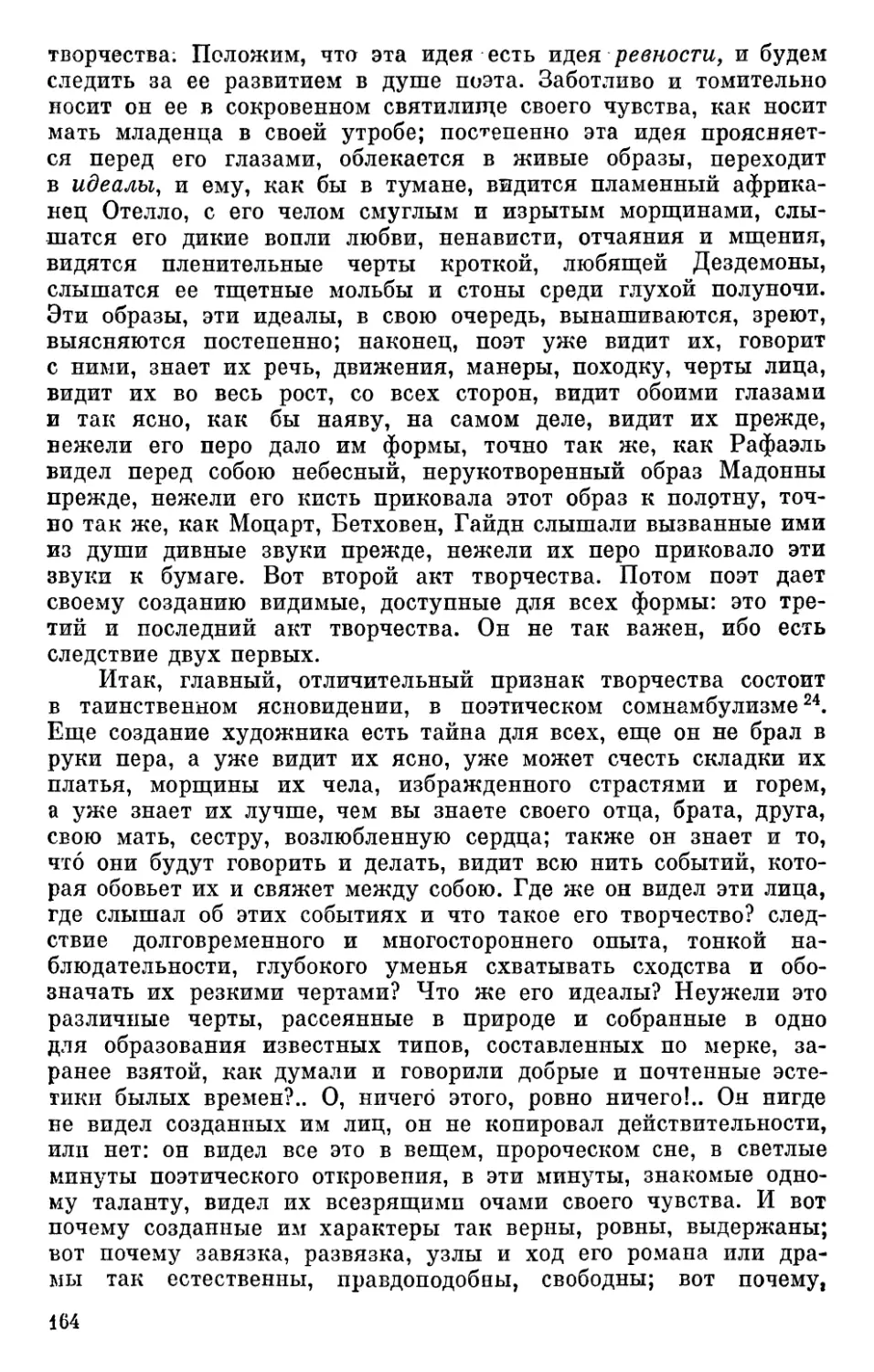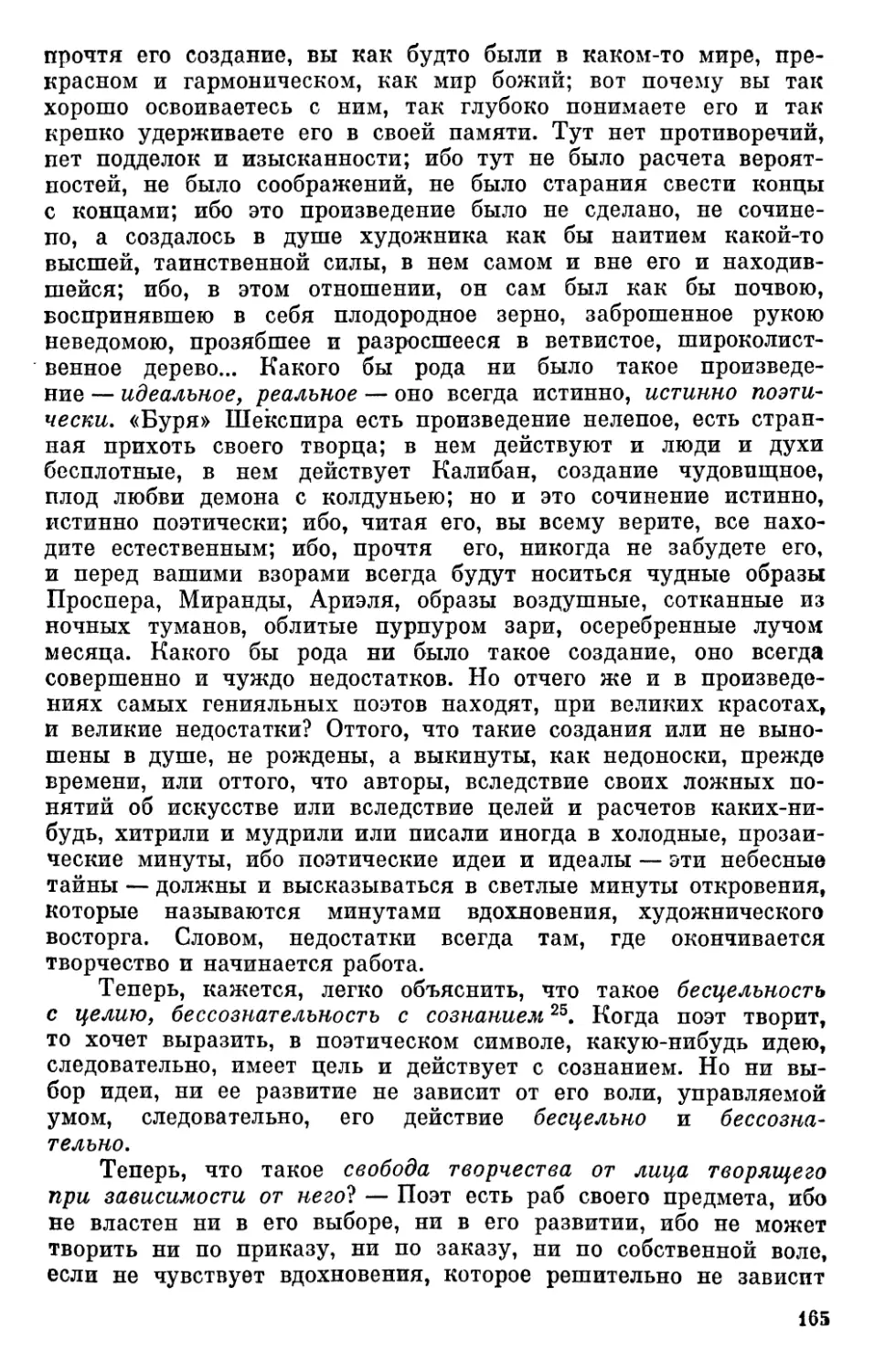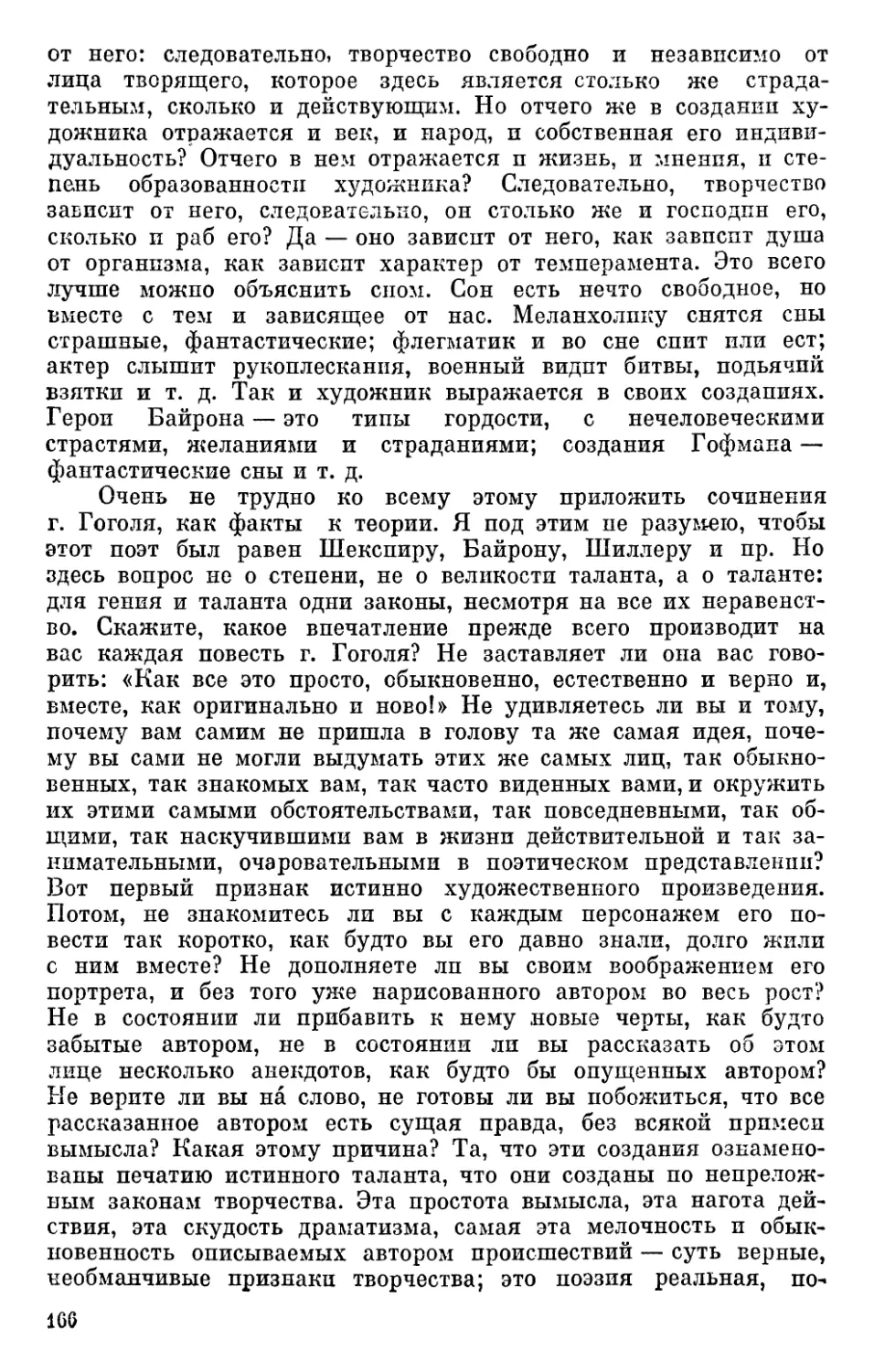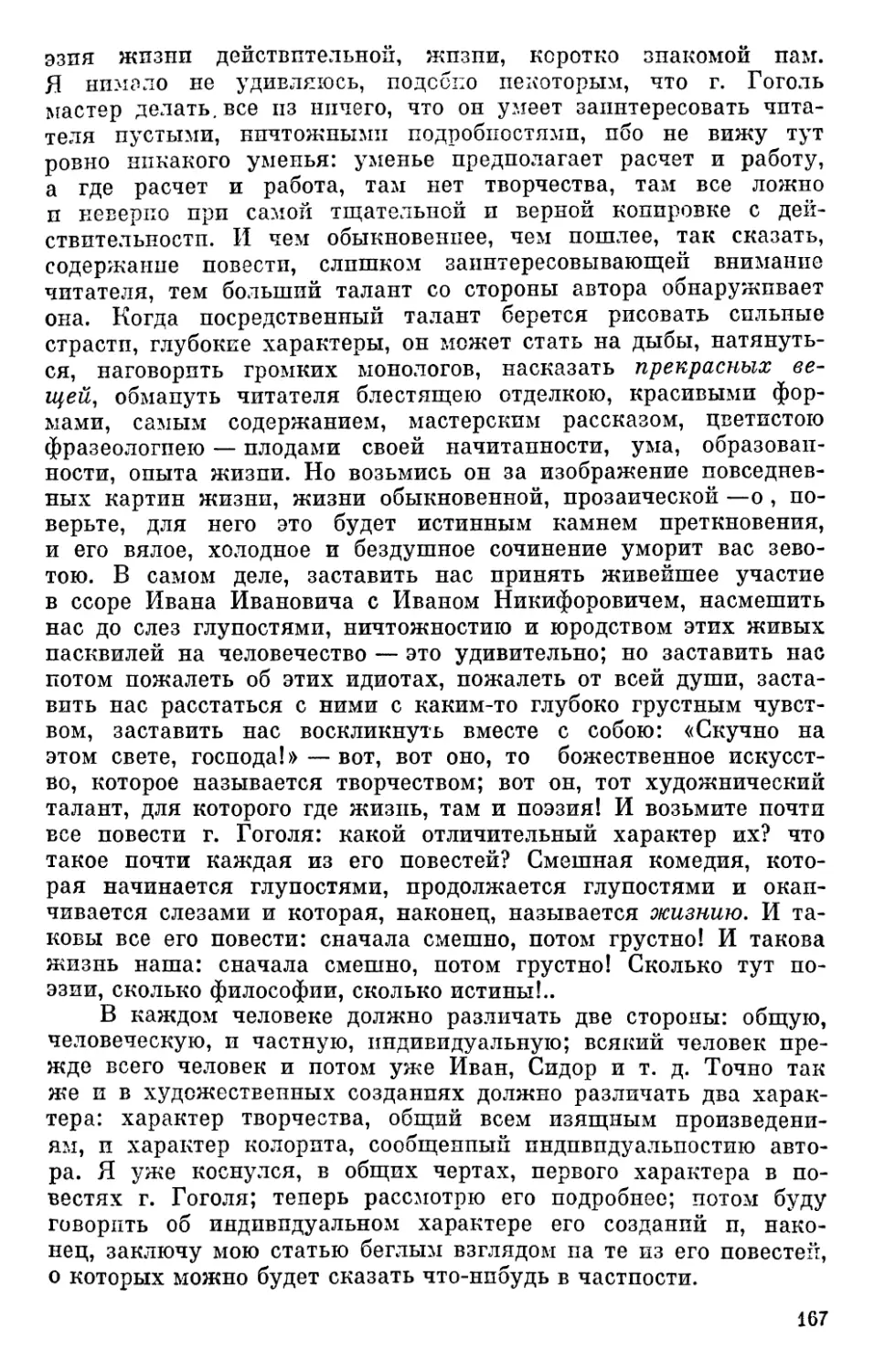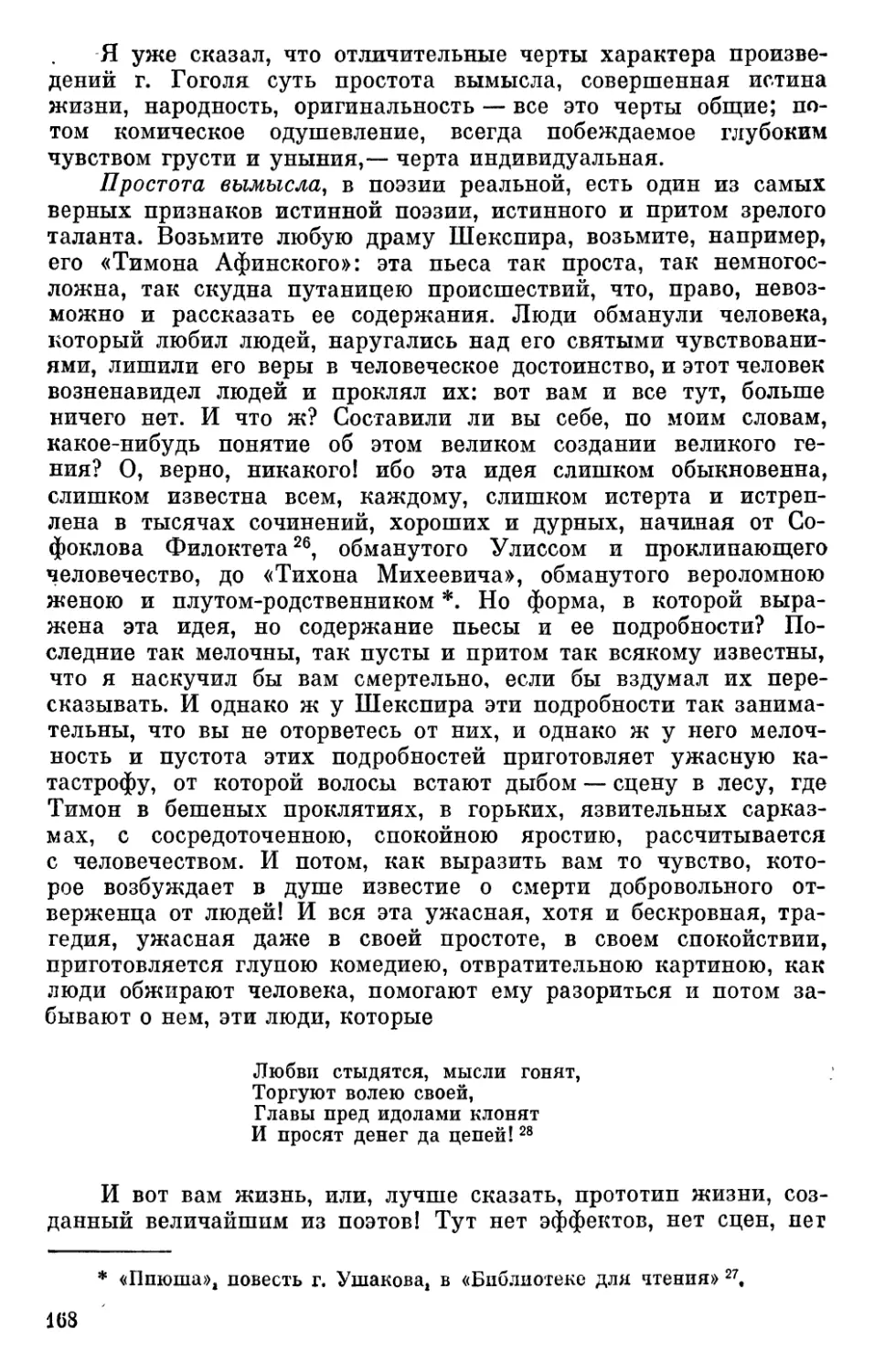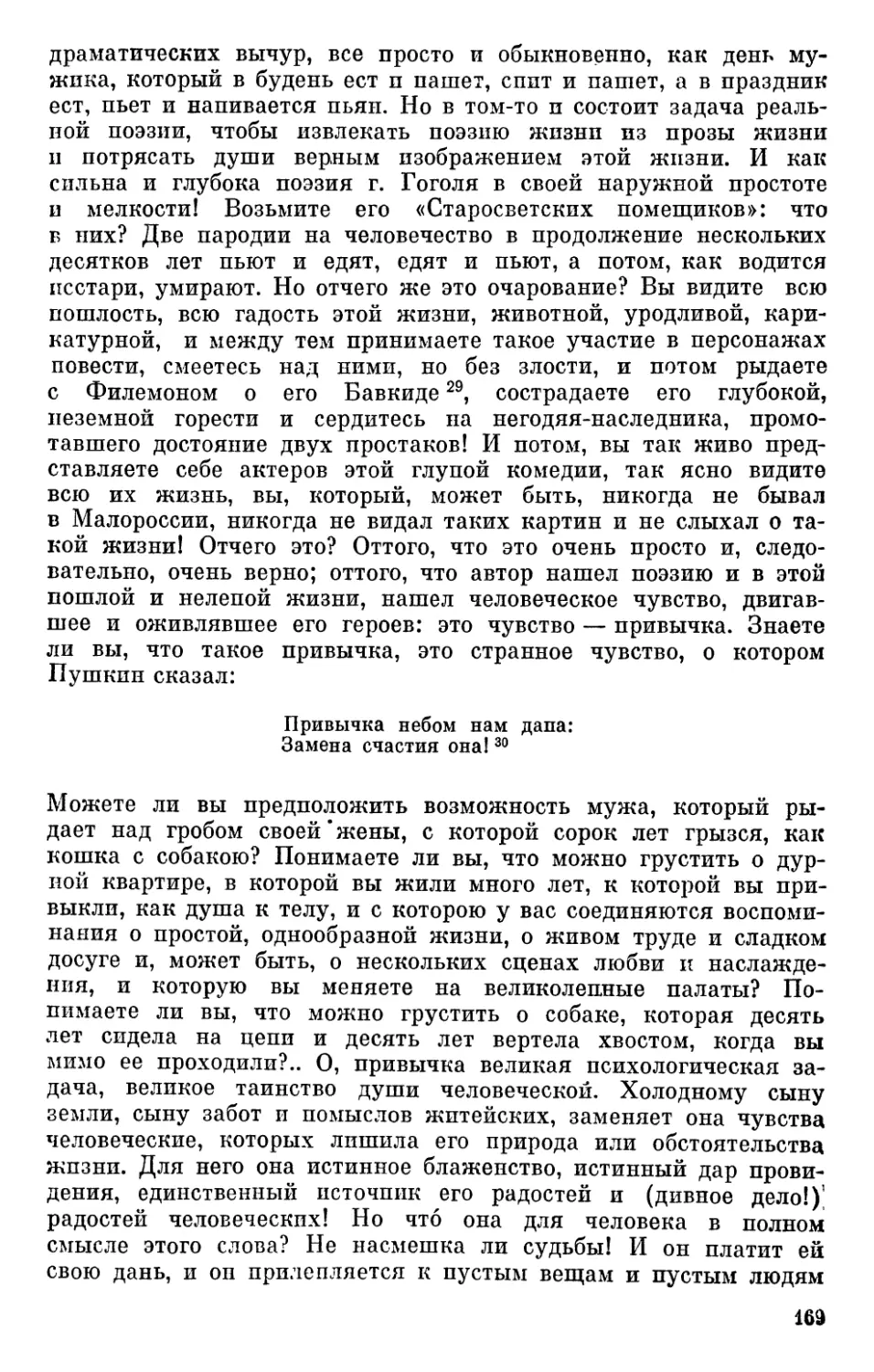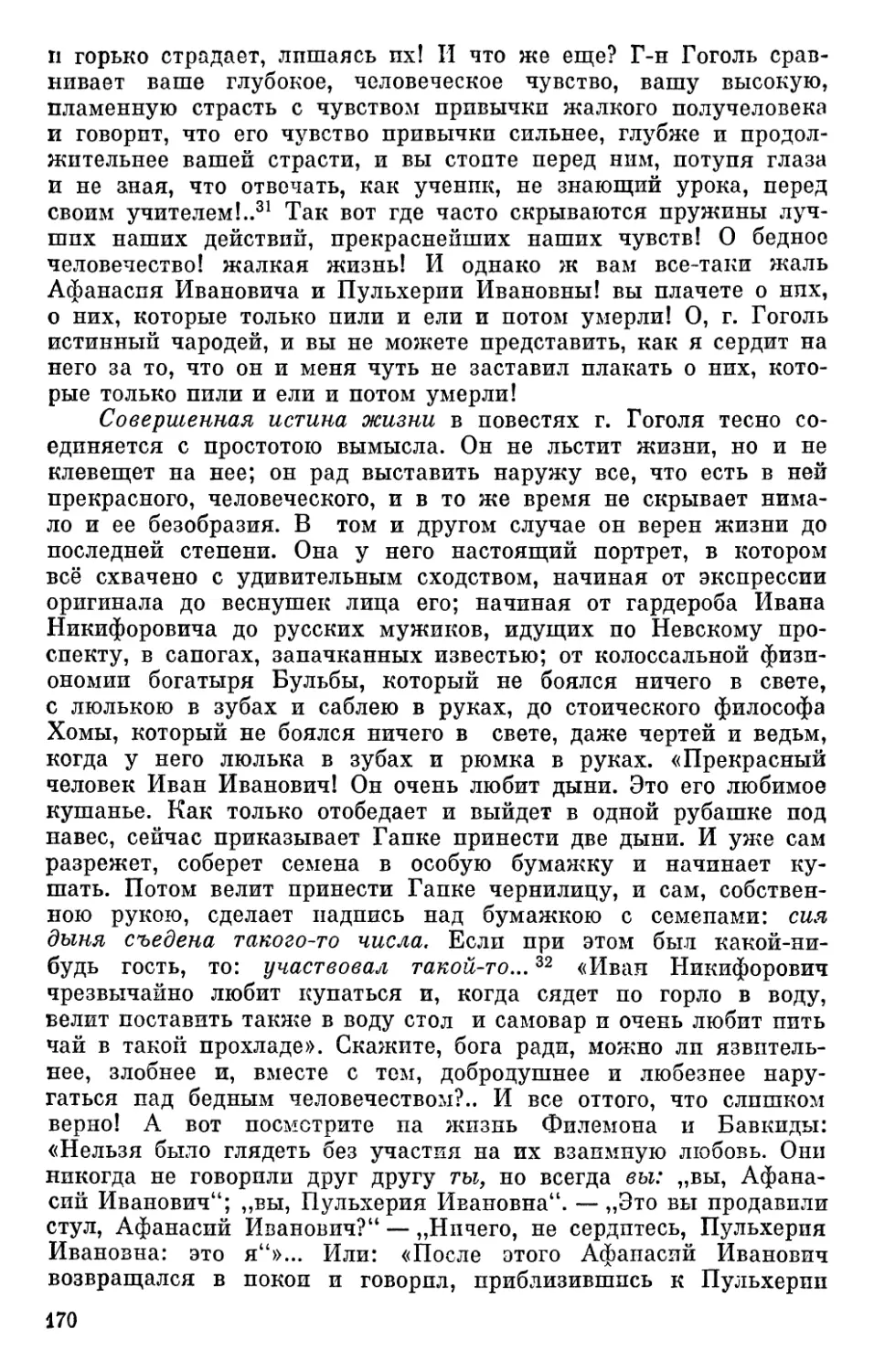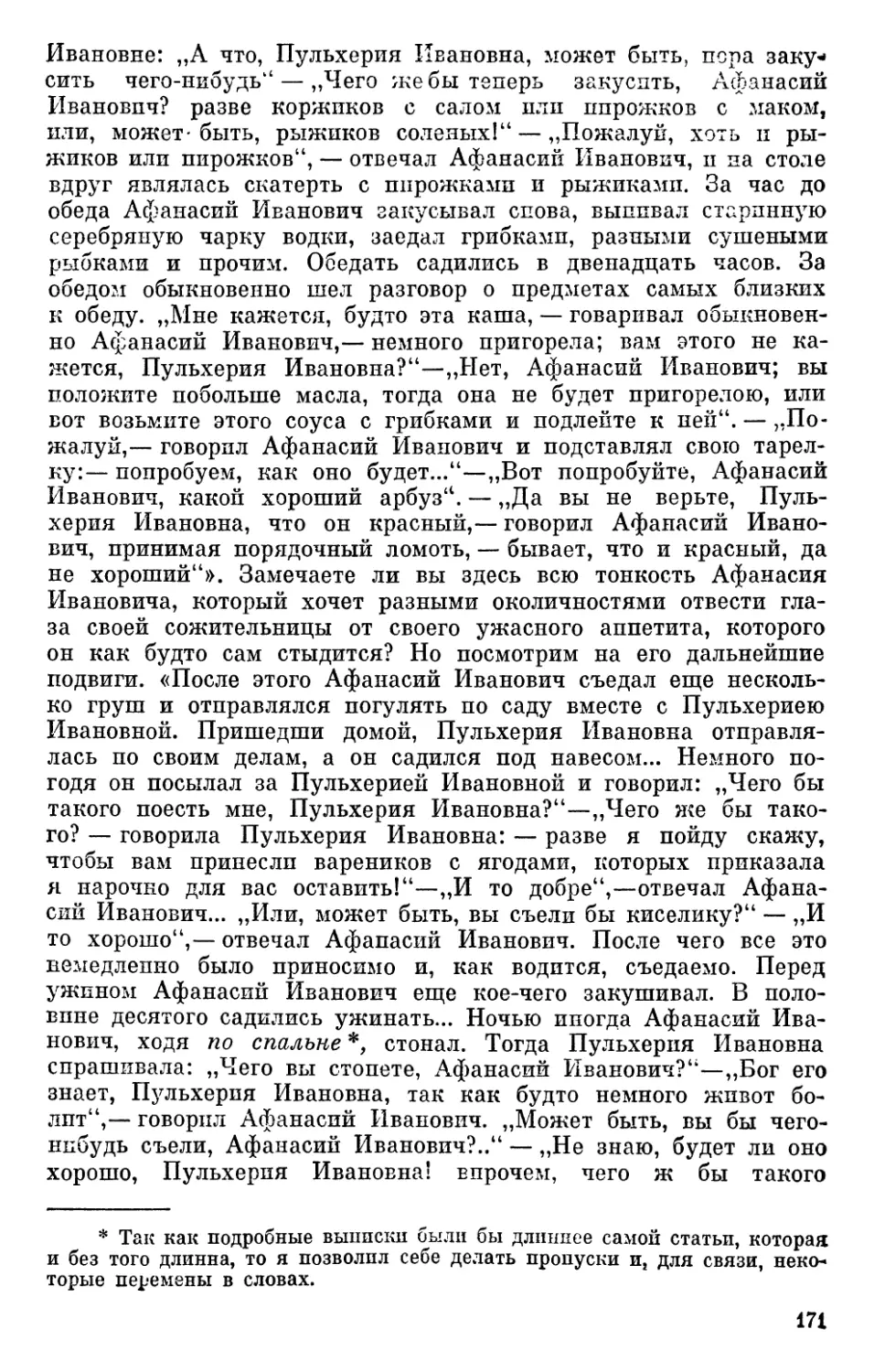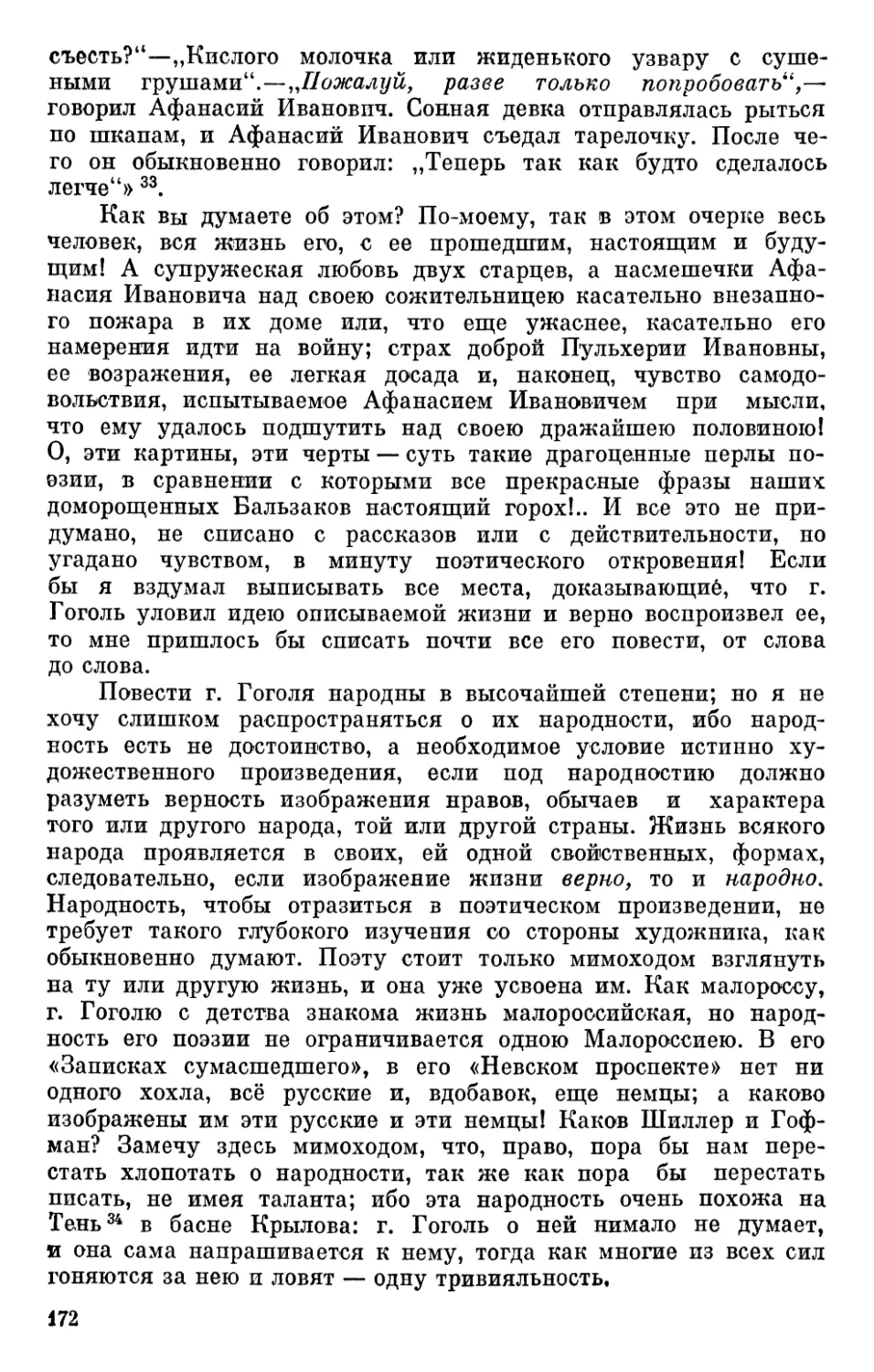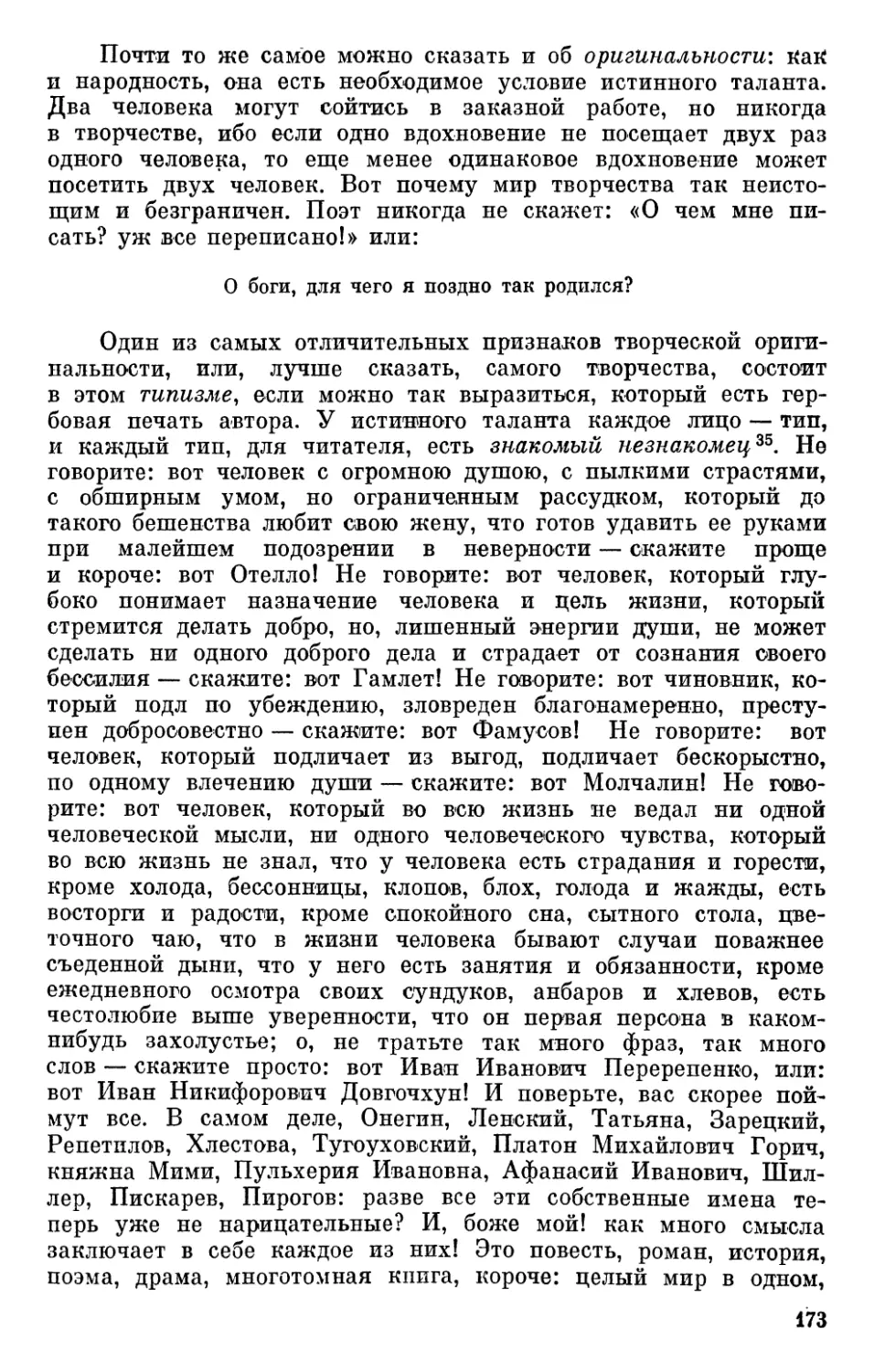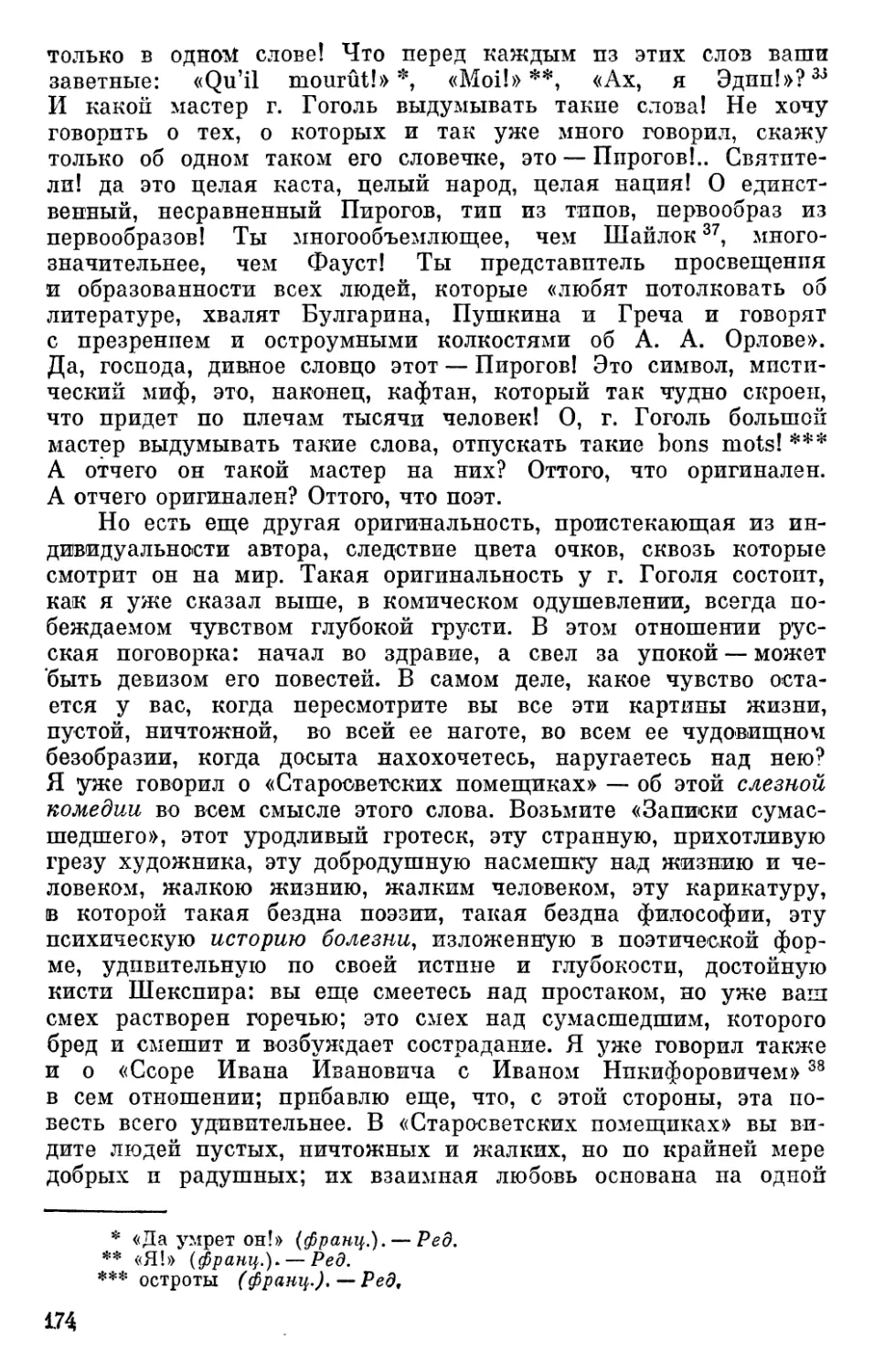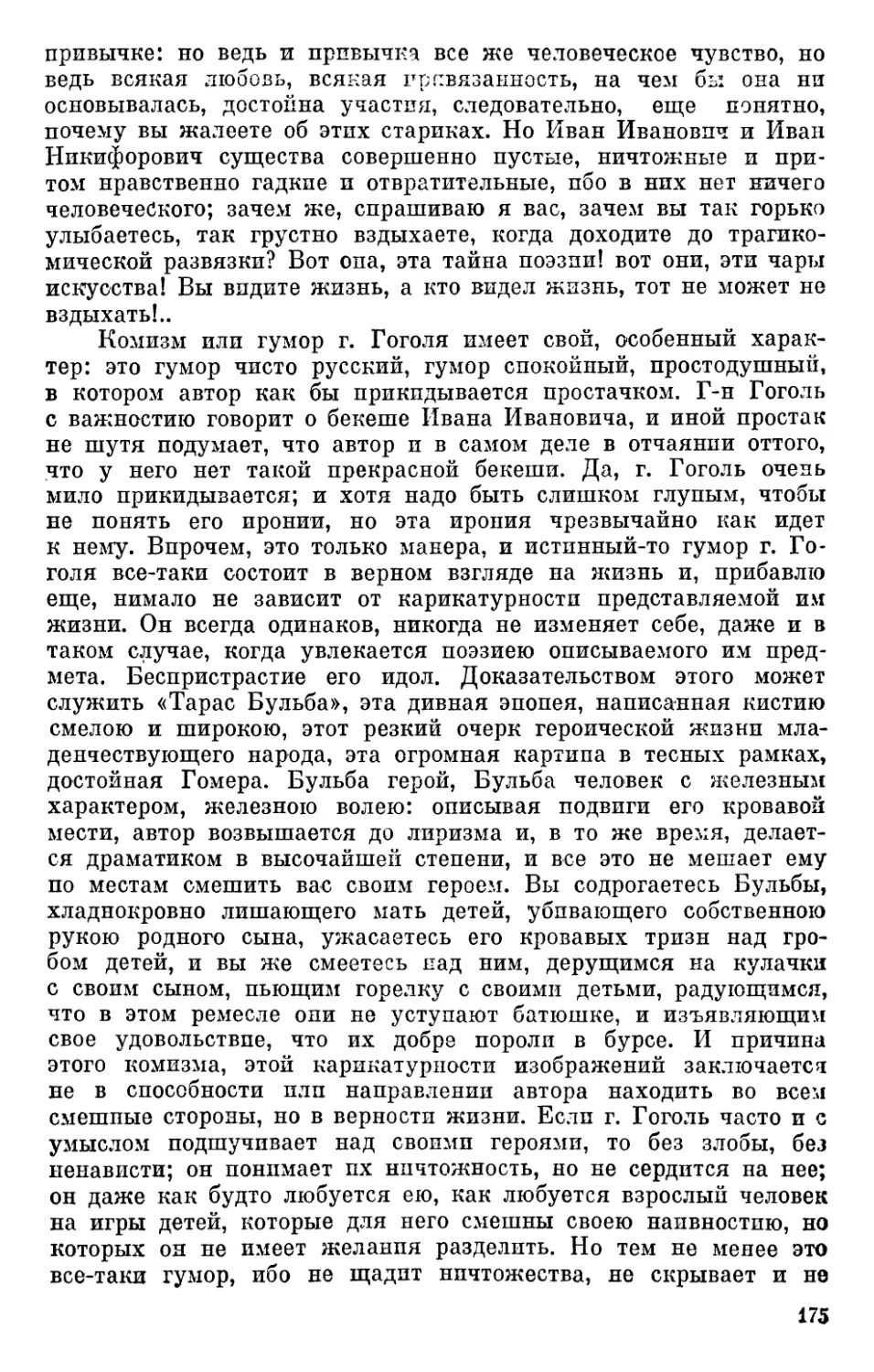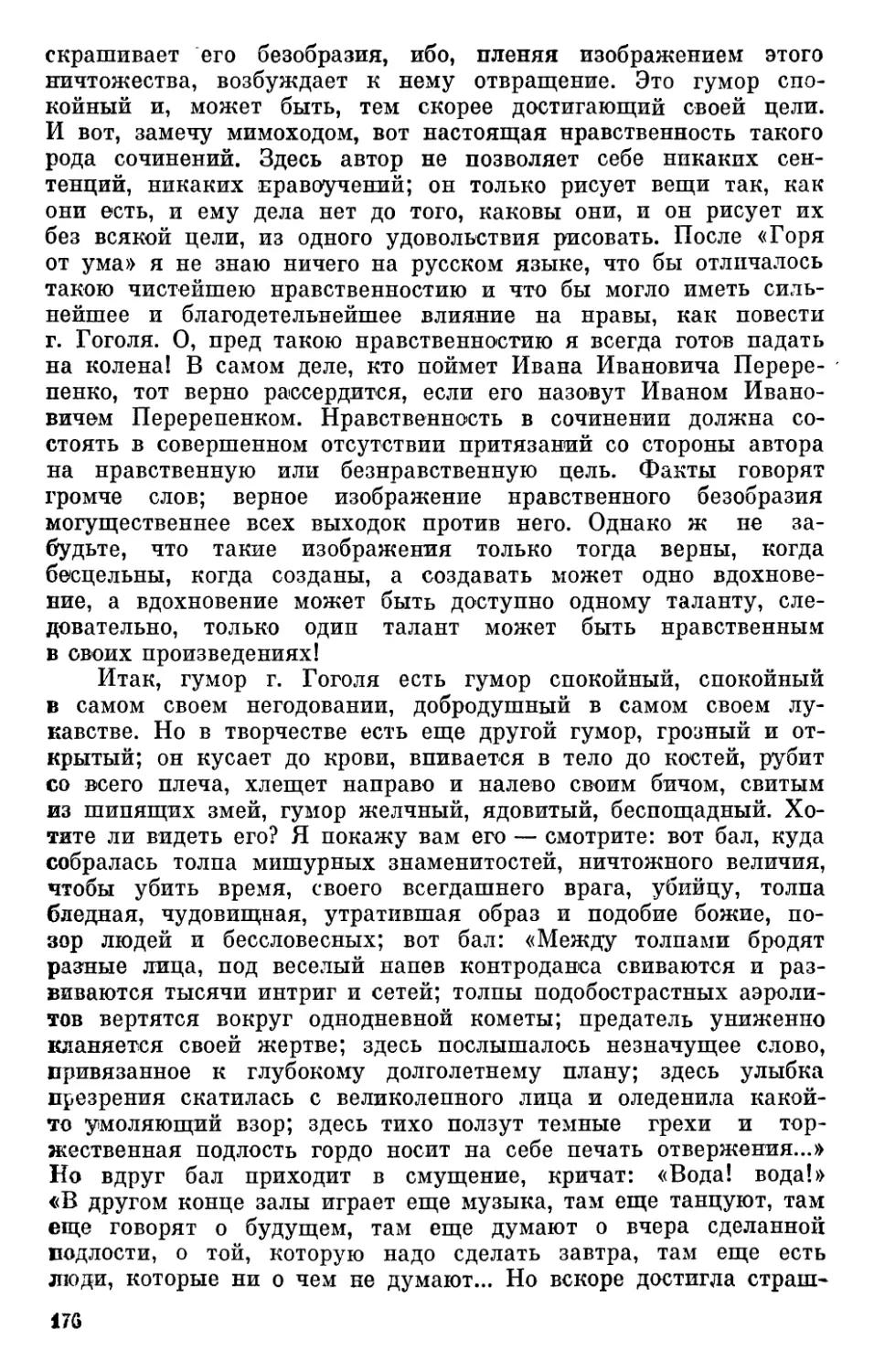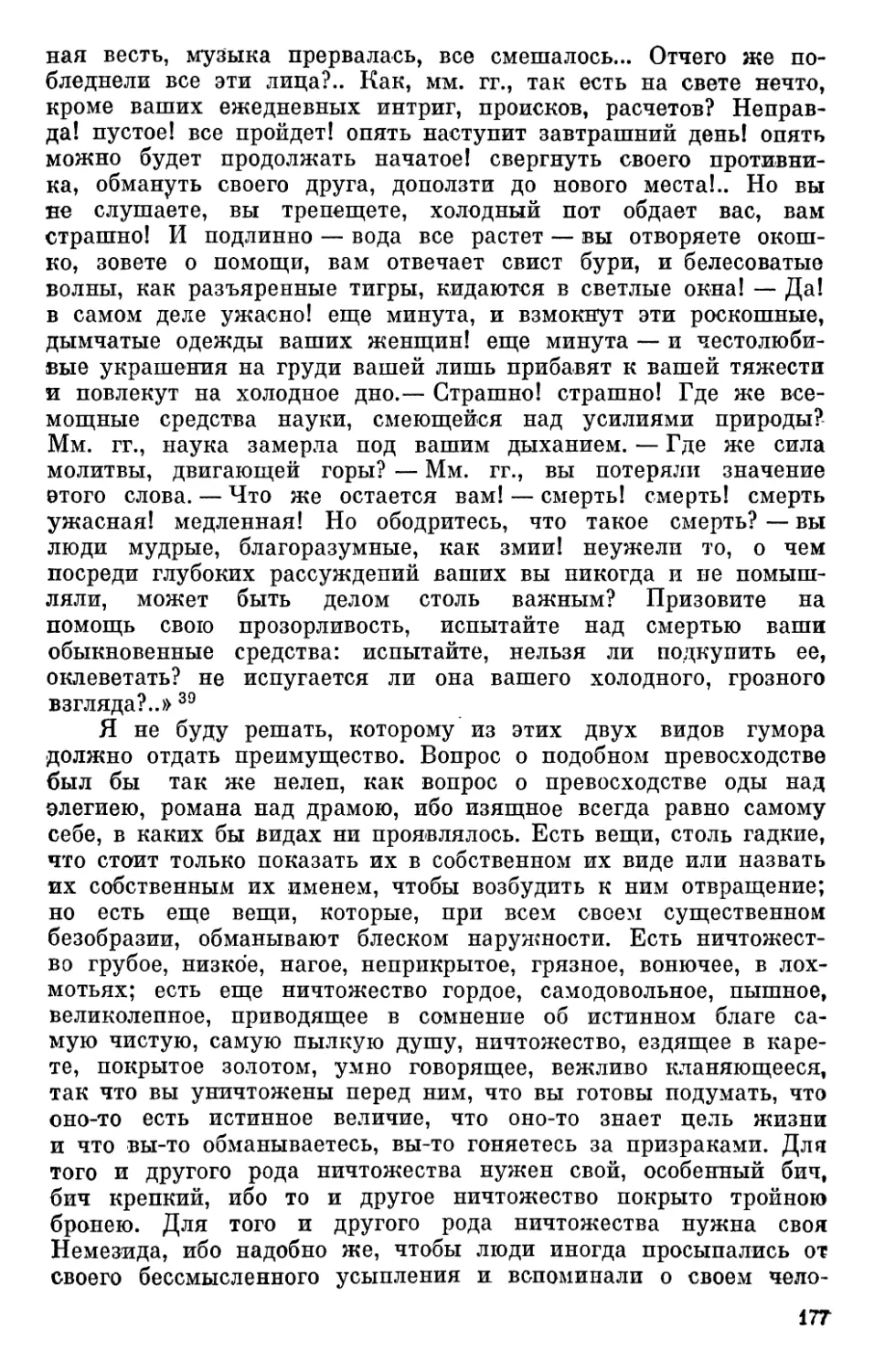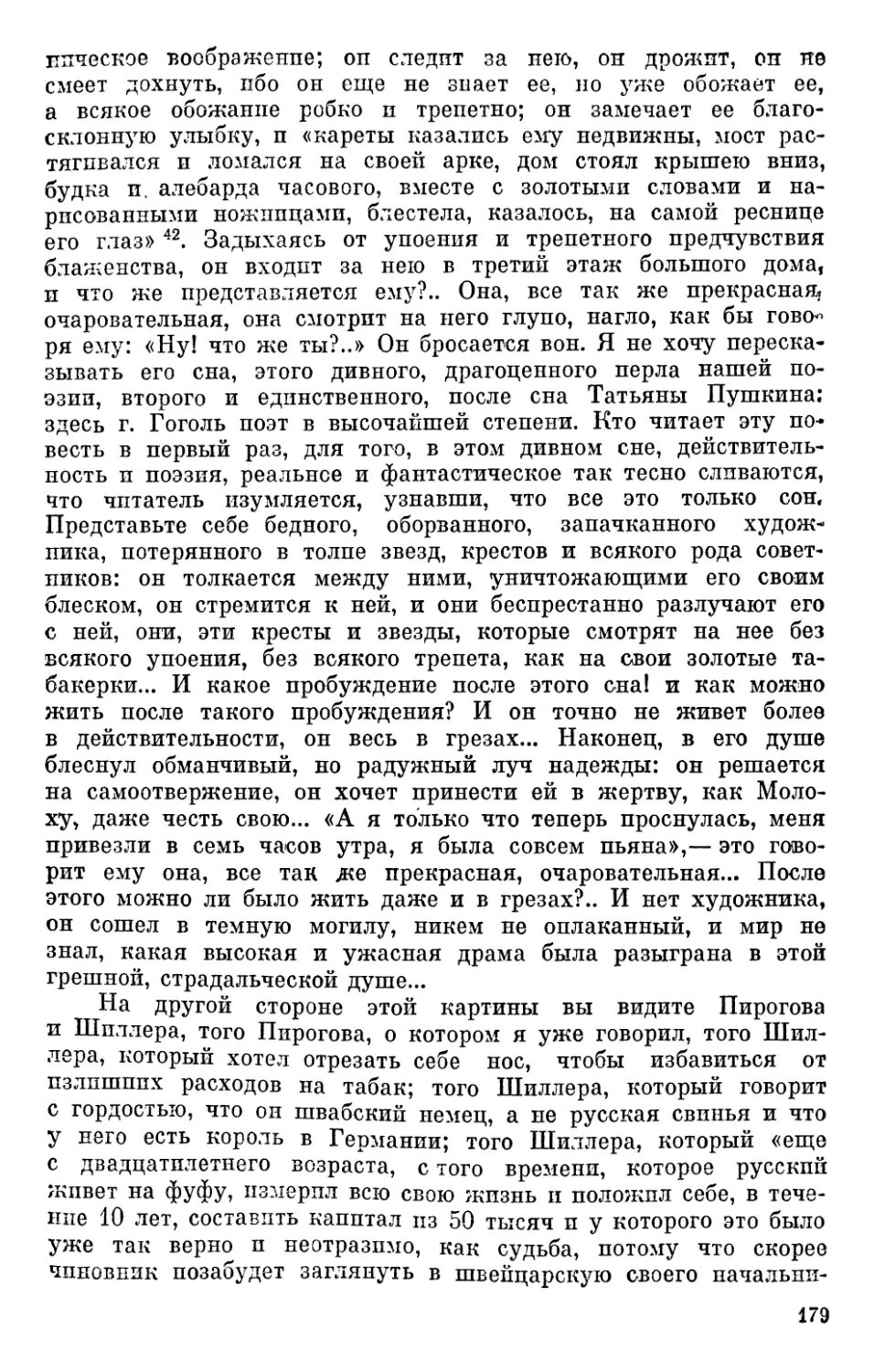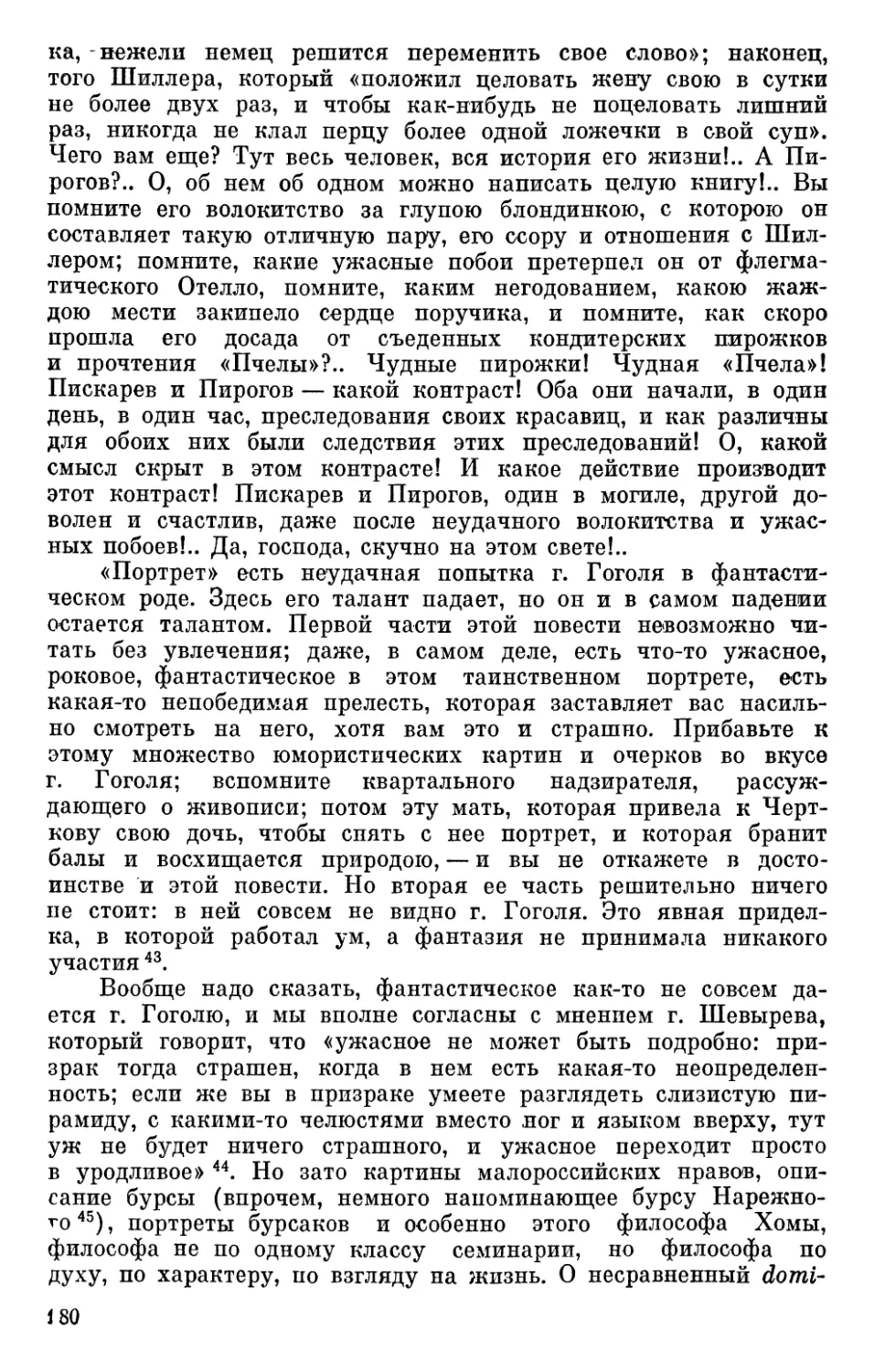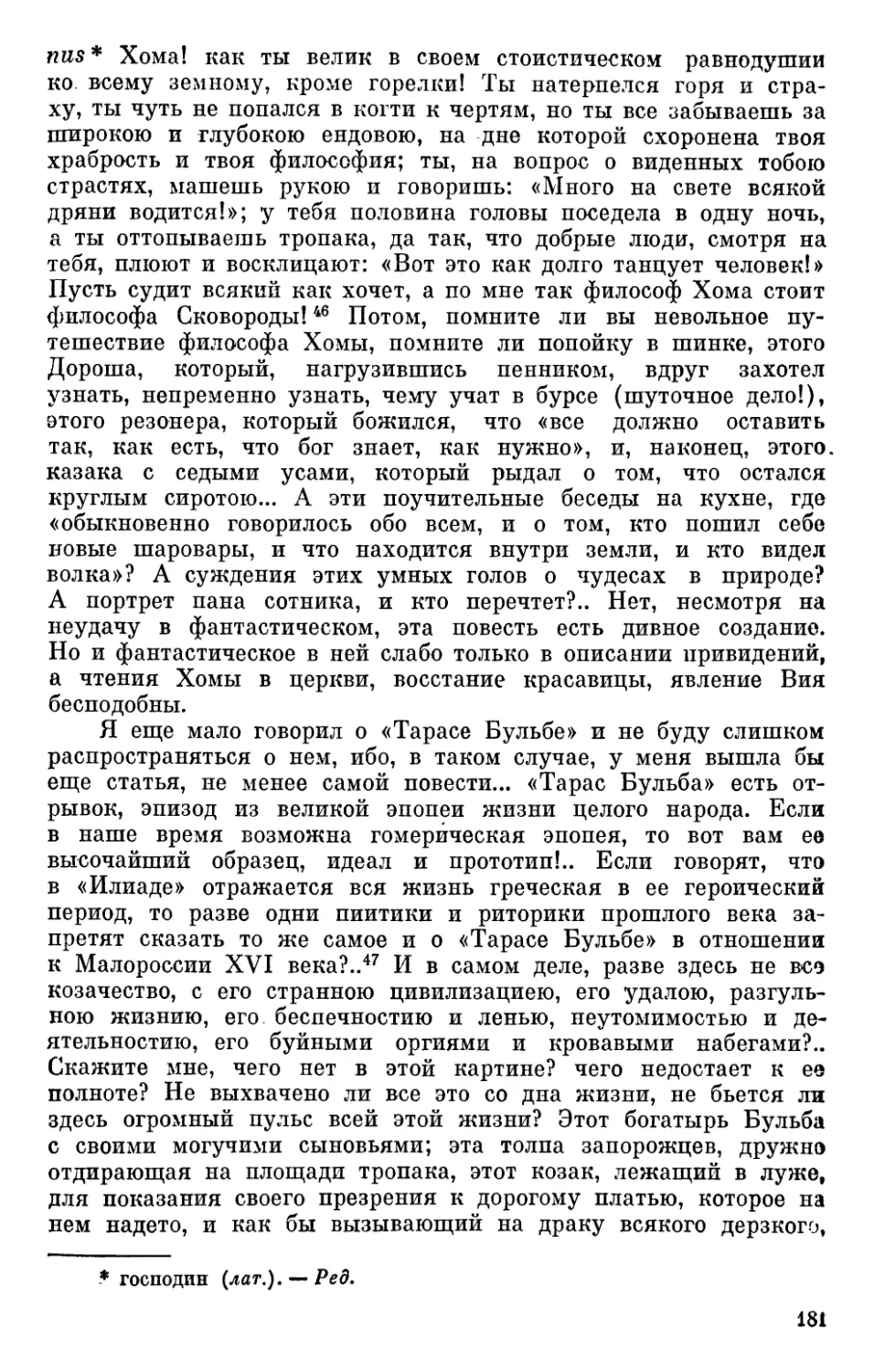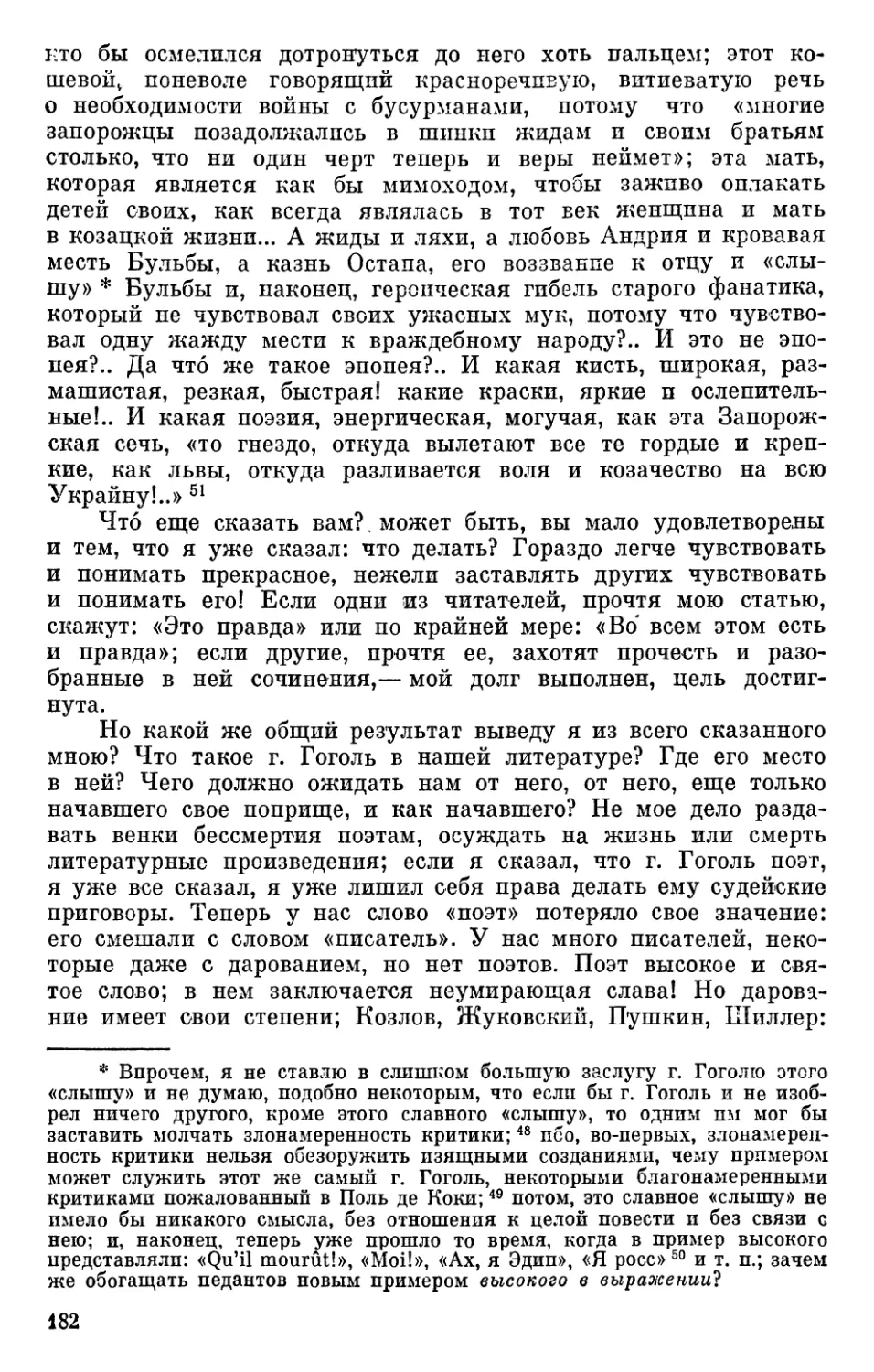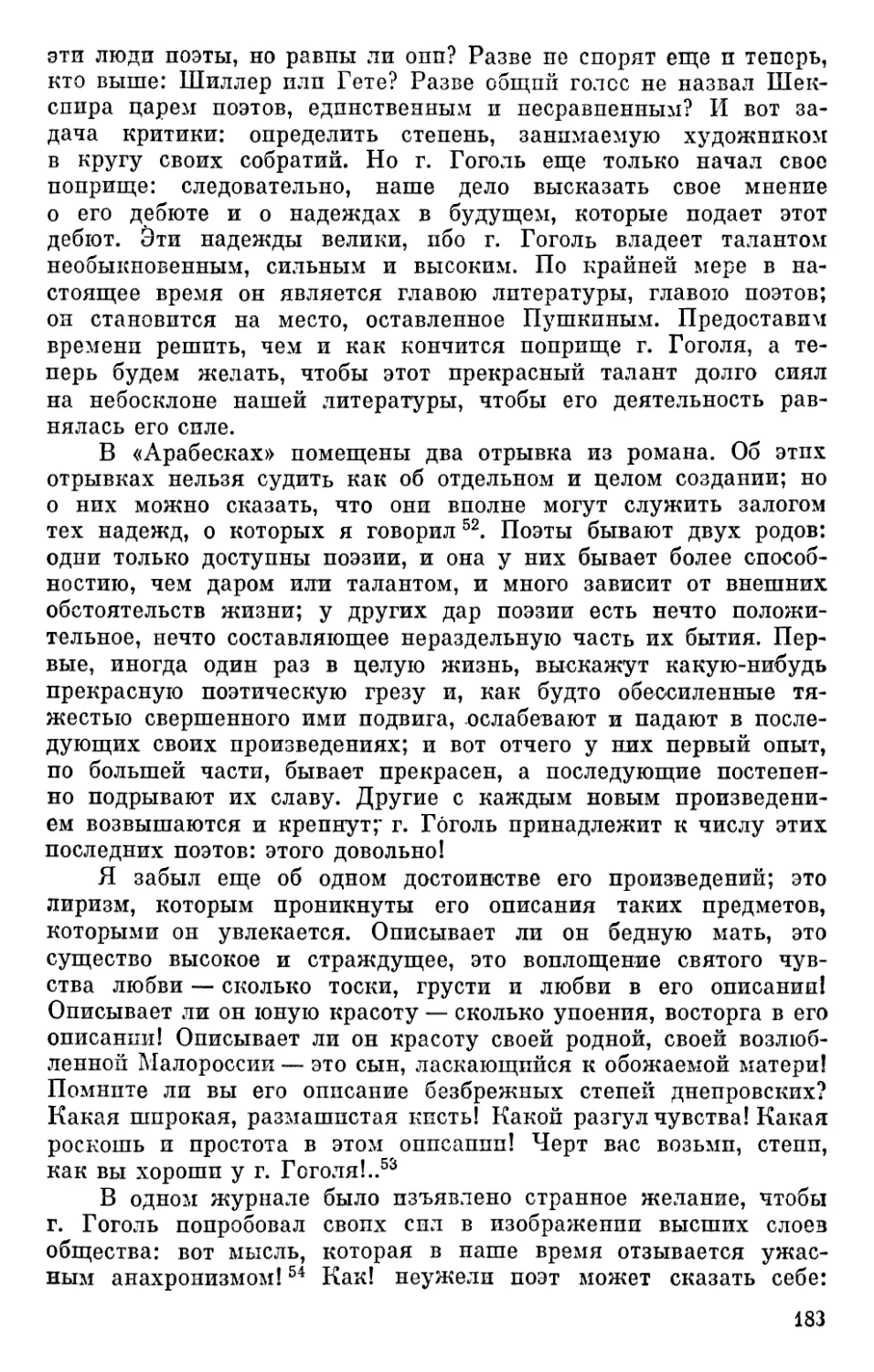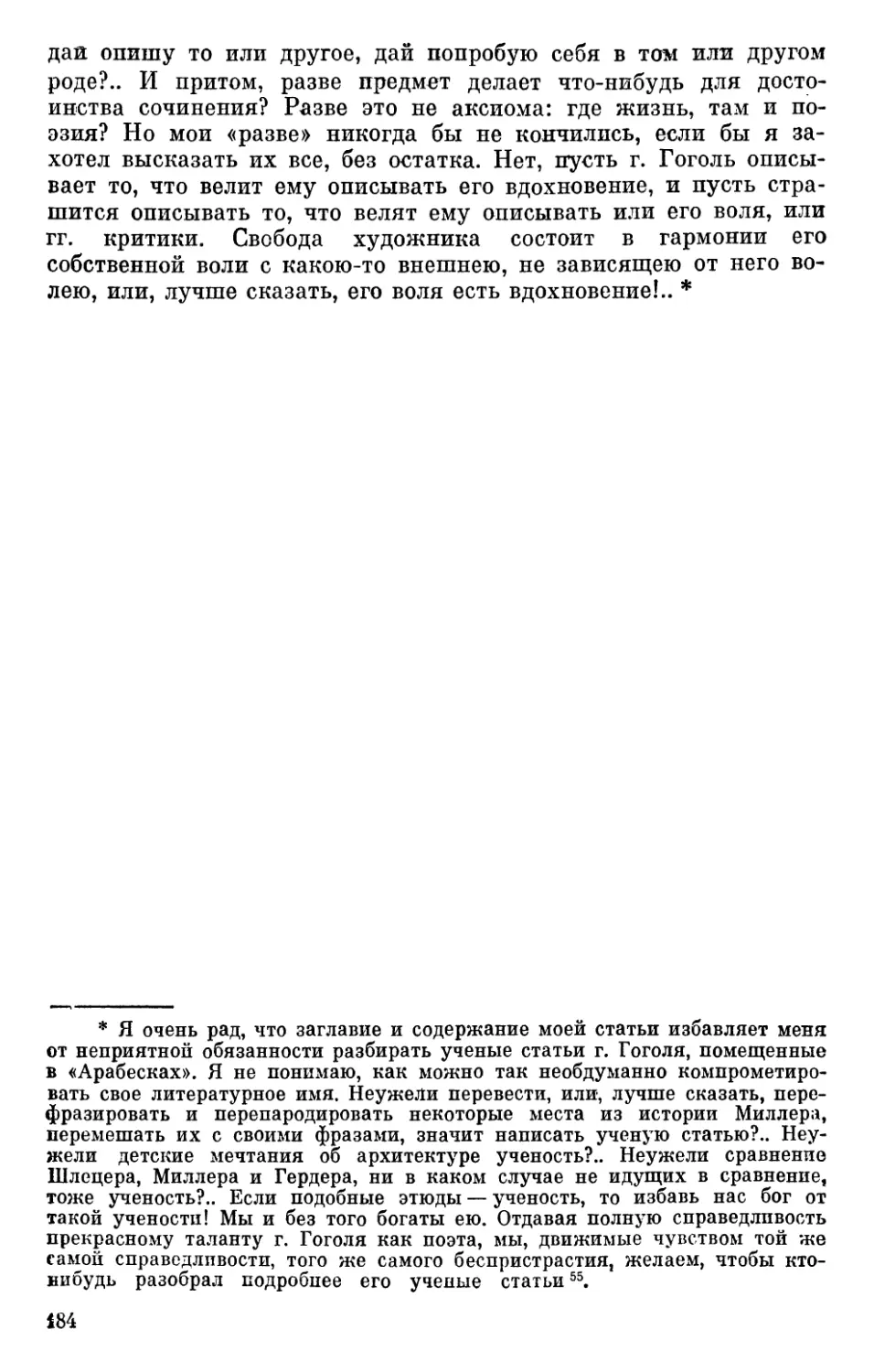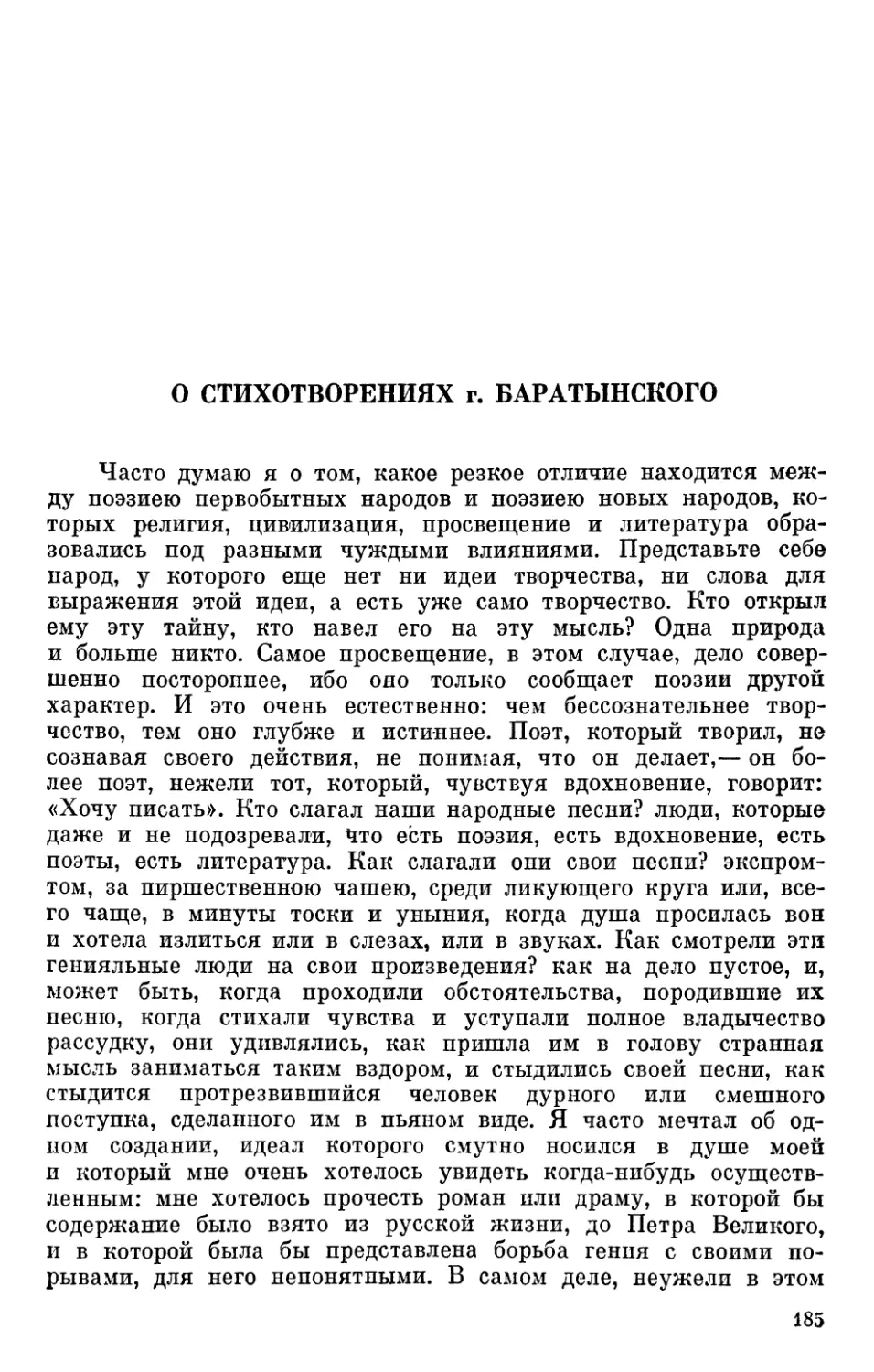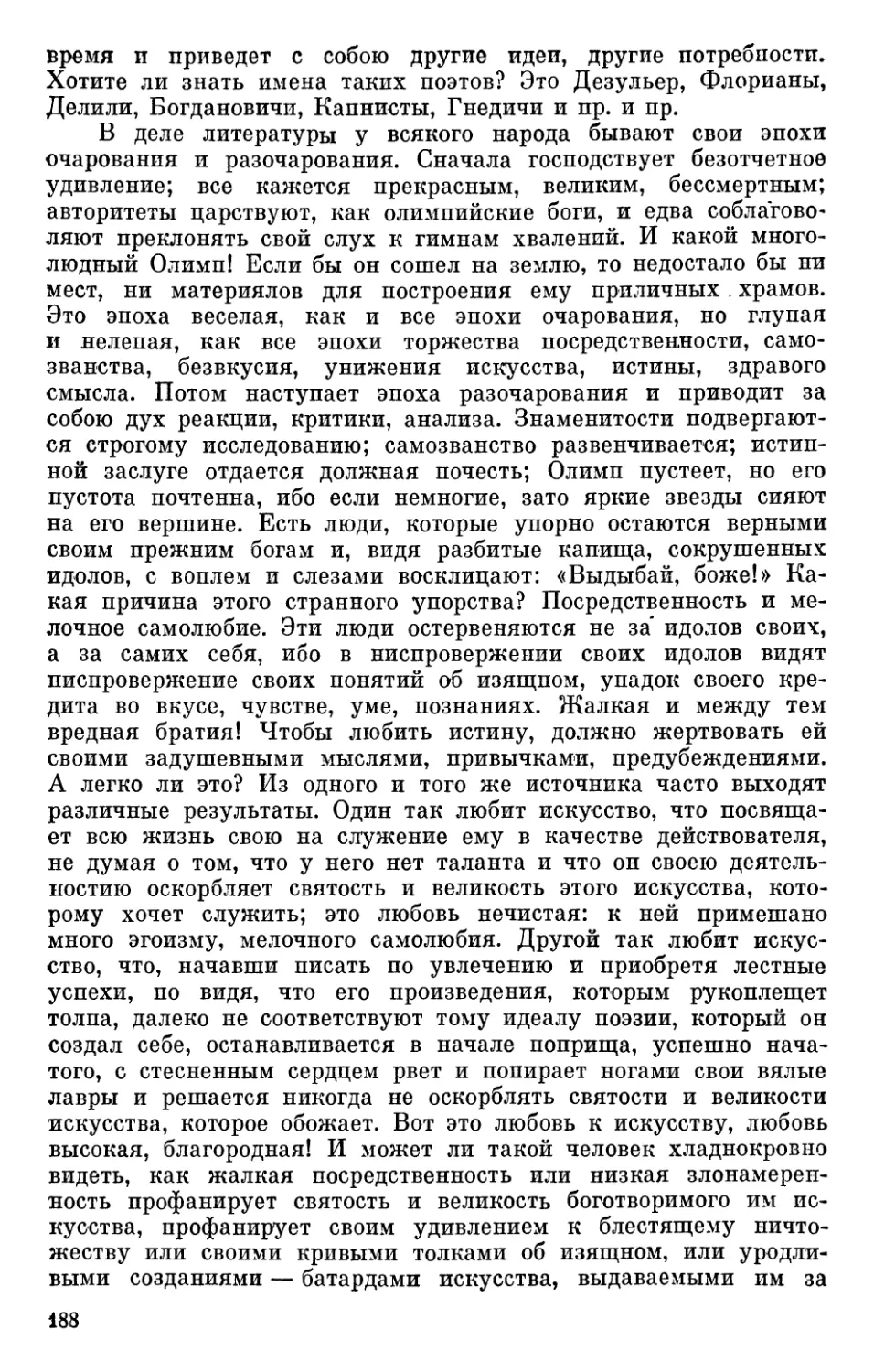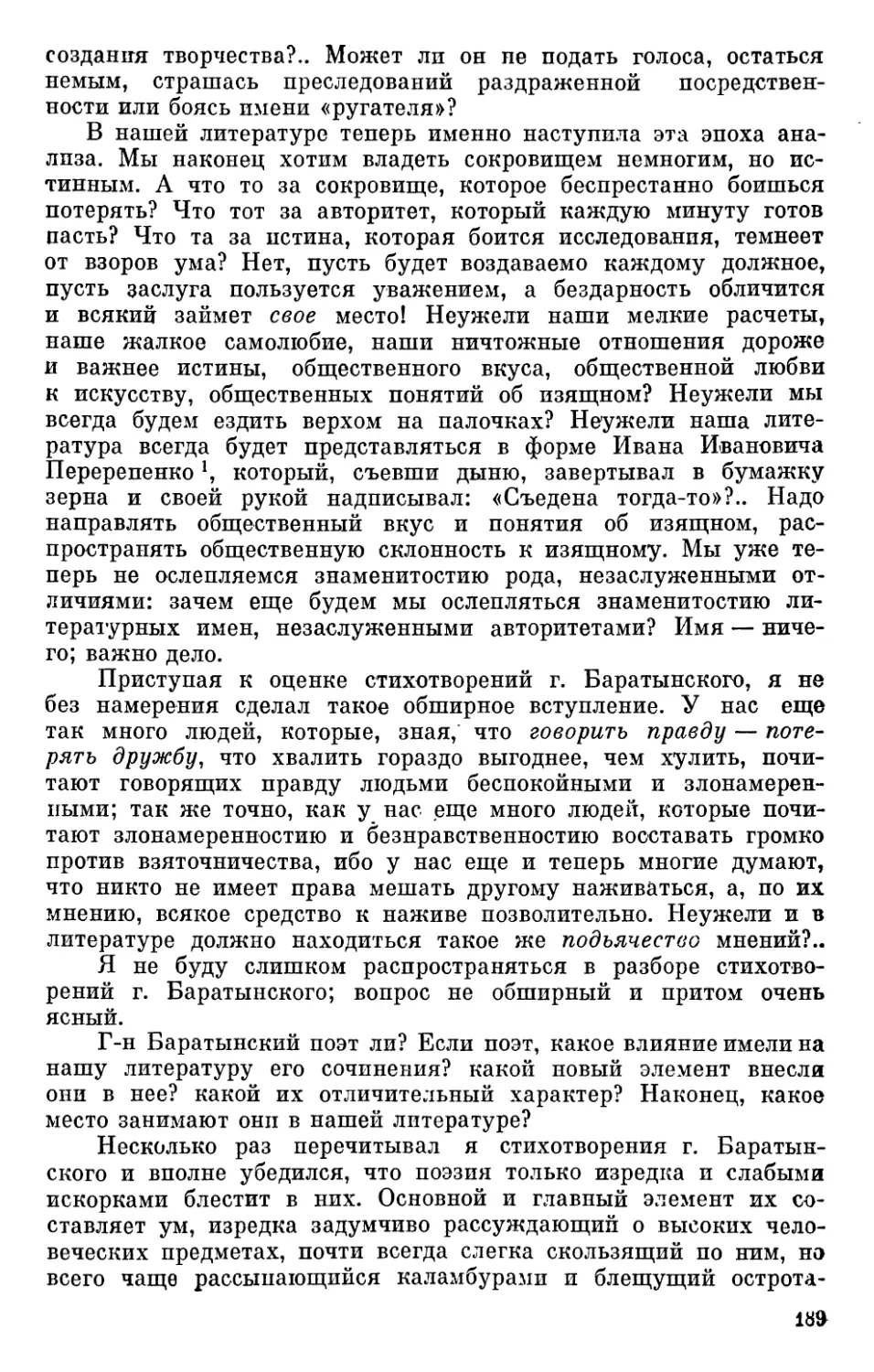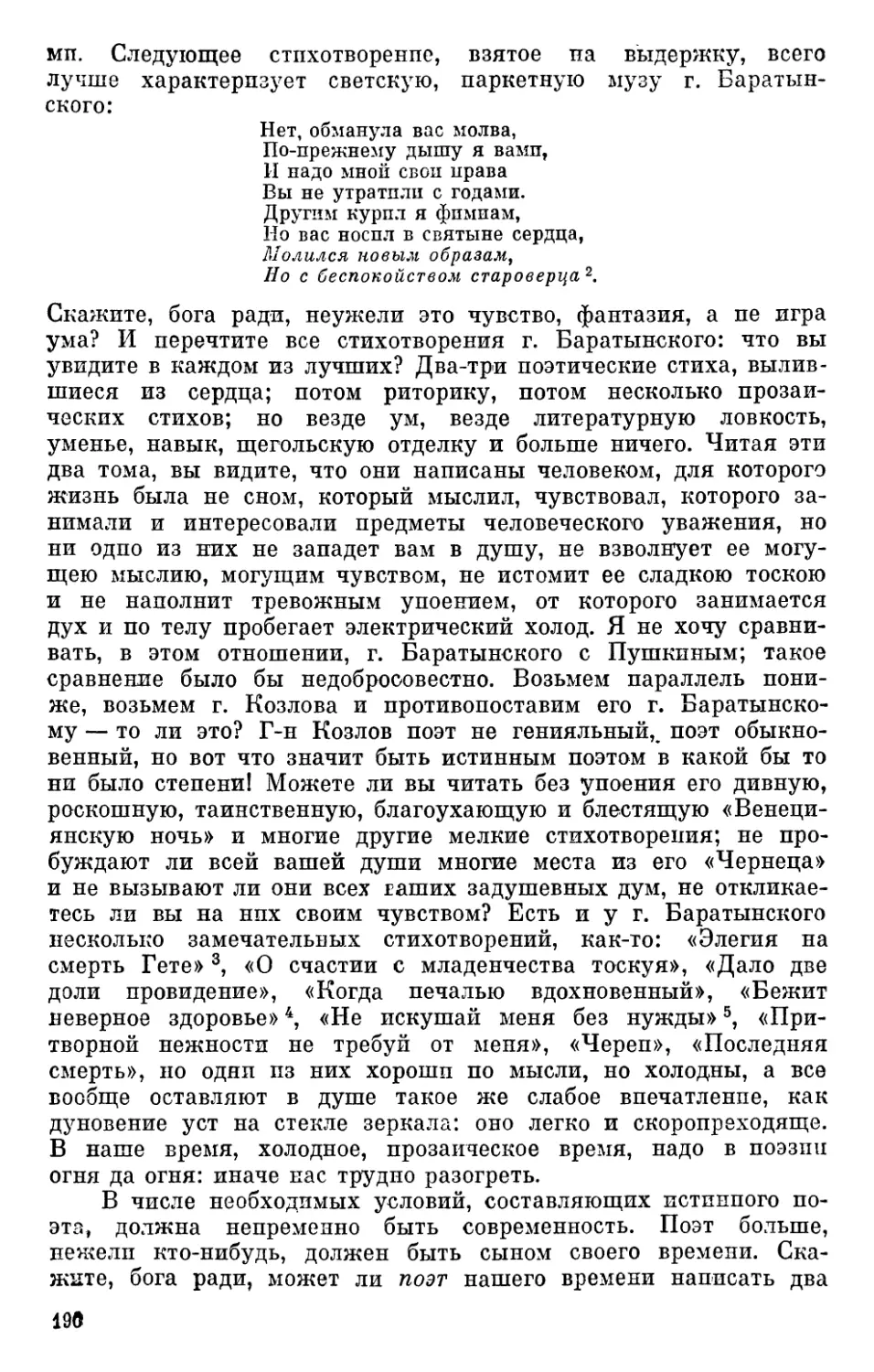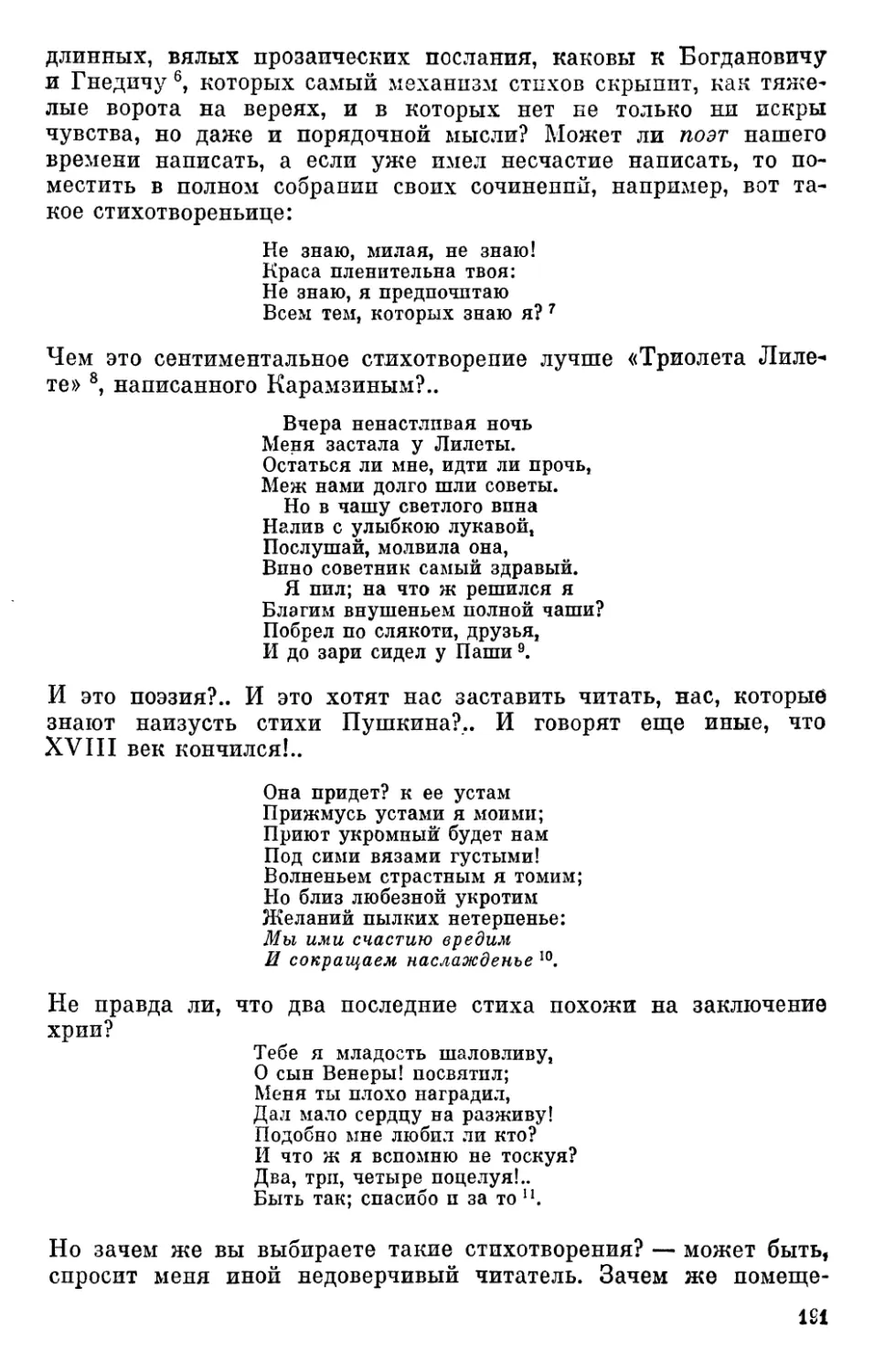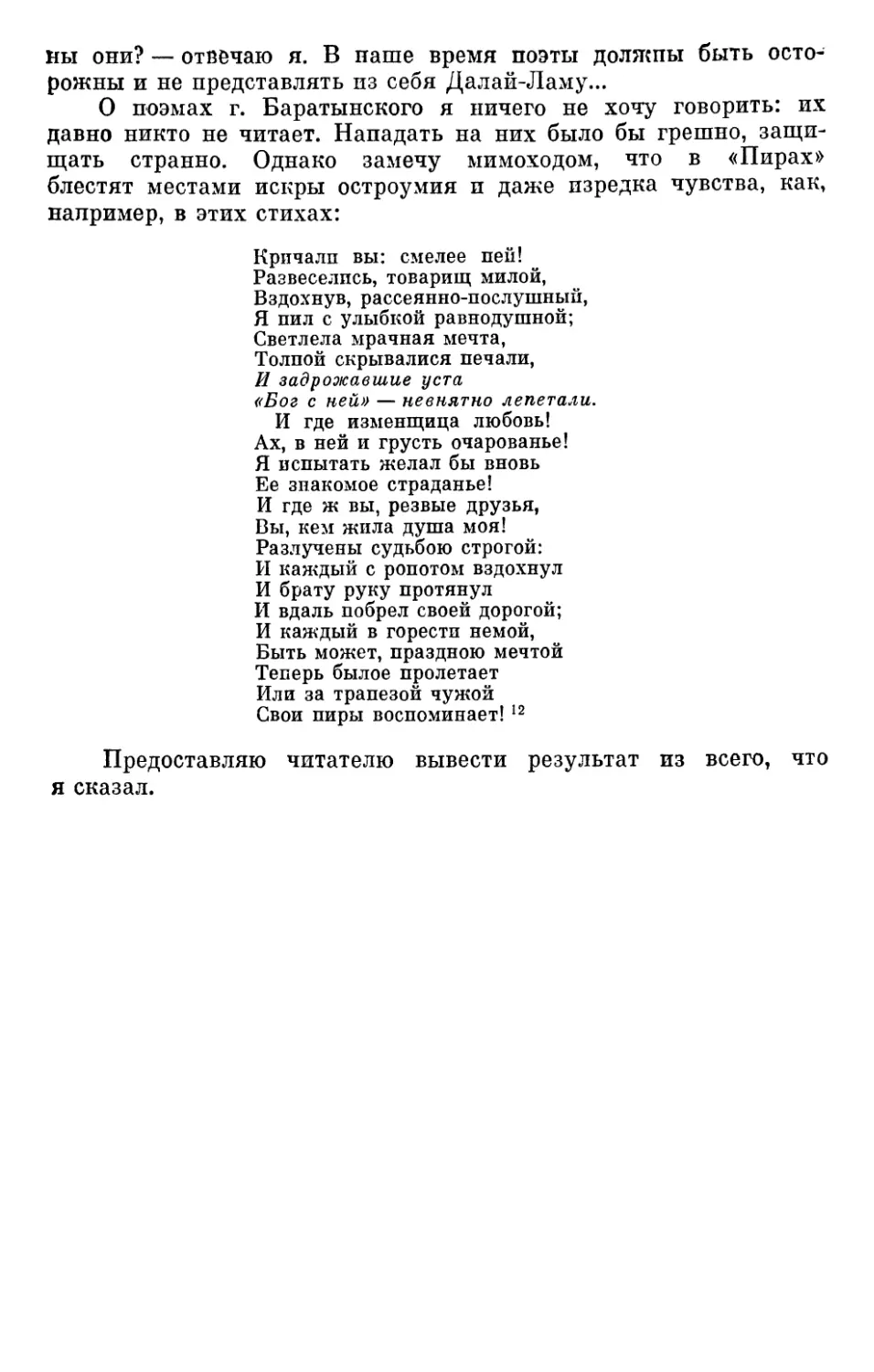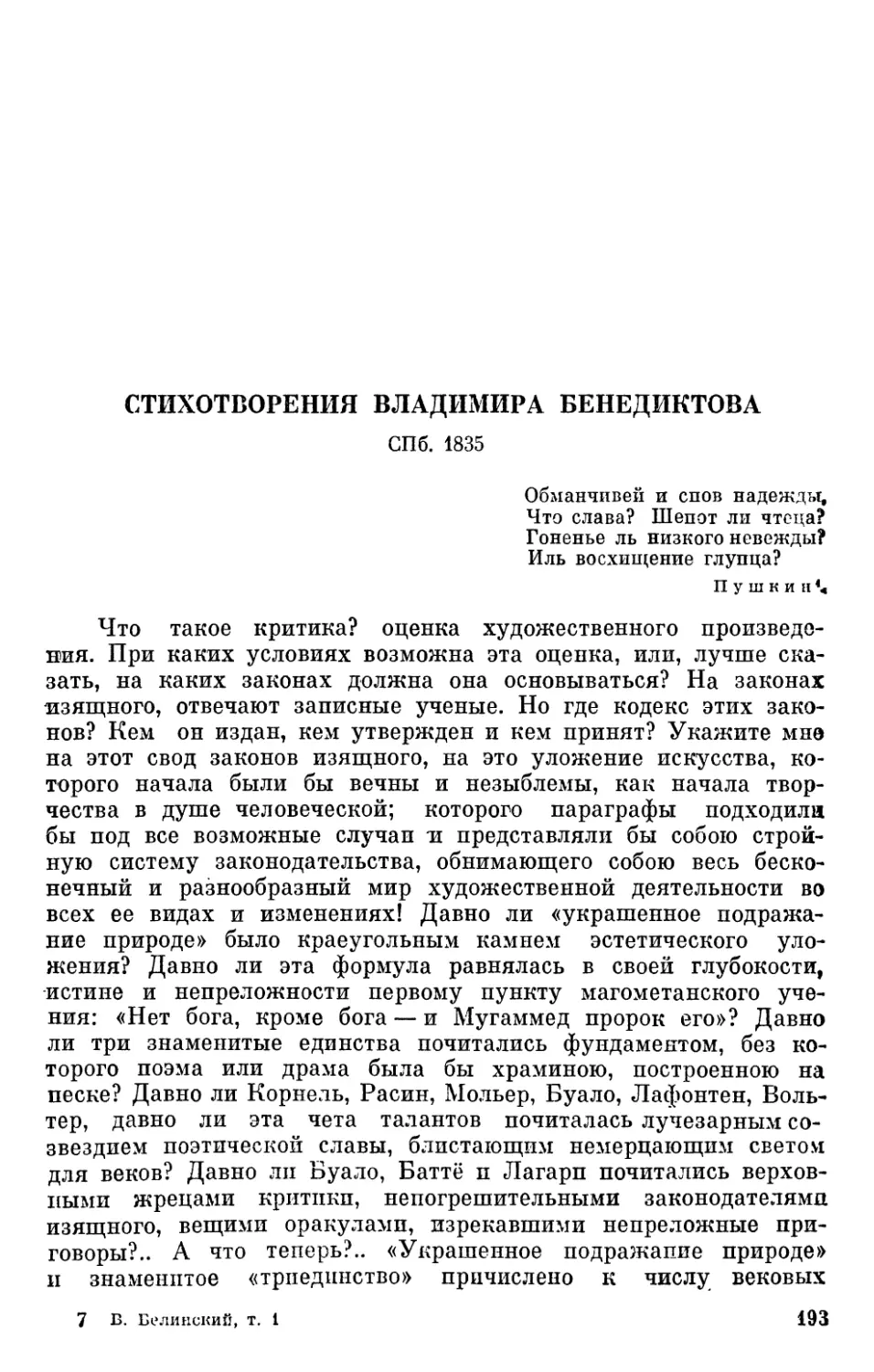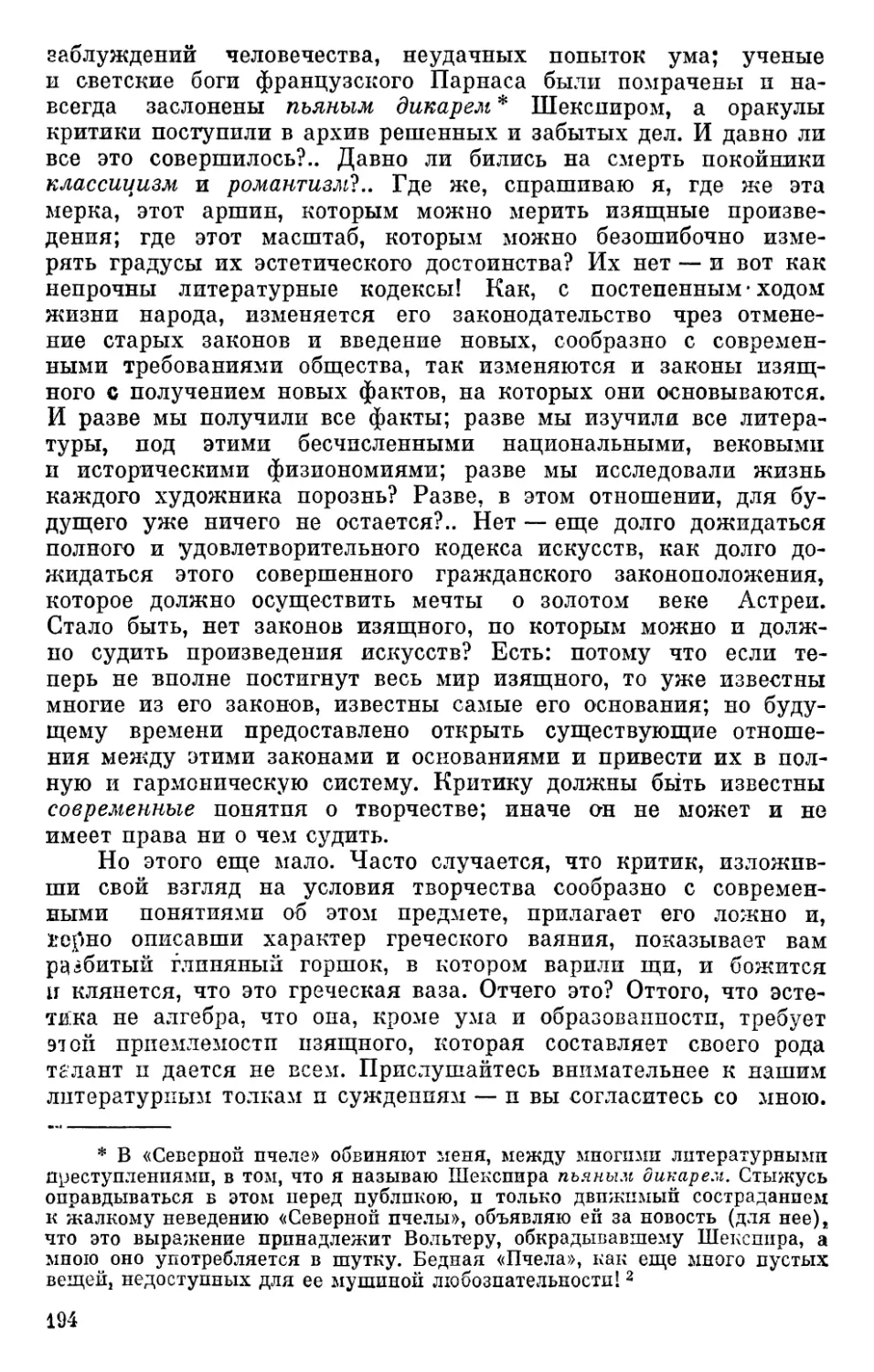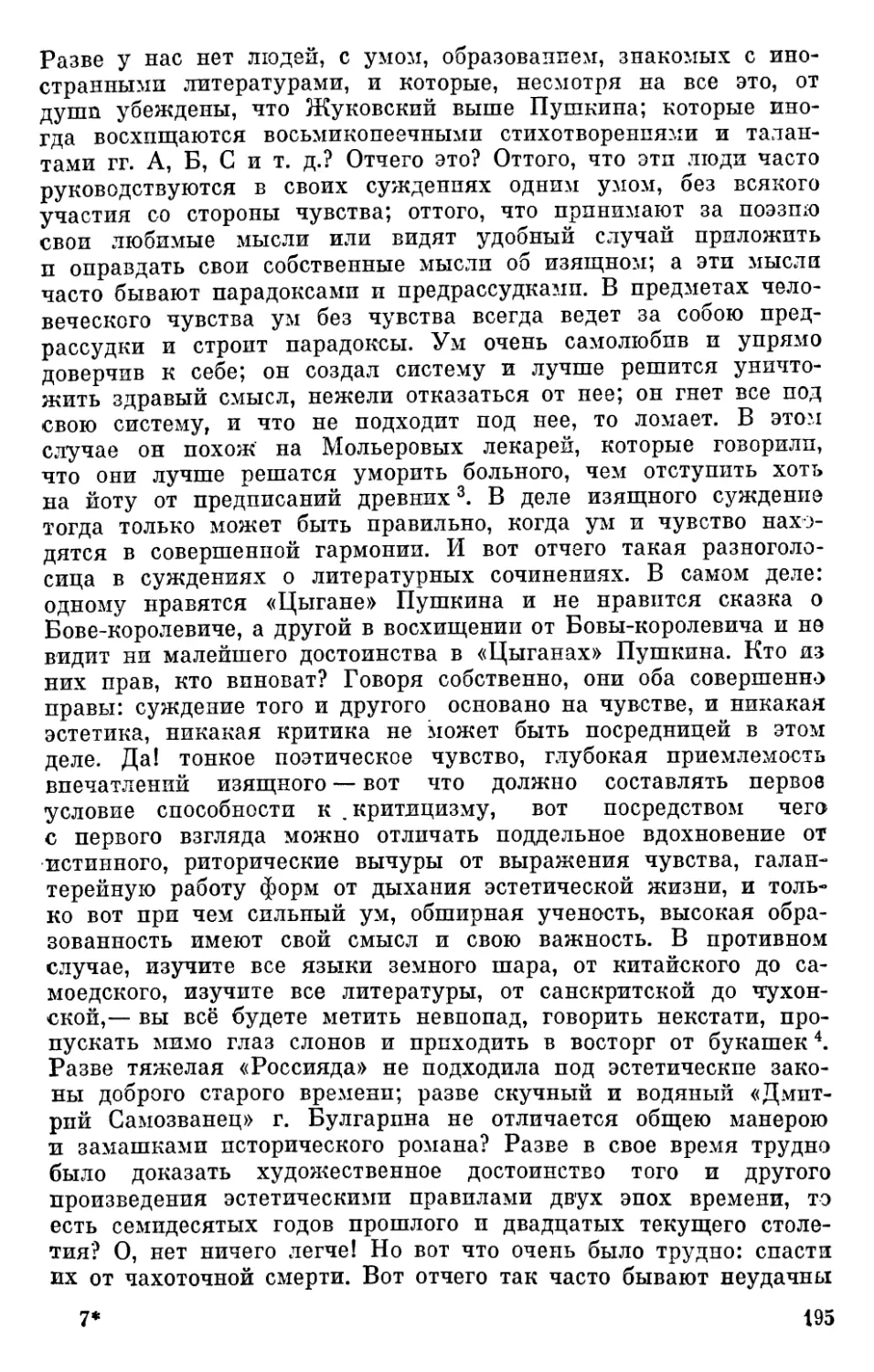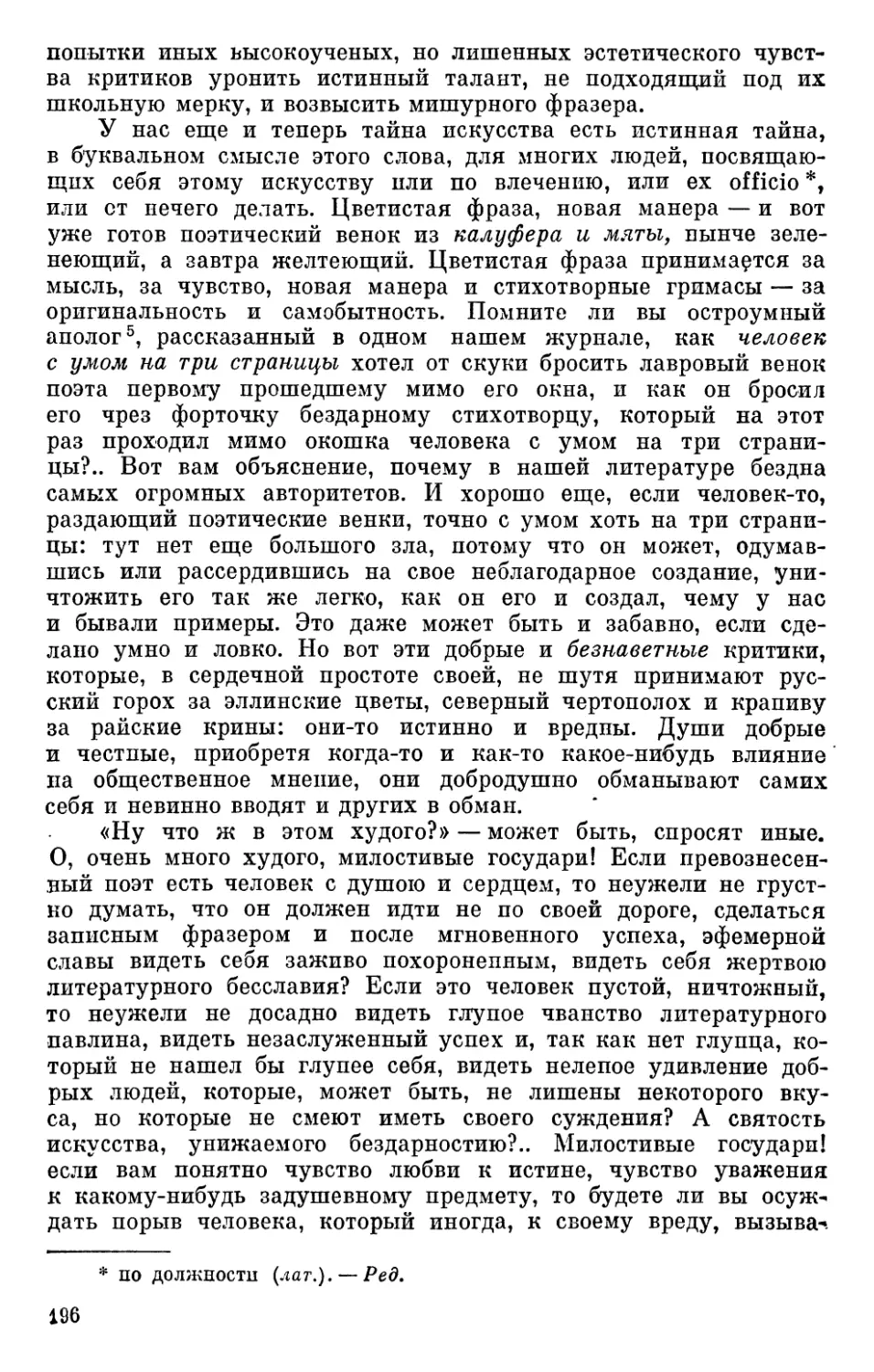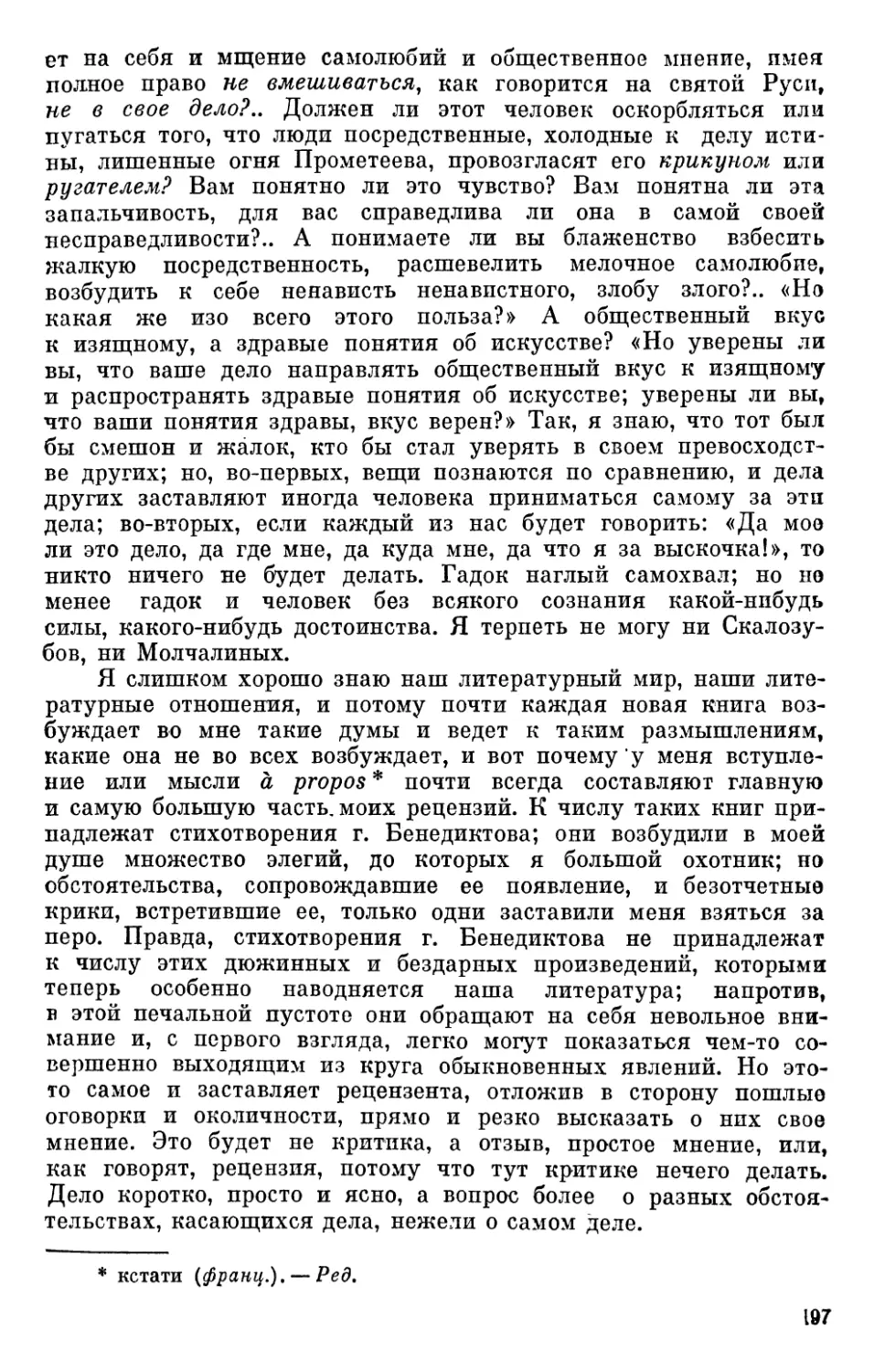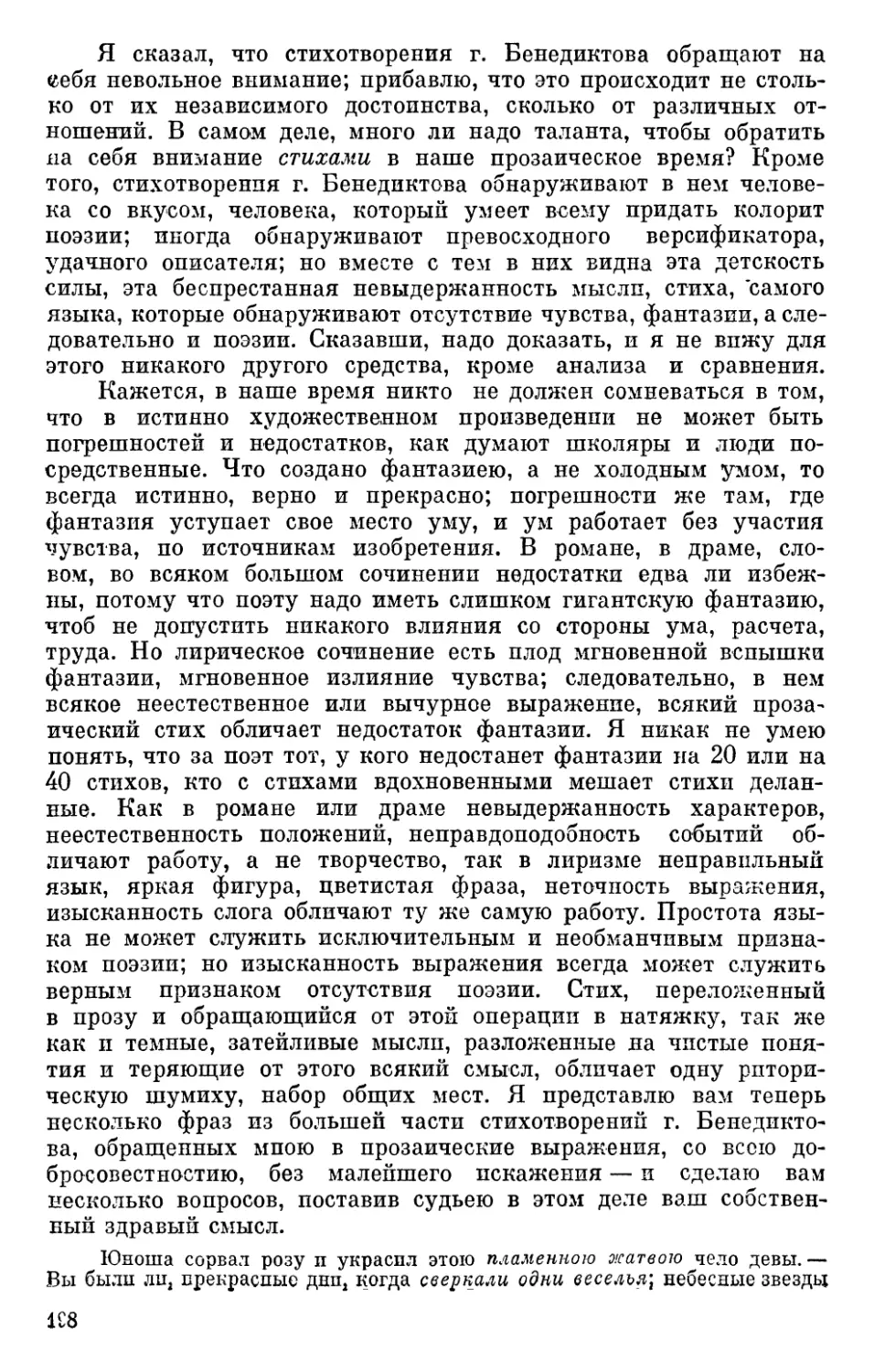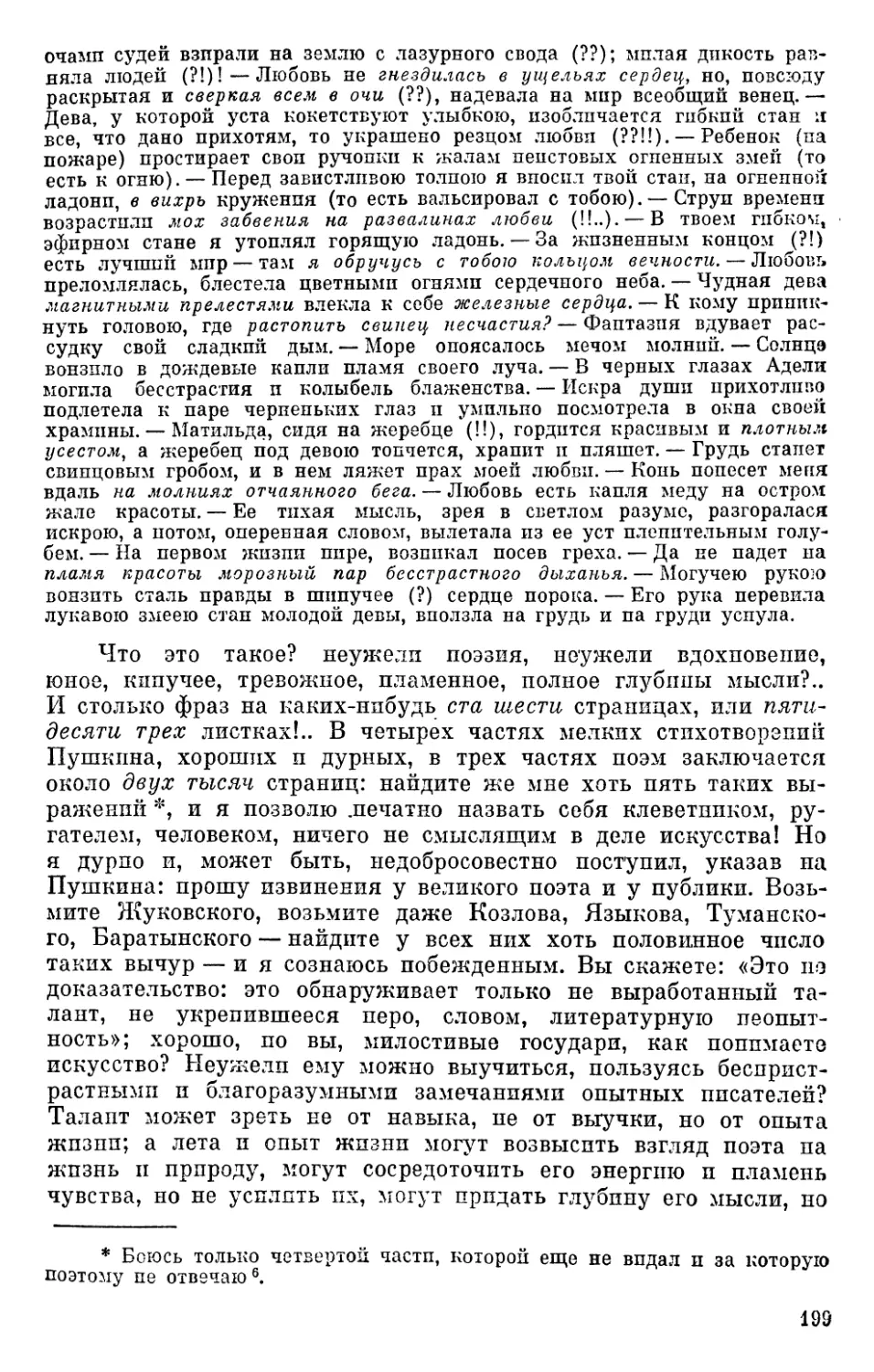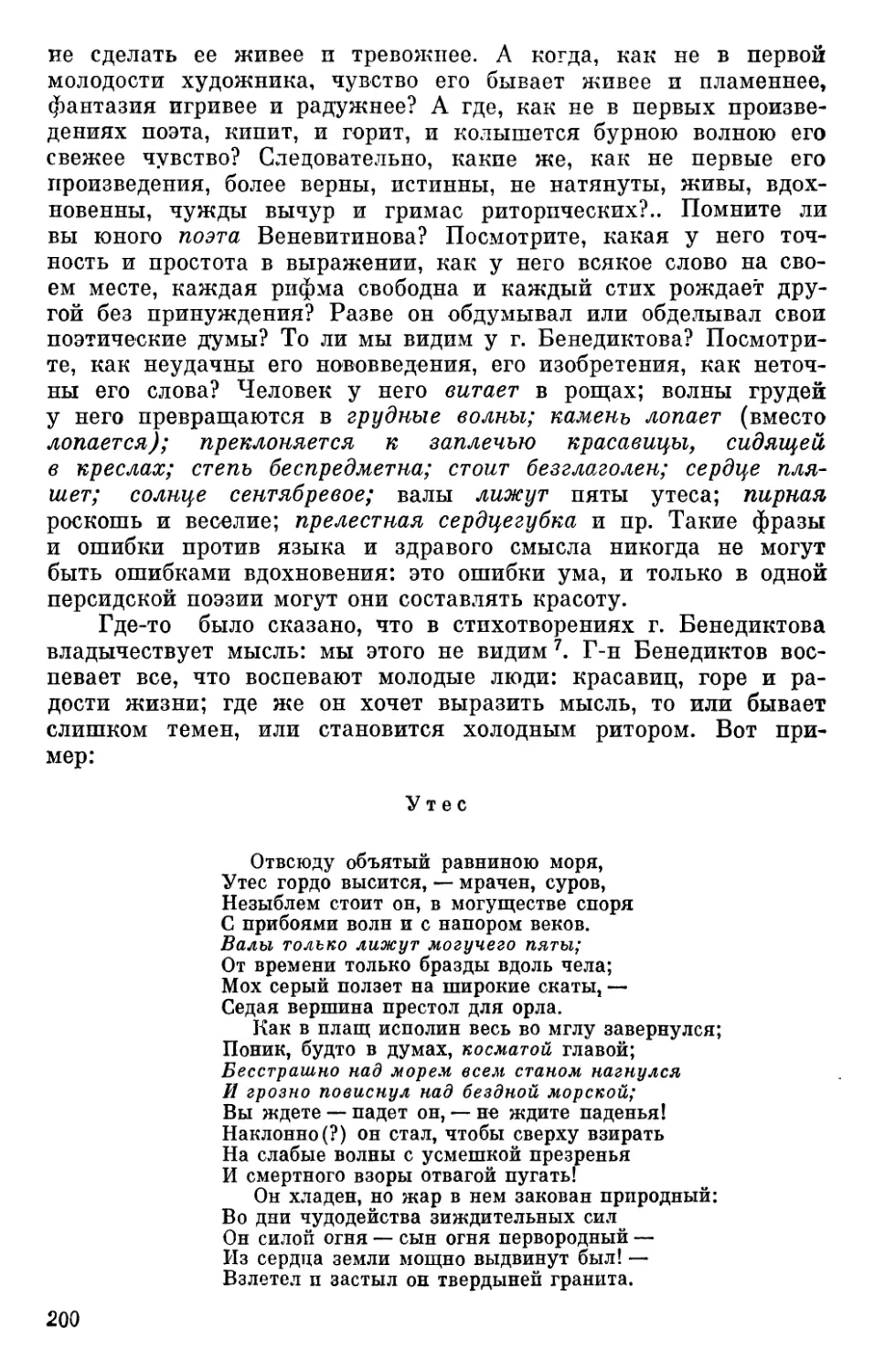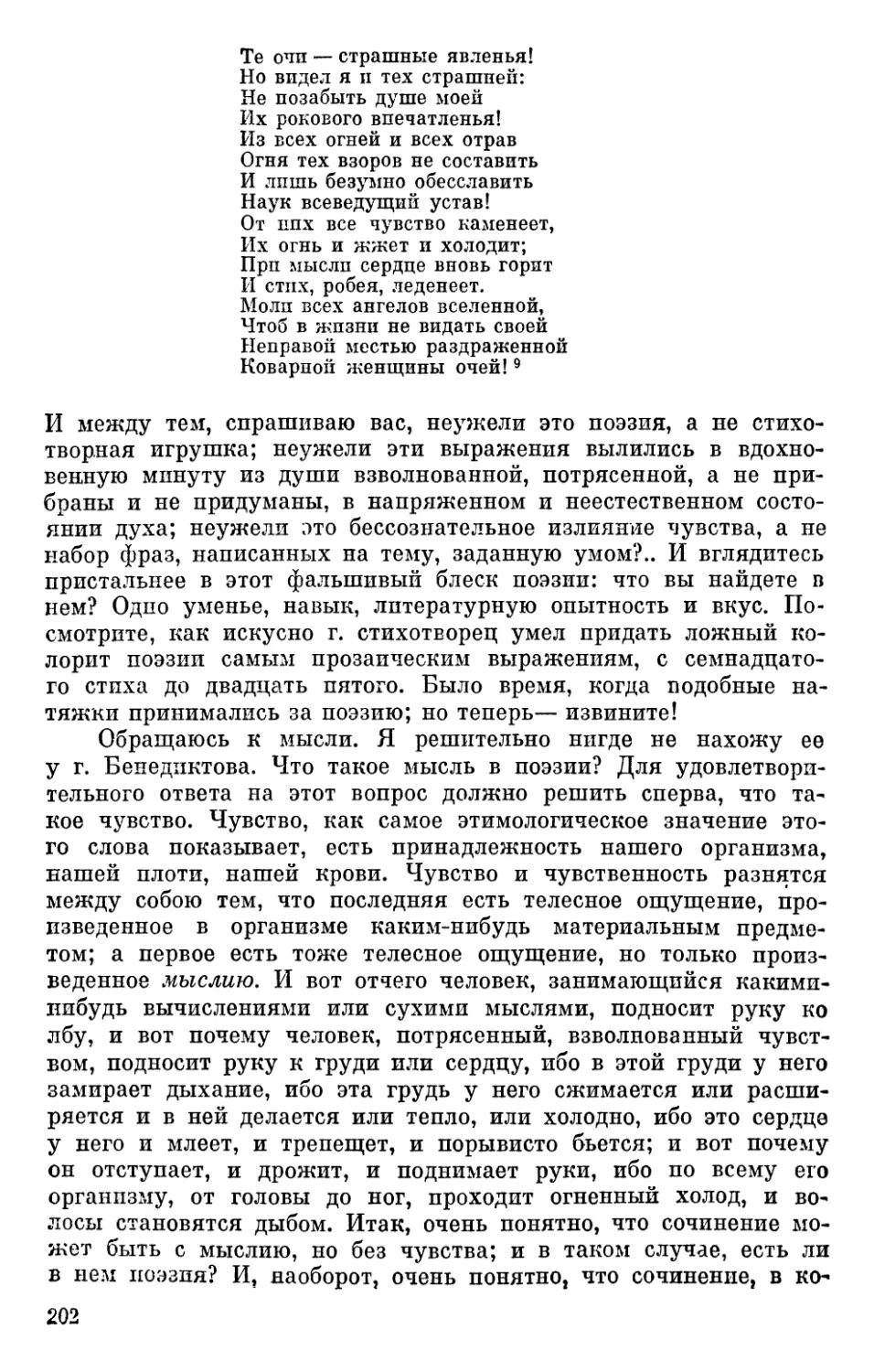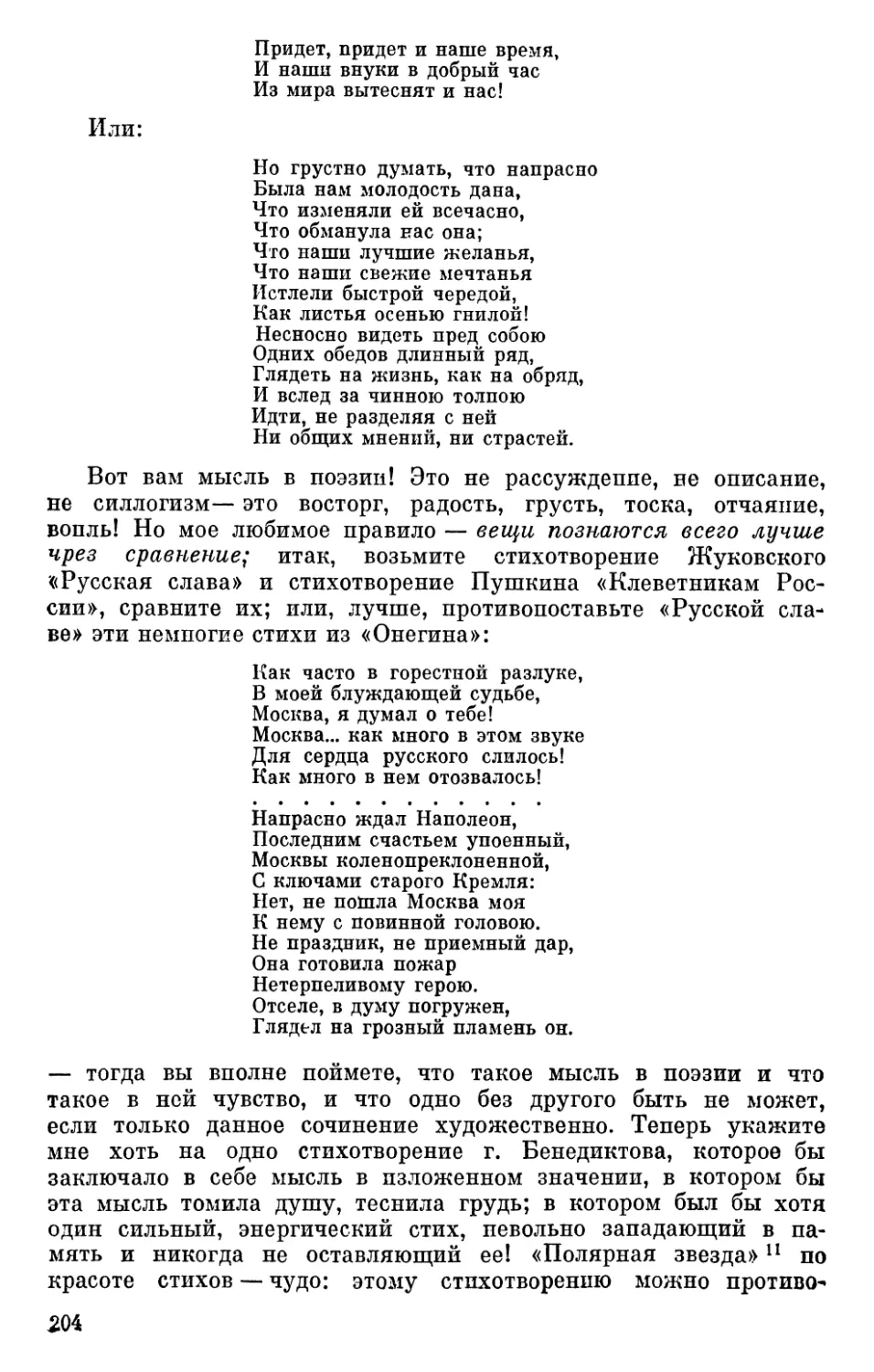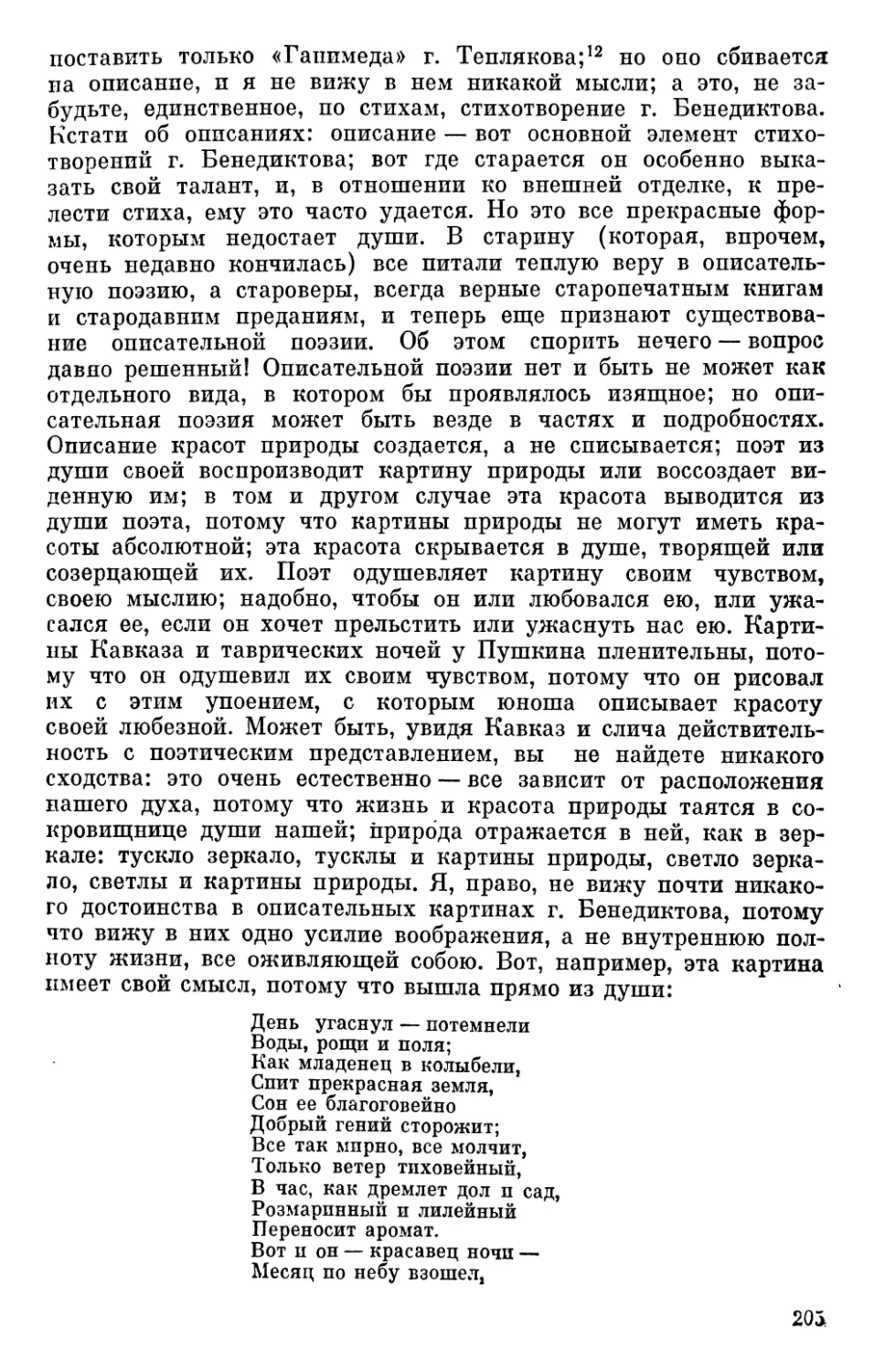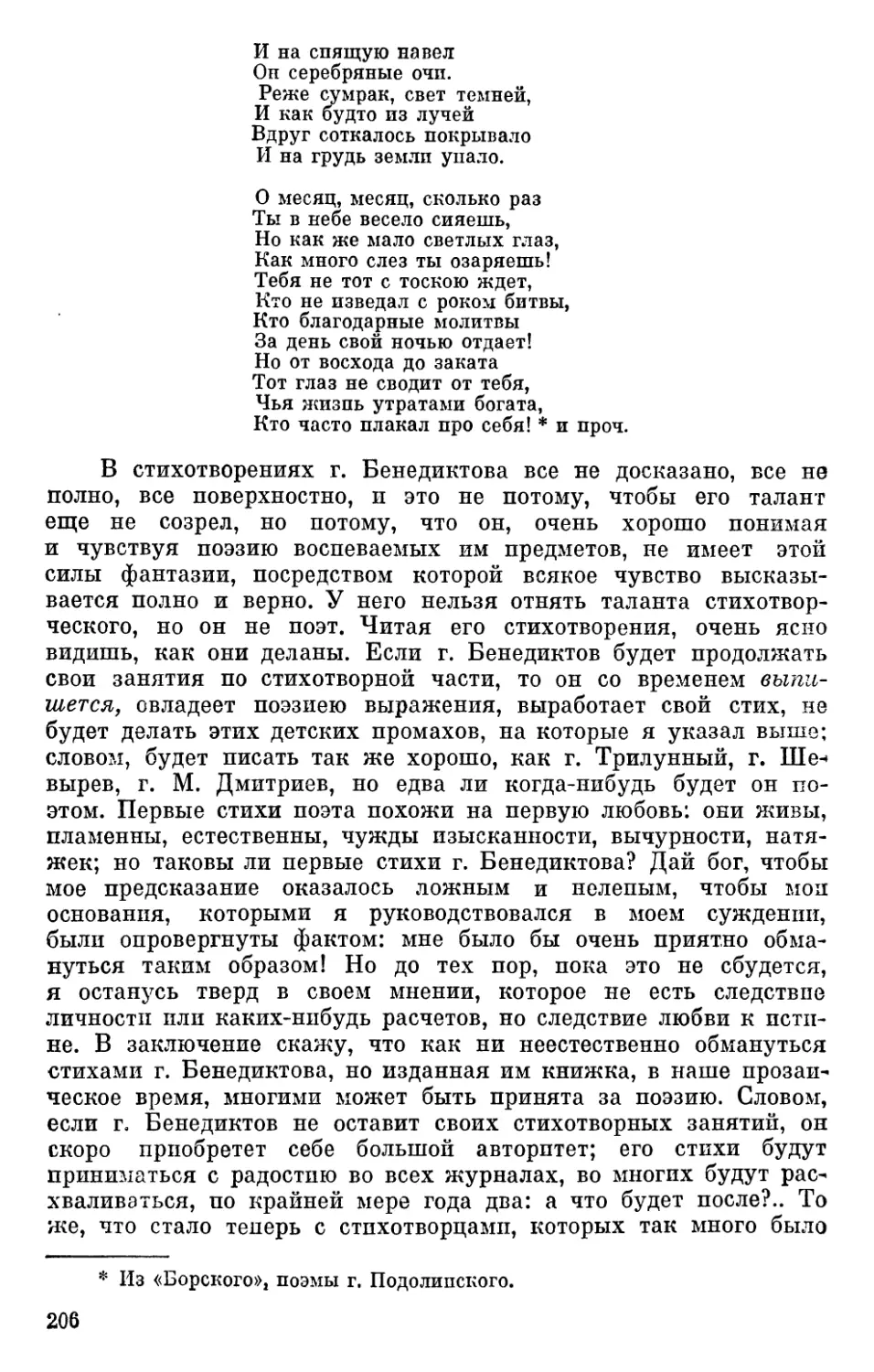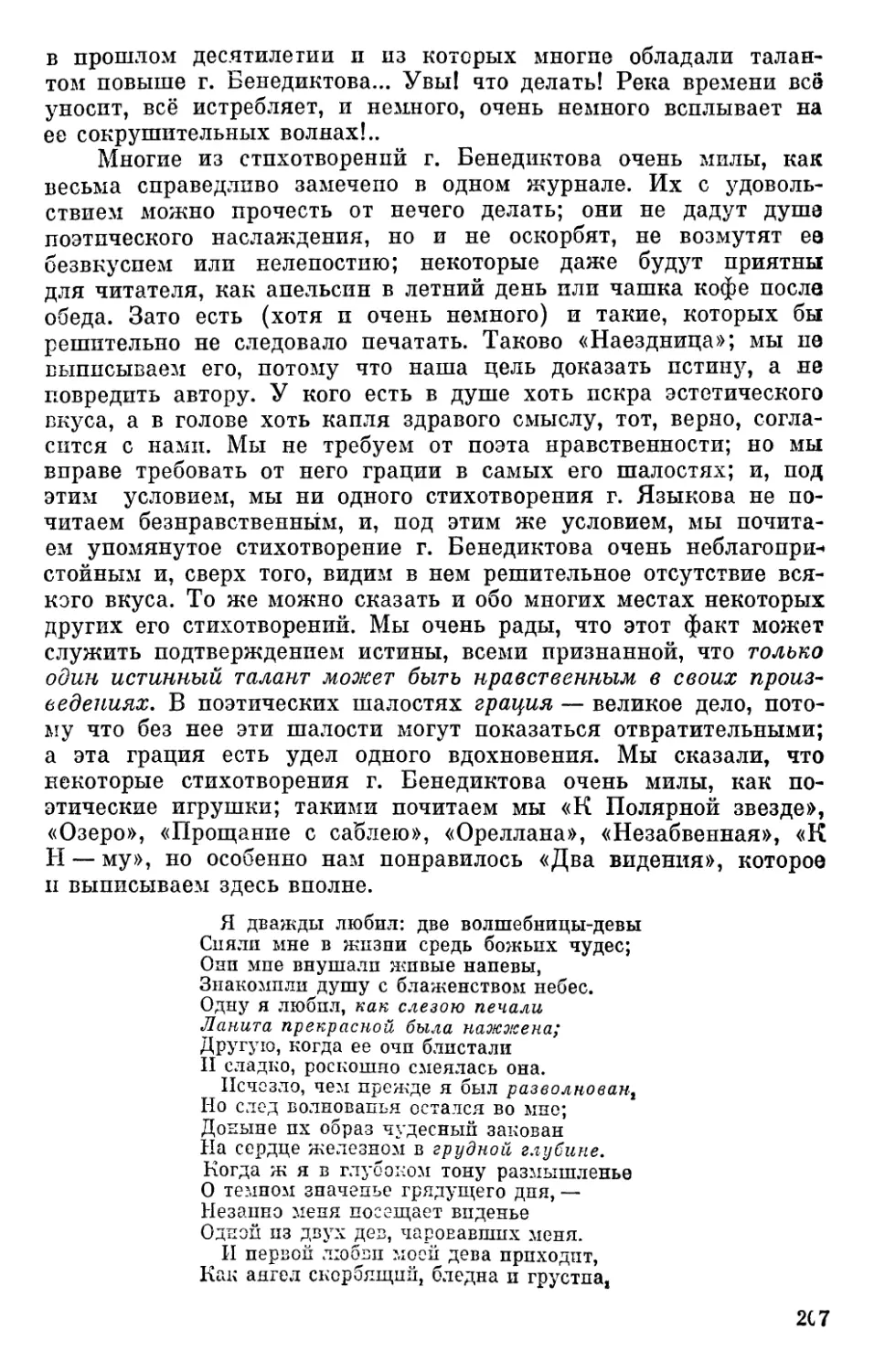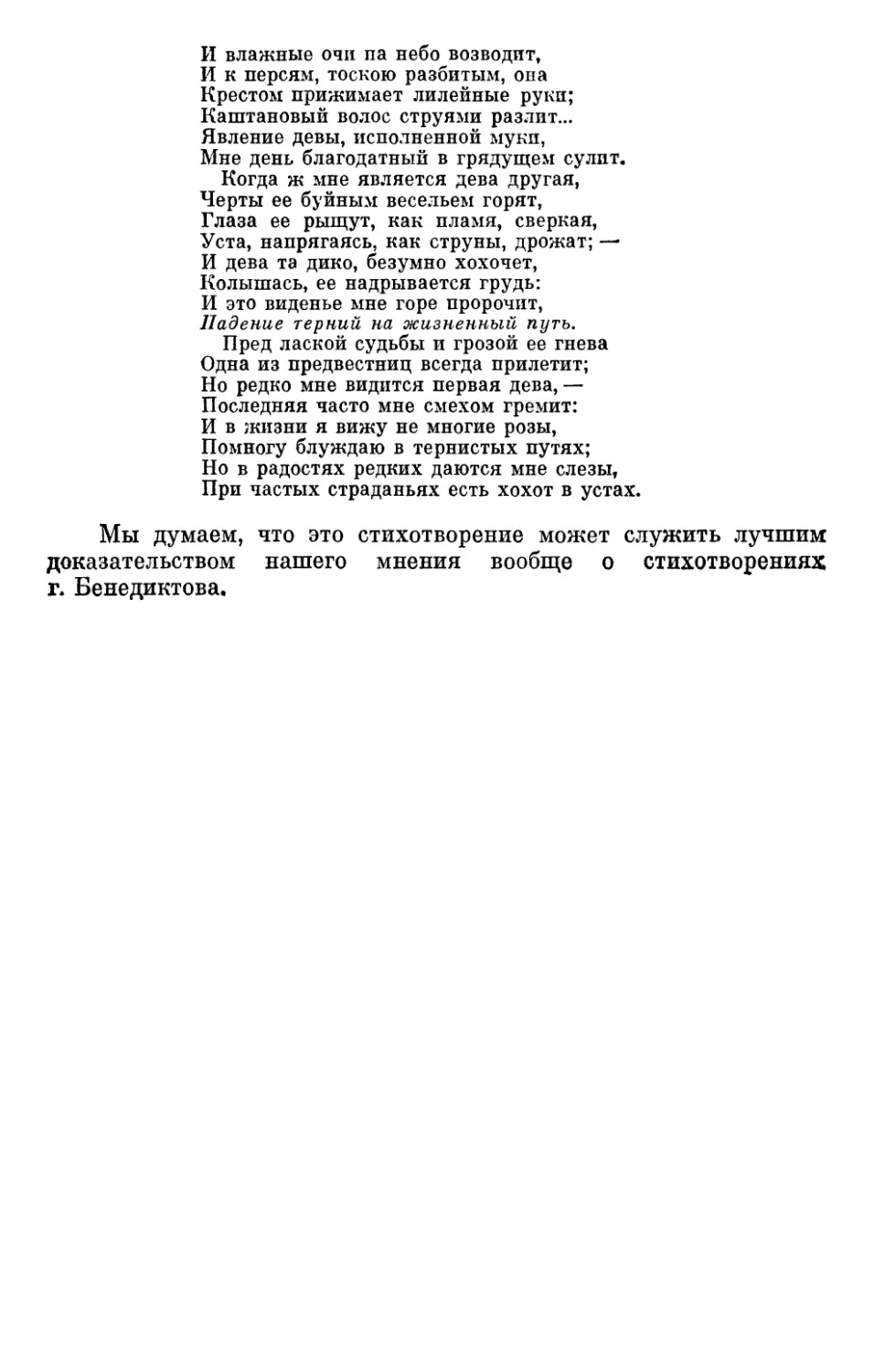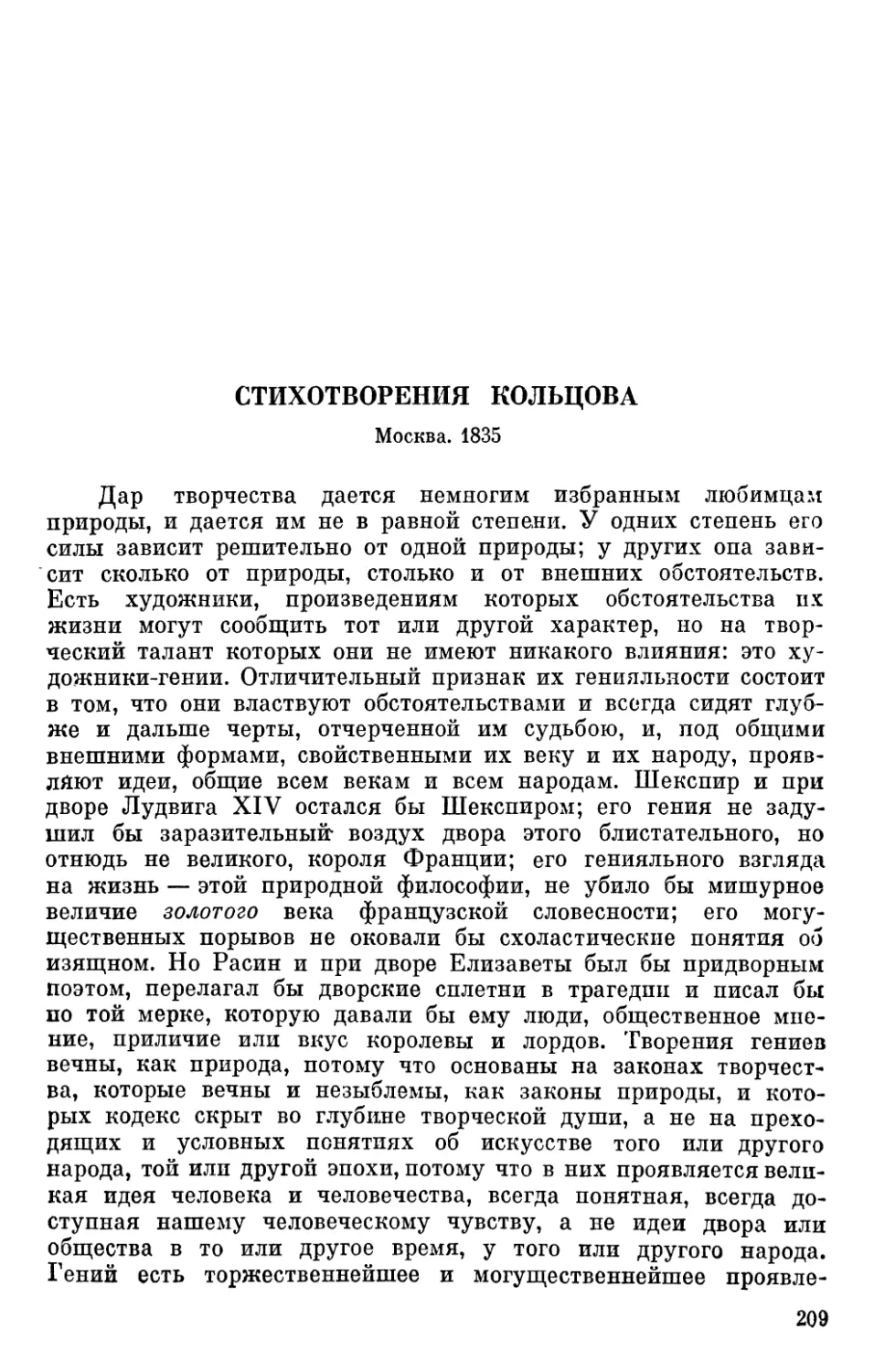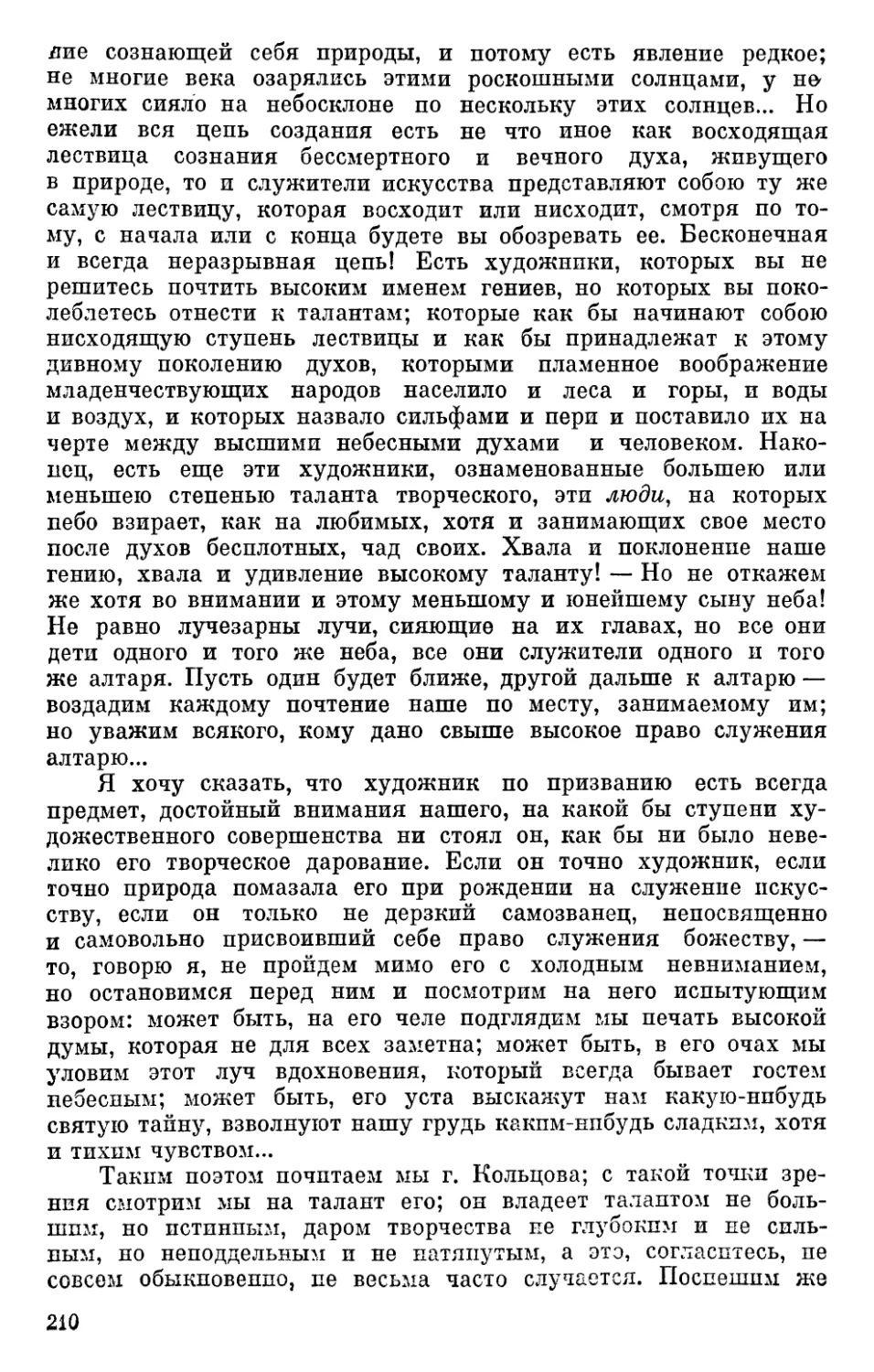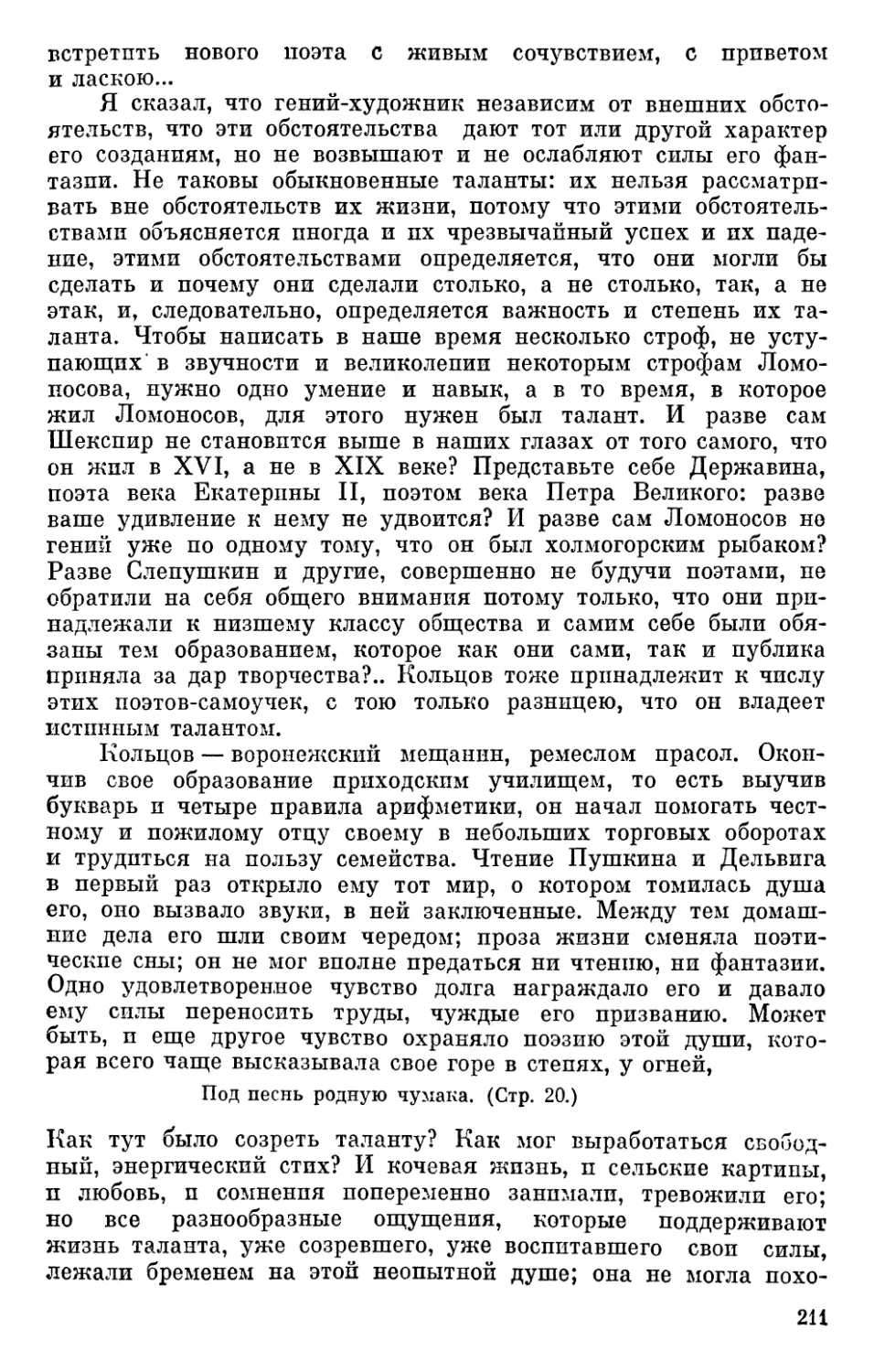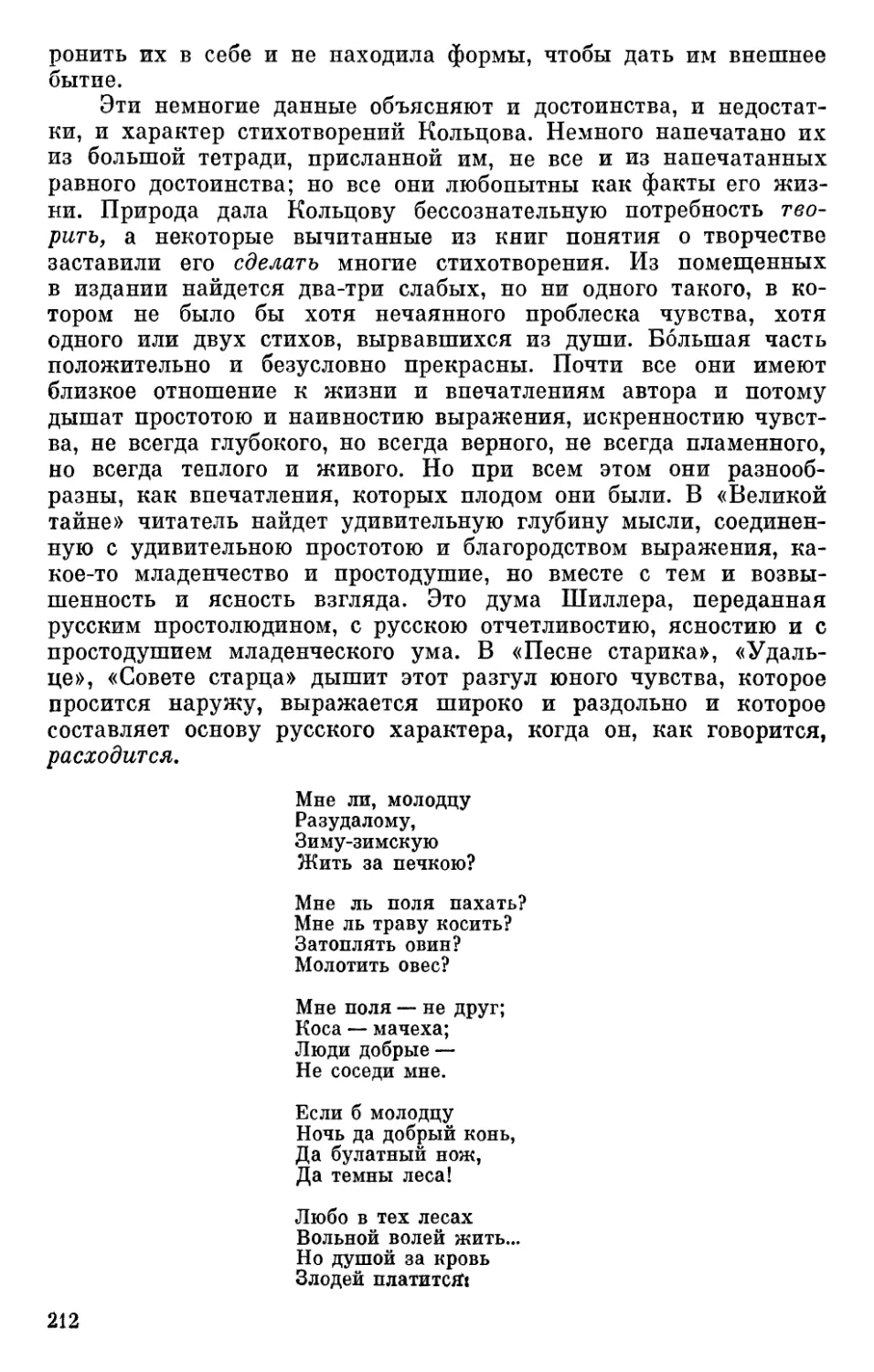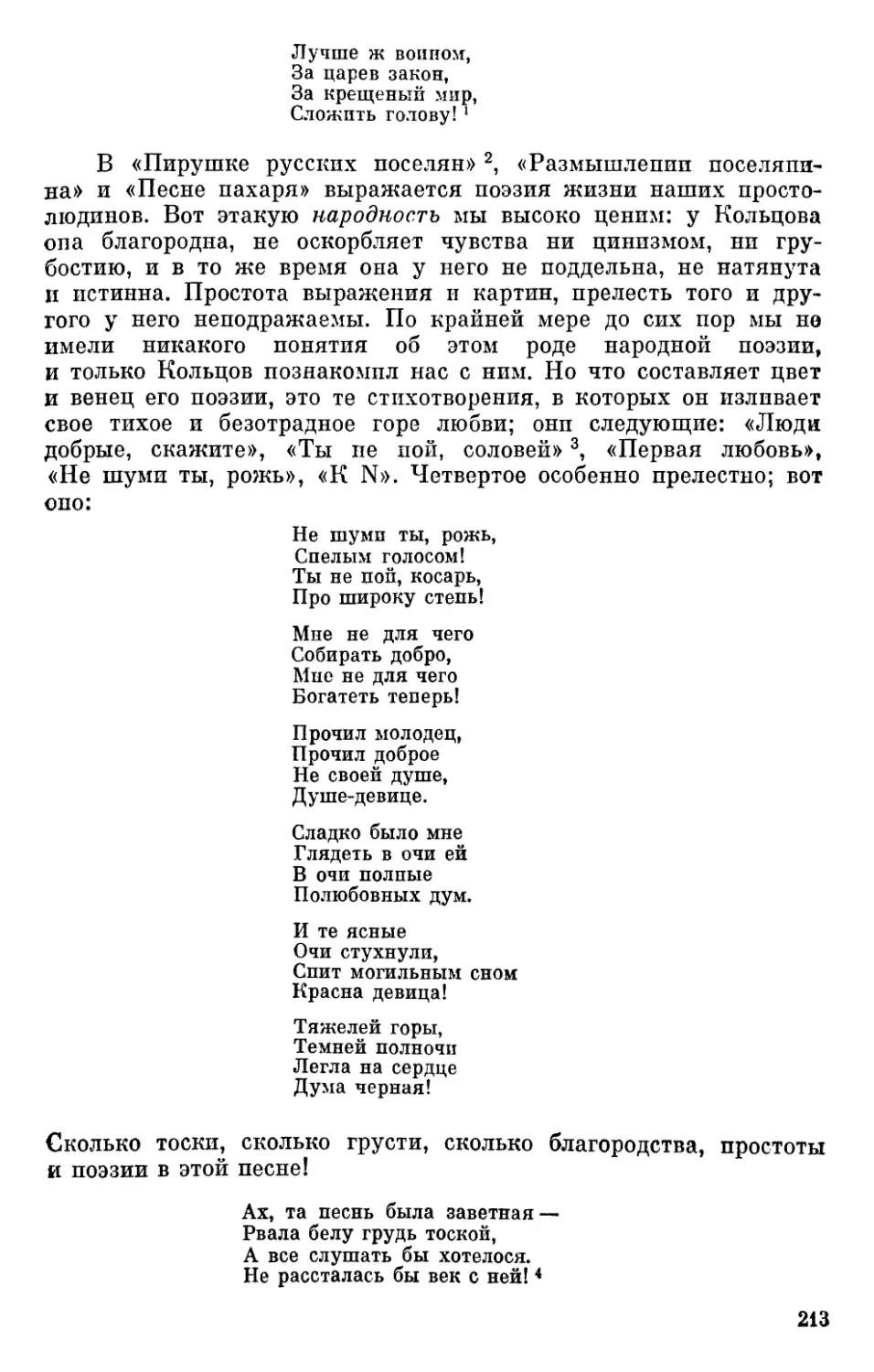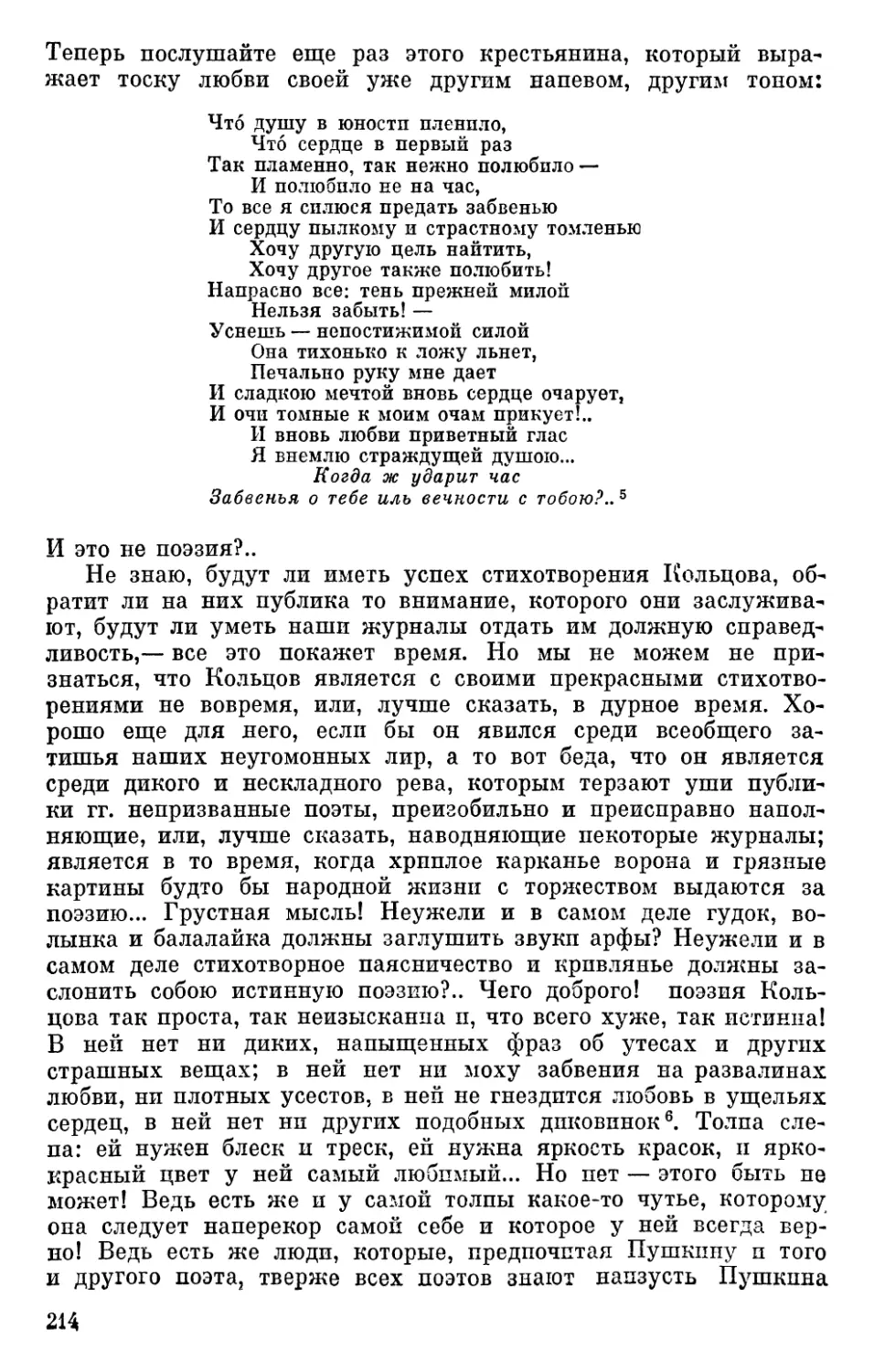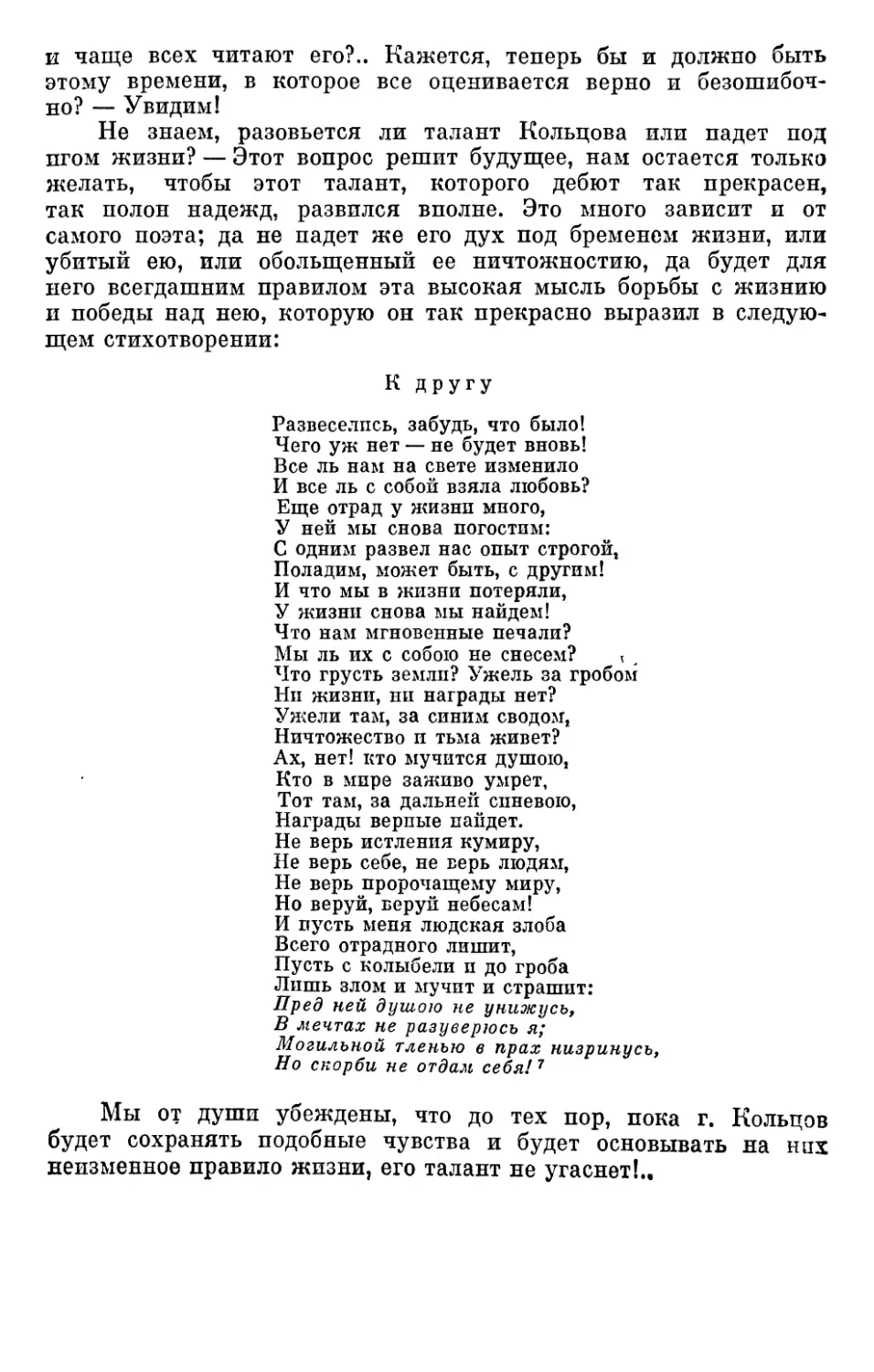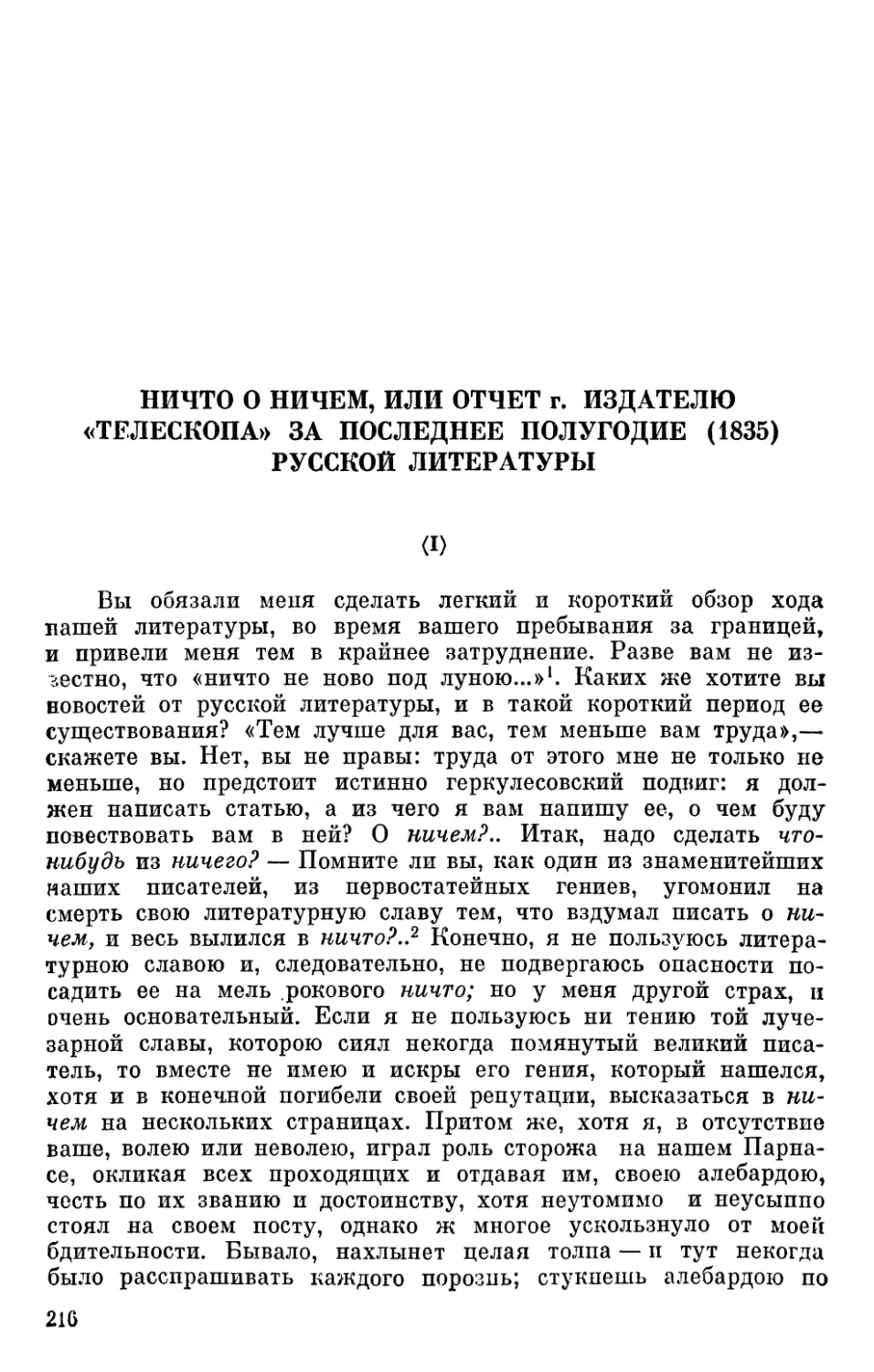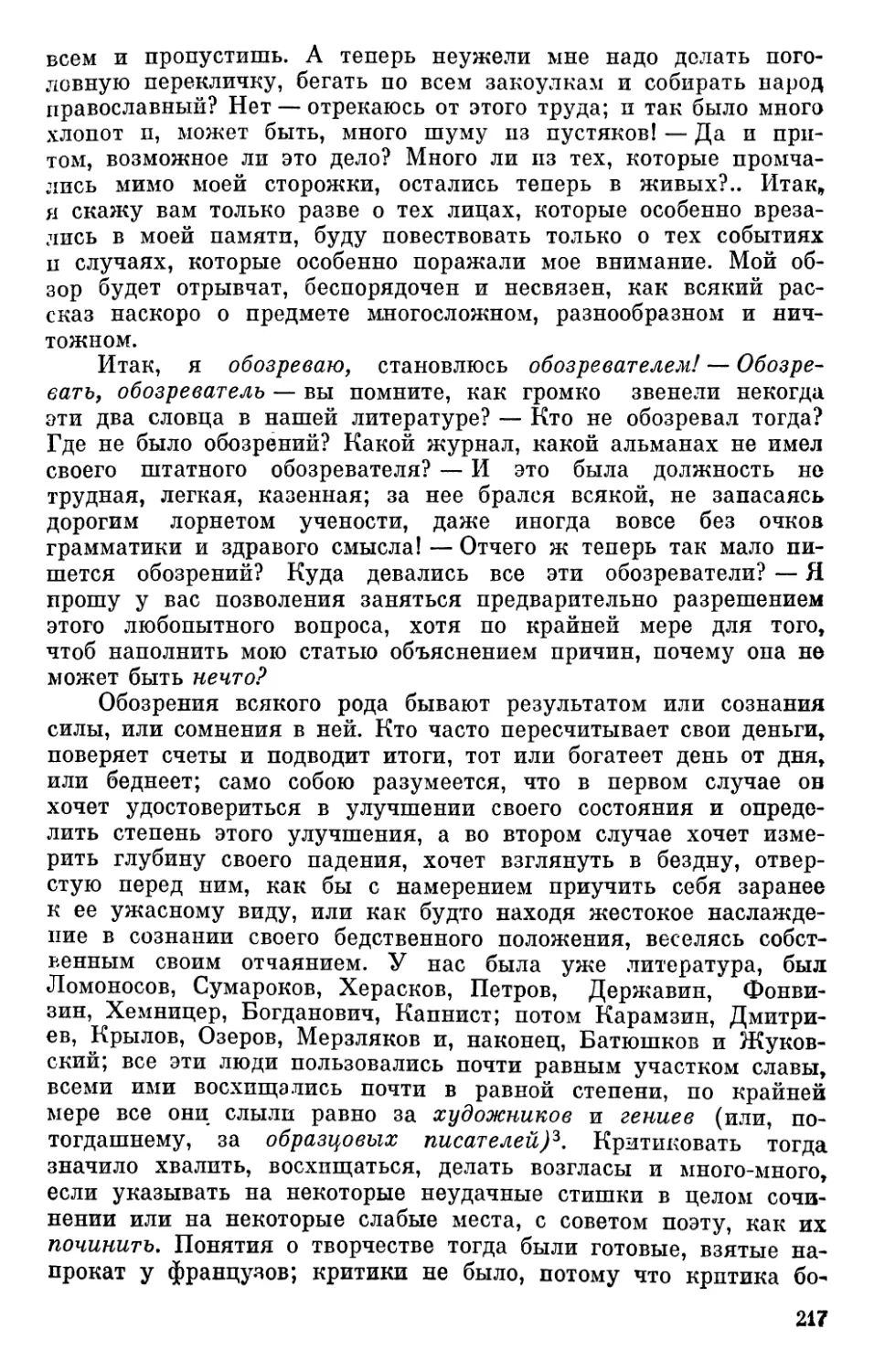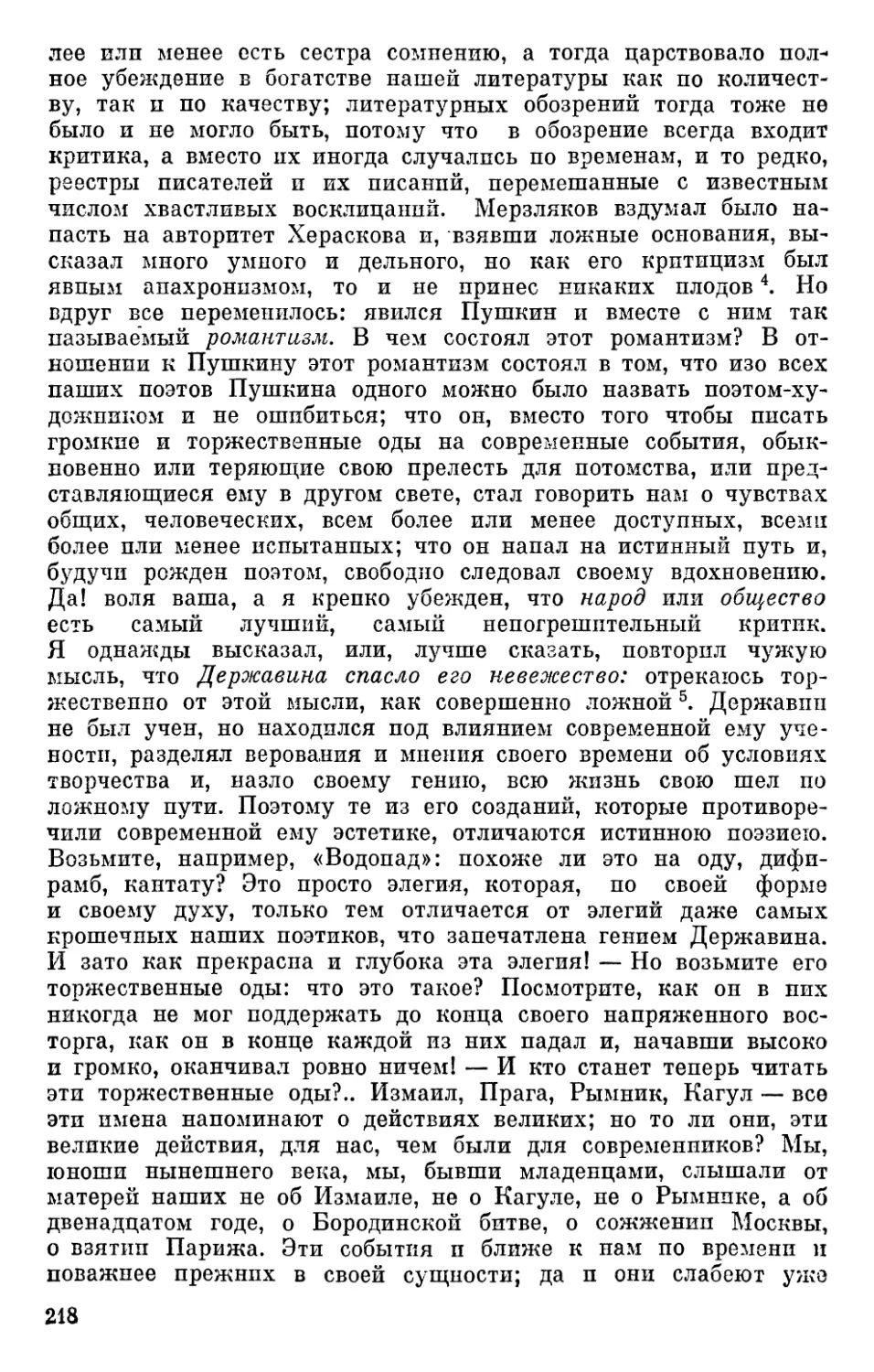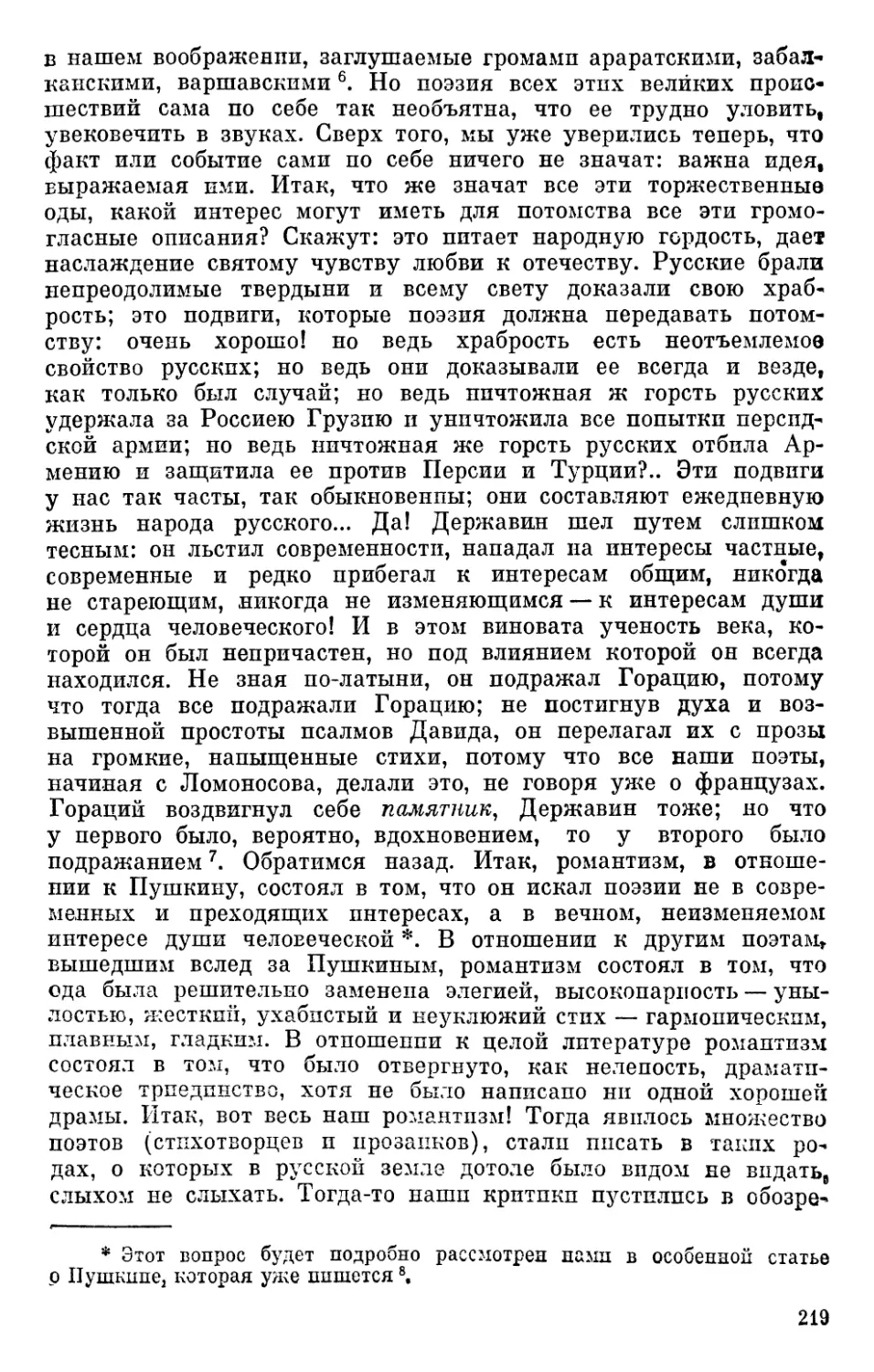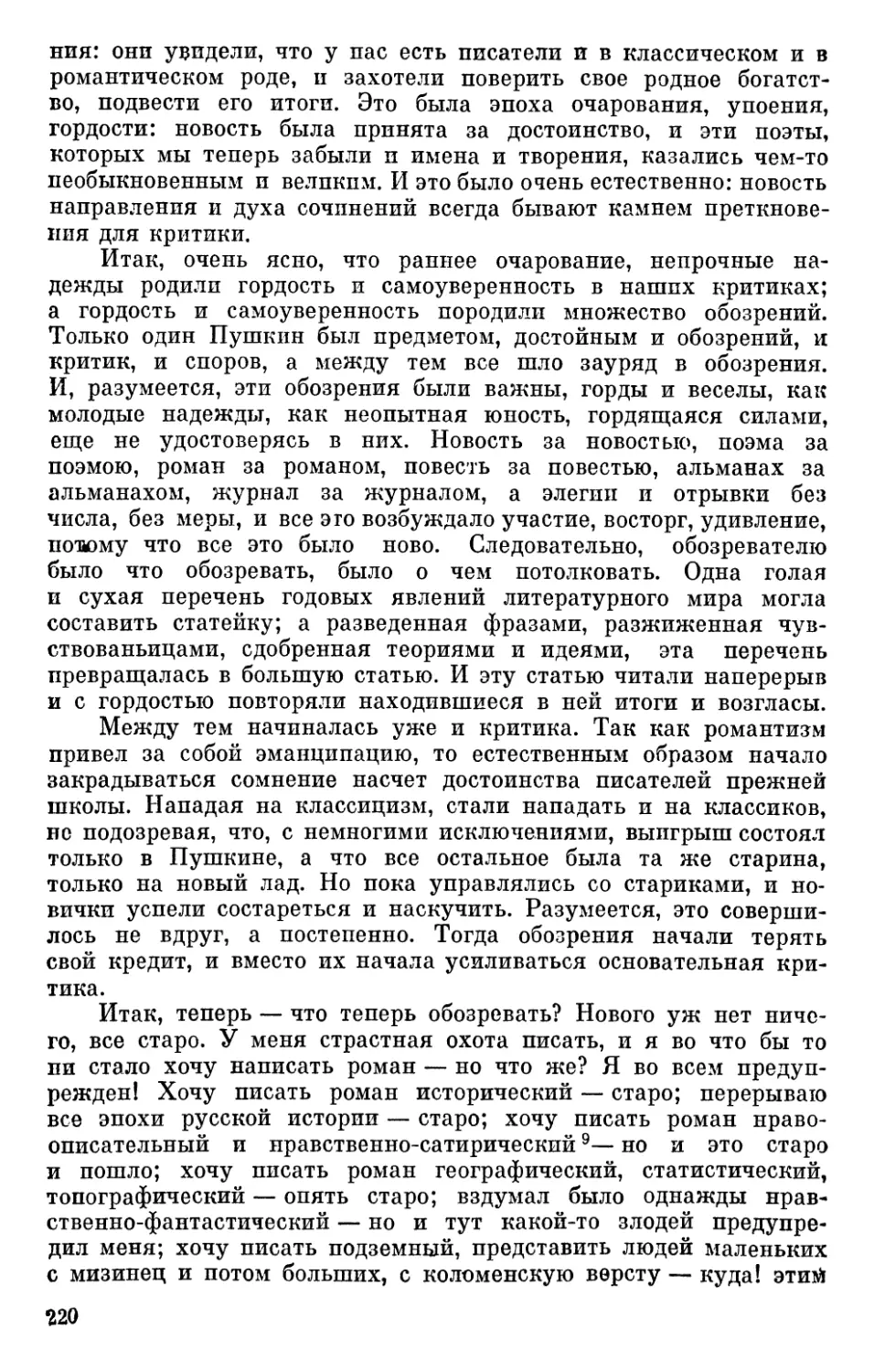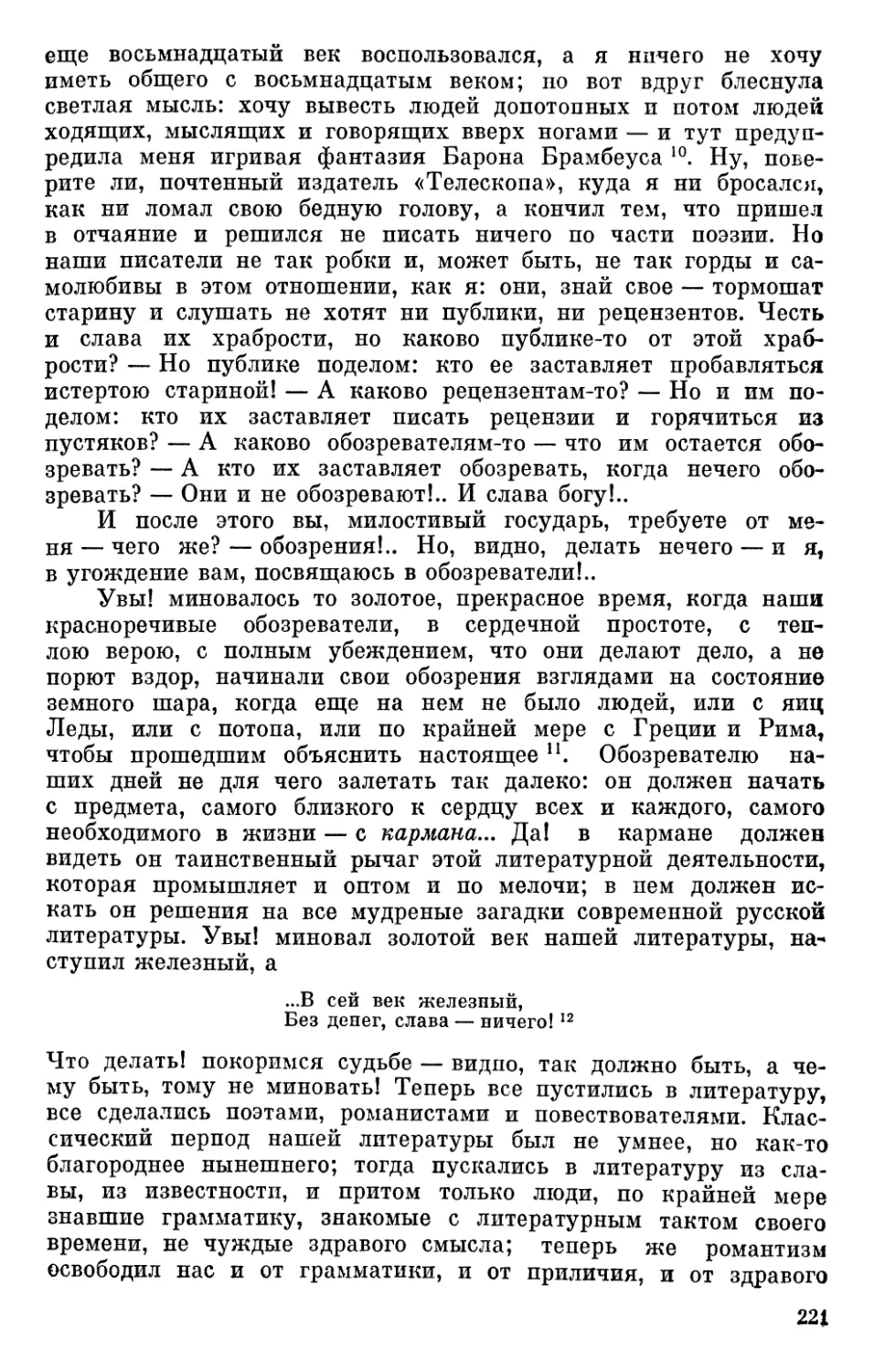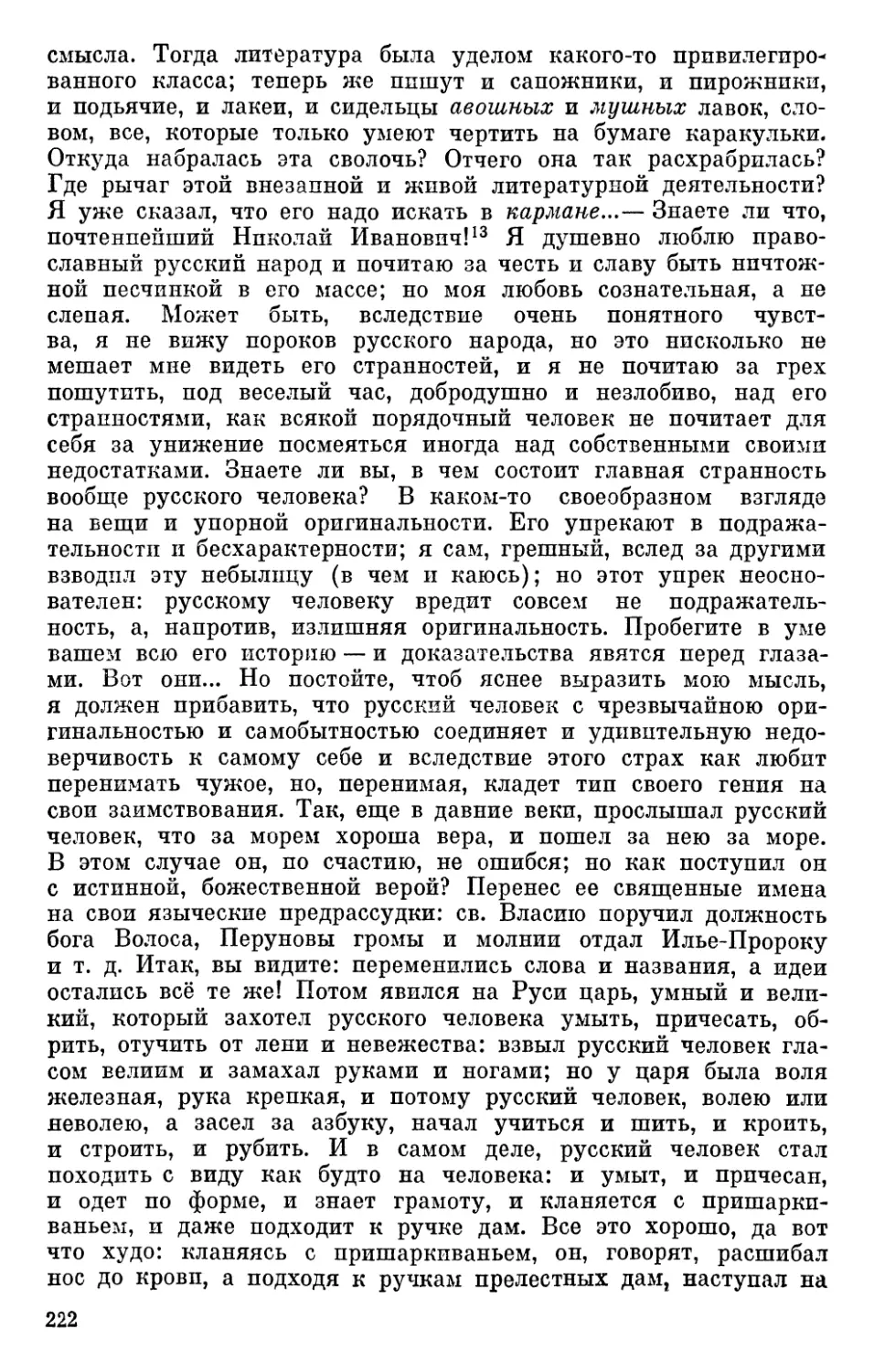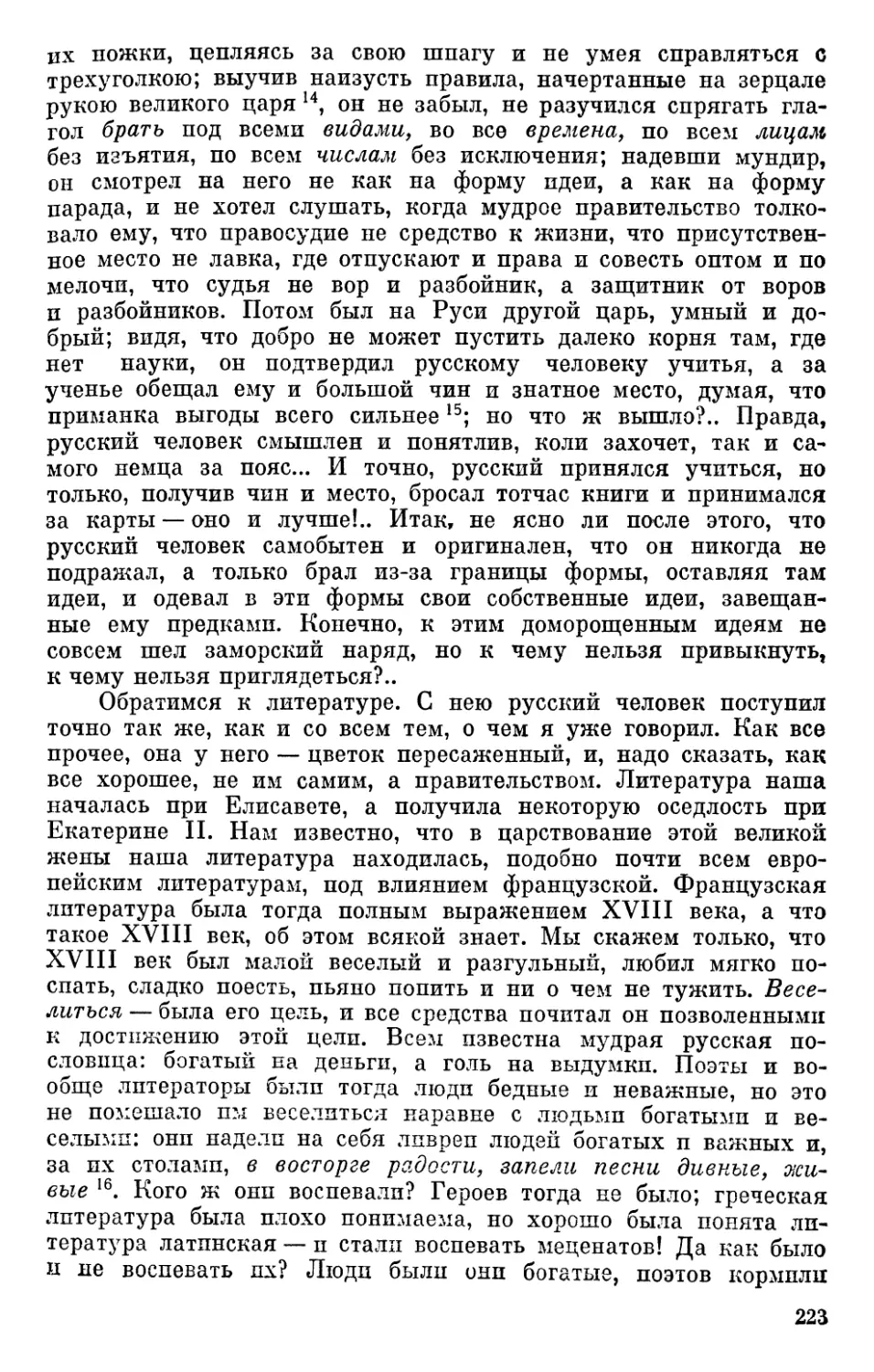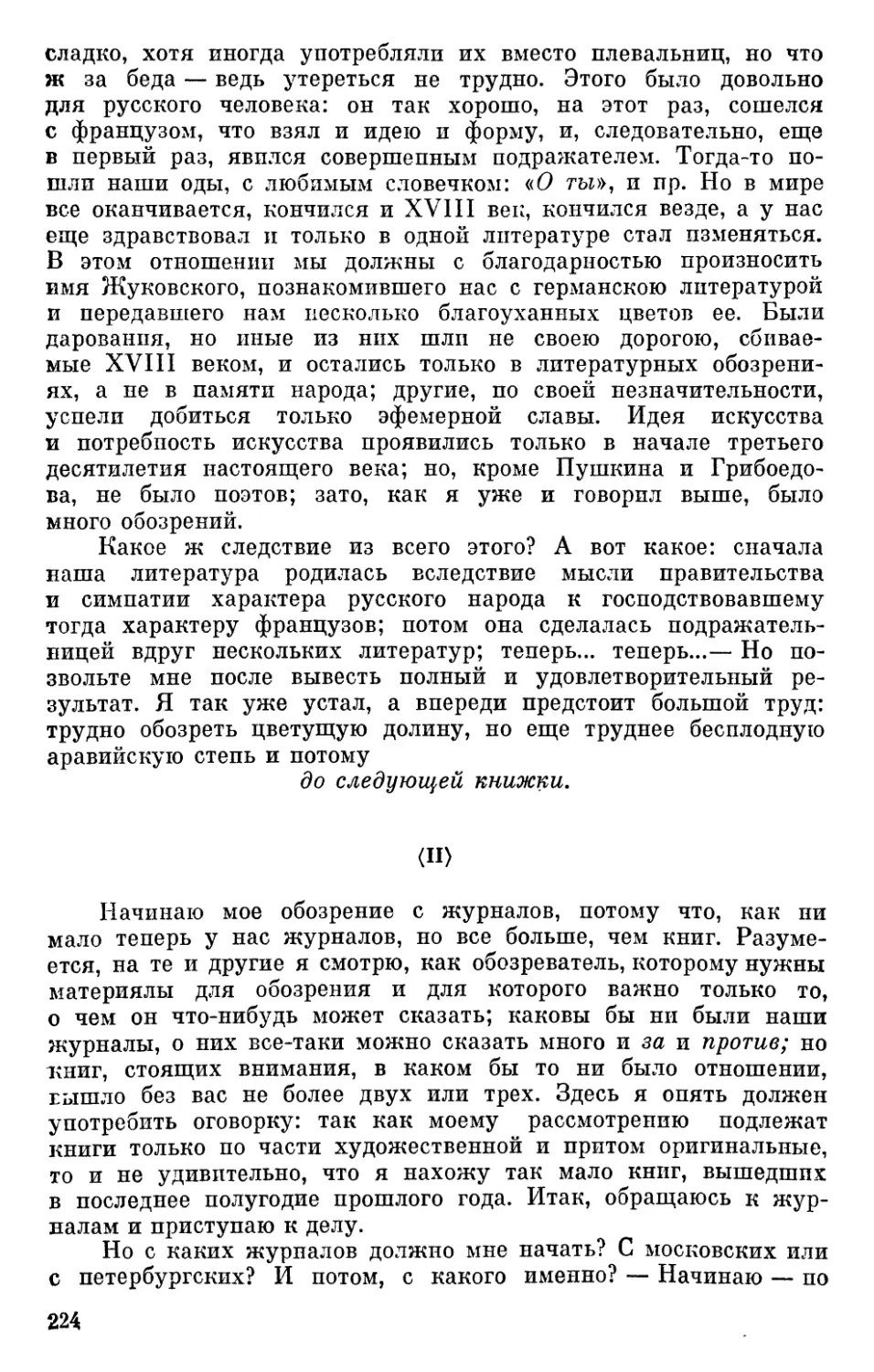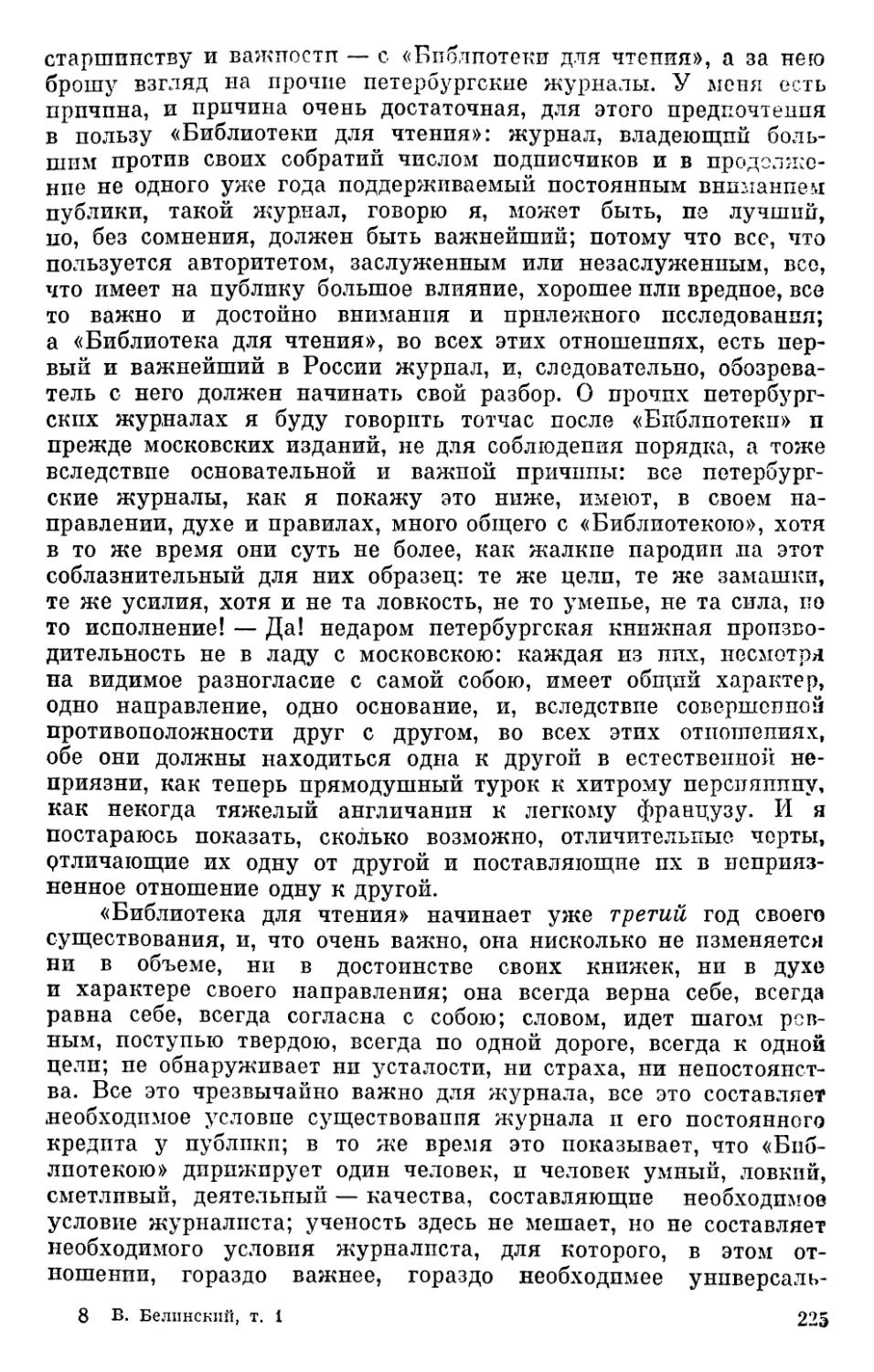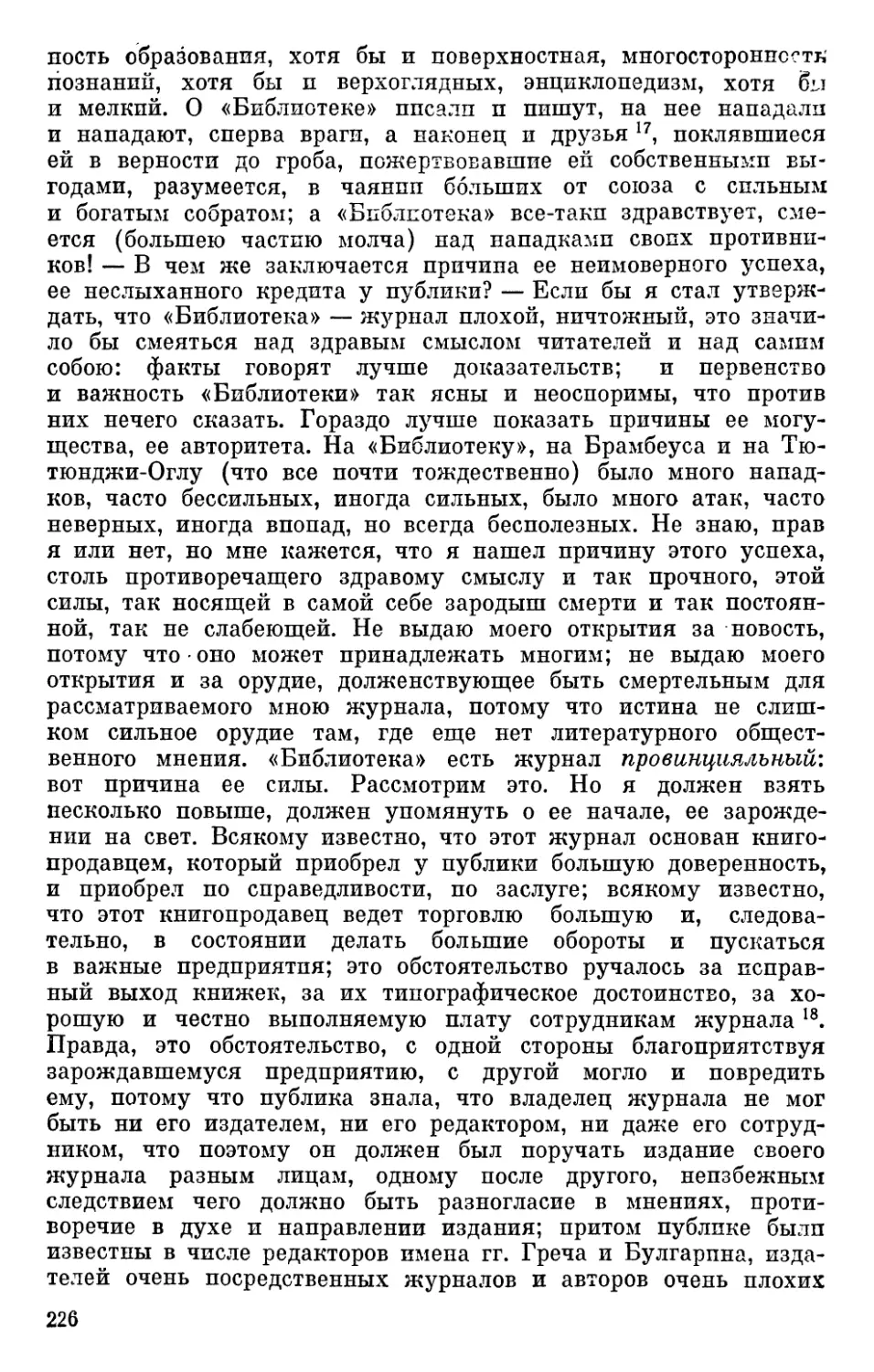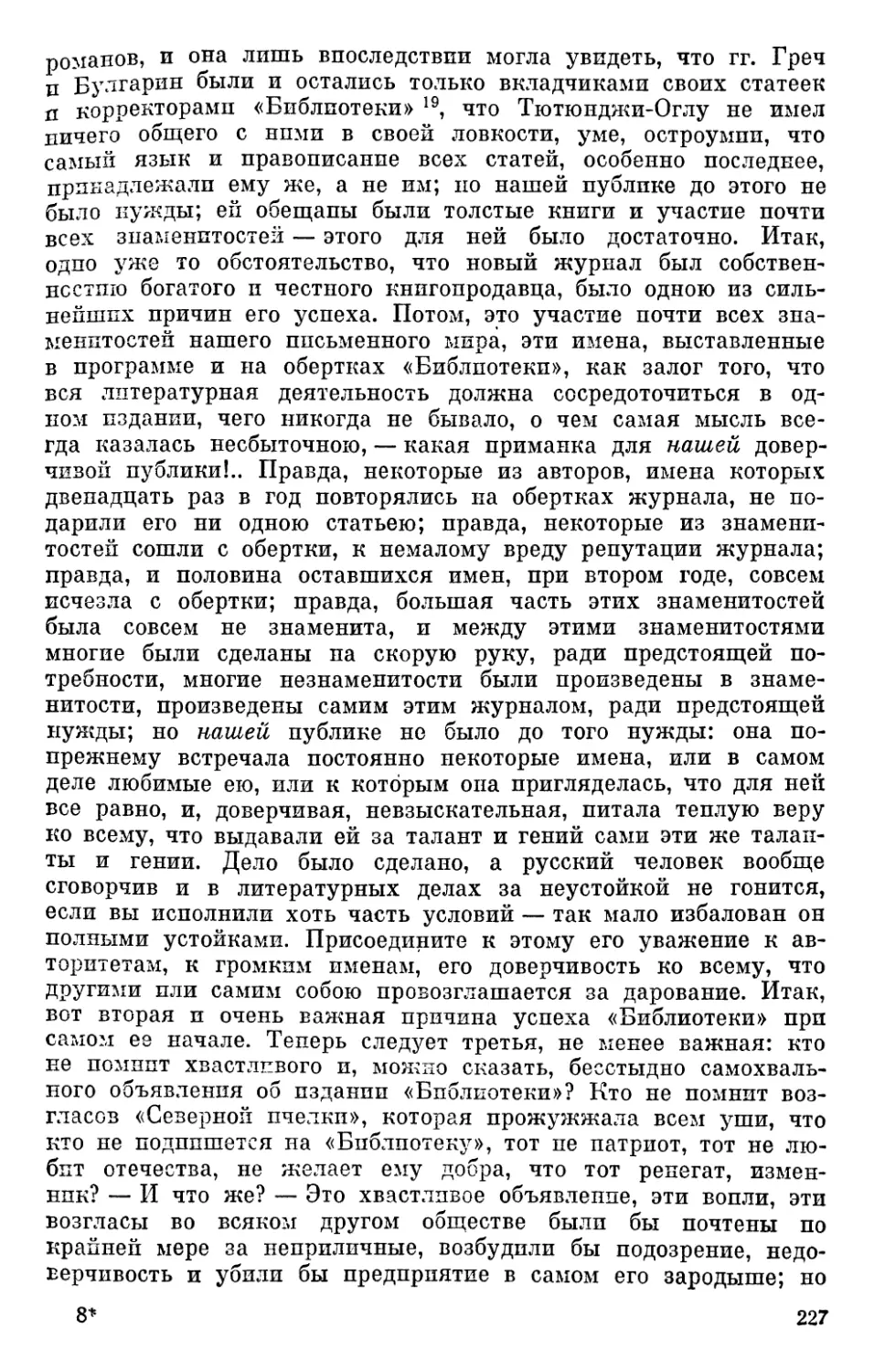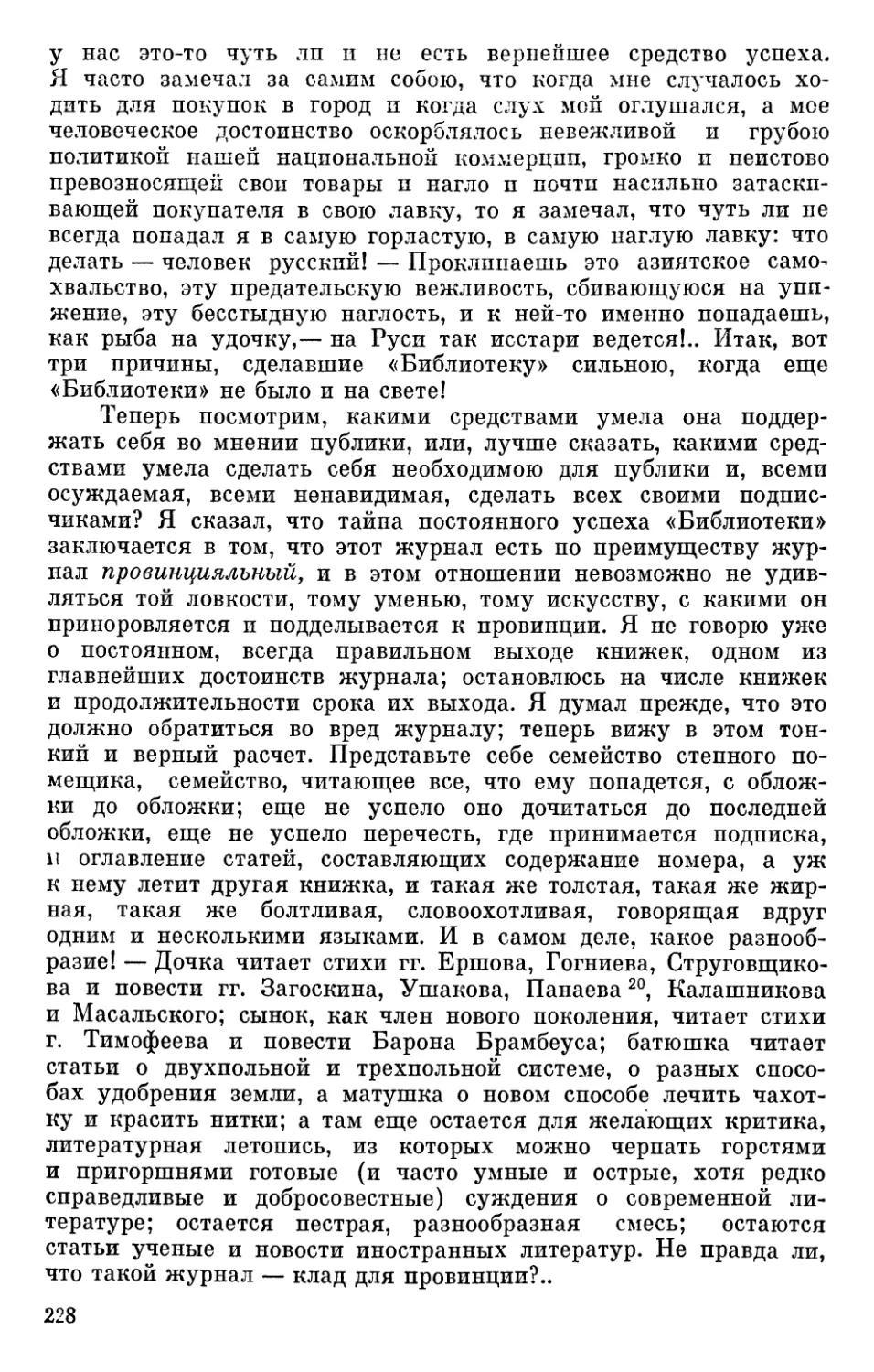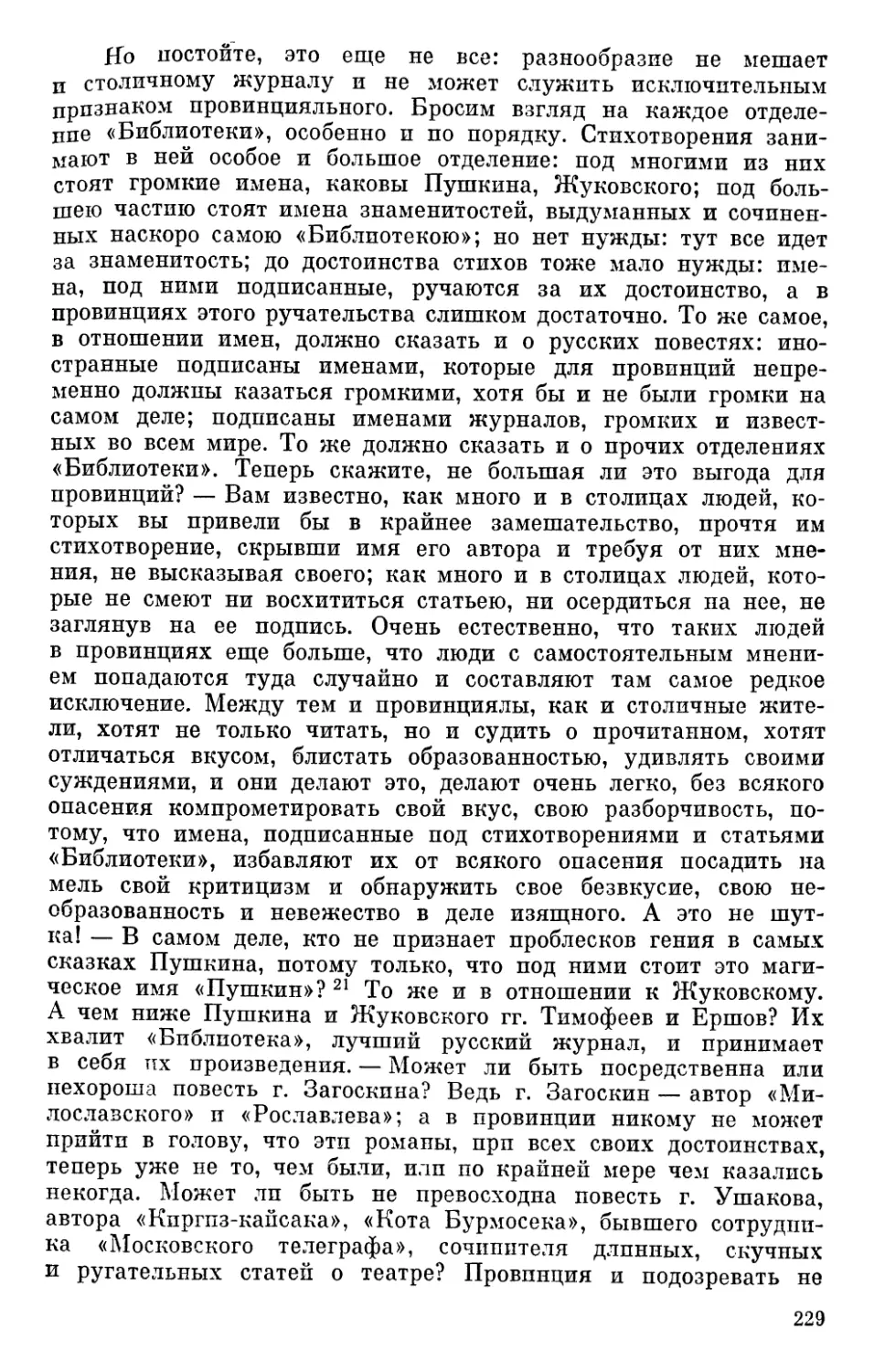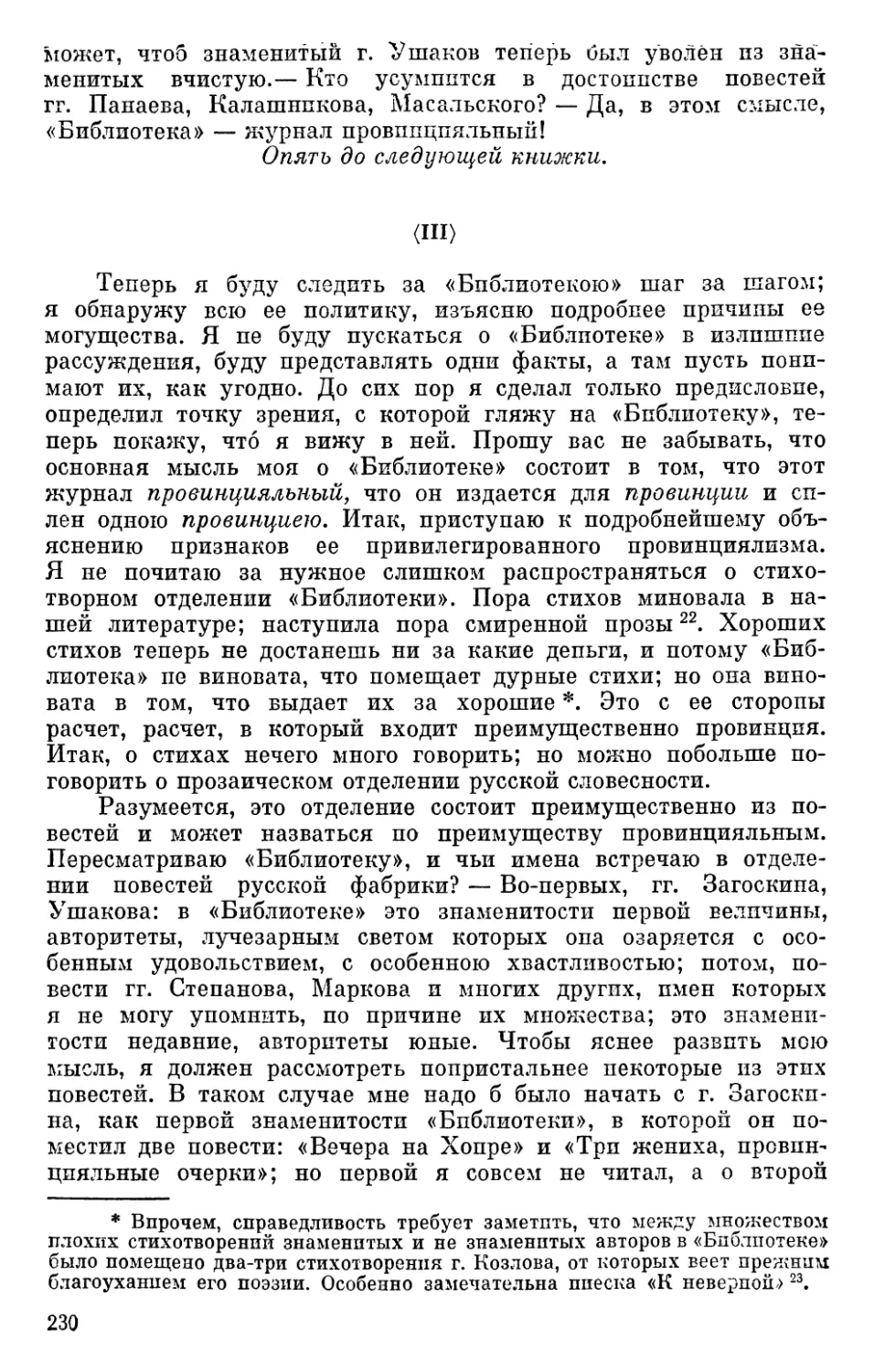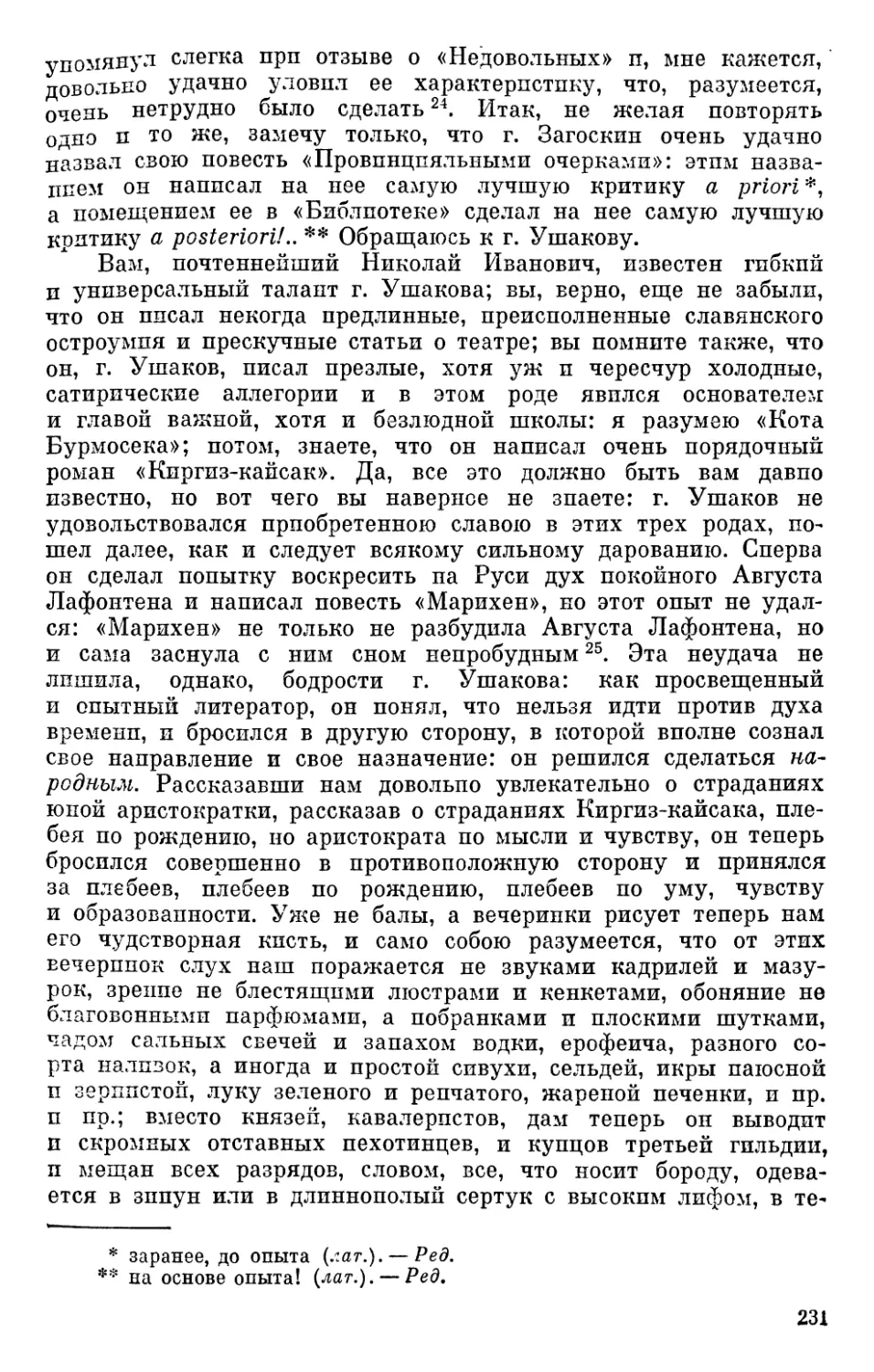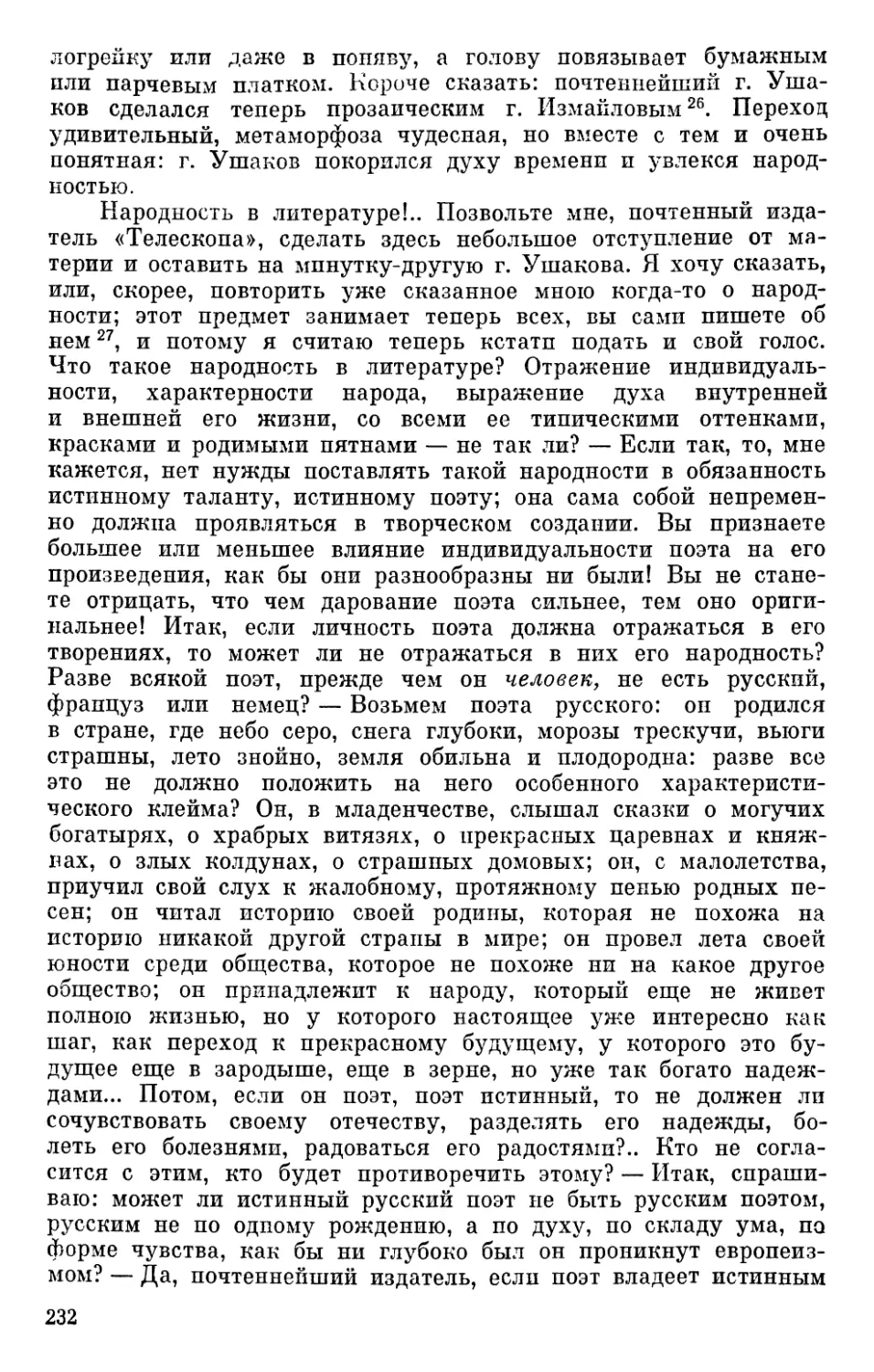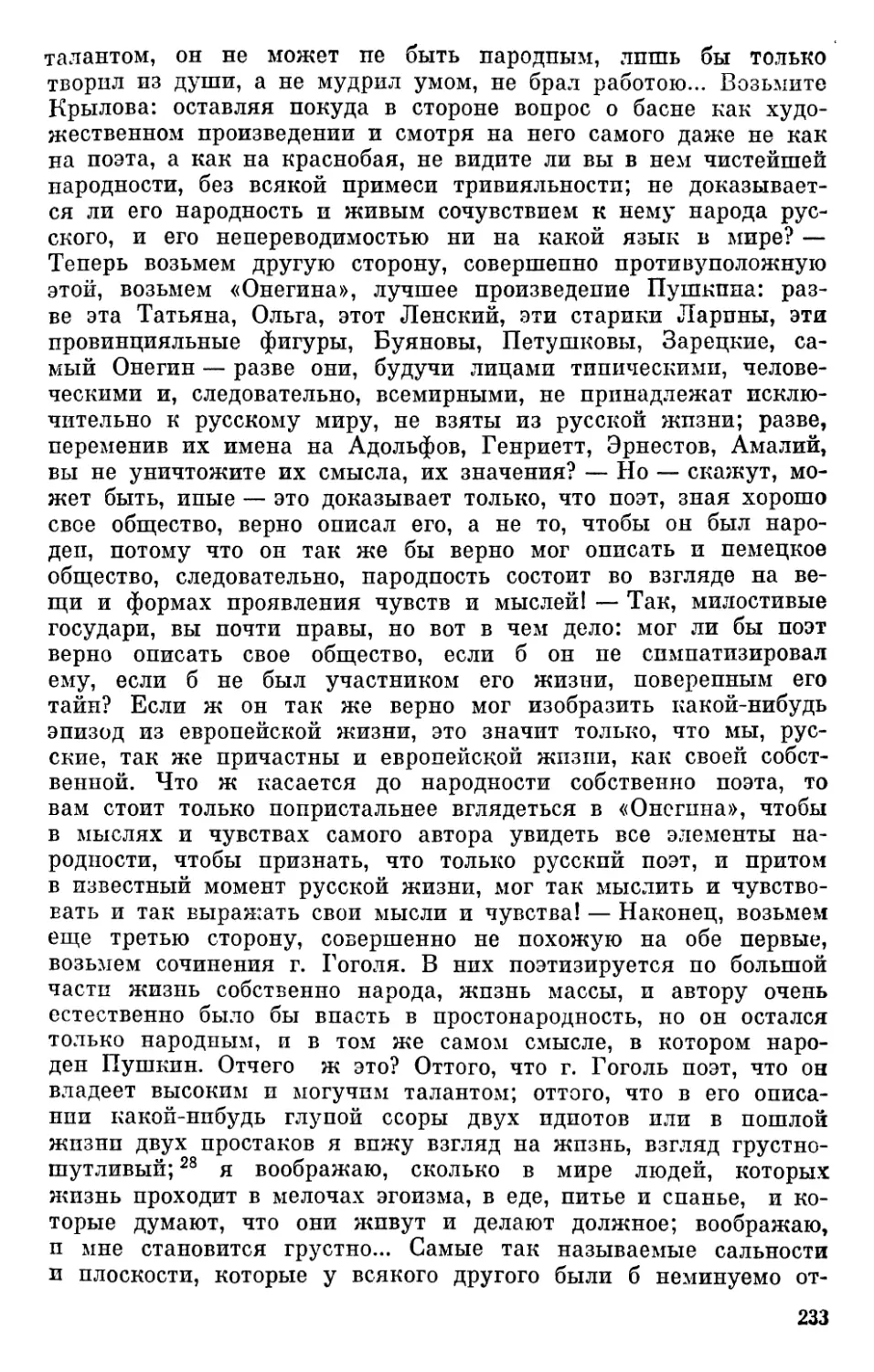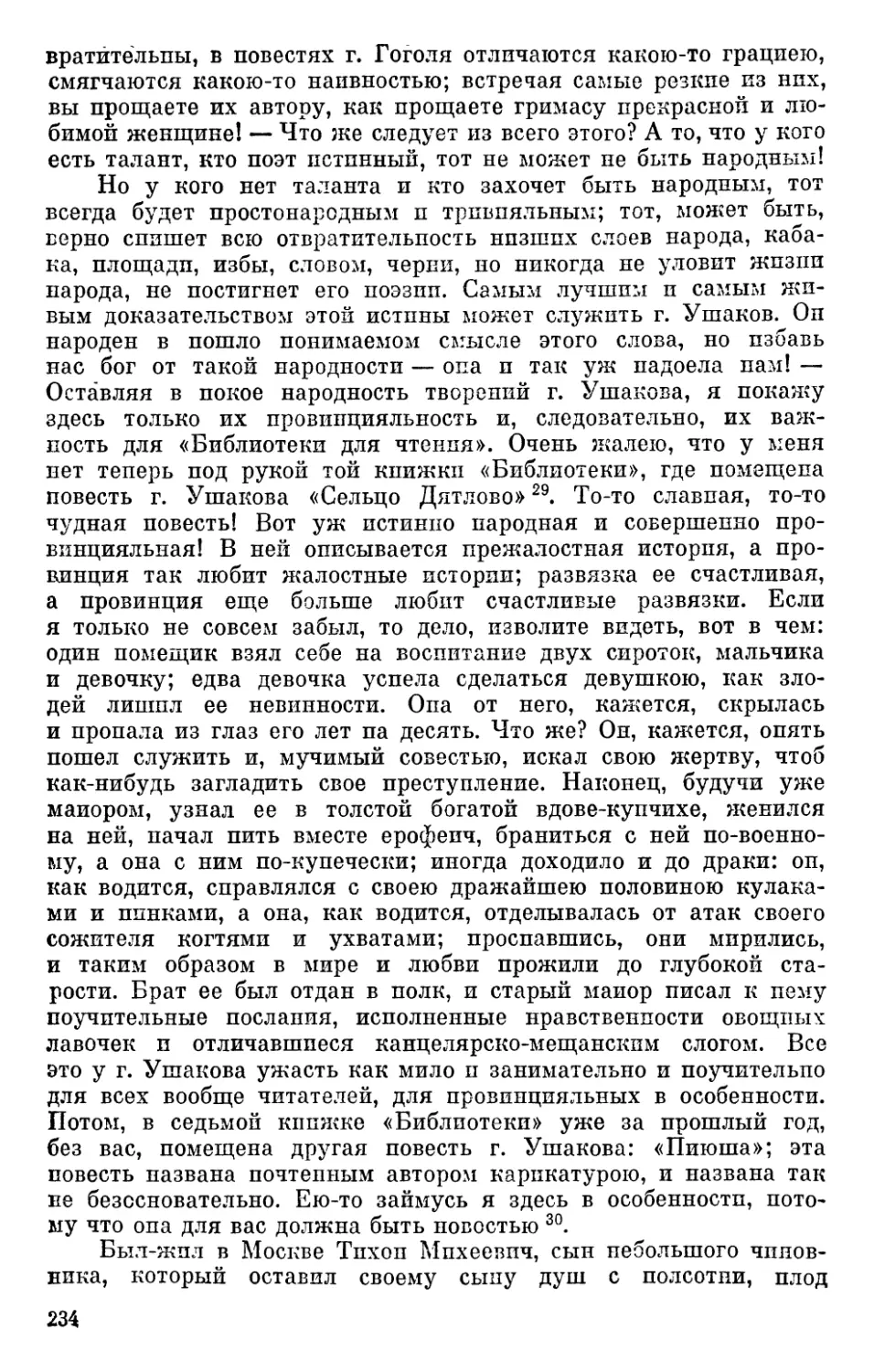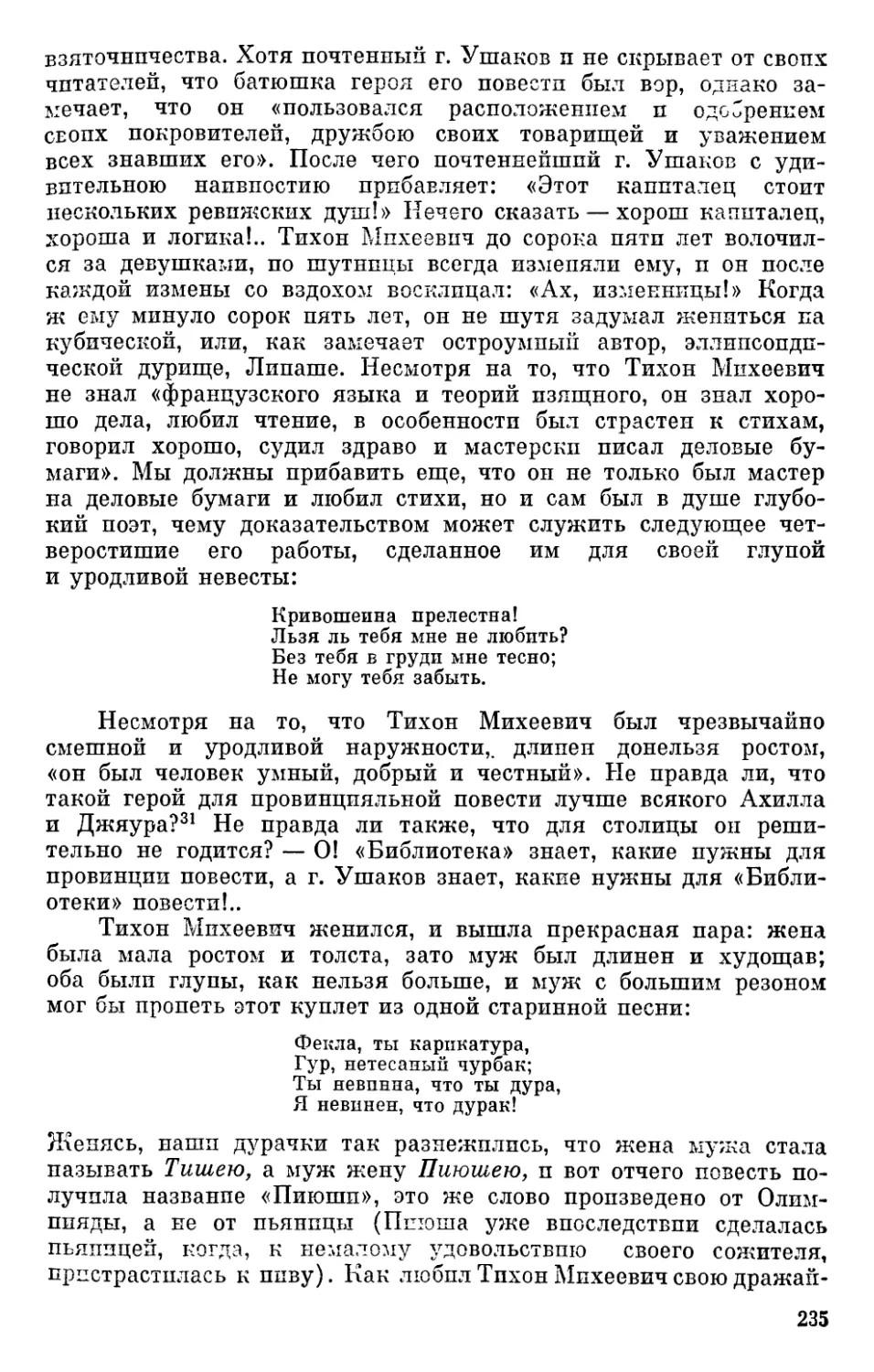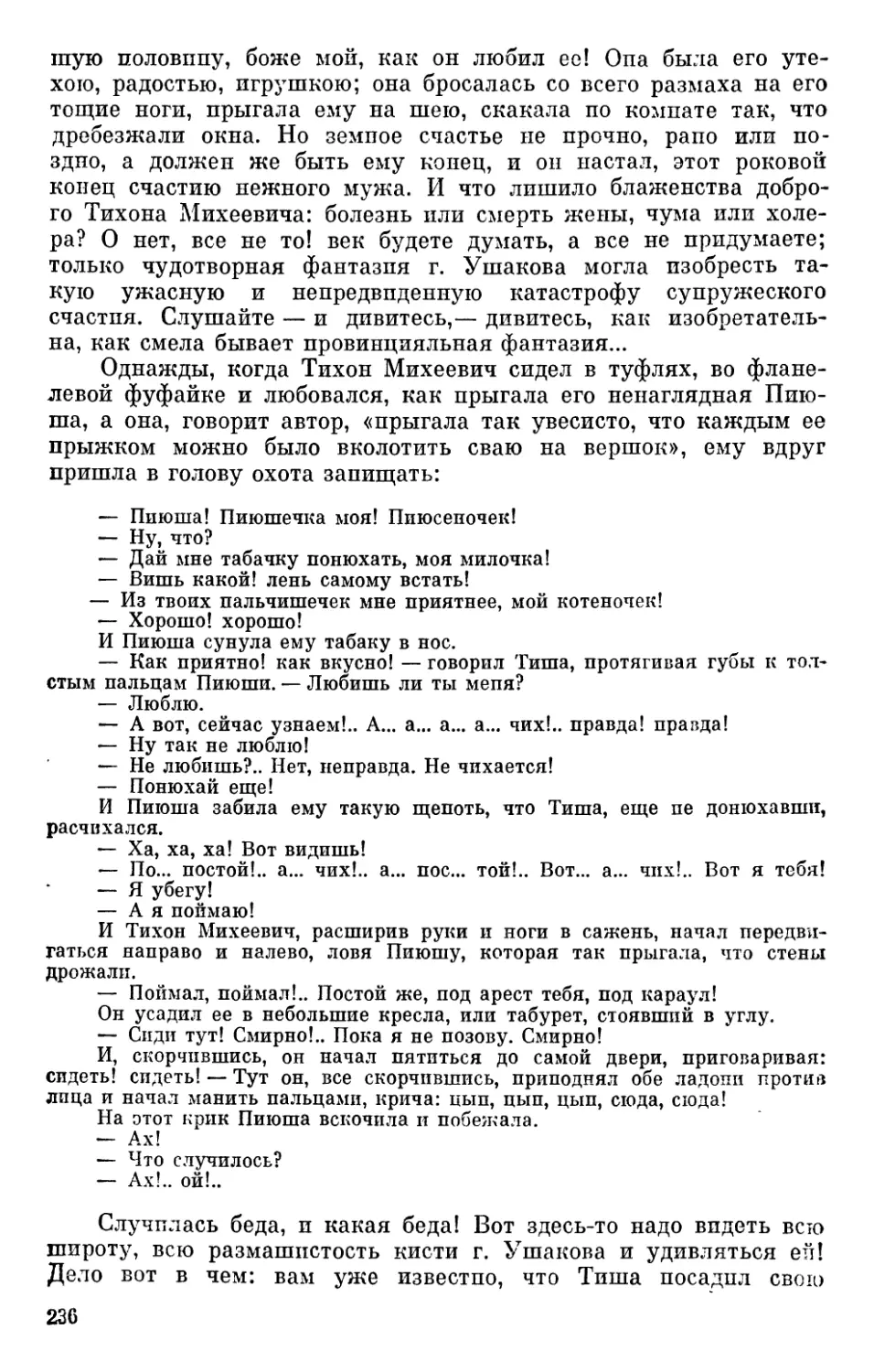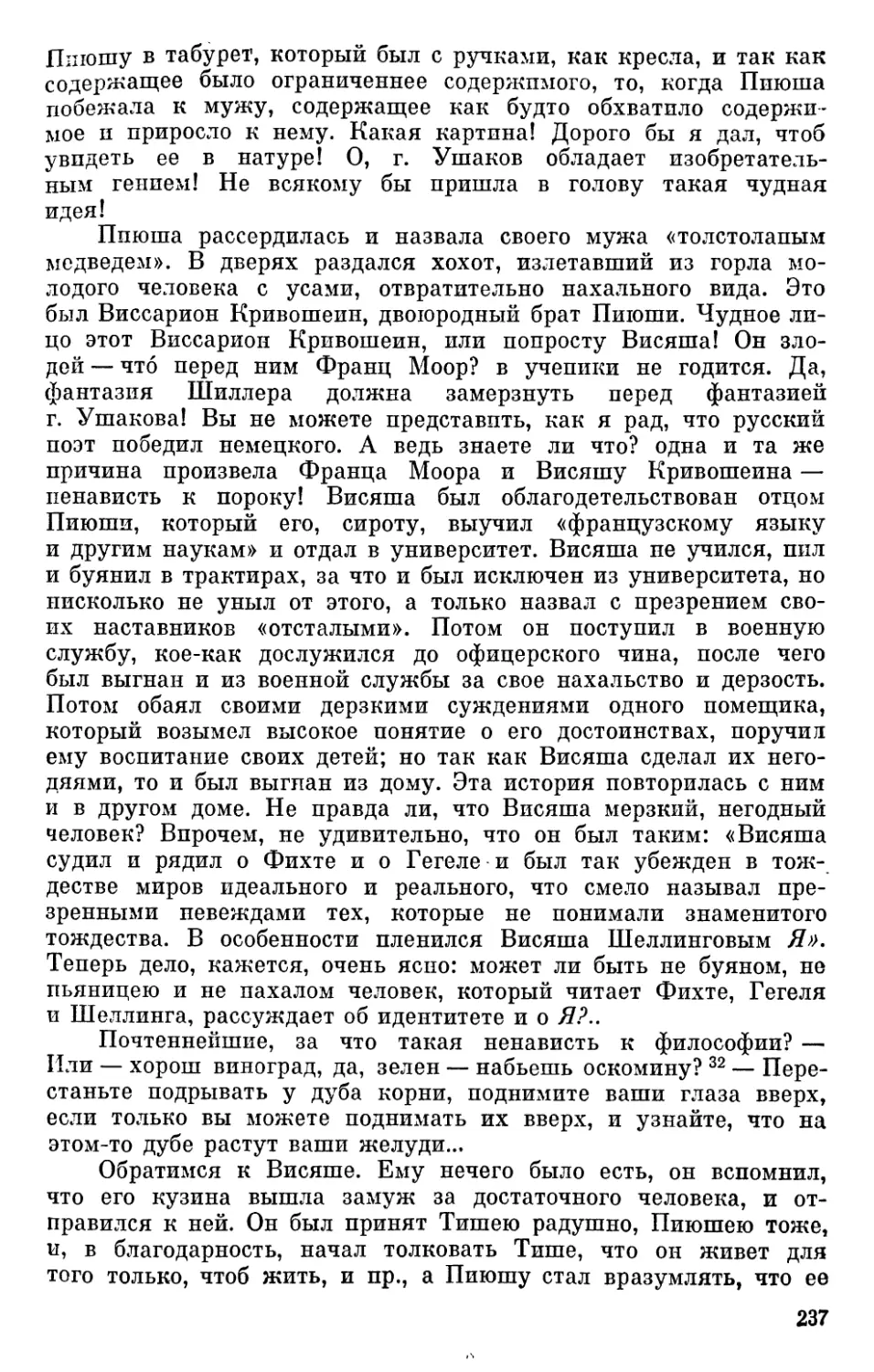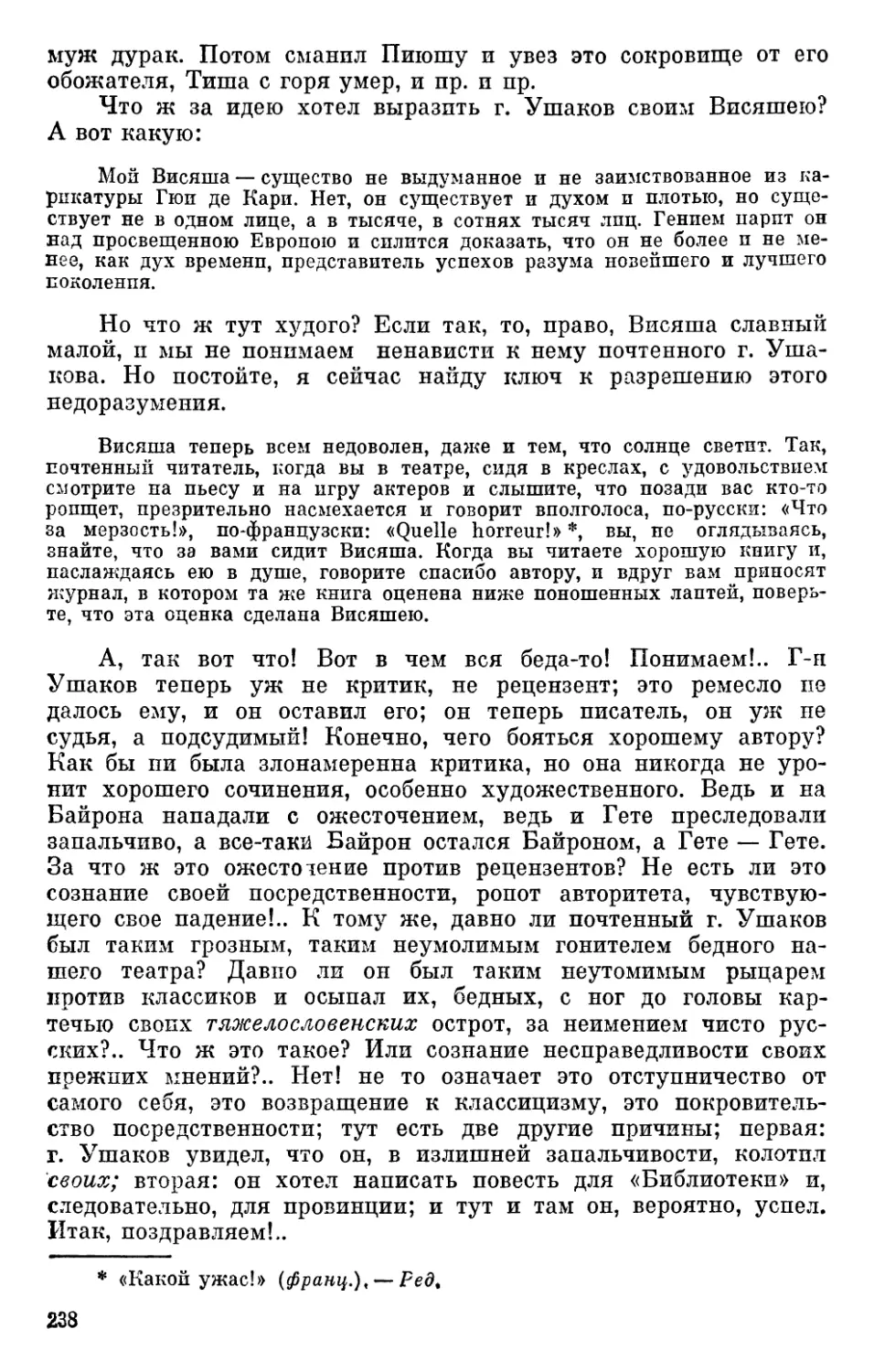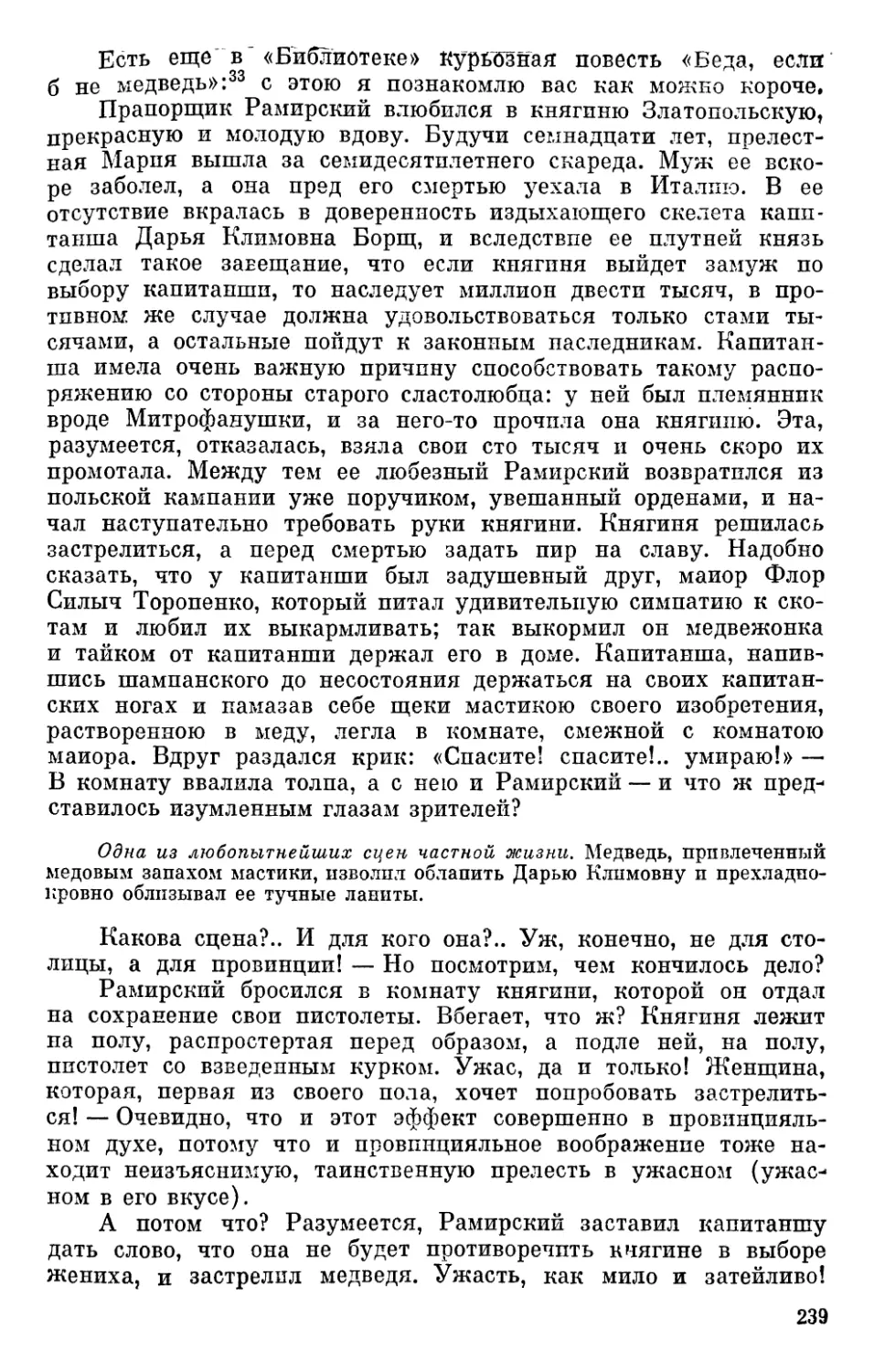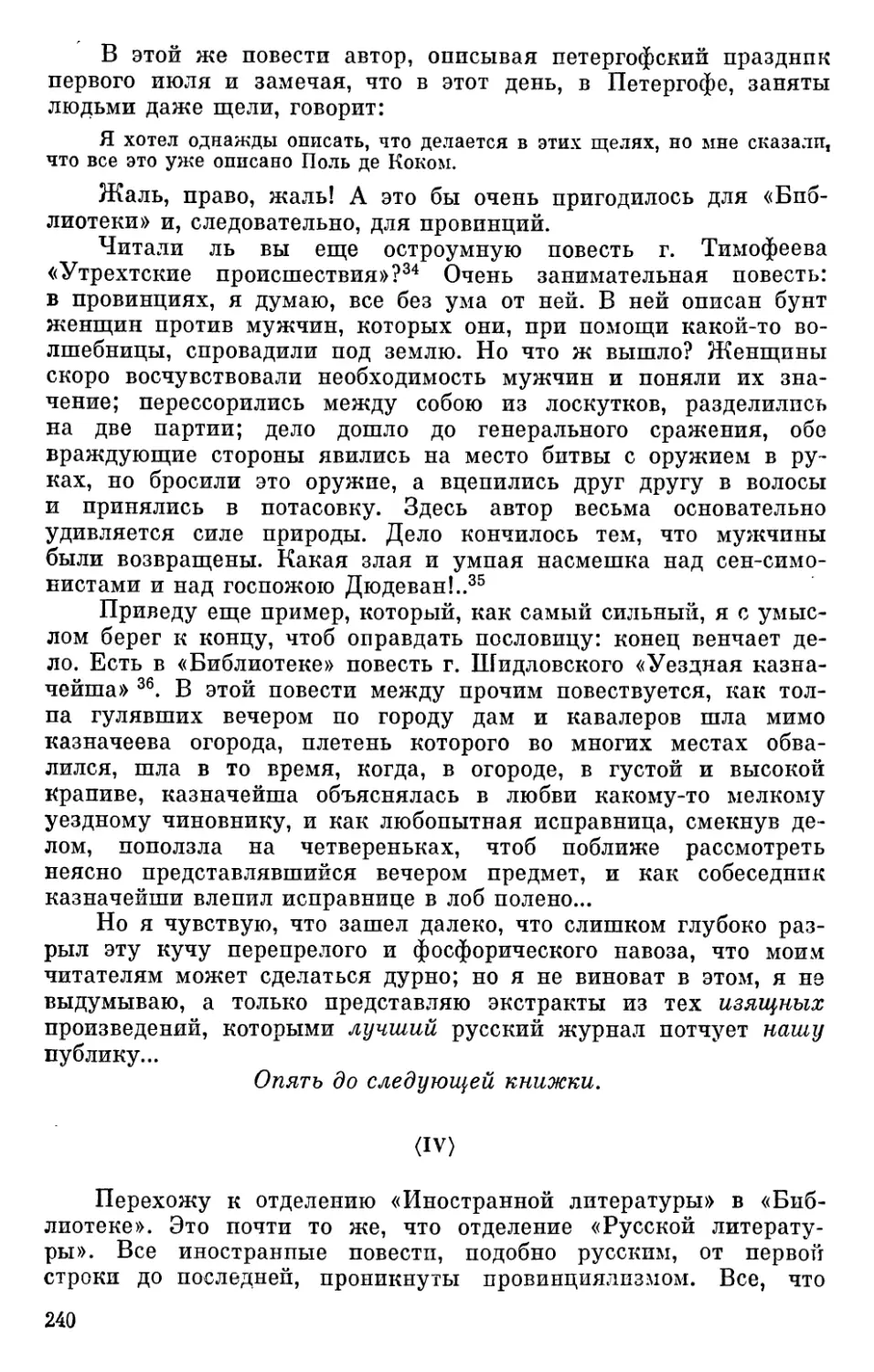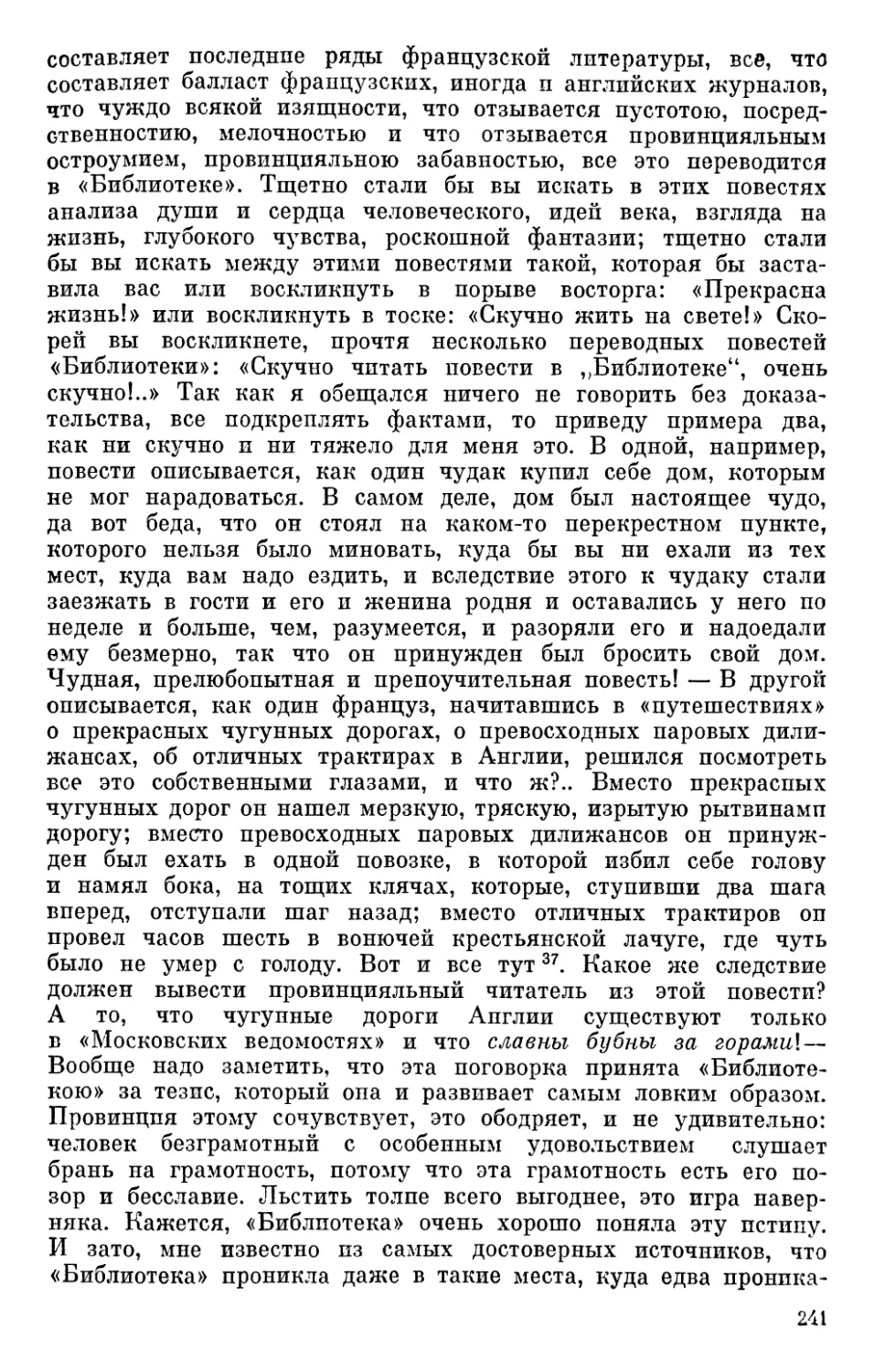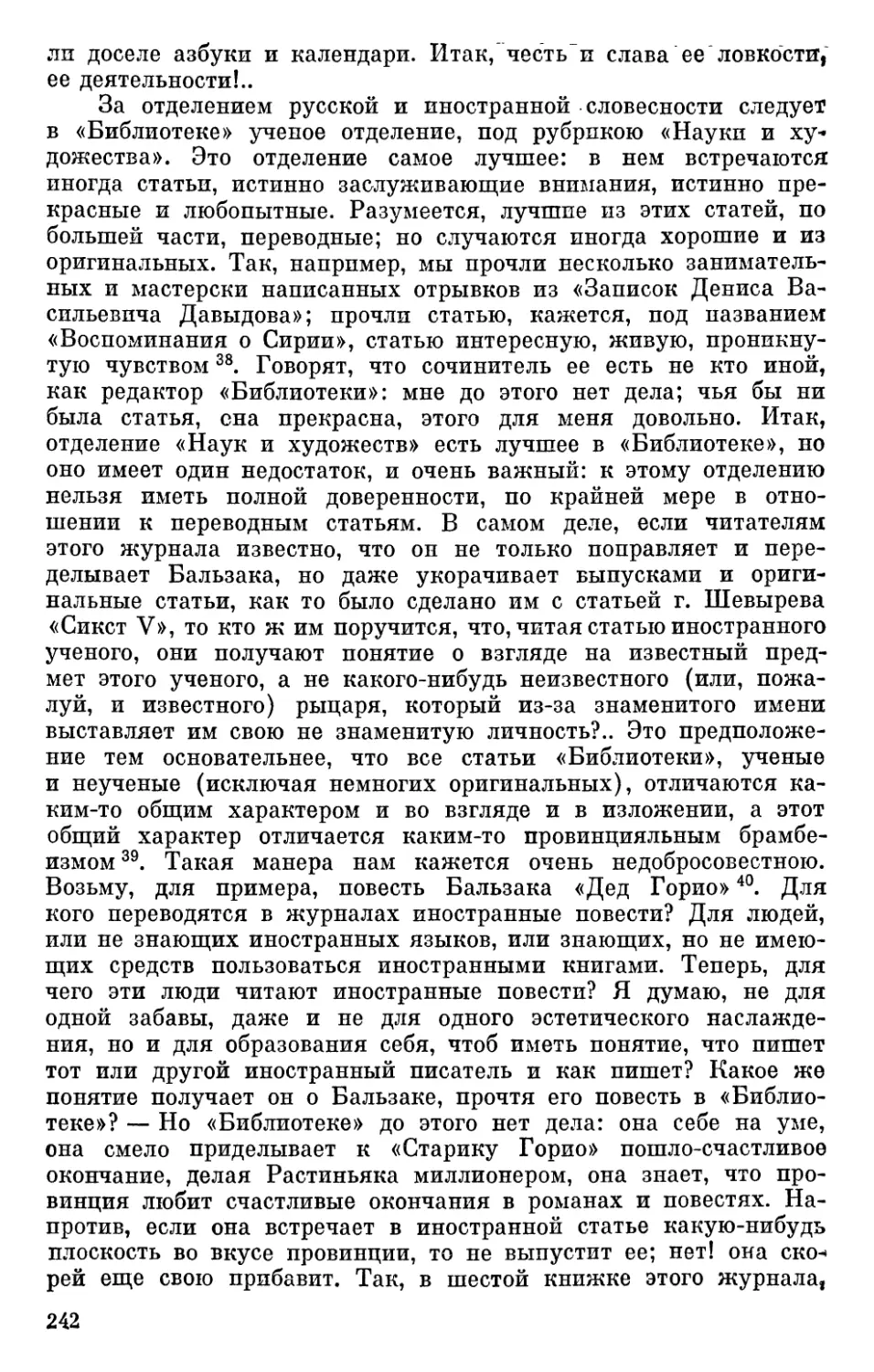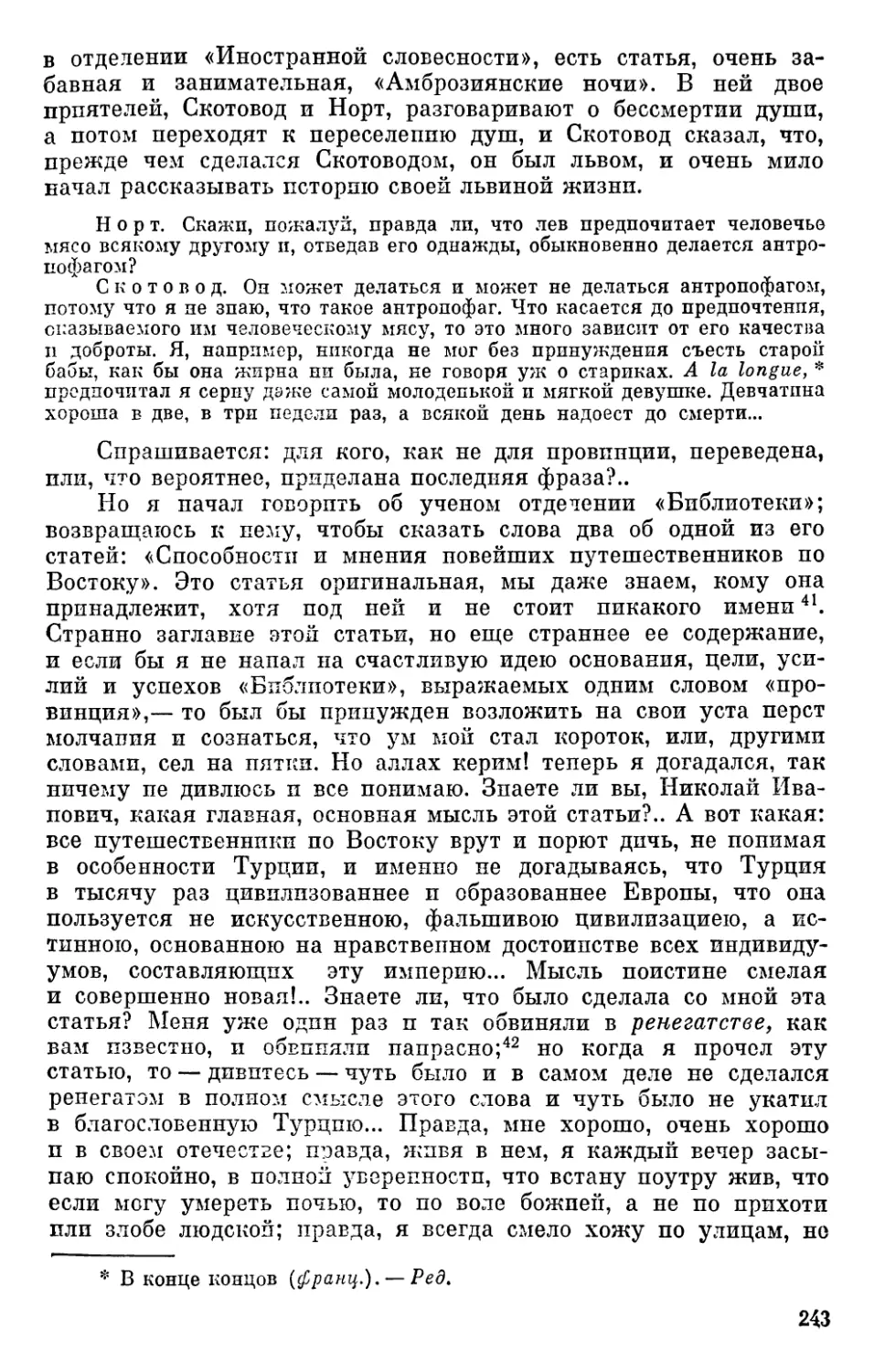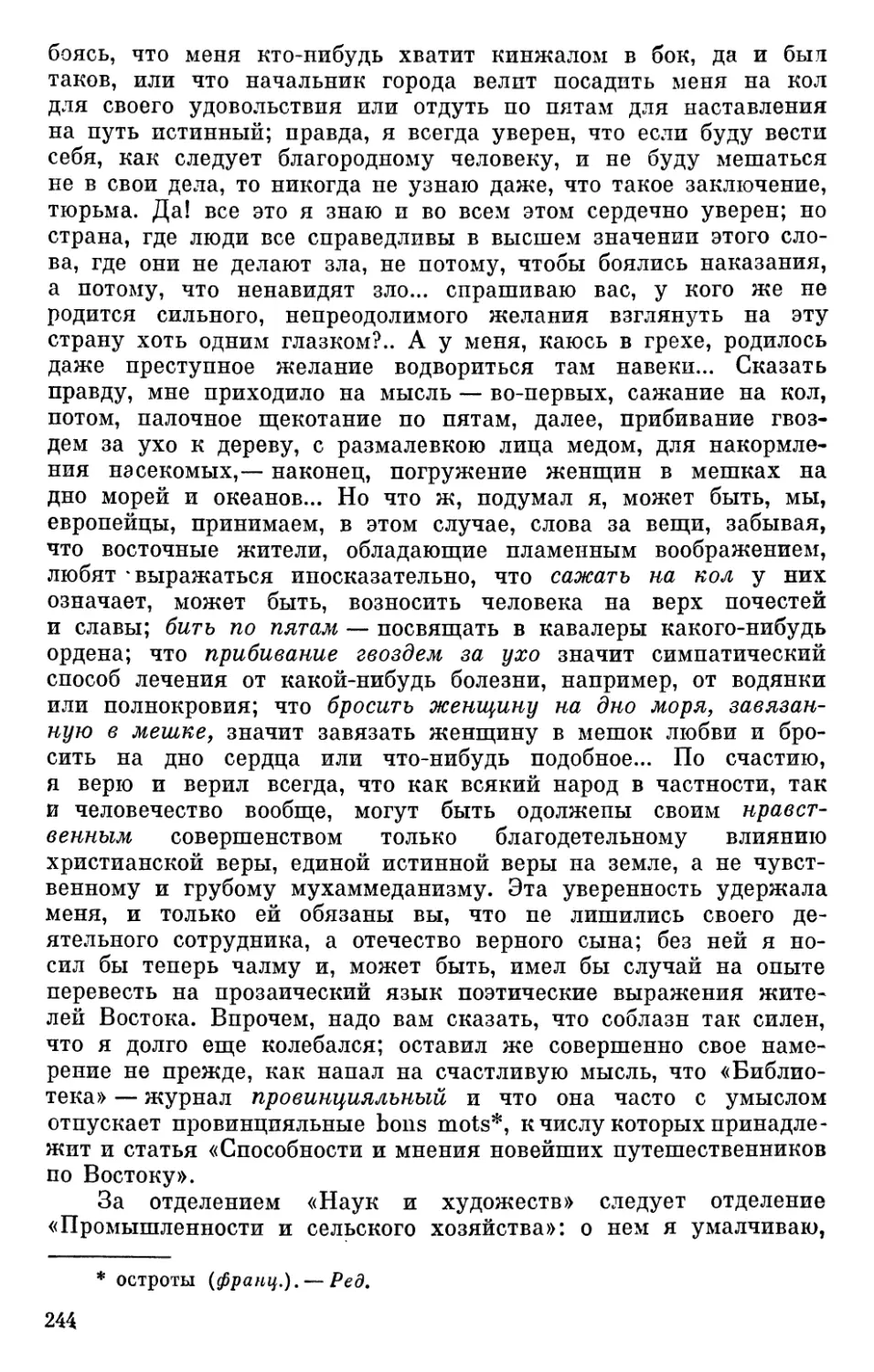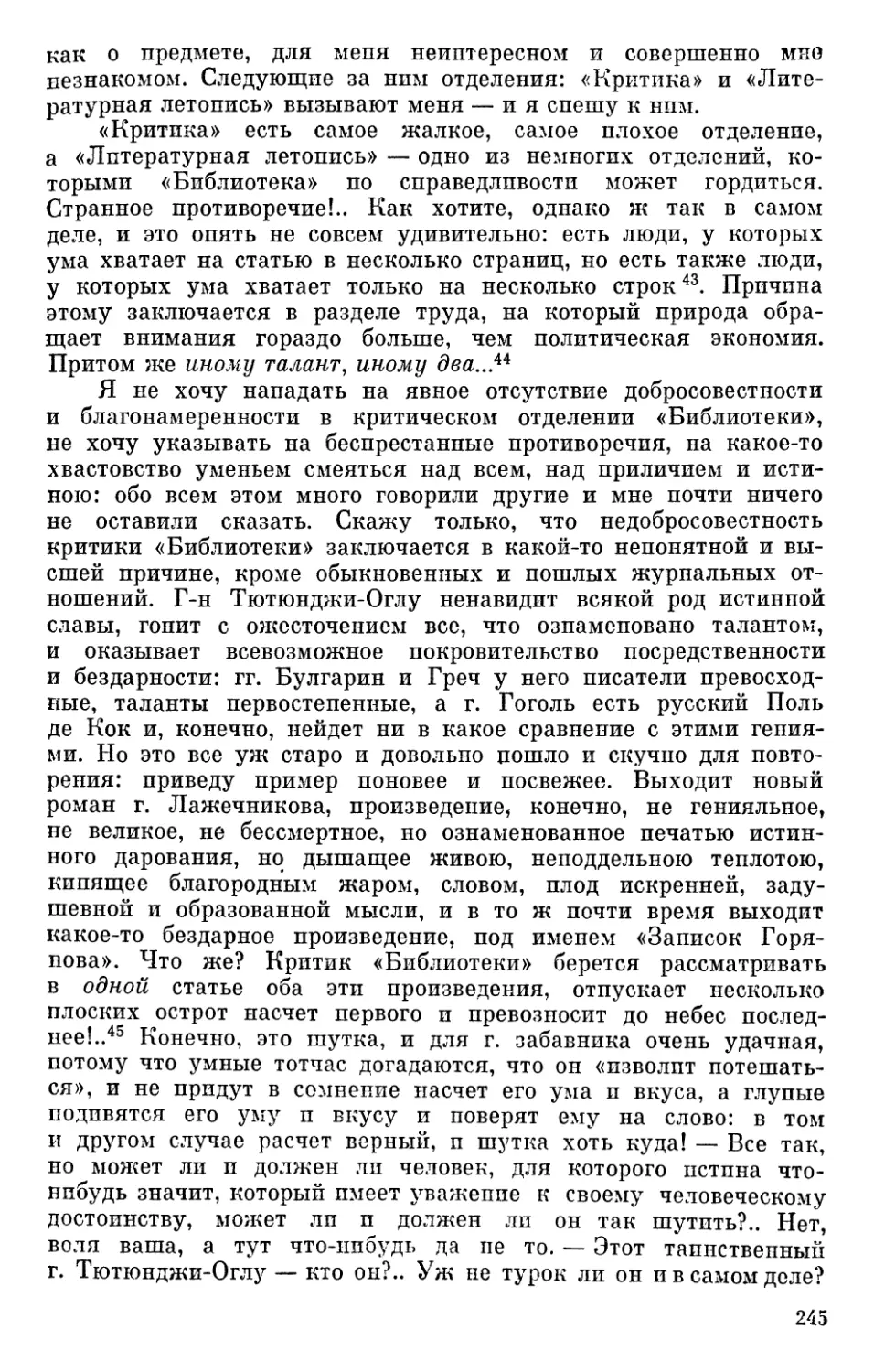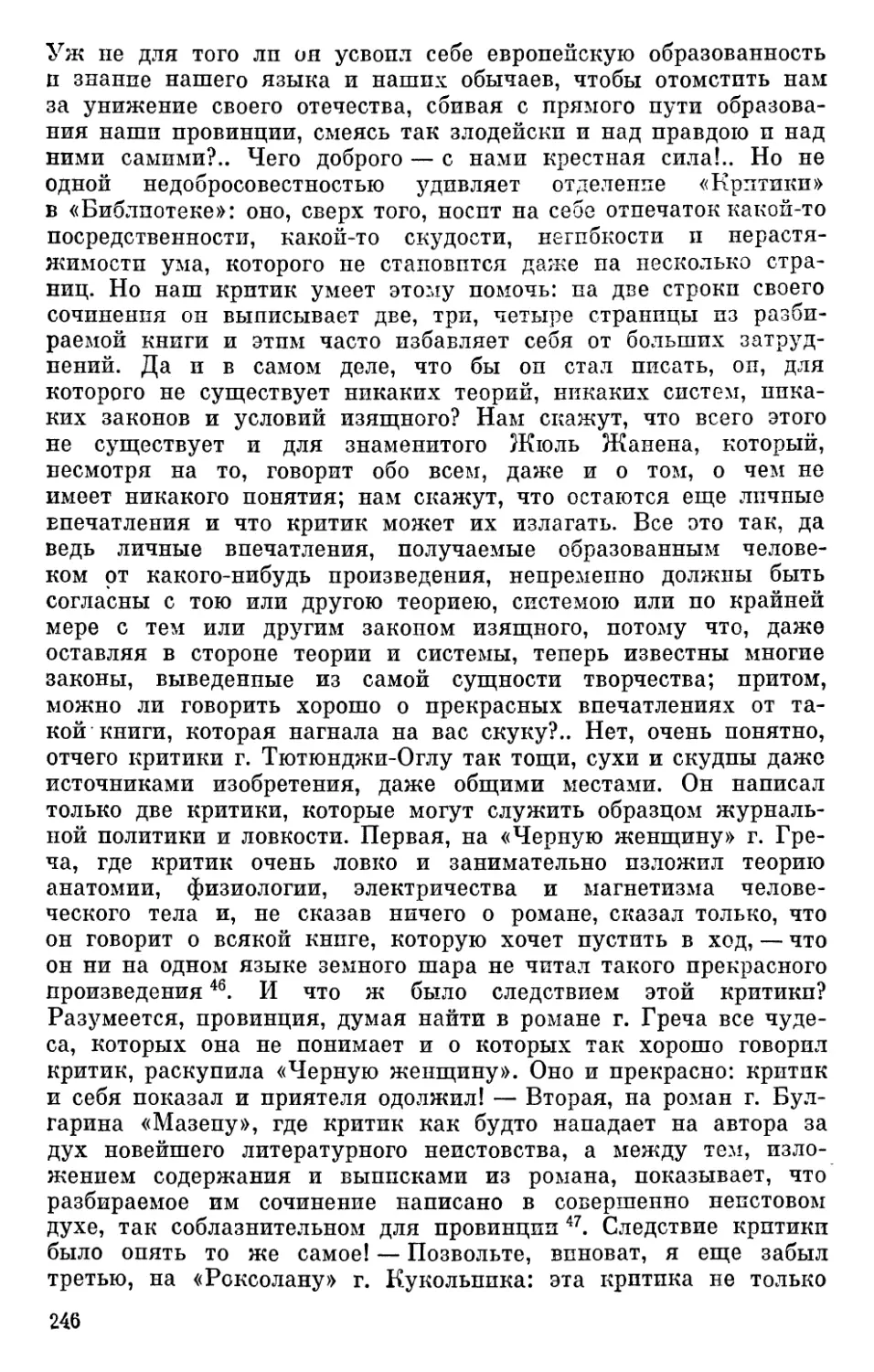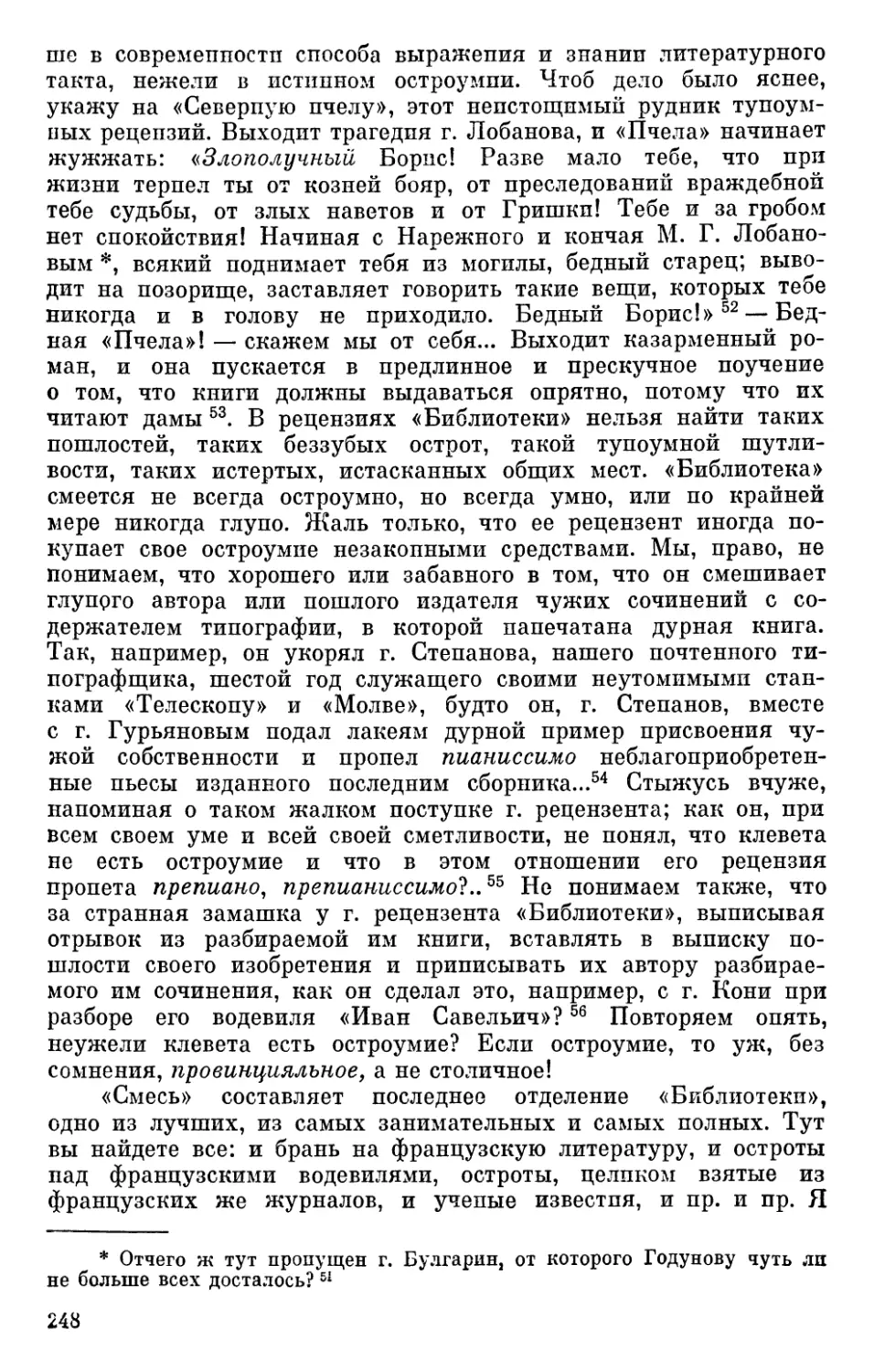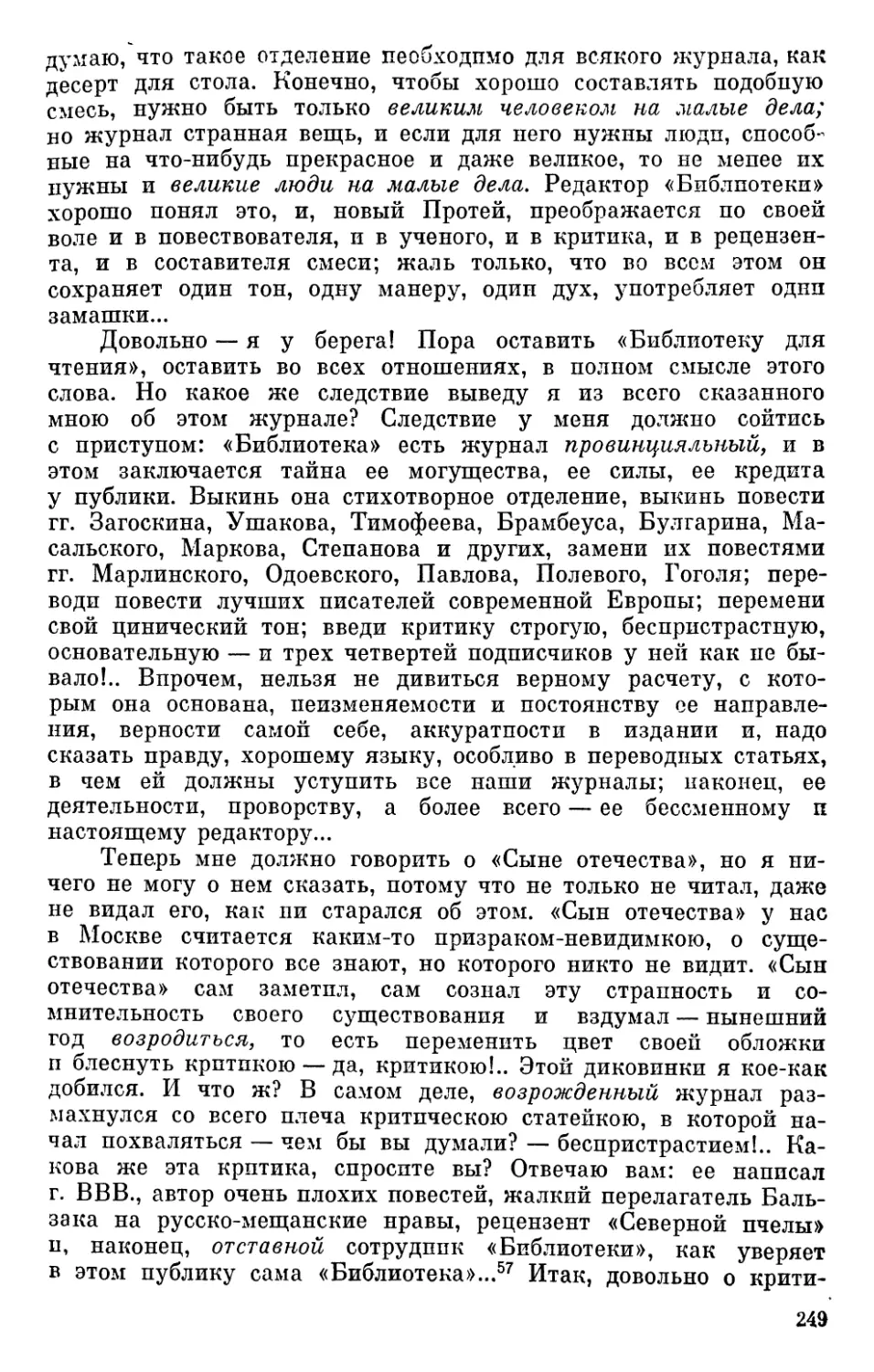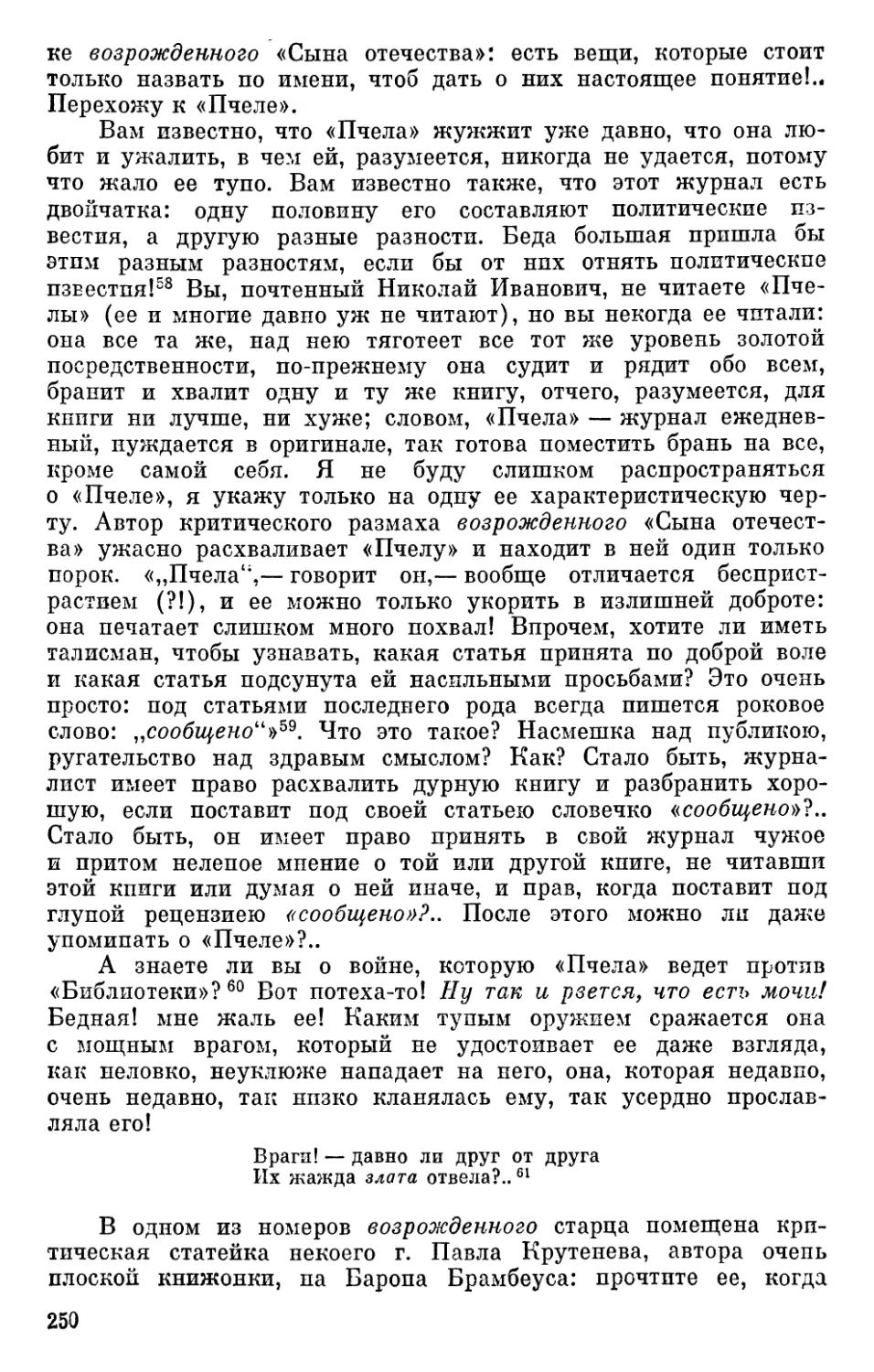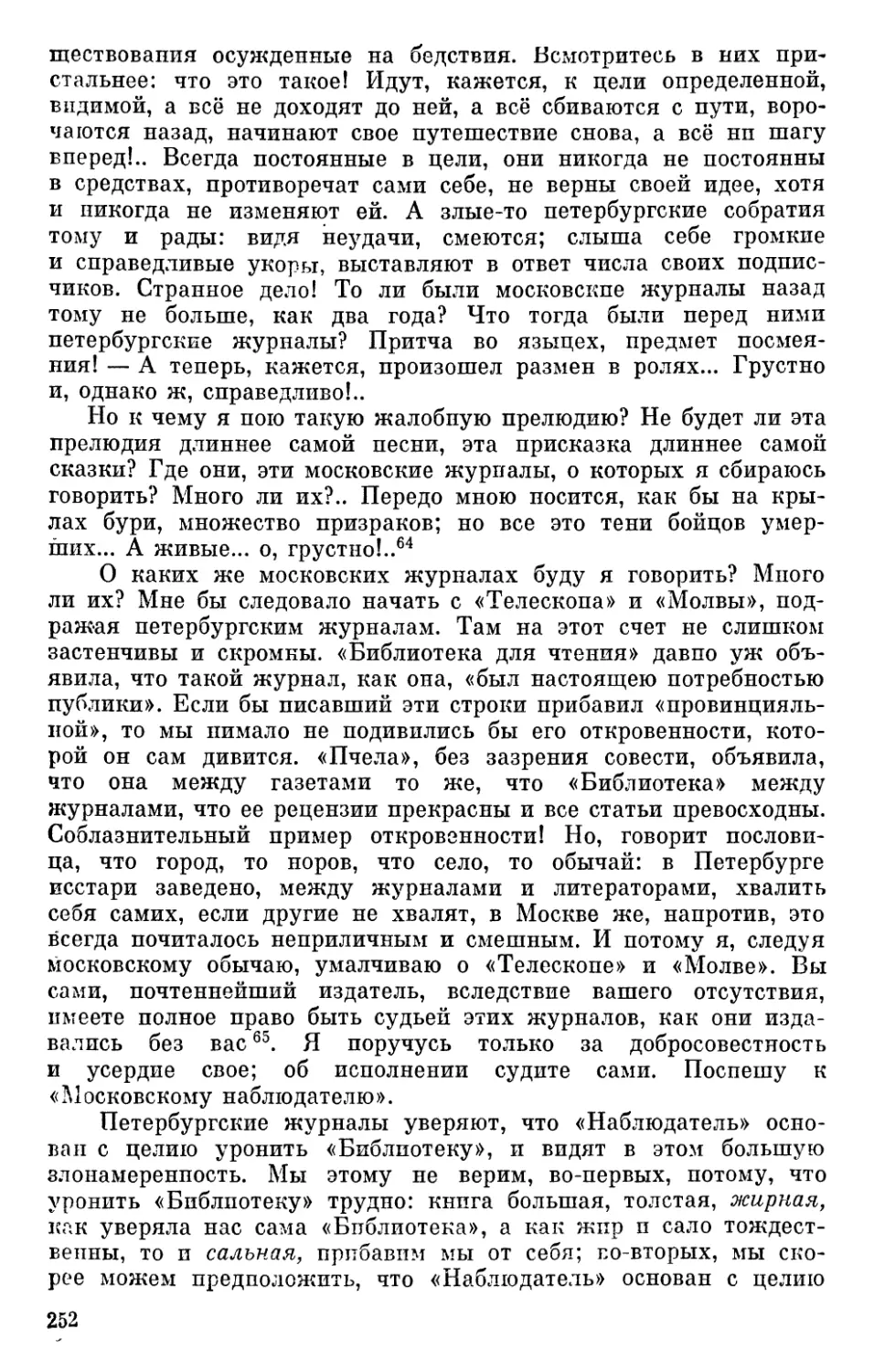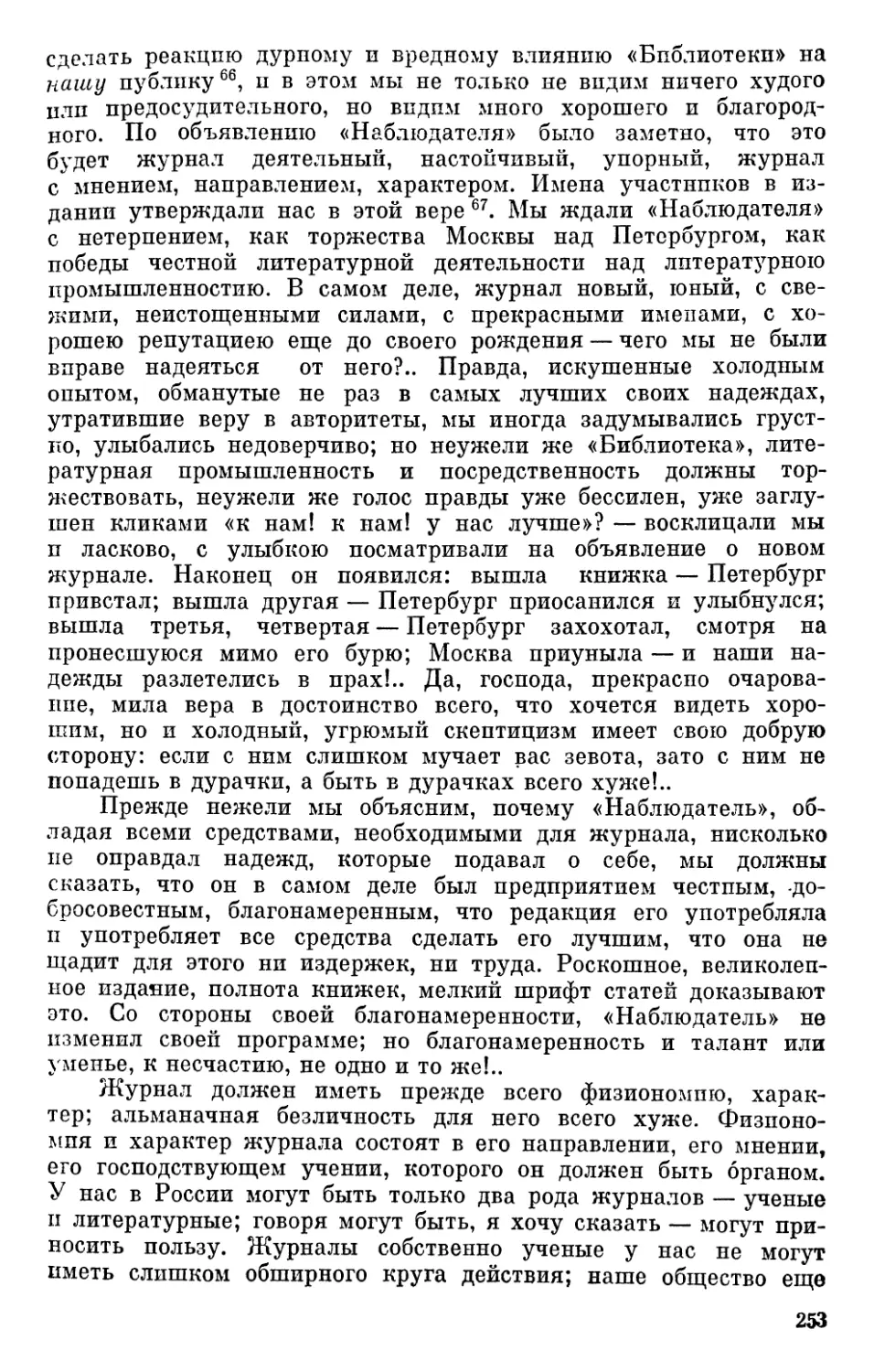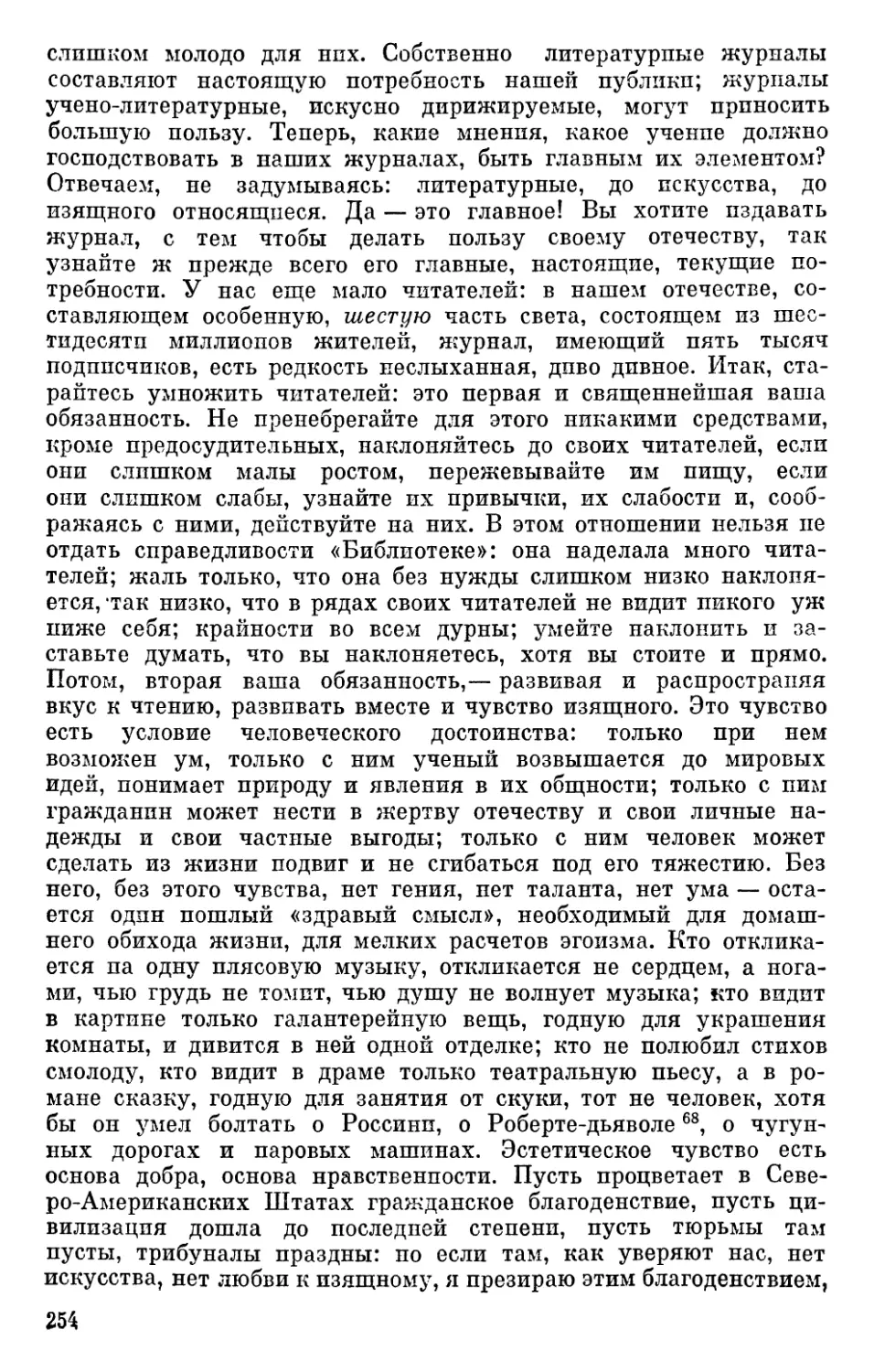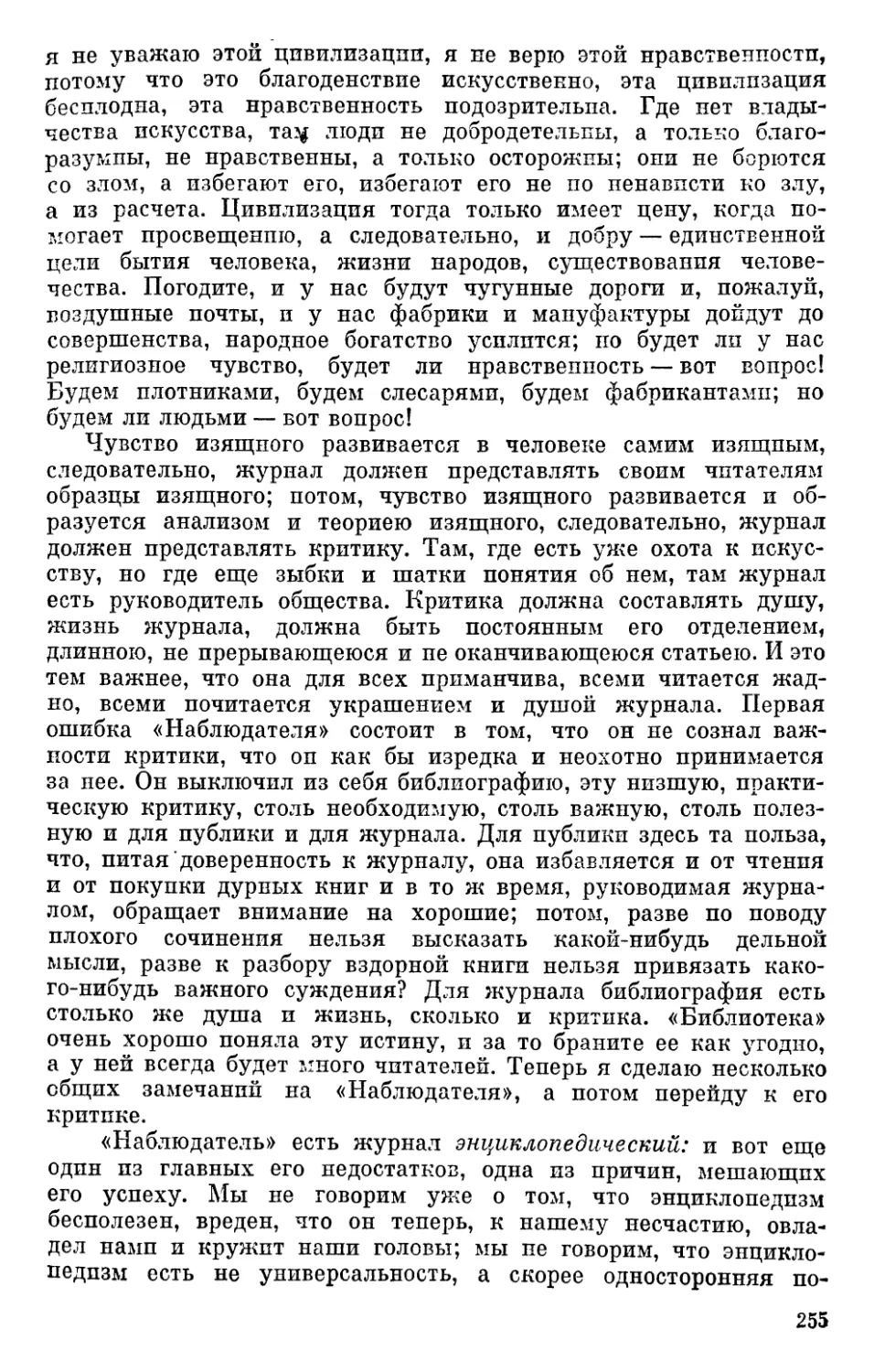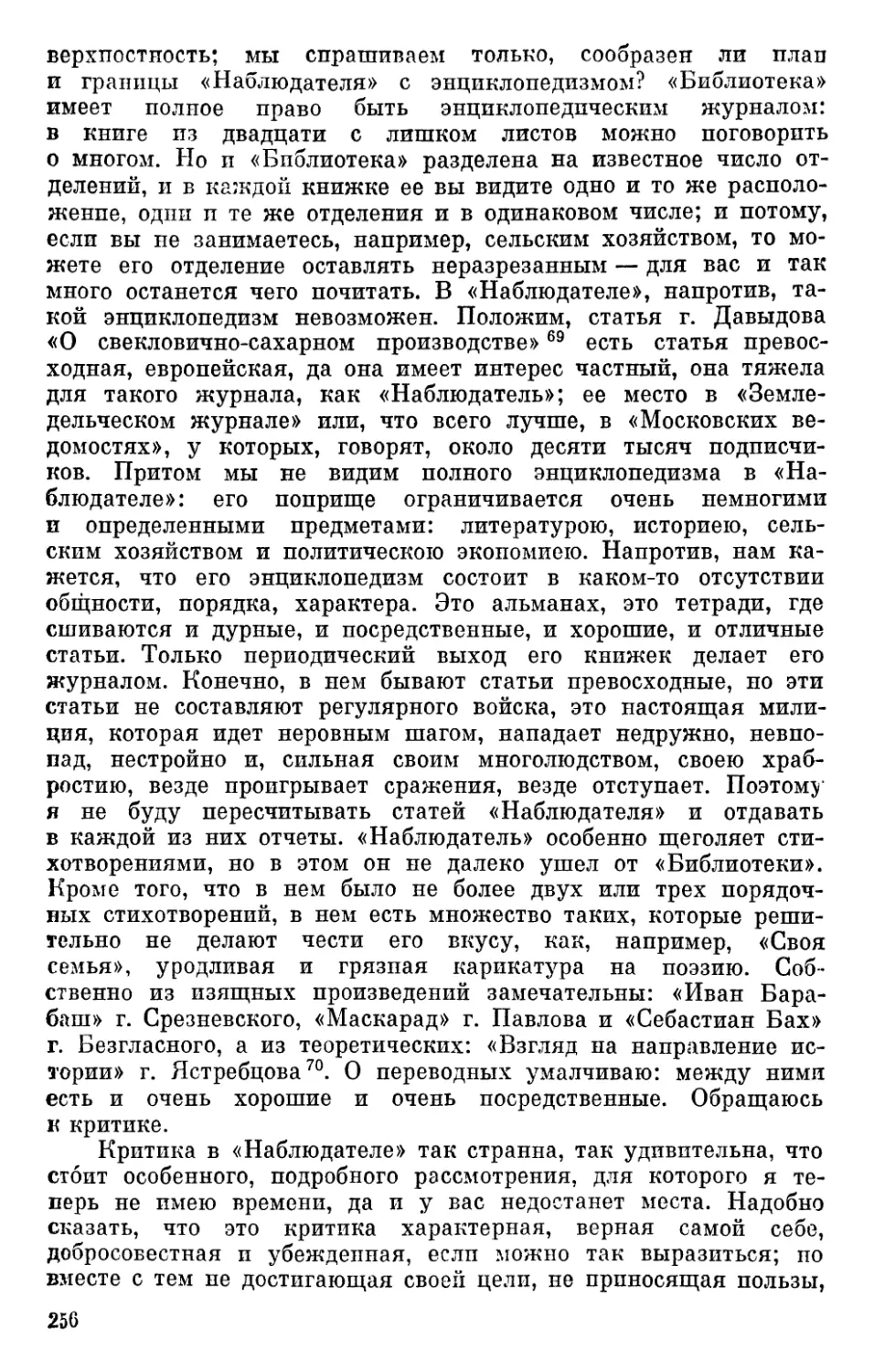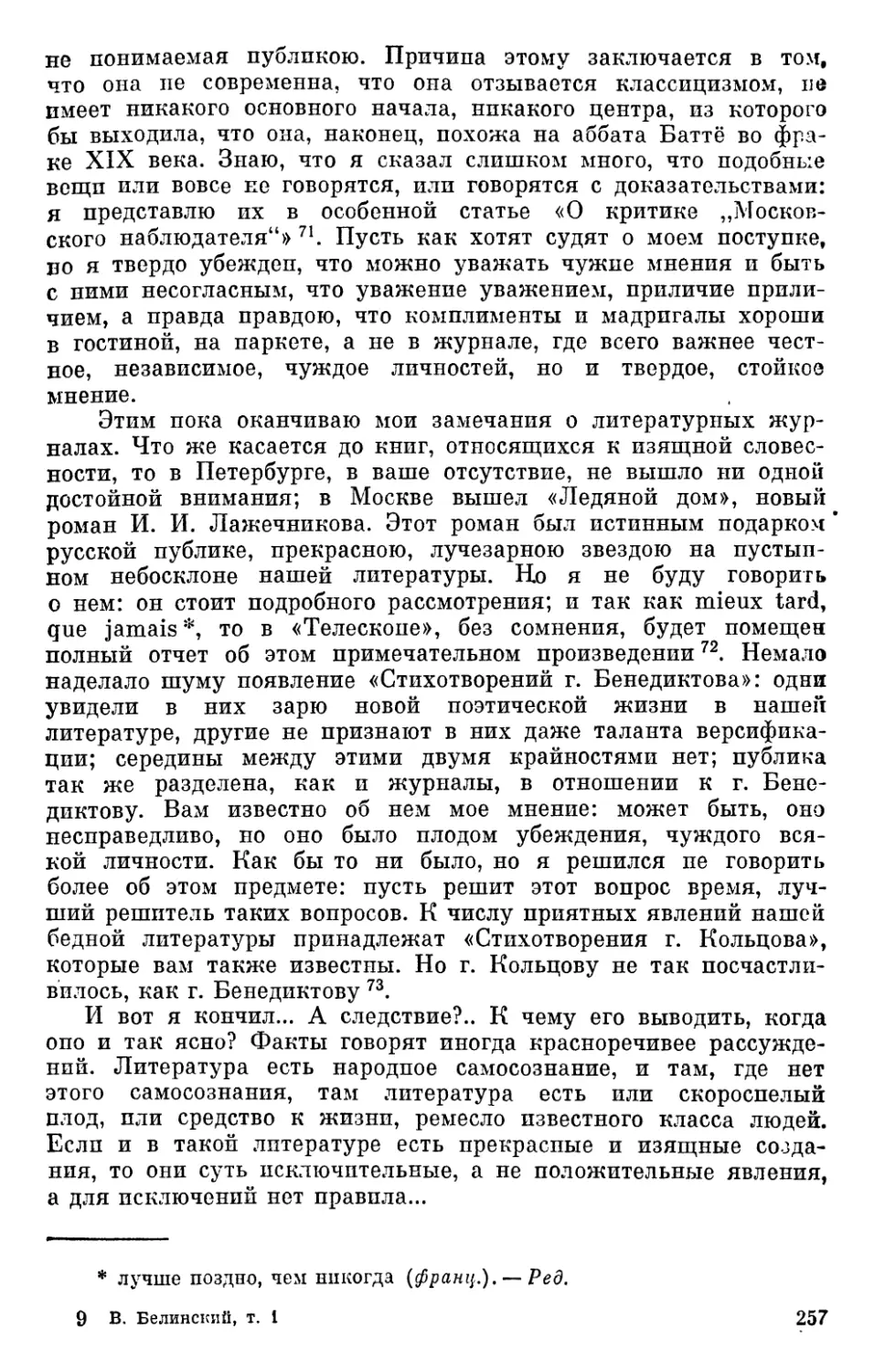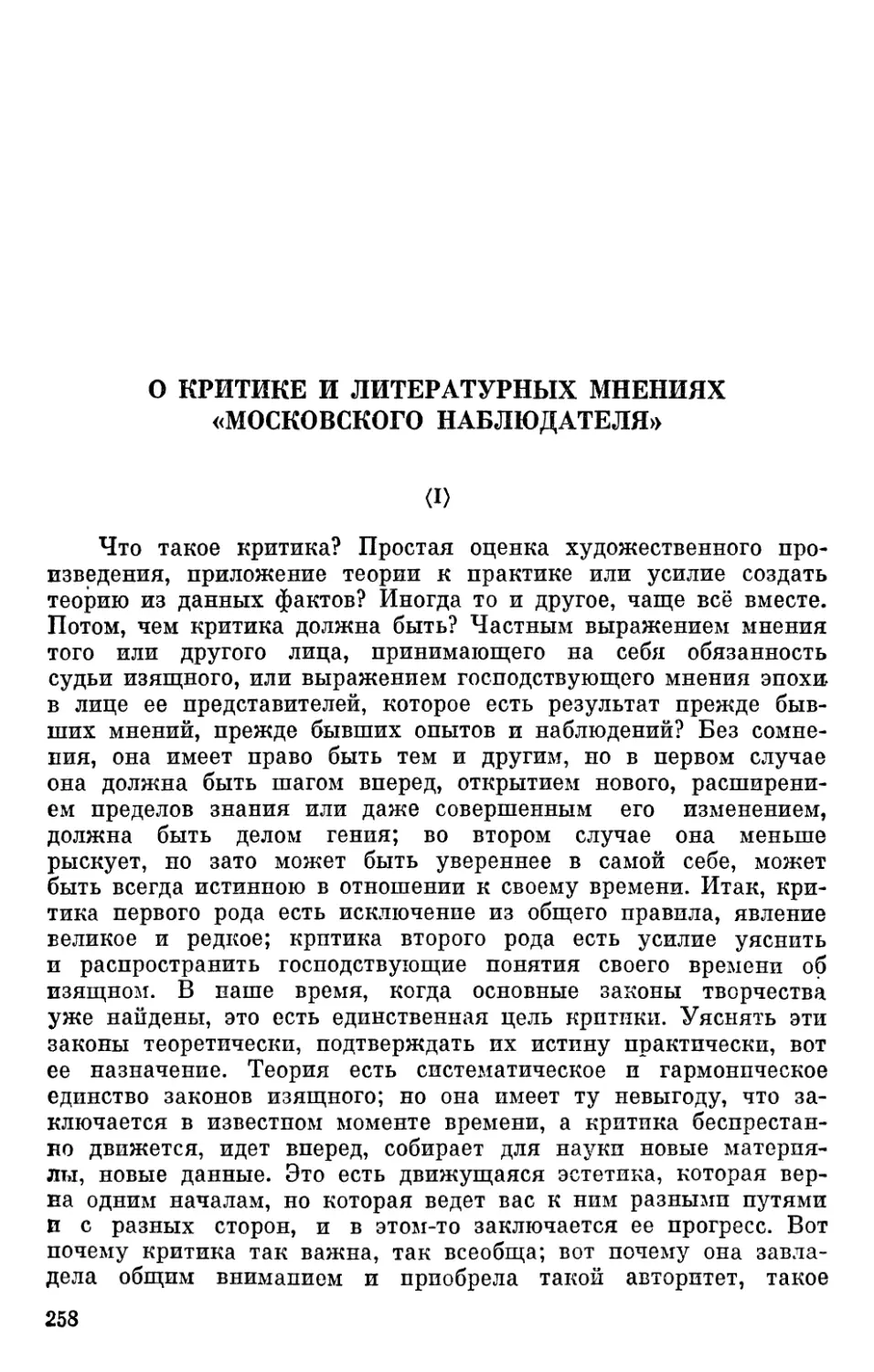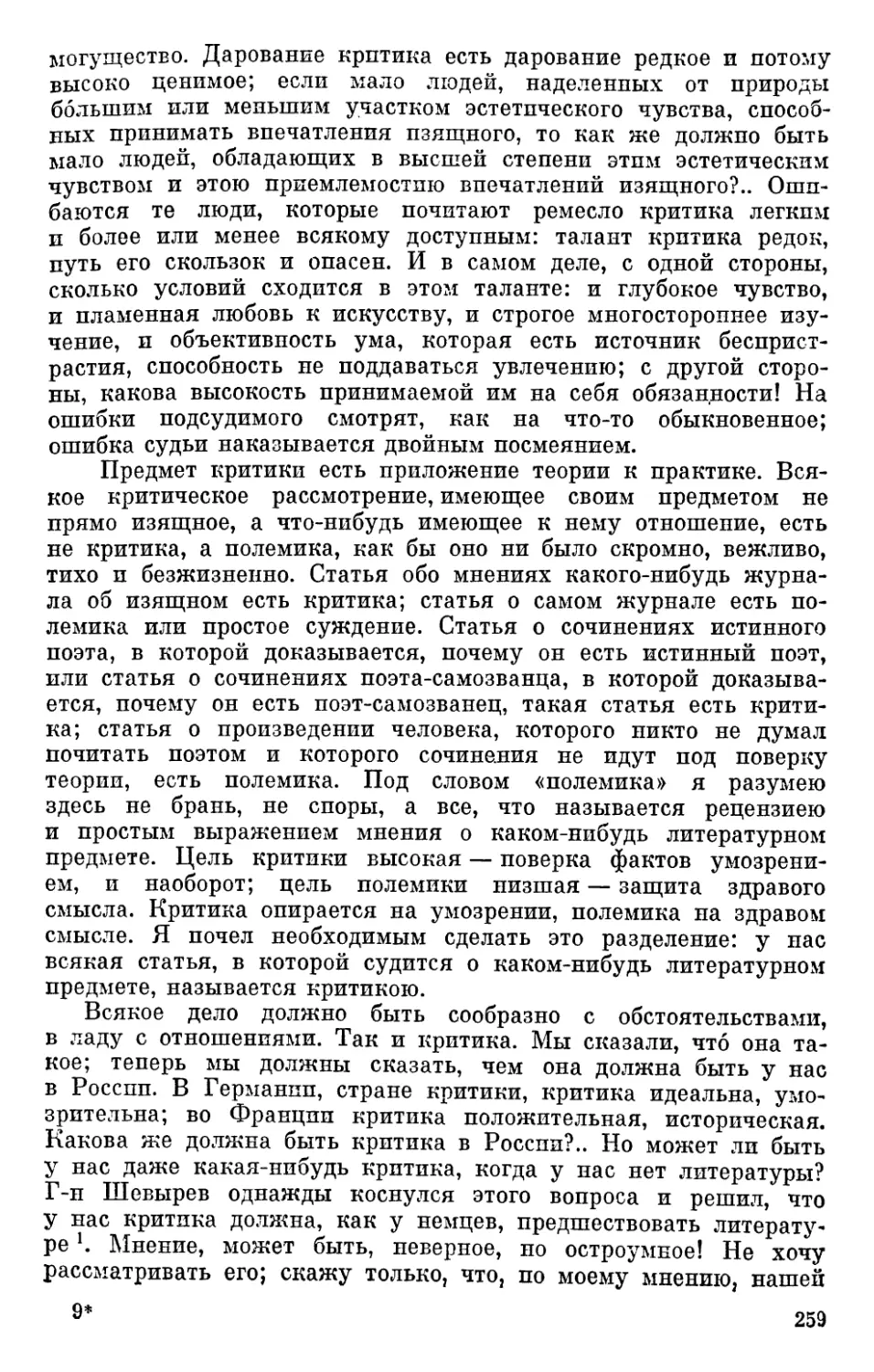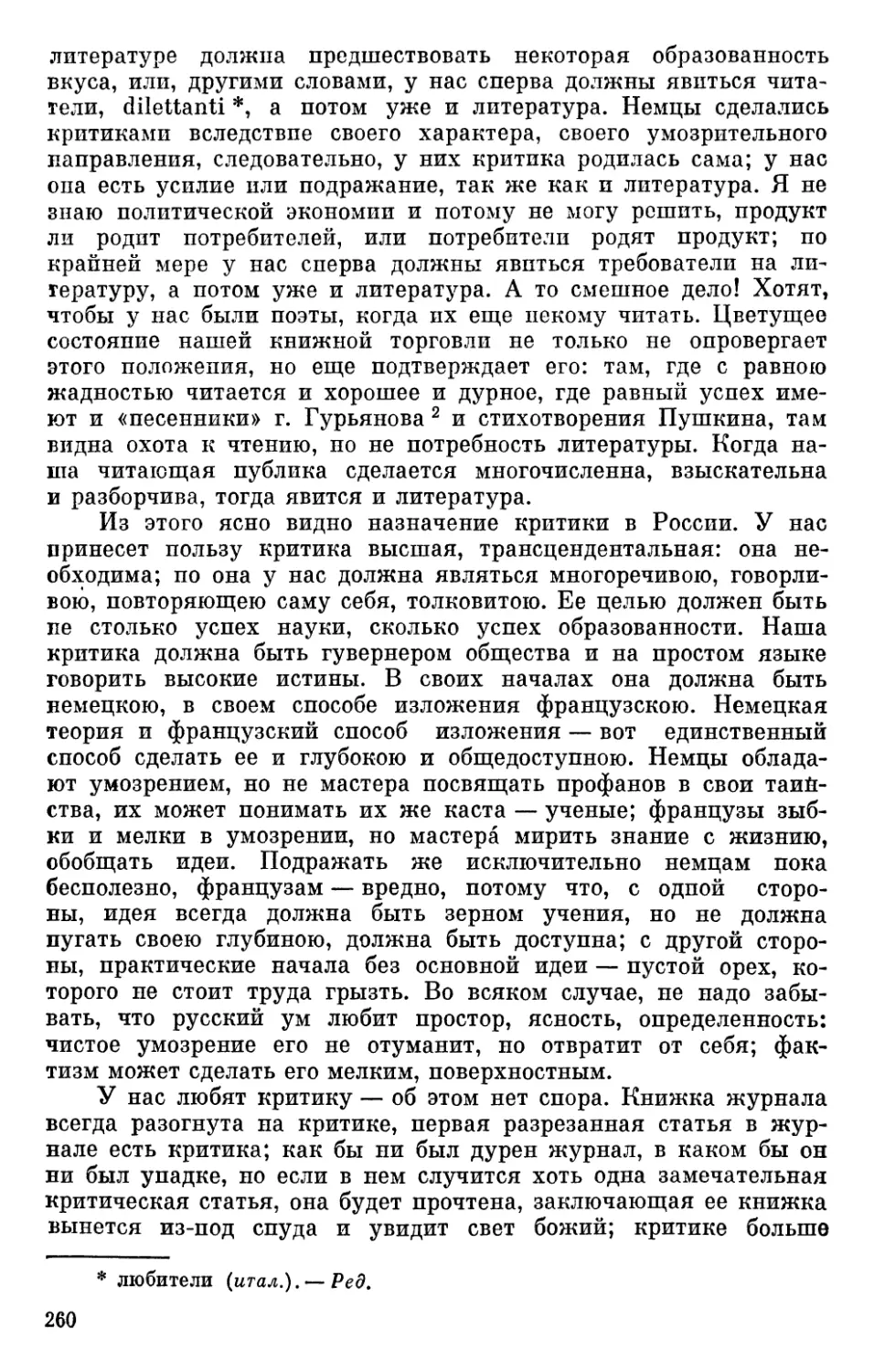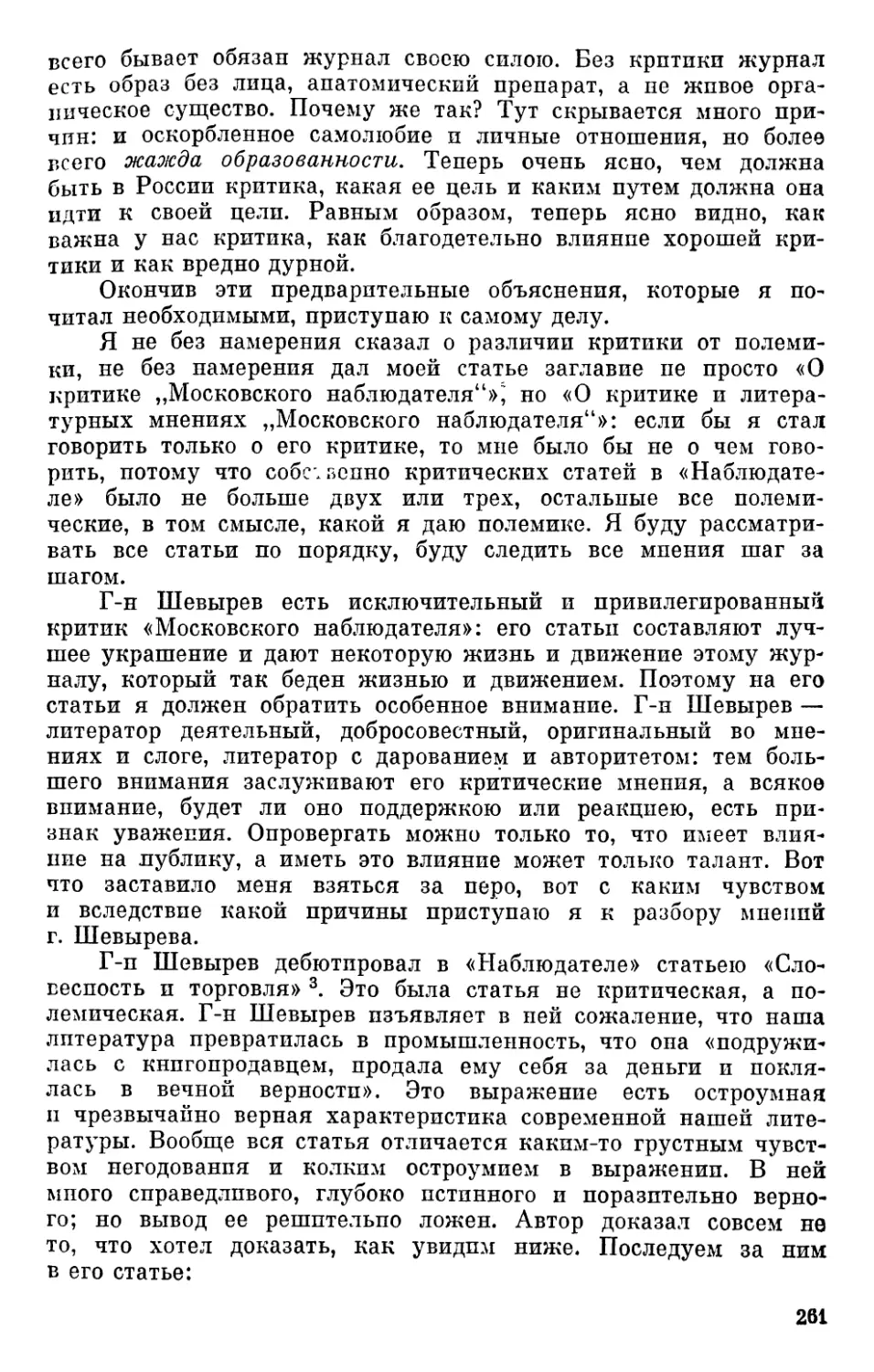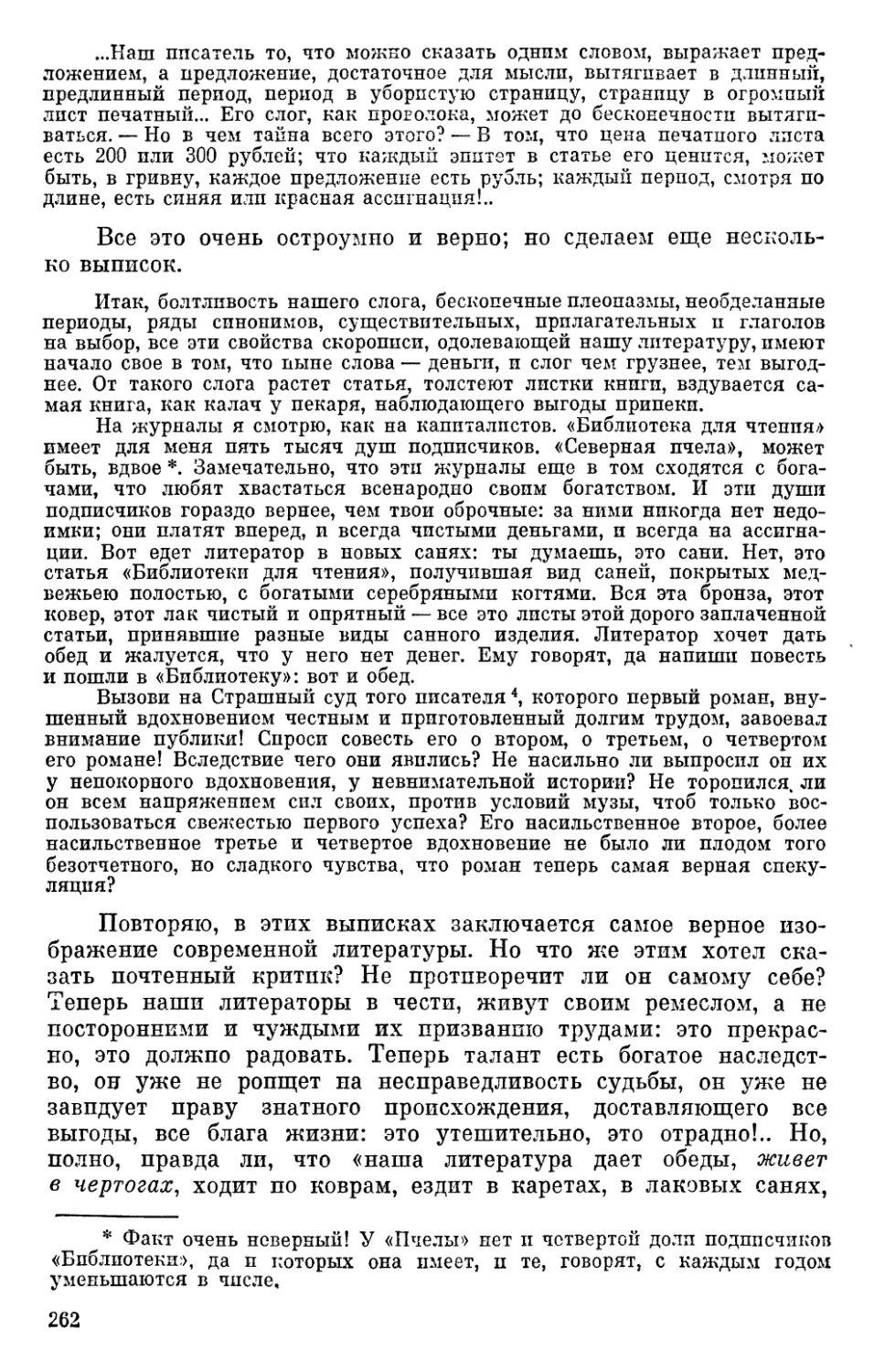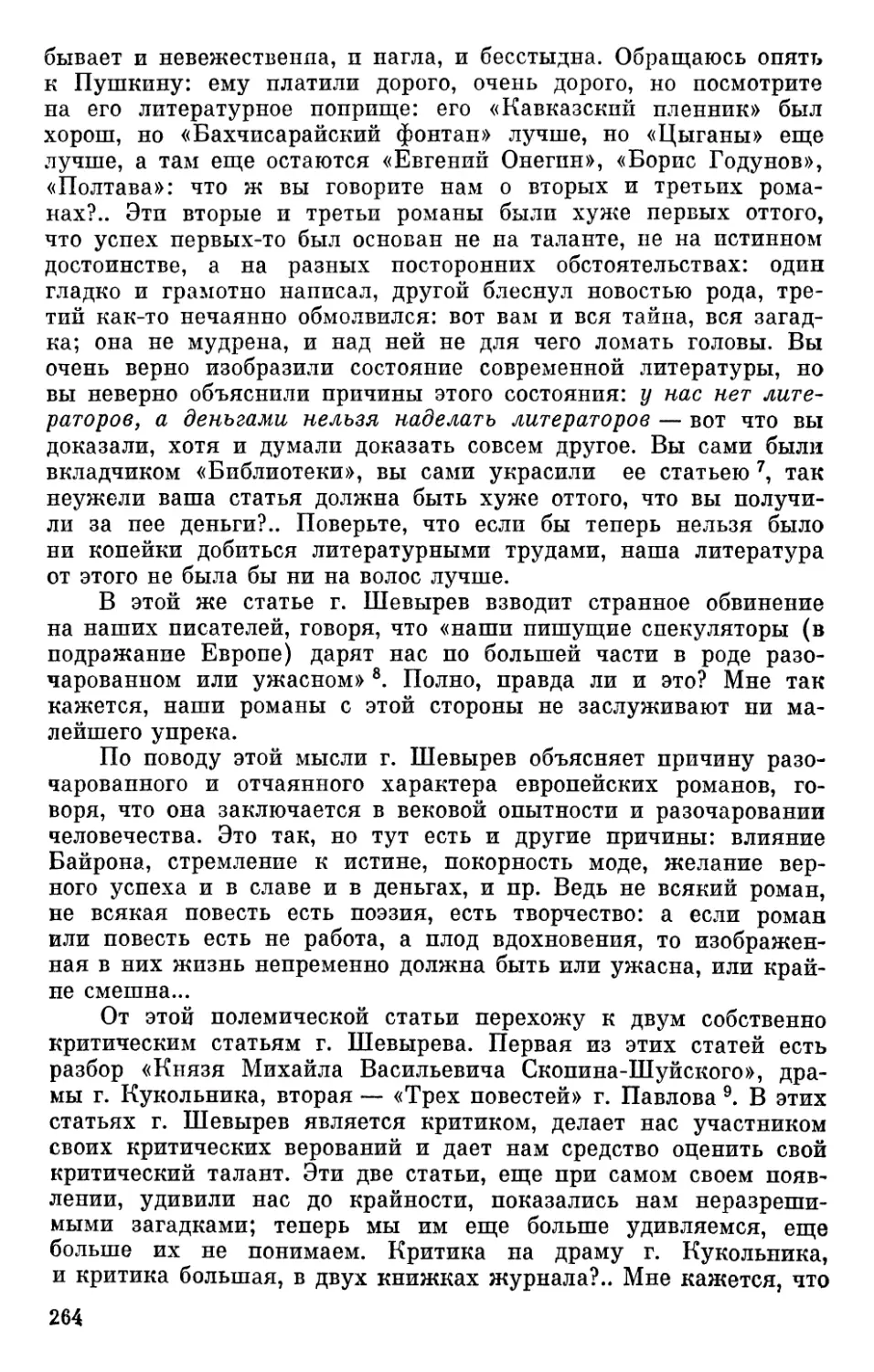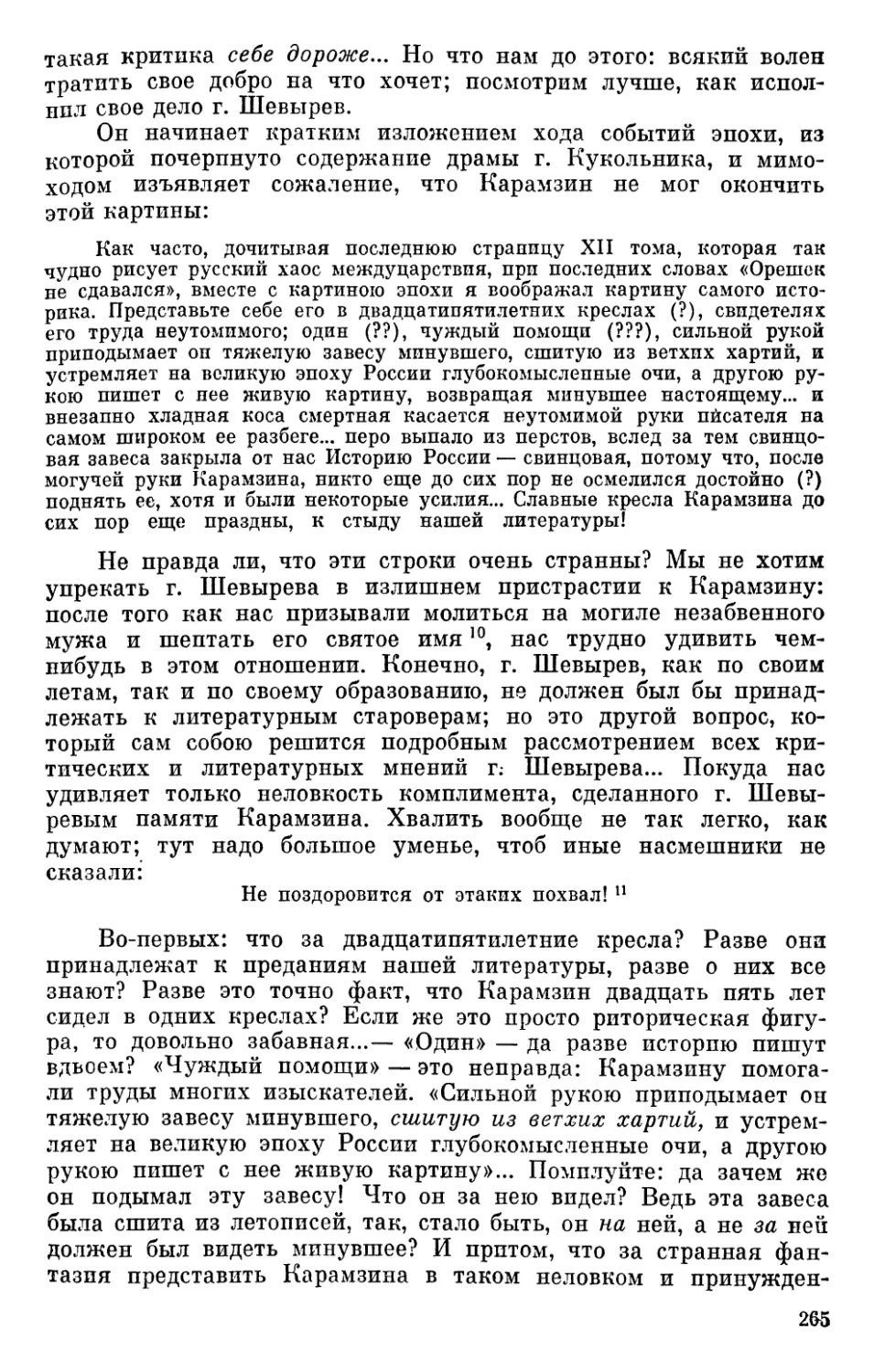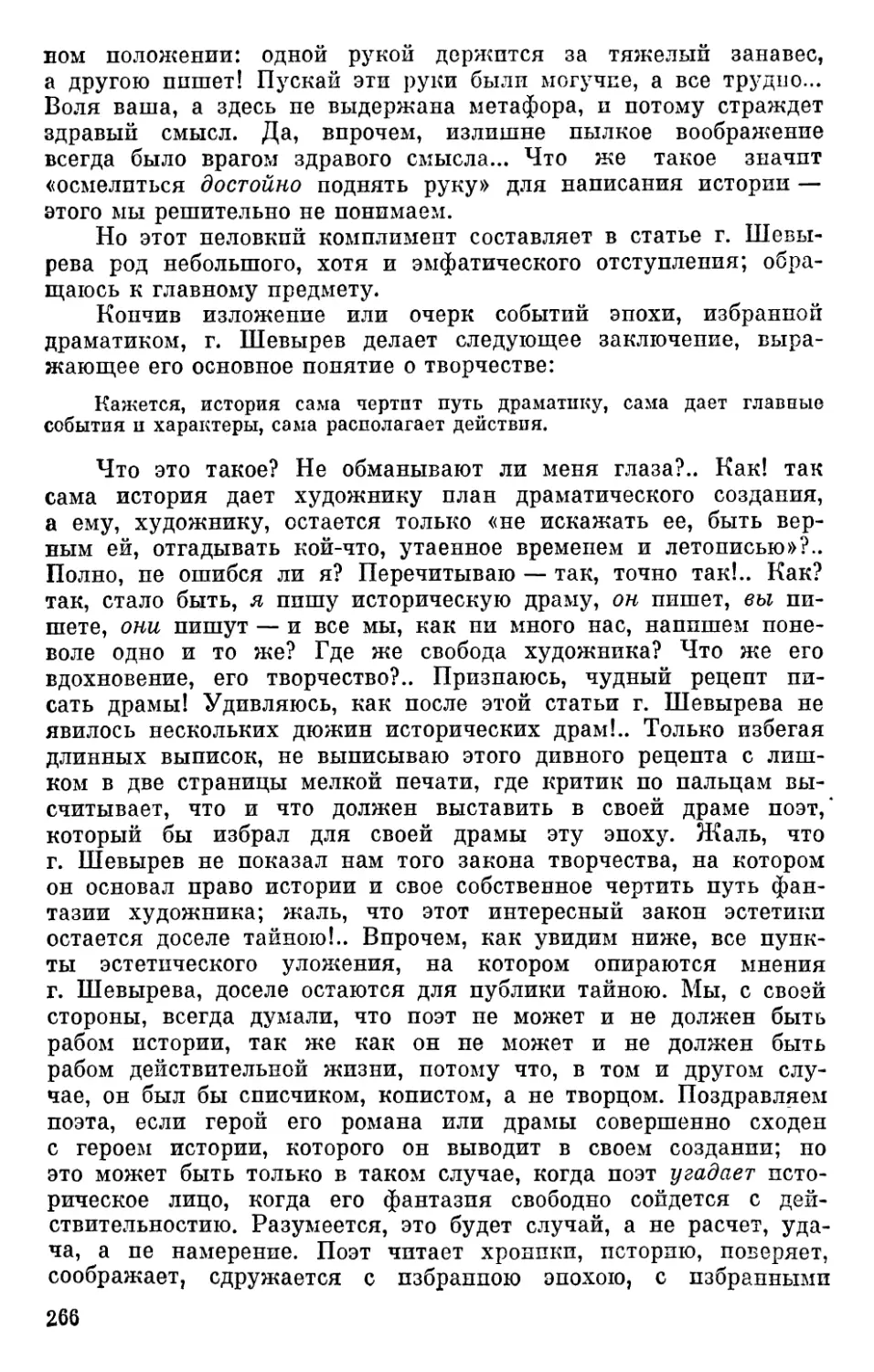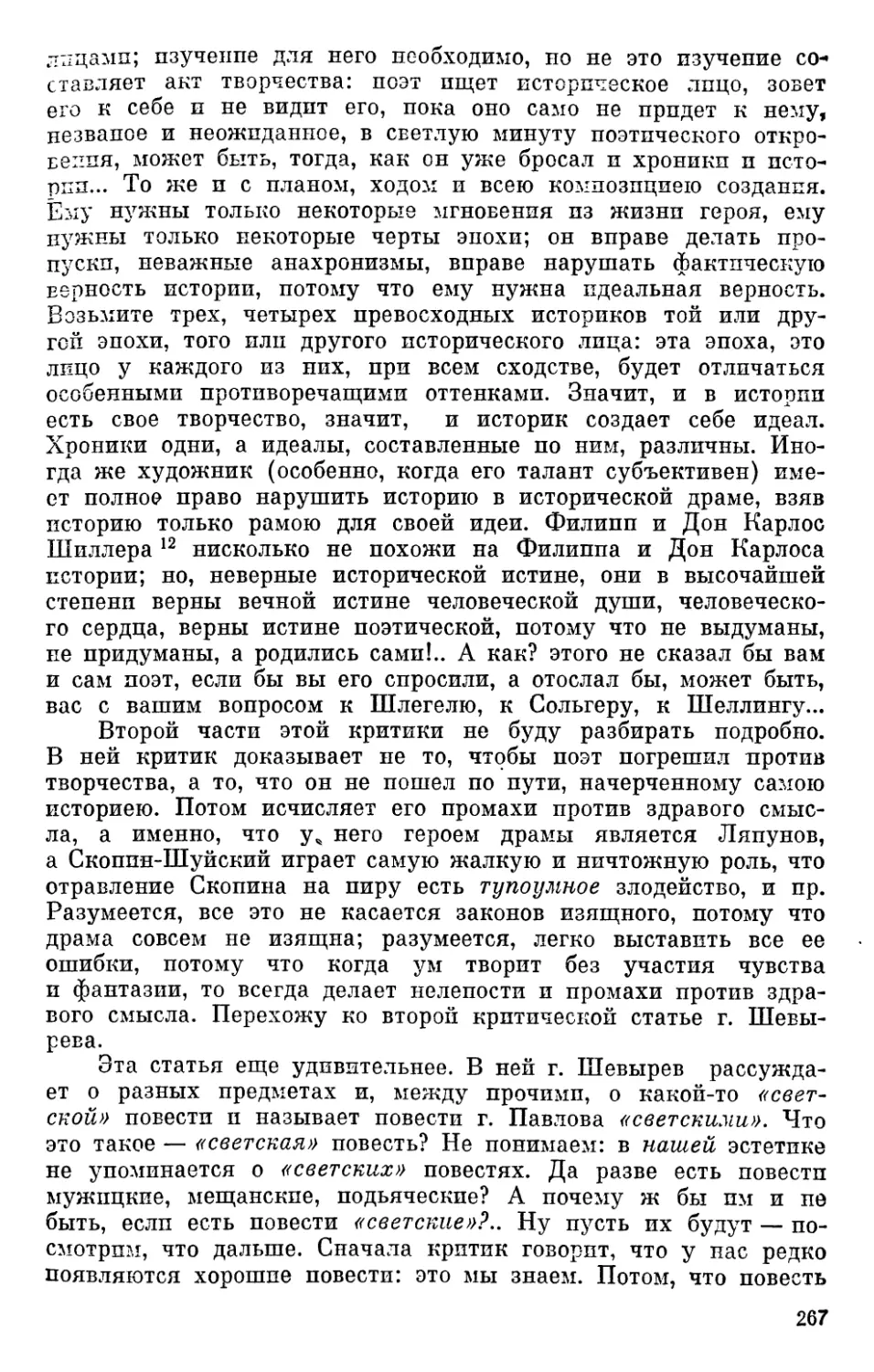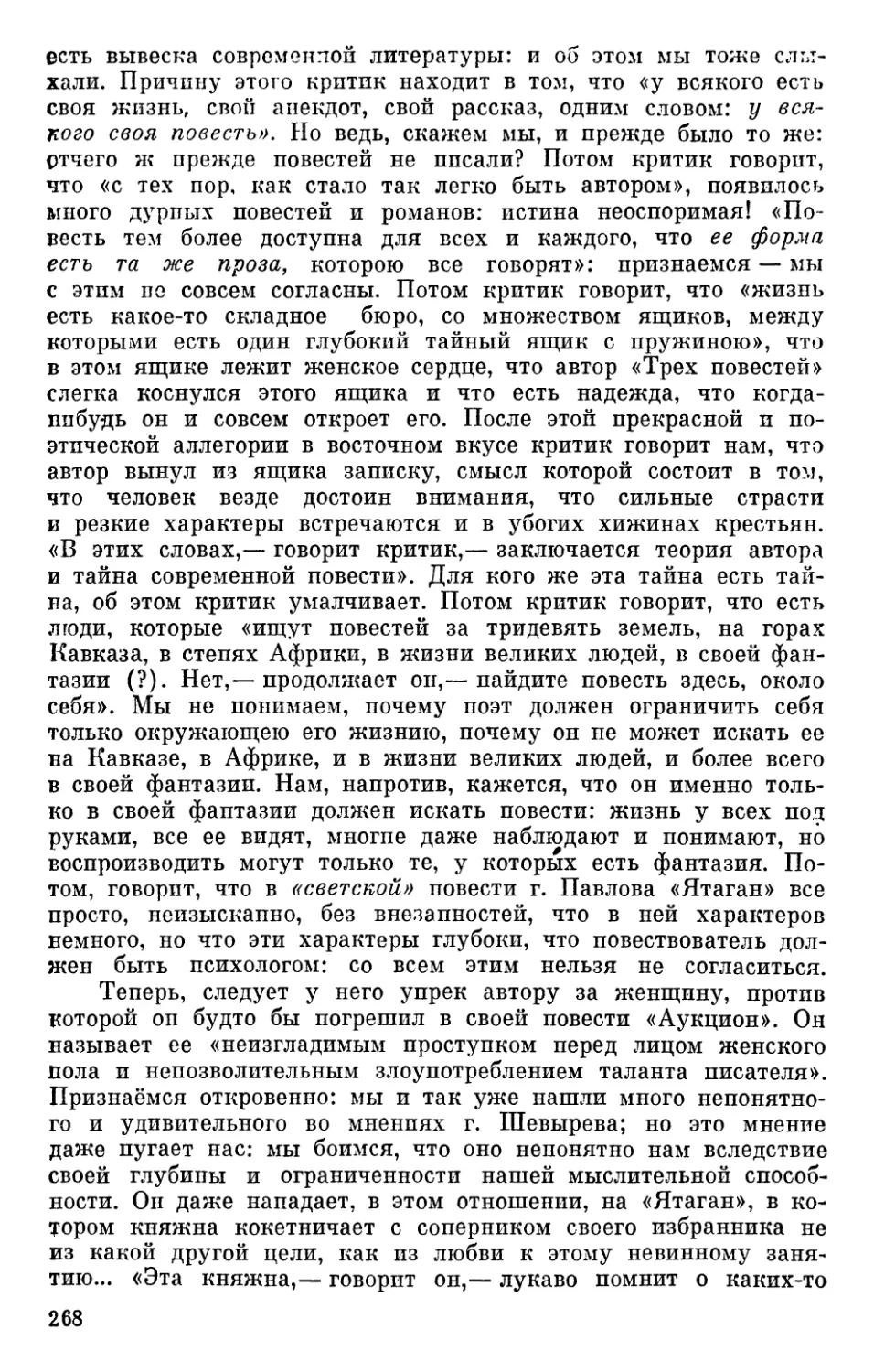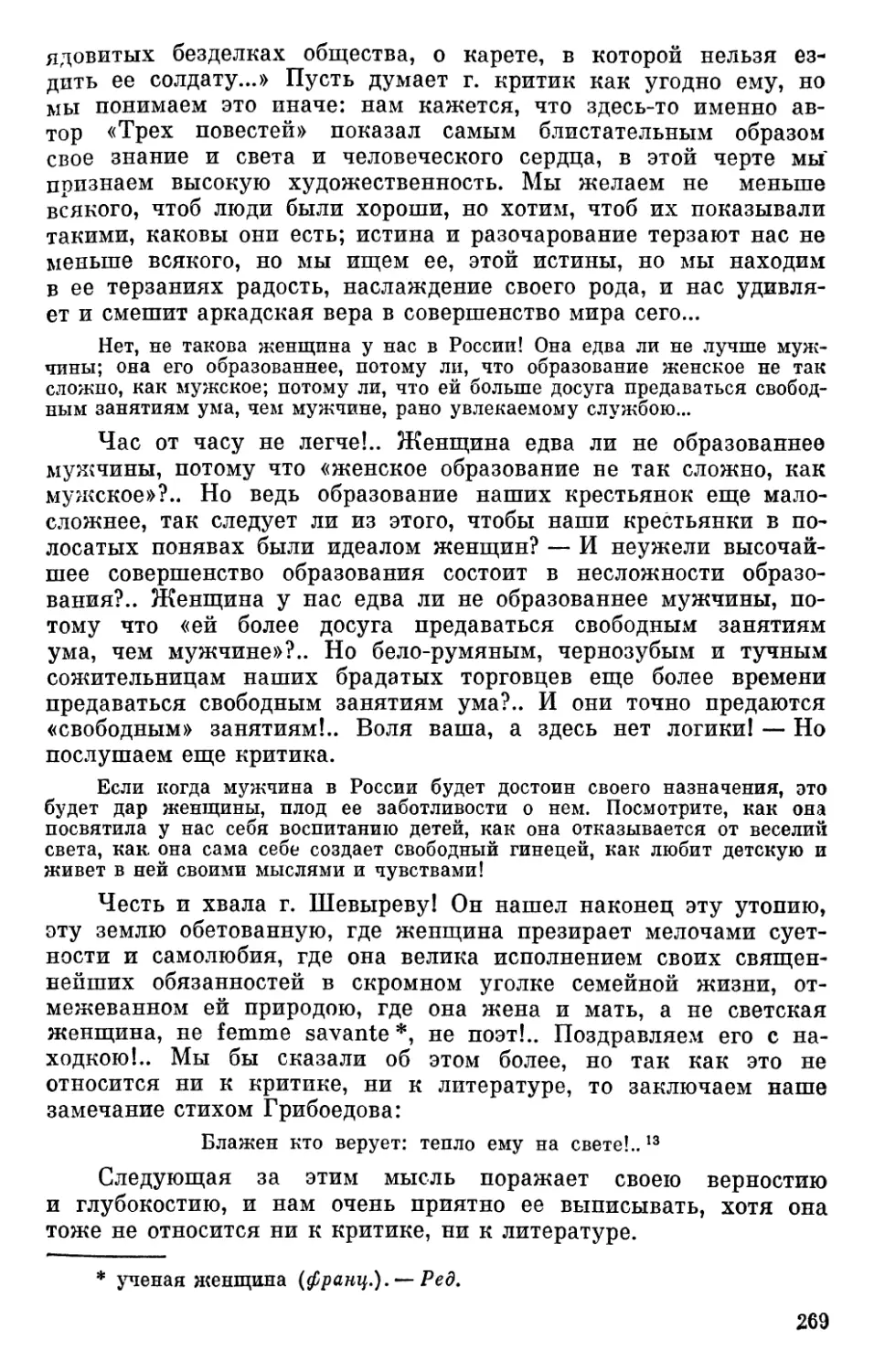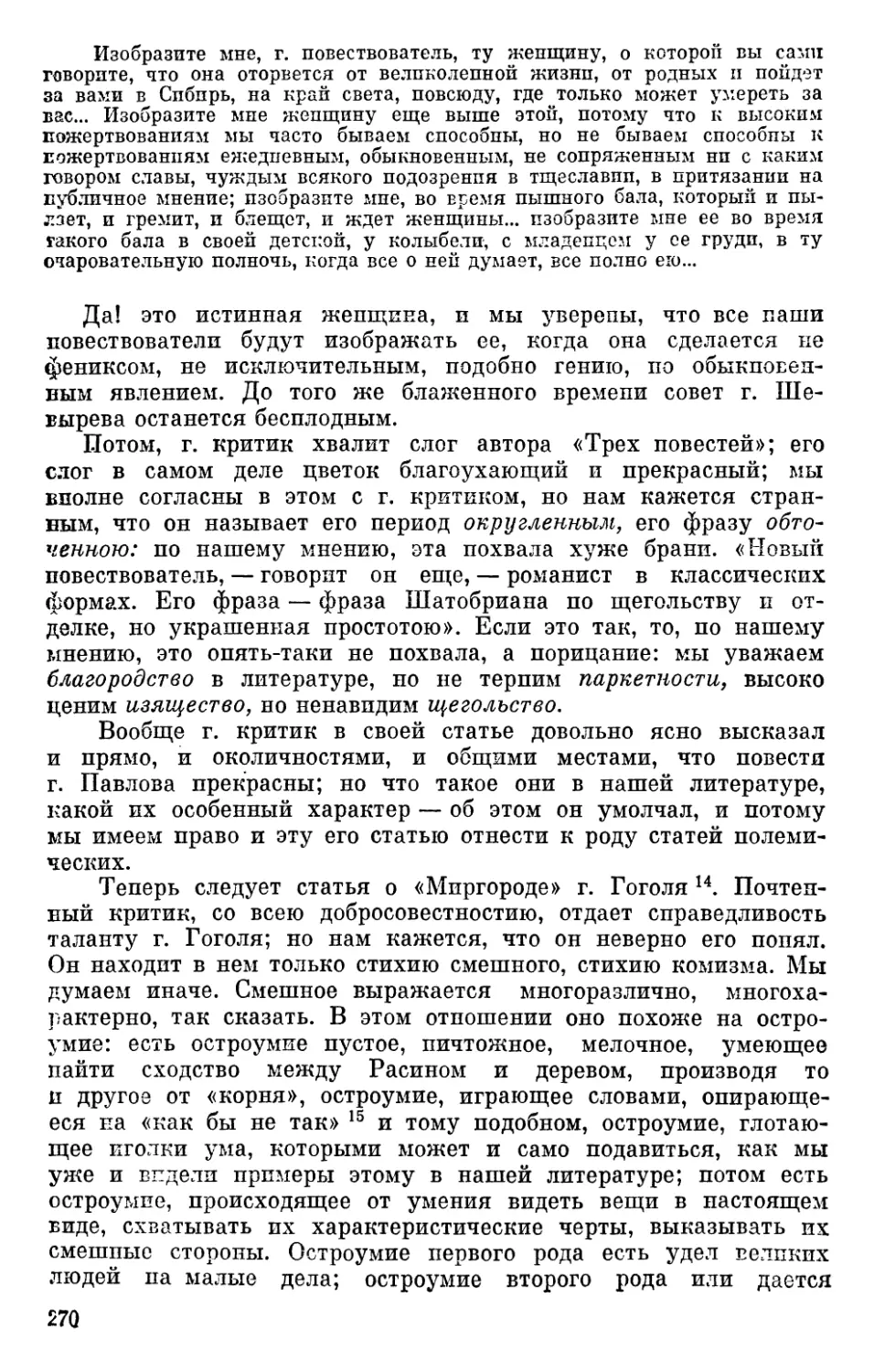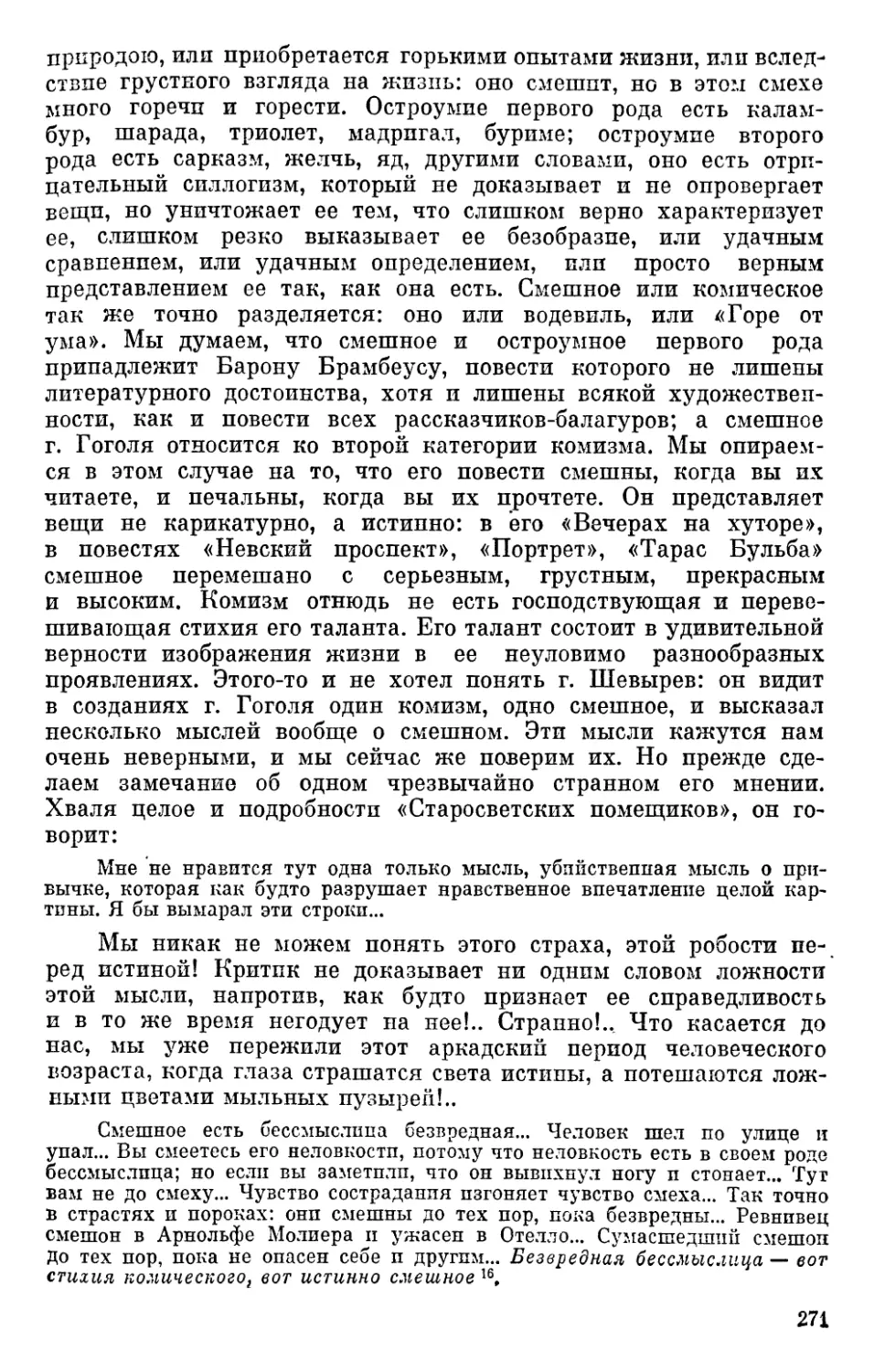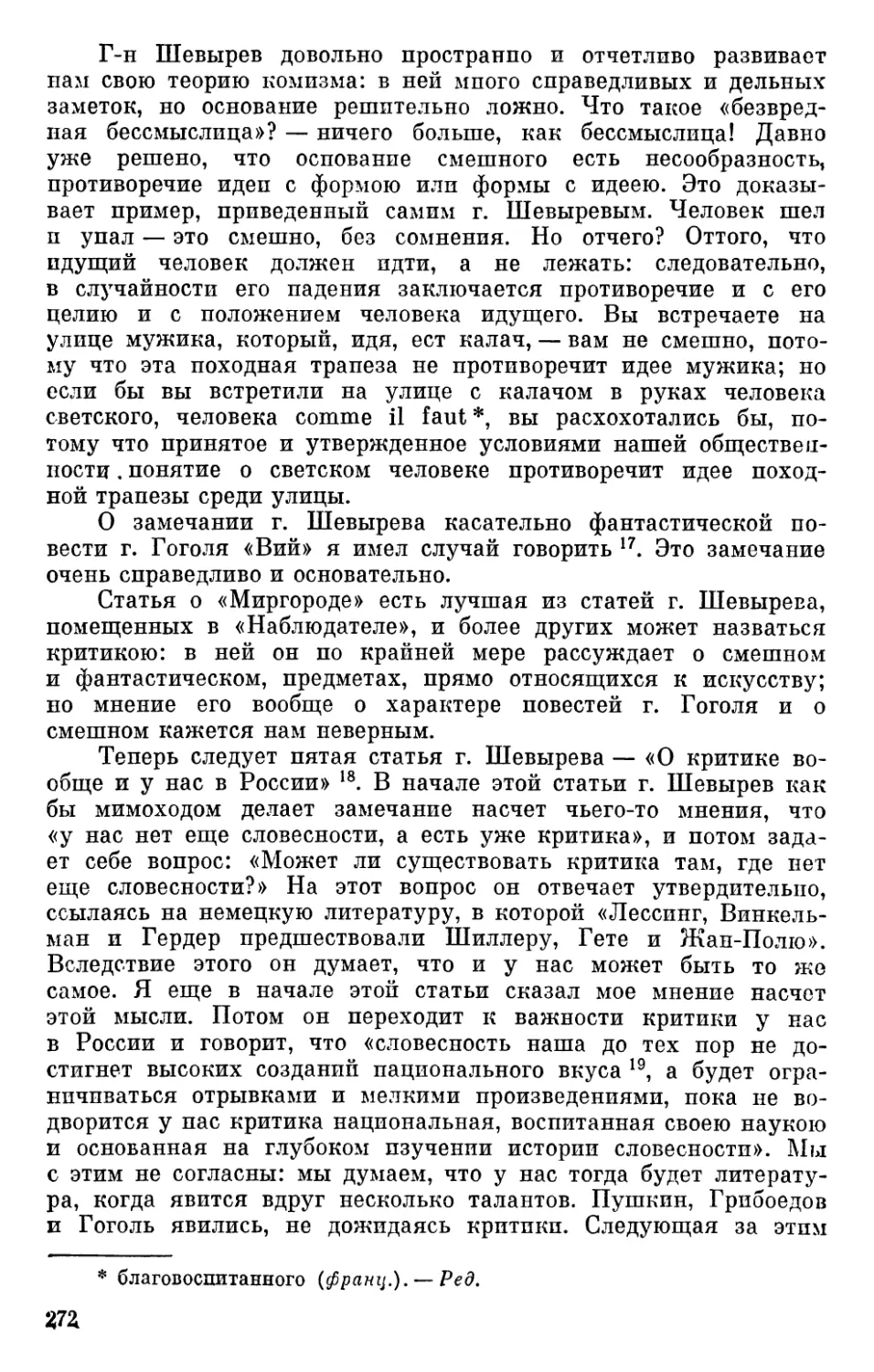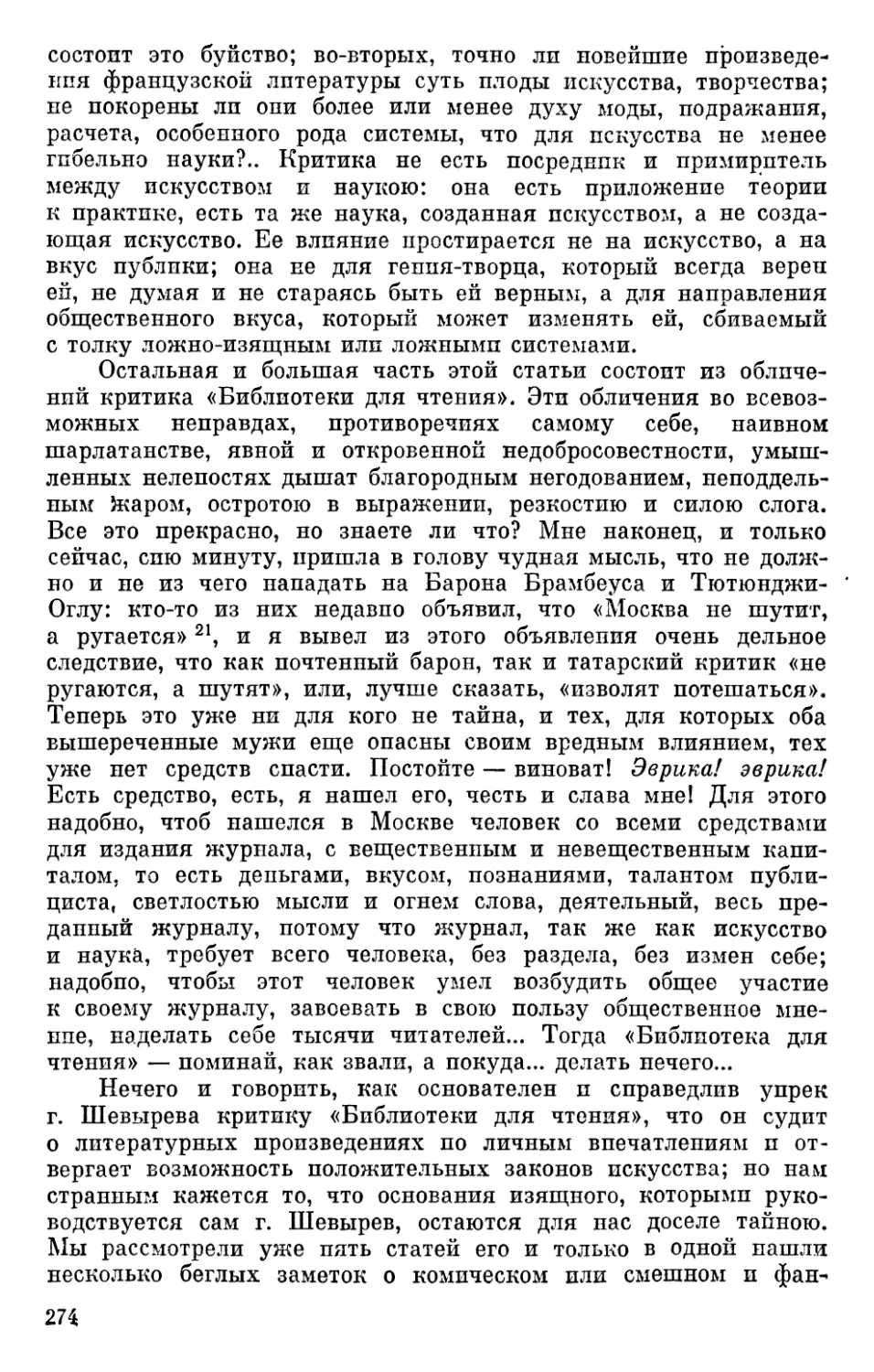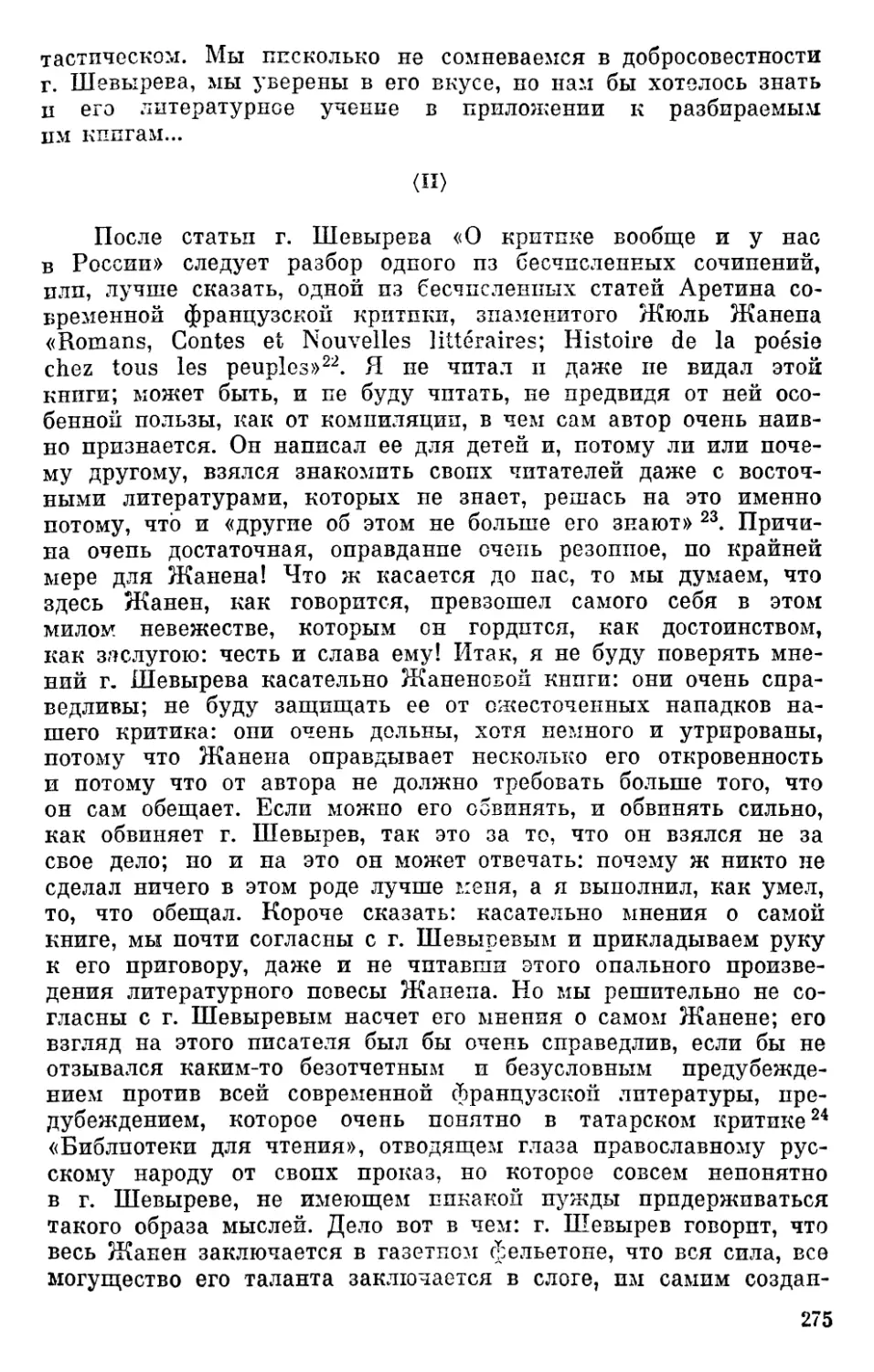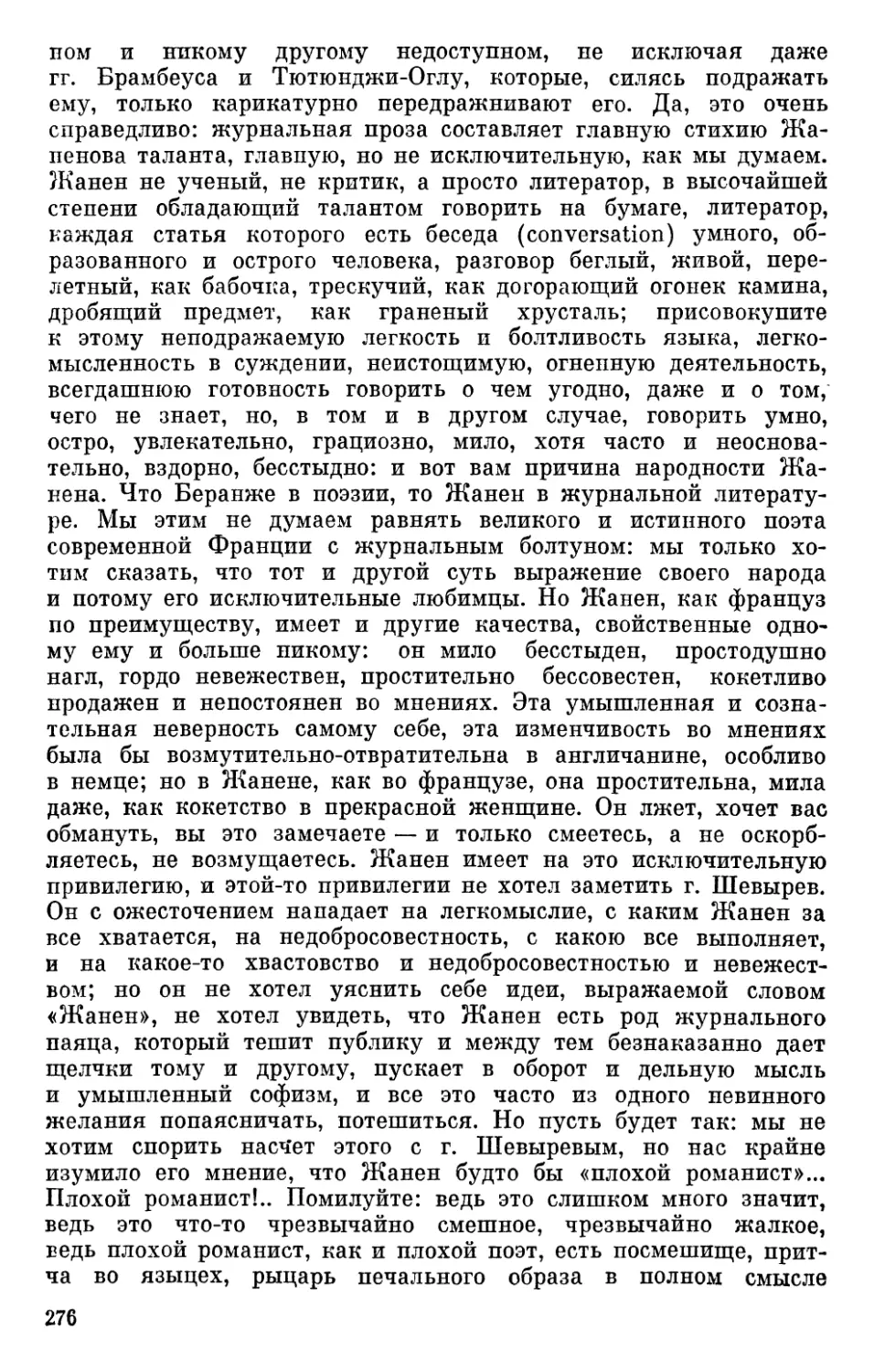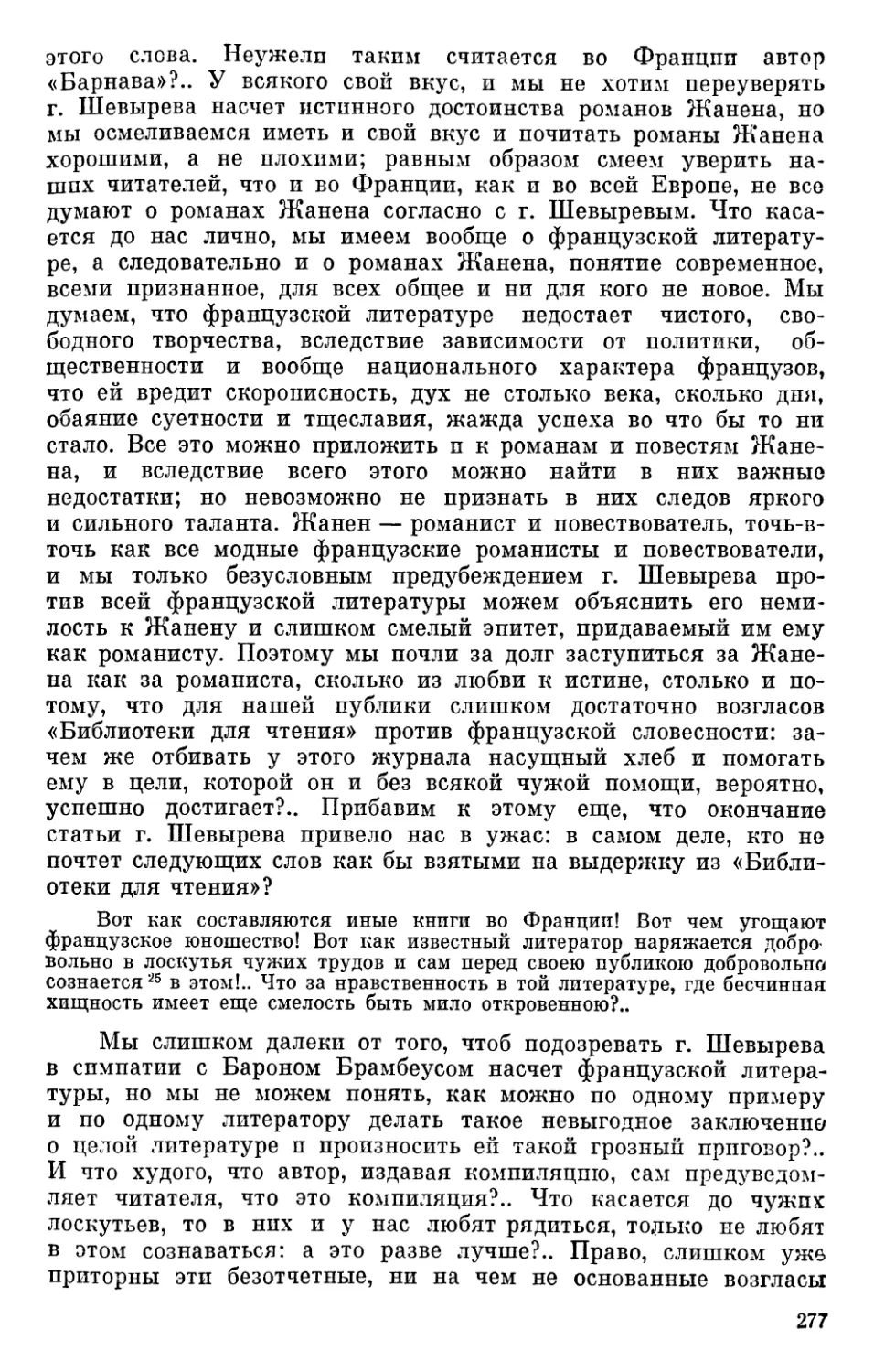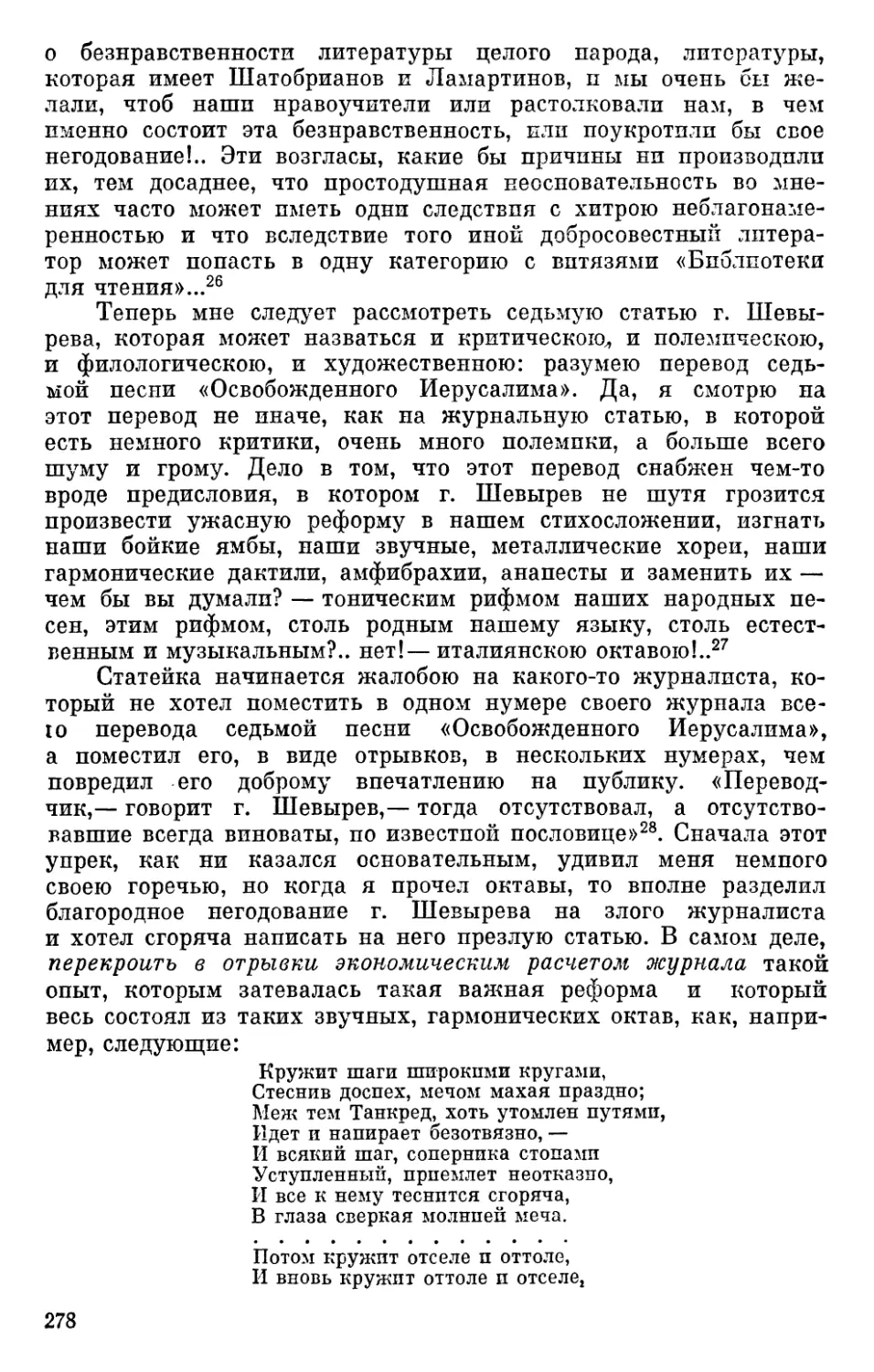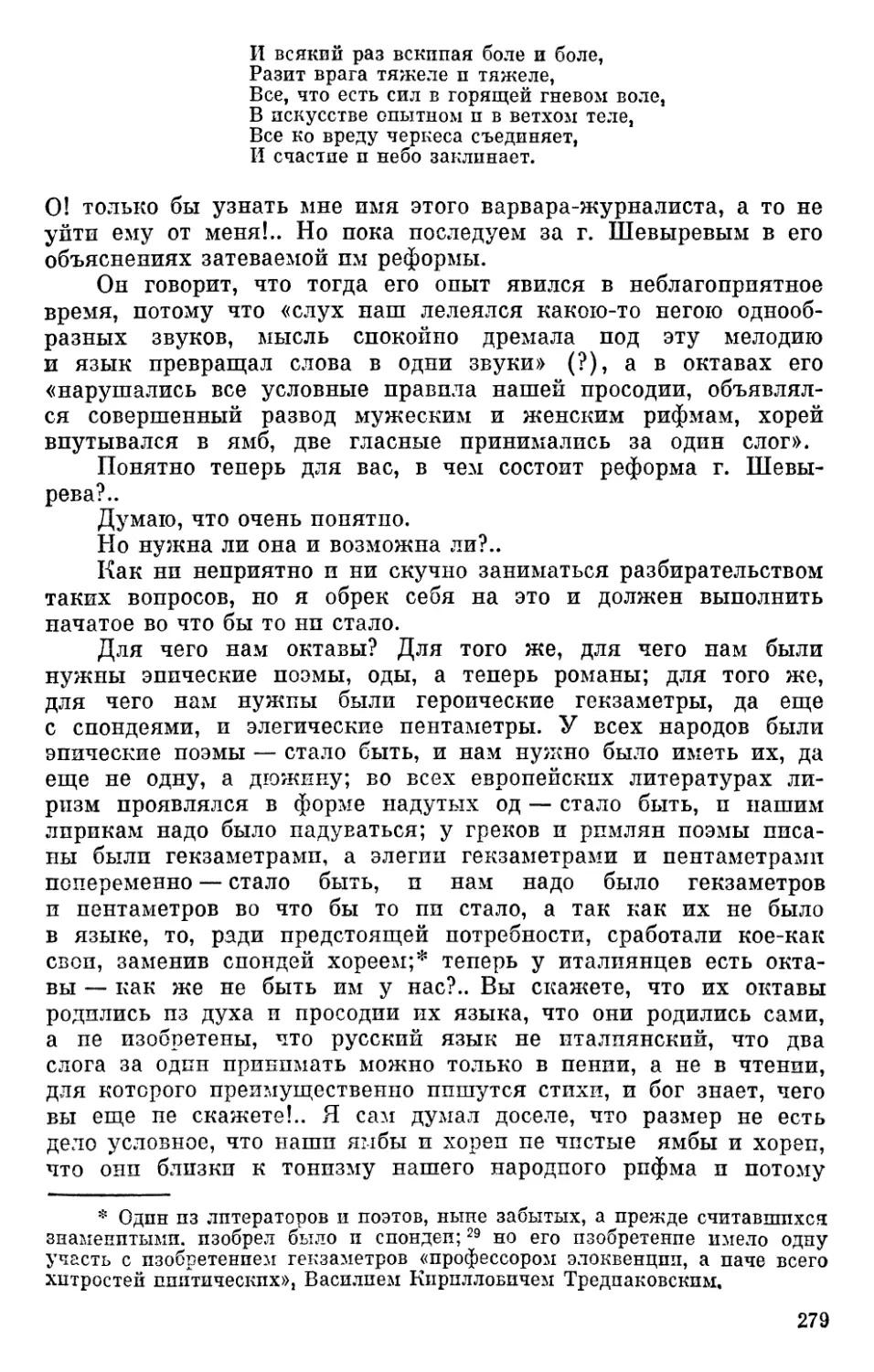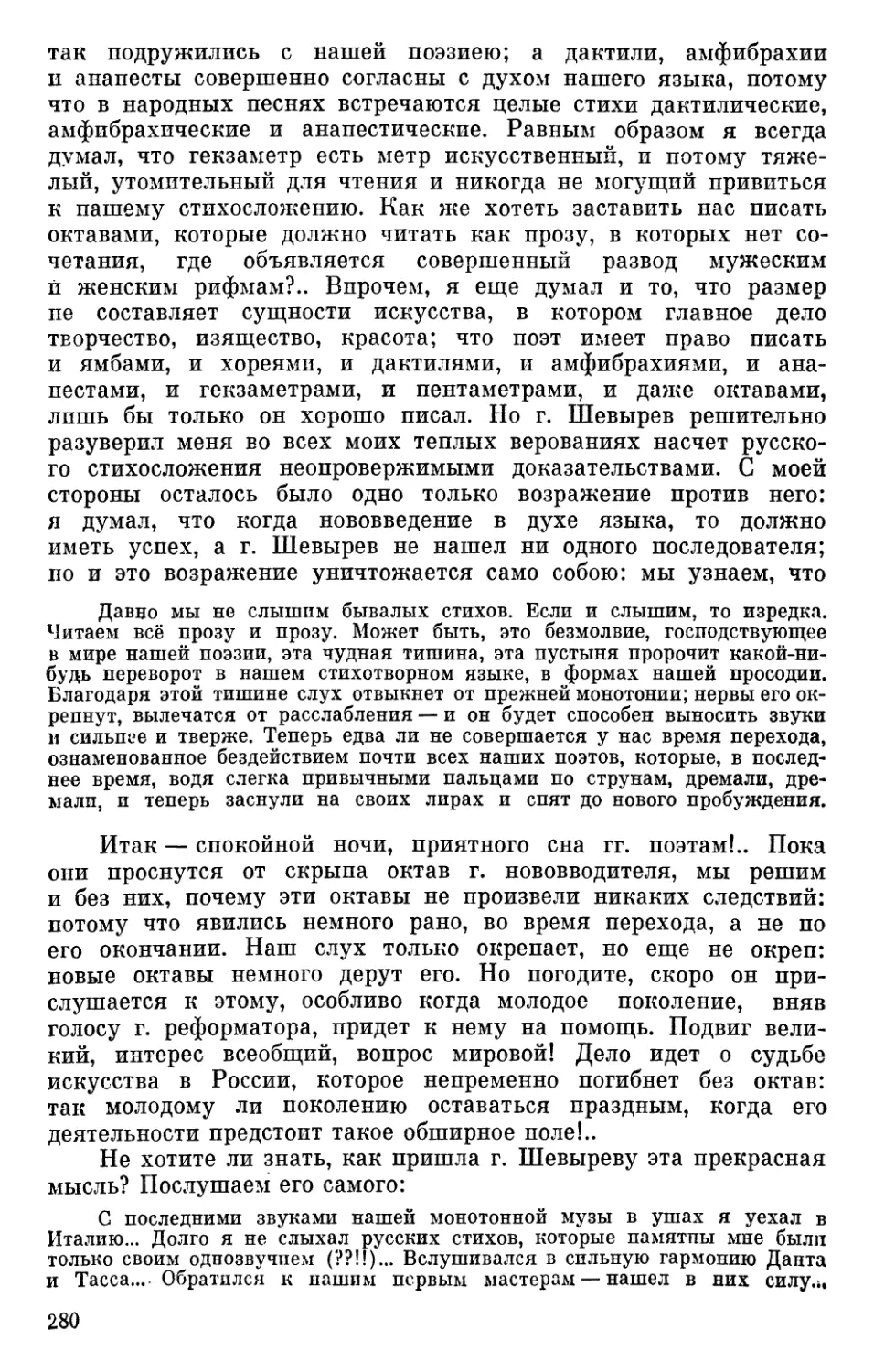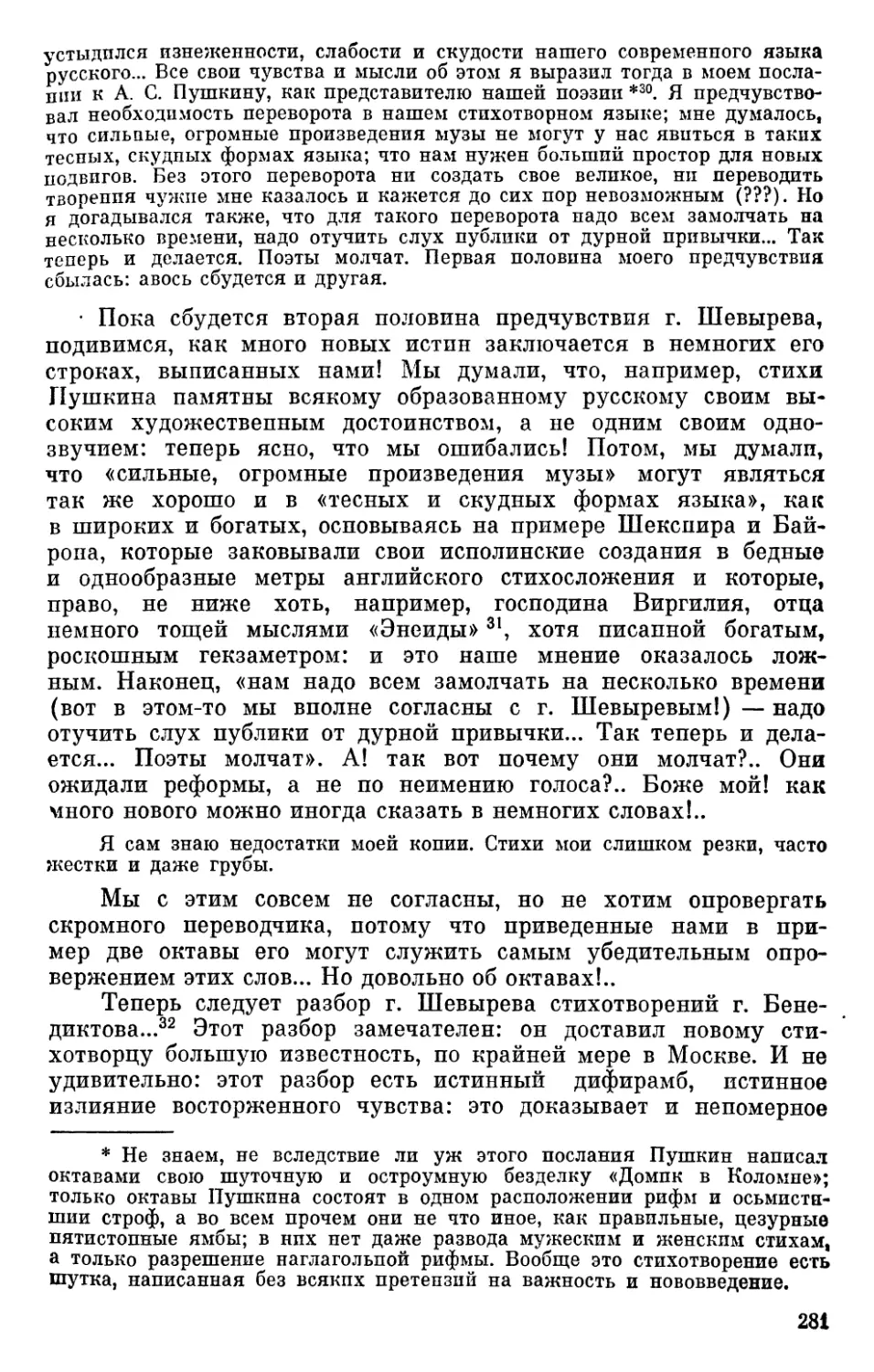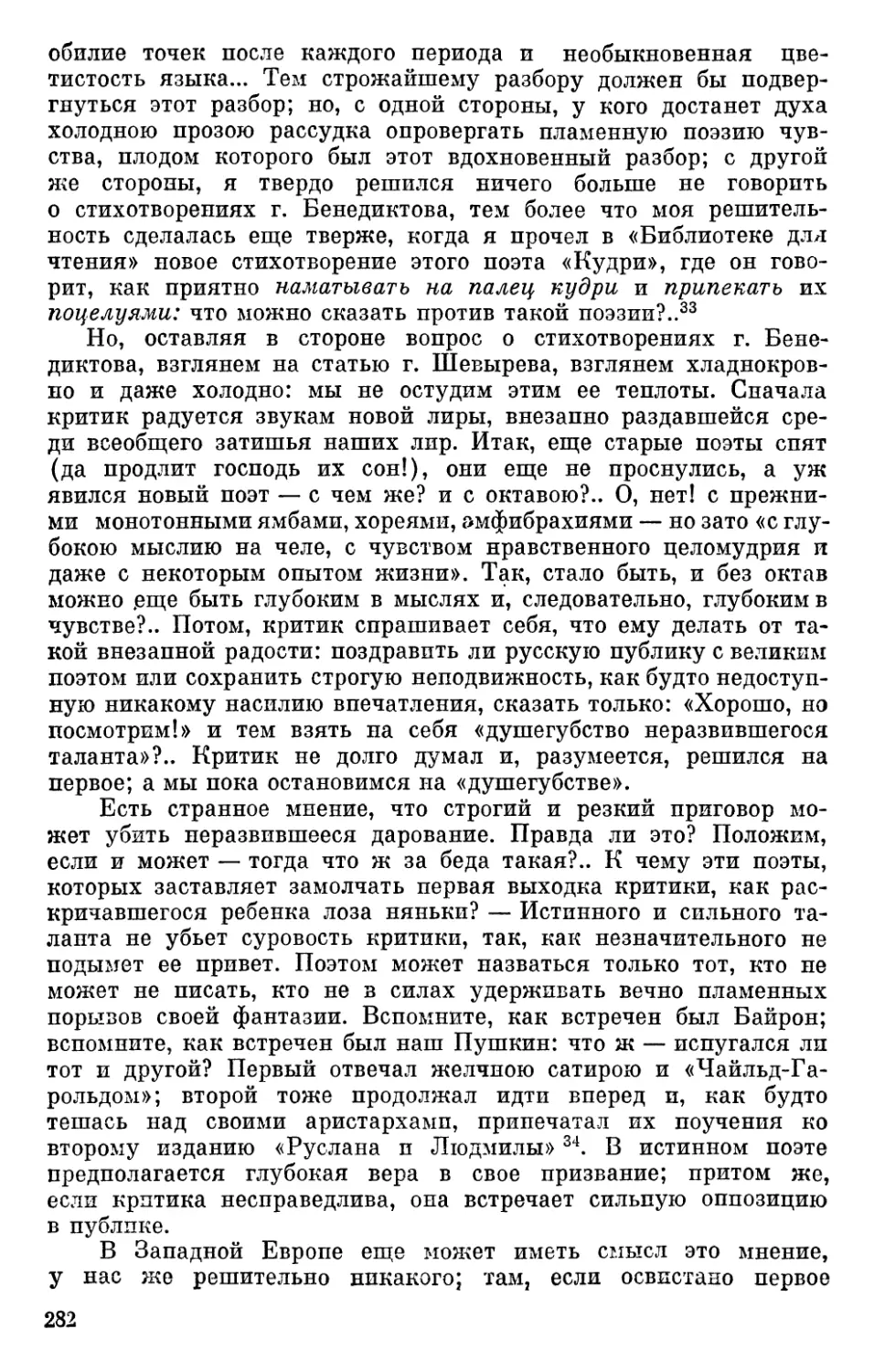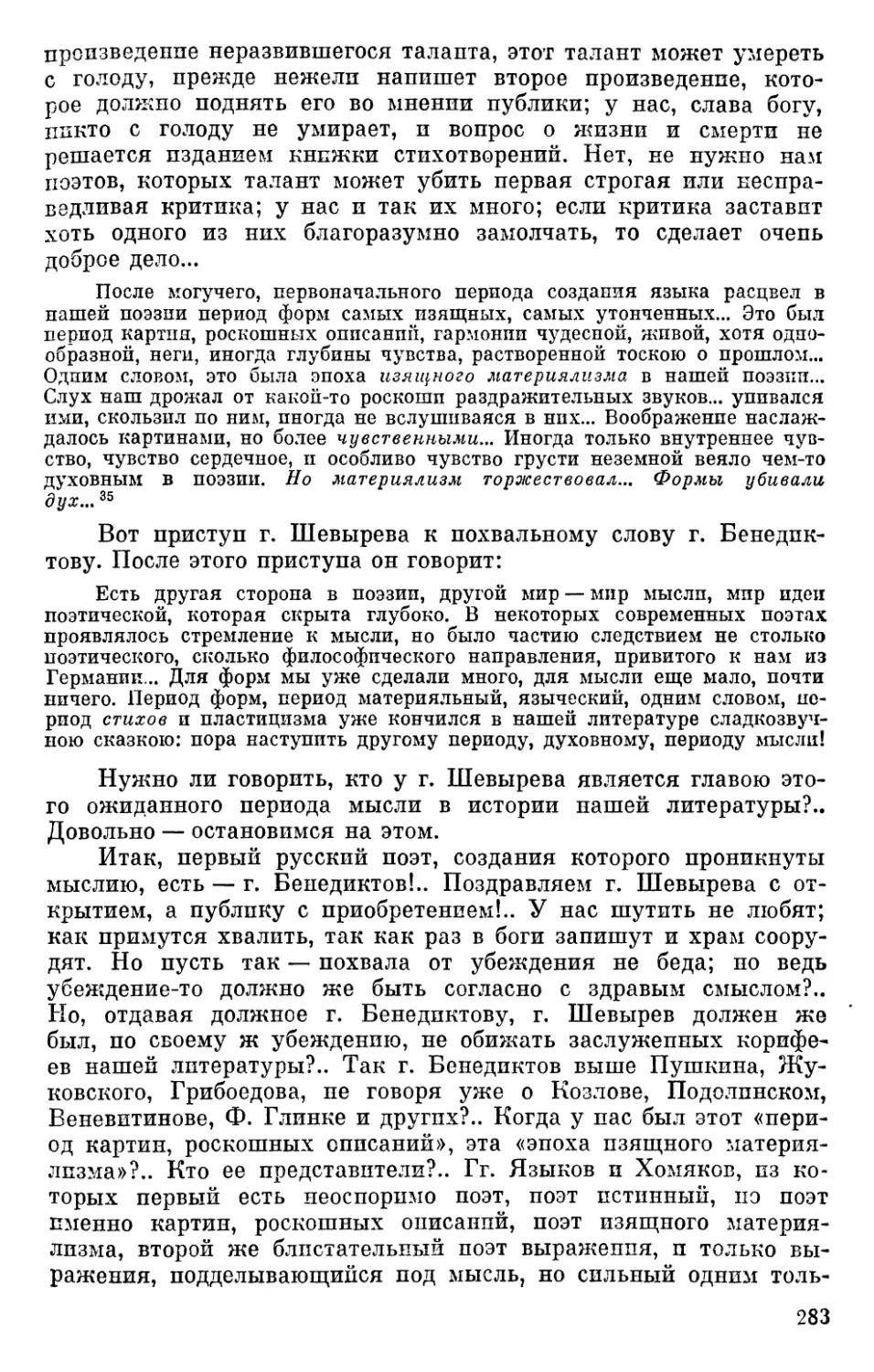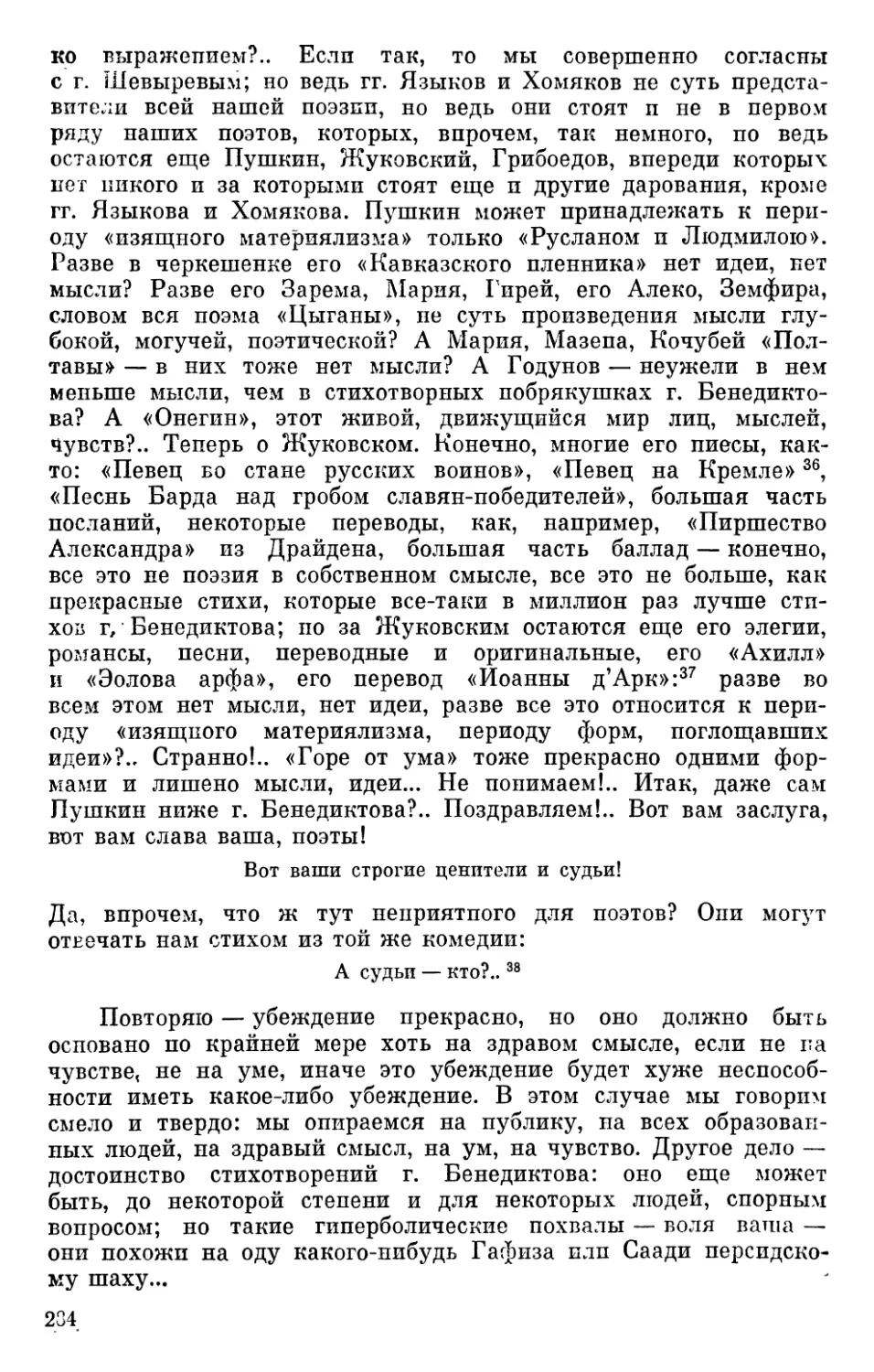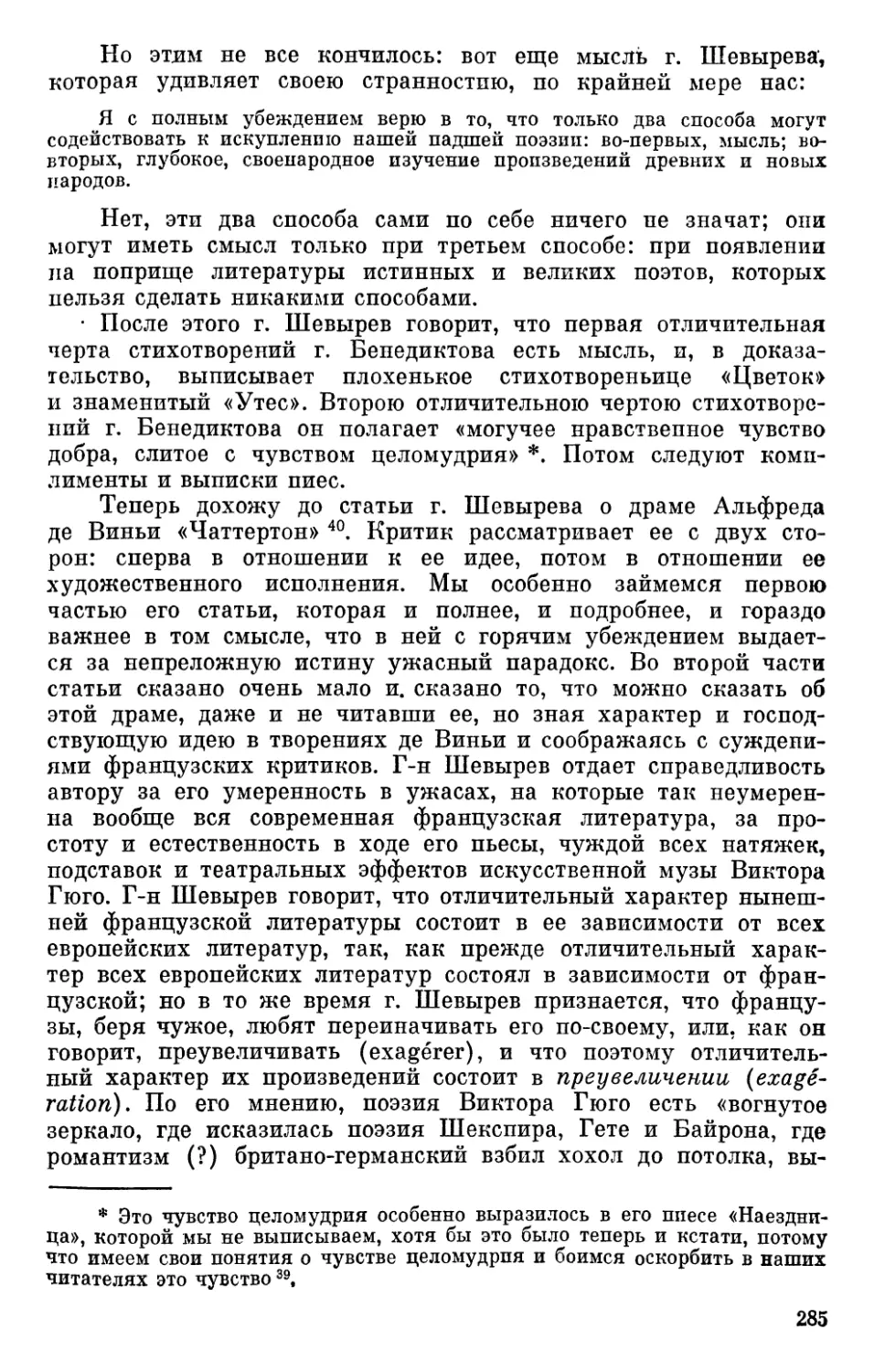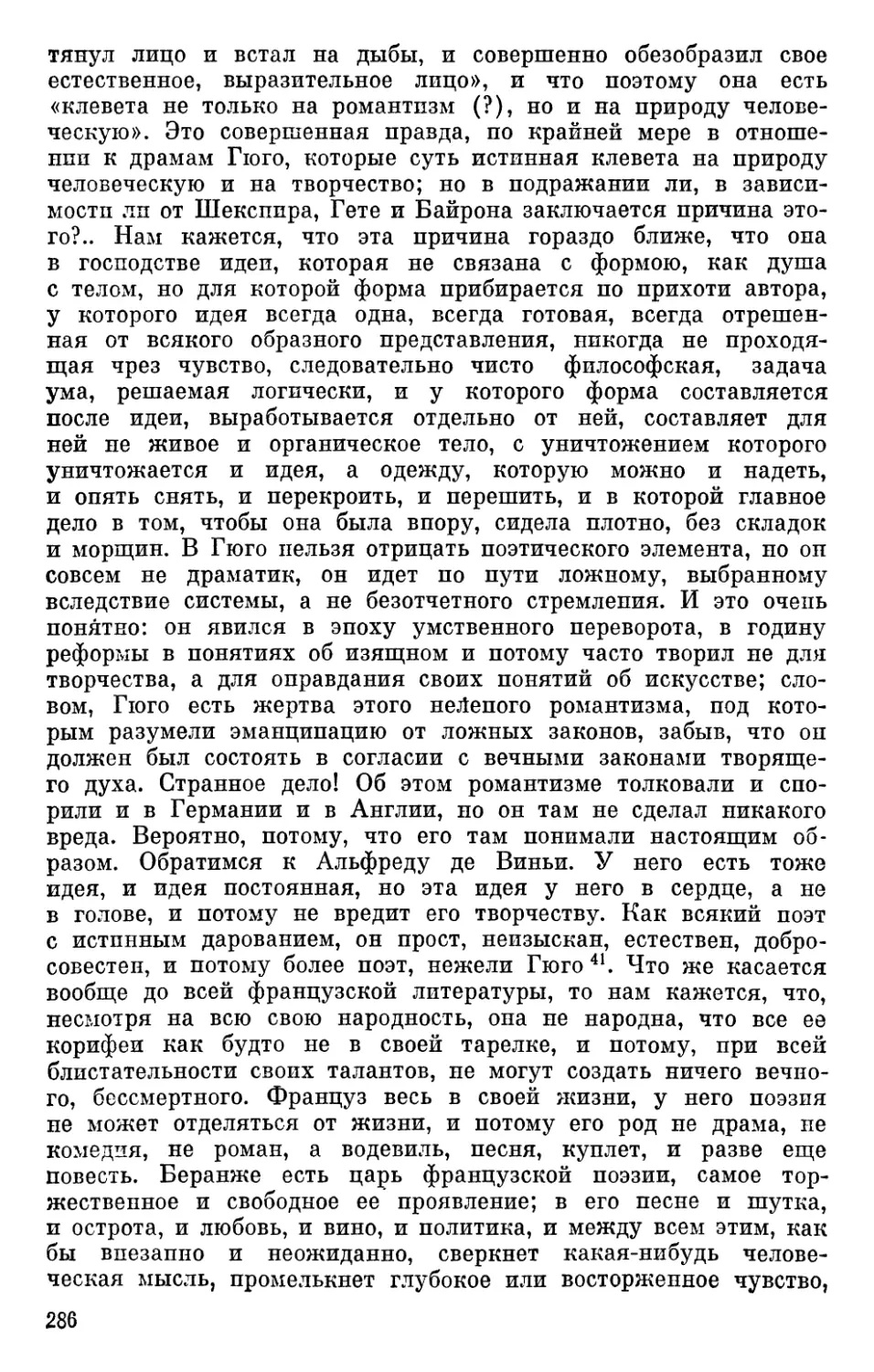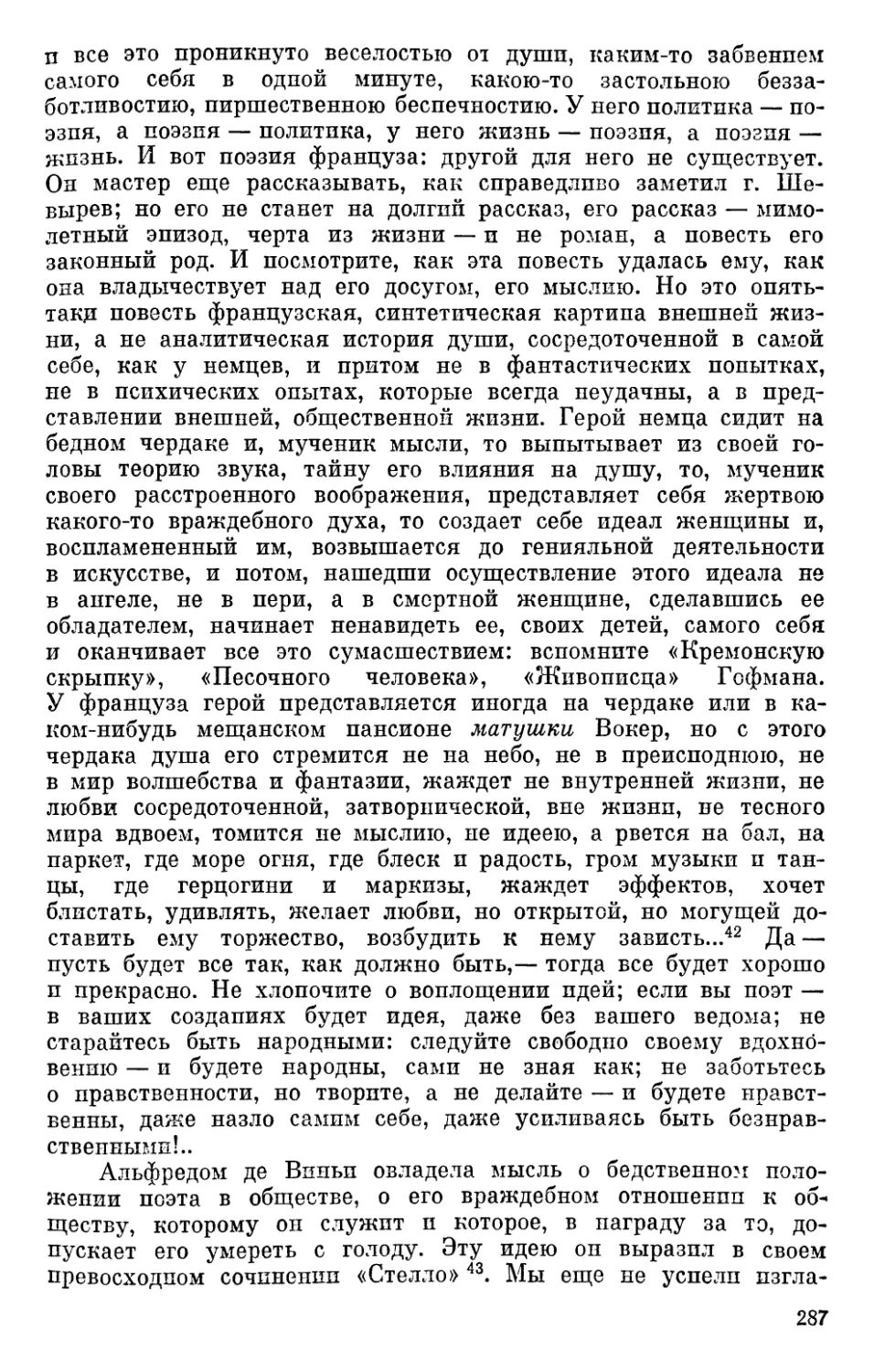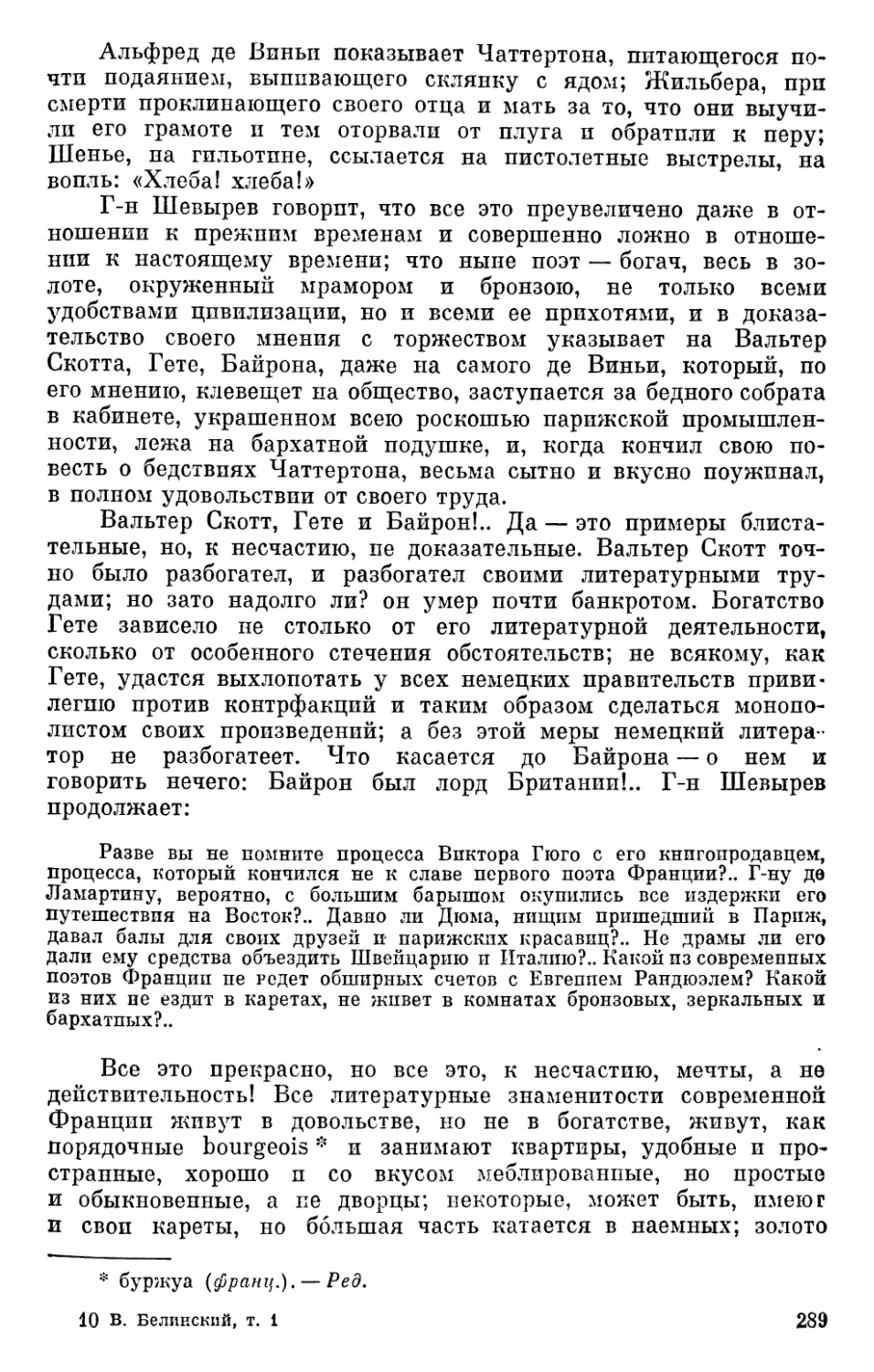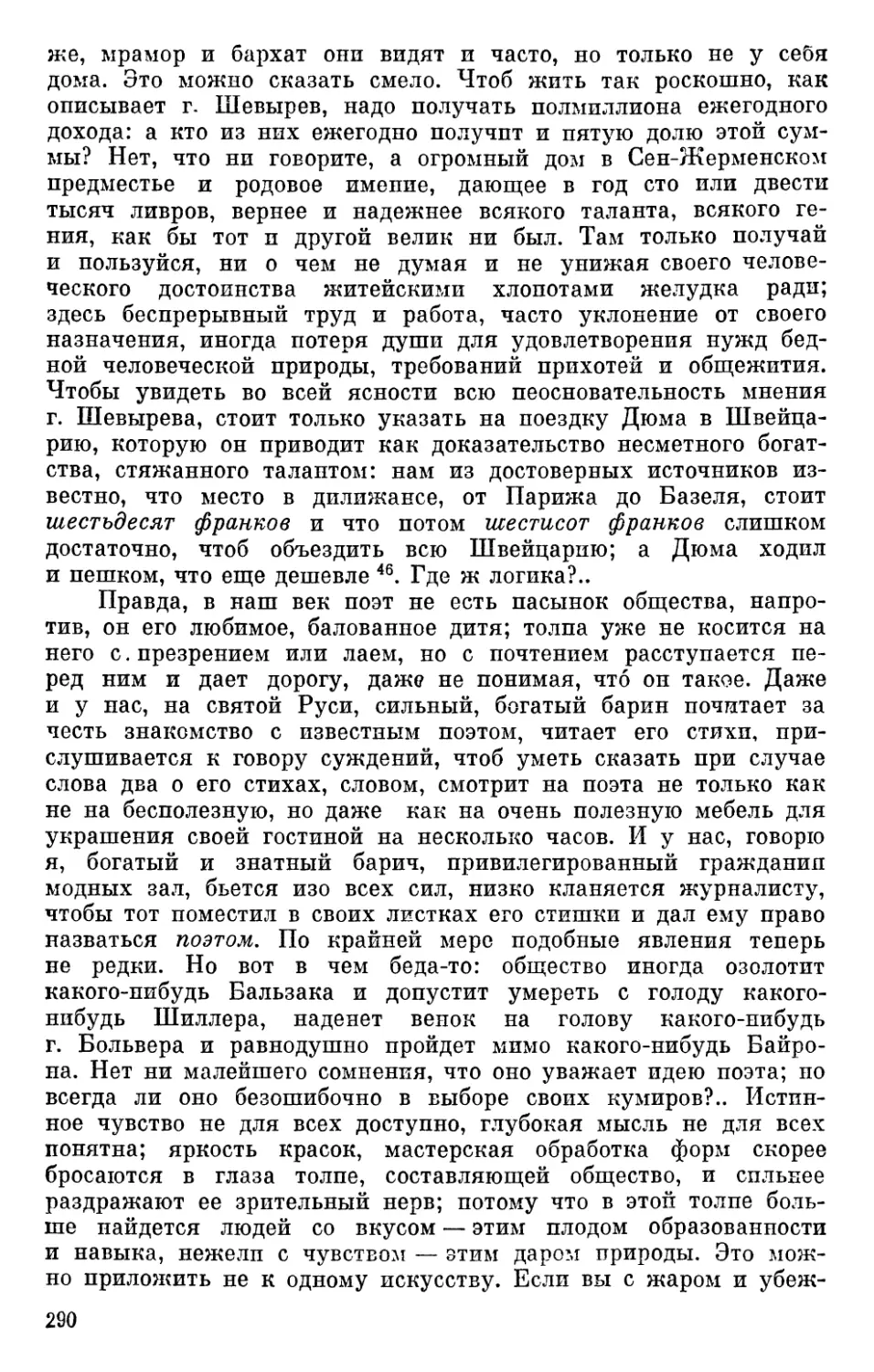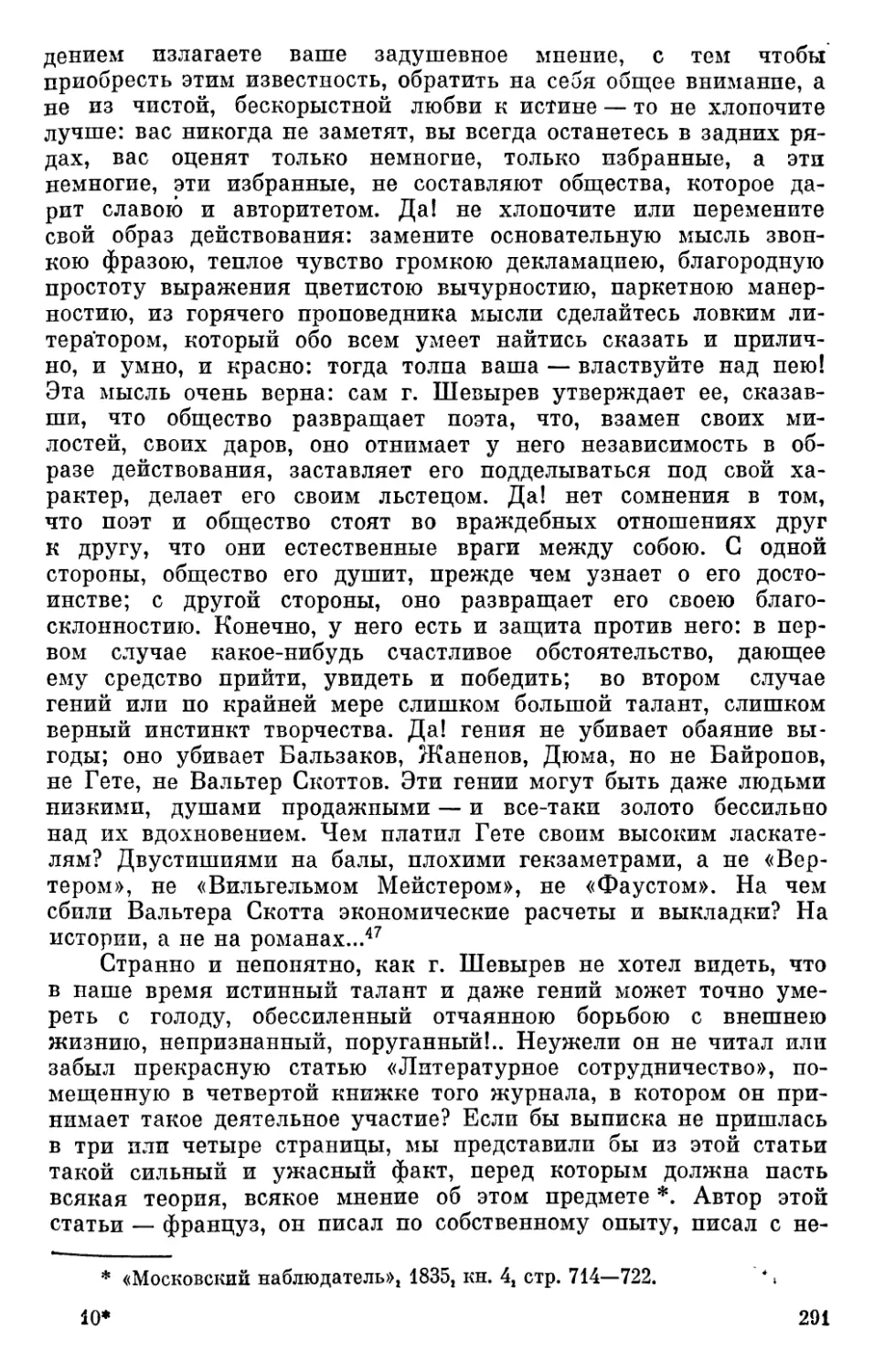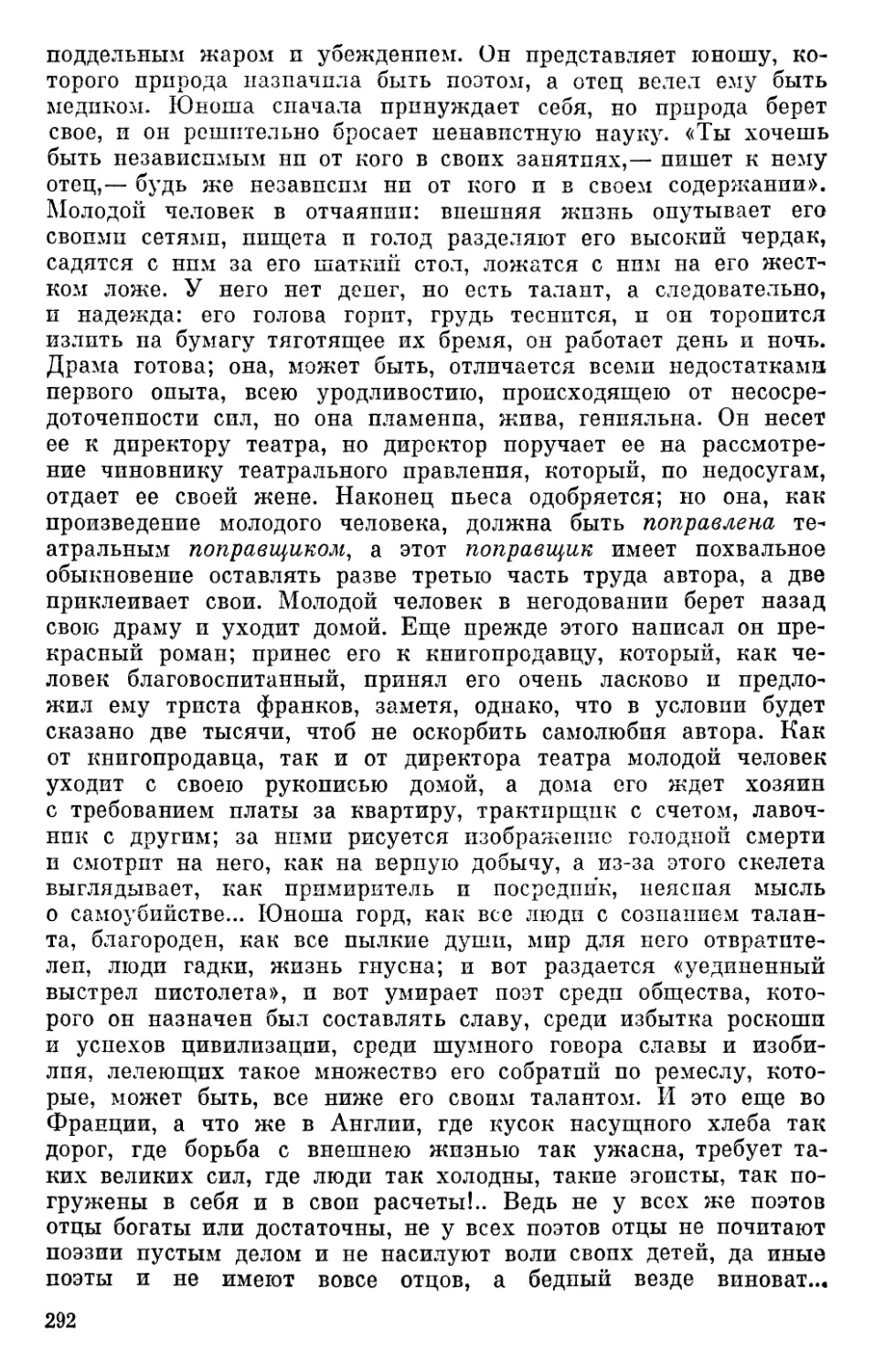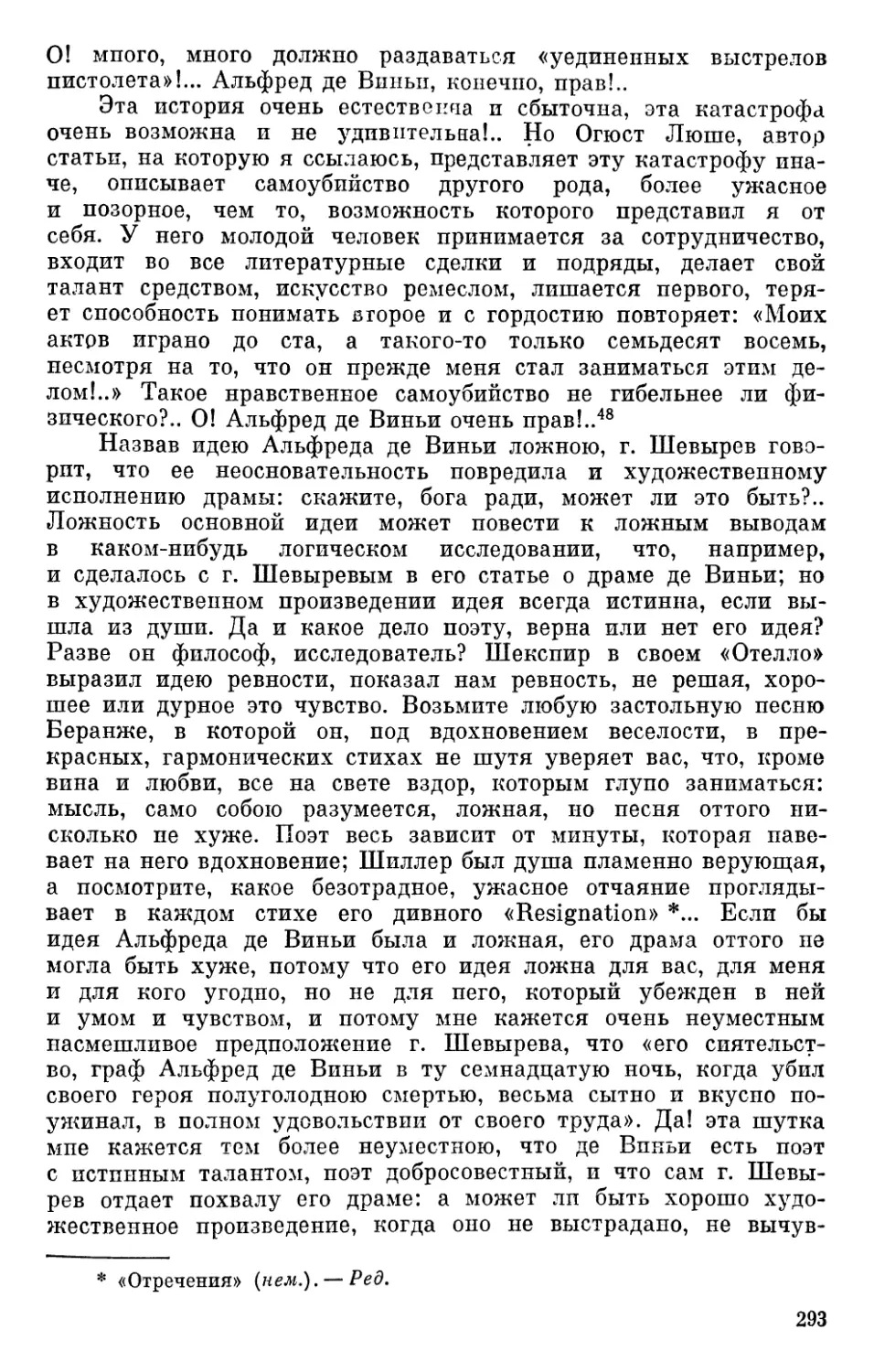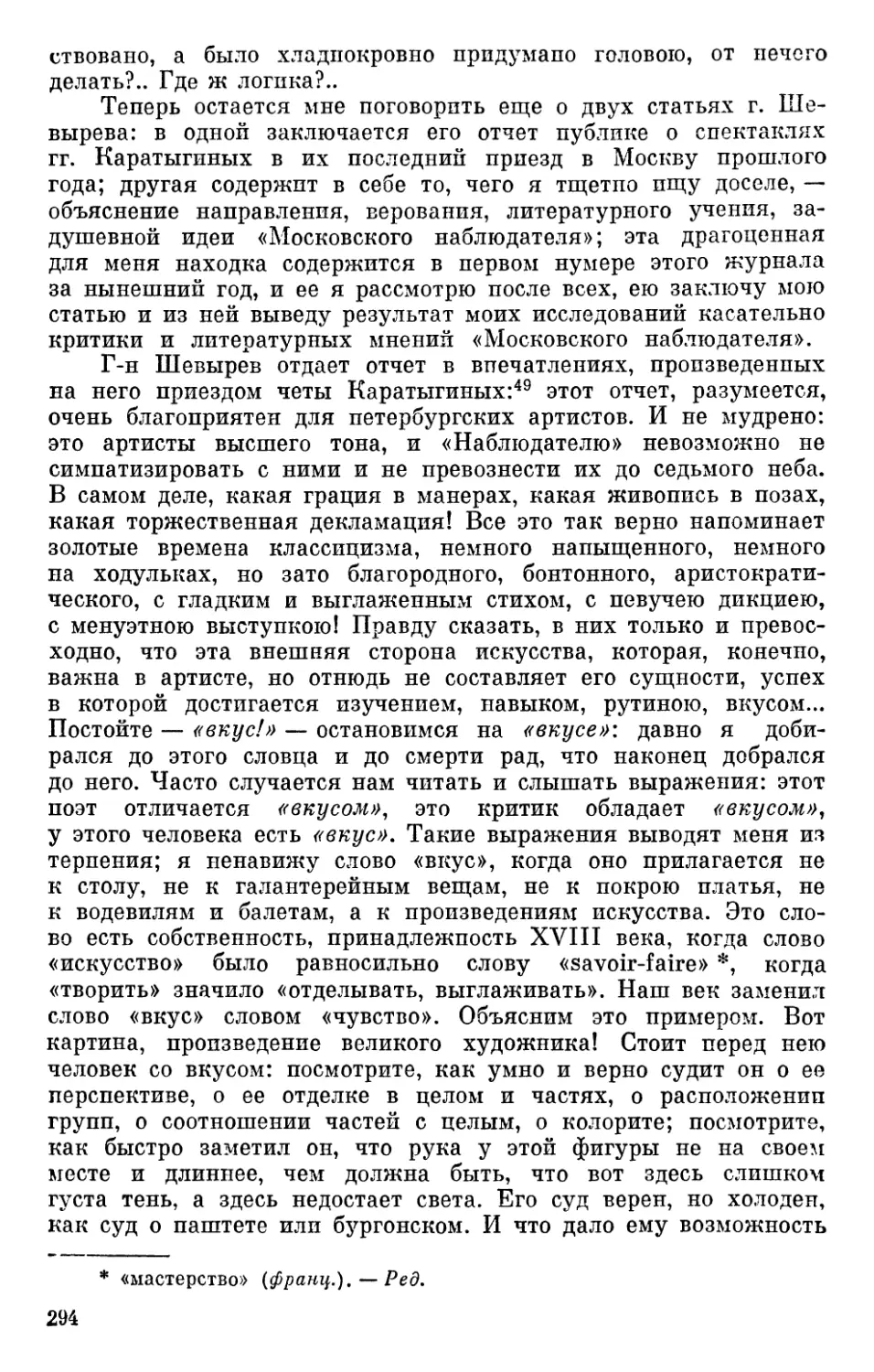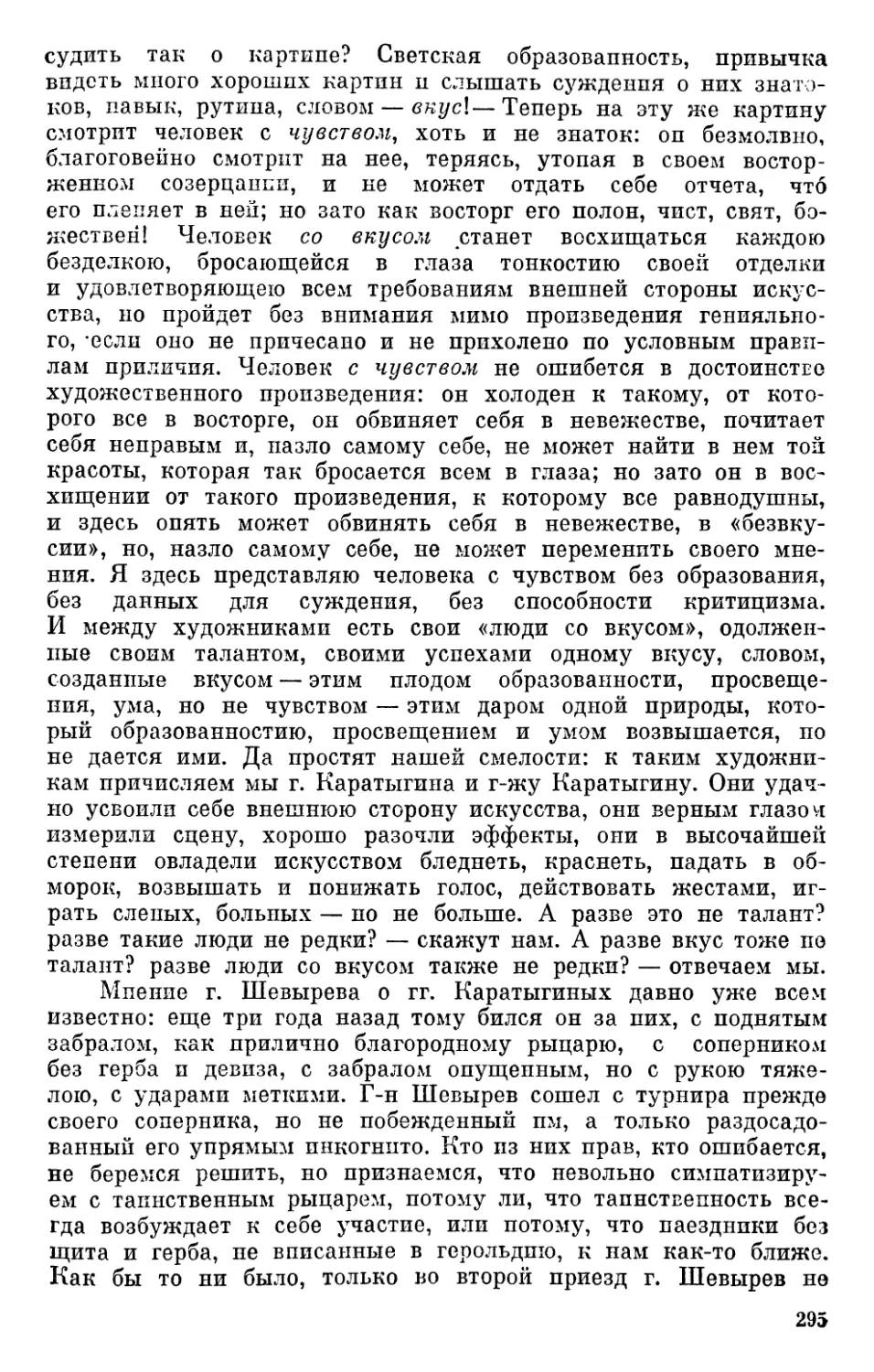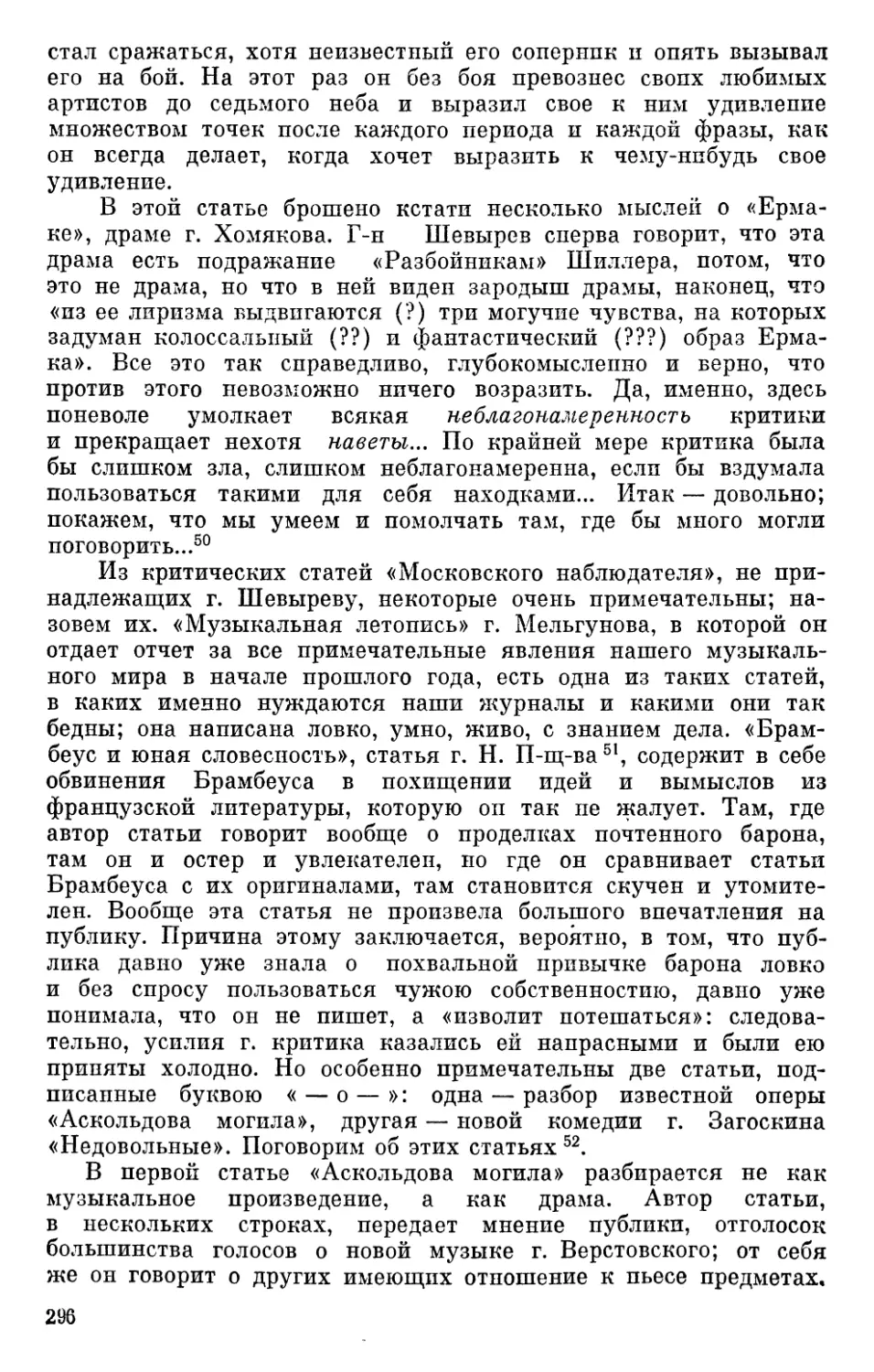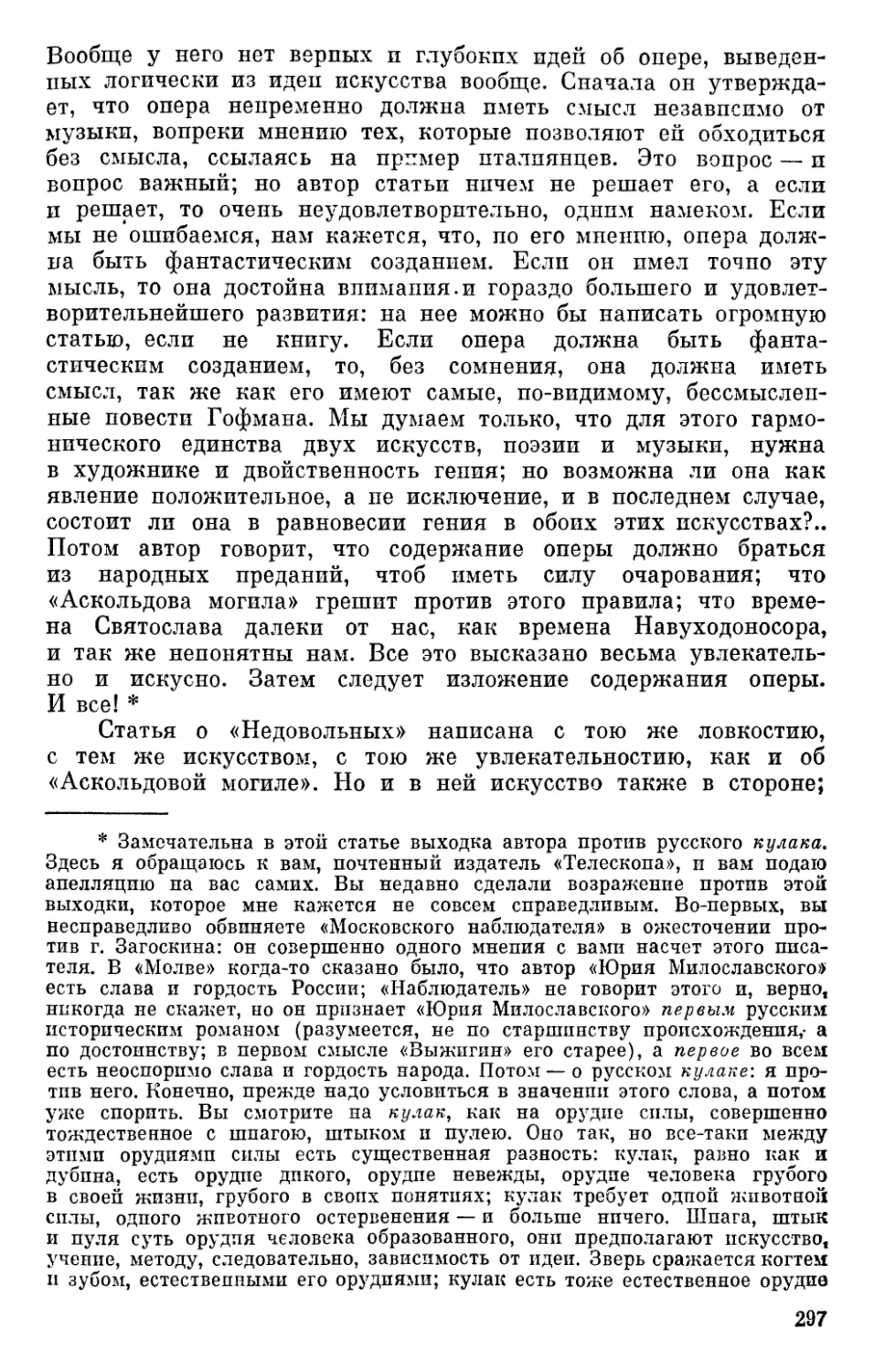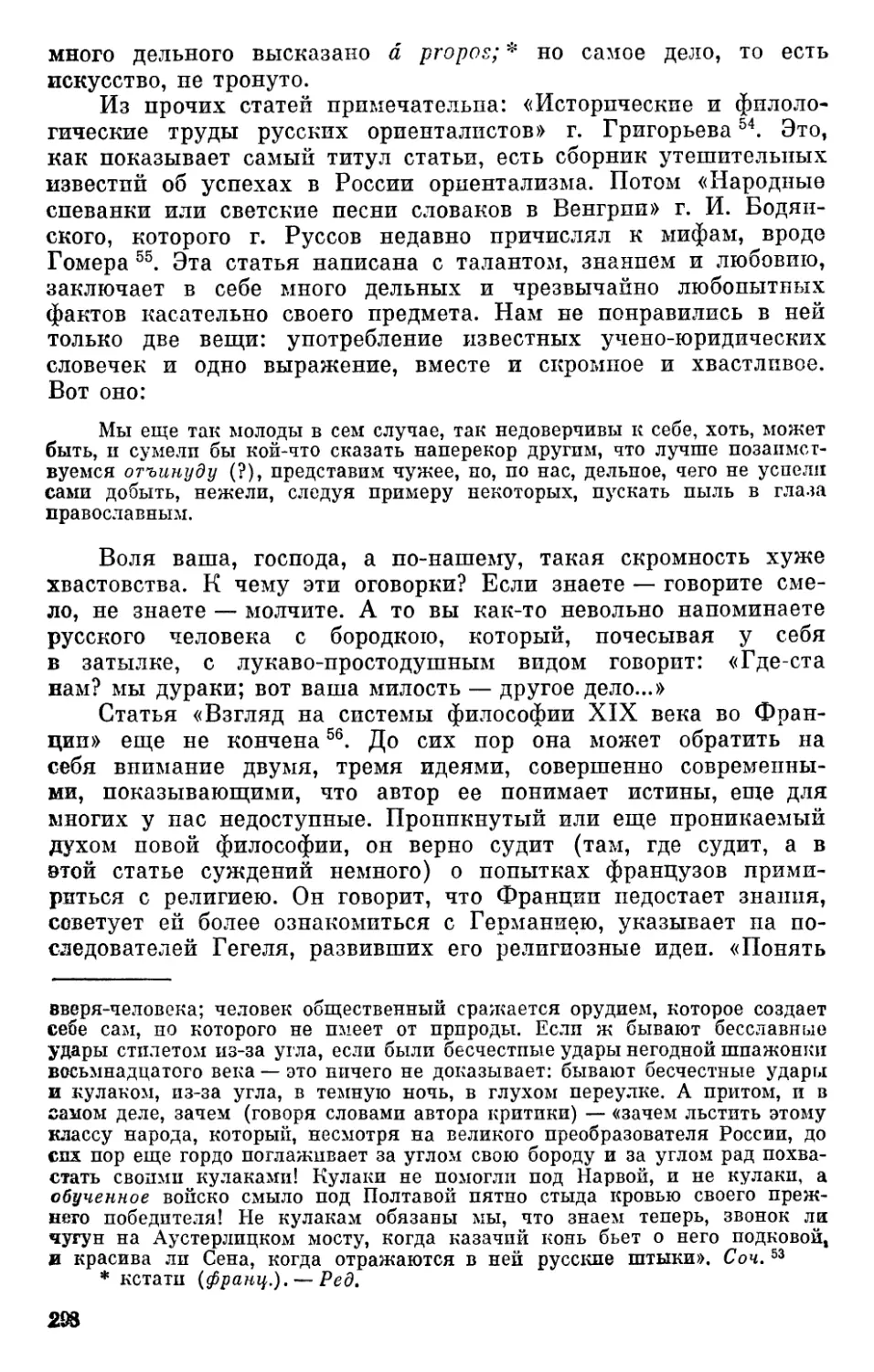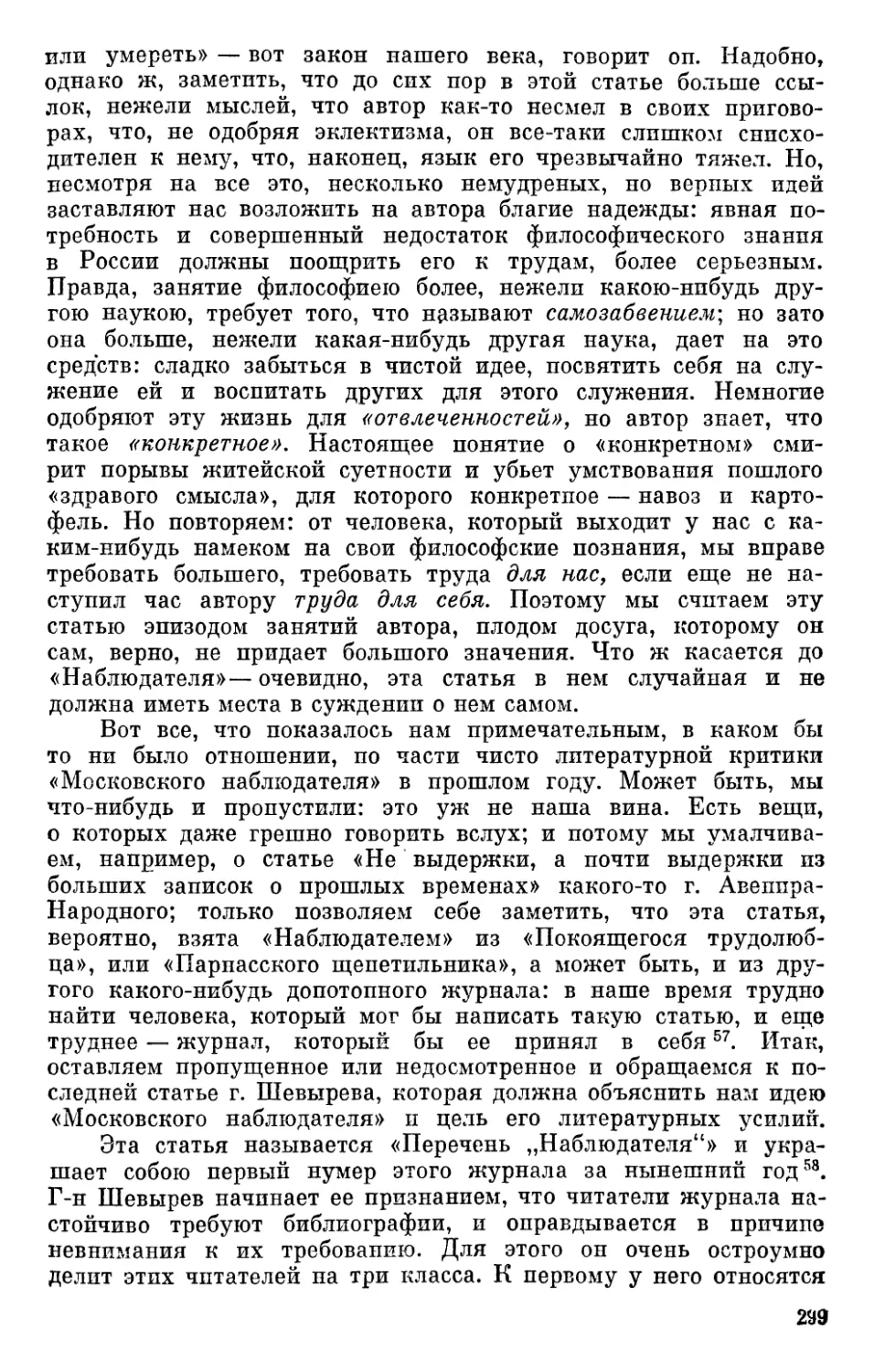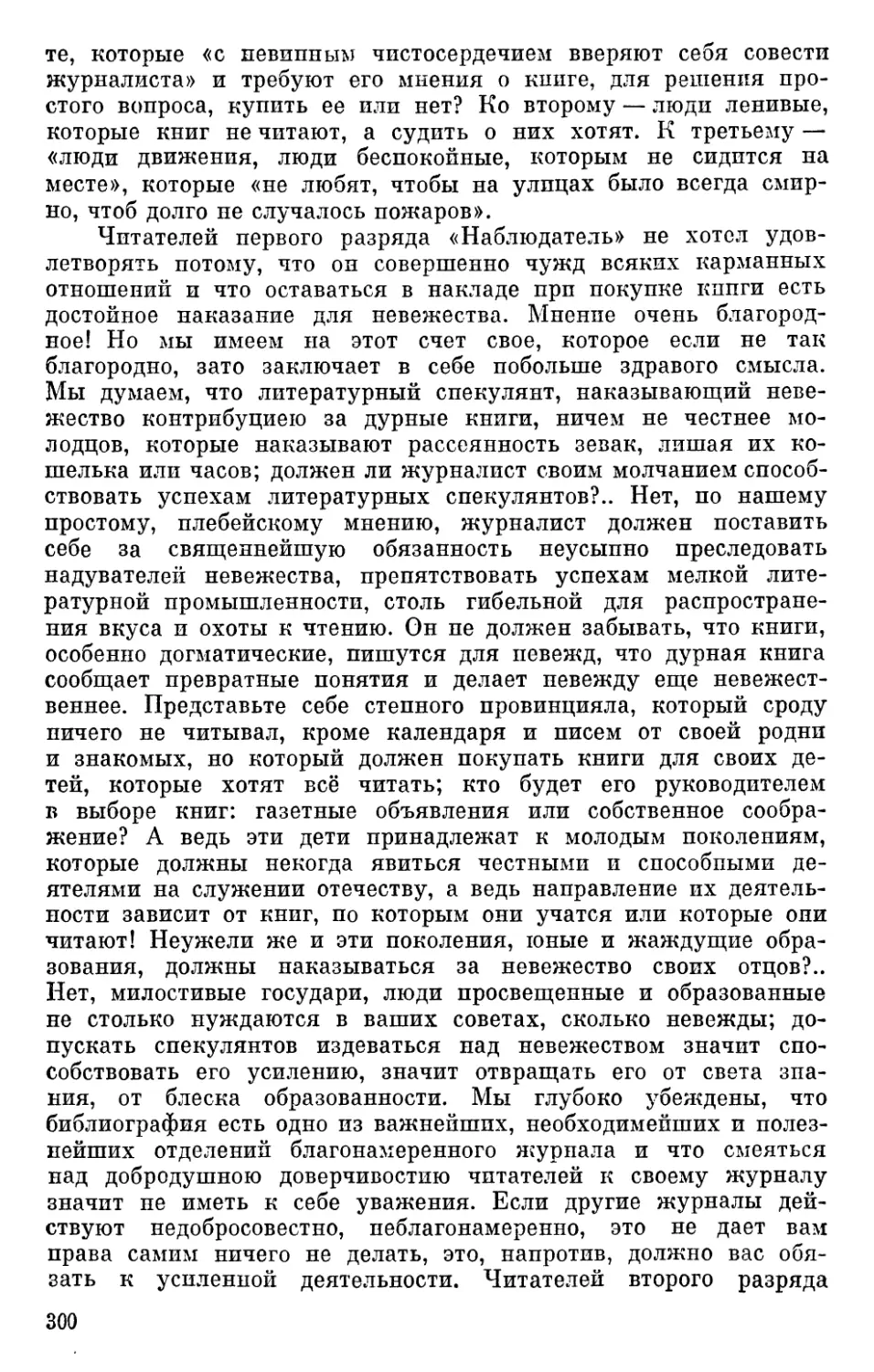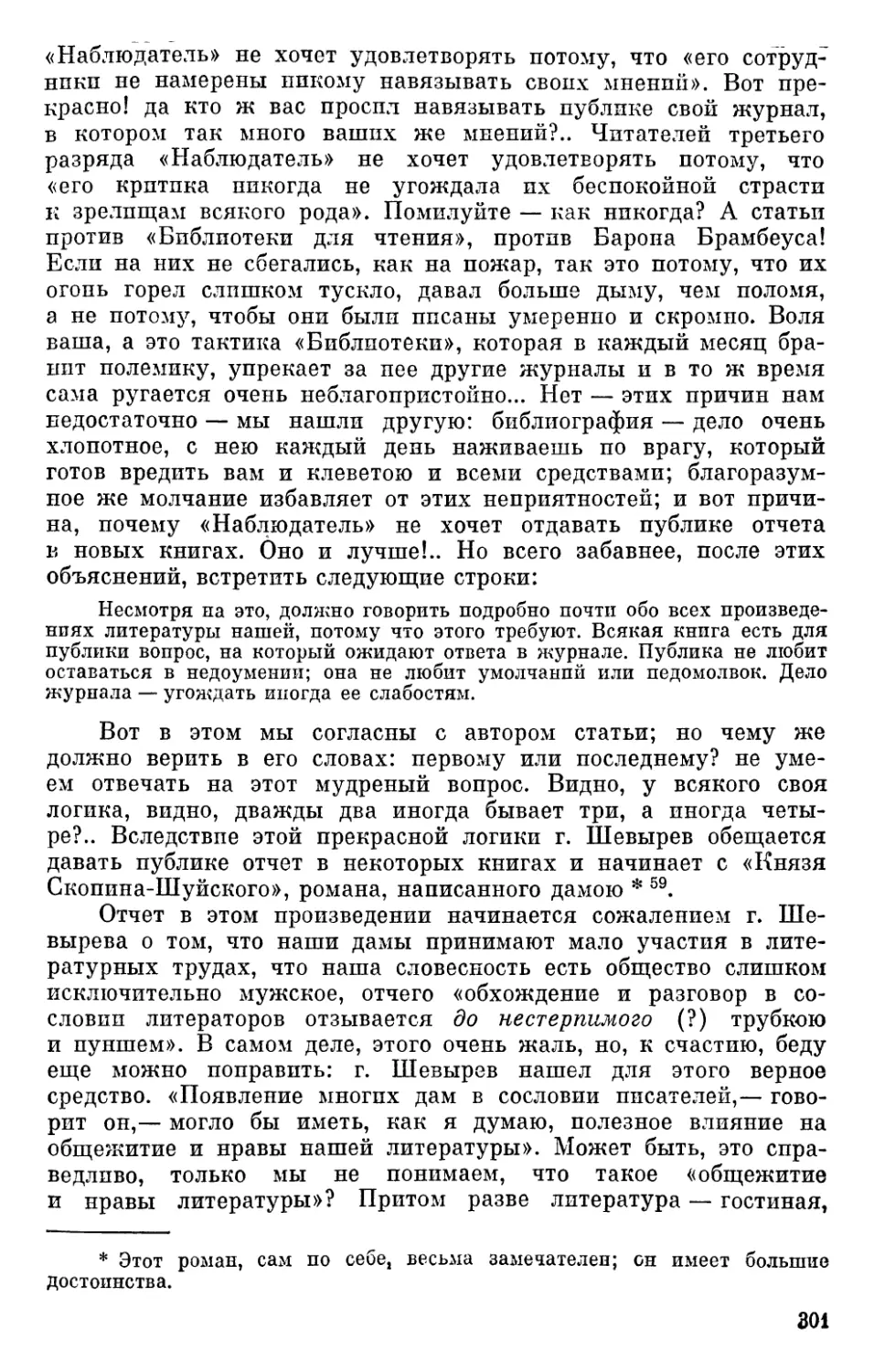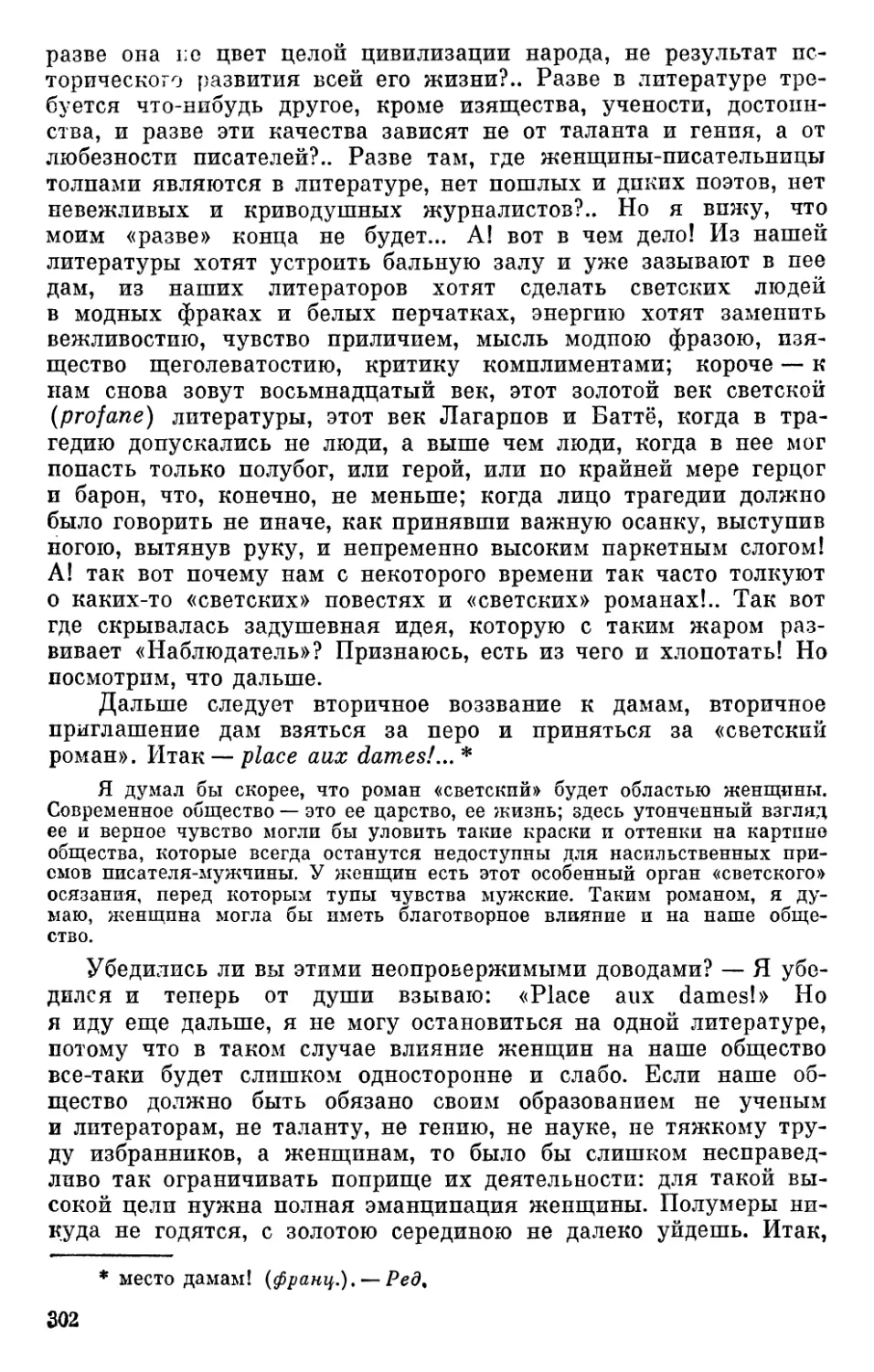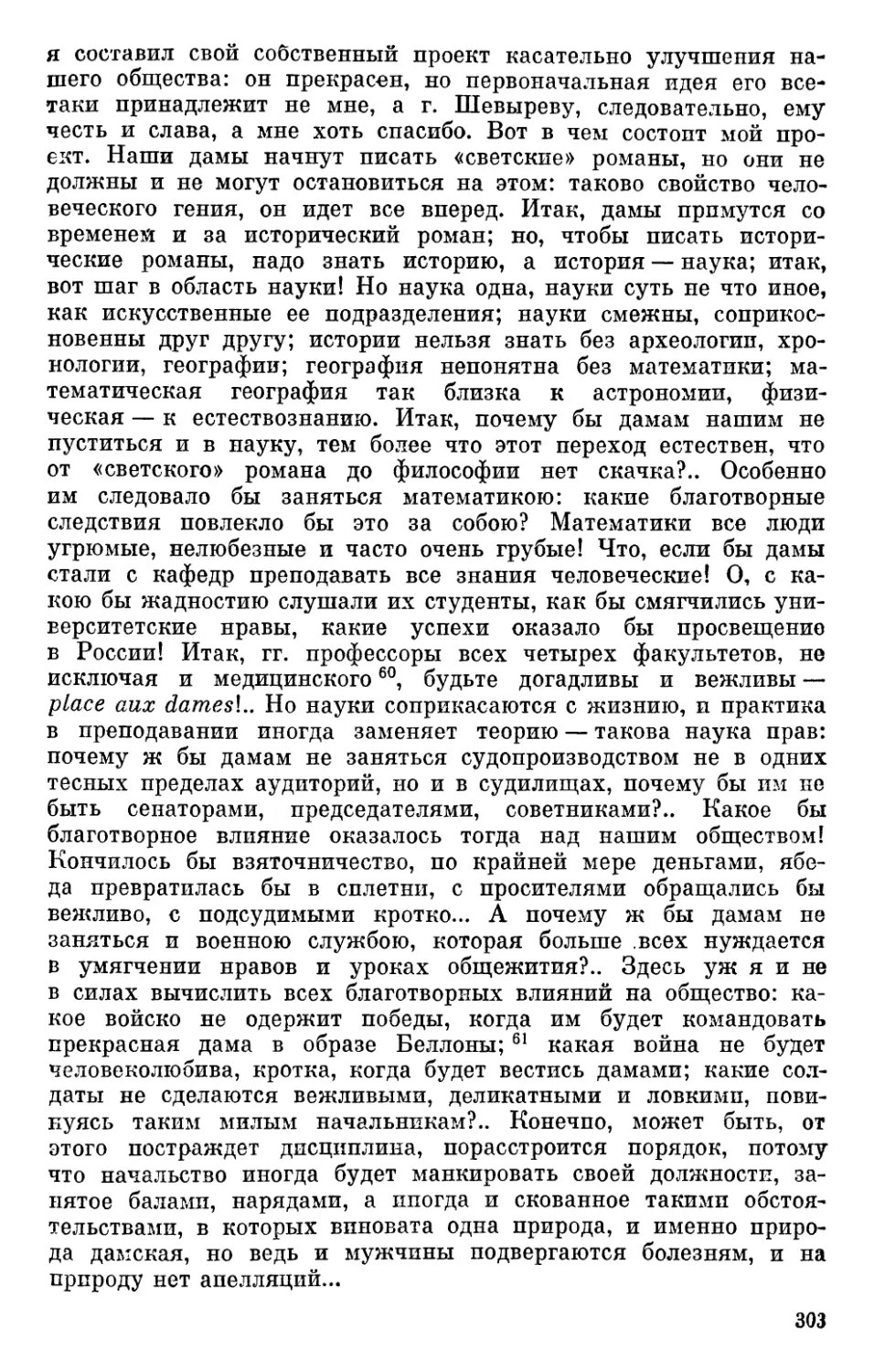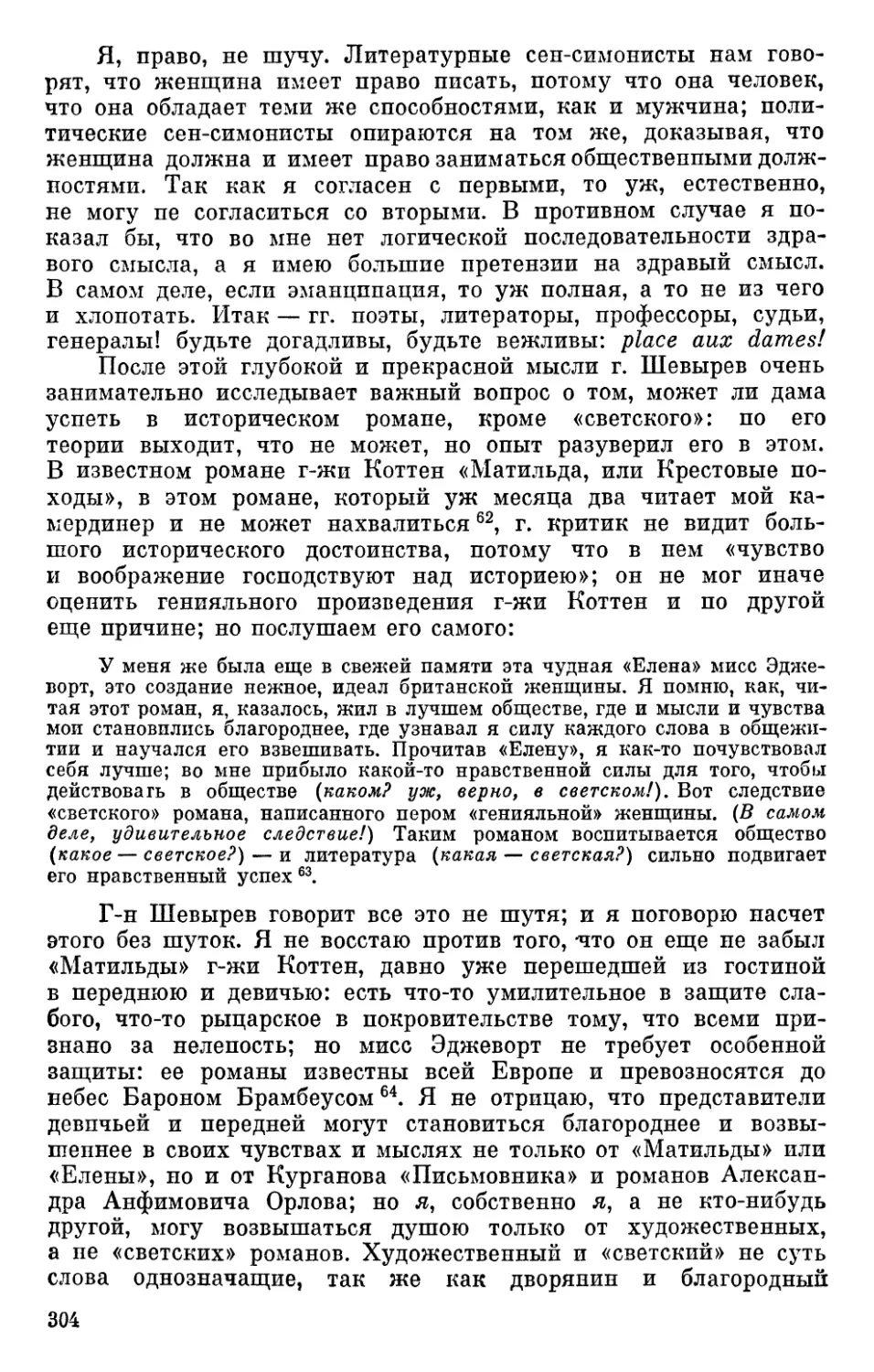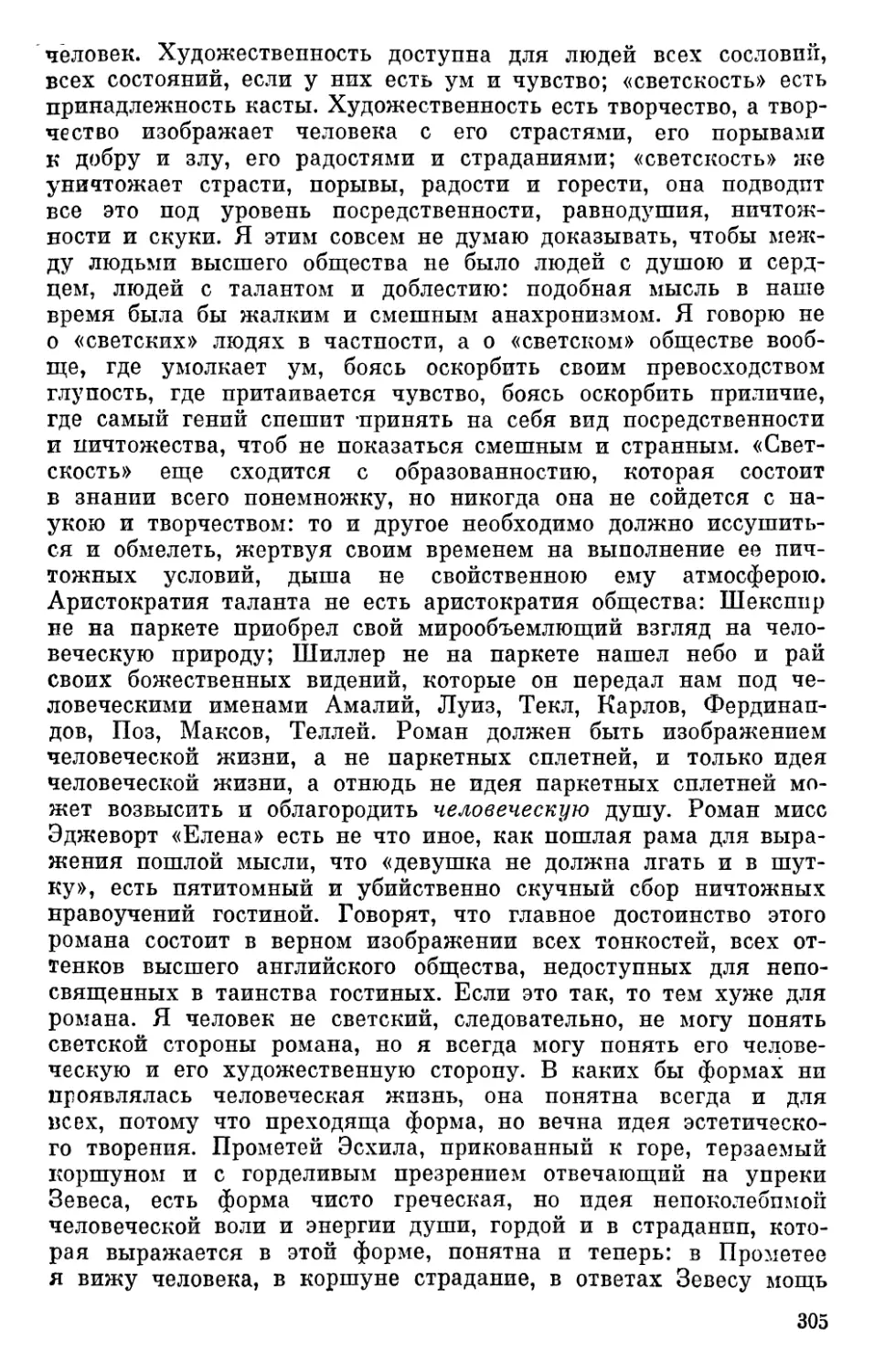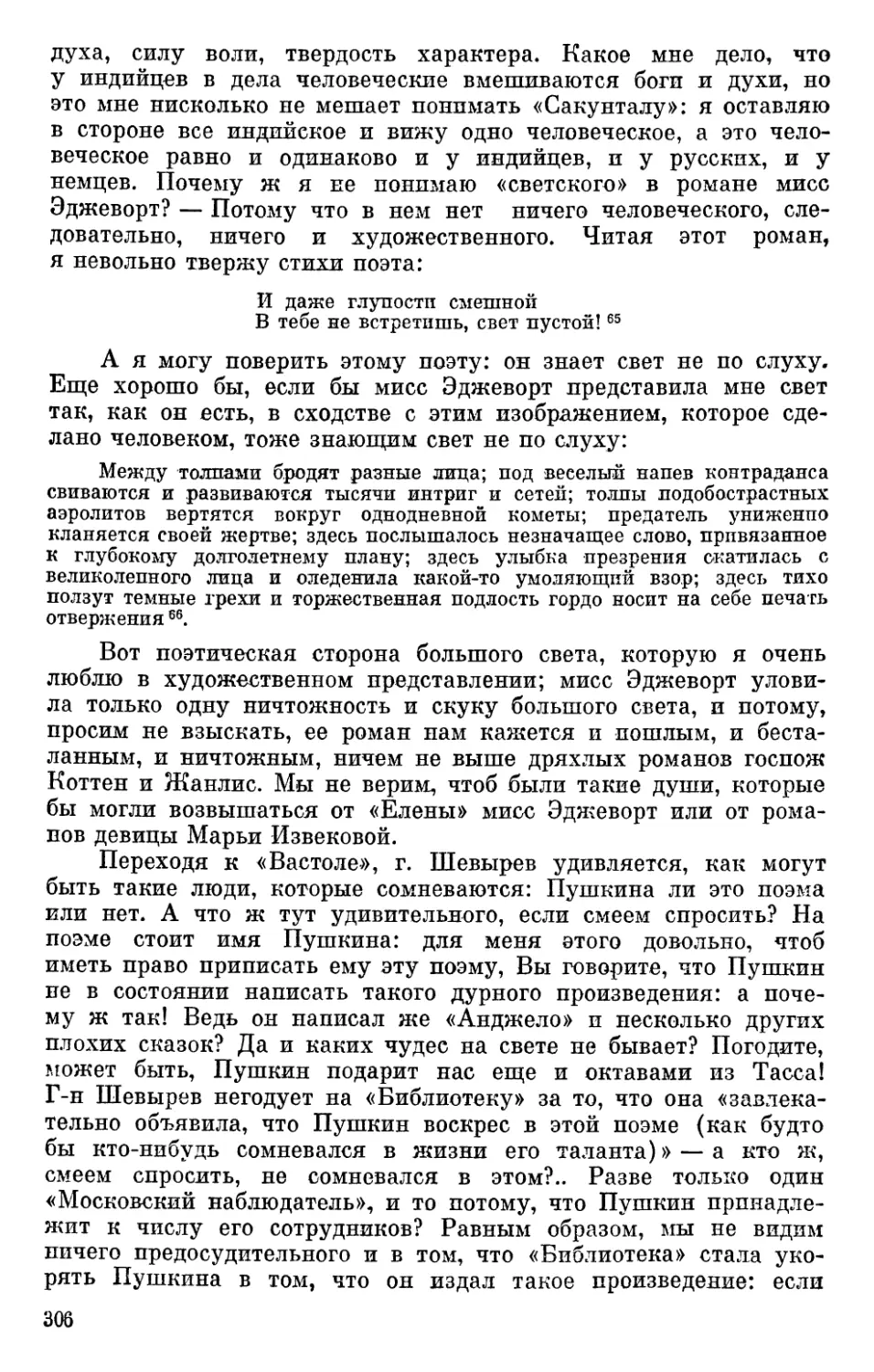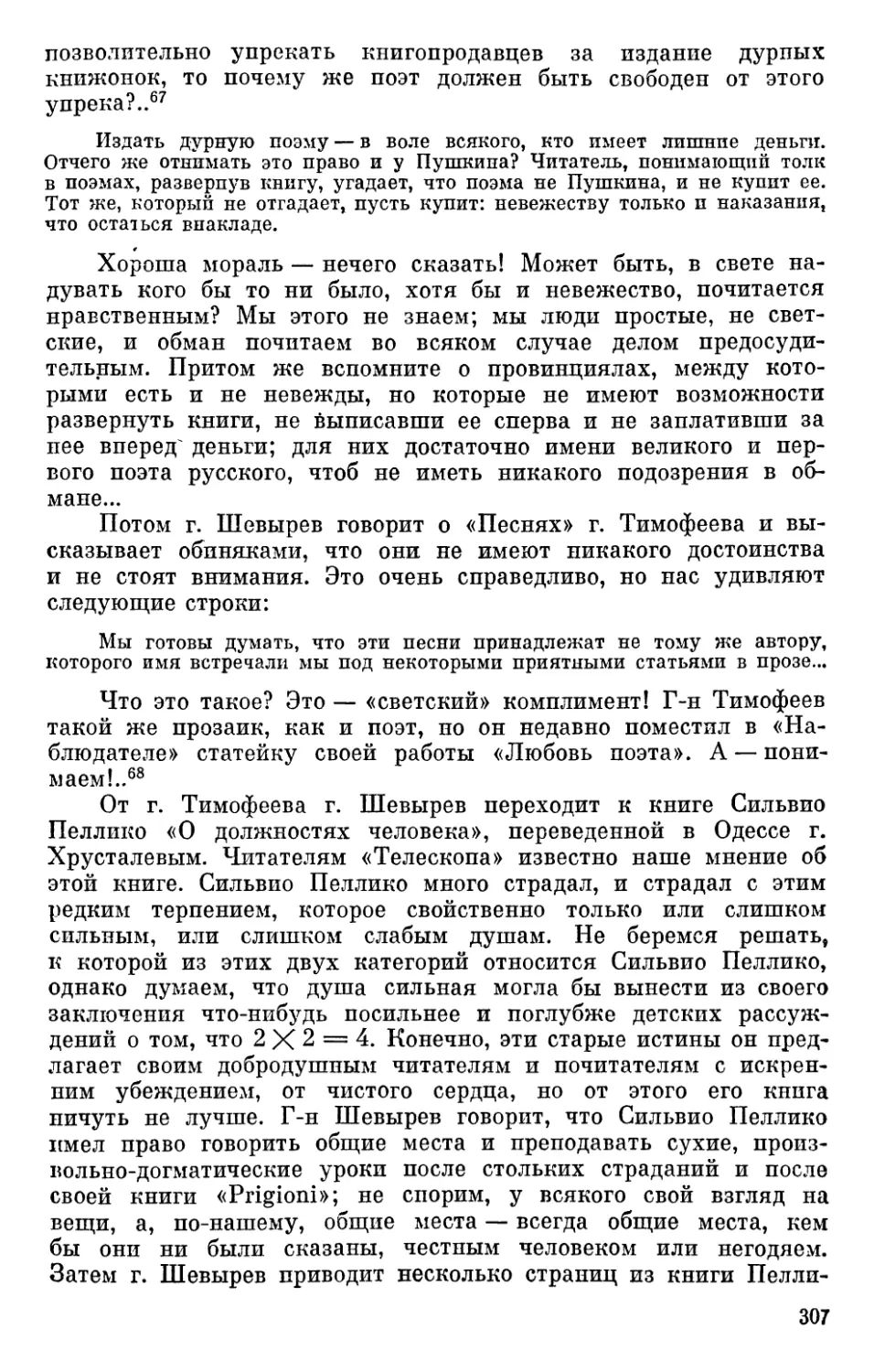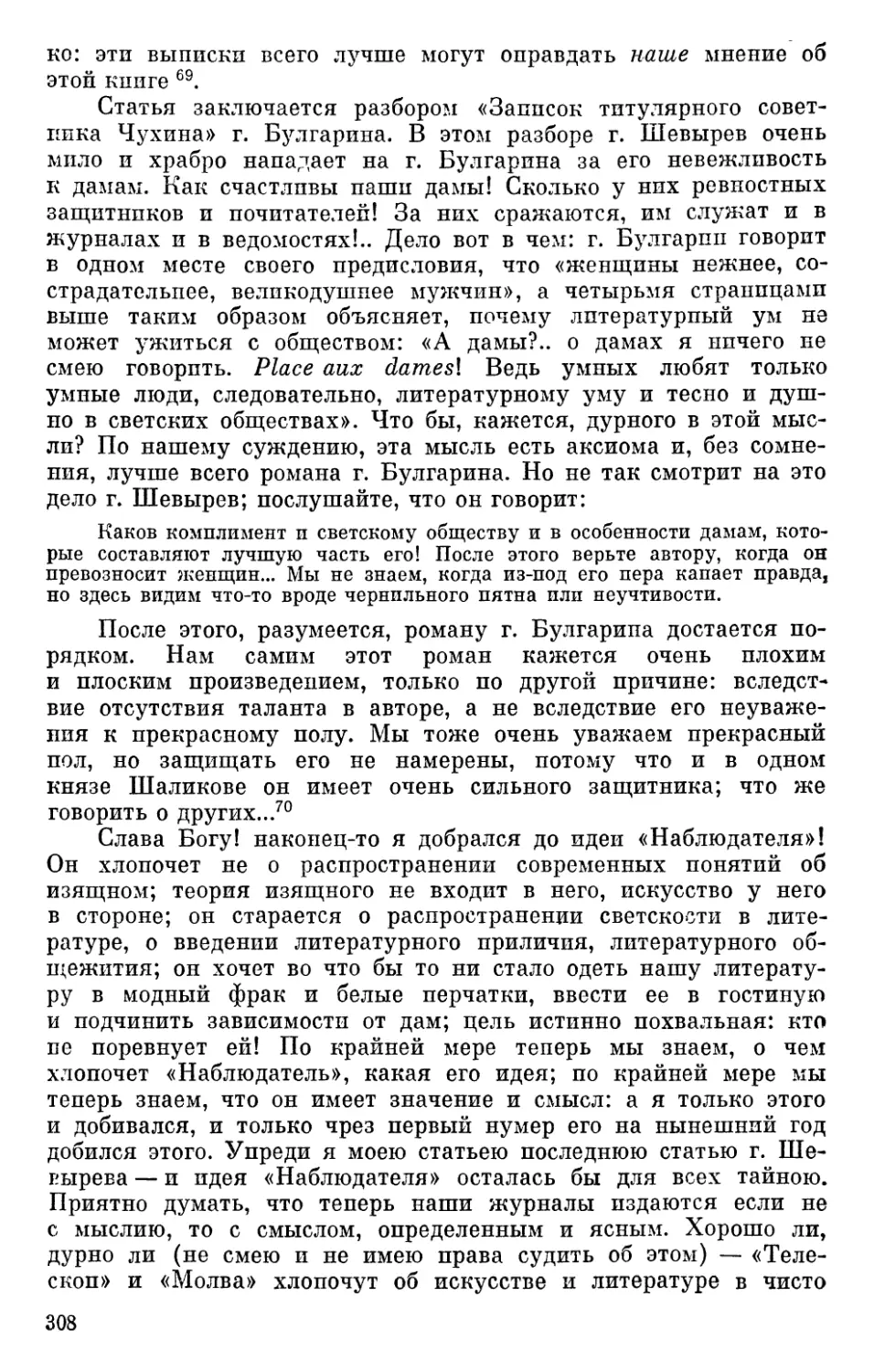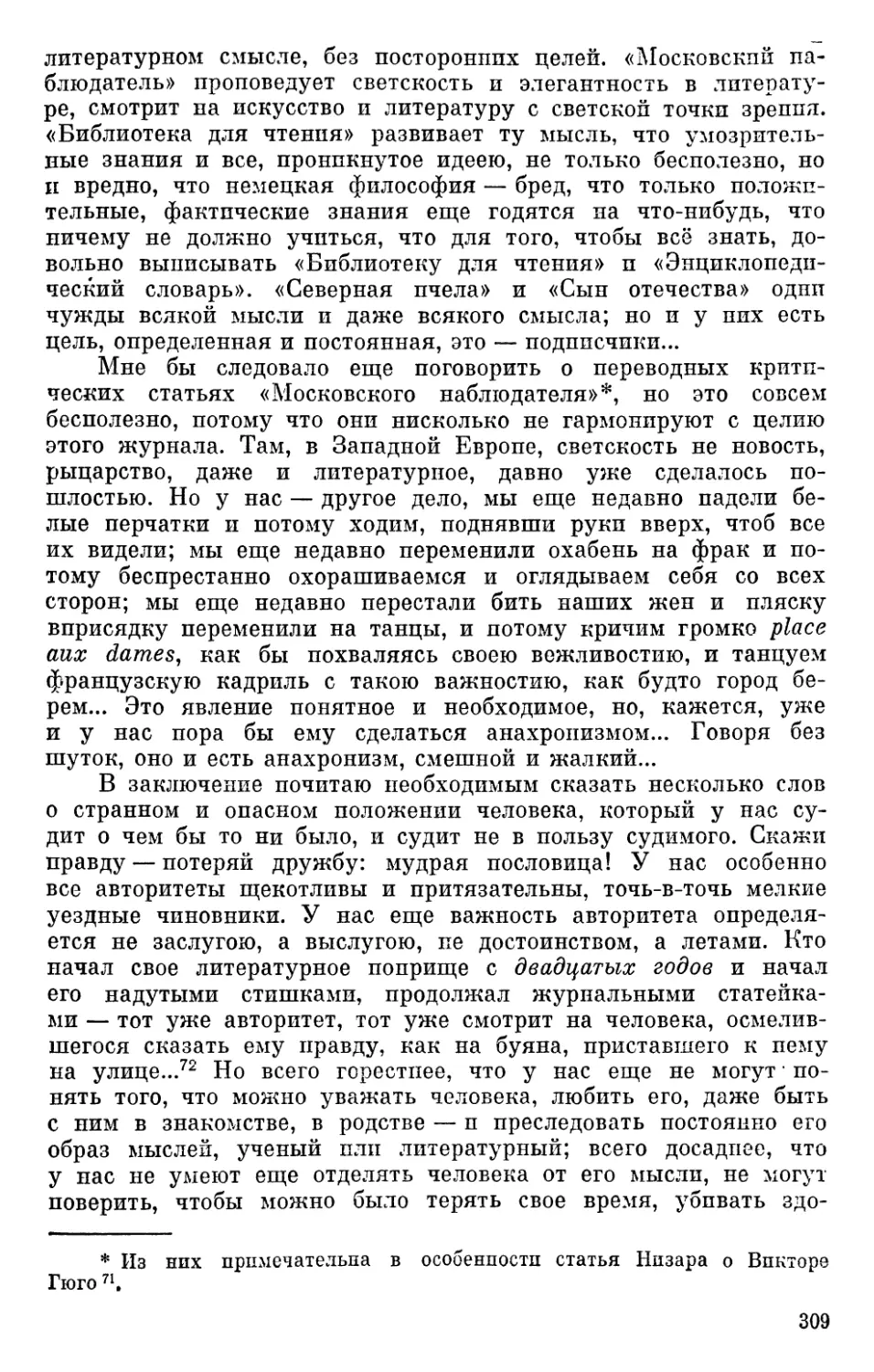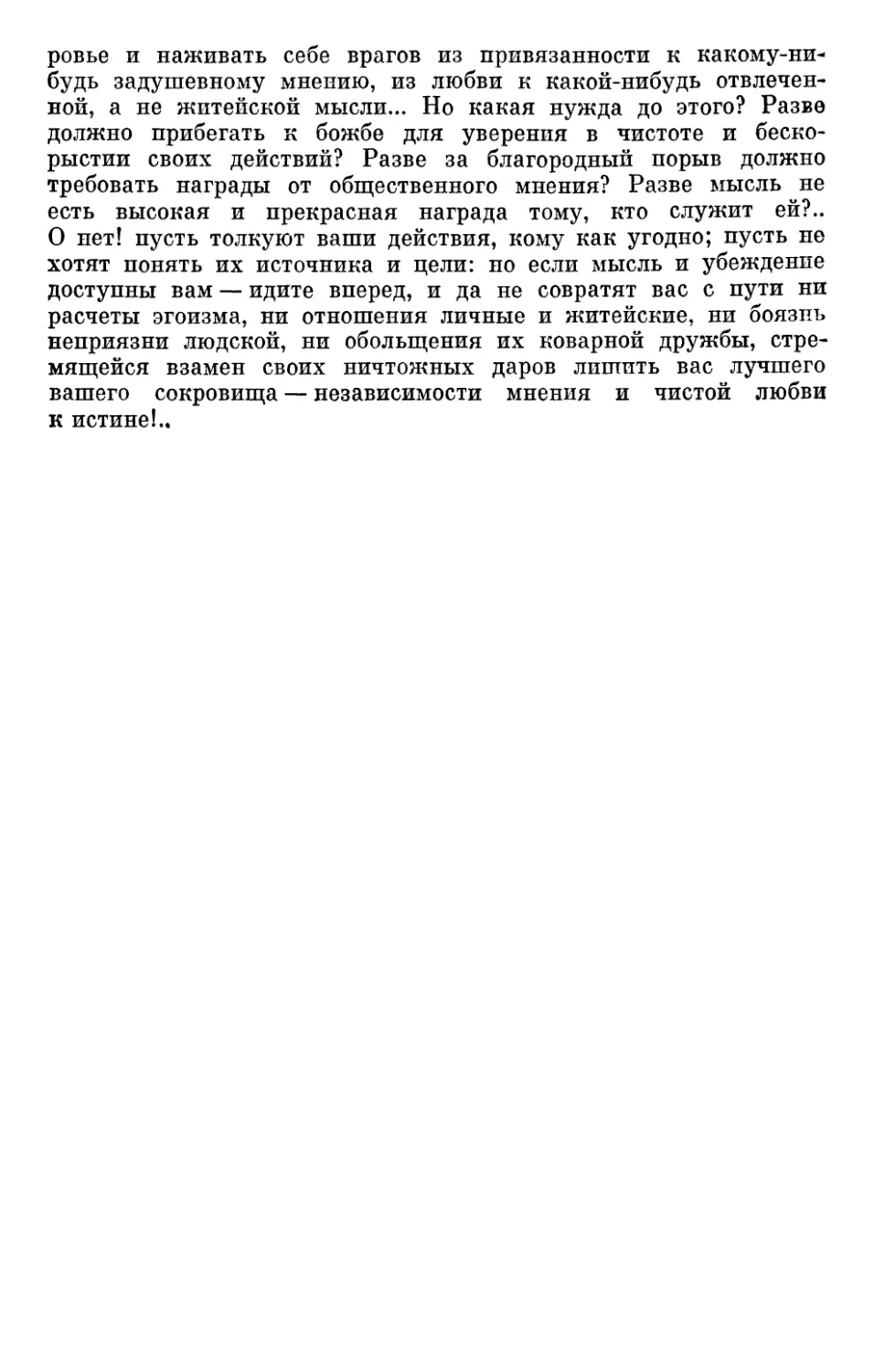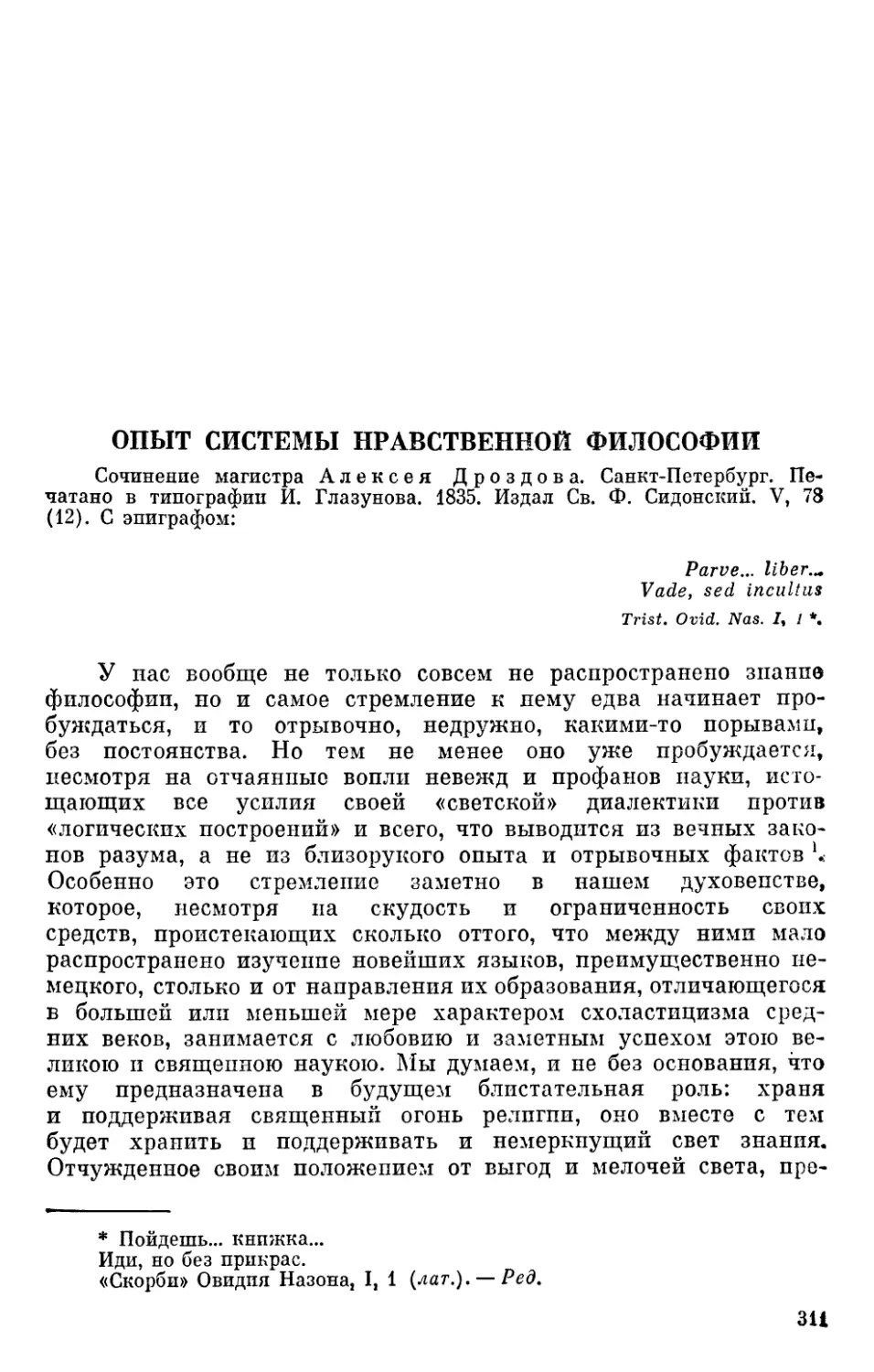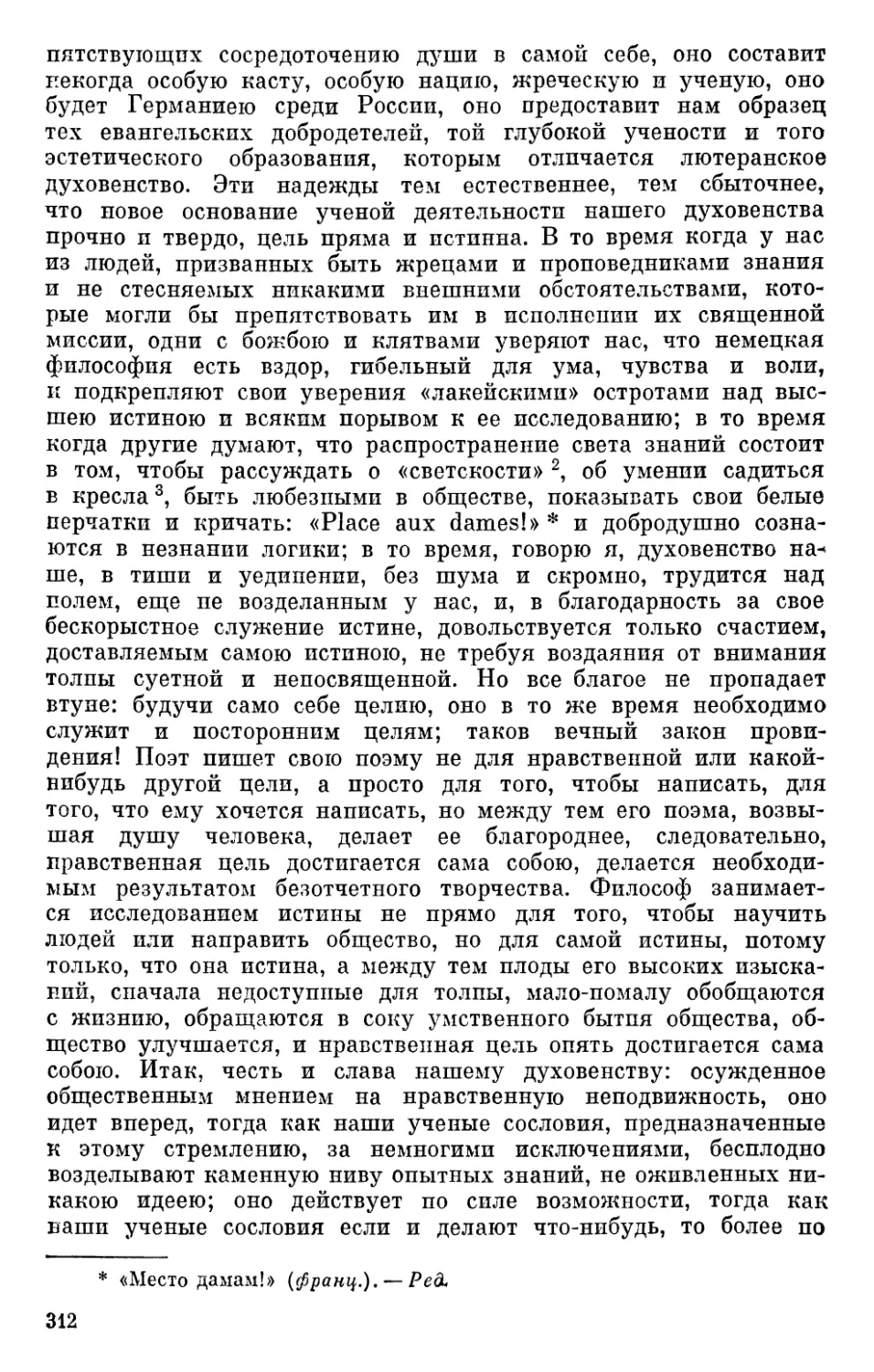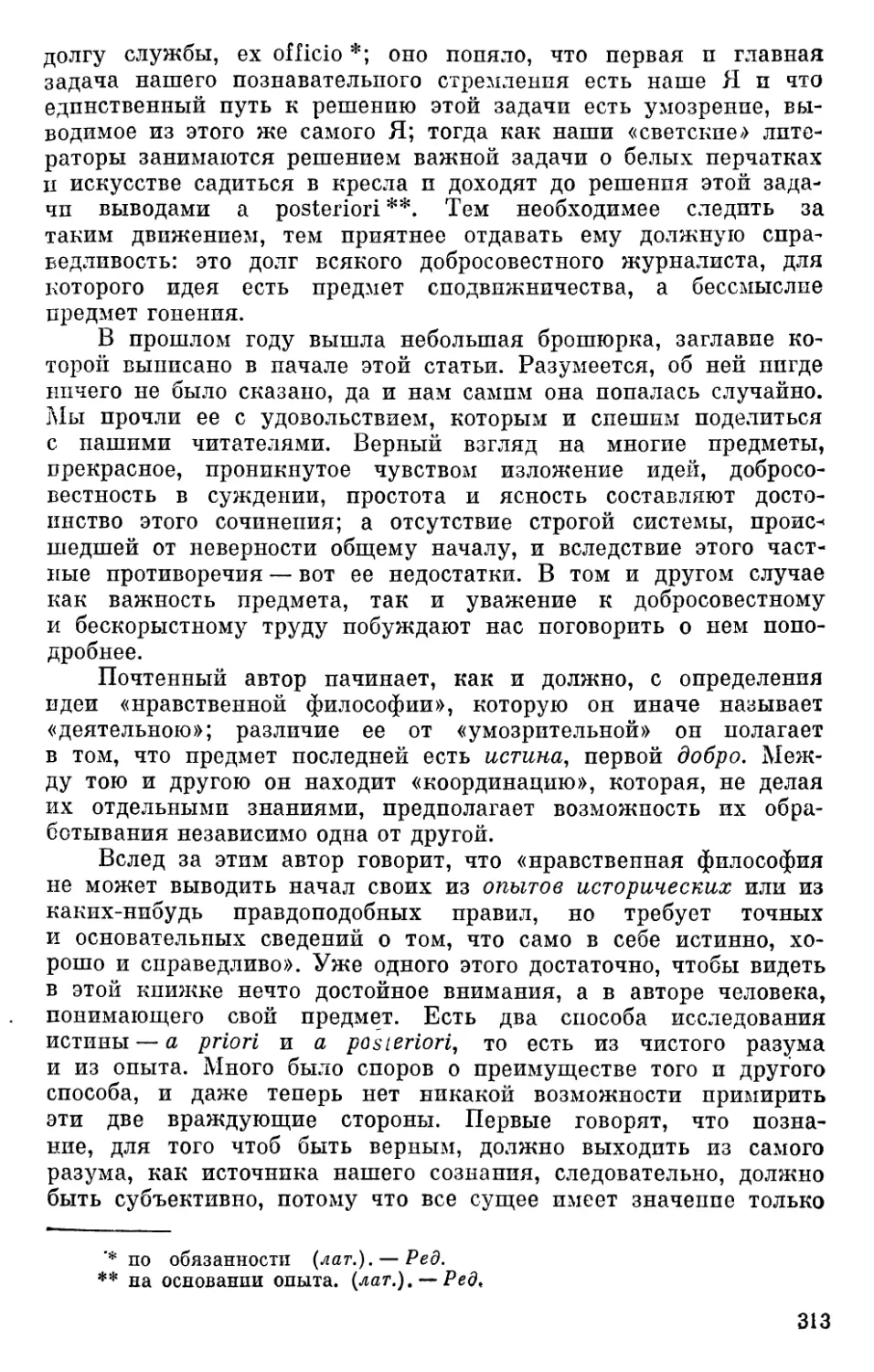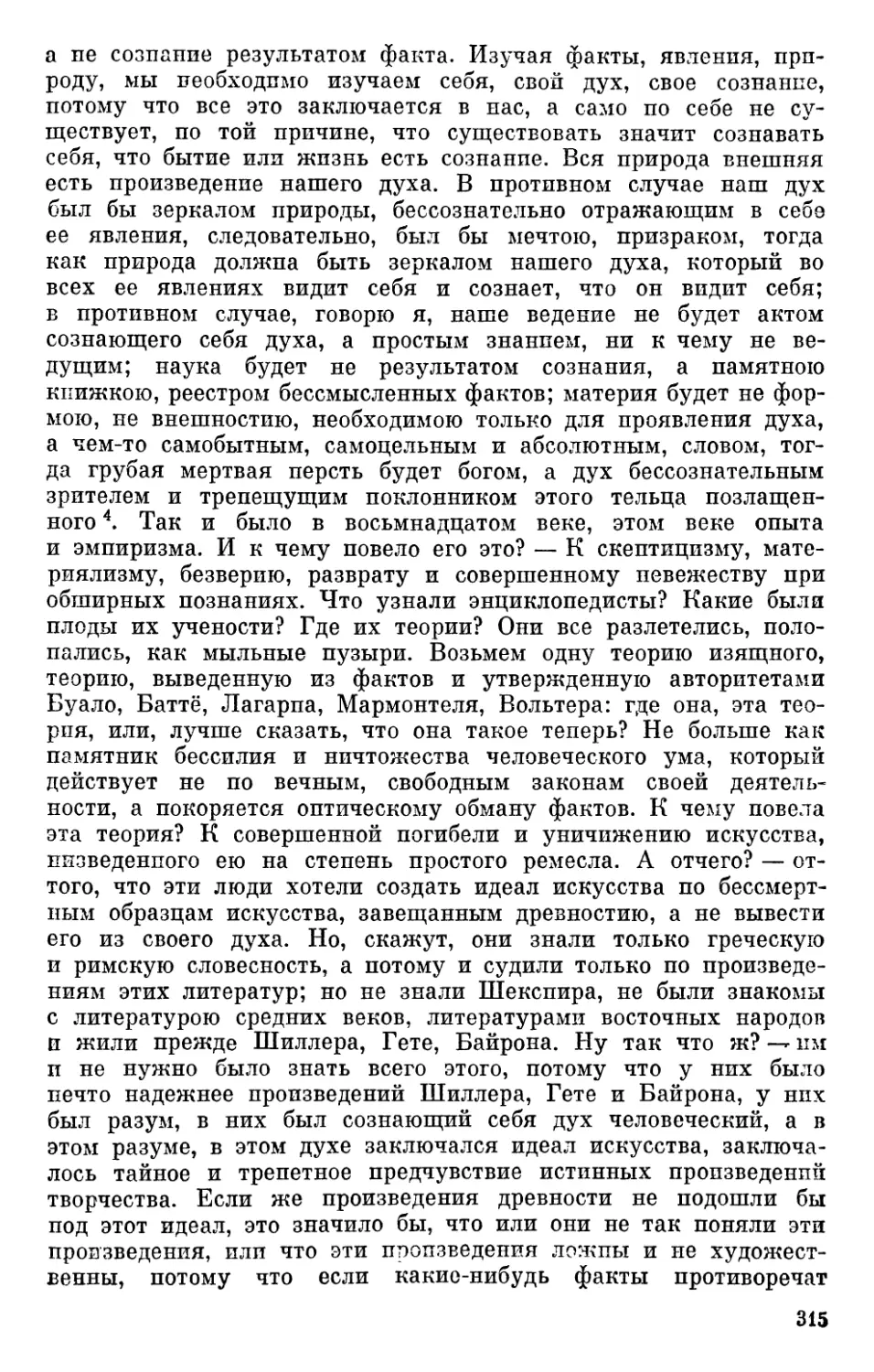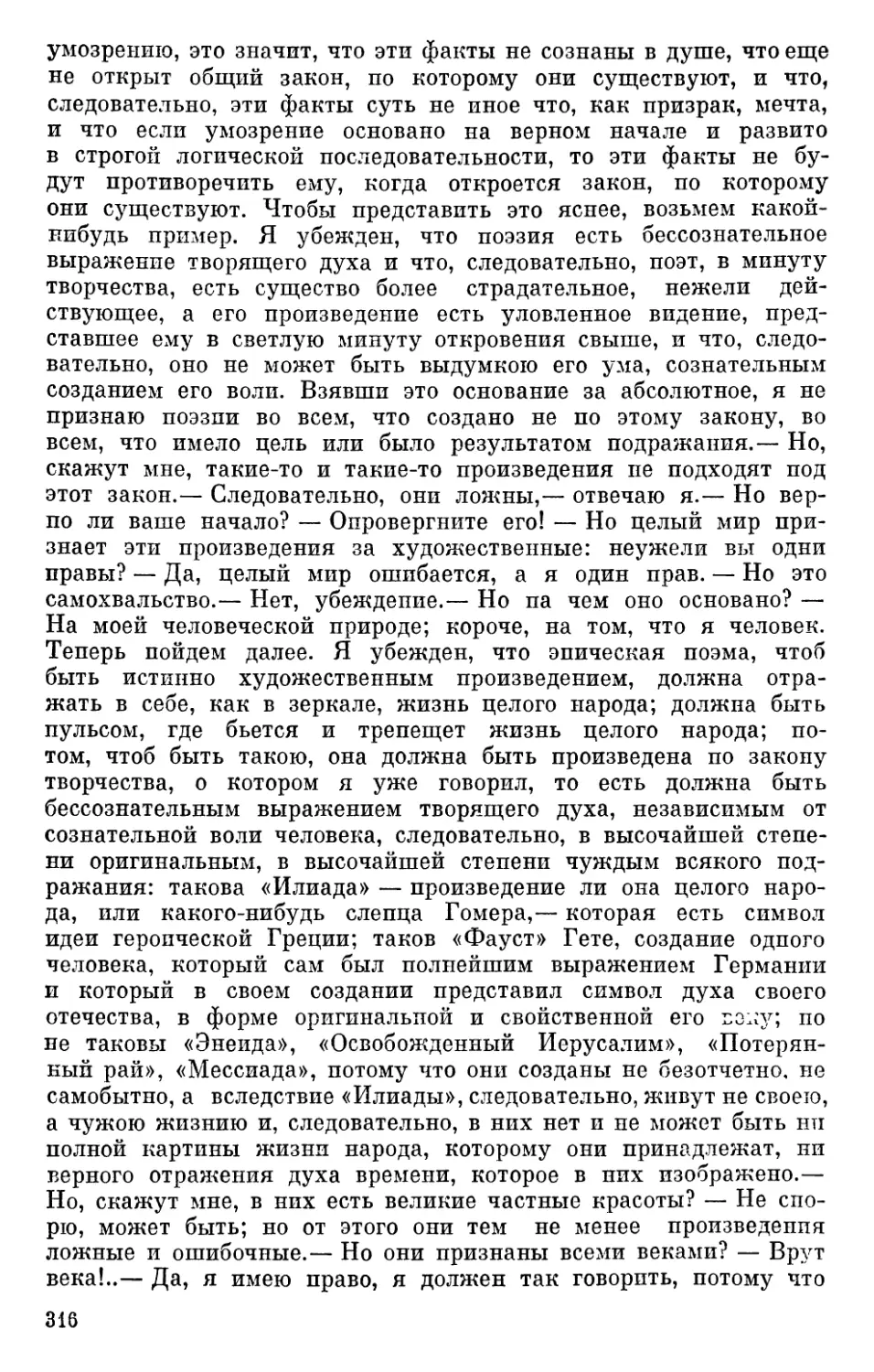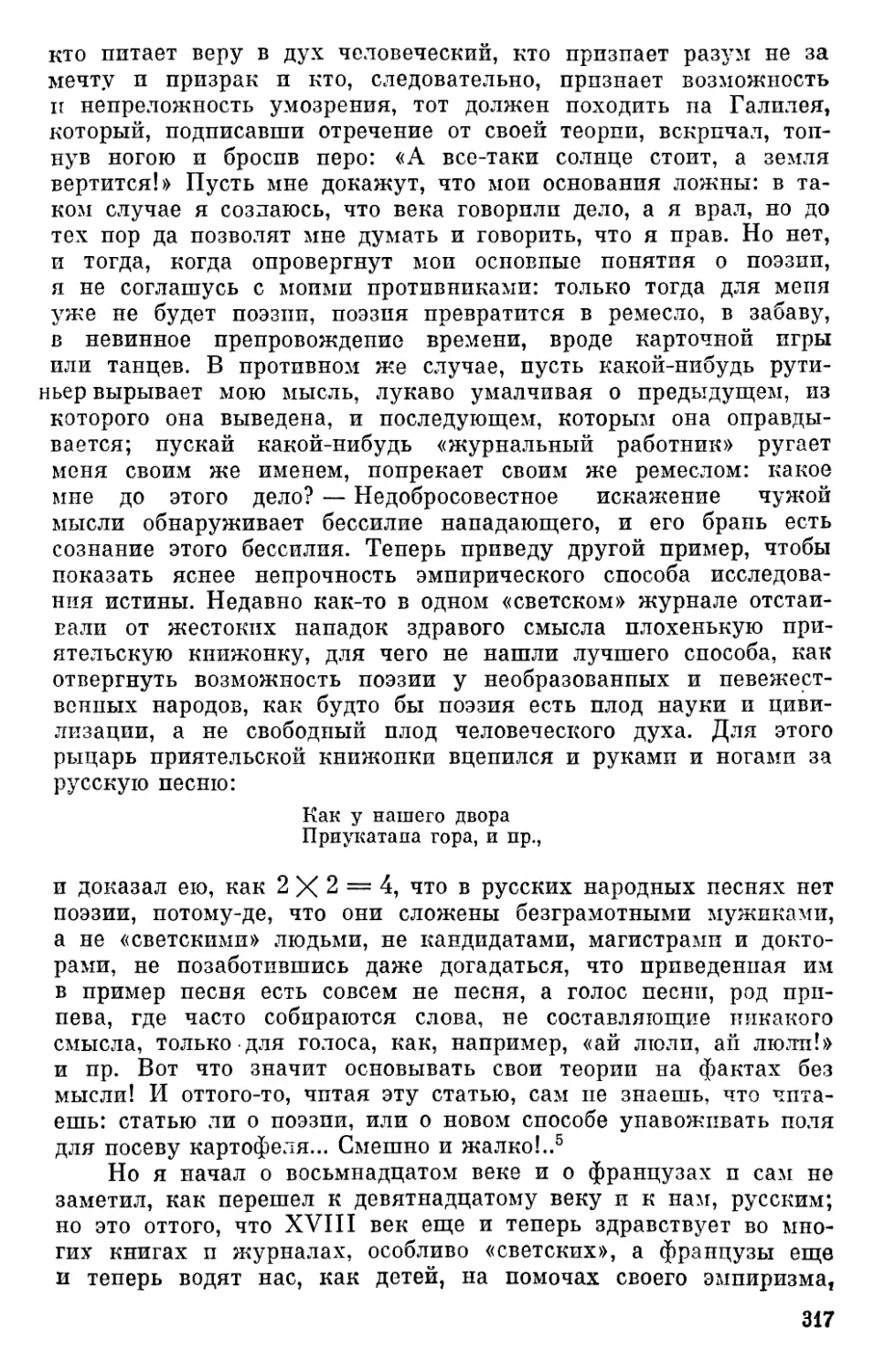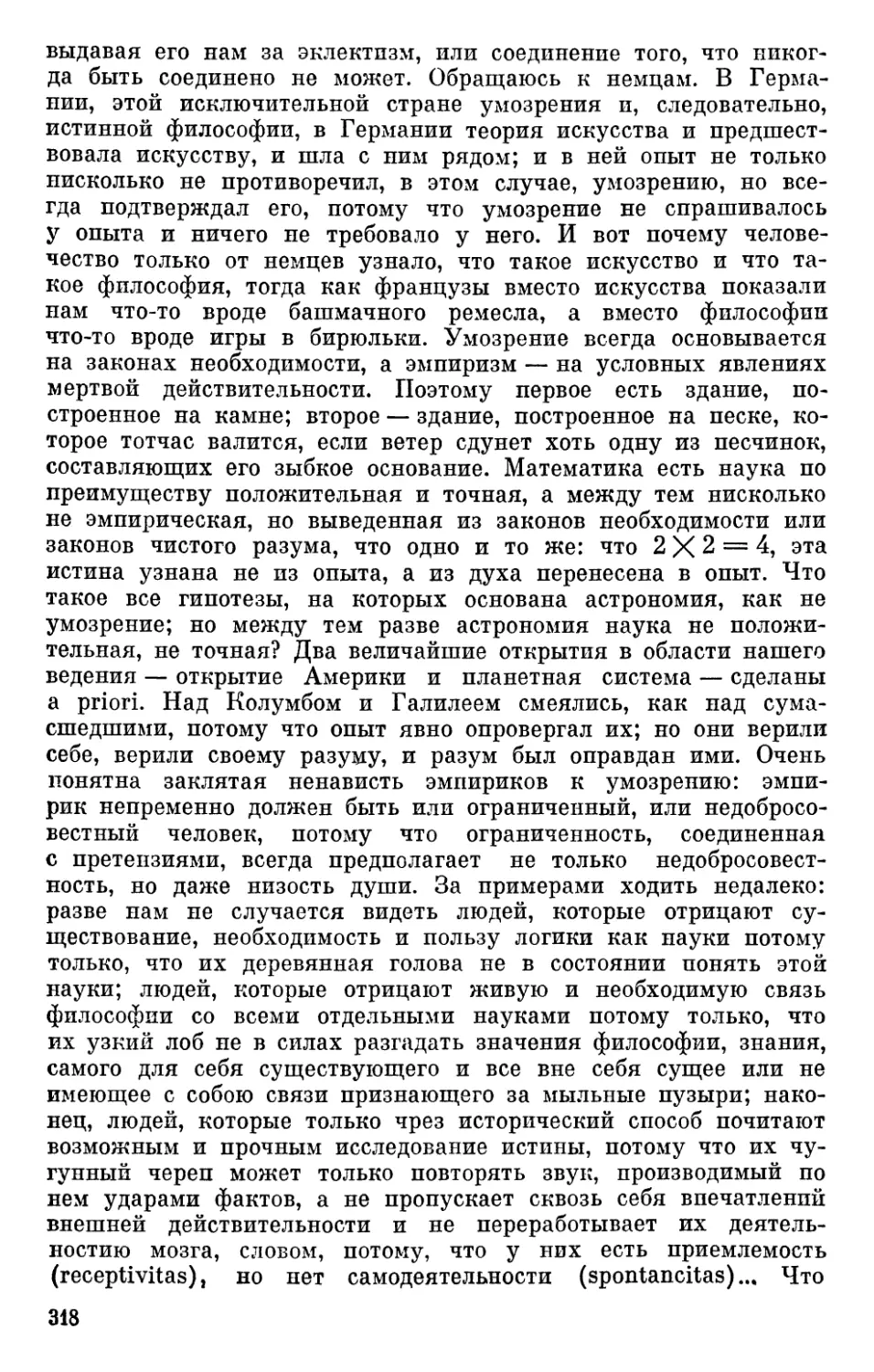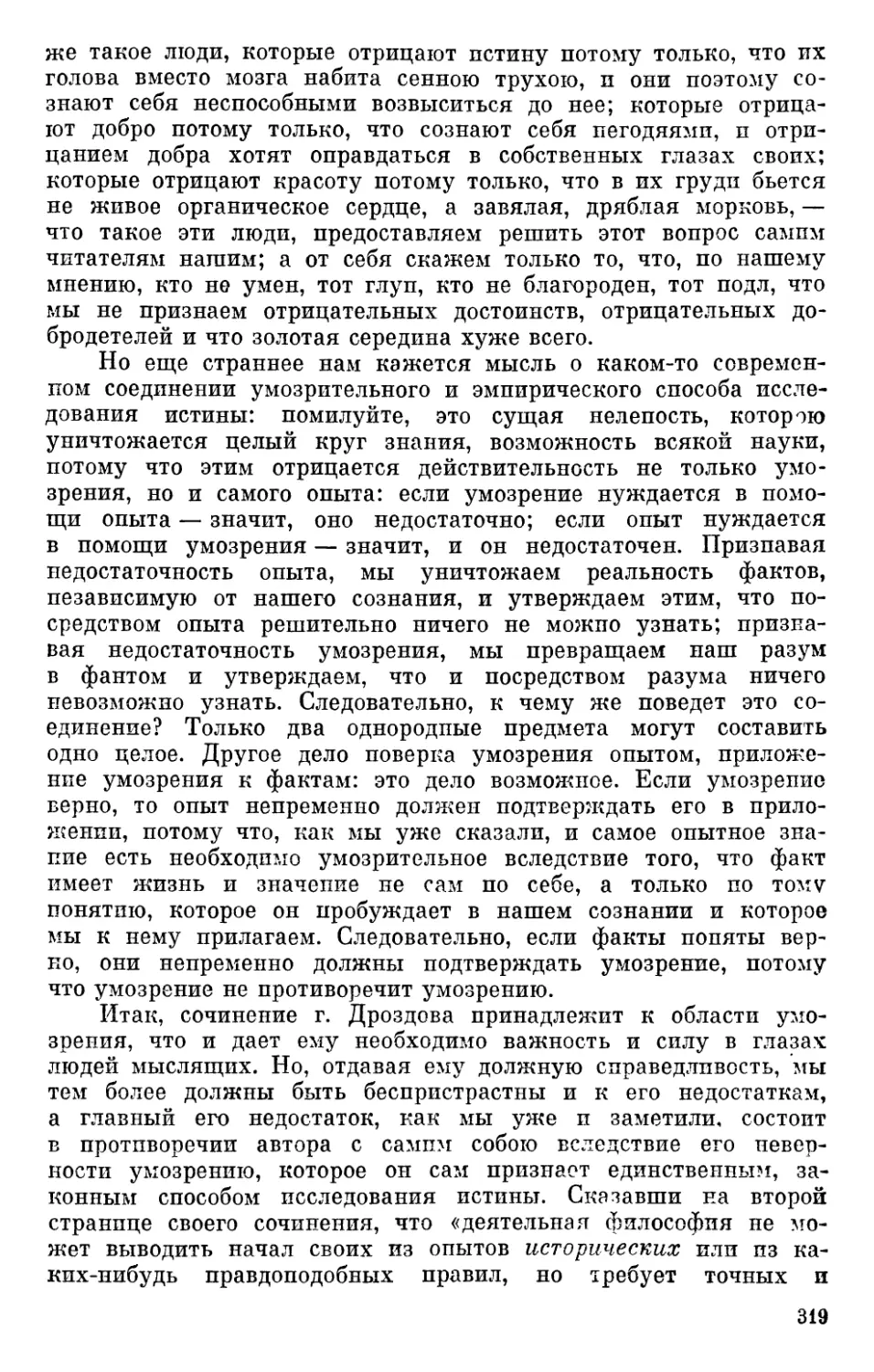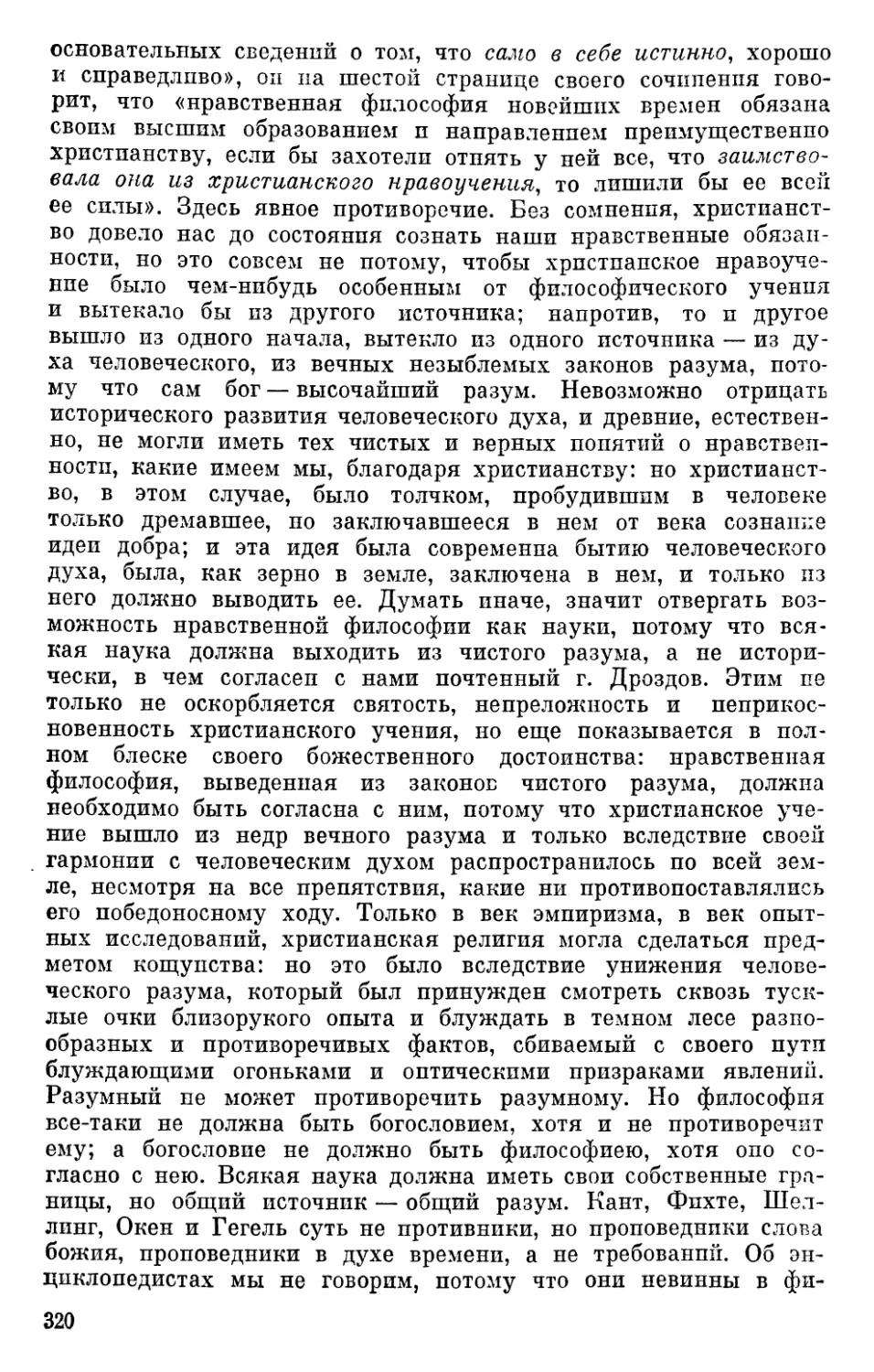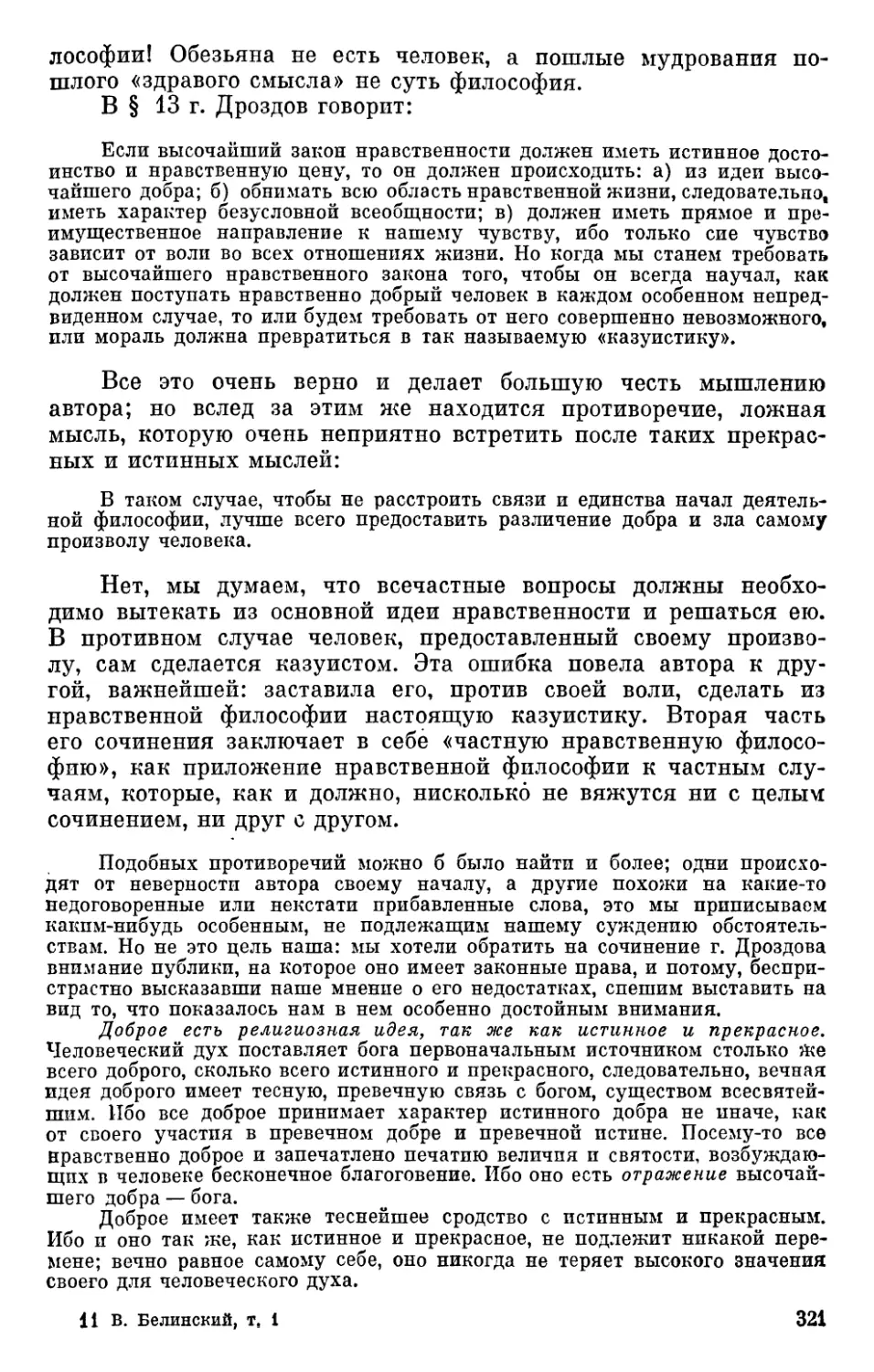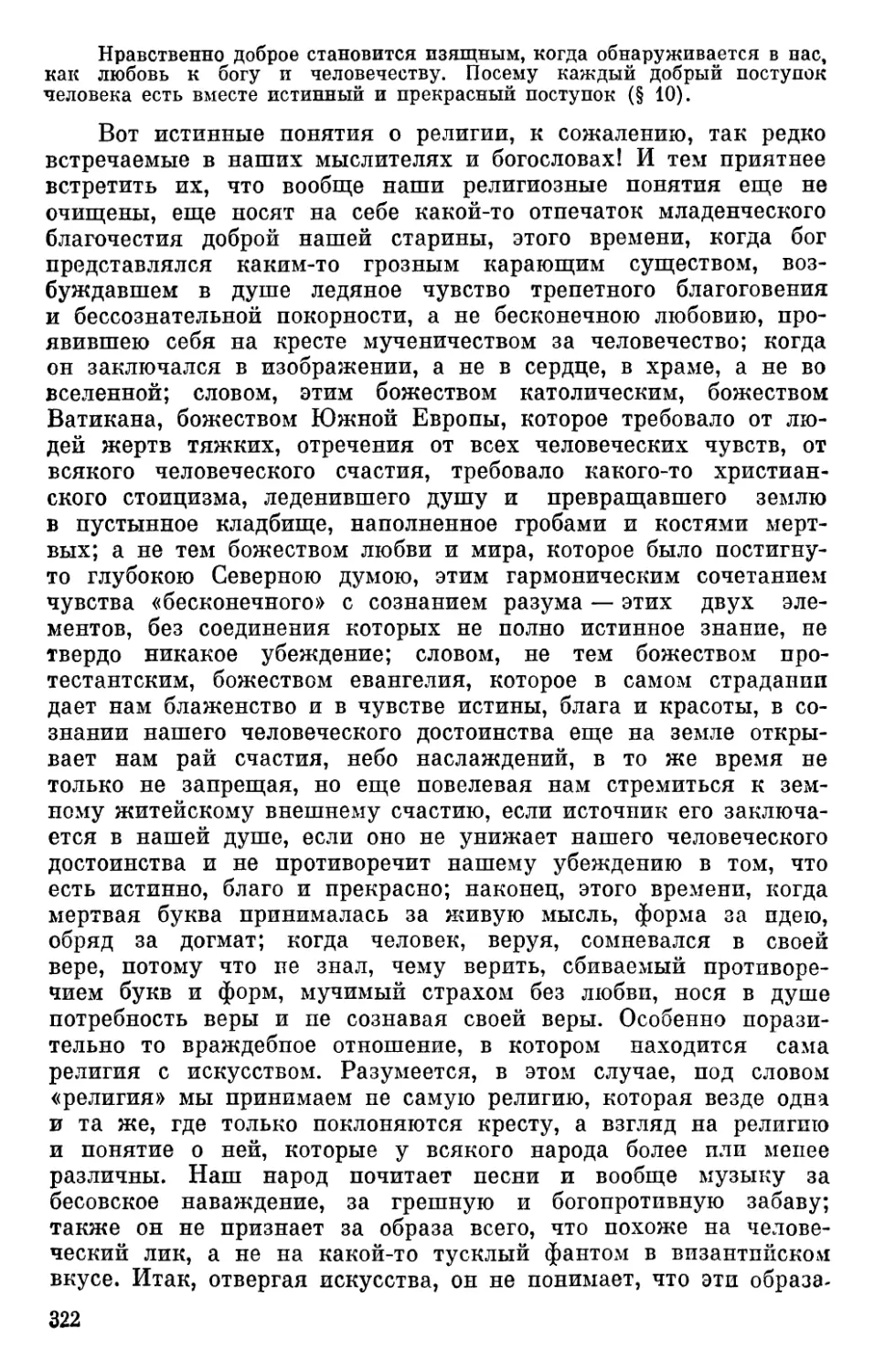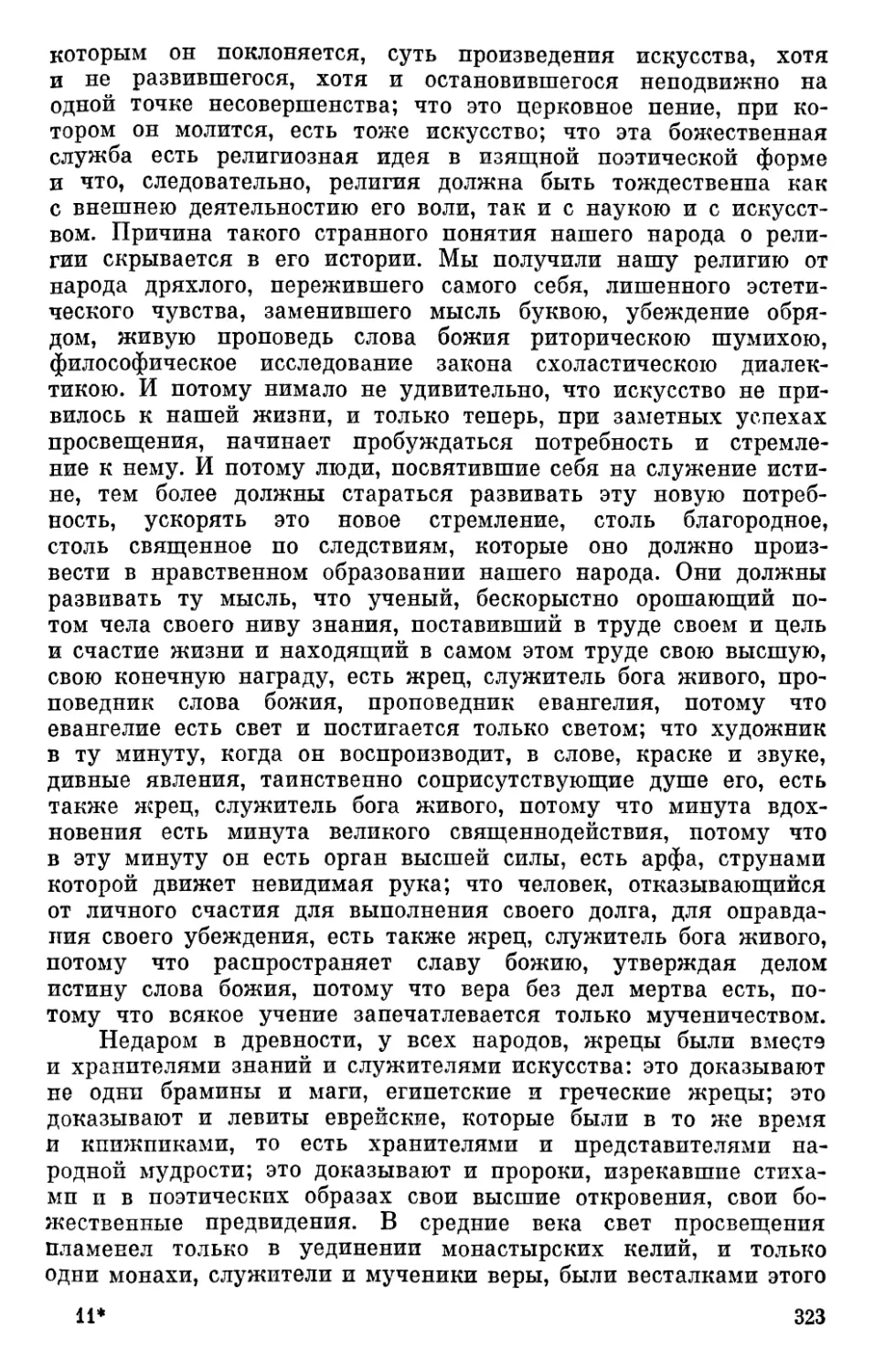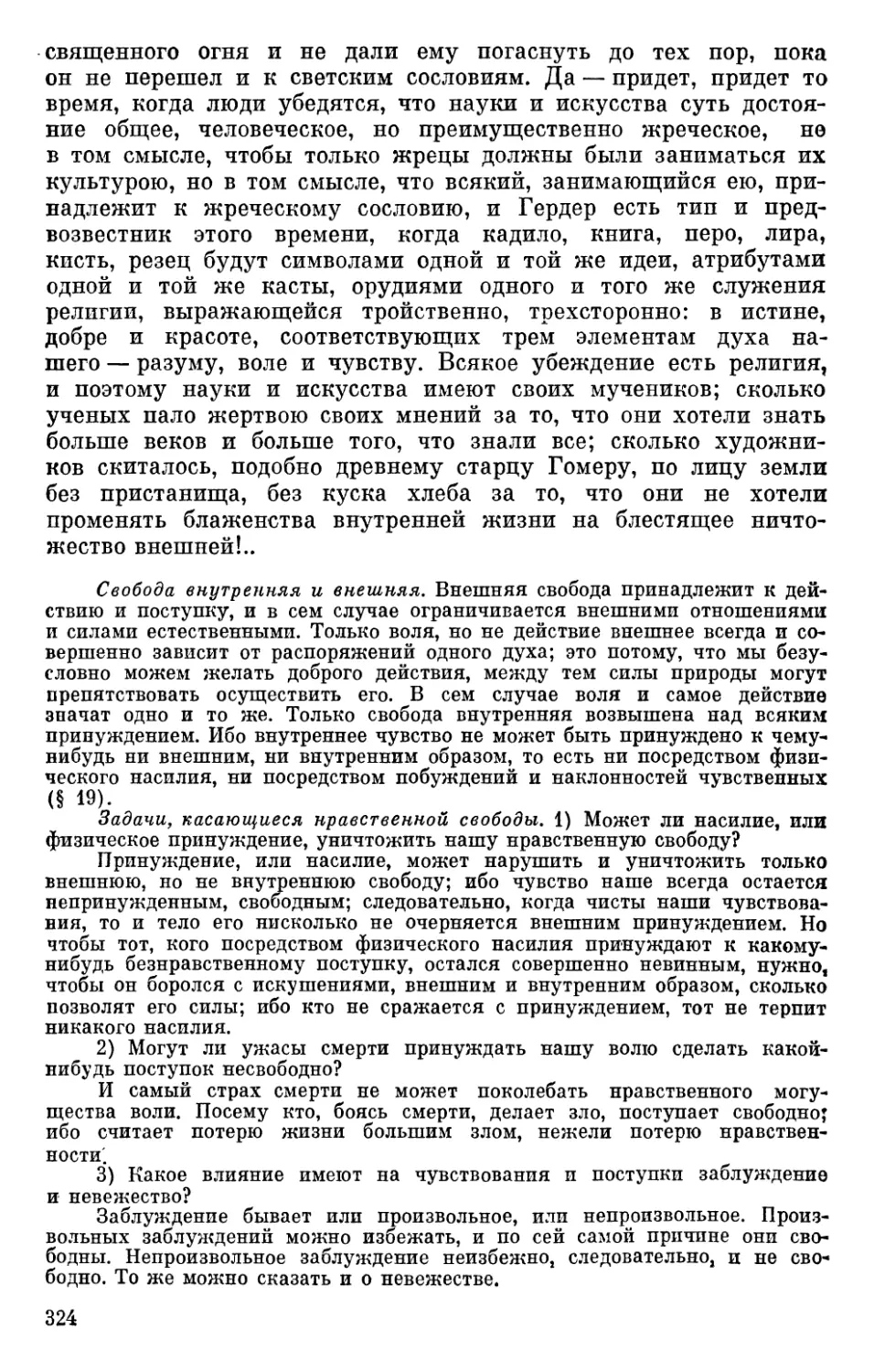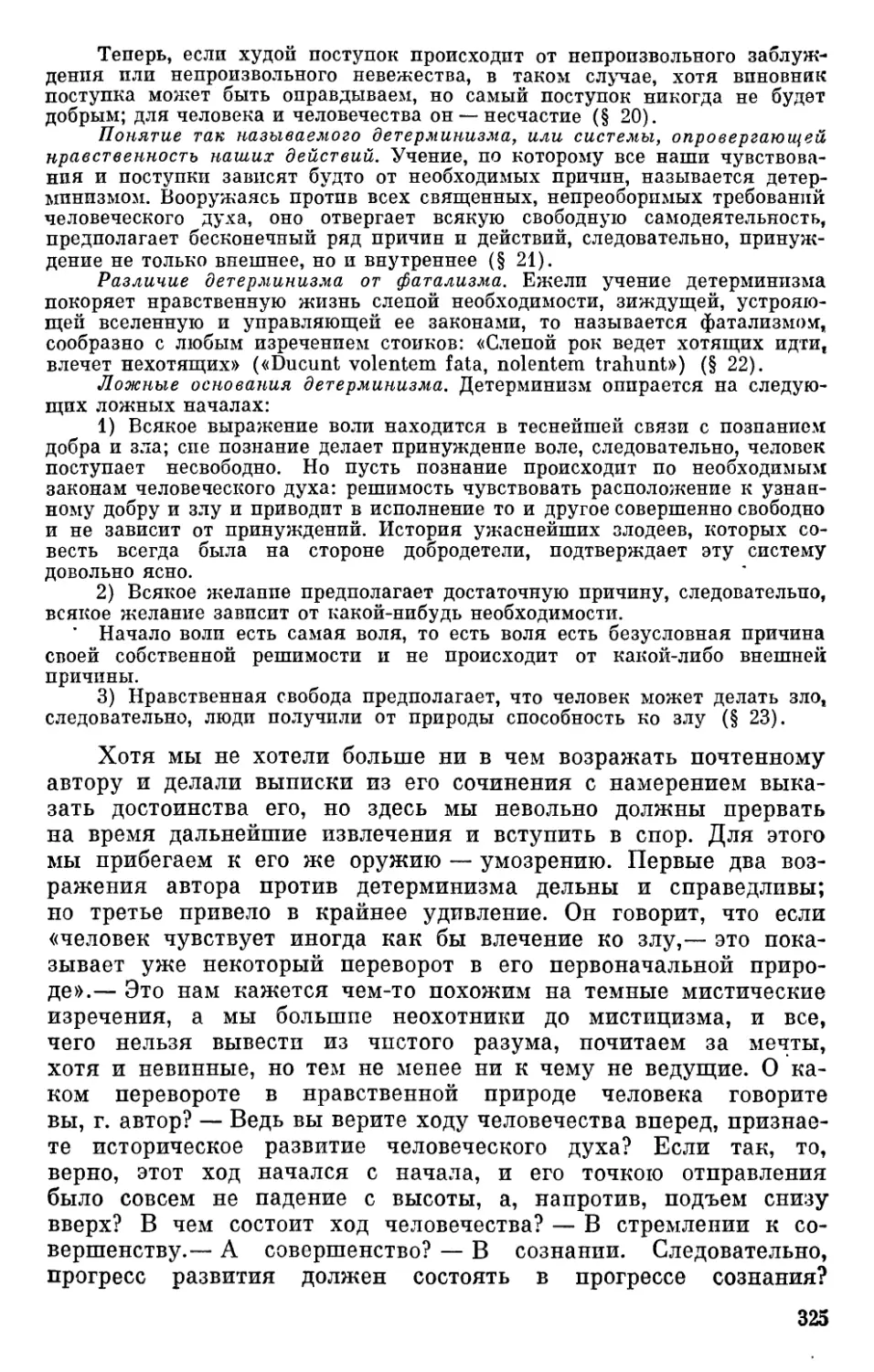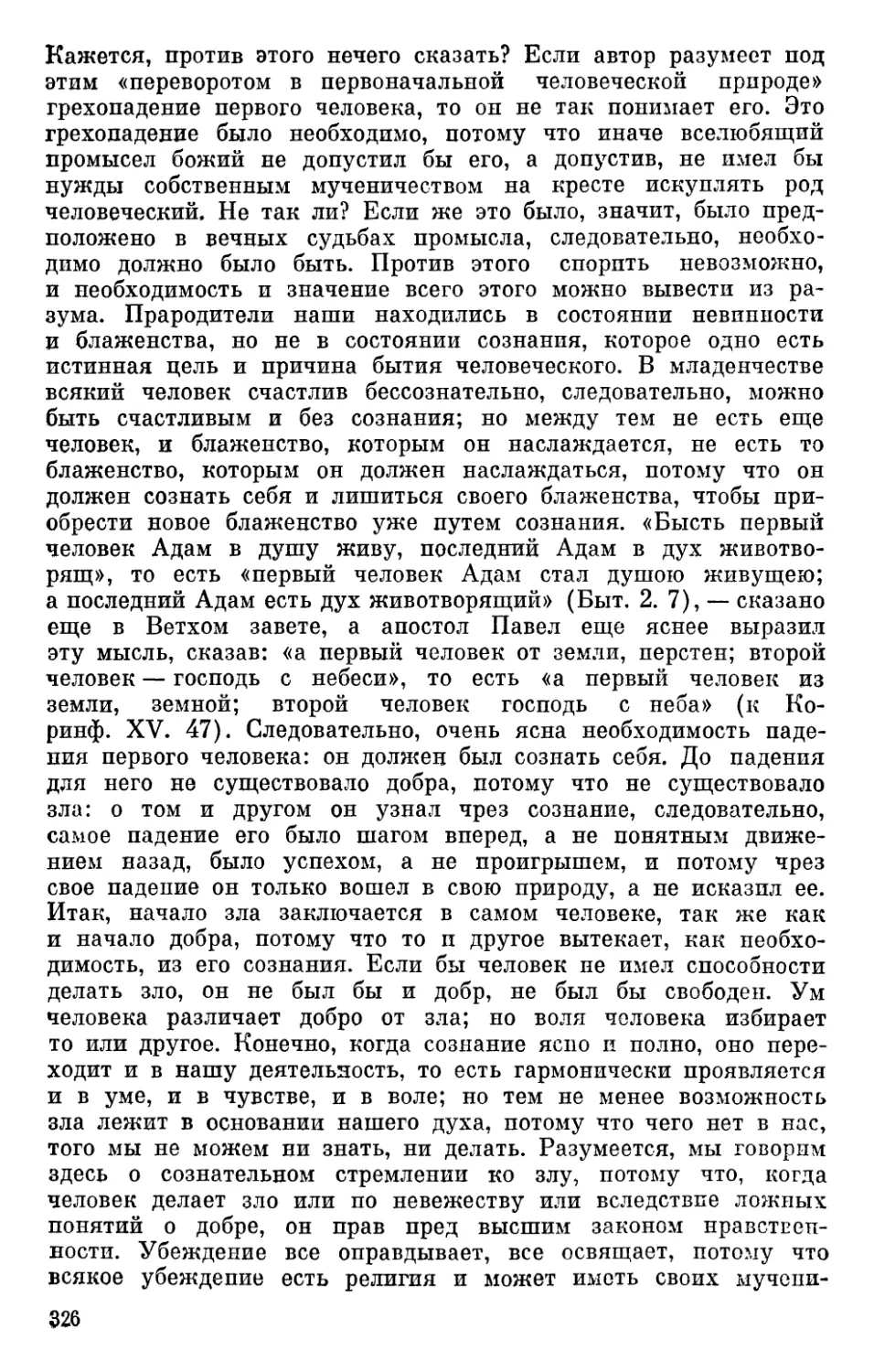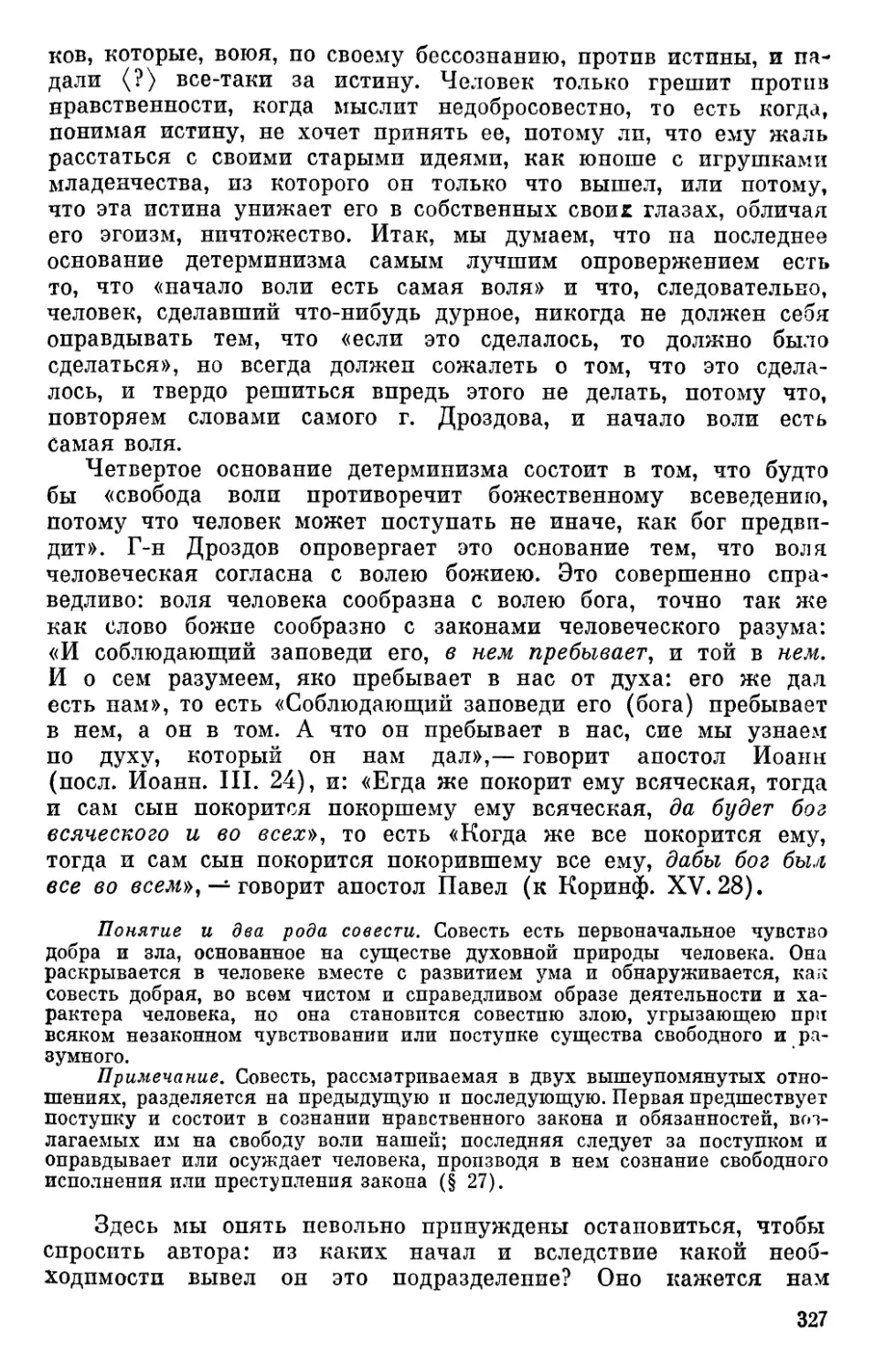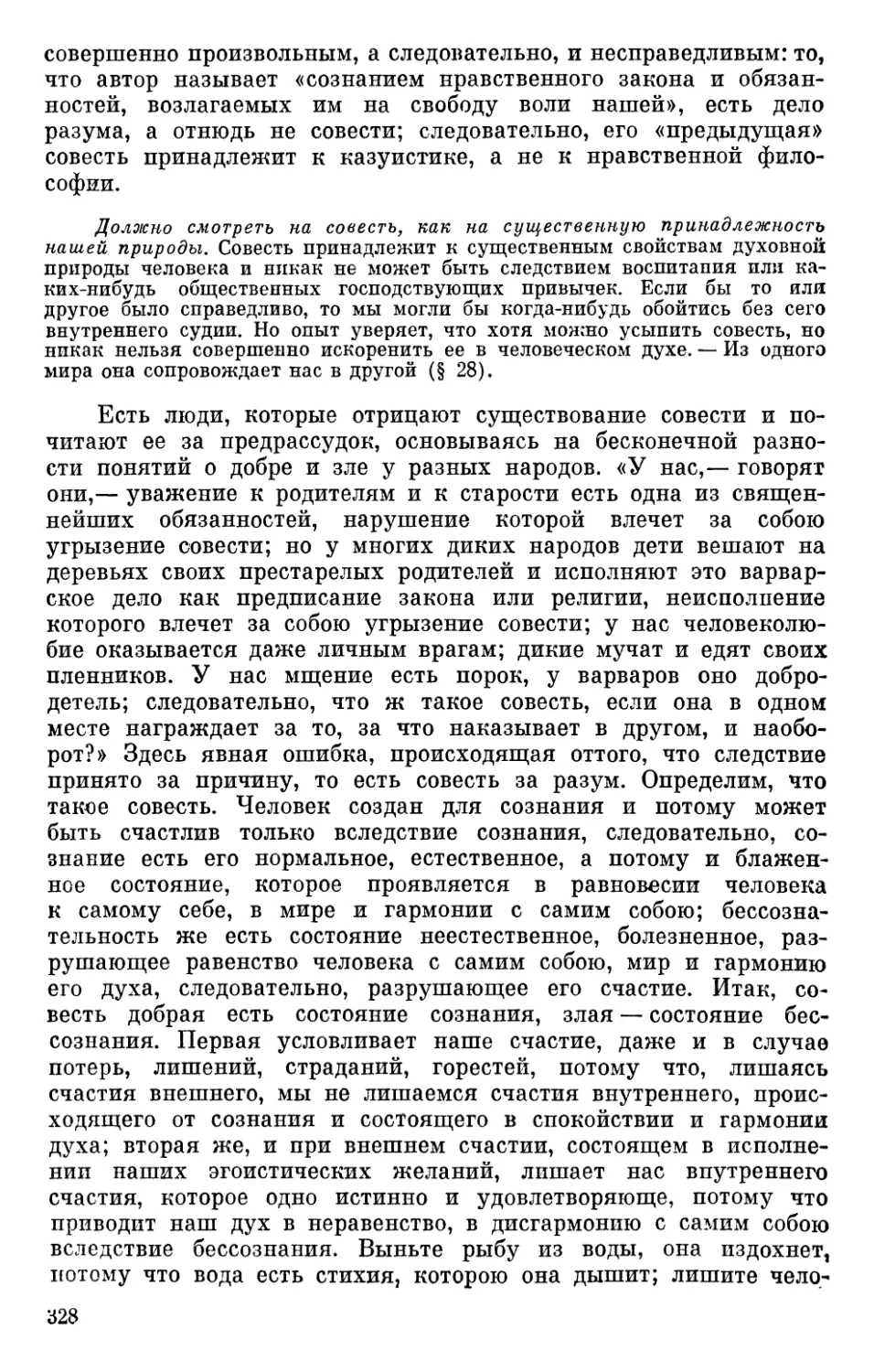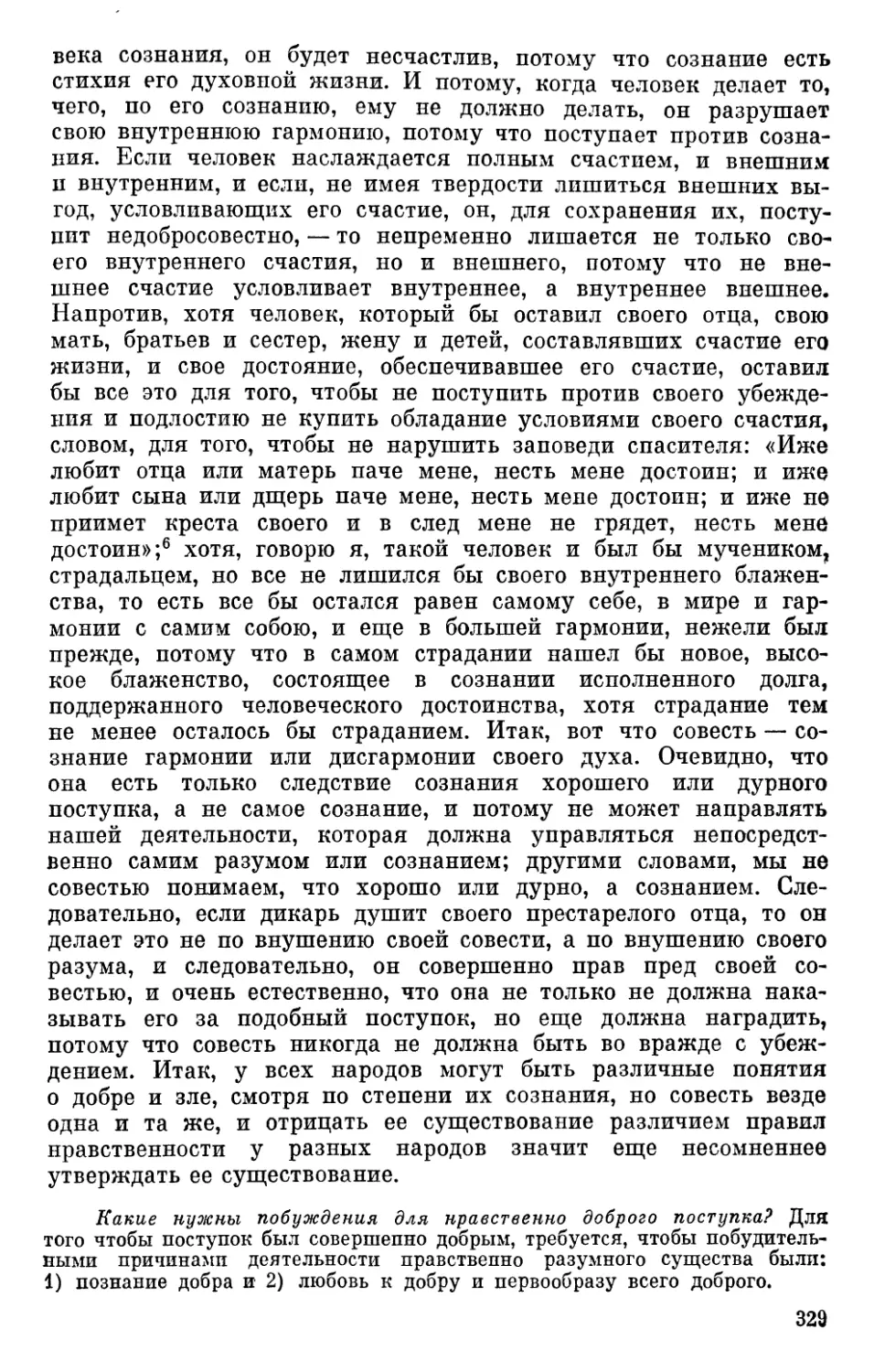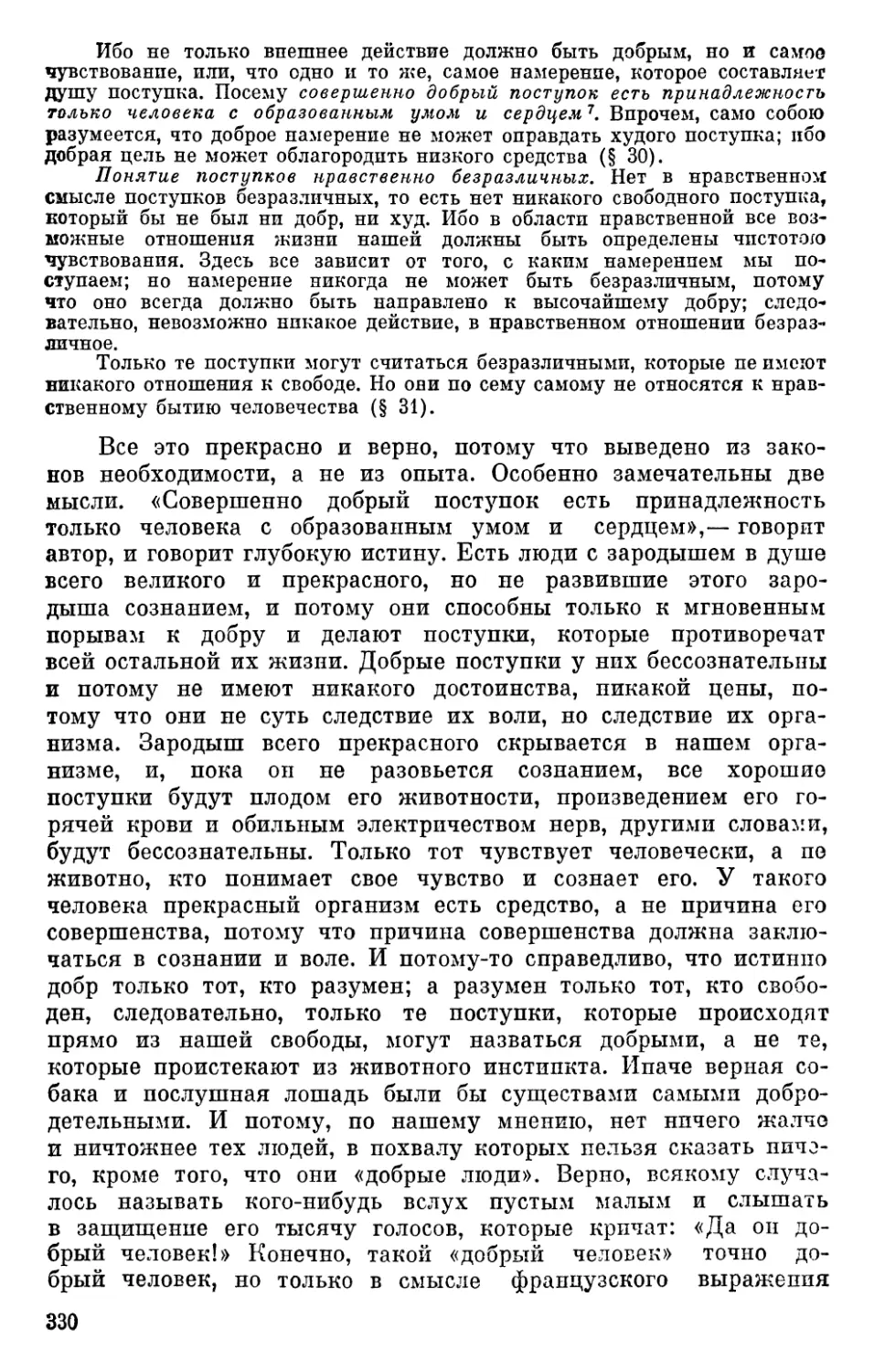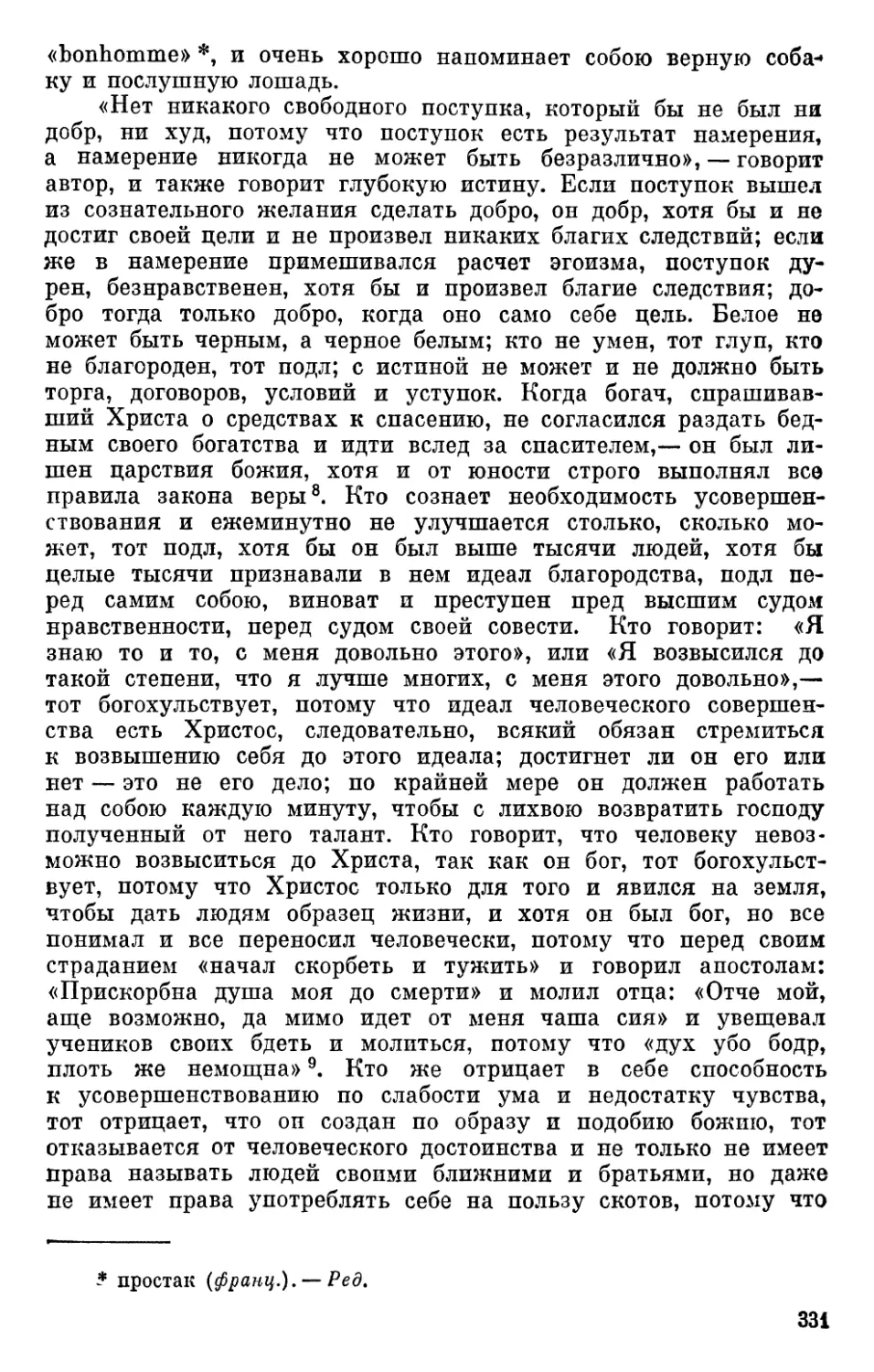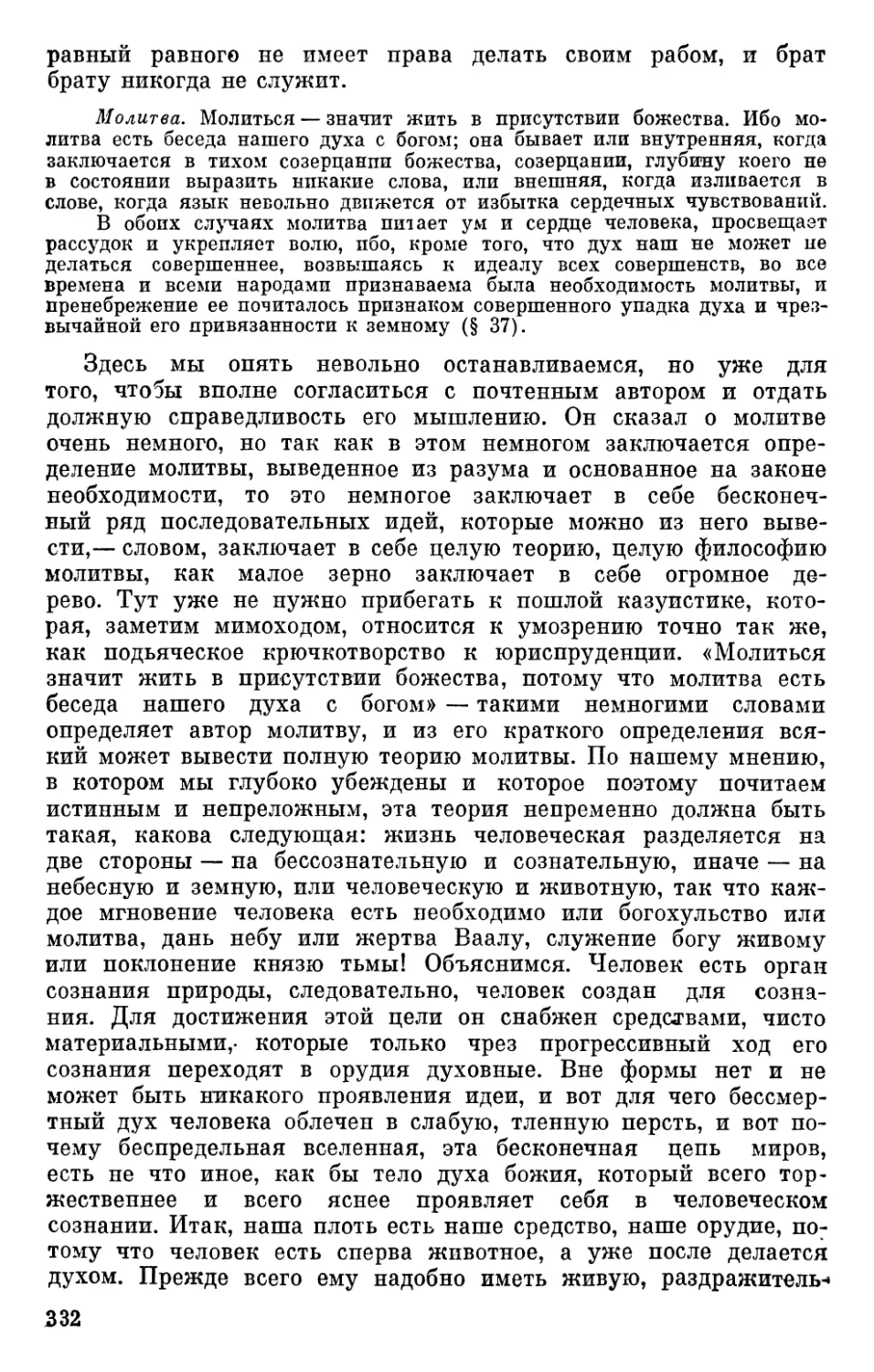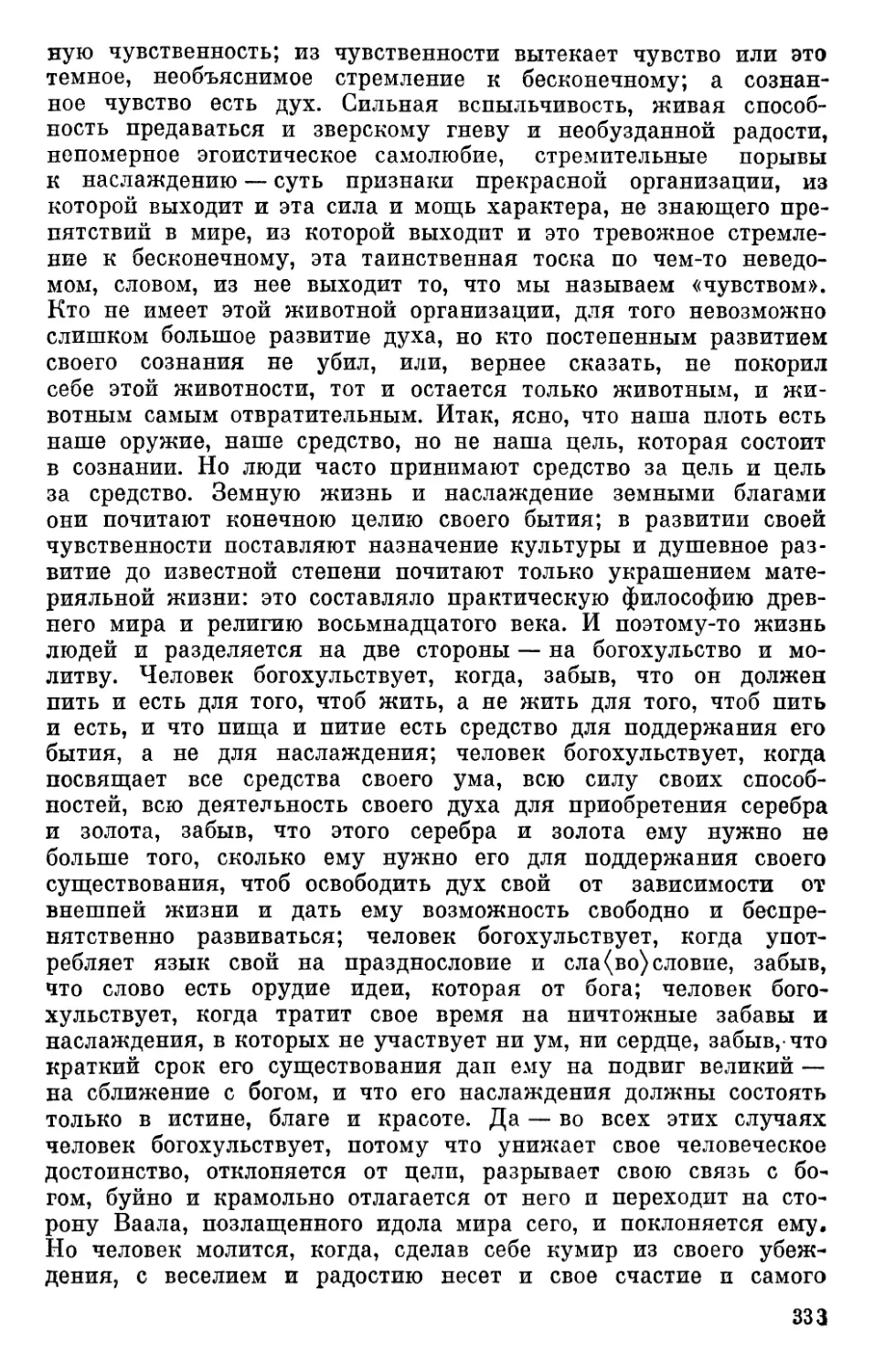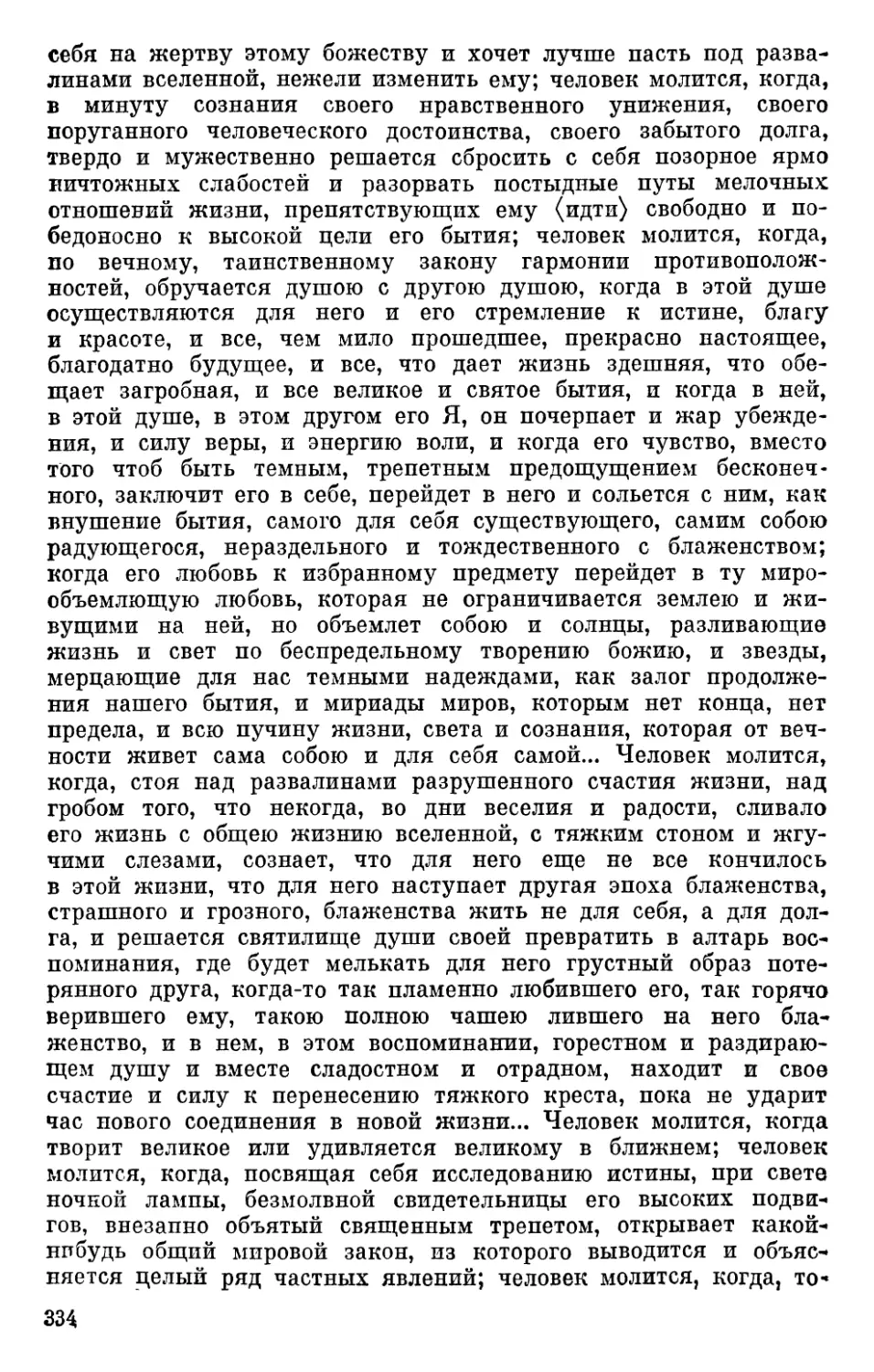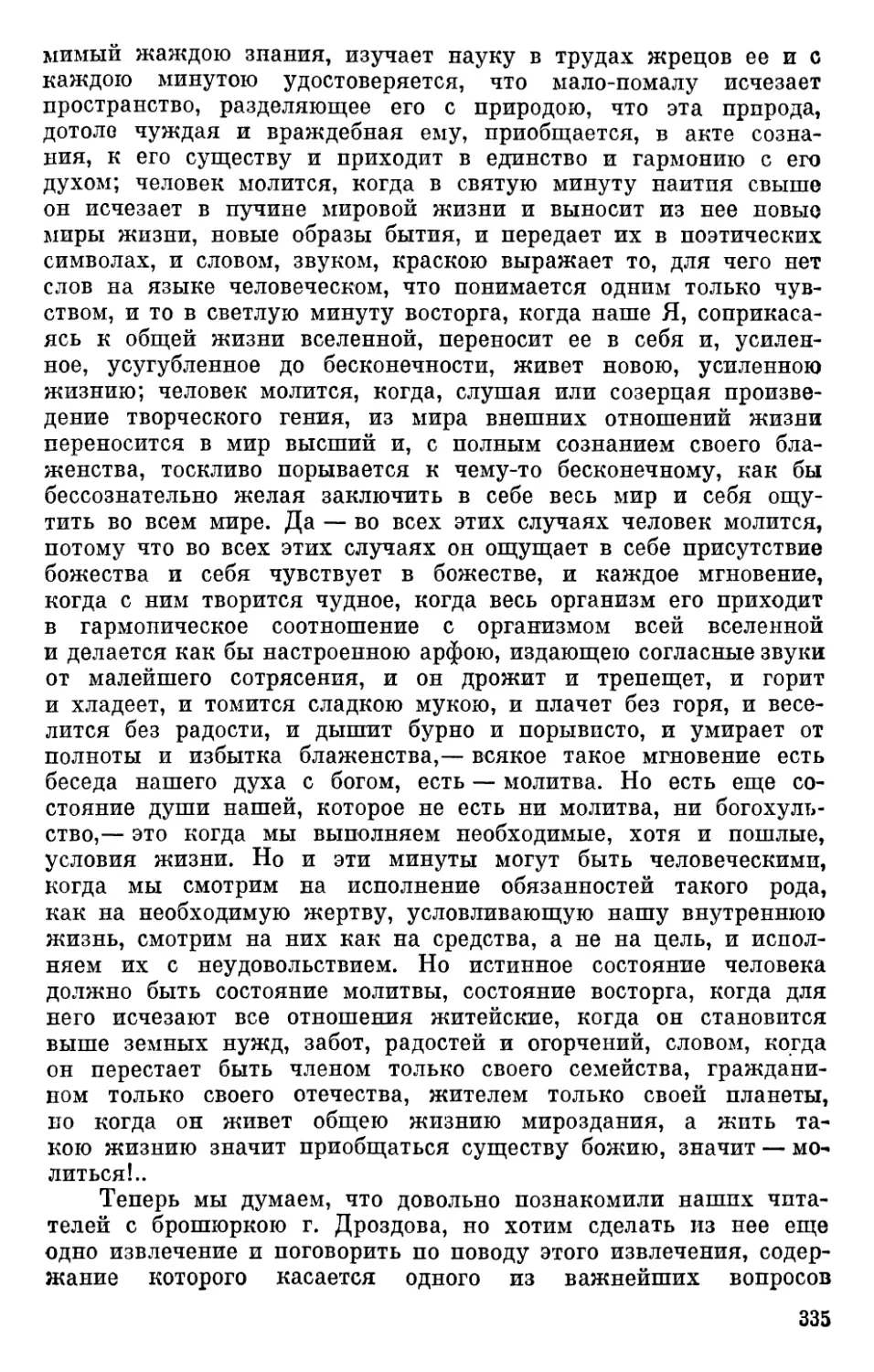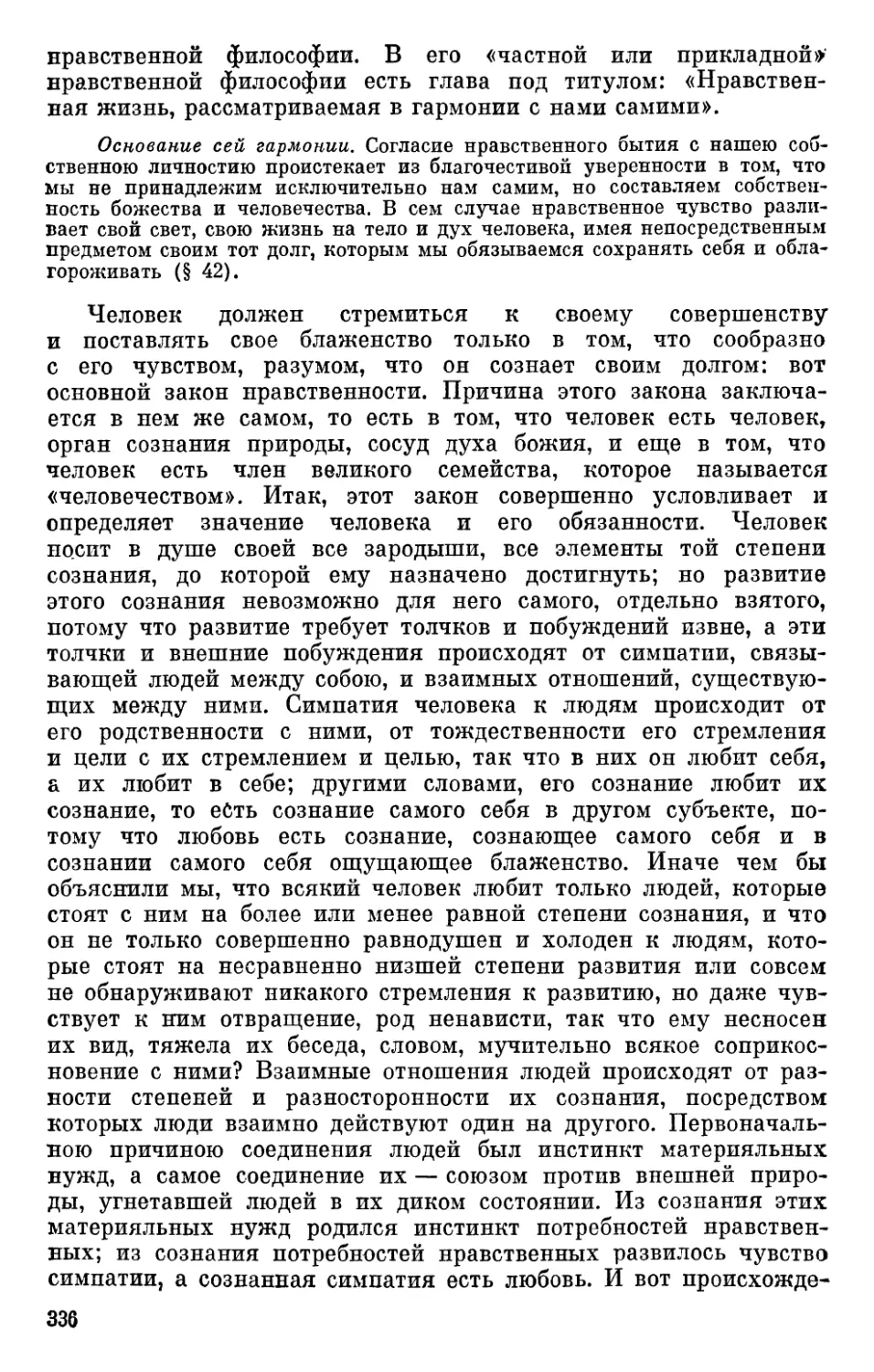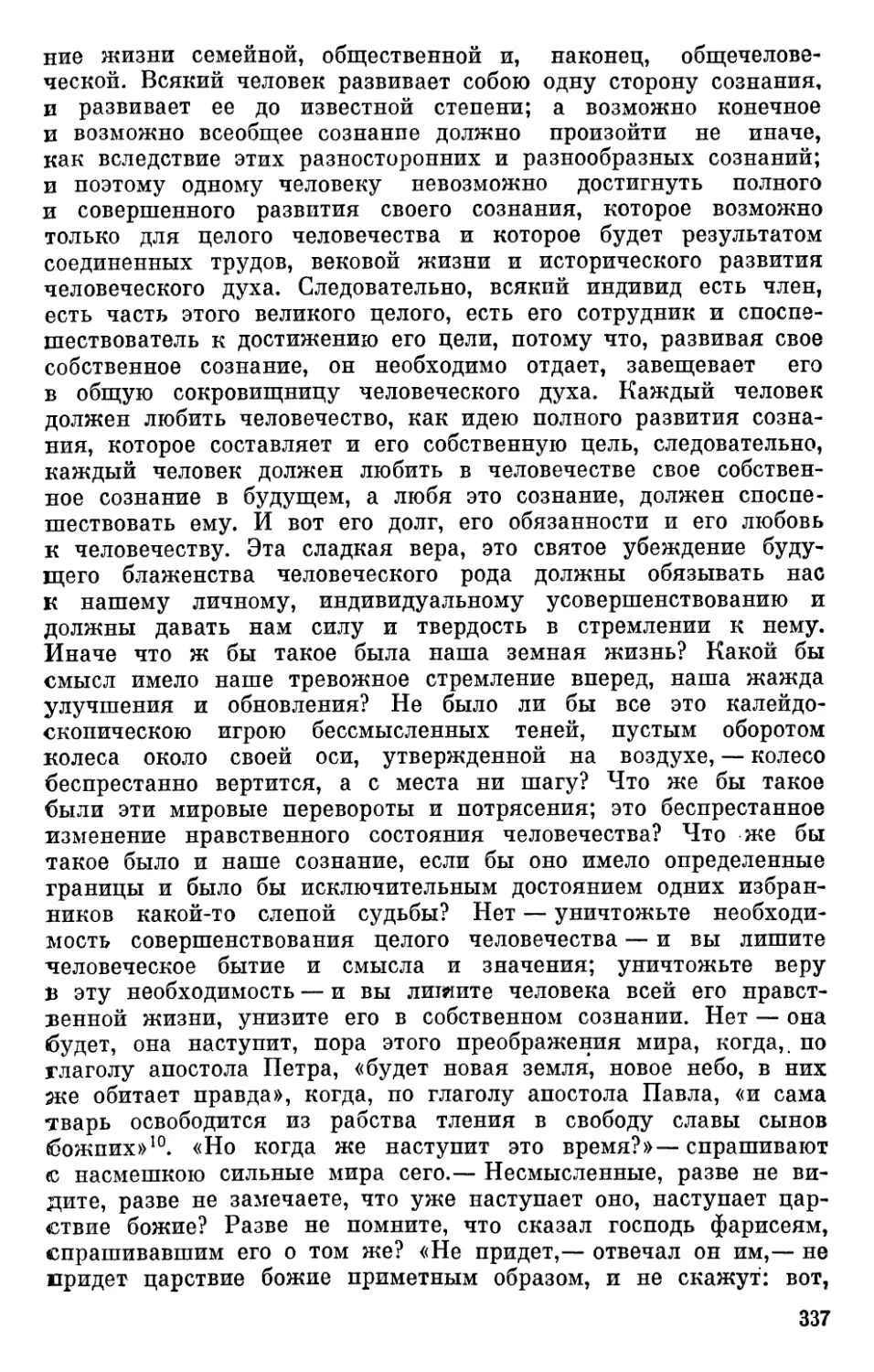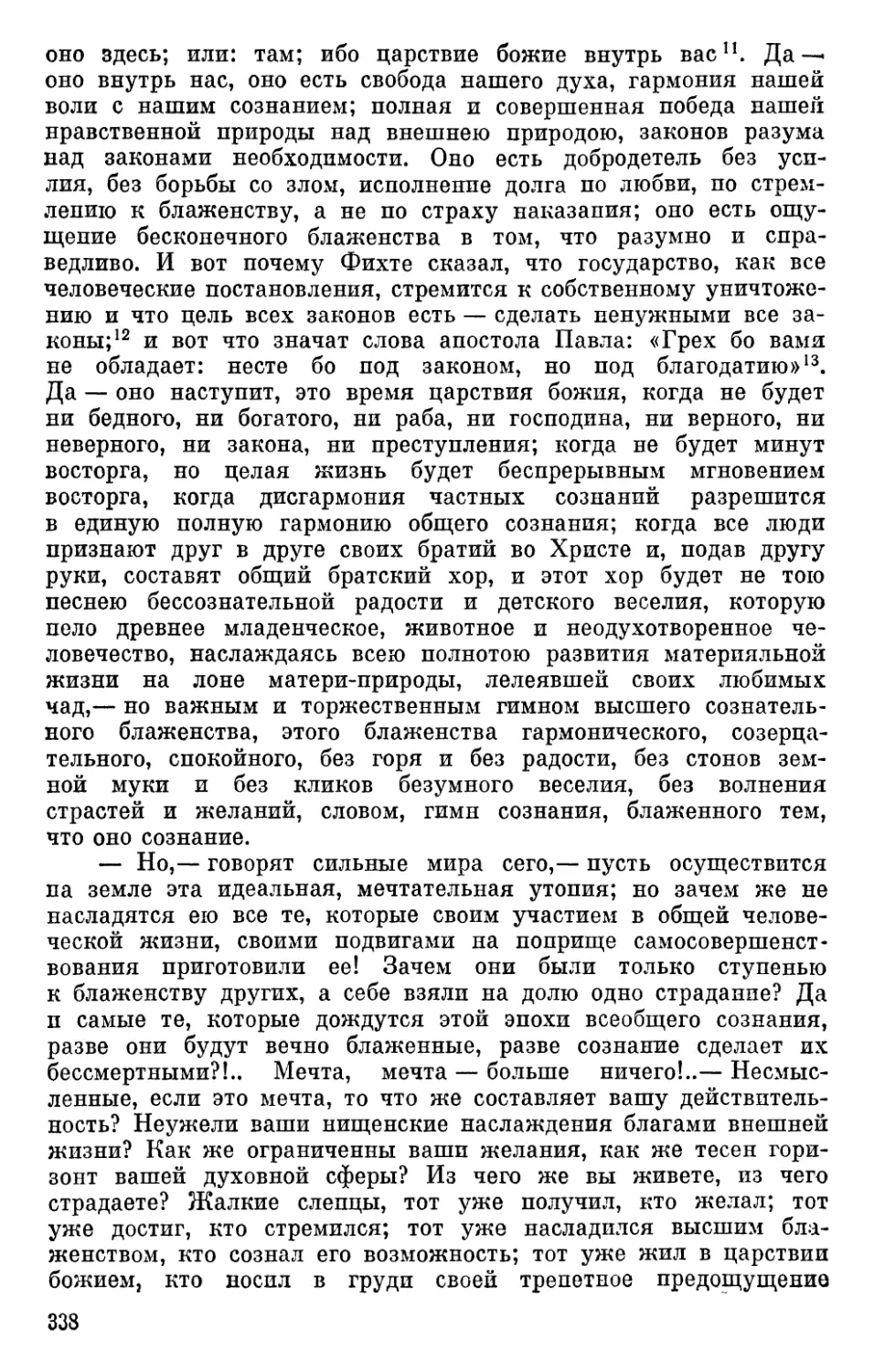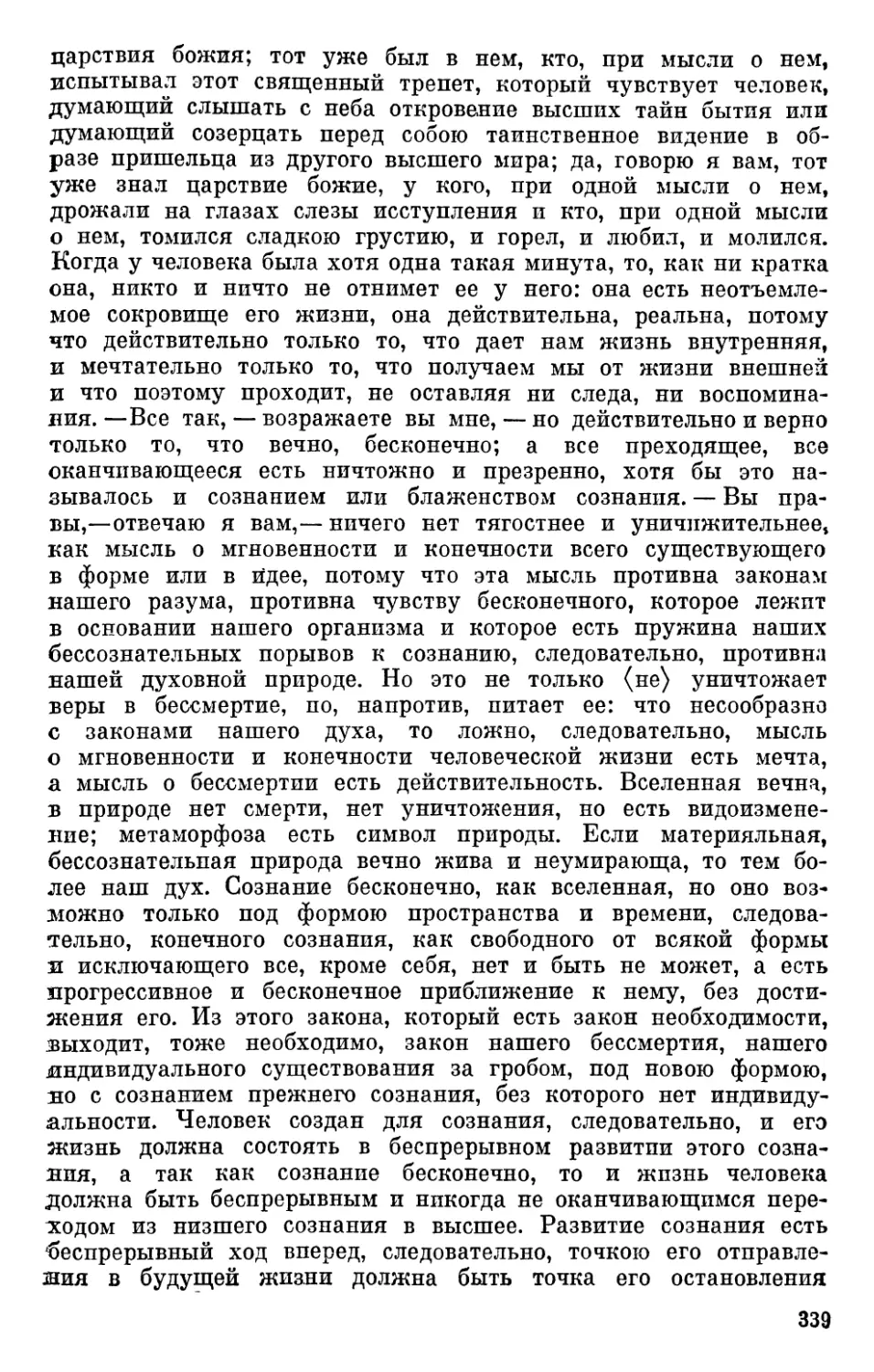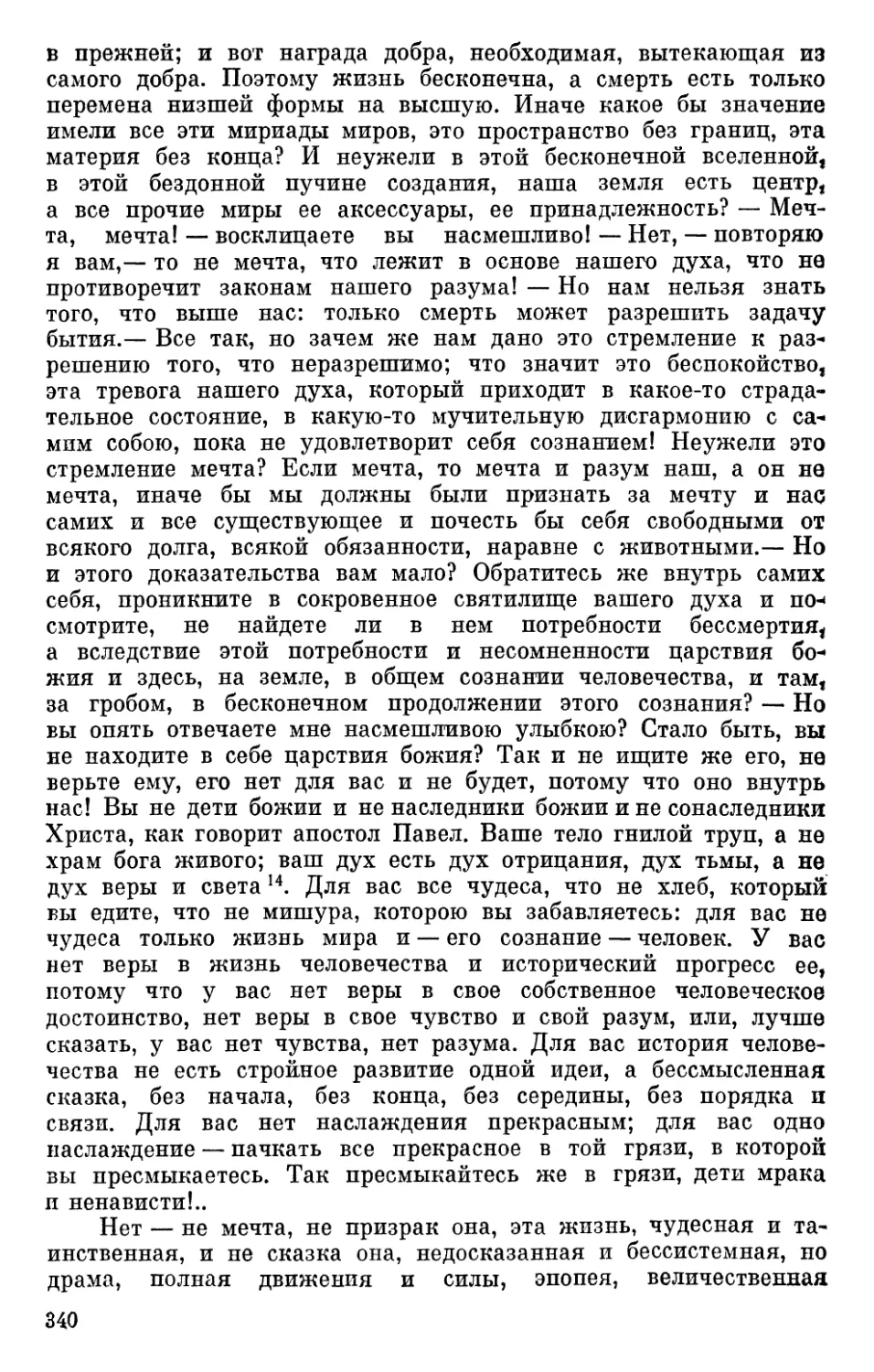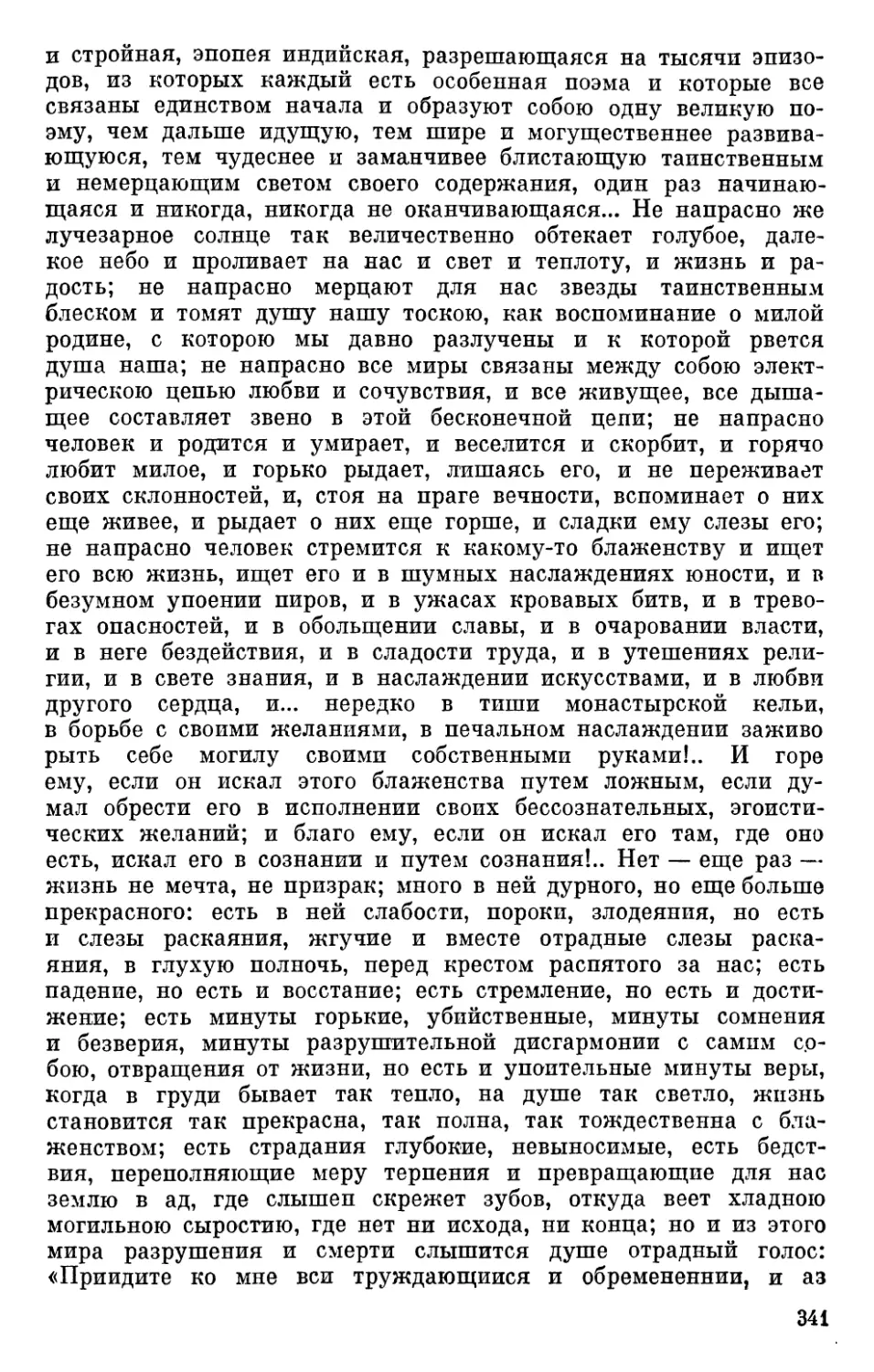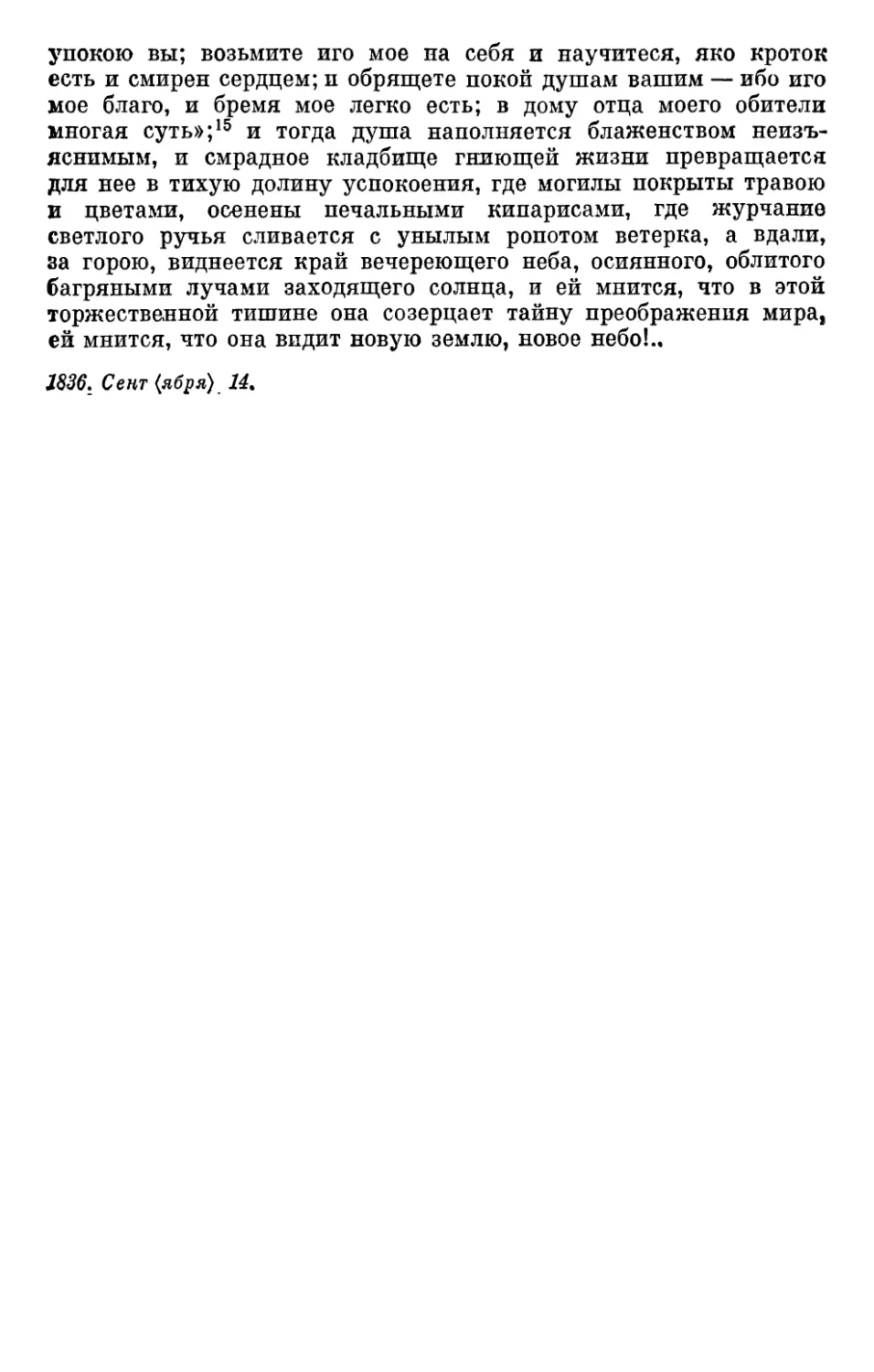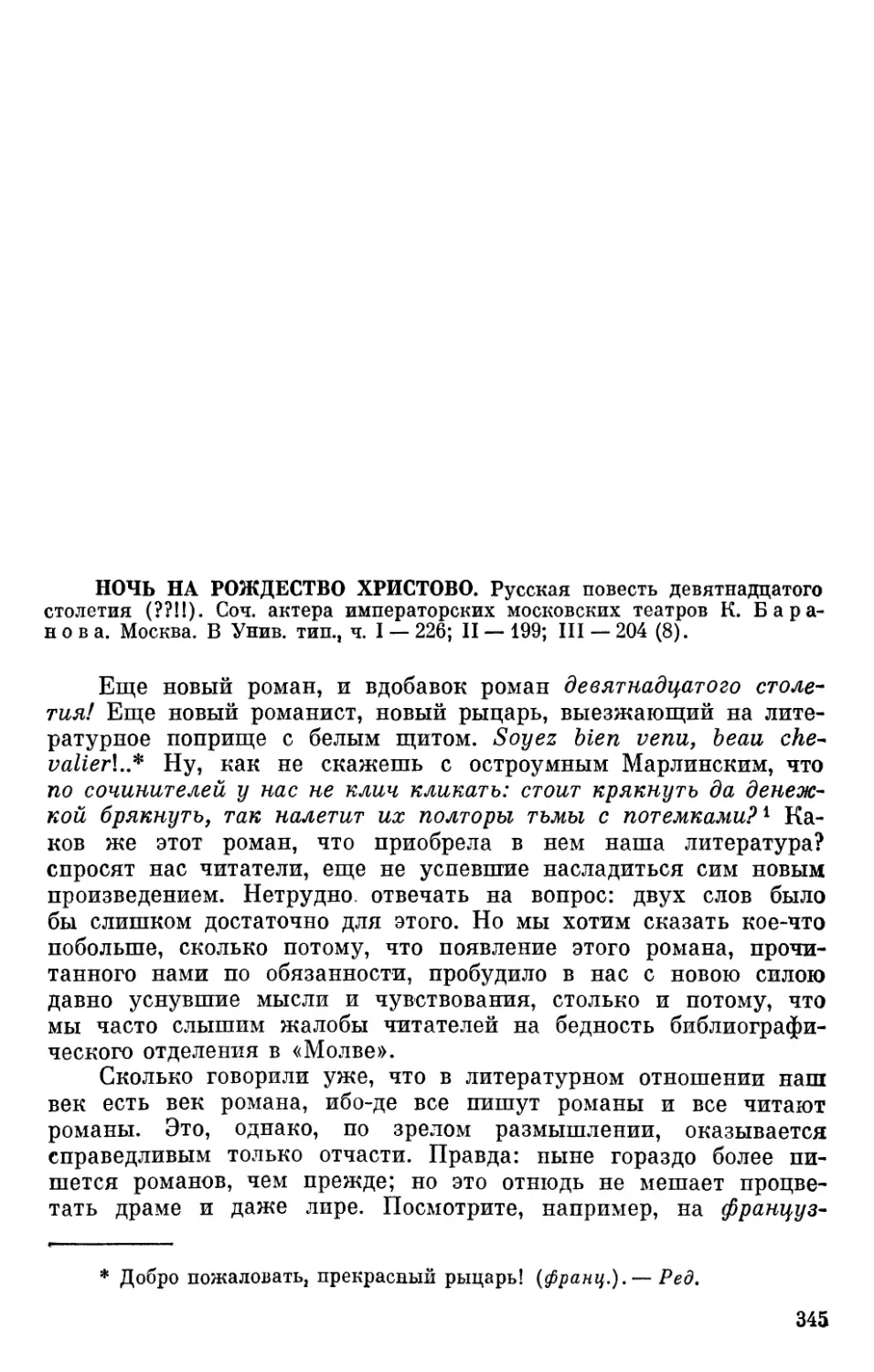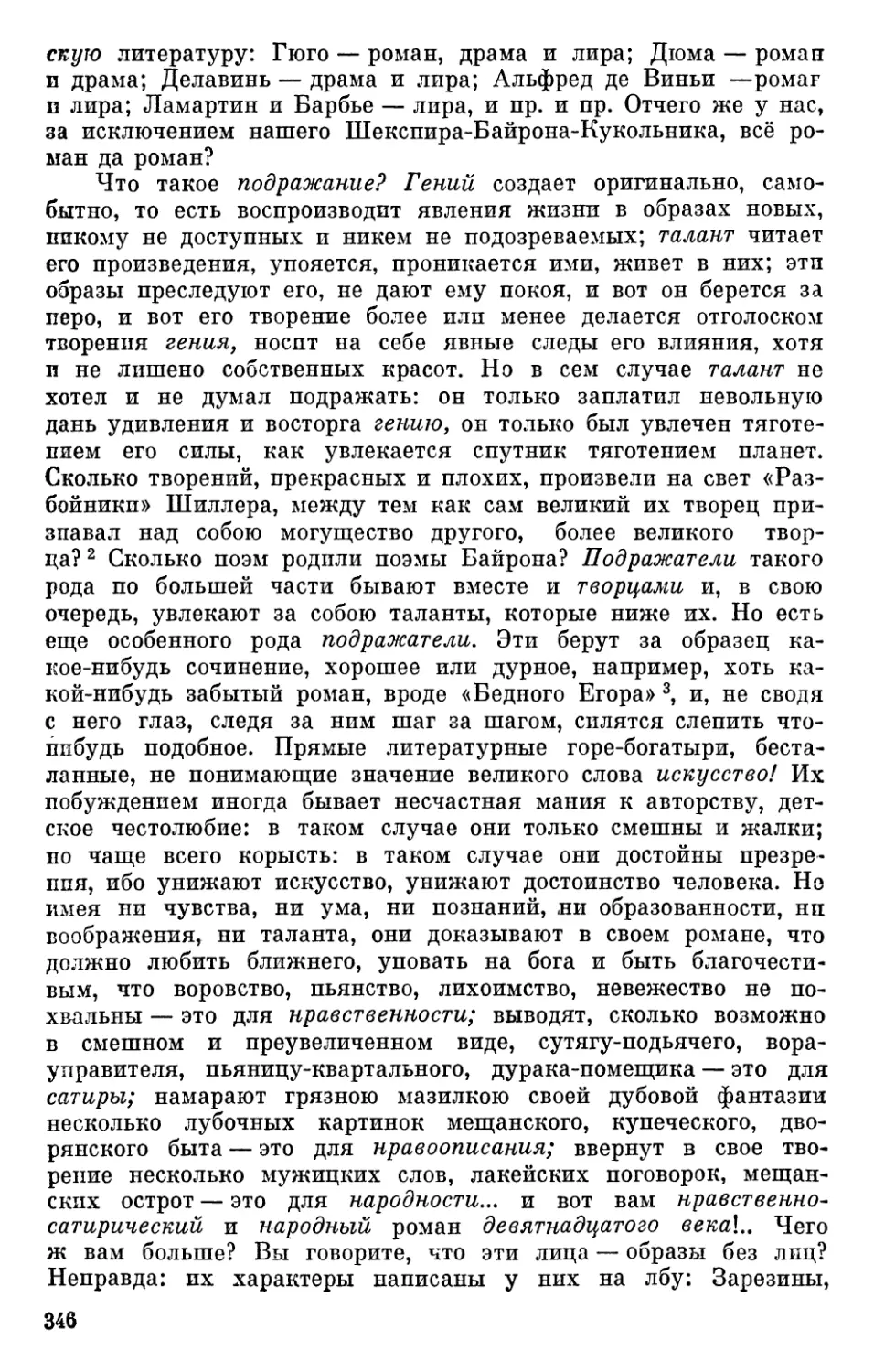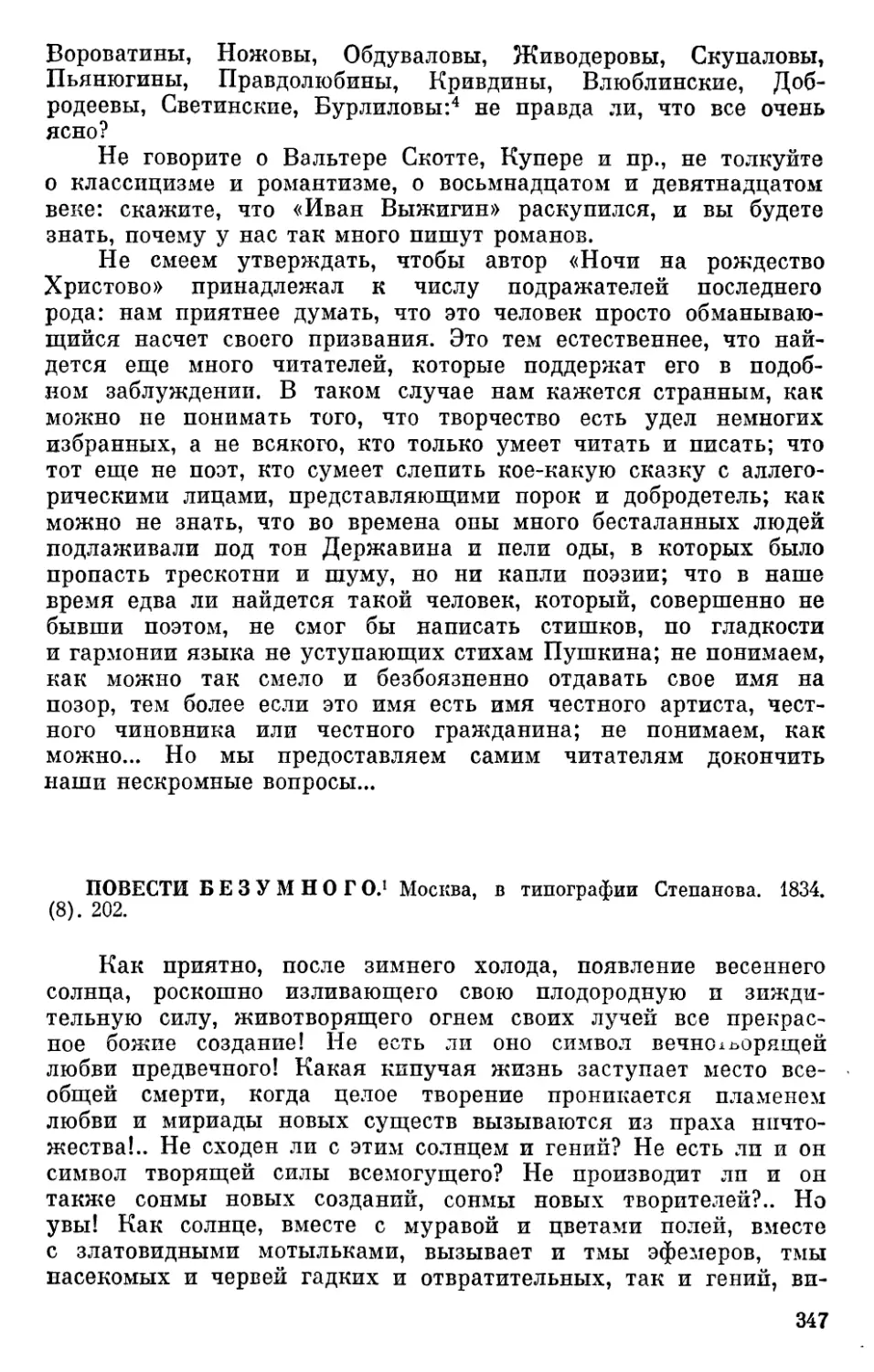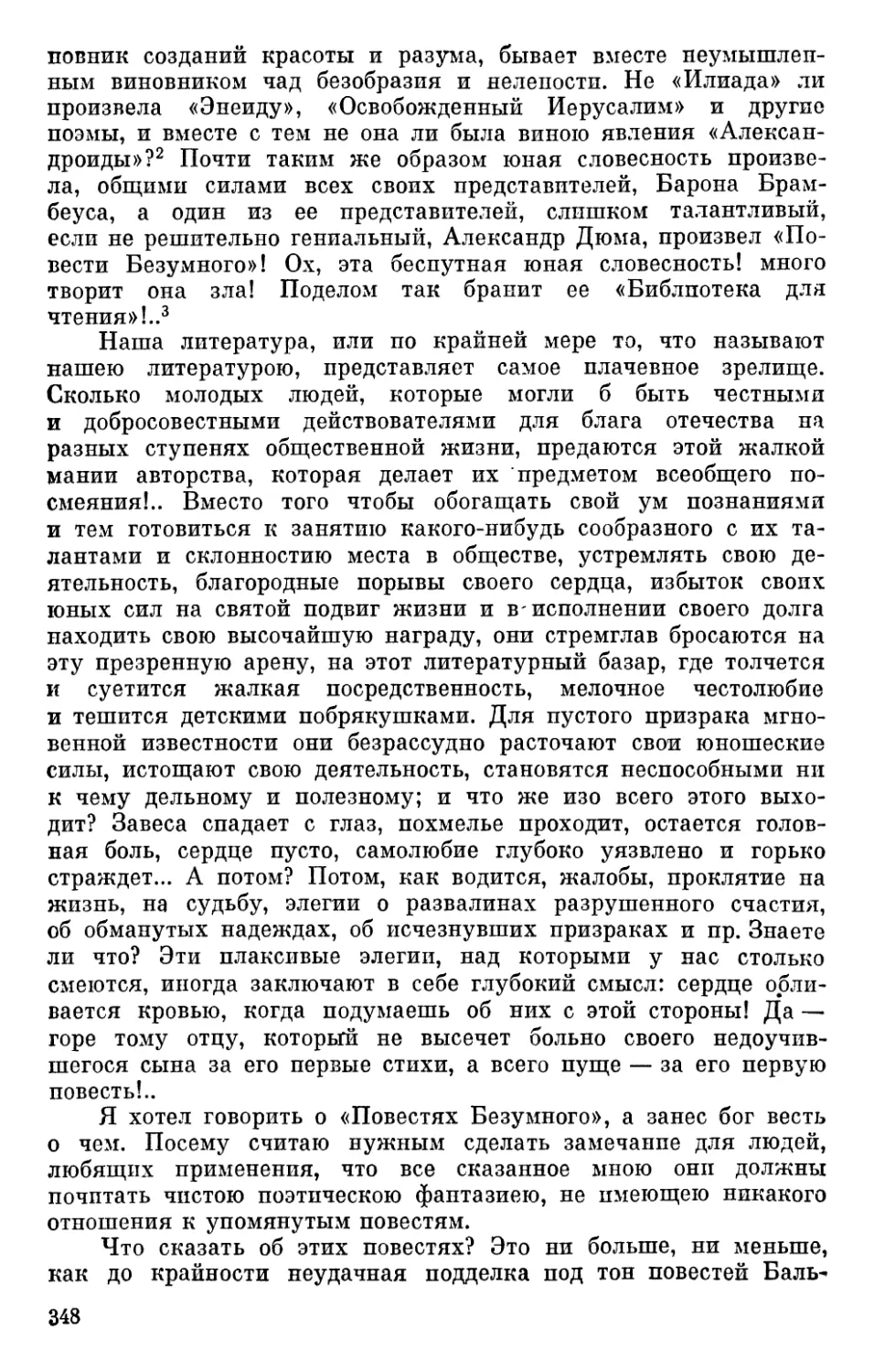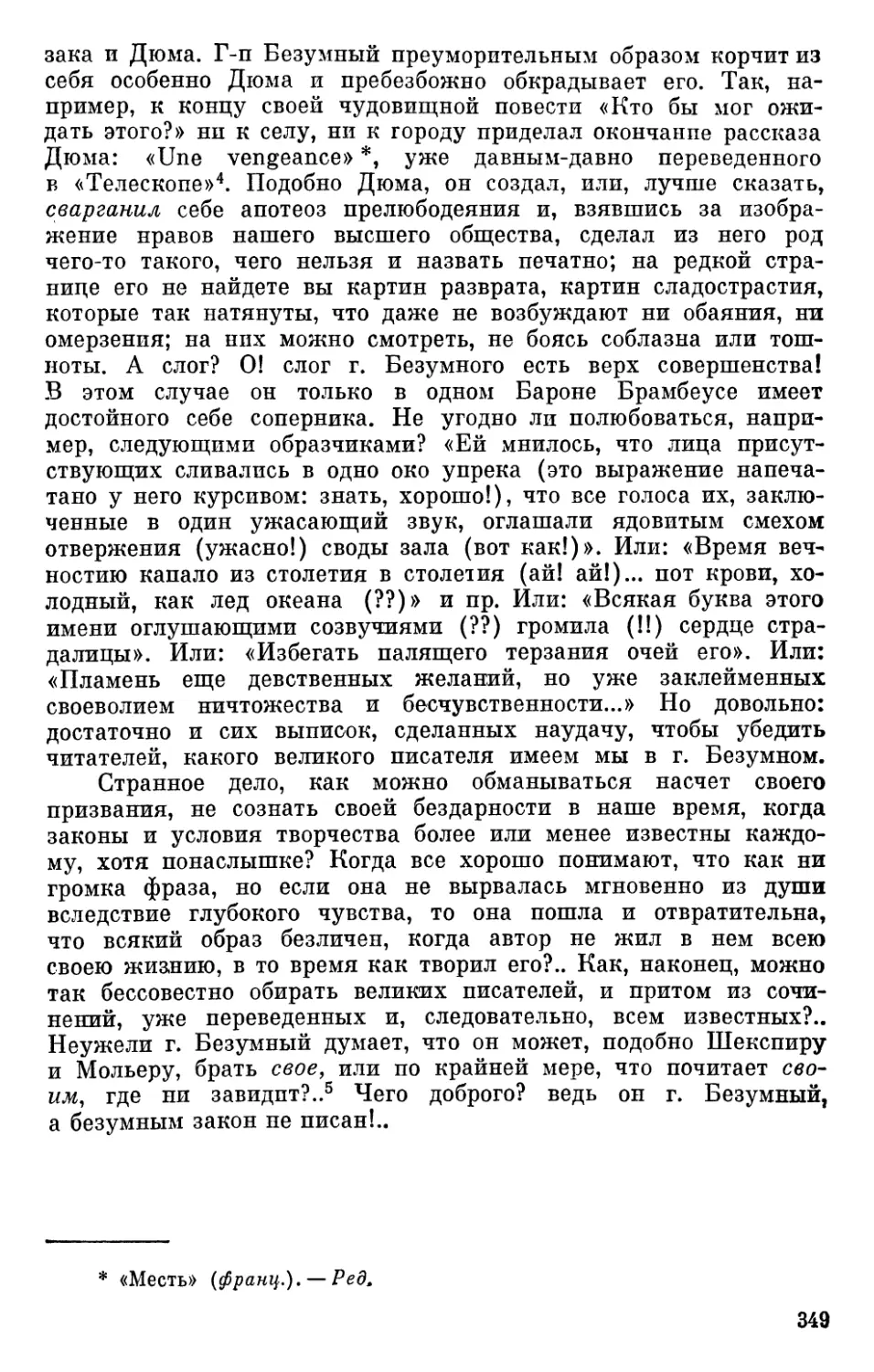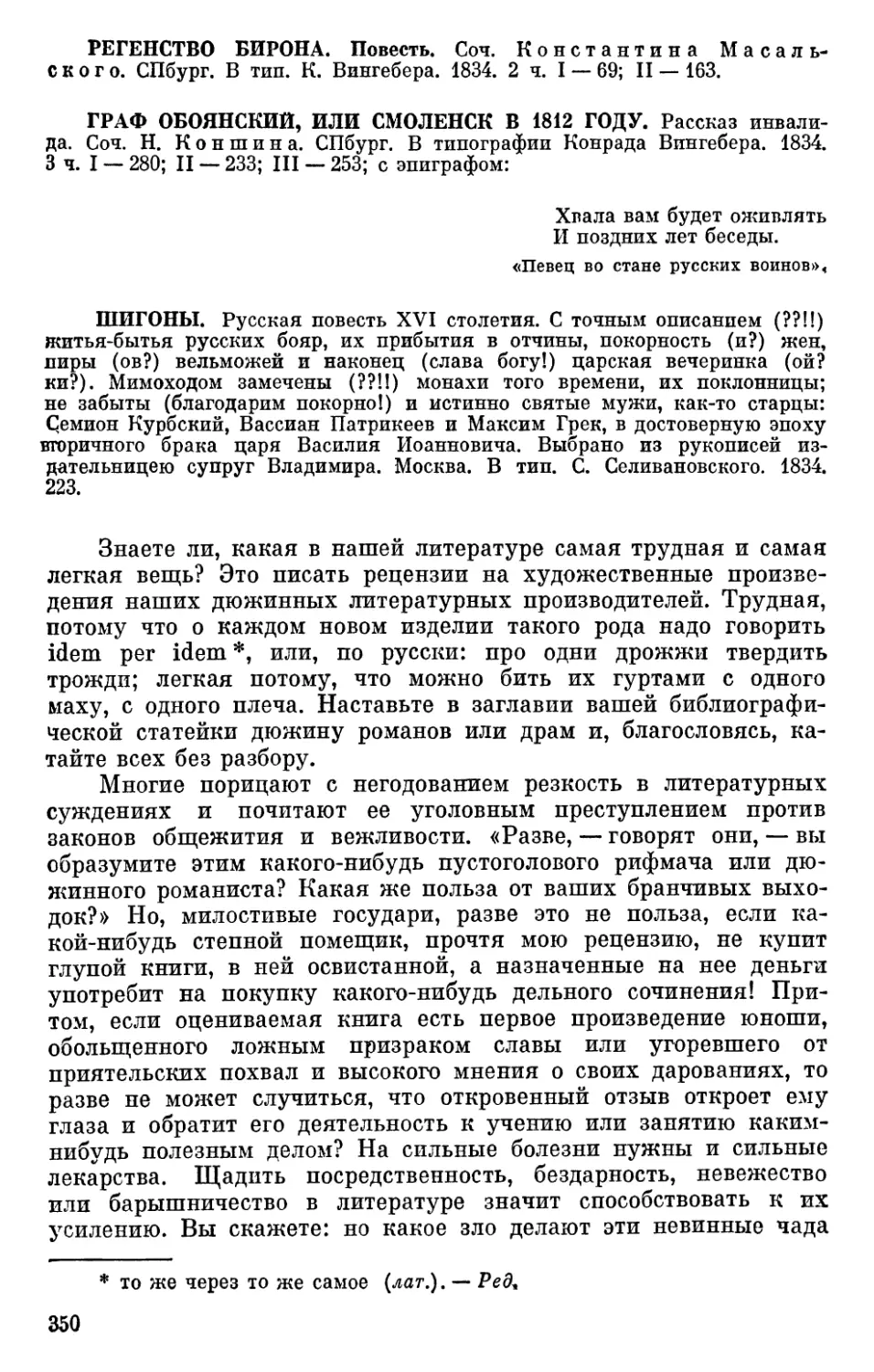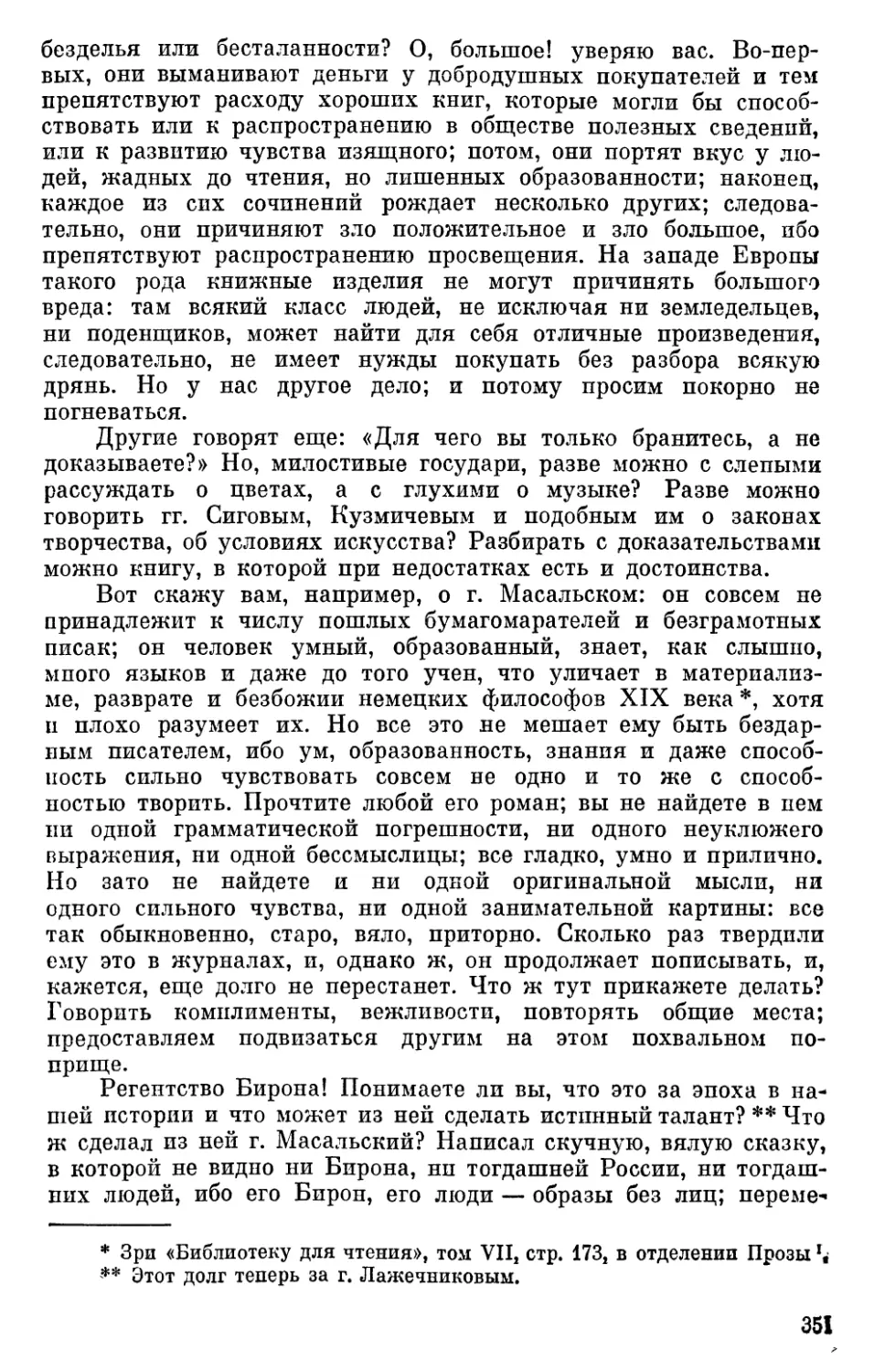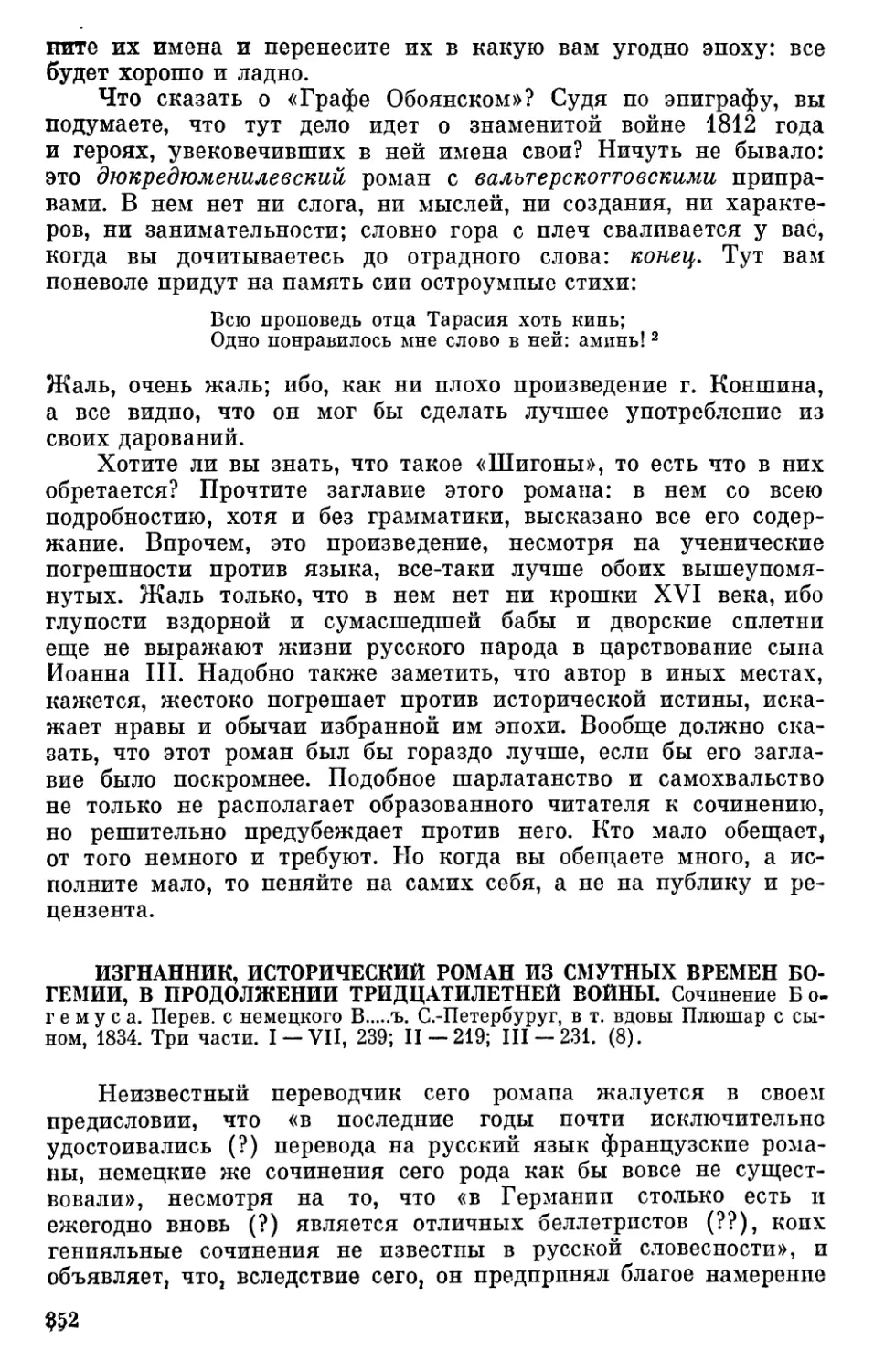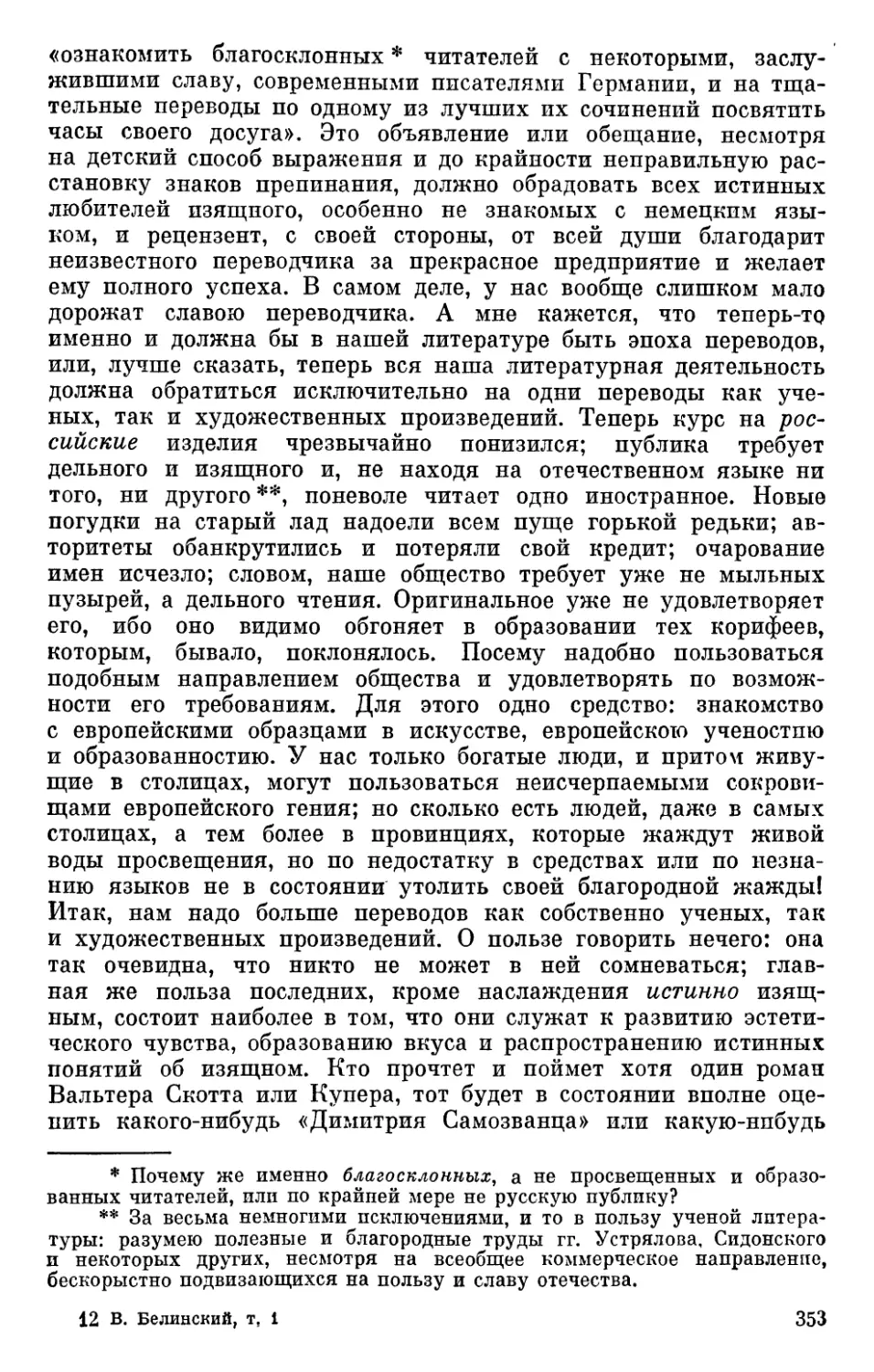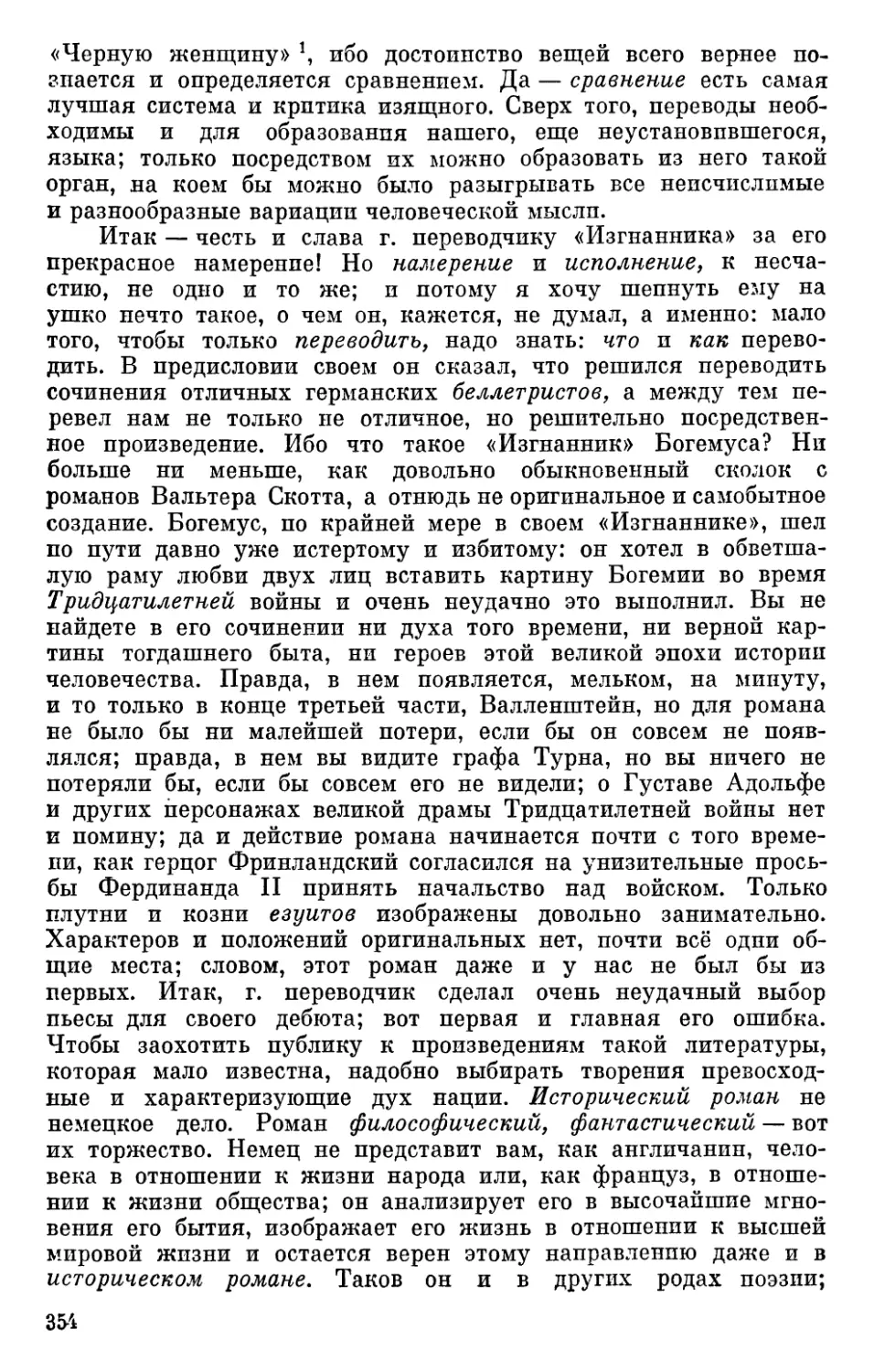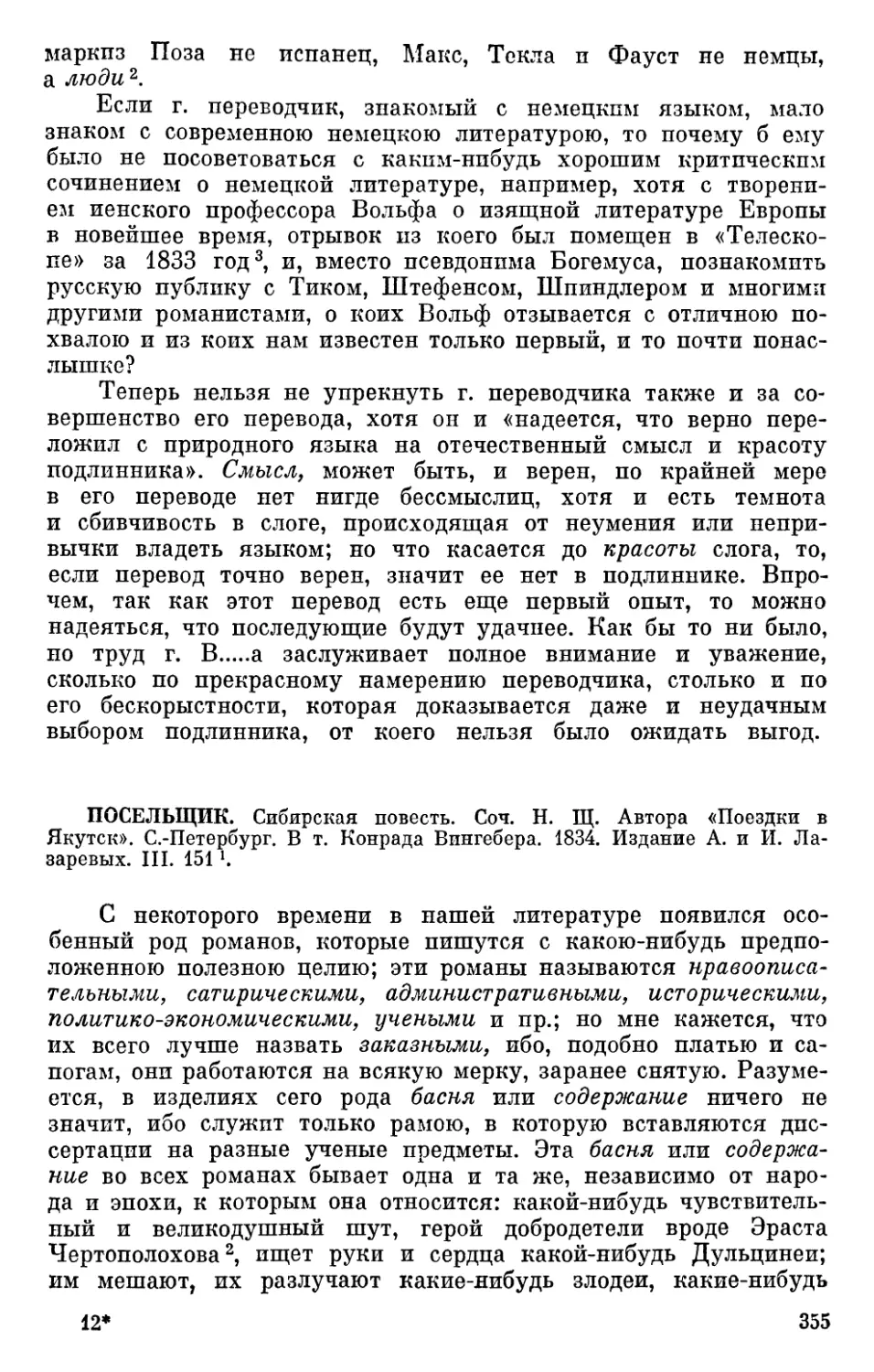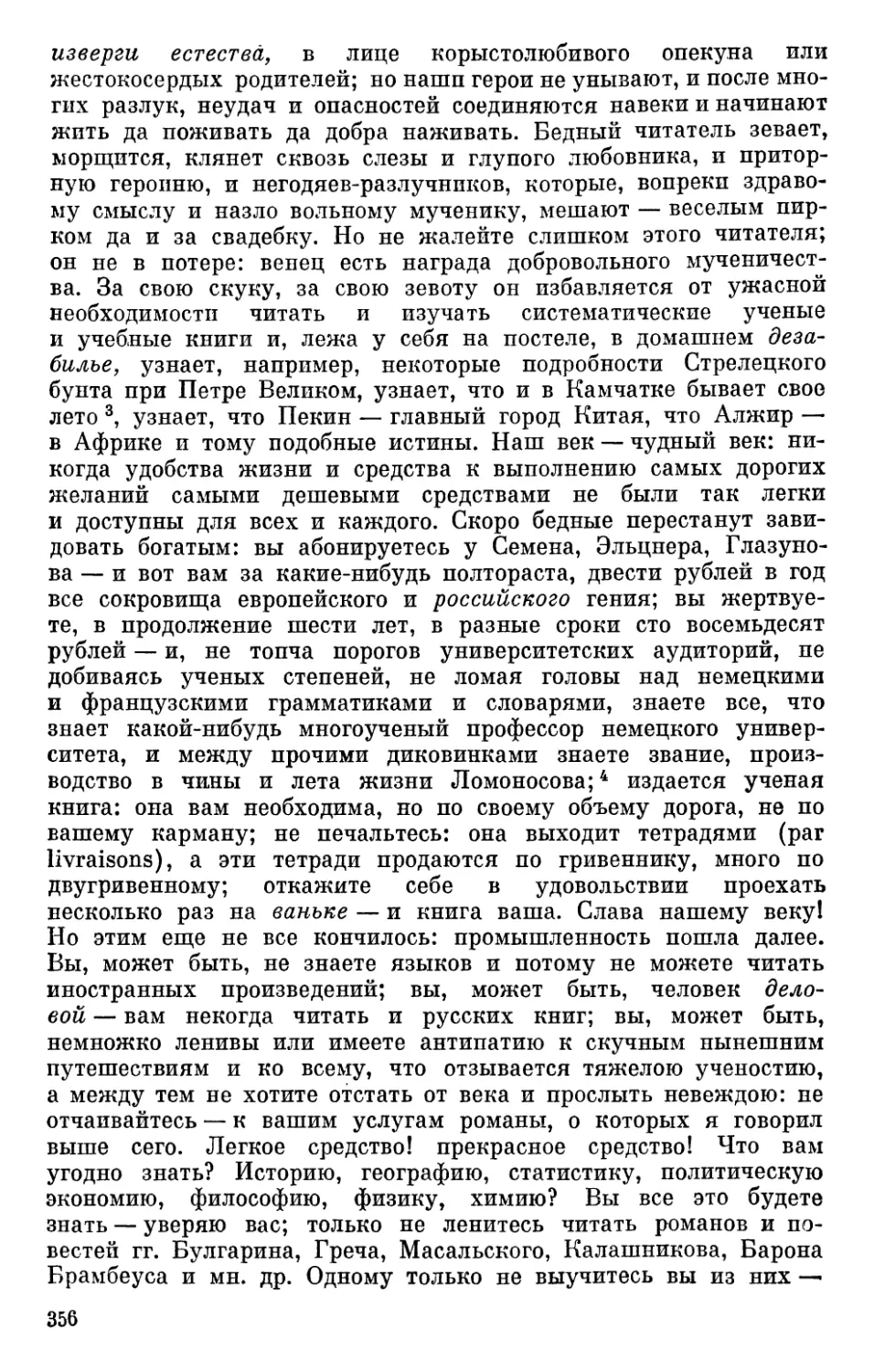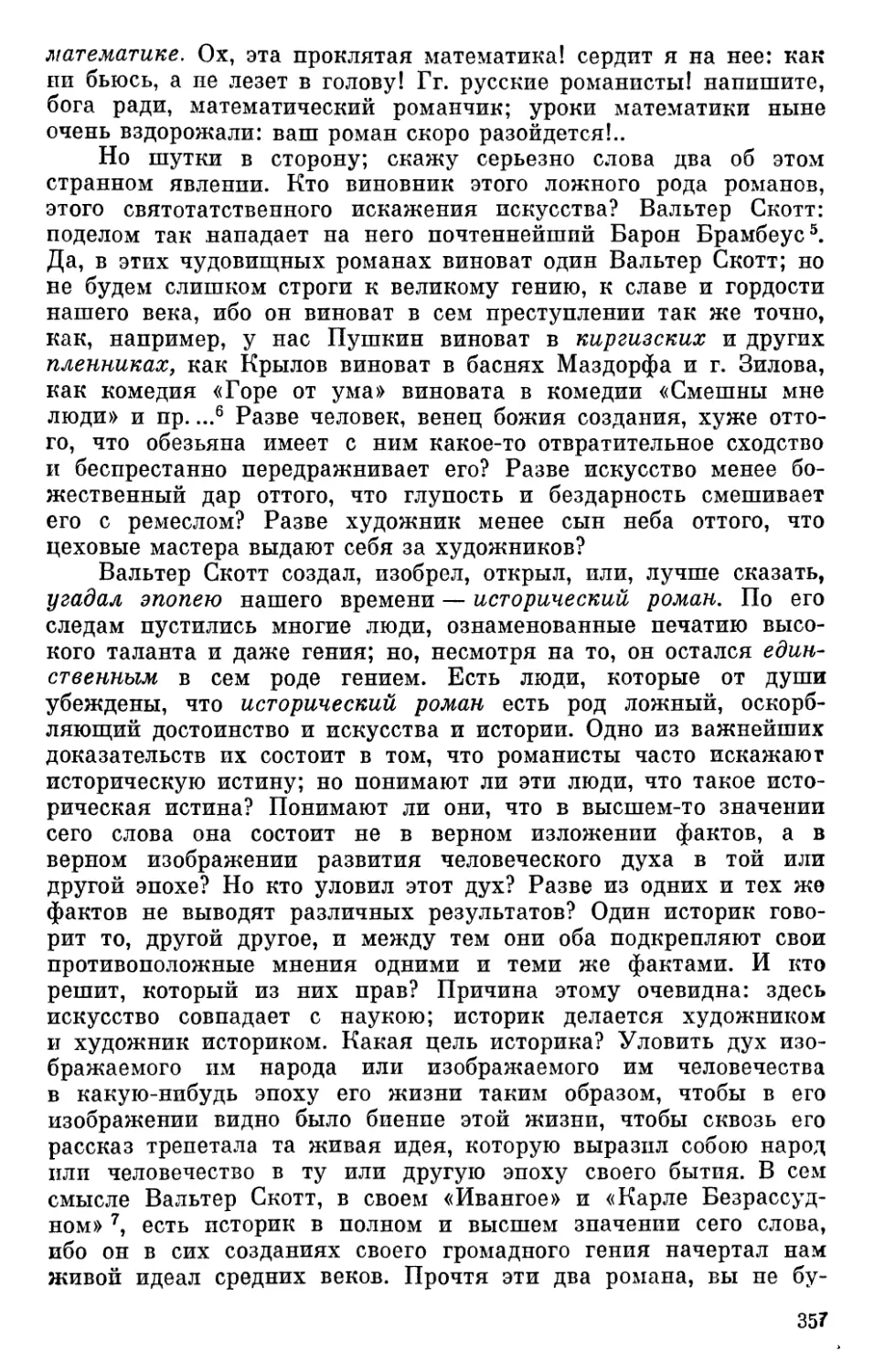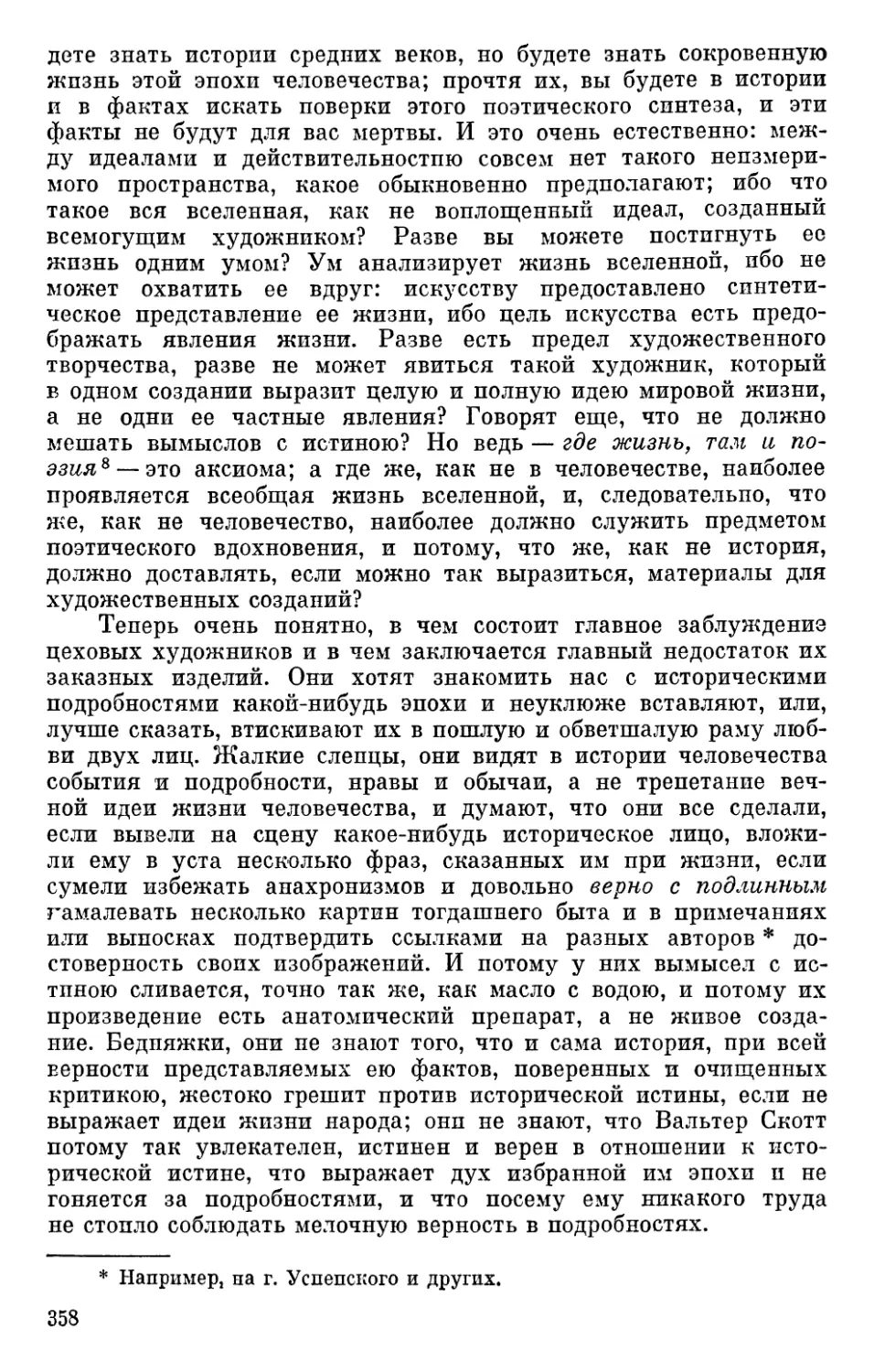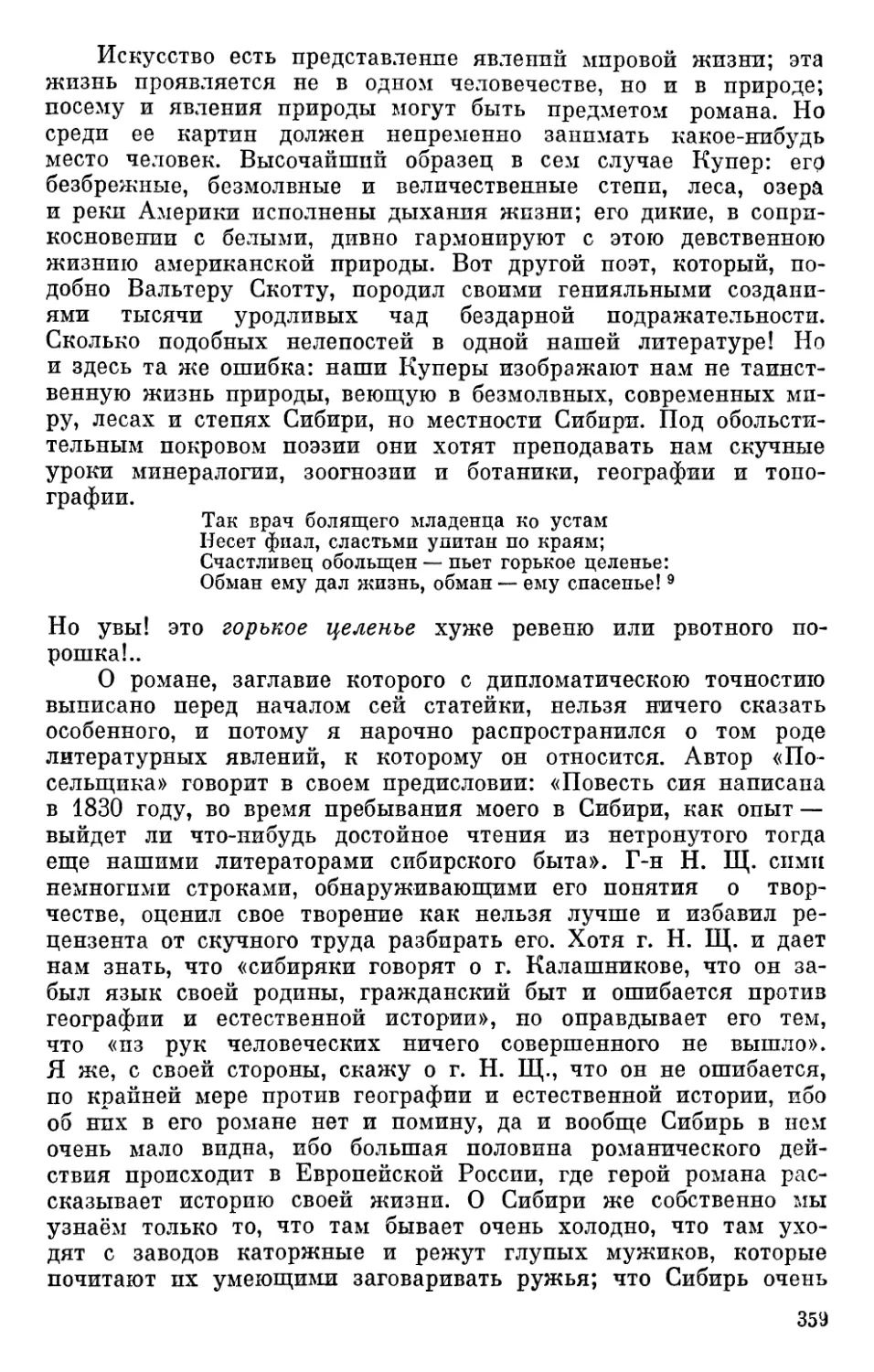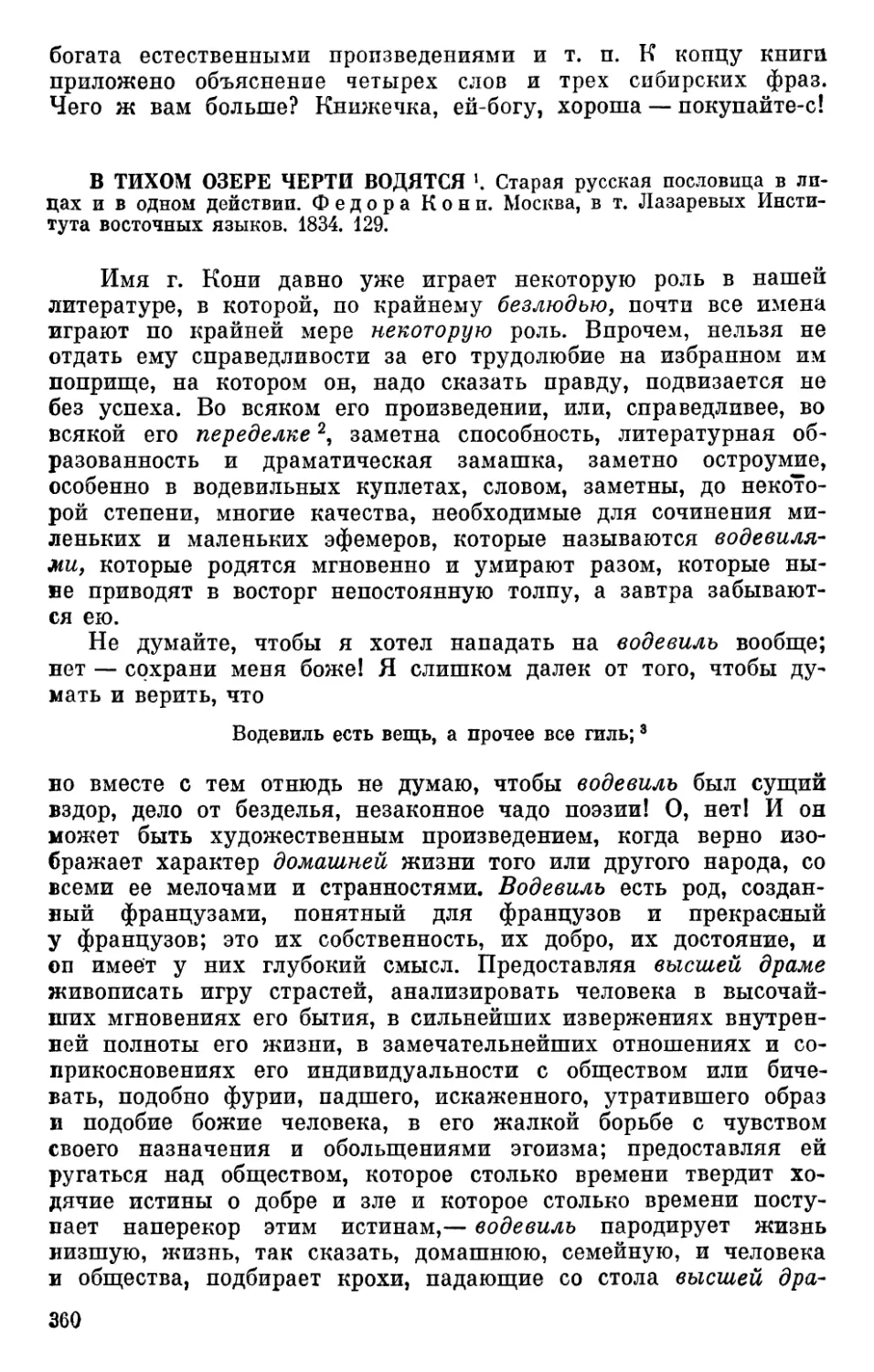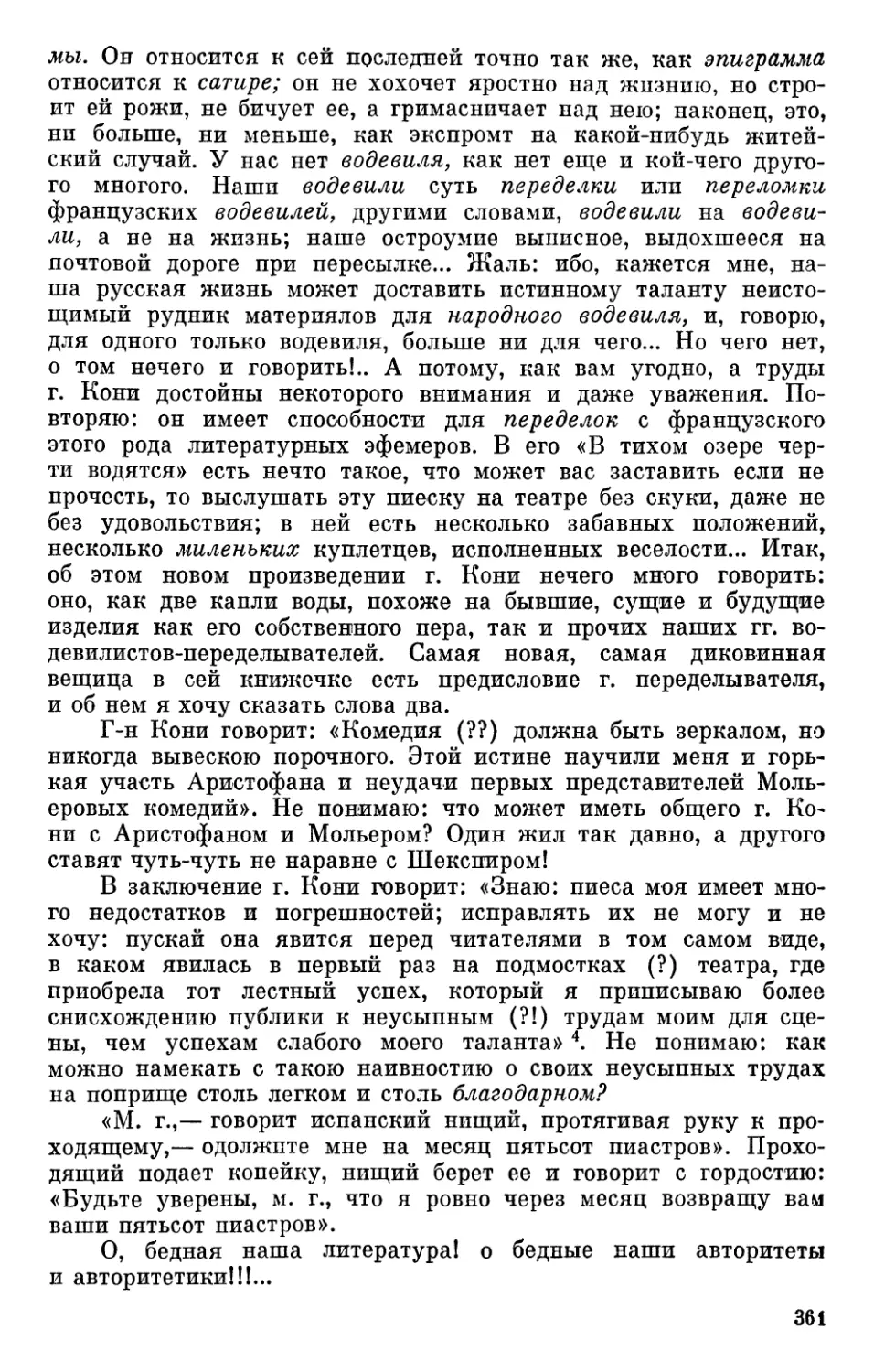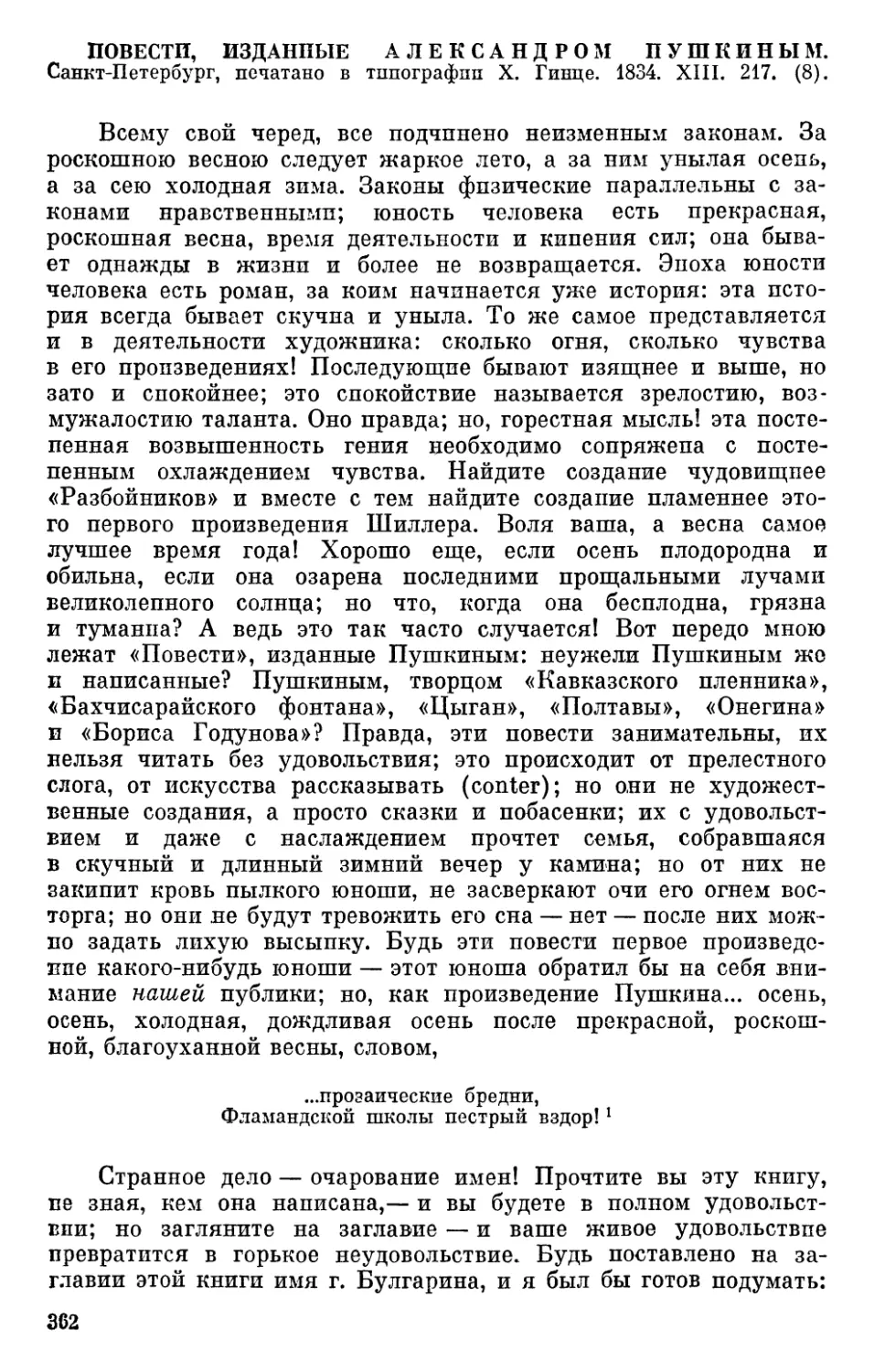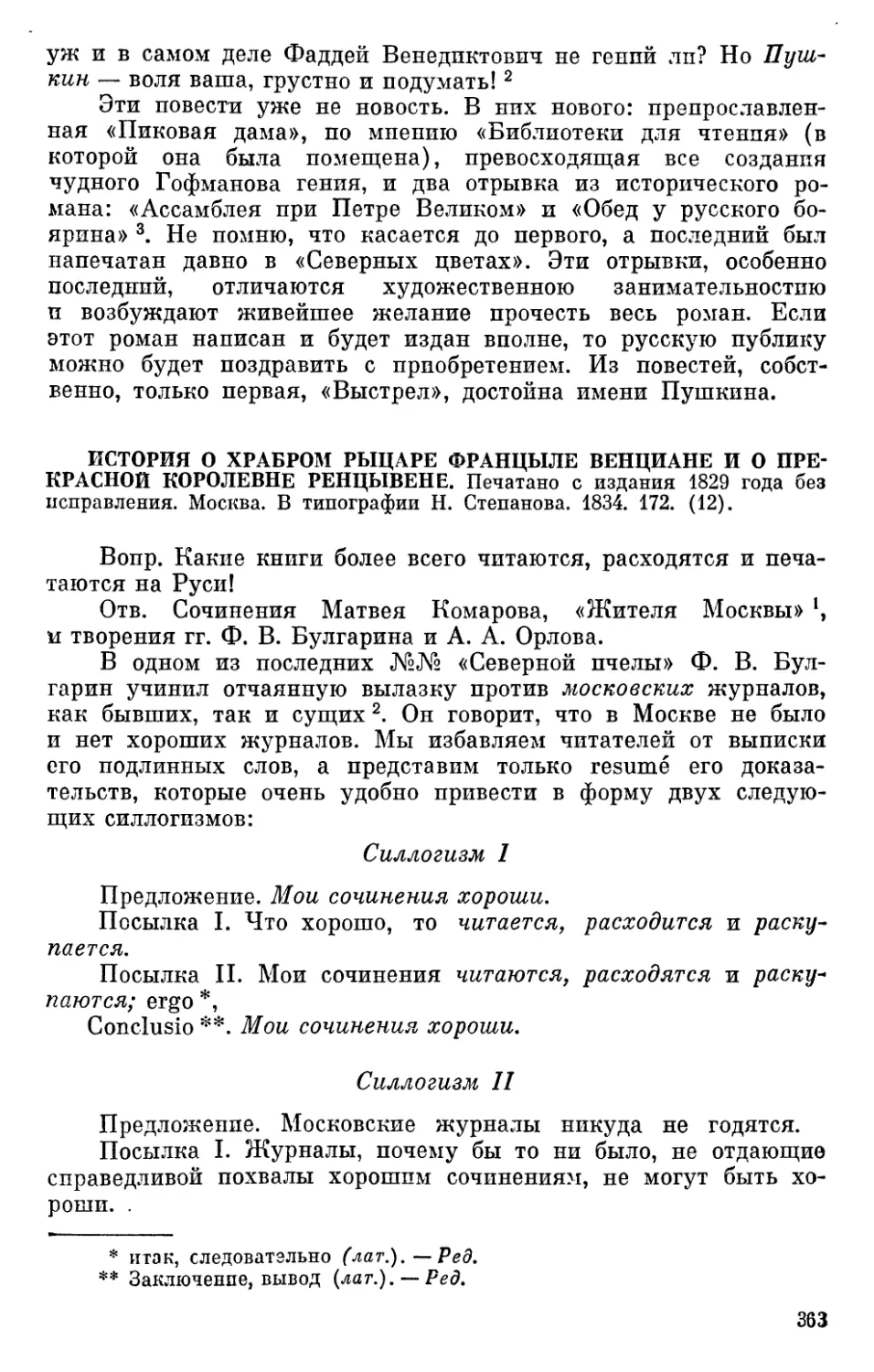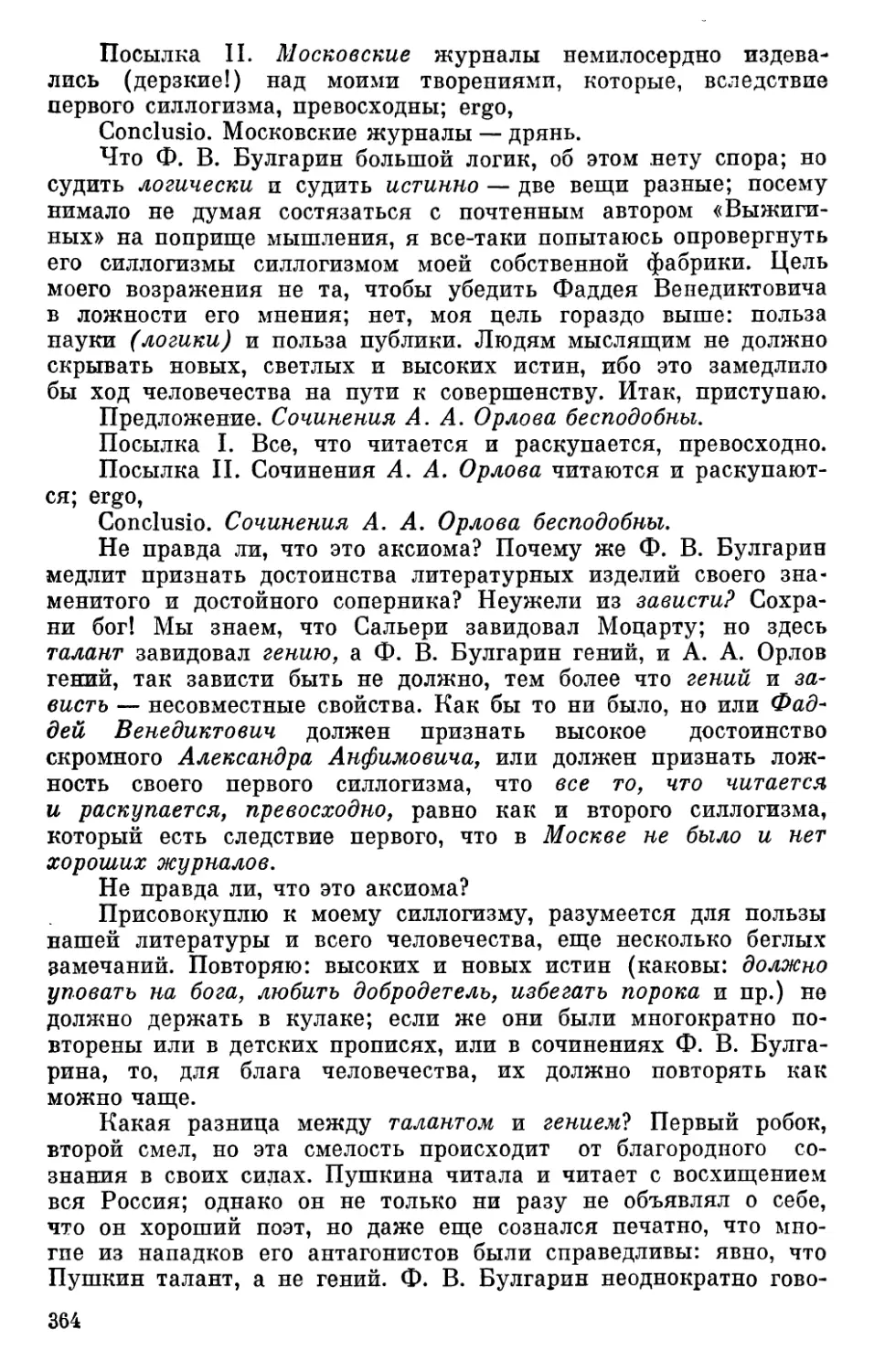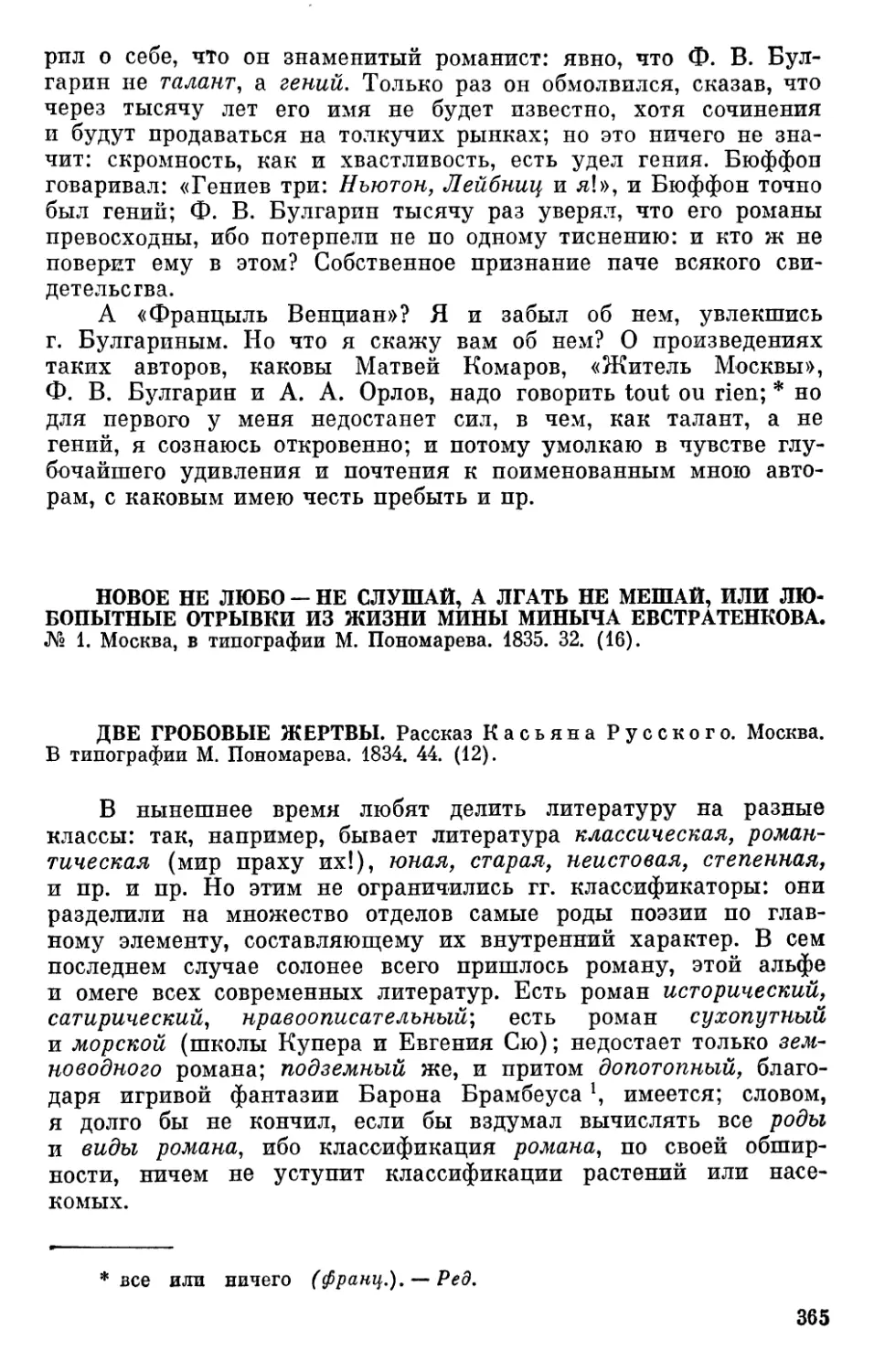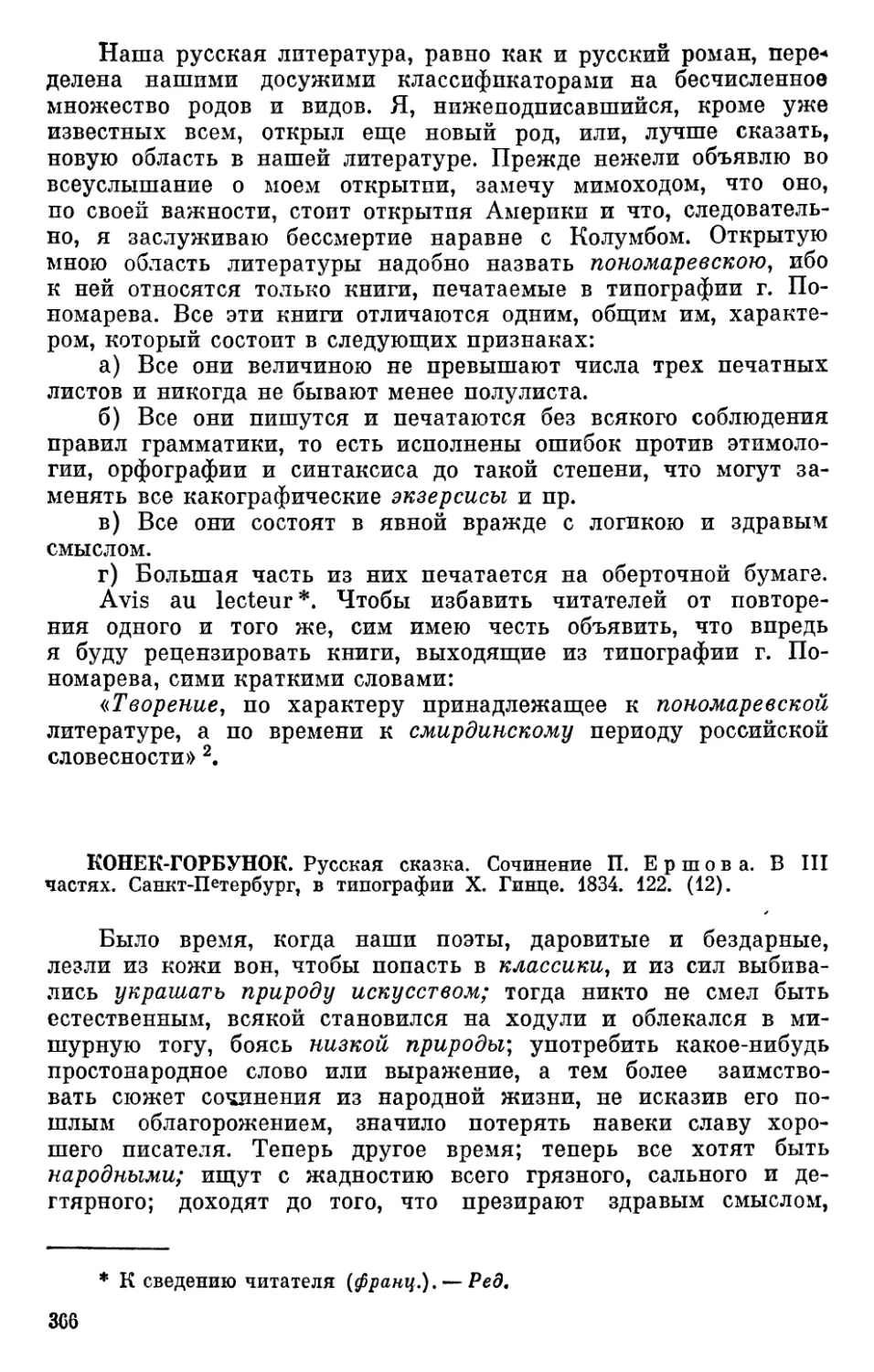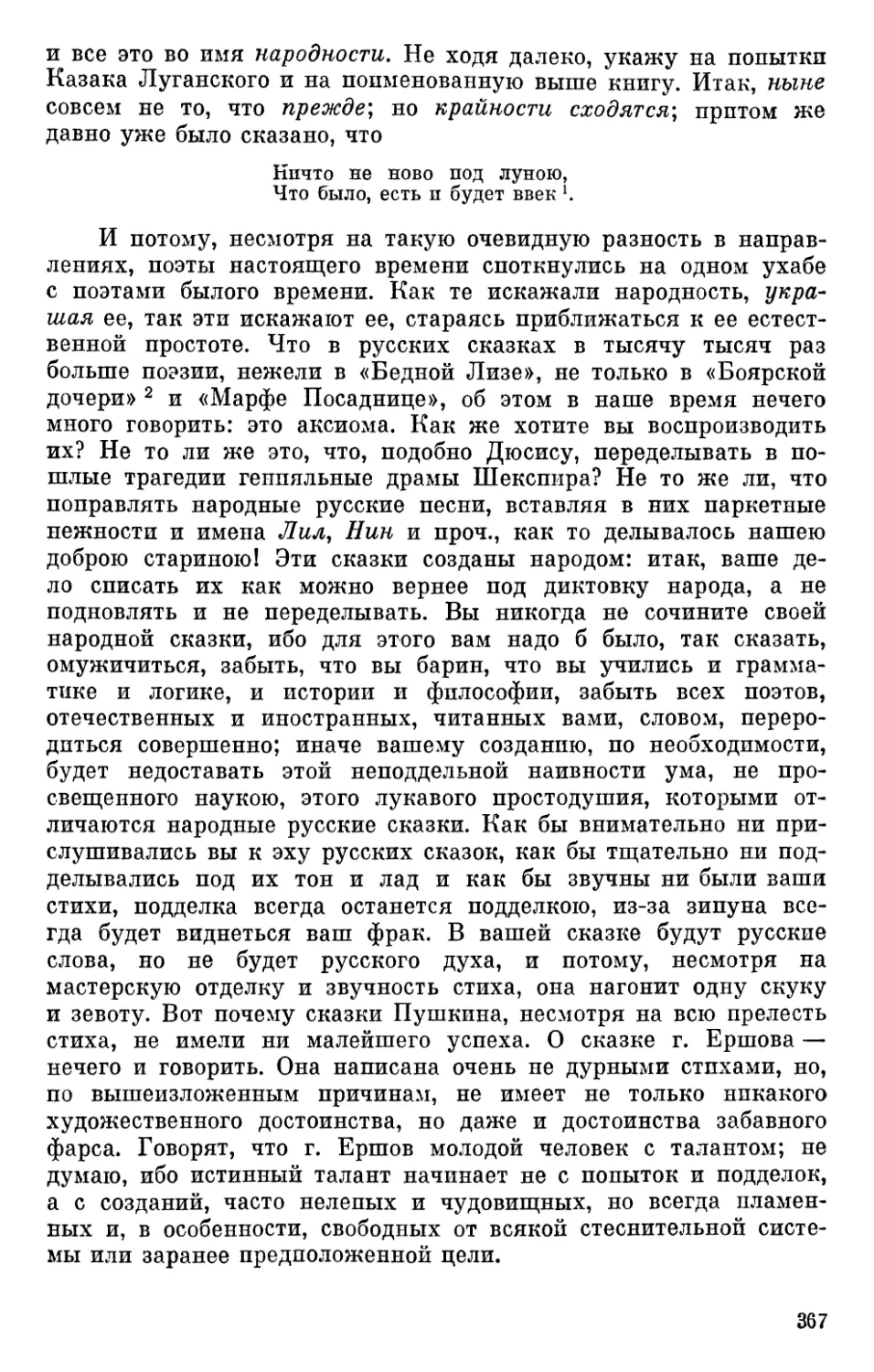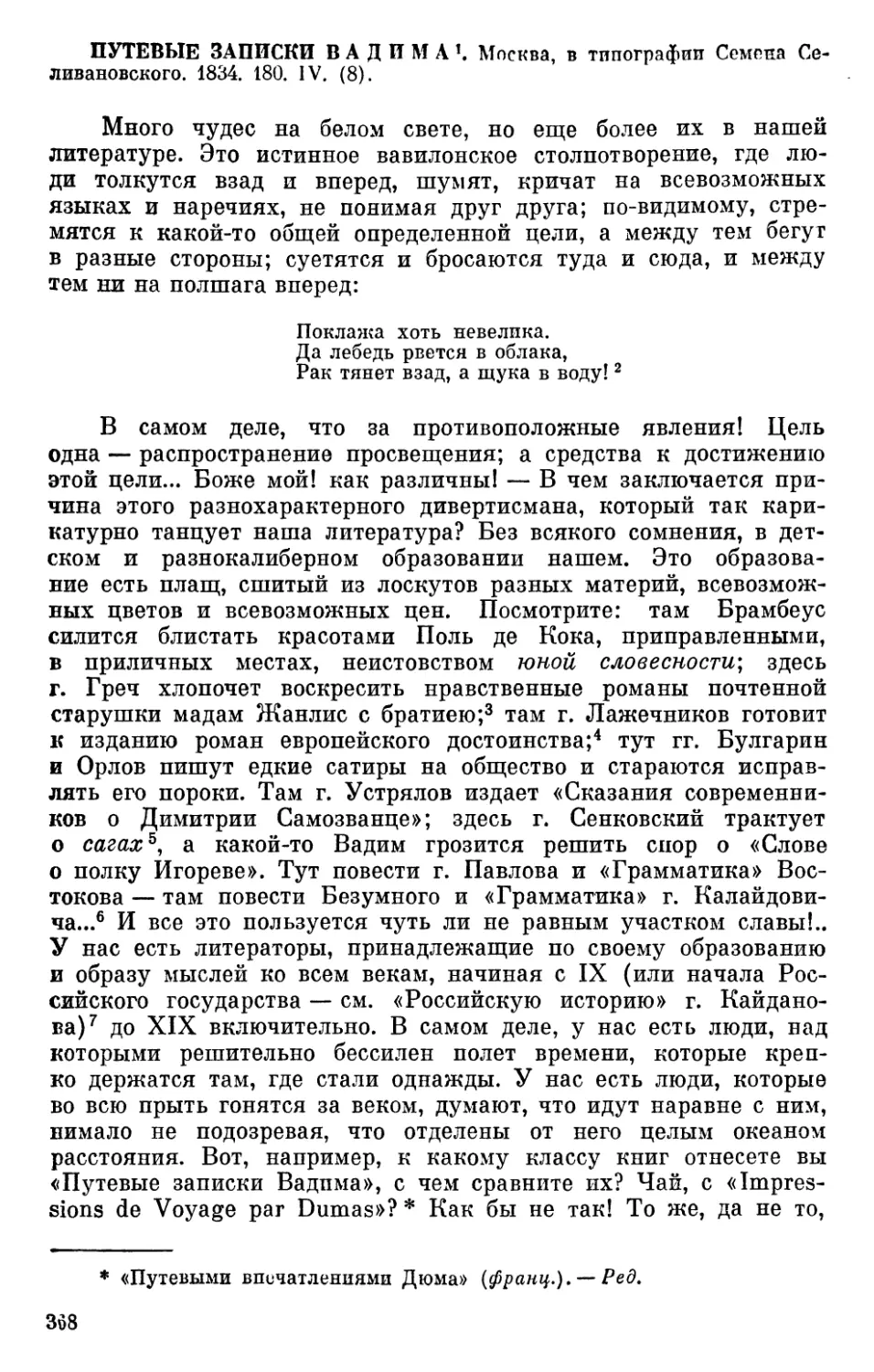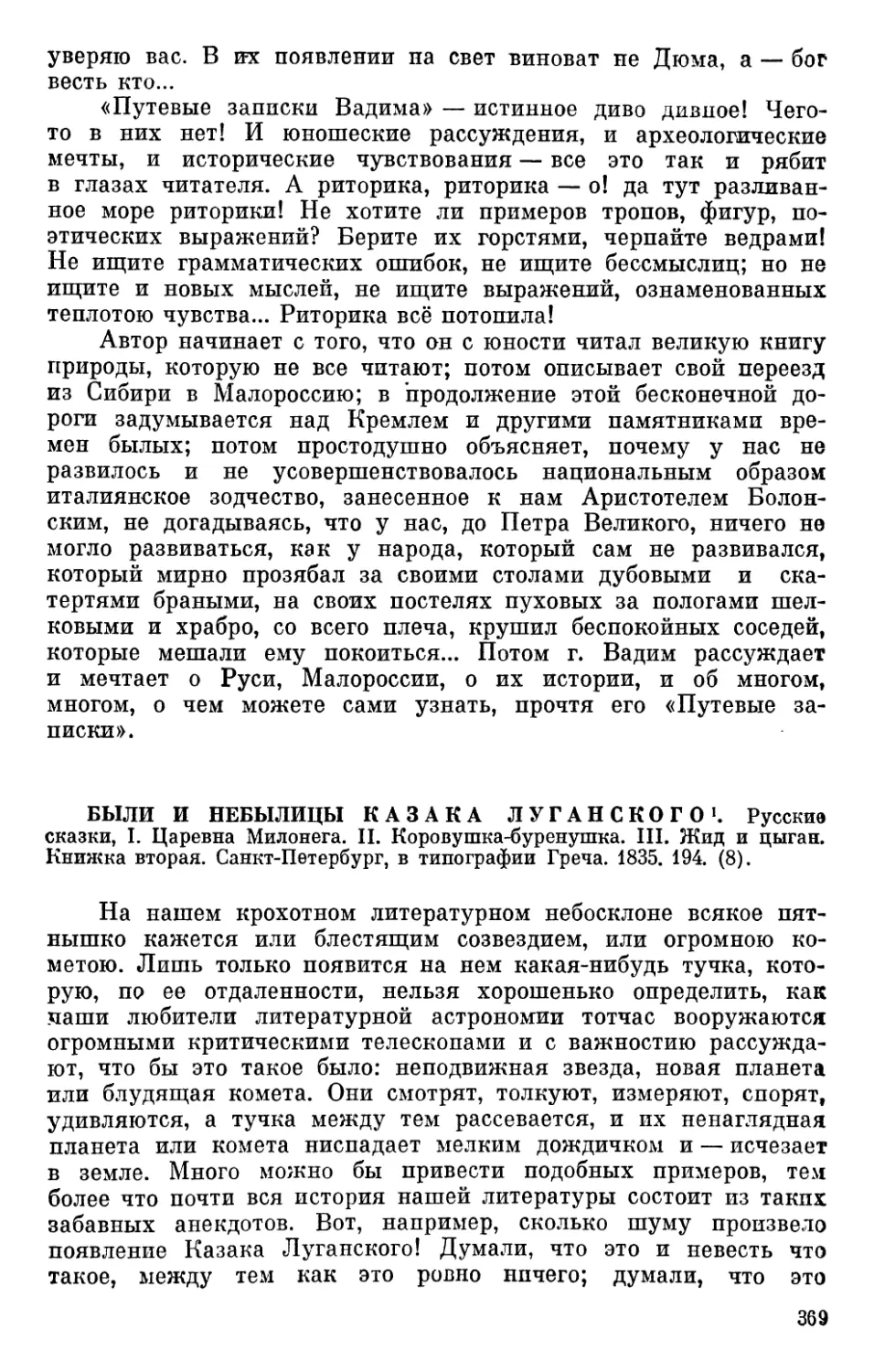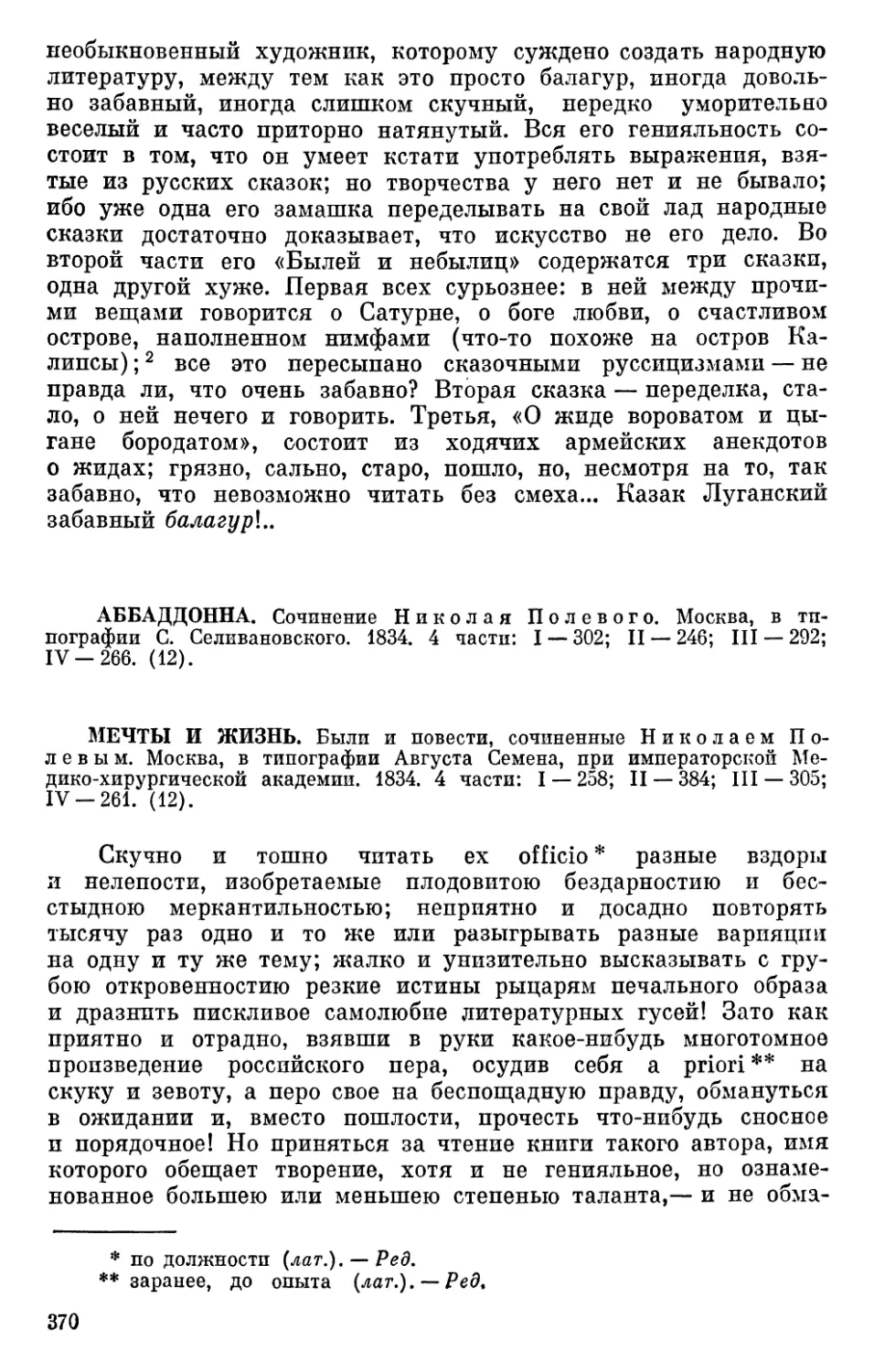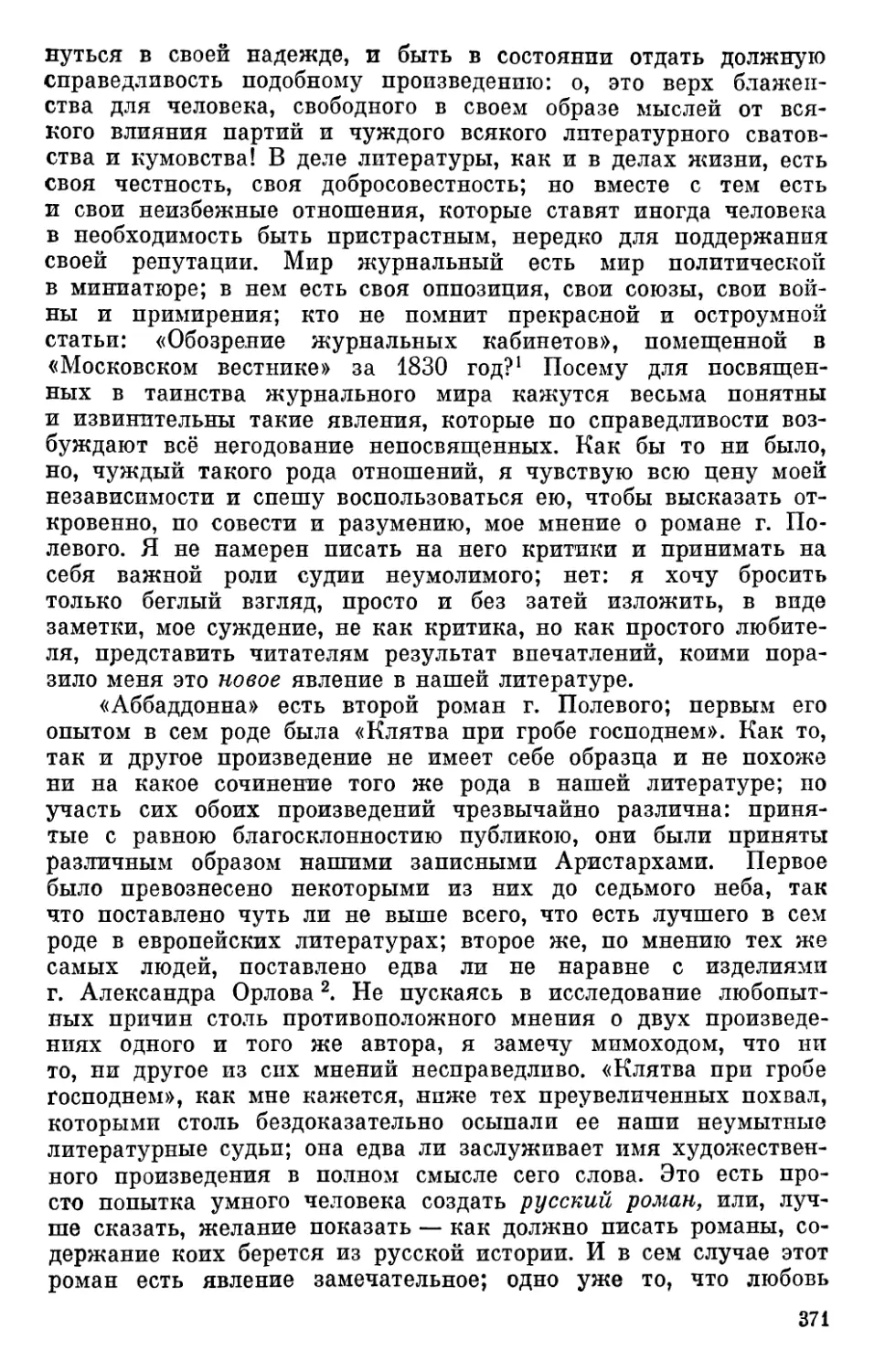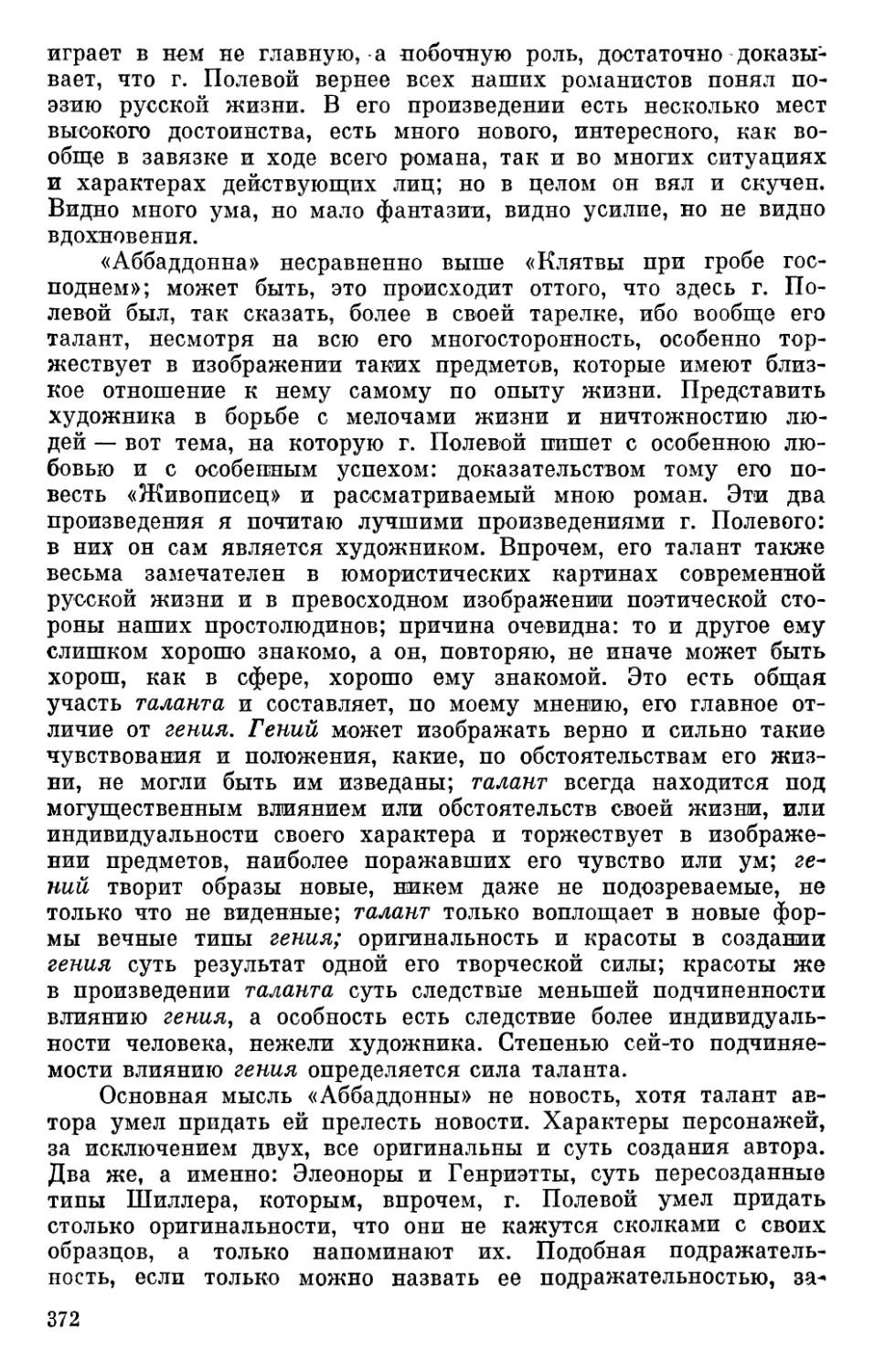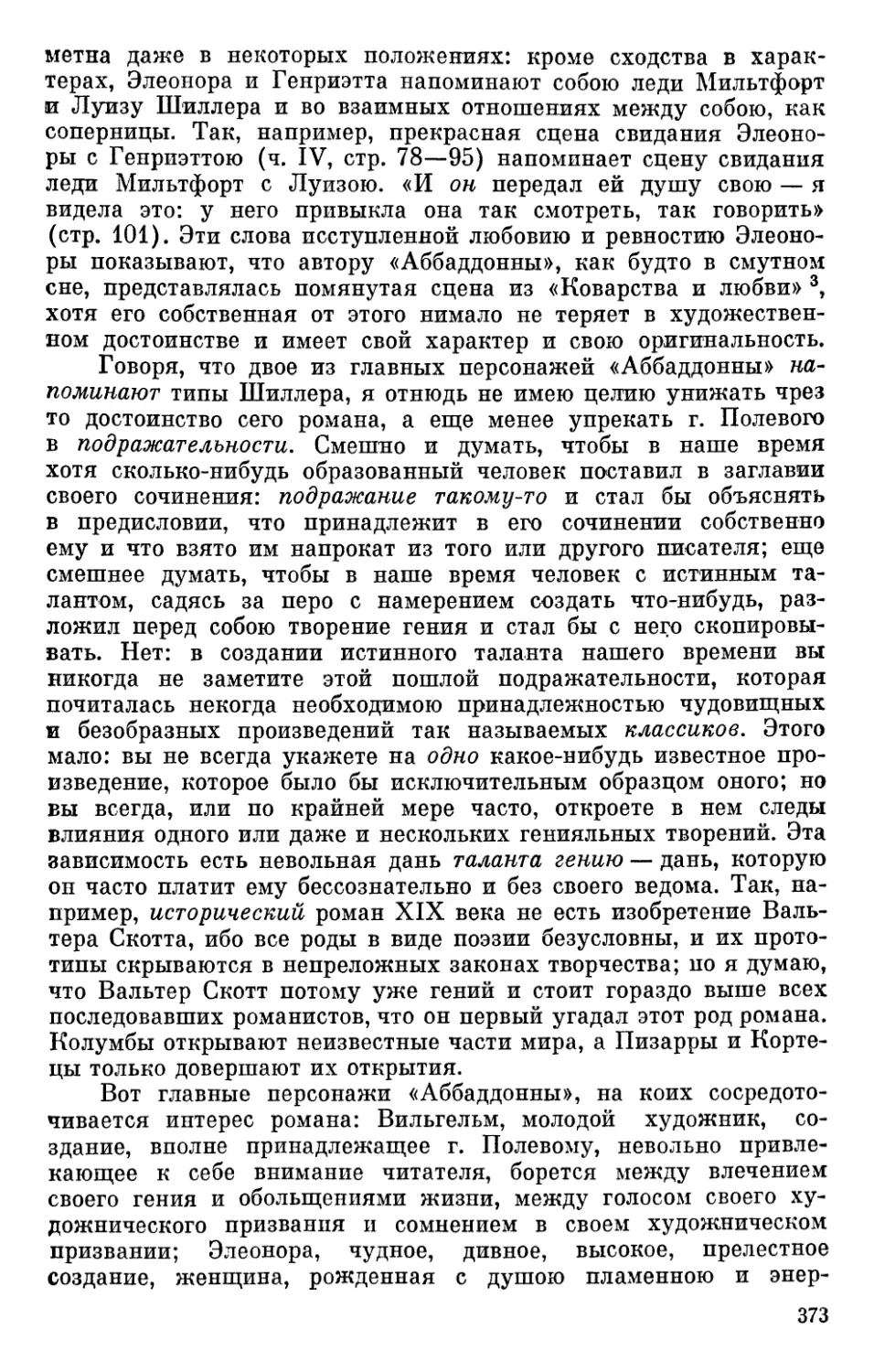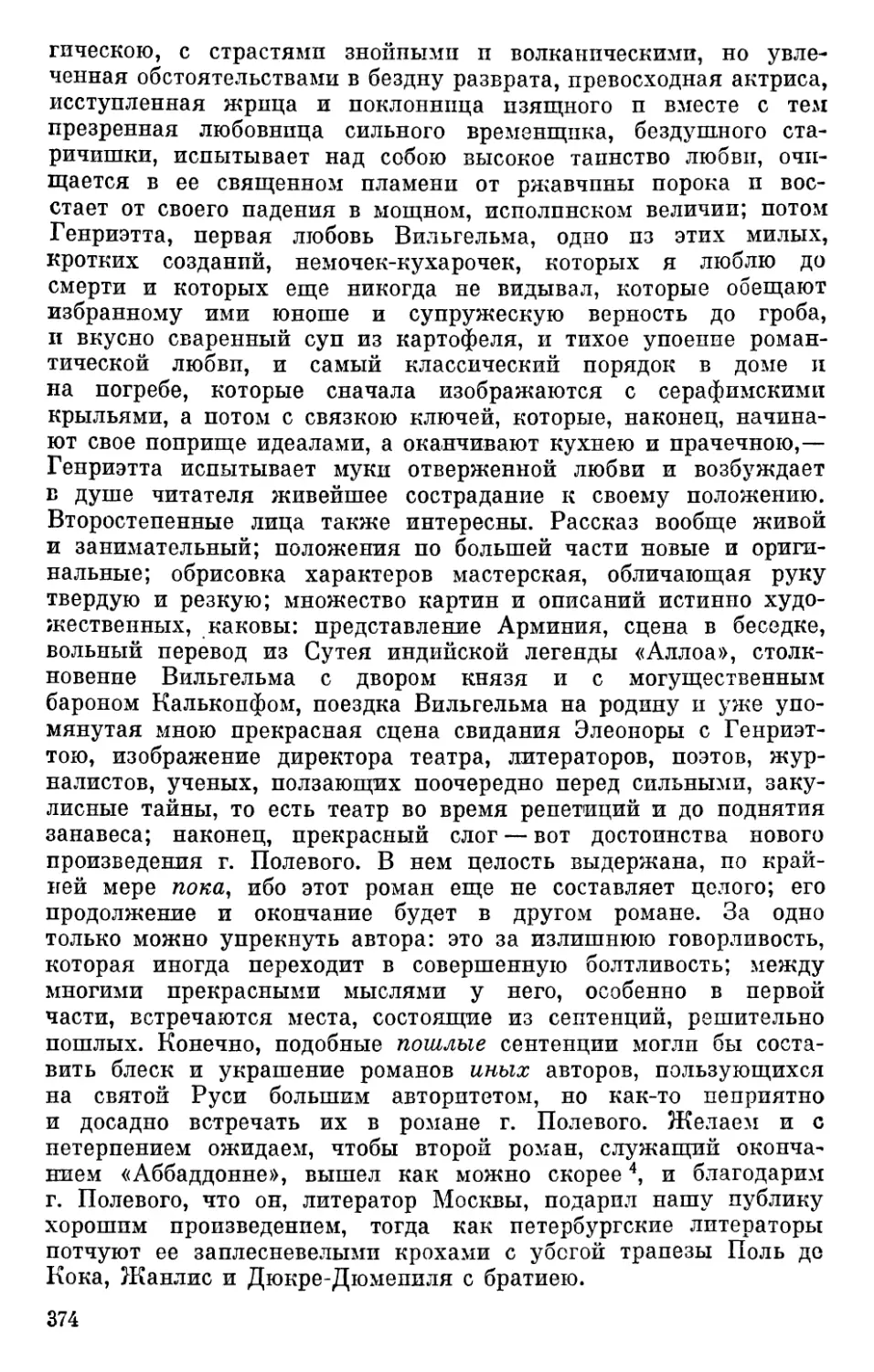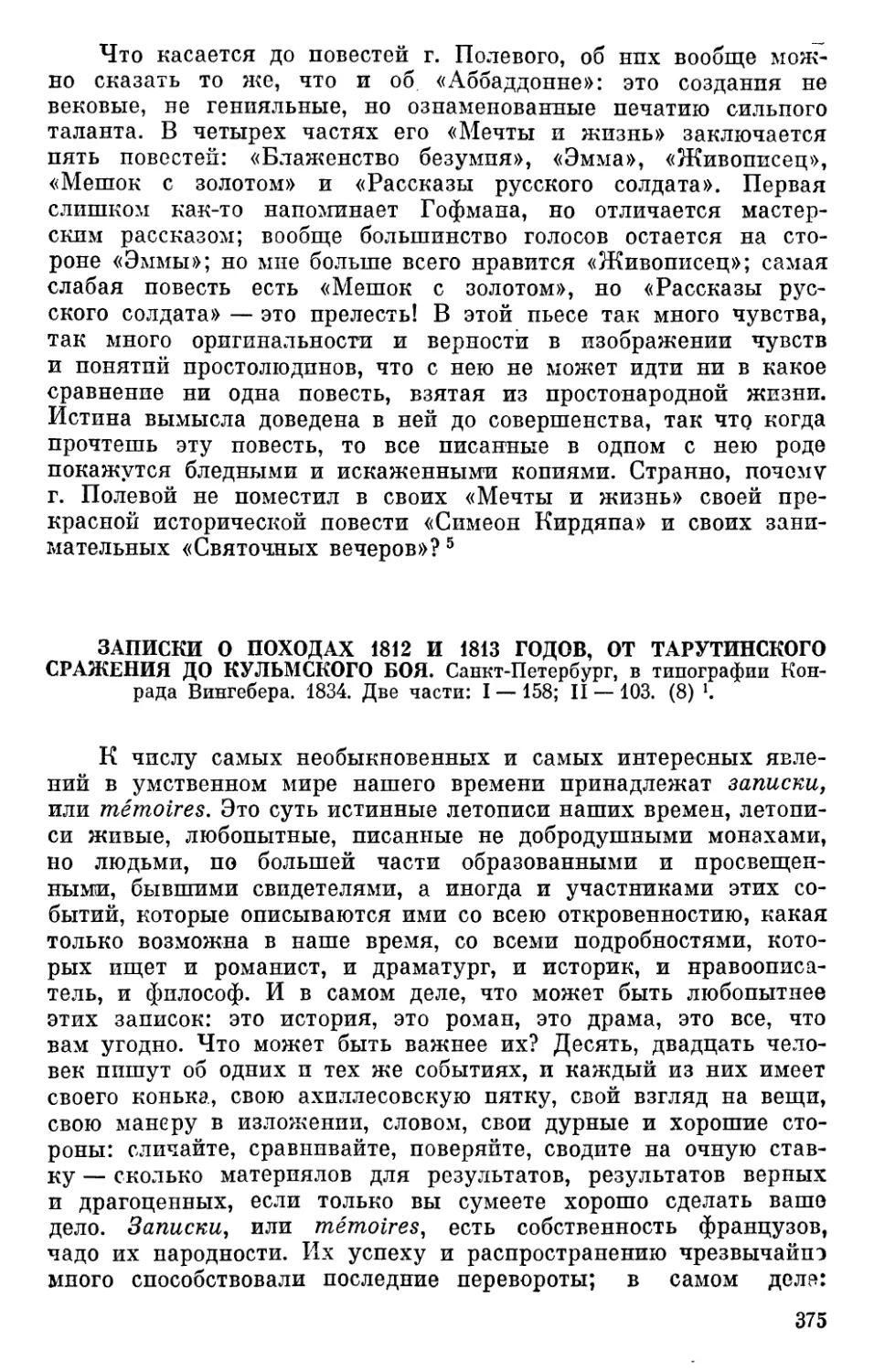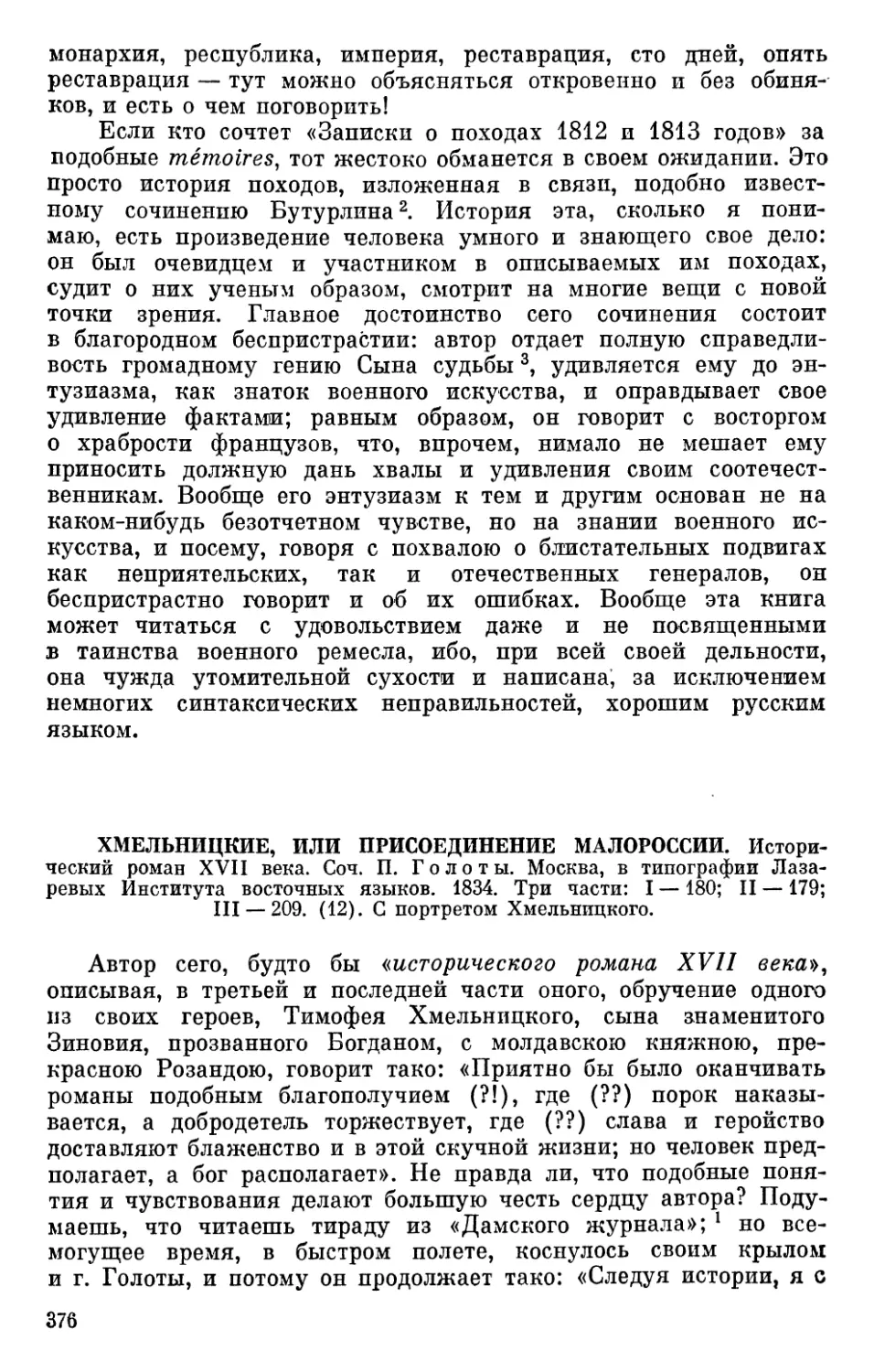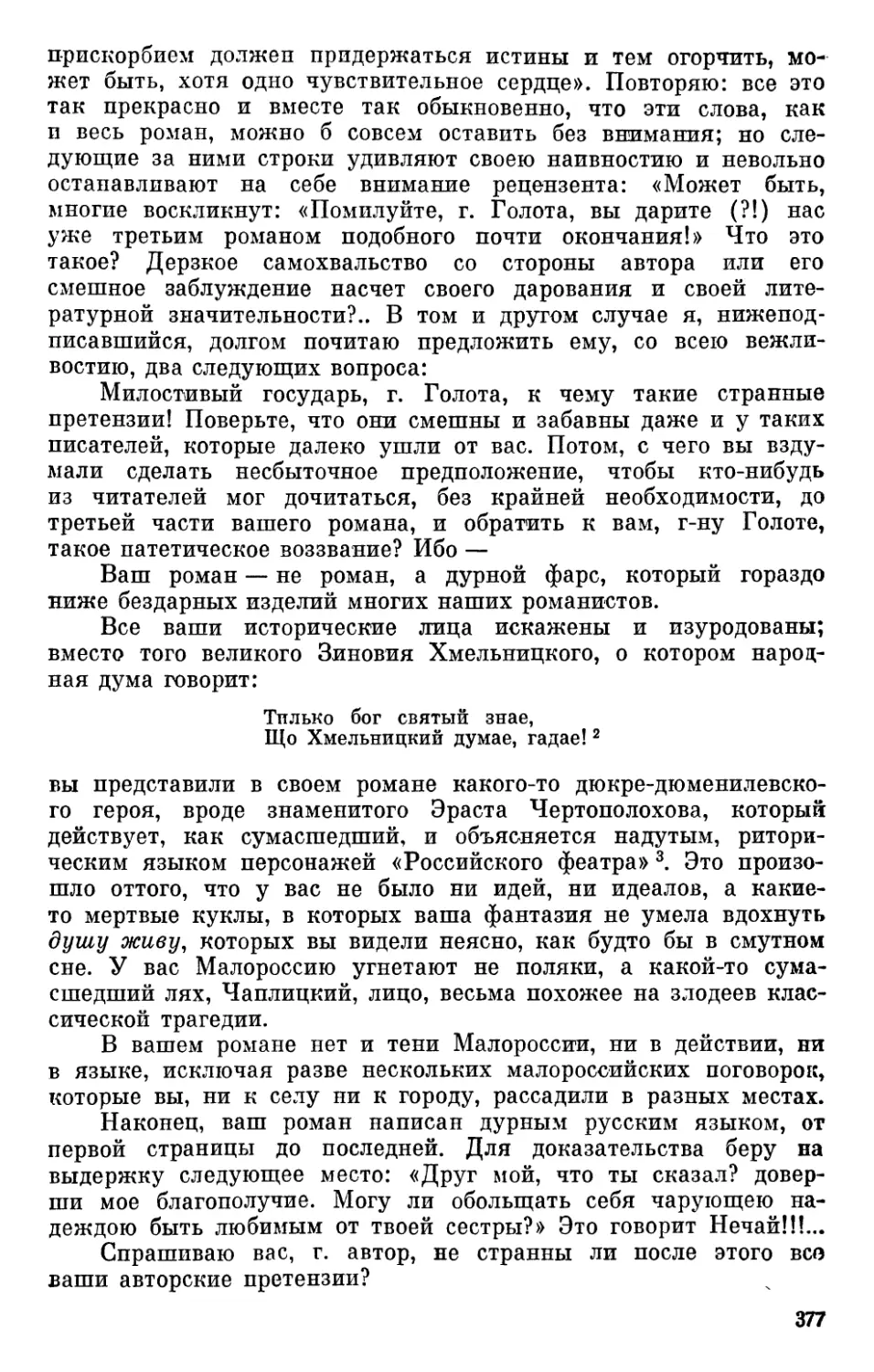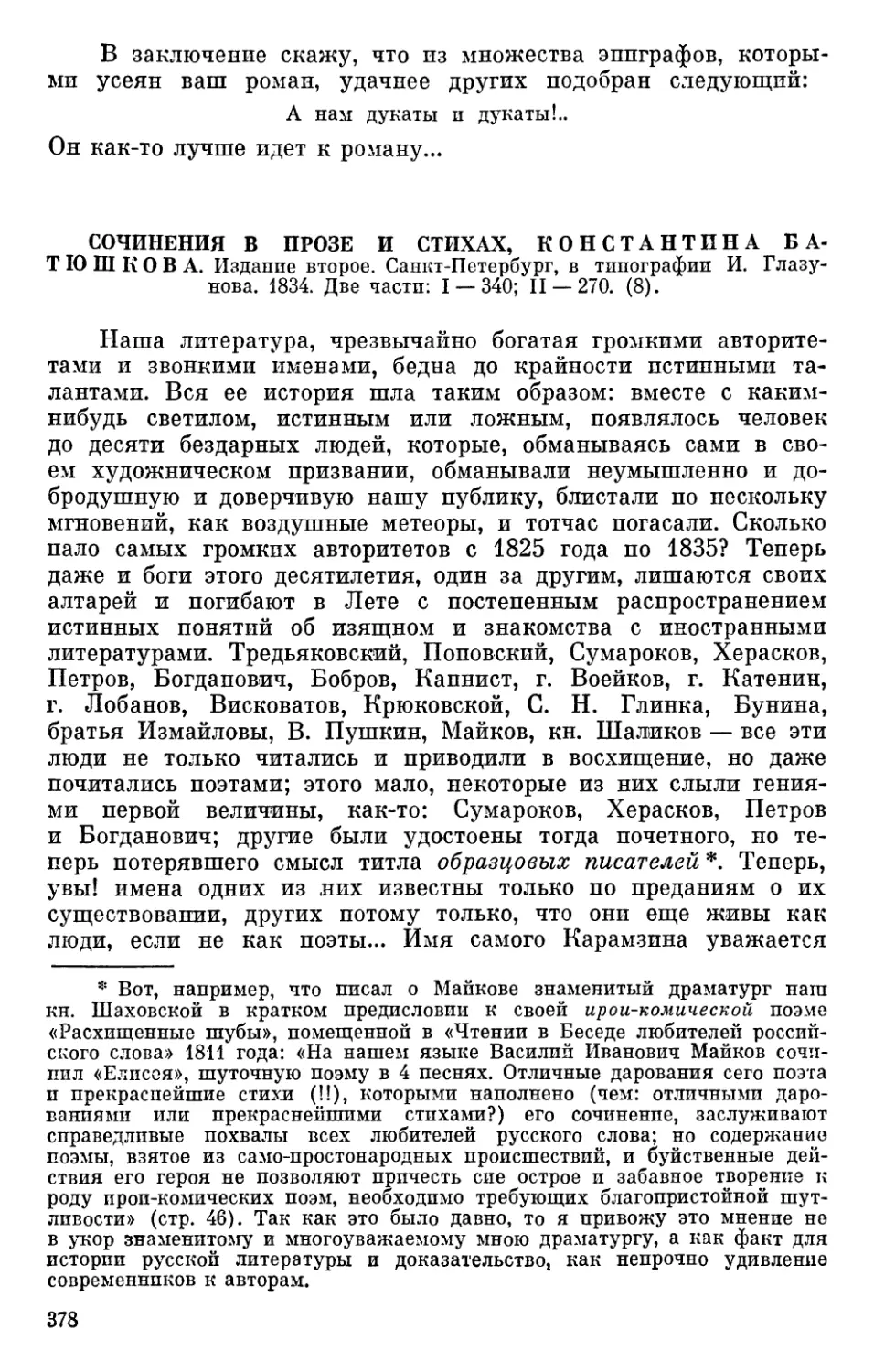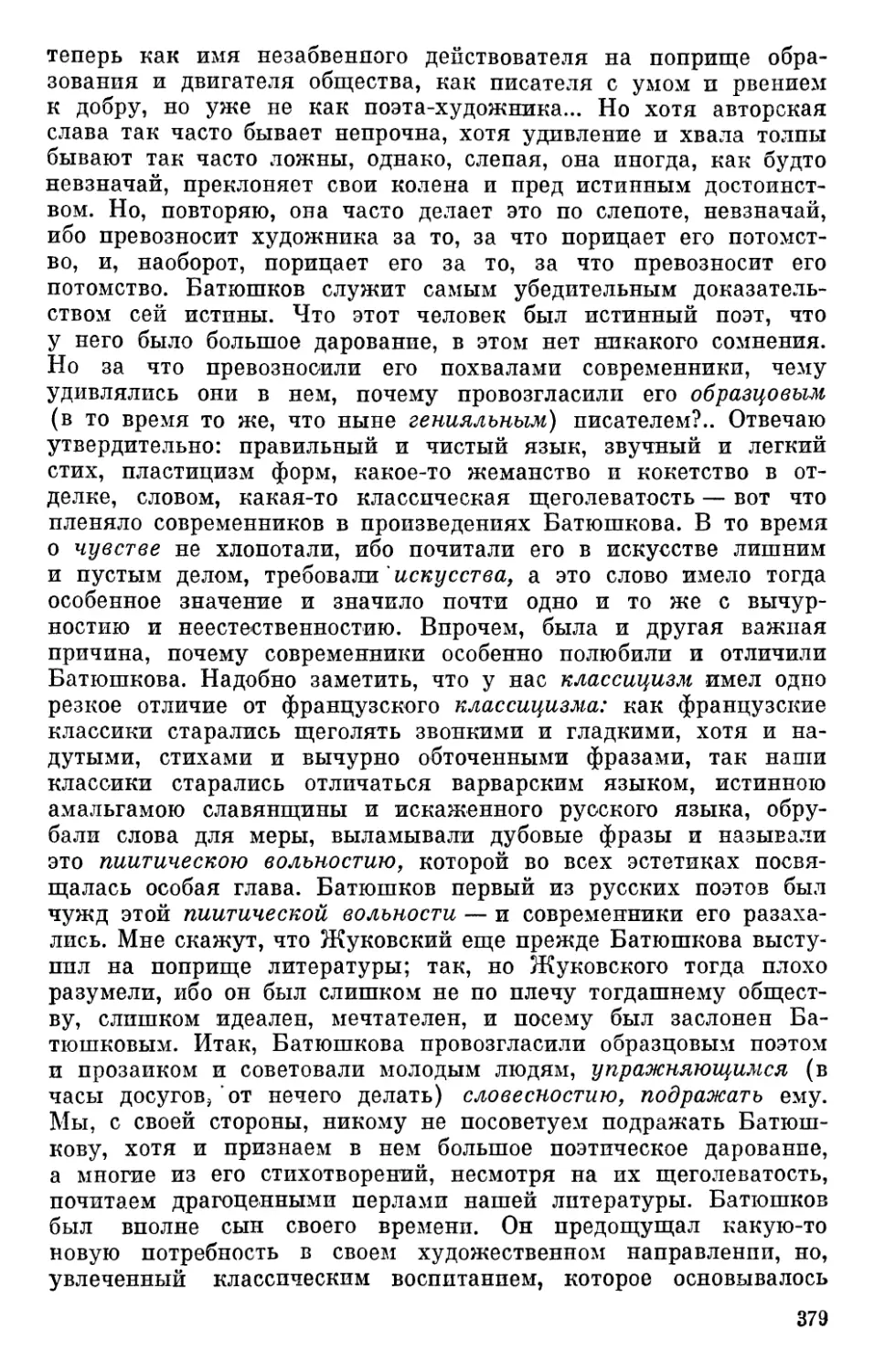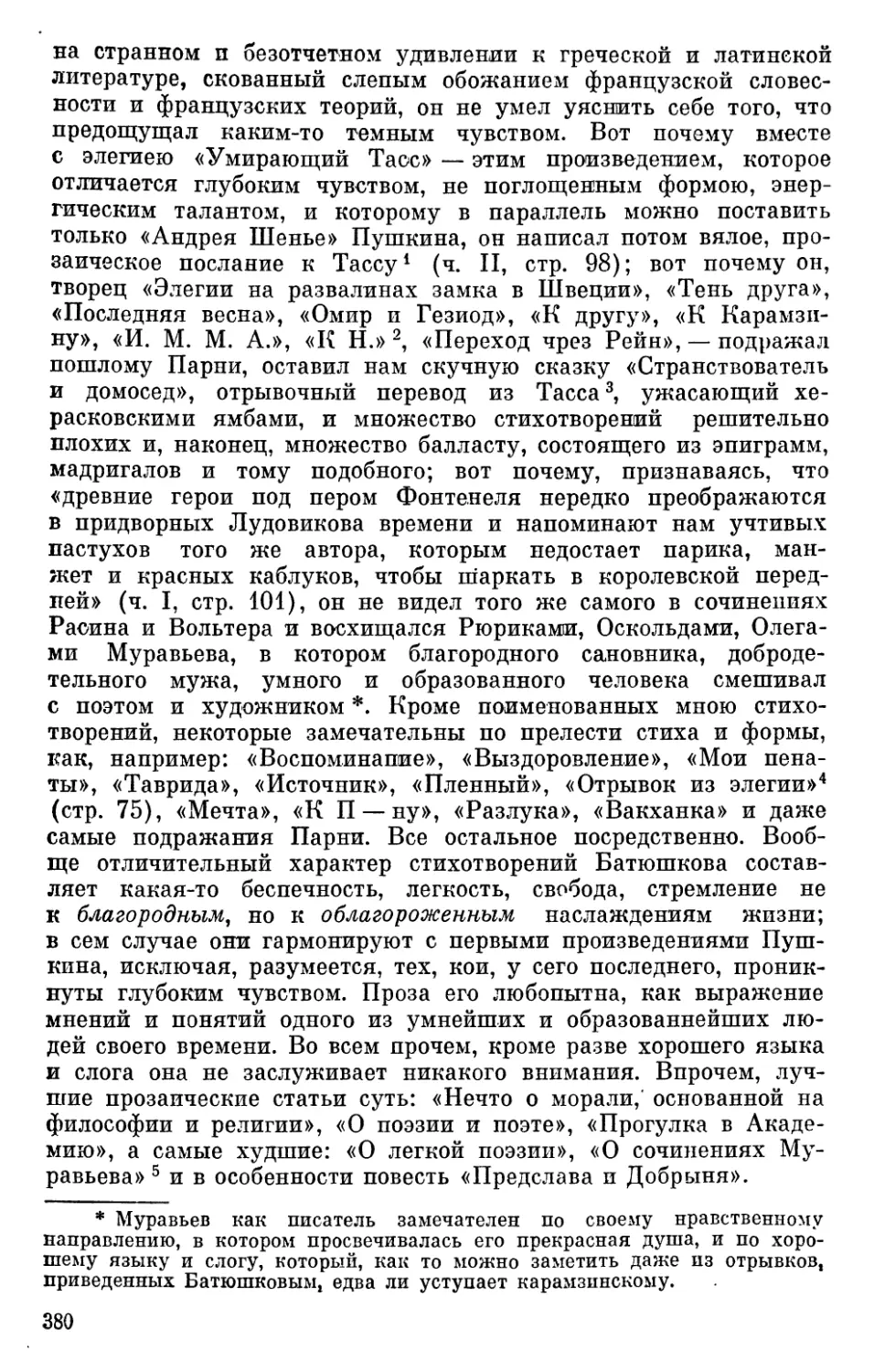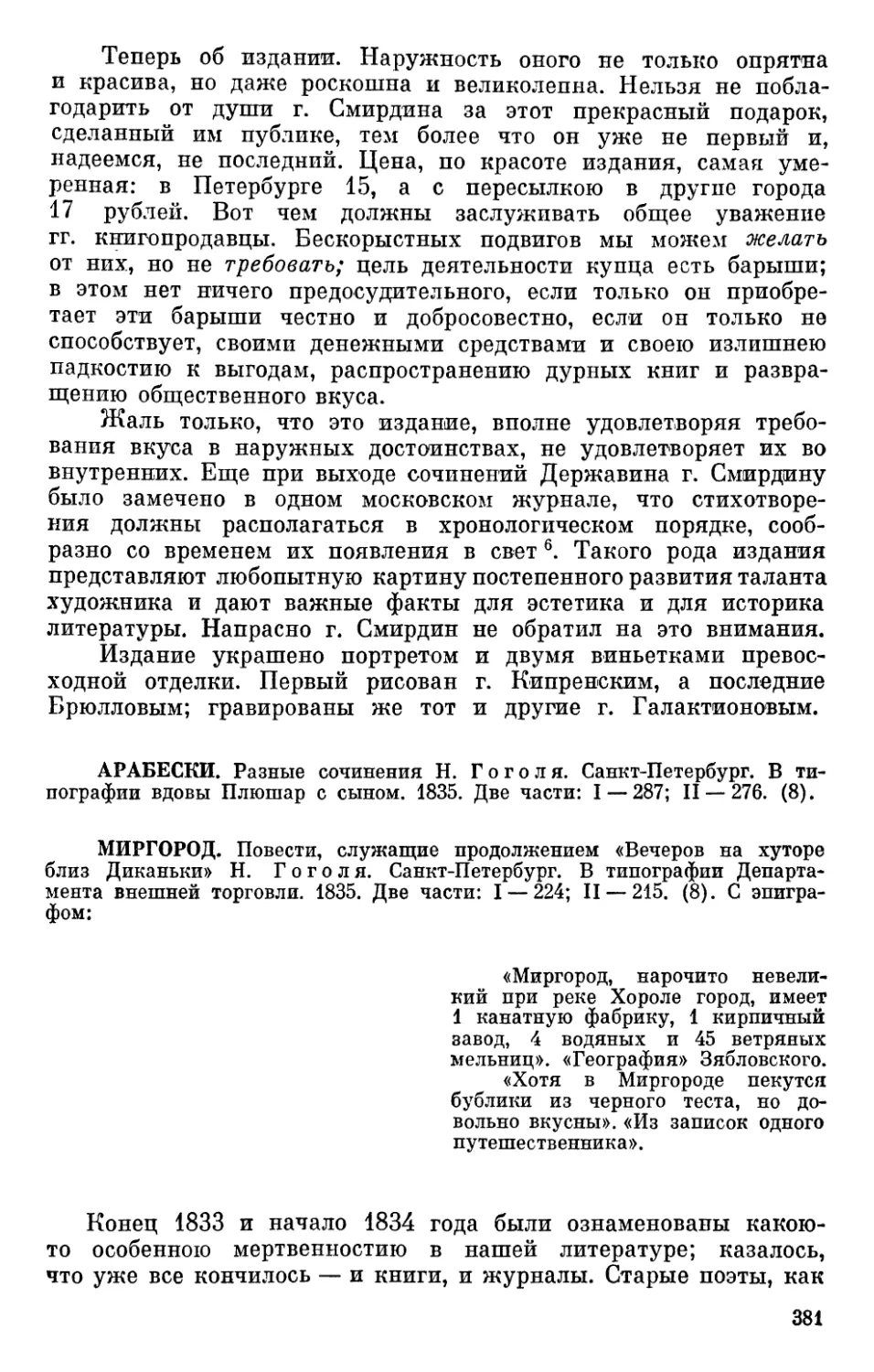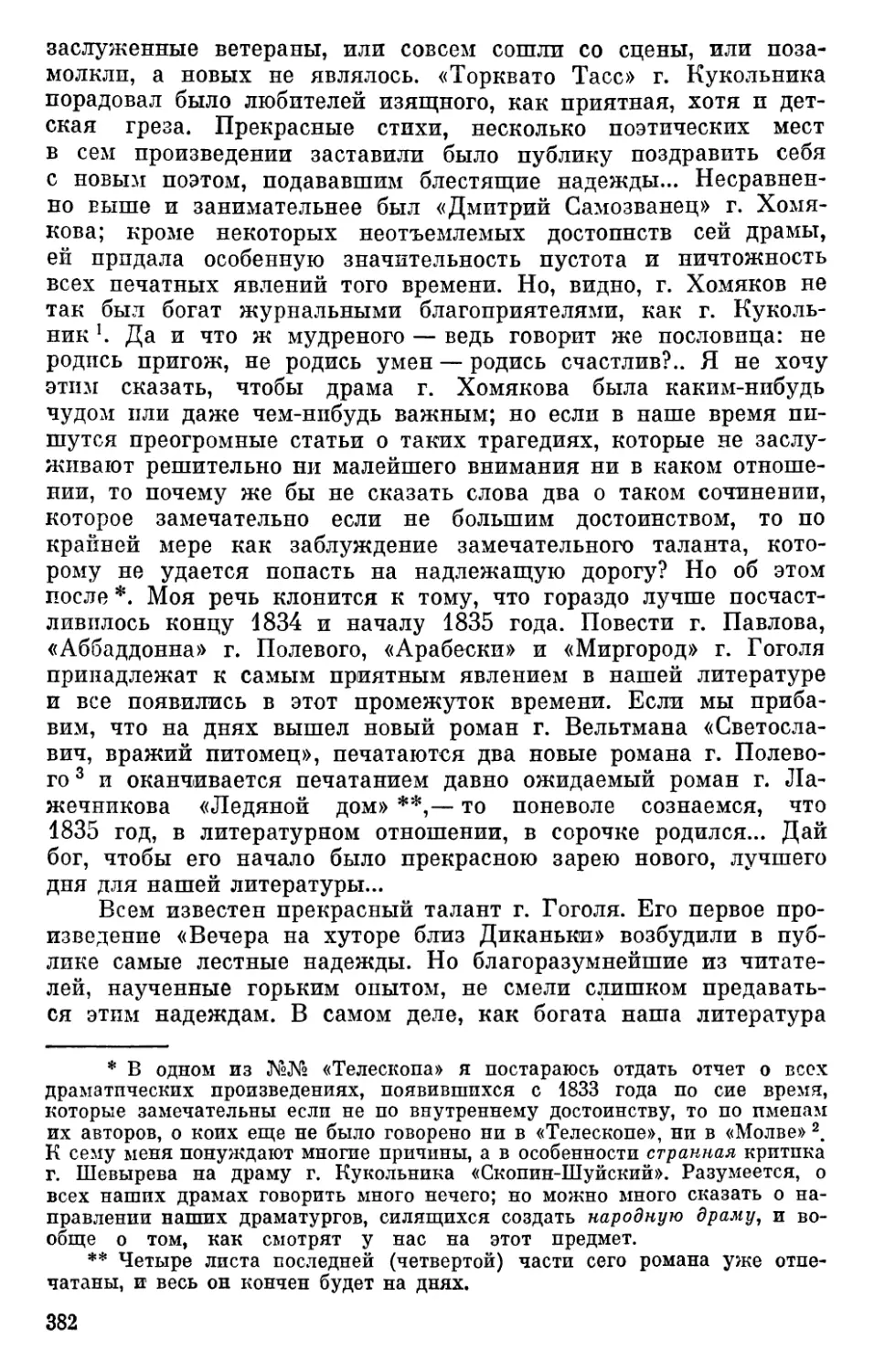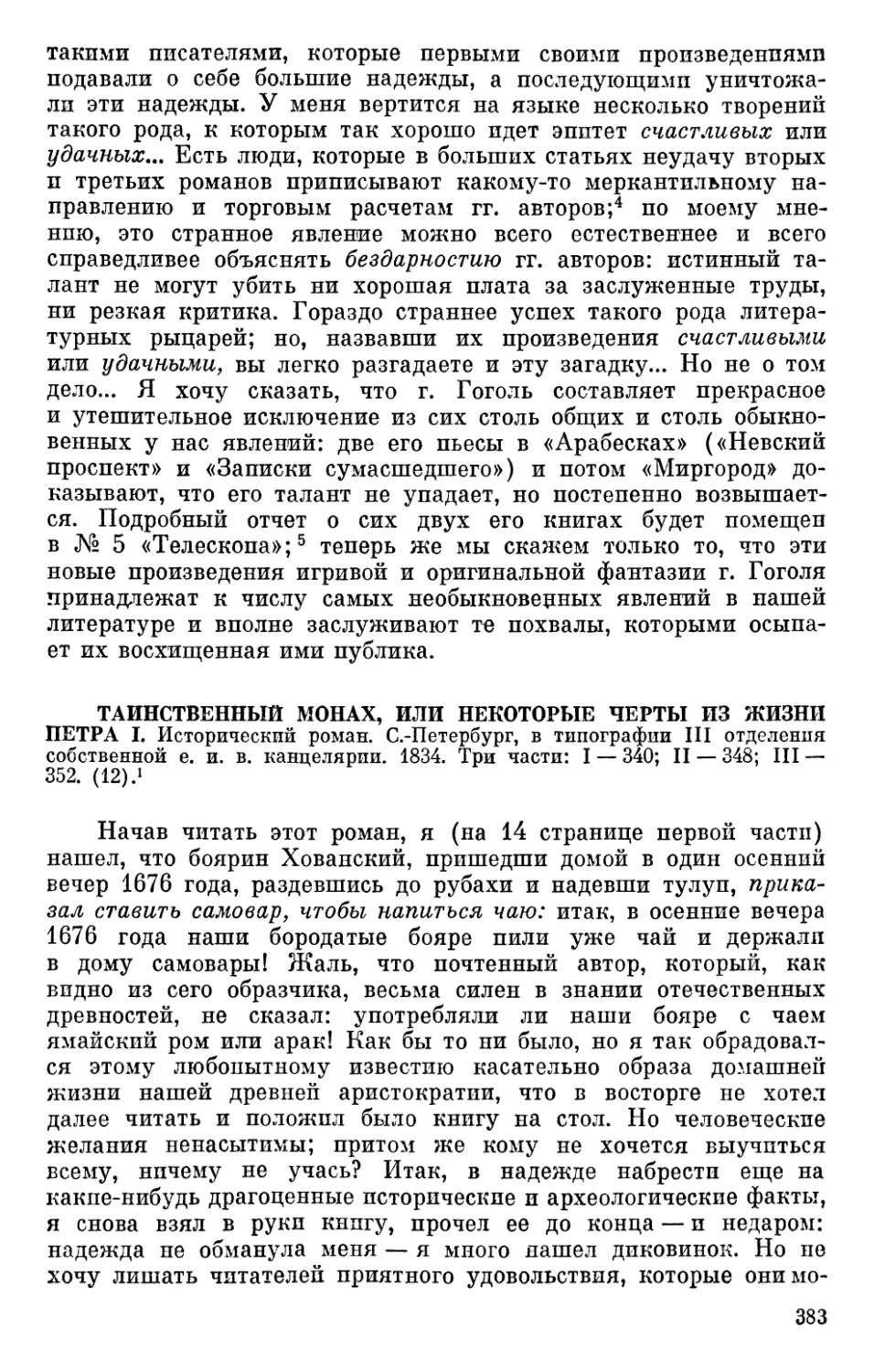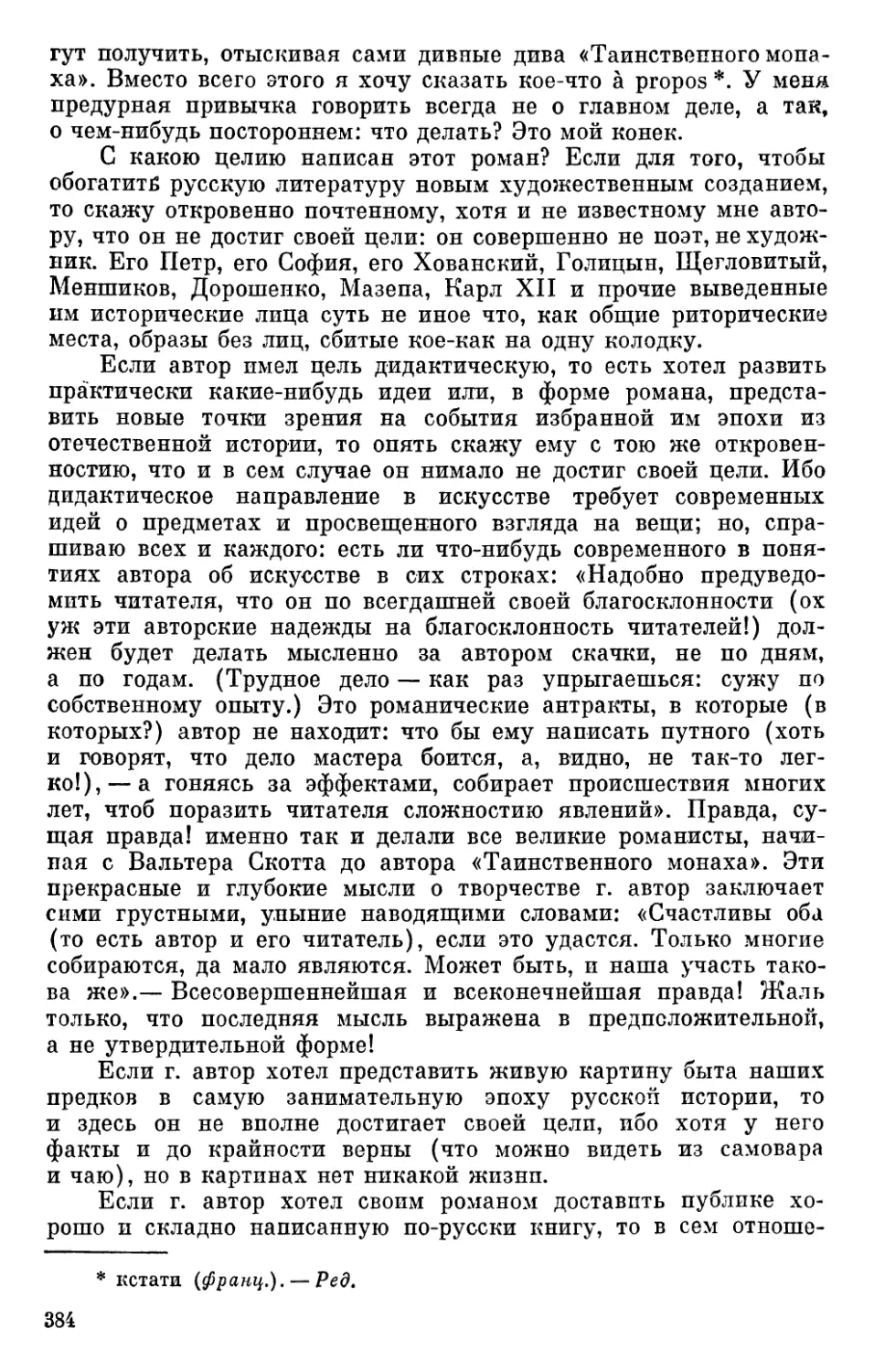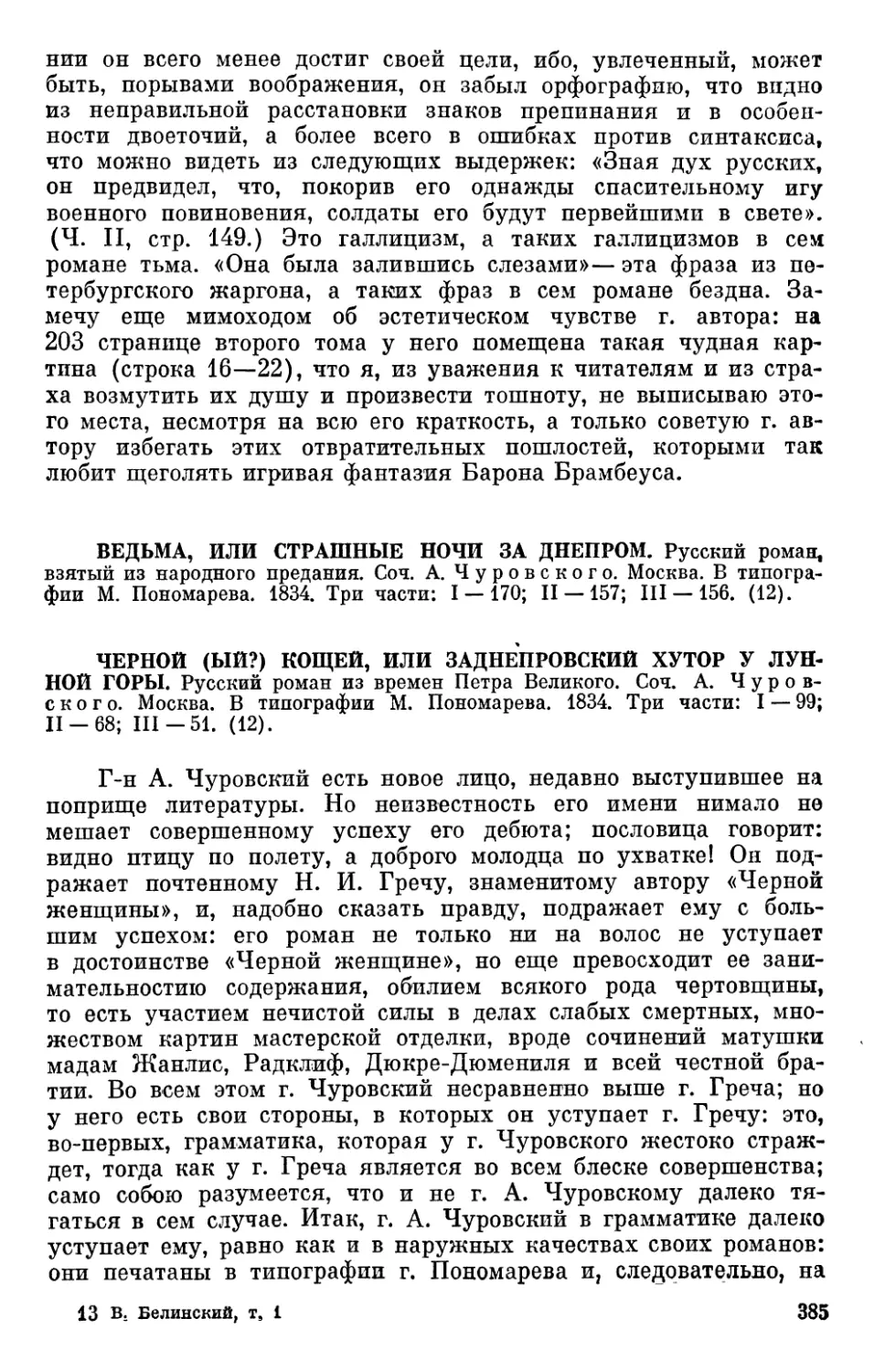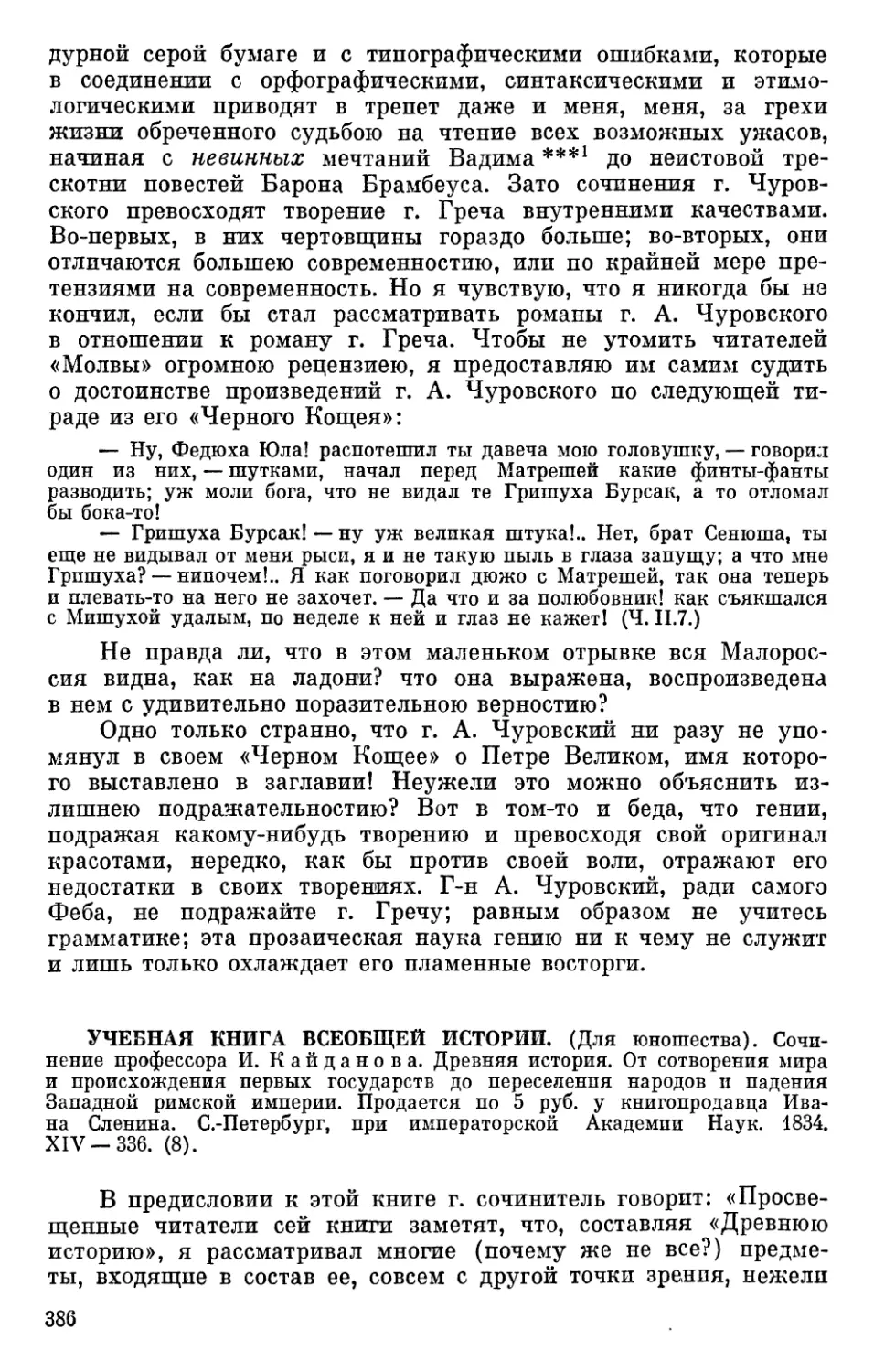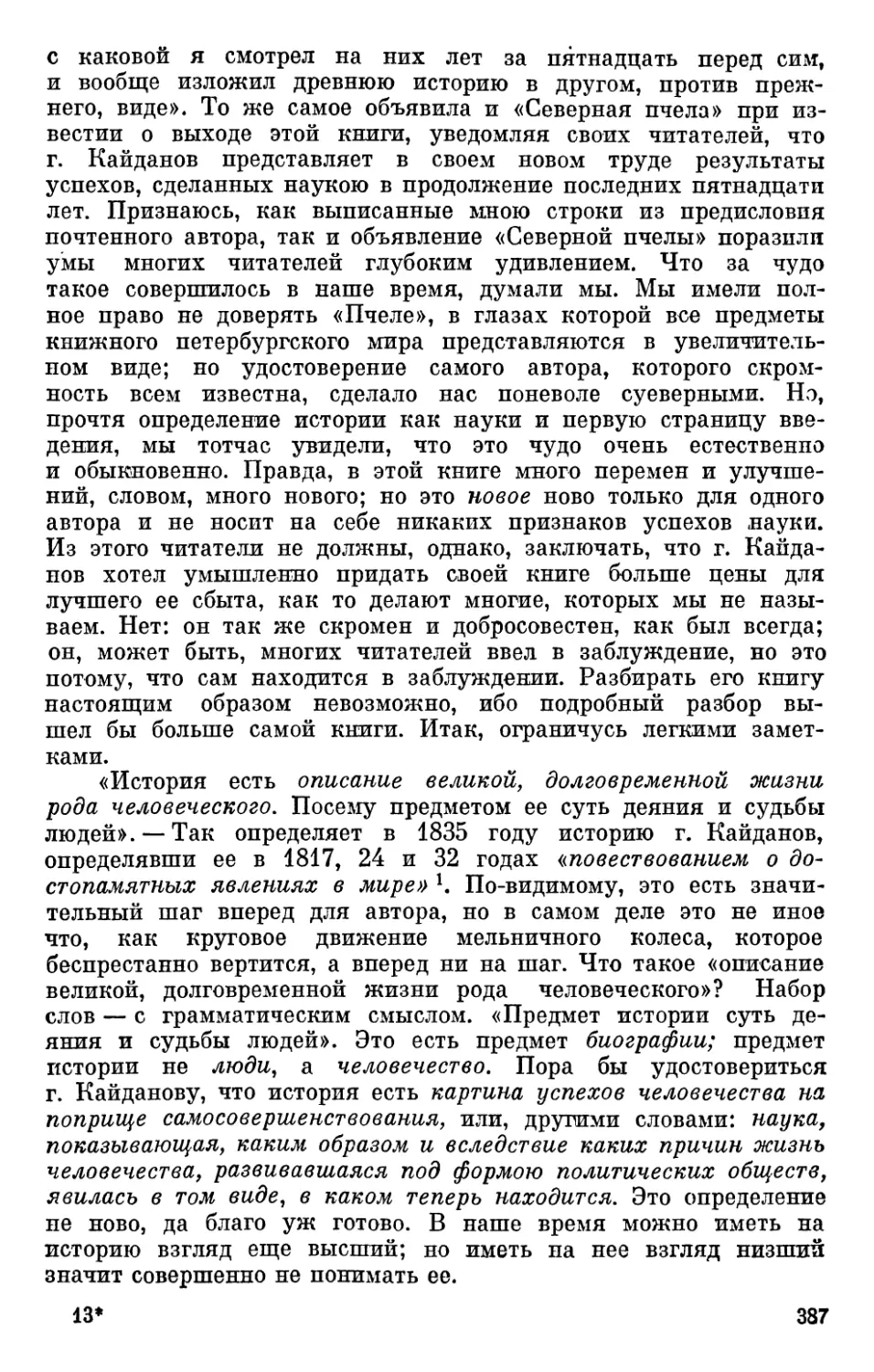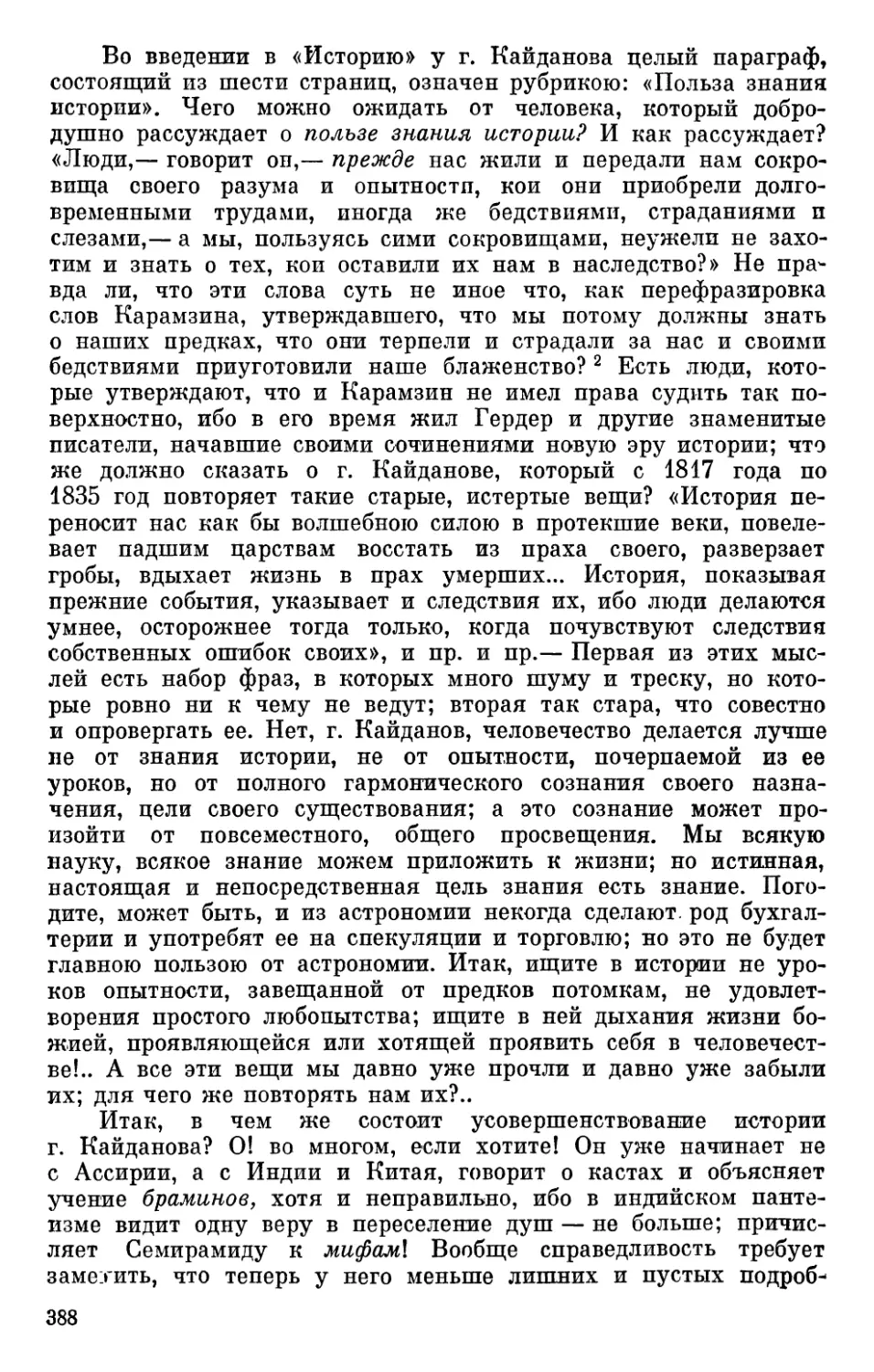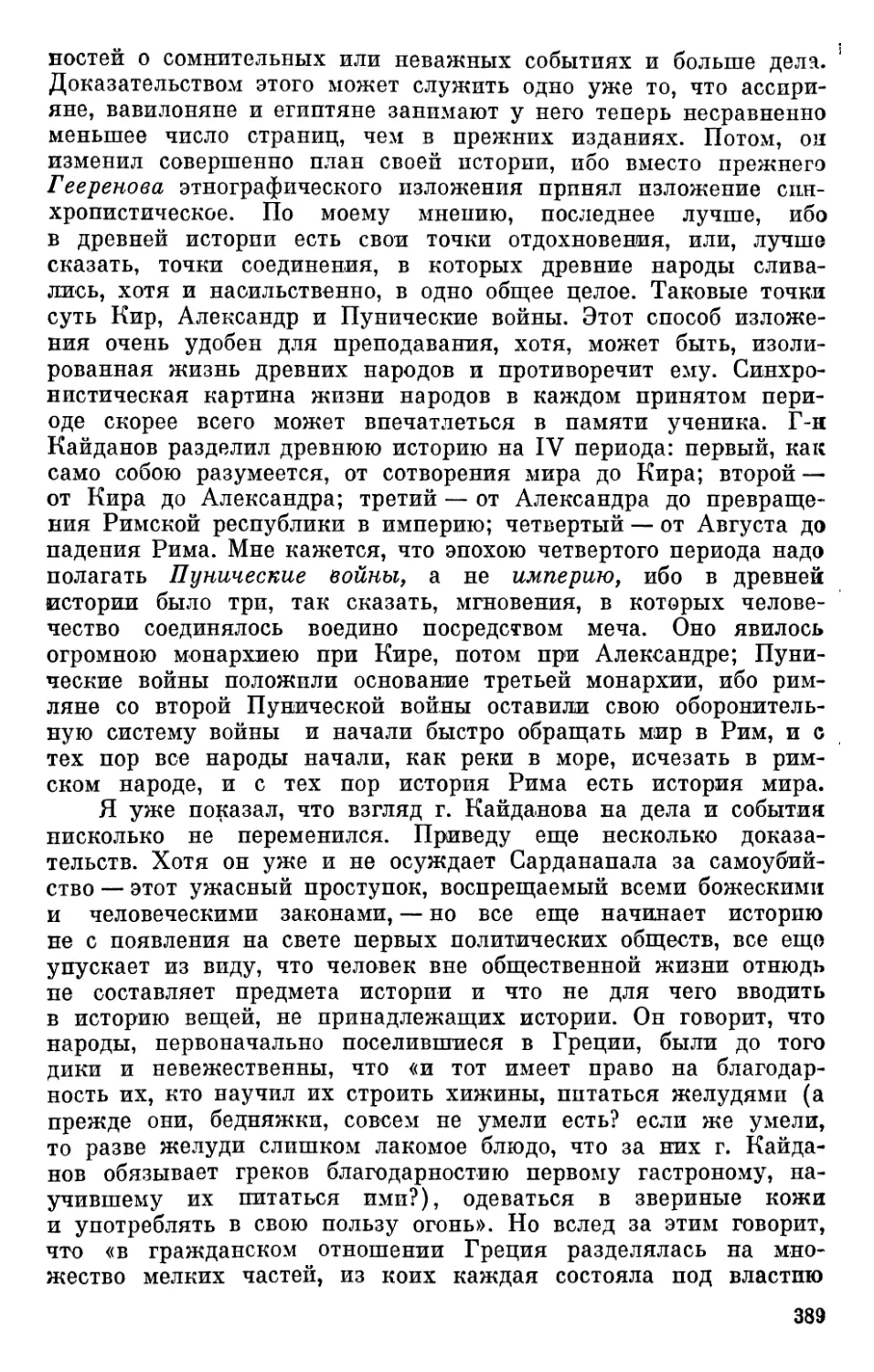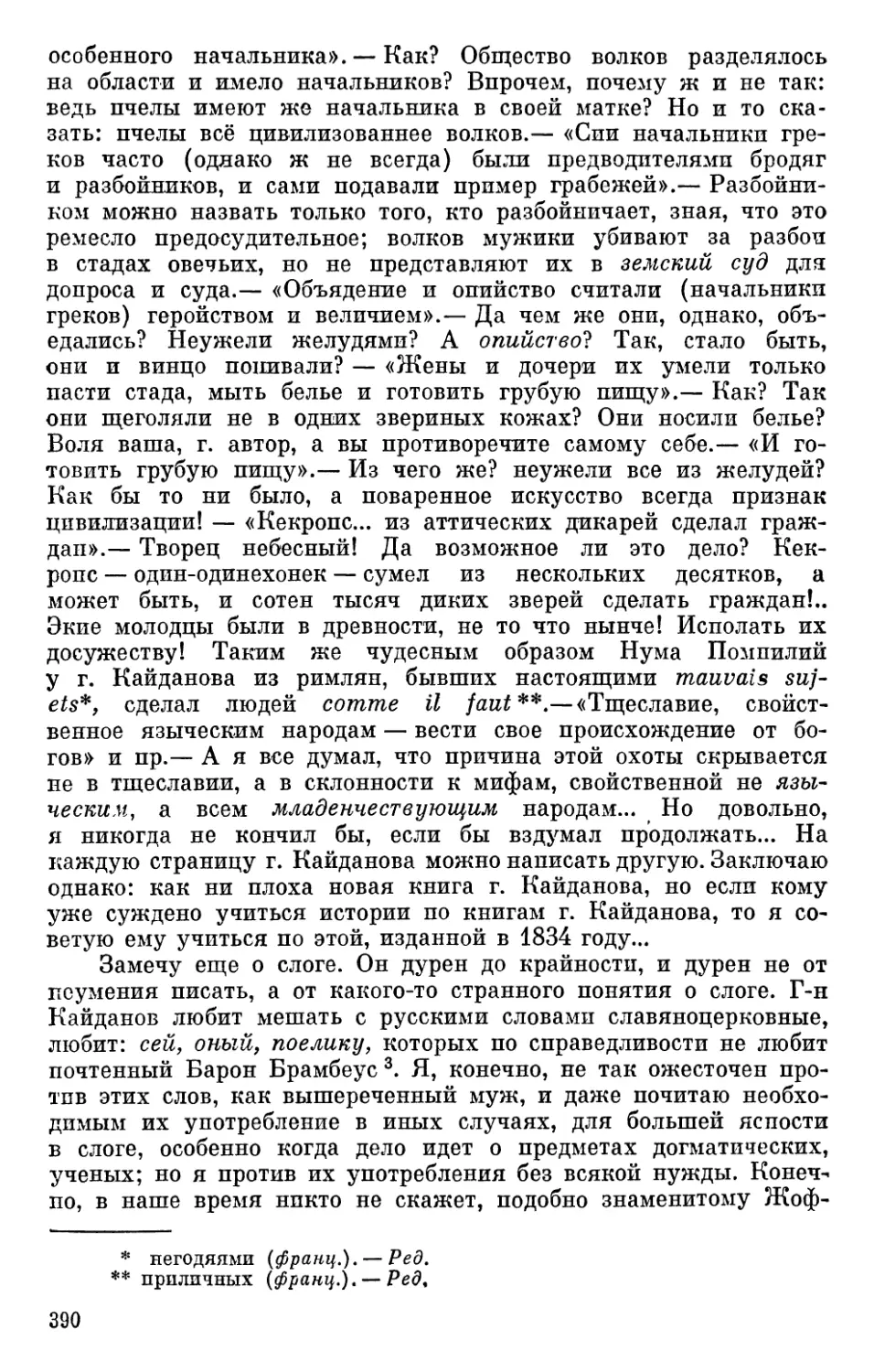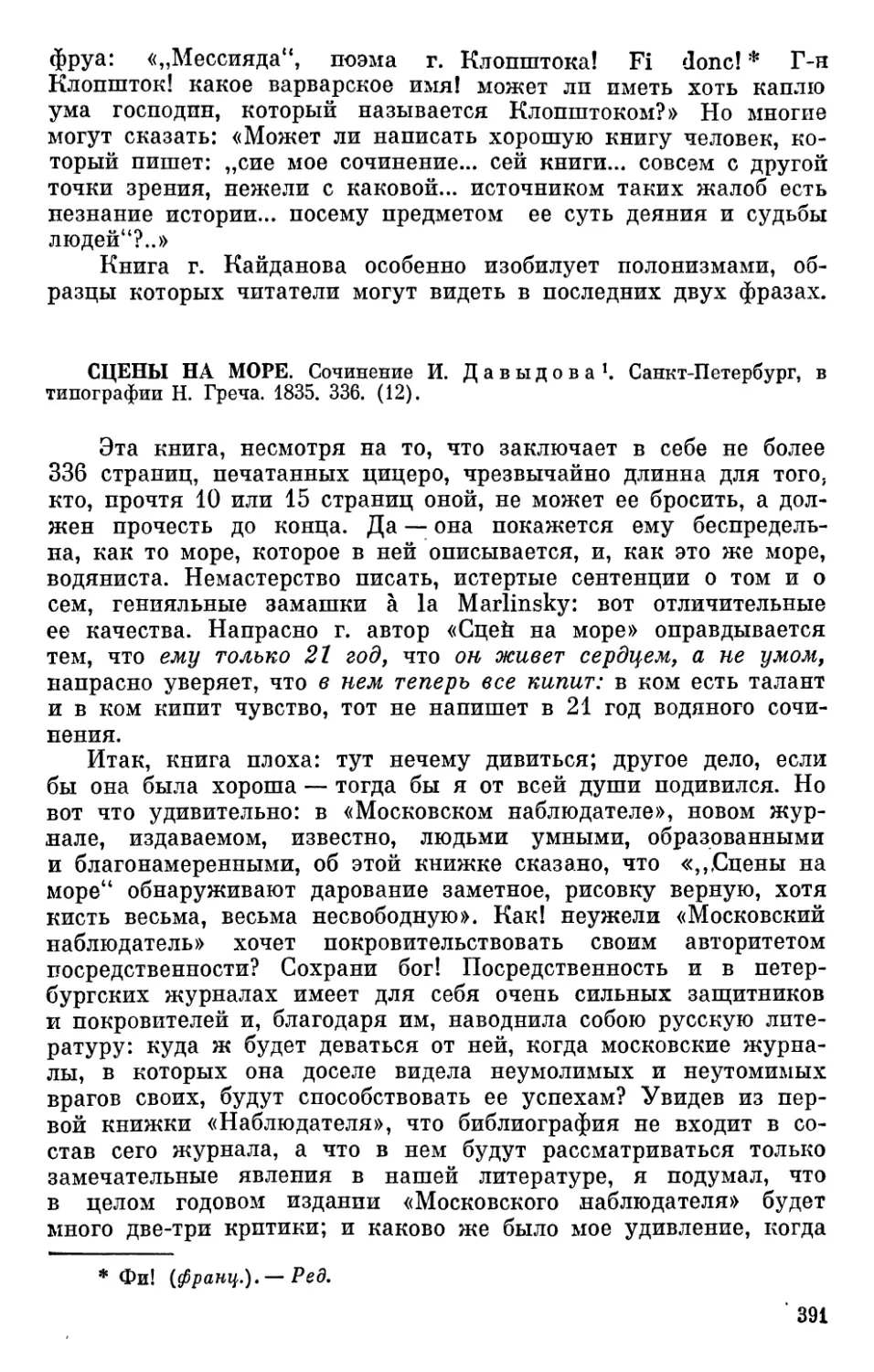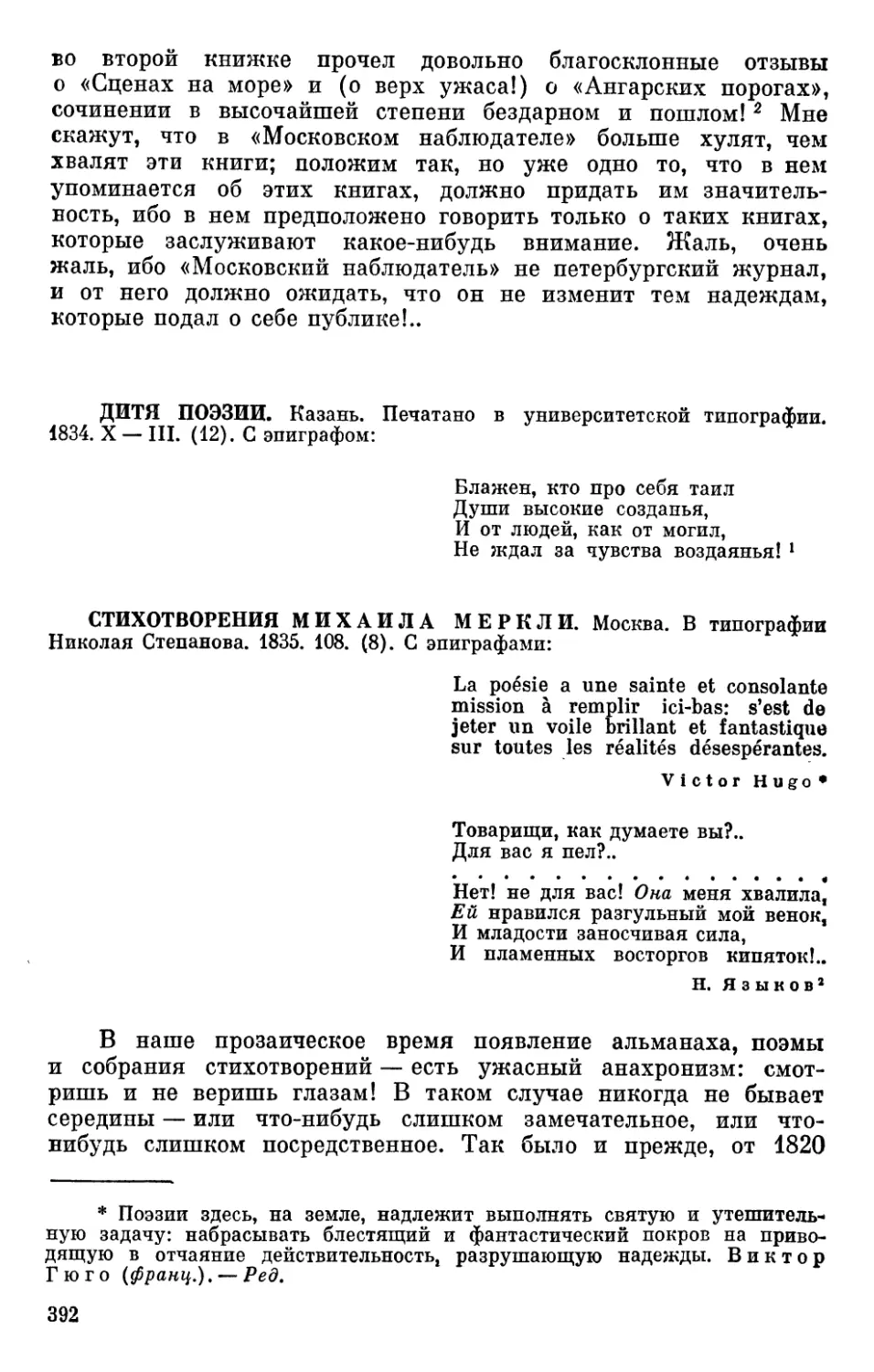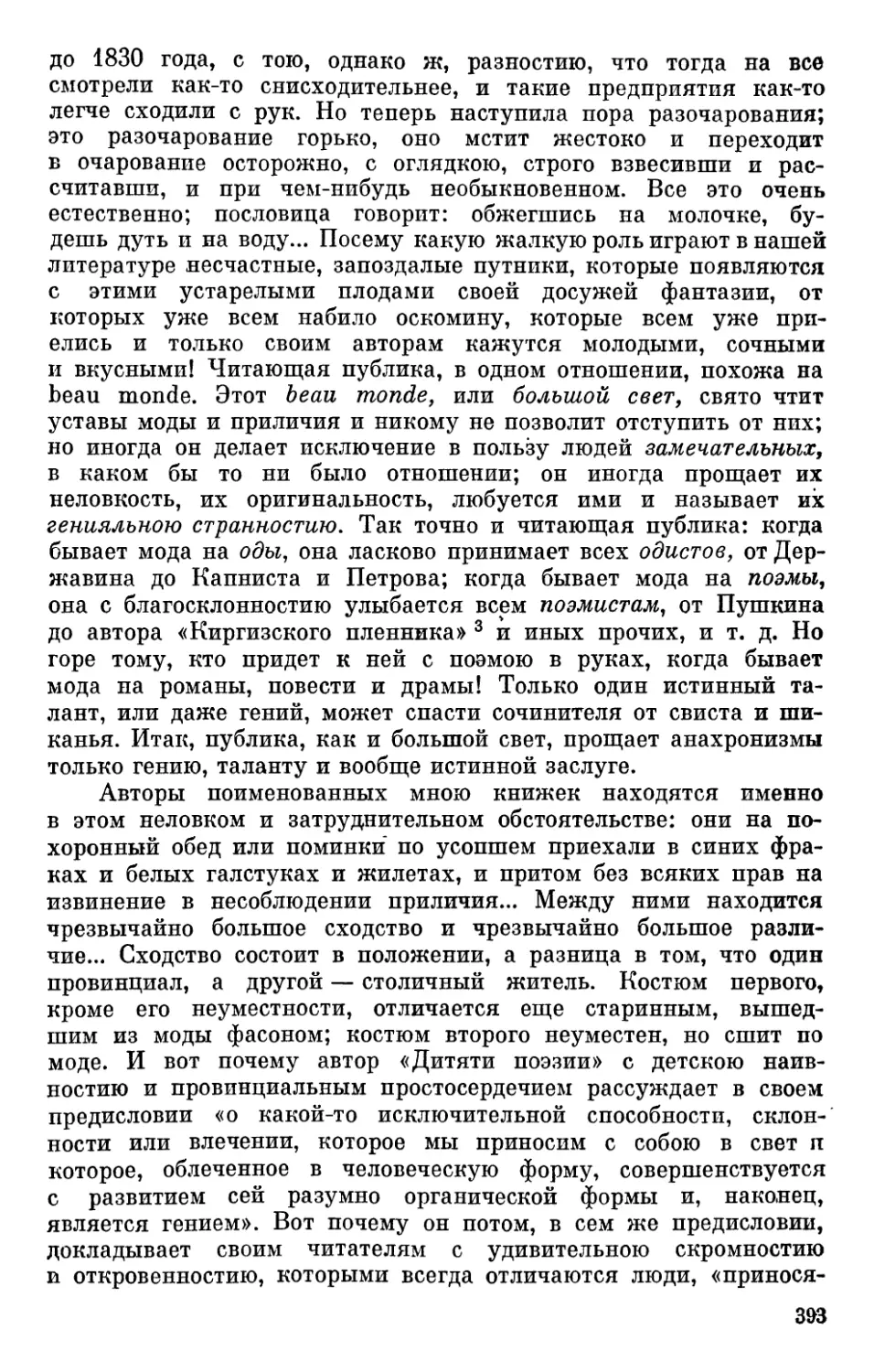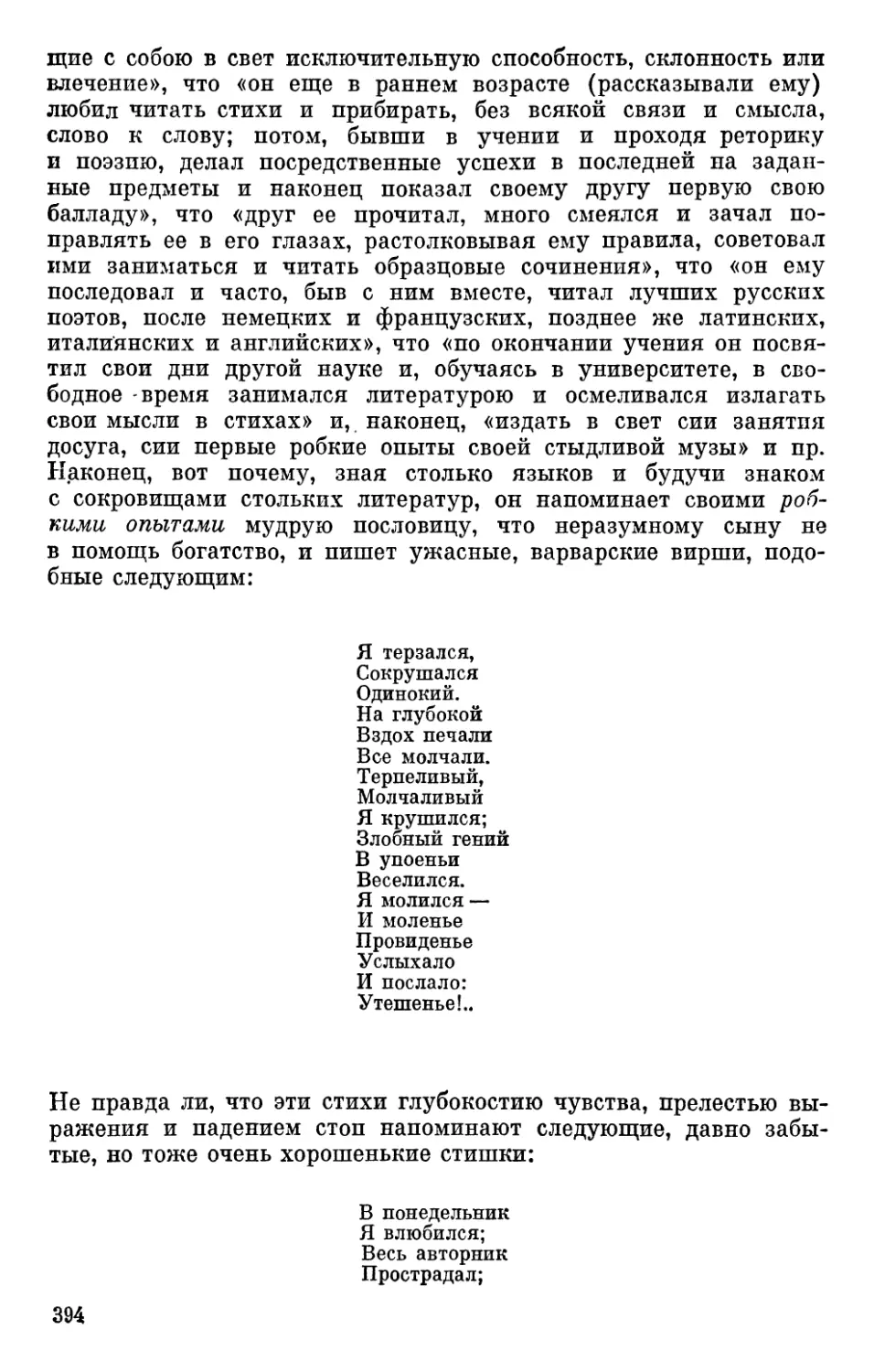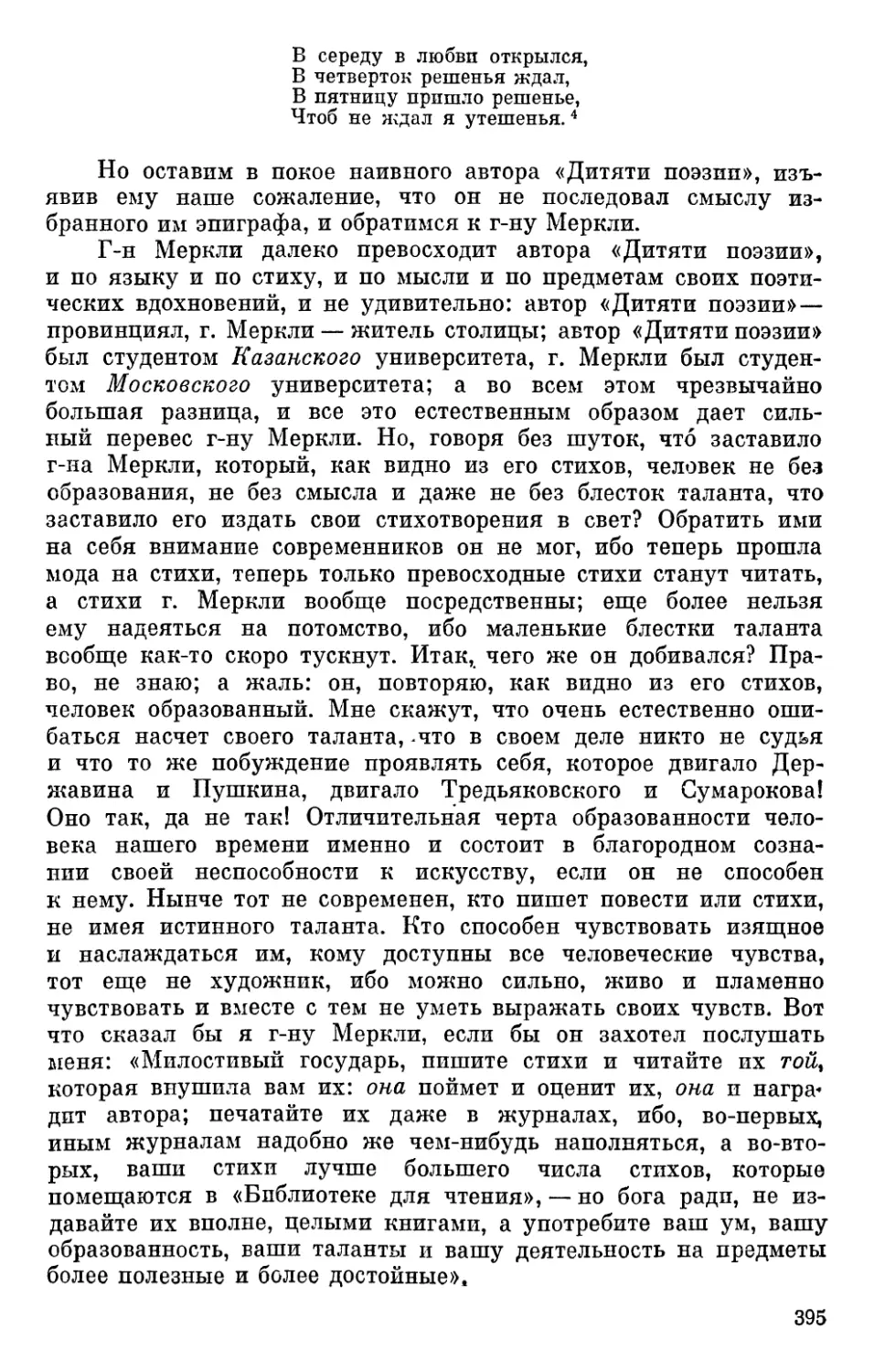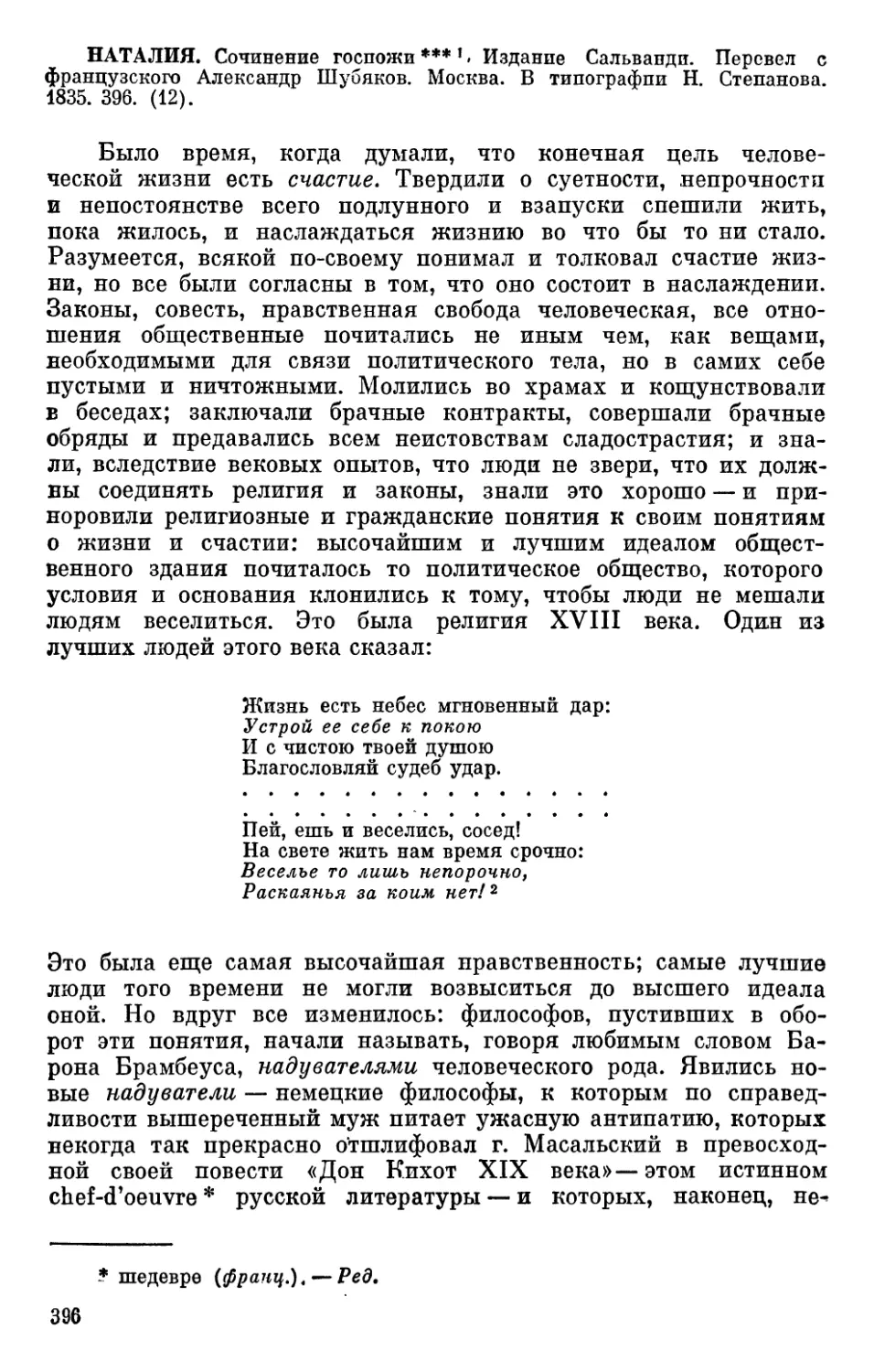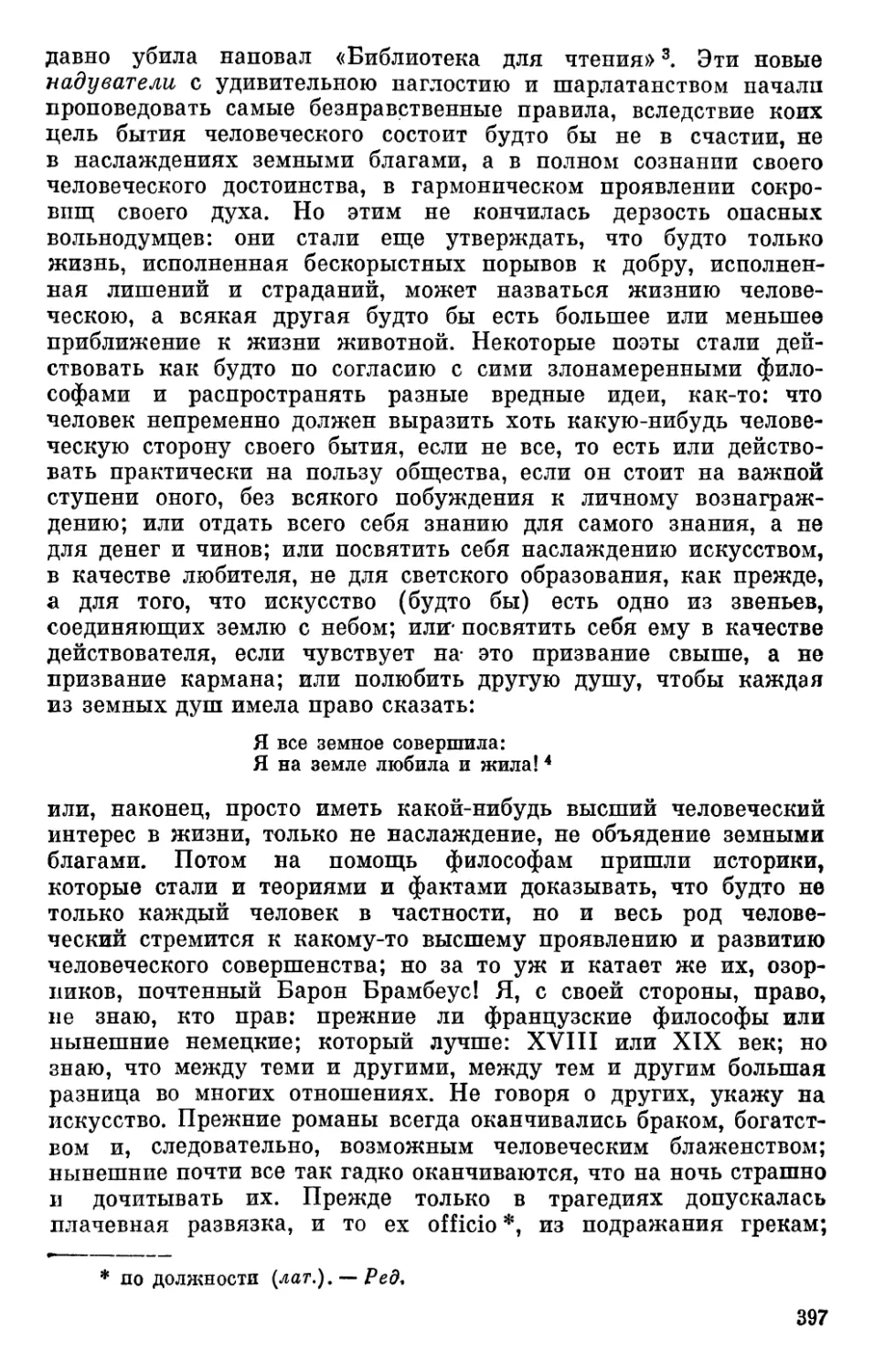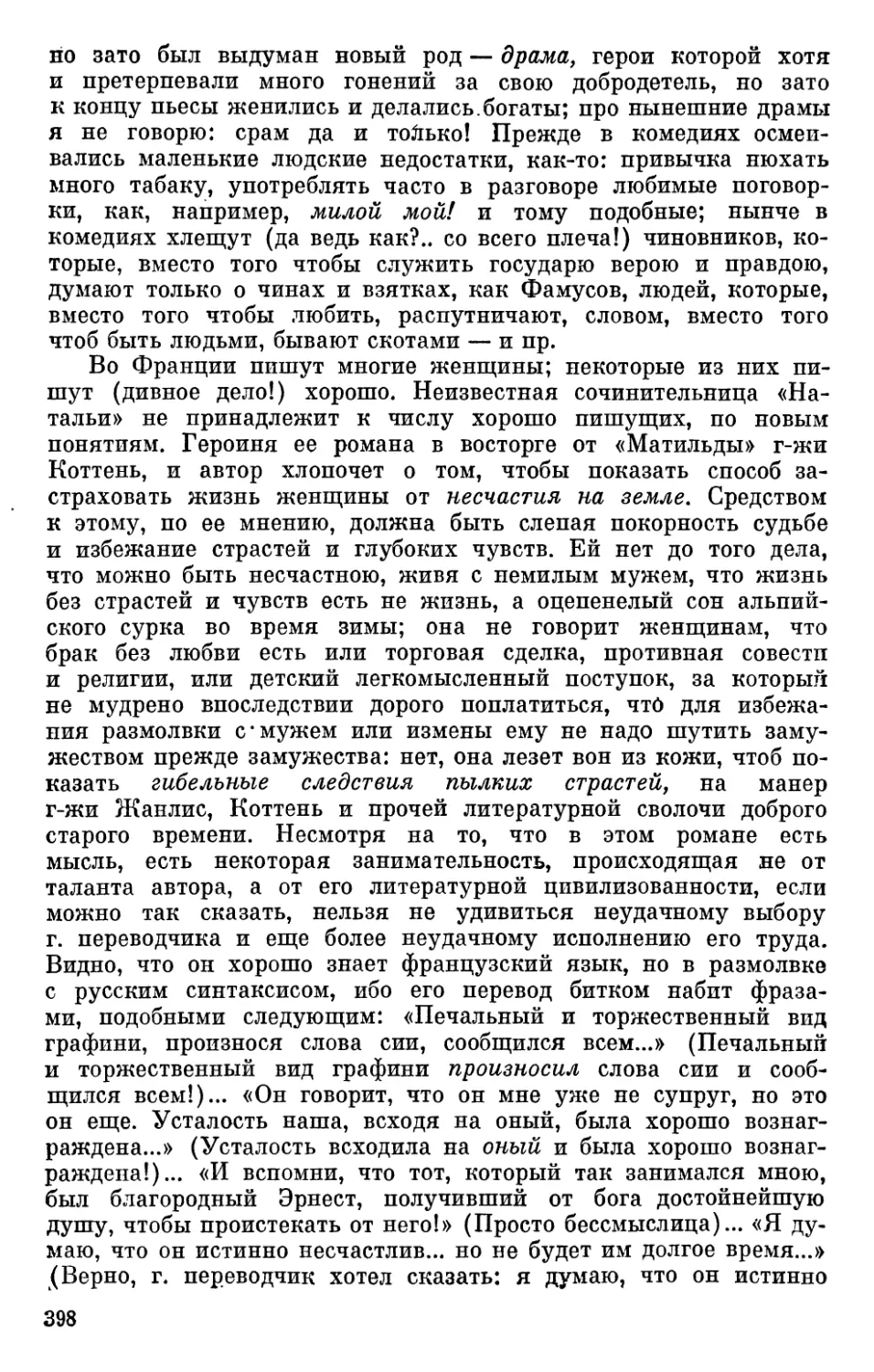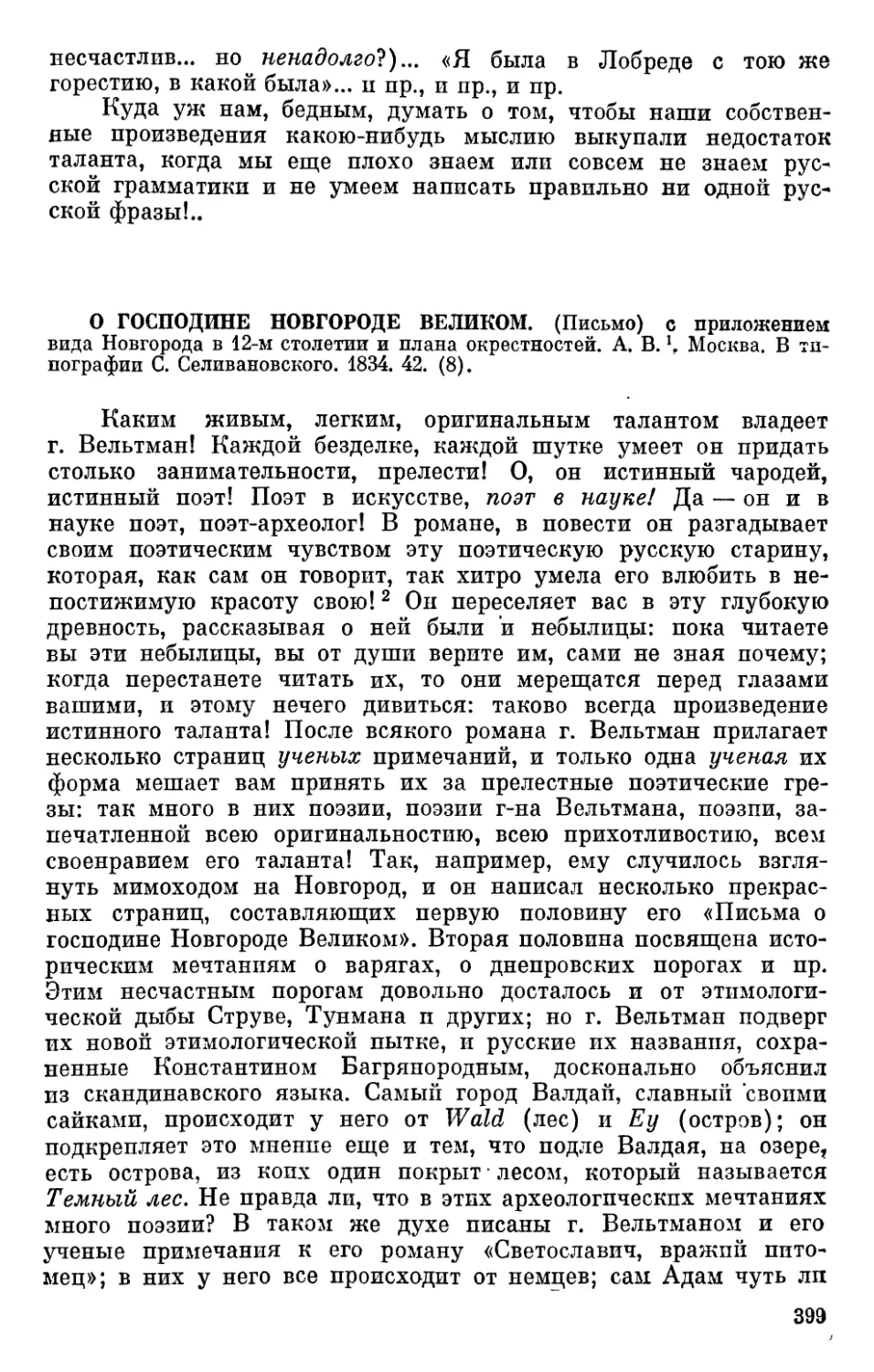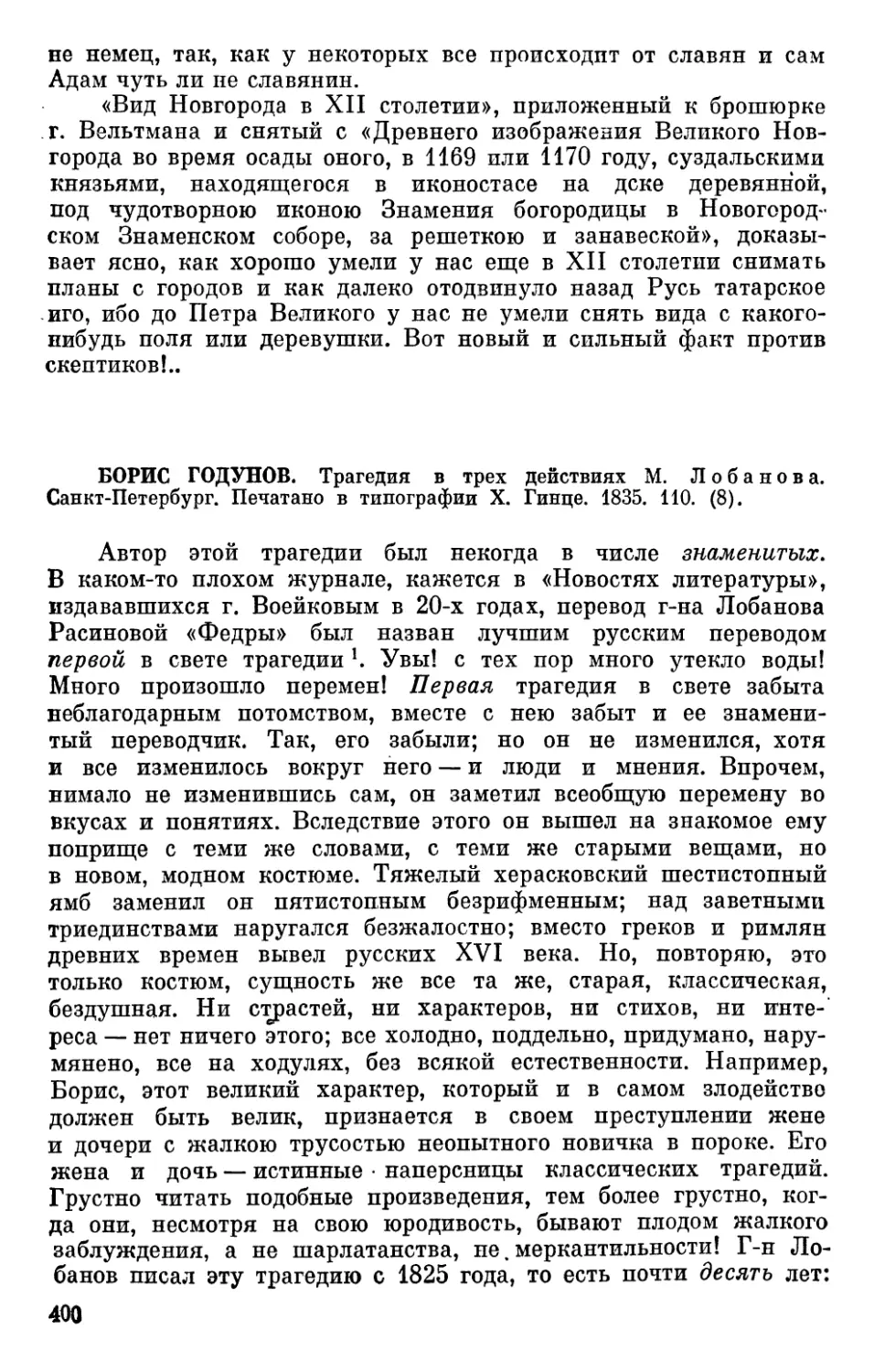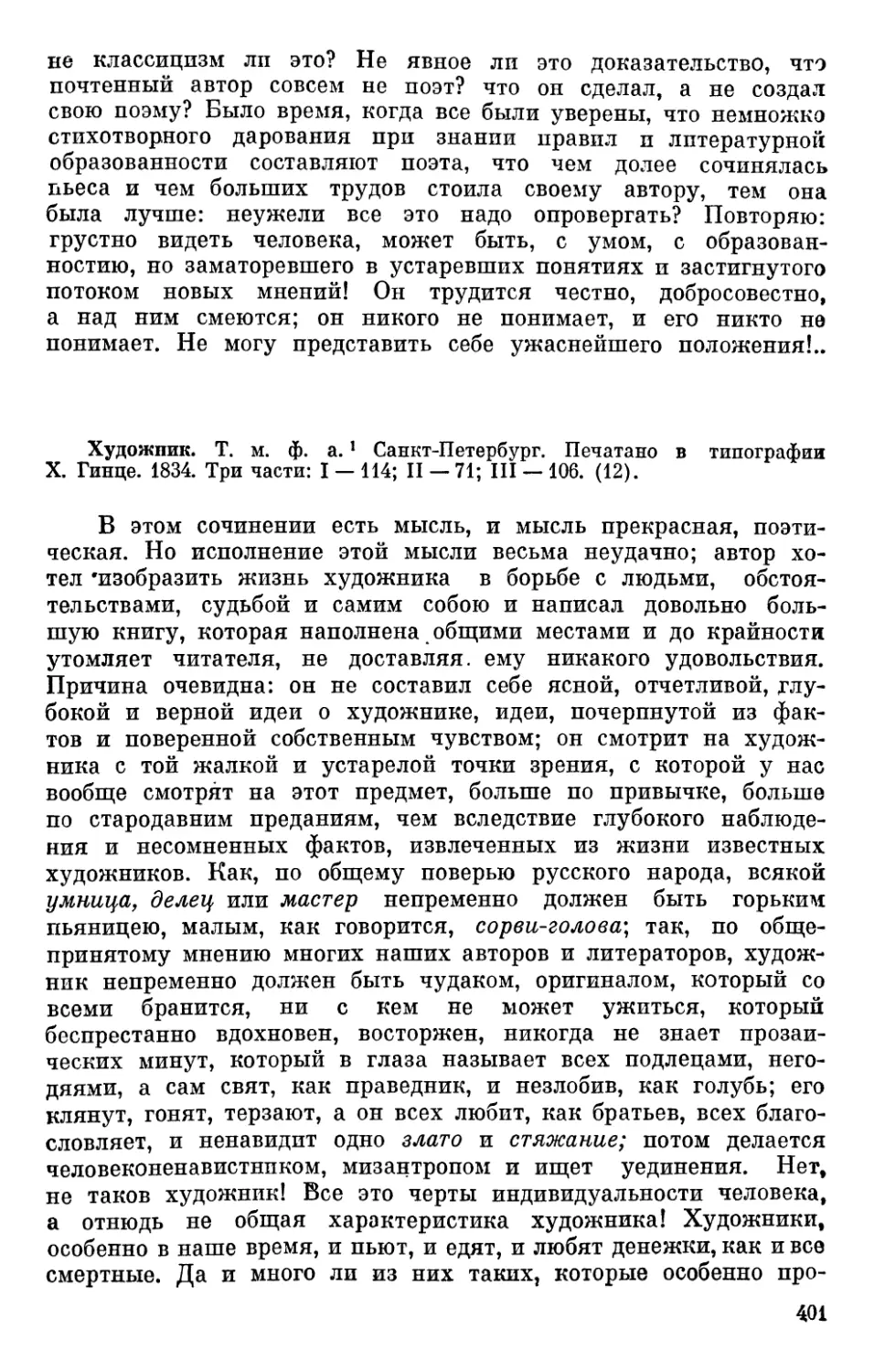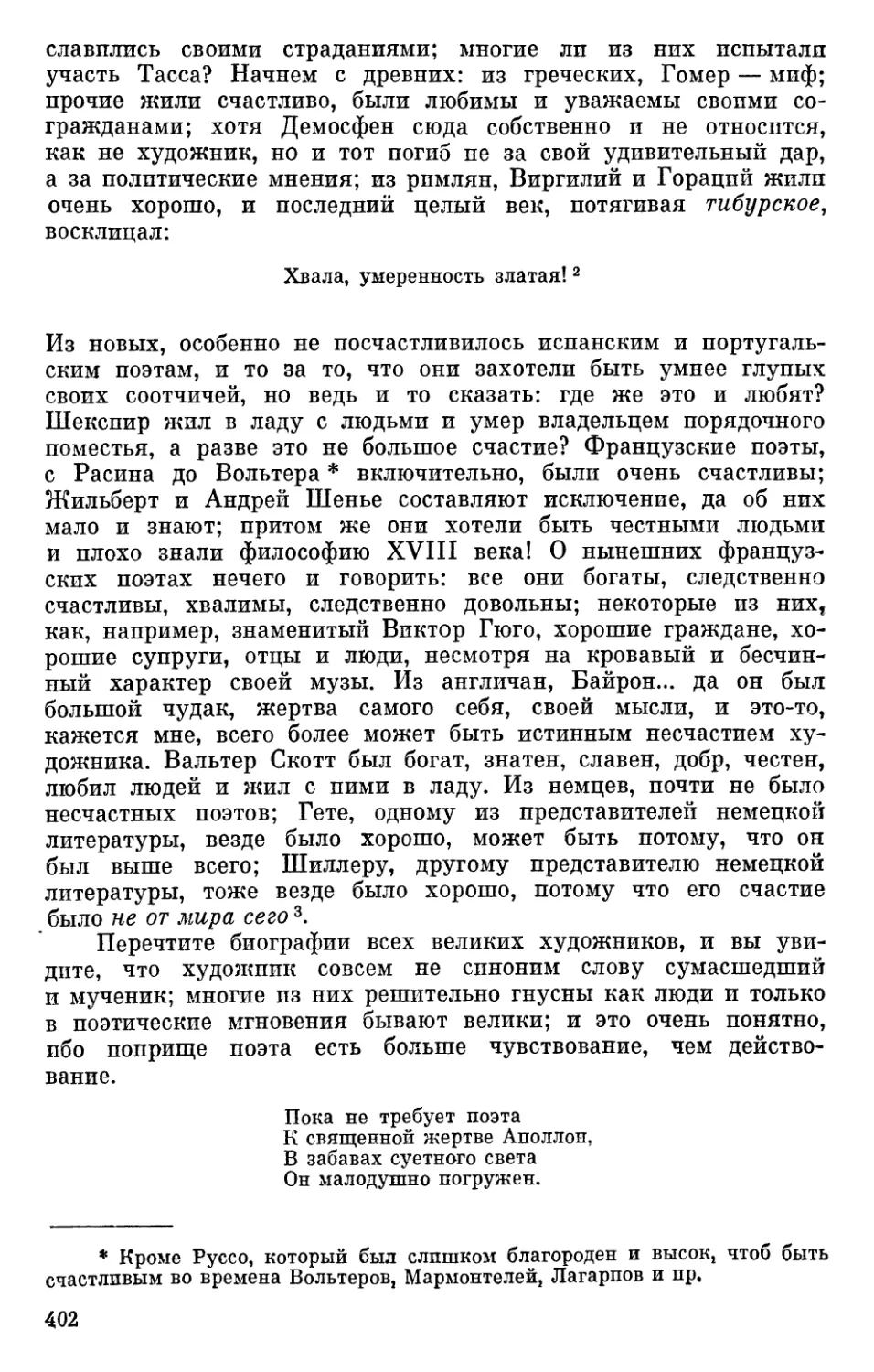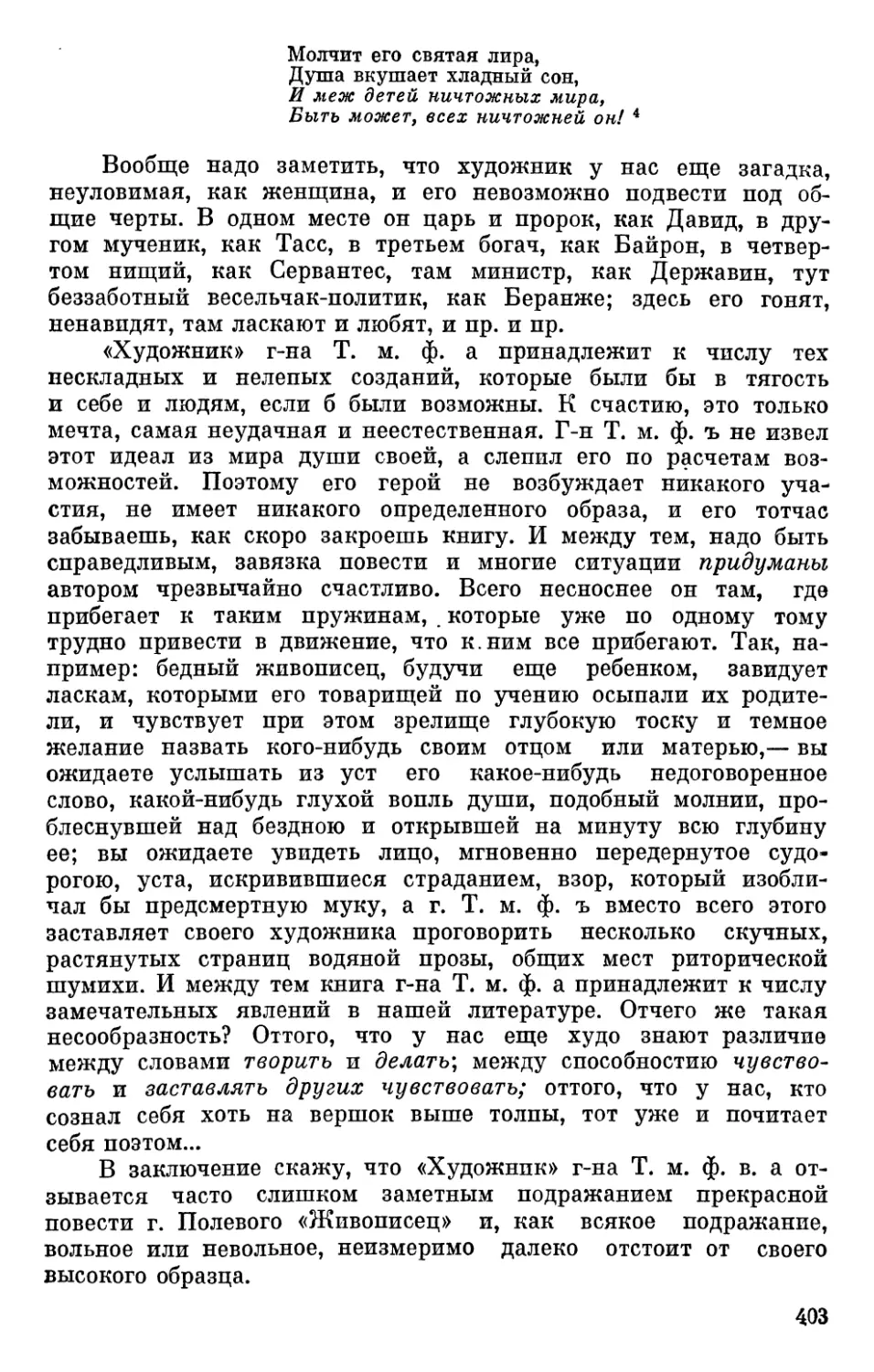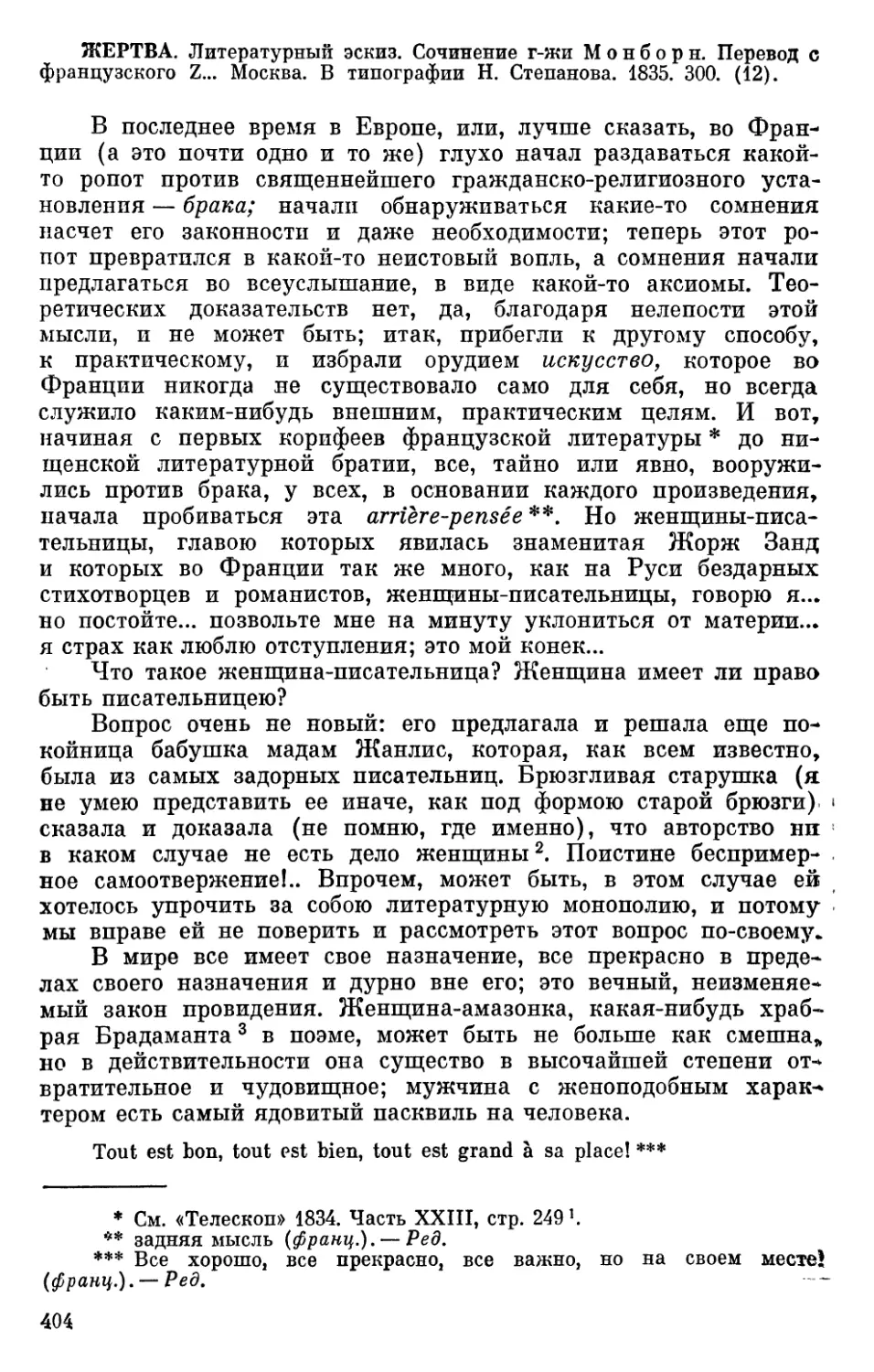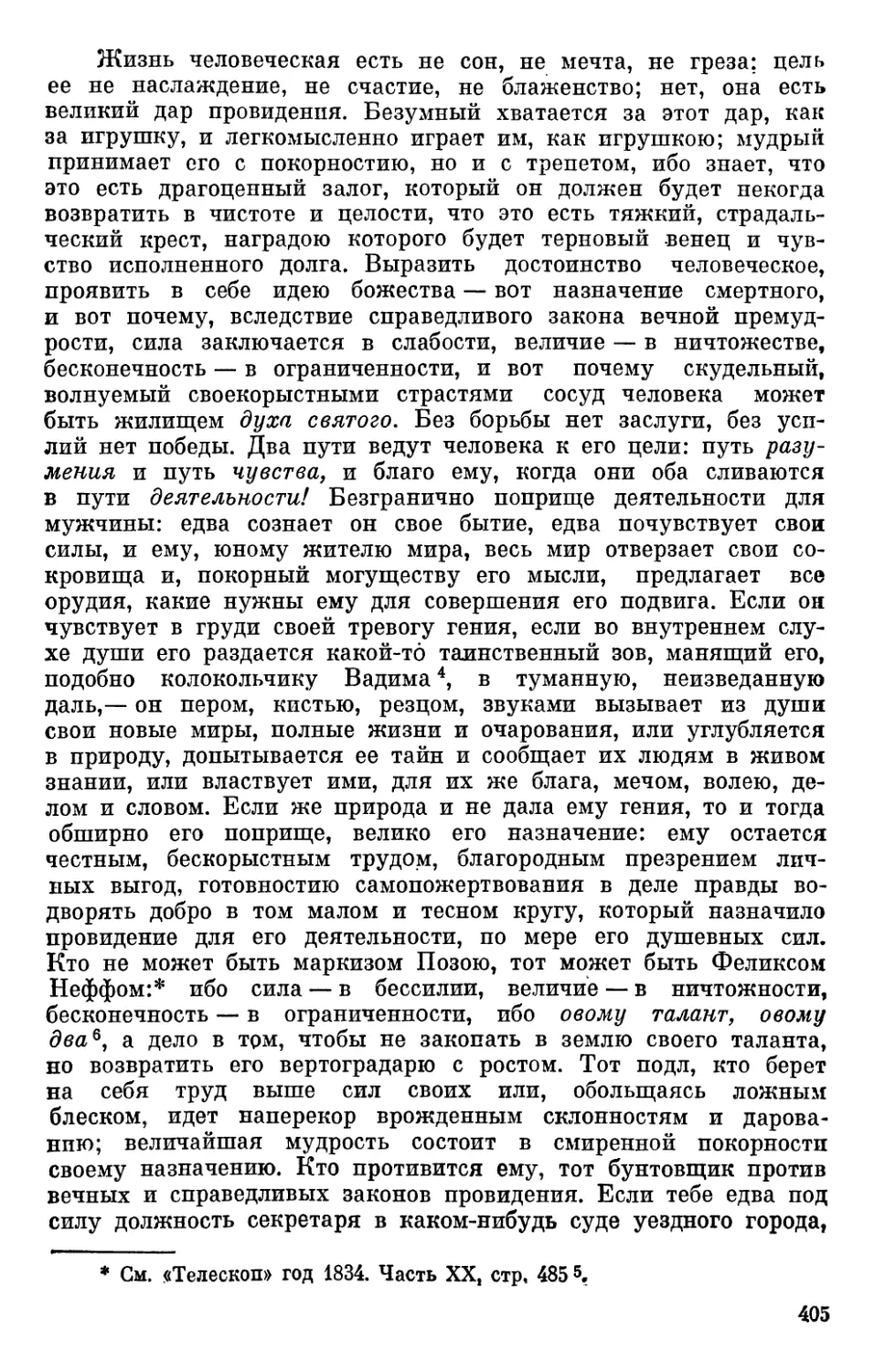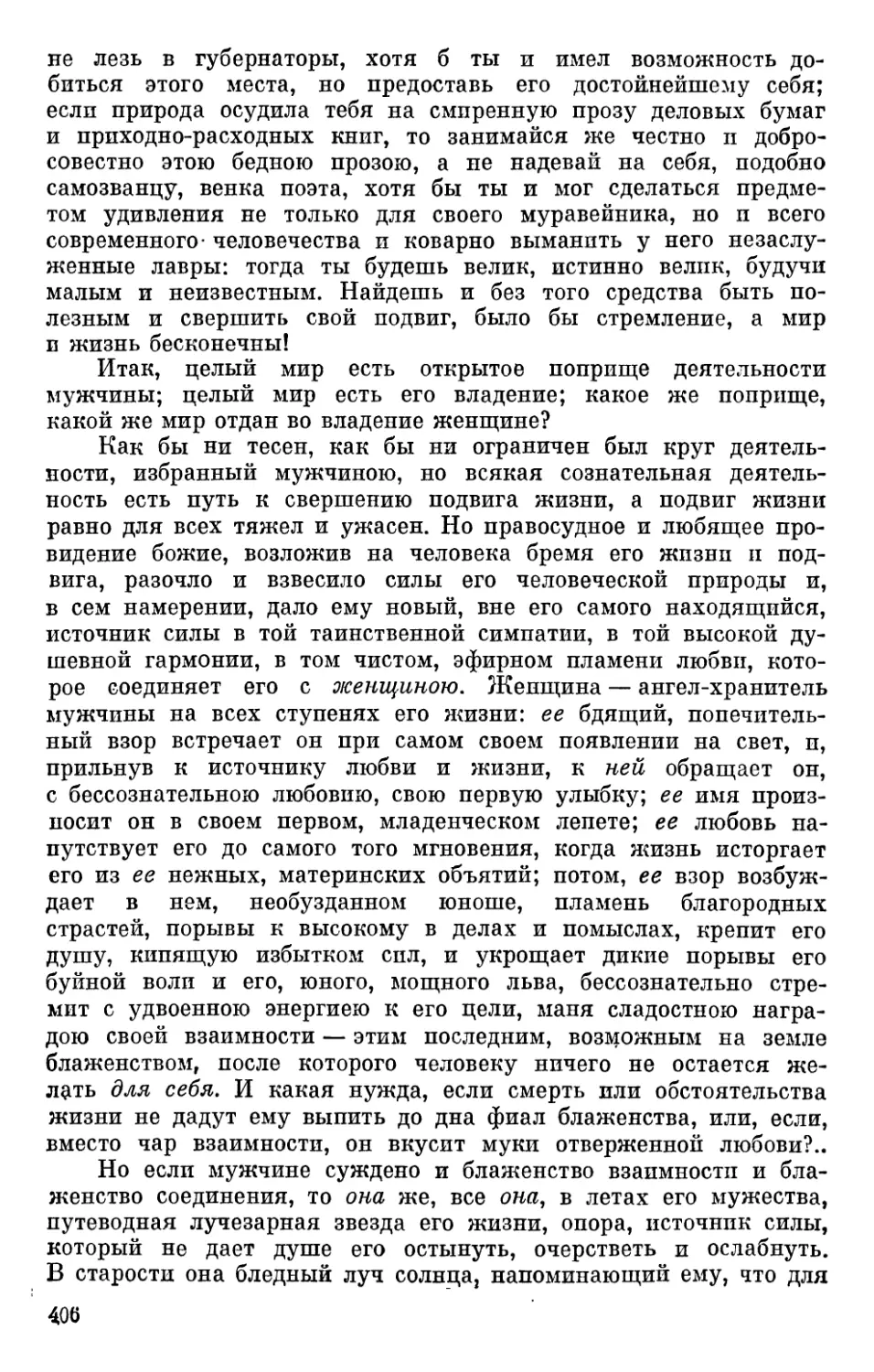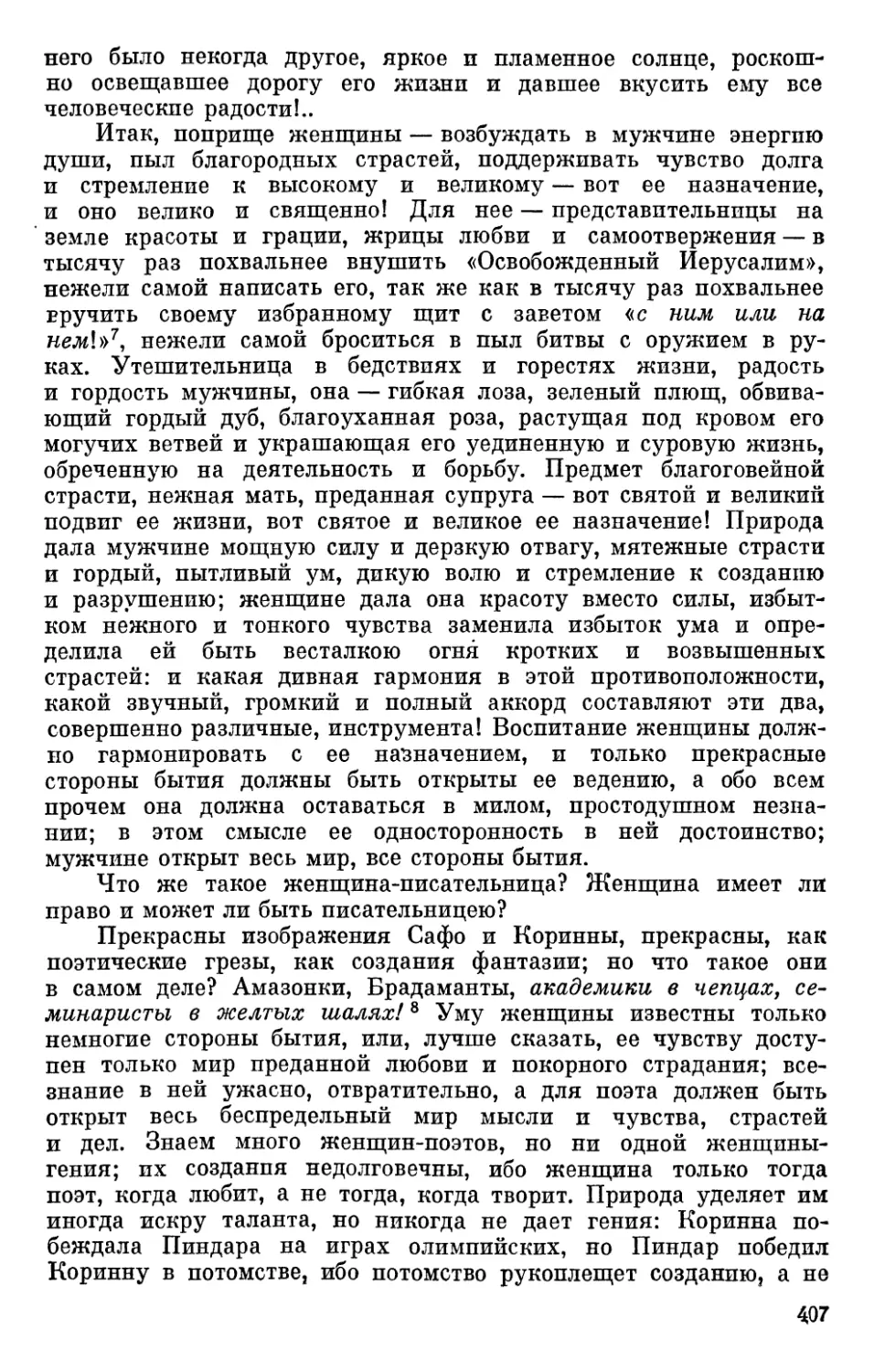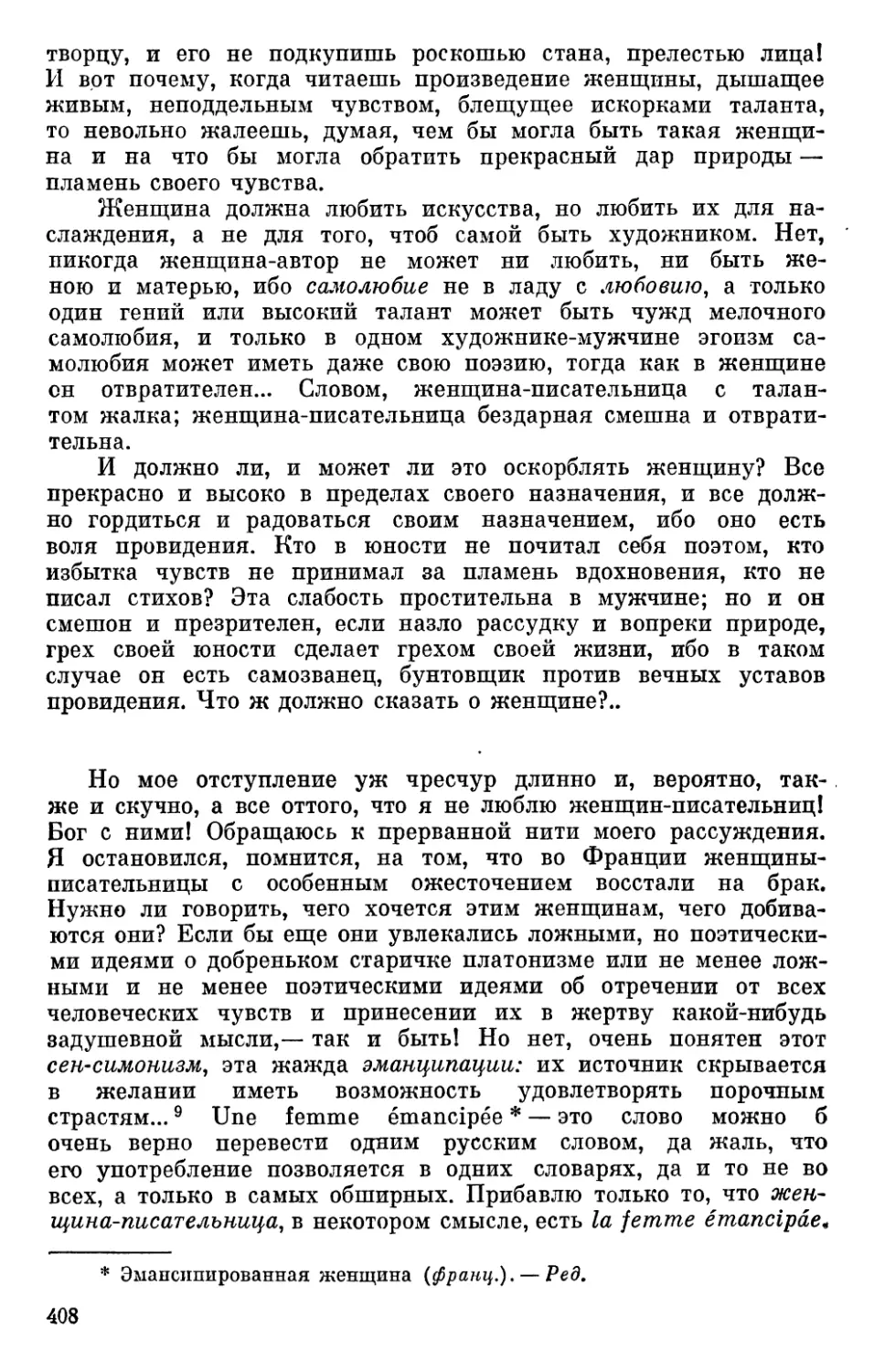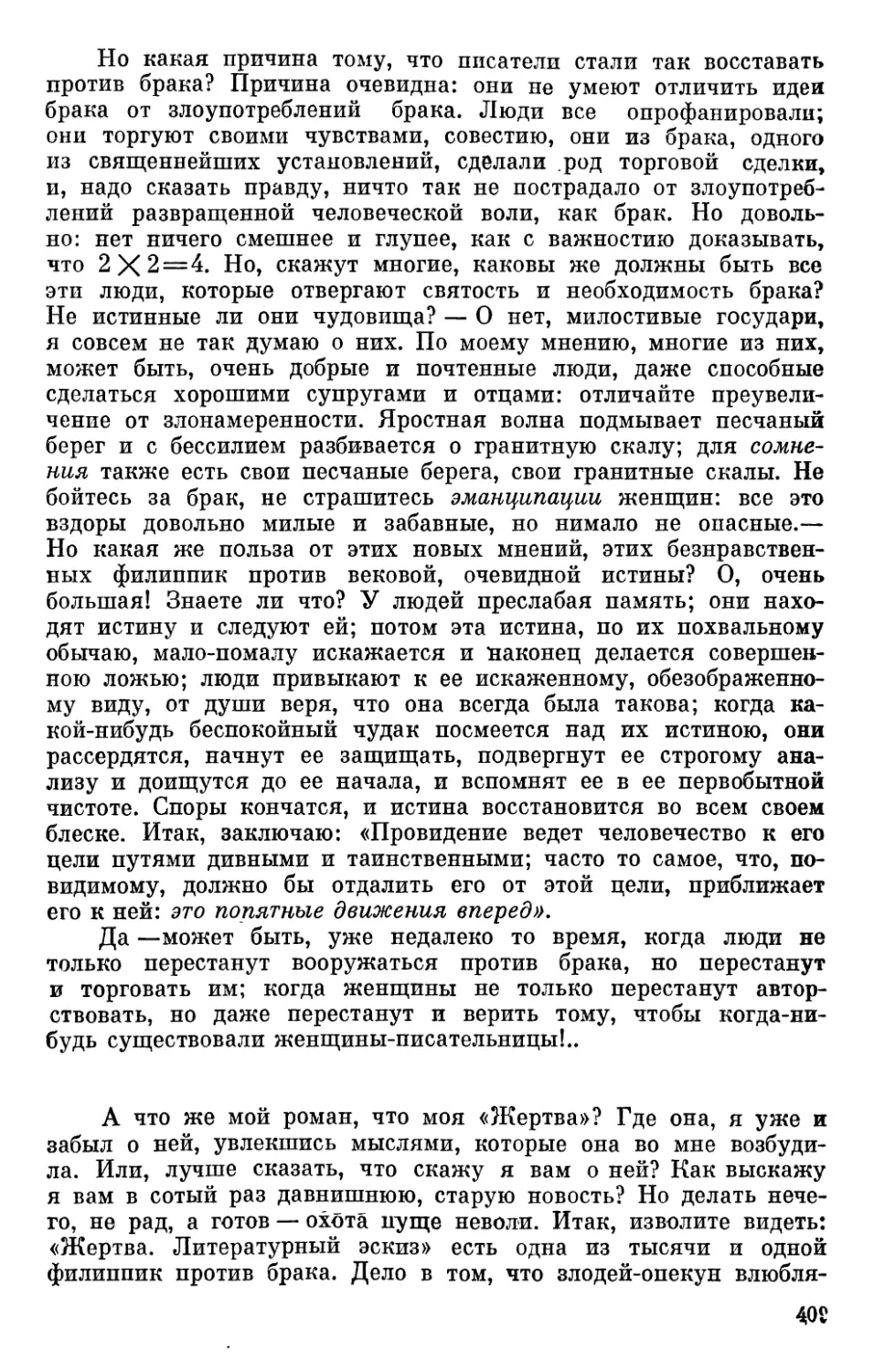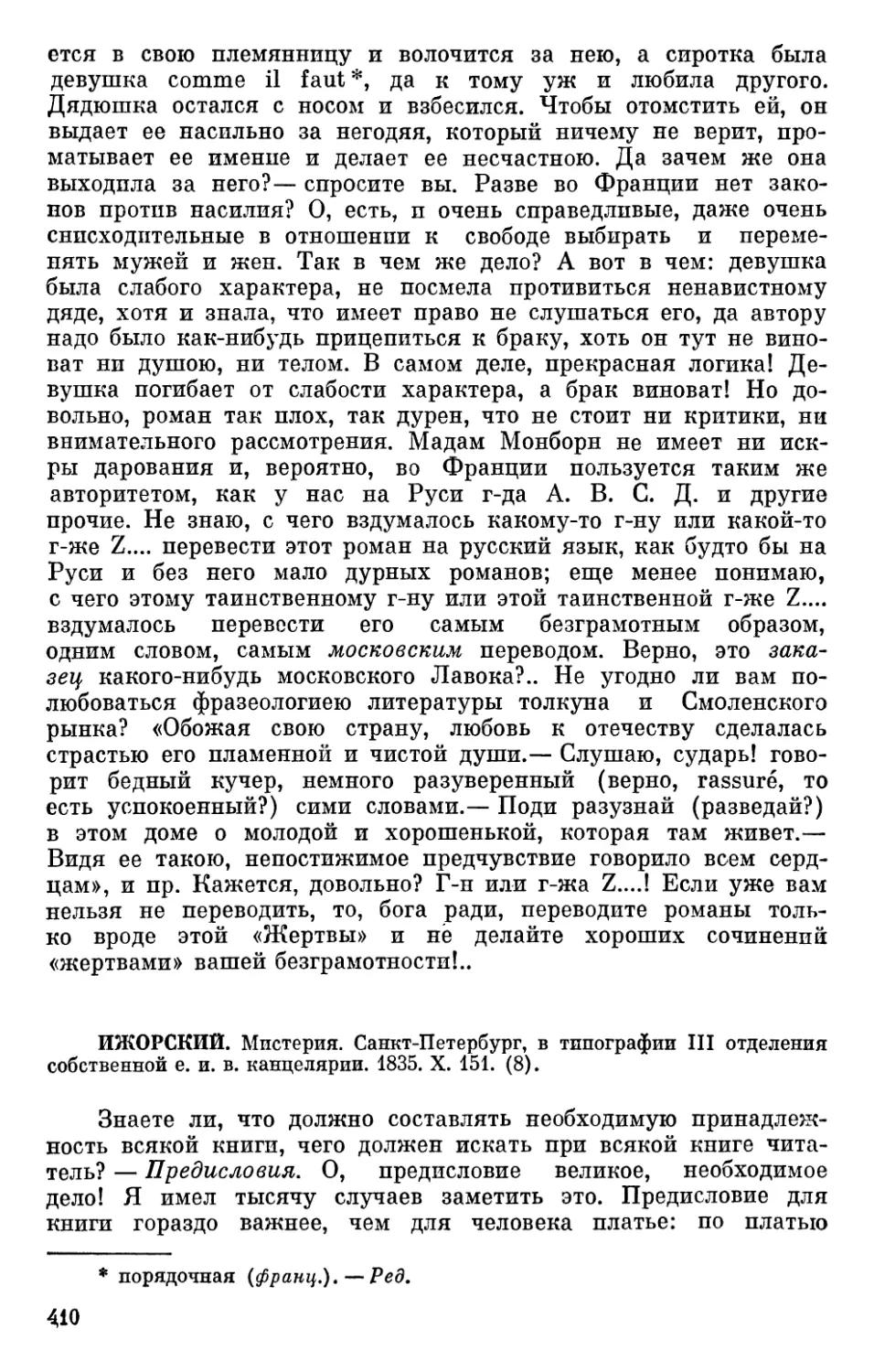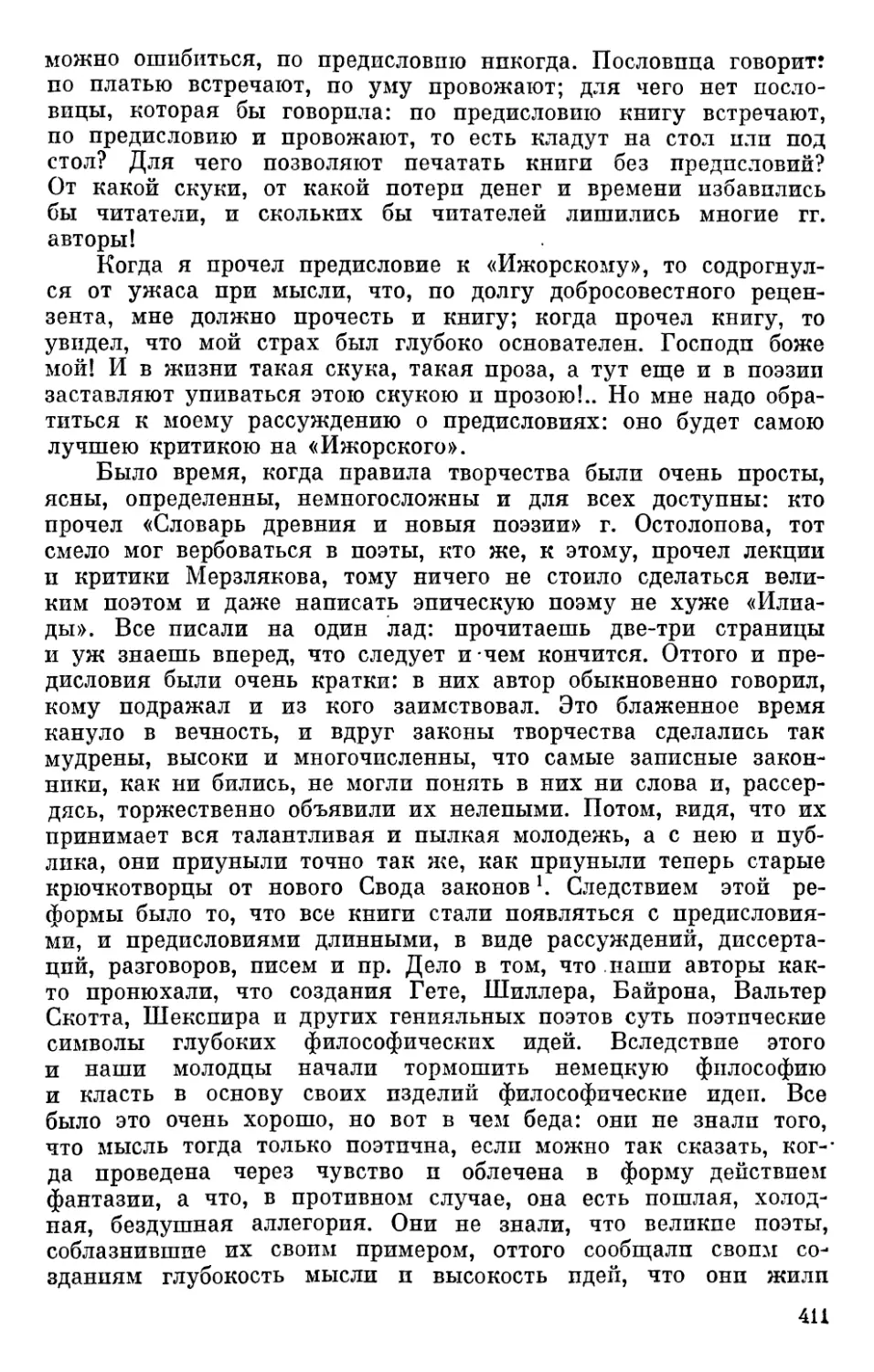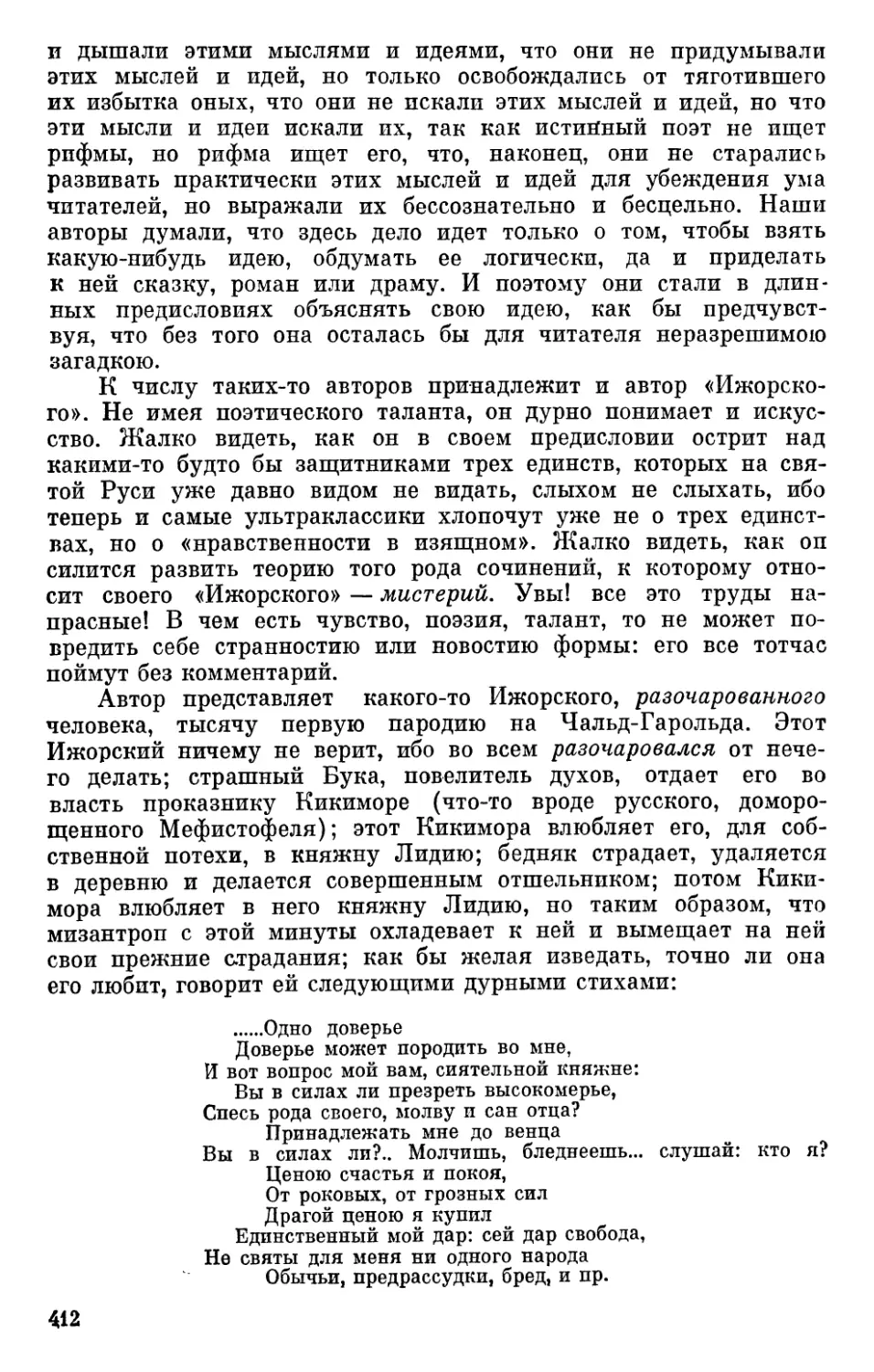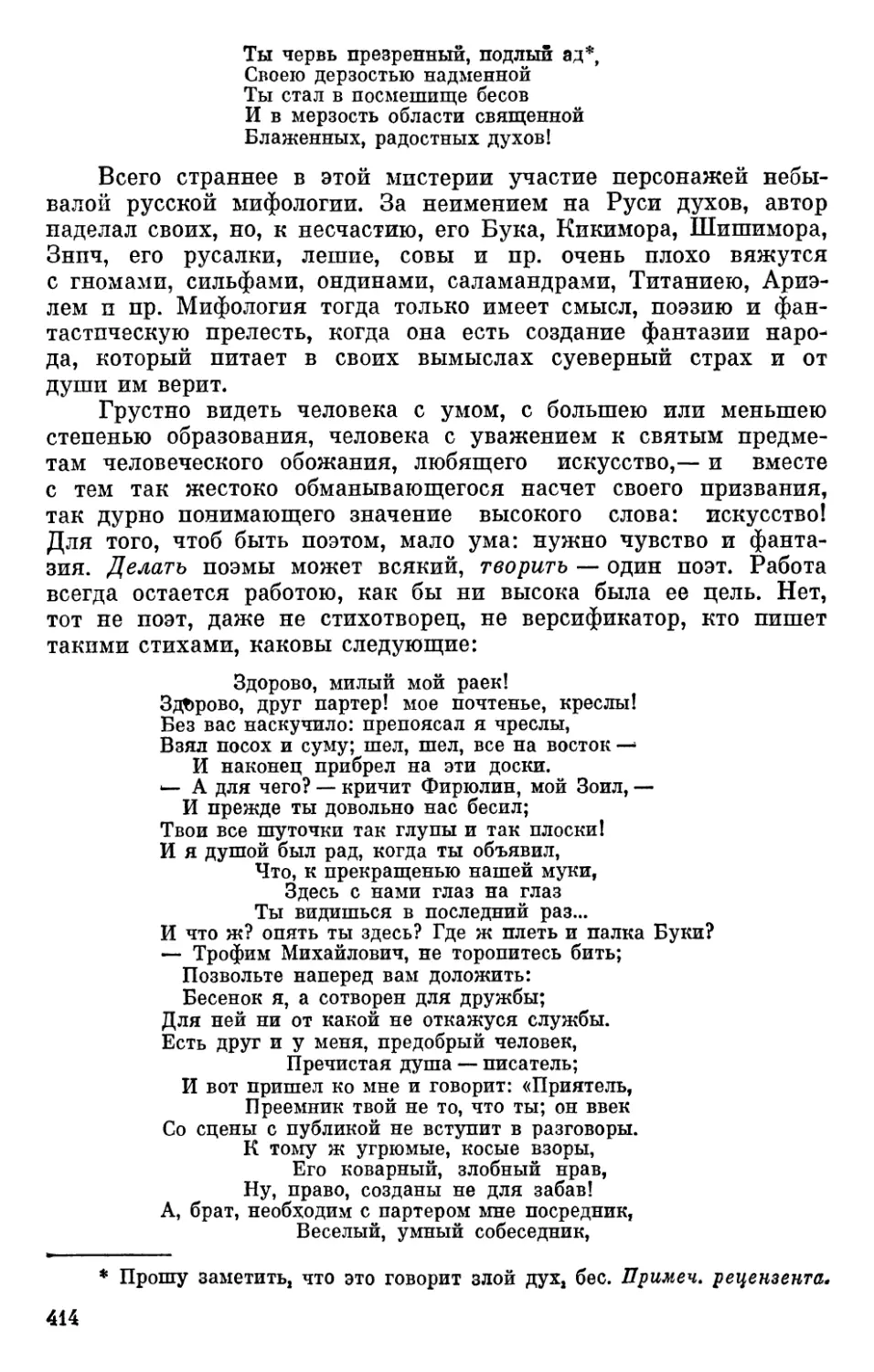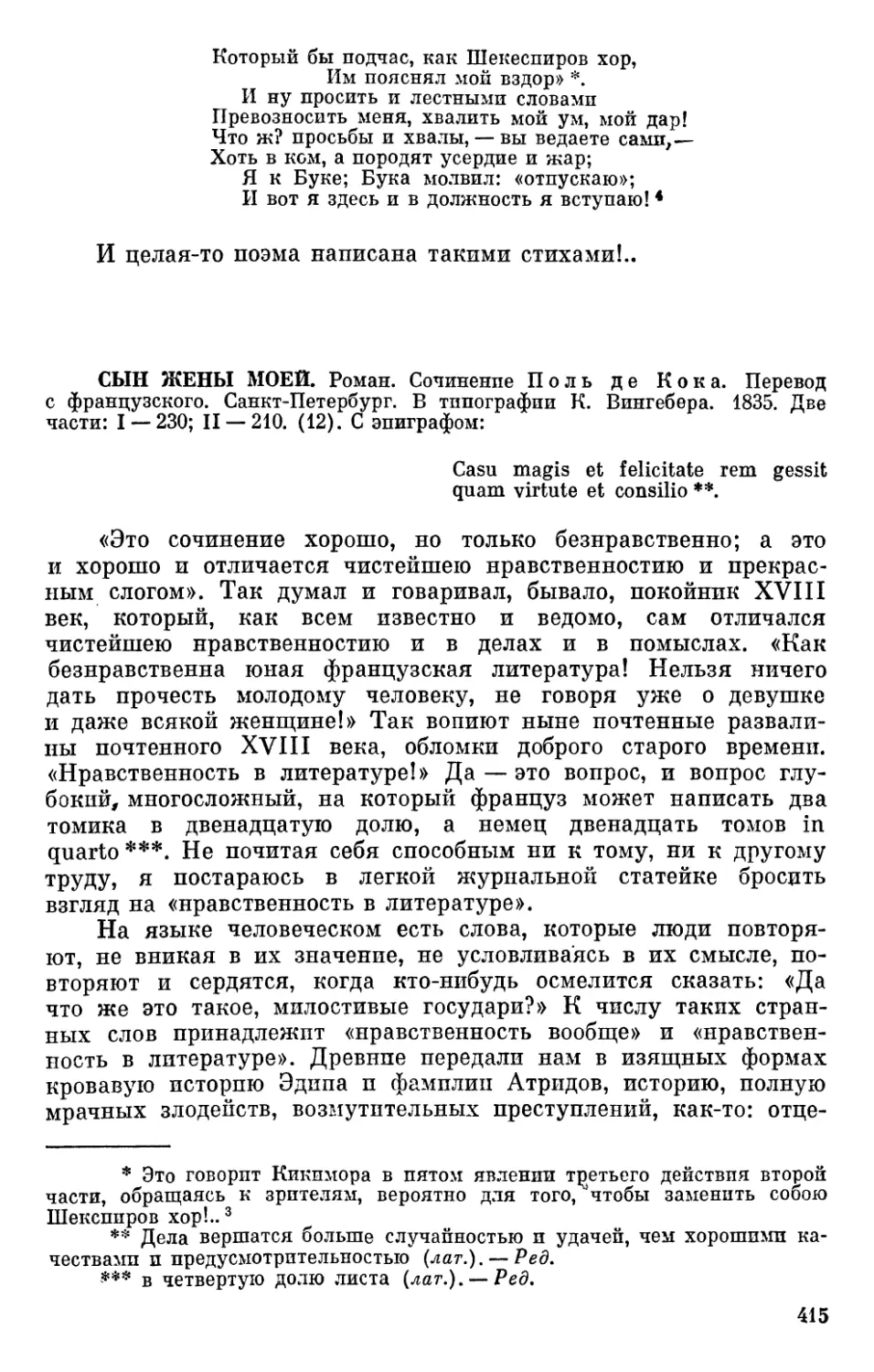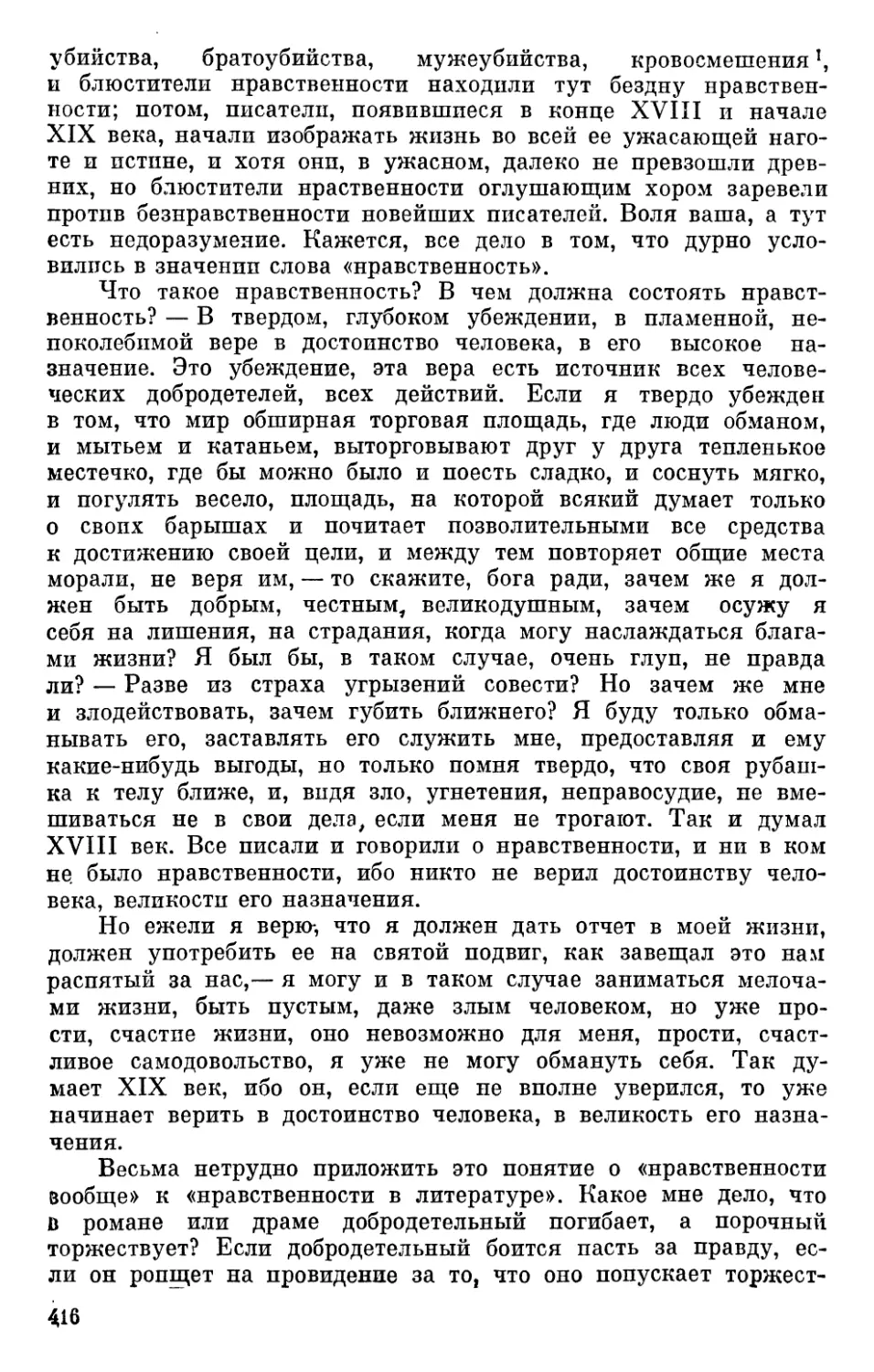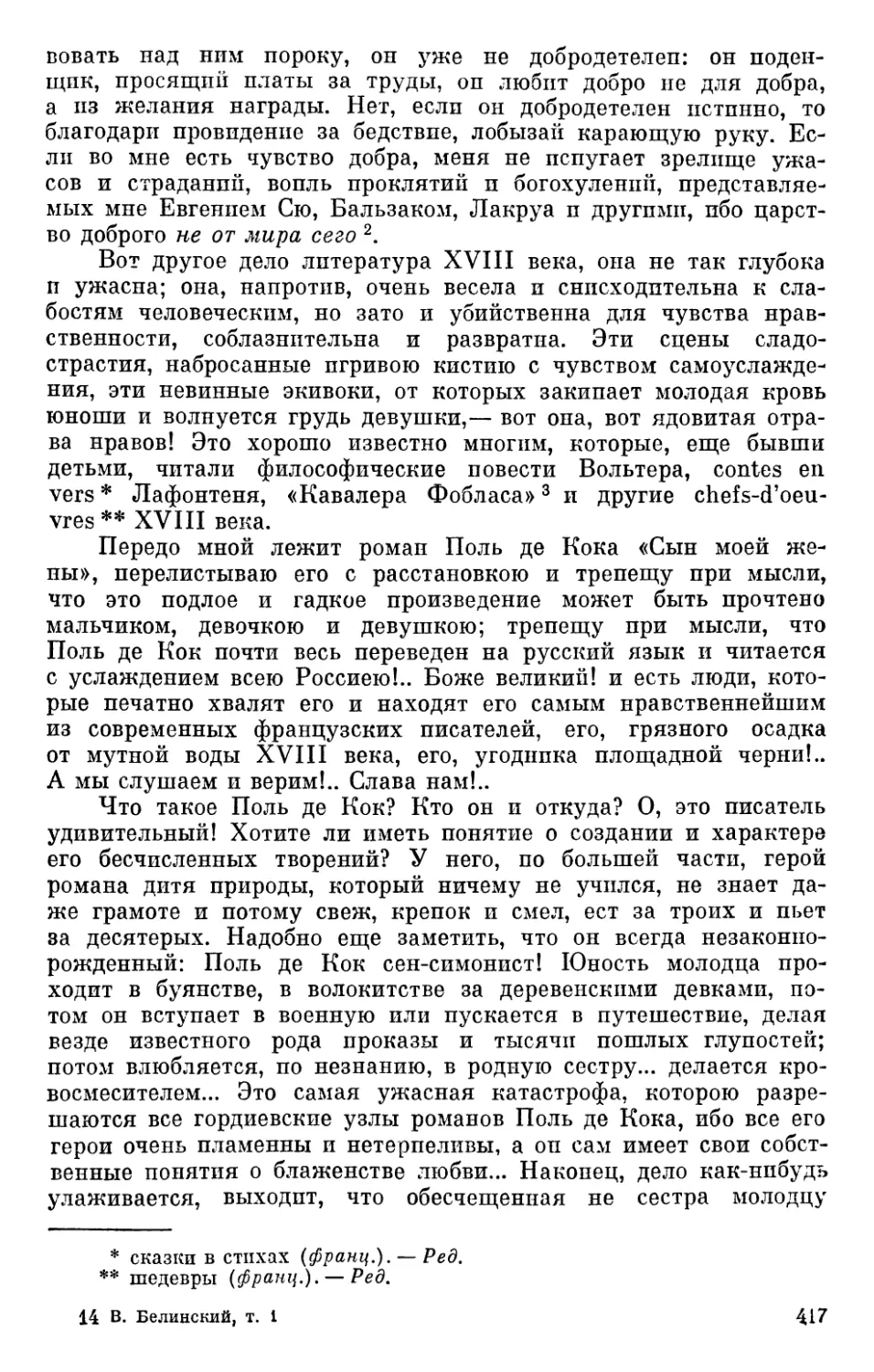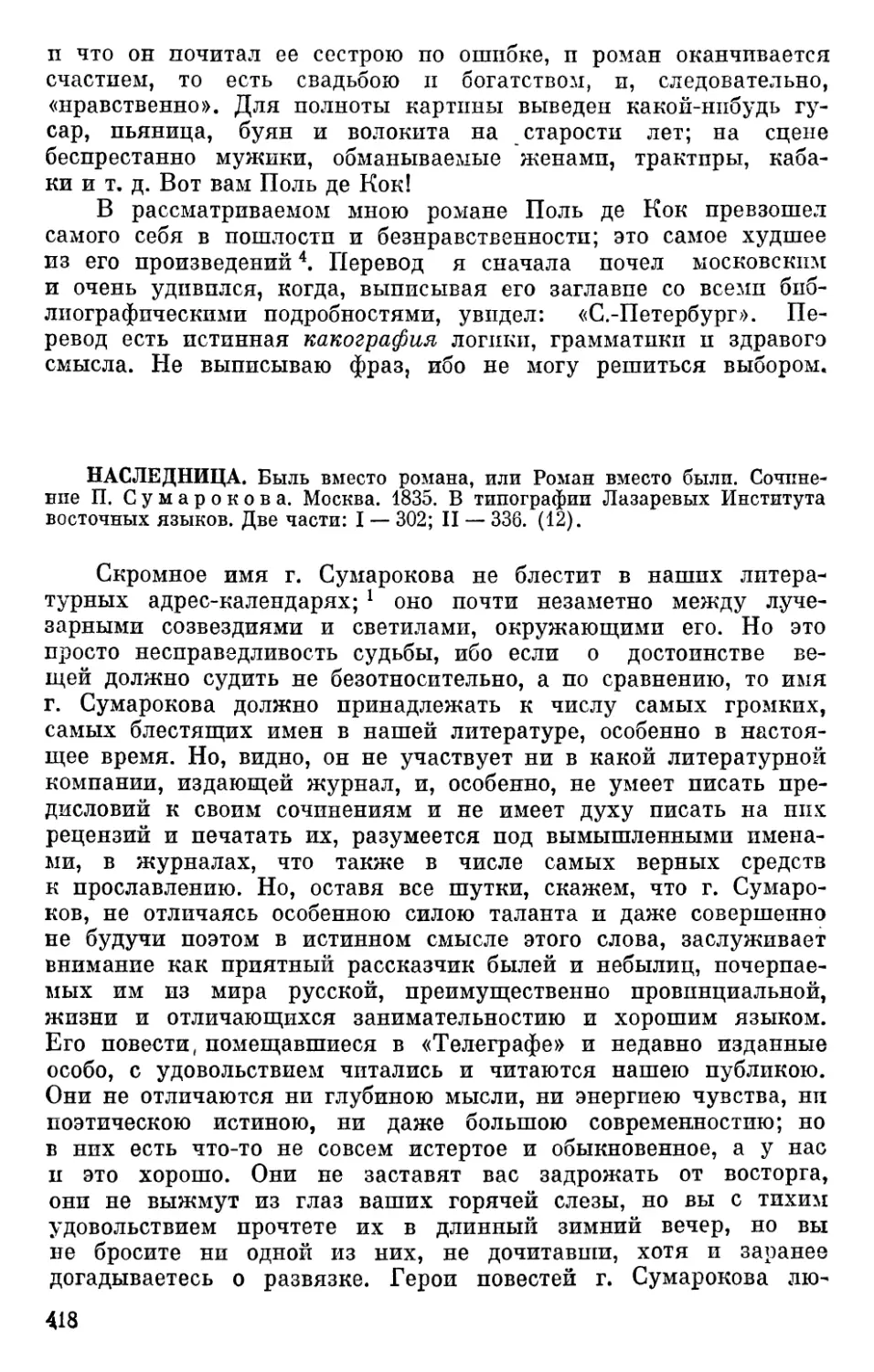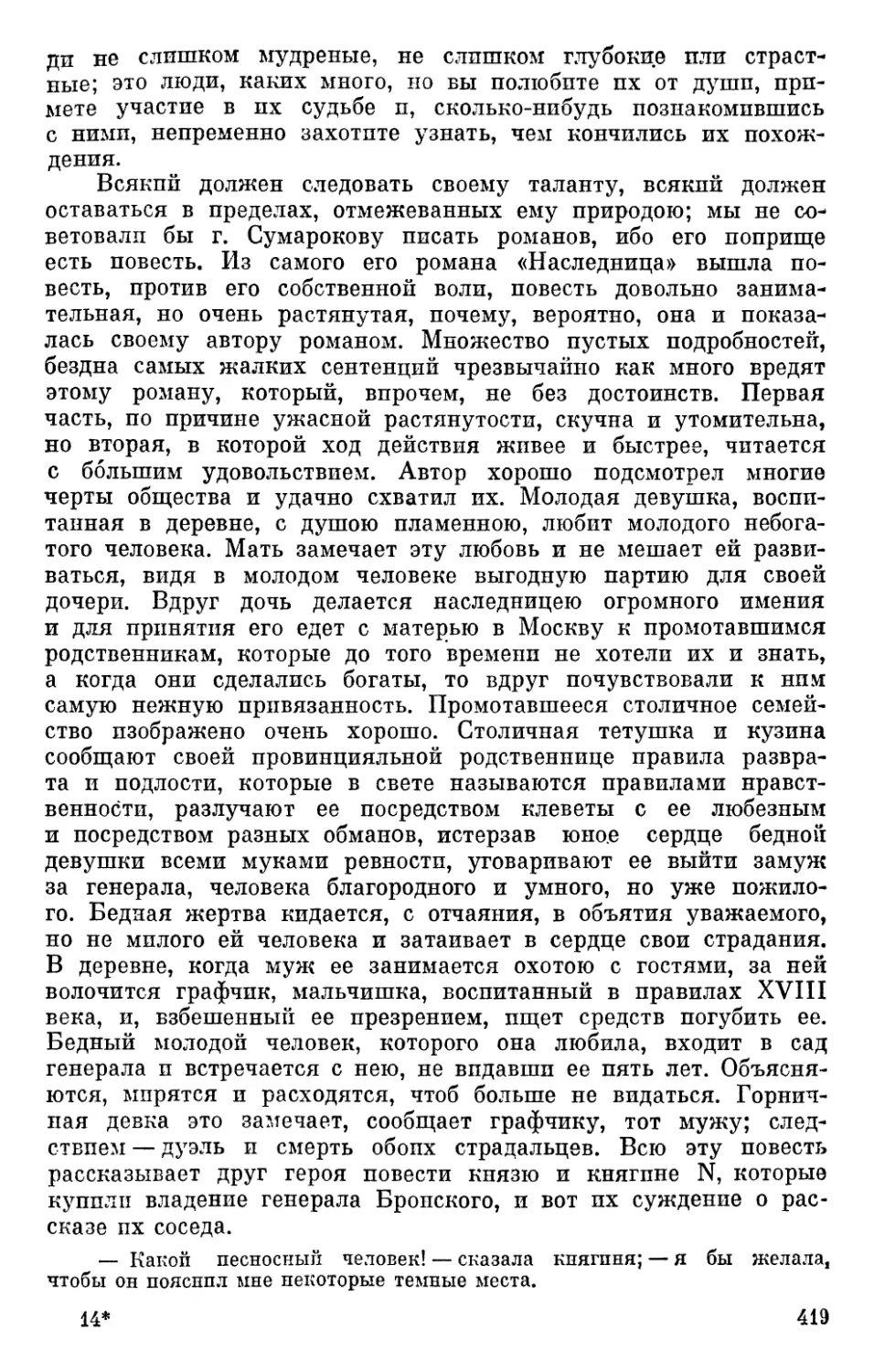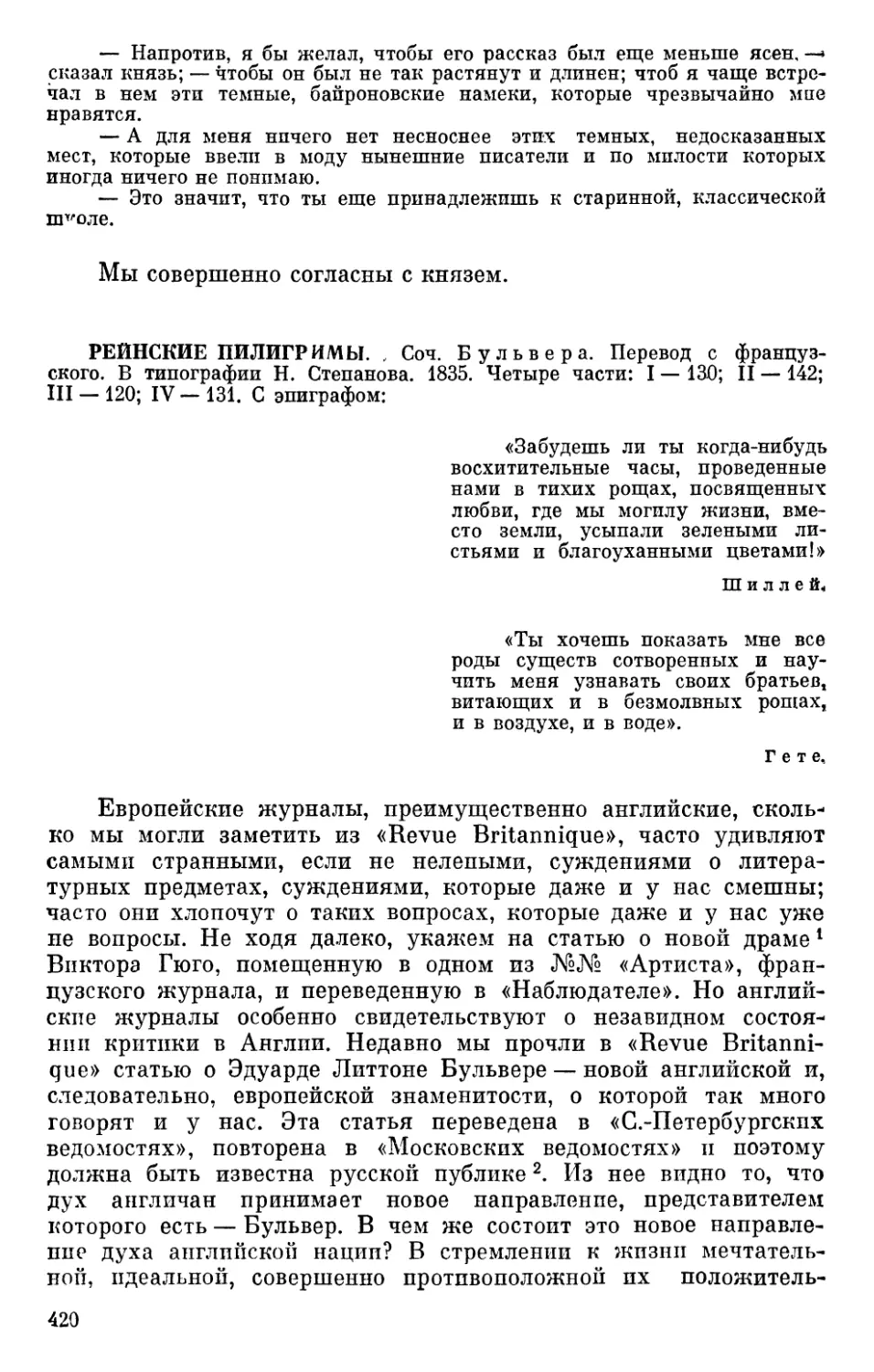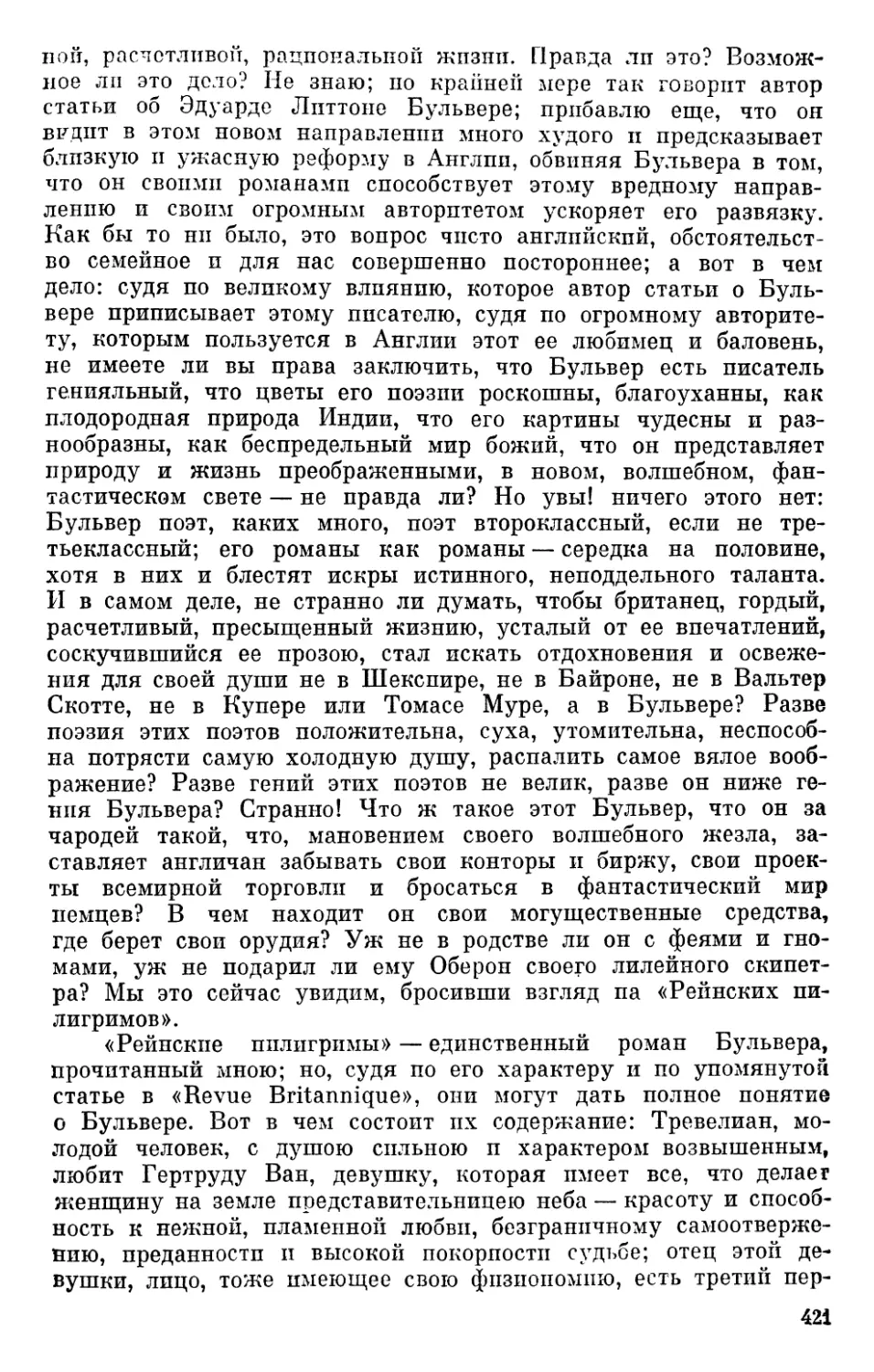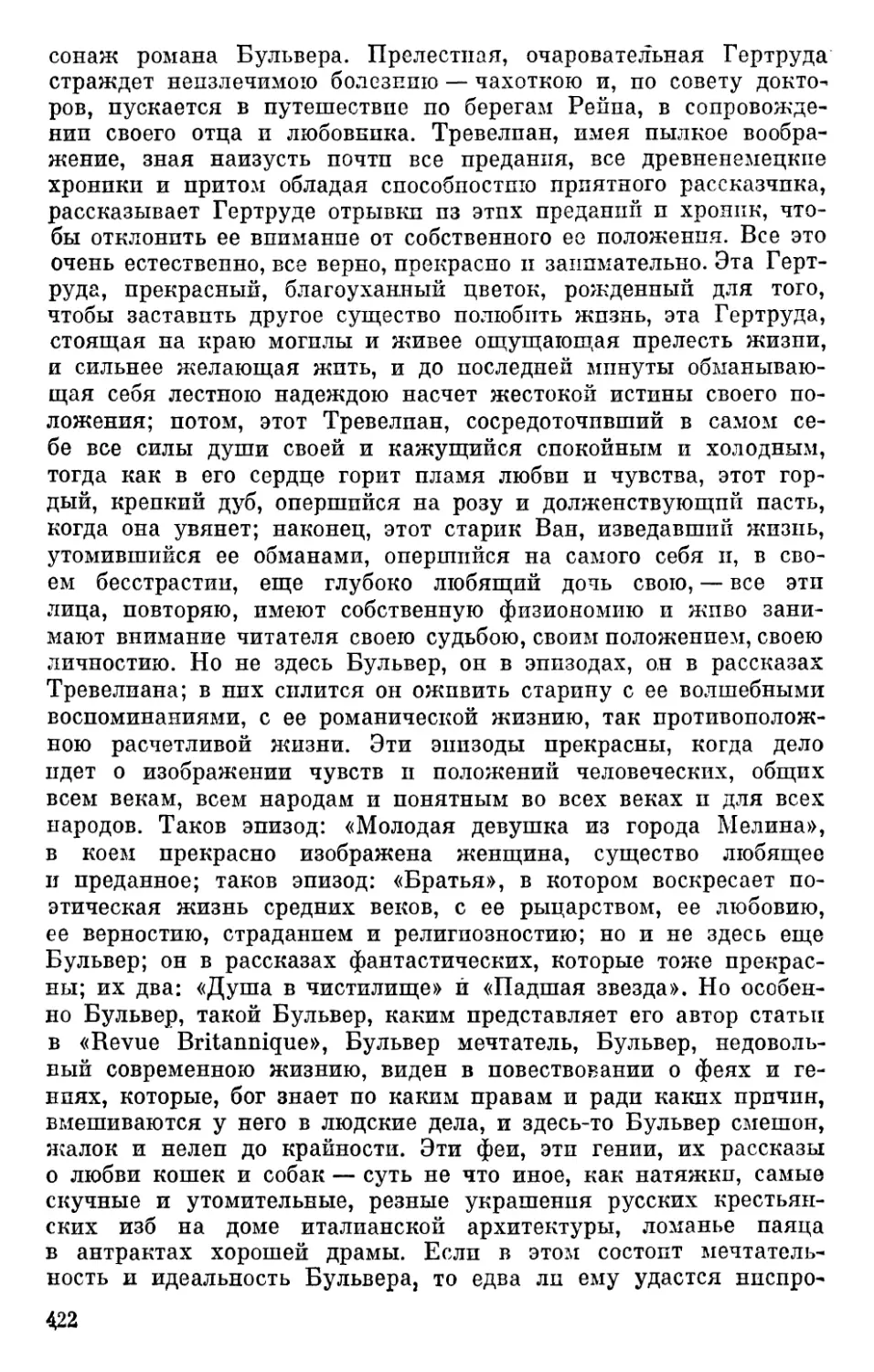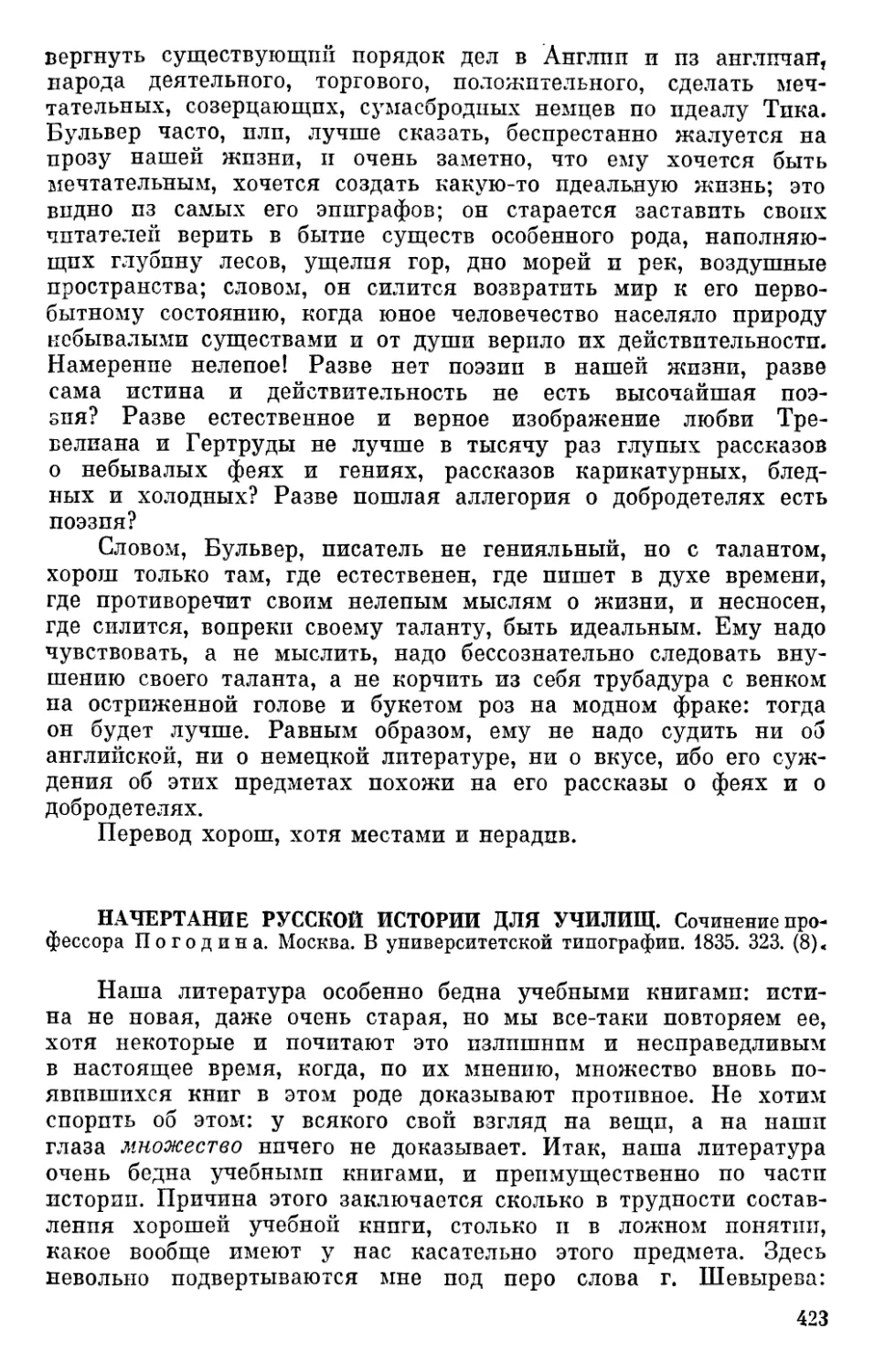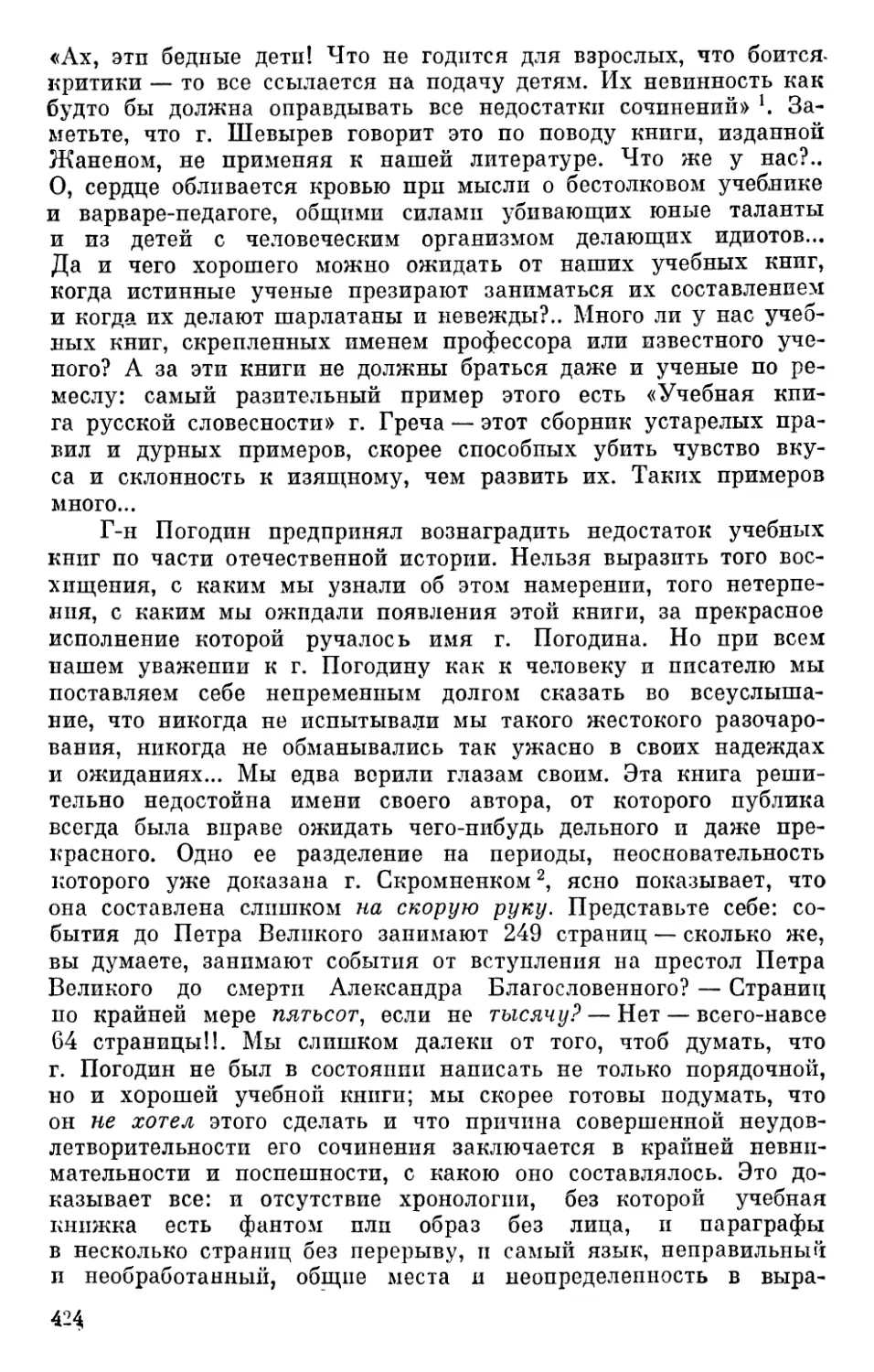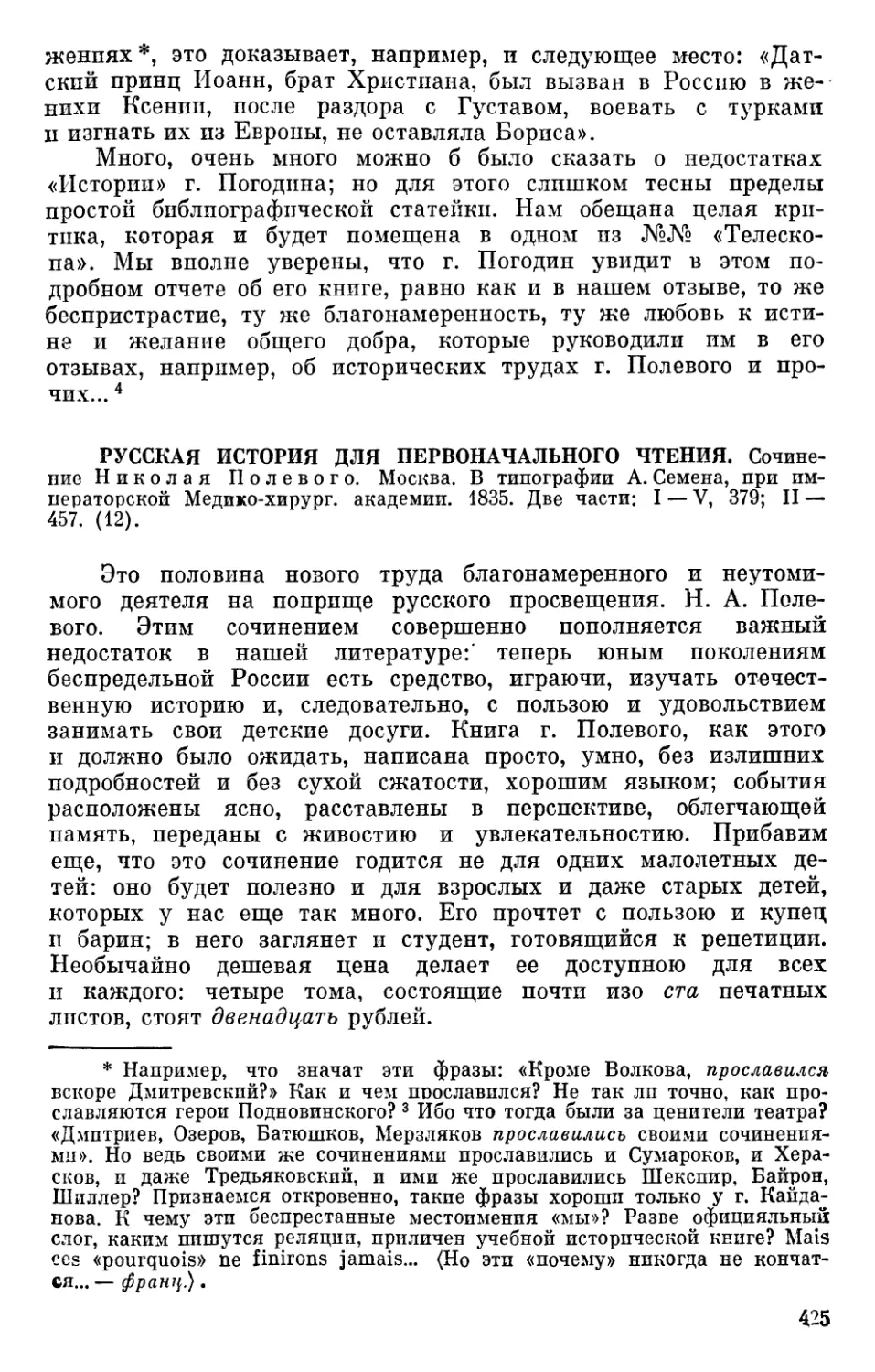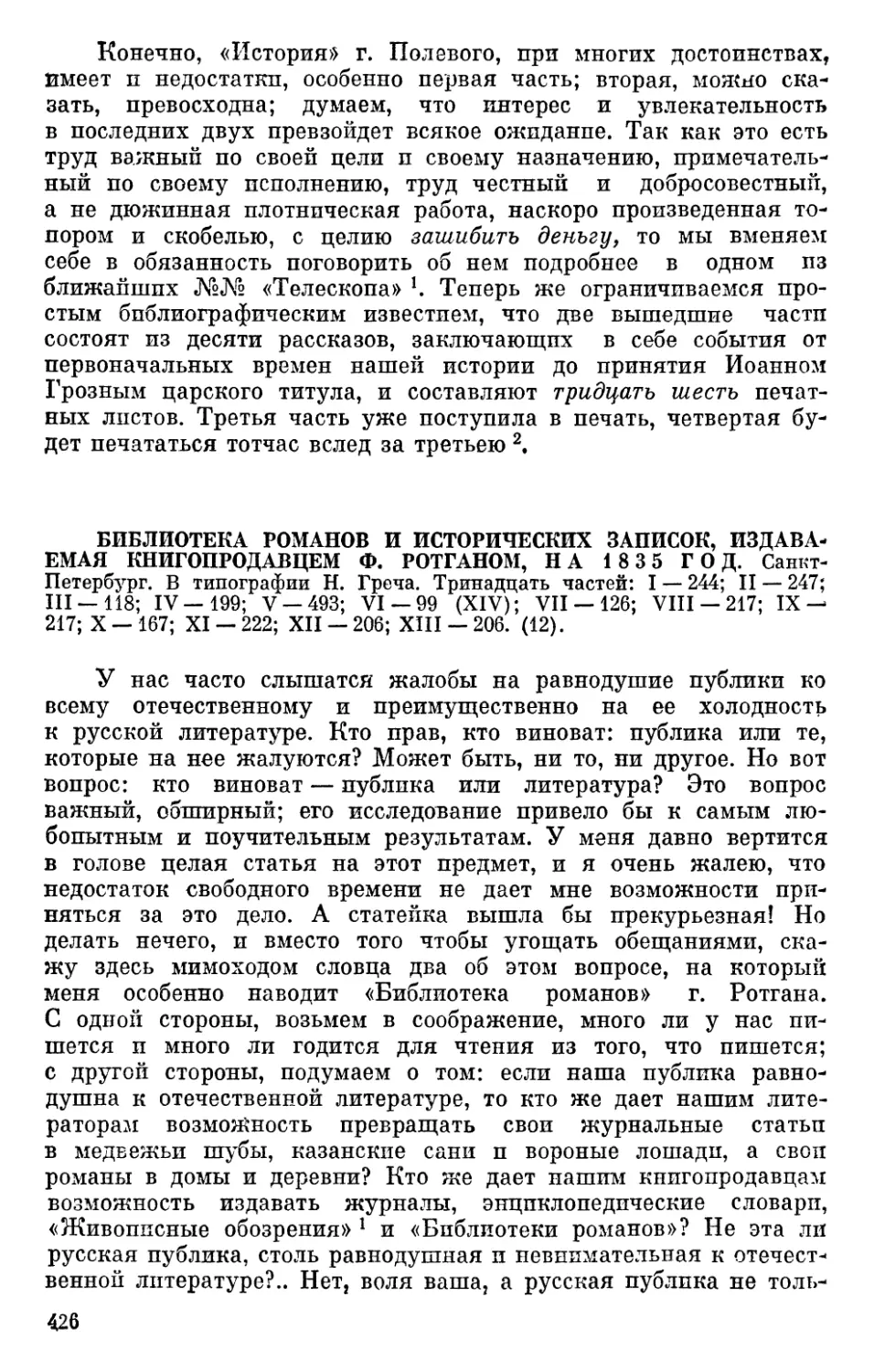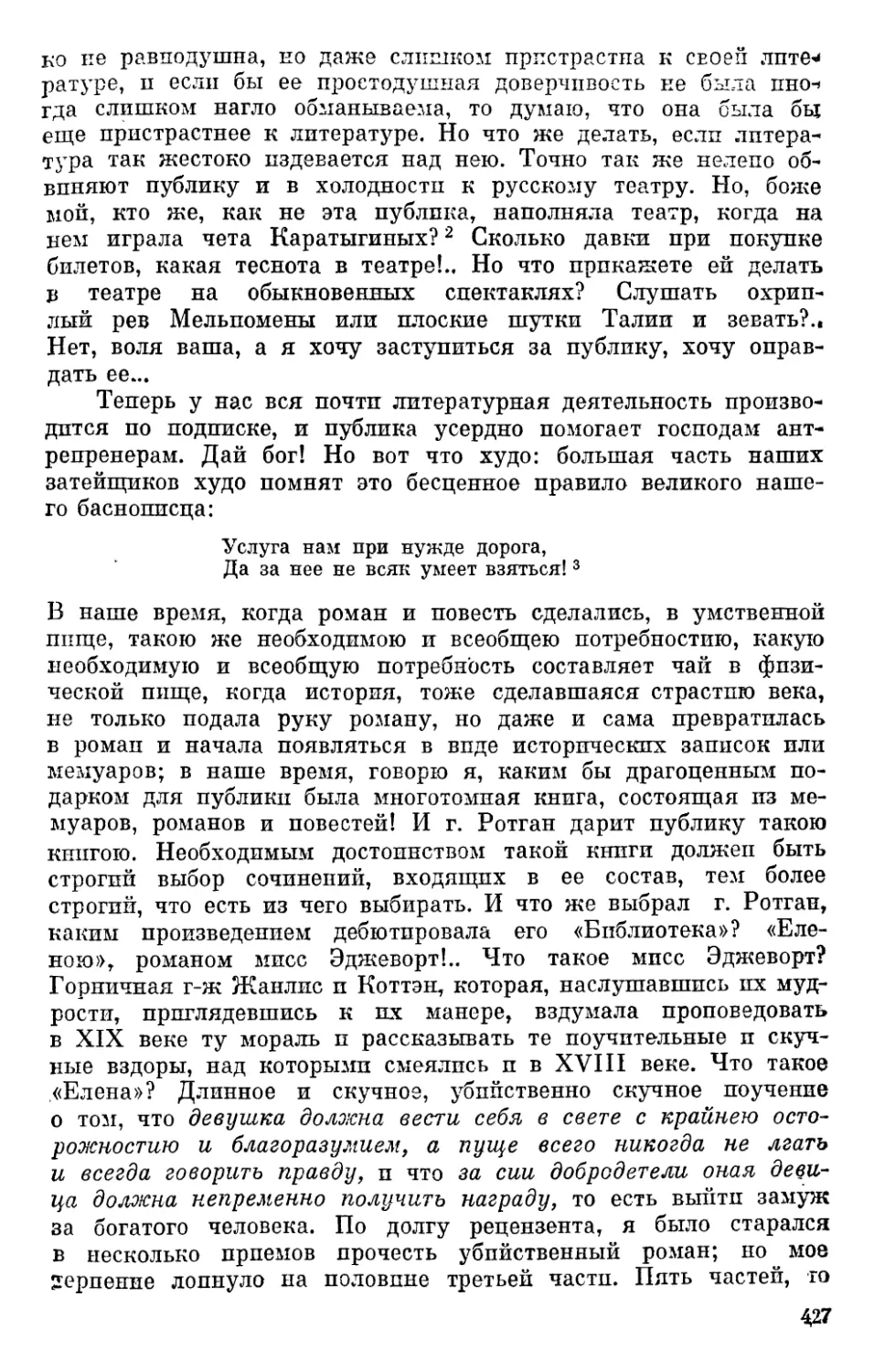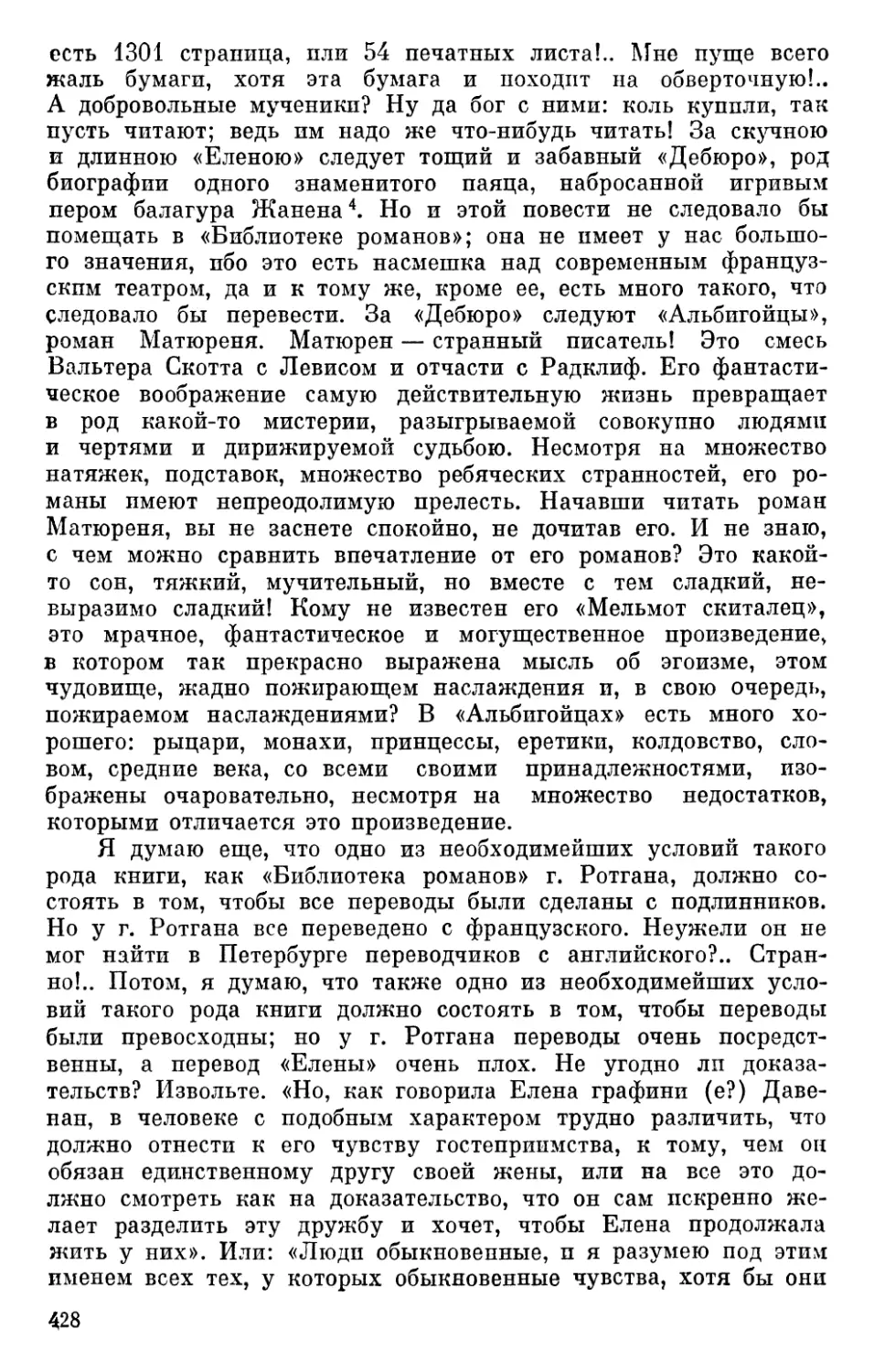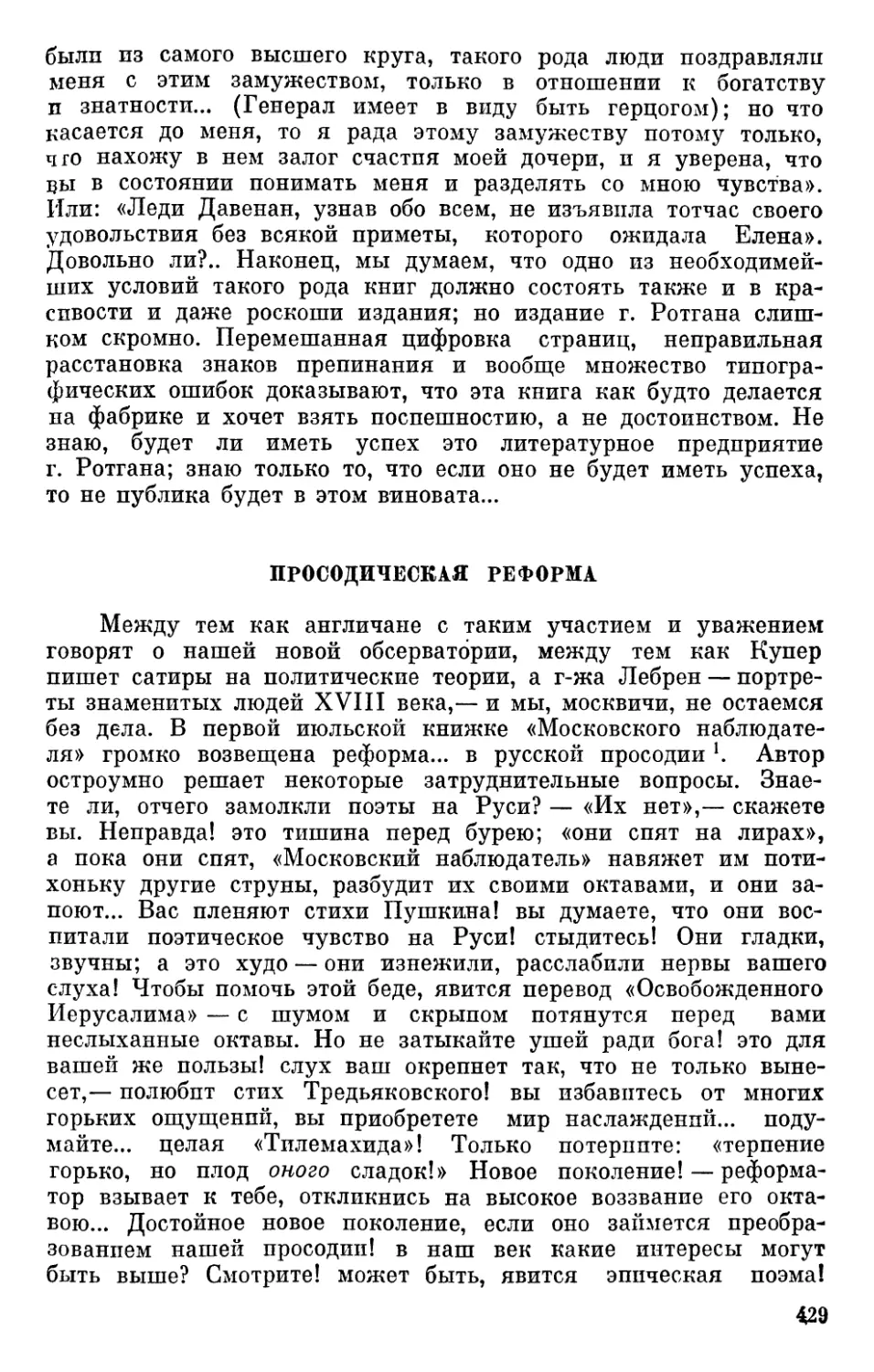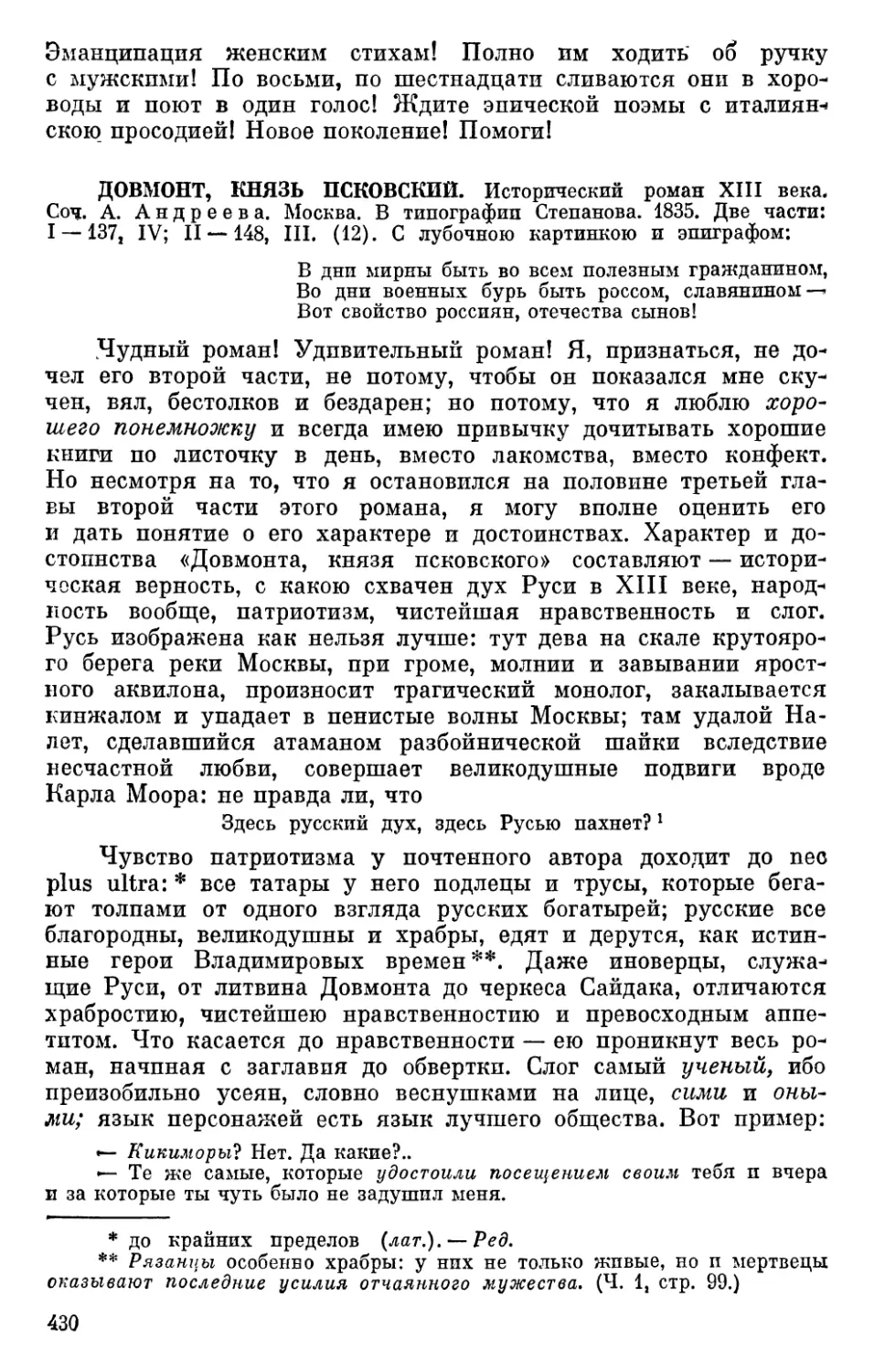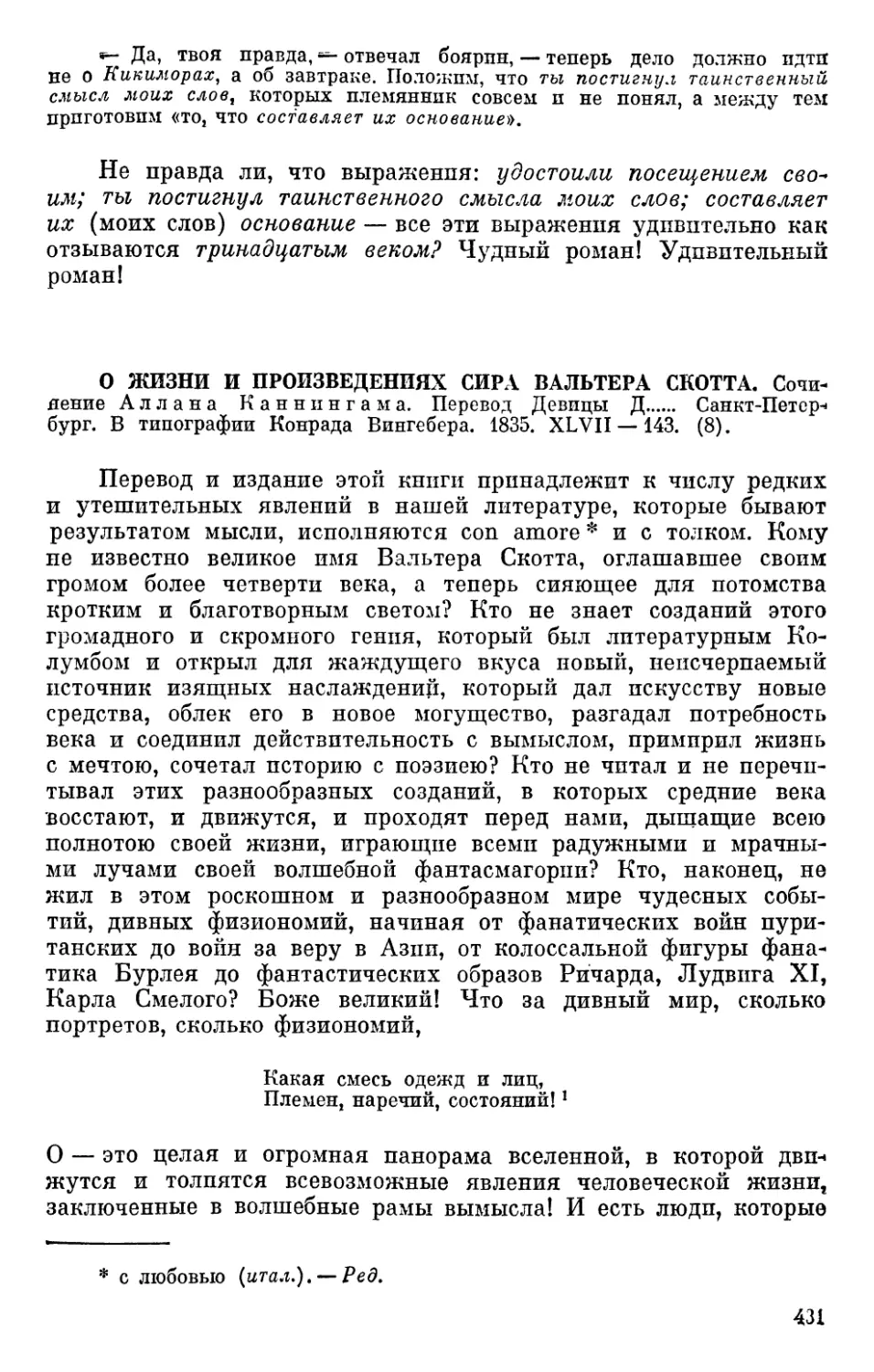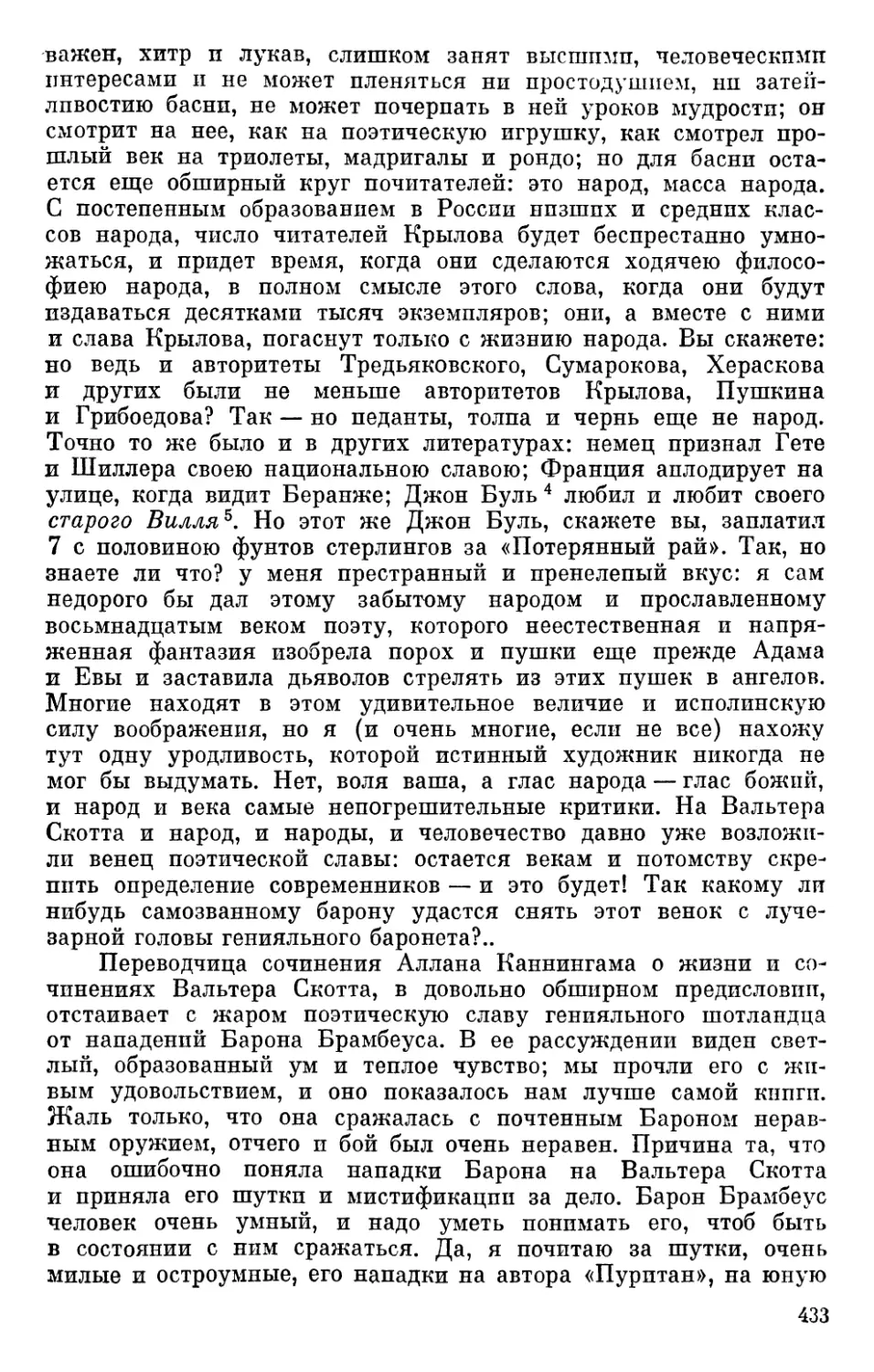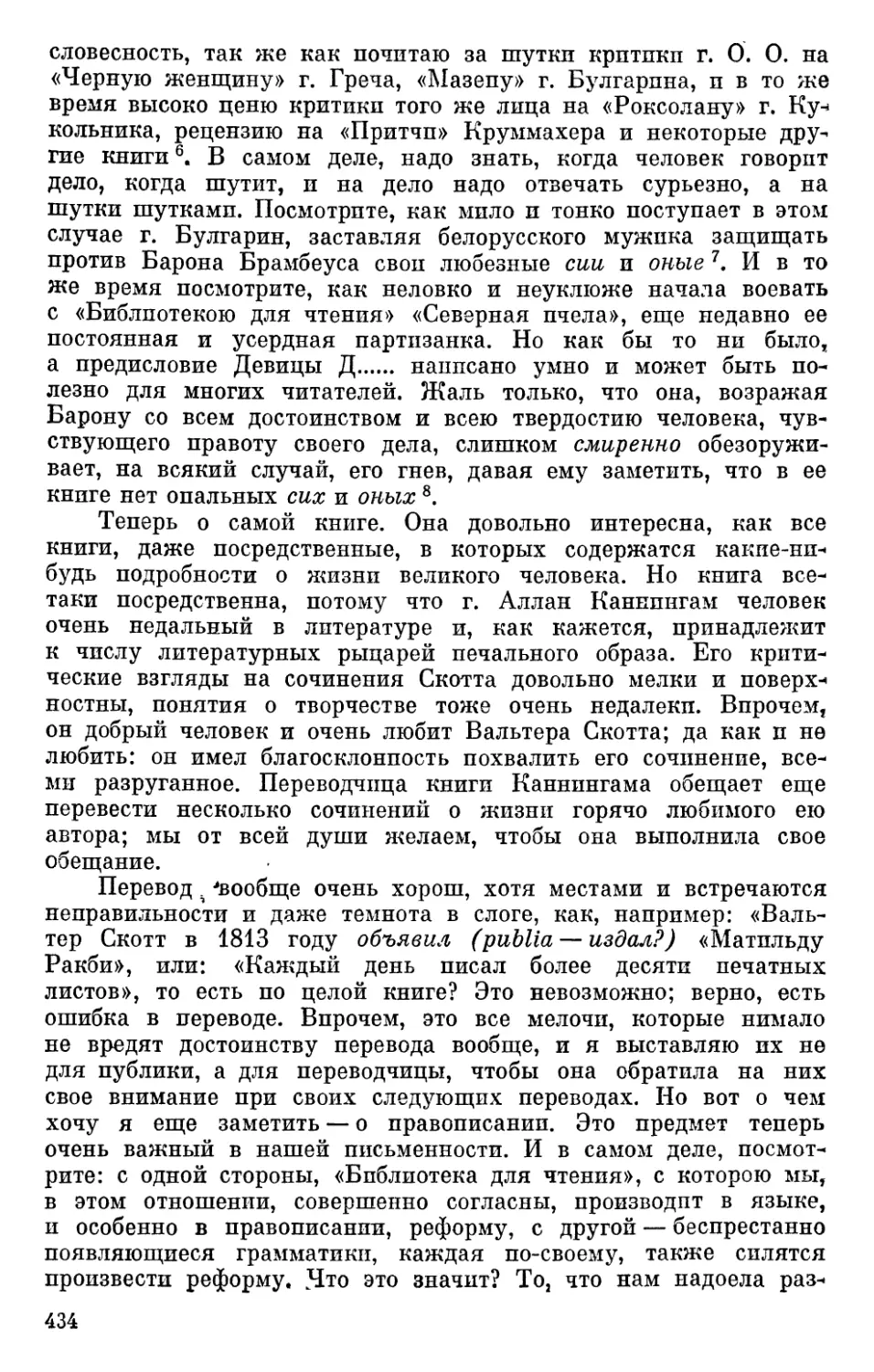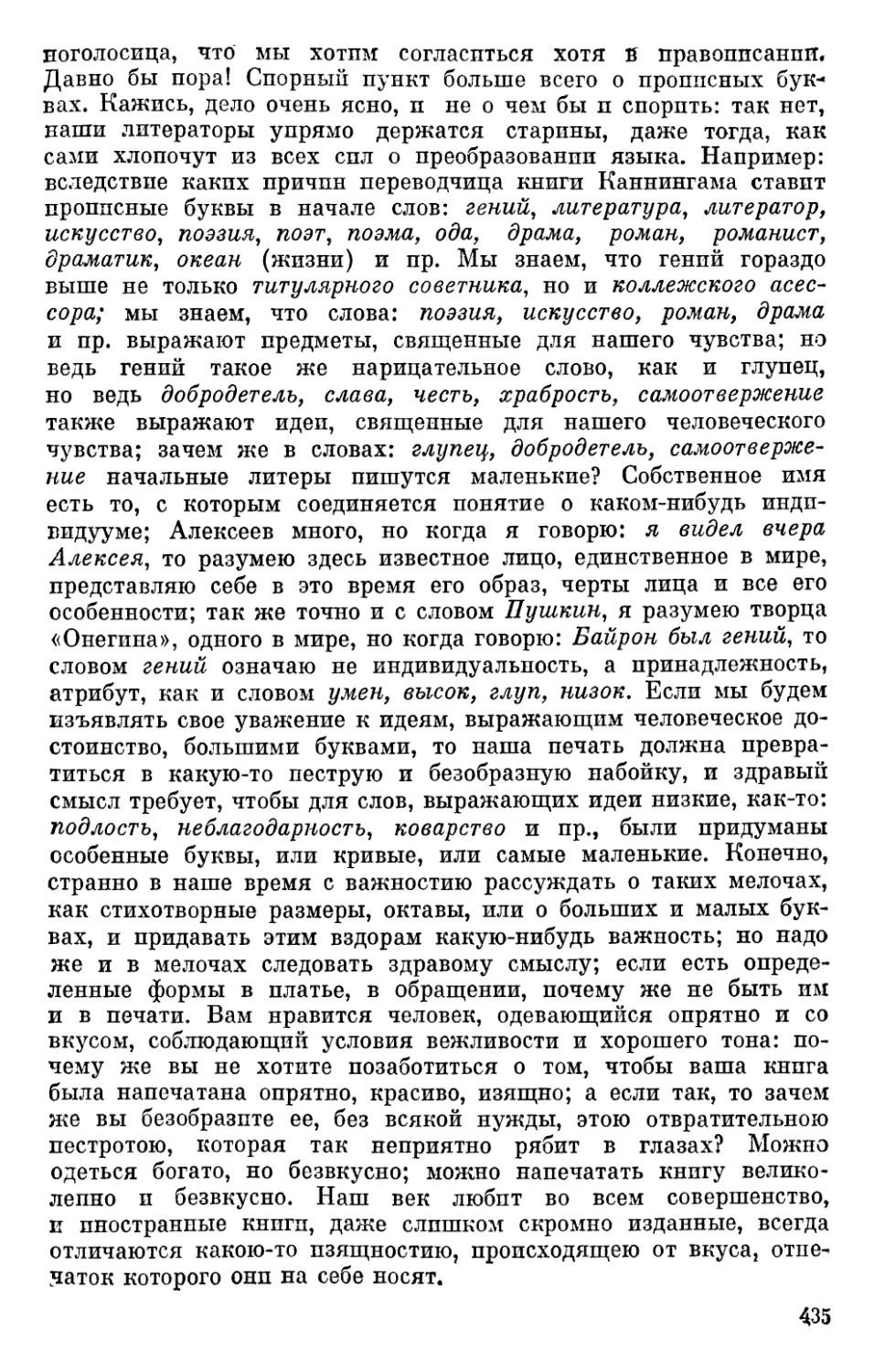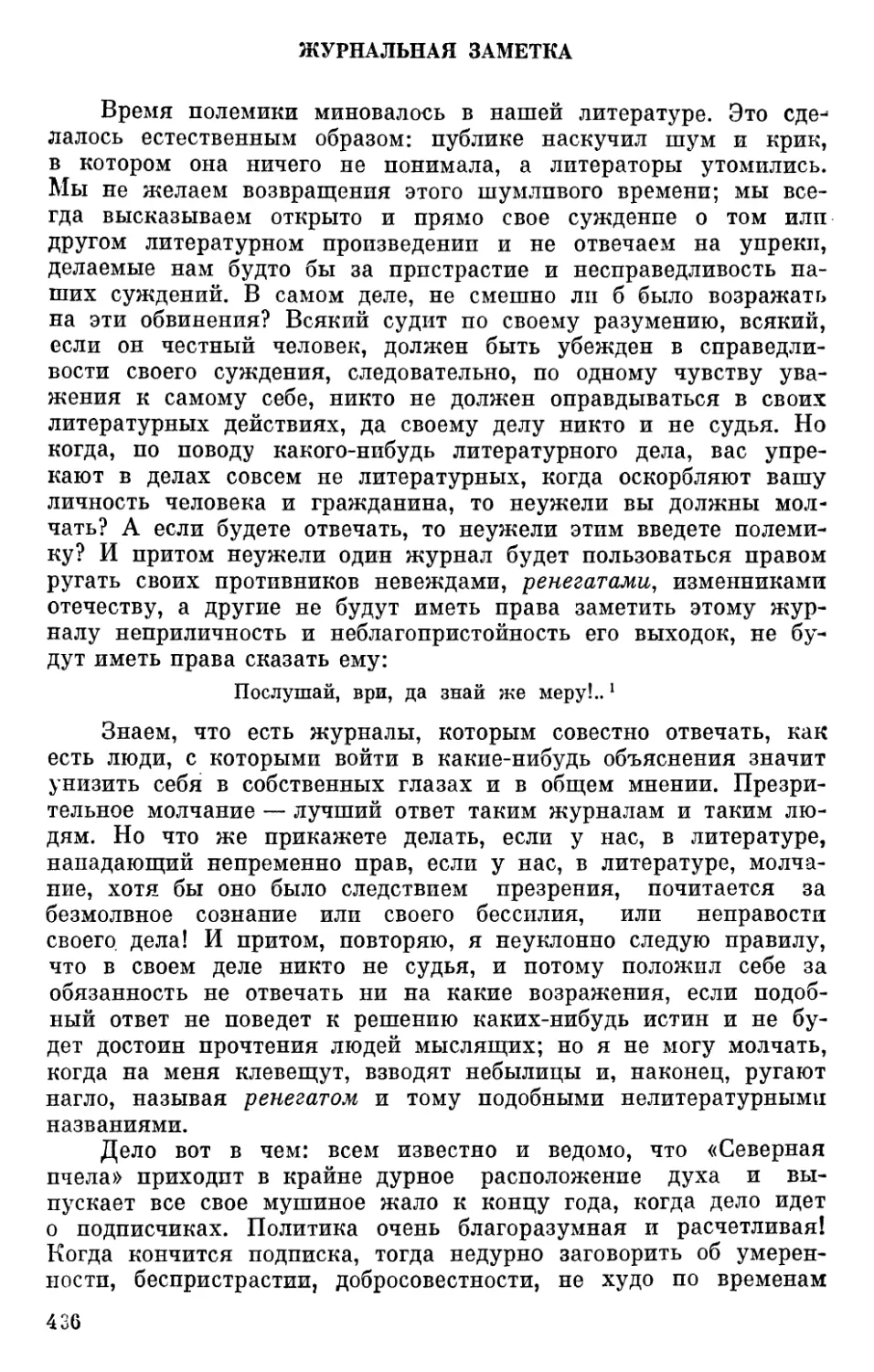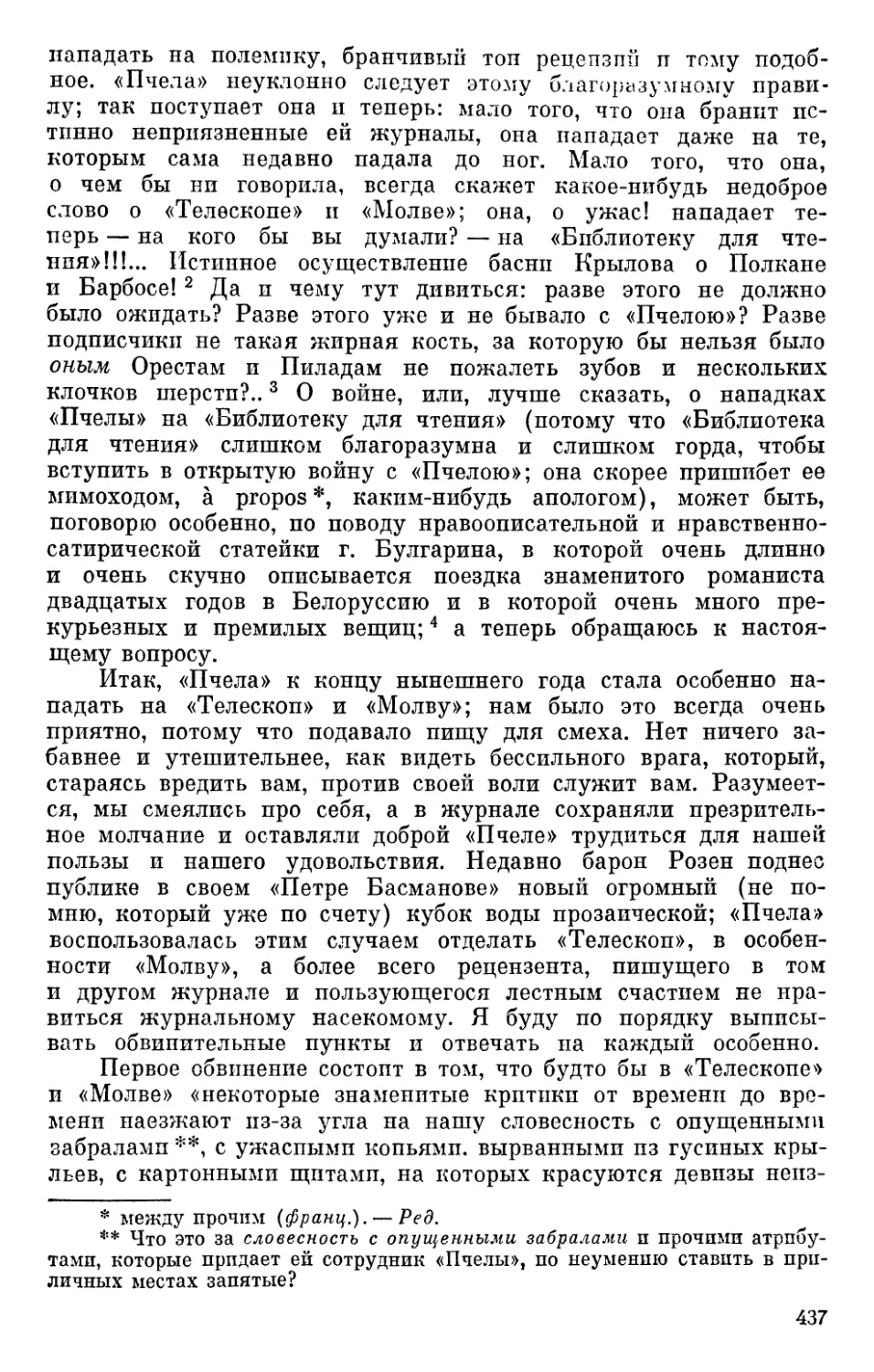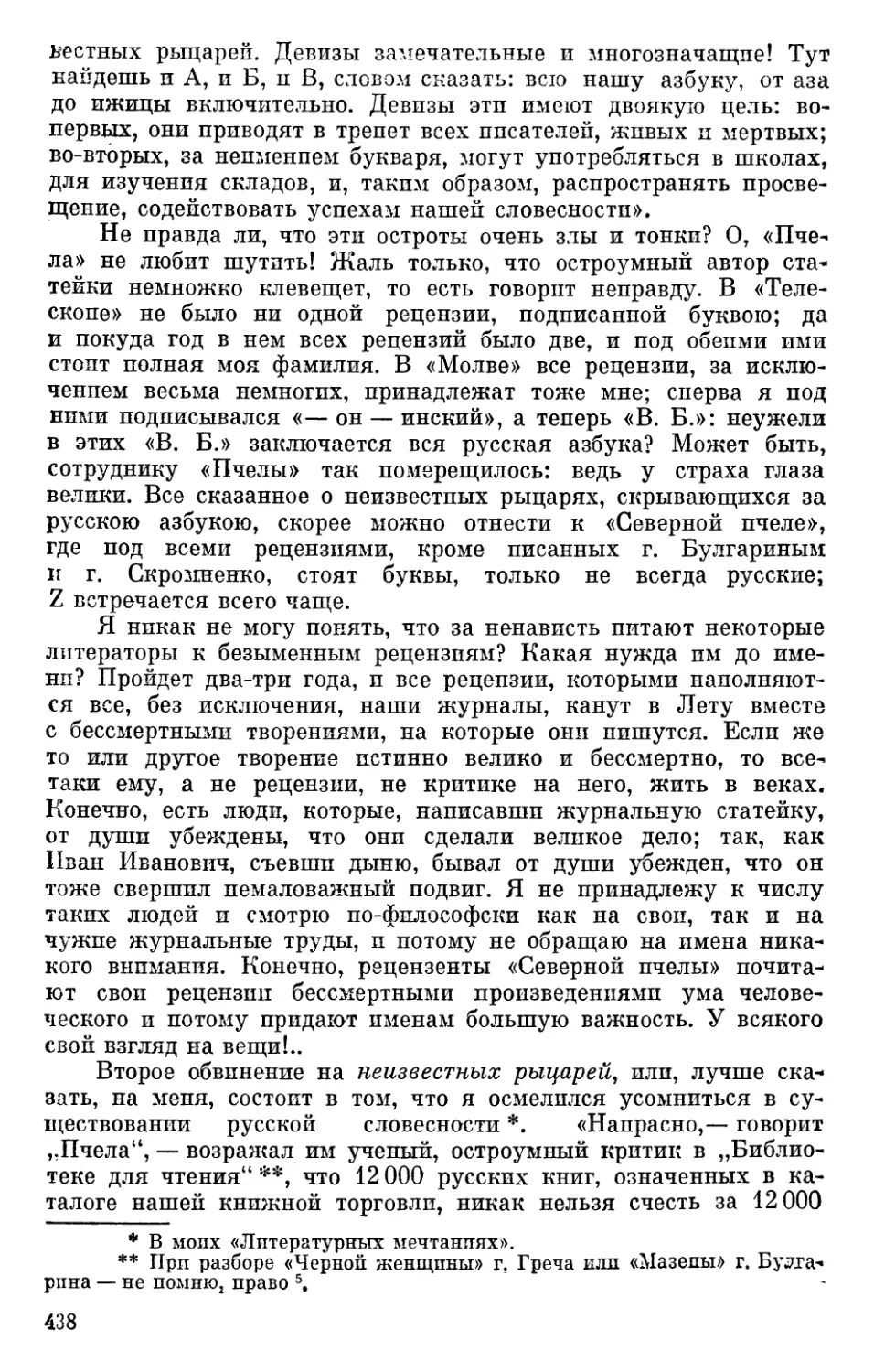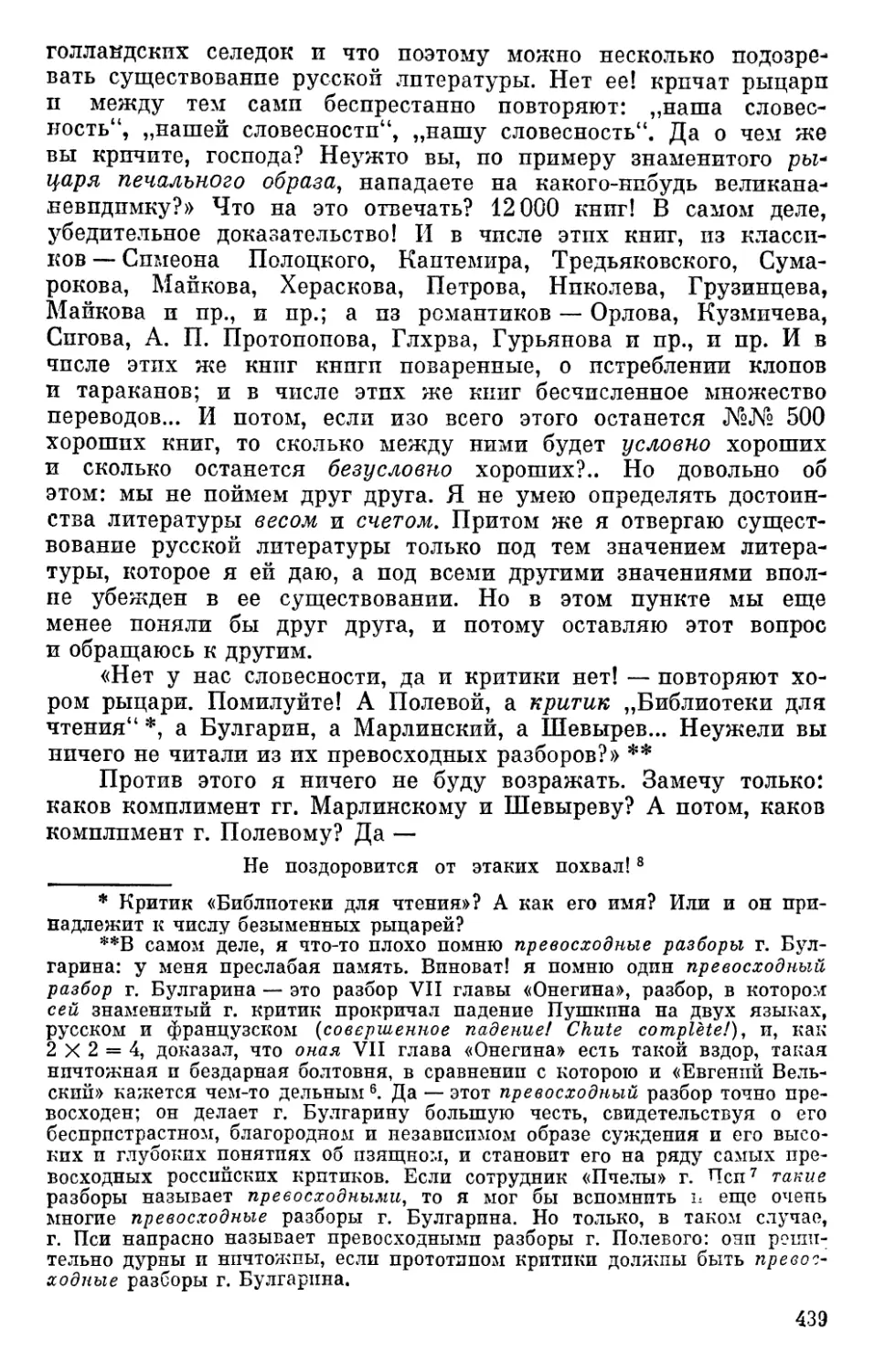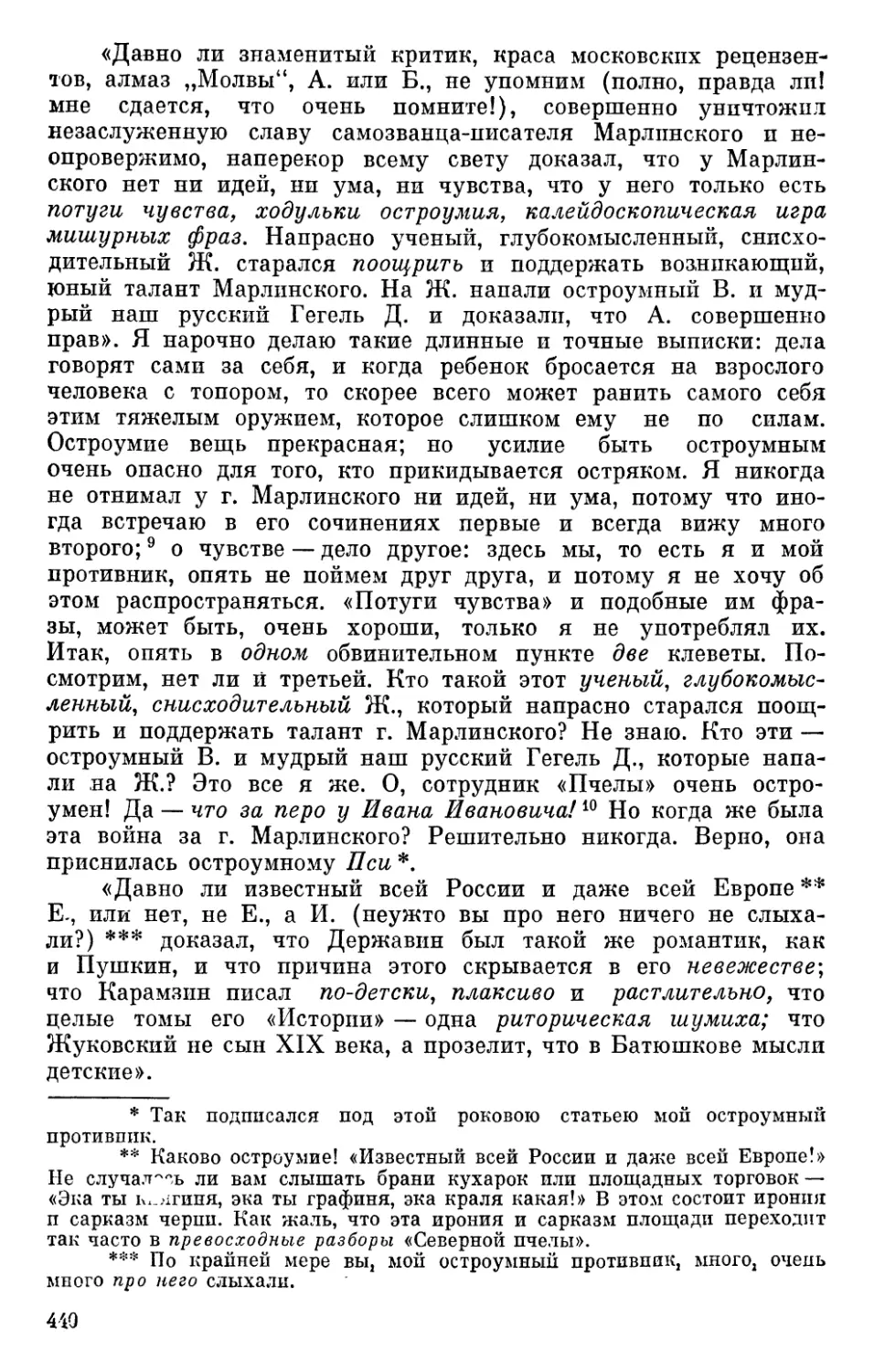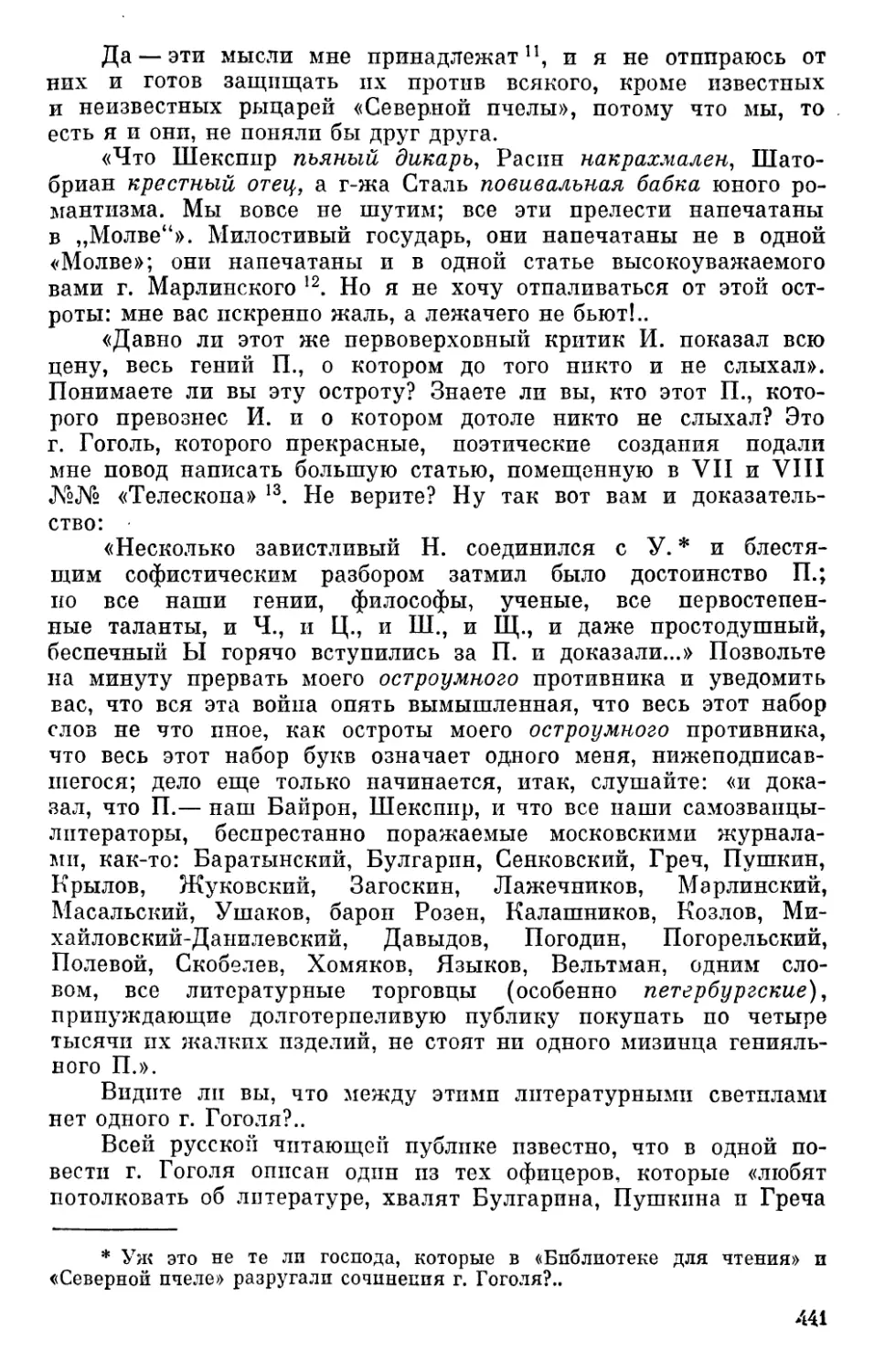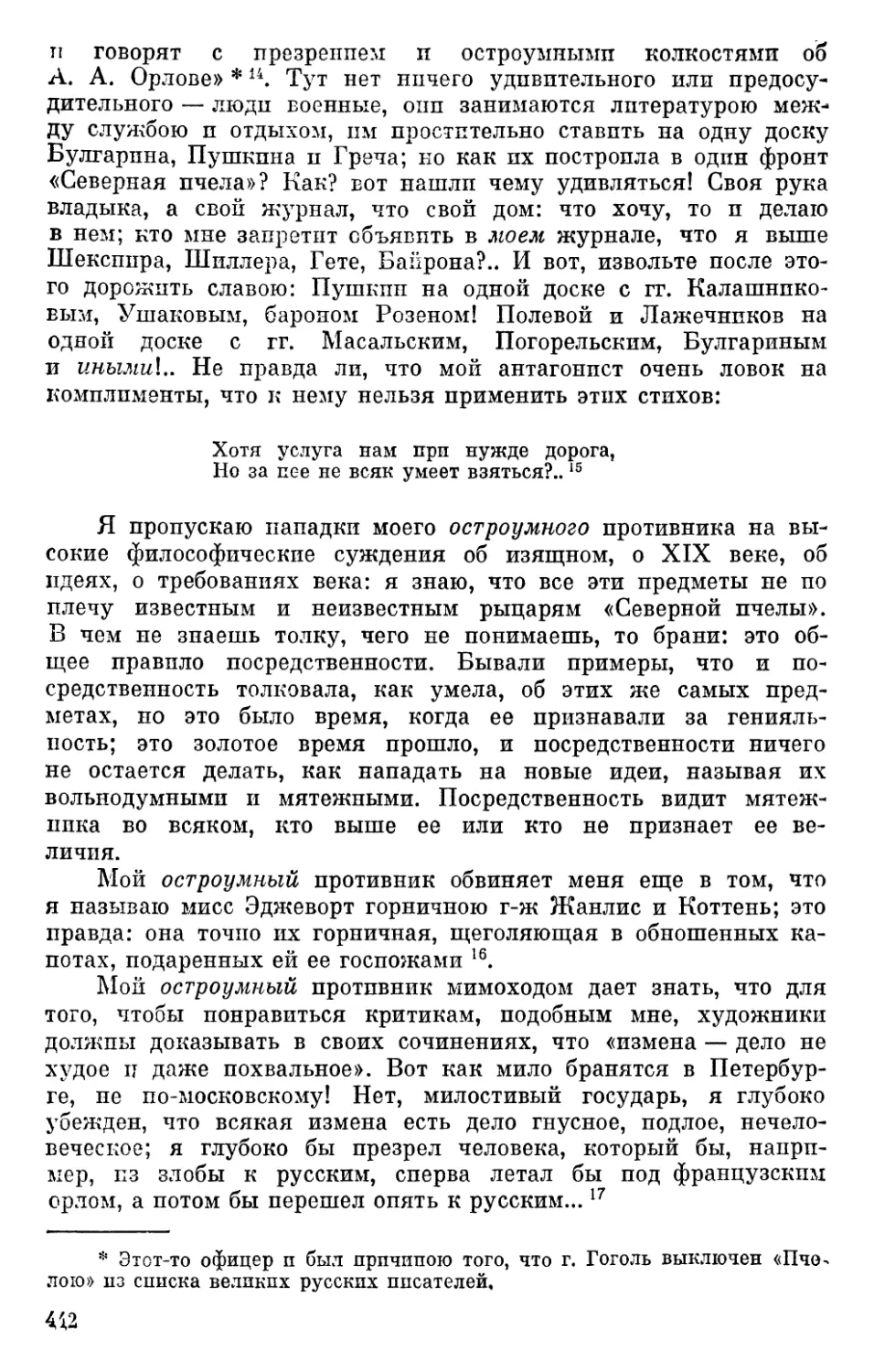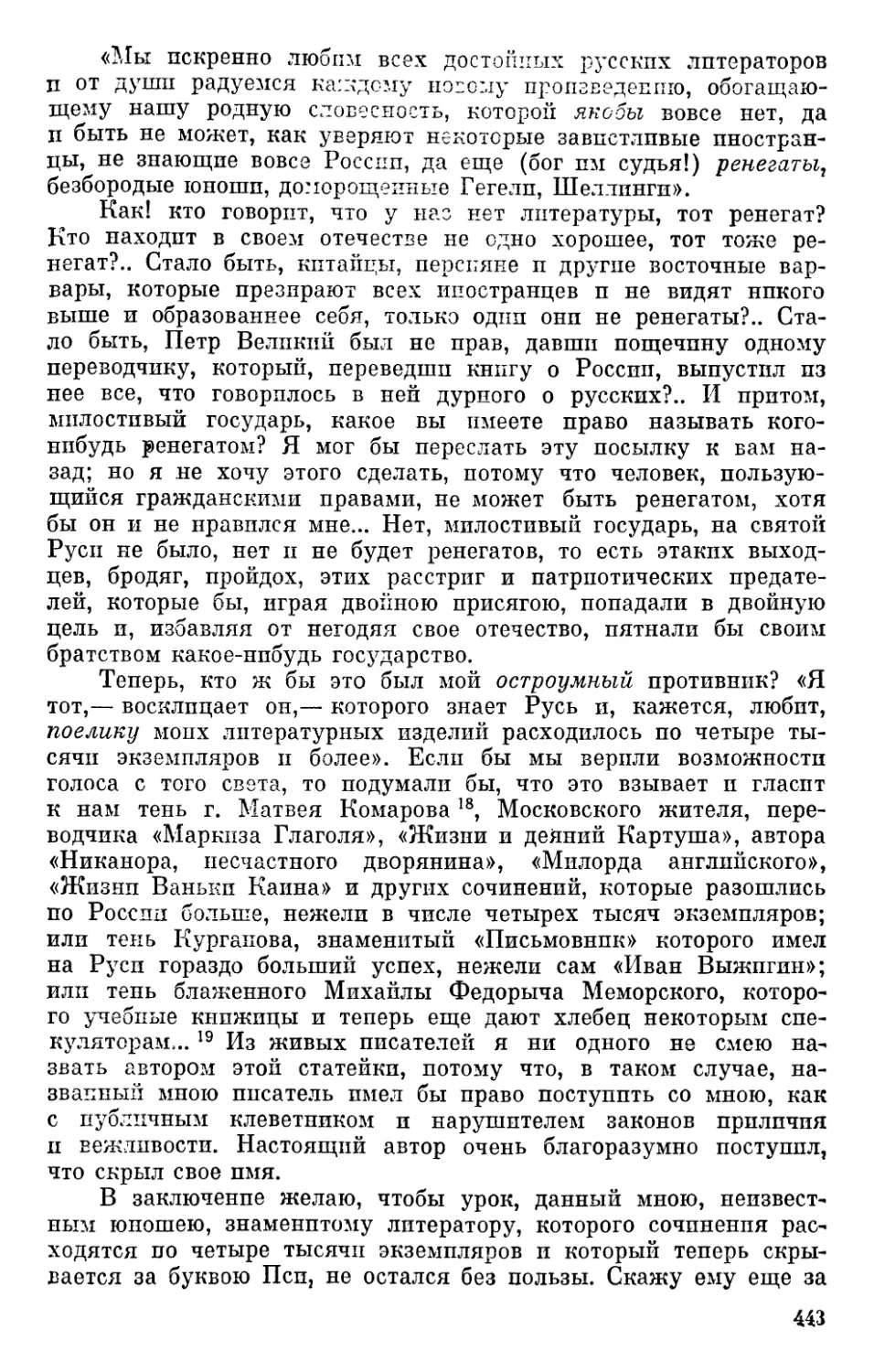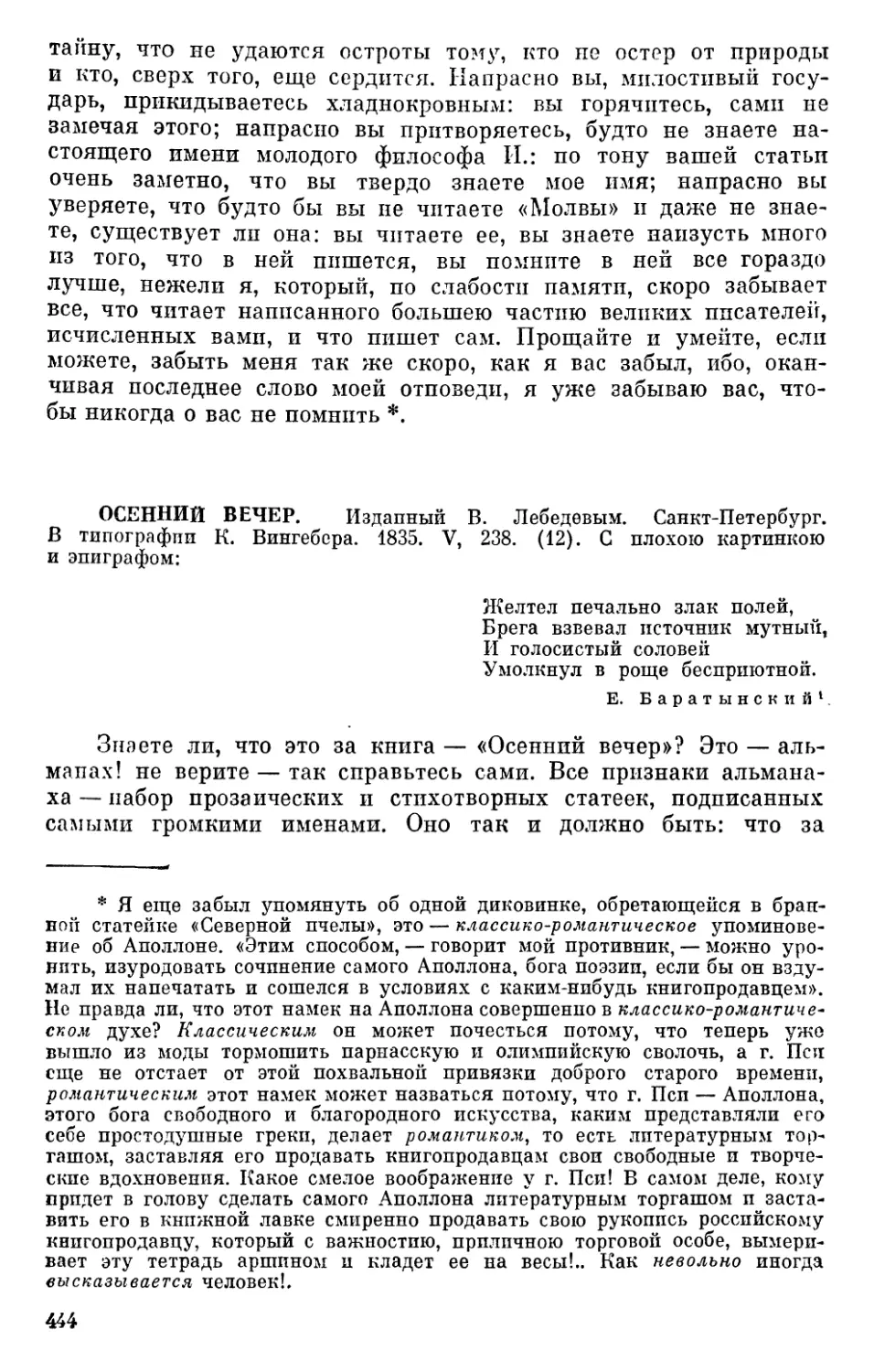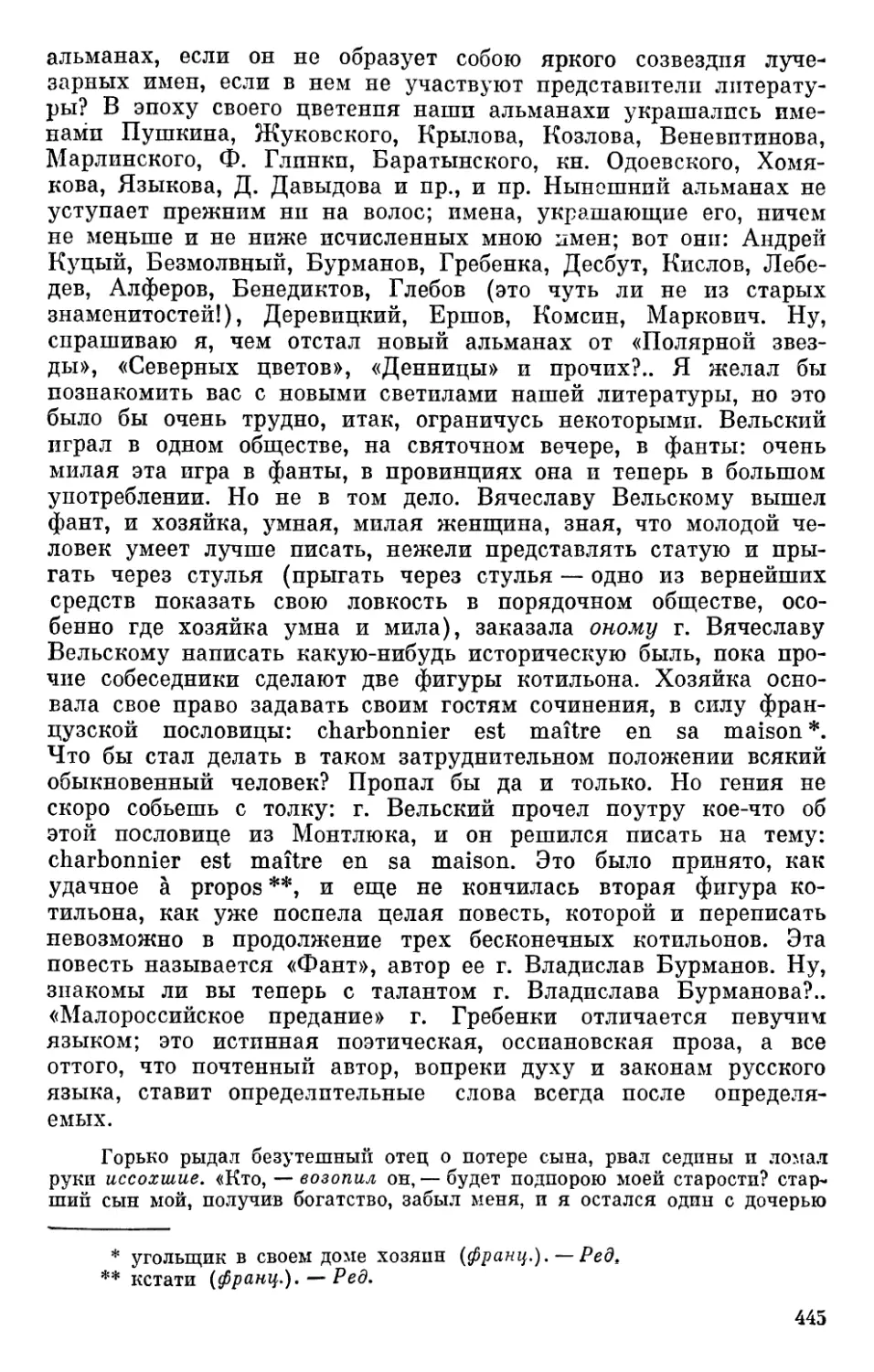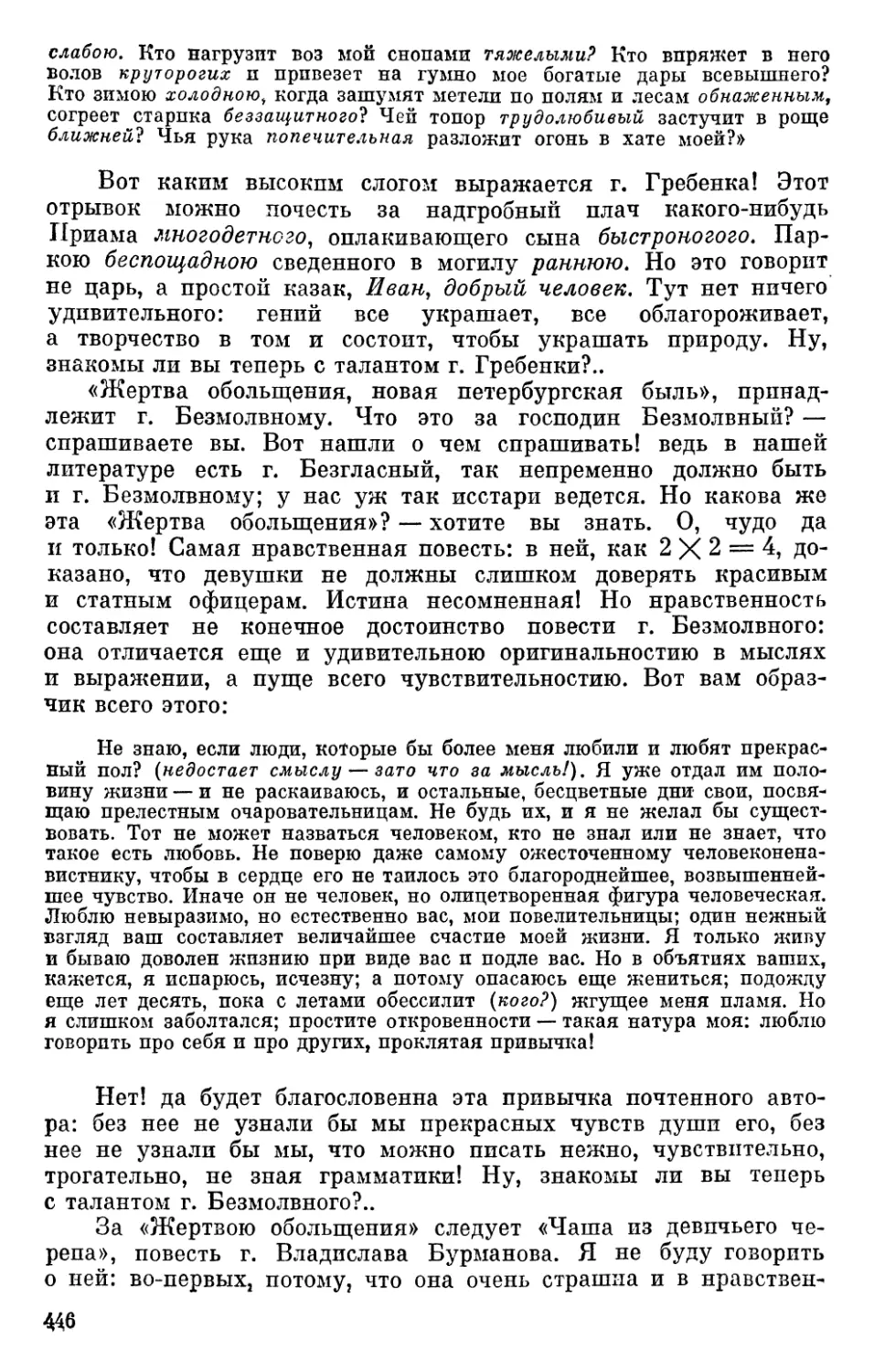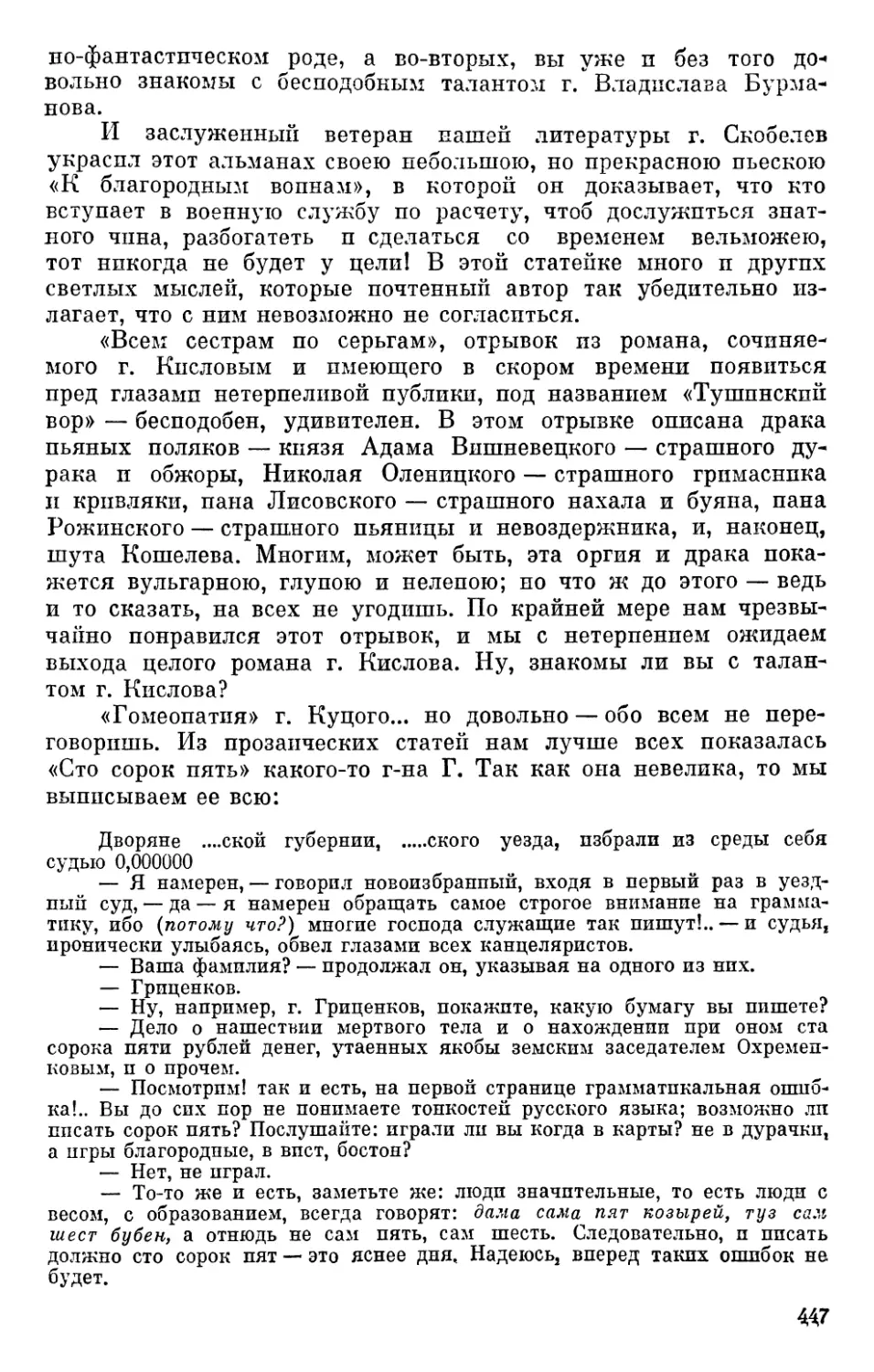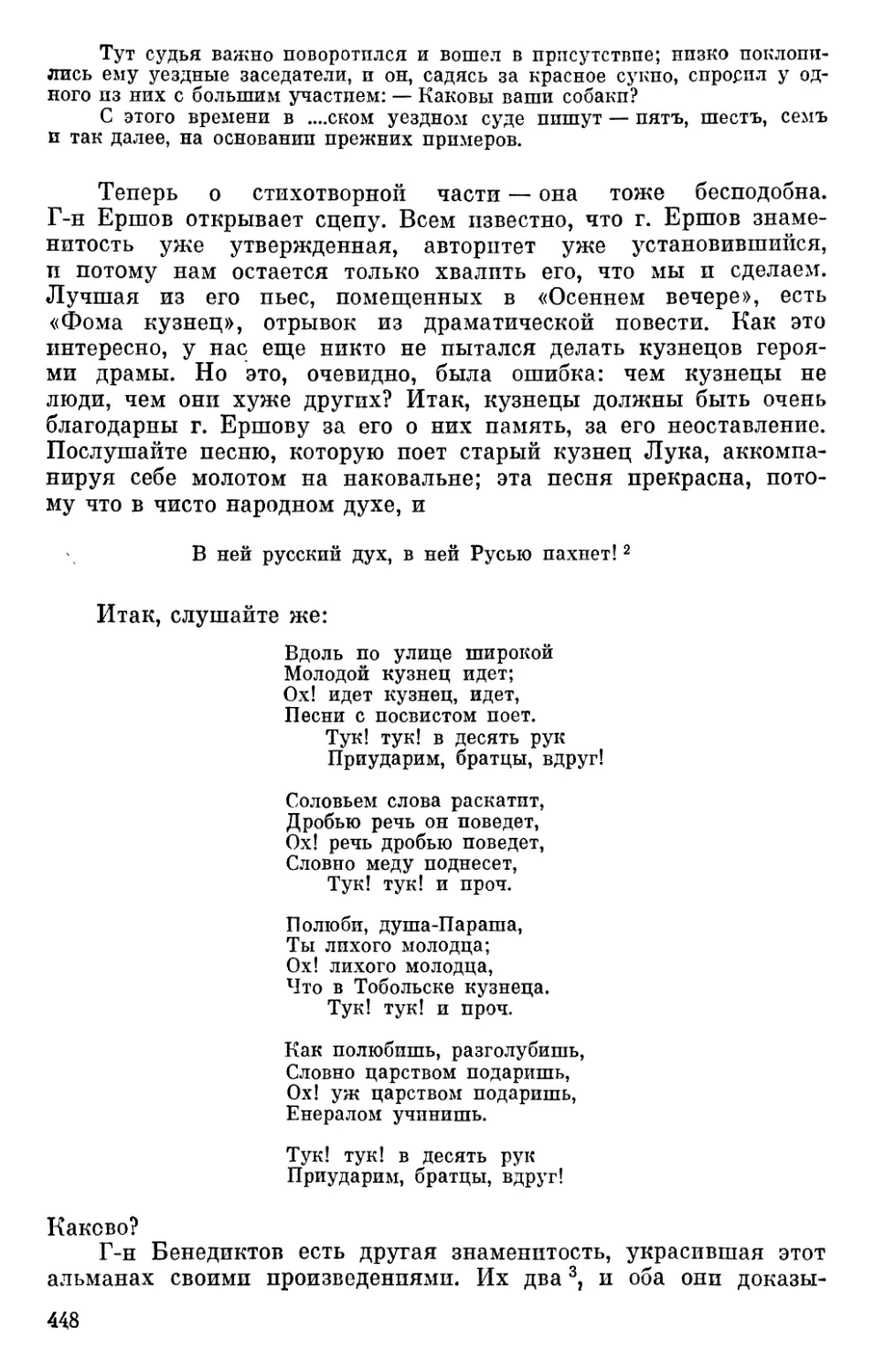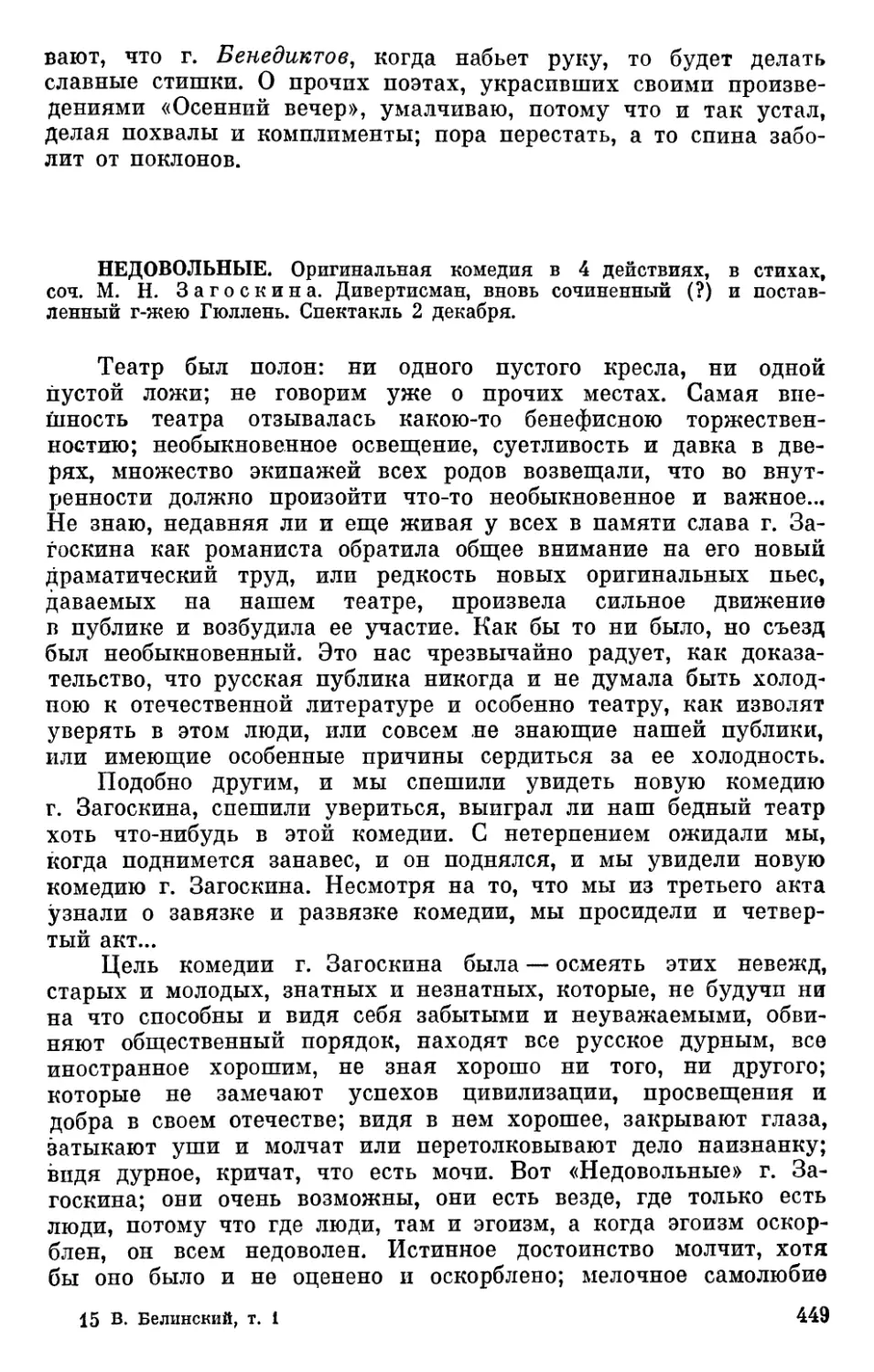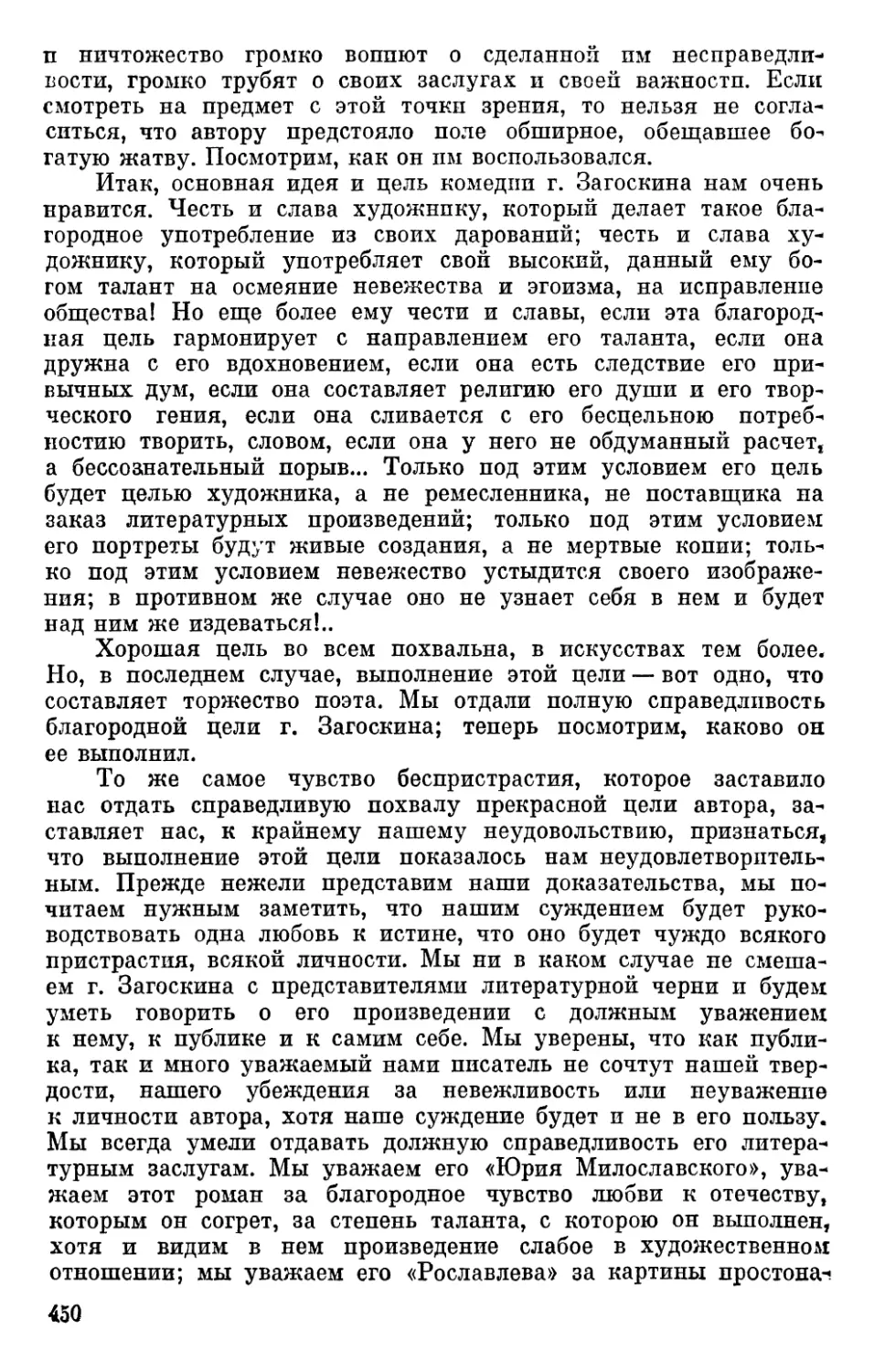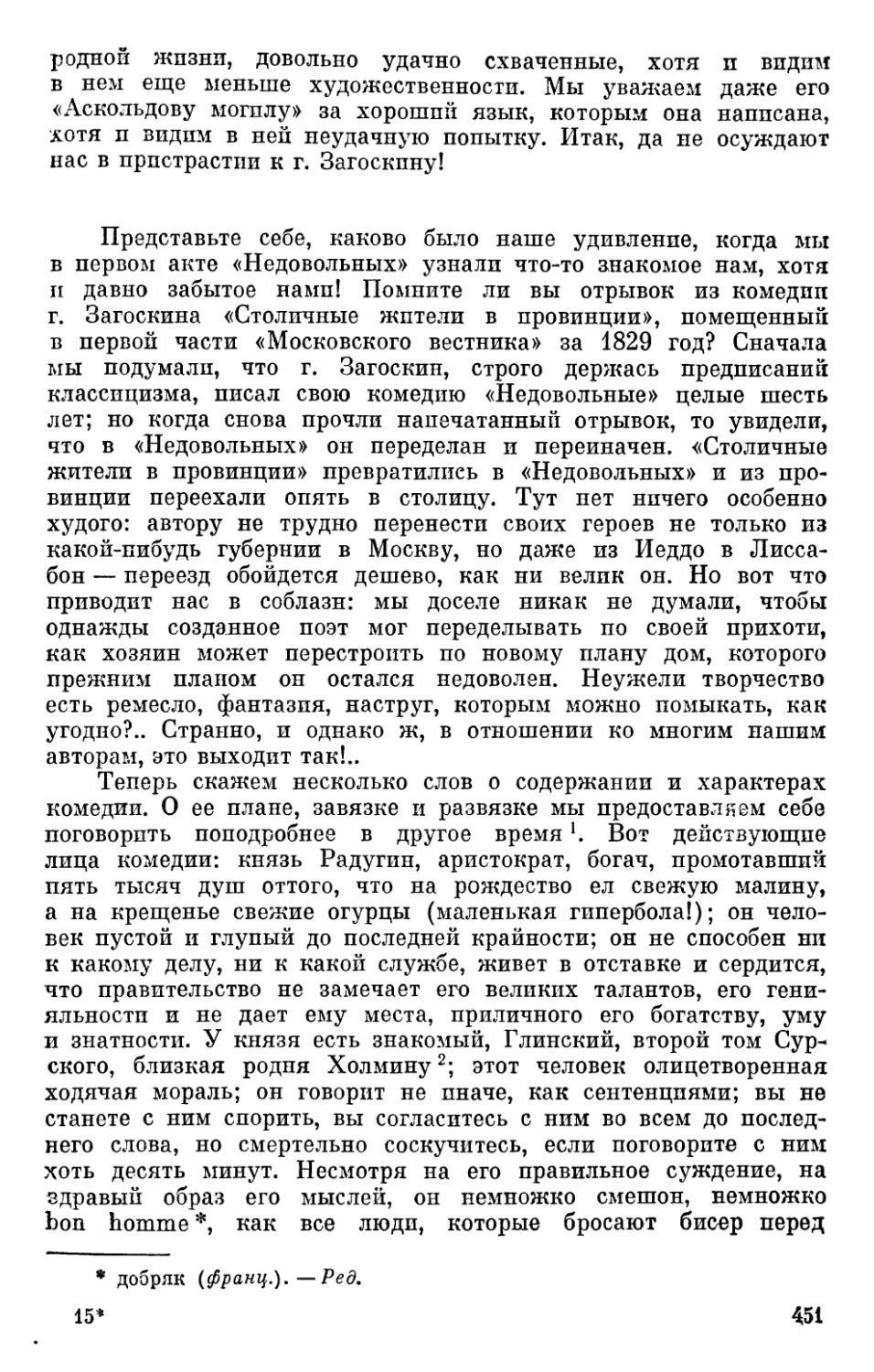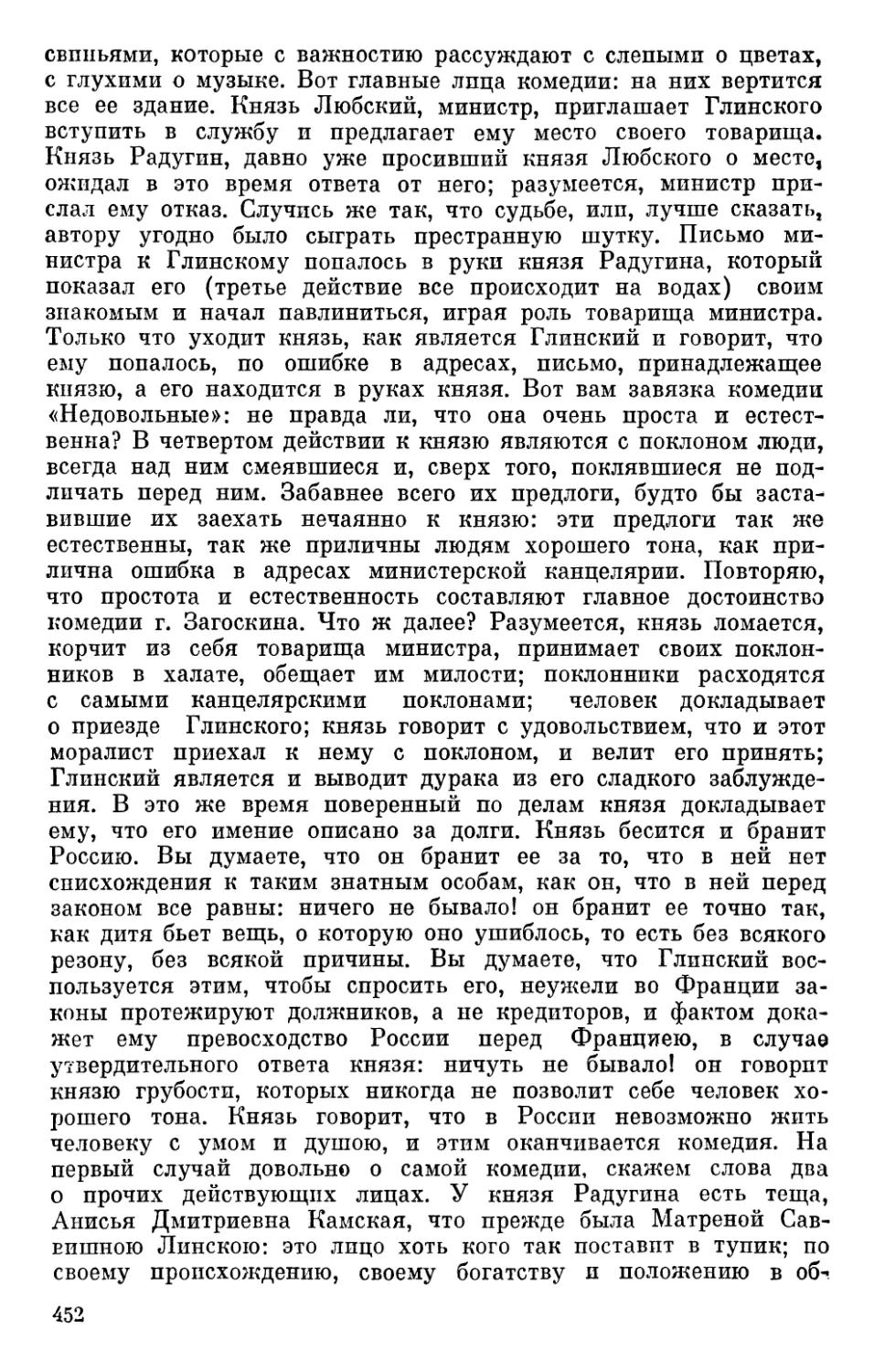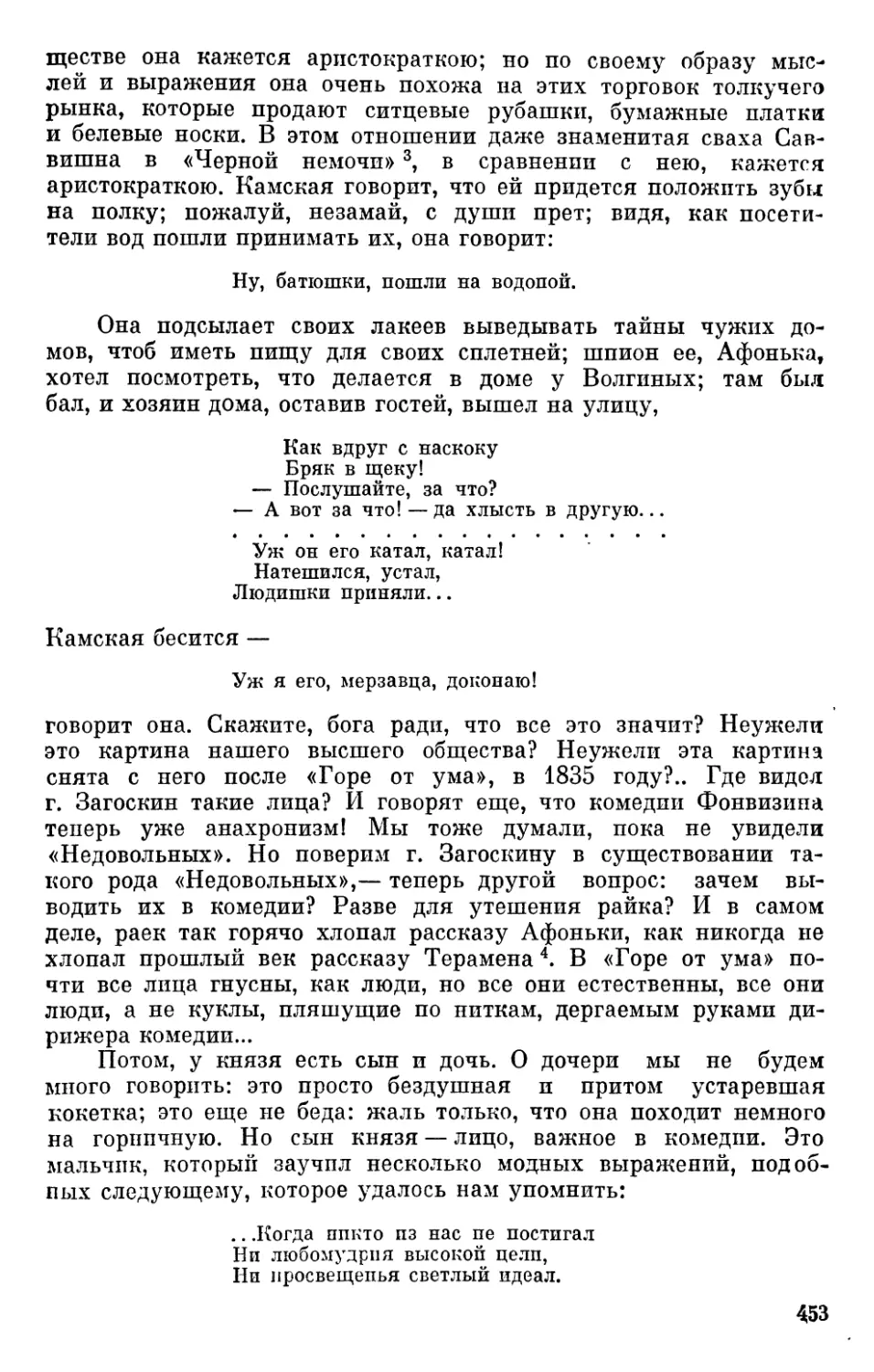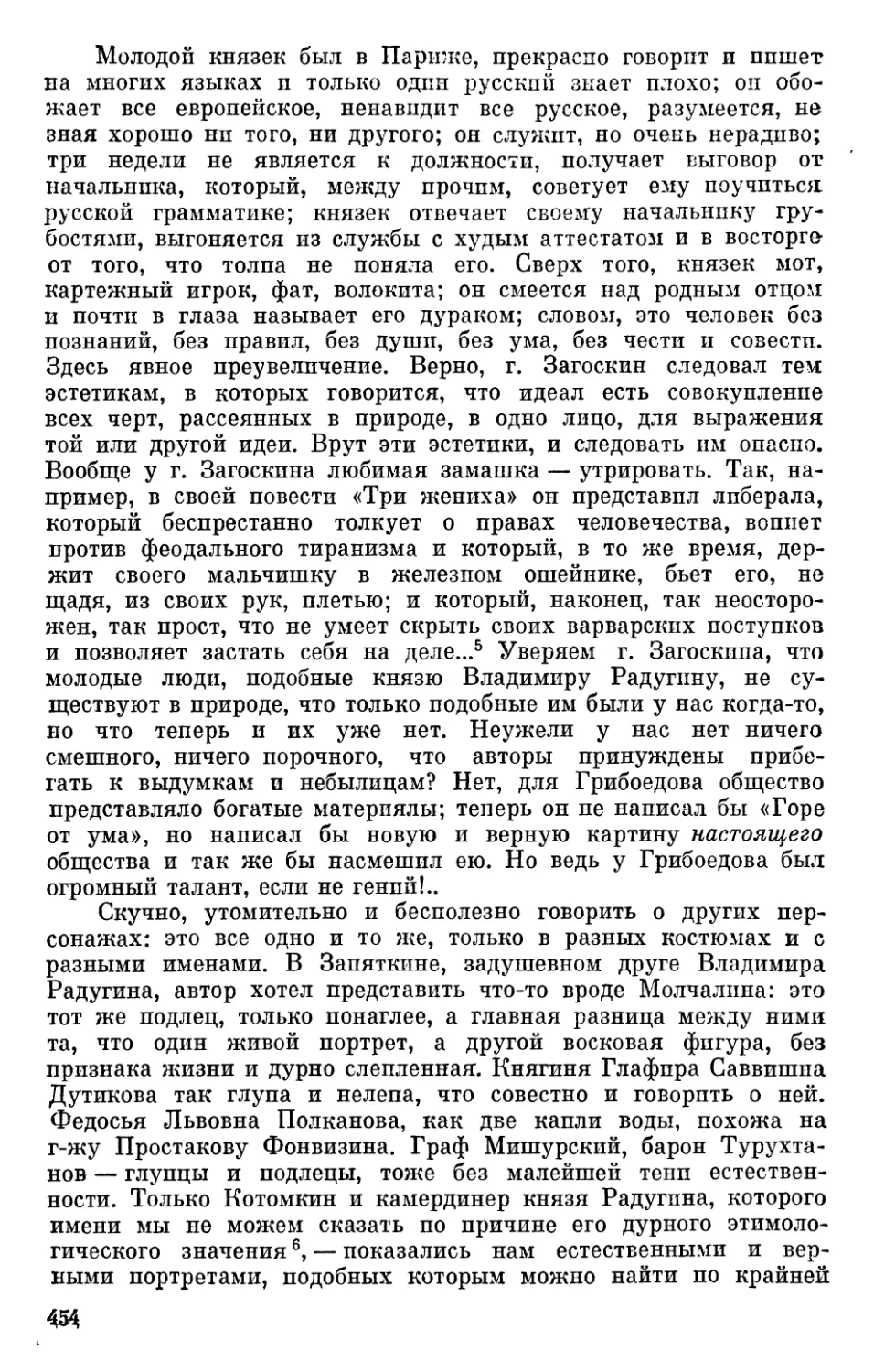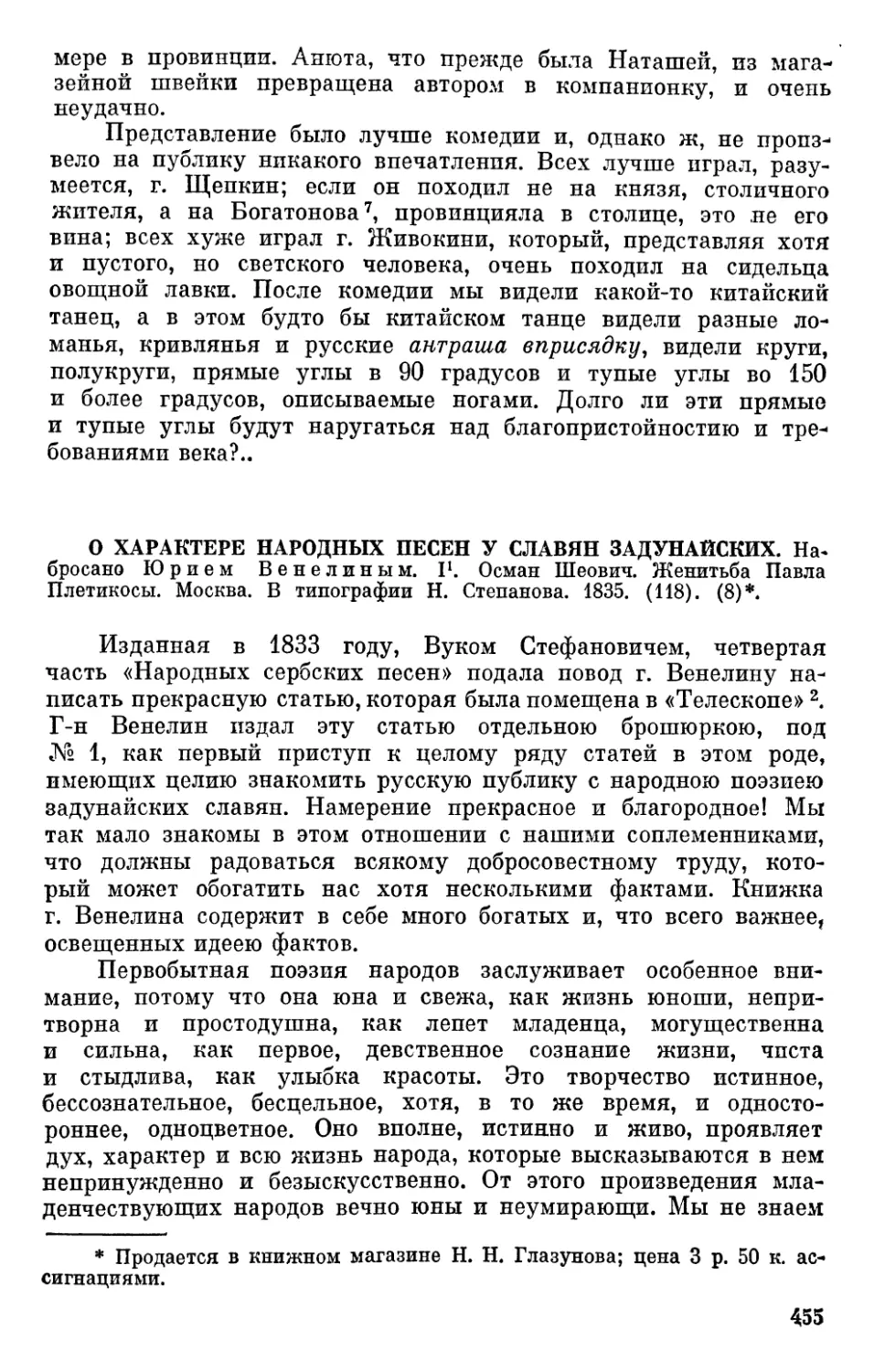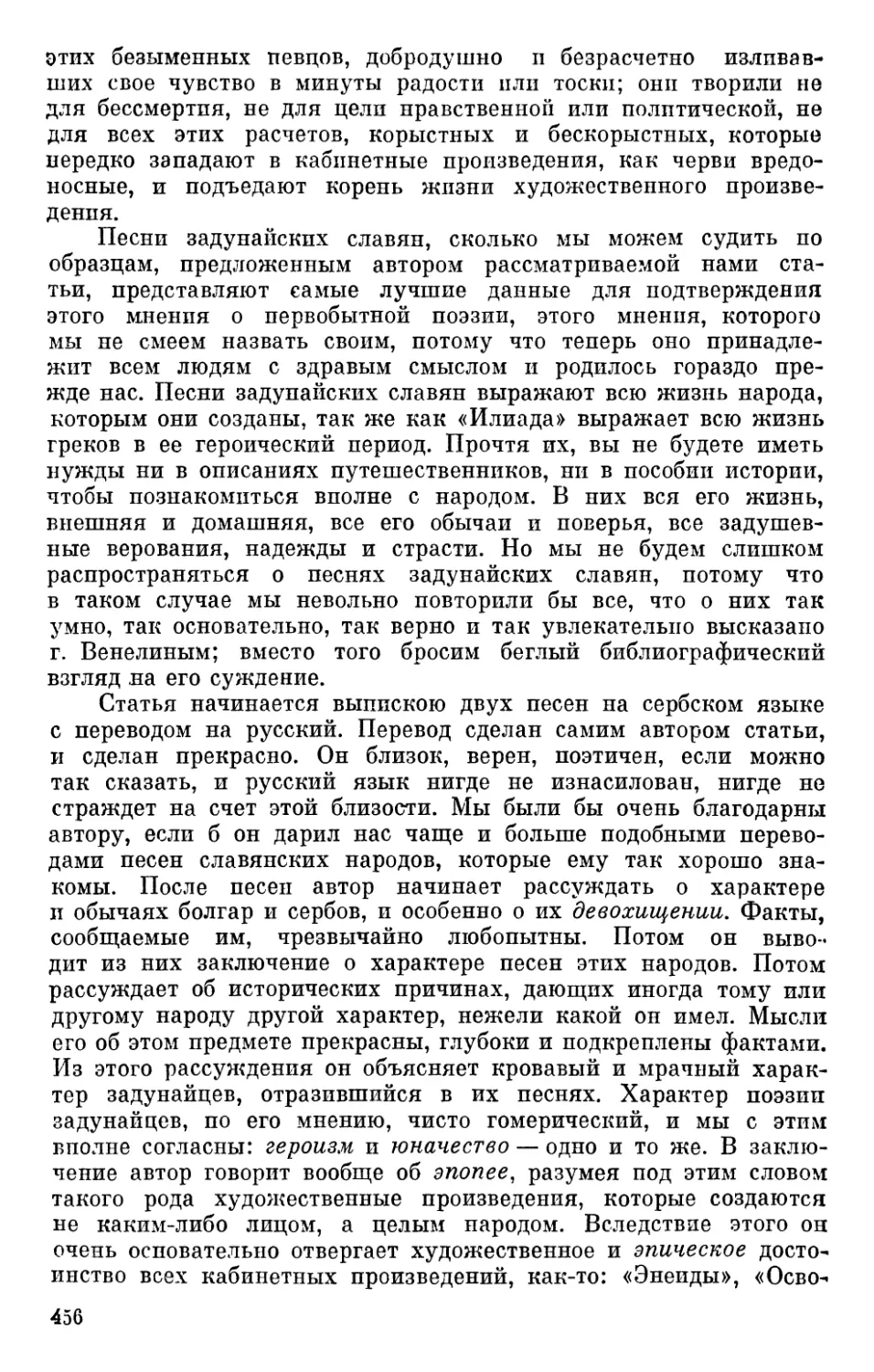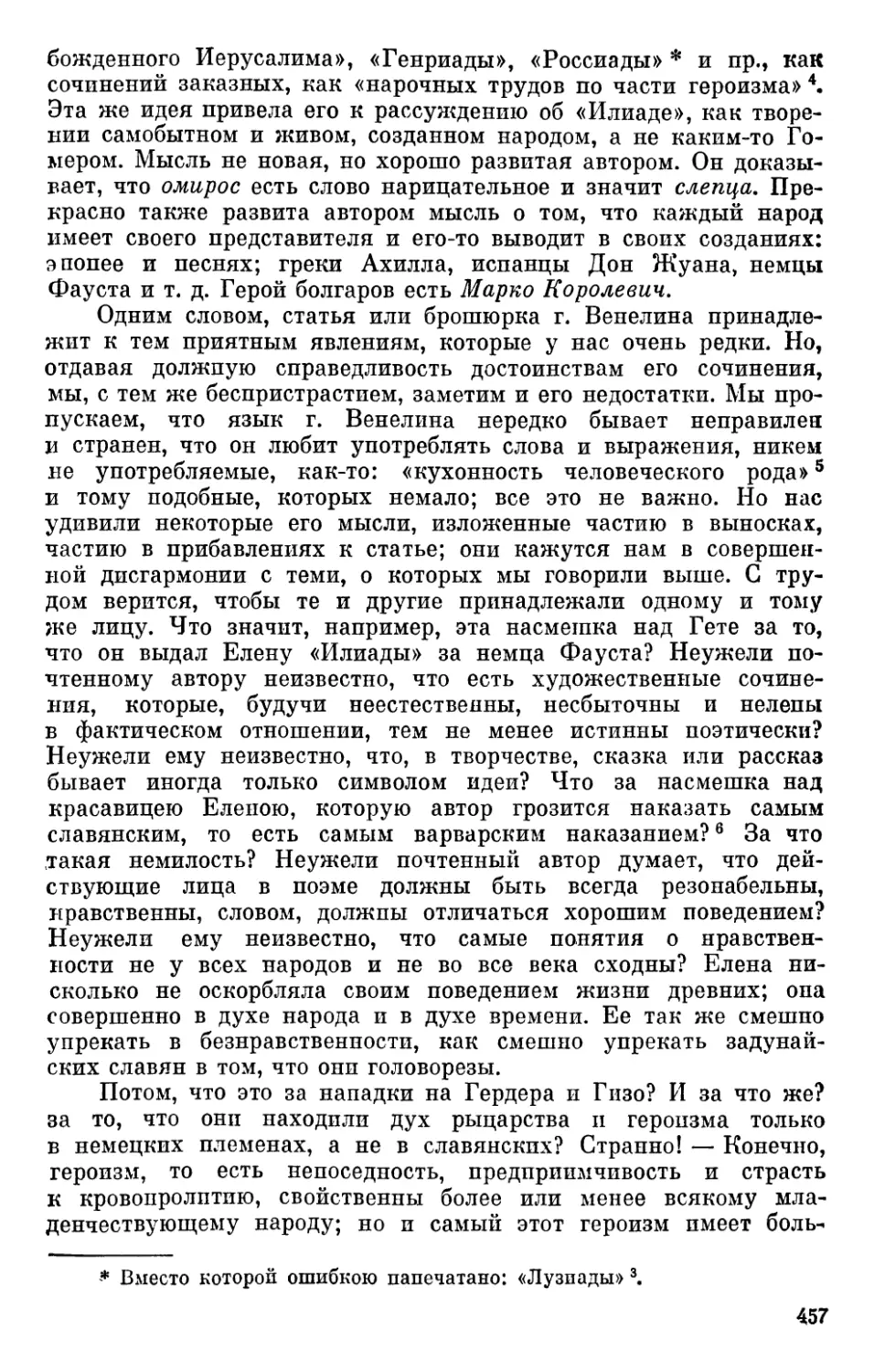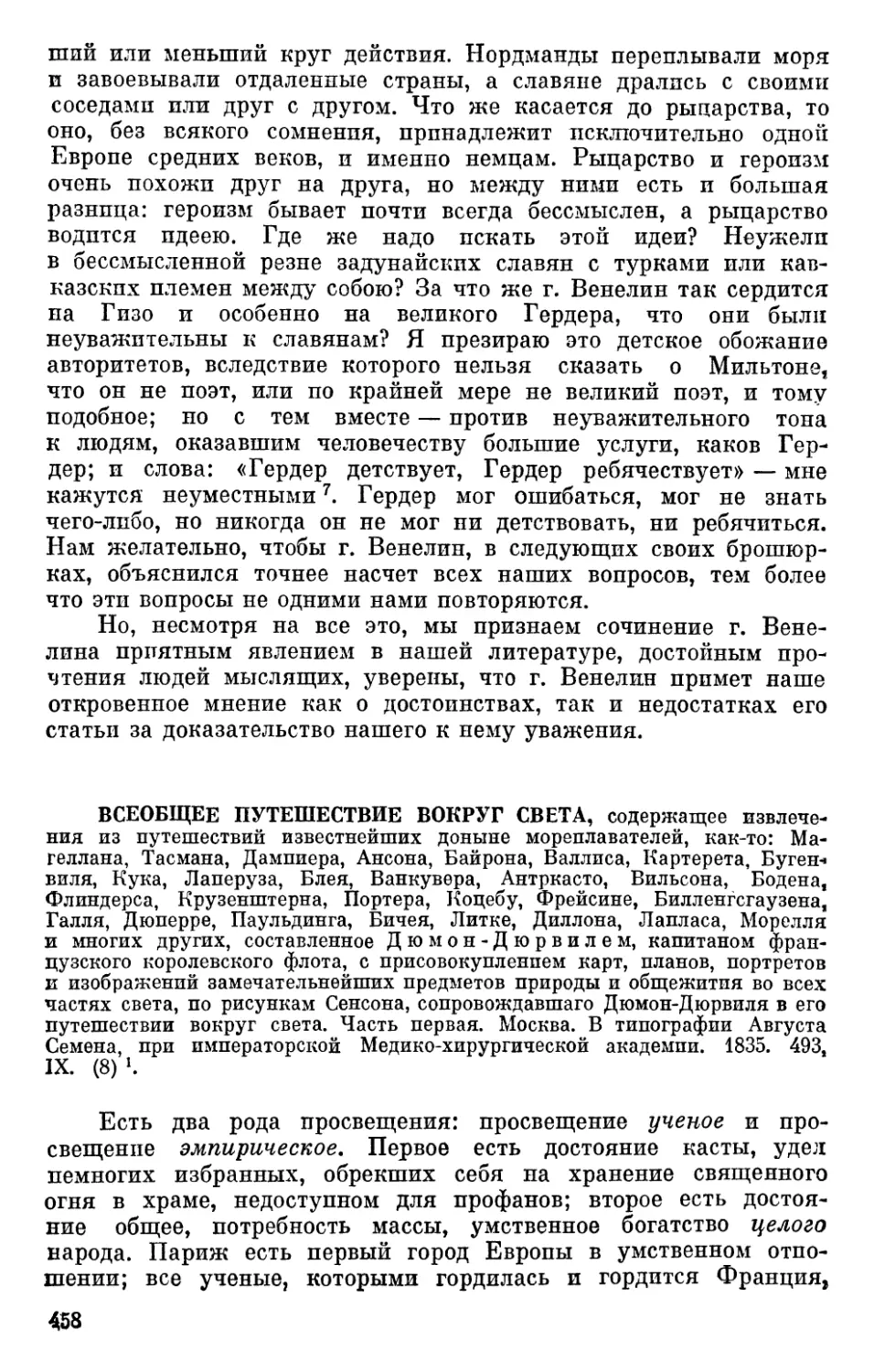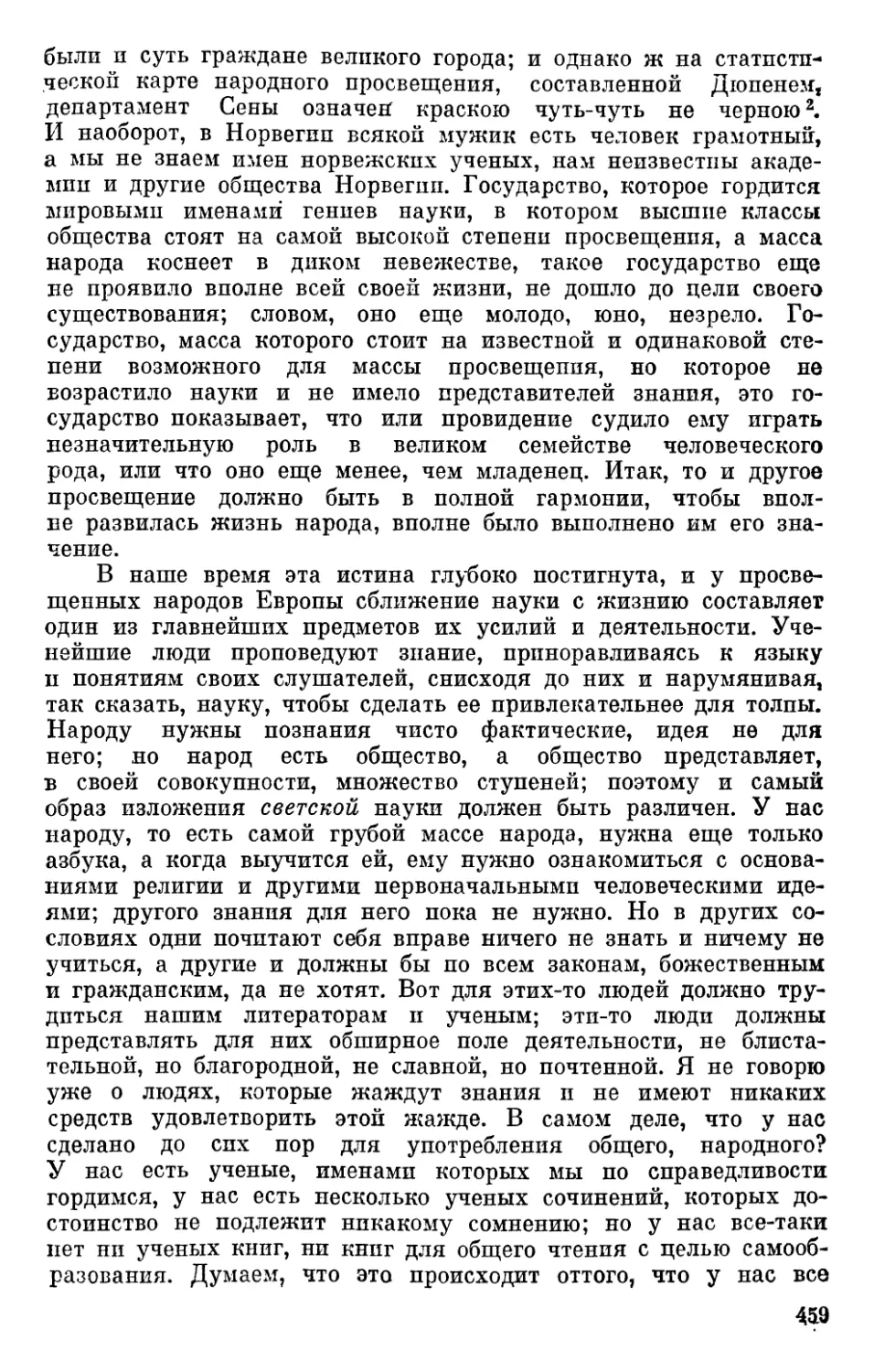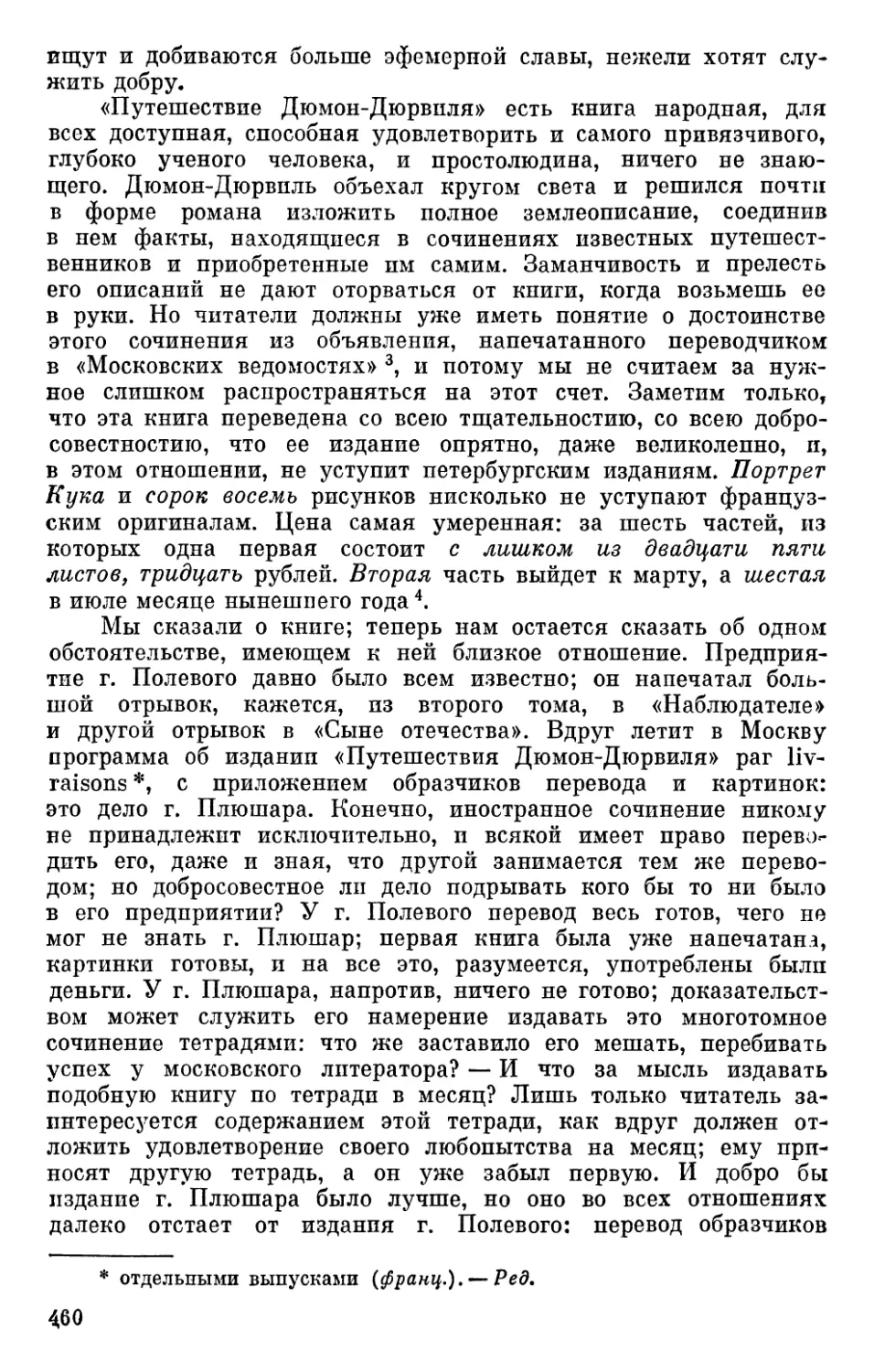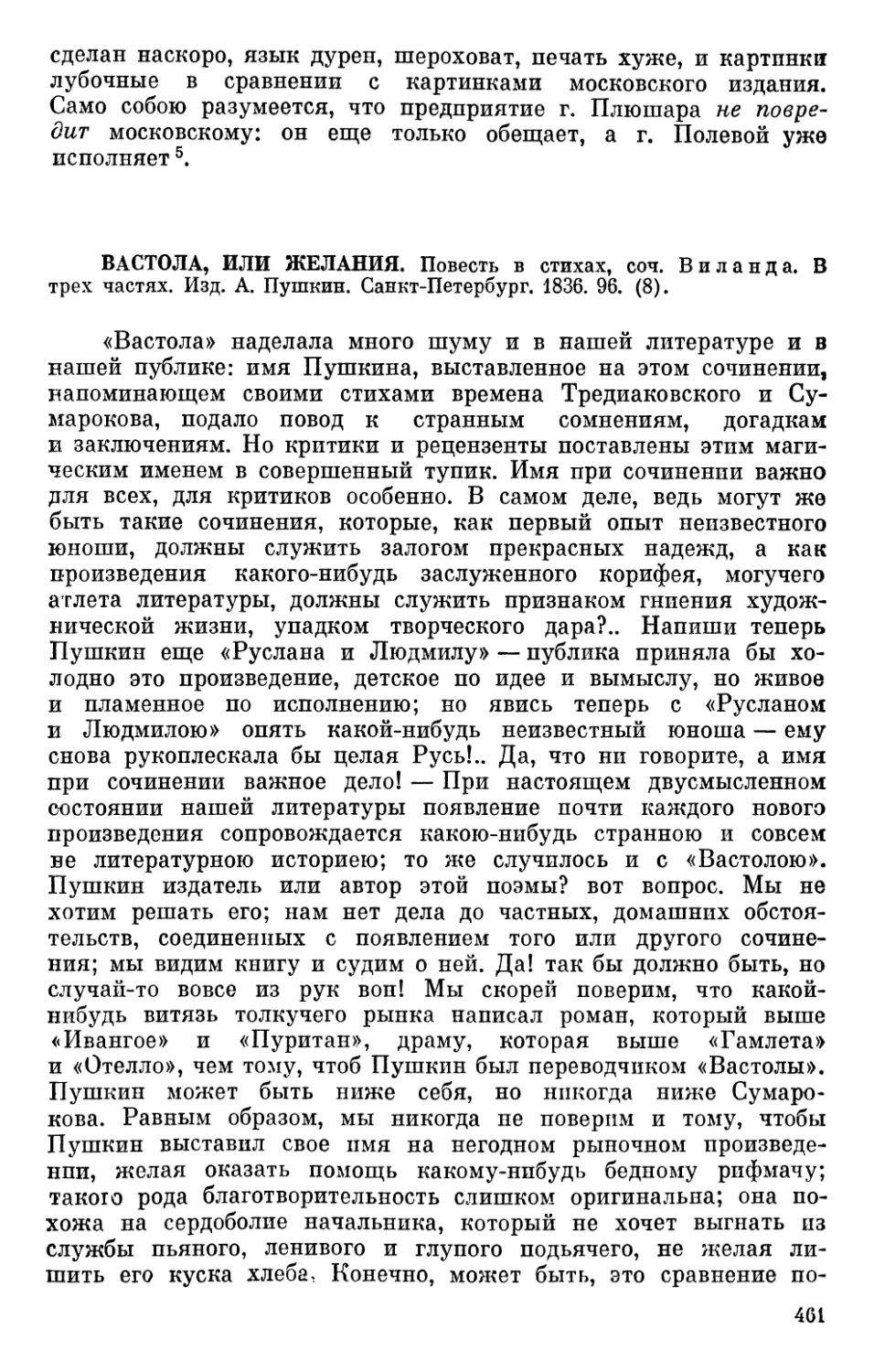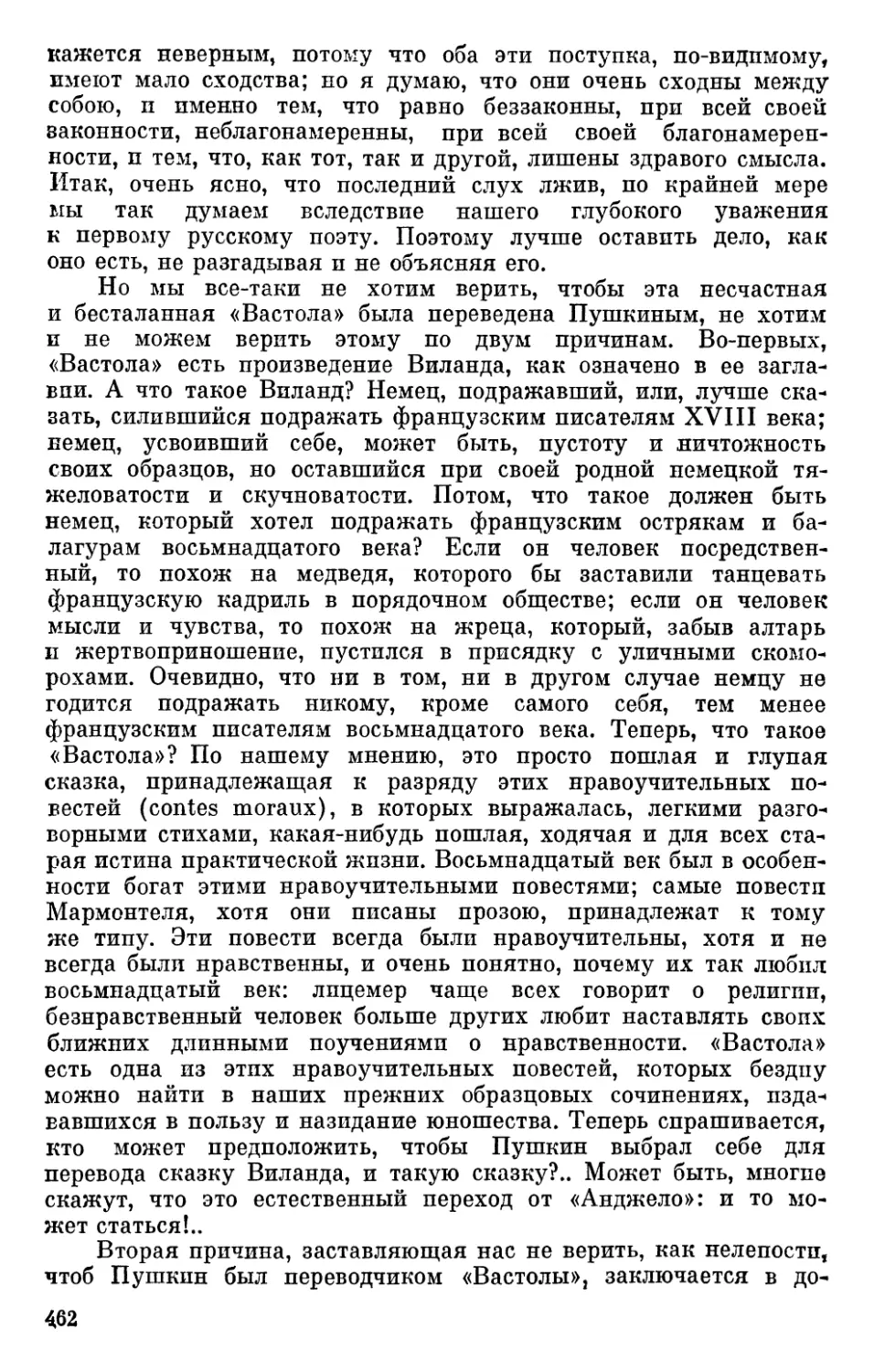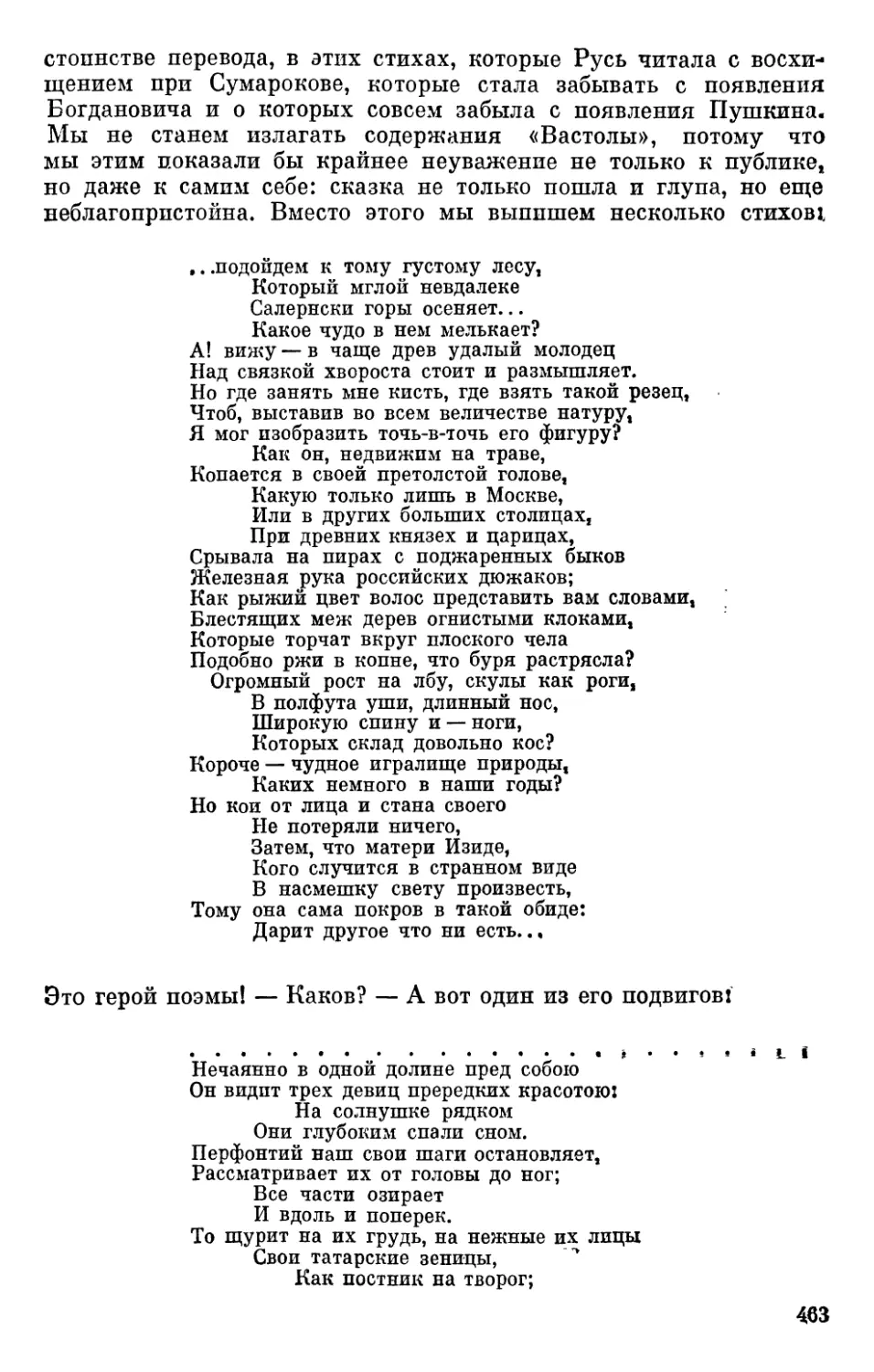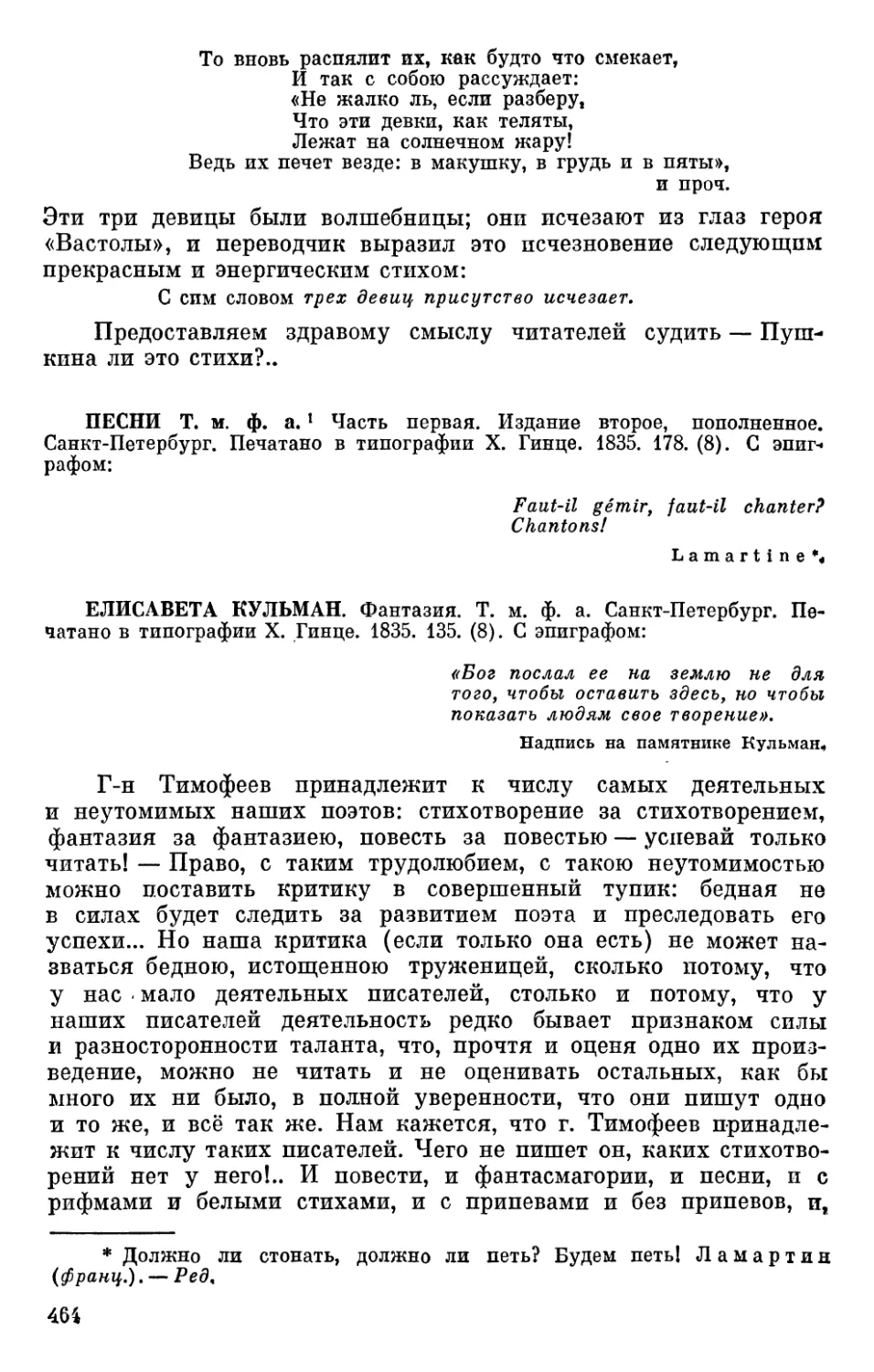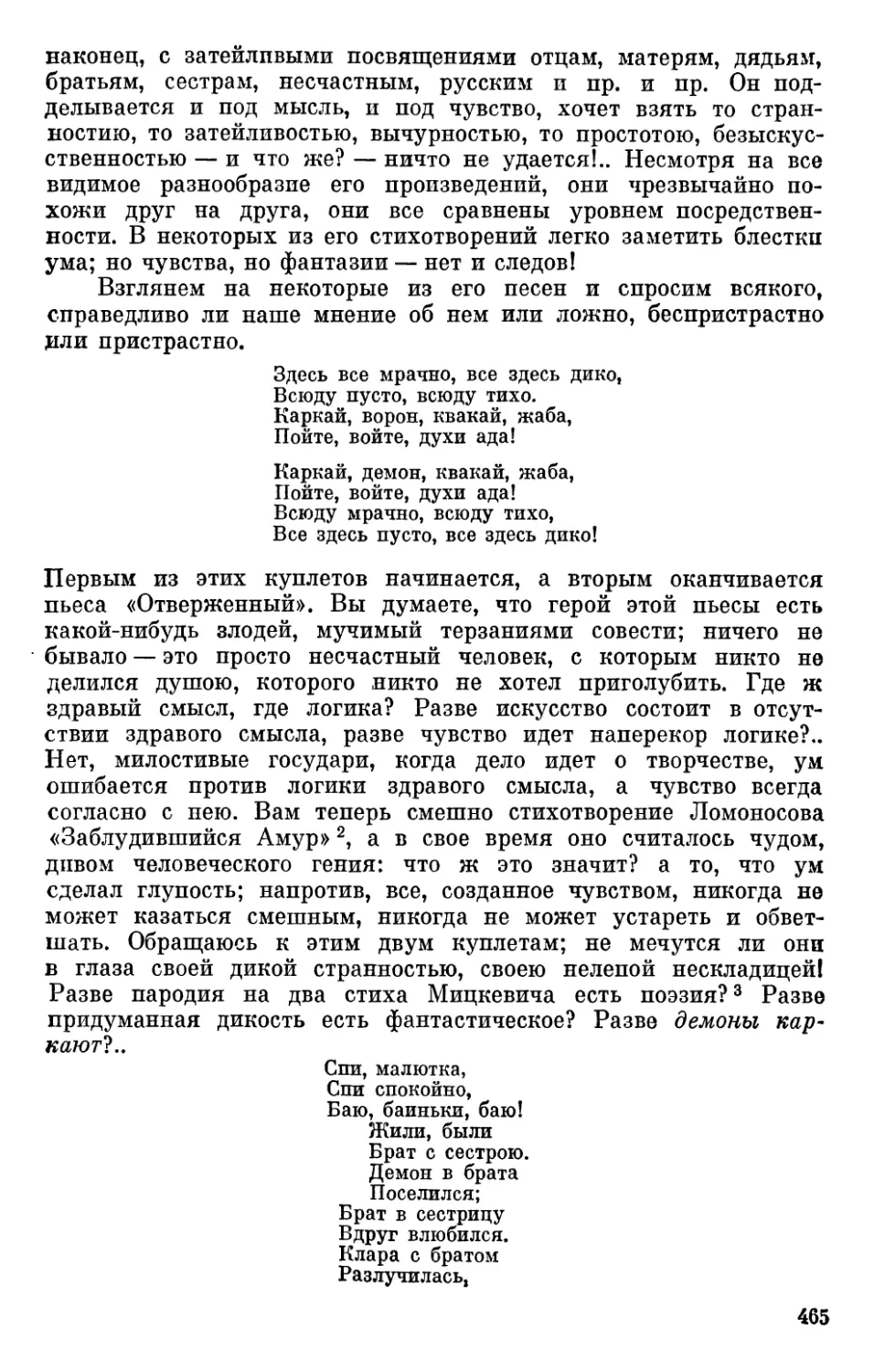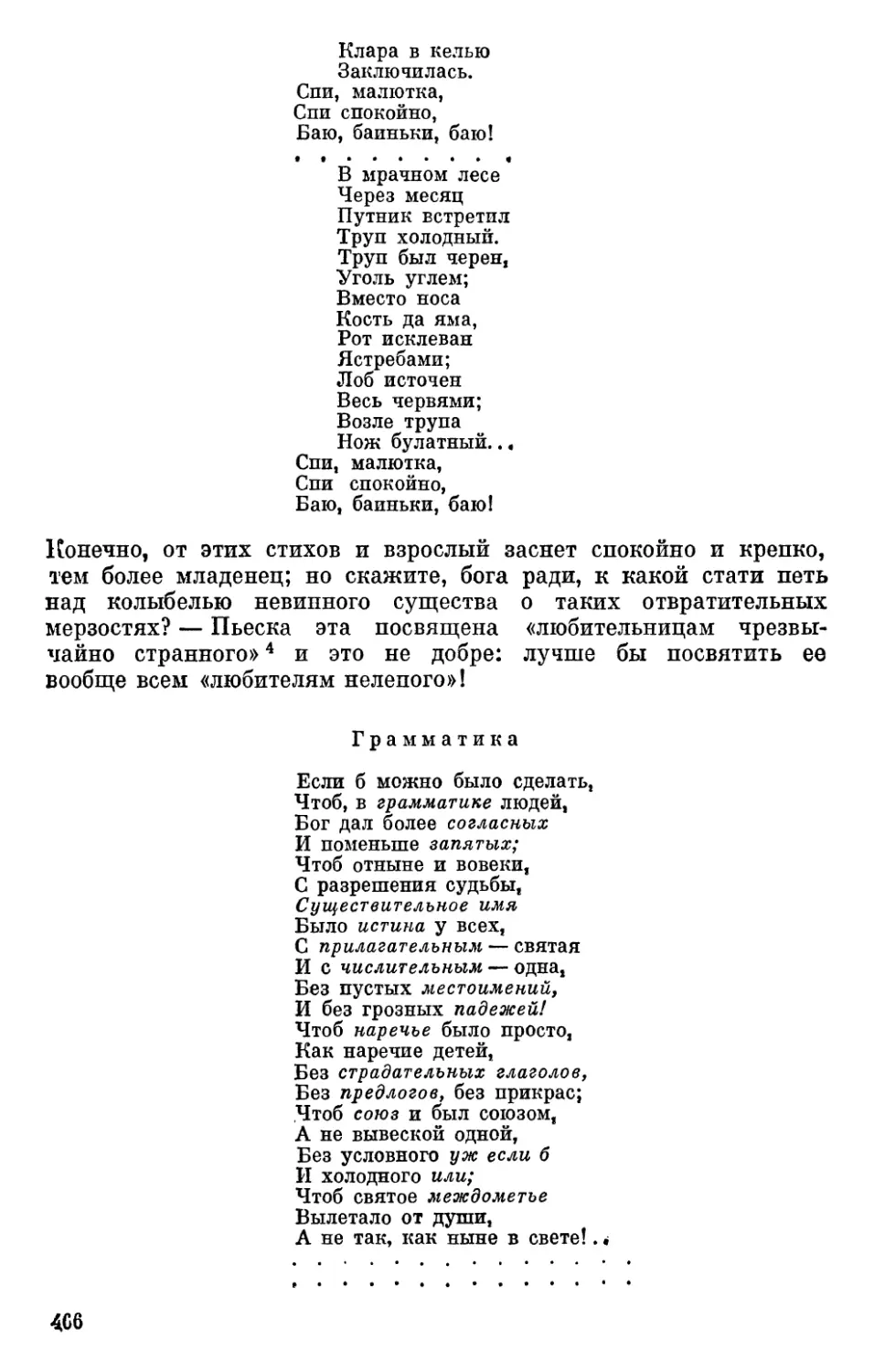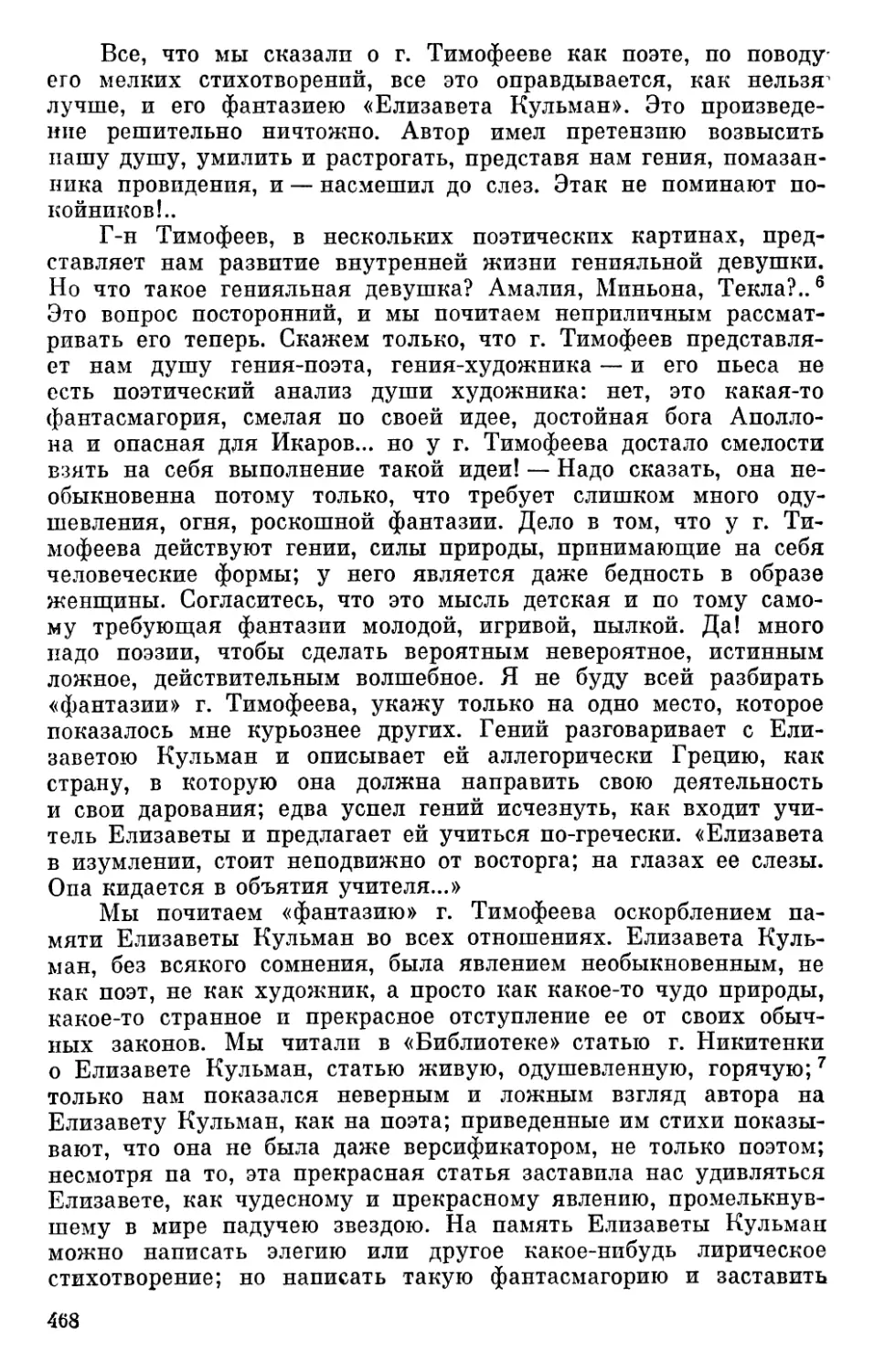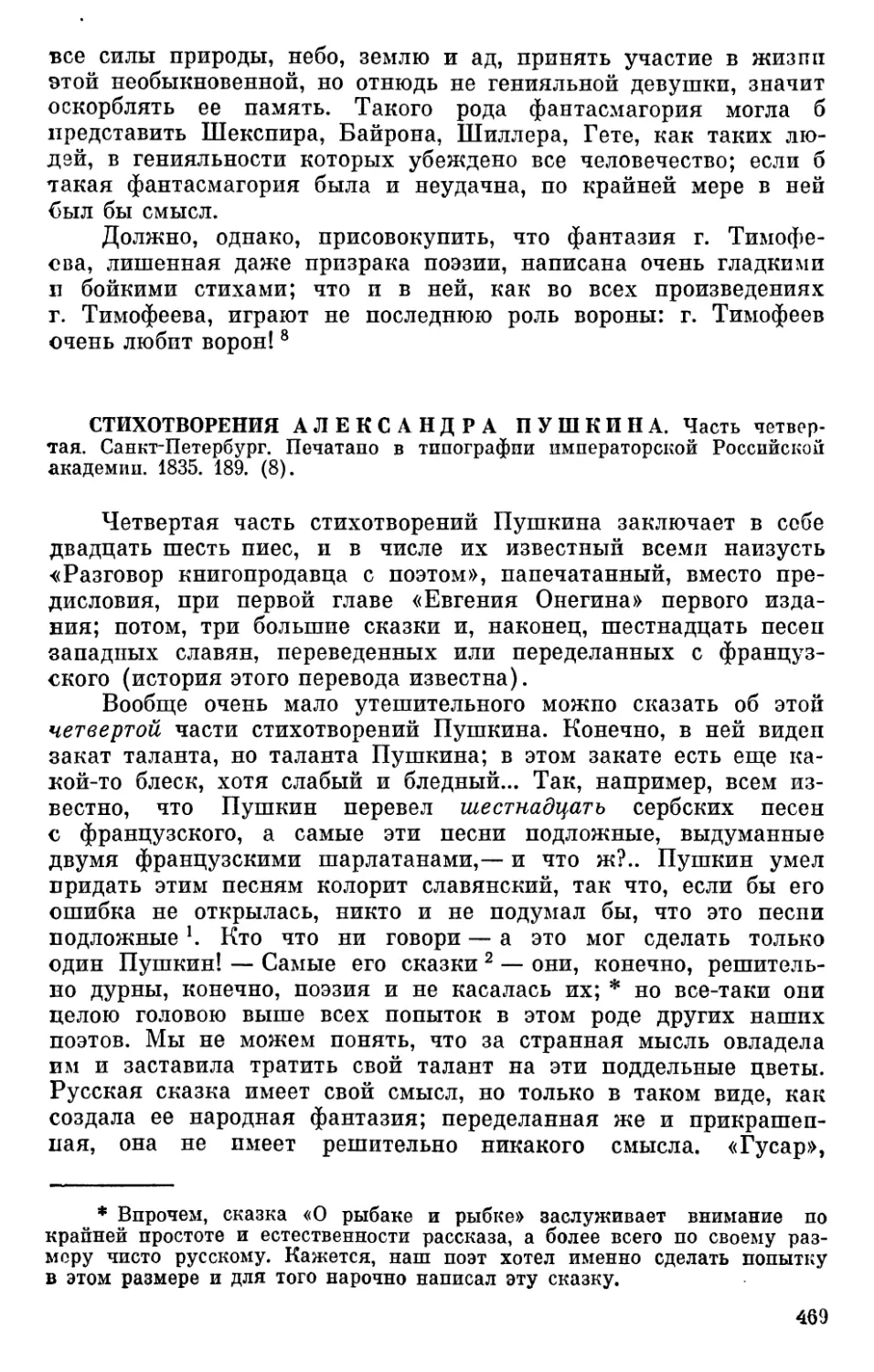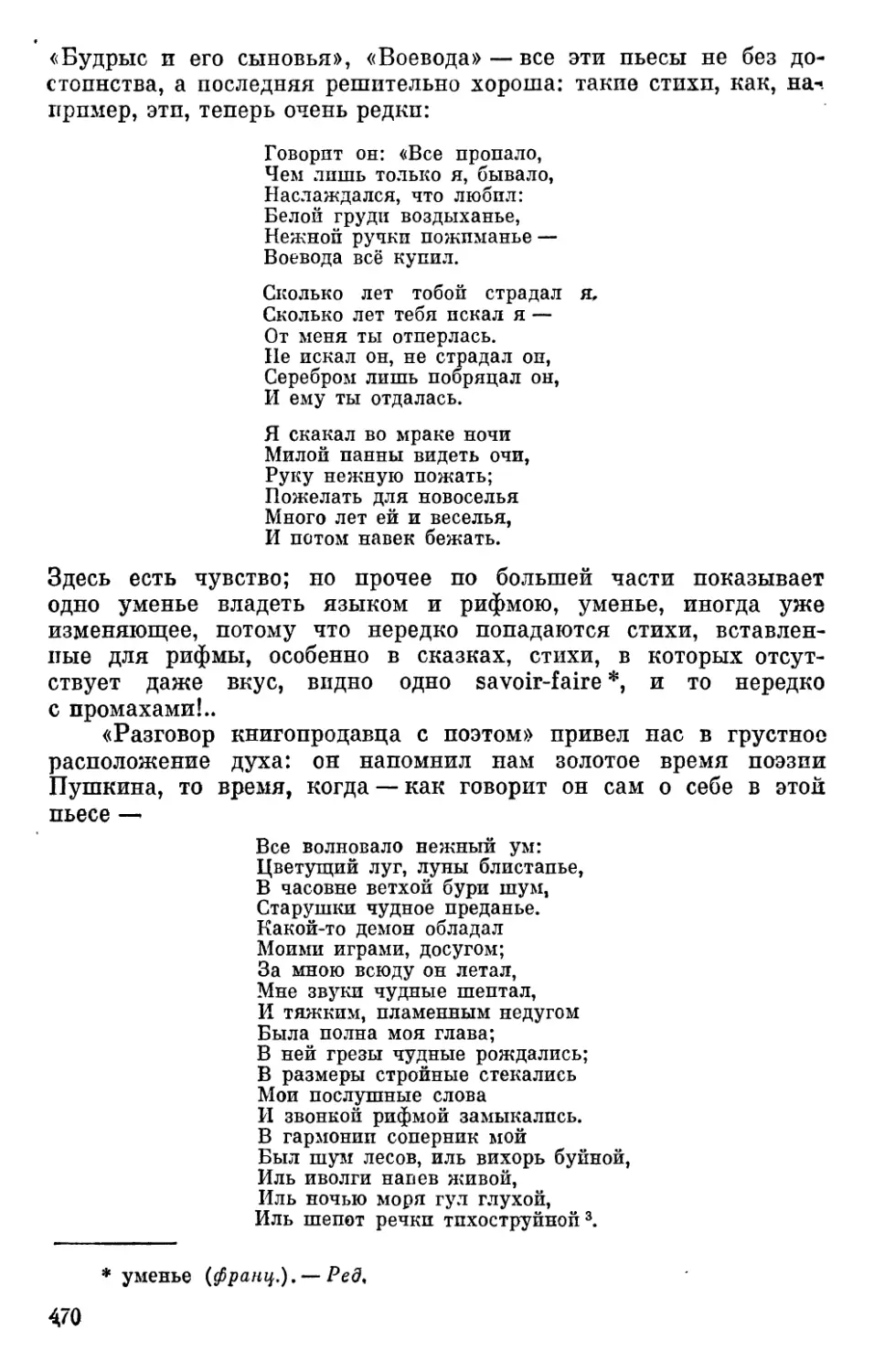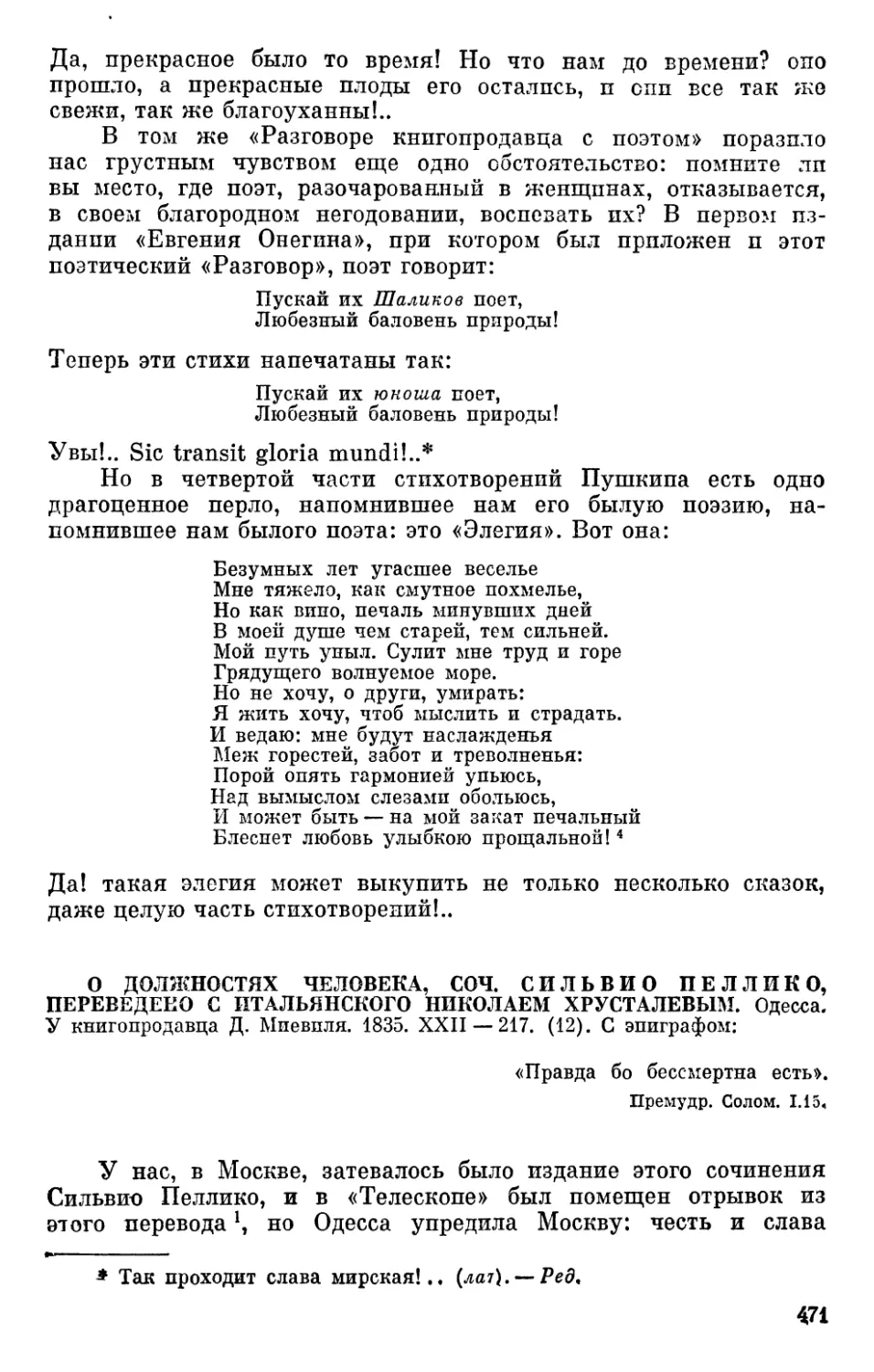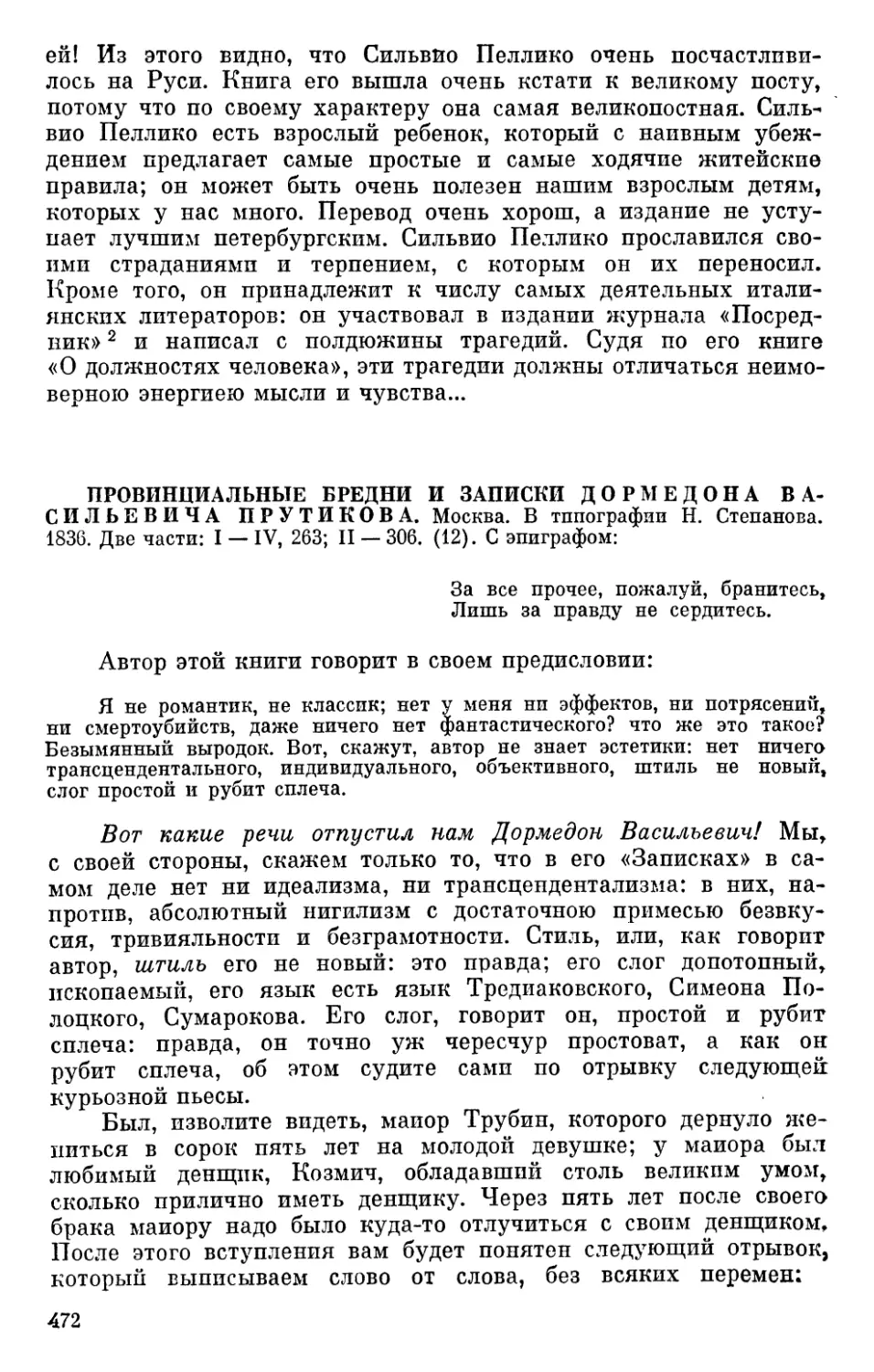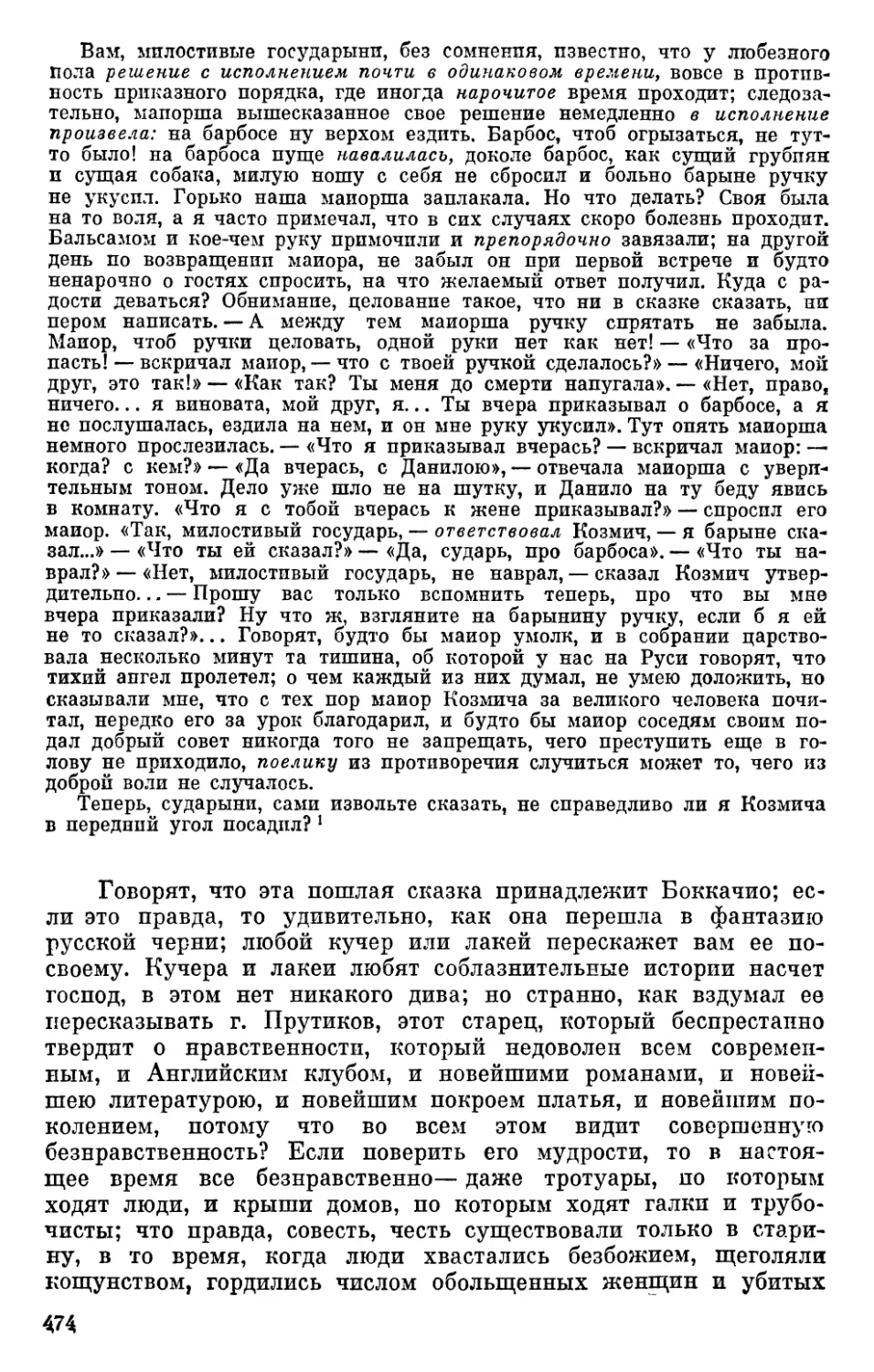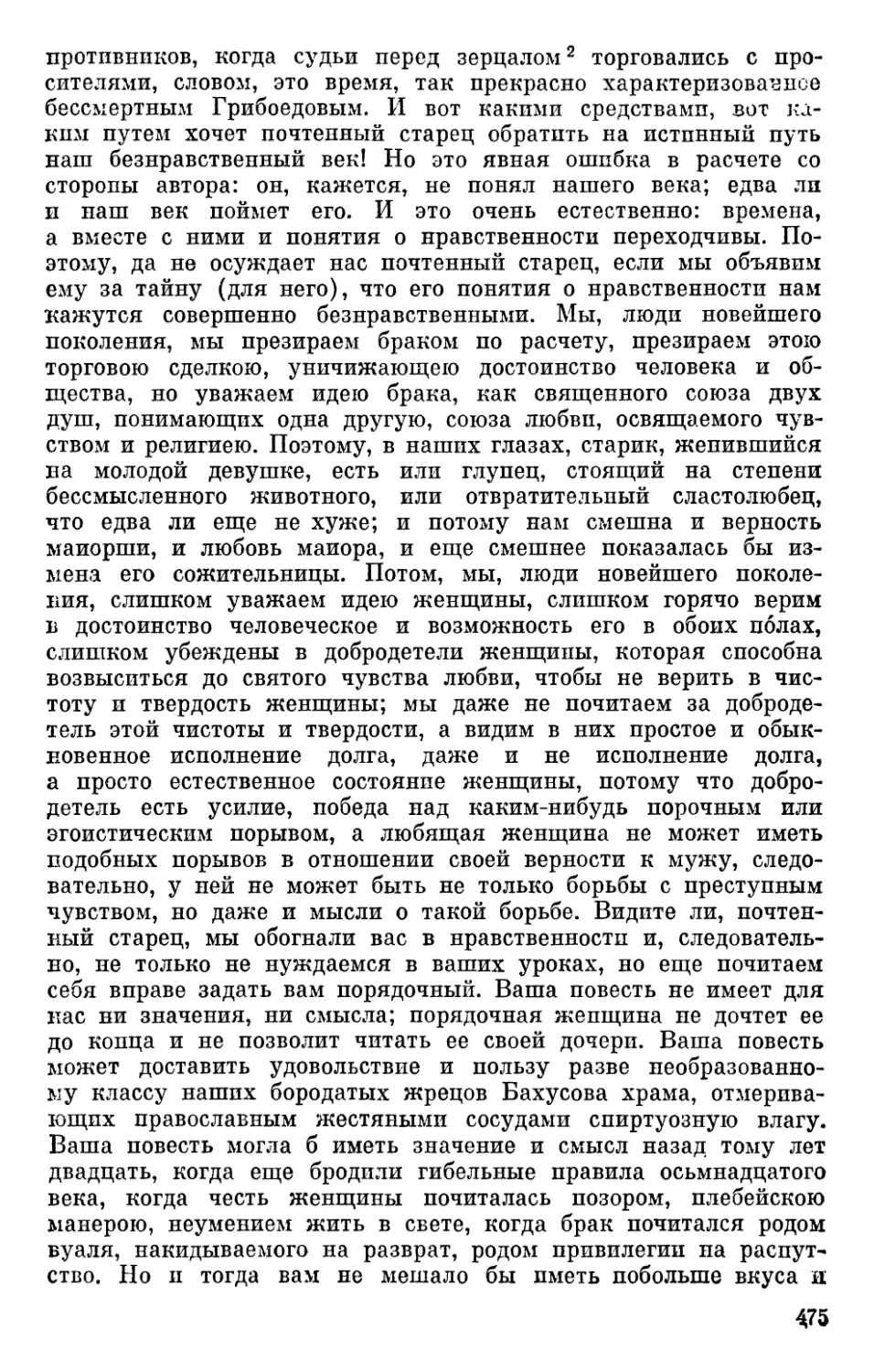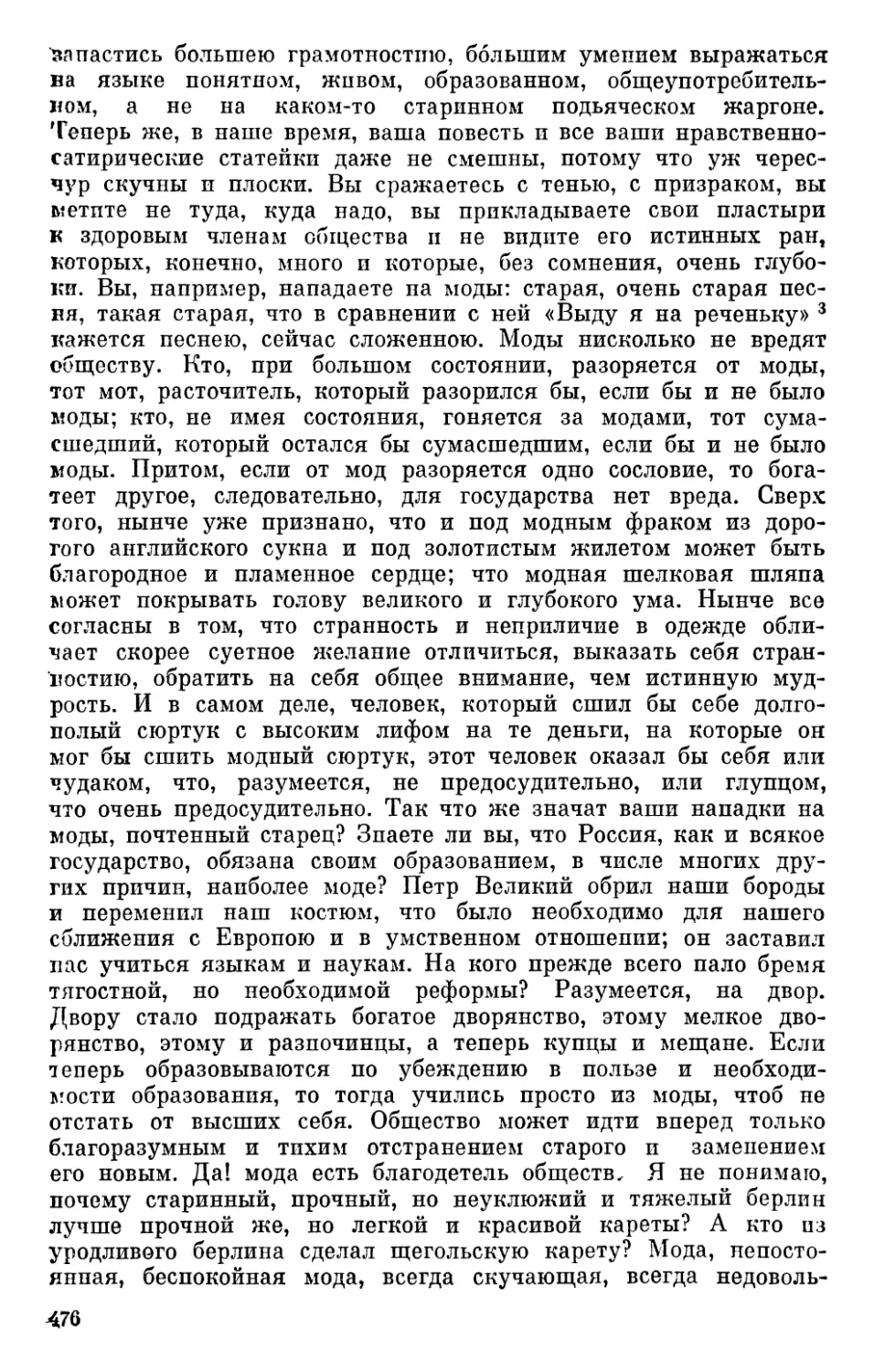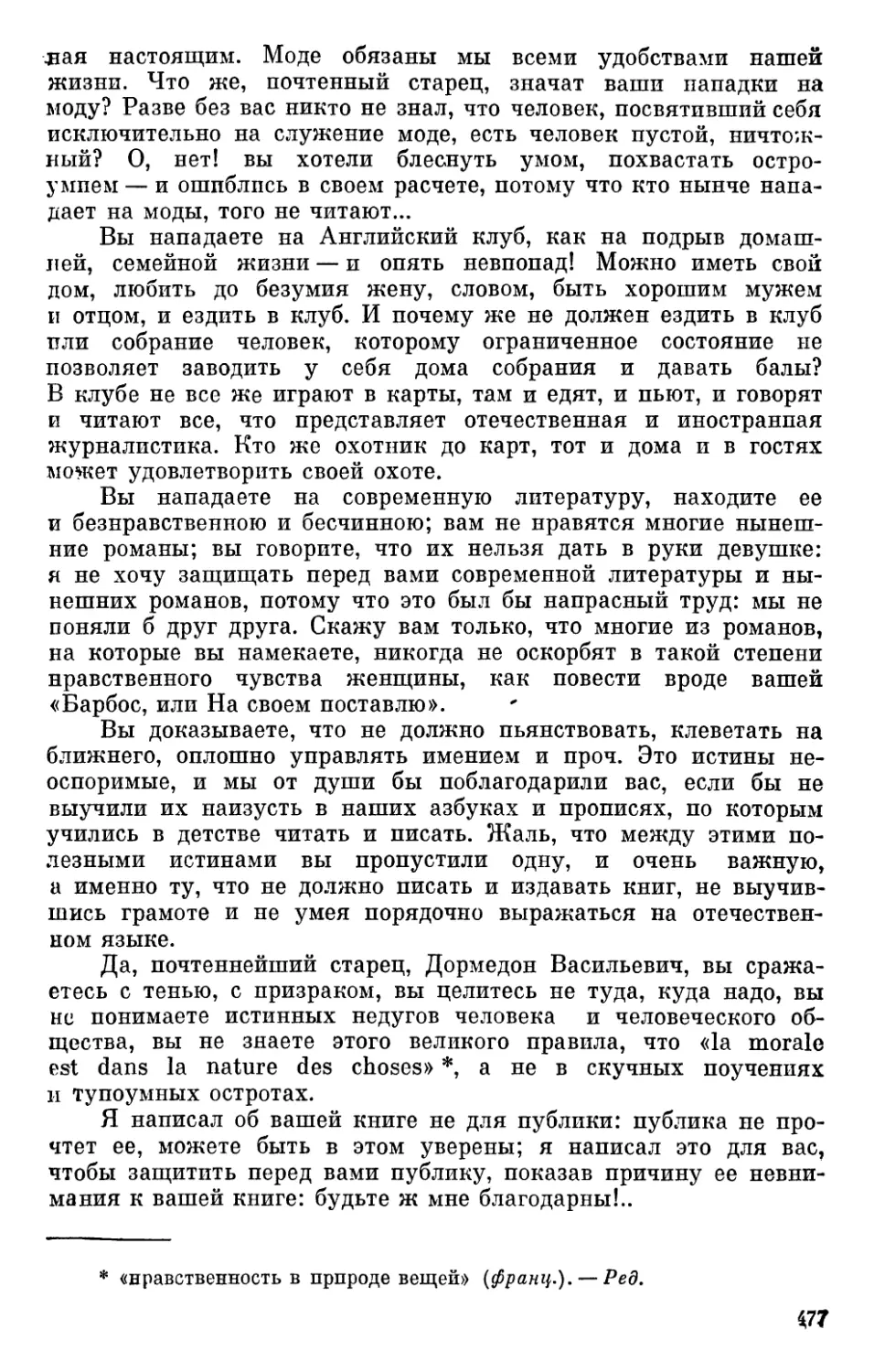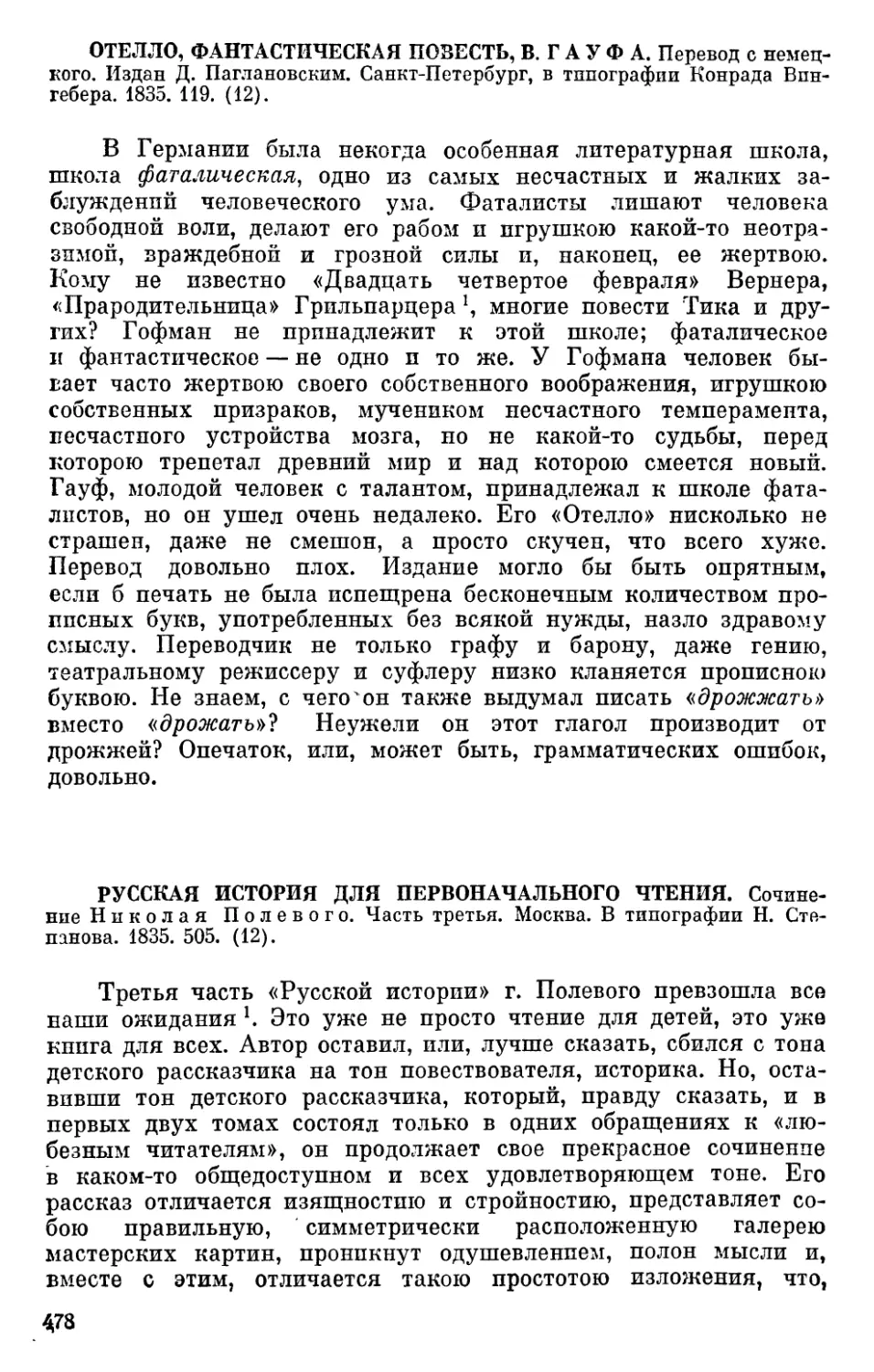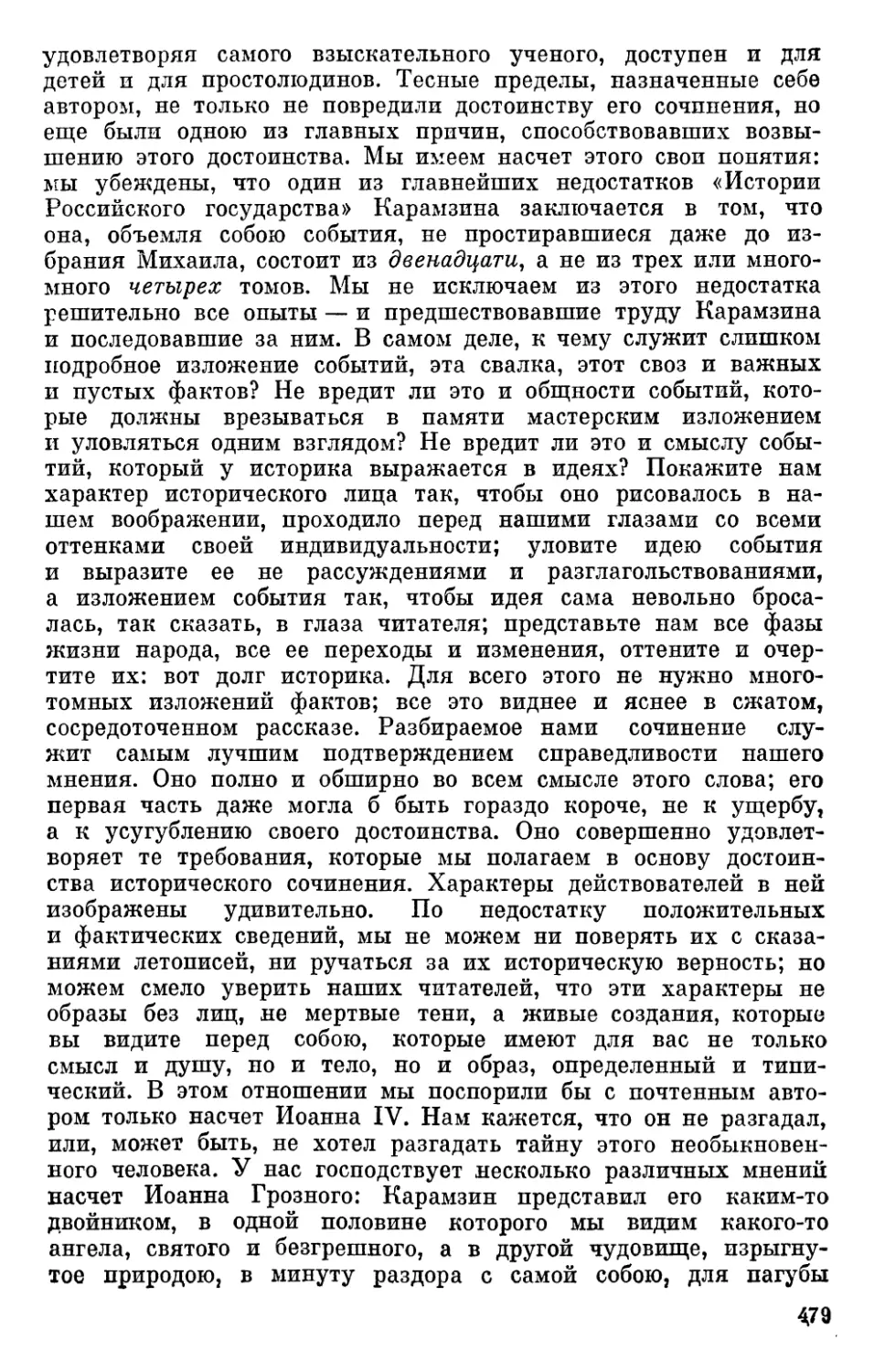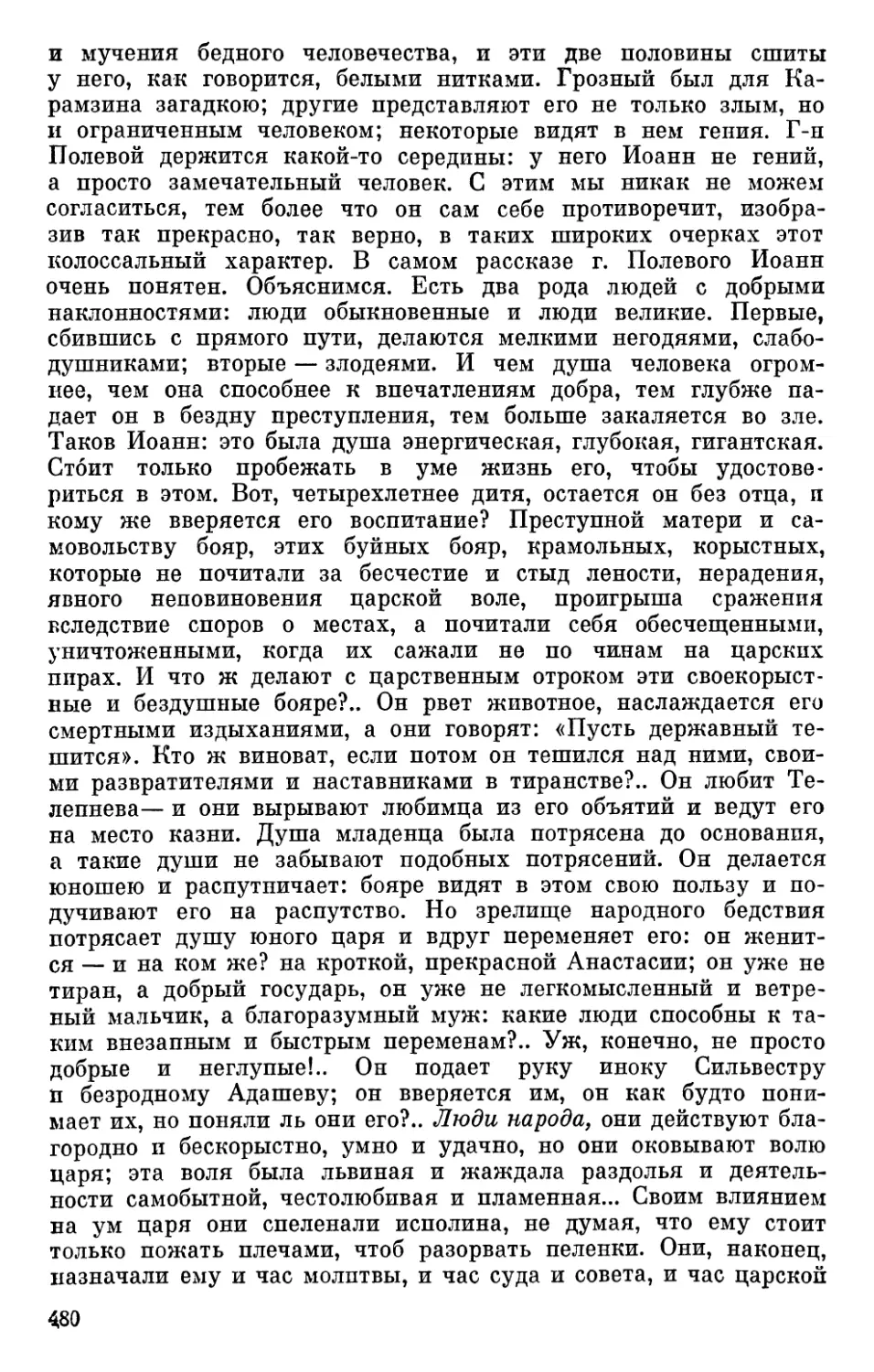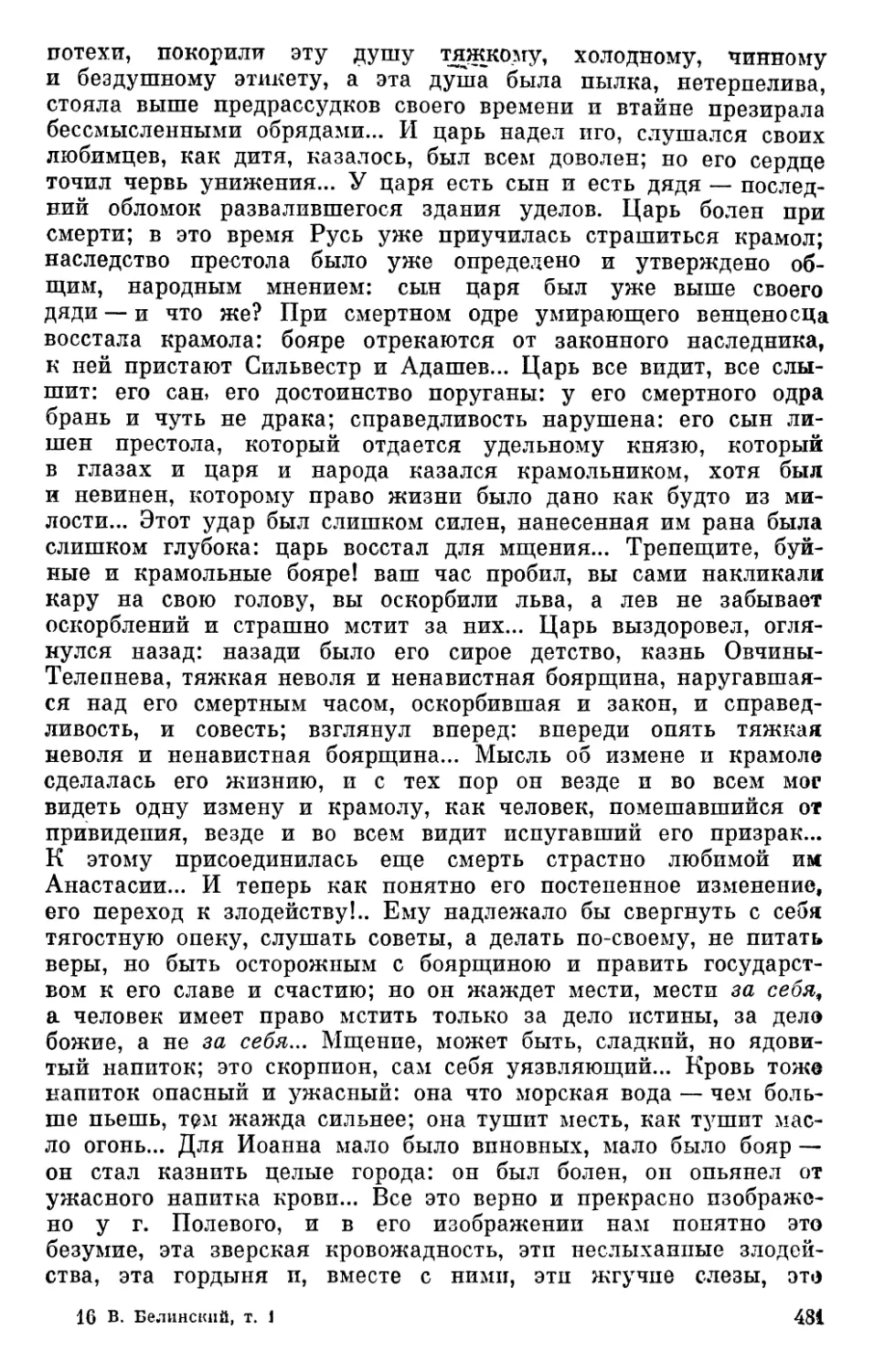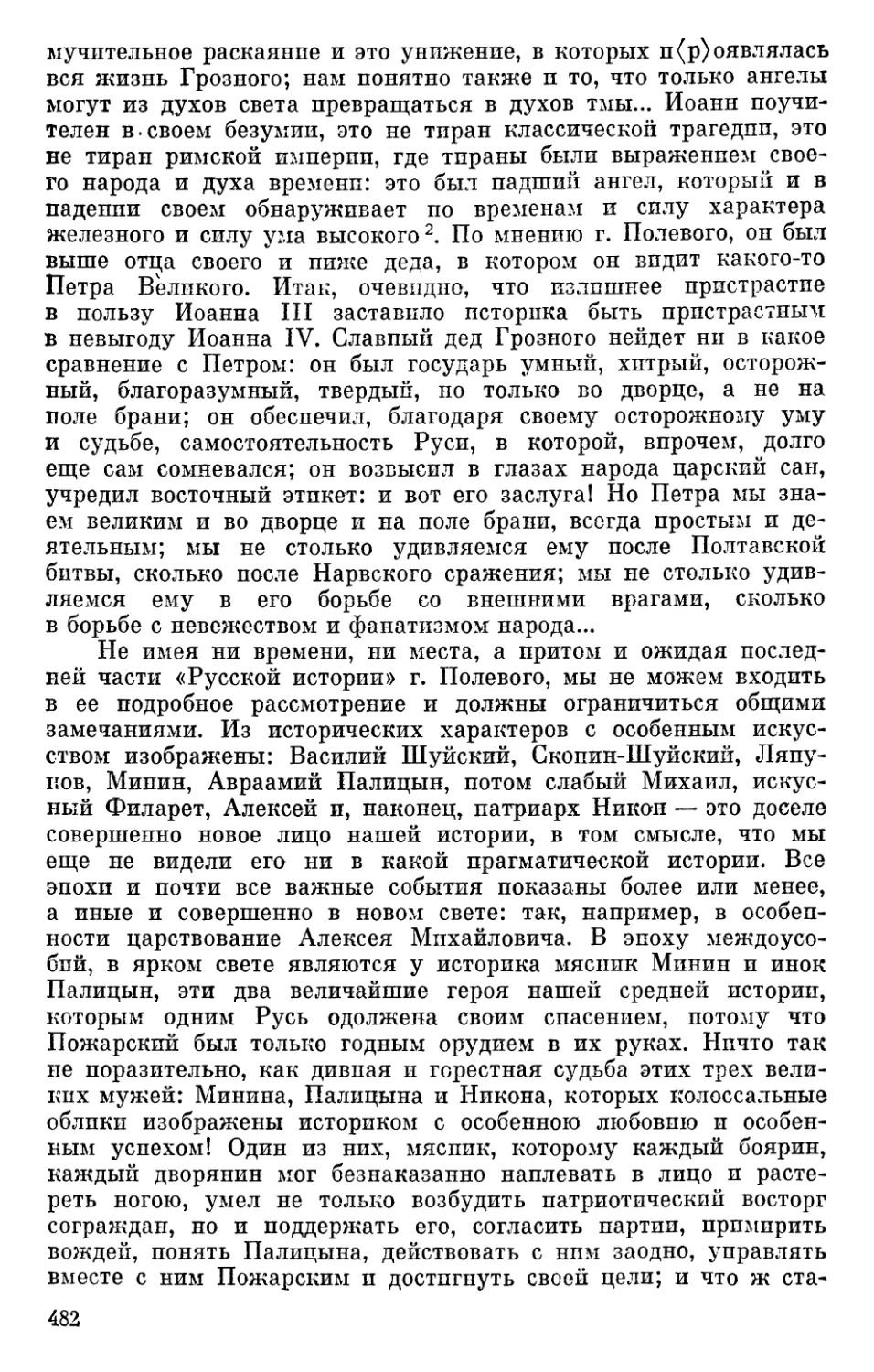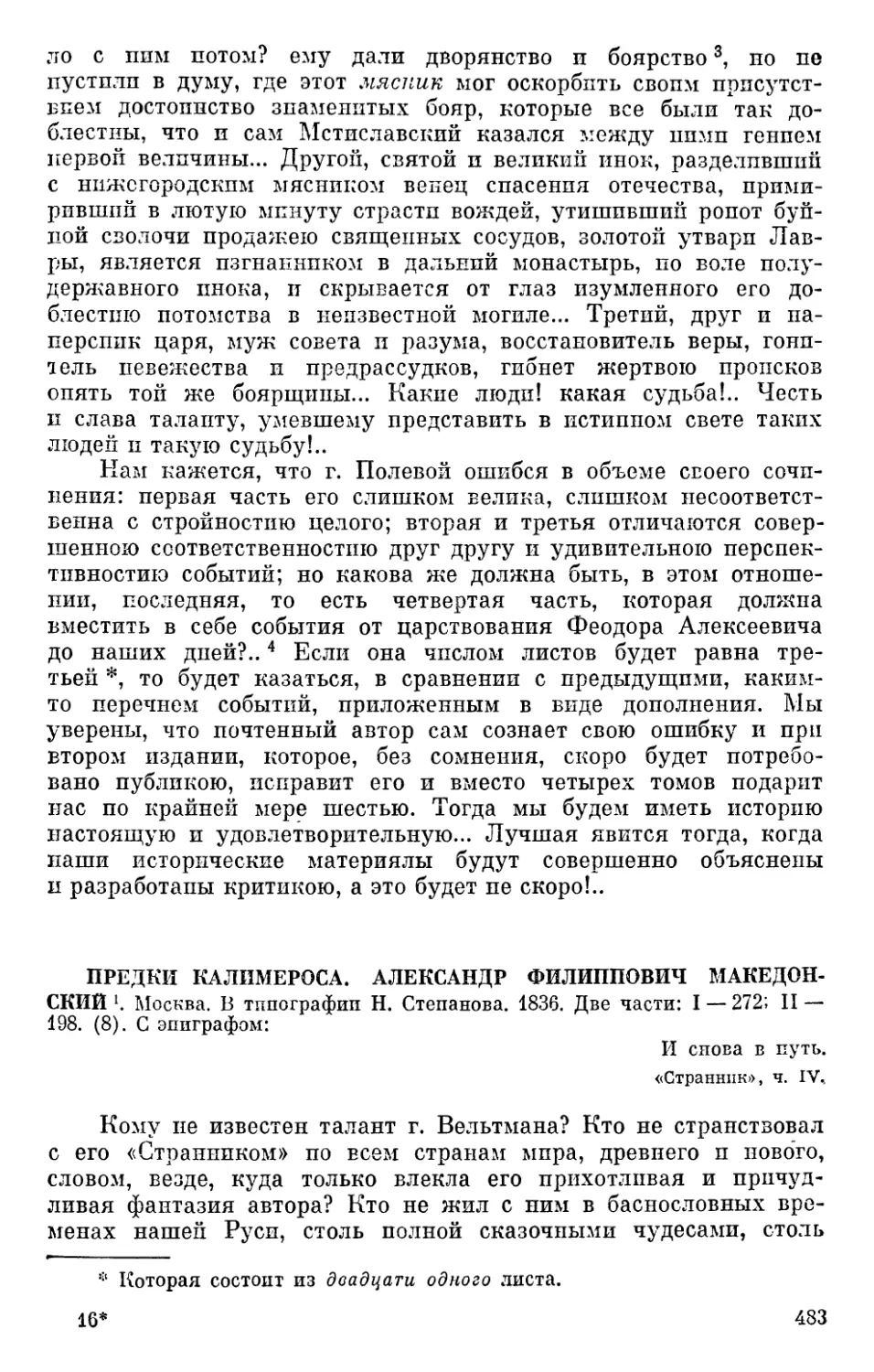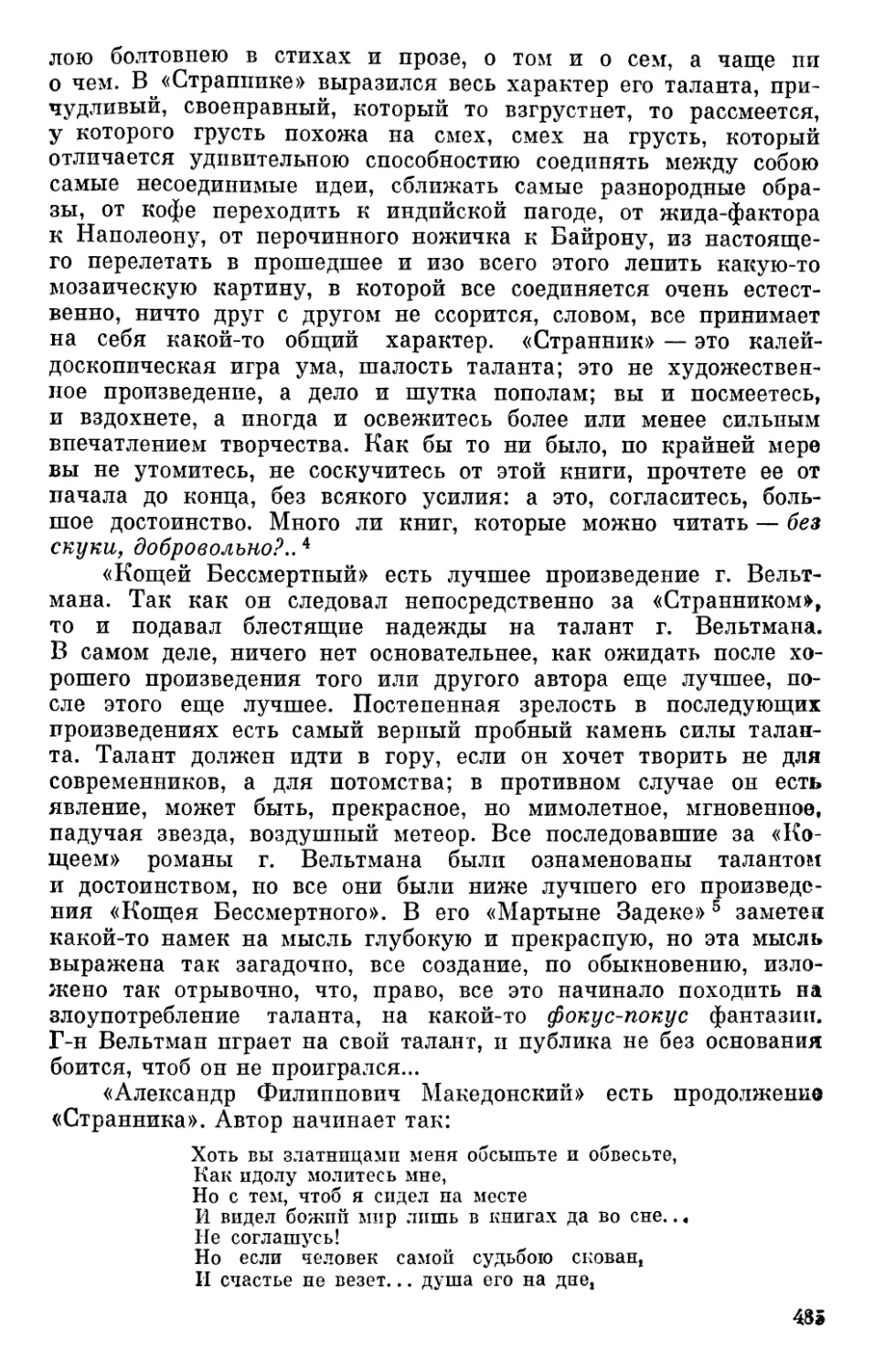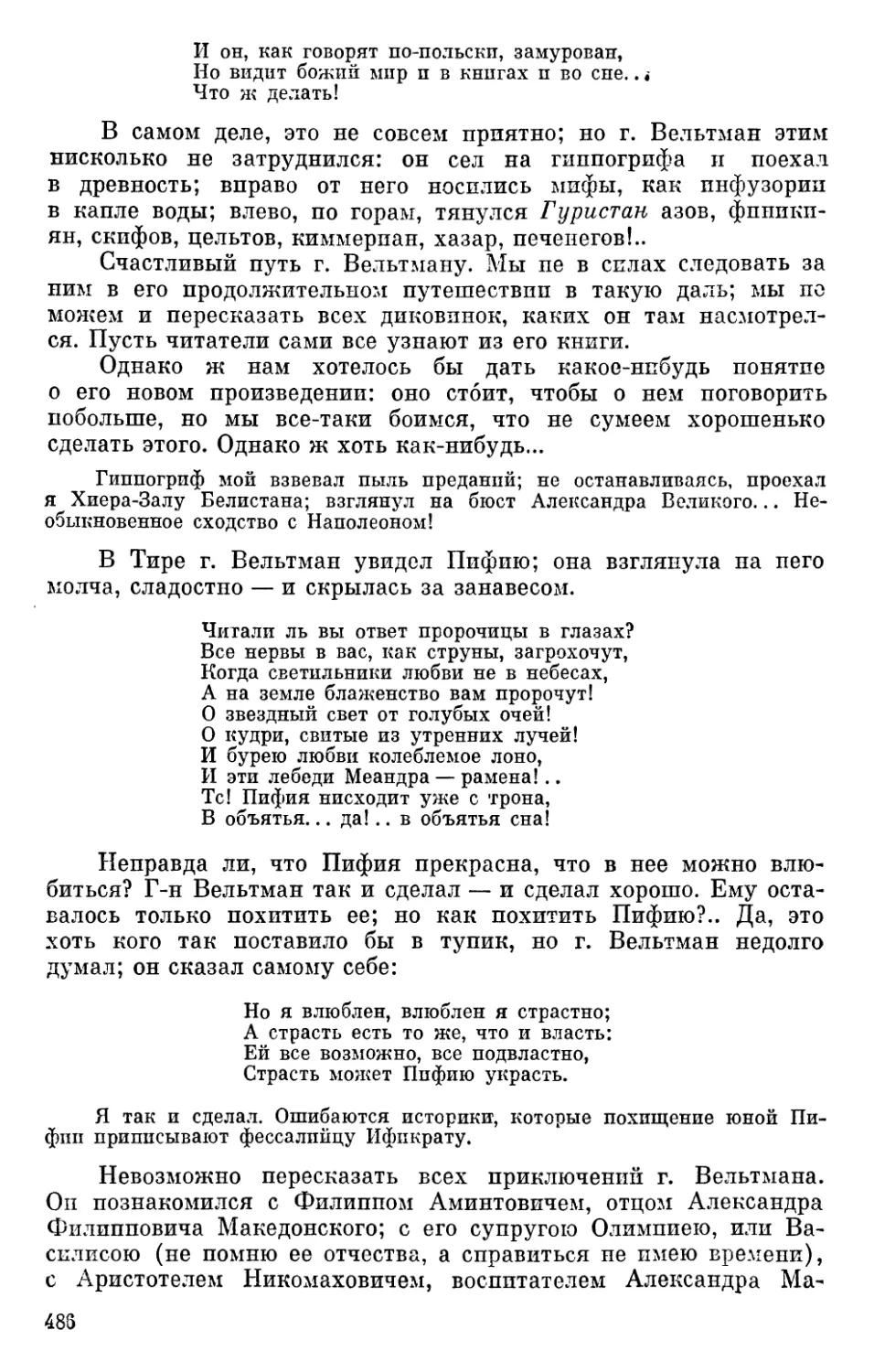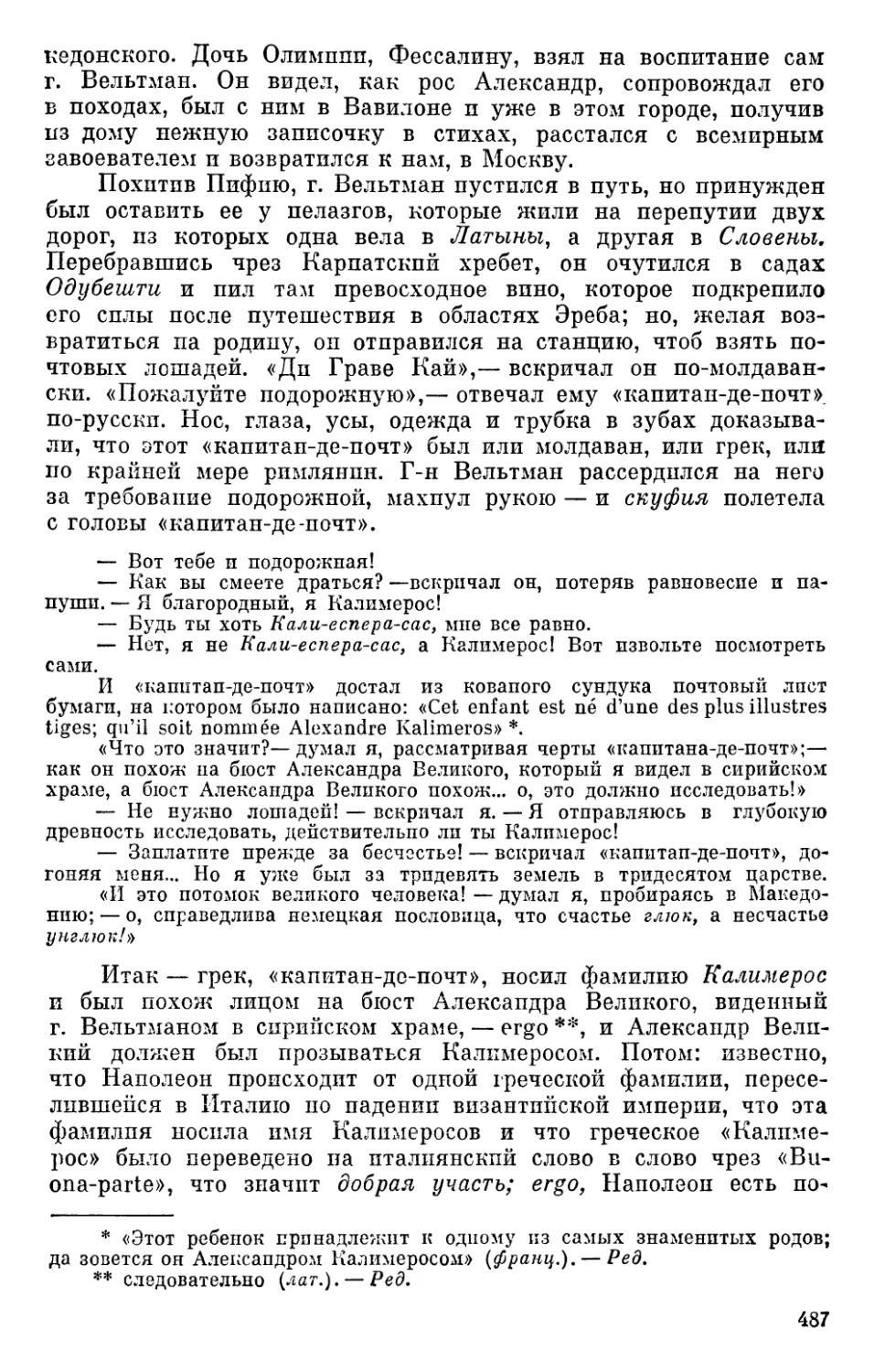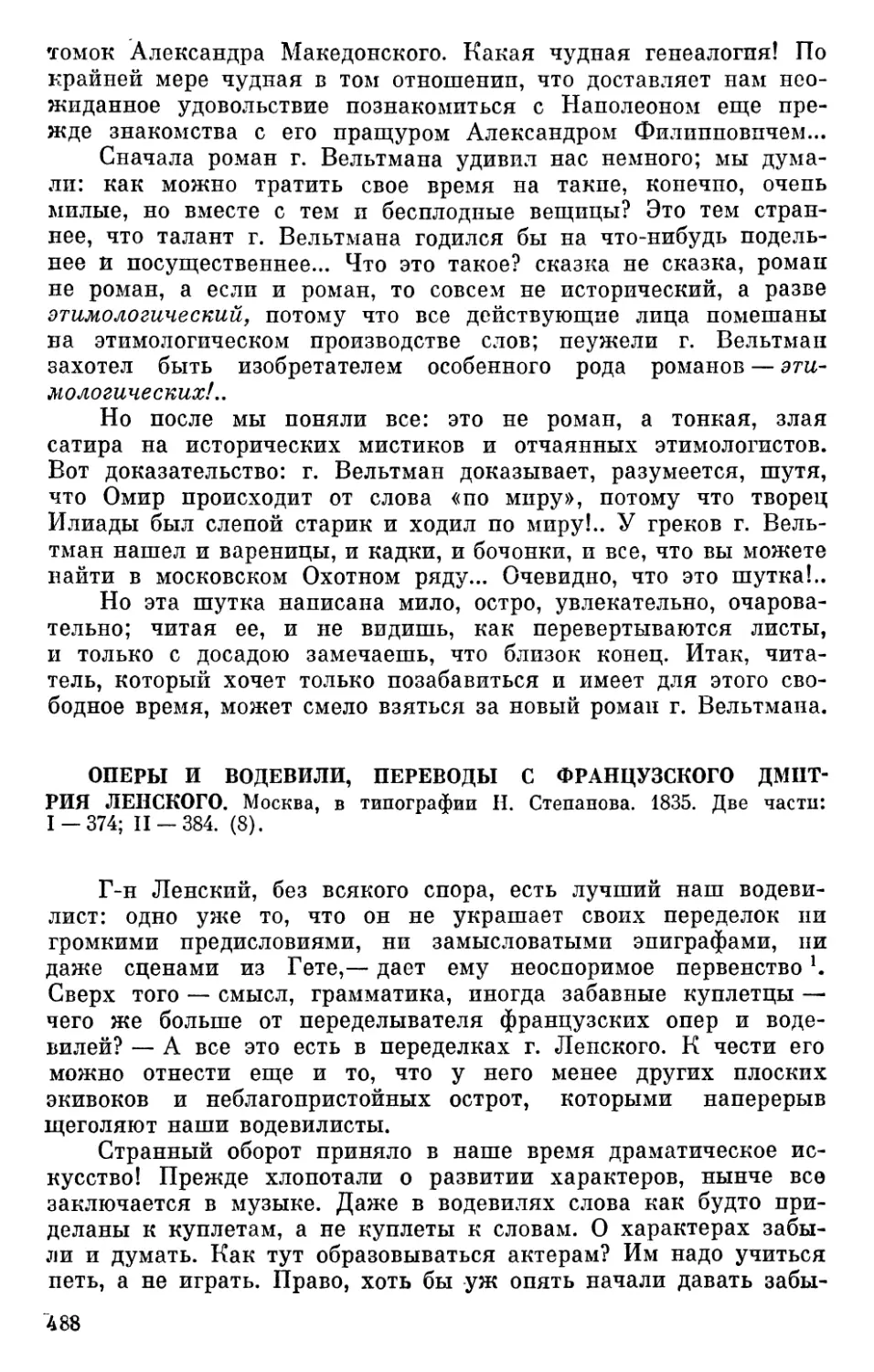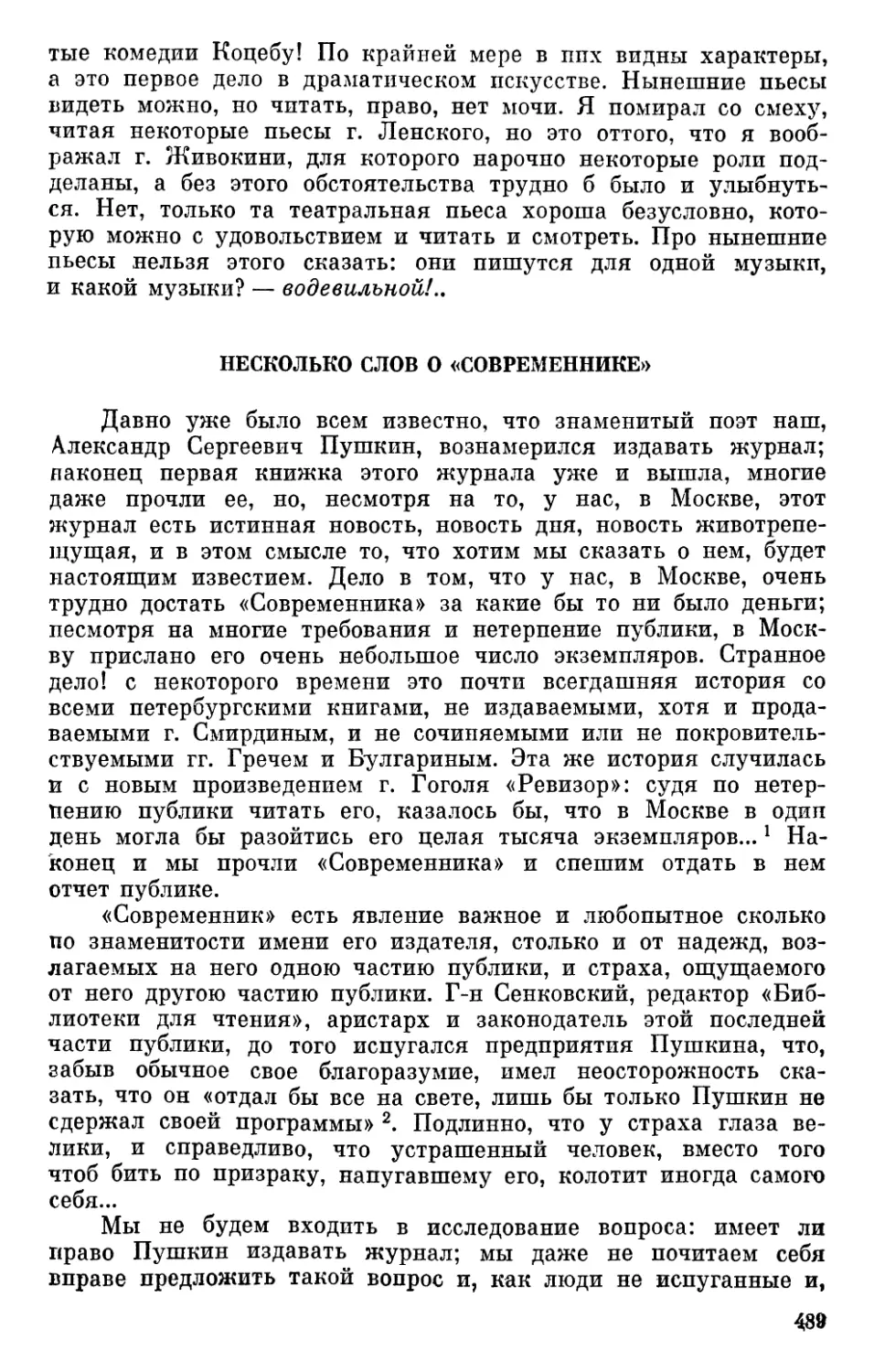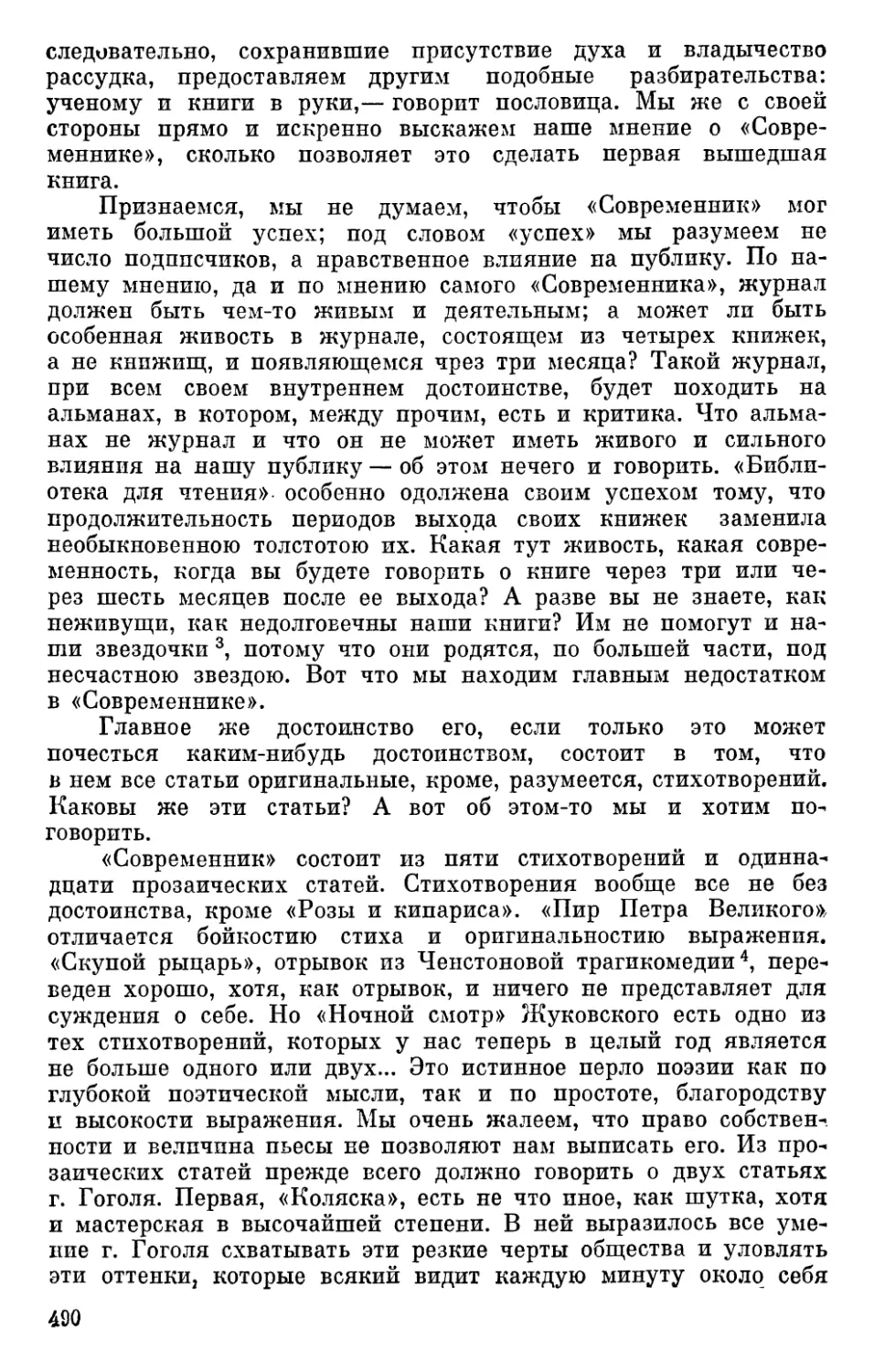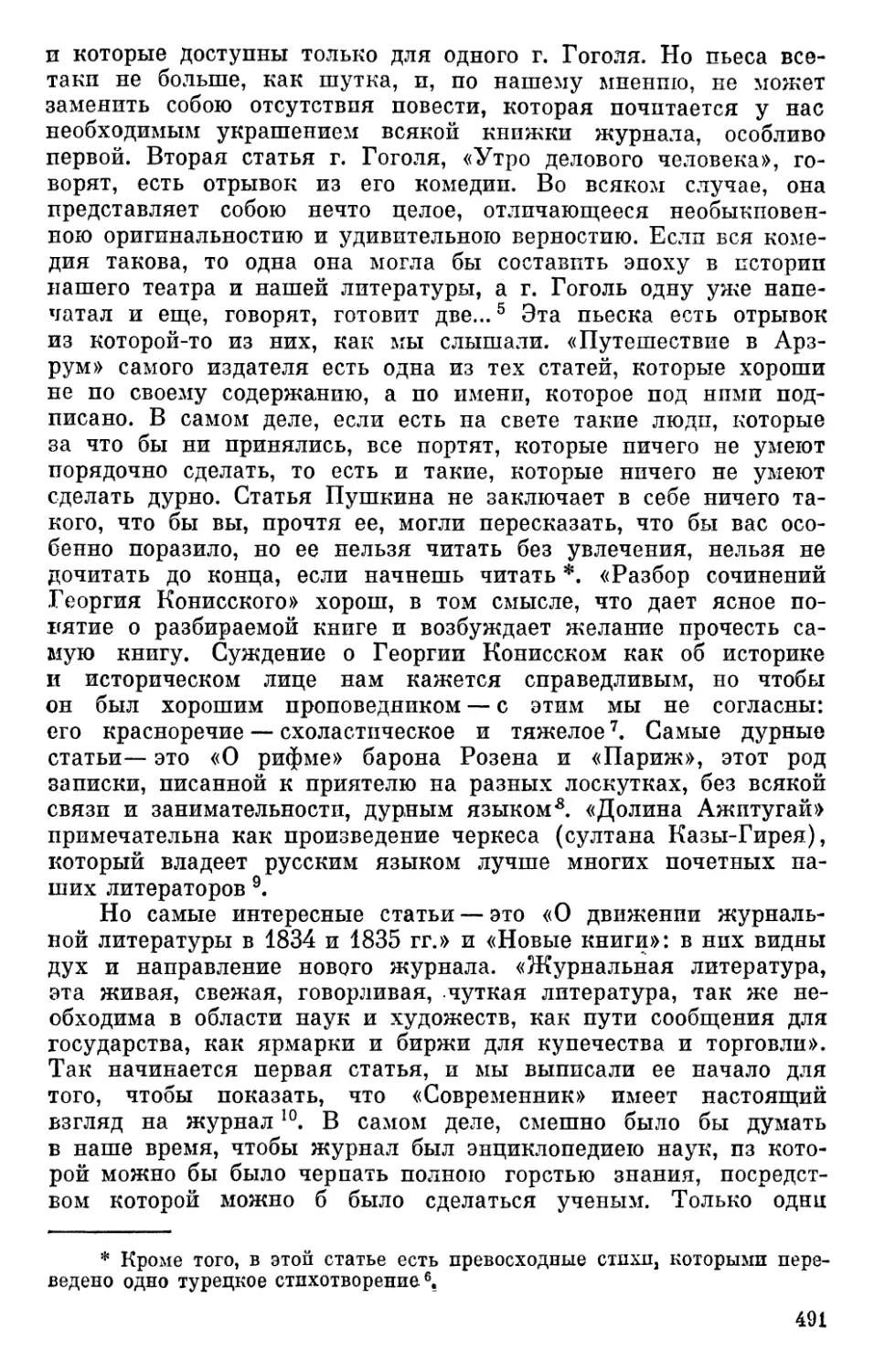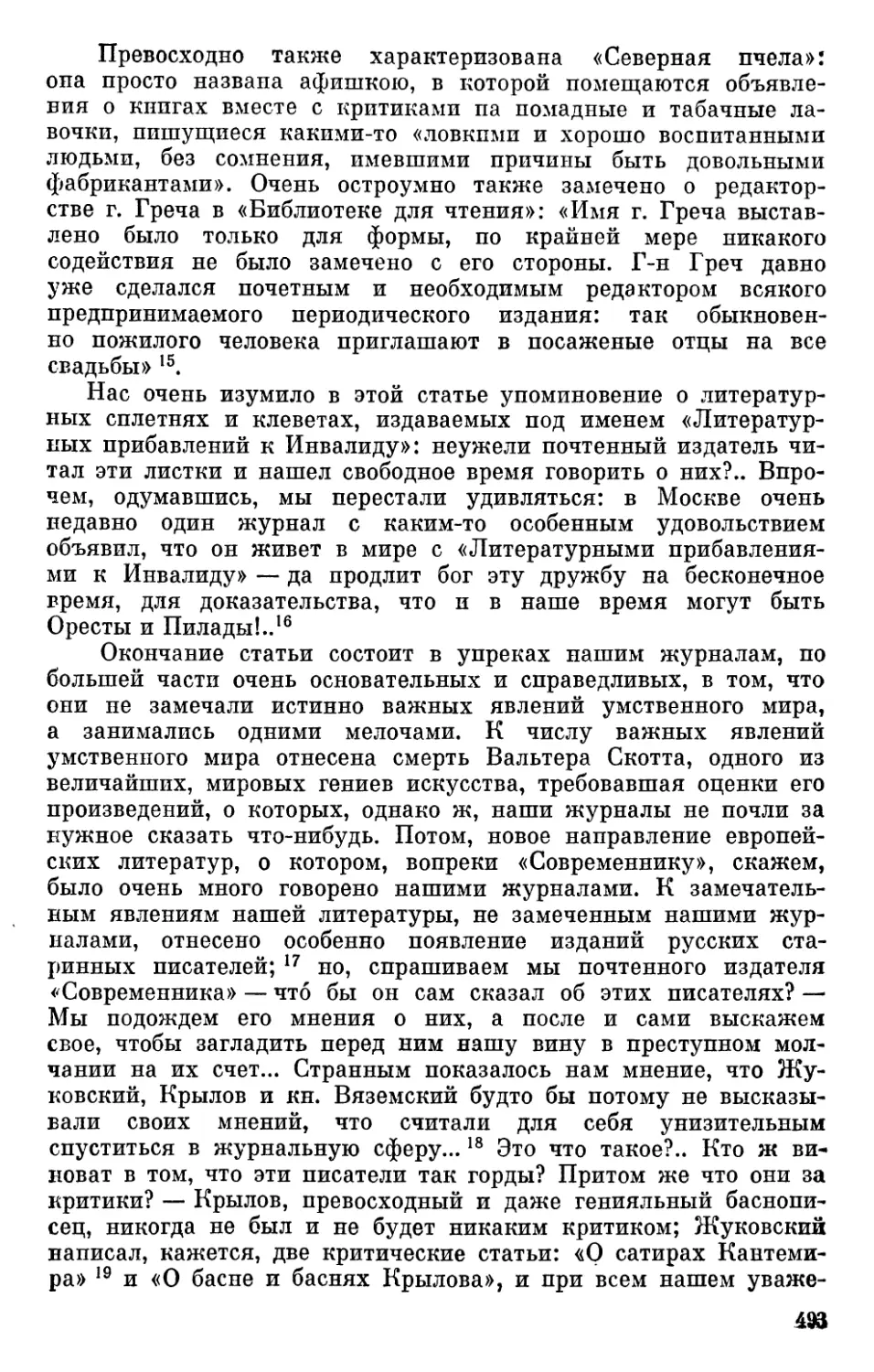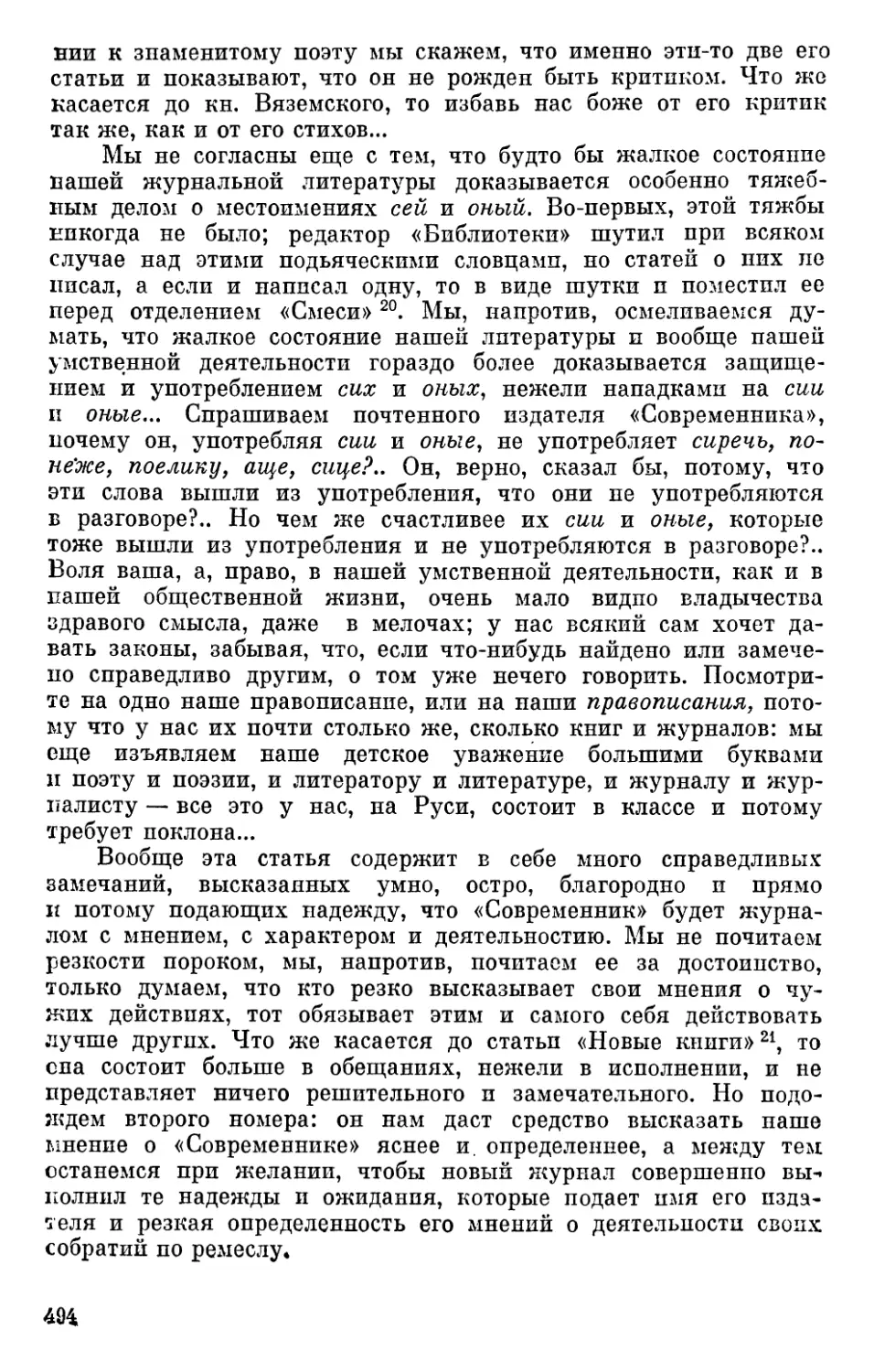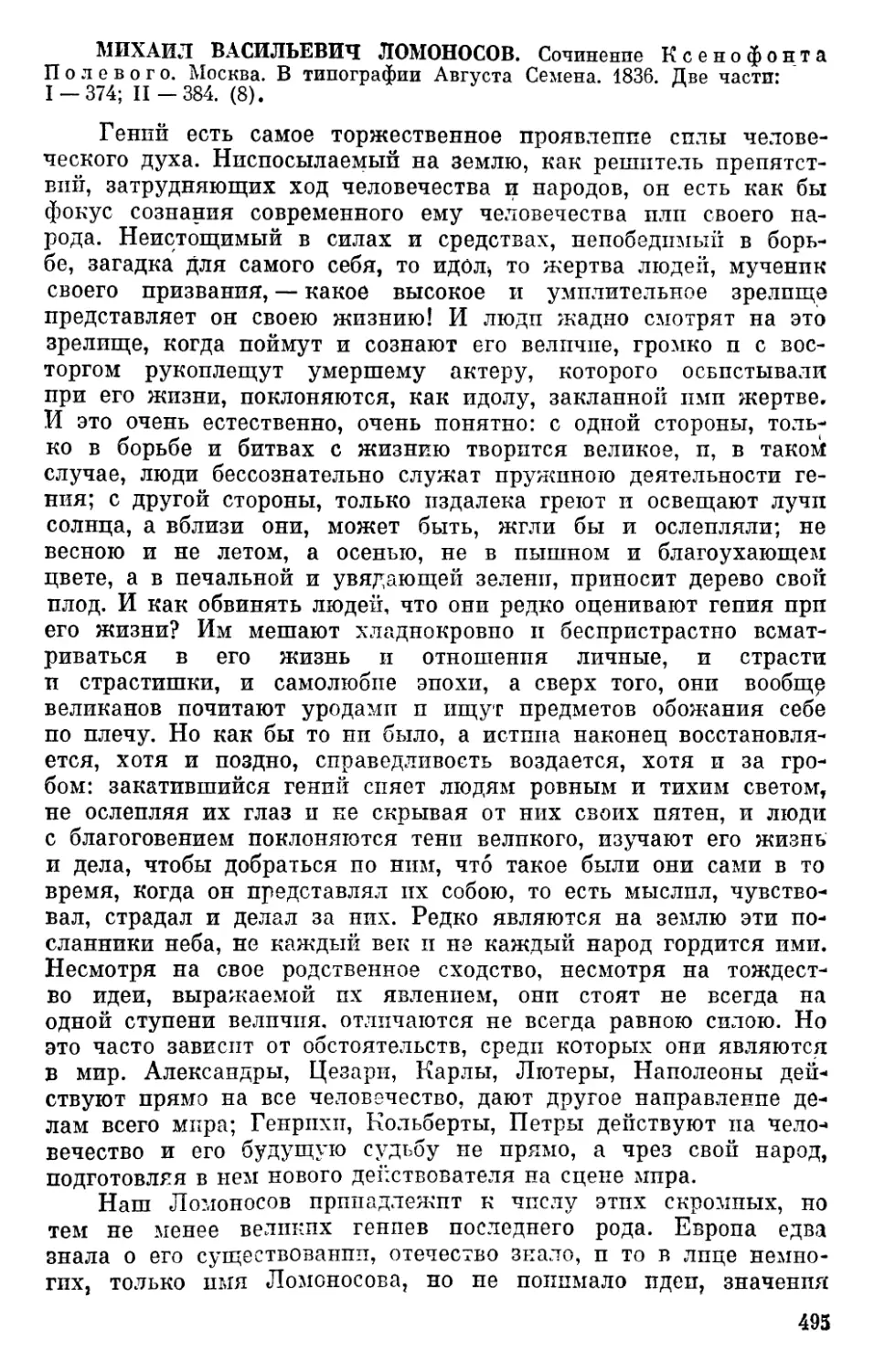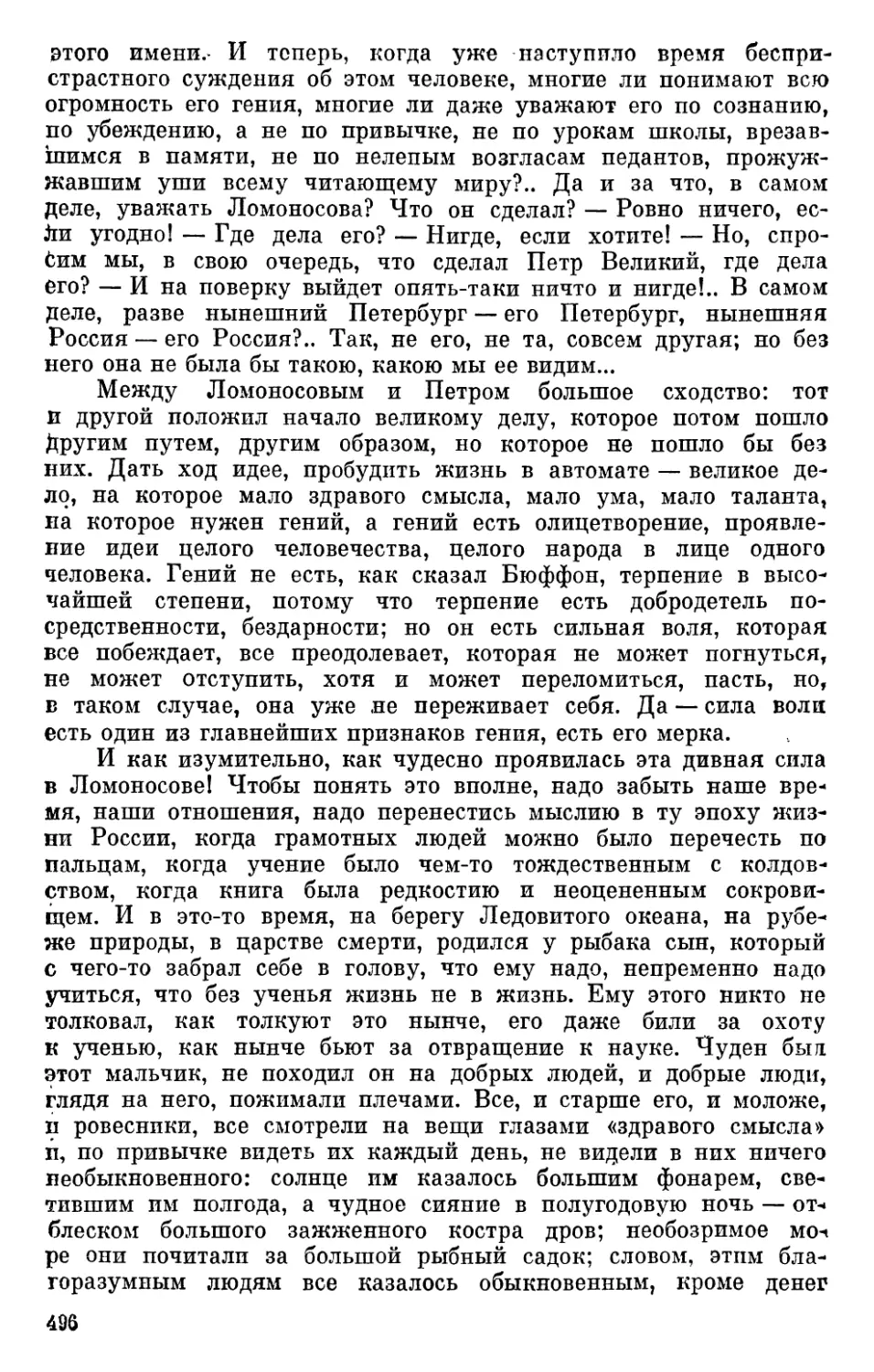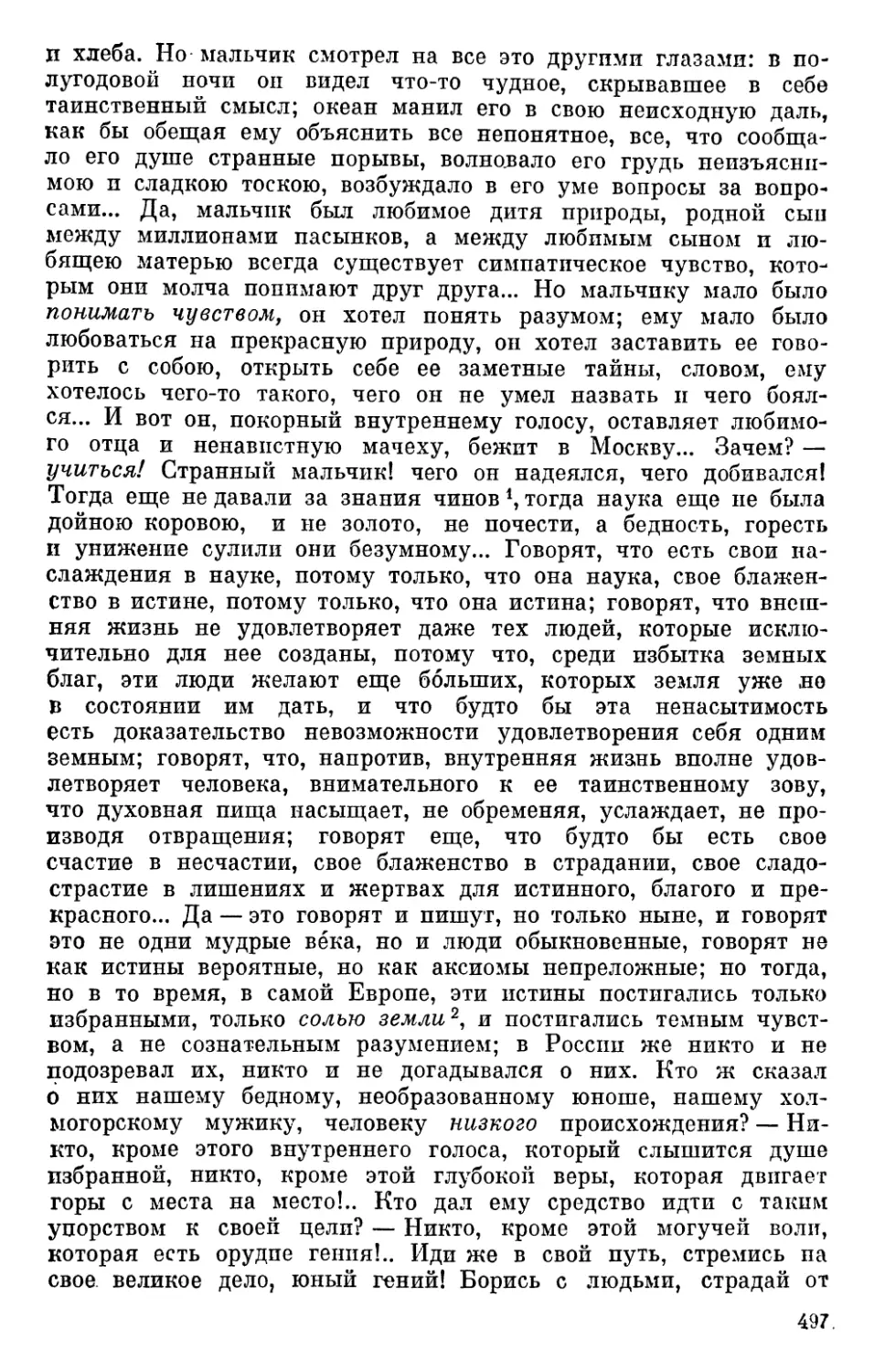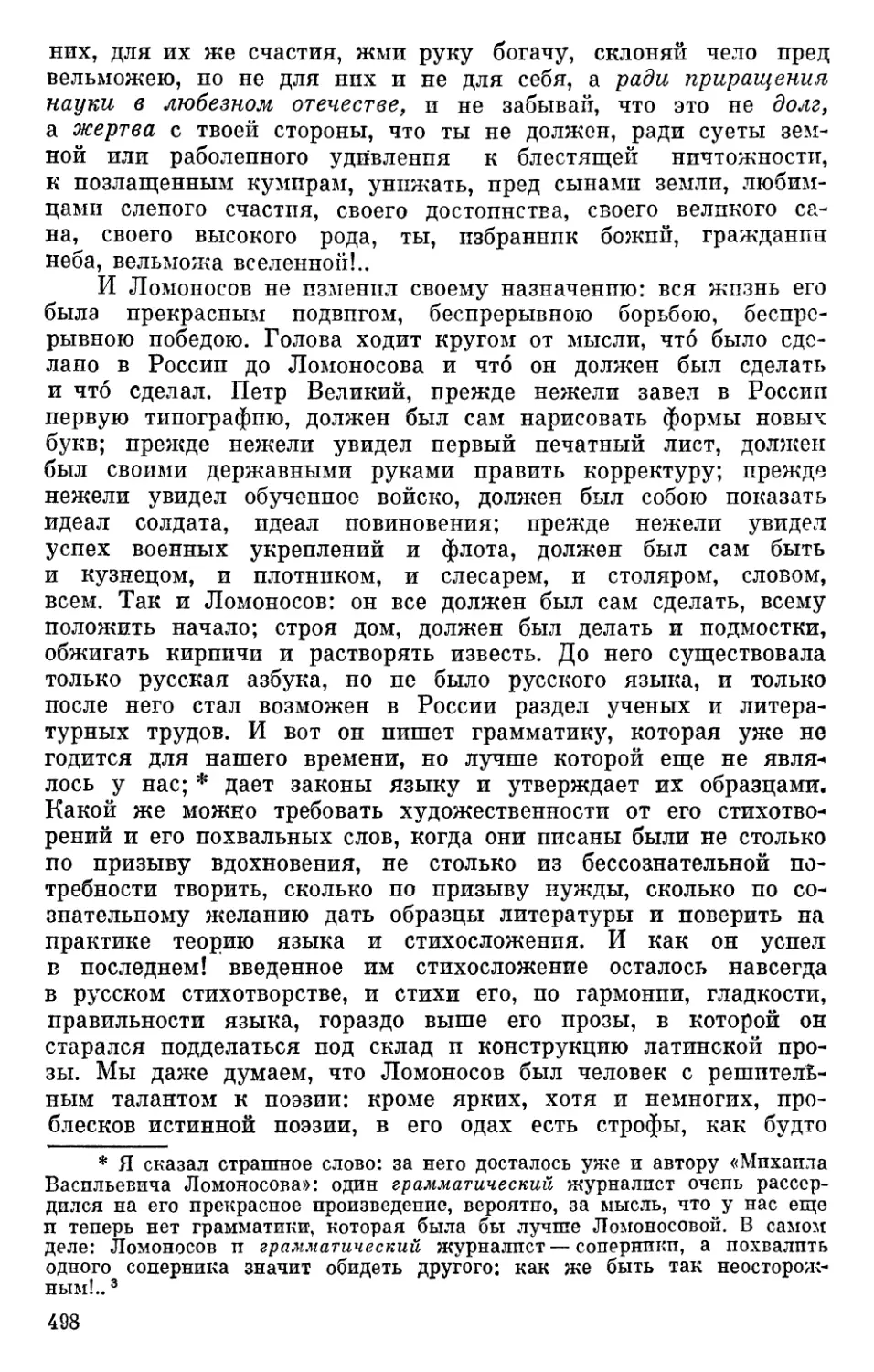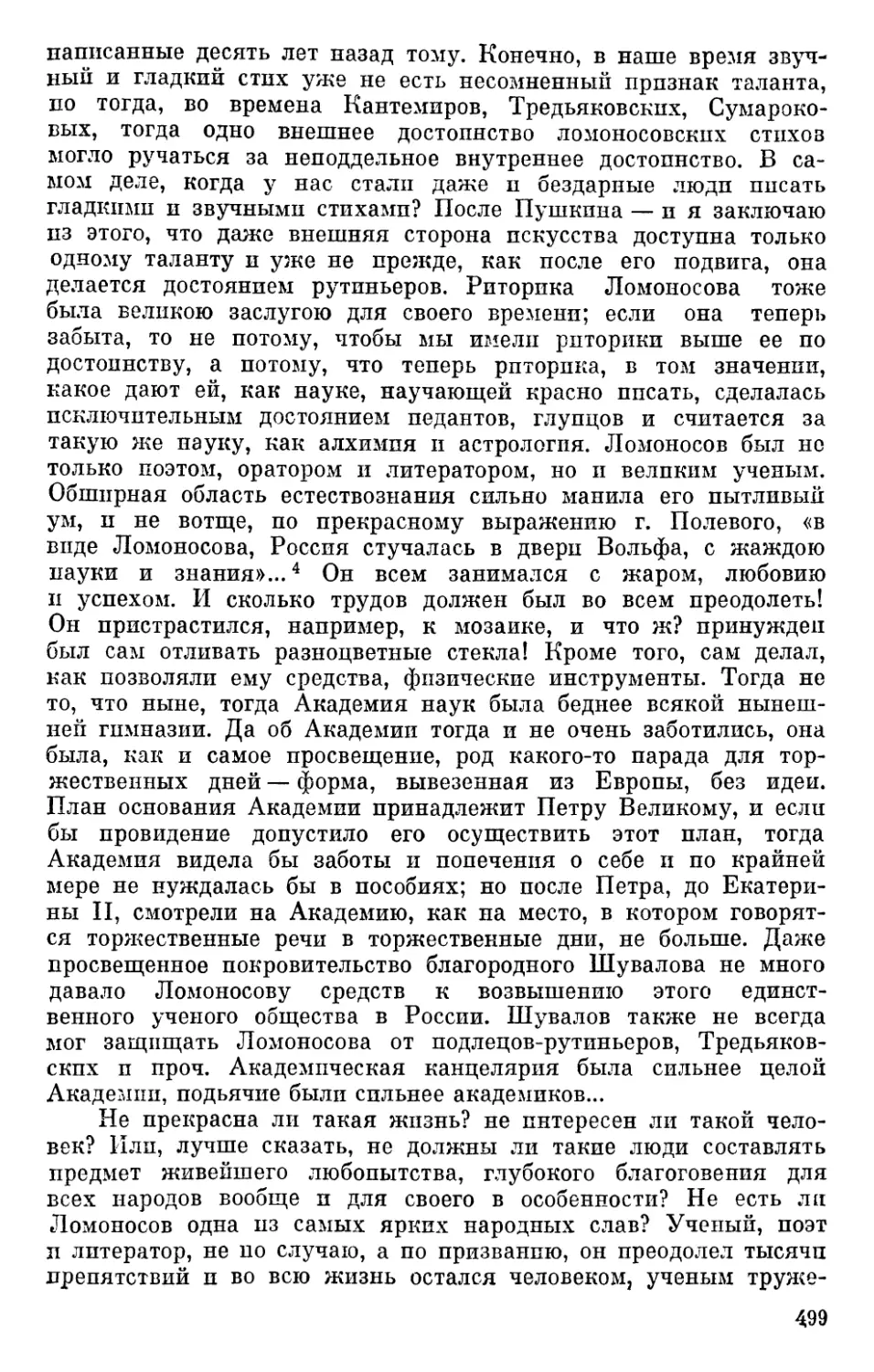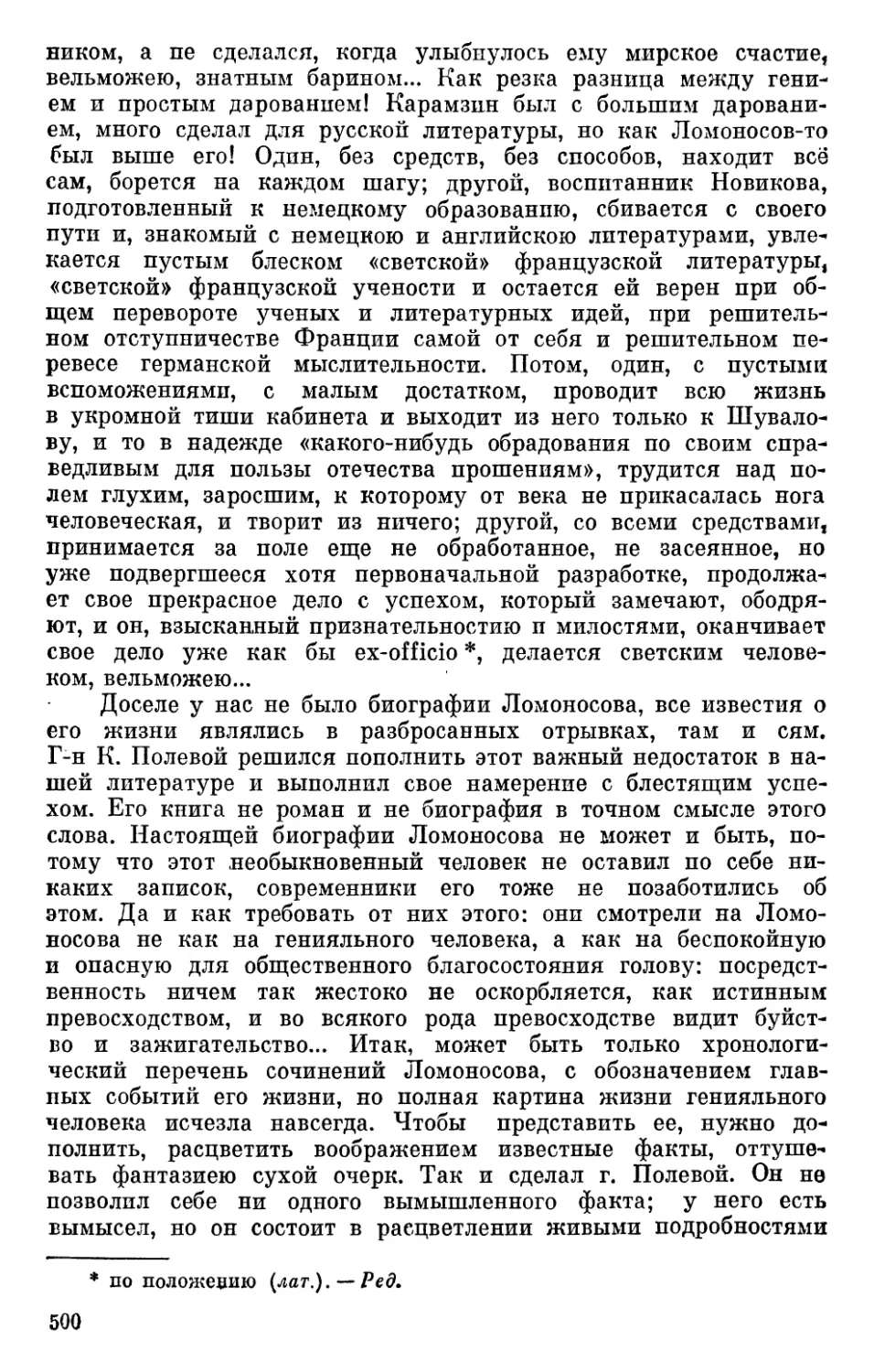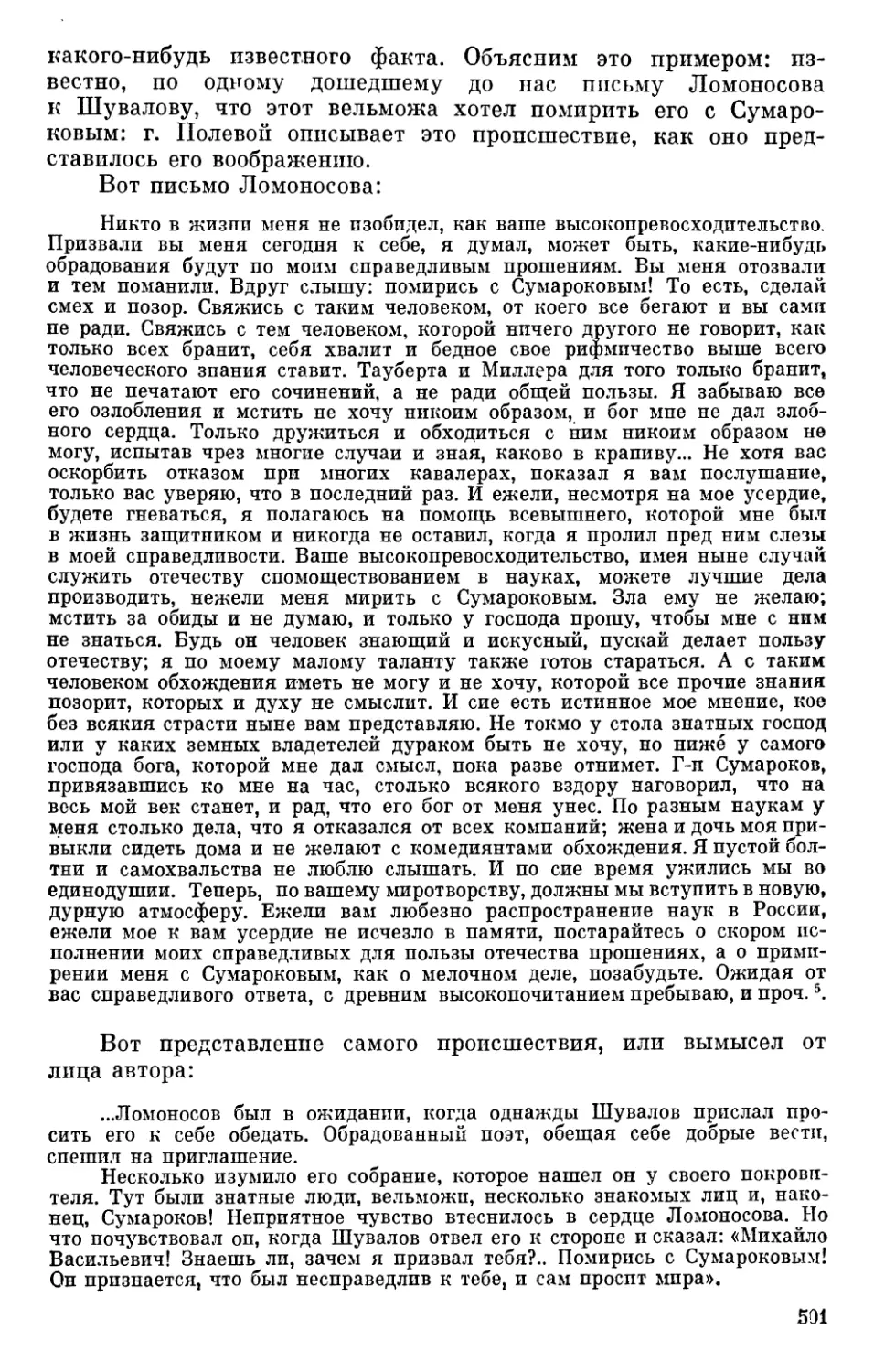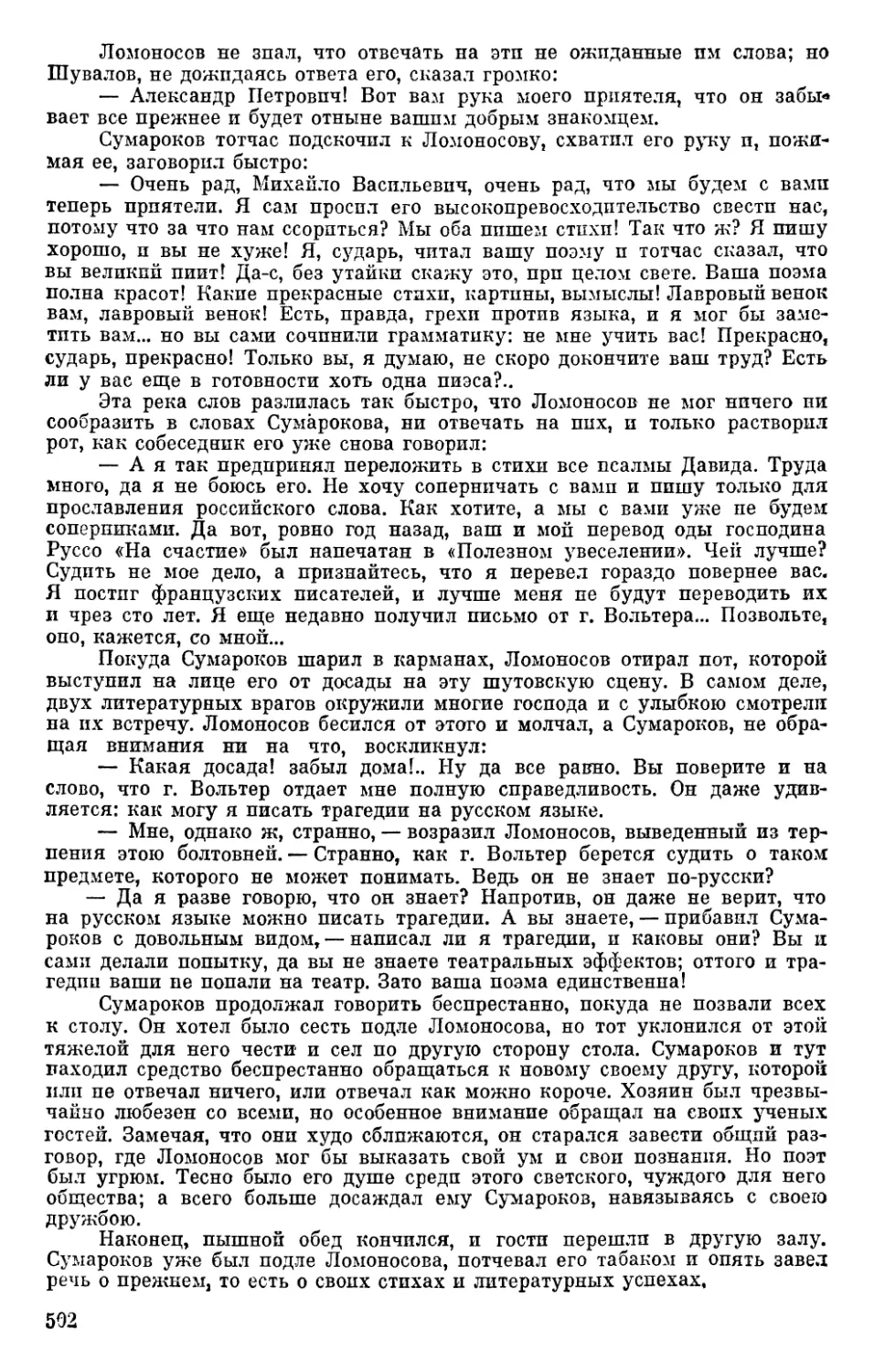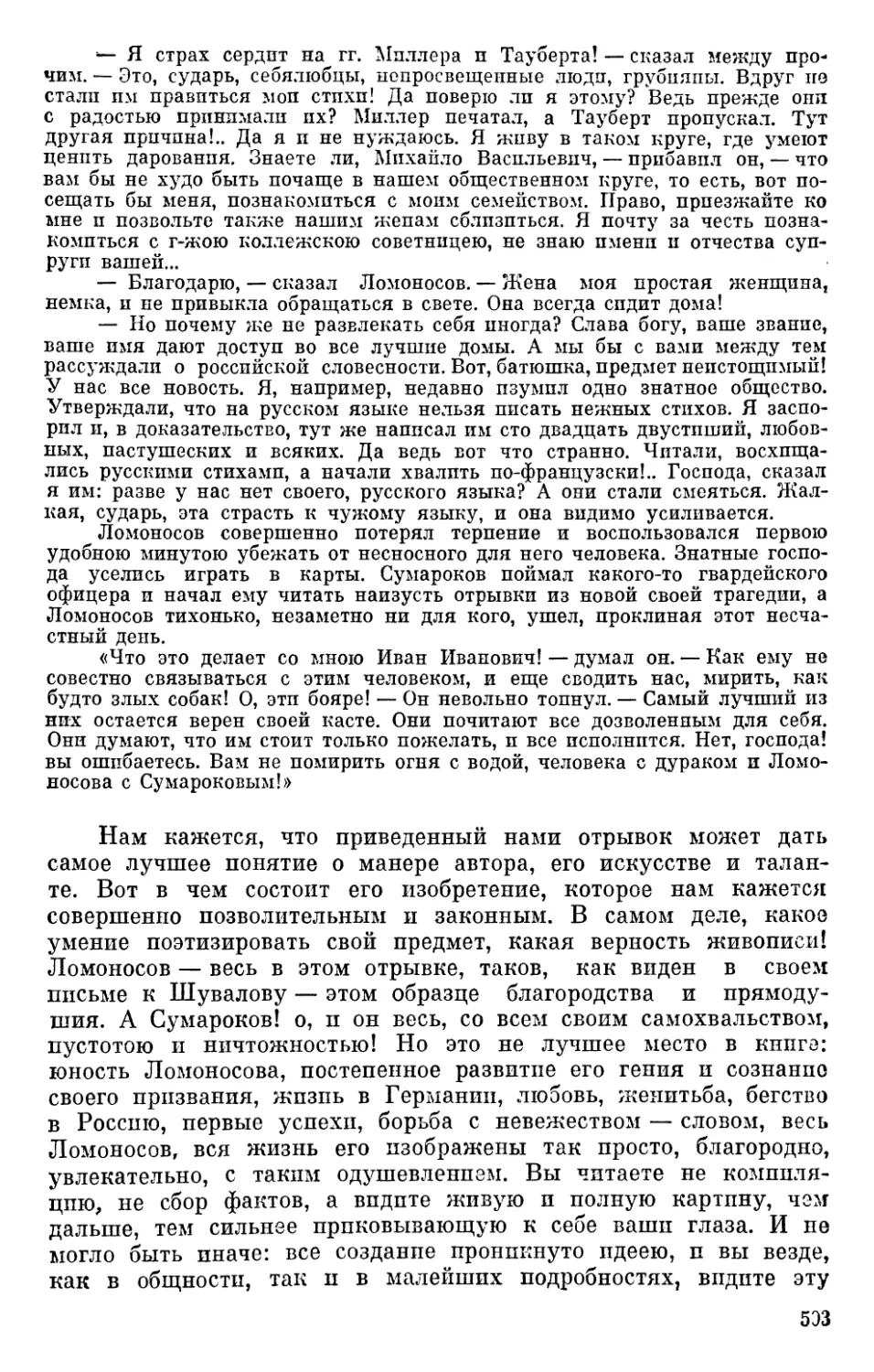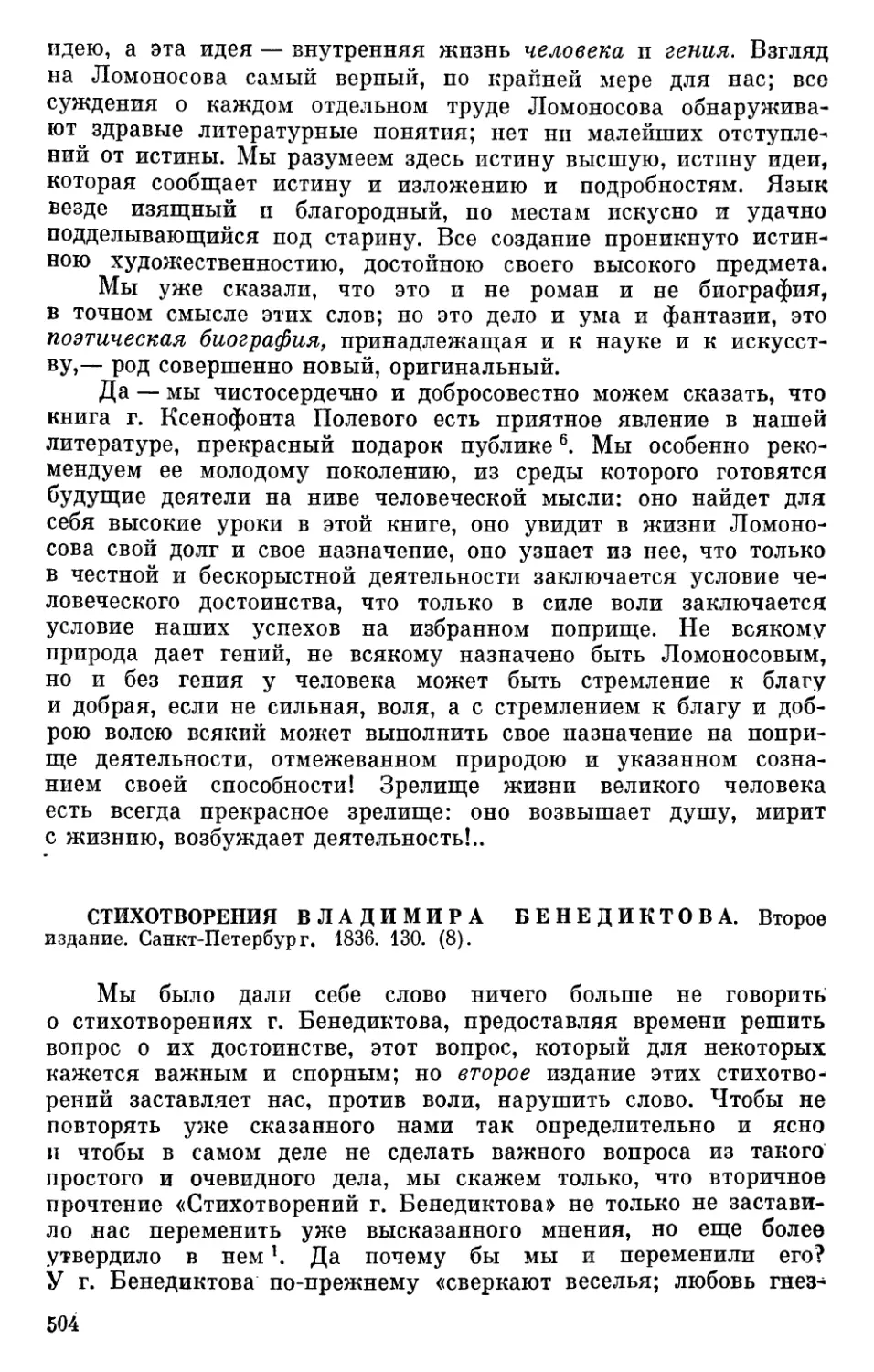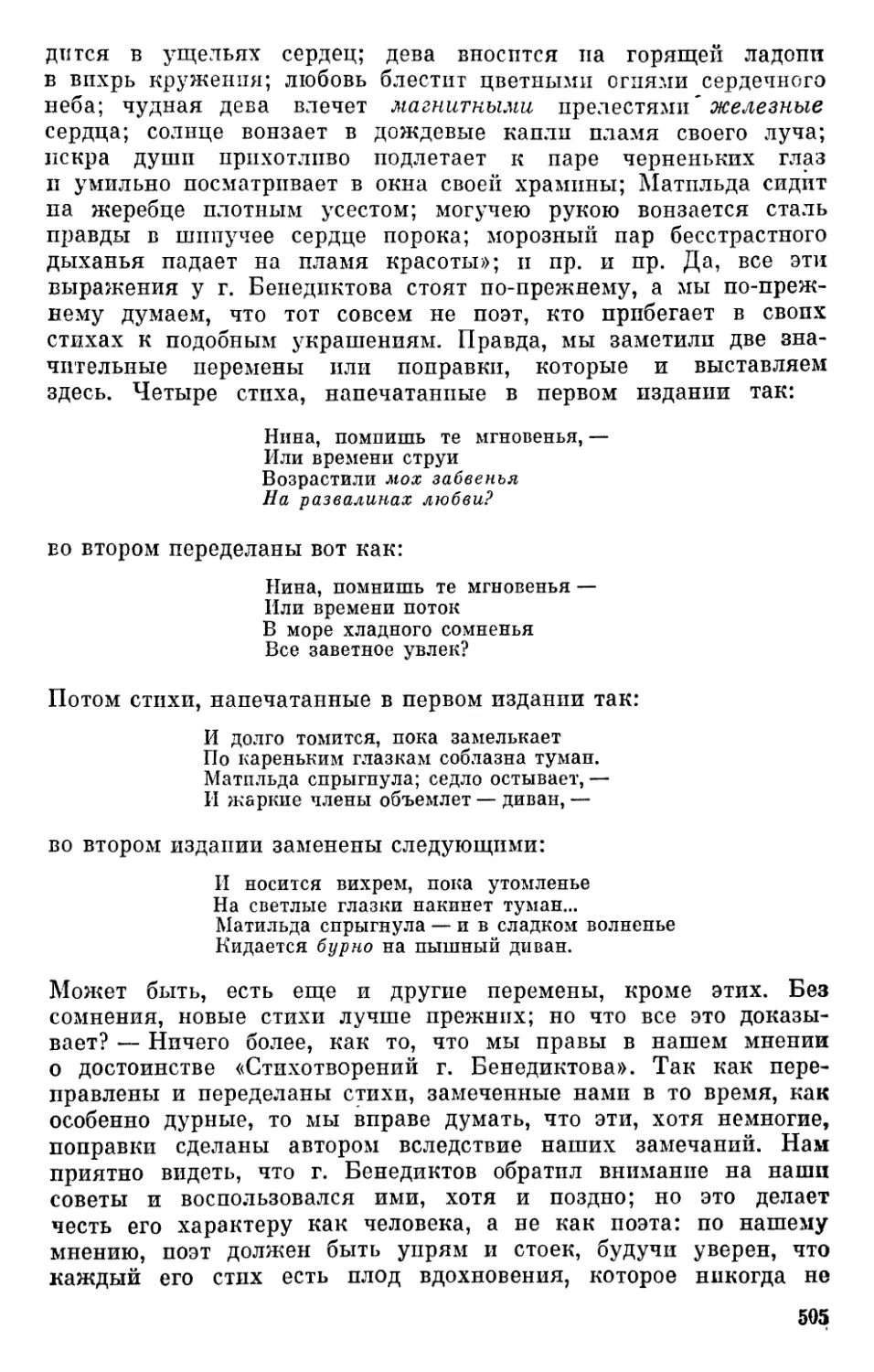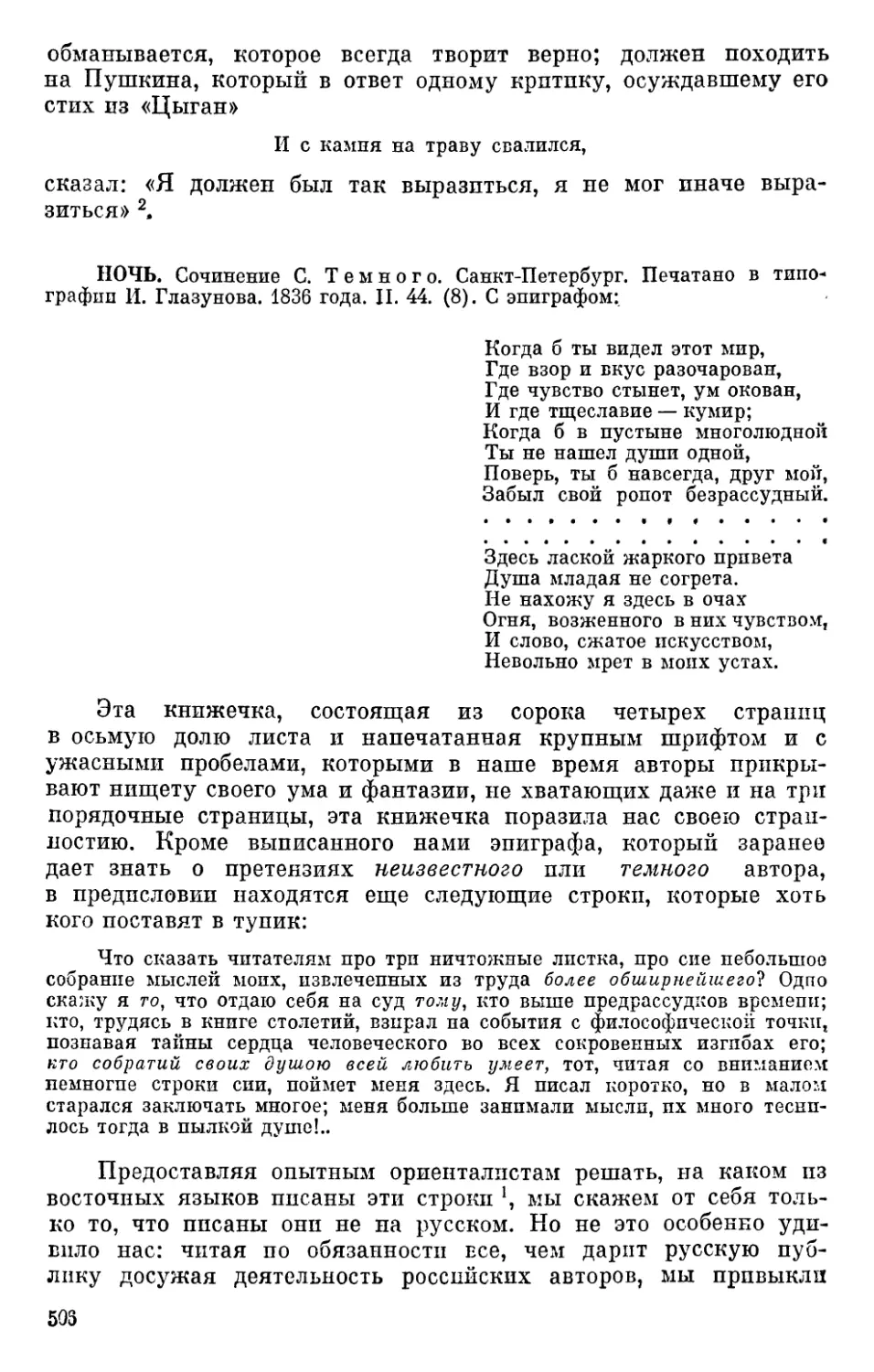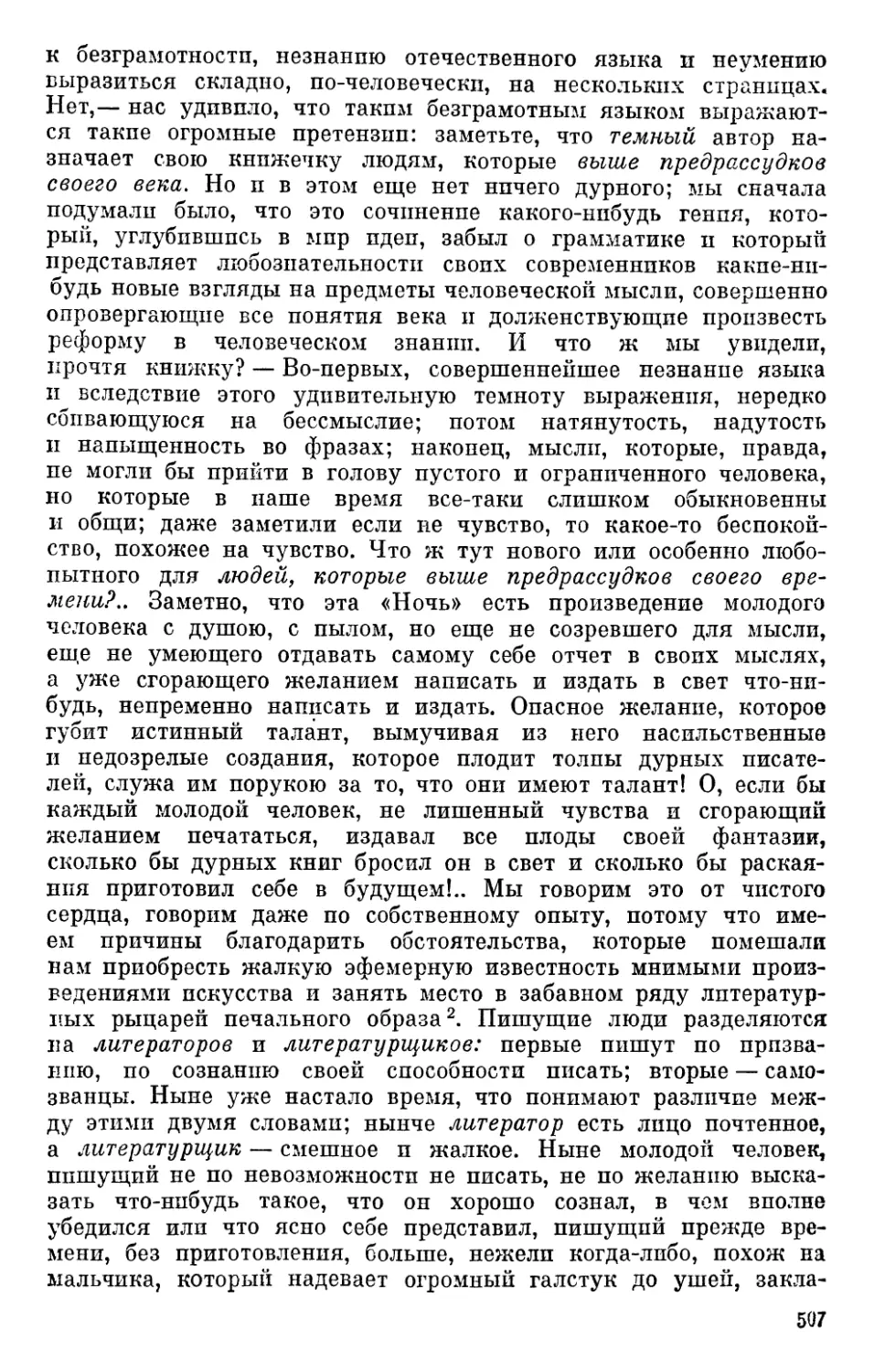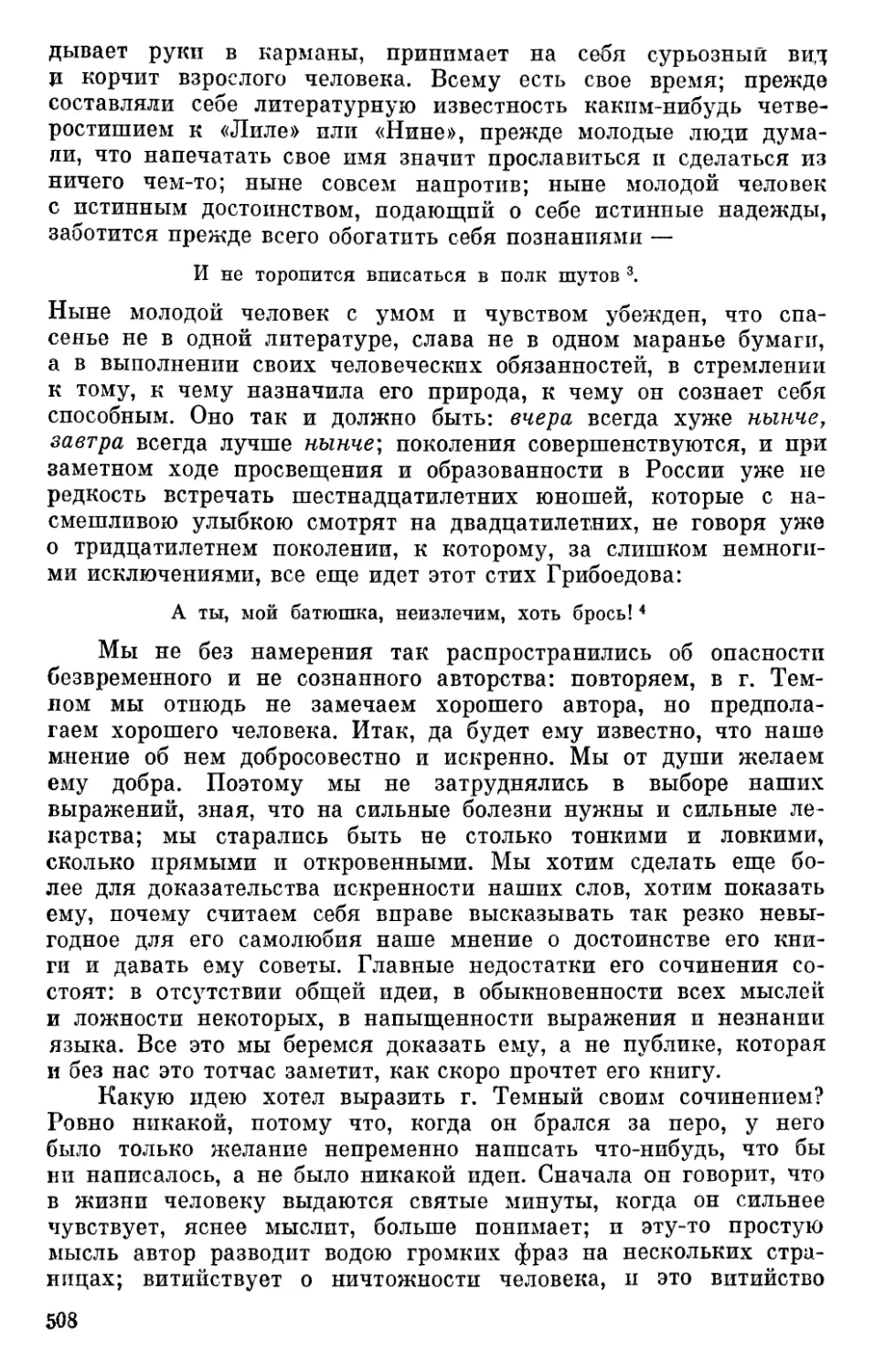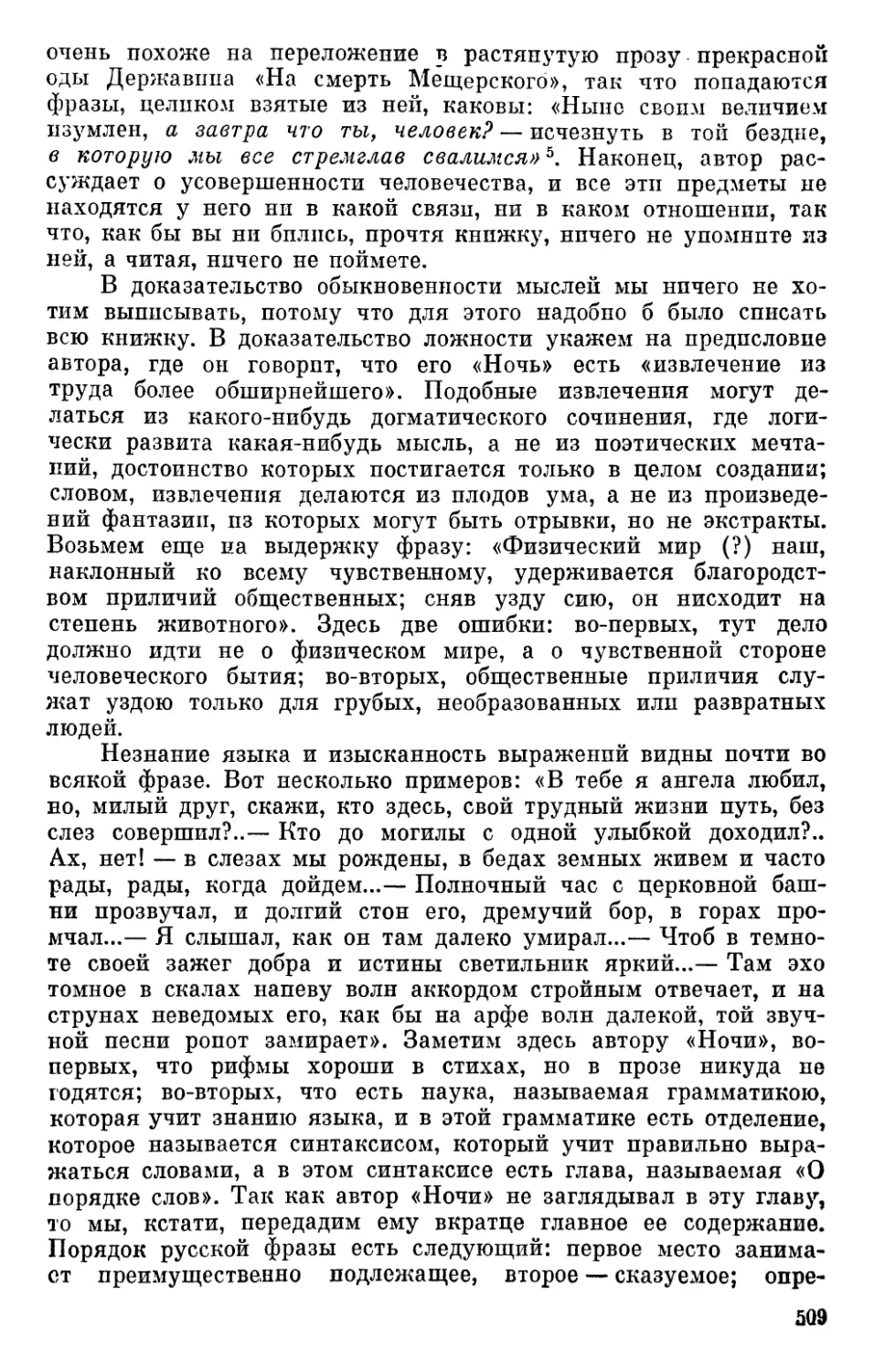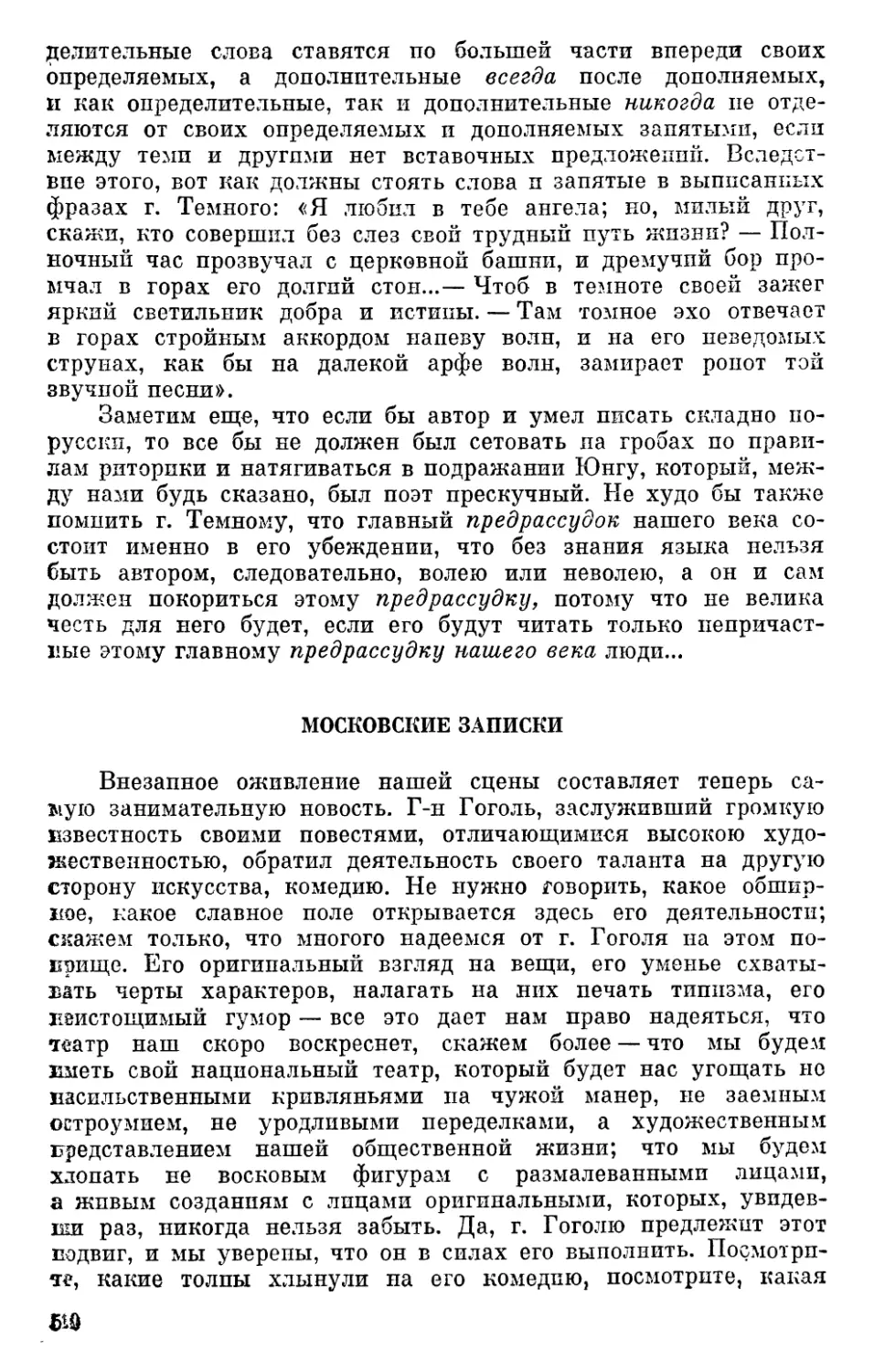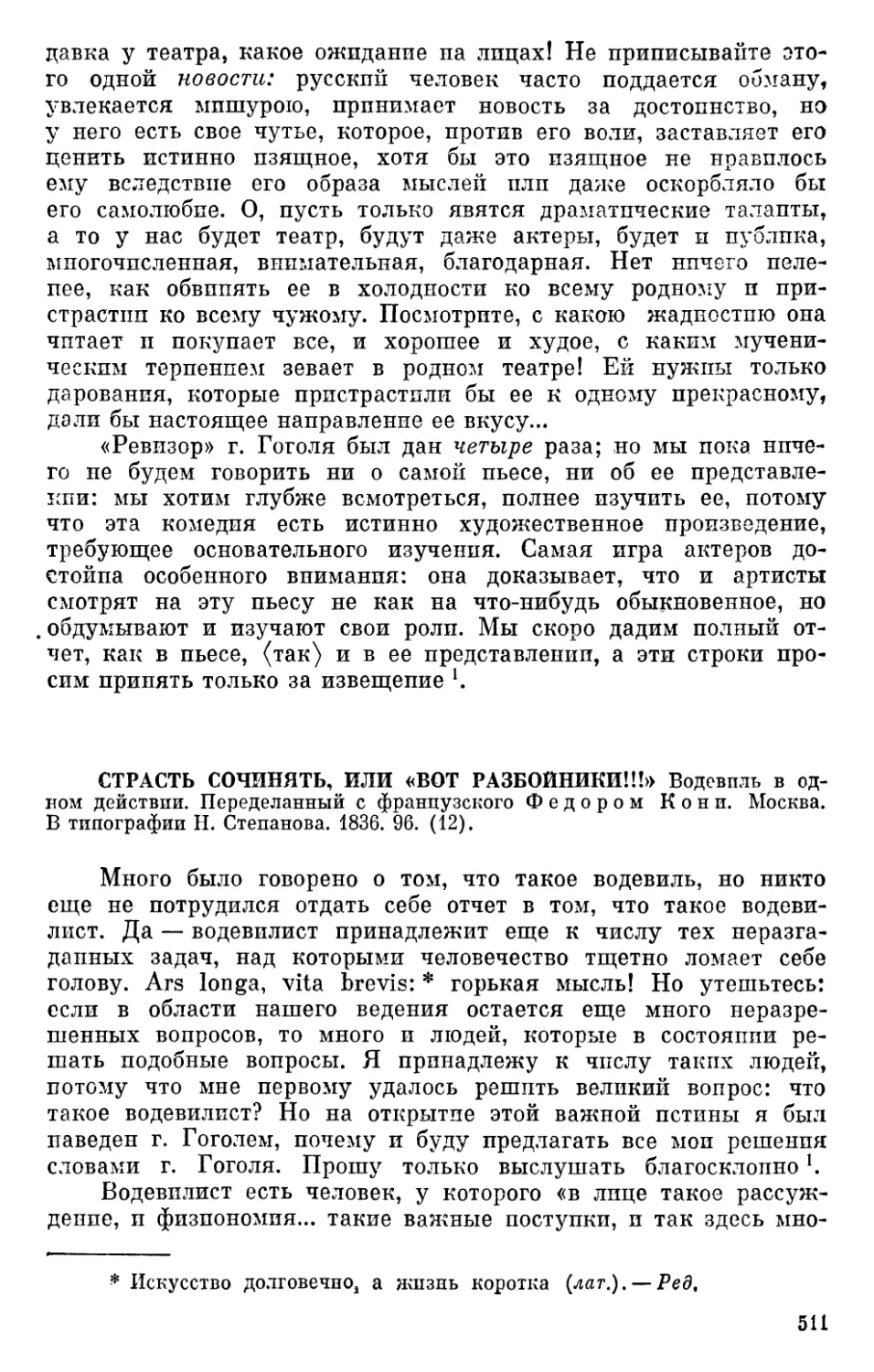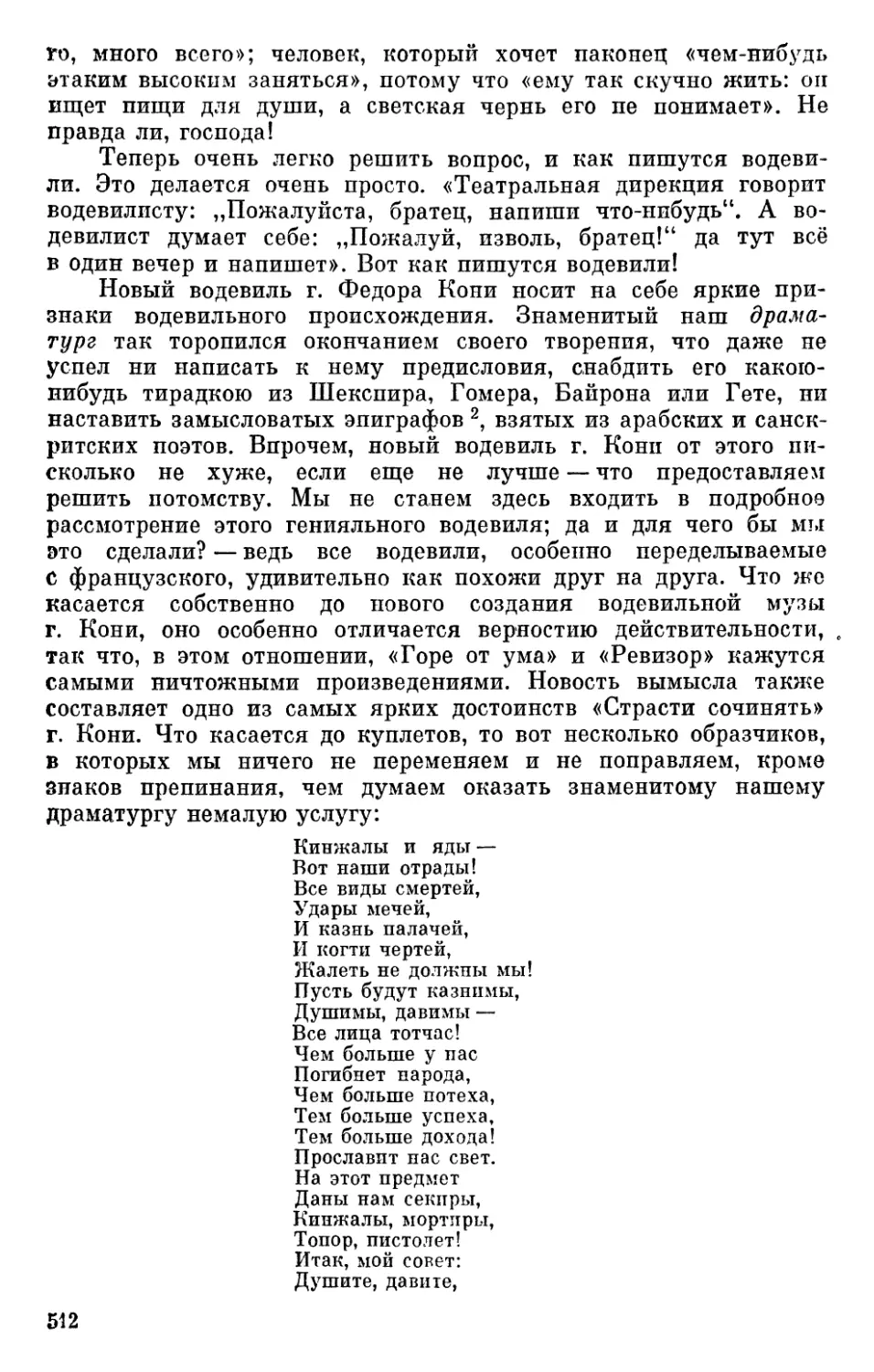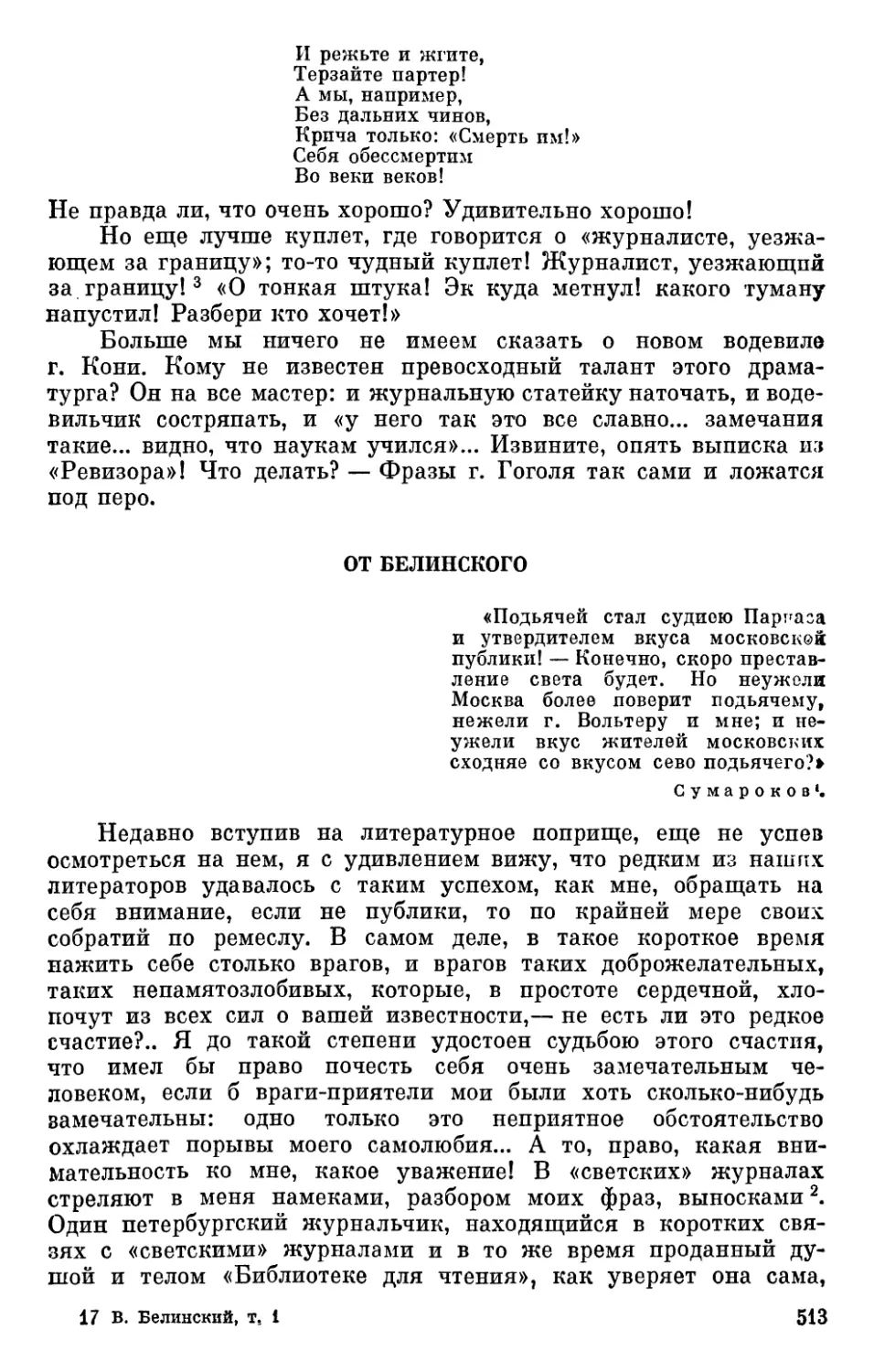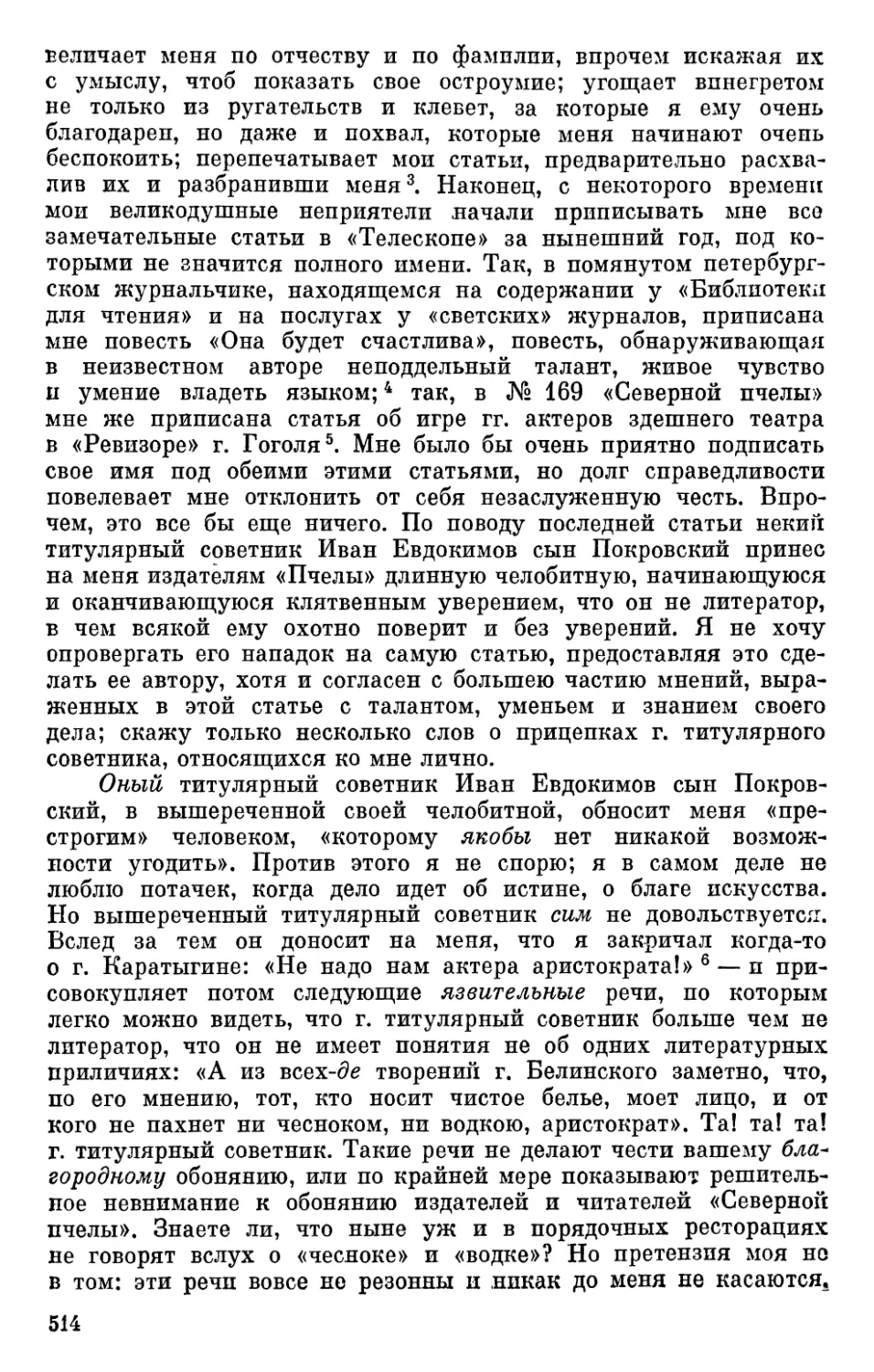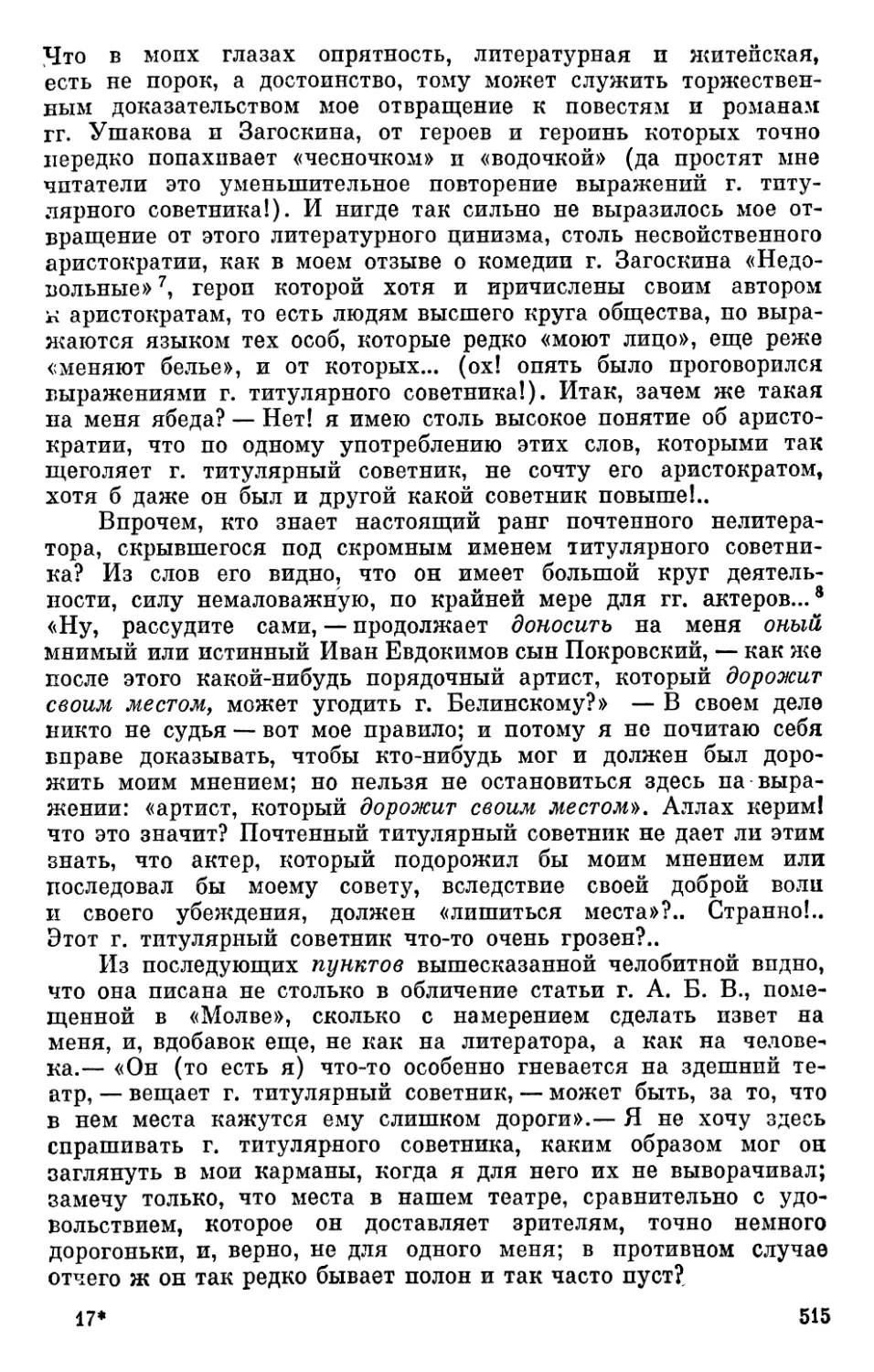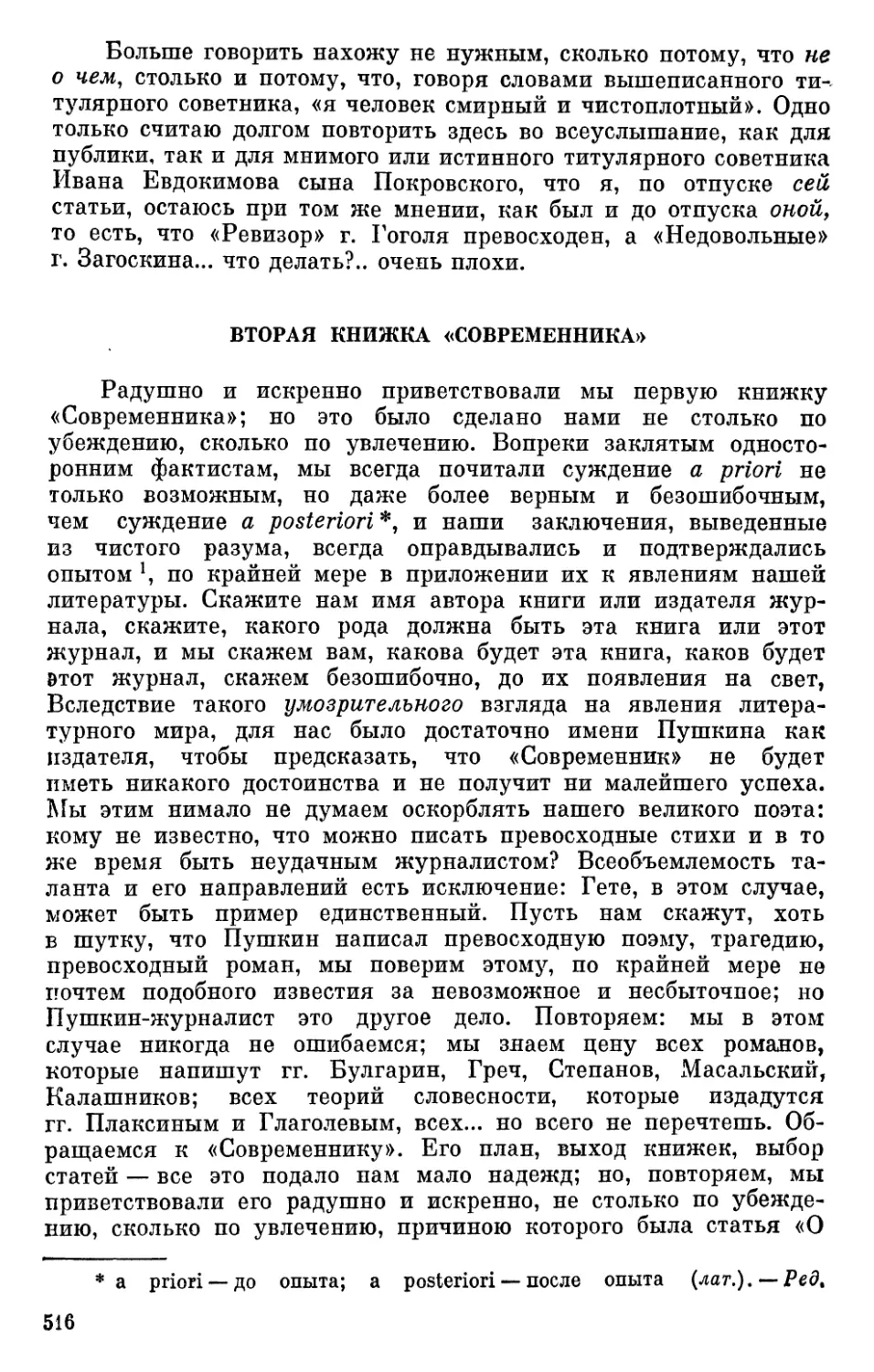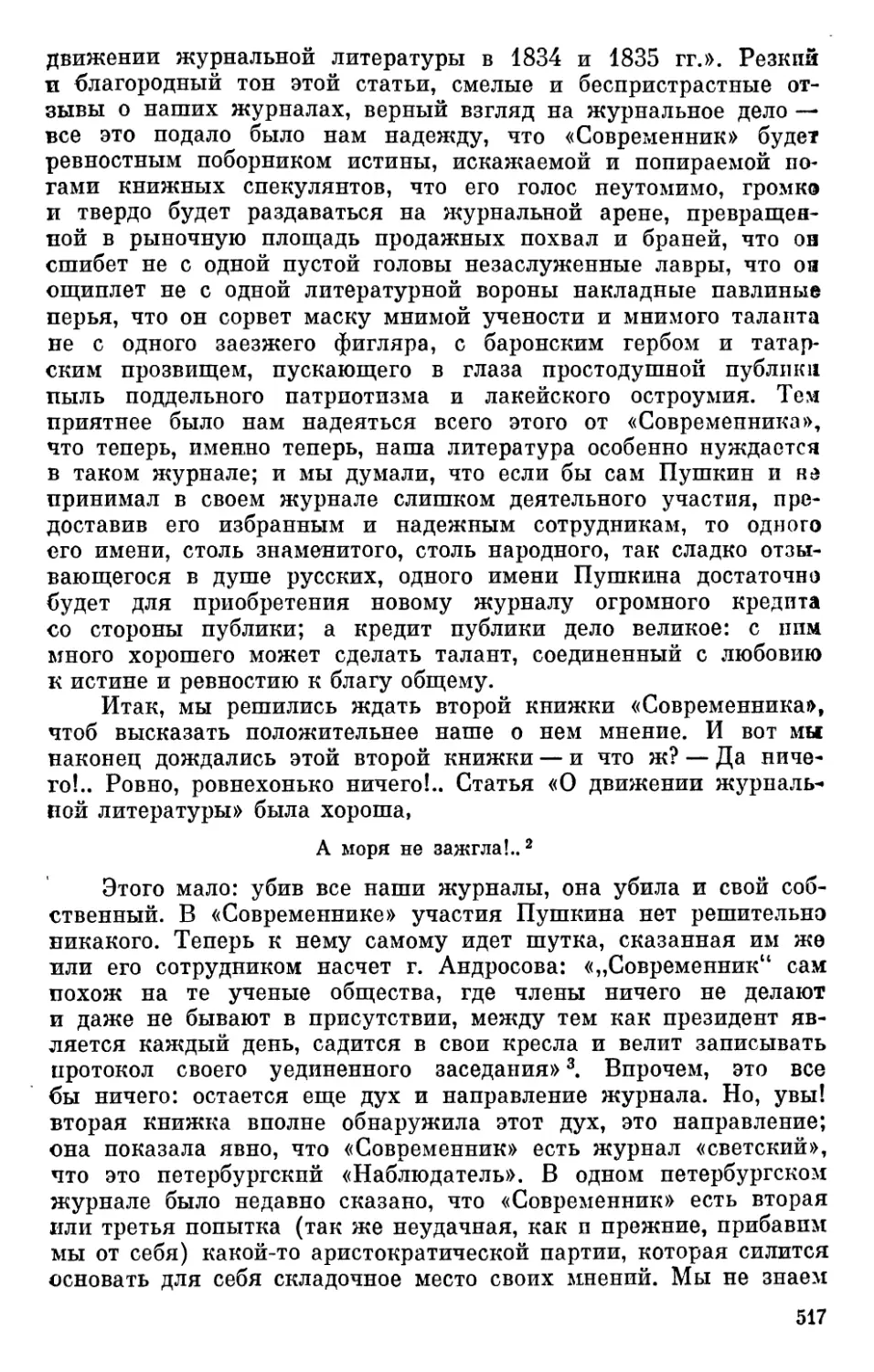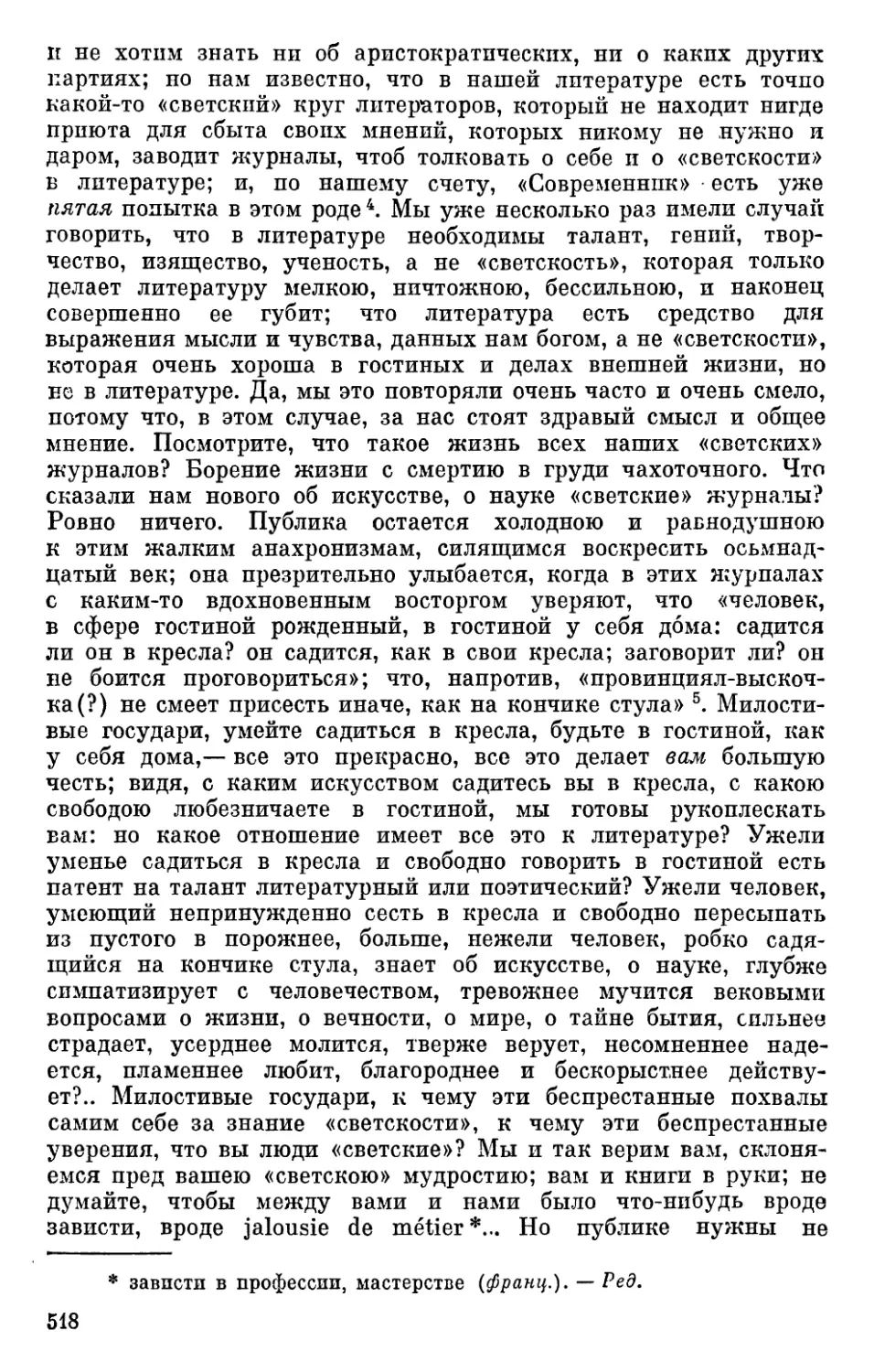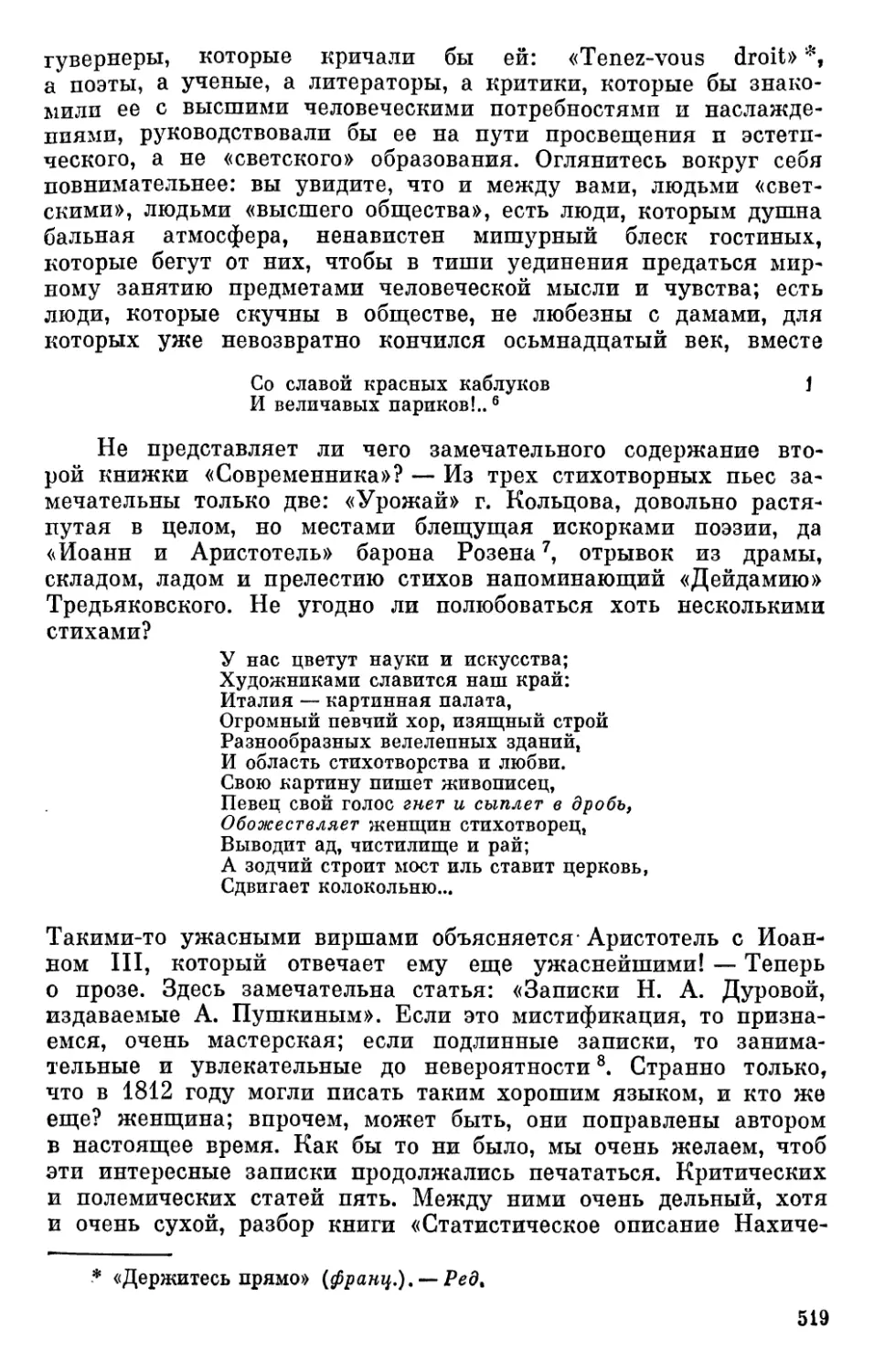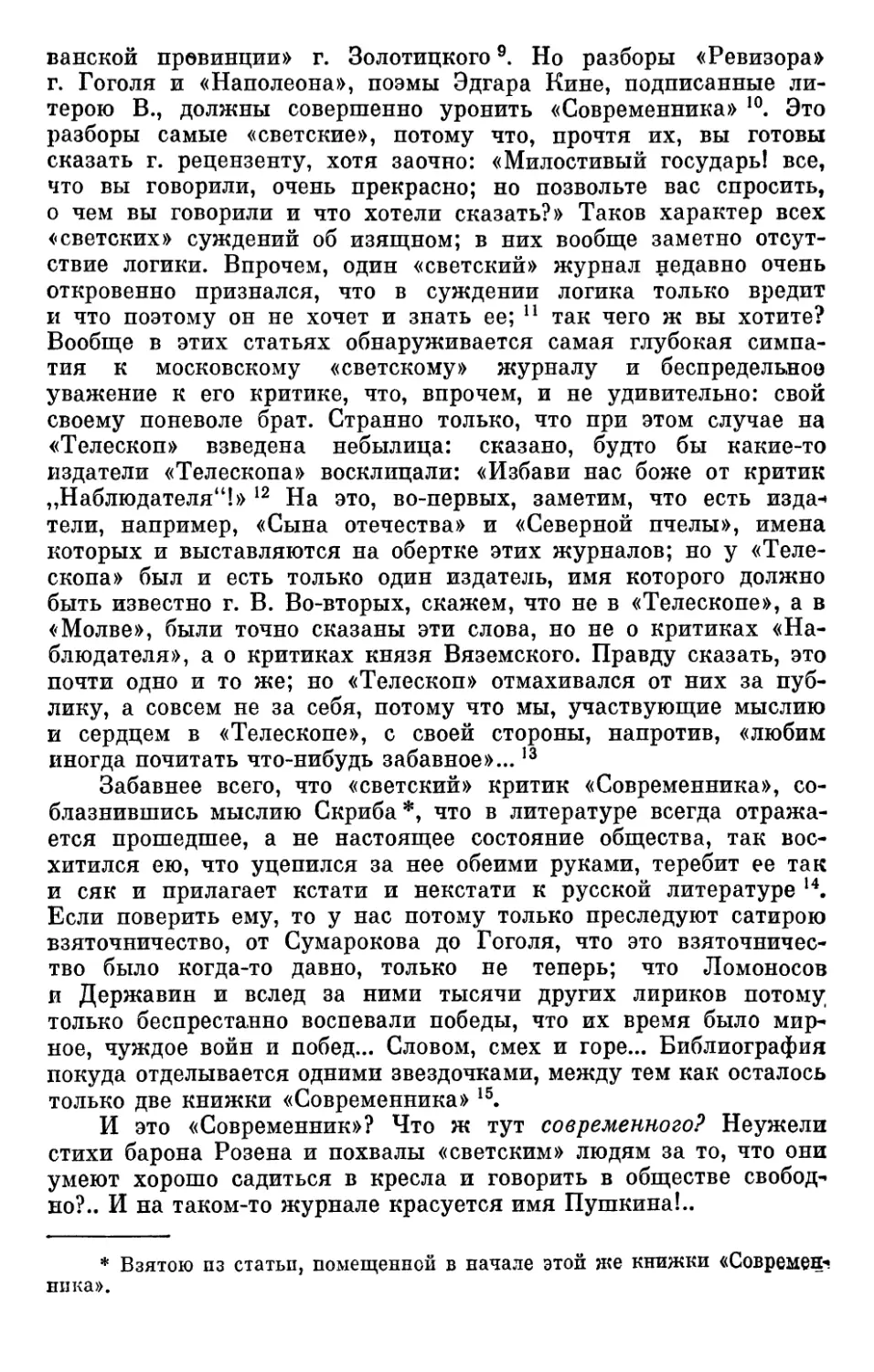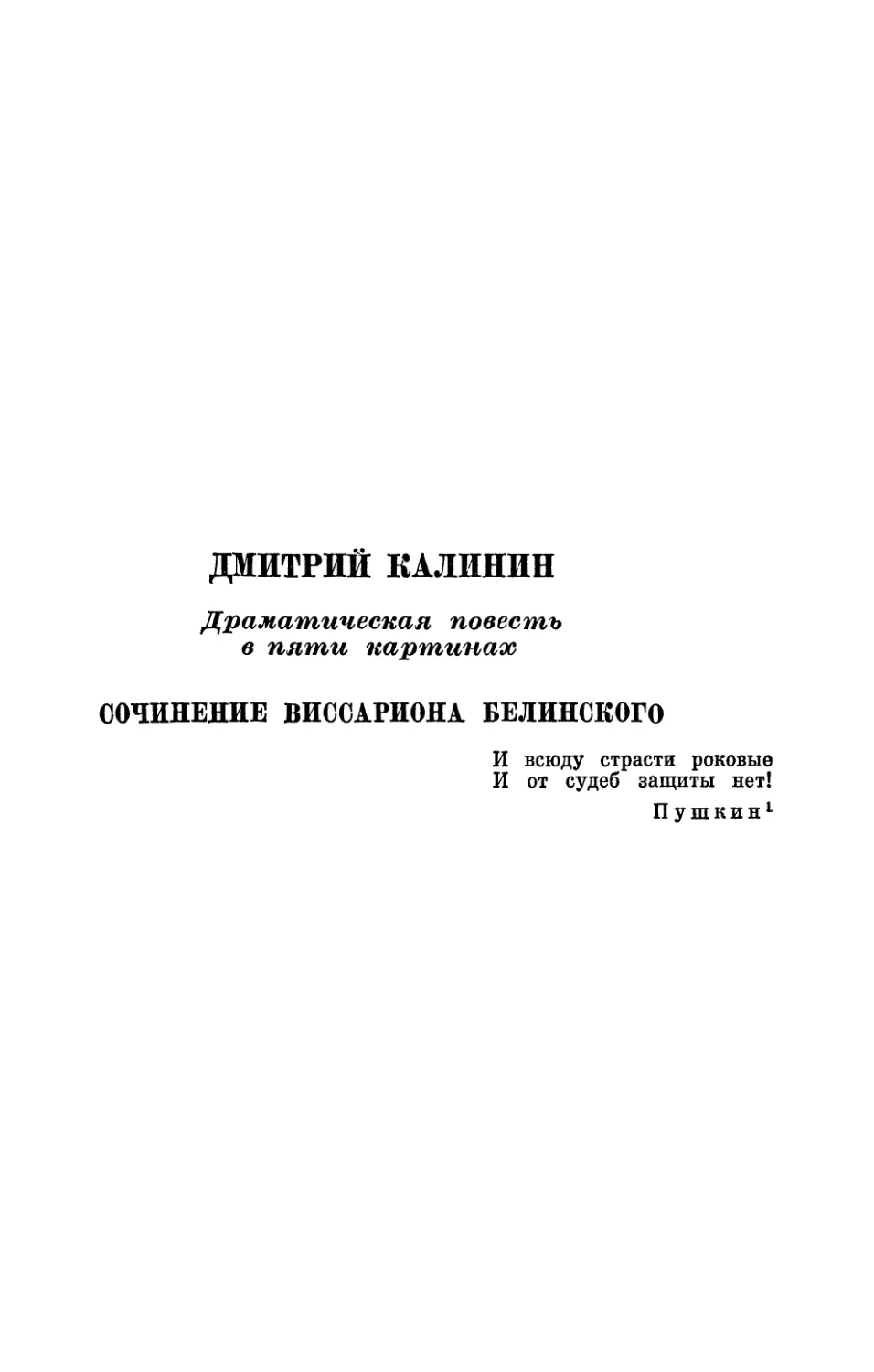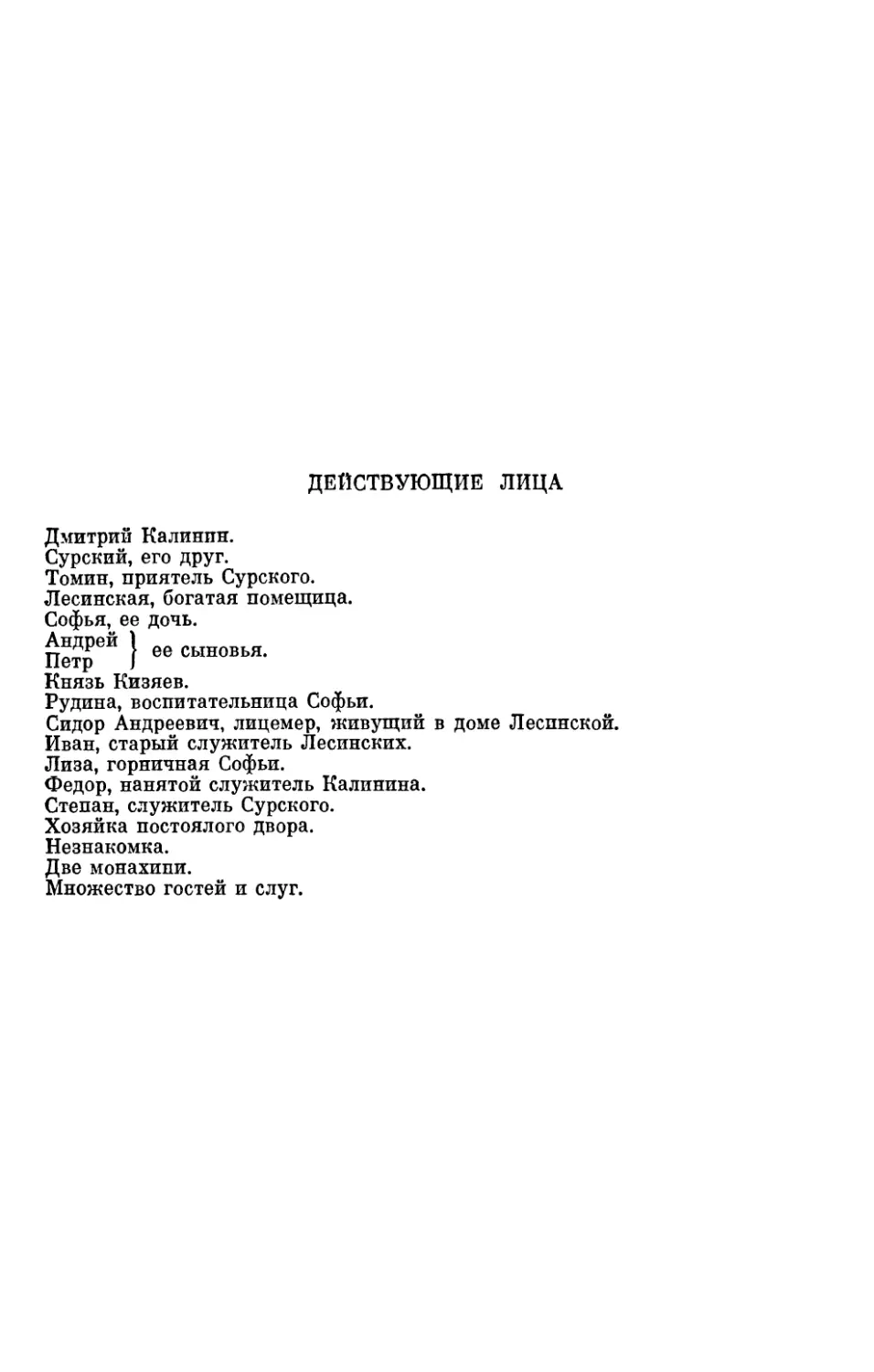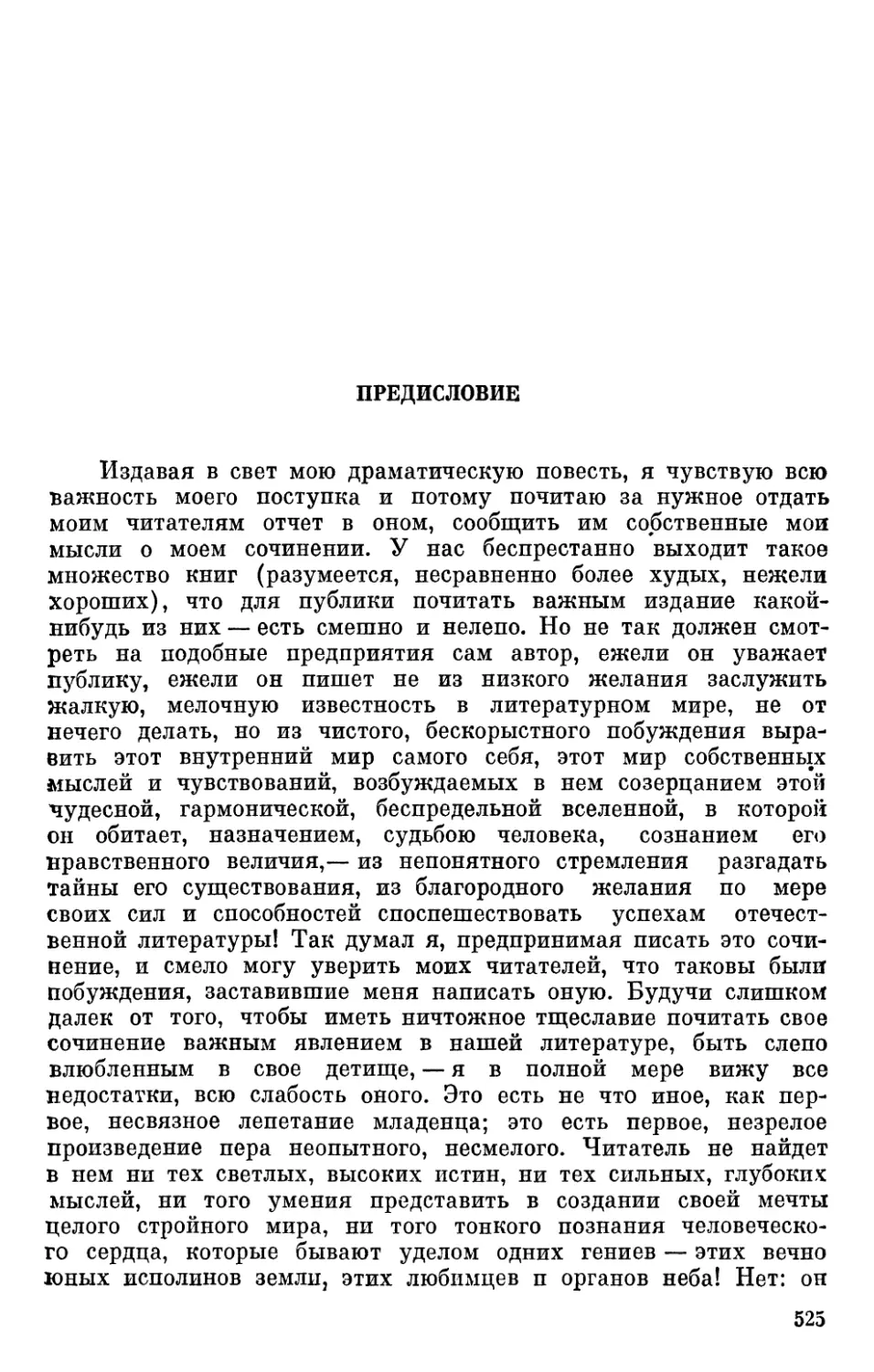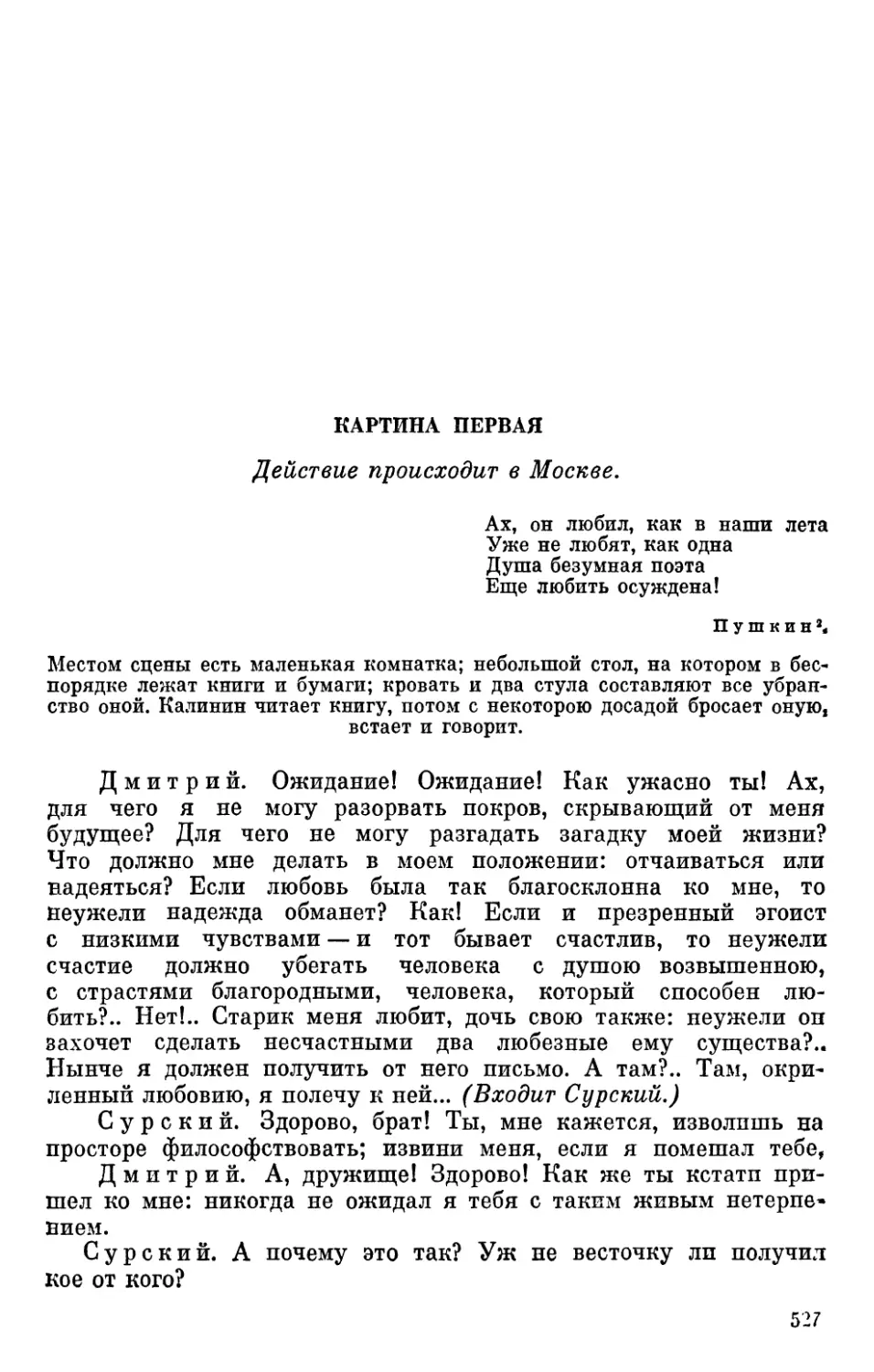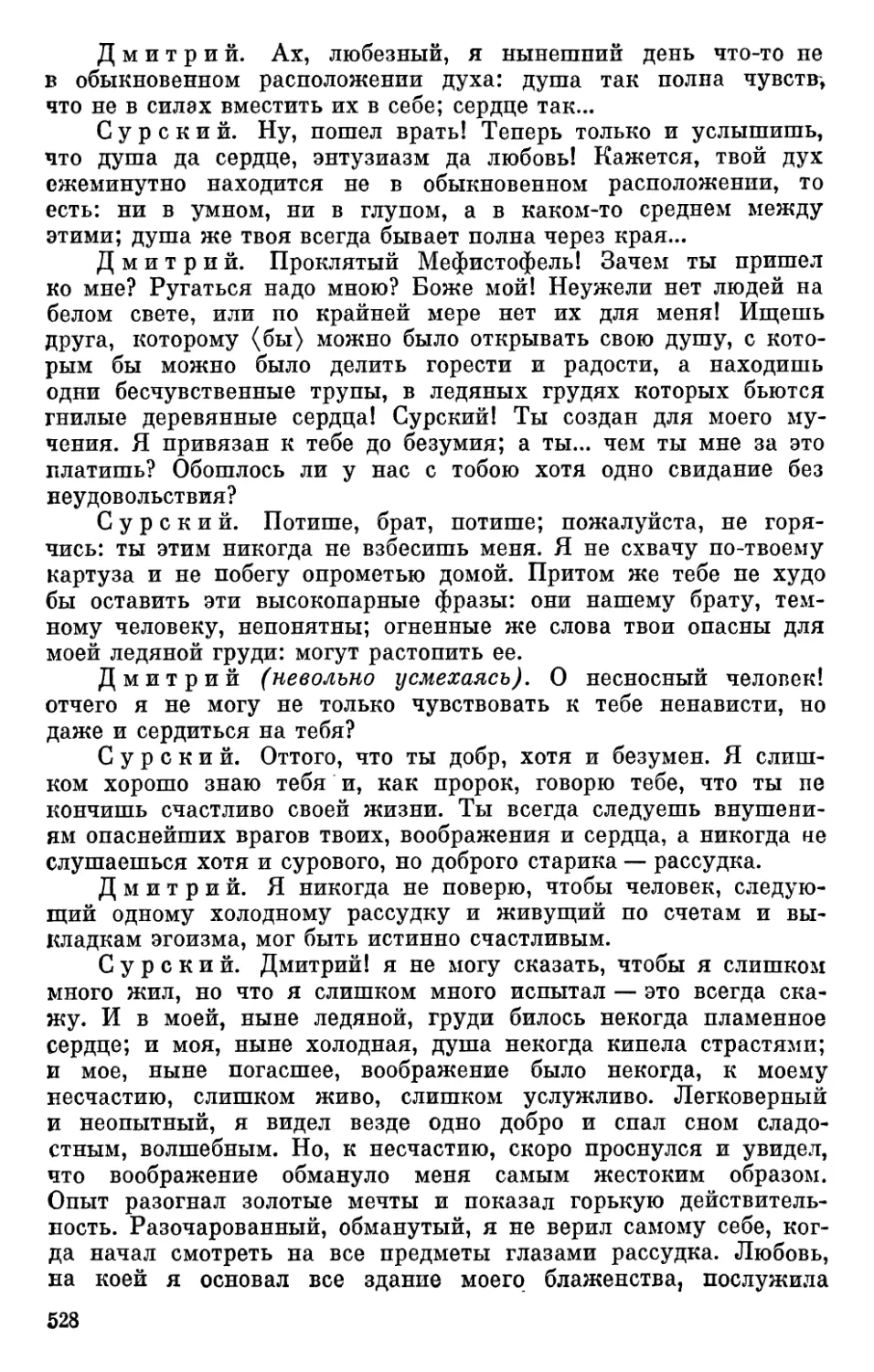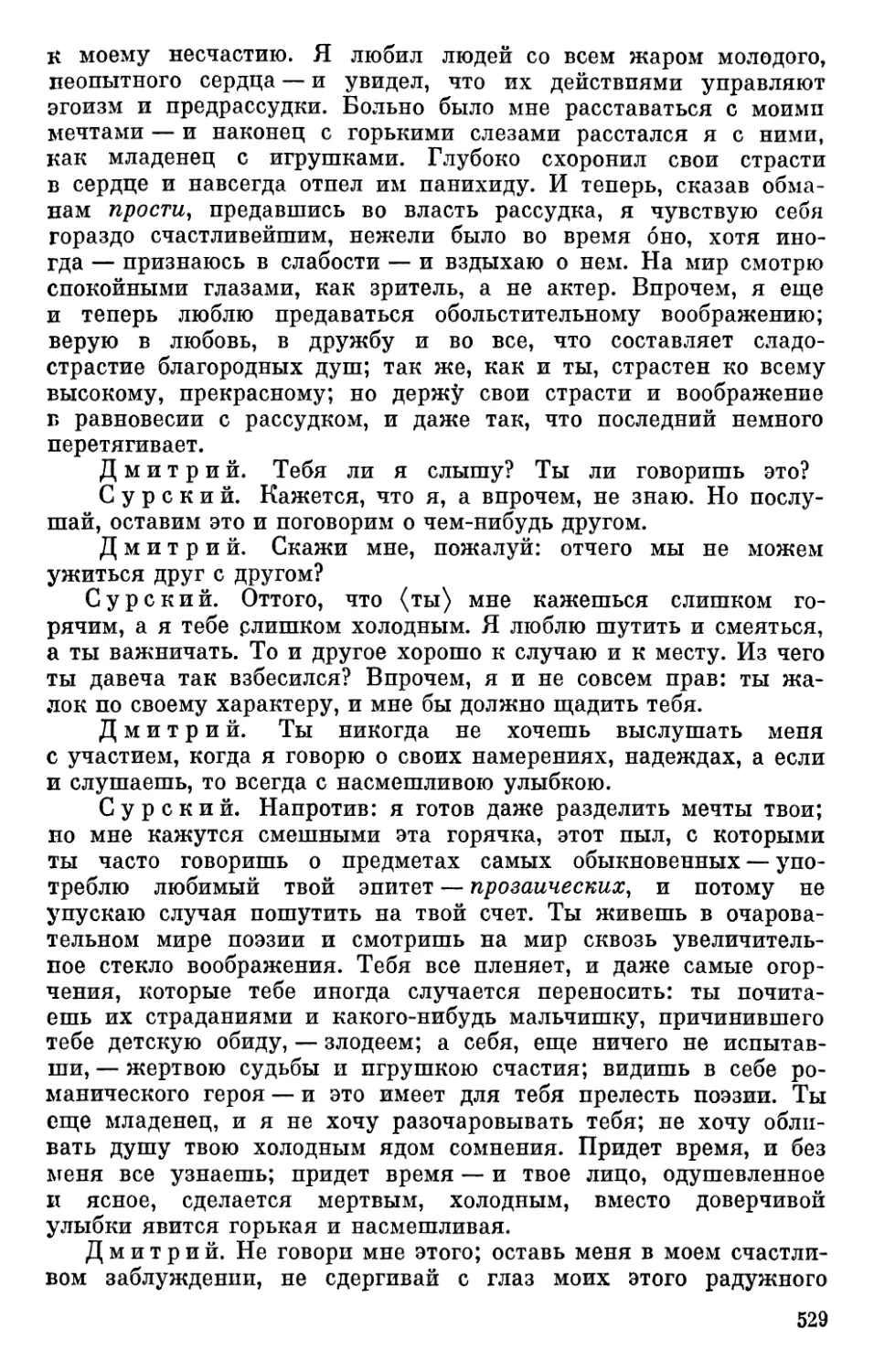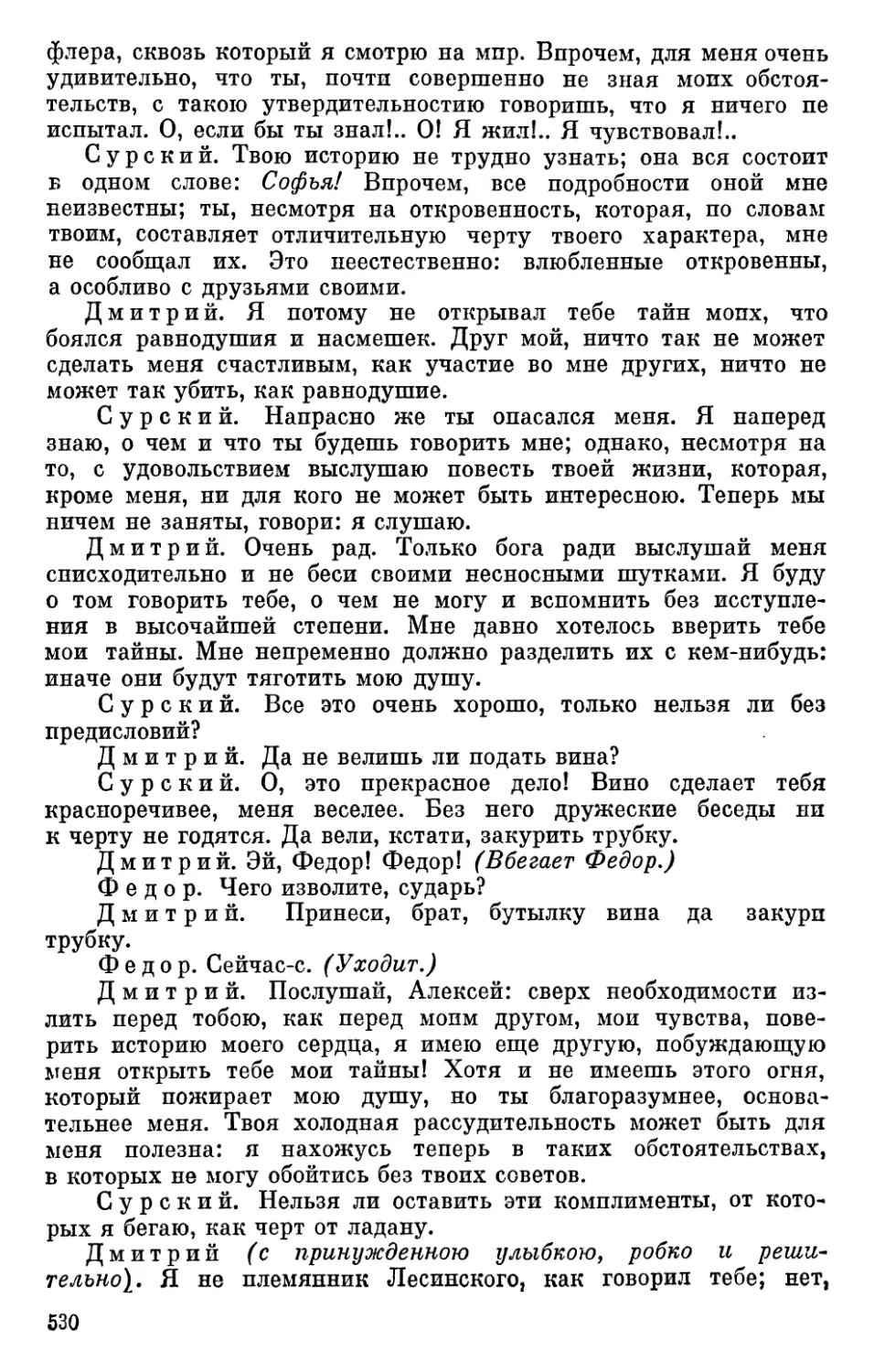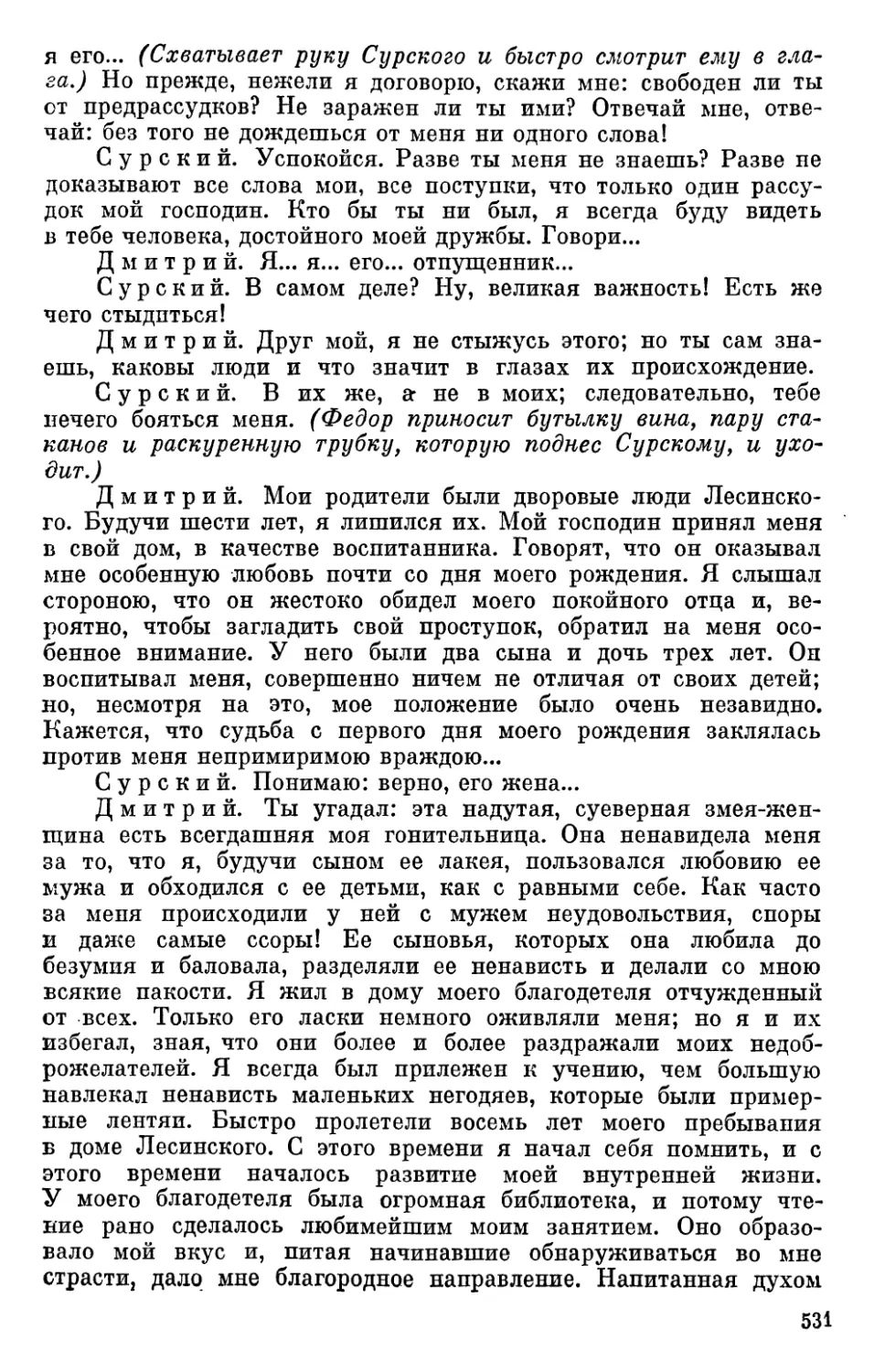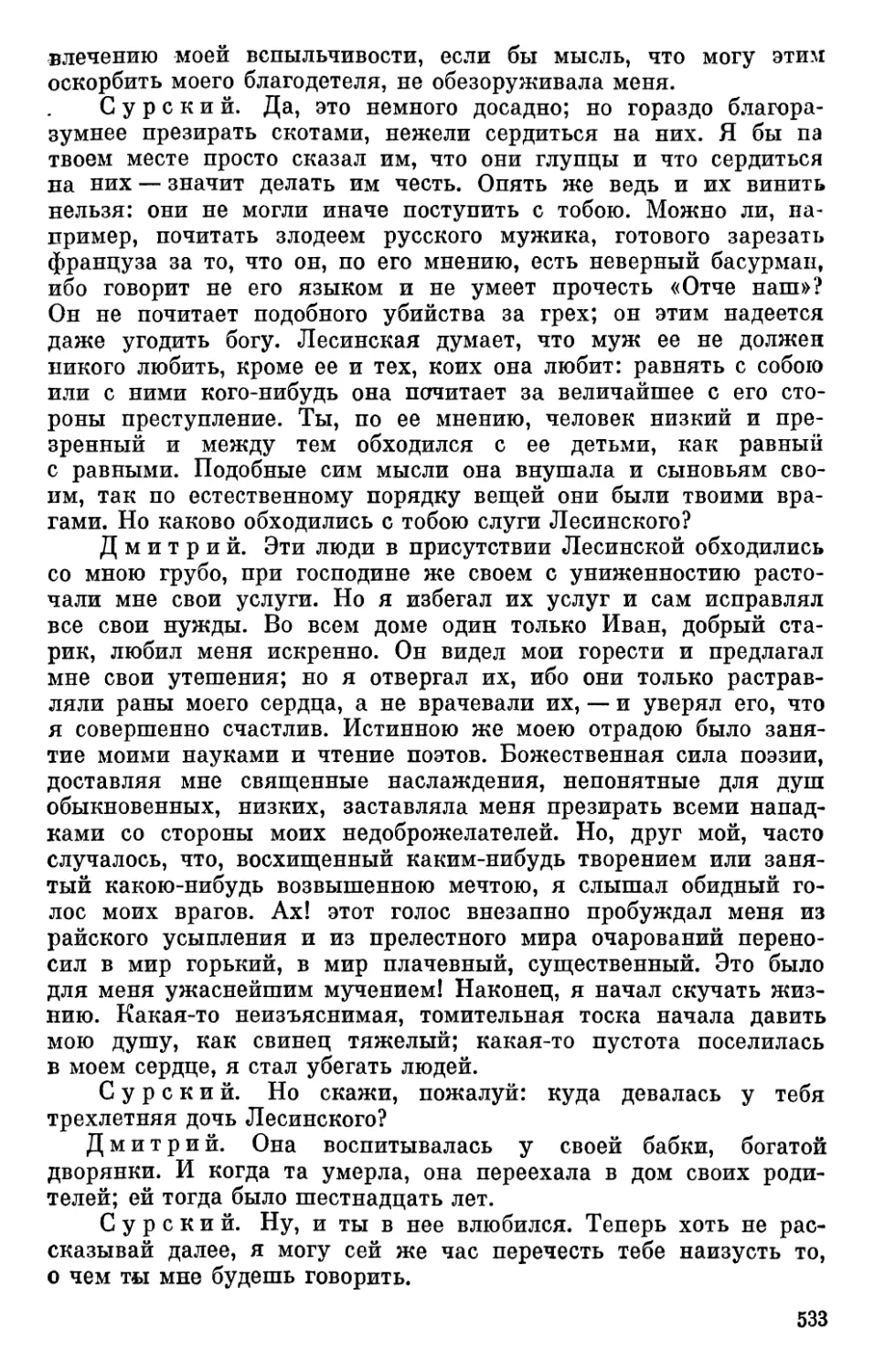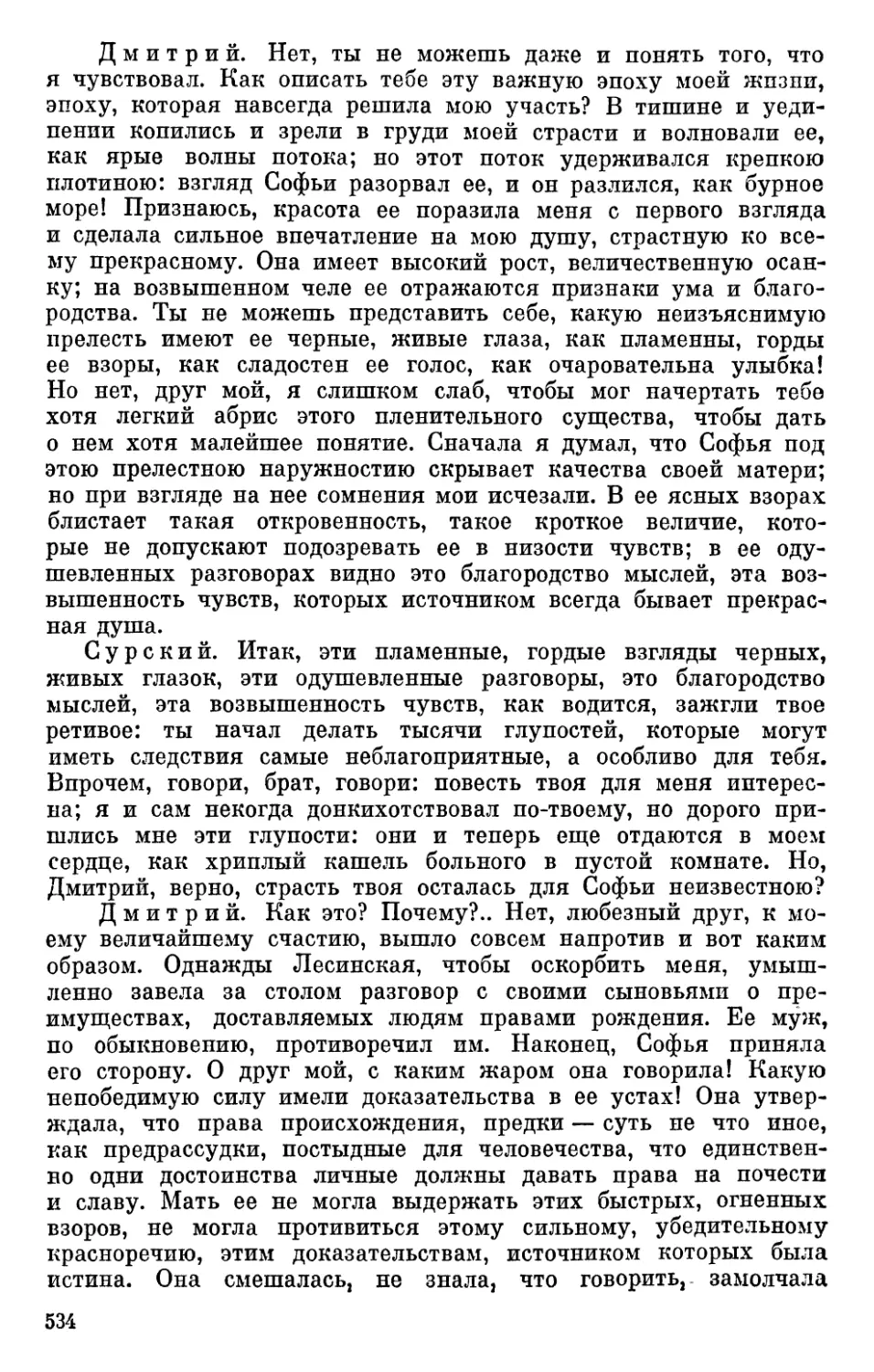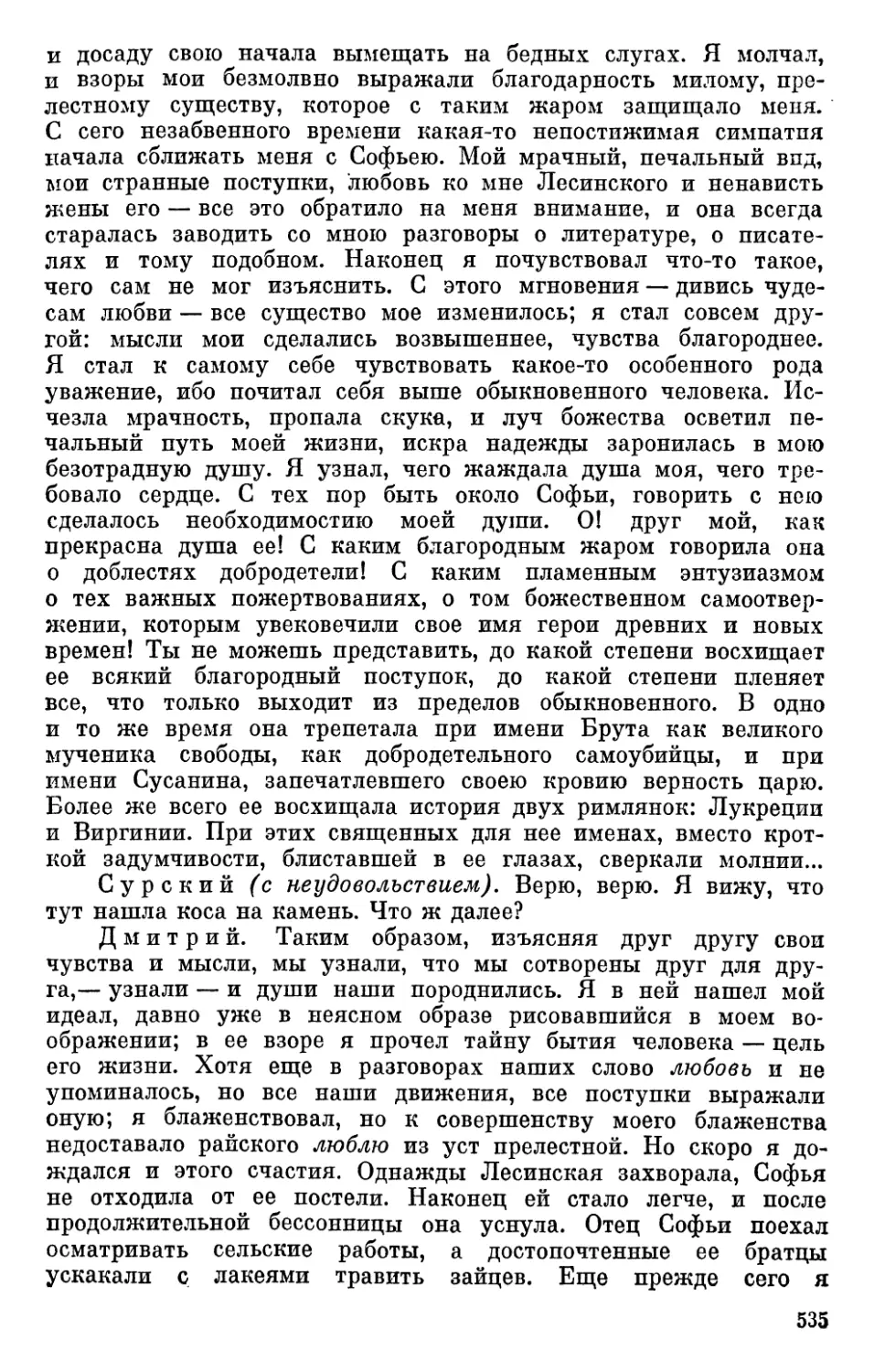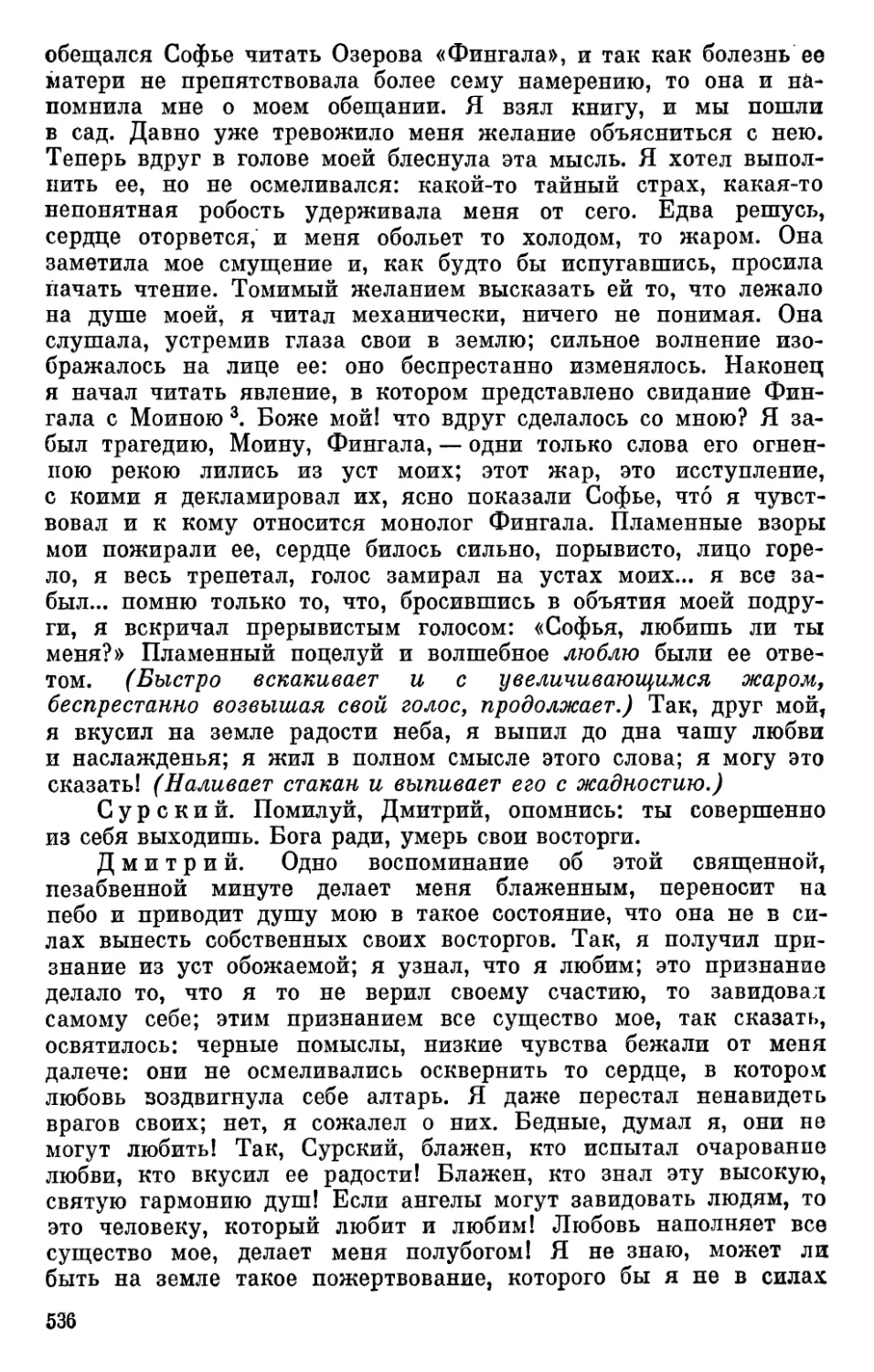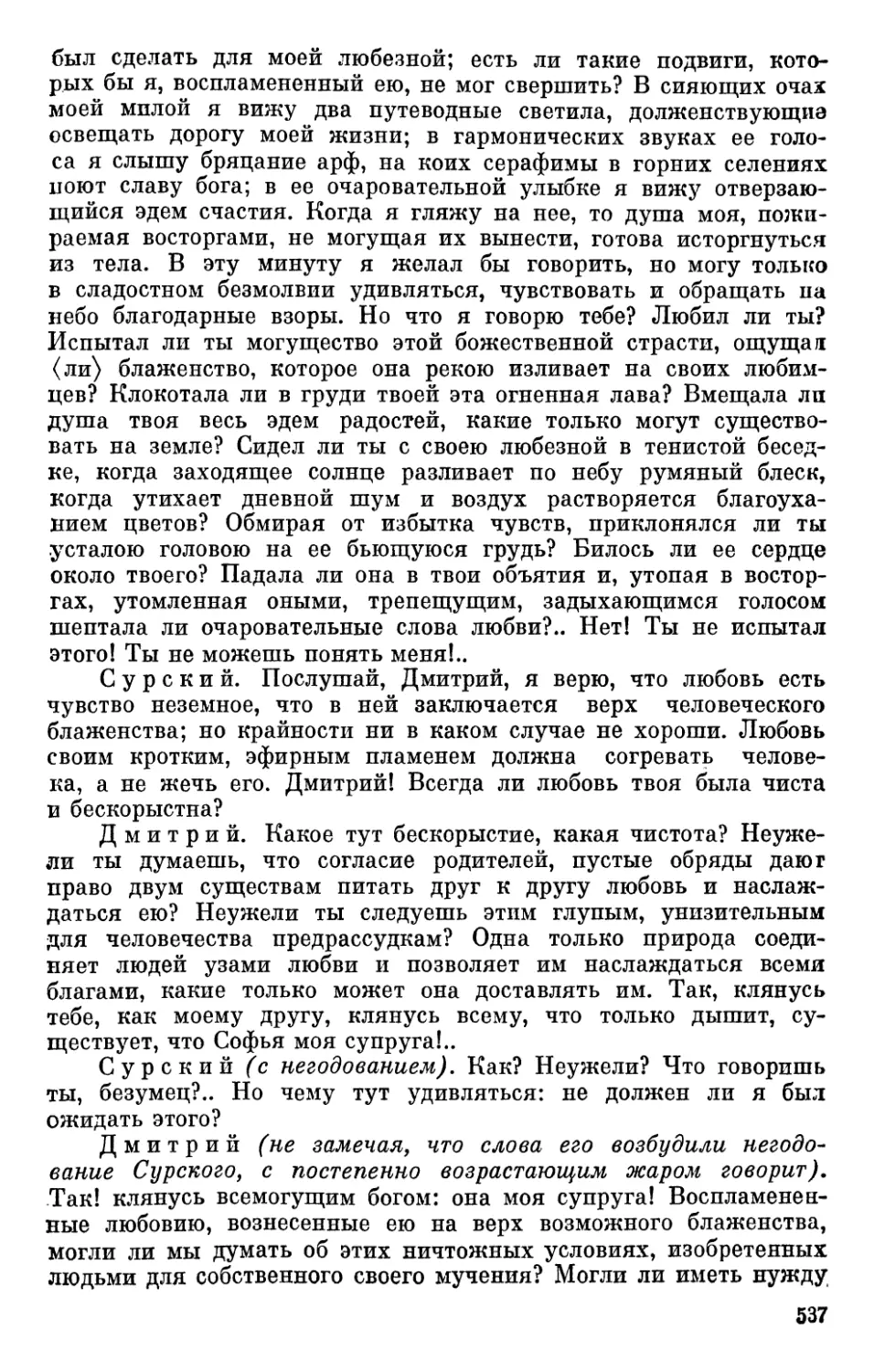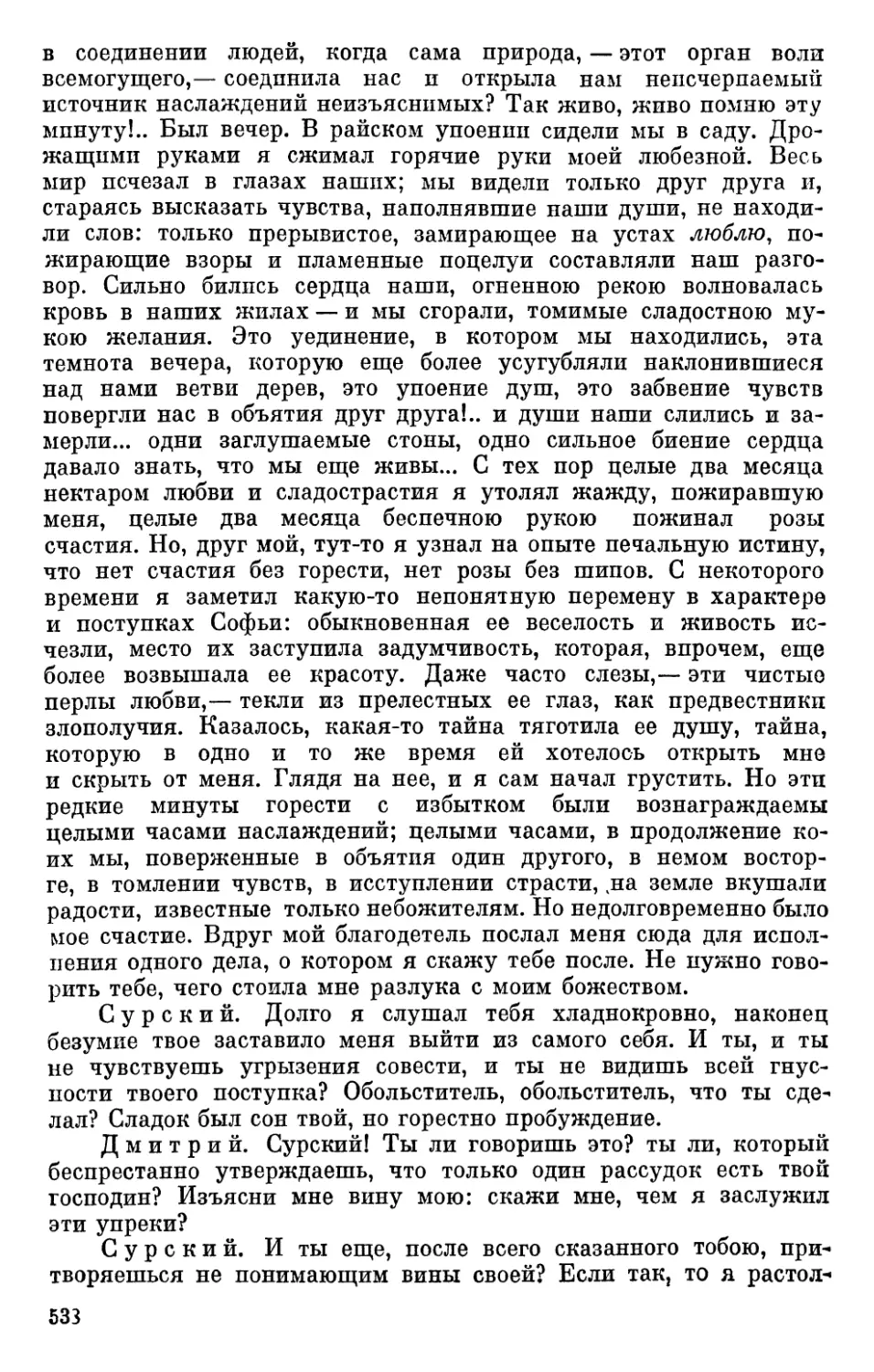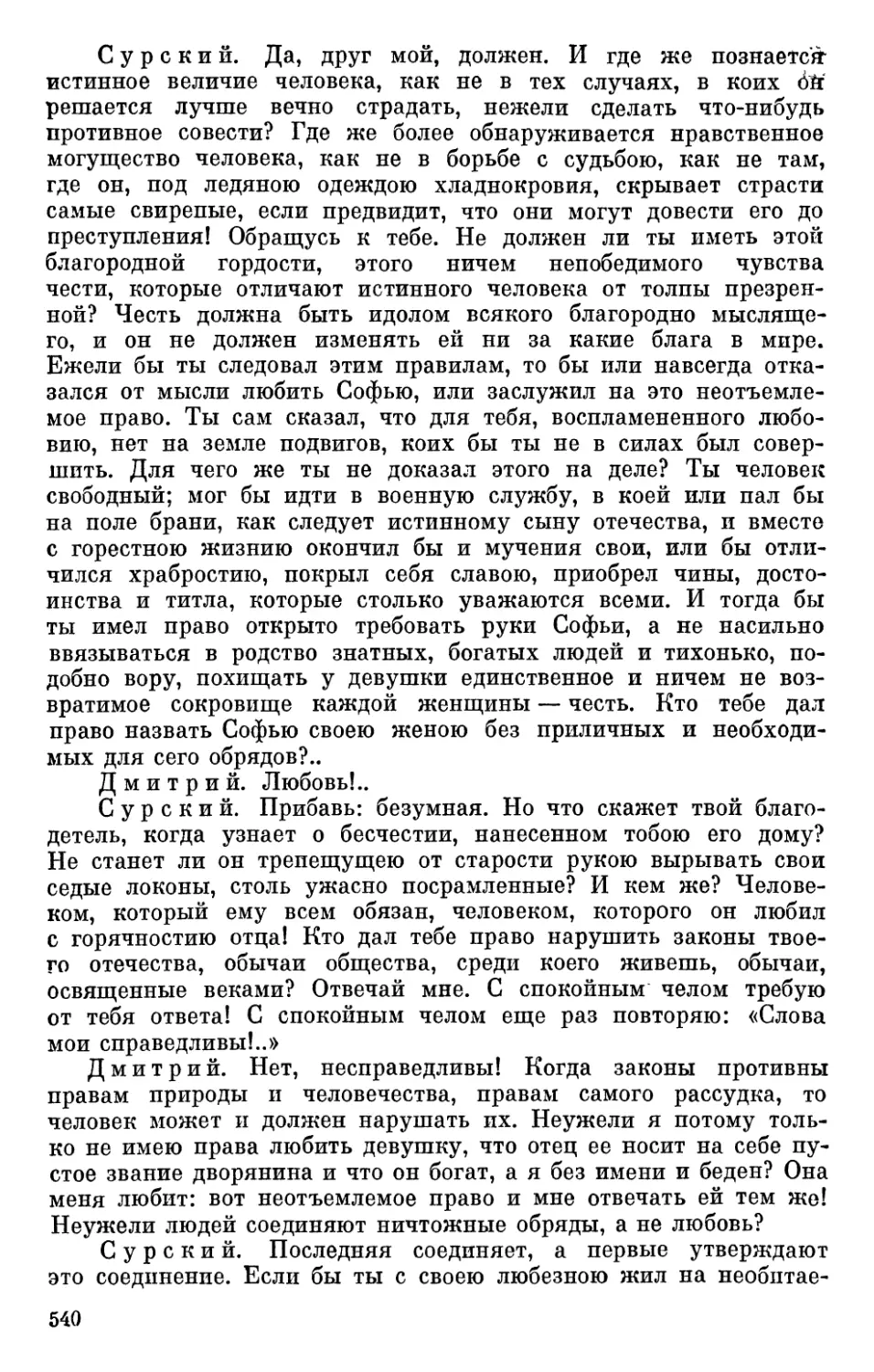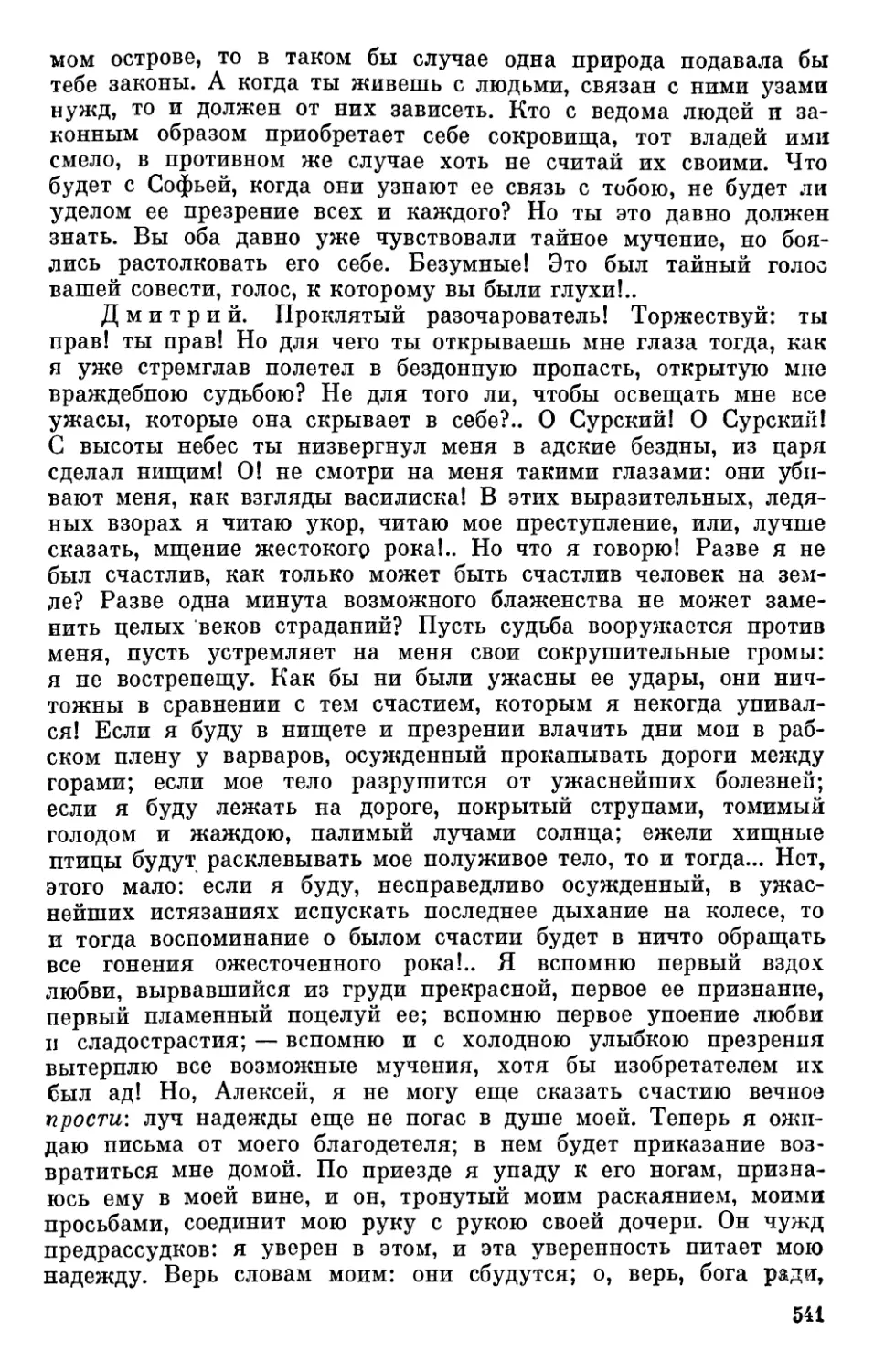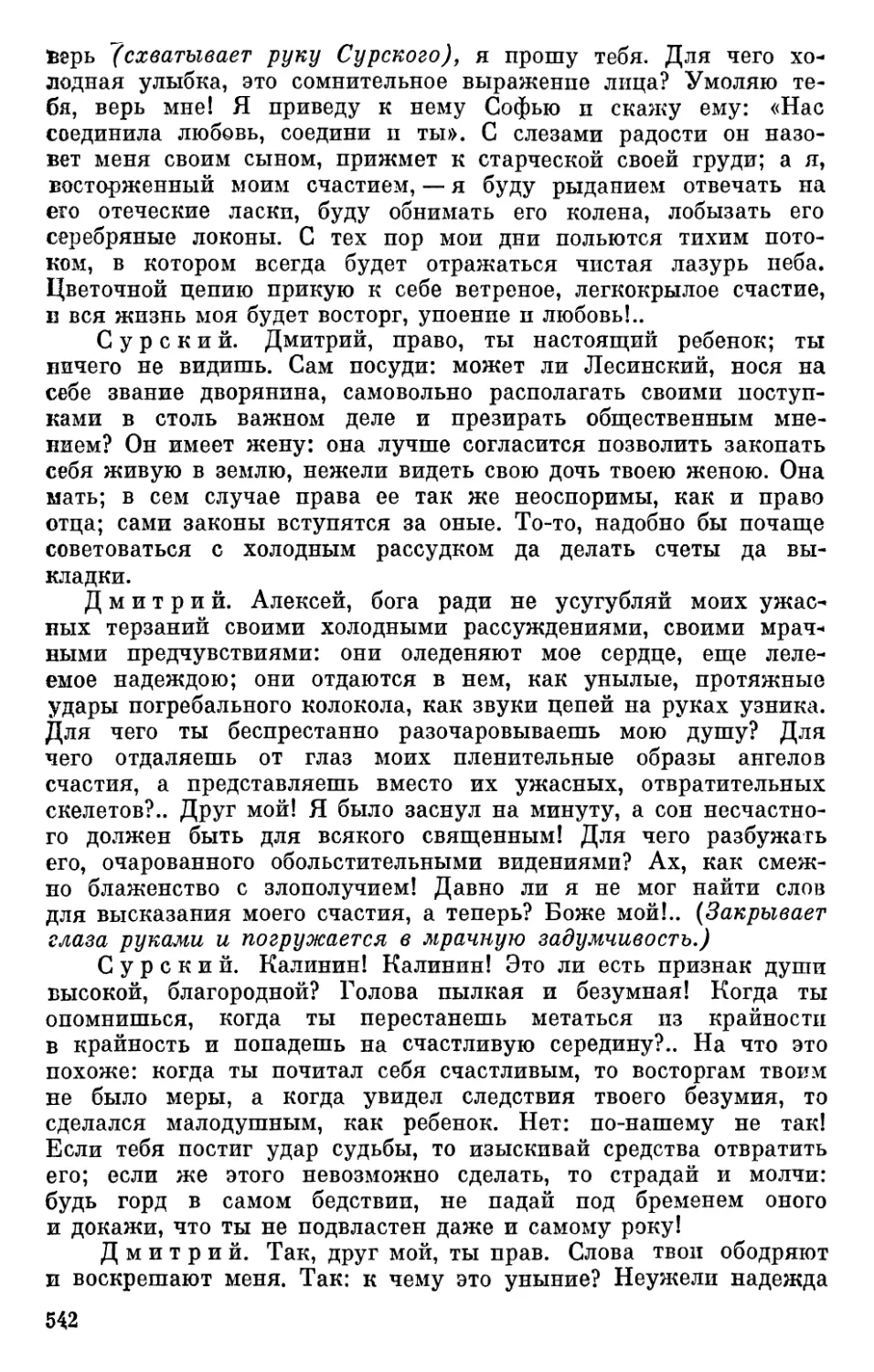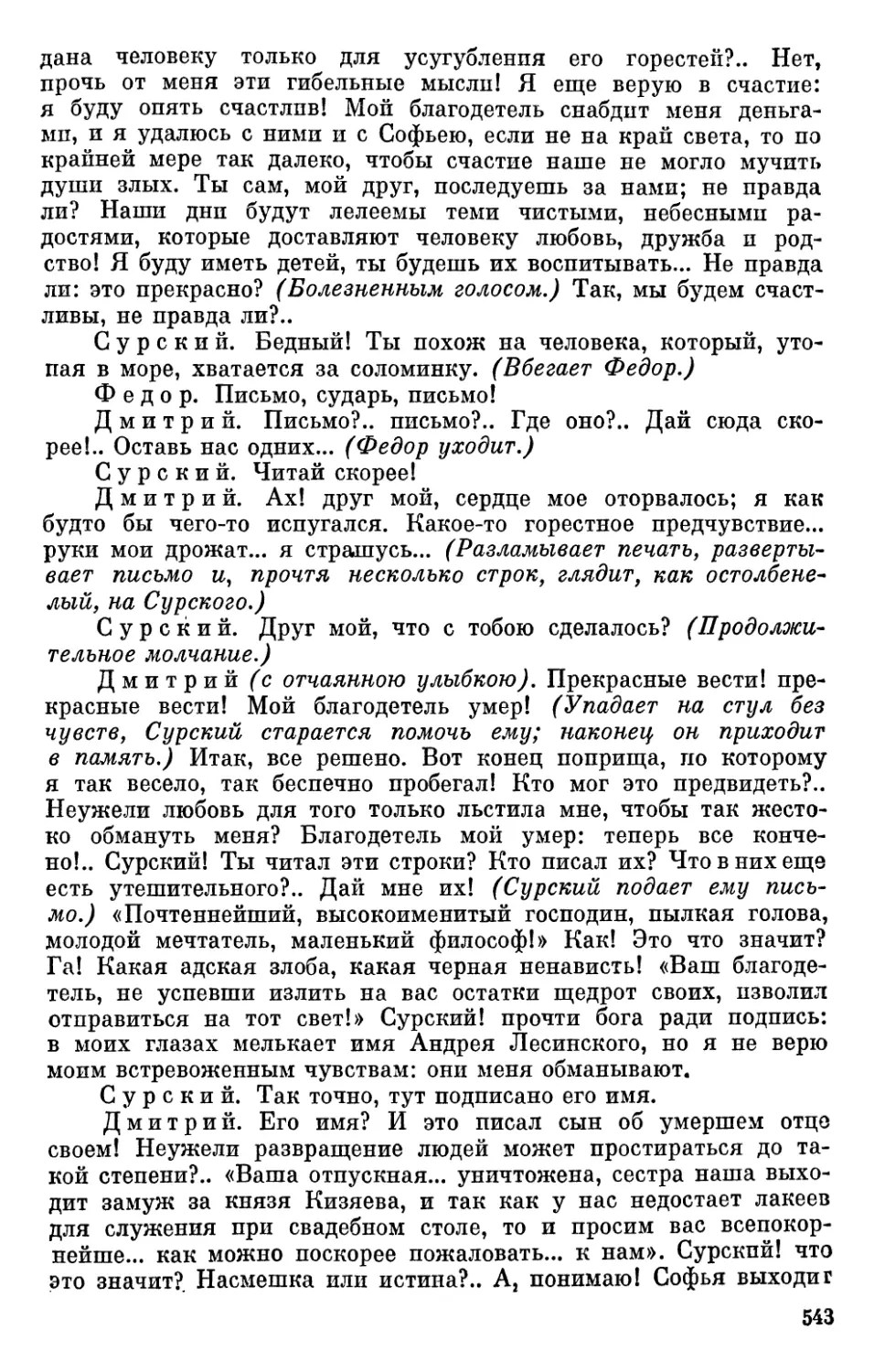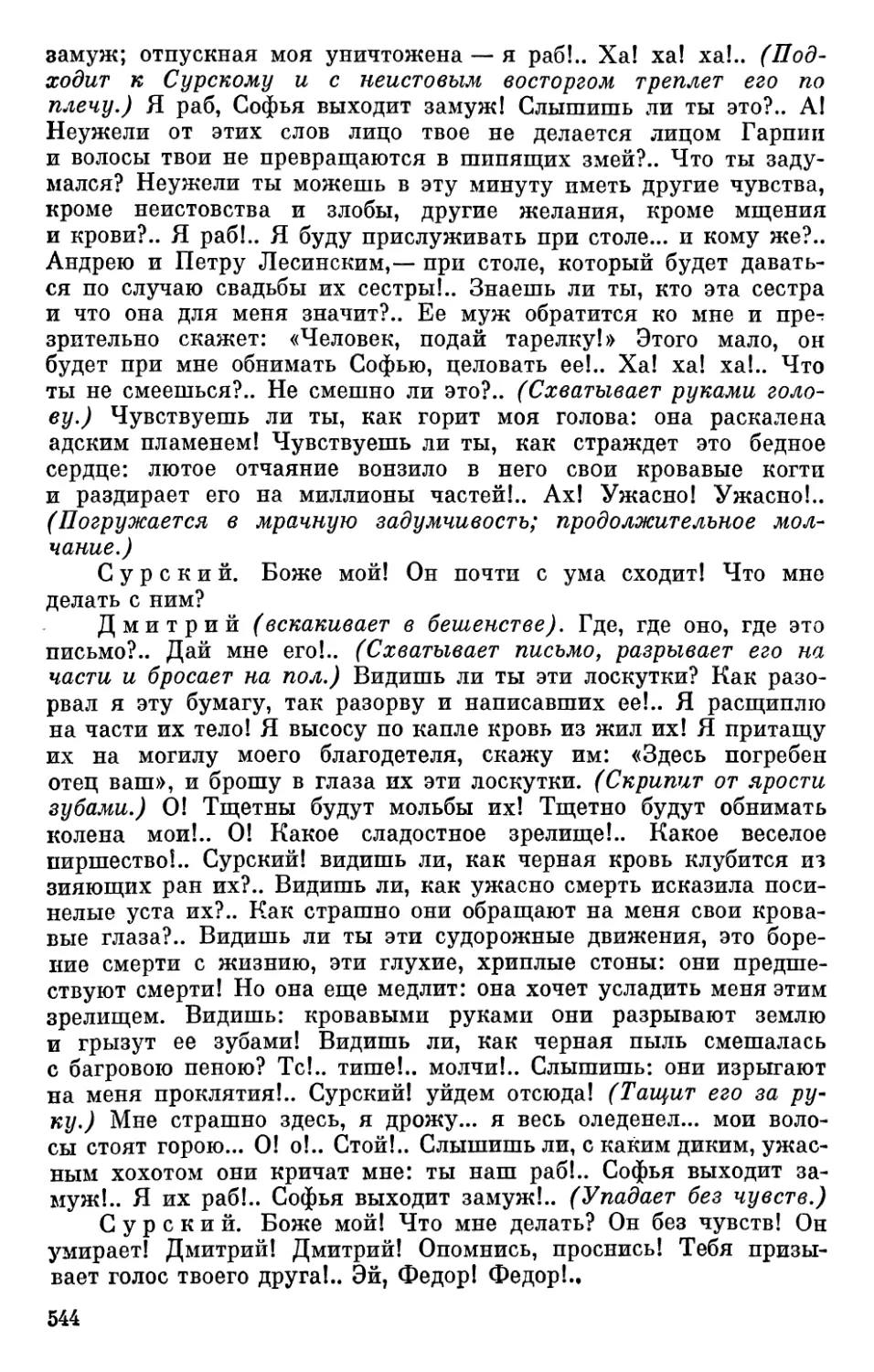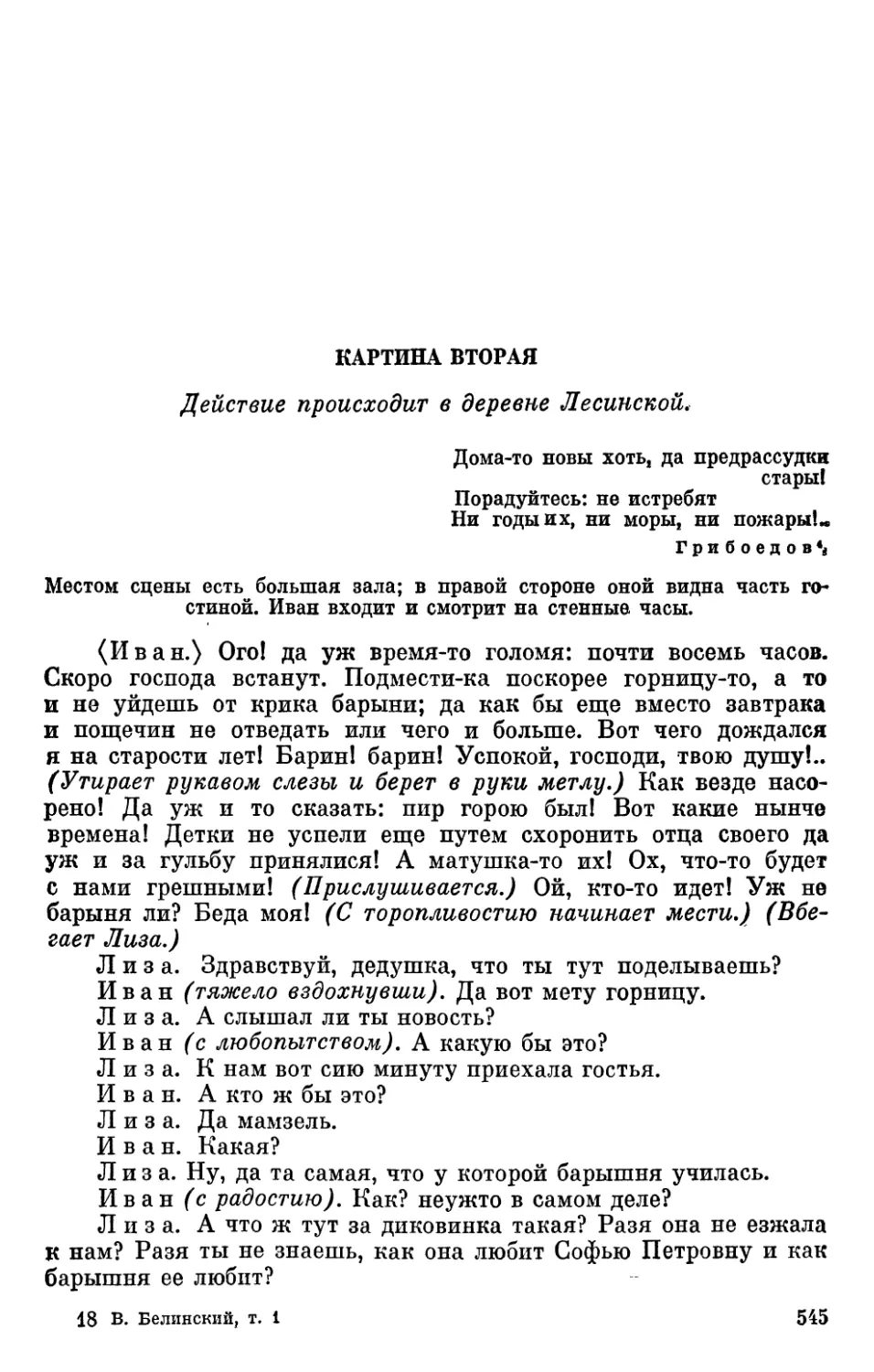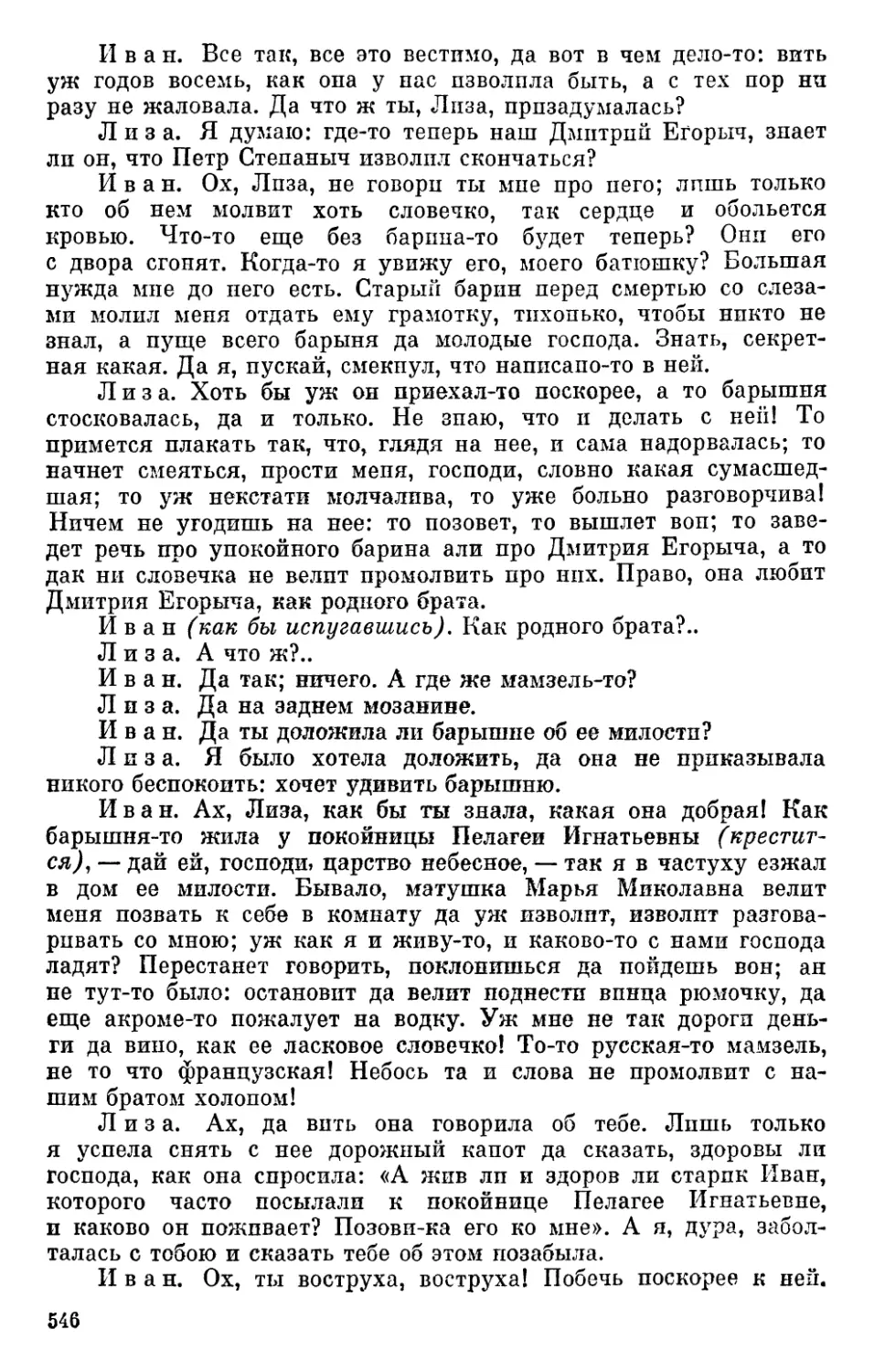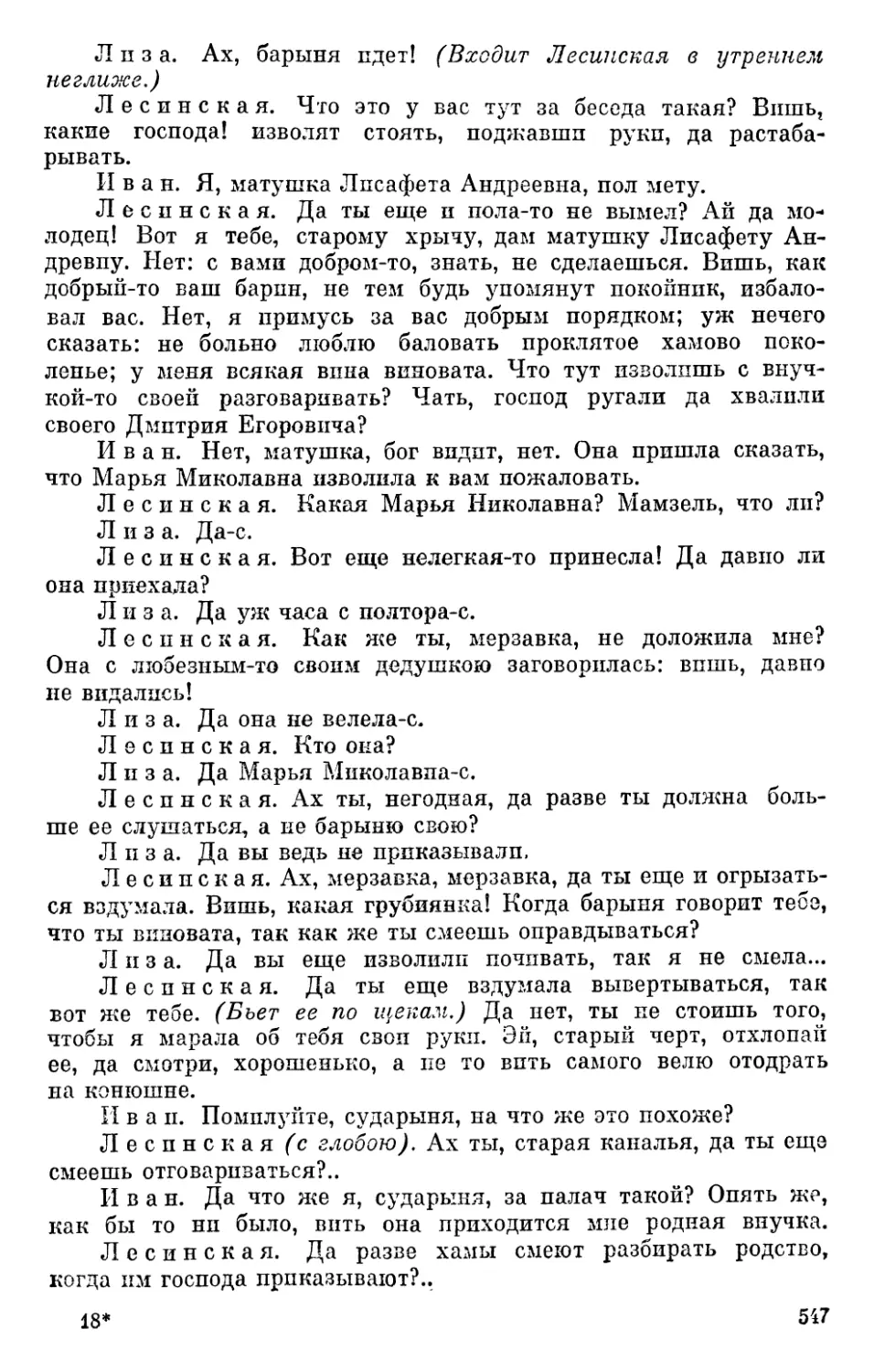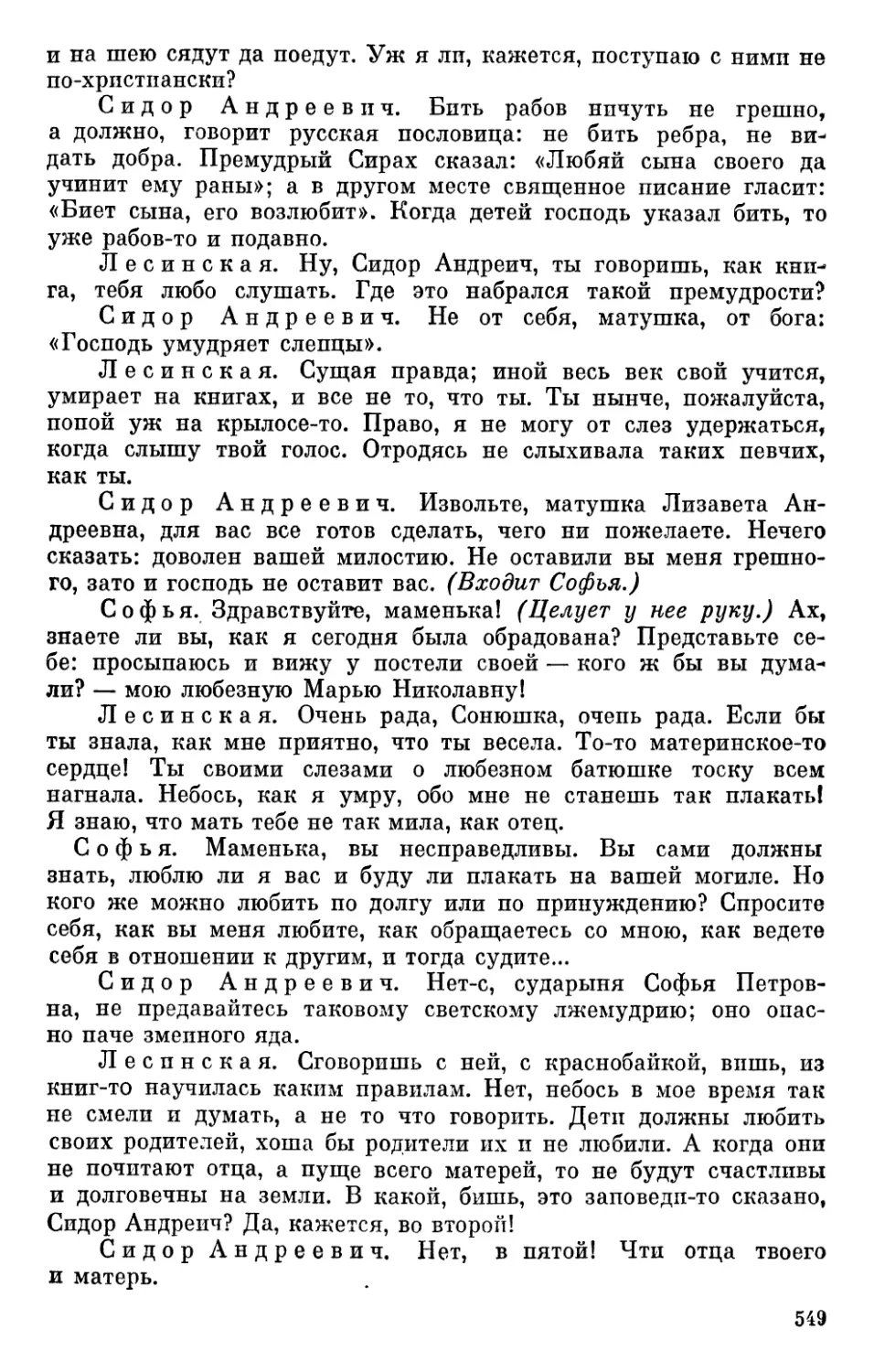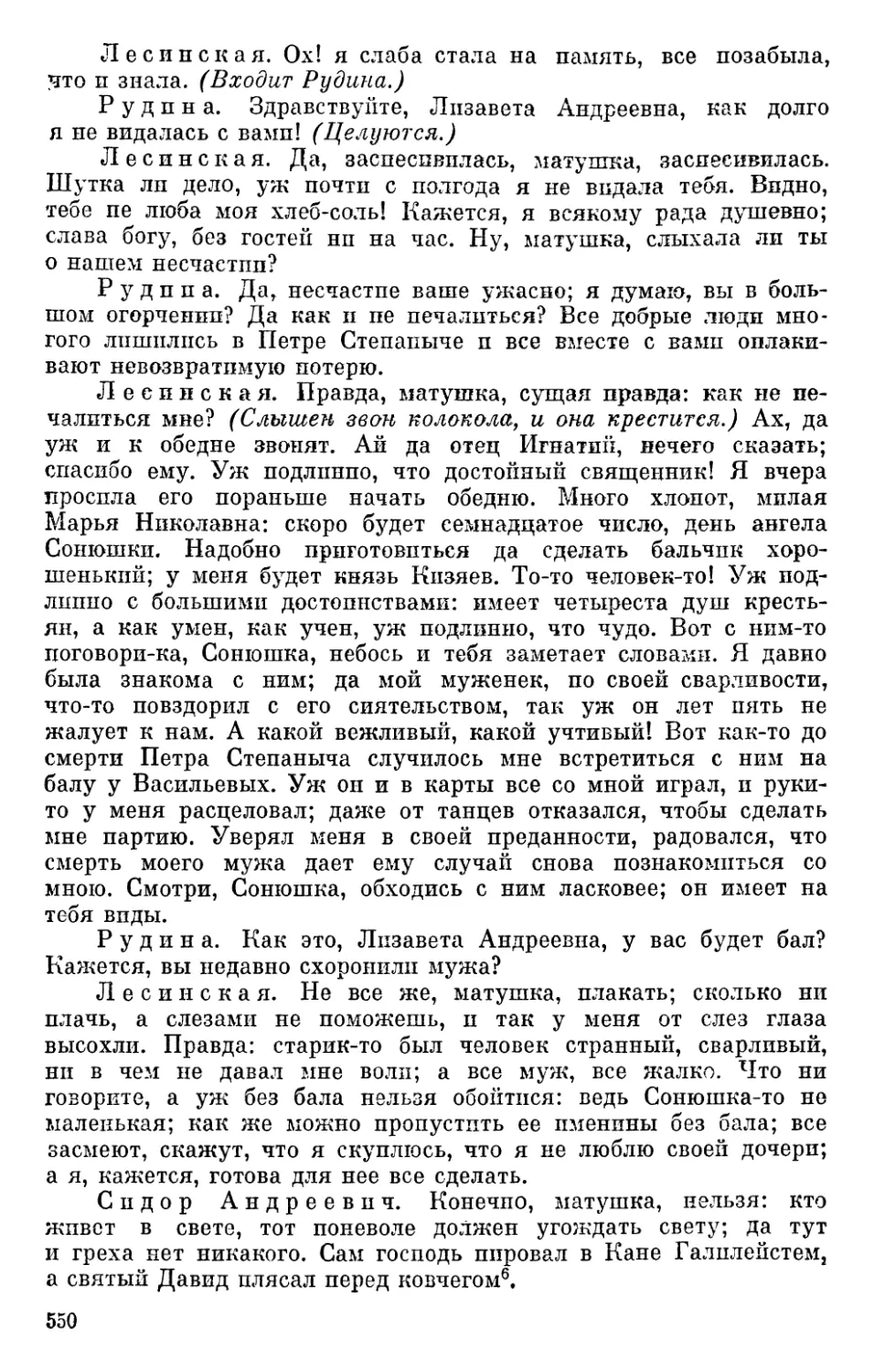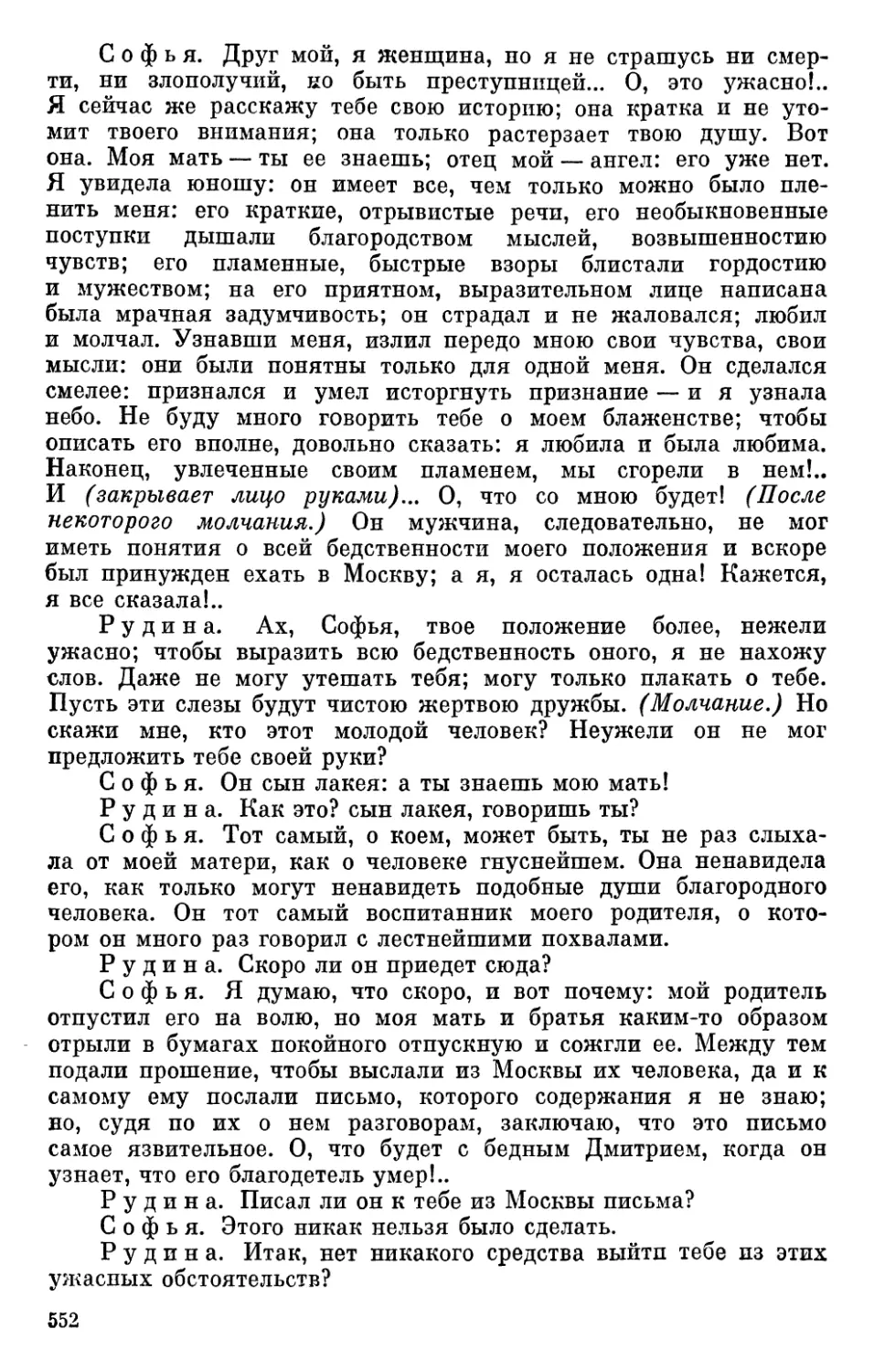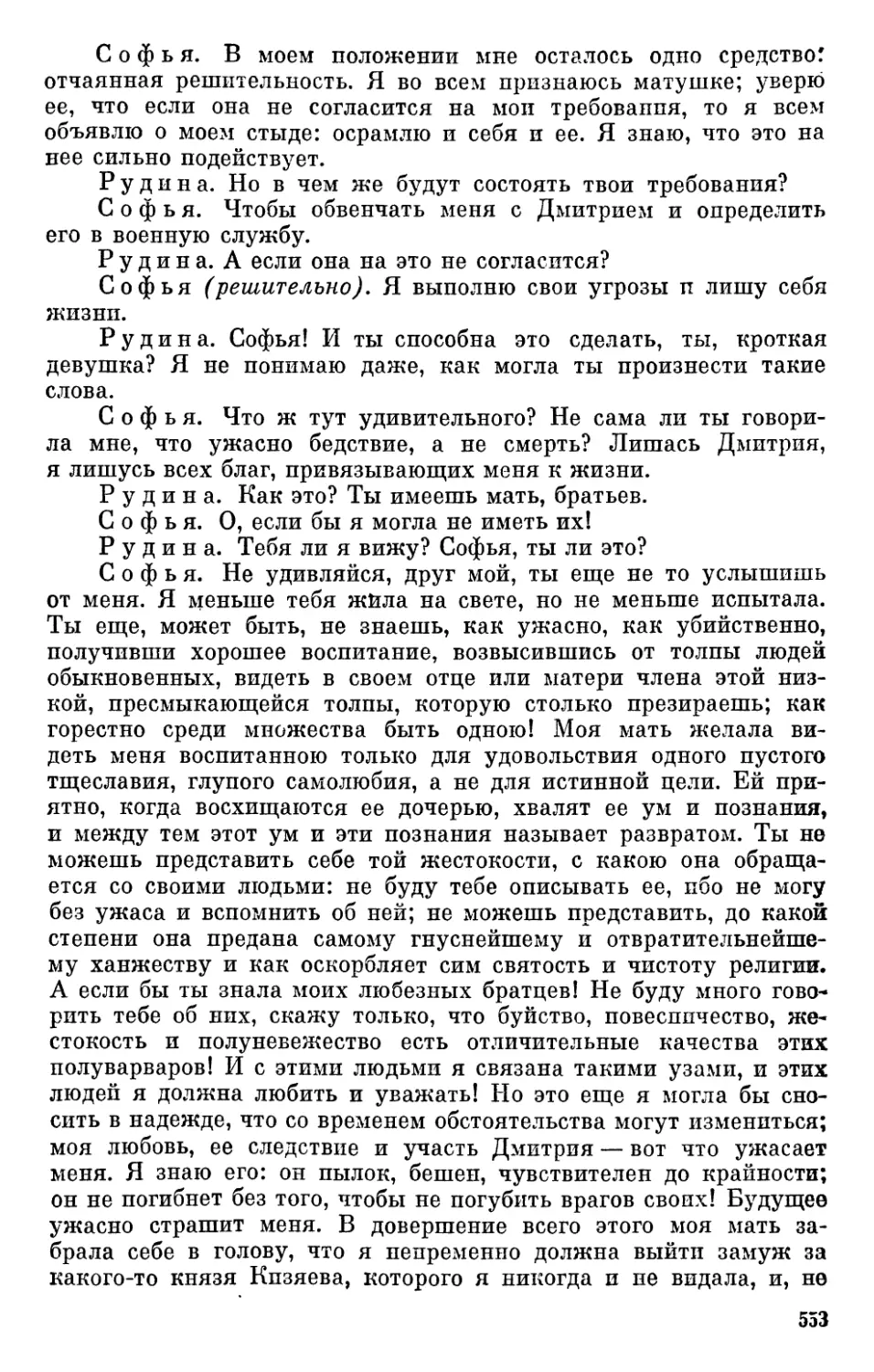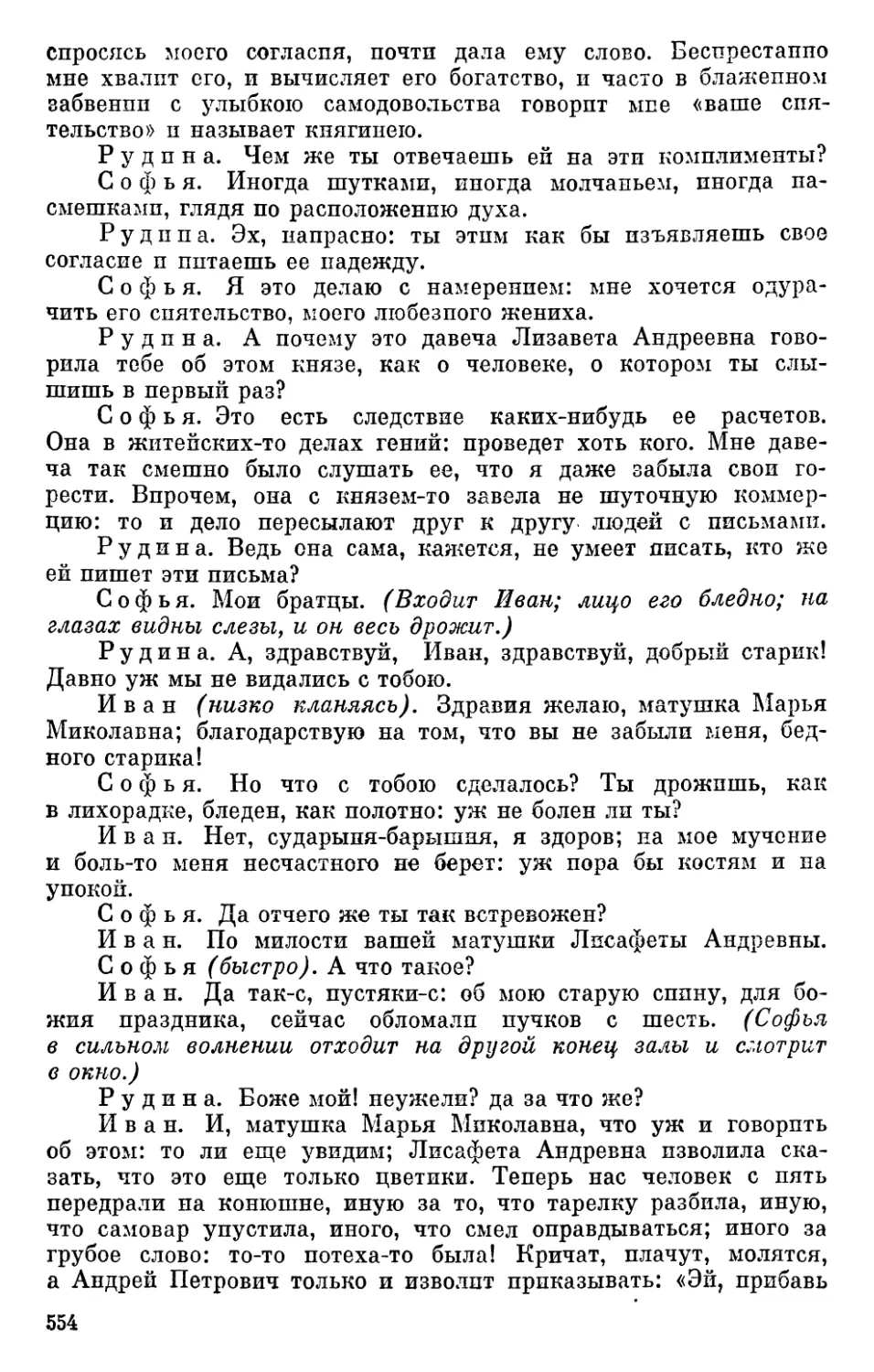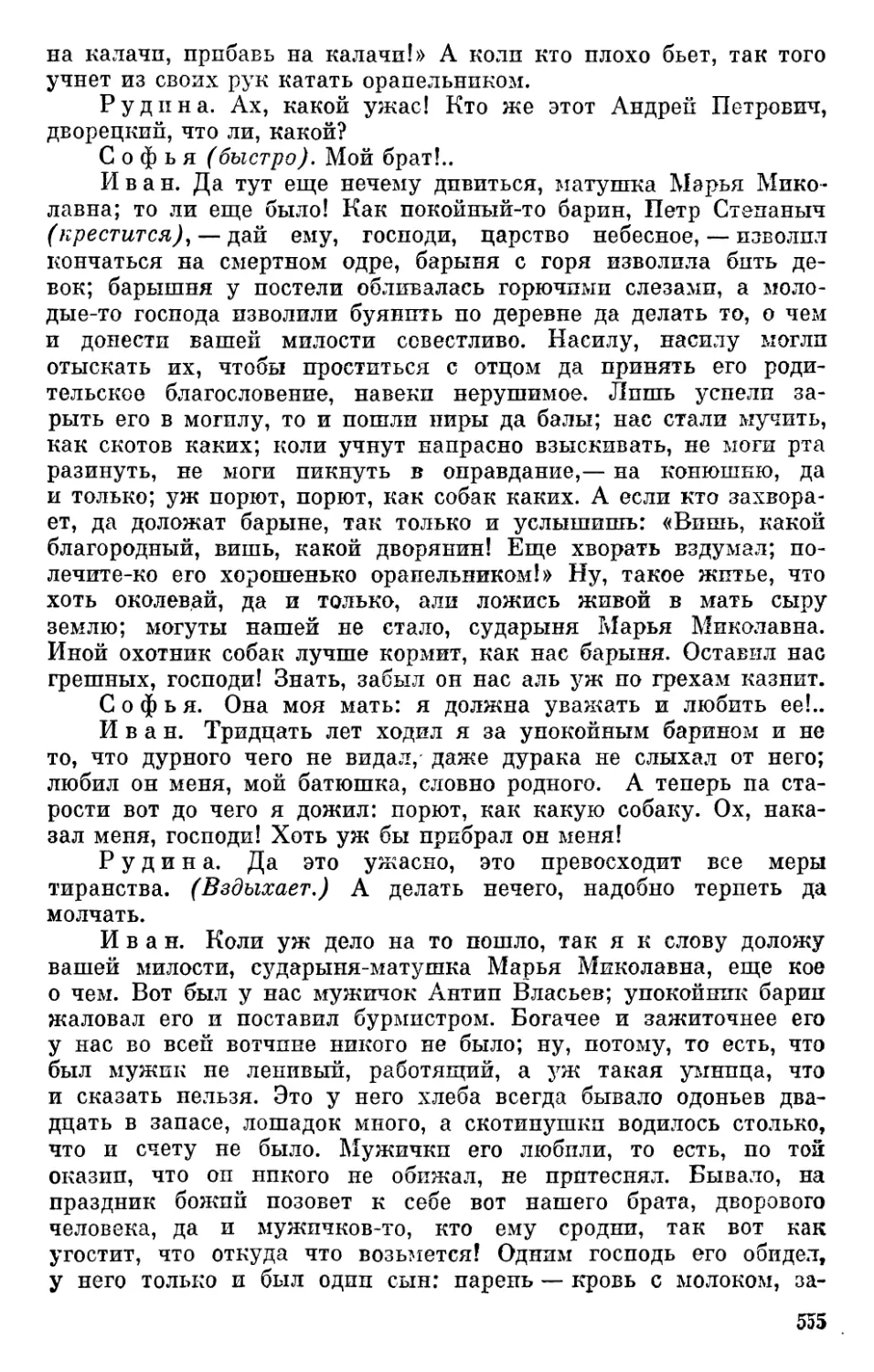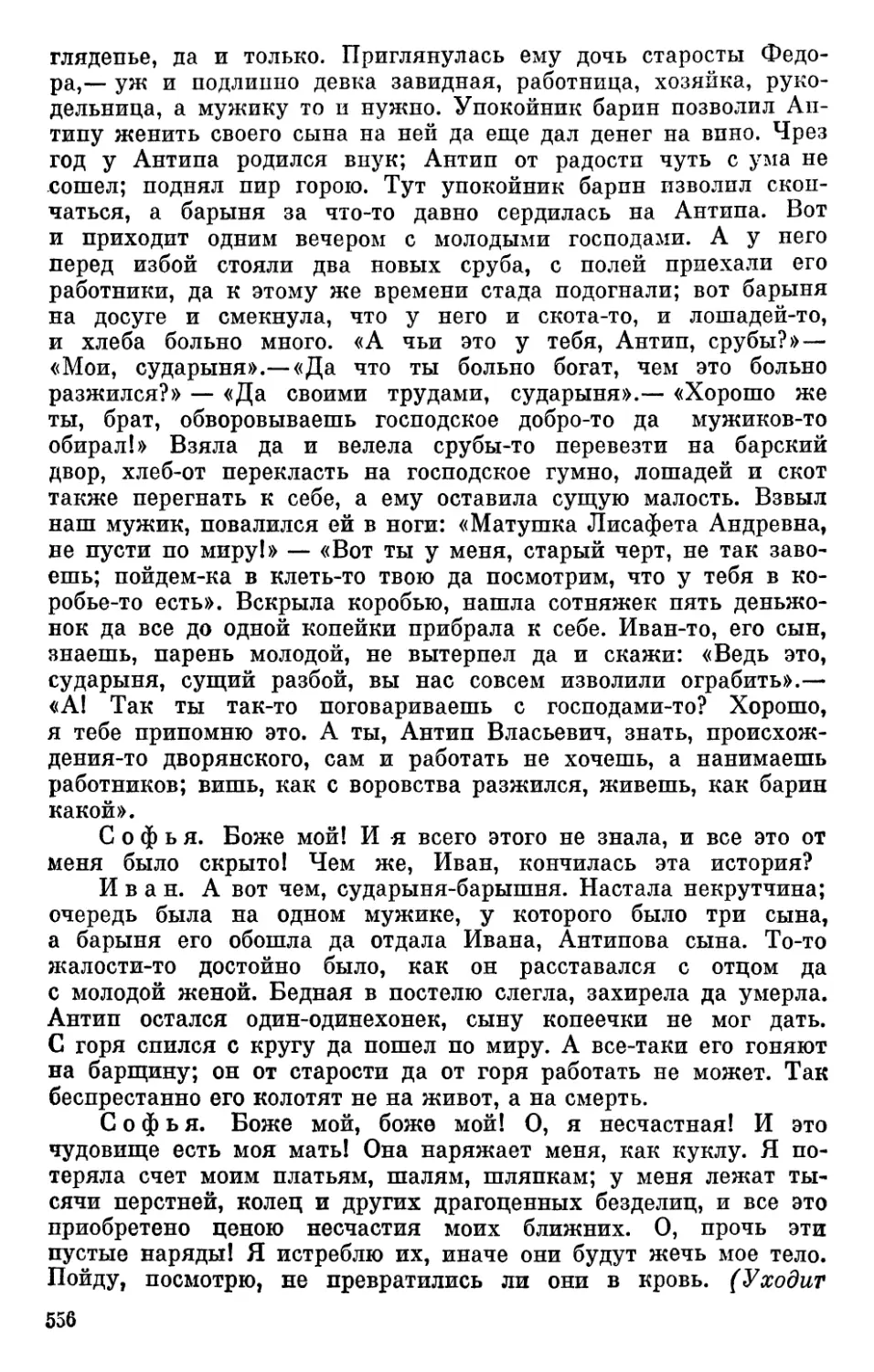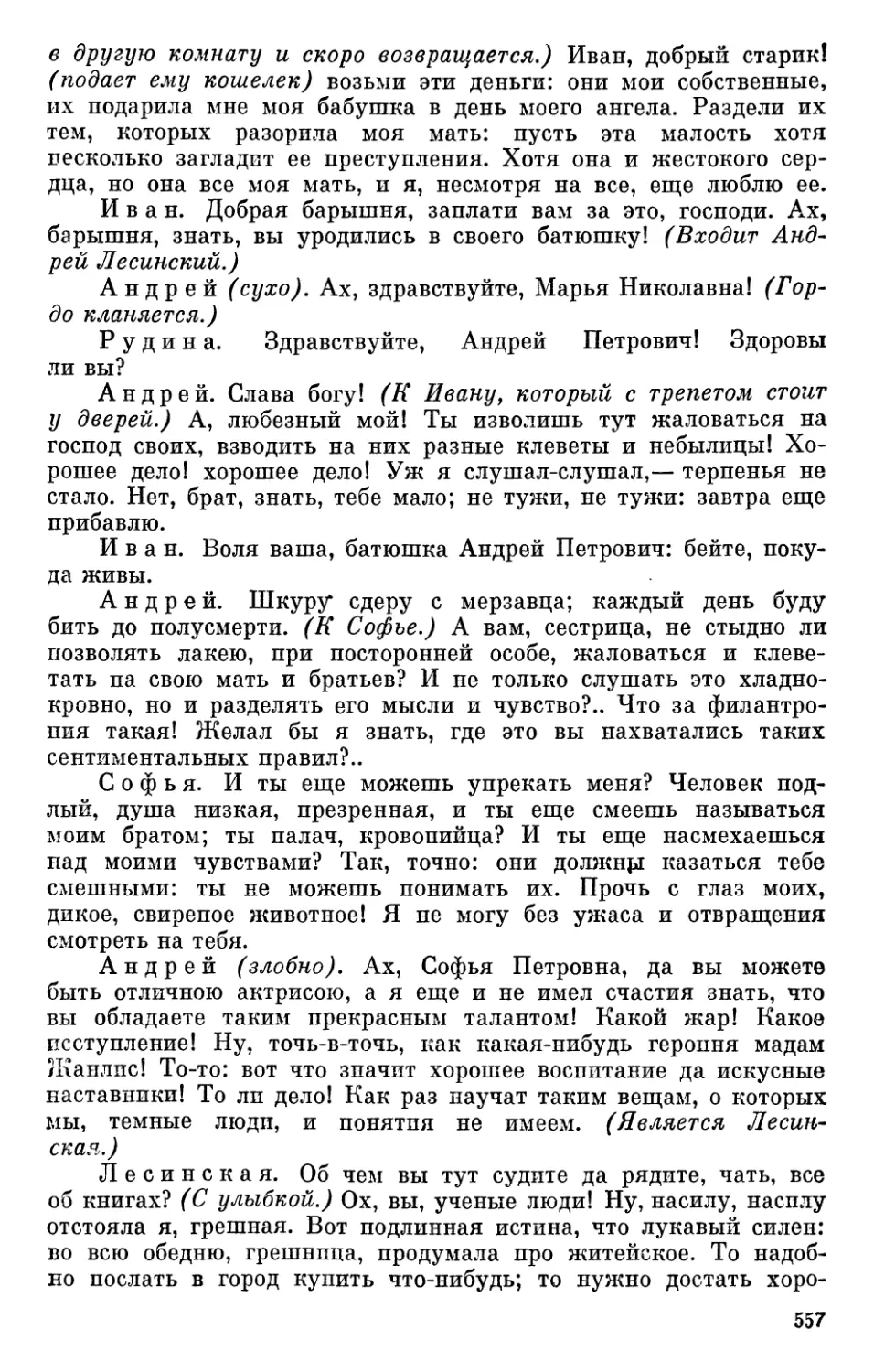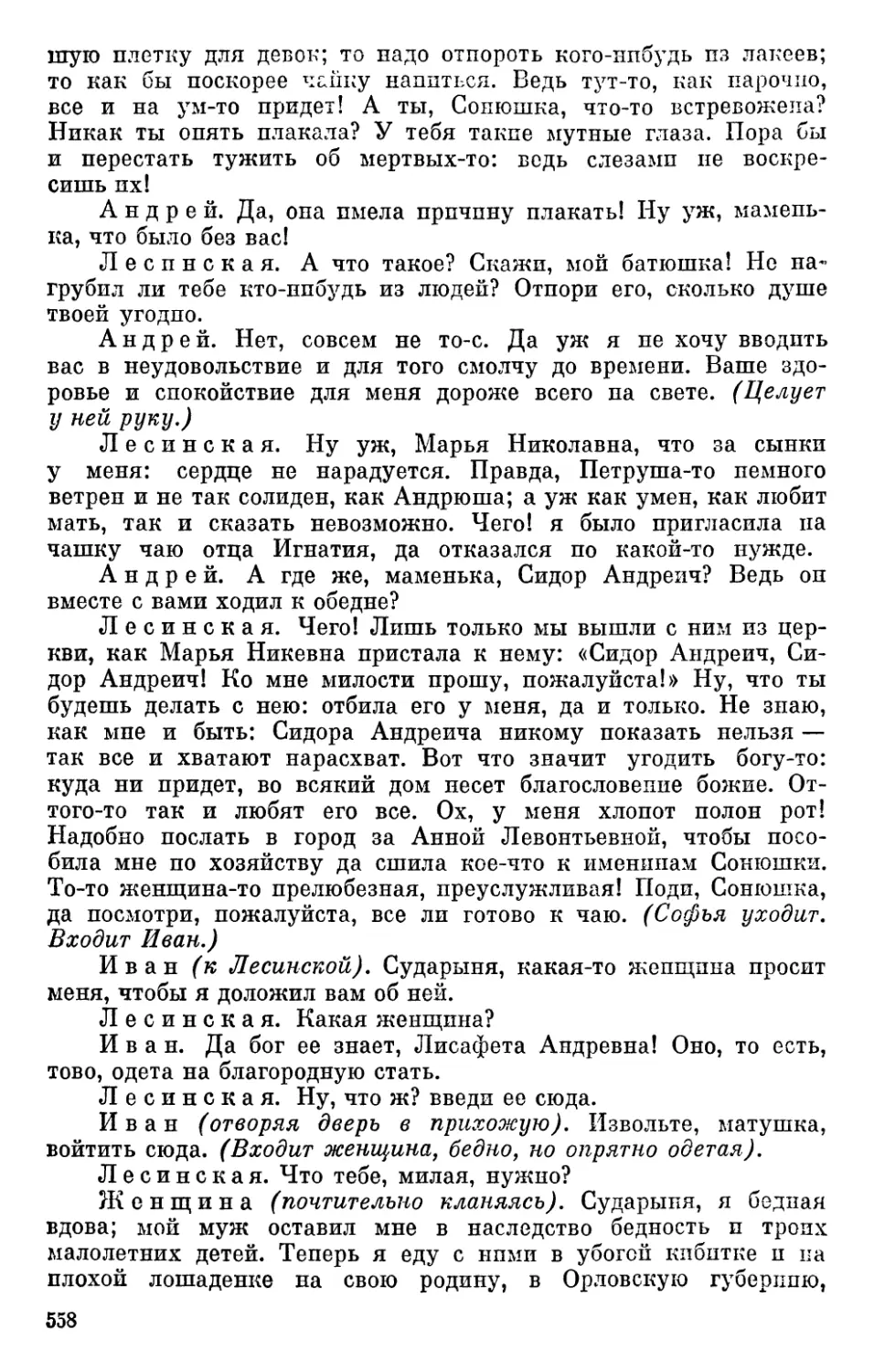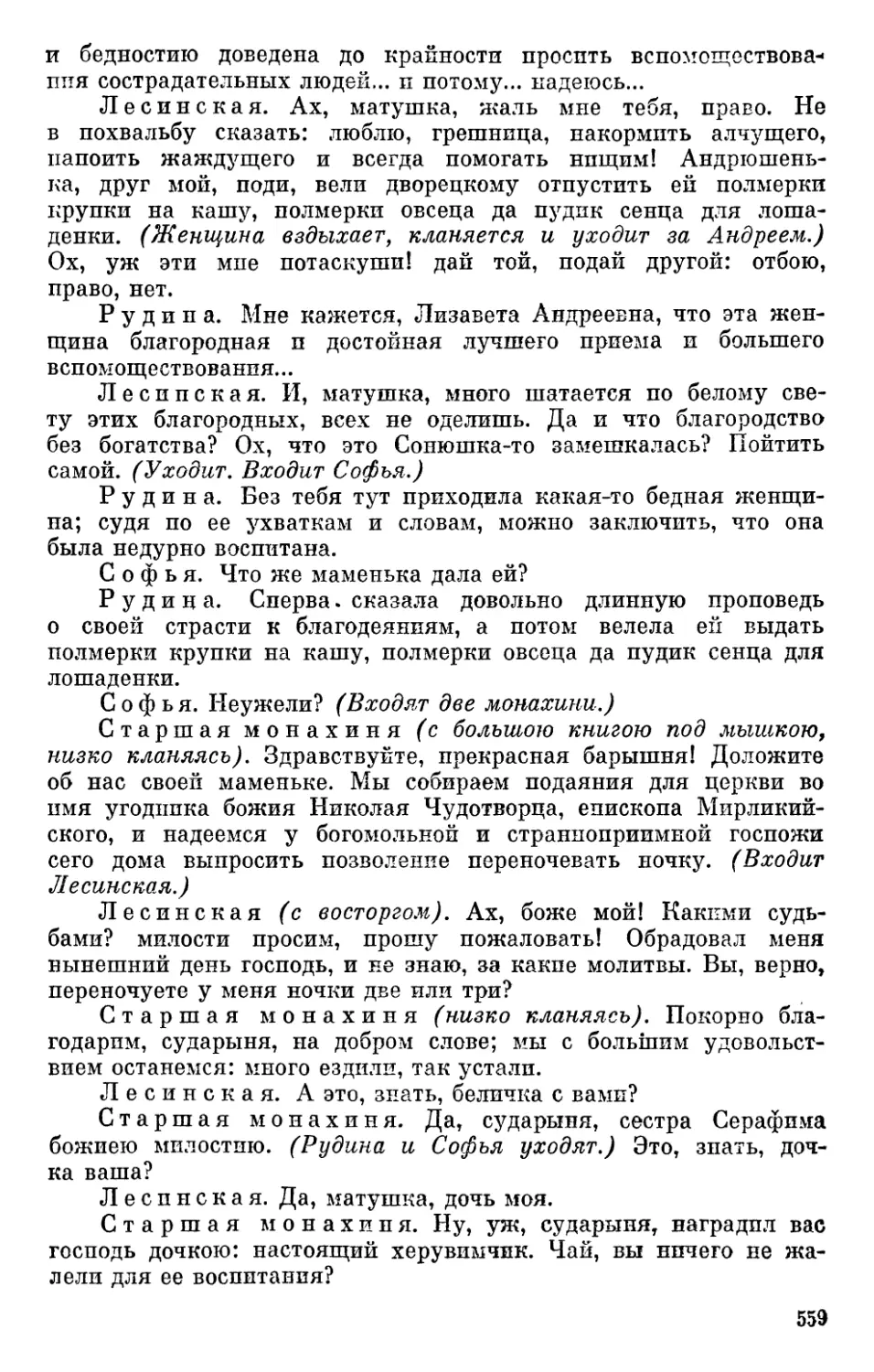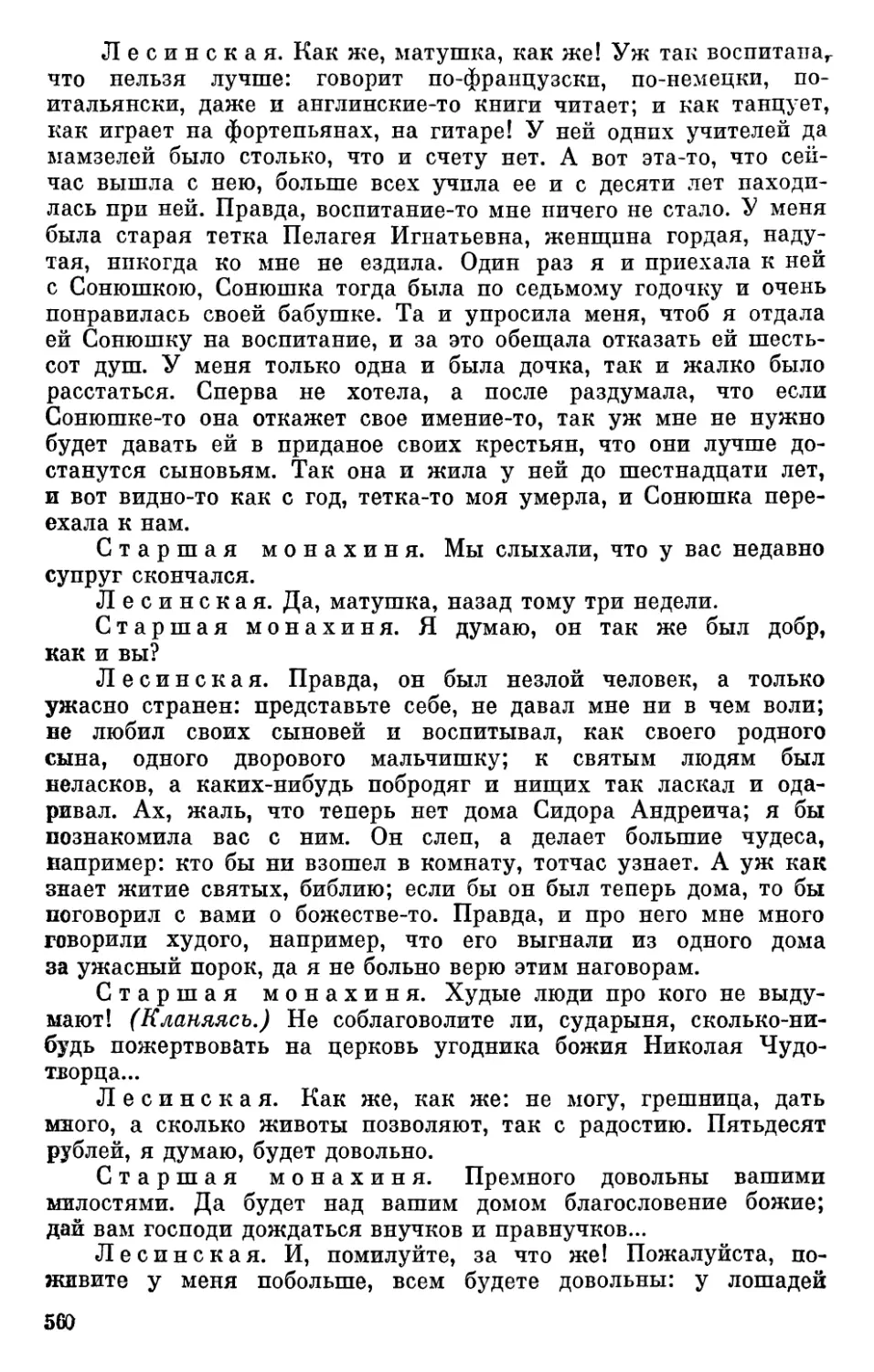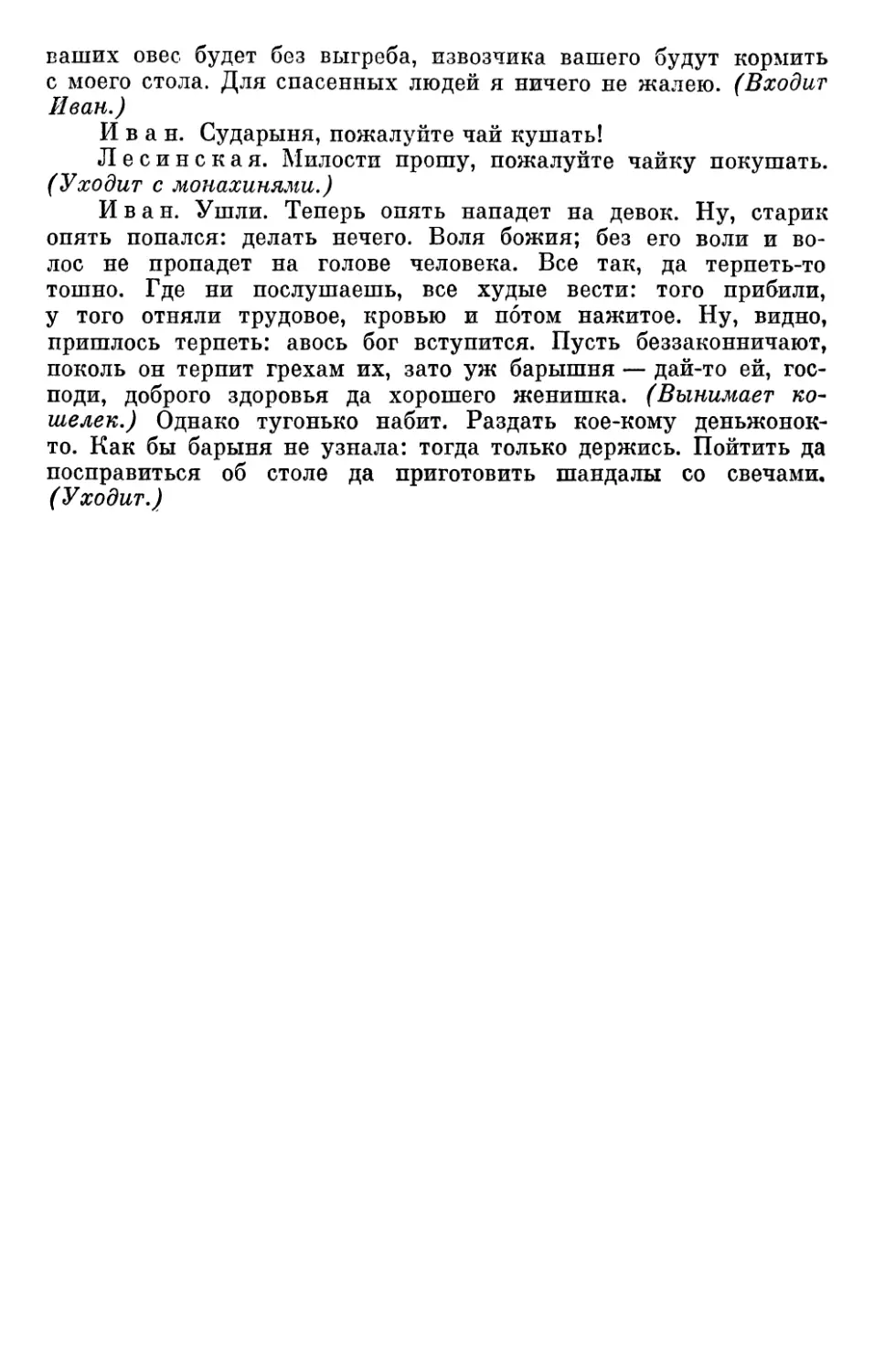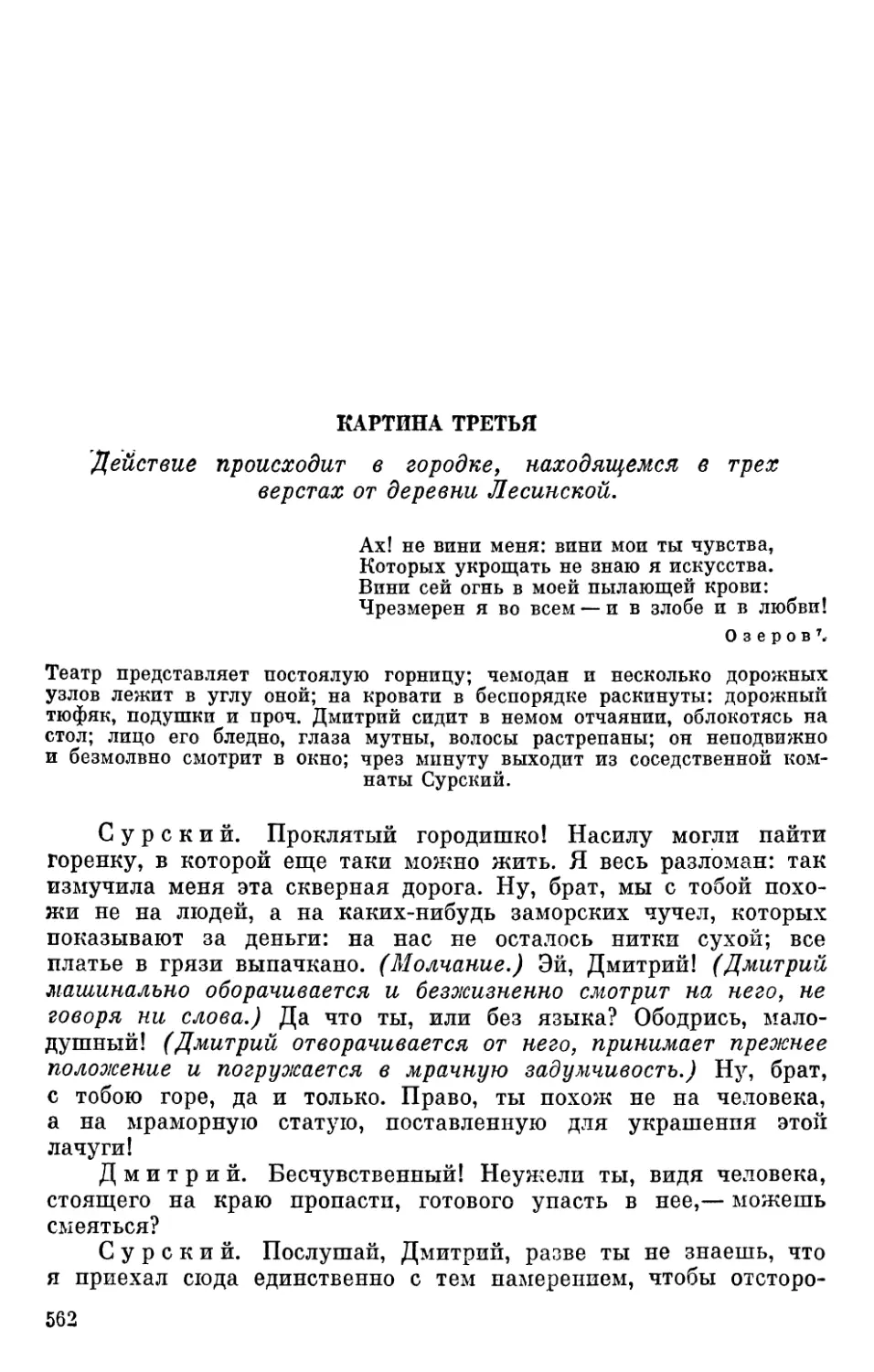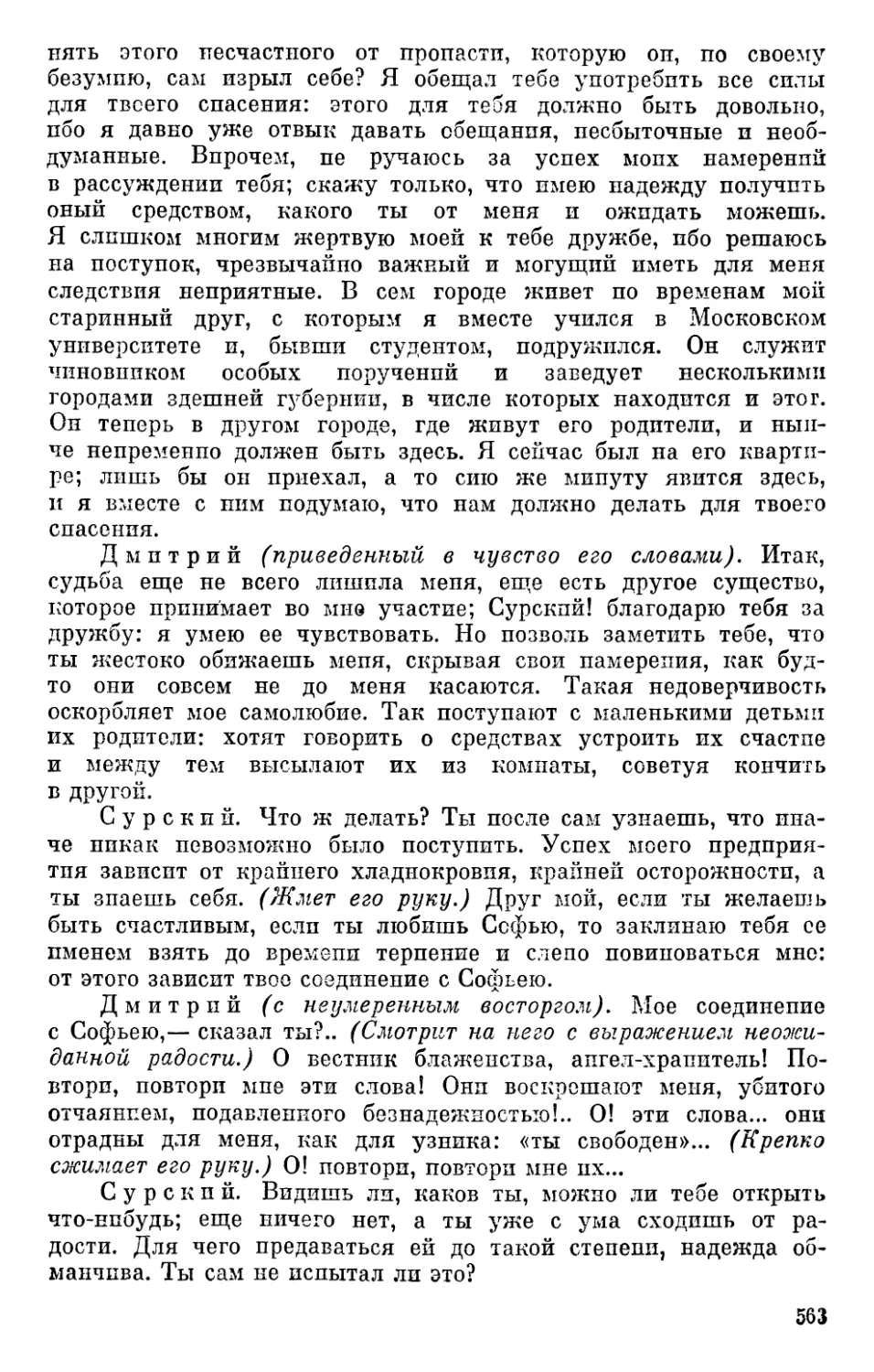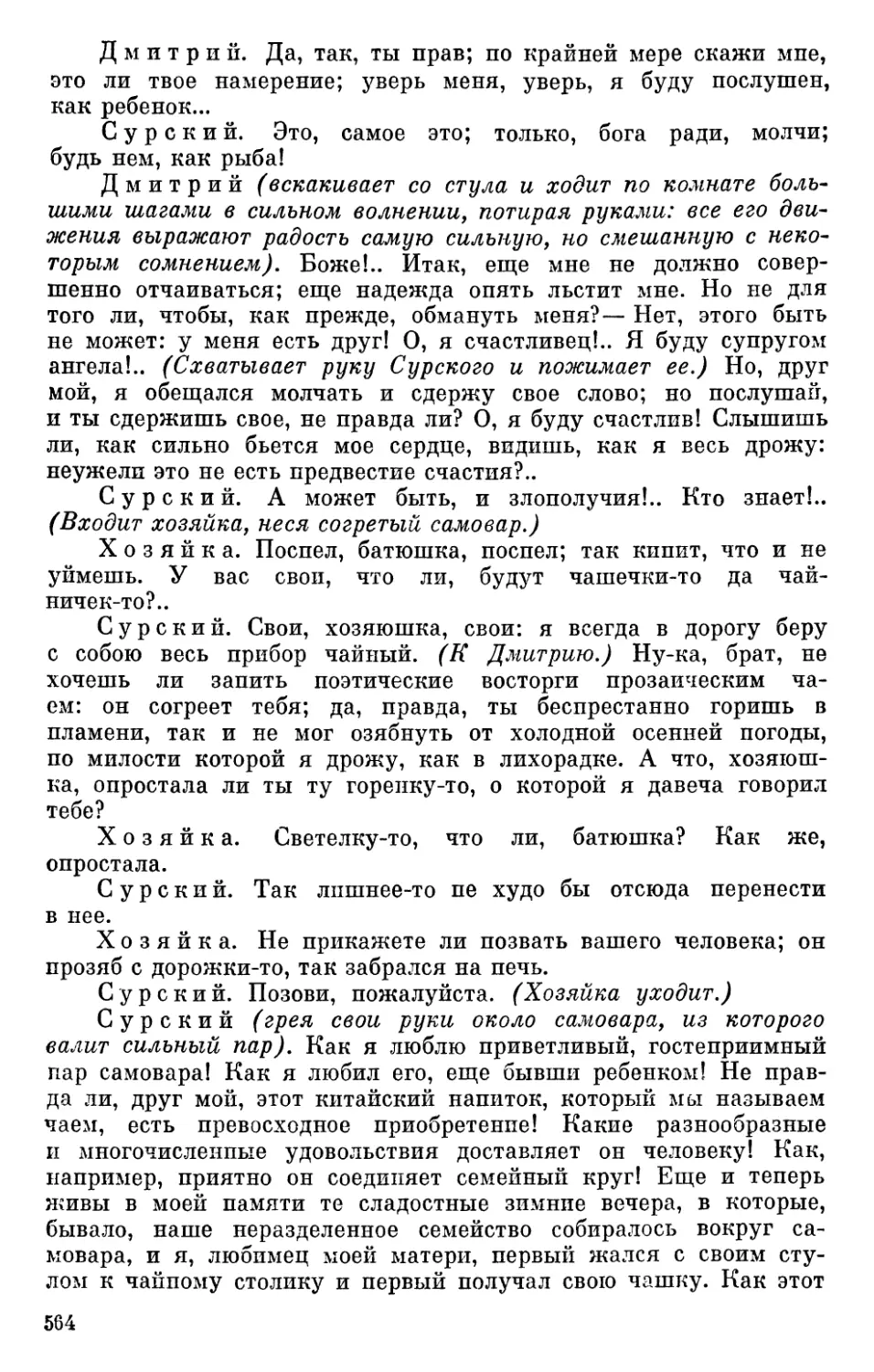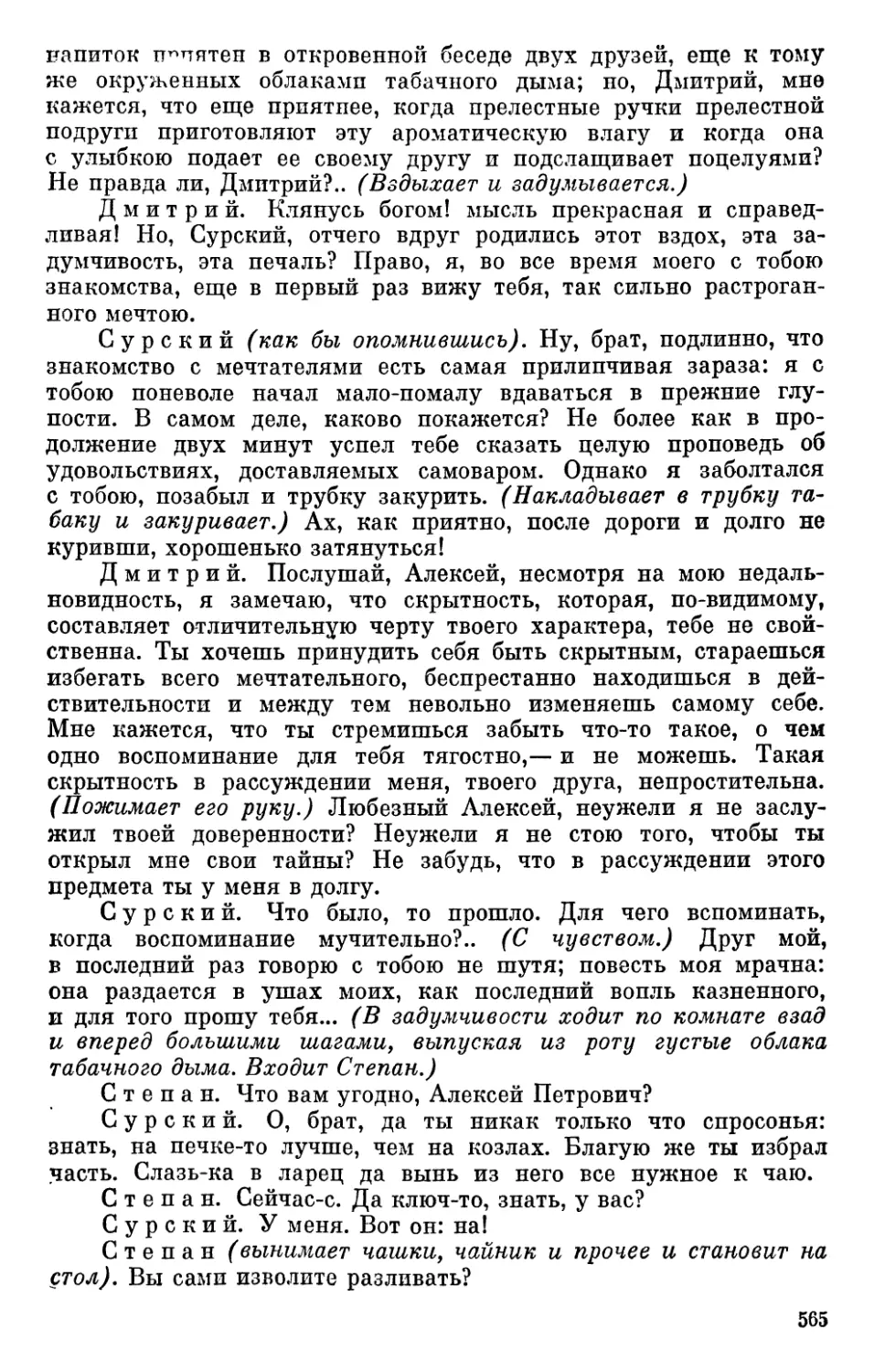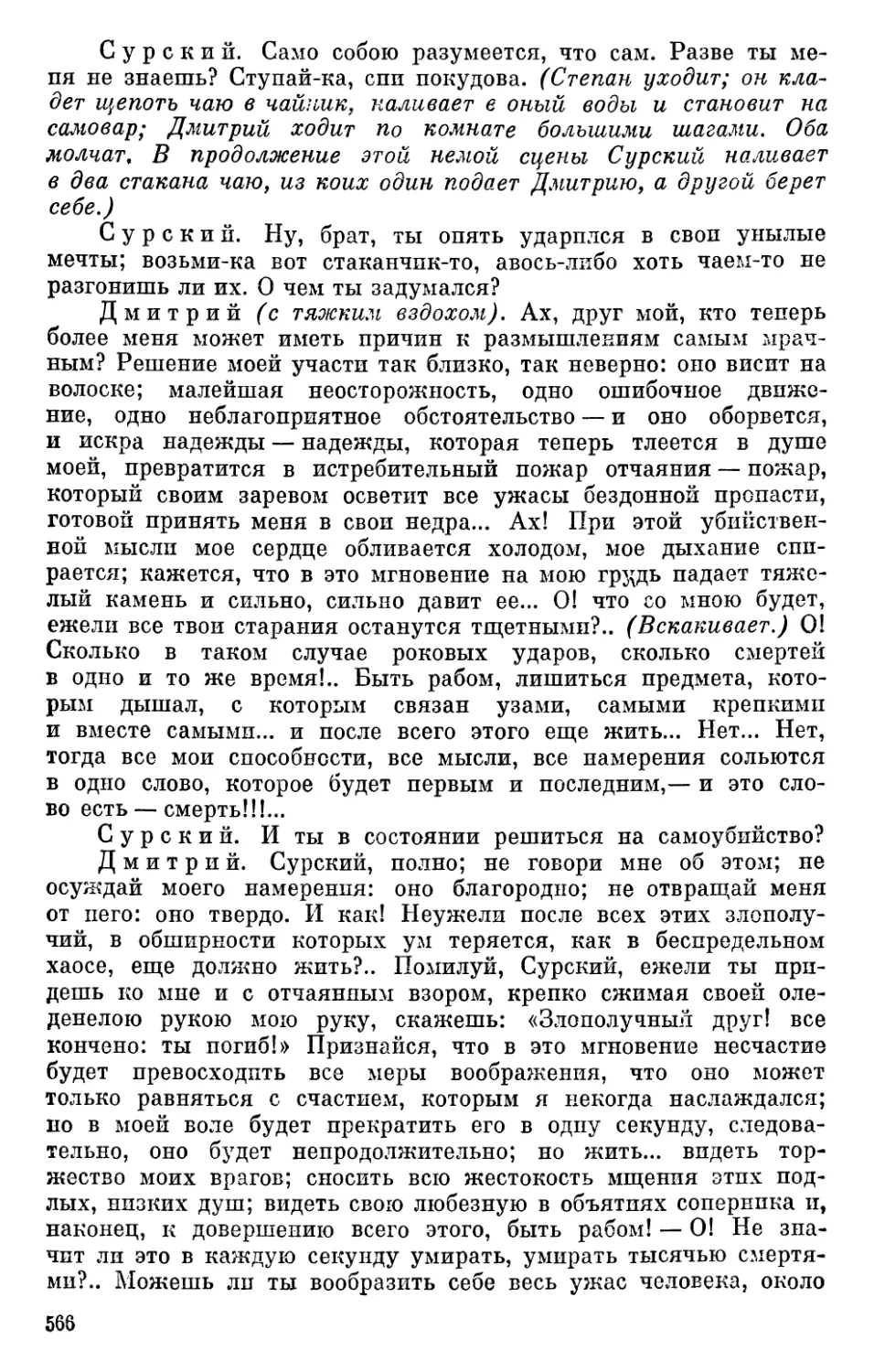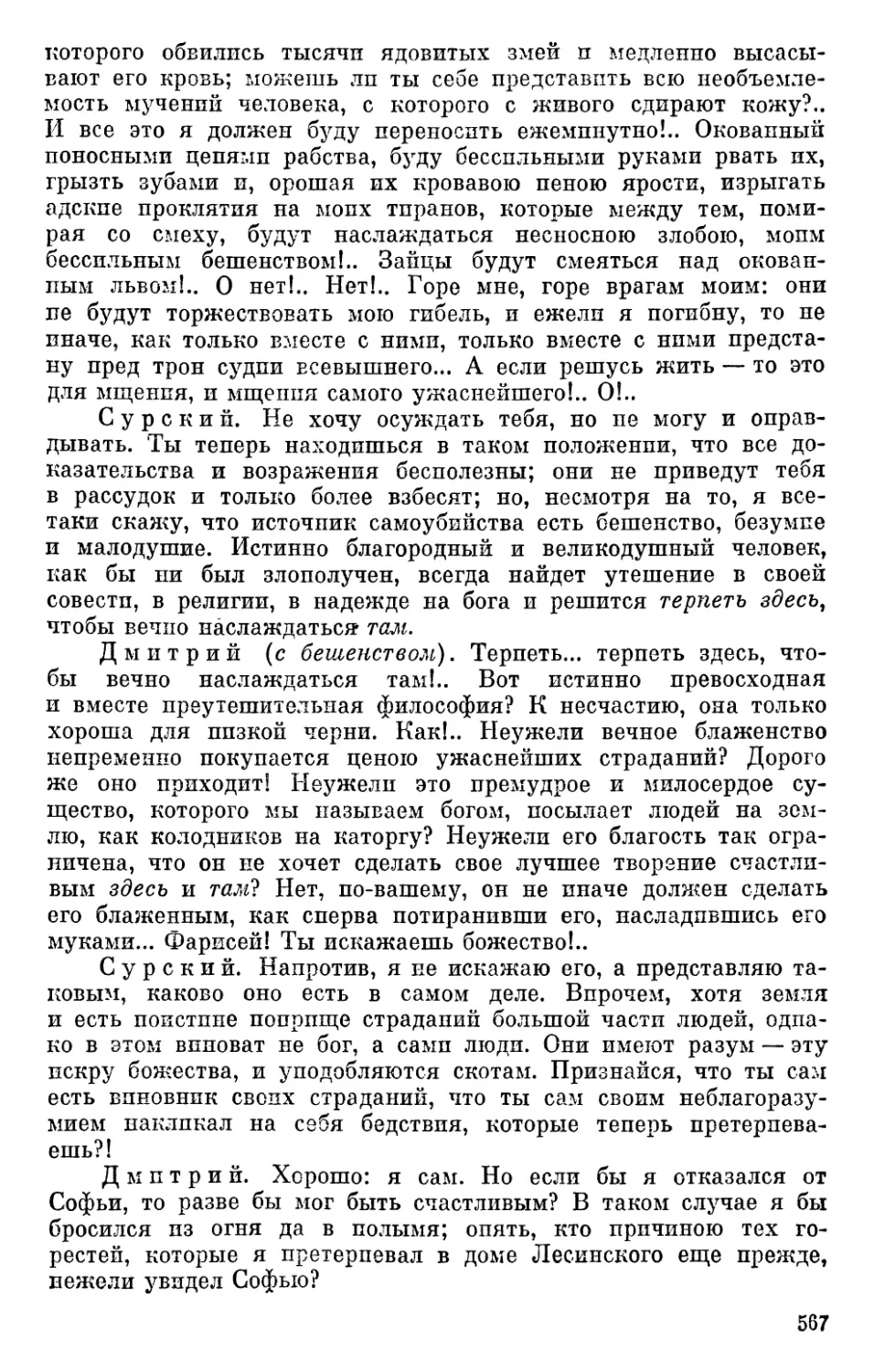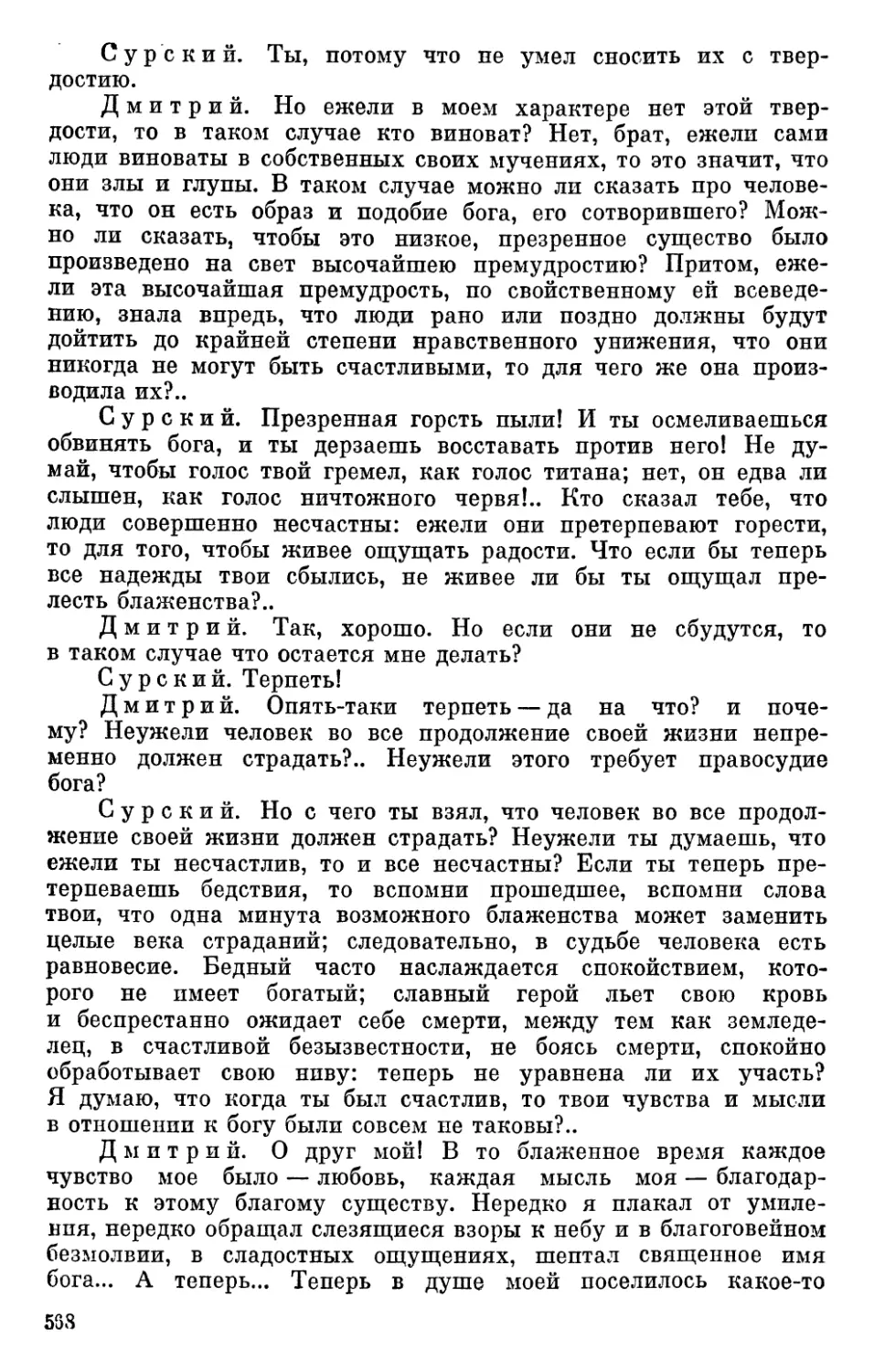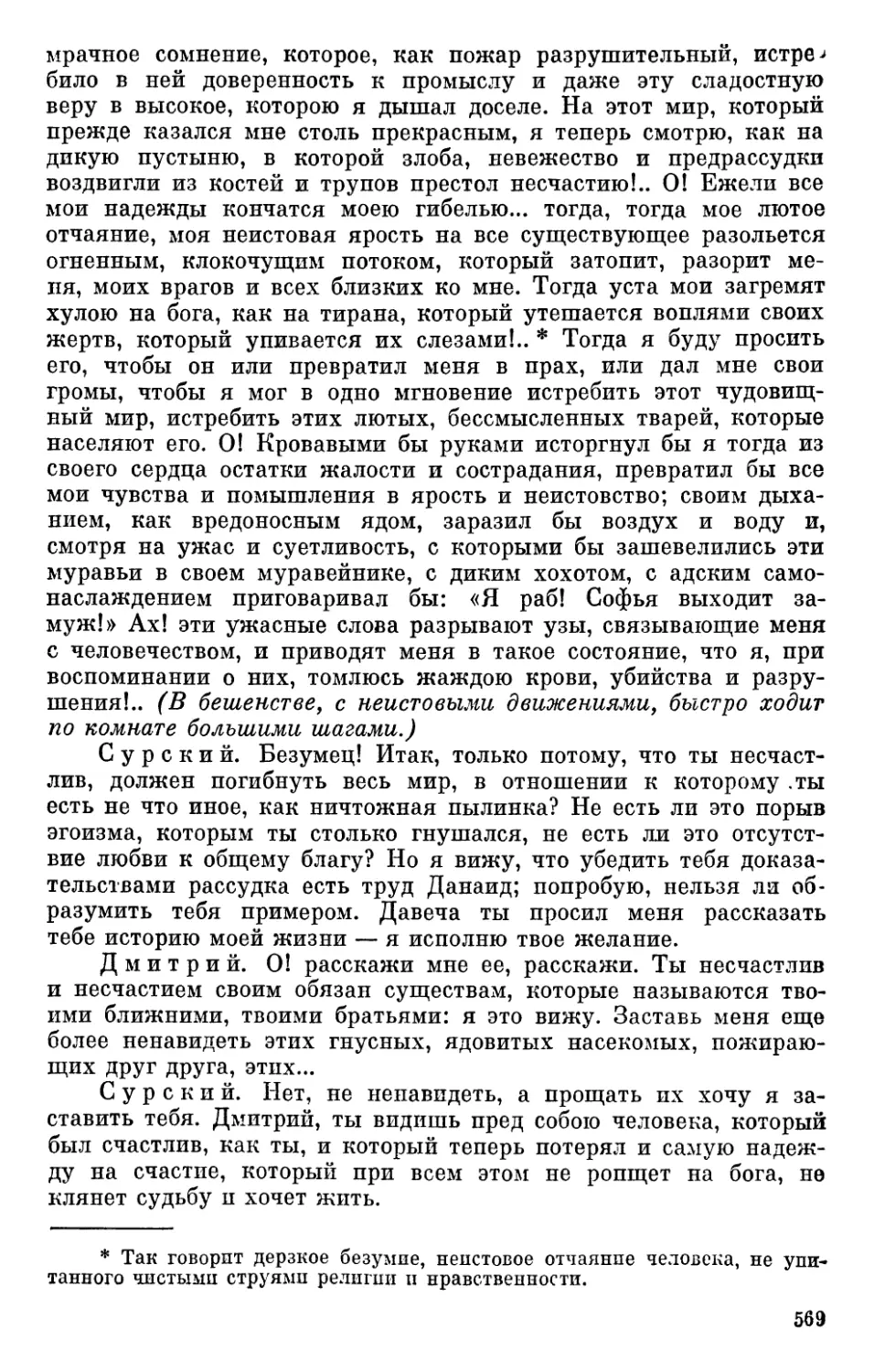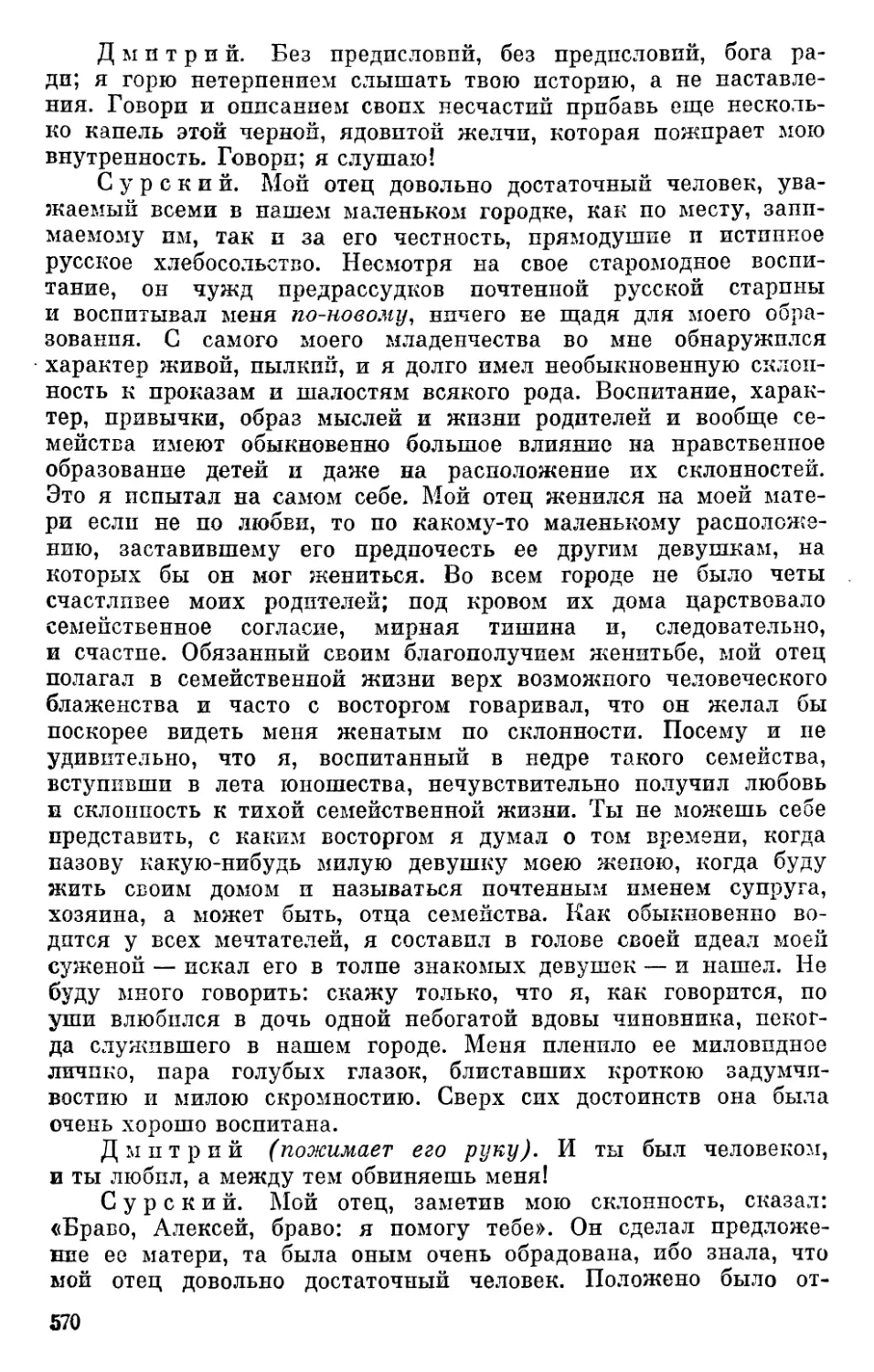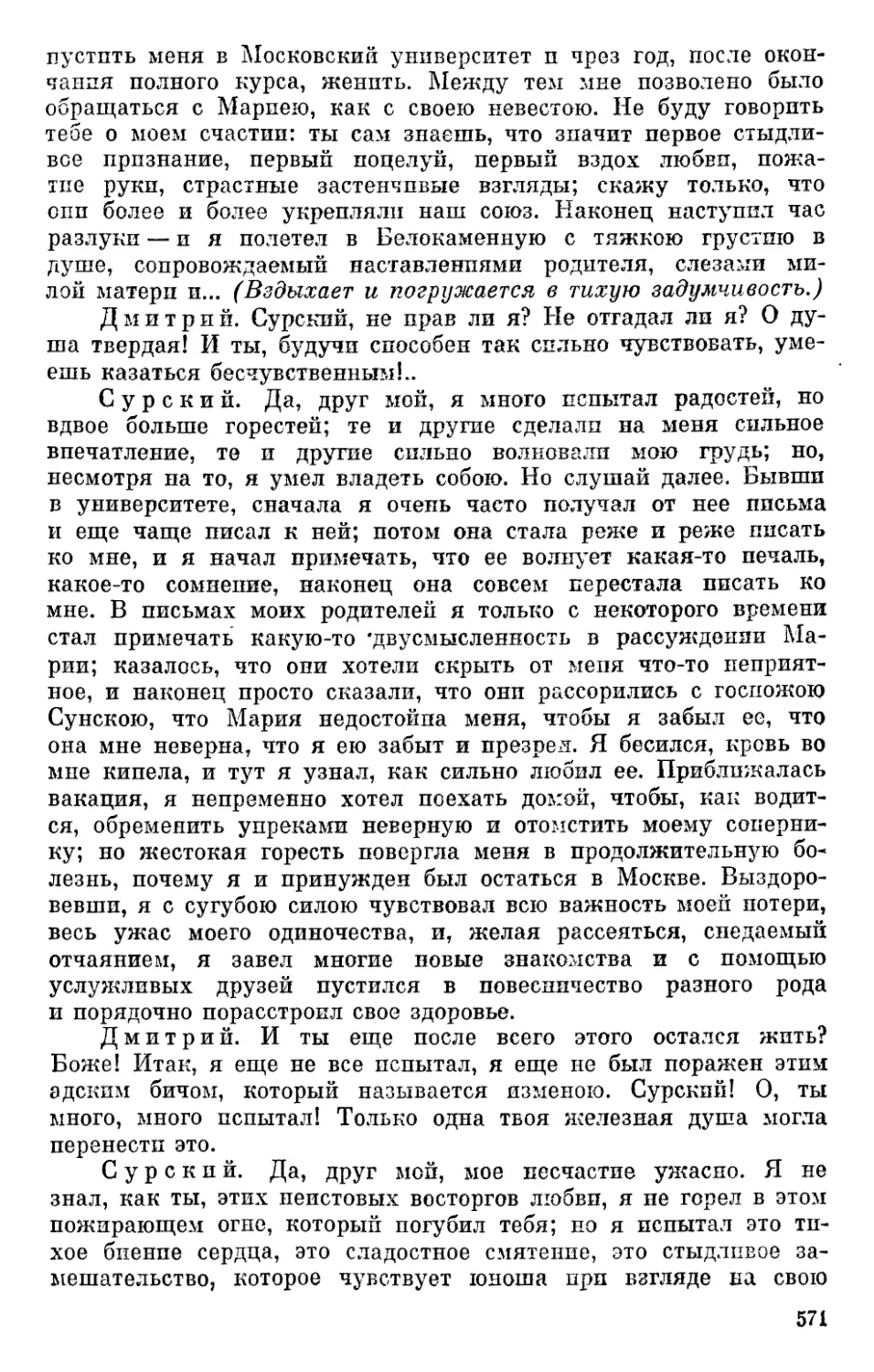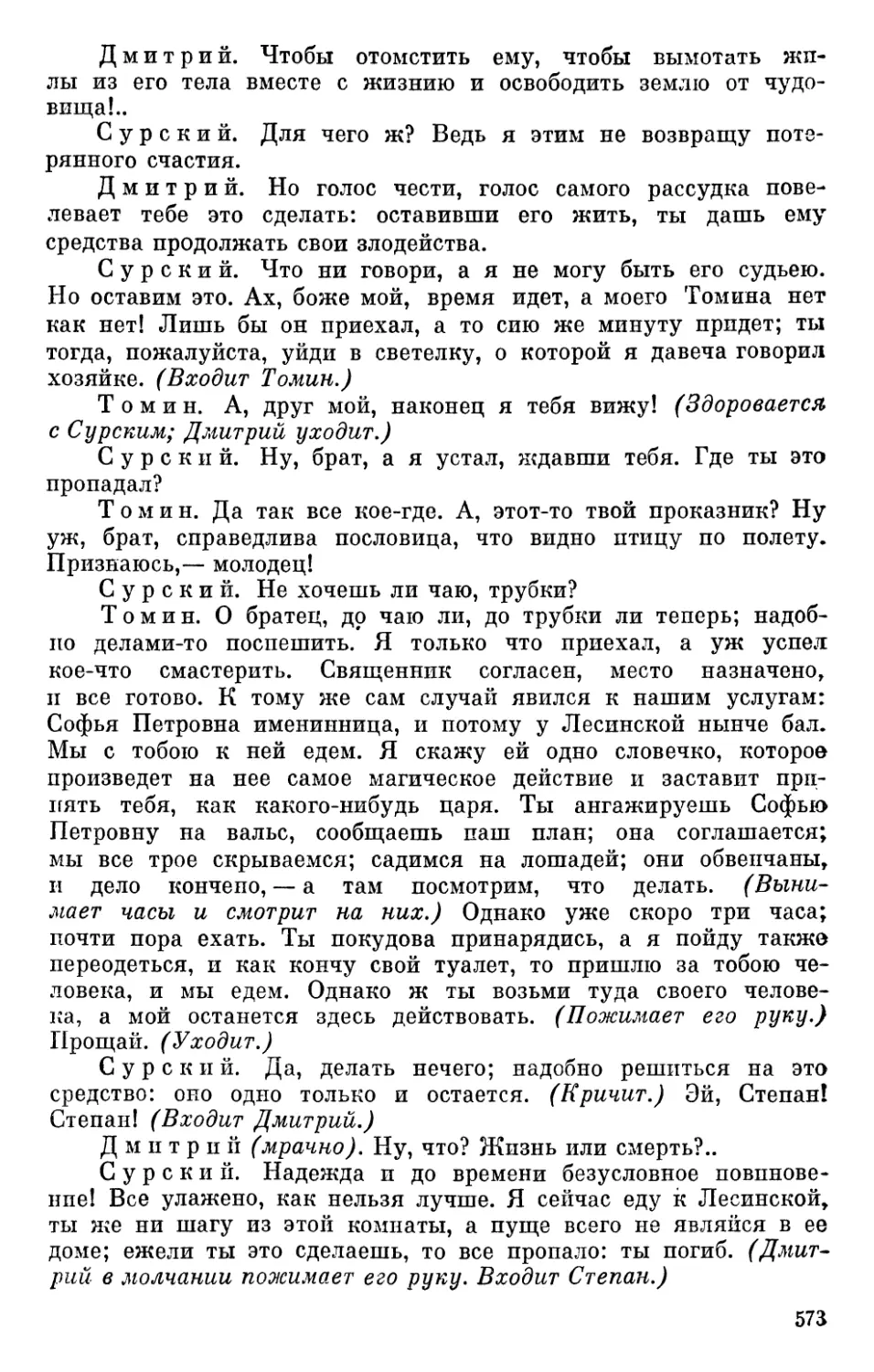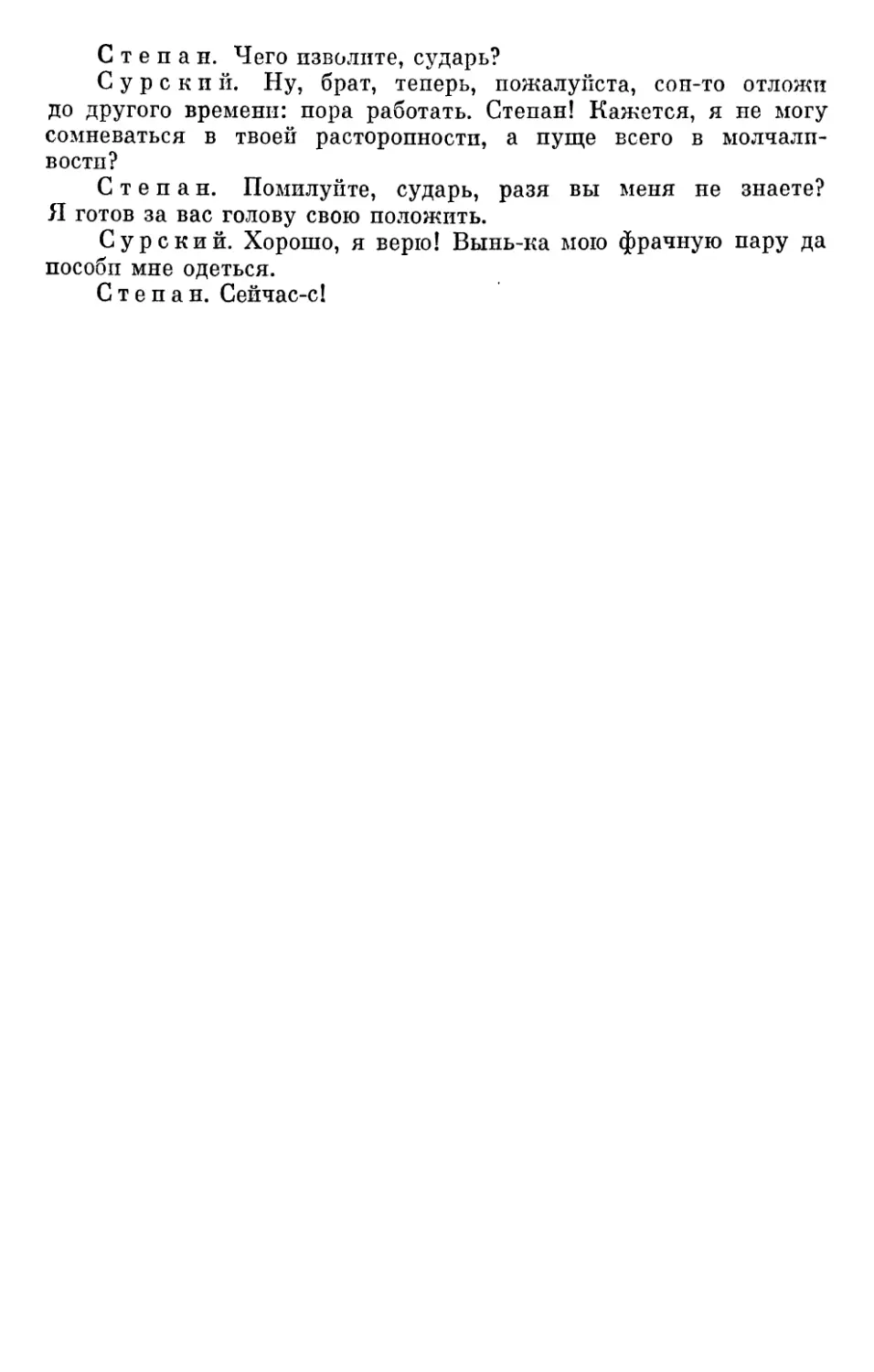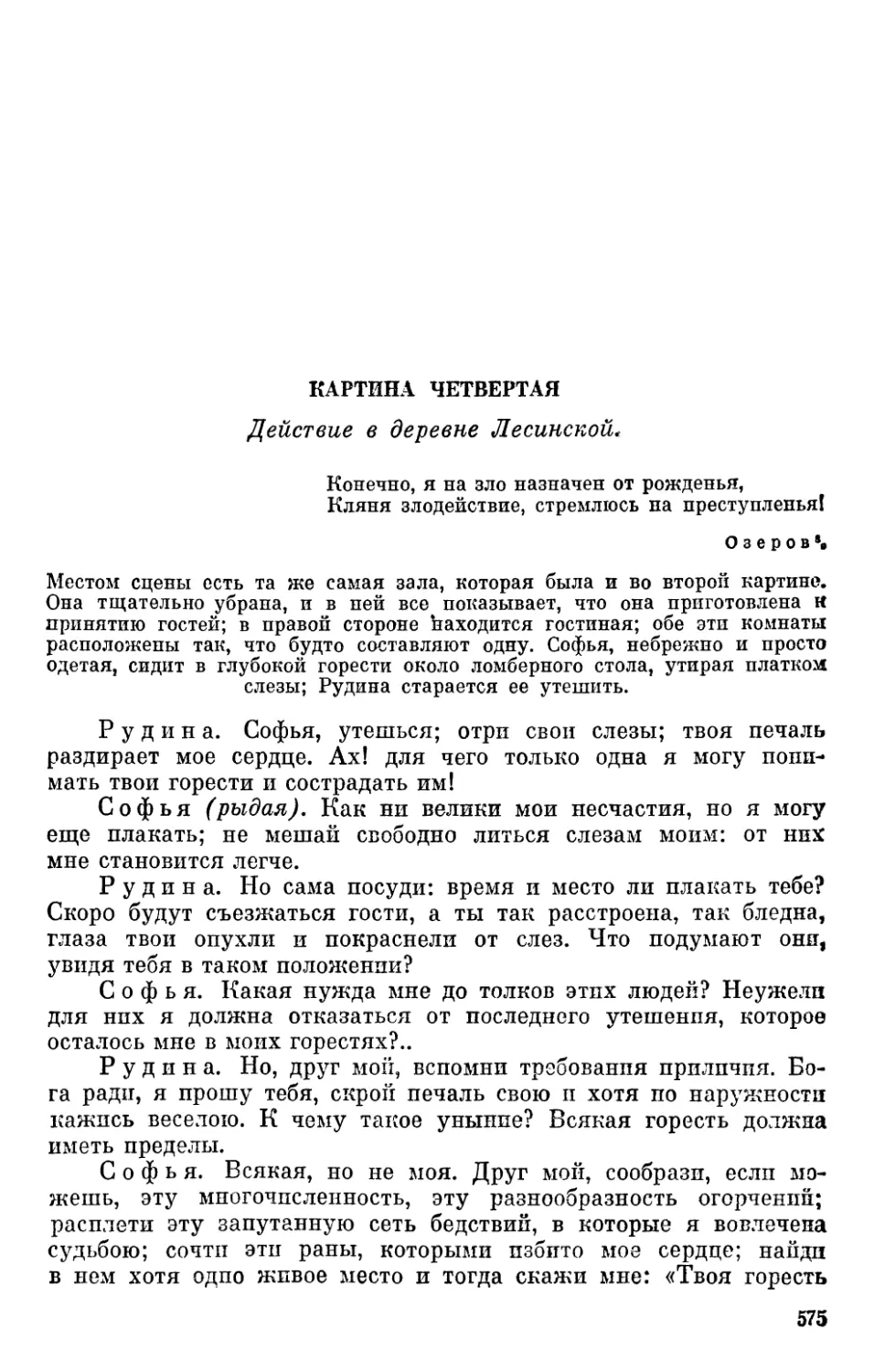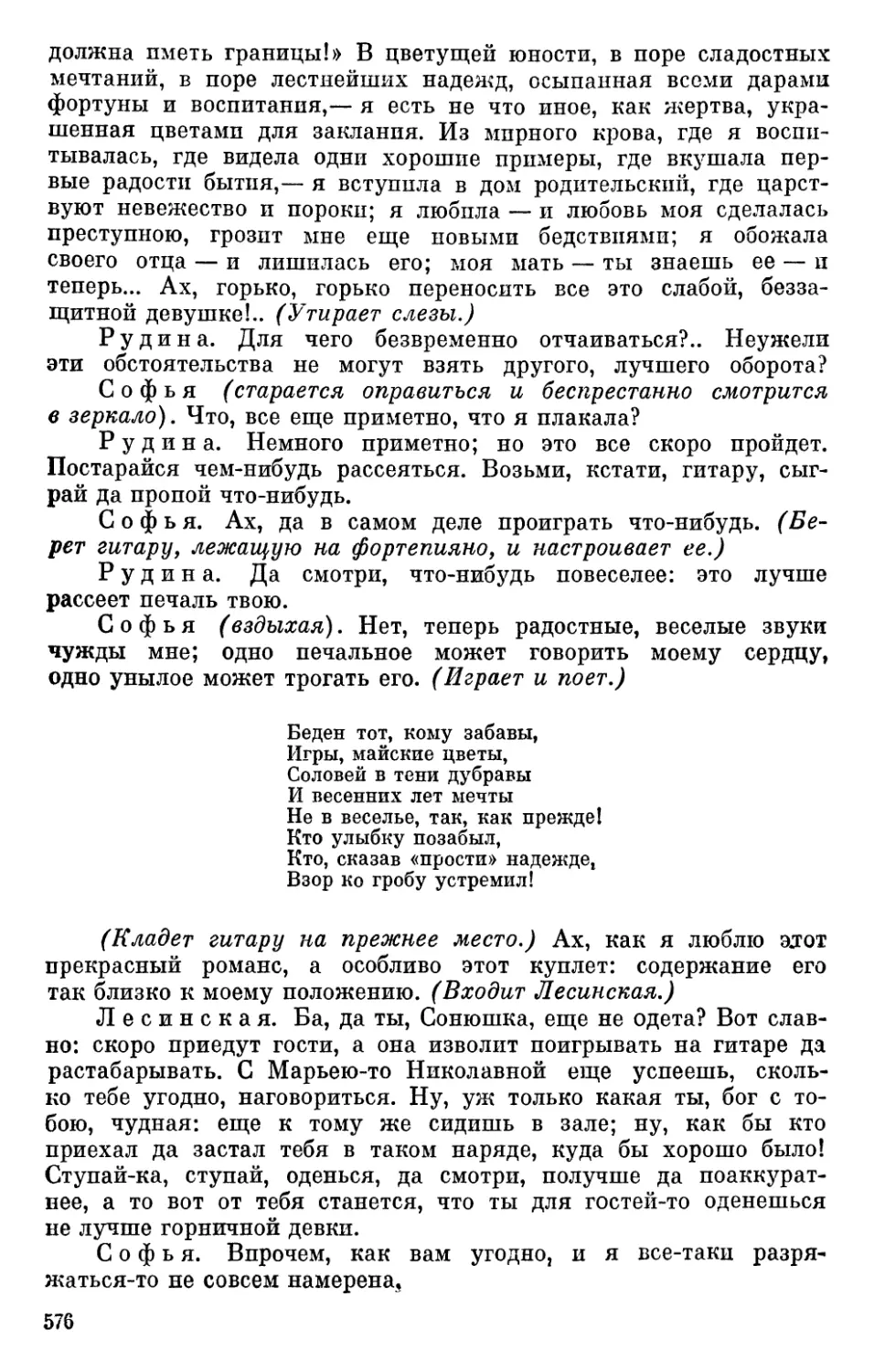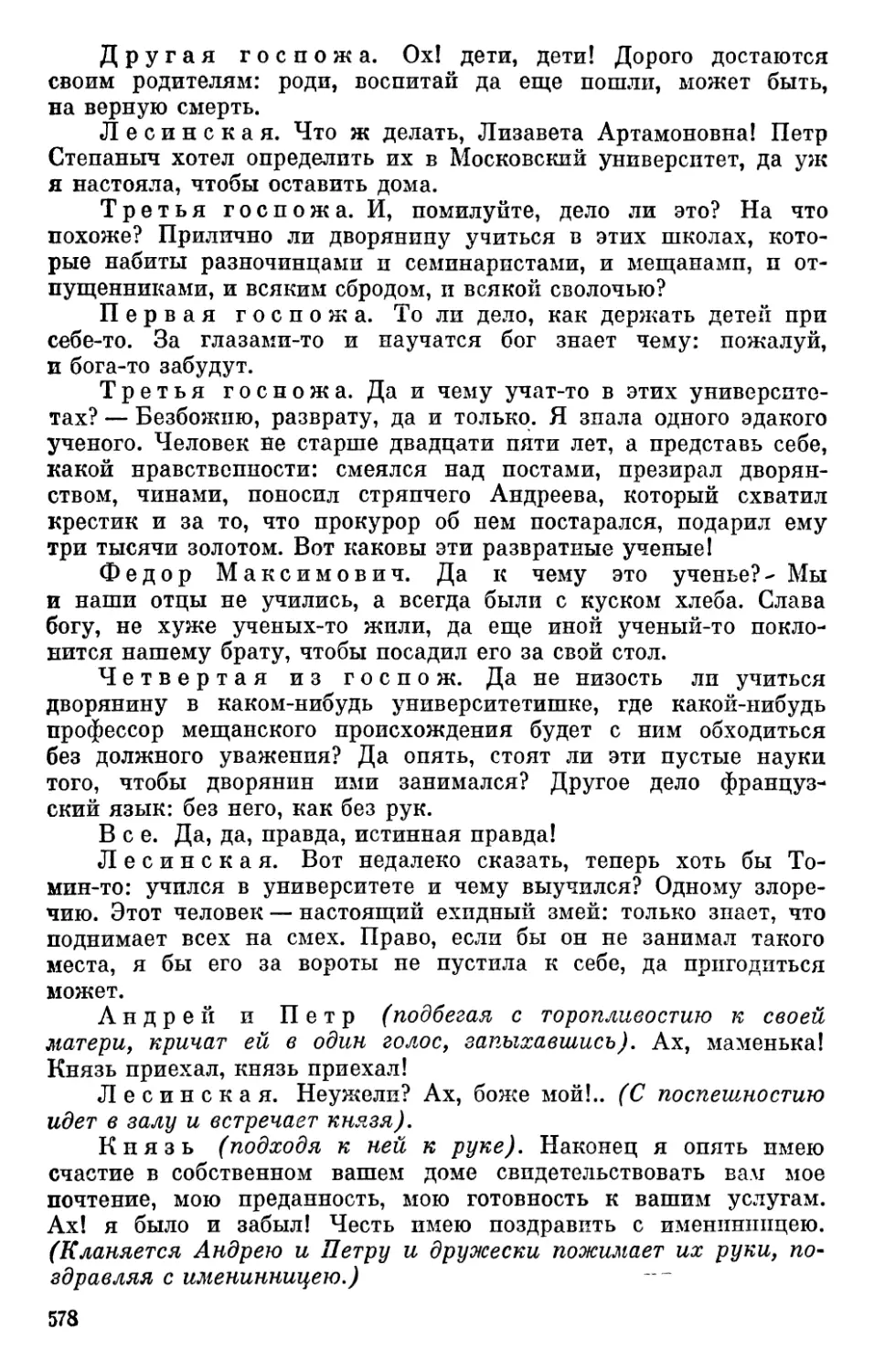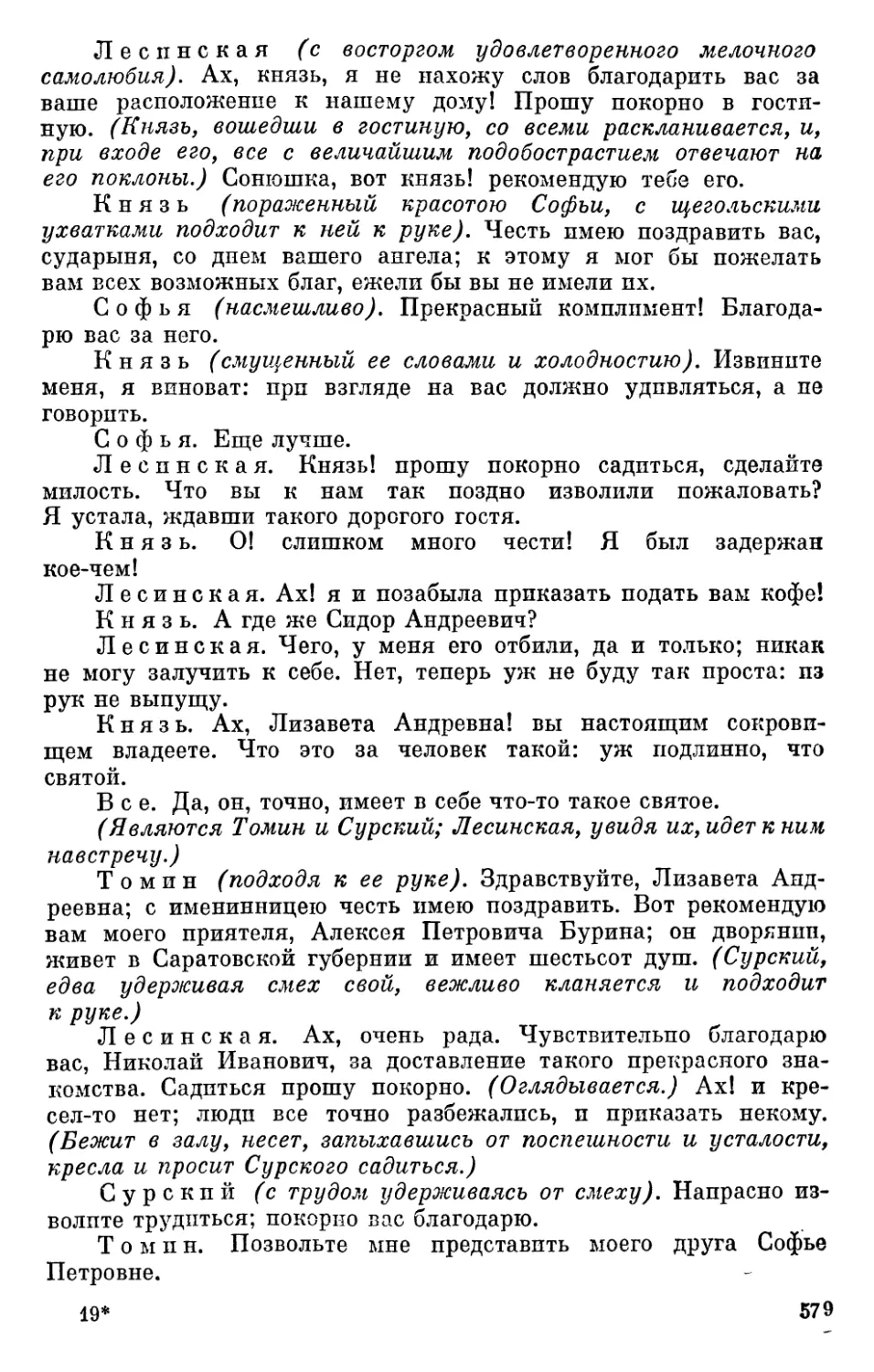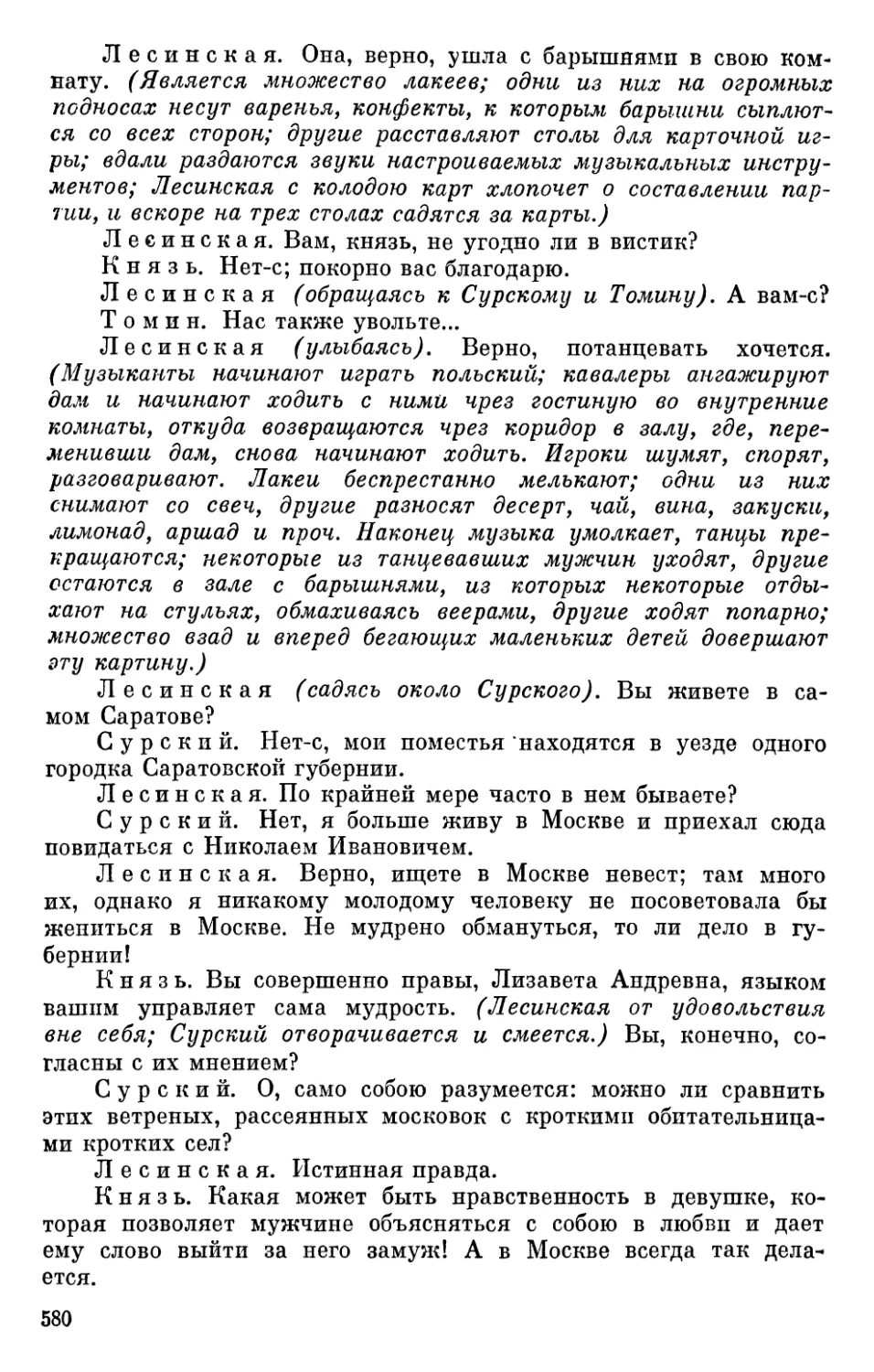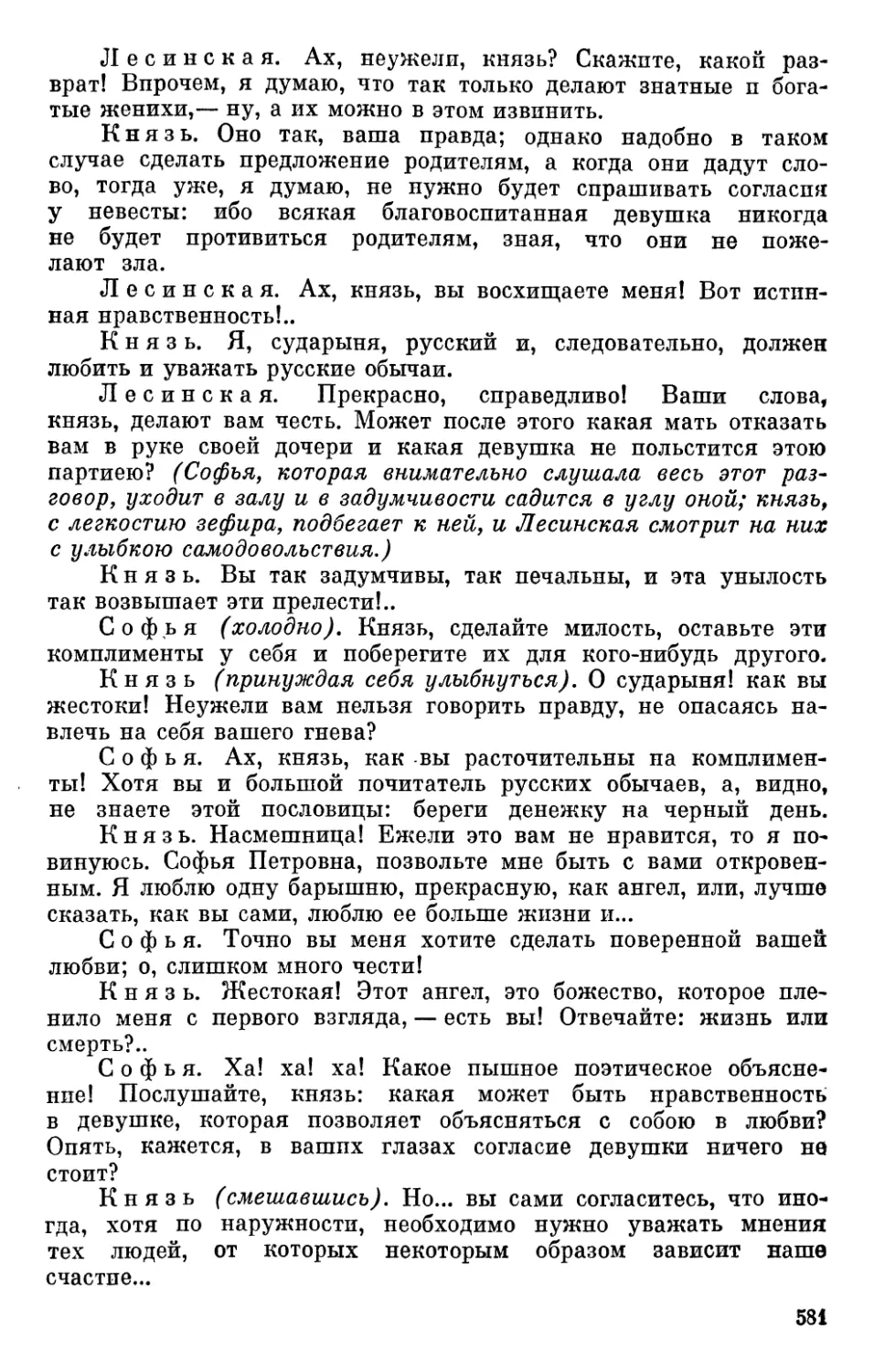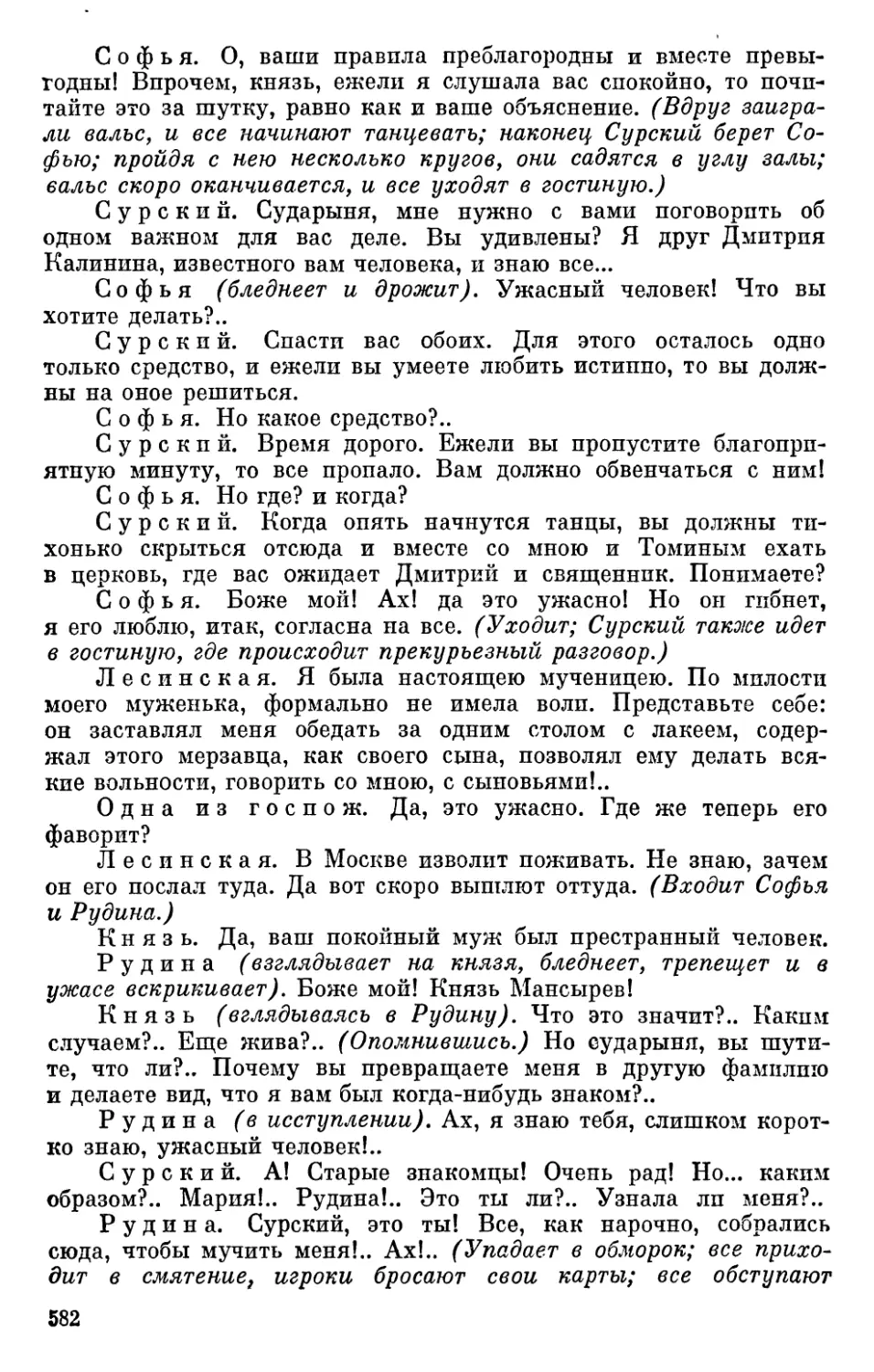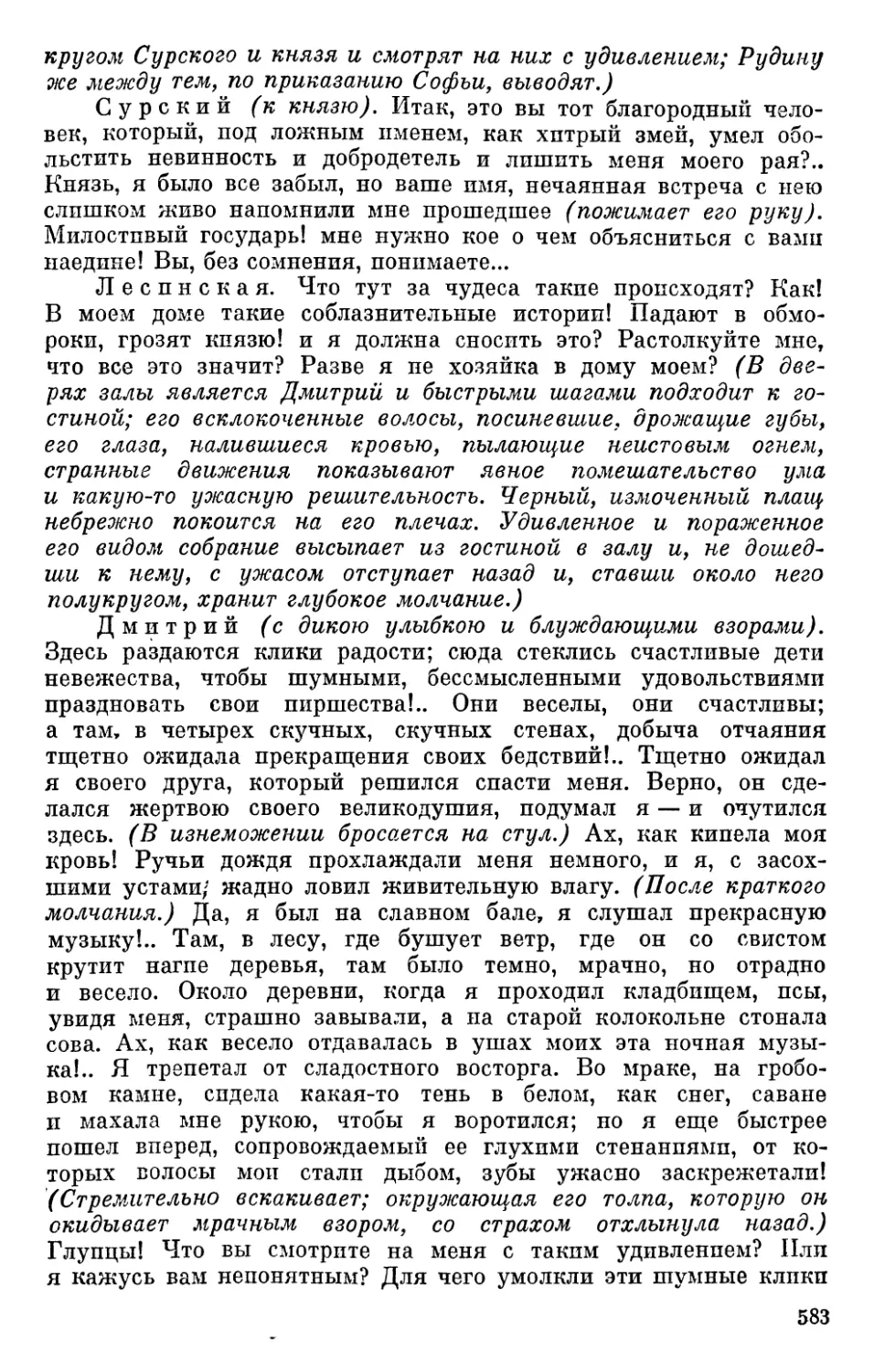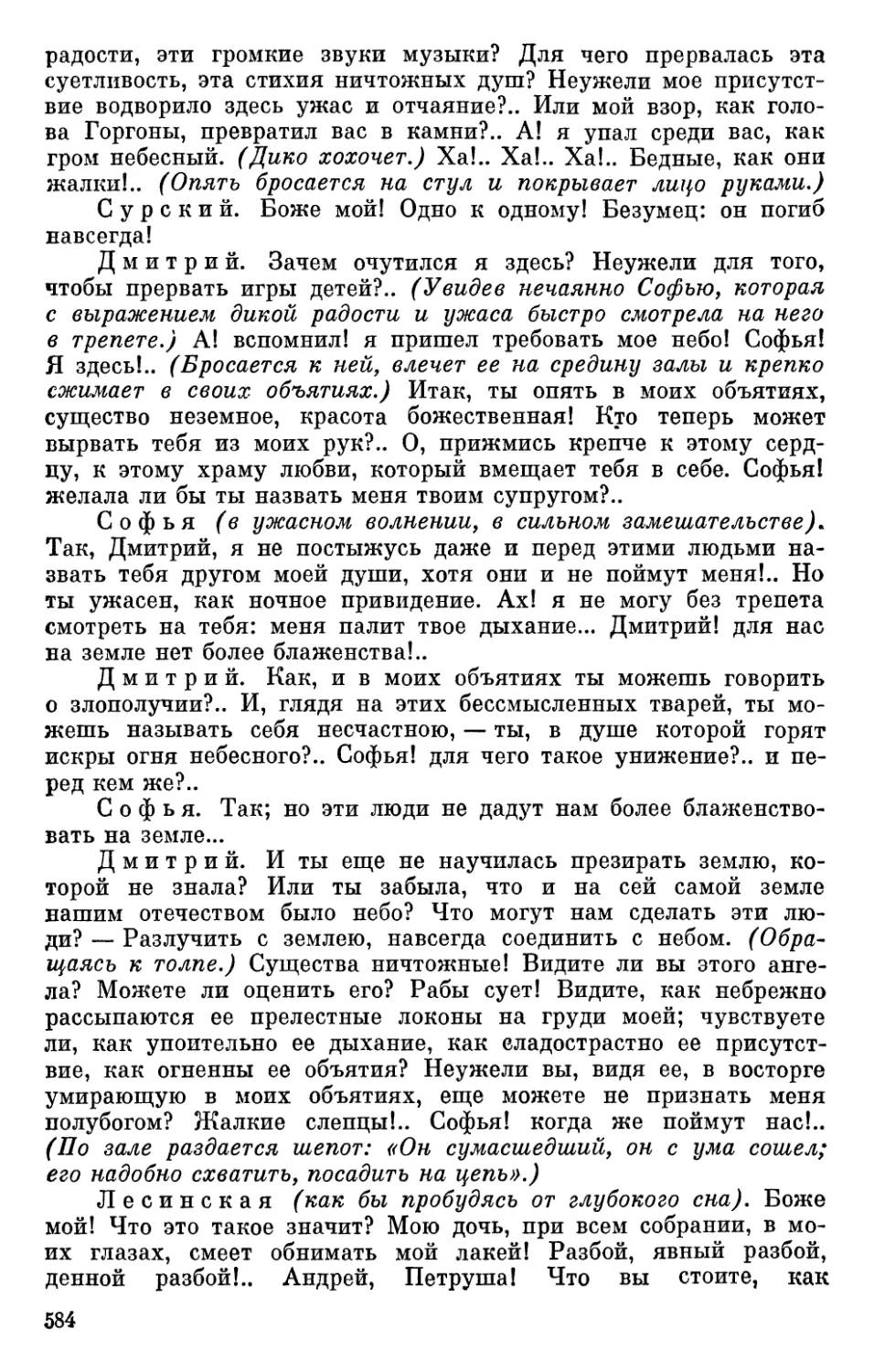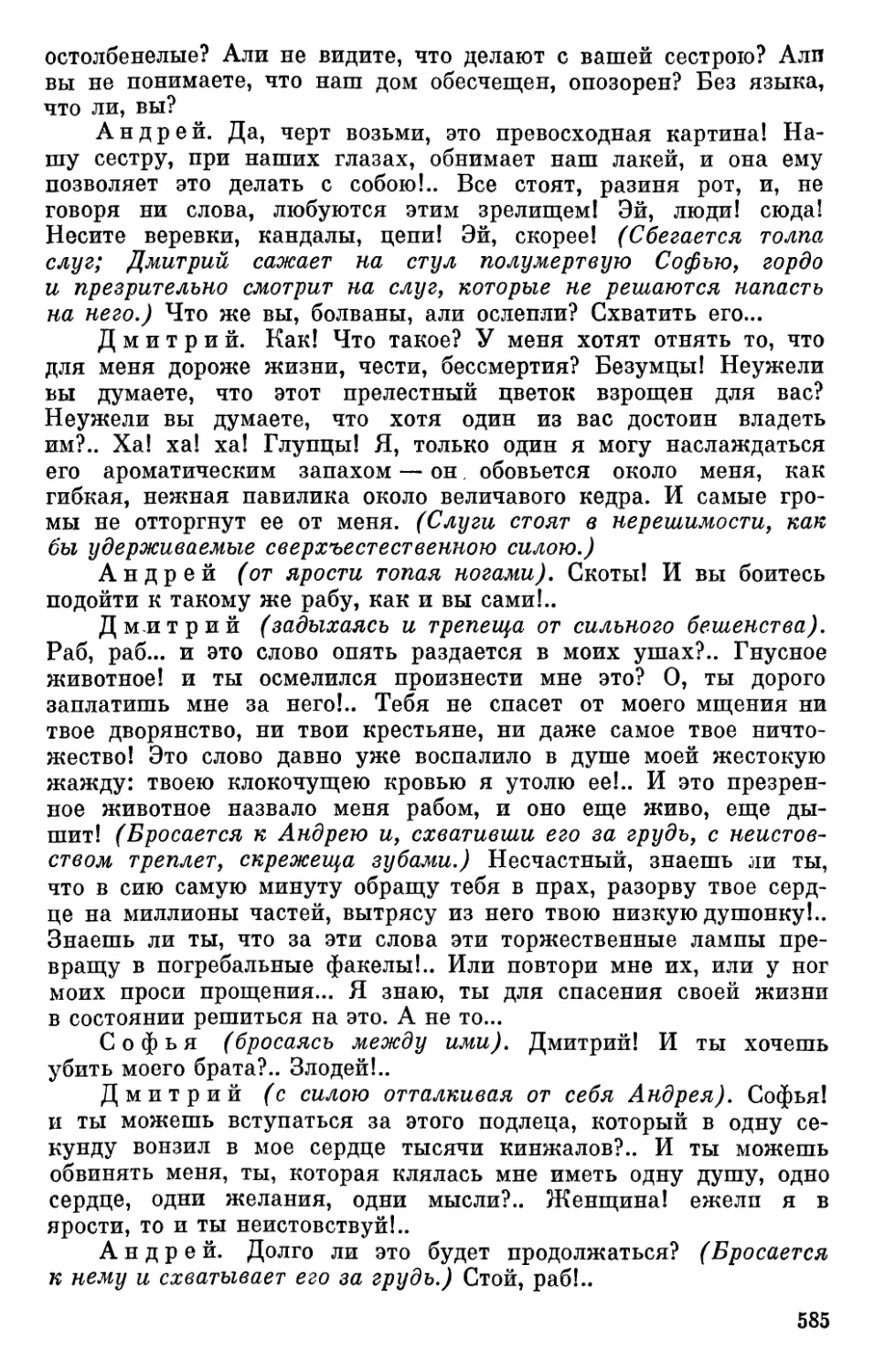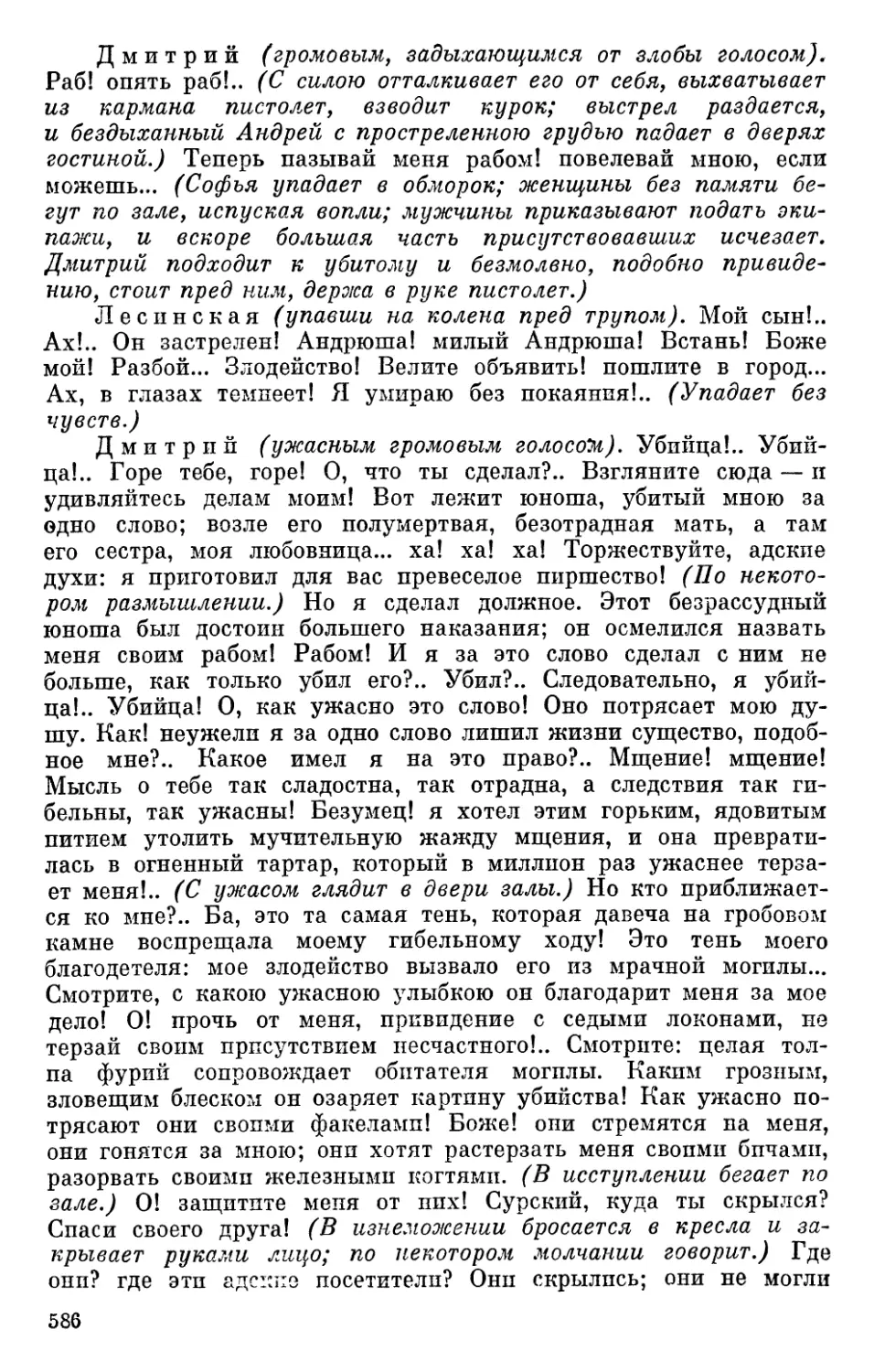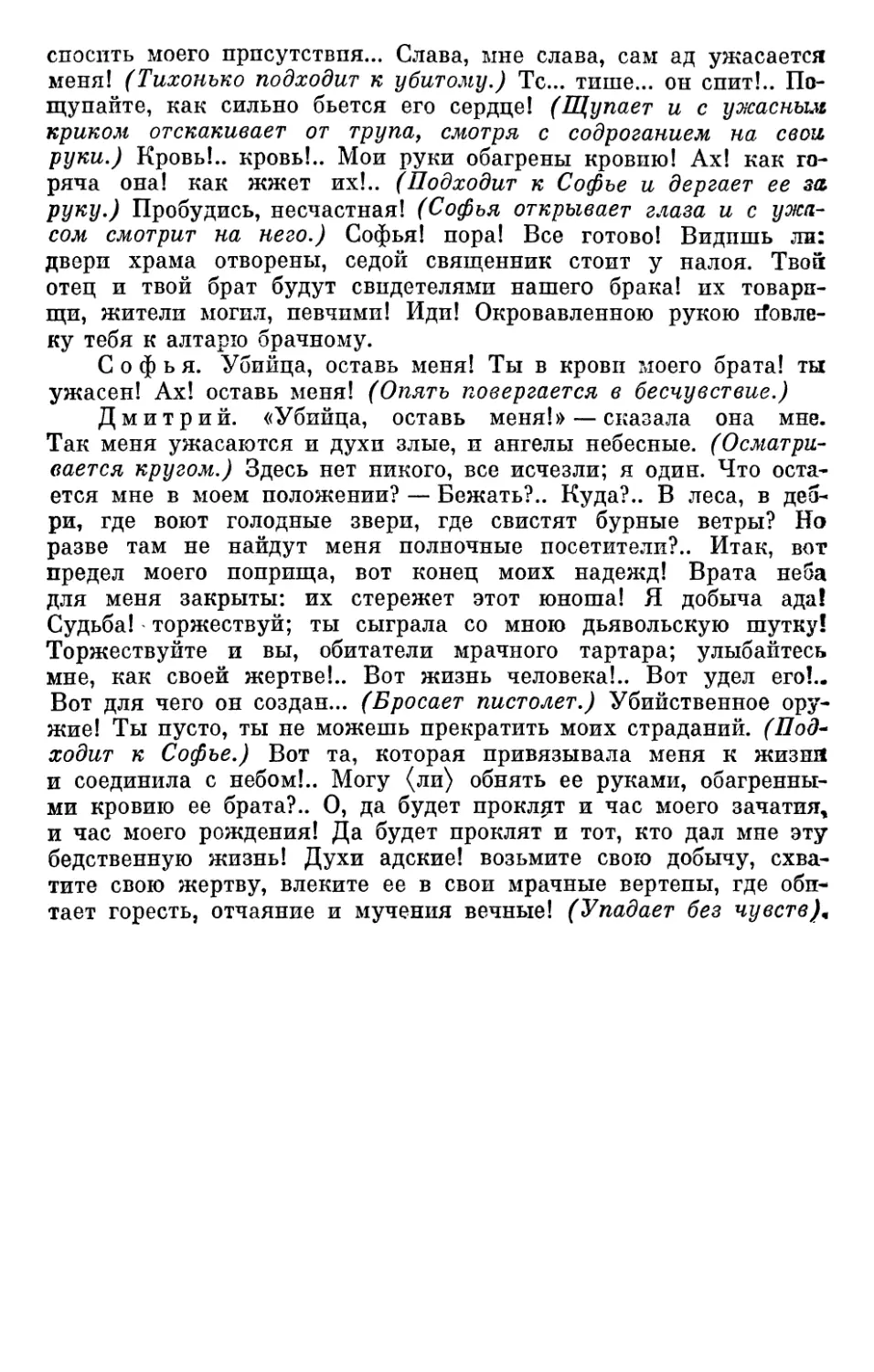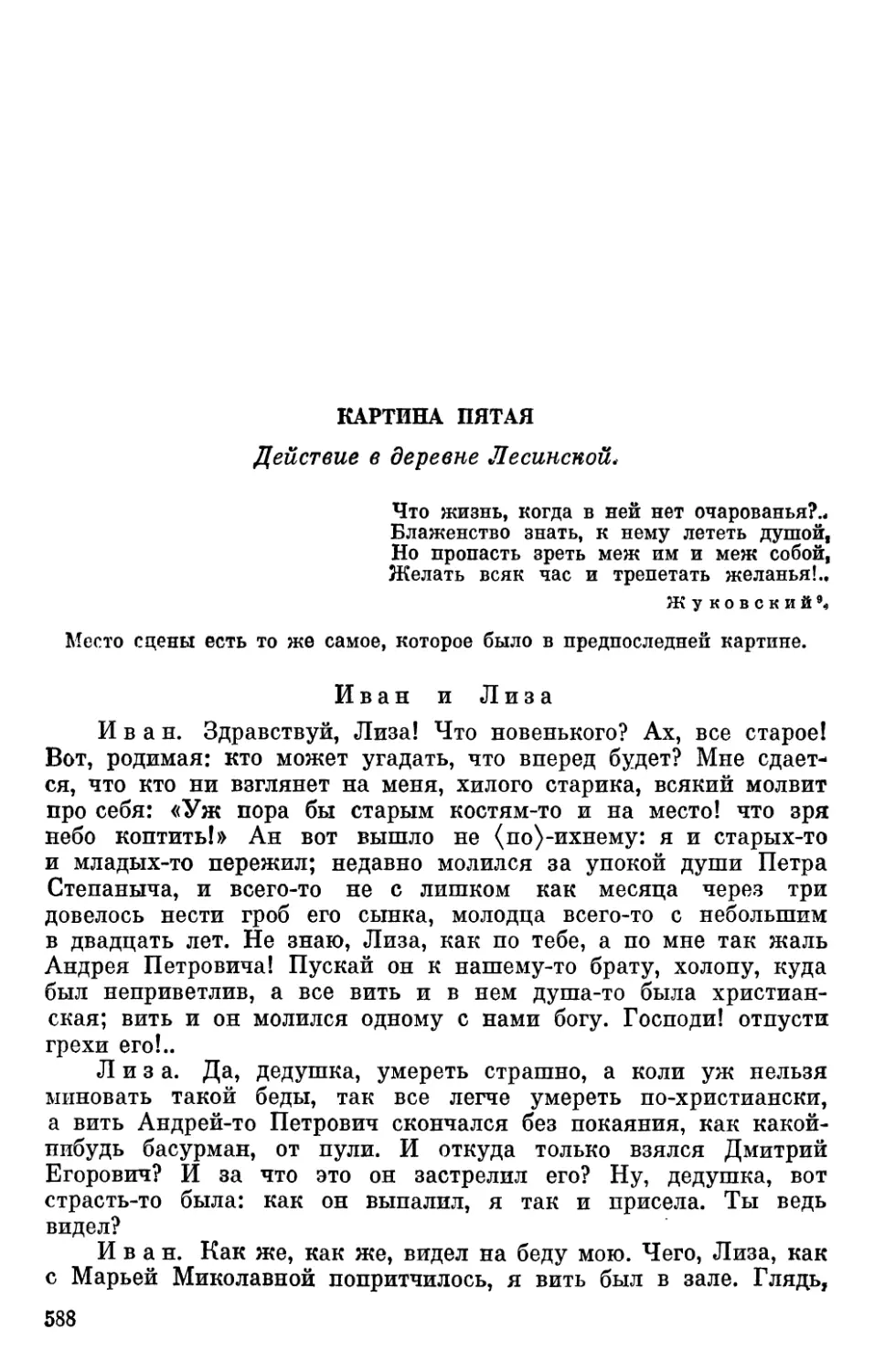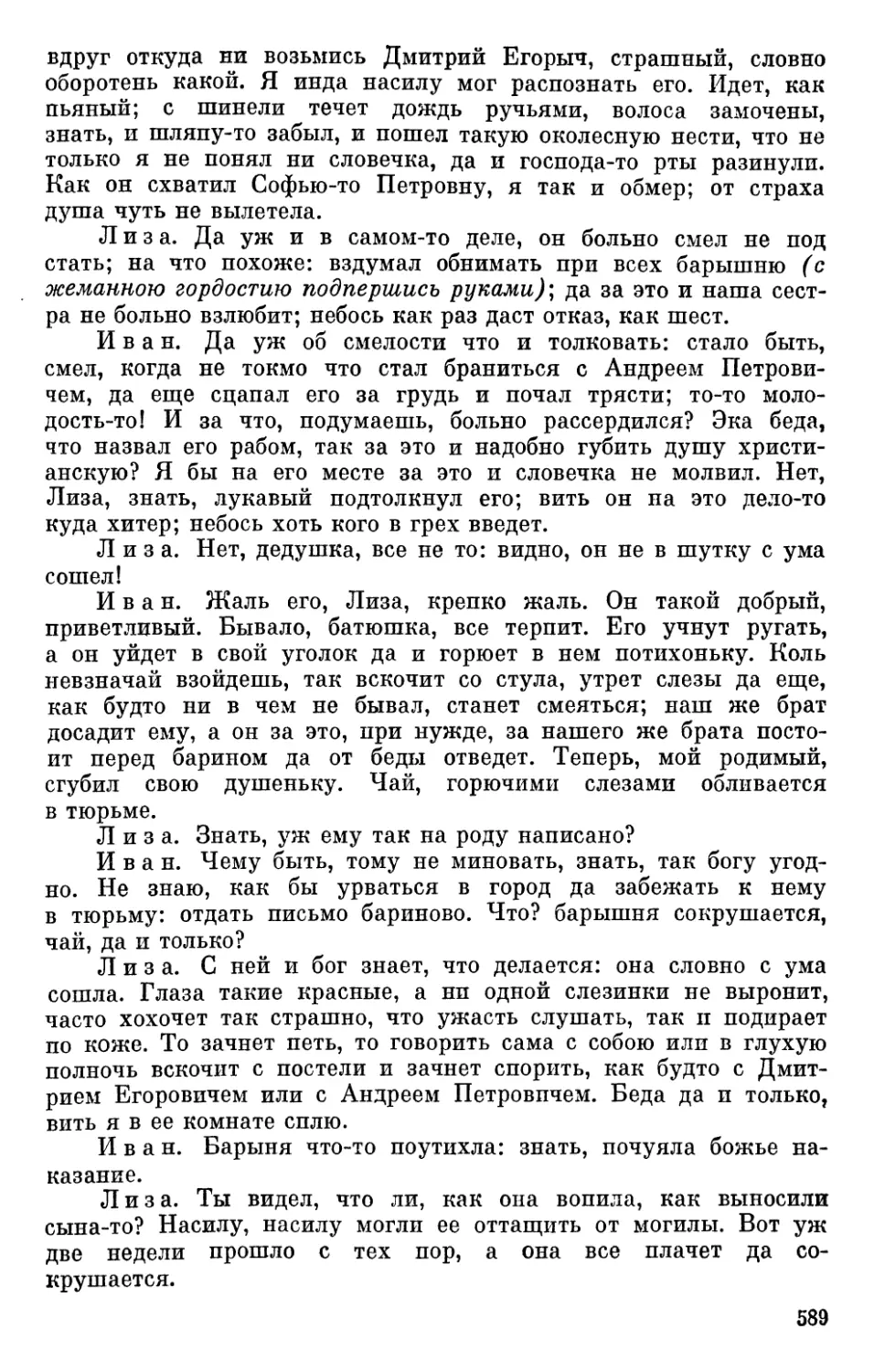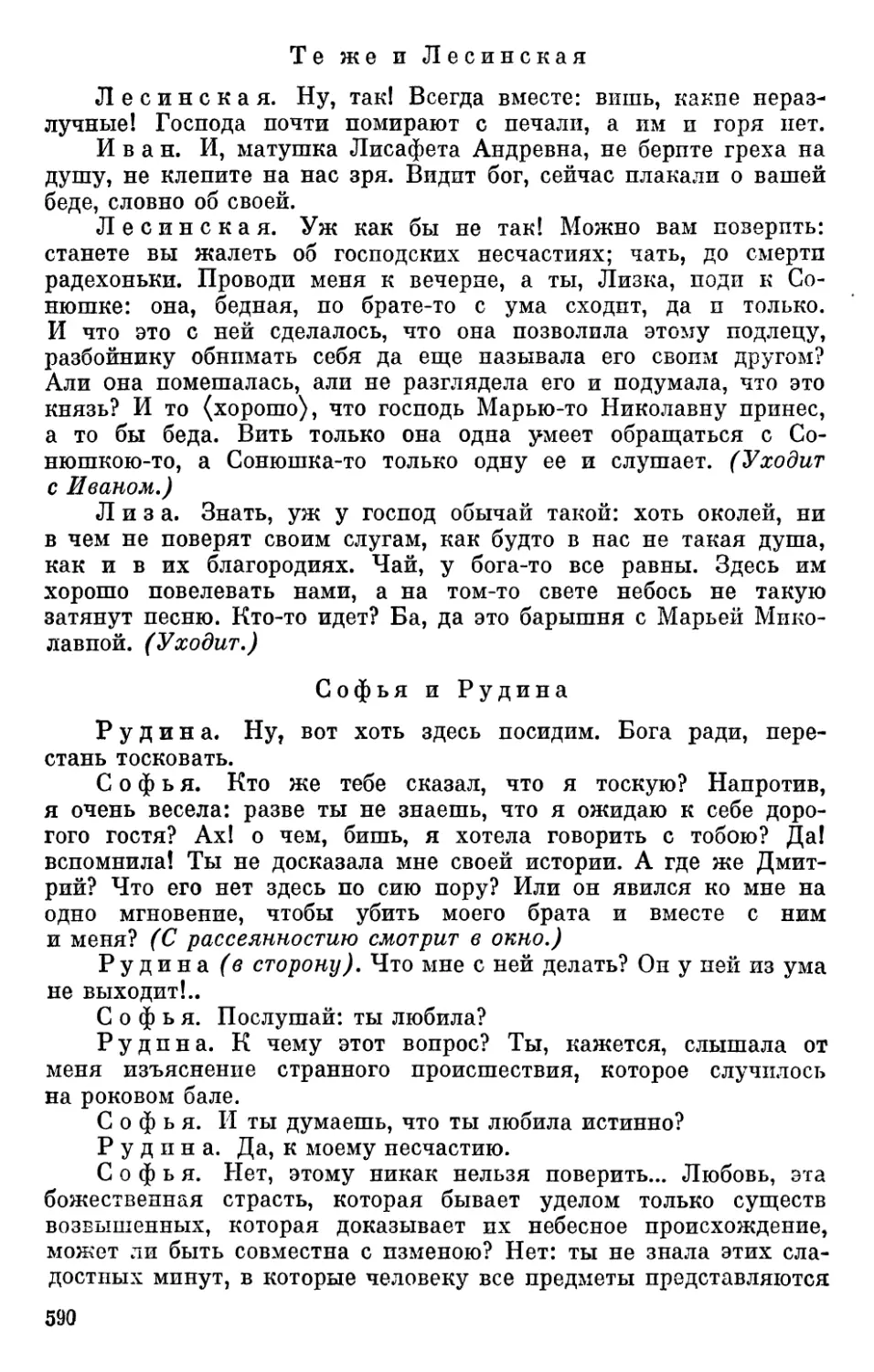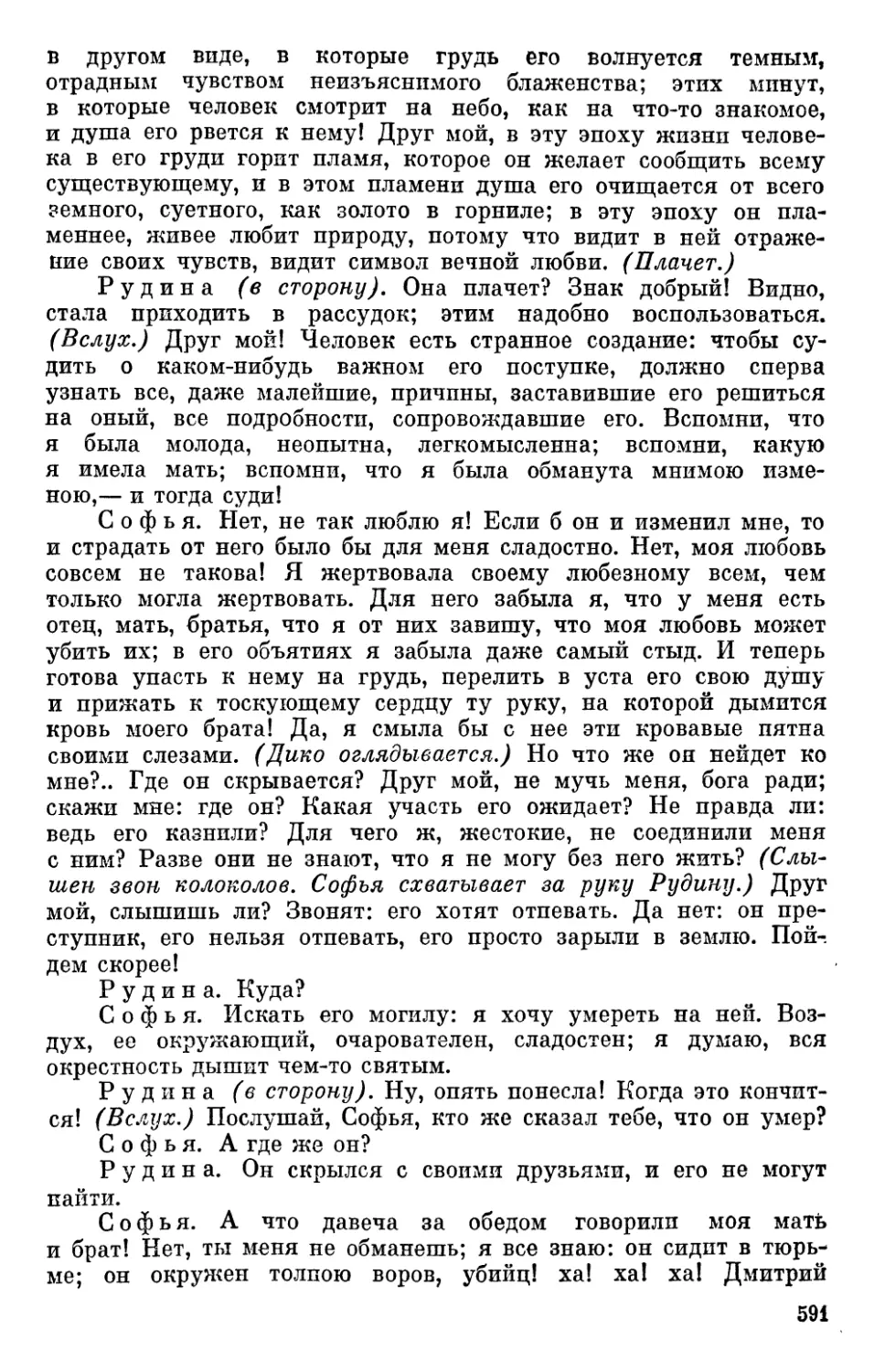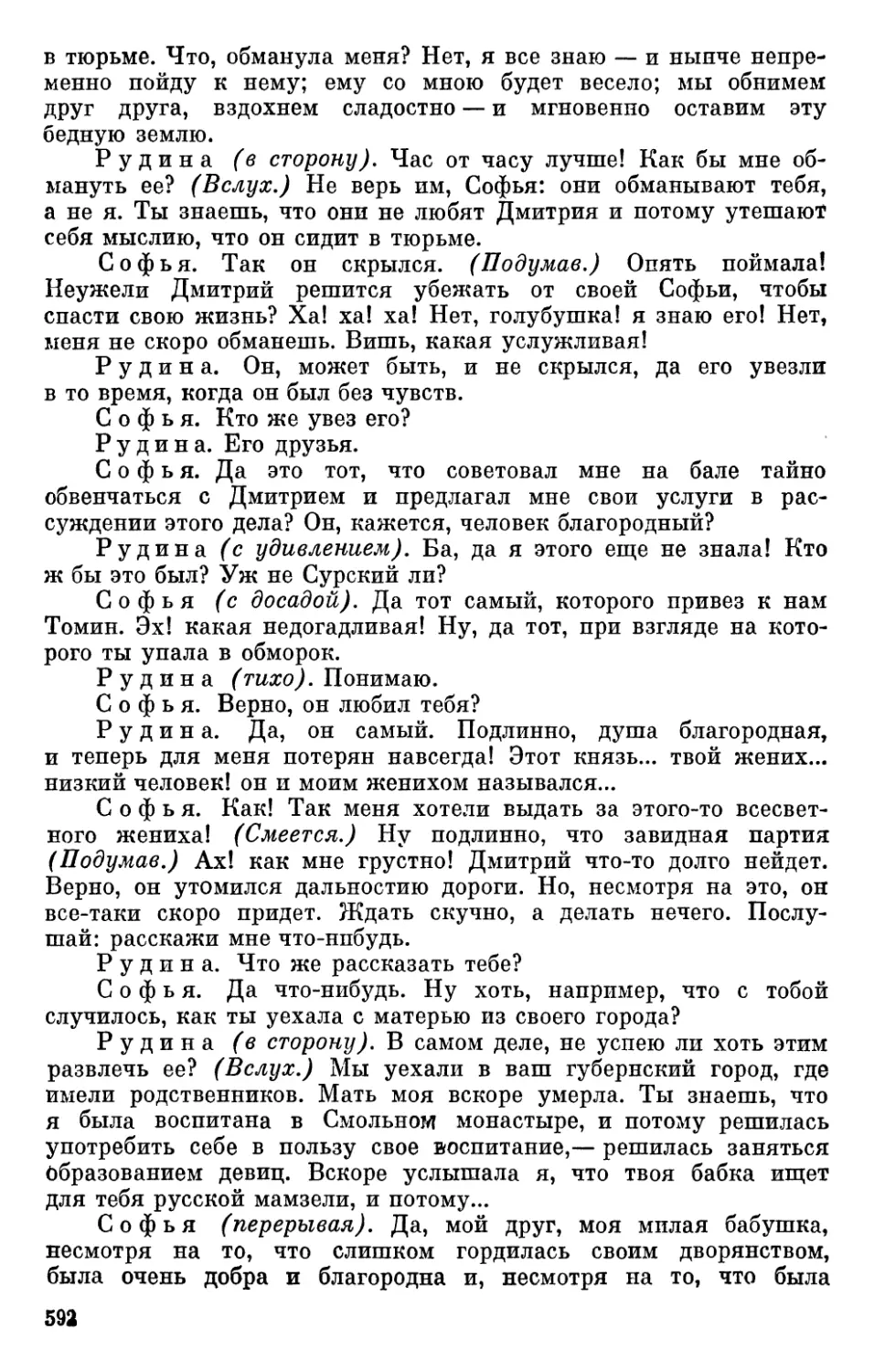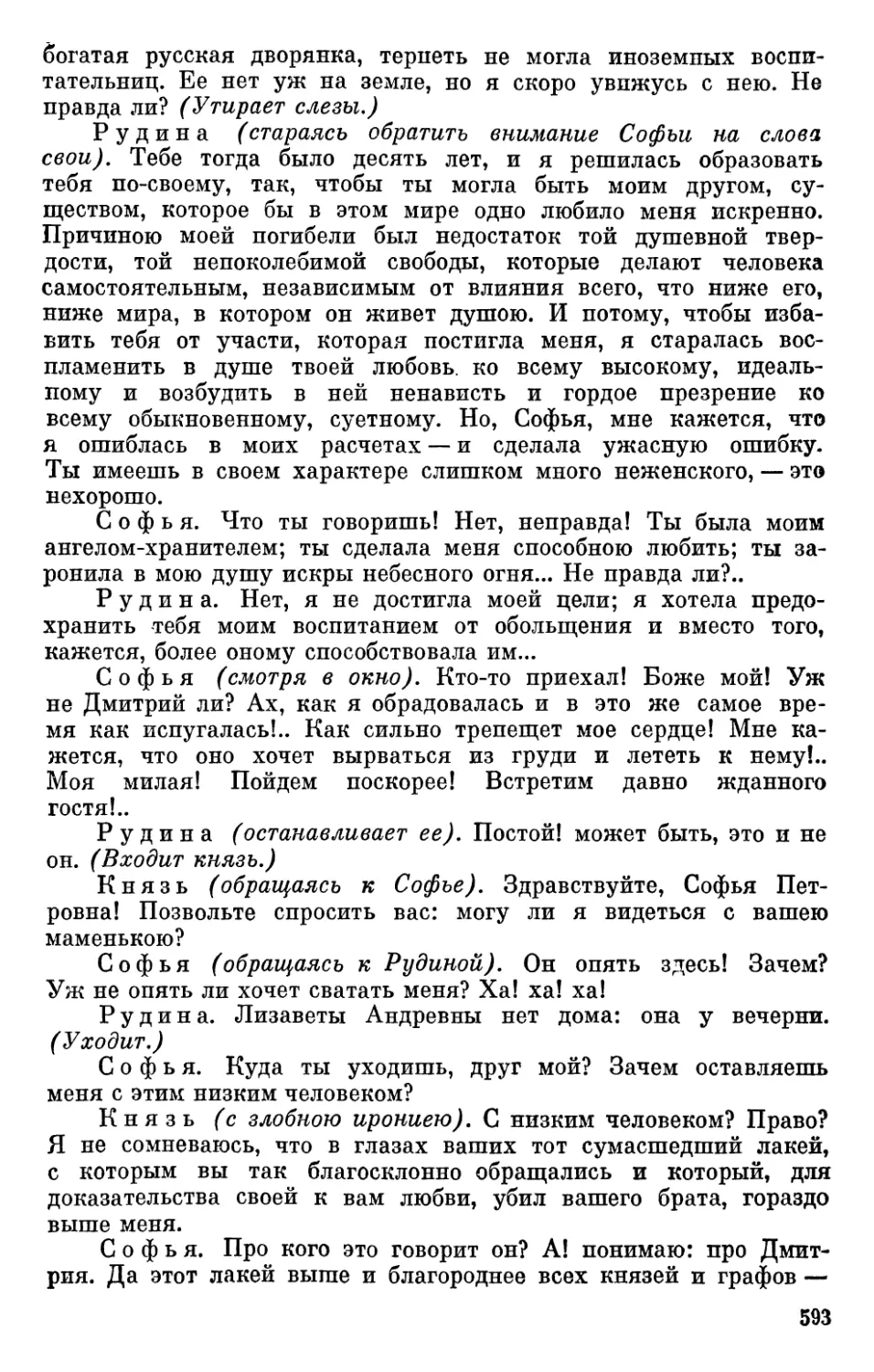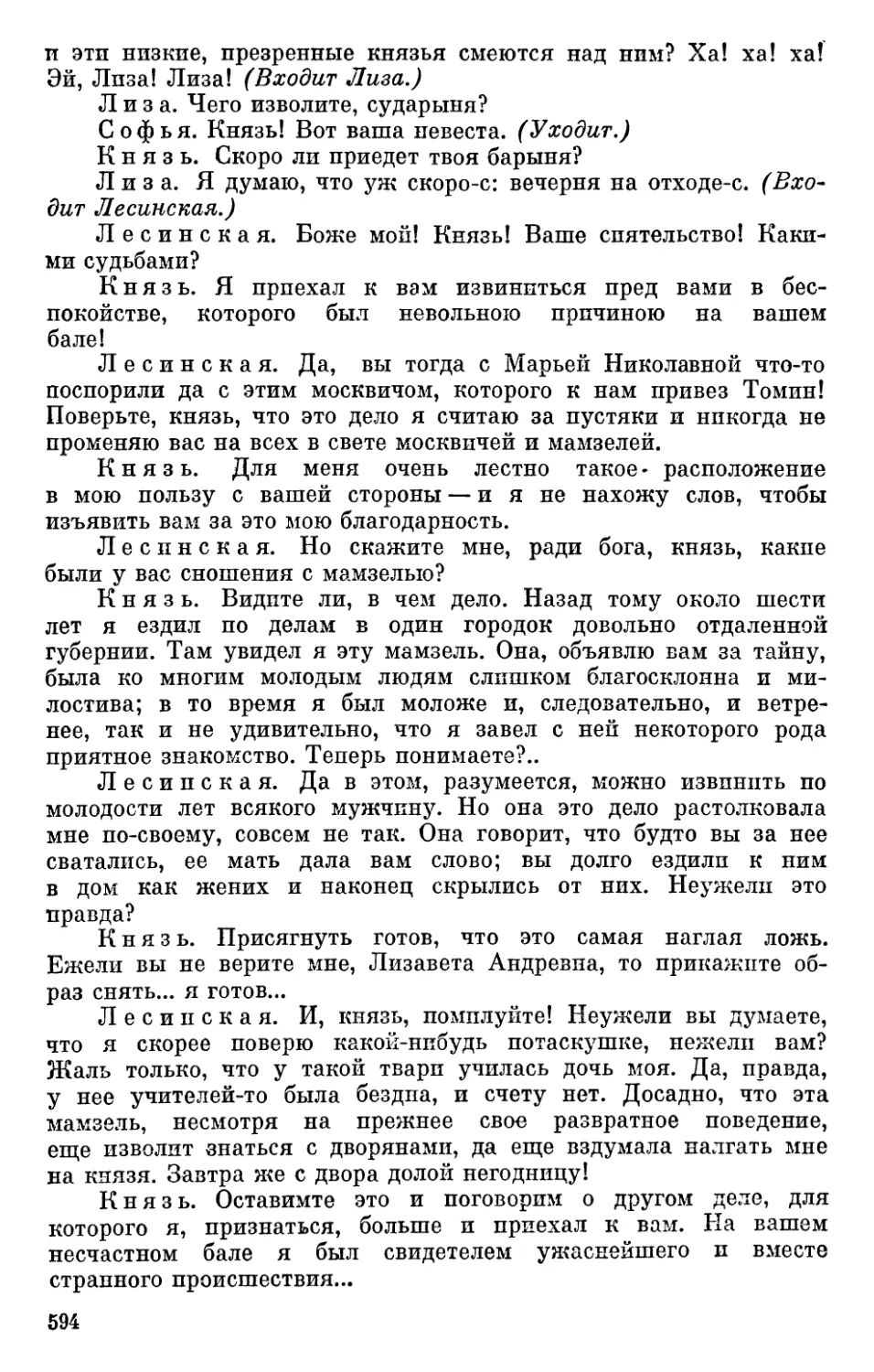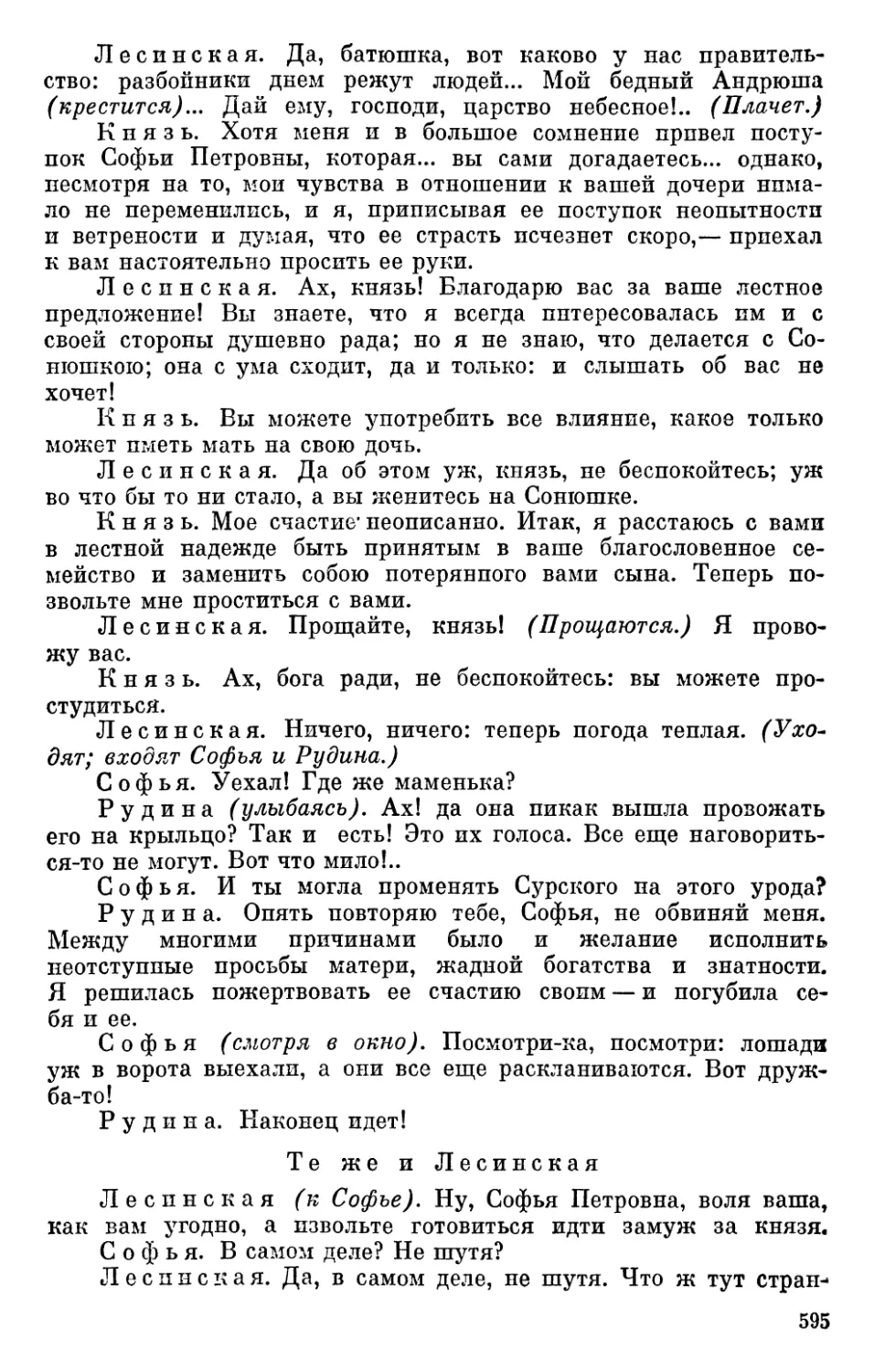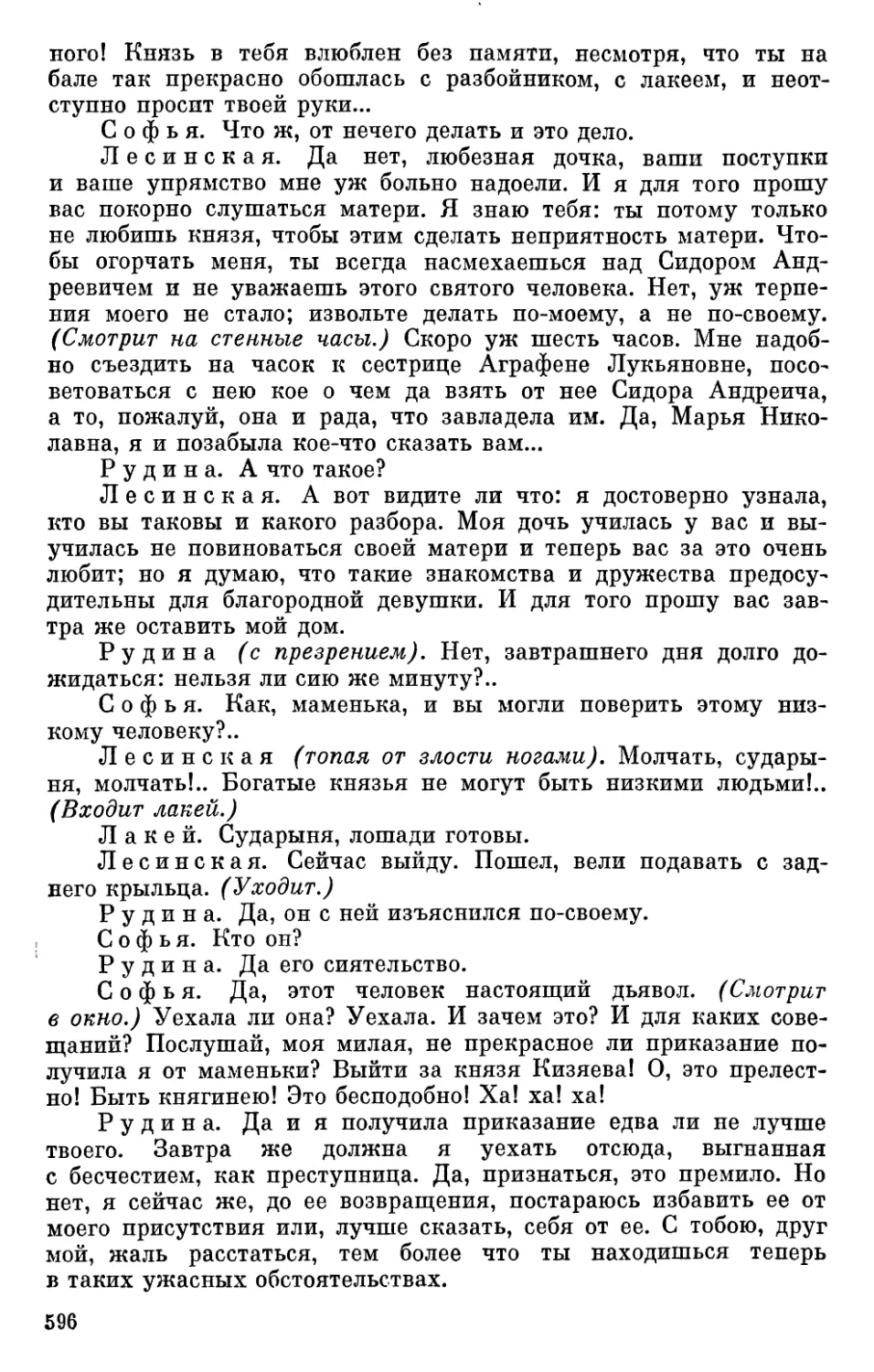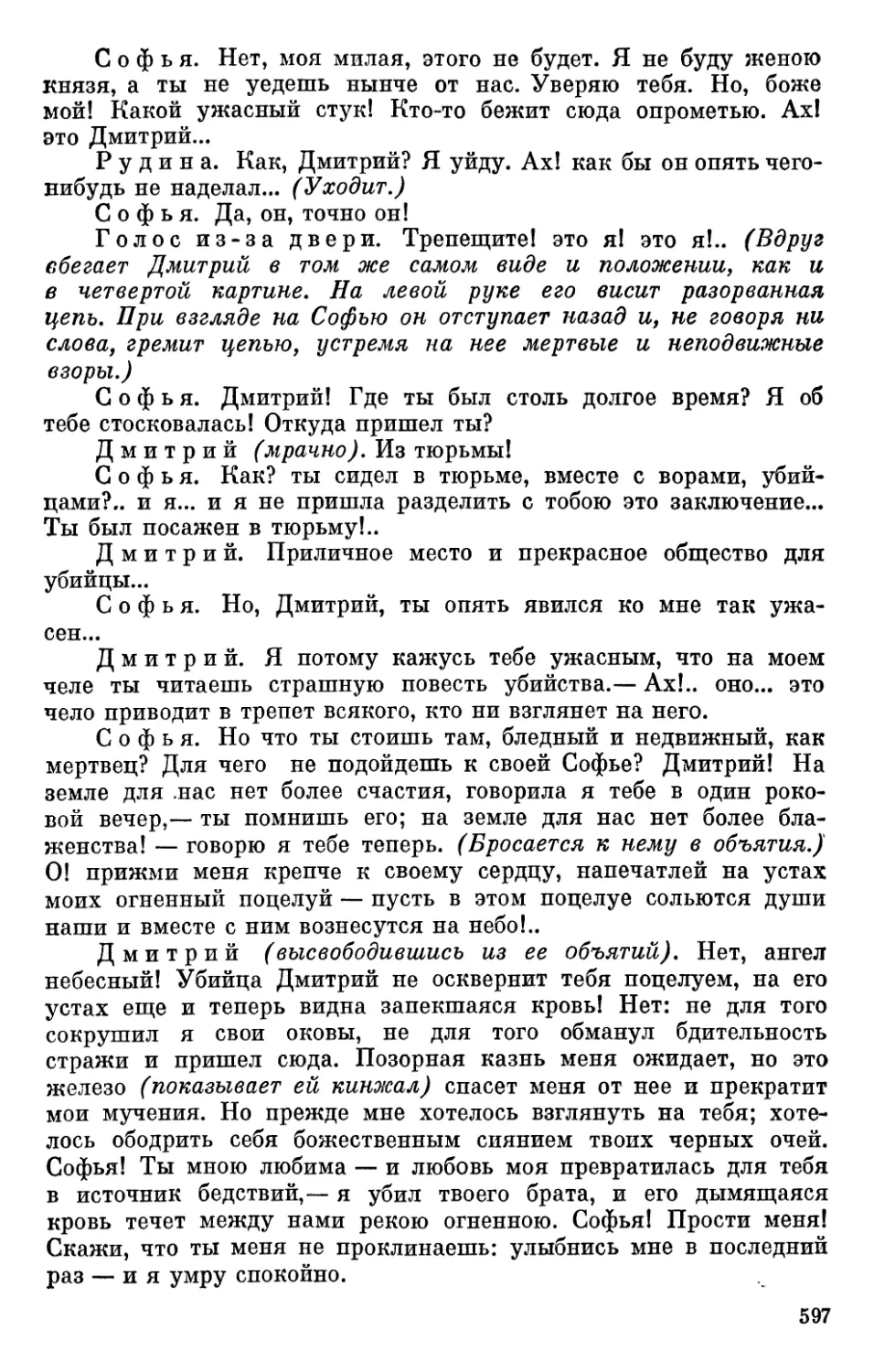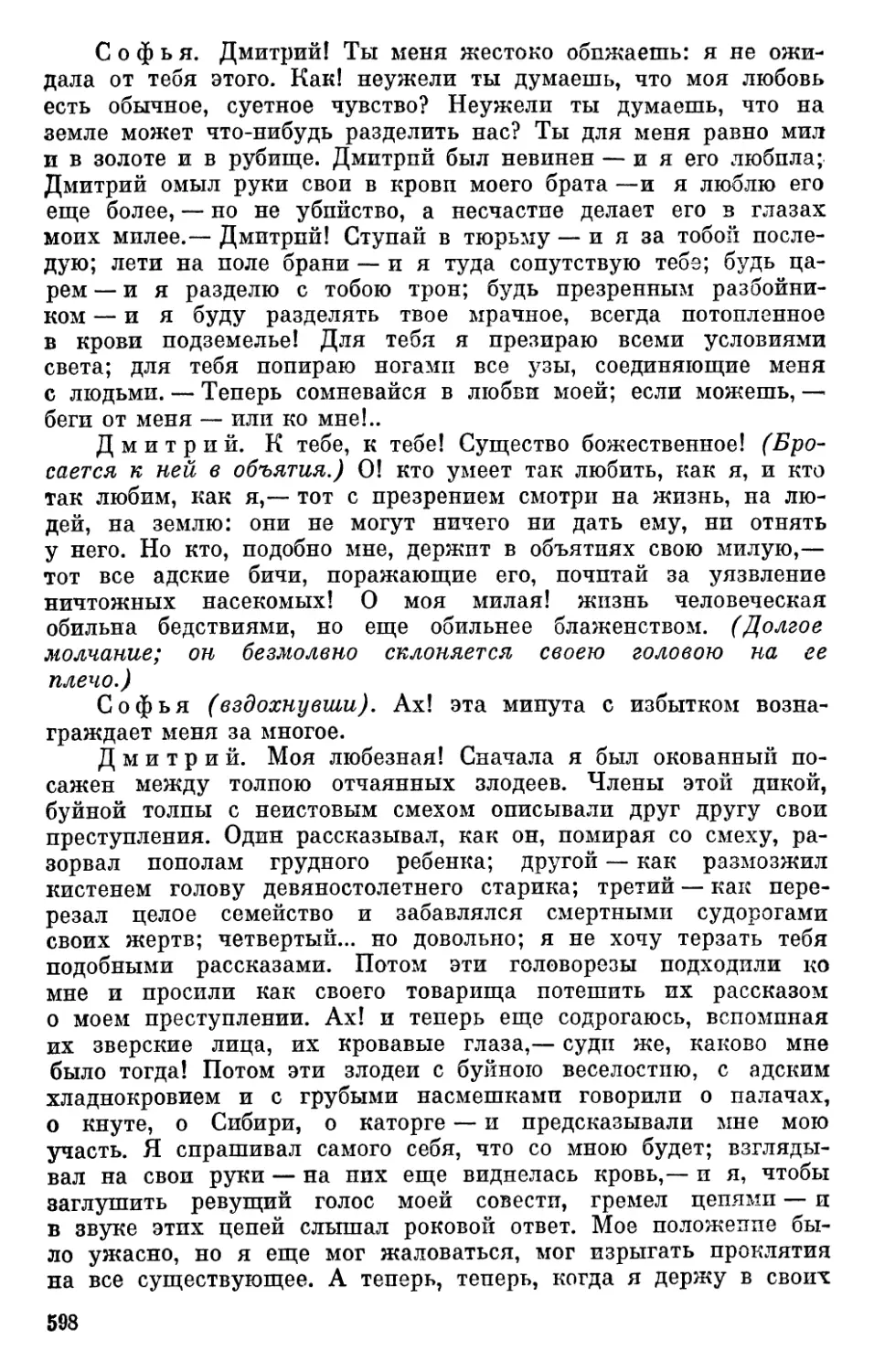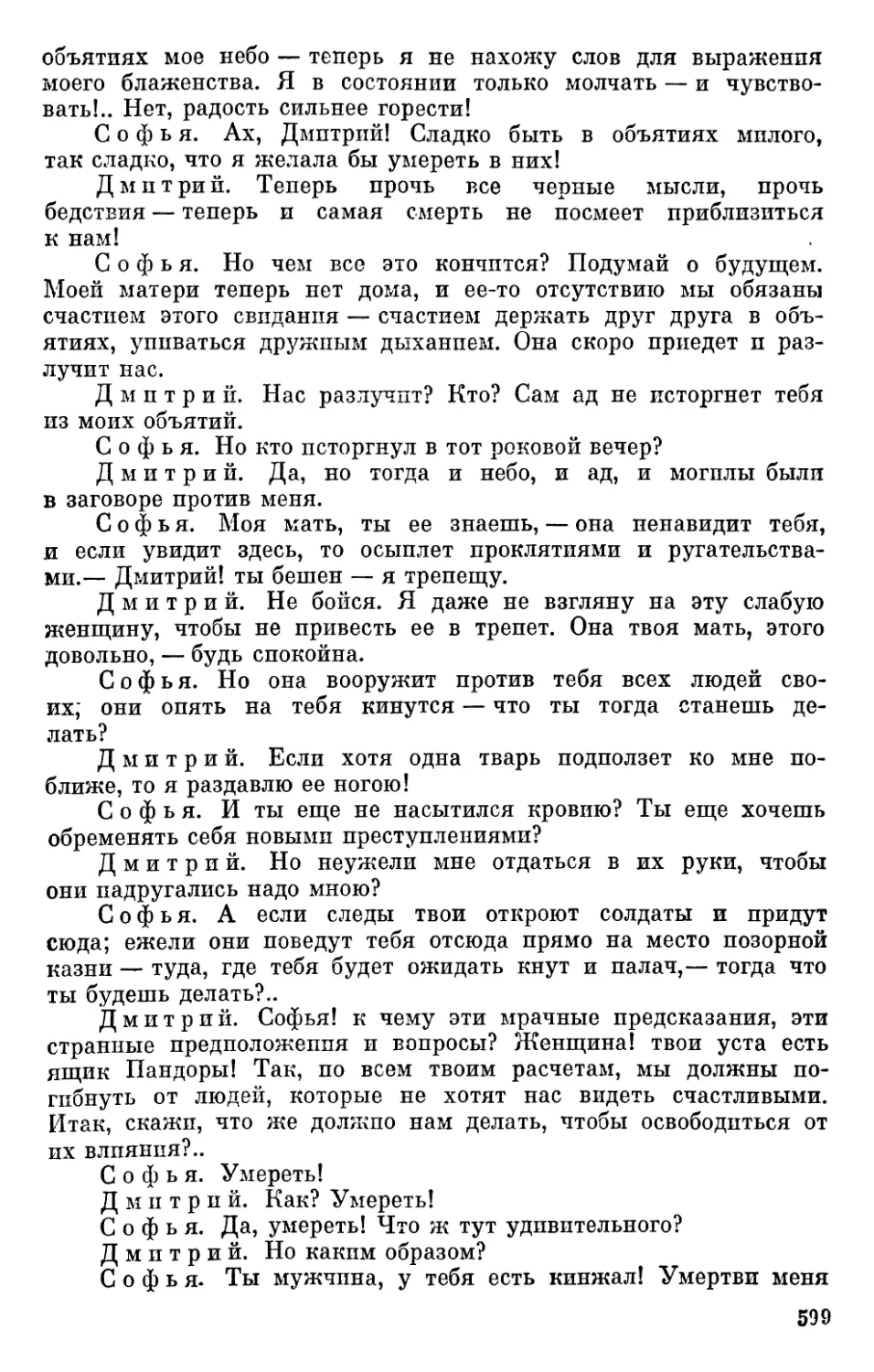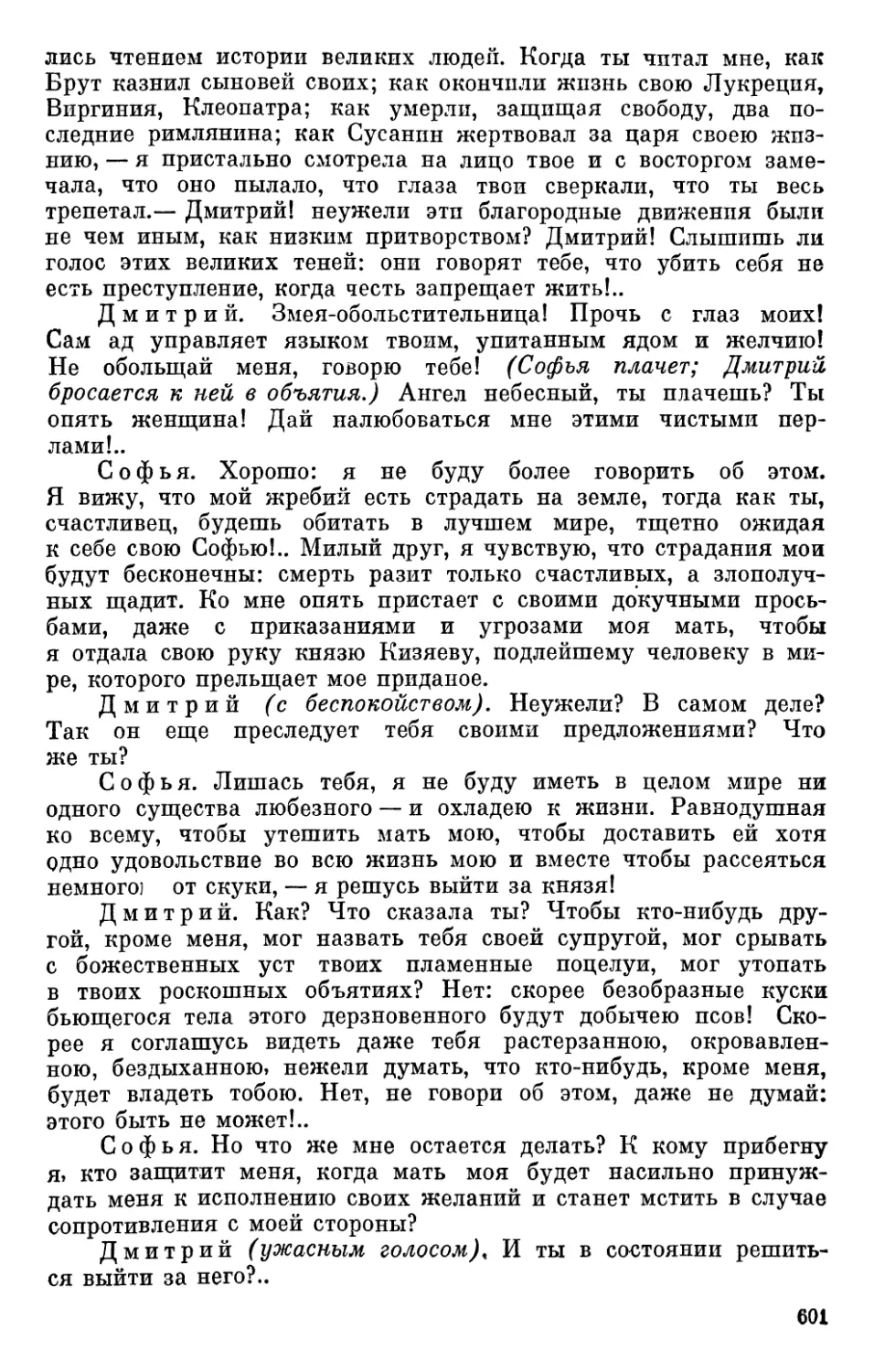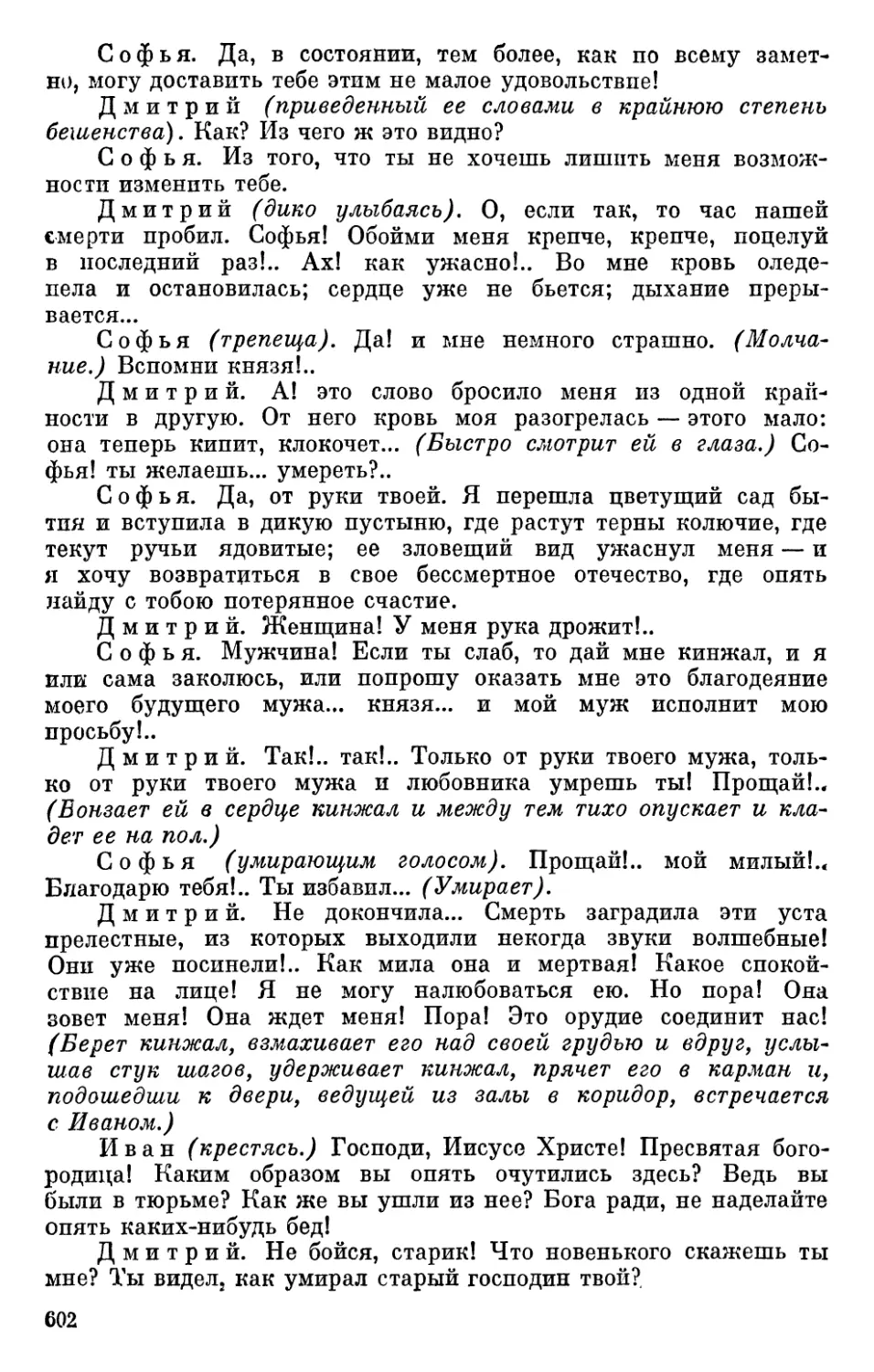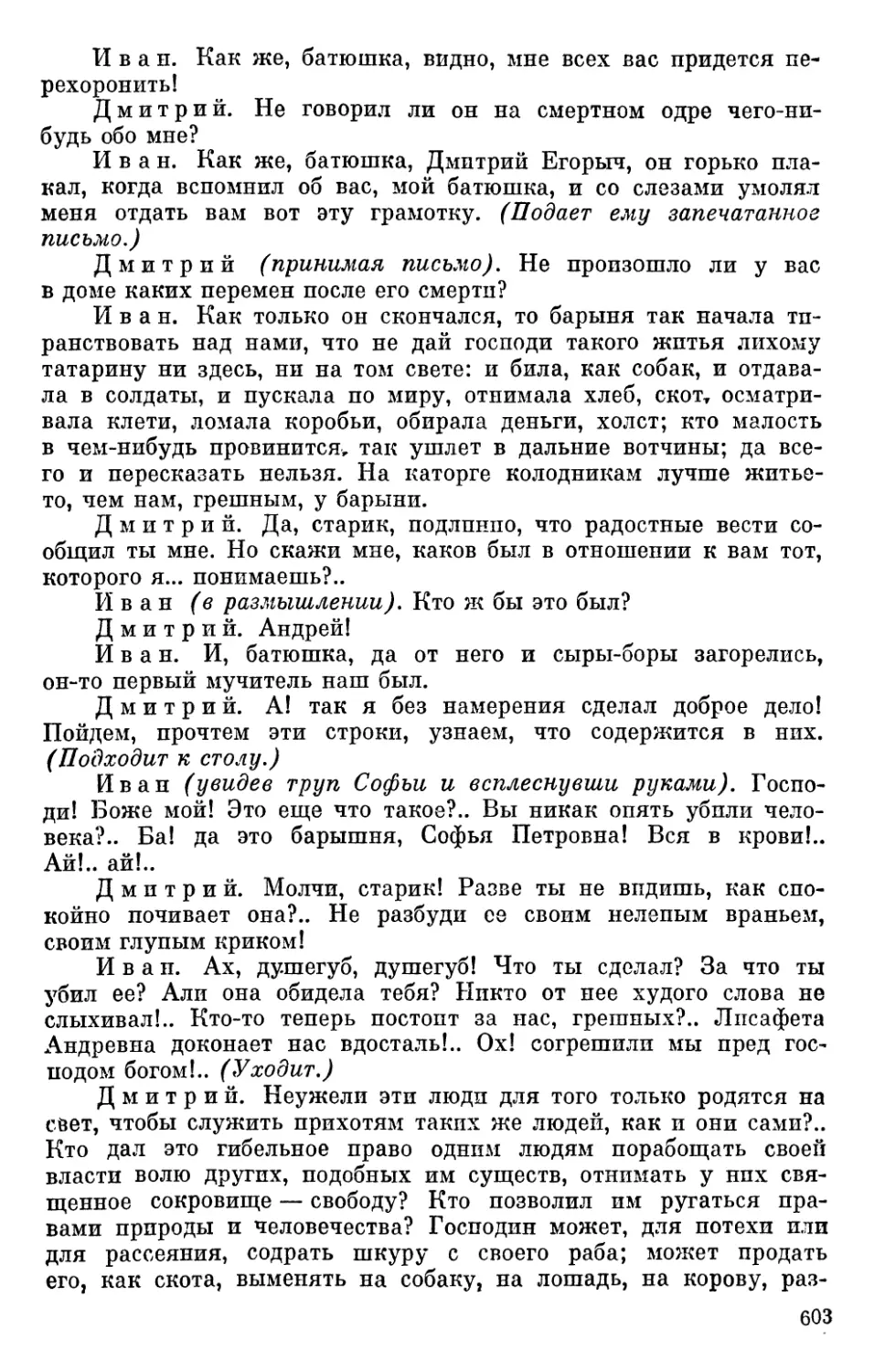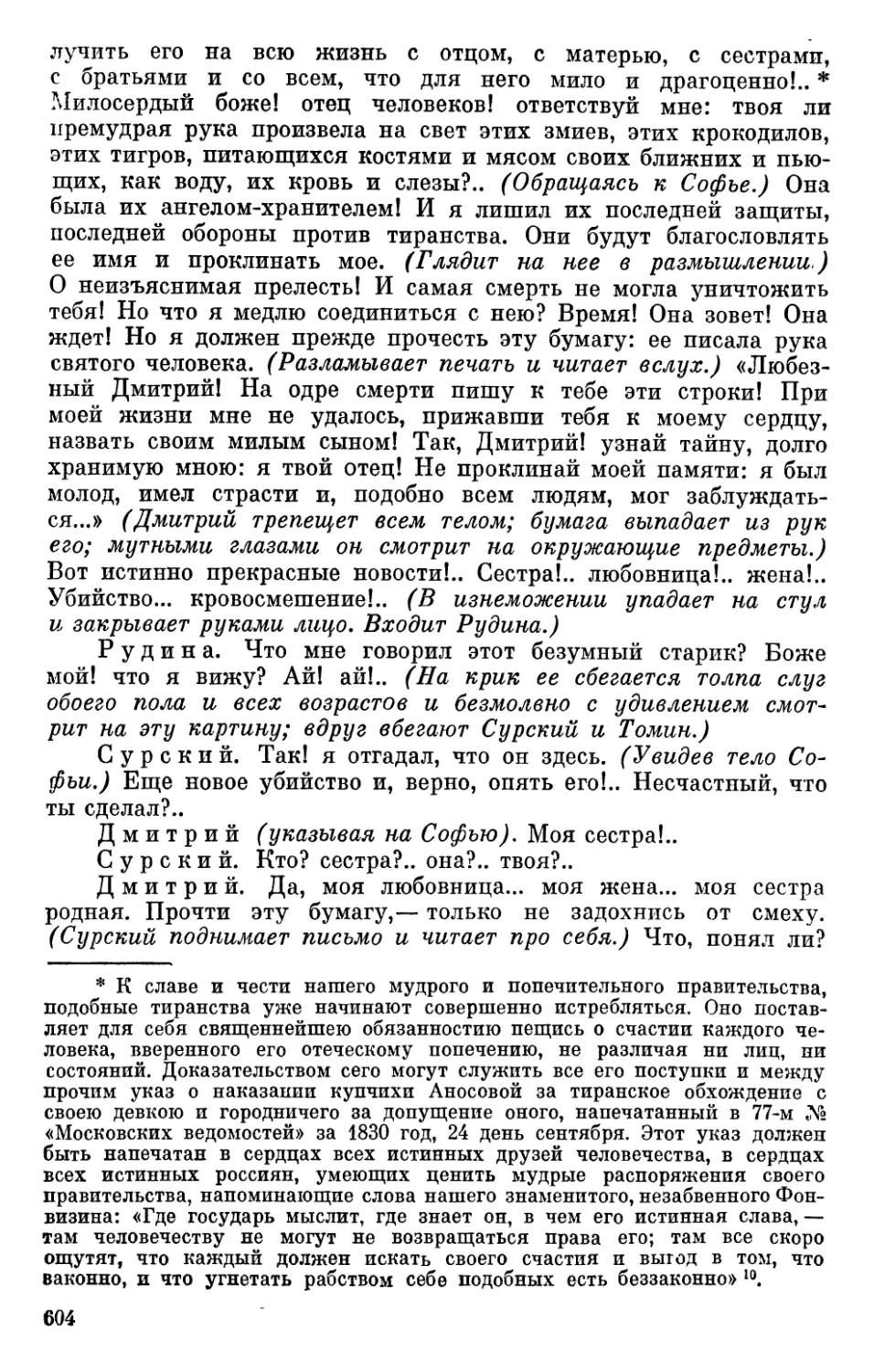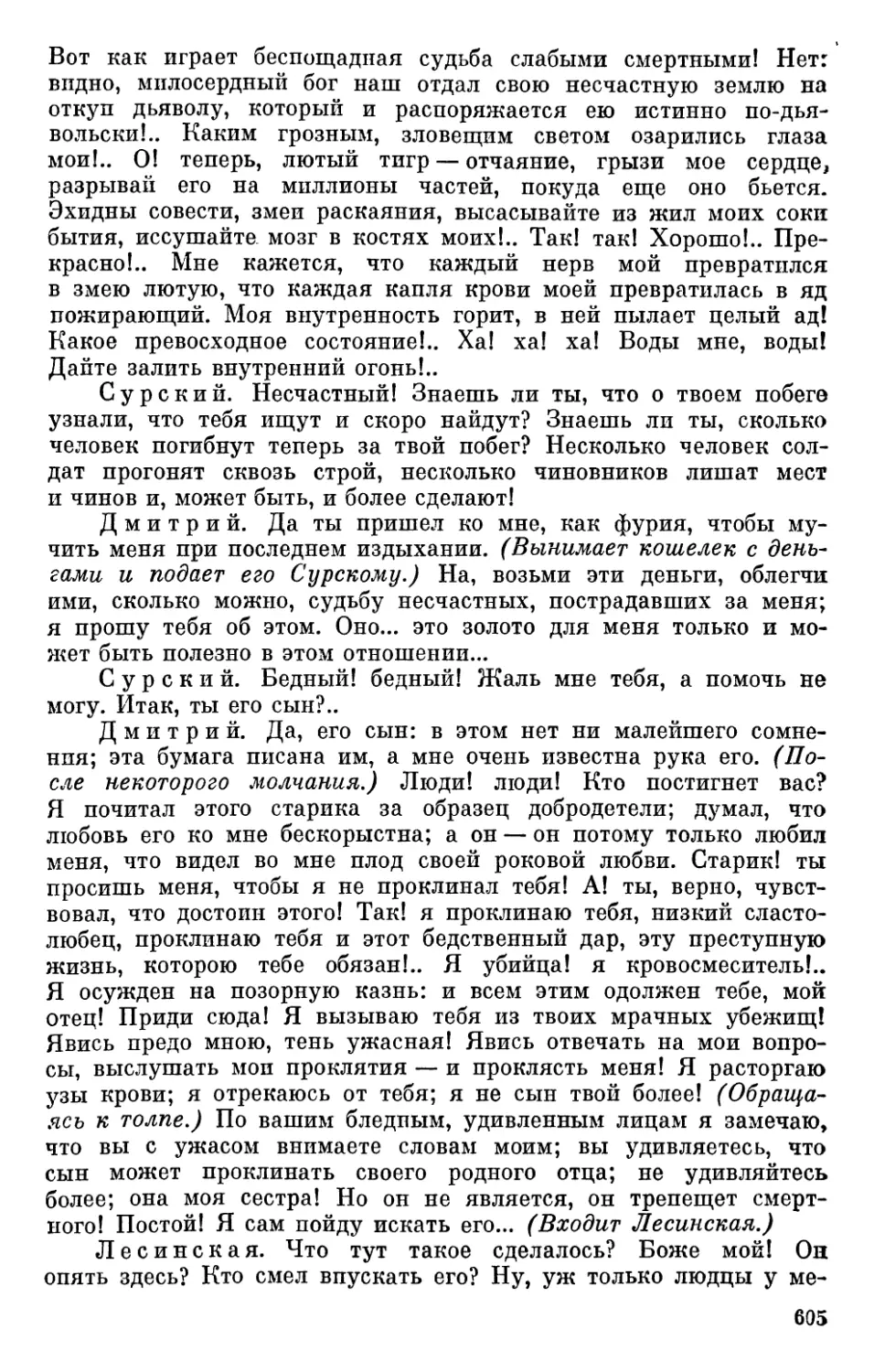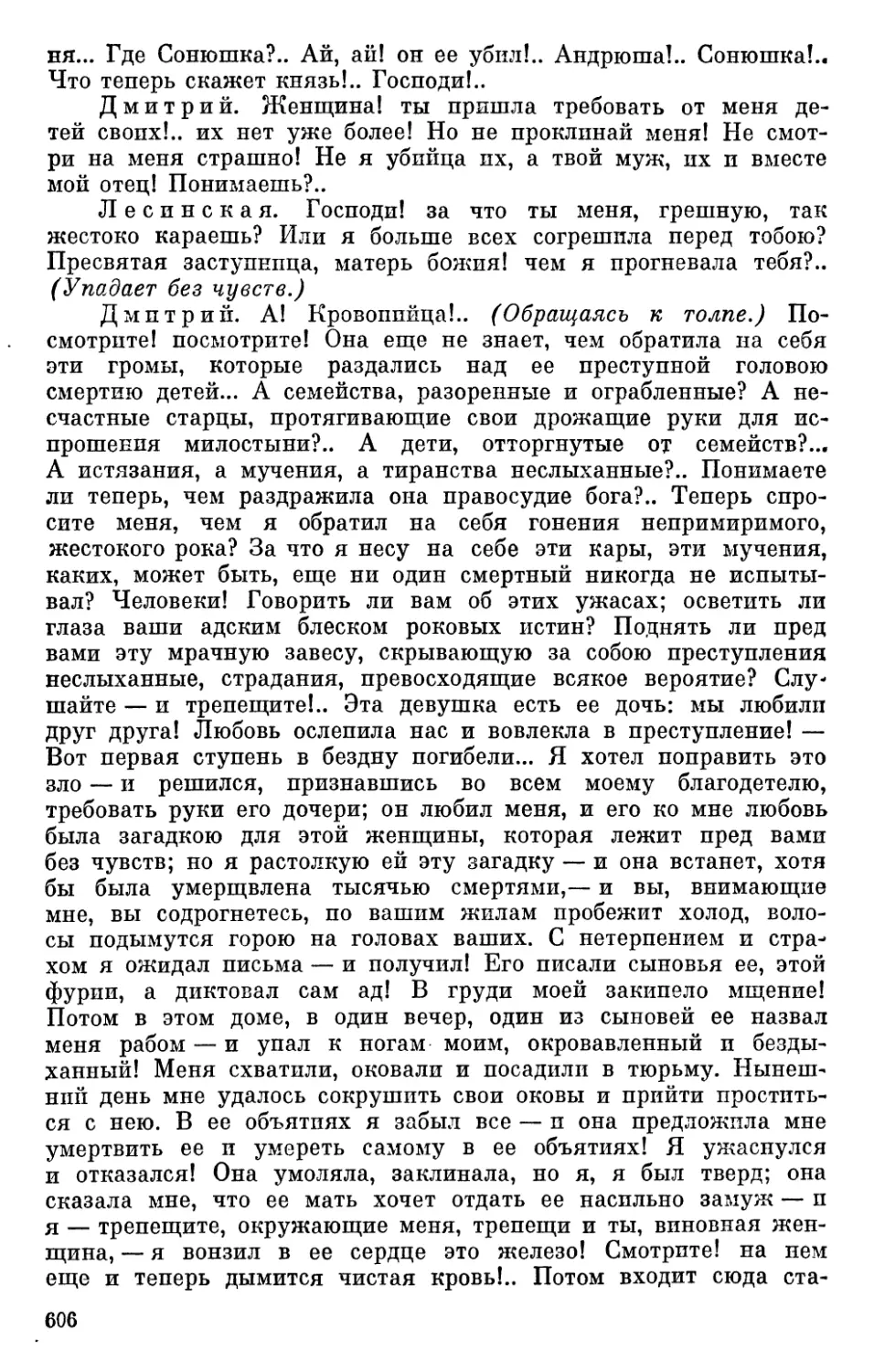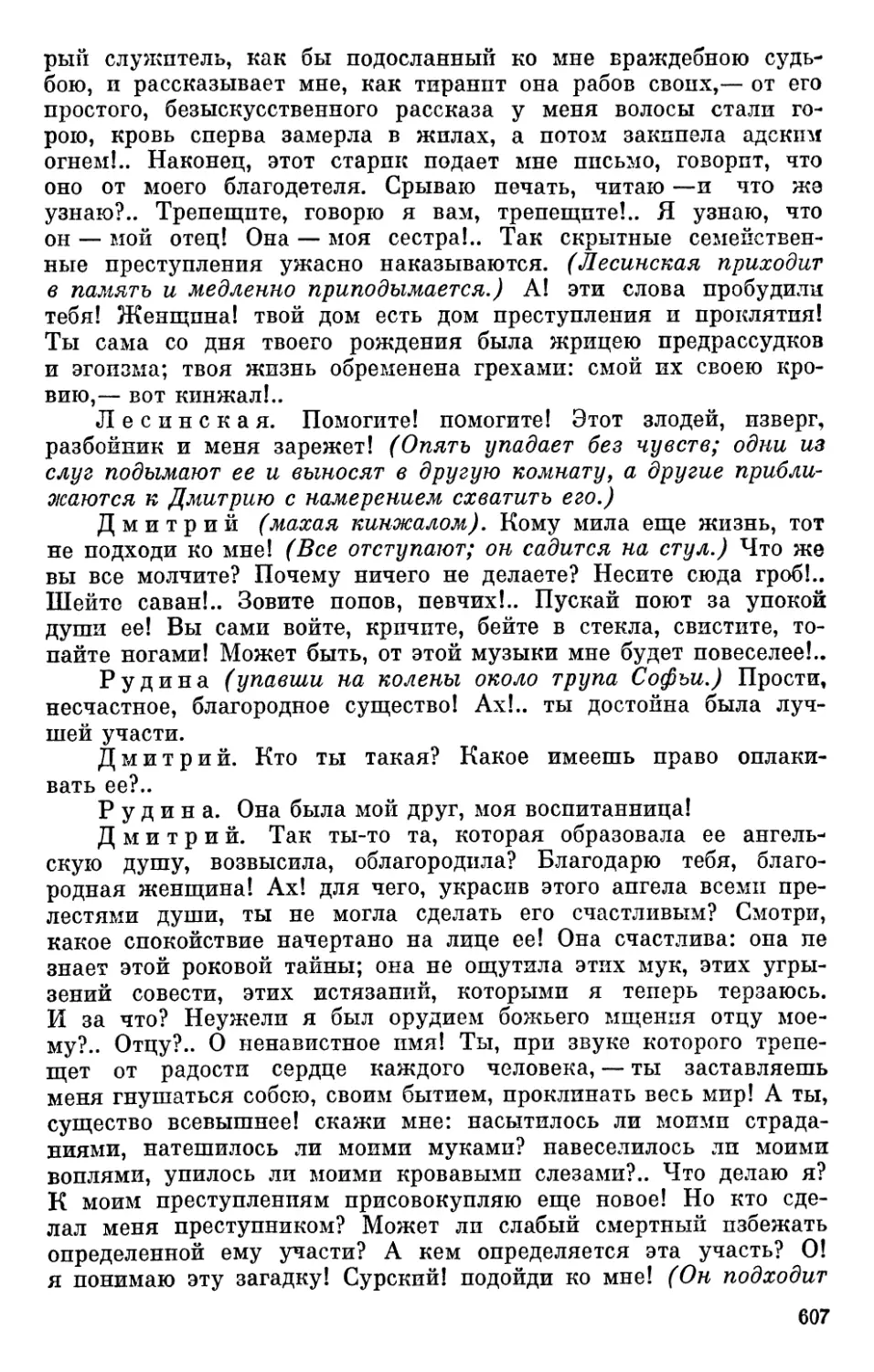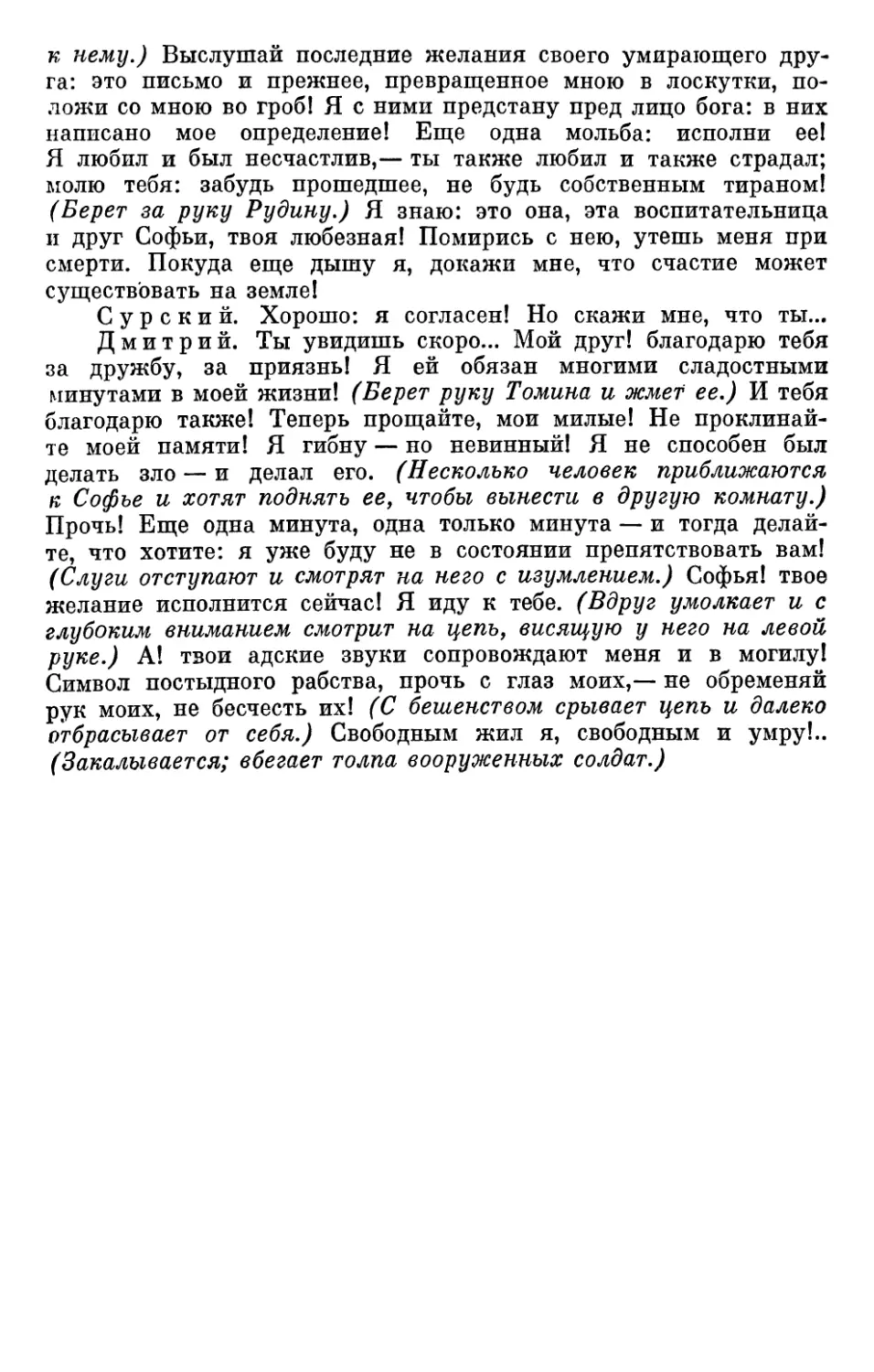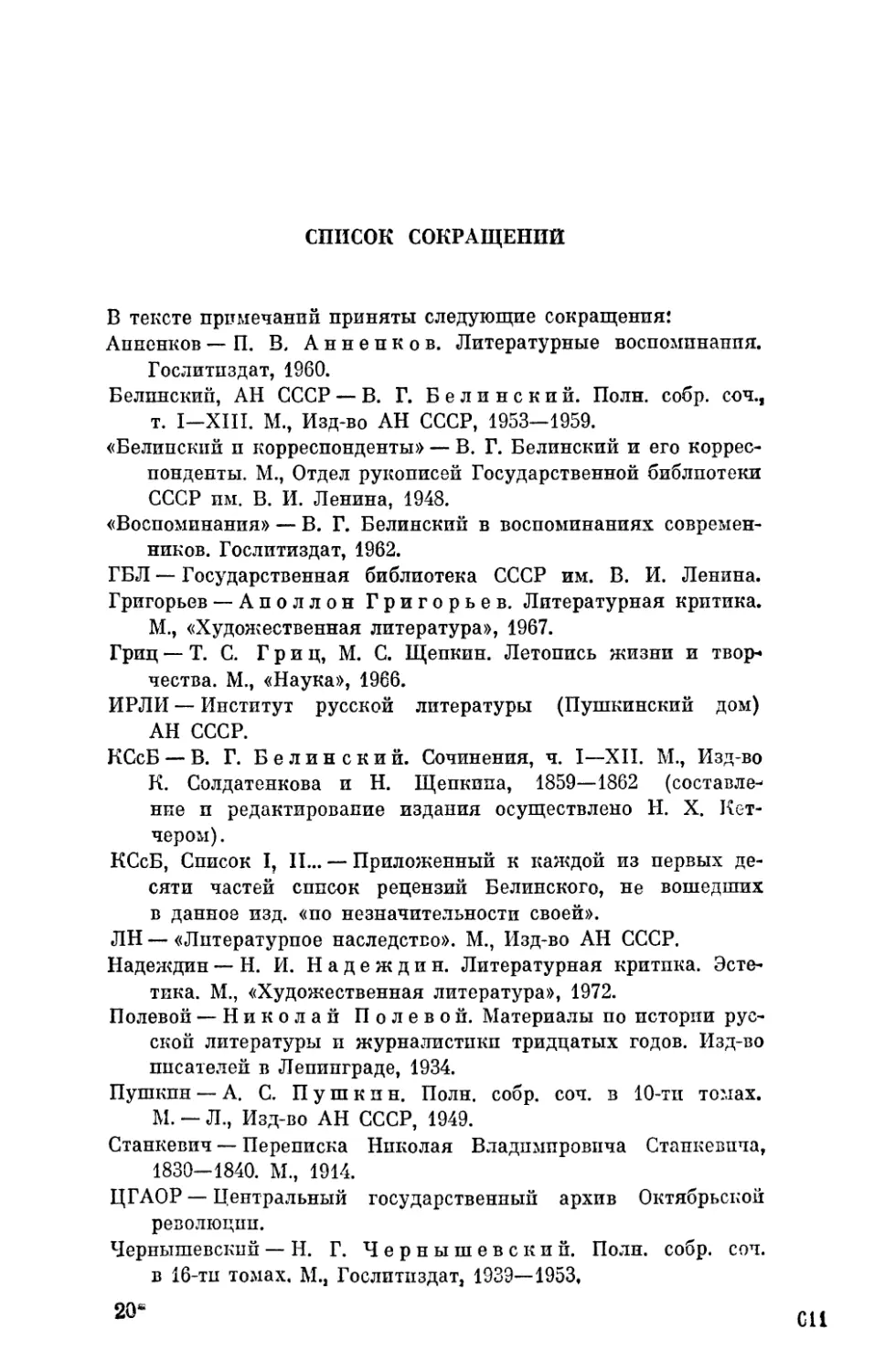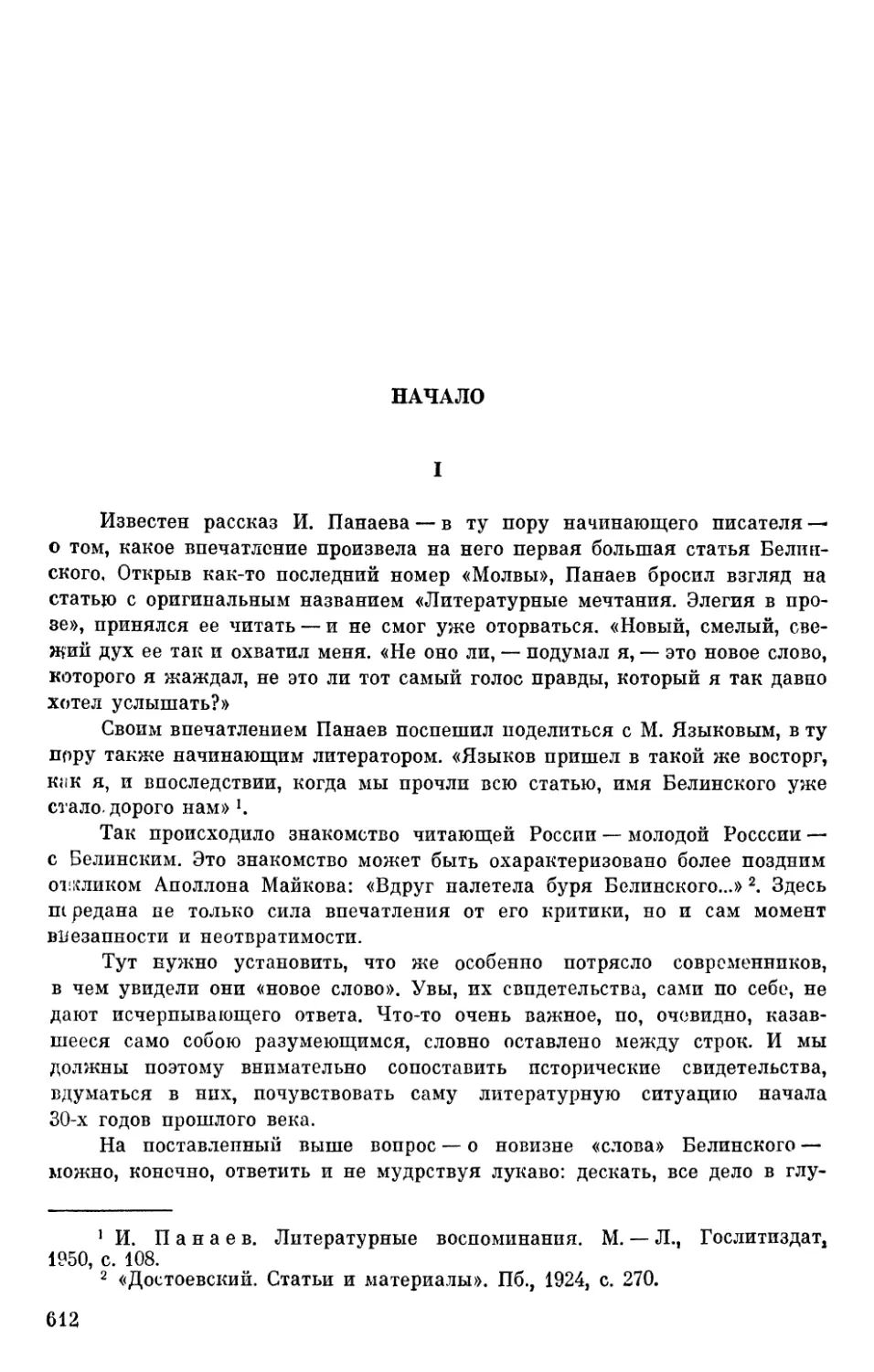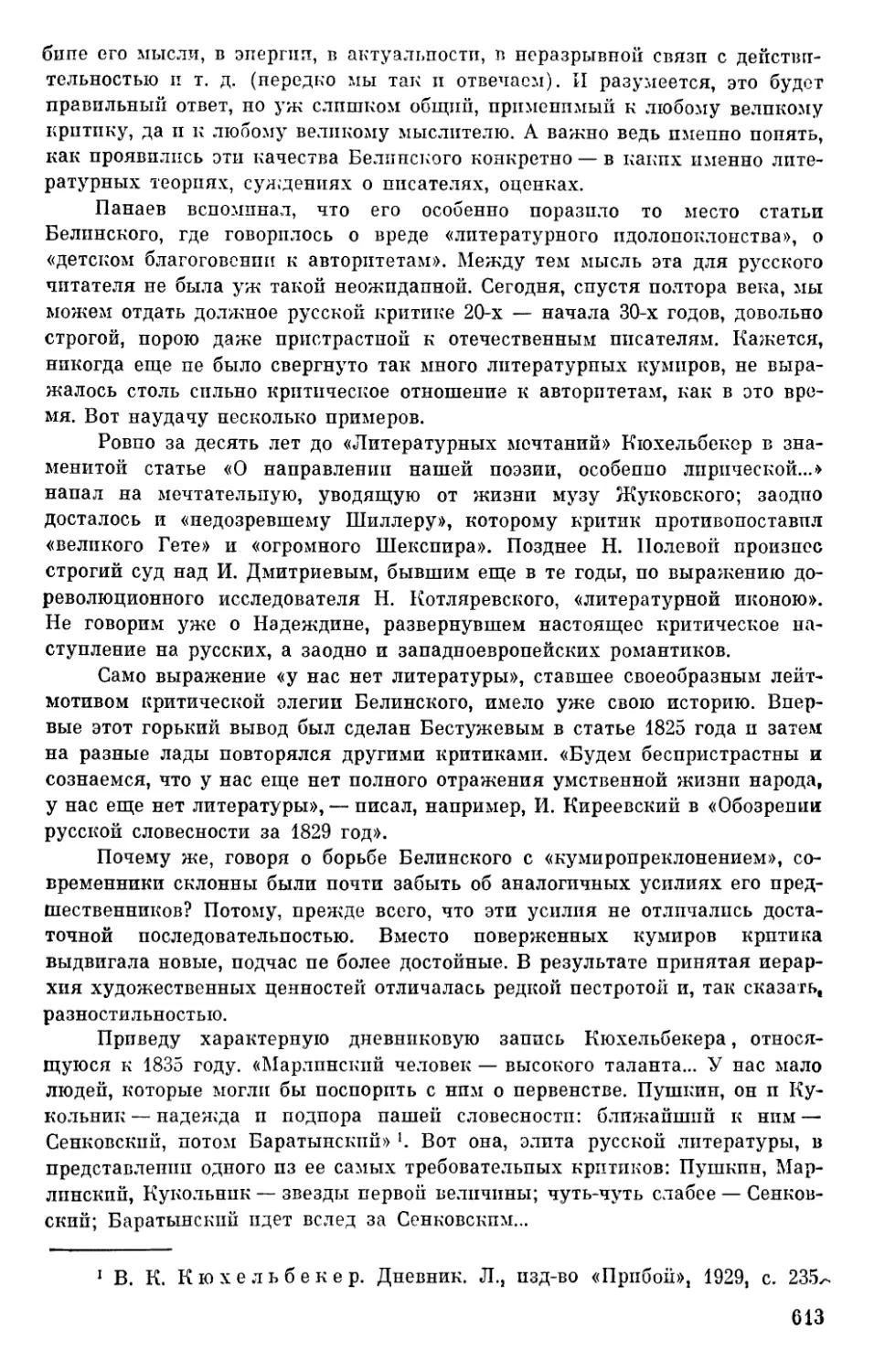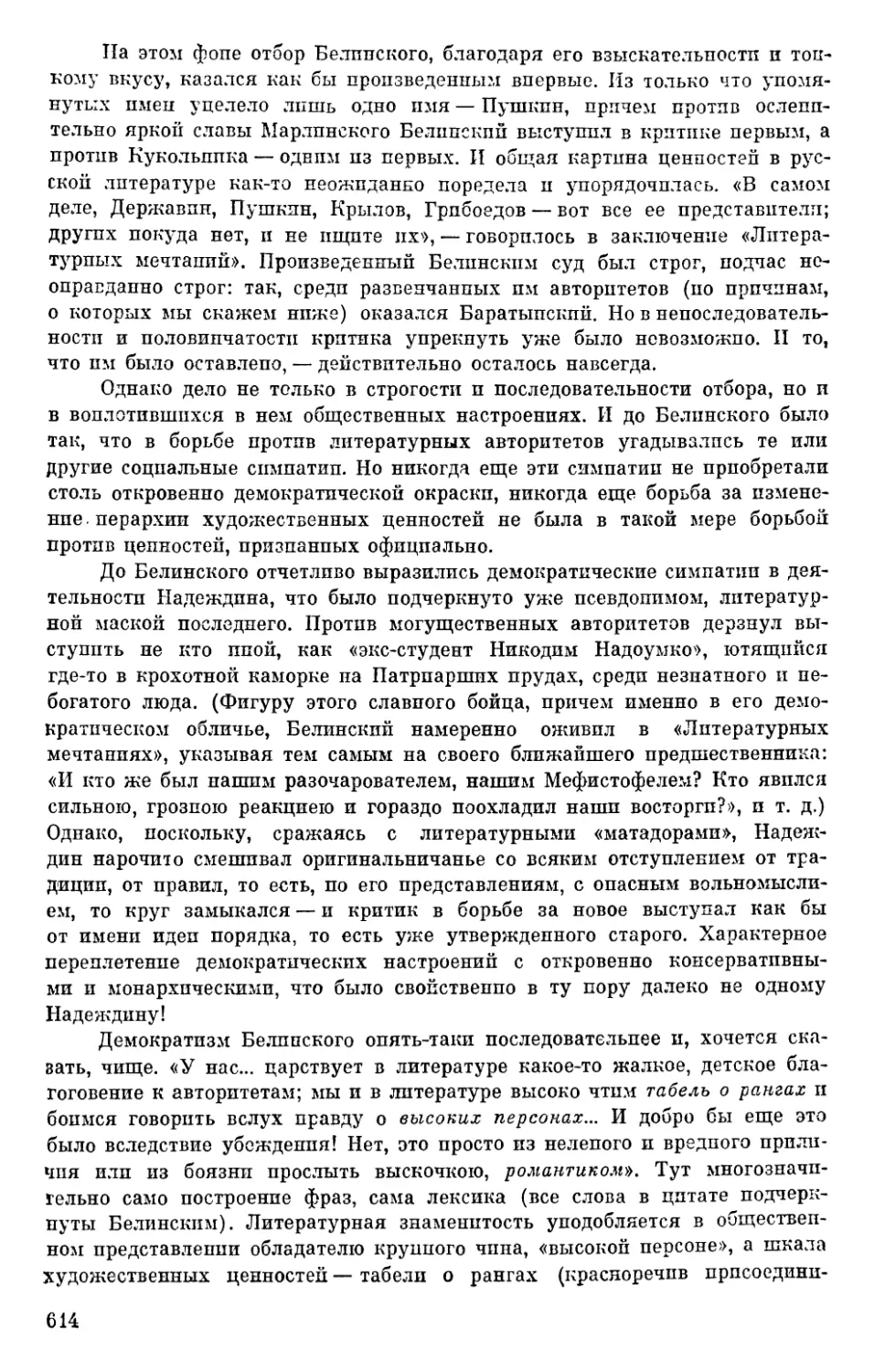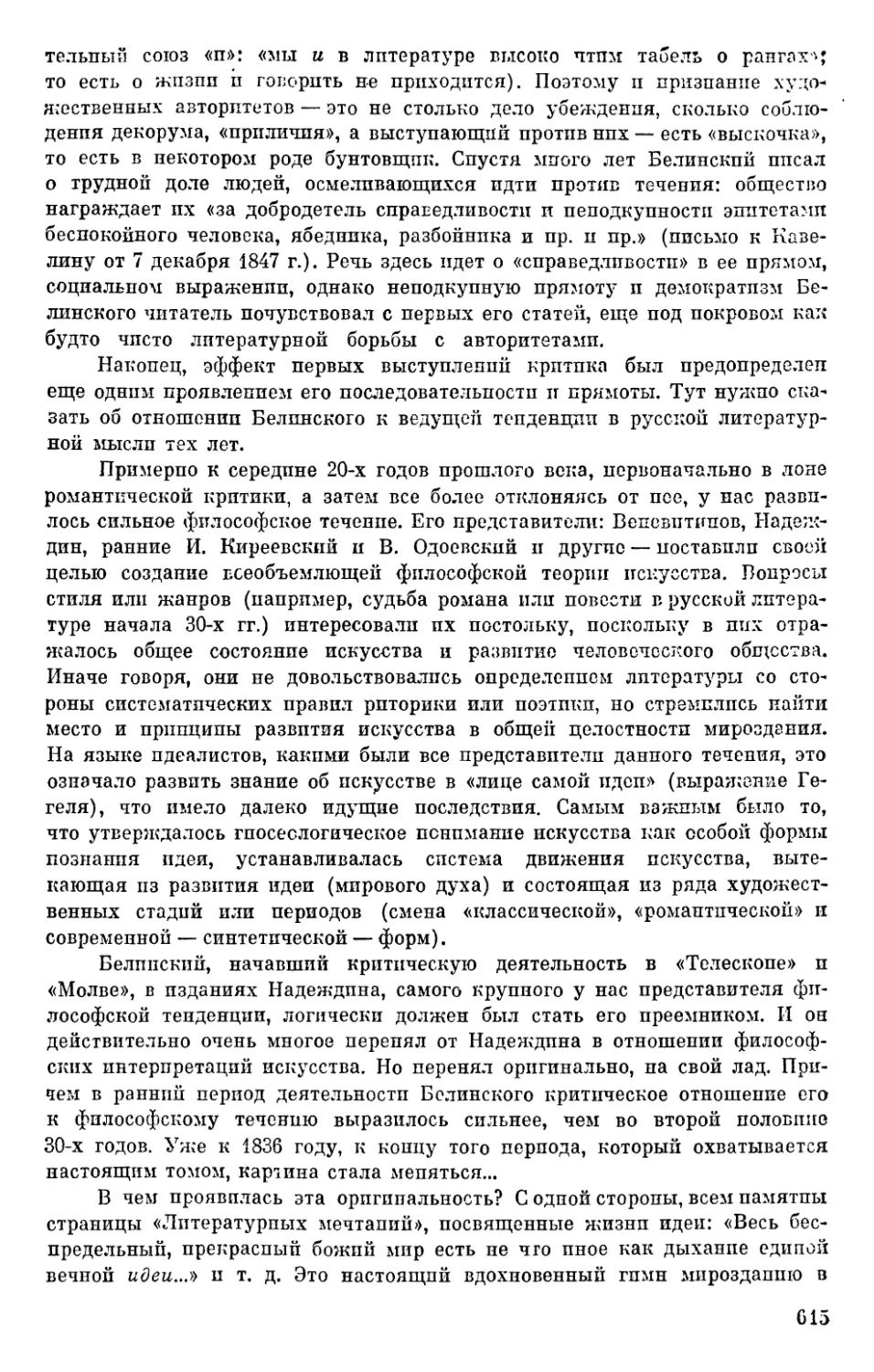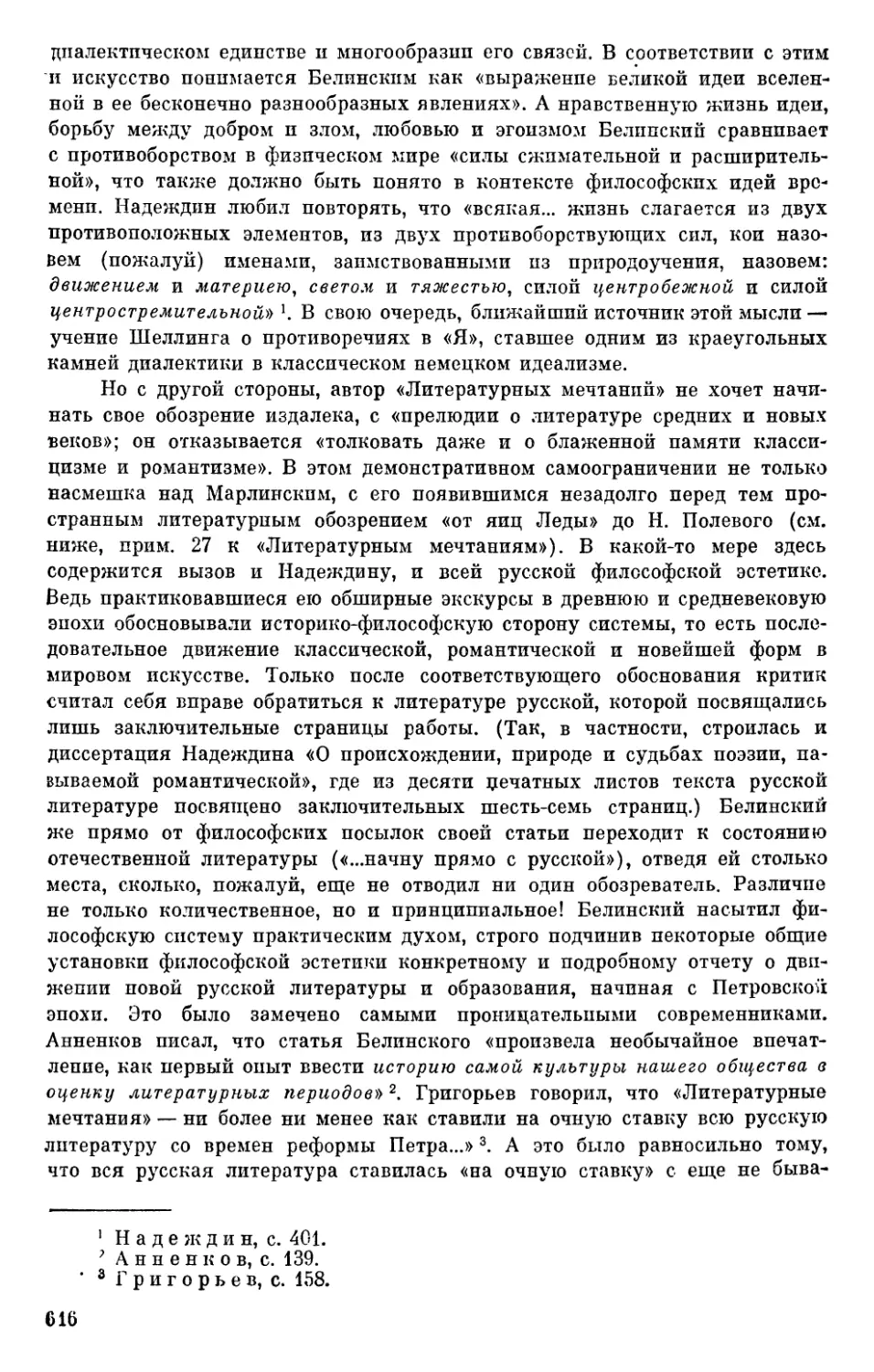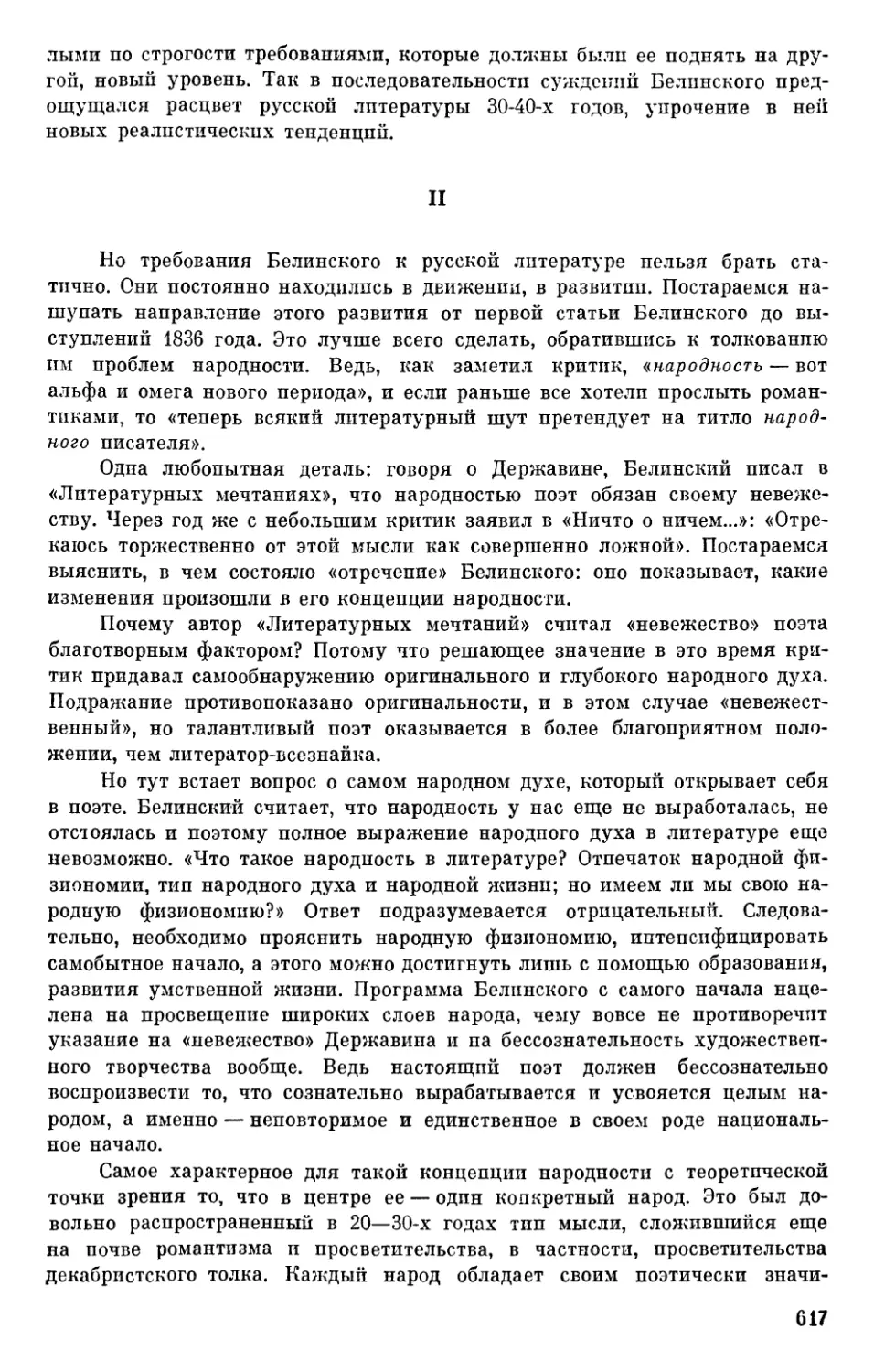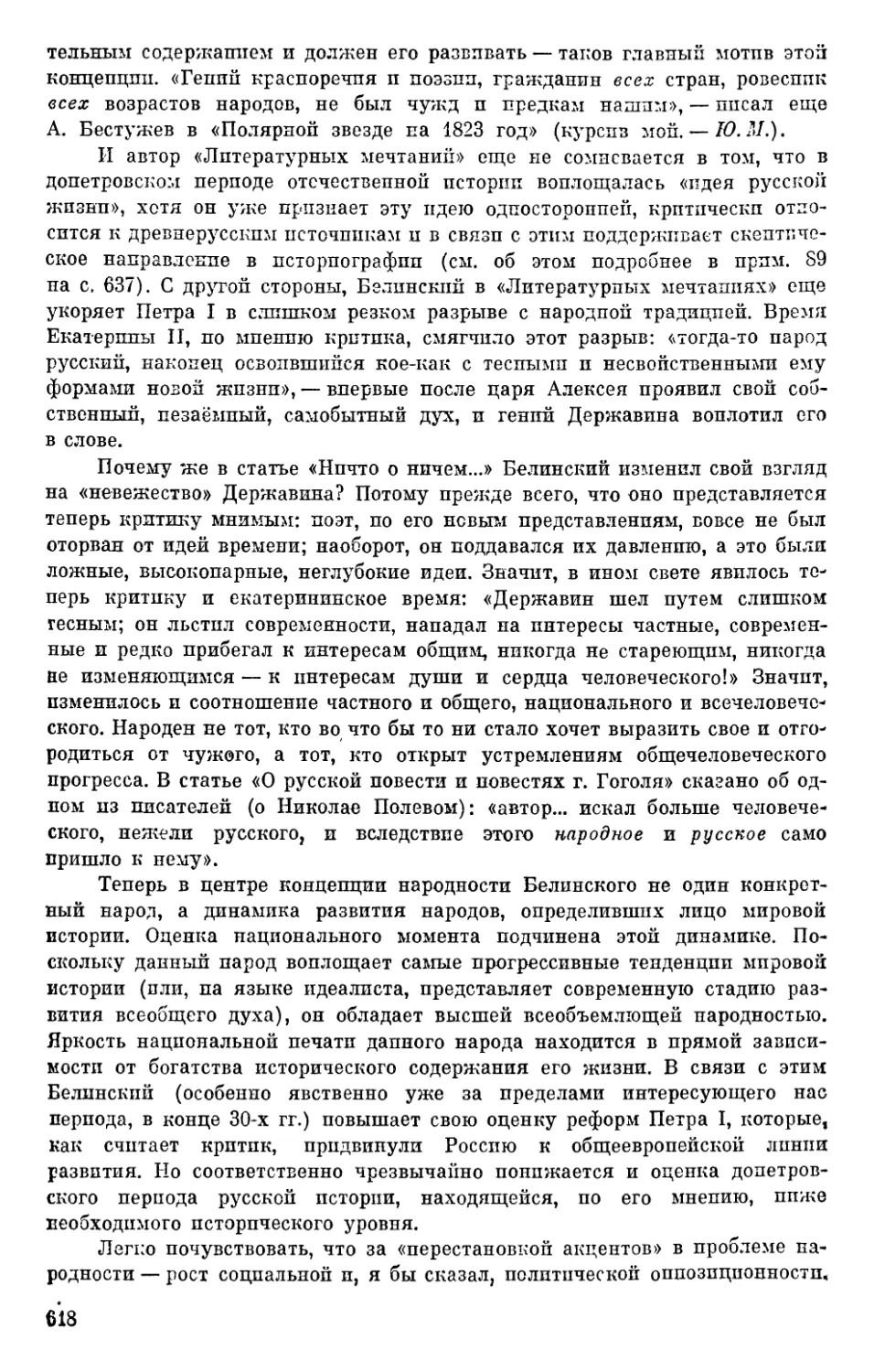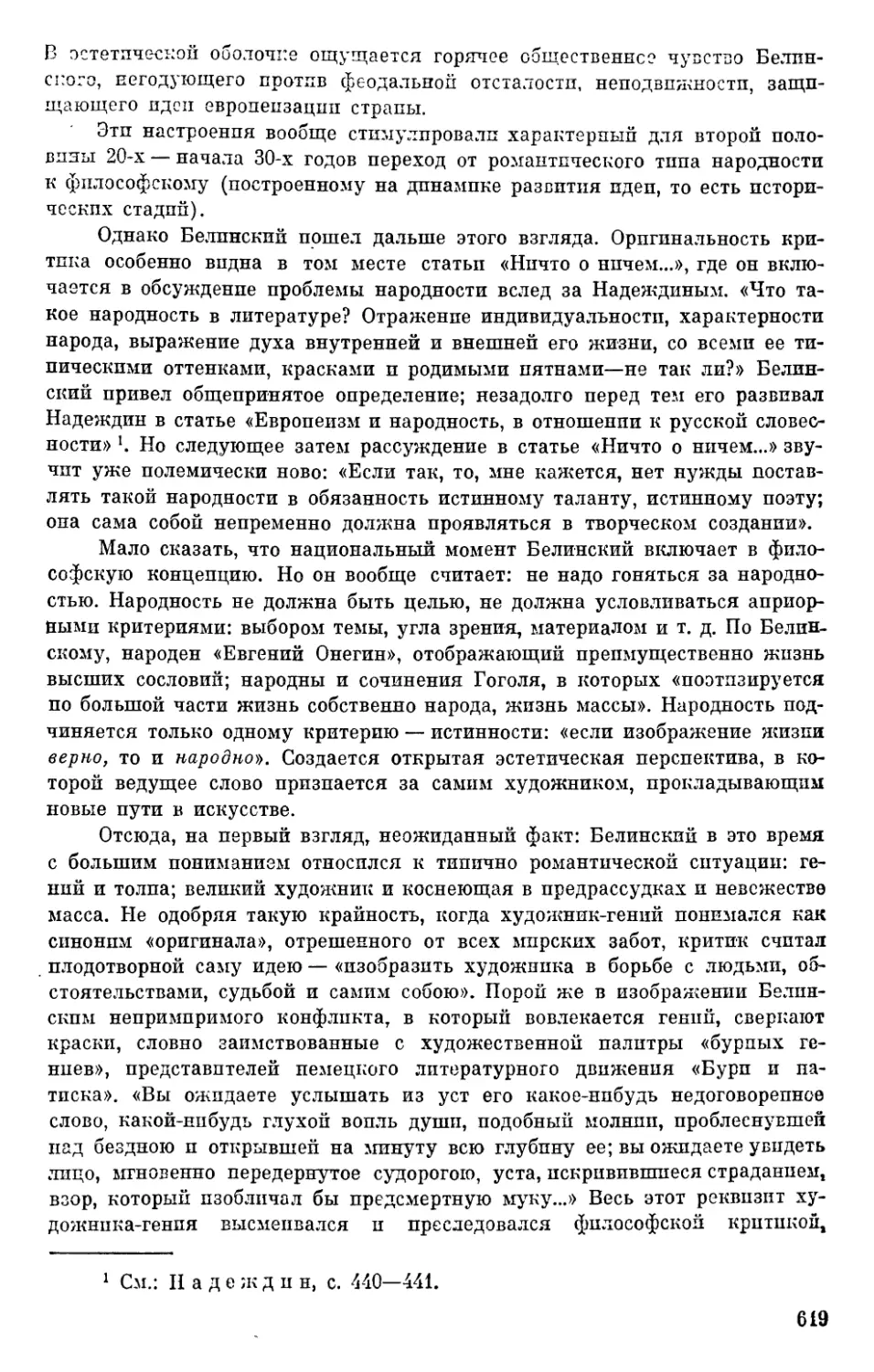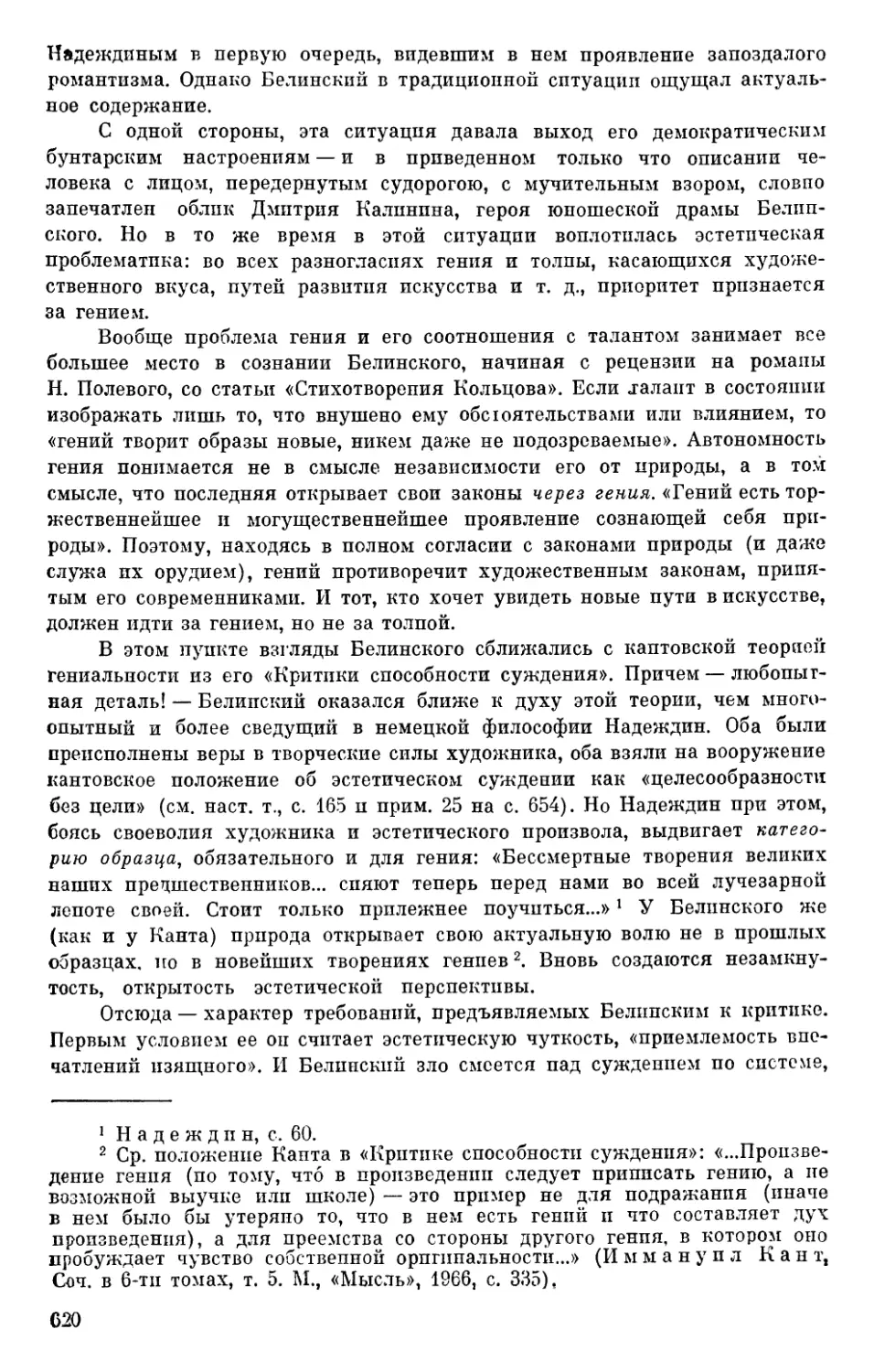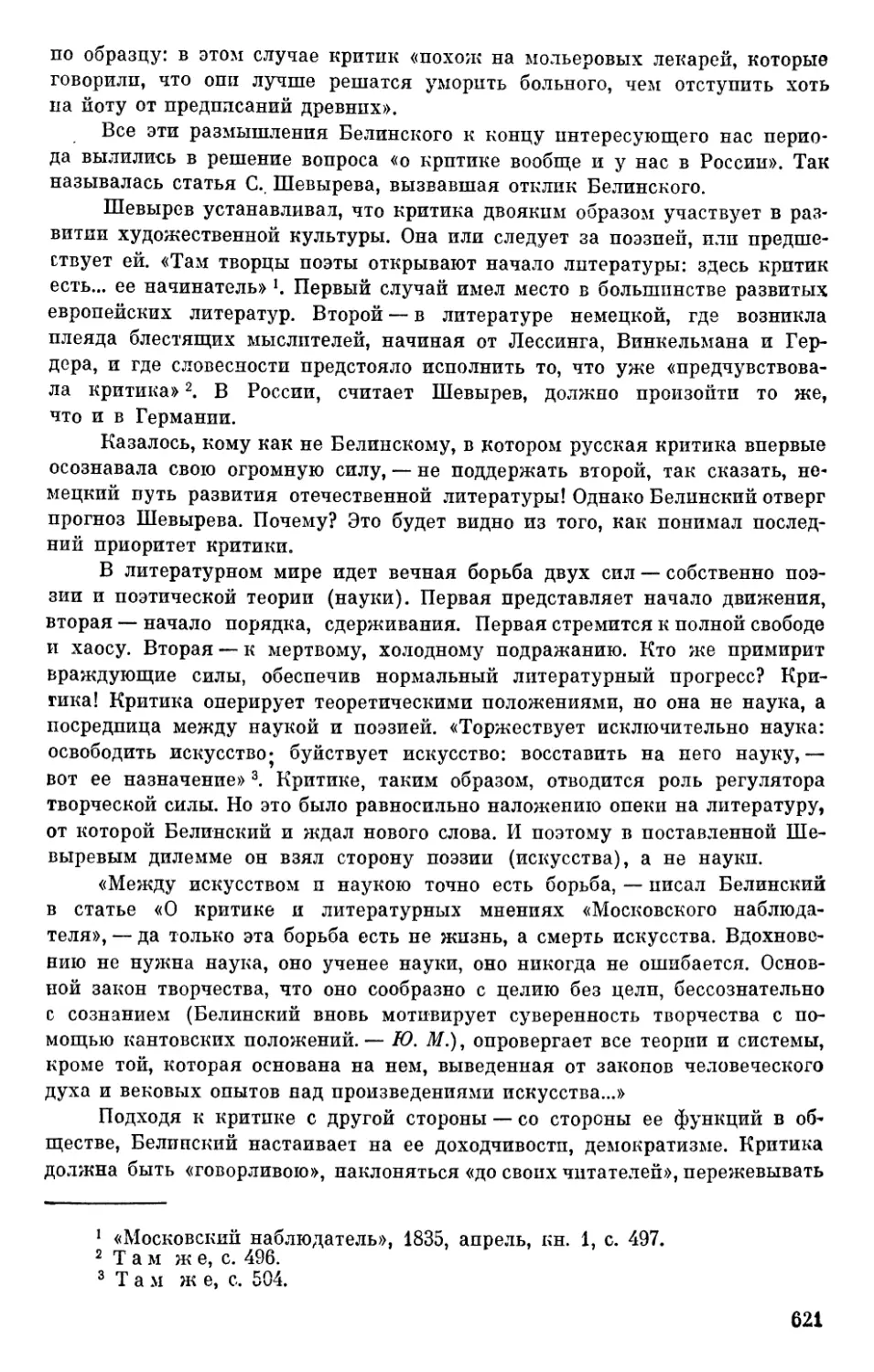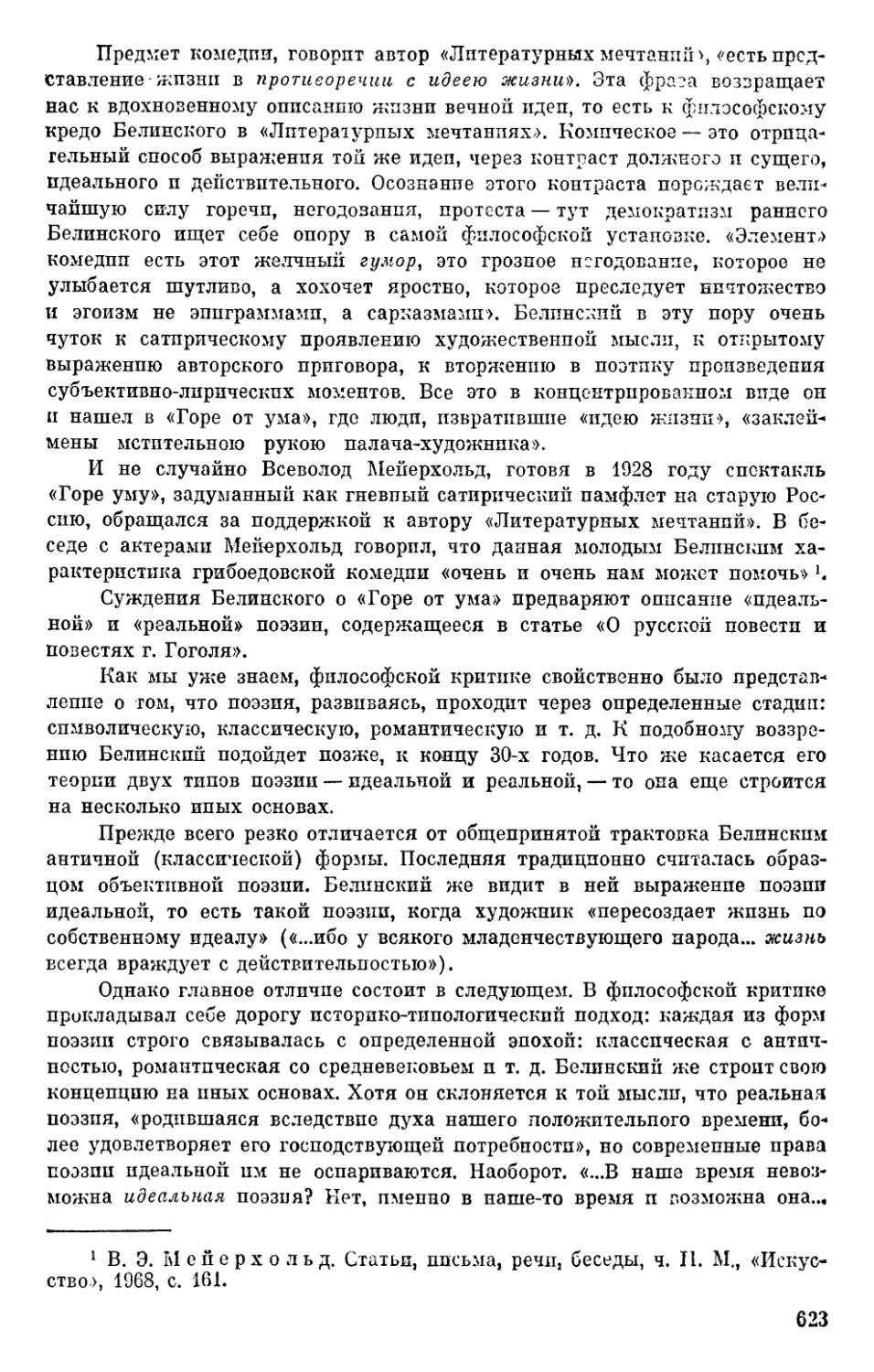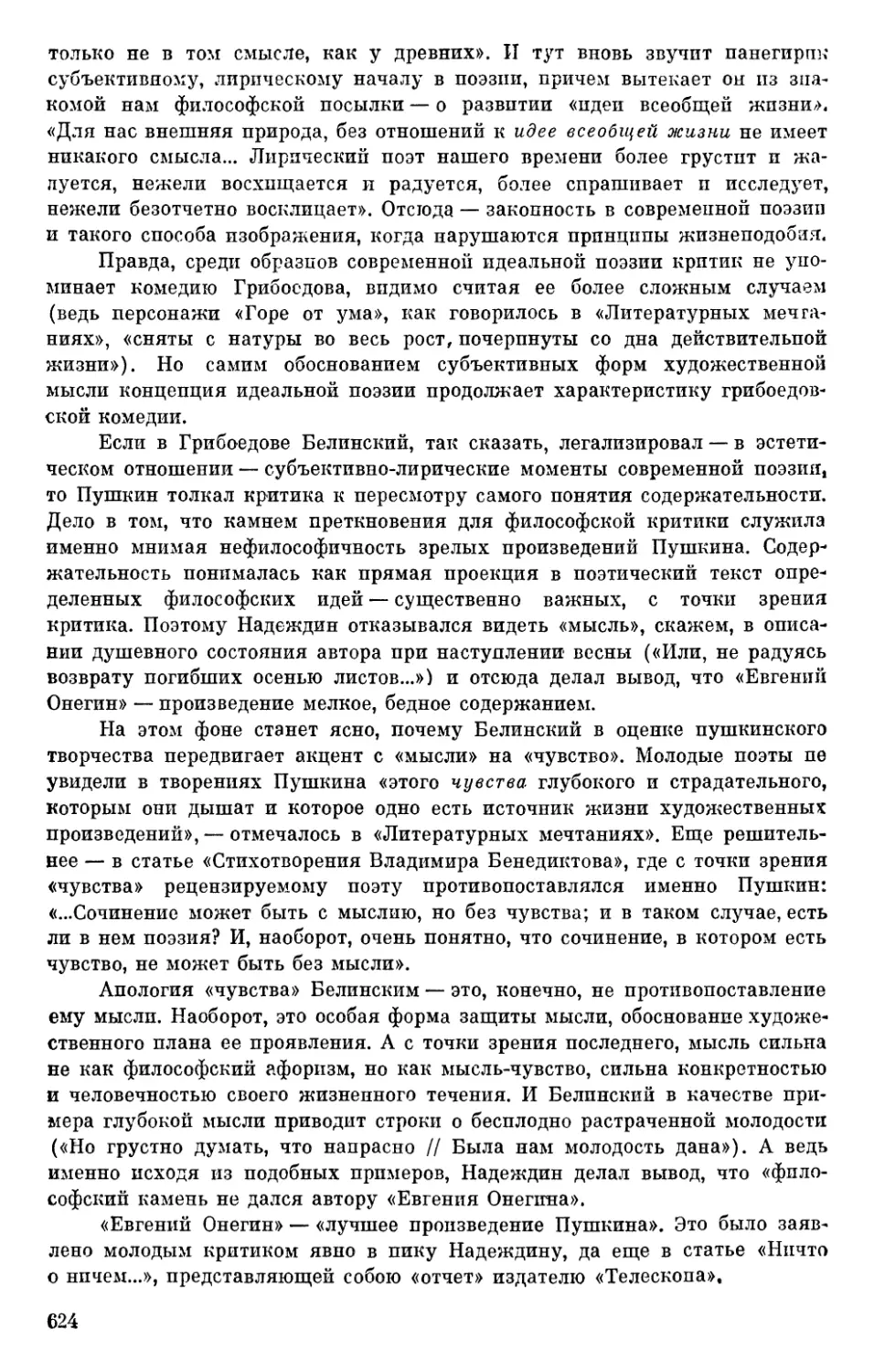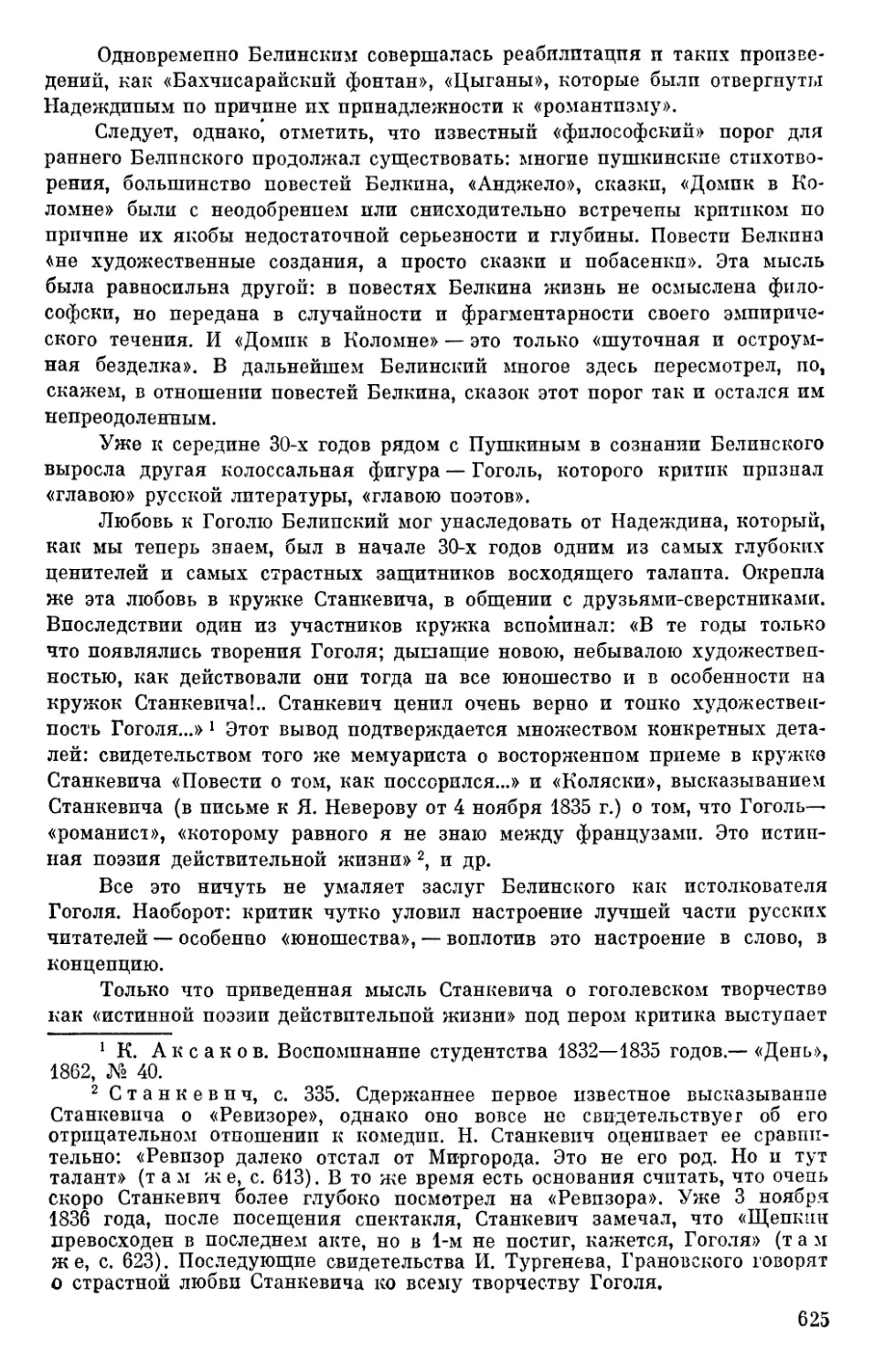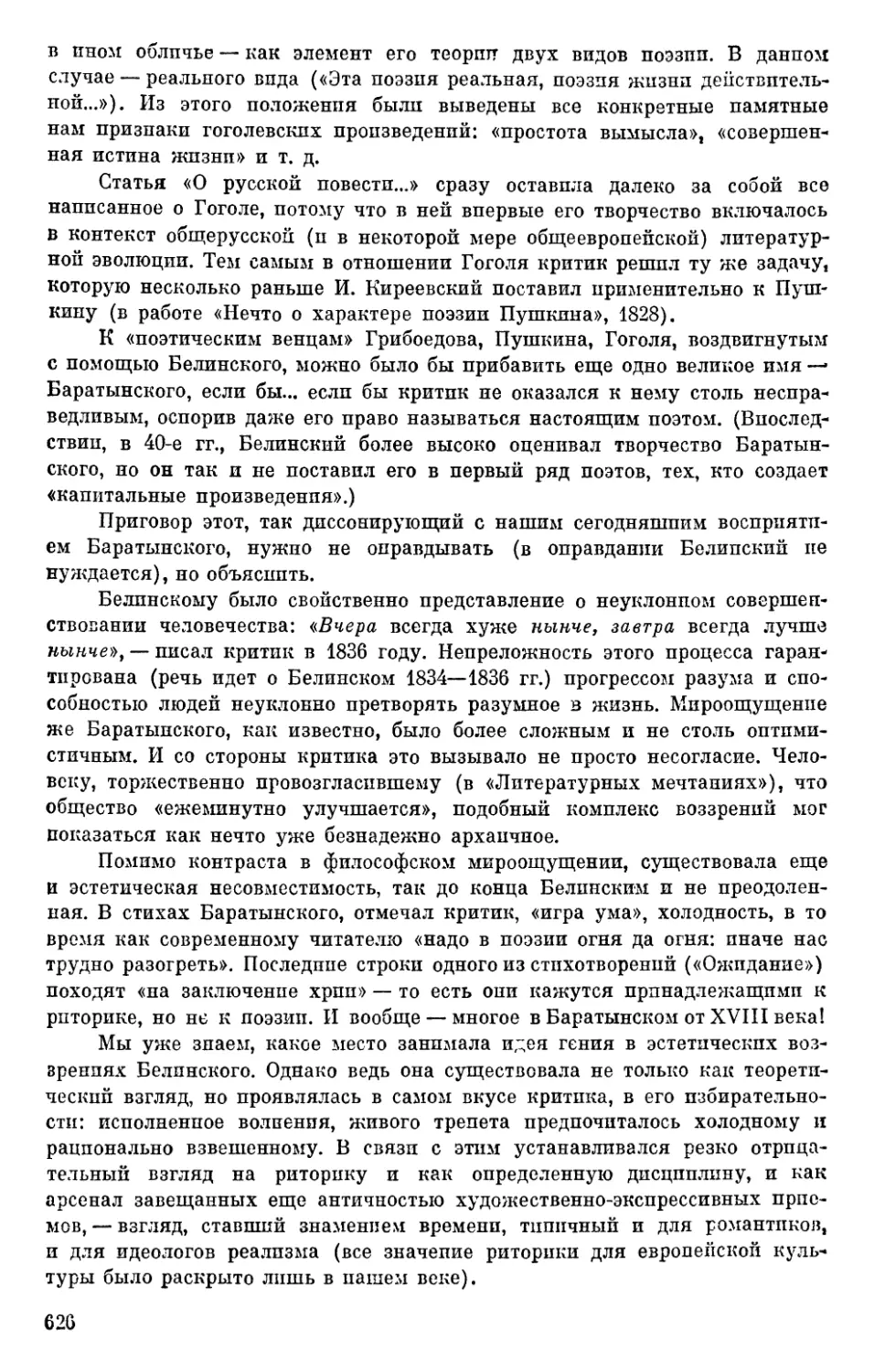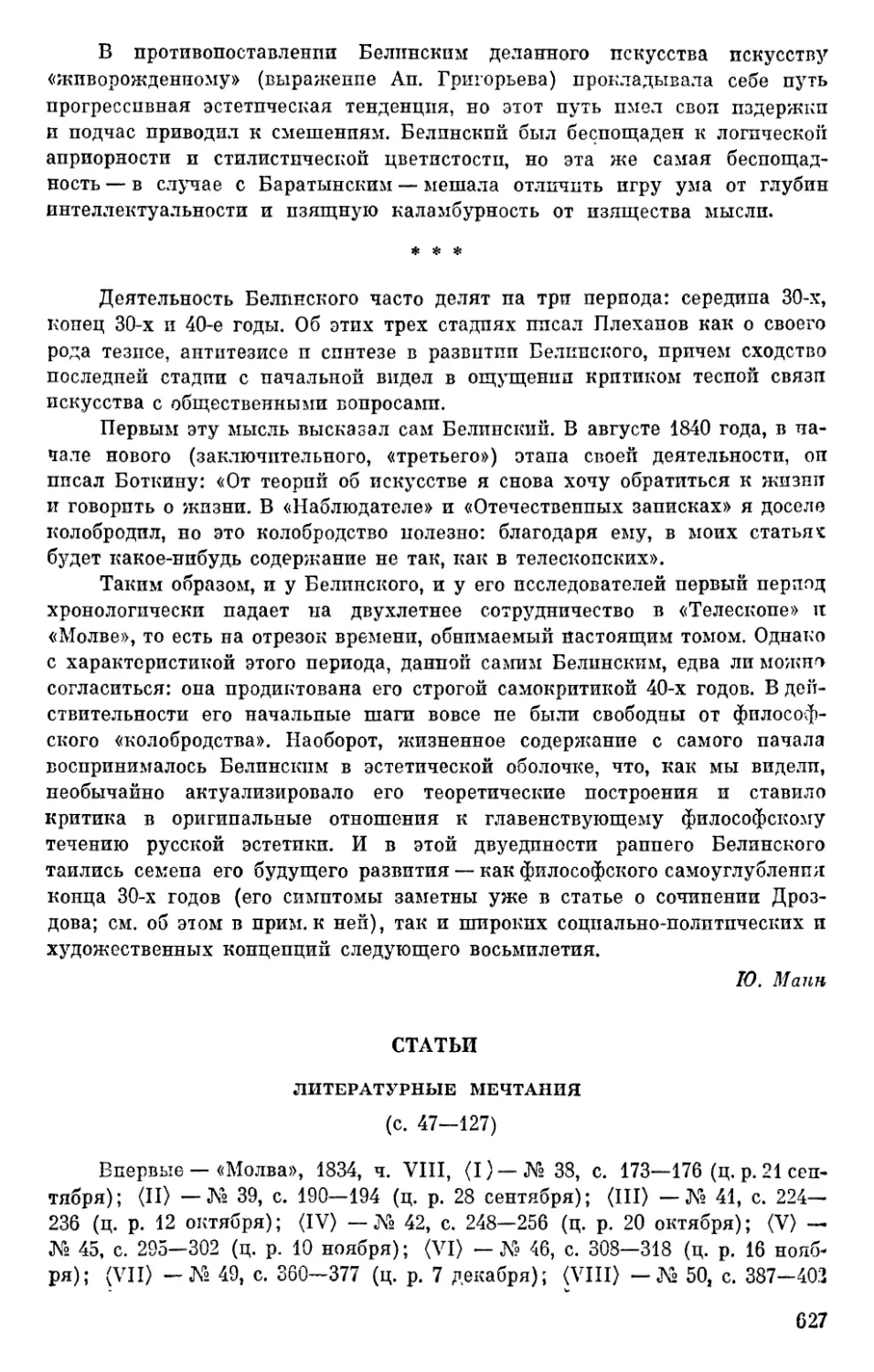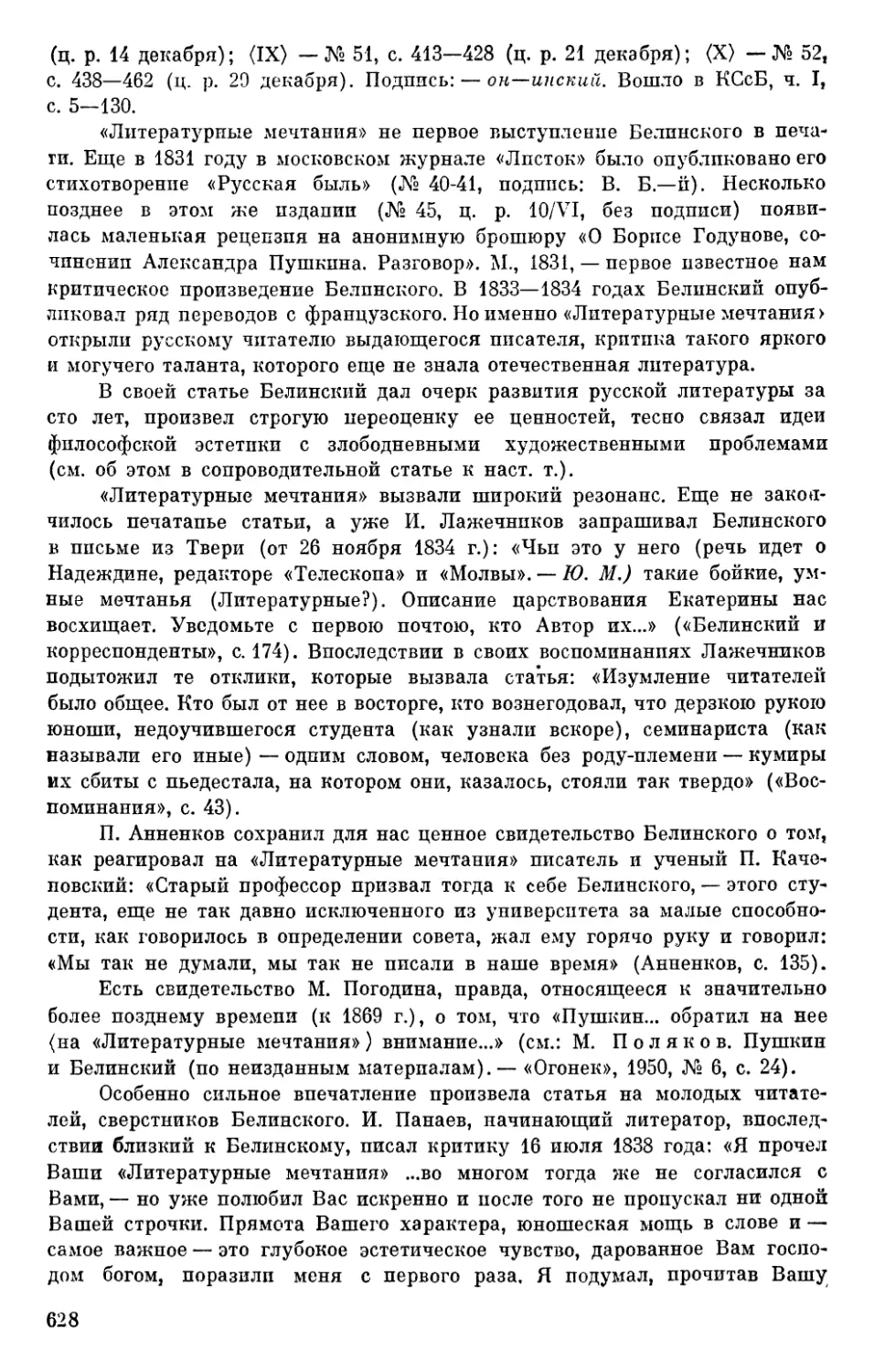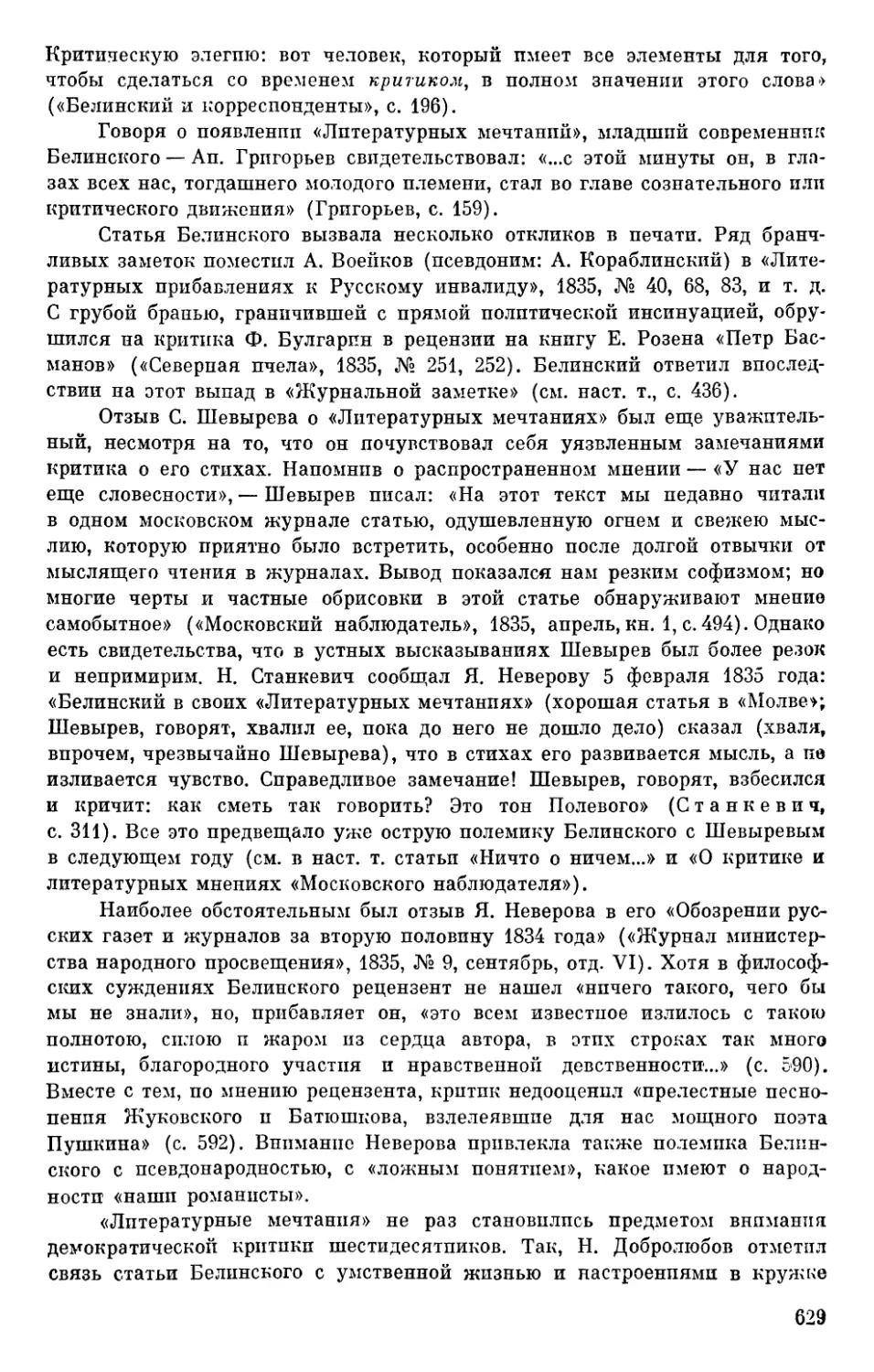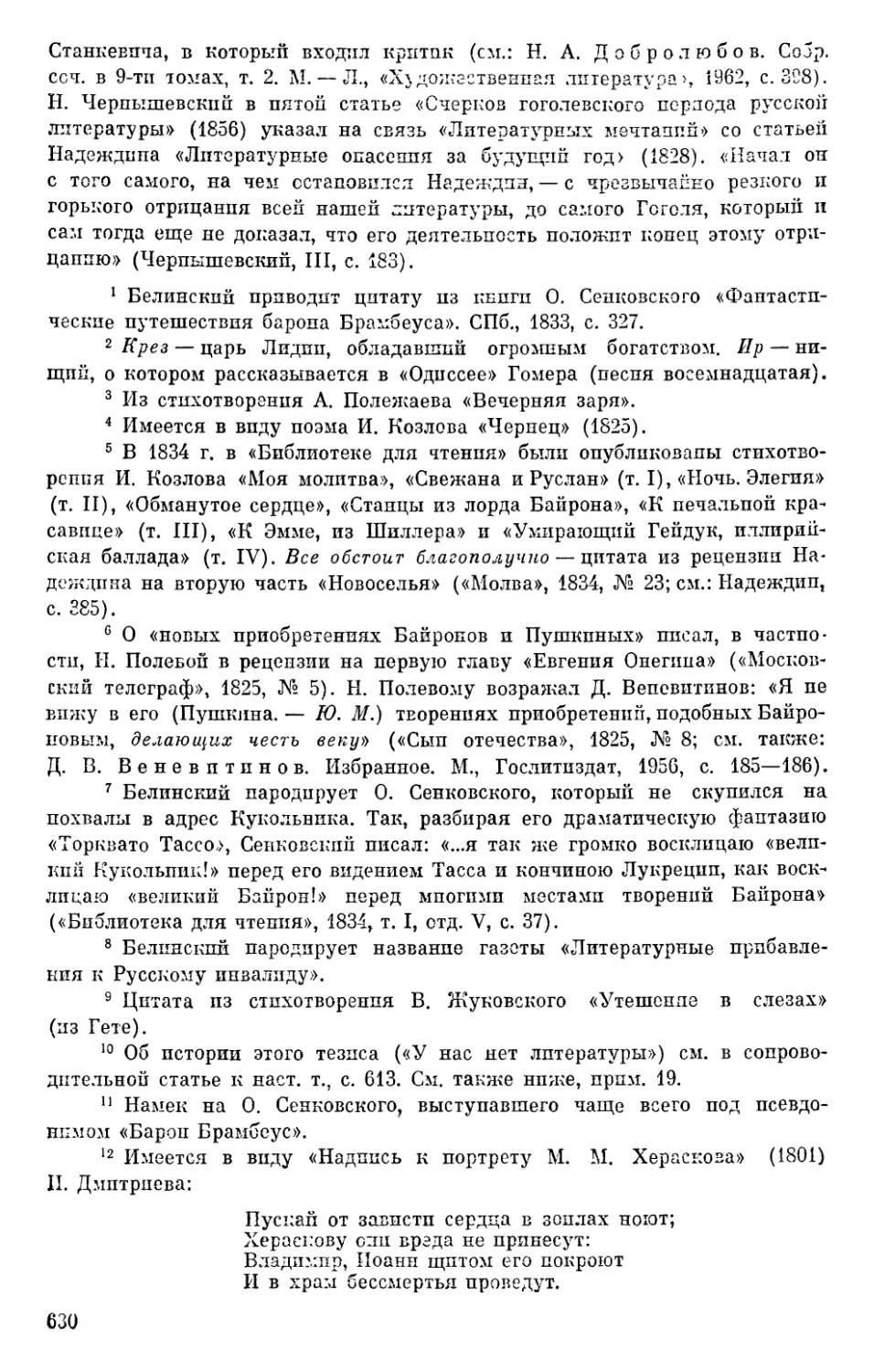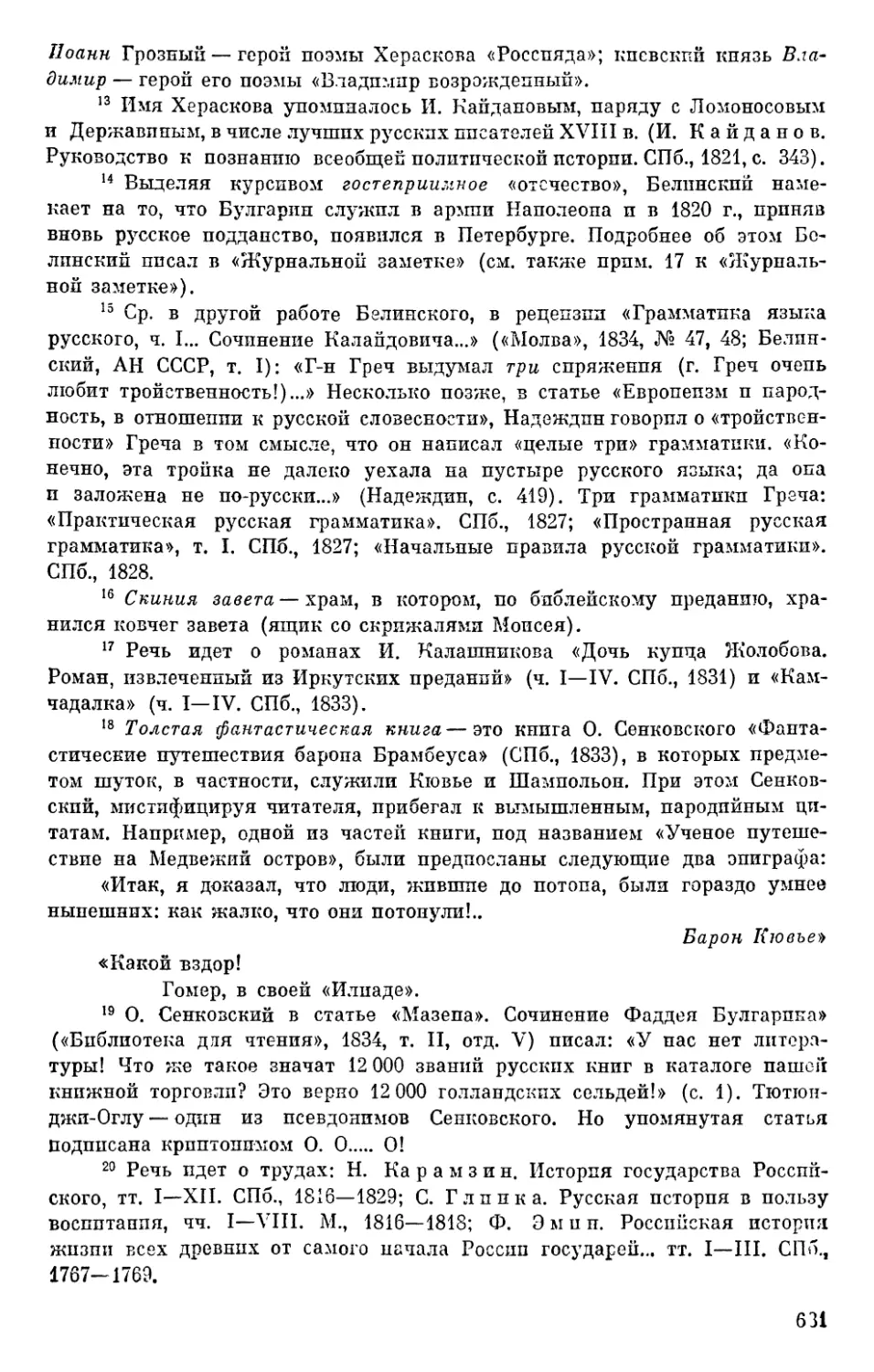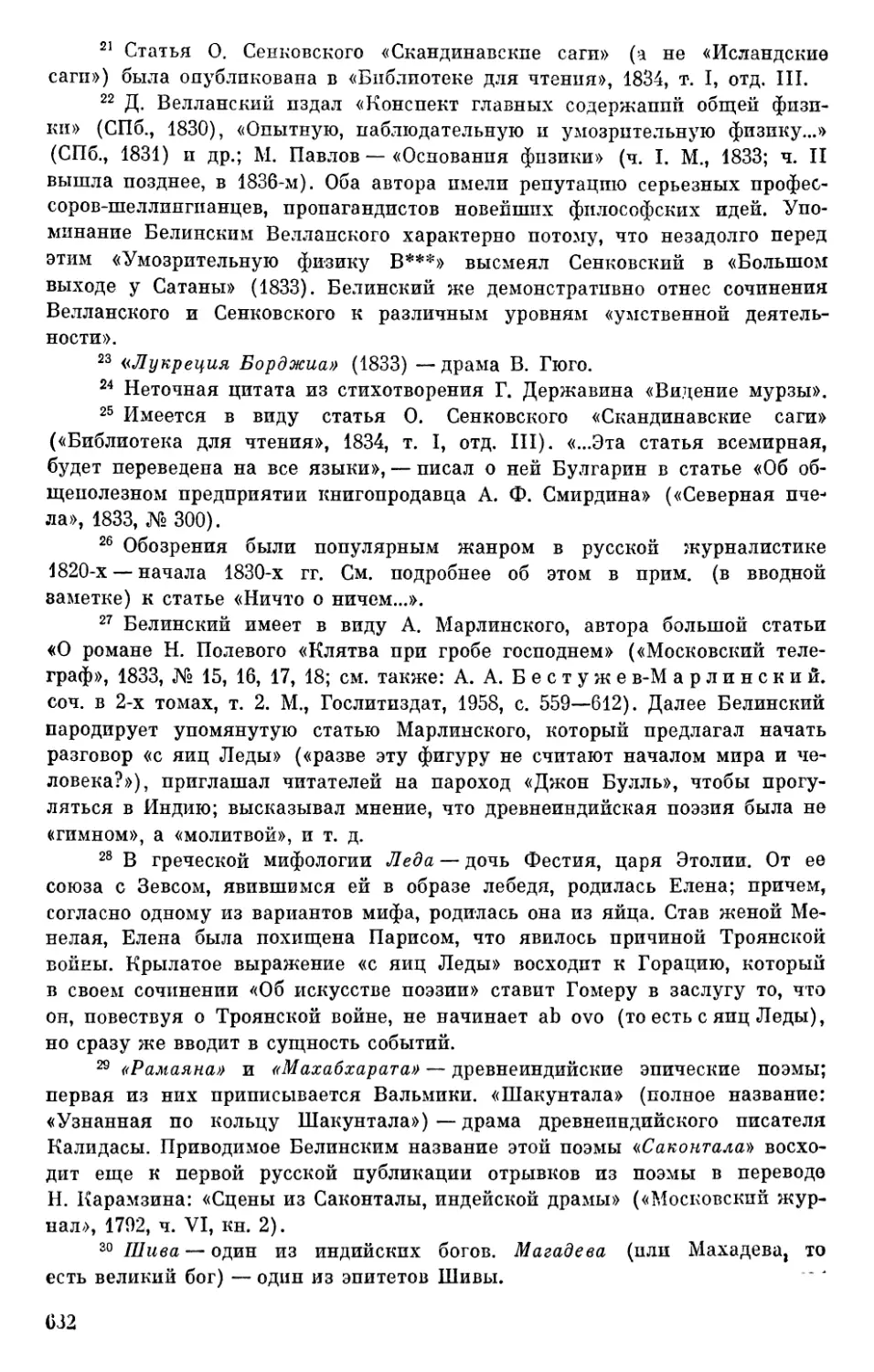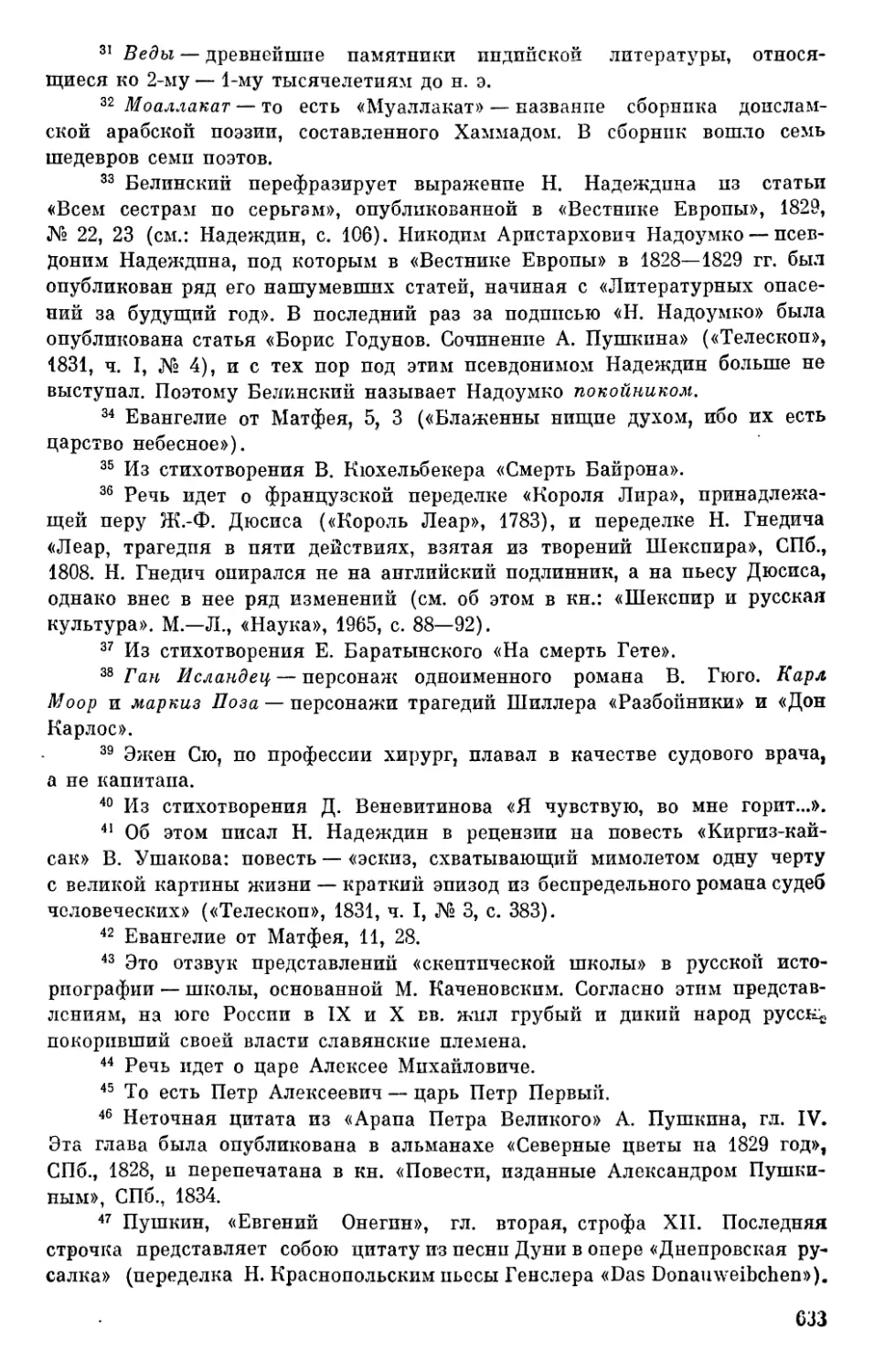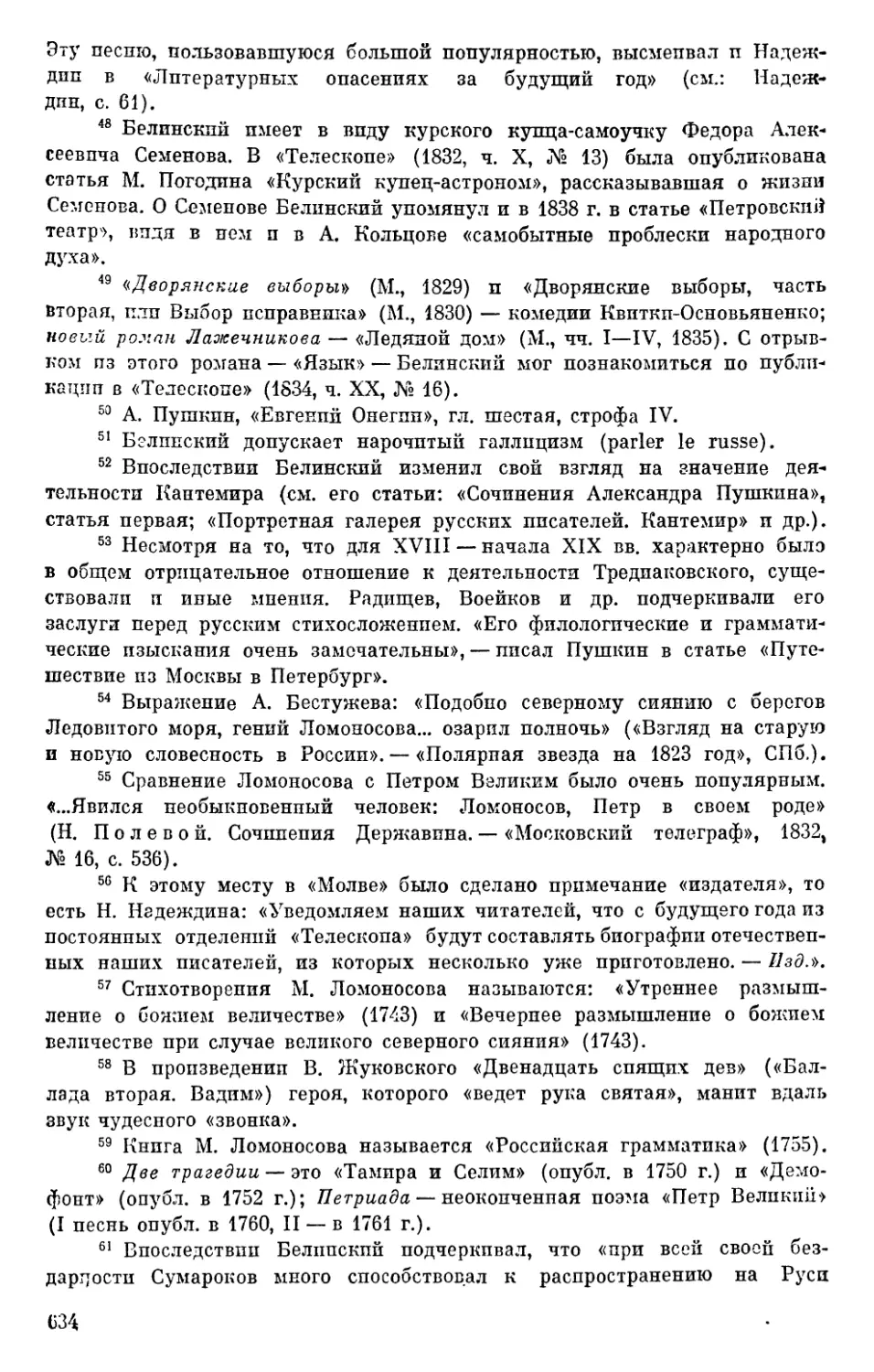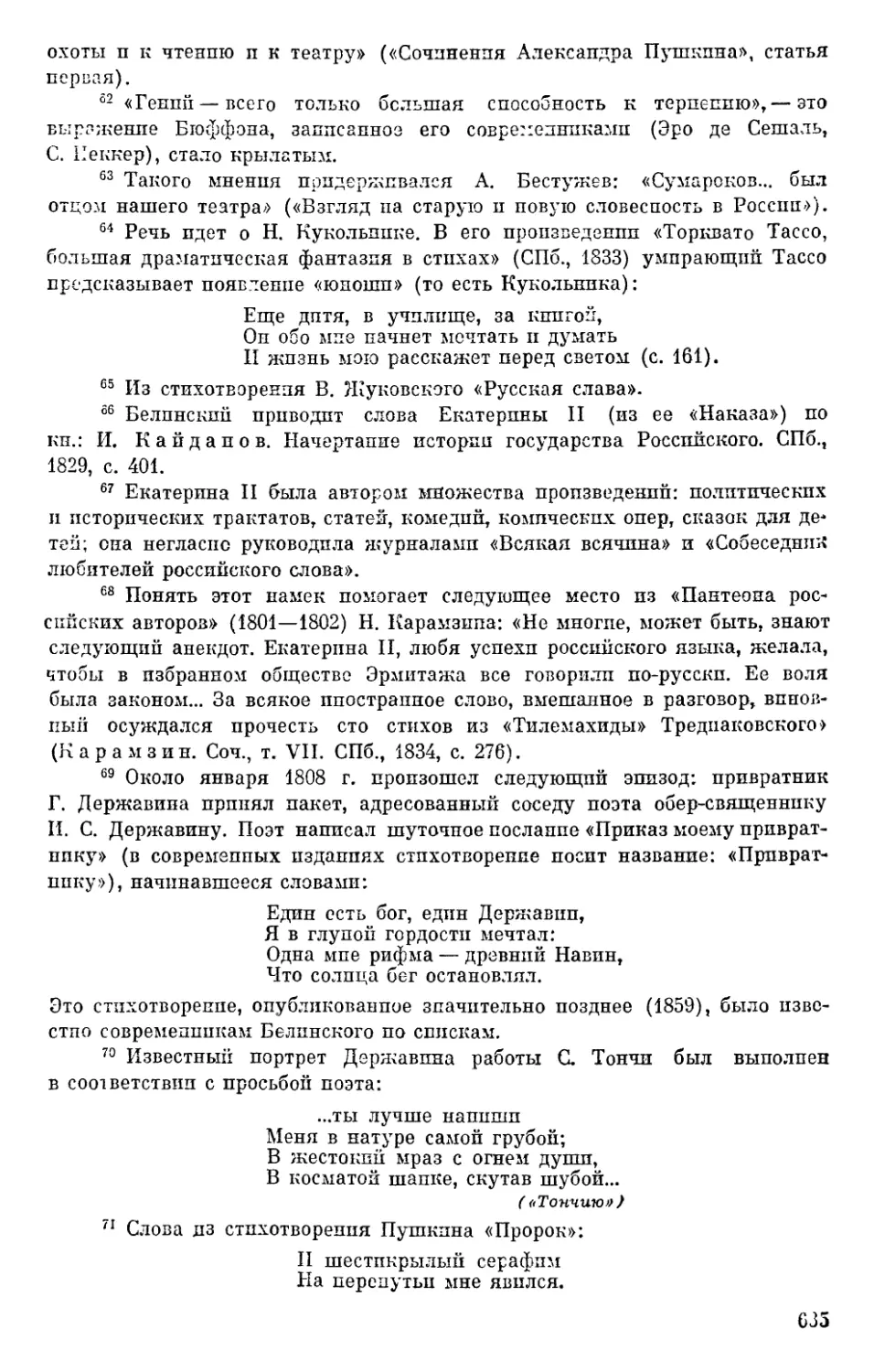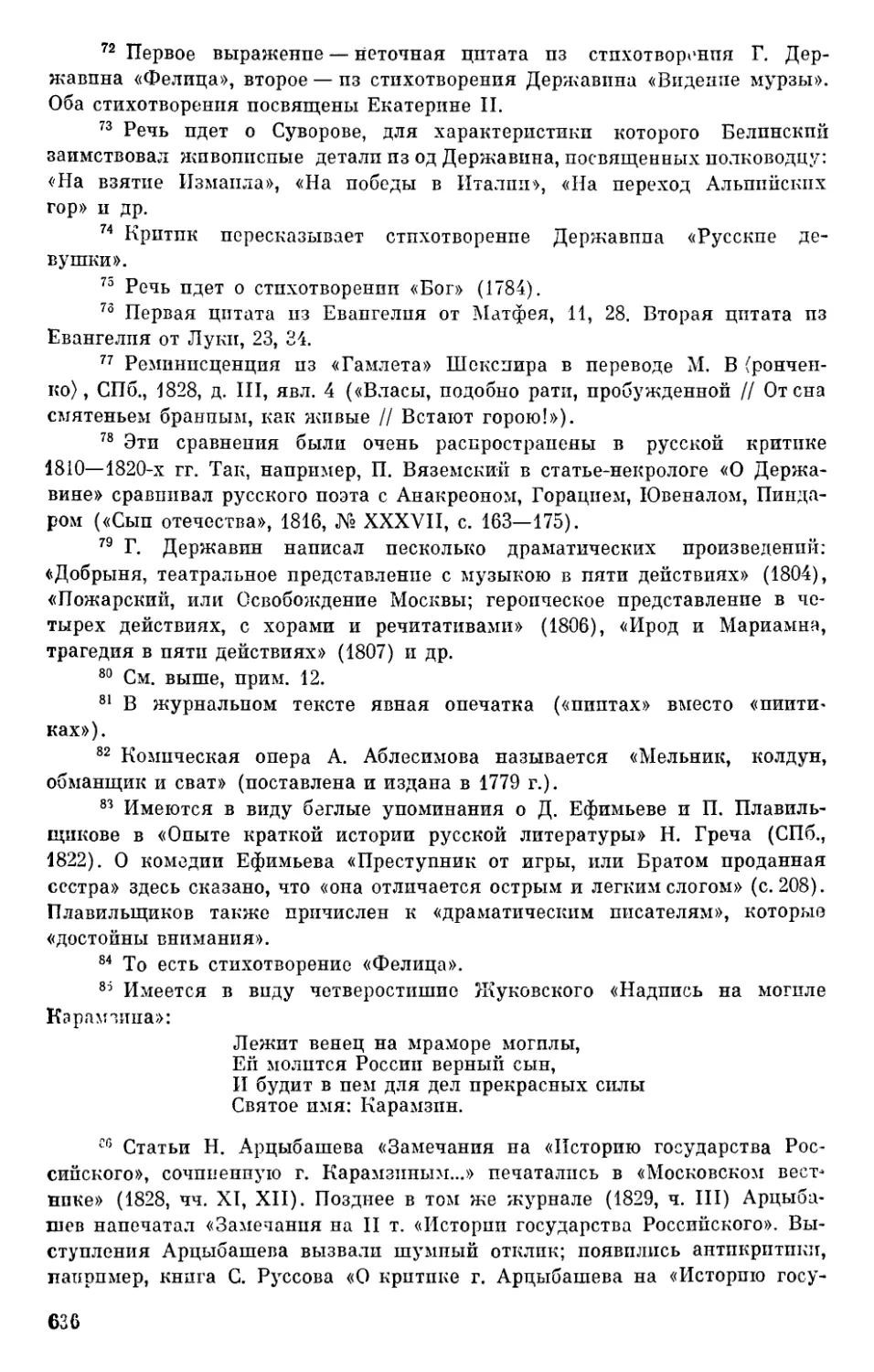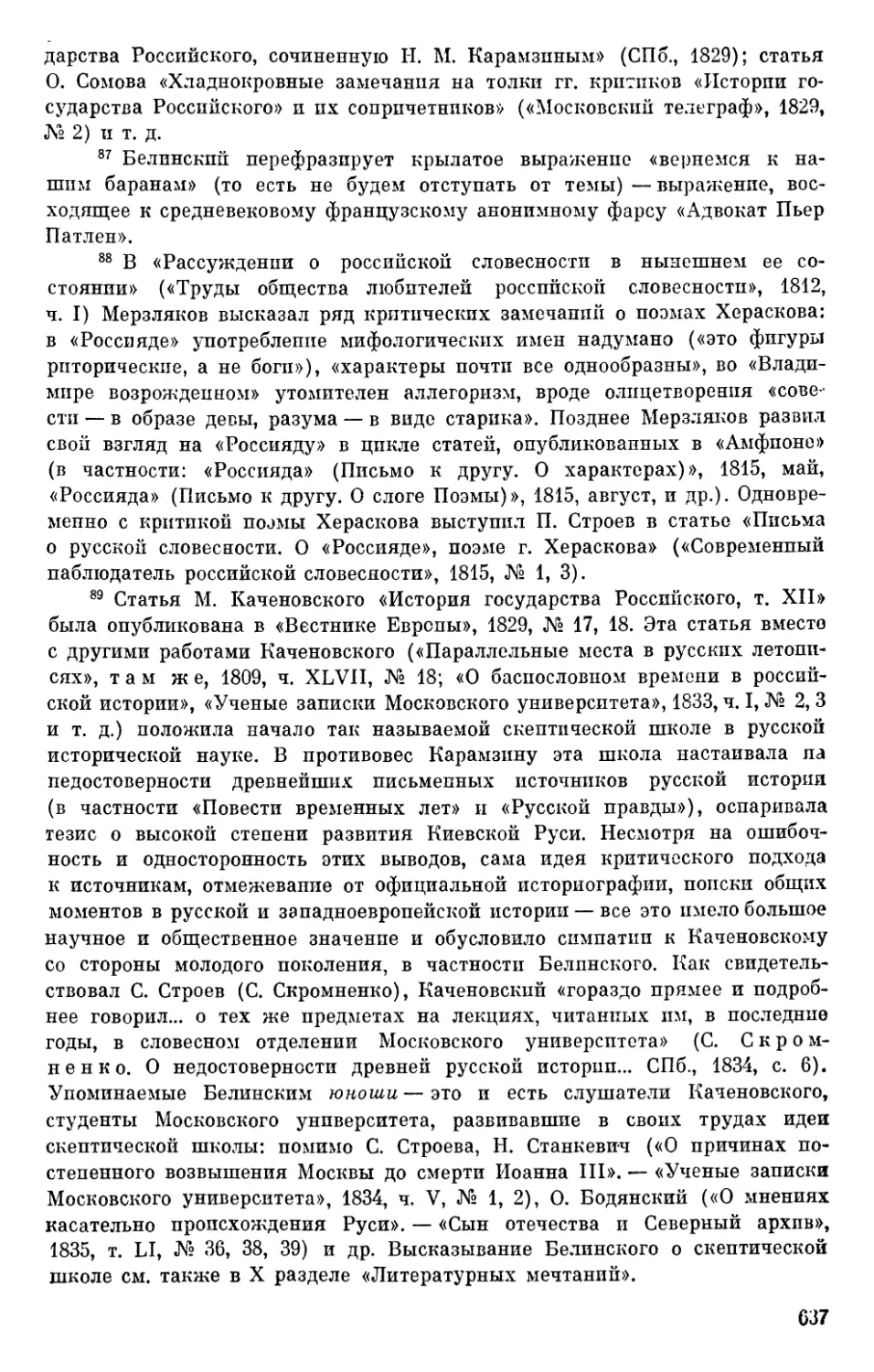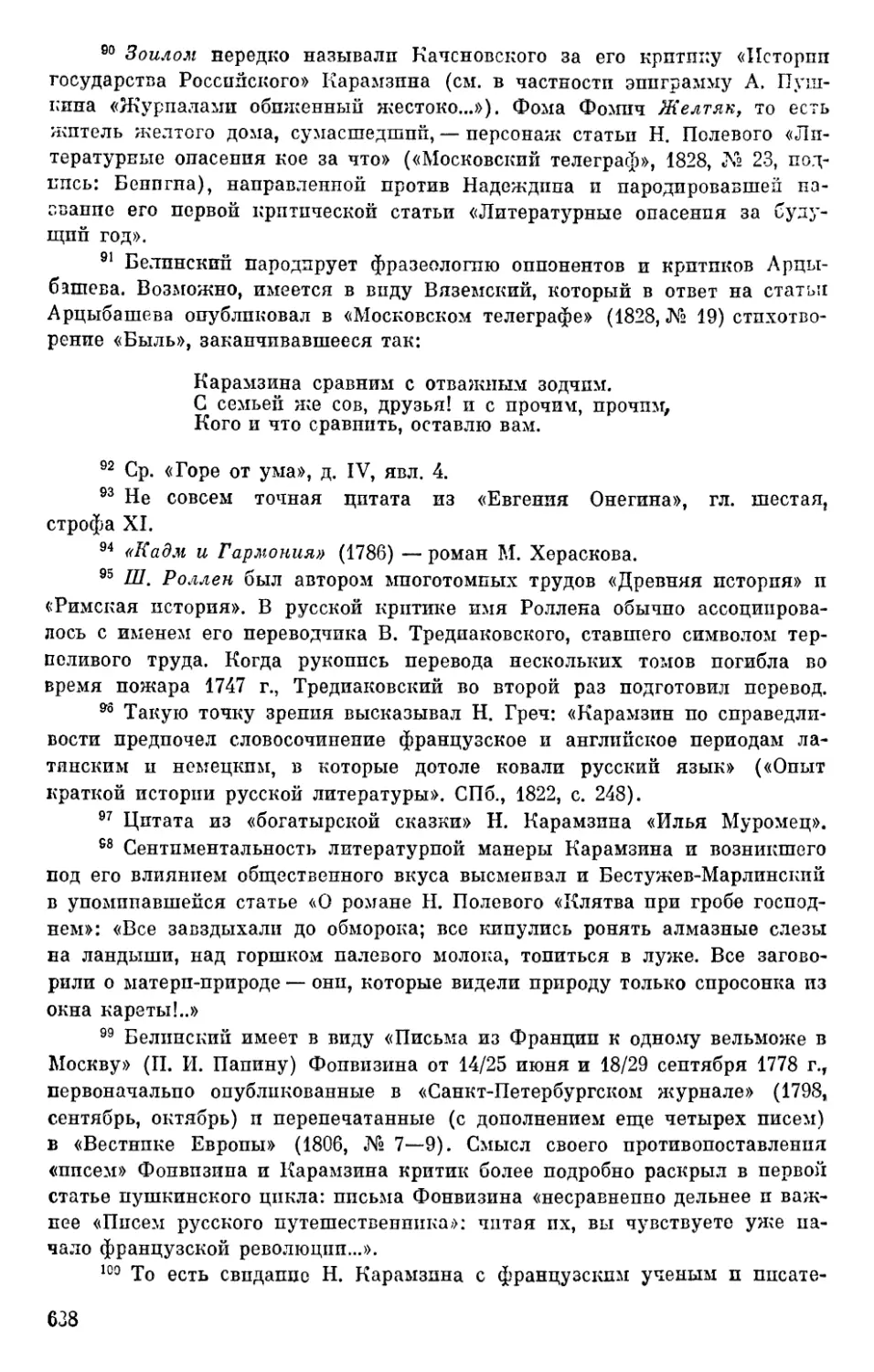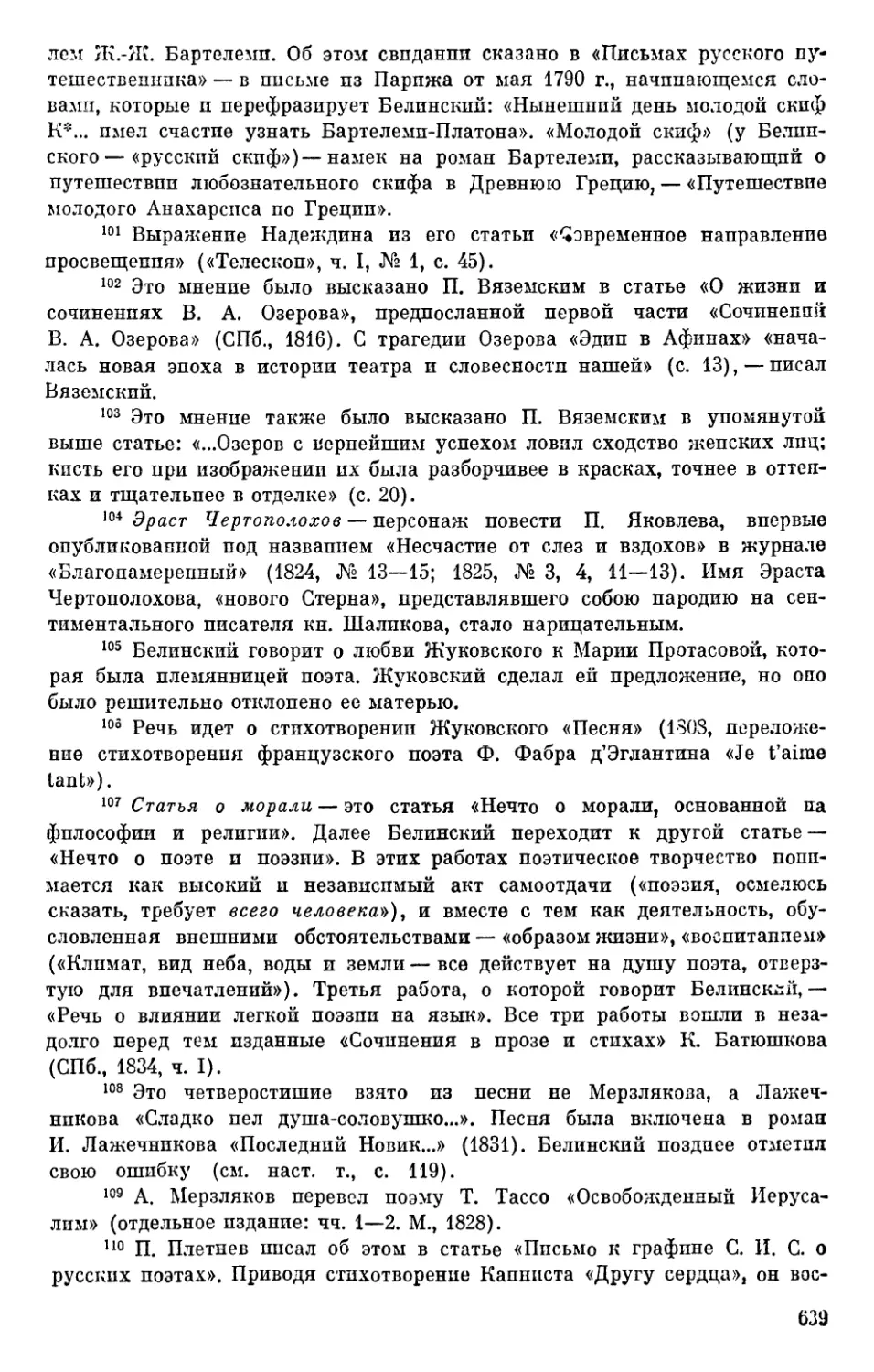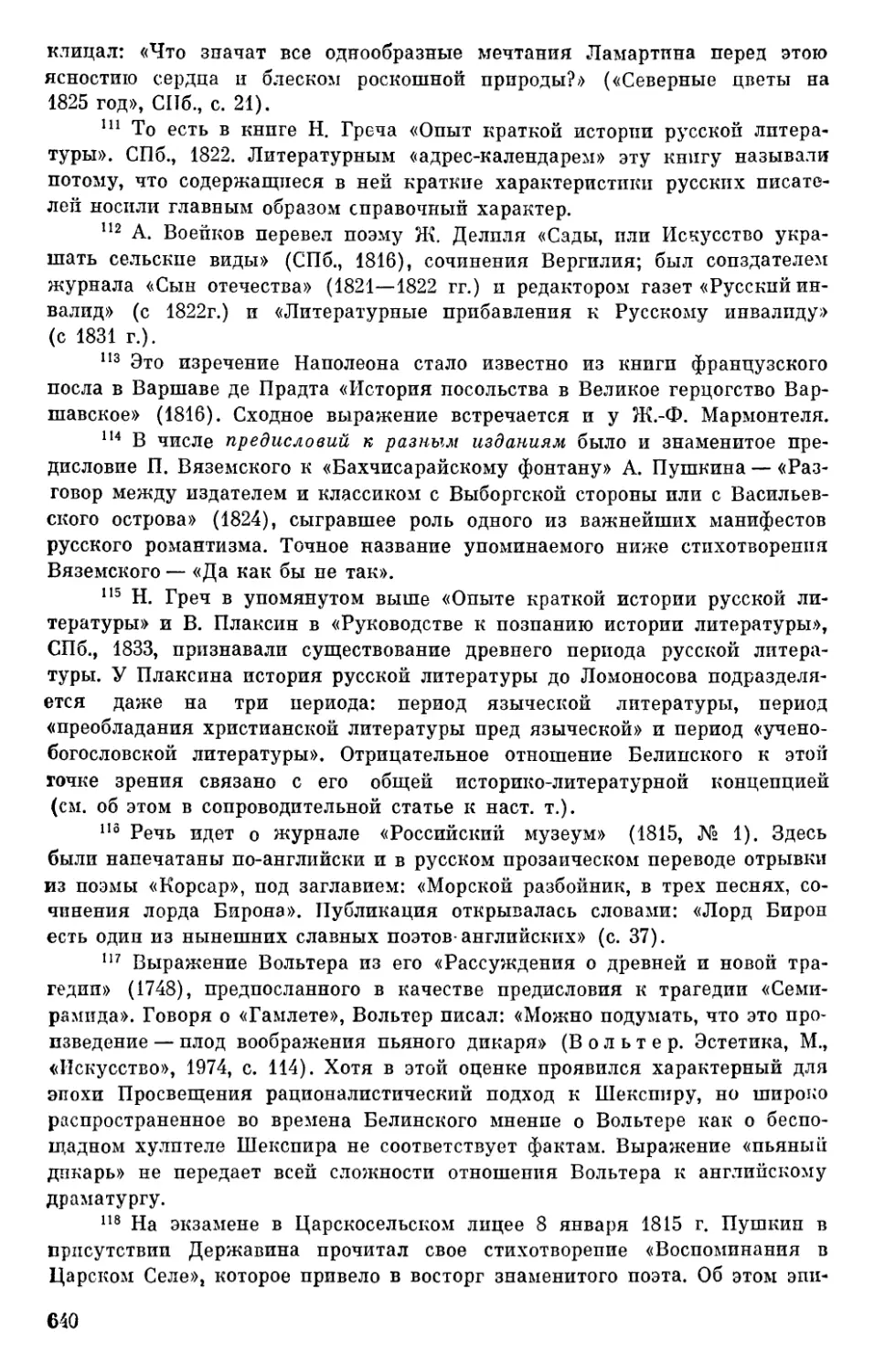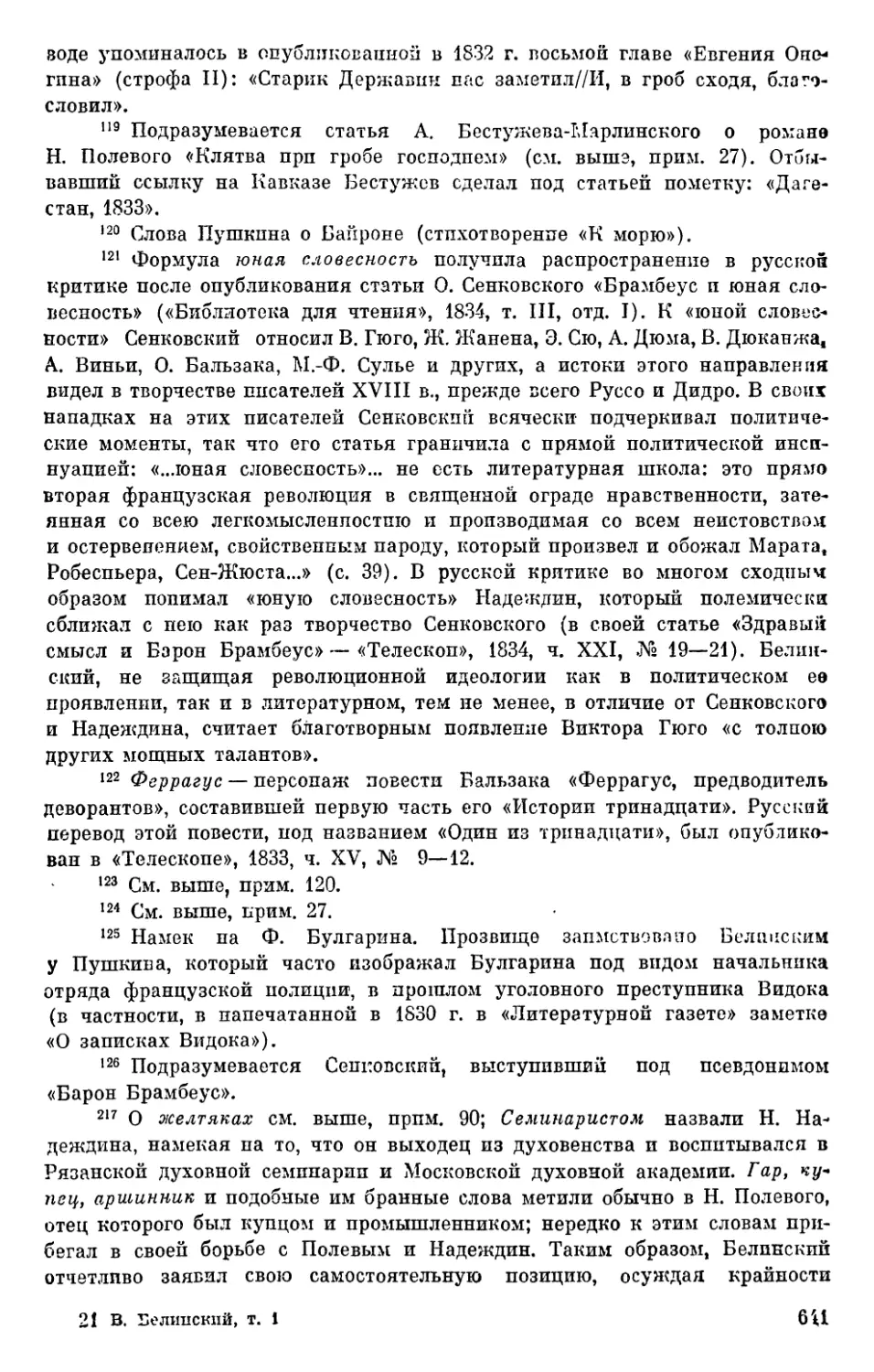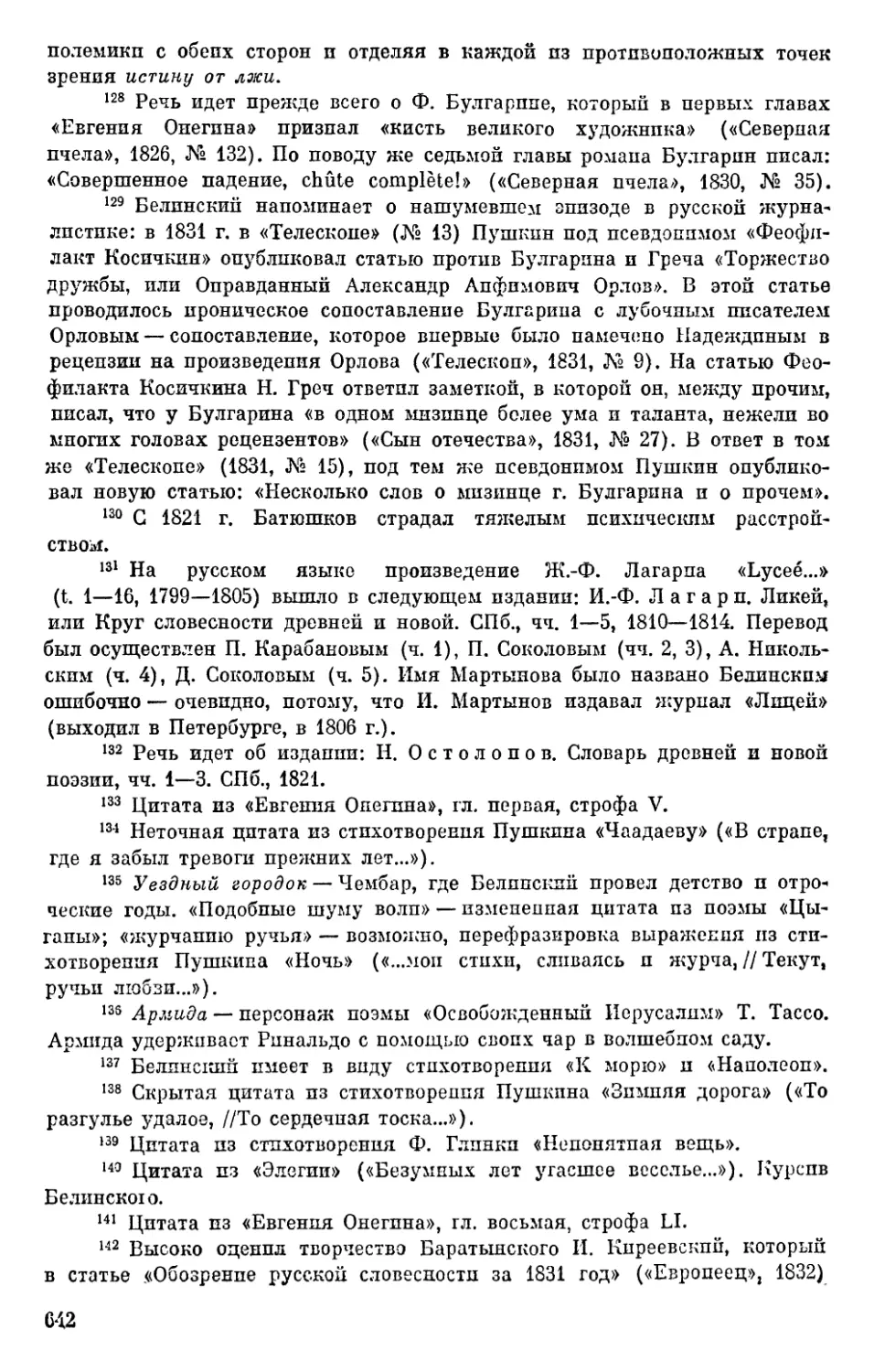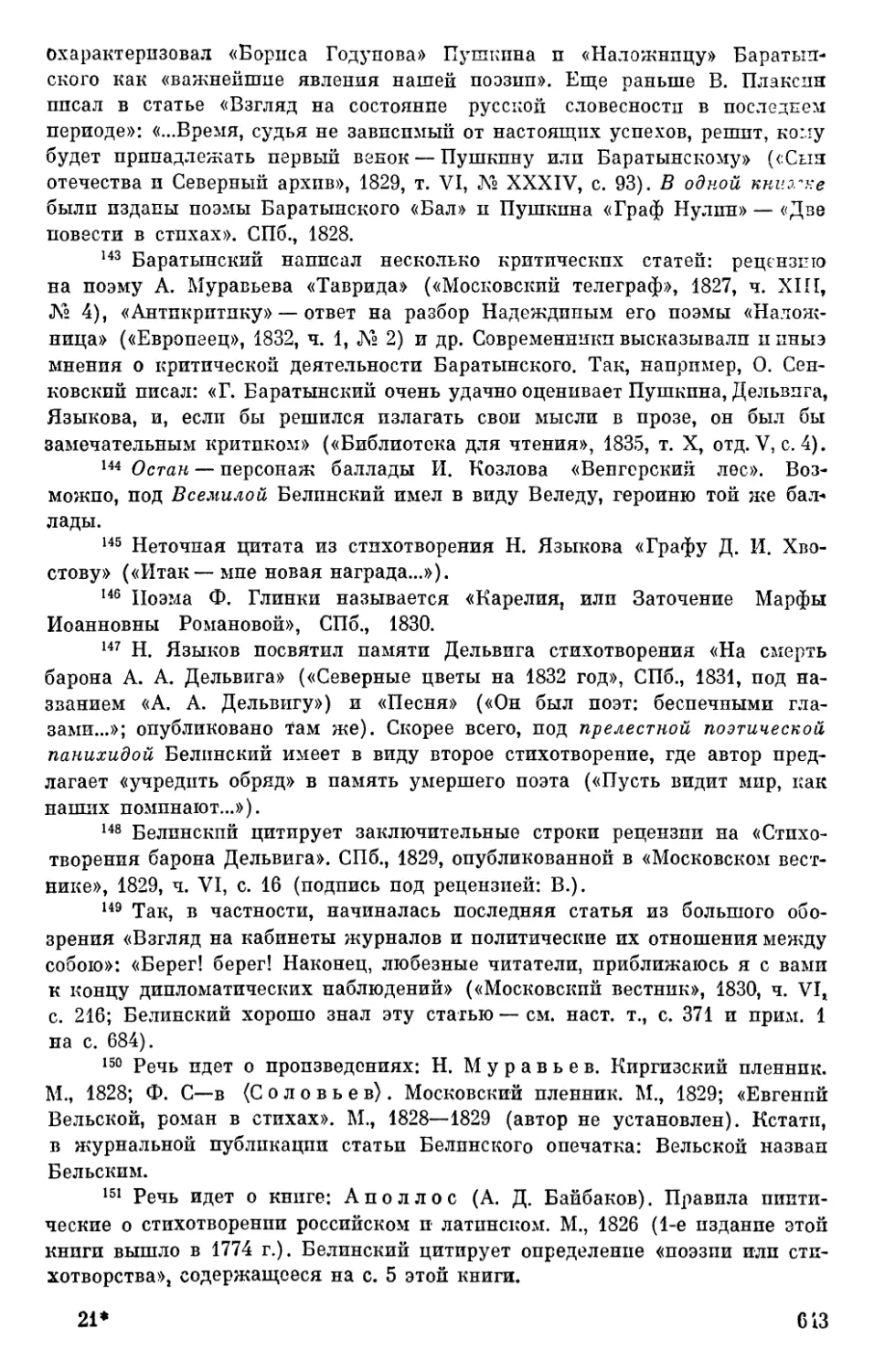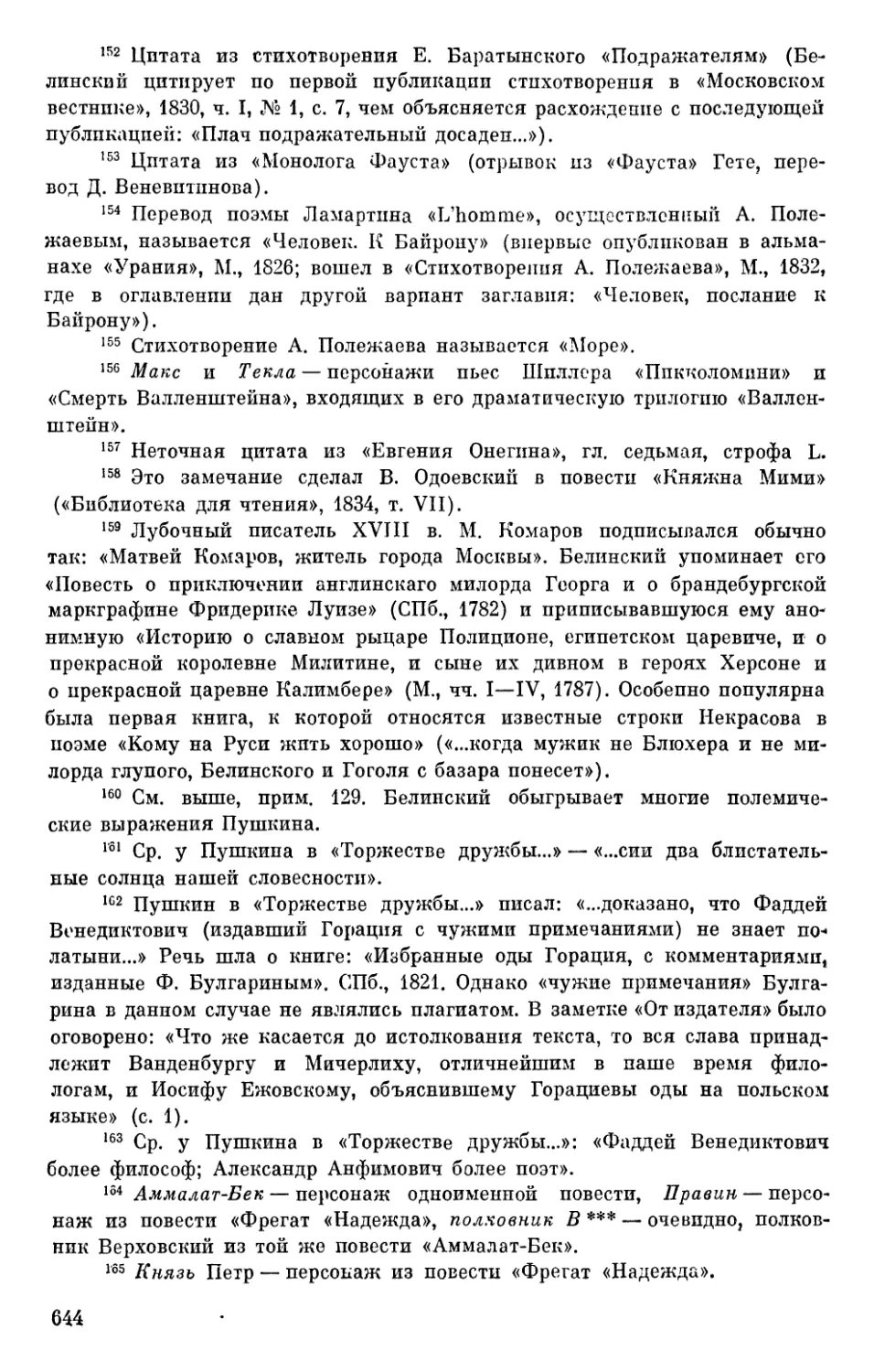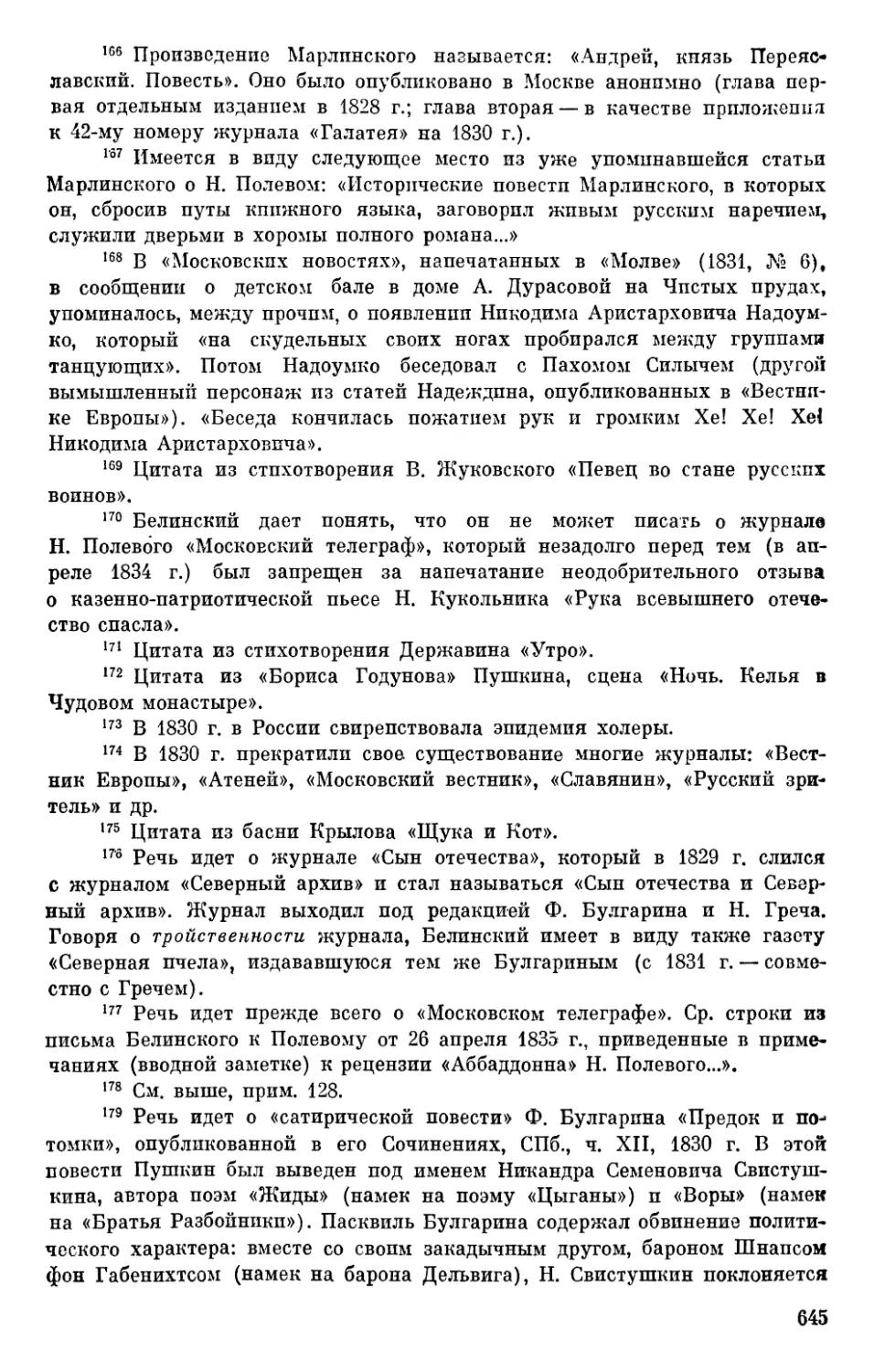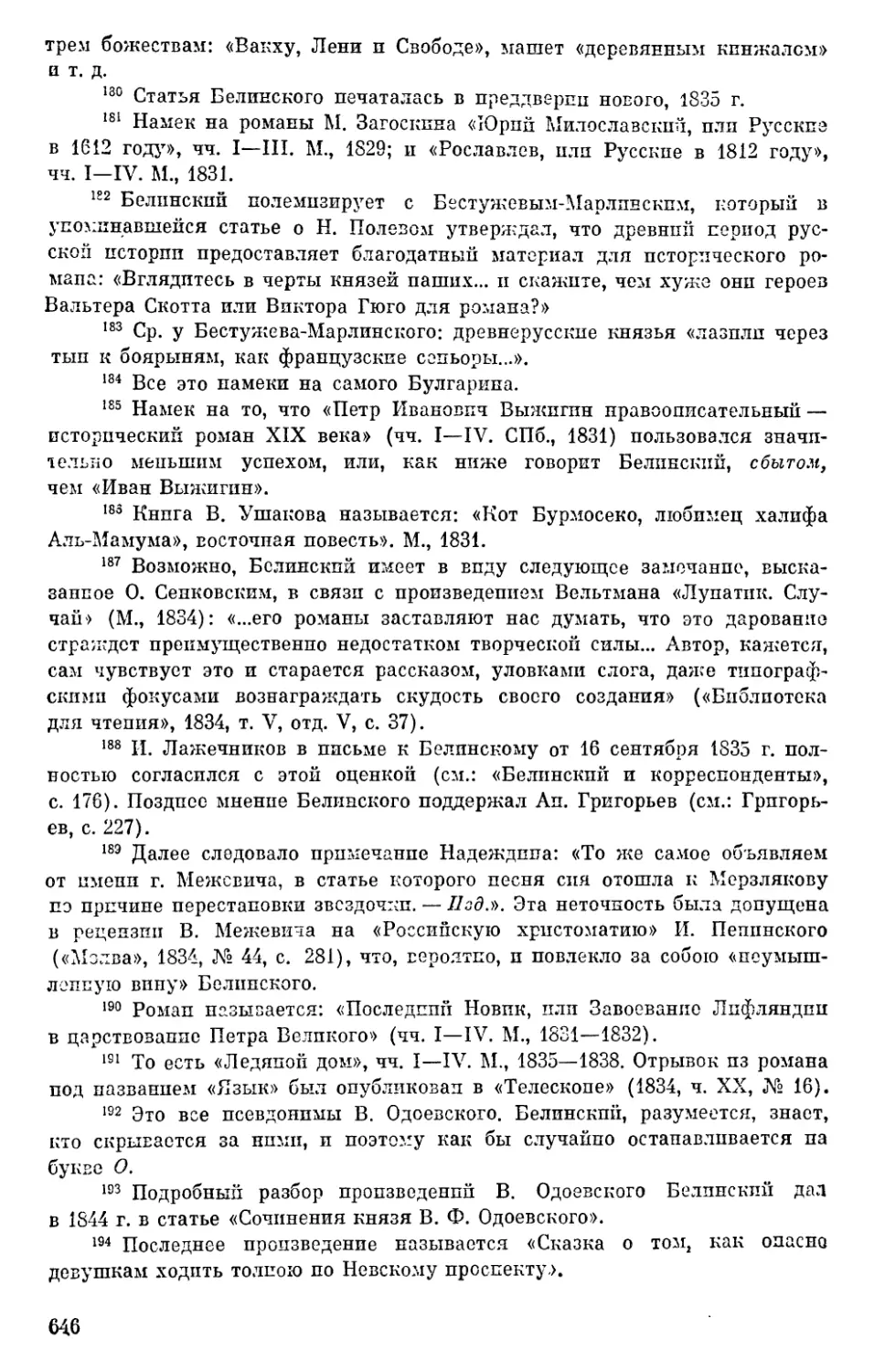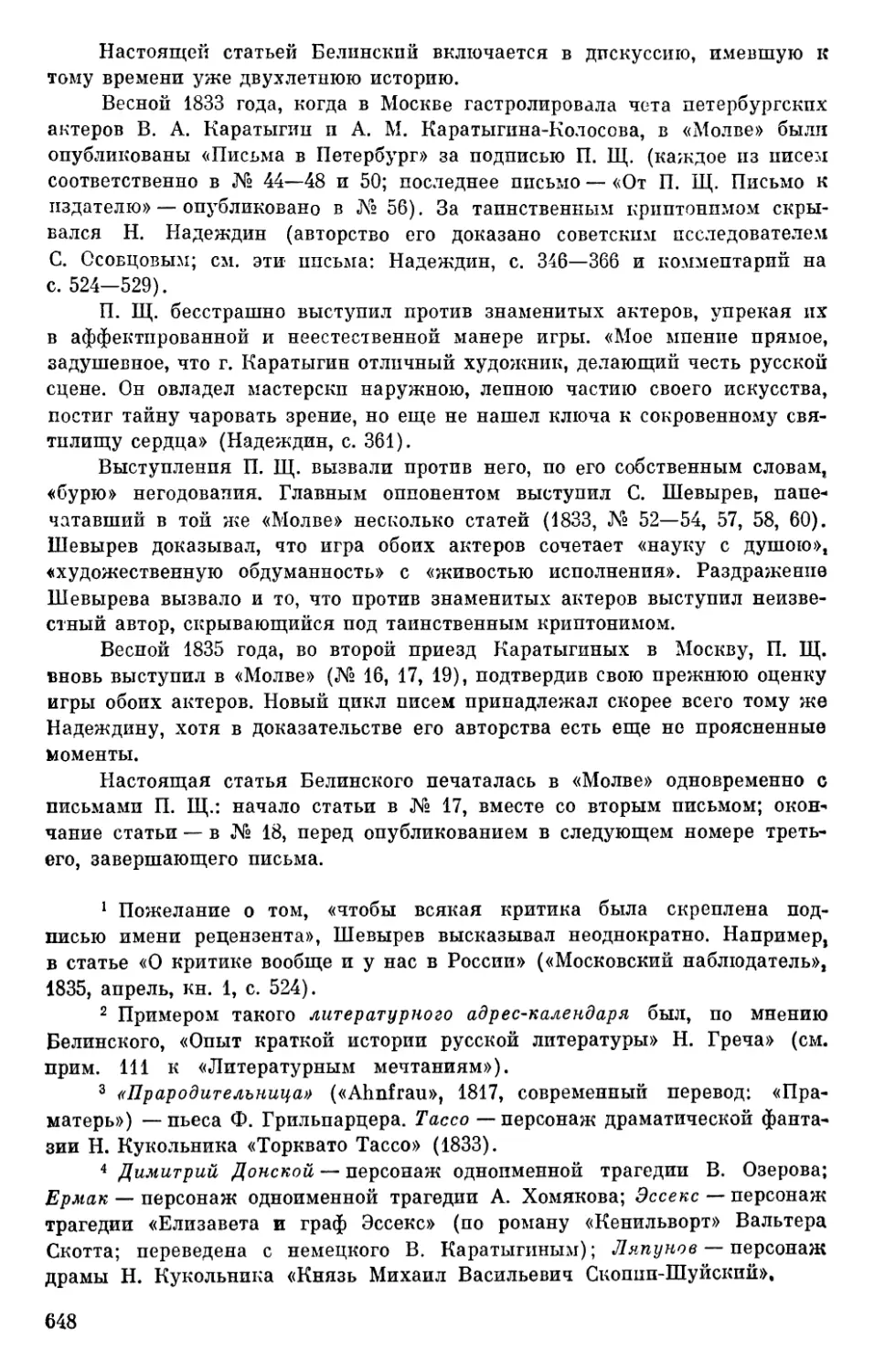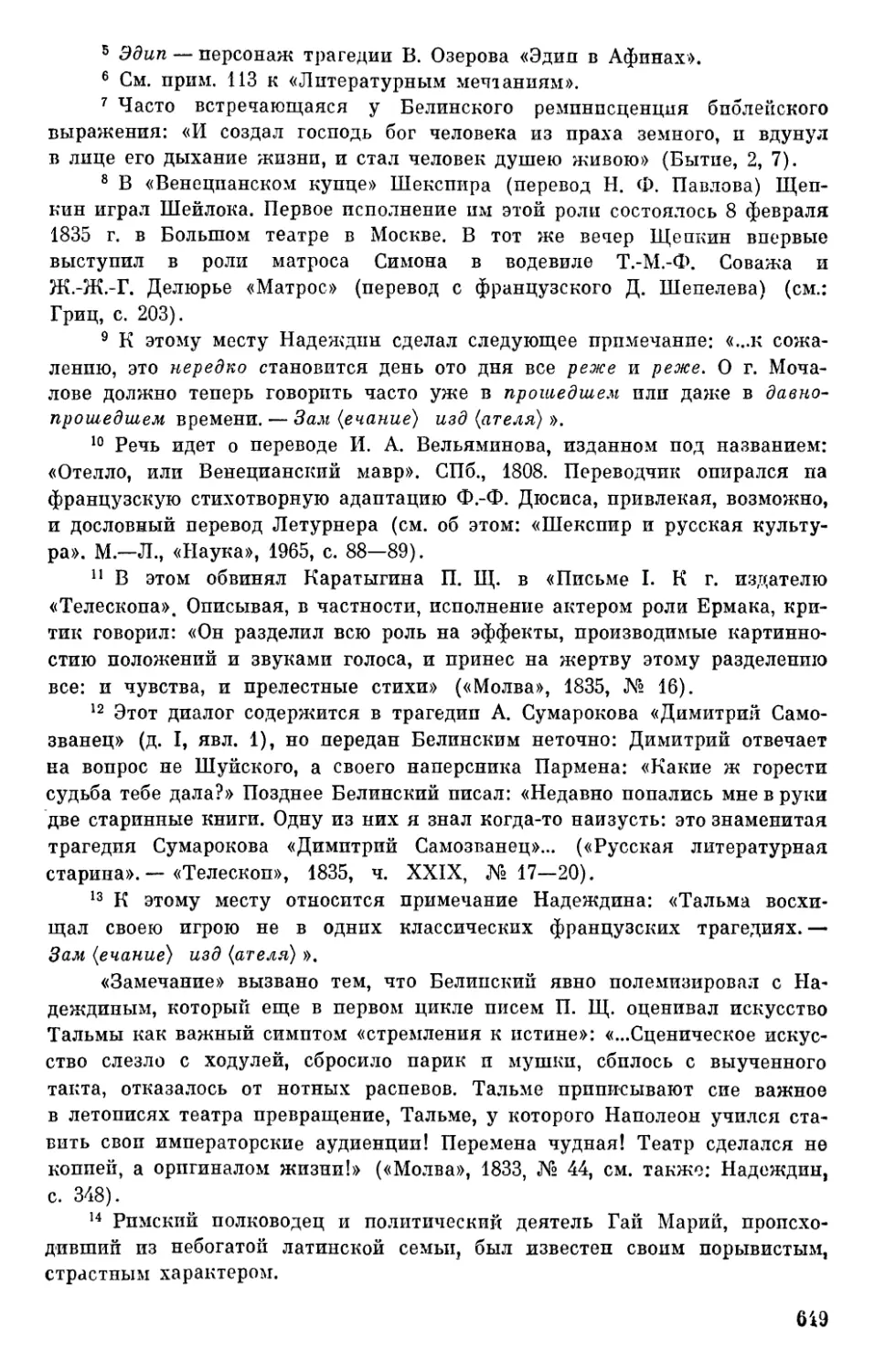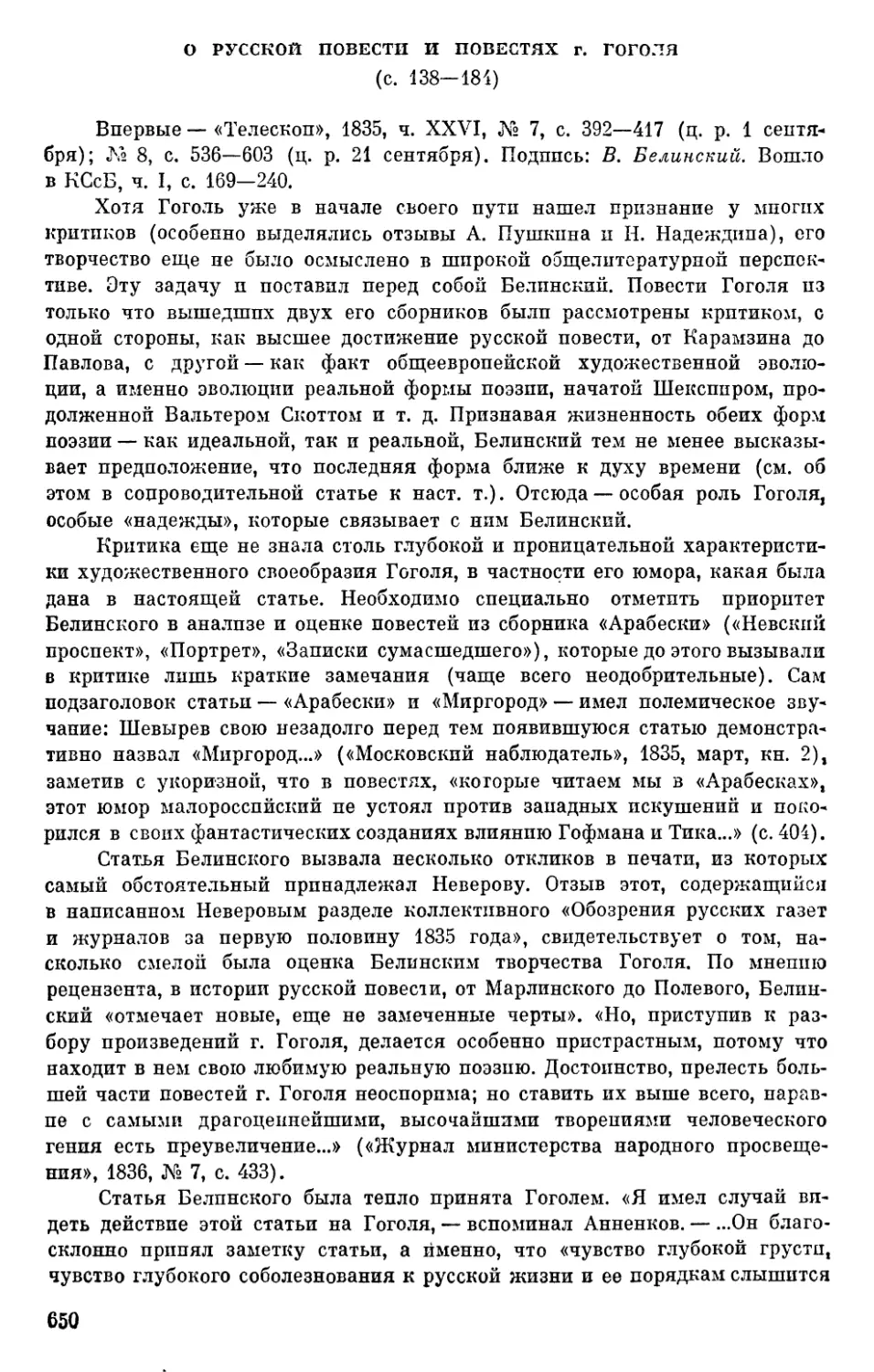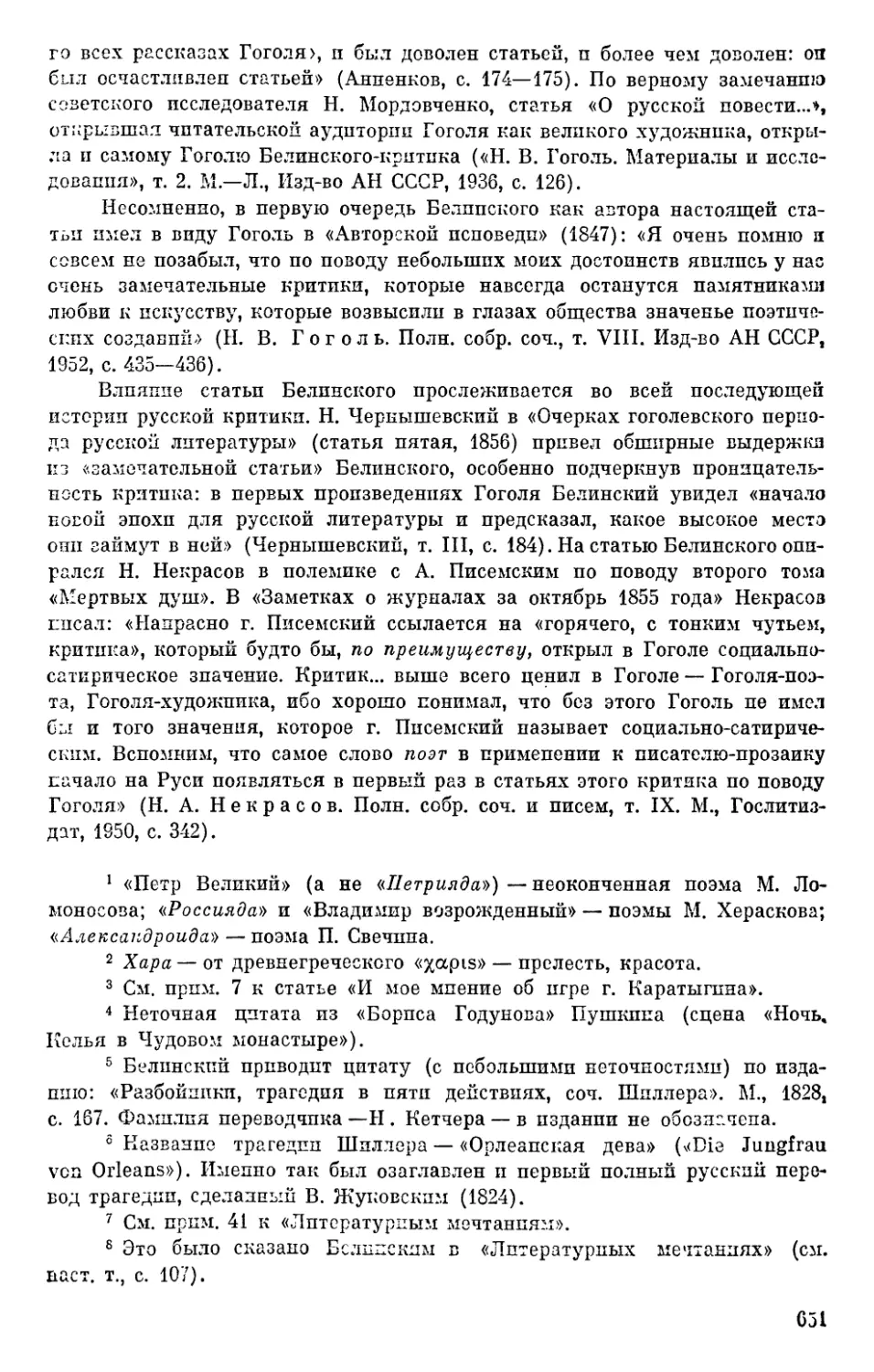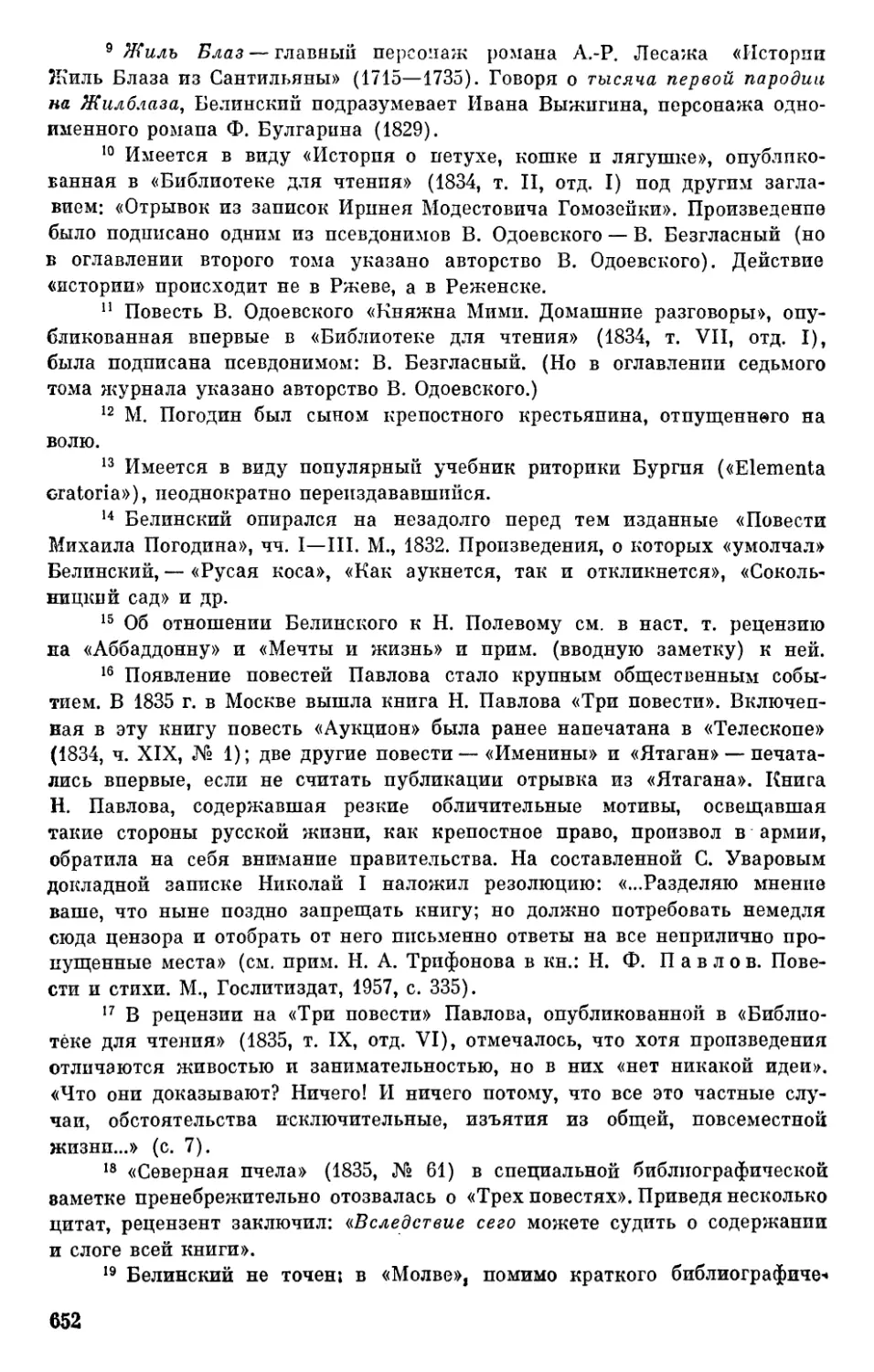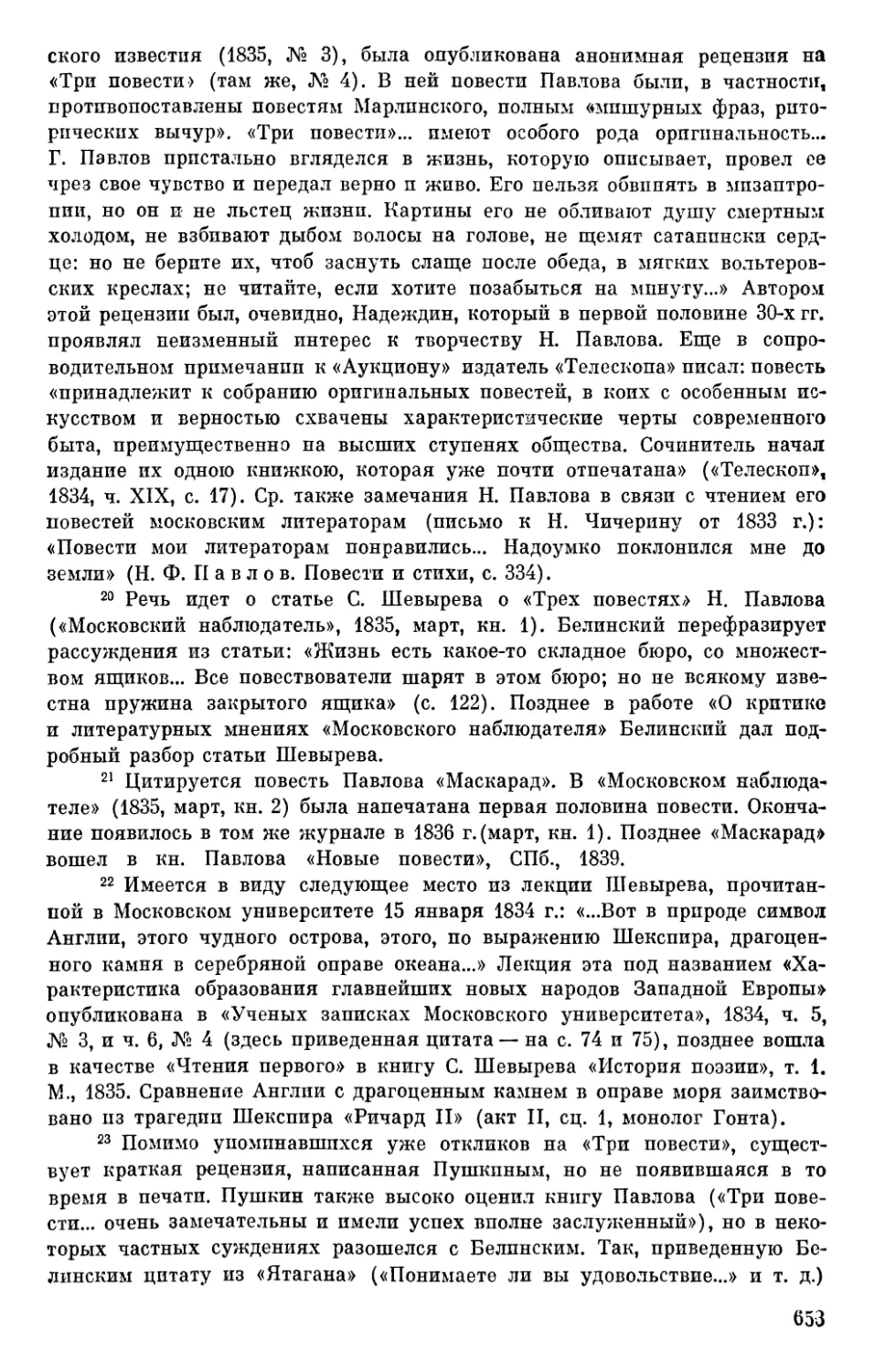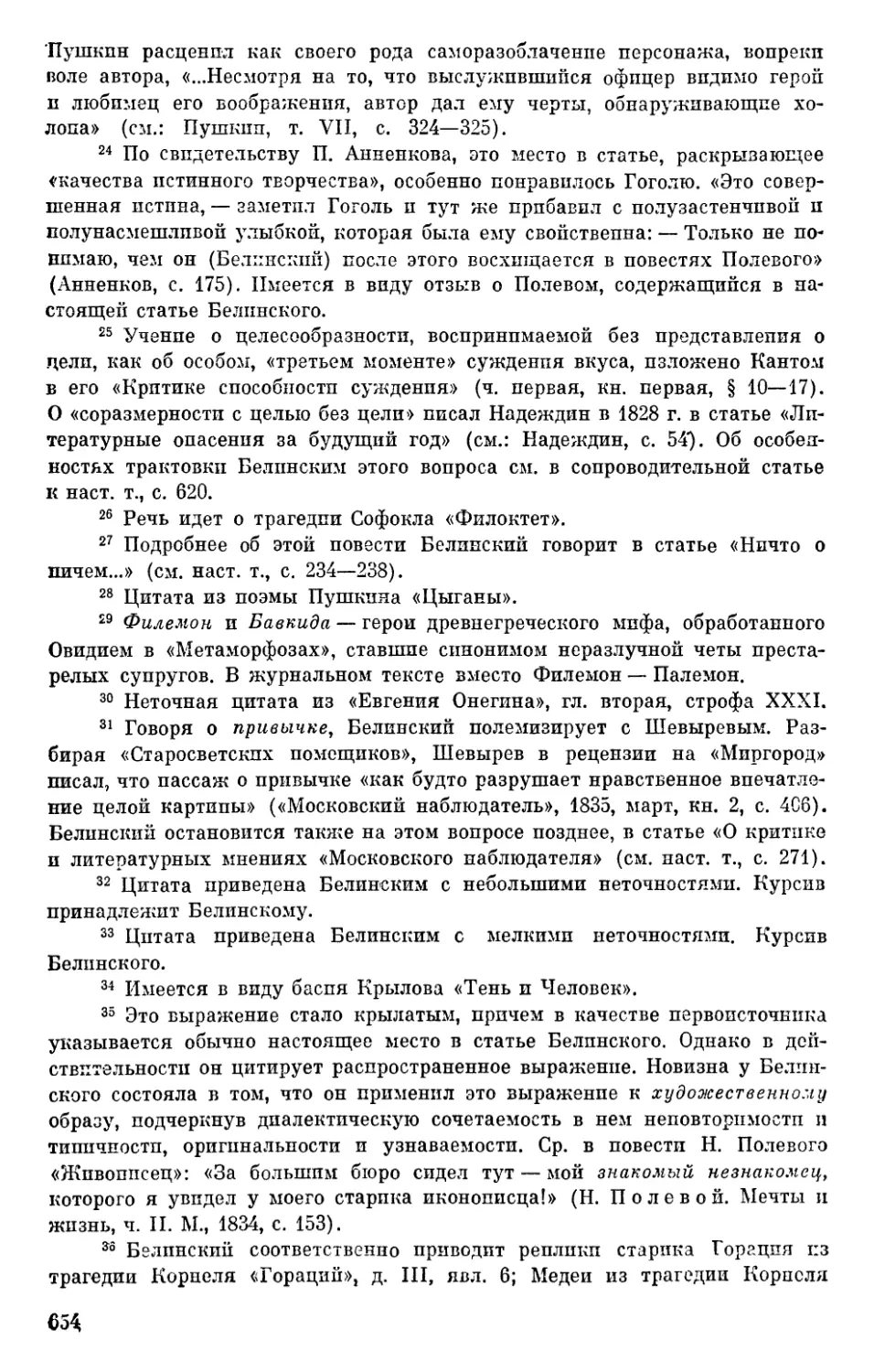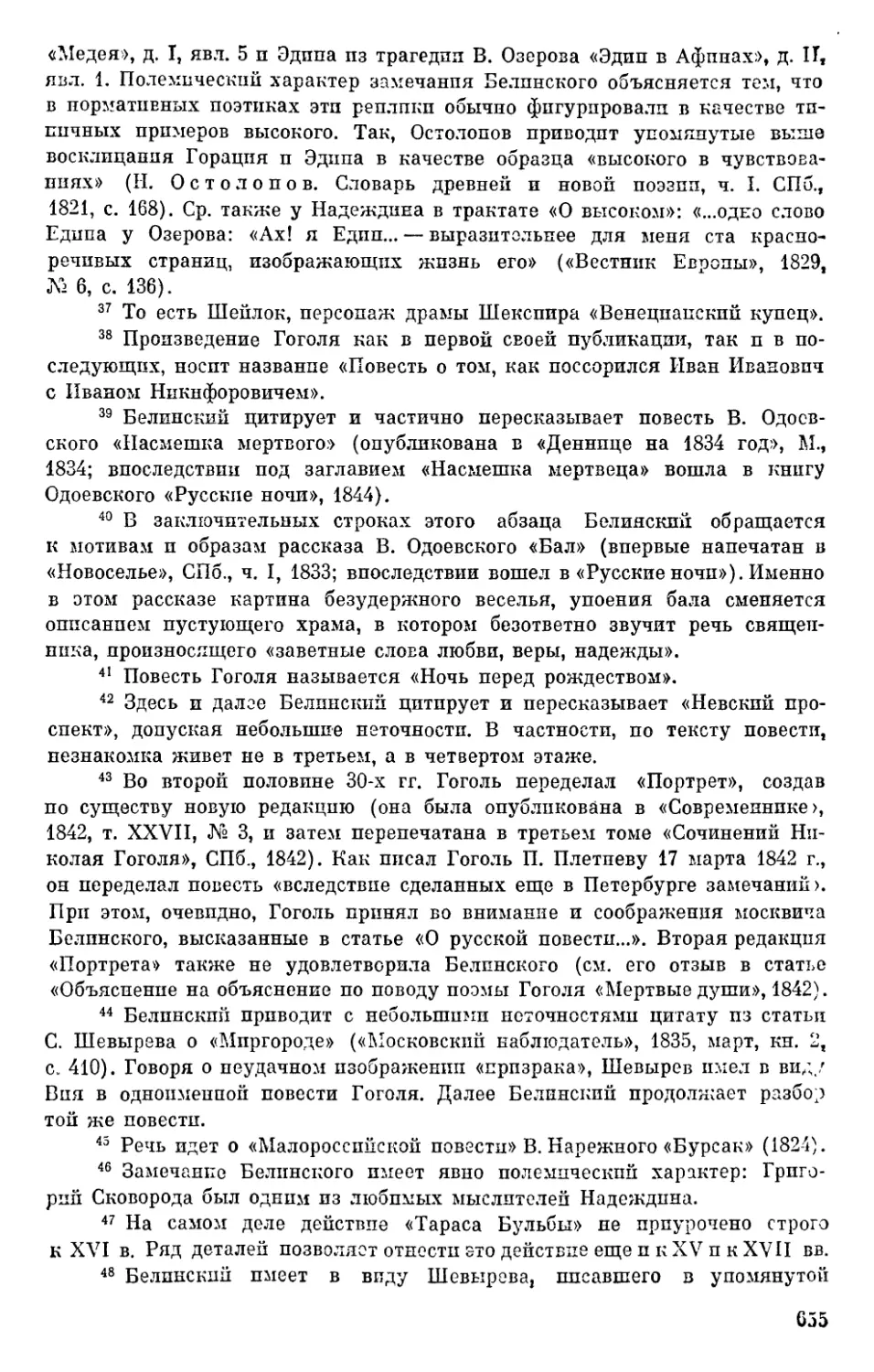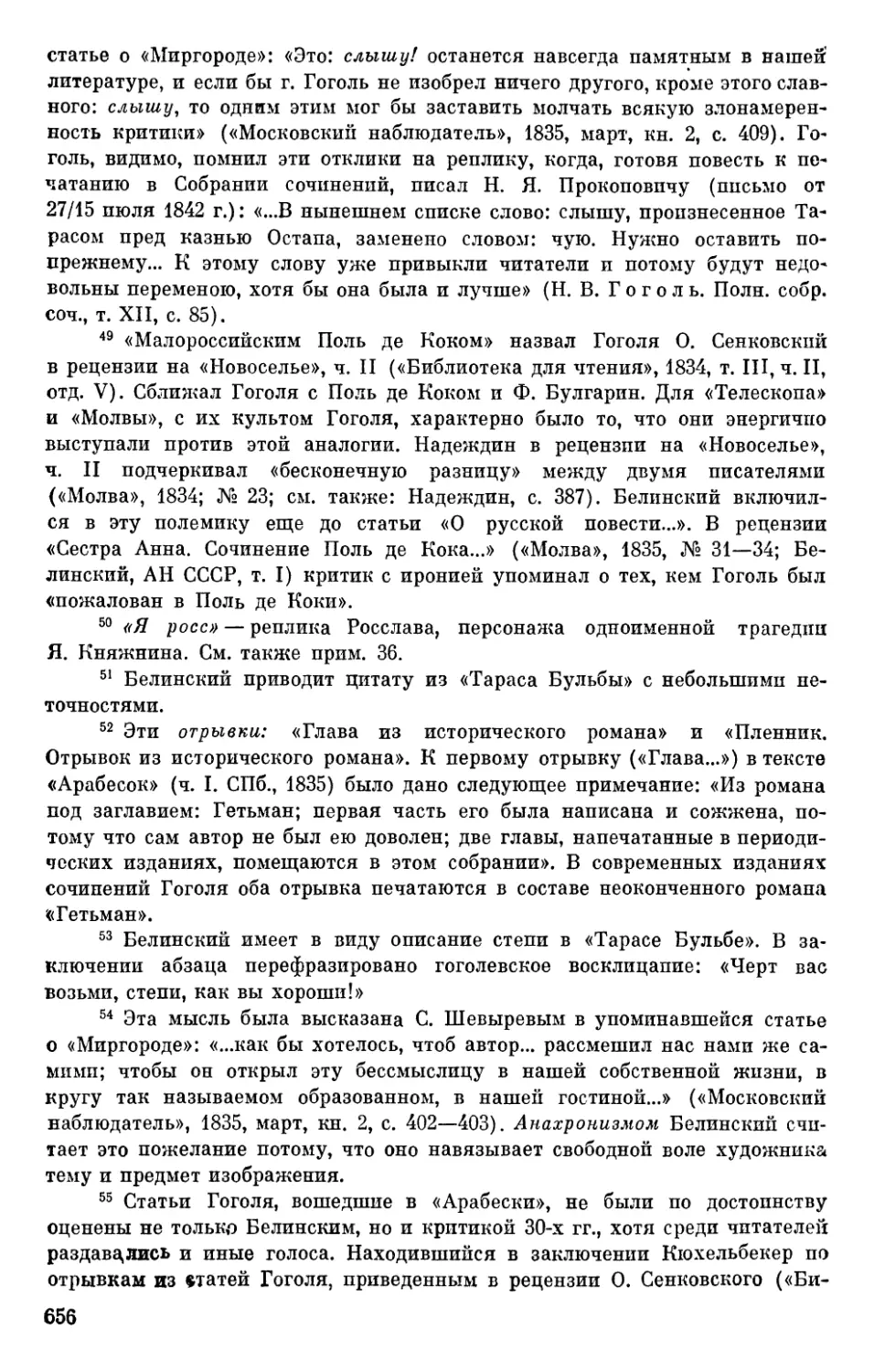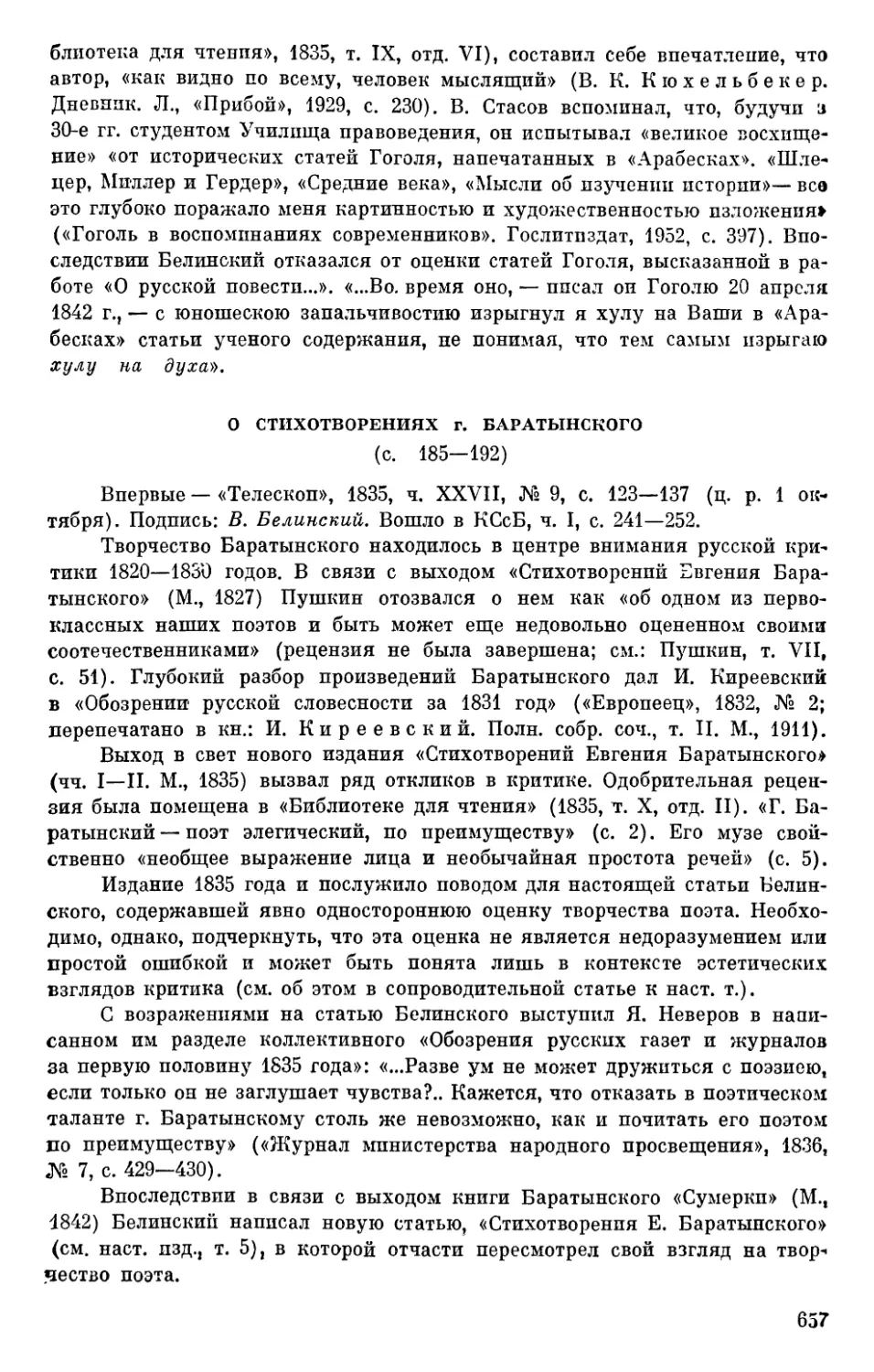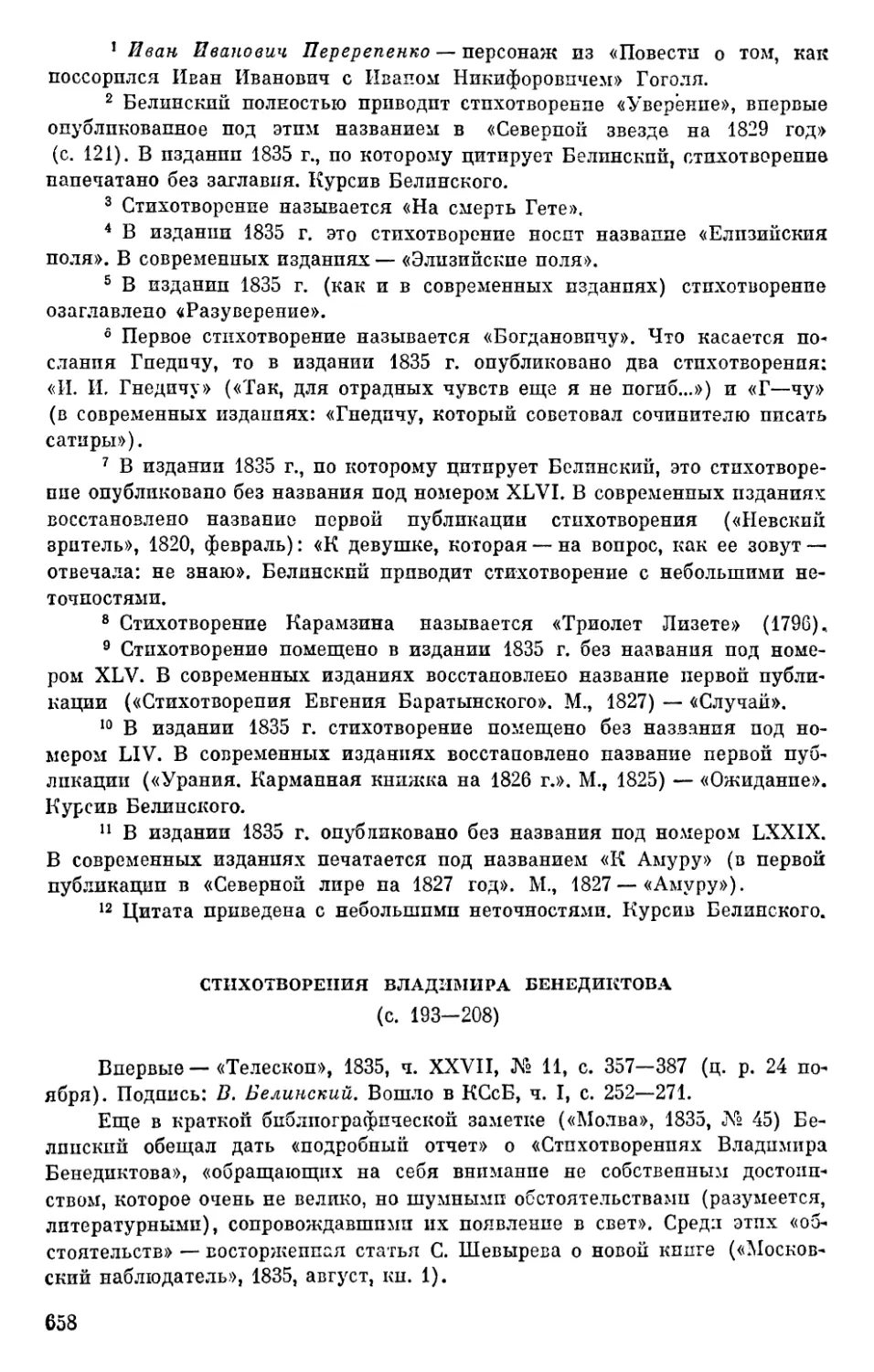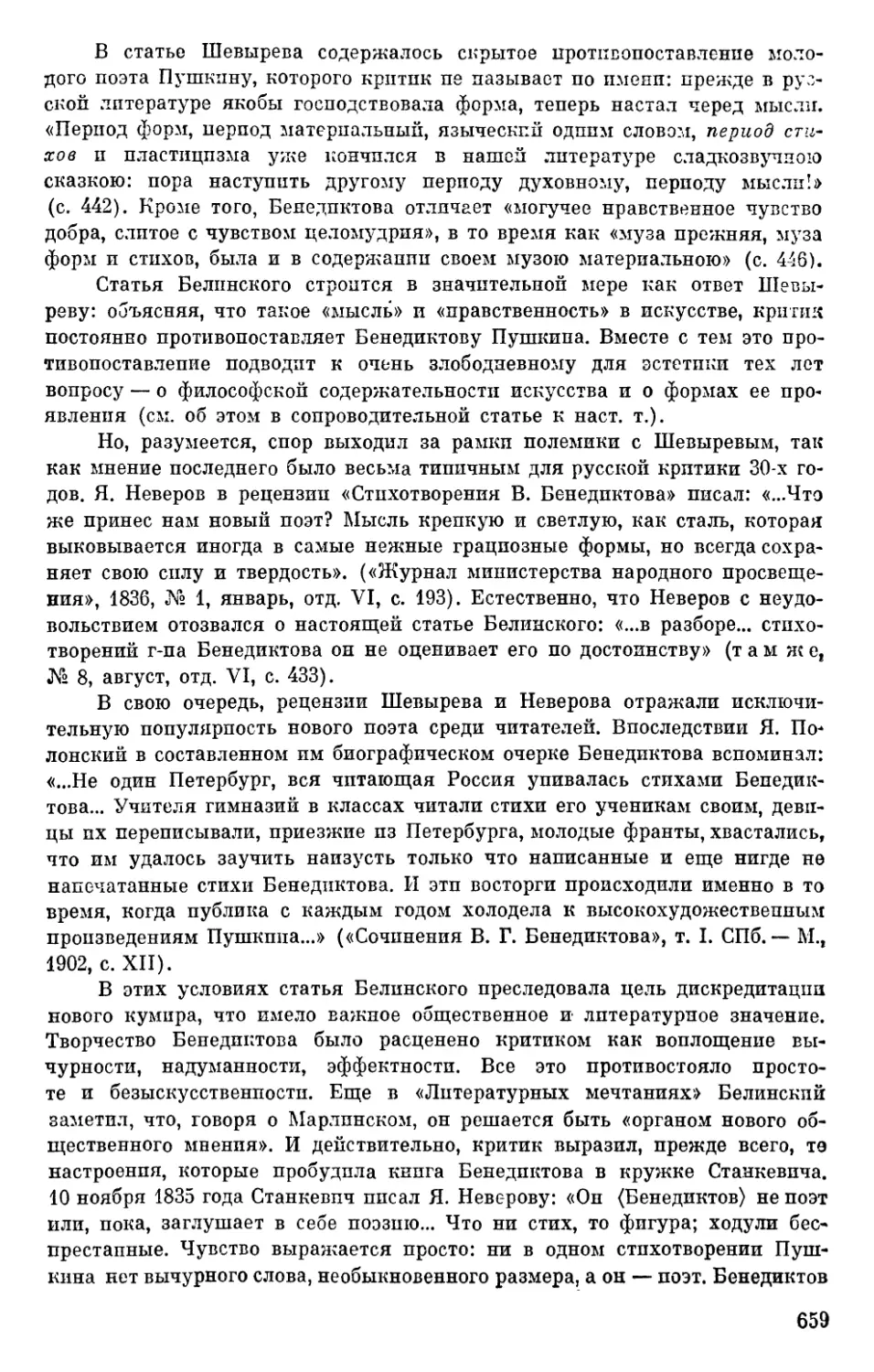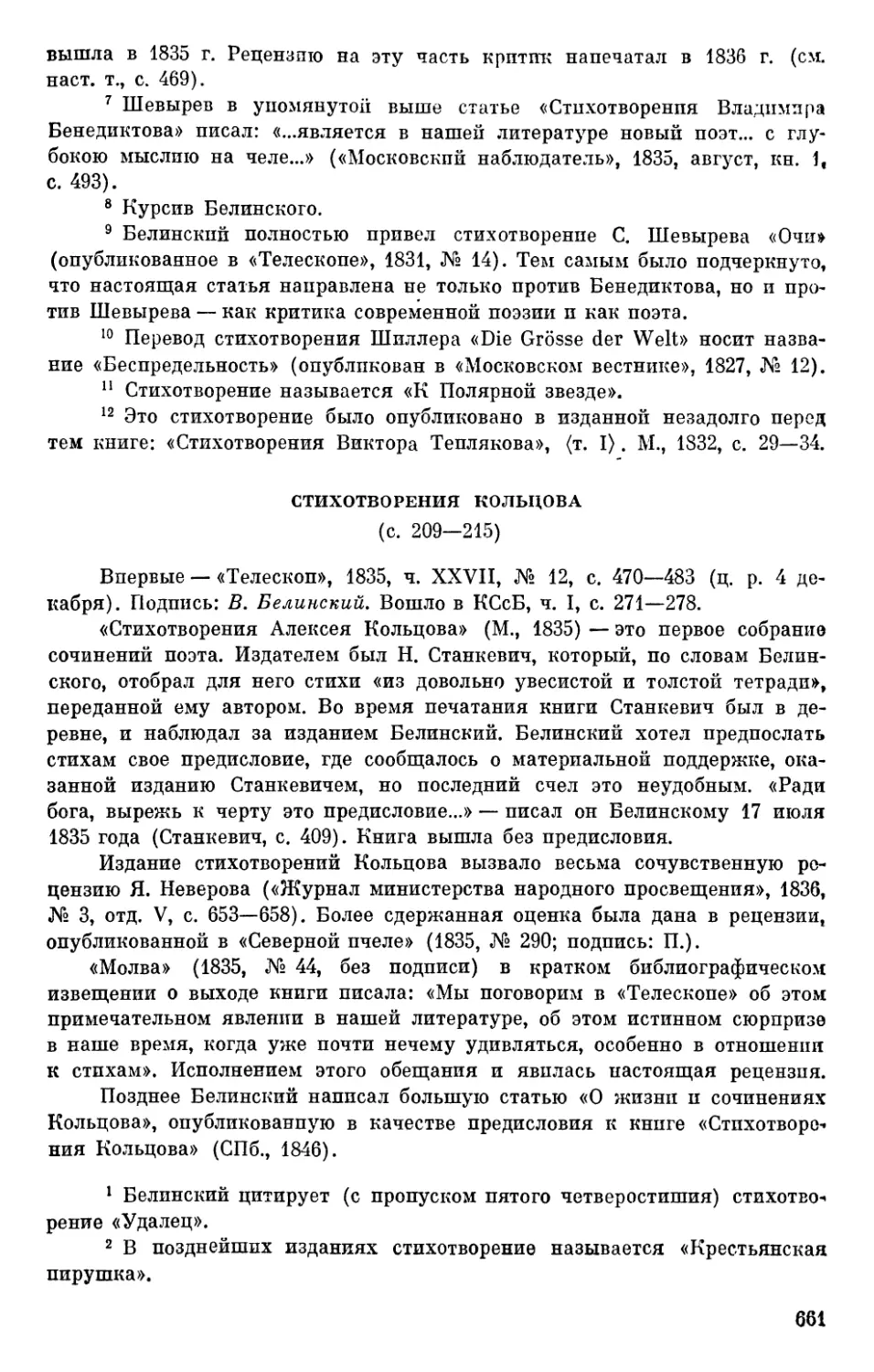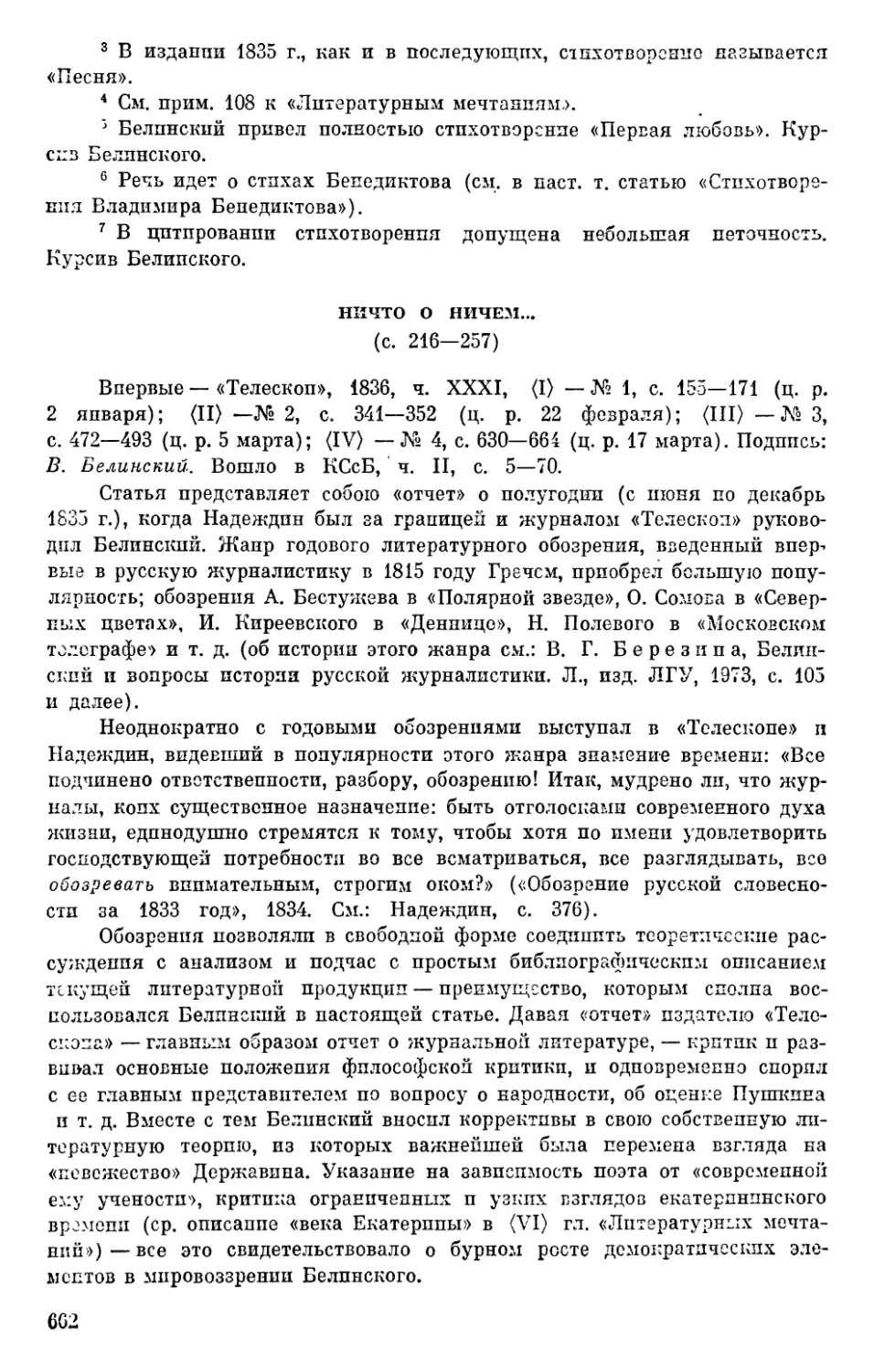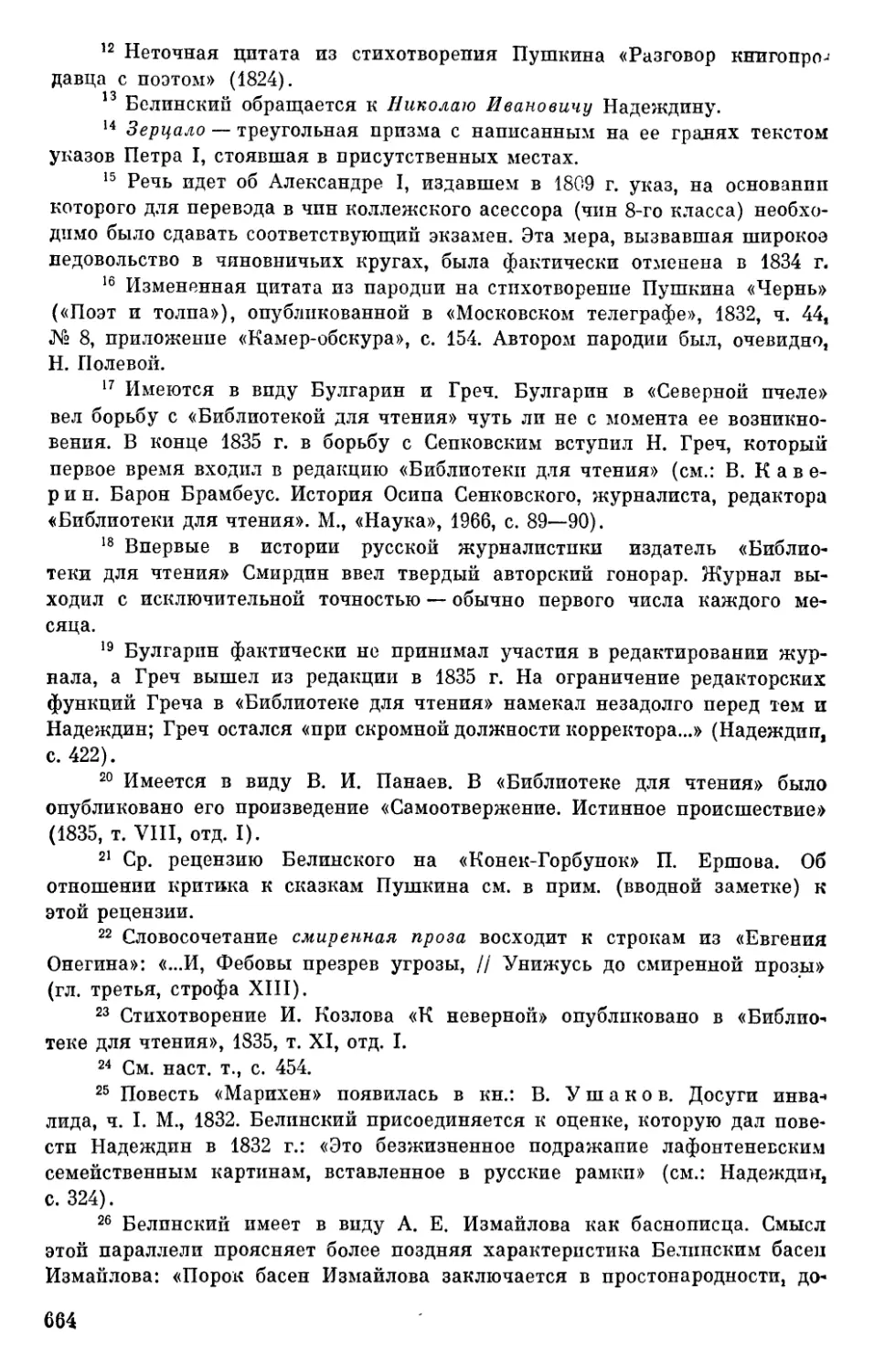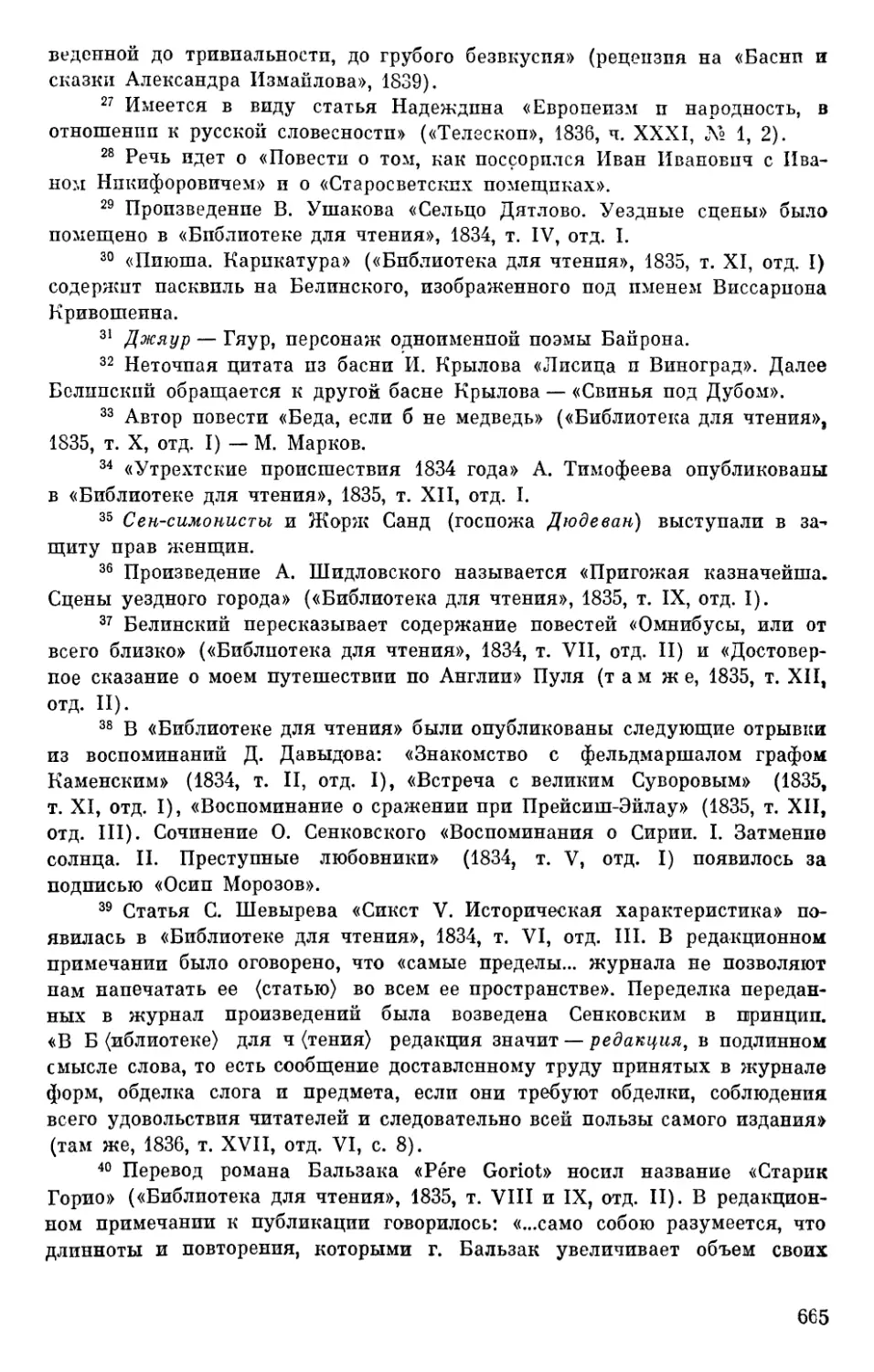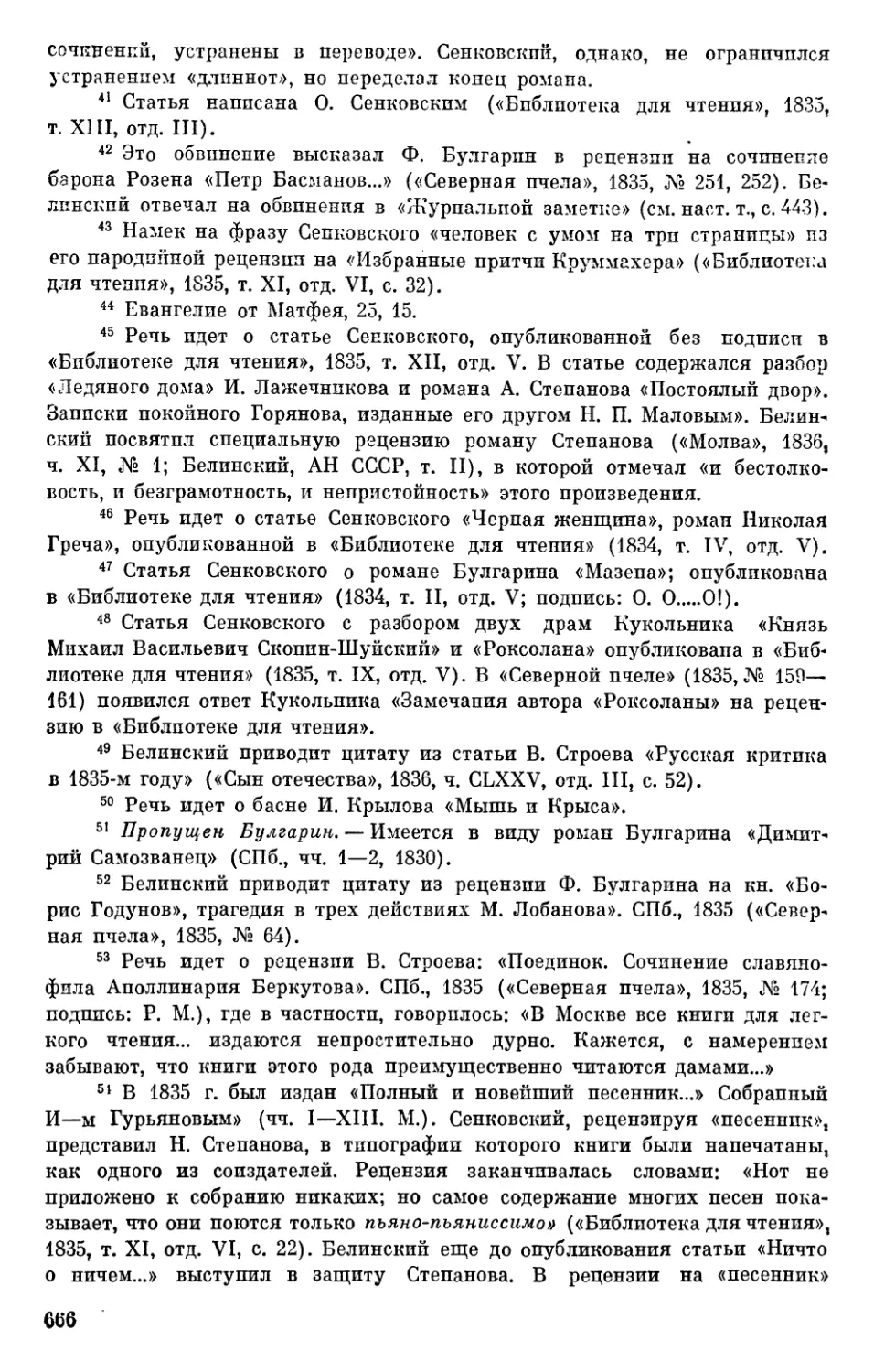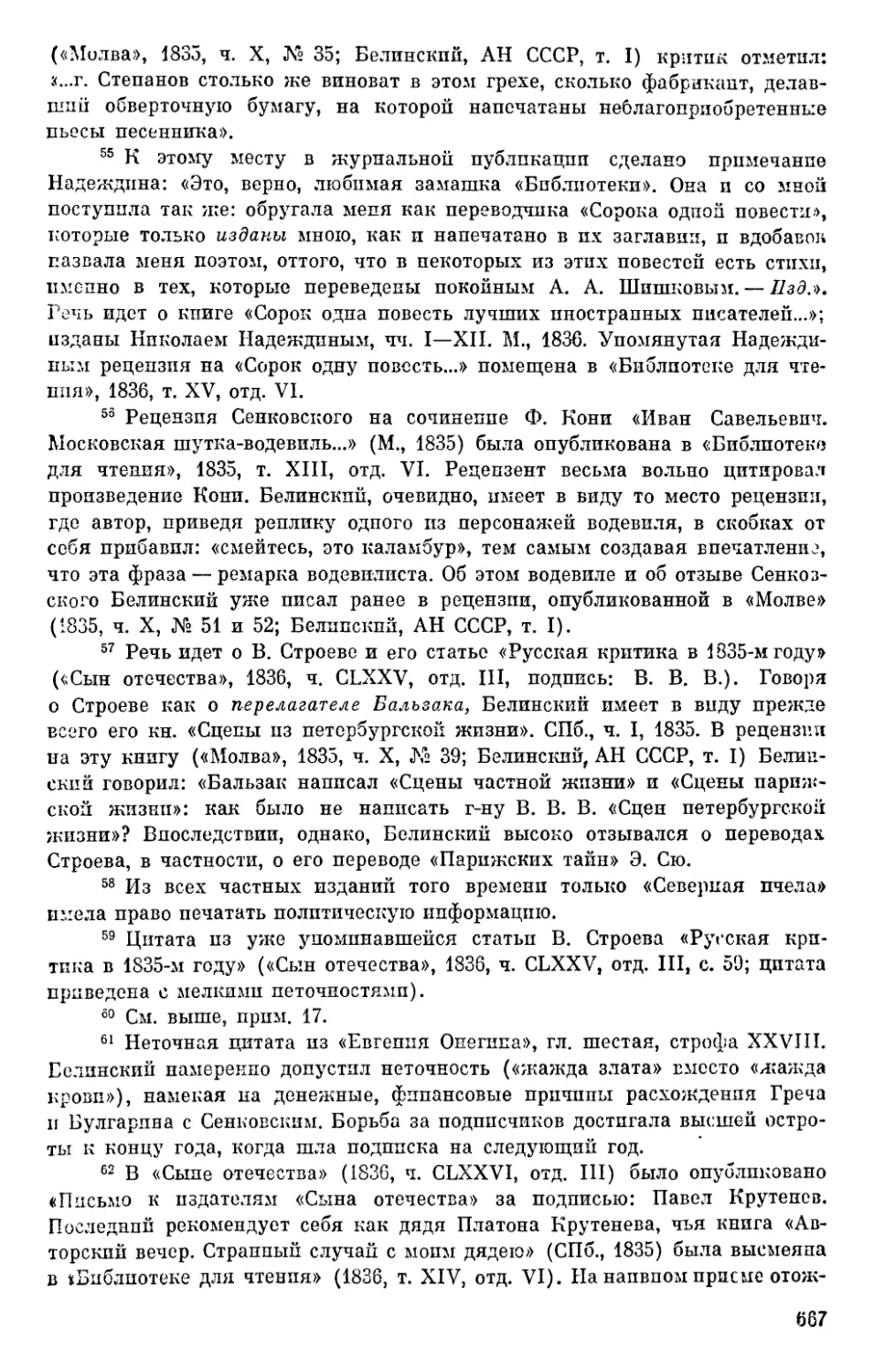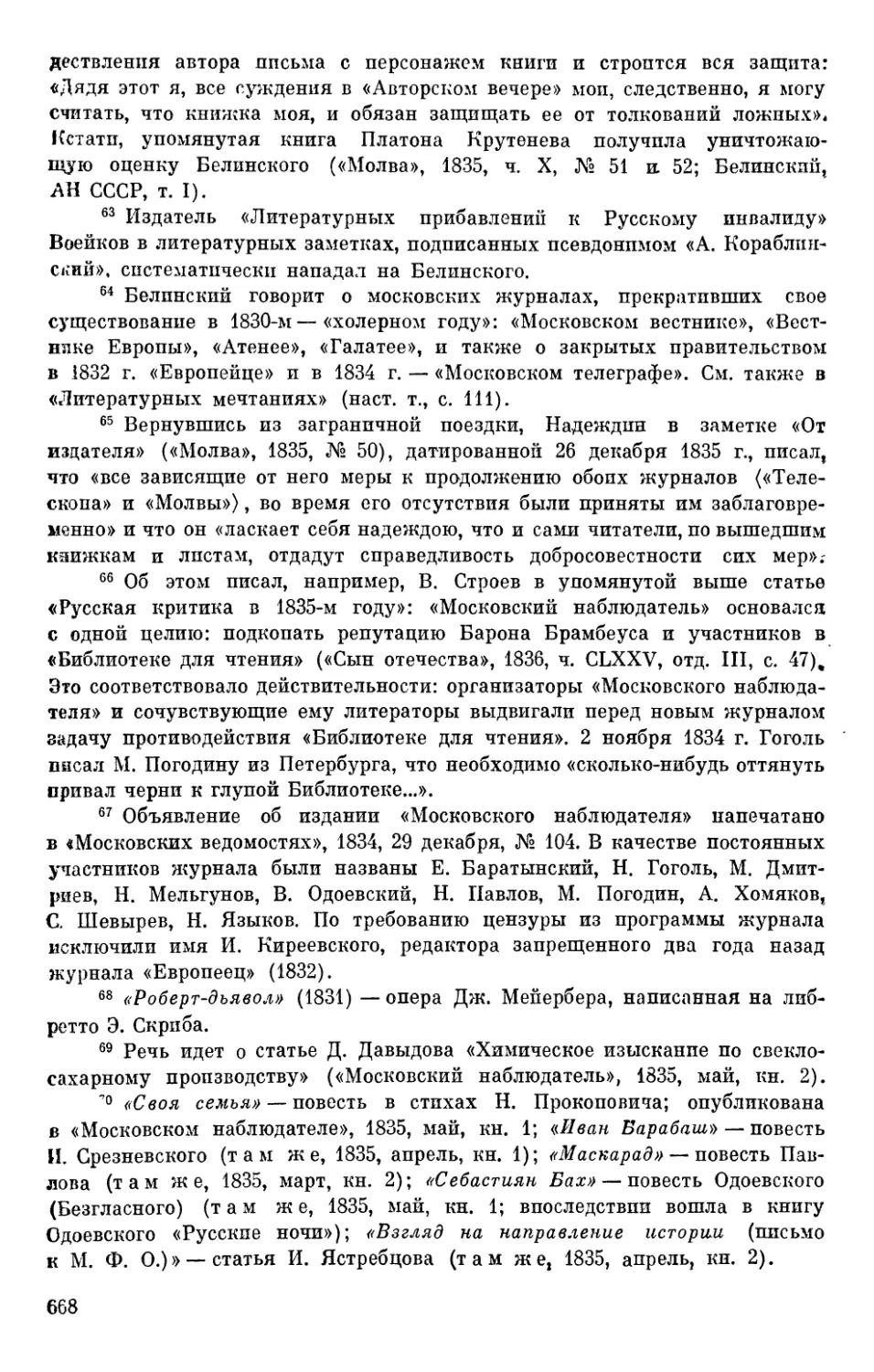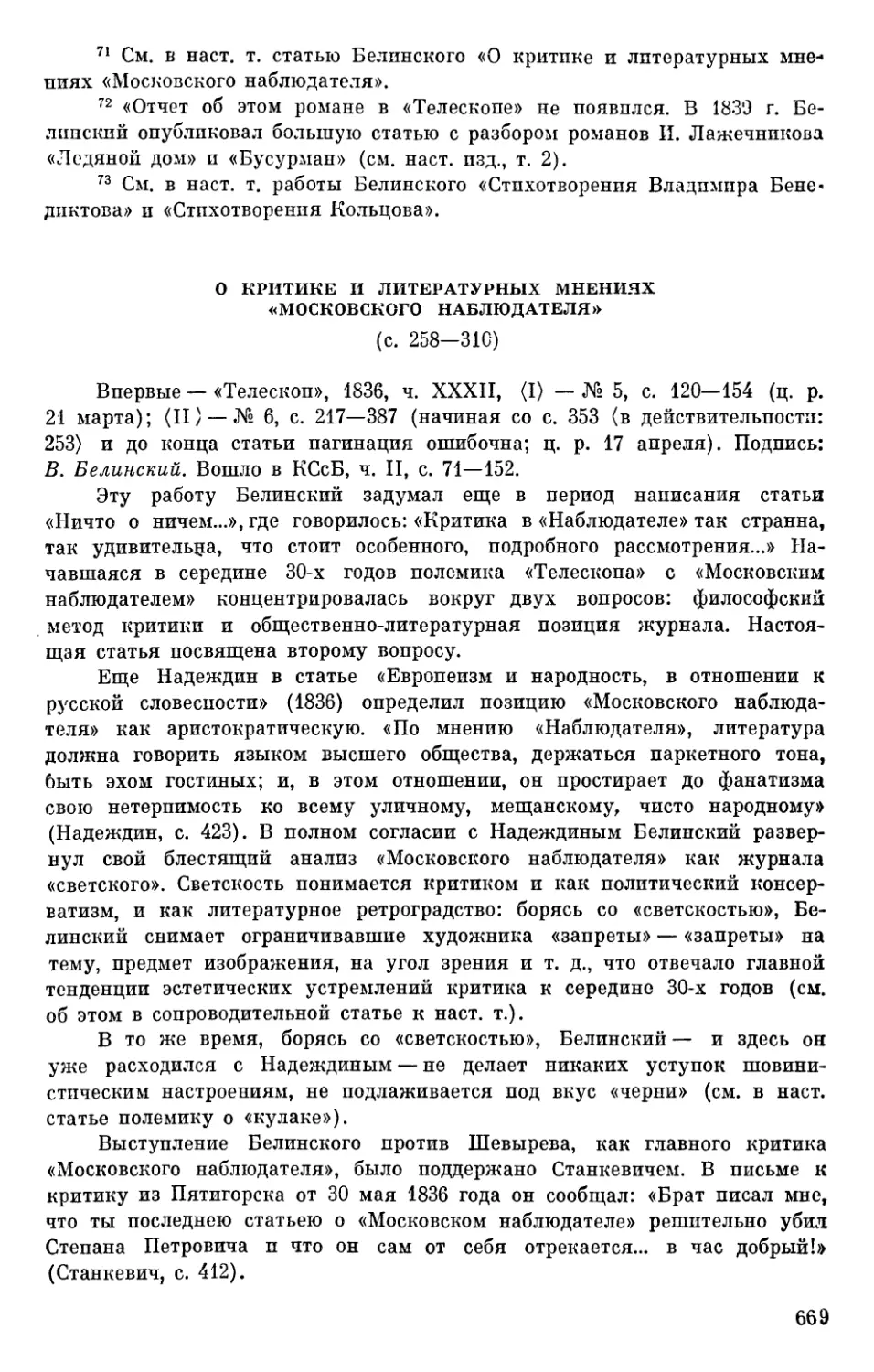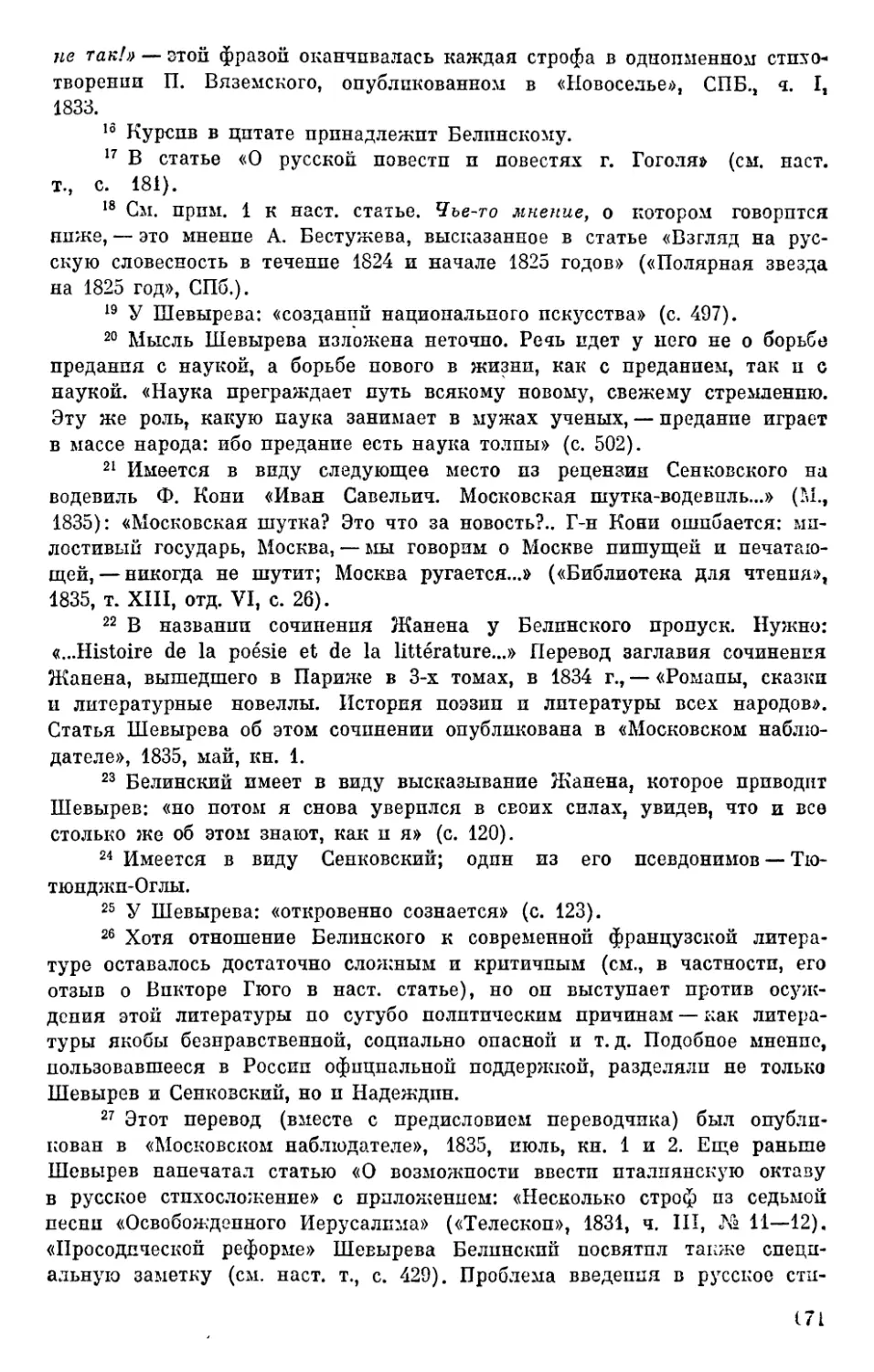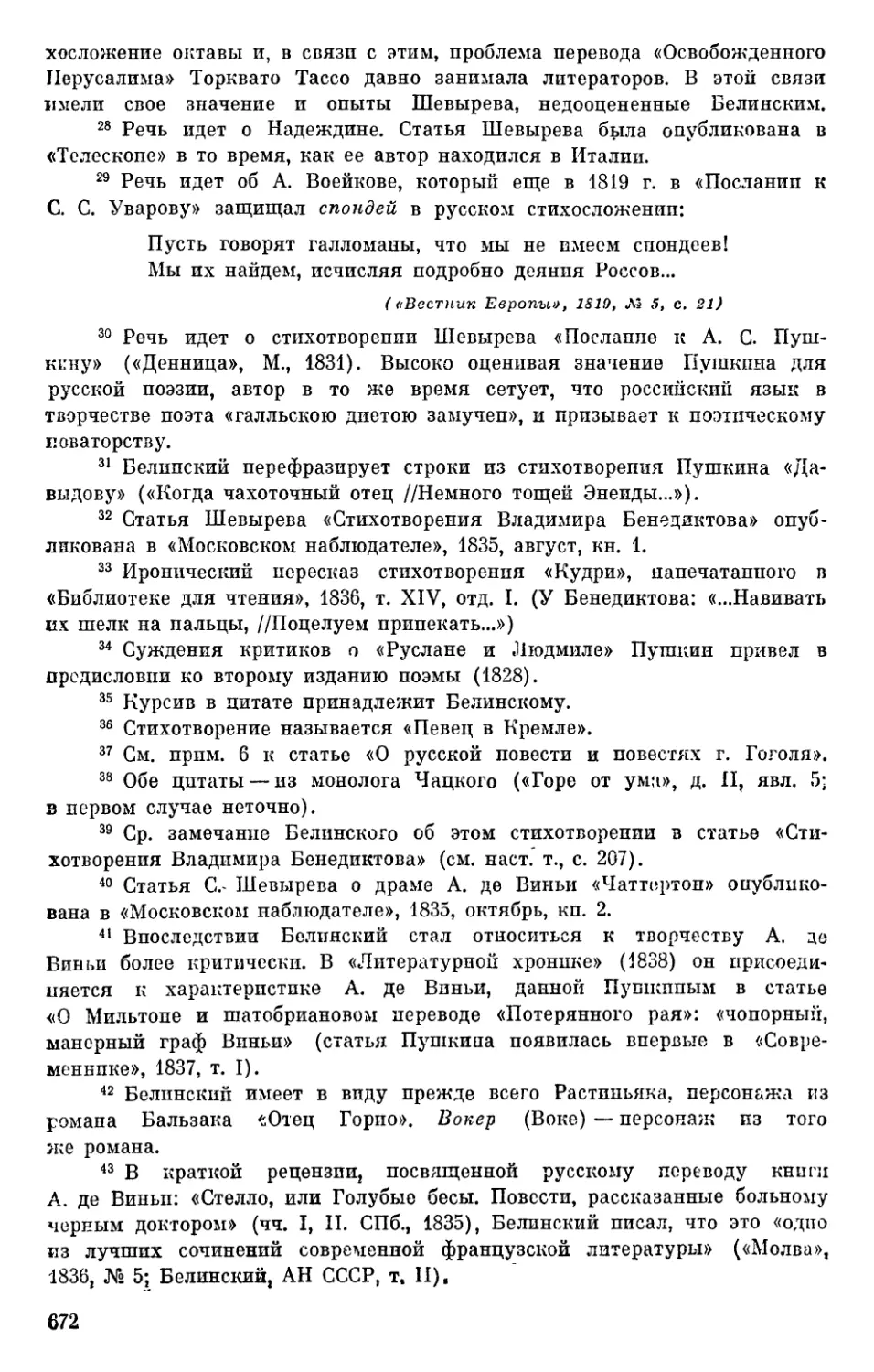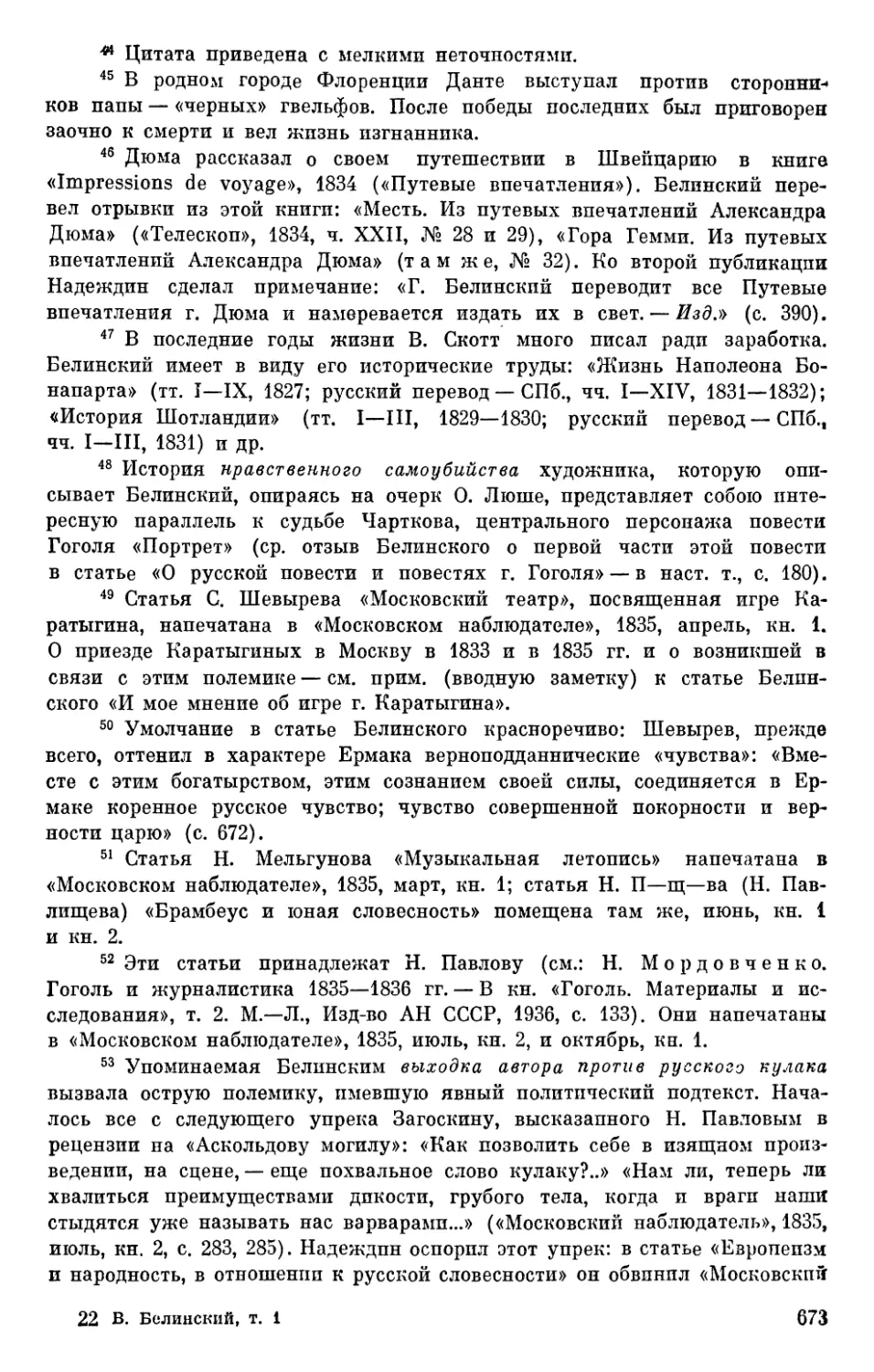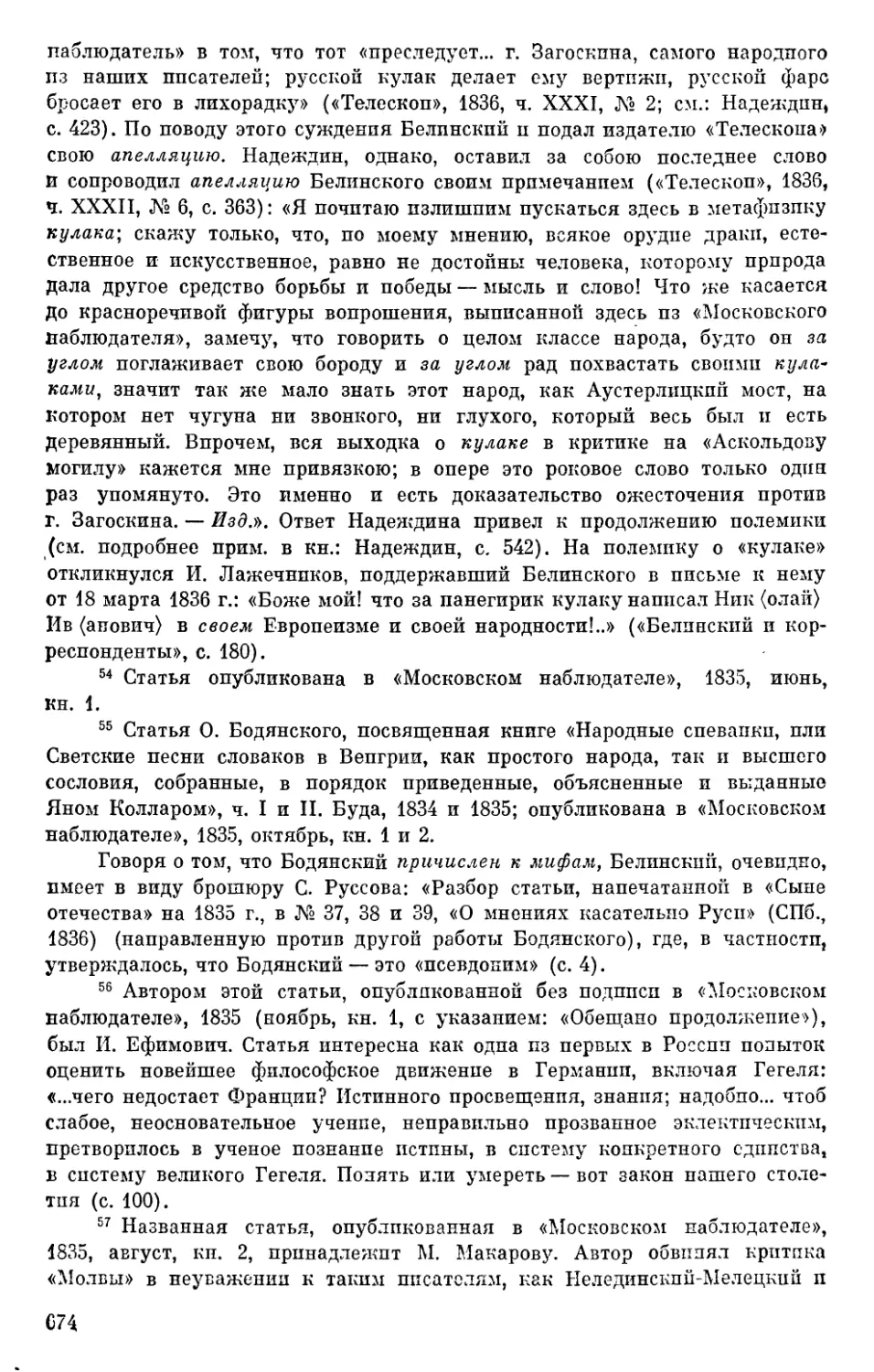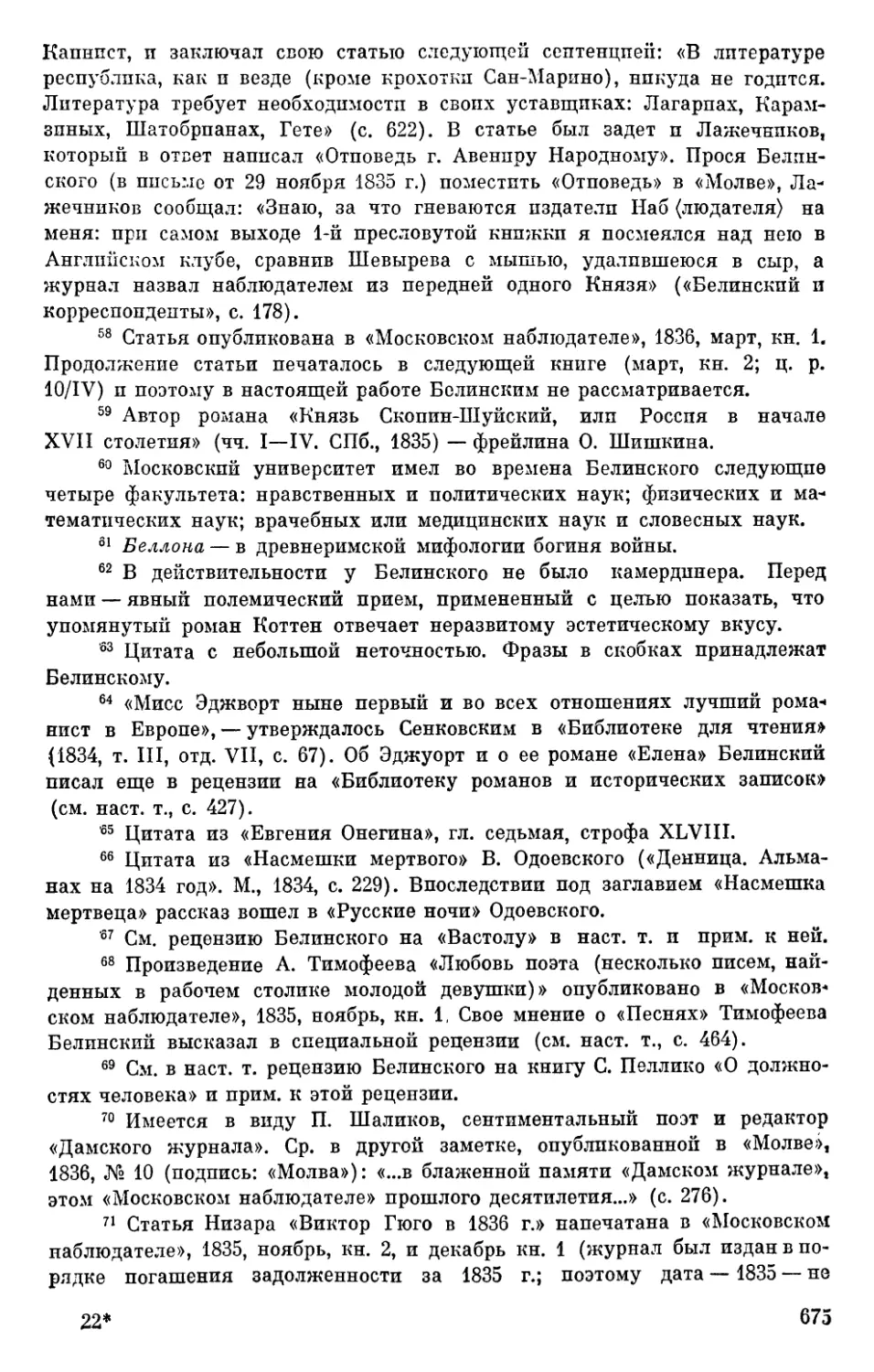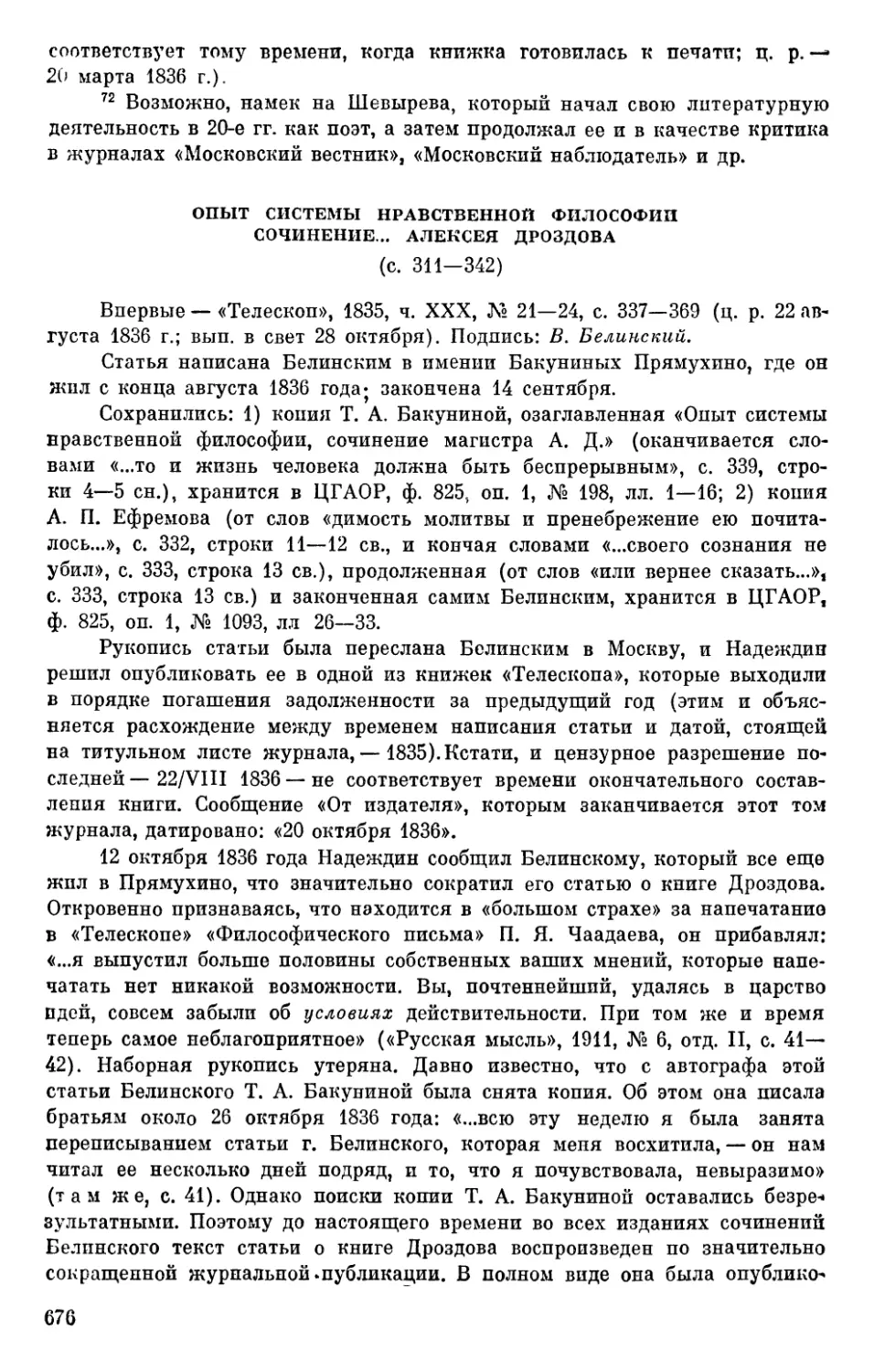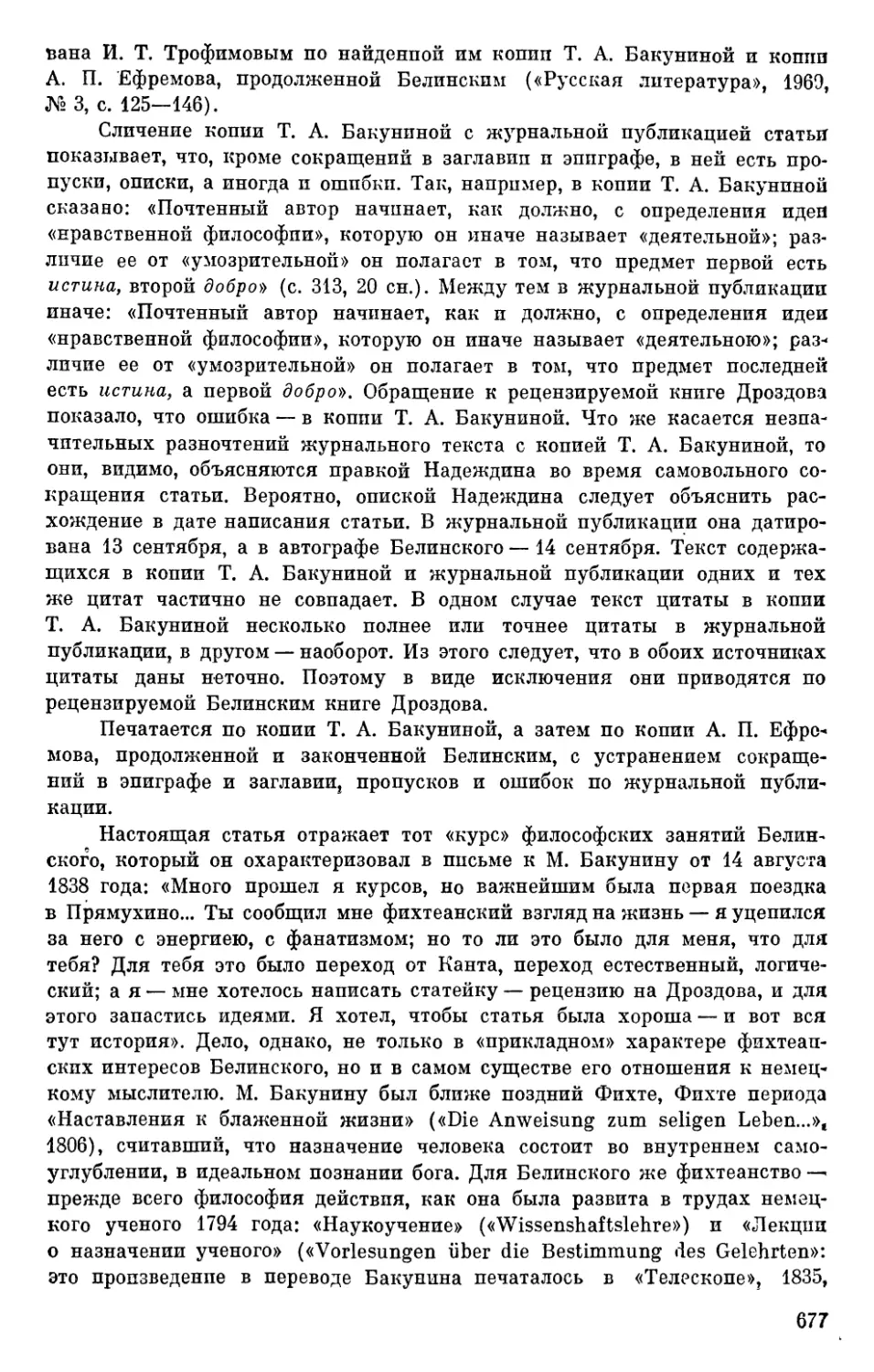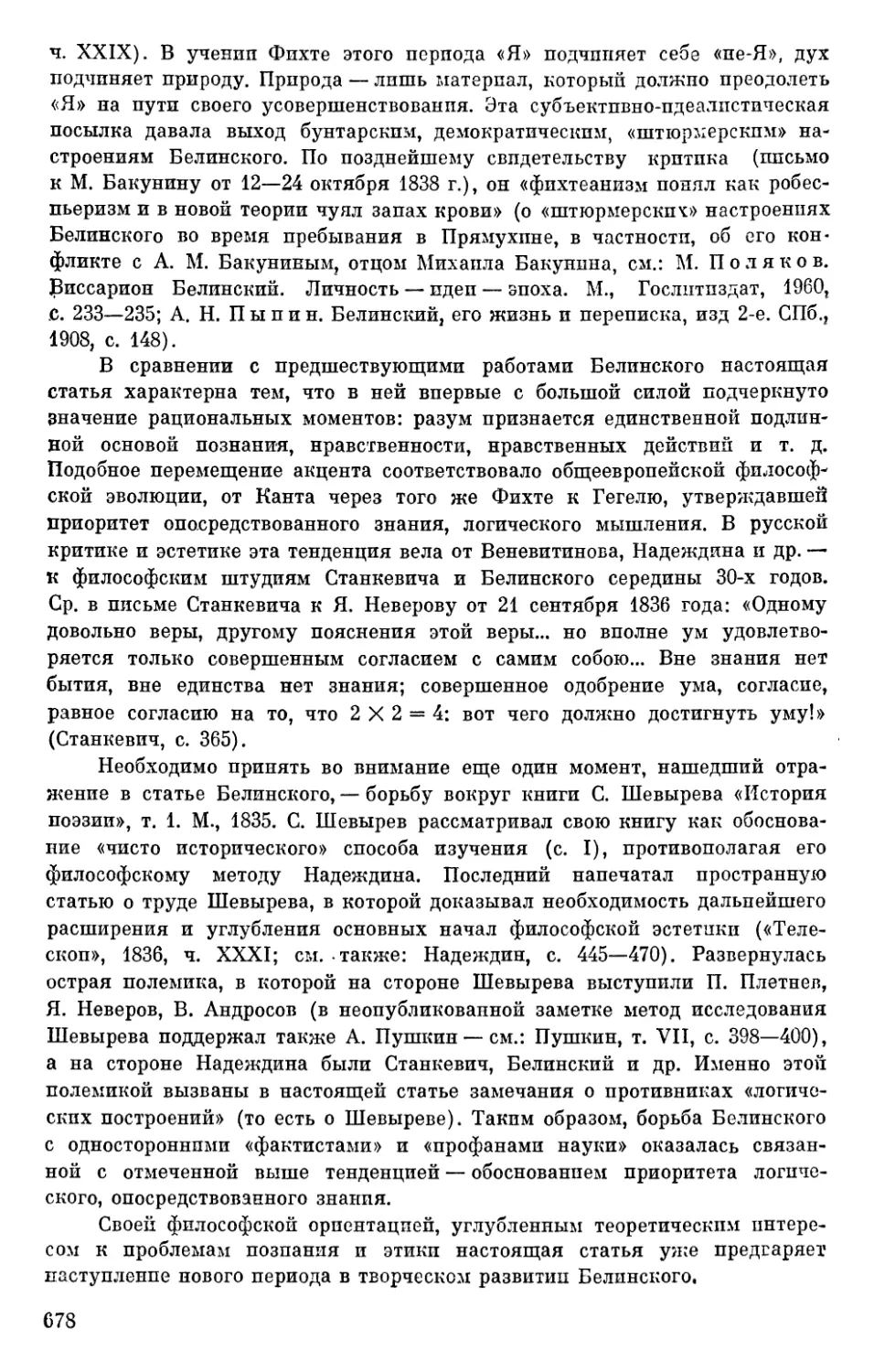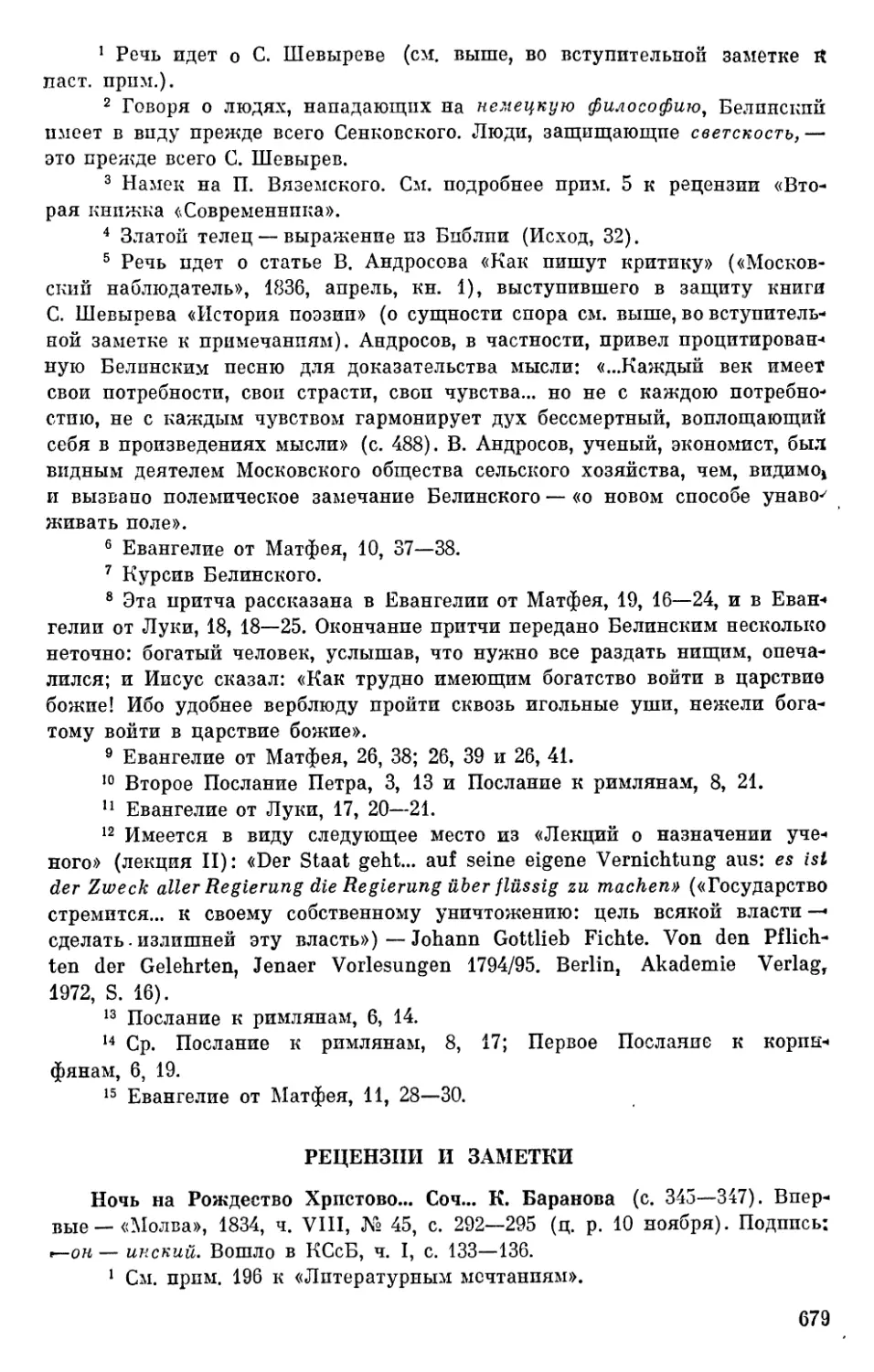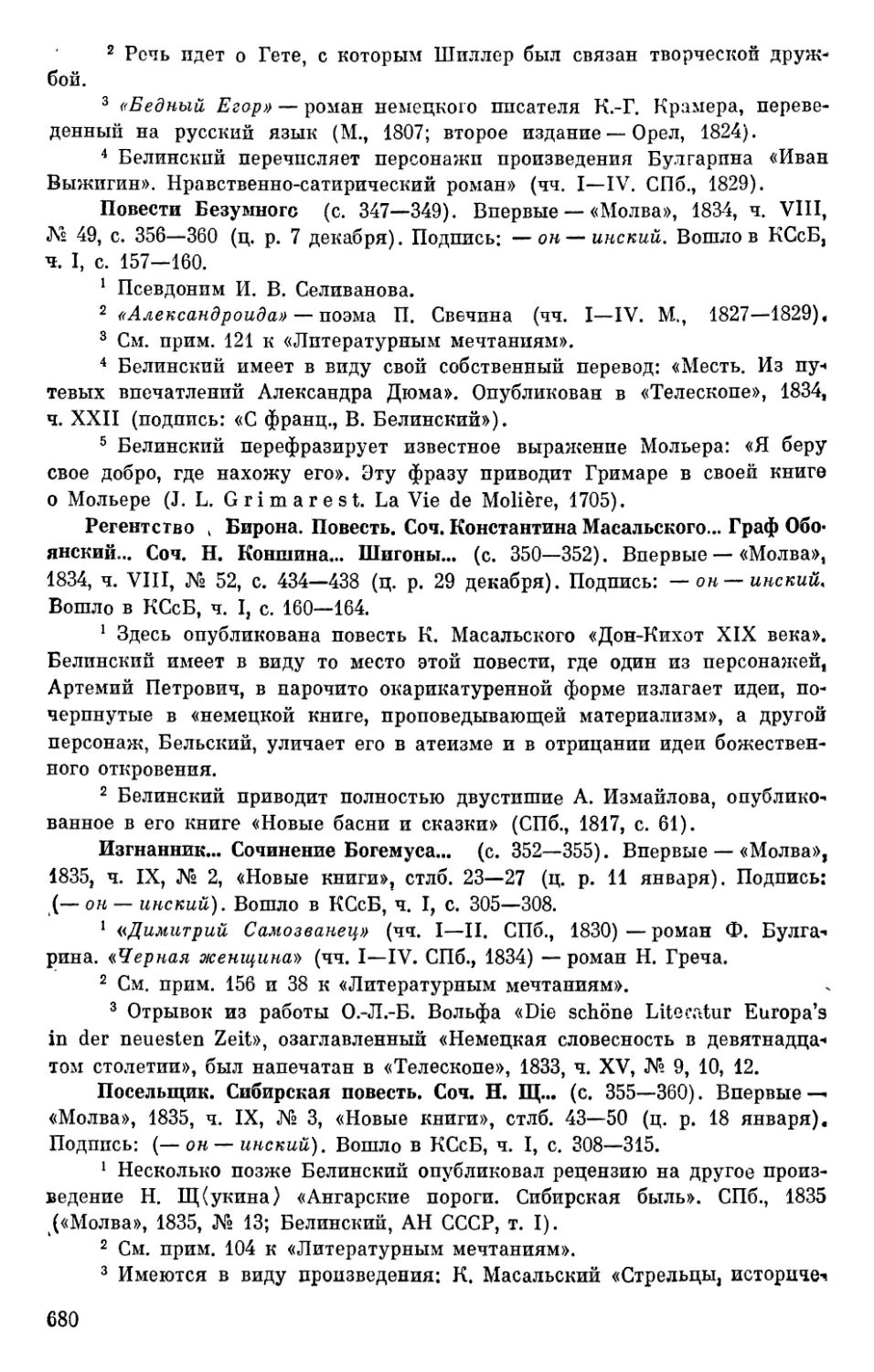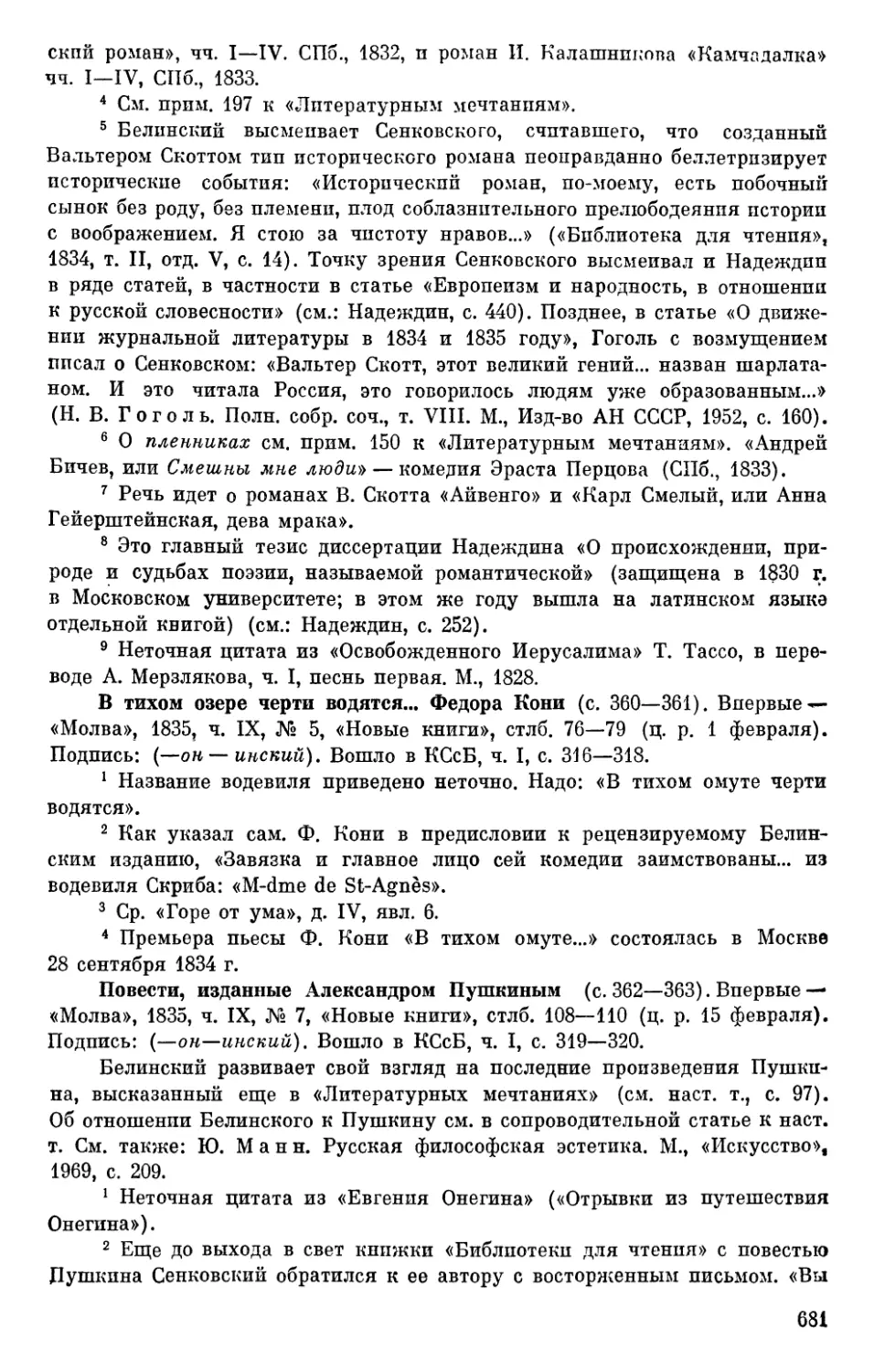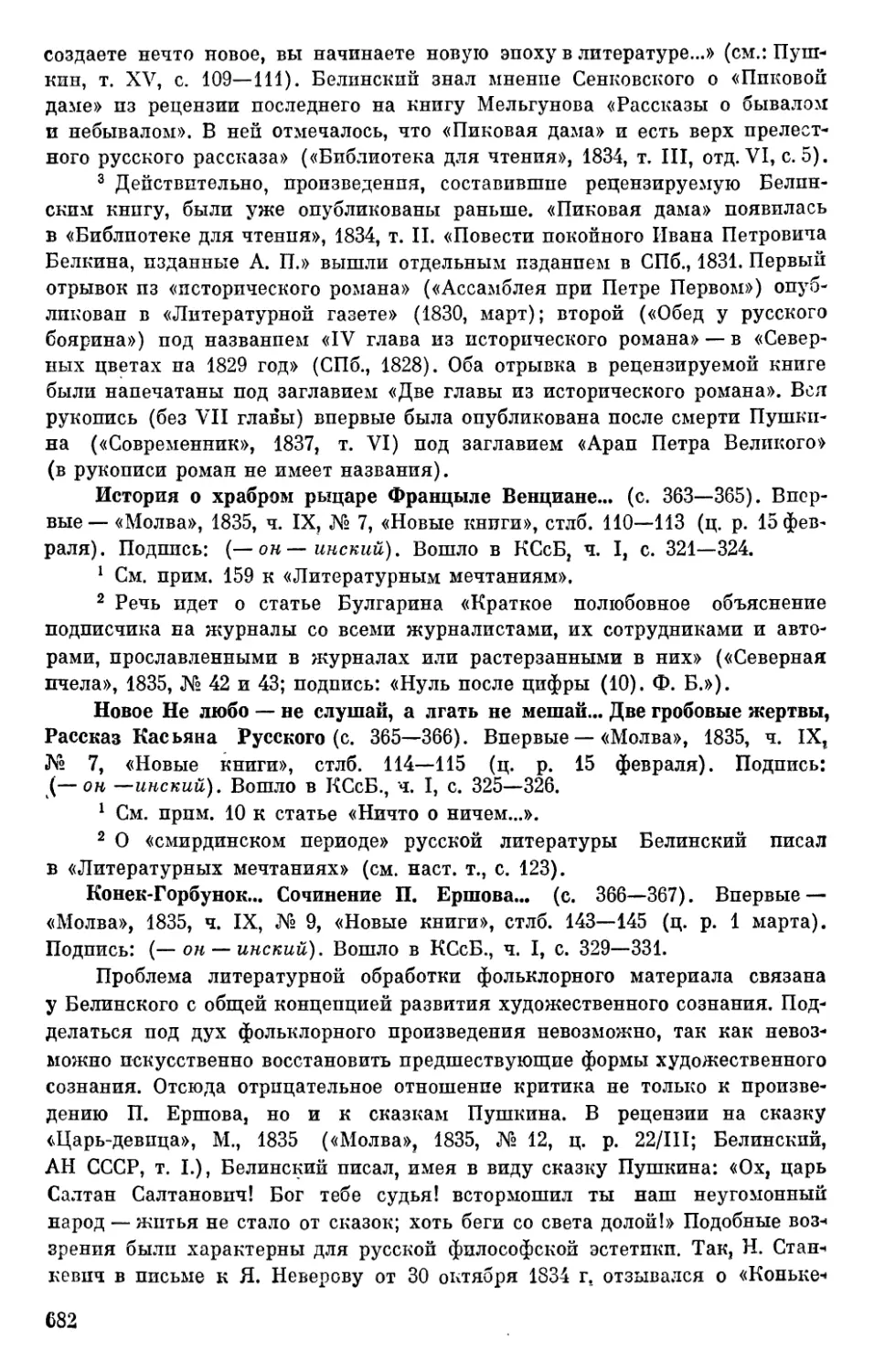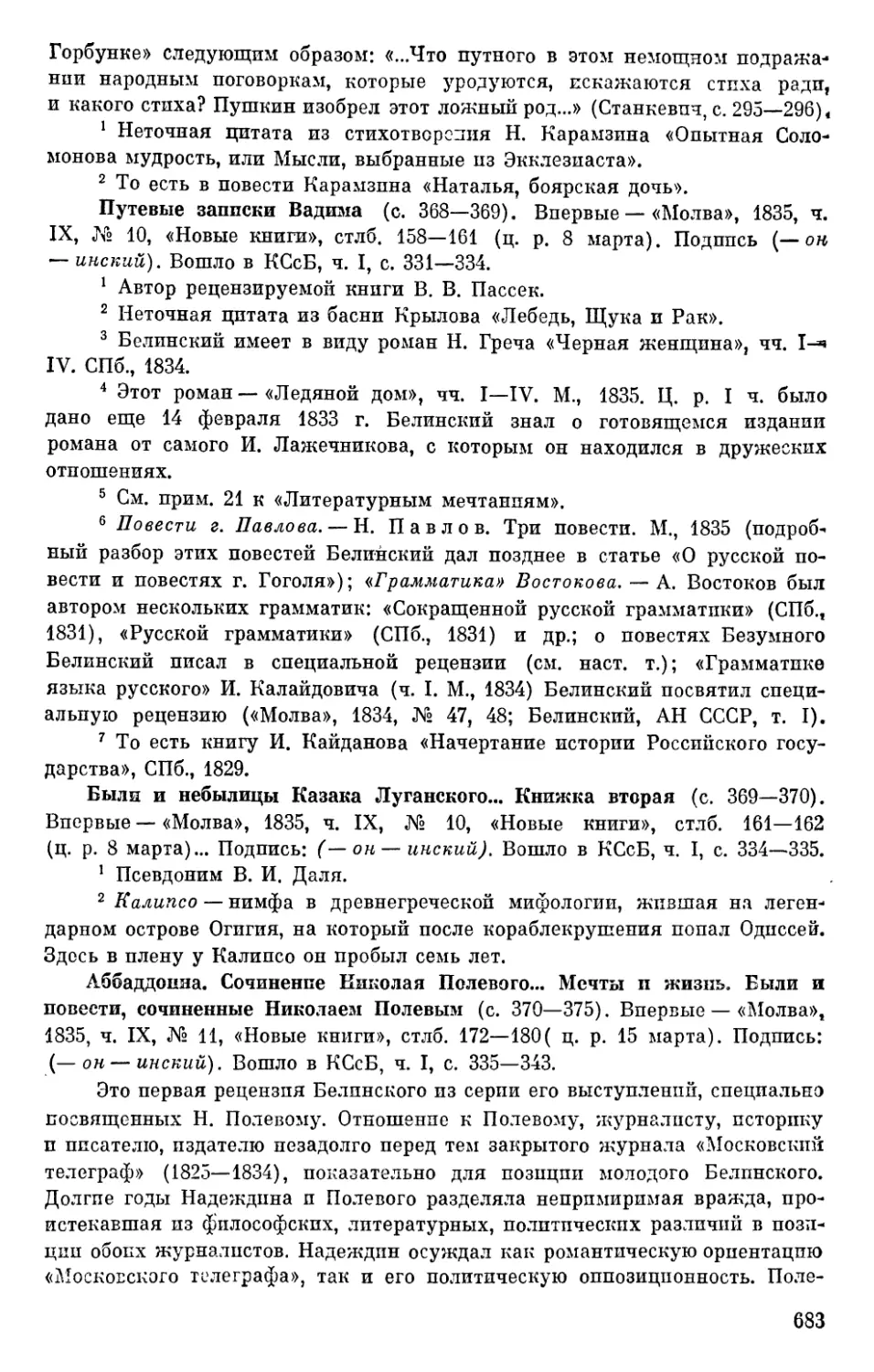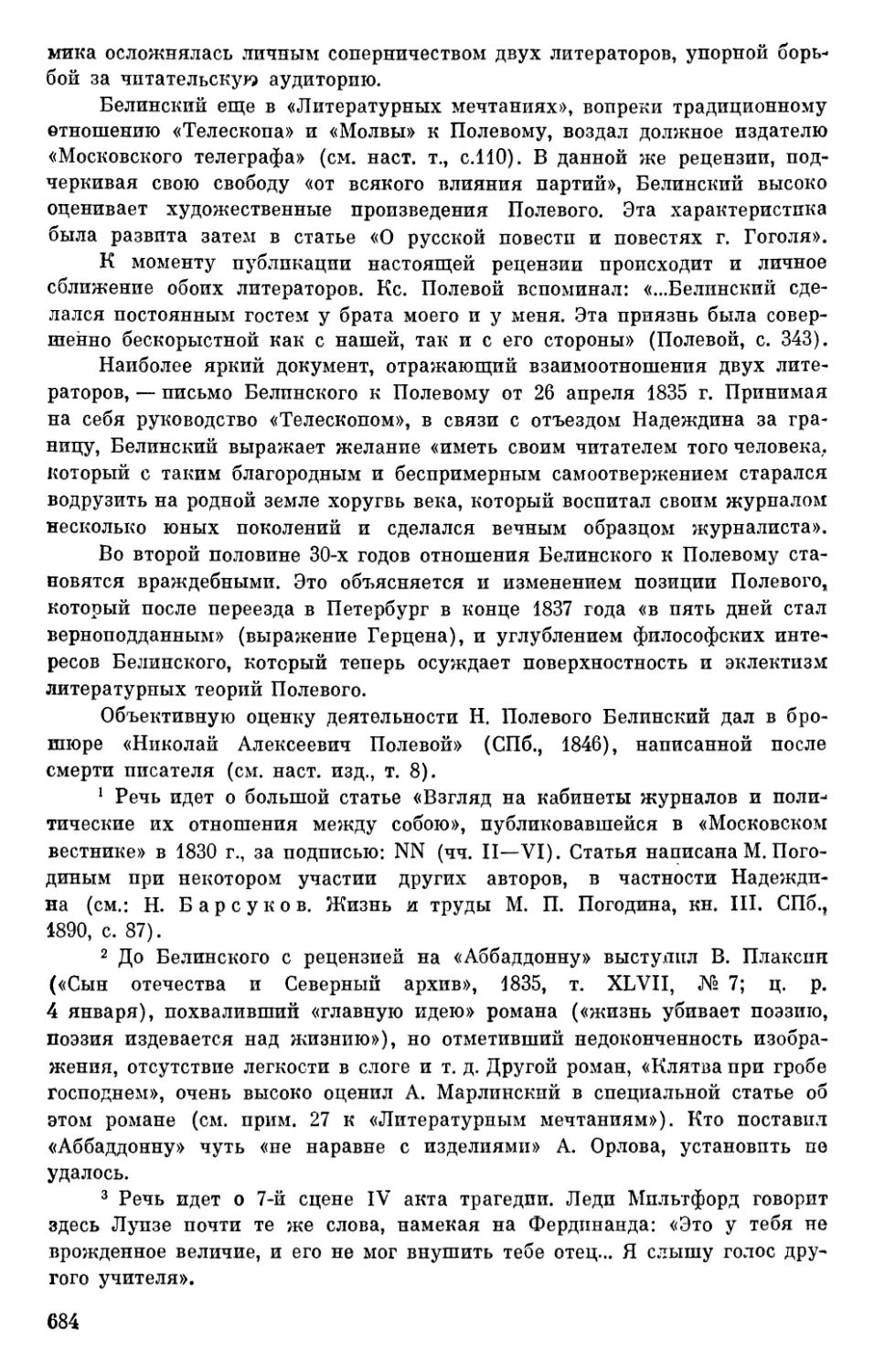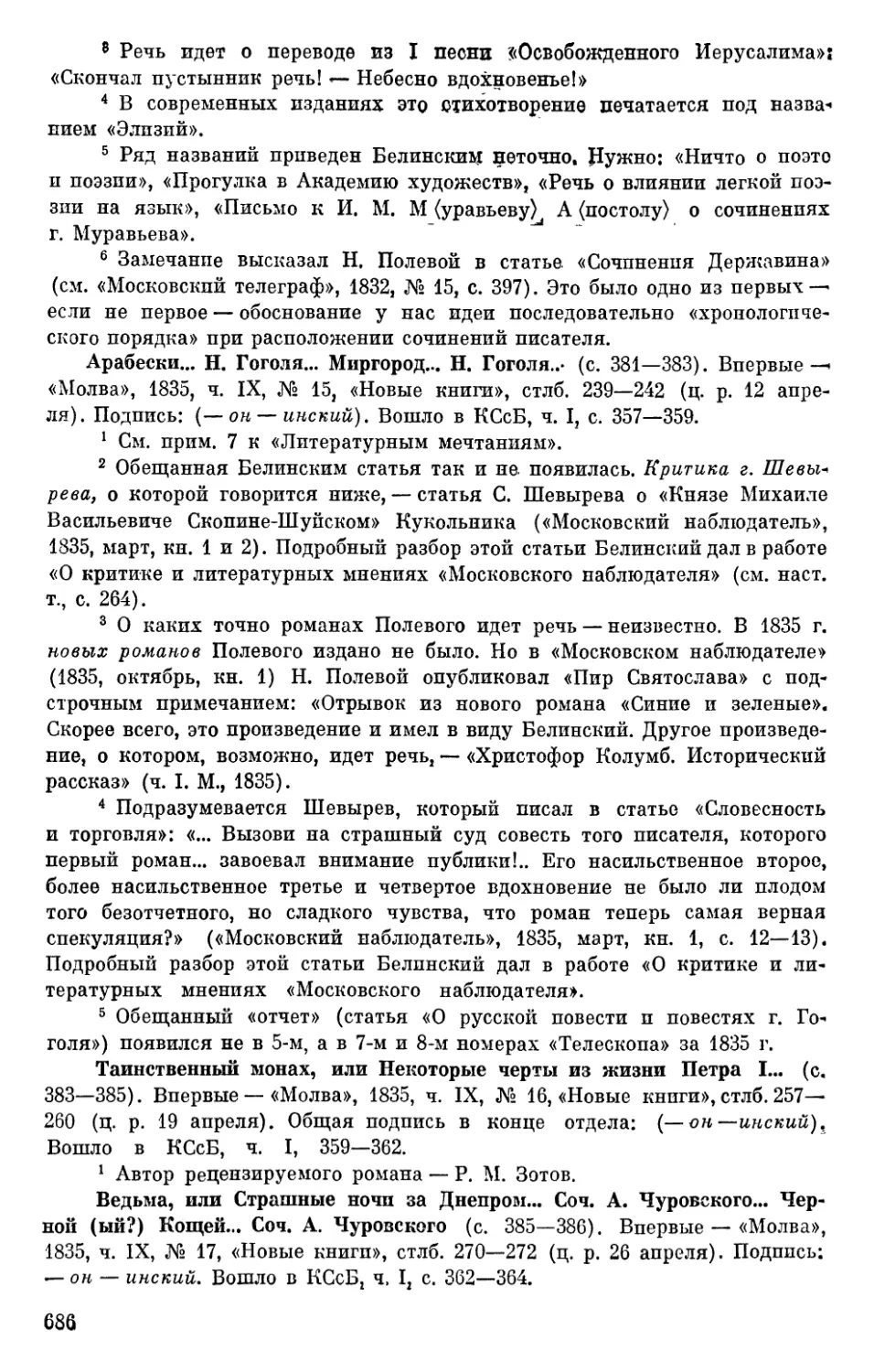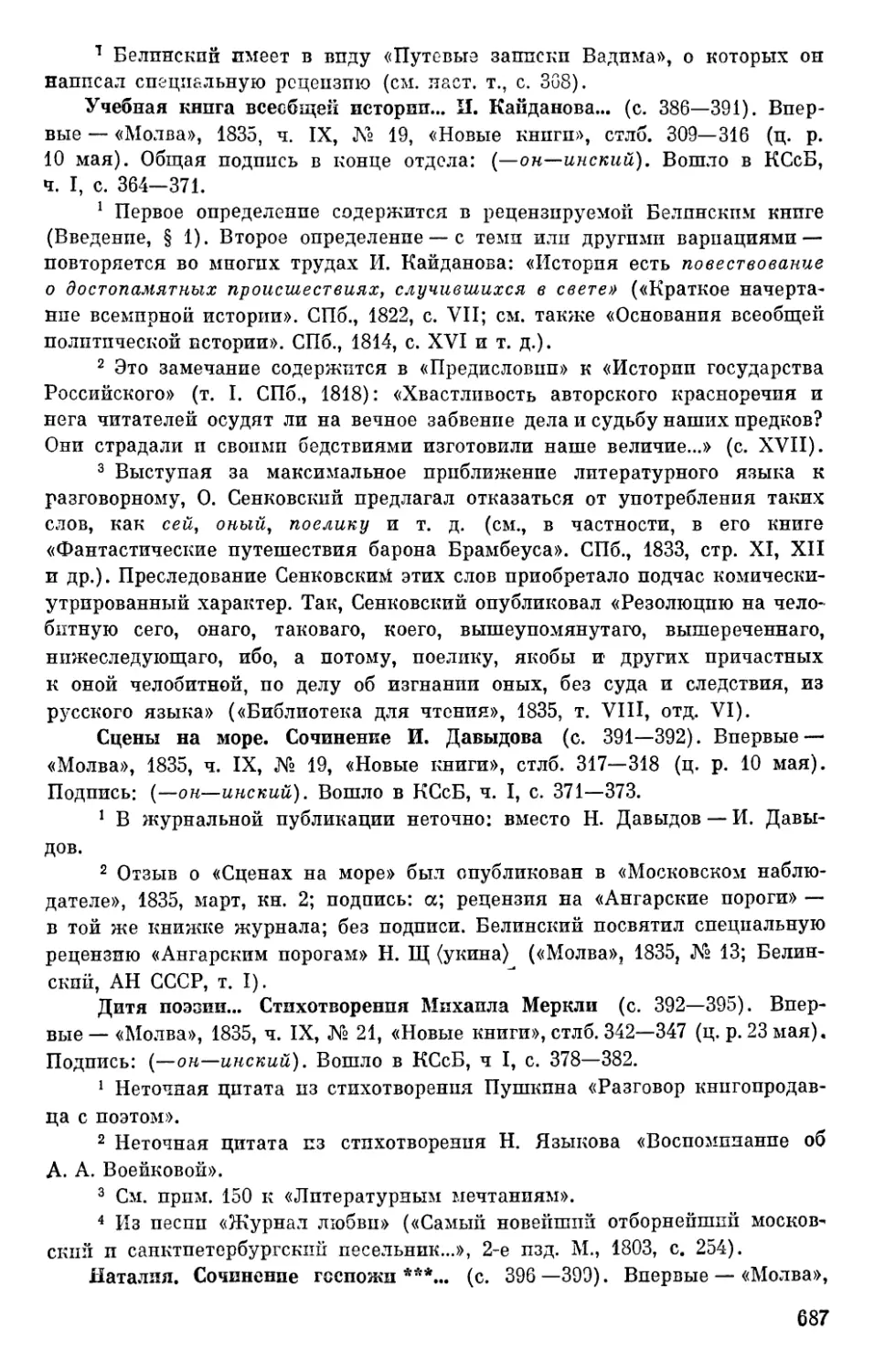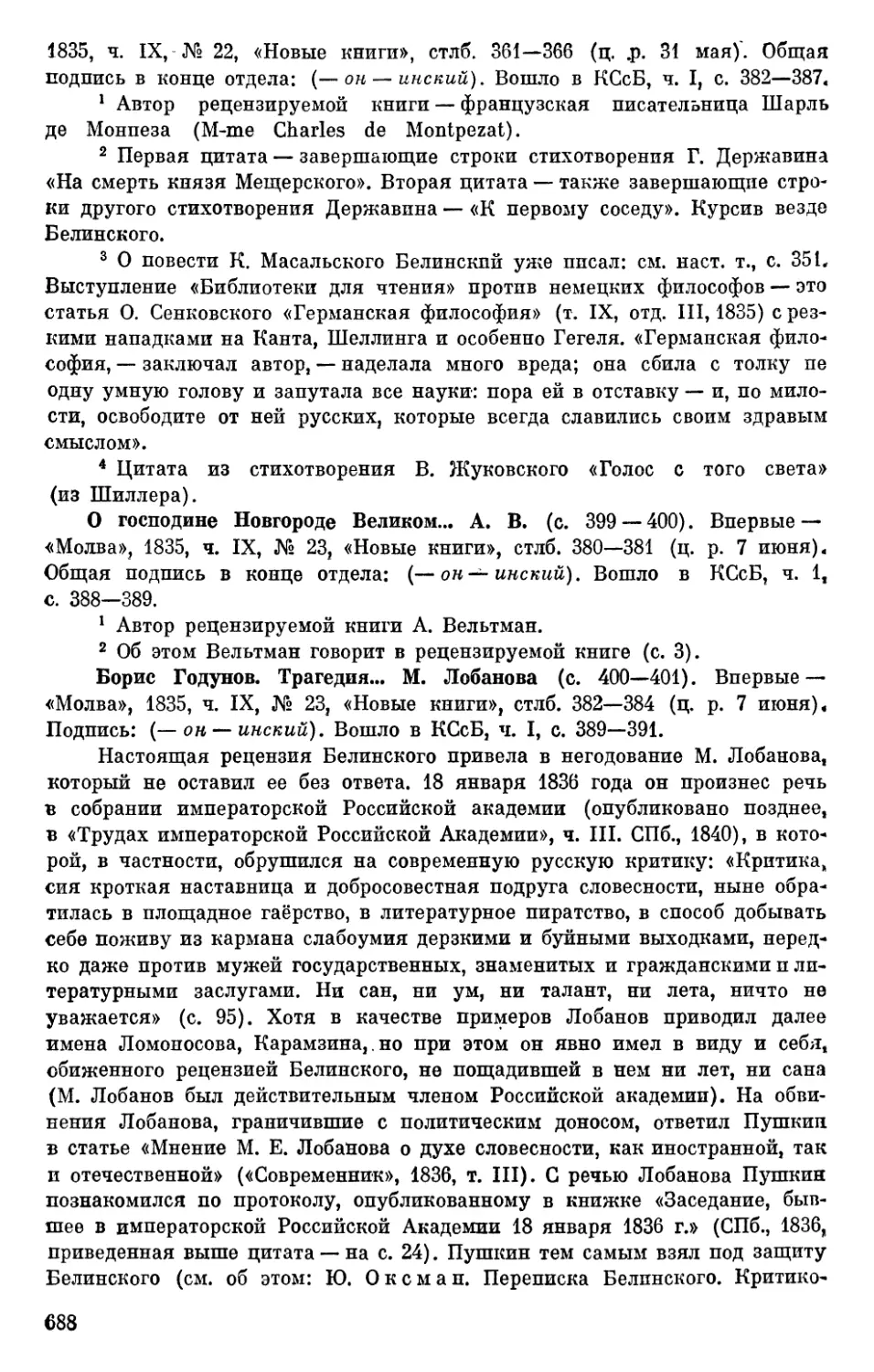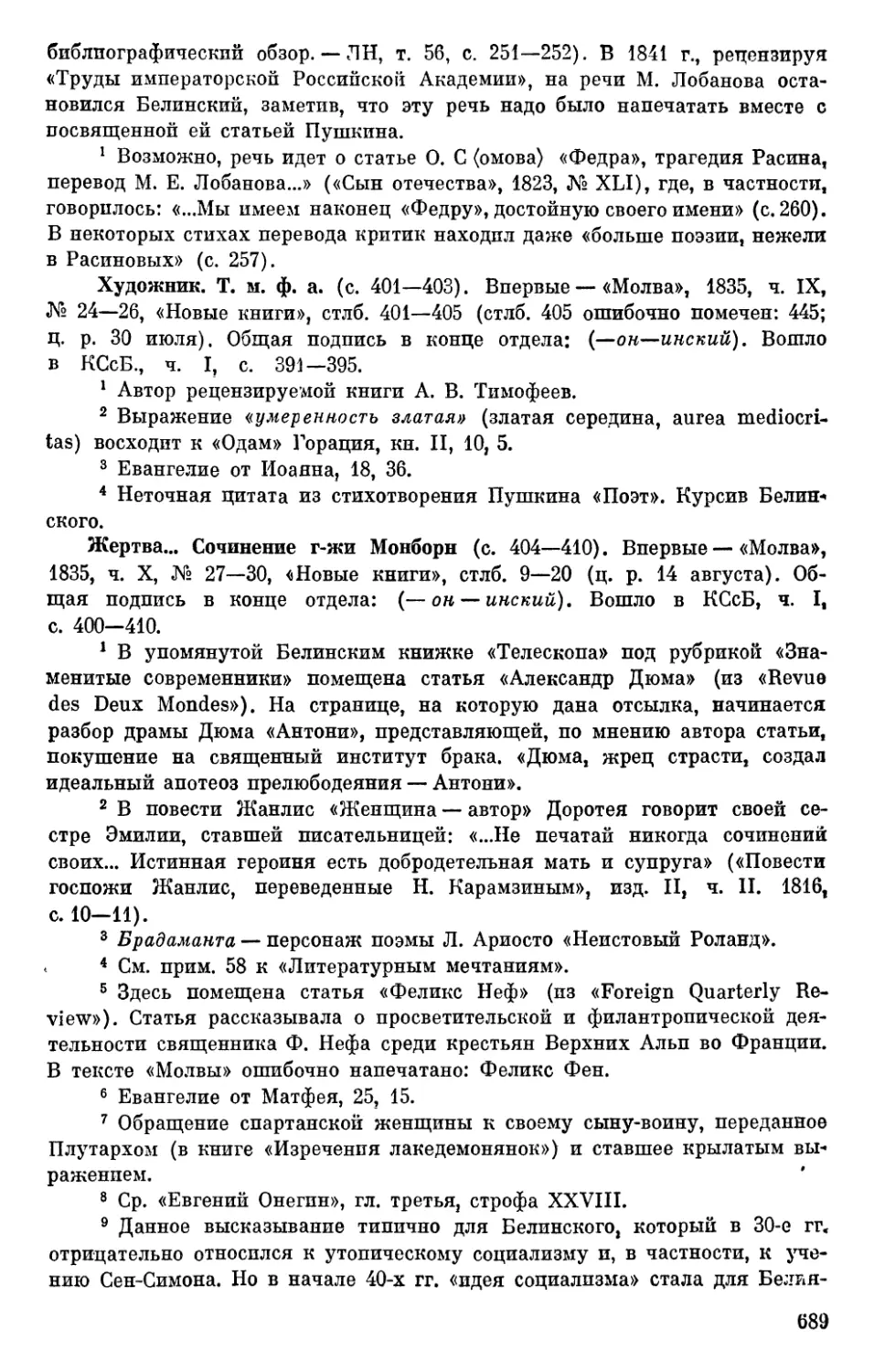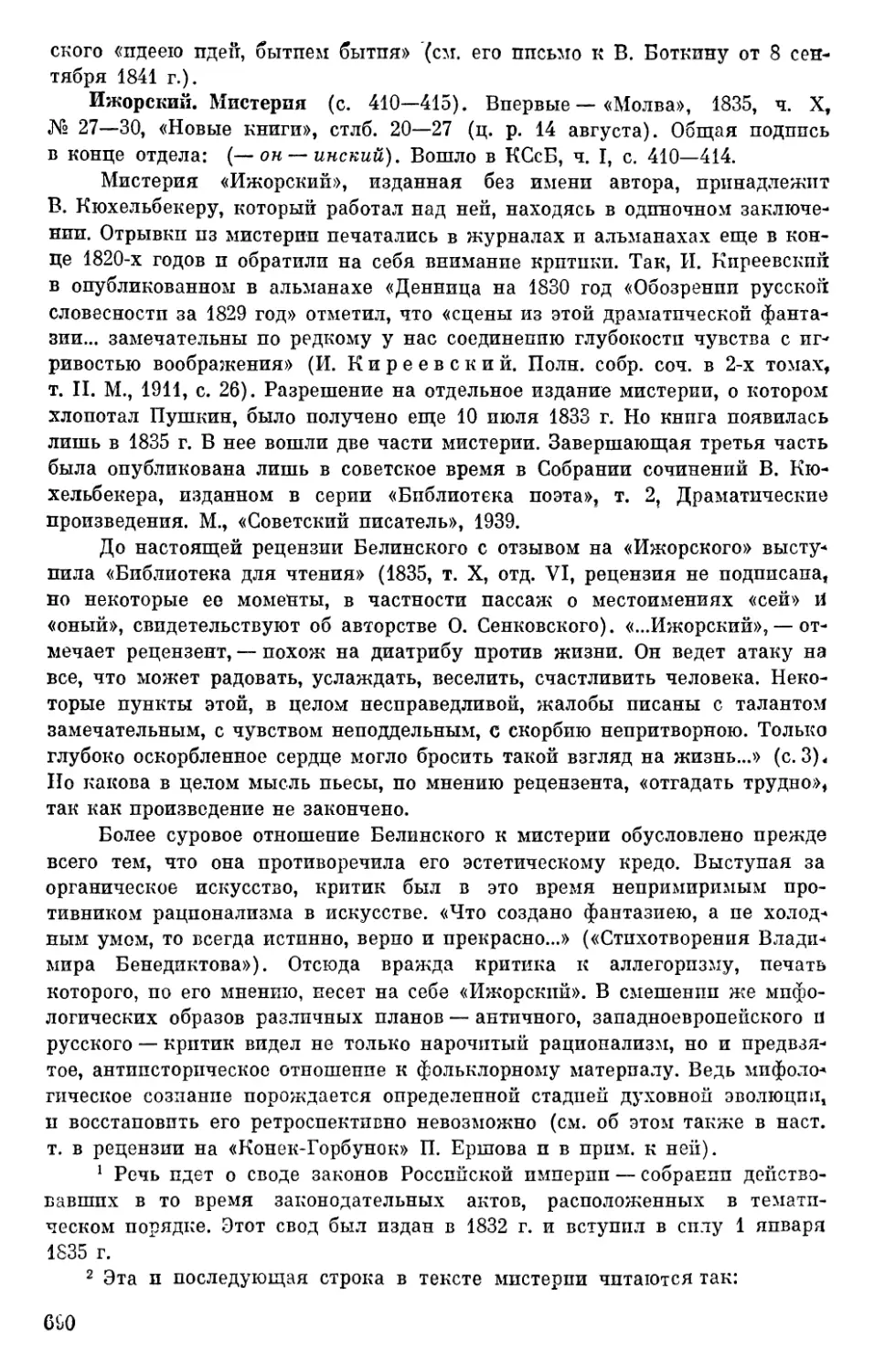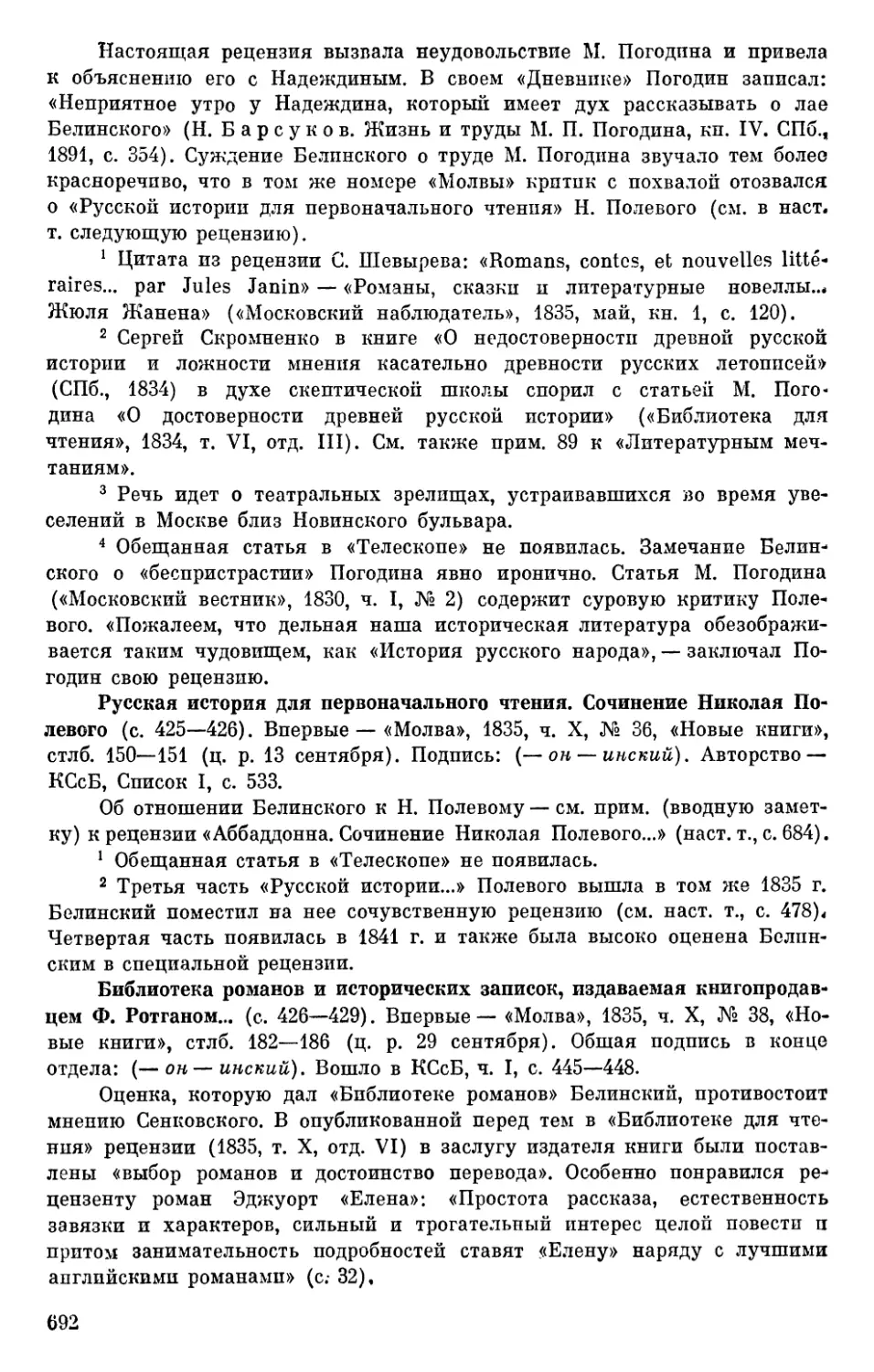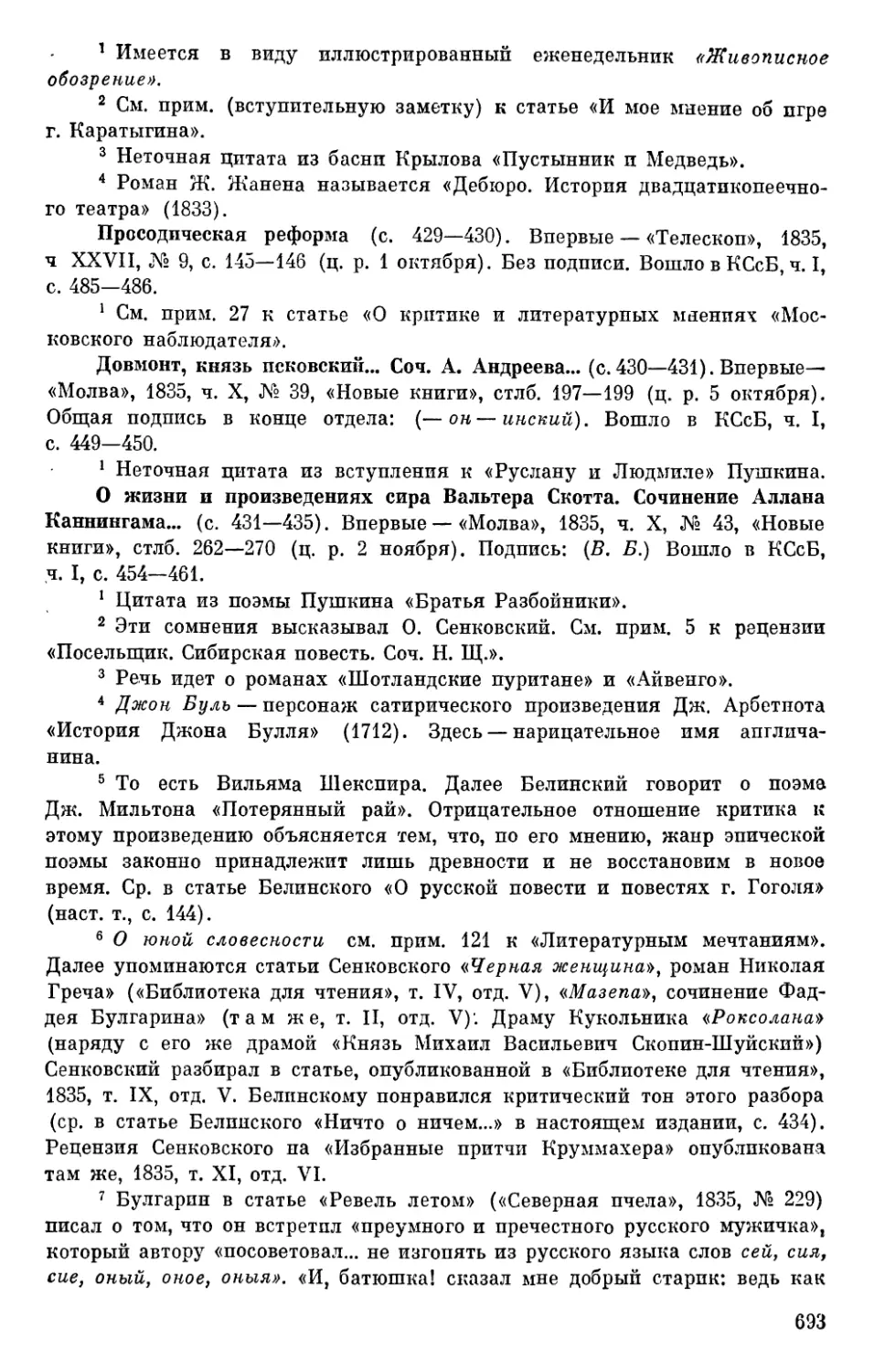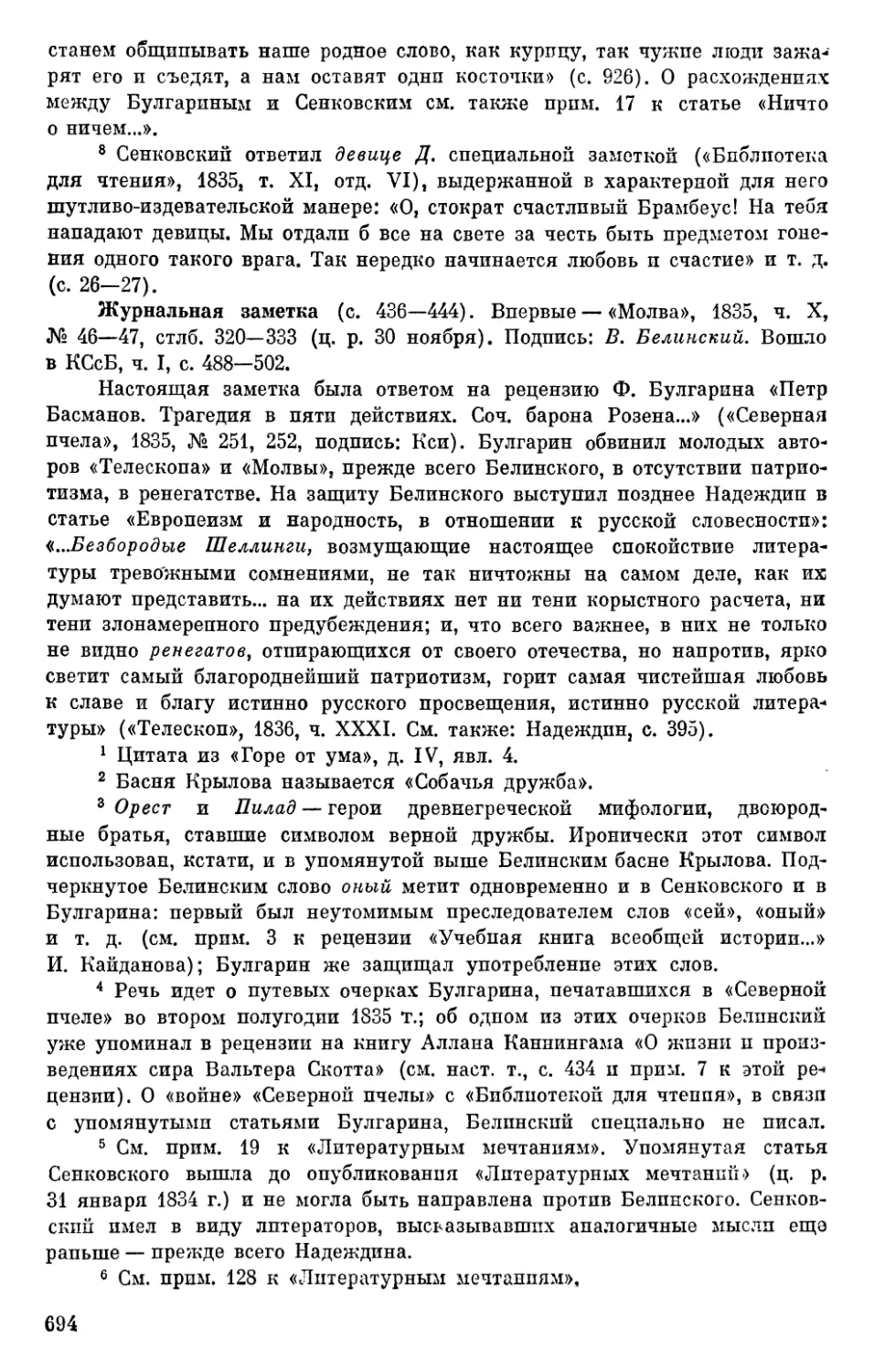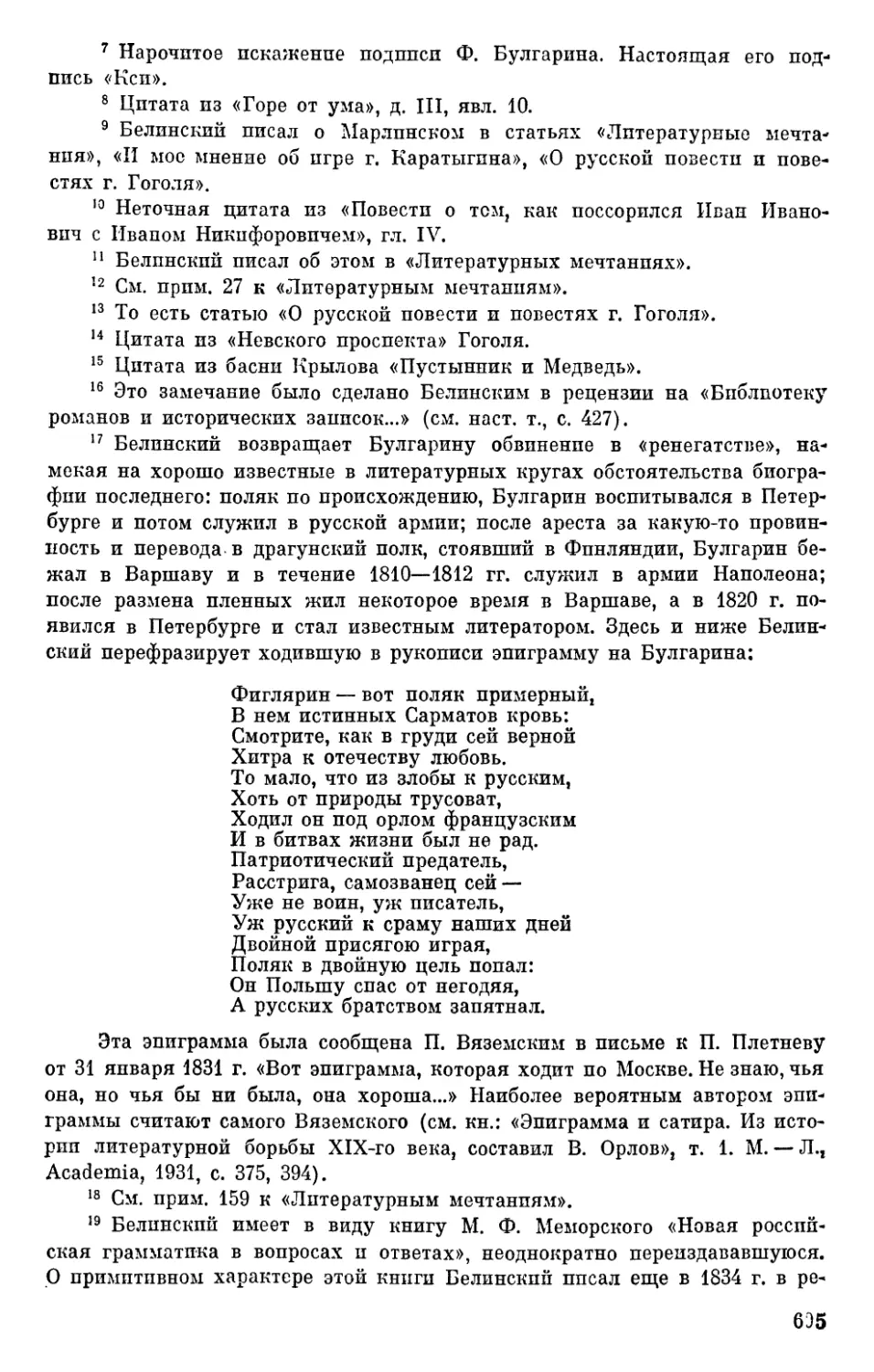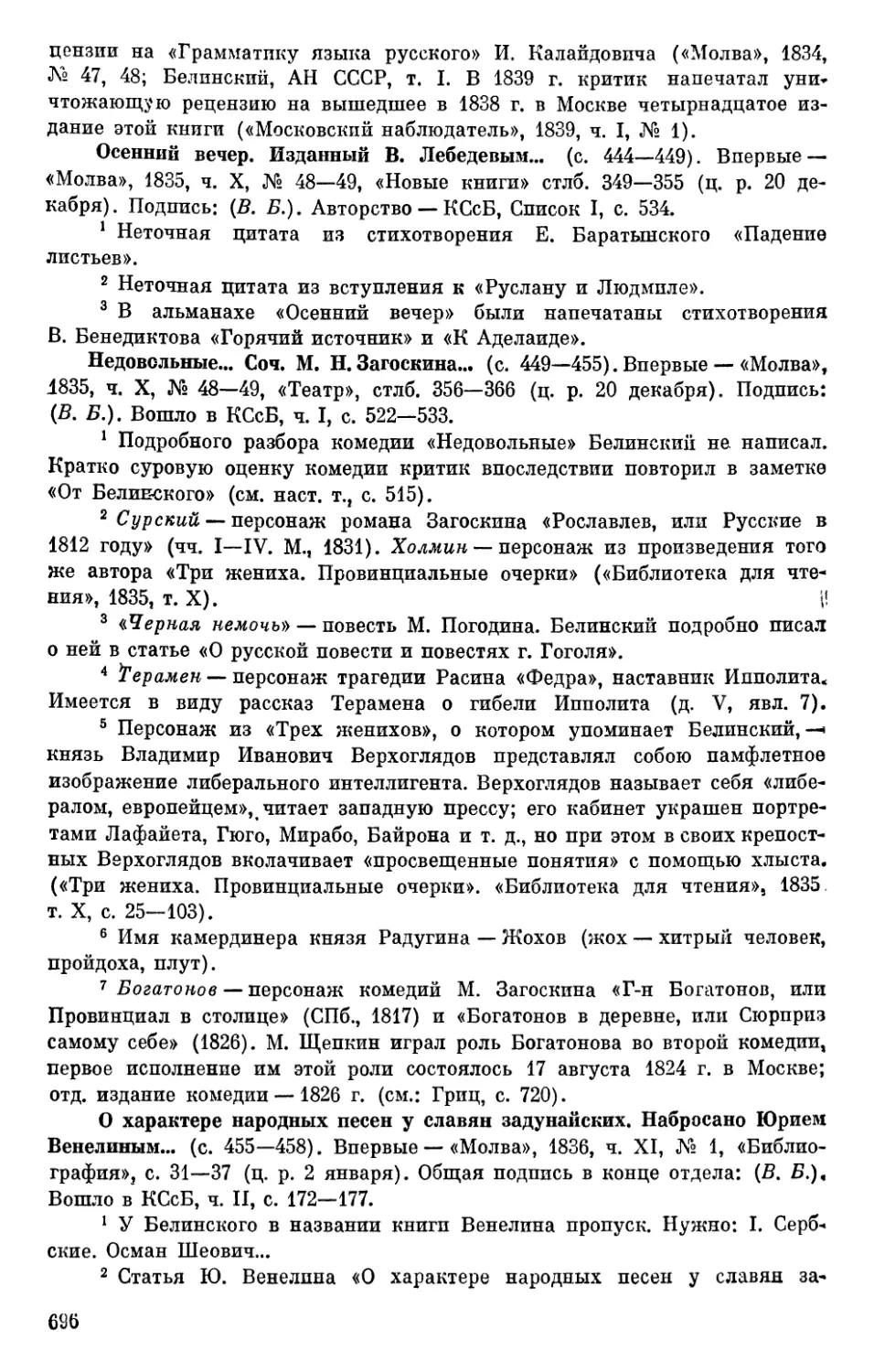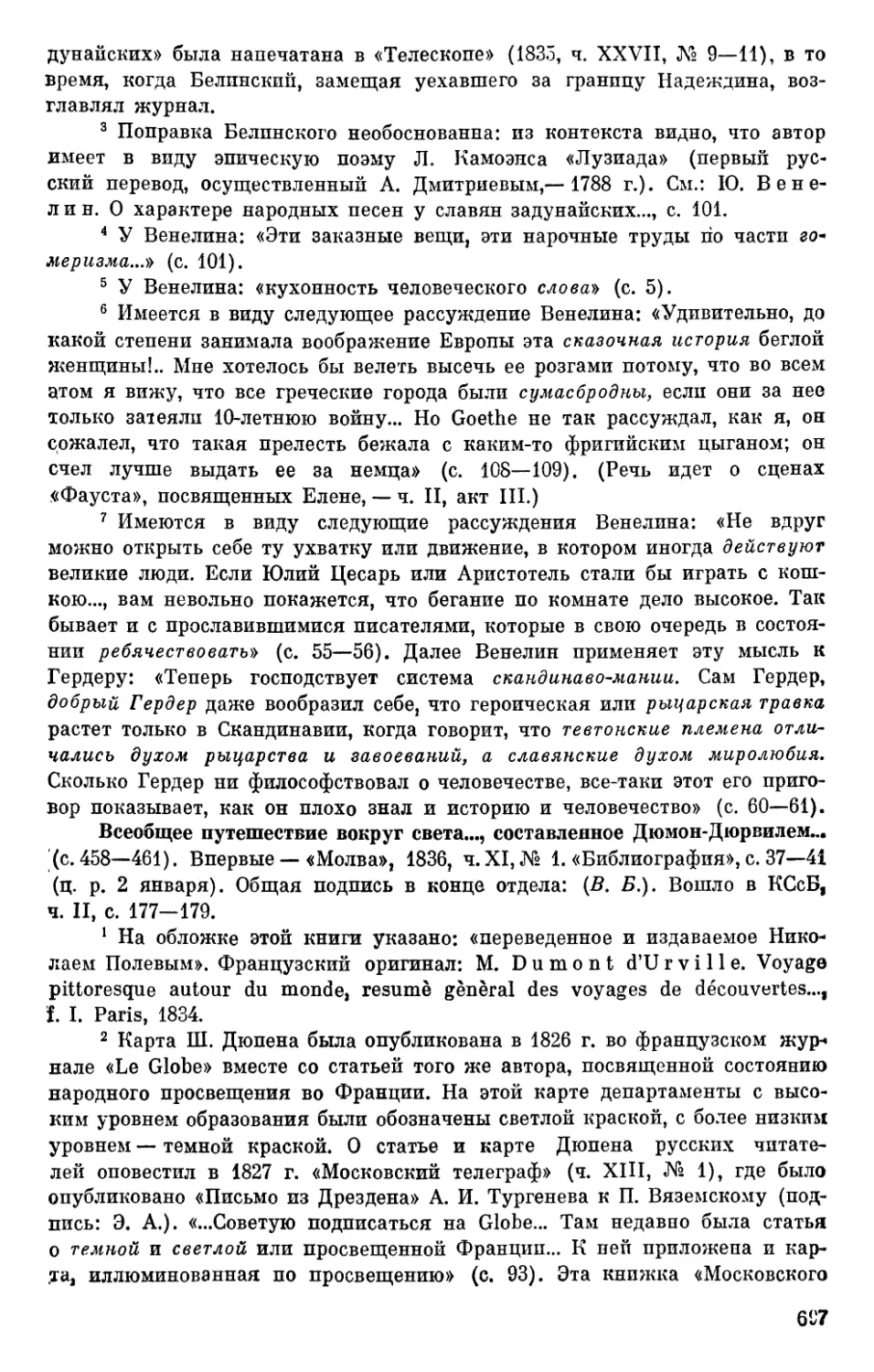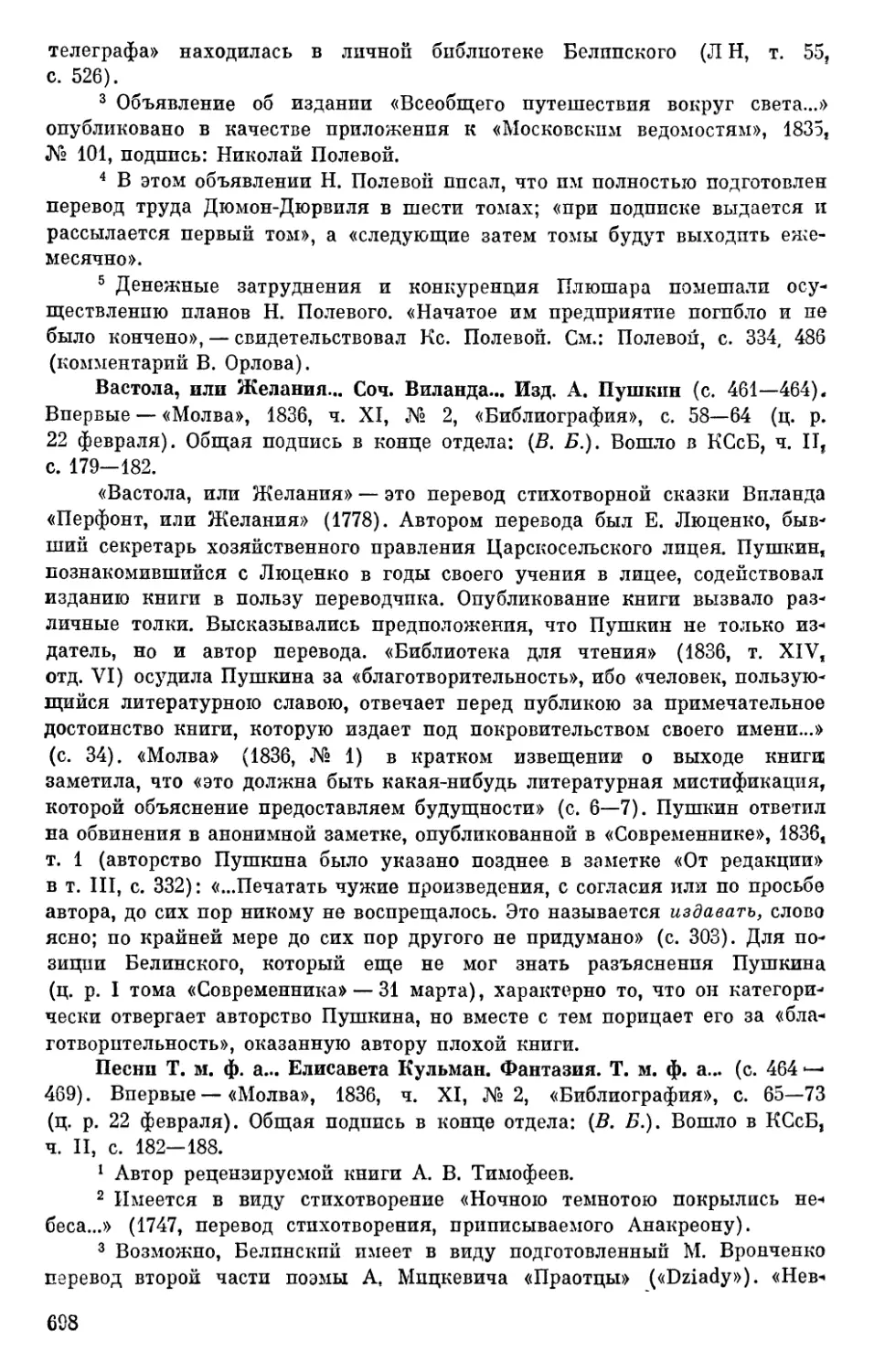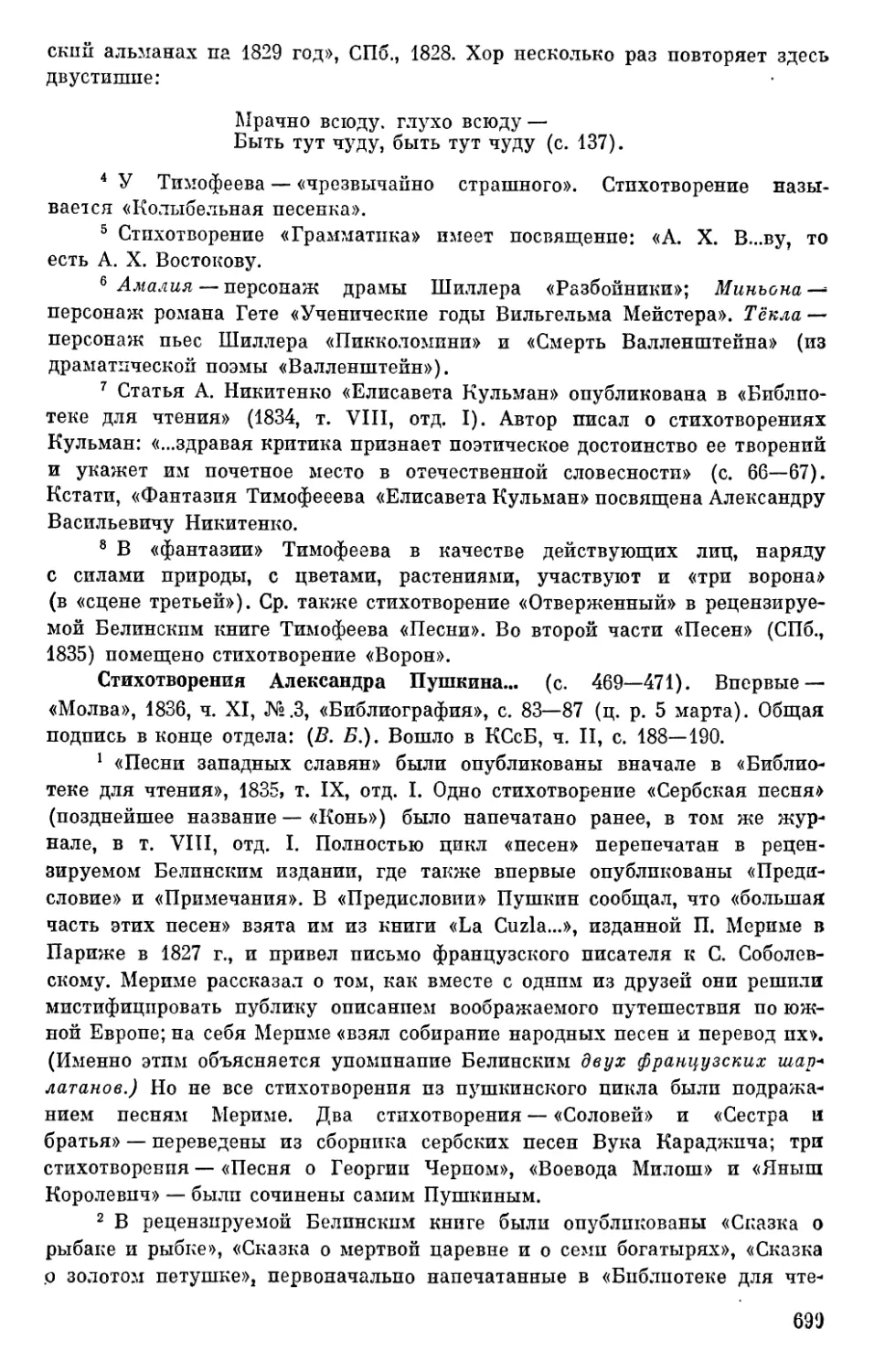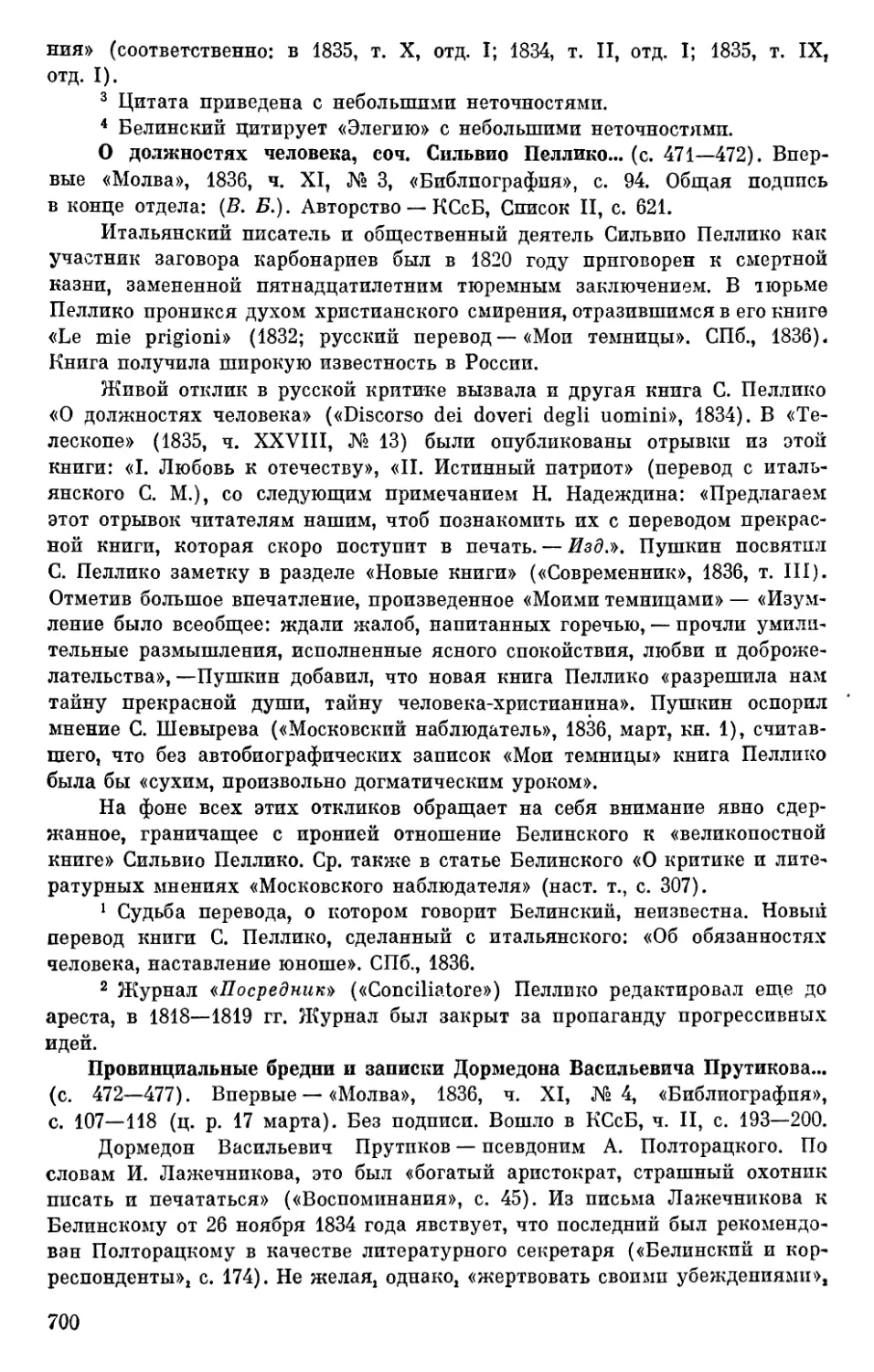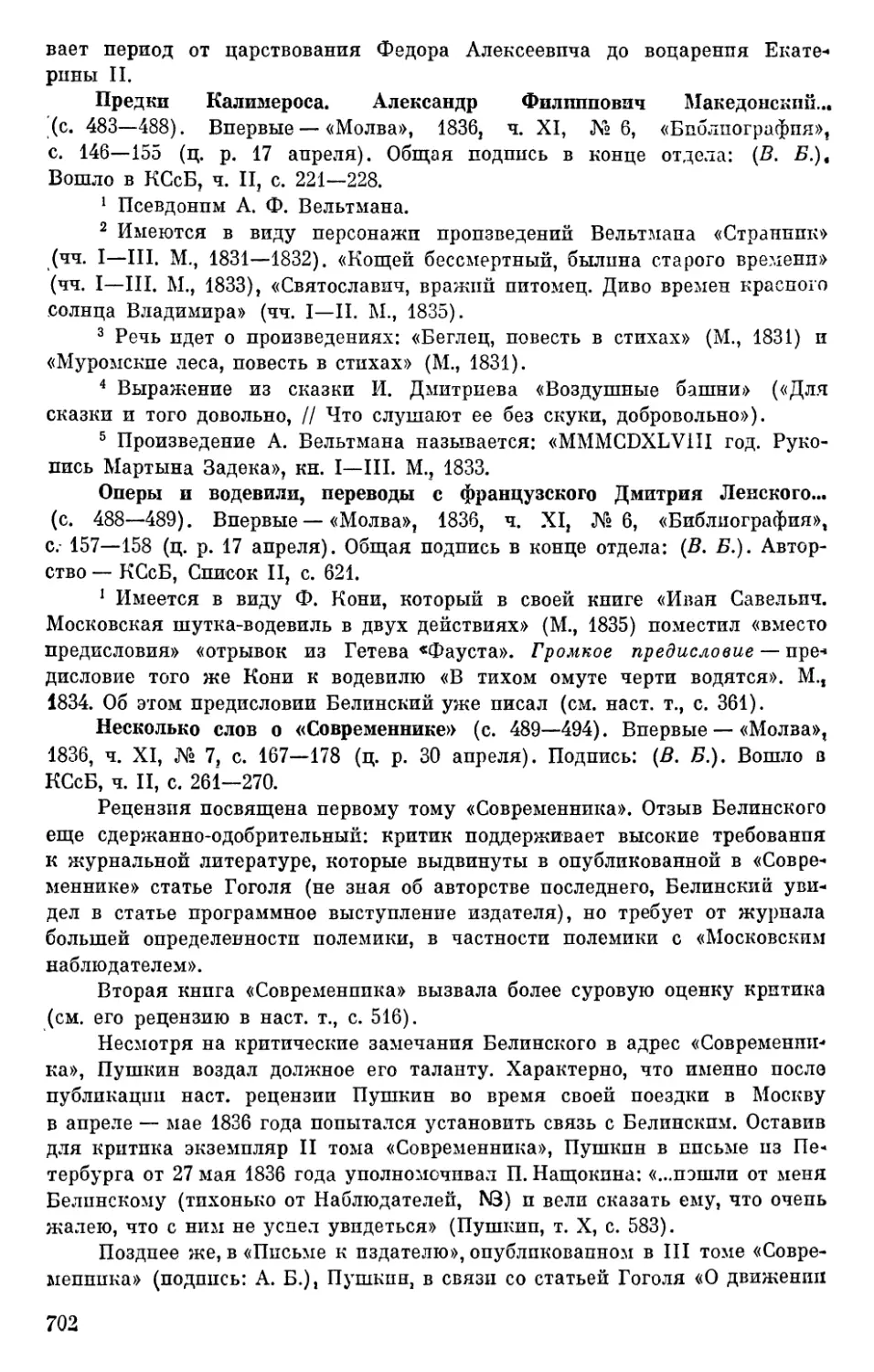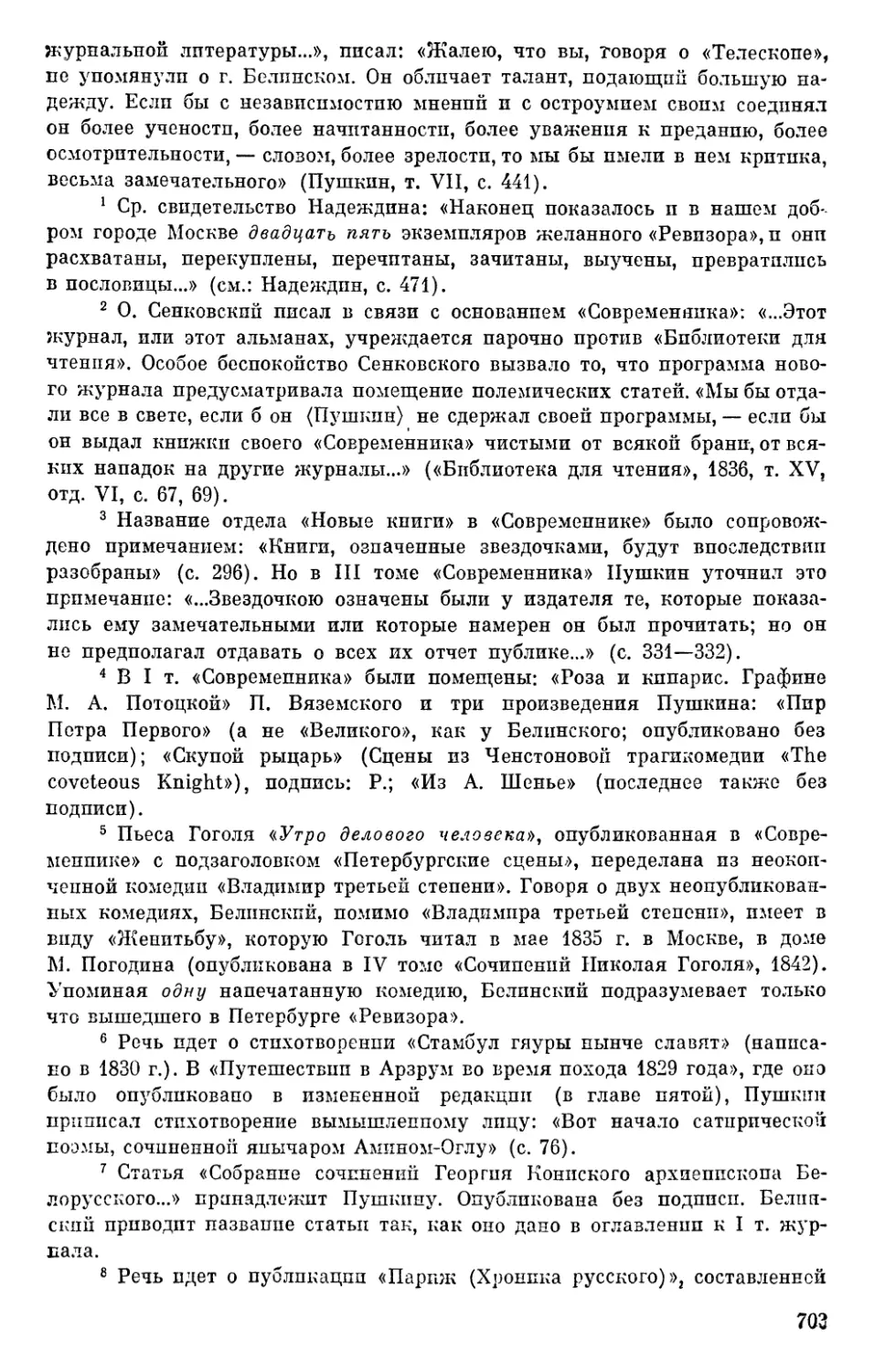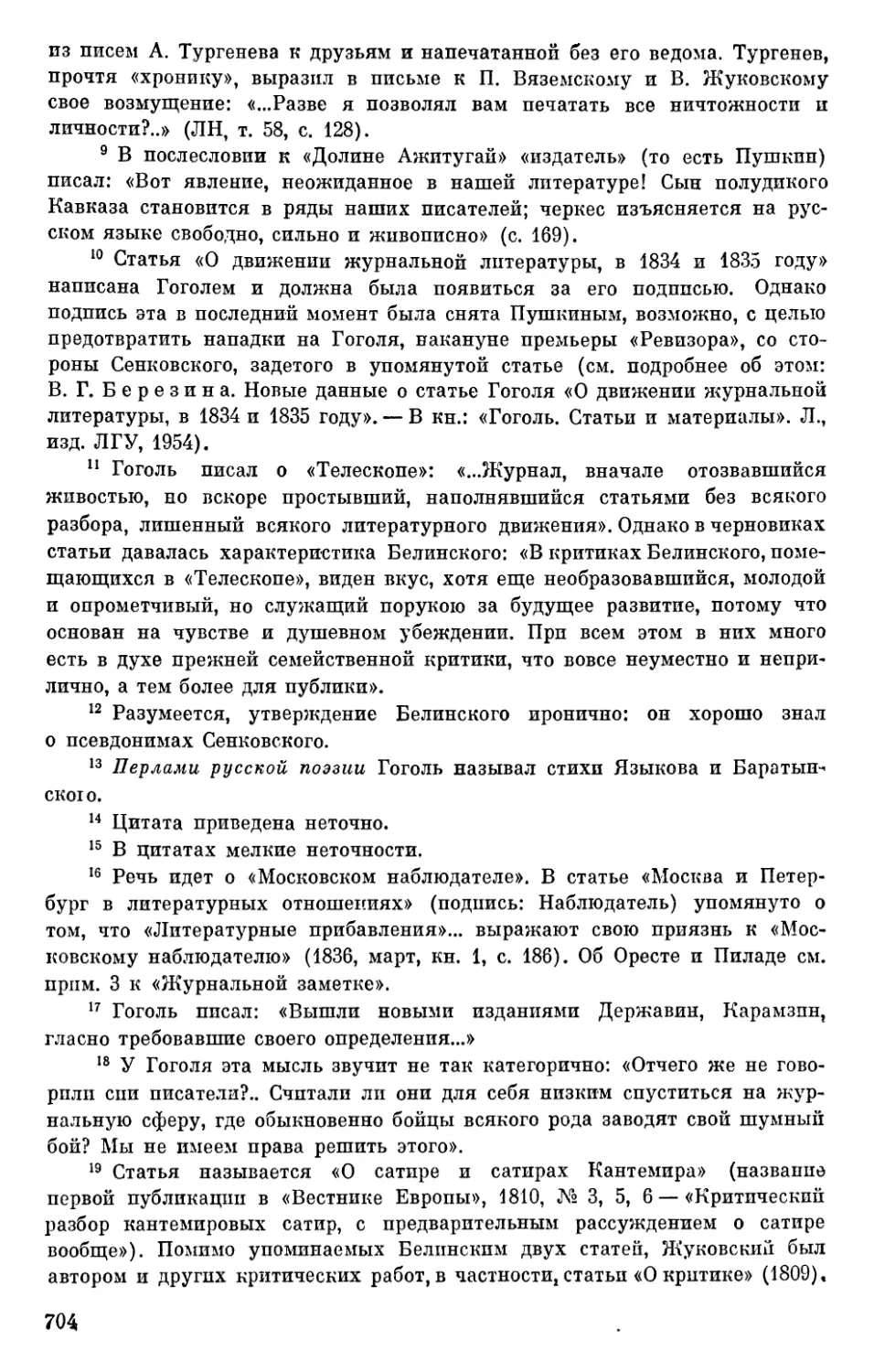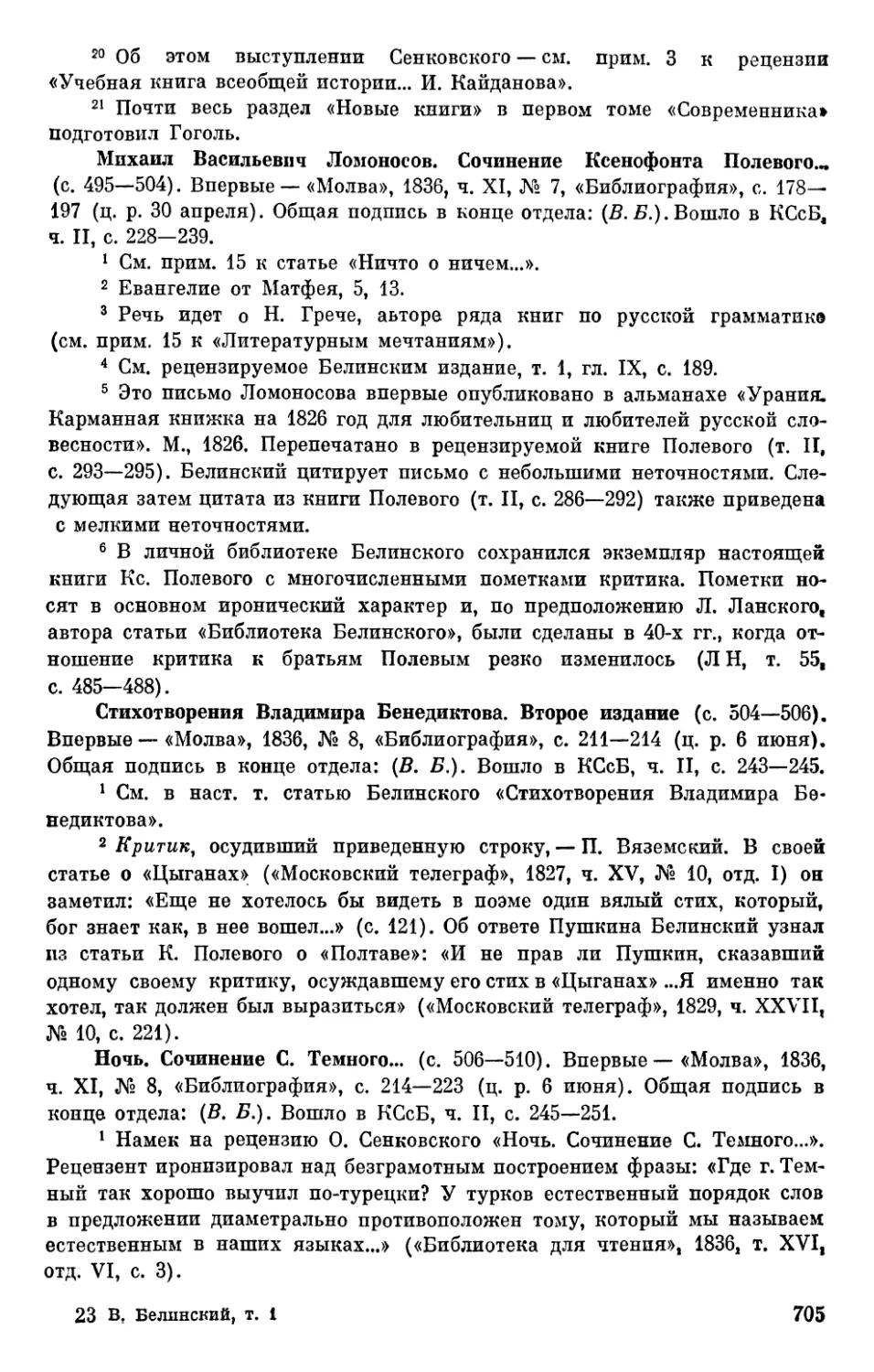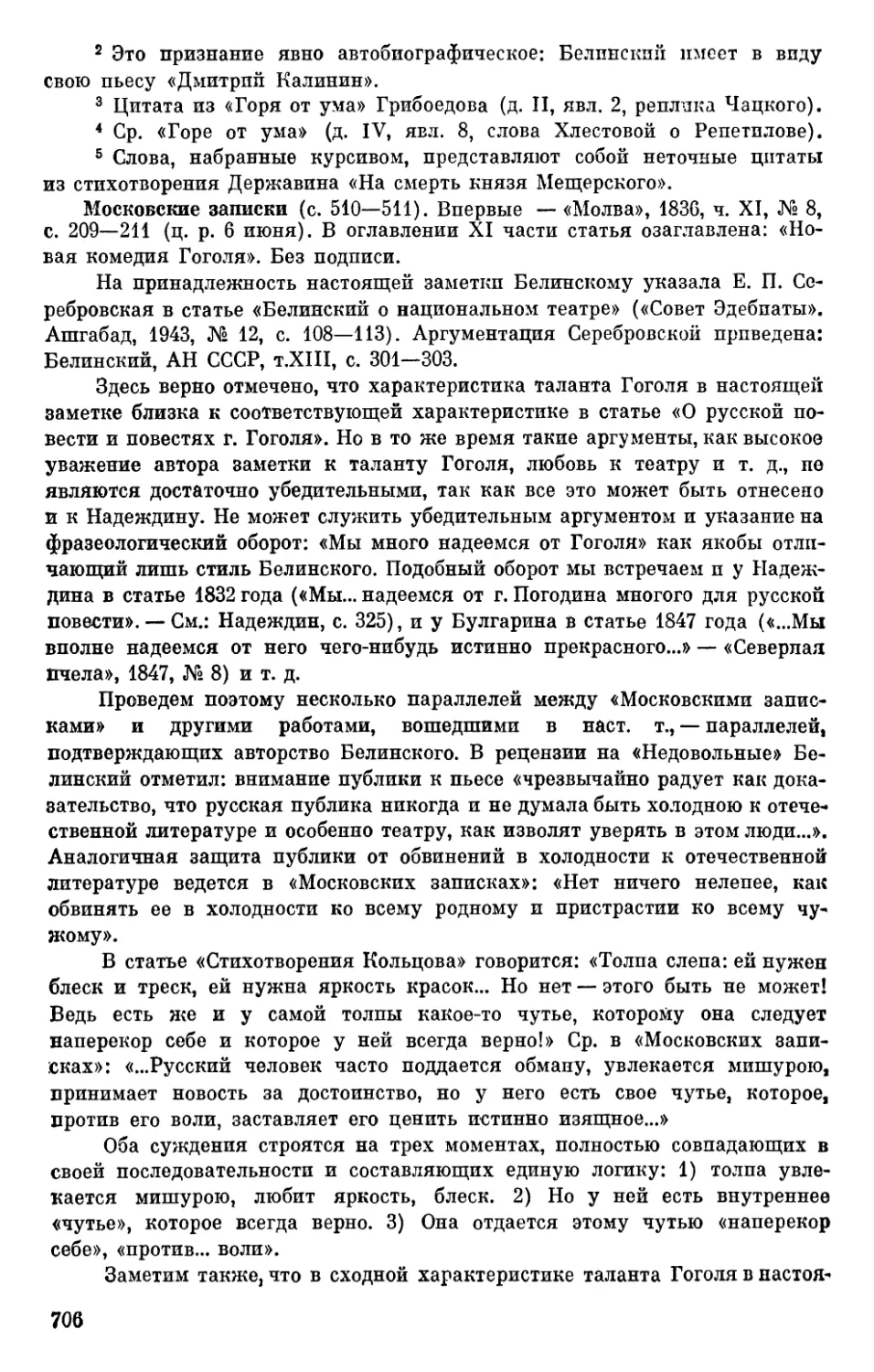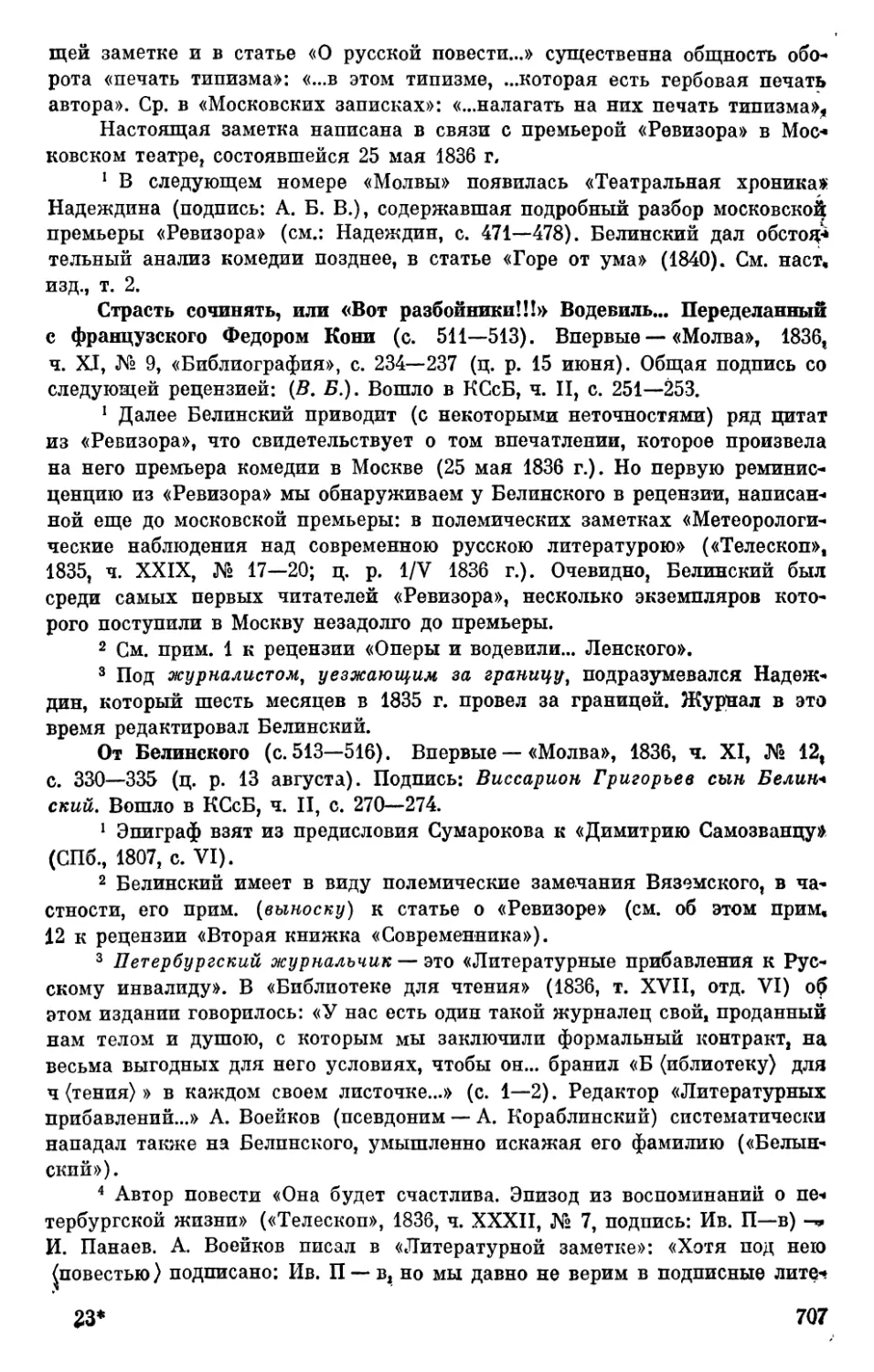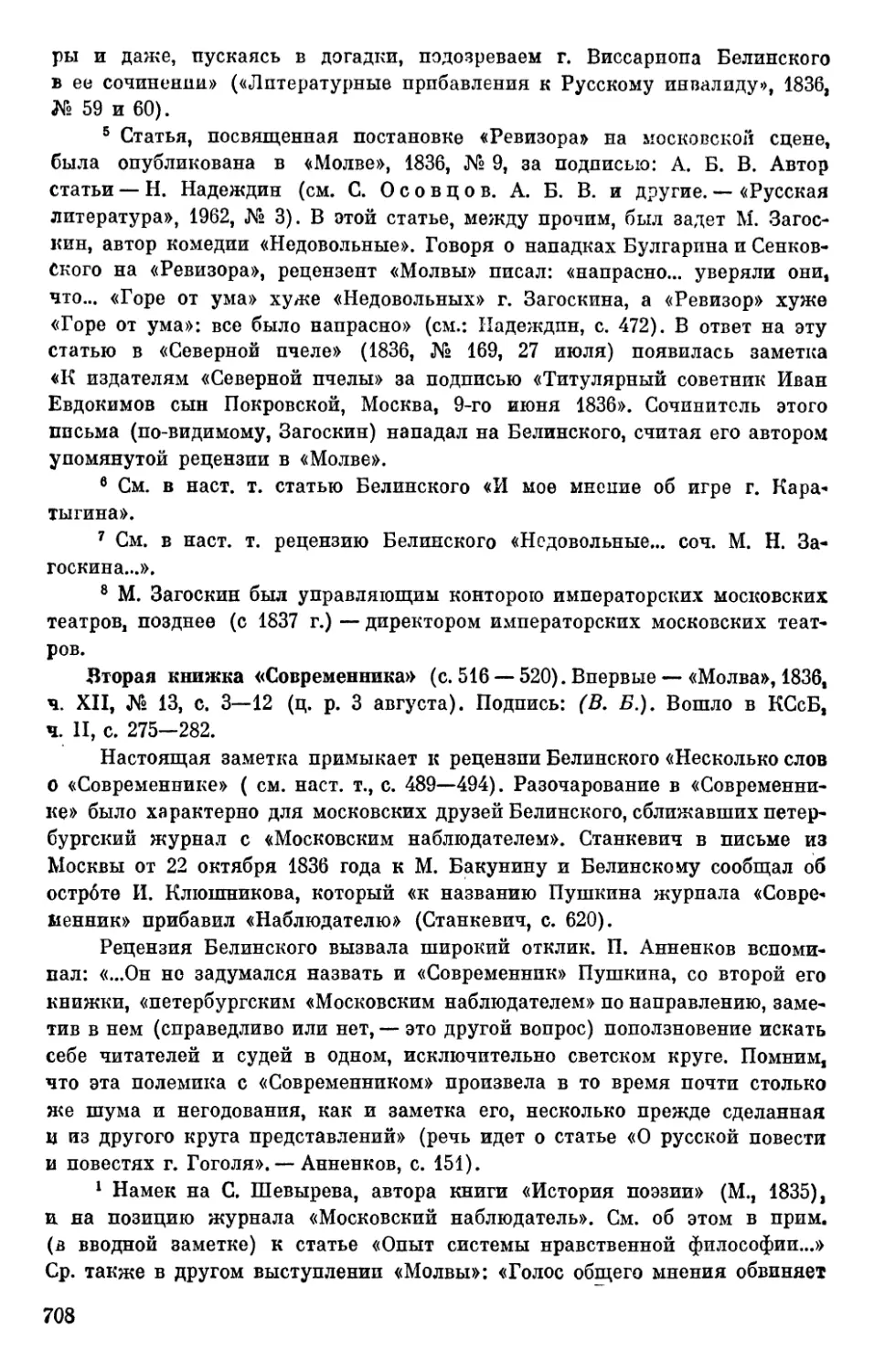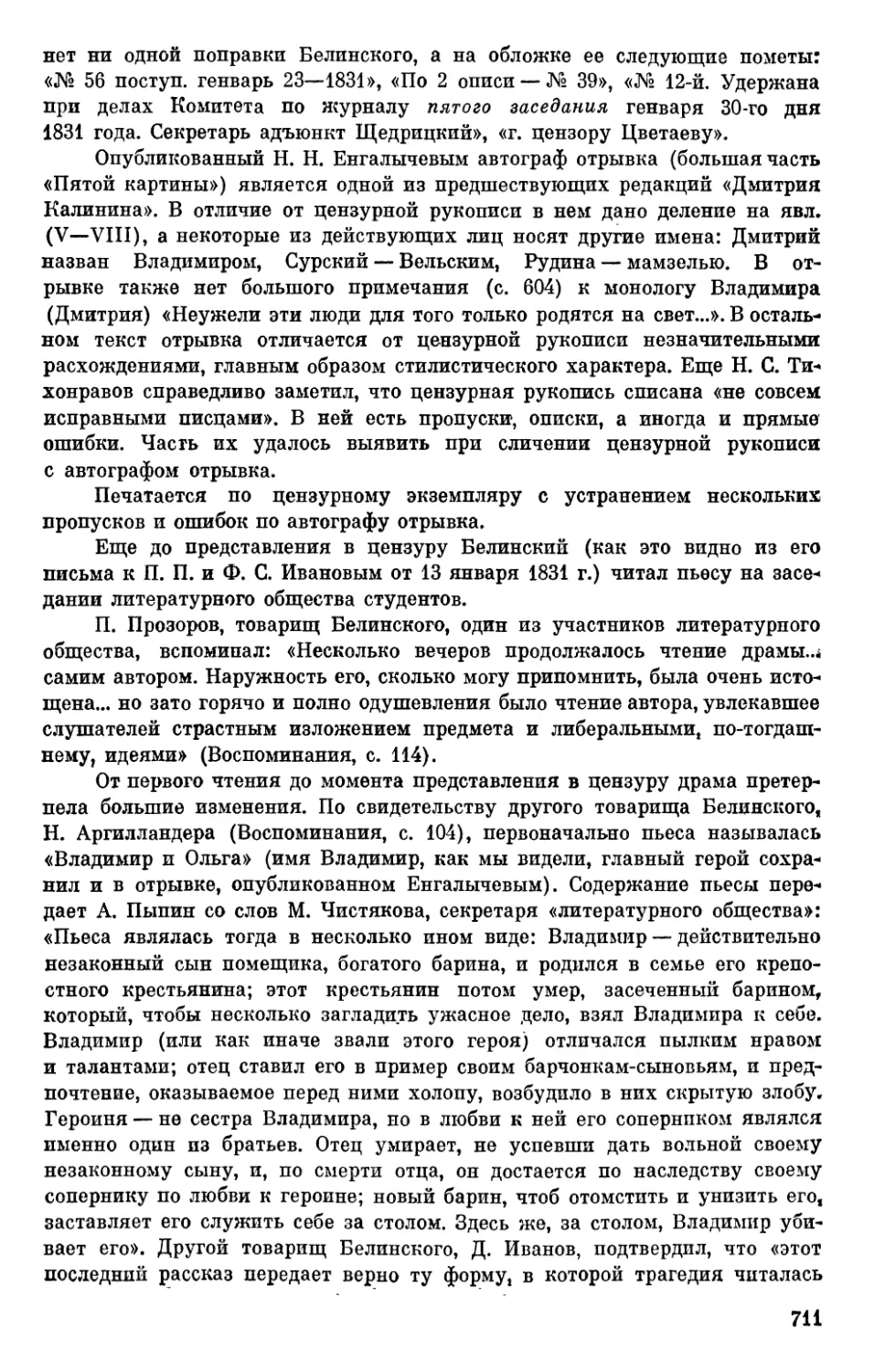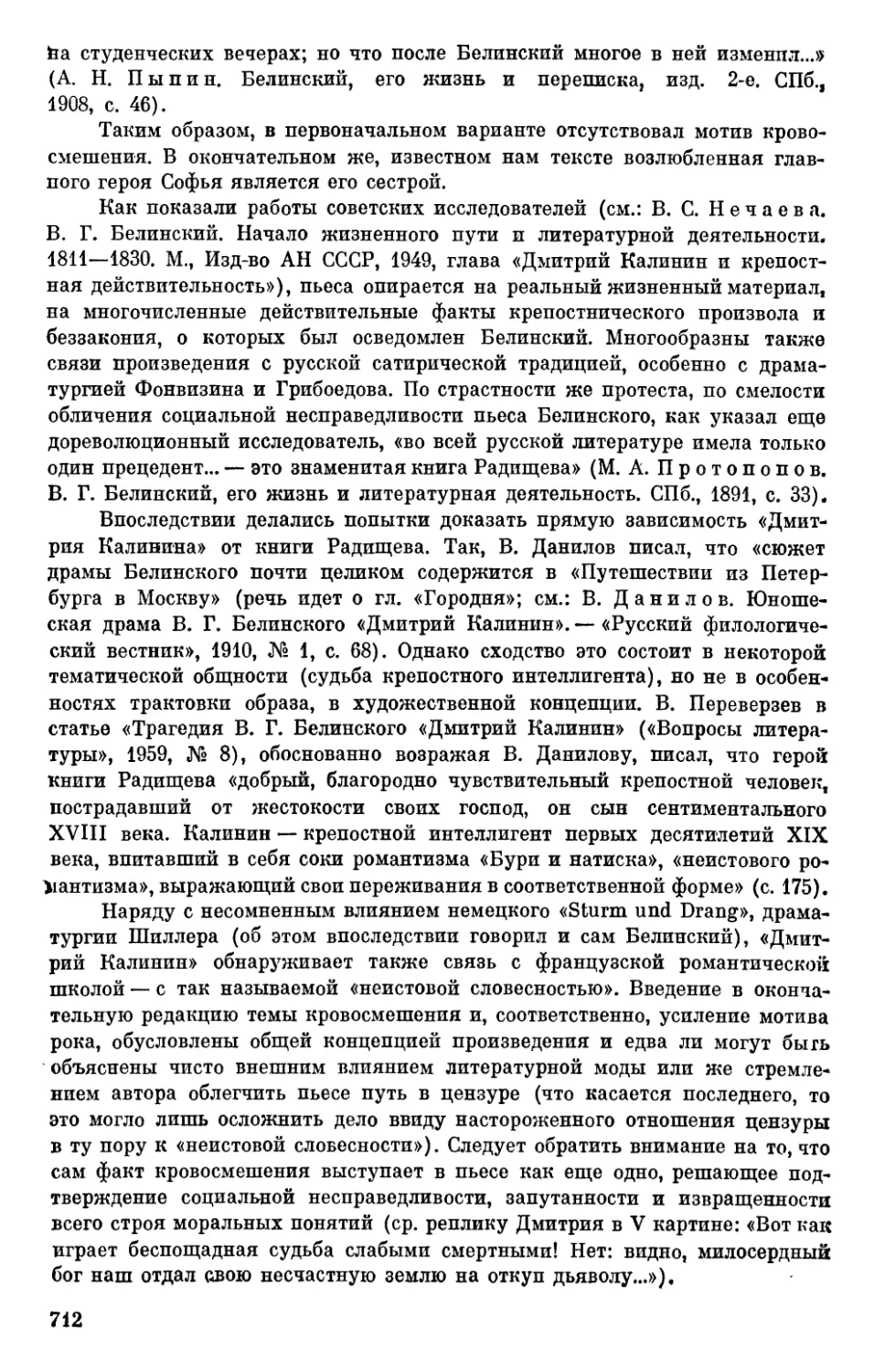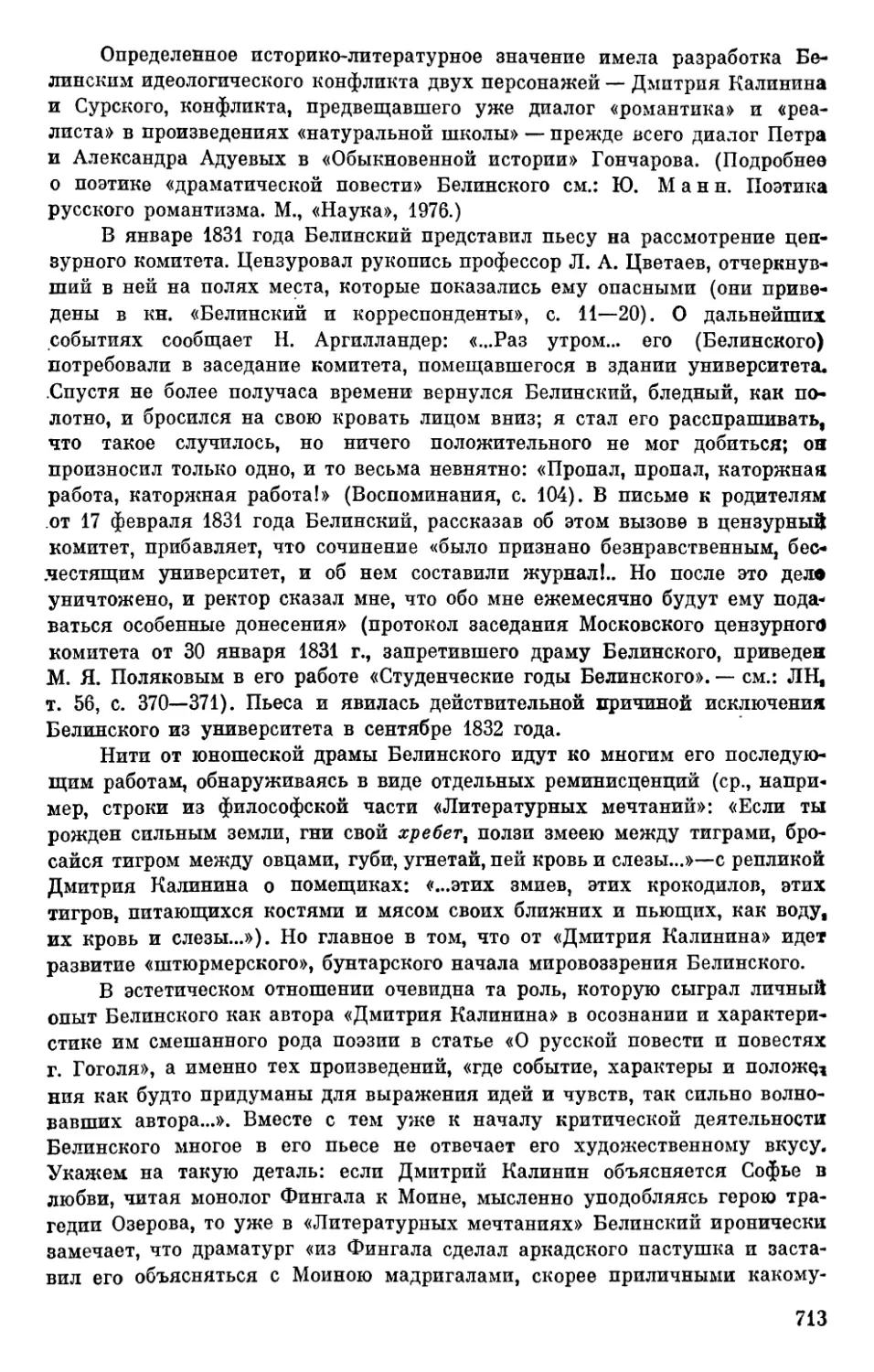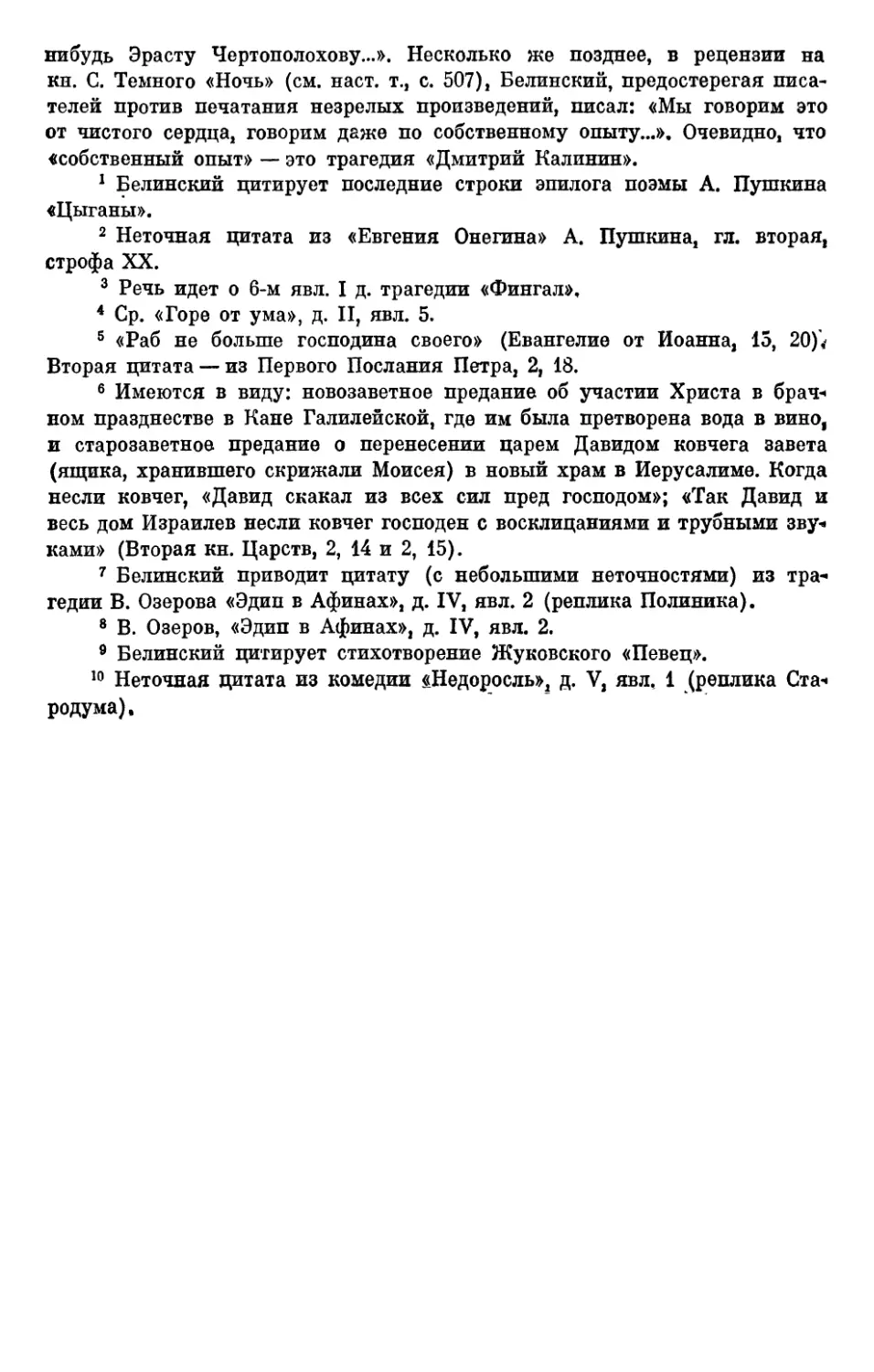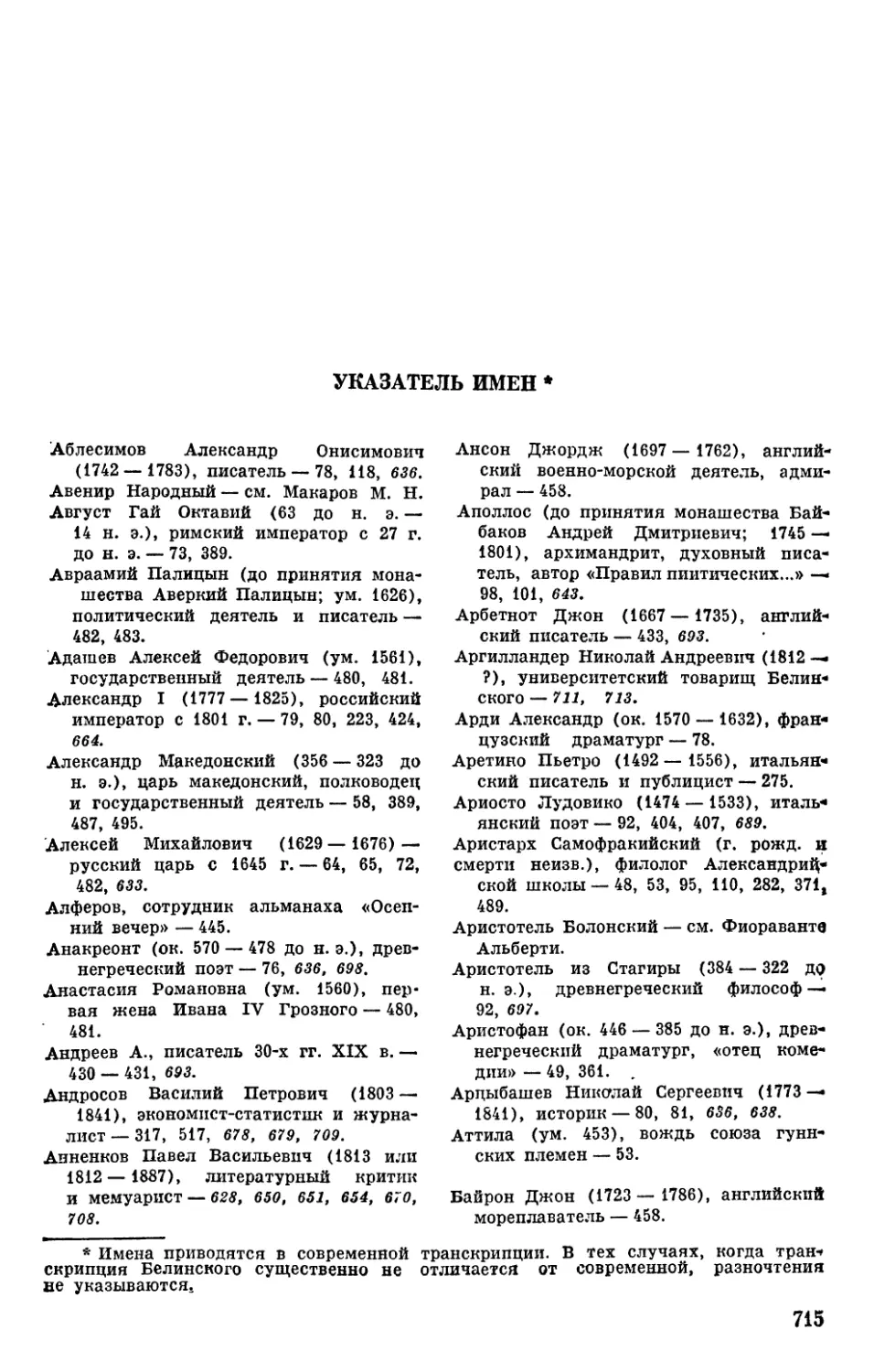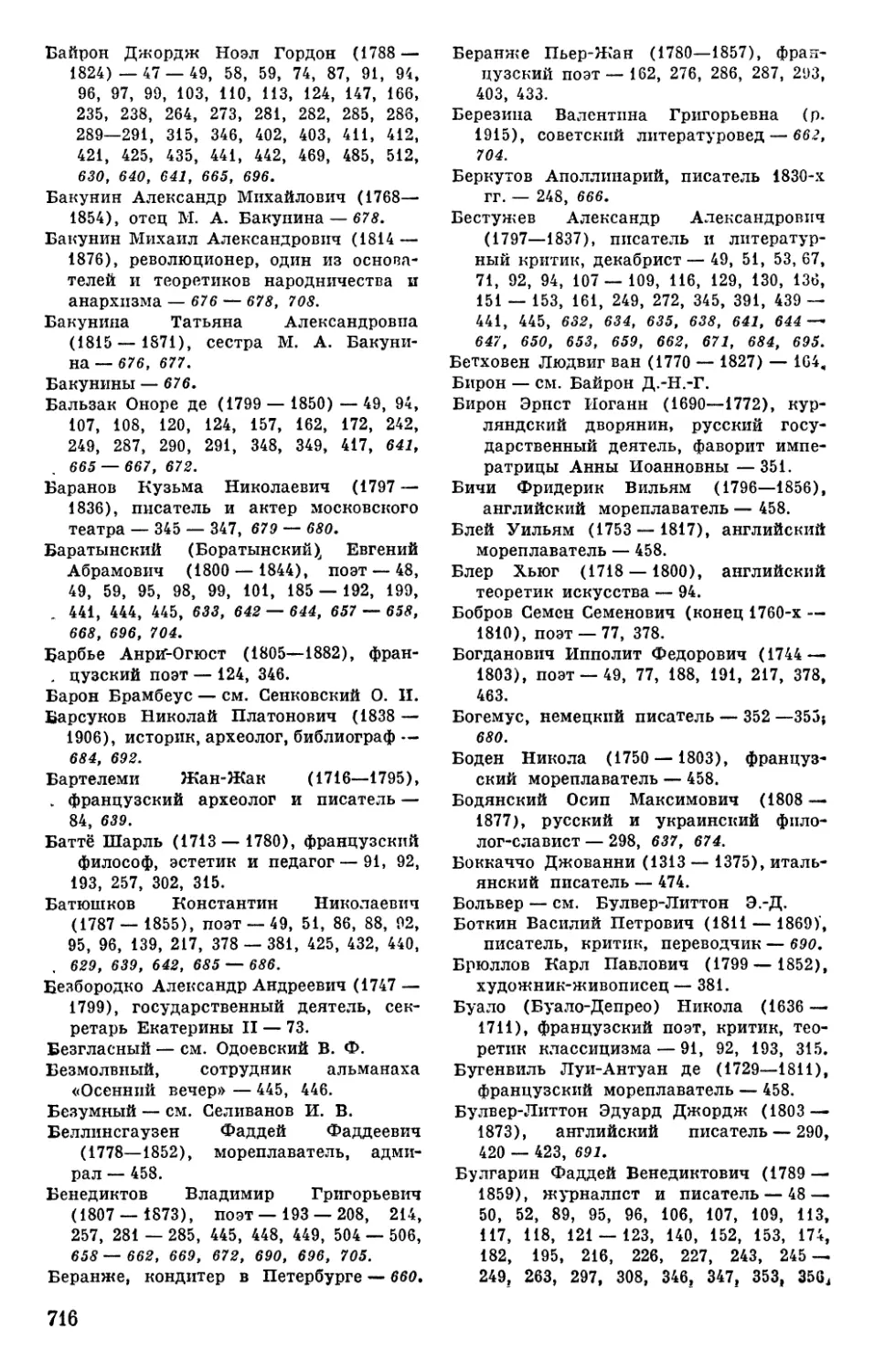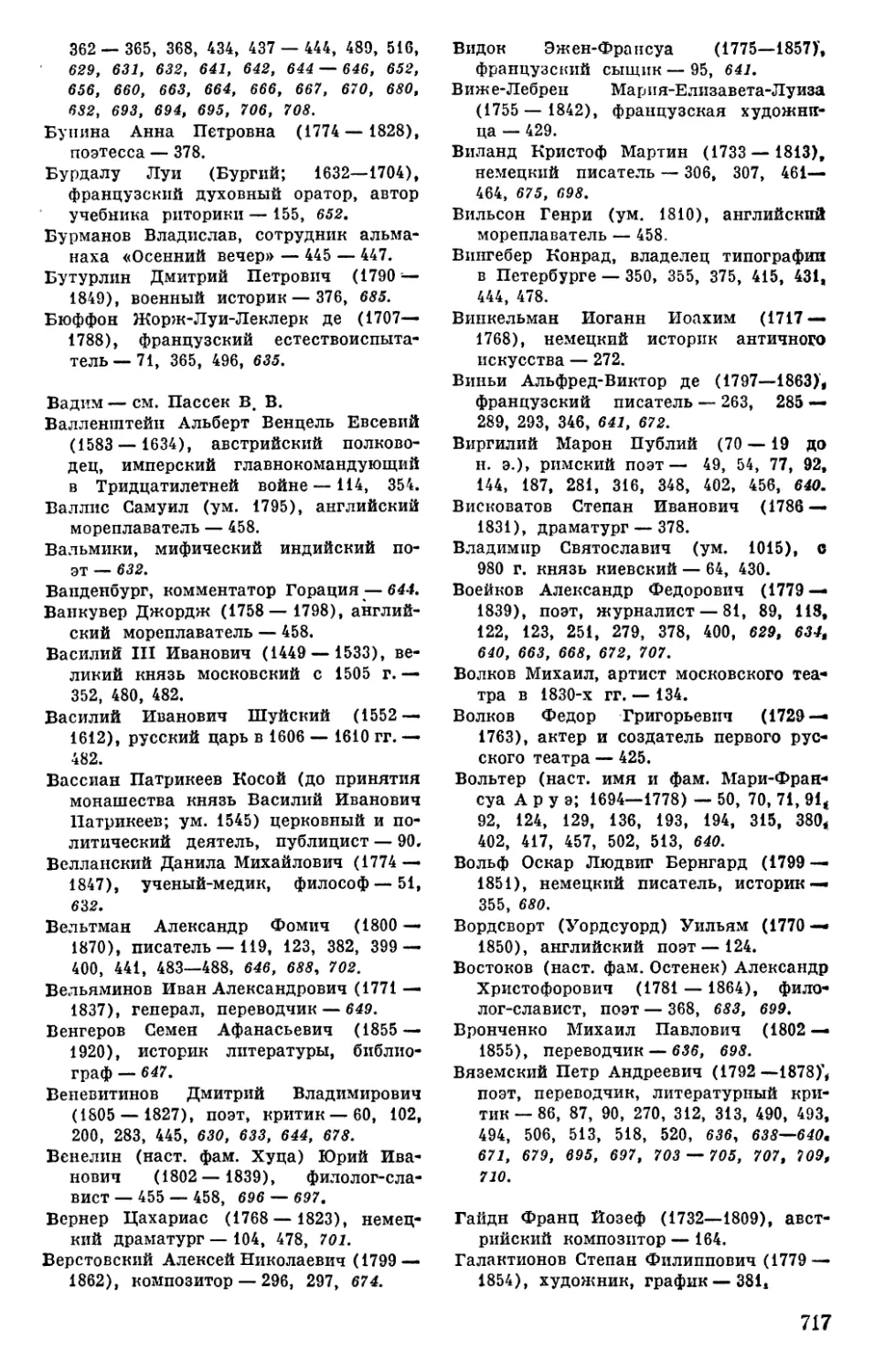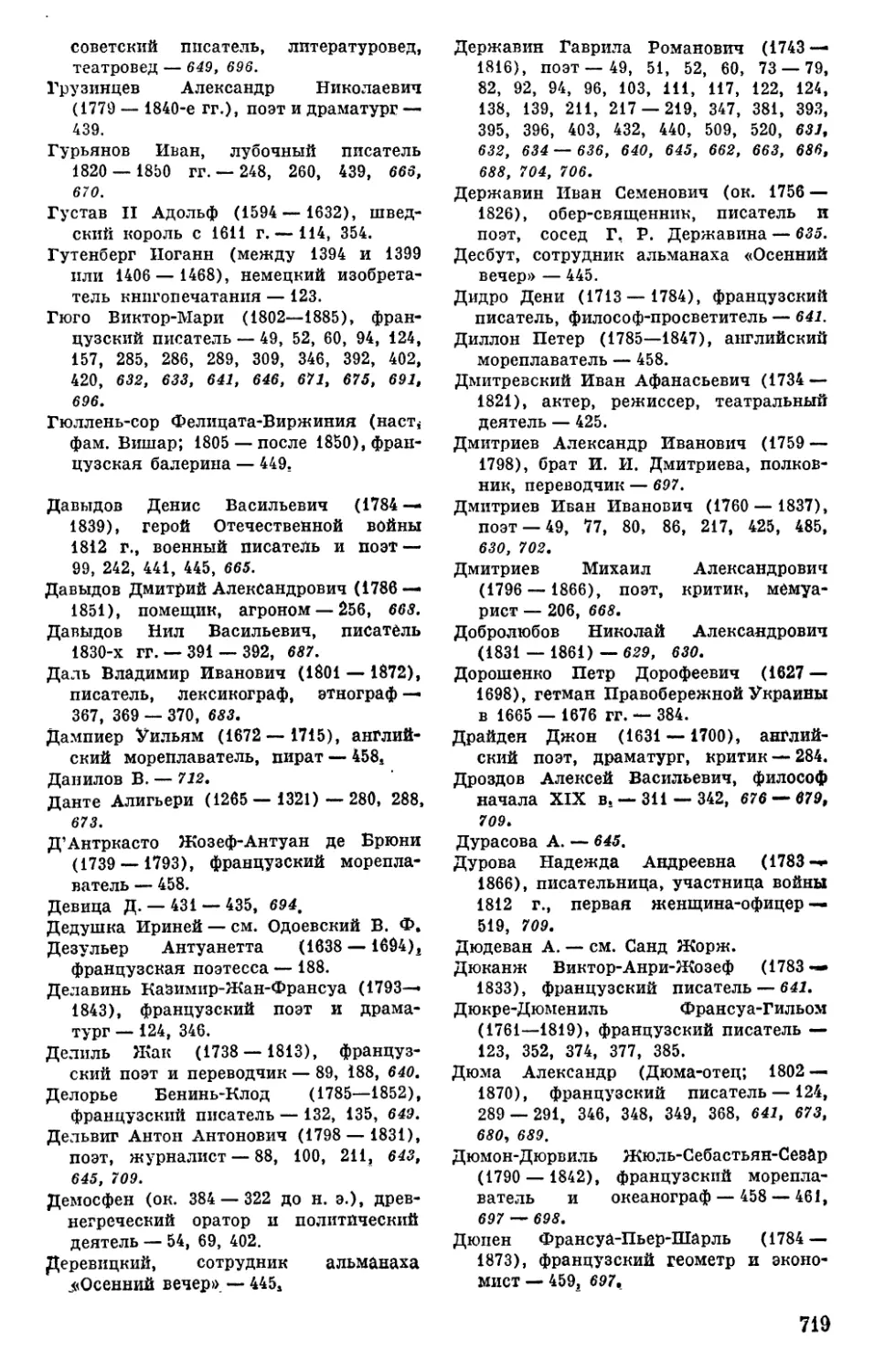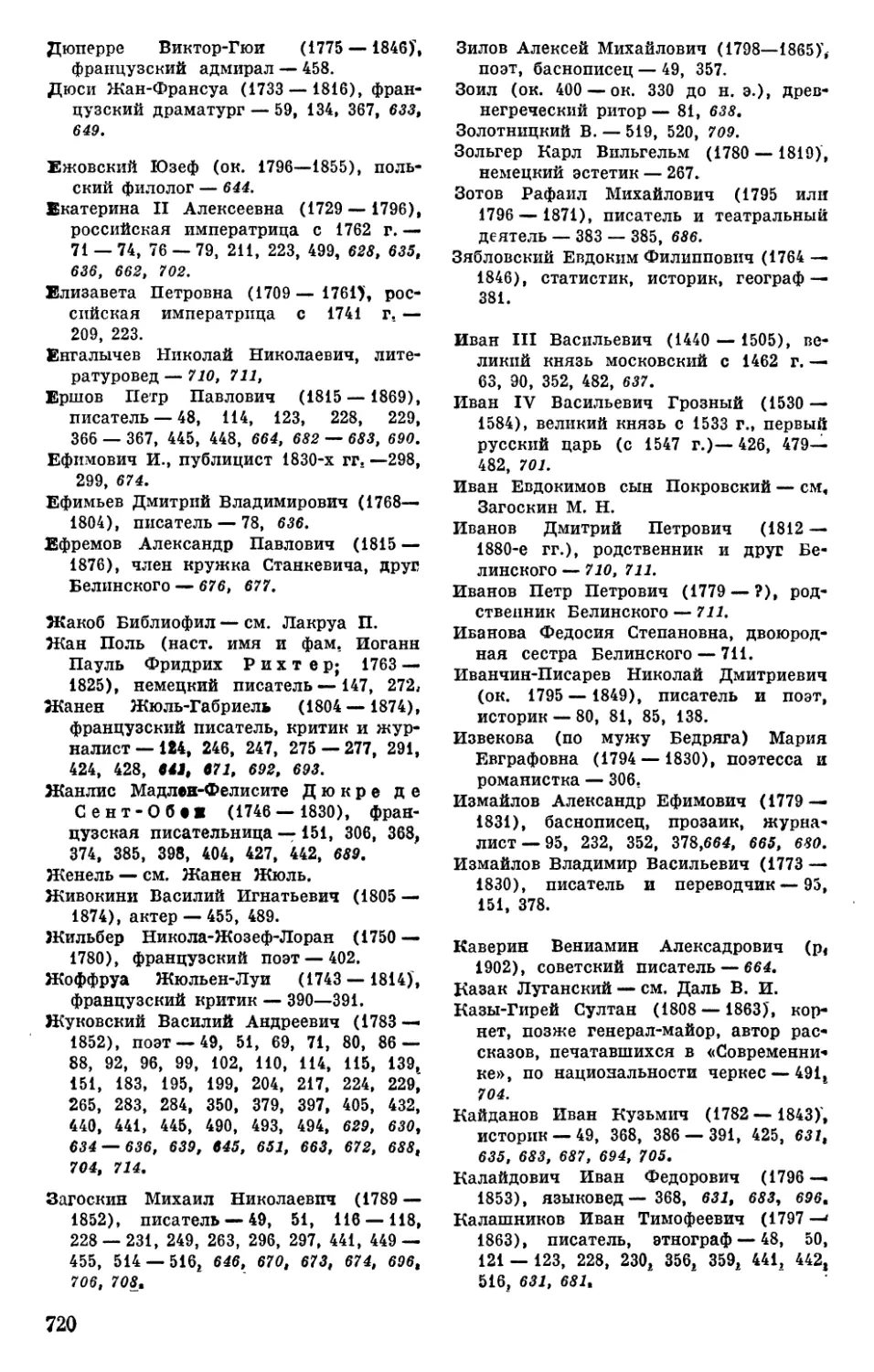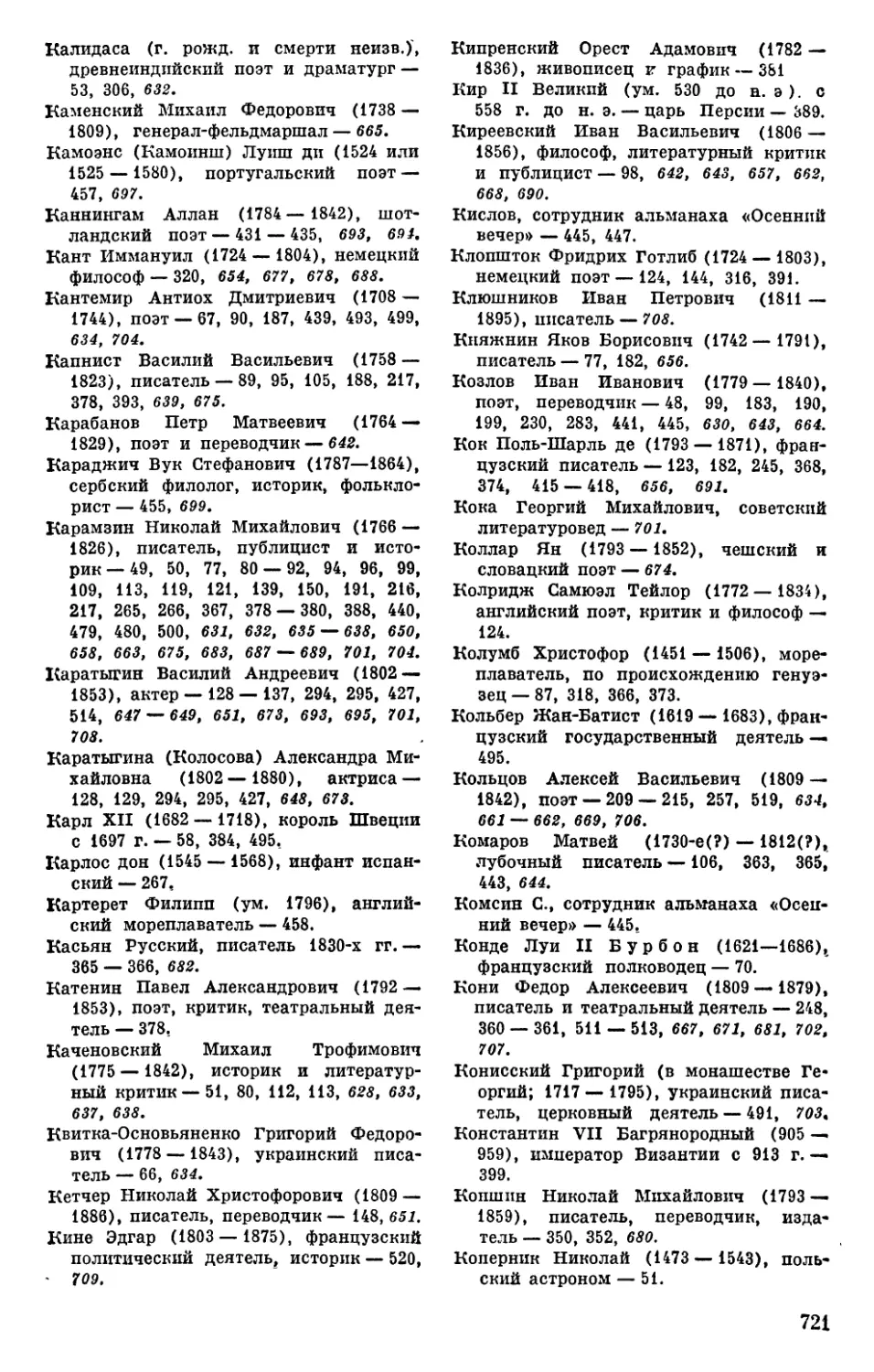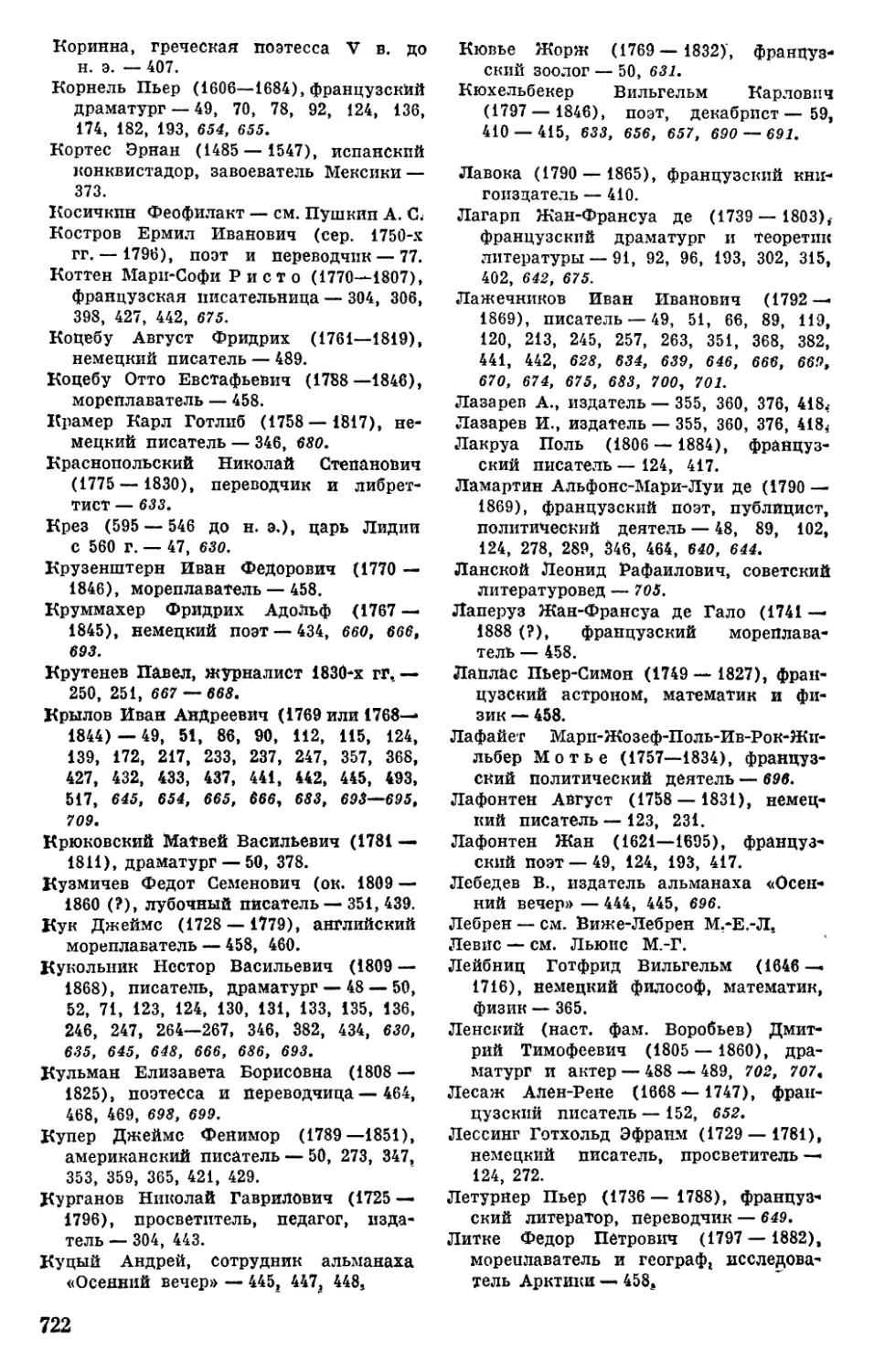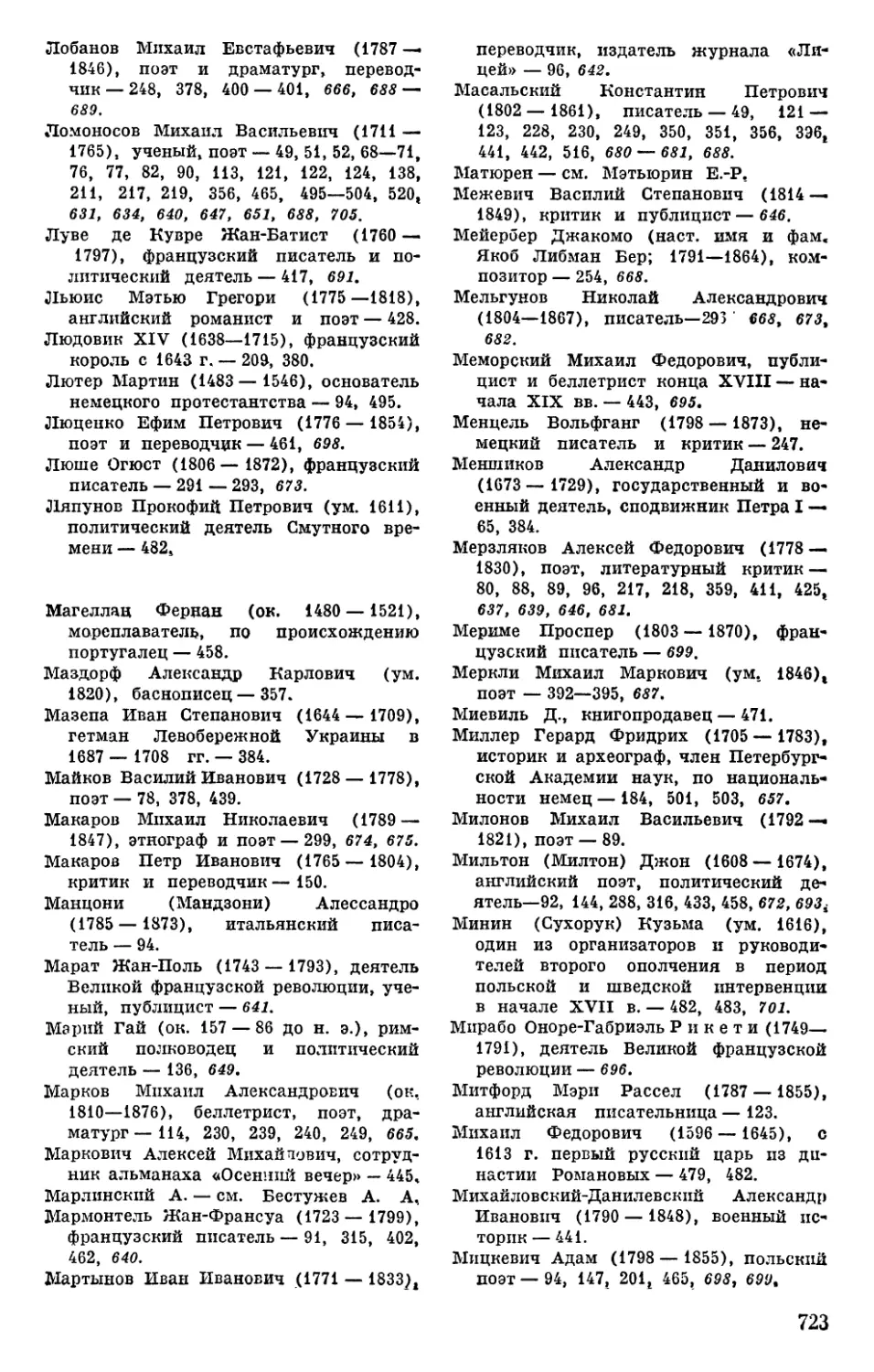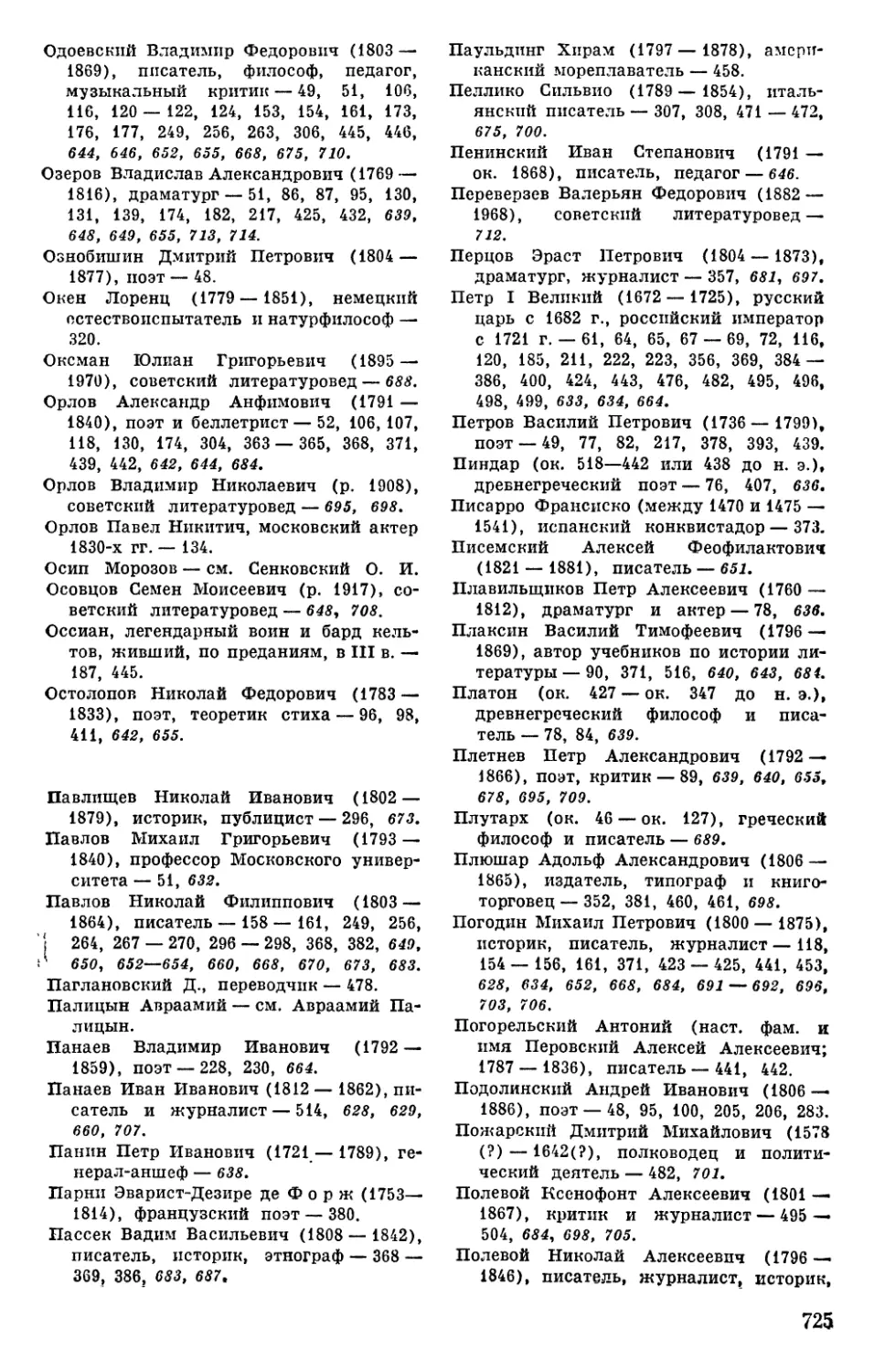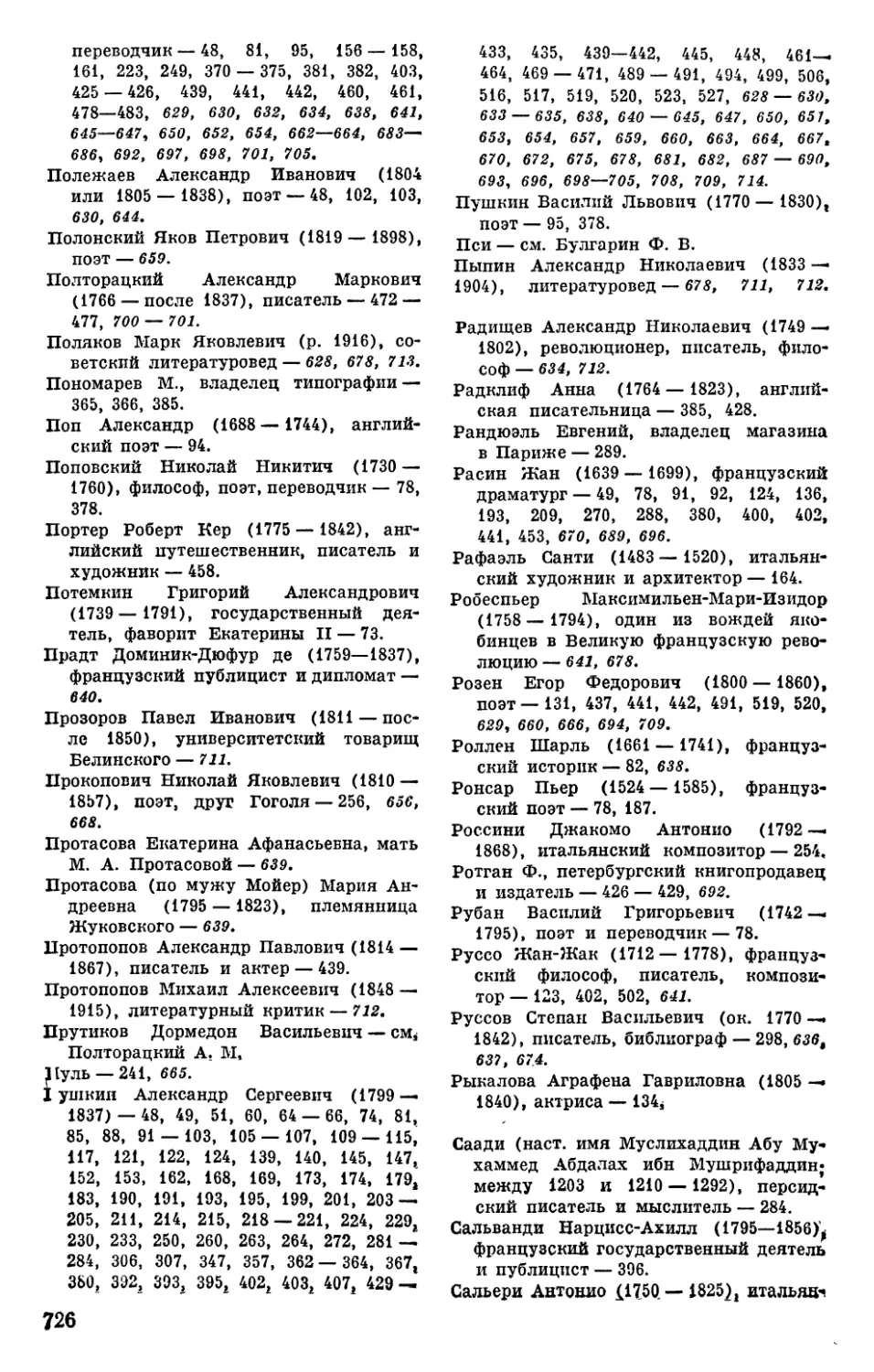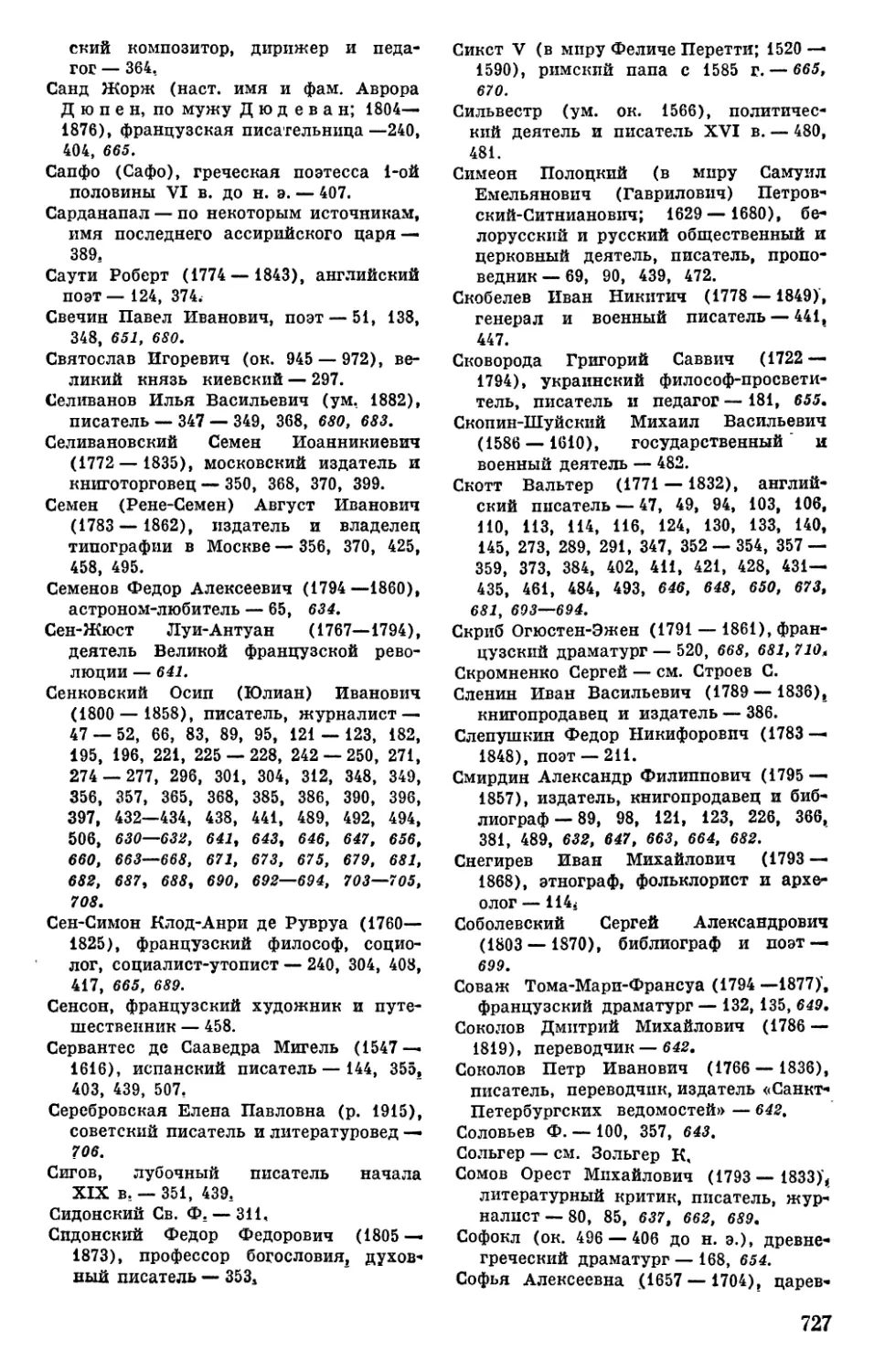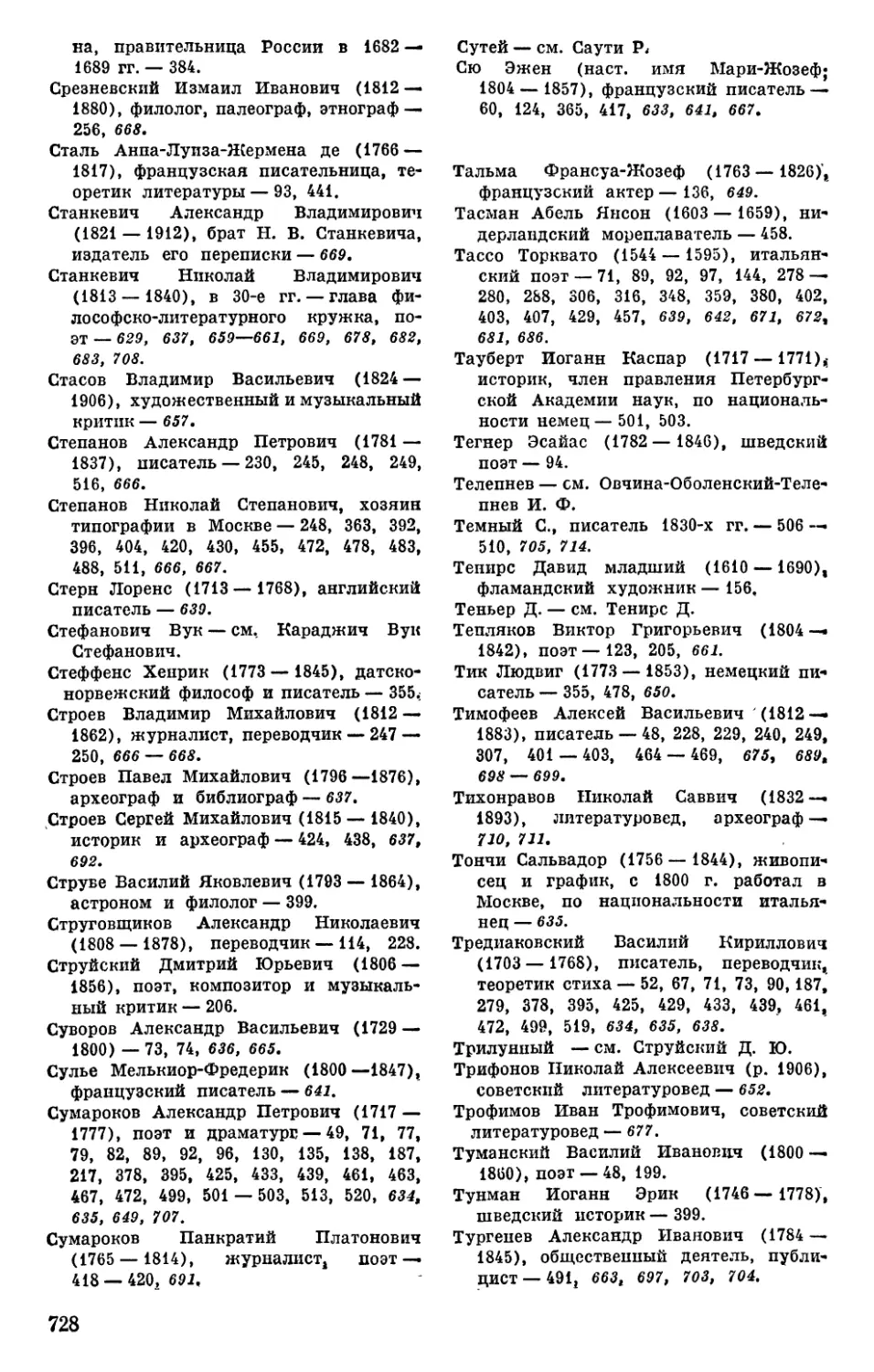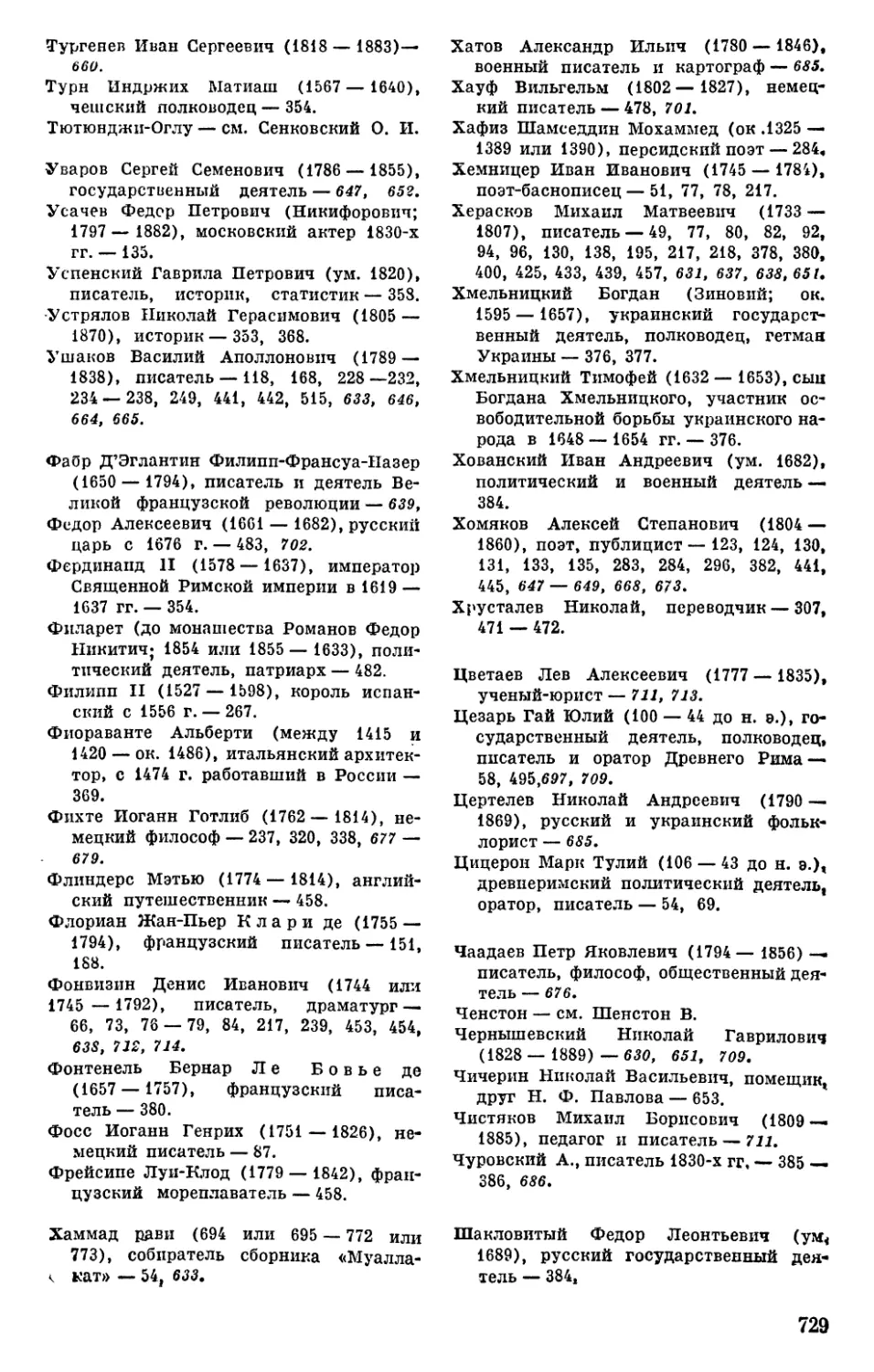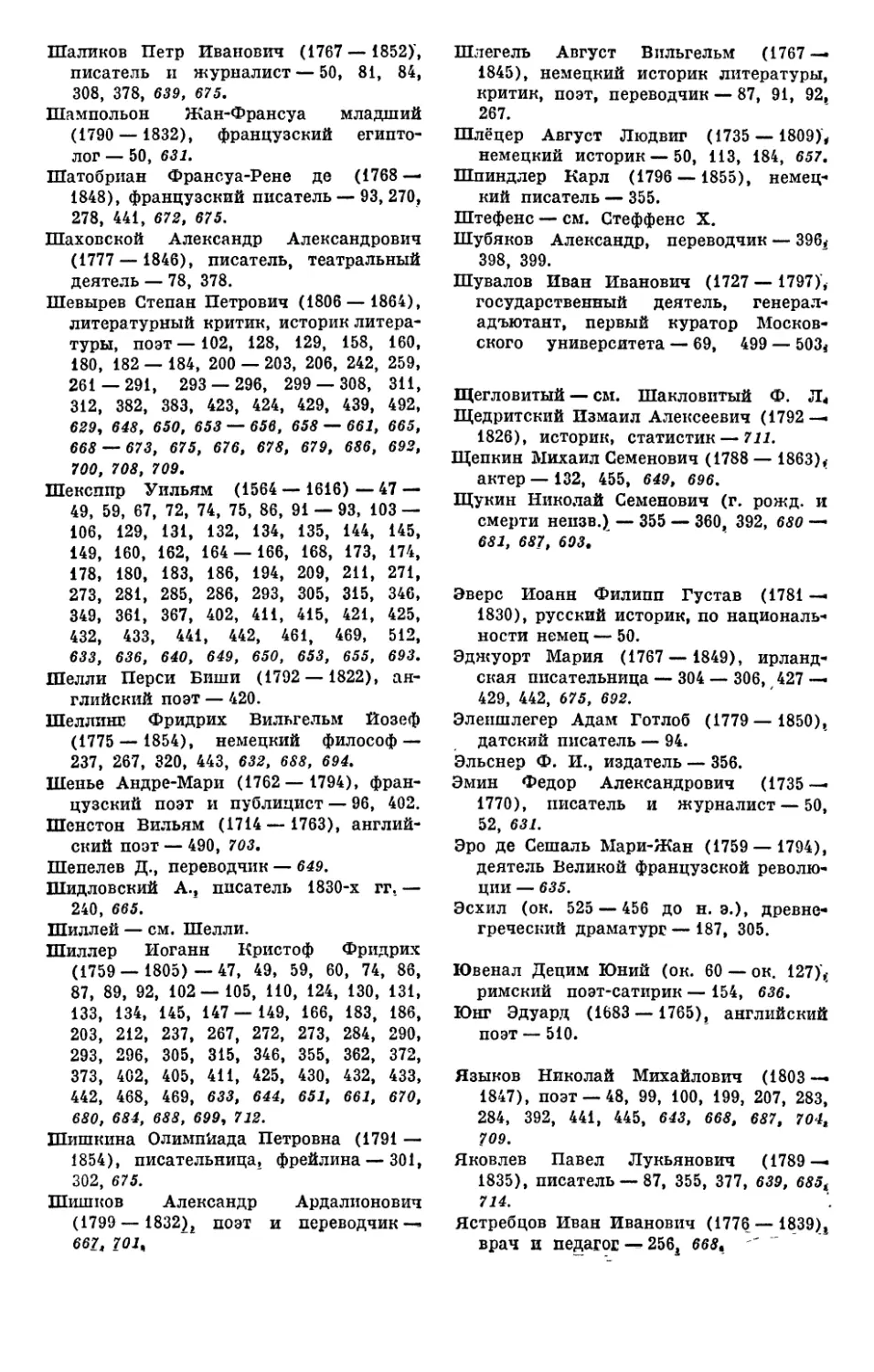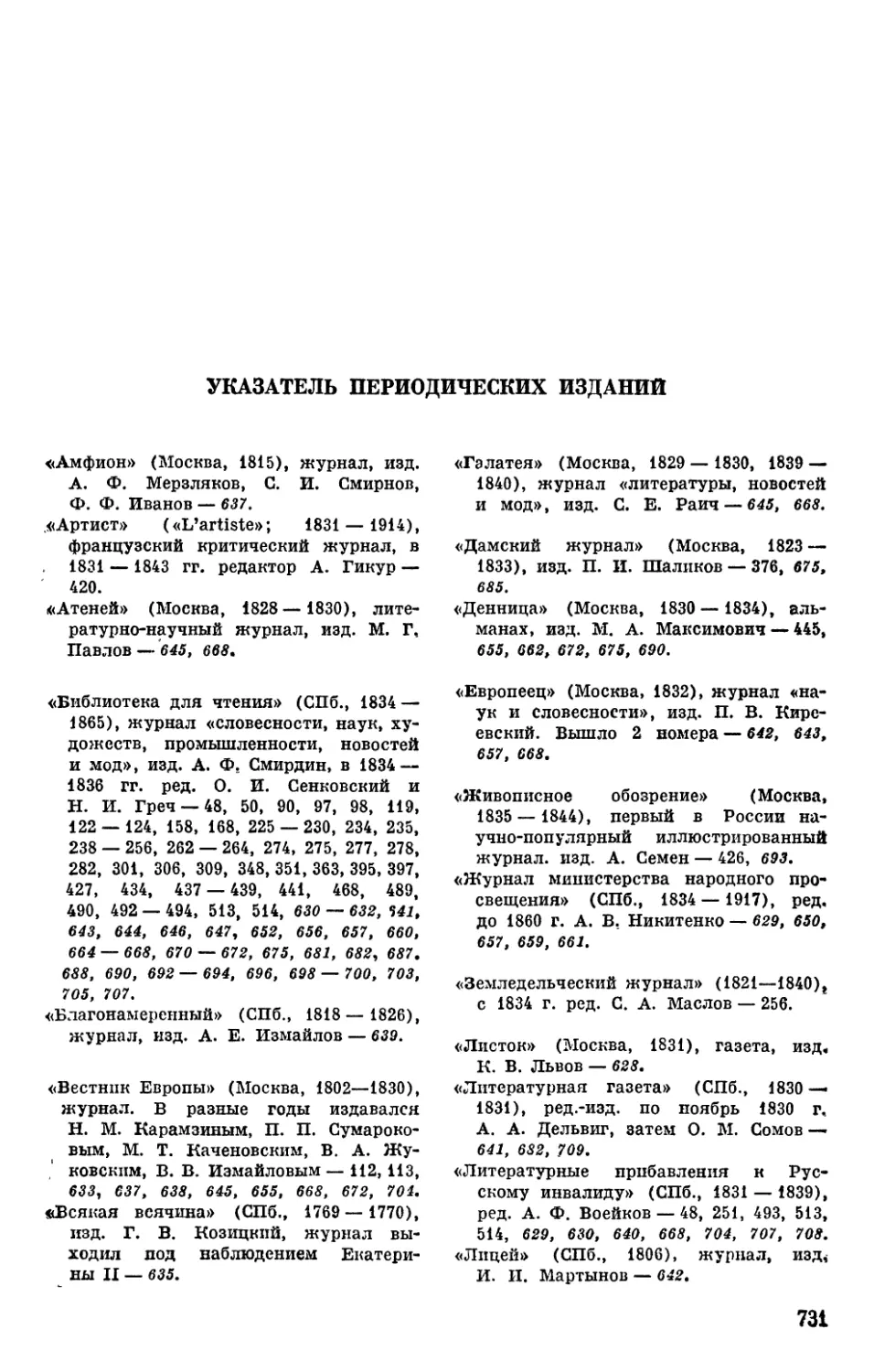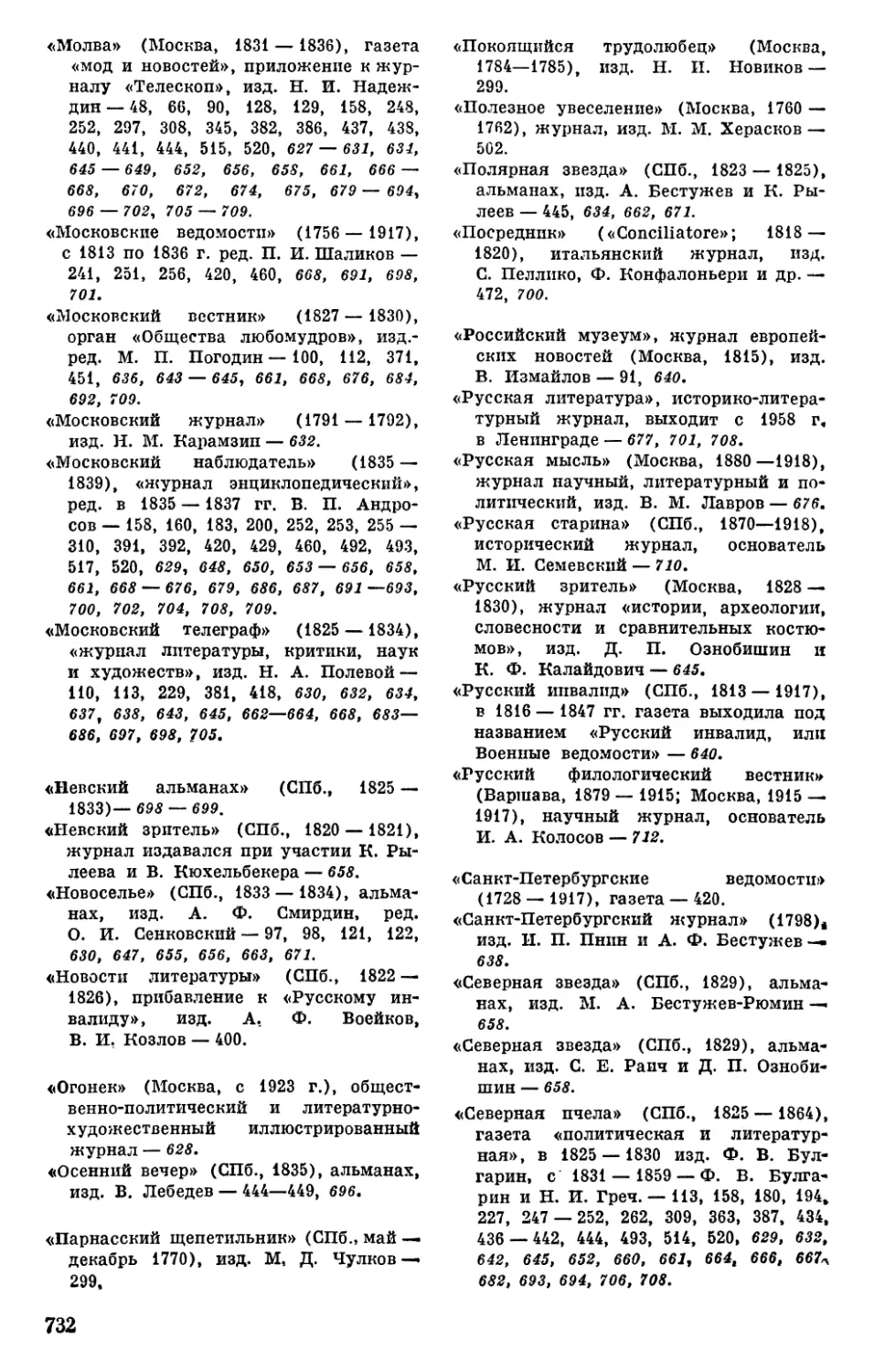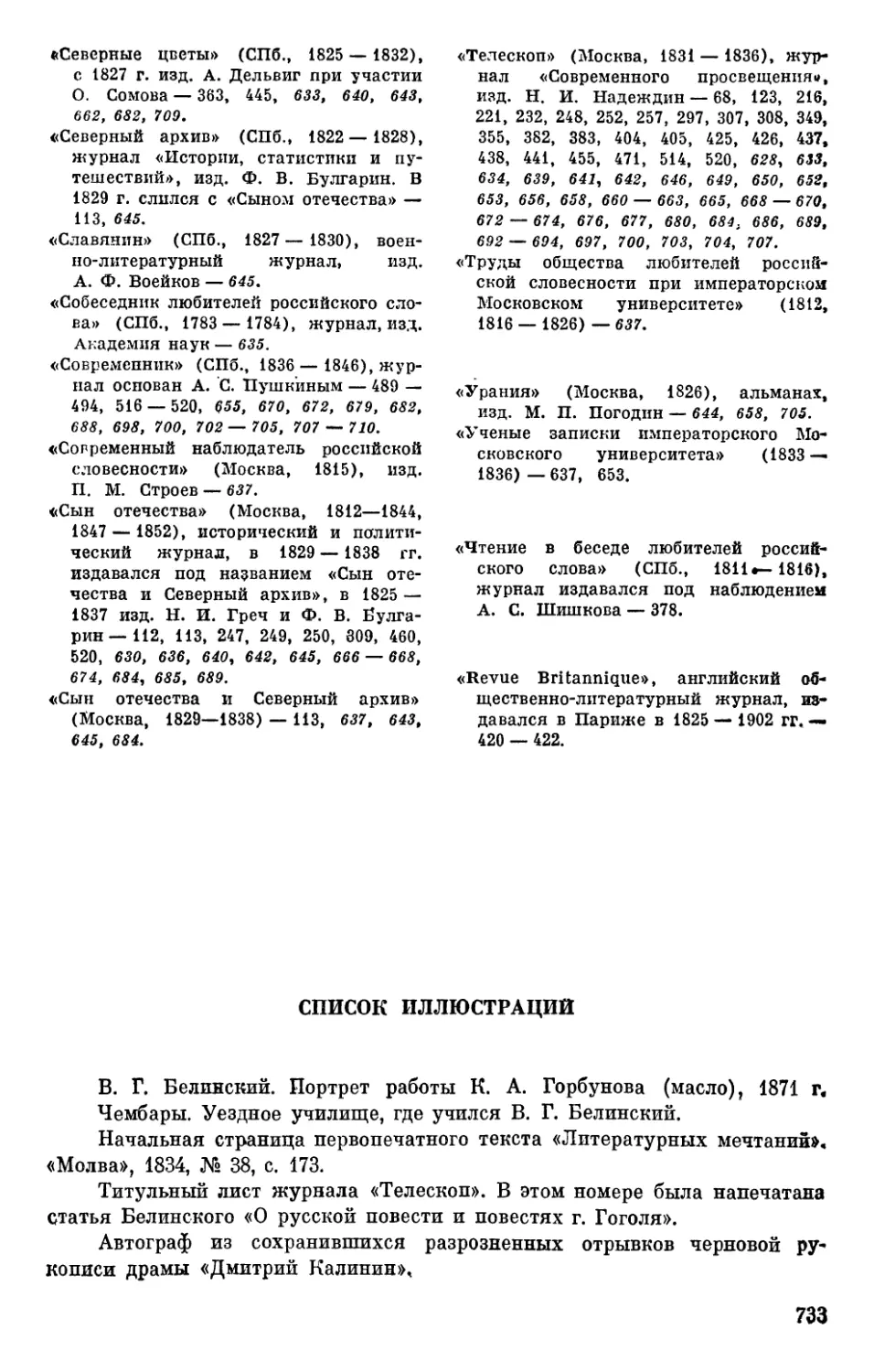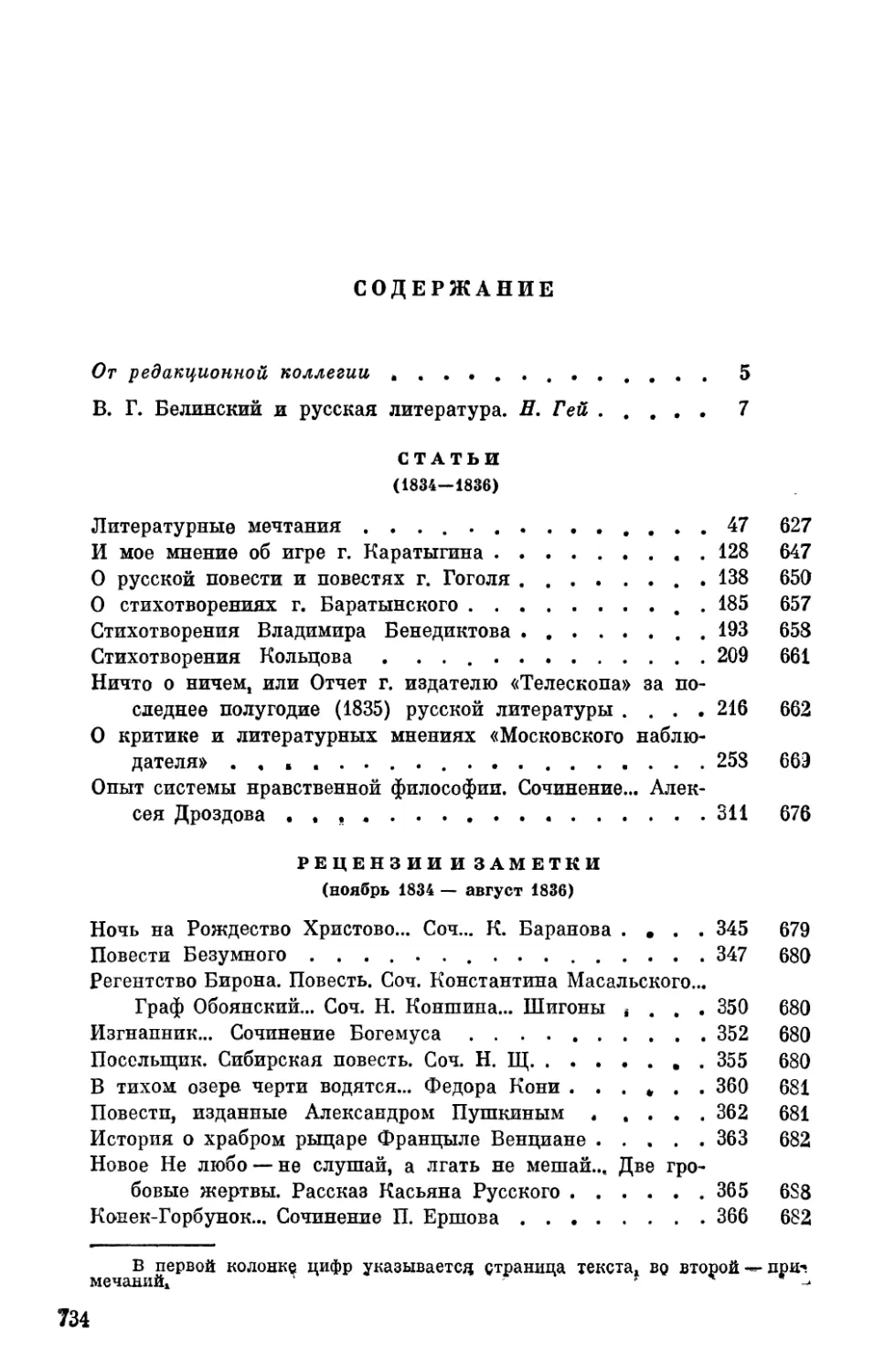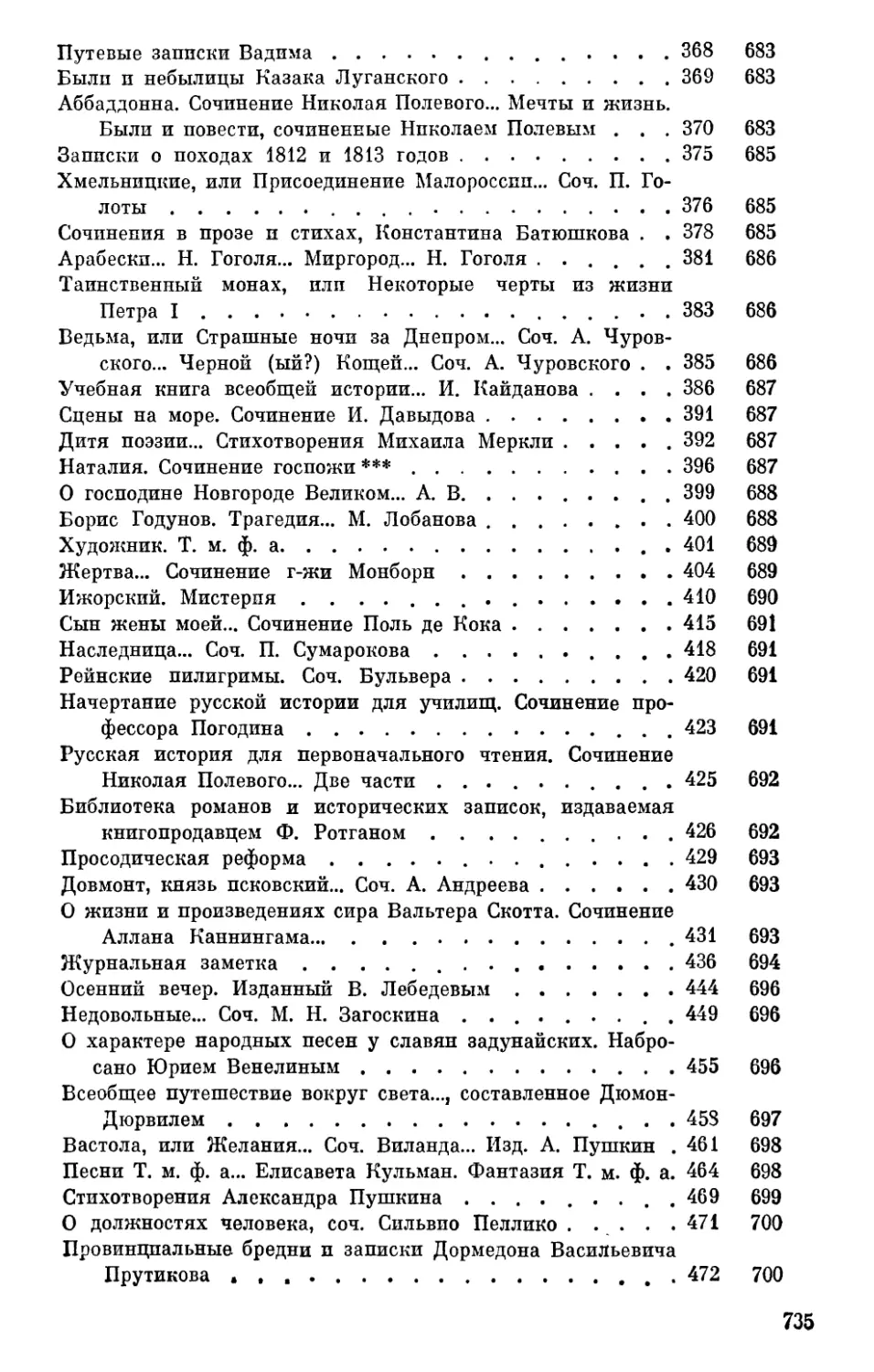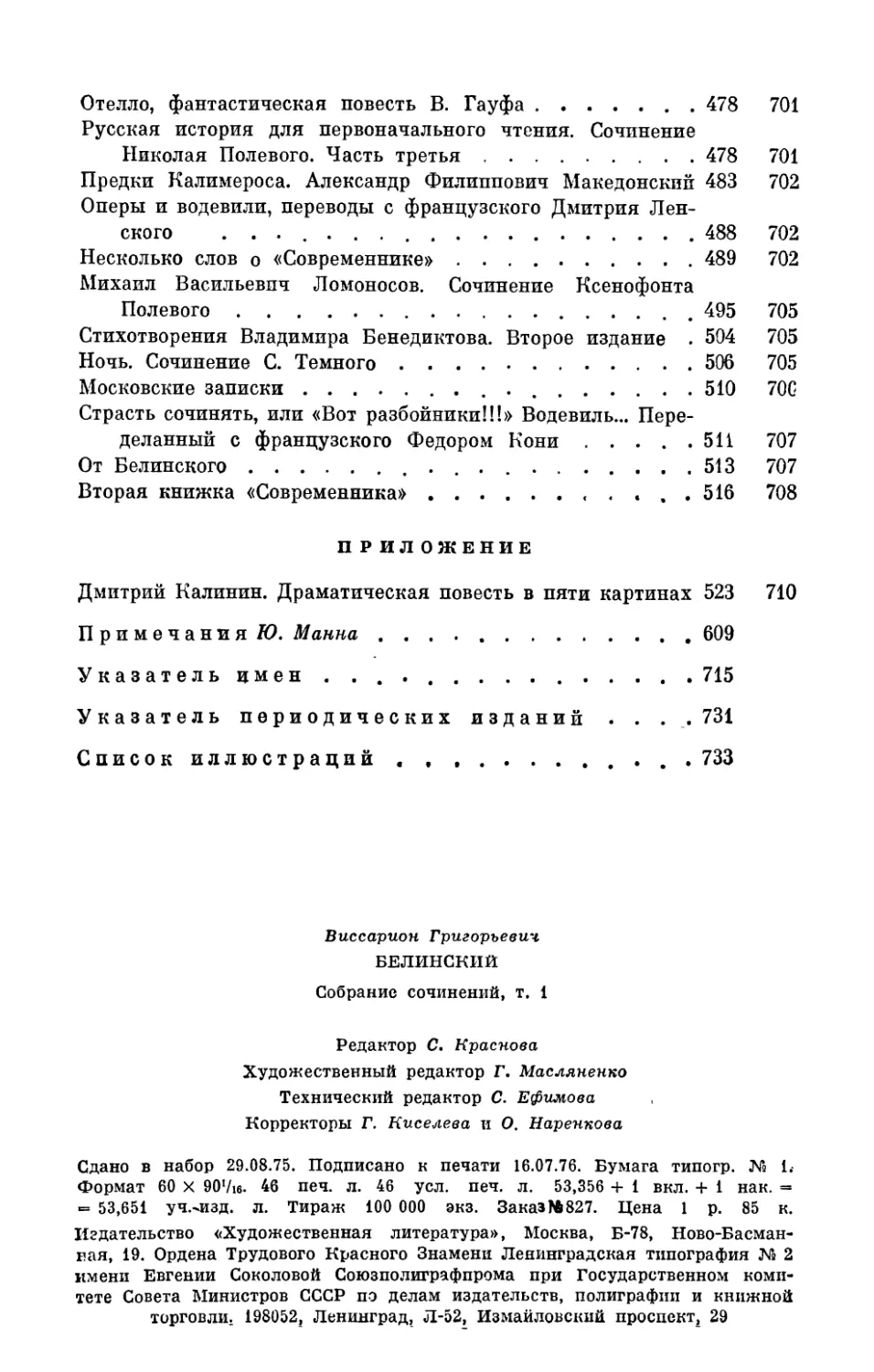Похожие
Текст
МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1976
ВГБЕЛИНСКИИ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ
ТОМАХ
•
Редакционная коллегия:
Н. К. ГЕЙ, В. И. КУЛЕШОВ, 10. В. МАНН, С. И. МАШИНСКИЙ,
М. Я. ПОЛЯКОВ, Г. А. СОЛОВЬЕВ, Ю. С. СОРОКИН
ш
МОСКВА. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА». 1976
ВТБЕЛИНСКИИ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ
СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
1834-1836
ДМИТРИЙ КАЛИНИН
МОСКВА. «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА». 1976
8Р1
Б43
Б43
Редакторы первого тома
М. Я. Поляков, Г. А. Соловьев
Вступительная статья
к собранию сочинений
Н. К. Гея
Подготовка текста
В. Э. Бограда
Статья и примечания к первому тому
Ю. В. Манна
Оформление художника
М. Шлосберга
Белинский В. Г.
Собрание сочинений. В 9-ти томах. Т. 1. Статьи»
рецензии и заметки 1834—1836. Дмитрий Калинин.
Вступит, статья к собр. соч. Н. К. Гея. Статья и примеч.
к первому тому Ю. В. Манна. Подготовка текста
В. Э. Бограда. М., «Худож. лит.», 1976
736 с.
В первый том входят статьи, рецензии, заметки Белинского, на¬
писанные им в 1834—1836 годах, и его юношеская драма (как прило¬
жение к тому) «Дмитрий Калинин» (1830),
^ 70202—097 QOT
подписное 8PI
028(01)—76
от редакционной коллегии
Настоящее научно-массовое девятитомное издание, не являясь полным
академическим собранием сочинений, содержит все литературно-критиче¬
ские и теоретические статьи и все сколько-нибудь значительные рецензии
и заметки В. Г. Белинского, а также некоторые театральные обозрения и
избранные письма, представляющие интерес для характеристики взглядов
Белинского как критика и мыслителя. Вошли в издание также статьи и
рецензии по вопросам истории, имеющим отношение к историко-литератур¬
ной концепции критика. Из художественных произведений печатается
«одно — драма «Дмитрий Калинин» (в приложении к первому тому).
Не включены в издание «Основания русской грамматики» и другио
грамматические работы, полемические статьи и заметки преходящего ха¬
рактера, переводы, а также сочинения, принадлежность которых Белинскому
подвергается сомнению или не вполне твердо установлена. Вся эта, наиме¬
нее значительная, часть наследия не превышает четверти его объема.
Тексты Белинского расположены в издании в общем хронологическом
порядке, но с разделением внутри томов на статьи и рецензии и заметки.
Циклы статей о Державине и Пушкине, а также незавершенные теоретиче¬
ские работы, относящиеся к тому же отрезку времени, собраны в отдель¬
ном томе. Особый том занимают письма.
При расположении произведений выдерживается хронология первой
публикации, фиксируемая в большинстве случаев по цензурному разреше¬
нию. Произведения, не публиковавшиеся при жизни критика, расположены
«с учетом предполагаемого времени их написания.
По томам сочинения и письма распределяются следующим образом:
Том /. Статьи, рецензии и заметки 1834—1836 годов, а также (в прило¬
жении) драма «Дмитрий Калинин».
Том 11. Статьи, рецензии и заметки с апреля 1838 года по январь
1840 года включительно.
Том IIL Статьи, рецензии и заметки февраля 1840 года — февраля
1841 года.
Том IV. Статьи, рецензии п заметки марта 1841 года — марта 1842 года.
Том V. Статьи, рецензии и заметки апреля 1842 года — декабря
1843 года.
5
Том VI. Статьи «Сочинения Державина...», цикл статей о Пушкине,,
неоконченные работы: (Общее значение слова литература), (Общий взгляд
на народную поэзию и ее значение) и (О народных сказках).
Том VII. Статьи, рецензии и заметки декабря 1843 года — августа
1845 года.
Том УIII. Статьи, рецензии и заметки сентября 1845 года —марта
1848 года.
Том IX. Избранные письма 1835—1848 годов.
Тексты произведений Белинского воспроизводятся по последним при¬
жизненным публикациям (если они были) с обязательной сверкой со всеми
сохранившимися автографами, корректурами и текстами Собрания сочине¬
ний Белинского под редакцией Н. X. Кетчера, который пользовался не
дошедшими до нас рукописями критика. Обнаруженные в результате'
сличения указанных источников варианты явно цензурного характера вво¬
дятся в основной текст с соответствующей ссылкой на источники, а наибо¬
лее значимые разночтения указываются в текстологических комментариях.
Опечатки исправляются без оговорок. Редакционные конъектуры вводятся:
в текст в угловых скобках. Части статей, печатавшиеся в ряде номеров*
журнала, обозначаются в тексте и комментариях порядковыми римскими
цифрами в угловых скобках. Цитаты даются без исправлений по источни¬
кам — так, как они приведены Белинским.
Исходным принципом орфографического воспроизведения текстов
является следование теперь принятым нормам, зафиксированным в орфо¬
графическом своде 1956 года. Вместе с тем в тексте сохраняются все особые
написания, отражающие произносительные, морфологические и словообра¬
зовательные (но не орфографические) варианты слов, характерные для рус¬
ского литературного языка 1830—1840 годов и свойственные речевому
употреблению В. Г. Белинского. Сохраняются также колебания фоно-морфо-
логических и словообразовательных вариантов слов, поскольку эта вариант¬
ность также является часто стилистически не безразличной. Наконец, r
цитатах, приводимых Белинским, сохраняются особенности языка цитируе¬
мых авторов. Все эти принципы и правила предусмотрены лингво-текстоло-
гической инструкцией, служащей руководством при подготовке текстов, и
суммированы в «Лингво-текстологических основаниях издания», которые1
будут помещены в приложении к третьему тому.
Кроме общей статьи, вводящей читателя в эстетическое и литературно¬
критическое наследие В. Г. Белинского, издание сопровождается в каждом
томе краткой статьей, в которой анализируется содержание данного тома,
примечаниями к его произведениям и указателем имен и периодических:
изданий, упоминаемых в текстах и примечаниях тома.
В. Г. БЕЛИНСКИЙ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА *
1
Для понимания самого основного в деятельности В. Г. Белинского по¬
казательны слова самого критика, сказавшего кратко и точно: «Литература
расейская моя жизнь...»
Жизнь Белинского, прошедшая за письменным столом, была трудной,
упорной и постоянной борьбой правдоискателя, не страшившегося револю¬
ционного пути к свободе и счастью народа. Всего полтора десятилетия про¬
должалась его напряженная деятельность. Для России это было время, под¬
готовленное 1812 и 1825 годами. В период между событиями на Сенатской
площади и похоронами Белинского на Волковом кладбище с непреложной
ясностью определился центральный вопрос времени — крестьянский, вопрос
•о судьбах трудового народа, его месте и значении в жизни и в будущем
страны, наконец, в национальной культуре. В годы жизни Белинского все
отчетливее обнаруживалось перерастание первого, дворянского, этапа рус¬
ского освободительного движения в новый, разночинский, предтечей и пер¬
вым представителем которого он и стал. Крылатые слова о русской литера¬
туре как «революции до революции» в еще большей мере относятся к идей¬
ным устремлениям передовой общественной мысли. По словам В. И. Ле¬
нина, Россия выстрадала марксизм полувековой историей неслыханных
.мук и жертв, беззаветных исканий правильной революционной теории.
И Белинскому принадлежит одно из ведущих мест в этом поиске, в этой
•борьбе за передовой общественный идеал.
Сделанное Белинским для утверждения гуманистического содержания
•общественных, этических и эстетических идеалов русской литературы со¬
храняет непреходящее значение. Многое определено им в судьбах русской
литературы и в творчестве крупнейших писателей. Все сделанное критиком
проникнуто гуманистическим, освободительным пафосом.
Слова Белинского «я — литератор» были по существу синонимом дру¬
гого его же утверждения: «я в мире борец». Он видел в журнале трибуну
* © «Художественная литература», 1976 г.
7
новых идей, формирующих общественное мнение. Недаром, оценивая1
Н. А. Полевого, он отметил: этот литератор «показал первый, что литера¬
тура — не игра в фанты, не детская забава, что искание истины есть ее*
главный предмет». «Искание истины» — слова, которые могут быть девизом
жизни Белинского. Поэтому особенно тяжело переживал он постоянные
цензурные препоны. Временами выдержки не хватало, и тогда вырывалось:
«А черт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать»,—
фраза, в которой весь Белинский, его горячность, нетерпение и вера в исти¬
ну, которая нужна людям, задавленным самодержавием и крепостничеством^
И тут напрашивается необязательное с фактической стороны, но симптома¬
тичное по духу сопоставление: на одной немецкой литографии был изобра¬
жен Прометей, прикованный к печатному станку, терзаемый орлом с прус¬
ской короной на голове, — аллегория посвящена борьбе «Рейнской газеты»
с цензурой. В этой газете сотрудничал К. Маркс. Она была запрещена в ян¬
варе 1843 года. Трудно сказать, знал ли о литографии Белинский, но именно*
к этому времени относятся его слова о себе самом: «Я — Прометей в кари¬
катуре».
Рожденному говорить правду приходилось «сдерживать себя» и «при¬
кидываться кошкой», хотя хотелось «лаять собакой». Но и при всех жестких
ограничениях, несмотря на постоянные отметины красным цензорским ка¬
рандашом, то, что было напечатано Белинским, обнаруживало в каждой
строке убежденного мыслителя-борца, пропагандиста передовых идей, стра¬
стного полемиста и вдохновенного импровизатора. Он вкладывал себя цели¬
ком, без остатка в то, что делал, и потому сделанное несло неизгладимую»
печать его личности.
Друзья Белинского, и первый Станкевич, называли его неистовьш
Виссарионом, видя в нем человека увлекающегося, но фанатически пре¬
данного идее. Воспоминания о критике воспроизводят памятные его совре¬
менникам случаи, когда он, обычно тихий человек, в пылу спора «преобра¬
жался» и заставлял умолкать своего противника. Ему нужен был оппонент.
И тогда обнаруживался его дар оратора и трибуна. В споре его союзниками
были только истина, русская литература и будущее родины.
С предельной прямотой и откровенностью раскрывался Белинскиёг
в письмах к друзьям; здесь он мог, по его собственным словам, писать
порядочно лишь на основании своей натуры. И нельзя представить дея¬
тельность критика, его сложное развитие, быструю смену взглядов, их
взаимосталкивание, не понимая цельной его натуры. Белинский прошел
стремительное идейное развитие от идеализма к философскому материализ¬
му, от расплывчатых утопических представлений о народном благе к
революционным идеям и социализму. В его жизни не раз происходили
изменения в мировоззрении и совершалась решительная ломка прежних
взглядов.
Противники и недоброжелатели пытались представить развитие Бе¬
линского в виде смены заимствованных им идей, заводивших его из одного*
тупика в другой. Говорили о причудливой спутанности мировоззрения
критика, о противоречивости его взглядов, о несовместимости одних исход¬
ных принципов с другими, о переменчивости, неустойчивости суждений и
оценок, о немотивированных переходах и «перелетах» из крайности в-
8
крайность. Все это объясняли незнанием иноязычных работ в оригинале,
^непостоянством импульсивной натуры.
В действительности же крайности во взглядах Белинского — внешние
лриметы стремительного движения мысли, напряженных поисков истины.
Развитие Белинского — это ускоренное прохождение пути, проделанного
европейским общественным сознанием. Причем его мысль была обращена
лрежде всего и главным образом к русской действительности.
Мировоззрение Белинского — особый феномен. Аналогичного ему,
пожалуй, не найти ни в русской, ни в мировой литературе. Многочислен¬
ные сопоставления русского критика с Прудоном, Сент-Бёвом или Иппо¬
литом Тэном в целом несостоятельны, потому что никто из названных
европейских деятелей и критиков не проходил в своем развитии такого
трудного пути. Для Белинского именно борьба идей, их «выстраданность»
.значили бесконечно много. Не понимая этого, нельзя войти во внутреннюю
логику его взглядов, охватить подвижность, динамичность мировоззрения.
Белинский был в буквальном смысле слова диалектической натурой, пред¬
назначенной для поисков нового. Эти индивидуальные особенности его
как нельзя лучше отвечали требованиям эпохи, выражали и олицетворяли
движение русской общественной мысли. Примечательно, что сам Белин¬
ский видит в «неподвижности» признак бедности таланта, тогда как истин¬
ность и, следовательно, бессмертие усматривает он у «движущихся поэтов».
Мысль эта принципиальна в системе взглядов критика. Она направ¬
лена против «неподвижных мнений», мертвых догматов и метафизических
лрописей. Движение — форма Существования истины, и борьба за ее
жизнь — ее вечное обновление.
Плодотворны были страстные порывы критика, его полная самоотдача
и его «инстинкт истины». Герцен называл его «фанатиком», «человеком
экстремы» (крайностей) и тут же добавлял: «но всегда открытый, сильный,
энергичный». Ударение поставлено на определении «открытый». Человек
«экстремы», но открытый, обращенный к другим людям. Белинский возра¬
жает, спорит, не соглашается, но признает право противной стороны «на
уловленпе истины». И ошибались те, кто думал порой, что он упорствует
в крайностях. Убежденность его — неотделимая часть открытой и энергич¬
ной, «глубоко вникающей» натуры.
Говоря о своем временном «примирении» со славянофилами, которое
нарушилось стихотворением Языкова «К ненашим», Герцен отмечает, что
для Белинского всегда была ясна невозможность примирения. Самому Гер¬
цену сначала это было далеко не ясно. Еще в 1844 году он пенял Белин¬
скому, что тот не замечает положительного в славянофильстве, «не умеет
читать жизни будущего века славянского». И только затем, в «Былом и
думах», Герцен признает правоту Белинского: «Он слал нам грозные гра¬
моты из Петербурга, отлучал нас, предавал анафеме и писал еше злее
в «Отечественных записках». Наконец он торжественно указал пальцем
против «проказы» славянофильства и с упреком повторил: «Вот вам они!»
Мы все понурили голову. Белинский был прав!..»
«Его можно любить или ненавидеть, — констатировал Герцен в дру¬
гом месте, — середины нет. Я истинно его люблю. Тип этой породы —
Робеспьер. Человек для них — ничего, убеждения — все».
9
На словах «человек... — ничего, убеждения — все» следует остановиться
особо. Собственно говоря, это цитата из Белинского. Он повторяет это
в письмах и Герцену и Боткину. Однако вскоре решительная поправка
вводится в прежнее суждение. «Все общественные основания нашего-
времени требуют, — писал критик в начале 1841 года, — строжайшего
пересмотра и коренной перестройки... Пора освободиться личности челове¬
ческой». И в другом месте: «Да будет проклята всякая народность, исклю¬
чающая из себя человечность».
Возникает внутреннее столкновение приведенного выше тезиса и
антитезиса, которое взывает к синтезу. Резкий до односторонности критик
стремился в конечном счете осознать и другую сторону предмета осмысле¬
ния. И тогда за противоречиями и непоследовательностью, за «переско¬
ками» от тезиса к антитезису обнаруживается общее направление движе¬
ния, процесс кристаллизации многогранной истины, постижения самой
действительности. Белинский писал: «...кантисты не хотели видеть ничего*
великого в Фихте, фихтеисты с ироническою улыбкою смотрели на Шел¬
линга, а шеллингисты в Гегеле видят пустой призрак». Сам он ощущал
потребность объективной научной логики в развитии философских идей.
Но даже пребывание «в крайности», «в односторонности» не проходило'
бесследно, и подчас непрямой путь приводил критика, а вместе с ним и:
его читателей, на вершину, с которой раскрывались далекие горизонты.
Литературная деятельность была для Белинского средством формирования
общественного мнения, влияния на народное самосознание. В литературе
он видел выражение духовных сил народа, воплощенно его гения, его*
идеалов.
2
Виссарион Григорьевич Белинский родился 30 мая (И июня) 1811 го¬
да в Свеаборге в семье флотского лекаря. Ему пришлось хлопотать всю
жизнь о признании за ним прав «дворянского достоинства», выслуженного
отцом. Необходимые бумаги приходят лишь незадолго до смерти.
Жизненный путь Белинского — путь разночинца, мыслящего проле¬
тария, провозвестника революционно-демократического этапа русского-
освободительного движения. Собственно говоря, его жизнь была непрекра-
щающимся конфликтом с рутиной официальной иерархии, с казенным
патриотизмом, с реакционными взглядами.
Годы учения Белинского начинаются с Чембарского уездного учили¬
ща (1822—1824 гг.), а затем продолжаются в Пензенской гимназии (1825—
1828 гг.). Будущий критик учится в классе с Николаем Карыжиным, вос¬
питанником Н. А. Радищева, сына автора «Путешествия из Петербурга в
Москву».
В годы учения Белинский жадно читает Карамзина, Дмитриева, Су¬
марокова, Державина, Хераскова, Петрова, Крылова, знакомится с текущей
журналистикой. Белинский неоднократно будет вспоминать первое знаком¬
ство с поэзией Пушкина. Стихи поэта в тиши уездного города слышались
отовсюду, подобно «шуму волн» и «журчанию ручья», — сравнения, принад¬
лежащие Белинскому, но в них скрытые цитаты из «Ночи» и «Цыган»*
10
Такие вкрапления постоянно встречаются в статьях и письмах критика.
Стихи творца «Онегина» вместе со стихами Лермонтова и Кольцова —
поэтическая атмосфера, в которой он жил, думал, писал.
В Пензе юноша сделался страстным театралом и оставался им до
конца жизни. Одна из ранних статей критика посвящена игре Караты¬
гина, годы спустя — целых три месяца проведет он в путешествии-турне
ло югу России со знаменитым Щепкиным. Для его бенефиса напишет
пьесу «Пятидесятилетний дядюшка, или Странная болезнь». И, наконец,
чуть ли не последней написанной им страницей будет некролог Мочалову,
потрясшему его в роли Гамлета.
На сцене перед Белинским представал воочию мир искусства, а в нем
«весь мир». И не от театра ли пошло удивительно конкретное восприятие
критиком прочитанного? Впервые познакомившись вместе с пензенским
своим учителем М. М. Поповым со сценой «Корчма на литовской границе»
из «Бориса Годунова», Белинский, уронив книгу, закричал: «Да это живые;
я видел, я вижу, как он бросился в окно!»
Попав в Москву — город, разжалованный Петром I из царских столиц
и произведенный, по словам Герцена, нашествием Наполеона в столицу
■народа русского, восемнадцатилетний Белинский знакомится с театрами,
библиотеками и музеями. В частности, он смотрит в Большом театре
«Разбойников» Шиллера с несравненным Мочаловым в роли Карла Моора.
Белинский сдал вступительные экзамены и был принят на словесное
^отделение Московского университета. Пребывание в университете (1829—
1832 гг.) стало для него целой эпохой.
Первые шаги на жизненном поприще всегда показательны. У Белин¬
ского сразу проявилось одно из удивительнейших качеств: почти мгновен¬
ная реакция на происходящее, умение схватывать и перерабатывать глав¬
ное. Не прошли для него бесследно ни лекции М. Г. Павлова, прививав¬
шего интерес к философским вопросам, ни А. Ф. Мерзлякова, читавшего
.курс красноречия и поэзии. Всеобщий энтузиазм вызывали в то время
блестящие лекции молодого профессора Н. И. Надеждина. Позднее, уже
после пребывания Белинского в университете, он знакомится с курсом
лекций теоретика и историка литературы С. П. Шевырева, только что вер¬
нувшегося из Италии.
Несомненное и, пожалуй, еще более заметное воздействие на Белин¬
ского оказала текущая литература и журналистика начала 30-х годов
(деятельность Н. Полевого, Н. Надеждина и, конечно, Пушкина — публи¬
циста и критика).
Много значила для него и общая атмосфера студенческого содруже¬
ства. На словесном отделении учились Лермонтов, Станкевич, Огарев, Гер¬
цен, Красов. Зачисленный на казенный кошт Белинский живет в универ¬
ситетском общежитии в комнате под «одиннадцатым нумером». Здесь соби¬
раются студенты. В этом своеобразном дискуссионном клубе спорят о
классицизме и романтизме, обсуждают переведенную М. Б. Чистяковым
«Теорию изящных искусств» К.-Ф. Бахмана, по очереди читают собственные
литературные опыты.
Белинский — постоянный участник литературных обсуждений, теат¬
ральных вечеров. В 1831 году он ознакомил слушателей литературных
И
чтений со своей антикрепостнической по духу и романтической по харак¬
теру драмой «Дмитрий Калинин». Юношеская пьеса — своеобразный пролог
дальнейшей его литературной деятельности.
Нетрудно представить впечатление от драмы, написанной «со всем
жаром сердца» и «пламенной любовью к истине» и повествующей о «кре¬
постнической тирании», когда она легла на стол цензоров — профессоров-
университета, не оправившихся от потрясений, вызванных все еще
памятной отправкой в солдаты студента Полежаева (за антисамодержав-
ные выпады в поэме «Сашка») и совсем недавней расправой с Н. П. Сун-
гуровым, организовавшим революционный кружок студентов. Рассмотрение
последнего дела тянулось как раз в годы учения Белинского. Сунгуров, а
также студенты Я. И. Костенецкий (знакомый Станкевича, Герцена и Ога¬
рева), Ю. П. Кольрейф, П. А. Антонович, Ф. П. Гуров и др. были признаны
виновными в «расположении ума, готового прилепиться к мнениям, про¬
тивным государственному порядку».
Сочинение Белинского признается «возмутительным», направленным
против крепостного права, религии и нравственности. Литературный опыт
Белинского, свидетельствовавший красноречиво о расположении его ума,
мог кончиться для автора очень плохо. Однако, опасаясь снова привлечь
к себе неблагосклонное внимание верховной власти, университетское1
начальство замяло скандал. Опасный вольнодумец был оставлен на заме¬
чании. Нужен был подходящий случай. И на следующий год, после
продолжительной болезни Белинского, последовало его отчисление из уни¬
верситета «за малоуспешностью и по слабости здоровья».
Для Белинского начинается деятельность литератора-труженика,,
поденный журнальный заработок, корректурные работы, библиография,,
переводы с французского. Все это становится возможным благодаря лич¬
ному знакомству в начале 1833 года с Н. И. Надеждиным, редактором
журнала «Телескоп» и газеты (приложения к этому журналу) «Мол¬
ва». Вскоре Белинский занимает ведущее положение в надеждипском,
журнале.
Примерно в это же время Белинский сближается с кружком Стапке-
вича, группой единомышленников, увлекавшихся, н отличие от кружка
Герцена и Огарева (эти кружки возникли одновременно), не столько об¬
щественно-политическими, сколько общефилософскими, эстетическими,
религиозно-этическими проблемами. В этом кружке вырабатывались «об¬
щие воззрения на Россию, на жизнь, на литературу, на мир...». «Воззрения
большей частью отрицательные», по определению К. Аксакова, одного из-
участников этого кружка. Такому направлению мысли способствовал, ко¬
нечно, в большой степени Белинский.
Первое печатное его выступление как критика относится к 1831 году.
Рецензия студента-словесника на безымянную брошюру о пушкинском
«Борисе Годунове» состояла из нескольких десятков строк. Разбираемая1
брошюра и не заслуживала большего.
Знаменательно, что критическое поприще Белинского открывается
пушкинской темой; показательна и позиция критика. «Борис Годунов»
более шести лет пролежал под спудом, а власти предержащие, в лице
венценосного цензора поэта, как бы внушали: молчи и жди! Разноречиво^
12
мнение литературной критики. Были такие, которые выступали против
трагедии с непристойной бранью. Многие встретили ее сдержанно. Момент
«неопределенности» в отношении к Пушкину ощущается и в первом вы¬
ступлении Белинского. Но в целом его первая рецензия направлена в
защиту поэта против автора брошюры и ряда аналогичных оценок других
рецензентов, утверждавших, что талант Пушкина погас. Белинский с со¬
чувствием отзывается о статье Надеждина в «Телескопе», ибо только в ней
«Борис Годунов» был оценен по достоинству. А в следующем большом
критическом выступлении, в «Литературных мечтаниях» (1834), обратив¬
шем общее внимание на неизвестного критика, сказано: «Я лучше хочу
верить тому, что Пушкин мистифицирует «Библиотеку для чтения», чем
тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать,
что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше преж¬
них!»
Названные в подзаголовке «Элегией в прозе» «Литературные мечта¬
ния» по характеру своему стали первым манифестом подлинно художест¬
венной русской литературы.
В статьях, появляющихся в «Молве» из номера в номер, содержалось
еще нечетко сформулированное и пока не проясненное для себя, но реши¬
тельное требование самых высоких критериев для утверждения подлинной
литературы. Только настоящая, высокая в художественном отношении
литература и может занять подобающее ей место в жизни общества, войти
в определенное соотношение с общественной жизнью и жизнью народной.
И хотя в «Литературных мечтаниях» чувствуются отголоски лекций и
печатных суждений Надеждина, а также таких предшественников крити¬
ка, как А. Бестужев и Н. Полевой, и несомненно выразились мнения,
дебатировавшиеся в кружке Станкевича, самостоятельность позиции
Белинского в понимании основных проблем времени очевидна; особенно
примечательно его стремление организовать излагаемые взгляды в само¬
бытную систему. Многие идеи, в частности, о подлинном искусстве, его
народности, связи с обществом, возникли и высказывались по отдельности
уже в декабристской критике, обсуждались они и в современной Белин¬
скому периодике. Но суммировать их, привести в необходимую внутреннюю
взаимосвязь, понять их сцепление между собой, исходя из сущности
эстетической природы искусства и в этой связи поставить проблему
соотношения искусства с действительностью, его места и значения в жизни
общества предстояло Белинскому.
Суждение — у нас нет литературы — было порождено, конечно, общим
духом времени и выражало его. Белинский сразу же поднялся на громад¬
ную высоту, когда, отрицая литературу существующую, вместе с тем,
на примере творчества Пушкина, утверждал возможность достижения рус¬
ской литературой всемирных вершин художественности.
Надеждин еще до Белинского сказал: «У нас нет литературы», он же
говорил о «настоящем Парнасе», об «истинной поэзии»; это были верные,
но слишком общие суждения. В своих статьях о «юной» русской литературе
Надеждин ратовал за гениальное творчество, но фактически прошел мимо
творчества Пушкина. Белинский увидел художественные открытия перво¬
степенного значения в творчестве Пушкина и Грибоедова. Утверждение:
ia
литература русская в живом и непреходящем значении пошла с автора
«Бориса Годунова» и «Евгения Онегина» — выдержало проверку временем.
Белинский увидел в Пушкине творца великих произведений.
Происходит пересмотр самого понимания слова литература. Лите¬
ратура — не свод, не совокупность всего написанного, а лишь то, что от¬
мечено подлинной художественностью, то, что тяготеет к «зениту художест¬
венного совершенства». Литературное произведение должно быть, по Бе-
липскому, не только произведением искусства, но и отражать жизнь народа,
проникать в самые существенные стороны изображаемой действительности.
(I Пушкин для критика — такое совершенное выражение современного
мира, представитель современного ему человечества.
Можно обнаружить у молодого критика промахи, но гораздо сущест¬
веннее другое: пусть действительно еще с позиций, которые неоднократно
и радикально будут пересматриваться, пусть непоследовательно, в чем-то
в зависимости от общего уровня критической мысли, в чем-то наперекор
существующим мнениям, но именно в этом первом программном выступ¬
лении заложены были основы последующей его деятельности, его
фундаментальных положений: борьба за высокий художественный уровень
искусства, утверждение правды жизни как первоосновы творчества и
народности. Эти идеи, центральные для эстетики и критики зрелого Бе¬
линского, пройдя через все этапы его деятельности, в конце концов
приведут к принципам реалистического искусства.
Пушкин заметил «Литературные мечтания». Высказанные критиком
положения оказались созвучными тому, над чем раздумывал поэт, — суд
над современным состоянием литературы, переоценка литературных цен¬
ностей XVIII века, вопрос о роли подлинной критики в литературном
процессе и значении журналистики в решении стоящих перед литературой
задач.
Конечно, во многом и в историческом и в социальном плане между
Пушкиным и Белинским существовали глубокие различия. И отношение
Белинского к поэту было далеко не однозначным. Не все в Пушкине было
им «прочитано» (вспомним отрицательные отзывы об «Анджело», «Сказ¬
ках», прозе). Однако критик всегда отстаивал огромное значение поэта
для русской литературы.
В свою очередь, как вспоминает И. Панаев, в конце 30-х годов один
Пушкин, пожалуй, сознавал, что «недоучившийся студент», автор «Лите¬
ратурных мечтаний», статей о Гоголе и Кольцове займет вскоре почетное
место в истории русской литературы.
О мужании критика, быстром созревании его мысли и авторитетно¬
сти его мнения свидетельствовали последующие статьи — «О русской
повести и повестях г. Гоголя» и «Стихотворения Владимира Бенедиктова»,
написанные в 1835 году.
Если, как уже отмечалось, «Литературные мечтания» были своеобраз¬
ным манифестом, провозгласившим наступление века русской классической
литературы, то в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» содержа¬
лись хотя и самые общие, но впервые в России сформулированные принци¬
пы реализма. Рассуждая о Шекспире, Сервантесе, Гете, Белинский писал:
это—«поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности... Ее
14
отличительный характер состоит в верности действительности; она не
пересоздает жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее... отражает в себе, под
одною точкою зрения, разнообразные ее явления».
«Чтобы докончить характеристику того, что я называю реальною
поэзиею, — пишет далее Белинский, — прибавлю, что вечный герой, неиз¬
менный предмет ее вдохновений, есть человек, существо самостоятельное,
свободно действующее, индивидуальное, символ мира, конечное его
проявление, любопытная загадка для самого себя...» На решении данной
загадки, считает критик, и должно быть сосредоточено внимание «реаль¬
ной поэзии».
С позиции этих общетеоретических предпосылок им дана точная и
глубокая характеристика повестей Гоголя: «Простота вымысла, народ¬
ность, совершенная истина жизни, оригинальность...»
В дальнейшем принципы реализма были развиты и получили необхо¬
димое обоснование у зрелого Белинского, а позднее у Чернышевского и
Добролюбова.
Пока же в статьях о повестях Гоголя обозначены два типа творче¬
ства — «поэзия идеальная» и «поэзия реальная», а правда жизни в искус¬
стве поставлена в прямую связь с народностью искусства. На этом этапе
развития мысли Белинского народность есть верное изображение жизни
народа. И отсюда следует, что в этом качестве подлинное искусство проти¬
востоит и «светской» музе, поэтом которой Белинский склонен был считать
Баратынского, и «неестественной» романтически-вычурной поэзии Бене¬
диктова. Белинский ищет обоснования начатой юношеской драмой линии
«дикой вражды» к окружающей жизни. В «Литературных мечтаниях» и в
других выступлениях в «Молве» и «Телескопе» сказываются абстрактно¬
романтические представления об идеале жизни, который казался критику
абсолютным в своем значении и тем самым далеким от конкретных исто¬
рических условий.
Как известно, Фихте стремился сократить «разрыв» идеала и действи¬
тельности, но у него, субъективного идеалиста, дуализм преодолевался за
счет превращения жизни в призрак.
Белинский, в отличие от Фихте, стремился ориентировать подлинное
искусство на правду, бесстрашно взирая на жизнь как она есть. Гоголь
для него — «поэт жизни действительной». И как бы неопределенно в эсте¬
тическом п философском смысле это требование правды пока ни было, за
ним стоял демократический протест критика. Гоголь обращен к жизни, не
только к поэтическому в ней, но и к обыкновенному, низкому, и это рас¬
ширяет диапазон литературы даже в сравнении с художественным миром
Пушкина.
С позиций зарождающейся реалистической эстетики, требовавшей
правдивого изображения жизни, истинности поэтического в искусстве,
Белинский выступает против романтического и выспреннего стиля Мар-
линского и претенциозной поэзии Бенедиктова.
Неестественность положений, неправдоподобие событий и пережива¬
ний, напыщенность языка стояли на пути правдивого искусства. И на них
было направлено острие критики. Для характеристики господствовавшей
тогда ситуации достаточно сказать, что слава Бенедиктова затмевала имя
15
Пушкина. У А. Вельтмана в повести «Приезжий из уезда, или Суматоха
в столице» в одной из сцен запечатлена эта общая атмосфера: «явился
поэт, перед которым ничто Пушкин». Не только Вельтман, но и Жуков¬
ский, Вяземский и Грановский относились благосклонно к любимцу пуб¬
лики. Жена Герцена, женщина умная и самостоятельная, пе обходилась
без бенедиктовских строчек в своих письмах.
Романтическая эстетика, исходя из антагонизма идеала и действи¬
тельности, противопоставляла высокое в искусстве низкому. Вслед за
Пушкиным критик ощутил истинность высокой простоты и заговорил о
подлинной художественности как высоком призвании искусства.
3
В конце лета 1836 года Белинский приезжает на несколько месяцев
в Прямухино, имение Бакуниных, подружившись по кружку Станкевича
с Михаилом Бакуниным. Здесь он сближается с братьями и сестрами
Бакунина и сохраняет затем с ними дружеские отношения. Здесь он отды¬
хает душой в кругу друзей, участвует в философских беседах, полон
новых идей и замыслов. «Прямухинская гармония» — таково первое его
впечатление, породившее желание видеть подлинную действительность в
идеальной жизни ума и сердца. Возникает романтическая влюбленность
в одну из сестер Бакунина — Александру. Бурно развивается дружба с
Михаилом. Кипят молодые чувства, кипят споры вокруг культа фихтеан¬
ского идеального «я». Это период идейного роста. И все-таки это период,
который можно охарактеризовать как «прекраснодушный» (позже — из¬
любленное словечко Белинского с уничижительным оттенком) романтизм,
протестантство, фихтеанство, перетолкованное в «робеспьеризм», разделяе¬
мый, видимо, бакунинской молодежью; чисто словесно отсюда — романти¬
ческая взвинченность любви и дружбы с объяснениями и выяснениями
отношений, культ субъективности и ее свободы, громкие чтения и обсуж¬
дения статей (в частности, работы Белинского «Опыт системы нравствен¬
ной философии» А. Дроздова). В этой статье Белинский в завуалирован¬
ной, но прозрачной форме излагал свои радикальные взгляды, повергшие
в ужас главу семейства — А. М. Бакунина.
Н. Надеждин в отсутствие Белинского сильно сокращает статью и
^переносит ее из номера со статьей Чаадаева в другой, тем самым спасая
Белинского от тяжелых последствий. Действительность, от которой отвлек¬
лись участники прямухинского кружка, грозно и властно напоминает о
•себе.
Пока Белинский занимался философскими вопросами в Прямухине,
полный замыслов, обдумывая новые работы, в обеих столицах назревают
события, имевшие большие последствия и для критики, и для русской
общественной мысли. Выход в свет пятнадцатого номера «Телескопа» за
1836 год с «Философическим письмом» Чаадаева вызвал бурную реакцию.
Герцен сравнил появление письма Чаадаева с выстрелом в глухую ночь.
Оно «разбило лед после 14 декабря». Немедленно последовала «всепод¬
даннейшая записка» министра Уварова и резолюция о закрытии журнала.
16
В ход пошло «высочайшее повеление» — цензор, пропустивший журнал,
отстраняется от должности. Надеждин выдворяется на жительство в Усть-
Сысольск, над Чаадаевым устанавливается «медико-полицейский надзор»,
на квартире Белинского производится обыск. Друзья предупреждают его
об этом. И Белинский, предварительно разобрав бумаги, которые взял
с собой, едет в Москву. Прямо от заставы его препровождают к москов¬
скому полицмейстеру. Досмотр вещей, естественно, ничего не дает.
Общая обстановка становится все мрачнее.
Узнав о закрытии «Телескопа», Пушкин медлит с отсылкой своего
ответа Чаадаеву по поводу его «Философического письма».
После запрещения «Телескопа», высылки Надеждина Белинский
снова, как и после ухода из университета, остается без дела и без средств
к существованию. Из безвыходного финансового положения не спасают
ни написанные им «Основания русской грамматики», ни преподавание в
Константиновском Межевом институте. Его и без того плохое здоровье
подорвано напряженными занятиями и невзгодами. Друзья собирают ему
средства, чтобы можно было поехать лечиться на Кавказ, так как в
поездке за границу власти ему отказывают.
В Пятигорске состоялась первая встреча Белинского с Лермонтовым.
(Оба они учились в университете, но, скорее всего, не были знакомы.)
Поэт-протестант, высланный из Петербурга за стихотворение «На смерть
Поэта», и критик, вступивший в период «примирения» с действительностью,
не нашли тогда общего языка.
Белинский стоит в начале длинной и тяжелой дороги. Начинается,
как он сам будет говорить,, «выход из детства в мужество», «великий
переворот». Предстоит трудная внутренняя работа и поиски прочной
опоры в действительности, какая бы она ни была.
7 апреля 1837 года он пишет Д. П. Иванову, что вся надежда России
на просвещение, а не на перевороты. Это провозвестие «примирения» с
действительностью, но вместе с тем и взгляд просветителя, пропагандиста
передовых идей. Скептицизм Белинского здесь в чем-то сродни грибоедов-
скому и пушкинскому скептицизму по отношению к романтическому
энтузиазму декабристов. Критик рвет с «отвлеченностью и идеальностью».
Это бунт не против идей и идеалов вообще, а скорее против фантастиче¬
ских идей и идеальных фантазий:
«Человек, который живет чувством в действительности, выше того,
кто живет мыслию в призрачности... но человек, который живет мыслию...
в действительности, выше того, кто живет в ней только своею непосред-
ственностию».
В это время происходит знакомство Белинского сначала с эстетикой,
а затем и философией истории Гегеля; с первой его знакомит М. Катков,
со второй — М. Бакунин.
Переход от романтически-идеального неприятия жизни к приятию
действительности, перелом, сопровождавшийся переориентацией принципов,
переоценкой ценностей, приходится па конец московского и начало
петербургского периодов жизни и деятельности критика.
Подавление прекраснодушно-романтического протеста против действи¬
тельности ведет, казалось бы, к полному философскому примирению кри¬
17
тика с этой беспощадной действительностью. «В общей жизни духа нет
зла, но все добро... Я понял, что всякая ненависть, хотя бы то и ко
злу, есть жизнь отрицательная, а все отрицательное есть призрак, небы¬
тие». Но это не капитуляция критика перед злом, перед каскадом неблаго¬
приятных событий и фактов. На первое место выходит идея необходимо¬
сти, за которой созревала мысль о закономерном развитии и о диалектике
развития. Белинский со свойственным ему жаром души ищет у корифея
европейской мысли ответы на мучительные для него вопросы, и преждо
всего принцип, способный противостоять произволу и случайности. Теперь
зо всей наготе предстает перед ним «прекраснодушный» идеализм недав¬
него прошлого, который не приносит счастья ни исповедующим его нату¬
рам, нп окружающим, ни тем более угнетенному и страждущему
человечеству.
«Примирение» Белинского было одним из сложных и мучительных
этапов его жизни. Но он вышел из этого испытания не раздавленным
и порабощенным, а готовым к борьбе за передовые общественные идеалы,
уже с новым, несравнимо более высоким и зрелым пониманием жизни.
Учение Гегеля подготовило его к работе над целостной системой
взглядов, способной охватить реальную сложность противоречивой действи¬
тельности. От однозначного истолкования Гегеля он вместе с Герценом
движется к пониманию революционного содержания диалектики. Но все
это произойдет позже. В начале знакомства с философией Гегеля главным
для Белинского было стремление найти объективную необходимость
действительности.
«Я понял идею падения царств», — пишет Белинский и тут же добав¬
ляет: «Я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка
и меча», как «нет произвола, нет случайности». Белинский еще не осозна¬
вал всех теоретических аспектов, которые следуют из этого, но со свойст¬
венной быстротой реакции он принимает то, что внутренне ему близко —
неприятие произвола, так страшно показавшего себя в конце 1836 — начале
1837 года. Мучительный вопрос отношения к николаевской действитель¬
ности, по существу, не был разрешен для Белинского его «примирением»,
как думали некоторые исследователи, а только загнан внутрь. Нужен был
лишь внешний толчок, чтобы взорвать формулы «примирения» и подтолк¬
нуть критика к стремительному развитию. Год петербургской жизни
убедил Белинского в том, что гегелевское понятие «разумной» действи¬
тельности содержит в скрытом виде отрицание «неразумной» действитель¬
ности. Провозглашение же силы правом таило в себе право народа на
революцию. И не случайно социальный инстинкт охранителей безошибочно
привел их к образованию в России антигегелевского фронта, в который
вошли Филарет и Уваров, Булгарин и Греч.
«Примирение» с действительностью сопровождалось, однако, у Белин¬
ского, не знавшего компромиссов, ложными политическими, философскими
и эстетическими выводами. Не без основания друзья Белинского видели
в статьях критика бородинского цикла налет «монархического экстаза»г
который имел в конечном счете мало общего с теоретическим содержанием
гегелевских положений. И все же нельзя забывать, что, еще находясь ъ
18
апогее «примирения», Белинский высказался против абстрактной мысли,
взятой в отрыве от живого содержания.
Интерес к философии проявился у Белинского рано. По свидетель¬
ству скупого на высокие оценки В. Одоевского, Белинский принадлежал к
«высшим философским организациям»; о том же говорил и П. Анненков,
а позднее и Г. Плеханов.
Белинскому необходимо было самостоятельно пробиться к глубинным
сущностям философии Гегеля. То или иное положение должно было быть
не только «продумано» им со всех сторон, но и «пережито» как свое соб¬
ственное.
Таким процессом «осмысления», «переработки» гегелевской философии
и эстетики и было очень интенсивное участие критика в «Московском
наблюдателе» (с марта 1838 г. по июль 1839 г.). После выхода Погодина
и Шевырева из редакции этот журнал становится органом кружка Станке¬
вича. Критик прекрасно понимал потребность в направлении и физионо¬
мии для печатного органа. Безоговорочное «примирение» и гегельянство
не могли поднять журнал. На философской почве нарастает расхождение
критика со Станкевичем и Грановским, в сфере социально-политической —
с Герценом и Огаревым. И недоброжелатели и друзья Белинского отмечали
перегруженность журнала философским материалом, отвлеченность фило¬
софской проблематики. К тому же кредит и репутация издания были
безнадежно подорваны прежней редакцией. В короткие сроки не удается
поправить положение журнала. Несмотря на нечеловеческие усилия и
упорный труд Белинского, «Московский наблюдатель», лишенный читатель¬
ской аудитории, прекращает свое существование.
От преподавания в Межевом институте Белинскому приходится отка¬
заться. В сложившихся обстоятельствах ему остается лишь возобновить
прерванные ранее переговоры с петербургскими «Отечественными запис¬
ками». Через И. Панаева была достигнута договоренность с А. Краевским,
и критик осенью 1839 года расстается с московскими друзьями Боткиным,
Грановским, Кетчером, Бакуниным, Щепкиным.
4
С октября 1839 года начинается петербургский период жизни Белин¬
ского. Переезд из Москвы в столицу Российской империи подтолкнул
назревавшую перестройку взглядов критика. Еще в Москве Белинский
написал знаменитые слова Боткину: «объективный мир страшен», — кото¬
рые как раз и свидетельствуют о развитии мысли критика через внутрен¬
нее противоречие и противоборство. Приведенные слова сказаны им за¬
долго до отхода от «примирения», еще до того, как ему были переданы
слова Станкевича, написанные последним в одном из писем из-за границы,
о том, что нельзя проходить мимо диалектического понимания гегелевских
положений, согласно которым в разумную действительность не входит
«непосредственность внешнего бытия», в котором выражает себя не только
необходимость, но и случайность, а следовательно, и неразумность многого
пз того, что есть в жизни. К близкому выводу пришел и Огарев в более позд¬
19
ней переписке с Герценом: «Не все, что действительно, — разумно, но ра¬
зумное должно быть действительно».
Мысль Белинского, горячо спорившего и с Огаревым и с Герценом по
этим вопросам, тем не менее двигалась в этом же направлении. Получив
сведения о тяжелых переживаниях Гоголя при возвращении в Россию, Бе¬
линский солидаризируется с ним: «родная действительность ужасна». Даже
в самый разгар гегелевских штудий Белинский говорил о «призрачной дей¬
ствительности» как не истине окружающего человека мира. В подобных
суждениях в скрытом виде содержалось уже отрицание «неразумной» дей¬
ствительности.
Говоря о «примирении» критика, следует всегда иметь в виду логику
его идейных исканий, сопровождавшихся освобождением от абстрактного
«мертвого мышления», от анархии ума, попавшего в плен субъективизма.
Если для Гегеля абсолютная идея была монистическим принципом и
в его системе совершалось отождествление понятия и сущего, то в «идее
жизни», заимствованной Белинским, обнаруживается трещина. Из пошат¬
нувшихся представлений возникают идея и мир, с последующим перемеще¬
нием центра тяжести на мир, на жизнь в ее первичном и определяющем
значении. Тем самым под сомнением оказывался отвлеченный взгляд на
историю. Конечно, «идея падения царств» еще не равна исторической необ¬
ходимости, но это подготовка к ее пониманию. В период «безоговорочного
примирения» Белинский подходит к самостоятельному пониманию «велико¬
го» слова — действительность. Сущее обусловлено объективным положением
вещей: «...как невозможно сочинить языка, так невозможно и устроить
гражданского общества, которое устроится само собой, без сознания и ве¬
дома людей». Или еще более глубоко и вразрез с идеалистической доктри¬
ной: «Разум не создает действительности, а сознает ее». Таков смелый
прорыв мысли вперед, существенный вывод впрок.
Впоследствии критик решительно откажется от политических сужде¬
ний и выводов, которые он делал из однозначно понятой философии Гегеля.
Он проклянет «гнусное примирение с гнусной действительностью». Однако
было бы упрощением понимать позицию Белинского однозначно. Герцен,
расходясь на этой почве с Белинским, никогда не порывал с ним. То же
относится к Грановскому, который, осуждая «тотальное примирение», пре¬
красно понимал неоднозначность позиции критика, мучительность внутрен¬
ней работы его мысли и публично вступался за него. Он защищал его от
вульгарных обвинений, согласно которым отождествлялись взгляды кри¬
тика с позициями «охранителей».
Многие исследователи не видели сложности позиции Белинского в пе¬
риод его «примирения» с действительностью. Не следует забывать при этом
аналогичные во многом интерпретации «примирения» Пушкина с царским
двором в 30-е годы. Белинский, не находя доводов в споре с Герценом,
прочитал ему пушкинскую «Бородинскую годовщину». Перекличка суще¬
ствует в отношении Белинского и Пушкина к эпохе Петра, его реформам
и личности. Общий «просветительский» смысл вкладывают поэт и критик
в утверждение: «Россия нуждается в просвещении».
В конце московского периода и в первые месяцы петербургской жизни
Белинского выходят статьи, излагающие его общефилософское кредо. Полу^
20
ченпые выводы он прилагает к сфере эстетики. Известно, что отрицание jr
Гегеля выступает необходимым моментом бытия мирового духа. В этом во¬
просе критик был менее диалектичен, чем немецкий философ. Но в чем-то
он шел дальше Гегеля, сознавая это: «В горниле моего духа выработалось
самобытно значение великого слова действительность». За этим признанием
действительности — утверждение ее объективности, независимости от чело¬
веческой воли и представлений, осознание ее как первоосновы человече¬
ского действия. Подспудно внутри традиционных категорий классической
немецкой философии возникают прорывы к идеям, выводящим за рамки
изучаемой критиком философской системы. «Великое слово» действитель¬
ность — вдохновляет его, когда он утверждает, вступая в конфликт с осно¬
вополагающим принципом идеализма: «Для меня истина существует не в
знании, не в науке, а в жизни». Или еще более энергично: «Действитель¬
ность, действительность! Жизнь есть великая школа! — восклицаю я... Чув¬
ствую, что со дня на день глубже понимаю действительность и глубже
вхожу в нее сам». В это время рождаются точные, хотя и требующие внут¬
реннего переосмысления афоризмы: «Действительность — вот пароль п ло¬
зунг нашего века, действительность во всем — ив верованиях, и в науке,,
и в искусстве, и в жизни». И потому «новейшая поэзия есть поэзия дей¬
ствительности, поэзия жизни».
Вместе с тем ошибочная сторона взглядов Белинского сказалась на
конкретных эстетических и литературно-критических суждениях. По ло¬
гике вещей произошел отказ от идеала, от должного, от активного дей¬
ствия, потому что это представляется критику отступлением от признания
жизни как она есть. В статьях этого периода возникает тезис об объектив¬
ности таких писателей, как Гомер, Шекспир, Гете, и получают самую рез¬
кую оценку Шиллер, Ж. Санд, Грибоедов.
Идея объективности провозглашается решающим условием творчества.
Она прослеживается критиком в статье о «Горе от ума» Грибоедова. Ос¬
новным критерием для Белинского становится «целостность» и «замкну¬
тость» литературного произведения. В художественном смысле «замкну¬
тость» — это «завершенность», свойство, необходимое для произведения,
искусства. Но наряду с этим смыслом «замкнутость» означала во время
«примирения» такое всеприятие действительности, которое выступает свое¬
образным «невмешательством» писателя в изображаемое. Вслед за Гегелем
Белинский считает необходимым не всякое явление, но такое, которое име¬
ет причину в самом себе, обусловлено внутренней каузальностью. Выход
художника за положительное содержание действительности — это выход из
сферы «конкретной идеи», нарушение принципа приятия разумной действи¬
тельности и нарушение художественного «тоталитета».
Белинский был неправ не только в принципиальной постановке про¬
блемы (отрицание в искусстве якобы лишь момент приятия сущего и, сле¬
довательно, примирения с ним), но и в конкретном анализе, напримерг
«Ревизора» Гоголя. Он не захотел увидеть, что приезд в 'финале комедии
«истинного ревизора» есть не просто «замыкание» произведения в ситуа¬
ции, данной в завязке, и, следовательно, не снятие реальной остроты кол¬
лизии в анекдотическом разрешении ситуации, а такое возвращение к на¬
21-
чалу, которое означает выход за рамки этой ситуации прямо в жизнь.
«Всем досталось, а мне больше всех», — слова, которые приписывали Нико¬
лаю I, будто бы сказавшему их после представления комедии, — свидетель¬
ствуют об этом весьма красноречиво.
«Замкнутость» у Белинского тогда означала идеалистическое тождество
объекта и субъекта и в философской мысли, и в искусстве. Практически
при анализе искусства это повело к развитию Белинским в статьях о Фон¬
визине и Загоскине тезиса Ретшера. В статье Ретшера «О философской
критике художественного произведения», переведенной Катковым и поме¬
щенной в «Московском наблюдателе», искусство рассматривалось лишь как
инобытие «чистого мышления», а произведение — как воплощение идеи.
Порвав с идеалистической интерпретацией мира, человека и искусства, Бе¬
линский назовет Ретшера немецким Шевыревым.
Опровержение исходных постулатов «примирения» шло изнутри фи¬
лософского метода Гегеля (предполагавшего отрицание как необходимый
момент саморазвития духа), от самой жизни («родная действительность
ужасна»), от друзей — Герцена, Станкевича, Грановского, Сазонова, и, на¬
конец, что особенно существенно для нас, от современной критику русской
литературы.
«Выздоровление» — как назвал критик освобождение от крайностей
«примирения» — было продиктовано обращением к действительному поло¬
жению вещей, к жизни, к творческому опыту Гоголя и Лермонтова.
По приезде в Петербург Белинский дважды встречался с Гоголем,
часто и помногу беседовал с Герценом, познакомился с П. В. Анненковым,
несколько позже с Тургеневым. Примечательной стала вторая встреча с
Лермонтовым. Собственно говоря, в ордонанс-гаузе, где поэт сидел в апреле
1840 года в ожидании царской конфирмации по делу о дуэли с Барантом,
наконец состоялось подлинное знакомство критика и поэта. Встреча с Лер¬
монтовым произвела неизгладимое впечатление па Белинского: «Глубокий
и могучий дух!» Они говорили о Пушкине, Гете, Байроне, много спорили.
Белинского порадовало, что у Лермонтова в «охлажденном и озлобленном
взгляде на жизнь» таятся «семена глубокой веры» в человеческое достоин¬
ство. В Лермонтове открылась Белинскому возможность соединения жизне-
утверждения с беспощадным отрицанием призрачных форм жизни. Он счи¬
тает теперь, что без идеи отрицания история человечества превратилась бы
в стоячее болото. Показательно, что через два дня после встречи с Лер¬
монтовым критик признает ошибочность своих статей бородинского цикла.
Вспоминая свои самые ранние «примирительные» статьи, Белинский,
•однако, думает, что идея их (принцип объективности) была «верна в своих
основаниях» и необходимо их «дополнить», соединить в них найденное с
идеей отрицания. И все дальнейшее развитие взглядов критика идет в этом
направлении. Начинается новый трудный этап выработки диалектики ут¬
верждения и отрицания, революционного утверждения нового обществен¬
ного идеала.
В концепцию действительности Белинского входит идея отрицания
всего «гнусного» в жизни, противоречащего «разумным потребностям че¬
ловеческой натуры». Происходит прорыв мысли из ограниченного тождества
верности, истинности понимания жизни и обязательного приятия того, что
22
есть. В «разумной» действительности, в ее исторической данности и фило¬
софской первичности отныне улавливается «неразумное», подлежащее-
отрицанию с позиций, продиктованных самой же жизнью.
С творчеством Лермонтова связан отход критика от недооценки субъ¬
ективного, критического содержания искусства и утверждение его челове¬
ческого, гуманистического начала. В статье «Герой нашего времени» речь
идет о замкнутости произведения, но понимаемой уже как единство мысли
и ощущения. Личностное начало в творчестве, подавляемое критиком на
протяжении более двух лет, получает право на существование. «Единство
ощущения» в «Герое нашего времени» слагается из эмоционального лермон¬
товского пафоса горечи, злости и рефлексии, которая предъявляет свой
счет «промотавшимся отцам». Рефлектирующая личность — полноправ¬
ный герой литературы. Таковы новые моменты во взглядах критика, под¬
сказанные творчеством Лермонтова, для лирического героя которого нет
нравственного успокоения в том, что его окружает. Но рефлексия должна,,
опираясь на объективное содержание, отправляться от него и возвращаться
к нему: «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятель¬
ности нет жизни». И в статье «Стихотворения Лермонтова» происходит пе¬
реосмысление: субъективность, рефлексия оказываются ведущими нача¬
лами, отличающими поэзию нового времени от созерцательности и объек¬
тивности древних: греческий мир, по Белинскому, не может нам дать
полного удовлетворения, и порождение нового времени, одно из великих
его художественных открытий — рефлектирующая, субъективная поэзия.
Термин «рефлексия», заимствованный из философии, стал у Белинского-
обозначением «переходного состояния духа, в котором для человека все
старое разрушено, а нового еще нет...». Это чувство анализа и самоанализа:
«верна ли, истинна ли эта мысль, действительно ли чувство, законно ли
намерение, и какая их цель, к чему они ведут».
Так развитие теоретической мысли Белинского опирается на искус¬
ство. Это помогает ему глубже заглянуть в творческий опыт современной
литературы: ложной «рефлексии» И. Клюшникова и В. Красова Белинский
противопоставляет могучую поэтическую лермонтовскую рефлектированную
лирику. В работах Белинского поэтическая рефлексия выступает синони¬
мом познавательного и нравственного устремлений, художественной диа¬
лектикой объективно-субъективных отношений внутри образной системы
искусства.
Читая запрещенного «Демона» Лермонтова и размышляя над его об¬
разом, Белинский приходит к мысли, что Демон — воплощение идеи отри¬
цания — служит людям и человечеству. Он — движущая сила человеческого
духа и, что особенно важно, истории. Смерть старой истины не означает
отказа от истины вообще. Вывод, чрезвычайно характерный для критика.
Обращаясь к «Демону» Лермонтова, он обнаруживает сразу же существен¬
ное различие между «Демоном» Пушкина и Лермонтова. Пушкинский де¬
мон воплощает неконтролируемые разрушительные силы: «И. ничего во всей^
природе благословить он не хотел»; у Лермонтова — это «избранный гость»,,
у которого «с небом гордая вражда». Он — продолжение пушкинского Де¬
мона. Но, в отличие от последнего, того, кго во всей природе не хочет ни¬
23^
чего принять, лермонтовский Демон хотя и отрицает все сущее, но не
-бесплодно. В нем за отрицанием скрыто созидание, за неприятием суще¬
го — требование другого, нового строя жизни.
Мятежная, требовательная лермонтовская субъективность позволила
Белинскому увидеть диссонансы и противоречия человеческого духа, при¬
зывающего к действию, к активности в объективном мире.
Противоречирость, даже несовместимость многих суждений, посылок,
оценок и их изменчивость у Белинского — вся эта динамика его мысли,
отнюдь не хаотическая, а выстраданная, пережитая, обусловленная страст¬
ной личностью критика, была необходима, чтобы вместо гегелевской «абсо¬
лютной цели», будто бы уже осуществленной и требующей признания,
возникло убеждение в законности борьбы и за человеческое счастье, и за
счастье человечества.
5
Вырвавшись из «примирения» с действительностью, критик продол¬
жает верить в жизнь, но ищет прочного основания для «непримиримых
страстей», бушующих в ней. Идеал нужен, но предстоит его связать с суб¬
станцией, с реальностью. И, проходя через те круги реальности, которые
раньше оставались вне поля зрения, Белинский поймет, что любовь его
«к родному, к русскому стала грустнее», и по-новому ощутит внутреннюю
близость свою к Гоголю с его стремлением послужить родной земле бес¬
пощадной критикой мира «мертвых душ».
Видеть новое, понимать его смысл и масштабы — счастливая черта
критика. Белинский, пожалуй, был первым после Пушкина, кто разглядел
в Гоголе «необыкновенный талант». Когда «Нос» Гоголя был отвергнут ре¬
дакцией «Московского наблюдателя» за пошлость и тривиальность, Белин¬
ский писал о гоголевских повестях, как о созданиях «столь же глубоких,
сколь и очаровательных».
В статье «Русская литература в 1841 году» он утверждает: «С Гоголя
начинается новый период русской литературы». Охранительная журнали¬
стика и недоброжелатели писателя возмущаются этим ничуть не меньше,
чем когда Белинский назвал Пушкина «великим писателем». Булгарин не
допускал мысли, что Гоголь может быть «образцовым писателем класси¬
ком», усматривая в этом принижение таких первоклассных, по его мнению,
авторов, как Полевой, Ободовский, Кукольник; его возмутило, что Гоголь
«становится выше М. Н. Загоскина». В унисон с Булгариным звучали голоса
Н. Греча, Н. Пельта, П. Юркевича, барона Розена. Но не только опасения
за собственный авторитет, но и определенная позиция стоит за этим не¬
приятием Гоголя: «Какая цель этих сцен?.. Зачем же показывать нам эти
рубища, эти грязные лохмотья, как бы ни были они искусно представлены?
Зачем рисовать неприглядную картину заднего двора жизни человечества
без всякой видимой цели?»
И не только Булгарин, Греч, Сенковский, Воейков обрушились на Бе¬
линского за его выступление о Гоголе, но даже друзья критика и люди,
сочувствовавшие писателю, например, Лажечников, не соглашались с кри¬
тиком и считали его мнения о Гоголе ни с чем не сообразными, а прогно¬
.24
зы необоснованными. Лажечникову казалась «несправедливо высокой»-
оценка Белинским «Ревизора».
Между тем Белинский действительно вслед за Пушкиным нашел
Гоголя и открыл его для широкого читателя, верно предугадав направление
и значение его творчества для русской литературы.
После гибели Пушкина в одном из писем критик говорит, обращаясь
к Гоголю: «Вы у нас теперь один, — и мое нравственное существование,,
моя любовь к творчеству тесно связана с Вашею судьбою: не будь Вас —
и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего*
отечества».
Пушкин был первым художником, который поставил критика перед,
осмыслением подлинно реалистического отображения жизни.
Следующим этапом сближения искусства с действительностью был Го¬
голь. Наряду с пушкинской гармонией жизни и «эпической грустью» в рус¬
скую литературу входит особая гоголевская «веселость», юмор или, как:
писал критик, «гумор».
Отрицание сатиры критиком в годы «примирения» сменяется прияти¬
ем ее в качестве «законного рода поэзии». Причем сатирическое отношение
искусства к действительности трактуется теперь очень широко, как вообще
критическая направленность правдивого художественного освоения жизни..
В гоголевском «гуморе» Белинский видит пафос отрицания неразум¬
ной действительности и тем самым негативное утверждение положитель¬
ного идеала в искусстве; в нем ярко выраженное эмоционально-субъектив¬
ное отношение к жизни и специфическая эстетическая ее оценка, отсю¬
да и гораздо более смелое и свободное творческое пересоздание сред¬
ствами искусства. Отрицание» становится существенным моментом реали¬
стического освоения действительности в искусстве и искусством. В статье
«Русская литература в 1845 году» критик подвел окончательный итог
художественному соперничеству романтизма и реализма: романтизм
проиграл.
Белинский вместе с Гоголем «все больше, кровнее любя Русь... с е&
субстанциальной стороны», непримирим к.«действительности настоящей», в
которой так «много грязи, мерзости, возмутительно-нечеловеческого».
Начиная с «грустного пафоса» Пушкина, затем «духа отрицания» у
Лермонтова и кончая «гумором» Гоголя, критическая, отрицательная, ана¬
литическая сторона реализма получает у Белинского фундаментальное
обоснование. Разумеется, отрицание для Белинского не самоцель, а необхо¬
димая предпосылка художественного исследования современного общества,
о чем критик пишет, в частности, в связи с творчеством Ч. Диккенса. И в*
самом духе времени заложена потребность в этом качестве: «наш век —
весь вопрос, весь стремление, весь искания и тоска по истине».
Обращаясь к «Мертвым душам», Белинский пишет, что «истинная
критика должна раскрыть пафос поэмы», и показывает, что у Гоголя он
«состоит в противоречии общественных форм жизни с ее глубоким субстан¬
циальным началом» и это не мешает, а, напротив, способствует воссозда¬
нию «мира русской жизни».
В уже упоминавшейся статье о повестях Гоголя Белинский егца
в 1835 году отмечал: «отличительный характер повестей г. Гоголя...
25
^комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти
п уныния... г. Гоголь —поэт, поэт жизни действительной». О художествен¬
ности Гоголя, по воспоминаниям К. Аксакова, много говорилось уже
в кружке Станкевича, а Белинский, как свидетельствует И. Панаев, был
поражен «художественной силой «Миргорода» и «Ревизора».
После выхода «Ревизора» Гоголь шесть лет почти ничего не печатал,
соответственно не писал о нем и Белинский. Стоило, однако, появиться пер¬
вому тому «Мертвых душ», как критик констатирует, что решительного
поворота в сторону критического направления не могли сделать ни Пуш¬
кин, ни даже Лермонтов с его стихом, «облитым горечью и злостью», и
«Героем нашего времени», но только Гоголь.
«Мертвые души» критик называл одним из тех произведений, которые
составляют «эпоху в литературе». В 1842 году он писал: «После появления
«Мертвых душ» много найдется литературных Колумбов, которым легко
будет открыть новый великий талант... Но не так-то легко было открыть
его, когда он был еще действительно новым».
Момент появления «Мертвых душ» Белинский обозначает как пору
«торжества неличности, посредственности, ничтожества, бездарности», как
время «пустоцветов и дождевых пузырей литературных», «ребяческих за¬
тей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной
народности». На этом фоне явилась поэма Гоголя, «творение чисто русское,
национальное... столько же истинное, сколько и патриотическое», в котором,
по мнению Белинского, писатель сделал «великий шаг»: он взглянул сме¬
ло и прямо на русскую действительность.
Идея отрицания «расейской» действительности и «страстная нервистая
яровная любовь к плодовитому зерну русской жизни» позволили критику
сказать о принципиально новом значении для литературы творчества
Гоголя и внести чрезвычайно существенный момент в понимание крити¬
ческого направления.
Отстаивая свои взгляды, Белинский не мог не вступить в полемику
о К. Аксаковым. Критик-славянофил, восторгаясь «Мертвыми душами»,
истолковал вместе с тем поэму Гоголя в полном отрыве от ее жизненного
содержания и художественного характера, представив ее явлением, подоб¬
ным гомеровскому эпосу; само название «поэма» трактовалось им в духе
эпической поэмы. Не мог пройти Белинский и мимо выступлений Шевы-
рева, сближавшего Гоголя с Данте и Ариосто. Полемические заметки Бе¬
линского вылились в горячую защиту права русской литературы на крити¬
ческое направление и в непримиримый отпор всем попыткам увести ее с
зтого пути.
Полемика с К. Аксаковым вышла за пределы судеб литературы и пре¬
вратилась в начало длительного спора со славянофильской концепцией раз¬
вития России, с ее идеалом, обращенным в патриархальное прошлое, с
идеализацией допетровской старины.
Однако, отстаивая субъективность, Белинский стремится отделить ее
ют того, что теперь называют субъективизмом, от уклонений от истины;
юн — за такую субъективность, которая не противостоит жизненной и ху¬
дожественной правде, за субъективность истинную. Потому критик упре¬
вает Лермонтова, не сумевшего в достаточной степени отделить автора от
26
героя (Печорина). Тем же продиктована известная настороженность Белин¬
ского к лирическим отступлениям в «Мертвых душах»: почувствовав опас¬
ность «мистико-лирических» настроений, давших себя знать в этих отступ¬
лениях, критик предостерегал писателя.
Социальное содержание общественного идеала («социальность, социаль¬
ность— или смерть!») и необходимость объективного обоснования такого
идеала — основополагающие моменты исканий Белинского середины 40-х го¬
дов. Он пишет в одном из писем Боткину: «Ты знаешь мою натуру... Я с
трудом и болью расстаюсь со старою идеею, отрицаю ее донельзя, а в но¬
вую перехожу со всем фанатизмом прозелита. Итак, я теперь в новой край¬
ности, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием:
бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания». В утопиче¬
ском социализме для него так же, как и для Герцена, открывалась возмож¬
ность социальных изменений в правах собственности, введения начал ком¬
мунальной жизни и принципов организации свободного труда. В учении
Сен-Симона и Фурье заложены предпосылки общества, в котором будет
реализовано «более права, более нравственности, более просвещения»
(Герцен).
Познакомившись с книгой Луи Блана «История французской револю¬
ции», Белинский назвал ее «новым откровением». Ему открылось в утопи¬
ческом социализме ярко выраженное начало нового общественного устрой¬
ства, и «золотой век» человечества переносился из прошлого в будущее.
Белинский стремится к расширению опыта Сен-Симона и Фурье, вниматель¬
но приглядывается к деятельности Луи Блана, Вейтлинга, Прудона,.
Консидерана. Но вместе с тем его не устраивали рационалистмческие
ностроения картин будущего. Социализм для него — и вопрос и процесс
решения вопроса. Он не может быть одной формулой бытия, чем-то полу¬
ченным в готовом виде. Он — будущее, то есть то, что должно быть реа¬
лизовано не на словах, а самим ходом жизни. Вспомним в этой связп вы¬
вод, сделанный критиком еще раньше: «Разум не создает действительности,
а сознает ее». Последовательное движение критика к социалистическому
идеалу диктует настойчивое осмысление европейского революционного
опыта и логики исторического — как всемирного, так и национального —
развития.
Плеханов отмечал, что замечательный ум Белинского, так сильно и
самобытно проявивший себя уже при осмыслении принципа действитель¬
ности и гегелевской диалектики, спас его от некритического увлечения
утопическим социализмом. И очень скоро вместе с Герценом он уже начи¬
нает понимать, что учению сенсимонистов и фурьеристов «чего-то недоста¬
ет», что у этого учения нет «полного лозунга». Белинский ищет объектив¬
ных обоснований социально-политических и общественных идеалов иг
соответственно, приходит к выводу о необходимости историзма в осмысле¬
нии общественных явлений.
В статье на «Руководство к познанию новой истории...» С. Смараг-
дова появляется идея поступательного развития общества. История делает
необходимые остановки, «но для того только, чтоб собраться с силами, за¬
пастись материальными средствами». Материальная потребность теперь
осмысляется как «великий рычаг» нравственной, социально преобразующей
27
-деятельности. Соответственно новые идеи входят в систему взглядов кри¬
тика и в его работы о литературе. Задумывая фундаментальные статьи,
посвященные творчеству Пушкина, Лермонтова и Гоголя, он предуведомля¬
ет читателя, что в основу их будет положен социальный и исторический
лринцип.
Позиция Белинского в споре о «Мертвых душах» и была подготовлена
<его новыми социальными и историческими взглядами.
Соединить исторический и теоретический принципы в подходе к ли¬
тературе в развернутом виде критик предполагал в задуманном еще в
самом начале 40-х годов «Теоретическом и практическом курсе русской
литературы». Попытка осуществить соединение этих двух принципов на
основе гегелевского историзма в статье «Разделение поэзии на роды и
виды» показала ему, что он не готов к этОхМу. И тогда после гегелевской
философии Белинский обращается к изучению реальной истории. В это
время вышел ряд книг, посвященных истории России до Петра I и Петров¬
ской эпохе. В своих рецензиях на эти работы Белинский рассматривает
движение в России к реформам Петра I и от них к современности, просле¬
живает становление русской национальности. Он вводит в обиход понятия
исторического сознания и исторического века. Исторический аспект вво¬
дится и в статьи о русской народной поэзии, появляется новый замысел —
на этот раз «Критической истории русской литературы». Историзм, который
характеризует теперь мировоззрение Белинского, формирует и его отно¬
шение к Гоголю и гоголевскому направлению.
Как говорилось, в полемике с К. Аксаковым за вопросами литературы
вставали вопросы истории, точнее — историзма. Движущие силы и законо¬
мерности развития общества, общественного сознания, культуры и литера¬
туры властно выходят на первый план размышлений и поисков критика.
Спор с К. Аксаковым был также спором приверженцев двух типов социа¬
лизма — своеобразного варианта феодального и революционно-утопического,
и, соответственно, спором двух разных исторических концепций о том, где
находится идеал, — в прошлом или в будущем. И вместе с тем это было
переосмыслением и концепции Гегеля об эстетическом идеале человечества:
немецкий философ относил его в прошлое, а русский критик видел его в бу¬
дущем. Опираясь на свое понимание художественности, критик говорит о
поступательном развитии мирового и русского искусства и потому современ¬
ные формы творчества ставит выше наивной устной народной поэзии.
6
Почти сразу после полемики вокруг первого тома «Мертвых душ» на¬
чинается работа над статьями о Пушкине.
Статьи о Пушкине были задуманы как статьи о русской литературе,
развитие которой с начала XVIII века, с Кантемира и Ломоносова, должно
-было объяснить появление Пушкина. Но ко времени их написания Белин¬
ский уже стремился понять объективный ход русской истории, и структура
статей о Пушкине оказалась сложной, раскрывшей проблему глубже, чем
представлялось критику первоначально.
28
По последнему замыслу Белинского, продолжением статей о Пушкино
должны были бы стать подробные разборы творчества Гоголя и Лермон¬
това.
Но неверно было бы выстраивать путь мысли Белинского по элемен¬
тарной хронологии — от Пушкина к Гоголю и Лермонтову, от своеобразного
«пушкино-центризма» к «гоголе-центризму» и, соответственно, от проблем
художественности литературы к утверждению ее социальности. На самом
деле Белинский никогда не уходил от Пушкина, постоянно возвращался к
нему, все более его постигая, а цикл статей о нем начал писать после ста¬
тей о Лермонтове и после спора о Гоголе.
Сначала Белинский не отделяет Гоголя от Пушкина, как художников,
начинающих русскую национальную классику. Вскоре к их именам присо¬
единяется имя Лермонтова. Но когда Белинский в своем историзме отходит
от идеалистических схем, обращается к реальной истории и социалисти¬
ческому идеалу, перед ним возникает проблема сохранения достигнутой
литературой высоты художественности при углублении критического со¬
держания. Поэтому критик и предполагал написать заново полные раз¬
боры творчества Гоголя и Лермонтова после статей о Пушкине.
В соответствии с первоначальным замыслом статьи о Пушкине Бе¬
линский начинает с разбора творчества Державина, как статью о Державине
начинал с Кантемира и Ломоносова. От выдвинутого в 1834 году афоризма
«у нас нет литературы» Белинский приходит логикой статей о Державине
и Пушкине к утверждению: русская литература существует и имеет свою
историю, требующую осмысления и теснейшим образом связанную с исто¬
рическим развитием народной 'жизни: «Чем больше думали мы о Пушкине,
тем глубже прозревали в живую связь его с прошедшим и настоящим рус¬
ской литературы и убеждались, что писать о Пушкине — значит писать о
целой русской литературе, ибо как прежние писатели русские объясняют
Пушкина, так Пушкин объясняет последовавших за ним». Отсюда известная
метафора: творчество Пушкина — это море, в которое вливаются большие
и малые реки — творчество всех его предшественников. Но тут-то и столк¬
нулся Белинский с предвзятостью своей схемы. Чем внимательнее и кро¬
потливее обследует критик сделанное многочисленными предшественника¬
ми пушкинского творчества в конце XVIII — начале XIX веков, тем очевид¬
нее становится невозможность вывести пушкинские художественные откры¬
тия только из творчества предшественников. Даже Пушкин-лицеист
головой выше всех своих предшественников. Тот факт, что современники
Пушкина не понимали его, в частности его «Евгения Онегина» и «Бориса
Годунова», подтверждает не только стремительность индивидуального раз¬
вития поэта, но и громадный качественный скачок, который являет собой
поэзия Пушкина в русской литературе. Конечно, Пушкина трудно пред¬
ставить себе без таких предшественников, как Державин, Жуковский и
Батюшков, но его не было бы и без Шекспира и Байрона, без тех худо¬
жественных открытий мировой литературы, которые он не просто «пере¬
работал» и «соединил», а именно до уровня которых поднял свое неповто¬
римое творчество, опираясь и на опыт русской литературы XVIII и начала
XIX веков.
29
В статьях о Пушкине сказано, что творчество поэта, взятое в его свя¬
зях с прошлым и будущим, «показывает», что, несмотря на бедность нашей
литературы, в ней есть движение жизни и органическое развитие. Следова¬
тельно, у нас есть история. Но с позиции нового историзма Белинского об¬
зор допушкинской литературы приобрел характер критической истории
русской литературы, соотносимой с художественностью пушкинского твор¬
чества. Этот критерий оценки литературных явлений выступает теперь в
«обратной перспективе», от настоящего к прошлому. Современность как
точка опоры для проникновения в историю литературы и историзм как ло¬
гика развития русской литературы поставлены здесь в закономерный ряд,
но еще требовалось объяснить коренную причину ее развития, ее устрем¬
ления к самостоятельности.
Центральный пункт пушкинского цикла и заключается в том, что
Белинский нашел исторические корни возникновения художественности в
том взлете общественного самосознания, который был связан с Отечествен¬
ной войной 1812 года и с последовавшим движением общественной мысли.
Именно этот взлет сделал Пушкина великим национальным поэтом,
который поднял русскую литературу на уровень мирового искусства:
«С Пушкина сделалось возможным явление на Руси поэзии как искус¬
ства». После Пушкина критика уже не может заниматься литературными
пустяками, ее задача — «определить значение поэта и для ег© настоя¬
щего и для будущего», его историческое и его безусловно художественное
значение.
Пушкин стал альфой и омегой для понимания критиком сущности
творчества и самого литературного процесса, точкой отсчета для суждений
о литературе, ее истории и вместе с тем началом русского художественного
развития.
Теперь уже не только внутри литературного ряда открывает Белин¬
ский художественную необходимость Пушкина (хотя и с учетом этого ряда,
конечно), но прежде всего в широком историческом и социальном контек¬
сте жизни общества: «Великие поэты творятся не одною природою: они
творятся и обществом, то есть историческим положением общества».
Статьи о Пушкине, таким образом, стали критической историей до¬
пушкинской русской литературы и открывали перспективу истории под*
линно художественной русской литературы, характеризуемой именами
Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Уже первая часть работы выросла за пре¬
делы прежних набросков, этюдов, связанных с этой темой: и общетеорети¬
ческих— (Идея искусства), «Разделение поэзии на роды и виды», «Речь
о критике А. Никитенко. Статьи I—III» и историко-литературных —
(Статьи о народной поэзии...), «Сочинения Державина...», «Иван Андреевич
Крылов».
Белинскому не удалось написать циклов статей о Гоголе и Лермонтове
и закончить перестройку своего замысла истории русской художественной
литературы, пли, если угодно, истории художественности русской лите¬
ратуры.
Осуществлению этого труда мешала не только непомерная занятость
критика текущей, а подчас «поденной» работой на Краевского, но и
отсутствие достаточно разработанной социально-исторической концепции,—
30
тем более, что, по существу, здесь требовалось понять самые глубинные
закономерности общественного развития — задача, к решению которой еще
только готовилась тогда и европейская социальная мысль.
Но и то новое в понимании историзма, которое наметилось у Белин¬
ского, привело его к значительным эстетическим открытиям. В пятой
пушкинской статье, опираясь на обширный историко-литературный
материал предшествующих статей, Белинский формулирует положения
о пафосе в искусстве и о художественном значении творчества Пушкина.
«Литературные мечтания» были заявкой критика на эту тему, в них
обозначилось лишь предчувствие историзма.
Уже в этом первом своем выступлении Белинский увидел в Держа¬
вине, Крылове, Грибоедове и, конечно, в Пушкине «художников по призва¬
нию» и, ориентируясь на них, сделал вывод о том, что «у нас нет литера¬
туры», потому что четыре истинных художника еще не составляют литера¬
туры. Но тогда Белинский еще не мог свое общее заключение наполнить
конкретным социальным смыслом. Теперь же Белинский выдвигает исто¬
рически, социально и эстетически наполненное понятие пафоса художест¬
венности поэзии Пушкина и литературы как искусства вообще.
Опыт мировой литературы свидетельствует о том, что каждая нацио¬
нальная литература поднимается из своей «предыстории» к истории, дей¬
ствительному развитию, превращается из так называемой письменности
в собственно художественное творчество. Так было в Италии и Испании
времен Данте и Петрарки, Сервантеса и Лопе де Вега, во Франции в
преддверии классицизма и т. д. Естественной предпосылкой этого процесса
было формирование национального литературного языка, а чаще всего
то и другое осуществлялось - одновременно, как, например, в знаменитых
романах Рабле.
Формирование русской классической литературы и вместе с тем
русского литературного языка совершил своим творчеством Пушкин, и это
двойное свершение было, конечно, отмечено Белинским и оценено по до¬
стоинству. Он подчеркивал, что смена ломоносовского периода карамзин-
ским сопровождалась переориентацией с латино-немецкого образца на
французский также и в области языка и не решила вопроса о литератур¬
ном русском языке. Больше того, Белинский видел, что между зрелостью
национального литературного языка и классической литературы существует
прямая взаимообусловленность. «...Если Крылов, — писал он, — и обязан
Карамзину чистотою своего языка, то все же язык Крылова во сто раз
выше языка Карамзина, по той простой причине, что язык Крылова...
язык русский, тогда как язык Карамзина только в «Истории Государства
Российского» обнаружил стремление быть языком русским». И в этом
движении от искусственных, не разработанных форм книжной речи, в
бурном процессе конца XVIII — начала XIX веков, в выработке националь¬
ного литературного языка, способного стать основой и первоэлементом
классической русской литературы, ведущее место, конечно, принадлежало
Пушкину, и это прекрасно осознавалось Белинским: «Явился Пушкин —
и русский язык обрел новую силу, прелесть, гибкость, богатство, а глав¬
ное — стал развязен, естествен, стал вполне русским языком». И еще более
определенно: «...Благодаря уже самому свойству русского* языка, поэзия
31
природы, поэзия чувства и мыслей, не ознаменованных ни печатью
абстракции, ни печатью общественности, навсегда установилась у нас
Пушкиным, и язык для нее вполне выработался...»
Особенность становления русской литературы как искусства состояла
в том, что оно совпало с упадком классицистических и романтических
направлений и с формированием реализма XIX века, учитывающего
идейно-художественный опыт этих направлений и через них развиваю¬
щего традиции реализма Возрождения. Понятие художественности поэтому
у Белинского естественно слилось с принципом воспроизведения действи¬
тельности во всей ее истине, то есть с реализмом.
В этом слитном утверждении реализма и художественности Белинский,
конечно, опирается прежде всего на художественный опыт Пушкина, но
также и на его теоретичёские размышления.
Эпохи «кристаллизации» национальной классики Пушкин называл
«чудом» и приводил в пример Францию XVII века, когда «вдруг явилась
толпа истинно великих писателей», Англию, которая «противу имен Данте,
Ариоста и Кальдерона с гордостью выставила имена Спенсера, Мильтона
и Шекспира». «Чудо» национальной классики Пушкин связывал с порой
«зрелой литературы», а зрелость русской литературы — с истиной стра¬
стей и положений, то есть с реализмом.
И Пушкин и Белинский отказывают, при всем признании их заслуг
и личных достоинств, Ломоносову, Тредьяковскому, Сумарокову в праве
на ту роль в литературе, которую отвели им их современники. Строго и
требовательно относятся они и к Державину, талант которого, по словам
Пушкина, лишь на треть золотой и на две трети свинцовый. И Пуш¬
кин сетует, что не Вольтер, а грибы, выросшие у корней дубов, — Дорат,
Флориан, Мармонтель, Гишар, мадам Жанлис, овладели русской лите¬
ратурой.
В этом отстаивании большой литературы Пушкин и Белинский ока¬
зались вместе. И Белинский выдвигает на вершину реализма именно
Пушкина, когда, например, пишет: «Словно гигант между пигмеями, до
сих пор высится между множеством русских трагедий пушкинский «Борис
Годунов», в гордом и суровом уединении, в недоступном величии строгого
художественного стиля, благородной классической простоты». Интересно,
что Пушкин, как бы в pendant Белинскому, отмечает отсутствие истинной
критики в России, тем самым выражая потребность в такой критике,
которая сможет способствовать достижению литературной зрелости, худо¬
жественности и правдивости.
Суд Белинского над общепризнанными авторитетами, приведший в
смятение многих, был выражением новых требований к литературе, без
скидок на национальную замкнутость и уже, конечно, без оглядки на
писательские титулы и чины. «И в Лету груду самовластных авторитетов
побросал», — напишет Добролюбов.
Итак, возникновение русской классики самым тесным образом оказа¬
лось связанным с формированием русского литературного языка и станов¬
лением реализма, — последнее в отличие от целого ряда западноевропей¬
ских и восточных литератур, где утверждение национальной классики
32
совпадало с античными формами, реализмом Возрождения, с классициз¬
мом или романтизмом (в разных странах по-разному). Это своеобразие
русского литературного развития XIX века и сказалось на характере
центральной идеи Белинского, выработанной в цикле статей о Пушкине, —
идеи о пафосе художественности русской литературы.
7
Размышления Белинского о художественности, как говорилось, нашли
свое завершение в понятии пафоса искусства, который можно предвари¬
тельно определить как направленность, ориентированность в мире, эсте¬
тическую активность произведения. Средоточие пафоса художественности
Пушкина, например, состояло, по убеждению Белинского, в гуманности,
человечности, в «бесконечном уважении к достоинству человека как чело¬
века». Это понимание Белинским пафоса художественности никак нельзя
поэтому истолковать в духе «чистого искусства», скажем, в духе рассужде¬
ний В. Боткина, П. Анненкова и особенно А. Дружинина. Вполне последо¬
вательно сам Белинский, утверждая пафос художественности, отрицал
возможность «чистого искусства», «искусства для искусства» в литературе
нового времени. Соответственно от критики он требовал содержательного,
а не формального определения пафоса произведения или всего творчества
писателя.
Отказываясь от абстрактной идеи, Белинский рассматривает пафос
как выражение общей направленности произведения, как организацию
всех сторон реального мира, входящего в произведение и получаю¬
щего концептуальное в нем закрепление. В соответствии с требованием
реалистического осмысления жизни он допускает безграничность этой
сферы. И в самом пафосе на первый план у него выходят не избира¬
тельная, но синтезирующая функция. Белинский отстаивает воплощение
всеобъемлющей страсти, объединяющей интеллектуальное и эмоцио¬
нальное содержание произведения, так что «идея является в... произ¬
ведении не отвлеченною мыслию, не мертвою формою, а живым созда¬
нием...».
Под «живым» созданием здесь подразумевается не персонаж, а целое
самого произведения, которое несводимо ни к простому отражению жизни,
ни к чувству и мысли автора. Оно — новая органическая цельность и
эмоционального и интеллектуального постижения действительности в
произведении, а в общеэстетическом плане — объективных и субъективных
ее сторон. Белинский пишет, что пафос — это не силлогизм и не догмат, а
общая направленность художественного творения. И потому поэт созерцает
идею «не разумом, не рассудком, не чувством и не какою-либо одною спо¬
собностью своей души, но всею полнотою и целостью своего нравственного
бытия».
Конкретное содержание художественного пафоса, в понимании Бе¬
линского, может быть самым различным, в зависимости от того, как ре¬
шается самой жизнью и отражающим эту жизнь художником соотношение
человеческих судеб и социальной среды. Но чрезвычайно важно, что пафос
2 В. Белинский, т. 1
33
первого великого художника в русской литературе — Пушкина — Белин¬
ский усмотрел в художественности. Этому предшествует и самоощущение
Пушкина, выдвигавшего тезис: «цель поэзии — поэзия». Поэт предполагал
не автономию искусства от жизни, но автономию художника — от дидак¬
тики, риторики, внешней регламентации и общеобязательных «норм».
Он высказывал упрек в адрес Малерба и Ронсара, считая, что они исто¬
щили силы в самоцельном усовершенствовании стиха, пеклись «больше
о наружных формах слова, нежели о мысли». Он говорил, что эстетика
со времени Канта и Лессинга развита с предельной ясностью и обшир¬
ностью, но «мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание
изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза».
Девизом творчества Пушкина стало изречение — «цель художества есть
идеал», то есть осуществленное по законам художественного творчества
произведение искусства, для которого главное — поэтическая мысль, а не
дидактический морализм, привносимый в художественный образ извне.
И в полном согласии с Пушкиным критик считал, что дидактическая
цель убила в героях Ричардсона поэзию.
Определение идеала Пушкиным, впрочем, не содержало абсолют¬
ного противопоставления эстетической сущности — нравоучению. У Пуш¬
кина в разделении идеала и нравоучения есть доверие к художествен¬
ному утверждению идеи, включающей в себя также и нравственную
сторону.
Так же, как и Пушкин, Белинский, раздумывая о том, что делает
искусство искусством, видел необходимую связь между содержанием
произведения и истинностью этого содержания, между правдой жизни и
художественной ее реализацией в искусстве. Для него «необыкновенно
великий художественный такт» Пушкина — иное обозначение «такта дей¬
ствительности» в искусстве и именно потому Пушкин «не мог не отра¬
зить... народной жизни».
Для Белинского пафос художественности означал не изоляцию искус¬
ства от жизни народа, а путь к его народности. Именно благодаря
художественности «Евгений Онегин» и энциклопедия русской жизни, и в
высшей степени народное произведение. И далеко не случайпо для
Белинского поэзия Пушкина, так же как и народпая русская поэзия,
окрашена в грустные тона.
С другой стороны, Белинский говорит о «колоссальной творческой
силе» поэта и даже о «мировой творческой силе», «так национально про¬
явившейся». Художественное, истинное и национальное у него стоят в
общем ряду, но главным и определяющим характер содержания поэзии
Пушкина при этом оказывается общечеловеческая направленность: «внут¬
ренняя красота человека и лелеющая душу гуманность». Белинский впдел
в гуманизме Пушкина начало, вводящее его во всемирную литературу,
потому что художественность для него была условием всемирно-историче¬
ской роли искусства как средства утверждения подлинно человеческой
действительности. Принцип художественности для Белинского, предпола¬
гая всеобъемлющее постижение мира искусством, вводил в представления
человека концепцию «полного человека» (выражение Пушкина).
34
С этих позиций Белинский вернее, чем его последователи, включая
Чернышевского и Добролюбова, раскрывает гуманистическую сущность
романа в стихах и образ Татьяны Лариной, видя в ней натуру гениальную,
хотя и не подозревающую о своей гениальности, то есть об огромной че¬
ловеческой ценности, которая вдруг откроется Онегпну.
8
Работа цад пушкинским циклом продолжалась с 1843 по 1846 год —
в период расцвета литературно-критической деятельности Белинского. И,
конечно, серьезные основания имело обращение критика к самому боль¬
шому своему труду, по существу, к книге о Пушкине, после полемичных
статей о «Мертвых душах» и «Герое нашего времени» как раз во время
формирования концепции «натуральной школы». Последнее четырехлетие
жизни Белинского насыщено не столько событиями, сколько интенсивной
внутренней жизнью и работой. На начало этого периода приходится же¬
нитьба Белинского на М. В. Орловой, на конец его падает уход из «Отече¬
ственных записок», когда Белинский был уже не в состоянии больше
мириться с положением «штатного» критика у прижимистого Краев-
ского.
Это — напряженная пора деятельности критика. Можно составить
представление о творческой интенсивности тех лет, если сказать, что
вместе с пушкинскими статьями (четыре статьи в 1843 г., четыре — в 1844-м,
две — в 1845-м, последняя — в 1846-м) и примыкающими к ним статьями о
Державине и Крылове, которые являются составной частью историко-лите¬
ратурного цикла, Белинский много сил уделяет текущему литературному
процессу. Ежегодно публикует он программно-теоретические обзоры рус¬
ской литературы за прошедший год. Много сил вложил ои в сплочение
писателей «натуральной школы» и в теоретическое обоснование этого на¬
правления современной литературы. Он знакомится с Достоевским, сбли¬
жается с Тургеневым, сотрудничает с Некрасовым, готовит, в частности,
вместе с ним издание «Стихотворений Кольцова» и пишет к нему вводную
статью о жизни и сочинениях поэта. Ему принадлежит вступительная
статья к некрасовскому сборнику «Физиология Петербурга» (ч. I — 1844 г.,
ч. II — 1845 г.). В сборнике помещены также статьи Белинского «Петер¬
бург и Москва», «Александринский театр» и «Петербургская литература».
Собственно говоря, сборник стал манифестом нового направления — «нату¬
ральной школы» — в русской литературе. Белинский осмысливает это
издание в статьях «Ответ «Москвитянину» и в годичных обзорах литера¬
туры 1846 и 1847 годов. Он внимательно следит за творчеством В. Солло¬
губа, В. Даля, Д. Григоровича, И. Некрасова, И. Тургенева, Я. Буткова,
И. Панаева, Е. Гребенкп и пишет рецензии на их произведения. Ему
необходимо определить общее и главное, объединяющее разных художни¬
ков, указать на их индивидуальные художнические особенности. В «Пе¬
тербургском сборнике» (1846) участвуют Некрасов, Тургенев, Герцен, Па¬
наев. В нем напечатаны «Бедные люди» Достоевского, произведшие
огромное впечатление на Белинского. Критик помещает в сборнике «Мысли
2*
35
и заметки о русской литературе». Он замышляет издание «огромного» аль¬
манаха с соответствующим названием «Левиафан» и привлекает к участию
в нем Герцена, Гончарова, Тургенева, Некрасова, Достоевского. Издание
не состоялось, но большинство собранных для него материалов вошло в
первые номера реорганизованного Некрасовым «Современника».
Само название «натуральная школа» впервые появляется у Булгари¬
на («Северная пчела», 1846, № 22). Булгарин им клеймил демократическую
литературу, дискредитировал новое явление, обвиняя его в бездуховности,
приземленности, в том, что оно отражает только темные стороны жизни.
Доводы эти берут начало с нападок на Гоголя, которого называли «грязным»
писателем, знающим только «задний двор человечества».
Название «натуральная школа» было переосмыслено Белинским и
поднято на щит, чтобы оградить новое направление от реакционных на¬
падок.
Сам термин «натуральная школа» не имел однозначного смысла для
Белинского. Он служил общим указанием на реалистическое направление
художественного творчества и вместе с тем определением нового, разви¬
вающего гоголевские традиции этапа литературного движения.
Во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» Белинский обра¬
щается к Гоголю, видя в нем предшественника и родоначальника «нату¬
ральной школы». Но связь «натуральной школы» с творчеством автора
«Ревизора» и «Мертвых душ» представлялась далеко не простой и одно¬
значной. Влияние гоголевской поэтики сказывалось прежде всего в созда¬
нии собирательных образов, типов. Но при этом нередко они оставались
суммарными, лишенными удивительной гоголевской индивидуализации.
И дело было не только в размерах талантов — у писателей «натуральной
школы» на первое место выдвигается социальная классификация, расчлене¬
ние по профессиям, сословиям, территориальной принадлежности («Свадьба
в Москве», например) и т. д.
Опыт «натуральной школы» способствовал теоретическому развитию
и литературно-критическому закреплению реалистических принципов в
последних работах Белинского. При неоднократной ломке его взглядов
основной пафос правдивости искусства проходит через все его работы
от «Литературных мечтаний» до «Взгляда на русскую литературу 1847 го¬
да». В свое время он развенчал стихи Бенедиктова и прозу Марлинского.
«Натуральная школа» тоже в первую очередь противостояла риторической
ложновеличавой псевдонародной поэтике Кукольника, Загоскина, Греча.
Писатели школы Гоголя и Белинского искали дорогу к демократизму
и гуманизму творчества. Они видели в мужике человека («Записки охот¬
ника» Тургенева), в маленьком чиновнике—«человечность микроскопиче¬
ской личности».
Но сам Белинский смотрел дальше: он мечтал о литературе, которая
покажет превращение маленького, зависимого человека в духовно свобод¬
ного. Он знал, что такие люди уже есть в окружающей его жизни, но
знал также, что цензура не допустит их изображения.
В подходе к «натуральной школе», в определении ее места в литера¬
турном процессе сказался развивающийся историзм критика. Белинский
36
видел в Фонвизине, Грибоедове, в сатирических произведениях Пушкина
и Гоголя (особенно в «Шинели») предшественников новой школы. Его
оппоненты отрицали новое содержание и художественный смысл творче¬
ства Гоголя, выводя его из английской и французской «неистовой» словес¬
ности (Радклиф, Жюль Жанен, Сю, Дюма). Аналогичную позицию они
заняли и в отношении писателей «натуральной школы», утверждая, что
это все та же самая тяга к «безобразной натуре», характерная для Жюля
Жанена, и «везде во всем одна карикатура, одно искажение натуры»
(«Северная пчела», 1842, № 279).
Белинский решительно отводит обвинения как в раболепном списы¬
вании «голой натуры», так и в том, что корни нового уходят во француз¬
скую словесность. Не кто иной, как Гоголь, по мнению Белинского, ней¬
трализовал влияние нашумевшей в России «неистовой» французской сло¬
весности. А именно Булгарин приветствовал появление издания «Фран¬
цузы, описанные с натуры французами же» и предпринял аналогичное
издание «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода
человеческого», а также «Комары», «Наши, списанные с натуры русскими».
Обращение к нравам, характерам и типам у Булгарина и у писате¬
лей «натуральной школы» шло изначально с различных, друг с другом
несовместимых позиций. И, конечно, это у Булгарина возникают симпто¬
мы натуралистической деградации образа.
На своем пути «натуральная школа» столкнулась со значительными
трудностями, художественными издержками. Нужно было быть Гоголем,
чтобы поднять Акакия Акакиевича до высоты художественного (а стало
быть, и гуманистического) обобщения, или Достоевским, чтобы сделать
то же самое с Макаром Девушкиным.
Белинский видел художественное завоевание «натуральной школы»
в натуральном, естественном воссоздании жизни. Для него была важна
«беспощадность истин», открываемых писателем. Но, защищая эту школу
от обвинений в показе «неумытой», «униженной и искаженной» натуры,
критик не мог не чувствовать опасности «дагерротипного», фактографиче¬
ского подхода к правде жизни. И не случайно в этой связи он подчерки¬
вает художественные открытия Гоголя, сумевшего удивительно глубоко
проникнуть в трагизм пошлости жизни и тем самым неизмеримо возвы¬
ситься над изображаемым «мелким» предметом.
Развитие «натуральной школы» в первую очередь означало вторже¬
ние в прежде закрытые пласты и области жизни. Интерес к «петербург¬
ским углам», незаметному и не всегда приглядному быту маленьких
людей, петербургских шарманщиков, дворников, извозчиков свидетельство¬
вал о приближении писателя к простым людям. Это сказалось, конечно,
на своеобразии тематики и проблематики нового направления, на модифи¬
кации старых жанров и появлении нового — «физиологического очерка».
Но «физиологический очерк» был слишком ограниченным жанром,
чтобы стать ведущим в новом развитии. Вперед неизбежно выдвинулись
роман и повесть, затем рассказ. Развиваясь, новое направление вовлекло
новые сферы «мира положительной действительности» в орбиту литера¬
туры. По меткому наблюдению современного исследователя, действитель¬
ность становится в «натуральной школе» сверхгероем романа; не персонаж.
37
а ход жизни, «строй вещей», определяющий судьбу человека, вторгается
в повествование, входит как объективная логика, предрешающая типологию
характеров, художественные функции персонажей. Отсюда перенесение
ответственности с отдельного человека на среду («Кто виноват?» Герцена),
столкновение субъективного образа мира с объективным положением дел
(«Обыкновенная история» Гончарова), глубокие психологические коллизии
униженности и человеческой амбиции («Бедные люди» Достоевского).
«Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литера¬
туры», — отмечает Белинский в своей последней статье — обзоре русской
литературы 1847 года, — подразумевая, конечно, не собственно «физиоло¬
гические очерки», а широкое направление критического реализма в рус¬
ской литературе. Белинский не ошибся: русская литература шла своим
истинным и настоящим путем.
В эти годы, завершив цикл пушкинских статей, Белинский вошел
в круг рассмотрения кардинальных вопросов исторического развития. Его
не устраивают больше недавние представления о «революции сверху»,
совершаемой наподобие преобразований Петра I. Перед критиком вырисо¬
вывается грандиозная перспектива соединения исторического и социаль¬
ного осмысления жизни в их соотнесенности, внутренней взаимо¬
связанности и взаимообусловленности (критика Пушкина за дворянские
предрассудки, утверждение «пафоса социальности» в творчестве Гоголя,
размышления о современном социальном устройстве общества, анализ
развития капитализма и положения народных масс в рецензии на «Париж¬
ские тайны» Э. Сю и, наконец, последние дискуссий о роли буржуазии
в современном историческом развитии: буржуазия — явление не случайное,
а вызванное историей).
Критик решительно расходится с позитивизмом О. Конта. Ученый
пытался спуститься с небес метафизики ценой отказа от философского
осмысления истории и путем несложной замены слова «идея» словами
«закон природы». Не соглашаясь с такими подстановками, Белинский счи¬
тает, что Конт, трактуя историю натуралистически, проходит мимо собст¬
венно исторического процесса, то есть такого движения жизни человече¬
ского общества, в котором объективная закономерность его развития не
отменяет человеческого содержания событий, конечного идеала гуманизма
как необходимого и реального результата человеческой истории, хотя бы
она п была античеловечна на пути к этому идеалу.
В поэтике «натуральной школы», тяготевшей, по видимости, к правде
факта, к «безнадежному» человеческому материалу, Белинский видел и
правду гуманистической пдеп.
Все ощутимее становилась потребность творческих открытий «нату¬
ральной школы» на подлинно художественном уровпе, и естественно выдви¬
гался вопрос о лидере или «корифее» нового направления, равном по силе
дарования Гоголю, который после появления «Выбранных мест из
переписки с друзьями» уже не был главой школы.
Одпако путь литературного развития оказался сложнее. Верно опре¬
деляя основную тенденцию движения литературы 40-х годов, Белинский
сталкивается с дифференциацией художественных индивидуальностей, за
38
которой в условиях обострения классовой борьбы стояло идейное размеже¬
вание либеральных и демократических сил. Вместо одного лидера, возглав¬
ляющего художественное направление, появляется несколько крупных
писателей, каждый из которых не может быть лидером в силу его одно¬
сторонности, хотя все вместе они развивают именно критический реализм.
Белинский стремился найти художника, способного придать жизнен¬
ную полноту и художественную силу натуральному направлению, но
скоро он понял, что «натуральная школа» стала расти и формировать
разнообразных писателей, обойдясь без лидерства.
Белинский понимал, что борьба за утверждение нового направления,
за освоение новых художественных сфер и привлечение широкого круга
писателей к этому направлению неизбежно вызовет, пусть временное, но
снижение художественного уровня и художественного качества в совре¬
менной литературе, и он сознательно шел на это: «Мне поэзии и художе¬
ственности нуяшо не больше, как настолько, чтобы повесть была истинна,
то есть не впадала в аллегорию или не отзывалась диссертациею». Эта
эстетическая уступчивость Белинского не шла до отказа от художествен¬
ности, но, будучи заострена против бессодержательного эстетства Боткина,
была отступлением — отступлением, конечно, врехменным, потому что про¬
блема развития художественности в новых условиях при углублении
критического отношения к действительности была проблемой хотя и не¬
легкой, но разрешимой. Решалась она, конечно, художественной практикой,
расцвета которой Белинскому увидеть было не суждено...
Все эти трудности развития литературы, вступившей на путь крити¬
ческого реализма, ощущались Белинским и выразились в оценках, напри¬
мер, творчества Гончарова и Герцена в его последнем обзоре.
Особые надежды возлагал Белинский на Достоевского. В «Петербург¬
ском сборнике» он даже, написал, что, когда «всех забудут», слава Достоев¬
ского не померкнет.
У каждого из этих трех писателей Белинский обнаружил и постарался
определить свой пафос, и проницательности его суждений нельзя не изу¬
миться. Отсюда следовал логический вывод о том, что развитие русской
литературы могло осуществляться только путем открытий действитель¬
ности, и открытий художественных, когда каждый крупный талант обре¬
тает свои пафос художественного исследования, а все литературное дви¬
жение вместе образует мощный поток гуманистического сознания.
9
С 1846 года наступает последний период жизни п деятельности Белин¬
ского. Он совпадает с уходом его из «Отечественных записок», большой
трехмесячной поездкой со Щепкиным по югу России, Украине п Крыму,
началом активной деятельности в «Современнике», перешедшем от Плет¬
нева к Некрасову и Панаеву; предсмертной поездкой за границу, знаком¬
ством с европейской жизнью и, наконец, созданием одного из знаменатель¬
ных документов — письма к Гоголю, политического своего завещания.
39
Конец 40-х годов в жизни Полянского, так же как и у Герцена с
его «духовной драмой», ознаменован переломом в отношении к утопиче¬
скому социализму. Не против социализма и революционности, но против
иллюзорности и утопизма оборачивалась мысль критика, всегда чуткая
к движению передовых идей. Белинский даже несколько раньше, чем
Герцен и Огарев, изменяет свое отношение к сенсимонистам, фурьеристам,
Луи Блану, он чутко реагирует на рост критических нот у Герцена в
адрес Бабефа, Теста, Фурье, Кабе: мир не перестроить «по программе»,
«мир идет своим путем». История развивается по присущим ей законам,
несводимым к рациональным принципам. Она требует понимания механиз¬
ма социально-политического развития, глубинных причин, определяющих
социальную структуру и борьбу. Но Белинский был не готов в условиях
русской действительности к научному переосмыслению идеи социализма,
невыполнимому на том этапе русского общественного сознания.
Белинский знал лишь ранние работы Маркса и Энгельса, в частно¬
сти, читал работу К. Маркса «К критике гегелевской философии права.
Введение».
Показательно для характеристики социальной проницательности
Белинского его огромное внимание в это время к осмыслению места п
роли буржуазии в историческом движении Европы и совершенно точное
умозаключение, что без революционности третьего сословия не было бы
той самой французской революции, которую горячо и восхищенно прини¬
мал Луи Блан, тут же провозгласивший буржуазию врагом человече¬
ства «со дня сотворения мира». Белинский вновь стремится углубить свое
историческое понимание социальных проблем и движущих сил общества.
В своем письме к Кавелину, написанному в связи с тем, что
последний поддержал статью Самарина «О мнениях «Современника» исто¬
рических и литературных» («Москвитянин», 1847, № И), направленную
против «натуральной школы», Белинский пишет: «Перечтите-ко да пере¬
водите эти фразы на простые попятия — так и увидите, что это целиком
взятые у французских социалистов и плохо понятые понятия о народе,
абстрактно примененные к нашему народу». В словах Белинского новое
отношение к принципам утопического социализма, к их отвлеченности от
реальных возможностей. И здесь же критик решительно возражает против
«абстрактных человеков». В письме к П. Анненкову критик говорит, что
освободился от «мистического верования в народ».
Письмо к Гоголю — итог, яркая вспышка в конце напряженной
жизни, полной страстного поиска, борьбы за русскую литературу, за реа¬
лизм и народность творчества, веры в свой народ и свою родину. Оно —
программное выступление критика и, по существу, его завещание: Рос¬
сии нужны не проповеди и не молитвы, а пробуждение в народе чув¬
ства человеческого достоинства, «столько веков потерянного в грязи и
неволе». Критик требовал освобождения крестьян, отмены телесных
наказаний, выполнения хотя бы тех законов, которые уже есть, — это
был, конечно, только минимум ближайших социальных преобразований.
Письмо Белинского было признано преступным, и его чтение на пятницах
Пстрашевского ставили в вину участникам кружка и, в частности, Досто¬
евскому,
40
В дни, предшествовавшие написанию письма,, больной, приехавший в
Зальцбрунн лечиться, Белинский предстал перед друзьями, по словам
П. Анненкова, «совершенно в новом свете. Страстная его натура, как ни
была подорвана мучительным недугом, еще далеко не походила на
потухший вулкан. Огонь все таился у Белинского под корой наружного
спокойствия и пробегал иногда по всему организму его». Этот огонь, вспо¬
минал далее Г1. Анненков, грозил сжечь его самого. Получив в Зальцбрунне
письмо Гоголя, где он недоумевал по поводу суждений Белинского о его
«Выбранных местах...», Белинский пробежал эти строки, вспыхнул и про¬
молвил: «А! Он не понимает, за что люди на него сердятся — надо растол¬
ковать ему это, — я буду ему отвечать!»
Критик сказал все, что накопилось на сердце, о чем приходилось
молчать и что он прятал в осторожных фразах. В своем письме Белинский
борется за Гоголя, за «натуральную школу». После публикации «Выбран¬
ных мест...» ему становятся ясными пагубные последствия стремления
Гоголя стать проповедником, забыв в себе художника. Письмо к Гоголю—
продолжение отчаянной борьбы критика за писателя-художника, за то
соединение демократического направления, реализма и художественности,
которое он находил у Гоголя, ставя« Мертвые души» выше всего, что было
и есть в русской литературе, ибо в них «глубокость живой общественной
идеи неразрывно сочеталась с бесконечною художественностью образов».
Белинский переживает, как собственную, трагедию писателя, который
отрекся от лучших своих творений. Критик стремился вернуть Гоголя от
«Выбранных мест...» к его художественному творчеству, удержать писателя
на краю бездны, которой тот не видел.
С появлением «Физиологии Петербурга» прекращаются сетования
Белинского на «бедность» и «нищету» русской литературы. Речь идет уже
не о необходимости развития ее, а о путях развития, о борьбе за плодо¬
творный путь и против пути ложного. В одном из выступлений П. Вязем¬
ский сделал попытку противопоставить Гоголя «натуральной школе».
Белинский отвергал эту попытку по существу, допуская, что «натуральная
школа» может быть «более одностороннею и даже однообразною, зато,—
подчеркивал он, — главное, и более оригинальною, самобытною, а следова¬
тельно, и истинною». Развитие самобытности и истинности русской
литературы — вот ее столбовая дорога. Эту мысль Белинский не уставал
повторять в последние годы. И если первым самобытным и истинным
поэтом был Пушкин, если за ним лидером стал Гоголь, то теперь выдви¬
гается плеяда писателей, идущих по этому пути самобытности и истины.
Принципиальная граница для Белинского оставалась нерушимой — между
искусством и псевдоискусством, между литературой и нелитературой.
Вместе с тем Белинский не мог, конечно, предотвратить социальную
дифференциацию в литературе и создать идейно единое художественное
направление критического реализма, как того ему хотелось. Эта диффе¬
ренциация была неизбежна с развитием социально-классовой борьбы, с
размежеванием политических лагерей, и сам Белинский принял в ней
активнейшее участпе, полемизируя не только с рептильной критикой, но
и с критикой славянофильской, наконец, с поборниками «чистого искус¬
ств*^ выдвинувшими против критического реализма имя Пушкина.
41
В своих последних работах Белинский горячо спорил со всеми этими
концепциями, уводившими русскую литературу от ее магистрального
пути; он доказывал, что возвращение к пушкинскому этапу невозможно и
означает прекращение развития, так много обещающего впереди.
За всю свою недолгую деятельность Белинский, открыв русскому
читателю великие свершения русской классической литературы, и прежде
всего ее основателей Пушкина, Гоголя, Лермонтова, сделал бесконечно
много и для самой литературы, и для самосознания русского народа.
Белинский, осмысливая замечательный опыт мировой литературы,
активно участвовал в формировании художественного опыта на русской
почве как продолжатель дела, начатого Пушкиным, как горячий участник
гоголевского направления в литературе, как соратник Герцена, как чело¬
век, напутствовавший Достоевского.
Трудно переоценить место критика в судьбе и творчестве Кольцова,
Некрасова, Тургенева. Белинский открывал новые имена для литературы,
стремился определить направление движения их таланта и радовался
вкладу, вносимому ими в общий литературный процесс.
Плещеев писал в стихотворении «Я тихо шел по улице безлюдной»:
Но кто из тех, в чью грудь он заронил
Зерно благих, возвышенных стремлений,
Кто памяти о нем не сохранил?
И в своих воспоминаниях он говорит о цельности Белинского, у кото¬
рого слово было и делом.
Достоевский, разойдясь с Белинским еще при жизни критика и поле¬
мизируя с ним всю свою жизнь, тем не менее испытал его огромнейшее
воздействие, начиная с первого знакомства, когда, как он сам вспоминал,
«страстно принял тогда все учение его».
Гениальными созданпями Пушкина, Гоголя и Лермонтова, а позднее
Толстого и Достоевского литература русская вошла в русло мирового ли¬
тературного потока. Она предложила художественные решения задач, воз¬
никших перед мировой литературой, и вклад Белинского в эти художест¬
венные решения огромен.
Без поэзии Пушкина, его мудрого жизнеутверждения, так же как
и без скорбно-беспощадного взгляда Гоголя и Лермонтова, не могло быть
и не было бы Белинского, его полной энтузиазма критики, его теории, его
эстетики, несмотря на все противоречия — стремительной и целенаправ¬
ленной.
Имена Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Белинского стоят рядом. Так
определила жизнь их собственная деятельность и творчество. Под знаком
этих имен развилась и сформировалась последующая русская литература.
Они положили начало замечательному явлению, которое называется рус¬
ской классической литературой и русской литературной критикой.
Встретившись с высказыванием А. Бестужева: «У нас есть критика, а
нет литературы», — Пушкин не согласился с ним.
«Мы не знаем, что такое Крылов, Крылов, который столь же выше
Лафонтена, как Державин выше Ж.-Б. Руссо», — ппсал поэт и делал вы¬
вод: «литература кой-какая у нас есть, а критики нет». Пушкин ратует
42
в 1825 году за литературную критику, которая позволила бы узнать, что
такое Крылов, Державин, сам Пушкин, наконец. И тем знаменательнее
внимание, проявленное Пушкиным к Белинскому. Поэт не ошибся. Нельзя
переоценить вклад Белинского в то, что мы теперь знаем свою классику.
JI. Толстой писал: «Статья о Пушкине — чудо. Я только теперь понял Пуш¬
кина».
Критик открыл современникам и потомкам русскую классическую
литературу, ее художественную высоту, ее удивительное творческое много¬
образие. Он первый назвал ее «великим национальным достоянием».
Известному историку и писателю Карамзину принадлежит для своего
времени точное суждение о том, что критика не сделалась еще потреб¬
ностью литературы, потому что «хорошая критика есть роскошь литера¬
туры», потому что она «рождается от великого богатстваг а мы еще не
Крезы».
Белинский придал критике ведущее положение в литературной жизни.
И сделанное им свидетельствовало о явлении «великого богатства» русской
классической литературы. Оно было ее «роскошью» (по представлениям
Карамзина) и необходимостью (по представлениям Пушкина).
Белинский завещал споспешествовать процветанию русской литерату¬
ры. С первых же своих шагов он заявил: «Чтобы идти вперед... нужны
таланты свежие и сильные», и потому столь же горячо утверждал он:
неуважение к таланту — признак невежества.
Я. ГЕЙ
СТАТЬИ
(1834-1836)
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ
(Элегия в прозе)
<1>
Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи. Вот, брат, рекомендую:
Как этаких людей учтивее зовут?..
Грибоедов. Горе от ума
Есть ли у вас хорошие книги? — Нет, но
у нас есть великие писатели. — Так по крайней
мере у вас есть словесность? — Напротив, у нас
есть только книжная торговля.
Барон Брамбеус1
Помните ли вы то блаженное время, когда в нашей литера¬
туре пробудилось было какое-то дыхание жизни, когда появ¬
лялся талант за талантом, поэма за поэмою, роман за романом,
журнал за журналом, альманах за альманахом; то прекрасное
время, когда мы так гордились настоящим, так лелеяли себя
будущим, и, гордые нашею действительностпю, а еще более сла¬
достными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих
Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов? Увы!, где
ты, о bon vieux temps, * где вы, мечты отрадные, где ты, надеж-
да-ооольститель! Как все переменилось в столь короткое вре¬
мя. Какое ужасное, раздирающее душу разочарование после
столь сильного, столь сладкого обольщения! Подломились хо-
дульки наших литературных атлетов, рухнули соломепные под¬
мостки, на кои, бывало, карабкалась золотая посредственность,
а вместе с тем умолкли, заснули, исчезлп и те немпогпе
и неоолыпие дарования, которыми мы так обольщались во вре¬
мя оно. Мы спалп п видели себя Крезами, а проснулись Ирами!2
* о доброе старое время (Франц.). — ред.
47
Увы! как хорошо идут к каждому из наших гениев и полугениев
сии трогательные слова поэта:
Не расцвел и отоцвел
В утре пасмурных дней! 3
Да — прежде — и ныне, тогда — и теперь! Великий боже!..
Пушкин, поэт русский по преимуществу, Пушкин, в сильных
и мощных песнях которого впервые пахнуло веяние жизни рус¬
ской, игривый и разнообразный талант которого так любила
и лелеяла Русь, к гармоническим звукам которого она так жадно
прислушивалась и на кои отзывалась с такою любовию, Пуш¬
кин— автор «Полтавы» и «Годунова» и Пушкин—автор «Анд¬
жело» и других мертвых, безжизненных сказок!.. Козлов — за¬
думчивый певец страданий Чернеца4, стоивших стольких слез
прекрасным читательницам, этот слепец, так гармонически пе¬
редававший нам, бывало, свои роскошные видения, и Козлов —
автор баллад и других стихотворений, длинных и коротких, на¬
печатанных в «Библиотеке для чтения», и о коих только
и можно сказать, что в них все обстоит благополучно5, как уже
было замечено в «Молве»!., какая разница!.. Много бы, очень
много могли мы прибрать здесь таких печальных сравнений,
таких горестных контрастов, но... Словом, как говорит Ла¬
мартин:
Les dieux etaient tombes, les trones etaient vides! *
Какие же новые боги заступали вакантные места старых?
Увы, они сменили их, не заменив! Прежде наши Аристархи, за¬
носившиеся юными надеждами, всех обольщавшими в то время,
восклицали в чаду детского, простодушного упоения: Пушкин —
северный Байрон, представитель современного человечества 6.
Ныне, на наших литературных рынках, наши неутомимые герольды
вопиют громко: Кукольник, великий Кукольник, Кукольник —
Байрон, Кукольник — отважный соперник Шекспира! на колена
перед Кукольником!**7 Теперь Баратынских, Подолинских, Язы¬
ковых, Туманских, Ознобишиных сменили гг. Тимофеевы, Ершо¬
вы; на поприще их замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеу-
сы, Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословице: на
безлюдье и Фома дворянин. Первые или потчуют нас изредка
старыми погудками на старый же лад, или храпят скромное
молчание; последние размениваются комплиментами, называют
друг друга гениями и кричат во всеуслышание, чтобы поскорее
раскупали их книги. Мы всегда были слишком неумеренны
в раздаче лавровых венков гения, в похвалах корифеям нашей
поэзии: это наш давнишний порок; по крайней мере прежде
причиною этого было невинное обольщение, происходившее из
* Боги пали, троны опустели! (франц.). — Ред.
** «Библиотека для чтения» и «Инвалидные прибавления к литера¬
туре» 8.
48
благородного источника — любви к родному; ныне же реши¬
тельно все основано на корыстных расчетах; сверх того, прежде
еще и было чем похвастаться; ныне же... Отнюдь не думая оби¬
жать прекрасный талант г-на Кукольника, мы все-таки, не запи¬
наясь, можем сказать утвердительно, что между Пушкиным
и им, г-ном Кукольником, пространство неизмеримое, что ему,
r-иу Кукольнику, до Пушкина,
Как до звезды небесной далеко!9
Да — Крылов и г. Зилов, «Юрий Милославский» Загоскина
и «Черная женщина» г-на Греча, «Последний Новик» Лажечни¬
кова и «Стрельцы» г-на Масальского и «Мазепа» г-на Булгарина,
повести Одоевского, Марлинского, Гоголя — и повести, с позво¬
ления сказать, г-на Брамбеуса!!!... Что все это означает? Какие
причины такой пустоты в нашей литературе? Или и в самом
деле — у нас нет литературы?..
(Продолжение обещано).
(И)
Pas de grace!
Hugo. Marion de Lorme
Да — у нас нет литературы! 10
«Вот прекрасно! вот новость! — слышу я тысячу голосов
в ответ на мою дерзкую выходку. — А наши журналы, неусып¬
но подвизающиеся за нас на ловитве европейского просвеще¬
ния, а наши альманахи, наполненные гениальными отрывками из
недоконченных поэм, драм, фантазий, а наши библиотеки, бит¬
ком набитые многими тысячами книг российского сочинения,
а наши Гомеры, Шекспиры, Гете, Вальтер Скотты, Байроны,
Шиллеры, Бальзаки, Корнели, Мольеры, Аристофаны? Разве мы
не имеем Ломоносова, Хераскова, Державина, Богдановича,
Петрова, Дмитриева, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуков¬
ского, Пушкина, Баратынского и пр. и пр. А! что вы на это
скажете?»
А вот что, милостивые государи: хотя я и не имею чести
быть бароном11, но у меня есть своя фантазия, вследствие
которой я упорно держусь той роковой мысли, что,' несмотря
на то, что наш Сумароков далеко оставил за собою в трагедиях
господина Корнеля и господина Расина, а в притчах господина
Лафонтена; что наш Херасков, в прославлении на лире громкой
славы россов, сравнялся с Гомером и Виргилием и под щитом
Владимира и Иоанна по добру и здорову пробрался во храм
бессмертия** 2, что наш Пушкин в самое короткое время успел
стать наряду с Байроном и сделаться представителем челове¬
* ПмДЭДЫ нет! Гюго. Марион де Лорм (франц.). —Ред.
** То есть во «Всеобщую историю» г-на Кайданова 13.
49
чества; несмотря на то, что наш неистощимый Фаддей Венедик¬
тович Булгарин, истинный бич и гонитель злых пороков, уже
десять лет доказывает в своих сочинениях, что не годится плу¬
товать и мошенничать человеку comme il faut, * что пьянство
и воровство суть грехи непростительные, и который своими
нравоописательными и нравственно-сатирическими (не правиль¬
нее ли полицейскими) романами и народно-умористическими
статейками на целые столетия двинул вперед наше гостеприим¬
ное отечество14 по части нравоисправления; несмотря на то,
что наш юный лев поэзии, наш могущественный Кукольник
с первого прыжка догнал всеобъемлющего исполина Гете
и только со второго поотстал немного от Крюковского; несмот¬
ря на то, что наш достопочтенный Николай Иванович Греч (вку¬
пе и влюбе с Фаддеем Венедиктовичем) разанатомировал, раз¬
нял по суставам наш язык и представил его законы в своей
тройственной грамматике 15 — этой истинной скинии завета13,
куда, кроме его, Николая Ивановича Греча, и друга его, Фаддея
Венедиктовича, еще доселе не ступала нога ни одного профана;
тот Николай Иванович Греч, который во всю жизнь свою не де¬
лал грамматических ошибок и только в своем дивном поэти¬
ческом создании — «Черная женщина» — еще в первый раз, по
улике чувствительного князя Шаликова, поссорился с грамма¬
тикою, видно, увлекшись слишком разыгравшеюся фантазиею;
несмотря на то, что наш г. Калашников заткнул за пояс Купера
в роскошных описаниях безбрежных пустынь русской Америки,
Сибири, и в изображении ее диких красот;17 несмотря на то,
что наш гениальный Барон Брамбеус своею толстою фантасти¬
ческою книгою насмерть пришлепнул Шамполиопа и Кювье, двух
величайших шарлатанов и надувателей, которых невежествен¬
ная Европа имела глупость почитать доселе великими учены¬
ми 18, а в едком остроумии смял под ноги Вольтера, первого
в мире остроумца и балагура; несмотря, говорю я, на убеди¬
тельное и красноречивое опровержение нелепой мысли, будто
у нас нет литературы, опровержение, так умно и сильно провоз¬
глашенное в «Библиотеке для чтения» глубокомысленным ази¬
атским критиком Тютюнджи-Оглу;19 — несмотря на все на это,
повторяю: у нас нет литературы!.. Уф! устал! Дайте перевести
дух — совсем задохнулся!.. Право, от такого длинного периода
поперхнется в горле даже и у Барона Брамбеуса, который и сам
мастак на великие периоды...
Что такое литература?
Одни говорят, что под литературою какого-лпбо народа
должно разуметь весь круг его умственной деятельности, про¬
явившейся в письменности. Вследствие сего нашу, напрпмер, ли¬
тературу составят: «История» Карамзина и «История» гг. Эмина
и С. Н. Глинки20, исторические розысканпя Шлецера, Эверса,
* порядочному (франц.). — Ред.
50
Каченовского и статья г. Сенковского об исландских сагах21,
физики Велланского и Павлова 22, и «Разрушение Коперниковой
системы» с брошюркою о клопах и тараканах; «Борис Годунов»
Пушкина и некоторые сцены из исторических драм со штями
и анисовкою, оды Державина и «Александроида» г. Свечина
и пр. Если так, то у нас есть литература, и литература, богатая
громкими именами и не менее того громкими сочинениями.
Другие под словом «литература» понимают собрание из¬
вестного числа изящных произведений, то есть, как говорят
французы, chefs-сГoeuvres de lilterature *. И в этом смысле
у нас есть литература, ибо мы можем похвалиться большим
или меньшим числом сочинений Ломоносова, Державина, Хем-
ницера, Крылова, Грибоедова, Батюшкова, Жуковского, Пушки¬
на, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинского, кн. Одоев¬
ского и еще некоторых других. Но есть ли хотя один язык на
свете, на коем бы не было скольких-нибудь образцовых худо¬
жественных произведений, хотя народных песен? Удивительно
ли, что в России, которая обширностию своею превосходит всю
Европу, а народонаселением каждое европейское государство,
отдельно взятое, удивительно ли, что в этой новой Римской
империи явилось людей с талантами более, нежели, например,
в какой-нибудь Сербии, Швеции, Дании и других крохотных зе¬
мельках? Все это в порядке вещей, и из всего этого еще отнюдь
не следует, чтобы у нас была литература.
Но есть еще третье мнение, не похожее ни на одно из
обоих предыдущих, мнение, вследствие которого литературою
называется собрание такого рода художественно-словесных
произведений, которые суть плод свободного вдохновения
и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для
искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его,
вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящпых со¬
зданиях дух того народа, среди которого они рождены и вос¬
питаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат,
выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю
жизнь до сокровеннейших глубин и биений. В истории такой
литературы нет и не может быть скачков: напротив, в пей все
последовательно, все естественно, нет никаких насильственных
или принужденных переломов, происшедших от какого-нибудь
чуждого влияния. Такая литература пе может в одно и то же
время быть и французскою, и немецкою, и английскою, и итали-
янскою. Это мысль не новая: она давно была высказана тысячу
раз. Казалось бы, не для чего и повторять ее. Но увы! Как
много есть пошлых истин, которые у нас должно твердить
и повторять каждый день во всеуслышание! У нас, у которых
так зыоки, так шатки литературные мнения, так темны и зага¬
дочны литературные вопросы; у нас, у которых один недоволен
? шедевры литературы (франц.). — ред.
51
второю частию «Фауста», а другой в восторге от «Черной жен-
щины», один бранит кровавые ужасы «Лукреции Борджиа»23,
а тысячи услаждают себя романами гг. Булгарина и Орлова;
у нас, у которых публика есть настоящее изображение людей
после Вавилонского столпотворения, где
Один кричит арбуза,
А тот соленых огурцов;24
наконец, у нас, у которых так дешево продаются и покупаются
лавровые венки гения, у которых всякая смышленость, вспомо-
ществуемая дерзостию и бесстыдством, приобретает себе гром¬
кую известность, нагло ругаясь над всем святым и великим че¬
ловечества под какою-нибудь баронскою маскою; у нас, у кото¬
рых купчая крепость на целую литературу и всех ее гениев до¬
ставляет тысячи подписчиков на иной торговый журнал; у нас,
у которых нелепые бредни, воскрешающие собою позабытую
ученость Тредьяковских и Эминых, громогласно объявляются
всемирными статьями25, долженствующими произвести реши¬
тельный переворот в русской истории?.. Нет: пиши, говори, кри¬
чи всякий, у кого есть хоть сколько-нибудь бескорыстной любви
к отечеству, к добру и истине; не говорю познаний, ибо многие
печальные опыты доказали нам, что, в деле истины, познания
и глубокая ученость совсем не одно и то же с беспристрастием
и справедливостию...
Итак, оправдывает ли наша словесность последнее опреде¬
ление литературы, приведенное мною? Чтобы решить этот во¬
прос, бросим беглый взгляд на ход нашей литературы от Ломо¬
носова, первого ее гения, до г-на Кукольника, последнего ее
гения.
(Следующий листок покажет).
(III)
La verite! la verite I rien plus
que la verite! *
«Как, что такое? Неужели обозрение?» — спрашивают меня
испуганные читатели.
Да, милостивые государи, оно хоть и не совсем обозрение,
а похоже на то. Итак — silence! ** — Но что я вижу? Вы мор¬
щитесь, пожимаете плечами, вы хором кричите мне: «Нет, брат,
стара шутка — не надуешь... Мы еще не забыли и прежних обо¬
зрений, от которых нам жутко приходилось! Мы, пожалуй, на¬
перед прочтем тебе наизусть все то, о чем ты нам будешь
проповедовать. Все это мы и сами знаем не хуже тебя. Ведь
ныне не то, что прежде; тогда хорошо было вашей братье, не
* Истина! истина! ничего, кроме истины! (франц.), — Ред.
** молчание! (франц.).— Ред.
52
призванным обозревателям, морочить нас, бедных читателей,
а теперь всякий обзавелся своим умишком и в состоянии толко¬
вать вкось и вкривь о том и о сем»...26
Что мне отвечать вам на это неизбежимое приветствие?..
Право, ума не приложу... Однако ж... прочтите, хоть так, от
скуки — ведь ныне, знаете, нечего читать, так оно и кстати...
Может быть (ведь чем черт не шутит!) —может быть, вы найде¬
те в моем кратком (слышите ли — кратком!) обзоре если не
слишком хитрые вещи, то и не слишком нелепые, если не слиш¬
ком новые, то и не слишком истертые... Притом же ведь чего-
нибудь да стоят правда, беспристрастие, благонамеренность...
Что, не верите? — Отворачиваетесь от меня, качаете головой,
машете руками, затыкаете уши?.. Ну, бог с вами: божиться не
стану, хотите читайте, хотите нет; ведь и то сказать, вольному
воля!.. А впрочем, что же я расторговался с вами? Нет — прошу
не погневаться: рады или не рады, а прочесть должны: зачем
же грамоте учились? Итак, благословясь, к делу!
Вы, почтенные читатели, может быть, ожидаете, что я, по
похвальному обычаю наших многоученых и досужих Аристар¬
хов 27, начну мое обозрение с начала всех начал — с яиц Ле¬
ды28,— дабы показать вам, какое влияние имели на русскую
литературу создание мира, грехопадение первого человека, по¬
том Греция, Рим, великое переселение народов, Атилла, рыцар¬
ство, крестовые походы, изобретение компаса, пороха, книгопе¬
чатание, открытие Америки, реформация, Тридцатилетняя война
и пр. и пр.? Вы, может статься, уже и не на шутку струхнули,
ожидая, что я, без всякой вежливости, схвачу вас за ворот,
потащу на пароход «Джон Буль» и на нем, как на волшебном
ковре-самолете, полечу прямо в Индию, в эту дивную родину
человечества, в эту чудную страну Гималаев, слонов, тигров,
львов, удавов, обезьян, золота, каменьев и холеры; вы, может
быть, думаете, что я изложу вам содержание «Рамайяны»
и «Махабгараты», разберу неподражаемые красоты «Саконта-
лы» 29, обнаружу перед вами все богатство этой многосложной
и роскошной мифологии жрецов Магадевы и Шивы30 и рас¬
пространюсь кстати о поразительном сходстве санскритского
языка с славянским? Нет, милостивые государи, не обманывайте
себя столь лестною надеждою: она не сбудется, и, кажется, на
вашу же радость, ибо — признаюсь вам откровенно — священ¬
ные письмена Вед31 для меня сущая тарабарская грамота,
а поэм и драм индийских я не видывал даже и в переводах. Не
ожидайте также, чтобы с берегов священного Гангеса я повел
вас на цветущие берега Тигра и Евфрата, где младенец-человек
разбил идолов и поклонился огню; не ждите, чтобы дерзкою
рукою стал я срывать девственный покров с таинств древних
магов или жрецов Озириса и Изиды на берегах многоводного
Нила; не думайте, чтобы я завел вас мимоходом в пустыни
Аравийские, чтобы на песчаном океане, у журчащего источника,
53
под сепию широколиственпой пальмы, объяснять вам седьмь
славных Моаллакат 32. Правда, дорога в эти страны мье извест¬
на не меньше всех наших обозревателей; но боюсь пускаться
с вами в такую даль: жалко вас — неравно устанете пли собье¬
тесь с пути. Не более того услышите от меня о Греции и ее
изящной и богатой литературе; равным образом пройду роко¬
вым молчанием и вечный Рим. Нет — не бойтесь! Не хочу —
подражая нашим прошедшим, настоящим, а может статься,
и будущим обозревателям, которые всегда начинают на один
лад, с яиц Леды, и оканчивают ровно ничем, которые, наскучив
своим долговременным и скромным молчанием, припатужив
свои умственные способности, одним разом высыпают из своих
голов весь неистощимый запас своих огромных и разнообраз¬
ных сведений и умещают его на нескольких страничках при¬
ятельского журнала или альманаха, — не хочу ворошить костями
Гомеров и Виргилиев, Демосфенов и Цицеронов; и без меня
довольно достается им бедненьким. Не только не стану наво¬
дить справок, с каких родов начали писать или петь первобыт¬
ные поэты, с гимнов или молитв, но даже не разыграю вам
никакой прелюдии о литературе средних и новых веков, а начну
прямо с русской. Этого мало: пе буду толковать даже и о
блаженной памяти классицизме и романтизме: вечная им па¬
мять!
Ну, решите сами, любезные читатели! не чудак ли я, да
и только? Как, принять на себя важную должность обозревателя
и не воспользоваться таким прекрасным случаем выказать свою
глубокую ученость, взятую напрокат из русских журналов, вы¬
сказать множество светлых, резких, хотя уже и давно всем из¬
вестных и, как горькая редька, надоевших истин, сдобрить всю
эту микстуру, весь этот винегрет, намеками на то и на се, разу¬
красить его каламбурами и пестрым калейдоскопическим сло¬
гом, хотя бы наперекор здравому смыслу!.. Что, милостивые
государи, вы удивляетесь? То-то же, ведь говорил вам: прочти¬
те, авось не будете каяться... Подумайте хорошенько, а между
тем еще раз повторю вам, что, к крайнему вашему огорчению,
ничего этого не будет — а почему, о том читайте ниже — и ди¬
витесь.
Во-перБых: потому, что не хочу мучить вас зевотою, от ко¬
торой и сам довольно страдаю.
Во-вторых: потому, что не хочу шарлатанить, то есть гово¬
рить свысока о том, чего не знаю, а если и знаю, то очепь
сбивчиво и неопределенно.
В-третьих: потому, что все это прекрасно на своем месте,
по к русской литературе, предмету мсего обозрения, пимало
не относится: надеюсь открыть ларчик гораздо проще.
В-четвертых: потому, что твердо помню премудрое правило
бывшего нашего критика, блаженной памяти Никодима
Аристарховича Надоумка, что глупо, для переезда через лужу
54
на челноке, раскладывать перед собою морскую карту. Воля ва¬
ша, а я готов побожиться, что покойник говорил правду 33. Бы¬
ло время, когда все затыкали уши от его невежливых выходок
против тогдашних гениев, а теперь все жалеют, что уже некому
припугнуть хорошенько нынешних: изволь тут угодить на весь
свет! Впрочем, я это сказал так, a propos * — спешу к началу.
Французы называют литературу выражением общества; это
определение не ново: оно давно нам знакомо. Но справедливо
ли оно? Это другой вопрос. Если под словом общество должно
разуметь избранный круг образованнейших людей, или, короче
сказать, большой свет, beau monde, тогда это определение бу¬
дет иметь свое значение, свой смысл, и смысл глубокий, по
только у одних французов. Каждый народ, сообразно с своим
характером, происходящим от местности, от единства или раз¬
нообразия элементов, пз коих образовалась его жизнь, и исто¬
рических обстоятельств, при коих она развилась, играет в вели¬
ком семействе человеческого рода свою особенную, назначен¬
ную ему провидением роль и вносит в общую сокровищницу его
успехов на поприще самосовершенствования свою долю, свой
вклад; другими словами: каждый народ выражает собою одну
какую-нибудь сторону жизни человечества. Таким образом,
немцы завладели беспредельною областию умозрения и анали¬
за, англичане отличаются практическою деятельностию, италиян-
цы художественным направлением. Немец все подводит под
общий взгляд, все выводит из одного начала; англичанин пере¬
плывает моря, прокладывает дороги, проводит каналы, торгует
со всем светом, заводит колонии и во всем опирается на опыте,
па расчете; жизнь италиянца прежних времен была любовь
и творчество, творчество и любовь. Направление французов
есть жизнь, жизнь практическая, кипучая, беспокойная, вечно
движущаяся. Немец творит мысль, открывает новую истину;
француз ею пользуется, проживает, издерживает ее, так ска¬
зать. Немцы обогащают человечество идеями; англичане изобре¬
тениями, служащими к удобствам жизни; французы дают нам
законы моды, предписывают правила обхождения, вежливости,
хорошего тона. Словом: жизнь француза есть жизнь общест¬
венная, паркетная; паркет есть его поприще, на котором он
блистает блеском своего ума, познаний, талантов, остроумия,
образованности. Для французов бал, собрание — то же, что для
греков была площадь или игры олимпийские: это бптва, турнир,
где, вместо оружия, сражаются умом, остротою, обра?ов'ап-
ностию, просвещением, где честолюбие отражается честолюби¬
ем, где много ломается копий, много выигрывается и проигры¬
вается побед. Вот отчего ни один народ не может сравняться
с французами в этой обходительности, в этой изящной ловкости
и любезности, для выражения которых словами опягь-таки
* кстати (франц.). — Ред.
55
способен только один французский язык; вот отчего все усилия
европейских народов сравняться в сем отношении с француза¬
ми всегда оставались тщетными; вот отчего все другие общест¬
ва всегда были, суть и будут смешными карикатурами, жалкими
пародиями, злыми эпиграммами на французское общество; вот
почему, говорю я, это определение словесности, вследствие ко¬
торого она должна быть выражением общества, так глубоко
и верно у французов. Их литература всегда была верным отра¬
жением, зеркалом общества, всегда шла с ним рука об руку,
забывая о массе народа, ибо их общество есть высочайшее
проявление их народного духа, их народной жизни. Для писате¬
лей французских общество есть школа, в которой они учатся
языку, заимствуют образ мыслей и которое они изображают
в своих творениях. Совсем не так у других народов. В Герма¬
нии, например, не тот учен, кто богат или вхож в лучшие дома
и блистательнейшие общества; напротив, гений Германии любит
чердаки бедняков, скромные углы студентов, убогие жилища
пасторов. Там все пишет или читает, там публика считается мил¬
лионами, а писатели тысячами; словом: там литература есть вы¬
ражение не общества, но народа. Таким же образом, хотя и не
вследствие таких же причин, литературы и других народов не
суть выражение общества, но выражение духа народного; ибо
нет ни одного народа, жизнь которого преимущественно прояв¬
лялась бы в обществе, и можно сказать утвердительно, что
Франция составляет в сем случае единственное исключение.
Итак, литература непременно должна быть выражением — сим¬
волом внутренней жизни народа. Впрочем, это совсем не есть
ее определение, но одно из необходимейших ее принадлеж¬
ностей и условий. Прежде нежели я буду говорить о России
в сем отношении, почитаю необходимым изложить здесь мои
понятия об искусстве вообще. Я хочу, чтобы читатели видели,
с какой точки зрения смотрю я на предмет, о котором вызвался
судить, и вследствие каких причин я понимаю то или другое так,
а не этак.
Весь беспредельный, прекрасный божий мир есть не что
иное, как дыхание единой, вечной идеи (мысли единого, вечно¬
го бога), проявляющейся в бесчисленных формах, как великое
зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии.
Только пламенное чувство смертного может постигать, в свои
светлые мгновения, как велико тело этой души вселенной, серд¬
це которого составляют громадные солнца, жилы — пути млеч¬
ные, а кровь — чистый эфир. Для этой идеи нет покоя: она
живет беспрестанно, то есть беспрестанно творит, чтобы разру¬
шать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестя¬
щее солнце, в великолепную планету, в блудящую комету; она
живет и дышит — ив бурных приливах и отливах морей, и в
свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании
ручья, и в рыкании льва; и в слезе младенца, и в улыбке красо¬
56
ты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения... Кружится
колесо времени с быстротою непостижимою, в безбрежных рав¬
нинах неба потухают светила, как истощившиеся волканы, и за¬
жигаются новые; на земле проходят роды и поколения и заме¬
няются новыми, смерть истребляет жизнь, жизнь уничтожает
смерть; силы природы борются, враждуют и умиротворяются си¬
лами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном
брожении, в этой борьбе начал и веществ. Так — идея живет:
мы ясно видим это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо
все предвидит, все держит в равновесии; за наводнением и за
лавою ■ ниспосылает плодородие, за опустошительною грозою чи¬
стоту и свежесть воздуха, в пустынях песчаной Аравии и Афри¬
ки поселила верблюда и строуса, в пустынях ледяного Севера
поселила оленя. Вот ее мудрость, вот ее жизнь физическая: где
же ее любовь? Бог создал человека и дал ему ум и чувство, да
постигает сию идею своим умом и знанием, да приобщается к ее
жизни в живом и горячем сочувствии, да разделяет ее жизнь
в чувстве бесконечной, зиждущей любови! Итак, она не только
мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человек, своим высоким
назначением; но не забывай, что божественная идея, тебя ро¬
дившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и во¬
лю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе
живет, а жизнь есть действование, а действование есть борьба;
не забывай, что твое бесконечное, высочайшее блаженство со¬
стоит в уничтожении твоего я в чувстве любви. Итак, вот тебе
две дороги, два неизбежные пути: отрекись от себя, подави
свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для
счастия других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для
пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но
для истины и блага, и тяжким крестом выстрадай твое соедине¬
ние с богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уни¬
чтожении твоего я, в чувстве беспредельного блаженства!.. Что?
Ты не решаешься? Этот подвиг тебя страшит, кажется тебе не
по силам?.. Ну, так вот тебе другой путь, он шире, спокойнее,
легче: люби самого себя больше всего на свете; плачь, делай
добро лишь из выгоды, не бойся зла, когда оно приносит тебе
пользу. Помни это правило: с ним тебе везде будет тепло! Если
ты рожден сильным земли, гни твой хребет, ползи змеею между
тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей
кровь и слезы, чело обремени лавровыми венцами, рамена со¬
гни под грузом незаслуженных почестей и титл. Весела
и блестяща будет жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холод
или голод, что такое угнетение и оскорбление, все будет трепе¬
тать тебя, везде покорность и услужливость, отвсюду лесть
и хваления, и поэт напишет тебе послание и оду, где сравнит
тебя с полубогами, и журналист прокричит во всеуслышание,
что ты покровитель слабых и сирых, столп и опора отечества,
плавая рука государя! Какая тебе нужда, что в душе твоей
57
каждую минуту будет разыгрываться ужасная, кровавая драма, что
ты будешь в беспрестанном раздоре с самим собою, что в душе
твоей будет слишком жарко, а в сердце слишком холодно, что
вопли угнетенных тобою будут преследовать тебя п па светлом
пиру и на мягком ложе сна, что тени погубленных тобою окру¬
жат твой болезненный одр, составят около него адскую пляску
и с яростным хохотом будут веселиться твоими последними,
предсмертными страданиями, что перед твоими взорами откро¬
ется ужасная картина нравственного уничтожения за гробом,
мук вечных!.. Э, любезный мой, ты прав: жизнь — сон, и не уви¬
дишь, как пройдет!.. Зато весело поживешь, сладко поешь, мяг¬
ко поспишь, повластвуешь над своими ближними, а ведь это
чего-нибудь да стоит! — Если же, при твоем рождении, природа
возложила на твое чело печать гения, дала тебе вещие уста
пророка и сладкий голос поэта, если миродержавные судьбы
обрекли тебя быть двигателем человечества, апостолом истииы
и знания, вот опять перед тобою два неизбежные пути. Сочувст¬
вуй природе, люби и изучай ее, твори бескорыстно, трудись
безвозмездно, отверзай души ближних для впечатлений благо¬
го и истинного, изобличай порок и невежество, терпи гонения
злых, ешь хлеб, смоченный слезами, и не своди задумчиво! о
взора с прекрасного, родного тебе неба. Трудно? тяжко?.. Ну
так торгуй твоим божественным даром, положи цену на каждое
вещее слово, которое ниспосылает тебе бог в святые минуты
вдохновения: покупщики найдутся, будут платить тебе щедро,
а ты лишь умей кадить кадилом лести, умей склонять во прах
твое венчанное чело, забудь о славе, о бессмертии, о потомст¬
ве, довольствуйся тем, если услужливая рука торгаша-журна-
листа провозгласит о тебе, что ты великий поэт, гений, Байрон,
Гете!..
Вот нравственная жизнь вечной идеи. Проявление ее —
борьба между добром и злом, любовию и эгоизмом, как в жиз¬
ни физической противоборство силы сжимательной и расшири¬
тельной. Без борьбы нет заслуги, без заслуги нет награды, а без
действования нет жизни! Что представляют собою индивидуумы,
то же представляет и человечество: оно борется ежеминутно
и ежеминутно улучшается. Потоки варваров, нахлынувших из
Азии в Европу, вместо того чтобы подавить жизнь, воскресили
ее, обновили дряхлеющий мир; из гнилого трупа Римской импе¬
рии возникли мощные народы, сделавшиеся сосудом благода¬
ти... Что означают походы Александров, беспокойная деятель¬
ность Цезарей, Карлов? — Движение вечной идеи, которой
жизнь состоит в беспрерывной деятельности...
Какое же назначение и какая цель искусства?.. Изображать,
воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и красках идею всеоб¬
щей жизни природы: вот единая и вечная тема искусства! По¬
этическое одушевление есть отблеск творящей силы природы.
Посему поэт более, нежели кто-либо другой, должен изучать
58
природу физическую и духовную, любить ее и сочувствовать ей;
более, нежели кто-либо другой, должен быть чист и девствен
душою; ибо в ее святилище можно входить только с ногами
обнаженными, с руками омовенными, с умом мужа и сердцем
младенца; ибо только сии наследят царствие небесное34, ибо
только в гармонии ума и чувства заключается высочайшее со¬
вершенство человека!.. Чем выше гений поэта, тем глубже
и обширнее обнимает он природу и тем с большим успехом
представляет нам ее в ее высшей связи и жизни. Если Байрон
«взвесил ужас и страданье» 35, если он постиг и выразил только
муки сердца, ад души, это значит, что он постиг только одну
сторону бытия вселенной, что он вырвал и показал нам только
одну страницу оного. Шиллер передал нам тайны неба, показал
одно прекрасное жизни, так, как он понимал его сам, пропел
нам только свои заветные думы и мечтания; злое жизни у него
или неверно, или искажено преувеличением; Шиллер в сем от¬
ношении равен Байрону. Но Шекспир, божественный, великий,
недостижимый Шекспир, постиг и ад, и землю, и небо: царь
природы, он взял равную дань и с добра и с зла и подсмотрел
в своем вдохновенном ясновидении биение пульса вселенной!
Каждая его драма есть мир в миниатюре; у него нет, как
у Шиллера, любимых идей, любимых героев. Посмотрите, как
бесчеловечно смеется он над этим бедным Гамлетом, с замыс¬
лом гиганта и волею ребенка, который на каждом шагу падает
под тяжестию подвпга, предпринятого не по силам!.. Спросите
у Шекспира, Опросите у этого царя чародеев: для чего он сде¬
лал из Лира слабого, полуумного старичишку, а не идеал
нежного отца, как Дюсис или Гнедич;36 для чего он представил
в Макбете человека, сделавшегося злодеем по слабости харак¬
тера, а не по влечению ко злу, а в леди Макбет злодейку по
чувству; для чего он сделал из Корделии нежную любящую дочь,
с мягким женским сердцем, а на ее сестер наслал фурий за¬
висти, честолюбия и неблагодарности? Он сказал бы вам в от¬
вет, что так бывает в мире, что иначе быть не может! — Да! это
беспристрастие, эта холодность поэта, который как будто гово¬
рит вам: так было, а впрочем, мне какое дело! — есть высочай¬
ший зенит художественного совершенства, есть истинное твор¬
чество, есть удел немногих избранных, о коих говорят:
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье,
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна 37.
В самом деле, разве вы можете назвать то или другое явление
прекрасным, а это безобразным без отношений?.. Разве не один
и тот же дух божий создал кроткого агнца и кровожаждущего
59
тигра, статную лошадь и безобразного кита, красавицу черке¬
шенку и урода негра? Разве он больше любит голубя, чем яст¬
реба, соловья, чем лягушку, газель, чем удава? Для чего же
поэт должен изображать вам одно прекрасное, одно умиляю¬
щее душу п сердце? Если Ган Исландец может существовать
в природе, то я, право, не понимаю, чем он хуже какого-нибудь
Карла Моора или даже маркиза Позы?38 Я люблю Карла Моора
как человека, обожаю Позу как героя и ненавижу Гана Исланд¬
ца как чудовище; но как создания фантазии, как частные явле¬
ния общей жизни они для меня все равно прекрасны. Если поэт
изображает вам, подобно какому-нибудь капитану Сюзэ, одно
ужасное, одно злое природы, это доказывает, что кругозор его
ума тесен, что его творческий гений ограничен, а ничуть не
обнаруживает в нем дурного, безнравственного человека. Вот,
когда он своими сочинениями старается заставить вас смотреть
на жизнь с его точки зрения, в таком случае он уже и не поэт,
а мыслитель, и мыслитель дурной, злонамеренный, достойный
проклятия, ибо поэзия не имеет цели вне себя. Доколе поэт
следует безотчетно мгновенной вспышке своего воображения,
дотоле он нравствен, дотоле он и поэт; но как скоро он пред¬
положил себе цель, задал тему, он уже философ, мыслитель,
моралист, он теряет надо мной свою чародейскую власть, разру¬
шает очарование и заставляет меня сожалеть о себе, если, при
истинном таланте, пмеет похвальную цель, и презирать себя,
если силится опутать мою душу тенетами вредных мыслей. Вам
нравится ода «Бог» Державина? Но этот же Державин написал
«Мельника». Вы осуждаете Пушкина за многие вольности
в «Руслане и Людмиле»? Но этот же Пушкин создал вам «Бориса
Годунова». Отчего же такие противоречия в их художественном
направлении? Оттого что они хорошо помнят правило:
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывный
Отзывной песнью отвечай!40
Да— искусство есть выражение великой идеи вселенной
в ее бесконечно разнообразных явлениях! Прекрасно было где-
то сказано, что повесть есть краткий эпизод из бесконечной
поэмы судеб человеческих!41 Под это определение повести
подходят все роды художественных созданий. Все искусство по¬
эта должно состоять в том, чтобы поставить читателя на такую
точку зрения, с которой бы ему видна была вся природа в со¬
кращении, в миниатюре, как земной шар на ландкарте, чтобы
дать ему почувствовать веяние, дыхание этой жизни, которая
одушевляет вселенную, сообщить его душе этот огонь, который
согревает ее. Наслаждение же изящным должно состоять в ми¬
нутном забвении нашего я, в живом сочувствии с общею жизнию
60
природы; и поэт всегда достигнет этой прекрасной цели, если
его произведение есть плод возвышенного ума и горячего чув¬
ства, если оно свободно и безотчетно вылилось из его души...
(Опять не кончилось).
(IV)
Ах! если рождены мы всё перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять
Премудрого у них незнанья иноземцев!
Воскреснем ли когда от чужевластья мод,
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев!
«Горе от ума». Действие III.
Итак, теперь должно решить следующий вопрос: что такое
наша литература: выражение общества или выражение духа на¬
родного? Решение этого вопроса будет историею нашей литера¬
туры и вместе историею постепенного хода нашего общества со
времен Петра Великого. Верный моему слову, я не буду гово¬
рить, с чего начинались литературы всех народов и как они
развивались, ибо это должно быть общим местом для всякого
читающего человека.
Каждый народ, вследствие непреложного закона провиде¬
ния, должен выражать своею жизнию одну какую-нибудь сторону
жизни целого человечества; в противном случае этот народ не
живет, а толы?о прозябает, и его существование ни к чему не
служит. Односторонность вредна для всякого человека, в част¬
ности, вредна для всего человечества. Когда весь мир сделался
Римом, когда все народы начали мыслить и чувствовать по-
римски, тогда прервался ход человеческого ума, ибо для него
уже не стало более цели, ибо ему казалось, что он уже дошел
до геркулесовских столбов своего поприща. Утомленный
властелин мира опочил на своих лаврах: жизнь его кончилась,
ибо кончилась его деятельность, стремление к которой прояв¬
лялось у него только в одних беспутных оргиях. Он сделал
ужасную ошибку, думая, что вне Рима, наследовавшего, по пра¬
ву завоевания, сокровища греческого образования, нет мира,
нет света, нет просвещения! Бедственное заблуждение! Оно
было одною из важнейших причин нравственной смерти сего
великого колосса. Для обновления человечества надобно было,
чтобы этот хаос смерти и тления огласился благодатным слоёом
сына человеческого: «Приидите ко мне вси труждающиеся
и обремененнии, и аз упокою вы!»42 Надобно было, чтобы тол¬
пы варваров разрушили это колоссальное могущество, разме¬
жевали его своим мечом на множество могуществ, приняли
слово и пошли каждый своим особенным путем к единой цели.
Да — только идя по разным дорогам, человечество может
достигнуть своей единой цели; только живя самобытною
$1
жизнию, может каждый парод прпнесть свою долю в общую сокро¬
вищницу. В чем же состоит эта самобытность каждого народа?
В особенном, одному ему принадлежащем образе мыслей
и взгляде на предхметы, в религии, языке и более всего в обы¬
чаяхВсе эти обстоятельства чрезвычайно важны, тэсн*> соеди¬
нены между собою и условлпвают друг друга, п все проистекают
из одного общего источника — причины всех причин — климата
и местности. Между сими отличиями каждого народа обычаи
играют едва ли не самую важную роль, составляют едва ли не
самую характеристическую черту оных. Невозможно представить
себе народа без религиозных понятий, облеченных в формы
богослужения; невозможно представить себе народа, не имею¬
щего одного общего для всех сословий языка; но еще менее
возможно представить себе народ, не имеющий особенных, од¬
ному ему свойственных обычаев. Эти обычаи состоят в образе
одежды, прототип которой находится в климате страны; в фор¬
мах домашней и общественной жизни, причина коих скрывается
в верованиях, поверьях и понятиях народа, в формах обраще¬
ния между неделимыми государства, оттенки которых происте¬
кают от гражданских постановлений и различия сословий. Все
эти обычаи укрепляются давностию, освящаются временем и пе¬
реходят из рода в род, от поколения к поколению, как наследие
потомков от предков. Они составляют физиономию народа,
и без них народ есть образ * без лица, мечта, небывалая
и несбыточная. Чем младенчественнее народ, тем резче
и цветнее его обычаи, и тем большую полагает он в них важ¬
ность; время и просвещение подводят их под общий уровень;
но они могут изменяться не иначе, как тихо, незаметно, и при¬
том один по одному. Надобно, чтобы сам народ добровольно
отказывался от некоторых из них и принимал новые; но и тут
своя борьба, свои битвы на смерть, свои староверы и расколь¬
ники, классики и романтики. Народ крепко дорожит обычаями,
как своим священнейшим достоянием, и посягательство па вне¬
запную и решительную реформу оных без своего согласия почи¬
тает посягательством на свое бытие. Посмотрите на Китай: там
масса народа исповедует несколько различных вер; высшее со¬
словие, мандарины не знают никакой и только из приличия ис¬
полняют религиозные обряды; но какое у них единство п
общность обычаев, какая самостоятельность, особность и харак¬
терность! как упорно они их держатся! Да, обычаи — дело свя¬
тое, неприкосновенное и не подлежащее никакой власти, кроме
силы обстоятельств и успехов в просвещении! Человек, самый
развратный, закоренелый в пороках, смеющийся над всем свя¬
тым, покоряется обычаям, даже впутренно смеясь над ними.
Разрушьте их внезапно, не заменив тотчас же новыми: и вы
разрушите все опоры, разорвете все связи общества, словом,
уничтожите народ. Почему это так? Потому же самому, почему
рыбе привольно в воде, птице в воздухе, зверю на земле, гади¬
62
не под землею. Народ, насильственно введенный в чуждую ему
сферу, похож на связанного человека, которого бичом понуж¬
дают к бегу. Всякой народ может перенимать у другого, но он
необходимо налагает печать собственного гения на эти займы,
которые у него принимают характер подражаний. В этом-то
стремлении к самостоятельности и оригинальности, проявляю¬
щемся в любви к родным обы*чаям, заключается причина взаим¬
ной ненависти у народов младенчествующих. Вследствие сей-то
причины русский называл, бывало, немца нехристью, а турок
еще и теперь почитает поганым всякого франка и не хочет есть
с ним из одного блюда: религия в сем случае играет не исключи¬
тельно главную роль.
На востоке Европы, на рубеже двух частей мира, провиде¬
ние поселило народ, резко отличающийся от своих западных
соседей. Его колыбелью был светлый юг; меч азиятца-русса дал
ему имя; издыхающая Византия завещала ему благодатное сло¬
во спасения; оковы татарина связали крепкими узами его разъ¬
единенные части, рука ханов спаяла их его же кровию;
Иоанн III научил его бояться, любить и слушаться своего царя,
заставил его смотреть на царя как па провидение, как на верхо¬
вную судьбу, карающую и милующую по единой своей воле
и признающую над собою единую божию волю. И этот народ стал
хладен и спокоен, как снега его родины, когда мирно жил
в своей хижине; быстр и грозен, как небесный гром его кратко¬
го, но палящесо лета, когда рука царя показывала ему врага;
удал и разгулен, как вьюги и непогоды его зимы, когда пировал
на своей воле; неповоротлив и ленив, как медведь его непрохо¬
димых дебрей, когда у него было много хлеба и браги; смыш¬
лен, сметлив и лукав, как кошка, его домашний пенат, когда
нужда учила его есть калачи. Крепко стоял он за церковь бо¬
жию, за веру праотцев, непоколебимо был верен батюшке царю
православному; его любимая поговорка была: мы все божии да
царевы; бог и царь, воля божия и воля царева слились в его
понятии воедино. Свято хранил он простые и грубые нравы пра¬
дедов и от чистого сердца почитал иноземные обычаи дьяволь¬
ским наваждением. Но этим и ограничивалась вся поэзия его
жизни: ибо ум его был погружен в тихую дремоту и никогда не
выступал из своих заветных рубежей; ибо он не преклонял ко¬
лен перед женщиною, и его гордая и дикая сила требовала от
ней рабской покорности, а не сладкой взаимности; ибо быт его
был однообразен, ибо только буйные игры и удалая охота
оцветляли этот быт; ибо только одна война возбуждала всю
мощь его хладной, железной души, ибо только на кровавом
раздолье битв она бушевала и веселилась на всей своей воле.
Это была жизнь самобытная и характерная, но односторонняя
и изолированная. В то время, когда деятельная, кипучая жпзпь
старейших представителей человеческого рода двигалась впе¬
ред с пестротою неимоверною, они ни одним колесом пе
63
зацеплялись за пружины ее хода43. Итак, этому народу надобно
было приобщиться к общей жизни человечества, составить часть
великого семейства человеческого рода. И вот у этого народа
явился царь44 мудрый и великий, кроткий без слабости, грозный
без тиранства; он первый заметил, что немецкие люди не бесур-
маны, что у них есть много такого, что пригодилось бы и его
подданным, есть много такого, что им совершенно ни к чему не
годится. И вот он начал ласкать людей немецких и прикармли¬
вать их своим хлебом-солью, указал своим людям перенимать
у них их хитрые художества. Он построил ботик и хотел
пуститься в море, доселе для его народа страшное и неведо¬
мое; он приказал заморским комедиантам тешить свое царское
величество, крепко-накрепко заказав между тем православно¬
му русскому человеку, под опасением лишения носа, нюхать
табак, траву поганую и проклятую. Можно сказать, что в его
время Русь впервые почуяла у себя заморский дух, которого
дотоле было видом не видать, слыхом не слыхать. И вот
умер этот добрый царь, а на престол взошел юный сын
его45, который, подобно богатырям Владимировых времен,
еще в детстве бросал за облака стопудовые палицы, гнул их
руками, ломал их о коленки. Это была олицетворенная мощь,
олицетворенный идеал русского народа в деятельные мгнове¬
ния его жизни; это был один из тех исполинов, которые подни¬
мали на рамена свои шар земной. Для его железной воли, не
знавшей препон, была только одна цель — благо народа. Заду¬
мал он думу крепкую, а задумать для него значило — исполнить.
Увидел чудеса и дива заморские и захотел пересадить их на
родную почву, не думая о том, что эта почва была слишком еще
жестка для иноземных растений, что не по них была и зима
русская; увидел он вековые плоды просвещения и захотел
в одну минуту присвоить их своему народу. Подумано — сказа¬
но, сказано — сделано: русский не любит ждать. Ну — русский
человек, снаряжайся, по царскому наказу, боярскому приказу,
по немецкому маниру...46 Прочь, достопочтенные окладистые
бороды! Прости и ты, простая и благородная стрижка волос
в кружало, ты, которая так хорошо шла к этим почтенным бо¬
родам! Тебя заменили огромные парики, осыпанные мукою!
Простите, долгополые охабни наших бояр, выложенные, обши¬
тые серебром и золотом! Вас заменили кафтаны и камзолы со
штанами и ботфортами! Прости и ты, прекрасный, поэтический
сарафан наших боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка
с пышными рукавами, и ты, высокий, унизанный жемчугом по¬
войник — простой, чародейский наряд, который так хорошо шел
к высоким грудям и яркому румянцу наших белоликих и голу¬
бооких красавиц! Тебя заменили робы с фижмами, роброндами
и длинными, предлинными хвостами! Белила и румяна, потесни¬
тесь немножко, дайте место черным мушкам! Простите и вы,
заунывные русские песни, и ты, благородная и грациозная
64
нляска: не ворковать уж нашим красавицам голубками, не зали¬
ваться соловьем, не плавать по полу павами! Нет! Пошли арии
и романсы с выводом верхних ноток:
бог мой!
Приди в чертог ко мне златой!47
пошла живописная ломка: в менуэтах, сладострастное круженье
в вальсах...
И все завертелось, все закружилось, все помчалось стрем¬
глав. Казалось, что Русь в тридцать лет хотела вознаградить себя
за целые столетия неподвижности. Будто по манию волшебного
жезла, маленький ботик царя Алексея превратился в грозный
флот императора Петра, непокорные дружины стрельцов в
стройные полки. На стенах Азова была брошена перчатка
Порте: горе тебе, луна двурогая! На полях Лесного и берегах
Ворсклы был жестоко отомщен позор Нарвской битвы: спасибо
Меншикову, спасибо Данилычу! Каналы и дороги начали проре¬
зывать девственную почву земли русской, зашевелилась торгов¬
ля; застучали молоты, захлопали станы: зашевелилась промыш¬
ленность!
Да — много было сделано великого, полезного и славного!
Петр был совершенно прав: ему некогда было ждать. Он знал,
что ему не два века жить, и потому спешил жить, а жить для
него значило творить. Но народ смотрел иначе. Долго он спал,
и вдруг могучая рука прервала его богатырский сон: с трудом
раскрыл он свои отяжелевшие вежды и с удивлением увидел,
что к нему ворвались чужеземные обычаи, как незваные гости,
не снявши сапог, не помолясь святым иконам, не поклонившись
хозяину; что они вцепились ему в бороду, которая была для
него дороже головы, и вырвали ее; сорвали с него величествен¬
ную одежду и надели шутовскую, исказили и испестрили его дев¬
ственный язык и нагло наругались над святыми обычаями его
праотцев, над его задушевными верованиями и привычками;
увидел — и ужаснулся... Неловко, непривычно и неподручно бы¬
ло русскому человеку ходить, за ложа руки в карманы; он спо¬
тыкался, подходя к ручкам дам, падал, стараясь хорошенько
расшаркнуться. Заняв формы европеизма, он сделался только
пародиею европейца. Просвещение, подобно заветному слову
искупления, должно приниматься с благоразумною постепен¬
ностью, по сердечному убеждению, без оскорбления святых,
праотеческих нравов: таков закон провидения!.. Поверьте, что
русский народ никогда не был заклятым врагом просвещения,
он всегда готов был учиться; только ему нужно было начать
свое учение с азбуки, а не с философии, с училища, а не
с академии. Борода не мешает считать звезды: это известно в
Курске48.
Какое ж следствие вышло из всего этого? Масса народа
упорно осталась тем, что и была; но общество пошло по пути,
3 В. Белинский, т. 1
65
на который ринула его мощная рука гения. Что ж это за об¬
щество? Я не хочу вам много говорить об нем: прочтите «Недо¬
росля», «Горе от ума», «Евгения Онегина», «Дворянские выбо¬
ры» и новый роман Лажечникова 49, когда он выйдет; прочтите,
и вы узнаете его сами лучше меня...
Так по крайней мере давайте ж нам ваше обозрение рус¬
ской литературы, которое вы сулите в каждом номере «Молвы»
и которого мы еще по сию пору не видали! Судя по таким
огромным приступам, мы страх боимся, чтобы оно не было
длиннее и скучнее «Фантастического путешествия» Барона
Брамбеуса.
Я и сам не знаю, любезные читатели, как оно будет длинно.
Может быть, из него выйдет и преуморительный уродец: из¬
бушка на курьих ножках, царь с ноготок, борода с локоток,
а голова с пивной котел. Что делать: не я первый, не я послед¬
ний; у нас это так в моде. Впрочем, если мои приступы не
отбили у вас охоты увидеть заключение, если вы имеете столько
терпения читать, сколько я писать, то увидите начало, а может
быть, и конец моего обозрения.
(В следующем листке).
(V)
Вперед, вперед, моя исторъя!
Пушкин511,
Итак, народ, или, лучше сказать, масса народа и общество
пошли у нас врозь. Первый остался при своей прежней, грубой
и полудикой жизни и при своих заунывных песнях, в коих изли¬
валась его душа в горе и в радости; второе же видимо изменя¬
лось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже
говорить русский языкм, забыло поэтические предания и вы¬
мыслы своей родины, эти прекрасные песни, полные глубокой
грусти, сладкой тоски и разгулья молодецкого, и создало себе
литературу, которая была верным его зеркалом. Надобно заме¬
тить, что как масса народа, так и общество подразделились,
особливо последнее, на множество видов, на множество степе¬
ней. Первая показала некоторые признаки жизни и движе¬
ния в сословиях, находившихся в непосредственных сношениях
с обществом, в сословиях людей городских, ремесленников, мел¬
ких торговцев и промышленников. Нужда и соперничество
иноземцев, поселившихся в России, сделали их деятельными
и оборотливыми, когда дело шло о выгоде; заставили их поки¬
нуть старинную лень и запечную недвижимость и пробудили
стремление к улучшениям и нововведениям, дотоле для них
столь ненавистным, их фанатическая ненависть к немецким лю~
дям ослабевала со дня на день и наконец теперь совсем исчез¬
ла; они кое-как понаучились даже грамоте и крепче прежнего
уцепились обеими руками за мудрое правило, завещанное им
от праотцев: ученье свет, а неученье тьма... Это обещает много
хорошего в будущем, тем более что сии сословия ни на волос
не утратили своей народной физиономии. Что касается до ниж¬
него слоя общества, то есть среднего состояния, оно раздели¬
лось в свою очередь на множество родов и видов, между кои¬
ми по своему большинству занимают самое видное место так
называемые разночинцы. Это сословие наиболее обмануло на¬
дежды Петра Великого: грамоте оно всегда училось на желез¬
ные гроши, свою русскую смышленость и сметливость обратило
на предосудительное ремесло толковать указы; выучившись
кланяться и подходить к ручке дам, не разучилось своими бла¬
городными руками исполнять неблагородные экзекуции. Выс¬
шее ж сословие общества из всех сил ударилось в подража¬
ние, или, лучше сказать, передражниванье иностранцев...
Но не о том дело. Говорят, что музы любят тишину и боятся
грома оружия: мысль совершенно ложная! Однако как бы то
ни было, а царствование Петра оглашалось одними проповедя¬
ми, которые остались только в памяти ученых, а не народа; ибо
это пестрое, мозаическое красноречие, или, скорее, разноре¬
чие, было не что иное, как дурной прививок от гнилого дерева
католического схоластицизма западного духовенства, а не жи¬
вой убедительный голос святых истин религии. Оно у нас еще
не было рассмотрено и оценено настоящим образом. Если ве¬
рить возгласам наших литературных учителей, то в духовном
красноречии мы едва ли не превосходим всех европейских на¬
родов. Не берусь решать этого вопроса, ибо говорю о нем ми¬
моходом, a propos, как о деле, не прямо относящемся к пред¬
мету моего обзора; да и, сверх того, я мало знаком с памятни¬
ками нашего духовного красноречия, которое, конечно, не без
удачных опытов.
Не стану также распространяться о Кантемире; скажу толь¬
ко, что я очень сомневаюсь в его поэтическом призвании52.
Мне кажется, что его прославленные сатиры были скорее пло¬
дом ума и холодной наблюдательности, чем живого и горячего
чувства. И диво ли, что он начал с сатир — плода осеннего, а не
с од — плода весеннего? Он был иностранец, следовательно, не
мог сочувствовать народу и разделять его надежд и опасений;
ему было спола-горя смеяться. Что он был не поэт, этому дока¬
зательством служит то, что он забыт. Старинный слог! пустое!..
Шекспира сами англичане читают с комментариями.
Тредьяковский не имел ни ума, ни чувства, ни таланта. Этот
человек был рожден для плуга или для топора; но судьба, как
бы в насмешку, нарядила его во фрак: удивительно ли, что он
был так смешон и уродлив?53
Да — первые попытки были слишком слабы и неудачны. Но
вдруг, по прекрасному выражению одного нашего соотечествен¬
ника, на берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию,
блеснул Ломоносов54. Ослепительно и прекрасно было это яв¬
ление! Оно доказало собой, что человек есть человек во вся¬
ком состоянии и во всяком климате, что гений умеет торже¬
ствовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет
ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко все¬
му великому и прекрасному не менее всякого европейца; но
вместе с тем, говорю, это утешительное явление подтвердило,
к нашему несчастию, и ту неопровержимую истину, что ученик
никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не
соперника, что гений народа всегда робок и связан, когда дей¬
ствует не своеобразно, не самостоятельно, что его произведе¬
ния, в таком случае, всегда будут походить на поддельные цве-
1ы: ярки, красивы, роскошны, но не душисты, не ароматны,
безжизненны. С Ломоносова начинается наша литература; он
был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим55. Нуж¬
но ли говорить, что это был человек великий и ознаменованный
печатаю гения? Все это истина несомненная. Нужно ли доказы¬
вать, что он дал направление, хотя и временное, нашему языку
и нашей литературе? Это еще несомненнее. Но какое направле¬
ние? Это другой вопрос. Я не скажу ничего нового о сем пред¬
мете и только, может быть, повторю более или менее извест¬
ные мысли.
Но прежде всего почитаю нужным сделать следующее заме¬
чание. У нас, как я уже и говорил, еще и по сию пору царствует
в литературе какое-то жалкое, детское благоговение к авторам;
мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и боимся гово¬
рить вслух правду о высоких персонах. Говоря о знаменитом
писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласа¬
ми и надутыми похвалами; сказать о нем резкую правду у нас
святотатство. И добро бы еще это было вследствие убеждения!
Нет, это просто из нелепого и вредного приличия или из боязни
прослыть выскочкою, романтиком. Посмотрите, как поступают
в сем случае иностранцы: у них каждому писателю воздается по
делам его; они не довольствуются сказать, что в драмах г. NN
есть много прекрасных мест, хотя есть стишки негладкие
и некоторые погрешности, что оды г. N N превосходны, но эле¬
гии слабы. Нет, у них рассматривается весь круг деятельности
того или другого писателя, определяется степень его влияния
на современников и потомство, разбирается дух его творений
вообще, а не частные красоты или недостатки, берутся в сооб¬
ражение обстоятельства его жизни, дабы узнать, мог ли он сде¬
лать больше того, что сделал, и объяснить, почему он делал
так, а не этак; и уже, по соображении всего этого, решают,
какое место он должен занимать в литературе и какою славою
должен пользоваться. Читателям «Телескопа» должны быть зна¬
комы многие подобные критические биографии знаменитых пи¬
сателей. Где ж они у нас? Увы!..56 Сколько раз, например, слы¬
шали мы, что «Вечернее» и «Утреннее размышление о вели¬
68
честве божием» Ломоносова прекрасны57, что строфы его од
звучны и величественны, что периоды его прозы полны, круглы
и живописны; но определена ли мера его заслуг, показаны ли
вместе с светлыми его сторонами и темные пятна? Нет — как
можно! грешцо, дерзко, неблагодарно!.. Где же критика, имею¬
щая предметом образование вкуса, где истина, долженствую¬
щая быть дороже всех на свете авторитетов?..
Много сведений, опытности, труда и времени нужно для
достойной оценки такого человека, каков был Ломоносов. Не¬
достаток времени и места, а может быть, и сил, не позволяют
входить мне в слишком подробные исследования: ограничусь
одним общим взглядом. Ломоносов — это Петр нашей литера¬
туры: вот, кажется мне, самый верный взгляд на него. В самом
деле, не замечаете ли вы поразительного сходства в образе
действования сих великих людей, равно как и в следствиях сего
образа действования? На берегах Северного океана, в царстве
зимы и смерти, родился у бедного рыбака сын. Ребенка мучит
какой-то неведомый демон, не дает ему покоя ни днем, ни
ночью, шепчет ему на ухо какие-то дивные речи, от которых
сильнее трепещет его сердце, жарче кипит его кровь; на что ни
взглянет этот ребенок, ему хочется знать: откуда это, почему
и как; бесконечные вопросы давят и тяготят его юную душу — и
нет ответов! Он выучивается кое-как грамоте; тайные внушения
его докучного демона раздаются в его душе, как обольститель¬
ные звуки Вадимова колокольчика, и манят его в туманную
даль...58 И вот он оставляет отца своего и бежит в Москву
белокаменную. Беги, беги, юноша! Там узнаешь ты все, там уто¬
лишь в источнике знания свою мучительную жажду! Но, увы!
надежда обманула тебя: жажда твоя еще сильнее — ты только
пуще раздражил ее. Дальше, дальше, смелый юноша! Туда,
в ученую Германию, там сады райские, а в тех садах древо жиз¬
ни, древо познания, древо добра и зла... Сладки плоды его —
спеши вкусить их... И он бежит, он вступает в очаровательные
сады и видит искусительное древо, и жадно пожирает плоды
его. Сколько чудес, сколько очарований! Как жалеет он, что не
может разом всего захватить с собою и перенести в драгое
отечество, в святую родину!.. Однако ж... нельзя ли как попы¬
таться?.. Ведь он русский, стало быть, ему все под силу, все
возможно; ведь его ожидает Шувалов; стало быть, ему нечего
страшиться предрассудков, врагов и завистников!.. И вот Русь
оглашается одами, смотрит на трагедии, восхищается эпопеею,
смеется над побасенками, слушает Цицерона и Демосфена
и важно рассуждает об электричестве и громовых отводах: чего
же медлить? Не правда ли, что и сам Петр воскликнул бы
с удовольствием: «Это по-нашему!» Но и с Ломоносовым сбы¬
лось то же, что с Петром. Прельщенный блеском иноземного
просвещения, он закрыл глаза для родного. Правда, он выучил
в детстве наизусть варварские вирши Симеона Полоцкого, но
69
оставил без внимания народные песни и сказки. Он как будто
и не слыхал о них. Замечаете ли вы в его сочинениях хотя
слабые следы влияния летописей и вообще народных преданий
земли русской? Нет — ничего этого не бывало. Говорят, что он
глубоко постиг свойства языка русского! Не спорю — его «Грам¬
матика» 59 дивное, великое дело. Но для чего же он пялил
и корчил русский язык на образец латинского и немецкого?
Почему каждый период его речей набит без всякой нужды та¬
ким множеством вставочных предложений и завострен на кон¬
це глаголом? Разве этого требовал гений языка русского, разга¬
данный сим великим человеком? Создать язык невозможно,
ибо его творит народ; филологи только открывают его законы
п приводят их в систему, а писатели только творят на нем сооб¬
разно с сими законами. И в сем последнем случае нельзя до¬
вольно надивиться гению Ломоносова: у него есть строфы
п целые стихотворения, которые по чистоте и правильности
языка весьма приближаются к нынешнему времени. Следова¬
тельно, его погубила слепая подражательность; следовательно,
она одна виною, что его никто не читает, что он не признан
и забыт народом и что о нем помнят одни записные литерато¬
ры. Некоторые говорят, что он был великий ученый и великий
оратор, но совсем не поэт; напротив, он был больше поэт, чем
оратор; скажу больше: он был великий поэт и плохой оратор.
Ибо что такое его похвальные слова? Набор громких слов
и общих мест, частию взятых напрокат из древних витий, частито
принадлежащих ему, плоды заказной работы, где одна только
шумиха и возгласы, а отнюдь не выражение горячего, живого
и неподдельного чувства, которое одно бывает источником ис¬
тинного красноречия. Некоторые места, прекрасные по слогу,
пичего не доказывают: дело в том, каково целое. И удивительно
ли, что так случилось: мы и теперь очень мало нуждаемся
в красноречии, а тем меньше тогда нуждались в нем; следова¬
тельно, оно родилось без всякой нужды, из одной подража¬
тельности, и потому не могло быть удачным. Но стихотворения
Ломоносова носят на себе отпечаток гения. Правда, у него и в
пих ум преобладает над чувством, но это происходило не от
чего иного, как от того, что жажда к знанию поглощала все
существо его, была его господствующею страстью. Он всегда дер¬
жал свою энергическую фантазию в крепкой узде холодного
ума и не давал ей слишком разыгрываться. Вольтер сказал, по¬
мнится, о Корнеле, что он в сочинении своих трагедий похож на
великого Конде, который хладнокровно обдумывал планы сра¬
жений и горячо сражался: вот Ломоносов! От этого-то его сти¬
хотворения имеют характер ораторский, от этого-то сквозь прпзму
пх радужных цветов часто виден сухой остов силлогизма.
Это происходило от системы, а отнюдь не от недостатка поэти¬
ческого гения. Система и рабская подражательность заставила
его написать прозаическое «Письмо о пользе стекла», две хо¬
70
лодные и надутые трагедии и, наконец, эту неуклюжую «Петриа-
ду» 60, которая была самым жалким заблуждением его мощно¬
го гения. Он был рожден лириком, и звуки его лиры там, где он
не стеснял себя системою, были стройны, высоки и величе¬
ственны...
Что сказать о его сопернике, Сумарокове? Он писал во все с
родах, в стихах и прозе, и думал быть русским Вольтером. Но
при рабской подражательности Ломоносова, он не имел ни ис¬
кры его таланта61. Вся его художническая деятельность была
не что иное, как жалкая и смешная натяжка. Он не только не
был поэт, но даже не имел никакой идеи, никакого понятия об
искусстве, и всего лучше опроверг собой странную мысль Бюф-
фона, что будто гений есть терпение в высочайшей степени62.
А между тем этот жалкий писака пользовался такою народ¬
ности]»! Наши словесники не знают, как и благодарить его за то,
что он был отцом российского театра63. Почему ж они отказы¬
вают в благодарности Тредьяковскому за то, что он был отцом
российской эпопеи! Право, одно от другого не далеко ушло.
Мы не должны слишком нападать на Сумарокова за то, что он
был хвастун: он обманывался в себе так же, как обманывались
в нем его современники; на безрыбье и рак рыба, следователь¬
но, это извинительно, тем более что он был не художник. Вот
другое дело ныне... Конечно, смешно и жалко видеть, как иные
мальчики заставляют в плохих драмах пророчествовать великих
поэтов о своем пришествии в мир 64.
(Просят обождать еще).
(VI)
Была пора: Екатеринин век,
В нем ожила всей древней Руси слава:
Те дни, когда громил Царьград Олег,
И выл Дунай под лодкой Святослава;
Рымник, Чесма, Кагульский бой,
Орлы во граде Леонида;
Возобновленная Таврида,
День Измаила роковой,
И в Праге, кровью залитой,
Москвы отмщенная обида!
Жуковский65*
Воцарилась Екатерина Вторая, и для русского народа насту¬
пила эра новой, лучшей жизни. Ее царствование — это эпопея,
эпопея гигантская и дерзкая по замыслу, величественная и сме¬
лая по созданию, обширная и полная по плану, блестящая и ве¬
ликолепная по изложению, эпопея, достойная Гомера или Тасса!
Ее царствование — это драма, драма многосложная и запутан¬
ная по завязке, живая и быстрая по ходу действия, пестрая
и яркая по разнообразию характеров, греческая трагедия по
71
царственному величию и исполинской силе героев, создание
Шекспира по оригинальности и самоцветности персонажей, по
разнообразности картин и их калейдоскопической подвижности,
наконец, драма, зрелище которой исторгнет у вас невольно
крики восторга и радости! С удивлением и даже с какою-то
недоверчивостию смотрим мы на это время, которое так близко
к нам, что еще живы некоторые из его представителей; кото¬
рое так далеко от нас, что мы не можем видеть его ясно без
помощи телескопа истории; которое так чудно и дивно в лето¬
писях мира, что мы готовы почесть его каким-то баснословным
веком. Тогда, в первый еще раз после царя Алексия, проявился
дух русский во всей своей богатырской силе, во всем своем
удалом разгулье и, как говорится, пошел писать. Тогда-то народ
русский, наконец освоившийся кое-как с тесными и не свой¬
ственными ему формами новой жизни, притерпевшийся к ним
и почти помирившийся с ними, как бы покорясь приговору судь¬
бы неизбежной и непреоборимой — воле Петра, в первый раз
вздохнул свободно, улыбнулся весело, взглянул гордо — ибо
его уже не гнали к великой цели, а вели с его спросу и согла¬
сия, ибо умолкло грозное слово и дело, и вместо его раздается
с трона голос, говоривший: «Лучше прощу десять виновных,
нежели накажу одного невинного; мы думаем и за славу себе
вменяем сказать, что мы живем для нашего народа; сохрани
боже, чтобы какой-нибудь народ был счастливее российского»;68
ибо с «Уставом о рангах» и «Дворянскою грамотою» соединилась
неприкосновенность прав благородства; ибо, наконец, слух Руси
лелеется беспрестанными громами побед и завоеваний. Тогда-то
проснулся русский ум, и вот заводятся школы, издаются все
необходимые для первоначального обучения книги, переводится
все хорошее со всех европейских языков; разыгрался русский
меч, и вот потрясаются монархии в своем основании, сокру¬
шаются царства и сливаются с Русью!...
Знаете ли, в чем состоял отличительный характер века Ека¬
терины II, этой великой эпохи, этого светлого момента жизни
русского народа? Мне кажется, в народности. Да — в народа
иости, ибо тогда Русь, стараясь по-прежнему подделываться
под чужой лад, как будто назло самой себе, оставалась Русью.
Вспомните этих важных радушных бояр, домы которых походи¬
ли на всемирные гостиницы, куда приходил званый и незваный
и, не кланяясь хлебосольному хозяину, садился за столы дубо¬
вые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медовые;
этих величавых и гордых вельмож, которые любили жить нарас¬
пашку, жилища которых походили на царские палаты русских
сказок; которые имели свой штат царедворцев, поклонников
и ласкателей, которые сожигали фейерверки из облигаций пра¬
вительства; которые умели попировать и повеселиться по ста¬
ринному дедовскому обычаю, от всей русской души, но умели
и постоять за свою матушку и мечом и пером: не скажете ли
72
вы, что это была жизнь самостоятельная, общество оригиналь¬
ное? Вспомните этого Суворова, который не знал войны, но
которого война знала; Потемкина, который грыз ногти на пирах
и, между шуток, решал в уме судьбы народов; этого Безбород¬
ко, который, говорят, с похмелья читал матушке на белых
листах дипломатические бумаги своего сочинения; этого Дер¬
жавина, который в самых отчаянных своих подражаниях Гора¬
цию, против воли, оставался Державиным и столько же похо¬
дил на Августова поэта, сколько походит могучая русская зима
на роскошное лето Италии: не скажете ли вы, что каждого из
них природа отлила в особенную форму и, отливши, разбила
вдребезги эту форму?.. А можно ли быть оригинальным и са¬
мостоятельным, не будучи народным?.. Отчего же это было
так? Оттого, повторяю, что уму русскому был дан простор, от¬
того, что гений русский начал ходить с развязанными руками,
оттого, что великая жена умела сродниться с духом своего на¬
рода, что она высоко уважала народное достоинство, дорожила
всем русским до того, что сама писала разные сочинения на
русском языке, дирижировала журналом67 и за презрение
к родному языку казнила подданных ужасною казнию — «Теле-
махидою»!..68
Да — чудно, дивно было это время, но еще чуднее и див¬
нее было это общество! Какая смесь, пестрота, разнообразие!
Сколько элементов разнородных, но связанных, но одушевлен¬
ных единым духом! Безбожие и изуверство, грубость и утон¬
ченность, материялизм и набожность, страсть к новизне
и упорный фанатизм к старине, пиры и победы, роскошь и до¬
вольство, забавы и геркулесовские подвиги, великие умы, великие
характеры всех цветов и образов, и, между ними, Недоросли,
Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удив¬
ляющее французский двор своею светскою образованностию, и
дворянство, выходившее с холопями на разбой!..
И это общество отразилось в литературе; два поэта, впрочем
весьма неравные гением, преимущественно были выражением
оного: громозвучные песни Державина были символом могуще¬
ства, славы и счастия Руси; едкие и остроумные карикатуры
Фонвизина были органом понятий и образа мыслей образован¬
нейшего класса людей тогдашнего времени.
Державин — какое имя!.. Да — он был прав: только Навин
могло быть ему под рифму!69 Как идет к нему этот полурус¬
ский и полутатарский наряд, в котором изображают его на порт¬
ретах:70 дайте ему в руки лилейный скипетр Оберона, придайте
к этой собольей шубе и бобровой шапке длинную седую боро¬
ду: и вот вам русский чародей, от дыхания которого тают снега
и ледяные покровы рек и расцветают розы, чудным словам ко¬
торого повинуется послушная природа и принимает все виды
и образы, каких ни пожелает он! Дивное явление! Бедный дво¬
рянин, почти безграмотный, дитя по своим понятиям; неразга¬
73
данная загадка для самого себя; откуда получил он этот вещий,
пророческий глагол, потрясающий сердца и восторгающий души,
этот глубокий и обширный взгляд, обхватывающий природу во
всей ее бесконечности, как обхватывает молодой орел мощны¬
ми когтями трепещущую добычу? Или и в самом деле он по¬
встречал на перепутье какого-нибудь шестикрылого херуви¬
ма? 71 Или и в самом деле огненное чувство ставит в иные мину¬
ты смертного, без всяких со стороны его усилий, наравне
с природою, и, послушная, она открывает ему свои таинствен¬
ные недра, дает ему подсмотреть биение своего сердца и по¬
черпать в лоне источника жизни эту живую воду, которая вла¬
гает дыхание жизни и в металл и в мрамор? Или и в самом деле
огненное чувство дает смертному всезрящие очи и уничтожает
его в природе, а природу уничтожает в нем, и, ее всемощный
властелин, он повелевает ею самовластно и, вместе с нею, раски¬
дывается, по своей воле, подобно Протею, на тысячи прекрас¬
ных явлений, воплощается в тысячи волшебных образов и те
образы называет потом своими созданиями?.. Державин — это
полное выражение, живая летопись, торжественный гимн, пла¬
менный дифирамб века Екатерины, с его лирическим одушевле¬
нием, с его гордостию настоящим и надеждами на будущее, его
просвещением и невежеством, его эпикуреизмом и жаждою ве¬
ликих дел, его пиршественною праздностию и неистощимою
практическою деятельностию! Не ищите в звуках его песен, то
смелых и торжественных, как гром победы, то веселых и шут¬
ливых, как застольный говор наших прадедов, то нежных и
сладостных, как голос русских дев, не ищите в них тонкого ана¬
лиза человека со всеми изгибами его души и сердца, как у Шекс¬
пира, или сладкой тоски по небу и возвышенных мечтаний & свя¬
том и великом жизни, как у Шиллера, или бешеных воплей души
пресыщенной и все еще несытой, как у Байрона: нет — нам тогда
некогда было анатомировать природу человеческую, некогда
было углубляться в тайны неба и жизни, ибо мы тогда были
оглушены громом побед, ослеплены блеском славы, заняты но¬
выми постановлениями и преобразованиями; ибо тогда нам
еще некогда было пресытиться жизнию, мы еще только начина¬
ли жить и потому любили жизнь; итак, не ищите ничего этого
у Державина! Поищите лучше у него поэтической вести о том,
как велика была несравненная, богоподобная Фелица киргиз-
кайсацкия орды, как этот ангел во плоти72 разливал и сеял
повсюду жизнь и счастие и, подобно богу, творил все из ничего;
как были мудры ее слуги верные, ее советники усердные; как
герой полуночи, чудо-богатырь, бросал за облака башни, как
бежала тьма от его чела и пыль от его молодецкого посвисту,
как под его ногами трещали горы и кипели бездны, как пред
ним падали города и рушились царства, как он, при громах
и молниях, при ужасной борьбе разъяренных стихий, сокрушил
твердини Измаила или перешел чрез пропасти Сент-Готара;73
74
как жили и были вельможи русские с своим неистощимым хле~
бом-солъю, с своим русским сибаритством и русским умом; как
русские девы своими пламенными взорами и соболиными бро¬
вями разят души львов и сердца орлов, как блестят их белые
чела златыми лентами, как дышат их нежные груди под драги¬
ми жемчугами, как сквозь их голубые жилки переливается р
зовая кровь, а на ланитах любовь врезала огневые ямки!74
Невозможно исчислить неисчислимых красот созданий Держа¬
вина. Они разнообразны, как русская природа, но все отличаются
одним общим колоритом: во всех них воображение преобладает
над чувством, и все представляется в преувеличенных, гипер¬
болических размерах. Он не взволнует вашей груди сильным
чувством, не выдавит слезы из ваших глаз, но, как орел
добычу, схватывает вас внезапно и неожиданно, и на крылах
своих могучих строф мчит прямо к солнцу, и, не давая вам
опомниться, носит по беспредельным равнинам неба; земля ис¬
чезает у вас из виду, сердце сжимается от какого-то приятного
изумления, смешанного со страхом, и вы видите себя как бы
ринутыми порывом урагана в неизмеримый океан; волна то
увлекает вас в бездны, то выбрасывает к небу, и душе вашей
отрадно и привольно в этой безбрежности. Как громка и вели¬
чественна его песнь богу! Как глубоко подсмотрел он внешнее
благолепие природы и как верно воспроизвел его в своем див-
ном создании!75 И однако ж он прославил в нем одну мудрость
и могущество божие и только намекнул о любви божией, о тон
любви, которая воззвала к человекам: «Приидите ко мне вси
труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы!», о той любви,
которая с позорного креста мучения взывала к отцу: «Отче,
отпусти им: не ведят бо, что творят!»76 Но не осуждайте его за
это: тогда было не то время, что ныне, тогда был осьмнадцатый
век. Притом же не забудьте, что ум Державина был ум рус¬
ский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности, что
его стихиею и торжеством была природа внешняя, а господ¬
ствующим чувством патриотизм, что в сем случае он был только
верен своему бессознательному направлению и, следовательно,
был истинен. Как страшна его ода «На смерть Мещерского»:
кровь стынет в жилах, волосы, по выражению Шекспира, встают
на голове встревоженною ратью77, когда в ушах ваших раздает¬
ся вещий бой глагола времен, когда в глазах мерещится ужас¬
ный остов смерти с косою в руках! Какою энергическою и дикою
красотою дышит его «Водопад»: это песнь угрюмого севера,
пропетая сребровласым скальдом во глубине священного леса,
среди мрачной ночи, у пылающего дуба, зажженного моллиею,
при оглушающем реве водопада!
Его послания и сатиры представляют совсем другой мир, не
менее прекрасный и очаровательный. В них видна практическая
философия ума русского; посему главное отличительное их
свойство есть народность, народность, состоящая не в подборе
75
мужицких слов или насильственной подделке под лад песен
й сказок, но в сгибе ума русского, в русском образе взгляда на
вещи. В сем отношении Державин народен в высочайшей степе¬
ни. Как смешны те, которые величают его русским Пиндаром,
Горацием, Анакреоном;78 ибо самая эта тройственность пока¬
зывает, что он был ни то, ни другое, ни третье, но все это
вместе взятое, и, следовательно, выше всего этого отдельно
взятого! Не так же ли нелепо было бы назвать Пиндара или
Анакреона греческим или Горация латинским Державиным, ибо
если он сам не был ни для кого образцом, то и для себя
не имел никого образцом? Вообще надобно заметить, что его
невежество было причиною его народности, которой, впрочем,
он не знал цены; оно спасло его от подражательности, и он был
оригинален и народен, сам не зная того. Обладай он всеобъем¬
лющею ученостию Ломоносова— и тогда прости, поэт! Ибо, чего
доброго? он пустился бы, пожалуй, в трагедии и, всего ворнее,
в эпопею: его неудачные опыты в драме79 доказывают спра¬
ведливость такого предположения. Но судьба спасла его —
и мы имеем в Державине великого, гениального русского поэта,
который был верным эхом жизни русского народа, верным от¬
голоском века Екатерины II.
Фонвизин был человек с необыкновенным умом и дарова¬
нием; но был ли он рожден комиком — на это трудно отвечать
утвердительно. В самом деле, видите ли вы в его драмати¬
ческих созданиях присутствие идеи вечной жизни? Ведь смеш¬
ной анекдот, преложенный на разговоры, где участвует извест¬
ное число скотов,— еще не комедия. Предмет комедии не есть
исправление нравов или осмеяние каких-нибудь пороков об¬
щества; нет: комедия должна живописать несообразность жиз¬
ни с целию, должна быть плодом горького негодования, воз¬
буждаемого унижением человеческого достоинства, должна
быть сарказмом, а не эпиграммою, судорожным хохотом, а не
веселою усмешкою, должна быть пйсана желчью, а не разведен¬
ною солью, словом, должна обнимать жизнь в ее высшем значе¬
нии, то есть в ее вечной борьбе между добром и злом, любовию
и эгоизмом. Так ли у Фонвизина? Его дураки очень смешны
и отвратительны, но это потому, что они не создания фантазии,
а слишком верные списки с натуры; его умные суть не иное что,
как выпускные куклы, говорящие заученные правила благонра¬
вия; и вое это потому, что автор хотел учить и исправлять. Этот
человек был очень смешлив от природы: он чуть не задохнулся
от Смеху, слыша в театре звуки польского языка; он был
в Франции и Германии и нашел в них одно смешное: вот вам
и комизм его. Да — его комедии суть не больше, как плод до¬
бродушной веселости, над всем издевавшейся, плод остроумия,
но не создание фантазии и горячего чувства. Они явились впору
и потому имели необыкновенный успех; были выражением гос¬
подствующего образа мыслей образованных людей и потому
76
нравились. Впрочем, не будучи художественными созданиями
в полном смысле этого слова, они все-таки несравненно выше
всего, что ни написано у нас по сию пору в сем роде, кроме
«Горя от ума», о котором речь впереди. Одно уже это доказы¬
вает дарование сего писателя. Прочие его сочинения имеют це¬
ну еще, может быть, большую, но и в них он является умным
наблюдателем и остроумным писателем, а не художником. На¬
смешка и шутливость составляют их отличительный характер.
Кроме неподдельного дарования, они замечательны еще и по
слогу, который очень близко подходит к карамзинскому; осо¬
бенно же драгоценны они тем, что заключают в себе многие
резкие черты духа того любопытного времени.
Как забыть о Богдановиче? Какою славою пользовался он
при жизни, как восхищались им современники и как еще восхи¬
щаются им и теперь некоторые читатели? Какая причина этого
успеха? Представьте себе, что вы оглушены громом, трескотнею
пышных слов и фраз, что все окружающие вас говорят моноло¬
гами о самых обыкновенных предметах, и вы вдруг встречаете
человека с простою и умною речью: не правда ли, что вы бы
очень восхитились этим человеком? Подражатели Ломоносова,
Державина и Хераскова оглушили всех громким одопением;
уже начинали думать, что русский язык неспособен к так назы¬
ваемой легкой поэзии, которая так цвела у французов, и вот
в это-то время является человек с сказкою, написанною языком
простым, естественным и шутливым, слогом, по тогдашнему
времени, удивительно легким и плавным: все были изумлены
и обрадованы. Вот причина необыкновенного успеха «Душень¬
ки», которая, впрочем, не без достоинств, не без таланта.
Скромный Хемницер был не понят современниками: им по
справедливости гордится теперь потомство и ставит его наравне
с Дмитриевым. Херасков был человек добрый, умный, благона¬
меренный и, по своему времени, отличный версификатор, но
решительно не поэт. Его дюжинные «Россияда» и «Владимир»
долго составляли предмет удивления для современников и по¬
томков, которые величали его русским Гомером и Виргилием
и проводили во храм бессмертия под щитом его длинных
и скучных поэм;80 пред ним благоговел сам Державин; но, увы!
ничто не спасло его от всепоглощающих волн Леты! Петров
недостаток истинного чувства заменял напыщенностию и совер¬
шенно доконал себя своим варварским языком. Княжнин был
трудолюбивый писатель и, в отношении к языку и форме, не без
таланта, который особенно заметен в комедиях. Хотя он цели¬
ком брал из французских писателей, но ему и то уже делает
большую честь, что он умел из этих похищений составлять нечто
целое, и далеко превзошел своего родича Сумарокова. Костров
и Бобров были в свое время хорошие версификаторы.
Вот все генин века Екатерины Великой; все они пользова¬
лись громкою славок^ и все, за исключением Державина, Фонви¬
77
зина и Хемницера, забыты. Но все они замечательны как пер¬
вые действователи на поприще русской словесности; судя по
времени и средствам, их успехи были важны и преимуществен¬
но происходили от внимания и ободрения монархини, которая
всюду искала талантов и всюду умела находить их. Но между
ними только один Державин был таким поэтом, имя которого
мы с гордостию можем поставить подле великих имен поэтов
всех веков и народов, ибо он один был свободным и торже¬
ственным выражением своего великого народа и своего дивного
времени.
(До следующего листка).
(VII)
Amicus Plato, sed magis arnica veritas *e
Первые действователи на поприще литературы никогда не
забываются; ибо, талантливые или бездарные, они в обоих слу¬
чаях лица исторические. Не в одной истории французской лите¬
ратуры имена Ронсаров, Гарнье и Гарди всегда предшествуют
именам Корнелей и Расинов. Счастливые люди! как дешево до¬
стается им бессмертие! В предшествовавшей статье моей я впал
в непростительную ошибку, ибо, говоря о поэтах и писателях
века Екатерины II, забыл о некоторых из них. Посему теперь
почитаю непременным долгом исправить мою ошибку и упомя¬
нуть о Поповском, порядочном стихотворце и прозаике своего
времени; Майкове, который своими созданиями, относившими¬
ся во времена оны во всех пиитиках81 к какому-то роду коми¬
ческих поэм, не мало способствовал к распространению в Рос¬
сии дурного вкуса и заставил знаменитого нашего драматурга,
кн. Шаховского, написать довольно невысокое стихотворение
под названием: «Расхищенные шубы»; Аблесимове, который
как будто ненарочно или по ошибке, между многими плохими
драмами, написал прекрасный народный водевиль «Мель¬
ник»82, произведение, столь любимое нашими добрыми дедами
и еще и теперь не потерявшее своего достоинства; Рубане, ко¬
торому, по милости и доброте наших литературных судей бы¬
лых времен, бессмертие досталось за самую дешевую цену;
Нелединском, в песнях которого сквозь румяны сентименталь¬
ности проглядывало иногда чувство и блестки таланта; Ефимье-
ве и Плавилыцикове, некогда почитавшихся хорошими драма¬
тургами, но теперь, увы! совершенно забытых, несмотря на то,
что и сам почтенный Николай Иванович Греч не отказывал им
в некоторых будто бы достоинствах83. Кроме сего, царствова¬
ние Екатерины II было ознаменовано таким дивным и редким
у нас явлением, которого, кажется, еще долго не дождаться
* Платон мне друг, но еще больший мне друг-^истина (лат.). — Редщ
78
нам, грешным. Кому пе известно, хотя понаслышке, имя Нови¬
кова? Как жаль, что мы так мало имеем сведений об этом не¬
обыкновенном и, смею сказать, великом человеке! У нас всегда
так: кричат без умолку о каком-нибудь Сумарокове, бездарном
писателе, и забывают о благодетельных подвигах человека, ко¬
торого вся жизнь, вся деятельность была направлена к общей
пользе!..
Век Александра Благословенного, как и век Екатерины Ве¬
ликой, принадлежит к светлым мгновениям жизни русского на¬
рода и, в некотором отношении, был его продолжением. Это
была жизнь беспечная и веселая, гордая настоящим, полная
надежд на будущее. Мудрые узаконения и нововведения Екате¬
рины укоренились и, так сказать, окрепли; новые благодетельные
учреждения царя юного и кроткого упрочивали благосостояние
Руси и быстро двигали ее вперед на поприще преуспеяния.
В самом деле, сколько было сделано для просвещения! Сколь¬
ко основано университетов, лицеев, гимназий, уездных и при¬
ходских училищ! И образование начало разливаться по всем
классам народа, ибо оно сделалось более или менее доступ¬
ным для всех классов народа. Покровительство просвещенного
и образованного монарха, достойного внука Екатерины, отыски¬
вало повсюду людей с талантами и давало им дорогу и средства
действовать на избранном ими поприще. В это время еще впер¬
вые появилась мысль о необходимости иметь свою литературу.
В царствование Екатерины литература существовала только при
дворе; ею занимались потому, что государыня занималась ею.
Плохо пришлось бы Державину, если бы ей не понравились его
«Послание к Фелице»84 и «Вельможа»; плохо бы пришлось
Фонвизину, если бы она не смеялась до слез над его «Бригади¬
ром» и «Недорослем»; мало бы оказывалось уважения к певцу
«Бога» и «Водопада», если бы он не был действительным тай¬
ным советником и разных орденов кавалером. При Александре
все начали заниматься литературою, и титул стал отделяться о г
таланта. Явилось явление новое и доселе неслыханное: писатели
сделались двигателями, руководителями и образователями об¬
щества; явились попытки создать язык и литературу. Но, увы!
не было прочности и основательности в этих попытках; ибо по¬
пытка всегда предполагает расчет, а расчет предполагает волю,
а воля часто идет наперекор обстоятельствам и разногласит
с законами здравого смысла. Много было талантов и ни одного
гения, и все литературные явления рождались не вследствие
необходимости, непроизвольно и бессознательно, не вытекали
из событий и духа народного. Не спрашивали: что и как нам
должно было делать? Говорили: делайте так, как делают ино¬
странцы, и вы будете хорошо делать. Удивительно ли после
того, что, несмотря на все усилия создать язык и литературу,
у нас не только тогда не было ни того ни другого, но даже нет
и теперь! Удивительно ли, что при самом начале литературного
79
движения у нас было так много литературных школ и не было
ни одной истинной и основательной; что все они рождались, как
грибы после дождя, и исчезали, подобно мыльным пузырям; и
что мы, еще не имея никакой литературы, в полном смысле
сего слова, уже успели быть и классиками и романтиками,
и греками и римлянами, и французами и италпянцами, и нем¬
цами и англичанами?..
Два писателя встретили век Александра и справедливо по¬
читались лучшим украшением начала оного: Карамзин и Дмит¬
риев. Карамзин — вот актер нашей литературы, который еще
при первом своем дебюте, при первом своем появлении на
сцену, был встречен и громкими рукоплесканиями и громким
свистом! Вот имя, за которое было дано столько кровавых битв,
произошло столько отчаянных схваток, переломлено столько ко¬
пий! И давно ли еще умолкли эти бранные вопли, этот звук
оружия, давно ли враждующие партии вложили мечи в ножны
и теперь силятся объяснить себе, из чего они воевали? Кто из
читающих строки сии не был свидетелем этих литературных по¬
боищ, не слышал этого оглушающего рева похвал преувеличен¬
ных и бессмысленных, этих порицаний, частию справедливых,
частию нелепых? И теперь, на могиле незабвенного мужа, разве
уже решена победа, разве восторжествовала та или другая сто¬
рона? Увы! еще нет! С одной стороны, нас, как «верных сынов
отчизны», призывают «молиться на могиле Карамзина» и «шеп¬
тать его святое имя»;85 а с другой — слушают это воззвание
с недоверчивой и насмешливою улыбкою. Любопытное зрелище!
Борьба двух поколений, не понимающих одно другого! И в са¬
мом деле, не смешно ли думать, что победа останется на сто¬
роне гг. Иванчиных-Писаревых, Сомовых и т. п.? Еще нелепее
воображать, что ее упрочит за собою г. Арцыбашев с бра-
тиею 86.
Карамзин... mais je reviens toujours a mes moutons... *
Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще
долго будет вредить распространению на Руси основательных
понятий о литературе и усовершенствований вкуса? Литератур¬
ное идолопоклонство! Дети, мы еще всё молимся и поклоня¬
емся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа
и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще
с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения
предметы нашего обожания. Что делать? Слепой фанатизм все¬
гда бывает уделом младенчествующих обществ. Помните ли вы,
чего стоили Мерзлякову его критические отзывы о Хераско¬
ве?88 Помните ли, как пришлись г. Каченовскому его замечания
на «Историю государства российского», эти замечания старца,
в коих было высказано почти все, что говорили потом об исто¬
рии Карамзина юноши?89 Да — много, слишком много нужно
* но я все время возвращаюсь к своим баранам87 (франц.). — Ред.
80
у нас бескорыстной любви к истине и силы характера, чтобы
посягнуть даже на какой-нибудь авторитетик, не только что ав¬
торитет: разве приятно вам будет, когда вас во всеуслышание
ославят ненавистником отечества, завистником таланта, бездуш¬
ным зоилом, желтяком?90 И кто же? Люди, почти безграмотные,
невежды, ожесточенные против успехов ума, упрямо держащи¬
еся за свою раковинную скорлупку, когда все вокруг них идет,
бежит, летит! И не правы они в сем случае? Чего остается ожи¬
дать для себя, например, г. Иванчину-Писареву, г. Воейкову или
кн. Шаликову, когда они слышат, что Карамзин не художник, не
гений, и другие подобные безбожные мнения? Они, которые
питались крохами, падавшими с трапезы этого человека, и на
них основывали здание своего бессмертия? Является г. Арцы¬
башев с критическими статейками, в коих доказывает, что Ка¬
рамзин часто и притом без всякой нужды отступал от летопи¬
сей, служивших ему источниками, часто по своей воле или при¬
хоти искажал их смысл; и что же? — Вы думаете, поклонники
Карамзина тотчас принялись за сличку и изобличили г. Арцыба¬
шева в клевете? Ничего не бывало. Странные люди! К чему вам
толковать о зависти и зоилах, о каменщиках и скульпторах,
к чему вам бросаться на пустые, ничтожные фразы в сносках,
сражаться с тенью и шуметь из ничего?91 Пусть г. Арцыбашев
и завидует славе Карамзина: поверьте, ему не убить этим Ка¬
рамзина, если он пользуется заслуженною славою; пусть он
с важностию доказывает, что слог Карамзина неподобозвучен —
бог с ним — это только смешно, а ничуть не досадно. Не лучше
ли вам взять в руки летописи и доказать, что или г. Арцыбашев
клевещет, или промахи историка незначительны и ничтожны;
а не то совсем ничего не говорить? Но, бедные, вам не под
силу этот труд; вы и в глаза не видывали летописей, вы плохо
знаете историю:
Так из чего же вы беснуетеся столько?92
Однако ж, что ни говори, а таких людей, к несчастию, много,
И вот общественное мненье!
И вот на чем вертится свет! 93
Карамзин отметил своим именем эпоху в нашей словесно¬
сти; его влияние на современников было так велико и сильно,
что целый период нашей литературы от девяностых до двадца¬
тых годов по справедливости называется периодом Карамзин-
ским. Одно уже это достаточно доказывает, что Карамзин, по
своему образованию, целою головою превышал своих современ¬
ников. За ним еще и по сию пору, хотя нетвердо и неопреде¬
ленно, кроме имени историка, остаются имена писателя, поэта,
художника, стихотворца. Рассмотрим его права на эти титла.
Для Карамзина еще не наступило потомство. Кто из нас не
утешался в детстве его повестями, не мечтал и не плакал с его
сочинениями? А ведь воспоминания детства так сладостны, так
81
обольстительны: можно ли тут быть беспристрастными? Однако
ж попытаемся.
Представьте себе общество разнохарактерное, разнород¬
ное, можно сказать, разноплеменное; одна часть его читала,
говорила, мыслила и молилась богу на французском языке;
другая знала наизусть Державина и ставила его наравне не
только с Ломоносовым, но и с Петровым, Сумароковым и Хе¬
расковым; первая очень плохо знала русский язык; вторая была
приучена к напыщенному, схоластическому языку автора «Рос-
сияды» и «Кадма и Гармонии»;94 общий же характер обеих со¬
стоял из полудикости и полуобразованности; словом, общество
с охотою к чтению, но без всяких светлых идей об литературе.
И вот является юноша, душа которого была отверзта для всего
благого и прекрасного, но который, при счастливых дарованиях
и большом уме, был обделен просвещением и ученою образо-
ванностию, как увидим ниже. Не ставши наравне с своим веком,
он был несравненно выше своего общества. Этот юноша смот¬
рел на жизнь, как на подвиг, и, полный сил юности, алкал славы
авторства, алкал чести быть споспешествователем успехов оте¬
чества на пути к просвещению, и вся его жизнь была этим свя¬
тым и прекрасным подвижничеством. Не правда ли, что Карам¬
зин был человек необыкновенный, что он достоин высокого
уважения, если не благоговения? Но не забывайте, что не^ долж¬
но смешивать человека с писателем и художником. Будь ска¬
зано, впрочем, без всякого применения к Карамзину, этак, чего
доброго! и Роллень попадет во святые95. Намерение и испол¬
нение — две вещи различные. Теперь посмотрим, как выполнил
Карамзин свою высокую миссию.
Он видел, как мало было у нас сделано, как дурно понима¬
ли его собратия по ремеслу, что должно было делать, видел,
что высшее сословие имело причину презирать родным язы¬
ком, ибо язык письменный был в раздоре с языком разговор¬
ным. Тогда был век фразеологии, гнались за словами и мысли
подбирали к словам только для смысла. Карамзин был одарен
от природы верным музыкальным ухом для языка и способ-
ностию объясняться плавно и красно, следовательно, ему не
трудно было преобразовать язык. Говорят, что он сделал наш
язык сколком с французского96, как Ломоносов сделал его
сколком с латинского: это справедливо только отчасти. Вероят¬
но, Карамзин старался писать, как говорится. Погрешность его
в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не
прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще род¬
ных источников. Но он исправил эту ошибку в своей «Истории».
Карамзин предположил себе целию — приучить, приохотить рус¬
скую публику к чтению. Спрашиваю вас: может ли призвание
художника согласиться с какой-нибудь заранее предположен¬
ною целию, как бы ни была прекрасна эта цель? Этого мало:
может ли художник унизиться, нагнуться, так сказать, к публике,
82
которая была бы ему по колена и потому не могла бы его
понимать? Положим, что и может; тогда другой вопрос: может
ли он в таком случае остаться художником в своих созданиях?
Без всякого сомнения, нет. Кто объясняется с ребенком, тот
сам делается на это время ребенком. Карамзин писал для де¬
тей и писал по-детски: удивительно ли, что эти дети, сделавшись
взрослыми, забыли его и, в свою очередь, передали его сочине¬
ния своим детям? Это в порядке вещей: дитя с доверчивостию
и с горячею верою слушал рассказы своей старой няни, водив¬
шей его на помочах, о мертвецах и привидениях, а выросши,
смеется над ее рассказами. Вам поручен ребенок: смотрите ж,
что этот ребенок будет отроком, потом юношей, а там и му¬
жем, и потому следите за развитием его дарований и, сооб¬
разно с ним, переменяйте методу вашего ученья, будьте всегда
выше его; иначе вам худо будет: этот ребенок станет в глаза
смеяться над вами. Уча его, еще больше учитесь сами, а не то
он перегонит вас: дети растут быстро. Теперь скажите, по со¬
вести, sine ira et studio *, как говорят наши записные ученые:
кто виноват, что как прежде плакали над «Бедною Лизою», так
ныне смеются над нею? Воля ваша, гг. поклонники Карамзина,
а я скорее соглашусь читать повести Барона Брамбеуса, чем
«Бедную Лизу» или «Наталью, боярскую дочь»! Другие времена,
другие нравы! Повести Карамзина приучили публику к чтению,
многие выучились по ним читать; будем же благодарны их ав¬
тору; но оставим их в покое, даже вырвем их из рук наших
детей, ибо они наделают им много вреда: растлят их чувство
приторною чувствительностию.
Кроме сего, сочинения Карамзина теряют в наше время
много достоинства еще и оттого, что он редко был в них искре¬
нен и естествен. Век фразеологии для нас проходит; по нашим
понятиям, фраза должна прибираться для выражения мыслГ
или чувства; прежде мысль и чувство приискивались для звон¬
кой фразы. Знаю, что мы еще и теперь не безгрешны в этом
отношении; по крайней мере теперь, если легко выставить ми¬
шуру за золото, ходули ума и потуги чувства за игру ума и
пламень чувства, то ненадолго, и чем живее обольщение, тем
бывает мстительнее разочарование, чем больше благоговения
к ложному божеству, тем жесточайшее поношение наказывает
самозванца. Вообще ныне как-то стало откровеннее; всякий ис¬
тинно образованный человек скорее сознается, что он не пони¬
мает той или другой красоты автора, но не станет обнаруживать
насильственного восхищения. Посему ныне едва ли найдется та¬
кой добренький простачок, который бы поверил, что обильные
потоки слез Карамзина изливались от души и сердца, а не были
любимым кокетством его таланта, привычными ходульками его
авторства. Подобная ложность и натянутость чувства тем
* без гнева и пристрастия (лат.), — Ред.
83
жалостнее, когда автор человек с дарованием. Никто не подумает
осуждать за подобный недостаток, например, чувствительного
кн. Шаликова, потому что никто не подумает читать его чув¬
ствительных творений. Итак, здесь авторитет не только не
оправдание, но еще двойная вина. В самом деле, не странно ля
видеть взрослого человека, хотя бы этот человек был сам Карам¬
зин, не странно ли видеть взрослого человека, который проли¬
вает обильные источники слез и при взгляде на кривой глаз
великого мужа грамматики, и при виде необозримых песков,
окружающих Кале, и над травками и над муравками, и над бу¬
кашками и таракашками?.. Ведь и то сказать:
Не все нам реки слезные
Лить о бедствиях существенных!97
Эта слезливость, или, лучше сказать, плаксивость нередко пор¬
тит лучшие страницы его «Истории». Скажут: тогда был такой
век. Неправда: характер осьмнадцатого столетия отнюдь не со¬
стоит в одной плаксивости; притом же здравый смысл старше
всех столетий, а он запрещает плакать, когда хочется смеяться,
и смеяться, когда хочется плакать. Это просто было детство
смешное и жалкое, мания странная и неизъяснимая.
Теперь другой вопрос: столько ли он сделал, сколько мог,
или меньше? Отвечаю утвердительно: меньше. Он отправился
путешествовать: какой прекрасный случай предстоял ему раз¬
вернуть пред глазами своих соотечественников великую и оболь¬
стительную картину вековых плодов просвещения, успехов ци¬
вилизации и общественного образования благородных предста¬
вителей человеческого рода!.. Ему так легко было это сделать!
Его перо было так красноречиво! Его кредит у современников
был так велик! И что ж он сделал вместо всего этого? Чем
наполнены его «Письма русского путешественника»? Мы узнаем
из них, по большой части, где он обедал, где ужинал, какое
кушанье подавали ему и сколько взял с него трактирщик; узна¬
ем, как г. Б*** волочился за г-жою N и как белка оцарапала
ему нос; как восходило солнце над какою-нибудь швейцарскою
деревушкою, из которой шла пастушка с букетом роз на груди
и гнала перед собою корову...98 Стоило ли из этого ездить так
далеко?.. Сравните в сем отношении «Письма русского путе¬
шественника» с «Письмами к вельможе» Фонвизина",— пись¬
мами, написанными прежде: какая разница! Карамзин виделся
со многими знаменитыми людьми Германии, и что же он узнал
из разговоров с ними? То, что все они люди добрые, наслаждаю¬
щиеся спокойствием совести и ясностию духа. И как скромны,
как обыкновенны его разговоры с ними! Во Франции он был
счастливее в сем случае, по известной причине: вспомните сви¬
дание русского скифа с французским Платоном100. Отчего жо
это произошло? Оттого, что он не приготовился надлежащим
84
образом к путешествию, что не был учен основательно. Но,
несмотря на это, ничтожность его «Писем русского путешест¬
венника» происходит больше от его личного характера, чем от
недостатка в сведениях. Он не совсем хорошо знал нужды Рос¬
сии в умственном отношении. О стихах его нечего много гово¬
рить: это те же фразы, только с рифмами. В них Карамзин,
как и везде, является преобразователем языка, а отнюдь не
поэтом.
Вот недостатки сочинений Карамзина, вот причина, что он
так был скоро забыт, что он едва не пережил своей славы.
Справедливость требует заметить, что его сочинения там, где
он не увлекается сентиментальностию и говорит от души, дышат
какою-то сердечною теплотою; это особенно заметно в тех
местах, где он говорит о России. Да, он любил добро, любил
отечество, служил ему сколько мог; имя его бессмертно, но
сочинения его, исключая «Истории», умерли, и не воскреснуть
им, несмотря на все возгласы людей, подобных гг. Иванчину-
Писареву и Оресту Сомову!..
«История государства российского» есть важнейший подвиг
Карамзина; он отразился в ней весь со всеми своими недостат¬
ками и достоинствами. Не берусь судить о сем произведении
ученым образом, ибо, признаюсь откровенно, этот труд был бы
далеко не под силу мне. Мое мнение (весьма не новое) будет
мнением любителя, а не знатока. Сообразив все, что было сде¬
лано для систематической истории до Карамзина, нельзя не
признать его труда подвигом исполинским. Главный недостаток
оного состоит в его взгляде на вещи и события, часто детском
и всегда по крайней мере не мужеском; в ораторской шумихе
и неуместном желании быть наставительным, поучать там, гдэ
сами факты говорят за себя; в пристрастии к героям повество¬
вания, делающем честь сердцу автора, но не его уму. Главное
достоинство его состоит в занимательности рассказа и искусном
изложении событий, нередко в художественной обрисовке ха¬
рактеров, а более всего в слоге, в котором Карамзин реши¬
тельно торжествует здесь. В сем последнем отношении у нас
и по сию пору не написано еще ничего подобного. В «Истории
государства российского» слог Карамзина есть слог русский по
преимуществу; ему можно поставить в параллель только в сти¬
хах «Бориса Годунова» Пушкина. Это совсем не то, что слог его
мелких сочинений; ибо здесь автор черпал из родных источни¬
ков, упитан духом исторических памятников; здесь его слог,‘за
исключением первых четырех томов, где по большей части одна
риторическая шумиха, но где все-таки язык удивительно обра¬
ботан, имеет характер важности, величавости и энергии и часто
переходит в истинное красноречие. Словом, по выражению од¬
ного нашего критика, в «Истории государства российского» язы¬
ку нашему воздвигнут такой памятник, о который время изло¬
мает свою косу101. Повторяю: имя Карамзина бессмертно, нд
85
сочинения его, исключая «Историю», уже умерли и никогда не
воскреснут!..
Почти в одно время с Карамзиным выступил на литератур¬
ное поприще и Дмитриев (И. И.). Он был в некотором отноше¬
нии преобразователь стихотворного языка, и его сочинения, до
Жуковского и Батюшкова, справедливо почитались образцовы¬
ми. Впрочем, его поэтическое дарование не подвержено ни ма¬
лейшему сомнению. Главный элемент его таланта есть остро¬
умие, посему «Чужой толк» есть лучшее его произведение. Бас¬
ни его прекрасны; им недостает только народности, чтоб быть
совершенными. В сказках же Дмитриев не имел себе соперни¬
ка. Кроме сего, его талант возвышался иногда до лиризма, что
доказывается прекрасным его произведением «Ермак», и осо¬
бенно переводом, подражанием или переделкою (назовите как
угодно) пьесы Гете, которая известна под именем «Размышле¬
ния по случаю грома»...
Крылов возвел у нас басню до пес plus ultra * совершен¬
ства. Нужно ли доказывать, что это генияльный поэт русский,
что он неизмеримо возвышается над всеми своими соперника¬
ми? Кажется, в этом никто не сомневается. Замечу только,
впрочем не я первый, что басня оттого имела на Руси такой
чрезвычайный успех, что родилась не случайно, а вследствие
нашего народного духа, который страх как любит побасенки
и применения. Вот самое убедительнейшее доказательство
того, что литература непременно должна быть народною, если
хочет быть прочною и вечною! Вспомните, сколько было
у иностранцев неудачных попыток перевести Крылова. Сле¬
довательно, те жестоко ошибаются, которые думают, что только
рабским подражанием иностранцам можно обратить на себя их
внимание.
Озерова у нас почитают и преобразователем и творцом
русского театра102. Разумеется, он ни то, ни другое; ибо рус¬
ский театр есть мечта разгоряченного воображения наших доб¬
рых патриотов. Справедливо, что Озеров был у нас первым
драматическим писателем с истинным, хотя и не огромным та¬
лантом; он не создал театра, а ввел к нам французский театр,
то есть первый заговорил истинным языком французской Мель¬
помены. Впрочем, он не был драматиком в полном смысле сего
слова: он не знал человека. Приведите на представление Шекс-
пировой или Шиллеровой драмы зрителя без всяких познаний,
без всякого образования, но с природным умом и способ-
ностию принимать впечатления изящного: он, не зная истории,
хорошо поймет, в чем дело; не понявши исторических лиц, пре¬
красно поймет человеческие лица; но когда он будет смотреть
ка трагедию Озерова, то решительно ничего не уразумеет. Мо¬
жет быть, это общий недостаток так называемой классической
* крайних пределов (лат.). — Ред.
трагедии. Но Озеров имеет и другие недостатки, которые про¬
исходили от его личного характера. Одаренный душою нежною,
но не глубокою, раздражительною, но не энергическою, он был
не способен к живописи сильных страстей. Вот отчего его жен¬
щины интереснее мужчин;103 вот отчего его злодеи ни больше,
ни меньше, как олицетворение общих, родовых пороков; вот
отчего он из Фингала сделал аркадского пастушка и заставил
его объясняться с Мойною мадригалами, скорее приличными
какому-нибудь Эрасту Чертополохову104, чем грозному поклон¬
нику Одена. Лучшая его пьеса, без сомнения, есть «Эдип»,
а худшая «Дмитрий Донской», эта надутая ораторская речь, пе¬
реложенная в разговоры. Теперь никто не станет отрицать по¬
этическое таланта Озерова, но вместе с тем и едва ли кто
станет читать его, а тем более восхищаться им.
Появление Жуковского изумило -Россию, и не без причины.
Он был Колумбом нашего отечества: указал ему на немецкую
и английскую литературы, которых существования оно даже и не
подозревало. Кроме сего, он совершенно преобразовал стихо¬
творный язык, а в прозе шагнул далее Карамзина:* вот главные
его заслуги. Собственных его сочинений немного; труды его
или переводы, или переделки, или подражания иностранным.
Язык смелый, энергический, хотя и не всегда согласный с чувст¬
вом, односторонняя мечтательность, бывшая, как говорят, след¬
ствием обстоятельств его жизни 105,— вот характеристика сочи¬
нений Жуковского. Ошибаются те, которые почитают его подра¬
жателем немцев и англичан: он не стал бы иначе писать и тогда,
когда б был не знаком с ними, если б только захотел быть
верным самому себе. Он не был сыном XIX века, но был, так
сказать, прозелитом; присовокупите к сему еще то, что его
творения, может быть, в самом деле проистекали из обстоя¬
тельств его жизни, и вы поймете, отчего в них нет идей миро¬
вых, идей человечества, отчего у него часто под самыми
роскошными формами скрываются как будто карамзинские
идеи (например, «Мой друг, хранитель, ангел мой!» 106 и т. п.),
отчего в самых лучших его созданиях (как, например, в «Певце
во стане русских воинов») встречаются места совершенно рито¬
рические. Он был заключен в себе: и вот причина его односто¬
ронности, которая в нем есть оригинальность в высочайшей сте¬
пени. По множеству своих переводов, Жуковский относится
к нашей литературе, как Фосс или Авг. Шлегель к немецкой
литературе. Знатоки утверждают, что он не переводил, а усвои-
вал русской словесности создания Шиллеров, Байронов и пр.;
в этом, кажется, нет причины сомневаться. Словом: Жуковский
есть поэт с необыкновенным энергическим талантом, поэт, ока¬
завший русской литературе неоцененные услуги, поэт, который
никогда не забудется, которого никогда не перестанут читать;
* Я разумею здесь мелкие сочинения Карамзина.
87
но вместе с тем и не такой поэт, которого б можно было на¬
звать поэтом собственно русским, имя которого можно б было
провозгласить на европейском турнире, где соперничествуют
народными славами.
Многое из сказанного о Жуковском можно сказать и о Ба¬
тюшкове. Сей последний решительно стоял на рубеже двух ве¬
ков: поочередно пленялся и гнушался прошедшим, не признал
и не был признан наступившим. Это был человек не гениальный,
но с большим талантом. Как жаль, что он не знал немецкой
литературы: ему немногого недоставало для совершенного ли¬
тературного обращения. Прочтите его статью о морали107,
основанной на религии, и вы поймете эту тоску души и ее по¬
рывы к бесконечному после упоения сладострастием, которыми
дышат его гармонические создания. Он писал о жизни и впе¬
чатлениях поэта, где между детскими мыслями проискриваются
мысли как будто нашего времени, и тогда же писал о какой-то
легкой поэзии, как будто бы была поэзия тяжелая. Не правда
ли, что он не принадлежал вполне ни тому, ни другому веку?..
Батюшков, вместе с Жуковским, был преобразователем стихо¬
творного языка, то есть писал чистым, гармоническим языком;
проза его тоже лучше прозы мелких сочинений Карамзина. По
таланту Батюшков принадлежит к нашим второклассным писате¬
лям и, по моему мнению, ниже Жуковского; о равенстве же его
с Пушкиным смешно и думать. Триумвирату, составленному на¬
шими словесниками из Жуковского, Батюшкова и Пушкина, мог¬
ли верить только в двадцатых годах...
Мне остается теперь упомянуть еще о Мерзлякове, и я
окончу весь Карамзинский период нашей словесности, окончу
перечень всех его знаменитостей, всей его аристократии: оста¬
нутся плебеи, о которых нечего говорить много, разве только
для доказательства зыбкости наших прославленных авторите¬
тов. Мерзляков был человек с необыкновенным поэтическим
дарованием и представляет собою одну из умилительнейших
жертв духа времени. Он преподавал теорию изящного, и между
тем эта теория оставалась для него неразгаданною загадкою во
все продолжение его жизни; он считался у нас оракулом крити¬
ки и не знал, на чем основывается критика; наконец, он во всю
жизнь свою заблуждался насчет своего таланта, ибо, написавши
несколько бессмертных песен, в то же время написал множество
од, в коих где-где блистают искры могущего таланта, которо¬
го не могла убить схоластика, и в коих все остальное голая
риторика. Несмотря на то, повторяю: это был талант мощный,
энергический: какое глубокое чувство, какая неизмеримая
тоска в его песнях! как живо сочувствовал он в них русскому
народу и как верно выразил в их поэтических звуках лири¬
ческую сторону его жизни! Это не песенки Дельвига, это не
подделки под народный такт — нет: это живое, естественное из¬
лияние чувства, где все безыскусственно и естественно! Не пра¬
38
вда ли, что, по прочтении или по выслушании любой из его
песен, вы невольно готовы воскликнуть:
Ах! та песнь была заветная:
Рвала белу грудь тоской,
А все слушать бы хотелось,
Не расстался бы ввек с ней! 108
И этот человек, который был знаком с немецким языком
и литературою, этот человек, с душою поэтическою, с чувством
глубоким,— писал торжественные оды, перевел Тасса, говорил
с кафедры, что «только чудотворный гений немцев любит вы¬
ставлять на сцене виселицы», находил гений в Сумарокове
и был увлечен, очарован поддельною и нарумяненною поэзиею
французов, в то время как читал Гете и Шиллера!.. Он рожден
был практиком поэзии, а судьба сделала его теоретиком; пла¬
менное чувство влекло его к песням, а система заставила писать
оды и переводить Тасса!..109
Теперь вот прочие замечательные по таланту или по авто¬
ритету литераторы Карамзинского периода.
Капнист принадлежит к трем царствованиям. Некогда он
слыл за поэта с необыкновенным дарованием. Г-н Плетнев даже
утверждал где-то и когда-то, что у Капниста есть что-то такое,
чего будто бы недостает Ламартину:110 Le bon vieux temps!*
Теперь Капнист совершенно забыт, вероятно, потому, что пла¬
кал в своих стихах по правилам порядочной хрии, а более всего
потому, что едва заметные блестки таланта еще не могут спасти
писателя от всепоглощающих волн Леты. Он наделал много
шуму своею «Ябедою»; но эта прославленная «Ябеда» ни больше
ни меньше, как фарс, написанный языком варварским даже
и по своему времени.
Гнедич и Милонов были истинные поэты: если их теперь
мало почитают, то это потому, что они слишком рано родились.
Г-н Воейков (Александр Федорович, как значится в литера¬
турном «Адрес-календаре» г. Греча111, известном под именем
«Истории русской литературы») играл некогда в нашей словес¬
ности роль знаменитого. Он перевел Делиля (которого почитал
не только поэтом, но и большим поэтом); он сам собирался
написать дидактическую поэму (в то время все верили безуслов¬
но возможности дидактической поэзии); он переводил (как
умел) древних; потом занялся изданием разных журналов112,
в коих с неутомимою ревностию выводил на свежую воду знаме¬
нитых друзей, гг. Греча и Булгарина (нечего сказать — высокая
миссия!); теперь, на старости лет, поочередно, или, лучше ска¬
зать, понумерно, бранит Барона Брамбеуса и преклоняет пред
ним колена, а пуще всего восхваляет Александра Филипповича
Смирдина за то, что он дорого платит авторам; перепечатывает
* Доброе старое время! (франц.) щ — Ред.
89
в своем журнале старые стихи и статьи из «Молвы» за 1831 год.
Что ж делать? От великого до смешного только шаг, сказал
Наполеон!...113
Князь Вяземский, русский Карл Нодье, писал стихами
и прозою про все и обо всем. Его критические статьи (то есть
предисловия к разным изданиям)114 были необыкновенным яв¬
лением в свое время. Между его бесчисленными стихотворени¬
ями многие отличаются блеском остроумия неподдельного
п оригинального, иные даже чувством; многие и натянуты, как,
например, «Как бы не так!» и пр. Но вообще сказать, князь
Вяземский принадлежит к числу замечательных наших поэтов
н литераторов.
(До следующего листка).
{VIII)
Было время!..
Народная поговорка.
В прошедшей статье я обозрел Карамзинский период на¬
шей словесности, период, продолжавшийся целую четверть сто¬
летия. Целый период словесности, целая четверть века ознаме¬
нованы влиянием одного таланта, одного человека, а ведь чет¬
верть века много, слишком много значит для такой литературы,
которая не дожила еще пяти лет до своего второго столетия!*
И что же произвел великого и прочного этот период? Где те¬
перь гении, которыми он, бывало, так красовался и величался?
Изо всех них один только велик и бессмертен без всяких отно¬
шений, и этот один не заплатил дани Карамзину, который брал
свою обычную дань даже и с таких людей, кои были выше его
и по таланту и по образованию: говорю о Крылове. Повторяю:
что сделано в этот период для бессмертия? Один познакомил
нас несколько, и притом односторонним образом, с немецкою
и английскою литературою, другой с французским театром, тре¬
тий с французскою критикою XVII столетия, четвертый... Но где
же литература? Не ищите ее: напрасен будет ваш труд; переса¬
женные цветы недолговечны: это истина неоспоримая. Я сказал,
что в начале этого периода впервые родилась у нас мысль
* Литература наша, без всякого сомнения, началась в 1739 году, когда
Ломоносов прислал из-за границы свою первую оду «На взятие Хотина».
Нужно ли повторять, что не с Кантемира и не с Тредьяковского, а тем бо¬
лее не с Симеона Полоцкого, началась наша литература? Нужно ли дока¬
зывать, что «Слово о полку Игоревом», «Сказание о донском побоище»,
красноречивое «Послание Вассиана к Иоанну III» и другие исторические
памятники, народные песни и схоластическое духовное красноречие имеют
точно такое же отношение к нашей словесности, как и памятники допотоп¬
ной литературы, если бы они были открыты, к санскрит спой, греческой или
латинской литературе? Такие истины надобно доказывать только гг. Гречу
и Плаксину, с коими я не намерен вступать в ученые состязания115.
90
о литературе: вследствие того появились у нас и журналы. Но
что такое были эти журналы? Невинное препровождение вре¬
мени, дело от безделья, а иногда и средство нажить денежку.
Ни один из них не следил за ходом просвещения, ни один не
передавал своим соотечественникам успехов человечества на
поприще самосовершенствования. Помню, что в каком-то чувст¬
вительном журнале, кажется в 1813 году, было напечатано, что
в Англии явился новый поэт, Бирон П6, который пишет в каком-
то романтическом роде и особенно прославился своею поэмою
«Шильд Гарольд»: вот вам и всё тут. Конечно, тогда не только
в России, но отчасти и в Европе смотрели на литературу не
сквозь чистое стекло разума, а сквозь тусклый пузырь француз¬
ского классицизма; но движение там уже было начато, и сами
французы, умиротворенные реставрацией, много поумнели
против прежнего и даже совершенно переродились. Между тем
наши литературные наблюдатели дремали и только тогда про¬
снулись, когда неприятель ворвался в их домы и начал в них
своевольно хозяйничать; только тогда завопили они гласом ве¬
ликим: караул, режут, разбой, романтизм!..
За Карамзинским периодом нашей словесности последовал
период Пушкинский, продолжавшийся почти ровно десять лет.
Говорю Пушкинский, ибо кто не согласится, что Пушкин был
главою этого десятилетия, что все тогда шло от него и к нему?
Впрочем, я не то здесь думаю, чтобы Пушкин был для своего
времени совершенно то же, что Карамзин для своего. Одно уж
то, что его деятельность была бессознательною деятельностию
художника, а не практическою и преднамеренною деятельностию
писателя, полагает большую разницу между им и Карамзиным.
Пушкин владычествовал единственно силою своего таланта
и тем, что он был сыном своего века; владычество же Карамзи¬
на в последнее время основывалось на слепом уважении к его
авторитету. Пушкин не говорил, что поэзия есть то или то, а на¬
ука есть это или это; нет: он своими созданиями дал мерило
для первой и до некоторой степени показал современное зна¬
чение другой. В то время, то есть в двадцатых годах (1817—
1824), у нас глухо отдалось эхо умственного переворота, совер¬
шившегося в Европе; тогда, хотя еще робко и неопределенно,
начали поговаривать, что будто бы пьяный дикарь Шекспир 117
неизмеримо выше накрахмаленного Расина, что Шлегель будто
бы знает об искусстве побольше Лагарпа, что немецкая литера¬
тура не только не ниже французской, но даже несравненно
выше; что почтенные гг. Буало, Батте, Лагарп и Мармонтель
безбожно оклеветали искусство, ибо сами мало смыслили в нем
толку. Конечно, теперь в этом никто не сомневается, и доказы¬
вать подобные истины значило бы навлечь на себя всеобщее
посмеяние; но тогда, право, было не до смеху; ибо тогда даже
и в Европе за подобные безбожные мысли угрожало инквизи¬
торское аутодафе; на что же решались в России люди, которые
91
дерзали утверждать, что Сумароков не поэт, что Херасков тя¬
желоват, и пр.? Из сего ясно, что чрезмерное влияние Пушкина
происходило оттого, что, в отношении к России, он был сыном
своего времени в полном смысле сего слова, что он шел нарав¬
не с своим отечеством, был представителем развития его
умственной жизни; следовательно, его владычество было за¬
конное. Карамзин, напротив, как мы видели выше, в девятнад¬
цатом веке был сыном осьмнадцатого и даже, в некотором
смысле, не вполне его выразил, ибо, по своим идеям, не возвы¬
сился даже и до него, следовательно, его влияние было закон¬
но только разве до появления Жуковского и Батюшкова, начи¬
ная с коих его могущественное влияние только задерживало
успехи нашей словесности. Появление Пушкина было зрелищем
умилительным; поэт-юноша, благословенный помазанным старцем
Державиным, стоявшим на краю гроба и готовившимся склонить
в него свою лавровенчанную главу; поэт-муж, подающий к нему
руку чрез неизмеримую пропасть целого столетия, разделявшего,
в нравственном смысле, два поколения; наконец, ставший подле
пего, и вместе с ним, образующий двойственное, лучезарное
созвездие на пустынном небосклоне нашей литературы!..118
Классицизм и романтизм — вот два слова, коими огласился
Пушкинский период нашей словесности; вот два слова, на кои
были написаны книги, рассуждения, журнальные статьи и даже
стихотворения, с коими мы засыпали и просыпались, за кои
дрались на смерть, о коих спорили до слез и в классах и в
гостиных, и на площадях и на улицах! Теперь эти два слова
сделались как-то пошлыми и смешными; как-то странно и дико
встретить их в печатной книге или услышать в разговоре.
А давно ли кончилось это тогда и началось это теперь? Как же
после сего не скажешь, что все летит вперед на крыльях ветра?
Только разве в каком-нибудь Дагестане можно еще с важностию
рассуждать об этих почивших страдальцах — классицизме и ро~
мантизме — и выдавать нам за новость, что Расин немножко
приторен, что энциклопедисты немножко врали, что Шекспир,
Гете и Шиллер велики, а Шлегель говорил правду, и пр. И
это нисколько не удивительно: ведь Дагестан в Азии!..119
В Европе классицизм был литературным католицизмом.
В папы оного был выбран, без его ведома и согласия, покойник
Аристотель, каким-то непризнанным конклавом; инквизициею
этого католицизма была французская критика; великими инкви¬
зиторами: Буало, Баттё и Лагарп с братиею; предметами обожа¬
ния: Корнель, Расин, Вольтер и другие. Волею или неволею,
гг. инквизиторы завербовали в свой календарь и древних, а в
числе их и вечного старца Гомера (вместе с Виргилием), Тасса,
Ариоста, Мильтона, кои (за исключением, может быть, вставоч¬
ного) не виноваты в классицизме ни душою, ни телом, ибо были
естественны в своих творениях. Так дела шли до ХУШ столе¬
тия. Наконец все перевернулось: белое стало черным, а черное
*92
белым. Лицемерный, развратный, приторный осьмнадцатый век
испустил свое последнее дыхание, и с девятнадцатым столетием
ум и вкус возродились для новой, лучшей жизни. Подобно
страшному метеору, в начале его, возник сын судьбы, облечен¬
ный всею ее ужасающею мощию, или, лучше сказать, сама судьба
явплась в образе Наполеона, того Наполеона, который сделался
властителем наших дум120, говоря о котором и самая посред¬
ственность возвышалась до поэзии. Век принял гигантские раз¬
меры и облекся в исполинское величие; Франция устыдилась
самой себя и с ругательным смехом начала указывать пальцем
на жалкие развалины минувшего времени, которые, как бы не
замечая великих переворотов, совершавшихся перед их глаза¬
ми, даже при роковом переходе через Березину, взмостившись
на сук дерева, окостенелою рукою завивали свои букли и посы¬
пали их заветною пудрою, тогда как вокруг них бушевала зимняя
вьюга мстительного севера, и люди падали тысячами, оцепенен¬
ные страхом и холодом... Итак, французы, слишком поражен¬
ные этими великими событиями, сделались постепеннее и посо¬
лиднее, перестали прыгать на одной ножке; это было первым
шагом к их обращению к истине. Потом они узнали, что у их
соседей, у неповоротливых немцев, коих они всегда выставляла
за образец эстетического безвкусия, есть литература, литерату¬
ра, достойная глубокого и основательного изучения, и вместе
с тем узнали, что их препрославленные поэты и философы сов¬
сем не поставили геркулесовских столбов гению человеческому.
Всем известно, как все это сделалось, и потому не хочу рас¬
пространяться о том, что Шатобриан был крестным отцом,
а г-жа Сталь повивальною бабкою юного романтизма во Фран¬
ции. Скажу только, что этот романтизм был не иное что, как
возвращение к естественности, а следственно, самобытности
и народности в искусстве, предпочтение, оказанное идее над
формою, и свержение чуждых и тесных форм древности, кото¬
рые к произведениям новейшего искусства шли точно так же,
как идет к напудренному парику, шитому камзолу и выбритой
бороде греческий хитон или римская тога. Отсюда следует, что
этот так называемый романтизм был очень старая новость,
а отнюдь не чадо XIX века; был, так сказать, народностью ново¬
го християнского мира Европы. Германия была искони веков
романтическою страною по преимуществу, как по феодальным
формам своего правления, так и по идеальному направлению
своей умственной деятельности. Реформация убила в ней като¬
лицизм, а вместе с ним и классицизм. Эта же самая реформа¬
ция, хотя несколько в другом виде, развязала руки и Англии:
Шекспир был романтик. Очевидно, что романтизм был но-
востию только для одной Франции и еще для тех государств,
где совсем не было литератур, то есть Швеции, Дании и т. п.
И Франция бросилась на эту старую новинку со всею своею жи-
востию и увлекла за собой безлптературные государства. Юная
93
словесность 121 есть не иное что, как реакция старой; и как во
Франции общественная жизнь и литература идут об руку, то
и нимало не удивительно, что нынешняя их литература отлича¬
ется излишеством: реакции никогда не бывают умеренны. Те¬
перь во Франции из одной моды всякой хочет быть глубоким
и энергическим, подобно какому-нибудь Феррагусу122, так, как
прежде всякой из моды же хотел быть ветреным, беспечным,
легковерным и ничтожным.
И однако ж, странное дело! никогда не проявлялось в Ев¬
ропе такого дружного и сильного стремления сбросить с себя
оковы классицизма, схоластицизма, педантизма или глупицизма
(это все одно и то же). Байрон, другой властитель наших
дум123, и Вальтер Скотт раздавили своими творениями школу
Попа и Блера и возвратили Англии романтизм. Во Франции
явился Виктор Гюго с толпою других мощных талантов, в Польше
Мицкевич, в Италии Манцони, в Дании Эленшлегер, в Швеции
Тегнер. Неужели только России суждено было остаться без
своего литературного Лютера?
В Европе классицизм был не что иное, как литературный
католицизм: что же такое был он в России? Не трудно отвечать
на этот вопрос: в России классицизм был ни больше ни мень¬
ше, как слабый отголосок европейского эха, для объяснения
коего совсем не нужно ездить в Индию на пароходе «Джон
Буль» 124. Пушкин не натягивался, был всегда истинен и искре¬
нен в своих чувствах, творил для своих идей свои формы: вот
его романтизм. В этом отношении и Державин был почти такой
же романтик, как и Пушкин; причина этому, повторяю, скрыва¬
ется в его невежестве. Будь этот человек учен — и у нас было
бы два Хераскова, коих было бы трудно отличить друг от друга.
Итак, третие десятилетие XIX века было ознаменовано вли¬
янием Пушкина. Что могу сказать я нового об этом человеке?
Признаюсь: еще в первый раз поставил я себя в затруднитель¬
ное положение, взявшись судить о русской литературе; еще
в первый раз я жалею о том, что природа не дала мне поэти¬
ческого таланта, ибо в природе есть такие предметы, о коих
грешно говорить смиренною прозою!
Как медленно и нерешительно шел, или, лучше сказать,
хромал Карамзинский период, так быстро и скоро шел период
Пушкинский. Можно сказать утвердительно, что только в про¬
шлое десятилетие проявилась в нашей литературе жизнь, и какая
жизнь! тревожная, кипучая, деятельная! Жизнь есть действо¬
вание, действование есть борьба, а тогда боролись и дрались
не на ;кивот, а на смерть. У нас нападают иногда на поле¬
мику, в особенности журнальную. Это очень естественно. Люди,
хладнокровные к умственной жизни, могут ли понять, как мож¬
но предпочитать истину приличиям и из любви к ней навлекать
на себя ненависть и гонение? О! им никогда не постичь, что за
блаженство, что за сладострастие души, сказать какому-нибудь
гению в отставке без мундира, что он смешон и жалок с своими
детскими претензиями на великость, растолковать ему, что оя
не себе, а крикуну-журналисту обязан своею литературною зна-
чительностию; сказать какому-нибудь ветерану, что он пользует¬
ся своим авторитетом на кредит, по старым воспоминаниям или
по старой привычке; доказать какому-нибудь литературному
учителю, что он близорук, что он отстал от века и что ему надо
переучиваться с азбуки; сказать какому-нибудь выходцу бог
весть откуда, какому-нибудь пройдохе и Видоку125, какому-
нибудь литературному торгашу, что он оскорбляет собою и эту
словесность, которой занимается, и этих добрых людей, креди¬
том коих пользуется, что он наругался и над святостию истины
и над святостию знания, заклеймить его имя позором отверже¬
ния, сорвать с него маску, хотя бы она была и баронская 126,
и показать его свету во всей его наготе!.. Говорю вам, во всем
этом есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безгранич¬
ное! Конечно, в литературных сшибках иногда нарушаются зако¬
ны приличия и общежительности; но умный и образованный
читатель пропустит без внимания пошлые намеки о желтяках,
об утиных носах, семинаристах, гаре, полугаре, купцах и аршин¬
никах; он всегда сумеет отличить истину ото лжи, человека от
слабости, талант от заблуждения;127 читатели же невежды не
сделаются от того ни глупее, ни умнее. Будь все тихо и чинно,
будь везде комплименты и вежливости, тогда какой простор
для бессовестности, шарлатанства, невежества: некому обли¬
чить, некому изречь грозное слово правды!..
Итак, период Пушкинский был ознаменован движением
жизни в высочайшей степени. В это десятилетие мы перечувст¬
вовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Евро¬
пы, эхо которой отдалось к нам через Балтийское море. Мы
обо всем пересудили, обо всем переспорили, все усвоили себе,
ничего не взрастивши, не взлелеявши, не создавши сами. За нас
трудились другие, а мы только брали готовое и пользовались
им: в этом-то и заключается тайна неимоверной быстроты на¬
ших успехов и причина их неимоверной непрочности. Этим же,
кажется мне, можно объяснить и то, что от этого десятилетия,
столь живого и деятельного, столь обильного талантами и ге¬
ниями, уцелел едва один Пушкин и, осиротелый, теперь
с грустию видит, как имена, вместе с ним взошедшие на гори¬
зонт нашей словесности, исчезают одно за другим в пучине за¬
бвения, как исчезает в воздухе недосказанное слово... В самом
деле, где же теперь эти юные надежды, которыми мы так гор¬
дились? Где эти имена, о коих, бывало, только и слышно? Поче¬
му они все так внезапно смолкнули? Воля ваша, а мне сдается, что
тут что-нибудь да есть! Или, в самом деле, время есть самый
строгий, самый правдивый Аристарх?.. Увы!.. Разве талант Озерова
или Батюшкова был ниже таланта, например, г. Баратынского
и г. Подолинского? Явись Капнист, В. и А. Измайловы, В. Пуш¬
95
кин, явись эти люди вместе с Пушкиным во цвете юности, и они,
право, не были бы смешны и при тех скудных дарованиях, кото¬
рыми наградила их природа. Отчего же так? Оттого, что подобные
таланты могут быть и не быть, смотря по обстоятельствам.
Подобно Карамзину, Пушкин был встречен громкими руко¬
плесканиями и свистом, которые только недавно перестали его
преследовать. Ни один поэт на Руси не пользовался такою на-
родностию, такою славою при жизни, и ни один не был так
жестоко оскорбляем. И кем же? Людьми, которые сперва пре¬
смыкались пред ним во прахе, а потом кричали: «Chute comple¬
te!» 128 Людьми, которые велегласно объявляли о себе, что у
них в мизинцах больше ума, чем в головах всех наших литера¬
торов: дивные мизинчики, любопытно * бы взглянуть на них129.
Но не о том дело. Вспомните состояние нашей литературы до
двадцатых годов. Жуковский уже совершил тогда большую
часть своего поприща; Батюшков умолк навсегда;130 Держави¬
ным восхищались вместе с Сумароковым и Херасковым по лек¬
циям Мерзлякова. Не было жизни, не было ничего нового; все
тащилось по старой колее; как вдруг появились «Руслан и Люд¬
мила», создание, решительно не имевшее себе образца ни по
гармонии стиха, ни по форме, ни по содержанию. Люди без
претензий на ученость, люди, верившие своему чувству, а не
пиитикам, или сколько-нибудь знакомые с современною Евро¬
пою, были очарованы этим явлением. Литературные судии, дер¬
жавшие в руках жезл критики, с важностию развернули «Ли¬
цей» (в переводе г. Мартынова «Ликей») Лагарпа131 и «Сло¬
варь древния и новыя поэзии» г. Остолопова132 и, увидя, что
новое произведение не подходило ни под одну из известных
категорий и что на греческом и латинском языке не было об¬
разца оному, торжественно объявили, что оно было незаконное
чадо поэзии, непростительное заблуждение таланта. Не все, ко¬
нечно, тому поверили. Вот и пошла потеха. Классицизм и ро¬
мантизм вцепились друг другу в волосы, Но оставим их в покое
и поговорим о Пушкине.
Пушкин был совершенным выражением своего времени.
Одаренный высоким поэтическим чувством и удивительною спо-
собностию принимать и отражать все возможные ощущения, он
перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он
заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям
и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия,
переставшая верить в несомненность вековых правил, самою
мудростию извлеченных из писаний великих гениев, и с удивле¬
нием узнавшая о других правилах, о других мирах мыслей
и понятий и новых, не известных ей дотоле, взглядах на давно
известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он
подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как
* «Полное падение!» (франц.). — Ред.
96
образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что
Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да —
Пушкин был выражением современного ему мира, представителем
современного ему человечества; но мира русского, но человече¬
ства русского. Что делать? Мы все гении-самоучки; мы всё
знаем, ничему не учившись, всё приобрели, не проливши ни
капли крови, а веселясь п играя; елевом:
Мы все учплпсь понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь 133.
Пушкин от шумных оргий разгульной юности переходил
к суровому труду,
Чтоб в просвещении стать с веком наравне; 134
от труда опять к младым пирам, сладкому безделью и легко¬
крылому похмелью. Ему недоставало только немецко-художест-
венного воспитания. Баловень природы, он, шаля и играя, похи¬
щал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная
к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами
и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями
юности, которые покупают у лей ценою отречения от жизни... Как
чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и сле¬
зы, играл по воле нашими чувствами... Он пел, и как изумлена
была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не
слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не
диво, в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время,
счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного
городка, в летние дни, из растворенных окон носились по воз¬
духу эти звуки, подобные шуму воли или журчанию ручья...135
Невозможно обозреть всех его созданий и определить ха¬
рактер каждого: это значило бы перечесть и описать все де¬
ревья и цветы Армидина сада136. У Пушкина мало, очень мало
мелких стихотворений; у него по большей части все поэмы: его
поэтические тризны над урнами великих, то есть его «Андрей
Шенье», его могучая беседа с морем, его еещая дума о Напо¬
леоне 137 — поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэти¬
ческого венка, без сомнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис
Годунов». Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить
о сих произведениях.
Пушкин царствовал десять лет: «Борис Годунов» был по¬
следним великим его подвигом; в третьей части полного собра¬
ния его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры.
Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только
обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он
и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское «быть или не быть»
скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его
сказкам, по его поэме «Анжело» и по другим произведениям,
обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы
должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Где теперь
4 В. Белинский, т. 1
97
эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то
сердечная тоска138, где эти вспышки пламенного и глубокого
чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего гру¬
ди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иро¬
нии, вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею иг¬
рою; где теперь эти картины жизни и природы, перед которыми
была бледна жизнь и природа?.. Увы! вместо их мы читаем
теперь стихи с правильною цезурою, с богатыми и полубогатыми
рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так пространно,
так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали ар¬
химандрит Аполлос и г. Остолопов!.. «Странная вещь, непонят¬
ная вещь!» 139 Неужели Пушкина, которого не могли убить ни
исступленные похвалы энтузиастов, ни хвалебные гимны торга¬
шей, ни сильные, нередко справедливые, нападки и порицания
его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Но¬
воселье» г. Смирдина? И однако ж не будем слишком поспешны
и опрометчивы в наших заключениях; предоставим времени
решить этот запутапный вопрос. О Пушкине судить не легко.
Вы, верно, читали его «Элегию» в октябрьской книжке «Библио¬
теки для чтения»? Вы, верно, были потрясены глубоким чувст¬
вом, которым дышит это создание? Упомянутая «Элегия», кроме
утешительных надежд, подаваемых ею о Пушкине, еще за¬
мечательна и в том отношении, что заключает в себе самую
верную характеристику Пушкина как художника:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь 14°.
Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку
отверженной любви черноокой черкешенки или своей плени¬
тельной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фан¬
тазии; что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этою
тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведав¬
шей наслаждения; что он горел неистовым огнем ревности,
вместе с Заремою и Алеко, и упивался дикою любовию Земфи¬
ры; что он скорбел и радовался за свои идеалы, что журчание
его стихов согласовалось с его рыданиями и смехом... Пусть
скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глу¬
пость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует
«Библиотеку для чтения», чем тому, что его талант погас. Я ве¬
рю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарпт
нас новыми созданиями, которые будут выше прежних...
Вместе с Пушкипым появилось множество талантов, теперь
большею частию забытых или готовящихся быть забытыми, но
некогда имевших алтари и поклонников; теперь из них
Иных уж нет, а те далече,
Как Садп некогда сказал! 141
Г-на Баратынского ставили на одну доску с Пушкиным; их
имена всегда были неразлучны, даже однажды два сочинення
спх поэтов явились в одной книжке, под одним переплетом 142.
Говоря о Пушкине, я забыл заметить, что только ныне его начи¬
нают ценить по достоинству, ибо уже реакция кончилась, партии
поохолодели. Итак, теперь даже и в шутку никто не поставит
пмени г. Баратынского подле имени Пушкина. Это значило бы
жестоко издеваться над первым и не знать цены второму. Поэти¬
ческое дарование г. Баратынского не подвержено ни малейшему
сомнению. Правда, он написал плохую поэму «Пиры», плохую
поэму «Эдда» («Бедную Лизу» в стихах), плохую поэму «Налож¬
ницу», но вместе написал и несколько прекрасных элегий, дыша¬
щих неподдельным чувством, из коих «На смерть Гете» может
назваться образцовою, несколько посланий, отличающихся
остроумием. Прежде его возвышали не по заслугам; теперь,
кажется, унижают неосновательно. Замечу еще, что г. Баратын¬
ский обнаруживал во времена оны претензии на критический
талант; теперь, я думаю, он и сам разуверился в нем 143.
Козлов принадлежит к замечательнейшим талантам Пуш¬
кинского периода. По форме своих сочинений он всегда был
подражателем Пушкина, по господствующему же чувству оных,
кажется, находился под влиянием Жуковского. Всем известно,
что несчастие пробудило поэтический талант Козлова: посему
какое-то грустное чувство, покорность воле провидения и упо¬
вание на мздовоздание за гробом составляют отличительный ха¬
рактер его созданий. Его «Чернец», над коим было пролито
столько слез прекрасными читательницами и который был скол¬
ком с Байронова «Джяура», особенно отличается этим односто¬
ронним характером; последовавшие за ним поэмы были посте¬
пенно слабее. Мелкие сочинения Козлова отличаются непод¬
дельным чувством, роскошною живописностью картин, звучным
и гармоническим языком. Как жаль, что он писал баллады! Бал¬
лада без народности есть род ложный и не может возбуждать
участия. Притом же он силился создать какую-то славянскую
балладу. Славяне жили давно и мало известны нам; так для
чего же еыводить на сцену онемеченных Всемил и Остапов?144
Козлов много повредил своей художнической знаменитости
еще и тем, что иногда писал как будто от скуки: это в особен¬
ности можно сказать о его нынешних произведениях.
Языков и Давыдов (Д. В.) имеют много общего. Оба они
примечательные явления в нашей литературе. Один, поэт-сту¬
дент, беспечный и кипящий избытком юного чувства, воспевает
потехи юности, пирующей на празднике жизни, пурпуровые уста,
черные счи, лилейные перси и дивные брови красавиц, огнен¬
ные ночи и незабвенные края,
Где пролетела шумно, шумно
Лихая молодость его 145.
Другой, поэт-воин, со всею военпою откроЕенностпю, со всем
жаром не охлажденного годами и трудами чувства, в удалых
4*
99
стихах рассказывает нам о проказах молодости, об ухарских
забавах, о лихих наездах, о гусарских пирушках, о своей любви
к какой-то гордой красавице. Как тот, так и другой нередко
срывают с своих лир звуки сильные, громкие и торжественные;
нередко трогают выражением чувства живого и пламенного. Их
односторонность в них есть оригинальность, без которой нет
истинного таланта.
Подолинский подал о себе самые лестные надежды и,
к несчастию, не выполнил их. Он владел поэтическим языком
и не был лишен поэтического чувства. Мне кажется, что причина
его неуспеха заключается в том, что он не сознал своего назна¬
чения и шел не по своей дороге.
Ф. Н. Глинка... но что я скажу об нем? Вы знаете, как благо¬
уханны цветы его поэзии, как нравственно и свято его худо¬
жественное направление: это хоть кого так обезоружит. Но,
вполне сознавая его поэтическое дарование, нельзя в то ж
время не сознаться, что оно уж чересчур односторонно;
нравственность нравственностию, а ведь одно и то же прискучит.
Ф. Н. Глинка писал много, и потому, между многими прекрас¬
ными пьесками, у него чрезвычайно много пиес решительно
посредственных. Причиною этого, кажется, то, что он смотрит на
творчество как на занятие, как на невинное препровождение
времени, а не как на призвание свыше, и вообще как-то низменно
смотрит на многие предметы. Лучшими своими стихами он обязан
религиозным вдохновениям. Его поэма «Карелия» 146 заключает
в себе много красот, может быть, еще больше недостатков.
Дельвиг... но Дельвигу Языков написал прелестную поэти¬
ческую панихиду147, но Дельвига Пушкин почитает человеком
с необыкновенным дарованием; куда же мне спорить с такими
авторитетами? Дельвига почитали некогда огречившимся
немцем: правда ли это? De mortuis aut bene, aut nihil*, и по¬
тому я не хочу обнаруживать моего собственного мнения о сем
поэте. Вот что некогда было напечатано в «Московском вестни¬
ке» о его стихотворениях: «Их можно прочитать с легким удо¬
вольствием, но не более». Таких поэтов много было в прошлое
десятилетие 148.
(Не всё euje).
(IX)
( Предокончапие )
Берег! Берег!..
Истертое выражение м9«
Пушкинский период отличается необыкновенным множест¬
вом стихотворцев-поэтов: это решительно период стихотворства,
превратившегося в совершенную манию. Не говоря уже
о стихотворцах бездарных, авторах киргизских, московских
* О мертвых либо ничего, либо только хорошее (лат,). — Ред.
100
п других пленников, авторах Вельских и других Евгениев под
разными именами 1о°, сколько людей если не с талантом, то
с удивительною способности), если не к поэзии, то к стихотвор¬
ству! Стихами и отрывками из поэм было наводнено многочис¬
ленное поколение журналов и альманахов; опытами в стихах,
собраниями стихов и поэмамп были наводнены книжные лавки.
И во всем этом был виноват один Пушкин: вот едва ли не
единственный, хотя и не умышленный, грех его в отношении
к русской литературе! Итак, о бездарных писаках много гово¬
рить нечего; брапить их тоже нечего: мстительная Лета давно
уже наказала их. Поговорю лучше о людях, отличившихся неко¬
торою степенью таланта, пли по крайней мере способности.
Отчего они так скоро утратили свою знаменитость? Или они выпи¬
сались? Ничуть не бывало! Многие из них и теперь еще пишут,
или по крайней мере и теперь еще могут писать так же хорошо,
как и прежде; но увы! уже не могут возбуждать своими сочине¬
ниями бывалого энтузиазма в читателях. Отчего же? Оттого,
повторяю, что они могли быть и не быть, что пылкость юности
принимали за тревогу вдохновения, способность принимать впе¬
чатления изящного — за способность поражать других впечат¬
лениями изящного, способность описывать всякую данную мате¬
рию с некоторым подражательным вымыслом * гармоническими
стихами — за способность воспроизводить в слове явления
всеобщей жизни природы. Они заняли у Пушкина этот стих гар¬
монический и звучный, отчасти и эту поэтическую прелесть вы¬
ражения, которые составляют только внешнюю сторону его со¬
зданий; но не заняли у него этого чувства глубокого и страда¬
тельного, которым они дышат и которое одно есть источник
жизни художественных произведений. Посему-то они как будто
скользят по явлениям природы и жизни, как скользит по пред¬
метам бледный луч зимнего солнца, а не проникают в них всею
жизнию своею; посему-то они как будто только описывают пред¬
меты или рассуждают о них, а не чувствуют их. И потому-то вы
прочтете их стихи иногда и с удовольствием, если но с наслаж¬
дением, но они никогда не оставят в душе вашей резкого впе¬
чатления, никогда не заронятся в вашу память. Присовокупите
к этому еще односторонность их направления и однообразие их
заветных мечтаний и дум, и вот вам причина, отчего нимало не
шевелят вашего сердца эти стихи, некогда столь пленявшие вас.
Ныне не то время, что прежде: ныне только стихами, ознамено¬
ванными печатпю высокого таланта, если не гения, можно заста¬
вить читать себя. Ныне требуют стихов выстраданных, стихов,
в коих слышались оы вопли души, исторгаемые неземными
муками; словом, ныне
Плач неестественный досаден,
Смешно жеманное вытье.,.152
* См. «Пиитические правила» Аполлоса 151.
101
Одип пз молодых замечательнейших литераторов наших,
г. Шевырев, с ранних лет своей жизни предавшийся науке п ис¬
кусству, с ранних лет выступивший на благородное поприще
действования в пользу общую, слишком хорошо понял и почув¬
ствовал этот недостаток, столь общий почти всем его сверстип»
кам и товарищам по ремеслу. Одаренный поэтическим талан¬
том, что особенно доказывают его переводы из Шиллера, из
коих многие сам Жуковский не постыдился бы назвать своими,
обогащенный познаниями, коротко знакомый со всеобщею не-
торпею литератур, что доказывается многими его критическими
трудами и, особенно, отлично исполняемою им должностпю про¬
фессора при Московском университете,— он, как видно из его
оригинальных произведеппй, решился произвести реакцию все¬
общему направлению литературы тогдашнего времени. В осно¬
вании каждого его стихотворения лежит мысль глубокая и по¬
этическая, видны претензии на шиллеровскую обширность взгляда
и глубокость чувства, и, надо сказать правду, его стих всегда
отличался энергическою краткостию, крепкостию и выразитель-
ностию. Но цель вредит поэзии; притом же, назначив себе такую
высокую цель, надо обладать и великими средствами, чтобы ее
достойно выполнить. Посему большая часть оригинальных про¬
изведений г. Шевырева, за исключением весьма немногих, обна¬
руживающих неподдельное чувство, при всех их достоинствах,
часто обнаруживают более усилия ума, чем излияние горячего
вдохновения. Один только Веневитинов мог согласить мысль
с чувством, идею с формою, ибо, изо всех молодых поэтов Пуш¬
кинского периода, он одип обнимал природу не холодным
умом, а пламенным сочувствием, и силою любви мог проникать
в ее святилище, мог
В ее таинственную грудь,
Как в сердце друга, заглянуть 153
п потом передавать в своих созданиях высокие тайны, подсмот¬
ренные им па этом недоступном алтаре. Вепевитинов есть един¬
ственный у нас поэт, который даже современниками был попят
и оценен по достоинству. Это была прекрасная утренпяя заря,
предрекавшая прекрасный день; в этом согласились все партии.
Долг справедливости заставляет меня упомяпуть еще о Поле¬
жаеве, таланте, правда, одностороннем, но тем не менее и за¬
мечательном. Кому не известно, что этот человек есть жалкая
жертва заблуждений своей юности, несчастная жертва духа того
Бремени, когда талантливая молодежь на почтовых мчалась по
дороге жизни, стремилась упиваться жизнью, а не изучать ее,
смотрела на жизнь, как на буйную оргию, а не как па тяжкий
подвиг? Не читайте его переводов (исключая Ламартиновои пье¬
сы: «L’Homme a Lord Byron») *, которые как-то нейдут в душу;
* «Человек лорду Байрону» 151 (франц.). — Ред.
102
не читайте его шутливых стихотворений, которые отзываются
слишком трактирным разгульем, не читайте его заказных сти¬
хов, но прочтите те из его произведений, которые имеют боль¬
шее или меньшее отношение к его жизни; прочтите «Думу па
берегу моря»155, его «Вечернюю зарю», его «Провидение»—и
вы сознаете в Полежаеве талант, увидите чувство!..
Теперь мне остается сказать об одном поэте, пе похожем
ни на одного изо всех упомянутых мною, поэте оригинальном
и самобытном, не признавшем над собою влияния Пушкина
и едва ли не равном ему: говорю о Грибоедове. Этот человек
слишком много надежд унес с собою во гроб. Он был назначен
быть творцом русской комедии, творцом русского театра.
Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть
всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем ис¬
ступлением, к которому только способна пылкая молодость,
жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше ска¬
зать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете,
кроме блага и истины? И в самом деле, не сосредоточиваются
ли в нем все чары, все обаяния, все обольщения изящных ис¬
кусств? Не есть ли он исключительно самовластный властелин
наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоя¬
тельствах возбуждать и волновать их, как воздымает ураган
песчапые метели в безбрежных степях Аравии?.. Какое из всех
искусств владеет такими могущественными средствами пора¬
жать душу впечатлениями и играть ею самовластно... Лиризм,
эпопея, драма: отдаете ли вы чему-нибудь из них решительное
предпочтение или все это любите одинаково? Трудный выбор?
Не правда ли? Ведь в мощных строфах богатыря Державина и в
разнообразных напевах Протея Пушкина предображается та жо
самая природа, что и в поэмах Байрона или романах Вальтера
Скотта, а в сих последних та же самая, что и в драмах Шекспи¬
ра и Шиллера? И однако же я люблю драму предпочтительно, и,
кажется, это общий вкус. Лиризм выражает природу неопреде¬
ленно и, так сказать, музыкально; его предмет — вся природа
во всей ее бесконечности; предмет же драмы есть исключительно
человек и его жизнь, в которой проявляется высшая, духов¬
ная сторона всеобщей жизнп вселенной. Между искусствами
драма есть то же, что история между науками. Человек всегда
был и будет самым любопытнейшим явлением для человека,
а драма представляет этого человека в его вечной борьбе
с своим лис своим назначением, в его вечной деятельности,
источник которой есть стремление к какому-то темному идеалу
блаженства, редко им постигаемого и еще реже достигаемого.
Сама эпопея ог драмы занимает свое достоинство: роман без
драматизма вял и скучен. В некотором смысле эпопея есть
только особенная форма драмы. Итак, положим, что драма
есть если не лучший, то ближайший к нам род поэзии. Что
103
такое театр, где эта могущественная драма облекается с головы
до ног в новое могущество, где она вступает в союз со
Всеми искусствами, призывает их на свою помощь и берет у них
все средства, все оружия, из коих каждое, отдельно взятое,
слишком сильно для того, чтобы вырвать вас из тесного мира
сует и ринуть в безбрежный мир высокого и прекрасного? Что
же такое, спрашиваю вас, этот театр?.. О, это истппный храм
искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от
земли, освобождаетесь от житейских отношений! Эти звуки на-
строиваемых в оркестре инструментов томят вашу душу ожида¬
нием чего-то чудесного, сжимают ваше сердце предчувствием
какого-то неизъяснимо сладостного блаженства; этот народ, на¬
полняющий огромный амфитеатр, разделяет ваше нетерпеливое
ожидание, вы сливаетесь с ним в одном чувстве; этот роскош¬
ный и великолепный занавес, это море огней намекают вам
о чудесах и дивах, рассеянных по прекрасному божию творению
и сосредоточенных на тесном пространстве сцены! И вот грянул
оркестр — и душа ваша предощущает в его звуках те впечатле¬
ния, которые готовятся поразить ее; и вот поднялся занавес — и
перед взорами вашими разливается бесконечный мир страстей
и судеб человеческих! Вот умоляющие вопли кроткой и; любя¬
щей Дездемоны мешаются с бешеными воплями ревнивого
Отелло; вот, среди глубокой полночи, появляется леди Макбет,
с обнаженною грудью, с растрепанными волосами, и тщетно ста¬
рается стереть с своей руки кровавые пятна, которые мерещатся
ей в муках мстительной совести; вот выходит бедный Гамлет
с его заветным вопросом: «быть или не быть»; вот проходят
перед вами и божественный мечтатель Поза и два райские
цветка — Макс и Текла 156 — с их небесною любовию, словом,
весь роскошный и безграничный мир, созданный плодотворною
фантазиею Шекспиров. Шиллеров, Гете, Вернеров... Вы здесь
живете не своею жизнию, страдаете не своими скорбями, радуе¬
тесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность;
здесь ваше холодное я исчезает в пламенном эфире любви.
Если вас мучит тягостная мысль о трудном подвиге вашей жизни
и слабости ваших сил, вы здесь забудете ее; если душа ваша
алкала когда-нибудь любви и упоения, если в вашем воображе¬
нии мелькал когда-нибудь, подобно легкому видению ночи, ка¬
кой-то пленительный образ, давно вами забытый, как мечта
несбыточная,— здесь эта жажда вспыхнет в вас с новою неукро¬
тимою силою, здесь этот образ снова явится вам, и вы увидите
его очи, устремленные на вас с тоскою и любовию, упьетесь его
обаятельным дыханием, содрогнетесь от огненного прикоснове¬
ния его руки... Но возможно ли описать все очарования театра,
всю его магическую силу над душою человеческою?.. О, как было
бы хорошо, если бы у нас был свой, народный, русский театр!..
В самом деле — видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом,
с ее высоким и смешным, слышать говорящими ее доблестных
104
героев, вызванных пз гроба могуществом фантазии, видеть бие¬
ние пульса ее могучей жизни... О, ступайте, ступайте в театр,
живите и умрите в нем, если можете!..
Но увы! все это поэзия, а не проза, мечты, а не существен¬
ность! Там, то есть в том большом доме, который называют
русским театром, там, говорю я, вы увидите пародии на Шекс¬
пира и Шиллера, пародии смешные и безобразные; там выдают
вам за трагедию корчи воображения; там вас потчуют жизнию,
вывороченною наизнанку; словом, там
...Мельпомены бурной
Протяжно раздается вой,
Там машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой! 157
Говорю вам: не ходите туда; это очень скучная забава!.. Но не
будем слишком строги к театру: не его вина, что он так плох.
Где у нас драматическая литература, где драматические та¬
ланты? Где наши трагики, наши комики? Их много, очень мно¬
го; их имена всем известны, и потому не хочу перебирать их,
ибо мои похвалы ничего не прибавят к той громкой славе,
которою они по справедливости пользуются. Итак, обращаюсь
к Грибоедову.
Грибоедова комедия или драма (я не совсем хорошо пони¬
маю различие между этими двумя словами; значение же слова
трагедия совсем не понимаю) давно ходила в рукописи. О Гри¬
боедове, как и о всех примечательных людях, было много тол¬
ков и споров; ему завидовали некоторые наши гении, в то же
время удивлявшиеся «Ябеде» Капниста; ему не хотели отдавать
справедливости те люди, кои удивлялись гг. АВ, CD, EF и пр. Но
публика рассудила иначе: еще до печати и представления руко¬
писная комедия Грибоедова разлилась по России бурным по¬
током.
Комедия, по моему мнению, есть такая же драма, как и то,
что обыкновенно называется трагедиею; ее предмет есть пред¬
ставление жизни в противоречии с идеею жизни; ее элемент
есть не то невинное остроумие, которое добродушно издевается
над всем из одного желания позубоскалить; нет: ее элемент
есть этот желчный гумор, это грозное негодование, которое не
улыбается шутливо, а хохочет яростно, которое преследует нич¬
тожество и эгоизм не эпиграммами, а сарказмами. Комедия
Грибоедова есть истинная divina comedia! * Это совсем не
смешной анекдотец, переложенный на разговоры, не такая ко¬
медия, где действующие лица нарицаются Добряковыми, Плуто-
ватиными, Обираловыми и пр.; ее персонажи давно были вам
известны в натуре, вы видели, знали их еще до прочтения «Горя-
от ума», и однако ж, вы удивляетесь им, как явлениям совер¬
* божественная комедия (итал.). — Ред.
105
шенно новым для вас: вот высочайшая истина поэтического вы¬
мысла! Лица, созданные Грибоедовым, не выдуманы, а сняты
с натуры во весь рост, почерпнуты со дна действительной жиз¬
ни; у них не наппсано на лбах их добродетелей и пороков; но
они заклеймены печатию своего ничтожества, заклеймены мсти¬
тельною рукою палача-художника. Каждый стих Грибоедова есть
сарказм, вырвавшийся из души художника в пылу негодования;
его слог есть par excellence * разговорный. Недавно один из
наших примечательнейших писателей, слишком хорошо знаю¬
щий общество, заметнл, что только один Грибоедов умел пере¬
ложить на стихи разговор нашего общества:158 без всякого со¬
мнения, это не стоило ему ни малейшего труда; но тем не
менее это все-таки великая заслуга с его стороны, ибо разго¬
ворный язык пашпх комиков... Но я уже обещался не говорить
о наших комиках... Конечно, это произведение не без недостат¬
ков в отношении к своей целости, но оно было первым опы¬
том таланта Грибоедова, первою русскою комедиею; да и сверх
того, каковы бы ни были эти недостатки, они не помешают
ему быть образцовым, генияльным произведением и не в рус¬
ской литературе, которая в Грибоедове лишилась Шекспира
комедии...
Довольно о поэтах-стихотворцах, поговорим о поэтах-про-
заиках. Знаете ли, чье имя стоит между ними первым в Пуш¬
кинском периоде словесности? Имя г. Булгарина, милостивые
государи. Это и не удивительно. Г-н Булгарин был начинщиком,
а начинщики, как я уже имел честь докладывать вам, всегда
бессмертны, и потому беру смелость уверить вас, что имя
г. Булгарина так же бессмертно в области русского романа, как
имя Московского жителя Матвея Комарова**159. Имя петербург¬
ского Вальтера Скотта Фаддея Венедиктовича Булгарина вместе
с именем московского Вальтера Скотта Александра Анфимови-
ча Орлова всегда будет составлять лучезарное созвездие на
горизонте нашей литературы. Остроумный Косичкин уже оце¬
пил как следует обоих сих знаменитых писателей, показав нам
сравнительно их достоинства, и потому, не желая повторять Ко-
сичкина, я выскажу о г. Булгарине мнение, теперь для всех об¬
щее, но еще нигде не высказанное печатно160. Неужели и в
самом деле г. Булгарин совершенно равен г. Орлову? Говорю
утвердительно, что нет; ибо, как писатель вообще, он несрав¬
ненно выше его, но как художник собственно он немного пониже
его. Хотпте ли знать, в чем состоит главная разница между
сими светилами нашей словесности?161 Один из них много ви¬
дел, много слышал, много читал, был и бывает везде; другой,
бедный! не только не был в Испании, но даже и не выезжал за
* преимущественно (франц.). — Ред.
** Автора «Полициона», «Английского милорда» и других подобных
внаменитых произведений,
106
русскую границу; при знании латинского языка (знапии, впро¬
чем, не доказанном никаким изданием Горация пи с своими, пи
с чужими примечаниями)162 не совсем твердо владеет и своим
отечественным, да и не мудрено: он не имел случая прислуши¬
ваться к языку хорошей компании. Итак, все дело в том, что
сочинения одного выглажены и вылощены, как пол гостиной, а
сочинения другого отзываются толкучпм рынком. Впрочем, уди¬
вительное дело! несмотря на то, что оба они писали для разных
классов читателей, опп нашли в одном и том же классе свою
публику. И надо думать, что эта публика будет благосклоннее
к Александру Анфимовичу, ибо он больше поэт, тогда как Фад¬
дей Венедиктович более философ163, а поэзия доступнее фи¬
лософии для всех классов.
Почти вместе с Пушкиным вышел на литературное поприще
п г. Марлинский. Это один из самых примечательнейших наших
литераторов. Он теперь безусловно пользуется самым огром¬
ным авторитетом: теперь перед ним всё на коленах; если еще
не все в один голос называют его русским Бальзаком, то потому
только, что боятся унизить его этим и ожидают, чтобы фрапцузы
назвали Бальзака французским Марлинским. В ожидании,
пока совершится это чудо, мы похладнокровнее рассмотрим
его права на такой громадный авторитет. Конечно, страшно вы¬
ходить на бой с общественным мнением и восставать явно про¬
тив его идолов; но я решаюсь па это не столько по смелости,
сколько по бескорыстной любви к истине. Впрочем, меня
ободряет в сем случае и то, что это страшное общественное мне¬
ние начинает мало-помалу приходить в память от оглушитель¬
ного удара, произведенного па него полным изданием «Русских
повестей и рассказов» г. Марлииского; начинают ходить темные
толки о каких-то натяжках, о скучном однообразии и тому по¬
добном. Итак, я решаюсь быть органом нового общественного
мнения. Знаю, что это новое мнение найдет еще слишком много
противников, но как бы то ни было, а истина дороже всех на
свете авторитетов.
На безлюдье истинных талантов в нашей литературе талант
г. Марлииского, конечно, явление очень прпмечательпое. Он
одарен остроумием неподдельпым, владеет способностию рас¬
сказа, нередко живого и увлекательного, умеет иногда снимать
с природы картинки-загляденье. Но вместе с этим нельзя ие
сознаться, что его талант чрезвычайно односторонен, что его
претепзпп па пламень чувства весьма подозрительны, что в его
созданиях нет никакой глубппы, никакой философии, никакого
драматизма; что, вследствие этого, все герои его повестей сбиты
на одну колодку п отличаются друг от друга только имена¬
ми; что оп повторяет себя в каждом новом произведении; что
у него более фраз, чем мыслей, более риторических возгласов,
чем выражений чувства. У пас мало писателей, которые бы пи¬
сали столько, как г. Марлппский; но это обилие происходит не
107
от огромности дарования, не от избытка творческой деятель¬
ности, а от навыка, от привычки писать. Если вы имеете хотя
несколько дарования, если образовали себя чтением, если за¬
паслись известным числом идей и сообщили им некоторый от¬
печаток своего характера, своей личности, то берите перо
и смело пишите с утра до ночи. Вы дойдете наконец до искусст¬
ва, во всякую пору, во всяком расположении духа, писать о чем
вам угодно; если у вас придумано несколько пышпых моноло¬
гов, то вам не трудно будет приделать к ним роман, драму,
повесть; только позаботьтесь о форме и слоге: они должны
быть оригинальные.
Вещи всего лучше познаются сравнением. Если два писателя
пишут в одном роде и имеют между собою какое-нибудь сход¬
ство, то их ,не иначе можно оценить в отношении друг к другу,
как выставив параллельные места: это самый лучший пробный
камень. Посмотрите на Бальзака: как много написал этот чело¬
век, и, несмотря на то, есть ли в его повестях хотя один харак¬
тер, хотя одно лицо, которое бы сколько-нибудь походило на
другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать харак¬
теры со всеми оттенками их индивидуальности! Не преследовал
ли вас этот грозный и холодный облик Феррагуса, не мерещился
ли он вам и во сне и наяву, не бродил ли за вами неотступ¬
ною тенью? О, вы узнали бы его между тысячами; и между тем
в повести Бальзака он стоит в тени, обрисован слегка, мимохо¬
дом, и застановлен лицами, на коих сосредоточивается главный
интерес поэмы. Отчего же это лицо возбуждает в читателе столь¬
ко участия и так глубоко врезывается в его воображении?
Оттого что Бальзак не выдумал, а создал его, оттого что он
мерещился ему прежде, нежели была написана первая строка
повести, что он мучил художника до тех пор, пока он не извел
его из мира души своей в явление, для всех доступное. Вот мы
видим теперь на сцене и другого из «Тринадцати»: Феррагус
и Монриво, видимо, одного покроя: люди с душою глубокою, как
морское дно, с силою воли непреодолимою, как воля судьбы;
и однако ж, спрашиваю вас: похожи ли они хотя сколько-нибудь
друг па друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько
женских портретов вышло из-под плодотворной кисти Бальзака,
и между тем повторил ли он себя хотя в одном из них?.. Таковы
ли в сем отношении создания г. Марлинского? Его Аммалат-Бек,
его полковник В ***, его герой «Страшного гаданья», его капи¬
тан Правин — все они родные братцы, которых различить трудно
самому их родителю164. Только разве первый из них немного
отличается от прочих своим азиятским колоритом. Где же
творчество? Притом сколько натяжек! Можно сказать, что на-
тяжка у г. Марлинского такой конек, с которого он редко сле¬
зает. Ни одно из действующих лиц его повестей не скажет ни
слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммою или
с каламбуром или с подобием; словом, у г. Марлинского каж-
108
дая копейка ребром, каждое слово завитком. Надо сказать прав¬
ду: природа с избытком наградила его этим остроумием, весе¬
лым и добродушным, которое колет, но не язвит, щекочет, но
не кусает; но и здесь он часто пересаливает. У него есть целые
огромные повести, как, например «Наезды», которые суть не
иное что, как огромные натяжки. У него есть талант, но талант
не огромный, талант, обессиленный вечным принуждением, из¬
бившийся и растрясшийся о пни и колоды выисканного остро¬
умия. Мне кажется, что роман не его дело, ибо у него нет
никакого знания человеческого сердца, никакого драматического
такта. Для чего, например, заставил он князя165, для кото¬
рого все радости земли и неба заключались в устрицах, для
которого вкусный стол всегда был дороже жены и ее чести, для
чего заставил он его проговорить патетический монолог
осквернителю его брачного ложа, монолог, который сделал бы
честь и самому Правину? Это просто натяжечка, закулисная
подставочка; автору хотелось быть нравственным на манер
г. Булгарина. Вообще он не мастер скрывать закулисные маши¬
ны, на коих вертится здание его повестей; они у него всегда на
виду. Впрочем, в его повестях встречаются иногда места истинно
прекрасные, очерки истинно мастерские: таково, например,
описание русского простонародного Мефистофеля и вообще
все сцены деревенского быта в «Страшном гаданье»; таковы
многие картины, снятые с природы, исключая, впрочем, «Кавказ¬
ских очерков», которые натянуты до тошноты, до пес plus
ultra. По мне, лучшие его повести суть «Испытание» и «Лейте¬
нант Белозор»: в них можно от души полюбоваться его талан¬
том, ибо он в них в своей тарелке. Он смеется над своим стихо¬
творством; но мне перевод его песен горцев в «Аммалат-Беке»
кажется лучше всей повести: в них так много чувства, так много
оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы назвать их сво¬
ими. Равным образом и в его «Андрее Переяславском» 166,
особенно во второй главе, встречаются места истинно поэти¬
ческие, хотя целое произведение слишком отзывается дет¬
ством. Всего страннее в г. Марлинском, что он с удивительною
скромностию недавно сознался в таком грехе, в котором он не
виноват ни душою, ни телом: в том, что будто он своими по¬
вестями отворил двери для народности в русскую литерату¬
ру 167. Вот что, так уж неправда! Эти повести принадлежат
к числу самых неудачных его попыток, в них он народен не
больше Карамзина, ибо его Русь жестоко отзывается его завет¬
ною, его любимою Ливониею. Время и место не позволяют мне
подкрепить выписками из сочинении г. Марлинского мое мне¬
ние о его таланте; впрочем, это очень легко сделать. О слоге
его не говорю. Ныне слово слог начало терять прежнее свое
обширное значение, ибо его перестают уже отделять от мысли.
Словом, г. Марлинский, писатель не без таланта, и был бы го¬
раздо выше, если б был естественнее и менее натягивался.
109
Пушкинский период был самым цветущим временем пашей
словесности. Его надобно б было обозреть исторически и в
хронологическом порядке; я не сделал этого, потому что не то
пмел целию. Можно сказать утвердительно, что тогда мы имели
если не литературу, то по крайней мере призрак литературы;
ибо тогда было в ней движение, жизнь и даже какая-то посте¬
пенность в развитии. Сколько новых явлений, сколько талантов,
сколько попыток па то и на другое! Мы было уже и в самом
деле от души стали верить, что имеем литературу, имеем своих
Байронов, Шиллеров, Гете, Вальтеров Скоттов, Томасов Муров;
мы были веселы и горды, как дети праздничными обновами.
И кто же был нашим разочарователем, пашим Мефистофелем?
Кто явился сильною, грозною реакциею и гораздо поохладил наши
восторги? Помните ли вы Никодима Аристарховича Надоум-
ку; помните ли, как, выступив на сцену, на своих скудельных
ножках, он рассеял наши сладкие мечты своим добродушно-
лукавым: хе! хе! хе! 168 Помните ли, как мы все уцепились за
наши авторитеты и авторитетики и руками и ногами отстаивали
их от нападений грозного Аристарха? Не знаю как вы, а я очень
хорошо помню, как все сердились па него; помню, как я сам
сердился на него. И что же? Уже сбылась большая часть сто
зловещих предсказаний, и теперь уже никто не сердится на
покойника!.. Да! Никодим Аристархович был замечательное ли¬
цо в нашей литературе: сколько наделал он тревоги, сколько
произвел кровопролитных войн, как храбро сражался, как
жестоко поражал своих противников, и этим слогом, иногда
оригинальным до тривиальности, но всегда резким и метким,
и этим твердым силлогизмом, и этою насмешкою, простодушною
и убийственною вместе...
И где же твой, о витязь, прах?
Какою взят могилой?.. 169
Что скажу я о журналах тогдашнего времени? Неужели
умолчу о них? Они в то время получили такую важность в глазах
публики, возбуждали к себе такое живое участие, играли такую
важную роль!.. Скажу, что почти все они, волею и неволею,
умышленно и неумышленно, способствовали к распространению
у нас новых понятий и взглядов; мы по ним учились и по ним
выучились. Все они сделали всё, что мог каждый по своим си¬
лам. Кто же больше? На это не могу отвечать утвердительно;
ибо, по особенным обстоятельствам, впрочем, важным только
для одного меня, не могу говорить всего, что думаю. Я твердо
помню благоразумное правило Монта,ня и многие истины крепко
держу в кулаке. Главное, я слишком еще неопытен в хаме-
леонпстпке и имею глупость дорожить своими мнениями, не как
литератора и писателя (тем более что я покуда ни то, ни дру¬
гое), а как мнениями честного и добросовестного человека,
ы мне как-то совестно написать панегирик одному журналу, ые
110
отдавая справедливости другому...170 Что делать, я еще по моим
понятиям принадлежу к Аркадии!.. Итак, ип слова о журна¬
лах! Теперь смотрю я на мой огромный стол, на котором лежат
эти покойники кучами и кипами, лежат на нем, как во гробе,
примиренные друг с другом моею леностию и беспорядком
моей комнаты, в смеси, друг на друге,— гляжу на них с груст¬
ною улыбкою и говорю:
И все то благо, все добро! 171
(Окончание следует).
(X)
Еще одно последнее сказанье,
И летопись окончена моя!
Пушкин т4
Тридцатый, холерный год173 был для нашей литературы
истинным черным годом, истинно роковою эпохою, с коей начался
совершенно новый период ее существования, в самом начале
своем резко отличившийся от предыдущего. Но пе было
никакого перехода между этими двумя периодами; вместо его
был какой-то насильственный перерыв. Подобные проти¬
воестественные скачки, по моему мнению, всего лучше доказы¬
вают, что у нас нет литературы, а следовательно, нет и истории
литературы; ибо ни одно явление в ней не было следствием
другого явления, ни одно событие не вытекало из другого со¬
бытия. История нашей словесности есть ни больше, ни меньше,
как история неудачных попыток, посредством слепого подража¬
ния иностранным литературам, создать свою литературу; но ли¬
тературу не создают; она создается так, как создаются, без воли
и ведома народа, язык и обычаи. Итак, тридцатым годом кон¬
чился, или, лучше сказать, внезапно оборвался период Пушкин¬
ский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его
влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорва¬
лось с его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художествен¬
ной деятельности, допевали скол старые песенки, свои обычные
мечты, но уже никто не слушал их. Старинка приелась и набила
оскомину, а нового от них нечего было услышать, ибо они оста¬
лись на той же самой черте, на которой стали при первом своем
появлении, и не хотели сдвинуться с ней. Журналы все умер¬
ли 174, как будто бы от какого-нибудь апоплексического удара
или действительно от холеры-морбус. Причина этой внезапной
смерти.или этого мору заключалась в том же, в чем заключается
причина того, что у нас нет литературы. Они почти все родились
без всякой нужды, а так, от безделья или от желания пошуметь,
и потому не имели ни характера, ни самостоятельности, ни
силы, ни влияния на общество, и неоплаканные сошли в
безвременную могилу. Только для двух из них можно сделать
111
исключение; только два из них представляют любопытный, поучи¬
тельный и богатый результат для наблюдателя. Один — старец,
водивший, бывало, на помочах наше юное общество, издавна поль¬
зовавшийся огромным авторитетом и деспотически управлявший
литературными мнениями; другой — юноша, с пламенною душою,
с благородным рвением к общей пользе, со всеми средствами
достичь своей прекрасной цели, и между тем не достигший ее.
«Вестник Европы» пережил несколько поколений, воспитал
несколько поколений, из коих последнее, взлелеянное им, вос¬
стало с ожесточением на него же; но он всегда оставался
одним и тем же, не изменялся и бился до последних сил: это
была борьба благородная и достойная всякого уважения, борьба
не из личных мелочных выгод, но из мнений и верований,
задушевных и кровных. Его убило время, а не противники,
и потому его смерть была естественная, а не насильственная *.
«Московский вестник» имел большие достоинства, много ума,
много таланта, много пылкости, но мало, чрезвычайно мало,
сметливости и догадливости, и потому сам был причиною своей
преждевременной кончины. В эпоху жизни, в эпоху борьбы
и столкновения мыслей и мнений, он вздумал наблюдать дух
какой-то умеренности и отчуждения от резкости в суждениях и,
полный дельными и учеными статьями, был тощ рецензиями
и полемикою, кои составляют жизнь журнала, был беден по¬
вестями, без коих нет успеха русскому журналу, и, что всего
ужаснее, не вел подробной и отчетливой летописи мод и не
прилагал модных картинок, без которых плохая надежда на
подписчиков русскому журналисту. Что ж делать? Без малень¬
ких и, по-видимому, пустых уступок нельзя заключить выгодного
мира. «Московский вестник» был лишен современности, и те¬
перь его можно читать как хорошую книгу, никогда не теряющую
своей цены, но журналом, в полном смысле сего слова, он ни¬
когда не был. Журналисты, как и поэты, родятся и бывают ими
по призванию. Я пе хотел говорить о журналах и как-то против
своей воли увлекся; посему, говоря о покойниках, скажу слова
два об одном живом, не упоминая, впрочем, его имени, кото¬
рое весьма нетрудно угадать. Он уже существует давно: был
* Любопытная вещь. Г-н Каченовский, который восстановил против
себя пушкинское поколение и сделался предметом самых жесточайших его
преследований и нападков как литературный деятель и судия, в следующем
поколении нашел себе ревностных последователей и защитников как уче¬
ный, как исследователь отечественной истории. Впрочем, это ничуть не
удивительно: один человек не может вместить в себе всего; всеобъемле-
мость ума и многосторонность таланта дается немногим избранным. По¬
этому у г. Гоголя читайте его прекрасные сказки, а у г. Каченовского его,
или написанные под его влиянием и руководством, статьи о русской исто¬
рии, и помните латинскую поговорку: smim cuique (всякому свое), а более
всего мудрое правило нашего великого баснописца:
Беда, коль пироги начнет печп сапожник,
А сапоги тачать пирожник 175.
112
единичным, двойственным и наконец сделался тройственным,
и всегда отличался от своей собратип какого-то рода особенною
безличностию 176. В то время, когда «Вестник Европы» отстаи¬
вал святую старину и до последнего вздоха бился с ненавистною
новизною, в то время, когда юное поколение новых журналов
сражалось, в свою очередь, не на живот, а на смерть, с скучною,
опостылевшею стариною и с благородным самоотвержением си¬
лилось водрузить хоругвь века 177,— журнал, о коем я говорю,
составил себе новую эстетику, вследствие которой то творение
было высоко и изящно, которое печаталось во множестве эк¬
земпляров и хорошо раскупалось, новую политику, вследствие
коей писатель ныне был выше Байрона, а завтра претерпевал
«chute complete» 178. Вследствие сей-то благоразумной политики
некоторые из наших Вальтер Скоттов писали повести о Никанд-
рах Свистушкиных, авторах поэм «Жиды» и «Воры», и пр.
и пр.179. Словом, этот журнал был единственным и беспример¬
ным явлением в нашей литературе.
Итак, настал новый период словесности. Кто же явился гла¬
вою этого нового, этого четвертого периода нашей недорослой
словесности? Кто, подобно Ломоносову, Карамзину и Пушкину,
овладел общественным вниманием и мнением, самодержавно
правил последним, положил печать своего гения на произведе¬
ния своего времени, сообщил ему жизнь и дал направление
современным талантам? Кто, говорю я, явился солнцем этой но¬
вой мировой системы? Увы! никто, хотя и многие претендовали
на это высокое титло. Еще в первый раз литература явилась без
верховной главы и из огромной монархии распалась на мно¬
жество мелких, независимых одно от другого государств, за¬
вистливых и враждебных одно другому. Голов было много, но
они так же скоро падали, как скоро и возвышались; словом,
этот период есть период нашей литературной истории в темную
годину междуцарствия и самозванцев.
Как противоположен был Пушкинский ne^noR Карамзинскому,
так настоящий период противоположен Пушкинскому. Де¬
ятельность и жизнь кончились; громы оружия затихли, и утом¬
ленные бойцы вложили мечи в ножны на лаврах, каждый припи¬
сывая себе победу и ни один не выиграв ее в полном смысле
Я не ученый п в истории смыслю весьма не мпого; сужу не как зна¬
ток, но как любитель: но ведь не из любителей ли состоит и публика? По¬
этому всякое добросовестное мнение любителя должно заслуживать неко¬
торое внимание, тем более если оно есть отголосок общего, то есть господ-
ствующего мнения. Теперь у нас две исторические школы; Шлёцера и
г. Каченовского. Одна опирается на давности, привычке, уважении к авто¬
ритету ее основателя; другая, сколько я понимаю, на здравом смысле и
глубокой учености. Будучи совершенно невинен в последней, я имею некото¬
рые притязания на первый, вследствие чего мне кажется очень естествен¬
ным, что настоящее поколение, чуждое воспоминаний старины и предубежде¬
ний авторитетов, горячо приняло исторические мнения г. Каченовского. Впро¬
чем, ученая литература не мое дело: я сказал это так, мимоходом, а ргороз.
ИЗ
сего слова. Правда, в начале, особенно первых двух лет, еще
бились отчаянно, но это была уже не новая война, а окончание
старой: это была Тридцатилетняя война после смерти Густава-
Адольфа и погибели Валленштейна. Теперь копчилась и эта кро¬
вопролитная война, но без Вестфальского мира, без удовлетво¬
рительных результатов для литературы. Период Пушкинский
отличался какою-то бешеною маниею к стихотворству; период
новый, еще в самом своем начале, оказал решительную наклон¬
ность к прозе. Но, увы! это было не шаг вперед, не обновление,
а оскудение, истощение творческой деятельности. В самом де¬
ле, дошло до того, что теперь уже утвердительно говорят, буд¬
то в наше время самые превосходные стихи не могут иметь
никакого успеха. Нелепое мнение! Очевидно, что оно, как и все,
принадлежит не нам, а есть вольное подражание миениям на¬
ших европейских соседей. У них часто повторяли, что в наш век
эпопея не может существовать, а теперь, кажется, сбиваются на
то, что в наше время и драма кончилась. Подобные мнепия
весьма странны и неосновательны. Поэзия у всех народов и во
все времена была одно и то же в своем существе: переменя¬
лись только формы, сообразно с духом, направлением н успе¬
хом, как всего человечества вообще, так и каждого народа
в частности. Разделение поэзии на роды не есть произвольное:
причина и необходимость оного скрывается в самой сущности
искусства. Родов поэзии только три и больше быть пе может.
Всякое произведение, в каком бы то ни было роде, хорошо во
все века и в каждую минуту, когда оно по своему духу и форме
носит на себе печать своего времени и удовлетворяет все его
требования. Где-то было сказано, что «Фауст» Гете есть «Илиа¬
да» нашего времени: вот мнение, с которым нельзя не согла¬
ситься! И в самом деле, разве Вальтер Скотт также не есть наш
Гомер, в смысле эпика, если не выразителя полного духа вре¬
мени? Так и у нас теперь: явись новый Пушкин, но не Пушкин
1835 180, а Пушкин 1829 года, и Россия снова начала бы твердить
стихи; но кто, кроме несчастных читателей ex officio *, даже
подумает п взглянуть на изделия новых наших стиходеев:
гг. Ершовых, Струговщиковых, Марковых, Снегиревых и пр.?..
Романтизм — вот первое слово, огласившее Пушкинский пе¬
риод; народность — вот альфа и омега нового периода. Как
тогда всякий бумагомаратель из кожи лез, чтобы прослыть ро¬
мантиком, так теперь всякой литературный шут претендует на
тптло народного писателя. Народность — чудное словечко! Что
перед ним ваш романтизм! В самом деле, это стремление к на¬
родности весьма замечательное явление. Не говоря уже о па-
ших романистах и вообще новых писателях, взгляните, что делают
заслуженные корифеи пашей словесности. Жуковский, этот
поэт, гений которого всегда был прикован к туманному Альбно-
* по должности (лат.)щ — Ред.
114
ну п фантастической Германии, вдруг забыл сеопх паладинов,
с ног до головы закованных в сталь, сеоих прекрасных п верных
принцесс, своих колдупов и свои очарованные замки — и
пустился писать русские сказки... Нужно ли доказывать, что эти
русские сказки так же не в ладу с русским духом, которого
в них слыхом не слыхать и видом не видать, как не в ладу
с русскими сказками греческий или немецкий гекзаметр?.. Но
не будехМ слишком строги к этому заблуждепию могуществен¬
ного таланта, увлекшегося духом времени; Жуковский вполне
совершил свое поприще и свой подвиг: мы больше не вправе
иичего ожидать от него. Вот другое дело Пушкин: странно ви¬
деть, как этот необыкновенный человек, которому ничего не
стоило быть народным, когда он не старался быть народным,
теперь так мало народен, когда решительно хочет быть народ¬
ным; странно видеть, что он теперь выдает нам за нечто важ¬
ное то, что прежде бросал мимоходом, как избыток или
роскошь. Мне кажется, что это стремление к народности про¬
изошло оттого, что все живо почувствовали непрочность нашей
подражательной литературы и захотели создать народпую, как
прежде силились создать подражательную. Итак, опять цель,
опять усилия, опять старая погудка на новый лад? Но разве
Крылов потому народен в высочайшей степени, что старался
быть народным? Нет, он об этом нимало не думал; он был
народен, потому что не мог не быть народным: был народен
бессознательно и едва ли знал цену этой народности, которую
усвоил созданиям своим без всякого труда и усилия. По край¬
ней мере его современники мало умели ценить в нем это до¬
стоинство: они часто упрекали его за низкую природу и ставили
на одну с ним доску прочих баснописцев, которые были несрав¬
ненно ниже его. Следовательно, наши литераторы, с такою рев-
ностию заботящиеся о народности, хлопочут по-пустому. И в
самом деле, какое понятие имеют у нас вообще о народности?
Все, решительно все смешивают ее с простонародностию и от¬
части с тривиальностию. Но это заблуждение имеет свою причи¬
ну, свое основание, и на него отнюдь не должно нападать
с ожесточением. Скажу более: в отношении к русской литера¬
туре нельзя иначе понимать народности. Что такое народность
в литературе? Отпечаток народной физиономии, тип народного
духа и народной жизни; но имеем ли мы свою народную физио¬
номию? Вот вопрос трудный для решения. Наша национальная
физиономия всего больше сохранилась в низших слоях народа;
посему наши писатели, разумеется владеющие талантом, бывают
народны, когда изображают, в романе или драме, нравы, обы¬
чаи, понятия и чувствования черни. Но разве одна чернь состав¬
ляет народ? Ничуть не бывало. Как голова есть важнейшая
часть человеческого тела, так среднее и высшее сословие со¬
ставляют народ по преимуществу. Знаю, что человек во всяком
состоянии есть человек, что простолюдин имеет такие же
115
страсти, ум и чувство, как и вельможа, и посему так же, как
и он, достоин поэтического анализа; но высшая жизнь народа
преимущественно выражается в его высших слоях, или, вернее
всего, в целой идее народа. Посему, избрав предметом своих
вдохновений одну часть оного, вы непременно впадете в одно¬
сторонность. Равным образом, вы не избежите этой крайности
и отмежевав для своей творческой деятельности нашу историю
до Петра Великого. Высшие же слои народа у нас еще не полу¬
чили определенного образа и характера; их жизнь мало пред¬
ставляет для поэзии. Не правда ли, что прекрасная повесть
Безгласного «Княжна Мими» немножко мелка и вяла? Помните
ли вы ее эпиграф? — «Краски мои бледны, сказал живописец;
что ж делать? в нашем городе нет лучших!» — Вот вам самое
лучшее оправдание со стороны поэта и вместе самое лучшее
доказательство, что в сей повести он народен в высочайшей
степени. Так неужели наша народность в литературе есть мечта?
Почти так, хотя и не совсем. Какой главный элемент наших про¬
изведений, отличающихся народностию? Очерки или древнерус¬
ской жизни (до Петра Великого), или простонародной жизни,
и отсюда неизбежные подделки под тон летописей и народных
песен или под лад языка наших простолюдинов. Но ведь в этих
летописях, в этой жизни, давно прошедшей, веет дыхание об¬
щей человеческой жизни, являющейся под одной из тысячи ее
форм; умейте же уловить его вашим умом и чувством и вос¬
произвести вашею фантазиею в своем художественном созда¬
нии. В этом вся сила и важность. Но вам надо быть гением,
чтобы в ваших творениях трепетала идея русской жизни: это
путь самый скользкий. Мы так отделены, или, лучше сказать,
оторваны эрою Петра Великого от быта наших праотцев, что
вашему произведению непременно должно предшествовать глу¬
бокое изучение этого быта. Итак, соразмеряйте ваши силы
с целию и не слишком самонадеянно пишите: русские в таком-то
или в таком-то году181. Притом еще надо заметить и то, что
русская жизнь до Петра Великого была слишком спокойна
и односторонна, или, лучше сказать, она проявлялась своим,
оригинальным образом: вам легко будет оклеветать ее, при¬
держиваясь Вальтера Скотта182. Писатель, который на любви
оснует план своего романа и целию усилий героя поставит руку
и сердце верной красавицы, покажет явно, что он не понимает
Руси. Я знаю, что наши бояре лазили через тыны к своим пре¬
лестницам 183, но это было оскорбление и искажение велича¬
вой, чинной и степенной русской жизни, а не проявление оной;
таких рыцарей ночи наказывали ревнивцы плетьми и кольями,
а не разделывались с ними на благородном поединке; такие
красавицы почитались беспутными бабами, а не жертвами
страсти, достойными сострадания и участия. Наши деды занима¬
лись любовию с законного дозволения или мимоходом, из ша¬
лости, и не сердце клали к ногам своих очаровательниц, а по-
116
называли mi заранее шелковую плетку и неуклонно следовали
мудрому правилу: «Люби жену, как душу, а тряси ее, как грушу»,
или: «Бей ее, как шубу». Вообще сказать, мы еще и теперь любим
не совсем по-рыцарскп, а исключения ничего не доказывают.
Что ж касается до живого и сходного с натурою изображе¬
ния сцен простонародной жизни, то не слишком обольщайтесь
ими. Мне очень нравится в «Рославлеве» сцена на постоялом
дворе, но это потому, что в ней удачно обрисован характер
одного из классов нашего народа, характер, проявляющийся
в решительную минуту отечества; пословицы, поговорки и ло¬
маный язык, сами по себе, не имеют ничего занимательного. Из
всего сказанного мною выходит, что наша народность покуда
состоит в верности изображения картин русской жизни, но не
в особенном духе и направлении русской деятельности, кото¬
рые бы проявлялись равно во всех творениях, независимо от
предмета и содержания оных. Всем известно, что французские
классики офранцуживали в своих трагедиях греческих и рим¬
ских героев: вот истинная народность, всегда верная самой се¬
бе и в искажении творчества! Она состоит в образе мыслей
и чувствований, свойственных тому или другому народу. Я свято
верю в генияльность Гете, хотя по незнанию немецкого языка
чрезвычайно мало знаком с ним; но, признаюсь, плохо верю
эллинизму его «Ифигении»: чем выше гений, тем более он сын
своего века и гражданин своего мира, и подобные попытки
с его стороны выразить совершенно чуждую ему народность
всегда предполагают подделку более или менее неудачную.
Итак, есть ли у нас народность литературы в этом смысле? Нет,
да покуда, при всех благородных желаниях просвещенных пат¬
риотов, и быть пе может. Наше общество еще слишком юно,
еще не установилось, еще не освободилось от европейской
опеки; его физиономия еще не выяснилась и не выформирова-
лась. «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Цы¬
ган» мог написать всякий европейский поэт, но «Евгения Онеги¬
на» и «Бориса Годунова» мог написать только поэт русский.
Безотносительная народность доступна только для людей, сво¬
бодных от чуждых иноземных влияний, и вот почему пароден
Державин. Итак, наша народность состоит в верности изобра¬
жения картин русской жизни. Посмотрим, как успели в этом
поэты нового периода нашей словесности.
На чало этого народного направления в литературе было
сделано еще в Пушкинском периоде; только тогда оно не так
резко выказалось. Зачинщиком был г. Булгарин. Но так как он
ве художник, в чем теперь никто уже не сомневается, кроме
друзей его, то он принес своими романами пользу не литерату¬
ре, а обществу, то есть каждым из них доказал какую-нибудь
практическую житейскую истину, а именно:
I. «Иваном Выжигиным»: вред, причиняемый России за¬
морскими выходцами и пройдохами, предлагающими им свои
117
продажные услуги в качестве гувернеров, управителей, а иногда
и писателей;184
II. «Димитрием Самозванцем»: кто мастер изображать
мелких плутов и мошенников, тот не берись за изображение
крупных злодеев;
III. «Петром Выжпгиным»: спустя лето, в лес по малину
не ходят; другими словами: куй железо, пока горячо 185.
Повторяю: Фаддей Венедиктович не поэт, а философ прак¬
тический, философ жизни действительной. Поэтическая сторона
его созданий проявляется только в живом и верном изобра¬
жении мошенничеств и плутней. Долг справедливости требует
заметить, что он необыкновенным успехом своих романов, то
есть их необыкновенно удачным сбытом, способствовал много
к оживлению нашей литературной деятельности и произвел
бесконечное поколение романов. Ему же обязана российская
публпка и появлением на литературное поприще Александра
Анфимовича Орлова.
Народному направлению много способствовал г. Погодин.
В 1826 году появилась его маленькая повесть «Нищий», а 1829 —
«Черная немочь». Обе они замечательны по верному изобра¬
жению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по
мастерскому рассказу, а последняя и по прекрасной, поэти¬
ческой идее, лежащей в основании. Если бы г. Погодин про¬
грессивно возвышался в своих повестях, то русская литература
имела бы в нем такого писателя, которым по справедливости
могла бы гордиться. Впрочем, не одному ему принадлежит
честь начала народности в повестях: ее разделяли с ним,
в большей или меньшей мере, и другие замечательные таланты.
«Юрий Милославский» был первым хорошим русским ро¬
маном. Не имея художественной полноты и целости, он отлича¬
ется необыкновенным искусством в изображении быта наших
предков, когда этот быт сходен с нынешним, и проникнут нео¬
быкновенною теплотою чувства. Присовокупите к этому увлека¬
тельность . рассказа, новость избранного поприща, на котором
он не имел себе ни образца, ни предшественника, и вы поймете
причину его необычайного успеха. «Рославлев» отличается темп
же красотами и темп же недостатками: отсутствием полноты
и целости и живыми картинами простонародного быта.
«Киргиз-кайсак» г. Ушакова был явлением удивительным
и неожиданным: он отличается глубоким чувством и другими
достоинствами истинно художественного произведения и меж¬
ду тем принадлежит -автору «Кота Бурмосека» 186 и длинных
и скучных статей о театре, о польской литературе, о том и о
сем, отличающихся беззубым остроумием и забавнымп претен¬
зиями па критический талант и ученость. Что ж делать? «Киргиз-
кайсак», в сем отношении, есть не единственное явление в на¬
шей литературе; разве Аблесимов пе паппсал, можно сказать,
ненарочноs «Мельника», а г. Воейков — «Дома сумасшедших»?..
118
Последний период был ознаменован появлением двух но¬
вых замечательных талантов: гг. Вельтмана и Лажечникова. Г-п
Вельтман пишет в стихах и в прозе и в обоих случаях обнаружи¬
вает в себе истинный талант. Его поэмы «Беглец» и «Муромские
леса» были анахронизмом и потому не имели успеха. Впрочем,
последняя из них, при всех своих недостатках, отличается яркими
красотами; кто не знает на память песни разбойника: «Что
отуманилась, зоренька ясная»? «Странник», за исключением из¬
лишних претензии, отличается остроумием, которое составляет
преобладающий элемент таланта г. Вельтмана. Впрочем, он воз¬
вышается у него и до высокого: «Искендер» есть одип из дра¬
гоценнейших алмазов нашей литературы. Самое лучшее произ¬
ведение г. Вельтмана есть «Кощей Бессмертный»: из него видно,
что он глубоко изучил старинную Русь в летописях и сказках
и как поэт понял ее своим чувством. Это ряд очаровательных
картин, на которые нельзя довольно налюбоваться. Вообще,
о г. Вельтмане должно сказать, что он уж чересчур много
и долго играет своим талантом, в котором никто, кроме «Биб¬
лиотеки для чтения», не сомневается187* Пора бы ему наиг¬
раться, пора подарить публику таким произведением, какого
она вправе ожидать от него: у г. Вельтмана так много таланта,
так много остроумия и чувства, так много оригинальности и са¬
мобытности!
Г-н Лажечников не из новых писателей: он давно уже был
известен своими «Походными записками офицера». Это произ¬
ведение доставило ему литературную известность; но как опо
было иаписано под карамзипским влиянием, то, несмотря на
некоторые свои достоинства, теперь забыто 188, да и сам автор
называет его грехом своей юности *. Но как бы то ни было,
а г. Лажечников пользовался по нем славою литератора, и по¬
тому все ожидали его «Новика» 190. Г-н Лажечников не только
не обманул сих надежд, но даже цревзошел общее ожидание
и по справедливости признан первым русским романистом.
В самом деле, «Новик» есть произведение необыкновенное,
ознаменованное печатию высокого таланта. Г-н Лажечников об¬
ладает всеми средствами романиста: талантом, образован-
ностпю, пламенным чувством и опытом лет и жизни. Главный
недостаток его «Новика» состоит в том, что он был первым,
в своем роде, произведением автора; отсюда двойственность
интереса, местами излишняя говорливость и слишком заметная
зависимость от влияния иностранных образцов. Зато какое сме¬
лое и обильное воображение, какая верная живопись лиц и ха¬
рактеров, какое разнообразие картин, какая жизнь и движение
* При сем прошу у почтенного автора «Новпка» извинения в неумыш¬
ленной вине протпв него. Я очень хорошо знал, что прекрасная песня
«Сладко пел душа-соловушко!» принадлежит ему, ибо имел честь узнагь
это от самого него; вся вина моя в том, что я не совсем обстоятельно выра¬
зился 18э,
119
в рассказе! Эпоха, избранная автором, есть самый романи¬
ческий и драматический эпизод нашей истории и представляет
самую богатую жатву для поэта. Но, отдавая полную справедли¬
вость поэтическому таланту г. Лажечникова, должно заметить,
что он не вполне умел воспользоваться избранною им эпохою,
что произошло, кажется, от его не совсем верного на нее
взгляда. Это особенно доказывается главным лицом его рома¬
на, которое, по моему мнению, есть самое худшее лицо во всем
романе. Скажите, что в нем русского, или по крайней мере
индивидуального? Это просто образ без лица, и скорее человек
нашего времени, чем XVII века. Вообще в «Новике» много ге¬
роев и нет ни одного главного. Виднее и занимательнее прочих
Паткуль: он нарисован во весь рост, и нарисован кистью мастер¬
скою. Но самое интересное, самое любимейшее чадо его фанта¬
зии есть, кажется, швейцарка Роза; это одно из таких созданий,
которым позавидовал бы и сам Бальзак. Не имея ни времени,
ни места, я не войду в полный разбор «Новика», хотя и много
мог бы сказать о нем! Заключаю: он обнаруживает в авторе
высокий талант, удерживает за ним почетное место первого
русского романиста; его недостатки происходят частию оттого,
что, как мне кажется, автор смотрел не совсем с прямой точки
на эпоху Петра Великого, а главное оттого, что «Новик» был
первым его произведением. Судя по отрывкам из его нового
романа 191, можно надеяться, что он будет гораздо выше пер¬
вого и вполне оправдает ту доверенность, которую оказывает
публика к его таланту.
Теперь мне остается сказать еще об одном весьма приме¬
чательном лице нашей литературы: это автор, подписывающийся
Безгласным и ъ. ь. й. Говорят, что это... но какое нам дело до
имени автора, тем более, когда он сам не хочет выставлять его
напоказ? Так как он недавно сам объявил о себе, что он ни А,
ни В, ни С, то назову его хоть О 192. Этот О. пишет уже давно,
но в последнее время его художественная деятельность обна¬
ружилась в большей силе. Этот писатель еще не оценен у нас
по достоинству и требует особенного рассмотрения, которым
заняться теперь не позволяют мне ни место, ни время193. Во
всех его созданиях виден талант могущественный и энерги¬
ческий, чувство глубокое и страдательное, оригинальность совер¬
шенная, знание человеческого сердца, знание общества, высо¬
кое образование и наблюдательный ум. Я сказал: знание
общества, прибавлю еще, в особенности высшего, и, сдается мне,
в этом случае он предатель... О, это страшный и мстительный
художник! Как глубоко и верно измерил он неизмеримую пусто¬
ту и ничтожество того класса людей, который преследует с та¬
ким ожесточением и таким неослабным постоянством! Оп руга¬
ется их ничтожеством, он клеймит их печатию позора; он бичует
их, как Немезида, он казнит их за то, что они потеряли образ
и подобие божие, за то, что променяли святые сокровища души
120
своей на позлащенную грязь, за то, что отреклись от бога живого
и поклонились идолу сует, за то, что ум, чувства, совесть,
честь заменили условными приличиями! Он... но что вам много
говорить о нем? Если вы поймете мое энтузиастическое к нему
удивление, то лучше поймете и оцените художника; в против¬
ном же случае не хочу терять слов понапрасну... Ведь вы,
верно, читали его «Бал», его «Бригадира», его «Насмешку мерт¬
вого», его «Как опасно девушкам ходить по Невскому про¬
спекту»?.. 194
Г-н Гоголь, так мило прикинувшийся Пасичником, принадле¬
жит к числу необыкновенных талантов. Кому не известны его
«Вечера на хуторе близ Диканьки»? Сколько в них остроумия,
веселости, поэзии и народности? Дай бог, чтобы он вполне
оправдал поданные им о себе надежды!..
Говорить ли мне о прочих наших романистах и сказочниках:
гг. Масальском, Калашникове, Грече и др.? Все они считаются
у нас почти гениями! и куда тягаться с ними г. О., о котором
я только что говорил выше. Благоговею, дивлюсь и умолкаю, ибо
чувствую, что не в силах достойно восхвалить их.
Итак, я насчитал четыре периода нашей словесности: Ломо¬
носовский, Карамзинский, Пушкинский и Прозаическо-иародный;
остается упомянуть еще о пятом, который начался с появления
на свет первой части «Новоселья» и который можно и должно
назвать Смирдинским195. Да, милостивые государи, я совсем
не шучу и повторяю, что этот период словесности непременно
должно назвать Смирдинским, ибо А. Ф. Смирдин является гла¬
вою и распорядителем сего периода. Всё от него и всё к нему;
он одобряет и ободряет юные и дряхлые таланты очарователь¬
ным звоном ходячей монеты; он дает направление и указывает
путь этим гениям и полугениям, не дает им лениться, словом,
производит в нашей литературе жизнь и деятельность. Вы по¬
мните, как почтеннейший А. Ф. Смирдин, движимый чувством
общего блага, со всею откровенностию благородного сердца,
объявил, что наши журналисты потому не имели успеха, что
надеялись на свои познания, таланты и деятельность, а не на
живой капитал, который есть душа литературы; вы помните, как
он кликнул клич по нашим гениям, крякнул да денежкой бряк¬
нул 196 и объявил таксу на все роды литературного производст¬
ва, и как вербовались наши производители толпами в его ком¬
панию; вы помните, как великодушно и усердно взял он на от¬
куп всю нашу словесность и всю литературную деятельность ее
представителей! Вспомоществуемый генпями гг. Греча, Сенков-
ского, Булгарина, Барона Брамбеуса и прочих членов знамени¬
той компании, оп сосредоточил всю нашу литературу в своей
массивном журнале. И что же вышло из этого великого патрио¬
тическо-торгового предприятия? Есть люди, которые утвержда¬
ют, что будто г. Смирдин убил нашу литературу, соблазнив ба-"
рышами ее талантливых представителей. Нужно ли доказывать,
121
что это люди злонамеренпые и враждебные всякому бескорыст¬
ному предприятию, имеющему целию оживление какой бы то ни
было ветви народной промышленности? Я не принадлежу к та¬
ким людям и от души радуюсь, например, «Энциклопедическому
лексикону», хотя и знаю, что в составлении оного участвуют
гг. Греч, Булгарин и др., хотя и читал послужной список Ломо¬
носова, выдаваемый за биографию сего великого мужа197.
Я имею удивительную способность видеть во всем одну хорошую
сторону, не замечая дурных, и на что бы пи смотрел, всегда
повторяю мой любимый стих:
И все то благо, все добро! 198
ибо я убежден сердечно и душевно, верю свято и непоколеби¬
мо, вопреки г. профессору Сенковскому, что род человеческий,
по воле бдящей над нпм любви божией, идет к своему совер¬
шенству и что не остановить его на сем пути ни фанатизму, ни
невежеству, ни злобе, ни Барону Брамбеусу, ибо таковые оста-
новители добра суть истинные его двигатели. Уничтожьте зло,
вы уничтожите и добро, ибо без борьбы нет заслуги. Итак,
я смотрю на «Библиотеку для чтения» совсем с другой точки
зрения: она ни па волос не возвысила нашей литературы, но
и не уронила ее ни на волос. Творить все из ничего может одип
только бог, а пе «Библиотека для чтения»; оживлять можно
умирающего, а не несуществующего. Нельзя создать деньгами
таланта, нельзя и убить его ими. Где бы ни написали, в каком
бы журнале ни помещали своих изделий и сколько бы ни полу¬
чали за них гг. Греч, Булгарин, Масальский, Калашников, Во¬
ейков — они всегда и везде останутся теми же; но г. О. не
изменит себе ни в «Новоселье», ни в «Библиотеке для чтения».
Итак, по моему мнению, «Библиотека для чтения» доказала прак¬
тически, a posteriori *, и, следовательно, несомненно, что
у нас пет литературы; ибо, имея все средства, она ни в чем не
успела. Это не ее вина; ибо
Как можно, чтобы мерзлый пар
Среди зимы рождал пожар? 199
Горе тому художнику, который пишет из денег, а не из безот¬
четной потребности писать! Но когда он вывел из мира души сво¬
ей этот бесплотный идеал, который томил и мучил его, когда вдо¬
воль налюбовался и насладился своим творением, то почему не
продать ему его?
Не продается сочпненье,
Но можно рукопись продать 200.
Другое дело картина: продавши ее, художник расстается
с своим созданием, лишается любимого чада своей фантазпи;
* иа основе опыта (лат.). — Ред.
122
по словесное произведение, благодаря остроумному изобрете-
ппю Гуттепбзрга, всегда прп нем: почему же дарамп природы
не вознаградить несправедливости фортуны? Разве не деньгами
английские и французские журналы достигли той высокой сте¬
пени совершенства, на которой мы теперь видим их? Итак,
«Библиотека для чтения» виновата не в том, что дорого платит
российским авторам, а в том, что надеялась, разумеется для
благосостояния собственного своего кармана, наделать талан¬
тов посредством денег. Одна из главпых обязанностей русского
журпала есть знакомить русскую публику с европейским про¬
свещением. Как же знакомит с ним нас «Библиотека для чте¬
ния»? Она укорачивает, обрубает, вытягивает и переделывает
па свой мапер переводимые ею из иностранных журналов
статьи и еще хвалится тем, что сообщает им особенного рода,
ей собственно принадлежащую занимательность. Ей и на ум пе
приходит, что публика хочет знать, как думают о том пли дру¬
гом в Европе, а отнюдь не то, как думает о том или другом
«Библиотека для чтения». И потому переводные статьи в «Биб¬
лиотеке для чтения» пе имеют никакой цены. Какие, например,
повести переводит она? Изделия г-ж Мидфорд и других, пишу¬
щих вроде покойника Дюкре-Дюмепиля и Августа Лафонтена с
братиею. Теперь, какова ее критика? Вам, верно, известны ее
отзывы о сочинениях гг. Булгарина, Греча, Калашникова
и гг. Хомякова, Вельтмана, Теплякова и др. При разборе «Чер¬
ной женщины» критик «Библиотеки» изложил всю систему
анатомии, физиологии, электричества и магнетизма, о коих
и помину нет в упомянутом романе: признаюсь — чудесная
критика!201
Какие же гении Смирдинского периода словесности? Это
гг. Бароп Брамбеус, Греч, Кукольник, Воейков, Калашников, Ма¬
сальский, Ершов и многие другие. Что сказать о них? Удивляюсь,
благоговею — и безмолвствую! Замечу о первом только то, что
после известной статьи в «Телескопе»: «Здравый смысл и Бароп
Брамбеус» 202 — почтенный Барон сначала приумолк, а потом
пустился в нравственность на манер г. Булгарина и из подража¬
теля «Юной словесности» учпнился подражателем автора Вы-
жпгпных. Барон Брамбеус есть мизантроп, сиречь человеконе¬
навистник: смесь Руссо с Поль де Коком и г. Булгариным; он
смеется и издевается над всем и гонит особенно просвещение.
Человеконенавистники бывают двух родов: одни ненавидят че¬
ловечество, потому что слишком любят его; другие потому, что,
чувствуя свое ничтожество, как бы в отмщение за себя, изливают
свою желчь на все, что сколько-нибудь выше их... Без всякого
сомнения, Барон Брамбеус принадлежит к первому роду чело¬
веконенавистников...
Последний, то есть 1834 год был ознаменован только появ¬
лением двух романов г. Вельтмана и «Димитрием Самозван¬
цем» г. Хомякова; 203 все остальное не стоит и упоминовения.
123
Г-н Хомяков принадлежит к числу замечательных талантов Пуш¬
кинского периода. Впрочем, его драма есть замечательный шаг
вперед для автора, а не для русской литературы. Отличаясь мно¬
гими лирическими красотами высокого достоинства, она очень
мало имеет драматизма.
Итак, вот я рассказал вам всю историю нашей литературы,
перечел все ее знаменитости от Ломоносова, первого ее гения,
до г. Кукольника, последнего ее гения. Я начал мою статью с то¬
го, что у нас пет литературы: пе знаю, убедило ли вас в этой
истине мое обозрение; только знаю, что если нет, то в том
виновато мое неуменье, а отнюдь не то, чтобы доказываемое
мною положение было ложно. В самом деле, Державин, Пуш¬
кин, Крылов и Грибоедов — вот все ее представители; других
покуда нет и не ищите их. Но могут ли составить целую литера¬
туру четыре человека, являвшиеся не в одно время? И притом
разве они были не случайными явлениями? Посмотрите на исто¬
рию иностранных литератур. Во Франции вскоре после Корнеля
явились Расин, Мольер, Лафонтен и многие другие; потом,
в эпоху Вольтера, сколько было знаменитостей литературных!
Теперь: Гюго, Ламартин, Делавинь, Барбье, Бальзак, Дюма, Жа-
нен, Евгений Сю, Жакоб Бпблиофил и столько других. В Германии:
Лессинг, Клопшток, Гердер, Шиллер, Гете были современ¬
никами. В Англии, в последнее время, Байрон, Вальтер Скотт,
Томас Мур, Кольридж, Сутей, Вордсворт и столько других яви¬
лись почти в одно время. Так ли у нас? Увы!.. «Библиотека для
чтения» доказала великую и плачевную истипу. Кроме двух или
трех статей г. О., что вы прочли в ней заслуживающего хотя
какое-нибудь внимание? Ровно ничего. Итак, соединенные труды
всех наших литераторов не произвели ничего выше золотой
посредственности! Где же, спрашиваю вас, литература? У пас
было много талантов и талантиков, но мало, слишком мало ху¬
дожников по призванию, то есть таких людей, для которых пи¬
сать и жить, жить и писать одно и то же, которые уничтожаются
вне искусства, которым не нужно протекций, не нужно мецена¬
тов, или, лучше сказать, которые гибнут от меценатов, которых
не убивают ни деньги, ни отличия, пи несправедливости, которые
до последнего вздоха остаются верными своему святому при¬
званию. У нас была эпоха схоластицизма, была эпоха плакси¬
вости, была эпоха стихотворства, эпоха романов и повестей, те¬
перь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства,
эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на
романы видимо проходит; теперь терзаем драму. И все это без
причины, все это из подражательности: когда же наступит у нас
истинная эпоха искусства?
Она наступит, будьте в том уверены! Но для этого надо
сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы вы¬
124
разилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы
у нас было просвещение, созданное нашими трудами, воз¬
ращенное на родной почве. У нас нет литературы: я повторяю
это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог
наших будущих успехов. Присмотритесь хорошенько к ходу на¬
шего общества, и вы согласитесь, что я прав. Посмотрите, как
новое поколение, разочаровавшись в генияльности и бессмер¬
тии наших литературных произведений, вместо того чтобы вы¬
давать в свет недозрелые творения, с жадностию предается изу¬
чению наук и черпает живую воду просвещения в самом источ¬
нике. Век ребячества проходит видимо. И дай бог, чтобы он
прошел скорее! Но еще более, дай бог, чтобы поскорее все
разуверились в нашем литературном богатстве! Благородная
нищета лучше мечтательного богатства! Придет время, просве¬
щение разольется в России широким потоком, умственная фи¬
зиономия народа выяснится, и тогда наши художники и писатели
будут на все свои произведения налагать печать русского
духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье! Скажите,
бога ради, может ли в наше время обратить на себя внимание
какой-нибудь недоучившийся мальчик, хотя бы он был наделен
от природы и умом, и чувством, и талантом? Этот вечный ста¬
рец Гомер, если он точно существовал на свете, конечно, не
учился ни в Академии, ни в Портике; но это потому, что тогда
их и не было; это потому, что тогда учились из великой книги
природы и жизни; а Гомер, если верить преданиям, ревностно
изучал природу и жизнь, обошел почти весь известный тогда
свет и сосредоточил в лице своем всю современную мудрость.
Гете — вот Гомер, вот прототип поэта нынешнего времени!
Итак, нам нужна не литература, которая без всяких с нашей
стороны усилий явится в свое время, а просвещение! И это
просвещение не закоснит благодаря неусыпным попечениям
мудрого правительства. Русской народ смышлен и понятлив,
усерден и горяч ко всему благому и прекрасному, когда рука
царя-отца указывает ему на цель, когда его державный голос
призывает его к ней! И нам ли не достигнуть этой цели, когда
правительство являет собою такой единственный, такой беспри¬
мерный образец попечительности о распространении просве¬
щения, когда оно издерживает такие громадные суммы на со¬
держание учебных заведений, ободряет блестящими наградами
труды учащих и учащихся, открывая образованному уму и та¬
ланту путь к достижению всех отличий и выгод! Проходит ли
хотя один год без того, чтобы со стороны неусыпного прави¬
тельства не было совершено новых подвигов во благо просве¬
щения, или новых благодеяний, новых щедрот в пользу ученого
сословия? Одно учреждение сословия домашних наставников
и учителей должно повлечь за собой неисчислимые блага для
России, ибо избавляет ее от вредных следствий иноземного
воспитания. Да! у нас скоро будет свое русское, народное
125
просвещение; мы скоро докажем, что не имеем нужды в чуждой
умственной опеке. Нам легко это сделать, когда знаменитые
сановники, сподвижники царя на трудном поприще народоправ-
ления, являются посреди любознательного юношества в цент¬
ральном храме русского просвещения возвещать ему священ¬
ную волю монарха, указывать путь к просвещению в духе право¬
славияI, самодержавия и на р о д н о с т и...204
Наше общество также близко к своему окончательному
образованию. Благородное дворянство наконец вполне уверилось
в необходимости давать своим детям образование прочное,
основательное, в духе веры, верности и национальности. Наши
молодчики, наши денди, не имеющие никаких познаний, кроме
навыка легко болтать всякой вздор по-французски, становятся
смешными и жалкими анахронизмами. С другой стороны, не
видите ли вы, как, в свою очередь, быстро образуется купе¬
ческое сословие и сближается в сем отношении с высшим. О,
поверьте, не напрасно держались они так крепко за свои по¬
чтенные, окладистые бороды, за свои долгополые кафтаны и за
обычаи праотцев! В них наиболее сохранилась русская физио¬
номия, и, принявши просвещение, они не утратят ее, сделаются
типом народности. Равно взгляните, какое деятельное участие
начинает принимать в святом деле отечественного просвещения
и наше духовенство... Да! в настоящем времени зреют семена
для будущего! И они взойдут и расцветут, расцветут пышно
и великолепно, по гласу чадолюбивых монархов! И тогда будем
мы иметь свою литературу, явимся не подражателями, а сопер¬
никами европейцев...
И вот я не только у берега, а ужз на самом береге и, стоя
на пем, с гордсстпю и удовольствием озираю пройденное мною
пространство. Нечего сказать, не близкий путь! Зато уж как
п устал, как утомился! Дело непривычное, а дорога трудная.
Но, любезный читатель, прежде нежели я совсем раскланяюсь
с вами, хочу сказать вам еще словечка два. Кто берется судить
о других, тот подвергает и самого себя еще строжайшему суду.
К тому же авторское самолюбие щекотливее и мстительнее
всех других родов самолюбия. Начав писать эту статью, я нмел
в предмете позубоскалить над современною нашею литерату¬
рою, и сам не знаю, как зашел в такую даль. Начал за здравие,
а свел за упокой. Это нередко случается в делах жизни. Итак,
признаюсь откровенно: не ищите в моей элегии в прозе строгого
логического порядка. Элегисты никогда не отличались большою
правильностью мышления. Я имел целию высказать несколько
истин, частию уже сказанных, частию мною самим замеченных,
но не имел времени хорошенько обдумать и обработать свою
статью; у меня есть любовь к истине и желание общего блага,
но, может быть, нет основательных познаний. Что ж делать? Этп
126
два качества редко сходятся в одном лпце. Впрочем, я не гово¬
рил ни сдоЕа о том, что было выше моего понятия, п поэтому
не коснулся до нашей ученой литературы. Думаю п верю, что
для споспешествованпя успехам наук п словесности всякий мо¬
жет смело и откровенно высказать свои мпения, тем более,
если они, справедливые или ложные, суть следствие его убеж¬
дения, а не каких-нибудь корыстных видов. Итак, если найдете,
что я ошибался, то выскажите печатио ваше мнение и уличите
меня в ложном взгляде на вещи: я прошу этого, как доказа¬
тельства вашей любви к истине и уважения лично ко мне, как
к человеку; но не сердитесь на меня, если думаете не так.
Засим, любезный читатель, поздравляю вас с повым годом и но¬
вым счастием... Простите!
Чем бар 205.
1S34, декабря 12 дня,
И МОЕ МНЕНИЕ ОБ ИГРЕ г. КАРАТЫГИНА
(I)
В нашей вялой и прозаической жизни всякая новость воз¬
буждает всеобщее внимание и сильно занимает собою умы всех
и каждого. К числу таких новостей принадлежит вторичный при¬
езд в Москву знаменитых петербургских артистов Каратыгиных.
Кто не помнит, как засуетилась наша белокаменная во время их
первого приезда, какая была давка у театра, как трудно было
доставать билеты, как толковали и спорили об игре любимцев
петербургской публики и в аристократических гостиных и
гостиницах, и в плебейских горницах и трактирах, и на улицах
и перекрестках? Кто не помпит знаменитого турнира, на кото¬
ром было переломлено столько копий и pour и contre*, во
имя Каратыгиных, П. Щ. и г. Шевыревым и ареною которого
была «Молва»? Кто не помнит, как г. Шевырев, после несколь¬
ких упорных и утомительных схваток, оставил поле битвы и пе
кончил сражения, обидевшись невежливостию своего хладно¬
кровного и несговорчивого противника, не хотевшего поднять
забрала своего шлема и провозгласить своего рода и имени?..
Оно, кажется, тут бы не на что претендовать: ведь журнальные
турниры совсем не то, что рыцарские турниры. Благородные
рыцари почитали предосудительным для себя сражаться
с безымянными противниками, ибо вменяли в бесчестие под¬
вергать свое благородное тело невежливым ударам какого-ни¬
будь плебея, и не видели никакой для себя славы в победе над
противником незнатного рода и племени; но в литературе ге¬
ральдика вещь совершенно посторонняя; в ней важны дела,
а не имена. Но всем уже известно, что г. Шевырев скрепу кри¬
тических статей именами их авторов1 почитает самым верным
средством для избежания от наветов, коварства и недобросо¬
* за п против (франц.). — Ред.
128
вестности критики и крепко убежден, что критик, скрывающий
свое имя, непременно должен иметь какие-нибудь недобрые
умыслы в отношении к своему противнику... Как бы то ни было,
дело не о том... и потому я обращаюсь к предмету моей статей¬
ки, под которой, однако, не подписываю полного моего имени,
ибо хочу высказать мое мнение, а не блеснуть моим именем,
которое очень не важно и до которого посему никому
нет дела.
Итак, всем памятны шум и движение, произведенные преж¬
ним приездом в Москву г-на и г-жи Каратыгиных... Такое же
ли точно действие произвел теперешний их приезд? Кажется,
что нет. Правда, и теперь по утрам ужасная давка при раздаче
бплетов, и теперь ходенем ходит огромный Петровский театр
от грома рукоплесканий нашей доброй и не слишком взыска¬
тельной публики, и теперь в той же самой «Молве» вышел на
арену таинственный г. П. Щ.; но рукоплескания уже не так еди¬
нодушны и дружны, уже часто они прерываются и заглушаются
ропотом неудовольствия; но таинственный г. П. Щ. что-то реши¬
тельнее и резче, хладнокровнее и насмешливее в своем тоне
и пока еще не встретил ни одного противника... Что бы это
значило?.. Неужели г. Каратыгин, этот артист, так горячо
любящий свое искусство, так глубоко и усердно изучающий
его, вместо того чтобы идти вперед, пошел назад и сделался
хуже?..
Нет: он все тот же, но уже не те обстоятельства: к нему
присмотрелись, его разглядели, а прелесть новости потеряла
свою магическую силу. Вот и разгадка этой загадки. В искусстве
есть два рода красоты и изящества, так же точно, как есть два
рода красоты в лице человеческом. Одна поражает вдруг,
нечаянно, насильно, если можно так сказать; другая постепенно
и неприметно вкрадывается в душу и овладевает ею. Обаяние
первой быстро, но непрочно; второй медленно, но долговечно;
первая опирается на новость, нечаянность, эффекты и нередко
странность; вторая берет естественностию и простотою. Марлин-
ский и Гоголь — вот вам представители того и другого рода
красоты в искусстве. Я не отрицаю таланта в г. Марлинском
и пока еще не вижу гения в г. Гоголе; но хочу только показать
разность между талантом случайным, то есть. развившимся
вследствие или обстоятельств жизни, или направления, получен¬
ного с детства, и талантом самобытным, независимым от обсто¬
ятельств жизни. Первый всему обязан образованием, а без него
нпчего не значит; второму образование дает обширнейший круг
действия п возвышает его взгляд на природу, но не усиливает
его ни на волос. Шексппр и Вольтер — вот два драматурга, оба
с талантом, но один невежда, а другой всезнайка —- нужно ли
тут слишком распространяться? — Но изо всех признаков, кото¬
рыми отличается талант природный от таланта случайного, для
меня разительнее следующий: талант самобытный всегда успе¬
5 В. Белинский, т, 1
129
вает, когда пе выходит из своей сферы, когда остается вереп
своему направлению, и всегда падает, когда хватается не за
свое дело, вследствие расчета или системы; талант случай¬
ный берется за все и ппгде не падает совершенно; г. Марлпи-
ский во всех своих повестях, как ни разнообразны они, одина¬
ков и ровен — то есть вколовину хорош, вполовину дурен;
г. Гоголь вздумал написать фантастическую повесть а 1а
Hoffmann («Портрет»), и эта повесть решительно никуда не
годится.
(До следующего листка).
(И)
По-видимому, я отдалился от предмета моего рассужде¬
ния; но в самом деле я гораздо ближе к нему, нежели как
можно ожидать. У нас два трагических актера, г. Мочалов
и г. Каратыгин: хочу провести между ними параллель. «Какое
невежество! Каратыгин и Мочалов — fi done! * Можно ли по¬
мнить о Мочалове, говоря о Каратыгине?..» Не знаю, будут ли
мне сказаны подобные слова; но я уже как будто слышу их.
У нас это так натурально; мы так неумеренны ни в нашем удив¬
лении, ни в нашем презрении к авторитетам. Теперь как-то
странно и даже страшно произнести имя г. Мочалова, не имея
намерения посмеяться над ним, как смеются над Александром
Орловым, говоря о Вальтер Скотте. Но я думаю иначе, и если
каждый, в деле литературы и искусства, может иметь свое мне¬
ние, то почему же и мне не иметь своего, хотя мое скромное
имя и не значится в литературных адрес-календарях?.. 2
Всем известно, что с г. Мочаловым очень редко случается,
чтобы он выдержал свою роль от начала до конца, однако ж
все-таки случается, хотя и редко, как, например, в роле Яро-
мира в «Прародительнице», в роле Тасса3 и некоторых других.
Потом, всем известно, что он может быть хорош только в из¬
вестных ролях, как будто нарочно для него созданных, а в про¬
чих по большей части бывает решительно дурен. Наконец, всем
также известно, что, часто дурно понимая и дурно исполняя
целую роль, он бывает превосходен, неподражаем в некоторых
местах оной, когда на него находит свыше гений вдохновения.
Теперь, всем известно, что г. Каратыгин равно успевает бо всех
ролях, то есть что ему равно рукоплещут во всевозможных ро¬
лях, в роле Карла Моора и Димитрия Донского, Фердппаида
и Ермака, Эссекса и Ляпунова 4. По моему мнению, в деклама¬
торских ролях он бывает еще лучше, и думаю, что он был бы
превосходен в роле Димитрия Самозванца, трагедии Сумароко¬
ва, и во всех главных персонажах трагедий Хераскова и барона
* фи (франц.). — Ред,
130
Розена... Какое же должно вывести из этого следствие?.. Что
г. Мочалов талант низший, односторонний, а г. Каратыгин актер
с талантом всеобъемлющим, Гете сценического искусства? Так
думает большая часть нашей публики, большая часть, но не все,
п я принадлежу к малому числу этих не всех. По-моему, вот
что: г. Мочалов талант невыработанный, односторонний, но
вместе с тем сильный и самобытный; а г. Каратыгин талант слу¬
чайный, не призванный, успех которого зависит от огромных
природных средств, то есть роста, осанки, фигуры, крепкой гру¬
ди и потом от образованности, ума, чаще сметливости, а более
всего смелости... Послушайте: если г. Мочалов мог в целую
жизнь свою ровно и искусно выдержать две-три роли в их це¬
лости, то согласитесь, что у него, кроме чувства, которое может
быть живо и пламенно и не у художника, есть решительный
сценический талант, хотя и односторонний; если он бывает ги¬
гантски велик в некоторых монологах и положениях, дурно вы¬
держивая целость и ровность роли, то согласитесь, что он обла¬
дает чувством неизмеримо глубоким. Почему же он не может
выдерживать целости не только всех, но даже и большей части
ролей, за которые берется? От трех причин: от недостатка об¬
разованности, соединенного с упрямою невнимательностию к ис¬
кренним советам истинных любителей искусства, потом от одно¬
сторонности своего таланта и наконец оттого, что он для эф¬
фектов не профанирует своим чувством... Не правда ли, что
последняя причина кажется вам слишком странною? Погодите —
я объяснюсь прямее, для чего пока оставлю в покое г. Мочалова
и обращусь к г. Каратыгину.
Г-н Каратыгин, как я уже сказал, берется решительно за все
роли и во всех бывает одинаков, или, лучше сказать, ни в одной
не бывает несносен, как то нередко случается с г. Мочаловым.
Но это происходит скорее не от всесторонности таланта, но от
недостатка истинного таланта. Г-ну Каратыгину нет нужды до
роли: Ермак, Карл Моор, Димитрий Донской, Фердинанд,
Эдип5 — ему все равно, была бы роль, а в этой роли были бы
слова, монологи, а пуще всего возгласы и риторика: с чувством,
без чувства, с смыслом, без смысла, повторяю, ему все равно!
Л очень хорошо понимаю, что один и тот же актер может быть
превосходен в ролях: Отелло, Шейлока, Гамлета, Ричарда III,
Макбета, Карла и Франца Моора, Фердинанда, маркиза Позы,
Карлоса, Филиппа И, Телля, Макса, Валленштейна и проч., как
ни различны эти роли по своему духу, характеру и колориту; по
я никак не могу понять, как один и тот же талант может равно
блистать и в бешеной кипучей роли Карла Моора, и в деклама¬
торской, надутой роли Димитрия Донского, и в естественной,
живой роли Фердинанда, и в натянутой роли Ляпунова. Такой
актер не то ли же самое, что поэт, готовый во всякой час, во
всякую минуту проимпровизовать вам прекрасными стихами
и буриме, и мадригал, и эпиграмму, и акростих? и оду, и поэму,
5*
131
и драму, и все, что ни зададут ему? Здесь я вижу не талант, не
чувство, а чрезвычайное умение побеждать трудности, это
умение, которое так высоко ценилось французскими критиками
XVIII века и которое так хорошо напоминает дивное искусство
фокусника, метавшего горох сквозь игольное ушко.
Я сценическое искусство почитаю творчеством, а актера са¬
мобытным творцом, а не рабом автора. Найдите двух великих
сценических художников, гений которых был бы совершенно
равен, дайте им сыграть одну и ту же роль, и вы увидите то же,
да не то. И это очень естественно: ибо невозможно найти даже
двух читателей с равною образованностию и равною способностию
принимать впечатления изящного, которые бы совершенно оди¬
наковым образом представляли себе героя драмы. Они оба
поймут одинаковым образом идею и идеал персонажа, по раз¬
личным образом будут представлять себе тонкие черты и от¬
тенки его индивидуальности. Тем более актер: ибо он, так ска¬
зать, дополняет своею игрою идею автора, и в этом-то дополне¬
нии состоит его творчество. Но этим оно и ограничивается. Из
пылкого характера, созданного поэтом, актер не может и не
имеет права сделать хладнокровного, и наоборот. Теперь спра¬
шиваю я, каким же образом даст он жизнь персонажу, если
автор не дал ему жизни, каким образом заставит он его гово¬
рить страстно, пламенно, исступленно, когда автор заставил его
говорить натянуто, надуто, риторически? От высокого до смеш¬
ного — только шаг6, и потому, при неудачном исполнении, чем
выше идея, тем карикатурнее ее впечатление. Другое дело ко¬
медия. Там актер является более творцом, ибо иногда может
придать персонажу такие черты, о которых автор и не думал.
И вот почему наш несравненный Щепкин часто бывает так пре¬
восходен в самых плохих ролях. Он пересоздает их, а для этого
ему нужно, чтобы они были только что не бессмысленны. И это
очень естественно, ибо здесь, если автор не вдохновляет акте¬
ра, то актер может вдохнуть душу живую7 в его мертвые со¬
здания, потому что здесь нужно одно искусство, а не чувство,
пе душа *. Но в драме актер и поэт должны быть дружны,
иначе из нее выйдет презабавный водевиль. В ней роль должна
одушевлять и вдохновлять актера, ибо и обыкновенный чита¬
тель, совсем не бывши актером, может потрясти душу слушате¬
ля декламировкою какого-нибудь сильного места в драме. Ис-
* Я здесь разумею одни смешные или уже слишком посредственные
роли и не говорю о ролях высшей художественной комедии, в которой
актер непременно должен понять автора, чтобы успеть. Доказательством
этого может служить игра г. Щепкина в «Венециянском купце» и «Матро¬
се» 8, где нет чисто высокого и где много комического, но где, при всем том,
совсем не до смеха. То же доказывает его же игра в чисто комической роли
Фамусова, в которой актер глубоко понял поэта и, несмотря на свою от
него зависимость, сам является творцом.
132
кусство и здесь орудие важное, но второстепенное, вспомога¬
тельное.
Я видел г. Каратыгина в четырех ролях (не упоминаю
о пустой роле, игранной им в драме «Муж, жена п сын»): в Ер¬
маке, Ляпунове, Эссексе (в прошлый приезд его в Москву)
л Карле Мооре (во второй раз). Чтобы подкрепить мои мысли
фактами, буду говорить о последней. Ни в одной роле он не
казался мне так решительно дурен, так холоден, так натянут,
так эффектен. Ни одного слова, ни одного монолога, от кото¬
рого бы забилось сердце, поднялись дыбом волосы, вырвался ■
тяжкий вздох, навернулась бы на глазах восторженная слеза, от
которого бы затрепетал судорожно зритель, бросило бы его
в озноб и жар! Пробуждалось по временам какое-то странное
чувство, похожее на чувство, происходящее от страха или от
давления домового; но это чувство было мимолетно, мгновен¬
но, ибо лишь только зритель начинал подчиняться его обаянию,
как тотчас все оказывалось ложною тревогою, а актер спешил
разрушить подобное впечатление или каким-нибудь изыскан¬
ным эффектом, или совершенным отсутствием чувства при
крайнем усилии возвыситься до чувства, в чем, разумеется, он
уже нисколько не виноват. Как, например, сыграл г. Каратыгин
эту славную, потрясающую сцену, в которой Карл Моор выводит
отца своего из башни и выслушивает ужасную повесть его за¬
ключения: он стремительно обратился к спящим разбойникам;
это движение и выстрел из пистолета были сделаны грозно
и благородно, а вопль: «Вставайте!» был превосходен; но что
же он сделал потом, как произнес лучший монолог в драме?
Он (слушайте! слушайте!), он отвел за руки, на край сцены,
троих из главных разбойников и, обратившись к одному и, по¬
мнится, сжавши его руку, сказал: «Посмотрите, посмотрите: за¬
коны света нарушены!», к другому: «Узы природы прерваны!»,
к третьему: «Сын убил отца!». Оно и дельно — всем сестрам по
серьгам, чтоб ни одной не было завидно. Нет, не так произно¬
сит иногда этот монолог г. Мочалов: в его устах это лава всеув-
лекающая, всепожирающая, это черная туча, внезапно разрож¬
дающаяся громом и молниею, а не придуманные заранее теат¬
ральные штучки. В одном только месте этой драмы г. Караты¬
гин был недурен, когда говорил: «Как величественно заходит
солнце!.. В юности моя любимая мысль была — жить и умереть
подобно ему... Детские были мечты мои!..» И то не потому,
чтобы он придал этим словам особенное чувство, но потому,
что произнес их просто, без натяжки, без фарсов.
Зачем мы ходим в театр, зачем мы так любим театр? За¬
тем, что о,н освежает нашу душу, завядшую, заплесневелую от
сухой и скучной прозы жизни, мощными п разнообразными
впечатлениями, затем, что он волнует нашу застоявшуюся кров^
неземными муками, неземными радостями и открывает нам но¬
133
вый, преображенный и дивпый мир страстей и жизни! В душе
человеческой есть то особенное свойство, что она как будто
падает под бременем сладостных ощущений изящного, если пе
разделяет их с другою душой. А где же этот раздел является
так торжественным, так умилительным, как не в театре, где
тысячи глаз устремлены на одпн предмет, тысячи сердец бьются
одним чувством, тысячи грудей задыхаются от одного упоения,
где тысячи я сливаются в одно общее целое я в гармоническом
сознании беспредельного блаженства?.. Когда этот поэтический
Моор, этот падший ангел, указывает на распростертого без
чувств старца-мученика и нечеловеческим голосом восклицает:
«О посмотрите, посмотрите — это мой отец!», когда он в на¬
граду за великодушный поступок своего товарища возлагает на
пего обязанность мстить за своего отца и, подняв руки к небу,
проклинает изверга-брата: о! в вас нет души человеческой, нет
чувства человеческого, если при этом вы не обомрете, не обо¬
млеете от ужасного и вместе сладостного восторга!.. Но полное
сценическое очарование возможно только под условием
естественности представления, происходящей сколько от искус¬
ства, столько и от ансамбля игры. Но у нас невозможен этот
ансамбль, невозможна эта целость и совокупность игры, ибо
у нас с бешеными воплями г. Мочалова мешается рев и крив¬
лянье гг. Павла Орлова, Волкова, г-жи Рыкаловой и многих, мно¬
гих иных прочих. Что ж тут делать? Остается смотреть внима¬
тельно на главный персонаж драмы и закрыть глаза для всего
остального. Но ежели и актер, занимающий главное амплуа, не
выдерживает целости роли, будучи превосходен только
в некоторых местах оной? Тут что остается делать? — Ловить эти
немногие места и благодарить художника за несколько глубо¬
ких потрясений, за несколько сладких, минут восторга, которые
вы уносите из театра и память о которых долго, долго носится
в душе вашей. Так смотрю я па игру г. Мочалова, этого требую
я от игры его, это нередко9 получаю и за это благодарю его.
Например, пынешним годом на масленице я видел его в роле
Отелло; роль, как обыкновенно, была дурно выдержана, но
сато было несколько мест, от которых я потерял свое место и не
помнил и не зиал, где я и что я, от которых все предметы, все
идеи, весь мир и я сам слились во что-то неопределенное и со¬
ставили одно целое и нераздельное, ибо я услышал какие-то
ужасные, вызванные со дна души вопли и прочел в них страш¬
ную повесть любви, ревности, отчаяния — и эти вопли еще и те¬
перь раздаются в душе моей. Я даже понимал, отчего так дурно
была выдержана целость роли: давали «Отелло», как и всегда,
пошлой фабрики варвара Дюспса;10 а г. Мочалов в СЕоей пгро
живет жпзнию автора и тотчас умирает, как скоро умирает ав¬
тор. Чуть несообразность, чуть натяжка — и он падает. В моих
глазах, этот недостаток искусства есть высочайшее достоинство,
ибо служит верным ручательством добросовестности артиста
134
п неподдельности его чувства. Мне хотелось бы посмотреть па
г. Мочалова в шекспировском Отелло...
Не таков г. Каратыгин; ролп надутые, неестественные, де¬
кламаторские суть торжество его; он заставляет забывать о их
несообразности и нелепости; там, где г. Ыочалов насмешил бы
всех, там он особенно хорош. Возьму для примера «Ермака»
г. ХомякоЕа. Закрывши рукой имена персонажей, я могу с на¬
слаждением читать эту пьесу, пбо это собрание элегии п поэти¬
ческих дум о жизни псполнено теплоты чувства и поэзии. Еще
с большим наслаждением я выслушал бы их от г. Каратыгина,
только не в театре, а в комнате. Но как пьеса драматическая
«Ермак» просто нелепость. Чтобы заставить нас восхищаться им
на сцене, надо сперва воротить нас ко временам классицизма,
к этим блаженным временам наперсников, злодеев, героев,
фижм, румян, белил и декламации. Но г. Каратыгин не побоял¬
ся взять на себя этой миссии, и он не совсем ошибся в своем
расчете. Его всегдашнее орудие — эффектность, грациозность
и благородство поз, живописность и красота движений, искусст¬
во декламации. Напрасно обвиняют его в излишестве эффек¬
тов;11 его игра не может существовать вне их. Я думаю, оп был
бы очаровательно прекрасен в роле Димитрия Самозванца и па
вопрос Шуйского:
Какая предстоит Димитрию беда?
мастерски бы ответил:
Зла фурия во мне смятенно сердце гложет;
Злодейская душа спокойна быть не может! 12
Да, я уверен, что театр потрясся бы до основания от грома
рукоплесканий. И это очень вероятно, ибо позы, движения
и декламация г. Каратыгина менее зависят от содержания
п достоинства пьесы, чем от его удивительного искусства. Когда
он бывает особенно хорош, когда он наиболее получает руко¬
плескании? Когда падает в ноги отцу, обнимает его колена,
бросается в объятия к жене, целует сына и, держа его на ру¬
ках, бегает с ним но сцене, бросается в Иртыш, когда уносит на
плечах отравленного Скопина-Шуйского, допрашивает Фидлера
и выбрасывает его в окошко. Надобно заметить, что наша пуб¬
лика вообще очень смешлива: она смеется, когда ужасный Шей-
лок точпт нож о свой сапог, когда мстительный жид в грозных
словах изливает яд ненависти сЕоей к христианам — палачам его
племени, она хохочет над страданиями бедного, благородного
Матрсса. Сцена между Ляпуновым и Фпдлером должна бы рас¬
смешить ее; по г. Каратыгин так благородно и грациозно вы¬
бросил за окно г. Усачева, что никто даже п не улыбнулся,
кроме разве райка. Напротив, чудпое дело! Эта же самая пуб¬
лика рукоплещет от восторга карикатурным возгласам Ляпунова
135
к своему мечу пли когда он так уморительно комически
говорит Скопину: «Здорово, князь!» Г-н Каратыгин вполне раз¬
гадал нашу публику и глубоко понял ее требованпя; вот вам
и причина, почему на нынешний раз много фарсов так прибави¬
лось против прежнего. Если же он нногда уж чересчур переса¬
ливает в них, так это оттого, что он испытывает, понравятся
ли публике его новые выдумки.
Итак, какой же вообще характер игры его? Преодолевать
трудности, делать все из ничего. А для этого, разумеется, нуж¬
ны одни эффекты, одно искусство, обдуманность, предваритель¬
ное изучение роли, созданной не автором, но актером. Смотря
на его игру, вы беспрестанно удивлены, но никогда не тронуты,
не взволнованы. Искусство без чувства — это классицизм, хо¬
лодный, как зима, выглаженный, как мрамор, но пленяющий ис¬
кусно отделанными формами. Впрочем, может быть, я и не прав,
ибо насчет этого у меня свой образ мыслей, в котором меня
целый свет не переуверит: я не понимаю, как мог восхищать
своею игрою Тальма, ибо не понимаю, как можно восхищаться
трагедиями Корнеля, Расина, Вольтера, в которых отличался
этот любимец Наполеона...13 Где пет истины, природы, естест¬
венности, там нет для меня очарования. Я видел г. Каратыгина
несколько раз и не вынес из театра ни одного сильного движе¬
ния; в его игре все так удивительно, но вместе с тем так под¬
дельно, придуманно, изысканно. Г-н Каратыгин — Марлинский
сценического искусства; у него есть талант, но талант, образо¬
ванный силою воли, прилежным изучением, но не самобытный,
не природный, как у г. Мочалова; талант ходить, говорить, рас¬
считывать эффекты, понимать, где и что надо делать, но не
увлекать души зрителей собственным увлечением, не поражать
их чувства собственным чувством... Пластика, грациозность дви¬
жений и живописность поз составляют сущность балетов, а в
драме суть средства вспомогательные, второстепенные. Чувст¬
вом можно заменить недостаток оных, по никогда ими невоз¬
можно заменить недостаток чувства. А чем восхищались еще
три года назад тому, жаркие поклонники таланта г. Каратыгина?
О, нет! давайте мпе актера-плебея, но плебея Мария 14, не вы¬
глаженного лоском паркетности, а энергического и глубокого
в своем чувстве. Пусть подергивает оп плечами и хлопает себя
по бедрам; это дерганье и хлопанье пошло и отвратительно,
когда делается от незнания, что надо делать; но когда оно
бывает предвестником бури, готовой разразиться, то что мне
ваш актер-аристократ!..
Я сказал все, что хотел сказать. Почитаю нужным заметить,
что никогда не бывал за кулисами, никогда не находился ни
в каких отношениях с гг. артистами, о коих сужу, и не знаком ни
с одним из прочих, и потому судил без всяких личных преду¬
беждений, без всякого личног.о пристрастия, по моей совести
136
п разумению. Легко может статься, что мое мнение будет
очень не важно как в глазах артиста, так и в глазах публики,
но оно должно быть важно для меня, ибо тот недобросовестен,
кто не дорожит своими мнениями как человек, если не как
литератор... Стыжусь и краснею, делая эту пошлую оговор¬
ку; но что ж делать, когда не только толпа, но и некоторые
из людей, руководствующих мнениями этой толпы, во вся¬
ком суждении, откровенно и резко высказанном не в пользу
судимого лица, видят наветы, недобросовестность и недоброжела¬
тельство.
О РУССКОЙ ПОВЕСТИ И ПОВЕСТЯХ г, гоголя
(«Арабески» и «Миргород»),
Русская литература, несмотря на свою незначительность,
несмотря даже на сомнительность своего существования, кото¬
рое теперь многими признается за мечту, русская литература
испытала множество чуждых и собственных влияний, отличилась
множеством направлений. Так как это имеет прямое отношение
к предмету моей статьи, то укажу, в кратких очерках, на глав¬
нейшие из этих влияний и направлений. Литература наша нача¬
лась веком схоластицизма, потому что направление ее великого
основателя было не столько художественное, сколько ученое,
которое отразилось и на его поэзии, вследствие его ложных
понятий об искусстве. Сильный авторитет его бездарных после¬
дователей, из коих главнейшими были Сумароков и Херасков,
поддержал и продолжил это направление. Не имея ни искры
гения Ломоносова, эти люди пользовались не меньшим и еще
чуть ли не большим, чем он, авторитетом и сообщили юной
литературе характер тяжело-педантический. Сам Державин за¬
платил, к несчастию, слишком большую дань этому направлению,
чрез что много повредил и своей самобытности и своему успе¬
ху в потомстве. Вследствие этого направления литература раз¬
делилась на «оду» и «эпическую, инако героическую пииму». По¬
следняя, в особенности, почиталась торжественнейшим прояв¬
лением поэтического гения, венцом творческой деятельности,
альфою и омегою всякой литературы, конечною целию художест¬
венной деятельности каждого народа и всего человечества *.
«Петрияда» произвела достойных себя чад — «Россияду»
и «Владимира»; а эти, в свою очередь, нескольких длинных Пет¬
ров и наконец пресловутую «Александроиду»...1 Потом только
и слышно было, как наши лирики, упиваясь одопением, по вы¬
* Это смешное и жалкое направление до того было сильно п так
долго продолжалось, что многие литераторы в 1813 году советовали г. Иван-
чпну-Писареву, наппсавшему довольно фразистую «Надпись на поле Боро¬
динском», ыаппсать — что бы вы думали? — Эпическую поэму!.*
138
ражению одного из них, в своих громогласных одах, взапуски
заставляли плясать реки и скакать холмы... Это было главное,
характеристическое направление; еще тогда же и после были
п другие, хотя и не столь сильные: Крылов родил тьму басно¬
писцев, Озеров — трагиков, Жуковский — балладистов, Батюш¬
ков — элегистов. Словом, каждый замечательный талант застав¬
лял плясать под свою дудку толпы бездарпых писателей. Еще
век тяжелого схоластпцизма не кончился, еще он был, как гово¬
рится, во всем своем разгаре, как Карамзин основал новую
школу, дал литературе новое направление, которое, вначале,
ограничило схоластицизм, а впоследствии совершенно убило
его. Вот главная и величайшая заслуга этого направления, кото¬
рое было нужно и полезно как реакция и вредно как направле¬
ние ложное, которое, сделавши свое дело, требовало, в свою
очередь, сильной реакции. По причине огромного и деспоти¬
ческого влияния Карамзина и многосторонней его литературной
деятельности, новое направление долго тяготело и над искусст¬
вом, и над наукой, и над ходом идей и общественного образо¬
вания. Характер этого направления состоял в сентименталь¬
ности, которая была односторонним отражением характера ев¬
ропейской литературы XVIII века. В то время, когда это сенти¬
ментальное направление было во всем цвету своем, Жуковский
ввел литературный мистицизм, который состоял в мечтатель¬
ности, соединенной с ложным фантастическим, но который,
в самом-то деле, был не что иное, как несколько возвышенный,
улучшенный и подновленный сентиментализм, и хотя породил
тьму бездарных подражателей, но был великим шагом впе¬
ред *. С половины второго десятилетия XIX века совершенно
кончилась эта однообразность в направлении творческой де¬
ятельности: литература разбежалась по разным дорогам. Хотя
огромное влияние Пушкина (который, скажем мимоходом, со¬
ставляет, на пустынном небосклоне нашей литературы, вместе
с Державиным и Грибоедовым, пока единственное поэтическое
созвездие, блестящее для веков) и этому периоду нашей сло¬
весности сообщило какой-то общий характер, но, во-первых,
сам Пушкин был слишком разнообразен в тонах и формах сво¬
их произведений, потом, влияние старых авторитетов еще не
потеряло своей силы, и, наконец, знакомство с европейскими
литературами показало новые роды и новый характер искусст¬
ва. Вместе с поэмой пушкинскою появились — роман, повесть,
драма, усилилась элегия и не были забыты — баллада, ода, бас¬
ня, даже самая эклога и идиллия.
Теперь совсем не то: теперь вся наша литература преврати¬
лась в роман и повесть. Ода, эпическая поэма, баллада, басня,
* Гогоря о Жуковском, я имею в виду направление, произведенное им
на литературу, а не оценку его литературных заслуг, разумею его баллады
и малое число оригинальных пьес, а не переводы вообще, которыми наша
литература по справедливости гордится.
139
даже так называемая, или, лучше сказать, так называвшаяся ро¬
мантическая поэма, поэма пушкинская, бывало наводнявшая
и потоплявшая нашу литературу,— все это теперь не больше,
как воспоминание о каком-то веселом, но давно минувшем вре¬
мени. Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая
вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман
с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя. Какие
книги больше всего читаются и раскупаются? Романы и повести.
Какие книги доставляют литераторам и домы и деревни? Романы
и повести. Какие книги пишут все наши литераторы, призванные
и непризванные, начиная от самой высокой литературной
аристократии до неугомонных рыцарей толкуна и Смоленского
рынка? Романы и повести. Чудное дело! но это еще не все:
в каких книгах излагается и жизнь человеческая, и правила
нравственности, и философические системы, и, словом, все на¬
уки? В романах и повестях.
Вследствие каких же причин произошло это явление? Кто,
какой гений, какой могущественный талант произвел это новое
направление?.. На этот раз нет виноватого: причина в духе вре¬
мени, во всеобщем и, можно сказать, всемирном направлении.
Правда, и здесь было влияние иностранных литератур, что
очень естественно, ибо народ, начинающий принимать участие
в жизни образованной части человечества, не может быть чуж¬
дым никакого общего умственного движения. По крайней мере
это уже не было следствием успеха или сильного авторитета
одного какого-нибудь лица, но было следствием общей потреб¬
ности. Правда, мы еще не забыли, хотя по имени, прадедушку
наших романов — «Ивана Выжигина»; но он был их прадедуш¬
кою только по времени своего появления, а не по внутреннему
достоинству. Не успех его заставил всех писать романы, но он
доказал общую потребность. Надобно же было кому-нибудь на¬
чать. Притом же, вопрос состоял не в том: будет ли иметь
успех на Руси роман? Этот вопрос был уже решен, ибо тогда
переводные романы Вальтера Скотта уже начали разливаться
по России широким потоком. Вопрос состоял в том: может ли
иметь на Руси успех русский роман, написанный по-русски
и почерпнутый из русской жизни. Г-ну Булгарину случилось пре¬
жде других решить этот вопрос: вот и все.
Роман и теперь еще в силе и, может быть, надолго или
навсегда будет удерживать почетное место, полученное, или,
лучше сказать, завоеванное им, между родами искусства; но
повесть во всех литературах теперь есть исключительный пред¬
мет внимания и деятельности всего, что пишет и читает, наш
дневной насущный хлеб, наша настольная книга, которую мы
читаем, смыкая глаза ночью, читаем, открывая пх поутру. Есть
еще третий род поэзии, который должен бы, в наше время,
разделять владычество с романом и повестью: это драма, хотя
ее успехи и заслонены успехом романа и повести. Вследствие
140
этого всеобщего направления и в нашей литературе господству¬
ющими родами поэзии сделались роман и повесть, п сделались,
повторяю, не столько вследствие слепого подражания или пре¬
обладания какого-нибудь сильного дарования, или, наконец,
обольщения слишком необыкновенным успехом какого-нибудь
творения, сколько вследствие общей потребности и господст¬
вующего духа времени.
В чем же заключается причина этой общей потребности,
этого господствующего духа времени, которые все литературы
подвели под форму романов и повестей?
Поэзия двумя, так сказать, способами объемлет и воспро¬
изводит явления жизни. Эти способы противоположны один
другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или пересоздает жизнь
по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения
на вещи, от его отношений к миру, к веку и народу, в котором
он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и истине,
оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее
действительности. Поэтому, поэзию можно разделить на два, так
сказать, отдела — на идеальную и реальную. Объяснимся.
Поэзия всякого народа, в начале своем, бывает согласна
с жизнию, но в раздоре с дейстеителъностию, ибо у всякого
младенчествующего народа, как и у младенчествующего челове¬
ка, жизнь всегда враждует с дейстеителъностию. Истина жизни
недоступна ни для того, ни для другого; ее высокая простота
и естественность непонятна для его ума, неудовлетворительна
для его чувства. То, что для народа возмужалого, как и для
человека возмужалого, кажется торжеством бытия и высочай¬
шею поэзиею, для него было бы горьким, безотрадным разоча¬
рованием, после которого уже незачем и не для чего жить.
Разоблаченная и обнаженная от своих ложных красок, жизнь
представилась бы ему сухою, скучною, вялою и бедною прозою,
как будто бы истина и действительность не совместны с по¬
эзиею; как будто бы солнце менее великолепно и лучезарно,
когда оно только простой и темный шар, а не торжественная
колесница Феба; как будто бы лазурный купол неба менее пре¬
красен, когда он уже не звездный Олимп, жилище богов
бессмертпых, а ограниченное нашим зрением беспредельное
пространство, вмещающее в себе мириады миров; как будто
бы, наконец, земля, жилище человека, менее дивна, когда она
лежит не на раменах Атланта, а держится и движется в воз¬
душном океане, не поддерживаемая ничьею рукою, повиную¬
щаяся одному простому закону тяготения!.. Таким-то образом
первобытное человечество, в лице грека, во всей полноте ки¬
пящих сил, во всем разгаре свежего, живого чувства и юного,
цветущего воображения, объясняло явления физического мира
влиянием высших, таинственных сил. Таким же образом объяс¬
няло оно и явления нравственного мира, подчинив их влиянию
какой-то грозной и неотразимой силы, которую оно назвало
141
судьбою. Для грека не было законов природы, не было свобод¬
ной воли человеческой. И бот почему все, входящее в круг
обыкновенной жизни, все, объясняющееся простою причиною,
почитал он недостойным поэзии, унижением искусства, словом,
низкою природою — выражение так глупо понятое, так нелепо
принятое французами XVIII столетия. Для него не существова¬
ло человека с его свободною волею, его страстями, чувствами
и мыслями, страданиями и радостями, желаниями и лишениями,
ибо оп еще не сознал своей индивидуальности, ибо его я исче¬
зало в я его народа, идея которого трепещет и дышит в его
поэтическпх созданиях. Его лирические песни не носят на себе
отпечатка воззрения на мир, следов стремления допытаться его
тайн, в них нет унылой думы, грустной мечтательности: это про¬
сто или торжественный гимн благодарности, или пламенный ди¬
фирамб радости, выражение бессознательной хары2, ибо он
смотрел на природу взором любовника, а не мыслителя, любил
ее, а не исследовал, и вполне был доволен и очарован ею. При
взгляде на нее не вопросы, а восторг теснился в его душу, н он
изливал этот восторг или в благодарственном гимне, или беше¬
ном дифирамбе, или торжественной оде. Это его лиризм; те¬
перь посмотрпм на его эпопею и драму. Что ему жизнь и судьба
какого-нибудь частного человека — этот роман, так простой
и так обыкновенный? Давайте ему царя, полубога, героя! Что
ему картина частной жизни, с ее заботами и хлопотами, с ее
высоким и смешным, с ее горем и радостью, любовью и пена-
вистию — эта повесть, так мелочно подробная, так суетно нич¬
тожная? Разверните перед ним картину борьбы народа с наро¬
дом, представьте ему зрелище боев и кровопролитий, в кото¬
рых принимают участие сами небожители и которые оканчивают¬
ся по изволу и замыслу судьбы самовластной! Роман и повесть
для него пошлы — дайте ему поэму, поэму огромную, величест¬
венную, полную чудес, поэму, в которой бы отражалась и вид¬
нелась вся жизнь его, со всеми оттенками, как отражается
н виднеется в чистом, спокойном зеркале безбрежного океана
лазоревое небо с своими облаками,— дайте ему «Илиаду»!.. Но
проходит век чудес, волею и неволею, народ сближается с дей¬
ствительною жизнию и, вместо поэмы, требует драмы. Но он
и тут не изменяет себе: он только отдалился от прошедшего, но
он не забыл его, не охладел к нему, не развыкся с ним. Он уже
начинает приглядываться к жизни, но, недовольный ею, не ее
хочет перенести в поэзпю, но поэзию хочет перенести в нее.
Оставляя настоящее, он в прошедшем ищет элементов для
сзоей драмы; и потому его драма не наша, не шекспировская
драма, представительница жизни действительной, борьбы
страстей с волею человека, — нет: это род таинственного, рели¬
гиозного обряда, мрачная мистерия, жрица и пророчица судь¬
бы, словом, это трагедия, трагедия высокая и благородная,
в царственном? героическом величии, трагедия под маскою и на
142
котурне. Ее героем должен быть царь, полубог, герой, с вен¬
цом, венком или шлемом на голове, с скипетром, мечом нли
щитом в руке, в длинной, волнующейся мантпи; ее содержанием
должен быть жребий целого поколения царей, полубогов ила
героев, тесно связапный с судьбой какого-нибудь народа или
какого-нибудь великого события, ибо участь простолюдина
и подробности частной жнзни оскорбили бы ее царственное
величие, исказили бы ее религиозный характер, ибо народ хо¬
тел видеть на сцене себя, свою жизнь, а не человека, ,не его
жизнь. Для своей драмы, точно так же как и для своей поэмы,
выбирает он из жизни одно высокое, благородное и выбрасы¬
вает все обыкновенное, повседневное, домашнее, ибо его
жизнь на площади, на поле брани, во храме, в судилище, и там
его поэзия, а не в домашнем кругу; персонажи его трагедии
должны говорить языком высоким, облагороженным, поэти¬
ческим, ибо они цари, полубоги, герои; его хор должен выра¬
жаться языком таинственным, мрачным и вместе торжествен¬
ным, ибо он есть орган, истолкователь воли ужасного рока.
Таков бывает характер поэзии первобытных народов; тако¬
ва была поэзия греков.
Но младенчество не вечно для человека, не вечно для на¬
рода, не вечно для человечества; за ним следует юность, потом
возмужалость, а там и старость. Поэзия также имеет свои воз¬
расты, которые всегда параллельны возрастам народа. Век по¬
эзии идеальной оканчивается младенческим и юношеским воз¬
растом народа, и тогда искусство должно или переменить свой
характер, или умереть. С искусством человечества нашего, но¬
вейшего, случилось, как увидим ниже, первое; с искусством че¬
ловечества древнего случилось последнее, ибо народу, которо¬
го поэзия, вначале, была идеальная, вследствие его идеальной
жизни, невозможно перейти к поэзии реальной. Упрямо, назло
природе, держится он прошедшего и в духе и в формах и,
опытный муж, невозвратно утративший веру в чудесное, осво¬
ившийся с опытом жизни, силится придать своим поэтическим
созданиям колорит идеальный. Но так как у него поэзия не
в ладу с жизнию, чего никогда не должно быть, то удивительно
ли, что ои становится па ходули, за малостию роста, румянится,
за неимением природного цвета юности, надувается, за
недостатком голоса, что его чудесное переходит в холодную
аллегорию, героизм в донкихотство? Такова была поэзия гре¬
ческая, когда, кончив свой круг, бледною тенью промелькнула
в Александрии. Но чаще всего это случается с народами, у ко¬
торых поэзия развилась не из жизни, а явилась вследствие под¬
ражательности: она всегда бывает пародиею на свои образец;
ее величие, благородство и идеальность похожи на паяца в ми¬
шурной порфире и бумажной короне, важно расхаживающего
над входом в балаган. Такова была литература латинская
143
в французская классическая (преимущественно драматическая).
Мнимое благородство п возвышенность французской класси¬
ческой трагедии было не что иное, как мещанство во дворянст¬
ве, лакей во фраке барина, ворона в павлиных перьях, обезьяп-
ское передражниванье греков, ибо оно не согласовалось
с жизнию. Но всего разительнее видно это в поэмах. «Илиада»
была создана народом, и в ней отражалась жизнь эллинов, она
была для них священною книгою, источником религии и нравст¬
венности — и эта «Илиада» бессмертна. Но скажите, бога ради,
что такое эти «Энеиды», эти «Освобожденные Иерусалимы»,
«Потерянные рай», «Мессиады»? Не суть ли это заблуждения
талантов, более или менее могущественных, попытки ума, более
или менее успевшие привести в заблуждение своих почитате¬
лей? Кто их читает, кто ими восхищается теперь? Не похожи ли
они на старых служивых, которым отдают почтение не за заслу¬
ги, не за подвиги, а за старость лет? Не принадлежат ли они
к числу тех предрассудков, созданных воображением, которые
народ уважает, когда им верит, и которые он щадит, когда уже
им не верит, щадит или за их древность, или по привычке, или
по лености и неимению свободного времени, чтобы разом рас¬
смотреть их окончательно и расшибить в прах?.. Но это вопрос
посторонний: обращаюсь к делу.
Младенчество древнего мира кончилось; вера в богов
и чудесное умерла; дух героизма исчез; настал век жизни дей¬
ствительной, и тщетно поэзия становилась на подмостки: в ней
уже не было этого высокого простодушия, этого простого, бла¬
городного, спокойного и гигантского величия, причина которых
заключалась прежде в гармонии искусства с жизнию, в поэти¬
ческой истине. Мир преобразился крестом, и обновленное
и одухотворенное человечество пошло другою дорогою. Роди¬
лась идея человека, существа индивидуального, отдельного от
народа, любопытного без отношений, в самом себе... Унылая
песнь трубадура, в которой изливалось горе любви, жалоба
тоскующей поселянки или заключенной принцессы, песнь тор¬
жества и победы, повесть любви, мщения, подвига чести — все
это получило отзыв... Поэма превратилась в роман. Правда, этот
роман был рыцарский, мечтательный, смесь бывалого с небы¬
валым, возможного с невозможным, но уже и не поэма, и в
нем зрели семена настоящего романа. Наконец, в XVI веке,
совершилась окончательная реформа в искусстве: Сервантес
убил своим несравненным Дон Кихотом ложно-идеальное на¬
правление поэзии, а Шекспир навсегда помирил и сочетал ее
с действительною жизнию. Своим безграничным и мирообъем-
лющим взором проник он в недоступное святилище природы
человеческой и истины жизни, подсмотрел и уловил таинствен¬
ные биения их сокровенного пульса. Бессознательный поэт-мыс¬
литель, он воспроизводил в своих гигантских созданиях нравст¬
венную природу, сообразно с ее вечными, незыблемыми зако¬
144
нами, сообразно с ее первоначальным планом, как будто бы он
сам участвовал в составлении этих законов, в начертании этого
плана. Новый Протей, он умел вдыхать душу живу3 в мертвую
действительность; глубокий аналист, он умел в самых, но-впдп-
мому, ничтожных обстоятельствах жизни и действиях воли
человека находить ключ к разрешению высочайших психологи¬
ческих явлений его нравственной природы. Он никогда не при¬
бегает ни к каким пружинам или подставкам в ходе своих драм;
их содержание развивается у него свободно, естественно, из
самой своей сущности, по непреложным законам необходи¬
мости. Истина, высочайшая истина — вот отличительный харак¬
тер его созданий. У него нет идеалов в общепринятом смысле
этого слова; его люди — настоящие люди, как они есть, как долж¬
ны быть. Каждая его драма есть символ, отдельная часть
мира, сосредоточенная фокусом фантазии в тесных рамах худо¬
жественного произведения и представленная как бы в миниатю¬
ре. У него нет симпатий, нет привычек, склонностей, нет люби¬
мых мыслей, любимых типов: он бесстрастен, как
Думный дьяк, в приказах поседелый,
который
Спокойно зрит на лица подсудимых,
Добру и злу внимая равнодушно4.
Он был яркою зарею и торжественным рассветом эры нового,
истинного искусства, и он нашел себе отзыв в поэтах новей¬
шего времени, которые возвратили искусству его достоинство, уни¬
женное, поруганное французскими классиками. Еще в конце
XVIII века, в лице Гете и Шиллера — двух великих гениев, на¬
чавших свое поприще изучением Шекспира,— они пошли по его
следам. В начале XIX века явился новый великий гений, проник¬
нутый его духом, который докончил соединение искусства
с жизнию, взяв в посредники историю. Вальтер Скотт в этом
отношении был вторым Шекспиром, был главою великой шко¬
лы, которая теперь становится всеобщею и всемирною. И кто
знает? может быть, некогда история сделается художественным
произведением и сменит роман так, как роман сменил эпопею?..
Разве уже и теперь не все убеждены, что божие творение выше
всякого человеческого, что оно есть самая дивная поэма, какую
только можно вообразить, и что высочайшая поэзия состоит не
в том, чтобы украшать его, но в том, чтобы воспроизводить его
в совершенной истине и верности?..
Итак, вот другая сторона поэзии, вот поэзия реальная, по¬
эзия жизни, поэзия действительности, наконец, истинная и на¬
стоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный характер
состоит в верности действительности; она не пересоздает
жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее и, как выпуклое стекло,
отражает в себе, под одною точкою зрения, разнообразные ее
явления, выбирая из них те, которые нужны для составления
145
полной, оживленной и единой картины. Объемом и границами
содержимого этой картины должны определяться великость и
генияльность поэтического создания. Чтобы докончить характе¬
ристику того, что я называю реальною поэзкего, прибавлю, что
вечный герои, неизменный предмет ее вдохновений, есть чело¬
век, существо самостоятельное, свободно действующее, индиви¬
дуальное, символ мира, конечное его проявление, любопытная
загадка для самого себя, окончательный вопрос собственного
ума, последняя загадка своего любознательного стремления...
Разгадкою этой загадки, ответом на этот вопрос, решением этой
задачи — должно быть полное сознание, которое есть тайна,
цель и причина его бытия!..
Удивительно ли после этого, что в наше время, преиму¬
щественно развилось это реальное направление поэзии, это тес¬
ное сочетание искусства с жизнию? Удивительно ли, что отли¬
чительный характер новейших произведений вообще состоит
в беспощадной откровенности, что в них жизнь является как бы
па позор, во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии
и во всей ее торжественной красоте, что в них как будто вскры¬
вают ее анатомическим ножом? Мы требуем не идеала жизни,
но самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не
хотим ее украшать, ибо думаем, что, в поэтическом представ¬
лении, она равно прекрасна в том и другом случае, и потому
именно, что истипна, и что где истина, там и поэзия.
Итак, в наше время невозможна идеалъшя, поэзия? Нет,
именно в наше-то время и возможна она, и нашему времени
предоставлено развить ее, только не в том смысле, как у древ¬
них. У них поэзия была идеальною вследствие их идеальной
жизни; у нас она существует вследствие духа нашего времени.
Говоря о поэзии реальной, я упоминал только об эпопее и дра¬
ме и ничего не сказал о лиризме. Чем отличается лиризм наше¬
го времени от лиризма древних? У них, как я уже сказал, это
было безотчетное излияние восторга, происходившего от пол¬
ноты и избытка внутренней жизни, пробуждавшегося при созна¬
нии своего бытия и воззрении на внешний мир и выражавшего¬
ся в молитве и песне. Для нас внешняя природа, без отношений
к идее всеобщей жизни, не имеет никакого смысла, никакого
значения, мы не столько наслаждаемся ею, сколько стремимся
постигнуть ее; для нас паша жизнь, сознание нашего бытия есть
более задача, которую мы ищем решить, нежели дар, которым
бы мы спешили пользоваться. Мы пригляделись к ней, мы свык¬
лись с ним; для нас жизнь уже не веселое пиршество, не пра-
зднественное ликование, но поприще труда, борьбы, лишений
и страданий. Отсюда проистекает эта тоска, эта грусть, эта за¬
думчивость и, вместе с ними, эта мыслительиость, которыми
проникнут наш лиризм. Лирический поэт нашего времени более
грустит и жалуется, нежели восхищается и радуется, более
спрашивает и исследует, нежели безотчетно восклицает. Его
148
песнь — жалоба, его ода — вопрос. Если его песнь обращена на
внешнюю природу, он не удивляется ей, не хвалит ее, а ищет
в ней допытаться тайны своего бытия, своего назначения, своих
страданий. Для всего этого ему кажутся тесны рамы древней
оды, и он переносит свой лиризм в эпопею и в драму. В таком
случае у него естественность, гармония с законами действи¬
тельности— дело постороннее; в таком случае он как бы зара¬
нее условливается, договаривается с читателем, чтобы тот верил
ему на слово и искал в его создании не жизни, а мысли.
Мысль — вот предмет его вдохновения. Как в опере, для музы¬
ки пишутся слова и придумывается сюжет, так он создает, по
воле своей фантазии, форму для своей мысли. В этом случае
его поприще безгранично; ему открыт весь действительный
и воображаемый мир, все роскошное царство вымысла, и про¬
шедшее и настоящее, и история и басня, и предание, и народ¬
ное суеверие и верование, земля и небо и ад! Без всякого
сомнения, и тут есть своя логика, своя поэтическая истина, свои
законы возможности и необходимости, которым он остается
верен, но только дело в том, что он же сам и творит себе эти
условия. Эта новейшая идеальная поэзия ведет свое начало от
древней, ибо у нее заняла она благородство, величие и поэтич-
пый, возвышенный язык, столь противоположный обыкновенно¬
му, разговорному, и уклончивость от всего мелочного и житей¬
ского. Чтобы не говорить много, скажу, что к созданиям такого
рода принадлежат, например: «Фауст» Гете, «Манфред» Байро¬
на, «Дзяды» Мицкевича, «Лалла-Рук» Томаса Мура, «Фантасти¬
ческие видения» Жан Поля, подражания Гете и Шиллера древ¬
ним («Ифигения», «Мессинская невеста») и пр. Теперь думаю,
что я довольно удовлетворительно объяснил различие между
тем, что я называю идеальною и реальною поэзиею.
Впрочем, есть точки соприкосновения, в которых сходятся
и сливаются эти два элемента поэзии. Сюда должно отнести, во-
первых, поэмы Байрона, Пушкина, Мицкевича, эти поэмы, в
которых жизнь человеческая представляется, сколько возможно,
в истине, но только в самые торжественнейшие свои проявле¬
ния, в самые лирические свои минуты; потом, все эти юные,
незрелые, но кипящие избытком силы произведения, которых
предмет есть жизнь действительная, но в которых эта жизнь как
бы пересоздается и преображается, или вследствие какой-ни¬
будь любимой, задушевной мысли, или одностороннего, хотя
к могучего, таланта, пли, наконец, от избытка пылкости, не даю¬
щей автору глубже п основательнее вникнуть в жизнь и постичь
ее так, как она есть, во всей ее истине. Таковы «Разбойники»
Шиллера — этот пламенный, дикий дифирамб, подобно лаве ис¬
торгнувшийся из глубины юной, энергической души,— где собы¬
тие, характеры и положения как будто придуманы для выраже¬
ния идей и чувств, так сильно волновавших автора, что для них
147
были бы слишком тесны формы лиризма. Некоторые находят
в первых драматических произведениях Шиллера много фраз;
например, говорят они, из всего огромного монолога * Карла
Моора, когда он объявляет разбойникам о своем отце, человек
в подобном положении мог бы сказать разве каких-нибудь два-
три слова. По-моему, так он не сказал бы ни слова, а разве
только показал бы безмолвно рукою на своего отца, и однако
ж у Шиллера Моор говорит много, и однако ж в его словах нет
и тени фразеологии. Дело в том, что здесь говорит не персо¬
наж, а автор; что в целом этом создании нет истины жизни, но
есть истина чувства; нет действительности, нет драмы, но есть
бездна поэзии; ложны положения, неестественны ситуации, но
верно чувство, но глубока мысль; словом, дело в том, что на
«Разбойников» Шиллера должно смотреть не как на драму,
представительницу жизни, но как на лирическую поэму в форме
драмы, поэму огненную, кипучую. На монолог Карла Моора до¬
лжно смотреть не как на естественное, обыкновенное выраже¬
ние чувств персонажа, находящегося в известном положении,
но как на оду, которой смысл или предмет есть выражение
негодования против извергов-детей, попирающих святостию сы¬
новнего долга. Вследствие такого взгляда, мне кажется, должны
исчезнуть все фразы в этом произведении Шиллера и уступить
место истинной поэзии.
Вообще можно сказать, что почти все драмы Шиллера,
больше или меньше, таковы (исключая «Марии Стюарт»
и «Вильгельма Телля»), ибо Шиллер был не столько великий
драматург в частности, сколько великий поэт вообще. Драма
должна быть в высочайшей степени спокойным и беспристраст¬
ным зеркалом действительности, и личность автора должна ис¬
чезать в ней, ибо она есть по преимуществу поэзия реальная.
Но Шиллер даже в своем «Валленштейне» выказывается
и только в «Вильгельме Телле» является истинным драматиком.
Но не обвиняйте его в недостатке гения или в односторонности;
есть умы, есть характеры, столь оригинальные и чудные, столь
не похожие на остальную часть людей, что кажутся чуждыми
этому миру, и за то мир кажется им чужд, и, недовольные им,
они творят себе свой собственный мир и живут только в нем:
* Карл Моор. Неужели слова этого старца не могли пробудить вас!
И вечный соп нарушился бы от них! О, посмотрите, посмотрите! законы
природы сделались игрушкою злодея, узы природы разрушились! Сын убил
отца своего!
Разбойнпки. Что говорит атаман?
Карл Моор. Нет! это слово еще уменьшает его злодеяние! Нет! он
не умертвил: он мучил, томил, колесовал — но все эти слова недостаточны—
и самый ад содрогнулся бы пред этим злодеянием. — Сын... отца своего!..
О, посмотрите, посмотрите! он лишился чувств! в этот погреб ввергнул сын
отца своего — холод, нагота, жажда! — посмотрите, посмотрите: это —мой
отец!..
(«Разбойники» перев. г. Кетчера, стр. 167) 5.
148
Шпллер был из числа таких людей. Покоряясь духу времени, оя
хотел быть реальным в своих созданиях, но идеальность остава¬
лась преобладающим характером его поэзии, вследствие влече¬
ния его гения.
Итак, поэзию можно разделить на идеальную и реальную.
Трудно было бы решить, которой из них должно отдать пре¬
имущество. Может быть, каждая из них равна другой, когда
удовлетворяет условиям творчества, то есть когда идеальная
гармонирует с чувством, а реальная — с истиною представляе¬
мой ею жизни. Но кажется, что последняя, родившаяся вследст¬
вие духа нашего положительного времени, более удовлетворя¬
ет его господствующей потребности. Впрочем, здесь много зна¬
чит и индивидуальность вкуса. Но, как бы то ни было, в паше
время та и другая равно возможны, равно доступны и понятны
всем; но, со всем этим, последняя есть по преимуществу поэзия
нашего времени, более понятная и доступная для всех и каж¬
дого, более согласная с духом и потребностию нашего времени.
Теперь «Мессинская невеста» и «Анна д’Арк» 6 Шиллера найдут
сочувствие и отзыв; но задушевными, любимыми созданиями
времени всегда останутся те, в коих жизнь и действительность
отражаются верно и истинно.
Не знаю, почему, в наше время, драма не оказывает таких
больших успехов, как роман и повесть? Уж не потому ли, что
она непременно требует Гете, Шиллеров, если не Шекспиров,
на произведения которых природа особенно скупа, или потому,
что драматические таланты вообще особенно редки? Не умею
решить этого вопроса. Может быть, роман удобнее для поэти¬
ческого представления жизни. И в самом деле, его объем, его
рамы до бесконечности неопределенны; он менее горд, менее
прихотлив, нежели драма, ибо, пленяя не столько частями
и отрывками, сколько целым, допускает в себя и такие подроб¬
ности, такие мелочи, которые при всей своей кажущейся нич¬
тожности, если на них смотреть отдельно, имеют глубокий
смысл и бездну поэзии в связи с целым, в общности сочинения;
тогда как тесные рамки драмы, прямо или косвенно, больше
или меньше, но всегда покоряющейся сценическим условиям,
требуют особенной быстроты и живости в ходе действия и не
могут допускать в себя больших подробностей, ибо драма, пре¬
имущественно пред всеми родами поэзии, представляет жизнь
человеческую в ее высшем и торжественнейшем проявлении.
Итак, форма и условия романа удобнее для поэтического пред¬
ставления человека, рассматриваемого в отношении к общест-
ьенной жизни, и вот, мне кажется, тайна его необыкновенного
успеха, его безусловного владычества.
Но повесть? Ее значение, тайна ее владычества, теперь де¬
спотического, своенравного, не терпящего соперничества? что
такое и для чего эта повесть, без которой книжка журнала есть
то же, что был бы человек в обществе без сапог и галстука, эта
149
повесть, которую теперь все пишут и все читают, которая
воцарилась п в будуаре светской женщины и на письменном столе
записного ученого, наконец, эта повесть, которая как будто вы¬
теснила самый роман?.. Когда-то и где-то было прекрасно сказа¬
но, что «повесть есть эпизод из беспредельной поэмы судеб
человеческих»7. Это очень верно; да, повесть — распавшийся
на части, на тысячи частей, роман; глава, вырвапная из романа.
Мы люди деловые, мы беспрестанно суетимся, хлопочем, мы
дорожим временем, нам некогда читать больших и длинных
книг — словом, нам нужна повесть. Жизнь наша, современная,
слишком разнообразна, многосложна, дробна: мы хотим, чтобы
она отражалась в поэзии, как в граненом, угловатом хрустале,
миллионы раз повторенная во всех возможных образах, и тре¬
буем повести. Есть события, есть случаи, которых, так сказать,
не хватило бы на драму, не стало бы на роман, но которые
глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают столько
жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их и за¬
ключает в свои тесные рамки. Ее форма может вместить в себе
все, что хотите — и легкий очерк нравов, и колкую саркасти¬
ческую насмешку над человеком и обществом, и глубокое таин¬
ство души, и жестокую игру страстей. Краткая и быстрая, легкая
и глубокая вместе, она перелетает с предмета на предмет, дро¬
бит жизпь по мелочи и вырывает листки из великой книги этой
жизни. Соедините эти листки под один переплет, и какая об¬
ширная книга, какой огромный роман, какая многосложная
поэма составилась бы из них! Что в сравнении с нею ваша беско¬
нечная «Тысяча и одна ночь» или обильная эпизодами «Магабъ-
арата» и «Рамайяна»! Как бы хорошо шло к этой книге загла¬
вие: «Человек и жизнь»!..
В русской литературе повесть еще гостья, но гостья, кото¬
рая, подобно ежу, вытесняет давнишних и настоящих хозяев из
их законного жилища. Я уже говорил, в начале моей статьи,
и теперь повторяю, что роман и повесть суть единственные ро¬
ды, которые появились в нашей литературе не столько по духу
подражательности, сколько вследствие потребности. Думаю, что
предыдущее рассуждение содержит в себе довольно удовлет¬
ворительное объяснение причины ее появления и успехов. Те¬
перь бросим взгляд на ее ход в нашей литературе.
Повесть наша началась недавно, очень недавно, а именно
с двадцатых годов текущего столетия. До того же времени она
была чужеземным растением, перевезенным из-за моря по
прихоти и моде и насильственно пересаженным па родную почву.
Может быть, поэтому она и не принялась. Карамзин первый,
впрочем с помощию Макарова, призвал эту гостью, набеленную
и нарумяненную, как русская купчиха, плаксивую п слез¬
ливую, как избалованное дитя-недотрога, высокопарную и наду¬
тую, как классическая трагедия, скучно-поучительную и прптор-
150
но-нравственную, как лицемерпая богомолка, воспитанницу ма¬
дам Жанлис, крестницу добренького Флорпана. К такому роду
повестей принадлежат все повести, писавшиеся до двадцатых
годов, да их, к счастию, и немного было написано: «Марьина
роща» Жуковского, несколько повестей покойного В. Измайло¬
ва и... право не помню, какие еще.
В двадцатых годах обнаружились первые попытки создать
истинную повесть. Это было время всеобщей литературной ре¬
формы, явившейся вследствие начинавшегося знакомства с
немецкою, английскою и новою французскою литературами и
с здравыми понятиями о законах творчества. Если повесть не
оказала тогда настоящих успехов, по крайней мере обратила на
себя всеобщее внимание по своей новости и небывалости. Что¬
бы не говорить много, скажу, что г. Марлинский был первым
нашим повествователем, был творцом, или, лучше сказать, за¬
чинщиком русской повести.
Я уже имел случай высказать мое мнение об этом писате¬
ле, и так как потом, по собственном размышлении и по сообра¬
жении с общим мнением, не только не имел причин отказаться
от него, но еще более утвердился в нем, то теперь повторю уже
сказанное мною прежде8. Г-н Марлинский владеет неотъемле¬
мым и заметным талантом, талантом рассказа, живого, остро¬
умного, занимательного; но он не измерил своих сил, не сознал
своего направления и потому, доказавши, что имеет талант, не
сделал почти ничего. В художественной деятельности есть своя
добросовестность, и многие авторы пришли бы в большое за¬
мешательство, если бы попросили их рассказать историю своих
сочинений, то есть: побуждения, вследствие которых они напи¬
саны, обстоятельства, сопровождавшие их появление на свет,
а более всего душевное, психическое состояние автора в то
время, когда он писал. Вдохновение есть страдательное, можно
сказать, болезненное, состояние души, и его симптомы теперь
хорошо всем известны. Человек в горячке, без труда, без уси¬
лий и без вреда себе, поднимает ужасные тягости: это называ¬
ется у медиков энергией), или напряженным состоянием жиз¬
ненной деятельности. Человек здоровый может . возбудить
в себе насильственно, до некоторой степени, эту энергию, да
беда в том, что она должна дорого обойтись ему. Вдохновение,
в этом смысле, есть энергия души, возбужденная не волею че¬
ловека, но каким-то не зависящим от него влиянием, и поэтому
оно непринужденно и свободно. Есть еще другого рода вдохно¬
вение — вдохновение, усиленное волею, желанием, целию, рас¬
четом, как будто приемом опию. Плоды этого вдохновения иногда
блестящи на вид, но их блеск есть блеск фольги, а не золо¬
та, блеск, тускнеющий от времени. Правда, в ком нет таланта,
тому нельзя приходить даже и в напряженный восторг, ибо
напрягать можно только что-нибудь существующее, положитель¬
ное, хотя и слабое; напрягать или натягивать чувство, фантазию,
151
еловом, талант, может только тот, кто, хотя в некоторой
степени, владеет всем этим, и г. Марлинский точно владеет всем
этим в некоторой степени и, усилием, возбуждает все это до
высшей степени. Между множеством натяжек, в его сочинениях
есть красоты истинные, неподдельные; но кому приятно зани¬
маться химическим анализом, вместо того, чтобы наслаждаться
поэтическпм синтезом, и сверх того, кто может доверчиво лю¬
боваться и истинною красотою, если и найдет такую, когда заме¬
тит множество поддельных?.. Но это частности, что же касается
до общности, целости произведений г. Марлииского, то об них
еще менее можно сказать в его пользу. Это не реальная по¬
эзия — ибо в них нет истины жизни, нет действительности, такой,
как она есть, ибо в них все придумано, все рассчитано по расче¬
там вероятностей, как это бывает при делании или сочинении
машин; ибо в них видны нитки, коими сметано их действие,
видны блоки и веревки, коими приводится в движение ход это¬
го действия: словом — это внутренность театра, в котором ис¬
кусственное освещение борется с дневным светом и побежда¬
ется им. Это не идеальная поэзия — ибо в них нет глубокости
мысли, пламени чувства, нет лиризма, а если и есть всего этого
понемногу, то напряженное и преувеличенное насильственным
усилием, что доказывается даже самою чересчур цветистою
фразеологиею, которая никогда не бывает следствием глубоко¬
го, страдательного и энергического чувства.
Г-н Марлинский начал свое поприще с повестей русских,
народных, то есть таких, содержание которых берется из мира
русской жизни. Как опыт, как попытка, они были прекрасны и в
свое время заслужили справедливое внимание; но, как произве¬
дения не созданные, а сделанные, они теперь утратили свою
цену. В них не было истины действительности, следовательно,
не было и истины русской жизни. Народность их состояла
в русских именах, в избежании явного нарушения верности со¬
бытий и обычаев и в подделке под лад русской речи, в пого¬
ворках и пословицах, но не более. Русские персонажи повестей
г. Марлииского говорят и действуют, как немецкие рыцари; их
язык риторический, вроде монологов классической трагедии;
и посмотрите, с этой стороны, на «Бориса Годунова» Пушкина —
то ли это?.. Но, несмотря на все это, повести г. Марлииского, не
прибавивши ничего к сумме русской поэзии, доставили много
пользы русской литературе, были для нее большим шагом впе¬
ред. Тогда в нашей литературе было еще полное владычество
XVIII века, русского XVIII века; тогда еще все повести и ро¬
маны оканчивались счастливо; тогда нашу публику могли занять
похождения какого-нибудь выходца из собачьей конуры, тысяча
первой пародии на Жиль-Блаза9, негодяя, который смолоду под¬
личал, обманывал, вдавался сам в обман, обольщал женщин
и сам был их игрушкою, а потом из негодяя делался вдруг,
порядочным человеком, влюблялся по расчету, женился счаст-s
152
ливо и богато и, с миллионом в кармане, принимался проповедо¬
вать пошлую мораль о блаженстве иод соломенною кровлею,
у светлого источника, под тенью развесистой березы. В повестях
г. Марлинского была новейшая европейская манера и характер;
везде был виден ум, образованность, встречались отдельные
прекрасные мысли, поражавшие и своею повостию и своею ис¬
тиною; прибавьте к этому его слог, оригинальный и блестящий
в самых натяжках, в самой фразеологии — и вы не будете бо¬
лее удивляться его чрезвычайному успеху.
Почти в то самое время, как русская публика переходила
с изумлением от новости к новости, часто принимала новость за
достоинство, равно удивлялась и Пушкину, и Марлипскому,
и Булгарину, в то самое время начали появляться разные лите¬
ратурные опыты кн. Одоевского. Эти опыты состояли большею
частию из аллегорий и все отличались каким-то необщим выра¬
жением своего характера. Основной элемент их составлял ди¬
дактизм, а характер — гумор. Этот дидактизм проявлялся не
в сентенциях, но был всегда какою-то arriere-pensee *, идеею
невидимою и вместе с тем осязаемою; этот гумор состоял не в
веселом расположении, понуждающем человека добродушно
и невинно подшучивать надо всем, что ни попадется на глаза,
но в глубоком чувстве негодования на человеческое ничтожест¬
во во всех его видах, в затаенном и сосредоточенном чувстве
ненависти, источником которой была любовь. Поэтому аллего¬
рии кн. Одоевского были исполнепы жизни и поэзии, несмотря
на то, что самое слово аллегория так противоположно слову
поэзия. Первою его повестью, помнится, был «Элладий»: жалею,
что у меня теперь нет под рукою этой повести, а по прошлым
впечатлениям судить боюсь! Не зпаю, произвела ли она тогда
какое-нибудь влияние на нашу публику, не знаю даже, была ли
она замечена ею; но знаю, что, в свое время, эта повесть была
дивным явлением в литературном смысле: несмотря на все
недостатки, сопровождающие всякое первое произведение, не¬
смотря на растянутость по местам, происходившую от юности
таланта, не умевшего сосредоточивать и сжимать свои порывы,
в ней была мысль и чувство, был характер и физиономия; в ней
в первый раз блеснули идеи нравственности XIX века, нового
гостя на Руси; в первый раз была сделана нападка на XVIII век,
слишком загостившийся на святой Руси и получивший в ней свой
собственный, еще безобразнейший характер. Впоследствии
кн. Одоевский, вследствие возмужалости и зрелости своего та¬
ланта, дал другое направление своей художественной деятель¬
ности. Художник — эта дивная загадка — сделался предметом
его наблюдений и изучений, плоды которых он представлял не
в теоретических рассуждениях, но в живых созданиях фантазии,
ибо художник для него был столько же загадкою чувства,
* задней мыслью (франц.). — Ред.
153
сколько и ума. Высшие мгновения жизни художника,
разительнейшие проявления его существования, дивная и го¬
рестная судьба были им схвачены с удивительною верностию и
выражены в глубоких, поэтических символах. Потом он оставил
аллегории и заменил их чисто поэтическими фантазиями, проник¬
нутыми необыкновенною теплотою чувства, глубокостию мысли и
какою-то горькою и едкою иронпею. Поэтому не ищите в его со¬
зданиях поэтического представления действительной жизни, не
ищите в его повестях повести, ибо повесть была для него не
целию, но, так сказать, средством, не существенною формою,
а удобною рамою. И не удивительно: в наше время и сам Юве¬
нал писал бы не сатиры, а повести, ибо если есть идея времени,
то есть и формы времени. Но об этом я говорил выше; дело
в том, что кн. Одоевский поэт мира идеального, а не действи¬
тельного. Но вот что странно: есть несколько фактов, которые
не позволяют так решительно ограничить поприще его худо¬
жественной деятельности. Есть в нашей литературе какой-то
г. Безгласный и какой-то дедушка Ириней, люди совсем не иде¬
альные, люди слишком глубоко проникнувшие в жизнь действи¬
тельную и верно воспроизводящие ее в своих поэтических очер¬
ках: вы, верно, не забыли курьезной истории о том, как у по¬
чтенного городничего города Ржева завелась в голове жаба
и как уездный лекарь хотел ее вырезать 10, и не менее курьез¬
ной историк под названием «Княжна Мими» 11 — этих двух вер¬
ных картин нашего разнокалиберного общества? Знаете ли что?
мне кажется, будто эти люди пишут под влиянием кн. Одоев¬
ского, даже чуть лп не под его диктовку: так много у них обще¬
го с ним и в манере, и в колорите, и во многом... Впрочем, это
одно предположение, которого прошу не принимать за утверж¬
дение; может быть, я и ошибаюсь, подобно многим...
Следуя хронологическому порядку, я должен теперь говорить
о повестях г. Погодина. Ни одна из них не была историческою,
но все были народными, или, лучше сказать, простонародными.
Я говорю это не в осуждение их автору и не в шутку, а потому,
что, в самом деле, мир его поэзии есть мир простонародный, мир
купцов, мещан, мелкопоместного дворянства и мужиков,
которых он, надо сказать правду, изображает очень
удачно, очень Еерно. Ему так хорошо известны их образ мыс¬
лей и чувств, их домашняя и общественная жизнь, их обычаи,
нравы и отношения, и он изображает их с особенною лхобовию
и с особенным успехом 12. Его «Нищий», так естественно, верно
и простодушно рассказывающий о своей любви и своих страда¬
ниях, может служить типом благородно чувствующего просто-
людппа. В «Черной немочи» быт нашего среднего сословия,
с его полудиким, получеловеческим образованием, со всеми
его оттенками и родимыми пятнами, изображен кистью мастер¬
скою. Этот купец, который так крепко держит в ежовых рукави¬
цах п жену и сына, который, при миллионах, живет, как мужик,
454
который чванится своим богатством, как глупый барин своим
дворянством, который, по прочтенпп реестра приданого, говорит,
что «божьего-то благословения маловато», который, наконец,
убивает родного сына, из родительской любви, и боптся, как
дьявольского наваждения, всякой человеческой мысли, всякого
человеческого чувства, чтоб не погрешить против «чистейшей
нравственности», которой держались столько столетий его отцы
п праотцы; эта купчиха глупая п толстая, которая так боит¬
ся кулака и плети своего дражайшего сожителя, что не смеет,
без его спросу, выйти со двора, не смеет сказать перед нпм
лишнего слова и даже затаивает, в его присутствии, свою мате¬
ринскую любовь к сыну; эта попадья, то бранящая батрака
и распоряжающаяся на погребе, то, мучимая женским любопыт¬
ством, подслушивающая сквозь замочную щель разговор своего
мужа с купчихою, то продирающая пальцем дырочку на кульке,
принесенном ей купчихою, чтобы узнать, что в нем обретается;
эта сваха Саввишна, эта всемирная кумушка, сплетчица и свод-
чица, без которой русский человек, бывало, не умел ни родить¬
ся, ни жениться, ни умереть, которая торгует счастием и судьбою
людей точно так же, как лентами, запонками и шерстяными
чулками, которая так мило увеселяет площадными экивоками
честное компанство бородатых миллионщиков; эта невеста, «де¬
вочка низенькая, но толстая-претолстая, с одутловатыми щека¬
ми, набеленная, нарумяненная, рассеребренная, раззолоченная
и всякими драгоценными каменьями изукрашенная»; наконец,
это сватовство, эти споры о приданом, вся эта жизнь, подлая,
гадкая, грязная, дикая, нечеловеческая, изображена в ужасаю¬
щей верности; прибавьте сюда этого попа, который выражение
самых священных, самых человеческих чувств своих располага¬
ет по правилам Бургиевой риторики 13 и самую красноречивую
речь свою прерывает выходкою против плута-лавочника, от¬
пустившего дурного масла на лампадку, который рукой сморка¬
ется и рукой утирается; потом этого юношу, аристократа по
природе, плебея по судьбе, агнца между волкамп,— и вот вам
полная картина одной из главных сторон русской жизнп, с ее
положительным и ее исключениями. Самый язык этой повести,
равно как и «Нищего», отличается отсутствием тривиальности,
обезображивающей прочие повести, этого писателя. Итак, «Чер¬
ная немочь» есть повесть совершенно народная и поэтдческц
нравоописательная — но здесь и конец ее достоинству. Главная
цель автора была представить генияльного, отмеченного пер¬
стом провидения юношу в борьбе с подлою, животною жпзнпю,
на которую осудила его судьба: эта цель не вполне им достиг¬
нута. Заметно, что автора волновало какое-то чувство, что
у него была какая-то любимая, задушевная мысль, но и вместе
с тем, что у него недостало силы таланта воспроизвести ее;
с этой стороны, читатель остается неудовлетворенным. Причи¬
на очевидна: талант г. Погодина есть талант нравоописателя
155
низших слоев нашей общественности, и потому он занимателен,
когда верен своему направлению, и тотчас падает, когда берет¬
ся не за свое дело. «Невеста на ярмарке» есть как будто вторая
часть «Черной немочп», как будто вторая галерея картпи
в Теньеровом роде, картин беспрерывно восходящих чрез все
степени низшей общественной жизни п тотчас прерывающихся,
когда дело доходит до жизни цивилизованной или возвышен¬
ной. Словом, «Нищий», «Черная немочь» и «Невеста на ярмар¬
ке» суть три произведения г. Погодина, которые, по моему
мнению, заслуживают внимания; о прочих умалчиваю 14.
Одно из главнейших, из самых видных мест между нашими
повествователями (которых, впрочем, очень немного) занимает
г. Полевой. Отличительный характер его произведений состав¬
ляет удивительная многосторонность, так что трудно подвести
их под общий взгляд, ибо каждая его повесть представляет со¬
вершенно отдельный мир. Что есть общего или сходного между
«Симеоном Кирдяпою» и «Живописцем», между «Рассказами
русского солдата» и «Эммою», между «Мешком с золотом»
и «Блаженством безумия»? Правда, этих повестей немного,
и они не все одинакового достоинства, но можно сказать утвер¬
дительно, что каждая из них ознаменована печатаю истинпого
таланта, а некоторые останутся навсегда украшением русской
литературы. В «Симеоне Кирдяпе», этой живой картине про¬
шедшего, начертанной могучею и широкою кистью, поэзия рус¬
ской древней жизни еще в первый раз была постигнута во всей
ее истине, и в этом создании историк-философ слился с поэтом.
Прочие повести все отличаются теплотою чувства, прекрасною
мыслию и верностию действительности. В самом деле, вгляди¬
тесь в них пристальнее, и вы увидите такие черты, схваченные
с жизни, которые вы часто можете встретить в жизни, но редко
в сочинениях, увидите эту выдержанность и оригинальность ха¬
рактеров, эту верность положений, которые основываются не на
расчетах возможностей, но единственно на способности автора
понимать всевозможные положения человеческие, положения,
в которых он сам, может быть, никогда не был и не мог быть.
Профаны, люди, не посвященные в таинства искусства, часто го¬
ворят: «Да, это очень верно, да и не могло быть иначе — автор
так много страдал, следовательно, писал по опыту, а не с чу¬
жого голоса». Мнение нелепое! Если есть поэты, которые верно
и глубоко воспроизводили мир собственных, изведанных ими
страстей и чувств, собственные страдания и радости,— из этого
еще не следует, чтобы поэт только тогда мог пламенно и увлека¬
тельно писать о любви, когда был сам влюблен, о счастии, когда
сам находится в благоприятных обстоятельствах, и пр. Напро¬
тив, это означает скорее односторонность и ограниченность
таланта, нежели его истинность. Отличительная черта, то, что
составляет, что делает истинного поэта, состоит в его стра¬
дательной и живой способности всегда и без всяких отношений
156
к своему образу мыслей, понимать всякое человеческое поло¬
жение. И вот почему поэт так часто противоречит самому себе
в своих созданиях, воспевая нынче прелести разгульной, эпику¬
рейской жизни, завтра поет о живом труде, о подвиге жизни,
об отречении от благ земных. Бальзак носит на фраке золотые
пуговицы, трость с золотым набалдашником (последняя степень
прихотливой роскоши), живет, как принц какой-нибудь, и между
тем его картины бедности и нищеты леденят душу своею ужаса¬
ющею верностию. Гюго никогда не был осужден на смертную
казнь, но какая ужасная, раздирающая истина в его «Последнем
дне осужденного»! Конечно, невозможно, чтобы обстоятельст¬
ва жизни самого поэта не имели большего или меньшего влия¬
ния на его произведения; но это влияние имеет свое ограниче¬
ние и бывает, по большой части, как бы исключением из общего
правила. Эта способность понимать явления жизни очень не
чужда г. Полевому. Сколько истины в его «Живописце» и
«Эмме»! Детство художника, его бессознательное стремление
к искусству, его любовь к пустой девчонке, его недовольство
собственными произведениями, его безмолвное страдание при
суждениях глупой, бессмысленной толпы о лучшем, задушев¬
ном его произведении, его отчаяние, когда он увидел в своем
идеало не больше, как ребенка, который играл с ним в любовь;
потом, этот старик-отец, всю жизнь недовольный сумасброд¬
ством любимого сына, проклинавший, может быть, от чистого
сердца и его страсть к живописи и самую живопись и, нако¬
нец, пред смертию с умилением смотрящий на его последнюю
картину и рыдающий, не понимая ее; теперь, эта мечтательная
мещанка, существо святое и чистое, но не имеющее в нашей рус¬
ской жизни никакого смысла, никакого значения, эта бедная де¬
вушка, перед которою подличает богатая и знатная графиня
п которая, всею своею жизнию, возвращает жизнь сумасшедше¬
му и потом требует, в свою очередь, всей его жизни, чтобы не
умереть самой, и, вместо всего этого, видит с его стороны одно
холодное уважение, а со стороны графини худо скрытое чувст¬
во неблагодарности, тон покровительства, который, для души
благородной, хуже самого жестокого гонения, — все это не при¬
думано, не разочтено, не вычислено, а вылилось прямо из ду¬
ши. «Блаженство безумия» отличается местами теплотою чувст¬
ва, но и вместе с тем излишним владычеством мысли, как будто
автор задал себе психологическую задачу и хотел решить ее
в поэтической форме. От этого в ней как будто чего-то недостает;
впрочем, много отдельных прекрасных мест.
Теперь, в «Святочных рассказах» и «Рассказах русского сол¬
дата» сколько того, что называется народностию, пз чего так
хлопочут наши авторы, что им менее всего удается и что всего
легче для истинного таланта! Это мир совершенно отдельный,
мир, полный страстей, горя и радостей, все человеческих же, но
только выражающихся в других формах, по-своему. Тут нет
457
ни одной побранки, ни одного плоского слова, ни одной
вульгарной картины, и между тем так много поэзии, и, мне ка¬
жется, именно потому, что автор старался быть верным больше
истине, чем народности, искал больше человеческого, нежели рус¬
ского, и вследствие этого народное и русское само пришло
к нему 15.
Прежде нежели перейду к повестям г. Гоголя, главному
предмету моей статьи, я должен остановиться еще на одном
авторе повестей, недавно успевшем обратить на себя общее
внимание, — г. Павлове16, сколько потому, что его повести суть
явление приятное, столько и потому, что о них почти нигде
ничего не сказано. О рецензии «Библиотеки для чтения» умал¬
чиваю; 17 сказала ли о них что-нибудь «Пчела»18, не знаю;
«Молва» ограничилась почти простым библиографическим объ¬
явлением 19, а из отзыва «Наблюдателя» видно только то, что
повести г. Павлова написаны каким-то небывалым у нас хоро¬
шим языком и что автор «открыл новые ящики в многослож¬
ном бюро человеческого сердца», — выражение, сбивающееся на
гиперболу в восточном вкусе 20.
Трудно судить о повестях г. Павлова, трудно решить, что
они такое: дума умного и чувствующего человека, плод мгно¬
венной вспышки воображения, произведение одной счастливой
минуты, одной благоприятной эпохи в жизни автора, порожде¬
ние обстоятельств, результат одной мысли, глубоко запавшей
в душу, — или создания художника, произведения безусловные,
безотносительные, свободное излияние души, удел которой есть
творчество?.. Меня поймут, если я скажу, что эти повести еще
первый опыт г. Павлова на новом для него поприще; а как часто
в нашей литературе второй роман, вторые повести уничто¬
жали славу первого романа, первых повестей!.. Поприще
г. Павлова еще только начато, но начато так хорошо, что пе
хочется верить, чтобы оно кончилось дурно... Но предоставим
времени решить этот вопрос, а теперь постараемся откровенно
и беспристрастно высказать наше мнение по тем немногим дан¬
ным, которые уже имеются.
Все три повести г. Павлова ознаменованы одним общим
характером, и только их содержание придает им чрезвычайное
наружное несходство. Потому ли, что они еще первый опыт,
носящий на себе все недостатки первого опыта, или почему
другому, но только мне кажется, что они не проникнуты слиш¬
ком глубокою истиною жизни; в них есть эта верность, которая
заставляет говорить: «Это точно списано с натуры», но эта вер¬
ность видна не в их целом, но в частях и подробностях, и есть
следствие наблюдательности, приобретенной прилежным и вни¬
мательным изучением описываемого им мира. В «Ятагане» есть
черты, с удивительною верностию схваченные: этот полковник,
1 добрый, честный, но ограниченный по своему уму и чувству,
который, приняв намерение жениться на княжне, как бы нечаян-
153
по раздумывается о трудностях военной службы, о счастии
брачной жизни, о том, как хорош дом и сад князя и как бы
приятно было прогуливаться по этому саду под руку с молодою
женою п пр.; эта княжна, которая, сидя с своим милым солда¬
том, на доклад лакея о приезде полковника отвечает протяж¬
ным «что?», которая так хорошо умеет вести себя с полковни¬
ком, не подавая ему никакой надежды п в то же время пе
лишая его надежды, — все эти топкие черты, эти резкие оттенки
доказывают, что автор смотрел на жизнь проницательным взо¬
ром, что он внимательно изучал ее, что много видел, много
заметил и много уловил; но вместе с тем эти же самые пассажи
доказывают, что они плод больше наблюдательности, ума и вы¬
сокой образованности, чем таланта, что они скорее списаны
с действительности, чем созданы фантазиею. Ибо где же эта
истина, эта верность целого, столь заметная, столь поразитель¬
ная в подробностях? Где же эти характеры, индивидуальные
и типические, которые бы доказывали не одно знание общест¬
ва, но и сердца человеческого?.. Их нет, или, справедливее, они
только что очерчены, но не оттушеваны и потому лишены почти
всякой личности. Я вполне сострадаю несчастию корнета, но так,
как бы я сострадал всякому человеку в подобном положении,
даже и такому, которого бы я никогда не видал, никогда не
знавал, но о котором слыхал, что он человек добрый н благо¬
родномыслящий. Скаяште, имеет ли этот корнет какой-нибудь
характер, какую-нибудь физиономию? Скажите мпе, какой у него
образ мыслей, какие у пего страсти, желания, чувства, стремле¬
ние, словом, все, что составляет человека, что дает его видеть
во весь рост. Все его действия и слова самые общие; по ним
можно узнать касту, но не человека, не индивидуума. Так же
бесхарактерна княжна, ибо в ней видна больше светская девуш¬
ка с тонким, инстинктуальным чувством приличия, нежели су¬
щество любящее, любящее по-своему, существо, которое бы
можно было узнать из тысячи. Вообще «Ятаган» есть анекдот,
мастерски рассказанный и, в художественном отношении, заме¬
чательный больше частностями, нежели целостию; кажется, как
будто автор услышал от кого-нибудь анекдотическую исто¬
рию, сделал из нее повесть и, не зная лично ее действователей,
не мог верно написать их портретов. Но частности, но отдельные
мысли, отдельные картины и описания превосходны, исполнены
поэзии; а многие черты, как я уже и заметил, схвачены с удиви¬
тельною и поразительпою верностию, а местами вспыхивает и
чувство, особливо там, где автор увлекается поззиею самых фак¬
тов, Вообще «Ятаган» — повесть с большими достоинствами, боль¬
шими красотами в частях; но его целое обнаруживает более
талант рассказа, нежели творчества. Если он многим нравится,
особенно пред прочими двумя повестями, то причина этого
заключается в поэзии самого содержания, которое произвело
бы всегда сильный эффект и в простом изустном рассказе.
159
«Именины» больше отличаются художественным достоинст¬
вом, чем «Ятаган». В этой повести есть яркие проблески глубо¬
кого чувства, резкие черты характеров (особенно в главпом
персонаже), есть много истины в ситуациях. Этот музыкант-пле¬
бей, который говорит: «Понимаете ли вы удовольствие отвечать
грубо на вежливое слово; едва кивнуть головой, когда учтиво
снимают перед вами шляпу, и развалиться в креслах перед чо¬
порным баричем, пред чинным богачом»? или: «Я уже умел
довольно смело предстать пред многочисленное собрание
гостиной. Когда я говорю: „довольно смело“, это значит, что
я уже ступал всею ногою, и ноги мои уже не путались, хотя еще
не было в них этой красивой свободы, с которою я теперь кладу
их одну на одну, подгибаю и стучу... Я мог уже при многих
перейти с одного конца комнаты на другой, отвечать вслух; но
все мне было покойнее держаться около какого-нибудь угла;
во все, желая пощеголять знанием светской вежливости, я к
каждому слову прибавлял еще: с»; потом отчаяние музыканта,
который «лежал и взглядывал на распятие, стараясь вспомнить,
что оно значит»,— во всем этом есть поэзия, есть истинное
творчество.
«Аукцион» есть живописный очерк, набросанный рукою
небрежною, но твердою и опытною. Здесь автор особенно сво¬
боднее, вольнее и как будто больше, нежели где-нибудь,
в своей сфере. Его «Именины» есть произведение прекрасное,
но как будто случайное, как будто порыв чувства; его «Ятаган»
есть род очерков высшего общества, в котором автор хотел
пли думал найти поэзию; его «Аукцион» есть живой, мимолет¬
ный эпизод из жизни этого общества, и он в нем нашел поэзию,
ибо взглянул на него с точки зрения более истинной. Здесь как-
то более к лицу и этот рассказ светский, щегольской и немного
манерный при всей его наружной простоте; здесь более кстати
и этот период, обделанный, красивый и изящный, но в то же
время немного и изысканный в самой его небрежности. Вообще
замечу здесь кстати, что слог не составляет такой важности,
какую вообще ему приписывают: форма всегда прекрасна, ког¬
да согласна с идеею. За примерами ходить недалеко: возьму
два выражения из последнего сочинения г. Павлова, помещен¬
ного в «Наблюдателе» (№ 2): «Она, драгоценный камень
в роскошной оправе фантастического наряда», или: «звезды,
бриллиянты неба» 21. Что в них хорошего? первое есть натяну¬
тая пародия на выражение Шекспира об Альбионе, выражение,
о котором, по крайней мере, я узнал не раньше, как с первой
лекции г. Шевырева;22 второе просто не имеет никакого смыс¬
ла, а если и имеет, то самый истертый. Что касается до правиль¬
ности языка, до его плавности, чистоты, ясности и стройности,
то эти качества, при большой зависимости от идеи, зависят и от
навыка, упражнения, старания, и их точно можно причесть в за¬
слугу автору. В этом отношении г. Павлов принадлежит
160
к немногому числу наших отличных прозаиков. Заключаю:
талант г. Павлова подает лестные надежды, но его развитие
и степень силы теперь еще вопрос, который решат будущее его
произведения 23.
Итак — Марлинский, Одоевский, Погодин, Полевой, Павлов,
Гоголь — здесь полный круг истории русской повести. Да —
полный, может быть, чересчур полный; но я говорил здесь
о всех повестях, в каком бы то ни было отношении примеча¬
тельных, а эта примечательность состоит не в одной художест¬
венности, но и во времени появления, и во влиянии, хорошем
или дурном, на литературу, и в большей или меньшей степени
таланта, и, наконец, в самом характере и направлении. Поиме¬
нованные мною авторы должны быть упомянуты в истории рус¬
ской повести, по всем этим отношениям, и суть истинные ев
представители. О других, которых много, очень много, умалчи¬
ваю, ибо, при всех своих достоинствах, они не касаются предме¬
та моей статьи, и потому перехожу к г. Гоголю. Им заключу
историю русской повести, им заключу и мою статью, которая,
против моей воли и ожидания, сделалась очень длинна.
Приступая к разбору сочинений г. Гоголя, я не без намере¬
ния распространился о поэзии вообще, о повестях как о роде,
и о повести русской: если я только умел развить мою мысль, то
читатели увидят, что все эти предметы находятся в существен¬
ной связи между собою. Мне кажется, что для надлежащей
оценки всякого замечательного автора нужно определить ха¬
рактер его творений и место, которое он должен занимать
в литературе. Первый можно объяснить не иначе, как теориею
искусства (разумеется, сообразно с понятиями судящего); вто¬
рое — сравнением автора с другими, писавшими или пишущими
в одном с ним роде. Мы видели, что у нас еще нет повести,
в собственном смысле этого слова. Г-н Марлинский замечателен
как первый, намекнувший нам о том, что такое повесть; для
кн. Одоевского повесть есть только форма; два-три удачных
опыта г. Погодина еще не составляют авторитета, сколько пото¬
му, что их достоинство одностороннее, столько и потому, что
они были для своего автора делом посторонним, отдыхом от
ученых занятий. Итак, остаются только г. Павлов и г. Полевой;
но г. Павлов еще только начал свое поприще, а как бы ни
прекрасно было начало, по нем нельзя произнести решительно¬
го суждения о писателе; следовательно, первенство поэта-по-
вествователя остается за г. Полевым. Но в его повестях, или,
справедливее, в большей части его повестей, есть один важный
недостаток, о котором я с намерением умолчал в своем месте.
Этот недостаток состоит в том, что в них, как и в его романах,
при многих очевидных признаках истинного творчества, истин¬
ной художественности, заметно и большое участие ума, этог®
ума пытливого, светлого и многостороннего, который в худож¬
нической деятельности ищет отдохновения и для которого
6 В. Белинский, т. 1
164
п самая фантазия есть как бы средство изучать природу
п жпзнь человека. Это, по большей частп, синтетические повер¬
ки аналптпческих наблюдений над жизнию. Посмотрим, пет ли
между нашими такого поэта-повествователя, для которого по-
©зля составляла бы цель жизни, а наука была бы ее отдохнове¬
нием, для которого повесть была бы родом, а не формою, ро¬
дом столько же необходимым и безотносительным, как повесть
для Бальзака, песня для Беранже, драма для Шекспира, кото¬
рый был бы только поэт, а не другое что-нибудь, поэт по при¬
званию, поэт по невозможностп не быть поэтом. Мне кажется,
что, под этими условиями, из современных писателей * никого
ве можно назвать поэтом с большею уверенностпю и нимало не
задумываясь, как г. Гоголя.
Я уже сказал, что задача критики и истинная оценка произ¬
ведений поэта непременно должны иметь две цели: определить
характер разбираемых сочинений и указать место, на которое
они дают право своему автору в кругу представителей литерату¬
ры. Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют —
простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, ори¬
гинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое
глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств
^заключается в одном источнике: г. Гоголь — поэт, поэт жизни
действительной.
Знаете ли, какой вообще недостаток находится в нашей
критике? Она не совсем хорошо приноровлена к нашим потреб¬
ностям. Критик и публика — это два лица беседующие: падобно,
чтобы они заранее условплись, согласились в значении предме¬
та, избранного для их беседы. Иначе им трудно будет понять
друг друга. Вы разбираете сочинение, с важностию говорите
о законах творчества, прилагаете их к разбираемому сочинению
и, как 2 X 2 *= 4, доказываете, что оно превосходно. И что ж?
нублика восхищена вашею критикою и вполне соглашается с ва¬
мп, видя, что, в самом деле, пункты эстетических законов под¬
ведены правильно и что в сочинении все обстоит благополучно.
Но sot что худо: часто случается, что она забывает о превоз¬
несенном сочинении еще прежде, чем забудет о Еашей крити¬
ке. Отчего же так? Оттого, что разбираемое вами сочинение
была хитрая, галантерейная работа, а не изящное создание,
что оно, может быть, имело эстетическую форму, но было ли¬
шено духа жизни эстетической. У нас еще так зыбки понятия об
изящном и вкус еще в таком младенчестве, что наша критика
по необходимости должна отступать, в своих приемах, от евро¬
пейской. Хотя некоторые досужие наши эстетики и говорят, что
будто бы законы изящного определены у нас с математическою
точностпю, но я думаю иначе, ибо, с одной стороны, собствен-
♦ Я не включаю в это число Пушкина, который уже свершил круг
своей художнической деятельности.
162
пые изделия этих эстетиков, слишком отличающиеся топорнок
работою, резко противоречат законам изящного, определенным
с математическою точностию, а с другой стороны, законы изящ¬
ного никогда не могут отличаться математическою точностию,
потому что они основываются на чувстве, и у кого нет приемле¬
мости изящного, для того всегда кажутся незаконными. И при¬
том, из чего должны выводиться законы изящного, как не из
изящных созданий? А много ли у нас их, этих изящных созда¬
ний? Нет, пусть каждый толкует по-своему об условиях твор¬
чества и подкрепляет их фактами, это самый лучший способ
развивать теорию изящного. Цель русского критика должна со¬
стоять не столько в том, чтобы расширить круг понятий челове¬
чества об изящном, сколько в том, чтобы распространять
в своем отечестве уже известные, оседлые понятия об этом
предмете. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять
зады и не скажете ничего нового. Это новое не так легко
и часто, как обыкновенно думают: оно едва приметными атома¬
ми налипает на глыбы старого. Самое старое будет у вас ново,
если вы человек с мнением и глубоко убеждены в том, что
говорите: ваша индивидуальность и ваш способ выражения
и самому вашему старому должны придать характер новости.
Итак, по моему мнению, первый и главный вопрос, предсто¬
ящий для разрешения критика, есть — точно ли это произведе¬
ние изящно, точно ли этот автор поэт? Из решения этого вопро¬
са сами собою вытекают ответы о характере и важности сочи¬
нения.
Способность творчества есть великий дар природы; акт
творчества, в душе творящей, есть великое таинство; минута
творчества есть минута великого священнодействия; творчество
бесцельно с целию, бессознательно с сознанием, свободно
с зависимостию: вот основные его законы. Они будут очень яс¬
ны, когда выведутся из акта творчества.
Художник чувствует потребность творить. Эта потребность
приходит к нему вдруг, .нежданно, без спросу п совершенно
независимо от его воли, ибо он не может назначить ни дня, ни
часа, ни минуты для своей творческой деятельности: вот свобо¬
да творчества, вот его независимость от лица творящего! По¬
требность творить приводит за собою идею, которая залегает
в душу художника, овладевает ею, тяготит ее. Эта идея может
быть одною из общих человеческих идей, давно уже известных;
но художник берет ее не по выбору, но невольно, берет ее не
как предмет ума созерцающего, но воспринимает ее в себя
своим чувством, обладаемый трепетным предчувствием ее глу¬
бокого, таинственного смысла. Это действие прекрасно выража¬
ется непереводимым французским словом «concevoir». Ху¬
дожник чувствует в себе присутствие воспринятой (congue) им
идеи, но, так сказать, не видит ее ясно и томится желанием
сделать ее осязаемою для себя и других: вот первый акт
6*
163
творчества; Положим, что эта идея есть идея ревности, и будем
следить за ее развитием в душе поэта. Заботливо и томительно
носит он ее в сокровенном святилище своего чувства, как носит
мать младенца в своей утробе; постепенно эта идея проясняет¬
ся перед его глазами, облекается в живые образы, переходит
в идеалы, и ему, как бы в тумане, видится пламенный африка¬
нец Отелло, с его челом смуглым и изрытым морщинами, слы¬
шатся его дикие вопли любви, ненависти, отчаяния и мщения,
видятся пленительные черты кроткой, любящей Дездемоны,
слышатся ее тщетные мольбы и стоны среди глухой полуночи.
Эти образы, эти идеалы, в свою очередь, вынашиваются, зреют,
выясняются постепенно; наконец, поэт уже видит их, говорит
с ними, знает их речь, движения, манеры, походку, черты лица,
видит их во весь рост, со всех сторон, видит обоими глазами
и так ясно, как бы наяву, на самом деле, видит их прежде,
в ежели его перо дало им формы, точно так же, как Рафаэль
видел перед собою небесный, нерукотворенный образ Мадонны
прежде, нежели его кисть приковала этот образ к полотну, точ¬
но так же, как Моцарт, Бетховен, Гайдн слышали вызванные ими
из души дивные звуки прежде, нежели их перо приковало эти
звуки к бумаге. Вот второй акт творчества. Потом поэт дает
своему созданию видимые, доступные для всех формы: это тре¬
тий и последний акт творчества. Он не так важен, ибо есть
следствие двух первых.
Итак, главный, отличительный признак творчества состоит
в таинственном ясновидении, в поэтическом сомнамбулизме24.
Еще создание художника есть тайна для всех, еще он не брал в
руки пера, а уже видит их ясно, уже может счесть складки их
платья, морщины их чела, избражденного страстями и горем,
а уже знает их лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга,
свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то,
что они будут говорить и делать, видит всю нить событий, кото¬
рая обовьет их и свяжет между собою. Где же он видел эти лица,
где слышал об этих событиях и что такое его творчество? след¬
ствие долговременного и многостороннего опыта, тонкой на¬
блюдательности, глубокого уменья схватывать сходства и обо¬
значать их резкими чертами? Что же его идеалы? Неужели это
различные черты, рассеянные в природе и собранные в одно
для образования известных типов, составленных по мерке, за¬
ранее взятой, как думали и говорили добрые и почтенные эсте¬
тики былых времен?.. О, ничего этого, ровно ничего!.. Он нигде
не видел созданных им лиц, он не копировал действительности,
илп нет: он видел все это в вещем, пророческом сне, в светлые
минуты поэтического откровения, в эти минуты, знакомые одно¬
му таланту, видел их всезрящими очами своего чувства. И вот
почему созданные им характеры так верны, ровны, выдержаны;
вот почему завязка, развязка, узлы и ход его романа или дра¬
мы так естественны, правдоподобны, свободны; вот почему,
164
прочтя его создание, вы как будто были в каком-то мире, пре¬
красном и гармоническом, как мир божий; вот почему вы так
хорошо освоиваетесь с ним, так глубоко понимаете его и так
крепко удерживаете его в своей памяти. Тут нет противоречий,
пет подделок и изысканности; ибо тут не было расчета вероят¬
ностей, не было соображений, не было старания свести концы
с концами; ибо это произведение было не сделано, не сочине-
по, а создалось в душе художника как бы наитием какой-то
высшей, таинственной силы, в нем самом и вне его и находив¬
шейся; ибо, в этом отношении, он сам был как бы почвою,
воспринявшею в себя плодородное зерно, заброшенное рукою
неведомою, прозябшее и разросшееся в ветвистое, широколист¬
венное дерево... Какого бы рода ни было такое произведе¬
ние — идеальное, реальное — оно всегда истинно, истинно поэти¬
чески. «Буря» Шекспира есть произведение нелепое, есть стран¬
ная прихоть своего творца; в нем действуют и люди и духи
бесплотные, в нем действует Калибан, создание чудовищное,
плод любви демона с колдуньею; но и это сочинение истинно,
истинно поэтически; ибо, читая его, вы всему верите, все нахо¬
дите естественным; ибо, прочтя его, никогда не забудете его,
и перед вашими взорами всегда будут носиться чудные образы
Проспера, Миранды, Ариэля, образы воздушные, сотканные из
ночных туманов, облитые пурпуром зари, осеребренные лучом
месяца. Какого бы рода ни было такое создание, оно всегда
совершенно и чуждо недостатков. Но отчего же и в произведе¬
ниях самых генияльных поэтов находят, при великих красотах,
и великие недостатки? Оттого, что такие создания или не выно¬
шены в душе, не рождены, а выкинуты, как недоноски, прежде
времени, или оттого, что авторы, вследствие своих ложных по¬
нятий об искусстве или вследствие целей и расчетов каких-ни¬
будь, хитрили и мудрили или писали иногда в холодные, прозаи¬
ческие минуты, ибо поэтические идеи и идеалы — эти небесные
тайны — должны и высказываться в светлые минуты откровения,
которые называются минутами вдохновения, художнического
восторга. Словом, недостатки всегда там, где окончивается
творчество и начинается работа.
Теперь, кажется, легко объяснить, что такое бесцельность
с целию, бессознательность с сознанием25. Когда поэт творит,
то хочет выразить, в поэтическом символе, какую-нибудь идею,
следовательно, имеет цель и действует с сознанием. Но ни вы¬
бор идеи, ни ее развитие не зависит от его воли, управляемой
умом, следовательно, его действие бесцельно и бессозна¬
тельно.
Теперь, что такое свобода творчества от лица творящего
при зависимости от него? — Поэт есть раб своего предмета, ибо
не властен ни в его выборе, ни в его развитии, ибо не может
творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной воле,
если не чувствует вдохновения, которое решительно не зависит
165
от него: следовательно, творчество свободно и независимо от
лица творящего, которое здесь является столько же страда¬
тельным, сколько и действующим. Но отчего же в создании ху¬
дожника отражается и век, и народ, п собственная его индиви¬
дуальность? Отчего в нем отражается и жизнь, и мнения, и сте¬
пень образованности художника? Следовательно, творчество
зависит от него, следовательно, он столько же и господпн его,
сколько и раб его? Да — оно зависит от него, как зависит душа
от организма, как зависит характер от темперамента. Это всего
лучше можно объяснить сном. Сон есть нечто свободное, но
вместе с тем и зависящее от нас. Меланхолику снятся сны
страшные, фантастические; флегматик и во сне спит или ест;
актер слышит рукоплескания, военный видит битвы, подьячпй
взятки и т. д. Так и художник выражается в своих созданиях.
Герои Байрона — это типы гордости, с нечеловеческими
страстями, желаниями и страданиями; создания Гофмана —
фантастические сны и т. д.
Очень не трудно ко всему этому приложить сочинения
г. Гоголя, как факты к теории. Я под этим не разумею, чтобы
этот поэт был равен Шекспиру, Байрону, Шиллеру и пр. Но
здесь вопрос не о степени, не о великости таланта, а о таланте:
для гения и таланта одни законы, несмотря на все их неравенст¬
во. Скажите, какое впечатление прежде всего производит на
вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас гово¬
рить: «Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и,
вместе, как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому,
почему вам самим не пришла в голову та же самая идея, поче¬
му вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкно¬
венных, так знакомых вам, так часто виденных вами, и окружить
их этими самыми обстоятельствами, так повседневными, так об¬
щими, так наскучившими вам в жизни действительной и так за¬
нимательными, очаровательными в поэтическом представлении?
Вот первый признак истинно художественного произведения.
Потом, не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его по¬
вести так коротко, как будто вы его давно знали, долго жили
с ним вместе? Не дополняете лп вы своим воображением его
портрета, и без того уже нарисованного автором во весь рост?
Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто
забытые автором, не в состоянии ли вы рассказать об этом
лице несколько анекдотов, как будто бы опущенных автором?
Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все
рассказанное автором есть сущая правда, без всякой примеси
вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознамено¬
ваны печатию истинного таланта, что они созданы по непрелож¬
ным законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота дей¬
ствия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обык¬
новенность описываемых автором происшествий — суть верные,
необманчивые признаки творчества; это поэзия реальная, по¬
1G6
эзия жизни действительной, жпзии, коротко знакомой пам.
Я нимало не удивляюсь, подебпо некоторым, что г. Гоголь
мастер делать, все из ничего, что он умеет заинтересовать чита¬
теля пустыми, ничтожными подробностями, ибо не вижу тут
ровно никакого уменья: уменье предполагает расчет и работу,
а где расчет и работа, там нет творчества, там все ложно
п неверно при самой тщательной и верной копировке с дей¬
ствительности. И чем обыкновеннее, чем пошлее, так сказать,
содержание повести, слишком заинтересовывающей внимание
читателя, тем больший талант со стороны автора обнаруживает
она. Когда посредственный талант берется рисовать сильные
страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, натянуть¬
ся, наговорить громких монологов, насказать прекрасных ве¬
щей, обмануть читателя блестящею отделкою, красивыми фор¬
мами, самым содержанием, мастерским рассказом, цветистою
фразеологпею — плодами своей начитанности, ума, образован¬
ности, опыта жизпи. Но возьмись он за изображение повседнев¬
ных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической —о , по¬
верьте, для него это будет истинным камнем преткновения,
и его вялое, холодное и бездушное сочинение уморит вас зево¬
тою. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие
в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить
нас до слез глупостями, ничтожностию и юродством этих живых
пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас
потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заста¬
вить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувст¬
вом, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на
этом свете, господа!» — вот, вот оно, то божественное искусст¬
во, которое называется творчеством; вот он, тот художнический
талант, для которого где жизнь, там и поэзия! И возьмите почти
все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? что
такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, кото¬
рая начинается глупостями, продолжается глупостями и окан¬
чивается слезами и которая, наконец, называется жизнию. И та¬
ковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова
жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут по¬
эзии, сколько философии, сколько истины!..
В каждом человеке должно различать две стороны: общую,
человеческую, и частную, индивидуальную; всякий человек пре¬
жде всего человек и потом уже Иван, Сидор и т. д. Точно так
же и в художественных созданиях должно различать два харак¬
тера: характер творчества, общий всем изящным произведени¬
ям, и характер колорита, сообщенный индпвпдуальпостию авто¬
ра. Я уже коснулся, в общих чертах, первого характера в по¬
вестях г. Гоголя; теперь рассмотрю его подробнее; потом буду
говорить об индивидуальном характере его созданий и, нако¬
нец, заключу мою статью беглым взглядом па те из его повестей,
о которых можно будет сказать что-нибудь в частности.
167
Я уже сказал, что отличительные черты характера произве¬
дений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина
жизни, народность, оригинальность — все это черты общие; по¬
том комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким
чувством грусти и уныния,— черта индивидуальная.
Простота вымысла, в поэзии реальной, есть один из самых
верных признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого
таланта. Возьмите любую драму Шекспира, возьмите, например,
его «Тимона Афинского»: эта пьеса так проста, так немногос¬
ложна, так скудна путаницею происшествий, что, право, невоз¬
можно и рассказать ее содержания. Люди обманули человека,
который любил людей, наругались над его святыми чувствовани¬
ями, лишили его веры в человеческое достоинство, и этот человек
возненавидел людей и проклял их: вот вам и все тут, больше
ничего нет. И что ж? Составили ли вы себе, по моим словам,
какое-нибудь понятие об этом великом создании великого ге¬
ния? О, верно, никакого! ибо эта идея слишком обыкновенна,
слишком известна всем, каждому, слишком истерта и истреп-
лена в тысячах сочинений, хороших и дурных, начиная от Со-
фоклова Филоктета26, обманутого Улиссом и проклинающего
человечество, до «Тихона Михеевича», обманутого вероломною
женою и плутом-родственником *. Но форма, в которой выра¬
жена эта идея, но содержание пьесы и ее подробности? По¬
следние так мелочны, так пусты и притом так всякому известны,
что я наскучил бы вам смертельно, если бы вздумал их пере¬
сказывать. И однако ж у Шекспира эти подробности так занима¬
тельны, что вы не оторветесь от них, и однако ж у него мелоч¬
ность и пустота этих подробностей приготовляет ужасную ка¬
тастрофу, от которой волосы встают дыбом — сцену в лесу, где
Тимон в бешеных проклятиях, в горьких, язвительных сарказ-
мах, с сосредоточенною, спокойною яростию, рассчитывается
с человечеством. И потом, как выразить вам то чувство, кото¬
рое возбуждает в душе известие о смерти добровольного от¬
верженца от людей! И вся эта ужасная, хотя и бескровная, тра¬
гедия, ужасная даже в своей простоте, в своем спокойствии,
приготовляется глупою комедиею, отвратительною картиною, как
люди обжирают человека, помогают ему разориться и потом за¬
бывают о нем, эти люди, которые
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей!28
И вот вам жизнь, или, лучше сказать, прототип жизни, соз¬
данный величайшим из поэтов! Тут нет эффектов, нет сцен, нет
* «Ппюша», повесть г. Ушакова, в «Библиотеке для чтения» 27,
108
драматических вычур, все просто и обыкновенно, как день му¬
жика, который в будень ест п пашет, спит и пашет, а в праздник
ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит задача реаль¬
ной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни
и потрясать души верным изображением этой жизни. И как
сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте
и мелкости! Возьмите его «Старосветских помещиков»: что
в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких
десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится
исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю
пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, кари¬
катурной, и между тем принимаете такое участие в персонажах
повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете
с Филемоном о его Бавкиде29, сострадаете его глубокой,
неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промо¬
тавшего достояние двух простаков! И потом, вы так живо пред¬
ставляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите
всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не бывал
в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о та¬
кой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, следо¬
вательно, очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой
пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигав¬
шее и оживлявшее его героев: это чувство — привычка. Знаете
ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о котором
Пушкин сказал:
Привычка небом нам дапа:
Замена счастия она!30
Можете ли вы предположить возможность мужа, который ры¬
дает над гробом своей‘жены, с которой сорок лет грызся, как
кошка с собакою? Понимаете ли вы, что можно грустить о дур¬
ной квартире, в которой вы жили много лет, к которой вы при¬
выкли, как душа к телу, и с которою у вас соединяются воспоми¬
нания о простой, однообразной жизни, о живом труде и сладком
досуге и, может быть, о нескольких сценах любви и наслажде¬
ния, и которую вы меняете на великолепные палаты? По¬
нимаете ли вы, что можно грустить о собаке, которая десять
лет сидела на цепи и десять лет вертела хвостом, когда вы
мимо ее проходили?.. О, привычка великая психологическая за¬
дача, великое таинство души человеческой. Холодному сыну
земли, сыну забот и помыслов житейских, заменяет она чувства
человеческие, которых лишила его природа или обстоятельства
жизни. Для него она истинное блаженство, истинный дар прови¬
дения, единственный источник его радостей и (дивное дело!)'
радостей человеческих! Но что она для человека в полном
смысле этого слова? Не насмешка ли судьбы! И он платит ей
свою дань, и он прилепляется к пустым вещам и пустым людям
169
и горько страдает, лишаясь их! II что же еще? Г-н Гоголь срав¬
нивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую,
пламенную страсть с чувством привычки жалкого получеловека
и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продол¬
жительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза
и не злая, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед
своим учителем!..31 Так вот где часто скрываются пружины луч¬
ших наших действий, прекраснейших наших чувств! О бедное
человечество! жалкая жизнь! И однако ж вам все-таки жаль
Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! вы плачете о нлх,
о них, которые только пили и ели и потом умерли! О, г. Гоголь
истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на
него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, кото¬
рые только пили и ели и потом умерли!
Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно со¬
единяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не
клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней
прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нима¬
ло и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до
последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором
всё схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии
оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана
Никифоровича до русских мужиков, идущих по Невскому про¬
спекту, в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физи¬
ономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете,
с люлькою в зубах и саблею в руках, до стоического философа
Хомы, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм,
когда у него люлька в зубах и рюмка в руках. «Прекрасный
человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое
кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под
навес, сейчас приказывает Гайке принести две дыни. И уже сам
разрежет, соберет семена в особую бумажку и начинает ку¬
шать. Потом велит принести Гапке чернилицу, и сам, собствен¬
ною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: сия
дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-ни¬
будь гость, то: участвовал такой-то...32 «Иван Никифорович
чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду,
велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить
чай в такой прохладе». Скажите, бога ради, можно ли язвитель¬
нее, злобнее и, вместе с тем, добродушнее и любезнее нару¬
гаться пад бедным человечеством?.. И все оттого, что слишком
верно! А вот посмотрите па жизнь Филемона и Бавкиды:
«Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они
никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы: „вы, Афана¬
сий Иванович44; „вы, Пульхерия Ивановна44. — „Это вы продавили
стул, Афанасий Иванович?44 — „Ничего, не сердитесь, Пульхерия
Ивановна: это я44»... Или: «После этого Афанасий Иванович
возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии
170
Ивановне: „А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора заку*
сить чего-нибудь'4 — „Чего же бы теперь закусить, Афанасий
Иванович? разве коржиков с салом или нпрожков с маком,
или, может-быть, рыжиков соленых!14 — „Пожалуй, хоть и ры¬
жиков или пирожков44, — отвечал Афанасий Иванович, и на столе
вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до
обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную
серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными
рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. За
обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых близких
к обеду. „Мне кажется, будто эта каша, — говаривал обыкновен¬
но Афанасий Иванович,— немного пригорела; вам этого не ка¬
жется, Пульхерия Ивановна?44—„Нет, Афанасий Иванович; вы
положите побольше масла, тогда она не будет пригорелою, или
вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней44. — „По¬
жалуй,— говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарел¬
ку:— попробуем, как оно будет...44—„Вот попробуйте, Афанасий
Иванович, какой хороший арбуз44. — „Да вы не верьте, Пуль¬
херия Ивановна, что он красный,— говорил Афанасий Ивано¬
вич, принимая порядочный ломоть, — бывает, что и красный, да
не хороший44». Замечаете ли вы здесь всю тонкость Афанасия
Ивановича, который хочет разными околичностями отвести гла¬
за своей сожительницы от своего ужасного аппетита, которого
он как будто сам стыдится? Но посмотрим на его дальнейшие
подвиги. «После этого Афанасий Иванович съедал еще несколь¬
ко груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхериею
Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановка отправля¬
лась по своим делам, а он садился под навесом... Немного по¬
годя он посылал за Пульхерией Ивановной и говорил: „Чего бы
такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?44—„Чего же бы тако¬
го? — говорила Пульхерия Ивановна: — разве я пойду скажу,
чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала
я нарочно для вас оставить!44—„И то добре44,—отвечал Афана¬
сий Иванович... „Или, может быть, вы съели бы киселику?44 — „И
то хорошо44,— отвечал Афанасий Иванович. После чего все это
немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед
ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В поло¬
вине десятого садились ужинать... Ночью иногда Афанасий Ива¬
нович, ходя по спальне *, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна
спрашивала: „Чего вы стонете, Афанасий Иванович?44—„Бог его
знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот бо¬
лит44,— говорил Афанасий Иванович. „Может быть, вы бы чего-
нибудь съели, Афанасий Иванович?..44 — „Не знаю, будет ли оно
хорошо, Пульхерия Ивановна! Епрочем, чего ж бы такого
* Так как подробные выписки были бы длиннее самой статьи, которая
и без того длинна, то я позволил себе делать пропуски и, для связи, неко¬
торые перемены в словах.
171
съесть?“—„Кислого молочка или жиденького узвару с суше¬
ными грушами“.—„Пожалуй, разве только попробовать'1,
говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться
по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. После че¬
го он обыкновенно говорил: „Теперь так как будто сделалось
легче“» 33.
Как вы думаете об этом? По-моему, так в этом очерке весь
человек, вся жизнь его, с ее прошедшим, настоящим и буду¬
щим! А супружеская любовь двух старцев, а насмешечки Афа¬
насия Ивановича над своею сожительницею касательно внезапно¬
го пожара в их доме или, что еще ужаснее, касательно его
намерения идти на войну; страх доброй Пульхерии Ивановны,
ее возражения, ее легкая досада и, наконец, чувство самодо-
вольствия, испытываемое Афанасием Ивановичем при мысли,
что ему удалось подшутить над своею дражайшею половиною!
О, эти картины, эти черты — суть такие драгоценные перлы по¬
эзии, в сравнении с которыми все прекрасные фразы наших
доморощенных Бальзаков настоящий горох!.. И все это не при¬
думано, не списано с рассказов или с действительности, но
угадано чувством, в минуту поэтического откровения! Если
бы я вздумал выписывать все места, доказывающий, что г.
Гоголь уловил идею описываемой жизни и верно воспроизвел ее,
то мне пришлось бы списать почти все его повести, от слова
до слова.
Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени; но я не
хочу слишком распространяться о их народности, ибо народ¬
ность есть не достоинство, а необходимое условие истинно ху¬
дожественного произведения, если под народностию должно
разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера
того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого
народа проявляется в своих, ей одной свойственных, формах,
следовательно, если изображение жизни верно, то и народно.
Народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не
требует такого глубокого изучения со стороны художника, как
обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть
на ту или другую жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу,
г. Гоголю с детства знакома жизнь малороссийская, но народ¬
ность его поэзии не ограничивается одною Малороссиею. В его
«Записках сумасшедшего», в его «Невском проспекте» нет ни
одного хохла, всё русские и, вдобавок, еще немцы; а каково
изображены им эти русские и эти немцы! Каков Шиллер и Гоф¬
ман? Замечу здесь мимоходом, что, право, пора бы нам пере¬
стать хлопотать о народности, так же как пора бы перестать
писать, не имея таланта; ибо эта народность очень похожа на
Тень34 в басне Крылова: г. Гоголь о ней нимало не думает,
и она сама напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил
гоняются за нею и ловят — одну тривияльность.
172
Почта то же самое можно сказать и об оригинальности: как
и народность, она есть необходимое условие истинного таланта.
Два человека могут сойтись в заказной работе, но никогда
в творчестве, ибо если одно вдохновение не посещает двух раз
одного человека, то еще менее одинаковое вдохновение может
посетить двух человек. Вот почему мир творчества так неисто¬
щим и безграничен. Поэт никогда не скажет: «О чем мне пи¬
сать? уж все переписано!» или:
О боги, для чего я поздно так родился?
Один из самых отличительных признаков творческой ориги¬
нальности, или, лучше сказать, самого творчества, состоит
в этом типизме, если можно так выразиться, который есть гер¬
бовая печать автора. У истинного таланта каждое лицо — тип,
и каждый тип, для читателя, есть знакомый незнакомец35. Не
говорите: вот человек с огромною душою, с пылкими страстями,
с обширным умом, но ограниченным рассудком, который до
такого бешенства любит свою жену, что готов удавить ее руками
при малейшем подозрении в неверности — скажите проще
и короче: вот Отелло! Не говорите: вот человек, который глу¬
боко понимает назначение человека и цель жизни, который
стремится делать добро, но, лишенный энергии души, не может
сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего
бессилия — скажите: вот Гамлет! Не говорите: вот чиновник, ко¬
торый подл по убеждению, зловреден благонамеренно, престу¬
пен добросовестно — скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот
человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно,
по одному влечению души — скажите: вот Молчалин! Не гово¬
рите: вот человек, который во всю жизнь не ведал ни одной
человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который
во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести,
кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть
восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цве¬
точного чаю, что в жизни человека бывают случаи поважнее
съеденной дыни, что у него есть занятия и обязанности, кроме
ежедневного осмотра своих сундуков, анбаров и хлевов, есть
честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-
нибудь захолустье; о, не тратьте так много фраз, так много
слов — скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или:
вот Иван Никифорович Довгочхун! И поверьте, вас скорее пой¬
мут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий,
Репетплов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич,
княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шил¬
лер, Пискарев, Пирогов: разве все эти собственные имена те¬
перь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смысла
заключает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история,
поэма, драма, многотомная книга, короче: целый мир в одном,
173
только в одном слове! Что перед каждым пз этих слов ваши
заветные: «Qu’il mourfit!» *, «Moi!» **, «Ах, я Эдип!»?33
И какой мастер г. Гоголь выдумывать такпе слова! Не хочу
говорить о тех, о которых и так уже много говорил, скажу
только об одном таком его словечке, это — Пирогов!.. Святите¬
ли! да это целая каста, целый народ, целая нация! О единст¬
венный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из
первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок37, много¬
значительнее, чем Фауст! Ты представитель просвещения
и образованности всех людей, которые «любят потолковать об
литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят
с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове».
Да, господа, дивное словцо этот — Пирогов! Это символ, мисти¬
ческий миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен,
что придет по плечам тысячи человек! О, г. Гоголь большой
мастер выдумывать такие слова, отпускать такие bons mots! ***
А отчего он такой мастер на них? Оттого, что оригинален.
А отчего оригинален? Оттого, что поэт.
Но есть еще другая оригинальность, проистекающая из ин¬
дивидуальности автора, следствие цвета очков, сквозь которые
смотрит он на мир. Такая оригинальность у г. Гоголя состоит,
как я уже сказал выше, в комическом одушевлении, всегда по¬
беждаемом чувством глубокой грусти. В этом отношении рус¬
ская поговорка: начал во здравие, а свел за упокой — может
быть девизом его повестей. В самом деле, какое чувство оста¬
ется у вас, когда пересмотрите вы все эти картины жизни,
пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном
безобразии, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь над нею?
Я уже говорил о «Старосветских помещиках» — об этой слезной
комедии во всем смысле этого слова. Возьмите «Записки сумас¬
шедшего», этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую
грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и че¬
ловеком, жалкою жизнию, жалким человеком, эту карикатуру,
в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту
психическую историю болезни, изложенную в поэтической фор¬
ме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную
кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш
смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого
бред и смешит и возбуясдает сострадание. Я уже говорил также
и о «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» 58
в сем отношении; прибавлю еще, что, с этой стороны, эта по¬
весть всего удивительнее. В «Старосветских помещиках» вы ви¬
дите людей пустых, ничтожных и жалких, но по крайней мере
добрых и радушных; их взаимная любовь основана на одной
* «Да умрет он!» (франц.). — Ред.
** «Я!» (франц.). — Ред.
*** остроты (франц.). —Ред,
174
привычке: но ведь и привычка все же человеческое чувство, но
ведь всякая любовь, всякая гр связанность, на чем бы она ни
основывалась, достойна участия, следовательно, еще понятно,
почему вы жалеете об этих стариках. Но Иван Иванович и Иван
Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные и при¬
том нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет ничего
человеческого; зачем же, спрашиваю я вас, зачем вы так горько
улыбаетесь, так грустно вздыхаете, когда доходите до трагико¬
мической развязки? Вот она, эта тайна поэзии! вот они, эти чары
искусства! Вы впдите жизнь, а кто видел жизнь, тот не может не
вздыхать!..
Комизм или гумор г. Гоголя имеет своп, особенный харак¬
тер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный,
в котором автор как бы прикидывается простачком. Г-н Гоголь
с важностию говорит о бекеше Ивана Ивановича, и иной простак
не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого,
что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь очень
мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы
не понять его иронии, но эта ирония чрезвычайно как идет
к нему. Впрочем, это только манера, и истинный-то гумор г. Го¬
голя все-таки состоит в верном взгляде на жизнь и, прибавлю
еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой им
жизни. Он всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в
таком случае, когда увлекается поэзиею описываемого им пред¬
мета. Беспристрастие его идол. Доказательством этого может
служить «Тарас Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистию
смелою и широкою, этот резкий очерк героической жизни мла-
денчествующего народа, эта огромная картипа в тесных рамках,
достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человек с железным
характером, железною волею: описывая подвиги его кровавой
мести, автор возвышается до лиризма и, в то же время, делает¬
ся драматиком в высочайшей степени, и все это не мешает ему
по местам смешить вас своим героем. Вы содрогаетесь Бульбы,
хладнокровно лишающего мать детей, убивающего собственною
рукою родного сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гро¬
бом детей, и вы же смеетесь над ним, дерущимся на кулачки
с своим сыном, пьющим горелку с своими детьми, радующимся,
что в этом ремесле они не уступают батюшке, и изъявляющим
свое удовольствие, что их добре пороли в бурсе. И причина
этого комизма, этой карикатурности изображений заключается
не в способности плп направлении автора находить во всем
смешпые стороны, но в верности жизни. Если г. Гоголь часто и с
умыслом подшучивает над своимп героями, то без злобы, без
ненависти; он понимает пх ничтожность, но не сердится на нее;
он даже как будто любуется ею, как любуется взрослый человек
на игры детей, которые для него смешны своею наивностию, но
которых он не имеет желания разделить. Но тем не менее это
все-таки гумор, ибо не щадит нпчтожества, не скрывает и не
175
скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого
ничтожества, возбуждает к нему отвращение. Это гумор спо¬
койный и, может быть, тем скорее достигающий своей цели.
И вот, замечу мимоходом, вот настоящая нравственность такого
рода сочинений. Здесь автор не позволяет себе никаких сен¬
тенций, никаких нравоучений; он только рисует вещи так, как
они есть, и ему дела нет до того, каковы они, и он рисует их
без всякой цели, из одного удовольствия рисовать. После «Горя
от ума» я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось
такою чистейшею нравственностию и что бы могло иметь силь¬
нейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести
г. Гоголя. О, пред такою нравственностию я всегда готов падать
на колена! В самом деле, кто поймет Ивана Ивановича Перере¬
пенко, тот верно рассердится, если его назовут Иваном Ивано¬
вичем Перерепенком. Нравственность в сочинении должна со¬
стоять в совершенном отсутствии притязаний со стороны автора
на нравственную или безнравственную цель. Факты говорят
громче слов; верное изображение нравственного безобразия
могущественнее всех выходок против него. Однако ж не за¬
будьте, что такие изображения только тогда верны, когда
бесцельны, когда созданы, а создавать может одно вдохнове¬
ние, а вдохновение может быть доступно одному таланту, сле¬
довательно, только один талант может быть нравственным
в своих произведениях!
Итак, гумор г. Гоголя есть гумор спокойный, спокойный
в самом своем негодовании, добродушный в самом своем лу¬
кавстве. Но в творчестве есть еще другой гумор, грозный и от¬
крытый; он кусает до крови, впивается в тело до костей, рубит
со всего плеча, хлещет направо и налево своим бичом, свитым
из шипящих змей, гумор желчный, ядовитый, беспощадный. Хо¬
тите ли видеть его? Я покажу вам его — смотрите: вот бал, куда
собралась толпа мишурных знаменитостей, ничтожного величия,
чтобы убить время, своего всегдашнего врага, убийцу, толпа
бледная, чудовищная, утратившая образ и подобие божие, по¬
зор людей и бессловесных; вот бал: «Между толпами бродят
разные лица, под веселый напев контроданса свиваются и раз¬
виваются тысячи интриг и сетей; толпы подобострастных аэроли¬
тов вертятся вокруг однодневной кометы; предатель униженно
кланяется своей жертве; здесь послышалось незначущее слово,
привязанное к глубокому долголетнему плану; здесь улыбка
презрения скатилась с великолепного лица и оледенила какой-
то умоляющий взор; здесь тихо ползут темные грехи и тор¬
жественная подлость гордо носит на себе печать отвержения...»
Но вдруг бал приходит в смущение, кричат: «Вода! вода!»
«В другом конце залы играет еще музыка, там еще танцуют, там
еще говорят о будущем, там еще думают о вчера сделанной
подлости, о той, которую надо сделать завтра, там еще есть
люди, которые ни о чем не думают... Но вскоре достигла страш>
176
ная весть, музыка прервалась, все смешалось... Отчего же по¬
бледнели все эти лица?.. Как, мм. гг., так есть на свете нечто,
кроме ваших ежедневных интриг, происков, расчетов? Неправ¬
да! пустое! все пройдет! опять наступит завтрашний день! опять
можно будет продолжать начатое! свергнуть своего противни¬
ка, обмануть своего друга, доползти до нового места!.. Но вы
не слушаете, вы трепещете, холодный пот обдает вас, вам
страшно! И подлинно — вода все растет — вы отворяете окош¬
ко, зовете о помощи, вам отвечает свист бури, и белесоватые
волны, как разъяренные тигры, кидаются в светлые окна! — Да!
в самом деле ужасно! еще минута, и взмокнут эти роскошные,
дымчатые одежды ваших женщин! еще минута — и честолюби¬
вые украшения на груди вашей лишь прибавят к вашей тяжести
и повлекут на холодное дно.— Страшно! страшно! Где же все-
мощные средства науки, смеющейся над усилиями природы?
Мм. гг., наука замерла под вашим дыханием. — Где же сила
молитвы, двигающей горы? — Мм. гг., вы потеряли значение
этого слова. — Что же остается вам! — смерть! смерть! смерть
ужасная! медленная! Но ободритесь, что такое смерть? — вы
люди мудрые, благоразумные, как змии! неужели то, о чем
посреди глубоких рассуждений ваших вы никогда и не помыш¬
ляли, может быть делом столь важным? Призовите на
помощь свою прозорливость, испытайте над смертью ваши
обыкновенные средства: испытайте, нельзя ли подкупить ее,
оклеветать? не испугается ли она вашего холодного, грозного
взгляда?..» 39
Я не буду решать, которому из этих двух видов гумора
должно отдать преимущество. Вопрос о подобном превосходстве
был бы так же нелеп, как вопрос о превосходстве оды над
элегиею, романа над драмою, ибо изящное всегда равно самому
себе, в каких бы видах ни проявлялось. Есть вещи, столь гадкие,
что стоит только показать их в собственном их виде или назвать
их собственным их именем, чтобы возбудить к ним отвращение;
но есть еще вещи, которые, при всем своем существенном
безобразии, обманывают блеском наружности. Есть ничтожест¬
во грубое, низкое, нагое, неприкрытое, грязное, вонючее, в лох¬
мотьях; есть еще ничтожество гордое, самодовольное, пышное,
великолепное, приводящее в сомнение об истинном благе са¬
мую чистую, самую пылкую душу, ничтожество, ездящее в каре¬
те, покрытое золотом, умно говорящее, вежливо кланяющееся,
так что вы уничтожены перед ним, что вы готовы подумать, что
оно-то есть истинное величие, что оно-то знает цель жизни
и что вы-то обманываетесь, вы-то гоняетесь за призраками. Для
того и другого рода ничтожества нужен свой, особенный бич,
бич крепкий, ибо то и другое ничтожество покрыто тройною
бронею. Для того и другого рода ничтожества нужна своя
Немезида, ибо надобно же, чтобы люди иногда просыпались от
своего бессмысленного усыпления и вспоминали о своем чело¬
177
веческом достоппстве; ибо надобно же, чтобы гром иногда
раздавался над пх головами и напоминал им о их творце; ибо
надобно же, чтобы, за пиршественным столом, посреди остат¬
ков безумной роскошп, среди утех беснующейся масленицы,
унылый и торжественный звук колокола возмущал внезапно их
безумное упоение и напоминал о храме божием, куда вся¬
кий должен предстать с раскаянием в сердце, с гимном на
устах!..40
Г-н Гоголь сделался известным своими «Вечерами на хуто¬
ре». Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные
жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасно¬
го, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что
народ может иметь оригинального, типического, все это радуж¬
ными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Го¬
голя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная,
упоительная, как поцелуй любви... Читайте вы его «Майскую
ночь», читайте ее в зимний вечер у пылающего камелька, и вы
забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудить¬
ся эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная
чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица,
жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище
с одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих
водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах кото¬
рого пляшут вереницы бесплотных красавиц... Это впечатление
очень похоже на то, которое производит на воображение «Сон
в летнюю ночь» Шекспира. «Ночь пред Рождеством Христо¬
вым» 41 есть целая, полная картина домашней жизни народа,
его маленьких радостей, его маленьких горестей, словом, тут
вся поэзия его жизни. «Страшная месть» составляет теперь pen¬
dant* к «Тарасу Бульбе», и обе эти огромные картины показы¬
вают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя. Но я никогда
бы не кончил, если бы стал разбирать «Вечера на хуторе»!
«Арабески» и «Миргород» носят на себе все признаки зреюще¬
го таланта. В них меньше этого упоения, этого лирического раз-*
гула, но больше глубины и верности в изображении жизни.
Сверх того, он здесь расширил свою сцену действия и, не остав¬
ляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Мало¬
россии, пошел искать поэзии в нравах среднего сословия в Рос¬
сии. И, боже мой, какую глубокую и могучую поэзию нашел он
тут! Мы, москали, и не подозревали ее!.. «Невский проспект»
есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное;
это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое
и смешное о бок друг другу. На одной стороне этой картины
бедный художник, беспечный и простодушный, как дитя, заме¬
чает на Невском проспекте женщину-ангела, одно из тех див¬
ных созданий, которые могло производить только его худож-
* параллель (франц.), — Ред,
178
нпческое воображение; on следит за нею, он дрожит, он нэ
смеет дохнуть, ибо он еще не знает ее, но уже обожает ее,
а всякое обожание робко и трепетно; он замечает ее благо¬
склонную улыбку, п «кареты казались ему недвижны, мост рас¬
тягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз,
будка и. алебарда часового, вместе с золотыми словами и на¬
рисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице
его глаз» 42. Задыхаясь от упоения и трепетного предчувствия
блаженства, он входит за нею в третий этаж большого дома,
и что же представляется ему?.. Она, все так же прекрасная?
очаровательная, она смотрит на него глупо, нагло, как бы гово^
ря ему: «Ну! что же ты?..» Он бросается вон. Я не хочу переска¬
зывать его сна, этого дивного, драгоценного перла нашей по¬
эзии, второго и единственного, после сна Татьяны Пушкина;
здесь г. Гоголь поэт в высочайшей степени. Кто читает эту по¬
весть в первый раз, для того, в этом дивном сне, действитель¬
ность и поэзия, реальнее и фантастическое так тесно сливаются,
что читатель изумляется, узнавши, что все это только сон.
Представьте себе бедного, оборванного, запачканного худож¬
ника, потерянного в толпе звезд, крестов и всякого рода совет¬
ников: он толкается между ними, уничтожающими его своим
блеском, он стремится к ней, и они беспрестанно разлучают его
с ней, они, эти кресты и звезды, которые смотрят на нее без
всякого упоения, без всякого трепета, как на сбои золотые та¬
бакерки... И какое пробуждение после этого сна! и как можно
жить после такого пробуждения? И он точно не живет более
в действительности, он весь в грезах... Наконец, в его душе
блеснул обманчивый, но радужный луч надежды: он решается
на самоотвержение, он хочет принести ей в жертву, как Моло¬
ху* даже честь свою... «А я только что теперь проснулась, меня
привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна»,— это гово¬
рит ему она, все так дсе прекрасная, очаровательная... После
этого можно ли было жить даже и в грезах?.. И нет художника,
он сошел в темную могилу, никем не оплаканный, и мир не
знал, какая высокая и ужасная драма была разыграна в этой
грешной, страдальческой душе...
На другой стороне этой картины вы видите Пирогова
и Шиллера, того Пирогова, о котором я уже говорил, того Шил¬
лера, который хотел отрезать себе нос, чтобы избавиться от
излишних расходов на табак; того Шиллера, который говорит
с гордостью, что он швабский немец, а не русская свинья и что
у него есть король в Германии; того Шиллера, который «еще
с двадцатплетнего возраста, с того времени, которое русский
живет на фуфу, измерил всю свою жизнь и положил себе, в тече¬
ние 10 лет, составить капитал из 50 тысяч и у которого это было
уже так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее
чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальии-
179
ка, -нежели немец решится переменить свое слово»; наконец,
того Шиллера, который «положил целовать жену свою в сутки
не более двух раз, и чтобы как-нибудь не поцеловать лишний
раз, никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп».
Чего вам еще? Тут весь человек, вся история его жизни!.. А Пи¬
рогов?.. О, об нем об одном можно написать целую книгу!.. Вы
помните его волокитство за глупою блондинкою, с которою он
составляет такую отличную пару, его ссору и отношения с Шил¬
лером; помните, какие ужасные побои претерпел он от флегма¬
тического Отелло, помните, каким негодованием, какою жаж¬
дою мести закипело сердце поручика, и помните, как скоро
прошла его досада от съеденных кондитерских пирожков
и прочтения «Пчелы»?.. Чудные пирожки! Чудная «Пчела»!
Пискарев и Пирогов — какой контраст! Оба они начали, в один
день, в один час, преследования своих красавиц, и как различны
для обоих них были следствия этих преследований! О, какой
смысл скрыт в этом контрасте! И какое действие производит
этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле, другой до¬
волен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужас¬
ных побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!..
«Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантасти¬
ческом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении
остается талантом. Первой части этой повести невозможно чи¬
тать без увлечения; даже, в самом деле, есть что-то ужасное,
роковое, фантастическое в этом таинственном портрете, есть
какая-то непобедимая прелесть, которая заставляет вас насиль¬
но смотреть на него, хотя вам это и страшно. Прибавьте к
этому множество юмористических картин и очерков во вкусе
г. Гоголя; вспомните квартального надзирателя, рассуж¬
дающего о живописи; потом эту мать, которая привела к Черт¬
кову свою дочь, чтобы спять с нее портрет, и которая бранит
балы и восхищается природою, — и вы не откажете в досто¬
инстве и этой повести. Но вторая ее часть решительно ничего
пе стоит: в ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная придел¬
ка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого
участия 43.
Вообще надо сказать, фантастическое как-то не совсем да¬
ется г. Гоголю, и мы вполне согласны с мнением г. Шевырева,
который говорит, что «ужасное не может быть подробно: при¬
зрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределен¬
ность; если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую пи¬
рамиду, с какими-то челюстями вместо ног и языком вверху, тут
уж не будет ничего страшного, и ужасное переходит просто
в уродливое» 44. Но зато картины малороссийских нравов, опи¬
сание бурсы (впрочем, немного напоминающее бурсу Нарежно-
то45), портреты бурсаков и особенно этого философа Хомы,
философа не по одному классу семинарии, но философа по
духу, по характеру, по взгляду на жизнь. О несравненный domi-
180
nus* Хома! как ты велик в своем стоистическом равнодушии
ко. всему земному, кроме горелки! Ты натерпелся горя и стра¬
ху, ты чуть не попался в когти к чертям, но ты все забываешь за
широкою и глубокою ендовою, на дне которой схоронена твоя
храбрость и твоя философия; ты, на вопрос о виденных тобою
страстях, машешь рукою и говоришь: «Много на свете всякой
дряни водится!»; у тебя половина головы поседела в одну ночь,
а ты оттопываешь тропака, да так, что добрые люди, смотря на
тебя, плюют и восклицают: «Вот это как долго танцует человек!»
Пусть судит всякий как хочет, а по мне так философ Хома стоит
философа Сковороды!46 Потом, помните ли вы невольное пу¬
тешествие философа Хомы, помните ли попойку в шинке, этого
Дороша, который, нагрузившись пенником, вдруг захотел
узнать, непременно узнать, чему учат в бурсе (шуточное дело!),
этого резонера, который божился, что «все должно оставить
так, как есть, что бог знает, как нужно», и, наконец, этого,
казака с седыми усами, который рыдал о том, что остался
круглым сиротою... А эти поучительные беседы на кухне, где
«обыкновенно говорилось обо всем, и о том, кто пошил себе
новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел
волка»? А суждения этих умных голов о чудесах в природе?
А портрет пана сотника, и кто перечтет?.. Нет, несмотря на
неудачу в фантастическом, эта повесть есть дивное создание.
Но и фантастическое в ней слабо только в описании привидений,
а чтения Хомы в церкви, восстание красавицы, явление Вия
бесподобны.
Я еще мало говорил о «Тарасе Бульбе» и не буду слишком
распространяться о нем, ибо, в таком случае, у меня вышла бы
еще статья, не менее самой повести... «Тарас Бульба» есть от¬
рывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если
в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ев
высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что
в «Илиаде» отражается вся жизнь греческая в ее героический
период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века за¬
претят сказать то же самое и о «Тарасе Бульбе» в отношении
к Малороссии XVI века?..47 И в самом деле, разве здесь не всо
козачество, с его странною цивилизациею, его удалою, разгуль¬
ною жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и де-
ятельностию, его буйными оргиями и кровавыми набегами?..
Скажите мне, чего нет в этой картине? чего недостает к ее
полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли
здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот богатырь Бульба
с своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцев, дружно
отдирающая на площади тропака, этот козак, лежащий в луже,
для показания своего презрения к дорогому платью, которое на
нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого,
.* господин (лат.). — Ред.
181
кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем; этот ко-
шевойу поневоле говорящий красноречивую, витиеватую речь
о необходимости войны с бусурманами, потому что «многие
запорожцы позадолжалпсь в шинки жидам и своим братьям
столько, что ни один черт теперь и веры неймет»; эта мать,
которая является как бы мимоходом, чтобы заживо оплакать
детей своих, как всегда являлась в тот век женщина и мать
в козацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрия и кровавая
месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу и «слы¬
шу» * Бульбы и, наконец, героическая гибель старого фанатика,
который не чувствовал своих ужасных мук, потому что чувство¬
вал одну жажду мести к враждебному народу?.. И это не эпо¬
пея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть, широкая, раз¬
машистая, резкая, быстрая! какие краски, яркие п ослепитель¬
ные!.. И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорож¬
ская сечь, «то гнездо, откуда вылетают все те гордые и креп¬
кие, как львы, откуда разливается воля и козачество на всю
Украйну!..» 51
Что еще сказать вам?. может быть, вы мало удовлетворены
и тем, что я уже сказал: что делать? Гораздо легче чувствовать
и понимать прекрасное, нежели заставлять других чувствовать
и понимать его! Если одни из читателей, прочтя мою статью,
скажут: «Это правда» или по крайней мере: «Во всем этом есть
и правда»; если другие, прочтя ее, захотят прочесть и разо¬
бранные в ней сочинения,— мой долг выполнен, цель достиг¬
нута.
Но какой же общий результат выведу я из всего сказанного
мною? Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место
в ней? Чего должно ожидать нам от него, от него, еще только
начавшего свое поприще, и как начавшего? Не мое дело разда¬
вать венки бессмертия поэтам, осуждать на жизнь или смерть
литературные произведения; если я сказал, что г. Гоголь поэг,
я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские
приговоры. Теперь у нас слово «поэт» потеряло свое значение:
его смешали с словом «писатель». У нас много писателей, неко¬
торые даже с дарованием, но нет поэтов. Поэт высокое и свя¬
тое слово; в нем заключается неумирающая слава! Но дарова¬
ние имеет свои степени; Козлов, Жуковский, Пушкин, Шиллер:
* Впрочем, я не ставлю в слишком большую заслугу г. Гоголю этого
«слышу» и не думаю, подобно некоторым, что если бы г. Гоголь и не изоб¬
рел ничего другого, кроме этого славного «слышу», то одним пм мог бы
заставить молчать злонамеренность критики;48 ибо, во-первых, злонамерен¬
ность критики нельзя обезоружить изящными созданиями, чему примером
может служить этот же самый г. Гоголь, некоторыми благонамеренными
критиками пожалованный в Поль де Коки;49 потом, это славное «слышу» не
имело бы никакого смысла, без отношения к целой повести и без связи с
нею; и, наконец, теперь уже прошло то время, когда в пример высокого
представляли: «Qu’il mourut!», «Moi!», «Ах, я Эдип», «Я росс» 50 и т. п.; зачем
же обогащать педантов новым примером высокого в выражении?
182
эти люди поэты, но равны ли опп? Разве не спорят еще и теперь,
кто выше: Шиллер плп Гете? Разве общий голсс не назвал Шек¬
спира царем поэтов, единственным и несравненным? И вот за¬
дача критики: определить степень, занимаемую художником
в кругу своих собратий. Но г. Гоголь еще только начал свое
поприще: следовательно, наше дело высказать свое мнение
о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот
дебют. Эти надежды велики, пбо г. Гоголь владеет талантом
необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в на¬
стоящее время он является главою литературы, главою поэтов;
он становится на место, оставленное Пушкиным. Предоставим
времени решить, чем и как кончится поприще г. Гоголя, а те¬
перь будем желать, чтобы этот прекрасный талант долга сиял
на небосклоне нашей литературы, чтобы его деятельность рав¬
нялась его силе.
В «Арабесках» помещены два отрывка из романа. Об этих
отрывках нельзя судить как об отдельном и целом создании; но
о них можно сказать, что они вполне могут служить залогом
тех надежд, о которых я говорил52. Поэты бывают двух родов:
одни только доступны поэзии, и она у них бывает более способ-
ностию, чем даром или талантом, и много зависит от внешних
обстоятельств жизни; у других дар поэзии есть нечто положи¬
тельное, нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Пер¬
вые, иногда один раз в целую жизнь, выскажут какую-нибудь
прекрасную поэтическую грезу и, как будто обессиленные тя¬
жестью свершенного ими подвига, ослабевают и падают в после¬
дующих своих произведениях; и вот отчего у них первый опыт,
по большей части, бывает прекрасен, а последующие постепен¬
но подрывают их славу. Другие с каждым новым произведени¬
ем возвышаются и крепнут;’ г. Гоголь принадлежит к числу этих
последних поэтов: этого довольно!
Я забыл еще об одном достоинстве его произведений; это
лиризм, которым проникнуты его описания таких предметов,
которыми он увлекается. Описывает ли он бедную мать, это
существо высокое и страждущее, это воплощение святого чув¬
ства любви — сколько тоски, грусти и любви в его описании!
Описывает ли он юную красоту — сколько упоения, восторга в его
описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюб¬
ленной Малороссии — это сын, ласкающийся к обожаемой матери!
Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских?
Какая шпрокая, размашистая кисть! Какой разгул чувства! Какая
роскошь и простота в этом оппсаппи! Черт вас возьми, степи,
как вы хороши у г. Гоголя!..53
В одном журнале было изъявлено странное желание, чтобы
г. Гоголь попробовал своих сил в изображении высших слоев
общества: вот мысль, которая в наше время отзывается ужас¬
ным анахронизмом!54 Как! неужели поэт может сказать себе:
183
даа опишу то или другое, дай попробую себя в том или другом
роде?.. И притом, разве предмет делает что-нибудь для досто¬
инства сочинения? Разве это не аксиома: где жизнь, там и по¬
эзия? Но мои «разве» никогда бы не кончились, если бы я за¬
хотел высказать их все, без остатка. Нет, пусть г. Гоголь описы¬
вает то, что велит ему описывать его вдохновение, и пусть стра¬
шится описывать то, что велят ему описывать или его воля, или
гг. критики. Свобода художника состоит в гармонии его
собственной воли с какою-то внешнею, не зависящею от него во¬
лею, или, лучше сказать, его воля есть вдохновение!.. *
* Я очень рад, что заглавие и содержание моей статьи избавляет меня
от неприятной обязанности разбирать ученые статьи г. Гоголя, помещенные
в «Арабесках». Я не понимаю, как можно так необдуманно компрометиро¬
вать свое литературное имя. Неужели перевести, или, лучше сказать, пере¬
фразировать и перепародировать некоторые места из истории Миллера,
перемешать их с своими фразами, значит написать ученую статью?.. Неу¬
жели детские мечтания об архитектуре ученость?.. Неужели сравнение
Шлецера, Миллера и Гердера, ни в каком случае не идущих в сравнение,
тоже ученость?.. Если подобные этюды — ученость, то избавь нас бог от
такой учености! Мы и без того богаты ею. Отдавая полную справедливость
прекрасному таланту г. Гоголя как поэта, мы, движимые чувством той же
самой справедливости, того же самого беспристрастия, желаем, чтобы кто-
нибудь разобрал подробнее его ученые статьи55.
484
О СТИХОТВОРЕНИЯХ г. БАРАТЫНСКОГО
Часто думаю я о том, какое резкое отличие находится меж¬
ду ноэзиею первобытных народов и поэзиею новых народов, ко¬
торых религия, цивилизация, просвещение и литература обра¬
зовались под разными чуждыми влияниями. Представьте себе
народ, у которого еще нет ни идеи творчества, ни слова для
выражения этой идеи, а есть уже само творчество. Кто открыл
ему эту тайну, кто навел его на эту мысль? Одна природа
и больше никто. Самое просвещение, в этом случае, дело совер¬
шенно постороннее, ибо оно только сообщает поэзии другой
характер. И это очень естественно: чем бессознательнее твор¬
чество, тем оно глубже и истиннее. Поэт, который творил, не
сознавая своего действия, не понимая, что он делает,— он бо¬
лее поэт, нежели тот, который, чувствуя вдохновение, говорит:
«Хочу писать». Кто слагал наши народные песни? люди, которые
даже и не подозревали, ^то есть поэзия, есть вдохновение, есть
поэты, есть литература. Как слагали они свои песни? экспром¬
том, за пиршественною чашею, среди ликующего круга или, все¬
го чаще, в минуты тоски и уныния, когда душа просилась вон
и хотела излиться или в слезах, или в звуках. Как смотрели эти
генияльные люди на свои произведения? как на дело пустое, и,
может быть, когда проходили обстоятельства, породившие их
песню, когда стихали чувства и уступали полное владычество
рассудку, они удивлялись, как пришла им в голову странная
мысль заниматься таким вздором, и стыдились своей песни, как
стыдится протрезвившийся человек дурного или смешного
поступка, сделанного им в пьяном виде. Я часто мечтал об од¬
ном создании, идеал которого смутно носился в душе моей
и который мне очень хотелось увидеть когда-нибудь осуществ¬
ленным: мне хотелось прочесть роман или драму, в которой бы
содержание было взято из русской жизни, до Петра Великого,
и в которой была бы представлена борьба гення с своими по¬
рывами, для него непонятными. В самом деле, неужели в этом
185
народе, сознававшем себя несколько столетий и занимавшем
такое обширное пространство, не было своих Шекспиров, Шпл-
леров!.. Итак, представьте себе народ, у которого было
поэтическое чувство, но которого условия жизни были совершенно
противоположны поэзии жизни; которого религия покровитель¬
ствовала искусству и требовала от него служения, но который
в религии довольствовался одними формами, а искусство сде¬
лал ремеслом определенным и положительным, так что гений
и посредственность были в нем подведены под уровень; народ,
который любил временем и спеть песню и поплясать в присядку,
но который в то же время и пение и пляску почитал бесовскою
потехою, грехом тяжким; народ, который довольствовался скуд¬
ною житейскою философиею, лениво наследованною им от пра-
отцев п заключенною в формы пословиц и поговорок; народ,
который святое чувство любви почитал дьявольским наваждени¬
ем, отчитывался от него молитвами, отпрыскивался нашептан¬
ною водою; народ, который женщину — эту поэзию жизни, кото¬
рою одною бывает жизнь красна, женщину сделал своей рабы¬
нею, родом домашнего животного, немного выше коровы или
лошади; наконец, народ, который был чужд всякого движения
вперед, всякого стремления к совершенствованию, был похож
на обледенелую массу воды, по которой тщетно скользят блед¬
ные лучи зимнего солнца. Теперь, среди этого ' народа, пред¬
ставьте себе юношу-гения: какой контраст, какие подробности,
сколько красок, какая драма, высокая и ужасная в своей про¬
стоте и карикатурности!.. Этот юноша есть единственная опора,
единственная надежда престарелой матери. Какой-нибудь доб¬
рый монах учит его грамоте, чтоб он мог со временем сде¬
латься писцом в приказе, дьяком или земскою ярыжкою. Это
все одно и то же, ибо одинаково прибыльно, а русский народ
смотрел всегда на судопроизводство, как на средство жить; наши
мужички и теперь еще не шутя говорят: «Он на то и алист-
ратор, чтоб взятки брать». Итак, юноше приготовляется блестя¬
щая будущность; надо, чтоб он умел воспользоваться ею. Но
вот беда: юноша болен странным недугом; ему снятся наяву
дивные сны, слышатся чудные звуки, ему хочется и сам он не
знает чего; он забывает свое дело и, как одержанный бесом, то
плачет, то хохочет, сам не зная отчего. Мать плачет о нем, как
о потерянном, взбалмошном, помешанном; добрые люди, гово¬
ря о нем, пожимают плечами и набожно произносят: «Господи,
спаси нас от лукавого!» Все это очень обыкновенно, но вот что
не совсем обыкновенно: он сам уверен, что он одержим злым
духом, постигнут черным недугом, что его мысли грешны, же¬
лания и помыслы нечисты. Он молит бога, чтобы он избавил его
от злого беса, который его мучит и преследует, чтобы он на¬
правил его на путь истинный; он плачет и раскаивается, и все
остается таким же чудным и непохожим на добрых людей. Не
правда ли, что это прекрасный предмет для драмы, не правда
180
лп, что такая драма, плод гения, в тысячу бы раз лучше п яснее
всех курсов п теорий эстетики объяснила дивную п великую тай¬
ну, которая здесь, на земле, называется поэтом, художником?..
История первобытной греческой поэзип достойна глубочай¬
шего изучения. Сравните с нею историю первобытной индийской,
арабской поэзип — и сколько драгоценных фактов получите вы
для теории изящного. В самом деле, поэт, который сочиняет, не
зная, что такое поэзия, что такое поэт, не зная, чтобы когда-
нибудь. и кто-нибудь, подобпо ему, сочинял, который сочиняет
по непреодолимому побуждению, которого не умеет ни понять,
ни назвать, не есть ли он поэт по преимуществу? И такие поэты
бывают только у пародов младенчествующих, и их имена или
исчезают для потомства, или передаются ему в мифических об¬
разах Гомеров, Оссианов. Создания таких поэтов суть типи¬
ческие, оригинальные и вечные. Они творят роды и формы ис¬
кусства, ибо, по странной ошибке человеческого ума, служат
образцами для последующих творцов. Они вполне принадлежат
своему веку и народу, ибо творят свободпо от всякого посто¬
роннего влияния. Какое дело, если у индийцев была драма пре¬
жде, чем Эсхил явился в Греции... Эсхил все-таки творец гре¬
ческой трагедии, этого рода, так отличного от новейшей драмы.
Тип эпических рапсод, тип эсхиловской драмй, есть тип истин¬
ный, естественный, законный, если можно так сказать, ибо он
найден в природе, а не выдуман. Можно ли усомниться в при¬
звании первобытных поэтов?..
Не так бывает у народов, у которых поэзия является тогда#
как им уже известна идея поэзии по опыту первобытных наро¬
дов. Не самобытны, не оригинальны, незаконны роды и формы
их созданий. Если они и носят на себе признаки таланта, то
похожи на здание, которого план начертан одним художником,
а выполнен другим, принадлежащим другому веку и другому
народу: похожи на пламенное произведение юноши поэта, напи¬
санное на тему, потом переправленное а переделанное варва¬
ром педагогом. Такова «Энеида» и все поэмы, существующие на
свете потому только, что существовал! прежде них зИлнада»,
а не почему иному. У этих народов, обыкновенно, тог и поэт-
кто начал писать прежде других, кто вышел на арену ъ громка
закричал: «Смотрите, я поэт!» И вот причина деспотического
владычества Ронсаров, Кантемиров, Тредьяковскпх, Сумароко¬
вых. Но это владычество непродолжительно; оно оканчивается
тотчас, как народ начнет понимать истинное значение поэзии.
Тогда новое и горе: тогда является множество другого рода
незаконных поэтов. Это люди, больше или меньше доступные
поэзии, то есть способные понимать ее, часто владеющие талан¬
том формы, вместо таланта творчества, то есть умеющие дать
изящную форму всякой мысли, даже пустой. Они обыкновенно
угождают, льстят своему времени и посему пользуются успехом
только в свое время, тотчас забываемые, как наступит другое
187
время и приведет с собою другие идеи, другие потребности*
Хотите ли знать имена таких поэтов? Это Дезульер, Флорианы,
Делили, Богдановичи, Капнисты, Гнедичи и пр. и пр.
В деле литературы у всякого народа бывают свои эпохи
очарования и разочарования. Сначала господствует безотчетное
удивление; все кажется прекрасным, великим, бессмертным;
авторитеты царствуют, как олимпийские боги, и едва соблагово¬
ляют преклонять свой слух к гимнам хвалений. И какой много¬
людный Олимп! Если бы он сошел на землю, то недостало бы ни
мест, ни материялов для построения ему приличных. храмов.
Это эпоха веселая, как и все эпохи очарования, но глупая
и нелепая, как все эпохи торжества посредственности, само¬
званства, безвкусия, унижения искусства, истины, здравого
смысла. Потом наступает эпоха разочарования и приводит за
собою дух реакции, критики, анализа. Знаменитости подвергают¬
ся строгому исследованию; самозванство развенчивается; истин¬
ной заслуге отдается должная почесть; Олимп пустеет, но его
пустота почтенна, ибо если немногие, зато яркие звезды сияют
на его вершине. Есть люди, которые упорно остаются верными
своим прежним богам и, видя разбитые капища, сокрушенных
идолов, с воплем и слезами восклицают: «Выдыбай, боже!» Ка¬
кая причина этого странного упорства? Посредственность и ме¬
лочное самолюбие. Эти люди остервеняются не за идолов своих,
а за самих себя, ибо в ниспровержении своих идолов видят
ниспровержение своих понятий об изящном, упадок своего кре¬
дита во вкусе, чувстве, уме, познаниях. Жалкая и между тем
вредная братия! Чтобы любить истину, должно жертвовать ей
своими задушевными мыслями, привычками, предубеждениями.
А легко ли это? Из одного и того же источника часто выходят
различные результаты. Один так любит искусство, что посвяща¬
ет всю жизнь свою на служение ему в качестве действователя,
не думая о том, что у него нет таланта и что он своею деятель-
иостию оскорбляет святость и великость этого искусства, кото¬
рому хочет служить; это любовь нечистая: к ней примешано
много эгоизму, мелочного самолюбия. Другой так любит искус¬
ство, что, начавши писать по увлечению и приобретя лестные
успехи, по видя, что его произведения, которым рукоплещет
толпа, далеко не соответствуют тому идеалу поэзии, который он
создал себе, останавливается в начале поприща, успешно нача¬
того, с стесненным сердцем рвет и попирает ногами свои вялые
лавры и решается никогда не оскорблять святости и великости
искусства, которое обожает. Вот это любовь к искусству, любовь
высокая, благородная! И может ли такой человек хладнокровно
видеть, как жалкая посредственность или низкая злонамерен¬
ность профанирует святость и великость боготворимого им ис¬
кусства, профанирует своим удивлением к блестящему ничто¬
жеству или своими кривыми толками об изящном, или уродли¬
выми созданиями — батардами искусства, выдаваемыми им за
188
создания творчества?.. Может ли он пе подать голоса, остаться
немым, страшась преследований раздраженной посредствен¬
ности или боясь имени «ругателя»?
В нашей литературе теперь именно наступила эта эпоха ана¬
лиза. Мы наконец хотим владеть сокровищем немногим, но ис¬
тинным. А что то за сокровище, которое беспрестанно боишься
потерять? Что тот за авторитет, который каждую минуту готов
пасть? Что та за истина, которая боится исследования, темнеет
от взоров ума? Нет, пусть будет воздаваемо каждому должное,
пусть заслуга пользуется уважением, а бездарность обличится
и всякий займет свое место! Неужели наши мелкие расчеты,
наше жалкое самолюбие, наши ничтожные отношения дороже
и важнее истины, общественного вкуса, общественной любви
к искусству, общественных понятий об изящном? Неужели мы
всегда будем ездить верхом на палочках? Неужели наша лите¬
ратура всегда будет представляться в форме Ивана Ивановича
Перерепенко*, который, съевши дыню, завертывал в бумажку
зерна и своей рукой надписывал: «Съедена тогда-то»?.. Надо
направлять общественный вкус и понятия об изящном, рас¬
пространять общественную склонность к изящному. Мы уже те¬
перь не ослепляемся знаменитостию рода, незаслуженными от¬
личиями: зачем еще будем мы ослепляться знаменитостию ли¬
тературных имен, незаслуженными авторитетами? Имя — ниче¬
го; важно дело.
Приступая к оценке стихотворений г. Баратынского, я не
без намерения сделал такое обширное вступление. У нас еще
так много людей, которые, зная, что говорить правду — поте¬
рять дружбу, что хвалить гораздо выгоднее, чем хулить, почи¬
тают говорящих правду людьми беспокойными и злонамерен¬
ными; так же точно, как у нас еще много людей, которые почи¬
тают злонамеренностию и безнравственностию восставать громко
против взяточничества, ибо у нас еще и теперь многие думают,
что никто не имеет права мешать другому наживаться, а, по их
мнению, всякое средство к наживе позволительно. Неужели и в
литературе должно находиться такое же подьячество мнений?..
Я не буду слишком распространяться в разборе стихотво¬
рений г. Баратынского; вопрос не обширный и притом очень
ясный.
Г-н Баратынский поэт ли? Если поэт, какое влияние имели на
нашу литературу его сочинения? какой новый элемент внесли
они в нее? какой их отличительный характер? Наконец, какое
место занимают они в нашей литературе?
Несколько раз перечитывал я стихотворения г. Баратын¬
ского и вполне убедился, что поэзия только изредка и слабыми
искорками блестит в них. Основной и главный элемент их со¬
ставляет ум, изредка задумчиво рассуждающий о высоких чело¬
веческих предметах, почти всегда слегка скользящий по ним, но
всего чаще рассыпающийся каламбурами и блещущий острота-
№
мп. Следующее стпхотворенпе, взятое на выдержку, всего
лучше характеризует светскую, паркетную музу г. Баратын¬
ского:
Нет, обманула вас молва,
По-прежнему дышу я вамп,
И надо мной свои права
Вы не утратили с годами.
Другим курил я фимиам,
Но вас носил в святыне сердца,
Молился новым образам,
Но с беспокойством староверца2.
Скажите, бога ради, неужели это чувство, фантазия, а пе игра
ума? И перечтите все стихотворения г. Баратынского: что вы
увидите в каждом из лучших? Два-три поэтические стиха, вылив¬
шиеся из сердца; потом риторику, потом несколько прозаи¬
ческих стихов; но везде ум, везде литературную ловкость,
уменье, навык, щегольскую отделку и больше ничего. Читая эти
два тома, вы видите, что они написаны человеком, для которого
жизнь была не сном, который мыслил, чувствовал, которого за¬
нимали и интересовали предметы человеческого уважения, но
ни одно из них не западет вам в душу, не взволнует ее могу¬
щею мыслию, могущим чувством, не истомит ее сладкою тоскою
и не наполнит тревожным упоением, от которого занимается
дух и по телу пробегает электрический холод. Я не хочу сравни¬
вать, в этом отношении, г. Баратынского с Пушкиным; такое
сравнение было бы недобросовестно. Возьмем параллель пони¬
же, возьмем г. Козлова и противопоставим его г. Баратынско¬
му — то ли это? Г-н Козлов поэт не генияльный^ поэт обыкно¬
венный, но вот что значит быть истинным поэтом в какой бы то
ни было степени! Можете ли вы читать без упоения его дивную,
роскошную, таинственную, благоухающую и блестящую «Венеци-
янскую ночь» и многие другие мелкие стихотворения; не про¬
буждают ли всей вашей души многие места из его «Чернеца»
и не вызывают ли они всех гаших задушевных дум, не откликае¬
тесь ли вы на них своим чувством? Есть и у г. Баратынского
несколько замечательных стихотворений, как-то: «Элегия на
смерть Гете»3, «О счастии с младенчества тоскуя», «Дало две
доли провидение», «Когда печалью вдохновенный», «Бежит
неверное здоровье»4, «Не искушай меня без нужды»5, «При¬
творной нежности не требуй от меня», «Череп», «Последняя
смерть», но одни пз них хороши по мысли, но холодны, а все
вообще оставляют в душе такое же слабое впечатление, как
дуновение уст на стекле зеркала: оно легко и скоропреходяще.
В наше время, холодное, прозаическое время, надо в поэзии
огня да огня: иначе нас трудно разогреть.
В числе необходимых условий, составляющих истинного по¬
эта, должна непременно быть современность. Поэт больше,
нежели кто-нибудь, должен быть сыном своего времени. Ска¬
жите, бога ради, может ли поэт нашего времени написать два
№
длинных, вялых прозаических послания, каковы к Богдановичу
и Гнедичу 6, которых самый механизм стихов скрыпит, как тяже¬
лые ворота на вереях, и в которых нет не только ни искры
чувства, но даже и порядочной мысли? Может ли поэт нашего
времени написать, а если уже имел несчастие написать, то по¬
местить в полном собрании своих сочинений, например, вот та¬
кое стихотвореньице:
Не знаю, милая, не знаю!
Краса пленительна твоя:
Не знаю, я предпочитаю
Всем тем, которых знаю я? 7
Чем это сентиментальное стихотворение лучше «Триолета Лиле-
те» 8, написанного Карамзиным?..
Вчера ненастливая ночь
Меня застала у Лилеты.
Остаться ли мне, идти ли прочь,
Меж нами долго шли советы.
Но в чашу светлого вина
Налив с улыбкою лукавой,
Послушай, молвила она,
Впно советник самый здравый.
Я пил; на что ж решился я
Благим внушеньем полной чаши?
Побрел по слякоти, друзья,
И до зари сидел у Паши 9.
И это поэзия?.. И это хотят нас заставить читать, нас, которые
знают наизусть стихи Пушкина?.. И говорят еще иные, что
XVIII век кончился!..
Она придет? к ее устам
Прижмусь устами я моими;
Приют укромный будет нам
Под сими вязами густыми!
Волненьем страстным я томим;
Но близ любезной укротим
Желаний пылких нетерпенье:
Мы ими счастию вредим
И сокращаем наслажденье 10.
Не правда ли, что два последние стиха похожи на заключение
хрии?
Тебе я младость шаловливу,
О сын Венеры! посвятил;
Меня ты плохо наградил,
Дал мало сердцу на разживу!
Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!..
Быть так; спасибо и за то п.
Но зачем же вы выбираете такие стихотворения? — может быть,
спросит меня иной недоверчивый читатель. Зачем же помеще¬
Ш
ны они? — отвечаю я. В наше время поэты должпы быть осто¬
рожны и не представлять пз себя Далай-Ламу...
О поэмах г. Баратынского я ничего не хочу говорить: их
давно никто не читает. Нападать на них было бы грешно, защи¬
щать странно. Однако замечу мимоходом, что в «Пирах»
блестят местами искры остроумия и даже изредка чувства, как,
например, в этих стихах:
Кричалп вы: смелее пей!
Развеселись, товарищ милой,
Вздохнув, рассеянно-послушный,
Я пил с улыбкой равнодушной;
Светлела мрачная мечта,
Толпой скрывалися печали,
И задрожавшие уста
«Бог с ней» — невнятно лепетали.
И где изменщица любовь!
Ах, в ней и грусть очарованье!
Я испытать желал бы вновь
Ее знакомое страданье!
И где ж вы, резвые друзья,
Вы, кем жила душа моя!
Разлучены судьбою строгой:
И каждый с ропотом вздохнул
И брату руку протянул
И вдаль побрел своей дорогой;
И каждый в горести немой,
Быть может, праздною мечтой
Теперь былое пролетает
Или за трапезой чужой
Свои пиры воспоминает! 12
Предоставляю читателю вывести результат из всего, что
я сказал.
СТИХОТВОРЕНИЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА
СПб. 1835
Обманчивей и снов надежды,
Что слава? Шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?
Пушкин^
Что такое критика? оценка художественного произведе¬
ния. При каких условиях возможна эта оценка, или, лучше ска¬
зать, на каких законах должна она основываться? На законах
^изящного, отвечают записные ученые. Но где кодекс этих зако¬
нов? Кем он издан, кем утвержден и кем принят? Укажите мне
на этот свод законов изящного, на это уложение искусства, ко¬
торого начала были бы вечны и незыблемы, как начала твор¬
чества в душе человеческой; которого параграфы подходила
бы под все возможные случаи и представляли бы собою строй¬
ную систему законодательства, обнимающего собою весь беско¬
нечный и разнообразный мир художественной деятельности во
всех ее видах и изменениях! Давно ли «украшенное подража¬
ние природе» было краеугольным камнем эстетического уло¬
жения? Давно ли эта формула равнялась в своей глубокости,
истине и непреложности первому пункту магометанского уче¬
ния: «Нет бога, кроме бога — и Мугаммед пророк его»? Давно
ли три знаменитые единства почитались фундаментом, без ко¬
торого поэма или драма была бы храминою, построенною на
песке? Давно ли Корнель, Расин, Мольер, Буало, Лафонтен, Воль¬
тер, давно ли эта чета талантов почиталась лучезарным со¬
звездием поэтической славы, блистающим немерцающим светом
для веков? Давно ли Буало, Баттё и Лагарп почитались верхов¬
ными жрецами критики, непогрешительными законодателямд
изящного, вещими оракулами, изрекавшими непреложные при¬
говоры?.. А что теперь?.. «Украшенное подражание природе»
и знаменитое «триединство» причислено к числу вековых
7 В. Белинский, т. 1
193
заблуждений человечества, неудачных попыток ума; ученые
и светские боги французского Парнаса были помрачены п на¬
всегда заслонены пьяным дикарем * Шекспиром, а оракулы
критики поступили в архив решенных и забытых дел. И давно ли
все это совершилось?.. Давно ли бились на смерть покойники
классицизм и романтизм!.. Где же, спрашиваю я, где же эта
мерка, этот аршин, которым можно мерить изящные произве¬
дения; где этот масштаб, которым можно безошибочно изме¬
рять градусы их эстетического достоинства? Их нет — и вот как
непрочны литературные кодексы! Как, с постепенным * ходом
жизни народа, изменяется его законодательство чрез отмене-
ние старых законов и введение новых, сообразно с современ¬
ными требованиями общества, так изменяются и законы изящ¬
ного с получением новых фактов, на которых они основываются.
И разве мы получили все факты; разве мы изучили все литера¬
туры, под этими бесчисленными национальными, вековыми
и историческими физиономиями; разве мы исследовали жизнь
каждого художника порознь? Разве, в этом отношении, для бу¬
дущего уже ничего не остается?.. Нет — еще долго дожидаться
полного и удовлетворительного кодекса искусств, как долго до¬
жидаться этого совершенного гражданского законоположения,
которое должно осуществить мечты о золотом веке Астреи.
Стало быть, нет законов изящного, по которым можно и долж¬
но судить произведения искусств? Есть: потому что если те¬
перь не вполне постигнут весь мир изящного, то уже известны
многие из его законов, известны самые его основания; но буду¬
щему времени предоставлено открыть существующие отноше¬
ния между этими законами и основаниями и привести их в пол¬
ную и гармоническую систему. Критику должны быть известны
современные понятпя о творчестве; иначе он не может и не
имеет права ни о чем судить.
Но этого еще мало. Часто случается, что критик, изложив¬
ши свой взгляд на условия творчества сообразно с современ¬
ными понятиями об этом предмете, прилагает его ложно и,
Ее\*шо описавши характер греческого ваяния, показывает вам
рд-битый глиняный горшок, в котором варили щи, и божится
и клянется, что это греческая ваза. Отчего это? Оттого, что эсте¬
тика не алгебра, что она, кроме ума и образованности, требует
этой приемлемости изящного, которая составляет своего рода
т&дант н дается не всем. Прислушайтесь внимательнее к нашим
литературным толкам и суждениям — и вы согласитесь со мною.
* В «Северной пчеле» обвиняют меня, между многими литературными
преступлениями, в том, что я называю Шекспира пьяным дикарем. Стыжусь
оправдываться в этом перед публикою, и только движимый состраданием
к жалкому неведению «Северной пчелы», объявляю ей за новость (для нее),
что это выражение принадлежит Вольтеру, обкрадывавшему Шекспира, а
мною оно употребляется в шутку. Бедная «Пчела», как еще много пустых
вещей, недоступных для ее мушиной любознательности! 2
194
Разве у нас нет людей, с умом, образованием, знакомых с ино¬
странными литературами, и которые, несмотря на все это, от
душп убеждены, что Жуковский выше Пушкина; которые ино¬
гда восхищаются восьмикопеечными стихотворениями и талан¬
тами гг. А, Б, С и т. д.? Отчего это? Оттого, что эти люди часто
руководствуются в своих суждениях одним умом, без всякого
участия со стороны чувства; оттого, что принимают за поэзпю
свои любимые мысли или видят удобный случай приложить
и оправдать свои собственные мысли об изящном; а эти мысли
часто бывают парадоксами и предрассудками. В предметах чело¬
веческого чувства ум без чувства всегда ведет за собою пред¬
рассудки и строит парадоксы. Ум очень самолюбив и упрямо
доверчив к себе; он создал систему и лучше решится уничто¬
жить здравый смысл, нежели отказаться от нее; он гнет все под
свою систему, и что не подходит под нее, то ломает. В этом
случае он похож на Мольеровых лекарей, которые говорили,
что они лучше решатся уморить больного, чем отступить хоть
на йоту от предписаний древних3. В деле изящного суждение
тогда только может быть правильно, когда ум и чувство нахо¬
дятся в совершенной гармонии. И вот отчего такая разноголо¬
сица в суждениях о литературных сочинениях. В самом деле:
одному нравятся «Цыгане» Пушкина и не нравится сказка о
Бове-королевиче, а другой в восхищении от Бовы-королевича и не
видит ни малейшего достоинства в «Цыганах» Пушкина. Кто из
них прав, кто виноват? Говоря собственно, они оба совершенно
правы: суждение того и другого основано на чувстве, и никакая
эстетика, никакая критика не может быть посредницей в этом
деле. Да! тонкое поэтическое чувство, глубокая приемлемость
впечатлений изящного — вот что должно составлять первое
условие способности к , критдцизму, вот посредством чего
с первого взгляда можно отличать поддельное вдохновение от
истинного, риторические вычуры от выражения чувства, галан¬
терейную работу форм от дыхания эстетической жизни, и толь¬
ко вот при чем сильный ум, обширная ученость, высокая обра¬
зованность имеют свой смысл и свою важность. В противном
случае, изучите все языки земного шара, от китайского до са¬
моедского, изучите все литературы, от санскритской до чухон¬
ской,— вы всё будете метить невпопад, говорить некстати, про¬
пускать мимо глаз слонов и приходить в восторг от букашек4.
Разве тяжелая «Россияда» не подходила под эстетические зако¬
ны доброго старого времени; разве скучный и водяный «Дмит¬
рий Самозванец» г. Булгарина не отличается общею манерою
и замашками исторического романа? Разве в свое время трудно
было доказать художественное достоинство того и другого
произведения эстетическими правилами двух эпох времени, то
есть семидесятых годов прошлого и двадцатых текущего столе¬
тия? О, нет ничего легче! Но вот что очень было трудно: спасти
их от чахоточной смерти. Вот отчего так часто бывают неудачны
7*
195
попытки иных ьысокоученых, но лишенных эстетического чувст¬
ва критиков уронить истинный талант, не подходящий под их
школьную мерку, и возвысить мишурного фразера.
У нас еще и теперь тайна искусства есть истинная тайна,
в буквальном смысле этого слова, для многих людей, посвящаю-
щпх себя этому искусству пли по влечению, или ex officio *,
или ст нечего делать. Цветистая фраза, новая манера — и вот
уже готов поэтический венок из калуфера и мяты, пынче зеле¬
неющий, а завтра желтеющий. Цветистая фраза принимается за
мысль, за чувство, новая манера и стихотворные гримасы — за
оригинальность и самобытность. Помните ли вы остроумный
аполог5, рассказанный в одном нашем журнале, как человек
с умом на три страницы хотел от скуки бросить лавровый венок
поэта первому прошедшему мимо его окна, и как он бросил
его чрез форточку бездарному стихотворцу, который на этот
раз проходил мимо окошка человека с умом на три страни¬
цы?.. Вот вам объяснение, почему в нашей литературе бездна
самых огромных авторитетов. И хорошо еще, если человек-то,
раздающий поэтические венки, точно с умом хоть на три страни¬
цы: тут нет еще большого зла, потому что он может, одумав¬
шись или рассердившись на свое неблагодарное создание, уни¬
чтожить его так же легко, как он его и создал, чему у нас
и бывали примеры. Это даже может быть и забавно, если сде¬
лано умно и ловко. Но вот эти добрые и безнаветные критики,
которые, в сердечной простоте своей, не шутя принимают рус¬
ский горох за эллинские цветы, северный чертополох и крапиву
за райские крины: они-то истинно и вредны. Души добрые
и честные, приобретя когда-то и как-то какое-нибудь влияние
на общественное мнение, они добродушно обманывают самих
себя и невинно вводят и других в обман.
«Ну что ж в этом худого?» — может быть, спросят иные.
О, очень много худого, милостивые государи! Если превознесен¬
ный поэт есть человек с душою и сердцем, то неужели не груст¬
но думать, что он должен идти не по своей дороге, сделаться
записным фразером и после мгновенного успеха, эфемерной
славы видеть себя заживо похоронепным, видеть себя жертвою
литературного бесславия? Если это человек пустой, ничтожный,
то неужели не досадно видеть глупое чванство литературного
павлина, видеть незаслуженный успех и, так как нет глупца, ко¬
торый не нашел бы глупее себя, видеть нелепое удивление доб¬
рых людей, которые, может быть, не лишены некоторого вку¬
са, но которые не смеют иметь своего суждения? А святость
искусства, унижаемого бездарностию?.. Милостивые государи!
если вам понятно чувство любви к истине, чувство уважения
к какому-нибудь задушевному предмету, то будете ли вы осуж¬
дать порыв человека, который иногда, к своему вреду, вызывав
* по должности (лат.). — Ред.
196
ет на себя и мщение самолюбий и общественное мнение, имея
полное право не вмешиваться, как говорится на святой Руси,
не в свое дело?.. Должен ли этот человек оскорбляться или
пугаться того, что люди посредственные, холодные к делу исти¬
ны, лишенные огня Прометеева, провозгласят его крикуном или
ругателем? Вам понятно ли это чувство? Вам понятна ли эта
запальчивость, для вас справедлива ли она в самой своей
несправедливости?.. А понимаете ли вы блаженство взбесить
жалкую посредственность, расшевелить мелочное самолюбие,
возбудить к себе ненависть ненавистного, злобу злого?.. «Но
какая же изо всего этого польза?» А общественный вкус
к изящному, а здравые понятия об искусстве? «Но уверены ли
вы, что ваше дело направлять общественный вкус к изящному
и распространять здравые понятия об искусстве; уверены ли вы,
что ваши понятия здравы, вкус верен?» Так, я знаю, что тот был
бы смешон и жалок, кто бы стал уверять в своем превосходст¬
ве других; но, во-первых, вещи познаются по сравнению, и дела
других заставляют иногда человека приниматься самому за эта
дела; во-вторых, если каждый из нас будет говорить: «Да мое
ли это дело, да где мне, да куда мне, да что я за выскочка!», то
никто ничего не будет делать. Гадок наглый самохвал; но но
менее гадок и человек без всякого сознания какой-нибудь
силы, какого-нибудь достоинства. Я терпеть не могу ни Скалозу¬
бов, ни Молчалиных.
Я слишком хорошо знаю наш литературный мир, наши лите¬
ратурные отношения, и потому почти каждая новая книга воз¬
буждает во мне такие думы и ведет к таким размышлениям,
какие она не во всех возбуждает, и вот почему у меня вступле¬
ние или мысли a propos * почти всегда составляют главную
и самую большую часть, моих рецензий. К числу таких книг при¬
надлежат стихотворения г. Бенедиктова; они возбудили в моей
душе множество элегий, до которых я большой охотник; но
обстоятельства, сопровождавшие ее появление, и безотчетные
крики, встретившие ее, только одни заставили меня взяться за
перо. Правда, стихотворения г. Бенедиктова не принадлежат
к числу этих дюжинных и бездарных произведений, которыми
теперь особенно наводняется наша литература; напротив,
в этой печальной пустоте они обращают на себя невольное вни¬
мание и, с первого взгляда, легко могут показаться чем-то со¬
вершенно выходящим из круга обыкновенных явлений. Но это-
то самое и заставляет рецензента, отложив в сторону пошлые
оговорки и околичности, прямо и резко высказать о них свое
мнение. Это будет не критика, а отзыв, простое мнение, или,
как говорят, рецензия, потому что тут критике нечего делать.
Дело коротко, просто и ясно, а вопрос более о разных обстоя¬
тельствах, касающихся дела, нежели о самом деле.
* кстати (франц.). — Ред.
197
Я сказал, что стихотворения г. Бенедиктова обращают на
#ебя невольное внимание; прибавлю, что это происходит не столь¬
ко от их независимого достоинства, сколько от различных от¬
ношений. В самом деле, много ли надо таланта, чтобы обратить
на себя внимание стихами в наше прозаическое время? Кроме
того, стихотворения г. Бенедиктова обнаруживают в нем челове¬
ка со вкусом, человека, который умеет всему придать колорит
поэзии; иногда обнаруживают превосходного версификатора,
удачного описателя; но вместе с тем в них видна эта детскость
силы, эта беспрестанная невыдержанность мыслп, стиха, самого
языка, которые обнаруживают отсутствие чувства, фантазии, а сле¬
довательно и поэзии. Сказавши, надо доказать, и я не вижу для
этого никакого другого средства, кроме анализа и сравнения.
Кажется, в наше время никто не должен сомневаться в том,
что в истинно художественном произведении не может быть
погрешностей и недостатков, как думают школяры и люди по¬
средственные. Что создано фантазиею, а не холодным умом, то
всегда истинно, верно и прекрасно; погрешности же там, где
фантазия уступает свое место уму, и ум работает без участия
чувства, по источникам изобретения. В романе, в драме, сло¬
вом, во всяком большом сочинении недостатки едва ли избеж-
ны, потому что поэту надо иметь слишком гигантскую фантазию,
чтоб не допустить никакого влияния со стороны ума, расчета,
труда. Но лирическое сочинение есть плод мгновенной вспышка
фантазии, мгновенное излияние чувства; следовательно, в нем
всякое неестественное или вычурное выражение, всякий проза¬
ический стих обличает недостаток фантазии. Я никак не умею
понять, что за поэт тот, у кого недостанет фантазии на 20 или на
40 стихов, кто с стихами вдохновенными мешает стихи делан¬
ные. Как в романе или драме невыдержанность характеров,
неестественность положений, неправдоподобность событий об¬
личают работу, а не творчество, так в лиризме неправильный
язык, яркая фигура, цветистая фраза, неточность выражения,
изысканность слога обличают ту же самую работу. Простота язы¬
ка не может служить исключительным и необманчивым призна¬
ком поэзии; но изысканность выражения всегда может служить
верным признаком отсутствия поэзии. Стих, переложенный
в прозу и обращающийся от этой операции в натяжку, так же
как и темные, затейливые мыслп, разложенные на чистые поня¬
тия и теряющие от этого всякий смысл, обличает одну ритори¬
ческую шумиху, набор общих мест. Я представлю вам теперь
несколько фраз из большей части стихотворений г. Бенедикто¬
ва, обращенных мною в прозаические выражения, со всею до-
бросовестностию, без малейшего искажения — и сделаю вам
несколько вопросов, поставив судьею в этом деле ваш собствен¬
ный здравый смысл.
Юноша сорвал розу п украспл этою пламенною жатвою чело девы. —
Вы были лиа прекрасные днп* когда сверкали одни веселья; небесные звезды
1С8
очамп судей взирали на землю с лазурного свода (??); мплая дикость рав¬
няла людей (?!)!—Любовь не гнездилась в ущельях сердец, но, повсюду
раскрытая и сверкая всем в очи (??), надевала на мир всеобщий венец.—
Дева, у которой уста кокетствуют улыбкою, изобличается гибкий стан и
все, что дано прихотям, то украшено резцом любви (??!!). — Ребенок (па
пожаре) простирает своп ручопкп к жалам неистовых огненных змей (то
есть к огню). — Перед завистливою толпою я вносил твои стаи, на огненной
ладони, в вихрь кружения (то есть вальсировал с тобою). — Струи времени
возрастили мох забвения на развалинах любви (!!..)• — В твоем гибком,
эфирном стане я утоплял горящую ладонь.— За жизненным концом (?!)
есть лучший мир — там я обручусь с тобою кольцом вечности. — Любовь
преломлялась, блестела цветными огнями сердечного неба. — Чудная дева
магнитными прелестями влекла к себе железные сердца. — К кому приник¬
нуть головою, где растопить свинец несчастия? — Фантазия вдувает рас¬
судку свой сладкий дым. — Море опоясалось мечом молний. — Солнце
вонзило в дождевые капли пламя своего луча. — В черных глазах Адели
могила бесстрастия и колыбель блаженства. — Искра души прихотливо
подлетела к паре черненьких глаз и умильно посмотрела в окна своей
храмины. — Матильда, сидя на жеребце (!!), гордится красивым и плотным
усестом, а жеребец под девою топчется, храпит и пляшет. — Грудь стапет
свинцовым гробом, и в нем ляжет прах моей любви. — Коиь понесет меня
вдаль на молниях отчаянного бега. — Любовь есть капля меду на остром
жале красоты. — Ее тихая мысль, зрея в светлом разуме, разгоралася
искрою, а потом, оперенная словом, вылетала из ее уст плепптельным голу¬
бем. — На первом жизни пире, возникал посев греха. — Да не падет на
пламя красоты морозный пар бесстрастного дыханья. — Могучею рукою
вонзить сталь правды в шипучее (?) сердце порока. — Его рука перевила
лукавою змеею стан молодой девы, вползла на грудь и па груди уснула.
Что это такое? неужели поэзия, неужели вдохновение,
юное, кипучее, тревожное, пламенное, полное глубины мысли?..
И столько фраз на каких-нибудь ста шести страницах, или пяти¬
десяти трех листках!.. В четырех частях мелких стихотворений
Пушкина, хороших п дурных, в трех частях поэм заключается
около двух тысяч страниц: найдите же мне хоть пять таких вы¬
ражений *, и я позволю лечатно назвать себя клеветником, ру¬
гателем, человеком, ничего не смыслящим в деле искусства! Но
я дурно и, может быть, недобросовестно поступил, указав на
Пушкина: прошу извинения у великого поэта и у публики. Возь¬
мите Жуковского, возьмите даже Козлова, Языкова, Туманско-
го, Баратынского — найдите у всех них хоть половинное число
таких вычур — и я сознаюсь побежденным. Вы скажете: «Это нэ
доказательство: это обнаруживает только не выработанный та¬
лант, не укрепившееся перо, словом, литературную неопыт¬
ность»; хорошо, по вы, милостивые государи, как поппмаето
искусство? Неужели ему можно выучиться, пользуясь бесприст¬
растными и благоразумными замечаниями опытных писателей?
Талапт может зреть не от навыка, не от выучки, но от опыта
жпзпп; а лета и опыт жизни могут возвысить взгляд поэта па
жизнь и прпроду, могут сосредоточить его энергию и пламень
чувства, но не усплпть пх, могут придать глубину его мысли, но
* Боюсь только четвертой части, которой еще не впдал п за которую
поэтому пе отвечаю6.
199
не сделать ее живее п тревожнее. А когда, как не в первой
молодости художника, чувство его бывает живее и пламеннее,
фантазия игривее и радужнее? А где, как не в первых произве¬
дениях поэта, кипит, и горит, и колышется бурною волною его
свежее чувство? Следовательно, какие же, как не первые его
произведения, более верны, истинны, не натянуты, живы, вдох¬
новенны, чужды вычур и гримас риторпческих?.. Помните ли
вы юного поэта Веневитинова? Посмотрите, какая у него точ¬
ность и простота в выражении, как у него всякое слово на сво¬
ем месте, каждая рифма свободна и каждый стих рождает дру¬
гой без принуждения? Разве он обдумывал или обделывал свои
поэтические думы? То ли мы видим у г. Бенедиктова? Посмотри¬
те, как неудачны его нововведения, его изобретения, как неточ¬
ны его слова? Человек у него витает в рощах; волны грудей
у него превращаются в грудные волны; камень лопает (вместо
лопается); преклоняется к заплечью красавицы, сидящей
в креслах; степь беспредметна; стоит безглаголен; сердце пля¬
шет; солнце сентябревое; валы лижут пяты утеса; пирная
роскошь и веселие; прелестная сердцегубка и пр. Такие фразы
и ошибки против языка и здравого смысла никогда не могут
быть ошибками вдохновения: это ошибки ума, и только в одной
персидской поэзии могут они составлять красоту.
Где-то было сказано, что в стихотворениях г. Бенедиктова
владычествует мысль: мы этого не видим7. Г-н Бенедиктов вос¬
певает все, что воспевают молодые люди: красавиц, горе и ра¬
дости жизни; где же он хочет выразить мысль, то или бывает
слишком темен, или становится холодным ритором. Вот при¬
мер:
Утес
Отвсюду объятый равниною моря,
Утес гордо высится, — мрачен, суров,
Незыблем стоит он, в могуществе споря
С прибоями волн и с напором веков.
Валы только лижут могучего пяты;
От времени только бразды вдоль чела;
Мох серый ползет на широкие скаты, —
Седая вершина престол для орла.
Как в плащ исполин весь во мглу завернулся;
Поник, будто в думах, косматой главой;
Бесстрашно над морем всем станом нагнулся
И грозно повиснул над бездной морской;
Вы ждете — падет он, — не ждите паденья!
Наклонно (?) он стал, чтобы сверху взирать
На слабые волны с усмешкой презренья
И смертного взоры отвагой пугать!
Он хладен, но жар в нем закован природный:
Во дни чудодейства зиждительных сил
Он силой огня — сын огня первородный —
Из сердца земли мощно выдвинут был! —
Взлетел п застыл он твердыней гранита.
200
Ему не живителен солнечный луч;
Для нег его грудь вековая закрыта;
И дик и угрюм он: зато он могуч!
Зато он неистовой радостью блещет,
Как ветры помчатся в разгульный свой путь,
Когда в него море бурунами хлещет
И прыгает жадно гиганту на грудь. —
Вот молнии пламя над ним засверкало,
Перун свой удар ему в темя нанес —
Что ж? — огненный змей изломил свое жало,
И весь невредимый хохочет утес8.
Скажете, что тут хорошего? Во-первых, тут не выдержана мета¬
фора: сперва утес является покрытым только мхом, а потом уже
косматым, то есть покрытым кустарником и даже деревья¬
ми; во-вторых, это не поэтическое воссоздание природы, а на¬
бор громких фраз; это не солнце, которое освещает и вместе
согревает, а воздушный метеор, забавляющий человека своим
ложным блеском, но не согревающий его. Очень понятно, что
автор хотел выразить здесь идею величия в могуществе; но
здесь идея не сливается с формою; ее не чувствуешь, но только
догадываешься о ней. Мицкевич, один из величайших мировых
поэтов, хорошо понимал это великолепие и гиперболизм описа¬
ний и потому в своих «Крымских сонетах» очень благоразумно
прикидывался правоверным мусульманином; и в самом деле,
это гиперболическое выражение удивления к Чатырдаху кажет¬
ся очень естественным в устах поклонника Мугаммеда, сына
Востока. Вообще, громкие, великолепные фразы еще не поэзия.
При всем моем энтузиастическом удивлении к Пушкину, мне
ничто не помешает видеть фразы, если они есть; даже и в таких
его стихотворениях, в которых есть и истинная поэзия, и я
в первой половине его «Андрея Шенье», до того места, где
поэт представляет Шенье говорящим, вижу фразы и деклама¬
цию. Вот, например, найдите мне стихотворение, в котором бы
твердость и упругость языка, великолепие и картинность выра¬
жений были доведены до большего совершенства, как в следуй
ющем стихотворении:
Впдал ли очи львицы гладной,
Когда идет она на брань,
Или с весельем ноготь хладный
Вонзает в трепетную лань?
Ты зрел гиену с лютым зевом,
Когда грызет она затвор!
Как раскален упорным гневом
Ее окровавленный взор!
Тебе случалось в мраке ночп,
Во весь опор пустив коня,
Внезапно волчьи встретить очи,
Как два недвижные огня!
1ы помнишь, как твой замер голос,
Как потухал в крови огонь,
Как подымался дыбом волос
И подымался дыбом конь!
201
Те очи — страшные явленья!
Но видел я и тех страшней:
Не позабыть душе моей
Их рокового впечатленья!
Из всех огней и всех отрав
Огня тех взоров не составить
И лишь безумно обесславить
Наук всеведущий устав!
От них все чувство каменеет,
Их огнь и жжет и холодит;
При мысли сердце вновь горит
И стих, робея, леденеет.
Моли всех ангелов вселенной,
Чтоб в жизни не видать своей
Неправой местью раздраженной
Коварной женщины очей!9
И между тем, спрашиваю вас, неужели это поэзия, а не стихо¬
творная игрушка; неужели эти выражения вылились в вдохно¬
венную минуту из души взволнованной, потрясенной, а не при¬
браны и не придуманы, в напряженном и неестественном состо¬
янии духа; неужели это бессознательное излияние чувства, а не
набор фраз, написанных на тему, заданную умом?.. И вглядитесь
пристальнее в этот фальшивый блеск поэзии: что вы найдете в
нем? Одно уменье, навык, литературную опытность и вкус. По¬
смотрите, как искусно г. стихотворец умел придать ложный ко¬
лорит поэзии самым прозаическим выражениям, с семнадцато¬
го стиха до двадцать пятого. Было время, когда подобные на¬
тяжки принимались за поэзию; но теперь— извините!
Обращаюсь к мысли. Я решительно нигде не нахожу ее
у г. Бенедиктова. Что такое мысль в поэзии? Для удовлетвори¬
тельного ответа на этот вопрос должно решить сперва, что та¬
кое чувство. Чувство, как самое этимологическое значение это¬
го слова показывает, есть принадлежность нашего организма,
нашей плоти, нашей крови. Чувство и чувственность разнятся
между собою тем, что последняя есть телесное ощущение, про¬
изведенное в организме каким-нибудь материальным предме¬
том; а первое есть тоже телесное ощущение, но только произ¬
веденное мыслию. И вот отчего человек, занимающийся какими-
нибудь вычислениями или сухими мыслями, подносит руку ко
лбу, и вот почему человек, потрясенный, взволнованный чувст¬
вом, подносит руку к груди или сердцу, ибо в этой груди у него
замирает дыхание, ибо эта грудь у него сжимается или расши¬
ряется и в ней делается или тепло, или холодно, ибо это сердце
у него и млеет, и трепещет, и порывисто бьется; и вот почему
он отступает, и дрожит, и поднимает руки, ибо по всему его
организму, от головы до ног, проходит огненный холод, и во¬
лосы становятся дыбом. Итак, очень понятно, что сочинение мо¬
жет быть с мыслию, но без чувства; и в таком случае, есть ли
в нем поэзия? И, наоборот, очень понятно, что сочинение, в ко¬
202
тором есть чувство» не может быть без мысли. И естественно,
что чем глубже чувство, тем глубже и мысль, и наоборот. «Все¬
ленная бесконечна», говорю я вам: эта мысль велика п высока,
но в этих словах еще не заключается художественного произве¬
дения, и не будет его, если бы я распространил эту мысль хоть
на десяти страницах. Но «Die Grosse der Welt» *, это стихотво¬
рение Шиллера, в котором облечена в поэтическую форму эта
же самая мысль и которое так прекрасно, полно и верно пере¬
дано на русский язык г. Шевыревым 10, дышит глубокою доэзиею,
и в нем мысль уничтожается в чувстве, а чувство уничтожается
в мысли; из этого взаимного уничтожения рождается высокая
художественность. А отчего? Оттого, что эта мысль, родившись
в голове поэта, дала, так сказать, толчок его организму, взвол¬
новала и зажгла его кровь и зашевелилась в груди. Таков «Де¬
мон» Пушкина, это стихотворение, в котором так неизмеримо
глубоко выражена идея сомнения, рано или поздно бывающего
уделом всякого чувствующего и мыслящего существа; такова
же его дивная «Сцена из Фауста», выражающая почти ту же
идею; таков его «Бахчисарайский фонтан», где, в лице Гирея,
выражена мысль, что чем шире и глубже душа человека, тем
менее способен он удовлетворить себя чувственными наслаж¬
дениями; таковы его «Цыганы», где выражена идея, что, пока
человек не убьет своего эгоизма, своих личных страстей, до тех
пор он не найдет для себя на земле истинной свободы ни по¬
среди цивилизации, ни в таборах кочующих детей вольности ***
Я не говорю о других его произведениях, я не говорю о его
«Онегине», этом создании великом и бессмертном, где что
стих, то мысль, потому что в нем что стих, то чувство.
Увы! на жизненных браздах,
Мгновенной жатвой, поколенья
По тайной воле провиденья
Восходят, зреют и падут;
Другие им во след идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
^«Величие мира» (нем.). — Ред.
** Вспомните эти слова отца Земфиры:
Ты для себя лишь хочешь воли.
Или эти стихи, которыми оканчивается эпилог!
Ко счастия нет и между вами4
Природы бедные сыны!
И под издранныгш шатрами
Шивут мучительные сны!
II ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед^
И всюду страсти роковые
И от судеб защиты нет!
203
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!
Или:
Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой!
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.
Вот вам мысль в поэзии! Это не рассуждеппе, не описание,
не силлогизм— это восторг, радость, грусть, тоска, отчаяние,
вопль! Но мое любимое правило — вещи познаются всего лучше
чрез сравнение; итак, возьмите стихотворение Жуковского
«Русская слава» и стихотворение Пушкина «Клеветникам Рос¬
сии», сравните их; или, лучше, противопоставьте «Русской сла¬
ве» эти немногие стихи из «Онегина»:
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной,
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
— тогда вы вполне поймете, что такое мысль в поэзии и что
такое в ней чувство, и что одно без другого быть не может,
если только данное сочинение художественно. Теперь укажите
мне хоть на одно стихотворение г. Бенедиктова, которое бы
заключало в себе мысль в изложенном значении, в котором бы
эта мысль томила душу, теснила грудь; в котором был бы хотя
один сильный, энергический стих, невольно западающий в па¬
мять и никогда не оставляющий ее! «Полярная звезда»11 по
красоте стихов — чудо: этому стихотворению можно противо¬
204
поставить только «Ганимеда» г. Теплякова;12 но оно сбивается
на описание, и я не вижу в нем никакой мысли; а это, не за¬
будьте, единственное, по стихам, стихотворение г. Бенедиктова.
Кстати об описаниях: описание — вот основной элемент стихо¬
творений г. Бенедиктова; вот где старается он особенно выка¬
зать свой талант, и, в отношении ко внешней отделке, к пре¬
лести стиха, ему это часто удается. Но это все прекрасные фор¬
мы, которым недостает души. В старину (которая, впрочем,
очень недавно кончилась) все питали теплую веру в описатель¬
ную поэзию, а староверы, всегда верные старопечатным книгам
и стародавним преданиям, и теперь еще признают существова¬
ние описательной поэзии. Об этом спорить нечего — вопрос
давно решенный! Описательной поэзии нет и быть не может как
отдельного вида, в котором бы проявлялось изящное; но опи¬
сательная поэзия может быть везде в частях и подробностях.
Описание красот природы создается, а не списывается; поэт из
души своей воспроизводит картину природы или воссоздает ви¬
денную им; в том и другом случае эта красота выводится из
души поэта, потому что картины природы не могут иметь кра¬
соты абсолютной; эта красота скрывается в душе, творящей или
созерцающей их. Поэт одушевляет картину своим чувством,
своею мыслию; надобно, чтобы он или любовался ею, или ужа¬
сался ее, если он хочет прельстить или ужаснуть нас ею. Карти¬
ны Кавказа и таврических ночей у Пушкина пленительны, пото¬
му что он одушевил их своим чувством, потому что он рисовал
их с этим упоением, с которым юноша описывает красоту
своей любезной. Может быть, увидя Кавказ и слича действитель¬
ность с поэтическим представлением, вы не найдете никакого
сходства: это очень естественно — все зависит от расположения
нашего духа, потому что жизнь и красота природы таятся в со¬
кровищнице души нашей; природа отражается в ней, как в зер¬
кале: тускло зеркало, тусклы и картины природы, светло зерка¬
ло, светлы и картины природы. Я, право, не вижу почти никако¬
го достоинства в описательных картинах г. Бенедиктова, потому
что вижу в них одно усилие воображения, а не внутреннюю пол¬
ноту жизни, все оживляющей собою. Вот, например, эта картина
имеет свой смысл, потому что вышла прямо из души:
День угаснул — потемнели
Воды, рощи и поля;
Как младенец в колыбели,
Спит прекрасная земля,
Сон ее благоговейно
Добрый гений сторожит;
Все так мирно, все молчит,
Только ветер тиховейный,
В час, как дремлет дол и сад,
Розмаринный и лилейный
Переносит аромат.
Вот и он — красавец ночи —
Месяц по небу взошел,
20л
И на спящую навел
Он серебряные очп.
Реже сумрак, свет темней,
И как будто из лучей
Вдруг соткалось покрывало
И на грудь земли упало.
О месяц, месяц, сколько раз
Ты в небе весело сияешь,
Но как же мало светлых глаз,
Как много слез ты озаряешь!
Тебя не тот с тоскою ждет,
Кто не изведал с роком битвы,
Кто благодарные молитвы
За день свой ночью отдает!
Но от восхода до заката
Тот глаз не сводит от тебя,
Чья жизпь утратами богата,
Кто часто плакал про себя! * и проч.
В стихотворениях г. Бенедиктова все не досказано, все не
полно, все поверхностно, и это не потому, чтобы его талант
еще не созрел, но потому, что он, очень хорошо понимая
и чувствуя поэзию воспеваемых им предметов, не имеет этой
силы фантазии, посредством которой всякое чувство высказы¬
вается полно и верно. У него нельзя отнять таланта стихотвор¬
ческого, но он не поэт. Читая его стихотворения, очень ясно
видишь, как они деланы. Если г. Бенедиктов будет продолжать
свои занятия по стихотворной части, то он со временем выпи¬
шется, овладеет поэзиею выражения, выработает свой стих, не
будет делать этих детских промахов, на которые я указал выше;
словом, будет писать так же хорошо, как г. Трилунный, г. Ше->
вырев, г. М. Дмитриев, но едва ли когда-нибудь будет он по¬
этом. Первые стихи поэта похожи на первую любовь: они живы,
пламенны, естественны, чужды изысканности, вычурности, натя¬
жек; но таковы ли первые стихи г. Бенедиктова? Дай бог, чтобы
мое предсказание оказалось ложным и нелепым, чтобы мои
основания, которыми я руководствовался в моем суждении,
были опровергнуты фактом: мне было бы очень приятно обма¬
нуться таким образом! Но до тех пор, пока это не сбудется,
я останусь тверд в своем мнении, которое не есть следствие
личности или каких-нибудь расчетов, но следствие любви к исти¬
не. В заключение скажу, что как ни неестественно обмануться
стихами г. Бенедиктова, но изданная им книжка, в наше прозаи¬
ческое время, многими может быть принята за поэзию. Словом,
если г. Бенедиктов не оставит своих стихотворных занятий, он
скоро приобретет себе большой авторитет; его стихи будут
приниматься с радостию во всех журналах, во многих будут рас¬
хваливаться, по крайней мере года два: а что будет после?.. То
же, что стало теперь с стихотворцами, которых так много было
* Из «Борского», поэмы г. Подолипского.
206
в прошлом десятилетии п из которых многие обладали талан¬
том повыше г. Бенедиктова... Увы! что делать! Река времени всё
уносит, всё истребляет, и немного, очень немного всплывает на
ее сокрушительных волнах!..
Многие из стихотворений г. Бенедиктова очень милы, как
весьма справедливо замечеио в одном журнале. Их с удоволь¬
ствием можно прочесть от нечего делать; они не дадут душз
поэтического наслаждения, но и не оскорбят, не возмутят ее
безвкусием или нелепостию; некоторые даже будут приятны
для читателя, как апельсин в летний день или чашка кофе после
обеда. Зато есть (хотя п очень немного) и такие, которых бы
решительно не следовало печатать. Таково «Наездница»; мы ив
выписываем его, потому что наша цель доказать истину, а не
повредить автору. У кого есть в душе хоть искра эстетического
вкуса, а в голове хоть капля здравого смыслу, тот, верно, согла¬
сится с нами. Мы не требуем от поэта нравственности; но мы
вправе требовать от него грации в самых его шалостях; и, под
этим условием, мы ни одного стихотворения г. Языкова не по¬
читаем безнравственным, и, под этим же условием, мы почита¬
ем упомянутое стихотворение г. Бенедиктова очень неблагопри-»
стойным и, сверх того, видим в нем решительное отсутствие вся¬
кого вкуса. То же можно сказать и обо многих местах некоторых
других его стихотворений. Мы очень рады, что этот факт может
служить подтверждением истины, всеми признанной, что только
один истинный талант может быть нравственным в своих произ¬
ведениях. В поэтических шалостях грация — великое дело, пото¬
му что без нее эти шалости могут показаться отвратительными;
а эта грация есть удел одного вдохновения. Мы сказали, что
некоторые стихотворения г. Бенедиктова очень милы, как по¬
этические игрушки; такими почитаем мы «К Полярной звезде»,
«Озеро», «Прощание с саблею», «Ореллана», «Незабвенная», «К
Н — му», но особенно нам понравилось «Два видения», которое
и выписываем здесь вполне.
Я дважды любил: две волшебницы-девы
Сияли мне в жизни средь божьих чудес;
Они мпе внушали живые напевы,
Знакомили душу с блаженством небес.
Одну я любил, как слезою печали
Ланита прекрасной была паоюоюена;
Другую, когда ее очи блистали
II сладко, роскошно смеялась она.
Исчезло, чем прежде я был разволнованг
Но след волновапья остался во мпе;
Доныне их образ чудесный закован
На сердце железном в грудной глубине.
Когда ж я в глубоком тону размышленье
О темном значенье грядущего дня, —
Незапно меня посещает виденье
Одной из двух дев, чаровавших меня.
И первой любзи моей дева приходит,
Как аягел скорбящий, бледна п грустпа,
20 7
И влажные очи па небо возводит,
И к персям, тоскою разбитым, она
Крестом прижимает лилейные руки;
Каштановый волос струями разлит...
Явление девы, исполненной муки,
Мне день благодатный в грядущем сулит.
Когда ж мне является дева другая,
Черты ее буйным весельем горят,
Глаза ее рыщут, как пламя, сверкая,
Уста, напрягаясь, как струны, дрожат; —
И дева та дико, безумно хохочет,
Колышась, ее надрывается грудь:
И это виденье мне горе пророчит,
Падение терний на жизненный путь.
Пред лаской судьбы и грозой ее гнева
Одна из предвестниц всегда прилетит;
Но редко мне видится первая дева, —
Последняя часто мне смехом гремит:
И в жизни я вижу не многие розы,
Помногу блуждаю в тернистых путях;
Но в радостях редких даются мне слезы,
При частых страданьях есть хохот в устах.
Мы думаем, что это стихотворение может служить лучшим
доказательством нашего мнения вообще о стихотворениях
г. Бенедиктова,
СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА
Москва. 1835
Дар творчества дается немногим избранным любимцам
природы, и дается им не в равной степени. У одних степень его
силы зависит решительно от одной природы; у других она зави¬
сит сколько от природы, столько и от внешних обстоятельств.
Есть художники, произведениям которых обстоятельства их
жизни могут сообщить тот или другой характер, но на твор¬
ческий талант которых они не имеют никакого влияния: это ху¬
дожники-гении. Отличительный признак их гениальности состоит
в том, что они властвуют обстоятельствами и всегда сидят глуб¬
же и дальше черты, отчерченной им судьбою, и, под общими
внешними формами, свойственными их веку и их народу, прояв¬
ляют идеи, общие всем векам и всем народам. Шекспир и при
дворе Лудвига XIV остался бы Шекспиром; его гения не заду¬
шил бы заразительный воздух двора этого блистательного, но
отнюдь не великого, короля Франции; его генияльного взгляда
на жизнь — этой природной философии, не убило бы мишурное
величие золотого века французской словесности; его могу¬
щественных порывов не оковали бы схоластические понятия об
изящном. Но Расин и при дворе Елизаветы был бы придворным
поэтом, перелагал бы дворские сплетни в трагедии и писал бы
по той мерке, которую давали бы ему люди, общественное мне¬
ние, приличие или вкус королевы и лордов. Творения гениев
вечны, как природа, потому что основаны на законах творчест¬
ва, которые вечны и незыблемы, как законы природы, и кото¬
рых кодекс скрыт во глубине творческой души, а не на прехо¬
дящих и условных понятиях об искусстве того или другого
народа, той или другой эпохи, потому что в них проявляется вели¬
кая идея человека и человечества, всегда понятная, всегда до¬
ступная нашему человеческому чувству, а не идеи двора или
общества в то или другое время, у того или другого народа.
Гений есть торжественнейшее и могущественнейшее проявле-
209
яие сознающей себя природы, и потому есть явление редкое;
не многие века озарялись этими роскошными солнцами, у не^
многих сияло на небосклоне по нескольку этих солнцев... Но
ежели вся цепь создания есть не что иное как восходящая
лествица сознания бессмертного и вечного духа, живущего
в природе, то и служители искусства представляют собою ту же
самую лествицу, которая восходит или нисходит, смотря по то¬
му, с начала или с конца будете вы обозревать ее. Бесконечная
и всегда неразрывная цепь! Есть художнпки, которых вы не
решитесь почтить высоким именем гениев, но которых вы поко¬
леблетесь отнести к талантам; которые как бы начинают собою
нисходящую ступень лествицы и как бы принадлежат к этому
дивному поколению духов, которыми пламенное воображение
младенчествующих народов населило и леса и горы, и воды
и воздух, и которых назвало сильфами и пери и поставило их на
черте между высшими небесными духами и человеком. Нако¬
нец, есть еще эти художники, ознаменованные большею или
меньшею степенью таланта творческого, эти люди, на которых
пебо взирает, как на любимых, хотя и занимающих свое место
после духов бесплотных, чад своих. Хвала и поклоненпе наше
гению, хвала и удивление высокому таланту! — Но не откажем
же хотя во внимании и этому меньшому и юнейшему сыну неба!
Не равно лучезарны лучи, сияющие на их главах, но все они
дети одного и того же неба, все они служители одного и того
же алтаря. Пусть один будет ближе, другой дальше к алтарю —
воздадим каждому почтение наше по месту, занимаемому им;
но уважим всякого, кому дано свыше высокое право служения
алтарю...
Я хочу сказать, что художник по призванию есть всегда
предмет, достойный внимания нашего, на какой бы ступени ху¬
дожественного совершенства ни стоял он, как бы ни было неве¬
лико его творческое дарование. Если он точно художник, если
точно природа помазала его при рождении на служение искус¬
ству, если он только не дерзкий самозванец, непосвященно
и самовольно присвоивший себе право служения божеству, —
то, говорю я, не пройдем мимо его с холодным невниманием,
но остановимся перед ним и посмотрим на него испытующим
взором: может быть, на его челе подглядим мы печать высокой
думы, которая не для всех заметна; может быть, в его очах мы
уловим этот луч вдохновения, который всегда бывает гостем
небесным; может быть, его уста выскажут нам какую-нпбудь
святую тайну, взволнуют нашу грудь какпм-нпбудь сладким, хотя
и тихим чувством...
Таким поэтом почптаем мы г. Кольцова; с такой точки зре¬
ния смотрим мы на талант его; он владеет талаптом не боль¬
шим, но истинным, даром творчества не глубоким и не силь¬
ным, но неподдельным и не натянутым, а это, согласитесь, не
совсем обыкновенно, не весьма часто случается. Поспешим же
210
встретить нового поэта с живым сочувствием, с приветом
и ласкою...
Я сказал, что гений-художник независим от внешних обсто¬
ятельств, что эти обстоятельства дают тот или другой характер
его созданиям, но не возвышают и не ослабляют силы его фан¬
тазии. Не таковы обыкновенные таланты: их нельзя рассматри¬
вать вне обстоятельств их жизни, потому что этими обстоятель¬
ствами объясняется иногда и их чрезвычайный успех и их паде¬
ние, этими обстоятельствами определяется, что они могли бы
сделать и почему они сделали столько, а не столько, так, а не
этак, и, следовательно, определяется важность и степень их та¬
ланта. Чтобы написать в наше время несколько строф, не усту¬
пающих' в звучности и великолепии некоторым строфам Ломо¬
носова, нужно одно умение и навык, а в то время, в которое
жил Ломоносов, для этого нужен был талант. И разве сам
Шекспир не становится выше в наших глазах от того самого, что
он жил в XVI, а не в XIX веке? Представьте себе Державина,
поэта века Екатерины II, поэтом века Петра Великого: разве
ваше удивление к нему не удвоится? И разве сам Ломоносов но
гений уже по одному тому, что он был холмогорским рыбаком?
Разве Слепушкин и другие, совершенно не будучи поэтами, не
обратили на себя общего внимания потому только, что они при¬
надлежали к низшему классу общества и самим себе были обя¬
заны тем образованием, которое как они сами, так и публика
приняла за дар творчества?.. Кольцов тоже принадлежит к числу
этих поэтов-самоучек, с тою только разницею, что он владеет
истинным талантом.
Кольцов — воронежский мещанин, ремеслом прасол. Окон¬
чив свое образование приходским училищем, то есть выучив
букварь и четыре правила арифметики, он начал помогать чест¬
ному и пожилому отцу своему в небольших торговых оборотах
и трудиться на пользу семейства. Чтение Пушкина и Дельвига
в первый раз открыло ему тот мир, о котором томилась душа
его, оно вызвало звуки, в ней заключенные. Между тем домаш¬
ние дела его шли своим чередом; проза жизни сменяла поэти¬
ческие сны; он не мог вполне предаться ни чтению, ни фантазии.
Одно удовлетворенное чувство долга награждало его и давало
ему силы переносить труды, чуждые его призванию. Может
быть, и еще другое чувство охраняло поэзию этой души, кото¬
рая всего чаще высказывала свое горе в степях, у огней,
Под песнь родную чумака. (Стр. 20.)
Как тут было созреть таланту? Как мог выработаться свобод¬
ный, энергический стих? И кочевая жизнь, и сельские картины,
п любовь, и сомнения попеременно занимали, тревожили его;
но все разнообразные ощущения, которые поддерживают
жизнь таланта, уже созревшего, уже воспитавшего свои силы,
лежали бременем на этой неопытной душе; она не могла похо¬
211
ронить их в себе и не находила формы, чтобы дать им внешнее
бытие.
Эти немногие данные объясняют и достоинства, и недостат¬
ки, и характер стихотворений Кольцова. Немного напечатано их
из большой тетради, присланной им, не все и из напечатанных
равного достоинства; но все они любопытны как факты его жиз¬
ни. Природа дала Кольцову бессознательную потребность тво¬
рить, а некоторые вычитанные из книг понятия о творчестве
заставили его сделать многие стихотворения. Из помещенных
в издании найдется два-три слабых, но ни одного такого, в ко¬
тором не было бы хотя нечаянного проблеска чувства, хотя
одного или двух стихов, вырвавшихся из души. Большая часть
положительно и безусловно прекрасны. Почти все они имеют
близкое отношение к жизни и впечатлениям автора и потому
дышат простотою и наивностию выражения, искренностию чувст¬
ва, не всегда глубокого, но всегда верного, не всегда пламенного,
но всегда теплого и живого. Но при всем этом они разнооб¬
разны, как впечатления, которых плодом они были. В «Великой
тайне» читатель найдет удивительную глубину мысли, соединен¬
ную с удивительною простотою и благородством выражения, ка¬
кое-то младенчество и простодушие, но вместе с тем и возвы¬
шенность и ясность взгляда. Это дума Шиллера, переданная
русским простолюдином, с русскою отчетливостию, ясностию и с
простодушием младенческого ума. В «Песне старика», «Удаль¬
це», «Совете старца» дышит этот разгул юного чувства, которое
просится наружу, выражается широко и раздольно и которое
составляет основу русского характера, когда он, как говорится,
расходится.
Мне ли, молодцу
Разудалому,
Зиму-зимскую
Жить за печкою?
Мне ль поля пахать?
Мне ль траву косить?
Затоплять овин?
Молотить овес?
Мне поля — не друг;
Коса — мачеха;
Люди добрые —
Не соседи мне.
Если б молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный нож,
Да темны леса!
Любо в тех лесах
Вольной волей жить...
Но душой за кровь
Злодей платите#*
212
Лучше ж воином,
За царев закон,
За крещеный мир,
Сложить голову! 1
В «Пирушке русских поселян» 2, «Размышлении поселяпи-
на» и «Песне пахаря» выражается поэзия жизни наших просто¬
людинов. Вот этакую народность мы высоко ценим: у Кольцова
опа благородна, не оскорбляет чувства ни цинизмом, ни гру-
бостию, и в то же время она у него не поддельна, не натянута
и истинна. Простота выражения и картин, прелесть того и дру¬
гого у него неподражаемы. По крайней мере до сих пор мы не
имели никакого понятия об этом роде народной поэзии,
и только Кольцов познакомил нас с ним. Но что составляет цвет
и венец его поэзии, это те стихотворения, в которых он изливает
свое тихое и безотрадное горе любви; онп следующие: «Люди
добрые, скажите», «Ты не пой, соловей»3, «Первая любовь»,
«Не шуми ты, рожь», «К N». Четвертое особенно прелестно; вот
оно:
Не шуми ты, рожь,
Спелым голосом!
Ты не пой, косарь,
Про широку степь!
Мне не для чего
Собирать добро,
Мне не для чего
Богатеть теперь!
Прочил молодец,
Прочил доброе
Не своей душе,
Душе-девице.
Сладко было мне
Глядеть в очи ей
В очи полные
Полюбовных дум.
И те ясные
Очи стухнули,
Спит могильным сном
Красна девица!
Тяжелей горы,
Темней полночи
Легла на сердце
Дума черная!
Сколько тоски, сколько грусти, сколько благородства, простоты
и поэзии в этой песне!
Ах, та песнь была заветная —
Рвала белу грудь тоской,
А все слушать бы хотелося.
Не рассталась бы век с ней!4
213
Теперь послушайте еще раз этого крестьянина, который выра¬
жает тоску любви своей уже другим напевом, другим топом:
Что душу в юностп пленило,
Что сердце в первый раз
Так пламенно, так нежно полюбило —
И полюбило не на час,
То все я силюся предать забвенью
И сердцу пылкому и страстному томленью
Хочу другую цель найтить,
Хочу другое также полюбить!
Напрасно все: тень прежней милой
Нельзя забыть! —
Уснешь — непостижимой силой
Она тихонько к ложу льнет,
Печально руку мне дает
И сладкою мечтой вновь сердце очарует,
И очи томные к моим очам прикует!..
И вновь любви приветный глас
Я внемлю страждущей душою...
Когда ж ударит час
Забвенья о тебе иль вечности с тобою?.. 5
И это не поэзия?..
Не знаю, будут ли иметь успех стихотворения Кольцова, об¬
ратит ли на них публика то внимание, которого они заслужива¬
ют, будут ли уметь наши журналы отдать им должную справед¬
ливость,— все это покажет время. Но мы не можем не при¬
знаться, что Кольцов является с своими прекрасными стихотво¬
рениями не вовремя, или, лучше сказать, в дурное время. Хо¬
рошо еще для него, если бы он явился среди всеобщего за¬
тишья наших неугомонных лир, а то вот беда, что он является
среди дикого и нескладного рева, которым терзают уши публи¬
ки гг. непризванные поэты, преизобильно и преисправно напол¬
няющие, или, лучше сказать, наводняющие некоторые журналы;
является в то время, когда хриплое карканье ворона и грязные
картины будто бы народной жизни с торжеством выдаются за
поэзию... Грустная мысль! Неужели и в самом деле гудок, во¬
лынка и балалайка должны заглушить звуки арфы? Неужели и в
самом деле стихотворное паясничество и кривлянье должны за¬
слонить собою истинную поэзию?.. Чего доброго! поэзия Коль¬
цова так проста, так неизысканна п, что всего хуже, так истинна!
В ней нет ни диких, напыщенных фраз об утесах и других
страшных вещах; в ней нет ни моху забвения на развалинах
любви, ни плотных усестов, в ней не гнездится любовь в ущельях
сердец, в ней нет ни других подобных диковинок6. Толпа сле¬
па: ей нужен блеск и треск, ей нужна яркость красок, и ярко-
красный цвет у ней самый любимый... Но пет — этого быть не
может! Ведь есть же и у самой толпы какое-то чутье, которому
она следует наперекор самой себе и которое у ней всегда вер¬
но! Ведь есть же люди, которые, предпочитая Пушкину и того
и другого поэта, тверже всех поэтов знают наизусть Пушкина
214
и чаще всех читают его?.. Кажется, теперь бы и должно быть
этому времени, в которое все оценивается верно и безошибоч¬
но? — Увидим!
Не знаем, разовьется ли талант Кольцова или падет под
пгом жизни? — Этот вопрос решит будущее, нам остается только
желать, чтобы этот талант, которого дебют так прекрасен,
так полон надежд, развился вполне. Это много зависит и от
самого поэта; да не падет же его дух под бременем жизни, или
убитый ею, или обольщенный ее ничтожностию, да будет для
него всегдашним правилом эта высокая мысль борьбы с жизнию
и победы над нею, которую он так прекрасно выразил в следую¬
щем стихотворении:
К другу
Развеселись, забудь, что было!
Чего уж нет — не будет вновь!
Все ль нам на свете изменило
И все ль с собой взяла любовь?
Еще отрад у жизни много,
У ней мы снова погостим:
С одним развел нас опыт строгой,
Поладим, может быть, с другим!
И что мы в жизни потеряли,
У жизни снова мы найдем!
Что нам мгновенные печали?
Мы ль их с собою не снесем? * ,
Что грусть земли? Ужель за гробом
Ни жизни, ни награды нет?
Ужели там, за синим сводом,
Ничтожество и тьма живет?
Ах, нет! кто мучится душою,
Кто в мире заживо умрет,
Тот там, за дальней синевою,
Награды верные найдет.
Не верь нетления кумиру,
Не верь себе, не верь людям,
Не верь пророчащему миру,
Но веруй, веруй небесам!
И пусть меня людская злоба
Всего отрадного лишит,
Пусть с колыбели и до гроба
Лишь злом и мучит и страшит:
Пред ней душою не унижусь,
В мечтах не разуверюсь я;
Могильной тленью в прах низринусь,
Но скорби не отдам себя!7
Мы от души убеждены, что до тех пор, пока г. Кольцов
будет сохранять подобные чувства и будет основывать на них
неизменное правило жизни, его талант не угаснет!..
НИЧТО О НИЧЕМ, ИЛИ ОТЧЕТ г. ИЗДАТЕЛЮ
«ТЕЛЕСКОПА» ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ПОЛУГОДИЕ (1835)
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(I)
Вы обязали меня сделать легкий и короткий обзор хода
нашей литературы, во время вашего пребывания за границей,
и привели меня тем в крайнее затруднение. Разве вам не из¬
вестно, что «ничто не ново под луною...»1. Каких же хотите вы
новостей от русской литературы, и в такой короткий период ее
существования? «Тем лучше для вас, тем меньше вам труда»,—
скажете вы. Нет, вы не правы: труда от этого мне не только не
меньше, но предстоит истинно геркулесовский подвиг: я дол¬
жен написать статью, а из чего я вам напишу ее, о чем буду
повествовать вам в ней? О ничем?.. Итак, надо сделать что-
нибудь из ничего? — Помните ли вы, как один из знаменитейших
наших писателей, из первостатейных гениев, угомонил на
смерть свою литературную славу тем, что вздумал писать о ни¬
чем, и весь вылился в ничтоЛ.2 Конечно, я не пользуюсь литера¬
турною славою и, следовательно, не подвергаюсь опасности по¬
садить ее на мель рокового ничто; но у меня другой страх, и
очень основательный. Если я не пользуюсь ни тению той луче¬
зарной славы, которою сиял некогда помянутый великий писа¬
тель, то вместе не имею и искры его гения, который нашелся,
хотя и в конечной погибели своей репутации, высказаться в ни¬
чем на нескольких страницах. Притом же, хотя я, в отсутствие
ваше, волею или неволею, играл роль сторожа на нашем Парна¬
се, окликая всех проходящих и отдавая им, своею алебардою,
честь по их званию и достоинству, хотя неутомимо и неусыппо
стоял на своем посту, однако ж многое ускользнуло от моей
бдительности. Бывало, нахлынет целая толпа — и тут некогда
было расспрашивать каждого порозпь; стукнешь алебардою по
216
всем и пропустишь. А теперь неужели мне надо делать пого¬
ловную перекличку, бегать по всем закоулкам и собирать народ
православный? Нет — отрекаюсь от этого труда; п так было много
хлопот п, может быть, много шуму из пустяков! — Да и при¬
том, возможное ли это дело? Много ли из тех, которые промча¬
лись мимо моей сторожки, остались теперь в живых?.. Итак*
я скажу вам только разве о тех лицах, которые особенно вреза¬
лись в моей памяти, буду повествовать только о тех событиях
и случаях, которые особенно поражали мое внимание. Мой об¬
зор будет отрывчат, беспорядочен и несвязен, как всякий рас¬
сказ наскоро о предмете многосложном, разнообразном и нич¬
тожном.
Итак, я обозреваю, становлюсь обозревателем! — Обозре¬
вать, обозреватель — вы помните, как громко звенели некогда
эти два словца в нашей литературе? — Кто не обозревал тогда?
Где не было обозрений? Какой журнал, какой альманах не имел
своего штатного обозревателя? — И это была должность не
трудная, легкая, казенная; за нее брался всякой, не запасаясь
дорогим лорнетом учености, даже иногда вовсе без очков
грамматики и здравого смысла! — Отчего ж теперь так мало пи¬
шется обозрений? Куда девались все эти обозреватели? — Я
прошу у вас позволения заняться предварительно разрешением
этого любопытного вопроса, хотя по крайней мере для того,
чтоб наполнить мою статью объяснением причин, почему она не
может быть нечто?
Обозрения всякого рода бывают результатом или сознания
силы, или сомнения в ней. Кто часто пересчитывает свои деньги,
поверяет счеты и подводит итоги, тот или богатеет день от дня,
или беднеет; само собою разумеется, что в первом случае он
хочет удостовериться в улучшении своего состояния и опреде¬
лить степень этого улучшения, а во втором случае хочет изме¬
рить глубину своего падения, хочет взглянуть в бездну, отвер¬
стую перед ним, как бы с намерением приучить себя заранее
к ее ужасному виду, или как будто находя жестокое наслажде¬
ние в сознании своего бедственного положения, веселясь собст¬
венным своим отчаянием. У нас была уже литература, был
Ломоносов, Сумароков, Херасков, Петров, Державин, Фонви¬
зин, Хемницер, Богданович, Капнист; потом Карамзин, Дмитри¬
ев, Крылов, Озеров, Мерзляков и, наконец, Батюшков и Жуков¬
ский; все эти люди пользовались почти равным участком славы,
всеми ими восхищались почти в равной степени, по крайней
мере все они слыли равно за художников и гениев (или, по-
тогдашнему, за образцовых писателей)3. Критиковать тогда
значило хвалить, восхищаться, делать возгласы и много-много,
если указывать на некоторые неудачные стишки в целом сочи¬
нении или на некоторые слабые места, с советом поэту, как их
починить. Понятия о творчестве тогда были готовые, взятые на¬
прокат у французов; критики не было, потому что крптика бо¬
217
лее или менее есть сестра сомнению, а тогда царствовало пол¬
ное убеждение в богатстве нашей литературы как по количест¬
ву, так п по качеству; литературных обозрений тогда тоже не
было и не могло быть, потому что в обозрение всегда входит
критика, а вместо их иногда случались по временам, и то редко,
реестры писателей и их писаний, перемешанные с известным
числом хвастливых восклицаний. Мерзляков вздумал было на¬
пасть на авторитет Хераскова и, взявши ложные основания, вы¬
сказал много умного и дельного, но как его критицизм был
явпым анахронизмом, то и не принес никаких плодов4. Но
вдруг все переменилось: явился Пушкин и вместе с ним так
называемый романтизм. В чем состоял этот романтизм? В от¬
ношении к Пушкину этот романтизм состоял в том, что изо всех
паших поэтов Пушкина одного можно было назвать поэтом-ху-
дожпиком и не ошибиться; что он, вместо того чтобы писать
громкие и торжественные оды на современные события, обык¬
новенно или теряющие свою прелесть для потомства, или пред¬
ставляющиеся ему в другом свете, стал говорить нам о чувствах
общих, человеческих, всем более или менее доступных, всеми
более пли менее испытанных; что он напал на истинный путь и,
будучи рожден поэтом, свободно следовал своему вдохновению.
Да! воля ваша, а я крепко убежден, что народ или общество
есть самый лучший, самый непогрешительный критик.
Я однажды высказал, или, лучше сказать, повторил чужую
мысль, что Державина спасло его невежество: отрекаюсь тор¬
жественно от этой мысли, как совершенно ложной5. Державин
не был учен, но находился под влиянием современной ему уче¬
ности, разделял верования и мнения своего времени об условиях
творчества и, назло своему гению, всю жизнь свою шел по
ложному пути. Поэтому те из его созданий, которые противоре¬
чили современной ему эстетике, отличаются истинною поэзиею.
Возьмите, например, «Водопад»: похоже ли это на оду, дифи¬
рамб, кантату? Это просто элегия, которая, по своей форме
и своему духу, только тем отличается от элегий даже самых
крошечных наших поэтиков, что запечатлена гением Державина.
И зато как прекрасна и глубока эта элегия! — Но возьмите его
торжественные оды: что это такое? Посмотрите, как он в них
никогда не мог поддержать до конца своего напряженного вос¬
торга, как он в конце каждой из них падал и, начавши высоко
и громко, оканчивал ровно ничем! — И кто станет теперь читать
эти торжественные оды?.. Измаил, Прага, Рымник, Кагул — все
эти имена напоминают о действиях великих; но то ли они, эти
великие действия, для нас, чем были для современников? Мы,
юноши нынешнего века, мы, бывши младенцами, слышали от
матерей наших не об Измаиле, не о Кагуле, не о Рымнпке, а об
двенадцатом годе, о Бородинской битве, о сожжении Москвы,
о взятии Парижа. Эти события и ближе к нам по времени и
поважнее прежних в своей сущности; да п они слабеют уже
218
в нашем воображении, заглушаемые громами араратскими, забая-
канскими, варшавскими6. Но поэзия всех этих великих проис¬
шествий сама по себе так необъятна, что ее трудно уловить,
увековечить в звуках. Сверх того, мы уже уверились теперь, что
факт или событие сами по себе ничего не значат: важна идея.
Быражаемая ими. Итак, что же значат все эти торжественные
оды, какой интерес могут иметь для потомства все эти громо¬
гласные описания? Скажут: это питает народную гордость, дает
наслаждение святому чувству любви к отечеству. Русские брали
непреодолимые твердыни и всему свету доказали свою храб¬
рость; это подвиги, которые поэзия должна передавать потом¬
ству: очень хорошо! но ведь храбрость есть неотъемлемое
свойство русских; но ведь они доказывали ее всегда и везде,
как только был случай; но ведь ничтожная ж горсть русских
удержала за Россиею Грузию и уничтожила все попытки персид¬
ской армии; по ведь ничтожная же горсть русских отбила Ар¬
мению и защитила ее против Персии и Турции?.. Эти подвиги
у нас так часты, так обыкновенны; они составляют ежедневную
жизнь народа русского... Да! Державин шел путем слишком
тесным: он льстил современности, нападал на интересы частные,
современные и редко прибегал к интересам общим, никогда
не стареющим, никогда не изменяющимся — к интересам души
и сердца человеческого! И в этом виновата ученость века, ко¬
торой он был непричастен, но под влиянием которой он всегда
находился. Не зная по-латыни, он подражал Горацию, потому
что тогда все подражали Горацию; не постигнув духа и воз¬
вышенной простоты псалмов Давида, он перелагал их с прозы
на громкие, напыщенные стихи, потому что все наши поэты,
начиная с Ломоносова, делали это, не говоря уже о французах.
Гораций воздвигнул себе памятник, Державин тоже; но что
у первого было, вероятно, вдохновением, то у второго было
подражанием7. Обратимся назад. Итак, романтизм, в отноше¬
нии к Пушкину, состоял в том, что он искал поэзии не в совре¬
менных и преходящих интересах, а в вечном, неизменяемом
интересе души человеческой *. В отношении к другим поэтам*
вышедшим вслед за Пушкиным, романтизм состоял в том, что
ода была решительно заменена элегией, высокопарность — уны¬
лостью, жесткий, ухабистый и неуклюжий стих — гармоническим,
плавным, гладким. В отношении к целой литературе романтизм
состоял в том, что было отвергнуто, как нелепость, драмати¬
ческое триединство, хотя не было написано ни одной хорошей
драмы. Итак, вот весь наш романтизм! Тогда явилось множество
поэтов (стихотворцев п прозаиков), стали писать в таких ро¬
дах, о которых в русской земле дотоле было видом не вндатьв
слыхом не слыхать. Тогда-то наши критики пустились в обозре^
* Зтот вопрос будет подробно рассмотрен нами в особенной статье
о Нущкнпе, которая уже пишется8,
219
ния: они увидели, что у пас есть писатели и в классическом и в
романтическом роде, и захотели поверить свое родное богатст¬
во, подвести его итоги. Это была эпоха очарования, упоения,
гордости: новость была принята за достоинство, и эти поэты,
которых мы теперь забыли и имена и творения, казались чем-то
необыкновенным и велпкпм. И это было очень естественно: новость
направления и духа сочинений всегда бывают камнем преткнове¬
ния для критики.
Итак, очень ясно, что раннее очарование, непрочные на¬
дежды родили гордость и самоуверенность в наших критиках;
а гордость и самоуверенность породили множество обозрений.
Только один Пушкин был предметом, достойным и обозрений, п
критик, и споров, а между тем все шло зауряд в обозрения.
И, разумеется, эти обозрения были важны, горды и веселы, как
молодые надежды, как неопытная юность, гордящаяся силами,
еще не удостоверясь в них. Новость за новостью, поэма за
поэмою, роман за романом, повесть за повестью, альманах за
альманахом, журнал за журналом, а элегии и отрывки без
числа, без меры, и все эго возбуждало участие, восторг, удивление,
потому что все это было ново. Следовательно, обозревателю
было что обозревать, было о чем потолковать. Одна голая
и сухая перечень годовых явлений литературного мира могла
составить статейку; а разведенная фразами, разжиженная чув-
ствованьицами, сдобренная теориями и идеями, эта перечень
превращалась в большую статью. И эту статью читали наперерыв
и с гордостью повторяли находившиеся в ней итоги и возгласы.
Между тем начиналась уже и критика. Так как романтизм
привел за собой эманципацию, то естественным образом начало
закрадываться сомнение насчет достоинства писателей прежней
школы. Нападая на классицизм, стали нападать и на классиков,
не подозревая, что, с немногими исключениями, выигрыш состоял
только в Пушкине, а что все остальное была та же старина,
только на новый лад. Но пока управлялись со стариками, и но¬
вички успели состареться и наскучить. Разумеется, это соверши¬
лось не вдруг, а постепенно. Тогда обозрения начали терять
свой кредит, и вместо их начала усиливаться основательная кри¬
тика.
Итак, теперь — что теперь обозревать? Нового уж нет ниче¬
го, все старо. У меня страстная охота писать, и я во что бы то
ни стало хочу написать роман — но что же? Я во всем предуп¬
режден! Хочу писать роман исторический — старо; перерываю
все эпохи русской истории — старо; хочу писать роман нраво¬
описательный и нравственно-сатирический9— но и это старо
и пошло; хочу писать роман географический, статистический,
топографический — опять старо; вздумал было однажды нрав¬
ственно-фантастический — но и тут какой-то злодей предупре¬
дил меня; хочу писать подземный, представить людей маленьких
с мизинец и потом больших, с коломенскую версту — куда! этшй
220
еще восемнадцатый век воспользовался, а я ничего не хочу
иметь общего с восьмнадцатым веком; по вот вдруг блеснула
светлая мысль: хочу вывесть людей допотопных и потом людей
ходящих, мыслящих и говорящих вверх ногами — и тут предуп¬
редила меня игривая фантазия Барона Брамбеуса 10. Ну, пове¬
рите ли, почтенный издатель «Телескопа», куда я ни бросался,
как ни ломал свою бедную голову, а кончил тем, что пришел
в отчаяние и решился не писать ничего по части поэзии. Но
наши писатели не так робки и, может быть, не так горды и са¬
молюбивы в этом отношении, как я: они, знай свое — тормошат
старину и слушать не хотят ни публики, ни рецензентов. Честь
и слава их храбрости, но каково публике-то от этой храб¬
рости? — Но публике поделом: кто ее заставляет пробавляться
истертою стариной! — А каково рецензентам-то? — Но и им по¬
делом: кто их заставляет писать рецензии и горячиться из
пустяков? — А каково обозревателям-то — что им остается обо¬
зревать? — А кто их заставляет обозревать, когда нечего обо¬
зревать? — Они и не обозревают!.. И слава богу!..
И после этого вы, милостивый государь, требуете от ме¬
ня— чего же? — обозрения!.. Но, видно, делать нечего — и я,
в угождение вам, посвящаюсь в обозреватели!..
Увы! миновалось то золотое, прекрасное время, когда наши
красноречивые обозреватели, в сердечной простоте, с теп¬
лою верою, с полным убеждением, что они делают дело, а не
порют вздор, начинали свои обозрения взглядами на состояние
земного шара, когда еще на нем не было людей, или с яиц
Леды, или с потопа, или по крайней мере с Греции и Рима,
чтобы прошедшим объяснить настоящее п. Обозревателю на¬
ших дней не для чего залетать так далеко: он должен начать
с предмета, самого близкого к сердцу всех и каждого, самого
необходимого в жизни — с кармана... Да! в кармане должен
видеть он таинственный рычаг этой литературной деятельности,
которая промышляет и оптом и по мелочи; в нем должен ис¬
кать он решения на все мудреные загадки современной русской
литературы. Увы! миновал золотой век нашей литературы, на-*
ступил железный, а
...В сей век железный,
Без денег, слава — ничего! 12
Что делать! покоримся судьбе — видпо, так должно быть, а че¬
му быть, тому не миновать! Теперь все пустились в литературу,
все сделались поэтами, романистами и повествователями. Клас¬
сический перпод нашей литературы был не умнее, но как-то
благороднее нынешнего; тогда пускались в литературу из сла¬
вы, из известности, и притом только люди, по крайней мере
знавшие грамматику, знакомые с литературным тактом своего
времени, не чуждые здравого смысла; теперь же романтизм
освободил нас и от грамматики, и от приличия, и от здравого
221
смысла. Тогда литература была уделом какого-то привилегиро*
ванного класса; теперь же пишут и сапожники, и пирожники,
и подьячие, и лакеи, и сидельцы аеошных и мушных лавок, сло¬
вом, все, которые только умеют чертить на бумаге каракульки.
Откуда набралась зта сволочь? Отчего она так расхрабрилась?
Где рычаг этой внезапной и живой литературной деятельности?
Я уже сказал, что его надо искать в кармане...— Знаете ли что,
почтеннейший Николай Иванович!13 Я душевно люблю право¬
славный русский народ и почитаю за честь и славу быть ничтож¬
ной песчинкой в его массе; но моя любовь сознательная, а не
слепая. Может быть, вследствие очень понятного чувст¬
ва, я не вижу пороков русского народа, но это нисколько не
мешает мне видеть его странностей, и я не почитаю за грех
пошутить, под веселый час, добродушно и незлобиво, над его
странностями, как всякой порядочный человек не почитает для
себя за унижение посмеяться иногда над собственными своими
недостатками. Знаете ли вы, в чем состоит главная странность
вообще русского человека? В каком-то своеобразном взгляде
на вещи и упорной оригинальности. Его упрекают в подража¬
тельности и бесхарактерности; я сам, грешный, вслед за другими
взводил эту небылицу (в чем и каюсь); но этот упрек неосно¬
вателен: русскому человеку вредит совсем не подражатель¬
ность, а, напротив, излишняя оригинальность. Пробегите в уме
вашем всю его историю — и доказательства явятся перед глаза¬
ми. Вот они... Но постойте, чтоб яснее выразить мою мысль,
я должен прибавить, что русский человек с чрезвычайною ори¬
гинальностью и самобытностью соединяет и удивительную недо¬
верчивость к самому себе и вследствие этого страх как любит
перенимать чужое, но, перенимая, кладет тип своего гения на
свои заимствования. Так, еще в давние веки, прослышал русский
человек, что за морем хороша вера, и пошел за нею за море.
В этом случае он, по счастию, не ошибся; но как поступил он
с истинной, божественной верой? Перенес ее священные имена
на свои языческие предрассудки: св. Власию поручил должность
бога Волоса, Перуновы громы и молнии отдал Илье-Пророку
и т. д. Итак, вы видите: переменились слова и названия, а идеи
остались всё те же! Потом явился на Руси царь, умный и вели¬
кий, который захотел русского человека умыть, причесать, об¬
рить, отучить от лени и невежества: взвыл русский человек гла¬
сом велиим и замахал руками и ногами; но у царя была воля
железная, рука крепкая, и потому русский человек, волею или
неволею, а засел за азбуку, начал учиться и шить, и кроить,
и строить, и рубить. И в самом деле, русский человек стал
походить с виду как будто на человека: и умыт, и причесан,
и одет по форме, и знает грамоту, и кланяется с пришаркп-
ваньем, и даже подходит к ручке дам. Все это хорошо, да вот
что худо: кланяясь с пришаркиваньем, он, говорят, расшибал
нос до крови, а подходя к ручкам прелестных дам, наступал на
222
их ножки, цепляясь за свою шпагу и не умея справляться с
треху го лкою; выучив наизусть правила, начертанные на зерцале
рукою великого царя 14, он не забыл, не разучился спрягать гла¬
гол брать под всеми видами, во все времена, по всем лицам
без изъятия, по всем числам без исключения; надевши мундир,
он смотрел на него не как на форму идеи, а как на форму
парада, и не хотел слушать, когда мудрое правительство толко¬
вало ему, что правосудие не средство к жизни, что присутствен¬
ное место не лавка, где отпускают и права и совесть оптом и по
мелочи, что судья не вор и разбойник, а защитник от воров
и разбойников. Потом был на Руси другой царь, умный и до¬
брый; видя, что добро не может пустить далеко корня там, где
нет науки, он подтвердил русскому человеку учитья, а за
ученье обещал ему и большой чин и знатное место, думая, что
приманка выгоды всего сильнее15; но что ж вышло?.. Правда,
русский человек смышлен и понятлив, коли захочет, так и са¬
мого немца за пояс... И точно, русский принялся учиться, но
только, получив чин и место, бросал тотчас книги и принимался
за карты — оно и лучше!.. Итак, не ясно ли после этого, что
русский человек самобытен и оригинален, что он никогда не
подражал, а только брал из-за границы формы, оставляя там
идеи, и одевал в эти формы свои собственные идеи, завещан¬
ные ему предками. Конечно, к этим доморощенным идеям не
совсем шел заморский наряд, но к чему нельзя привыкнуть,
к чему нельзя приглядеться?..
Обратимся к литературе. С нею русский человек поступил
точно так же, как и со всем тем, о чем я уже говорил. Как все
прочее, она у него — цветок пересаженный, и, надо сказать, как
все хорошее, не им самим, а правительством. Литература наша
началась при Елисавете, а получила некоторую оседлость при
Екатерине II. Нам известно, что в царствование этой великой
жены наша литература находилась, подобно почти всем евро¬
пейским литературам, под влиянием французской. Французская
литература была тогда полным выражением XVIII века, а что
такое XVIII век, об этом всякой знает. Мы скажем только, что
XVIII век был малой веселый и разгульный, любил мягко по¬
спать, сладко поесть, пьяно попить и ни о чем не тужить. Весе¬
литься — была его цель, и все средства почитал он позволенными
к достижению этой цели. Всем известна мудрая русская по¬
словица: богатый на деньги, а голь на выдумки. Поэты и во¬
обще литераторы были тогда люди бедные и неважные, но это
не помешало пм веселиться наравне с людьми богатыми и ве¬
селыми: они наделп на себя лдвреп людей богатых п важных и,
за их столамп, в восторге радости, запели песни дивные, жи¬
вые 16. Кого ж они воспевали? Героев тогда не было; греческая
литература была плохо понимаема, но хорошо была понята ли¬
тература латинская — и стали воспевать меценатов! Да как было
и не воспевать пх? Люди былп они богатые, поэтов кормили
22а
сладко, хотя иногда употребляли их вместо плевальниц, но что
ж за беда — ведь утереться не трудно. Этого было довольно
для русского человека: он так хорошо, на этот раз, сошелся
с французом, что взял и идею и форму, и, следовательно, еще
в первый раз, явился совершенным подражателем. Тогда-то по¬
шли наши оды, с любимым словечком: «О ты», и пр. Но в мире
все оканчивается, кончился и XVIII век, кончился везде, а у нас
еще здравствовал и только в одной литературе стал изменяться.
В этом отношении мы должны с благодарностью произносить
имя Жуковского, познакомившего нас с германскою литературой
и передавшего нам несколько благоуханных цветов ее. Были
дарования, но иные из них шли не своею дорогою, сбивае¬
мые XVIII веком, и остались только в литературных обозрени¬
ях, а не в памяти народа; другие, по своей незначительности,
успели добиться только эфемерной славы. Идея искусства
и потребность искусства проявились только в начале третьего
десятилетия настоящего века; но, кроме Пушкина и Грибоедо¬
ва, не было поэтов; зато, как я уже и говорил выше, было
много обозрений.
Какое ж следствие из всего этого? А вот какое: сначала
наша литература родилась вследствие мысли правительства
и симпатии характера русского народа к господствовавшему
тогда характеру французов; потом она сделалась подражатель¬
ницей вдруг нескольких литератур; теперь... теперь...— Но по¬
звольте мне после вывесть полный и удовлетворительный ре¬
зультат. Я так уже устал, а впереди предстоит большой труд:
трудно обозреть цветущую долину, но еще труднее бесплодную
аравийскую степь и потому
до следующей книжки.
(И)
Начинаю мое обозрение с журналов, потому что, как ни
мало теперь у нас журналов, но все больше, чем книг. Разуме¬
ется, на те и другие я смотрю, как обозреватель, которому нужны
материялы для обозрения и для которого важно только то,
о чем он что-нибудь может сказать; каковы бы ни были наши
журналы, о них все-таки можно сказать много и за и против; но
1шиг, стоящих внимания, в каком бы то ни было отношении,
гышло без вас не более двух или трех. Здесь я опять должен
употребить оговорку: так как моему рассмотрению подлежат
книги только по части художественной и притом оригинальные,
то и не удивительно, что я нахожу так мало книг, вышедших
в последнее полугодие прошлого года. Итак, обращаюсь к жур¬
налам и приступаю к делу.
Но с каких журналов должно мне начать? С московских или
с петербургских? И потом, с какого именно? — Начинаю — по
224
старшинству и важности — с «Библиотеки для чтения», а за него
брошу взгляд на прочие петербургские журналы. У меня есть
причина, и причина очень достаточная, для этого предпочтения
в пользу «Библиотеки для чтения»: журнал, владеющий боль¬
шим против своих собратий числом подписчиков и в продолже¬
ние не одного уже года поддерживаемый постоянным вниманием
публики, такой журнал, говорю я, может быть, пз лучший,
по, без сомнения, должен быть важнейший; потому что все, что
пользуется авторитетом, заслуженным или незаслуженным, все,
что имеет на публику большое влияние, хорошее пли вредное, все
то важно и достойно внимания и прилежного исследования;
а «Библиотека для чтения», во всех этих отношеипях, есть пер¬
вый и важнейший в России журнал, и, следовательно, обозрева¬
тель с него должен начинать свой разбор. О прочих петербург¬
ских журналах я буду говорить тотчас иосле «Библиотеки» п
прежде московских изданий, не для соблюдения порядка, а тоже
вследствие основательной и важной причины: все петербург¬
ские журналы, как я покажу это ниже, имеют, в своем на¬
правлении, духе и правилах, много общего с «Библиотекою», хотя
в то же время они суть не более, как жалкие пародии на этот
соблазнительный для них образец: те же цели, те же замашки,
те же усилия, хотя и не та ловкость, не то уменье, не та сила, по
то исполнение! — Да! недаром петербургская книжная произво¬
дительность не в ладу с московскою: каждая из них, несмотря
на видимое разногласие с самой собою, имеет общий характер,
одно направление, одно основание, и, вследствие совершенной
противоположности друг с другом, во всех этих отношениях,
обе они должны находиться одна к другой в естественной не¬
приязни, как теперь прямодушный турок к хитрому перспяппну,
как некогда тяжелый англичанин к легкому французу. И я
постараюсь показать, сколько возможно, отличительные черты,
ртличающие их одну от другой и поставляющие пх в неприяз¬
ненное отношение одну к другой.
«Библиотека для чтения» начинает уже третий год своего
существования, и, что очень важно, она нисколько не изменяется
ни в объеме, ни в достоинстве своих книжек, ни в духе
и характере своего направления; она всегда верна себе, всегда
равна себе, всегда согласна с собою; словом, идет шагом ров¬
ным, поступью твердою, всегда по одной дороге, всегда к одной
цели; пе обнаруживает ни усталости, ни страха, ни непостоянст¬
ва. Все это чрезвычайно важно для журнала, все это составляет
необходимое условие существования журнала и его постоянного
кредита у публики; в то же время это показывает, что «Биб¬
лиотекою» дирижирует один человек, и человек умный, ловкий,
сметливый, деятельный — качества, составляющие необходимое
условие журналиста; ученость здесь не мешает, но не составляет
необходимого условия журналиста, для которого, в этом от¬
ношении, гораздо важнее, гораздо необходимее универсаль-
8 В. Белинский, т. 1
225
ность образования, хотя бы и поверхностная, многосторонность'
познании, хотя бы п верхоглядных, энциклопедизм, хотя 6и
и мелкий. О «Библиотеке» писали п пишут, на нее нападали
и нападают, сперва враги, а наконец и друзья 17, поклявшиеся
ей в верности до гроба, пожертвовавшие ей собственными вы¬
годами, разумеется, в чаянии больших от союза с сильным
и богатым собратом; а «Библиотека» все-таки здравствует, сме¬
ется (большею частию молча) над нападками своих противни¬
ков! — В чем же заключается причина ее неимоверного успеха,
ее неслыханного кредита у публики? — Если бы я стал утверж¬
дать, что «Библиотека» — журнал плохой, ничтожный, это значи¬
ло бы смеяться над здравым смыслом читателей и над самим
собою: факты говорят лучше доказательств; и первенство
и важность «Библиотеки» так ясны и неоспоримы, что против
них нечего сказать. Гораздо лучше показать причины ее могу¬
щества, ее авторитета. На «Библиотеку», на Брамбеуса и на Тю-
тюнджи-Оглу (что все почти тождественно) было много напад-
ков, часто бессильных, иногда сильных, было много атак, часто
неверных, иногда впопад, но всегда бесполезных. Не знаю, прав
я или нет, но мне кажется, что я нашел причину этого успеха,
столь противоречащего здравому смыслу и так прочного, этой
силы, так носящей в самой себе зародыш смерти и так постоян¬
ной, так не слабеющей. Не выдаю моего открытия за новость,
потому что оно может принадлежать многим; не выдаю моего
открытия и за орудие, долженствующее быть смертельным для
рассматриваемого мною журнала, потому что истина не слиш¬
ком сильное орудие там, где еще нет литературного общест¬
венного мнения. «Библиотека» есть журнал провинциялъный:
вот причина ее силы. Рассмотрим это. Но я должен взять
несколько повыше, должен упомянуть о ее начале, ее зарожде¬
нии на свет. Всякому известно, что этот журнал основан книго¬
продавцем, который приобрел у публики большую доверенность,
и приобрел по справедливости, по заслуге; всякому известно,
что этот книгопродавец ведет торговлю большую и, следова¬
тельно, в состоянии делать большие обороты и пускаться
в важные предприятия; это обстоятельство ручалось за исправ¬
ный выход книжек, за их типографическое достоинство, за хо¬
рошую и честно выполняемую плату сотрудникам журнала18.
Правда, это обстоятельство, с одной стороны благоприятствуя
зарождавшемуся предприятию, с другой могло и повредить
ему, потому что публика знала, что владелец журнала не мог
быть ни его издателем, ни его редактором, ни даже его сотруд¬
ником, что поэтому он должен был поручать издание своего
журнала разным лицам, одному после другого, неизбежным
следствием чего должно быть разногласие в мнениях, проти¬
воречие в духе и направлении издания; притом публике были
известны в числе редакторов имена гг. Греча и Булгарина, изда¬
телей очень посредственных журналов и авторов очень плохих
226
романов, и она лишь впоследствии могла увидеть, что гг. Греч
и Булгарин были и остались только вкладчиками своих статеек
я корректорами «Библиотеки» 19, что Тютюнджи-Оглу не имел
ничего общего с нпми в своей ловкости, уме, остроумии, что
самый язык и правописание всех статей, особенно последнее,
принадлежали ему же, а не им; но нашей публике до этого не
было нужды; ей обещаны были толстые книги и участие почти
всех знаменитостей — этого для ней было достаточно. Итак,
одно уже то обстоятельство, что новый журнал был собствен¬
но стшо богатого и честного книгопродавца, было одною из силь¬
нейших причин его успеха. Потом, это участие почти всех зна¬
менитостей нашего письменного мира, эти имена, выставленные
в программе и на обертках «Библиотеки», как залог того, что
вся литературная деятельность должна сосредоточиться в од¬
ном издании, чего никогда не бывало, о чем самая мысль все¬
гда казалась несбыточною, — какая приманка для нашей довер¬
чивой публики!.. Правда, некоторые из авторов, имена которых
двенадцать раз в год повторялись на обертках журнала, не по¬
дарили его ни одною статьею; правда, некоторые из знамени¬
тостей сошли с обертки, к немалому вреду репутации журнала;
правда, и половина оставшихся имен, при втором годе, совсем
исчезла с обертки; правда, большая часть этих знаменитостей
была совсем не знаменита, и между этими знаменитостями
многие были сделаны на скорую руку, ради предстоящей по¬
требности, многие незнаменитости были произведены в знаме¬
нитости, произведены самим этим журналом, ради предстоящей
нужды; но нашей публике не было до того нужды: она по-
прежнему встречала постоянно некоторые имена, или в самом
деле любимые ею, или к которым она пригляделась, что для ней
все равно, и, доверчивая, невзыскательная, питала теплую веру
ко всему, что выдавали ей за талант и гений сами эти же талан¬
ты и гении. Дело было сделано, а русский человек вообще
сговорчив и в литературных делах за неустойкой не гонится,
если вы исполнили хоть часть условий — так мало избалован он
полными устойками. Присоедините к этому его уважение к ав¬
торитетам, к громким именам, его доверчивость ко всему, что
другими пли самим собою провозглашается за дарование. Итак,
вот вторая и очень Еажная причина успеха «Библиотеки» при
самом ее начале. Теперь следует третья, не менее важная: кто
не помнит хвастливого и, можно сказать, бесстыдно самохвалъ-
ного объявления об издании «Библиотеки»? Кто не помнит воз¬
гласов «Северной пчелки», которая прожужжала всем уши, что
кто не подпишется на «Библиотеку», тот пе патриот, тот не лю¬
бит отечества, не желает ему добра, что тот ренегат, измен¬
ник? — И что же? — Это хвастливое объявление, эти вопли, эти
возгласы во всяком другом обществе были бы почтены по
крайней мере за неприличные, возбудили бы подозрение, недо¬
верчивость и убили бы предприятие в самом его зародыше; но
8*
227
у нас это-то чуть лп н но есть вернейшее средство успеха.
Я часто замечал за самим собою, что когда мне случалось хо¬
дить для покупок в город и когда слух мой оглушался, а мое
человеческое достоинство оскорблялось невежливой и грубою
политикой нашей национальной коммерции, громко и неистово
превозносящей свои товары и нагло и почти насильно затаски¬
вающей покупателя в свою лавку, то я замечал, что чуть ли не
всегда попадал я в самую горластую, в самую наглую лавку: что
делать — человек русский! — Проклинаешь это азиятское само¬
хвальство, эту предательскую вежливость, сбивающуюся на уни¬
жение, эту бесстыдную наглость, и к ней-то именно попадаешь,
как рыба на удочку,— на Руси так исстари ведется!.. Итак, вот
три причины, сделавшие «Библиотеку» сильною, когда еще
«Библиотеки» не было и на свете!
Теперь посмотрим, какими средствами умела она поддер¬
жать себя во мнении публики, или, лучше сказать, какими сред¬
ствами умела сделать себя необходимою для публики и, всеми
осуждаемая, всеми ненавидимая, сделать всех своими подпис¬
чиками? Я сказал, что тайна постоянного успеха «Библиотеки»
заключается в том, что этот журнал есть по преимуществу жур¬
нал провинциальный, и в этом отношении невозможно не удив¬
ляться той ловкости, тому уменью, тому искусству, с какими он
приноровляется и подделывается к провинции. Я не говорю уже
о постоянном, всегда правильном выходе книжек, одном из
главнейших достоинств журнала; остановлюсь на числе книжек
и продолжительности срока их выхода. Я думал прежде, что это
должно обратиться во вред журналу; теперь вижу в этом тон¬
кий и верный расчет. Представьте себе семейство степного по¬
мещика, семейство, читающее все, что ему попадется, с облож¬
ки до обложки; еще не успело оно дочитаться до последней
обложки, еще не успело перечесть, где принимается подписка,
и оглавление статей, составляющих содержание номера, а уж
к нему летит другая книжка, и такая же толстая, такая же жир¬
ная, такая же болтливая, словоохотливая, говорящая вдруг
одним и несколькими языками. И в самом деле, какое разнооб¬
разие!— Дочка читает стихи гг. Ершова, Гогниева, Струговщико-
ва и повести гг. Загоскина, Ушакова, Панаева20, Калашникова
и Масальского; сынок, как член нового поколения, читает стихи
г. Тимофеева и повести Барона Брамбеуса; батюшка читает
статьи о двухпольной и трехпольной системе, о разных спосо¬
бах удобрения земли, а матушка о новом способе лечить чахот¬
ку и красить нитки; а там еще остается для желающих критика,
литературная летопись, из которых можно черпать горстями
и пригоршнями готовые (и часто умные и острые, хотя редко
справедливые и добросовестные) суждения о современной ли¬
тературе; остается пестрая, разнообразная смесь; остаются
статьи ученые и новости иностранных литератур. Не правда ли,
что такой журнал — клад для провинции?..
228
Но постойте, это еще не все: разнообразие не мешает
и столичному журналу и не может служить исключительным
признаком провинцияльного. Бросим взгляд на каждое отделе¬
ние «Библиотеки», особенно и по порядку. Стихотворения зани¬
мают в ней особое и большое отделение: под многими из них
стоят громкие имена, каковы Пушкина, Жуковского; под боль¬
шею частию стоят имена знаменитостей, выдуманных и сочинен¬
ных наскоро самою «Библиотекою»; но нет нужды: тут все идет
за знаменитость; до достоинства стихов тоже мало нужды: име¬
на, под ними подписанные, ручаются за их достоинство, а в
провинциях этого ручательства слишком достаточно. То же самое,
в отношении имен, должно сказать и о русских повестях: ино¬
странные подписаны именами, которые для провинций непре¬
менно должны казаться громкими, хотя бы и не были громки на
самом деле; подписаны именами журналов, громких и извест¬
ных во всем мире. То же должно сказать и о прочих отделениях
«Библиотеки». Теперь скажите, не большая ли это выгода для
провинций? — Вам известно, как много и в столицах людей, ко¬
торых вы привели бы в крайнее замешательство, прочтя им
стихотворение, скрывши имя его автора и требуя от них мне¬
ния, не высказывая своего; как много и в столицах людей, кото¬
рые не смеют ни восхититься статьею, ни осердиться на нее, не
заглянув на ее подпись. Очень естественно, что таких людей
в провинциях еще больше, что люди с самостоятельным мнени¬
ем попадаются туда случайно и составляют там самое редкое
исключение. Между тем и провинциялы, как и столичные жите¬
ли, хотят не только читать, но и судить о прочитанном, хотят
отличаться вкусом, блистать образованностью, удивлять своими
суждениями, и они делают это, делают очень легко, без всякого
опасения компрометировать свой вкус, свою разборчивость, по¬
тому, что имена, подписанные под стихотворениями и статьями
«Библиотеки», избавляют их от всякого опасения посадить на
мель свой критицизм и обнаружить свое безвкусие, свою не¬
образованность и невежество в деле изящного. А это не шут¬
ка! — В самом деле, кто не признает проблесков гения в самых
сказках Пушкина, потому только, что под ними стоит это маги¬
ческое имя «Пушкин»? 21 То же и в отношении к Жуковскому.
А чем ниже Пушкина и Жуковского гг. Тимофеев и Ершов? Их
хвалит «Библиотека», лучший русский журнал, и принимает
в себя их произведения. — Может ли быть посредственна или
нехороша повесть г. Загоскина? Ведь г. Загоскин — автор «Ми¬
лос лавского» и «Рославлева»; а в провинции никому не может
прийти в голову, что эти романы, при всех своих достоинствах,
теперь уже не то, чем были, или по крайней мере чем казались
некогда. Может ли быть не превосходна повесть г. Ушакова,
автора «Кпргпз-капсака», «Кота Бурмосека», бывшего сотрудни¬
ка «Московского телеграфа», сочинителя длпнных, скучных
и ругательных статей о театре? Провинция и подозревать не
229
может, чтоб знаменитый г. Ушаков теперь был уволен из зна¬
менитых вчистую.— Кто усумпптся в достоинстве повестей
гг. Панаева, Калашникова, Масальского? — Да, в этом смысле,
«Библиотека» — журнал провинцияльнын!
Опять до следующей книжки.
(III)
Теперь я буду следить за «Библиотекою» шаг за шагом;
я обнаружу всю ее политику, изъясню подробнее причины ее
могущества. Я пе буду пускаться о «Библиотеке» в излишние
рассуждения, буду представлять одни факты, а там пусть пони¬
мают их, как угодно. До сих пор я сделал только предисловие,
определил точку зрения, с которой гляжу на «Библиотеку», те¬
перь покажу, что я вижу в ней. Прошу вас не забывать, что
основная мысль моя о «Библиотеке» состоит в том, что этот
журнал проеинциялъный, что он издается для провинции и си¬
лен одною провинциею. Итак, приступаю к подробнейшему объ¬
яснению признаков ее привилегированного провинциялизма.
Я не почитаю за нужное слишком распространяться о стихо¬
творном отделении «Библиотеки». Пора стихов миновала в на¬
шей литературе; наступила пора смиренной прозы22. Хороших
стихов теперь не достанешь ни за какие деньги, и потому «Биб¬
лиотека» пе виновата, что помещает дурные стихи; но она вино¬
вата в том, что выдает их за хорошие *. Это с ее сторопы
расчет, расчет, в который входит преимущественно провинция.
Итак, о стихах нечего много говорить; но можно побольше по¬
говорить о прозаическом отделении русской словесности.
Разумеется, это отделение состоит преимущественно из по¬
вестей и может назваться по преимуществу провинцияльным.
Пересматриваю «Библиотеку», и чьи имена встречаю в отделе¬
нии повестей русской фабрики? — Во-первых, гг. Загоскина,
Ушакова: в «Библиотеке» это знаменитости первой величины,
авторитеты, лучезарным светом которых она озаряется с осо¬
бенным удовольствием, с особенною хвастливостью; потом, по¬
вести гг. Степанова, Маркова и многих других, имен которых
я не могу упомнить, по причине их множества; это знамени¬
тости недавние, авторитеты юные. Чтобы яснее развить мою
мысль, я должен рассмотреть попристальнее некоторые из этих
повестей. В таком случае мне надо б было начать с г. Загоски¬
на, как первой знаменитости «Библиотеки», в которой он по¬
местил две повести: «Вечера на Хопре» и «Три жениха, провпн-
цияльные очерки»; но первой я совсем не читал, а о второй
* Впрочем, справедливость требует заметить, что между множеством
плохих стихотворений знаменитых и не знаменитых авторов в «Библиотеке»
было помещено два-три стихотворения г. Козлова, от которых веет прежним
благоуханием его поэзии. Особенно замечательна пиеска «К неверной,)23.
230
упомянул слегка при отзыве о «Недовольных» п, мне кажется,
довольно удачно уловил ее характеристику, что, разумеется,
очень нетрудно было сделать24. Итак, не желая повторять
одно п то же, замечу только, что г. Загоскин очень удачно
назвал свою повесть «Провинцпяльными очерками»: этим назва¬
нием он написал на нее самую лучшую критику a priori *,
а помещением ее в «Библиотеке» сделал на нее самую лучшую
критику a posteriori!.. ** Обращаюсь к г. Ушакову.
Вам, почтеннейший Николай Иванович, известен гибкий
и универсальный талант г. Ушакова; вы, верно, еще не забыли,
что он писал некогда предлинные, преисполненные славянского
остроумия и прескучные статьи о театре; вы помните также, что
он, г. Ушаков, писал презлые, хотя уж и чересчур холодные,
сатирические аллегории и в этом роде явился основателем
и главой важной, хотя и безлюдной школы: я разумею «Кота
Бурмосека»; потом, знаете, что он написал очень порядочный
роман «Киргиз-кайсак». Да, все это должно быть вам давно
известно, но вот чего вы наверное не знаете: г. Ушаков не
удовольствовался приобретенною славою в этих трех родах, по¬
шел далее, как и следует всякому сильному дарованию. Сперва
он сделал попытку воскресить па Руси дух покойного Августа
Лафонтена и написал повесть «Марихен», но этот опыт не удал¬
ся: «Марихен» не только не разбудила Августа Лафонтена, но
и сама заснула с ним сном непробудным25. Эта неудача не
лишила, однако, бодрости г. Ушакова: как просвещенный
и опытный литератор, он понял, что нельзя идти против духа
времени, и бросился в другую сторону, в которой вполне сознал
свое направление и свое назначение: он решился сделаться на¬
родным. Рассказавши нам довольпо увлекательно о страданиях
юной аристократки, рассказав о страданиях Киргиз-кайсака, пле¬
бея по рождению, но аристократа по мысли и чувству, он теперь
бросился совершенно в противоположную сторону и принялся
за плебеев, плебеев по рождению, плебеев по уму, чувству
и образованности. Уже не балы, а вечеринки рисует теперь нам
его чудотворная кисть, и само собою разумеется, что от этих
Еечерпнок слух наш поражается не звуками кадрилей и мазу¬
рок, зрение не блестящими люстрами и кенкетами, обоняние не
благовонными парфюмами, а побранками и плоскими шутками,
чадом сальных свечей и запахом водки, ерофеича, разного со¬
рта наливок, а иногда и простой сивухи, сельдей, икры паюсной
п зернистой, луку зеленого и репчатого, жареной печенки, и пр.
и пр.; вместо князей, кавалеристов, дам теперь он выводит
и скромных отставных пехотинцев, и купцов третьей гильдии,
и мещан всех разрядов, словом, все, что носит бороду, одева¬
ется в зипун или в длиннополый сертук с высоким лифом, в те-
* заранее, до опыта (,1ат.).— Ред.
** на основе опыта! (лат.). — Ред.
231
логрепку или даже в поняву, а голову повязывает бумажным
пли иарчевым платком. Короче сказать: почтеннейший г. Уша¬
ков сделался теперь прозаическим г. Измайловым26. Переход
удивительный, метаморфоза чудесная, но вместе с тем и очень
понятная: г. Ушаков покорился духу времени и увлекся народ¬
ностью.
Народность в литературе!.. Позвольте мне, почтенный изда¬
тель «Телескопа», сделать здесь небольшое отступление от ма¬
терии и оставить на мпнутку-другую г. Ушакова. Я хочу сказать,
или, скорее, повторить уже сказанное мною когда-то о народ¬
ности; этот предмет занимает теперь всех, вы сами пишете об
нем27, и потому я считаю теперь кстатп подать и свой голос.
Что такое народность в литературе? Отражение индивидуаль¬
ности, характерности народа, выражение духа внутренней
и внешней его жизни, со всеми ее типическими оттенками,
красками и родимыми пятнами — не так ли? — Если так, то, мне
кажется, нет нужды поставлять такой народности в обязанность
истинному таланту, истинному поэту; она сама собой непремен¬
но должна проявляться в творческом создании. Вы признаете
большее или меньшее влияние индивидуальности поэта на его
произведения, как бы они разнообразны ни были! Вы не стане¬
те отрицать, что чем дарование поэта сильнее, тем оно ориги¬
нальнее! Итак, если личность поэта должна отражаться в его
творениях, то может ли не отражаться в них его народность?
Разве всякой поэт, прежде чем он человек, не есть русский,
француз или немец? — Возьмем поэта русского: он родился
в стране, где небо серо, снега глубоки, морозы трескучи, вьюги
страшны, лето знойно, земля обильна и плодородна: разве все
это не должно положить на него особенного характеристи¬
ческого клейма? Он, в младенчестве, слышал сказки о могучих
богатырях, о храбрых витязях, о прекрасных царевнах и княж¬
нах, о злых колдунах, о страшных домовых; он, с малолетства,
приучил свой слух к жалобному, протяжному пенью родных пе¬
сен; он читал историю своей родины, которая не похожа на
историю никакой другой страны в мире; он провел лета своей
юности среди общества, которое не похоже ни на какое другое
общество; он принадлежит к народу, который еще не живет
полною жизнью, но у которого настоящее уже интересно как
шаг, как переход к прекрасному будущему, у которого это бу¬
дущее еще в зародыше, еще в зерне, но уже так богато надеж¬
дами... Потом, если он поэт, поэт истинный, то не должен ли
сочувствовать своему отечеству, разделять его надежды, бо¬
леть его болезнями, радоваться его радостями?.. Кто не согла¬
сится с этим, кто будет противоречить этому? — Итак, спраши¬
ваю: может ли истинный русский поэт не быть русским поэтом,
русским не по одпому рождению, а по духу, по складу ума, по
форме чувства, как бы ни глубоко был он проникнут европеиз¬
мом? — Да, почтеннейший издатель, если поэт владеет истинным
232
талантом, он не может пе быть народным, лпшь бы только
творнл из души, а не мудрил умом, не брал работою... Возьмите
Крылова: оставляя покуда в стороне вопрос о басне как худо¬
жественном произведении и смотря на него самого даже не как
на поэта, а как на краснобая, не видите ли вы в нем чистейшей
народности, без всякой примеси тривияльностп; не доказывает¬
ся ли его народность и живым сочувствием к нему народа рус¬
ского, и его непереводимостью ни на какой язык в мире? —
Теперь возьмем другую сторону, совершенно противуположную
этой, возьмем «Онегина», лучшее произведепие Пушкина: раз¬
ве эта Татьяна, Ольга, этот Ленский, эти старики Ларины, эти
провинцияльные фигуры, Буяновы, Петушковы, Зарецкие, са¬
мый Онегин — разве они, будучи лицами типическими, челове¬
ческими и, следовательно, всемирными, не принадлежат исклю¬
чительно к русскому миру, не взяты из русской жпзни; разве,
переменив их имена на Адольфов, Генриетт, Эрнестов, Амалий,
вы не уничтожите их смысла, их значения? — Но — скажут, мо¬
жет быть, иные — это доказывает только, что поэт, зная хорошо
свое общество, верно описал его, а не то, чтобы он был наро¬
ден, потому что он так же бы верно мог описать и немецкое
общество, следовательно, народность состоит во взгляде на ве¬
щи и формах проявления чувств и мыслей! — Так, милостивые
государи, вы почти правы, но вот в чем дело: мог ли бы поэт
верно описать свое общество, если б он не симпатизировал
ему, если б не был участником его жизни, поверенным его
тайн? Если ж он так же верно мог изобразить какой-нибудь
эпизод из европейской жизни, это значит только, что мы, рус¬
ские, так же причастны и европейской жизни, как своей собст¬
венной. Что ж касается до народности собственрю поэта, то
вам стоит только попристальнее вглядеться в «Онегина», чтобы
в мыслях и чувствах самого автора увидеть все элементы на¬
родности, чтобы признать, что только русский поэт, и притом
в известный момент русской жизни, мог так мыслить и чувство¬
вать и так выражать свои мысли и чувства! — Наконец, возьмем
еще третью сторону, совершенно не похожую на обе первые,
возьмем сочинения г. Гоголя. В них поэтизируется по большой
части жизнь собственно народа, жпзнь массы, и автору очень
естественно было бы впасть в простонародность, но он остался
только народным, и в том же самом смысле, в котором наро¬
ден Пушкин. Отчего ж это? Оттого, что г. Гоголь поэт, что он
владеет высоким и могучим талантом; оттого, что в его описа¬
нии какой-нибудь глупой ссоры двух идиотов или в пошлой
жизни двух простаков я впжу взгляд на жпзнь, взгляд грустно¬
шутливый; 28 я воображаю, сколько в мире людей, которых
жизнь проходит в мелочах эгоизма, в еде, питье и спанье, и ко¬
торые думают, что они живут и делают должное; воображаю,
п мне становится грустно... Самые так называемые сальности
и плоскости, которые у всякого другого были б неминуемо от-
233
вратйтёльпы, в повестях г. Гоголя отличаются какою-то грациею,
смягчаются какою-то наивностью; встречая самые резкие из них,
вы прощаете их автору, как прощаете гримасу прекрасной и лю¬
бимой женщине! — Что же следует из всего этого? А то, что у кого
есть талант, кто поэт истинный, тот не может не быть народным!
Но у кого нет таланта и кто захочет быть народным, тот
всегда будет простонародным и тривпяльным; тот, может быть,
верно спишет всю отвратительпость низших слоев народа, каба¬
ка, площади, избы, словом, черни, но никогда не уловит жизни
парода, не постигнет его поэзии. Самым лучшим и самым жи¬
вым доказательством этой истины может служить г. Ушаков. Он
народен в пошло понимаемом смысле этого слова, но избавь
нас бог от такой народности — она и так уж падоела нам! —
Оставляя в покое народность творений г. Ушакова, я покажу
здесь только их провипцияльность и, следовательно, их важ¬
ность для «Библиотеки для чтения». Очень жалею, что у меня
нет теперь под рукой той книжки «Библиотеки», где помещена
повесть г. Ушакова «Сельцо Дятлово»29. То-то славпая, то-то
чудная повесть! Вот уж истинно народная и совершенно про-
винцияльная! В ней описывается прежалостиая история, а про¬
винция так любит жалостные истории; развязка ее счастливая,
а провинция еще больше любит счастливые развязки. Если
я только не совсем забыл, то дело, изволите видеть, вот в чем:
один помещик взял себе на воспитание двух сироток, мальчика
и девочку; едва девочка успела сделаться девушкою, как зло¬
дей лишил ее невинности. Она от него, кажется, скрылась
и пропала из глаз его лет па десять. Что же? Он, кажется, опять
пошел служить и, мучимый совестью, искал свою жертву, чтоб
как-нибудь загладить свое преступление. Наконец, будучи уже
майором, узнал ее в толстой богатой вдове-купчихе, женился
на ней, начал пить вместе ерофеич, браниться с ней по-военно¬
му, а она с ним по-купечески; иногда доходило и до драки: оп,
как водится, справлялся с своею дражайшею половиною кулака¬
ми и ппнками, а она, как водится, отделывалась от атак своего
сожителя когтями и ухватами; проспавшись, они мирились,
и таким образом в мире и любви прожили до глубокой ста¬
рости. Брат ее был отдан в полк, и старый майор писал к нему
поучительные послания, исполненные нравственности овощных
лавочек и отличавшиеся канцелярско-мещанским слогом. Все
это у г. Ушакова ужасть как мило и занимательно и поучительпо
для всех вообще читателей, для провинцияльных в особенности.
Потом, в седьмой шшжке «Библиотеки» уже за прошлый год,
без вас, помещена другая повесть г. Ушакова: «Пиюша»; эта
повесть названа почтепным автором карикатурою, и названа так
не безосновательно. Ею-то займусь я здесь в особенности, пото¬
му что она для вас должна быть новостью 30.
Был-жил в Москве Тихон Михеевич, сын небольшого чинов¬
ника, который оставил своему сыну душ с полсотни, плод
234
взяточничества. Хотя почтенный г. Ушаков и не скрывает от своих
читателей, что батюшка героя его повести был вор, однако за¬
мечает, что он «пользовался расположением и одобрением
сеоих покровителей, дружбою своих товарищей и уважением
всех знавших его». После чего почтеннейший г. Ушаков с уди¬
вительною наивпостию прибавляет: «Этот капиталец стоит
нескольких ревпя^ских душ!» Нечего сказать — хорош капиталец,
хороша и логика!.. Тихон Мпхеевич до сорока пяти лет волочил¬
ся за девушками, по шутницы всегда изменяли ему, и он после
каждой измены со вздохом восклицал: «Ах, изменницы!» Когда
ж ему минуло сорок пять лет, он не шутя задумал жениться па
кубической, или, как замечает остроумный автор, эллипсопдп-
ческой дурище, Липаше. Несмотря на то, что Тихон Михеевич
не знал «французского языка и теорий изящного, он знал хоро¬
шо дела, любил чтение, в особенности был страстен к стихам,
говорил хорошо, судил здраво и мастерски писал деловые бу¬
маги». Мы должны прибавить еще, что он не только был мастер
на деловые бумаги и любил стихи, но и сам был в душе глубо¬
кий поэт, чему доказательством может служить следующее чет¬
веростишие его работы, сделанное им для своей глупой
и уродливой невесты:
Кривошенна прелестна!
Льзя ль тебя мне не любить?
Без тебя в груди мне тесно;
Не могу тебя забыть.
Несмотря на то, что Тихон Михеевич был чрезвычайно
смешной и уродливой наружности,, длипен донельзя ростом,
«он был человек умный, добрый и честный». Не правда ли, что
такой герой для провинцияльной повести лучше всякого Ахилла
и Джяура?31 Не правда ли также, что для столицы он реши¬
тельно не годится? — О! «Библиотека» знает, какие нужны для
провинции повести, а г. Ушаков знает, какие нужны для «Библи¬
отеки» повести!..
Тихон Мпхеевич женился, и вышла прекрасная пара: жена
была мала ростом и толста, зато муж был длинен и худощав;
оба были глупы, как нельзя больше, и муж с большим резоном
мог бы пропеть этот куплет из одной старинной песни:
Фекла, ты карикатура,
Гур, нетесаный чурбак;
Ты невинна, что ты дура,
Я невинен, что дурак!
Женясь, наши дурачки так разнежились, что жена мужа стала
называть Тишею, а муж жену Пиюшею, и вот отчего повесть по¬
лучила название «Пиюшп», это же слово произведено от Олим-
пияды, а не от пьяницы (Пиюша уже впоследствпи сделалась
пьяницей, когда, к немалому удовольствию своего сожителя,
пристрастилась к пиву). Как любил Тихон Михеевич свою дражай¬
235
шую половнпу, боже мой, как он любил ео! Опа была его уте¬
хою, радостью, игрушкою; она бросалась со всего размаха на его
тощие ноги, прыгала ему на шею, скакала по компате так, что
дребезжали окна. Но земное счастье не прочно, рапо или по¬
здно, а должен же быть ему конец, и он настал, этот роковой
конец счастию нежного мужа. И что лишило блаженства добро¬
го Тихона Михеевича: болезнь или смерть жены, чума или холе¬
ра? О нет, все не то! век будете думать, а все не придумаете;
только чудотворная фантазия г. Ушакова могла изобресть та¬
кую ужасную и непредвиденную катастрофу супружеского
счастпя. Слушайте — и дивитесь,— дивитесь, как изобретатель¬
на, как смела бывает провинцияльная фантазия...
Однажды, когда Тихон Михеевич сидел в туфлях, во флане¬
левой фуфайке и любовался, как прыгала его ненаглядная Пию-
ша, а она, говорит автор, «прыгала так увесисто, что каждым ее
прыжком можно было вколотить сваю на вершок», ему вдруг
пришла в голову охота запищать:
— Пиюша! Пиюшечка моя! Пиюсеночек!
— Ну, что?
— Дай мне табачку понюхать, моя милочка!
— Вишь какой! лень самому встать!
— Из твоих пальчишечек мне приятнее, мой котеночек!
— Хорошо! хорошо!
И Пиюша сунула ему табаку в нос.
— Как приятно! как вкусно! — говорил Тиша, протягивая губы к тол¬
стым пальцам Пиюши. — Любишь ли ты мепя?
— Люблю.
— А вот, сейчас узнаем!.. А... а... а... а... чих!., правда! правда!
— Ну так не люблю!
— Не любишь?.. Нет, неправда. Не чихается!
— Понюхай еще!
И Пиюша забила ему такую щепоть, что Тиша, еще пе донюхавши,
расчихался.
— Ха, ха, ха! Вот видишь!
— По... постой!., а... чих!., а... пос... той!.. Вот... а... чих!.. Вот я тебя!
— Я убегу!
— А я поймаю!
И Тихон Михеевич, расширив руки и ноги в сажень, начал передви¬
гаться направо и налево, ловя Пиюшу, которая так прыгала, что стены
дрожали.
— Поймал, поймал!.. Постой же, под арест тебя, под караул!
Он усадил ее в небольшие кресла, или табурет, стоявший в углу.
— Сиди тут! Смирно!.. Пока я не позову. Смирно!
И, скорчившись, он начал пятиться до самой двери, приговаривая:
сидеть! сидеть! — Тут он, все скорчившись, приподнял обе ладопн против
лица и начал манить пальцами, крича: цып, цып, цып, сюда, сюда!
На этот крик Пиюша вскочила и побежала.
— Ах!
— Что случилось?
— Ах!., ой!..
Случилась беда, и какая беда! Вот здесь-то надо видеть всю
широту, всю размашистость кисти г. Ушакова и удивляться ей!
Дело вот в чем: вам уже известно, что Тиша посадпл свою
236
Лшошу в табурет, который был с ручками, как кресла, и так как
содержащее было ограниченнее содержимого, то, когда Пиюша
побежала к мужу, содержащее как будто обхватило содержи¬
мое и приросло к нему. Какая картина! Дорого бы я дал, чтоб
увидеть ее в натуре! О, г. Ушаков обладает изобретатель¬
ным гением! Не всякому бы пришла в голову такая чудная
идея!
Пиюша рассердилась и назвала своего мужа «толстолапым
медведем». В дверях раздался хохот, излетавший из горла мо¬
лодого человека с усами, отвратительно нахального вида. Это
был Виссарион Кривошеин, двоюродный брат Пиюши. Чудное ли¬
цо этот Виссарион Кривошеин, или попросту Висяша! Он зло¬
дей — что перед ним Франц Моор? в ученики не годится. Да,
фантазия Шиллера должна замерзнуть перед фантазией
г. Ушакова! Вы не можете представить, как я рад, что русский
поэт победил немецкого. А ведь знаете ли что? одна и та же
причина произвела Франца Моора и Висяшу Кривошеина —
ненависть к пороку! Висяша был облагодетельствован отцом
Пиюши, который его, сироту, выучил «французскому языку
и другим наукам» и отдал в университет. Висяша не учился, пил
и буянил в трактирах, за что и был исключен из университета, но
нисколько не уныл от этого, а только назвал с презрением сво¬
их наставников «отсталыми». Потом он поступил в военную
службу, кое-как дослужился до офицерского чина, после чего
был выгнан и из военной службы за свое нахальство и дерзость.
Потом обаял своими дерзкими суждениями одного помещика,
который возымел высокое понятие о его достоинствах, поручил
ему воспитание своих детей; но так как Висяша сделал их него¬
дяями, то и был выгнан из дому. Эта история повторилась с ним
и в другом доме. Не правда ли, что Висяша мерзкий, негодный
человек? Впрочем, не удивительно, что он был таким: «Висяша
судил и рядил о Фихте и о Гегеле и был так убежден в тож¬
дестве миров идеального и реального, что смело называл пре¬
зренными невеждами тех, которые не понимали знаменитого
тождества. В особенности пленился Висяша Шеллинговым Я».
Теперь дело, кажется, очень ясно: может ли быть не буяном, не
пьяницею и не нахалом человек, который читает Фихте, Гегеля
и Шеллинга, рассуждает об идентитете и о Я?..
Почтеннейшие, за что такая ненависть к философии? —
Или — хорош виноград, да, зелен — набьешь оскомину? 32 — Пере¬
станьте подрывать у дуба корни, поднимите ваши глаза вверх,
если только вы можете поднимать их вверх, и узнайте, что на
этом-то дубе растут ваши желуди...
Обратимся к Висяше. Ему нечего было есть, он вспомнил,
что его кузина вышла замуж за достаточного человека, и от¬
правился к ней. Он был принят Тишею радушно, Пиюшею тоже,
и, в благодарность, начал толковать Тише, что он живет для
того только, чтоб жить, и пр., а Пиюшу стал вразумлять, что ее
237
муж дурак. Потом сманил Пиюшу и увез это сокровище от его
обожателя, Тиша с горя умер, и пр. и пр.
Что ж за идею хотел выразить г. Ушаков своим Висяшею?
А вот какую:
Мой Висяша — существо не выдуманное и не заимствованное из ка¬
рикатуры Гюи де Кари. Нет, он существует и духом и плотью, но суще¬
ствует не в одном лице, а в тысяче, в сотнях тысяч лиц. Гением парит он
над просвещенною Европою и силится доказать, что он не более п не ме¬
нее, как дух временп, представитель успехов разума новейшего и лучшего
поколения.
Но что ж тут худого? Если так, то, право, Висяша славный
малой, п мы не понимаем ненависти к нему почтенного г. Уша¬
кова. Но постойте, я сейчас найду ключ к разрешению этого
недоразумения.
Висяша теперь всем недоволен, даже и тем, что солнце светит. Так,
почтенный читатель, когда вы в театре, сидя в креслах, с удовольствием
смотрите на пьесу и на игру актеров и слышите, что позади вас кто-то
ропщет, презрительно насмехается и говорит вполголоса, по-русски: «Что
за мерзость!», по-французски: «Quelle horreur!»*, вы, не оглядываясь,
знайте, что за вами сидит Висяша. Когда вы читаете хорошую книгу и,
наслаждаясь ею в душе, говорите спасибо автору, и вдруг вам приносят
журнал, в котором та же книга оценена ниже поношенных лаптей, поверь¬
те, что эта оценка сделана Висяшею.
А, так вот что! Вот в чем вся беда-то! Понимаем!.. Г-н
Ушаков теперь уж не критик, не рецензент; это ремесло не
далось ему, и он оставил его; он теперь писатель, он уж не
судья, а подсудимый! Конечно, чего бояться хорошему автору?
Как бы ни была злонамеренна критика, но она никогда не уро¬
нит хорошего сочинения, особенно художественного. Ведь и на
Байрона нападали с ожесточением, ведь и Гете преследовали
запальчиво, а все-такй Байрон остался Байроном, а Гете — Гете.
За что ж это ожесточение против рецензентов? Не есть ли это
сознание своей посредственности, ропот авторитета, чувствую¬
щего свое падение!.. К тому же, давно ли почтенный г. Ушаков
был таким грозным, таким неумолимым гонителем бедного на¬
шего театра? Давно ли он был таким неутомимым рыцарем
против классиков и осыпал их, бедных, с ног до головы кар¬
течью своих тяжелословенских острот, за неимением чисто рус¬
ских?.. Что ж это такое? Или сознание несправедливости своих
прежних мнений?.. Нет! не то означает это отступничество от
самого себя, это возвращение к классицизму, это покровитель¬
ство посредственности; тут есть две другие причины; первая:
г. Ушаков увидел, что он, в излишней запальчивости, колотил
своих; вторая: он хотел написать повесть для «Библиотеки» и,
следовательно, для провинции; и тут и там он, вероятно, успел.
Итак, поздравляем!..
* «Какой ужас!» (франц.), — Ред.
238
Есть еще в «Библиотеке» Курьезная повесть «Беда, если
б не медведь»:33 с этою я познакомлю вас как можно короче.
Прапорщик Рамирский влюбился в княгиню Златопольскую,
прекрасную и молодую вдову. Будучи семнадцати лет, прелест¬
ная Марпя вышла за семидесятплетнего скареда. Муж ее вско¬
ре заболел, а она пред его смертью уехала в Италию. В ее
отсутствие вкралась в доверенность издыхающего скелета капп-
танша Дарья Климовна Борщ, и вследствие ее плутней князь
сделал такое завещание, что если княгиня выйдет замуж по
выбору капитанши, то наследует миллион двести тысяч, в про¬
тивном же случае должна удовольствоваться только стами ты¬
сячами, а остальные пойдут к законным наследникам. Капитан-
ша имела очень важную причину способствовать такому распо¬
ряжению со стороны старого сластолюбца: у ней был племянник
вроде Митрофанушки, и за него-то прочила она княгиню. Эта,
разумеется, отказалась, взяла свои сто тысяч и очень скоро их
промотала. Между тем ее любезный Рамирский возвратился из
польской кампании уже поручиком, увешанный орденами, и на¬
чал наступательно требовать руки княгини. Княгиня решилась
застрелиться, а перед смертью задать пир на славу. Надобно
сказать, что у капитанши был задушевный друг, майор Флор
Силыч Торопенко, который питал удивительную симпатию к ско¬
там и любил их выкармливать; так выкормил он медвежонка
и тайком от капитанши держал его в доме. Капитанша, напив¬
шись шампанского до несостояния держаться на своих капитан¬
ских ногах и намазав себе щеки мастикою своего изобретения,
растворенною в меду, легла в комнате, смежной с комнатою
майора. Вдруг раздался крик: «Спасите! спасите!., умираю!» —
В комнату ввалила толпа, а с нею и Рамирский — и что ж пред¬
ставилось изумленным глазам зрителей?
Одна из любопытнейших сцен частной жизни. Медведь, привлеченный
медовым запахом мастики, изволил облапить Дарью Климовну и прехладно¬
кровно облизывал ее тучные ланиты.
Какова сцена?.. И для кого она?.. Уж, конечно, не для сто¬
лицы, а для провинции! — Но посмотрим, чем кончилось дело?
Рамирский бросился в комнату княгини, которой он отдал
на сохранение свои пистолеты. Вбегает, что ж? Княгиня лежит
на полу, распростертая перед образом, а подле ней, на полу,
пистолет со взведенным курком. Ужас, да и только! Женщина,
которая, первая из своего пола, хочет попробовать застрелить¬
ся! — Очевидно, что и этот эффект совершенно в провинцияль-
ном духе, потому что и провпнцияльное воображение тоже на¬
ходит неизъяснимую, таинственную прелесть в ужасном (ужас¬
ном в его вкусе).
А потом что? Разумеется, Рамирский заставил капитаншу
дать слово, что она не будет противоречить кчягине в выборе
жениха, и застрелил медведя. Ужасть, как мило и затейливо!
239
В этой же повести автор, описывая петергофский праздник
первого июля и замечая, что в этот день, в Петергофе, заняты
людьми даже щели, говорит:
Я хотел однажды описать, что делается в этих щелях, но мне сказали,
что все это уже описано Поль де Коком.
Жаль, право, жаль! А это бы очень пригодилось для «Биб¬
лиотеки» и, следовательно, для провинций.
Читали ль вы еще остроумную повесть г. Тимофеева
«Утрехтские происшествия»?34 Очень занимательная повесть:
в провинциях, я думаю, все без ума от ней. В ней описан бунт
женщин против мужчин, которых они, при помощи какой-то во¬
лшебницы, спровадили под землю. Но что ж вышло? Женщины
скоро восчувствовали необходимость мужчин и поняли их зна¬
чение; перессорились между собою из лоскутков, разделились
на две партии; дело дошло до генерального сражения, обе
враждующие стороны явились на место битвы с оружием в ру¬
ках, но бросили это оружие, а вцепились друг другу в волосы
и принялись в потасовку. Здесь автор весьма основательно
удивляется силе природы. Дело кончилось тем, что мужчины
были возвращены. Какая злая и умная насмешка над сен-симо-
нистами и над госпожою Дюдеван!..35
Приведу еще пример, который, как самый сильный, я с умыс¬
лом берег к концу, чтоб оправдать пословицу: конец венчает де¬
ло. Есть в «Библиотеке» повесть г. ПГидловского «Уездная казна¬
чейша» 36. В этой повести между прочим повествуется, как тол¬
па гулявших вечером по городу дам и кавалеров шла мимо
казначеева огорода, плетень которого во многих местах обва¬
лился, шла в то время, когда, в огороде, в густой и высокой
крапиве, казначейша объяснялась в любви какому-то мелкому
уездному чиновнику, и как любопытная исправница, смекнув де¬
лом, поползла на четвереньках, чтоб поближе рассмотреть
неясно представлявшийся вечером предмет, и как собеседник
казначейши влепил исправнице в лоб полено...
Но я чувствую, что зашел далеко, что слишком глубоко раз¬
рыл эту кучу перепрелого и фосфорического навоза, что моим
читателям может сделаться дурно; но я не виноват в этом, я нэ
выдумываю, а только представляю экстракты из тех изящных
произведений, которыми лучший русский журнал потчует нашу
публику...
Опять до следующей книжки.
(IV)
Перехожу к отделению «Иностранной литературы» в «Биб¬
лиотеке». Это почти то же, что отделение «Русской литерату¬
ры». Все иностранпые повести, подобно русским, от первой
строки до последней, проникнуты провинциялизмом. Все, что
240
составляет последние ряды французской литературы, все, что
составляет балласт французских, иногда и английских журналов,
что чуждо всякой изящности, что отзывается пустотою, посред-
ственностию, мелочностью и что отзывается провинцияльным
остроумием, провинцияльною забавностью, все это переводится
в «Библиотеке». Тщетно стали бы вы искать в этих повестях
анализа души и сердца человеческого, идей века, взгляда на
жизнь, глубокого чувства, роскошной фантазии; тщетно стали
бы вы искать между этими повестями такой, которая бы заста¬
вила вас или воскликнуть в порыве восторга: «Прекрасна
жизнь!» или воскликнуть в тоске: «Скучно жить па свете!» Ско¬
рей вы воскликнете, прочтя несколько переводных повестей
«Библиотеки»: «Скучно читать повести в „Библиотеке44, очень
скучно!..» Так как я обещался ничего не говорить без доказа¬
тельства, все подкреплять фактами, то приведу примера два,
как ни скучно и ни тяжело для меня это. В одной, например,
повести описывается, как один чудак купил себе дом, которым
не мог нарадоваться. В самом деле, дом был настоящее чудо,
да вот беда, что он стоял на каком-то перекрестном пункте,
которого нельзя было миновать, куда бы вы ни ехали из тех
мест, куда вам надо ездить, и вследствие этого к чудаку стали
заезжать в гости и его и женина родня и оставались у него по
неделе и больше, чем, разумеется, и разоряли его и надоедали
ему безмерно, так что он принужден был бросить свой дом.
Чудная, прелюбопытная и препоучительная повесть! — В другой
описывается, как один француз, начитавшись в «путешествиях»
о прекрасных чугунных дорогах, о превосходных паровых дили¬
жансах, об отличных трактирах в Англии, решился посмотреть
все это собственными глазами, и что ж?.. Вместо прекрасных
чугунных дорог он нашел мерзкую, тряскую, изрытую рытвинами
дорогу; вместо превосходных паровых дилижансов он принуж¬
ден был ехать в одной повозке, в которой избил себе голову
и намял бока, на тощих клячах, которые, ступивши два шага
вперед, отступали шаг назад; вместо отличных трактиров оп
провел часов шесть в вонючей крестьянской лачуге, где чуть
было не умер с голоду. Вот и все тут37. Какое же следствие
должен вывести провинцияльный читатель из этой повести?
А то, что чугунные дороги Апглии существуют только
в «Московских ведомостях» и что славны бубны за горами\ —
Вообще надо заметить, что эта поговорка принята «Библиоте¬
кою» за тезис, который опа и развивает самым ловким образом.
Провинция этому сочувствует, это ободряет, и не удивительно:
человек безграмотный с особенным удовольствием слушает
брань на грамотность, потому что эта грамотность есть его по¬
зор и бесславие. Льстить толпе всего выгоднее, это игра навер¬
няка. Кажется, «Библиотека» очень хорошо поняла эту истину.
И зато, мне известно из самых достоверных источников, что
«Библиотека» проникла даже в такие места, куда едва проника¬
241
ли доселе азбуки и календари. Итак, честь и слава ее ловкости,
ее деятельности!..
За отделением русской и иностранной словесности следует
в «Библиотеке» ученое отделение, под рубрикою «Науки и ху*
дожества». Это отделение самое лучшее: в нем встречаются
иногда статьи, истинно заслуживающие внимания, истинно пре¬
красные и любопытные. Разумеется, лучшие из этих статей, по
большей части, переводные; но случаются иногда хорошие и из
оригинальных. Так, например, мы прочли несколько заниматель¬
ных и мастерски написанных отрывков из «Записок Дениса Ва¬
сильевича Давыдова»; прочли статью, кажется, под названием
«Воспоминания о Сирии», статью интересную, живую, проникну¬
тую чувством38. Говорят, что сочинитель ее есть не кто иной,
как редактор «Библиотеки»: мне до этого нет дела; чья бы ни
была статья, сна прекрасна, этого для меня довольно. Итак,
отделение «Наук и художеств» есть лучшее в «Библиотеке», но
оно имеет один недостаток, и очень важный: к этому отделению
нельзя иметь полной доверенности, по крайней мере в отно¬
шении к переводным статьям. В самом деле, если читателям
этого журнала известно, что он не только поправляет и пере¬
делывает Бальзака, но даже укорачивает выпусками и ориги¬
нальные статьи, как то было сделано им с статьей г. Шевырева
«Сикст У», то кто ж им поручится, что, читая статыо иностранного
ученого, они получают понятие о взгляде на известный пред¬
мет этого ученого, а не какого-нибудь неизвестного (или, пожа¬
луй, и известного) рыцаря, который из-за знаменитого имени
выставляет им свою не знаменитую личность?.. Это предположе¬
ние тем основательнее, что все статьи «Библиотеки», ученые
и неученые (исключая немногих оригинальных), отличаются ка¬
ким-то общим характером и во взгляде и в изложении, а этот
общий характер отличается каким-то провинцияльным брамбе-
измом39. Такая манера нам кажется очень недобросовестною.
Возьму, для примера, повесть Бальзака «Дед Горио»40. Для
кого переводятся в журналах иностранные повести? Для людей,
или не знающих иностранных языков, или знающих, но не имею¬
щих средств пользоваться иностранными книгами. Теперь, для
чего эти люди читают иностранные повести? Я думаю, не для
одной забавы, даже и не для одного эстетического наслажде¬
ния, но и для образования себя, чтоб иметь понятие, что пишет
тот или другой иностранный писатель и как пишет? Какое же
понятие получает он о Бальзаке, прочтя его повесть в «Библио¬
теке»? — Но «Библиотеке» до этого нет дела: она себе на уме,
она смело приделывает к «Старику Горио» пошло-счастливое
окончание, делая Растиньяка миллионером, она знает, что про¬
винция любит счастливые окончания в романах и повестях. На¬
против, если она встречает в иностранной статье какую-нибудь
плоскость во вкусе провинции, то не выпустит ее; нет! она ско-*
рей еще свою прибавит. Так, в шестой книжке этого журнала!
242
в отделении «Иностранной словесности», есть статья, очень за¬
бавная и занимательная, «Амброзиянские ночи». В ней двое
приятелей, Скотовод и Норт, разговаривают о бессмертии души,
а потом переходят к переселепию душ, и Скотовод сказал, что,
прежде чем сделался Скотоводом, он был львом, и очень мило
начал рассказывать историю своей львиной жизни.
Норт. Скажи, пожалуй, правда ли, что лев предпочитает человечье
мясо всякому другому и, отведав его однажды, обыкновенно делается антро¬
пофагом?
Скотовод. Оп может делаться и может не делаться антропофагом,
потому что я пе зпаю, что такое антропофаг. Что касается до предпочтения,
сказываемого им человеческому мясу, то это много зависит от его качества
п доброты. Я, например, никогда не мог без принуждения съесть старой
бабы, как бы она жирна ни была, не говоря уж о стариках. A la longue, *
предпочитал я серну дзже самой молодепькой и мягкой девушке. Девчатина
хороша в две, в три педели раз, а всякой день надоест до смерти...
Спрашивается: для кого, как не для провинции, переведена,
пли, что вероятнее, приделана последняя фраза?..
Но я начал говорить об ученом отделении «Библиотеки»;
возвращаюсь к нему, чтобы сказать слова два об одной из его
статей: «Способности и мнения повейших путешественников по
Востоку». Это статья оригинальная, мы даже знаем, кому она
принадлежит, хотя под ней и не стоит никакого имени41.
Странно заглавие этой статьи, но еще страннее ее содержание,
и если бы я не напал на счастливую идею основания, цели, уси¬
лий и успехов «Библиотеки», выражаемых одним словом «про¬
винция»,— то был бы принужден возложить на свои уста перст
молчания и сознаться, что ум мой стал короток, или, другими
словами, сел на пятки. Но аллах керим! теперь я догадался, так
ничему пе дивлюсь и все понимаю. Знаете ли вы, Николай Ива-
пович, какая главная, основная мысль этой статьи?.. А вот какая:
все путешественники по Востоку врут и порют дичь, не попимая
в особенности Турции, и именно не догадываясь, что Турция
в тысячу раз цивилизованнее и образованнее Европы, что она
пользуется не искусственною, фальшивою цивилизациею, а ис¬
тинною, основанною на нравственном достоинстве всех индивиду¬
умов, составляющих эту империю... Мысль поистине смелая
и совершенно новая!.. Знаете ли, что было сделала со мной эта
статья? Меня уже один раз и так обвиняли в ренегатстве, как
вам известно, и о6еипяли папрасно;42 но когда я прочел эту
статью, то — дивитесь — чуть было и в самом деле не сделался
ренегатом в полном смысле этого слова и чуть было не укатил
в благословенную Турцию... Правда, мне хорошо, очень хорошо
п в своем отечестве; правда, живя в нем, я каждый вечер засы¬
паю спокойно, в полной уверепностп, что встану поутру жив, что
если могу умереть ночью, то по воле божпей, а не по прихоти
или злобе людской; правда, я всегда смело хожу по улицам, не
* В конце концов (франц.). — Ред.
243
боясь, что меня кто-нибудь хватит кинжалом в бок, да и был
таков, или что начальник города велит посадить меня на кол
для своего удовольствия или отдуть по пятам для наставления
на путь истинный; правда, я всегда уверен, что если буду вести
себя, как следует благородному человеку, и не буду мешаться
не в свои дела, то никогда не узнаю даже, что такое заключение,
тюрьма. Да! все это я знаю и во всем этом сердечно уверен; но
страна, где люди все справедливы в высшем значении этого сло¬
ва, где они не делают зла, не потому, чтобы боялись наказания,
а потому, что ненавидят зло... спрашиваю вас, у кого же не
родится сильного, непреодолимого желания взглянуть на эту
страну хоть одним глазком?.. А у меня, каюсь в грехе, родилось
даже преступное желание водвориться там навеки... Сказать
правду, мне приходило на мысль — во-первых, сажание на кол,
потом, палочное щекотание по пятам, далее, прибивание гвоз¬
дем за ухо к дереву, с размалевкою лица медом, для накормле-
ния насекомых,— наконец, погружение женщин в мешках на
дно морей и океанов... Но что ж, подумал я, может быть, мы,
европейцы, принимаем, в этом случае, слова за вещи, забывая,
что восточные жители, обладающие пламенным воображением,
любят 'выражаться иносказательно, что сажать на кол у них
означает, может быть, возносить человека на верх почестей
и славы; бить по пятам — посвящать в кавалеры какого-нибудь
ордена; что прибивание гвоздем за ухо значит симпатический
способ лечения от какой-нибудь болезни, например, от водянки
или полнокровия; что бросить женщину на дно моря, завязан¬
ную в мешке, значит завязать женщину в мешок любви и бро¬
сить на дно сердца или что-нибудь подобное... По счастию,
я верю и верил всегда, что как всякий народ в частности, так
и человечество вообще, могут быть одолжепы своим нравст¬
венным совершенством только благодетельному влиянию
христианской веры, единой истинной веры на земле, а не чувст¬
венному и грубому мухаммеданизму. Эта уверенность удержала
меня, и только ей обязаны вы, что пе лишились своего де¬
ятельного сотрудника, а отечество верного сына; без ней я но¬
сил бы теперь чалму и, может быть, имел бы случай на опыте
перевесть на прозаический язык поэтические выражения жите¬
лей Востока. Впрочем, надо вам сказать, что соблазн так силен,
что я долго еще колебался; оставил же совершенно свое наме¬
рение не прежде, как напал на счастливую мысль, что «Библио¬
тека» — журнал провинциялъный и что она часто с умыслом
отпускает провинцияльные bons mots*, к числу которых принадле¬
жит и статья «Способности и мнения новейших путешественников
по Востоку».
За отделением «Наук и художеств» следует отделение
«Промышленности и сельского хозяйства»: о нем я умалчиваю,
* остроты (франц.). — Ред.
244
как о предмете, для мепя неиптересном и совершенно мне
незнакомом. Следующие за ним отделения: «Критика» и «Лите¬
ратурная летопись» вызывают меня — и я спешу к ним.
«Критика» есть самое жалкое, самое плохое отделение,
а «Литературная летопись» — одно из немногих отделений, ко¬
торыми «Библиотека» по справедливости может гордиться.
Странное противоречие!.. Как хотите, однако ж так в самом
деле, и это опять не совсем удивительно: есть люди, у которых
ума хватает на статью в несколько страниц, но есть также люди,
у которых ума хватает только на несколько строк43. Причина
этому заключается в разделе труда, на который природа обра¬
щает внимания гораздо больше, чем политическая экономия.
Притом же иному талант, иному деа...и
Я не хочу нападать на явное отсутствие добросовестности
и благонамеренности в критическом отделении «Библиотеки»,
не хочу указывать на беспрестанные противоречия, на какое-то
хвастовство уменьем смеяться над всем, над приличием и исти¬
ною: обо всем этом много говорили другие и мне почти ничего
не оставили сказать. Скажу только, что недобросовестность
критики «Библиотеки» заключается в какой-то непонятной и вы¬
сшей причине, кроме обыкновенных и пошлых журнальных от¬
ношений. Г-н Тютюнджи-Оглу ненавидит всякой род истинпой
славы, гонит с ожесточением все, что ознаменовано талантом,
и оказывает всевозможное покровительство посредственности
и бездарности: гг. Булгарин и Греч у него писатели превосход¬
ные, таланты первостепенные, а г. Гоголь есть русский Поль
де Кок и, конечно, нейдет ни в какое сравнение с этими гения¬
ми. Но это все уж старо и довольно пошло и скучно для повто¬
рения: приведу пример поновее и посвежее. Выходит новый
роман г. Лажечникова, произведение, конечно, не генияльное,
не великое, не бессмертное, но ознаменованное печатью истин¬
ного дарования, но дышащее живою, неподдельною теплотою,
кипящее благородным жаром, словом, плод искренней, заду¬
шевной и образованной мысли, и в то ж почти время выходит
какое-то бездарное произведение, под именем «Записок Горя-
нова». Что же? Критик «Библиотеки» берется рассматривать
в одной статье оба эти произведения, отпускает несколько
плоских острот насчет первого и превозносит до небес послед¬
нее!..45 Конечно, это шутка, и для г. забавника очень удачная,
потому что умные тотчас догадаются, что он «изволит потешать¬
ся», и не придут в сомнение насчет его ума и вкуса, а глупые
подивятся его уму и вкусу и поверят ему на слово: в том
и другом случае расчет верный, и шутка хоть куда! — Все так,
но может ли п должен ли человек, для которого истина что-
нибудь значит, который имеет уважеппе к своему человеческому
достоинству, может ли и должен ли он так шутить?.. Нет,
воля ваша, а тут что-нибудь да не то. — Этот таинственный
г. Тютюнджи-Оглу — кто он?.. Уж не турок ли он и в самом деле?
245
Уж не для того лп он усвоил себе европейскую образованность
п знание нашего языка и наших обычаев, чтобы отомстить нам
за унижение своего отечества, сбивая с прямого пути образова¬
ния наши провинции, смеясь так злодейски и над правдою и над
ними самими?.. Чего доброго — с нами крестная сила!.. Но не
одной недобросовестностью удивляет отделение «Критики»
в «Библиотеке»: оно, сверх того, носпт на себе отпечаток какой-то
посредственности, какой-то скудости, негибкости и нерастя-
жимостп ума, которого не становится даже на несколько стра¬
ниц. Но наш критик умеет этому помочь: па две строкп своего
сочинения он выписывает две, три, четыре страницы из разби¬
раемой книги и этим часто избавляет себя от больших затруд¬
нений. Да и в самом деле, что бы он стал писать, он, для
которого не существует никаких теорий, никаких систем, ника¬
ких законов и условий изящного? Нам скажут, что всего этого
не существует и для знаменитого Жюль Жанена, который,
несмотря на то, говорит обо всем, даже и о том, о чем не
имеет никакого понятия; нам скажут, что остаются еще личные
впечатления и что критик может их излагать. Все это так, да
ведь личные впечатления, получаемые образованным челове¬
ком от какого-нибудь произведения, непременно должны быть
согласны с тою или другою теориею, системою или по крайней
мере с тем или другим законом изящного, потому что, даже
оставляя в стороне теории и системы, теперь известны многие
законы, выведенные из самой сущности творчества; притом,
можно ли говорить хорошо о прекрасных впечатлениях от та¬
кой книги, которая нагнала на вас скуку?.. Нет, очень понятно,
отчего критики г. Тютюнджи-Оглу так тощи, сухи и скудны даже
источниками изобретения, даже общими местами. Он написал
только две критики, которые могут служить образцом журналь¬
ной политики и ловкости. Первая, на «Черную женщину» г. Гре¬
ча, где критик очень ловко и занимательно изложил теорию
анатомии, физиологии, электричества и магнетизма челове¬
ческого тела и, не сказав ничего о романе, сказал только, что
он говорит о всякой книге, которую хочет пустить в ход, — что
он ни на одном языке земного шара не читал такого прекрасного
произведения46. И что ж было следствием этой критики?
Разумеется, провинция, думая найти в романе г. Греча все чуде¬
са, которых она не понимает и о которых так хорошо говорил
критик, раскупила «Черную женщину». Оно и прекрасно: критик
и себя показал и приятеля одолжил! — Вторая, на роман г. Бул¬
гарина «Мазепу», где критик как будто нападает на автора за
дух новейшего литературного неистовства, а между тем, изло¬
жением содержания и выписками из романа, показывает, что
разбираемое им сочинение написано в совершенно неистовом
духе, так соблазнительном для провинции 47. Следствие критики
было опять то же самое! — Позвольте, виноват, я еще забыл
третью, на «Роксолану» г. Кукольника: эта критика не только
246
умно и основательно написана, но даже и добросовестна.
Странно только, что г. критик, уничтожая в прах эту драму,
осыпает ее автора с головы до пог комплиментами, которые
напоминают стих из «Горя от ума»:
Не поздоровится от этаких похвал.
Следствия этой критики были совсем другие, нежели двух
прежних: г. Кукольник нашелся принужденным защищать
и хвалить сам себя в «Северной пчеле» 48.
Итак, за целые два года в «Библиотеке» была только одна
критика, и умная и беспристрастпая вместе, критика на «Роксо¬
лану», да две критики недобросовестные, но очень ловкие, на
«Черную женщину» и «Мазепу». Все прочие, исключая недобро¬
совестность, чрезвычайно неловки, неудачны, холодны, водяны
и состоят большей частью из выписок из разбираемых сочине¬
ний. Копечно, это самый легкий способ писать в самое короткое
время самые большие критики, и, сказать правду, критик «Биб¬
лиотеки» в высочайшей степени владеет этим искусством!
Теперь следует «Литературная летопись». Как плохо
в «Библиотеке» отделение критики, так хороша ее «Литератур¬
ная летопись». В этом отделепии рецензент хотя также угождает
провипции, но имеет в виду и столицу. О добросовестности
и беспристрастии «Литературной летописи» много говорить
нечего; находить в ней что-нибудь удивительное и чрезвычай¬
ное было бы странно; ко ей нельзя отказать в одном, очень
важном достоинстве: в ловкости, уменье, знании литературной
манеры, в шутливости и часто остроумии. В «Сыне отечества»
утверждают, что перед автором «Литературной летописи» ни
гроша не стоит ни «Менцель, уступающий ему в обширности
и глубокости сведений», ни «Жюль Жанен, который славится
остроумием и не имеет сотой доли насмешливости критика»
«Библиотеки для чтения». Я не шучу: эти слова, право, напеча¬
таны в «Сыне отечества». Но я этому не дивлюсь, не дивитесь
и вы: я знаю, кто написал эти строки 49. В мире физическом есть
существа столь маленькие, что для них всё горы да утесы: вы
помните басню Крылова, в которой крыса извещает свою куму,
что враг их, кошка, попала в когти льву, но кума не поверила,
говоря, что сильнее кошки зверя нет?..50 Итак, дело не о том.
Что касается до учености, ею нынче трудновато обморочить;
все знают, откуда она почерпается и какими средствами состав¬
ляется. Напишите нам книгу с систематическим изложением
предмета с новой точки зрения, и тогда мы взвесим вашу уче¬
ность и поклонимся ей; а на три страницы у кого не станет
учености и ума? Что ж касается до удивительного остроумия
критика «Библиотеки», то мы все-таки не видим, почему
Жюль Жанен должен сократиться в нуль перед его остроумием.
Тайпа остроумия рецензента «Библиотеки», значительности
и занимательности «Литературной летописи» заключается боль-
247
ше в современности способа выражепия и знании литературного
такта, нежели в истинном остроумии. Чтоб дело было яснее,
укажу на «Северпую пчелу», этот неистощимый рудник тупоум¬
ных рецензий. Выходит трагедия г. Лобанова, и «Пчела» начинает
жужжать: «Злополучный Борис! Разве мало тебе, что при
жизни терпел ты от козней бояр, от преследований враждебной
тебе судьбы, от злых наветов и от Гришки! Тебе и за гробом
нет спокойствия! Начиная с Нарежного и кончая М. Г. Лобано¬
вым *, всякий поднимает тебя из могилы, бедный старец; выво¬
дит на позорище, заставляет говорить такие вещи, которых тебе
никогда и в голову не приходило. Бедный Борис!»52 — Бед¬
ная «Пчела»! — скажем мы от себя... Выходит казарменный ро¬
ман, и она пускается в предлинное и прескучное поучение
о том, что книги должны выдаваться опрятно, потому что их
читают дамы 53. В рецензиях «Библиотеки» нельзя найти таких
пошлостей, таких беззубых острот, такой тупоумной шутли¬
вости, таких истертых, истасканных общих мест. «Библиотека»
смеется не всегда остроумно, но всегда умно, или по крайней
мере никогда глупо. Жаль только, что ее рецензент иногда по¬
купает свое остроумие незаконными средствами. Мы, право, не
понимаем, что хорошего или забавного в том, что он смешивает
глунрго автора или пошлого издателя чужих сочинений с со¬
держателем типографии, в которой напечатана дурная книга.
Так, например, он укорял г. Степанова, нашего почтенного ти¬
пографщика, шестой год служащего своими неутомимыми стан¬
ками «Телескопу» и «Молве», будто он, г. Степанов, вместе
с г. Гурьяновым подал лакеям дурной пример присвоения чу¬
жой собственности и пропел пианиссимо неблагоприобретен¬
ные пьесы изданного последним сборника...54 Стыжусь вчуже,
напоминая о таком жалком поступке г. рецензента; как он, при
всем своем уме и всей своей сметливости, не понял, что клевета
не есть остроумие и что в этом отношении его рецензия
пропета препиано, препианиссимо?..55 Не понимаем также, что
за странная замашка у г. рецензента «Библиотеки», выписывая
отрывок из разбираемой им книги, вставлять в выписку по¬
шлости своего изобретения и приписывать их автору разбирае¬
мого им сочинения, как он сделал это, например, с г. Кони при
разборе его водевиля «Иван Савельич»?56 Повторяем опять,
неужели клевета есть остроумие? Если остроумие, то уж, без
сомнения, провинциялъное, а не столичное!
«Смесь» составляет последнее отделение «Библиотеки»,
одно из лучших, из самых занимательных и самых полных. Тут
вы найдете все: и брань на французскую литературу, и остроты
пад французскими водевилями, остроты, целиком взятые из
французских же журналов, и ученые известия, и пр. и пр. Я
* Отчего ж тут пропущен г. Булгарин, от которого Годунову чуть ли
не больше всех досталось? 51
248
думаю, что такое отделение необходимо для всякого журнала, как
десерт для стола. Конечно, чтобы хорошо составлять подобную
смесь, нужно быть только великим человеком на малые дела;
но журнал странная вещь, и если для него нужны люди, способ¬
ные на что-нибудь прекрасное и даже великое, то не мепее их
нужны и великие люди на малые дела. Редактор «Библиотеки»
хорошо понял это, и, новый Протей, преображается по своей
воле и в повествователя, и в ученого, и в критика, и в рецензен¬
та, и в составителя смеси; жаль только, что во веем этом он
сохраняет один тон, одну манеру, один дух, употребляет одни
замашки...
Довольно — я у берега! Пора оставить «Библиотеку для
чтения», оставить во всех отношениях, в полном смысле этого
слова. Но какое же следствие выведу я из всего сказанного
мною об этом журнале? Следствие у меня должно сойтись
с приступом: «Библиотека» есть журнал провинциялъный, и в
этом заключается тайна ее могущества, ее силы, ее кредита
у публики. Выкинь она стихотворное отделение, выкинь повести
гг. Загоскина, Ушакова, Тимофеева, Брамбеуса, Булгарина, Ма¬
сальского, Маркова, Степанова и других, замени их повестями
гг. Марлинского, Одоевского, Павлова, Полевого, Гоголя; пере¬
води повести лучших писателей современной Европы; перемени
свой цинический тон; введи критику строгую, беспристрастную,
основательную — и трех четвертей подписчиков у ней как не бы¬
вало!.. Впрочем, нельзя не дивиться верному расчету, с кото¬
рым она основана, неизменяемости и постоянству ее направле¬
ния, верности самой себе, аккуратности в издании и, надо
сказать правду, хорошему языку, особливо в переводных статьях,
в чем ей должны уступить все наши журналы; наконец, ее
деятельности, проворству, а более всего — ее бессменному п
настоящему редактору...
Теперь мне должно говорить о «Сыне отечества», но я ни¬
чего не могу о нем сказать, потому что не только не читал, даже
не видал его, как пи старался об этом. «Сын отечества» у нас
в Москве считается каким-то призраком-невидимкою, о суще¬
ствовании которого все знают, но которого никто не видит. «Сын
отечества» сам заметил, сам сознал эту странность и со¬
мнительность своего существования и вздумал — нынешний
год возродиться, то есть переменить цвет своей обложки
п блеснуть критикою — да, критикою!.. Этой диковинки я кое-как
добился. И что ж? В самом деле, возрожденный журнал раз¬
махнулся со всего плеча критическою статейкою, в которой на¬
чал похваляться — чем бы вы думали? — беспристрастием!.. Ка¬
кова же эта критика, спросите вы? Отвечаю вам: ее написал
г. ВВВ., автор очень плохих повестей, жалкий перелагатель Баль¬
зака на русско-мещанские нравы, рецензент «Северной пчелы»
н, наконец, отставной сотрудник «Библиотеки», как уверяет
в этом публику сама «Библиотека»...57 Итак, довольно о крити¬
249
ке возрожденного «Сына отечества»: есть вещи, которые стоит
только назвать по имени, чтоб дать о них настоящее понятие!..
Перехожу к «Пчеле».
Вам известно, что «Пчела» жужжит уже давно, что она лю¬
бит и ужалить, в чем ей, разумеется, никогда не удается, потому
что жало ее тупо. Вам известно также, что этот журнал есть
двойчатка: одну половину его составляют политические из¬
вестия, а другую разные разности. Беда большая пришла бы
этим разным разностям, если бы от них отнять политические
пзЕестпя!58 Вы, почтенный Николай Иванович, не читаете «Пче¬
лы» (ее и многие давно уж не читают), но вы некогда ее чптали:
она все та же, над нею тяготеет все тот же уровень золотой
посредственности, по-прежнему она судит и рядит обо всем,
бранит и хвалит одну и ту же книгу, отчего, разумеется, для
книги ни лучше, ни хуже; словом, «Пчела» — журнал ежеднев¬
ный, нуждается в оригинале, так готова поместить брань на все,
кроме самой себя. Я не буду слишком распространяться
о «Пчеле», я укажу только на одну ее характеристическую чер¬
ту. Автор критического размаха возрожденного «Сына отечест¬
ва» ужасно расхваливает «Пчелу» и находит в ней один только
порок. «,,Пчела‘\— говорит он,— вообще отличается бесприст¬
растием (?!), и ее можно только укорить в излишней доброте:
она печатает слишком много похвал! Впрочем, хотите ли иметь
талисман, чтобы узнавать, какая статья принята по доброй воле
и какая статья подсунута ей насильными просьбами? Это очень
просто: под статьями последнего рода всегда пишется роковое
слово: „сообщено“»59. Что это такое? Насмешка над публикою,
ругательство над здравым смыслом? Как? Стало быть, журна¬
лист имеет право расхвалить дурную книгу и разбранить хоро¬
шую, если поставит под своей статьею словечко «сообщено»?..
Стало быть, он имеет право принять в свой журнал чужое
и притом нелепое мнение о той или другой книге, не читавши
этой кпиги или думая о ней иначе, и прав, когда поставит под
глупой рецензиею «сообщено»?.. После этого можно ли даже
упоминать о «Пчеле»?..
А знаете ли вы о войне, которую «Пчела» ведет против
«Библиотеки»? 60 Вот потеха-то! Ну так и рвется, что есть мочи!
Бедная! мне жаль ее! Каким тупым оружием сражается она
с мощным врагом, который не удостоивает ее даже взгляда,
как неловко, неуклюже нападает на него, она, которая недавно,
очень недавно, так низко кланялась ему, так усердно прослав¬
ляла его!
Враги! — давно ли друг от друга
Их жажда злата отвела?..61
В одном из номеров возрожденного старца помещена кри¬
тическая статейка некоего г. Павла Крутенева, автора очень
плоской книжонки, па Баропа Брамбеуса: прочтпте ее, когда
250
вам будет слишком грустно. Может быть, вы заплачете, только
не от горя, а от смеху...62
Теперь бы мне следовало говорить еще об одном литера¬
турном петербургском журнале, да я его и в глаза не видал. Вы
догадываетесь, что я говорю о «Литературных прибавлениях
к «Инвалиду», которые справедливее б было назвать «Инвалид¬
ными повторениями литературы»? Скорее можно отрыть в Мо¬
скве допотопную мамонтову кость, чем найти этот журнал.
И между тем «Московские ведомости» и «Пчела» уведомляли
о его издании па нынешний год: стало быть, оп существует.
Говорят, что почтенный издатель этого журпала-невидпмки
очень сильно ратует против «Библиотеки для чтения» и вашего
журнала: может быть! да почему ж бы и не так? Почтеппый
старец сам пишет, сам и читает, следовательпо, никому зла не
делает, следовательно, его бранные выходки суть не что ипое,
как невинная забава на старости лет. Итак, в час добрый! —
пусть продолжает тешиться!63
И вот все литературные петербургские журналы! Несмотря
па разность их направления и неравенство в силах, все они стре¬
мятся к одной цели, к мирному и единодушному преуспеянию
в награде за труды и хлопоты, и потому все они очень не любят
беспокойных крикунов, мешающих их мирным и полюбовным
сделкам между собою и с публикою. Они стараются жить в ладу
друг с другом, и если у них бывают между собою размолвки, то
всегда не из пустяков каких-нибудь, не из вздорных мнений об
изящном, о беспристрастии, добросовестности и других подоб¬
ных безделках, но всегда из чего-нибудь важного, существен¬
ного и необходимого в жизни. Одни из них (так как их немного,
то и не считаю за нужное называть по именам) плывут на всех
парусах, делают обороты большие, оптовые; другие, не столь
сильные, изворачиваются и так и сяк и иногда, в мутной воде,
вынимают * ловы довольно счастливые. Если ж мелкие извороты
им не удаются, если кредит их у публики падает, то они прибе¬
гают к возрождению или к перерождению, смотря по обстоя¬
тельствам. Если у них нет чего другого, зато они могут похва¬
литься постоянством, деятельностью, устойкою в условиях, разу¬
меется, внешних, касающихся до выхода номеров, качества
бумаги, цвета обложки и тому подобного. Одним словом, одни
оптом, другие по мелочи — но, как бы ни было, все более или
менее успевают в своих намерениях.
Совсем другое зрелище представляют московские журналы
настоящего времени. В них можно заметить и мысль, и какие-то
порывы благородные и чуждые внешних расчетов, большое
усердие к своему делу, и вместе с тем всегда неудачу, неуспех,
какую-то медленность и вследствие этого неустойку во внешних
условиях программы; словом, московские журналы — люди до¬
брые и честные, но какие-то злополучные, как будто бы под
несчастною звездою рожденные и с самого начала своего су-
251
шествования осужденные на бедствия. Всмотритесь в них при¬
стальнее: что это такое! Идут, кажется, к цели определенной,
видимой, а всё не доходят до ней, а всё сбиваются с пути, воро¬
чаются назад, начинают свое путешествие снова, а всё нп шагу
вперед!.. Всегда постоянные в цели, они никогда не постоянны
в средствах, противоречат сами себе, не верны своей идее, хотя
и никогда не изменяют ей. А злые-то петербургские собратия
тому и рады: видя неудачи, смеются; слыша себе громкие
и справедливые укоры, выставляют в ответ числа своих подпис¬
чиков. Странное дело! То ли были московские журналы назад
тому не больше, как два года? Что тогда были перед ними
петербургские журналы? Притча во языцех, предмет посмея¬
ния! — А теперь, кажется, произошел размен в ролях... Грустно
и, однако ж, справедливо!..
Но к чему я пою такую жалобную прелюдию? Не будет ли эта
прелюдия длиннее самой песни, эта присказка длиннее самой
сказки? Где они, эти московские журналы, о которых я сбираюсь
говорить? Много ли их?.. Передо мною носится, как бы на кры-
лах бури, множество призраков; но все это тени бойцов умер¬
ших... А живые... о, грустно!..64
О каких же московских журналах буду я говорить? Много
ли их? Мне бы следовало начать с «Телескопа» и «Молвы», под¬
ражая петербургским журналам. Там на этот счет не слишком
застенчивы и скромны. «Библиотека для чтения» давпо уж объ¬
явила, что такой журнал, как она, «был настоящею потребностью
публики». Если бы писавший эти строки прибавил «провинцияль-
ной», то мы нимало не подивились бы его откровенности, кото¬
рой он сам дивится. «Пчела», без зазрения совести, объявила,
что она между газетами то же, что «Библиотека» между
журналами, что ее рецензии прекрасны и все статьи превосходны.
Соблазнительный пример откровенности! Но, говорит послови¬
ца, что город, то норов, что село, то обычай: в Петербурге
исстари заведено, между журналами и литераторами, хвалить
себя самих, если другие не хвалят, в Москве же, напротив, это
всегда почиталось неприличным и смешным. И потому я, следуя
московскому обычаю, умалчиваю о «Телескопе» и «Молве». Вы
сами, почтеннейший издатель, вследствие вашего отсутствия,
имеете полное право быть судьей этих журналов, как они изда¬
вались без вас65. Я поручусь только за добросовестность
и усердие свое; об исполнении судите сами. Поспешу к
«Московскому наблюдателю».
Петербургские журналы уверяют, что «Наблюдатель» осно¬
ван с целию уронить «Библиотеку», и видят в этом большую
злонамеренпость. Мы этому не верим, во-первых, потому, что
уронить «Библиотеку» трудно: книга большая, толстая, жирная,
как уверяла нас сама «Библиотека», а как жир п сало тождест¬
венны, то и сальная, прибавим мы от себя; во-вторых, мы ско¬
рее можем предположить, что «Наблюдатель» основан с целию
252
сделать реакцию дурному и вредному влиянию «Библиотеки» на
нашу публику66, и в этом мы не только не видим ничего худого
или предосудительного, но видим много хорошего и благород¬
ного. По объявлению «Наблюдателя» было заметно, что это
будет журнал деятельный, настойчивый, упорный, журнал
с мнением, направлением, характером. Имена участников в из¬
дании утверждали нас в этой вере 67. Мы ждали «Наблюдателя»
с нетерпением, как торжества Москвы над Петербургом, как
победы честной литературной деятельности над литературною
иромышленностию. В самом деле, журнал новый, юный, с све¬
жими, неистощенными силами, с прекрасными именами, с хо¬
рошею репутациею еще до своего рождения — чего мы не были
вправе надеяться от него?.. Правда, искушенные холодным
опытом, обманутые не раз в самых лучших своих надеждах,
утратившие веру в авторитеты, мы иногда задумывались груст¬
но, улыбались недоверчиво; но неужели же «Библиотека», лите¬
ратурная промышленность и посредственность должны тор¬
жествовать, неужели же голос правды уже бессилен, уже заглу¬
шен кликами «к нам! к нам! у нас лучше»? — восклицали мы
и ласково, с улыбкою посматривали на объявление о новом
журнале. Наконец он появился: вышла книжка — Петербург
привстал; вышла другая — Петербург приосанился и улыбнулся;
вышла третья, четвертая — Петербург захохотал, смотря на
пронесшуюся мимо его бурю; Москва приуныла — и наши на¬
дежды разлетелись в прах!.. Да, господа, прекраспо очарова¬
ние, мила вера в достоинство всего, что хочется видеть хоро¬
шим, но и холодный, угрюмый скептицизм имеет свою добрую
сторону: если с ним слишком мучает вас зевота, зато с ним не
попадешь в дурачки, а быть в дурачках всего хуже!..
Прежде нежели мы объясним, почему «Наблюдатель», об¬
ладая всеми средствами, необходимыми для журнала, нисколько
не оправдал надежд, которые подавал о себе, мы должны
сказать, что он в самом деле был предприятием честпым, -до¬
бросовестным, благонамеренным, что редакция его употребляла
п употребляет все средства сделать его лучшим, что она не
щадит для этого ни издержек, ни труда. Роскошное, великолеп¬
ное издание, полнота книжек, мелкий шрифт статей доказывают
это. Со стороны своей благонамеренности, «Наблюдатель» не
изменил своей программе; но благонамеренность и талант или
уменье, к несчастию, не одно и то же!..
Журнал должен иметь прежде всего физиономию, харак¬
тер; альманачная безличность для него всего хуже. Физионо¬
мия и характер журнала состоят в его направлении, его мнении,
его господствующем учении, которого он должен быть органом.
У нас в России могут быть только два рода журналов — ученые
и литературные; говоря могут быть, я хочу сказать — могут при¬
носить пользу. Журналы собственно ученые у нас не могут
иметь слишком обширного круга действия; наше общество еще
253
слишком молодо для них. Собственно литературпые журналы
составляют настоящую потребность нашей публики; журналы
учено-литературные, искусно дирижируемые, могут приносить
большую пользу. Теперь, какие мнения, какое учение должно
господствовать в наших журналах, быть главным их элементом?
Отвечаем, не задумываясь: литературные, до искусства, до
изящного относящиеся. Да — это главное! Вы хотите издавать
журнал, с тем чтобы делать пользу своему отечеству, так
узнайте ж прежде всего его главные, настоящие, текущие по¬
требности. У нас еще мало читателей: в нашем отечестве, со¬
ставляющем особенную, шестую часть света, состоящем из шес¬
тидесяти миллиопов жителей, журнал, имеющий пять тысяч
подписчиков, есть редкость неслыханная, диво дивное. Итак, ста¬
райтесь умножить читателей: это первая и священнейшая ваша
обязанность. Не пренебрегайте для этого никакими средствами,
кроме предосудительных, наклоняйтесь до своих читателей, если
они слишком малы ростом, пережевывайте им пищу, если
они слишком слабы, узнайте их привычки, их слабости и, сооб¬
ражаясь с ними, действуйте на них. В этом отношении нельзя не
отдать справедливости «Библиотеке»: она наделала много чита¬
телей; жаль только, что она без нужды слишком низко наклоня¬
ется, так низко, что в рядах своих читателей не видит пикого уж
пиже себя; крайности во всем дурны; умейте наклонить и за¬
ставьте думать, что вы наклоняетесь, хотя вы стоите и прямо.
Потом, вторая ваша обязанность,— развивая и распространяя
вкус к чтению, развивать вместе и чувство изящного. Это чувство
есть условие человеческого достоинства: только при нем
возможен ум, только с ним ученый возвышается до мировых
идей, понимает природу и явления в их общности; только с пим
гражданин может нести в жертву отечеству и свои личные на¬
дежды и свои частные выгоды; только с ним человек может
сделать из жизни подвиг и не сгибаться под его тяжестию. Без
него, без этого чувства, нет гения, нет таланта, нет ума — оста¬
ется один пошлый «здравый смысл», необходимый для домаш¬
него обихода жизни, для мелких расчетов эгоизма. Кто отклика¬
ется па одну плясовую музыку, откликается не сердцем, а нога¬
ми, чью грудь не томит, чью душу не волнует музыка; кто видит
в картине только галантерейную вещь, годную для украшения
комнаты, и дивится в ней одной отделке; кто не полюбил стихов
смолоду, кто видит в драме только театральную пьесу, а в ро¬
мане сказку, годную для занятия от скуки, тот не человек, хотя
бы он умел болтать о Россини, о Роберте-дьяволе68, о чугун¬
ных дорогах и паровых машинах. Эстетическое чувство есть
основа добра, основа нравственности. Пусть процветает в Севе-
ро-Американских Штатах гражданское благоденствие, пусть ци¬
вилизация дошла до последней степени, пусть тюрьмы там
пусты, трибуналы праздны: по если там, как уверяют нас, нет
искусства, нет любви к изящному, я презираю этим благоденствием,
254
я не уважаю этой цивилизации, я не верю этой нравственности,
потому что это благоденствие искусственно, эта цивилизация
бесплодна, эта нравственность подозрительна. Где нет влады¬
чества искусства, тщ люди не добродетельны, а только благо¬
разумны, не нравственны, а только осторожны; они не борются
со злом, а избегают его, избегают его не по ненависти ко злу,
а из расчета. Цивилизация тогда только имеет цену, когда по¬
могает просвещению, а следовательно, и добру — единственной
цели бытия человека, жизни народов, существования челове¬
чества. Погодите, и у нас будут чугунные дороги и, пожалуй,
воздушные почты, и у нас фабрики и мануфактуры дойдут до
совершенства, народное богатство усилится; но будет ли у нас
религиозное чувство, будет ли нравственность — вот вопрос!
Будем плотниками, будем слесарями, будем фабрикантами; но
будем ли людьми — вот вопрос!
Чувство изящного развивается в человеке самим изящпым,
следовательно, журнал должен представлять своим читателям
образцы изящного; потом, чувство изящного развивается и об¬
разуется анализом и теориею изящного, следовательно, журнал
должен представлять критику. Там, где есть уже охота к искус¬
ству, но где еще зыбки и шатки понятия об нем, там журнал
есть руководитель общества. Критика должна составлять душу,
жизнь журнала, должна быть постоянным его отделением,
длинною, не прерывающеюся и пе оканчивающеюся статьею. И это
тем важнее, что она для всех приманчива, всеми читается жад¬
но, всеми почитается украшением и душой журнала. Первая
ошибка «Наблюдателя» состоит в том, что он не сознал важ¬
ности критики, что оп как бы изредка и неохотно принимается
за нее. Он выключил из себя библиографию, эту низшую, практи¬
ческую критику, столь необходимую, столь важную, столь полез¬
ную и для публики и для журнала. Для публики здесь та польза,
что, питая доверенность к журналу, она избавляется и от чтения
и от покупки дурных книг и в то ж время, руководимая журна¬
лом, обращает внимание на хорошие; потом, разве по поводу
плохого сочинения нельзя высказать какой-нибудь дельной
мысли, разве к разбору вздорной книги нельзя привязать како¬
го-нибудь важного суждения? Для журнала библиография есть
столько же душа и жизнь, сколько и критика. «Библиотека»
очень хорошо поняла эту истину, и за то браните ее как угодно,
а у ней всегда будет много читателей. Теперь я сделаю несколько
общих замечаний на «Наблюдателя», а потом перейду к его
критике.
«Наблюдатель» есть журнал энциклопедический: и вот еще
один из главных его недостатков, одна из причин, мешающих
его успеху. Мы не говорим уже о том, что энциклопедизм
бесполезен, вреден, что он теперь, к нашему несчастию, овла¬
дел намп и кружит наши головы; мы не говорим, что энцикло¬
педизм есть не универсальность, а скорее односторонняя по-
255
верхпостность; мы спрашиваем только, сообразен ли плаи
и границы «Наблюдателя» с энциклопедизмом? «Библиотека»
имеет полное право быть энциклопедическим журналом:
в книге из двадцати с лишком листов можно поговорить
о многом. Но и «Библиотека» разделена на известное число от¬
делений, и в каждой книжке ее вы видите одно и то же располо¬
жение, одни и те же отделения и в одинаковом числе; и потому,
если вы не занимаетесь, например, сельским хозяйством, то мо¬
жете его отделение оставлять неразрезанным — для вас и так
много останется чего почитать. В «Наблюдателе», напротив, та¬
кой энциклопедизм невозможен. Положим, статья г. Давыдова
«О свекловично-сахарном производстве»69 есть статья превос¬
ходная, европейская, да она имеет интерес частный, она тяжела
для такого журнала, как «Наблюдатель»; ее место в «Земле¬
дельческом журнале» или, что всего лучше, в «Московских ве¬
домостях», у которых, говорят, около десяти тысяч подписчи¬
ков. Притом мы не видим полного энциклопедизма в «На¬
блюдателе»: его поприще ограничивается очень немногими
и определенными предметами: литературою, историею, сель¬
ским хозяйством и политическою экопомиею. Напротив, нам ка¬
жется, что его энциклопедизм состоит в каком-то отсутствии
общности, порядка, характера. Это альманах, это тетради, где
сшиваются и дурные, и посредственные, и хорошие, и отличные
статьи. Только периодический выход его книжек делает его
журналом. Конечно, в нем бывают статьи превосходные, но эти
статьи не составляют регулярного войска, это настоящая мили¬
ция, которая идет неровным шагом, нападает недружно, невпо¬
пад, нестройно и, сильная своим многолюдством, своею храб-
ростию, везде проигрывает сражения, везде отступает. Поэтому
я не буду пересчитывать статей «Наблюдателя» и отдавать
в каждой из них отчеты. «Наблюдатель» особенно щеголяет сти¬
хотворениями, но в этом он не далеко ушел от «Библиотеки».
Кроме того, что в нем было не более двух или трех порядоч¬
ных стихотворений, в нем есть множество таких, которые реши¬
тельно не делают чести его вкусу, как, например, «Своя
семья», уродливая и грязная карикатура на поэзию. Соб¬
ственно из изящных произведений замечательны: «Иван Бара-
баш» г. Срезневского, «Маскарад» г. Павлова и «Себастиан Бах»
г. Безгласного, а из теоретических: «Взгляд на направление ис¬
тории» г. Ястребцова70. О переводных умалчиваю: между ними
есть и очень хорошие и очень посредственные. Обращаюсь
к критике.
Критика в «Наблюдателе» так странна, так удивительна, что
стоит особенного, подробного рассмотрения, для которого я те¬
перь не имею времени, да и у вас недостанет места. Надобно
сказать, что это критика характерная, верная самой себе,
добросовестная и убежденная, если можно так выразиться; по
вместе с тем не достигающая своей цели, не приносящая пользы,
256
не понимаемая публикою. Причина этому заключается в том,
что она не современна, что она отзывается классицизмом, ив
имеет никакого основного начала, никакого центра, из которого
бы выходила, что она, наконец, похожа на аббата Баттё во фра¬
ке XIX века. Знаю, что я сказал слишком много, что подобные
вещи или вовсе не говорятся, или говорятся с доказательствами:
я представлю их в особенной статье «О критике „Москов¬
ского наблюдателя41» 71. Пусть как хотят судят о моем поступке,
во я твердо убежден, что можно уважать чужие мнения и быть
с ними несогласным, что уважение уважением, приличие прили¬
чием, а правда правдою, что комплименты и мадригалы хороши
в гостиной, на паркете, а не в журнале, где всего важнее чест¬
ное, независимое, чуждое личностей, но и твердое, стойкое
мнение.
Этим пока оканчиваю мои замечания о литературных жур¬
налах. Что же касается до книг, относящихся к изящной словес¬
ности, то в Петербурге, в ваше отсутствие, не вышло ни одной
достойной внимания; в Москве вышел «Ледяной дом», новый
роман И. И. Лажечникова. Этот роман был истинным подарком ’
русской публике, прекрасною, лучезарною звездою на пустып-
ном небосклоне нашей литературы. Но я не буду говорить
о нем: он стоит подробного рассмотрения; и так как mieux tard,
que jamais*, то в «Телескопе», без сомнения, будет помещен
полный отчет об этом примечательном произведении72. Немало
наделало шуму появление «Стихотворений г. Бенедиктова»: одни
увидели в них зарю новой поэтической жизни в нашей
литературе, другие не признают в них даже таланта версифика¬
ции; середины между этими двумя крайностями нет; публика
так же разделена, как и журналы, в отношении к г. Бене¬
диктову. Вам известно об нем мое мнение: может быть, оно
несправедливо, но оно было плодом убеждения, чуждого вся¬
кой личности. Как бы то ни было, но я решился пе говорить
более об этом предмете: пусть решит этот вопрос время, луч¬
ший решитель таких вопросов. К числу приятных явлений нашей
бедной литературы принадлежат «Стихотворения г. Кольцова»,
которые вам также известны. Но г. Кольцову не так посчастли¬
вилось, как г. Бенедиктову73.
И вот я кончил... А следствие?.. К чему его выводить, когда
опо и так ясно? Факты говорят иногда красноречивее рассужде¬
ний. Литература есть народное самосознание, и там, где нет
этого самосознания, там литература есть или скороспелый
плод, пли средство к жизни, ремесло известного класса людей.
Если и в такой литературе есть прекрасные и изящные созда¬
ния, то они суть исключительные, а не положительные явления,
а для исключений нет правила...
* лучше поздно, чем никогда (франц.). — Ред.
9 В. Белинский, т. 1
257
О КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРНЫХ МНЕНИЯХ
«МОСКОВСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ»
(I)
Что такое критика? Простая оценка художественного про¬
изведения, приложение теории к практике или усилие создать
теорию из данных фактов? Иногда то и другое, чаще всё вместе.
Потом, чем критика должна быть? Частным выражением мнения
того или другого лица, принимающего на себя обязанность
судьи изящного, или выражением господствующего мнения эпохи
в лице ее представителей, которое есть результат прежде быв¬
ших мнений, прежде бывших опытов и наблюдений? Без сомне¬
ния, она имеет право быть тем и другим, но в первом случае
она должна быть шагом вперед, открытием нового, расширени¬
ем пределов знания или даже совершенным его изменением,
должна быть делом гения; во втором случае она меньше
рыскует, но зато может быть увереннее в самой себе, может
быть всегда истинною в отношении к своему времени. Итак, кри¬
тика первого рода есть исключение из общего правила, явление
великое и редкое; критика второго рода есть усилие уяснить
и распространить господствующие понятия своего времени об
изящном. В наше время, когда основные законы творчества
уже найдены, это есть единственная цель критики. Уяснять эти
законы теоретически, подтверждать их истину практически, вот
ее назначение. Теория есть систематическое и гармоническое
единство законов изящного; но она имеет ту невыгоду, что за¬
ключается в известном моменте времени, а критика беспрестан¬
но движется, идет вперед, собирает для науки новые материя-
лы, новые данные. Это есть движущаяся эстетика, которая вер¬
на одним началам, но которая ведет вас к ним разными путями
и с разных сторон, и в этом-то заключается ее прогресс. Вот
почему критика так важна, так всеобща; вот почему она завла¬
дела общим вниманием и приобрела такой авторитет, такое
258
могущество. Дарование критика есть дарование редкое и потому
высоко ценимое; если мало людей, наделенных от природы
большим или меньшим участком эстетического чувства, способ¬
ных принимать впечатления изящного, то как же должно быть
мало людей, обладающих в высшей степени этим эстетическим
чувством и этою приемлемостию впечатлений изящного?.. Оши¬
баются те люди, которые почитают ремесло критика легким
и более или менее всякому доступным: талант критика редок,
путь его скользок и опасен. И в самом деле, с одной стороны,
сколько условий сходится в этом таланте: и глубокое чувство,
и пламенная любовь к искусству, и строгое многостороннее изу¬
чение, и объективность ума, которая есть источник бесприст¬
растия, способность не поддаваться увлечению; с другой сторо¬
ны, какова высокость принимаемой им на себя обязанности! На
ошибки подсудимого смотрят, как на что-то обыкновенное;
ошибка судьи наказывается двойным посмеянием.
Предмет критики есть приложение теории к практике. Вся¬
кое критическое рассмотрение, имеющее своим предметом не
прямо изящное, а что-нибудь имеющее к нему отношение, есть
не критика, а полемика, как бы оно ни было скромно, вежливо,
тихо и безжизненно. Статья обо мнениях какого-нибудь журна¬
ла об изящном есть критика; статья о самом журнале есть по¬
лемика или простое суждение. Статья о сочинениях истинного
поэта, в которой доказывается, почему он есть истинный поэт,
или статья о сочинениях поэта-самозванца, в которой доказыва¬
ется, почему он есть поэт-самозванец, такая статья есть крити¬
ка; статья о произведении человека, которого никто не думал
почитать поэтом и которого сочинения не идут под поверку
теории, есть полемика. Под словом «полемика» я разумею
здесь не брань, не споры, а все, что называется рецензиею
и простым выражением мнения о каком-нибудь литературном
предмете. Цель критики высокая — поверка фактов умозрени¬
ем, и наоборот; цель полемики низшая — защита здравого
смысла. Критика опирается на умозрении, полемика на здравом
смысле. Я почел необходимым сделать это разделение: у нас
всякая статья, в которой судится о каком-нибудь литературном
предмете, называется критикою.
Всякое дело должно быть сообразно с обстоятельствами,
в ладу с отношениями. Так и критика. Мы сказали, что она та¬
кое; теперь мы должны сказать, чем она должна быть у нас
в России. В Германии, стране критики, критика идеальна, умо¬
зрительна; во Франции критика положительная, историческая.
Какова же должна быть критика в России?.. Но может ли быть
у нас даже какая-нибудь критика, когда у нас нет литературы?
Г-н Шевырев однажды коснулся этого вопроса и решил, что
у нас критика должна, как у немцев, предшествовать литерату-
реМнение, может быть, неверное, но остроумное! Не хочу
рассматривать его; скажу только, что, по моему мнению, нашей
литературе должна предшествовать некоторая образованность
вкуса, или, другими словами, у нас сперва должны явнться чита¬
тели, dilettanti *, а потом уже и литература. Немцы сделались
критиками вследствие своего характера, своего умозрительного
направления, следовательно, у них критика родилась сама; у нас
она есть усилие или подражание, так же как и литература. Я не
знаю политической экономии и потому не могу решить, продукт
ли родит потребителей, или потребители родят продукт; по
крайней мере у нас сперва должны явпться требователи на ли¬
тературу, а потом уже и литература. А то смешное дело! Хотят,
чтобы у нас были поэты, когда их еще некому читать. Цветущее
состояние нашей книжной торговли не только не опровергает
этого положения, но еще подтверждает его: там, где с равною
жадностью читается и хорошее и дурное, где равный успех име¬
ют и «песенники» г. Гурьянова2 и стихотворения Пушкина, там
видна охота к чтению, но не потребность литературы. Когда на¬
ша читающая публика сделается многочисленна, взыскательна
и разборчива, тогда явится и литература.
Из этого ясно видно назначение критики в России. У нас
принесет пользу критика высшая, трансцендентальная: она не¬
обходима; по она у нас должна являться многоречивою, говорли¬
вою, повторяющею саму себя, толковитою. Ее целью должен быть
пе столько успех науки, сколько успех образованности. Наша
критика должна быть гувернером общества и на простом языке
говорить высокие истины. В своих началах она должна быть
немецкою, в своем способе изложения французскою. Немецкая
теория и французский способ изложения — вот единственный
способ сделать ее и глубокою и общедоступною. Немцы облада¬
ют умозрением, но не мастера посвящать профанов в свои таий-
ства, их может понимать их же каста — ученые; французы зыб¬
ки и мелки в умозрении, но мастера мирить знание с жизнию,
обобщать идеи. Подражать же исключительно немцам пока
бесполезно, французам — вредно, потому что, с одной сторо¬
ны, идея всегда должна быть зерном учения, но не должна
пугать своею глубиною, должна быть доступна; с другой сторо¬
ны, практические начала без основной идеи — пустой орех, ко¬
торого не стоит труда грызть. Во всяком случае, не надо забы¬
вать, что русский ум любит простор, ясность, определенность:
чистое умозрение его не отуманит, но отвратит от себя; фак-
тизм может сделать его мелким, поверхностным.
У нас любят критику — об этом нет спора. Книжка журнала
всегда разогнута на критике, первая разрезанная статья в жур¬
нале есть критика; как бы ни был дурен журнал, в каком бы он
ни был упадке, но если в нем случится хоть одна замечательная
критическая статья, она будет прочтена, заключающая ее книжка
вынется из-под спуда и увидит свет божий; критике больше
* любители (итал.). — Ред.
260
всего бывает обязан журнал своею силою. Без критики журнал
есть образ без лица, анатомический препарат, а не живое орга¬
ническое существо. Почему же так? Тут скрывается много при¬
чин: и оскорбленное самолюбие и личные отношения, но более
всего жажда образованности. Теперь очень ясно, чем должна
быть в России критика, какая ее цель и каким путем должна она
идти к своей цели. Равным образом, теперь ясно видно, как
важна у нас критика, как благодетельно влияние хорошей кри¬
тики и как вредно дурной.
Окончив эти предварительные объяснения, которые я по¬
читал необходимыми, приступаю к самому делу.
Я не без намерения сказал о различии критики от полеми¬
ки, не без намерения дал моей статье заглавие пе просто «О
критике „Московского наблюдателя44»^ но «О критике и литера¬
турных мнениях „Московского наблюдателя41»: если бы я стал
говорить только о его критике, то мне было бы не о чем гово¬
рить, потому что собе,денно критических статей в «Наблюдате¬
ле» было не больше двух или трех, остальные все полеми¬
ческие, в том смысле, какой я даю полемике. Я буду рассматри¬
вать все статьи по порядку, буду следить все мнения шаг за
шагом.
Г-н Шевырев есть исключительный и привилегированный
критик «Московского наблюдателя»: его статьи составляют луч¬
шее украшение и дают некоторую жизнь и движение этому жур¬
налу, который так беден жизнью и движением. Поэтому на его
статьи я должен обратить особенное внимание. Г-н Шевырев —
литератор деятельный, добросовестный, оригинальный во мне¬
ниях и слоге, литератор с дарованием и авторитетом: тем боль¬
шего внимания заслуживают его критические мнения, а всякое
внимание, будет ли оно поддержкою или реакциею, есть при¬
знак уважения. Опровергать можно только то, что имеет влия¬
ние на публику, а иметь это влияние может только талант. Вот
что заставило меня взяться за перо, вот с каким чувством
и вследствие какой причины приступаю я к разбору мнений
г. Шевырева.
Г-н Шевырев дебютировал в «Наблюдателе» статьею «Сло¬
весность и торговля» 3. Это была статья не критическая, а по¬
лемическая. Г-н Шевырев изъявляет в пей сожаление, что наша
литература превратилась в промышленность, что она «подружи¬
лась с книгопродавцем, продала ему себя за деньги и покля¬
лась в вечной верности». Это выражение есть остроумная
и чрезвычайно верная характеристика современной нашей лите¬
ратуры. Вообще вся статья отличается каким-то грустным чувст¬
вом негодования и колким остроумием в выражении. В ней
много справедливого, глубоко истинного и поразительно верно¬
го; но вывод ее решительпо ложен. Автор доказал совсем не
то, что хотел доказать, как увидим ниже. Последуем за ним
в его статье:
261
...Каш ппсатель то, что можно сказать одним словом, выражает пред¬
ложением, а предложение, достаточное для мысли, вытягивает в длинный,
предлинный период, период в убористую страницу, страницу в огромный
лист печатный... Его слог, как проволока, может до бесконечности вытяги¬
ваться. — Но в чем тайна всего этого? — В том, что цека печатиого листа
есть 200 пли 300 рублей; что каждый эпитет в статье его ценится, может
быть, в гривну, каждое предложение есть рубль; каждый период, смотря по
длине, есть синяя или красная ассигнация!..
Все это очень остроумно и верно; но сделаем еще несколь¬
ко выписок.
Итак, болтливость нашего слога, бесконечные плеопазмы, необделанные
периоды, ряды синонимов, существительных, прилагательных и глаголов
на выбор, все эти свойства скорописи, одолевающей нашу литературу, имеют
начало свое в том, что пыне слова — деньги, и слог чем грузнее, тем выгод¬
нее. От такого слога растет статья, толстеют листки книги, вздувается са¬
мая книга, как калач у пекаря, наблюдающего выгоды припеки.
На журналы я смотрю, как на капиталистов. «Библиотека для чтения/)
имеет для меня пять тысяч душ подписчиков. «Северная пчела», может
быть, вдвое *. Замечательно, что эти журналы еще в том сходятся с бога¬
чами, что любят хвастаться всенародно своим богатством. И эти души
подписчиков гораздо вернее, чем твои оброчные: за ними никогда нет недо¬
имки; они платят вперед, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигна¬
ции. Вот едет литератор в новых санях: ты думаешь, это сани. Нет, это
статья «Библиотеки для чтения», получившая вид саней, покрытых мед-
вежьею полостью, с богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этот
ковер, этот лак чистый и опрятный — все это листы этой дорого заплаченной
статьи, принявшие разные виды санного изделия. Литератор хочет дать
обед и жалуется, что у него нет денег. Ему говорят, да напиши повесть
и пошли в «Библиотеку»: вот и обед.
Вызови на Страшный суд того писателя4, которого первый роман, вну¬
шенный вдохновением честным и приготовленный долгим трудом, завоевал
внимание публики! Спроси совесть его о втором, о третьем, о четвертом
его романе! Вследствие чего они явились? Не насильно ли выпросил он их
у непокорного вдохновения, у невнимательной истории? Не торопился, ли
он всем напряжением сил своих, против условий музы, чтоб только вос¬
пользоваться свежестью первого успеха? Его насильственное второе, более
насильственное третье и четвертое вдохновение не было ли плодом того
безотчетного, но сладкого чувства, что роман теперь самая верная спеку¬
ляция?
Повторяю, в этих выписках заключается самое верное изо¬
бражение современной литературы. Но что же этим хотел ска¬
зать почтенный критик? Не противоречит ли он самому себе?
Теперь наши литераторы в чести, живут своим ремеслом, а не
посторонними и чуждыми их призванию трудами: это прекрас¬
но, это должпо радовать. Теперь талант есть богатое наследст¬
во, он уже не ропщет на несправедливость судьбы, он уже не
завидует праву знатного происхождения, доставляющего все
выгоды, все блага жизни: это утешительно, это отрадно!.. Но,
полно, правда ли, что «наша литература дает обеды, живет
в чертогах, ходит по коврам, ездит в каретах, в лаковых санях,
* Факт очень неверный! У «Пчелы» нет и четвертой доли подписчиков
«Библиотеки:), да п которых она имеет, п те, говорят, с каждым годом
уменьшаются в числе,
262
кутается в медвежью шубу, в бекешь с бобровым воротником,
возвышает голос на аукционах Опекунского совета, покупает
имения...»? Нет ли в этих словах преувеличения, гипербол? Не
слишком ли далеко увлекся автор в своем благородном него¬
довании? Или не смешивает ли он вещей, ложно принимая одну
за другую? Правда, нам известны два или три романиста, кото¬
рые обеспечили на всю жизнь свое состояние своими первыми
романами, но это было еще до основания «Библиотеки»: за что
ж взводить на нее небывалые вины, когда у ней бывалых мно¬
го? «Иван Выжигин» явился в то время, когда еще наша литера¬
тура не была торговлею, когда она была во всем цвету своем.
Вслед за «Иваном Выжигиным» появились «Юрий Милослав-
ский», «Дмитрий Самозванец», «Рославлев», «Последний Но¬
вик», а «Библиотека» явилась уже после всех них5. Повестями
же и журнальными статьями, даже при усиленной деятельности,
можно только жить кое-как, но об обеспечении своего состоя¬
ния нельзя и думать. Спрашиваю г. Шевырева: из участвующих
в «Библиотеке» поместил ли хоть кто-нибудь более двух или
трех статей в год?.. А на три статьи, как бы они дороги ни были,
право, не наживешь чертогов, не заведешь кареты, много-мно¬
го разве купишь сани, да без лошадей на них далеко не
уедешь... Где ж логика, где справедливость? Странное дело, как
сильно овладела г. Шевыревым ложная мысль, что в наш век
поэты и литераторы превратились в каких-то великих моголов!..
Но об этом будет ниже, когда дойдет до его статьи о «Чаттер-
тоне». Нет, г. критик, будем радоваться от искреннего сердца и
тому, что теперь талант и трудолюбие дают (хотя и не всем)
честный кусок хлеба!.. И в этом отношении «Библиотека для
чтения» заслуживает благодарность, а не упрек. Но вы видите
в этом вред для успехов литературы, вы говорите, что наши
вторые романы бывают как-то хуже первых, третьи хуже вто¬
рых, что наши повести водяны, периоды длинны, обременены
без нужды эпитетами, глаголами, дополнениями: все это правда,
во всем этом я согласен с вами, да вы ошибаетесь в при¬
чине этого явления. Вспомните, что каждый стих Пушкина обхо¬
дился книгопродавцам в красненькую, если не больше, а ведь
стихи Пушкина от этого нисколько не были хуже; вспомните,
что за «Пиковую даму» и «Княжну Мими» «Библиотека» заплати¬
ла деньгами, ассигнациями, а вы сами хвалите эти повести. Вот
вам самый простой и самый убедительный факт. Он доказыва¬
ет, что истинный талант не убивают деньги, что
Не продается сочпкенье,
Но можно рукопись продать!6
Конечно, верная пожива от литературных трудов умножает чис¬
ло непризванных литераторов, наводняет литературу потопом
дурных сочинений; по это зло необходимое. Литература, как
и общество, имеет своих плебеев, свою чернь, а чернь везде
263
бывает и невежественпа, и нагла, и бесстыдна. Обращаюсь опять
к Пушкину: ему платили дорого, очень дорого, но посмотрите
на его литературное поприще: его «Кавказский пленник» был
хорош, но «Бахчисарайский фонтан» лучше, но «Цыганы» еще
лучше, а там еще остаются «Евгений Онегин», «Борис Годунов»,
«Полтава»: что ж вы говорите нам о вторых и третьих рома¬
нах?.. Эти вторые и третьи романы были хуже первых оттого,
что успех первых-то был основан не на таланте, не на истинном
достоинстве, а на разных посторонних обстоятельствах: один
гладко и грамотно написал, другой блеснул новостью рода, тре¬
тий как-то нечаянно обмолвился: вот вам и вся тайна, вся загад¬
ка; она не мудрена, и над ней не для чего ломать головы. Вы
очень верно изобразили состояние современной литературы, но
вы неверно объяснили причины этого состояния: у нас нет лите¬
раторов, а деньгами нельзя наделать литераторов — вот что вы
доказали, хотя и думали доказать совсем другое. Вы сами были
вкладчиком «Библиотеки», вы сами украсили ее статьею 7, так
неужели ваша статья должна быть хуже оттого, что вы получи¬
ли за пее деньги?.. Поверьте, что если бы теперь нельзя было
ни копейки добиться литературными трудами, наша литература
от этого не была бы ни на волос лучше.
В этой же статье г. Шевырев взводит странное обвинение
на наших писателей, говоря, что «наши пишущие спекуляторы (в
подражание Европе) дарят нас по большей части в роде разо¬
чарованном или ужасном» 8. Полно, правда ли и это? Мне так
кажется, наши романы с этой стороны не заслуживают ни ма¬
лейшего упрека.
По поводу этой мысли г. Шевырев объясняет причину разо¬
чарованного и отчаянного характера европейских романов, го¬
воря, что она заключается в вековой опытности и разочаровании
человечества. Это так, но тут есть и другие причины: влияние
Байрона, стремление к истине, покорность моде, желание вер¬
ного успеха и в славе и в деньгах, и пр. Ведь не всякий роман,
не всякая повесть есть поэзия, есть творчество: а если роман
или повесть есть не работа, а плод вдохновения, то изображен¬
ная в них жизнь непременно должна быть или ужасна, или край¬
не смешна...
От этой полемической статьи перехожу к двум собственно
критическим статьям г. Шевырева. Первая из этих статей есть
разбор «Князя Михайла Васильевича Скопина-Шуйского», дра¬
мы г. Кукольника, вторая — «Трех повестей» г. Павлова 9. В этих
статьях г. Шевырев является критиком, делает нас участником
своих критических верований и дает нам средство оценить свой
критический талант. Эти две статьи, еще при самом своем появ¬
лении, удивили нас до крайности, показались нам неразреши¬
мыми загадками; теперь мы им еще больше удивляемся, еще
больше их не понимаем. Критика на драму г. Кукольника,
и критика большая, в двух книжках журнала?.. Мне кажется, что
264
такая критика себе дороже... Но что нам до этого: всякий волен
тратить свое добро на что хочет; посмотрим лучше, как испол¬
нил свое дело г. Шевырев.
Он начинает кратким изложением хода событий эпохи, из
которой почерпнуто содержание драмы г. Кукольника, и мимо¬
ходом изъявляет сожаление, что Карамзин не мог окончить
этой картины:
Как часто, дочитывая последнюю страницу XII тома, которая так
чудно рисует русский хаос междуцарствия, при последних словах «Орешек
не сдавался», вместе с картиною эпохи я воображал картину самого исто¬
рика. Представьте себе его в двадцатипятилетних креслах (?), свидетелях
его труда неутомимого; один (??), чуждый помощи (???), сильной рукой
приподымает он тяжелую завесу минувшего, сшитую из ветхих хартий, и
устремляет на великую эпоху России глубокомысленные очи, а другою ру¬
кою пишет с нее живую картину, возвращая минувшее настоящему... и
внезапно хладная коса смертная касается неутомимой руки писателя на
самом широком ее разбеге... перо выпало из перстов, вслед за тем свинцо¬
вая завеса закрыла от нас Историю России — свинцовая, потому что, после
могучей руки Карамзина, никто еще до сих пор не осмелился достойно (?)
поднять ее, хотя и были некоторые усилия... Славные кресла Карамзина до
сих пор еще праздны, к стыду нашей литературы!
Не правда ли, что эти строки очень странны? Мы не хотим
упрекать г. Шевырева в излишнем пристрастии к Карамзину:
после того как нас призывали молиться на могиле незабвенного
мужа и шептать его святое имя10, нас трудно удивить чем-
нибудь в этом отношении. Конечно, г. Шевырев, как по своим
летам, так и по своему образованию, не должен был бы принад¬
лежать к литературным староверам; но это другой вопрос, ко¬
торый сам собою решится подробным рассмотрением всех кри¬
тических и литературных мнений г.- Шевырева... Покуда нас
удивляет только неловкость комплимента, сделанного г. Шевы-
ревым памяти Карамзина. Хвалить вообще не так легко, как
думают; тут надо большое уменье, чтоб иные насмешники не
сказали:
Не поздоровится от этаких похвал! 11
Во-первых: что за двадцатипятилетние кресла? Разве они
принадлежат к преданиям нашей литературы, разве о них все
знают? Разве это точно факт, что Карамзин двадцать пять лет
сидел в одних креслах? Если же это просто риторическая фигу¬
ра, то довольно забавная...— «Один» — да разве историю пишут
вдвоем? «Чуждый помощи» — это неправда: Карамзину помога¬
ли труды многих изыскателей. «Сильной рукою приподымает он
тяжелую завесу минувшего, сшитую из ветхих хартий, и устрем¬
ляет на великую эпоху России глубокомысленные очи, а другою
рукою пишет с нее живую картину»... Помилуйте: да зачем же
он подымал эту завесу! Что он за нею видел? Ведь эта завеса
была сшита из летописей, так, стало быть, он на ней, а не за ней
должен был видеть минувшее? И притом, что за странная фан¬
тазия представить Карамзина в таком неловком и принужден¬
265
ном положении: одной рукой держится за тяжелый занавес,
а другою пишет! Пускай эти руки были могучие, а все трудно...
Воля ваша, а здесь пе выдержана метафора, и потому страждет
здравый смысл. Да, впрочем, излишне пылкое воображение
всегда было врагом здравого смысла... Что же такое значит
«осмелиться достойно поднять руку» для написания истории —
этого мы решительно не понимаем.
Но этот неловкий комплимент составляет в статье г. Шевы-
рева род небольшого, хотя и эмфатического отступления; обра¬
щаюсь к главному предмету.
Кончив изложение или очерк событий эпохи, избранной
драматиком, г. Шевырев делает следующее заключение, выра¬
жающее его основное понятие о творчестве:
Кажется, история сама чертит путь драматику, сама дает главные
события и характеры, сама располагает действия.
Что это такое? Не обманывают ли меня глаза?.. Как! так
сама история дает художнику план драматического создания,
а ему, художнику, остается только «не искажать ее, быть вер¬
ным ей, отгадывать кой-что, утаенное временем и летописью»?..
Полно, пе ошибся ли я? Перечитываю — так, точно так!.. Как?
так, стало быть, я пишу историческую драму, он пишет, вы пи¬
шете, они пишут — и все мы, как ни много нас, напишем поне¬
воле одно и то же? Где же свобода художника? Что же его
вдохновение, его творчество?.. Признаюсь, чудный рецепт пи¬
сать драмы! Удивляюсь, как после этой статьи г. Шевырева не
явилось нескольких дюжин исторических драм!.. Только избегая
длинных выписок, не выписываю этого дивного рецепта с лиш¬
ком в две страницы мелкой печати, где критик по пальцам вы¬
считывает, что и что должен выставить в своей драме поэт, ‘
который бы избрал для своей драмы эту эпоху. Жаль, что
г. Шевырев не показал нам того закона творчества, на котором
он основал право истории и свое собственное чертить путь фан¬
тазии художника; жаль, что этот интересный закон эстетики
остается доселе тайною!.. Впрочем, как увидим ниже, все пунк¬
ты эстетического уложения, на котором опираются мнения
г. Шевырева, доселе остаются для публики тайною. Мы, с своей
стороны, всегда думали, что поэт не может и не должен быть
рабом истории, так же как он не может и не должен быть
рабом действительной жизни, потому что, в том и другом слу¬
чае, он был бы списчиком, копистом, а не творцом. Поздравляем
поэта, если герой его романа или драмы совершенно сходен
с героем истории, которого он выводит в своем создании; но
это может быть только в таком случае, когда поэт угадает исто¬
рическое лицо, когда его фантазия свободно сойдется с дей-
ствительностию. Разумеется, это будет случай, а не расчет, уда¬
ча, а пе намерение. Поэт читает хроники, историю, поверяет,
соображает, сдружается с избранною эпохою, с избранными
266
лицами; изучение для него необходимо, но не это изучение со¬
ставляет акт творчества: позт ищет историческое лицо, зовет
его к себе и не видит его, пока оно само не придет к нему,
незваное и неожиданное, в СЕетлую минуту поэтического откро-
Ееппя, может быть, тогда, как он уже бросал и хроники и исто¬
рии... То же и с планом, ходом и всею композициею создания.
Ему нужны только некоторые мгновения из жизни героя, ему
нужны только некоторые черты эпохи; он вправе делать про¬
пуски, неважные анахронизмы, вправе нарушать фактическую
Еепность истории, потому что ему нужна идеальная верность.
Возьмите трех, четырех превосходных историков той или дру¬
гой эпохи, того или другого исторического лица: эта эпоха, это
лицо у каждого из них, при всем сходстве, будет отличаться
особенными противоречащими оттенками. Значит, и в истории
есть свое творчество, значит, и историк создает себе идеал.
Хроники одни, а идеалы, составленные по ним, различны. Ино¬
гда же художник (особенно, когда его талант субъективен) име¬
ет полное право нарушить историю в исторической драме, взяв
историю только рамою для своей идеи. Филипп и Дон Карлос
Шиллера 12 нисколько не похожи на Филиппа и Дон Карлоса
истории; но, неверные исторической истине, они в высочайшей
степени верны вечной истине человеческой души, человеческо¬
го сердца, верны истине поэтической, потому что не выдуманы,
не придуманы, а родились сами!.. А как? этого не сказал бы вам
и сам поэт, если бы вы его спросили, а отослал бы, может быть,
вас с вашим вопросом к Шлегелю, к Сольгеру, к Шеллингу...
Второй части этой критики не буду разбирать подробно.
В ней критик доказывает не то, чтобы поэт погрешил против
творчества, а то, что он не пошел по пути, начерченному самою
историею. Потом исчисляет его промахи против здравого смыс¬
ла, а именно, что у* него героем драмы является Ляпунов,
а Скопин-Шуйский играет самую жалкую и ничтожную роль, что
отравление Скопина на пиру есть тупоумное злодейство, и пр.
Разумеется, все это не касается законов изящного, потому что
драма совсем не изящна; разумеется, легко выставить все ее
ошибки, потому что когда ум творит без участия чувства
и фантазии, то всегда делает нелепости и промахи против здра¬
вого смысла. Перехожу ко второй критической статье г. Шевы-
рева.
Зта статья еще удивительнее. В ней г. Шевырев рассужда¬
ет о разных предметах и, между прочими, о какой-то «свет¬
ской» повести и называет повести г. Павлова «светскими». Что
это такое — «светская» повесть? Не понимаем: в нашей эстетике
не упоминается о «светских» повестях. Да разве есть повести
мужицкие, мещанские, подьяческие? А почему ж бы им и пе
быть, если есть повести «светские»?.. Ну пусть их будут — по¬
смотрим, что дальше. Сначала критик говорит, что у нас редко
появляются хорошие повести: это мы знаем. Потом, что повесть
267
есть вывеска современной литературы: и об этом мы тоже слы¬
хали. Причину этою критик находит в том, что «у всякого есть
своя жизнь, свой анекдот, свой рассказ, одним словом: у вся¬
кого своя повесть». Но ведь, скажем мы, и прежде было то же:
отчего ж прежде повестей не писали? Потом критик говорит,
что «с тех пор, как стало так легко быть автором», появилось
много дурных повестей и романов: истина неоспоримая! «По¬
весть тем более доступна для всех и каждого, что ее форма
есть та же проза, которою все говорят»: признаемся — мы
с этим пе совсем согласны. Потом критик говорит, что «жизнь
есть какое-то складное бюро, со множеством ящиков, между
которыми есть один глубокий тайный ящик с пружиною», что
в этом ящике лежит женское сердце, что автор «Трех повестей»
слегка коснулся этого ящика и что есть надежда, что когда-
нибудь он и совсем откроет его. После этой прекрасной и по¬
этической аллегории в восточном вкусе критик говорит нам, что
автор вынул из ящика записку, смысл которой состоит в том,
что человек везде достоин внимания, что сильные страсти
и резкие характеры встречаются и в убогих хижинах крестьян.
«В этих словах,— говорит критик,— заключается теория автора
и тайна современной повести». Для кого же эта тайна есть тай¬
на, об этом критик умалчивает. Потом критик говорит, что есть
люди, которые «ищут повестей за тридевять земель, на горах
Кавказа, в степях Африки, в жизни великих людей, в своей фан¬
тазии (?). Нет,—продолжает он,—найдите повесть здесь, около
себя». Мы не понимаем, почему поэт должен ограничить себя
только окружающею его жизнию, почему он не может искать ее
на Кавказе, в Африке, и в жизни великих людей, и более всего
в своей фантазии. Нам, напротив, кажется, что он именно толь¬
ко в своей фаптазии должен искать повести: жизнь у всех под
руками, все ее видят, многие даже наблюдают и понимают, но
воспроизводить могут только те, у которых есть фантазия. По¬
том, говорит, что в «светской» повести г. Павлова «Ятаган» все
просто, неизыскапно, без внезапностей, что в ней характеров
немного, но что эти характеры глубоки, что повествователь дол¬
жен быть психологом: со всем этим нельзя не согласиться.
Теперь, следует у него упрек автору за женщину, против
которой оп будто бы погрешил в своей повести «Аукцион». Он
называет ее «неизгладимым проступком перед лицом женского
пола и непозволительным злоупотреблением таланта писателя».
Признаёмся откровенно: мы и так уже нашли много непонятно¬
го и удивительного во мнениях г. Шевырева; но это мнение
даже пугает нас: мы боимся, что оно непонятно нам вследствие
своей глубипы и ограниченности нашей мыслительной способ¬
ности. Он даже нападает, в этом отношении, на «Ятаган», в ко¬
тором княжна кокетничает с соперником своего избранника не
из какой другой цели, как из любви к этому невинному заня¬
тию... «Эта княжна,— говорит он,— лукаво помнит о каких-то
268
ядовитых безделках общества, о карете, в которой нельзя ез¬
дить ее солдату...» Пусть думает г. критик как угодно ему, но
мы понимаем это иначе: нам кажется, что здесь-то именно ав¬
тор «Трех повестей» показал самым блистательным образом
свое знание и света и человеческого сердца, в этой черте мы'
признаем высокую художественность. Мы желаем не меньше
всякого, чтоб люди были хороши, но хотим, чтоб их показывали
такими, каковы они есть; истина и разочарование терзают нас не
меньше всякого, но мы ищем ее, этой истины, но мы находим
в ее терзаниях радость, наслаждение своего рода, и нас удивля¬
ет и смешит аркадская вера в совершенство мира сего...
Нет, не такова женщина у нас в России! Она едва ли не лучше муж¬
чины; она его образованнее, потому ли, что образование женское не так
сложно, как мужское; потому ли, что ей больше досуга предаваться свобод¬
ным занятиям ума, чем мужчине, рано увлекаемому службою...
Час от часу не легче!.. Женщина едва ли не образованнее
мужчины, потому что «женское образование не так сложно, как
мужское»?.. Но ведь образование наших крестьянок еще мало¬
сложнее, так следует ли из этого, чтобы наши крестьянки в по¬
лосатых понявах были идеалом женщин? — И неужели высочай¬
шее совершенство образования состоит в несложности образо¬
вания?.. Женщина у нас едва ли не образованнее мужчины, по¬
тому что «ей более досуга предаваться свободным занятиям
ума, чем мужчине»?.. Но бело-румяным, чернозубым и тучным
сожительницам наших брадатых торговцев еще более времени
предаваться свободным занятиям ума?.. И они точно предаются
«свободным» занятиям!.. Воля ваша, а здесь нет логики! — Но
послушаем еще критика.
Если когда мужчина в России будет достоин своего назначения, это
будет дар женщины, плод ее заботливости о нем. Посмотрите, как она
посвятила у нас себя воспитанию детей, как она отказывается от веселий
света, как. она сама себе создает свободный гинецей, как любит детскую и
живет в ней своими мыслями и чувствами!
Честь и хвала г. Шевыреву! Он нашел наконец эту утопию,
эту землю обетованную, где женщина презирает мелочами сует¬
ности и самолюбия, где она велика исполнением своих священ¬
нейших обязанностей в скромном уголке семейной жизни, от¬
межеванном ей природою, где она жена и мать, а не светская
женщина, не femme savante*, не поэт!.. Поздравляем его с на¬
ходкою!.. Мы бы сказали об этом более, но так как это не
относится ни к критике, ни к литературе, то заключаем наше
замечание стихом Грибоедова:
Блажен кто верует: тепло ему на свете!..13
Следующая за этим мысль поражает своею верностию
и глубокостию, и нам очень приятно ее выписывать, хотя она
тоже не относится ни к критике, ни к литературе.
* ученая женщина (франц.). — Ред.
269
Изобразите мне, г. повествователь, ту женщину, о которой вы сами
говорите, что она оторвется от великолепной жизни, от родных и пойдет
за вами в Сибирь, на край света, повсюду, где только может умереть за
вас... Изобразите мне женщину еще выше этой, потому что к высоким
пожертвованиям мы часто бываем способны, но не бываем способпы к
пожертвованиям ежедневным, обыкновенным, не сопряженным ни с каким
говором славы, чуждым всякого подозрения в тщеславии, в притязании на
публичное мнение; изобразите мне, во Бремя пышного бала, который и пы¬
лает, и гремит, и блещет, и ждет женщины... изобразите мне ее во время
такого бала в своей детской, у колыбели, с младепцем у се груди, в ту
очаровательную полночь, когда все о ней думает, все полно ею...
Да! это истинная женщина, и мы уверены, что все паши
повествователи будут изображать ее, когда она сделается не
фениксом, не исключительным, подобно гению, по обыкновен¬
ным явлением. До того же блаженного времепи совет г. Ше-
вырева останется бесплодным.
Потом, г. критик хвалит слог автора «Трех повестей»; его
слог в самом деле цветок благоухающий и прекрасный; мы
вполне согласны в этом с г. критиком, но нам кажется стран¬
ным, что он называет его период округленным, его фразу обто¬
ченною: по нашему мнению, эта похвала хуже брани. «Новый
повествователь, — говорит он еще, — романист в классических
формах. Его фраза — фраза Шатобриана по щегольству и от¬
делке, но украшенная простотою». Если это так, то, по нашему
мнению, это опять-таки не похвала, а порицание: мы уважаем
благородство в литературе, но не терпим паркетности, высоко
ценим изящество, но ненавидим щегольство.
Вообще г. критик в своей статье довольно ясно высказал
и прямо, и околичностями, и общими местами, что повести
г. Павлова прекрасны; но что такое они в нашей литературе,
какой их особенный характер — об этом он умолчал, и потому
мы имеем право и эту его статью отнести к роду статей полеми¬
ческих.
Теперь следует статья о «Миргороде» г. Гоголя 14. Почтен¬
ный критик, со всею добросовестностию, отдает справедливость
таланту г. Гоголя; но нам кажется, что он неверно его понял.
Он находит в нем только стихию смешного, стихию комизма. Мы
думаем иначе. Смешное выражается многоразлично, многоха¬
рактерно, так сказать. В этом отношении оно похоже на остро¬
умие: есть остроумие пустое, ничтожное, мелочное, умеющее
пайти сходство между Расином и деревом, производя то
и другое от «корня», остроумие, играющее словами, опирающе¬
еся на «как бы не так» 15 и тому подобном, остроумие, глотаю¬
щее иголки ума, которыми может и само подавиться, как мы
уже и видели примеры этому в нашей литературе; потом есть
остроумие, происходящее от умения видеть вещи в настоящем
виде, схватывать их характеристические черты, выказывать их
смешные стороны. Остроумие первого рода есть удел великих
людей на малые дела; остроумие второго рода или дается
27Q
природою, или приобретается горькими опытами жизни, или вслед¬
ствие грустного взгляда на жизнь: оно смешит, но в этом смехе
много горечи и горести. Остроумие первого рода есть калам¬
бур, шарада, триолет, мадригал, буриме; остроумие второго
рода есть сарказм, желчь, яд, другими словами, оно есть отри¬
цательный силлогизм, который не доказывает и не опровергает
вещи, но уничтожает ее тем, что слишком верно характеризует
ее, слишком резко выказывает ее безобразие, или удачным
сравнением, или удачным определением, или просто верным
представлением ее так, как она есть. Смешное или комическое
так же точно разделяется: оно или водевиль, или «Горе от
ума». Мы думаем, что смешное и остроумное первого рода
принадлежит Барону Брамбеусу, повести которого не лишены
литературного достоинства, хотя и лишены всякой художествен¬
ности, как и повести всех рассказчиков-балагуров; а смешное
г. Гоголя относится ко второй категории комизма. Мы опираем¬
ся в этом случае на то, что его повести смешны, когда вы их
читаете, и печальны, когда вы их прочтете. Он представляет
вещи не карикатурно, а истинно: в его «Вечерах на хуторе»,
в повестях «Невский проспект», «Портрет», «Тарас Бульба»
смешное перемешано с серьезным, грустным, прекрасным
и высоким. Комизм отнюдь не есть господствующая и переве¬
шивающая стихия его таланта. Его талант состоит в удивительной
верности изображения жизни в ее неуловимо разнообразных
проявлениях. Этого-то и не хотел понять г. Шевырев: он видит
в созданиях г. Гоголя один комизм, одно смешное, и высказал
несколько мыслей вообще о смешном. Эти мысли кажутся нам
очень неверными, и мы сейчас же поверим их. Но прежде сде¬
лаем замечание об одном чрезвычайно странном его мнении.
Хваля целое и подробности «Старосветских помещиков», он го¬
ворит:
Мне не нравится тут одна только мысль, убийственная мысль о при¬
вычке, которая как будто разрушает нравственное впечатление целой кар¬
тины. Я бы вымарал эти строки...
Мы никак не можем понять этого страха, этой робости пе¬
ред истиной! Критик не доказывает ни одним словом ложности
этой мысли, напротив, как будто признает ее справедливость
и в то же время негодует на нее!.. Странно!... Что касается до
нас, мы уже пережили этот аркадский период человеческого
возраста, когда глаза страшатся света истины, а потешаются лож¬
ными цветами мыльных пузырей!..
Смешное есть бессмыслица безвредная... Человек шел по улице и
упал... Вы смеетесь его неловкости, потому что неловкость есть в своем роде
бессмыслица; но если вы заметили, что он вывихнул ногу и стонает... Тут
вам не до смеху... Чувство сострадания изгоняет чувство смеха... Так точно
в страстях и пороках: они смешны до тех пор, пока безвредны... Ревнивец
смешон в Арнольфе Молиера и ужасен в Отелло... Сумасшедший смешоп
До тех пор, пока не опасен себе и другим... Безвредная бессмыслица — вот
стихия комического1 вот истинно смешное 16,
271
Г-н Шевырев довольно пространно и отчетливо развивает
нам свою теорию комизма: в ней много справедливых и дельных
заметок, но основание решительно ложно. Что такое «безвред¬
ная бессмыслица»? — ничего больше, как бессмыслица! Давно
уже решено, что оспование смешного есть несообразность,
противоречие идеи с формою или формы с идеею. Это доказы¬
вает пример, приведенный самим г. Шевыревым. Человек шел
п упал — это смешно, без сомнения. Но отчего? Оттого, что
идущий человек должен идти, а не лежать: следовательно,
в случайности его падения заключается противоречие и с его
целию и с положением человека идущего. Вы встречаете на
улице мужика, который, идя, ест калач, — вам не смешно, пото¬
му что эта походная трапеза не противоречит идее мужика; но
если бы вы встретили на улице с калачом в руках человека
светского, человека comme il faut*, вы расхохотались бы, по¬
тому что принятое и утвержденное условиями нашей обществен¬
ности . понятие о светском человеке противоречит идее поход¬
ной трапезы среди улицы.
О замечании г. Шевырева касательно фантастической по¬
вести г. Гоголя «Вий» я имел случай говорить 17. Это замечание
очень справедливо и основательно.
Статья о «Миргороде» есть лучшая из статей г. ШевыреЕа,
помещенных в «Наблюдателе», и более других может назваться
критикою: в ней он по крайней мере рассуждает о смешном
и фантастическом, предметах, прямо относящихся к искусству;
но мнение его вообще о характере повестей г. Гоголя и о
смешном кажется нам неверным.
Теперь следует пятая статья г. Шевырева — «О критике во¬
обще и у нас в России» 18. В начале этой статьи г. Шевырев как
бы мимоходом делает замечание насчет чьего-то мнения, что
«у нас нет еще словесности, а есть уже критика», и потом зада¬
ет себе вопрос: «Может ли существовать критика там, где нет
еще словесности?» На этот вопрос он отвечает утвердительно,
ссылаясь на немецкую литературу, в которой «Лессинг, Винкель-
ман и Гердер предшествовали Шиллеру, Гете и Жан-Полю».
Вследствие этого он думает, что и у нас может быть то же
самое. Я еще в начале этой статьи сказал мое мнение насчет
этой мысли. Потом он переходит к важности критики у нас
в России и говорит, что «словесность наша до тех пор не до¬
стигнет высоких созданий национального вкуса 19, а будет огра¬
ничиваться отрывками и мелкими произведениями, пока не во¬
дворится у пас критика национальная, воспитанная своею наукою
и основанная на глубоком изучении истории словесности». Мы
с этим не согласны: мы думаем, что у нас тогда будет литерату¬
ра, когда явится вдруг несколько талантов. Пушкин, Грибоедов
и Гоголь явились, не дожидаясь критики. Следующая за этим
* благовоспитанного (франц.), — Ред.
т
мысль кажется нам еще удивительнее. Г-н Шевырев сначала
говорит, что наука и предание враждебны друг другу, первая,
как нововводительница, беспрестанно движущаяся вперед, вто¬
рое, как цепь, мешающая ходу человечества: мысль, может
быть, не новая, но глубоко верная!20 Потом он говорит, что
есть еще борьба искусства с наукою и преданием и что в этой
борьбе заключается жизнь искусства.
Словесность производящая сплится нарушить все законы и уничтожить
совершенно науку и предание. Наука хочет умертвить всякую живую силу
в своем строгом законе и подчинить ее урокам опыта и правилам, ею
постановленным. Если бы в этой борьбе которая-нибудь из сил восторже¬
ствовала, что весьма возможно, — то равновесие и гармония литературного
мира были бы совершенно нарушены. При исключительном торжестве
науки уничтожилась бы всякая новая жизнь в мире творящего слова и па-
место ее воцарилось бы мертвое и холодное подражание. Восторжествуй
сила производящая: безначалпе, хаос, уничтожение всех законов красоты
могло бы быть следствием такого торжества в литературном мире. И откуда
бы могло последовать возрождение жизни словесного мира и восстановле¬
ние осиленного начала, если бы, кроме этих двух враждующих сил, не
присутствовала третья, которая занимает средину между тою и другою
силою и является примирителем, равно наблюдающим права каждой из
них? — Вот место, которое, по моему мнению, должна занимать критика
в литературе... Одним словом, согласить закон и жизнь, не нарушать пер¬
вого и не попустить убийства второй: вот дело истинной критики! Торже¬
ствует исключительно наука: освободить искусство; буйствует искусство:
восставить на него науку — вот ее назначение.
Вот понятие г. Шевырева о критике. Но мы с ним не соглас¬
ны, оно нам кажется ложным, потому что выведено из ложного
начала. Между искусством и наукою точно есть борьба, да толь¬
ко эта борьба есть пе жизнь, а смерть искусства. Вдохновению
не нужна наука, оно ученее науки, оно никогда не ошибается.
Основной закон творчества, что оно сообразно с целию без
цели, бессознательно с сознанием, опровергает все теории
и системы, кроме той, которая оспована на нем, выведенная из
законов человеческого духа и вековых опытов над произведе¬
ниями искусства. Следовательно, не наука создала искусство,
а искусство создало особенную науку — теорию изящного; сле¬
довательно, искусство только тогда истинно и изящно, когда
верно себе, а не пауке, а если науке, то им же самим создан¬
ной. Правда, наука всегда силилась покорить искусство, но ка¬
кое было следствие этого? Смерть искусства, как то доказывает
классическая французская литература. Но когда искусство было
свободно от науки, оно было полно жизни, истины, красоты
эстетической: достаточно указать на одного Шекспира, чтобы
сделать это положение неопровержимым. Я, право, пе знаю,
какое влияние теорпя, система, пиитика, наука (назовите это как
угодно) имела на Байрона, Вальтер Скотта, Купера, Гете, Шил¬
лера?.. Г-н Шевырев указывает па новейшую французскую лите¬
ратуру, как на плачевный пример буйства искусства, освободив¬
шегося от пауки; но, во-первых, я никак не могу понять, в чем
273
состоит это буйство; во-вторых, точно ли новейшие произведе¬
ния французской литературы суть плоды искусства, творчества;
не покорены ли они более или менее духу моды, подражания,
расчета, особенного рода системы, что для искусства не менее
гибельно науки?.. Критика не есть посредник и примиритель
между искусством и наукою: она есть приложение теории
к практике, есть та же наука, созданная искусством, а не созда¬
ющая искусство. Ее влияние простирается не на искусство, а на
вкус публики; она не для гения-творца, который всегда верен
ей, не думая и не стараясь быть ей верным, а для направления
общественного вкуса, который может изменять ей, сбиваемый
с толку ложно-изящным или ложными системами.
Остальная и большая часть этой статьи состоит из обличе¬
ний критика «Библиотеки для чтения». Эти обличения во всевоз¬
можных неправдах, противоречиях самому себе, наивном
шарлатанстве, явной и откровенной недобросовестности, умыш¬
ленных нелепостях дышат благородным негодованием, неподдель¬
ным 5каром, остротою в выражении, резкостию и силою слога.
Все это прекрасно, но знаете ли что? Мне наконец, и только
сейчас, сию минуту, пришла в голову чудная мысль, что не долж¬
но и не из чего нападать на Барона Брамбеуса и Тютюнджи-
Оглу: кто-то из них недавно объявил, что «Москва не шутит,
а ругается»21, и я вывел из этого объявления очень дельное
следствие, что как почтенный барон, так и татарский критик «не
ругаются, а шутят», или, лучше сказать, «изволят потешаться».
Теперь это уже ни для кого не тайна, и тех, для которых оба
вышереченные мужи еще опасны своим вредным влиянием, тех
уже нет средств спасти. Постоите — виноват! Эврика! эврика!
Есть средство, есть, я нашел его, честь и слава мне! Для этого
надобно, чтоб нашелся в Москве человек со всеми средствами
для издания журнала, с вещественным и невещественным капи¬
талом, то есть деньгами, вкусом, познаниями, талантом публи¬
циста, светлостью мысли и огнем слова, деятельный, весь пре¬
данный журналу, потому что журнал, так же как искусство
и наука, требует всего человека, без раздела, без измен себе;
надобпо, чтобы этот человек умел возбудить общее участие
к своему журналу, завоевать в свою пользу общественное мне¬
ние, наделать себе тысячи читателей... Тогда «Библиотека для
чтения» — поминай, как звали, а покуда... делать нечего...
Нечего и говорить, как основателен и справедлив упрек
г. Шевырева критику «Библиотеки для чтения», что он судит
о литературных произведениях по личным впечатлениям и от¬
вергает возможность положительных законов искусства; но нам
странным кажется то, что основания изящного, которыми руко¬
водствуется сам г. Шевырев, остаются для нас доселе тайною.
Мы рассмотрели уже пять статей его и только в одной нашли
несколько беглых заметок о комическом или смешном и фан¬
274
тастическом. Мы писколько не сомневаемся в добросовестности
г. Шевырева, мы уверены в его вкусе, но нам бы хотелось знать
и его литературное ученые в приложении к разбираемым
нм книгам...
(И)
После статьи г. Шевыреъа «О критике вообще и у нас
в России» следует разбор одного пз бесчисленных сочинений,
или, лучше сказать, одной пз бесчисленных статей Аретина со¬
временной французской критики, знаменитого Жюль Жанена
«Romans, Contes et Nouvelles Htteraires; Histoire de la poesie
chez tous les peuples»22. Я не читал и даже не видал этой
книги; может быть, и пе буду читать, не предвидя от ней осо¬
бенной пользы, как от компиляции, в чем сам автор очень наив¬
но признается. Он написал ее для детей и, потому ли или поче¬
му другому, взялся знакомить своих читателей даже с восточ¬
ными литературами, которых не знает, решась на это именно
потому, что и «другие об этом не больше его знают» 23. Причи¬
на очень достаточная, оправдание очень резоппое, по крайней
мере для Жанена! Что ж касается до пас, то мы думаем, что
здесь Жанен, как говорится, превзошел самого себя в этом
милом невежестве, которым он гордится, как достоинством,
как заслугою: честь и слава ему! Итак, я не буду поверять мне¬
ний г. Шевырева касательно Жаненовоп книги: они очень спра¬
ведливы; не буду защищать ее от ожесточенных нападков на¬
шего критика: они очень дельны, хотя немного и утрированы,
потому что Жанена оправдывает несколько его откровенность
и потому что от автора не должно требовать больше того, что
он сам обещает. Если можно его обвинять, и обвинять сильно,
как обвиняет г. Шевырев, так это за то, что он взялся не за
свое дело; но и на это он может отвечать: почему ж никто не
сделал ничего в этом роде лучше меня, а я выполнил, как умел,
то, что обещал. Короче сказать: касательно мнения о самой
книге, мы почти согласны с г. Шевыревым и прикладываем руку
к его приговору, даже и не читавши этого опального произве¬
дения литературного повесы Жанена. Но мы решительно не со¬
гласны с г. Шевыревым насчет его мнения о самом Жанене; его
взгляд на этого писателя был бы очень справедлив, если бы не
отзывался каким-то безотчетным и безусловным предубежде¬
нием против всей современной французской литературы, пре¬
дубеждением, которое очень понятно в татарском критике24
«Библиотеки для чтения», отводящем глаза православному рус¬
скому народу от своих проказ, но которое совсем непонятно
в г. Шевыреве, не имеющем никакой нужды придерживаться
такого образа мыслей. Дело вот в чем: г. Шевырев говорит, что
весь Жанен заключается в газетном фельетоне, что вся сила, все
могущество его таланта заключается в слоге, им самим создан-
275
пом и никому другому недоступном, не исключая даже
гг. Брамбеуса и Тютюнджи-Оглу, которые, силясь подражать
ему, только карикатурно передражнивают его. Да, это очень
справедливо: журнальная проза составляет главную стихию Жа-
пенова таланта, главпую, но не исключительную, как мы думаем.
Жанен не ученый, не критик, а просто литератор, в высочайшей
степени обладающий талантом говорить на бумаге, литератор,
каждая статья которого есть беседа (conversation) умного, об¬
разованного и острого человека, разговор беглый, живой, пере¬
летный, как бабочка, трескучий, как догорающий огонек камина,
дробящий предмет, как граненый хрусталь; присовокупите
к этому неподражаемую легкость и болтливость языка, легко¬
мысленность в суждении, неистощимую, огненную деятельность,
всегдашнюю готовность говорить о чем угодно, даже и о том,
чего не знает, но, в том и в другом случае, говорить умно,
остро, увлекательно, грациозно, мило, хотя часто и неоснова¬
тельно, вздорно, бесстыдно: и вот вам причина народности Жа-
нена. Что Беранже в поэзии, то Жанен в журнальной литерату¬
ре. Мы этим не думаем равнять великого и истинного поэта
современной Франции с журнальным болтуном: мы только хо¬
тим сказать, что тот и другой суть выражение своего народа
и потому его исключительные любимцы. Но Жанен, как француз
по преимуществу, имеет и другие качества, свойственные одно¬
му ему и больше никому: он мило бесстыден, простодушно
нагл, гордо невежествен, простительно бессовестен, кокетливо
продажен и непостоянен во мнениях. Эта умышленная и созна¬
тельная неверность самому себе, эта изменчивость во мнениях
была бы возмутительно-отвратительна в англичанине, особливо
в немце; но в Жанене, как во французе, она простительна, мила
даже, как кокетство в прекрасной женщине. Он лжет, хочет вас
обмануть, вы это замечаете — и только смеетесь, а не оскорб¬
ляетесь, не возмущаетесь. Жанен имеет на это исключительную
привилегию, и этой-то привилегии не хотел заметить г. Шевырев.
Он с ожесточением нападает на легкомыслие, с каким Жанен за
все хватается, на недобросовестность, с какою все выполняет,
и на какое-то хвастовство и недобросовестностью и невежест¬
вом; но он не хотел уяснить себе идеи, выражаемой словом
«Жанен», не хотел увидеть, что Жанен есть род журнального
паяца, который тешит публику и между тем безнаказанно дает
щелчки тому и другому, пускает в оборот и дельную мысль
и умышленный софизм, и все это часто из одного невинного
желания попаясничать, потешиться. Но пусть будет так: мы не
хотим спорить насчет этого с г. Шевыревым, но нас крайне
изумило его мнение, что Жанен будто бы «плохой романист»...
Плохой романист!.. Помилуйте: ведь это слишком много значит,
ведь это что-то чрезвычайно смешное, чрезвычайно жалкое,
ведь плохой романист, как и плохой поэт, есть посмешище, прит¬
ча во языцех, рыцарь печального образа в полном смысле
276
этого слова. Неужели таким считается во Франции автор
«Барнава»?.. У всякого свой вкус, и мы не хотим переуверять
г. Шевырева насчет рютинного достоинства романов Жанена, но
мы осмеливаемся иметь и свой вкус и почитать романы Жанена
хорошими, а не плохими; равным образом смеем уверить на¬
ших читателей, что и во Франции, как и во всей Европе, не все
думают о романах Жанена согласно с г. Шевыревым. Что каса¬
ется до нас лично, мы имеем вообще о французской литерату¬
ре, а следовательно и о романах Жанена, понятие современное,
всеми признанное, для всех общее и ни для кого не новое. Мы
думаем, что французской литературе недостает чистого, сво¬
бодного творчества, вследствие зависимости от политики, об¬
щественности и вообще национального характера французов,
что ей вредит скоронисность, дух не столько века, сколько дня,
обаяние суетности и тщеславия, жажда успеха во что бы то ни
стало. Все это можно приложить и к романам и повестям Жане¬
на, и вследствие всего этого можно найти в них важные
недостатки; но невозможно не признать в них следов яркого
и сильного таланта. Жанен — романист и повествователь, точь-в-
точь как все модные французские романисты и повествователи,
и мы только безусловным предубеждением г. Шевырева про¬
тив всей французской литературы можем объяснить его неми¬
лость к Жанену и слишком смелый эпитет, придаваемый им ему
как романисту. Поэтому мы почли за долг заступиться за Жане¬
на как за романиста, сколько из любви к истине, столько и по¬
тому, что для нашей публики слишком достаточно возгласов
«Библиотеки для чтения» против французской словесности: за¬
чем же отбивать у этого журнала насущный хлеб и помогать
ему в цели, которой он и без всякой чужой помощи, вероятно,
успешно достигает?.. Прибавим к этому еще, что окончание
статьи г. Шевырева привело нас в ужас: в самом деле, кто не
почтет следующих слов как бы взятыми на выдержку из «Библи¬
отеки для чтения»?
Вот как составляются иные книги во Франции! Вот чем угощают
французское юношество! Вот как известный литератор наряжается добро-
вольно в лоскутья чужих трудов и сам перед своею публикою добровольно
сознается25 в этом!.. Что за нравственность в той литературе, где бесчинная
хищность имеет еще смелость быть мило откровенною?..
Мы слишком далеки от того, чтоб подозревать г. Шевырева
в спмпатии с Бароном Брамбеусом насчет французской литера¬
туры, но мы не можем понять, как можно по одному примеру
и по одному литератору делать такое невыгодное заключение/
о целой литературе п произносить ей такой грозный приговор?..
И что худого, что автор, издавая компиляцию, сам предуведом¬
ляет читателя, что это компиляция?.. Что касается до чужих
лоскутьев, то в них и у нас любят рядиться, только не любят
в этом сознаваться: а это разве лучше?.. Право, слишком уже
приторны эти безотчетные, ни на чем не основанные возгласы
277
о безнравственности литературы целого парода, литературы,
которая имеет Шатобрианов и Ламартинов, п мы очень бы же¬
лали, чтоб нашп нравоучители или растолковали нам, в чем
именно состоит эта безнравственность, или поукротплп бы свое
негодование!.. Эти возгласы, какие бы причины ни производили
их, тем досаднее, что простодушная неосновательность во мне¬
ниях часто может иметь одни следствия с хитрою неблагонаме¬
ренностью и что вследствие того иной добросовестный литера¬
тор может попасть в одну категорию с витязями «Библиотеки
для чтения»...26
Теперь мне следует рассмотреть седьмую статью г. Шевы¬
рева, которая может назваться и критическою,, и полемическою,
и филологическою, и художественною: разумею перевод седь¬
мой песни «Освобожденного Иерусалима». Да, я смотрю на
этот перевод не иначе, как на журнальную статью, в которой
есть немного критики, очень много полемики, а больше всего
шуму и грому. Дело в том, что этот перевод снабжен чем-то
вроде предисловия, в котором г. Шевырев не шутя грозится
произвести ужасную реформу в нашем стихосложении, изгнать
наши бойкие ямбы, наши звучные, металлические хореи, наши
гармонические дактили, амфибрахии, анапесты и заменить их —
чем бы вы думали? — тоническим рифмом наших народных пе¬
сен, этим рифмом, столь родным нашему языку, столь естест¬
венным и музыкальным?., нет!—италиянскою октавою!..27
Статейка начинается жалобою на какого-то журналиста, ко¬
торый не хотел поместить в одном нумере своего журнала все-
to перевода седьмой песни «Освобожденного Иерусалима»,
а поместил его, в виде отрывков, в нескольких нумерах, чем
повредил его доброму впечатлению на публику. «Перевод¬
чик,— говорит г. Шевырев,— тогда отсутствовал, а отсутство¬
вавшие всегда виноваты, по известной пословице»28. Сначала этот
упрек, как ни казался основательным, удивил меня немного
своею горечью, но когда я прочел октавы, то вполне разделил
благородное негодование г. Шевырева на злого журналиста
и хотел сгоряча написать на него презлую статью. В самом деле,
перекроить в отрывки экономическим расчетом журнала такой
опыт, которым затевалась такая важная реформа и который
весь состоял из таких звучных, гармонических октав, как, напри¬
мер, следующие:
Кружит шаги широкими кругами,
Стеснив доспех, мечом махая праздно;
Меж тем Танкред, хоть утомлен путями,
Идет и напирает безотвязно, —
И всякий шаг, соперника стопами
Уступленный, приемлет неотказно,
И все к нему теснится сгоряча,
В глаза сверкая молнией меча.
Потом кружит отселе и оттоле,
И вновь кружит оттоле и отселе,
278
И всякий раз вскипая боле и боле,
Разит врага тяжеле и тяжеле,
Все, что есть сил в горящей гневом воле,
В искусстве опытном и в ветхом теле,
Все ко вреду черкеса съединяет,
И счастие и небо заклинает.
О! только бы узнать мне имя этого варвара-журна листа, а то не
уйти ему от меня!.. Но пока последуем за г. Шевыревым в его
объяснениях затеваемой пм реформы.
Он говорит, что тогда его опыт явился в неблагоприятное
время, потому что «слух наш лелеялся какою-то негою однооб¬
разных звуков, мысль спокойно дремала под эту мелодию
и язык превращал слова в одни звуки» (?), а в октавах его
«нарушались все условные правила нашей просодии, объявлял¬
ся совершенный развод мужеским и женским рифмам, хорей
впутывался в ямб, две гласные принимались за один слог».
Понятно теперь для вас, в чем состоит реформа г. Шевы¬
рева?..
Думаю, что очень понятно.
Но нужна ли она и возможна ли?..
Как ни неприятно и ни скучно заниматься разбирательством
таких вопросов, но я обрек себя на это и должен выполнить
начатое во что бы то ни стало.
Для чего нам октавы? Для того же, для чего нам были
нужны эпические поэмы, оды, а теперь романы; для того же,
для чего нам нужны были героические гекзаметры, да еще
с спондеями, и элегические пентаметры. У всех народов были
эпические поэмы — стало быть, и нам нужно было иметь их, да
еще не одну, а дюжину; во всех европейских литературах ли¬
ризм проявлялся в форме надутых од — стало быть, и нашим
лирикам надо было надуваться; у греков и рпмлян поэмы писа¬
ны были гекзаметрами, а злегии гекзаметрами и пентаметрами
попеременно — стало быть, и нам надо было гекзаметров
и пентаметров во что бы то пи стало, а так как их не было
в языке, то, ради предстоящей потребности, сработали кое-как
свои, заменив спондей хореем;* теперь у италиянцев есть окта¬
вы — как же не быть им у нас?.. Вы скажете, что их октавы
родились из духа и просодии их языка, что они родились сами,
а пе изобретены, что русский язык не италпянский, что два
слога за один принпмать можно только в пении, а не в чтении,
для которого преимущественно пишутся стихи, и бог знает, чего
вы еще пе скажете!.. Я сам думал доселе, что размер не есть
дело условное, что наши ямбы и хореи пе чистые ямбы и хореи,
что они близки к тонизму нашего народного рпфма и потому
* Один из литераторов и поэтов, ныне забытых, а прежде считавшихся
знаменитыми, изобрел было и спондеи;29 но его изобретение имело одну
участь с изобретением гекзаметров «профессором элоквенции, а паче всего
хитростей пиитических», Василием Кирилловичем Тредпаковским,
279
так подружились с нашей поэзиею; а дактили, амфибрахии
и анапесты совершенно согласны с духом нашего языка, потому
что в народных песнях встречаются целые стихи дактилические,
амфибрахические и анапестические. Равным образом я всегда
думал, что гекзаметр есть метр искусственный, и потому тяже¬
лый, утомительный для чтения и никогда не могущий привиться
к пашему стихосложению. Как же хотеть заставить нас писать
октавами, которые должно читать как прозу, в которых нет со¬
четания, где объявляется совершенный развод мужеским
и женским рифмам?.. Впрочем, я еще думал и то, что размер
пе составляет сущности искусства, в котором главное дело
творчество, изящество, красота; что поэт имеет право писать
и ямбами, и хореями, и дактилями, и амфибрахиями, и ана¬
пестами, и гекзаметрами, и пентаметрами, и даже октавами,
лишь бы только он хорошо писал. Но г. Шевырев решительно
разуверил меня во всех моих теплых верованиях насчет русско¬
го стихосложения неопровержимыми доказательствами. С моей
стороны осталось было одно только возражение против него:
я думал, что когда нововведение в духе языка, то должно
иметь успех, а г. Шевырев не нашел ни одного последователя;
по и это возражение уничтожается само собою: мы узнаем, что
Давно мы не слышим бывалых стихов. Если и слышим, то изредка.
Читаем всё прозу и прозу. Может быть, это безмолвие, господствующее
в мире нашей поэзии, эта чудная тишина, эта пустыня пророчит какой-ни¬
будь переворот в нашем стихотворном языке, в формах нашей просодии.
Благодаря этой тишине слух отвыкнет от прежней монотонии; нервы его ок¬
репнут, вылечатся от расслабления — и он будет способен выносить звуки
и сильнее и тверже. Теперь едва ли не совершается у нас время перехода,
ознаменованное бездействием почти всех наших поэтов, которые, в послед¬
нее время, водя слегка привычными пальцами по струнам, дремали, дре¬
мали, и теперь заснули на своих лирах и спят до нового пробуждения.
Итак — спокойной ночи, приятного сна гг. поэтам!.. Пока
они проснутся от скрыпа октав г. нововводителя, мы решим
и без них, почему эти октавы не произвели никаких следствий:
потому что явились немного рано, во время перехода, а не по
его окончании. Наш слух только окрепает, но еще не окреп:
новые октавы немного дерут его. Но погодите, скоро он при¬
слушается к этому, особливо когда молодое поколение, вняв
голосу г. реформатора, придет к нему на помощь. Подвиг вели¬
кий, интерес всеобщий, вопрос мировой! Дело идет о судьбе
искусства в России, которое непременно погибнет без октав:
так молодому ли поколению оставаться праздным, когда его
деятельности предстоит такое обширное поле!..
Не хотите ли знать, как пришла г. Шевыреву эта прекрасная
мысль? Послушаем его самого:
С последними звуками нашей монотонной музы в ушах я уехал в
Италию... Долго я не слыхал русских стихов, которые памятны мне были
только своим однозвучием (??!!)... Вслушивался в сильную гармонию Данта
и Тасса... Обратился к нашим первым мастерам — нашел в них силу.^
280
устыдился изнеженности, слабости и скудости нашего современного языка
русского... Все свои чувства и мысли об этом я выразил тогда в моем посла¬
нии к А. С. Пушкину, как представителю нашей поэзии *30. Я предчувство¬
вал необходимость переворота в нашем стихотворном языке; мне думалось,
что сильные, огромные произведения музы не могут у нас явиться в таких
тесных, скудных формах языка; что нам нужен больший простор для новых
подвигов. Без этого переворота ни создать свое великое, ни переводить
творения чужие мне казалось и кажется до сих пор невозможным (???). Но
я догадывался также, что для такого переворота надо всем замолчать на
несколько времени, надо отучить слух публики от дурной привычки... Так
теперь и делается. Поэты молчат. Первая половина моего предчувствия
сбылась: авось сбудется и другая.
• Пока сбудется вторая половина предчувствия г. Шевырева,
подивимся, как много новых истин заключается в немногих его
строках, выписанных нами! Мы думали, что, например, стихи
Пушкина памятны всякому образованному русскому своим вы¬
соким художественным достоинством, а не одним своим одно-
звучием: теперь ясно, что мы ошибались! Потом, мы думали,
что «сильные, огромные произведения музы» могут являться
так же хорошо и в «тесных и скудных формах языка», как
в широких и богатых, основываясь на примере Шекспира и Бай¬
рона, которые заковывали свои исполинские создания в бедные
и однообразные метры английского стихосложения и которые,
право, не ниже хоть, например, господина Виргилия, отца
немного тощей мыслями «Энеиды»31, хотя писанной богатым,
роскошным гекзаметром: и это наше мнение оказалось лож¬
ным. Наконец, «нам надо всем замолчать на несколько времени
(вот в этом-то мы вполне согласны с г. Шевыревым!) — надо
отучить слух публики от дурной привычки... Так теперь и дела¬
ется... Поэты молчат». А! так вот почему они молчат?.. Они
ожидали реформы, а не по неимению голоса?.. Боже мой! как
много нового можно иногда сказать в немногих словах!..
Я сам знаю недостатки моей копии. Стихи мои слишком резки, часто
жестки и даже грубы.
Мы с этим совсем не согласны, но не хотим опровергать
скромного переводчика, потому что приведенные нами в при¬
мер две октавы его могут служить самым убедительным опро¬
вержением этих слов... Но довольно об октавах!..
Теперь следует разбор г. Шевырева стихотворений г. Бене¬
диктова...32 Этот разбор замечателен: он доставил новому сти¬
хотворцу большую известность, по крайней мере в Москве. И не
удивительно: этот разбор есть истинный дифирамб, истинное
излияние восторженного чувства: это доказывает и непомерное
* Не знаем, не вследствие ли уж этого послания Пушкин написал
октавами свою шуточную и остроумную безделку «Домпк в Коломне»;
только октавы Пушкина состоят в одном расположении рифм и осьмисти-
шии строф, а во всем прочем они не что иное, как правильные, цезурные
пятистопные ямбы; в них нет даже развода мужеским и женским стихам,
а только разрешение наглагольпой рифмы. Вообще это стихотворение есть
шутка, написанная без всяких претензий на важность и нововведение.
281
обилие точек после каждого периода и необыкновенная цве¬
тистость языка... Тем строжайшему разбору должен бы подвер¬
гнуться этот разбор; но, с одной стороны, у кого достанет духа
холодною прозою рассудка опровергать пламенную поэзию чув¬
ства, плодом которого был этот вдохновенный разбор; с другой
же стороны, я твердо решился ничего больше не говорить
о стихотворениях г. Бенедиктова, тем более что моя решитель¬
ность сделалась еще тверже, когда я прочел в «Библиотеке для
чтения» новое стихотворение этого поэта «Кудри», где он гово¬
рит, как приятно наматывать на палец кудри и припекать их
поцелуями: что можно сказать против такой поэзии?..33
Но, оставляя в стороне вопрос о стихотворениях г. Бене¬
диктова, взглянем на статью г. Шевырева, взглянем хладнокров¬
но и даже холодно: мы не остудим этим ее теплоты. Сначала
критик радуется звукам новой лиры, внезапно раздавшейся сре¬
ди всеобщего затишья наших лир. Итак, еще старые поэты спят
(да продлит господь их сон!), они еще не проснулись, а уж
явился новый поэт — с чем же? и с октавою?.. О, нет! с прежни¬
ми монотонными ямбами, хореями, амфибрахиями — но зато «с глу¬
бокою мыслию на челе, с чувством нравственного целомудрия и
даже с некоторым опытом жизни». Так, стало быть, и без октав
можно .еще быть глубоким в мыслях и, следовательно, глубоким в
чувстве?.. Потом, критик спрашивает себя, что ему делать от та¬
кой внезапной радости: поздравпть ли русскую публику с великим
поэтом или сохранить строгую неподвижность, как будто недоступ¬
ную никакому насилию впечатления, сказать только: «Хорошо, но
посмотрим!» и тем взять на себя «душегубство неразвившегося
таланта»?.. Критик не долго думал и, разумеется, решился на
первое; а мы пока остановимся на «душегубстве».
Есть странное мнение, что строгий и резкий приговор мо¬
жет убить неразвившееся дарование. Правда ли это? Положим,
если и может — тогда что ж за беда такая?.. К чему эти поэты,
которых заставляет замолчать первая выходка критики, как рас¬
кричавшегося ребенка лоза няньки? — Истинного и сильного та¬
ланта не убьет суровость критики, так, как незначительного не
подымет ее привет. Поэтом может назваться только тот, кто не
может не писать, кто не в силах удерживать вечно пламенных
порывов своей фантазии. Вспомните, как встречен был Байрон;
вспомните, как встречен был наш Пушкин: что ж — испугался лп
тот и другой? Первый отвечал желчною сатирою и «Чайльд-Га-
рольдом»; второй тоже продолжал идти вперед и, как будто
тешась над своими аристархамп, припечатал их поучения ко
второму изданию «Руслана п Людмилы»34. В истинном поэте
предполагается глубокая вера в свое призвание; притом же,
если критика несправедлива, она встречает сильную оппозицию
в публике.
В Западной Европе еще может иметь смысл это мнение,
у нас же решительно никакого; там, если освистано первое
282
произведение неразвившегося таланта, этот талант может умереть
с голоду, прежде нежели напишет второе произведение, кото¬
рое должно поднять его во мнении публики; у нас, слава богу,
ппкто с голоду не умирает, и вопрос о жизни и смерти не
решается пзданием книжки стихотворений. Нет, не нужно нам
поэтов, которых талант может убить первая строгая или неспра¬
ведливая критика; у нас и так их много; если критика заставит
хоть одного из них благоразумно замолчать, то сделает очень
доброе дело...
После могучего, первоначального периода создания языка расцвел в
нашей поэзпи период форм самых изящных, самых утонченных... Это был
период картин, роскошных описаний, гармонии чудесной, живой, хотя одно¬
образной, неги, иногда глубины чувства, растворенной тоскою о прошлом...
Одним словом, это была эпоха изящного материялизма в нашей поэзии...
Слух наш дрожал от какой-то роскоши раздражительных звуков... упивался
ими, скользил по ним, иногда не вслушивался в них... Воображение наслаж¬
далось картинами, но более чувственными... Иногда только внутреннее чув¬
ство, чувство сердечное, и особливо чувство грусти неземной веяло чем-то
духовным в поэзии. Но материялизм торжествовал... Формы убивали
дух...35
Вот приступ г. Шевырева к похвальному слову г. Бенедик¬
тову. После этого приступа он говорит:
Есть другая сторона в поэзии, другой мир — мир мысли, мир идеи
поэтической, которая скрыта глубоко. В некоторых современных поэтах
проявлялось стремление к мысли, но было частию следствием не столько
поэтического, сколько философического направления, привитого к нам из
Германии... Для форм мы уже сделали много, для мысли еще мало, почти
ничего. Период форм, период материяльный, языческий, одним словом, пе¬
риод стихов и пластицизма уже кончился в нашей литературе сладкозвуч¬
ною сказкою: пора наступить другому периоду, духовному, периоду мысли!
Нужно ли говорить, кто у г. Шевырева является главою это¬
го ожиданного периода мысли в истории пашей литературы?..
Довольно — остановимся на этом.
Итак, первый русский поэт, создания которого проникнуты
мыслию, есть — г. Бенедиктов!.. Поздравляем г. Шевырева с от¬
крытием, а публику с приобретением!.. У нас шутить не любят;
как примутся хвалить, так как раз в боги запишут и храм соору¬
дят. Но пусть так — похвала от убеждения не беда; по ведь
убеждение-то должно же быть согласно с здравым смыслом?..
Но, отдавая должное г. Бенедиктову, г. Шевырев должен же
был, по своему ж убеждению, не обижать заслуженных корифе¬
ев нашей литературы?.. Так г. Бенедиктов выше Пушкина, Жу¬
ковского, Грибоедова, пе говоря уже о Козлове, Подолпнском,
Веневитинове, Ф. Глинке и других?.. Когда у пас был этот «пери¬
од картин, роскошных описаний», эта «эпоха изящного материя¬
лизма»?.. Кто ее представители?.. Гг. Языков и Хомяков, из ко¬
торых первый есть неоспоримо поэт, поэт истинный, иэ поэт
именно картин, роскошных описаний, поэт изящного материя¬
лизма, второй же блистательный поэт выражения, п только вы¬
ражения, подделывающийся под мысль, но сильный одним толь¬
283
ко выражением?.. Если так, то мы совершенно согласны
с г. Шевыревым; но ведь гг. Языков и Хомяков не суть предста¬
вители всей нашей поэзии, но ведь они стоят п не в первом
ряду наших поэтов, которых, впрочем, так немного, по ведь
остаются еще Пушкин, Жуковский, Грибоедов, впереди которых
пет никого и за которыми стоят еще и другие дарования, кроме
гг. Языкова и Хомякова. Пушкин может принадлежать к пери¬
оду «изящного материялизма» только «Русланом и Людмилою».
Разве в черкешенке его «Кавказского пленника» нет идеи, нет
мысли? Разве его Зарема, Мария, Гирей, его Алеко, Земфира,
словом вся поэма «Цыганы», не суть произведения мысли глу¬
бокой, могучей, поэтической? А Мария, Мазепа, Кочубей «Пол¬
тавы» — в них тоже нет мысли? А Годунов — неужели в нем
меньше мысли, чем в стихотворных побрякушках г. Бенедикто¬
ва? А «Онегин», этот живой, движущийся мир лиц, мыслей,
чувств?.. Теперь о Жуковском. Конечно, многие его пиесы, как-
то: «Певец во стане русских воинов», «Певец на Кремле»36,
«Песнь Барда над гробом славян-победителей», большая часть
посланий, некоторые переводы, как, например, «Пиршество
Александра» из Драйдена, большая часть баллад — конечно,
все это не поэзия в собственном смысле, все это не больше, как
прекрасные стихи, которые все-таки в миллион раз лучше сти¬
хов г, Бенедиктова; по за Жуковским остаются еще его элегии,
романсы, песни, переводные и оригинальные, его «Ахилл»
и «Эолова арфа», его перевод «Иоанны д’Арк»:37 разве во
всем этом нет мысли, нет идеи, разве все это относится к пери¬
оду «изящного материялизма, периоду форм, поглощавших
идеи»?.. Странно!.. «Горе от ума» тоже прекрасно одними фор¬
мами и лишено мысли, идеи... Не понимаем!.. Итак, даже сам
Пушкин ниже г. Бенедиктова?.. Поздравляем!.. Вот вам заслуга,
вот вам слава ваша, поэты!
Вот ваши строгие ценители и судьи!
Да, впрочем, что ж тут ненриятпого для поэтов? Они могут
отвечать нам стихом из той же комедии:
А судьи — кто?..38
Повторяю — убеждение прекрасно, но оно должно быть
основано по крайней мере хоть на здравом смысле, если не га
чувстве, не на уме, иначе это убеждение будет хуже неспособ¬
ности иметь какое-либо убеждение. В этом случае мы говорим
смело и твердо: мы опираемся на публику, на всех образован¬
ных людей, на здравый смысл, на ум, на чувство. Другое дело —
достоинство стихотворений г. Бенедиктова: оно еще может
быть, до некоторой степени и для некоторых людей, спорным
вопросом; но такие гиперболические похвалы — воля ваша —
они похожп на оду какого-нибудь Гафиза или Саади персидско¬
му шаху...
234
Но этим не все кончилось: вот еще мысль г. Шевырева,
которая удивляет своею странностпю, по крайней мере нас:
Я с полным убеждением верю в то, что только два способа могут
содействовать к искуплению нашей падшей поэзии: во-первых, мысль; во-
вторых, глубокое, своенародное изучение произведений древних и новых
пародов.
Нет, эти два способа сами по себе ничего пе значат; она
могут иметь смысл только при третьем способе: при появлении
на поприще литературы истинных и великих поэтов, которых
нельзя сделать никакими способами.
• После этого г. Шевырев говорит, что первая отличительная
черта стихотворений г. Бенедиктова есть мысль, и, в доказа¬
тельство, выписывает плохенькое стихотвореньице «Цветок»
и знаменитый «Утес». Второю отличительною чертою стихотворе¬
ний г. Бенедиктова он полагает «могучее нравственное чувство
добра, слитое с чувством целомудрия» *. Потом следуют комп¬
лименты и выписки пиес.
Теперь дохожу до статьи г. Шевырева о драме Альфреда
де Виньи «Чаттертон» 40. Критик рассматривает ее с двух сто¬
рон: сперва в отношении к ее идее, потом в отношении ее
художественного исполнения. Мы особенно займемся первою
частью его статьи, которая и полнее, и подробнее, и гораздо
важнее в том смысле, что в ней с горячим убеждением выдает¬
ся за непреложную истину ужасный парадокс. Во второй части
статьи сказано очень мало и. сказано то, что можно сказать об
этой драме, даже и не читавши ее, но зная характер и господ¬
ствующую идею в творениях де Виньи и соображаясь с суждени¬
ями французских критиков. Г-н Шевырев отдает справедливость
автору за его умеренность в ужасах, на которые так неумерен¬
на вообще вся современная французская литература, за про¬
стоту и естественность в ходе его пьесы, чуждой всех натяжек,
подставок и театральных эффектов искусственной музы Виктора
Гюго. Г-н Шевырев говорит, что отличительный характер нынеш¬
ней французской литературы состоит в ее зависимости от всех
европейских литератур, так, как прежде отличительный харак¬
тер всех европейских литератур состоял в зависимости от фран¬
цузской; но в то же время г. Шевырев признается, что францу¬
зы, беря чужое, любят переиначивать его по-своему, или. как он
говорит, преувеличивать (exagerer), и что поэтому отличитель¬
ный характер их произведений состоит в преувеличении (exage-
ration). По его мнению, поэзия Виктора Гюго есть «вогнутое
зеркало, где исказилась поэзия Шекспира, Гете и Байрона, где
романтизм (?) британо-германский взбил хохол до потолка, вы¬
* Это чувство целомудрия особенно выразилось в его пиесе «Наездни¬
ца», которой мы не выписываем, хотя бы это было теперь и кстати, потому
что имеем свои понятия о чувстве целомудрия и боимся оскорбить в наших
читателях это чувство39,
285
тянул лицо и встал на дыбы, и совершенно обезобразил свое
естественное, выразительное лицо», и что поэтому она есть
«клевета не только на романтизм (?), но и на природу челове¬
ческую». Это совершенная правда, по крайней мере в отноше¬
нии к драмам Гюго, которые суть истинная клевета на природу
человеческую и на творчество; но в подражании ли, в зависи¬
мости ли от Шекспира, Гете и Байрона заключается причина это¬
го?.. Нам кажется, что эта причина гораздо ближе, что она
в господстве идеи, которая не связана с формою, как душа
с телом, но для которой форма прибирается по прихоти автора,
у которого идея всегда одна, всегда готовая, всегда отрешен¬
ная от всякого образного представления, никогда не проходя¬
щая чрез чувство, следовательно чисто философская, задача
ума, решаемая логически, и у которого форма составляется
после идеи, выработывается отдельно от ней, составляет для
ней не живое и органическое тело, с уничтожением которого
уничтожается и идея, а одежду, которую можно и надеть,
и опять снять, и перекроить, и перешить, и в которой главное
дело в том, чтобы она была впору, сидела плотно, без складок
и морщин. В Гюго нельзя отрицать поэтического элемента, но он
совсем не драматик, он идет по пути ложному, выбранному
вследствие системы, а не безотчетного стремления. И это очень
понятно: он явился в эпоху умственного переворота, в годину
реформы в понятиях об изящном и потому часто творил не для
творчества, а для оправдания своих понятий об искусстве; сло¬
вом, Гюго есть жертва этого нелепого романтизма, под кото¬
рым разумели эманципацию от ложных законов, забыв, что оп
должен был состоять в согласии с вечными законами творяще¬
го духа. Странное дело! Об этом романтизме толковали и спо¬
рили и в Германии и в Англии, но он там не сделал никакого
вреда. Вероятно, потому, что его там понимали настоящим об¬
разом. Обратимся к Альфреду де Виньи. У него есть тоже
идея, и идея постоянная, но эта идея у него в сердце, а не
в голове, и потому не вредит его творчеству. Как всякий поэт
с истинным дарованием, он прост, неизыскан, естествен, добро¬
совестен, и потому более поэт, нежели Гюго41. Что же касается
вообще до всей французской литературы, то нам кажется, что,
несмотря на всю свою народность, она не народна, что все ее
корифеи как будто не в своей тарелке, и потому, при всей
блистательности своих талантов, не могут создать ничего вечно¬
го, бессмертного. Француз весь в своей жизни, у него поэзия
не может отделяться от жизни, и потому его род не драма, пе
комедия, не роман, а водевиль, песня, куплет, и разве еще
повесть. Беранже есть царь французской поэзии, самое тор¬
жественное и свободное ее проявление; в его песне и шутка,
и острота, и любовь, и вино, и политика, и между всем этим, как
бы внезапно и неожиданно, сверкнет какая-нибудь челове¬
ческая мысль, промелькнет глубокое или восторженное чувство,
286
п все это проникнуто веселостью oi души, каким-то забвением
самого себя в одной минуте, какою-то застольною безза-
ботливостию, пиршественною беспечностию. У него политика — по¬
эзия, а поэзия — политика, у него жизнь — поэзия, а поэзия —
жпзнь. И вот поэзия француза: другой для него не существует.
Он мастер еще рассказывать, как справедливо заметил г. Ше¬
вырев; но его не станет на долгий рассказ, его рассказ — мимо¬
летный эпизод, черта из жизни — и не роман, а повесть его
законный род. И посмотрите, как эта повесть удалась ему, как
она владычествует над его досугом, его мыслию. Но это опять-
такд повесть французская, синтетическая картина внешней жиз¬
ни, а не аналитическая история души, сосредоточенной в самой
себе, как у немцев, и притом не в фантастических попытках,
не в психических опытах, которые всегда неудачны, а в пред¬
ставлении внешней, общественной жизни. Герой немца сидит на
бедном чердаке и, мученик мысли, то выпытывает из своей го¬
ловы теорию звука, тайну его влияния на душу, то, мученик
своего расстроенного воображения, представляет себя жертвою
какого-то враждебного духа, то создает себе идеал женщины и,
воспламененный им, возвышается до генияльной деятельности
в искусстве, и потом, нашедши осуществление этого идеала не
в апгеле, не в пери, а в смертной женщине, сделавшись ее
обладателем, начинает ненавидеть ее, своих детей, самого себя
и оканчивает все это сумасшествием: вспомните «Кремонскую
скрыпку», «Песочного человека», «Живописца» Гофмана.
У француза герой представляется иногда на чердаке или в ка¬
ком-нибудь мещанском пансионе матушки Вокер, но с этого
чердака душа его стремится не на небо, не в преисподнюю, не
в мир волшебства и фантазии, жаждет не внутренней жизни, не
любви сосредоточенной, затворнической, вне жизни, не тесного
мира вдвоем, томится не мыслию, не идеею, а рвется на бал, на
паркет, где море огня, где блеск и радость, гром музыки и тан¬
цы, где герцогини и маркизы, жаждет эффектов, хочет
блистать, удивлять, желает любви, но открытой, но могущей до¬
ставить ему торжество, возбудить к нему зависть...42 Да —
пусть будет все так, как должно быть,— тогда все будет хорошо
п прекрасно. Не хлопочите о воплощении идей; если вы поэт —
в ваших создапиях будет идея, даже без Еашего ведома; не
старайтесь быть народными: следуйте свободно своему вдохно¬
вению — и будете народны, сами не зная как; не заботьтесь
о нравственности, но творите, а не делайте — и будете нравст¬
венны, даже назло самим себе, даже усиливаясь быть безнрав¬
ственными!..
Альфредом де Виньи овладела мысль о бедственном поло¬
жении поэта в обществе, о его враждебном отношении к об^
ществу, которому он служит и которое, в награду за то, до¬
пускает его умереть с голоду. Эту идею он выразил в своем
превосходном сочинении «Стелло» 43. Мы еще не успели изгла-
287
дпть грустных впечатлений, произведенных на нас судьбою Чат-
тертона, как его творец дарит пас опять тем же Чаттертоном,
но только в новой форме, уже в драме, а не в повести. В мысли
Альфреда де Виньи много истины. Но не такою показалась она
г. Шевыреву, и он напал на нее стремительно, опровергает ее
с каким-то ожесточением, как явную нелепость, как клевету па
общество. Рассмотрим этот вопрос.
Не имея под рукою драмы де Випьи, мы принуждены вос¬
пользоваться несколькими строками перевода г. Шевырева из
предисловия автора:
Разве вы не слышите звуков уединенных пистолетов? Их удары
красноречивее, чем мой слабый голос. Не слышите ли вы, как эти отчаянные
юноши просят насущного хлеба, и никто не платит им за работу? Как?
Ужели нации до такой степени лишены избытка? Ужели от дворцов и мил¬
лионов, нами расточаемых, не остается у нас ни чердака, ни хлеба для
тех, которые беспрестанно покушаются насильно идеализировать их нации?
Когда перестанем мы отвечать им: «Despair and die (отчаивайся и уми¬
рай)!» Дело законодателя излечить эту рану, самую живую, самую глубо¬
кую рану на теле нашего общества, и пр.44.
Первая половина мысли Альфреда де Виньи очень верна,
вторая очень ложна. Поэт природою поставлен во враждебные
отношения с обществом; общество предполагает нечто поло¬
жительное, материяльное, а царство поэта не от мира сего. Те¬
перь, возможно ли примирить поэта с жизнию, не поссорив его
с поэзиею? Поэт погибает часто жертвою общества, и общество
в этом нисколько не виновато. Объяснимся.
Является поэт с истинным талантом. Кто судья его таланта?
Общество. Теперь, может ли оно судить всегда безошибочно
и беспристрастно? Но общество имеет своих представителей:
следовательно, па них лежит ответственность за гибель поэта!
Хорошо: но разве эти представители также не могут ошибаться
насчет его достоинства, особливо когда он не приобрел еще
никакого авторитета? Как назначат они ему пенсию, если он еще
не показал своего таланта во всей его силе? А когда он покажет
его, ему уже не нужно пенсии: его творения расходятся.
Неужели общество должно кормить всякого, кто только назо¬
вет себя поэтом? В таком случае оно само умерло бы с голоду.
И всегда ли общество является гонителем и врагом поэта? Оно
изгнало Тасса, но не за поэзию, а за любовь, на которую не
почитало его вправе; опо изгнало Данта, но не за поэзию, а за
участие в политических делах;45 оно низко оценило Мильтона,
по зато как лелеяло Распна и Мольера. Если Мильтон точно
великий поэт, то общество потому не оценило его, что, по свое¬
му образованию, было не в силах этого сделать. Чем же оно
виновато в отношении к поэту? Ничем. И между тем поэт все-
таки умирал, умирает и будет умирать с голоду среди его, сре¬
ди этого общества, столь благосклонного к нему, столь лелею¬
щего его. В чем же причина этого противоречия?.. ^
288
Альфред де Виньи показывает Чаттертона, питающегося по¬
чти подаянием, выпивающего склянку с ядом; Жильбера, при
смерти проклинающего своего отца и мать за то, что они выучи¬
ли его грамоте и тем оторвали от плуга и обратили к перу;
Шенье, на гильотине, ссылается на пистолетные выстрелы, на
вопль: «Хлеба! хлеба!»
Г-н Шевырев говорит, что все это преувеличено даже в от¬
ношении к прежним временам и совершенно ложно в отноше¬
нии к настоящему времени; что ныне поэт — богач, весь в зо¬
лоте, окруженный мрамором и бронзою, не только всеми
удобствами цивилизации, но и всеми ее прихотями, и в доказа¬
тельство своего мнения с торжеством указывает на Вальтер
Скотта, Гете, Байрона, даже на самого де Виньи, который, по
его мнению, клевещет на общество, заступается за бедного собрата
в кабинете, украшенном всею роскошью парижской промышлен¬
ности, лежа на бархатной подушке, и, когда кончил свою по¬
весть о бедствиях Чаттертона, весьма сытно и вкусно поужинал,
в полном удовольствии от своего труда.
Вальтер Скотт, Гете и Байрон!.. Да — это примеры блиста¬
тельные, но, к несчастию, пе доказательные. Вальтер Скотт точ¬
но было разбогател, и разбогател своими литературными тру¬
дами; но зато надолго ли? он умер почти банкротом. Богатство
Гете зависело не столько от его литературной деятельности,
сколько от особенного стечения обстоятельств; не всякому, как
Гете, удастся выхлопотать у всех немецких правительств приви¬
легию против контрфакций и таким образом сделаться монопо¬
листом своих произведений; а без этой меры немецкий литера¬
тор не разбогатеет. Что касается до Байрона — о нем и
говорить нечего: Байрон был лорд Британии!.. Г-н Шевырев
продолжает:
Разве вы не помните процесса Виктора Гюго с его книгопродавцем,
процесса, который кончился не к славе первого поэта Франции?.. Г-ну де
Ламартину, вероятно, с большим барышом окупились все издержки его
путешествия на Восток?.. Давно ли Дюма, нищим пришедший в Париж,
давал балы для своих друзей и парижских красавиц?.. Не драмы ли его
дали ему средства объездить Швейцарию и Италию?.. Какой из современных
поэтов Франции не редет обширных счетов с Евгением Рандюэлем? Какой
из них не ездит в каретах, не живет в комнатах бронзовых, зеркальных и
бархатных?..
Все это прекрасно, но все это, к несчастию, мечты, а не
действительность! Все литературные знаменитости современной
Франции живут в довольстве, но не в богатстве, живут, как
порядочные bourgeois * и занимают квартиры, удобные и про¬
странные, хорошо и со вкусом меблированные, но простые
и обыкновенные, а пе дворцы; некоторые, может быть, имеют
и свои кареты, но большая часть катается в наемных; золото
* буржуа (франц.). — Ред.
10 В. Белинский, т. 1
289
же, мрамор и бархат они видят и часто, но только не у себя
дома. Это можно сказать смело. Чтоб жить так роскошно, как
описывает г. Шевырев, надо получать полмиллиона ежегодного
дохода: а кто из них ежегодно получпт и пятую долю этой сум¬
мы? Нет, что ни говорите, а огромный дом в Сен-Жерменском
предместье и родовое имепие, дающее в год сто или двести
тысяч ливров, вернее и надежнее всякого таланта, всякого ге¬
ния, как бы тот и другой велик ни был. Там только получай
и пользуйся, ни о чем не думая и не унижая своего челове¬
ческого достоинства житейскими хлопотами желудка ради;
здесь беспрерывный труд и работа, часто уклонение от своего
назначения, иногда потеря души для удовлетворения нужд бед¬
ной человеческой природы, требований прихотей и общежития.
Чтобы увидеть во всей ясности всю неосновательность мнения
г. Шевырева, стоит только указать на поездку Дюма в Швейца¬
рию, которую он приводит как доказательство несметного богат¬
ства, стяжанного талантом: нам из достоверных источников из¬
вестно, что место в дилижансе, от Парижа до Базеля, стоит
шестьдесят франков и что потом шестисот франков слишком
достаточно, чтоб объездить всю Швейцарию; а Дюма ходил
и пешком, что еще дешевле 46. Где ж логика?..
Правда, в наш век поэт не есть пасынок общества, напро¬
тив, он его любимое, балованное дитя; толпа уже не косится на
него с. презрением или лаем, но с почтением расступается пе¬
ред ним и дает дорогу, даже не понимая, что он такое. Даже
и у нас, на святой Руси, сильный, богатый барин почитает за
честь знакомство с известным поэтом, читает его стихи, при¬
слушивается к говору суждений, чтоб уметь сказать при случае
слова два о его стихах, словом, смотрит на поэта не только как
не на бесполезную, но даже как на очень полезную мебель для
украшения своей гостиной на несколько часов. И у нас, говорю
я, богатый и знатный барич, привилегированный гражданин
модных зал, бьется изо всех сил, низко кланяется журналисту,
чтобы тот поместил в своих листках его стишки и дал ему право
назваться поэтом. По крайней мере подобные явления теперь
не редки. Но вот в чем беда-то: общество иногда озолотит
какого-нибудь Бальзака и допустит умереть с голоду какого-
нибудь Шиллера, наденет венок на голову какого-нибудь
г. Больвера и равнодушно пройдет мимо какого-нибудь Байро¬
на. Нет ни малейшего сомнения, что оно уважает идею поэта; но
всегда ли оно безошибочно в выборе своих кумиров?.. Истин¬
ное чувство не для всех доступно, глубокая мысль не для всех
понятна; яркость красок, мастерская обработка форм скорее
бросаются в глаза толпе, составляющей общество, и сильнее
раздражают ее зрительный нерв; потому что в этой толпе боль¬
ше найдется людей со вкусом — этим плодом образованности
и навыка, нежели с чувством — этим даром природы. Это мож¬
но приложить не к одному искусству. Если вы с жаром и убеж¬
290
дением излагаете ваше задушевное мнение, с тем чтобы
приобресть этим известность, обратить на себя общее внимание, а
не из чистой, бескорыстной любви к истине — то не хлопочите
лучше: вас никогда не заметят, вы всегда останетесь в задних ря¬
дах, вас оценят только немногие, только избранные, а эти
немногие, эти избранные, не составляют общества, которое да¬
рит славою и авторитетом. Да! не хлопочите или перемените
свой образ действования: замените основательную мысль звон¬
кою фразою, теплое чувство громкою декламациею, благородную
простоту выражения цветистою вычурностию, паркетною манер-
ностию, из горячего проповедника мысли сделайтесь ловким ли¬
тератором, который обо всем умеет найтись сказать и прилич¬
но, и умно, и красно: тогда толпа ваша — властвуйте над нею!
Эта мысль очень верна: сам г. Шевырев утверждает ее, сказав¬
ши, что общество развращает поэта, что, взамен своих ми¬
лостей, своих даров, оно отнимает у него независимость в об¬
разе действования, заставляет его подделываться под свой ха¬
рактер, делает его своим льстецом. Да! нет сомнения в том,
что поэт и общество стоят во враждебных отношениях друг
к другу, что они естественные враги между собою. С одной
стороны, общество его душит, прежде чем узнает о его досто¬
инстве; с другой стороны, оно развращает его своею благо-
склонностию. Конечно, у него есть и защита против него: в пер¬
вом случае какое-нибудь счастливое обстоятельство, дающее
ему средство прийти, увидеть и победить; во втором случае
гений или по крайней мере слишком большой талант, слишком
верный инстинкт творчества. Да! гения не убивает обаяние вы¬
годы; оно убивает Бальзаков, Жаненов, Дюма, но не Байронов,
не Гете, не Вальтер Скоттов. Эти гении могут быть даже людьми
низкими, душами продажными — и все-таки золото бессильно
над их вдохновением. Чем платил Гете своим высоким ласкате¬
лям? Двустишиями на балы, плохими гекзаметрами, а не «Вер-
тером», не «Вильгельмом Мейстером», не «Фаустом». На чем
сбили Вальтера Скотта экономические расчеты и выкладки? На
истории, а не на романах...47
Странно и непонятно, как г. Шевырев не хотел видеть, что
в наше время истинный талант и даже гений может точно уме¬
реть с голоду, обессиленный отчаянною борьбою с внешнею
жизнию, непризнанный, поруганный!.. Неужели он не читал или
забыл прекрасную статью «Литературное сотрудничество», по¬
мещенную в четвертой книжке того журнала, в котором он при¬
нимает такое деятельное участие? Если бы выписка не пришлась
в три или четыре страницы, мы представили бы из этой статьи
такой сильный и ужасный факт, перед которым должна пасть
всякая теория, всякое мнение об этом предмете *. Автор этой
статьи — француз, он писал по собственному опыту, писал с не¬
* «Московский наблюдатель», 1835, кн. 4, стр. 714—722.
10*
291
поддельным жаром п убеждением. Он представляет юношу, ко¬
торого прнрода назначила быть поэтом, а отец велел ему быть
медиком. Юноша сначала принуждает себя, но природа берет
свое, и он решительно бросает ненавистную науку. «Ты хочешь
быть независимым нп от кого в своих занятиях,— пишет к нему
отец,— будь же независим ни от кого и в своем содержании».
Молодой человек в отчаянии: внешняя жизнь опутывает его
своими сетями, нищета и голод разделяют его высокий чердак,
садятся с ним за его шаткий стол, ложатся с ним на его жест¬
ком ложе. У него нет денег, но есть талант, а следовательно,
и надежда: его голова горит, грудь теснится, и он торопится
излить на бумагу тяготящее их бремя, он работает день и ночь.
Драма готова; она, может быть, отличается всеми недостатками
первого опыта, всею уродливостию, происходящею от несосре-
доточеппости сил, но она пламенна, жива, генияльна. Он несет
ее к директору театра, но директор поручает ее на рассмотре¬
ние чиновнику театрального правления, который, по недосугам,
отдает ее своей жене. Наконец пьеса одобряется; но она, как
произведение молодого человека, должна быть поправлена те¬
атральным поправщиком, а этот поправщик имеет похвальное
обыкновение оставлять разве третью часть труда автора, а две
приклеивает свои. Молодой человек в негодовании берет назад
свою драму и уходит домой. Еще прежде этого написал он пре¬
красный роман; принес его к книгопродавцу, который, как че¬
ловек благовоспитанный, принял его очень ласково и предло¬
жил ему триста франков, заметя, однако, что в условии будет
сказано две тысячи, чтоб не оскорбить самолюбия автора. Как
от книгопродавца, так и от директора театра молодой человек
уходит с своею рукописью домой, а дома его ждет хозяин
с требованием платы за квартиру, трактирщик с счетом, лавоч¬
ник с другим; за ними рисуется изображение голодной смерти
и смотрит на него, как на верпую добычу, а из-за этого скелета
выглядывает, как примиритель и посредник, неясная мысль
о самоубийстве... Юноша горд, как все люди с сознанием талан¬
та, благороден, как все пылкие души, мир для него отвратите¬
лен, люди гадки, жизнь гнусна; и вот раздается «уединенный
выстрел пистолета», и вот умирает поэт среди общества, кото¬
рого он назначен был составлять славу, среди избытка роскоши
и успехов цивилизации, среди шумного говора славы и изоби¬
лия, лелеющих такое множество его собратий по ремеслу, кото¬
рые, может быть, все ниже его своим талантом. II это еще во
Франции, а что же в Англии, где кусок насущного хлеба так
дорог, где борьба с внешнею жизнью так ужасна, требует та¬
ких великих сил, где люди так холодны, такие эгоисты, так по¬
гружены в себя и в свои расчеты!.. Ведь не у всех же поэтов
отцы богаты или достаточны, не у всех поэтов отцы не почитают
поэзии пустым делом и не насилуют воли своих детей, да иные
поэты и не имеют вовсе отцов, а бедный везде виноват...
292
О! мпого, много должно раздаваться «уединенных выстрелов
пистолета»!... Альфред де Виньи, конечно, прав!..
Эта история очень естественна и сбыточна, эта катастрофа
очень возможна и не удивительна!.. Но Огюст Люше, автор
статьи, на которую я ссылаюсь, представляет эту катастрофу ина¬
че, описывает самоубийство другого рода, более ужасное
и позорное, чем то, возможность которого представил я от
себя. У него молодой человек принимается за сотрудничество,
входит во все литературные сделки и подряды, делает свой
талант средством, искусство ремеслом, лишается первого, теря¬
ет способность понимать второе и с гордостию повторяет: «Моих
актов играно до ста, а такого-то только семьдесят восемь,
несмотря на то, что он прежде меня стал заниматься этим де¬
лом!..» Такое нравственное самоубийство не гибельнее ли фи¬
зического?.. О! Альфред де Виньи очень прав!..48
Назвав идею Альфреда де Виньи ложною, г. Шевырев гово¬
рит, что ее неосновательность повредила и художественному
исполнению драмы: скажите, бога ради, может ли это быть?..
Ложность основной идеи может повести к ложным выводам
в каком-нибудь логическом исследовании, что, например,
и сделалось с г. Шевыревым в его статье о драме де Виньи; но
в художественном произведении идея всегда истинна, если вы¬
шла из души. Да и какое дело поэту, верна или нет его идея?
Разве он философ, исследователь? Шекспир в своем «Отелло»
выразил идею ревности, показал нам ревность, не решая, хоро¬
шее или дурное это чувство. Возьмите любую застольную песню
Беранже, в которой он, под вдохновением веселости, в пре¬
красных, гармонических стихах не шутя уверяет вас, что, кроме
вина и любви, все на свете вздор, которым глупо заниматься:
мысль, само собою разумеется, ложная, но песня оттого ни¬
сколько не хуже. Поэт весь зависит от минуты, которая паве-
вает на него вдохновение; Шиллер был душа пламенно верующая,
а посмотрите, какое безотрадное, ужасное отчаяние прогляды¬
вает в каждом стихе его дивного «Resignation» *... Если бы
идея Альфреда де Виньи была и ложная, его драма оттого не
могла быть хуже, потому что его идея ложна для вас, для меня
и для кого угодно, но не для пего, который убежден в ней
и умом и чувством, и потому мне кажется очень неуместным
насмешливое предположение г. Шевырева, что «его сиятельст¬
во, граф Альфред де Виньи в ту семнадцатую ночь, когда убил
своего героя полуголодною смертью, весьма сытно и вкусно по¬
ужинал, в полном удовольствии от своего труда». Да! эта шутка
мпе кажется тем более неуместною, что де Виньи есть поэт
с истинным талантом, поэт добросовестный, и что сам г. Шевы¬
рев отдает похвалу его драме: а может лп быть хорошо худо¬
жественное произведение, когда оно не выстрадано, не вычув-
* «Отречения» (нем.). — Ред.
293
ствовано, а было хладнокровно придумано головою, от нечего
делать?.. Где ж логика?..
Теперь остается мне поговорить еще о двух статьях г. Ше¬
вырева: в одной заключается его отчет публике о спектаклях
гг. Каратыгиных в их последний приезд в Москву прошлого
года; другая содержит в себе то, чего я тщетпо ищу доселе, —
объяснение направления, верования, литературного учения, за¬
душевной идеи «Московского наблюдателя»; эта драгоценная
для меня находка содержится в первом нумере этого журнала
за нынешний год, и ее я рассмотрю после всех, ею заключу мою
статью и из ней выведу результат моих исследований касательно
критики и литературных мнений «Московского наблюдателя».
Г-н Шевырев отдает отчет в впечатлениях, произведенных
на него приездом четы Каратыгиных:49 этот отчет, разумеется,
очень благоприятен для петербургских артистов. И не мудрено:
это артисты высшего тона, и «Наблюдателю» невозможно не
симпатизировать с ними и не превознести их до седьмого неба.
В самом деле, какая грация в манерах, какая живопись в позах,
какая торжественная декламация! Все это так верно напоминает
золотые времена классицизма, немного напыщенного, немного
на ходульках, но зато благородного, бонтонного, аристократи¬
ческого, с гладким и выглаженным стихом, с певучею дикциею,
с менуэтною выступкою! Правду сказать, в них только и превос¬
ходно, что эта внешняя сторона искусства, которая, конечно,
важна в артисте, но отнюдь не составляет его сущности, успех
в которой достигается изучением, навыком, рутиною, вкусом...
Постойте — «вкус!» — остановимся на «вкусе»: давно я доби¬
рался до этого словца и до смерти рад, что наконец добрался
до него. Часто случается нам читать и слышать выражения: этот
поэт отличается «вкусом», это критик обладает «вкусом»,
у этого человека есть «вкус». Такие выражения выводят меня из
терпения; я ненавижу слово «вкус», когда оно прилагается не
к столу, не к галантерейным вещам, не к покрою платья, не
к водевилям и балетам, а к произведениям искусства. Это сло¬
во есть собственность, принадлежность XVIII века, когда слово
«искусство» было равносильно слову «savoir-faire» *, когда
«творить» значило «отделывать, выглаживать». Наш век заменил
слово «вкус» словом «чувство». Объясним это примером. Вот
картина, произведение великого художника! Стоит перед нею
человек со вкусом: посмотрите, как умно и верно судит он о ее
перспективе, о ее отделке в целом и частях, о расположенип
групп, о соотношении частей с целым, о колорите; посмотрите,
как быстро заметил он, что рука у этой фигуры не на своем
месте и длиннее, чем должна быть, что вот здесь слишком
густа тень, а здесь недостает света. Его суд верен, но холоден,
как суд о паштете или бургонском. И что дало ему возможность
* «мастерство» (франц.). — Ред.
294
судить так о картипе? Светская образованность, привычка
видеть много хорошнх картин н слышать сужденпя о них знато¬
ков, навык, рутина, словом — вкус\ — Теперь на эту же картину
смотрит человек с чувством, хоть и не знаток: он безмолвно,
благоговейно смотрит на нее, теряясь, утопая в своем востор¬
женном созерцании, и не может отдать себе отчета, что
его пленяет в ней; но зато как восторг его полон, чист, свят, бо¬
жествен! Человек со вкусом станет восхищаться каждою
безделкою, бросающейся в глаза тонкостию своей отделки
и удовлетворяющею всем требованиям внешней стороны искус¬
ства, но пройдет без внимания мимо произведения генияльно-
го, -если оно не причесано и не прихолено по условным прави¬
лам приличия. Человек с чувством не ошибется в достоинстве
художественного произведения: он холоден к такому, от кото¬
рого все в восторге, он обвиняет себя в невежестве, почитает
себя неправым и, назло самому себе, не может найти в нем той
красоты, которая так бросается всем в глаза; но зато он в вос¬
хищении от такого произведения, к которому все равнодушны,
и здесь опять может обвинять себя в невежестве, в «безвку¬
сии», но, назло самому себе, не может переменить своего мне¬
ния. Я здесь представляю человека с чувством без образования,
без данных для суждения, без способности критицизма.
И между художниками есть свои «люди со вкусом», одолжен¬
ные своим талантом, своими успехами одному вкусу, словом,
созданные вкусом — этим плодом образованности, просвеще¬
ния, ума, но не чувством — этим даром одной природы, кото¬
рый образованностию, просвещением и умом возвышается, по
не дается ими. Да простят нашей смелости: к таким художни¬
кам причисляем мы г. Каратыгина и г-жу Каратыгину. Они удач¬
но усвоили себе внешнюю сторону искусства, они верным глазом
измерили сцену, хорошо разочли эффекты, они в высочайшей
степени овладели искусством бледнеть, краснеть, падать в об¬
морок, возвышать и понижать голос, действовать жестами, иг¬
рать слепых, больных — по не больше. А разве это не талант?
разве такие люди не редки? — скажут нам. А разве вкус тоже по
талант? разве люди со вкусом также не редки? — отвечаем мы.
Мпение г. Шевырева о гг. Каратыгиных давно уже всем
известно: еще три года назад тому бился он за них, с поднятым
забралом, как прилично благородному рыцарю, с соперником
без герба и девиза, с забралом опущенным, но с рукою тяже¬
лою, с ударами меткими. Г-н Шевырев сошел с турнира прежде
своего соперника, но не побежденный пм, а только раздосадо¬
ванный его упрямым инкогнито. Кто из них прав, кто ошибается,
не беремся решить, но признаемся, что невольно симпатизиру¬
ем с таинственным рыцарем, потому ли, что таинственность все¬
гда возбуждает к себе участие, или потому, что наездники без
щита и герба, пе вписанные в герольдию, к нам как-то ближе.
Как бы то ни было, только во второй приезд г. Шевырев не
295
стал сражаться, хотя неизвестный его соперник и опять вызывал
его на бой. На этот раз он без боя превознес свопх любимых
артистов до седьмого неба и выразил свое к ним удивление
множеством точек после каждого периода и каждой фразы, как
он всегда делает, когда хочет выразить к чему-нибудь свое
удивление.
В этой статье брошено кстати несколько мыслей о «Ерма¬
ке», драме г. Хомякова. Г-н Шевырев сперва говорит, что эта
драма есть подражание «Разбойникам» Шиллера, потом, что
это не драма, но что в ней виден зародыш драмы, наконец, что
«из ее лиризма выдвигаются (?) три могучие чувства, на которых
задуман колоссальный (??) и фантастический (???) образ Ерма¬
ка». Все это так справедливо, глубокомысленно и верно, что
против этого невозможно ничего возразить. Да, именно, здесь
поневоле умолкает всякая неблагонамеренность критики
и прекращает нехотя наветы... По крайней мере критика была
бы слишком зла, слишком неблагонамеренна, если бы вздумала
пользоваться такими для себя находками... Итак — довольно;
покажем, что мы умеем и помолчать там, где бы много могли
поговорить...50
Из критических статей «Московского наблюдателя», не при¬
надлежащих г. Шевыреву, некоторые очень примечательны; на¬
зовем их. «Музыкальная летопись» г. Мельгунова, в которой он
отдает отчет за все примечательные явления нашего музыкаль¬
ного мира в начале прошлого года, есть одна из таких статей,
в каких именно нуждаются наши журналы и какими они так
бедны; она написана ловко, умно, живо, с знанием дела. «Брам-
беус и юная словесность», статья г. Н. П-щ-ва51, содержит в себе
обвинения Брамбеуса в похищении идей и вымыслов из
французской литературы, которую он так не жалует. Там, где
автор статьи говорит вообще о проделках почтенного барона,
там он и остер и увлекателен, но где он сравнивает статьи
Брамбеуса с их оригиналами, там становится скучен и утомите¬
лен. Вообще эта статья не произвела большого впечатления на
публику. Причина этому заключается, вероятно, в том, что пуб¬
лика давно уже знала о похвальной привычке барона ловко
и без спросу пользоваться чужою собственностию, давно уже
понимала, что он не пишет, а «изволит потешаться»: следова¬
тельно, усилия г. критика казались ей напрасными и были ею
приняты холодно. Но особенно примечательны две статьи, под¬
писанные буквою « — о — »: одна — разбор известной оперы
«Аскольдова могила», другая — новой комедии г. Загоскина
«Недовольные». Поговорим об этих статьях52.
В первой статье «Аскольдова могила» разбирается не как
музыкальное произведение, а как драма. Автор статьи,
в нескольких строках, передает мнение публики, отголосок
большинства голосов о новой музыке г. Верстовского; от себя
же он говорит о других имеющих отношение к пьесе предметах.
296
Вообще у него нет верных и глубоких идей об онере, выведен¬
ных логически из идеи искусства вообще. Сначала он утвержда¬
ет, что опера непременно должна иметь смысл независимо от
музыки, вопреки мнению тех, которые позволяют ей обходиться
без смысла, ссылаясь на пример нталиянцев. Это вопрос — и
вопрос важный; но автор статьи ничем не решает его, а если
и решает, то очень неудовлетворительно, одним намеком. Если
мы не ошибаемся, нам кажется, что, по его мнению, опера долж¬
на быть фантастическим созданием. Если он пмел точно эту
мысль, то она достойна впимапия.и гораздо большего и удовлет¬
ворительнейшего развития: на нее можно бы написать огромную
статью, если не книгу. Если опера должна быть фанта¬
стическим созданием, то, без сомнения, она должна иметь
смысл, так же как его имеют самые, по-видимому, бессмыслен¬
ные повести Гофмана. Мы думаем только, что для этого гармо¬
нического единства двух искусств, поэзии и музыки, нужна
в художнике и двойственность гения; но возможна ли она как
явление положительное, а пе исключение, и в последнем случае,
состоит ли она в равновесии гения в обоих этих искусствах?..
Потом автор говорит, что содержание оперы должно браться
из народных преданий, чтоб иметь силу очарования; что
«Аскольдова могила» грешит против этого правила; что време¬
на Святослава далеки от нас, как времена Навуходоносора,
и так же непонятны нам. Все это высказано весьма увлекатель¬
но и искусно. Затем следует изложение содержания оперы.
И все! *
Статья о «Недовольных» написана с тою же ловкостию,
с тем же искусством, с тою же увлекательностию, как и об
«Аскольдовой могиле». Но и в ней искусство также в стороне;
* Замечательна в этой статье выходка автора против русского кулака.
Здесь я обращаюсь к вам, почтенный издатель «Телескопа», и вам подаю
апелляцию на вас самих. Вы недавно сделали возражение против этой
выходки, которое мне кажется не совсем справедливым. Во-первых, вы
несправедливо обвиняете «Московского наблюдателя» в ожесточении про¬
тив г. Загоскина: он совершенно одного мнения с вами насчет этого писа¬
теля. В «Молве» когда-то сказано было, что автор «Юрия Милославского»
есть слава и гордость России; «Наблюдатель» не говорит этого и, верно,
никогда не скажет, но он признает «Юрия Милославского» первым русским
историческим романом (разумеется, не по старшинству происхождения,- а
по достоинству; в первом смысле «Выжигин» его старее), а первое во всем
есть неоспоримо слава и гордость народа. Потом — о русском кулаке: я про¬
тив него. Конечно, прежде надо условиться в значении этого слова, а потом
уже спорить. Вы смотрите на кулак, как на орудие силы, совершенно
тождественное с шпагою, штыком и пулею. Оно так, но все-таки между
этими орудиями силы есть существенная разность: кулак, равно как и
дубина, есть орудие дикого, орудие невежды, орудие человека грубого
в своей жизни, грубого в своих понятиях; кулак требует одпой животной
силы, одного животного остервенения — и больше ничего. Шпага, штык
и пуля суть орудия человека образованного, они предполагают искусство,
учение, методу, следовательно, зависимость от идеи. Зверь сражается когтем
и зубом, естественными его орудиями; кулак есть тоже естественное орудие
297
много дельного высказано a propos; * но самое дело, то есть
искусство, не тронуто.
Из прочих статей примечательна: «Исторические и филоло¬
гические труды русских ориенталистов» г. Григорьева54. Это,
как показывает самый титул статьи, есть сборник утешительных
известий об успехах в России ориентализма. Потом «Народные
спеванки или светские песни словаков в Венгрпи» г. И. Бодян¬
ского, которого г. Руссов недавно причислял к мифам, вроде
Гомера 55. Эта статья написана с талантом, знанием и любовию,
заключает в себе много дельных и чрезвычайно любопытных
фактов касательно своего предмета. Нам не понравились в ней
только две вещи: употребление известных учено-юридических
словечек и одно выражение, вместе и скромное и хвастливое.
Вот оно:
Мы еще так молоды в сем случае, так недоверчивы к себе, хоть, может
быть, и сумели бы кой-что сказать наперекор другим, что лучше позаимсг-
вуемся отъинуду (?), представим чужее, но, по нас, дельное, чего не успели
сами добыть, нежели, следуя примеру некоторых, пускать пыль в гла.ш
православным.
Воля ваша, господа, а по-нашему, такая скромность хуже
хвастовства. К чему эти оговорки? Если знаете — говорите сме¬
ло, не знаете — молчите. А то вы как-то невольно напоминаете
русского человека с бородкою, который, почесывая у себя
в затылке, с лукаво-простодушным видом говорит: «Где-ста
нам? мы дураки; вот ваша милость — другое дело...»
Статья «Взгляд на системы философии XIX века во Фран¬
ции» еще не кончена56. До сих пор она может обратить на
себя внимание двумя, тремя идеями, совершенно современны¬
ми, показывающими, что автор ее понимает истины, еще для
многих у нас недоступные. Проникнутый или еще проникаемый
духом повой философии, он верно судит (там, где судит, а в
этой статье суждений немного) о попытках французов прими¬
риться с религиею. Он говорит, что Франции недостает знания,
советует ей более ознакомиться с Германиею, указывает па по¬
следователей Гегеля, развивших его религиозные идеи. «Понять
вверя-человека; человек общественный сражается орудием, которое создает
себе сам, но которого не пмеет от прпроды. Если ж бывают бесславные
удары стилетом из-за угла, если были бесчестпые удары негодной шпажонки
восемнадцатого века — это ничего не доказывает: бывают бесчестные удары
и кулаком, из-за угла, в темную ночь, в глухом переулке. А притом, и в
самом деле, зачем (говоря словами автора критики) — «зачем льстить этому
классу народа, который, несмотря на великого преобразователя России, до
сих пор еще гордо поглаживает за углом свою бороду и за углом рад похва¬
стать своимп кулаками! Кулаки не помогли под Нарвой, и не кулаки, а
обученное войско смыло под Полтавой пятно стыда кровью своего преж¬
него победителя! Не кулакам обязаны мы, что знаем теперь, звонок ли
чугун на Аустерлицком мосту, когда казачий конь бьет о него подковой,
и красива ли Сена, когда отражаются в ней русские штыки». Соч.53
* кстати (франц.). — Ред.
208
или умереть» — вот закон нашего века, говорит оп. Надобно,
однако ж, заметить, что до сих пор в этой статье больше ссы¬
лок, нежели мыслей, что автор как-то несмел в своих пригово¬
рах, что, не одобряя эклектизма, он все-таки слишком снисхо¬
дителен к нему, что, наконец, язык его чрезвычайно тяжел. Но,
несмотря на все это, несколько немудреных, но верных идей
заставляют нас возложить на автора благие надежды: явная по¬
требность и совершенный недостаток философического знания
в России должны поощрить его к трудам, более серьезным.
Правда, занятие философиею более, нежели какою-нибудь дру¬
гою наукою, требует того, что называют самозабвением; но зато
она больше, нежели какая-нибудь другая наука, дает на это
средств: сладко забыться в чистой идее, посвятить себя на слу¬
жение ей и воспитать других для этого служения. Немногие
одобряют эту жизнь для «отвлеченностей», но автор знает, что
такое «конкретное». Настоящее понятие о «конкретном» сми¬
рит порывы житейской суетности и убьет умствования пошлого
«здравого смысла», для которого конкретпое — навоз и карто¬
фель. Но повторяем: от человека, который выходит у нас с ка¬
ким-нибудь намеком на свои философские познания, мы вправе
требовать большего, требовать труда для нас, если еще не на¬
ступил час автору труда для себя. Поэтому мы считаем эту
статью эпизодом занятий автора, плодом досуга, которому он
сам, верно, не придает большого значения. Что ж касается до
«Наблюдателя»—очевидно, эта статья в нем случайная и не
должна иметь места в суждении о нем самом.
Вот все, что показалось нам примечательным, в каком бы
то ни было отношении, по части чисто литературной критики
«Московского наблюдателя» в прошлом году. Может быть, мы
что-нибудь и пропустили: это уж не наша вина. Есть вещи,
о которых даже грешно говорить вслух; и потому мы умалчива¬
ем, например, о статье «Не выдержки, а почти выдержки из
больших записок о прошлых временах» какого-то г. Авеппра-
Народного; только позволяем себе заметить, что эта статья,
вероятно, взята «Наблюдателем» из «Покоящегося трудолюб¬
ца», или «Парнасского щепетильника», а может быть, и из дру¬
гого какого-нибудь допотопного журнала: в наше время трудно
найти человека, который мог бы написать такую статью, и еще
труднее — журнал, который бы ее принял в себя57. Итак,
оставляем пропущенное или недосмотренное и обращаемся к по¬
следней статье г. Шевырева, которая должна объяснить нам идею
«Московского наблюдателя» и цель его литературных усилий.
Эта статья называется «Перечень „Наблюдателя44» и укра¬
шает собою первый нумер этого журнала за нынешний год58.
Г-н Шевырев начинает ее признанием, что читатели журнала на¬
стойчиво требуют библиографии, и оправдывается в причипе
невнимания к их требованию. Для этого он очень остроумно
делит этих читателей на три класса. К первому у него относятся
299
те, которые «с невипным чистосердечием вверяют себя совести
журналиста» и требуют его мнения о книге, для решения про¬
стого вопроса, купить ее или нет? Ко второму — люди ленивые,
которые книг не читают, а судить о них хотят. К третьему —
«люди движения, люди беспокойные, которым не сидится на
месте», которые «не любят, чтобы на улпцах было всегда смир¬
но, чтоб долго не случалось пожаров».
Читателей первого разряда «Наблюдатель» не хотел удов¬
летворять потому, что он совершенно чужд всяких карманных
отношений и что оставаться в накладе прп покупке кнпги есть
достойное наказание для невежества. Мнение очень благород¬
ное! Но мы имеем на этот счет свое, которое если не так
благородно, зато заключает в себе побольше здравого смысла.
Мы думаем, что литературный спекулянт, наказывающий неве¬
жество контрибуциею за дурные книги, ничем не честнее мо¬
лодцов, которые наказывают рассеянность зевак, лишая их ко¬
шелька или часов; должен ли журналист своим молчанием способ¬
ствовать успехам литературных спекулянтов?.. Нет, по нашему
простому, плебейскому мнению, журналист должен поставить
себе за священнейшую обязанность неусыпно преследовать
надувателей невежества, препятствовать успехам мелкой лите¬
ратурной промышленности, столь гибельной для распростране¬
ния вкуса и охоты к чтению. Он пе должен забывать, что книги,
особенно догматические, пишутся для невежд, что дурная книга
сообщает превратные понятия и делает невежду еще невежест¬
веннее. Представьте себе степного провинцияла, который сроду
ничего не читывал, кроме календаря и писем от своей родни
и знакомых, но который должен покупать книги для своих де¬
тей, которые хотят всё читать; кто будет его руководителем
в выборе книг: газетные объявления или собственное сообра¬
жение? А ведь эти дети принадлежат к молодым поколениям,
которые должны некогда явиться честными и способными де¬
ятелями на служении отечеству, а ведь направление их деятель¬
ности зависит от книг, по которым они учатся или которые они
читают! Неужели же и эти поколения, юные и жаждущие обра¬
зования, должны наказываться за невежество своих отцов?..
Нет, милостивые государи, люди просвещенные и образованные
не столько нуждаются в ваших советах, сколько невежды; до¬
пускать спекулянтов издеваться над невежеством значит спо¬
собствовать его усилению, значит отвращать его от света зна¬
ния, от блеска образованности. Мы глубоко убеждены, что
библиография есть одно из важнейших, необходимейших и полез¬
нейших отделений благонамеренного журнала и что смеяться
над добродушною доверчивостию читателей к своему журналу
значит не иметь к себе уважения. Если другие журналы дей¬
ствуют недобросовестно, неблагонамеренно, это не дает вам
права самим ничего не делать, это, напротив, должно вас обя¬
зать к усиленной деятельности. Читателей второго разряда
300
«Наблюдатель» не хочет удовлетворять потому, что «его сотруд¬
ники не намерены никому навязывать своих мнений». Вот пре¬
красно! да кто ж вас проспл навязывать публике свой журнал,
в котором так много ваших же мнений?.. Читателей третьего
разряда «Наблюдатель» не хочет удовлетворять потому, что
«его критика никогда не угождала их беспокойной страсти
к зрелищам всякого рода». Помилуйте — как никогда? А статьи
против «Библиотеки для чтения», против Барона Брамбеуса!
Если на них не сбегались, как на пожар, так это потому, что их
огонь горел слишком тускло, давал больше дыму, чем поломя,
а не потому, чтобы они были писаны умеренно и скромно. Воля
ваша, а это тактика «Библиотеки», которая в каждый месяц бра¬
нит полемику, упрекает за нее другие журналы и в то ж время
сама ругается очень неблагопристойно... Нет — этих причин нам
недостаточно — мы нашли другую: библиография — дело очень
хлопотное, с нею каждый день наживаешь по врагу, который
готов вредить вам и клеветою и всеми средствами; благоразум¬
ное же молчание избавляет от этих неприятностей; и вот причи¬
на, почему «Наблюдатель» не хочет отдавать публике отчета
в новых книгах. Оно и лучше!.. Но всего забавнее, после этих
объяснений, встретить следующие строки:
Несмотря на это, должно говорить подробно почти обо всех произведе¬
ниях литературы нашей, потому что этого требуют. Всякая книга есть для
публики вопрос, на который ожидают ответа в журнале. Публика не любит
оставаться в недоумении; она не любит умолчаний или недомолвок. Дело
журнала — угождать иногда ее слабостям.
Вот в этом мы согласны с автором статьи; но чему же
должно верить в его словах: первому или последнему? не уме¬
ем отвечать на этот мудреный вопрос. Видно, у всякого своя
логика, видно, дважды два иногда бывает три, а иногда четы¬
ре?.. Вследствие этой прекрасной логики г. Шевырев обещается
давать публике отчет в некоторых книгах и начинает с «Князя
Скопина-Шуйского», романа, написанного дамою * 59.
Отчет в этом произведении начинается сожалением г. Ше¬
вырева о том, что наши дамы принимают мало участия в лите¬
ратурных трудах, что наша словесность есть общество слишком
исключительно мужское, отчего «обхождение и разговор в со¬
словии литераторов отзывается до нестерпимого (?) трубкою
и пуншем». В самом деле, этого очень жаль, но, к счастию, беду
еще можно поправить: г. Шевырев нашел для этого верное
средство. «Появление многих дам в сословии писателей,— гово¬
рит он,— могло бы иметь, как я думаю, полезное влияние на
общежитие и нравы нашей литературы». Может быть, это спра¬
ведливо, только мы не понимаем, что такое «общежитие
и нравы литературы»? Притом разве литература — гостиная,
* Этот роман, сам по себе, весьма замечателен; он имеет большие
достоинства.
301
разве она i;e цвет целой цивилизации народа, не результат ис¬
торического развития всей его жизни?.. Разве в литературе тре¬
буется что-нибудь другое, кроме изящества, учености, достоин¬
ства, и разве эти качества зависят не от таланта и гения, а от
любезности писателей?.. Разве там, где женщины-писательницы
толпами являются в литературе, нет пошлых и диких поэтов, нет
невежливых и криводушных журналистов?.. Но я вижу, что
моим «разве» конца не будет... А! вот в чем дело! Из нашей
литературы хотят устроить бальную залу и уже зазывают в пее
дам, из наших литераторов хотят сделать светских людей
в модных фраках и белых перчатках, энергию хотят заменить
вежливостию, чувство приличием, мысль модпою фразою, изя¬
щество щеголеватостию, критику комплиментами; короче — к
нам снова зовут восьмнадцатый век, этот золотой век светской
(profane) литературы, этот век Лагарпов и Баттё, когда в тра¬
гедию допускались не люди, а выше чем люди, когда в пее мог
попасть только полубог, или герой, или по крайней мере герцог
и барон, что, конечно, не меньше; когда лицо трагедии должно
было говорить не иначе, как принявши важную осанку, выступив
ногою, вытянув руку, и непременно высоким паркетным слогом!
А! так вот почему нам с некоторого времени так часто толкуют
о каких-то «светских» повестях и «светских» романах!.. Так вот
где скрывалась задушевная идея, которую с таким жаром раз¬
вивает «Наблюдатель»? Признаюсь, есть из чего и хлопотать! Но
посмотрим, что дальше.
Дальше следует вторичное воззвание к дамам, вторичное
приглашение дам взяться за перо и приняться за «светский
роман». Итак — place аах dames/... *
Я думал бы скорее, что роман «светский» будет областью женщины.
Современное общество — это ее царство, ее жизнь; здесь утонченный взгляд
ее и верное чувство могли бы уловить такие краски и оттенки на картине
общества, которые всегда останутся недоступны для насильственных при¬
емов писателя-мужчины. У женщин есть этот особенный орган «светского»
осязания, перед которым тупы чувства мужские. Таким романом, я ду¬
маю, женщина могла бы иметь благотворное влияние и на наше обще¬
ство.
Убедились ли вы этими неопровержимыми доводами? — Я убе¬
дился и теперь от души взываю: «Place aux dames!» Но
я иду еще дальше, я не могу остановиться на одной литературе,
потому что в таком случае влияние женщин на наше общество
все-таки будет слишком односторонне и слабо. Если наше об¬
щество должно быть обязано своим образованием не ученым
и литераторам, не таланту, не гению, не науке, не тяжкому тру¬
ду избранников, а женщинам, то было бы слишком несправед¬
ливо так ограничивать поприще их деятельности: для такой вы¬
сокой цели нужна полная эманципация женщины. Полумеры ни¬
куда не годятся, с золотою серединою не далеко уйдешь. Итак,
* место дамам! (франц.), — Ред%
302
я составил свой собственный проект касательно улучшения на¬
шего общества: он прекрасен, но первоначальная идея его все-
таки принадлежит не мне, а г. Шевыреву, следовательно, ему
честь и слава, а мне хоть спасибо. Вот в чем состоит мой про¬
ект. Наши дамы начнут писать «светские» романы, но они не
должны и не могут остановиться на этом: таково свойство чело¬
веческого гения, он идет все вперед. Итак, дамы примутся со
временем и за исторический роман; но, чтобы писать истори¬
ческие романы, надо знать историю, а история — наука; итак,
вот шаг в область науки! Но наука одна, науки суть не что иное,
как искусственные ее подразделения; науки смежны, соприкос¬
новенны друг другу; истории нельзя знать без археологии, хро¬
нологии, географии; география непонятна без математики; ма¬
тематическая география так близка к астрономии, физи¬
ческая — к естествознанию. Итак, почему бы дамам нашим не
пуститься и в науку, тем более что этот переход естествен, что
от «светского» романа до философии нет скачка?.. Особенно
им следовало бы заняться математикою: какие благотворные
следствия повлекло бы это за собою? Математики все люди
угрюмые, нелюбезные и часто очень грубые! Что, если бы дамы
стали с кафедр преподавать все знания человеческие! О, с ка¬
кою бы жадностию слушали их студенты, как бы смягчились уни¬
верситетские нравы, какие успехи оказало бы просвещение
в России! Итак, гг. профессоры всех четырех факультетов, не
исключая и медицинского60, будьте догадливы и вежливы —
place aux damesl.. Но науки соприкасаются с жизнию, и практика
в преподавании иногда заменяет теорию — такова наука прав:
почему ж бы дамам не заняться судопроизводством не в одних
тесных пределах аудиторий, но и в судилищах, почему бы им не
быть сенаторами, председателями, советниками?.. Какое бы
благотворное влияние оказалось тогда над нашим обществом!
Кончилось бы взяточничество, по крайней мере деньгами, ябе¬
да превратилась бы в сплетни, с просителями обращались бы
вежливо, с подсудимыми кротко... А почему ж бы дамам не
заняться и военною службою, которая больше .всех нуждается
в умягчении нравов и уроках общежития?.. Здесь уж я и не
в силах вычислить всех благотворных влияний на общество: ка¬
кое войско не одержит победы, когда им будет командовать
прекрасная дама в образе Беллоны;61 какая война не будет
человеколюбива, кротка, когда будет вестись дамами; какие сол¬
даты не сделаются вежливыми, деликатными и ловкими, пови¬
нуясь таким милым начальникам?.. Конечно, может быть, от
этого постраждет дисциплина, порасстроится порядок, потому
что начальство иногда будет манкировать своей должности, за¬
нятое баламп, нарядами, а иногда и скованное такими обстоя¬
тельствами, в которых виновата одна природа, и именно приро¬
да дамская, но ведь и мужчины подвергаются болезням, и на
природу нет апелляций...
303
Я, право, не шучу. Литературные сен-симонисты нам гово¬
рят, что женщина имеет право писать, потому что она человек,
что она обладает теми же способностями, как и мужчина; поли¬
тические сен-симонисты опираются на том же, доказывая, что
женщина должна и имеет право заниматься общественными долж¬
ностями. Так как я согласен с первыми, то уж, естественно,
не могу пе согласиться со вторыми. В противном случае я по¬
казал бы, что во мне нет логической последовательности здра¬
вого смысла, а я имею большие претензии на здравый смысл.
В самом деле, если эманцппация, то уж полная, а то не из чего
и хлопотать. Итак — гг. поэты, литераторы, профессоры, судьи,
генералы! будьте догадливы, будьте вежливы: place aux dames!
После этой глубокой и прекрасной мысли г. Шевырев очень
занимательно исследывает важный вопрос о том, может ли дама
успеть в историческом романе, кроме «светского»: по его
теории выходит, что не может, но опыт разуверил его в этом.
В известном романе г-жи Коттен «Матильда, или Крестовые по¬
ходы», в этом романе, который уж месяца два читает мой ка¬
мердинер и не может нахвалиться62, г. критик не видит боль¬
шого исторического достоинства, потому что в нем «чувство
и воображение господствуют над историею»; он не мог иначе
оценить генияльного произведения г-жи Коттен и по другой
еще причине; но послушаем его самого:
У меня же была еще в свежей памяти эта чудная «Елена» мисс Эдже-
ворт, это создание нежное, идеал британской женщины. Я помню, как, чи¬
тая этот роман, я, казалось, жил в лучшем обществе, где и мысли и чувства
мои становились благороднее, где узнавал я силу каждого слова в общежи¬
тии и научался его взвешивать. Прочитав «Елену», я как-то почувствовал
себя лучше; во мне прибыло какой-то нравственной силы для того, чтобы
действовать в обществе (каком? уж, верно, в светском!). Вот следствие
«светского» романа, написанного пером «генияльной» женщины. (В самом
деле, удивительное следствие!) Таким романом воспитывается общество
(какое — светское?) — и литература (какая — светская?) сильно подвигает
его нравственный успех63.
Г-н Шевырев говорит все это не шутя; и я поговорю насчет
этого без шуток. Я не восстаю против того, что он еще не забыл
«Матильды» г-жи Коттен, давно уже перешедшей из гостиной
в переднюю и девичью: есть что-то умилительное в защите сла¬
бого, что-то рыцарское в покровительстве тому, что всеми при¬
знано за нелепость; но мисс Эджеворт не требует особенной
защиты: ее романы известны всей Европе и превозносятся до
небес Бароном Брамбеусом64. Я не отрицаю, что представители
девичьей и передней могут становиться благороднее и возвы¬
шеннее в своих чувствах и мыслях не только от «Матильды» или
«Елены», но и от Курганова «Письмовника» и романов Алексан¬
дра Анфимовича Орлова; но я, собственно я, а не кто-нибудь
другой, могу возвышаться душою только от художественных,
а не «светских» романов. Художественный и «светский» не суть
слова однозначащие, так же как дворянин и благородный
304
человек. Художественность доступна для людей всех сословий,
всех состояний, если у них есть ум и чувство; «светскость» есть
принадлежность касты. Художественность есть творчество, а твор¬
чество изображает человека с его страстями, его порывами
к добру и злу, его радостями и страданиями; «светскость» же
уничтожает страсти, порывы, радости и горести, она подводит
все это под уровень посредственности, равнодушия, ничтож¬
ности и скуки. Я этим совсем не думаю доказывать, чтобы меж¬
ду людьми высшего общества не было людей с душою и серд¬
цем, людей с талантом и доблестию: подобная мысль в наше
время была бы жалким и смешным анахронизмом. Я говорю не
о «светских» людях в частности, а о «светском» обществе вооб¬
ще, где умолкает ум, боясь оскорбить своим превосходством
глупость, где притаивается чувство, боясь оскорбить приличие,
где самый гений спешит принять на себя вид посредственности
и ничтожества, чтоб не показаться смешным и странным. «Свет¬
скость» еще сходится с образованностию, которая состоит
в знании всего понемножку, но никогда она не сойдется с на¬
укою и творчеством: то и другое необходимо должно иссушить¬
ся и обмелеть, жертвуя своим временем на выполнение ее пич-
тожных условий, дыша не свойственною ему атмосферою.
Аристократия таланта не есть аристократия общества: Шекспир
не на паркете приобрел свой мирообъемлющий взгляд на чело¬
веческую природу; Шиллер не на паркете нашел небо и рай
своих божественных видений, которые он передал нам под че¬
ловеческими именами Амалий, Луиз, Текл, Карлов, Фердинан¬
дов, Поз, Максов, Теллей. Роман должен быть изображением
человеческой жизни, а не паркетных сплетней, и только идея
человеческой жизни, а отнюдь не идея паркетных сплетней мо¬
жет возвысить и облагородить человеческую душу. Роман мисс
Эджеворт «Елена» есть не что иное, как пошлая рама для выра¬
жения пошлой мысли, что «девушка не должна лгать и в шут¬
ку», есть пятитомный и убийственно скучный сбор ничтожных
нравоучений гостиной. Говорят, что главное достоинство этого
романа состоит в верном изображении всех тонкостей, всех от¬
тенков высшего английского общества, недоступных для непо¬
священных в таинства гостиных. Если это так, то тем хуже для
романа. Я человек не светский, следовательно, не могу понять
светской стороны романа, но я всегда могу понять его челове¬
ческую и его художественную сторону. В каких бы формах ни
проявлялась человеческая жизнь, она понятна всегда и для
всех, потому что преходяща форма, но вечна идея эстетическо¬
го творения. Прометей Эсхила, прикованный к горе, терзаемый
коршуном и с горделивым презрением отвечающий на упреки
Зевеса, есть форма чисто греческая, но идея непоколебимой
человеческой воли и энергии души, гордой и в страданпп, кото¬
рая выражается в этой форме, понятна и теперь: в Прометее
я вижу человека, в коршуне страдание, в ответах Зевесу мощь
305
духа, силу воли, твердость характера. Какое мне дело, что
у индийцев в дела человеческие вмешиваются боги и духи, но
это мне нисколько не мешает понимать «Сакунталу»: я оставляю
в стороне все индийское и вижу одно человеческое, а это чело¬
веческое равно и одинаково и у индийцев, и у русских, и у
немцев. Почему ж я не понимаю «светского» в романе мисс
Эджеворт? — Потому что в нем нет ничего человеческого, сле¬
довательно, ничего и художественного. Читая этот роман,
я невольно твержу стихи поэта:
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!65
А я могу поверить этому поэту: он знает свет не по слуху.
Еще хорошо бы, если бы мисс Эджеворт представила мне свет
так, как он есть, в сходстве с этим изображением, которое сде¬
лано человеком, тоже знающим свет не по слуху:
Между толпами бродят разные лица; под веселый напев контраданса
свиваются и развиваются тысячи интриг и сетей; толпы подобострастных
аэролитов вертятся вокруг однодневной кометы; предатель униженпо
кланяется своей жертве; здесь послышалось незначащее слово, привязанное
к глубокому долголетнему плану; здесь улыбка презрения окатилась с
великолепного лица и оледенила какой-то умоляющий взор; здесь тихо
ползут темные грехи и торжественная подлость гордо носит на себе печать
отвержения 66.
Вот поэтическая сторона большого света, которую я очень
люблю в художественном представлении; мисс Эджеворт улови¬
ла только одну ничтожность и скуку большого света, и потому,
просим не взыскать, ее роман нам кажется и пошлым, и беста¬
ланным, и ничтожным, ничем не выше дряхлых романов госпож
Коттен и Жанлис. Мы не верим, чтоб были такие души, которые
бы могли возвышаться от «Елены» мисс Эджеворт или от рома¬
нов девицы Марьи Извековой.
Переходя к «Вастоле», г. Шевырев удивляется, как могут
быть такие люди, которые сомневаются: Пушкина ли это поэма
ели нет. А что ж тут удивительного, если смеем спросить? На
поэме стоит имя Пушкина: для меня этого довольно, чтоб
иметь право приписать ему эту поэму, Вы говорите, что Пушкин
не в состоянии написать такого дурного произведения: а поче¬
му ж так! Ведь он написал же «Анджело» и несколько других
плохих сказок? Да и каких чудес на свете не бывает? Погодите,
может быть, Пушкин подарит нас еще и октавами из Тасса!
Г-н Шевырев негодует на «Библиотеку» за то, что она «завлека¬
тельно объявила, что Пушкин воскрес в этой поэме (как будто
бы кто-нибудь сомневался в жизни его таланта)» — а кто ж,
смеем спросить, не сомневался в этом?.. Разве только один
«Московский наблюдатель», и то потому, что Пушкин принадле¬
жит к числу его сотрудников? Равным образом, мы не видим
ничего предосудительного и в том, что «Библиотека» стала уко¬
рять Пушкина в том, что он издал такое произведение: если
306
позволительно упрекать книгопродавцев за издание дурных
книжонок, то почему же поэт должен быть свободен от этого
упрека?..67
Издать дурную поэму — в воле всякого, кто имеет лишние деньги.
Отчего же отнимать это право и у Пушкина? Читатель, понимающий толк
в поэмах, развернув книгу, угадает, что поэма не Пушкина, и не купит ее.
Тот же, который не отгадает, пусть купит: невежеству только и наказания,
что остаться внакладе.
Хороша мораль — нечего сказать! Может быть, в свете на¬
дувать кого бы то ни было, хотя бы и невежество, почитается
нравственным? Мы этого не знаем; мы люди простые, не свет¬
ские, и обман почитаем во всяком случае делом предосуди¬
тельным. Притом же вспомните о провинциялах, между кото¬
рыми есть и не невежды, но которые не имеют возможности
развернуть книги, не выписавши ее сперва и не заплативши за
пее вперед' деньги; для них достаточно имени великого и пер¬
вого поэта русского, чтоб не иметь никакого подозрения в об¬
мане...
Потом г. Шевырев говорит о «Песнях» г. Тимофеева и вы¬
сказывает обиняками, что они не имеют никакого достоинства
и не стоят внимания. Это очень справедливо, но нас удивляют
следующие строки:
Мы готовы думать, что эти песни принадлежат не тому же автору,
которого имя встречали мы под некоторыми приятными статьями в прозе...
Что это такое? Это — «светский» комплимент! Г-н Тимофеев
такой же прозаик, как и поэт, но он недавно поместил в «На¬
блюдателе» статейку своей работы «Любовь поэта». А — пони¬
маем!..68
От г. Тимофеева г. Шевырев переходит к книге Сильвио
Пеллико «О должностях человека», переведенной в Одессе г.
Хрусталевым. Читателям «Телескопа» известно наше мнение об
этой книге. Сильвио Пеллико много страдал, и страдал с этим
редким терпением, которое свойственно только или слишком
сильным, или слишком слабым душам. Не беремся решать,
к которой из этих двух категорий относится Сильвио Пеллико,
однако думаем, что душа сильная могла бы вынести из своего
заключения что-нибудь посильнее и поглубже детских рассуж¬
дений о том, что 2X2 = 4. Конечно, эти старые истины он пред¬
лагает своим добродушным читателям и почитателям с искрен¬
ним убеждением, от чистого сердца, но от этого его книга
ничуть не лучше. Г-н Шевырев говорит, что Сильвио Пеллико
имел право говорить общие места и преподавать сухие, произ¬
вольно-догматические уроки после стольких страданий и после
своей книги «Prigioni»; не спорим, у всякого свой взгляд на
вещи, а, по-нашему, общие места — всегда общие места, кем
бы они ни были сказаны, честным человеком или негодяем.
Затем г. Шевырев приводит несколько страниц из книги Пелли-
307
ко: эти выписки всего лучше могут оправдать наше мнение об
этой книге 69.
Статья заключается разбором «Записок титулярного совет¬
ника Чухина» г. Булгарина. В этом разборе г. Шевырев очень
мило и храбро нападает на г. Булгарина за его невежливость
к дамам. Как счастливы паши дамы! Сколько у них ревностных
защитников и почитателей! За них сражаются, им служат и в
журналах и в ведомостях!.. Дело вот в чем: г. Булгарин говорит
в одном месте своего предисловия, что «женщины нежнее, со¬
страдательнее, великодушнее мужчин», а четырьмя страницами
выше таким образом объясняет, почему лптературпый ум не
может ужиться с обществом: «А дамы?., о дамах я ничего не
смею говорить. Place aux damesl Ведь умных любят только
умные люди, следовательно, литературному уму и тесно и душ¬
но в светских обществах». Что бы, кажется, дурного в этой мыс¬
ли? По нашему суждению, эта мысль есть аксиома и, без сомне¬
ния, лучше всего романа г. Булгарина. Но не так смотрит на это
дело г. Шевырев; послушайте, что он говорит:
Каков комплимент и светскому обществу и в особенности дамам, кото¬
рые составляют лучшую часть его! После этого верьте автору, когда он
превозносит женщин... Мы не знаем, когда из-под его пера капает правда,
но здесь видим что-то вроде чернильного пятна или неучтивости.
После этого, разумеется, роману г. Булгарина достается по¬
рядком. Нам самим этот роман кажется очень плохим
и плоским произведением, только по другой причине: вследст¬
вие отсутствия таланта в авторе, а не вследствие его неуваже¬
ния к прекрасному полу. Мы тоже очень уважаем прекрасный
пол, но защищать его не намерены, потому что и в одном
князе Шаликове он имеет очень сильного защитника; что же
говорить о других...70
Слава Богу! наконец-то я добрался до идеи «Наблюдателя»!
Он хлопочет не о распространении современных понятий об
изящном; теория изящного не входит в него, искусство у него
в стороне; он старается о распространении светскости в лите¬
ратуре, о введении литературного приличия, литературного об¬
щежития; он хочет во что бы то ни стало одеть нашу литерату¬
ру в модный фрак и белые перчатки, ввести ее в гостиную
и подчинить зависимости от дам; цель истинно похвальная: кто
пе поревнует ей! По крайней мере теперь мы знаем, о чем
хлопочет «Наблюдатель», какая его идея; по крайней мере мы
теперь знаем, что он имеет значение и смысл: а я только этого
и добивался, и только чрез первый нумер его на нынешний год
добился этого. Упреди я моею статьею последнюю статью г. Ше-
кыреЕа — и идея «Наблюдателя» осталась бы для всех тайною.
Приятно думать, что теперь наши журналы издаются если не
с мыслию, то с смыслом, определенным и ясным. Хорошо ли,
дурно ли (не смею и не имею права судить об этом) — «Теле¬
скоп» и «Молва» хлопочут об искусстве и литературе в чисто
308
литературном смысле, без посторонних целей. «Московский на¬
блюдатель» проповедует светскость и элегантность в литерату¬
ре, смотрит па искусство и литературу с светской точки зрепня.
«Библиотека для чтения» развивает ту мысль, что умозритель¬
ные знания и все, проникнутое идеею, не только бесполезно, но
и вредно, что немецкая философия — бред, что только положи¬
тельные, фактические знания еще годятся па что-нибудь, что
ничему не должно учиться, что для того, чтобы всё знать, до¬
вольно выписывать «Библиотеку для чтения» и «Энциклопеди¬
ческий словарь». «Северная пчела» и «Сын отечества» одни
чужды всякой мысли и даже всякого смысла; но и у них есть
цель, определенная и постоянная, это — подписчики...
Мне бы следовало еще поговорить о переводных крити¬
ческих статьях «Московского наблюдателя»*, но это совсем
бесполезно, потому что они нисколько не гармонируют с целию
этого журнала. Там, в Западной Европе, светскость не новость,
рыцарство, даже и литературное, давно уже сделалось по¬
шлостью. Но у нас — другое дело, мы еще недавно падели бе¬
лые перчатки и потому ходим, поднявши руки вверх, чтоб все
их видели; мы еще недавно переменили охабень на фрак и по¬
тому беспрестанно охорашиваемся и оглядываем себя со всех
сторон; мы еще недавно перестали бить наших жен и пляску
вприсядку переменили на танцы, и потому кричим громко place
aux dames, как бы похваляясь своею вежливостию, и танцуем
французскую кадриль с такою важностию, как будто город бе¬
рем... Это явление понятное и необходимое, но, кажется, уже
и у нас пора бы ему сделаться анахронизмом... Говоря без
шуток, оно и есть анахронизм, смешной и жалкий...
В заключение почитаю необходимым сказать несколько слов
о странном и опасном положении человека, который у нас су¬
дит о чем бы то ни было, и судит не в пользу судимого. Скажи
правду — потеряй дружбу: мудрая пословица! У нас особенно
все авторитеты щекотливы и притязательны, точь-в-точь мелкие
уездные чиновники. У нас еще важность авторитета определя¬
ется не заслугою, а выслугою, пе достоинством, а летами. Кто
начал свое литературное поприще с двадцатых годов и начал
его надутыми стишками, продолжал журнальными статейка¬
ми — тот уже авторитет, тот уже смотрит на человека, осмелив¬
шегося сказать ему правду, как на буяна, приставшего к пему
на улице...72 Но всего горестнее, что у нас еще не могут * по¬
нять того, что можно уважать человека, любить его, даже быть
с ним в знакомстве, в родстве — п преследовать постоянно его
образ мыслей, ученый пли литературный; всего досаднее, что
у нас не умеют еще отделять человека от его мысли, не могут
поверить, чтобы можно было терять свое время, убпвать здо¬
* Из них примечательна в особенности статья Низара о Викторе
Гюго71 ш
309
ровье и наживать себе врагов из привязанности к какому-ни¬
будь задушевному мнению, из любви к какой-нибудь отвлечен¬
ной, а не житейской мысли... Но какая нужда до этого? Разве
должно прибегать к божбе для уверения в чистоте и беско¬
рыстии своих действий? Разве за благородный порыв должно
требовать награды от общественного мнения? Разве мысль не
есть высокая и прекрасная награда тому, кто служит ей?..
О нет! пусть толкуют ваши действия, кому как угодно; пусть не
хотят понять их источника и цели: но если мысль и убеждение
доступны вам — идите вперед, и да не совратят вас с пути ни
расчеты эгоизма, ни отношения личные и житейские, ни боязнь
неприязни людской, ни обольщения их коварной дружбы, стре¬
мящейся взамен своих ничтожных даров лишить вас лучшего
вашего сокровища — независимости мнения и чистой любви
к истине!..
ОПЫТ СИСТЕМЫ НРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Сочинение магистра Алексея Дроздова. Санкт-Петербург. Пе¬
чатано в типографии И. Глазунова. 1835. Издал Св. Ф. Сидонский. V, 78
(12). С эпиграфом:
Parve... liber.*
Vade, sed incultas
Trist. Ovid. Nas. 1, 1 *.
У пас вообще не только совсем не распространено знание
философии, но и самое стремление к нему едва начинает про¬
буждаться, и то отрывочно, недружно, какими-то порывами,
без постоянства. Но тем не менее оно уже пробуждается,
несмотря на отчаянные вопли невежд и профанов науки, исто¬
щающих все усилия своей «светской» диалектики против
«логических построений» и всего, что выводится из вечных зако¬
нов разума, а не из близорукого опыта и отрывочных фактов
Особенно это стремление заметно в нашем духовенстве,
которое, несмотря на скудость и ограниченность своих
средств, проистекающих сколько оттого, что между ними мало
распространено изучение новейших языков, преимущественно не¬
мецкого, столько и от направления их образования, отличающегося
в большей или меньшей мере характером схоластицизма сред¬
них веков, занимается с любовию и заметным успехом этою ве¬
ликою и священною наукою. Мы думаем, и не без основания, что
ему предназначена в будущем блистательная роль: храня
и поддерживая священный огонь релпгпн, оно вместе с тем
будет хранить и поддерживать и немеркнущий свет знания.
Отчужденное своим положением от выгод и мелочей света, пре-
* Пойдешь... книжка...
Иди, но без прикрас.
«Скорби» Овидия Назона, I, 1 (лат.). — Ред.
311
пятствующпх сосредоточению души в самой себе, оно составит
некогда особую касту, особую нацию, жреческую и ученую, оно
будет Германиею среди России, оно предоставит нам образец
тех евангельских добродетелей, той глубокой учености и того
эстетического образования, которым отличается лютеранское
духовенство. Эти надежды тем естественнее, тем сбыточнее,
что новое основание ученой деятельности нашего духовенства
прочно и твердо, цель пряма и истинна. В то время когда у нас
из людей, призванных быть жрецами и проповедниками знания
и не стесняемых никакими внешними обстоятельствами, кото¬
рые могли бы препятствовать им в исполнении их священной
миссии, одни с божбою и клятвами уверяют нас, что немецкая
философия есть вздор, гибельный для ума, чувства и воли,
к подкрепляют свои уверения «лакейскими» остротами над выс¬
шею истиною и всяким порывом к ее исследованию; в то время
когда другие думают, что распространение света знаний состоит
в том, чтобы рассуждать о «светскости» 2, об умении садиться
в кресла3, быть любезными в обществе, показывать свои белые
перчатки и кричать: «Place aux dames!»* и добродушно созна¬
ются в незнании логики; в то время, говорю я, духовенство на-<
ше, в тиши и уединении, без шума и скромно, трудится над
полем, еще пе возделанным у нас, и, в благодарность за свое
бескорыстное служение истине, довольствуется только счастием,
доставляемым самою истиною, не требуя воздаяния от внимания
толпы суетной и непосвященной. Но все благое не пропадает
втуне: будучи само себе целию, оно в то же время необходимо
служит и посторонним целям; таков вечный закон прови¬
дения! Поэт пишет свою поэму не для нравственной или какой-
нибудь другой цели, а просто для того, чтобы написать, для
того, что ему хочется написать, но между тем его поэма, возвы¬
шая душу человека, делает ее благороднее, следовательно,
нравственная цель достигается сама собою, делается необходи¬
мым результатом безотчетного творчества. Философ занимает¬
ся исследованием истины не прямо для того, чтобы научить
людей или направить общество, но для самой истины, потому
только, что она истина, а между тем плоды его высоких изыска¬
ний, сначала недоступные для толпы, мало-помалу обобщаются
с жизнию, обращаются в соку умственного бытпя общества, об¬
щество улучшается, и нравственная цель опять достигается сама
собою. Итак, честь и слава нашему духовенству: осужденное
общественным мнением на нравственную неподвижность, оно
идет вперед, тогда как наши ученые сословия, предназначенные
к этому стремлению, за немногими исключениями, бесплодно
возделывают каменную ниву опытных знаний, не оживленных ни¬
какою идеею; оно действует по силе возможности, тогда как
ваши ученые сословия если и делают что-нибудь, то более по
* «Место дамам!» (франц.). — Редь
312
долгу службы, ex officio *; оно попяло, что первая п главная
задача нашего познавательного стремления есть наше Я и что
единственный путь к решению этой задачи есть умозрение, вы¬
водимое из этого же самого Я; тогда как наши «светские/) лите¬
раторы занимаются решением важной задачи о белых перчатках
и искусстве садиться в кресла п доходят до решения этой зада¬
чи выводами a posteriori**. Тем необходимее следить за
таким движением, тем приятнее отдавать ему должную спра¬
ведливость: это долг всякого добросовестного журналиста, для
которого идея есть предмет сподвижничества, а бессмыслие
предмет гонения.
В прошлом году вышла небольшая брошюрка, заглавие ко¬
торой выписано в пачале этой статьи. Разумеется, об ней нигде
ничего не было сказано, да и нам сампм она попалась случайно.
Мы прочли ее с удовольствием, которым и спешим поделиться
с нашими читателями. Верный взгляд на многие предметы,
прекрасное, проникнутое чувством изложение идей, добросо¬
вестность в суждении, простота и ясность составляют досто¬
инство этого сочинения; а отсутствие строгой системы, проис-<
шедшей от неверности общему началу, и вследствие этого част¬
ные противоречия — вот ее недостатки. В том и другом случае
как важность предмета, так и уважение к добросовестному
и бескорыстному труду побуждают нас поговорить о нем попо¬
дробнее.
Почтенный автор пачинает, как и должно, с определения
идеи «нравственной философии», которую он иначе называет
«деятельною»; различие ее от «умозрительной» он полагает
в том, что предмет последней есть истина, первой добро. Меж¬
ду тою и другою он находит «координацию», которая, не делая
их отдельными знаниями, предполагает возможность их обра-
ботывания независимо одна от другой.
Вслед за этим автор говорит, что «нравственная философия
не может выводить начал своих из опытов исторических или из
каких-нибудь правдоподобных правил, но требует точных
и основательных сведений о том, что само в себе истинно, хо¬
рошо и справедливо». Уже одного этого достаточно, чтобы видеть
в этой книжке нечто достойное внимания, а в авторе человека,
понимающего свой предмет. Есть два способа исследования
истины — a priori и a posteriori, то есть из чистого разума
и из опыта. Много было споров о преимуществе того и другого
способа, и даже теперь нет никакой возможности примирить
эти две враждующие стороны. Первые говорят, что позна¬
ние, для того чтоб быть верным, должно выходить из самого
разума, как источника нашего сознания, следовательно, должно
быть субъективно, потому что все сущее имеет значение только
** по обязанности (лат.). —Ред.
** на основании опыта, (лат.). — Ред..
313
в нашем сознании и не существует само для себя; эмпирпкп же
думают, что познание тогда только верно, когда выведено из
фактов, явлений, основано на опыте. Для первых существует
одно сознание и реальное заключается в разуме, а все осталь¬
ное бездушно, мертво и бессмысленно само по себе, без отно¬
шения к сознанию; следовательно, у первых разум есть царь,
законодатель, сила творческая, которая дает жизнь и значение
несуществующему и мертвому; для вторых реальное заключает¬
ся в вещах, фактах, в явлениях природы, а разум есть не что
иное, как поденщик, раб мертвой действительности, принимаю¬
щий от нее законы и изменяющийся по ее прихоти, следователь¬
но, есть мечта, призрак. Вся вселенная, все сущее есть не что
иное, как единство в многоразличии, бесконечная цепь моди¬
фикаций одной и той же идеи; ум теряется в этом многообра¬
зии и стремится привести его, в своем сознании, к единству,
и история философии есть не что иное, как история этого
стремления: яйца Леды, вода, воздух, огонь, принимавшиеся за
начала и источник всего сущего, доказывают, что и младен¬
ческий ум проявился в том же стремлении, в каком он проявля¬
ется и теперь. Непрочность первоначальных философических
систем, выведенных из чистого разума, заключается совсем не
в том, что они основаны не на опыте, а, напротив, в зависимости
от опыта, потому что младенческий ум берет всегда за основ¬
ной закон своего умозрения не идею, в нем самом лежащую, а
какое-нибудь явление природы и, следовательно, выводит идеи
из фактов, а не факты из идей. Факты и явления не существуют
сами по себе: они все заключаются в нас и суть модификации
нашего Я. Вот красный четвероугольный стол: красный цвет
есть произведение моего зрительного нерва, приведенного в
сотрясение от созерцания стола; четвероугольная форма есть
тип формы, произведенной моим духом, заключенной во мне
самом и придаваемой мною столу; самое же значение стола
есть понятие, опять-таки во мне же заключающееся и мною же
созданное, потому что изобретению стола предшествовала необ¬
ходимость стола, следовательно, стол был результатом поня¬
тия, созданного самим человеком, а не полученного им от ка¬
кого-нибудь внешнего предмета. Внешние предметы только да¬
ют толчок нашему Я и возбуждают в нем понятия, которые оно
придает им. Сто человек могут смотреть на один и тот же факт
и понимать его совершенно различным образом, так что вместо
одного понятия делается сто понятий, следовательно, сто фак¬
тов. Что же после этого значат факты сами по себе? — Менее,
нежели ничего. Мы этим отнюдь не хотим отвергнуть необходи¬
мости изучения фактов: напротив, этим мы доказываем необхо¬
димость этого изучения; только мы хотим сказать, что это изу¬
чение должно быть чисто умозрительное и что факты должно
объяснять мыслию, а не мысли выводить из фактов; другими
словами: факт должен быть произведением нашего сознания,
314
а пе созпание результатом факта. Изучая факты, явления, при¬
роду, мы необходимо изучаем себя, свои дух, свое сознание,
потому что все это заключается в нас, а само по себе не су¬
ществует, по той причине, что существовать значит сознавать
себя, что бытие или жизнь есть сознание. Вся природа внешняя
есть произведение нашего духа. В противном случае наш дух
был бы зеркалом природы, бессознательно отражающим в себе
ее явления, следовательно, был бы мечтою, призраком, тогда
как природа должна быть зеркалом нашего духа, который во
всех ее явлениях видит себя и сознает, что он видит себя;
в противном случае, говорю я, наше ведение не будет актом
сознающего себя духа, а простым знанием, ни к чему не ве¬
дущим; наука будет не результатом сознания, а памятною
книжкою, реестром бессмысленных фактов; материя будет не фор¬
мою, не внешностию, необходимою только для проявления духа,
а чем-то самобытным, самоцельным и абсолютным, словом, тог¬
да грубая мертвая персть будет богом, а дух бессознательным
зрителем и трепещущим поклонником этого тельца позлащен¬
ного 4. Так и было в восьмнадцатом веке, этом веке опыта
и эмпиризма. И к чему повело его это? — К скептицизму, мате-
риялизму, безверию, разврату и совершенному невежеству при
обширных познаниях. Что узнали энциклопедисты? Какие были
плоды их учености? Где их теории? Они все разлетелись, поло¬
пались, как мыльные пузыри. Возьмем одну теорию изящного,
теорию, выведенную из фактов и утвержденную авторитетами
Буало, Баттё, Лагарпа, Мармонтеля, Вольтера: где она, эта тео¬
рия, или, лучше сказать, что она такое теперь? Не больше как
памятник бессилия и ничтожества человеческого ума, который
действует не по вечным, свободным законам своей деятель¬
ности, а покоряется оптическому обману фактов. К чему повела
эта теория? К совершенной погибели и уничижению искусства,
иизведенпого ею на степень простого ремесла. А отчего? — от¬
того, что эти люди хотели создать идеал искусства по бессмерт¬
ным образцам искусства, завещанным древностию, а не вывести
его из своего духа. Но, скажут, они знали только греческую
и римскую словесность, а потому и судили только по произведе¬
ниям этих литератур; но не знали Шекспира, не были знакомы
с литературою средних веков, литературами восточных народов
и жили прежде Шиллера, Гете, Байрона. Ну так что ж?— пи
и не нужно было знать всего этого, потому что у них было
нечто надежнее произведений Шиллера, Гете и Байрона, у них
был разум, в них был сознающий себя дух человеческий, а в
этом разуме, в этом духе заключался идеал искусства, заключа¬
лось тайное и трепетное предчувствие истинных произведении
творчества. Если же произведения древности не подошли бы
под этот идеал, это значило бы, что или они не так поняли эти
произведения, или что эти произведения ложны и не художест¬
венны, потому что если какие-нибудь факты противоречат
315
умозрению, это значит, что эти факты не сознаны в душе, что еще
не открыт общий закон, по которому они существуют, и что,
следовательно, эти факты суть не иное что, как призрак, мечта,
и что если умозрение основано на верном начале и развито
в строгой логической последовательности, то эти факты не бу¬
дут противоречить ему, когда откроется закон, по которому
они существуют. Чтобы представить это яснее, возьмем какой-
нибудь пример. Я убежден, что поэзия есть бессознательное
выражение творящего духа и что, следовательно, поэт, в минуту
творчества, есть существо более страдательное, нежели дей¬
ствующее, а его произведение есть уловленное видение, пред¬
ставшее ему в светлую минуту откровения свыше, и что, следо¬
вательно, оно не может быть выдумкою его ума, сознательным
созданием его воли. Взявши это основание за абсолютное, я не
признаю поэзии во всем, что создано не по этому закону, во
всем, что имело цель или было результатом подражания.— Но,
скажут мне, такие-то и такие-то произведения не подходят под
этот закон.— Следовательно, они ложны,— отвечаю я.— Но вер-
по ли ваше начало? — Опровергните его! — Но целый мир при¬
знает эти произведения за художественные: неужели вы одни
правы? — Да, целый мир ошибается, а я один прав. — Но это
самохвальство.— Нет, убеждение.— Но па чем оно основано? —
На моей человеческой природе; короче, на том, что я человек.
Теперь пойдем далее. Я убежден, что эпическая поэма, чтоб
быть истинно художественным произведением, должна отра¬
жать в себе, как в зеркале, жизнь целого народа; должна быть
пульсом, где бьется и трепещет жизнь целого народа; по¬
том, чтоб быть такою, она должна быть произведена по закону
творчества, о котором я уже говорил, то есть должна быть
бессознательным выражением творящего духа, независимым от
сознательной воли человека, следовательно, в высочайшей степе¬
ни оригинальным, в высочайшей степени чуждым всякого под¬
ражания: такова «Илиада» — произведение ли она целого наро¬
да, или какого-нибудь слепца Гомера,— которая есть символ
идеи героической Греции; таков «Фауст» Гете, создание одного
человека, который сам был полнейшим выражением Германии
и который в своем создании представил символ духа своего
отечества, в форме оригинальной и свойственной его Ез:;у; по
не таковы «Энеида», «Освобожденный Иерусалим», «Потерян¬
ный рай», «Мессиада», потому что они созданы не безотчетно, не
самобытно, а вследствие «Илиады», следовательно, живут не своею,
а чужою жизнию и, следовательно, в них нет и не может быть ни
полной картины жизни народа, которому они принадлежат, ни
верного отражения духа времени, которое в них изображено.—
Но, скажут мне, в них есть великие частные красоты? — Не спо¬
рю, может быть; но от этого они тем не менее произведения
ложные и ошибочные.— Но они признаны всеми веками? — Врут
века!..— Да, я имею право, я должен так говорить, потому что
316
кто питает веру в дух человеческий, кто признает разум не за
мечту и призрак и кто, следовательно, признает возможность
и непреложность умозрения, тот должен походить па Галилея,
который, подписавши отречение от своей теории, вскричал, топ¬
нув ногою и бросив перо: «А все-таки солнце стоит, а земля
вертится!» Пусть мне докажут, что мои основания ложны: в та¬
ком случае я создаюсь, что века говорили дело, а я врал, но до
тех пор да позволят мне думать и говорить, что я прав. Но нет,
и тогда, когда опровергнут мои осповпые понятия о поэзии,
я не соглашусь с моими противниками: только тогда для меня
уже не будет поэзии, поэзия превратится в ремесло, в забаву,
в невинное препровождение времени, вроде карточной игры
или танцев. В противном же случае, пусть какой-нибудь рути-
ньер вырывает мою мысль, лукаво умалчивая о предыдущем, из
которого она выведена, и последующем, которым она оправды¬
вается; пускай какой-нибудь «журнальный работник» ругает
меня своим же именем, попрекает своим же ремеслом: какое
мне до этого дело? — Недобросовестное искажение чужой
мысли обнаруживает бессилие нападающего, и его брань есть
сознание этого бессилия. Теперь приведу другой пример, чтобы
показать яснее непрочность эмпирического способа исследова¬
ния истины. Недавно как-то в одном «светском» журнале отстаи¬
вали от жестоких нападок здравого смысла плохенькую при¬
ятельскую книжонку, для чего не нашли лучшего способа, как
отвергнуть возможность поэзии у необразованных и невежест¬
венных народов, как будто бы поэзия есть плод науки и циви¬
лизации, а не свободный плод человеческого духа. Для этого
рыцарь приятельской книжонки вцепился и руками и ногами за
русскую песню:
Как у нашего двора
Приукатапа гора, и пр.,
и доказал ею, как 2X2 = 4, что в русских народных песнях нет
поэзии, потому-де, что они сложены безграмотными мужиками,
а не «светскими» людьми, не кандидатами, магистрами и докто¬
рами, не позаботившись даже догадаться, что приведенная им
в пример песня есть совсем не песня, а голос песни, род при¬
пева, где часто собираются слова, не составляющие никакого
смысла, только для голоса, как, например, «ай люли, ай люли!»
и пр. Вот что значит основывать свои теории на фактах без
мысли! И оттого-то, читая эту статью, сам пе знаешь, что чита¬
ешь: статью ли о поэзии, или о новом способе унавоживать поля
для посеву картофеля... Смешно и жалко!..5
Но я начал о восьмнадцатом веке и о французах и сам не
заметил, как перешел к девятнадцатому веку и к нам, русским;
но это оттого, что XVIII век еще и теперь здравствует во мно¬
гих книгах и журналах, особливо «светских», а французы еще
и теперь водят нас, как детей, на помочах своего эмпиризма,
317
выдавая его нам за эклектизм, или соединение того, что никог¬
да быть соединено не может. Обращаюсь к немцам. В Герма¬
нии, этой исключительной стране умозрения и, следовательно,
истинной философии, в Германии теория искусства и предшест¬
вовала искусству, и шла с ним рядом; и в ней опыт не только
нисколько не противоречил, в этом случае, умозрению, но все¬
гда подтверждал его, потому что умозрение не спрашивалось
у опыта и ничего не требовало у него. И вот почему челове¬
чество только от немцев узнало, что такое искусство и что та¬
кое философия, тогда как французы вместо искусства показали
нам что-то вроде башмачного ремесла, а вместо философии
что-то вроде игры в бирюльки. Умозрение всегда основывается
на законах необходимости, а эмпиризм — на условных явлениях
мертвой действительности. Поэтому первое есть здание, по¬
строенное на камне; второе — здание, построенное на песке, ко¬
торое тотчас валится, если ветер сдунет хоть одну из песчинок,
составляющих его зыбкое основание. Математика есть наука по
преимуществу положительная и точная, а между тем нисколько
не эмпирическая, но выведенная из законов необходимости или
законов чистого разума, что одно и то же: что 2X2 = 4, эта
истина узнана не из опыта, а из духа перенесена в опыт. Что
такое все гипотезы, на которых основана астрономия, как не
умозрение; но между тем разве астрономия наука не положи¬
тельная, не точная? Два величайшие открытия в области нашего
ведения — открытие Америки и планетная система — сделаны
a priori. Над Колумбом и Галилеем смеялись, как над сума¬
сшедшими, потому что опыт явно опровергал их; но они верили
себе, верили своему разуму, и разум был оправдан ими. Очень
понятна заклятая ненависть эмпириков к умозрению: эмпи¬
рик непременно должен быть или ограниченный, или недобросо¬
вестный человек, потому что ограниченность, соединенная
с претензиями, всегда предполагает не только недобросовест¬
ность, но даже низость души. За примерами ходить недалеко:
разве нам не случается видеть людей, которые отрицают су¬
ществование, необходимость и пользу логики как науки потому
только, что их деревянная голова не в состоянии понять этой
науки; людей, которые отрицают живую и необходимую связь
философии со всеми отдельными науками потому только, что
их узкий лоб не в силах разгадать значения философии, знания,
самого для себя существующего и все вне себя сущее или не
имеющее с собою связи признающего за мыльные пузыри; нако¬
нец, людей, которые только чрез исторический способ почитают
возможным и прочным исследование истины, потому что их чу¬
гунный череп может только повторять звук, производимый по
нем ударами фактов, а не пропускает сквозь себя впечатлений
внешней действительности и не переработывает их деятель¬
ностию мозга, словом, потому, что у них есть приемлемость
(receptivitas), но нет самодеятельности (spontancitas)... Что
318
же такое люди, которые отрицают истину потому только, что их
голова вместо мозга набита сенною трухою, и они поэтому со¬
знают себя неспособными возвыситься до нее; которые отрица¬
ют добро потому только, что сознают себя негодяями, и отри¬
цанием добра хотят оправдаться в собственных глазах своих;
которые отрицают красоту потому только, что в их груди бьется
не живое органическое сердце, а завялая, дряблая морковь, —
что такое эти люди, предоставляем решить этот вопрос самим
читателям нашим; а от себя скажем только то, что, по нашему
мнению, кто не умен, тот глуп, кто не благороден, тот подл, что
мы не признаем отрицательных достоинств, отрицательных до¬
бродетелей и что золотая середина хуже всего.
Но еще страннее нам кажется мысль о каком-то современ¬
ном соединении умозрительного и эмпирического способа иссле¬
дования истины: помилуйте, это сущая нелепость, которою
уничтожается целый круг знания, возможность всякой науки,
потому что этим отрицается действительность не только умо¬
зрения, но и самого опыта: если умозрение нуждается в помо¬
щи опыта — значит, оно недостаточно; если опыт нуждается
в помощи умозрения — значит, и он недостаточен. Признавая
недостаточность опыта, мы уничтожаем реальность фактов,
независимую от нашего сознания, и утверждаем этим, что по¬
средством опыта решительно ничего не можпо узнать; призна¬
вая недостаточность умозрения, мы превращаем наш разум
в фантом и утверждаем, что и посредством разума ничего
невозможно узнать. Следовательно, к чему же поведет это со¬
единение? Только два однородные предмета могут составить
одно целое. Другое дело поверка умозрения опытом, приложе¬
ние умозрения к фактам: это дело возможное. Если умозрепие
верно, то опыт непременно должен подтверждать его в прило¬
жении, потому что, как мы уже сказали, и самое опытное зна¬
ние есть необходимо умозрительное вследствие того, что факт
имеет жизнь и значение не сам по себе, а только по тому
понятию, которое он пробуждает в нашем сознании и которое
мы к нему прилагаем. Следовательно, если факты поняты вер¬
но, они непременно должны подтверждать умозрение, потому
что умозрение не противоречит умозрению.
Итак, сочинение г. Дроздова принадлежит к области умо¬
зрения, что и дает ему необходимо важность и силу в глазах
людей мыслящих. Но, отдавая ему должную справедливость, мы
тем более должны быть беспристрастны и к его недостаткам,
а главный его недостаток, как мы уже и заметили, состоит
в противоречии автора с самим собою вследствие его невер¬
ности умозрению, которое он сам признает единственным, за¬
конным способом исследования истины. Сказавши на второй
странице своего сочинения, что «деятельная философия не мо¬
жет выводить начал своих из опытов исторических или из ка¬
ких-нибудь правдоподобных правил, но требует точных и
319
основательных сведений о том, что само в себе истинно, хорошо
и справедливо», он па шестой странице своего сочипения гово¬
рит, что «нравственная философия новейших времен обязана
своим высшим образованием и направлением преимущественно
христианству, если бы захотели отнять у ней все, что заимство¬
вала она из христианского нравоучения, то лишили бы ее всей
ее силы». Здесь явное противоречие. Без сомнения, христианст¬
во довело нас до состояния сознать наши нравственные обязан¬
ности, но это совсем не потому, чтобы христианское нравоуче¬
ние было чем-нибудь особенным от философического учения
и вытекало бы из другого источника; напротив, то и другое
вышло из одного начала, вытекло из одного источника — из ду¬
ха человеческого, из вечных незыблемых законов разума, пото¬
му что сам бог — высочайший разум. Невозможно отрицать
исторического развития человеческого духа, и древние, естествен¬
но, не могли иметь тех чистых и верных понятий о нравствен¬
ности, какие имеем мы, благодаря христианству: но христианст¬
во, в этом случае, было толчком, пробудившим в человеке
только дремавшее, по заключавшееся в нем от века сознаппе
идеи добра; и эта идея была современна бытию человеческого
духа, была, как зерно в земле, заключена в нем, и только из
него должно выводить ее. Думать иначе, значит отвергать воз¬
можность нравственной философии как науки, потому что вся¬
кая наука должна выходить из чистого разума, а не истори¬
чески, в чем согласен с нами почтенный г. Дроздов. Этим пе
только не оскорбляется святость, непреложность и неприкос¬
новенность христианского учения, но еще показывается в пол¬
ном блеске своего божественного достоинства: нравственная
философия, выведенная из законов чистого разума, должна
необходимо быть согласна с ним, потому что христианское уче¬
ние вышло из недр вечного разума и только вследствие своей
гармонии с человеческим духом распространилось по всей зем¬
ле, несмотря на все препятствия, какие ни противопоставлялись
его победоносному ходу. Только в век эмпиризма, в век опыт¬
ных исследований, христианская религия могла сделаться пред¬
метом кощунства: но это было вследствие унижения челове¬
ческого разума, который был принужден смотреть сквозь туск¬
лые очки близорукого опыта и блуждать в темном лесе разно¬
образных и противоречивых фактов, сбиваемый с своего пути
блуждающими огоньками и оптическими призраками явлении.
Разумный не может противоречить разумному. Но философия
все-таки не должна быть богословием, хотя и не противоречит
ему; а богословие не должно быть философиею, хотя оно со¬
гласно с нею. Всякая наука должна иметь свои собственные гра¬
ницы, но общий источник — общий разум. Кант, Фихте, Шел¬
линг, Окен и Гегель суть не противники, но проповедники слова
божия, проповедники в духе времени, а не требований. Об эн¬
циклопедистах мы не говорим, потому что они невинны в фи¬
320
лософии! Обезьяна не есть человек, а пошлые мудрования по¬
шлого «здравого смысла» не суть философия.
В § 13 г. Дроздов говорит:
Если высочайший закон нравственности должен иметь истинное досто¬
инство и нравственную цену, то он должен происходить: а) из идеи высо¬
чайшего добра; б) обнимать всю область нравственной жизни, следовательно,
иметь характер безусловной всеобщности; в) должен иметь прямое и пре¬
имущественное направление к нашему чувству, ибо только сие чувство
зависит от воли во всех отношениях жизни. Но когда мы станем требовать
от высочайшего нравственного закона того, чтобы он всегда научал, как
должен поступать нравственно добрый человек в каждом особенном непред¬
виденном случае, то или будем требовать от него совершенно невозможного,
пли мораль должна превратиться в так называемую «казуистику».
Все это очень верно и делает большую честь мышлению
автора; но вслед за этим же находится противоречие, ложная
мысль, которую очень неприятно встретить после таких прекрас¬
ных и истинных мыслей:
В таком случае, чтобы не расстроить связи и единства начал деятель¬
ной философии, лучше всего предоставить различение добра и зла самому
произволу человека.
Нет, мы думаем, что всечастные вопросы должны необхо¬
димо вытекать из основной идеи нравственности и решаться ею.
В противном случае человек, предоставленный своему произво¬
лу, сам сделается казуистохм. Эта ошибка повела автора к дру¬
гой, важнейшей: заставила его, против своей воли, сделать из
нравственной философии настоящую казуистику. Вторая часть
его сочинения заключает в себе «частную нравственную филосо¬
фию», как приложение нравственной философии к частным слу¬
чаям, которые, как и должно, нисколько не вяжутся ни с целым
сочинением, ни друг с другом.
Подобных противоречий можно б было найти и более; одни происхо¬
дят от неверности автора своему началу, а другие похожи на какие-то
недоговоренные или некстати прибавленные слова, это мы приписываем
каким-нибудь особенным, не подлежащим нашему суждению обстоятель¬
ствам. Но не это цель наша: мы хотели обратить на сочинение г. Дроздова
внимание публики, на которое оно имеет законные права, и потому, беспри¬
страстно высказавши наше мнение о его недостатках, спешим выставить на
вид то, что показалось нам в нем особенно достойным внимания.
Доброе есть религиозная идея, так же как истинное и прекрасное.
Человеческий дух поставляет бога первоначальным источником столько Же
всего доброго, сколько всего истинного и прекрасного, следовательно, вечная
идея доброго имеет тесную, превечную связь с богом, существом всесвятей-
шим. Ибо все доброе принимает характер истинного добра не иначе, как
от своего участия в превечном добре и превечной истине. Посему-то все
нравственно доброе и запечатлено печатию величия и святости, возбуждаю¬
щих в человеке бесконечное благоговение. Ибо оно есть отражение высочай¬
шего добра — бога.
Доброе имеет также теснейшее сродство с истинным и прекрасным.
Ибо и оно так же, как истинное и прекрасное, не подлежит никакой пере¬
мене; вечно равное самому себе, оно никогда не теряет высокого значения
своего для человеческого духа.
11 в. Белинский, т. 1
321
Нравственно доброе становится изящным, когда обнаруживается в нас,
как любовь к богу и человечеству. Посему каждый добрый поступок
человека есть вместе истинный и прекрасный поступок (§ 10).
Вот истинные понятия о религии, к сожалению, так редко
встречаемые в наших мыслителях и богословах! И тем приятнее
встретить их, что вообще наши религиозные понятия еще не
очищены, еще носят на себе какой-то отпечаток младенческого
благочестия доброй нашей старины, этого времени, когда бог
представлялся каким-то грозным карающим существом, воз¬
буждавшем в душе ледяное чувство трепетного благоговения
и бессознательной покорности, а не бесконечною любовию, про¬
явившею себя на кресте мученичеством за человечество; когда
он заключался в изображении, а не в сердце, в храме, а не во
вселенной; словом, этим божеством католическим, божеством
Ватикана, божеством Южной Европы, которое требовало от лю¬
дей жертв тяжких, отречения от всех человеческих чувств, от
всякого человеческого счастия, требовало какого-то христиан¬
ского стоицизма, леденившего душу и превращавшего землю
в пустынное кладбище, наполненное гробами и костями мерт¬
вых; а не тем божеством любви и мира, которое было постигну¬
то глубокою Северною думою, этим гармоническим сочетанием
чувства «бесконечного» с сознанием разума — этих двух эле¬
ментов, без соединения которых не полно истинное знание, не
твердо никакое убеждение; словом, не тем божеством про¬
тестантским, божеством евангелия, которое в самом страдании
дает нам блаженство и в чувстве истины, блага и красоты, в со¬
знании нашего человеческого достоинства еще на земле откры¬
вает нам рай счастия, небо наслаждений, в то же время не
только не запрещая, но еще повелевая нам стремиться к зем¬
ному житейскому внешнему счастию, если источник его заключа¬
ется в нашей душе, если оно не унижает нашего человеческого
достоинства и не противоречит нашему убеждению в том, что
есть истинно, благо и прекрасно; наконец, этого времени, когда
мертвая буква принималась за живую мысль, форма за идею,
обряд за догмат; когда человек, веруя, сомневался в своей
вере, потому что не знал, чему верить, сбиваемый противоре¬
чием букв и форм, мучимый страхом без любви, нося в душе
потребность веры и пе сознавая своей веры. Особенно порази¬
тельно то враждебпое отношение, в котором находится сама
религия с искусством. Разумеется, в этом случае, под словом
«религия» мы принимаем не самую религию, которая везде одна
и та же, где только поклоняются кресту, а взгляд на религию
и понятие о ней, которые у всякого народа более или менее
различны. Наш народ почитает песни и вообще музыку за
бесовское наваждение, за грешную и богопротивную забаву;
также он не признает за образа всего, что похоже на челове¬
ческий лик, а не на какой-то тусклый фантом в византийском
вкусе. Итак, отвергая искусства, он не понимает, что эти образа-
322
которым он поклоняется, суть произведения искусства, хотя
и не развившегося, хотя и остановившегося неподвижно на
одной точке несовершенства; что это церковное пение, при ко¬
тором он молится, есть тоже искусство; что эта божественная
служба есть религиозная идея в изящной поэтической форме
и что, следовательно, религия должна быть тождественна как
с внешнею деятельностию его воли, так и с наукою и с искусст¬
вом. Причина такого странного понятия нашего народа о рели¬
гии скрывается в его истории. Мы получили нашу религию от
народа дряхлого, пережившего самого себя, лишенного эстети¬
ческого чувства, заменившего мысль буквою, убеждение обря¬
дом, живую проповедь слова божия риторическою шумихою,
философическое исследование закона схоластическою диалек¬
тикою. И потому нимало не удивительно, что искусство не при¬
вилось к нашей жизни, и только теперь, при заметных успехах
просвещения, начинает пробуждаться потребность и стремле¬
ние к нему. И потому люди, посвятившие себя на служение исти¬
не, тем более должны стараться развивать эту новую потреб¬
ность, ускорять это новое стремление, столь благородное,
столь священное по следствиям, которые оно должно произ¬
вести в нравственном образовании нашего народа. Они должны
развивать ту мысль, что ученый, бескорыстно орошающий по¬
том чела своего ниву знания, поставивший в труде своем и цель
и счастие жизни и находящий в самом этом труде свою высшую,
свою конечную награду, есть жрец, служитель бога живого, про¬
поведник слова божия, проповедник евангелия, потому что
евангелие есть свет и постигается только светом; что художник
в ту минуту, когда он воспроизводит, в слове, краске и звуке,
дивные явления, таинственно соприсутствующие душе его, есть
также жрец, служитель бога живого, потому что минута вдох¬
новения есть минута великого священнодействия, потому что
в эту минуту он есть орган высшей силы, есть арфа, струнами
которой движет невидимая рука; что человек, отказывающийся
от личного счастия для выполнения своего долга, для оправда¬
ния своего убеждения, есть также жрец, служитель бога живого,
потому что распространяет славу божию, утверждая делом
истину слова божия, потому что вера без дел мертва есть, по¬
тому что всякое учение запечатлевается только мученичеством.
Недаром в древности, у всех народов, жрецы были вместе
и хранителями знаний и служителями искусства: это доказывают
не одни брамины и маги, египетские и греческие жрецы; это
доказывают и левиты еврейские, которые были в то же время
и кпижпиками, то есть хранителями и представителями на¬
родной мудрости; это доказывают и пророки, изрекавшие стиха¬
ми и в поэтических образах свои высшие откровения, свои бо¬
жественные предвидения. В средние века свет просвещения
пламенел только в уединении монастырских келий, и только
одни монахи, служители и мученики веры, были весталками этого
11*
323
священного огня и не дали ему погаснуть до тех пор, пока
он не перешел и к светским сословиям. Да — придет, придет то
время, когда люди убедятся, что науки и искусства суть достоя¬
ние общее, человеческое, но преимущественно жреческое, не
в том смысле, чтобы только жрецы должны были заниматься их
культурою, но в том смысле, что всякий, занимающийся ею, при¬
надлежит к жреческому сословию, и Гердер есть тип и пред¬
возвестник этого времени, когда кадило, книга, перо, лира,
кисть, резец будут символами одной и той же идеи, атрибутами
одной и той же касты, орудиями одного и того же служения
религии, выражающейся тройственно, трехсторонно: в истине,
добре и красоте, соответствующих трем элементам духа на¬
шего — разуму, воле и чувству. Всякое убеждение есть религия,
и поэтому науки и искусства имеют своих мучеников; сколько
ученых пало жертвою своих мнений за то, что они хотели знать
больше веков и больше того, что знали все; сколько художни¬
ков скиталось, подобно древнему старцу Гомеру, по лицу земли
без пристанища, без куска хлеба за то, что они не хотели
променять блаженства внутренней жизни на блестящее ничто¬
жество внешней!..
Свобода внутренняя и внешняя. Внешняя свобода принадлежит к дей¬
ствию и поступку, и в сем случае ограничивается внешними отношениями
и силами естественными. Только воля, но не действие внешнее всегда и со¬
вершенно зависит от распоряжений одного духа; это потому, что мы безу¬
словно можем желать доброго действия, между тем силы природы могут
препятствовать осуществить его. В сем случае воля и самое действие
значат одно и то же. Только свобода внутренняя возвышена над всяким
принуждением. Ибо внутреннее чувство не может быть принуждено к чему-
нибудь ни внешним, ни внутренним образом, то есть ни посредством физи¬
ческого насилия, ни посредством побуждений и наклонностей чувственных
(§ 19).
Задачи, касающиеся нравственной свободы. 1) Может ли насилие, или
физическое принуждение, уничтожить нашу нравственную свободу?
Принуждение, или насилие, может нарушить и уничтожить только
внешнюю, но не внутреннюю свободу; ибо чувство наше всегда остается
непринужденным, свободным; следовательно, когда чисты наши чувствова¬
ния, то и тело его нисколько не очерняется внешним принуждением. Но
чтобы тот, кого посредством физического насилия принуждают к какому-
нибудь безнравственному поступку, остался совершенно невинным, нужно,
чтобы он боролся с искушениями, внешним и внутренним образом, сколько
позволят его силы; ибо кто не сражается с принуждением, тот не терпит
никакого насилия.
2) Могут ли ужасы смерти принуждать нашу волю сделать какой-
нибудь поступок несвободно?
И самый страх смерти не может поколебать нравственного могу¬
щества воли. Посему кто, боясь смерти, делает зло, поступает свободно;
ибо считает потерю жизни большим злом, нежели потерю нравствен¬
ности'.
3) Какое влияние имеют на чувствования и поступки заблуждение
и невежество?
Заблуждение бывает или произвольное, или непроизвольное. Произ¬
вольных заблуждений можно избежать, и по сей самой причине они сво¬
бодны. Непроизвольное заблуждение неизбежно, следовательно, и не сво¬
бодно. То же можно сказать и о невежестве.
324
Теперь, если худой поступок происходит от непроизвольного заблуж¬
дения пли непроизвольного невежества, в таком случае, хотя виновник
поступка может быть оправдываем, но самый поступок никогда не будет
добрым; для человека и человечества он — несчастие (§ 20).
Понятие так называемого детерминизма, или системы, опровергающей
нравственность наших действий. Учение, по которому все наши чувствова¬
ния и поступки зависят будто от необходимых причин, называется детер¬
минизмом. Вооружаясь против всех священных, непреоборимых требований
человеческого духа, оно отвергает всякую свободную самодеятельность,
предполагает бесконечный ряд причин и действий, следовательно, принуж¬
дение не только внешнее, но и внутреннее (§ 21).
Различие детерминизма от фатализма. Ежели учение детерминизма
покоряет нравственную жизнь слепой необходимости, зиждущей, устрояю-
щей вселенную и управляющей ее законами, то называется фатализмом,
сообразно с любым изречением стоиков: «Слепой рок ведет хотящих идти,
влечет нехотящих» («Ducunt volentem fata, nolentem trahunt») (§ 22).
Ложные основания детерминизма. Детерминизм опирается на следую¬
щих ложных началах:
1) Всякое выражение воли находится в теснейшей связи с познанием
добра и зла; сие познание делает принуждение воле, следовательно, человек
поступает несвободно. Но пусть познание происходит по необходимым
законам человеческого духа: решимость чувствовать расположение к узнан¬
ному добру и злу и приводит в исполнение то и другое совершенно свободно
и не зависит от принуждений. История ужаснейших злодеев, которых со¬
весть всегда была на стороне добродетели, подтверждает эту систему
довольно ясно.
2) Всякое желание предполагает достаточную причину, следовательно,
всякое желание зависит от какой-нибудь необходимости.
’ Начало воли есть самая воля, то есть воля есть безусловная причина
своей собственной решимости и не происходит от какой-либо внешней
причины.
3) Нравственная свобода предполагает, что человек может делать зло,
следовательно, люди получили от природы способность ко злу (§ 23).
Хотя мы не хотели больше ни в чем возражать почтенному
автору и делали выписки из его сочинения с намерением выка¬
зать достоинства его, но здесь мы невольно должны прервать
на время дальнейшие извлечения и вступить в спор. Для этого
мы прибегаем к его же оружию — умозрению. Первые два воз¬
ражения автора против детерминизма дельны и справедливы;
но третье привело в крайнее удивление. Он говорит, что если
«человек чувствует иногда как бы влечение ко злу,— это пока¬
зывает уже некоторый переворот в его первоначальной приро¬
де».— Это нам кажется чем-то похожим на темные мистические
изречения, а мы большие неохотники до мистицизма, и все,
чего нельзя вывести из чистого разума, почитаем за мечты,
хотя и невинные, но тем не менее ни к чему не ведущие. О ка¬
ком перевороте в нравственной природе человека говорите
вы, г. автор? — Ведь вы верите ходу человечества вперед, признае¬
те историческое развитие человеческого духа? Если так, то,
верно, этот ход начался с начала, и его точкою отправления
было совсем не падение с высоты, а, напротив, подъем снизу
вверх? В чем состоит ход человечества? — В стремлении к со¬
вершенству.— А совершенство? — В сознании. Следовательно,
прогресс развития должен состоять в прогрессе сознания?
323
Кажется, против этого нечего сказать? Если автор разумеет под
этим «переворотом в первоначальной человеческой природе»
грехопадение первого человека, то он не так понимает его. Это
грехопадение было необходимо, потому что иначе вселюбящий
промысел божий не допустил бы его, а допустив, не имел бы
нужды собственным мученичеством на кресте искуплять род
человеческий, Не так ли? Если же это было, значит, было пред¬
положено в вечных судьбах промысла, следовательно, необхо¬
димо должно было быть. Против этого спорить невозможно,
и необходимость и значение всего этого можно вывести из ра¬
зума. Прародители наши находились в состоянии невинности
и блаженства, но не в состоянии сознания, которое одно есть
истинная цель и причина бытия человеческого. В младенчестве
всякий человек счастлив бессознательно, следовательно, можно
быть счастливым и без сознания; но между тем не есть еще
человек, и блаженство, которым он наслаждается, не есть то
блаженство, которым он должен наслаждаться, потому что он
должен сознать себя и лишиться своего блаженства, чтобы при¬
обрести новое блаженство уже путем сознания. «Бысть первый
человек Адам в душу живу, последний Адам в дух животво¬
рящ», то есть «первый человек Адам стал душою живущею;
а последний Адам есть дух животворящий» (Быт. 2. 7), —- сказано
еще в Ветхом завете, а апостол Павел еще яснее выразил
эту мысль, сказав: «а первый человек от земли, перстен; второй
человек — господь с небеси», то есть «а первый человек из
земли, земной; второй человек господь с неба» (к Ко¬
ринф. XV. 47). Следовательно, очень ясна необходимость паде¬
ния первого человека: он должен был сознать себя. До падения
для него не существовало добра, потому что не существовало
зла: о том и другом он узнал чрез сознание, следовательно,
самое падение его было шагом вперед, а не понятным движе¬
нием назад, было успехом, а не проигрышем, и потому чрез
свое падение он только вошел в свою природу, а не исказил ее.
Итак, начало зла заключается в самом человеке, так же как
и начало добра, потому что то и другое вытекает, как необхо¬
димость, из его сознания. Если бы человек не имел способности
делать зло, он не был бы и добр, не был бы свободен. Ум
человека различает добро от зла; но воля человека избирает
то или другое. Конечно, когда сознание ясно и полно, оно пере¬
ходит и в нашу деятельность, то есть гармонически проявляется
и в уме, и в чувстве, и в воле; но тем не менее возможность
зла лежит в основании нашего духа, потому что чего нет в нас,
того мы не можем ни знать, ни делать. Разумеется, мы говорим
здесь о сознательном стремлении ко злу, потому что, когда
человек делает зло или по невежеству или вследствие ложных
понятий о добре, он прав пред высшим законом нравствен¬
ности. Убеждение все оправдывает, все освящает, потому что
всякое убеждение есть религия и может иметь своих мучени¬
326
ков, которые, воюя, по своему бессознанию, против истины, и па¬
дали (?) все-таки за истину. Человек только грешит против
нравственности, когда мыслит недобросовестно, то есть когда,
понимая истину, не хочет принять ее, потому ли, что ему жаль
расстаться с своими старыми идеями, как юноше с игрушками
младенчества, из которого он только что вышел, или потому,
что эта истина унижает его в собственных свои* глазах, обличая
его эгоизм, ничтожество. Итак, мы думаем, что на последнее
основание детерминизма самым лучшим опровержением есть
то, что «начало воли есть самая воля» и что, следовательно,
человек, сделавший что-нибудь дурное, никогда не должен себя
оправдывать тем, что «если это сделалось, то должно было
сделаться», но всегда должен сожалеть о том, что это сдела¬
лось, и твердо решиться впредь этого не делать, потому что,
повторяем словами самого г. Дроздова, и начало воли есть
самая воля.
Четвертое основание детерминизма состоит в том, что будто
бы «свобода воли противоречит божественному всеведению,
потому что человек может поступать не иначе, как бог предви¬
дит». Г-н Дроздов опровергает это основание тем, что воля
человеческая согласна с волею божиею. Это совершенно спра¬
ведливо: воля человека сообразна с волею бога, точно так же
как слово божие сообразно с законами человеческого разума:
«И соблюдающий заповеди его, в нем пребывает, и той в нем.
И о сем разумеем, яко пребывает в нас от духа: его же дал
есть нам», то есть «Соблюдающий заповеди его (бога) пребывает
в нем, а он в том. А что он пребывает в нас, сие мы узнаем
по духу, который он нам дал»,— говорит апостол Иоанн
(поел. Иоанн. III. 24), и: «Егда же покорит ему всяческая, тогда
и сам сын покорится покоршему ему всяческая, да будет бог
всяческого и во всех», то есть «Когда же все покорится ему,
тогда и сам сын покорится покорившему все ему, дабы бог был
все во всем», — говорит апостол Павел (к Коринф. XV. 28).
Понятие и два рода совести. Совесть есть первоначальное чувство
добра и зла, основанное на существе духовной природы человека. Она
раскрывается в человеке вместе с развитием ума и обнаруживается, как
совесть добрая, во всем чистом и справедливом образе деятельности и ха¬
рактера человека, но она становится совестию злою, угрызающею при
всяком незаконном чувствовании или поступке существа свободного и ра¬
зумного.
Примечание. Совесть, рассматриваемая в двух вышеупомянутых отно¬
шениях, разделяется на предыдущую и последующую. Первая предшествует
поступку и состоит в сознании нравственного закона и обязанностей, воз¬
лагаемых им на свободу воли нашей; последняя следует за поступком и
оправдывает или осуждает человека, производя в нем сознание свободного
исполнения или преступления закона (§ 27).
Здесь мы опять невольно принуждены остановиться, чтобы
спросить автора: из каких начал и вследствие какой необ¬
ходимости вывел он это подразделение? Оно кажется нам
327
совершенно произвольным, а следовательно, и несправедливым: то,
что автор называет «сознанием нравственного закона и обязан¬
ностей, возлагаемых им на свободу воли нашей», есть дело
разума, а отнюдь не совести; следовательно, его «предыдущая»
совесть принадлежит к казуистике, а не к нравственной фило¬
софии.
Должно смотреть на совесть, как на существенную принадлежность
нашей природы. Совесть принадлежит к существенным свойствам духовной
природы человека и никак не может быть следствием воспитания или ка¬
ких-нибудь общественных господствующих привычек. Если бы то иля
другое было справедливо, то мы могли бы когда-нибудь обойтись без сего
внутреннего судии. Но опыт уверяет, что хотя можно усыпить совесть, но
никак нельзя совершенно искоренить ее в человеческом духе. — Из одного
мира она сопровождает нас в другой (§ 28).
Есть люди, которые отрицают существование совести и по¬
читают ее за предрассудок, основываясь на бесконечной разно¬
сти понятий о добре и зле у разных народов. «У нас,— говорят
они,— уважение к родителям и к старости есть одна из священ¬
нейших обязанностей, нарушение которой влечет за собою
угрызение совести; но у многих диких народов дети вешают на
деревьях своих престарелых родителей и исполняют это варвар¬
ское дело как предписание закона или религии, неисполнение
которого влечет за собою угрызение совести; у нас человеколю¬
бие оказывается даже личным врагам; дикие мучат и едят своих
пленников. У нас мщение есть порок, у варваров оно добро¬
детель; следовательно, что ж такое совесть, если она в одном
месте награждает за то, за что наказывает в другом, и наобо¬
рот?» Здесь явная ошибка, происходящая оттого, что следствие
принято за причину, то есть совесть за разум. Определим, что
такое совесть. Человек создан для сознания и потому может
быть счастлив только вследствие сознания, следовательно, со¬
знание есть его нормальное, естественное, а потому и блажен¬
ное состояние, которое проявляется в равновесии человека
к самому себе, в мире и гармонии с самим собою; бессозна¬
тельность же есть состояние неестественное, болезненное, раз¬
рушающее равенство человека с самим собою, мир и гармонию
его духа, следовательно, разрушающее его счастие. Итак, со¬
весть добрая есть состояние сознания, злая — состояние бес-
сознания. Первая условливает наше счастие, даже и в случае
потерь, лишений, страданий, горестей, потому что, лишаясь
счастия внешнего, мы не лишаемся счастия внутреннего, проис¬
ходящего от сознания и состоящего в спокойствии и гармонии
духа; вторая же, и при внешнем счастии, состоящем в исполне¬
нии наших эгоистических желаний, лишает нас внутреннего
счастия, которое одно истинно и удовлетворяюще, потому что
приводит наш дух в неравенство, в дисгармонию с самим собою
вследствие бессознания. Выньте рыбу из воды, она издохнет,
потому что вода есть стихия, которою она дышит; лишите чело¬
328
века сознания, он будет несчастлив, потому что сознание есть
стихия его духовной жизни. И потому, когда человек делает то,
чего, по его сознанию, ему не должно делать, он разрушает
свою внутреннюю гармонию, потому что поступает против созна¬
ния. Если человек наслаждается полным счастием, и внешним
и внутренним, и если, не имея твердости лишиться внешних вы¬
год, условливающих его счастие, он, для сохранения их, посту¬
пит недобросовестно, — то непременно лишается не только сво¬
его внутреннего счастия, но и внешнего, потому что не вне¬
шнее счастие условливает внутреннее, а внутреннее внешнее.
Напротив, хотя человек, который бы оставил своего отца, свою
мать, братьев и сестер, жену и детей, составлявших счастие его
жизни, и свое достояние, обеспечивавшее его счастие, оставил
бы все это для того, чтобы не поступить против своего убежде¬
ния и подлостию не купить обладание условиями своего счастия,
словом, для того, чтобы не нарушить заповеди спасителя: «Иже
любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин; и иже
любит сына или дщерь паче мене, несть мене достоин; и иже не
приимет креста своего и в след мене не грядет, несть мене
достоин»;6 хотя, говорю я, такой человек и был бы мучеником,
страдальцем, но все не лишился бы своего внутреннего блажен¬
ства, то есть все бы остался равен самому себе, в мире и гар¬
монии с самим собою, и еще в большей гармонии, нежели был
прежде, потому что в самом страдании нашел бы новое, высо¬
кое блаженство, состоящее в сознании исполненного долга,
поддержанного человеческого достоинства, хотя страдание тем
не менее осталось бы страданием. Итак, вот что совесть — со¬
знание гармонии или дисгармонии своего духа. Очевидно, что
она есть только следствие сознания хорошего или дурного
поступка, а не самое сознание, и потому не может направлять
нашей деятельности, которая должна управляться непосредст¬
венно самим разумом или сознанием; другими словами, мы не
совестью понимаем, что хорошо или дурно, а сознанием. Сле¬
довательно, если дикарь душит своего престарелого отца, то он
делает это не по внушению своей совести, а по внушению своего
разума, и следовательно, он совершенно прав пред своей со¬
вестью, и очень естественно, что она не только не должна нака¬
зывать его за подобный поступок, но еще должна наградить,
потому что совесть никогда не должна быть во вражде с убеж¬
дением. Итак, у всех народов могут быть различные понятия
о добре и зле, смотря по степени их сознания, но совесть везде
одна и та же, и отрицать ее существование различием правил
нравственности у разных народов значит еще несомненнее
утверждать ее существование.
Какие нуоюны побуждения для нравственно доброго поступка? Для
того чтобы поступок был совершенно добрым, требуется, чтобы побудитель¬
ными причинами деятельности нравственно разумного существа были:
1) познание добра и 2) любовь к добру и первообразу всего доброго.
329
Ибо не только внешнее действие должно быть добрым, но и самоо
чувствование, или, что одно и то же, самое намерение, которое составляет
душу поступка. Посему совершенно добрый поступок есть принадлежность
только человека с образованным умом и сердцем7. Впрочем, само собою
разумеется, что доброе намерение не может оправдать худого поступка; ибо
добрая цель не может облагородить низкого средства (§ 30).
Понятие поступков нравственно безразличных. Нет в нравственном
смысле поступков безразличных, то есть нет никакого свободного поступка,
который бы не был ни добр, ни худ. Ибо в области нравственной все воз¬
можные отношения жизни нашей должны быть определены чистотою
чувствования. Здесь все зависит от того, с каким намерением мы по¬
ступаем; но намерение никогда не может быть безразличным, потому
что оно всегда должно быть направлено к высочайшему добру; следо¬
вательно, невозможно никакое действие, в нравственном отношении безраз¬
личное.
Только те поступки могут считаться безразличными, которые пе имеют
никакого отношения к свободе. Но они по сему самому не относятся к нрав¬
ственному бытию человечества (§ 31).
Все это прекрасно и верно, потому что выведено из зако¬
нов необходимости, а не из опыта. Особенно замечательны две
мысли. «Совершенно добрый поступок есть принадлежность
только человека с образованным умом и сердцем»,— говорит
автор, и говорит глубокую истину. Есть люди с зародышем в душе
всего великого и прекрасного, но не развившие этого заро¬
дыша сознанием, и потому они способны только к мгновенным
порывам к добру и делают поступки, которые противоречат
всей остальной их жизни. Добрые поступки у них бессознательны
и потому не имеют никакого достоинства, никакой цены, по¬
тому что они не суть следствие их воли, но следствие их орга¬
низма. Зародыш всего прекрасного скрывается в нашем орга¬
низме, и, пока он не разовьется сознанием, все хорошие
поступки будут плодом его животности, произведением его го¬
рячей крови и обильным электричеством нерв, другими словами,
будут бессознательны. Только тот чувствует человечески, а по
животно, кто понимает свое чувство и сознает его. У такого
человека прекрасный организм есть средство, а не причина его
совершенства, потому что причина совершенства должна заклю¬
чаться в сознании и воле. И потому-то справедливо, что истинно
добр только тот, кто разумен; а разумен только тот, кто свобо¬
ден, следовательно, только те поступки, которые происходят
прямо из нашей свободы, могут назваться добрыми, а не те,
которые проистекают из животного инстипкта. Ипаче верная со¬
бака и послушная лошадь были бы существами самыми добро¬
детельными. И потому, по нашему мнению, нет ничего жалчо
и ничтожнее тех людей, в похвалу которых нельзя сказать пичо-
го, кроме того, что они «добрые люди». Верно, всякому случа¬
лось называть кого-нибудь вслух пустым малым и слышать
в защищенне его тысячу голосов, которые кричат: «Да он до¬
брый человек!» Конечно, такой «добрый человек» точно до¬
брый человек, но только в смысле французского выражения
330
«bonhomme» *, и очень хорошо напоминает собою верную соба-»
ку и послушную лошадь.
«Нет никакого свободного поступка, который бы не был ня
добр, ни худ, потому что поступок есть результат намерения,
а намерение никогда не может быть безразлично», — говорит
автор, и также говорит глубокую истину. Если поступок вышел
из сознательного желания сделать добро, он добр, хотя бы и не
достиг своей цели и не произвел никаких благих следствий; если
же в намерение примешивался расчет эгоизма, поступок ду¬
рен, безнравственен, хотя бы и произвел благие следствия; до¬
бро тогда только добро, когда оно само себе цель. Белое не
может быть черным, а черное белым; кто не умен, тот глуп, кто
не благороден, тот подл; с истиной не может и не должно быть
торга, договоров, условий и уступок. Когда богач, спрашивав¬
ший Христа о средствах к спасению, не согласился раздать бед¬
ным своего богатства и идти вслед за спасителем,— он был ли¬
шен царствия божия, хотя и от юности строго выполнял все
правила закона веры8. Кто сознает необходимость усовершен¬
ствования и ежеминутно не улучшается столько, сколько мо¬
жет, тот подл, хотя бы он был выше тысячи людей, хотя бы
целые тысячи признавали в нем идеал благородства, подл пе¬
ред самим собою, виноват и преступен пред высшим судом
нравственности, перед судом своей совести. Кто говорит: «Я
знаю то и то, с меня довольно этого», или «Я возвысился до
такой степени, что я лучше многих, с меня этого довольно»,—
тот богохульствует, потому что идеал человеческого совершен¬
ства есть Христос, следовательно, всякий обязан стремиться
к возвышению себя до этого идеала; достигнет ли он его или
нет — это не его дело; по крайней мере он должен работать
над собою каждую минуту, чтобы с лихвою возвратить господу
полученный от него талант. Кто говорит, что человеку невоз¬
можно возвыситься до Христа, так как он бог, тот богохульст¬
вует, потому что Христос только для того и явился на земля,
чтобы дать людям образец жизни, и хотя он был бог, но все
понимал и все переносил человечески, потому что перед своим
страданием «начал скорбеть и тужить» и говорил апостолам:
«Прискорбна душа моя до смерти» и молил отца: «Отче мой,
аще возможно, да мимо идет от меня чаша сия» и увещевал
учеников своих бдеть и молиться, потому что «дух убо бодр,
ллоть же немощна»9. Кто же отрицает в себе способность
к усовершенствованию по слабости ума и недостатку чувства,
тот отрицает, что он создан по образу и подобию божию, тот
отказывается от человеческого достоинства и не только не имеет
права называть людей своими ближними и братьями, но даже
не имеет права употреблять себе на пользу скотов, потому что
£ простак (франц.). — Ред.
331
равный равного не имеет права делать своим рабом, и брат
брату никогда не служит.
Молитва. Молиться — значит жить в присутствии божества. Ибо мо¬
литва есть беседа нашего духа с богом; она бывает или внутренняя, когда
заключается в тихом созерцании божества, созерцании, глубину коего не
в состоянии выразить никакие слова, или внешняя, когда изливается в
слове, когда язык невольно движется от избытка сердечных чувствований.
В обоих случаях молитва питает ум и сердце человека, просвещает
рассудок и укрепляет волю, ибо, кроме того, что дух наш не может ие
делаться совершеннее, возвышаясь к идеалу всех совершенств, во все
времена и всеми народами признаваема была необходимость молитвы, и
пренебрежение ее почиталось признаком совершенного упадка духа и чрез¬
вычайной его привязанности к земному (§ 37).
Здесь мы опять невольно останавливаемся, но уже для
того, чтобы вполне согласиться с почтенным автором и отдать
должную справедливость его мышлению. Он сказал о молитве
очень немного, но так как в этом немногом заключается опре¬
деление молитвы, выведенное из разума и основанное на законе
необходимости, то это немногое заключает в себе бесконеч¬
ный ряд последовательных идей, которые можно из него выве¬
сти,— словом, заключает в себе целую теорию, целую философию
молитвы, как малое зерно заключает в себе огромное де¬
рево. Тут уже не нужно прибегать к пошлой казуистике, кото¬
рая, заметим мимоходом, относится к умозрению точно так же,
как подьяческое крючкотворство к юриспруденции. «Молиться
значит жить в присутствии божества, потому что молитва есть
беседа нашего духа с богом» — такими немногими словами
определяет автор молитву, и из его краткого определения вся¬
кий может вывести полную теорию молитвы. По нашему мнению,
в котором мы глубоко убеждены и которое поэтому почитаем
истинным и непреложным, эта теория непременно должна быть
такая, какова следующая: жизнь человеческая разделяется на
две стороны — на бессознательную и сознательную, иначе — на
небесную и земную, или человеческую и животную, так что каж¬
дое мгновение человека есть необходимо или богохульство или
молитва, дань небу или жертва Ваалу, служение богу живому
или поклонение князю тьмы! Объяснимся. Человек есть орган
сознания природы, следовательно, человек создан для созна¬
ния. Для достижения этой цели он снабжен средствами, чисто
материальными,- которые только чрез прогрессивный ход его
сознания переходят в орудия духовные. Вне формы нет и не
может быть никакого проявления идеи, и вот для чего бессмер¬
тный дух человека облечен в слабую, тленную персть, и вот по¬
чему беспредельная вселенная, эта бесконечная цепь миров,
есть не что иное, как бы тело духа божия, который всего тор¬
жественнее и всего яснее проявляет себя в человеческом
сознании. Итак, наша плоть есть наше средство, наше орудие, шь
тому что человек есть сперва животное, а уже после делается
духом. Прежде всего ему надобно иметь живую, раздражитель-»
332
ную чувственность; из чувственности вытекает чувство или это
темное, необъяснимое стремление к бесконечному; а сознан¬
ное чувство есть дух. Сильная вспыльчивость, живая способ¬
ность предаваться и зверскому гневу и необузданной радости,
непомерное эгоистическое самолюбие, стремительные порывы
к наслаждению — суть признаки прекрасной организации, из
которой выходит и эта сила и мощь характера, не знающего пре¬
пятствий в мире, из которой выходит и это тревожное стремле¬
ние к бесконечному, эта таинственная тоска по чем-то неведо¬
мом, словом, из нее выходит то, что мы называем «чувством».
Кто не имеет этой животной организации, для того невозможно
слишком большое развитие духа, но кто постепенным развитием
своего сознания не убил, или, вернее сказать, не покорил
себе этой животности, тот и остается только животным, и жи¬
вотным самым отвратительным. Итак, ясно, что наша плоть есть
наше оружие, наше средство, но не наша цель, которая состоит
в сознании. Но люди часто принимают средство за цель и цель
за средство. Земную жизнь и наслаждение земными благами
они почитают конечною целию своего бытия; в развитии своей
чувственности поставляют назначение культуры и душевное раз¬
витие до известной степени почитают только украшением мате-
рияльной жизни: это составляло практическую философию древ¬
него мира и религию восьмнадцатого века. И поэтому-то жизнь
людей и разделяется на две стороны — на богохульство и мо¬
литву. Человек богохульствует, когда, забыв, что он должен
пить и есть для того, чтоб жить, а не жить для того, чтоб пить
и есть, и что пища и питие есть средство для поддержания его
бытия, а не для наслаждения; человек богохульствует, когда
посвящает все средства своего ума, всю силу своих способ¬
ностей, всю деятельность своего духа для приобретения серебра
и золота, забыв, что этого серебра и золота ему нужно не
больше того, сколько ему нужно его для поддержания своего
существования, чтоб освободить дух свой от зависимости от
внешпей жизни и дать ему возможность свободно и беспре¬
пятственно развиваться; человек богохульствует, когда упот¬
ребляет язык свой на празднословие и сла(во)словие, забыв,
что слово есть орудие идеи, которая от бога; человек бого¬
хульствует, когда тратит свое время на ничтожные забавы и
наслаждения, в которых не участвует ни ум, ни сердце, забыв,-что
краткий срок его существования дап ему на подвиг великий —
на сближение с богом, и что его наслаждения должны состоять
только в истине, благе и красоте. Да — во всех этих случаях
человек богохульствует, потому что унижает свое человеческое
достоинство, отклоняется от цели, разрывает свою связь с бо¬
гом, буйно и крамольно отлагается от него и переходит на сто¬
рону Ваала, позлащенного идола мира сего, и поклоняется ему.
Но человек молится, когда, сделав себе кумир из своего убеж¬
дения, с веселием и радостию несет и свое счастие и самого
333
себя на жертву этому божеству и хочет лучше пасть под разва¬
линами вселенной, нежели изменить ему; человек молится, когда,
в минуту сознания своего нравственного унижения, своего
поруганного человеческого достоинства, своего забытого долга,
твердо и мужественно решается сбросить с себя позорное ярмо
ничтожных слабостей и разорвать постыдные путы мелочных
отношений жизни, препятствующих ему (идти) свободно и по¬
бедоносно к высокой цели его бытия; человек молится, когда,
по вечному, таинственному закону гармонии противополож¬
ностей, обручается душою с другою душою, когда в этой душе
осуществляются для него и его стремление к истине, благу
и красоте, и все, чем мило прошедшее, прекрасно настоящее,
благодатно будущее, и все, что дает жизнь здешняя, что обе¬
щает загробная, и все великое и святое бытия, и когда в ней,
в этой душе, в этом другом его Я, он почерпает и жар убежде¬
ния, и силу веры, и энергию воли, и когда его чувство, вместо
того чтоб быть темным, трепетным предощущением бесконеч¬
ного, заключит его в себе, перейдет в него и сольется с ним, как
внушение бытия, самого для себя существующего, самим собою
радующегося, нераздельного и тождественного с блаженством;
когда его любовь к избранному предмету перейдет в ту миро-
объемлющую любовь, которая не ограничивается землею и жи¬
вущими на ней, но объемлет собою и солнцы, разливающие
жизнь и свет по беспредельному творению божию, и звезды,
мерцающие для нас темными надеждами, как залог продолже¬
ния нашего бытия, и мириады миров, которым нет конца, нет
предела, и всю пучину жизни, света и сознания, которая от веч¬
ности живет сама собою и для себя самой... Человек молится,
когда, стоя над развалинами разрушенного счастия жизни, над
гробом того, что некогда, во дни веселия и радости, сливало
его жизнь с общею жизнию вселенной, с тяжким стоном и жгу¬
чими слезами, сознает, что для него еще не все кончилось
в этой жизни, что для него наступает другая эпоха блаженства,
страшного и грозного, блаженства жить не для себя, а для дол¬
га, и решается святилище души своей превратить в алтарь вос¬
поминания, где будет мелькать для него грустный образ поте¬
рянного друга, когда-то так пламенно любившего его, так горячо
верившего ему, такою полною чашею лившего на него бла¬
женство, и в нем, в этом воспоминании, горестном и раздираю¬
щем душу и вместе сладостном и отрадном, находит и свое
счастие и силу к перенесению тяжкого креста, пока не ударит
час нового соединения в новой жизни... Человек молится, когда
творит великое или удивляется великому в ближнем; человек
молится, когда, посвящая себя исследованию истины, при свете
ночкой лампы, безмолвной свидетельницы его высоких подви¬
гов, внезапно объятый священным трепетом, открывает какой-
нибудь общий мировой закон, из которого выводится и объяс¬
няется целый ряд частных явлений; человек молится, когда, то*
334
мимый жаждою знания, изучает науку в трудах жрецов ее и с
каждою минутою удостоверяется, что мало-помалу исчезает
пространство, разделяющее его с природою, что эта природа,
дотоле чуждая и враждебная ему, приобщается, в акте созна¬
ния, к его существу и приходит в единство и гармонию с его
духом; человек молится, когда в святую минуту наития свыше
он исчезает в пучине мировой жизни и выносит из нее новью
миры жизни, новые образы бытия, и передает их в поэтических
символах, и словом, звуком, краскою выражает то, для чего нет
слов на языке человеческом, что понимается одним только чув¬
ством, и то в светлую минуту восторга, когда наше Я, соприкаса¬
ясь к общей жизни вселенной, переносит ее в себя и, усилен¬
ное, усугубленное до бесконечности, живет новою, усиленною
жизнию; человек молится, когда, слушая или созерцая произве¬
дение творческого гения, из мира внешних отношений жизни
переносится в мир высший и, с полным сознанием своего бла¬
женства, тоскливо порывается к чему-то бесконечному, как бы
бессознательно желая заключить в себе весь мир и себя ощу¬
тить во всем мире. Да — во всех этих случаях человек молится,
потому что во всех этих случаях он ощущает в себе присутствие
божества и себя чувствует в божестве, и каждое мгновение,
когда с ним творится чудное, когда весь организм его приходит
в гармоническое соотношение с организмом всей вселенной
и делается как бы настроенною арфою, издающею согласные звуки
от малейшего сотрясения, и он дрожит и трепещет, и горит
и хладеет, и томится сладкою мукою, и плачет без горя, и весе¬
лится без радости, и дышит бурно и порывисто, и умирает от
полноты и избытка блаженства,— всякое такое мгновение есть
беседа нашего духа с богом, есть — молитва. Но есть еще со¬
стояние души нашей, которое не есть ни молитва, ни богохуль¬
ство,— это когда мы выполняем необходимые, хотя и пошлые,
условия жизни. Но и эти минуты могут быть человеческими,
когда мы смотрим на исполнение обязанностей такого рода,
как на необходимую жертву, условливающую нашу внутреннюю
жизнь, смотрим на них как на средства, а не на цель, и испол¬
няем их с неудовольствием. Но истинное состояние человека
должно быть состояние молитвы, состояние восторга, когда для
него исчезают все отношения житейские, когда он становится
выше земных нужд, забот, радостей и огорчений, словом, когда
он перестает быть членом только своего семейства, граждани¬
ном только своего отечества, жителем только своей планеты,
но когда он живет общею жизнию мироздания, а жить та¬
кою жизнию значит приобщаться существу божию, значит — мо¬
литься!..
Теперь мы думаем, что довольно познакомили наших чита¬
телей с брошюркою г. Дроздова, но хотим сделать из нее еще
одно извлечение и поговорить по поводу этого извлечения, содер¬
жание которого касается одного из важнейших вопросов
335
нравственной философии. В его «частной или прикладной»
нравственной философии есть глава под титулом: «Нравствен¬
ная жизнь, рассматриваемая в гармонии с нами самими».
Основание сей гармонии. Согласие нравственного бытия с нашею соб¬
ственною личностию проистекает из благочестивой уверенности в том, что
мы не принадлежим исключительно нам самим, но составляем собствен¬
ность божества и человечества. В сем случае нравственное чувство разли¬
вает свой свет, свою жизнь на тело и дух человека, имея непосредственным
предметом своим тот долг, которым мы обязываемся сохранять себя и обла-
гороживать (§ 42).
Человек должен стремиться к своему совершенству
и поставлять свое блаженство только в том, что сообразно
с его чувством, разумом, что он сознает своим долгом: вот
основной закон нравственности. Причина этого закона заключа¬
ется в нем же самом, то есть в том, что человек есть человек,
орган сознания природы, сосуд духа божия, и еще в том, что
человек есть член великого семейства, которое называется
«человечеством». Итак, этот закон совершенно условливает и
определяет значение человека и его обязанности. Человек
носит в душе своей все зародыши, все элементы той степени
сознания, до которой ему назначено достигнуть; но развитие
этого сознания невозможно для него самого, отдельно взятого,
потому что развитие требует толчков и побуждений извне, а эти
толчки и внешние побуждения происходят от симпатии, связы¬
вающей людей между собою, и взаимных отношений, существую¬
щих между ними. Симпатия человека к людям происходит от
его родственности с ними, от тождественности его стремления
и цели с их стремлением и целью, так что в них он любит себя,
а их любит в себе; другими словами, его сознание любит их
сознание, то еСть сознание самого себя в другом субъекте, по¬
тому что любовь есть сознание, сознающее самого себя и в
сознании самого себя ощущающее блаженство. Иначе чем бы
объяснили мы, что всякий человек любит только людей, которые
стоят с ним на более или менее равной степени сознания, и что
он не только совершенно равнодушен и холоден к людям, кото¬
рые стоят на несравненно низшей степени развития или совсем
не обнаруживают никакого стремления к развитию, но даже чув¬
ствует к ним отвращение, род ненависти, так что ему несносен
их вид, тяжела их беседа, словом, мучительно всякое соприкос¬
новение с ними? Взаимные отношения людей происходят от раз¬
ности степеней и разносторонности их сознания, посредством
которых люди взаимно действуют один на другого. Первоначаль¬
ною причиною соединения людей был инстинкт материяльных
нужд, а самое соединение их — союзом против внешней приро¬
ды, угнетавшей людей в их диком состоянии. Из сознания этих
материяльных нужд родился инстинкт потребностей нравствен¬
ных; из сознания потребностей нравственных развилось чувство
симпатии, а сознанная симпатия есть любовь. И вот происхожде¬
336
ние жизни семейной, общественной и, наконец, общечелове¬
ческой. Всякий человек развивает собою одну сторону сознания,
и развивает ее до известной степени; а возможно конечное
и возможно всеобщее сознание должно произойти не иначе,
как вследствие этих разносторонних и разнообразных сознаний;
и поэтому одному человеку невозможно достигнуть полного
и совершенного развития своего сознания, которое возможно
только для целого человечества и которое будет результатом
соединенных трудов, вековой жизни и исторического развития
человеческого духа. Следовательно, всякий индивид есть член,
есть часть этого великого целого, есть его сотрудник и споспе-
шествователь к достижению его цели, потому что, развивая свое
собственное сознание, он необходимо отдает, завещевает его
в общую сокровищницу человеческого духа. Каждый человек
должен любить человечество, как идею полного развития созна¬
ния, которое составляет и его собственную цель, следовательно,
каждый человек должен любить в человечестве свое собствен¬
ное сознание в будущем, а любя это сознание, должен споспе¬
шествовать ему. И вот его долг, его обязанности и его любовь
к человечеству. Эта сладкая вера, это святое убеждение буду¬
щего блаженства человеческого рода должны обязывать нас
к нашему личному, индивидуальному усовершенствованию и
должны давать нам силу и твердость в стремлении к нему.
Иначе что ж бы такое была наша земная жизнь? Какой бы
смысл имело наше тревожное стремление вперед, наша жажда
улучшения и обновления? Не было ли бы все это калейдо¬
скопическою игрою бессмысленных теней, пустым оборотом
колеса около своей оси, утвержденной на воздухе, — колесо
беспрестанно вертится, а с места ни шагу? Что же бы такое
были эти мировые перевороты и потрясения; это беспрестанное
изменение нравственного состояния человечества? Что же бы
такое было и наше сознание, если бы оно имело определенные
границы и было бы исключительным достоянием одних избран¬
ников какой-то слепой судьбы? Нет — уничтожьте необходи¬
мость совершенствования целого человечества — и вы лишите
человеческое бытие и смысла и значения; уничтожьте веру
в эту необходимость — и вы лишите человека всей его нравст¬
венной жизни, унизите его в собственном сознании. Нет — она
будет, она наступит, пора этого преображения мира, когда,, по
глаголу апостола Петра, «будет новая земля, новое небо, в них
2ке обитает правда», когда, по глаголу апостола Павла, «и сама
тварь освободится из рабства тления в свободу славы сынов
божпих»10. «Но когда же наступит это время?»—спрашивают
с насмешкою сильные мира сего.— Несмысленные, разве не ви¬
дите, разве не замечаете, что уже наступает оно, наступает цар¬
ствие божие? Разве не помните, что сказал господь фарисеям,
спрашивавшим его о том же? «Не придет,— отвечал он им,— не
придет царствие божие приметным образом, и не скажут: вот,
337
оно здесь; или: там; ибо царствие божие внутрь вас11. Да—>
оно внутрь нас, оно есть свобода нашего духа, гармония нашей
воли с нашим сознанием; полная и совершенная победа нашей
нравственной природы над внешнею природою, законов разума
над законами необходимости. Оно есть добродетель без уси¬
лия, без борьбы со злом, исполнение долга по любви, по стрем¬
лению к блаженству, а не по страху наказания; оно есть ощу¬
щение бесконечного блаженства в том, что разумно и спра¬
ведливо. И вот почему Фихте сказал, что государство, как все
человеческие постановления, стремится к собственному уничтоже¬
нию и что цель всех законов есть — сделать ненужными все за¬
коны;12 и вот что значат слова апостола Павла: «Грех бо вами
не обладает: несте бо под законом, но под благодатию»13.
Да — оно наступит, это время царствия божия, когда не будет
ни бедного, ни богатого, ни раба, ни господина, ни верного, ни
неверного, ни закона, ни преступления; когда не будет минут
восторга, но целая жизнь будет беспрерывным мгновением
восторга, когда дисгармония частных сознаний разрешится
в единую полную гармонию общего сознания; когда все люди
признают друг в друге своих братий во Христе и, подав другу
руки, составят общий братский хор, и этот хор будет не тою
песнею бессознательной радости и детского веселия, которую
пело древнее младенческое, животное и неодухотворенное че¬
ловечество, наслаждаясь всею полнотою развития материяльной
жизни на лоне матери-природы, лелеявшей своих любимых
чад,— но важным и торжественным гимном высшего сознатель¬
ного блаженства, этого блаженства гармонического, созерца¬
тельного, спокойного, без горя и без радости, без стонов зем¬
ной муки и без кликов безумного веселия, без волнения
страстей и желаний, словом, гимн сознания, блаженного тем,
что оно сознание.
— Но,— говорят сильные мира сего,— пусть осуществится
па земле эта идеальная, мечтательная утопия; но зачем же не
насладятся ею все те, которые своим участием в общей челове¬
ческой жизни, своими подвигами на поприще самосовершенст¬
вования приготовили ее! Зачем они были только ступенью
к блаженству других, а себе взяли на долю одно страдание? Да
п самые те, которые дождутся этой эпохи всеобщего сознания,
разве они будут вечно блаженные, разве сознание сделает их
бессмертными?!.. Мечта, мечта — больше ничего!..— Несмыс-
ленные, если это мечта, то что же составляет вашу действитель¬
ность? Неужели ваши нищенские наслаждения благами внешней
жизни? Как же ограниченны ваши желания, как же тесен гори¬
зонт вашей духовной сферы? Из чего же вы живете, из чего
страдаете? Жалкие слепцы, тот уже получил, кто желал; тот
уже достиг, кто стремился; тот уже насладился высшим бла¬
женством, кто сознал его возможность; тот уже жил в царствии
божием, кто носил в груди своей трепетное предощущение
338
царствия божия; тот уже был в нем, кто, при мысли о нем,
испытывал этот священный трепет, который чувствует человек,
думающий слышать с неба откровение высших тайн бытия или
думающий созерцать перед собою таинственное видение в об¬
разе пришельца из другого высшего мира; да, говорю я вам, тот
уже знал царствие божие, у кого, при одной мысли о нем,
дрожали на глазах слезы исступления и кто, при одной мысли
о нем, томился сладкою грустию, и горел, и любил, и молился:.
Когда у человека была хотя одна такая минута, то, как ни кратка
она, никто и ничто не отнимет ее у него: она есть неотъемле¬
мое сокровище его жизни, она действительна, реальна, потому
что действительно только то, что дает нам жизнь внутренняя,
и мечтательно только то, что получаем мы от жизни внешней
и что поэтому проходит, не оставляя ни следа, ни воспомина¬
ния. —Все так, — возражаете вы мне, — но действительно и верно
только то, что вечно, бесконечно; а все преходящее, все
оканчивающееся есть ничтожно и презренно, хотя бы это на¬
зывалось и сознанием или блаженством сознания. — Вы пра¬
вы,—отвечаю я вам,— ничего нет тягостнее и уничижительнее*
как мысль о мгновенности и конечности всего существующего
в форме или в идее, потому что эта мысль противна законам
нашего разума, противна чувству бесконечного, которое лежит
в основании нашего организма и которое есть пружина наших
бессознательных порывов к сознанию, следовательно, противна
нашей духовной природе. Но это не только (не) уничтожает
веры в бессмертие, по, напротив, питает ее: что несообразно
с законами нашего духа, то ложно, следовательно, мысль
о мгновенности и конечности человеческой жизни есть мечта,
а мысль о бессмертии есть действительность. Вселенная вечна,
в природе нет смерти, нет уничтожения, но есть видоизмене¬
ние; метаморфоза есть символ природы. Если материяльная,
бессознательная природа вечно жива и неумирающа, то тем бо¬
лее наш дух. Сознание бесконечно, как вселенная, но оно воз¬
можно только под формою пространства и времени, следова¬
тельно, конечного сознания, как свободного от всякой формы
н исключающего все, кроме себя, нет и быть не может, а есть
прогрессивное и бесконечное приближение к нему, без дости¬
жения его. Из этого закона, который есть закон необходимости,
выходит, тоже необходимо, закон нашего бессмертия, нашего
мндивидуального существования за гробом, под новою формою,
но с сознанием прежнего сознания, без которого нет индивиду¬
альности. Человек создан для сознания, следовательно, и его
жизнь должна состоять в беспрерывном развитии этого созна¬
ния, а так как сознание бесконечно, то и жизнь человека
должна быть беспрерывным и никогда не оканчивающимся пере¬
водом из низшего сознания в высшее. Развитие сознания есть
беспрерывный ход вперед, следовательно, точкою его отправле¬
ния в будущей жизни должна быть точка его остановления
339
в прежней; и вот награда добра, необходимая, вытекающая из
самого добра. Поэтому жизнь бесконечна, а смерть есть только
перемена низшей формы на высшую. Иначе какое бы значение
имели все эти мириады миров, это пространство без границ, эта
материя без конца? И неужели в этой бесконечной вселенной,
в этой бездонной пучине создания, наша земля есть центр*
а все прочие миры ее аксессуары, ее принадлежность? — Меч¬
та, мечта! — восклицаете вы насмешливо! — Нет, — повторяю
я вам,— то не мечта, что лежит в основе нашего духа, что не
противоречит законам нашего разума! — Но нам нельзя знать
того, что выше нас: только смерть может разрешить задачу
бытия.— Все так, но зачем же нам дано это стремление к раз¬
решению того, что неразрешимо; что значит это беспокойство,
эта тревога нашего духа, который приходит в какое-то страда¬
тельное состояние, в какую-то мучительную дисгармонию с са¬
мим собою, пока не удовлетворит себя сознанием! Неужели это
стремление мечта? Если мечта, то мечта и разум наш, а он не
мечта, иначе бы мы должны были признать за мечту и нас
самих и все существующее и почесть бы себя свободными от
всякого долга, всякой обязанности, наравне с животными.— Но
и этого доказательства вам мало? Обратитесь же внутрь самих
себя, проникните в сокровенное святилище вашего духа и по-»
смотрите, не найдете ли в нем потребности бессмертия,
а вследствие этой потребности и несомненности царствия бо-
жия и здесь, на земле, в общем сознании человечества, и там,
за гробом, в бесконечном продолжении этого сознания? — Но
вы опять отвечаете мне насмешливою улыбкою? Стало быть, вы
не находите в себе царствия божия? Так и не ищите же его, не
верьте ему, его нет для вас и не будет, потому что оно внутрь
нас! Вы не дети божии и не наследники божии и не сонаследники
Христа, как говорит апостол Павел. Ваше тело гнилой труп, а не
храм бога живого; ваш дух есть дух отрицания, дух тьмы, а не
дух веры и света 14. Для вас все чудеса, что не хлеб, который
вы едите, что не мишура, которою вы забавляетесь: для вас не
чудеса только жизнь мира и — его сознание — человек. У вас
нет веры в жизнь человечества и исторический прогресс ее,
потому что у вас нет веры в свое собственное человеческое
достоинство, нет веры в свое чувство и свой разум, или, лучше
сказать, у вас нет чувства, нет разума. Для вас история челове¬
чества не есть стройное развитие одной идеи, а бессмысленная
сказка, без начала, без конца, без середины, без порядка п
связи. Для вас нет наслаждения прекрасным; для вас одно
наслаждение — пачкать все прекрасное в той грязи, в которой
вы пресмыкаетесь. Так пресмыкайтесь же в грязи, дети мрака
и ненависти!..
Нет — не мечта, не призрак она, эта жизнь, чудесная и та¬
инственная, и не сказка она, недосказанная и бессистемная, но
драма, полная движения и силы, эпопея, величественная
340
и стройная, эпопея индийская, разрешающаяся на тысячи эпизо¬
дов, из которых каждый есть особенная поэма и которые все
связаны единством начала и образуют собою одну великую по¬
эму, чем дальше идущую, тем шире и могущественнее развива¬
ющуюся, тем чудеснее и заманчивее блистающую таинственным
и немерцающим светом своего содержания, один раз начинаю¬
щаяся и никогда, никогда не оканчивающаяся... Не напрасно же
лучезарное солнце так величественно обтекает голубое, дале¬
кое небо и проливает на нас и свет и теплоту, и жизнь и ра¬
дость; не напрасно мерцают для нас звезды таинственным
блеском и томят душу нашу тоскою, как воспоминание о милой
родине, с которою мы давно разлучены и к которой рвется
душа наша; не напрасно все миры связаны между собою элект¬
рическою цепью любви и сочувствия, и все живущее, все дыша¬
щее составляет звено в этой бесконечной цепи; не напрасно
человек и родится и умирает, и веселится и скорбит, и горячо
любит милое, и горько рыдает, лишаясь его, и не переживает
своих склонностей, и, стоя на праге вечности, вспоминает о них
еще живее, и рыдает о них еще горше, и сладки ему слезы его;
не напрасно человек стремится к какому-то блаженству и ищет
его всю жизнь, ищет его и в шумных наслаждениях юности, и в
безумном упоении пиров, и в ужасах кровавых битв, и в трево¬
гах опасностей, и в обольщении славы, и в очаровании власти,
и в неге бездействия, и в сладости труда, и в утешениях рели¬
гии, и в свете знания, и в наслаждении искусствами, и в любви
другого сердца, и... нередко в тиши монастырской кельи,
в борьбе с своими желаниями, в печальном наслаждении заживо
рыть себе могилу своими собственными руками!.. И горе
ему, если он искал этого блаженства путем ложным, если ду¬
мал обрести его в исполнении своих бессознательных, эгоисти¬
ческих желаний; и благо ему, если он искал его там, где оно
есть, искал его в сознании и путем сознания!.. Нет — еще раз —
жизнь не мечта, не призрак; много в ней дурного, но еще больше
прекрасного: есть в ней слабости, пороки, злодеяния, но есть
и слезы раскаяния, жгучие и вместе отрадные слезы раска¬
яния, в глухую полночь, перед крестом распятого за нас; есть
падение, но есть и восстание; есть стремление, но есть и дости¬
жение; есть минуты горькие, убийственные, минуты сомнения
и безверия, минуты разрушительной дисгармонии с самим со¬
бою, отвращения от жизни, но есть и упоительные минуты веры,
когда в груди бывает так тепло, на душе так светло, жизнь
становится так прекрасна, так полна, так тождественна с бла¬
женством; есть страдания глубокие, невыносимые, есть бедст¬
вия, переполняющие меру терпения и превращающие для нас
землю в ад, где слышен скрежет зубов, откуда веет хладною
могильною сыростию, где нет ни исхода, ни конца; но и из этого
мира разрушения и смерти слышится душе отрадный голос:
«Приидите ко мне вси труждающиися и обремененнии, и аз
341
упокою вы; возьмите иго мое на себя и научитеся, яко кроток
есть и смирен сердцем; и обрящете покой душам вашим — ибо иго
мое благо, и бремя мое легко есть; в дому отца моего обители
многая суть»;15 и тогда душа наполняется блаженством неизъ¬
яснимым, и смрадное кладбище гннющей жизни превращается
для нее в тихую долину успокоения, где могилы покрыты травою
и цветами, осенены печальными кипарисами, где журчание
светлого ручья сливается с унылым ропотом ветерка, а вдали,
за горою, виднеется край вечереющего неба, осиянного, облитого
багряными лучами заходящего солнца, и ей мнится, что в этой
торжественной тишине она созерцает тайну преображения мира,
ей мнится, что она видит новую землю, новое небо!..
2836. Сент (ября) 14.
РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
(НОЯБРЬ 1834 —АВГУСТ 1836)
НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Русская повесть девятнадцатого
столетия (??!!). Соч. актера императорских московских театров К. Бара¬
нова. Москва. В Унив. тип., ч. I — 226; II — 199; III — 204 (8).
Еще новый роман, и вдобавок роман девятнадцатого столе¬
тия! Еще новый романист, новый рыцарь, выезжающий на лите¬
ратурное поприще с белым щитом. Soyez bien venu, beau che-
valier\..* Ну, как не скажешь с остроумным Марлинским, что
по сочинителей у нас не клич кликать: стоит крякнуть да денеж¬
кой брякнуть, так налетит их полторы тьмы с потемками?1 Ка¬
ков же этот роман, что приобрела в нем наша литература?
спросят нас читатели, еще не успевшие насладиться сим новым
произведением. Нетрудно, отвечать на вопрос: двух слов было
бы слишком достаточно для этого. Но мы хотим сказать кое-что
побольше, сколько потому, что появление этого романа, прочи¬
танного нами по обязанности, пробудило в нас с новою силою
давно уснувшие мысли и чувствования, столько и потому, что
мы часто слышим жалобы читателей на бедность библиографи¬
ческого отделения в «Молве».
Сколько говорили уже, что в литературном отношении наш
век есть век романа, ибо-де все пишут романы и все читают
романы. Это, однако, по зрелом размышлении, оказывается
справедливым только отчасти. Правда: ныне гораздо более пи¬
шется романов, чем прежде; но это отнюдь не мешает процве¬
тать драме и даже лире. Посмотрите, например, на француз¬
* Добро пожаловать прекрасный рыцарь! (франц.).— Ред.
345
скую литературу: Гюго — роман, драма и лира; Дюма — роман
и драма; Делавинь — драма и лира; Альфред де Виньи —ромаг
п лира; Ламартин и Барбье — лира, и пр. и пр. Отчего же у нас,
за исключением нашего Шекспира-Байрона-Кукольника, всё ро¬
ман да роман?
Что такое подражание? Гений создает оригинально, само¬
бытно, то есть воспроизводит явления жизни в образах новых,
никому не доступных и никем не подозреваемых; талант читает
его произведения, упояется, проникается ими, живет в них; эти
образы преследуют его, не дают ему покоя, и вот он берется за
перо, и вот его творение более или менее делается отголоском
творения гения, носит на себе явные следы его влияния, хотя
и не лишено собственных красот. Но в сем случае талант не
хотел и не думал подражать: он только заплатил невольную
дань удивления и восторга гению, он только был увлечен тяготе¬
нием его силы, как увлекается спутник тяготением планет.
Сколько творений, прекрасных и плохих, произвели на свет «Раз¬
бойники» Шиллера, между тем как сам великий их творец при¬
знавал над собою могущество другого, более великого твор¬
ца?2 Сколько поэм родили поэмы Байрона? Подражатели такого
рода по большей части бывают вместе и творцами и, в свою
очередь, увлекают за собою таланты, которые ниже их. Но есть
еще особенного рода подражатели. Эти берут за образец ка¬
кое-нибудь сочинение, хорошее или дурное, например, хоть ка¬
кой-нибудь забытый роман, вроде «Бедного Егора» 3, и, не сводя
с него глаз, следя за ним шаг за шагом, силятся слепить что-
нибудь подобное. Прямые литературные горе-богатыри, беста¬
ланные, не понимающие значение великого слова искусство! Их
побуждением иногда бывает несчастная мания к авторству, дет¬
ское честолюбие: в таком случае они только смешны и жалки;
но чаще всего корысть: в таком случае они достойны презре-
пия, ибо унижают искусство, унижают достоинство человека. Но
имея ни чувства, ни ума, ни познаний, ни образованности, ни
воображения, ни таланта, они доказывают в своем романе, что
должно любить ближнего, уповать на бога и быть благочести¬
вым, что воровство, пьянство, лихоимство, невежество не по¬
хвальны — это для нравственности; выводят, сколько возможно
в смешном и преувеличенном виде, сутягу-подьячего, вора-
управителя, пьяницу-квартального, дурака-помещика — это для
сатиры; намарают грязною мазилкою своей дубовой фантазии
несколько лубочных картинок мещанского, купеческого, дво¬
рянского быта — это для нравоописания; ввернут в свое тво¬
рение несколько мужицких слов, лакейских поговорок, мещан¬
ских острот — это для народности... и вот вам нравственно¬
сатирический и народный роман девятнадцатого века!.. Чего
ж вам больше? Вы говорите, что эти лица — образы без лиц?
Неправда: их характеры написаны у них на лбу: Зарезины,
Вороватины, Ножовы, Обдуваловы, Живодеровы, Скупаловы,
Пьянюгины, Правдолюбины, Кривдины, Влюблинские, Доб¬
родеевы, Светинские, Бурлиловы:4 не правда ли, что все очень
ясно?
Не говорите о Вальтере Скотте, Купере и пр., не толкуйте
о классицизме и романтизме, о восьмнадцатом и девятнадцатом
веке: скажите, что «Иван Выжигин» раскупился, и вы будете
знать, почему у нас так много пишут романов.
Не смеем утверждать, чтобы автор «Ночи на рождество
Христово» принадлежал к числу подражателей последнего
рода: нам приятнее думать, что это человек просто обманываю¬
щийся насчет своего призвания. Это тем естественнее, что най¬
дется еще много читателей, которые поддержат его в подоб¬
ном заблуждении. В таком случае нам кажется странным, как
можно не понимать того, что творчество есть удел немногих
избранных, а не всякого, кто только умеет читать и писать; что
тот еще не поэт, кто сумеет слепить кое-какую сказку с аллего¬
рическими лицами, представляющими порок и добродетель; как
можно не знать, что во времена оны много бесталанных людей
подлаживали под тон Державина и пели оды, в которых было
пропасть трескотни и шуму, но ни капли поэзии; что в наше
время едва ли найдется такой человек, который, совершенно не
бывши поэтом, не смог бы написать стишков, по гладкости
и гармонии языка не уступающих стихам Пушкина; не понимаем,
как можно так смело и безбоязненно отдавать свое имя на
позор, тем более если это имя есть имя честного артиста, чест¬
ного чиновника или честного гражданина; не понимаем, как
можно... Но мы предоставляем самим читателям докончить
наши нескромные вопросы...
ПОВЕСТИ БЕЗУМНОГО.1 Москва, в типографии Степанова. 1834.
(8). 202.
Как приятно, после зимнего холода, появление весеннего
солнца, роскошно изливающего свою плодородную и зижди¬
тельную силу, животворящего огнем своих лучей все прекрас¬
ное божие создание! Не есть ли оно символ вечно горящей
любви предвечного! Какая кипучая жизнь заступает место все¬
общей смерти, когда целое творение проникается пламенем
любви и мириады новых существ вызываются из праха ничто¬
жества!.. Не сходен ли с этим солнцем и гений? Не есть ли и он
символ творящей силы всемогущего? Не производит ли и он
также сонмы новых созданий, сонмы новых творителей?.. Но
увы! Как солнце, вместе с муравой и цветами полей, вместе
с златовидными мотыльками, вызывает и тмы эфемеров, тмы
насекомых и червей гадких и отвратительных, так и гений, вп-
347
повник созданий красоты и разума, бывает вместе неумышлен¬
ным виновником чад безобразия и нелепости. Не «Илиада» ли
произвела «Энеиду», «Освобожденный Иерусалим» и другие
поэмы, и вместе с тем не она ли была виною явления «Алексан-
дроиды»?2 Почти таким же образом юная словесность произве¬
ла, общими силами всех своих представителей, Барона Брам-
беуса, а один из ее представителей, слишком талантливый,
если не решительно гениальный, Александр Дюма, произвел «По¬
вести Безумного»! Ох, эта беспутная юная словесность! много
творит она зла! Поделом так бранит ее «Библиотека для
чтения»!..3
Наша литература, или по крайней мере то, что называют
нашею литературою, представляет самое плачевное зрелище.
Сколько молодых людей, которые могли б быть честными
и добросовестными действователями для блага отечества на
разных ступенях общественной жизни, предаются этой жалкой
мании авторства, которая делает их предметом всеобщего по¬
смеяния!.. Вместо того чтобы обогащать свой ум познаниями
и тем готовиться к занятию какого-нибудь сообразного с их та¬
лантами и склонностию места в обществе, устремлять свою де¬
ятельность, благородные порывы своего сердца, избыток своих
юных сил на святой подвиг жизни и В' исполнении своего долга
находить свою высочайшую награду, они стремглав бросаются на
эту презренную арену, на этот литературный базар, где толчется
и суетится жалкая посредственность, мелочное честолюбие
и тешится детскими побрякушками. Для пустого призрака мгно¬
венной известности они безрассудно расточают свои юношеские
силы, истощают свою деятельность, становятся неспособными ни
к чему дельному и полезному; и что же изо всего этого выхо¬
дит? Завеса спадает с глаз, похмелье проходит, остается голов¬
ная боль, сердце пусто, самолюбие глубоко уязвлено и горько
страждет... А потом? Потом, как водится, жалобы, проклятие на
жизнь, на судьбу, элегии о развалинах разрушенного счастия,
об обманутых надеждах, об исчезнувших призраках и пр. Знаете
ли что? Эти плаксивые элегии, над которыми у нас столько
смеются, иногда заключают в себе глубокий смысл: сердце обли¬
вается кровью, когда подумаешь об них с этой стороны! Да —
горе тому отцу, который не высечет больно своего недоучив¬
шегося сына за его первые стихи, а всего пуще — за его первую
повесть!..
Я хотел говорить о «Повестях Безумного», а занес бог весть
о чем. Посему считаю нужным сделать замечание для людей,
любящих применения, что все сказанное мною они должны
почитать чистою поэтическою фантазиен), не имеющею никакого
отношения к упомянутым повестям.
Что сказать об этих повестях? Это ни больше, ни меньше,
как до крайности неудачная подделка под тон повестей Баль-
348
зака и Дюма. Г-п Безумный преуморительным образом корчит из
себя особенно Дюма и пребезбожно обкрадывает его. Так, на¬
пример, к концу своей чудовищной повести «Кто бы мог ожи¬
дать этого?» ни к селу, ни к городу приделал окончание рассказа
Дюма: «Une vengeance» *, уже давным-давно переведенного
в «Телескопе»4. Подобно Дюма, он создал, или, лучше сказать,
сварганил себе апотеоз прелюбодеяния и, взявшись за изобра¬
жение нравов нашего высшего общества, сделал из него род
чего-то такого, чего нельзя и назвать печатно; на редкой стра¬
нице его не найдете вы картин разврата, картин сладострастия,
которые так натянуты, что даже не возбуждают ни обаяния, ни
омерзения; на них можно смотреть, не боясь соблазна или тош¬
ноты. А слог? О! слог г. Безумного есть верх совершенства!
В этом случае он только в одном Бароне Брамбеусе имеет
достойного себе соперника. Не угодно ли полюбоваться, напри¬
мер, следующими образчиками? «Ей мнилось, что лица присут¬
ствующих сливались в одно око упрека (это выражение напеча¬
тано у него курсивом: знать, хорошо!), что все голоса их, заклю¬
ченные в один ужасающий звук, оглашали ядовитым смехом
отвержения (ужасно!) своды зала (вот как!)». Или: «Время веч-
ностию капало из столетия в столе!ия (ай! ай!)... пот крови, хо¬
лодный, как лед океана (??)» и пр. Или: «Всякая буква этого
имени оглушающими созвучиями (??) громила (!!) сердце стра¬
далицы». Или: «Избегать палящего терзания очей его». Или:
«Пламень еще девственных желаний, но уже заклейменных
своеволием ничтожества и бесчувственности...» Но довольно:
достаточно и сих выписок, сделанных наудачу, чтобы убедить
читателей, какого великого писателя имеем мы в г. Безумном.
Странное дело, как можно обманываться насчет своего
призвания, не сознать своей бездарности в наше время, когда
законы и условия творчества более или менее известны каждо¬
му, хотя понаслышке? Когда все хорошо понимают, что как ни
громка фраза, но если она не вырвалась мгновенно из души
вследствие глубокого чувства, то она пошла и отвратительна,
что всякий образ безличен, когда автор не жил в нем всею
своею жизнию, в то время как творил его?.. Как, наконец, можно
так бессовестно обирать великих писателей, и притом из сочи¬
нений, уже переведенных и, следовательно, всем известных?..
Неужели г. Безумный думает, что он может, подобно Шекспиру
и Мольеру, брать свое, или по крайней мере, что почитает сво¬
им, где ни завидит?..5 Чего доброго? ведь он г. Безумный,
а безумным закон не писан!..
* «Месть» (франц.). — РедЛ
349
РЕГЕНСТВО БИРОНА. Повесть. Соч. Константина Масаль¬
ского. СПбург. В тип. К. Вингебера. 1834. 2 ч. 1 — 69; II — 163.
ГРАФ ОБОЯНСКИЙ, ИЛИ СМОЛЕНСК В 1812 ГОДУ. Рассказ инвали¬
да. Соч. Н. Коншина. СПбург. В типографии Конрада Вингебера. 1834.
3 ч. I — 280; II — 233; III — 253; с эпиграфом:
Хвала вам будет оживлять
И поздних лет беседы.
«Певец во стане русских воинов»,
ШИГОНЫ. Русская повесть XVI столетия. С точным описанием (??!!)
житья-бытья русских бояр, их прибытия в отчины, покорность (и?) жен,
пиры (ов?) вельможей и наконец (слава богу!) царская вечеринка (ой?
ки?). Мимоходом замечены (??!!) монахи того времени, их поклонницы;
не забыты (благодарим покорно!) и истинно святые мужи, как-то старцы:
Семион Курбский, Вассиан Патрикеев и Максим Грек, в достоверную эпоху
вторичного брака царя Василия Иоанновича. Выбрано из рукописей из¬
дательницею супруг Владимира. Москва. В тип. С. Селивановского. 1834.
223.
Знаете ли, какая в нашей литературе самая трудная и самая
легкая вещь? Это писать рецензии на художественные произве¬
дения наших дюжинных литературных производителей. Трудная,
потому что о каждом новом изделии такого рода надо говорить
idem per idem*, или, по русски: про одни дрожжи твердить
трожди; легкая потому, что можно бить их гуртами с одного
маху, с одного плеча. Наставьте в заглавии вашей библиографи¬
ческой статейки дюжину романов или драм и, благословясь, ка¬
тайте всех без разбору.
Многие порицают с негодованием резкость в литературных
суждениях и почитают ее уголовным преступлением против
законов общежития и вежливости. «Разве, — говорят они, — вы
образумите этим какого-нибудь пустоголового рифмача или дю¬
жинного романиста? Какая же польза от ваших бранчивых выхо¬
док?» Но, милостивые государи, разве это не польза, если ка¬
кой-нибудь степной помещик, прочтя мою рецензию, не купит
глупой книги, в ней освистанной, а назначенные на нее деньги
употребит на покупку какого-нибудь дельного сочинения! При¬
том, если оцениваемая книга есть первое произведение юноши,
обольщенного ложным призраком славы или угоревшего от
приятельских похвал и высокого мнения о своих дарованиях, то
разве не может случиться, что откровенный отзыв откроет ему
глаза и обратит его деятельность к учению или занятию каким-
нибудь полезным делом? На сильные болезни нужны и сильные
лекарства. Щадить посредственность, бездарность, невежество
или барышничество в литературе значит способствовать к их
усилению. Вы скажете: но какое зло делают эти невинные чада
* то же через то же самое (лат.), — Ред;
350
безделья или бесталанности? О, большое! уверяю вас. Во-пер¬
вых, они выманивают деньги у добродушных покупателей и тем
препятствуют расходу хороших книг, которые могли бы способ¬
ствовать или к распространению в обществе полезных сведений,
или к развитию чувства изящного; потом, они портят вкус у лю¬
дей, жадных до чтения, но лишенных образованности; наконец,
каждое из сих сочинений рождает несколько других; следова¬
тельно, они причиняют зло положительное и зло большое, ибо
препятствуют распространению просвещения. На западе Европы
такого рода книжные изделия не могут причинять большого
вреда: там всякий класс людей, не исключая ни земледельцев,
ни поденщиков, может найти для себя отличные произведения,
следовательно, не имеет нужды покупать без разбора всякую
дрянь. Но у нас другое дело; и потому просим покорно не
погневаться.
Другие говорят еще: «Для чего вы только бранитесь, а не
доказываете?» Но, милостивые государи, разве можно с слепыми
рассуждать о цветах, а с глухими о музыке? Разве можно
говорить гг. Сиговым, Кузмичевым и подобным им о законах
творчества, об условиях искусства? Разбирать с доказательствами
можно книгу, в которой при недостатках есть и достоинства.
Вот скажу вам, например, о г. Масальском: он совсем не
принадлежит к числу пошлых бумагомарателей и безграмотных
писак; он человек умный, образованный, знает, как слышно,
много языков и даже до того учен, что уличает в материализ¬
ме, разврате и безбожии немецких философов XIX века *, хотя
и плохо разумеет их. Но все это не мешает ему быть бездар¬
ным писателем, ибо ум, образованность, знания и даже способ¬
ность сильно чувствовать совсем не одно и то же с способ¬
ностью творить. Прочтите любой его роман; вы не найдете в нем
ии одной грамматической погрешности, ни одного неуклюжего
выражения, ни одной бессмыслицы; все гладко, умно и прилично.
Но зато не найдете и ни одной оригинальной мысли, ни
одного сильного чувства, ни одной занимательной картины: все
так обыкновенно, старо, вяло, приторно. Сколько раз твердили
ему это в журналах, и, однако ж, он продолжает пописывать, и,
кажется, еще долго не перестанет. Что ж тут прикажете делать?
Говорить комплименты, вежливости, повторять общие места;
предоставляем подвизаться другим на этом похвальном по¬
прище.
Регентство Бирона! Понимаете ли вы, что это за эпоха в на¬
шей истории и что может из ней сделать истинный талант? ** Что
ж сделал из ней г. Масальский? Написал скучную, вялую сказку,
в которой не видно ни Бирона, ни тогдашней России, ни тогдаш¬
них людей, ибо его Бирон, его люди — образы без лиц; переме¬
* Зри «Библиотеку для чтения», том VII, стр. 173, в отделении Прозы
** Этот долг теперь за г. Лажечниковым.
351
ните их имена и перенесите их в какую вам угодно эпоху: все
будет хорошо и ладно.
Что сказать о «Графе Обоянском»? Судя по эпиграфу, вы
подумаете, что тут дело идет о знаменитой войне 1812 года
и героях, увековечивших в ней имена свои? Ничуть не бывало:
это дюкредюменилевский роман с валътерскоттовскими припра¬
вами. В нем нет ни слога, ни мыслей, ни создания, ни характе¬
ров, ни занимательности; словно гора с плеч сваливается у вас,
когда вы дочитываетесь до отрадного слова: конец. Тут вам
поневоле придут на память сии остроумные стихи:
Всю проповедь отца Тарасия хоть кипь;
Одно понравилось мне слово в ней: аминь! 2
Жаль, очень жаль; ибо, как ни плохо произведение г. Коншина,
а все видно, что он мог бы сделать лучшее употребление из
своих дарований.
Хотите ли вы знать, что такое «Шигоны», то есть что в них
обретается? Прочтите заглавие этого романа: в нем со всею
подробностию, хотя и без грамматики, высказано все его содер¬
жание. Впрочем, это произведение, несмотря на ученические
погрешности против языка, все-таки лучше обоих вышеупомя¬
нутых. Жаль только, что в нем нет ни крошки XVI века, ибо
глупости вздорной и сумасшедшей бабы и дворские сплетни
еще не выражают жизни русского народа в царствование сына
Иоанна III. Надобно также заметить, что автор в иных местах,
кажется, жестоко погрешает против исторической истины, иска¬
жает нравы и обычаи избранной им эпохи. Вообще должно ска¬
зать, что этот роман был бы гораздо лучше, если бы его загла¬
вие было поскромнее. Подобное шарлатанство и самохвальство
не только не располагает образованного читателя к сочинению,
но решительно предубеждает против него. Кто мало обещает,
от того немного и требуют. Но когда вы обещаете много, а ис¬
полните мало, то пеняйте на самих себя, а не на публику и ре¬
цензента.
ИЗГНАННИК, ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ИЗ СМУТНЫХ ВРЕМЕН БО¬
ГЕМИИ, В ПРОДОЛЖЕНИИ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ. Сочинение Б о-
г е м у с а. Перев. с немецкого В ъ. С-Петербуруг, в т. вдовы Плюшар с сы¬
ном, 1834. Три части. I — VII, 239; II-219; III —231. (8).
Неизвестный переводчик сего романа жалуется в своем
предисловии, что «в последние годы почти исключительно
удостоивались (?) перевода на русский язык французские рома¬
ны, немецкие же сочинения сего рода как бы вовсе не сущест¬
вовали», несмотря на то, что «в Германии столько есть и
ежегодно вновь (?) является отличных беллетристов (??), коих
генияльные сочинения не известны в русской словесности», и
объявляет, что, вследствие сего, он предпринял благое намерение
$52
«ознакомить благосклонных * читателей с некоторыми, заслу¬
жившими славу, современными писателями Германии, и на тща¬
тельные переводы по одному из лучших их сочинений посвятить
часы своего досуга». Это объявление или обещание, несмотря
на детский способ выражения и до крайности неправильную рас¬
становку знаков препинания, должно обрадовать всех истинных
любителей изящного, особенно не знакомых с немецким язы¬
ком, и рецензент, с своей стороны, от всей души благодарит
неизвестного переводчика за прекрасное предприятие и желает
ему полного успеха. В самом деле, у нас вообще слишком мало
дорожат славою переводчика. А мне кажется, что теперь-то
именно и должна бы в нашей литературе быть эпоха переводов,
или, лучше сказать, теперь вся наша литературная деятельность
должна обратиться исключительно на одни переводы как уче¬
ных, так и художественных произведений. Теперь курс на рос¬
сийские изделия чрезвычайно понизился; публика требует
дельного и изящного и, не находя на отечественном языке ни
того, ни другого **, поневоле читает одно иностранное. Новые
погудки на старый лад надоели всем пуще горькой редьки; ав¬
торитеты обанкрутились и потеряли свой кредит; очарование
имен исчезло; словом, наше общество требует уже не мыльных
пузырей, а дельного чтения. Оригинальное уже не удовлетворяет
его, ибо оно видимо обгоняет в образовании тех корифеев,
которым, бывало, поклонялось. Посему надобно пользоваться
подобным направлением общества и удовлетворять по возмож¬
ности его требованиям. Для этого одно средство: знакомство
с европейскими образцами в искусстве, европейскою ученостпю
и образованностию. У нас только богатые люди, и притом живу¬
щие в столицах, могут пользоваться неисчерпаемыми сокрови¬
щами европейского гения; но сколько есть людей, даже в самых
столицах, а тем более в провинциях, которые жаждут живой
воды просвещения, но по недостатку в средствах или по незна¬
нию языков не в состоянии утолить своей благородной жажды!
Итак, нам надо больше переводов как собственно ученых, так
и художественных произведений. О пользе говорить нечего: она
так очевидна, что никто не может в ней сомневаться; глав¬
ная же польза последних, кроме наслаждения истинно изящ¬
ным, состоит наиболее в том, что они служат к развитию эстети¬
ческого чувства, образованию вкуса и распространению истинных
понятий об изящном. Кто прочтет и поймет хотя один роман
Вальтера Скотта или Купера, тот будет в состоянии вполне оце¬
пить какого-нибудь «Димитрия Самозванца» или какую-нибудь
* Почему же именно благосклонных, а не просвещенных и образо¬
ванных читателей, или по крайней мере не русскую публику?
** За весьма немногими исключениями, и то в пользу ученой литера¬
туры: разумею полезные и благородные труды гг. Устрялова, Сидонского
и некоторых других, несмотря на всеобщее коммерческое направление,
бескорыстно подвизающихся на пользу и славу отечества.
12 В. Белинский, т. 1
353
«Черную женщину» \ ибо достоинство вещей всего вернее по¬
знается и определяется сравнением. Да — сравнение есть самая
лучшая система и критика изящного. Сверх того, переводы необ¬
ходимы и для образования нашего, еще неустановпвшегося,
языка; только посредством их можно образовать из него такой
орган, на коем бы можно было разыгрывать все неисчислимые
и разнообразные вариации человеческой мысли.
Итак — честь и слава г. переводчику «Изгнанника» за его
прекрасное намерение! Но намерение и исполнение, к несча-
стию, не одно и то же; и потому я хочу шепнуть ему на
ушко нечто такое, о чем он, кажется, не думал, а именно: мало
того, чтобы только переводить, надо знать: что и как перево¬
дить. В предисловии своем он сказал, что решился переводить
сочинения отличных германских беллетристов, а между тем пе¬
ревел нам не только не отличное, но решительно посредствен¬
ное произведение. Ибо что такое «Изгнанник» Богемуса? Ни
больше ни меньше, как довольно обыкновенный сколок с
романов Вальтера Скотта, а отнюдь не оригинальное и самобытное
создание. Богемус, по крайней мере в своем «Изгнаннике», шел
по пути давно уже истертому и избитому: он хотел в обветша¬
лую раму любви двух лиц вставить картину Богемии во время
Тридцатилетней войны и очень неудачно это выполнил. Вы не
найдете в его сочинении ни духа того времени, ни верной кар¬
тины тогдашнего быта, ни героев этой великой эпохи истории
человечества. Правда, в нем появляется, мельком, на минуту,
и то только в конце третьей части, Валленштейн, но для романа
не было бы ни малейшей потери, если бы он совсем не появ¬
лялся; правда, в нем вы видите графа Турна, но вы ничего не
потеряли бы, если бы совсем его не видели; о Густаве Адольфе
и других персонажах великой драмы Тридцатилетней войны нет
и помину; да и действие романа начинается почти с того време-
пи, как герцог Фринландский согласился на унизительные прось¬
бы Фердинанда II принять начальство над войском. Только
плутни и козни езуитов изображены довольно занимательно.
Характеров и положений оригинальных нет, почти всё одни об¬
щие места; словом, этот роман даже и у нас не был бы из
первых. Итак, г. переводчик сделал очень неудачный выбор
пьесы для своего дебюта; вот первая и главная его ошибка.
Чтобы заохотить публику к произведениям такой литературы,
которая мало известна, надобно выбирать творения превосход¬
ные и характеризующие дух нации. Исторический роман не
немецкое дело. Роман философический, фантастический — вот
их торжество. Немец не представит вам, как англичанин, чело¬
века в отношении к жизни народа или, как француз, в отноше¬
нии к жизни общества; он анализирует его в высочайшие мгно¬
вения его бытия, изображает его жизнь в отношении к высшей
мировой жизни и остается верен этому направлению даже и в
историческом романе. Таков он и в других родах поэзии;
354
маркпз Поза не испанец, Макс, Текла п Фауст не немцы,
а люди2.
Если г. переводчик, знакомый с немецким языком, мало
знаком с современною немецкою литературою, то почему б ему
было не посоветоваться с каким-нибудь хорошим критическим
сочинением о немецкой литературе, например, хотя с творени¬
ем иенского профессора Вольфа о изящной литературе Европы
в новейшее время, отрывок из коего был помещен в «Телеско¬
пе» за 1833 год3, и, вместо псевдонима Богемуса, познакомить
русскую публику с Тиком, Штефенсом, Шпиндлером и многими
другими романистами, о коих Вольф отзывается с отличною по¬
хвалою и из коих нам известен только первый, и то почти понас¬
лышке?
Теперь нельзя не упрекнуть г. переводчика также и за со¬
вершенство его перевода, хотя он и «надеется, что верно пере¬
ложил с природного языка на отечественный смысл и красоту
подлинника». Смысл, может быть, и верен, по крайней мере
в его переводе нет нигде бессмыслиц, хотя и есть темнота
и сбивчивость в слоге, происходящая от неумения или непри¬
вычки владеть языком; но что касается до красоты слога, то,
если перевод точно верен, значит ее нет в подлиннике. Впро¬
чем, так как этот перевод есть еще первый опыт, то можно
надеяться, что последующие будут удачнее. Как бы то ни было,
но труд г. В а заслуживает полное внимание и уважение,
сколько по прекрасному намерению переводчика, столько и по
его бескорыстности, которая доказывается даже и неудачным
выбором подлинника, от коего нельзя было ожидать выгод.
ПОСЕЛЫЦИК. Сибирская повесть. Соч. Н. Щ. Автора «Поездки в
Якутск». С.-Петербург. В т. Конрада Вингебера. 1834. Издание А. и И. Ла¬
заревых. III. 151 К
С некоторого времени в нашей литературе появился осо¬
бенный род романов, которые пишутся с какою-нибудь предпо¬
ложенною полезною целию; эти романы называются нравоописа¬
тельными, сатирическими, административными, историческими,
политико-экономическими, учеными и пр.; но мне кажется, что
их всего лучше назвать заказными, ибо, подобно платью и са¬
погам, они работаются на всякую мерку, заранее снятую. Разуме¬
ется, в изделиях сего рода басня или содержание ничего не
значит, ибо служит только рамою, в которую вставляются дис¬
сертации на разные ученые предметы. Эта басня или содержа-
ние во всех романах бывает одна и та же, независимо от наро¬
да и эпохи, к которым она относится: какой-нибудь чувствитель¬
ный и великодушный шут, герой добродетели вроде Эраста
Чертополохова2, ищет руки и сердца какой-нибудь Дульцинеи;
им мешают, их разлучают какие-нибудь злодеи, какие-нибудь
12*
355
изверги естества, в лице корыстолюбивого опекуна или
жестокосердых родителей; но наши герои не унывают, и после мно¬
гих разлук, неудач и опасностей соединяются навеки и начинают
жить да поживать да добра наживать. Бедный читатель зевает,
морщится, клянет сквозь слезы и глупого любовника, и притор¬
ную героиню, и негодяев-разлучников, которые, вопреки здраво¬
му смыслу и назло вольному мученику, мешают — веселым пир-
ком да и за свадебку. Но не жалейте слишком этого читателя;
он не в потере: венец есть награда добровольного мученичест¬
ва. За свою скуку, за свою зевоту он избавляется от ужасной
необходимости читать и изучать систематические ученые
и учебные книги и, лежа у себя на постеле, в домашнем деза¬
билье, узнает, например, некоторые подробности Стрелецкого
бунта при Петре Великом, узнает, что и в Камчатке бывает свое
лето 3, узнает, что Пекин — главный город Китая, что Алжир —
в Африке и тому подобные истины. Наш век — чудный век: ни¬
когда удобства жизни и средства к выполнению самых дорогих
желаний самыми дешевыми средствами не были так легки
и доступны для всех и каждого. Скоро бедные перестанут зави¬
довать богатым: вы абонируетесь у Семена, Эльцнера, Глазуно¬
ва — и вот вам за какие-нибудь полтораста, двести рублей в год
все сокровища европейского и российского гения; вы жертвуе¬
те, в продолжение шести лет, в разные сроки сто восемьдесят
рублей — и, не топча порогов университетских аудиторий, пе
добиваясь ученых степеней, не ломая головы над немецкими
и французскими грамматиками и словарями, знаете все, что
знает какой-нибудь многоученый профессор немецкого универ¬
ситета, и между прочими диковинками знаете звание, произ¬
водство в чины и лета жизни Ломоносова;4 издается ученая
книга: она вам необходима, но по своему объему дорога, не по
вашему карману; не печальтесь: она выходит тетрадями (par
livraisons), а эти тетради продаются по гривеннику, много по
двугривенному; откажите себе в удовольствии проехать
несколько раз на ванъке — и книга ваша. Слава нашему веку!
Но этим еще не все кончилось: промышленность пошла далее.
Вы, может быть, не знаете языков и потому не можете читать
иностранных произведений; вы, может быть, человек дело¬
вой — вам некогда читать и русских книг; вы, может быть,
немножко ленивы или имеете антипатию к скучным нынешним
путешествиям и ко всему, что отзывается тяжелою ученостию,
а между тем не хотите отстать от века и прослыть невеждою: не
отчаивайтесь — к вашим услугам романы, о которых я говорил
выше сего. Легкое средство! прекрасное средство! Что вам
угодно знать? Историю, географию, статистику, политическую
экономию, философию, физику, химию? Вы все это будете
знать — уверяю вас; только не ленитесь читать романов и по¬
вестей гг. Булгарина, Греча, Масальского, Калашникова, Барона
Брамбеуса и мн. др. Одному только не выучитесь вы из них —
356
математике. Ох, эта проклятая математика! сердит я на нее: как
ни бьюсь, а не лезет в голову! Гг. русские романисты! напишите,
бога ради, математический романчик; уроки математики ныне
очень вздорожали: ваш роман скоро разойдется!..
Но шутки в сторону; скажу серьезно слова два об этом
странном явлении. Кто виновник этого ложного рода романов,
этого святотатственного искажения искусства? Вальтер Скотт:
поделом так нападает на него почтеннейший Барон Брамбеус5.
Да, в этих чудовищных романах виноват один Вальтер Скотт; но
не будем слишком строги к великому гению, к славе и гордости
нашего века, ибо он виноват в сем преступлении так же точно,
как, например, у нас Пушкин виноват в киргизских и других
пленниках, как Крылов виноват в баснях Маздорфа и г. Зилова,
как комедия «Горе от ума» виновата в комедии «Смешны мне
люди» и пр. ...6 Разве человек, венец божия создания, хуже отто¬
го, что обезьяна имеет с ним какое-то отвратительное сходство
и беспрестанно передражнивает его? Разве искусство менее бо¬
жественный дар оттого, что глупость и бездарность смешивает
его с ремеслом? Разве художник менее сын неба оттого, что
цеховые мастера выдают себя за художников?
Вальтер Скотт создал, изобрел, открыл, или, лучше сказать,
угадал эпопею нашего времени — исторический роман. По его
следам пустились многие люди, ознаменованные печатию высо¬
кого таланта и даже гения; но, несмотря на то, он остался един¬
ственным в сем роде гением. Есть люди, которые от души
убеждены, что исторический роман есть род ложный, оскорб¬
ляющий достоинство и искусства и истории. Одно из важнейших
доказательств их состоит в том, что романисты часто искажают
историческую истину; но понимают ли эти люди, что такое исто¬
рическая истина? Понимают ли они, что в высшем-то значении
сего слова она состоит не в верном изложении фактов, а в
верном изображении развития человеческого духа в той или
другой эпохе? Но кто уловил этот дух? Разве из одних и тех же
фактов не выводят различных результатов? Один историк гово¬
рит то, другой другое, и между тем они оба подкрепляют свои
противоположные мнения одними и теми же фактами. И кто
решит, который из них прав? Причина этому очевидна: здесь
искусство совпадает с наукою; историк делается художником
и художник историком. Какая цель историка? Уловить дух изо¬
бражаемого им народа или изображаемого им человечества
в какую-нибудь эпоху его жизни таким образом, чтобы в его
изображении видно было биение этой жизни, чтобы сквозь его
рассказ трепетала та живая идея, которую выразил собою народ
или человечество в ту или другую эпоху своего бытия. В сем
смысле Вальтер Скотт, в своем «Ивангое» и «Карле Безрассуд¬
ном» 7, есть историк в полном и высшем значении сего слова,
ибо он в сих созданиях своего громадного гения начертал нам
живой идеал средних веков. Прочтя эти два романа, вы не бу¬
357
дете знать истории средних веков, но будете знать сокровенную
жпзнь этой эпохи человечества; прочтя их, вы будете в истории
и в фактах искать поверки этого поэтического синтеза, и эти
факты не будут для вас мертвы. И это очень естественно: меж¬
ду идеалами и действительностпю совсем нет такого неизмери¬
мого пространства, какое обыкновенно предполагают; ибо что
такое вся вселенная, как не воплощенный идеал, созданный
всемогущим художником? Разве вы можете постигнуть ее
жизнь одним умом? Ум анализирует жизнь вселенной, ибо не
может охватить ее вдруг: искусству предоставлено синтети¬
ческое представление ее жизни, ибо цель искусства есть предо-
бражать явления жизни. Разве есть предел художественного
творчества, разве не может явиться такой художник, который
в одном создании выразит целую и полную идею мировой жизни,
а не одни ее частные явления? Говорят еще, что не должно
мешать вымыслов с истиною? Но ведь — где жизнь, там и по-
эзия8 — это аксиома; а где же, как не в человечестве, наиболее
проявляется всеобщая жизнь вселенной, и, следовательно, что
же, как не человечество, наиболее должно служить предметом
поэтического вдохновения, и потому, что же, как не история,
должно доставлять, если можно так выразиться, материалы для
художественных созданий?
Теперь очень понятно, в чем состоит главное заблуждение
цеховых художников и в чем заключается главный недостаток их
заказных изделий. Они хотят знакомить нас с историческими
подробностями какой-нибудь эпохи и неуклюже вставляют, или,
лучше сказать, втискивают их в пошлую и обветшалую раму люб¬
ви двух лиц. Жалкие слепцы, они видят в истории человечества
события и подробности, нравы и обычаи, а не трепетание веч¬
ной идеи жизни человечества, и думают, что они все сделали,
если вывели на сцену какое-нибудь историческое лицо, вложи¬
ли ему в уста несколько фраз, сказанных им при жизни, если
сумели избежать анахронизмов и довольно верно с подлинным
гамалевать несколько картин тогдашнего быта и в примечаниях
пли выносках подтвердить ссылками на разных авторов * до¬
стоверность своих изображений. И потому у них вымысел с ис¬
тиною сливается, точно так же, как масло с водою, и потому их
произведение есть анатомический препарат, а не живое созда¬
ние. Бедняжки, они не знают того, что и сама история, при всей
верности представляемых ею фактов, поверенных и очищенных
критикою, жестоко грешит против исторической истины, если не
выражает идеи жизни народа; они не знают, что Вальтер Скотт
потому так увлекателен, истинен и верен в отношении к исто¬
рической истине, что выражает дух избранной им эпохи и не
гоняется за подробностями, и что посему ему никакого труда
не стоило соблюдать мелочную верность в подробностях.
* Например, на г. Успенского и других.
358
Искусство есть представление явлений мировой жизни; эта
жизнь проявляется не в одном человечестве, но и в природе;
посему и явления природы могут быть предметом романа. Но
среди ее картин должен непременно занимать какое-нибудь
место человек. Высочайший образец в сем случае Купер: его
безбрежные, безмолвные и величественные степи, леса, озера
и реки Америки исполнены дыхания жизни; его дикие, в сопри¬
косновении с белыми, дивно гармонируют с этою девственною
жизнию американской природы. Вот другой поэт, который, по¬
добно Вальтеру Скотту, породил своими генияльными создани¬
ями тысячи уродливых чад бездарной подражательности.
Сколько подобных нелепостей в одной нашей литературе! Но
и здесь та же ошибка: наши Куперы изображают нам не таинст¬
венную жизнь природы, веющую в безмолвных, современных ми¬
ру, лесах и степях Сибири, но местности Сибири. Под обольсти¬
тельным покровом поэзии они хотят преподавать нам скучные
уроки минералогии, зоогнозии и ботаники, географии и топо¬
графии.
Так врач болящего младенца ко устам
Несет фиал, сластьми упитан по краям;
Счастливец обольщен — пьет горькое целенье:
Обман ему дал жизнь, обман — ему спасенье! 9
Но увы! это горькое целенье хуже ревеню или рвотного по¬
рошка!..
О романе, заглавие которого с дипломатическою точностию
выписано перед началом сей статейки, нельзя ничего сказать
особенного, и потому я нарочно распространился о том роде
литературных явлений, к которому он относится. Автор «По-
селыцика» говорит в своем предисловии: «Повесть сия написана
в 1830 году, во время пребывания моего в Сибири, как опыт —
выйдет ли что-нибудь достойное чтения из нетронутого тогда
еще нашими литераторами сибирского быта». Г-н Н. Щ. сими
немногими строками, обнаруживающими его понятия о твор¬
честве, оценил свое творение как нельзя лучше и избавил ре¬
цензента от скучного труда разбирать его. Хотя г. Н. Щ. и дает
нам знать, что «сибиряки говорят о г. Калашникове, что он за¬
был язык своей родины, гражданский быт и ошибается против
географии и естественной истории», но оправдывает его тем,
что «из рук человеческих ничего совершенного не вышло».
Я же, с своей стороны, скажу о г. Н. Щ., что он не ошибается,
по крайней мере против географии и естественной истории, ибо
об них в его романе нет и помину, да и вообще Сибирь в нем
очень мало видна, ибо большая половина романического дей¬
ствия происходит в Европейской России, где герой романа рас¬
сказывает историю своей жизни. О Сибири же собственно мы
узнаём только то, что там бывает очень холодно, что там ухо¬
дят с заводов каторжные и режут глупых мужиков, которые
почитают их умеющими заговаривать ружья; что Сибирь очень
359
богата естественными произведениями и т. п. К копцу книга
приложено объяснение четырех слов и трех сибирских фраз.
Чего ж вам больше? Книжечка, ей-богу, хороша — покупайте-с!
В ТИХОМ ОЗЕРЕ ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ \ Старая русская пословица в ли¬
цах и в одном действии. Федора Кони. Москва, в т. Лазаревых Инсти¬
тута восточных языков, 1834. 129.
Имя г. Кони давно уже играет некоторую роль в нашей
литературе, в которой, по крайнему безлюдью, почти все имена
играют по крайней мере некоторую роль. Впрочем, нельзя не
отдать ему справедливости за его трудолюбие на избранном им
поприще, на котором он, надо сказать правду, подвизается не
без успеха. Во всяком его произведении, или, справедливее, во
всякой его переделке2, заметна способность, литературная об¬
разованность и драматическая замашка, заметно остроумие,
особенно в водевильных куплетах, словом, заметны, до некото¬
рой степени, многие качества, необходимые для сочинения ми¬
леньких и маленьких эфемеров, которые называются водевиля¬
ми, которые родятся мгновенно и умирают разом, которые ны-
ве приводят в восторг непостоянную толпу, а завтра забывают¬
ся ею.
Не думайте, чтобы я хотел нападать на водевиль вообще;
нет — сохрани меня боже! Я слишком далек от того, чтобы ду¬
мать и верить, что
Водевиль есть вещь, а прочее все гиль;3
но вместе с тем отнюдь не думаю, чтобы водевиль был сущий
вздор, дело от безделья, незаконное чадо поэзии! О, нет! И он
может быть художественным произведением, когда верно изо¬
бражает характер домашней жизни того или другого народа, со
всеми ее мелочами и странностями. Водевиль есть род, создан¬
ный французами, понятный для французов и прекрасный
у французов; это их собственность, их добро, их достояние, и
оп имеет у них глубокий смысл. Предоставляя высшей драме
живописать игру страстей, анализировать человека в высочай¬
ших мгновениях его бытия, в сильнейших извержениях внутрен¬
ней полноты его жизни, в замечательнейших отношениях и со¬
прикосновениях его индивидуальности с обществом или биче¬
вать, подобно фурии, падшего, искаженного, утратившего образ
и подобие божие человека, в его жалкой борьбе с чувством
своего назначения и обольщениями эгоизма; предоставляя ей
ругаться над обществом, которое столько времени твердит хо¬
дячие истины о добре и зле и которое столько времени посту¬
пает наперекор этим истинам,— водевиль пародирует жизнь
низшую, жизнь, так сказать, домашнюю, семейную, и человека
и общества, подбирает крохи, падающие со стола высшей дра¬
360
мы. Он относится к сей последней точно так же, как эпиграмма
относится к сатире; он не хохочет яростно над жизнию, но стро¬
ит ей рожи, не бичует ее, а гримасничает над нею; наконец, это,
ни больше, ни меньше, как экспромт на какой-нибудь житей¬
ский случай. У нас нет водевиля, как нет еще и кой-чего друго¬
го многого. Наши водевили суть переделки или переломки
французских водевилей, другими словами, водевили на водеви¬
ли, а не на жизнь; наше остроумие выписное, выдохшееся на
почтовой дороге при пересылке... Жаль: ибо, кажется мне, на¬
ша русская жизнь может доставить истинному таланту неисто¬
щимый рудник материялов для народного водевиля, и, говорю,
для одного только водевиля, больше ни для чего... Но чего нет,
о том нечего и говорить!.. А потому, как вам угодно, а труды
г. Кони достойны некоторого внимания и даже уважения. По¬
вторяю: он имеет способности для переделок с французского
этого рода литературных эфемеров. В его «В тихом озере чер¬
ти водятся» есть нечто такое, что может вас заставить если не
прочесть, то выслушать эту пиеску на театре без скуки, даже не
без удовольствия; в ней есть несколько забавных положений,
несколько миленьких куплетцев, исполненных веселости... Итак,
об этом новом произведении г. Кони нечего много говорить:
оно, как две капли воды, похоже на бывшие, сущие и будущие
изделия как его собственного пера, так и прочих наших гг. во-
девилистов-переделывателей. Самая новая, самая диковинная
вещица в сей книжечке есть предисловие г. переделывателя,
и об нем я хочу сказать слова два.
Г-н Кони говорит: «Комедия (??) должна быть зеркалом, но
никогда вывескою порочного. Этой истине научили меня и горь¬
кая участь Аристофана и неудачи первых представителей Моль-
еровых комедий». Не понимаю: что может иметь общего г. Ко¬
ни с Аристофаном и Мольером? Один жил так давно, а другого
ставят чуть-чуть не наравне с Шекспиром!
В заключение г. Кони говорит: «Знаю: пиеса моя имеет мно¬
го недостатков и погрешностей; исправлять их не могу и не
хочу: пускай она явится перед читателями в том самом виде,
в каком явилась в первый раз на подмостках (?) театра, где
приобрела тот лестный успех, который я приписываю более
снисхождению публики к неусыпным (?!) трудам моим для сце¬
ны, чем успехам слабого моего таланта»4. Не понимаю: как
можно намекать с такою наивностию о своих неусыпных трудах
на поприще столь легком и столь благодарном?
«М. г.,— говорит испанский нищий, протягивая руку к про¬
ходящему,— одолжите мне на месяц пятьсот пиастров». Прохо¬
дящий подает копейку, нищий берет ее и говорит с гордостию:
«Будьте уверены, м. г., что я ровно через месяц возвращу вам
ваши пятьсот пиастров».
О, бедная наша литература! о бедные наши авторитеты
и авторитетики!!!...
361
ПОВЕСТИ, ИЗДАННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ПУШКИНЫМ.
Санкт-Петербург, печатано в типографии X. Гинце. 1834. XIII. 217. (8).
Всему свой черед, все подчинено неизменным законам. За
роскошною весною следует жаркое лето, а за ним унылая осень,
а за сею холодная зима. Законы физические параллельны с за¬
конами нравственными; юность человека есть прекрасная,
роскошная весна, время деятельности и кипения сил; она быва¬
ет однажды в жизни и более не возвращается. Эпоха юности
человека есть роман, за коим начинается уже история: эта исто¬
рия всегда бывает скучна и уныла. То же самое представляется
и в деятельности художника: сколько огня, сколько чувства
в его пропзведениях! Последующие бывают изящнее и выше, но
зато и спокойнее; это спокойствие называется зрелостию, воз-
мужалостию таланта. Оно правда; но, горестная мысль! эта посте¬
пенная возвышенность гения необходимо сопряжепа с посте¬
пенным охлаждением чувства. Найдите создание чудовищнее
«Разбойников» и вместе с тем найдите создание пламеннее это¬
го первого произведения Шиллера. Воля ваша, а весна самое
лучшее время года! Хорошо еще, если осень плодородна и
обильна, если она озарена последними прощальными лучами
великолепного солнца; но что, когда она бесплодна, грязна
и туманна? А ведь это так часто случается! Вот передо мною
лежат «Повести», изданные Пушкиным: неужели Пушкиным же
и написанные? Пушкиным, творцом «Кавказского пленника»,
«Бахчисарайского фонтана», «Цыган», «Полтавы», «Онегина»
и «Бориса Годунова»? Правда, эти повести занимательны, их
нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного
слога, от искусства рассказывать (conter); но они не художест¬
венные создания, а просто сказки и побасенки; их с удовольст¬
вием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся
в скучный и длинный зимний вечер у камина; но от них не
закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем вос¬
торга; но они не будут тревожить его сна — нет — после них мож¬
но задать лихую высыпку. Будь эти повести первое произведе¬
ние какого-нибудь юноши — этот юноша обратил бы на себя вни¬
мание нашей публики; но, как произведение Пушкина... осень,
осень, холодная, дождливая осень после прекрасной, роскош¬
ной, благоуханной весны, словом,
...прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый вздор!1
Странное дело — очарование имен! Прочтите вы эту книгу,
пе зная, кем она написана,— и вы будете в полном удовольст¬
вии; но загляните на заглавие — и ваше живое удовольствие
превратится в горькое неудовольствие. Будь поставлено на за¬
главии этой книги имя г. Булгарина, и я был бы готов подумать:
362
уж и в самом деле Фаддей Венедиктович не гений ли? Но Пуш¬
кин — воля ваша, грустно и подумать!2
Эти повести уже не новость. В них нового: препрославлен-
ная «Пиковая дама», по мнению «Библиотеки для чтения» (в
которой она была помещена), превосходящая все создания
чудного Гофманова гения, и два отрывка из исторического ро¬
мана: «Ассамблея при Петре Великом» и «Обед у русского бо¬
ярина» 3. Не помню, что касается до первого, а последний был
напечатан давно в «Северных цветах». Эти отрывки, особенно
последний, отличаются художественною занимательностию
и возбуждают живейшее желание прочесть весь роман. Если
этот роман написан и будет издан вполне, то русскую публику
можно будет поздравить с приобретением. Из повестей, собст¬
венно, только первая, «Выстрел», достойна имени Пушкина.
ИСТОРИЯ О ХРАБРОМ РЫЦАРЕ ФРАНЦЫЛЕ ВЕНЦИАНЕ И О ПРЕ¬
КРАСНОЙ КОРОЛЕВНЕ РЕНЦЫВЕНЕ. Печатано с издания 1829 года без
исправления. Москва. В типографии Н. Степанова. 1834. 172. (12).
Вопр. Какие книги более всего читаются, расходятся и печа¬
таются на Руси!
Отв. Сочинения Матвея Комарова, «Жителя Москвы» 1,
м творения гг. Ф. В. Булгарина и А. А. Орлова.
В одном из последних №№ «Северной пчелы» Ф. В. Бул¬
гарин учинил отчаянную вылазку против московских журналов,
как бывших, так и сущих2. Он говорит, что в Москве не было
и нет хороших журналов. Мы избавляем читателей от выписки
его подлинных слов, а представим только resume его доказа¬
тельств, которые очень удобно привести в форму двух следую¬
щих силлогизмов:
Силлогизм 1
Предложение. Мои сочинения хороши.
Посылка I. Что хорошо, то читается, расходится и раску¬
пается.
Посылка II. Мои сочинения читаются, расходятся и раску¬
паются; ergo *,
Conclusio **. Мои сочинения хороши.
Силлогизм 11
Предложение. Московские журналы никуда не годятся.
Посылка I. Журналы, почему бы то ни было, не отдающие
справедливой похвалы хорошим сочинениям, не могут быть хо¬
роши. .
* итак, следовательно (лат.). — Ред.
** Заключение, вывод (лат.). — Ред.
363
Посылка II. Московские журналы немилосердно издева¬
лись (дерзкие!) над моими творениями, которые, вследствие
первого силлогизма, превосходны; ergo,
Conclusio. Московские журналы — дрянь.
Что Ф. В. Булгарин большой логик, об этом нету спора; но
судить логически и судить истинно — две вещи разные; посему
нимало не думая состязаться с почтенным автором «Выжиги-
ных» на поприще мышления, я все-таки попытаюсь опровергнуть
его силлогизмы силлогизмом моей собственной фабрики. Цель
моего возражения не та, чтобы убедить Фаддея Венедиктовича
в ложности его мнения; нет, моя цель гораздо выше: польза
науки (логики) и польза публики. Людям мыслящим не должно
скрывать новых, светлых и высоких истин, ибо это замедлило
бы ход человечества на пути к совершенству. Итак, приступаю.
Предложение. Сочинения А. А. Орлова бесподобны.
Посылка I. Все, что читается и раскупается, превосходно.
Посылка II. Сочинения А. А. Орлова читаются и раскупают¬
ся; ergo,
Conclusio. Сочинения А. А. Орлова бесподобны.
Не правда ли, что это аксиома? Почему же Ф. В. Булгарин
медлит признать достоинства литературных изделий своего зна¬
менитого и достойного соперника? Неужели из зависти? Сохра¬
ни бог! Мы знаем, что Сальери завидовал Моцарту; но здесь
талант завидовал гению, а Ф. В. Булгарин гений, и А. А. Орлов
гений, так зависти быть не должно, тем более что гений и за¬
висть — несовместные свойства. Как бы то ни было, но или Фад¬
дей Венедиктович должен признать высокое достоинство
скромного Александра Анфимовича, или должен признать лож¬
ность своего первого силлогизма, что все то, что читается
и раскупается, превосходно, равно как и второго силлогизма,
который есть следствие первого, что в Москве не было и нет
хороших журналов.
Не правда ли, что это аксиома?
Присовокуплю к моему силлогизму, разумеется для пользы
нашей литературы и всего человечества, еще несколько беглых
замечаний. Повторяю: высоких и новых истин (каковы: должно
уповать на бога, любить добродетель, избегать порока и пр.) не
должно держать в кулаке; если же они были многократно по¬
вторены или в детских прописях, или в сочинениях Ф. В. Булга¬
рина, то, для блага человечества, их должно повторять как
можно чаще.
Какая разница между талантом и гением? Первый робок,
второй смел, но эта смелость происходит от благородного со¬
знания в своих силах. Пушкина читала и читает с восхищением
вся Россия; однако он не только ни разу не объявлял о себе,
что он хороший поэт, но даже еще сознался печатно, что мно¬
гие из нападков его антагонистов были справедливы: явно, что
Пушкин талант, а не гений. Ф. В. Булгарин неоднократно гово¬
364
рил о себе, что он знаменитый романист: явно, что Ф. В. Бул¬
гарин не талант, а гений. Только раз он обмолвился, сказав, что
через тысячу лет его имя не будет известно, хотя сочинения
и будут продаваться на толкучих рынках; но это ничего не зна¬
чит: скромность, как и хвастливость, есть удел гения. Бюффон
говаривал: «Гениев три: Ньютон, Лейбниц и я!», и Бюффон точно
был гений; Ф. В. Булгарин тысячу раз уверял, что его романы
превосходны, ибо потерпели не по одному тиснению: и кто ж не
поверит ему в этом? Собственное признание паче всякого сви¬
детельства.
А «Францыль Венциан»? Я и забыл об нем, увлекшись
г. Булгариным. Но что я скажу вам об нем? О произведениях
таких авторов, каковы Матвей Комаров, «Житель Москвы»,
Ф. В. Булгарин и А. А. Орлов, надо говорить tout ou rien; * но
для первого у меня недостанет сил, в чем, как талант, а не
гений, я сознаюсь откровенно; и потому умолкаю в чувстве глу¬
бочайшего удивления и почтения к поименованным мною авто¬
рам, с каковым имею честь пребыть и пр.
НОВОЕ НЕ ЛЮБО — НЕ СЛУШАЙ, А ЛГАТЬ НЕ МЕШАЙ, ИЛИ ЛЮ¬
БОПЫТНЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ ЖИЗНИ МИНЫ МИНЫЧА ЕВСТРАТЕНКОВА.
№ 1. Москва, в типографии М. Пономарева. 1835. 32. (16).
ДВЕ ГРОБОВЫЕ ЖЕРТВЫ. Рассказ Касьяна Русского. Москва.
В типографии М. Пономарева. 1834. 44. (12).
В нынешнее время любят делить литературу на разные
классы: так, например, бывает литература классическая, роман¬
тическая (мир праху их!), юная, старая, неистовая, степенная,
и пр. и пр. Но этим не ограничились гг. классификаторы: они
разделили на множество отделов самые роды поэзии по глав¬
ному элементу, составляющему их внутренний характер. В сем
последнем случае солонее всего пришлось роману, этой альфе
и омеге всех современных литератур. Есть роман исторический,
сатирический, нравоописательный; есть роман сухопутный
и морской (школы Купера и Евгения Сю); недостает только зем¬
новодного романа; подземный же, и притом допотопный, благо¬
даря игривой фантазии Барона Брамбеуса *, имеется; словом,
я долго бы не кончил, если бы вздумал вычислять все роды
и виды романа, ибо классификация романа, по своей обшир¬
ности, ничем не уступит классификации растений или насе¬
комых.
* все или ничего (франц.). — Ред.
365
Наша русская литература, равно как и русский роман, пере-*
делена нашими досужими классификаторами на бесчисленное
множество родов и видов. Я, нижеподписавшийся, кроме уже
известных всем, открыл еще новый род, или, лучше сказать,
новую область в нашей литературе. Прежде нежели объявлю во
всеуслышание о моем открытии, замечу мимоходом, что оно,
по своей важности, стоит открытия Америки и что, следователь¬
но, я заслуживаю бессмертие наравне с Колумбом. Открытую
мною область литературы надобно назвать пономаре в скою, ибо
к ней относятся только книги, печатаемые в типографии г. По¬
номарева. Все эти книги отличаются одним, общим им, характе¬
ром, который состоит в следующих признаках:
а) Все они величиною не превышают числа трех печатных
листов и никогда не бывают менее полулиста.
б) Все они пишутся и печатаются без всякого соблюдения
правил грамматики, то есть исполнены ошибок против этимоло¬
гии, орфографии и синтаксиса до такой степени, что могут за¬
менять все какографические экзерсисы и пр.
в) Все они состоят в явной вражде с логикою и здравым
смыслом.
г) Большая часть из них печатается на оберточной бумаге.
Avis au lecteur *. Чтобы избавить читателей от повторе¬
ния одного и того же, сим имею честь объявить, что впредь
я буду рецензировать книги, выходящие из типографии г. По¬
номарева, сими краткими словами:
«Творение, по характеру принадлежащее к пономаревской
литературе, а по времени к смирдинскому периоду российской
словесности» 2.
КОНЕК-ГОРБУНОК. Русская сказка. Сочинение П. Ершова. В III
частях. Санкт-Петербург, в типографии X. Гинце. 1834. 122. (12).
Было время, когда наши поэты, даровитые и бездарные,
лезли из кожи вон, чтобы попасть в классики, и из сил выбива¬
лись украшать природу искусством; тогда никто не смел быть
естественным, всякой становился на ходули и облекался в ми¬
шурную тогу, боясь низкой природы; употребить какое-нибудь
простонародное слово или выражение, а тем более заимство¬
вать сюжет сомнения из народной жизни, не исказив его по¬
шлым облагорожением, значило потерять навеки славу хоро¬
шего писателя. Теперь другое время; теперь все хотят быть
народными; ищут с жадностию всего грязного, сального и де¬
гтярного; доходят до того, что презирают здравым смыслом,
* К сведению читателя (франц.). — Ред.
ЗС6
и все это во имя народности. Не ходя далеко, укажу на попытки
Казака Луганского и на поименованную выше книгу. Итак, ныне
совсем не то, что прежде', но крайности сходятся; притом же
давно уже было сказано, что
Ничто не ново под луною,
Что было, есть и будет ввек К
И потому, несмотря на такую очевидную разность в направ¬
лениях, поэты настоящего времени споткнулись на одном ухабе
с поэтами былого времени. Как те искажали народность, укра¬
шая ее, так эти искажают ее, стараясь приближаться к ее естест¬
венной простоте. Что в русских сказках в тысячу тысяч раз
больше поэзии, нежели в «Бедной Лизе», не только в «Боярской
дочери» 2 и «Марфе Посаднице», об этом в наше время нечего
много говорить: это аксиома. Как же хотите вы воспроизводить
их? Не то ли же это, что, подобно Дюсису, переделывать в по¬
шлые трагедии генияльные драмы Шекспира? Не то же ли, что
поправлять народные русские песни, вставляя в них паркетные
нежности и имена Лил, Нин и проч., как то делывалось нашею
доброю стариною! Эти сказки созданы народом: итак, ваше де¬
ло списать их как можно вернее под диктовку народа, а не
подновлять и не переделывать. Вы никогда не сочините своей
народной сказки, ибо для этого вам надо б было, так сказать,
омужичиться, забыть, что вы барин, что вы учились и грамма¬
тике и логике, и истории и философии, забыть всех поэтов,
отечественных и иностранных, читанных вами, словом, переро¬
диться совершенно; иначе вашему созданию, по необходимости,
будет недоставать этой неподдельной наивности ума, не про¬
свещенного наукою, этого лукавого простодушия, которыми от¬
личаются народные русские сказки. Как бы внимательно ни при¬
слушивались вы к эху русских сказок, как бы тщательно ни под¬
делывались под их тон и лад и как бы звучны ни были ваши
стихи, подделка всегда останется подделкою, из-за зипуна все¬
гда будет виднеться ваш фрак. В вашей сказке будут русские
слова, но не будет русского духа, и потому, несмотря на
мастерскую отделку и звучность стиха, она нагонит одну скуку
и зевоту. Вот почему сказки Пушкина, несмотря на всю прелесть
стиха, не имели ни малейшего успеха. О сказке г. Ершова —
нечего и говорить. Она написана очень не дурными стпхами, но,
по вышеизложенным причинам, не имеет не только никакого
художественного достоинства, но даже и достоинства забавного
фарса. Говорят, что г. Ершов молодой человек с талантом; не
думаю, ибо истинный талант начинает не с попыток и подделок,
а с созданий, часто нелепых и чудовищных, но всегда пламен¬
ных и, в особенности, свободных от всякой стеснительной систе¬
мы или заранее предположенной цели.
367
ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ ВАДИМА1. Москва, в типографии Семем Се-
ливановского. 1834. 180. IV. (8).
Много чудес на белом свете, но еще более их в нашей
литературе. Это истинное вавилонское столпотворение, где лю¬
ди толкутся взад и вперед, шумят, кричат на всевозможных
языках и наречиях, не понимая друг друга; по-видимому, стре¬
мятся к какой-то общей определенной цели, а между тем бегут
в разные стороны; суетятся и бросаются туда и сюда, и между
тем ни на полшага вперед:
Поклажа хоть невелика.
Да лебедь рвется в облака,
Рак тянет взад, а щука в воду!2
В самом деле, что за противоположные явления! Цель
одна — распространение просвещения; а средства к достижению
этой цели... Боже мой! как различны! — В чем заключается при¬
чина этого разнохарактерного дивертисмана, который так кари¬
катурно танцует наша литература? Без всякого сомнения, в дет¬
ском и разнокалиберном образовании нашем. Это образова¬
ние есть плащ, сшитый из лоскутов разных материй, всевозмож¬
ных цветов и всевозможных цен. Посмотрите: там Брамбеус
силится блистать красотами Поль де Кока, приправленными,
в приличных местах, неистовством юной словесности; здесь
г. Греч хлопочет воскресить нравственные романы почтенной
старушки мадам Жанлис с братиею;3 там г. Лажечников готовит
к изданию роман европейского достоинства;4 тут гг. Булгарин
и Орлов пишут едкие сатиры на общество и стараются исправ¬
лять его пороки. Там г. Устрялов издает «Сказания современни¬
ков о Димитрии Самозванце»; здесь г. Сенковский трактует
о сагахъ, а какой-то Вадим грозится решить спор о «Слове
о полку Игореве». Тут повести г. Павлова и «Грамматика» Вос¬
токова — там повести Безумного и «Грамматика» г. Калайдови¬
ча...6 И все это пользуется чуть ли не равным участком славы!..
У нас есть литераторы, принадлежащие по своему образованию
и образу мыслей ко всем векам, начиная с IX (или начала Рос¬
сийского государства — см. «Российскую историю» г. Кайдано-
ва)7 до XIX включительно. В самом деле, у нас есть люди, над
которыми решительно бессилен полет времени, которые креп¬
ко держатся там, где стали однажды. У нас есть люди, которые
во всю прыть гонятся за веком, думают, что идут наравне с ним,
нимало не подозревая, что отделены от него целым океаном
расстояния. Вот, например, к какому классу книг отнесете вы
«Путевые записки Вадима», с чем сравните их? Чай, с «Impres¬
sions de Voyage par Dumas»? * Как бы не так! То же, да не то,
* «Путевыми впечатлениями Дюма» (франц.).'— Ред.
308
уверяю вас. В их появлении на свет виноват не Дюма, а — бог
весть кто...
«Путевые записки Вадима» — истинное диво дивное! Чего-
то в них нет! И юношеские рассуждения, и археологические
мечты, и исторические чувствования — все это так и рябит
в глазах читателя. А риторика, риторика — о! да тут разливан¬
ное море риторики! Не хотите ли примеров тропов, фигур, по¬
этических выражений? Берите их горстями, черпайте ведрами!
Не ищите грамматических ошибок, не ищите бессмыслиц; но не
ищите и новых мыслей, не ищите выражений, ознаменованных
теплотою чувства... Риторика всё потопила!
Автор начинает с того, что он с юности читал великую книгу
природы, которую не все читают; потом описывает свой переезд
из Сибири в Малороссию; в продолжение этой бесконечной до¬
роги задумывается над Кремлем и другими памятниками вре¬
мен былых; потом простодушно объясняет, почему у нас не
развилось и не усовершенствовалось национальным образом:
италиянское зодчество, занесенное к нам Аристотелем Болон¬
ским, не догадываясь, что у нас, до Петра Великого, ничего не
могло развиваться, как у народа, который сам не развивался,
который мирно прозябал за своими столами дубовыми и ска¬
тертями браными, на своих постелях пуховых за пологами шел¬
ковыми и храбро, со всего плеча, крушил беспокойных соседей,
которые мешали ему покоиться... Потом г. Вадим рассуждает
и мечтает о Руси, Малороссии, о их истории, и об многом,
многом, о чем можете сами узнать, прочтя его «Путевые за¬
писки».
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ КАЗАКА ЛУГАНСКОГО1. Русские
сказки, I. Царевна Милонега. II. Коровушка-буренушка. III. Жид и цыган.
Книжка вторая. Санкт-Петербург, в типографии Греча. 1835. 194. (8).
На нашем крохотном литературном небосклоне всякое пят¬
нышко кажется или блестящим созвездием, или огромною ко¬
метою. Лишь только появится на нем какая-нибудь тучка, кото¬
рую, по ее отдаленности, нельзя хорошенько определить, как
яаши любители литературной астрономии тотчас вооружаются
огромными критическими телескопами и с важностию рассужда¬
ют, что бы это такое было: неподвижная звезда, новая планета
или блудящая комета. Они смотрят, толкуют, измеряют, спорят,
удивляются, а тучка между тем рассевается, и их ненаглядная
планета или комета ниспадает мелким дождичком и — исчезает
в земле. Много можно бы привести подобных примеров, тем
более что почти вся история нашей литературы состоит из таких
забавных анекдотов. Вот, например, сколько шуму произвело
появление Казака Луганского! Думали, что это и невесть что
такое, между тем как это ровно ничего; думали, что это
369
необыкновенный художник, которому суждено создать народную
литературу, между тем как это просто балагур, иногда доволь¬
но забавный, иногда слишком скучный, нередко уморительно
веселый и часто приторно натянутый. Вся его генияльность со¬
стоит в том, что он умеет кстати употреблять выражения, взя¬
тые из русских сказок; но творчества у него нет и не бывало;
ибо уже одна его замашка переделывать на свой лад народные
сказки достаточно доказывает, что искусство не его дело. Во
второй части его «Былей и небылиц» содержатся три сказки,
одна другой хуже. Первая всех сурьознее: в ней между прочи¬
ми вещами говорится о Сатурне, о боге любви, о счастливом
острове, наполненном нимфами (что-то похоже на остров Ка-
липсы);2 все это пересыпано сказочными руссицизмами — не
правда ли, что очень забавно? Вторая сказка — переделка, ста¬
ло, о ней нечего и говорить. Третья, «О жиде вороватом и цы¬
гане бородатом», состоит из ходячих армейских анекдотов
о жидах; грязно, сально, старо, пошло, но, несмотря на то, так
забавно, что невозможно читать без смеха... Казак Луганский
забавный балагур\..
АББАДДОННА. Сочинение Николая Полевого. Москва, в ти¬
пографии С. Селивановского. 1834. 4 части: I — 302; II — 246; III — 292;
IV-266. (12).
МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ. Были и повести, сочиненные Николаем По¬
левым. Москва, в типографии Августа Семена, при императорской Ме¬
дико-хирургической академии. 1834. 4 части: I — 258; II — 384; III — 305;
IV-261. (12).
Скучно и тошно читать ex officio * разные вздоры
и нелепости, изобретаемые плодовитою бездарностию и бес¬
стыдною меркантильностью; неприятно и досадно повторять
тысячу раз одно и то же или разыгрывать разные варияции
на одну и ту же тему; жалко и унизительно высказывать с гру¬
бою откровенностию резкие истины рыцарям печального образа
и дразнить пискливое самолюбие литературных гусей! Зато как
приятно и отрадно, взявши в руки какое-нибудь многотомное
произведение российского пера, осудив себя a priori ** на
скуку и зевоту, а перо свое на беспощадную правду, обмануться
в ожидании и, вместо пошлости, прочесть что-нибудь сносное
и порядочное! Но приняться за чтение книги такого автора, имя
которого обещает творение, хотя и не генияльное, но ознаме¬
нованное большею или меньшею степенью таланта,— и не обма-
* по должности (лат.). — Ред.
** заранее, до опыта (лат.). — Ред*
370
нуться в своей надежде, и быть в состоянии отдать должную
справедливость подобному произведению: о, это верх блажен¬
ства для человека, свободного в своем образе мыслей от вся¬
кого влияния партий и чуждого всякого литературного сватов¬
ства и кумовства! В деле литературы, как и в делах жизни, есть
своя честность, своя добросовестность; но вместе с тем есть
и свои неизбежные отношения, которые ставят иногда человека
в необходимость быть пристрастным, нередко для поддержания
своей репутации. Мир журнальный есть мир политической
в миниатюре; в нем есть своя оппозиция, свои союзы, свои вой¬
ны и примирения; кто не помнит прекрасной и остроумной
статьи: «Обозрение журнальных кабинетов», помещенной в
«Московском вестнике» за 1830 год?1 Посему для посвящен¬
ных в таинства журнального мира кажутся весьма понятны
и извинительны такие явления, которые по справедливости воз¬
буждают всё негодование непосвященных. Как бы то ни было,
но, чуждый такого рода отношений, я чувствую всю цену моей
независимости и спешу воспользоваться ею, чтобы высказать от¬
кровенно, по совести и разумению, мое мнение о романе г. По¬
левого. Я не намерен писать на него критики и принимать на
себя важной роли судии неумолимого; нет: я хочу бросить
только беглый взгляд, просто и без затей изложить, в виде
заметки, мое суждение, не как критика, но как простого любите¬
ля, представить читателям результат впечатлений, коими пора¬
зило меня это новое явление в нашей литературе.
«Аббаддонна» есть второй роман г. Полевого; первым его
опытом в сем роде была «Клятва при гробе господнем». Как то,
так и другое произведение не имеет себе образца и не похоже
ни на какое сочинение того же рода в нашей литературе; по
участь сих обоих произведений чрезвычайно различна: приня¬
тые с равною благосклонностию публикою, они были приняты
различным образом нашими записными Аристархами. Первое
было превознесено некоторыми из них до седьмого неба, так
что поставлено чуть ли не выше всего, что есть лучшего в сем
роде в европейских литературах; второе же, по мнению тех же
самых людей, поставлено едва ли не наравне с изделиями
г. Александра Орлова2. Не пускаясь в исследование любопыт¬
ных причин столь противоположного мнения о двух произведе¬
ниях одного и того же автора, я замечу мимоходом, что ни
то, ни другое из сих мнений несправедливо. «Клятва при гробе
господнем», как мне кажется, ниже тех преувеличенных похвал,
которыми столь бездоказательно осыпали ее наши неумытные
литературные судьи; она едва ли заслуживает имя художествен¬
ного произведения в полном смысле сего слова. Это есть про¬
сто попытка умного человека создать русский роман, или, луч¬
ше сказать, желание показать — как должно писать романы, со¬
держание коих берется из русской истории. И в сем случае этот
роман есть явление замечательное; одно уже то, что любовь
371
играет в нем не главную, а побочную роль, достаточно доказы¬
вает, что г. Полевой вернее всех наших романистов понял по¬
эзию русской жизни. В его произведении есть несколько мест
высокого достоинства, есть много нового, интересного, как во¬
обще в завязке и ходе всего романа, так и во многих ситуациях
и характерах действующих лиц; но в целом он вял и скучен.
Видно много ума, но мало фантазии, видно усилие, но не видно
вдохновения.
«Аббаддонна» несравненно выше «Клятвы при гробе гос¬
поднем»; может быть, это происходит оттого, что здесь г. По¬
левой был, так сказать, более в своей тарелке, ибо вообще его
талант, несмотря на всю его многосторонность, особенно тор¬
жествует в изображении таких предметов, которые имеют близ¬
кое отношение к нему самому по опыту жизни. Представить
художника в борьбе с мелочами жизни и ничтожностию лю¬
дей — вот тема, на которую г. Полевой пишет с особенною лю¬
бовью и с особенным успехом: доказательством тому его по¬
весть «Живописец» и рассматриваемый мною роман. Эти два
произведения я почитаю лучшими произведениями г. Полевого:
в них он сам является художником. Впрочем, его талант также
весьма замечателен в юмористических картинах современной
русской жизни и в превосходном изображении поэтической сто¬
роны наших простолюдинов; причина очевидна: то и другое ему
слишком хорошо знакомо, а он, повторяю, не иначе может быть
хорош, как в сфере, хорошо ему знакомой. Это есть общая
участь таланта и составляет, по моему мнению, его главное от¬
личие от гения. Гений может изображать верно и сильно такие
чувствования и положения, какие, по обстоятельствам его жиз¬
ни, не могли быть им изведаны; талант всегда находится под
могущественным влиянием или обстоятельств своей жизни, или
индивидуальности своего характера и торжествует в изображе¬
нии предметов, наиболее поражавших его чувство или ум; ге¬
ний творит образы новые, никем даже не подозреваемые, не
только что не виденные; талант только воплощает в новые фор¬
мы вечные типы гения; оригинальность и красоты в создании
гения суть результат одной его творческой силы; красоты же
в произведении таланта суть следствие меньшей подчиненности
влиянию гения, а особность есть следствие более индивидуаль¬
ности человека, нежели художника. Степенью сей-то подчиняе¬
мое™ влиянию гения определяется сила таланта.
Основная мысль «Аббаддонны» не новость, хотя талант ав¬
тора умел придать ей прелесть новости. Характеры персонажей,
за исключением двух, все оригинальны и суть создания автора.
Два же, а именно: Элеоноры и Генриэтты, суть пересозданные
типы Шиллера, которым, впрочем, г. Полевой умел придать
столько оригинальности, что они не кажутся сколками с своих
образцов, а только напоминают их. Подобная подражатель¬
ность, если только можно назвать ее подражательностью, за¬
372
метна даже в некоторых положениях: кроме сходства в харак¬
терах, Элеонора и Генриэтта напоминают собою леди Мильтфорт
и Луизу Шиллера и во взаимных отношениях между собою, как
соперницы. Так, например, прекрасная сцена свидания Элеоно¬
ры с Генриэттою (ч. IV, стр. 78—95) напоминает сцену свидания
леди Мильтфорт с Луизою. «И он передал ей душу свою — я
видела это: у него привыкла она так смотреть, так говорить»
(стр. 101). Эти слова исступленной любовию и ревностию Элеоно¬
ры показывают, что автору «Аббаддонны», как будто в смутном
сне, представлялась помянутая сцена из «Коварства и любви» 3,
хотя его собственная от этого нимало не теряет в художествен¬
ном достоинстве и имеет свой характер и свою оригинальность.
Говоря, что двое из главных персонажей «Аббаддонны» на¬
поминают типы Шиллера, я отнюдь не имею целию унижать чрез
то достоинство сего романа, а еще менее упрекать г. Полевого
в подражательности. Смешно и думать, чтобы в наше время
хотя сколько-нибудь образованный человек поставил в заглавии
своего сочинения: подражание такому-то и стал бы объяснять
в предисловии, что принадлежит в его сочинении собственно
ему и что взято им напрокат из того или другого писателя; еще
смешнее думать, чтобы в наше время человек с истинным та¬
лантом, садясь за перо с намерением создать что-нибудь, раз¬
ложил перед собою творение гения и стал бы с него скопировы-
вать. Нет: в создании истинного таланта нашего времени вы
никогда не заметите этой пошлой подражательности, которая
почиталась некогда необходимою принадлежностью чудовищных
и безобразных произведений так называемых классиков. Этого
мало: вы не всегда укажете на одно какое-нибудь известное про¬
изведение, которое было бы исключительным образцом оного; но
вы всегда, или по крайней мере часто, откроете в нем следы
влияния одного или даже и нескольких генияльных творений. Эта
зависимость есть невольная дань таланта гению — дань, которую
он часто платит ему бессознательно и без своего ведома. Так, на¬
пример, исторический роман XIX века не есть изобретение Валь¬
тера Скотта, ибо все роды в виде поэзии безусловны, и их прото¬
типы скрываются в непреложных законах творчества; по я думаю,
что Вальтер Скотт потому уже гений и стоит гораздо выше всех
последовавших романистов, что он первый угадал этот род романа.
Колумбы открывают неизвестные части мира, а Пизарры и Корте-
цы только довершают их открытия.
Вот главные персонажи «Аббаддонны», на коих сосредото¬
чивается интерес романа: Вильгельм, молодой художник, со¬
здание, вполне принадлежащее г. Полевому, невольно привле¬
кающее к себе внимание читателя, борется между влечением
своего гения и обольщениями жизни, между голосом своего ху¬
дожнического призвания и сомнением в своем художническом
призвании; Элеонора, чудное, дивное, высокое, прелестное
создание, женщина, рожденная с душою пламенною и энер¬
373
гическою, с страстямп знойпыми п волканическими, но увле¬
ченная обстоятельствами в бездну разврата, превосходная актриса,
исступленная жрица и поклонница изящного п вместе с тем
презренная любовница сильного временщика, бездушного ста¬
ричишки, испытывает над собою высокое таинство любви, очи¬
щается в ее священном пламени от ржавчины порока и вос¬
стает от своего падения в мощном, исполпнском величии; потом
Генриэтта, первая любовь Вильгельма, одно из этих милых,
кротких созданий, немочек-кухарочек, которых я люблю до
смерти и которых еще никогда не видывал, которые обещают
избранному ими юноше и супружескую верность до гроба,
и вкусно сваренный суп из картофеля, и тихое упоение роман¬
тической любви, и самый классический порядок в доме и
на погребе, которые сначала изображаются с серафимскими
крыльями, а потом с связкою ключей, которые, наконец, начина¬
ют свое поприще идеалами, а оканчивают кухнею и прачечною,—
Генриэтта испытывает муки отверженной любви и возбуждает
в душе читателя живейшее сострадание к своему положению.
Второстепенные лица также интересны. Рассказ вообще живой
и занимательный; положения по большей части новые и ориги¬
нальные; обрисовка характеров мастерская, обличающая руку
твердую и резкую; множество картин и описаний истинно худо¬
жественных, каковы: представление Арминия, сцена в беседке,
вольный перевод из Сутея индийской легенды «Аллоа», столк¬
новение Вильгельма с двором князя и с могущественным
бароном Калькопфом, поездка Вильгельма на родину и уже упо¬
мянутая мною прекрасная сцена свидания Элеоноры с Генриэт¬
тою, изображение директора театра, литераторов, поэтов, жур¬
налистов, ученых, ползающих поочередно перед сильными, заку¬
лисные тайны, то есть театр во время репетиций и до поднятия
занавеса; наконец, прекрасный слог — вот достоинства нового
произведения г. Полевого. В нем целость выдержана, по край¬
ней мере пока, ибо этот роман еще не составляет целого; его
продолжение и окончание будет в другом романе. За одно
только можно упрекнуть автора: это за излишнюю говорливость,
которая иногда переходит в совершенную болтливость; между
многими прекрасными мыслями у него, особенно в первой
части, встречаются места, состоящие из сентенций, решительно
пошлых. Конечно, подобные пошлые сентенции могли бы соста¬
вить блеск и украшение романов иных авторов, пользующихся
на святой Руси большим авторитетом, но как-то неприятно
и досадно встречать их в романе г. Полевого. Желаем и с
нетерпением ожидаем, чтобы второй роман, служащий оконча¬
нием «Аббаддонне», вышел как можно скорее4, и благодарим
г. Полевого, что он, литератор Москвы, подарил нашу публику
хорошим произведением, тогда как петербургские литераторы
потчуют ее заплесневелыми крохами с убогой трапезы Поль до
Кока, Жанлис и Дюкре-Дюмепиля с братиею.
374
Что касается до повестей г. Полевого, об нпх вообще мож¬
но сказать то же, что и об «Аббаддонне»: это создания не
вековые, не генияльные, но ознаменованные печатию сильного
таланта. В четырех частях его «Мечты и жизнь» заключается
пять повестей: «Блаженство безумия», «Эмма», «Живописец»,
«Мешок с золотом» и «Рассказы русского солдата». Первая
слишком как-то напоминает Гофмана, но отличается мастер¬
ским рассказом; вообще большинство голосов остается на сто¬
роне «Эммы»; но мне больше всего нравится «Живописец»; самая
слабая повесть есть «Мешок с золотом», но «Рассказы рус¬
ского солдата» — это прелесть! В этой пьесе так много чувства,
так много оригинальности и верности в изображении чувств
и понятий простолюдинов, что с нею не может идти ни в какое
сравнение ни одна повесть, взятая из простонародной жизни.
Истина вымысла доведена в ней до совершенства, так что когда
прочтешь эту повесть, то все писанные в одпом с нею роде
покажутся бледными и искаженными копиями. Странно, почему
г. Полевой не поместил в своих «Мечты и жизнь» своей пре¬
красной исторической повести «Симеон Кирдяпа» и своих зани¬
мательных «Святочных вечеров»?5
ЗАПИСКИ О ПОХОДАХ 1812 И 1813 ГОДОВ, ОТ ТАРУТИНСКОГО
СРАЖЕНИЯ ДО КУЛЬМСКОГО БОЯ. Санкт-Петербург, в типографии Кон¬
рада Вингебера. 1834. Две части: I — 158; II — 103. (8) К
К числу самых необыкновенных и самых интересных явле¬
ний в умственном мире нашего времени принадлежат записки,
или mimoires. Это суть истинные летописи наших времен, летопи¬
си живые, любопытные, писанные не добродушными монахами,
но людьми, по большей части образованными и просвещен¬
ными, бывшими свидетелями, а иногда и участниками этих со¬
бытий, которые описываются ими со всею откровенностию, какая
только возможна в наше время, со всеми подробностями, кото¬
рых ищет и романист, и драматург, и историк, и нравоописа-
тель, и философ. И в самом деле, что может быть любопытнее
этих записок: это история, это роман, это драма, это все, что
вам угодно. Что может быть важнее их? Десять, двадцать чело¬
век пишут об одних и тех же событиях, и каждый из них имеет
своего конька, свою ахиллесовскую пятку, свой взгляд на вещи,
свою манеру в изложении, словом, свои дурные и хорошие сто¬
роны: сличайте, сравнивайте, поверяйте, сводите на очную став¬
ку — сколько материялов для результатов, результатов верных
и драгоценных, если только вы сумеете хорошо сделать ваше
дело. Записки, или memoires, есть собственность французов,
чадо их народности. Их успеху и распространению чрезвычайно
много способствовали последние перевороты; в самом дел$:
375
монархия, республика, империя, реставрация, сто дней, опять
реставрация — тут можно объясняться откровенно и без обиня¬
ков, и есть о чем поговорить!
Если кто сочтет «Записки о походах 1812 и 1813 годов» за
подобные memoires, тот жестоко обманется в своем ожидании. Это
просто история походов, изложенная в связи, подобно извест¬
ному сочинению Бутурлина2. История эта, сколько я пони¬
маю, есть произведение человека умного и знающего свое дело:
он был очевидцем и участником в описываемых им походах,
судит о них ученым образом, смотрит на многие вещи с новой
точки зрения. Главное достоинство сего сочинения состоит
в благородном беспристрастии: автор отдает полную справедли¬
вость громадному гению Сына судьбы3, удивляется ему до эн¬
тузиазма, как знаток военного искусства, и оправдывает свое
удивление фактами; равным образом, он говорит с восторгом
о храбрости французов, что, впрочем, нимало не мешает ему
приносить должную дань хвалы и удивления своим соотечест¬
венникам. Вообще его энтузиазм к тем и другим основан не на
каком-нибудь безотчетном чувстве, но на знании военного ис¬
кусства, и посему, говоря с похвалою о блистательных подвигах
как неприятельских, так и отечественных генералов, он
беспристрастно говорит и об их ошибках. Вообще эта книга
может читаться с удовольствием даже и не посвященными
в таинства военного ремесла, ибо, при всей своей дельности,
она чужда утомительной сухости и написана, за исключением
немногих синтаксических неправильностей, хорошим русским
языком.
ХМЕЛЬНИЦКИЕ, ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАЛОРОССИИ. Истори¬
ческий роман XVII века. Соч. П. Голо ты. Москва, в типографии Лаза¬
ревых Института восточных языков. 1834. Три части: I —180; II —179;
III —209. (12). С портретом Хмельницкого.
Автор сего, будто бы «исторического романа XVII века>>,
описывая, в третьей и последней части оного, обручение одного
пз своих героев, Тимофея Хмельницкого, сына знаменитого
Зиновия, прозванного Богданом, с молдавскою княжною, пре¬
красною Розандою, говорит тако: «Приятно бы было оканчивать
романы подобным благополучием (?!), где (??) порок наказы¬
вается, а добродетель торжествует, где (??) слава и геройство
доставляют блаженство и в этой скучной жизни; но человек пред¬
полагает, а бог располагает». Не правда ли, что подобные поня¬
тия и чувствования делают большую честь сердцу автора? Поду¬
маешь, что читаешь тираду из «Дамского журнала»; 1 но все¬
могущее время, в быстром полете, коснулось своим крылом
и г. Голоты, и потому он продолжает тако: «Следуя истории, я с
376
прискорбием должен придержаться истины и тем огорчить, мо¬
жет быть, хотя одно чувствительное сердце». Повторяю: все это
так прекрасно и вместе так обыкновенно, что эти слова, как
п весь роман, можно б совсем оставить без внимания; но сле¬
дующие за ними строки удивляют своею наивностию и невольно
останавливают на себе внимание рецензента: «Может быть,
многие воскликнут: «Помилуйте, г. Голота, вы дарите (?!) нас
уже третьим романом подобного почти окончания!» Что это
такое? Дерзкое самохвальство со стороны автора или его
смешное заблуждение насчет своего дарования и своей лите¬
ратурной значительности?.. В том и другом случае я, нижепод¬
писавшийся, долгом почитаю предложить ему, со всею вежли-
востию, два следующих вопроса:
Милостивый государь, г. Голота, к чему такие странные
претензии! Поверьте, что они смешны и забавны даже и у таких
писателей, которые далеко ушли от вас. Потом, с чего вы взду¬
мали сделать несбыточное предположение, чтобы кто-нибудь
из читателей мог дочитаться, без крайней необходимости, до
третьей части вашего романа, и обратить к вам, г-ну Голоте,
такое патетическое воззвание? Ибо —
Ваш роман — не роман, а дурной фарс, который гораздо
ниже бездарных изделий многих наших романистов.
Все ваши исторические лица искажены и изуродованы;
вместо того великого Зиновия Хмельницкого, о котором народ¬
ная дума говорит:
Тилько бог святый знае,
Що Хмельницкий думае, гадае!2
вы представили в своем романе какого-то дюкре-дюменилевско-
го героя, вроде знаменитого Эраста Чертополохова, который
действует, как сумасшедший, и объясняется надутым, ритори¬
ческим языком персонажей «Российского феатра»3. Это произо¬
шло оттого, что у вас не было ни идей, ни идеалов, а какие-
то мертвые куклы, в которых ваша фантазия не умела вдохнуть
душу живу, которых вы видели неясно, как будто бы в смутном
сне. У вас Малороссию угнетают не поляки, а какой-то сума¬
сшедший лях, Чаплицкий, лицо, весьма похожее на злодеев клас¬
сической трагедии.
В вашем романе нет и тени Малороссии, ни в действии, ни
в языке, исключая разве нескольких малороссийских поговорок,
которые вы, ни к селу ни к городу, рассадили в разных местах.
Наконец, ваш роман написан дурным русским языком, от
первой страницы до последней. Для доказательства беру на
выдержку следующее место: «Друг мой, что ты сказал? довер¬
ши мое благополучие. Могу ли обольщать себя чарующею на¬
деждою быть любимым от твоей сестры?» Это говорит Нечай!!!...
Спрашиваю вас, г. автор, не странны ли после этого все
ваши авторские претензии?
377
В заключение скажу, что из множества эпиграфов, которы¬
ми усеян ваш роман, удачнее других подобран следующий:
А нам дукаты н дукаты!..
Он как-то лучше идет к роману...
СОЧИНЕНИЯ В ПРОЗЕ И СТИХАХ, КОНСТАНТИНА Б А-
Т 10 Ш К О В А. Издание второе. Санкт-Петербург, в типографии И. Глазу¬
нова. 1834. Две части: I — 340; II — 270. (8).
Наша литература, чрезвычайно богатая громкими авторите¬
тами и звонкими именами, бедна до крайности истинными та¬
лантами. Вся ее история шла таким образом: вместе с каким-
нибудь светилом, истинным или ложным, появлялось человек
до десяти бездарных людей, которые, обманываясь сами в сво¬
ем художническом призвании, обманывали неумышленно и до¬
бродушную и доверчивую нашу публику, блистали по нескольку
мгновений, как воздушные метеоры, и тотчас погасали. Сколько
пало самых громких авторитетов с 1825 года по 1835? Теперь
даже и боги этого десятилетия, один за другим, лишаются своих
алтарей и погибают в Лете с постепенным распространением
истинных понятий об изящном и знакомства с иностранными
литературами. Тредьяковский, Поповский, Сумароков, Херасков,
Петров, Богданович, Бобров, Капнист, г. Воейков, г. Катенин,
г. Лобанов, Висковатов, Крюковской, С. Н. Глинка, Бунина,
братья Измайловы, В. Пушкин, Майков, кн. Шаликов — все эти
люди не только читались и приводили в восхищение, но даже
почитались поэтами; этого мало, некоторые из них слыли гения¬
ми первой величины, как-то: Сумароков, Херасков, Петров
и Богданович; другие были удостоены тогда почетного, но те¬
перь потерявшего смысл титла образцовых писателей *. Теперь,
увы! имена одних из них известны только по преданиям о их
существовании, других потому только, что они еще живы как
люди, если не как поэты... Имя самого Карамзина уважается
* Вот, например, что писал о Майкове знаменитый драматург наш
кн. Шаховской в кратком предисловии к своей ирои-комической поэме
«Расхищенные шубы», помещенной в «Чтении в Беседе любителей россий¬
ского слова» 1811 года: «На нашем языке Василий Иванович Майков сочи¬
нил «Елисоя», шуточную поэму в 4 песнях. Отличные дарования сего поэта
п прекраснейшие стихи (!!), которыми наполнено (чем: отличными даро¬
ваниями или прекраснейшими стихами?) его сочинение, заслуживают
справедливые похвалы всех любителей русского слова; но содержание
поэмы, взятое из само-простонародных происшествий, и буйственные дей¬
ствия его героя не позволяют причесть сие острое и забавное творение к
роду ирои-комических поэм, необходимо требующих благопристойной шут¬
ливости» (стр. 46). Так как это было давно, то я привожу это мнение не
в укор знаменитому и многоуважаемому мною драматургу, а как факт для
истории русской литературы и доказательство, как непрочно удивление
современников к авторам.
378
теперь как имя незабвенного действователя на поприще обра¬
зования и двигателя общества, как писателя с умом и рвением
к добру, но уже не как поэта-художника... Но хотя авторская
слава так часто бывает непрочна, хотя удивление и хвала толпы
бывают так часто ложны, однако, слепая, она иногда, как будто
невзначай, преклоняет свои колена и пред истинным достоинст¬
вом. Но, повторяю, она часто делает это по слепоте, невзначай,
ибо превозносит художника за то, за что порицает его потомст¬
во, и, наоборот, порицает его за то, за что превозносит его
потомство. Батюшков служит самым убедительным доказатель¬
ством сей истины. Что этот человек был истинный поэт, что
у него было большое дарование, в этом нет никакого сомнения.
Но за что превозносили его похвалами современники, чему
удивлялись они в нем, почему провозгласили его образцовым
(в то время то же, что ныне гениялъным) писателем?.. Отвечаю
утвердительно: правильный и чистый язык, звучный и легкий
стих, пластицизм форм, какое-то жеманство и кокетство в от¬
делке, словом, какая-то классическая щеголеватость — вот что
пленяло современников в произведениях Батюшкова. В то время
о чувстве не хлопотали, ибо почитали его в искусстве лишним
и пустым делом, требовали ’ искусства, а это слово имело тогда
особенное значение и значило почти одно и то же с вычур-
ностию и неестественностию. Впрочем, была и другая важная
причина, почему современники особенно полюбили и отличили
Батюшкова. Надобно заметить, что у нас классицизм имел одно
резкое отличие от французского классицизма: как французские
классики старались щеголять звонкими и гладкими, хотя и на¬
дутыми, стихами и вычурно обточенными фразами, так наши
классики старались отличаться варварским языком, истинною
амальгамою славянщины и искаженного русского языка, обру¬
бали слова для меры, выламывали дубовые фразы и называли
это пиитическою волъностию, которой во всех эстетиках посвя¬
щалась особая глава. Батюшков первый из русских поэтов был
чужд этой пиитической вольности — и современники его разаха¬
лись. Мне скажут, что Жуковский еще прежде Батюшкова высту¬
пил на поприще литературы; так, но Жуковского тогда плохо
разумели, ибо он был слишком не по плечу тогдашнему общест¬
ву, слишком идеален, мечтателен, и посему был заслонен Ба¬
тюшковым. Итак, Батюшкова провозгласили образцовым поэтом
и прозаиком и советовали молодым людям, упражняющимся (в
часы досугов/от нечего делать) словесностию, подражать ему.
Мы, с своей стороны, никому не посоветуем подражать Батюш¬
кову, хотя и признаем в нем большое поэтическое дарование,
а многие из его стихотворений, несмотря на их щеголеватость,
почитаем драгоценными перлами нашей литературы. Батюшков
был вполне сын своего времени. Он предощущал какую-то
новую потребность в своем художественном направленпи, но,
увлеченный классическим воспитанием, которое основывалось
379
на странном п безотчетном удивлении к греческой и латинской
литературе, скованный слепым обожанием французской словес¬
ности и французских теорий, он не умел уяснить себе того, что
предощущал каким-то темным чувством. Вот почему вместе
с элегиею «Умирающий Таос» — этим произведением, которое
отличается глубоким чувством, не поглощенным формою, энер¬
гическим талантом, и которому в параллель можно поставить
только «Андрея Шенье» Пушкина, он написал потом вялое, про¬
заическое послание к Тассу1 (ч. II, стр. 98); вот почему он,
творец «Элегии на развалинах замка в Швеции», «Тень друга»,
«Последняя весна», «Омир и Гезиод», «К другу», «К Карамзи¬
ну», «И. М. М. А.», «К Н.» 2, «Переход чрез Рейн», — подражал
пошлому Парни, оставил нам скучную сказку «Странствователь
и домосед», отрывочный перевод из Тасса3, ужасающий хе-
расковскими ямбами, и множество стихотворений решительно
плохих и, наконец, множество балласту, состоящего из эпиграмм,
мадригалов и тому подобного; вот почему, признаваясь, что
«древние герои под пером Фонтенеля нередко преображаются
в придворных Лудовикова времени и напоминают нам учтивых
пастухов того же автора, которым недостает парика, ман¬
жет и красных каблуков, чтобы шаркать в королевской перед¬
ней» (ч. I, стр. 101), он не видел того же самого в сочинениях
Расина и Вольтера и восхищался Рюриками, Оскольдами, Олега¬
ми Муравьева, в котором благородного сановника, доброде¬
тельного мужа, умного и образованного человека смешивал
с поэтом и художником *. Кроме поименованных мною стихо¬
творений, некоторые замечательны по прелести стиха и формы,
как, например: «Воспоминание», «Выздоровление», «Мои пена¬
ты», «Таврида», «Источник», «Пленный», «Отрывок из элегии»4
(стр. 75), «Мечта», «К П —ну», «Разлука», «Вакханка» и даже
самые подражания Парни. Все остальное посредственно. Вооб¬
ще отличительный характер стихотворений Батюшкова состав¬
ляет какая-то беспечность, легкость, свобода, стремление не
к благородным, но к облагороженным наслаждениям жизни;
в сем случае они гармонируют с первыми произведениями Пуш¬
кина, исключая, разумеется, тех, кои, у сего последнего, проник¬
нуты глубоким чувством. Проза его любопытна, как выражение
мнений и понятий одного из умнейших и образованнейших лю¬
дей своего времени. Во всем прочем, кроме разве хорошего языка
и слога она не заслуживает никакого внимания. Впрочем, луч¬
шие прозаические статьи суть: «Нечто о морали,' основанной на
философии и религии», «О поэзии и поэте», «Прогулка в Акаде¬
мию», а самые худшие: «О легкой поэзии», «О сочинениях Му¬
равьева» 5 и в особенности повесть «Предслава и Добрыня».
* Муравьев как писатель замечателен по своему нравственному
направлению, в котором просвечивалась его прекрасная душа, и по хоро¬
шему языку и слогу, который, как то можно заметить даже из отрывков,
приведенных Батюшковым, едва ли уступает карамзинскому.
380
Теперь об издании. Наружность оного не только опрятна
и красива, но даже роскошна и великолепна. Нельзя не побла¬
годарить от души г. Смирдина за этот прекрасный подарок,
сделанный им публике, тем более что он уже не первый и,
надеемся, не последний. Цена, по красоте издания, самая уме¬
ренная: в Петербурге 15, а с пересылкою в другие города
17 рублей. Вот чем должны заслуживать общее уважение
гг. книгопродавцы. Бескорыстных подвигов мы можем желать
от них, но не требовать; цель деятельности купца есть барыши;
в этом нет ничего предосудительного, если только он приобре¬
тает эти барыши честно и добросовестно, если он только не
способствует, своими денежными средствами и своею излишнею
падкостию к выгодам, распространению дурных книг и развра¬
щению общественного вкуса.
Жаль только, что это издание, вполне удовлетворяя требо¬
вания вкуса в наружных достоинствах, не удовлетворяет их во
внутренних. Еще при выходе сочинений Державина г. Смирдину
было замечено в одном московском журнале, что стихотворе¬
ния должны располагаться в хронологическом порядке, сооб¬
разно со временем их появления в свет 6. Такого рода издания
представляют любопытную картину постепенного развития таланта
художника и дают важные факты для эстетика и для историка
литературы. Напрасно г. Смирдин не обратил на это внимания.
Издание украшено портретом и двумя виньетками превос¬
ходной отделки. Первый рисован г. Кипренским, а последние
Брюлловым; гравированы же тот и другие г. Галактионовым.
АРАБЕСКИ. Разные сочинения Н. Гоголя. Санкт-Петербург. В ти¬
пографии вдовы Плюшар с сыном. 1835. Две части: I — 287; II —276. (8).
МИРГОРОД. Повести, служащие продолжением «Вечеров на хуторе
близ Диканьки» Н. Гоголя. Санкт-Петербург. В типографии Департа¬
мента внешней торговли. 1835. Две части: I — 224; II — 215. (8). С эпигра¬
фом:
«Миргород, нарочито невели¬
кий при реке Хороле город, имеет
1 канатную фабрику, 1 кирпичный
завод, 4 водяных и 45 ветряных
мельниц». «География» Зябловского.
«Хотя в Миргороде пекутся
бублики из черного теста, но до¬
вольно вкусны». «Из записок одного
путешественника».
Конец 1833 и начало 1834 года были ознаменованы какою-
то особенною мертвенностию в нашей литературе; казалось,
что уже все кончилось — и книги, и журналы. Старые поэты, как
381
заслуженные ветераны, или совсем сошли со сцены, или поза-
молкли, а новых не являлось. «Торквато Тасс» г. Кукольника
порадовал было любителей изящного, как приятная, хотя п дет¬
ская греза. Прекрасные стихи, несколько поэтических мест
в сем произведении заставили было публику поздравить себя
с новым поэтом, подававшим блестящие надежды... Несравнен¬
но выше и занимательнее был «Дмитрий Самозванец» г. Хомя¬
кова; кроме некоторых неотъемлемых достопнств сей драмы,
ей придала особенную значительность пустота и ничтожность
всех печатных явлений того времени. Но, видно, г. Хомяков не
так был богат журнальными благоприятелями, как г. Куколь¬
ник ]. Да и что ж мудреного — ведь говорит же пословица: не
родись пригож, не родись умен — родись счастлив?.. Я не хочу
этим сказать, чтобы драма г. Хомякова была каким-нибудь
чудом или даже чем-нибудь важным; но если в наше время пи¬
шутся преогромные статьи о таких трагедиях, которые не заслу¬
живают решительно ни малейшего внимания ни в каком отноше¬
нии, то почему же бы не сказать слова два о таком сочинении,
которое замечательно если не большим достоинством, то по
крайней мере как заблуждение замечательного таланта, кото¬
рому не удается попасть на надлежащую дорогу7? Но об этом
после *. Моя речь клонится к тому, что гораздо лучше посчаст¬
ливилось концу 1834 и началу 1835 года. Повести г. Павлова,
«Аббаддонна» г. Полевого, «Арабески» и «Миргород» г. Гоголя
принадлежат к самым приятным явлением в нашей литературе
и все появились в этот промежуток времени. Если мы приба¬
вим, что на днях вышел новый роман г. Вельтмана «Светосла-
вич, вражий питомец», печатаются два новые романа г. Полево¬
го 3 и оканчивается печатанием давно ожидаемый роман г. Ла¬
жечникова «Ледяной дом» **,— то поневоле сознаемся, что
1835 год, в литературном отношении, в сорочке родился... Дай
бог, чтобы его начало было прекрасною зарею нового, лучшего
дня для нашей литературы...
Всем известен прекрасный талант г. Гоголя. Его первое про¬
изведение «Вечера на хуторе близ Диканьки» возбудили в пуб¬
лике самые лестные надежды. Но благоразумнейшие из читате¬
лей, наученные горьким опытом, не смели слишком предавать¬
ся этим надеждам. В самом деле, как богата наша литература
* В одном из №№ «Телескопа» я постараюсь отдать отчет о всех
драматических произведениях, появившихся с 1833 года по сие время,
которые замечательны если не по внутреннему достоинству, то по именам
их авторов, о коих еще не было говорено ни в «Телескопе», ни в «Молве» 2.
К сему меня понуждают многие причины, а в особенности странная критика
г. Шевырева на драму г. Кукольника «Скопин-Шуйский». Разумеется, о
всех наших драмах говорить много нечего; но можно много сказать о на¬
правлении наших драматургов, силящихся создать народную драму, и во¬
обще о том, как смотрят у нас на этот предмет.
** Четыре листа последней (четвертой) части сего романа уже отпе¬
чатаны, и весь он кончен будет на днях.
382
такими писателями, которые первыми своими произведениями
подавали о себе большие надежды, а последующими уничтожа¬
ли эти надежды. У меня вертится на языке несколько творении
такого рода, к которым так хорошо идет эпптет счастливых или
удачных... Есть люди, которые в больших статьях неудачу вторых
п третьих романов приписывают какому-то меркантильному на¬
правлению и торговым расчетам гг. авторов;4 по моему мне¬
нию, это странное явление можно всего естественнее и всего
справедливее объяснять бездарностию гг. авторов: истинный та¬
лант не могут убить ни хорошая плата за заслуженные труды,
ни резкая критика. Гораздо страннее успех такого рода литера¬
турных рыцарей; но, назвавши их произведения счастливыми
или удачными, вы легко разгадаете и эту загадку... Но не о том
дело... Я хочу сказать, что г. Гоголь составляет прекрасное
и утешительное исключение из сих столь общих и столь обыкно¬
венных у нас явлений: две его пьесы в «Арабесках» («Невский
проспект» и «Записки сумасшедшего») и потом «Миргород» до¬
казывают, что его талант не упадает, но постепенно возвышает¬
ся. Подробный отчет о сих двух его книгах будет помещен
в № 5 «Телескопа»;5 теперь же мы скажем только то, что эти
новые произведения игривой и оригинальной фантазии г. Гоголя
принадлежат к числу самых необыкновенных явлений в нашей
литературе и вполне заслуживают те похвалы, которыми осыпа¬
ет их восхищенная ими публика.
ТАИНСТВЕННЫЙ МОНАХ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ
ПЕТРА I. Исторический роман. С.-Петербург, в типографии III отделения
собственной е. и. в. канцелярии. 1834. Три части: I — 340; II — 348; III —
352. (12).1
Начав читать этот роман, я (на 14 странице первой части)
нашел, что боярин Хованский, пришедши домой в один осенний
вечер 1676 года, раздевшись до рубахи и надевши тулуп, прика¬
зал ставить самовар, чтобы напиться чаю: итак, в осенние вечера
1676 года наши бородатые бояре пили уже чай и держали
в дому самовары! Жаль, что почтенный автор, который, как
видно из сего образчика, весьма силен в знании отечественных
древностей, не сказал: употребляли ли наши бояре с чаем
ямайский ром или арак! Как бы то ни было, но я так обрадовал¬
ся этому любопытному известию касательно образа домашней
жизни нашей древней аристократии, что в восторге не хотел
далее читать и положил было книгу на стол. Но человеческие
желания ненасытимы; притом же кому не хочется выучиться
всему, ничему не учась? Итак, в надежде набрести еще на
какие-нибудь драгоценные исторические и археологические факты,
я снова взял в руки книгу, прочел ее до конца — и недаром:
надежда не обманула меня — я много нашел диковинок. Но пе
хочу лишать читателей приятного удовольствия, которые онимо-
383
гут получить, отыскивая сами дивные дива «Таинственного мона¬
ха». Вместо всего зтого я хочу сказать кое-что a propos *. У меня
предурная привычка говорить всегда не о главном деле, а так,
о чем-нибудь постороннем: что делать? Это мой конек.
С какою целию написан этот роман? Если для того, чтобы
обогатитй русскую литературу новым художественным созданием,
то скажу откровенно почтенному, хотя и не известному мне авто¬
ру, что он не достиг своей цели: он совершенно не поэт, не худож¬
ник. Его Петр, его София, его Хованский, Голицын, Щегловитый,
Меншиков, Дорошенко, Мазепа, Карл XII и прочие выведенные
им исторические лица суть не иное что, как общие риторические
места, образы без лиц, сбитые кое-как на одну колодку.
Если автор имел цель дидактическую, то есть хотел развить
практически какие-нибудь идеи или, в форме романа, предста¬
вить новые точки зрения на события избранной им эпохи из
отечественной истории, то опять скажу ему с тою же откровен-
ностию, что и в сем случае он нимало не достиг своей цели. Ибо
дидактическое направление в искусстве требует современных
идей о предметах и просвещенного взгляда на вещи; но, спра¬
шиваю всех и каждого: есть ли что-нибудь современного в поня¬
тиях автора об искусстве в сих строках: «Надобно предуведо¬
мить читателя, что он по всегдашней своей благосклонности (ох
уж эти авторские надежды на благосклонность читателей!) дол¬
жен будет делать мысленно за автором скачки, не по дням,
а по годам. (Трудное дело — как раз упрыгаешься: сужу по
собственному опыту.) Это романические антракты, в которые (в
которых?) автор не находит: что бы ему написать путного (хоть
и говорят, что дело мастера боится, а, видно, не так-то лег¬
ко!),—а гоняясь за эффектами, собирает происшествия многих
лет, чтоб поразить читателя сложностию явлений». Правда, су¬
щая правда! именно так и делали все великие романисты, начи¬
ная с Вальтера Скотта до автора «Таинственного монаха». Эти
прекрасные и глубокие мысли о творчестве г. автор заключает
сими грустными, уныние наводящими словами: «Счастливы оба
(то есть автор и его читатель), если это удастся. Только многие
собираются, да мало являются. Может быть, и наша участь тако¬
ва же».— Всесовершеннейшая и всеконечнейшая правда! Жаль
только, что последняя мысль выражена в предположительной,
а не утвердительной форме!
Если г. автор хотел представить живую картину быта наших
предков в самую занимательную эпоху русской истории, то
и здесь он не вполне достигает своей цели, ибо хотя у него
факты и до крайности верны (что можно видеть из самовара
и чаю), но в картинах нет никакой жизни.
Если г. автор хотел своим романом доставить публике хо¬
рошо и складно написанную по-русски книгу, то в сем отноше¬
* кстати (франц.). — Ред»
384
нии он всего менее достиг своей цели, ибо, увлеченный, может
быть, порывами воображения, он забыл орфографию, что видно
из неправильной расстановки знаков препинания и в особен¬
ности двоеточий, а более всего в ошибках против синтаксиса,
что можно видеть из следующих выдержек: «Зная дух русских,
он предвидел, что, покорив его однажды спасительному игу
военного повиновения, солдаты его будут первейшими в свете».
(Ч. II, стр. 149.) Это галлицизм, а таких галлицизмов в сем
романе тьма. «Она была залившись слезами»— эта фраза из пе¬
тербургского жаргона, а таких фраз в сем романе бездна. За¬
мечу еще мимоходом об эстетическом чувстве г. автора: на
203 странице второго тома у него помещена такая чудная кар¬
тина (строка 16—22), что я, из уважения к читателям и из стра¬
ха возмутить их душу и произвести тошноту, не выписываю это¬
го места, несмотря на всю его краткость, а только советую г. ав¬
тору избегать этих отвратительных пошлостей, которыми так
любит щеголять игривая фантазия Барона Брамбеуса.
ВЕДЬМА, ИЛИ СТРАШНЫЕ НОЧИ ЗА ДНЕПРОМ. Русский роман,
взятый из народного предания. Соч. А. Чуровского. Москва. В типогра¬
фии М. Пономарева. 1834. Три части: I — 170; II —157; III — 156. (12).
ЧЕРНОЙ (ЫЙ?) КОЩЕЙ, ИЛИ ЗАДНЕПРОВСКИЙ ХУТОР У ЛУН¬
НОЙ ГОРЫ. Русский роман из времен Петра Великого. Соч. А. Чуров¬
ского. Москва. В типографии М. Пономарева. 1834. Три части: I — 99;
II-68; III-51. (12).
Г-н А. Чуровский есть новое лицо, недавно выступившее на
поприще литературы. Но неизвестность его имени нимало но
мешает совершенному успеху его дебюта; пословица говорит:
видно птицу по полету, а доброго молодца по ухватке! Он под¬
ражает почтенному Н. И. Гречу, знаменитому автору «Черной
женщины», и, надобно сказать правду, подражает ему с боль¬
шим успехом: его роман не только ни на волос не уступает
в достоинстве «Черной женщине», но еще превосходит ее зани-
мательностию содержания, обилием всякого рода чертовщины,
то есть участием нечистой силы в делах слабых смертных, мно¬
жеством картин мастерской отделки, вроде сочинений матушки
мадам Жанлис, Радклиф, Дюкре-Дюмениля и всей честной бра¬
тии. Во всем этом г. Чуровский несравненно выше г. Греча; но
у него есть свои стороны, в которых он уступает г. Гречу: это,
во-первых, грамматика, которая у г. Чуровского жестоко страж¬
дет, тогда как у г. Греча является во всем блеске совершенства;
само собою разумеется, что и не г. А. Чуровскому далеко тя¬
гаться в сем случае. Итак, г. А. Чуровский в грамматике далеко
уступает ему, равно как и в наружных качествах своих романов:
они печатаны в типографии г. Пономарева и, следовательно, на
13 В. Белинский, т, 1
385
дурной серой бумаге и с типографическими ошибками, которые
в соединении с орфографическими, синтаксическими и этимо¬
логическими приводят в трепет даже и меня, меня, за грехи
жизни обреченного судьбою на чтение всех возможных ужасов,
начиная с невинных мечтаний Вадима **** до неистовой тре¬
скотни повестей Барона Брамбеуса. Зато сочинения г. Чуров-
ского превосходят творение г. Греча внутренними качествами.
Во-первых, в них чертовщины гораздо больше; во-вторых, они
отличаются большею современностию, или по крайней мере пре¬
тензиями на современность. Но я чувствую, что я никогда бы но
кончил, если бы стал рассматривать романы г. А. Чуровского
в отношении к роману г. Греча. Чтобы не утомить читателей
«Молвы» огромною рецензиею, я предоставляю им самим судить
о достоинстве произведений г. А. Чуровского по следующей ти¬
раде из его «Черного Кощея»:
— Ну, Федюха Юла! распотешил ты давеча мою головушку, — говорил
один из них, — шутками, начал перед Матрешей какие финты-фанты
разводить; уж моли бога, что не видал те Гришуха Бурсак, а то отломал
бы бока-то!
— Гришуха Бурсак!—ну уж великая штука!.. Нет, брат Сенюша, ты
еще не видывал от меня рыси, я и не такую пыль в глаза запущу; а что мне
Гришуха? — нипочем!.. Я как поговорил дюжо с Матрешей, так она теперь
и плевать-то на него не захочет. — Да что и за полюбовник! как съякшался
с Мишухой удалым, по неделе к ней и глаз не кажет! (Ч. II.7.)
Не правда ли, что в этом маленьком отрывке вся Малорос¬
сия видна, как на ладони? что она выражена, воспроизведена
в нем с удивительно поразительною верностию?
Одно только странно, что г. А. Чуровский ни разу не упо¬
мянул в своем «Черном Кощее» о Петре Великом, имя которо¬
го выставлено в заглавии! Неужели это можно объяснить из¬
лишнею подражательностию? Вот в том-то и беда, что гении,
подражая какому-нибудь творению и превосходя свой оригинал
красотами, нередко, как бы против своей воли, отражают его
недостатки в своих творениях. Г-н А. Чуровский, ради самого
Феба, не подражайте г. Гречу; равным образом не учитесь
грамматике; эта прозаическая наука гению ни к чему не служит
и лишь только охлаждает его пламенные восторги.
УЧЕБНАЯ КНИГА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. (Для юношества). Сочи¬
нение профессора И. Кайданова. Древняя история. От сотворения мира
и происхождения первых государств до переселения народов и падения
Западной римской империи. Продается по 5 руб. у книгопродавца Ива¬
на Сленина. С.-Петербург, при императорской Академии Наук. 1834.
XIV-336. (8).
В предисловии к этой книге г. сочинитель говорит: «Просве¬
щенные читатели сей книги заметят, что, составляя «Древнюю
историю», я рассматривал многие (почему же не все?) предме¬
ты, входящие в состав ее, совсем с другой точки зрения, нежели
386
с каковой я смотрел на них лет за пятнадцать перед сим,
и вообще изложил древнюю историю в другом, против преж¬
него, виде». То же самое объявила и «Северная пчела» при из¬
вестии о выходе этой книги, уведомляя своих читателей, что
г. Кайданов представляет в своем новом труде результаты
успехов, сделанных наукою в продолжение последних пятнадцати
лет. Признаюсь, как выписанные мною строки из предисловия
почтенного автора, так и объявление «Северной пчелы» поразили
умы многих читателей глубоким удивлением. Что за чудо
такое совершилось в наше время, думали мы. Мы имели пол¬
ное право не доверять «Пчеле», в глазах которой все предметы
книжного петербургского мира представляются в увеличитель¬
ном виде; но удостоверение самого автора, которого скром¬
ность всем известна, сделало нас поневоле суеверными. Но,
прочтя определение истории как науки и первую страницу вве¬
дения, мы тотчас увидели, что это чудо очень естественно
и обыкновенно. Правда, в этой книге много перемен и улучше¬
ний, словом, много нового; но это новое ново только для одного
автора и не носит на себе никаких признаков успехов науки.
Из этого читатели не должны, однако, заключать, что г. Кайда¬
нов хотел умышленно придать своей книге больше цены для
лучшего ее сбыта, как то делают многие, которых мы не назы¬
ваем. Нет: он так же скромен и добросовестен, как был всегда;
он, может быть, многих читателей ввел в заблуждение, но это
потому, что сам находится в заблуждении. Разбирать его книгу
настоящим образом невозможно, ибо подробный разбор вы¬
шел бы больше самой книги. Итак, ограничусь легкими замет¬
ками.
«История есть описание великой, долговременной жизни
рода человеческого. Посему предметом ее суть деяния и судьбы
людей». — Так определяет в 1835 году историю г. Кайданов,
определявши ее в 1817, 24 и 32 годах «повествованием о до¬
стопамятных явлениях в мире» 1. По-видимому, это есть значи¬
тельный шаг вперед для автора, но в самом деле это не иное
что, как круговое движение мельничного колеса, которое
беспрестанно вертится, а вперед ни на шаг. Что такое «описание
великой, долговременной жизни рода человеческого»? Набор
слов — с грамматическим смыслом. «Предмет истории суть де¬
яния и судьбы людей». Это есть предмет биографии; предмет
истории не люди, а человечество. Пора бы удостовериться
г. Кайданову, что история есть картина успехов человечества на
поприще самосовершенствования, или, друшми словами: наука,
показывающая, каким образом и вследствие каких причин жизнь
человечества, развивавшаяся под формою политических обществ,
явилась в том виде, в каком теперь находится. Это определение
не ново, да благо уж готово. В наше время можно иметь на
историю взгляд еще высший; но иметь на нее взгляд низший
значит совершенно не понимать ее.
13*
387
Во введении в «Историю» у г. Кайданова целый параграф,
состоящий из шести страниц, означен рубрикою: «Польза знания
истории». Чего можно ожидать от человека, который добро¬
душно рассуждает о пользе знания истории? И как рассуждает?
«Люди,— говорит он,— прежде нас жили и передали нам сокро¬
вища своего разума и опытности, кои они приобрели долго¬
временными трудами, иногда же бедствиями, страданиями и
слезами,— а мы, пользуясь сими сокровищами, неужели не захо¬
тим и знать о тех, кои оставили их нам в наследство?» Не пра¬
вда ли, что эти слова суть не иное что, как перефразировка
слов Карамзина, утверждавшего, что мы потому должны знать
о наших предках, что они терпели и страдали за нас и своими
бедствиями приуготовили наше блаженство? 2 Есть люди, кото¬
рые утверждают, что и Карамзин не имел права судить так по¬
верхностно, ибо в его время жил Гердер и другие знаменитые
писатели, начавшие своими сочинениями новую эру истории; что
же должно сказать о г. Кайданове, который с 1817 года по
1835 год повторяет такие старые, истертые вещи? «История пе¬
реносит нас как бы волшебною силою в протекшие веки, повеле¬
вает падшим царствам восстать из праха своего, разверзает
гробы, вдыхает жизнь в прах умерших... История, показывая
прежние события, указывает и следствия их, ибо люди делаются
умнее, осторожнее тогда только, когда почувствуют следствия
собственных ошибок своих», и пр. и пр.— Первая из этих мыс¬
лей есть набор фраз, в которых много шуму и треску, но кото¬
рые ровно ни к чему не ведут; вторая так стара, что совестно
и опровергать ее. Нет, г. Кайданов, человечество делается лучше
не от знания истории, не от опытности, почерпаемой из ее
уроков, но от полного гармонического сознания своего назна¬
чения, цели своего существования; а это сознание может про¬
изойти от повсеместного, общего просвещения. Мы всякую
науку, всякое знание можем приложить к жизни; но истинная,
настоящая и непосредственная цель знания есть знание. Пого¬
дите, может быть, и из астрономии некогда сделают, род бухгал¬
терии и употребят ее на спекуляции и торговлю; но это не будет
главною пользою от астрономии. Итак, ищите в истории не уро¬
ков опытности, завещанной от предков потомкам, не удовлет¬
ворения простого любопытства; ищите в ней дыхания жизни бо-
жией, проявляющейся или хотящей проявить себя в человечест¬
ве!.. А все эти вещи мы давно уже прочли и давно уже забыли
их; для чего же повторять нам их?..
Итак, в чем же состоит усовершенствование истории
г. Кайданова? О! во многом, если хотите! Он уже начинает не
с Ассирии, а с Индии и Китая, говорит о кастах и объясняет
учение браминов, хотя и неправильно, ибо в индийском панте¬
изме видит одну веру в переселение душ — не больше; причис¬
ляет Семирамиду к мифам\ Вообще справедливость требует
заметить, что теперь у него меньше липших и пустых подроб^
388
ностей о сомнительных или неважных событиях и больше дела. 5
Доказательством этого может служить одно уже то, что ассири¬
яне, вавилоняне и египтяне занимают у него теперь несравненно
меньшее число страниц, чем в прежних изданиях. Потом, он
изменил совершенно план своей истории, ибо вместо прежнего
Гееренова этнографического изложения принял изложение син¬
хронистическое. По моему мнению, последнее лучше, ибо
в древней истории есть свои точки отдохновения, или, лучше
сказать, точки соединения, в которых древние народы слива¬
лись, хотя и насильственно, в одно общее целое. Таковые точки
суть Кир, Александр и Пунические войны. Этот способ изложе¬
ния очень удобен для преподавания, хотя, может быть, изоли¬
рованная жизнь древних народов и противоречит ему. Синхро¬
нистическая картина жизни народов в каждом принятом пери¬
оде скорее всего может впечатлеться в памяти ученика. Г-н
Кайданов разделил древнюю историю на IV периода: первый, как
само собою разумеется, от сотворения мира до Кира; второй —
от Кира до Александра; третий — от Александра до превраще¬
ния Римской республики в империю; четвертый — от Августа до
падения Рима. Мне кажется, что эпохою четвертого периода надо
полагать Пунические войны, а не империю, ибо в древней
истории было три, так сказать, мгновения, в которых челове¬
чество соединялось воедино посредством меча. Оно явилось
огромною монархиею при Кире, потом при Александре; Пуни¬
ческие войны положили основание третьей монархии, ибо рим¬
ляне со второй Пунической войны оставили свою оборонитель¬
ную систему войны и начали быстро обращать мир в Рим, и с
тех пор все народы начали, как реки в море, исчезать в рим¬
ском народе, и с тех пор история Рима есть история мира.
Я уже показал, что взгляд г. Кайданова на дела и события
нисколько не переменился. Приведу еще несколько доказа¬
тельств. Хотя он уже и не осуждает Сарданапала за самоубий¬
ство — этот ужасный проступок, воспрещаемый всеми божескими
и человеческими законами, — но все еще начинает историю
не с появления на свете первых политических обществ, все ещо
упускает из виду, что человек вне общественной жизни отнюдь
не составляет предмета истории и что не для чего вводить
в историю вещей, не принадлежащих истории. Он говорит, что
народы, первоначально поселившиеся в Греции, были до того
дики и невежественны, что «и тот имеет право на благодар¬
ность их, кто научил их строить хижины, питаться желудями (а
прежде они, бедняжки, совсем не умели есть? если же умели,
то разве желуди слишком лакомое блюдо, что за них г. Кайда¬
нов обязывает греков благодарностию первому гастроному, на¬
учившему их питаться ими?), одеваться в звериные кожи
и употреблять в свою пользу огонь». Но вслед за этим говорит,
что «в гражданском отношении Греция разделялась на мно¬
жество мелких частей, из коих каждая состояла под властию
389
особенного начальника». — Как? Общество волков разделялось
на области и имело начальников? Впрочем, почему ж и не так:
ведь пчелы имеют же начальника в своей матке? Но и то ска¬
зать: пчелы всё цивилизованнее волков.— «Сии начальники гре¬
ков часто (однако ж не всегда) были предводителями бродяг
и разбойников, и сами подавали пример грабежей».— Разбойни¬
ком можно назвать только того, кто разбойничает, зная, что это
ремесло предосудительное; волков мужики убивают за разбои
в стадах овечьих, но не представляют их в земский суд для
допроса и суда.— «Объядение и опийство считали (начальники
греков) геройством и величием».— Да чем же они, однако, объ¬
едались? Неужели желудями? А опийство? Так, стало быть,
они и винцо попивали? — «Жены и дочери их умели только
пасти стада, мыть белье и готовить грубую пищу».— Как? Так
они щеголяли не в одних звериных кожах? Они носили белье?
Воля ваша, г. автор, а вы противоречите самому себе.— «И го¬
товить грубую пищу».— Из чего же? неужели все из желудей?
Как бы то ни было, а поваренное искусство всегда признак
цивилизации! — «Кекропс... из аттических дикарей сделал граж¬
дан».— Творец небесный! Да возможное ли это дело? Кек¬
ропс — один-одинехонек — сумел из нескольких десятков, а
может быть, и сотен тысяч диких зверей сделать граждан!..
Экие молодцы были в древности, не то что нынче! Исполать их
досужеству! Таким же чудесным образом Нума Помпилий
у г. Кайданова из римлян, бывших настоящими mauvais suj-
ets*, сделал людей comme il faut**.— «Тщеславие, свойст¬
венное языческим народам — вести свое происхождение от бо¬
гов» и пр.— А я все думал, что причина этой охоты скрывается
не в тщеславии, а в склонности к мифам, свойственной не язы¬
ческим, а всем младенчествующим народам... Но довольно,
я никогда не кончил бы, если бы вздумал продолжать... На
каждую страницу г. Кайданова можно написать другую. Заключаю
однако: как ни плоха новая книга г. Кайданова, но если кому
уже суждено учиться истории по книгам г. Кайданова, то я со¬
ветую ему учиться по этой, изданной в 1834 году...
Замечу еще о слоге. Он дурен до крайности, и дурен не от
неумения писать, а от какого-то странного понятия о слоге. Г-н
Кайданов любит мешать с русскими словами славяноцерковные,
любит: сей, оный, поелику, которых по справедливости не любит
почтенный Барон Брамбеус 3. Я, конечно, не так ожесточен про¬
тив этих слов, как вышереченный муж, и даже почитаю необхо¬
димым их употребление в иных случаях, для большей яспости
в слоге, особенно когда дело идет о предметах догматических,
ученых; но я против их употребления без всякой нужды. Конеч-
по, в наше время никто не скажет, подобно знаменитому Жоф-
* негодяями (франц.). — Ред.
** приличных (франц.), — Ред,
390
фруа: «,,Мессияда“, поэма г. Клопштока! Fi done! * Г-н
Клопшток! какое варварское имя! может ли иметь хоть каплю
ума господин, который называется Клопштоком?» Но многие
могут сказать: «Может ли написать хорошую книгу человек, ко¬
торый пишет: „сие мое сочинение... сей книги... совсем с другой
точки зрения, нежели с каковой... источником таких жалоб есть
незнание истории... посему предметом ее суть деяния и судьбы
людей4?..»
Книга г. Кайданова особенно изобилует полонизмами, об¬
разцы которых читатели могут видеть в последних двух фразах.
СЦЕНЫ НА МОРЕ. Сочинение И. Давыдова1. Санкт-Петербург, в
типографии Н. Греча. 1835. 336. (12).
Эта книга, несмотря на то, что заключает в себе не более
336 страниц, печатанных цицеро, чрезвычайно длинна для того,
кто, прочтя 10 или 15 страниц оной, не может ее бросить, а дол¬
жен прочесть до конца. Да — она покажется ему беспредель¬
на, как то море, которое в ней описывается, и, как это же море,
водяниста. Немастерство писать, истертые сентенции о том и о
сем, генияльные замашки a la Mariinsky: вот отличительные
ее качества. Напрасно г. автор «Сцей на море» оправдывается
тем, что ему только 21 год, что он живет сердцем, а не умом,
напрасно уверяет, что в нем теперь все кипит: в ком есть талант
и в ком кипит чувство, тот не напишет в 21 год водяного сочи¬
нения.
Итак, книга плоха: тут нечему дивиться; другое дело, если
бы она была хороша — тогда бы я от всей души подивился. Но
вот что удивительно: в «Московском наблюдателе», новом жур¬
нале, издаваемом, известно, людьми умными, образованными
и благонамеренными, об этой книжке сказано, что «,,Сцены на
море“ обнаруживают дарование заметное, рисовку верную, хотя
кисть весьма, весьма несвободную». Как! неужели «Московский
наблюдатель» хочет покровительствовать своим авторитетом
посредственности? Сохрани бог! Посредственность и в петер¬
бургских журналах имеет для себя очень сильных защитников
и покровителей и, благодаря им, наводнила собою русскую лите¬
ратуру: куда ж будет деваться от ней, когда московские журна¬
лы, в которых она доселе видела неумолимых и неутомимых
врагов своих, будут способствовать ее успехам? Увидев из пер¬
вой книжки «Наблюдателя», что библиография не входит в со¬
став сего журнала, а что в нем будут рассматриваться только
замечательные явления в нашей литературе, я подумал, что
в целом годовом издании «Московского наблюдателя» будет
много две-три критики; и каково же было мое удивление, когда
* Фи! (франц.). — Ред.
391
во второй книжке прочел довольно благосклонные отзывы
о «Сценах на море» и (о верх ужаса!) о «Ангарских порогах»,
сочинении в высочайшей степени бездарном и пошлом!2 Мне
скажут, что в «Московском наблюдателе» больше хулят, чем
хвалят эти книги; положим так, но уже одно то, что в нем
упоминается об этих книгах, должно придать им значитель¬
ность, ибо в нем предположено говорить только о таких книгах,
которые заслуживают какое-нибудь внимание. Жаль, очень
жаль, ибо «Московский наблюдатель» не петербургский журнал,
и от него должно ожидать, что он не изменит тем надеждам,
которые подал о себе публике!..
ДИТЯ ПОЭЗИИ. Казань. Печатано в университетской типографии.
1834. X — III. (12). С эпиграфом:
Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья,
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья! 1
СТИХОТВОРЕНИЯ МИХАИЛА МЕРКЛИ. Москва. В типографии
Николая Степанова. 1835. 108. (8). С эпиграфами:
La poesie a une sainte et consolante
mission a remplir ici-bas: s’est de
jeter un voile brillant et fantastique
sur toutes les realites desesperantes.
Victor Hugo*
Товарищи, как думаете вы?..
Для вас я пел?..
Нет! не для вас! Она меня хвалила,
Ей нравился разгульный мой венок,
И младости заносчивая сила,
И пламенных восторгов кипяток!..
н. Языков2
В наше прозаическое время появление альманаха, поэмы
и собрания стихотворений — есть ужасный анахронизм: смот¬
ришь и не веришь глазам! В таком случае никогда не бывает
середины — или что-нибудь слишком замечательное, или что-
нибудь слишком посредственное. Так было и прежде, от 1820
* Поэзии здесь, на земле, надлежит выполнять святую и утешитель¬
ную задачу: набрасывать блестящий и фантастический покров на приво¬
дящую в отчаяние действительность, разрушающую надежды. Виктор
Гюго {франц.). — Ред.
392
до 1830 года, с тою, однако ж, разностию, что тогда на все
смотрели как-то снисходительнее, и такие предприятия как-то
легче сходили с рук. Но теперь наступила пора разочарования;
это разочарование горько, оно мстит жестоко и переходит
в очарование осторожно, с оглядкою, строго взвесивши и рас¬
считавши, и при чем-нибудь необыкновенном. Все это очень
естественно; пословица говорит: обжегшись на молочке, бу¬
дешь дуть и на воду... Посему какую жалкую роль играют в нашей
литературе несчастные, запоздалые путники, которые появляются
с этими устарелыми плодами своей досужей фантазии, от
которых уже всем набило оскомину, которые всем уже при¬
елись и только своим авторам кажутся молодыми, сочными
и вкусными! Читающая публика, в одном отношении, похожа на
beau monde. Этот beau monde, или большой свет, свято чтит
уставы моды и приличия и никому не позволит отступить от них;
но иногда он делает исключение в пользу людей замечательных,
в каком бы то ни было отношении; он иногда прощает их
неловкость, их оригинальность, любуется ими и называет их
гениялъною странностию. Так точно и читающая публика: когда
бывает мода на оды, она ласково принимает всех одистов, от Дер¬
жавина до Капниста и Петрова; когда бывает мода на поэмы,
она с благосклонностию улыбается всем поэмистам, от Пушкина
до автора «Киргизского пленника» 3 и иных прочих, и т. д. Но
горе тому, кто придет к ней с поэмою в руках, когда бывает
мода на романы, повести и драмы! Только один истинный та¬
лант, или даже гений, может спасти сочинителя от свиста и ши¬
канья. Итак, публика, как и большой свет, прощает анахронизмы
только гению, таланту и вообще истинной заслуге.
Авторы поименованных мною книжек находятся именно
в этом неловком и затруднительном обстоятельстве: они на по¬
хоронный обед или поминки по усопшем приехали в синих фра¬
ках и белых галстуках и жилетах, и притом без всяких прав на
извинение в несоблюдении приличия... Между ними находится
чрезвычайно большое сходство и чрезвычайно большое разли¬
чие... Сходство состоит в положении, а разница в том, что один
провинциал, а другой — столичный житель. Костюм первого,
кроме его неуместности, отличается еще старинным, вышед¬
шим из моды фасоном; костюм второго неуместен, но сшит по
моде. И вот почему автор «Дитяти поэзии» с детскою наив¬
ности») и провинциальным простосердечием рассуждает в своем
предисловии «о какой-то исключительной способности, склон¬
ности или влечении, которое мы приносим с собою в свет п
которое, облеченное в человеческую форму, совершенствуется
с развитием сей разумно органической формы и, наконец,
является гением». Вот почему он потом, в сем же предисловии,
докладывает своим читателям с удивительною скромностию
и откровенностию, которыми всегда отличаются люди, «принося¬
393
щие с собою в свет исключительную способность, склонность или
влечение», что «он еще в раннем возрасте (рассказывали ему)
любил читать стихи и прибирать, без всякой связи и смысла,
слово к слову; потом, бывши в учении и проходя реторику
и поэзию, делал посредственные успехи в последней на задан¬
ные предметы и наконец показал своему другу первую свою
балладу», что «друг ее прочитал, много смеялся и зачал по¬
правлять ее в его глазах, растолковывая ему правила, советовал
ими заниматься и читать образцовые сочинения», что «он ехму
последовал и часто, быв с ним вместе, читал лучших русских
поэтов, после немецких и французских, позднее же латинских,
италиянских и английских», что «по окончании учения он посвя¬
тил свои дни другой науке и, обучаясь в университете, в сво¬
бодное время занимался литературою и осмеливался излагать
свои мысли в стихах» и, наконец, «издать в свет сии занятия
досуга, сии первые робкие опыты своей стыдливой музы» и пр.
Наконец, вот почему, зная столько языков и будучи знаком
с сокровищами стольких литератур, он напоминает своими роб¬
кими опытами мудрую пословицу, что неразумному сыну не
в помощь богатство, и пишет ужасные, варварские вирши, подо¬
бные следующим:
Я терзался,
Сокрушался
Одинокий.
На глубокой
Вздох печали
Вое молчали.
Терпеливый,
Молчаливый
Я крушился;
Злобный гений
В упоеньи
Веселился.
Я молился —
И моленье
Провиденье
Услыхало
И послало:
Утешенье!..
Не правда ли, что эти стихи глубокостию чувства, прелестью вы¬
ражения и падением стоп напоминают следующие, давно забы¬
тые, но тоже очень хорошенькие стишки:
В понедельник
Я влюбился;
Весь авторник
Прострадал;
394
В середу в любви открылся,
В четверток решенья ждал,
В пятницу пришло решенье,
Чтоб не ждал я утешенья.4
Но оставим в покое наивного автора «Дитяти поэзип», изъ¬
явив ему наше сожаление, что он не последовал смыслу из¬
бранного им эпиграфа, и обратимся к г-ну Меркли.
Г-н Меркли далеко превосходит автора «Дитяти поэзии»,
и по языку и по стиху, и по мысли и по предметам своих поэти¬
ческих вдохновений, и не удивительно: автор «Дитяти поэзии» —
провинциял, г. Меркли — житель столицы; автор «Дитяти поэзии»
был студентом Казанского университета, г. Меркли был студен¬
том Московского университета; а во всем этом чрезвычайно
большая разница, и все это естественным образом дает силь¬
ный перевес г-ну Меркли. Но, говоря без шуток, что заставило
г-на Меркли, который, как видно из его стихов, человек не без
образования, не без смысла и даже не без блесток таланта, что
заставило его издать свои стихотворения в свет? Обратить ими
на себя внимание современников он не мог, ибо теперь прошла
мода на стихи, теперь только превосходные стихи станут читать,
а стихи г. Меркли вообще посредственны; еще более нельзя
ему надеяться на потомство, ибо маленькие блестки таланта
вообще как-то скоро тускнут. Итак, чего же он добивался? Пра¬
во, не знаю; а жаль: он, повторяю, как видно из его стихов,
человек образованный. Мне скажут, что очень естественно оши¬
баться насчет своего таланта, что в своем деле никто не судья
и что то же побуждение проявлять себя, которое двигало Дер¬
жавина и Пушкина, двигало Тредьяковского и Сумарокова!
Оно так, да не так! Отличительная черта образованности чело¬
века нашего времени именно и состоит в благородном созна¬
нии своей неспособности к искусству, если он не способен
к нему. Нынче тот не современен, кто пишет повести или стихи,
не имея истинного таланта. Кто способен чувствовать изящное
и наслаждаться им, кому доступны все человеческие чувства,
тот еще не художник, ибо можно сильно, живо и пламенно
чувствовать и вместе с тем не уметь выражать своих чувств. Вот
что сказал бы я г-ну Меркли, если бы он захотел послушать
меня: «Милостивый государь, пишите стихи и читайте их тощ
которая внушила вам их: она поймет и оценит их, она и награ*
дит автора; печатайте их даже в журналах, ибо, во-первых,
иным журналам надобно же чем-нибудь наполняться, а во-вто¬
рых, ваши стихи лучше большего числа стихов, которые
помещаются в «Библиотеке для чтения», — но бога ради, не из¬
давайте их вполне, целыми книгами, а употребите ваш ум, вашу
образованность, ваши таланты и вашу деятельность на предметы
более полезные и более достойные»,
395
НАТАЛИЯ. Сочинение госпожи ***1. Издание Сальванди. Перевел с
французского Александр Шубяков. Москва. В типографии Н. Степанова.
1835. 396. (12).
Было время, когда думали, что конечная цель челове¬
ческой жизни есть счастие. Твердили о суетности, непрочности
и непостоянстве всего подлунного и взапуски спешили жить,
пока жилось, и наслаждаться жизнию во что бы то ни стало.
Разумеется, всякой по-своему понимал и толковал счастие жиз¬
ни, но все были согласны в том, что оно состоит в наслаждении.
Законы, совесть, нравственная свобода человеческая, все отно¬
шения общественные почитались не иным чем, как вещами,
необходимыми для связи политического тела, но в самих себе
пустыми и ничтожными. Молились во храмах и кощунствовали
в беседах; заключали брачные контракты, совершали брачные
обряды и предавались всем неистовствам сладострастия; и зна¬
ли, вследствие вековых опытов, что люди не звери, что их долж¬
ны соединять религия и законы, знали это хорошо — и при¬
норовили религиозные и гражданские понятия к своим понятиям
о жизни и счастии: высочайшим и лучшим идеалом общест¬
венного здания почиталось то политическое общество, которого
условия и основания клонились к тому, чтобы люди не мешали
людям веселиться. Это была религия XVIII века. Один из
лучших людей этого века сказал:
Жизнь есть небес мгновенный дар:
Устрой ее себе к покою
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар.
Пей, ешь и веселись, сосед!
На свете жить нам время срочно:
Веселье то лишь непорочно,
Раскаянья за коим нет!2
Это была еще самая высочайшая нравственность; самые лучшие
люди того времени не могли возвыситься до высшего идеала
оной. Но вдруг все изменилось: философов, пустивших в обо¬
рот эти понятия, начали называть, говоря любимым словом Ба¬
рона Брамбеуса, надувателями человеческого рода. Явились но¬
вые надуватели — немецкие философы, к которым по справед¬
ливости вышереченный муж питает ужасную антипатию, которых
некогда так прекрасно отшлифовал г. Масальский в превосход¬
ной своей повести «Дон Кихот XIX века»—этом истинном
chef-d’oeuvre * русской литературы — и которых, наконец, не¬
? шедевре (франц.), — Ред.
396
давно убила наповал «Библиотека для чтения»3. Эти новые
иадуватели с удивительною наглостию и шарлатанством начали
проповедовать самые безнравственные правила, вследствие коих
цель бытия человеческого состоит будто бы не в счастии, не
в наслаждениях земными благами, а в полном сознании своего
человеческого достоинства, в гармоническом проявлении сокро¬
вищ своего духа. Но этим не кончилась дерзость опасных
вольнодумцев: они стали еще утверждать, что будто только
жизнь, исполненная бескорыстных порывов к добру, исполнен¬
ная лишений и страданий, может назваться жизнию челове¬
ческою, а всякая другая будто бы есть большее или меньшее
приближение к жизни животной. Некоторые поэты стали дей¬
ствовать как будто по согласию с сими злонамеренными фило¬
софами и распространять разные вредные идеи, как-то: что
человек непременно должен выразить хоть какую-нибудь челове¬
ческую сторону своего бытия, если не все, то есть или действо¬
вать практически на пользу общества, если он стоит на важной
ступени оного, без всякого побуждения к личному вознаграж¬
дению; или отдать всего себя знанию для самого знания, а не
для денег и чинов; или посвятить себя наслаждению искусством,
в качестве любителя, не для светского образования, как прежде,
а для того, что искусство (будто бы) есть одно из звеньев,
соединяющих землю с небом; или* посвятить себя ему в качестве
действователя, если чувствует на- это призвание свыше, а не
призвание кармана; или полюбить другую душу, чтобы каждая
из земных душ имела право сказать:
Я все земное совершила:
Я на земле любила и жила! 4
или, наконец, просто иметь какой-нибудь высший человеческий
интерес в жизни, только не наслаждение, не объядение земными
благами. Потом на помощь философам пришли историки,
которые стали и теориями и фактами доказывать, что будто не
только каждый человек в частности, но и весь род челове¬
ческий стремится к какому-то высшему проявлению и развитию
человеческого совершенства; но за то уж и катает же их, озор¬
ников, почтенный Барон Брамбеус! Я, с своей стороны, право,
не знаю, кто прав: прежние ли французские философы или
нынешние немецкие; который лучше: XVIII или XIX век; но
знаю, что между теми и другими, между тем и другим большая
разница во многих отношениях. Не говоря о других, укажу на
искусство. Прежние романы всегда оканчивались браком, богатст¬
вом и, следовательно, возможным человеческим блаженством;
нынешние почти все так гадко оканчиваются, что на ночь страшно
и дочитывать их. Прежде только в трагедиях допускалась
плачевная развязка, и то ex officio *, из подражания грекам;
* по должности (лат.). — Ред*
397
но зато был выдуман новый род — драма, герои которой хотя
и претерпевали много гонений за свою добродетель, но зато
к концу пьесы женились и делались, богаты; про нынешние драмы
я не говорю: срам да и только! Прежде в комедиях осмеи¬
вались маленькие людские недостатки, как-то: привычка нюхать
много табаку, употреблять часто в разговоре любимые поговор¬
ки, как, например, милой мой! и тому подобные; нынче в
комедиях хлещут (да ведь как?., со всего плеча!) чиновников, ко¬
торые, вместо того чтобы служить государю верою и правдою,
думают только о чинах и взятках, как Фамусов, людей, которые,
вместо того чтобы любить, распутничают, словом, вместо того
чтоб быть людьми, бывают скотами — и пр.
Во Франции пишут многие женщины; некоторые из них пи¬
шут (дивное дело!) хорошо. Неизвестная сочинительница «На¬
тальи» не принадлежит к числу хорошо пишущих, по новым
понятиям. Героиня ее романа в восторге от «Матильды» г-жи
Коттень, и автор хлопочет о том, чтобы показать способ за¬
страховать жизнь женщины от несчастия на земле. Средством
к этому, по ее мнению, должна быть слепая покорность судьбе
и избежание страстей и глубоких чувств. Ей нет до того дела,
что можно быть несчастною, живя с немилым мужем, что жизнь
без страстей и чувств есть не жизнь, а оцепенелый сон альпий¬
ского сурка во время зимы; она не говорит женщинам, что
брак без любви есть или торговая сделка, противная совести
и религии, или детский легкомысленный поступок, за который
не мудрено впоследствии дорого поплатиться, чтб для избежа¬
ния размолвки с*мужем или измены ему не надо шутить заму¬
жеством прежде замужества: нет, она лезет вон из кожи, чтоб по¬
казать гибельные следствия пылких страстей, на манер
г-жи Жанлис, Коттень и прочей литературной сволочи доброго
старого времени. Несмотря на то, что в этом романе есть
мысль, есть некоторая занимательность, происходящая не от
таланта автора, а от его литературной цивилизованности, если
можно так сказать, нельзя не удивиться неудачному выбору
г. переводчика и еще более неудачному исполнению его труда.
Видно, что он хорошо знает французский язык, но в размолвке
с русским синтаксисом, ибо его перевод битком набит фраза¬
ми, подобными следующим: «Печальный и торжественный вид
графини, произнося слова сии, сообщился всем...» (Печальный
и торжественный вид графини произносил слова сии и сооб¬
щился всем!)... «Он говорит, что он мне уже не супруг, но это
он еще. Усталость наша, всходя на оный, была хорошо вознаг¬
раждена...» (Усталость всходила на оный и была хорошо вознаг¬
раждена!)... «И вспомни, что тот, который так занимался мною,
был благородный Эрнест, получивший от бога достойнейшую
душу, чтобы проистекать от него!» (Просто бессмыслица)... «Я ду¬
маю, что он истинно несчастлив... но не будет им долгое время...»
(Верно, г. переводчик хотел сказать: я думаю, что он истинно
398
несчастлив... но ненадолго?)... «Я была в Лобреде с тою же
горестию, в какой была»... н пр., и пр., и пр.
Куда уж нам, бедным, думать о том, чтобы наши собствен¬
ные произведения какою-нибудь мыслию выкупали недостаток
таланта, когда мы еще плохо знаем или совсем не знаем рус¬
ской грамматики и не умеем написать правильно ни одной рус¬
ской фразы!..
О ГОСПОДИНЕ НОВГОРОДЕ ВЕЛИКОМ. (Письмо) с приложением
вида Новгорода в 12-м столетии и плана окрестностей. А. В.Москва. В ти¬
пографии С. Селивановского. 1834. 42. (8).
Каким живым, легким, оригинальным талантом владеет
г. Вельтман! Каждой безделке, каждой шутке умеет он придать
столько занимательности, прелести! О, он истинный чародей,
истинный поэт! Поэт в искусстве, поэт в науке! Да — он и в
науке поэт, поэт-археолог! В романе, в повести он разгадывает
своим поэтическим чувством эту поэтическую русскую старину,
которая, как сам он говорит, так хитро умела его влюбить в не¬
постижимую красоту свою! 2 Он переселяет вас в эту глубокую
древность, рассказывая о ней были и небылицы: пока читаете
вы эти небылицы, вы от души верите им, сами не зная почему;
когда перестанете читать их, то они мерещатся перед глазами
вашими, и этому нечего дивиться: таково всегда произведение
истинного таланта! После всякого романа г. Вельтман прилагает
несколько страниц ученых примечаний, и только одна ученая их
форма мешает вам принять их за прелестные поэтические гре¬
зы: так много в них поэзии, поэзии г-на Вельтмана, поэзии, за¬
печатленной всею оригинальностию, всею прихотливостию, всем
своенравием его таланта! Так, например, ему случилось взгля¬
нуть мимоходом на Новгород, и он написал несколько прекрас¬
ных страниц, составляющих первую половину его «Письма о
господине Новгороде Великом». Вторая половина посвящена исто¬
рическим мечтаниям о варягах, о днепровских порогах и пр.
Этим несчастным порогам довольно досталось и от этимологи¬
ческой дыбы Струве, Тунмана п других; но г. Вельтман подверг
их новой этимологической пытке, и русские их названия, сохра¬
ненные Константином Багрянородным, досконально объяснил
из скандинавского языка. Самый город Валдай, славный своими
сайками, происходит у него от Wald (лес) и Еу (остров); он
подкрепляет это мнение еще и тем, что подле Валдая, на озере*
есть острова, из коих один покрыт ■ лесом, который называется
Темный лес. Не правда ли, что в этих археологических мечтаниях
много поэзии? В таком же духе писаны г. Вельтманом и его
ученые примечания к его роману «Светославич, вражий пито¬
мец»; в них у него все происходит от немцев; сам Адам чуть ли
39Э
не немец, так, как у некоторых все происходит от славян и сам
Адам чуть ли не славянин.
«Вид Новгорода в XII столетии», приложенный к брошюрке
г. Вельтмана и снятый с «Древнего изображения Великого Нов¬
города во время осады оного, в 1169 или 1170 году, суздальскими
князьями, находящегося в иконостасе на деке деревянной,
под чудотворною иконою Знамения богородицы в Новогород¬
ском Знаменском соборе, за решеткою и занавеской», доказы¬
вает ясно, как хорошо умели у нас еще в XII столетии снимать
планы с городов и как далеко отодвинуло назад Русь татарское
иго, ибо до Петра Великого у нас не умели снять вида с какого-
нибудь поля или деревушки. Вот новый и сильный факт против
скептиков!..
БОРИС ГОДУНОВ. Трагедия в трех действиях М. Лобанова.
Санкт-Петербург. Печатано в типографии X. Гинце. 1835. 110. (8).
Автор этой трагедии был некогда в числе знаменитых.
В каком-то плохом журнале, кажется в «Новостях литературы»,
издававшихся г. Воейковым в 20-х годах, перевод г-на Лобанова
Расиновой «Федры» был назван лучшим русским переводом
первой в свете трагедии !. Увы! с тех пор много утекло воды!
Много произошло перемен! Первая трагедия в свете забыта
неблагодарным потомством, вместе с нею забыт и ее знамени¬
тый переводчик. Так, его забыли; но он не изменился, хотя
и все изменилось вокруг него — и люди и мнения. Впрочем,
нимало не изменившись сам, он заметил всеобщую перемену во
вкусах и понятиях. Вследствие этого он вышел на знакомое ему
поприще с теми же словами, с теми же старыми вещами, но
в новом, модном костюме. Тяжелый херасковский шестистопный
ямб заменил он пятистопным безрифменным; над заветными
триединствами наругался безжалостно; вместо греков и римлян
древних времен вывел русских XVI века. Но, повторяю, это
только костюм, сущность же все та же, старая, классическая,
бездушная. Ни страстей, ни характеров, ни стихов, ни инте¬
реса — нет ничего этого; все холодно, поддельно, придумано, нару¬
мянено, все на ходулях, без всякой естественности. Например,
Борис, этот великий характер, который и в самом злодействе
должен быть велик, признается в своем преступлении жене
и дочери с жалкою трусостью неопытного новичка в пороке. Его
жена и дочь — истинные • наперсницы классических трагедий.
Грустно читать подобные произведения, тем более грустно, ког¬
да они, несмотря на свою юродивость, бывают плодом жалкого
заблуждения, а не шарлатанства, не,меркантильности! Г-н Ло¬
банов писал эту трагедию с 1825 года, то есть почти десять лет:
400
не классицизм лп это? Не явное ли это доказательство, что
почтенный автор совсем не поэт? что он сделал, а не создал
свою поэму? Было время, когда все были уверены, что немножко
стихотворного дарования при знании правил и литературной
образованности составляют поэта, что чем долее сочинялась
пьеса и чем больших трудов стоила своему автору, тем она
была лучше: неужели все это надо опровергать? Повторяю:
грустно видеть человека, может быть, с умом, с образован-
ностию, но заматоревшего в устаревших понятиях и застигнутого
потоком новых мнений! Он трудится честно, добросовестно,
а над ним смеются; он никого не понимает, и его никто не
понимает. Не могу представить себе ужаснейшего положения!..
Художпик. Т. м. ф. а.1 Санкт-Петербург. Печатано в типографии
X. Гинце. 1834. Три части: I — 114; II — 71; III — 106. (12).
В этом сочинении есть мысль, и мысль прекрасная, поэти¬
ческая. Но исполнение этой мысли весьма неудачно; автор хо¬
тел 'изобразить жизнь художника в борьбе с людьми, обстоя¬
тельствами, судьбой и самим собою и написал довольно боль¬
шую книгу, которая наполнена общими местами и до крайности
утомляет читателя, не доставляя, ему никакого удовольствия.
Причина очевидна: он не составил себе ясной, отчетливой, глу¬
бокой и верной идеи о художнике, идеи, почерпнутой из фак¬
тов и поверенной собственным чувством; он смотрит на худож¬
ника с той жалкой и устарелой точки зрения, с которой у нас
вообще смотрят на этот предмет, больше по привычке, больше
по стародавним преданиям, чем вследствие глубокого наблюде¬
ния и несомненных фактов, извлеченных из жизни известных
художников. Как, по общему поверью русского народа, всякой
умница, делец или мастер непременно должен быть горьким
пьяницею, малым, как говорится, сорви-голова; так, по обще¬
принятому мнению многих наших авторов и литераторов, худож¬
ник непременно должен быть чудаком, оригиналом, который со
всеми бранится, ни с кем не может ужиться, который
беспрестанно вдохновен, восторжен, никогда не знает прозаи¬
ческих минут, который в глаза называет всех подлецами, него¬
дяями, а сам свят, как праведник, и незлобив, как голубь; его
клянут, гонят, терзают, а он всех любит, как братьев, всех благо¬
словляет, и ненавидит одно злато и стяжание; потом делается
человеконенавистником, мизантропом и ищет уединения. Нет,
не таков художник! Все это черты индивидуальности человека,
а отнюдь не общая характеристика художника! Художники,
особенно в наше время, и пьют, и едят, и любят денежки, как и все
смертные. Да и много ли из них таких, которые особенно про¬
401
славились своими страданиями; многие ли из них испытали
участь Тасса? Начнем с древних: из греческих, Гомер — миф;
прочие жили счастливо, были любимы и уважаемы своими со¬
гражданами; хотя Демосфен сюда собственно и не относптся,
как не художник, но и тот погиб не за свой удивительный дар,
а за политические мнения; из римлян, Виргилий и Гораций жилп
очень хорошо, и последний целый век, потягивая тибурское,
восклицал:
Хвала, умеренность златая!2
Из новых, особенно не посчастливилось испанским и португаль¬
ским поэтам, и то за то, что они захотели быть умнее глупых
своих соотчичей, но ведь и то сказать: где же это и любят?
Шекспир жил в ладу с людьми и умер владельцем порядочного
поместья, а разве это не большое счастие? Французские поэты,
с Расина до Вольтера * включительно, были очень счастливы;
Жильберт и Андрей Шенье составляют исключение, да об них
мало и знают; притом же они хотели быть честными людьми
и плохо знали философию XVIII века! О нынешних француз¬
ских поэтах нечего и говорить: все они богаты, следственно
счастливы, хвалимы, следственно довольны; некоторые из них?
как, например, знаменитый Виктор Гюго, хорошие граждане, хо¬
рошие супруги, отцы и люди, несмотря на кровавый и бесчин¬
ный характер своей музы. Из англичан, Байрон... да он был
большой чудак, жертва самого себя, своей мысли, и это-то,
кажется мне, всего более может быть истинным несчастием ху¬
дожника. Вальтер Скотт был богат, знатен, славен, добр, честен,
любил людей и жил с ними в ладу. Из немцев, почти не было
несчастных поэтов; Гете, одному из представителей немецкой
литературы, везде было хорошо, может быть потому, что он
был выше всего; Шиллеру, другому представителю немецкой
литературы, тоже везде было хорошо, потому что его счастие
было не от мира сего3.
Перечтите биографии всех великих художников, и вы уви¬
дите, что художник совсем не синоним слову сумасшедший
и мученик; многие из них решительно гнусны как люди и только
в поэтические мгновения бывают велики; и это очень понятно,
ибо поприще поэта есть больше чувствование, чем действо¬
вание.
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В забавах суетного света
Он малодушно погружен.
* Кроме Руссо, который был слпшком благороден и высок, чтоб быть
счастливым во времена Вольтеров, Мармонтелей, Лагарпов и пр,
402
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он! 4
Вообще надо заметить, что художник у нас еще загадка,
неуловимая, как женщина, и его невозможно подвести под об¬
щие черты. В одном месте он царь и пророк, как Давид, в дру¬
гом мученик, как Тасс, в третьем богач, как Байрон, в четвер¬
том нищий, как Сервантес, там министр, как Державин, тут
беззаботный весельчак-политик, как Беранже; здесь его гонят,
ненавидят, там ласкают и любят, и пр. и пр.
«Художник» г-на Т. м. ф. а принадлежит к числу тех
нескладных и нелепых созданий, которые были бы в тягость
и себе и людям, если б были возможны. К счастию, это только
мечта, самая неудачная и неестественная. Г-н Т. м. ф. ъ не извел
этот идеал из мира души своей, а слепил его по расчетам воз¬
можностей. Поэтому его герой не возбуждает никакого уча¬
стия, не имеет никакого определенного образа, и его тотчас
забываешь, как скоро закроешь книгу. И между тем, надо быть
справедливым, завязка повести и многие ситуации придуманы
автором чрезвычайно счастливо. Всего несноснее он там, где
прибегает к таким пружинам, . которые уже по одному тому
трудно привести в движение, что к.ним все прибегают. Так, на¬
пример: бедный живописец, будучи еще ребенком, завидует
ласкам, которыми его товарищей по учению осыпали их родите¬
ли, и чувствует при этом зрелище глубокую тоску и темное
желание назвать кого-нибудь своим отцом или матерью,— вы
ожидаете услышать из уст его какое-нибудь недоговоренное
слово, какой-нибудь глухой вопль души, подобный молнии, про¬
блеснувшей над бездною и открывшей на минуту всю глубину
ее; вы ожидаете увидеть лицо, мгновенно передернутое судо¬
рогою, уста, искривившиеся страданием, взор, который изобли¬
чал бы предсмертную муку, а г. Т. м. ф. ъ вместо всего этого
заставляет своего художника проговорить несколько скучных,
растянутых страниц водяной прозы, общих мест риторической
шумихи. И между тем книга г-на Т. м. ф. а принадлежит к числу
замечательных явлений в нашей литературе. Отчего же такая
несообразность? Оттого, что у нас еще худо знают различие
между словами творить и делать; между способностию чувство¬
вать и заставлять других чувствовать; оттого, что у нас, кто
сознал себя хоть на вершок выше толпы, тот уже и почитает
себя поэтом...
В заключение скажу, что «Художник» г-на Т. м. ф. в. а от¬
зывается часто слишком заметным подражанием прекрасной
повести г. Полевого «Живописец» и, как всякое подражание,
вольное или невольное, неизмеримо далеко отстоит от своего
высокого образца.
403
ЖЕРТВА. Литературный эскиз. Сочинение г-жи М о н б о р н. Перевод с
французского Z... Москва. В типографии Н. Степанова. 1835. 300. (12).
В последнее время в Европе, или, лучше сказать, во Фран¬
ции (а это почти одно и то же) глухо начал раздаваться какой-
то ропот против священнейшего гражданско-религиозного уста¬
новления — брака; начали обнаруживаться какие-то сомнения
насчет его законности и даже необходимости; теперь этот ро¬
пот превратился в какой-то неистовый вопль, а сомнения начали
предлагаться во всеуслышание, в виде какой-то аксиомы. Тео¬
ретических доказательств нет, да, благодаря нелепости этой
мысли, и не может быть; итак, прибегли к другому способу,
к практическому, и избрали орудием искусство, которое во
Франции никогда не существовало само для себя, но всегда
служило каким-нибудь внешним, практическим целям. И вот,
начиная с первых корифеев французской литературы * до ни¬
щенской литературной братии, все, тайно или явно, вооружи¬
лись против брака, у всех, в основании каждого произведения,
начала пробиваться эта arriere-pensie **. Но женщины-писа¬
тельницы, главою которых явилась знаменитая Жорж Занд
и которых во Франции так же много, как на Руси бездарных
стихотворцев и романистов, женщины-писательницы, говорю я...
но постойте... позвольте мне на минуту уклониться от материи...
я страх как люблю отступления; это мой конек...
Что такое женщина-писательница? Женщина имеет ли право
быть писательницею?
Вопрос очень не новый: его предлагала и решала еще по¬
койница бабушка мадам Жанлис, которая, как всем известно,
была из самых задорных писательниц. Брюзгливая старушка (я
не умею представить ее иначе, как под формою старой брюзги) »
сказала и доказала (не помню, где именно), что авторство ни !
в каком случае не есть дело женщины2. Поистине беспример¬
ное самоотвержение!.. Впрочем, может быть, в этом случае ей
хотелось упрочить за собою литературную монополию, и потому
мы вправе ей не поверить и рассмотреть этот вопрос по-своему*
В мире все имеет свое назначение, все прекрасно в преде¬
лах своего назначения и дурно вне его; это вечный, неизменяе¬
мый закон провидения. Женщина-амазонка, какая-нибудь храб¬
рая Брадаманта3 в поэме, может быть не больше как смешна*
но в действительности она существо в высочайшей степени от-*
вратительное и чудовищное; мужчина с женоподобным харак-
тером есть самый ядовитый пасквиль на человека.
Tout est bon, tout est bien, tout est grand a sa place! ***
* См. «Телескоп» 1834. Часть XXIII, стр. 249 ].
** задняя мысль (франц.). — Ред.
*** Все хорошо, все прекрасно, все важно, но на своем месте!
(франц.). — Ред.
404
Жизнь человеческая есть не сон, не мечта, не греза; цель
ее не наслаждение, не счастие, не блаженство; нет, она есть
великий дар провидения. Безумный хватается за этот дар, как
за игрушку, и легкомысленно играет им, как игрушкою; мудрый
принимает его с покорностию, но и с трепетом, ибо знает, что
это есть драгоценный залог, который он должен будет некогда
возвратить в чистоте и целости, что это есть тяжкий, страдаль¬
ческий крест, наградою которого будет терновый венец и чув¬
ство исполненного долга. Выразить достоинство человеческое,
проявить в себе идею божества — вот назначение смертного,
и вот почему, вследствие справедливого закона вечной премуд¬
рости, сила заключается в слабости, величие — в ничтожестве,
бесконечность — в ограниченности, и вот почему скудельный,
волнуемый своекорыстными страстями сосуд человека может
быть жилищем духа святого. Без борьбы нет заслуги, без уси¬
лий нет победы. Два пути ведут человека к его цели: путь разу¬
мения и путь чувства, и благо ему, когда они оба сливаются
в пути деятельности! Безгранично поприще деятельности для
мужчины: едва сознает он свое бытие, едва почувствует свои
силы, и ему, юному жителю мира, весь мир отверзает свои со¬
кровища и, покорный могуществу его мысли, предлагает все
орудия, какие нужны ему для совершения его подвига. Если он
чувствует в груди своей тревогу гения, если во внутреннем слу¬
хе души его раздается какой-то таинственный зов, манящий его,
подобно колокольчику Вадима4, в туманную, неизведанную
даль,— он пером, кистью, резцом, звуками вызывает из души
свои новые миры, полные жизни и очарования, или углубляется
в природу, допытывается ее тайн и сообщает их людям в живом
знании, или властвует ими, для их же блага, мечом, волею, де¬
лом и словом. Если же природа и не дала ему гения, то и тогда
обширно его поприще, велико его назначение: ему остается
честным, бескорыстным трудом, благородным презрением лич¬
ных выгод, готовностию самопожертвования в деле правды во¬
дворять добро в том малом и тесном кругу, который назначило
провидение для его деятельности, по мере его душевных сил.
Кто не может быть маркизом Позою, тот может быть Феликсом
Неффом:* ибо сила — в бессилии, величие — в ничтожности,
бесконечность — в ограниченности, ибо овому талант, овому
два6, а дело в трм, чтобы не закопать в землю своего таланта,
но возвратить его вертоградарю с ростом. Тот подл, кто берет
на себя труд выше сил своих или, обольщаясь ложным
блеском, идет наперекор врожденным склонностям и дарова¬
нию; величайшая мудрость состоит в смиренной покорности
своему назначению. Кто противится ему, тот бунтовщик против
вечных и справедливых законов провидения. Если тебе едва под
силу должность секретаря в каком-нибудь суде уездного города,
* См. «Телескоп» год 1834. Часть XX, стр, 485 5.
405
не лезь в губернаторы, хотя б ты и имел возможность до¬
биться этого места, но предоставь его достойнейшему себя;
если природа осудила тебя на смиренную прозу деловых бумаг
и приходно-расходных книг, то занимайся же честно п добро¬
совестно этою бедною прозою, а не надевай на себя, подобно
самозванцу, венка поэта, хотя бы ты и мог сделаться предме¬
том удивления не только для своего муравейника, но и всего
современного- человечества и коварно выманить у него незаслу¬
женные лавры: тогда ты будешь велик, истинно велик, будучи
малым и неизвестным. Найдешь и без того средства быть по¬
лезным и свершить свой подвиг, было бы стремление, а мир
и жизнь бесконечны!
Итак, целый мир есть открытое поприще деятельности
мужчины; целый мир есть его владение; какое же поприще,
какой же мир отдан во владение женщине?
Как бы ни тесен, как бы ни ограничен был круг деятель¬
ности, избранный мужчиною, но всякая сознательная деятель¬
ность есть путь к свершению подвига жизни, а подвиг жизни
равно для всех тяжел и ужасен. Но правосудное и любящее про¬
видение божие, возложив на человека бремя его жизни и под¬
вига, разочло и взвесило силы его человеческой природы и,
в сем намерении, дало ему новый, вне его самого находящийся,
источник силы в той таинственной симпатии, в той высокой ду¬
шевной гармонии, в том чистом, эфирном пламени любви, кото¬
рое соединяет его с женщиною. Женщина — ангел-хранитель
мужчины на всех ступенях его жизни: ее бдящий, попечитель¬
ный взор встречает он при самом своем появлении на свет, и,
прильнув к источнику любви и жизни, к ней обращает он,
с бессознательною любовию, свою первую улыбку; ее имя произ¬
носит он в своем первом, младенческом лепете; ее любовь на¬
путствует его до самого того мгновения, когда жизнь исторгает
его из ее нежных, материнских объятий; потом, ее взор возбуж¬
дает в нем, необузданном юноше, пламень благородных
страстей, порывы к высокому в делах и помыслах, крепит его
душу, кипящую избытком сил, и укрощает дикие порывы его
буйной воли и его, юного, мощного льва, бессознательно стре¬
мит с удвоенною энергиею к его цели, маня сладостною награ¬
дою своей взаимности — этим последним, возможным на земле
блаженством, после которого человеку ничего не остается же¬
лать для себя. И какая нужда, если смерть или обстоятельства
жизни не дадут ему выпить до дна фиал блаженства, или, если,
вместо чар взаимности, он вкусит муки отверженной любови?..
Но если мужчине суждено и блаженство взаимности и бла¬
женство соединения, то она же, все она, в летах его мужества,
путеводная лучезарная звезда его жизни, опора, источник силы,
который не дает душе его остынуть, очерстветь и ослабнуть.
В старости она бледный луч солнца, напоминающий ему, что для
406
него было некогда другое, яркое и пламенное солнце, роскош¬
но освещавшее дорогу его жизни и давшее вкусить ему все
человеческие радости!..
Итак, поприще женщины — возбуждать в мужчине энергию
души, пыл благородных страстей, поддерживать чувство долга
и стремление к высокому и великому — вот ее назначение,
и оно велико и священно! Для нее — представительницы на
земле красоты и грации, жрицы любви и самоотвержения — в
тысячу раз похвальнее внушить «Освобожденный Иерусалим»,
нежели самой написать его, так же как в тысячу раз похвальнее
Еручить своему избранному щит с заветом «с ним или на
нем\»7, нежели самой броситься в пыл битвы с оружием в ру¬
ках. Утешительница в бедствиях и горестях жизни, радость
и гордость мужчины, она — гибкая лоза, зеленый плющ, обвива¬
ющий гордый дуб, благоуханная роза, растущая под кровом его
могучих ветвей и украшающая его уединенную и суровую жизнь,
обреченную на деятельность и борьбу. Предмет благоговейной
страсти, нежная мать, преданная супруга — вот святой и великий
подвиг ее жизни, вот святое и великое ее назначение! Природа
дала мужчине мощную силу и дерзкую отвагу, мятежные страсти
и гордый, пытливый ум, дикую волю и стремление к созданию
и разрушению; женщине дала она красоту вместо силы, избыт¬
ком нежного и тонкого чувства заменила избыток ума и опре¬
делила ей быть весталкою огня кротких и возвышенных
страстей: и какая дивная гармония в этой противоположности,
какой звучный, громкий и полный аккорд составляют эти два,
совершенно различные, инструмента! Воспитание женщины долж¬
но гармонировать с ее назначением, и только прекрасные
стороны бытия должны быть открыты ее ведению, а обо всем
прочем она должна оставаться в милом, простодушном незна¬
нии; в этом смысле ее односторонность в ней достоинство;
мужчине открыт весь мир, все стороны бытия.
Что же такое женщина-писательница? Женщина имеет ли
право и может ли быть писательницею?
Прекрасны изображения Сафо и Коринны, прекрасны, как
поэтические грезы, как создания фантазии; но что такое они
в самом деле? Амазонки, Брадаманты, академики в чепцах, се¬
минаристы в желтых шалях!8 Уму женщины известны только
немногие стороны бытия, или, лучше сказать, ее чувству досту¬
пен только мир преданной любови и покорного страдания; все¬
знание в ней ужасно, отвратительно, а для поэта должен быть
открыт весь беспредельный мир мысли и чувства, страстей
и дел. Знаем много женщин-поэтов, но ни одной женщины-
гения; их создания недолговечны, ибо женщина только тогда
поэт, когда любит, а не тогда, когда творит. Природа уделяет им
иногда искру таланта, но никогда не дает гения: Коринна по¬
беждала Пиндара на играх олимпийских, но Пиндар победил
Коринну в потомстве, ибо потомство рукоплещет созданию, а не
407
творцу, и его не подкупишь роскошью стана, прелестью лица!
И вот почему, когда читаешь произведение женщины, дышащее
живым, неподдельным чувством, блещущее искорками таланта,
то невольно жалеешь, думая, чем бы могла быть такая женщи¬
на и на что бы могла обратить прекрасный дар природы —
пламень своего чувства.
Женщина должна любить искусства, но любить их для на¬
слаждения, а не для того, чтоб самой быть художником. Нет,
пикогда женщина-автор не может ни любить, ни быть же¬
ною и матерью, ибо самолюбие не в ладу с любовию, а только
один гений или высокий талант может быть чужд мелочного
самолюбия, и только в одном художнике-мужчине эгоизм са¬
молюбия может иметь даже свою поэзию, тогда как в женщине
он отвратителен... Словом, женщина-писательница с талан¬
том жалка; женщина-писательница бездарная смешна и отврати¬
тельна.
И должно ли, и может ли это оскорблять женщину? Все
прекрасно и высоко в пределах своего назначения, и все долж¬
но гордиться и радоваться своим назначением, ибо оно есть
воля провидения. Кто в юности не почитал себя поэтом, кто
избытка чувств не принимал за пламень вдохновения, кто не
писал стихов? Эта слабость простительна в мужчине; но и он
смешон и презрителен, если назло рассудку и вопреки природе,
грех своей юности сделает грехом своей жизни, ибо в таком
случае он есть самозванец, бунтовщик против вечных уставов
провидения. Что ж должно сказать о женщине?..
Но мое отступление уж чресчур длинно и, вероятно, так¬
же и скучно, а все оттого, что я не люблю женщин-писательниц!
Бог с ними! Обращаюсь к прерванной нити моего рассуждения.
Я остановился, помнится, на том, что во Франции женщины-
писательницы с особенным ожесточением восстали на брак.
Нужно ли говорить, чего хочется этим женщинам, чего добива¬
ются они? Если бы еще они увлекались ложными, но поэтически¬
ми идеями о добреньком старичке платонизме или не менее лож¬
ными и не менее поэтическими идеями об отречении от всех
человеческих чувств и принесении их в жертву какой-нибудь
задушевной мысли,— так и быть! Но нет, очень понятен этот
сен-симонизм, эта жажда эманципации: их источник скрывается
в желании иметь возможность удовлетворять порочным
страстям...9 Une femme emancipee * — это слово можно б
очень верно перевести одним русским словом, да жаль, что
его употребление позволяется в одних словарях, да и то не во
всех, а только в самых обширных. Прибавлю только то, что жен-
щина-писательница, в некотором смысле, есть la femme imancipde«
* Эмансипированная женщина (франц.). — Ред.
408
Но какая причина тому, что писатели стали так восставать
против брака? Причина очевидна: они не умеют отличить идеи
брака от злоупотреблений брака. Люди все опрофанировали;
они торгуют своими чувствами, совестию, они из брака, одного
из священнейших установлений, сделали род торговой сделки,
и, надо сказать правду, ничто так не пострадало от злоупотреб¬
лений развращенной человеческой воли, как брак. Но доволь¬
но: нет ничего смешнее и глупее, как с важностию доказывать,
что 2X2=4. Но, скажут многие, каковы же должны быть все
эти люди, которые отвергают святость и необходимость брака?
Не истинные ли они чудовища? — О нет, милостивые государи,
я совсем не так думаю о них. По моему мнению, многие из них,
может быть, очень добрые и почтенные люди, даже способные
сделаться хорошими супругами и отцами: отличайте преувели¬
чение от злонамеренности. Яростная волна подмывает песчаный
берег и с бессилием разбивается о гранитную скалу; для сомне¬
ния также есть свои песчаные берега, свои гранитные скалы. Не
бойтесь за брак, не страшитесь эманципации женщин: все это
вздоры довольно милые и забавные, но нимало не опасные.—
Но какая же польза от этих новых мнений, этих безнравствен¬
ных филиппик против вековой, очевидной истины? О, очень
большая! Знаете ли что? У людей преслабая память; они нахо¬
дят истину и следуют ей; потом эта истина, по их похвальному
обычаю, мало-помалу искажается и наконец делается совершен¬
ною ложью; люди привыкают к ее искаженному, обезображенно¬
му виду, от души веря, что она всегда была такова; когда ка¬
кой-нибудь беспокойный чудак посмеется над их истиною, они
рассердятся, начнут ее защищать, подвергнут ее строгому ана¬
лизу и доищутся до ее начала, и вспомнят ее в ее первобытной
чистоте. Споры кончатся, и истина восстановится во всем своем
блеске. Итак, заключаю: «Провидение ведет человечество к его
цели путями дивными и таинственными; часто то самое, что, по-
видимому, должно бы отдалить его от этой цели, приближает
его к ней: это попятные движения вперед».
Да —может быть, уже недалеко то время, когда люди не
только перестанут вооружаться против брака, но перестанут
и торговать им; когда женщины не только перестанут автор-
ствовать, но даже перестанут и верить тому, чтобы когда-ни¬
будь существовали женщины-писательницы!..
А что же мой роман, что моя «Жертва»? Где она, я уже и
забыл о ней, увлекшись мыслями, которые она во мне возбуди¬
ла. Или, лучше сказать, что скажу я вам о ней? Как выскажу
я вам в сотый раз давнишнюю, старую новость? Но делать нече¬
го, не рад, а готов — охота пуще неволи. Итак, изволите видеть:
«Жертва. Литературный эскиз» есть одна из тысячи и одной
филиппик против брака. Дело в том, что злодей-опекун влюбля-
m
ется в свою племянницу и волочится за нею, а сиротка была
девушка comme il faut *, да к тому уж и любила другого.
Дядюшка остался с носом и взбесился. Чтобы отомстить ей, он
выдает ее насильно за негодяя, который ничему не верит, про¬
матывает ее имение и делает ее несчастною. Да зачем же она
выходила за него?— спросите вы. Разве во Франции нет зако¬
нов против насилия? О, есть, и очень справедливые, даже очень
снисходительные в отношении к свободе выбирать и переме¬
нять мужей и жен. Так в чем же дело? А вот в чем: девушка
была слабого характера, не посмела противиться ненавистному
дяде, хотя и знала, что имеет право не слушаться его, да автору
надо было как-нибудь прицепиться к браку, хоть он тут не вино¬
ват ни душою, ни телом. В самом деле, прекрасная логика! Де¬
вушка погибает от слабости характера, а брак виноват! Но до¬
вольно, роман так плох, так дурен, что не стоит ни критики, ни
внимательного рассмотрения. Мадам Монборн не имеет ни иск¬
ры дарования и, вероятно, во Франции пользуется таким же
авторитетом, как у нас на Руси г-да А. В. С. Д. и другие
прочие. Не знаю, с чего вздумалось какому-то г-ну или какой-то
г-же Z.... перевести этот роман на русский язык, как будто бы на
Руси и без него мало дурных романов; еще менее понимаю,
с чего этому таинственному г-ну или этой таинственной г-же Z....
вздумалось перевести его самым безграмотным образом,
одним словом, самым московским переводом. Верно, это зака¬
зец какого-нибудь московского Лавока?.. Не угодно ли вам по¬
любоваться фразеологиею литературы толкуна и Смоленского
рынка? «Обожая свою страну, любовь к отечеству сделалась
страстью его пламенной и чистой души.— Слушаю, сударь! гово¬
рит бедный кучер, немного разуверенный (верно, rassure, то
есть успокоенный?) сими словами.— Поди разузнай (разведай?)
в этом доме о молодой и хорошенькой, которая там живет.—
Видя ее такою, непостижимое предчувствие говорило всем серд¬
цам», и пр. Кажется, довольно? Г-н или г-жа Z....! Если уже вам
нельзя не переводить, то, бога ради, переводите романы толь¬
ко вроде этой «Жертвы» и не делайте хороших сочинений
«жертвами» вашей безграмотности!..
ИЖОРСКИЙ. Мистерия. Санкт-Петербург, в типографии III отделения
собственной е. и. в. канцелярии. 1835. X. 151. (8).
Знаете ли, что должно составлять необходимую принадлеж¬
ность всякой книги, чего должен искать при всякой книге чита¬
тель? — Предисловия. О, предисловие великое, необходимое
дело! Я имел тысячу случаев заметить это. Предисловие для
книги гораздо важнее, чем для человека платье: по платью
* порядочная (франц.).—-Ред.
410
можно ошибиться, по предисловию никогда. Пословица говорит:
по платью встречают, по уму провожают; для чего нет посло¬
вицы, которая бы говорила: по предисловию книгу встречают,
по предисловию и провожают, то есть кладут на стол или под
стол? Для чего позволяют печатать книги без предисловий?
От какой скуки, от какой потери денег и времени избавились
бы читатели, и скольких бы читателей лишились многие гг.
авторы!
Когда я прочел предисловие к «Ижорскому», то содрогнул¬
ся от ужаса при мысли, что, по долгу добросовестного рецен¬
зента, мне должно прочесть и книгу; когда прочел книгу, то
увидел, что мой страх был глубоко основателен. Господи боже
мой! И в жизни такая скука, такая проза, а тут еще и в поэзии
заставляют упиваться этою скукою и прозою!.. Но мне надо обра¬
титься к моему рассуждению о предисловиях: оно будет самою
лучшею критикою на «Ижорского».
Было время, когда правила творчества были очень просты,
ясны, определенны, немногосложны и для всех доступны: кто
прочел «Словарь древния и новыя поэзии» г. Остолопова, тот
смело мог вербоваться в поэты, кто же, к этому, прочел лекции
и критики Мерзлякова, тому ничего не стоило сделаться вели¬
ким поэтом и даже написать эпическую поэму не хуже «Илиа¬
ды». Все писали на один лад: прочитаешь две-три страницы
и уж знаешь вперед, что следует и*чем кончится. Оттого и пре¬
дисловия были очень кратки: в них автор обыкновенно говорил,
кому подражал и из кого заимствовал. Это блаженное время
кануло в вечность, и вдруг законы творчества сделались так
мудрены, высоки и многочисленны, что самые записные закон¬
ники, как ни бились, не могли понять в них ни слова и, рассер¬
дись, торжественно объявили их нелепыми. Потом, видя, что их
принимает вся талантливая и пылкая молодежь, а с нею и пуб¬
лика, они приуныли точно так же, как приуныли теперь старые
крючкотворцы от нового Свода законов1. Следствием этой ре¬
формы было то, что все книги стали появляться с предисловия¬
ми, и предисловиями длинными, в виде рассуждений, диссерта¬
ций, разговоров, писем и пр. Дело в том, что наши авторы как-
то пронюхали, что создания Гете, Шиллера, Байрона, Вальтер
Скотта, Шекспира и других генияльных поэтов суть поэтические
символы глубоких философических идей. Вследствие этого
и наши молодцы начали тормошить немецкую философию
и класть в основу своих изделий философические идеи. Все
было это очень хорошо, но вот в чем беда: они не знали того,
что мысль тогда только поэтична, если можно так сказать, ког¬
да проведена через чувство п облечена в форму действием
фантазии, а что, в противном случае, она есть пошлая, холод¬
ная, бездушная аллегория. Они не знали, что великие поэты,
соблазнившие их своим примером, оттого сообщали свопм со¬
зданиям глубокость мысли и высокость идей, что они жили
411
и дышали этими мыслями и идеями, что они не придумывали
этих мыслей и идей, но только освобождались от тяготившего
их избытка оных, что они не искали этих мыслей и идей, но что
эти мысли и идеи искали их, так как истийный поэт не ищет
рифмы, но рифма ищет его, что, наконец, они не старались
развивать практически этих мыслей и идей для убеждения ума
читателей, но выражали их бессознательно и бесцельно. Наши
авторы думали, что здесь дело идет только о том, чтобы взять
какую-нибудь идею, обдумать ее логически, да и приделать
к ней сказку, роман или драму. И поэтому они стали в длин¬
ных предисловиях объяснять свою идею, как бы предчувст¬
вуя, что без того она осталась бы для читателя неразрешимою
загадкою.
К числу таких-то авторов принадлежит и автор «Ижорско-
го». Не имея поэтического таланта, он дурно понимает и искус¬
ство. Жалко видеть, как он в своем предисловии острит над
какими-то будто бы защитниками трех единств, которых на свя¬
той Руси уже давно видом не видать, слыхом не слыхать, ибо
теперь и самые ультраклассики хлопочут уже не о трех единст¬
вах, но о «нравственности в изящном». Жалко видеть, как оп
силится развить теорию того рода сочинений, к которому отно¬
сит своего «Ижорского» — мистерий. Увы! все это труды на¬
прасные! В чем есть чувство, поэзия, талант, то не может по¬
вредить себе странностию или новостию формы: его все тотчас
поймут без комментарий.
Автор представляет какого-то Ижорского, разочарованного
человека, тысячу первую пародию на Чальд-Гарольда. Этот
Ижорский ничему не верит, ибо во всем разочаровался от нече¬
го делать; страшный Бука, повелитель духов, отдает его во
власть проказнику Кикиморе (что-то вроде русского, доморо¬
щенного Мефистофеля); этот Кикимора влюбляет его, для соб¬
ственной потехи, в княжну Лидию; бедняк страдает, удаляется
в деревню и делается совершенным отшельником; потом Кики¬
мора влюбляет в него княжну Лидию, но таким образом, что
мизантроп с этой минуты охладевает к ней и вымещает на ней
свои прежние страдания; как бы желая изведать, точно ли она
его любит, говорит ей следующими дурными стихами:
Одно доверье
Доверье может породить во мне,
И вот вопрос мой вам, сиятельной княжне:
Вы в силах ли презреть высокомерье,
Спесь рода своего, молву и сан отца?
Принадлежать мне до венца
Вы в силах ли?.. Молчишь, бледнеешь... слушай: кто я?
Ценою счастья и покоя,
От роковых, от грозных сил
Драгой ценою я купил
Единственный мой дар: сей дар свобода,
Не святы для меня ни одного народа
Обычьи, предрассудки, бред, и пр.
412
Княжна обещает и вдруг исчезает, приходит пешком в Петер¬
бург, в наряде молодого крестьянина; является к Веснову, мо¬
лодому человеку с душою и сердцем, который давно уже любил
ее, выдает себя за крестьянина Ижорского и предлагает ему
вылечить своего барина, к которому Веснов питал энтузиасти¬
ческое уважение, от его меланхолии. Веснов соглашается. Они
приходят оба очень кстати: на Ижорского напали разбойники,
и Веснов спасает его. Они живут у него в доме. Кикимора
возбуждает в нем подозрение, что казачок Веснова есть про¬
павшая княжна. Ижорский думает, что она над ним насме¬
хается, закалывает Веснова и бежит с Кикиморою и княжною,
которую бросает на дороге спящею. В бедной княжне принимает
участие Титания. Наконец Шишимора является Ижорскому
в собственном виде и заставляет его низвергнуться со
скалы длинною речью, окончание которой заключает в себе
смысл всей этой длинной и скучной аллегории. Смысл ре¬
чи, как отдельная мысль, обнаруживает в авторе человека
с умом и чувством, и самые стихи в ней более других
одушевлены, хотя и мало отзываются поэзиею. Выписываю ее
окончание:
Терзайся, рвися и внемли!
Ты призван был в светило миру,
Был создан солью быть*земли:
Но сам раздрал свою порфиру,
С главы венец свой сорвал сам,
Державу сокрушил златую (?)
И оросил часть свою святую
На оскверненье, в жертву псам,
Ты волю буйным дал мечтам;
Межу ты сдвинул роковую
И так в строптивом сердце рек:
«Да будет богом человек!»
Но человека человеком
Везде, всегда ты обретал;
Тогда неистовым упреком
На сына праха ты восстал
И бесом смертного назвал.
Но я твоею слепотою,
Но я бездонной, вечной тьмою,
Грядущим, жребием твоим,
Но я презрением моим
И вечною к тебе враждою
Клянусь, но я клянуся им,
Кого назвать я не дерзаю,
Тебе клянуся и вещаю:
Не беспорочный сын небес,
Могущий, чистый, совершенный,
Не сын же бездны, нет! не бес
Земного мира гость мгновенный.
И сё — неисцелимый яд
В твою раздавленную душу
Волью — и с хохотом обрушу,
Безумец, на тебя весь чад: (??) 2
413
Ты червь презренный, подлый ад*,
Своею дерзостью надменной
Ты стал в посмешище бесов
И в мерзость области священной
Блаженных, радостных духов!
Всего страннее в этой мистерии участие персонажей небы¬
валой русской мифологии. За неимением на Руси духов, автор
наделал своих, но, к несчастию, его Бука, Кикимора, Шишимора,
Знпч, его русалки, лешие, совы и пр. очень плохо вяжутся
с гномами, сильфами, ондинами, саламандрами, Титаниею, Ариэ¬
лем п пр. Мифология тогда только имеет смысл, поэзию и фан¬
тастическую прелесть, когда она есть создание фантазии наро¬
да, который питает в своих вымыслах суеверный страх и от
души им верит.
Грустно видеть человека с умом, с большею или меньшею
степенью образования, человека с уважением к святым предме¬
там человеческого обожания, любящего искусство,— и вместе
с тем так жестоко обманывающегося насчет своего призвания,
так дурно понимающего значение высокого слова: искусство!
Для того, чтоб быть поэтом, мало ума: нужно чувство и фанта¬
зия. Делать поэмы может всякий, творить — один поэт. Работа
всегда остается работою, как бы ни высока была ее цель. Нет,
тот не поэт, даже не стихотворец, не версификатор, кто пишет
такими стихами, каковы следующие:
Здорово, милый мой раек!
Здорово, друг партер! мое почтенье, креслы!
Без вас наскучило: препоясал я чреслы,
Взял посох и суму; шел, шел, все на восток —
И наконец прибрел на эти доски.
*— А для чего? — кричит Фирюлин, мой Зоил, —
И прежде ты довольно нас бесил;
Твои все шуточки так глупы и так плоски!
И я душой был рад, когда ты объявил,
Что, к прекращенью нашей муки,
Здесь с нами глаз на глаз
Ты видишься в последний раз...
И что ж? опять ты здесь? Где ж плеть и палка Буки?
— Трофим Михайлович, не торопитесь бить;
Позвольте наперед вам доложить:
Бесенок я, а сотворен для дружбы;
Для ней ни от какой не откажуся службы.
Есть друг и у меня, предобрый человек,
Пречистая душа — писатель;
И вот пришел ко мне и говорит: «Приятель,
Преемник твой не то, что ты; он ввек
Со сцены с публикой не вступит в разговоры.
К тому ж угрюмые, косые взоры,
Его коварный, злобный нрав,
Ну, право, созданы не для забав!
А, брат, необходим с партером мне посредник,
Веселый, умный собеседник,
* Прошу заметить, что это говорит злой дух, бес. Примеч. рецензента*
414
Который бы подчас, как Шекеспиров хор,
Им пояснял мой вздор» *.
И ну просить и лестными словами
Превозносить меня, хвалить мой ум, мой дар!
Что ж? просьбы и хвалы, — вы ведаете сами,—
Хоть в kgm, а породят усердие и жар;
Я к Буке; Бука молвил: «отпускаю»;
И вот я здесь и в должность я вступаю! 4
И целая-то поэма написана такими стихами!..
СЫН ЖЕНЫ МОЕЙ. Роман. Сочинение Поль де Кока. Перевод
с французского. Санкт-Петербург. В типографии К. Вингебера. 1835. Две
части: 1 — 230; II —210. (12). С эпиграфом:
Casu magis et felicitate rem gessit
quam virtute et consilio **.
«Это сочинение хорошо, но только безнравственно; а это
и хорошо и отличается чистейшею нравственностию и прекрас¬
ным слогом». Так думал и говаривал, бывало, покойник XVIII
век, который, как всем известно и ведомо, сам отличался
чистейшею нравственностию и в делах и в помыслах. «Как
безнравственна юная французская литература! Нельзя ничего
дать прочесть молодому человеку, не говоря уже о девушке
и даже всякой женщине!» Так вопиют ныне почтенные развали¬
ны почтенного XVIII века, обломки доброго старого времени.
«Нравственность в литературе!» Да — это вопрос, и вопрос глу¬
бокий, многосложный, на который француз может написать два
томика в двенадцатую долю, а немец двенадцать томов in
quarto ***. Не почитая себя способным ни к тому, ни к другому
труду, я постараюсь в легкой журнальной статейке бросить
взгляд на «нравственность в литературе».
На языке человеческом есть слова, которые люди повторя¬
ют, не вникая в их значение, не условливаясь в их смысле, по¬
вторяют и сердятся, когда кто-нибудь осмелится сказать: «Да
что же это такое, милостивые государи?» К числу таких стран¬
ных слов принадлежит «нравственность вообще» и «нравствен¬
ность в литературе». Древние передали нам в изящных формах
кровавую исторпю Эдипа и фамилии Атридов, историю, полную
мрачных злодейств, возмутительных преступлений, как-то: отце¬
* Это говорит Кикимора в пятом явлении третьего действия второй
части, обращаясь к зрителям, вероятно для того, 'чтобы заменить собою
Шекспиров хор!..3
** Дела вершатся больше случайностью и удачей, чем хорошими ка¬
чествами и предусмотрительностью (лат.). — Ред.
*** в четвертую долю листа (лат.). — Ред.
415
убийства, братоубийства, мужеубийства, кровосмешения!,
и блюстители нравственности находили тут бездну нравствен¬
ности; потом, писатели, появившиеся в конце XVIII и начале
XIX века, начали изображать жизнь во всей ее ужасающей наго¬
те и истине, и хотя они, в ужасном, далеко не превзошли древ¬
них, но блюстители нраственности оглушающим хором заревели
против безнравственности новейших писателей. Воля ваша, а тут
есть недоразумение. Кажется, все дело в том, что дурно усло¬
вились в значении слова «нравственность».
Что такое нравственность? В чем должна состоять нравст¬
венность? — В твердом, глубоком убеждении, в пламенной, не¬
поколебимой вере в достоинство человека, в его высокое на¬
значение. Это убеждение, эта вера есть источник всех челове¬
ческих добродетелей, всех действий. Если я твердо убежден
в том, что мир обширная торговая площадь, где люди обманом,
и мытьем и катаньем, выторговывают друг у друга тепленькое
местечко, где бы можно было и поесть сладко, и соснуть мягко,
и погулять весело, площадь, на которой всякий думает только
о своих барышах и почитает позволительными все средства
к достижению своей цели, и между тем повторяет общие места
морали, не веря им, — то скажите, бога ради, зачем же я дол¬
жен быть добрым, честным, великодушным, зачем осужу я
себя на лишения, на страдания, когда могу наслаждаться блага¬
ми жизни? Я был бы, в таком случае, очень глуп, не правда
ли? — Разве из страха угрызений совести? Но зачем же мне
и злодействовать, зачем губить ближнего? Я буду только обма¬
нывать его, заставлять его служить мне, предоставляя и ему
какие-нибудь выгоды, но только помня твердо, что своя рубаш¬
ка к телу ближе, и, видя зло, угнетения, неправосудие, не вме¬
шиваться не в свои дела, если меня не трогают. Так и думал
XVIII век. Все писали и говорили о нравственности, и ни в ком
не было нравственности, ибо никто не верил достоинству чело¬
века, великости его назначения.
Но ежели я верю*, что я должен дать отчет в моей жизни,
должен употребить ее на святой подвиг, как завещал это нам
распятый за нас,— я могу и в таком случае заниматься мелоча¬
ми жизни, быть пустым, даже злым человеком, но уже про¬
сти, счастие жизни, оно невозможно для меня, прости, счаст¬
ливое самодовольство, я уже не могу обмануть себя. Так ду¬
мает XIX век, ибо он, если еще не вполне уверился, то уже
начинает верить в достоинство человека, в великость его назна¬
чения.
Весьма нетрудно приложить это понятие о «нравственности
вообще» к «нравственности в литературе». Какое мне дело, что
в романе или драме добродетельный погибает, а порочный
торжествует? Если добродетельный боится пасть за правду, ес¬
ли он ропщет на провидение за то, что оно попускает торжест¬
416
вовать над ним пороку, он уже не добродетелен: он поден¬
щик, просящий платы за труды, он любит добро не для добра,
а из желания награды. Нет, если он добродетелен истинно, то
благодари провидение за бедствие, лобызай карающую руку. Ес¬
ли во мне есть чувство добра, меня не испугает зрелище ужа¬
сов и страдании, вопль проклятий и богохулений, представляе¬
мых мне Евгением Сю, Бальзаком, Лакруа и другими, ибо царст¬
во доброго не от мира сего 2.
Вот другое дело литература XVIII века, она не так глубока
и ужасна; она, напротив, очень весела и снисходительна к сла¬
бостям человеческим, но зато и убийственна для чувства нрав¬
ственности, соблазнительна и развратна. Эти сцены сладо¬
страстия, набросанные игривою кистию с чувством самоуслажде¬
ния, эти невинные экивоки, от которых закипает молодая кровь
юноши и волнуется грудь девушки,— вот она, вот ядовитая отра¬
ва нравов! Это хорошо известно многим, которые, еще бывши
детьми, читали философические повести Вольтера, contes еп
vers * Лафонтеня, «Кавалера Фобласа»3 и другие chefs-d’oeu-
vres ** XVIII века.
Передо мной лежит роман Поль де Кока «Сын моей же¬
ны», перелистываю его с расстановкою и трепещу при мысли,
что это подлое и гадкое произведение может быть прочтено
мальчиком, девочкою и девушкою; трепещу при мысли, что
Поль де Кок почти весь переведен на русский язык и читается
с услаждением всею Россиею!.. Боже великий! и есть люди, кото¬
рые печатно хвалят его и находят его самым нравственнейшим
из современных французских писателей, его, грязного осадка
от мутной воды XVIII века, его, угодника площадной черни!..
А мы слушаем и верим!.. Слава нам!..
Что такое Поль де Кок? Кто он и откуда? О, это писатель
удивительный! Хотите ли иметь понятие о создании и характере
его бесчисленных творений? У него, по большей части, герой
романа дитя природы, который ничему не учился, не знает да¬
же грамоте и потому свеж, крепок и смел, ест за троих и пьет
за десятерых. Надобно еще заметить, что он всегда незаконно¬
рожденный: Поль де Кок сен-симонист! Юность молодца про¬
ходит в буянстве, в волокитстве за деревенскими девками, по¬
том он вступает в военную или пускается в путешествие, делая
везде известного рода проказы и тысячи пошлых глупостей;
потом влюбляется, по незнанию, в родную сестру... делается кро¬
восмесителем... Это самая ужасная катастрофа, которою разре¬
шаются все гордиевские узлы романов Поль де Кока, ибо все его
герои очень пламенны и нетерпеливы, а он сам имеет свои собст¬
венные понятия о блаженстве любви... Наконец, дело как-нибудь
улаживается, выходит, что обесчещенная не сестра молодцу
* сказки в стихах (франц.). — Ред.
** шедевры (франц.). — Ред.
14 В. Белинский, т. 1
417
п что он почитал ее сестрою по ошибке, и роман оканчивается
счастием, то есть свадьбою и богатством, и, следовательно,
«нравственно». Для полноты картины выведен какой-нибудь гу¬
сар, пьяница, буян и волокита на старости лет; на сцене
беспрестанно мужики, обманываемые женами, трактиры, каба¬
ки и т. д. Вот вам Поль де Кок!
В рассматриваемом мною романе Поль де Кок превзошел
самого себя в пошлости и безнравственности; это самое худшее
из его произведений4. Перевод я сначала почел московским
и очень удивился, когда, выписывая его заглавие со всеми биб¬
лиографическими подробностями, увидел: «С.-Петербург». Пе¬
ревод есть истинная какография логики, грамматики и здравого
смысла. Не выписываю фраз, ибо не могу решиться выбором.
НАСЛЕДНИЦА. Быль вместо романа, или Роман вместо были. Сочине¬
ние П. Сумарокова. Москва. 1835. В типографии Лазаревых Института
восточных языков. Две части: I — 302; II — 336. (12).
Скромное имя г. Сумарокова не блестит в наших литера¬
турных адрес-календарях; 1 оно почти незаметно между луче¬
зарными созвездиями и светилами, окружающими его. Но это
просто несправедливость судьбы, ибо если о достоинстве ве¬
щей должно судить не безотносительно, а по сравнению, то имя
г. Сумарокова должно принадлежать к числу самых громких,
самых блестящих имен в нашей литературе, особенно в настоя¬
щее время. Но, видно, он не участвует ни в какой литературной
компании, издающей журнал, и, особенно, не умеет писать пре¬
дисловий к своим сочинениям и не имеет духу писать на них
рецензий и печатать их, разумеется под вымышленными имена¬
ми, в журналах, что также в числе самых верных средств
к прославлению. Но, оставя все шутки, скажем, что г. Сумаро¬
ков, не отличаясь особенною силою таланта и даже совершенно
не будучи поэтом в истинном смысле этого слова, заслуживает
внимание как приятный рассказчик былей и небылиц, почерпае¬
мых им из мира русской, преимущественно провинциальной,
жизни и отличающихся занимательностию и хорошим языком.
Его повести, помещавшиеся в «Телеграфе» и недавно изданные
особо, с удовольствием читались и читаются нашею публикою.
Они не отличаются ни глубиною мысли, ни энергиею чувства, ни
поэтическою истиною, ни даже большою современностию; но
в них есть что-то не совсем истертое и обыкновенное, а у нас
п это хорошо. Они не заставят вас задрожать от восторга,
они не выжмут из глаз ваших горячей слезы, но вы с тихим
удовольствием прочтете их в длинный зимний вечер, но вы
не бросите ни одной из них, не дочитавши, хотя и заранее
догадываетесь о развязке. Герои повестей г. Сумарокова лю¬
418
ди не слишком мудреные, не слишком глубокие пли страст¬
ные; это люди, каких много, но вы полюбите пх от души, при¬
мете участие в их судьбе и, сколько-нибудь познакомившись
с ними, непременно захотите узнать, чем кончились их похож¬
дения.
Всякпй должен следовать своему таланту, всякий должен
оставаться в пределах, отмежеванных ему природою; мы не со¬
ветовали бы г. Сумарокову писать романов, ибо его поприще
есть повесть. Из самого его романа «Наследница» вышла по¬
весть, против его собственной воли, повесть довольно занима¬
тельная, но очень растянутая, почему, вероятно, она и показа¬
лась своему автору романом. Множество пустых подробностей,
бездна самых жалких сентенций чрезвычайно как много вредят
этому роману, который, впрочем, не без достоинств. Первая
часть, по причине ужасной растянутости, скучна и утомительна,
но вторая, в которой ход действия живее и быстрее, читается
с большим удовольствием. Автор хорошо подсмотрел многие
черты общества и удачно схватил их. Молодая девушка, воспи¬
танная в деревне, с душою пламенною, любит молодого небога¬
того человека. Мать замечает эту любовь и не мешает ей разви¬
ваться, видя в молодом человеке выгодную партию для своей
дочери. Вдруг дочь делается наследницею огромного имения
и для принятия его едет с матерью в Москву к промотавшимся
родственникам, которые до того времени не хотели их и знать,
а когда они сделались богаты, то вдруг почувствовали к ним
самую нежную привязанность. Промотавшееся столичное семей¬
ство изображено очень хорошо. Столичная тетушка и кузина
сообщают своей провинцияльной родственнице правила развра¬
та и подлости, которые в свете называются правилами нравст¬
венности, разлучают ее посредством клеветы с ее любезным
и посредством разных обманов, истерзав юное сердце бедной
девушки всеми муками ревности, уговаривают ее выйти замуж
за генерала, человека благородного и умного, но уже пожило¬
го. Бедная жертва кидается, с отчаяния, в объятия уважаемого,
но не милого ей человека и затаивает в сердце свои страдания.
В деревне, когда муж ее занимается охотою с гостями, за ней
волочится графчик, мальчишка, воспитанный в правилах XVIII
века, и, взбешенный ее презрением, ищет средств погубить ее.
Бедный молодой человек, которого она любила, входит в сад
генерала и встречается с нею, не видавши ее пять лет. Объясня¬
ются, мирятся и расходятся, чтоб больше не видаться. Горнич¬
ная девка это замечает, сообщает графчику, тот мужу; след¬
ствием — дуэль и смерть обоих страдальцев. Всю эту повесть
рассказывает друг героя повести князю и княгине N, которые
купили владение генерала Вронского, и вот их суждение о рас¬
сказе пх соседа.
— Какой песносный человек! — сказала княгиня; — я бы желала,
чтобы он пояснил мне некоторые темные места.
14*
419
— Напротив, я бы желал, чтобы его рассказ был еще меньше ясен, —»
сказал князь; — чтобы он был не так растянут и длинен; чтоб я чаще встре¬
чал в нем эти темные, байроновские намеки, которые чрезвычайно мне
нравятся.
— А для меня ничего нет несноснее этих темных, недосказанных
мест, которые ввели в моду нынешние писатели и по милости которых
иногда ничего не понимаю.
— Это значит, что ты еще принадлежишь к старинной, классической
пг'оле.
Мы совершенно согласны с князем.
РЕЙНСКИЕ ПИЛИГРИМЫ. „ Соч. Бульвера. Перевод с француз¬
ского. В типографии Н. Степанова. 1835. Четыре части: I — 130; II — 142;
III — 120; IV — 131. С эпиграфом:
«Забудешь ли ты когда-нибудь
восхитительные часы, проведенные
нами в тихих рощах, посвященных
любви, где мы могилу жизни, вме¬
сто земли, усыпали зелеными ли¬
стьями и благоуханными цветами!»
Ш и л л е й«
«Ты хочешь показать мне все
роды существ сотворенных и нау¬
чить меня узнавать своих братьев,
витающих и в безмолвных рощах,
и в воздухе, и в воде».
Гете,
Европейские журналы, преимущественно английские, сколь¬
ко мы могли заметить из «Revue Britannique», часто удивляют
самыми странными, если не нелепыми, суждениями о литера¬
турных предметах, суждениями, которые даже и у нас смешны;
часто они хлопочут о таких вопросах, которые даже и у нас уже
не вопросы. Не ходя далеко, укажем на статью о новой драме 1
Виктора Гюго, помещенную в одном из №№ «Артиста», фран¬
цузского журнала, и переведенную в «Наблюдателе». Но англий¬
ские журналы особенно свидетельствуют о незавидном состоя¬
нии критики в Англии. Недавно мы прочли в «Revue Britanni-
gue» статью о Эдуарде Литтоне Бульвере — новой английской и,
следовательно, европейской знаменитости, о которой так много
говорят и у нас. Эта статья переведена в «С.-Петербургских
ведомостях», повторена в «Московских ведомостях» и поэтому
должна быть известна русской публике2. Из нее видно то, что
дух англичан принимает новое направление, представителем
которого есть — Бульвер. В чем же состоит это новое направле¬
ние духа английской нации? В стремлении к жизни мечтатель¬
ной, идеальной, совершенно противоположной их положитель-
420
и off, расчетливой, рациональной жизни. Правда ли это? Возмож¬
ное ли это дело? Не знаю; но крайней мере так говорит автор
статьи об Эдуарде Литтоне Бульвере; прибавлю еще, что он
В17,цпт в этом новом направлении много худого п предсказывает
близкую и ужасную реформу в Англии, обвиняя Бульвера в том,
что он своими романами способствует этому вредному направ¬
лению и своим огромным авторитетом ускоряет его развязку.
Как бы то ни было, это вопрос чисто английский, обстоятельст¬
во семейное п для нас совершенно постороннее; а вот в чем
дело: судя по великому влиянию, которое автор статьи о Буль¬
вере приписывает этому писателю, судя по огромному авторите¬
ту, которым пользуется в Англии этот ее любимец и баловень,
не имеете ли вы права заключить, что Бульвер есть писатель
генияльный, что цветы его поэзии роскошны, благоуханны, как
плодородная природа Индии, что его картины чудесны и раз¬
нообразны, как беспредельный мир божий, что он представляет
природу и жизнь преображенными, в новом, волшебном, фан¬
тастическом свете — не правда ли? Но увы! ничего этого нет:
Бульвер поэт, каких много, поэт второклассный, если не тре¬
тьеклассный; его романы как романы — середка на половине,
хотя в них и блестят искры истинного, неподдельного таланта.
И в самом деле, не странно ли думать, чтобы британец, гордый,
расчетливый, пресыщенный жизнию, усталый от ее впечатлений,
соскучившийся ее прозою, стал искать отдохновения и освеже¬
ния для своей души не в Шекспире, не в Байроне, не в Вальтер
Скотте, не в Купере или Томасе Муре, а в Бульвере? Разве
поэзия этих поэтов положительна, суха, утомительна, неспособ¬
на потрясти самую холодную душу, распалить самое вялое вооб¬
ражение? Разве гений этих поэтов не велик, разве он ниже ге¬
ния Бульвера? Странно! Что ж такое этот Бульвер, что он за
чародей такой, что, мановением своего волшебного жезла, за¬
ставляет англичан забывать свои конторы и биржу, свои проек¬
ты всемирной торговли и бросаться в фантастический мир
немцев? В чем находит он свои могущественные средства,
где берет свои орудия? Уж не в родстве ли он с феями и гно¬
мами, уж не подарил ли ему Оберон своего лилейного скипет¬
ра? Мы это сейчас увидим, бросивши взгляд па «Рейнских пи¬
лигримов».
«Рейнские пилигримы» — единственный роман Бульвера,
прочитанный мною; но, судя по его характеру и по упомянутой
статье в «Revue Britannique», они могут дать полное понятие
о Бульвере. Вот в чем состоит их содержание: Тревелиан, мо¬
лодой человек, с душою сильною и характером возвышенным,
любит Гертруду Ван, девушку, которая имеет все, что делает
женщину на земле представительницею неба — красоту и способ¬
ность к нежной, пламенной любви, безграничному самоотверже¬
нию, преданности и высокой покориости судьбе; отец этой де¬
вушки, лицо, тоже имеющее свою физиономию, есть третий пер-
421
сонаж романа Бульвера. Прелестная, очаровательная Гертруда
страждет неизлечимою болезнию — чахоткою и, по совету докто¬
ров, пускается в путешествие по берегам Рейна, в сопровожде¬
нии своего отца и любовника. Тревелпан, имея пылкое вообра¬
жение, зная наизусть почти все предания, все древненемецкие
хроники и притом обладая способпостпю приятного рассказчика,
рассказывает Гертруде отрывки из этих преданий и хроник, что¬
бы отклонить ее впиманпе от собственного ее положения. Все это
очень естественно, все верно, прекрасно и занимательно. Эта Герт¬
руда, прекрасный, благоуханный цветок, рожденный для того,
чтобы заставить другое существо полюбить жизнь, эта Гертруда,
стоящая на краю могилы и живее ощущающая прелесть жизни,
и сильнее желающая жить, и до последней минуты обманываю¬
щая себя лестною надеждою насчет жестокой истины своего по¬
ложения; потом, этот Тревелиан, сосредоточивший в самом се¬
бе все силы души своей и кажущийся спокойным и холодным,
тогда как в его сердце горит пламя любви и чувства, этот гор¬
дый, крепкий дуб, опершийся на розу и долженствующий пасть,
когда она увянет; наконец, этот старик Ван, изведавший жизнь,
утомившийся ее обманами, опершийся на самого себя и, в сво¬
ем бесстрастии, еще глубоко любящий дочь свою, — все эти
лица, повторяю, имеют собственную физиономию и живо зани¬
мают внимание читателя своею судьбою, своим положением, своею
личностию. Но не здесь Бульвер, он в эпизодах, он в рассказах
Тревелиана; в них силится он оживить старину с ее волшебными
воспоминаниями, с ее романической жизнию, так противополож¬
ною расчетливой жизни. Эти эпизоды прекрасны, когда дело
ндет о изображении чувств и положений человеческих, общих
всем векам, всем народам и понятным во всех веках и для всех
народов. Таков эпизод: «Молодая девушка из города Мелина»,
в коем прекрасно изображена женщина, существо любящее
и преданное; таков эпизод: «Братья», в котором воскресает по¬
этическая жизнь средних веков, с ее рыцарством, ее любовию,
ее верностию, страданием и религиозностию; но и не здесь еще
Бульвер; он в рассказах фантастических, которые тоже прекрас¬
ны; их два: «Душа в чистилище» й «Падшая звезда». Но особен¬
но Бульвер, такой Бульвер, каким представляет его автор статьи
в «Revue Britannique», Бульвер мечтатель, Бульвер, недоволь¬
ный современною жизнию, виден в повествовании о феях и ге¬
ниях, которые, бог знает по каким правам и ради каких причин,
вмешиваются у него в людские дела, и здесь-то Бульвер смешон,
жалок и нелеп до крайности. Эти феи, эти гении, их рассказы
о любви кошек и собак — суть не что иное, как натяжки, самые
скучные и утомительные, резные украшения русских крестьян¬
ских изб на доме италианской архитектуры, ломанье паяца
в антрактах хорошей драмы. Если в этом состоит мечтатель¬
ность и идеальность Бульвера, то едва ли ему удастся ниспро¬
422
вергнуть существующий порядок дел в Англии и пз англичан,
народа деятельного, торгового, положительного, сделать меч¬
тательных, созерцающих, сумасбродных немцев по идеалу Тика.
Бульвер часто, пли, лучше сказать, беспрестанно жалуется на
прозу нашей жизни, и очень заметно, что ему хочется быть
мечтательным, хочется создать какую-то идеальную жизнь; это
вндно пз самых его эпиграфов; он старается заставить своих
читателей верить в бытие существ особенного рода, наполняю¬
щих глубину лесов, ущелпя гор, дно морей и рек, воздушные
пространства; словом, он силится возвратить мир к его перво¬
бытному состоянию, когда юное человечество населяло природу
небывалыми существами и от души верило их действительности.
Намерение нелепое! Разве нет поэзии в нашей жизни, разве
сама истина и действительность не есть высочайшая поэ¬
зия? Разве естественное и верное изображение любви Тре-
велиана и Гертруды не лучше в тысячу раз глупых рассказов
о небывалых феях и гениях, рассказов карикатурных, блед¬
ных и холодных? Разве пошлая аллегория о добродетелях есть
поэзия?
Словом, Бульвер, писатель не генияльный, но с талантом,
хорош только там, где естественен, где пишет в духе времени,
где противоречит своим нелепым мыслям о жизни, и несносен,
где силится, вопреки своему таланту, быть идеальным. Ему надо
чувствовать, а не мыслить, надо бессознательно следовать вну¬
шению своего таланта, а не корчить из себя трубадура с венком
на остриженной голове и букетом роз на модном фраке: тогда
он будет лучше. Равным образом, ему не надо судить ни об
английской, ни о немецкой литературе, ни о вкусе, ибо его суж¬
дения об этих предметах похожи на его рассказы о феях и о
добродетелях.
Перевод хорош, хотя местами и нерадив.
НАЧЕРТАНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ УЧИЛИЩ. Сочинение про¬
фессора Погодина. Москва. В университетской типографии. 1835. 323. (8)«
Наша литература особенно бедна учебными книгами: исти¬
на не новая, даже очень старая, но мы все-таки повторяем ее,
хотя некоторые и почитают это излишним и несправедливым
в настоящее время, когда, по их мнению, множество вновь по¬
явившихся книг в этом роде доказывают противное. Не хотим
спорить об этом: у всякого свой взгляд на вещи, а на нанш
глаза множество ничего не доказывает. Итак, наша литература
очень бедна учебными книгами, и преимущественно по части
истории. Причина этого заключается сколько в трудности состав¬
ления хорошей учебной книги, столько и в ложном понятии,
какое вообще имеют у нас касательно этого предмета. Здесь
невольно подвертываются мне под перо слова г. Шевырева:
423
«Ах, этп бедные детн! Что не годится для взрослых, что боится-
критики — то все ссылается на подачу детям. Их невинность как
будто бы должна оправдывать все недостатки сочинений» 1. За¬
метьте, что г. Шевырев говорит это по поводу книги, изданной
Жаненом, не применяя к нашей литературе. Что же у нас?..
О, сердце обливается кровью при мысли о бестолковом учебнике
и варваре-педагоге, общими силами убивающих юные таланты
и из детей с человеческим организмом делающих идиотов...
Да и чего хорошего можно ожидать от наших учебных книг,
когда истинные ученые презирают заниматься их составлением
и когда их делают шарлатаны и невежды?.. Много ли у нас учеб¬
ных книг, скрепленных именем профессора или известного уче¬
ного? А за эти книги не должны браться даже и ученые по ре¬
меслу: самый разительный пример этого есть «Учебная кпи-
га русской словесности» г. Греча — этот сборник устарелых пра¬
вил и дурных примеров, скорее способных убить чувство вку¬
са и склонность к изящному, чем развить их. Таких примеров
много...
Г-н Погодин предпринял вознаградить недостаток учебных
книг по части отечественной истории. Нельзя выразить того вос¬
хищения, с каким мы узнали об этом намерении, того нетерпе¬
ния, с каким мы ожидали появления этой книги, за прекрасное
исполнение которой ручалось имя г. Погодина. Но при всем
пашем уважении к г. Погодину как к человеку и писателю мы
поставляем себе непременным долгом сказать во всеуслыша¬
ние, что никогда не испытывали мы такого жестокого разочаро¬
вания, никогда не обманывались так ужасно в своих надеждах
и ожиданиях... Мы едва верили глазам своим. Эта книга реши¬
тельно недостойна имени своего автора, от которого публика
всегда была вправе ожидать чего-нибудь дельного и даже пре¬
красного. Одно ее разделение на периоды, неосновательность
которого уже доказана г. Скромненком2, ясно показывает, что
она составлена слишком на скорую руку. Представьте себе: со¬
бытия до Петра Великого занимают 249 страниц — сколько же,
вы думаете, занимают события от вступления на престол Петра
Великого до смерти Александра Благословенного? — Страниц
по крайней мере пятьсот, если не тысячу? — Нет — всего-навсе
64 страницы!!. Мы слишком далеки от того, чтоб думать, что
г. Погодин не был в состоянии написать не только порядочной,
но и хорошей учебной книги; мы скорее готовы подумать, что
он не хотел этого сделать и что причина совершенной неудов¬
летворительности его сочинения заключается в крайней невни¬
мательности и поспешности, с какою оно составлялось. Это до¬
казывает все: и отсутствие хронологии, без которой учебная
книжка есть фантом пли образ без лица, и параграфы
в несколько страниц без перерыву, и самый язык, неправильный
и необработанный, общие места и неопределенность в выра-
женпях*, это доказывает, например, и следующее место: «Дат¬
ский принц Иоанн, брат Христиана, был вызван в Россию в же¬
нихи Ксении, после раздора с Густавом, воевать с турками
п изгнать их из Европы, не оставляла Бориса».
Много, очень много можно б было сказать о недостатках
«Истории» г. Погодина; но для этого слишком тесны пределы
простой библиографической статейки. Нам обещана целая кри¬
тика, которая и будет помещена в одном из №№ «Телеско¬
па». Мы вполне уверены, что г. Погодин увидит в этом по¬
дробном отчете об его книге, равно как и в нашем отзыве, то же
беспристрастие, ту же благонамеренность, ту же любовь к исти¬
не и желание общего добра, которые руководили им в его
отзывах, например, об исторических трудах г. Полевого и про¬
чих... 4
РУССКАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ. Сочине¬
ние Николая Полевого. Москва. В типографии А. Семена, при им¬
ператорской Медико-хирург. академии. 1835. Две части: I — V, 379; II —
457. (12).
Это половина нового труда благонамеренного и неутоми¬
мого деятеля на поприще русского просвещения. Н. А. Поле¬
вого. Этим сочинением совершенно пополняется важный
недостаток в нашей литературе:' теперь юным поколениям
беспредельной России есть средство, играючи, изучать отечест¬
венную историю и, следовательно, с пользою и удовольствием
занимать свои детские досуги. Книга г. Полевого, как этого
и должно было ожидать, написана просто, умно, без излишних
подробностей и без сухой сжатости, хорошим языком; события
расположены ясно, расставлены в перспективе, облегчающей
память, переданы с живостию и увлекательностию. Прибавим
еще, что это сочинение годится не для одних малолетных де¬
тей: оно будет полезно и для взрослых и даже старых детей,
которых у нас еще так много. Его прочтет с пользою и купец
и барин; в него заглянет и студент, готовящийся к репетиции.
Необычайно дешевая цена делает ее доступною для всех
н каждого: четыре тома, состоящие почти изо ста печатных
листов, стоят двенадцать рублей.
* Например, что значат эти фразы: «Кроме Волкова, прославился
вскоре Дмитревскпй?» Как и чем прославился? Не так лп точно, как про¬
славляются герои Подновинского? 3 Ибо что тогда были за ценители театра?
«Дмитриев, Озеров, Батюшков, Мерзляков прославились своими сочинения¬
ми». Но ведь своими же сочинениями прославились и Сумароков, и Хера¬
сков, и даже Тредьяковский, и ими же прославились Шекспир, Байрон,
Шиллер? Признаемся откровенно, такие фразы хороши только у г. Кайда-
нова. К чему эти беспрестанные местоимения «мы»? Разве официяльный
слог, каким пишутся реляции, приличен учебной исторической книге? Mais
ces «pourquois» пе finirons jamais... (Но эти «почему» никогда не кончат¬
ся... — франц).
425
Конечно, «История» г. Полевого, при многих достоинствах,
ймеет и недостатки, особенно первая часть; вторая, можно ска¬
зать, превосходна; думаем, что интерес и увлекательность
в последних двух превзойдет всякое ожидание. Так как это есть
труд важный по своей цели и своему назначению, примечатель¬
ный по своему исполнению, труд честный и добросовестный,
а не дюжинная плотническая работа, наскоро произведенная то¬
пором и скобелью, с целию зашибить деньгу, то мы вменяем
себе в обязанность поговорить об нем подробнее в одном пз
ближайших №№ «Телескопа» *. Теперь же ограничиваемся про¬
стым библиографическим известием, что две вышедшие части
состоят из десяти рассказов, заключающих в себе события от
первоначальных времен нашей истории до принятия Иоанном
Грозным царского титула, и составляют тридцать шесть печат¬
ных листов. Третья часть уже поступила в печать, четвертая бу¬
дет печататься тотчас вслед за третьего 2.
БИБЛИОТЕКА РОМАНОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАПИСОК, ИЗДАВА¬
ЕМАЯ КНИГОПРОДАВЦЕМ Ф. РОТГАНОМ, НА 1835 ГОД. Санкт-
Петербург. В типографии Н. Греча. Тринадцать частей: 1 — 244; II —247;
III — 118; IV— 199; V — 493; VI —99 (XIV); VII — 126; VIII — 217; IX —
217; X —167; XI —222; XII —206; XIII — 206. (12).
У нас часто слышатся жалобы на равнодушие публики ко
всему отечественному и преимущественно на ее холодность
к русской литературе. Кто прав, кто виноват: публика или те,
которые на нее жалуются? Может быть, ни то, ни другое. Но вот
вопрос: кто виноват — публика или литература? Это вопрос
важный, обширный; его исследование привело бы к самым лю¬
бопытным и поучительным результатам. У меня давно вертится
в голове целая статья на этот предмет, и я очень жалею, что
недостаток свободного времени не дает мне возможности при¬
няться за это дело. А статейка вышла бы прекурьезная! Но
делать нечего, и вместо того чтобы угощать обещаниями, ска¬
жу здесь мимоходом словца два об этом вопросе, на который
меня особенно наводит «Библиотека романов» г. Ротгана.
С одной стороны, возьмем в соображение, много ли у нас пи¬
шется и много ли годится для чтения из того, что пишется;
с другой стороны, подумаем о том: если наша публика равно¬
душна к отечественной литературе, то кто же дает нашим лите¬
раторам возможность превращать свои журнальные статьи
в медБежьи шубы, казанские сани п вороные лошади, а свои
романы в домы и деревни? Кто же дает нашим книгопродавцам
возможность издавать журналы, энциклопедические словари,
«Живописные обозрения» 1 и «Библиотеки романов»? Не эта ля
русская публика, столь равнодушная и невнимательная к отечест¬
венной литературе?.. Нет, воля ваша, а русская публика не толь¬
426
ко не равнодушна, ко даже слишком пристрастна к своей лпте^
ратуре, п если бы ее простодушная доверчивость не была пно-»
гда слишком нагло обманываема, то думаю, что она была бы
еще пристрастнее к литературе. Но что же делать, если литера¬
тура так жестоко издевается над нею. Точно так же нелепо об¬
виняют публику и в холодности к русскому театру. Но, боже
мой, кто же, как не эта публика, наполняла театр, когда на
нем играла чета Каратыгиных?2 Сколько давки при покупке
билетов, какая теснота в театре!.. Но что прикажете ей делать
р театре на обыкновенных спектаклях? Слушать охрип¬
лый рев Мельпомены или плоские шутки Талии и зевать?.,
Нет, воля ваша, а я хочу заступиться за публику, хочу оправ¬
дать ее...
Теперь у нас вся почти литературная деятельность произво¬
дится по подписке, и публика усердно помогает господам ант¬
репренерам. Дай бог! Но вот что худо: большая часть наших
затейщиков худо помнят это бесценное правило великого наше¬
го баснописца:
Услуга нам при нужде дорога,
Да за нее не всяк умеет взяться!3
В наше время, когда роман и повесть сделались, в умственной
пище, такою же необходимою и всеобщею потребностию, какую
необходимую и всеобщую потребность составляет чай в фпзи-
ческой пище, когда история, тоже сделавшаяся страстию века,
не только подала руку роману, но даже и сама превратилась
в ромап и начала появляться в виде исторических записок или
мемуаров; в наше время, говорю я, каким бы драгоценным по¬
дарком для публики была многотомная книга, состоящая из ме¬
муаров, романов и повестей! И г. Ротган дарит публику такою
книгою. Необходимым достоинством такой книги должен быть
строгий выбор сочинений, входящих в ее состав, тем более
строгий, что есть из чего выбирать. И что же выбрал г. Ротган,
каким произведением дебютировала его «Библиотека»? «Еле¬
ною», романом мисс Эджеворт!.. Что такое мисс Эджеворт?
Горничная г-ж Жанлнс п Коттэн, которая, наслушавшись их муд¬
рости, приглядевшись к пх манере, вздумала проповедовать
в XIX веке ту мораль п рассказывать те поучительные и скуч¬
ные вздоры, над которыми смеялись п в XVIII веке. Что такое
«Елена»? Длинное и скучное, убийственно скучное поучение
о том, что девушка долота вести себя в свете с крайнею осто-
рожностию и благоразумием, а пуще всего никогда не лгать
и всегда говорить правду, и что за сии добродетели оная деви¬
ца долоюна непременно получить награду, то есть выйти замуж
за богатого человека. По долгу рецензента, я было старался
в несколько приемов прочесть убийственный роман; но мое
терпение лопнуло на половине третьей части. Пять частей, го
427
есть 1301 страница, пли 54 печатных листа!.. Мне пуще всего
жаль бумаги, хотя эта бумага и походит на обверточную!..
А добровольные мученики? Ну да бог с ними: коль купили, так
пусть читают; ведь им надо же что-нибудь читать! За скучною
и длинною «Еленою» следует тощий и забавный «Дебюро», род
биографии одного знаменитого паяца, набросанной игривым
пером балагура Жанена4. Но и этой повести не следовало бы
помещать в «Библиотеке романов»; она не имеет у нас большо¬
го значения, пбо это есть насмешка над современным француз¬
ским театром, да и к тому же, кроме ее, есть много такого, что
следовало бы перевести. За «Дебюро» следуют «Альбигойцы»,
роман Матюреня. Матюрен — странный писатель! Это смесь
Вальтера Скотта с Левисом и отчасти с Радклиф. Его фантасти¬
ческое воображение самую действительную жизнь превращает
в род какой-то мистерии, разыгрываемой совокупно людями
и чертями и дирижируемой судьбою. Несмотря на множество
натяжек, подставок, множество ребяческих странностей, его ро¬
маны имеют непреодолимую прелесть. Начавши читать роман
Матюреня, вы не заснете спокойно, не дочитав его. И не знаю,
с чем можно сравнить впечатление от его романов? Это какой-
то сон, тяжкий, мучительный, но вместе с тем сладкий, не¬
выразимо сладкий! Кому не известен его «Мельмот скиталец»,
это мрачное, фантастическое и могущественное произведение,
в котором так прекрасно выражена мысль об эгоизме, этом
чудовище, жадно пожирающем наслаждения и, в свою очередь,
пожираемом наслаждениями? В «Альбигойцах» есть много хо¬
рошего: рыцари, монахи, принцессы, еретики, колдовство, сло¬
вом, средние века, со всеми своими принадлежностями, изо¬
бражены очаровательно, несмотря на множество недостатков,
которыми отличается это произведение.
Я думаю еще, что одно из необходимейших условий такого
рода книги, как «Библиотека романов» г. Ротгана, должно со¬
стоять в том, чтобы все переводы были сделаны с подлинников.
Но у г. Ротгана все переведено с французского. Неужели он не
мог найти в Петербурге переводчиков с английского?.. Стран¬
но!.. Потом, я думаю, что также одно из необходимейших усло¬
вий такого рода книги должно состоять в том, чтобы переводы
были превосходны; но у г. Ротгана переводы очень посредст¬
венны, а перевод «Елены» очень плох. Не угодно лп доказа¬
тельств? Извольте. «Но, как говорила Елена графини (е?) Даве-
нан, в человеке с подобным характером трудно различить, что
должно отнести к его чувству гостеприимства, к тому, чем он
обязан единственному другу своей жены, или на все это до¬
лжно смотреть как на доказательство, что он сам искренно же¬
лает разделить эту дружбу и хочет, чтобы Елена продолжала
жить у них». Или: «Люди обыкновенные, и я разумею под этим
именем всех тех, у которых обыкновенные чувства, хотя бы они
428
были из самого высшего круга, такого рода люди поздравляли
меня с этим замужеством, только в отношении к богатству
и знатности... (Генерал имеет в виду быть герцогом); но что
касается до меня, то я рада этому замужеству потому только,
чго нахожу в нем залог счастия моей дочери, и я уверена, что
вы в состоянии понимать меня и разделять со мною чувства».
Или: «Леди Давенан, узнав обо всем, не изъявила тотчас своего
удовольствия без всякой приметы, которого ожидала Елена».
Довольно ли?.. Наконец, мы думаем, что одно из необходимей¬
ших условий такого рода книг должно состоять также и в кра¬
сивости и даже роскоши издания; но издание г. Ротгана слиш¬
ком скромно. Перемешанная цифровка страниц, неправильная
расстановка знаков препинания и вообще множество типогра¬
фических ошибок доказывают, что эта книга как будто делается
на фабрике и хочет взять поспешностию, а не достоинством. Не
знаю, будет ли иметь успех это литературное предприятие
г. Ротгана; знаю только то, что если оно не будет иметь успеха,
то не публика будет в этом виновата...
ПРОСОДИЧЕСКАЯ РЕФОРМА
Между тем как англичане с таким участием и уважением
говорят о нашей новой обсерватории, между тем как Купер
пишет сатиры на политические теории, а г-жа Лебрен — портре¬
ты знаменитых людей XVIII века,— и мы, москвичи, не остаемся
без дела. В первой июльской книжке «Московского наблюдате¬
ля» громко возвещена реформа... в русской просодии *. Автор
остроумно решает некоторые затруднительные вопросы. Знае¬
те ли, отчего замолкли поэты на Руси? — «Их нет»,— скажете
вы. Неправда! это тишина перед бурею; «они спят на лирах»,
а пока они спят, «Московский наблюдатель» навяжет им поти¬
хоньку другие струны, разбудит их своими октавами, и они за¬
поют... Вас пленяют стихи Пушкина! вы думаете, что они вос¬
питали поэтическое чувство на Руси! стыдитесь! Они гладки,
звучны; а это худо — они изнежили, расслабили нервы вашего
слуха! Чтобы помочь этой беде, явится перевод «Освобожденного
Иерусалима» — с шумом и скрыпом потянутся перед вами
неслыханные октавы. Но не затыкайте ушей ради бога! это для
вашей же пользы! слух ваш окрепнет так, что не только выне¬
сет,— полюбит стих Тредьяковского! вы избавитесь от многих
горьких ощущений, вы приобретете мир наслаждений... поду¬
майте... целая «Тилемахида»! Только потерпите: «терпение
горько, но плод оного сладок!» Новое поколение! — реформа¬
тор взывает к тебе, откликнись на высокое воззвание его окта¬
вою... Достойное новое поколение, если оно займется преобра¬
зованием нашей просодии! в наш век какие интересы могут
быть выше? Смотрите! может быть, явится эпическая поэма!
429
Эманципация женским стихам! Полно им ходить об ручку
с мужскими! По восьми, по шестнадцати сливаются они в хоро¬
воды и поют в один голос! Ждите эпической поэмы с италиян-*
скою просодией! Новое поколение! Помоги!
ДОВМОНТ, КНЯЗЬ ПСКОВСКИЙ. Исторический роман XIII века*
Соч. А. Андреева. Москва. В типографии Степанова. 1835. Две части:
1 — 137, IV; II— 148, III. (12). С лубочною картинкою и эпиграфом:
В дни мирны быть во всем полезным гражданином,
Во дни военных бурь быть россом, славянином-^
Вот свойство россиян, отечества сынов!
Чудный роман! Удивительный роман! Я, признаться, не до¬
чел его второй части, не потому, чтобы он показался мне ску¬
чен, вял, бестолков и бездарен; но потому, что я люблю хоро¬
шего понемножку и всегда имею привычку дочитывать хорошие
книги по листочку в день, вместо лакомства, вместо конфект.
Но несмотря на то, что я остановился на половине третьей гла¬
вы второй части этого романа, я могу вполне оценить его
и дать понятие о его характере и достоинствах. Характер и до¬
стоинства «Довмонта, князя псковского» составляют — истори¬
ческая верность, с какою схвачен дух Руси в XIII веке, народ¬
ность вообще, патриотизм, чистейшая нравственность и слог.
Русь изображена как нельзя лучше: тут дева на скале крутояро¬
го берега реки Москвы, при громе, молнии и завывании ярост¬
ного аквилона, произносит трагический монолог, закалывается
кинжалом и упадает в пенистые волны Москвы; там удалой На¬
лет, сделавшийся атаманом разбойнической шайки вследствие
несчастной любви, совершает великодушные подвиги вроде
Карла Моора: не правда ли, что
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет? 1
Чувство патриотизма у почтенного автора доходит до пес
plus ultra: * все татары у него подлецы и трусы, которые бега¬
ют толпами от одного взгляда русских богатырей; русские все
благородны, великодушны и храбры, едят и дерутся, как истин¬
ные герои Владимировых времен**. Даже иноверцы, служа¬
щие Руси, от литвина Довмонта до черкеса Сайдака, отличаются
храбростию, чистейшею нравственностию и превосходным аппе¬
титом. Что касается до нравственности — ею проникнут весь ро¬
ман, начпная с заглавия до обвертки. Слог самый ученый, ибо
преизобильно усеян, словно веснушками на лице, сими и оны¬
ми; язык персонажей есть язык лучшего общества. Вот пример:
«— Кикиморы? Нет. Да какие?..
•— Те же самые, которые удостоили посещением своим тебя и вчера
и за которые ты чуть было не задушил меня.
* до крайних пределов (лат.). — Ред.
** Рязанцы особенно храбры: у них не только жпвые, но п мертвецы
оказывают последние усилия отчаянного мужества. (Ч. 1, стр. 99.)
430
Да, твоя правда, — отвечал боярпн, — теперь дело должно идти
не о Кикиморах, а об завтраке. Положим, что ты постигнул таинственный
смысл моих словх которых племянник совсем п не понял, а между тем
приготовим «то, что составляет их основание».
Не правда ли, что выражения: удостоили посещением сво-
им.; ты постигнул таинственного смысла моих слов; составляет
их (моих слов) основание — все эти выражения удивительно как
отзываются тринадцатым веком? Чудный роман! Удивительный
роман!
О ЖИЗНИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СИРА ВАЛЬТЕРА СКОТТА. Сочи¬
нение Аллана Каннингам а. Перевод Девицы Д Санкт-Петер^
бург. В типографии Конрада Вингебера. 1835. XLVII —143. (8).
Перевод и издание этой книги принадлежит к числу редких
и утешительных явлений в нашей литературе, которые бывают
результатом мысли, исполняются con amore * и с толком. Кому
не известно великое имя Вальтера Скотта, оглашавшее своим
громом более четверти века, а теперь сияющее для потомства
кротким и благотворным светом? Кто не знает созданий этого
громадного и скромного гения, который был литературным Ко¬
лумбом и открыл для жаждущего вкуса новый, неисчерпаемый
источник изящных наслаждений, который дал искусству новые
средства, облек его в новое могущество, разгадал потребность
века и соединил действительность с вымыслом, примирил жизнь
с мечтою, сочетал историю с поэзиею? Кто не читал и не перечи¬
тывал этих разнообразных созданий, в которых средние века
восстают, и движутся, и проходят перед нами, дышащие всею
полнотою своей жизни, играющие всеми радужными и мрачны¬
ми лучами своей волшебной фантасмагории? Кто, наконец, не
жил в этом роскошном и разнообразном мире чудесных собы¬
тий, дивных физиономий, начиная от фанатических войн пури¬
танских до войн за веру в Азии, от колоссальной фигуры фана¬
тика Бурлея до фантастических образов Ричарда, Лудвига XI,
Карла Смелого? Боже великий! Что за дивный мир, сколько
портретов, сколько физиономий,
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!1
О — это целая и огромная панорама вселенной, в которой двп-*
жутся и толпятся всевозможные явления человеческой жизни,
заключенные в волшебные рамы вымысла! И есть людп, которые
* с любовью (итал.). — Ред.
431
сомневаются и отвергают поэтический талант Вальтера Скотта,
называя неестественным и нелепым соединение истории с вы¬
мыслом 2... Стоят ли эти люди опровержения?.. Как! стало быть,
и большая часть драм Шекспира, Шиллера, Гете суть незакон¬
ные чада' воображения, а их творцы не художники, не поэты?
Иначе за что же такое предпочтение драме пред романом? За
что эта монополия на историю в пользу драмы? Стало быть,
жизнь историческая не может быть предметом поэтического
представления, так же как и жизнь частная? Разве законы той
и другой не тождественны? Разве народная жизнь образуется
не из действия частных интересов и побуждений, характеризую¬
щих человека? И потом, разве мы можем видеть в истории все
тайные пружины и причины великих событий, часто теряющихся
в самых частных действиях и побуждениях? В истории мы видим
сцену и декорации; почему же роману не обнажать нам тайн
закулисных, имеющих такое тесное отношение с сценою? Вы не
любите, чтобы нарушали историческую истину? Странное дело!
Кто будет так нелеп, чтобы не отличить истины от вымысла или
учиться истории по романам? К тому же, сам историк более или
менее есть творец характеров исторических, ибо, при всем сво¬
ем старании быть верным фактам, каждый историк более или
менее придает особенный оттенок каждому историческому лицу,
сколько потому, что часто сами факты бывают недостаточны,
темны, противоречащи, столько и потому, что всякий инди¬
видуум имеет свой собственный образ воззрения на предметы.
Почему же поэту не позволено понять по-своему то или другое
историческое лицо и воспроизвести его в художественном со¬
здании сообразно с своим о нем понятием и обставив его об¬
стоятельствами, частию истинными, но больше вымышленными,
которые бы характеризовали его историческую и человеческую
личность?
Как ни нелепы сомнения насчет законности художественно¬
го сочетания истории с вымыслом, как ни безнравственны упре¬
ки, делаемые Вальтеру Скотту в безнравственности его созда¬
ний, но все это ничто пред сомнением в поэтическом таланте
автора «Пуритан» и «Ивангое»3. Здесь было бы неуместно
и бесполезно распространяться об этом вопросе, давно уже
решенном европейскою, или, лучше сказать, всемирною славою
Вальтера Скотта. Авторитет не доказательство, скажете вы?
Нет — я с этим не согласен. Знаете ли что? У народа есть какое-
то чутье, столь верное, что он никогда не обманывается ни
в своих любимцах, ни в предметах своего равнодушия. Я не знаю
из наших русских поэтов никого, чья бы слава и народность
была так прочна, так бессмертна, как слава Пушкина и Грибое¬
дова. Державина, Озерова, Жуковского, Батюшкова и некото¬
рых других будут помнить записные литераторы, люди книжные;
Пушкина и Грибоедова будет помнить и знать народ. Сюда дол¬
жно причислить еще Крылова. Правда, наш век слишком умен,
432
важен, хитр и лукав, слишком занят высшими, человеческими
интересами и не может пленяться ни простодушием, нп затей-
лпвостию басни, не может почерпать в ней уроков мудрости; он
смотрит на нее, как на поэтическую игрушку, как смотрел про¬
шлый век на триолеты, мадригалы и рондо; но для басни оста¬
ется еще обширный круг почитателей: это народ, масса народа.
С постепенным образованием в России низших и средних клас¬
сов народа, число читателей Крылова будет беспрестанно умно¬
жаться, и придет время, когда они сделаются ходячею филосо-
фиею народа, в полном смысле этого слова, когда они будут
издаваться десятками тысяч экземпляров; они, а вместе с ними
и слава Крылова, погаснут только с жизнию народа. Вы скажете:
но ведь и авторитеты Тредьяковского, Сумарокова, Хераскова
и других были не меньше авторитетов Крылова, Пушкина
и Грибоедова? Так — но педанты, толпа и чернь еще не народ.
Точно то же было и в других литературах: немец признал Гете
и Шиллера своею национальною славою; Франция аплодирует на
улице, когда видит Беранже; Джон Буль 4 любил и любит своего
старого Вилляъ. Но этот же Джон Буль, скажете вы, заплатил
7 с половиною фунтов стерлингов за «Потерянный рай». Так, но
знаете ли что? у меня престранный и пренелепый вкус: я сам
недорого бы дал этому забытому народом и прославленному
восьмнадцатым веком поэту, которого неестественная и напря¬
женная фантазия изобрела порох и пушки еще прежде Адама
и Евы и заставила дьяволов стрелять из этих пушек в ангелов.
Многие находят в этом удивительное величие и исполинскую
силу воображения, но я (и очень многие, если не все) нахожу
тут одну уродливость, которой истинный художник никогда не
мог бы выдумать. Нет, воля ваша, а глас народа — глас божий,
и народ и века самые непогрешительные критики. На Вальтера
Скотта и народ, и народы, и человечество давно уже возложи¬
ли венец поэтической славы: остается векам и потомству скре¬
пить определение современников — и это будет! Так какому ли
нибудь самозванному барону удастся снять этот венок с луче¬
зарной головы генияльного баронета?..
Переводчица сочинения Аллана Каннингама о жизни и со¬
чинениях Вальтера Скотта, в довольно обширном предисловии,
отстаивает с жаром поэтическую славу генияльного шотландца
от нападений Барона Брамбеуса. В ее рассуждении виден свет¬
лый, образованный ум и теплое чувство; мы прочли его с жи¬
вым удовольствием, и оно показалось нам лучше самой кнпги.
Жаль только, что она сражалась с почтенным Бароном нерав¬
ным оружием, отчего и бой был очень неравен. Причина та, что
она ошибочно поняла нападки Барона на Вальтера Скотта
и приняла его шутки и мистификации за дело. Барон Брамбеус
человек очень умный, и надо уметь понимать его, чтоб быть
в состоянии с ним сражаться. Да, я почитаю за шутки, очень
милые и остроумные, его нападки на автора «Пуритан», на юную
433
словесность, так же как почитаю за шутки критики г. О. О. на
«Черную женщину» г. Греча, «Мазепу» г. Булгарина, и в то же
время высоко ценю критики того же лица на «Роксолану» г. Ку-*
кольника, рецензию на «Притчи» Круммахера и некоторые дру¬
гие книги6. В самом деле, надо знать, когда человек говорит
дело, когда шутит, и на дело надо отвечать сурьезно, а на
шутки шуткамп. Посмотрите, как мило и тонко поступает в этом
случае г. Булгарин, заставляя белорусского мужика защищать
против Барона Брамбеуса свои любезные сии и оные 7. И в то
же время посмотрите, как неловко и неуклюже начала воевать
с «Библиотекою для чтения» «Северная пчела», еще недавно ее
постоянная и усердная партизанка. Но как бы то ни было,
а предисловие Девицы Д написано умно и может быть по¬
лезно для многих читателей. Жаль только, что она, возражая
Барону со всем достоинством и всею твердостию человека, чув¬
ствующего правоту своего дела, слишком смиренно обезоружи¬
вает, на всякий случай, его гнев, давая ему заметить, что в ее
книге нет опальных сих и оных 8.
Теперь о самой книге. Она довольно интересна, как все
книги, даже посредственные, в которых содержатся какие-ни¬
будь подробности о жизни великого человека. Но книга все-
таки посредственна, потому что г. Аллан Каншшгам человек
очень недальный в литературе и, как кажется, принадлежит
к числу литературных рыцарей печального образа. Его крити¬
ческие взгляды на сочинения Скотта довольно мелки и поверх-*
ностны, понятия о творчестве тоже очень недалеки. Впрочем,
он добрый человек и очень любит Вальтера Скотта; да как п не
любить: он имел благосклонпость похвалить его сочинение, все¬
ми разруганное. Переводчица книги Каннингама обещает еще
перевести несколько сочинений о жизни горячо любимого ею
автора; мы от всей души желаем, чтобы она выполнила свое
обещание.
Перевод. 'вообще очень хорош, хотя местами и встречаются
неправильности и даже темнота в слоге, как, например: «Валь¬
тер Скотт в 1813 году объявил (publia —издал?) «Матильду
Ракби», или: «Каждый день писал более десяти печатных
листов», то есть по целой книге? Это невозможно; верно, есть
ошибка в переводе. Впрочем, это все мелочи, которые нимало
не вредят достоинству перевода вообще, и я выставляю их не
для публики, а для переводчицы, чтобы она обратила на них
свое внимание при своих следующих переводах. Но вот о чем
хочу я еще заметить — о правописании. Это предмет теперь
очень важный в нашей письменности. И в самом деле, посмот¬
рите: с одной стороны, «Библиотека для чтения», с которою мы,
в этом отношении, совершенно согласны, производит в языке,
и особенно в правописании, реформу, с другой — беспрестанно
появляющиеся грамматики, каждая по-своему, также силятся
произвести реформу, Нто это значит? То, что нам надоела раз¬
434
ноголосица, что мы хотпм согласиться хотя Е правописаний.
Давно бы пора! Спорный пункт больше всего о прописных бук--
вах. Кажись, дело очень ясно, и не о чем бы п спорить: так нет,
наши литераторы упрямо держатся старины, даже тогда, как
сами хлопочут из всех сил о преобразовании языка. Например:
вследствие каких причин переводчица книги Каннингама ставит
прописные буквы в начале слов: гений, литература, литератор,
искусство, поэзия, поэт, поэма, ода, драма, роман, романист,
драматик, океан (жизни) и пр. Мы знаем, что гений гораздо
выше не только титулярного советника, но и коллежского асес¬
сора; мы знаем, что слова: поэзия, искусство, роман, драма
и пр. выражают предметы, священные для нашего чувства; но
ведь гений такое же нарицательное слово, как и глупец,
но ведь добродетель, слава, честь, храбрость, самоотвержение
также выражают идеи, священные для нашего человеческого
чувства; зачем же в словах: глупец, добродетель, самоотверже¬
ние начальные литеры пишутся маленькие? Собственное имя
есть то, с которым соединяется понятие о каком-нибудь инди¬
видууме; Алексеев много, но когда я говорю: я видел вчера
Алексея, то разумею здесь известное лицо, единственное в мире,
представляю себе в это время его образ, черты лица и все его
особенности; так же точно и с словом Пушкин, я разумею творца
«Онегина», одного в мире, но когда говорю: Байрон был гений, то
словом гений означаю не индивидуальность, а принадлежность,
атрибут, как и словом умен, высок, глуп, низок. Если мы будем
изъявлять свое уважение к идеям, выражающим человеческое до¬
стоинство, большими буквами, то наша печать должна превра¬
титься в какую-то пеструю и безобразную набойку, и здравый
смысл требует, чтобы для слов, выражающих идеи низкие, как-то:
подлость, неблагодарность, коварство и пр., были придуманы
особенные буквы, или кривые, или самые маленькие. Конечно,
странно в наше время с важностию рассуждать о таких мелочах,
как стихотворные размеры, октавы, или о больших и малых бук¬
вах, и придавать этим вздорам какую-нибудь важность; но надо
же и в мелочах следовать здравому смыслу; если есть опреде¬
ленные формы в платье, в обращении, почему же не быть им
и в печати. Вам нравится человек, одевающийся опрятно и со
вкусом, соблюдающий условия вежливости и хорошего тона: по¬
чему же вы не хотите позаботиться о том, чтобы ваша книга
была напечатана опрятно, красиво, изящно; а если так, то зачем
же вы безобразите ее, без всякой нужды, этою отвратительною
пестротою, которая так неприятно рябит в глазах? Можно
одеться богато, но безвкусно; можно напечатать книгу велико¬
лепно и безвкусно. Наш век любит во всем совершенство,
е иностранные книги, даже слишком скромно изданные, всегда
отличаются какою-то пзящностию, происходящею от вкуса, отпе-
.чаток которого они на себе носят.
435
ЖУРНАЛЬНАЯ ЗАМЕТКА
Время полемики миновалось в нашей литературе. Это сде^
лалось естественным образом: публике наскучил шум и крик,
в котором она ничего не понимала, а литераторы утомились.
Мы не желаем возвращения этого шумливого времени; мы все¬
гда высказываем открыто и прямо свое суждение о том илп
другом литературном произведении и не отвечаем на упреки,
делаемые нам будто бы за пристрастие и несправедливость на¬
ших суждений. В самом деле, не смешно ли б было возражать
на эти обвинения? Всякий судит по своему разумению, всякий,
если он честный человек, должен быть убежден в справедли¬
вости своего суждения, следовательно, по одному чувству ува¬
жения к самому себе, никто не должен оправдываться в своих
литературных действиях, да своему делу никто и не судья. Но
когда, по поводу какого-нибудь литературного дела, вас упре¬
кают в делах совсем не литературных, когда оскорбляют вашу
личность человека и гражданина, то неужели вы должны мол¬
чать? А если будете отвечать, то неужели этим введете полеми¬
ку? И притом неужели один журнал будет пользоваться правом
ругать своих противников невеждами, ренегатами, изменниками
отечеству, а другие не будут иметь права заметить этому жур¬
налу неприличность и неблагопристойность его выходок, не бу¬
дут иметь права сказать ему:
Послушай, ври, да знай же меру!..1
Знаем, что есть журналы, которым совестно отвечать, как
есть люди, с которыми войти в какие-нибудь объяснения значит
унизить себя в собственных глазах и в общем мнении. Презри¬
тельное молчание — лучший ответ таким журналам и таким лю¬
дям. Но что же прикажете делать, если у нас, в литературе,
нападающий непременно прав, если у нас, в литературе, молча¬
ние, хотя бы оно было следствием презрения, почитается за
безмолвное сознание или своего бессилия, или неправостя
своего дела! И притом, повторяю, я неуклонно следую правилу,
что в своем деле никто не судья, и потому положил себе за
обязанность не отвечать ни на какие возражения, если подоб¬
ный ответ не поведет к решению каких-нибудь истин и не бу¬
дет достоин прочтения людей мыслящих; но я не могу молчать,
когда на меня клевещут, взводят небылицы и, наконец, ругают
нагло, называя ренегатом и тому подобными нелитературными
названиями.
Дело вот в чем: всем известно и ведомо, что «Северная
пчела» приходпт в крайне дурное расположение духа и вы¬
пускает все свое мушиное жало к концу года, когда дело идет
о подписчиках. Политика очень благоразумная и расчетливая!
Когда кончится подписка, тогда недурно заговорить об умерен¬
ности, беспристрастии, добросовестности, не худо по временам
436
нападать на полемику, бранчивый топ рецепзпи п тому подоб¬
ное. «Пчела» неуклонно следует этому благоразумному прави¬
лу; так поступает она и теперь: мало того, что она бранит ис¬
тинно неприязненные ей журналы, она нападает даже на те,
которым сама недавно падала до ног. Мало того, что она,
о чем бы ни говорила, всегда скажет какое-нибудь недоброе
слово о «Телескопе» и «Молве»; она, о ужас! нападает те¬
перь — на кого бы вы думали? — на «Библиотеку для чте¬
ния»!!!... Истинное осуществление басни Крылова о Полкане
и Барбосе!2 Да и чему тут дивиться: разве этого не должно
было ожидать? Разве этого уже и не бывало с «Пчелою»? Разве
подписчики не такая жирная кость, за которую бы нельзя было
оным Орестам и Пиладам не пожалеть зубов и нескольких
клочков шерсти?..3 О войне, или, лучше сказать, о нападках
«Пчелы» на «Библиотеку для чтения» (потому что «Библиотека
для чтения» слишком благоразумна и слишком горда, чтобы
вступить в открытую войну с «Пчелою»; она скорее пришибет ее
мимоходом, a propos *, каким-нибудь апологом), может быть,
поговорю особенно, по поводу нравоописательной и нравственно¬
сатирической статейки г. Булгарина, в которой очень длинно
и очень скучно описывается поездка знаменитого романиста
двадцатых годов в Белоруссию и в которой очень много пре-
курьезных и премилых вещиц;4 а теперь обращаюсь к настоя¬
щему вопросу.
Итак, «Пчела» к концу нынешнего года стала особенно на¬
падать на «Телескоп» и «Молву»; нам было это всегда очень
приятно, потому что подавало пищу для смеха. Нет ничего за¬
бавнее и утешительнее, как видеть бессильного врага, который,
стараясь вредить вам, против своей воли служит вам. Разумеет¬
ся, мы смеялись про себя, а в журнале сохраняли презритель¬
ное молчание и оставляли доброй «Пчеле» трудиться для нашей
пользы и нашего удовольствия. Недавно барон Розен поднес
публике в своем «Петре Басманове» новый огромный (не по¬
мню, который уже по счету) кубок воды прозаической; «Пчела»
воспользовалась этим случаем отделать «Телескоп», в особен¬
ности «Молву», а более всего рецензента, пишущего в том
и другом журнале и пользующегося лестным счастием не нра¬
виться журнальному насекомому. Я буду по порядку выписы¬
вать обвинительные пункты и отвечать на каждый особенно.
Первое обвинение состоит в том, что будто бы в «Телескопе»
и «Молве» «некоторые знаменитые критики от времени до вре¬
мени наезжают из-за угла на нашу словесность с опущенными
забралами **, с ужаспыми копьями, вырванными из гусиных кры¬
льев, с картонными щитами, на которых красуются девизы неиз-
* между прочим (франц.). — Ред.
** Что это за словесность с опущенными забралами п прочими атрибу¬
тами, которые придает ей сотрудник «Пчелы», по неумению ставить в при¬
личных местах запятые?
437
местных рыцарей. Девизы замечательные и многозначащие! Тут
найдешь и А, и Б, н В, словом сказать: всю нашу азбуку, от аза
до ижицы включительно. Девизы эти имеют двоякую цель: во-
первых, они приводят в трепет всех писателей, живых и мертвых;
во-вторых, за неименпем букваря, могут употребляться в школах,
для изучения складов, и, таким образом, распространять просве¬
щение, содействовать успехам нашей словесности».
Не правда ли, что эти остроты очень злы и тонки? О, «Пче¬
ла» не любит шутить! Жаль только, что остроумный автор ста¬
тейки немножко клевещет, то есть говорит неправду. В «Теле¬
скопе» не было ни одной рецензии, подписанной буквою; да
и покуда год в нем всех рецензий было две, и под обеими ими
стоит полная моя фамилия. В «Молве» все рецензии, за исклю¬
чением весьма немногих, принадлежат тоже мне; сперва я под
ними подписывался «— он — инский», а теперь «В. Б.»: неужели
в этих «В. Б.» заключается вся русская азбука? Может быть,
сотруднику «Пчелы» так померещилось: ведь у страха глаза
велики. Все сказанное о неизвестных рыцарях, скрывающихся за
русскою азбукою, скорее можно отнести к «Северной пчеле»,
где под всеми рецензиями, кроме писанных г. Булгариным
и г. Скромненко, стоят буквы, только не всегда русские;
Z встречается всего чаще.
Я никак не могу понять, что за ненависть питают некоторые
литераторы к безыменным рецензиям? Какая нужда им до име¬
ни? Пройдет два-три года, и все рецензии, которыми наполняют¬
ся все, без исключения, наши журналы, канут в Лету вместе
с бессмертными творениями, на которые они пишутся. Если же
то или другое творение истинно велико и бессмертно, то все-
таки ему, а не рецензии, не критике на него, жить в веках.
Конечно, есть люди, которые, написавши журнальную статейку,
от души убеждены, что они сделали великое дело; так, как
Иван Иванович, съевши дыню, бывал от души убежден, что он
тоже свершил немаловажный подвиг. Я не принадлежу к числу
таких людей и смотрю по-философски как на свои, так и на
чужие журнальные труды, и потому не обращаю на имена ника¬
кого внимания. Конечно, рецензенты «Северной пчелы» почита¬
ют свои рецензии бессмертными произведениями ума челове¬
ческого и потому придают именам большую важность. У всякого
свой взгляд на вещи!..
Второе обвинение на неизвестных рыцарей, или, лучше ска¬
зать, на меня, состоит в том, что я осмелился усомниться в су¬
ществовании русской словесности *. «Напрасно,— говорит
,.Пчела44, — возражал им ученый, остроумный критик в „Библио¬
теке для чтения44 **, что 12 ООО русских книг, означенных в ка¬
талоге нашей книжной торговли, никак нельзя счесть за 12 000
* В моих «Литературных мечтаниях».
** Прп разборе «Черной женщины» г. Греча или «Мазепы» г. Буха¬
рина — не помню2 право 5.
438
голландских селедок и что поэтому можно несколько подозре¬
вать существованпе русской лптературы. Нет ее! крпчат рыцарп
п между тем сами беспрестанно повторяют: „наша словес-
ность“, „нашей словесностп“, „нашу словесность". Да о чем же
вы кричите, господа? Неужто вы, по примеру знаменитого ры«
царя печального образа, нападаете на какого-нибудь великана-
невпдимку?» Что на это отвечать? 12000 книг! В самом деле,
убедительное доказательство! И в числе этих книг, из класси¬
ков — Спмеона Полоцкого, Кантемира, Тредьяковского, Сума¬
рокова, Майкова, Хераскова, Петрова, Нпколева, Грузинцева,
Майкова и пр., и пр.; а пз романтиков — Орлова, Кузмичева,
Сигова, А. П. Протопопова, Глхрва, Гурьянова и пр., и пр. И в
чпсле этих же книг кнпгп поваренные, о истреблении клопов
и тараканов; и в числе этпх же книг бесчисленное множество
переводов... И потом, если изо всего этого останется №№ 500
хороших книг, то сколько между ними будет условно хороших
и сколько останется безусловно хороших?.. Но довольно об
этом: мы не поймем друг друга. Я не умею определять достоин¬
ства литературы весом и счетом. Притом же я отвергаю сущест¬
вование русской литературы только под тем значением литера¬
туры, которое я ей даю, а под всеми другими значениями впол-
пе убежден в ее существовании. Но в этом пункте мы еще
менее поняли бы друг друга, и потому оставляю этот вопрос
и обращаюсь к другим.
«Нет у нас словесности, да и критики нет! — повторяют хо¬
ром рыцари. Помилуйте! А Полевой, а критик „Библиотеки для
чтения“ *, а Булгарин, а Марлинский, а Шевырев... Неужели вы
ничего не читали из их превосходных разборов?» **
Против этого я ничего не буду возражать. Замечу только:
каков комплимент гг. Марлинскому и Шевыреву? А потом, каков
комплимент г. Полевому? Да —
Не поздоровится от этаких похвал!8
* Критик «Библиотеки для чтения»? А как его имя? Или и он при¬
надлежит к числу безыменных рыцарей?
**В самом деле, я что-то плохо помню превосходные разборы г. Бул¬
гарина: у меня преслабая память. Виноват! я помню один превосходный
разбор г. Булгарина — это разбор VII главы «Онегина», разбор, в котором
сей знаменитый г. критик прокричал падение Пушкина на двух языках,
русском и французском (совершенное падение! Chute complete!), и, как
2X2 = 4, доказал, что оная VII глава «Онегина» есть такой вздор, такая
ничтожная и бездарная болтовня, в сравнении с которою и «Евгений Вель¬
ский» кажется чем-то дельным6. Да — этот превосходный разбор точно пре¬
восходен; он делает г. Булгарину большую честь, свидетельствуя о его
беспристрастном, благородном и независимом образе суждения и его высо¬
ких и глубоких понятиях об изящном, и становит его на ряду самых пре¬
восходных российских критиков. Если сотрудник «Пчелы» г. Псп7 такие
разборы называет превосходными, то я мог бы вспомнить ь еще очень
многие превосходные разборы г. Булгарина. Но только, в таком случае,
г. Пси напрасно называет превосходными разборы г. Полевого: они реши¬
тельно дурны и ничтожны, если прототипом критики должпы быть превос¬
ходные разборы г. Булгарина.
439
«Давно ли знаменитый критик, краса московских рецензен¬
тов, алмаз „Молвы“, А. или Б., не упомним (полно, правда ли!
мне сдается, что очень помните!), совершенно уничтожил
незаслуженную славу самозванца-писателя Марлинского и не¬
опровержимо, наперекор всему свету доказал, что у Марлин¬
ского нет ни идеи, ни ума, ни чувства, что у него только есть
потуги чувства, ходулъки остроумия, калейдоскопическая игра
мишурных фраз. Напрасно ученый, глубокомысленный, снисхо¬
дительный Ж. старался поощрить и поддержать возникающий,
юный талант Марлинского. На Ж. напали остроумный В. и муд¬
рый наш русский Гегель Д. и доказали, что А. совершенно
прав». Я нарочно делаю такие длинные и точные выписки: дела
говорят сами за себя, и когда ребенок бросается на взрослого
человека с топором, то скорее всего может ранить самого себя
этим тяжелым оружием, которое слишком ему не по силам.
Остроумие вещь прекрасная; но усилие быть остроумным
очень опасно для того, кто прикидывается остряком. Я никогда
не отнимал у г. Марлинского ни идей, ни ума, потому что ино¬
гда встречаю в его сочинениях первые и всегда вижу много
второго;9 о чувстве — дело другое: здесь мы, то есть я и мой
противник, опять не поймем друг друга, и потому я не хочу об
этом распространяться. «Потуги чувства» и подобные им фра¬
зы, может быть, очень хороши, только я не употреблял их.
Итак, опять в одном обвинительном пункте две клеветы. По¬
смотрим, нет ли й третьей. Кто такой этот ученый, глубокомыс¬
ленный, снисходительный Ж., который напрасно старался поощ¬
рить и поддержать талант г. Марлинского? Не знаю. Кто эти —
остроумный В. и мудрый наш русский Гегель Д., которые напа¬
ли на Ж.? Это все я же. О, сотрудник «Пчелы» очень остро¬
умен! Да — что за перо у Ивана Ивановича!10 Но когда же была
эта война за г. Марлинского? Решительно никогда. Верно, она
приснилась остроумному Пси *.
«Давно ли известный всей России и даже всей Европе **
Еили нет, не Е., а И. (неужто вы про него ничего не слыха¬
ли?) *** доказал, что Державин был такой же романтик, как
и Пушкин, и что причина этого скрывается в его невежестве;
что Карамзин писал по-детски, плаксиво и растлительно, что
целые томы его «Истории» — одна риторическая шумиха; что
Жуковский не сын XIX века, а прозелит, что в Батюшкове мысли
детские».
* Так подписался под этой роковою статьею мой остроумный
противник.
** Каково остроумие! «Известный всей России и даже всей Европе!»
Не случад^ь ли вам слышать брани кухарок или площадных торговок —
«Эка ты ь^лгиня, эка ты графиня, эка краля какая!» В этом состоит ирония
и сарказм черпи. Как жаль, что эта ирония и сарказм площади переходит
так часто в превосходные разборы «Северной пчелы».
*** По крайней мере вы, мой остроумный противник, много, очень
много про него слыхали.
440
Да — эти мысли мне принадлежат11, и я не отпираюсь от
них и готов защищать их против всякого, кроме известных
и неизвестных рыцарей «Северной пчелы», потому что мы, то
есть я и они, не поняли бы друг друга.
«Что Шекспир пьяный дикарь, Расин накрахмален, Шато-
бриан крестный отец, а г-жа Сталь повивальная бабка юного ро¬
мантизма. Мы вовсе не шутим; все эти прелести напечатаны
в ,,Молве“». Милостивый государь, они напечатаны не в одной
«Молве»; они напечатаны и в одной статье высокоуважаемого
вами г. Марлинского 12. Но я не хочу отпаливаться от этой ост¬
роты: мне вас искренно жаль, а лежачего не бьют!..
«Давно ли этот же первоверховный критик И. показал всю
цену, весь гений П., о котором до того никто и не слыхал».
Понимаете ли вы эту остроту? Знаете ли вы, кто этот П., кото¬
рого превознес И. и о котором дотоле никто не слыхал? Это
г. Гоголь, которого прекрасные, поэтические создания подали
мне повод написать большую статью, помещенную в VII и VIII
№№ «Телескопа» 13. Не верите? Ну так вот вам и доказатель¬
ство:
«Несколько завистливый Н. соединился с У. * и блестя¬
щим софистическим разбором затмил было достоинство П.;
по все наши гении, философы, ученые, все первостепен¬
ные таланты, и Ч., и Ц., и Ш., и Щ., и даже простодушный,
беспечный Ы горячо вступились за П. и доказали...» Позвольте
на минуту прервать моего остроумного противника и уведомить
Еас, что вся эта война опять вымышленная, что весь этот набор
слов не что иное, как остроты моего остроумного противника,
что весь этот набор букв означает одного меня, нижеподписав¬
шегося; дело еще только начинается, итак, слушайте: «и дока¬
зал, что П.— наш Байрон, Шекспир, и что все наши самозванцы-
литераторы, беспрестанно поражаемые московскими журнала¬
ми, как-то: Баратынский, Булгарин, Сенковский, Греч, Пушкин,
Крылов, Жуковский, Загоскин, Лажечников, Марлинский,
Масальский, Ушаков, барон Розен, Калашников, Козлов, Ми¬
хайловский-Данилевский, Давыдов, Погодин, Погорельский,
Полевой, Скобелев, Хомяков, Языков, Вельтман, одним сло¬
вом, все литературные торговцы (особенно петербургские),
принуждающие долготерпеливую публику покупать по четыре
тысячи их жалких изделий, не стоят ни одного мизинца генияль-
ного П.».
Видите ли вы, что между этими литературными светилами
нет одного г. Гоголя?..
Всей русской читающей публике известно, что в одной по¬
вести г. Гоголя описан один из тех офицеров, которые «любят
потолковать об литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Греча
* Уж это не те ли господа, которые в «Библиотеке для чтения» и
«Северной пчеле» разругали сочинения г. Гоголя?..
441
п говорят с презрением п остроумными колкостями об
А. А. Орлове» *14. Тут нет ничего удивительного или предосу¬
дительного — люди военные, онп занимаются литературою меж¬
ду службою и отдыхом, пм простительно ставпть на одну доску
Булгарина, Пушкина п Греча; ко как их построила в один фронт
«Северная пчела»? Как? вот нашлп чему удивляться! Своя рука
владыка, а свой журнал, что своп дом: что хочу, то п делаю
в нем; кто мне запретит объявить в моем журнале, что я выше
Шекспира, Шиллера, Гете, Байрона?.. И вот, извольте после это¬
го дорожить славою: Пушкин на одной доске с гг. Калашнико¬
вым, Ушаковым, бароном Розеном! Полевой и Лажечников на
одной доске с гг. Масальским, Погорельским, Булгариным
и иными\.. Не правда ли, что мой антагонист очень ловок на
комплименты, что к нему нельзя применить этих стихов:
Хотя услуга нам при нужде дорога,
Но за пее не всяк умеет взяться?..15
Я пропускаю нападки моего остроумного противника на вы¬
сокие философические суждения об изящном, о XIX веке, об
идеях, о требованиях века: я знаю, что все эти предметы не по
плечу известным и неизвестным рыцарям «Северной пчелы».
В чем не знаешь толку, чего не понимаешь, то брани: это об¬
щее правило посредственности. Бывали примеры, что и по¬
средственность толковала, как умела, об этих же самых пред¬
метах, но это было время, когда ее признавали за генияль-
иость; это золотое время прошло, и посредственности ничего
не остается делать, как нападать на новые идеи, называя их
вольнодумными и мятежными. Посредственность видит мятеж¬
ника во всяком, кто выше ее или кто не признает ее ве¬
личия.
Мой остроумный противник обвиняет меня еще в том, что
я называю мисс Эджеворт горничною г-ж Жанлис и Коттень; это
правда: она точно их горничная, щеголяющая в обношенных ка¬
потах, подаренных ей ее госпожами 16.
Мой остроумный противник мимоходом дает знать, что для
того, чтобы понравиться критикам, подобным мне, художники
должпы доказывать в своих сочинениях, что «измена — дело не
худое и даже похвальное». Вот как мило бранятся в Петербур¬
ге, не по-московскому! Нет, милостивый государь, я глубоко
убежден, что всякая измена есть дело гнусное, подлое, нечело¬
веческое; я глубоко бы презрел человека, который бы, напри¬
мер, из злобы к русским, сперва летал бы под французским
орлом, а потом бы перешел опять к русским...17
* Зтот-то офицер и был причиною того, что г. Гоголь выключен «Пче¬
лою» пз списка великих русских писателей,
«Мы искренно любим всех достойных русских литераторов
п от души радуемся каждому новому произведению, обогащаю¬
щему нашу родную словесность, которой якобы вовсе нет, да
и быть не может, как уверяют некоторые завистливые иностран¬
цы, не знающие вовсе России, да еще (бог им судья!) ренегатъц
безбородые юноши, доморощенные Гегелп, Шеллинги».
Как! кто говорит, что у наз нет литературы, тот ренегат?
Кто находит в своем отечестве не одно хорошее, тот тоже ре¬
негат?.. Стало быть, китайцы, персияне и другие восточные вар¬
вары, которые презирают всех иностранцев и не видят нпкого
выше и образованнее себя, только одни они не ренегаты?.. Ста¬
ло быть, Петр Великий был не прав, давши пощечину одному
переводчику, который, переведши книгу о России, выпустил из
нее все, что говорилось в ней дурного о русских?.. И притом,
милостивый государь, какое вы имеете право называть кого-
нибудь ренегатом? Я мог бы переслать эту посылку к вам на¬
зад; но я не хочу этого сделать, потому что человек, пользую¬
щийся гражданскими правами, не может быть ренегатом, хотя
бы он и не нравился мне... Нет, милостивый государь, на святой
Руси не было, нет и не будет ренегатов, то есть этаких выход¬
цев, бродяг, пройдох, этих расстриг и патриотических предате¬
лей, которые бы, играя двойною присягою, попадали в двойную
цель и, избавляя от негодяя свое отечество, пятнали бы своим
братством какое-нпбудь государство.
Теперь, кто ж бы это был мой остроумный противник? «Я
тот,— восклицает он,— которого знает Русь и, кажется, любит,
поелику монх литературных изделий расходилось по четыре ты¬
сячи экземпляров и более». Если бы мы верили возможности
голоса с того света, то подумали бы, что это взывает и гласит
к нам тень г. Матвея Комарова 18, Московского жителя, пере¬
водчика «Маркиза Глаголя», «Жизни и деяний Картуша», автора
«Никанора, несчастного дворянина», «Милорда английского»,
«Жизни Ваньки Каина» и других сочинений, которые разошлись
по Росспд больше, нежели в числе четырех тысяч экземпляров;
или тень Курганова, знаменитый «Письмовник» которого имел
на Руси гораздо больший успех, нежели сам «Иван Выжпгин»;
или тень блаженного Михайлы Федорыча Меморского, которо¬
го учебные книжицы и теперь еще дают хлебец некоторым спе-
куляторам,..19 Из живых писателей я ни одного не смею на¬
звать автором этой статейки, потому что, в таком случае, на¬
званный мною ппсатель имел бы право поступить со мною, как
с публичным клеветником и нарушителем законов приличия
и вежливости. Настоящий автор очень благоразумно поступил,
что скрыл свое пмя.
В заключенпе желаю, чтобы урок, данный мною, неизвест¬
ным юношею, знаменитому литератору, которого сочинения рас¬
ходятся по четыре тысячи экземпляров и который теперь скры¬
вается за буквою Псп? не остался без пользы. Скажу ему еще за
443
тайну, что не удаются остроты тому, кто не остер от природы
и кто, сверх того, еще сердится. Напрасно вы, милостивый госу¬
дарь, прикидываетесь хладнокровным: вы горячитесь, сами не
замечая этого; напрасно вы притворяетесь, будто не знаете на¬
стоящего имени молодого философа И.: по тону вашей статьи
очень заметно, что вы твердо знаете мое имя; напрасно вы
уверяете, что будто бы вы не читаете «Молвы» и даже не знае¬
те, существует ли она: вы читаете ее, вы знаете наизусть много
из того, что в ней пишется, вы помните в ней все гораздо
лучше, нежели я, который, по слабости памяти, скоро забывает
все, что читает написанного большею частию великих писателей,
исчисленных вами, и что пишет сам. Прощайте и умейте, если
можете, забыть меня так же скоро, как я вас забыл, ибо, окан¬
чивая последнее слово моей отповеди, я уже забываю вас, что¬
бы никогда о вас не помнить *.
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР. Издапный В. Лебедевым. Санкт-Петербург.
В типографии К. Вингебера. 1835. V, 238. (12). С плохою картинкою
и эпиграфом:
Желтел печально злак полей,
Брега взвевал источник мутный,
И голосистый соловей
У молкнул в роще бесприютной.
Е. Баратынский1.
Знаете ли, что это за книга — «Осенний вечер»? Это — аль-
мапах! не верите — так справьтесь сами. Все признаки альмана¬
ха — набор прозаических и стихотворных статеек, подписанных
самыми громкими именами. Оно так и должно быть: что за
* Я еще забыл упомянуть об одной диковинке, обретающейся в бран¬
ной статейке «Северной пчелы», это — классико-романтическое упоминове¬
ние об Аполлоне. «Этим способом, — говорит мой противник, — можно уро¬
нить, изуродовать сочинение самого Аполлона, бога поэзии, если бы он взду¬
мал их напечатать и сошелся в условиях с каким-нибудь книгопродавцем».
Не правда ли, что этот намек на Аполлона совершенпо в классико-романтиче-
ском духе? Классическим он может почесться потому, что теперь уже
вышло из моды тормошить парнасскую и олимпийскую сволочь, а г. Пси
еще не отстает от этой похвальной привязки доброго старого времени,
романтическим этот намек может назваться потому, что г. Пси — Аполлона,
этого бога свободного и благородного искусства, каким представляли его
себе простодушные греки, делает романтиком, то есть литературным тор¬
гашом, заставляя его продавать книгопродавцам свои свободные и творче¬
ские вдохновения. Какое смелое воображение у г. Пси! В самом деле, кому
придет в голову сделать самого Аполлона литературным торгашом и заста¬
вить его в книжной лавке смиренно продавать свою рукопись российскому
книгопродавцу, который с важностию, приличною торговой особе, вымери¬
вает эту тетрадь аршином и кладет ее на весы!.. Как невольно иногда
высказывается человек!.
444
альманах, если он не образует собою яркого созвездия луче¬
зарных имен, если в нем не участвуют представители литерату¬
ры? В эпоху своего цветения наши альманахи украшались име¬
нами Пушкина, Жуковского, Крылова, Козлова, Веневитинова,
Марлииского, Ф. Глинки, Баратынского, кн. Одоевского, Хомя¬
кова, Языкова, Д. Давыдова и пр., и пр. Нынешний альманах не
уступает прежним ни на волос; имена, украшающие его, ничем
не мецыпе и не ниже исчисленных мною имен; вот они: Андрей
Куцый, Безмолвный, Бурманов, Гребенка, Десбут, Кислов, Лебе¬
дев, Алферов, Бенедиктов, Глебов (это чуть ли не из старых
знаменитостей!), Деревицкий, Ершов, Комсин, Маркович. Ну,
спрашиваю я, чем отстал новый альманах от «Полярной звез¬
ды», «Северных цветов», «Денницы» и прочих?.. Я желал бы
познакомить вас с новыми светилами нашей литературы, но это
было бы очень трудно, итак, ограничусь некоторыми. Вельскрш
играл в одном обществе, на святочном вечере, в фанты: очень
милая эта игра в фанты, в провинциях она и теперь в большом
употреблении. Но не в том дело. Вячеславу Вельскому вышел
фант, и хозяйка, умная, милая женщина, зная, что молодой че¬
ловек умеет лучше писать, нежели представлять статую и пры¬
гать через стулья (прыгать через стулья — одно из вернейших
средств показать свою ловкость в порядочном обществе, осо¬
бенно где хозяйка умна и мила), заказала оному г. Вячеславу
Вельскому написать какую-нибудь историческую быль, пока про¬
чие собеседники сделают две фигуры котильона. Хозяйка осно¬
вала свое право задавать своим гостям сочинения, в силу фран¬
цузской пословицы: charbonnier est maitre en sa maison *.
Что бы стал делать в таком затруднительном положении всякий
обыкновенный человек? Пропал бы да и только. Но гения не
скоро собьешь с толку: г. Вельский прочел поутру кое-что об
этой пословице из Монтлюка, и он решился писать на тему:
charbonnier est maitre en sa maison. Это было принято, как
удачное a propos **, и еще не кончилась вторая фигура ко¬
тильона, как уже поспела целая повесть, которой и переписать
невозможно в продолжение трех бесконечных котильонов. Эта
повесть называется «Фант», автор ее г. Владислав Бурманов. Ну,
знакомы ли вы теперь с талантом г. Владислава Бурманова?..
«Малороссийское предание» г. Гребенки отличается певучим
языком; это истинная поэтическая, оссиановская проза, а все
оттого, что почтенный автор, вопреки духу и законам русского
языка, ставит определительные слова всегда после определя¬
емых.
Горько рыдал безутешный отец о потере сына, рвал седины и ломал
руки иссохшие. «Кто, — возопил он, — будет подпорою моей старости? стар¬
ший сын мой, получив богатство, забыл меня, и я остался один с дочерью
* угольщик в своем доме хозяин (франц.). — Pedt
** кстати (франц.). — Ред.
445
слабою. Кто нагрузит воз мой снопами тяжелыми? Кто впряжет в него
волов круторогих п привезет на гумно мое богатые дары всевышнего?
Кто зимою холодною, когда зашумят метели по полям и лесам обнаженным,
согреет старика беззащитного? Чей топор трудолюбивый застучит в роще
ближней? Чья рука попечительная разложит огонь в хате моей?»
Вот каким высоким слогом выражается г. Гребенка! Этот
отрывок можно почесть за надгробный плач какого-нибудь
Приама многодетного, оплакивающего сына быстроногого. Пар¬
кою беспощадною сведенного в могилу раннюю. Но это говорит
не царь, а простой казак, Иван, добрый человек. Тут нет ничего
удивительного: гений все украшает, все облагороживает,
а творчество в том и состоит, чтобы украшать природу. Ну,
знакомы ли вы теперь с талантом г. Гребенки?..
«Жертва обольщения, новая петербургская быль», принад¬
лежит г. Безмолвному. Что это за господин Безмолвный? —
спрашиваете вы. Вот нашли о чем спрашивать! ведь в нашей
литературе есть г. Безгласный, так непременно должно быть
и г. Безмолвному; у нас уж так исстари ведется. Но какова же
эта «Жертва обольщения»? — хотите вы знать. О, чудо да
и только! Самая нравственная повесть: в ней, как 2X2 = 4, до¬
казано, что девушки не должны слишком доверять красивым
и статным офицерам. Истина несомненная! Но нравственность
составляет не конечное достоинство повести г. Безмолвного:
она отличается еще и удивительною оригинальностию в мыслях
и выражении, а пуще всего чувствительностию. Вот вам образ¬
чик всего этого:
Не знаю, если люди, которые бы более меня любили и любят прекрас¬
ный пол? (недостает смыслу — зато что за мысль!). Я уже отдал им поло¬
вину жизни — и не раскаиваюсь, и остальные, бесцветные дни свои, посвя¬
щаю прелестным очаровательницам. Не будь их, и я не желал бы сущест¬
вовать. Тот не может назваться человеком, кто не знал или не знает, что
такое есть любовь. Не поверю даже самому ожесточенному человеконена¬
вистнику, чтобы в сердце его не таилось это благороднейшее, возвышенней¬
шее чувство. Иначе он не человек, но олицетворенная фигура человеческая.
Люблю невыразимо, но естественно вас, мои повелительницы; один нежный
взгляд ваш составляет величайшее счастие моей жизни. Я только живу
и бываю доволен жизнию при виде вас и подле вас. Но в объятиях ваших,
кажется, я испарюсь, исчезну; а потому опасаюсь еще жениться; подожду
еще лет десять, пока с летами обессилит (кого?) жгущее меня пламя. Но
я слишком заболтался; простите откровенности — такая натура моя: люблю
говорить про себя и про других, проклятая привычка!
Нет! да будет благословенна эта привычка почтенного авто¬
ра: без нее не узнали бы мы прекрасных чувств души его, без
нее не узнали бы мы, что можно писать нежно, чувствительно,
трогательно, не зная грамматики! Ну, знакомы ли вы теперь
с талантом г. Безмолвного?..
За «Жертвою обольщения» следует «Чаша из девпчьего че¬
репа», повесть г. Владислава Бурманова. Я не буду говорить
о ней: во-первых, потому, что она очень страшна и в нравствен¬
446
но-фантастпческом роде, а во-вторых, вы уже п без того до*
вольно знакомы с бесподобным талантом г. Владислава Бурма-
нова.
И заслуженный ветеран нашей литературы г. Скобелев
украсил этот альманах своею небольшою, но прекрасною пьескою
«К благородным воинам», в которой он доказывает, что кто
вступает в военную службу по расчету, чтоб дослужиться знат¬
ного чина, разбогатеть и сделаться со временем вельможею,
тот никогда не будет у цели! В этой статейке много и других
светлых мыслей, которые почтенный автор так убедительно из¬
лагает, что с ним невозможно не согласиться.
«Всем сестрам по серьгам», отрывок из романа, сочиняе¬
мого г. Кнсловым и имеющего в скором времени появиться
пред глазами нетерпеливой публики, под названием «Тушинский
вор» — бесподобен, удивителен. В этом отрывке описана драка
пьяных поляков — князя Адама Вишневецкого — страшного ду¬
рака и обжоры, Николая Оленицкого — страшного гримасника
и кривляки, пана Лисовского — страшного нахала и буяна, пана
Рожинского — страшного пьяницы и невоздержника, и, наконец,
шута Кошелева. Многим, может быть, эта оргия и драка пока¬
жется вульгарною, глупою и нелепою; но что ж до этого — ведь
и то сказать, на всех не угодишь. По крайней мере нам чрезвы¬
чайно понравился этот отрывок, и мы с нетерпением ожидаем
выхода целого романа г. Кислова. Ну, знакомы ли вы с талан¬
том г. Кислова?
«Гомеопатия» г. Куцого... но довольно — обо всем не пере¬
говоришь. Из прозаических статей нам лучше всех показалась
«Сто сорок пять» какого-то г-на Г. Так как она невелика, то мы
выписываем ее всю:
Дворяне ....ской губернии, ского уезда, избрали из среды себя
судью 0,000000
— Я намерен, — говорил новоизбранный, входя в первый раз в уезд¬
ный суд, — да — я намерен обращать самое строгое внимание на грамма¬
тику, ибо (потому что?) многие господа служащие так пишут!.. — и судья,
иронически улыбаясь, обвел глазами всех канцеляристов.
— Ваша фамилия? — продолжал он, указывая на одного из них.
— Гриценков.
— Ну, например, г. Гриценков, покажите, какую бумагу вы пишете?
— Дело о нашествии мертвого тела и о нахождении при оном ста
сорока пяти рублей денег, утаенных якобы земским заседателем Охремеп-
ковым, и о прочем.
— Посмотрим! так и есть, на первой странице грамматпкальная ошиб¬
ка!.. Вы до сих пор не понимаете тонкостей русского языка; возможно ли
писать сорок пять? Послушайте: играли ли вы когда в карты? не в дурачки,
а игры благородные, в вист, бостон?
— Нет, не играл.
— То-то же и есть, заметьте же: люди значительные, то есть люди с
весом, с образованием, всегда говорят: дама сама пят козырей, туз сам
шест бубен, а отнюдь не сам пять, сам шесть. Следовательно, и писать
должно сто сорок пят — это яснее дня,. Надеюсь, вперед таких ошибок не
будет.
W
Тут судья важно поворотился и вошел в присутствие; низко поклони¬
лись ему уездные заседатели, и он, садясь за красное сукно, спрорил у од¬
ного пз них с большим участием: — Каковы ваши собаки?
С этого времени в ....ском уездном суде пишут — пятъ, шесть, семь
и так далее, на основании прежних примеров.
Теперь о стихотворной части — она тоже бесподобна.
Г-н Ершов открывает сцепу. Всем известно, что г. Ершов знаме¬
нитость уже утвержденная, авторитет уже установившийся,
и потому нам остается только хвалить его, что мы и сделаем.
Лучшая из его пьес, помещенных в «Осеннем вечере», есть
«Фома кузнец», отрывок из драматической повести. Как это
интересно, у нас еще никто не пытался делать кузнецов героя¬
ми драмы. Но это, очевидно, была ошибка: чем кузнецы не
люди, чем они хуже других? Итак, кузнецы должны быть очень
благодарны г. Ершову за его о них память, за его неоставление.
Послушайте песню, которую поет старый кузнец Лука, аккомпа¬
нируя себе молотом на наковальне; эта песня прекрасна, пото¬
му что в чисто народном духе, и
В ней русский дух, в ней Русью пахнет!2
Итак, слушайте же:
Вдоль по улице широкой
Молодой кузнец идет;
Ох! идет кузнец, идет,
Песни с посвистом поет.
Тук! тук! в десять рук
Приударим, братцы, вдруг!
Соловьем слова раскатит,
Дробью речь он поведет,
Ох! речь дробью поведет,
Словно меду поднесет,
Тук! тук! и проч.
Полюби, душа-Параша,
Ты лихого молодца;
Ох! лихого молодца,
Что в Тобольске кузнеца.
Тук! тук! и проч.
Как полюбишь, разголубишь,
Словно царством подаришь,
Ох! уж царством подаришь,
Енералом учинишь.
Тук! тук! в десять рук
Приударим, братцы, вдруг!
Каково?
Г-н Бенедиктов есть другая знаменитость, украсившая этот
альманах своими произведениями. Их два3, и оба они доказы¬
448
вают, что г. Бенедиктов, когда набьет руку, то будет делать
славные стишки. О прочих поэтах, украсивших своими произве¬
дениями «Осенний вечер», умалчиваю, потому что и так устал,
делая похвалы и комплименты; пора перестать, а то спина забо¬
лит от поклонов.
НЕДОВОЛЬНЫЕ. Оригинальная комедия в 4 действиях, в стихах,
соч. М. Н. Загоскина. Дивертисман, вновь сочиненный (?) и постав¬
ленный г-жею Гюллень. Спектакль 2 декабря.
Театр был полон: ни одного пустого кресла, ни одной
пустой ложи; не говорим уже о прочих местах. Самая вне¬
шность театра отзывалась какою-то бенефисною торжествен-
ностию; необыкновенное освещение, суетливость и давка в две¬
рях, множество экипажей всех родов возвещали, что во внут¬
ренности должно произойти что-то необыкновенное и важное...
Не знаю, недавняя ли и еще живая у всех в памяти слава г. За¬
госкина как романиста обратила общее внимание на его новый
драматический труд, или редкость новых оригинальных пьес,
даваемых на нашем театре, произвела сильное движение
в публике и возбудила ее участие. Как бы то ни было, но съезд
был необыкновенный. Это нас чрезвычайно радует, как доказа¬
тельство, что русская публика никогда и не думала быть холод¬
ною к отечественной литературе и особенно театру, как изволят
уверять в этом люди, или совсем .не знающие нашей публики,
или имеющие особенные причины сердиться за ее холодность.
Подобно другим, и мы спешили увидеть новую комедию
г. Загоскина, спешили увериться, выиграл ли наш бедный театр
хоть что-нибудь в этой комедии. С нетерпением ожидали мы,
когда поднимется занавес, и он поднялся, и мы увидели новую
комедию г. Загоскина. Несмотря на то, что мы из третьего акта
узнали о завязке и развязке комедии, мы просидели и четвер¬
тый акт...
Цель комедии г. Загоскина была — осмеять этих невежд,
старых и молодых, знатных и незнатных, которые, не будучи ни
на что способны и видя себя забытыми и неуважаемыми, обви¬
няют общественный порядок, находят все русское дурным, все
иностранное хорошим, не зная хорошо ни того, ни другого;
которые не замечают успехов цивилизации, просвещения и
добра в своем отечестве; видя в нем хорошее, закрывают глаза,
затыкают уши и молчат или перетолковывают дело наизнанку;
видя дурное, кричат, что есть мочи. Вот «Недовольные» г. За¬
госкина; они очень возможны, они есть везде, где только есть
люди, потому что где люди, там и эгоизм, а когда эгоизм оскор¬
блен, он всем недоволен. Истинное достоинство молчит, хотя
бы оно было и не оценено и оскорблено; мелочное самолюбив
15 В. Белинский, т. 1
449
п ничтожество громко вопиют о сделанной им несправедли¬
вости, громко трубят о своих заслугах и своей важности. Если
смотреть на предмет с этой точки зрения, то нельзя не согла¬
ситься, что автору предстояло поле обширное, обещавшее бо¬
гатую жатву. Посмотрим, как он нм воспользовался.
Итак, основная идея и цель комедии г. Загоскина нам очень
нравится. Честь и слава художнику, который делает такое бла¬
городное употребление из своих дарований; честь и слава ху¬
дожнику, который употребляет свой высокий, данный ему бо¬
гом талант на осмеяние невежества и эгоизма, на исправление
общества! Но еще более ему чести и славы, если эта благород¬
ная цель гармонирует с направлением его таланта, если оиа
дружна с его вдохновением, если она есть следствие его при¬
вычных дум, если она составляет религию его души и его твор¬
ческого гения, если она сливается с его бесцельною потреб-
костию творить, словом, если она у него не обдуманный расчет,
а бессознательный порыв... Только под этим условием его цель
будет целью художника, а не ремесленника, не поставщика на
заказ литературных произведений; только под этим условием
его портреты будут живые создания, а не мертвые копии; толь¬
ко под этим условием невежество устыдится своего изображе¬
ния; в противном же случае оно не узнает себя в нем и будет
над ним же издеваться!..
Хорошая цель во всем похвальна, в искусствах тем более*
Но, в последнем случае, выполнение этой цели — вот одно, что
составляет торжество поэта. Мы отдали полную справедливость
благородной цели г. Загоскина; теперь посмотрим, каково он
ее выполнил.
То же самое чувство беспристрастия, которое заставило
нас отдать справедливую похвалу прекрасной цели автора, за¬
ставляет нас, к крайнему нашему неудовольствию, признаться,
что выполнение этой цели показалось нам неудовлетворитель¬
ным. Прежде нежели представим наши доказательства, мы по¬
читаем нужным заметить, что нашим суждением будет руко¬
водствовать одна любовь к истине, что оно будет чуждо всякого
пристрастия, всякой личности. Мы ни в каком случае не смеша¬
ем г. Загоскина с представителями литературной черни и будем
уметь говорить о его произведении с должным уважением
к нему, к публике и к самим себе. Мы уверены, что как публи¬
ка, так и много уважаемый нами писатель не сочтут нашей твер¬
дости, нашего убеждения за невежливость или неуважение
к личности автора, хотя наше суждение будет и не в его пользу.
Мы всегда умели отдавать должную справедливость его литера¬
турным заслугам. Мы уважаем его «Юрия Милославского», ува¬
жаем этот роман за благородное чувство любви к отечеству,
которым он согрет, за степень таланта, с которою он выполнен,
хотя и видим в нем произведение слабое в художественном
отношении; мы уважаем его «Рославлева» за картины простонав
450
родной жизни, довольно удачно схваченные, хотя п видим
в нем еще меньше художественности. Мы уважаем даже его
«Аскольдову могилу» за хороший язык, которым она написана,
хотя и видим в ней неудачную попытку. Итак, да не осуждают
нас в пристрастии к г. Загоскину!
Представьте себе, каково было наше удивление, когда мы
в первом акте «Недовольных» узнали что-то знакомое нам, хотя
и давно забытое нами! Помните ли вы отрывок из комедии
г. Загоскина «Столичные жители в провинции», помещенный
в первой части «Московского вестника» за 1829 год? Сначала
мы подумали, что г. Загоскин, строго держась предписаний
классицизма, писал свою комедию «Недовольные» целые шесть
лет; но когда снова прочли напечатанный отрывок, то увидели,
что в «Недовольных» он переделан и переиначен. «Столичные
жители в провинции» превратились в «Недовольных» и из про¬
винции переехали опять в столицу. Тут пет ничего особенно
худого: автору не трудно перенести своих героев не только из
какой-нибудь губернии в Москву, но даже из Иеддо в Лисса¬
бон — переезд обойдется дешево, как ни велик он. Но вот что
приводит нас в соблазн: мы доселе никак не думали, чтобы
однажды созданное поэт мог переделывать по своей прихоти,
как хозяин может перестроить по новому плану дом, которого
прежним планом он остался недоволен. Неужели творчество
есть ремесло, фантазия, наструг, которым можно помыкать, как
угодно?.. Странно, и однако ж, в отношении ко многим нашим
авторам, это выходит так!..
Теперь скажем несколько слов о содержании и характерах
комедии. О ее плане, завязке и развязке мы предоставляем себе
поговорить поподробнее в другое время *. Вот действующие
лица комедии: князь Радугин, аристократ, богач, промотавший
пять тысяч душ оттого, что на рождество ел свежую малину,
а на крещенье свежие огурцы (маленькая гипербола!); он чело¬
век пустой и глупый до последней крайности; он не способен ни
к какому делу, ни к какой службе, живет в отставке и сердится,
что правительство не замечает его великих талантов, его гени-
яльности и не дает ему места, приличного его богатству, уму
и знатности. У князя есть знакомый, Глинский, второй том Сур-
ского, близкая родня Холмину2; этот человек олицетворенная
ходячая мораль; он говорит не иначе, как сентенциями; вы не
станете с ним спорить, вы согласитесь с ним во всем до послед¬
него слова, но смертельно соскучитесь, если поговорите с ним
хоть десять минут. Несмотря на его правильное суждение, на
здравый образ его мыслей, он немножко смешон, немножко
bon homme *, как все люди, которые бросают бисер перед
• добряк (франц.). — Ред.
15*
451
свиньями, которые с важностию рассуждают с слепыми о цветах,
с глухими о музыке. Вот главные лица комедии: на них вертится
все ее здание. Князь Любский, министр, приглашает Глинского
вступить в службу и предлагает ему место своего товарища.
Князь Радугин, давно уже просивший князя Любского о месте,
ожидал в это время ответа от него; разумеется, министр при¬
слал ему отказ. Случись же так, что судьбе, или, лучше сказать,
автору угодно было сыграть престранную шутку. Письмо ми¬
нистра к Глинскому попалось в руки князя Радугина, который
показал его (третье действие все происходит на водах) своим
знакомым и начал павлиниться, играя роль товарища министра.
Только что уходит князь, как является Глинский и говорит, что
ему попалось, по ошибке в адресах, письмо, принадлежащее
князю, а его находится в руках князя. Вот вам завязка комедии
«Недовольные»: не правда ли, что она очень проста и естест¬
венна? В четвертом действии к князю являются с поклоном люди,
всегда над ним смеявшиеся и, сверх того, поклявшиеся не под¬
личать перед ним. Забавнее всего их предлоги, будто бы заста¬
вившие их заехать нечаянно к князю: эти предлоги так же
естественны, так же приличны людям хорошего тона, как при¬
лична ошибка в адресах министерской канцелярии. Повторяю,
что простота и естественность составляют главное достоинство
комедии г. Загоскина. Что ж далее? Разумеется, князь ломается,
корчит из себя товарища министра, принимает своих поклон¬
ников в халате, обещает им милости; поклонники расходятся
с самыми канцелярскими поклонами; человек докладывает
о приезде Глинского; князь говорит с удовольствием, что и этот
моралист приехал к нему с поклоном, и велит его принять;
Глинский является и выводит дурака из его сладкого заблужде¬
ния. В это же время поверенный по делам князя докладывает
ему, что его имение описано за долги. Князь бесится и бранит
Россию. Вы думаете, что он бранит ее за то, что в ней нет
снисхождения к таким знатным особам, как он, что в ней перед
законом все равны: ничего не бывало! он бранит ее точно так,
как дитя бьет вещь, о которую оно ушиблось, то есть без всякого
резону, без всякой причины. Вы думаете, что Глинский вос¬
пользуется этим, чтобы спросить его, неужели во Франции за¬
коны протежируют должников, а не кредиторов, и фактом дока¬
жет ему превосходство России перед Франциею, в случае
утвердительного ответа князя: ничуть не бывало! он говорит
князю грубости, которых никогда не позволит себе человек хо¬
рошего тона. Князь говорит, что в России невозможно жить
человеку с умом и душою, и этим оканчивается комедия. На
первый случай довольно о самой комедии, скажем слова два
о прочих действующих лицах. У князя Радугина есть теща,
Анисья Дмитриевна Камская, что прежде была Матреной Сав-
еишною Линскою: это лицо хоть кого так поставит в тупик; по
своему происхождению, своему богатству и положению в об¬
452
ществе она кажется аристократкою; но по своему образу мыс¬
лей и выражения она очень похожа на этих торговок толкучего
рынка, которые продают ситцевые рубашки, бумажные платки
и белевые носки. В этом отношении даже знаменитая сваха Сав¬
вишна в «Черной немочи»3, в сравнении с нею, кажется
аристократкою. Камская говорит, что ей придется положить зубы
на полку; пожалуй, незамай, с души прет; видя, как посети¬
тели вод пошли принимать их, она говорит:
Ну, батюшки, пошли на водопой.
Она подсылает своих лакеев выведывать тайны чужих до¬
мов, чтоб иметь пищу для своих сплетней; шпион ее, Афонька,
хотел посмотреть, что делается в доме у Волгиных; там был
бал, и хозяин дома, оставив гостей, вышел на улицу,
Как вдруг с наскоку
Бряк в щеку!
— Послушайте, за что?
— А вот за что! — да хлысть в другую...
Уж он его катал, катал!
Натешился, устал,
Людишки приняли...
Камская бесится —
Уж я его, мерзавца, доконаю!
говорит она. Скажите, бога ради, что все это значит? Неужели
это картина нашего высшего общества? Неужели эта картина
снята с него после «Горе от ума», в 1835 году?.. Где видел
г. Загоскин такие лица? И говорят еще, что комедии Фонвизина
теперь уже анахронизм! Мы тоже думали, пока не увидели
«Недовольных». Но поверим г. Загоскину в существовании та¬
кого рода «Недовольных»,— теперь другой вопрос: зачем вы¬
водить их в комедии? Разве для утешения райка? И в самом
деле, раек так горячо хлопал рассказу Афоньки, как никогда не
хлопал прошлый век рассказу Терамена4. В «Горе от ума» по¬
чти все лица гнусны, как люди, но все они естественны, все они
люди, а не куклы, пляшущие по ниткам, дергаемым руками ди¬
рижера комедии...
Потом, у князя есть сын и дочь. О дочери мы не будем
много говорить: это просто бездушная и притом устаревшая
кокетка; это еще не беда: жаль только, что она походит немного
на горничную. Но сын князя — лицо, важное в комедии. Это
мальчик, который заучил несколько модных выражений, подоб-
пых следующему, которое удалось нам упомнить:
.. .Когда никто пз нас пе постигал
Ни любомудрия высокой цели,
Ии просвещенья светлый идеал.
453
Молодой князек был в Париже, прекрасно говорит и ппшет
на многих языках и только один русский зкает плохо; он обо¬
жает все европейское, ненавидит все русское, разумеется, на
зная хорошо ни того, ни другого; он служит, но очень нерадиво;
три недели не является к должности, получает выговор от
начальника, который, между прочим, советует ему поучиться
русской грамматике; князек отвечает своему начальнику гру¬
бостями, выгоняется из службы с худым аттестатом и в восторго-
от того, что толпа не поняла его. Сверх того, князек мот,
картежный игрок, фат, волокита; он смеется над родным отцом
и почти в глаза называет его дураком; словом, это человек без
познаний, без правил, без души, без ума, без чести и совести.
Здесь явное преувеличение. Верно, г. Загоскин следовал тем
эстетикам, в которых говорится, что идеал есть совокупление
всех черт, рассеянных в природе, в одно лицо, для выражения
той или другой идеи. Врут эти эстетики, и следовать им опасно.
Вообще у г. Загоскина любимая замашка — утрировать. Так, на¬
пример, в своей повести «Три жениха» он представил либерала,
который беспрестанно толкует о правах человечества, вопиет
против феодального тиранизма и который, в то же время, дер¬
жит своего мальчишку в железном ошейнике, бьет его, не
щадя, из своих рук, плетью; и который, наконец, так неосторо¬
жен, так прост, что не умеет скрыть своих варварских поступков
и позволяет застать себя на деле...5 Уверяем г. Загоскниа, что
молодые люди, подобные князю Владимиру Радугину, не су¬
ществуют в природе, что только подобные им были у нас когда-то,
но что теперь и их уже нет. Неужели у нас нет ничего
смешного, ничего порочного, что авторы принуждены прибе¬
гать к выдумкам и небылицам? Нет, для Грибоедова общество
представляло богатые материялы; теперь он не написал бы «Горе
от ума», но написал бы новую и верную картину настоящего
общества и так же бы насмешил ею. Но ведь у Грибоедова был
огромный талант, если не гений!..
Скучно, утомительно и бесполезно говорить о других пер¬
сонажах: это все одно и то же, только в разных костюмах и с
разными именами. В Запяткине, задушевном друге Владимира
Радугина, автор хотел представить что-то вроде Молчалина: это
тот же подлец, только понаглее, а главная разница между ними
та, что один живой портрет, а другой восковая фигура, без
признака жизни и дурно слепленная. Княгиня Глафира Саввишна
Дутикова так глупа и нелепа, что совестно и говорить о ней.
Федосья Львовна Полканова, как две капли воды, похожа на
г-жу Простакову Фонвизина. Граф Мишурский, барон Турухта¬
нов — глупцы и подлецы, тоже без малейшей тени естествен¬
ности. Только Котомкин и камердинер князя Радугина, которого
имени мы не можем сказать по причине его дурного этимоло¬
гического значения6, — показались нам естественными и вер¬
ными портретами, подобных которым можно найти по крайней
454
мере в провинции. Ашота, что прежде была Наташей, из мага-
зейной швейки превращена автором в компанионку, и очень
неудачно.
Представление было лучше комедии и, однако ж, не произ¬
вело на публику никакого впечатления. Всех лучше играл, разу¬
меется, г. Щепкин; если он походил не на князя, столичного
жителя, а на Богатонова7, провинцияла в столице, это не его
вина; всех хуже играл г. Живокини, который, представляя хотя
и пустого, но светского человека, очень походил на сидельца
овощной лавки. После комедии мы видели какой-то китайский
танец, а в этом будто бы китайском танце видели разные ло¬
манья, кривлянья и русские антраша вприсядку, видели круги,
полукруги, прямые углы в 90 градусов и тупые углы во 150
и более градусов, описываемые ногами. Долго ли эти прямые
и тупые углы будут наругаться над благопристойностию и тре¬
бованиями века?..
О ХАРАКТЕРЕ НАРОДНЫХ ПЕСЕН У СЛАВЯН ЗАДУНАЙСКИХ. На^
бросано Юрием Венелиным. I1. Осман Шеович. Женитьба Павла
Плетикосы. Москва. В типографии Н. Степанова. 1835. (118). (8)*.
Изданная в 1833 году, Буком Стефановичем, четвертая
часть «Народных сербских песен» подала повод г. Венелину на¬
писать прекрасную статью, которая была помещена в «Телескопе» 2.
Г-н Венелин издал эту статью отдельною брошюркою, под
№ 1, как первый приступ к целому ряду статей в этом роде,
имеющих целию знакомить русскую публику с народною поэзиею
задунайских славян. Намерение прекрасное и благородное! Мы
так мало знакомы в этом отношении с нашими соплеменниками,
что должны радоваться всякому добросовестному труду, кото¬
рый может обогатить нас хотя несколькими фактами. Книжка
г. Венелина содержит в себе много богатых и, что всего важнее,
освещенных идеею фактов.
Первобытная поэзия народов заслуживает особенное вни¬
мание, потому что она юна и свежа, как жизнь юноши, непри¬
творна и простодушна, как лепет младенца, могущественна
и сильна, как первое, девственное сознание жизни, чиста
и стыдлива, как улыбка красоты. Это творчество истинное,
бессознательное, бесцельное, хотя, в то же время, и односто¬
роннее, одноцветное. Оно вполне, истинно и живо, проявляет
дух, характер и всю жизнь народа, которые высказываются в нем
непринужденно и безыскусственно. От этого произведения мла-
денчествующих народов вечно юны и неумирающи. Мы не знаем
* Продается в книжном магазине Н. Н. Глазунова; цена 3 р. 50 к. ас¬
сигнациями.
455
этих безыменных певцов, добродушно п безрасчетно изливав¬
ших свое чувство в минуты радости или тоски; они творили не
для бессмертия, не для цели нравственной или политической, не
для всех этих расчетов, корыстных и бескорыстных, которые
нередко западают в кабинетные произведения, как черви вредо¬
носные, и подъедают корень жизни художественного произве¬
дения.
Песни задунайских славян, сколько мы можем судить по
образцам, предложенным автором рассматриваемой нами ста¬
тьи, представляют самые лучшие данные для подтверждения
этого мнения о первобытной поэзии, этого мнения, которого
мы не смеем назвать своим, потому что теперь оно принадле¬
жит всем людям с здравым смыслом и родилось гораздо пре¬
жде нас. Песни задунайских славян выражают всю жизнь народа,
которым они созданы, так же как «Илиада» выражает всю жизнь
греков в ее героический период. Прочтя их, вы не будете иметь
нужды ни в описаниях путешественников, ни в пособии истории,
чтобы познакомиться вполне с народом. В них вся его жизнь,
внешняя и домашняя, все его обычаи и поверья, все задушев¬
ные верования, надежды и страсти. Но мы не будем слишком
распространяться о песнях задунайских славян, потому что
в таком случае мы невольно повторили бы все, что о них так
умно, так основательно, так верно и так увлекательно высказано
г. Венелиным; вместо того бросим беглый библиографический
взгляд на его суждение.
Статья начинается выпискою двух песен на сербском языке
с переводом на русский. Перевод сделан самим автором статьи,
и сделан прекрасно. Он близок, верен, поэтичен, если можно
так сказать, и русский язык нигде не изнасилован, нигде не
страждет на счет этой близости. Мы были бы очень благодарны
автору, если б он дарил нас чаще и больше подобными перево¬
дами песен славянских народов, которые ему так хорошо зна¬
комы. После песен автор начинает рассуждать о характере
и обычаях болгар и сербов, и особенно о их девохищении. Факты,
сообщаемые им, чрезвычайно любопытны. Потом он выво¬
дит из них заключение о характере песен этих народов. Потом
рассуждает об исторических причинах, дающих иногда тому или
другому народу другой характер, нежели какой он имел. Мысли
его об этом предмете прекрасны, глубоки и подкреплены фактами.
Из этого рассуждения он объясняет кровавый и мрачный харак¬
тер задунайцев, отразившийся в их песнях. Характер поэзии
задунайцев, по его мнению, чисто гомерический, и мы с этим
вполне согласны: героизм и юначество — одно и то же. В заклю¬
чение автор говорит вообще об эпопее, разумея под этим словом
такого рода художественные произведения, которые создаются
не каким-либо лицом, а целым народом. Вследствие этого он
очень основательно отвергает художественное и эпическое досто¬
инство всех кабинетных произведений, как-то: «Энеиды», «Осво¬
456
божденного Иерусалима», «Генриады», «Россиады» * и пр., как
сочинений заказных, как «нарочных трудов по части героизма» 4.
Эта же идея привела его к рассуждению об «Илиаде», как творе¬
нии самобытном и живом, созданном народом, а не каким-то Го¬
мером. Мысль не новая, но хорошо развитая автором. Он доказы¬
вает, что омирос есть слово нарицательное и значит слепца. Пре¬
красно также развита автором мысль о том, что каждый народ
имеет своего представителя и его-то выводит в своих созданиях:
эпопее и песнях; греки Ахилла, испанцы Дон Жуана, немцы
Фауста и т. д. Герой болгаров есть Марко Королевич.
Одним словом, статья или брошюрка г. Венелина принадле¬
жит к тем приятным явлениям, которые у нас очень редки. Но,
отдавая должную справедливость достоинствам его сочинения,
мы, с тем же беспристрастием, заметим и его недостатки. Мы про¬
пускаем, что язык г. Венелина нередко бывает неправилен
и странен, что он любит употреблять слова и выражения, никем
не употребляемые, как-то: «кухонность человеческого рода»5
и тому подобные, которых немало; все это не важно. Но нас
удивили некоторые его мысли, изложенные частию в выносках,
частию в прибавлениях к статье; они кажутся нам в совершен¬
ной дисгармонии с теми, о которых мы говорили выше. С тру¬
дом верится, чтобы те и другие принадлежали одному и тому
же лицу. Что значит, например, эта насмешка над Гете за то,
что он выдал Елену «Илиады» за немца Фауста? Неужели по¬
чтенному автору неизвестно, что есть художественные сочине¬
ния, которые, будучи неестественны, несбыточны и нелепы
в фактическом отношении, тем не менее истинны поэтически?
Неужели ему неизвестно, что, в творчестве, сказка или рассказ
бывает иногда только символом идеи? Что за насмешка над
красавицею Еленою, которую автор грозится наказать самым
славянским, то есть самым варварским наказанием?6 За что
такая немилость? Неужели почтенный автор думает, что дей¬
ствующие лица в поэме должны быть всегда резонабельны,
нравственны, словом, должны отличаться хорошим поведением?
Неужели ему неизвестно, что самые понятия о нравствен¬
ности не у всех народов и не во все века сходны? Елена ни¬
сколько не оскорбляла своим поведением жизни древних; она
совершенно в духе народа и в духе времени. Ее так же смешно
упрекать в безнравственности, как смешно упрекать задунай¬
ских славян в том, что они головорезы.
Потом, что это за нападки на Гердера и Гизо? И за что же?
за то, что они находили дух рыцарства и героизма только
в немецких племенах, а не в славянских? Странно! — Конечно,
героизм, то есть непоседность, предприимчивость и страсть
к кровопролитию, свойственны более или менее всякому мла-
денчествующему народу; но и самый этот героизм имеет боль¬
* Вместо которой ошибкою напечатано: «Лузиады» 3.
457
ший или меньший круг действия. Нордманды переплывали моря
и завоевывали отдаленные страны, а славяне дрались с своими
соседамп или друг с другом. Что же касается до рыцарства, то
оно, без всякого сомнения, принадлежит исключительно одной
Европе средних веков, и именно немцам. Рыцарство и героизм
очень похожи друг на друга, но между ними есть и большая
разница: героизм бывает почти всегда бессмыслен, а рыцарство
водится идеею. Где же надо печать этой идеи? Неужели
в бессмысленной резне задунайских славян с турками или кав¬
казских племен между собою? За что же г. Венелин так сердится
па Гизо и особенно на великого Гердера, что они были
неуважительны к славянам? Я презираю это детское обожание
авторитетов, вследствие которого нельзя сказать о Мильтоне,
что он не поэт, или по крайней мере не великий поэт, и тому
подобное; но с тем вместе — против неуважительного тона
к людям, оказавшим человечеству большие услуги, каков Гер-
дер; и слова: «Гердер детствует, Гердер ребячествует» — мне
кажутся неуместными7. Гердер мог ошибаться, мог не знать
чего-либо, но никогда он не мог ни детствовать, ни ребячиться.
Нам желательно, чтобы г. Венелин, в следующих своих брошюр¬
ках, объяснился точнее насчет всех наших вопросов, тем более
что эти вопросы не одними нами повторяются.
Но, несмотря на все это, мы признаем сочинение г. Вене-
лина приятным явлением в нашей литературе, достойным про¬
чтения людей мыслящих, уверены, что г. Венелин примет наше
откровенное мнение как о достоинствах, так и недостатках его
статьи за доказательство нашего к нему уважения.
ВСЕОБЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА, содержащее извлече¬
ния из путешествий известнейших доныне мореплавателей, как-то: Ма¬
геллана, Тасмана, Дампиера, Ансона, Байрона, Валлиса, Картерета, Буген**
виля, Кука, Лаперуза, Блея, Ванкувера, Антркасто, Вильсона, Бодена,
Флиндерса, Крузенштерна, Портера, Коцебу, Фрейсине, Билленгсгаузена,
Галля, Дюперре, Паульдинга, Бичея, Литке, Диллона, Лапласа, Морелля
и многих других, составленное Дюмон-Дюрвилем, капитаном фран¬
цузского королевского флота, с присовокуплением карт, планов, портретов
е изображений замечательнейших предметов природы и общежития во всех
частях света, по рисункам Сенсона, сопровождавшаго Дюмон-Дюрвиля в его
путешествии вокруг света. Часть первая. Москва. В типографии Августа
Семена, при императорской Медико-хирургической академии. 1835. 493,
IX. (8) К
Есть два рода просвещения: просвещение ученое и про¬
свещение эмпирическое. Первое есть достояние касты, удел
немногих избранных, обрекших себя на хранение священного
огня в храме, недоступном для профанов; второе есть достоя¬
ние общее, потребность массы, умственное богатство целого
народа. Париж есть первый город Европы в умственном отно¬
шении; все ученые, которыми гордилась и гордится Франция,
458
были п суть граждане великого города; и однако ж на статисти¬
ческой карте народного просвещения, составленной Дюпенем,
департамент Сены означен: краскою чуть-чуть не черною2.
И наоборот, в Норвегии всякой мужик есть человек грамотный,
а мы не знаем имен норвежскпх ученых, нам неизвестны акаде¬
мии и другие общества Норвегии. Государство, которое гордится
мировыми именами гениев науки, в котором высшие классы
общества стоят на самой высокой степени просвещения, а масса
народа коснеет в диком невежестве, такое государство еще
не проявило вполне всей своей жизни, не дошло до дели своего
существования; словом, оно еще молодо, юно, незрело. Го¬
сударство, масса которого стоит на известной и одинаковой сте¬
пени возможного для массы просвещения, но которое не
возрастило науки и не имело представителей знания, это го¬
сударство показывает, что или провидение судило ему играть
незначительную роль в великом семействе человеческого
рода, или что оно еще менее, чем младенец. Итак, то и другое
просвещение должно быть в полной гармонии, чтобы впол¬
не развилась жизнь народа, вполне было выполнено им его зна¬
чение.
В наше время эта истина глубоко постигнута, и у просве¬
щенных народов Европы сближение науки с жизнию составляет
один из главнейших предметов их усилий и деятельности. Уче¬
нейшие люди проповедуют знание, приноравливаясь к языку
и понятиям своих слушателей, снисходя до них и нарумянивая,
так сказать, науку, чтобы сделать ее привлекательнее для толпы.
Народу нужны познания чисто фактические, идея не для
него; но народ есть общество, а общество представляет,
в своей совокупности, множество ступеней; поэтому и самый
образ изложения светской науки должен быть различен. У нас
народу, то есть самой грубой массе народа, нужна еще только
азбука, а когда выучится ей, ему нужно ознакомиться с основа¬
ниями религии и другими первоначальными человеческими иде¬
ями; другого знания для него пока не нужно. Но в других со¬
словиях одни почитают себя вправе ничего не знать и ничему не
учиться, а другие и должны бы по всем законам, божественным
и гражданским, да не хотят. Вот для этих-то людей должно тру¬
диться нашим литераторам и ученым; эти-то люди должны
представлять для них обширное поле деятельности, не блиста¬
тельной, но благородной, не славной, но почтенной. Я не говорю
уже о людях, которые жаждут знания и не имеют никаких
средств удовлетворить этой жажде. В самом деле, что у нас
сделано до сих пор для употребления общего, народного?
У нас есть ученые, именами которых мы по справедливости
гордимся, у нас есть несколько ученых сочинений, которых до¬
стоинство не подлежит никакому сомнению; но у нас все-таки
нет ни ученых книг, ни книг для общего чтения с целью самооб¬
разования. Думаем, что это происходит оттого, что у нас все
459
ищут и добиваются больше эфемерной славы, нежели хотят слу¬
жить добру.
«Путешествие Дюмон-Дюрвиля» есть книга народная, для
всех доступная, способная удовлетворить и самого привязчивого,
глубоко ученого человека, и простолюдина, ничего не знаю¬
щего. Дюмон-Дюрвиль объехал кругом света и решился почти
в форме романа изложить полное землеописание, соединив
в нем факты, находящиеся в сочинениях известных путешест¬
венников и приобретенные им самим. Заманчивость и прелесть
его описаний не дают оторваться от книги, когда возьмешь ее
в руки. Но читатели должны уже иметь понятие о достоинстве
этого сочинения из объявления, напечатанного переводчиком
в «Московских ведомостях» 3, и потому мы не считаем за нуж¬
ное слишком распространяться на этот счет. Заметим только,
что эта книга переведена со всею тщательностию, со всею добро-
совестностию, что ее издание опрятно, даже великолепно, и,
в этом отношении, не уступит петербургским изданиям. Портрет
Кука и сорок восемь рисунков нисколько не уступают француз¬
ским оригиналам. Цена самая умеренная: за шесть частей, из
которых одна первая состоит с лишком из двадцати пяти
листов, тридцать рублей. Вторая часть выйдет к марту, а шестая
в июле месяце нынешнего года4.
Мы сказали о книге; теперь нам остается сказать об одном
обстоятельстве, имеющем к ней близкое отношение. Предприя¬
тие г. Полевого давно было всем известно; он напечатал боль¬
шой отрывок, кажется, из второго тома, в «Наблюдателе»
и другой отрывок в «Сыне отечества». Вдруг летит в Москву
программа об издании «Путешествия Дюмон-Дюрвиля» par liv-
raisons *, с приложением образчиков перевода и картинок:
это дело г. Плюшара. Конечно, иностранное сочинение никому
не принадлежит исключительно, и всякой имеет право перево¬
дить его, даже и зная, что другой занимается тем же перево¬
дом; но добросовестное ли дело подрывать кого бы то ни было
в его предприятии? У г. Полевого перевод весь готов, чего не
мог не знать г. Плюшар; первая книга была уже напечатана,
картинки готовы, и на все это, разумеется, употреблены были
деньги. У г. Плюшара, напротив, ничего не готово; доказательст¬
вом может служить его намерение издавать это многотомное
сочинение тетрадями: что же заставило его мешать, перебивать
успех у московского литератора? — И что за мысль издавать
подобную книгу по тетради в месяц? Лишь только читатель за¬
интересуется содержанием этой тетради, как вдруг должен от¬
ложить удовлетворение своего любопытства на месяц; ему при¬
носят другую тетрадь, а он уже забыл первую. И добро бы
издание г. Плюшара было лучше, но оно во всех отношениях
далеко отстает от издания г. Полевого: перевод образчиков
* отдельными выпусками (франц.), —Ред.
сделан наскоро, язык дурен, шероховат, печать хуже, и картинка
лубочные в сравнении с картинками московского издания.
Само собою разумеется, что предприятие г. Плюшара не повре¬
дит московскому: он еще только обещает, а г. Полевой уже
исполняет5.
BACTOJIA, ИЛИ ЖЕЛАНИЯ. Повесть в стихах, соч. Виланда. В
трех частях. Изд. А. Пушкин. Санкт-Петербург. 1836. 96. (8).
«Вастола» наделала много шуму и в нашей литературе и в
нашей публике: имя Пушкина, выставленное на этом сочинении,
напоминающем своими стихами времена Тредиаковского и Су¬
марокова, подало повод к странным сомнениям, догадкам
и заключениям. Но критики и рецензенты поставлены этим маги¬
ческим именем в совершенный тупик. Имя при сочинении важно
для всех, для критиков особенно. В самом деле, ведь могут же
быть такие сочинения, которые, как первый опыт неизвестного
юноши, должны служить залогом прекрасных надежд, а как
произведения какого-нибудь заслуженного корифея, могучего
атлета литературы, должны служить признаком гниения худож¬
нической жизни, упадком творческого дара?.. Напиши теперь
Пушкин еще «Руслана и Людмилу» — публика приняла бы хо¬
лодно это произведение, детское по идее и вымыслу, но живое
и пламенное по исполнению; но явись теперь с «Русланом
и Людмилою» опять какой-нибудь неизвестный юноша — ему
снова рукоплескала бы целая Русь!.. Да, что ни говорите, а имя
при сочинении важное дело! — При настоящем двусмысленном
состоянии нашей литературы появление почти каждого нового
произведения сопровождается какою-нибудь странною и совсем
ве литературною историею; то же случилось и с «Вастолою».
Пушкин издатель или автор этой поэмы? вот вопрос. Мы не
хотим решать его; нам нет дела до частных, домашних обстоя¬
тельств, соединенных с появлением того или другого сочине¬
ния; мы видим книгу и судим о ней. Да! так бы должно быть, но
случай-то вовсе из рук вон! Мы скорей поверим, что какой-
нибудь витязь толкучего рынка написал роман, который выше
«Ивангое» и «Пуритан», драму, которая выше «Гамлета»
и «Отелло», чем тому, чтоб Пушкин был переводчиком «Вастолы».
Пушкин может быть ниже себя, но никогда ниже Сумаро¬
кова. Равным образом, мы никогда пе поверим и тому, чтобы
Пушкин выставил свое имя на негодном рыночном произведе¬
нии, желая оказать помощь какому-нибудь бедному рифмачу;
такого рода благотворительность слишком оригинальна; она по¬
хожа на сердоболие начальника, который не хочет выгнать из
службы пьяного, ленивого и глупого подьячего, не желая ли¬
шить его куска хлеба. Конечно, может быть, это сравнение по¬
461
кажется неверным, потому что оба эти поступка, по-видимому,
имеют мало сходства; но я думаю, что они очень сходны между
собою, и именно тем, что равно беззаконны, при всей своей
законности, неблагонамеренны, при всей своей благонамерен¬
ности, и тем, что, как тот, так и другой, лишены здравого смысла.
Итак, очень ясно, что последний слух лжив, по крайней мере
мы так думаем вследствие нашего глубокого уважения
к первому русскому поэту. Поэтому лучше оставить дело, как
оно есть, не разгадывая и не объясняя его.
Но мы все-таки не хотим верить, чтобы эта несчастная
и бесталанная «Вастола» была переведена Пушкиным, не хотим
и не можем верить этому по двум причинам. Во-первых,
«Вастола» есть произведение Виланда, как означено в ее загла¬
вии. А что такое Виланд? Немец, подражавший, или, лучше ска¬
зать, силившийся подражать французским писателям XVIII века;
немец, усвоивший себе, может быть, пустоту и ничтожность
своих образцов, но оставшийся при своей родной немецкой тя¬
желоватости и скучноватости. Потом, что такое должен быть
немец, который хотел подражать французским острякам и ба¬
лагурам восьмнадцатого века? Если он человек посредствен¬
ный, то похож на медведя, которого бы заставили танцевать
французскую кадриль в порядочном обществе; если он человек
мысли и чувства, то похож на жреца, который, забыв алтарь
и жертвоприношение, пустился в присядку с уличными скомо¬
рохами. Очевидно, что ни в том, ни в другом случае немцу не
годится подражать никому, кроме самого себя, тем менее
французским писателям восьмнадцатого века. Теперь, что такое
«Вастола»? По нашему мнению, это просто пошлая и глупая
сказка, принадлежащая к разряду этих нравоучительных по¬
вестей (contes moraux), в которых выражалась, легкими разго¬
ворными стихами, какая-нибудь пошлая, ходячая и для всех ста¬
рая истина практической жпзни. Восьмнадцатый век был в особен¬
ности богат этими нравоучительными повестями; самые повести
Мармонтеля, хотя они писаны прозою, принадлежат к тому
же типу. Эти повести всегда были нравоучительны, хотя и не
всегда были нравственны, и очень понятно, почему их так любил
восьмнадцатый век: лпцемер чаще всех говорит о религии,
безнравственный человек больше других любит наставлять своих
ближних длинными поучениями о нравственности. «Вастола»
есть одна из этих нравоучительных повестей, которых бездну
можно найти в наших прежних образцовых сочинениях, изда¬
вавшихся в пользу и назидание юношества. Теперь спрашивается,
кто может предположить, чтобы Пушкин выбрал себе для
перевода сказку Виланда, и такую сказку?.. Может быть, многие
скажут, что это естественный переход от «Анджело»: и то мо¬
жет статься!..
Вторая причина, заставляющая нас не верить, как нелепости,
чтоб Пушкин был переводчиком «Вастолы», заключается в до-
462
стопнстве перевода, в этих стихах, которые Русь читала с восхи¬
щением при Сумарокове, которые стала забывать с появления
Богдановича и о которых совсем забыла с появления Пушкина.
Мы не станем излагать содержания «Вастолы», потому что
мы этим показали бы крайнее неуважение не только к публике,
но даже к самим себе: сказка не только пошла и глупа, но еще
неблагопристойна. Вместо этого мы выпишем несколько стихов!
,. .подойдем к тому густому лесу,
Который мглой невдалеке
Салернски горы осеняет...
Какое чудо в нем мелькает?
А! вижу — в чаще древ удалый молодец
Над связкой хвороста стоит и размышляет.
Но где занять мне кисть, где взять такой резец,
Чтоб, выставив во всем величестве натуру,
Я мог изобразить точь-в-точь его фигуру?
Как он, недвижим на траве,
Копается в своей претолстой голове,
Какую только лишь в Москве,
Или в других больших столицах,
При древних князех и царицах,
Срывала на пирах с поджаренных быков
Железная рука российских дюжаков;
Как рыжий цвет волос представить вам словами,
Блестящих меж дерев огнистыми клоками,
Которые торчат вкруг плоского чела
Подобно ржи в копне, что буря растрясла?
Огромный рост на лбу, скулы как роги,
В по л фута уши, длинный нос,
Широкую спину и — ноги,
Которых склад довольно кос?
Короче — чудное игралище природы,
Каких немного в наши годы?
Но кои от лица и стана своего
Не потеряли ничего,
Затем, что матери Изиде,
Кого случится в странном виде
В насмешку свету произвесть,
Тому она сама покров в такой обиде:
Дарит другое что ни есть...
Это герой поэмы! — Каков? — А вот один из его подвигов!
• ••«••а . .
Нечаянно в одной долине пред собою
Он видит трех девиц прередких красотою:
На солнушке рядком
Они глубоким спали сном.
Перфонтий наш свои шаги остановляет,
Рассматривает их от головы до ног;
Все части озирает
И вдоль и поперек.
То щурит на их грудь, на нежные их лицы
Свои татарские зеницы, ^
Как постник на творог;
463
То вновь распялит их, как будто что смекает,
И так с собою рассуждает:
«Не жалко ль, если разберу,
Что эти девки, как теляты,
Лежат на солнечном жару!
Ведь их печет везде: в макушку, в грудь и в пяты»,
и проч.
Эти три девицы были волшебницы; они исчезают из глаз героя
«Вастолы», и переводчик выразил это исчезновение следующим
прекрасным и энергическим стихом:
С сим словом трех девиц присутство исчезает.
Предоставляем здравому смыслу читателей судить — Пуш¬
кина ли это стихи?..
ПЕСНИ Т. м. ф. а.1 Часть первая. Издание второе, пополненное.
Санкт-Петербург. Печатано в типографии X. Гинце. 1835. 178. (8). С эпиг-*
рафом:
Faut-il gemir, faut-il chanter?
Chantons!
Lamartine**
ЕЛИСАВЕТА КУЛЬМАН. Фантазия. Т. м. ф. а. Санкт-Петербург. Пе¬
чатано в типографии X. Гинце. 1835. 135. (8). С эпиграфом:
«Бог послал ее на землю не для
того, чтобы оставить здесь, но чтобы
показать людям свое творение».
Надпись на памятнике Кульман*
Г-н Тимофеев принадлежит к числу самых деятельных
и неутомимых наших поэтов: стихотворение за стихотворением,
фантазия за фантазиею, повесть за повестью — успевай только
читать! — Право, с таким трудолюбием, с такою неутомимостью
можно поставить критику в совершенный тупик: бедная не
в силах будет следить за развитием поэта и преследовать его
успехи... Но наша критика (если только она есть) не может на¬
зваться бедною, истощенною труженицей, сколько потому, что
у нас - мало деятельных писателей, столько и потому, что у
наших писателей деятельность редко бывает признаком силы
и разносторонности таланта, что, прочтя и оценя одно их произ¬
ведение, можно не читать и не оценивать остальных, как бы
много их ни было, в полной уверенности, что они пишут одно
и то же, и всё так же. Нам кажется, что г. Тимофеев принадле¬
жит к числу таких писателей. Чего не пишет он, каких стихотво¬
рений нет у него!.. И повести, и фантасмагории, и песни, и с
рифмами и белыми стихами, и с припевами и без припевов, и,
* Должно ли стонать, должно ли петь? Будем петь! Ламартин
(франц.). — Редч
464
наконец, с затейлпвыми посвящениями отцам, матерям, дядьям,
братьям, сестрам, несчастным, русским и пр. и пр. Он под¬
делывается и под мысль, и под чувство, хочет взять то стран-
ностию, то затейливостью, вычурностью, то простотою, безыскус¬
ственностью — и что же? — ничто не удается!.. Несмотря на все
видимое разнообразие его произведений, они чрезвычайно по¬
хожи друг на друга, они все сравнены уровнем посредствен¬
ности. В некоторых из его стихотворений легко заметить блестки
ума; но чувства, но фантазии — нет и следов!
Взглянем на некоторые из его песен и спросим всякого,
справедливо ли наше мнение об нем или ложно, беспристрастно
дли пристрастно.
Здесь все мрачно, все здесь дико,
Всюду пусто, всюду тихо.
Каркай, ворон, квакай, жаба,
Пойте, войте, духи ада!
Каркай, демон, квакай, жаба,
Пойте, войте, духи ада!
Всюду мрачно, всюду тихо,
Все здесь пусто, все здесь дико!
Первым из этих куплетов начинается, а вторым оканчивается
пьеса «Отверженный». Вы думаете, что герой этой пьесы есть
какой-нибудь злодей, мучимый терзаниями совести; ничего не
бывало — это просто несчастный человек, с которым никто не
делился душою, которого никто не хотел приголубить. Где ж
здравый смысл, где логика? Разве искусство состоит в отсут¬
ствии здравого смысла, разве чувство идет наперекор логике?,.
Нет, милостивые государи, когда дело идет о творчестве, ум
ошибается против логики здравого смысла, а чувство всегда
согласно с нею. Вам теперь смешно стихотворение Ломоносова
«Заблудившийся Амур»2, а в свое время оно считалось чудом,
дпвом человеческого гения: что ж это значит? а то, что ум
сделал глупость; напротив, все, созданное чувством, никогда не
может казаться смешным, никогда не может устареть и обвет¬
шать. Обращаюсь к этим двум куплетам; не мечутся ли они
в глаза своей дикой странностью, своею нелепой нескладицей!
Разве пародия на два стиха Мицкевича есть поэзия?3 Разве
придуманная дикость есть фантастическое? Разве демоны кар¬
кают?..
Спи, малютка,
Спи спокойно,
Баю, баиныш, баю!
Жили, были
Брат с сестрою.
Демон в брата
Поселился;
Брат в сестрицу
Вдруг влюбился.
Клара с братом
Разлучилась,
465
Клара в келью
Заключилась.
Спи, малютка,
Спи спокойно,
Баю, баиньки, баю!
•
В мрачном лесе
Через месяц
Путник встретил
Труп холодный.
Труп был черен,
Уголь углем;
Вместо носа
Кость да яма,
Рот исклеван
Ястребами;
Лоб источен
Весь червями;
Возле трупа
Нож булатный..,
Спи, малютка,
Спи спокойно,
Баю, баиньки, баю!
Конечно, от этих стихов и взрослый заснет спокойно и крепко,
тем более младенец; но скажите, бога ради, к какой стати петь
над колыбелью невинного существа о таких отвратительных
мерзостях? — Пьеска эта посвящена «любительницам чрезвы¬
чайно странного»4 и это не добре: лучше бы посвятить ее
вообще всем «любителям нелепого»!
Грамматика
Если б можно было сделать,
Чтоб, в грамматике людей,
Бог дал более согласных
И поменьше запятых;
Чтоб отныне и вовеки,
С разрешения судьбы,
Существительное имя
Было истина у всех,
С прилагательным — святая
И с числительным — одна,
Без пустых местоимений,
И без грозных падежей!
Чтоб наречье было просто,
Как наречие детей,
Без страдательных глаголов,
Без предлогов, без прикрас;
Чтоб союз и был союзом,
А не вывеской одной,
Без условного уж если б
И холодного или;
Чтоб святое междометье
Вылетало от души,
А не так, как ныне в свете!..
406
II тогда уж пз людей
Мы бы стали снова дети,
Но счастливее детей!..5
И это стихотворение написал поэт, художник, словом, человек
с талантом, с дарованием?.. Еслп так, то, признаюсь, кто ж не
поэт, что не поэзия? — Такая холодная, такая полезная аллего¬
рия — откуда она вырыта?.. Уж не из погребов ли Сумароковых,
Грамматнных, Николевых? — Или и в самом деле поэзия есть
забава, игрушка, невинное препровождение времени?.. Может
быть — для иных?
Перелистываю все стихотворения г. Тимофеева и вижу, что
он иногда не чужд идей, как, например, в «Свободе художни¬
ка», «Хандре», «Наполеоне» и пр.; но все эти идеи не проходят
чрез фантазию; все мертво, холодно, бездушно, вяло; все пока¬
зывает, что он делает свои стихи и, может быть, дойдет до
искусства делать их хорошо, пе будет позволять себе, для риф¬
мы, слов, подобных «юбилеем» (вместо празднуем), а для
меры — усечений вроде «Италья», «Флоренцья» и пр. Но поэтом,
художником он никогда не будет, потому что до этого нельзя
достигнуть ни навыком, ни ученьем, ни прилежанием, ни даже
смертельною охотою.
Из всех песен г. Тимофеева нам показалась одна «Просто¬
душный», не по своей художественности, а по какой-то наив¬
ности. Вот она:
Говорят, есть страна,
Где не сеют, не жнут,
Где всё песни поют.
Где мужья видят жен
В месяц раз, много два;
Где все песня одна...
Где живут так и сяк,
Чтоб блеснуть да пожить,
Да поесть, да попить.
Где умен, кто силен;
Все отцы чудаки,
Где все носят очки.
Где все есть напрокат:
И друзья и жена,
И нарча и родня.
Где все лезет, ползет,
Тихомолком, тайком,
Все бочком, червячком.
Где сквозь солнце льет дождь,
Где всегда маскарад:
Пой, пляши — рад не рад.
Где ж она, та страна
Где не сеют, не жнут,
Все поют да ползут? *,
467
Все, что мы сказали о г. Тимофееве как поэте, по поводу
его мелких стихотворений, все это оправдывается, как нельзя^
лучше, и его фантазиею «Елизавета Кульман». Это произведе¬
ние решительно ничтожно. Автор имел претензию возвысить
пашу душу, умилить и растрогать, представя нам гения, помазан¬
ника провидения, и — насмешил до слез. Этак не поминают по¬
койников!..
Г-н Тимофеев, в нескольких поэтических картинах, пред¬
ставляет нам развитие внутренней жизни генияльной девушки.
Но что такое генияльная девушка? Амалия, Миньона, Текла?..6
Это вопрос посторонний, и мы почитаем неприличным рассмат¬
ривать его теперь. Скажем только, что г. Тимофеев представля¬
ет нам душу гения-поэта, гения-художника — и его пьеса не
есть поэтический анализ души художника: нет, это какая-то
фантасмагория, смелая по своей идее, достойная бога Аполло¬
на и опасная ддя Икаров... но у г. Тимофеева достало смелости
взять на себя выполнение такой идеи! — Надо сказать, она не¬
обыкновенна потому только, что требует слишком много оду¬
шевления, огня, роскошной фантазии. Дело в том, что у г. Ти¬
мофеева действуют гении, силы природы, принимающие на себя
человеческие формы; у него является даже бедность в образе
женщины. Согласитесь, что это мысль детская и по тому само¬
му требующая фантазии молодой, игривой, пылкой. Да! много
надо поэзии, чтобы сделать вероятным невероятное, истинным
ложное, действительным волшебное. Я не буду всей разбирать
«фантазии» г. Тимофеева, укажу только на одно место, которое
показалось мне курьознее других. Гений разговаривает с Ели¬
заветою Кульман и описывает ей аллегорически Грецию, как
страну, в которую она должна направить свою деятельность
и свои дарования; едва успел гений исчезнуть, как входит учи¬
тель Елизаветы и предлагает ей учиться по-гречески. «Елизавета
в изумлении, стоит неподвижно от восторга; на глазах ее слезы.
Она кидается в объятия учителя...»
Мы почитаем «фантазию» г. Тимофеева оскорблением па¬
мяти Елизаветы Кульман во всех отношениях. Елизавета Куль¬
ман, без всякого сомнения, была явлением необыкновенным, не
как поэт, не как художник, а просто как какое-то чудо природы,
какое-то странное и прекрасное отступление ее от своих обыч¬
ных законов. Мы читали в «Библиотеке» статью г. Никитенки
о Елизавете Кульман, статью живую, одушевленную, горячую;7
только нам показался неверным и ложным взгляд автора на
Елизавету Кульман, как на поэта; приведенные им стихи показы¬
вают, что она не была даже версификатором, не только поэтом;
несмотря па то, эта прекрасная статья заставила нас удивляться
Елизавете, как чудесному и прекрасному явлению, промелькнув¬
шему в мире падучею звездою. На память Елизаветы Кульман
можно написать элегию или другое какое-нибудь лирическое
стихотворение; но написать такую фантасмагорию и заставить
468
все силы природы, небо, землю и ад, принять участие в жизпп
этой необыкновенной, но отнюдь не генияльной девушки, значит
оскорблять ее память. Такого рода фантасмагория могла б
представить Шекспира, Байрона, Шиллера, Гете, как таких лю¬
дей, в генияльности которых убеждено все человечество; если б
такая фантасмагория была и неудачна, по крайней мере в ней
был бы смысл.
Должно, однако, присовокупить, что фантазия г. Тимофе¬
ева, лишенная даже призрака поэзии, написана очень гладкими
п бойкими стихами; что и в ней, как во всех произведениях
г. Тимофеева, играют не последнюю роль вороны: г. Тимофеев
очень любит ворон!8
СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. Часть четвер¬
тая. Санкт-Петербург. Печатано в типографии императорской Российской
академии. 1835. 189. (8).
Четвертая часть стихотворений Пушкина заключает в себе
двадцать шесть пиес, и в числе их известный всеми наизусть
«Разговор книгопродавца с поэтом», напечатанный, вместо пре¬
дисловия, при первой главе «Евгения Онегина» первого изда¬
ния; потом, три большие сказки и, наконец, шестнадцать песеп
западных славян, переведенных или переделанных с француз¬
ского (история этого перевода известна).
Вообще очень мало утешительного можпо сказать об этой
четвертой части стихотворений Пушкина. Конечно, в ней видеп
закат таланта, но таланта Пушкина; в этом закате есть еще ка¬
кой-то блеск, хотя слабый и бледный... Так, например, всем из¬
вестно, что Пушкин перевел шестнадцать сербских песен
с французского, а самые эти песни подложные, выдуманные
двумя французскими шарлатанами,— и что ж?.. Пушкин умел
придать этим песням колорит славянский, так что, если бы его
ошибка не открылась, никто и не подумал бы, что это песпи
подложные1. Кто что ни говори — а это мог сделать только
один Пушкин! — Самые его сказки 2 — они, конечно, решитель¬
но дурны, конечно, поэзия и не касалась их; * но все-таки они
целою головою выше всех попыток в этом роде других наших
поэтов. Мы не можем понять, что за странная мысль овладела
пм и заставила тратить свой талант на эти поддельные цветы.
Русская сказка имеет свой смысл, но только в таком виде, как
создала ее народная фантазия; переделанная же и прикрашен¬
ная, она не имеет решительно никакого смысла. «Гусар»,
* Впрочем, сказка «О рыбаке и рыбке» заслуживает внимание по
крайней простоте и естественности рассказа, а более всего по своему раз¬
меру чисто русскому. Кажется, наш поэт хотел именно сделать попытку
в этом размере и для того нарочно написал эту сказку.
469
«Будрыс и его сыновья», «Воевода» — все эти пьесы не без до¬
стоинства, а последняя решительно хороша: такие стихи, как, на-,
пример, эти, теперь очень редкп:
Говорит он: «Все пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:
Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье —
Воевода всё купил.
Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я —
От меня ты отперлась.
Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он,
И ему ты отдалась.
Я скакал во мраке ночи
Милой панны видеть очи,
Руку нежную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лет ей и веселья,
И потом навек бежать.
Здесь есть чувство; но прочее по большей части показывает
одно уменье владеть языком и рифмою, уменье, иногда уже
изменяющее, потому что нередко попадаются стихи, вставлен¬
ные для рифмы, особенно в сказках, стихи, в которых отсут¬
ствует даже вкус, видно одно savoir-faire *, и то нередко
с промахами!..
«Разговор книгопродавца с поэтом» привел нас в грустное
расположение духа: он напомнил нам золотое время поэзии
Пушкина, то время, когда —как говорит он сам о себе в этой
пьесе —
Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мною всюду он летал,
Мне звуки чудные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйной,
Иль иволги нанев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной 3.
♦уменье (франц.). —Ред,
т
Да, прекрасное было то время! Но что нам до времени? опо
прошло, а прекрасные плоды его остались, п спп все так же
свежи, так же благоуханны!..
В том же «Разговоре книгопродавца с поэтом» поразило
нас грустным чувством еще одно обстоятельство: помните ли
вы место, где поэт, разочарованный в женщинах, отказывается,
в своем благородном негодовании, воспевать их? В первом из¬
дании «Евгения Онегина», при котором был приложен и этот
поэтический «Разговор», поэт говорит:
Пускай их Шаликов поет,
Любезный баловень природы!
Теперь эти стихи напечатаны так:
Пускай их юноша поет,
Любезный баловень природы!
Увы!.. Sic transit gloria mundi!..*
Но в четвертой части стихотворений Пушкипа есть одно
драгоценное перло, напомнившее нам его былую поэзию, на¬
помнившее нам былого поэта: это «Элегия». Вот она:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье,
Но как вино, печаль минувших дней
В моей душе чем старей, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать:
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.
И ведаю: мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной!4
Да! такая элегия может выкупить не только несколько сказок,
даже целую часть стихотворений!..
О ДОЛЖНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА, СОЧ. СИЛЬВИО ПЕЛЛИКО,
ПЕРЕВЕДЕНО С ИТАЛЬЯНСКОГО НИКОЛАЕМ ХРУСТАЛЕВЫМ. Одесса.
У книгопродавца Д. Миевпля. 1835. XXII — 217. (12). С эпиграфом:
«Правда бо бессмертна есть».
Премудр. Солом. 1.15,
У нас, в Москве, затевалось было издание этого сочинения
Сильвио Пеллико, и в «Телескопе» был помещен отрывок из
этого переводано Одесса упредила Москву: честь и слава
* Так проходит слава мирская!., (лат). — Ред.
471
ей! Из этого видно, что Сильвио Пеллико очень посчастливи¬
лось на Руси. Книга его вышла очень кстати к великому посту,
потому что по своему характеру она самая великопостная. Силь¬
вио Пеллико есть взрослый ребенок, который с наивным убеж¬
дением предлагает самые простые и самые ходячие житейские
правила; он может быть очень полезен нашим взрослым детям,
которых у нас много. Перевод очень хорош, а издание не усту¬
пает лучшим петербургским. Сильвио Пеллико прославился сво¬
ими страданиями и терпением, с которым он их переносил.
Кроме того, он принадлежит к числу самых деятельных итали-
янских литераторов: он участвовал в издании журнала «Посред¬
ник» 2 и написал с полдюжины трагедий. Судя по его книге
«О должностях человека», эти трагедии должны отличаться неимо¬
верною энергиею мысли и чувства...
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ БРЕДНИ И ЗАПИСКИ ДОРМЕДОНА ВА¬
СИЛЬЕВИЧА ПРУТИКОВ А. Москва. В типографии Н. Степанова.
1836. Две части: I — IV, 263; II — 306. (12). С эпиграфом:
За все прочее, пожалуй, бранитесь,
Лишь за правду не сердитесь.
Автор этой книги говорит в своем предисловии:
Я не романтик, не классик; нет у меня ни эффектов, ни потрясений,
ни смертоубийств, даже ничего нет фантастического? что же это такое?
Безымянный выродок. Вот, скажут, автор не знает эстетики: нет ничего
трансцендентального, индивидуального, объективного, штиль не новый,
слог простой и рубит сплеча.
Вот какие речи отпустил нам Дормедон Васильевич! Мы,
с своей стороны, скажем только то, что в его «Записках» в са¬
мом деле нет ни идеализма, ни трансцендентализма: в них, на¬
против, абсолютный нигилизм с достаточною примесью безвку¬
сия, тривияльности и безграмотности. Стиль, или, как говорит
автор, штиль его не новый: это правда; его слог допотопный*
ископаемый, его язык есть язык Тредиаковского, Симеона По¬
лоцкого, Сумарокова. Его слог, говорит он, простой и рубит
сплеча: правда, он точно уж чересчур простоват, а как он
рубит сплеча, об этом судите сами по отрывку следующей
курьозной пьесы.
Был, изволите видеть, майор Трубин, которого дернуло же¬
ниться в сорок пять лет на молодой девушке; у майора был
любимый денщик, Козмич, обладавший столь великим умом,
сколько прилично иметь денщику. Через пять лет после своего
брака майору надо было куда-то отлучиться с своим денщиком,
После этого вступления вам будет понятен следующий отрывок,
который выписываем слово от слова, без всяких перемен;
472
«Мне минуло пятьдесят лет,— рюмил про себя майор.— Так и быть.
Я должен это помнить и беспрестанно благодарить бога, что он наградил
меня сокровищем. У меня жена бесценная, но мне пятьдесят лет — и я
должен остерегаться.— Ну если...» Тут опять майор задумался. Спя за¬
думчивость была не из тех, которая в златом виде нам все предметы пред¬
ставляет. Отъехав версты три, вдруг остановил он своего коня и верному
своему шталмейстеру Даниле Козмичу дал следующий приказ: «Воротись,
брат Козмич, домой». — Надобно вам сказать, не прерывая речи, что майор
своего слугу почти всегда братом Козмичем называл, хоть это ныне и пе
водится, однако он во всю жизнь свою от этой странной привычки отстать
не мог, и что, может быть, удивит более всего, это то, что он не иначе по¬
читал двуногое творение, человеком называющееся, как за себе подобного.
«Итак, брат Козмич, воротясь домой, — сказал майор, — скажи жене, чтоб
она сегодня сидела дома и отнюдь никого не принимала. Признаться тебе,
мне что-то не хочется, чтоб она без меня одна оставалась. Итак, воротись
домой, а потом догоняй меня скорее»... Козмич, услышав баринов приказ,
остолбенел! — Майор повторил свою речь. Козмич ни с места. Майор спро¬
сил: «Разве ты, Козмич, не слышишь?» — Козмич заставил себе опять по¬
вторить и тут пробормотал что-то про себя. «Ну что ж ты стал?» —
вскричал майор.— «Помилуйте, сударь, что вы над собой делаете! Разве
не жили вы на свете довольно, чтоб узнать?» — «Что это? — вскричал
майор, немного рассердясь, — ты меня уж в этом учить хочешь?» — Данило
умолк и, не говоря ни слова в ответ, поворотил иноходца и тихим шагом
пустился вспять.
Теперь, милостивые государыни, так как вам известно, что всякому
позволено думать, то, по вышеупомянутым Локковым правилам, Козмич
свое задумал, а мы оставим его покамест думать на дороге и послушаем
вас. «То-то мужчины, то-то мужья!» — скажете вы. Да, сударыни, что де¬
лать, согласен с вами: плохо они, конечно, делают, и готов с вами восклик¬
нуть, что в сем случае сами себе горе накликают. Но к чему накликать?
Как вы изволите знать, и без наклички часто горе бывает, не во вред то
вашей чести будь сказано. Но полно, воля ваша, с примечаниями мы ввек
не кончим. Вы же сами на меня прогневаетесь, что я заболтался. Вспом¬
ните, что мы Козмича в трудных размышлениях на дороге оставили, а
паче всего вспомните опять и то, что я его обещался в передний угол поса¬
дить, а вы увидите, чю я его не даром, а за услуги сажаю. Ехавши доро¬
гою, Козмич рассуждал так: «Вот господа, вот мужья! делай по их воле.
Кому охота на каторгу? А мой барин сам на беду накупается. Что теперь
делать? — Как не сказать барыне, от барина мне беда, и сказать ей, от
барыни барину беда, как снег на голову. Боже упаси!.. Е-ге! постой!»
Вдруг махнул Козмич пегого иноходца и как из лука стрела к воротам
прилетел. Майорша, сидя у окошка, печально на дорожку посматривала,
по которой милый ее муженек поехал. Увидя Данилу, стремглав бросилась
к нему: «Что ты, Козмич? не случилось ли чего?» — «Нет, сударыня, все,
слава богу, подобру-поздорову! Барин приказал кланяться, приказал ска¬
зать, приказал доложить, не извольте, дискать, без него на барбосе верхом
садиться; он, дискать, хоть и смирная собака, однако, дискать, шуток не
любит и верно-де вас укусит». Отдав свой рапорт, Козмич пустился по до¬
роге вслед за майором. Майорша возвратилась в свою комнату и крепко
задумалась. На правду напасть не мудрено, а особливо с хорошим вообра¬
жением. Обдумав дело хорошенько, майорша так, как и многие прочие,
самым ясным образом открыла загадку и рассудила так: «Что значит этот
повелительный приказ? — говорила она про себя. — А! я это ясно вижу:
эти мужья пас пробуют — и хотят узнать, далеко ли наше послушание
простираться может; но нет, полно, за тем ли я посвятила ему молодость
и провождаю дни мои с стариком, чтоб повиноваться смешным его хоте¬
ниям? — Нет, я докажу, что женщины могут исполнять свою волю, когда
только захотят, и не рождены быть невольницами. Довольно было ему
моих угождении».
473
Вам, милостивые государыни, без сомнения, известно, что у любезного
Пола решение с исполнением почти в одинаковом времени, вовсе в против¬
ность приказного порядка, где иногда нарочитое время проходит; следоза-
тельно, майорша вышесказанное свое решение немедленно в исполнение
произвела: на барбосе ну верхом ездить. Барбос, чтоб огрызаться, не тут-
то было! на барбоса пуще навалилась, доколе барбос, как сущий грубиян
и сущая собака, милую ношу с себя не сбросил и больно барыне ручку
не укусил. Горько наша майорша заплакала. Но что делать? Своя была
на то воля, а я часто примечал, что в сих случаях скоро болезнь проходит.
Бальсамом и кое-чем руку примочили и препорядочно завязали; на другой
день по возвращении майора, не забыл он при первой встрече и будто
ненарочно о гостях спросить, на что желаемый ответ получил. Куда с ра¬
дости деваться? Обнимание, целование такое, что ни в сказке сказать, ни
пером написать. — А между тем майорша ручку спрятать не забыла.
Майор, чтоб ручки целовать, одной руки нет как нет! — «Что за про¬
пасть! — вскричал майор,— что с твоей ручкой сделалось?» — «Ничего, мой
друг, это так!» — «Как так? Ты меня до смерти напугала».— «Нет, право,,
ничего... я виновата, мой друг, я... Ты вчера приказывал о барбосе, а я
не послушалась, ездила на нем, и он мне руку укусил». Тут опять майорша
немного прослезилась. — «Что я приказывал вчерась? — вскричал майор: —
когда? с кем?» — «Да вчерась, с Данилою», — отвечала майорша с увери¬
тельным тоном. Дело уже шло не на шутку, и Данило на ту беду явись
в комнату. «Что я с тобой вчерась к жене приказывал?» — спросил его
майор. «Так, милостивый государь, — ответствовал Козмич, — я барыне ска¬
зал...» — «Что ты ей сказал?» — «Да, сударь, про барбоса». — «Что ты на¬
врал?» — «Нет, милостивый государь, не наврал, — сказал Козмич утвер¬
дительно. .. — Прошу вас только вспомнить теперь, про что вы мне
вчера приказали? Ну что ж, взгляните на барынину ручку, если б я ей
не то сказал?»... Говорят, будто бы майор умолк, и в собрании царство¬
вала несколько минут та тишина, об которой у нас на Руси говорят, что
тихий ангел пролетел; о чем каждый из них думал, не умею доложить, но
сказывали мне, что с тех пор майор Козмича за великого человека почи¬
тал, нередко его за урок благодарил, и будто бы майор соседям своим по¬
дал добрый совет никогда того не запрещать, чего преступить еще в го¬
лову не приходило, поелику из противоречия случиться может то, чего из
доброй воли не случалось.
Теперь, сударыни, сами извольте сказать, не справедливо ли я Козмича
в передний угол посадил? 1
Говорят, что эта пошлая сказка принадлежит Боккачио; ес¬
ли это правда, то удивительно, как она перешла в фантазию
русской черни; любой кучер или лакей перескажет вам ее по-
своему. Кучера и лакеи любят соблазнительные истории насчет
господ, в этом нет никакого дива; но странно, как вздумал ее
пересказывать г. Прутиков, этот старец, который беспрестанно
твердит о нравственности, который недоволен всем современ¬
ным, и Английским клубом, и новейшими романами, и новей¬
шею литературою, и новейшим покроем платья, и новейшим по¬
колением, потому что во всем этом видит совершенную
безнравственность? Если поверить его мудрости, то в настоя¬
щее время все безнравственно— даже тротуары, по которым
ходят люди, и крыши домов, по которым ходят галки и трубо¬
чисты; что правда, совесть, честь существовали только в стари¬
ну, в то время, когда люди хвастались безбожием, щеголяли
кощунством, гордились числом обольщенных женщин и убитых
474
противников, когда судьи перед зерцалом2 торговались с про¬
сителями, словом, это время, так прекрасно характеризовавшее
бессмертньш Грибоедовым. И вот какими средствами, вот кл-
кпм путем хочет почтенный старец обратить на истинный путь
наш безнравственный век! Но это явная ошибка в расчете со
сторопы автора: он, кажется, не понял нашего века; едва ли
и наш век поймет его. И это очень естественно: времена,
а вместе с ними и понятия о нравственности переходчивы. По¬
этому, да не осуждает нас почтенный старец, если мы объявим
ему за тайну (для него), что его понятия о нравственности нам
кажутся совершенно безнравственными. Мы, люди новейшего
поколения, мы презираем браком по расчету, презираем этою
торговою сделкою, уничижающею достоинство человека и об¬
щества, но уважаем идею брака, как священного союза двух
душ, понимающих одна другую, союза любви, освящаемого чув-
ствОхМ и религиею. Поэтому, в наших глазах, старик, женившийся
на молодой девушке, есть или глупец, стоящий на степени
бессмысленного животного, или отвратительный сластолюбец,
что едва ли еще не хуже; и потому нам смешна и верность
маиорши, и любовь майора, и еще смешнее показалась бы из¬
мена его сожительницы. Потом, мы, люди новейшего поколе¬
ния, слишком уважаем идею женщины, слишком горячо верим
в достоинство человеческое и возможность его в обоих полах,
слишком убеждены в добродетели женщины, которая способна
возвыситься до святого чувства любви, чтобы не верить в чис¬
тоту и твердость женщины; мы даже не почитаем за доброде¬
тель этой чистоты и твердости, а видим в них простое и обык¬
новенное исполнение долга, даже и не исполнение долга,
а просто естественное состояние женщины, потому что добро¬
детель есть усилие, победа над каким-нибудь порочным или
эгоистическим порывом, а любящая женщина не может иметь
подобных порывов в отношении своей верности к мужу, следо¬
вательно, у ней не может быть не только борьбы с преступным
чувством, но даже и мысли о такой борьбе. Видите ли, почтен¬
ный старец, мы обогнали вас в нравственностп и, следователь¬
но, не только не нуждаемся в ваших уроках, но еще почитаем
себя вправе задать вам порядочный. Ваша повесть не имеет для
нас ни значения, ни смысла; порядочная женщина не дочтет ее
до конца и не позволит читать ее своей дочери. Ваша повесть
может доставить удовольствие и пользу разве необразованно¬
му классу наших бородатых жрецов Бахусова храма, отмерива¬
ющих православным жестяными сосудами спиртуозную влагу.
Ваша повесть могла б иметь значение и смысл назад тому лет
двадцать, когда еще бродили гибельные правила осьмнадцатого
века, когда честь женщины почиталась позором, плебейскою
манерою, неумением жить в свете, когда брак почитался родом
вуаля, накидываемого на разврат, родом привилегии на распут¬
ство. Но и тогда вам не мешало бы иметь побольше вкуса и
475
Ъяпастись большею грамотностию, большим умением выражаться
ва языке понятном, жнвом, образованном, общеупотребитель¬
ном, а не на каком-то старинном подьяческом жаргоне.
Теперь же, в наше время, ваша повесть и все ваши нравственно¬
сатирические статейки даже не смешны, потому что уж черес¬
чур скучны и плоски. Вы сражаетесь с тенью, с призраком, вы
метите не туда, куда надо, вы прикладываете свои пластыри
к здоровым членам общества и не видите его истинных ран,
которых, конечно, много и которые, без сомнения, очень глубо¬
ки. Вы, например, нападаете на моды: старая, очень старая пес-
ня, такая старая, что в сравнении с ней «Выду я на реченьку» 3
кажется песнею, сейчас сложенною. Моды нисколько не вредят
обществу. Кто, при большом состоянии, разоряется от моды,
тот мот, расточитель, который разорился бы, если бы и не было
моды; кто, не имея состояния, гоняется за модами, тот сума¬
сшедший, который остался бы сумасшедшим, если бы и не было
моды. Притом, если от мод разоряется одно сословие, то бога¬
теет другое, следовательно, для государства нет вреда. Сверх
того, нынче уже признано, что и под модным фраком из доро¬
гого английского сукна и под золотистым жилетом может быть
благородное и пламенное сердце; что модная шелковая шляпа
ыожет покрывать голову великого и глубокого ума. Нынче все
согласны в том, что странность и неприличие в одежде обли¬
чает скорее суетное желание отличиться, выказать себя стран-
1юстию, обратить на себя общее внимание, чем истинную муд¬
рость. И в самом деле, человек, который сшил бы себе долго-
полый сюртук с высоким лифом на те деньги, на которые он
мог бы сшить модный сюртук, этот человек оказал бы себя или
чудаком, что, разумеется, не предосудительно, или глупцом,
что очень предосудительно. Так что же значат ваши нападки на
моды, почтенный старец? Знаете ли вы, что Россия, как и всякое
государство, обязана своим образованием, в числе многих дру¬
гих причин, наиболее моде? Петр Великий обрил наши бороды
и переменил наш костюм, что было необходимо для нашего
сближения с Европою и в умственном отношении; он заставил
нас учиться языкам и наукам. На кого прежде всего пало бремя
тягостной, но необходимой реформы? Разумеется, на двор.
Двору стало подражать богатое дворянство, этому мелкое дво¬
рянство, этому и разночинцы, а теперь купцы и мещане. Если
теперь образовываются по убеждению в пользе и необходи¬
мости образования, то тогда учились просто из моды, чтоб не
отстать от высших себя. Общество может идти вперед только
благоразумным и тихим отстранением старого и заменением
его новым. Да! мода есть благодетель обществ. Я не понимаю,
почему старинный, прочный, но неуклюжий и тяжелый берлин
лучше прочной же, но легкой и красивой кареты? А кто из
уродливого берлина сделал щегольскую карету? Мода, непосто¬
янная, беспокойная мода, всегда скучающая, всегда недоволь-
476
лая настоящим. Моде обязаны мы всеми удобствами нашей
жизни. Что же, почтенный старец, значат ваши нападки на
моду? Разве без вас никто не знал, что человек, посвятивший себя
исключительно на служение моде, есть человек пустой, ничтож¬
ный? О, нет! вы хотели блеснуть умом, похвастать остро¬
умием — и ошиблись в своем расчете, потому что кто нынче напа¬
дает на моды, того не читают...
Вы нападаете на Английский клуб, как на подрыв домаш¬
ней, семейной жизни — и опять невпопад! Можно иметь свои
дом, любить до безумия жену, словом, быть хорошим мужем
и отцом, и ездить в клуб. И почему же не должен ездить в клуб
пли собрание человек, которому ограниченное состояние не
позволяет заводить у себя дома собрания и давать балы?
В клубе не все же играют в карты, там и едят, и пьют, и говорят
и читают все, что представляет отечественная и иностранная
журналистика. Кто же охотник до карт, тот и дома и в гостях
мо^кет удовлетворить своей охоте.
Вы нападаете на современную литературу, находите ее
и безнравственною и бесчинною; вам не нравятся многие нынеш¬
ние романы; вы говорите, что их нельзя дать в руки девушке:
я не хочу защищать перед вами современной литературы и ны¬
нешних романов, потому что это был бы напрасный труд: мы не
поняли б друг друга. Скажу вам только, что многие из романов,
на которые вы намекаете, никогда не оскорбят в такой степени
нравственного чувства женщины, как повести вроде вашей
«Барбос, или На своем поставлю».
Вы доказываете, что не должно пьянствовать, клеветать на
ближнего, оплошно управлять имением и проч. Это истины не¬
оспоримые, и мы от души бы поблагодарили вас, если бы не
выучили их наизусть в наших азбуках и прописях, по которым
учились в детстве читать и писать. Жаль, что между этими по¬
лезными истинами вы пропустили одну, и очень важную,
а именно ту, что не должно писать и издавать книг, не выучив¬
шись грамоте и не умея порядочно выражаться на отечествен¬
ном языке.
Да, почтеннейший старец, Дормедон Васильевич, вы сража¬
етесь с тенью, с призраком, вы целитесь не туда, куда надо, вы
не понимаете истинных недугов человека и человеческого об¬
щества, вы не знаете этого великого правила, что «1а morale
est dans la nature des choses» *, а не в скучных поучениях
и тупоумных остротах.
Я написал об вашей книге не для публики: публика не про¬
чтет ее, можете быть в этом уверены; я написал это для вас,
чтобы защитить перед вами публику, показав причину ее невни¬
мания к вашей книге: будьте ж мне благодарны!..
* «нравственность в природе вещей» (франц.). — Ред.
477
ОТЕЛЛО, ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ, В. Г А У Ф А. Перевод с немец¬
кого. Издан Д. Паглановским. Санкт-Петербург, в типографии Конрада Впн-
гебера. 1835. 119. (12).
В Германии была некогда особенная литературная школа,
школа фаталическая, одно из самых несчастных и жалких за¬
блуждений человеческого ума. Фаталисты лишают человека
свободной воли, делают его рабом и игрушкою какой-то неотра¬
зимой, враждебной и грозной силы и, наконец, ее жертвою.
Кому не известно «Двадцать четвертое февраля» Вернера,
«Прародительница» Грильпарцера многие повести Тика и дру¬
гих? Гофман не принадлежит к этой школе; фаталическое
и фантастическое — не одно п то же. У Гофмана человек бы¬
вает часто жертвою своего собственного воображения, игрушкою
собственных призраков, мучеником несчастного темперамента,
несчастного устройства мозга, но не какой-то судьбы, перед
которою трепетал древний мир и над которою смеется новый.
Гауф, молодой человек с талантом, принадлежал к школе фата¬
листов, но он ушел очень недалеко. Его «Отелло» нисколько не
страшен, даже не смешон, а просто скучен, что всего хуже.
Перевод довольно плох. Издание могло бы быть опрятным,
если б печать не была испещрена бесконечным количеством про¬
писных букв, употребленных без всякой нужды, назло здравому
смыслу. Переводчик не только графу и барону, даже гению,
театральному режиссеру и суфлеру низко кланяется прописною
буквою. Не знаем, с чего "он также выдумал писать «дрожжатъ»
вместо «дрожать»? Неужели он этот глагол производит от
дрожжей? Опечаток, или, может быть, грамматических ошибок,
довольно.
РУССКАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ. Сочине¬
ние Николая Полевого. Часть третья. Москва. В типографии Н. Сте¬
панова. 1835. 505. (12).
Третья часть «Русской истории» г. Полевого превзошла все
наши ожидания 1. Это уже не просто чтение для детей, это уже
книга для всех. Автор оставил, или, лучше сказать, сбился с тона
детского рассказчика на тон повествователя, историка. Но, оста¬
вивши тон детского рассказчика, который, правду сказать, и в
первых двух томах состоял только в одних обращениях к «лю¬
безным читателям», он продолжает свое прекрасное сочинение
в каком-то общедоступном и всех удовлетворяющем тоне. Его
рассказ отличается изящностию и стройностию, представляет со¬
бою правильную, симметрически расположенную галерею
мастерских картин, пронпкнут одушевлением, полон мысли и,
вместе с этим, отличается такою простотою изложения, что,
478
удовлетворяя самого взыскательного ученого, доступен и для
детей и для простолюдинов. Тесные пределы, назначенные себе
автором, не только не повредили достоинству его сочинения, но
еще были одною из главных причин, способствовавших возвы¬
шению этого достоинства. Мы имеем насчет этого свои понятия:
мы убеждены, что один из главнейших недостатков «Истории
Российского государства» Карамзина заключается в том, что
она, объемля собою события, не простиравшиеся даже до из¬
брания Михаила, состоит из двенадцати, а не из трех или много-
много четырех томов. Мы не исключаем из этого недостатка
решительно все опыты — и предшествовавшие труду Карамзина
и последовавшие за ним. В самом деле, к чему служит слишком
подробное изложение событий, эта свалка, этот своз и важных
и пустых фактов? Не вредит ли это и общности событий, кото¬
рые должны врезываться в памяти мастерским изложением
и уловляться одним взглядом? Не вредит ли это и смыслу собы¬
тий, который у историка выражается в идеях? Покажите нам
характер исторического лица так, чтобы оно рисовалось в на¬
шем воображении, проходило перед нашими глазами со всеми
оттенками своей индивидуальности; уловите идею события
и выразите ее не рассуждениями и разглагольствованиями,
а изложением события так, чтобы идея сама невольно броса¬
лась, так сказать, в глаза читателя; представьте нам все фазы
жизни народа, все ее переходы и изменения, оттените и очер¬
тите их: вот долг историка. Для всего этого не нужно много¬
томных изложений фактов; все это виднее и яснее в сжатом,
сосредоточенном рассказе. Разбираемое нами сочинение слу¬
жит самым лучшим подтверждением справедливости нашего
мнения. Оно полно и обширно во всем смысле этого слова; его
первая часть даже могла б быть гораздо короче, не к ущербу,
а к усугублению своего достоинства. Оно совершенно удовлет¬
воряет те требования, которые мы полагаем в основу достоин¬
ства исторического сочинения. Характеры действователей в ней
изображены удивительно. По недостатку положительных
и фактических сведений, мы не можем ни поверять их с сказа¬
ниями летописей, ни ручаться за их историческую верность; но
можем смело уверить наших читателей, что эти характеры не
образы без лиц, не мертвые тени, а живые создания, которые
вы видите перед собою, которые имеют для вас не только
смысл и душу, но и тело, но и образ, определенный и типи¬
ческий. В этом отношении мы поспорили бы с почтенным авто¬
ром только насчет Иоанна IV. Нам кажется, что он не разгадал,
или, может быть, не хотел разгадать тайну этого необыкновен¬
ного человека. У нас господствует несколько различных мнении
насчет Иоанна Грозного: Карамзин представил его каким-то
двойником, в одной половине которого мы видим какого-то
ангела, святого и безгрешного, а в другой чудовище, изрыгну¬
тое природою, в минуту раздора с самой собою, для пагубы
и мучения бедного человечества, и эти две половины сшиты
у него, как говорится, белыми нитками. Грозный был для Ка¬
рамзина загадкою; другие представляют его не только злым, но
и ограниченным человеком; некоторые видят в нем гения. Г-н
Полевой держится какой-то середины: у него Иоанн не гений,
а просто замечательный человек. С этим мы никак не можем
согласиться, тем более что он сам себе противоречит, изобра¬
зив так прекрасно, так верно, в таких широких очерках этот
колоссальный характер. В самом рассказе г. Полевого Иоанн
очень понятен. Объяснимся. Есть два рода людей с добрыми
наклонностями: люди обыкновенные и люди великие. Первые,
сбившись с прямого пути, делаются мелкими негодяями, слабо-
душниками; вторые — злодеями. И чем душа человека огром¬
нее, чем она способнее к впечатлениям добра, тем глубже па¬
дает он в бездну преступления, тем больше закаляется во зле.
Таков Иоанн: это была душа энергическая, глубокая, гигантская.
Стоит только пробежать в уме жизнь его, чтобы удостове¬
риться в этом. Вот, четырехлетнее дитя, остается он без отца, п
кому же вверяется его воспитание? Преступной матери и са¬
мовольству бояр, этих буйных бояр, крамольных, корыстных,
которые не почитали за бесчестие и стыд лености, нерадения,
явного неповиновения царской воле, проигрыша сражения
вследствие споров о местах, а почитали себя обесчещенными,
уничтоженными, когда их сажали не по чинам на царских
пирах. И что ж делают с царственным отроком эти своекорыст¬
ные и бездушные бояре?.. Он рвет животное, наслаждается его
смертными издыханиями, а они говорят: «Пусть державный те¬
шится». Кто ж виноват, если потом он тешился над ними, свои¬
ми развратителями и наставниками в тиранстве?.. Он любит Те-
лепнева— и они вырывают любимца из его объятий и ведут его
на место казни. Душа младенца была потрясена до основания,
а такие души не забывают подобных потрясений. Он делается
юношею и распутничает: бояре видят в этом свою пользу и по¬
дучивают его на распутство. Но зрелище народного бедствия
потрясает душу юного царя и вдруг переменяет его: он женит¬
ся — и на ком же? на кроткой, прекрасной Анастасии; он уже не
тиран, а добрый государь, он уже не легкомысленный и ветре¬
ный мальчик, а благоразумный муж: какие люди способны к та¬
ким внезапным и быстрым переменам?.. Уж, конечно, не просто
добрые и неглупые!.. Он подает руку иноку Сильвестру
п безродному Адашеву; он вверяется им, он как будто пони¬
мает их, но поняли ль они его?.. Люди народа, они действуют бла¬
городно и бескорыстно, умно и удачно, но они оковывают волю
царя; эта воля была львиная и жаждала раздолья и деятель¬
ности самобытной, честолюбивая и пламенная... Своим влиянием
на ум царя они спеленали исполина, не думая, что ему стоит
только пожать плечами, чтоб разорвать пеленки. Они, наконец,
назначали ему и час молитвы, и час суда и совета, и час царской
480
потехи, покорили эту душу тджкому, холодному, чинному
и бездушному этикету, а эта душа была пылка, нетерпелива,
стояла выше предрассудков своего времени и втайне презирала
бессмысленными обрядами... И царь надел иго, слушался своих
любимцев, как дитя, казалось, был всем доволен; но его сердце
точил червь унижения... У царя есть сын и есть дядя — послед¬
ний обломок развалившегося здания уделов. Царь болен при
смерти; в это время Русь уже приучилась страшиться крамол;
наследство престола было уже определено и утверждено об¬
щим, народным мнением: сын царя был уже выше своего
дяди — и что же? При смертном одре умирающего венценосца
восстала крамола: бояре отрекаются от законного наследника,
к ней пристают Сильвестр и Адашев... Царь все видит, все слы¬
шит: его сан, его достоинство поруганы: у его смертного одра
брань и чуть не драка; справедливость нарушена: его сын ли¬
шен престола, который отдается удельному князю, который
в глазах и царя и народа казался крамольником, хотя был
и невинен, которому право жизни было дано как будто из ми¬
лости... Этот удар был слишком силен, нанесенная им рана была
слишком глубока: царь восстал для мщения... Трепещите, буй¬
ные и крамольные бояре! ваш час пробил, вы сами накликали
кару на свою голову, вы оскорбили льва, а лев не забывает
оскорблений и страшно мстит за них... Царь выздоровел, огля¬
нулся назад: назади было его сирое детство, казнь Овчины-
Телепнева, тяжкая неволя и ненавистная боярщина, наругавшая¬
ся над его смертным часом, оскорбившая и закон, и справед¬
ливость, и совесть; взглянул вперед: впереди опять тяжкая
неволя и ненавистная боярщина... Мысль об измене и крамоле
сделалась его жизнию, и с тех пор он везде и во всем мог
видеть одну измену и крамолу, как человек, помешавшийся от
привидения, везде и во всем видит испугавший его призрак...
К этому присоединилась еще смерть страстно любимой им
Анастасии... И теперь как понятно его постепенное изменение,
его переход к злодейству!.. Ему надлежало бы свергнуть с себя
тягостную опеку, слушать советы, а делать по-своему, не питать
веры, но быть осторожным с боярщиною и править государст¬
вом к его славе и счастию; но он жаждет мести, мести за себя,
а человек имеет право мстить только за дело истины, за дело
божие, а не за себя... Мщение, может быть, сладкий, но ядови¬
тый напиток; это скорпион, сам себя уязвляющий... Кровь тоже
напиток опасный и ужасный: она что морская вода — чем боль¬
ше пьешь, тем жажда сильнее; она тушит месть, как тушит мас¬
ло огонь... Для Иоанна мало было виновных, мало было бояр —
он стал казнить целые города: он был болен, он опьянел от
ужасного напитка крови... Все это верно и прекрасно пзображс-
но у г. Полевого, и в его изображении нам понятно это
безумие, эта зверская кровожадность, эти неслыханные злодей¬
ства, эта гордыня и, вместе с ними, этн жгучне слезы, эта
16 В. Белинский, т. 1
481
мучительное раскаяние и это унижение, в которых п(р)оявлялась
вся жизнь Грозного; нам понятно также и то, что только ангелы
могут из духов света превращаться в духов тмы... Иоанн поучи¬
телен в*своем безумии, это не тиран классической трагедии, это
не тиран римской империи, где тираны были выражением свое¬
го народа и духа времени: это был падший ангел, который и в
падении своем обнаруживает по временам и силу характера
железного и силу ума высокого2. По мнению г. Полевого, он был
выше отца своего и пиже деда, в котором он видит какого-то
Петра Великого. Итак, очевидно, что излишнее пристрастие
в пользу Иоанна III заставило историка быть пристрастные
в невыгоду Иоанна IV. Славпый дед Грозного нейдет ни в какое
сравнение с Петром: он был государь умный, хитрый, осторож¬
ный, благоразумный, твердый, по только во дворце, а не на
ноле брани; он обеспечил, благодаря своему осторожному уму
и судьбе, самостоятельность Руси, в которой, впрочем, долго
еще сам сомневался; он возвысил в глазах народа царский сан,
учредил восточный этикет: и вот его заслуга! Но Петра мы зна¬
ем великим и во дворце и на поле брани, всегда простым и де¬
ятельным; мы не столько удивляемся ему после Полтавской
битвы, сколько после Нарвского сражения; мы не столько удив¬
ляемся ему в его борьбе со внешними врагами, сколько
в борьбе с невежеством и фанатизмом народа...
Не имея ни времени, ни места, а притом и ожидая послед¬
ней части «Русской истории» г. Полевого, мы не можем входить
в ее подробное рассмотрение и должны ограничиться общими
замечаниями. Из исторических характеров с особенным искус¬
ством изображены: Василий Шуйский, Скопин-Шуйский, Ляпу¬
нов, Минин, Авраамий Палицын, потом слабый Михаил, искус¬
ный Филарет, Алексей и, наконец, патриарх Никон — это доселе
совершенно новое лицо нашей истории, в том смысле, что мы
еще не видели его ни в какой прагматической истории. Все
эпохи и почти все важные события показаны более или менее,
а иные и совершенно в новом свете: так, например, в особен¬
ности царствование Алексея Михайловича. В эпоху междоусо¬
бий, в ярком свете являются у историка мясник Минин и инок
Палицын, эти два величайшие героя нашей средней истории,
которым одним Русь одолжена своим спасением, потому что
Пожарский был только годным орудием в их руках. Ничто так
не поразительно, как дивная и горестная судьба этих трех вели¬
ких мужей: Минина, Палицына и Никона, которых колоссальные
облики изображены историком с особенною любовию и особен¬
ным успехом! Один из них, мяспик, которому каждый боярин,
каждый дворянин мог безнаказанно наплевать в лицо и расте¬
реть ногою, умел не только возбудить патриотический восторг
сограждан, но и поддержать его, согласить партии, примирить
вождей, понять Палицына, действовать с ним заодно, управлять
вместе с ним Пожарским и достигнуть своей цели; и что ж ста¬
482
ло с пим потом? ему дали дворянство и боярство3, но пе
пустплп в думу, где этот мясник мог оскорбить своим присутст¬
вием достоинство знаменитых бояр, которые все были так до¬
блестны, что и сам Мстиславский казался между ппмп гением
первой величины... Другой, святой и великий инок, разделивший
с нижегородским мясником венец спасения отечества, прими¬
ривший в лютую минуту страсти вождей, утишивший ропот буй¬
ной сволочи продажею священных сосудов, золотой утвари Лав¬
ры, является изгнанником в дальний монастырь, по воле полу-
державного инока, и скрывается от глаз изумленного его до-
блестию потомства в неизвестной могиле... Третий, друг и на¬
персник царя, муж совета и разума, восстановитель веры, гони¬
тель невежества и предрассудков, гибнет жертвою происков
опять той же боярщины... Какие люди! какая судьба!.. Честь
и слава таланту, умевшему представить в истинном свете таких
людей и такую судьбу!..
Нам кажется, что г. Полевой ошибся в объеме своего сочи¬
нения: первая часть его слишком велика, слишком несоответст¬
венна с стройностию целого; вторая и третья отличаются совер¬
шенною соответственностию друг другу и удивительною перспек-
тивностию событий; но какова же должна быть, в этом отноше¬
нии, последняя, то есть четвертая часть, которая должна
вместить в себе события от царствования Феодора Алексеевича
до наших дней?..4 Если она числом листов будет равна тре¬
тьей *, то будет казаться, в сравнении с предыдущими, каким-
то перечнем событий, приложенным в виде дополнения. Мы
уверены, что почтенный автор сам сознает свою ошибку и при
втором издании, которое, без сомнения, скоро будет потребо¬
вано публикою, исправит его и вместо четырех томов подарит
нас по крайней мере шестью. Тогда мы будем иметь историю
настоящую и удовлетворительную... Лучшая явится тогда, когда
наши исторические материялы будут совершенно объяснены
и разработаны критикою, а это будет не скоро!..
ПРЕДКИ КАЛИМЕРОСА. АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ МАКЕДОН¬
СКИЙ К Москва. В тппографии Н. Степанова. 1836. Две части: I — 272; II —
198. (8). С эпиграфом:
И снова в путь.
«Странник», ч. IV.,
Кому не известен талант г. Вельтмана? Кто не странствовал
с его «Странником» по всем странам мира, древнего п нового,
словом, везде, куда только влекла его прихотливая и причуд¬
ливая фантазия автора? Кто не жил с ним в баснословных вре¬
менах нашей Руси, столь полной сказочными чудесами, столь
* Которая состоит из двадцати одного листа.
16* 4.83
богатой сильными, могучими богатырями, красными девицами,
седыми кудесниками, всею нечистою силою, начиная от дедушки
Кощея Бессмертного до лохматого домового и обольститель¬
ной русалки старого Днепра? Кто не помнпт Ивы Олельковича,
с его «нетути» и кривыми ногами, кто не помнпт Мильцы
и Младеня? А Святослав, вражий питомец, его пестун — и кто
перечтет все эти фантастические полуобразы, эти пестрые кар¬
тины русского сказочного мира?..2 Да, все это носит на себе
печать истинного, неподдельного таланта, которого, правда, ни¬
когда не становится на что-нибудь целое, полное и стройное, но
который тем не менее превосходен в своем неоконченном, от¬
рывчатом, прыгучем, так сказать, характере. Сверх того, талант
г. Вельтмапа самобытен и оригинален в высочайшей степени; он
никому не подражает, и ему никто не может подражать. Он
создал себе какой-то особенный, ни для кого не доступный
мир; его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему.
Более всего нам нравится его взгляд на древнюю Русь: этот
взгляд чисто сказочный и самый верный. Кто бы стал поэтизи¬
ровать древнюю Русь в форме вальтерскоттовского романа, а не
в форме полуфантастической, полушутливой сказки — у того
вышел бы не роман, а какая-то пародия на роман, что-то блед¬
ное, безжизненное, насильственное и натянутое. За примерами
ходить недалеко. В свое время мы поговорим об этом попод¬
робнее. Да, мы твердо убеждены, что древняя Русь (то есть до
времен усиления Москвы) годится только на сказки, оперы,
фантазии и фантасмагории. Г-н Вельтман хорошо это попял,
п потому его романы читаются с удовольствием. Они народны,
в том смысле, что дружны с духом народных сказок, покрыты
колоритом славянской древности, которая дышит в дошедших
до нас памятниках. Он понял древнюю Русь своим поэтическим
духом и, не давая нам видеть ее так, как она была, дает нам
чуять ее в каком-то призраке, неуловимом, но характеристи¬
ческом, неясном, но попятном. Одно это может служить нео¬
провержимым доказательством неподдельности таланта
г. Вельтмана. В романе или повести, где представляется жизнь
действительная, талант иногда можно заменить знанием жизни
к людей, верным списком с существующих характеров, хорошим
слогом, умными заметками о жизни, воспоминаниями собствен¬
ной жизни. Конечно, и такой роман все-таки не будет художест¬
венным созданием, но он может занять на некоторое время
общее внимание, может прожить хотя короткое время. Но
в созданиях фантастических, сказочных — без таланта плохо*
Как пи натягивайтесь, а всё будете пли смешны, или скучны.
Чем вымысел нелепее, тем он неудачнее, если сделан, а не
создан. Гримаса должна быть к лицу, если она мила; у фантазии
есть свои гримасы.
Г-н Вельтмап начал свое поприще плохими поэмами в сти¬
хах3, но известность приобрел своим «Странником», этою ми¬
484
лою болтовнею в стихах и прозе, о том и о сем, а чаще пя
о чем. В «Страппике» выразился весь характер его таланта, при¬
чудливый, своенравный, который то взгрустнет, то рассмеется,
у которого грусть похожа на смех, смех на грусть, который
отличается удивительною способностию соединять между собою
самые несоединимые идеи, сближать самые разнородные обра¬
зы, от кофе переходить к индийской пагоде, от жида-фактора
к Наполеону, от перочинного ножичка к Байрону, из настояще¬
го перелетать в прошедшее и изо всего этого лепить какую-то
мозаическую картину, в которой все соединяется очень естест¬
венно, ничто друг с другом не ссорится, словом, все принимает
на себя какой-то общий характер. «Странник» — это калей¬
доскопическая игра ума, шалость таланта; это не художествен¬
ное произведение, а дело и шутка пополам; вы и посмеетесь,
и вздохнете, а иногда и освежитесь более или менее сильным
впечатлением творчества. Как бы то ни было, по крайней мере
вы не утомитесь, не соскучитесь от этой книги, прочтете ее от
начала до конца, без всякого усилия: а это, согласитесь, боль¬
шое достоинство. Много ли книг, которые можно читать — без
скуки, добровольно?.. 4
«Кощей Бессмертный» есть лучшее произведение г. Вельт¬
мана. Так как он следовал непосредственно за «Странником»,
то и подавал блестящие надежды на талант г. Вельтмана.
В самом деле, ничего нет основательнее, как ожидать после хо¬
рошего произведения того или другого автора еще лучшее, по¬
сле этого еще лучшее. Постепенная зрелость в последующих
произведениях есть самый верный пробный камень силы талан¬
та. Талант должен идти в гору, если он хочет творить не для
современников, а для потомства; в противном случае он есть
явление, может быть, прекрасное, но мимолетное, мгновенное,
падучая звезда, воздушный метеор. Все последовавшие за «Ко¬
щеем» романы г. Вельтмана были ознаменованы талантом
и достоинством, ио все они были ниже лучшего его произведе¬
ния «Кощея Бессмертного». В его «Мартыне Задеке»5 заметеа
какой-то намек на мысль глубокую и прекраспую, но эта мысль
выражена так загадочно, все создание, по обыкновению, изло¬
жено так отрывочно, что, право, все это начинало походить на
злоупотребление таланта, на какой-то фокус-покус фантазии.
Г-н Вельтман играет на свой талант, и публика не без основания
боится, чтоб он не проигрался...
«Александр Филиппович Македонский» есть продолжение
«Странника». Автор начинает так:
Хоть вы златницами меня обсыпьте и обвесьте,
Как пдолу молитесь мне,
Но с тем, чтоб я сидел на месте
И видел божий мир лишь в книгах да во сне..,
Не соглашусь!
Но если человек самой судьбою скован,
И счастье не везет... душа его на дне,
т
И он, как говорят по-польски, замурован,
Но видит божий мир и в книгах и во сне..«
Что ж делать!
В самом деле, это не совсем приятно; но г. Вельтман этим
нисколько не затруднился: он сел на гиппогрифа и поехал
в древность; вправо от него носились мифы, как инфузории
в капле воды; влево, по горам, тянулся Гуристан азов, фпники-
ян, скифов, цельтов, киммериан, хазар, печенегов!..
Счастливый путь г. Вельтману. Мы пе в силах следовать за
ним в его продолжительном путешествии в такую даль; мы пе
можем и пересказать всех диковинок, каких он там насмотрел¬
ся. Пусть читатели сами все узнают из его книги.
Однако ж нам хотелось бы дать какое-нибудь понятие
о его новом произведении: оно стоит, чтобы о нем поговорить
побольше, но мы все-таки боимся, что не сумеем хорошенько
сделать этого. Однако ж хоть как-нибудь...
Гиппогриф мой взвевал пыль преданий; не останавливаясь, проехал
я Хиера-Залу Белистана; взглянул на бюст Александра Великого... Не¬
обыкновенное сходство с Наполеоном!
В Тире г. Вельтман увидел Пифию; она взглянула на пего
молча, сладостно — и скрылась за занавесом.
Читали ль вы ответ пророчицы в глазах?
Все нервы в вас, как струны, загрохочут,
Когда светильники любви не в небесах,
А на земле блаженство вам пророчут!
О звездный свет от голубых очей!
О кудри, свитые из утренних лучей!
И бурею любви колеблемое лоно,
И эти лебеди Меандра — рамена! ..
Тс! Пифия нисходит уже с трона,
В объятья... да!.. в объятья сна!
Неправда ли, что Пифия прекрасна, что в нее можно влю¬
биться? Г-н Вельтман так и сделал — и сделал хорошо. Ему оста¬
валось только похитить ее; но как похитить Пифию?.. Да, это
хоть кого так поставило бы в тупик, но г. Вельтман недолго
думал; он сказал самому себе:
Но я влюблен, влюблен я страстно;
А страсть есть то же, что и власть:
Ей все возможно, все подвластно,
Страсть может Пифию украсть.
Я так и сделал. Ошибаются историки, которые похищение юной Пи¬
фии приписывают фессалийцу Ификрату.
Невозможно пересказать всех приключений г. Вельтмана.
Он познакомился с Филиппом Аминтовичем, отцом Александра
Филипповича Македонского; с его супругою Олимпиею, или Ва¬
силисою (не помню ее отчества, а справиться не имею времени),
с Аристотелем Никомаховичем, воспитателем Александра Ма¬
485
кедонского. Дочь Олимппп, Фессалину, взял на воспитание сам
г. Вельтман. Он видел, как рос Александр, сопровождал его
в походах, был с ним в Вавилоне п уже в этом городе, получив
из дому нежную заппсочку в стихах, расстался с всемирным
завоевателем и возвратился к нам, в Москву.
Похитив Пифию, г. Вельтман пустился в путь, но принужден
был оставить ее у пелазгов, которые жили на перепутии двух
дорог, пз которых одна вела в Латыны, а другая в Словены,
Перебравшись чрез Карпатскпй хребет, он очутился в садах
Одубешти и пил там превосходное вино, которое подкрепило
его сплы после путешествия в областях Эреба; но, желая воз¬
вратиться па родипу, оп отправился на станцию, чтоб взять по¬
чтовых лошадей. «Дп Граве Кай»,— вскричал он по-молдаван¬
ски. «Пожалуйте подорожную»,— отвечал ему «капитан-де-почт»
по-русски. Нос, глаза, усы, одежда и трубка в зубах доказыва¬
ли, что этот «капитап-де-почт» был или молдаван, или грек, или
по крайней мере римлянин. Г-н Вельтман рассердился на него
за требование подорожной, махпул рукою — и скуфия полетела
с головы «капитан-де-почт».
— Вот тебе и подорожная!
— Как вы смеете драться? —вскричал он, потеряв равновесие и па¬
пуши. — Я благородный, я Калимерос!
— Будь ты хоть Кали-еспера-сас, мне все равно.
— Нет, я не Кали-еспера-сас, а Калимерос! Вот извольте посмотреть
сами.
И «капитап-де-почт» достал из ковапого сундука почтовый лист
бумаги, на котором было написано: «Cet enfant est пё d’une des plus illustres
tiges; qu’il soit nominee Alexandre Kalimeros» *.
«Что это значит?—думал я, рассматривая черты «капитана-де-почт»;—
как он похож на бюст Александра Великого, который я видел в сирийском
храме, а бюст Александра Великого похож... о, это должно исследовать!»
— Не нужно лошадей! — вскричал я. — Я отправляюсь в глубокую
древность исследовать, действительно ли ты Калимерос!
— Заплатите прежде за бесчестье! — вскричал «капитап-де-почт», до¬
гоняя меня... Но я уже был за тридевять земель в тридесятом царстве.
«И это потомок великого человека! — думал я, пробираясь в Македо¬
нию; — о, справедлива немецкая пословица, что счастье глюк, а несчастье
унглюк!»
Итак — грек, «капитан-де-почт», носил фамилию Калимерос
и был похож лицом на бюст Алексапдра Великого, виденный
г. Вельтманом в сирийском храме, — ergo **, и Александр Велп-
кий должен был прозываться Калимеросом. Потом: известно,
что Наполеон происходит от одной греческой фамилии, пересе¬
лившейся в Италию по падении византийской империи, что эта
фамилия носила имя Калимеросов и что греческое «Калпме-
рос» было переведено на пталиянскпй слово в слово чрез «Ви-
ona-parte», что значит добрая участь; ergo, Наполеон есть по¬
* «Этот ребенок принадлежит к одному из самых знаменитых родов;
да зовется он Александром Калимеросом» (франц.). — Ред.
** следовательно (лат.). — Ред.
487
томок Александра Македонского. Какая чудная генеалогия! По
крайней мере чудная в том отношении, что доставляет нам нео¬
жиданное удовольствие познакомиться с Наполеоном еще пре¬
жде знакомства с его пращуром Александром Филипповичем...
Сначала роман г. Вельтмана удивил нас немного; мы дума¬
ли: как можно тратить свое время на такие, конечно, очень
милые, но вместе с тем и бесплодные вещицы? Это тем стран¬
нее, что талант г. Вельтмана годился бы на что-нибудь подель¬
нее и посущественнее... Что это такое? сказка не сказка, роман
не роман, а если и роман, то совсем не исторический, а разве
этимологический, потому что все действующие лица помешаны
на этимологическом производстве слов; пеужели г. Вельтман
захотел быть изобретателем особенного рода романов — эти¬
мологических/..
Но после мы поняли все: это не роман, а тонкая, злая
сатира на исторических мистиков и отчаянных этимологистов.
Вот доказательство: г. Вельтман доказывает, разумеется, шутя,
что Омир происходит от слова «по миру», потому что творец
Илиады был слепой старик и ходил по миру!.. У греков г. Вель¬
тман нашел и вареницы, и кадки, и бочонки, и все, что вы можете
найти в московском Охотном ряду... Очевидно, что это шутка!..
Но эта шутка написана мило, остро, увлекательно, очарова¬
тельно; читая ее, и не видишь, как перевертываются листы,
и только с досадою замечаешь, что близок конец. Итак, чита¬
тель, который хочет только позабавиться и имеет для этого сво¬
бодное время, может смело взяться за новый роман г. Вельтмана.
ОПЕРЫ И ВОДЕВИЛИ, ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО ДМИТ¬
РИЯ ЛЕНСКОГО. Москва, в типографии Н. Степанова. 1835. Две части:
1 -374; II-384. (8).
Г-н Ленский, без всякого спора, есть лучший наш водеви¬
лист: одно уже то, что он не украшает своих переделок ни
громкими предисловиями, ни замысловатыми эпиграфами, ни
даже сценами из Гете,— дает ему неоспоримое первенство1.
Сверх того — смысл, грамматика, иногда забавные куплетцы —
чего же больше от переделывателя французских опер и воде¬
вилей? — А все это есть в переделках г. Ленского. К чести его
можно отнести еще и то, что у него менее других плоских
экивоков и неблагопристойных острот, которыми наперерыв
щеголяют наши водевилисты.
Странный оборот приняло в наше время драматическое ис¬
кусство! Прежде хлопотали о развитии характеров, нынче все
заключается в музыке. Даже в водевилях слова как будто при¬
деланы к куплетам, а не куплеты к словам. О характерах забы¬
ли и думать. Как тут образовываться актерам? Им надо учиться
петь, а не играть. Право, хоть бы уж опять начали давать забы¬
тые комедии Коцебу! По крайней мере в ппх видны характеры,
а это первое дело в драматическом искусстве. Нынешние пьесы
видеть можно, но читать, право, нет мочи. Я помирал со смеху,
читая некоторые пьесы г. Ленского, но это оттого, что я вооб¬
ражал г. Живокини, для которого нарочно некоторые роли под¬
деланы, а без этого обстоятельства трудно б было и улыбнуть¬
ся. Нет, только та театральная пьеса хороша безусловно, кото¬
рую можно с удовольствием и читать и смотреть. Про нынешние
пьесы нельзя этого сказать: они пишутся для одной музыки,
и какой музыки? — водевильной!..
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «СОВРЕМЕННИКЕ»
Давно уже было всем известно, что знаменитый поэт наш,
Александр Сергеевич Пушкин, вознамерился издавать журнал;
наконец первая книжка этого журнала уже и вышла, многие
даже прочли ее, но, несмотря на то, у нас, в Москве, этот
журнал есть истинная новость, новость дня, новость животрепе¬
щущая, и в этом смысле то, что хотим мы сказать о нем, будет
настоящим известием. Дело в том, что у нас, в Москве, очень
трудно достать «Современника» за какие бы то ни было деньги;
песмотря на многие требования и нетерпение публики, в Моск¬
ву прислано его очень небольшое число экземпляров. Странное
дело! с некоторого времени это почти всегдашняя история со
всеми петербургскими книгами, не издаваемыми, хотя и прода¬
ваемыми г. Смирдиным, и не сочиняемыми или не покровитель¬
ствуемыми гг. Гречем и Булгариным. Эта же история случилась
и с новым произведением г. Гоголя «Ревизор»: судя по нетер¬
пению публики читать его, казалось бы, что в Москве в одип
день могла бы разойтись его целая тысяча экземпляров...1 На¬
конец и мы прочли «Современника» и спешим отдать в нем
отчет публике.
«Современник» есть явление важное и любопытное сколько
по знаменитости имени его издателя, столько и от надежд, воз¬
лагаемых на него одною частию публики, и страха, ощущаемого
от него другою частию публики. Г-н Сенковский, редактор «Биб¬
лиотеки для чтения», аристарх и законодатель этой последней
части публики, до того испугался предприятия Пушкина, что,
забыв обычное свое благоразумие, имел неосторожность ска¬
зать, что он «отдал бы все на свете, лишь бы только Пушкин не
сдержал своей программы» 2. Подлинно, что у страха глаза ве¬
лики, и справедливо, что устрашенный человек, вместо того
чтоб бить по призраку, напугавшему его, колотит иногда самого
себя...
Мы не будем входить в исследование вопроса: имеет ли
право Пушкин издавать журнал; мы даже не почитаем себя
вправе предложить такой вопрос и, как люди не испуганные и,
следовательно, сохранившие присутствие духа и владычество
рассудка, предоставляем другим подобные разбирательства:
ученому и книги в руки,— говорит пословица. Мы же с своей
стороны прямо и искренно выскажем наше мнение о «Совре¬
меннике», сколько позволяет это сделать первая вышедшая
книга.
Признаемся, мы не думаем, чтобы «Современник» мог
иметь большой успех; под словом «успех» мы разумеем не
число подписчиков, а нравственное влияние на публику. По на¬
шему мнению, да и по мнению самого «Современника», журнал
должен быть чем-то живым и деятельным; а может ли быть
особенная живость в журнале, состоящем из четырех книжек,
а не книжищ, и появляющемся чрез три месяца? Такой журнал,
при всем своем внутреннем достоинстве, будет походить на
альманах, в котором, между прочим, есть и критика. Что альма¬
нах не журнал и что он не может иметь живого и сильного
влияния на нашу публику — об этом нечего и говорить. «Библи¬
отека для чтения» особенно одолжена своим успехом тому, что
продолжительность периодов выхода своих книжек заменила
необыкновенною толстотою их. Какая тут живость, какая совре¬
менность, когда вы будете говорить о книге через три или че¬
рез шесть месяцев после ее выхода? А разве вы не знаете, как
неживущи, как недолговечны наши книги? Им не помогут и на¬
ши звездочки 3, потому что они родятся, по большей части, под
несчастною звездою. Вот что мы находим главным недостатком
в «Современнике».
Главное же достоинство его, если только это может
почесться каким-нибудь достоинством, состоит в том, что
в нем все статьи оригинальные, кроме, разумеется, стихотворений.
Каковы же эти статьи? А вот об этом-то мы и хотим по¬
говорить.
«Современник» состоит из пяти стихотворений и одинна¬
дцати прозаических статей. Стихотворения вообще все не без
достоинства, кроме «Розы и кипариса». «Пир Петра Великого»/
отличается бойкостию стиха и оригинальностию выражения.
«Скупой рыцарь», отрывок из Ченстоновой трагикомедии4, пере¬
веден хорошо, хотя, как отрывок, и ничего не представляет для
суждения о себе. Но «Ночной смотр» Жуковского есть одно из
тех стихотворений, которых у нас теперь в целый год является
не больше одного или двух... Это истинное перло поэзии как по
глубокой поэтической мысли, так и по простоте, благородству
и высокости выражения. Мы очень жалеем, что право собствен¬
ности и величина пьесы не позволяют нам выписать его. Из про¬
заических статей прежде всего должно говорить о двух статьях
г. Гоголя. Первая, «Коляска», есть не что иное, как шутка, хотя
и мастерская в высочайшей степени. В ней выразилось все уме¬
ние г. Гоголя схватывать эти резкие черты общества и уловлять
эти оттенки, которые всякий видит каждую минуту около себя
т
и которые доступны только для одного г. Гоголя. Но пьеса все-
таки не больше, как шутка, и, по нашему мнению, не может
заменить собою отсутствия повести, которая почитается у нас
необходимым украшением всякой книжки журнала, особливо
первой. Вторая статья г. Гоголя, «Утро делового человека», го¬
ворят, есть отрывок из его комедии. Во всяком случае, она
представляет собою нечто целое, отличающееся необыкновен¬
ною оригинальностию и удивительною верностию. Если вся коме¬
дия такова, то одна она могла бы составить эпоху в псторип
нашего театра и нашей литературы, а г. Гоголь одну уже напе¬
чатал и еще, говорят, готовит две...5 Эта пьеска есть отрывок
из которой-то из них, как мы слышали. «Путешествие в Арз¬
рум» самого издателя есть одна из тех статей, которые хороши
не по своему содержанию, а по имени, которое под ними под¬
писано. В самом деле, если есть на свете такие люди, которые
за что бы ни принялись, все портят, которые ничего не умеют
порядочно сделать, то есть и такие, которые ничего не умеют
сделать дурно. Статья Пушкина не заключает в себе ничего та¬
кого, что бы вы, прочтя ее, могли пересказать, что бы вас осо¬
бенно поразило, но ее нельзя читать без увлечения, нельзя не
дочитать до конца, если начнешь читать *. «Разбор сочинений
Георгия Конисского» хорош, в том смысле, что дает ясное по¬
нятие о разбираемой книге и возбуждает желание прочесть са¬
мую книгу. Суждение о Георгии Конисском как об историке
и историческом лице нам кажется справедливым, но чтобы
он был хорошим проповедником — с этим мы не согласны:
его красноречие — схоластическое и тяжелое7. Самые дурные
статьи— это «О рифме» барона Розена и «Париж», этот род
записки, писанной к приятелю на разных лоскутках, без всякой
связи и занимательности, дурным языком3. «Долина Ажитугай»
примечательна как произведение черкеса (султана Казы-Гирея),
который владеет русским языком лучше многих почетных на¬
ших литераторов 9.
Но самые интересные статьи — это «О движении журналь¬
ной литературы в 1834 и 1835 гг.» и «Новые книги»: в них видны
дух и направление нового журнала. «Журнальная литература,
эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же не¬
обходима в области наук и художеств, как пути сообщения для
государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли».
Так начинается первая статья, и мы выписали ее начало для
того, чтобы показать, что «Современник» имеет настоящий
взгляд на журнал10. В самом деле, смешно было бы думать
в наше время, чтобы журнал был энциклопедиею наук, пз кото¬
рой можно бы было черпать полною горстью знания, посредст¬
вом которой можно б было сделаться ученым. Только одни
* Кроме того, в этой статье есть превосходные стпхпа которыми пере¬
ведено одно турецкое стихотворение6.
491
невежды и верхогляды могут так думать в наше время. Жур¬
нал есть не наука и не ученость, но, так сказать, фактор
науки и учености, посредник между наукою и учеными. Как
бы ни велика была журнальная статья, но она никогда не
изложит полной системы какого-нибудь знания: она может
представить только результаты этой системы, чтобы обратить
на нее внимание ученых, как скорое известие, и публики,
как рапорт о случившемся. Вот почему такое важное мес¬
то, такое необходимое условие достоинства и существования
журнала составляет критика и библиография, ученая и литера¬
турная.
Главное содержание разбираемой нами статьи состоит
в суждении о литературных периодических изданиях в России за
1834 и 1835 гг. Мы почитаем за долг сказать, что все эти сужде¬
ния не только изложены резко, остро и ловко, но даже
беспристрастно и благородно; автор статьи не исключает из
своей опалы ни одного журнала, и хотя его суждение и о на¬
шем издании совсем не лестно для нас, но мы не видим в нем
ни злонамеренности, ни зависти, ни даже несправедливости11.
О «Библиотеке для чтения» высказаны истины резкие и горькие
для нее, но уже известные и многими еще прежде сказанные.
Одно только показалось нам и новым и крайне удивительным:
мы не знали до сих пор, что паяснические повести и гаерские
фанфаронады в критиках и рецензиях «Библиотеки» принадле¬
жат почтенному профессору О. И. Сенковскому, что Барон
Брамбеус и татарский критик Тютюнджи-Оглу тоже не кто дру¬
гой, как тот же г. Сенковский 12. О «Наблюдателе» сказана су¬
щая истина, почти то же самое, что было сказано и в нашем
журнале, только немного поснисходительнее. Вообще «Совре¬
менник», при всей своей благородной и твердой откровенности,
обнаруживает какую-то симпатию к «Наблюдателю». Например,
сказавши, что это журнал безжизненный, чуждый резкого
и постоянного мнения, он чрез несколько страниц приходит
в восторг от критик г. Шевырева; потом намекает о каких-то
перлах русской поэзии 13, будто бы находящихся в «Наблюдателе»,
а этот намек Довольно ясно намекает о знаменитых друзьях,
так по крайней мере нам показалось... В суждении о «На¬
блюдателе», к слову о его редакторе, высказана очень дельная
мысль, в том смысле, что обнаруживает верный взгляд на то,
чем должен быть журнал: «Редактор всегда должен быть вид¬
ным лицом. На нем, на оригинальности его слога, на общепо¬
нятности и занимательностп языка его, на постоянной свежей
деятельности его, основывается весь кредит журнала» 14. Вслед
за тем очень верно и очень остроумно замечено, что «„Наблю¬
датель" похож на те ученые общества, где члены ничего пе
делают и даже не бывают в присутствии, между тем как прези¬
дент является каждый день, садится в свои кресла и велит запи¬
сывать протокол своего уединенного заседания».
492
Превосходно также характеризована «Северная пчела»:
опа просто названа афишкою, в которой помещаются объявле¬
ния о книгах вместе с критиками па помадные и табачные ла¬
вочки, пишущиеся какими-то «ловкими и хорошо воспитанными
людьми, без сомнения, имевшими причины быть довольными
фабрикантами». Очень остроумно также замечено о редактор¬
стве г. Греча в «Библиотеке для чтения»: «Имя г. Греча выстав¬
лено было только для формы, по крайней мере никакого
содействия не было замечено с его стороны. Г-н Греч давно
уже сделался почетным и необходимым редактором всякого
предпринимаемого периодического издания: так обыкновен¬
но пожилого человека приглашают в посаженые отцы на все
свадьбы» 15.
Нас очень изумило в этой статье упоминовение о литератур¬
ных сплетнях и клеветах, издаваемых под именем «Литератур¬
ных прибавлений к Инвалиду»: неужели почтенный издатель чи¬
тал эти листки и нашел свободное время говорить о них?.. Впро¬
чем, одумавшись, мы перестали удивляться: в Москве очень
недавно один журнал с каким-то особенным удовольствием
объявил, что он живет в мире с «Литературными прибавления¬
ми к Инвалиду» — да продлит бог эту дружбу на бесконечное
время, для доказательства, что и в наше время могут быть
Оресты и Пилады!..16
Окончание статьи состоит в упреках нашим журналам, по
большей части очень основательных и справедливых, в том, что
они не замечали истинно важных явлений умственного мира,
а занимались одними мелочами. К числу важных явлений
умственного мира отнесена смерть Вальтера Скотта, одного из
величайших, мировых гениев искусства, требовавшая оценки его
произведений, о которых, однако ж, наши журналы не почли за
нужное сказать что-нибудь. Потом, новое направление европей¬
ских литератур, о котором, вопреки «Современнику», скажем,
было очень много говорено нашими журналами. К замечатель¬
ным явлениям нашей литературы, не замеченным нашими жур¬
налами, отнесено особенно появление изданий русских ста¬
ринных писателей; 17 но, спрашиваем мы почтенного издателя
«Современника» — что бы он сам сказал об этих писателях? —
Мы подождем его мнения о них, а после и сами выскажем
свое, чтобы загладить перед ним нашу вину в преступном мол¬
чании на их счет... Странным показалось нам мнение, что Жу¬
ковский, Крылов и кн. Вяземский будто бы потому не высказы¬
вали своих мнений, что считали для себя унизительным
спуститься в журнальную сферу...18 Это что такое?.. Кто ж ви¬
новат в том, что эти писатели так горды? Притом же что они за
критики? — Крылов, превосходный и даже генияльный баснопи¬
сец, никогда не был и не будет никаким критиком; Жуковский
написал, кажется, две критические статьи: «О сатирах Кантеми¬
ра» 19 и «О басне и баснях Крылова», и при всем нашем уваже¬
нии к знаменитому поэту мы скажем, что именно эти-то две его
статьи и показывают, что он не рожден быть критиком. Что же
касается до кн. Вяземского, то избавь нас боже от его критик
так же, как и от его стихов...
Мы не согласны еще с тем, что будто бы жалкое состояние
пашей журнальной литературы доказывается особенно тяжеб¬
ным делом о местоимениях сей и оный. Во-первых, этой тяжбы
никогда не было; редактор «Библиотеки» шутил при всяком
случае над этими подьяческими словцами, но статей о пих не
писал, а если и написал одну, то в виде шутки и поместил ее
перед отделением «Смеси»20. Мы, напротив, осмеливаемся ду¬
мать, что жалкое состояние нашей литературы и вообще пашей
умственной деятельности гораздо более доказывается защшце-
нием и употреблением сих и оных, нежели нападками на сии
и оные... Спрашиваем почтенного издателя «Современника»,
почему он, употребляя сии и оные, не употребляет сиречь, по-
нёже, поелику, аще, сице?.. Он, верно, сказал бы, потому, что
эти слова вышли из употребления, что они не употребляются
в разговоре?.. Но чем же счастливее их сии и оные, которые
тоже вышли из употребления и не употребляются в разговоре?..
Воля ваша, а, право, в нашей умственной деятельности, как и в
пашей общественной жизни, очень мало видпо владычества
здравого смысла, даже в мелочах; у нас всякий сам хочет да¬
вать законы, забывая, что, если что-нибудь найдено или замече¬
но справедливо другим, о том уже нечего говорить. Посмотри¬
те на одно наше правописание, или на наши правописания, пото¬
му что у нас их почти столько же, сколько книг и журналов: мы
еще изъявляем наше детское уважение большими буквами
и поэту и поэзии, и литератору и литературе, и журналу и жур¬
налисту — все это у нас, на Руси, состоит в классе и потому
требует поклона...
Вообще эта статья содержит в себе много справедливых
замечаний, высказанных умно, остро, благородно и прямо
н потому подающих надежду, что «Современник» будет журна¬
лом с мнением, с характером и деятельностию. Мы не почитаем
резкости пороком, мы, напротив, почитаем ее за достоинство,
только думаем, что кто резко высказывает свои мнения о чу¬
жих действиях, тот обязывает этим и самого себя действовать
лучше других. Что же касается до статьи «Новые книги»21, то
сна состоит больше в обещаниях, нежели в исполнении, и не
представляет ничего решительного и замечательного. Но подо¬
ждем второго номера: он нам даст средство высказать наше
мнение о «Современнике» яснее и. определеннее, а между тем
останемся при желании, чтобы новый журнал совершенно вы¬
полнил те надежды и ожидания, которые подает имя его изда¬
теля и резкая определенность его мнений о деятельности своих
собратий по ремеслу*
т
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ. Сочинение Ксенофонта
Полевого. Москва. В типографии Августа Семена. 1836. Две части:
1 — 374; II -384. (8).
Генпй есть самое торжественное проявлепие силы челове¬
ческого духа. Ниспосылаемый на землю, как решитель препятст¬
вий, затрудняющих ход человечества и народов, он есть как бы
фокус сознания современного ему человечества или своего на¬
рода. Неистощимый в силах и средствах, непобедимый в борь¬
бе, загадка для самого себя, то идол* то жертва людей, мученик
своего призвания, — какое высокое и умилительное зрелище
представляет он своею жизнию! И люди жадно смотрят на это
зрелище, когда поймут и сознают его величие, громко п с вос¬
торгом рукоплещут умершему актеру, которого освистывали
при его жизни, поклоняются, как идолу, закланной ими жертве,
И это очень естественно, очень понятно: с одной стороны, толь¬
ко в борьбе и битвах с жизнию творится великое, и, в таком
случае, люди бессознательно служат пружиною деятельности ге¬
ния; с другой стороны, только издалека греют и освещают лучп
солнца, а вблизи они, может быть, жгли бы и ослепляли; не
весною и не летом, а осенью, не в пышном и благоухающем
цвете, а в печальной и увядающей зелени, приносит дерево свой
плод. И как обвинять людей, что они редко оценивают гепия при
его жизни? Им мешают хладнокровно и беспристрастно всмат¬
риваться в его жизнь и отношения личные, и страсти
и страстишки, и самолюбие эпохи, а сверх того, они вообще
великанов почитают уродами и ищут предметов обожания себе
по плечу. Но как бы то ни было, а истина наконец восстановля-
ется, хотя и поздно, справедливость воздается, хотя и за гро¬
бом: закатившийся гений сияет людям ровным и тихим светом,
не ослепляя их глаз и ке скрывая от них своих пятен, и люди
с благоговением поклоняются тени великого, изучают его жизнь
и дела, чтобы добраться по ним, что такое были они сами в то
время, когда он представлял их собою, то есть мыслил, чувство¬
вал, страдал и делал за них. Редко являются на землю эти по¬
сланники неба, не каждый век и не каждый народ гордится ими.
Несмотря на свое родственное сходство, несмотря на тождест¬
во идеи, выражаемой их явлением, они стоят не всегда на
одной ступени величия, отличаются не всегда равною силою. Но
это часто зависит от обстоятельств, среди которых они являются
в мир. Александры, Цезари, Карлы, Лютеры, Наполеоны дей¬
ствуют прямо на все человечество, дают другое направление де¬
лам всего мира; Генрихи, Кольберты, Петры действуют иа чело-«
вечество и его будущую судьбу не прямо, а чрез свой народ,
подготовляя в нем нового действователя на сцене мира.
Наш Ломоносов принадлежит к числу этих скромных, но
тем не менее великих гениев последнего рода. Европа едва
знала о его существовании, отечество знало, и то в лице немно¬
гих, только имя Ломоносова, но не понимало идеи, значения
495
этого имени.* И теперь, когда уже наступило время беспри¬
страстного суждения об этом человеке, многие ли понимают всю
огромность его гения, многие ли даже уважают его по сознанию,
по убеждению, а не по привычке, не по урокам школы, врезав¬
шимся в памяти, не по нелепым возгласам педантов, прожуж¬
жавшим уши всему читающему миру?.. Да и за что, в самом
деле, уважать Ломоносова? Что он сделал? — Ровно ничего, ес-
йи угодно! — Где дела его? — Нигде, если хотите! — Но, спро¬
сим мы, в свою очередь, что сделал Петр Великий, где дела
его? — И на поверку выйдет опять-таки ничто и нигде!.. В самом
деле, разве нынешний Петербург — его Петербург, нынешняя
Россия — его Россия?.. Так, не его, не та, совсем другая; но без
него она не была бы такою, какою мы ее видим...
Между Ломоносовым и Петром большое сходство: тот
и другой положил начало великому делу, которое потом пошло
другим путем, другим образом, но которое не пошло бы без
них. Дать ход идее, пробудить жизнь в автомате — великое де¬
ло, на которое мало здравого смысла, мало ума, мало таланта,
на которое нужен гений, а гений есть олицетворение, проявле¬
ние идеи целого человечества, целого народа в лице одного
человека. Гений не есть, как сказал Бюффон, терпение в высо¬
чайшей степени, потому что терпение есть добродетель по¬
средственности, бездарности; но он есть сильная воля, которая
все побеждает, все преодолевает, которая не может погнуться,
не может отступить, хотя и может переломиться, пасть, но,
в таком случае, она уже не переживает себя. Да — сила воли
есть один из главнейших признаков гения, есть его мерка.
И как изумительно, как чудесно проявилась эта дивная сила
в Ломоносове! Чтобы понять это вполне, надо забыть наше вре->
мя, наши отношения, надо перенестись мыслию в ту эпоху жиз¬
ни России, когда грамотных людей можно было перечесть по
пальцам, когда учение было чем-то тождественным с колдов¬
ством, когда книга была редкостию и неоцененным сокрови¬
щем. И в это-то время, на берегу Ледовитого океана, на рубе¬
же природы, в царстве смерти, родился у рыбака сын, который
с чего-то забрал себе в голову, что ему надо, непременно надо
учиться, что без ученья жизнь не в жизнь. Ему этого никто не
толковал, как толкуют это нынче, его даже били за охоту
к ученью, как нынче бьют за отвращение к науке. Чуден был
этот мальчик, не походил он на добрых людей, и добрые люди,
глядя на него, пожимали плечами. Все, и старше его, и моложе,
н ровесники, все смотрели на вещи глазами «здравого смысла»
п, по привычке видеть их каждый день, не видели в них ничего
необыкновенного: солнце им казалось большим фонарем, све¬
тившим им полгода, а чудное сияние в полугодовую ночь — от-*
блеском большого зажженного костра дров; необозримое мо-t
ре они почитали за большой рыбный садок; словом, этим бла¬
горазумным людям все казалось обыкновенным, кроме денег
496
п хлеба. Но мальчик смотрел на все это другими глазами: в по¬
лугодовой ночи он видел что-то чудное, скрывавшее в себе
таинственный смысл; океан манил его в свою неисходную даль,
как бы обещая ему объяснить все непонятное, все, что сообща¬
ло его душе странные порывы, волновало его грудь неизъясни¬
мою и сладкою тоскою, возбуждало в его уме вопросы за вопро¬
сами... Да, мальчик был любимое дитя природы, родной сын
между миллионами пасынков, а между любимым сыном и лю¬
бящею матерью всегда существует симпатическое чувство, кото¬
рым они молча понимают друг друга... Но мальчику мало было
понимать чувством, он хотел понять разумом; ему мало было
любоваться на прекрасную природу, он хотел заставить ее гово¬
рить с собою, открыть себе ее заметные тайны, словом, ему
хотелось чего-то такого, чего он не умел назвать и чего боял¬
ся... И вот он, покорный внутреннему голосу, оставляет любимо¬
го отца и ненавистную мачеху, бежит в Москву... Зачем? —
учиться! Странный мальчик! чего он надеялся, чего добивался!
Тогда еще не давали за знания чинов \ тогда наука еще не была
дойною коровою, и не золото, не почести, а бедность, горесть
и унижение сулили они безумному... Говорят, что есть свои на¬
слаждения в науке, потому только, что она наука, свое блажен¬
ство в истине, потому только, что она истина; говорят, что внеш¬
няя жизнь не удовлетворяет даже тех людей, которые исклю¬
чительно для нее созданы, потому что, среди избытка земных
благ, эти люди желают еще больших, которых земля уже ,но
в состоянии им дать, и что будто бы эта ненасытимость
есть доказательство невозможности удовлетворения себя одним
земным; говорят, что, напротив, внутренняя жизнь вполне удов¬
летворяет человека, внимательного к ее таинственному зову,
что духовная пища насыщает, не обременяя, услаждает, не про¬
изводя отвращения; говорят еще, что будто бы есть свое
счастие в несчастии, свое блаженство в страдании, свое сладо¬
страстие в лишениях и жертвах для истинного, благого и пре¬
красного... Да — это говорят и пишут, но только ныне, и говорят
это не одни мудрые века, но и люди обыкновенные, говорят не
как истины вероятные, но как аксиомы непреложные; но тогда,
но в то время, в самой Европе, эти истины постигались только
избранными, только солью земли2, и постигались темным чувст¬
вом, а не сознательным разумением; в России же никто и не
подозревал их, никто и не догадывался о них. Кто ж сказал
о них нашему бедному, необразованному юноше, нашему хол¬
могорскому мужику, человеку низкого происхождения? — Ни¬
кто, кроме этого внутреннего голоса, который слышится душе
избранной, никто, кроме этой глубокой веры, которая двигает
горы с места на место!.. Кто дал ему средство идти с таким
упорством к своей цели? — Никто, кроме этой могучей воли,
которая есть орудие гения!.. Иди же в свой путь, стремись па
свое великое дело, юный гений! Борись с людьми, страдай от
497.
них, для их же счастия, жми руку богачу, склоняй чело пред
вельможею, по не для них и не для себя, а ради приращения
науки в любезном отечестве, и не забывай, что это не долг,
а жертва с твоей стороны, что ты не должен, ради суеты зем¬
ной или раболепного удйвленпя к блестящей ничтожности,
к позлащенным кумирам, унижать, пред сынами земли, любим¬
цами слепого счастия, своего достоинства, своего великого са¬
на, своего высокого рода, ты, избранник божий, гражданин
неба, вельможа вселенной!..
И Ломоносов не изменил своему назначению: вся жизнь его
была прекрасным подвигом, беспрерывною борьбою, беспре¬
рывною победою. Голова ходит кругом от мысли, что было сде¬
лано в России до Ломоносова и что он должен был сделать
и что сделал. Петр Великий, прежде нежели завел в России
первую типографию, должен был сам нарисовать формы новых
букв; прежде нежели увидел первый печатный лист, должен
был своими державными руками править корректуру; прежде
нежели увидел обученное войско, должен был собою показать
идеал солдата, идеал повиновения; прежде нежели увидел
успех военных укреплений и флота, должен был сам быть
и кузнецом, и плотником, и слесарем, и столяром, словом,
всем. Так и Ломоносов: он все должен был сам сделать, всему
положить начало; строя дом, должен был делать и подмостки,
обжигать кирпичи и растворять известь. До него существовала
только русская азбука, но не было русского языка, и только
после него стал возможен в России раздел ученых и литера¬
турных трудов. И вот он пишет грамматику, которая уже не
годится для нашего времени, но лучше которой еще не явля¬
лось у нас; * дает законы языку и утверждает их образцами.
Какой же можно требовать художественности от его стихотво-
рений и его похвальных слов, когда они писаны были не столько
по призыву вдохновения, не столько из бессознательной по¬
требности творить, сколько по призыву нужды, сколько по со¬
знательному желанию дать образцы литературы и поверить на
практике теорию языка и стихосложения. И как он успел
в последнем! введенное им стихосложение осталось навсегда
в русском стихотворстве, и стихи его, по гармонии, гладкости,
правильности языка, гораздо выше его прозы, в которой он
старался подделаться под склад и конструкцию латинской про¬
зы. Мы даже думаем, что Ломоносов был человек с решитель¬
ным талантом к поэзии: кроме ярких, хотя и немногих, про¬
блесков истинной поэзии, в его одах есть строфы, как будто
* Я сказал страшное слово: за него досталось уже и автору «Михаила
Васильевича Ломоносова»: один грамматический журналист очень рассер¬
дился на его прекрасное произведение, вероятно, за мысль, что у нас еще
п теперь нет грамматики, которая была бы лучше Ломоносовой. В самом
деле: Ломоносов и грамматический журналист — соперники, а похвалить
одного соперника значит обидеть другого: как же быть так неосторож¬
ным!.. 3
498
написанные десять лет назад тому. Конечно, в наше время звуч¬
ный и гладкий стих уже не есть несомненный признак таланта,
по тогда, во времена Кантемиров, Тредьяковских, Сумароко¬
вых, тогда одно внешнее достоинство ломоносовских стихов
могло ручаться за неподдельное внутреннее достоинство. В са¬
мом деле, когда у нас стали даже и бездарные люди писать
гладкими и звучными стихами? После Пушкина — и я заключаю
пз этого, что даже внешняя сторона пскусства доступна только
одному таланту и уже не прежде, как после его подвига, она
делается достоянием рутиньеров. Риторика Ломоносова тоже
была великою заслугою для своего времени; если она теперь
забыта, то не потому, чтобы мы имели риторики выше ее по
достоинству, а потому, что теперь риторика, в том значении,
какое дают ей, как науке, научающей красно писать, сделалась
исключительным достоянием педантов, глупцов и считается за
такую же пауку, как алхимия и астрология. Ломоносов был не
только поэтом, оратором и литератором, но и великим ученым.
Обширная область естествознания сильно манила его пытливый
ум, п не вотще, по прекрасному выражению г. Полевого, «в
виде Ломоносова, Россия стучалась в двери Вольфа, с жаждою
пауки и знания»...4 Он всем занимался с жаром, любовию
и успехом. И сколько трудов должен был во всем преодолеть!
Он пристрастился, например, к мозаике, и что ж? принужден
был сам отливать разноцветные стекла! Кроме того, сам делал,
как позволяли ему средства, физические инструменты. Тогда не
то, что ныне, тогда Академия наук была беднее всякой нынеш¬
ней гимназии. Да об Академии тогда и не очень заботились, она
была, как и самое просвещение, род какого-то парада для тор¬
жественных дней — форма, вывезенная из Европы, без идеи.
План основания Академии принадлежит Петру Великому, и если
бы провидение допустило его осуществить этот план, тогда
Академия видела бы заботы и попечения о себе и по крайней
мере не нуждалась бы в пособиях; но после Петра, до Екатери¬
ны II, смотрели на Академию, как на место, в котором говорят¬
ся торжественные речи в торжественные дни, не больше. Даже
просвещенное покровительство благородного Шувалова не много
давало Ломоносову средств к возвышению этого единст¬
венного ученого общества в России. Шувалов также не всегда
мог защищать Ломоносова от подлецов-рутиньеров, Тредьяков-
скпх п проч. Академическая канцелярия была сильнее целой
Академии, подьячие были сильнее академиков...
Не прекрасна ли такая жизнь? не интересен ли такой чело¬
век? Или, лучше сказать, не должны ли такие люди составлять
предмет живейшего любопытства, глубокого благоговения для
всех народов вообще и для своего в особенности? Не есть ли
Ломоносов одна из самых ярких народных слав? Ученый, поэт
и литератор, не по случаю, а по призванию, он преодолел тысячи
препятствий и во всю жизнь остался человеком, ученым труже¬
499
ником, а пе сделался, когда улыбнулось ему мирское счастие*
вельможею, знатным барином... Как резка разница между гени¬
ем и простым дарованием! Карамзин был с большим даровани¬
ем, много сделал для русской литературы, но как Ломоносов-то
был выше его! Один, без средств, без способов, находит всё
сам, борется на каждом шагу; другой, воспитанник Новикова,
подготовленный к немецкому образованию, сбивается с своего
пути и, знакомый с немецкою и английскою литературами, увле^
кается пустым блеском «светской» французской литературы,
«светской» французской учености и остается ей верен при об¬
щем перевороте ученых и литературных идей, при решитель¬
ном отступничестве Франции самой от себя и решительном пе¬
ревесе германской мыслительности. Потом, один, с пустыми
вспоможениями, с малым достатком, проводит всю жизнь
в укромной тиши кабинета и выходит из него только к Шувало¬
ву, и то в надежде «какого-нибудь обрадования по своим спра¬
ведливым для пользы отечества прошениям», трудится над по¬
лем глухим, заросшим, к которому от века не прикасалась нога
человеческая, и творит из ничего; другой, со всеми средствами,
принимается за поле еще не обработанное, не засеянное, но
уже подвергшееся хотя первоначальной разработке, продолжав
ет свое прекрасное дело с успехом, который замечают, ободря¬
ют, и он, взысканный признательностию и милостями, оканчивает
свое дело уже как бы ex-officio *, делается светским челове¬
ком, вельможею...
Доселе у нас не было биографии Ломоносова, все известия о
его жизни являлись в разбросанных отрывках, там и сям.
Г-н К. Полевой решился пополнить этот важный недостаток в на¬
шей литературе и выполнил свое намерение с блестящим успе¬
хом. Его книга не роман и не биография в точном смысле этого
слова. Настоящей биографии Ломоносова не может и быть, по¬
тому что этот необыкновенный человек не оставил по себе ни¬
каких записок, современники его тоже не позаботились об
этом. Да и как требовать от них этого: они смотрели на Ломо¬
носова не как на генияльного человека, а как на беспокойную
и опасную для общественного благосостояния голову: посредст¬
венность ничем так жестоко не оскорбляется, как истинным
превосходством, и во всякого рода превосходстве видит буйст¬
во и зажигательство... Итак, может быть только хронологи¬
ческий перечень сочинений Ломоносова, с обозначением глав¬
ных событий его жизни, но полная картина жизни генияльного
человека исчезла навсегда. Чтобы представить ее, нужно до¬
полнить, расцветить воображением известные факты, оттуше¬
вать фантазиею сухой очерк. Так и сделал г. Полевой. Он не
позволил себе ни одного вымышленного факта; у него есть
вымысел, но он состоит в расцветлении живыми подробностями
* по положению (лат.). —- Ред.
500
какого-нибудь известного факта. Объясним это примером: из¬
вестно, по одному дошедшему до нас письму Ломоносова
к Шувалову, что этот вельможа хотел помирить его с Сумаро¬
ковым: г. Полевой описывает это происшествие, как оно пред¬
ставилось его воображению.
Вот письмо Ломоносова:
Никто в жизни меня не изобидел, как ваше высокопревосходительство.
Призвали вы меня сегодня к себе, я думал, может быть, какие-нибудь
обрадования будут по моим справедливым прошениям. Вы меня отозвали
и тем поманили. Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! То есть, сделай
смех и позор. Свяжись с таким человеком, от коего все бегают и вы сами
пе ради. Свяжись с тем человеком, которой ничего другого не говорит, как
только всех бранит, себя хвалит и бедное свое рисрмичество выше всего
человеческого зпания ставит. Тауберта и Миллера для того только бранит,
что не печатают его сочинений, а не ради общей пользы. Я забываю все
его озлобления и мстить не хочу никоим образом, и бог мне не дал злоб¬
ного сердца. Только дружиться и обходиться с ним никоим образом не
могу, испытав чрез многие случаи и зная, каково в крапиву... Не хотя вас
оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я вам послушание,
только вас уверяю, что в последний раз. И ежели, несмотря на мое усердие,
будете гневаться, я полагаюсь на помощь всевышнего, которой мне был
в жизнь защитником и никогда не оставил, когда я пролил пред ним слезы
в моей справедливости. Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай
служить отечеству спомоществованием в науках, можете лучшие дела
производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю;
мстить за обиды и не думаю, и только у господа прошу, чтобы мне с ним
не знаться. Будь он человек знающий и искусный, пускай делает пользу
отечеству; я по моему малому таланту также готов стараться. А с таким
человеком обхождения иметь не могу и не хочу, которой все прочие знания
позорит, которых и духу не смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое
без всякия страсти ныне вам представляю. Не токмо у стола знатных господ
или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого
господа бога, которой мне дал смысл, пока разве отнимет. Г-н Сумароков,
привязавшись ко мне на час, столько всякого вздору наговорил, что на
весь мой век станет, и рад, что его бог от меня унес. По разным наукам у
меня столько дела, что я отказался от всех компаний; жена и дочь моя при¬
выкли сидеть дома и не желают с комедиянтами обхождения. Я пустой бол¬
тни и самохвальства не люблю слышать. И по сие время ужились мы во
единодушии. Теперь, по вашему миротворству, должны мы вступить в новую,
дурную атмосферу. Ежели вам любезно распространение наук в России,
ежели мое к вам усердие не исчезло в памяти, постарайтесь о скором ис¬
полнении моих справедливых для пользы отечества прошениях, а о прими¬
рении меня с Сумароковым, как о мелочном деле, позабудьте. Ожидая от
вас справедливого ответа, с древним высокопочитанием пребываю, и проч.5.
Вот представление самого происшествия, или вымысел от
лица автора:
...Ломоносов был в ожидании, когда однажды Шувалов прислал про¬
сить его к себе обедать. Обрадованный поэт, обещая себе добрые вести,
спешил на приглашение.
Несколько изумило его собрание, которое нашел он у своего покрови¬
теля. Тут были знатные люди, вельможи, несколько знакомых лиц и, нако¬
нец, Сумароков! Неприятное чувство втеснилось в сердце Ломоносова. Но
что почувствовал оп, когда Шувалов отвел его к стороне и сказал: «Михайло
Васильевич! Знаешь ли, зачем я призвал тебя?.. Помирись с Сумароковым!
Он признается, что был несправедлив к тебе, и сам просит мира».
501
Ломоносов не знал, что отвечать на эти не ожиданные им слова; но
Шувалов, не дожидаясь ответа его, сказал громко:
— Александр Петрович! Вот вам рука моего приятеля, что он забы*
вает все прежнее и будет отныне вашим добрым знакомцем.
Сумароков тотчас подскочил к Ломоносову, схватил его руку и, пожи¬
мая ее, заговорил быстро:
— Очень рад, Михайло Васильевич, очень рад, что мы будем с вами
теперь приятели. Я сам просил его высокопревосходительство свести нас,
потому что за что нам ссориться? Мы оба пишем стихи! Так что ж? Я пишу
хорошо, и вы не хуже! Я, сударь, читал вашу поэму и тотчас сказал, что
вы великий пиит! Да-с, без утайки скажу это, при целом свете. Ваша поэма
полна красот! Какие прекрасные стихи, картины, вымыслы! Лавровый венок
вам, лавровый венок! Есть, правда, грехи против языка, и я мог бы заме¬
тить вам... но вы сами сочинили грамматику: не мне учить вас! Прекрасно,
сударь, прекрасно! Только вы, я думаю, не скоро докончите ваш труд? Есть
ли у вас еще в готовности хоть одна пиэса?..
Эта река слов разлилась так быстро, что Ломоносов не мог ничего ни
сообразить в словах Сумарокова, ни отвечать на пих, и только растворил
рот, как собеседник его уже снова говорил:
— А я так предпринял переложить в стихи все псалмы Давида. Труда
много, да я не боюсь его. Не хочу соперничать с вамп и пишу только для
прославления российского слова. Как хотите, а мы с вами уже пе будем
соперниками. Да вот, ровно год назад, ваш и мой перевод оды господина
Руссо «На счастие» был напечатан в «Полезном увеселении». Чей лучше?
Судить не мое дело, а признайтесь, что я перевел гораздо повернее вас.
Я постиг французских писателей, и лучше меня пе будут переводить их
и чрез сто лет. Я еще недавно получил письмо от г. Вольтера... Позвольте,
оно, кажется, со мной...
Покуда Сумароков шарил в карманах, Ломоносов отирал пот, которой
выступил на лице его от досады на эту шутовскую сцену. В самом деле,
двух литературных врагов окружили многие господа и с улыбкою смотрели
на их встречу. Ломоносов бесился от этого и молчал, а Сумароков, не обра¬
щая внимания ни на что, воскликнул:
— Какая досада! забыл дома!.. Ну да все равно. Вы поверите и на
слово, что г. Вольтер отдает мне полную справедливость. Он даже удив¬
ляется: как могу я писать трагедии на русском языке.
— Мне, однако ж, странно, — возразил Ломоносов, выведенный из тер¬
пения этою болтовней. — Странно, как г. Вольтер берется судить о таком
предмете, которого не может понимать. Ведь он не знает по-русски?
— Да я разве говорю, что он знает? Напротив, он даже не верит, что
на русском языке можно писать трагедии. А вы знаете, — прибавил Сума¬
роков с довольным видом, — написал ли я трагедии, и каковы они? Вы и
сами делали попытку, да вы не знаете театральных эффектов; оттого и тра¬
гедии ваши пе попали на театр. Зато ваша поэма единственна!
Сумароков продолжал говорить беспрестанно, покуда не позвали всех
к столу. Он хотел было сесть подле Ломоносова, но тот уклонился от этой
тяжелой для него чести и сел по другую сторону стола. Сумароков и тут
находил средство беспрестанно обращаться к новому своему другу, которой
или пе отвечал ничего, или отвечал как можно короче. Хозяин был чрезвы¬
чайно любезен со всеми, но особенное внимание обращал на своих ученых
гостей. Замечая, что они худо сближаются, он старался завести общий раз¬
говор, где Ломоносов мог бы выказать свой ум и свои познания. Но поэт
был угрюм. Тесно было его душе среди этого светского, чуждого для него
общества; а всего больше досаждал ему Сумароков, навязываясь с своею
дружбою.
Наконец, пышной обед кончился, и гости перешли в другую залу.
Сумароков уже был подле Ломоносова, потчевал его табаком и опять завел
речь о прежнем, то есть о своих стихах и литературных успехах,
502
Я страх сердит на гг. Миллера и Тауберта! — сказал между про¬
чим. — Это, сударь, себялюбцы, непросвещенные люди, грубияпы. Вдруг не
стали им правиться мои стихи! Да поверю ли я этому? Ведь прежде они
с радостью принимали их? Миллер печатал, а Тауберт пропускал. Тут
другая причина!.. Да я и не нуждаюсь. Я живу в таком круге, где умеют
ценить дарования. Знаете ли, Михайло Васильевич, — прибавил он, — что
вам бы не худо быть почаще в нашем общественном круге, то есть, вот по¬
сещать бы меня, познакомиться с моим семейством. Право, приезжайте ко
мне и позвольте также нашим женам сблизиться. Я почту за честь позна¬
комиться с г-жою коллежскою советницею, не знаю имени и отчества суп¬
руги вашей...
— Благодарю, — сказал Ломоносов. — Жена моя простая женщина,
немка, и не привыкла обращаться в свете. Она всегда сидит дома!
— Но почему же не развлекать себя иногда? Слава богу, ваше звание,
ваше имя дают доступ во все лучшие домы. А мы бы с вами между тем
рассуждали о российской словесности. Вот, батюшка, предмет неистощимый!
У нас все новость. Я, например, недавно изумил одно знатное общество.
Утверждали, что на русском языке нельзя писать нежных стихов. Я заспо¬
рил и, в доказательство, тут же написал им сто двадцать двустиший, любов¬
ных, пастушеских и всяких. Да ведь вот что странно. Читали, восхища¬
лись русскими стихами, а начали хвалить по-французски!.. Господа, сказал
я им: разве у нас нет своего, русского языка? А они стали смеяться. Жал¬
кая, сударь, эта страсть к чужому языку, и она видимо усиливается.
Ломоносов совершенно потерял терпение и воспользовался первою
удобною минутою убежать от несносного для него человека. Знатные госпо¬
да уселись играть в карты. Сумароков поймал какого-то гвардейского
офицера и начал ему читать наизусть отрывки из новой своей трагедии, а
Ломоносов тихонько, незаметно ни для кого, ушел, проклиная этот несча¬
стный день.
«Что это делает со мною Иван Иванович! — думал он. — Как ему не
совестно связываться с этим человеком, и еще сводить нас, мирить, как
будто злых собак! О, эти бояре! — Он невольно топнул. — Самый лучший из
них остается верен своей касте. Они почитают все дозволенным для себя.
Они думают, что им стоит только пожелать, и все исполнится. Нет, господа!
вы ошибаетесь. Вам не помирить огня с водой, человека с дураком и Ломо¬
носова с Сумароковым!»
Нам кажется, что приведенный нами отрывок может дать
самое лучшее понятие о манере автора, его искусстве и талан¬
те. Вот в чем состоит его изобретение, которое нам кажется
совершенно позволительным и законным. В самом деле, какое
умение поэтизировать свой предмет, какая верность живописи!
Ломоносов — весь в этом отрывке, таков, как виден в своем
письме к Шувалову — этом образце благородства и прямоду¬
шия. А Сумароков! о, п он весь, со всем своим самохвальством,
пустотою и ничтожностью! Но это не лучшее место в книге:
юность Ломоносова, постепенное развитие его гения и сознание
своего призвания, жизнь в Германии, любовь, женитьба, бегство
в Россию, первые успехи, борьба с невежеством — словом, весь
Ломоносов, вся жизнь его изображены так просто, благородно,
увлекательно, с таким одушевленней. Вы читаете не компиля¬
цию, не сбор фактов, а видите живую и полную картину, чем
дальше, тем сильнее приковывающую к себе ваши глаза. И пе
могло быть иначе: все создание проникнуто идеею, п вы везде,
как в общности, так п в малейших подробностях, видите эту
5ЭЗ
идею, а эта идея — внутренняя жизнь человека и гения. Взгляд
на Ломоносова самый верный, по крайней мере для нас; всо
суждения о каждом отдельном труде Ломоносова обнаружива¬
ют здравые литературные понятия; нет ни малейших отступле->
ний от истины. Мы разумеем здесь истину высшую, истину идеи,
которая сообщает истину и изложению и подробностям. Язык
везде изящный и благородный, по местам искусно и удачно
подделывающийся под старину. Все создание проникнуто истин¬
ною художественностию, достойною своего высокого предмета.
Мы уже сказали, что это и не роман и не биография,
в точном смысле этих слов; но это дело и ума и фантазии, это
поэтическая биография, принадлежащая и к науке и к искусст¬
ву,— род совершенно новый, оригинальный.
Да — мы чистосердечно и добросовестно можем сказать, что
книга г. Ксенофонта Полевого есть приятное явление в нашей
литературе, прекрасный подарок публике6. Мы особенно реко¬
мендуем ее молодому поколению, из среды которого готовятся
будущие деятели на ниве человеческой мысли: оно найдет для
себя высокие уроки в этой книге, оно увидит в жизни Ломоно¬
сова свой долг и свое назначение, оно узнает из нее, что только
в честной и бескорыстной деятельности заключается условие че¬
ловеческого достоинства, что только в силе воли заключается
условие наших успехов на избранном поприще. Не всякому
природа дает гений, не всякому назначено быть Ломоносовым,
но и без гения у человека может быть стремление к благу
и добрая, если не сильная, воля, а с стремлением к благу и доб¬
рою волею всякий может выполнить свое назначение на попри¬
ще деятельности, отмежеванном природою и указанном созна¬
нием своей способности! Зрелище жизни великого человека
есть всегда прекрасное зрелище: оно возвышает душу, мирит
с жизнию, возбуждает деятельность!..
СТИХОТВОРЕНИЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА. Второе
издание. Санкт-Петербург. 1836. 130. (8).
Мы было дали себе слово ничего больше не говорить
о стихотворениях г. Бенедиктова, предоставляя времени решить
вопрос о их достоинстве, этот вопрос, который для некоторых
кажется важным и спорным; но второе издание этих стихотво¬
рений заставляет нас, против воли, нарушить слово. Чтобы не
повторять уже сказанного нами так оиределительно и ясно
и чтобы в самом деле не сделать важного вопроса из такого
простого и очевидного дела, мы скажем только, что вторичное
прочтение «Стихотворений г. Бенедиктова» не только не застави¬
ло нас переменить уже высказанного мнения, но еще более
утвердило в нем1. Да почему бы мы и переменили его?
У г. Бенедиктова по-прежнему «сверкают веселья; любовь гнез¬
504
дится в ущельях сердец; дева вносится на горящей ладопи
в вихрь кружения; любовь блестит цветными огнями сердечного
неба; чудная дева влечет магнитными прелестями * железные
сердца; солнце вонзает в дождевые капли пламя своего луча;
искра души прихотливо подлетает к паре черненьких глаз
п умильно посматривает в окна своей храмины; Матильда сидит
па жеребце плотным усестом; могучею рукою вонзается сталь
правды в шипучее сердце порока; морозный пар бесстрастного
дыханья падает на пламя красоты»; и пр. и пр. Да, все эти
выражения у г. Бенедиктова стоят по-прежнему, а мы по-преж¬
нему думаем, что тот совсем не поэт, кто прибегает в свопх
стихах к подобным украшениям. Правда, мы заметили две зна¬
чительные перемены или поправки, которые и выставляем
здесь. Четыре стиха, напечатанные в первом издании так:
Нина, помпишь те мгновенья, —
Или времени струи
Возрастили мох забвенья
На развалинах любви?
во втором переделаны вот как:
Нина, помнишь те мгновенья —
Или времени поток
В море хладного сомненья
Все заветное увлек?
Потом стихи, напечатанные в первом издании так:
И долго томится, пока замелькает
По кареньким глазкам соблазна туман.
Матильда спрыгнула; седло остывает, —
И жаркие члены объемлет — диван, —
во втором издании заменены следующими:
И носится вихрем, пока утомленье
На светлые глазки накинет туман...
Матильда спрыгнула — ив сладком волненье
Кидается бурно на пышный диван.
Может быть, есть еще и другие перемены, кроме этих. Без
сомнения, новые стихи лучше прежних; но что все это доказы¬
вает? — Ничего более, как то, что мы правы в нашем мнении
о достоинстве «Стихотворений г. Бенедиктова». Так как пере¬
правлены и переделаны стихи, замеченные нами в то время, как
особенно дурные, то мы вправе думать, что эти, хотя немногие,
поправки сделаны автором вследствие наших замечаний. Нам
приятно видеть, что г. Бенедиктов обратил внимание на наши
советы и воспользовался ими, хотя и поздно; но это делает
честь его характеру как человека, а не как поэта: по нашему
мнению, поэт должен быть упрям и стоек, будучи уверен, что
каждый его стих есть плод вдохновения, которое никогда не
505
обманывается, которое всегда творит верно; должен походить
на Пушкина, который в ответ одному критику, осуждавшему его
стих пз «Цыган»
И с камня на траву свалился,
сказал: «Я должен был так выразпться, я не мог иначе выра¬
зиться» 2,
НОЧЬ. Сочинение С. Темного. Санкт-Петербург. Печатано в типо¬
графии И. Глазунова. 1836 года. II. 44. (8). С эпиграфом:
Когда б ты видел этот мир,
Где взор и вкус разочарован,
Где чувство стынет, ум окован,
И где тщеславие — кумир;
Когда б в пустыне многолюдной
Ты не нашел души одной,
Поверь, ты б навсегда, друг мой,
Забыл свой ропот безрассудный.
Здесь лаской жаркого прпвета
Душа младая не согрета.
Не нахожу я здесь в очах
Огня, возженного в них чувством,
И слово, сжатое искусством,
Невольно мрет в моих устах.
Эта книжечка, состоящая из сорока четырех страниц
в осьмую долю листа и напечатанная крупным шрифтом и с
ужасными пробелами, которыми в наше время авторы прикры¬
вают нищету своего ума и фантазии, не хватающих даже и на три
порядочные страницы, эта книжечка поразила нас своею страп-
ностию. Кроме выписанного нами эпиграфа, который заранее
дает знать о претензиях неизвестного пли темного автора,
в предисловии находятся еще следующие строки, которые хоть
кого поставят в тупик:
Что сказать читателям про три ничтожные листка, про сие небольшое
собрание мыслей моих, извлеченных из труда более обширнейшего? Одпо
скажу я то, что отдаю себя на суд тому, кто выше предрассудков времени;
кто, трудясь в книге столетий, взирал па события с философической точки,
познавая тайны сердца человеческого во всех сокровенных изгибах его;
кто собратий своих душою всей любить умеет, тот, читая со вниманием
пемногпе строки сии, поймет меня здесь. Я писал коротко, но в малом
старался заключать многое; меня больше занимали мыслп, их много тесни¬
лось тогда в пылкой душе!..
Предоставляя опытным ориенталистам решать, на каком пз
восточных языков писаны эти строки *, мы скажем от себя толь¬
ко то, что писаны они не на русском. Но не это особенно уди¬
вило нас: читая по обязанности все, чем дарит русскую пуб¬
лику досужая деятельность российских авторов, мы привыкли
505
к безграмотности, незнанию отечественного языка и неумению
выразиться складно, по-человечески, на нескольких страницах.
Нет,— нас удивило, что таким безграмотным языком выражают¬
ся такие огромные претензии: заметьте, что темный автор на¬
значает свою книжечку людям, которые выше предрассудков
своего века. Но и в этом еще нет ничего дурного; мы сначала
подумали было, что это сочинение какого-нибудь гения, кото¬
рый, углубившись в мир идеи, забыл о грамматике и который
представляет любознательности своих современников какие-ни¬
будь новые взгляды на предметы человеческой мысли, совершенно
опровергающие все понятия века и долженствующие произвесть
реформу в человеческом знании. И что ж мы увидели,
прочтя книжку? — Во-первых, совершеннейшее незнание языка
вследствие этого удивительную темноту выражения, нередко
сбивающуюся на бессмыслие; потом натянутость, надутость
и напыщенность во фразах; наконец, мысли, которые, правда,
пе могли бы прийти в голову пустого и ограниченного человека,
но которые в наше время все-таки слишком обыкновенны
и общи; даже заметили если не чувство, то какое-то беспокой¬
ство, похожее на чувство. Что ж тут нового или особенно любо¬
пытного для людей, которые выше предрассудков своего вре¬
мени?.. Заметно, что эта «Ночь» есть произведение молодого
человека с душою, с пылом, но еще не созревшего для мысли,
еще не умеющего отдавать самому себе отчет в своих мыслях,
а уже сгорающего желанием написать и издать в свет что-ни¬
будь, непременно написать и издать. Опасное желание, которое
губит истинный талант, вымучивая из него насильственные
и недозрелые создания, которое плодит толпы дурных писате¬
лей, служа им порукою за то, что они имеют талант! О, если бы
каждый молодой человек, не лишенный чувства и сгорающий
желанием печататься, издавал все плоды своей фантазии,
сколько бы дурных книг бросил он в свет и сколько бы раская¬
ния приготовил себе в будущем!.. Мы говорим это от чистого
сердца, говорим даже по собственному опыту, потому что име¬
ем причины благодарить обстоятельства, которые помешали
нам приобресть жалкую эфемерную известность мнимыми произ¬
ведениями искусства и занять место в забавном ряду литератур¬
ных рыцарей печального образа2. Пишущие люди разделяются
на литераторов и литературщиков: первые пишут по призва¬
нию, по сознанию своей способности писать; вторые — само¬
званцы. Ныне уже настало время, что понимают различие меж¬
ду этими двумя словами; нынче литератор есть лицо почтенное,
а литературщик — смешное и жалкое. Ныне молодой человек,
пишущий не по невозможности не писать, не по желанию выска¬
зать что-нибудь такое, что он хорошо сознал, в чем вполне
убедился или что ясно себе представил, пишущий прежде вре¬
мени, без приготовления, больше, нежели когда-либо, похож на
мальчика, который надевает огромный галстук до ушей, закла¬
507
дывает руки в карманы, принимает на себя сурьозный вид
д корчит взрослого человека. Всему есть свое время; прежде
составляли себе литературную известность каким-нибудь четве¬
ростишием к «Лиле» или «Нине», прежде молодые люди дума¬
ли, что напечатать свое имя значит прославиться и сделаться из
ничего чем-то; ныне совсем напротив; ныне молодой человек
с истинным достоинством, подающпй о себе истинные надежды,
заботится прежде всего обогатить себя познаниями —
И не торопится вписаться в полк шутов 3.
Ныне молодой человек с умом и чувством убежден, что спа¬
сенье не в одной литературе, слава не в одном маранье бумаги,
а в выполнении своих человеческих обязанностей, в стремлении
к тому, к чему назначила его природа, к чему он сознает себя
способным. Оно так и должно быть: вчера всегда хуже нынче,
завтра всегда лучше нынче\ поколения совершенствуются, и при
заметном ходе просвещения и образованности в России уже не
редкость встречать шестнадцатилетних юношей, которые с на¬
смешливою улыбкою смотрят на двадцатилетних, не говоря уже
о тридцатилетием поколении, к которому, за слишком немноги¬
ми исключениями, все еще идет этот стих Грибоедова:
А ты, мой батюшка, неизлечим, хоть брось!4
Мы не без намерения так распространились об опасности
безвременного и не сознанного авторства: повторяем, в г. Тем¬
пом мы отнюдь не замечаем хорошего автора, но предпола¬
гаем хорошего человека. Итак, да будет ему известно, что наше
мнение об нем добросовестно и искренно. Мы от души желаем
ему добра. Поэтому мы не затруднялись в выборе наших
выражений, зная, что на сильные болезни нужны и сильные ле¬
карства; мы старались быть не столько тонкими и ловкими,
сколько прямыми и откровенными. Мы хотим сделать еще бо¬
лее для доказательства искренности наших слов, хотим показать
ему, почему считаем себя вправе высказывать так резко невы¬
годное для его самолюбия наше мнение о достоинстве его кни¬
ги и давать ему советы. Главные недостатки его сочинения со¬
стоят: в отсутствии общей идеи, в обыкновенности всех мыслей
и ложности некоторых, в напыщенности выражения и незнании
языка. Все это мы беремся доказать ему, а не публике, которая
и без нас это тотчас заметит, как скоро прочтет его книгу.
Какую идею хотел выразить г. Темный своим сочинением?
Ровно никакой, потому что, когда он брался за перо, у него
было только желание непременно наппсать что-нибудь, что бы
ни написалось, а не было никакой идеи. Сначала он говорит, что
в жизни человеку выдаются святые минуты, когда он сильнее
чувствует, яснее мыслит, больше понимает; и эту-то простую
мысль автор разводит водою громких фраз на нескольких стра¬
ницах; витийствует о ничтожности человека, и это витийство
508
очень похоже на переложение в растянутую прозу прекрасной
оды Державина «На смерть Мещерского», так что попадаются
фразы, целиком взятые из ней, каковы: «Ныне своим величием
изумлен, а завтра что ты, человек? — исчезнуть в той бездне,
в которую мы все стремглав свалимся»5. Наконец, автор рас¬
суждает о усовершенности человечества, и все эти предметы не
находятся у него ни в какой связи, ни в каком отношении, так
что, как бы вы ни бились, прочтя книжку, ничего не упомните из
ней, а читая, ничего не поймете.
В доказательство обыкновенности мыслей мы ничего не хо¬
тим выписывать, потому что для этого надобно б было списать
всю книжку. В доказательство ложности укажем на предисловие
автора, где он говорит, что его «Ночь» есть «извлечение из
труда более обширнейшего». Подобные извлечения могут де¬
латься из какого-нибудь догматического сочинения, где логи¬
чески развита какая-нибудь мысль, а не из поэтических мечта¬
ний, достоинство которых постигается только в целом создании;
словом, извлечения делаются из плодов ума, а не из произведе¬
ний фантазии, пз которых могут быть отрывки, но не экстракты.
Возьмем еще на выдержку фразу: «Физический мир (?) наш,
наклонный ко всему чувственному, удерживается благородст¬
вом приличий общественных; сняв узду сию, он нисходит на
степень животного». Здесь две ошибки: во-первых, тут дело
должно идти не о физическом мире, а о чувственной стороне
человеческого бытия; во-вторых, общественные приличия слу¬
жат уздою только для грубых, необразованных или развратных
людей.
Незнание языка и изысканность выражений видны почти во
всякой фразе. Вот несколько примеров: «В тебе я ангела любил,
но, милый друг, скажи, кто здесь, свой трудный жизни путь, без
слез совершил?..— Кто до могилы с одной улыбкой доходил?..
Ах, нет! — в слезах мы рождены, в бедах земных живем и часто
рады, рады, когда дойдем...— Полночный час с церковной баш¬
ни прозвучал, и долгий стон его, дремучий бор, в горах про¬
мчал...— Я слышал, как он там далеко умирал...— Чтоб в темно¬
те своей зажег добра и истины светильник яркий...— Там эхо
томное в скалах напеву волн аккордом стройным отвечает, и на
струнах неведомых его, как бы на арфе волн далекой, той звуч¬
ной песни ропот замирает». Заметим здесь автору «Ночи», во-
первых, что рифмы хороши в стихах, но в прозе никуда не
годятся; во-вторых, что есть наука, называемая грамматикою,
которая учит знанию языка, и в этой грамматике есть отделение,
которое называется синтаксисом, который учит правильно выра¬
жаться словами, а в этом синтаксисе есть глава, называемая «О
порядке слов». Так как автор «Ночи» не заглядывал в эту главу,
то мы, кстати, передадим ему вкратце главное ее содержание.
Порядок русской фразы есть следующий: первое место занима¬
ет преимущественно подлежащее, второе — сказуемое; опре-
5Q9
целительные слова ставятся по большей части впереди своих
определяемых, а дополнительные всегда после дополняемых,
и как определительные, так и дополнительные никогда не отде¬
ляются от своих определяемых и дополняемых запятыми, если
между теми и другими нет вставочных предложений. Вследст¬
вие этого, вот как должны стоять слова и запятые в выписанных
фразах г. Темного: «Я любил в тебе ангела; но, милый друг,
скажи, кто совершил без слез свой трудный путь жизни? — Пол¬
ночный час прозвучал с церковной башни, и дремучий бор про¬
мчал в горах его долгий стон...— Чтоб в темноте своей зажег
яркий светильник добра и истины. — Там томное эхо отвечает
в горах стройным аккордом напеву волн, и на его неведомых
струнах, как бы на далекой арфе волн, замирает ропот той
звучпой песни».
Заметим еще, что если бы автор и умел писать складно по-
русски, то все бы не должен был сетовать на гробах по прави¬
лам риторики и натягиваться в подражании Юнгу, который, меж¬
ду нами будь сказано, был поэт прескучный. Не худо бы также
помнить г. Темному, что главный предрассудок нашего века со¬
стоит именно в его убеждении, что без знания языка нельзя
быть автором, следовательно, волею или неволею, а он и сам
должен покориться этому предрассудку, потому что не велика
честь для него будет, если его будут читать только непричаст¬
ные этому главному предрассудку нашего века люди...
МОСКОВСКИЕ ЗАПИСКИ
Внезапное оживление нашей сцены составляет теперь са~
aiyio занимательную новость. Г-н Гоголь, заслуживший громкую
известность своими повестями, отличающимися высокою худо¬
жественностью, обратил деятельность своего таланта на другую
сторону искусства, комедию. Не нужно говорить, какое обшир¬
ное, какое славное поле открывается здесь его деятельности;
скажем только, что многого надеемся от г. Гоголя на этом по¬
прище. Его оригинальный взгляд на вещи, его уменье схваты¬
вать черты характеров, налагать на них печать типизма, его
неистощимый гумор — все это дает нам право надеяться, что
•г^атр наш скоро воскреснет, скажем более — что мы будем
иметь свой национальный театр, который будет нас угощать но
насильственными кривляньями на чужой манер, не заемным
остроумием, не уродливыми переделками, а художественным
представлением нашей общественной жизни; что мы будем
хлопать не восковым фигурам с размалеванными лицами,
а живым созданиям с лицами оригинальными, которых, увидев¬
ши раз, никогда нельзя забыть. Да, г. Гоголю предлежит этот
подвиг, и мы уверены, что он в силах его выполнить. Посмотри¬
те, какие толпы хлынули на его комедию, посмотрите, какая
ът
давка у театра, какое ожидание на лицах! Не приписывайте это¬
го одной новости: русский человек часто поддается обману,
увлекается мишурою, принимает новость за достоинство, но
у него есть свое чутье, которое, против его воли, заставляет его
ценить истинно изящное, хотя бы это изящное не нравилось
ему вследствие его образа мыслей или даже оскорбляло бы
его самолюбие. О, пусть только явятся драматические таланты,
а то у нас будет театр, будут даже актеры, будет и публика,
многочисленная, внимательная, благодарная. Нет ничего иеле-
пее, как обвипять ее в холодности ко всему родному и при¬
страстии ко всему чужому. Посмотрите, с какою жадиостию она
читает и покупает все, и хорошее и худое, с каким мучени¬
ческим терпением зевает в родном театре! Ей нужны только
дарования, которые пристрастили бы ее к одному прекрасному,
дали бы настоящее направление ее вкусу...
«Ревизор» г. Гоголя был дан четыре раза; но мы пока ниче¬
го не будем говорить ни о самой пьесе, ни об ее представле¬
нии: мы хотим глубже всмотреться, полнее изучить ее, потому
что эта комедия есть истинно художественное произведение,
требующее основательного изучения. Самая игра актеров до-
етойпа особенного внимания: она доказывает, что и артисты
смотрят на эту пьесу не как на что-нибудь обыкновенное, но
обдумывают и изучают свои роли. Мы скоро дадим полный от¬
чет, как в пьесе, (так) и в ее представлении, а эти строки про¬
сим припять только за извещепие
СТРАСТЬ СОЧИНЯТЬ, ИЛИ «ВОТ РАЗБОЙНИКИ!!!» Водевиль в од¬
ном действии. Переделанный с французского Федором Кони. Москва.
В типографии Н. Степанова. 1836. 96. (12).
Много было говорено о том, что такое водевиль, но никто
еще не потрудился отдать себе отчет в том, что такое водеви¬
лист. Да — водевилист принадлежит еще к числу тех неразга¬
данных задач, над которыми человечество тщетно ломает себе
голову. Ars longa, vita brevis: * горькая мысль! Но утешьтесь:
если в области нашего ведения остается еще много неразре¬
шенных вопросов, то много и людей, которые в состоянии ре¬
шать подобные вопросы. Я принадлежу к числу таких людей,
потому что мне первому удалось решить великий вопрос: что
такое водевилист? Но на открытие этой важной пстины я был
наведен г. Гоголем, почему и буду предлагать все мои решения
словами г. Гоголя. Прошу только выслушать благосклонно К
Водевилист есть человек, у которого «в лице такое рассуж¬
дение, и физиономия... такие важные поступки, и так здесь мно-
* Искусство долговечно^ а жизнь коротка (лат.). — Ред,
511
то, много всего»; человек, который хочет паконец «чем-нибудь
этаким высоким заняться», потому что «ему так скучно жить: он
ищет пищи для души, а светская чернь его пе понимает». Не
правда ли, господа!
Теперь очень легко решить вопрос, и как пишутся водеви¬
ли. Это делается очень просто. «Театральная дирекция говорит
водевилисту: „Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь11. А во¬
девилист думает себе: „Пожалуй, изволь, братец!“ да тут всё
в один вечер и напишет». Вот как пишутся водевили!
Новый водевиль г. Федора Кони носит на себе яркие при¬
знаки водевильного происхождения. Знаменитый наш драма¬
тург так торопился окончанием своего творения, что даже не
успел ни написать к нему предисловия, снабдить его какою-
нибудь тирадкою из Шекспира, Гомера, Байрона или Гете, ни
наставить замысловатых эпиграфов 2, взятых из арабских и санск¬
ритских поэтов. Впрочем, новый водевиль г. Кони от этого ни¬
сколько не хуже, если еще не лучше — что предоставляем
решить потомству. Мы не станем здесь входить в подробное
рассмотрение этого генияльного водевиля; да и для чего бы мы
это сделали? — ведь все водевили, особенно переделываемые
с французского, удивительно как похожи друг на друга. Что же
касается собственно до нового создания водевильной музы
г. Кони, оно особенно отличается верностию действительности,
так что, в этом отношении, «Горе от ума» и «Ревизор» кажутся
самыми ничтожными произведениями. Новость вымысла также
составляет одно из самых ярких достоинств «Страсти сочинять»
г. Кони. Что касается до куплетов, то вот несколько образчиков,
в которых мы ничего не переменяем и не поправляем, кроме
знаков препинания, чем думаем оказать знаменитому нашему
драматургу немалую услугу:
Кинжалы и яды —
Вот наши отрады!
Все виды смертей,
Удары мечей,
И казнь палачей,
И когти чертей,
Жалеть не должны мы!
Пусть будут казнимы,
Душимы, давимы —
Все лица тотчас!
Чем больше у пас
Погибнет парода,
Чем больше потеха,
Тем больше успеха,
Тем больше дохода!
Прославит нас свет.
На этот предмет
Даны нам секиры,
Кинжалы, мортиры,
Топор, пистолет!
Итак, мой совет:
Душите, давите,
512
PI режьте и жгите,
Терзайте партер!
А мы, например,
Без дальних чинов,
Крича только: «Смерть им!»
Себя обессмертим
Во веки веков!
Не правда ли, что очень хорошо? Удивительно хорошо!
Но еще лучше куплет, где говорится о «журналисте, уезжа¬
ющем за границу»; то-то чудный куплет! Журналист, уезжающий
за границу!3 «О тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману
напустил! Разбери кто хочет!»
Больше мы ничего не имеем сказать о новом водевиле
г. Кони. Кому не известен превосходный талант этого драма¬
турга? Он на все мастер: и журнальную статейку наточать, и воде¬
вильчик состряпать, и «у него так это все славно... замечания
такие... видно, что наукам учился»... Извините, опять выписка из
«Ревизора»! Что делать? — Фразы г. Гоголя так сами и ложатся
под перо.
ОТ БЕЛИНСКОГО
«Подьячей стал судиею Парнаса
и утвердителем вкуса московской
публики! — Конечно, скоро престав¬
ление света будет. Но неужели
Москва более поверит подьячему,
нежели г. Вольтеру и мне; и не¬
ужели вкус жителей московских
сходняе со вкусом сево подьячего?»
Сумароков1,
Недавно вступив на литературное поприще, еще не успев
осмотреться на нем, я с удивлением вижу, что редким из наших
литераторов удавалось с таким успехом, как мне, обращать на
себя внимание, если не публики, то по крайней мере своих
собратий по ремеслу. В самом деле, в такое короткое время
нажить себе столько врагов, и врагов таких доброжелательных,
таких непамятозлобивых, которые, в простоте сердечной, хло¬
почут из всех сил о вашей известности,— не есть ли это редкое
счастие?.. Я до такой степени удостоен судьбою этого счастия,
что имел бы право почесть себя очень замечательным че¬
ловеком, если б враги-приятели мои были хоть сколько-нибудь
замечательны: одно только это неприятное обстоятельство
охлаждает порывы моего самолюбия... А то, право, какая вни¬
мательность ко мне, какое уважение! В «светских» журналах
стреляют в меня намеками, разбором моих фраз, выносками2.
Один петербургский журнальчик, находящийся в коротких свя¬
зях с «светскими» журналами и в то же время проданный ду¬
шой и телом «Библиотеке для чтения», как уверяет она сама,
17 В. Белинский, т. 1
513
величает меня по отчеству и по фамилии, впрочем искажая их
с умыслу, чтоб показать свое остроумие; угощает винегретом
не только из ругательств и клевет, за которые я ему очень
благодарен, но даже и похвал, которые меня начинают очень
беспокоить; перепечатывает мои статьи, предварительно расхва¬
лив их и разбранивши меня3. Наконец, с некоторого времени
мои великодушные неприятели начали приписывать мне все
замечательные статьи в «Телескопе» за нынешний год, под ко¬
торыми не значится полного имени. Так, в помянутом петербург¬
ском журнальчике, находящемся на содержании у «Библиотеки
для чтения» и на послугах у «светских» журналов, приписана
мне повесть «Она будет счастлива», повесть, обнаруживающая
в неизвестном авторе неподдельный талант, живое чувство
и умение владеть языком;4 так, в № 169 «Северной пчелы»
мне же приписана статья об игре гг. актеров здешнего театра
в «Ревизоре» г. Гоголя5. Мне было бы очень приятно подписать
свое имя под обеими этими статьями, но долг справедливости
повелевает мне отклонить от себя незаслуженную честь. Впро¬
чем, это все бы еще ничего. По поводу последней статьи некий
титулярный советник Иван Евдокимов сын Покровский принес
на меня издателям «Пчелы» длинную челобитную, начинающуюся
и оканчивающуюся клятвенным уверением, что он не литератор,
в чем всякой ему охотно поверит и без уверений. Я не хочу
опровергать его нападок на самую статью, предоставляя это сде¬
лать ее автору, хотя и согласен с большею частию мнений, выра¬
женных в этой статье с талантом, уменьем и знанием своего
дела; скажу только несколько слов о прицепках г. титулярного
советника, относящихся ко мне лично.
Оный титулярный советник Иван Евдокимов сын Покров¬
ский, в вышереченной своей челобитной, обносит меня «пре¬
строгим» человеком, «которому якобы нет никакой возмож¬
ности угодить». Против этого я не спорю; я в самом деле не
люблю потачек, когда дело идет об истине, о благе искусства.
Но вышереченный титулярный советник сим не довольствуется.
Вслед за тем он доносит на меня, что я закричал когда-то
о г. Каратыгине: «Не надо нам актера аристократа!» 6 — и при¬
совокупляет потом следующие язвительные речи, по которым
легко можно видеть, что г. титулярный советник больше чем не
литератор, что он не имеет понятия не об одних литературных
приличиях: «А из всех-де творений г. Белинского заметно, что,
по его мнению, тот, кто носит чистое белье, моет лицо, и от
кого не пахнет ни чесноком, ни водкою, аристократ». Та! та! та!
г. титулярный советник. Такие речи не делают чести вашему бла¬
городному обонянию, или по крайней мере показывают решитель¬
ное невнимание к обонянию издателей и читателей «Северной
пчелы». Знаете ли, что ныне уж и в порядочных ресторациях
не говорят вслух о «чесноке» и «водке»? Но претензия моя но
в том: эти речи вовсе не резонны и никак до меня не касаются.
514
[Что в моих глазах опрятность, литературная и житейская,
есть не порок, а достоинство, тому может служить торжествен¬
ным доказательством мое отвращение к повестям и романам
гг. Ушакова и Загоскина, от героев и героинь которых точно
нередко попахивает «чесночком» и «водочкой» (да простят мне
читатели это уменьшительное повторение выражений г. титу¬
лярного советника!). И нигде так сильно не выразилось мое от¬
вращение от этого литературного цинизма, столь несвойственного
аристократии, как в моем отзыве о комедии г. Загоскина «Недо¬
вольные» 7, герои которой хотя и причислены своим автором
к аристократам, то есть людям высшего круга общества, по выра¬
жаются языком тех особ, которые редко «моют лицо», еще реже
«меняют белье», и от которых... (ох! опять было проговорился
выражениями г. титулярного советника!). Итак, зачем же такая
на меня ябеда? — Нет! я имею столь высокое понятие об аристо¬
кратии, что по одному употреблению этих слов, которыми так
щеголяет г. титулярный советник, не сочту его аристократом,
хотя б даже он был и другой какой советник повыше!..
Впрочем, кто знает настоящий ранг почтенного нелитера-
тора, скрывшегося под скромным именем титулярного советни¬
ка? Из слов его видно, что он имеет большой круг деятель¬
ности, силу немаловажную, по крайней мере для гг. актеров...8
«Ну, рассудите сами, — продолжает доносить на меня оный
мнимый или истинный Иван Евдокимов сын Покровский, — как же
после этого какой-нибудь порядочный артист, который дорожит
своим местом, может угодить г. Белинскому?» — В своем деле
никто не судья — вот мое правило; и потому я не почитаю себя
вправе доказывать, чтобы кто-нибудь мог и должен был доро¬
жить моим мнением; но нельзя не остановиться здесь па выра¬
жении: «артист, который дорожит своим местом». Аллах керим!
что это значит? Почтенный титулярный советник не дает ли этим
знать, что актер, который подорожил бы моим мнением или
последовал бы моему совету, вследствие своей доброй воли
и своего убеждения, должен «лишиться места»?.. Странно!..
Этот г. титулярный советник что-то очень грозен?..
Из последующих пунктов вышесказанной челобитной видно,
что она писана не столько в обличение статьи г. А. Б. В., поме¬
щенной в «Молве», сколько с намерением сделать извет на
меня, и, вдобавок еще, не как на литератора, а как на челове¬
ка.— «Он (то есть я) что-то особенно гневается на здешний те¬
атр, — вещает г. титулярный советник, — может быть, за то, что
в нем места кажутся ему слишком дороги».— Я не хочу здесь
спрашивать г. титулярного советника, каким образом мог он
заглянуть в мои карманы, когда я для него их не выворачивал;
замечу только, что места в нашем театре, сравнительно с удо¬
вольствием, которое он доставляет зрителям, точно немного
дорогоньки, и, верно, не для одного меня; в противном случае
отчего ж он так редко бывает полон и так часто пуст£
17*
515
Больше говорить нахожу не нужным, сколько потому, что не
о чем, столько и потому, что, говоря словами вышеписанного ти¬
тулярного советника, «я человек смирный и чистоплотный». Одно
только считаю долгом повторить здесь во всеуслышание, как для
публики, так и для мнимого или истинного титулярного советника
Ивана Евдокимова сына Покровского, что я, по отпуске сей
статьи, остаюсь при том же мнении, как был и до отпуска оной,
то есть, что «Ревизор» г. Гоголя превосходен, а «Недовольные»
г. Загоскина... что делать?., очень плохи.
ВТОРАЯ КНИЖКА «СОВРЕМЕННИКА»
Радушно и искренно приветствовали мы первую книжку
«Современника»; но это было сделано нами не столько по
убеждению, сколько по увлечению. Вопреки заклятым односто¬
ронним фактистам, мы всегда почитали суждение a priori не
только возможным, но даже более верным и безошибочным,
чем суждение a posteriori *, и наши заключения, выведенные
из чистого разума, всегда оправдывались и подтверждались
опытом *, по крайней мере в приложении их к явлениям нашей
литературы. Скажите нам имя автора книги или издателя жур¬
нала, скажите, какого рода должна быть эта книга или этот
журнал, и мы скажем вам, какова будет эта книга, каков будет
этот журнал, скажем безошибочно, до их появления на свет,
Вследствие такого умозрительного взгляда на явления литера¬
турного мира, для нас было достаточно имени Пушкина как
издателя, чтобы предсказать, что «Современник» не будет
иметь никакого достоинства и не получит ни малейшего успеха.
Мы этим нимало не думаем оскорблять нашего великого поэта:
кому не известно, что можно писать превосходные стихи и в то
же время быть неудачным журналистом? Всеобъемлемость та¬
ланта и его направлений есть исключение: Гете, в этом случае,
может быть пример единственный. Пусть нам скажут, хоть
в шутку, что Пушкин написал превосходную поэму, трагедию,
превосходный роман, мы поверим этому, по крайней мере не
почтем подобного известия за невозможное и несбыточное; но
Пушкин-журналист это другое дело. Повторяем: мы в этом
случае никогда не ошибаемся; мы знаем цену всех романов,
которые напишут гг. Булгарин, Греч, Степанов, Масальский,
Калашников; всех теорий словесности, которые издадутся
гг. Плаксиным и Глаголевым, всех... но всего не перечтешь. Об¬
ращаемся к «Современнику». Его план, выход книжек, выбор
статей — все это подало нам мало надежд; но, повторяем, мы
приветствовали его радушно и искренно, не столько по убежде¬
нию, сколько по увлечению, причиною которого была статья «О
*а priori —до опыта; a posteriori — после опыта (лат.). — Ред%
516
движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.». Резкий
и благородный тон этой статьи, смелые и беспристрастные от¬
зывы о наших журналах, верный взгляд на журнальное дело —
все это подало было нам надежду, что «Современник» будет
ревностным поборником истины, искажаемой и попираемой по¬
тами книжных спекулянтов, что его голос неутомимо, громки
и твердо будет раздаваться на журнальной арене, превращен¬
ной в рыночную площадь продажных похвал и браней, что он
сшибет не с одной пустой головы незаслуженные лавры, что оа
ощиплет не с одной литературной вороны накладные павлиные
перья, что он сорвет маску мнимой учености и мнимого таланта
не с одного заезжего фигляра, с баронским гербом и татар¬
ским прозвищем, пускающего в глаза простодушной публики
пыль поддельного патриотизма и лакейского остроумия. Тем
приятнее было нам надеяться всего этого от «Современника»,
что теперь, именно теперь, наша литература особенно нуждается
в таком журнале; и мы думали, что если бы сам Пушкин и не
принимал в своем журнале слишком деятельного участия, пре¬
доставив его избранным и надежным сотрудникам, то одного
его имени, столь знаменитого, столь народного, так сладко отзы¬
вающегося в душе русских, одного имени Пушкина достаточно
будет для приобретения новому журналу огромного кредита
со стороны публики; а кредит публики дело великое: с ним
много хорошего может сделать талант, соединенный с любовию
к истине и ревностию к благу общему.
Итак, мы решились ждать второй книжки «Современника»,
чтоб высказать положительнее наше о нем мнение. И вот мы
наконец дождались этой второй книжки — и что ж? — Да ниче¬
го!.. Ровно, ровнехонько ничего!.. Статья «О движении журналь¬
ной литературы» была хороша,
А моря не зажгла!..2
Этого мало: убив все наши журналы, она убила и свой соб¬
ственный. В «Современнике» участия Пушкина нет решительно
никакого. Теперь к нему самому идет шутка, сказанная им же
или его сотрудником насчет г. Андросова: «„Современник11 сам
похож на те ученые общества, где члены ничего не делают
и даже не бывают в присутствии, между тем как президент яв¬
ляется каждый день, садится в свои кресла и велит записывать
протокол своего уединенного заседания»3. Впрочем, это все
бы ничего: остается еще дух и направление журнала. Но, увы!
вторая книжка вполне обнаружила этот дух, это направление;
она показала явно, что «Современник» есть журнал «светский»,
что это петербургский «Наблюдатель». В одном петербургском
журнале было недавно сказано, что «Современник» есть вторая
или третья попытка (так же неудачная, как п прежние, прибавим
мы от себя) какой-то аристократической партии, которая силится
основать для себя складочное место своих мнений. Мы не знаем
517
и не хотпм знать ни об аристократических, ни о каких других
партиях; но нам известно, что в нашей литературе есть точно
какой-то «светский» круг литераторов, который не находит нигде
приюта для сбыта своих мнений, которых никому не нужно и
даром, заводит журналы, чтоб толковать о себе и о «светскости»
в литературе; и, по нашему счету, «Современнпк» есть уже
пятая попытка в этом роде 4. Мы уже несколько раз имели случай
говорить, что в литературе необходимы талант, гений, твор¬
чество, изящество, ученость, а не «светскость», которая только
делает литературу мелкою, ничтожною, бессильною, и наконец
совершенно ее губит; что литература есть средство для
выражения мысли и чувства, данных нам богом, а не «светскости»,
которая очень хороша в гостиных и делах внешней жизни, но
не в литературе. Да, мы это повторяли очень часто и очень смело,
потому что, в этом случае, за нас стоят здравый смысл и общее
мнение. Посмотрите, что такое жизнь всех наших «светских»
журналов? Борение жизни с смертию в груди чахоточного. Что
сказали нам нового об искусстве, о науке «светские» журналы?
Ровно ничего. Публика остается холодною и равнодушною
к этим жалким анахронизмам, силящимся воскресить осьмнад-
цатый век; она презрительно улыбается, когда в этих журналах
с каким-то вдохновенным восторгом уверяют, что «человек,
в сфере гостиной рожденный, в гостиной у себя дома: садится
ли он в кресла? он садится, как в свои кресла; заговорит ли? он
не боится проговориться»; что, напротив, «провинциял-выскоч-
ка(?) не смеет присесть иначе, как на кончике стула» 5. Милости¬
вые государи, умейте садиться в кресла, будьте в гостиной, как
у себя дома,— все это прекрасно, все это делает вам большую
честь; видя, с каким искусством садитесь вы в кресла, с какою
свободою любезничаете в гостиной, мы готовы рукоплескать
вам: но какое отношение имеет все это к литературе? Ужели
уменье садиться в кресла и свободно говорить в гостиной есть
патент на талант литературный или поэтический? Ужели человек,
умеющий непринужденно сесть в кресла и свободно пересыпать
из пустого в порожнее, больше, нежели человек, робко садя¬
щийся на кончике стула, знает об искусстве, о науке, глубже
симпатизирует с человечеством, тревожнее мучится вековыми
вопросами о жизни, о вечности, о мире, о тайне бытия, сильнее
страдает, усерднее молится, тверже верует, несомненнее наде¬
ется, пламеннее любит, благороднее и бескорыстнее действу¬
ет?.. Милостивые государи, к чему эти беспрестанные похвалы
самим себе за знание «светскости», к чему эти беспрестанные
уверения, что вы люди «светские»? Мы и так верим вам, склоня¬
емся пред вашею «светскою» мудростию; вам и книги в руки; не
думайте, чтобы между вами и нами было что-нибудь вроде
зависти, вроде jalousie de metier*... Но публике нужны не
* зависти в профессии, мастерстве {франц.). — Ред.
518
гувернеры, которые кричали бы ей: «Tenez-vous droit»
а поэты, а ученые, а литераторы, а критики, которые бы знако¬
мили ее с высшими человеческими потребностями и наслажде¬
ниями, руководствовали бы ее на пути просвещения п эстети¬
ческого, а не «светского» образования. Оглянитесь вокруг себя
повнимательнее: вы увидите, что и между вами, людьми «свет¬
скими», людьми «высшего общества», есть люди, которым душна
бальная атмосфера, ненавистен мишурный блеск гостиных,
которые бегут от них, чтобы в тиши уединения предаться мир¬
ному занятию предметами человеческой мысли и чувства; есть
люди, которые скучны в обществе, не любезны с дамами, для
которых уже невозвратно кончился осьмнадцатый век, вместе
Со славой красных каблуков 1
И величавых париков!..6
Не представляет ли чего замечательного содержание вто¬
рой книжки «Современника»? — Из трех стихотворных пьес за¬
мечательны только две: «Урожай» г. Кольцова, довольно растя-
путая в целом, но местами блещущая искорками поэзии, да
«Иоанн и Аристотель» барона Розена7, отрывок из драмы,
складом, ладом и прелестию стихов напоминающий «Дейдамию»
Тредьяковского. Не угодно ли полюбоваться хоть несколькими
стихами?
У нас цветут науки и искусства;
Художниками славится наш край:
Италия — картинная палата,
Огромный певчий хор, изящный строй
Разнообразных велелепных зданий,
И область стихотворства и любви.
Свою картину пишет живописец,
Певец свой голос гнет и сыплет в дробь,
Обожествляет женщин стихотворец,
Выводит ад, чистилище и рай;
А зодчий строит мост иль ставит церковь,
Сдвигает колокольню...
Такими-то ужасными виршами объясняется* Аристотель с Иоан¬
ном III, который отвечает ему еще ужаснейшими! — Теперь
о прозе. Здесь замечательна статья: «Записки Н. А. Дуровой,
издаваемые А. Пушкиным». Если это мистификация, то призна¬
емся, очень мастерская; если подлинные записки, то занима¬
тельные и увлекательные до невероятности8. Странно только,
что в 1812 году могли писать таким хорошим языком, и кто же
еще? женщина; впрочем, может быть, они поправлены автором
в настоящее время. Как бы то ни было, мы очень желаем, чтоб
эти интересные записки продолжались печататься. Критических
и полемических статей пять. Между ними очень дельный, хотя
и очень сухой, разбор книги «Статистическое описание Нахиче-
* «Держитесь прямо» (франц.). — Ред%
519
ванской провинции» г. Золотицкого9. Но разборы «Ревизора»
г. Гоголя и «Наполеона», поэмы Эдгара Кине, подписанные ли¬
терою В., должны совершенно уронить «Современника» 10. Это
разборы самые «светские», потому что, прочтя их, вы готовы
сказать г. рецензенту, хотя заочно: «Милостивый государь! все,
что вы говорили, очень прекрасно; но позвольте вас спросить,
о чем вы говорили и что хотели сказать?» Таков характер всех
«светских» суждений об изящном; в них вообще заметно отсут¬
ствие логики. Впрочем, один «светский» журнал недавно очень
откровенно признался, что в суждении логика только вредит
и что поэтому он не хочет и знать ее; 11 так чего ж вы хотите?
Вообще в этих статьях обнаруживается самая глубокая симпа¬
тия к московскому «светскому» журналу и беспредельное
уважение к его критике, что, впрочем, и не удивительно: свой
своему поневоле брат. Странно только, что при этом случае на
«Телескоп» взведена небылица: сказано, будто бы какие-то
издатели «Телескопа» восклицали: «Избави нас боже от критик
„Наблюдателя14!» 12 На это, во-первых, заметим, что есть изда-»
тели, например, «Сына отечества» и «Северной пчелы», имена
которых и выставляются на обертке этих журналов; но у «Теле¬
скопа» был и есть только один издатель, имя которого должно
быть известно г. В. Во-вторых, скажем, что не в «Телескопе», а в
«Молве», были точно сказаны эти слова, но не о критиках «На¬
блюдателя», а о критиках князя Вяземского. Правду сказать, это
почти одно и то же; но «Телескоп» отмахивался от них за пуб¬
лику, а совсем не за себя, потому что мы, участвующие мыслию
и сердцем в «Телескопе», с своей стороны, напротив, «любим
иногда почитать что-нибудь забавное»...13
Забавнее всего, что «светский» критик «Современника», со¬
блазнившись мыслию Скриба*, что в литературе всегда отража¬
ется прошедшее, а не настоящее состояние общества, так вос¬
хитился ею, что уцепился за нее обеими руками, теребит ее так
и сяк и прилагает кстати и некстати к русской литературе 14.
Если поверить ему, то у нас потому только преследуют сатирою
взяточничество, от Сумарокова до Гоголя, что это взяточничес¬
тво было когда-то давно, только не теперь; что Ломоносов
и Державин и вслед за ними тысячи других лириков потому
только беспрестанно воспевали победы, что их время было мир¬
ное, чуждое войн и побед... Словом, смех и горе... Библиография
покуда отделывается одними звездочками, между тем как осталось
только две книжки «Современника» 15.
И это «Современник»? Что ж тут современного? Неужели
стихи барона Розена и похвалы «светским» людям за то, что они
умеют хорошо садиться в кресла и говорить в обществе свобод¬
но?.. И на таком-то журнале красуется имя Пушкина!..
* Взятою пз статьи, помещенной в начале этой же книжки «Современ¬
ника».
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДМИТРИЙ КАЛИНИН
Драматическая повесть
в пяти партипах
СОЧИНЕНИЕ ВИССАРИОНА БЕЛИНСКОГО
И всюду страсти роковые
И от судеб защиты нет!
Пушкин1
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Дмитрий Калинин.
Сурский, его друг.
Томин, приятель Сурского.
Лесинская, богатая помещица.
Софья, ее дочь.
Князь Кизяев.
Рудина, воспитательница Софьи.
Сидор Андреевич, лицемер, живущий в доме Лесинской.
Иван, старый служитель Лесинских.
Лиза, горничная Софьи.
Федор, нанятой служитель Калинина.
Степан, служитель Сурского.
Хозяйка постоялого двора.
Незнакомка.
Две монахини.
Множество гостей и слуг.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Издавая в свет мою драматическую повесть, я чувствую всю
важность моего поступка и потому почитаю за нужное отдать
моим читателям отчет в оном, сообщить им собственные мои
мысли о моем сочинении. У нас беспрестанно выходит такое
множество книг (разумеется, несравненно более худых, нежели
хороших), что для публики почитать важным издание какой-
нибудь из них — есть смешно и нелепо. Но не так должен смот¬
реть на подобные предприятия сам автор, ежели он уважает
публику, ежели он пишет не из низкого желания заслужить
жалкую, мелочную известность в литературном мире, не от
нечего делать, но из чистого, бескорыстного побуждения выра-
вить этот внутренний мир самого себя, этот мир собственных
мыслей и чувствований, возбуждаемых в нем созерцанием этой
чудесной, гармонической, беспредельной вселенной, в которой
он обитает, назначением, судьбою человека, сознанием его
нравственного величия,— из непонятного стремления разгадать
тайны его существования, из благородного желания по мере
своих сил и способностей споспешествовать успехам отечест¬
венной литературы! Так думал я, предпринимая писать это сочи¬
нение, и смело могу уверить моих читателей, что таковы были
побуждения, заставившие меня написать оную. Будучи слишком
далек от того, чтобы иметь ничтожное тщеславие почитать свое
сочинение важным явлением в нашей литературе, быть слепо
влюбленным в свое детище, — я в полной мере вижу все
недостатки, всю слабость оного. Это есть не что иное, как пер¬
вое, несвязное лепетание младенца; это есть первое, незрелое
произведение пера неопытного, несмелого. Читатель не найдет
в нем ни тех светлых, высоких истин, ни тех сильных, глубоких
мыслей, ни того умения представить в создании своей мечты
целого стройного мира, ни того тонкого познания человеческо¬
го сердца, которые бывают уделом одних гениев — этих вечно
юных исполинов земли, этих любимцев п органов неба! Нет: он
525
увидит в нем не более, как только порыв души пламенной,
души, страстной ко всему высокому, изящному, души, желаю¬
щей излиться и борющейся между этим желанием и слабостью
сил. Чтение поэтов, чтение истории, углубление в самого себя,
печали, радости, восторг, равнодушие, волнение страстей, по¬
рыв к чему-то неопределенному, тоска по чем-то неведомом,
размышление о человеке, о непонятной смеси доброго и злого,
высокого и низкого, составляющей существо его, мысль о дру¬
гом, таинственном мире родят тысячи вопросов безответных,
волнуют юный, неопытный ум, как неразрешимая, но слабо пони¬
маемая каким-то темным чувством загадка. В это поэтическое
состояние душа человека воспламеняется каким-то неясным, но
сильным желанием выразить самое себя, грудь его волнуется
каким-то тревожным чувством неизъяснимого беспокойства,
и он желает раскрыть ее, показать свое сердце, чтобы могли
прочитать и истолковать самому ему те непонятные буквы, ко¬
торые начертаны на нем рукою неведомого. Кому знакомы эти
редкие минуты восторга, тот поймет меня. Не знаю, благосклон¬
но ли примет публика мое сочинение; но ежели достоинство
его равно тому пламенному энтузиазму, с которым оно писано,
то труды мои не тщетны. Если хотя искра того божественного
огня, того животворного восторга, которые оживляли меня, как
электричество, сообщится душе читателя и ежели сочинение
мое доставит ему несколько приятных минут, несколько прият-
иых впечатлений, то я достиг моей цели. Осмеливаюсь льстить
себя сладостною надеждою, что мое сочинение, несмотря на
свои недостатки, как первое в своем роде, не будет лишним
в. нашей литературе, столь бедной драматическими произведе¬
ниями, и удостоит своим вниманием первый опыт молодого сту*
дента.
КАРТИНА ПЕРВАЯ
Действие происходит в Москве.
Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят, как одна
Душа безумная поэта
Еще любить осуждена!
Пушкин2,
Местом сцены есть маленькая комнатка; небольшой стол, на котором в бес¬
порядке лежат книги и бумаги; кровать и два стула составляют все убран¬
ство оной. Калинин читает книгу, потом с некоторою досадой бросает оную,
встает и говорит.
Дмитрий. Ожидание! Ожидание! Как ужасно ты! Ах,
для чего я не могу разорвать покров, скрывающий от меня
будущее? Для чего не могу разгадать загадку моей жизни?
Что должно мне делать в моем положении: отчаиваться или
надеяться? Если любовь была так благосклонна ко мне, то
неужели надежда обманет? Как! Если и презренный эгоист
с низкими чувствами — и тот бывает счастлив, то неужели
счастие должно убегать человека с душою возвышенною,
с страстями благородными, человека, который способен лю¬
бить?.. Нет!.. Старик меня любит, дочь свою также: неужели оп
захочет сделать несчастными два любезные ему существа?..
Нынче я должен получить от него письмо. А там?.. Там, окри-
ленный любовию, я полечу к ней... (Входит Сурский.)
Сурский. Здорово, брат! Ты, мне кажется, изволпшь на
просторе философствовать; извини меня, если я помешал тебе,
Дмитрий. А, дружище! Здорово! Как же ты кстатп при¬
шел ко мне: никогда не ожидал я тебя с таким живым нетерпе¬
нием.
Сурский. А почему это так? Уж не весточку ли получил
кое от кого?
Дмитрий. Ах, любезный, я нынешний день что-то не
в обыкновенном расположении духа: душа так полна чувств^
что не в силах вместить их в себе; сердце так...
Сур с кий. Ну, пошел врать! Теперь только и услышишь,
что душа да сердце, энтузиазм да любовь! Кажется, твой дух
ежеминутно находится не в обыкновенном расположении, то
есть: ни в умном, ни в глупом, а в каком-то среднем между
этими; душа же твоя всегда бывает полна через края...
Дмитрий. Проклятый Мефистофель! Зачем ты пришел
ко мне? Ругаться надо мною? Боже мой! Неужели нет людей на
белом свете, или по крайней мере нет их для меня! Ищешь
друга, которому (бы) можно было открывать свою душу, с кото¬
рым бы можно было делить горести и радости, а находишь
одни бесчувственные трупы, в ледяных грудях которых бьются
гнилые деревянные сердца! Сурский! Ты создан для моего му¬
чения. Я привязан к тебе до безумия; а ты... чем ты мне за это
платишь? Обошлось ли у нас с тобою хотя одно свидание без
неудовольствия?
Сурский. Потише, брат, потише; пожалуйста, не горя¬
чись: ты этим никогда не взбесишь меня. Я не схвачу по-твоему
картуза и не побегу опрометью домой. Притом же тебе не худо
бы оставить эти высокопарные фразы: они нашему брату, тем¬
ному человеку, непонятны; огненные же слова твои опасны для
моей ледяной груди: могут растопить ее.
Дмитрий (невольно усмехаясь). О несносный человек!
отчего я не могу не только чувствовать к тебе ненависти, но
даже и сердиться на тебя?
Сурский. Оттого, что ты добр, хотя и безумен. Я слиш¬
ком хорошо знаю тебя и, как пророк, говорю тебе, что ты пе
кончишь счастливо своей жизни. Ты всегда следуешь внушени¬
ям опаснейших врагов твоих, воображения и сердца, а никогда че
слушаешься хотя и сурового, но доброго старика — рассудка.
Дмитрий. Я никогда не поверю, чтобы человек, следую¬
щий одному холодному рассудку и живущий по счетам и вы¬
кладкам эгоизма, мог быть истинно счастливым.
Сурский. Дмитрий! я не могу сказать, чтобы я слишком
много жил, но что я слишком много испытал — это всегда ска¬
жу. И в моей, ныне ледяной, груди билось некогда пламенное
сердце; и моя, ныне холодная, душа некогда кипела страстями;
и мое, ныне погасшее, воображение было некогда, к моему
несчастию, слишком живо, слишком услужливо. Легковерный
и неопытный, я видел везде одно добро и спал сном сладо¬
стным, волшебным. Но, к несчастию, скоро проснулся и увидел,
что воображение обмануло меня самым жестоким образом.
Опыт разогнал золотые мечты и показал горькую действитель¬
ность. Разочарованный, обманутый, я не верил самому себе, ког¬
да начал смотреть на все предметы глазами рассудка. Любовь,
на коей я основал все здание моего блаженства, послужила
528
к моему несчастию. Я любил людей со всем жаром молодого,
неопытного сердца — и увидел, что их действиями управляют
эгоизм и предрассудки. Больно было мне расставаться с моими
мечтами — и наконец с горькими слезами расстался я с ними,
как младенец с игрушками. Глубоко схоронил свои страсти
в сердце и навсегда отпел им панихиду. И теперь, сказав обма¬
нам прости, предавшись во власть рассудка, я чувствую себя
гораздо счастливейшим, нежели было во время оно, хотя ино¬
гда — признаюсь в слабости — и вздыхаю о нем. На мир смотрю
спокойными глазами, как зритель, а не актер. Впрочем, я еще
и теперь люблю предаваться обольстительному воображению;
верую в любовь, в дружбу и во все, что составляет сладо¬
страстие благородных душ; так же, как и ты, страстен ко всему
высокому, прекрасному; но держу свои страсти и воображение
г» равновесии с рассудком, и даже так, что последний немного
перетягивает.
Дмитрий. Тебя ли я слышу? Ты ли говоришь это?
Сурский. Кажется, что я, а впрочем, не знаю. Но послу¬
шай, оставим это и поговорим о чем-нибудь другом.
Дмитрий. Скажи мне, пожалуй: отчего мы не можем
ужиться друг с другом?
Сурский. Оттого, что (ты) мне кажешься слишком го¬
рячим, а я тебе .слишком холодным. Я люблю шутить и смеяться,
а ты важничать. То и другое хорошо к случаю и к месту. Из чего
ты давеча так взбесился? Впрочем, я и не совсем прав: ты жа¬
лок по своему характеру, и мне бы должно щадить тебя.
Дмитрий. Ты никогда не хочешь выслушать меня
с участием, когда я говорю о своих намерениях, надеждах, а если
и слушаешь, то всегда с насмешливого улыбкою.
Сурский. Напротив: я готов даже разделить мечты твои;
но мне кажутся смешными эта горячка, этот пыл, с которыми
ты часто говоришь о предметах самых обыкновенных — упо¬
треблю любимый твой эпитет — прозаических, и потому не
упускаю случая пошутить на твой счет. Ты живешь в очарова¬
тельном мире поэзии и смотришь на мир сквозь увеличитель¬
ное стекло воображения. Тебя все пленяет, и даже самые огор¬
чения, которые тебе иногда случается переносить: ты почита¬
ешь их страданиями и какого-нибудь мальчишку, причинившего
тебе детскую обиду, — злодеем; а себя, еще ничего не испытав¬
ши, — жертвою судьбы и игрушкою счастия; видишь в себе ро¬
манического героя — и это имеет для тебя прелесть поэзии. Ты
еще младенец, и я не хочу разочаровывать тебя; не хочу обли¬
вать душу твою холодным ядом сомнения. Придет время, и без
меня все узнаешь; придет время —- и твое лицо, одушевленное
и ясное, сделается мертвым, холодным, вместо доверчивой
улыбки явится горькая и насмешливая.
Дмитрий. Не говори мне этого; оставь меня в моем счастли¬
вом заблуждении, не сдергивай с глаз моих этого радужного
529
флера, сквозь который я смотрю на мпр. Впрочем, для меня очень
удивительно, что ты, почти совершенно не зная моих обстоя¬
тельств, с такою утвердительностию говоришь, что я ничего пе
испытал. О, если бы ты знал!.. О! Я жил!.. Я чувствовал!..
Сурский. Твою историю не трудно узнать; она вся состоит
в одном слове: Софья! Впрочем, все подробности оной мне
неизвестны; ты, несмотря на откровенность, которая, по словам
твоим, составляет отличительную черту твоего характера, мне
не сообщал их. Это неестественно: влюбленные откровенны,
а особливо с друзьями своими.
Дмитрий. Я потому не открывал тебе тайн мопх, что
боялся равнодушия и насмешек. Друг мой, ничто так не может
сделать меня счастливым, как участие во мне других, ничто не
может так убить, как равнодушие.
Сурский. Напрасно же ты опасался меня. Я наперед
знаю, о чем и что ты будешь говорить мне; однако, несмотря на
то, с удовольствием выслушаю повесть твоей жизни, которая,
кроме меня, ни для кого не может быть интересною. Теперь мы
ничем не заняты, говори: я слушаю.
Дмитрий. Очень рад. Только бога ради выслушай меня
снисходительно и не беси своими несносными шутками. Я буду
о том говорить тебе, о чем не могу и вспомнить без исступле¬
ния в высочайшей степени. Мне давно хотелось вверить тебе
мои тайны. Мне непременно должно разделить их с кем-нибудь:
иначе они будут тяготить мою душу.
Сурский. Все это очень хорошо, только нельзя ли без
предисловий?
Дмитрий. Да не велишь ли подать вина?
Сурский. О, это прекрасное дело! Вино сделает тебя
красноречивее, меня веселее. Без него дружеские беседы ни
к черту не годятся. Да вели, кстати, закурить трубку.
Дмитрий. Эй, Федор! Федор! (Вбегает Федор.)
Федор. Чего изволите, сударь?
Дмитрий. Принеси, брат, бутылку вина да закури
трубку.
Федор. Сейчас-с. (Уходит.)
Дмитрий. Послушай, Алексей: сверх необходимости из¬
лить перед тобою, как перед моим другом, мои чувства, пове¬
рить историю моего сердца, я имею еще другую, побуждающую
меня открыть тебе мои тайны! Хотя и не имеешь этого огня,
который пожирает мою душу, но ты благоразумнее, основа¬
тельнее меня. Твоя холодная рассудительность может быть для
меня полезна: я нахожусь теперь в таких обстоятельствах,
в которых не могу обойтись без твоих советов.
Сурский. Нельзя ли оставить эти комплименты, от кото^
рых я бегаю, как черт от ладану.
Дмитрий (с принужденною улыбкою, робко и реши¬
тельно^ Я не племянник Лесинского, как говорил тебе; нет,
530
я его... (Схватывает руку Сурского и быстро смотрит ему в гла¬
за.) Но прежде, нежели я договорю, скажи мне: свободен ли ты
ст предрассудков? Не заражен ли ты ими? Отвечай мне, отве¬
чай: без того не дождешься от меня ни одного слова!
Сурский. Успокойся. Разве ты меня не знаешь? Разве не
доказывают все слова мои, все поступки, что только один рассу¬
док мой господин. Кто бы ты ни был, я всегда буду видеть
в тебе человека, достойного моей дружбы. Говори...
Дмитрий. Я... я... его... отпущенник...
Сурский. В самом деле? Ну, великая важность! Есть же
чего стыдиться!
Дмитрий. Друг мой, я не стыжусь этого; но ты сам зна¬
ешь, каковы люди и что значит в глазах их происхождение.
Сурский. В их же, а: не в моих; следовательно, тебе
нечего бояться меня. (Федор приносит бутылку вина, пару ста¬
канов и раскуренную трубку, которую поднес Сурскому, и ухо¬
дит.)
Дмитрий. Мои родители были дворовые люди Лесинско-
го. Будучи шести лет, я лишился их. Мой господин принял меня
в свой дом, в качестве воспитанника. Говорят, что он оказывал
мне особенную любовь почти со дня моего рождения. Я слышал
стороною, что он жестоко обидел моего покойного отца и, ве¬
роятно, чтобы загладить свой проступок, обратил на меня осо¬
бенное внимание. У него были два сына и дочь трех лет. Он
воспитывал меня, совершенно ничем не отличая от своих детей;
но, несмотря на это, мое положение было очень незавидно.
Кажется, что судьба с первого дня моего рождения заклялась
против меня непримиримою враждою...
Сурский. Понимаю: верно, его жена...
Дмитрий. Ты угадал: эта надутая, суеверная змея-жен¬
щина есть всегдашняя моя гонительница. Она ненавидела меня
за то, что я, будучи сыном ее лакея, пользовался любовию ее
мужа и обходился с ее детьми, как с равными себе. Как часто
за меня происходили у ней с мужем неудовольствия, споры
и даже самые ссоры! Ее сыновья, которых она любила до
безумия и баловала, разделяли ее ненависть и делали со мною
всякие пакости. Я жил в дому моего благодетеля отчужденный
от всех. Только его ласки немного оживляли меня; но я и их
избегал, зная, что они более и более раздражали моих недоб¬
рожелателей. Я всегда был прилежен к учению, чем большую
навлекал ненависть маленьких негодяев, которые были пример¬
ные лентяи. Быстро пролетели восемь лет моего пребывания
б доме Лесинского. С этого времени я начал себя помнить, и с
этого времени началось развитие моей внутренней жизни.
У моего благодетеля была огромная библиотека, и потому чте¬
ние рано сделалось любимейшим моим занятием. Оно образо¬
вало мой вкус и, питая начинавшие обнаруживаться во мне
страсти, дало мне благородное направление. Напитанная духом
531
поэзии, душа моя окрилялась каким-то невыразительным воен¬
торгом. В ней пробудилась любовь ко всему высокому, благо¬
родному. Почти никем не любимый, я никому не поверил ни
моих чувств, ни моих мыслей; да если бы и захотел сделать это,
то могли ли бы эти толпы людей низких, пресмыкающихся в пыли
презренных, мелочных сует, понимать меня?..
Сурский. Но твой благодетель? Я думаю, он мог иметь
о тебе понятие, какое ты заслуживал?
Дмитрий. Так, он был единственным существом, кото¬
рое понимало меня, которого душа и сердце были родными
моим. Не любя своей жены, недовольный своими детьми, он
любил в разговорах со мною убивать время. С улыбкою самодо-
вольствия называл меня пылкою головою, молодым мечтателем,
своим маленьким философом. Несмотря на это, я живо чувст¬
вовал свое одиночество и грустил. Задумчивость и печаль поло¬
жили свою печать на моем лице. Я казался спокойным; но как
сильно кипели страсти под одеждою этого мнимого холоднокро¬
вия! Это была Этна, покрытая льдом. Так, друг мой, рано почув¬
ствовал я пыл души моей, рано страсти начали волновать грудь
мою. Но к этой неукротимой пылкости присоединилась чувстви¬
тельность редкая, необыкновенная. Всякое малейшее огорче¬
ние, причиненное мне кем-нибудь, терзало мою душу, отнимало
у меня спокойствие и радость; но зато и малейшая ласка приво¬
дила в восторг. Ты не можешь себе представить, с каким чувст¬
вом я смотрел всегда на несчастного. Если при мне рассказыва¬
ли о несправедливостях, гонениях, жестокостях сильных над сла¬
быми, о злоупотреблении властей, — то ад бунтовал в груди моей!..
Сурский. Да, чувствительность, соединенная с пыл-
костию, есть ужасный дар неба. Горе тому, кто рожден с ними
и не умеет покорить их под власть рассудка! Он может живее
обыкновенного человека ощущать прелесть блаженства; но ра¬
но или поздно, а заплатит за эту бедственную способность кро¬
вавыми слезами!
Дмитрий. Так, друг мой, ты прав, я это испытал на са¬
мом себе. О, как горестно, как больно было мне сносить нена-»
висть Лесинской и ее сыновей! Нередко я втайне плакал; но при
них всегда казался спокойным, хотя сердце мое стеснялось, хо¬
тя душа страдала. Я не хотел показать им, что их обиды для
меня чувствительны. Видя сие, они еще более раздражались и
наконец изобрели новый способ мучения — стали называть ме-»
пя... рабом!.. (Стремительно схватывает стакан, наполненный ви¬
ном, разом осушает оный и с злобою опрокидывает на стол.) О!
Какое убийственное, какое ужасное действие производило нас
мою душу это слово! Оно было для меня острием кинжала,
гибельным жалом змеи, которое, уязвляя мое сердце, пожира¬
ло его ядовитым огнем!.. Когда с злобною улыбкою они произ¬
носили это роковое слово, то я выходил из самого себя. Я весь
превращался в злобу и неистовство и часто готов был предаться
532
влечению моей вспыльчивости, если бы мысль, что могу этим
оскорбить моего благодетеля, не обезоруживала меня.
Сурский. Да, это немного досадно; но гораздо благора¬
зумнее презирать скотами, нежели сердиться на них. Я бы па
твоем месте просто сказал им, что они глупцы и что сердиться
на них — значит делать им честь. Опять же ведь и их винить
нельзя: они не могли иначе поступить с тобою. Можно ли, на¬
пример, почитать злодеем русского мужика, готового зарезать
француза за то, что он, по его мнению, есть неверный басурман,
ибо говорит не его языком и не умеет прочесть «Отче наш»?
Он не почитает подобного убийства за грех; он этим надеется
даже угодить богу. Лесинская думает, что муж ее не должен
никого любить, кроме ее и тех, коих она любит: равнять с собою
или с ними кого-нибудь она почитает за величайшее с его сто¬
роны преступление. Ты, по ее мнению, человек низкий и пре¬
зренный и между тем обходился с ее детьми, как равный
с равными. Подобные сим мысли она внушала и сыновьям сво¬
им, так по естественному порядку вещей они были твоими вра¬
гами. Но каково обходились с тобою слуги Лесинского?
Дмитрий. Эти люди в присутствии Лесинской обходились
со мною грубо, при господине же своем с униженностию расто¬
чали мне свои услуги. Но я избегал их услуг и сам исправлял
все свои нужды. Во всем доме один только Иван, добрый ста¬
рик, любил меня искренно. Он видел мои горести и предлагал
мне свои утешения; но я отвергал их, ибо они только растрав¬
ляли раны моего сердца, а не врачевали их, — и уверял его, что
я совершенно счастлив. Истинною же моею отрадою было заня¬
тие моими науками и чтение поэтов. Божественная сила поэзии,
доставляя мне священные наслаждения, непонятные для душ
обыкновенных, низких, заставляла меня презирать всеми напад¬
ками со стороны моих недоброжелателей. Но, друг мой, часто
случалось, что, восхищенный каким-нибудь творением или заня¬
тый какою-нибудь возвышенною мечтою, я слышал обидный го¬
лос моих врагов. Ах! этот голос внезапно пробуждал меня из
райского усыпления и из прелестного мира очарований перено¬
сил в мир горький, в мир плачевный, существенный. Это было
для меня ужаснейшим мучением! Наконец, я начал скучать жиз¬
нию. Какая-то неизъяснимая, томительная тоска начала давить
мою душу, как свинец тяжелый; какая-то пустота поселилась
в моем сердце, я стал убегать людей.
Сурский. Но скажи, пожалуй: куда девалась у тебя
трехлетняя дочь Лесинского?
Дмитрий. Она воспитывалась у своей бабки, богатой
дворянки. И когда та умерла, она переехала в дом своих роди¬
телей; ей тогда было шестнадцать лет.
Сурский. Ну, и ты в нее влюбился. Теперь хоть не рас¬
сказывай далее, я могу сей же час перечесть тебе наизусть то,
о чем ты мне будешь говорить.
533
Дмитрий. Нет, ты не можешь даже и понять того, что
я чувствовал. Как описать тебе эту важную эпоху моей жпзни,
эпоху, которая навсегда решила мою участь? В тишине и уеди¬
нении копились и зрели в груди моей страсти и волновали ее,
как ярые волны потока; но этот поток удерживался крепкою
плотиною: взгляд Софьи разорвал ее, и он разлился, как бурное
море! Признаюсь, красота ее поразила меня с первого взгляда
и сделала сильное впечатление на мою душу, страстную ко все¬
му прекрасному. Она имеет высокий рост, величественную осан¬
ку; на возвышенном челе ее отражаются признаки ума и благо¬
родства. Ты не можешь представить себе, какую неизъяснимую
прелесть имеют ее черные, живые глаза, как пламенны, горды
ее взоры, как сладостен ее голос, как очаровательна улыбка!
Но нет, друг мой, я слишком слаб, чтобы мог начертать тебе
хотя легкий абрис этого пленительного существа, чтобы дать
о нем хотя малейшее понятие. Сначала я думал, что Софья под
этою прелестною наружностию скрывает качества своей матери;
но при взгляде на нее сомнения мои исчезали. В ее ясных взорах
блистает такая откровенность, такое кроткое величие, кото¬
рые не допускают подозревать ее в низости чувств; в ее оду¬
шевленных разговорах видно это благородство мыслей, эта воз¬
вышенность чувств, которых источником всегда бывает прекрас¬
ная душа.
Сурский. Итак, эти пламенные, гордые взгляды черных,
живых глазок, эти одушевленные разговоры, это благородство
мыслей, эта возвышенность чувств, как водится, зажгли твое
ретивое: ты начал делать тысячи глупостей, которые могут
иметь следствия самые неблагоприятные, а особливо для тебя.
Впрочем, говори, брат, говори: повесть твоя для меня интерес¬
на; я и сам некогда донкихотствовал по-твоему, но дорого при¬
шлись мне эти глупости: они и теперь еще отдаются в моем
сердце, как хриплый кашель больного в пустой комнате. Но,
Дмитрий, верно, страсть твоя осталась для Софьи неизвестною?
Дмитрий. Как это? Почему?.. Нет, любезный друг, к мо¬
ему величайшему счастию, вышло совсем напротив и вот каким
образом. Однажды Лесинская, чтобы оскорбить меня, умыш¬
ленно завела за столом разговор с своими сыновьями о пре¬
имуществах, доставляемых людям правами рождения. Ее муж,
по обыкновению, противоречил им. Наконец, Софья приняла
его сторону. О друг мой, с каким жаром она говорила! Какую
непобедимую силу имели доказательства в ее устах! Она утвер¬
ждала, что права происхождения, предки — суть не что иное,
как предрассудки, постыдные для человечества, что единствен¬
но одни достоинства личные должны давать права на почести
к славу. Мать ее не могла выдержать этих быстрых, огненных
взоров, не могла противиться этому сильному, убедительному
красноречию, этим доказательствам, источником которых была
истина. Она смешалась, не знала, что говорить,- замолчала
534
и досаду свою начала вымещать на бедных слугах. Я молчал,
и взоры мои безмолвно выражали благодарность милому, пре¬
лестному существу, которое с таким жаром защищало меня.
С сего незабвенного времени какая-то непостижимая симпатия
начала сближать меня с Софьею. Мой мрачный, печальный впд,
мои странные поступки, любовь ко мне Лесинского и ненависть
жены его — все это обратило на меня внимание, и она всегда
старалась заводить со мною разговоры о литературе, о писате¬
лях и тому подобном. Наконец я почувствовал что-то такое,
чего сам не мог изъяснить. С этого мгновения — дивись чуде¬
сам любви — все существо мое изменилось; я стал совсем дру¬
гой: мысли мои сделались возвышеннее, чувства благороднее.
Я стал к самому себе чувствовать какое-то особенного рода
уважение, ибо почитал себя выше обыкновенного человека. Ис¬
чезла мрачность, пропала скука, и луч божества осветил пе¬
чальный путь моей жизни, искра надежды заронилась в мою
безотрадную душу. Я узнал, чего жаждала душа моя, чего тре¬
бовало сердце. С тех пор быть около Софьи, говорить с нею
сделалось необходимостию моей души. О! друг мой, как
прекрасна душа ее! С каким благородным жаром говорила она
о доблестях добродетели! С каким пламенным энтузиазмом
о тех важных пожертвованиях, о том божественном самоотвер¬
жении, которым увековечили свое имя герои древних и новых
времен! Ты не можешь представить, до какой степени восхищает
ее всякий благородный поступок, до какой степени пленяет
все, что только выходит из пределов обыкновенного. В одно
и то же время она трепетала при имени Брута как великого
мученика свободы, как добродетельного самоубийцы, и при
имени Сусанина, запечатлевшего своею кровию верность царю.
Более же всего ее восхищала история двух римлянок: Лукреции
и Виргинии. При этих священных для нее именах, вместо крот¬
кой задумчивости, блиставшей в ее глазах, сверкали молнии...
Сурский (с неудовольствием). Верю, верю. Я вижу, что
тут нашла коса на камень. Что ж далее?
Дмитрий. Таким образом, изъясняя друг другу свои
чувства и мысли, мы узнали, что мы сотворены друг для дру¬
га,— узнали — и души наши породнились. Я в ней нашел мой
идеал, давно уже в неясном образе рисовавшийся в моем во¬
ображении; в ее взоре я прочел тайну бытия человека — цель
его жизни. Хотя еще в разговорах наших слово любовь и не
упоминалось, но все наши движения, все поступки выражали
оную; я блаженствовал, но к совершенству моего блаженства
недоставало райского люблю из уст прелестной. Но скоро я до¬
ждался и этого счастия. Однажды Лесинская захворала, Софья
не отходила от ее постели. Наконец ей стало легче, и после
продолжительной бессонницы она уснула. Отец Софьи поехал
осматривать сельские работы, а достопочтенные ее братцы
ускакали с лакеями травить зайцев. Еще прежде сего я
535
обещался Софье читать Озерова «Фингала», и так как болезнь ее
матери не препятствовала более сему намерению, то она и на¬
помнила мне о моем обещании. Я взял книгу, и мы пошли
в сад. Давно уже тревожило меня желание объясниться с нею.
Теперь вдруг в голове моей блеснула эта мысль. Я хотел выпол¬
нить ее, но не осмеливался: какой-то тайный страх, какая-то
непонятная робость удерживала меня от сего. Едва решусь,
сердце оторвется, и меня обольет то холодом, то жаром. Она
заметила мое смущение и, как будто бы испугавшись, просила
начать чтение. Томимый желанием высказать ей то, что лежало
на душе моей, я читал механически, ничего не понимая. Она
слушала, устремив глаза свои в землю; сильное волнение изо¬
бражалось на лице ее: оно беспрестанно изменялось. Наконец
я начал читать явление, в котором представлено свидание Фин¬
гала с Мойною 3. Боже мой! что вдруг сделалось со мною? Я за¬
был трагедию, Мойну, Фингала, — одни только слова его огнен¬
ною рекою лились из уст моих; этот жар, это исступление,
с коими я декламировал их, ясно показали Софье, что я чувст¬
вовал и к кому относится монолог Фингала. Пламенные взоры
мои пожирали ее, сердце билось сильно, порывисто, лицо горе¬
ло, я весь трепетал, голос замирал на устах моих... я все за¬
был... помню только то, что, бросившись в объятия моей подру¬
ги, я вскричал прерывистым голосом: «Софья, любишь ли ты
меня?» Пламенный поцелуй и волшебное люблю были ее отве¬
том. (Быстро вскакивает и с увеличивающимся жаром,
беспрестанно возвышая свой голос, продолжает.) Так, друг мой*
я вкусил на земле радости неба, я выпил до дна чашу любви
и наслажденья; я жил в полном смысле этого слова; я могу это
сказать! (Наливает стакан и выпивает его с жадностию.)
Сурский. Помилуй, Дмитрий, опомнись: ты совершенно
из себя выходишь. Бога ради, умерь свои восторги.
Дмитрий. Одно воспоминание об этой священной,
пезабвенной минуте делает меня блаженным, переносит на
пебо и приводит душу мою в такое состояние, что она не в си¬
лах вынесть собственных своих восторгов. Так, я получил при¬
знание из уст обожаемой; я узнал, что я любим; это признание
делало то, что я то не верил своему счастию, то завидовал
самому себе; этим признанием все существо мое, так сказать,
освятилось: черные помыслы, низкие чувства бежали от меня
далече: они не осмеливались осквернить то сердце, в которой
любовь воздвигнула себе алтарь. Я даже перестал ненавидеть
врагов своих; нет, я сожалел о них. Бедные, думал я, они не
могут любить! Так, Сурский, блажен, кто испытал очарование
любви, кто вкусил ее радости! Блажен, кто знал эту высокую,
святую гармонию душ! Если ангелы могут завидовать людям, то
это человеку, который любит и любим! Любовь наполняет все
существо мое, делает меня полубогом! Я не знаю, может ли
быть на земле такое пожертвование, которого бы я не в силах
536
был сделать для моей любезной; есть ли такие подвиги, кото¬
рых бы я, воспламененный ею, не мог свершить? В сияющих очах
моей мплой я вижу два путеводные светила, долженствующие
освещать дорогу моей жизни; в гармонических звуках ее голо¬
са я слышу бряцание арф, на коих серафимы в горних селениях
иоют славу бога; в ее очаровательной улыбке я вижу отверзаю¬
щийся эдем счастия. Когда я гляжу на нее, то душа моя, пожи¬
раемая восторгами, не могущая их вынести, готова исторгнуться
из тела. В эту минуту я желал бы говорить, но могу только
в сладостном безмолвии удивляться, чувствовать и обращать па
небо благодарные взоры. Но что я говорю тебе? Любил ли ты?
Испытал ли ты могущество этой божественной страсти, ощущал
(ли) блаженство, которое она рекою изливает на своих любим¬
цев? Клокотала ли в груди твоей эта огненная лава? Вмещала лп
душа твоя весь эдем радостей, какие только могут существо¬
вать на земле? Сидел ли ты с своею любезной в тенистой бесед¬
ке, когда заходящее солнце разливает по небу румяный блеск,
когда утихает дневной шум и воздух растворяется благоуха¬
нием цветов? Обмирая от избытка чувств, приклонялся ли ты
усталою головою на ее бьющуюся грудь? Билось ли ее сердце
около твоего? Падала ли она в твои объятия и, утопая в востор¬
гах, утомленная оными, трепещущим, задыхающимся голосом
шептала ли очаровательные слова любви?.. Нет! Ты не испытал
этого! Ты не можешь понять меня!..
Сурский. Послушай, Дмитрий, я верю, что любовь есть
чувство неземное, что в ней заключается верх человеческого
блаженства; но крайности ни в каком случае не хороши. Любовь
своим кротким, эфирным пламенем должна согревать челове¬
ка, а не жечь его. Дмитрий! Всегда ли любовь твоя была чиста
и бескорыстна?
Дмитрий. Какое тут бескорыстие, какая чистота? Неуже¬
ли ты думаешь, что согласие родителей, пустые обряды даю г
право двум существам питать друг к другу любовь и наслаж¬
даться ею? Неужели ты следуешь этим глупым, унизительным
для человечества предрассудкам? Одна только природа соеди¬
няет людей узами любви и позволяет им наслаждаться всеми
благами, какие только может она доставлять им. Так, клянусь
тебе, как моему другу, клянусь всему, что только дышит, су¬
ществует, что Софья моя супруга!..
Сурский (с негодованием). Как? Неужели? Что говоришь
ты, безумец?.. Но чему тут удивляться: не должен ли я был
ожидать этого?
Дмитрий (не замечая, что слова его возбудили негодо¬
вание Сурского, с постепенно возрастающим жаром говорит).
Так! клянусь всемогущим богом: она моя супруга! Воспламенен¬
ные любовию, вознесенные ею на верх возможного блаженства,
могли ли мы думать об этих ничтожных условиях, изобретенных
людьми для собственного своего мучения? Могли ли иметь нужду
537
в соединении людей, когда сама природа, — этот орган воли
всемогущего,— соединила нас и открыла нам неисчерпаемый
источник наслаждений неизъяснимых? Так живо, живо помню эту
минуту!.. Был вечер. В райском упоении сидели мы в саду. Дро¬
жащими руками я сжимал горячие руки моей любезной. Весь
мир исчезал в глазах наших; мы видели только друг друга и,
стараясь высказать чувства, наполнявшие наши души, не находи¬
ли слов: только прерывистое, замирающее на устах люблю, по¬
жирающие взоры и пламенные поцелуи составляли наш разго¬
вор. Сильно бились сердца наши, огненною рекою волновалась
кровь в наших жилах — и мы сгорали, томимые сладостною му¬
кою желания. Это уединение, в котором мы находились, эта
темнота вечера, которую еще более усугубляли наклонившиеся
над нами ветви дерев, это упоение душ, это забвение чувств
повергли нас в объятия друг друга!., и души наши слились и за¬
мерли... одни заглушаемые стоны, одно сильное биение сердца
давало знать, что мы еще живы... С тех пор целые два месяца
нектаром любви и сладострастия я утолял жажду, пожиравшую
меня, целые два месяца беспечною рукою пожинал розы
счастия. Но, друг мой, тут-то я узнал на опыте печальную истину,
что нет счастия без горести, нет розы без шипов. С некоторого
времени я заметил какую-то непонятную перемену в характере
и поступках Софьи: обыкновенная ее веселость и живость ис¬
чезли, место их заступила задумчивость, которая, впрочем, еще
более возвышала ее красоту. Даже часто слезы,— эти чистые
перлы любви,— текли из прелестных ее глаз, как предвестники
злополучия. Казалось, какая-то тайна тяготила ее душу, тайна,
которую в одно и то же время ей хотелось открыть мне
и скрыть от меня. Глядя на нее, и я сам начал грустить. Но эти
редкие минуты горести с избытком были вознаграждаемы
целыми часами наслаждений; целыми часами, в продолжение ко¬
их мы, поверженные в объятия один другого, в немом востор¬
ге, в томлении чувств, в исступлении страсти, чна земле вкушали
радости, известные только небожителям. Но недолговременно было
мое счастие. Вдруг мой благодетель послал меня сюда для испол¬
нения одного дела, о котором я скажу тебе после. Не пужно гово¬
рить тебе, чего стоила мне разлука с моим божеством.
Сурский. Долго я слушал тебя хладнокровно, наконец
безумие твое заставило меня выйти из самого себя. И ты, и ты
не чувствуешь угрызения совести, и ты не видишь всей гнус¬
ности твоего поступка? Обольститель, обольститель, что ты сде¬
лал? Сладок был сон твой, но горестно пробуждение.
Дмитрий. Сурский! Ты ли говоришь это? ты ли, который
беспрестанно утверждаешь, что только один рассудок есть твой
господин? Изъясни мне вину мою: скажи мне, чем я заслужил
эти упреки?
Сурский. И ты еще, после всего сказанного тобою, при¬
творяешься не понимающим вины своей? Если так, то я растол¬
533
кую тебе ее: ты — обольститель, неблагодарный человек, нару¬
шивший законы чести и справедливости!..
Дмитрий (в изумлении). Кто?.. Я?.. Я обольститель, не¬
благодарный человек, нарушивший законы чести и справедли¬
вости!.. И это сказал человек, называющий себя моим другом!
Ха! ха!., ха!.. Вот каковы друзья! Они подобны колодцу, которо¬
го вода растворена ядом и который для того только примани¬
вает к себе жаждущего путника, чтобы отравить его!.. Сурский,
если обижать меня ты почитаешь правом дружбы, то прошу
меня уволить от нее. (Повелительным тоном/) Милостивый госу¬
дарь! я хочу быть один!
Сурский. Очень хорошо: я доставлю вам это удовольствие.
(Хочет идти.)
Дмитрий (в бешенстве). Но нет, постой! Докажи мне,
непременно докажи справедливость слов твоих: иначе я не выпу¬
щу тебя отсюда. Если обвинение твое справедливо, то торже¬
ствуй: гибель моя неизбежна; но горе тебе, горе, если оно будет
не что иное, как гнусная клевета!
Сурский (хладнокровно). Что ж? За чем дело стало? До¬
кажи, что ты не последний храбрец, что ты даже в состояния
убить человека, сказавшего тебе правду!
Дмитрий. Сурский! Сурский! Твое адское хладнокровие
убивает мейя!.. Итак, еще раз с спокойным челом ты можешь
сказать мне, что слова твои справедливы?
Сурский. Клянусь честью, справедливы!
Дмитрий (стараясь подавить свою злобу). Итак, я злодей,
подлец?..
Сурский. Да, хотя и неумышленный.
Дмитрий. Но в чем же состоит вина моя?
Сурский. Послушай, Калинин, я знаю, что внутреннее
чувство уверяет тебя в справедливости моих слов; но ты боишь¬
ся увериться в нем и стараешься ложными софизмами оправ¬
дать себя в собственных своих глазах, стараешься обмануть са¬
мого себя. Если ты будешь хладнокровно меня слушать, то уве¬
ришься в истине слов моих.
Дмитрий. Говори, говори... Я скреплю свое сердце,
я подавлю свои чувства... буду тверд, как булат.
Сурский. Не есть ли Лесинский твой благодетель и не
обязан ли ты ему благодарностию? И чем же ты изъявил ему
оную? Ты увидел его дочь — и полюбил ее; полюбил, несмотря
на то, что судьба, люди, законы, предрассудки — все запрещает
тебе любить ее. Впрочем, еще в этом тебя нельзя обвинить. Но
если ты человек истинно благородный, гордый, с душою мощ¬
ною, твердою, то не должно ли бы тебе было скрывать, этого
мало — преодолевать свою страсть?
Дмитрий. Как, я должен был убегать своего счастия?
Должен был осудить себя на вечное мучение, тогда как небо
отверзалось передо мною?
539
Сурский. Да, друг мой, должен. И где же познается
истинное величие человека, как не в тех случаях, в коих 6#
решается лучше вечно страдать, нежели сделать что-нибудь
противное совести? Где же более обнаруживается нравственное
могущество человека, как не в борьбе с судьбою, как не там,
где он, под ледяною одеждою хладнокровия, скрывает страсти
самые свирепые, если предвидит, что они могут довести его до
преступления! Обращусь к тебе. Не должен ли ты иметь этой
благородной гордости, этого ничем непобедимого чувства
чести, которые отличают истинного человека от толпы презрен¬
ной? Честь должна быть идолом всякого благородно мысляще¬
го, и он не должен изменять ей ни за какие блага в мире.
Ежели бы ты следовал этим правилам, то бы или навсегда отка¬
зался от мысли любить Софью, или заслужил на это неотъемле¬
мое право. Ты сам сказал, что для тебя, воспламененного любо¬
вию, нет на земле подвигов, коих бы ты не в силах был совер¬
шить. Для чего же ты не доказал этого на деле? Ты человек
свободный; мог бы идти в военную службу, в коей или пал бы
на поле брани, как следует истинному сыну отечества, и вместе
с горестною жизнию окончил бы и мучения свои, или бы отли¬
чился храбростию, покрыл себя славою, приобрел чины, досто¬
инства и титла, которые столько уважаются всеми. И тогда бы
ты имел право открыто требовать руки Софьи, а не насильно
ввязываться в родство знатных, богатых людей и тихонько, по¬
добно вору, похищать у девушки единственное и ничем не воз-
вратимое сокровище каждой женщины — честь. Кто тебе дал
право назвать Софью своею женою без приличных и необходи¬
мых для сего обрядов?..
Дмитрий. Любовь!..
Сурский. Прибавь: безумная. Но что скажет твой благо¬
детель, когда узнает о бесчестии, нанесенном тобою его дому?
Не станет ли он трепещущею от старости рукою вырывать свои
седые локоны, столь ужасно посрамленные? И кем же? Челове¬
ком, который ему всем обязан, человеком, которого он любил
с горячностию отца! Кто дал тебе право нарушить законы твое¬
го отечества, обычаи общества, среди коего живешь, обычаи,
освященные веками? Отвечай мне. С спокойным челом требую
от тебя ответа! С спокойным челом еще раз повторяю: «Слова
мои справедливы!..»
Дмитрий. Нет, несправедливы! Когда законы противны
правам природы и человечества, правам самого рассудка, то
человек может и должен нарушать их. Неужели я потому толь¬
ко не имею права любить девушку, что отец ее носит на себе пу¬
стое звание дворянина и что он богат, а я без имени и беден? Она
меня любит: вот неотъемлемое право и мне отвечать ей тем же!
Неужели людей соединяют ничтожные обряды, а не любовь?
Сурский. Последняя соединяет, а первые утверждают
это соединение. Если бы ты с своею любезною жил на необптае-
540
мом острове, то в таком бы случае одна природа подавала бы
тебе законы. А когда ты живешь с людьми, связан с ними узами
нужд, то и должен от них зависеть. Кто с ведома людей и за¬
конным образом приобретает себе сокровища, тот владей ими
смело, в противном же случае хоть не считай их своими. Что
будет с Софьей, когда они узнают ее связь с тобою, не будет ли
уделом ее презрение всех и каждого? Но ты это давно должен
знать. Вы оба давно уже чувствовали тайное мучение, но боя¬
лись растолковать его себе. Безумные! Это был тайный голос
вашей совести, голос, к которому вы были глухи!..
Дмитрий. Проклятый разочарователь! Торжествуй: ты
прав! ты прав! Но для чего ты открываешь мне глаза тогда, как
я уже стремглав полетел в бездонную пропасть, открытую мне
враждебною судьбою? Не для того ли, чтобы освещать мне все
ужасы, которые она скрывает в себе?.. О Сурский! О Сурский!
С высоты небес ты низвергнул меня в адские бездны, из царя
сделал нищим! О! не смотри на меня такими глазами: они уби¬
вают меня, как взгляды василиска! В этих выразительных, ледя¬
ных взорах я читаю укор, читаю мое преступление, или, лучше
сказать, мщение жестокого рока!.. Но что я говорю! Разве я не
был счастлив, как только может быть счастлив человек на зем¬
ле? Разве одна минута возможного блаженства не может заме¬
нить целых веков страданий? Пусть судьба вооружается против
меня, пусть устремляет на меня свои сокрушительные громы:
я не вострепещу. Как бы ни были ужасны ее удары, они нич¬
тожны в сравнении с тем счастием, которым я некогда упивал¬
ся! Если я буду в нищете и презрении влачить дни мои в раб¬
ском плену у варваров, осужденный прокапывать дороги между
горами; если мое тело разрушится от ужаснейших болезней;
если я буду лежать на дороге, покрытый струнами, томимый
голодом и жаждою, палимый лучами солнца; ежели хищные
птицы будут расклевывать мое полуживое тело, то и тогда... Нет,
этого мало: если я буду, несправедливо осужденный, в ужас¬
нейших истязаниях испускать последнее дыхание на колесе, то
и тогда воспоминание о былом счастии будет в ничто обращать
все гонения ожесточенного рока!.. Я вспомню первый вздох
любви, вырвавшийся из груди прекрасной, первое ее признание,
первый пламенный поцелуй ее; вспомню первое упоение любви
и сладострастия; — вспомню и с холодною улыбкою презрения
вытерплю все возможные мучения, хотя бы изобретателем их
был ад! Но, Алексей, я не могу еще сказать счастию вечное
прости: луч надежды еще не погас в душе моей. Теперь я ожи¬
даю письма от моего благодетеля; в нем будет приказание воз¬
вратиться мне домой. По приезде я упаду к его ногам, призна¬
юсь ему в моей вине, и он, тронутый моим раскаянием, моими
просьбами, соединит мою руку с рукою своей дочери. Он чужд
предрассудков: я уверен в этом, и эта уверенность питает мою
надежду. Верь словам моим: они сбудутся; о, верь, бога ради,
541
Верь (схватывает руку Сурского), я прошу тебя. Для чего хо¬
лодная улыбка, это сомнительное выражение лица? Умоляю те¬
бя, верь мне! Я приведу к нему Софью и скажу ему: «Нас
соединила любовь, соедини и ты». С слезами радости он назо¬
вет меня своим сыном, прижмет к старческой своей груди; а я,
восторженный моим счастием, — я буду рыданием отвечать на
его отеческие ласки, буду обнимать его колена, лобызать его
серебряные локоны. С тех пор мои дни польются тихим пото¬
ком, в котором всегда будет отражаться чистая лазурь неба.
Цветочной цепию прикую к себе ветреное, легкокрылое счастие,
в вся жизнь моя будет восторг, упоение и любовь!..
Сурский. Дмитрий, право, ты настоящий ребенок; ты
ничего не видишь. Сам посуди: может ли Лесинский, нося на
себе звание дворянина, самовольно располагать своими поступ¬
ками в столь важном деле и презирать общественным мне¬
нием? Он имеет жену: она лучше согласится позволить закопать
себя живую в землю, нежели видеть свою дочь твоею женою. Она
мать; в сем случае права ее так же неоспоримы, как и право
отца; сами законы вступятся за оные. То-то, надобно бы почаще
советоваться с холодным рассудком да делать счеты да вы¬
кладки.
Дмитрий. Алексей, бога ради не усугубляй моих ужас¬
ных терзаний своими холодными рассуждениями, своими мрач¬
ными предчувствиями: они оледеняют мое сердце, еще леле¬
емое надеждою; они отдаются в нем, как унылые, протяжные
удары погребального колокола, как звуки цепей на руках узника.
Для чего ты беспрестанно разочаровываешь мою душу? Для
чего отдаляешь от глаз моих пленительные образы ангелов
счастия, а представляешь вместо их ужасных, отвратительных
скелетов?.. Друг мой! Я было заснул на минуту, а сон несчастно¬
го должен быть для всякого священным! Для чего разбужагь
его, очарованного обольстительными видениями? Ах, как смеж¬
но блаженство с злополучием! Давно ли я не мог найти слов
для высказания моего счастия, а теперь? Боже мой!.. (Закрывает
глаза руками и погружается в мрачную задумчивость.)
Сурский. Калинин! Калинин! Это ли есть признак души
высокой, благородной? Голова пылкая и безумная! Когда ты
опомнишься, когда ты перестанешь метаться из крайности
в крайность и попадешь на счастливую середину?.. На что это
похоже: когда ты почитал себя счастливым, то восторгам твоим
не было меры, а когда увидел следствия твоего безумия, то
сделался малодушным, как ребенок. Нет: по-нашему не так!
Если тебя постиг удар судьбы, то изыскивай средства отвратить
его; если же этого невозможно сделать, то страдай и молчи:
будь горд в самом бедствии, не падай под бременем оного
и докажи, что ты не подвластен даже и самому року!
Дмитрий. Так, друг мой, ты прав. Слова твои ободряют
и воскрешают меня. Так: к чему это уныние? Неужели надежда
542
дана человеку только для усугубления его горестей?.. Нет,
прочь от меня эти гибельные мыслп! Я еще верую в счастие:
я буду опять счастлив! Мой благодетель снабдит меня деньга¬
ми, и я удалюсь с ними и с Софьею, если не на край света, то по
крайней мере так далеко, чтобы счастие наше не могло мучить
души злых. Ты сам, мой друг, последуешь за нами; не правда
ли? Наши дни будут лелеемы теми чистыми, небесными ра¬
достями, которые доставляют человеку любовь, дружба и род¬
ство! Я буду иметь детей, ты будешь их воспитывать... Не правда
ли: это прекрасно? (Болезненным голосом.) Так, мы будем счаст¬
ливы, не правда ли?..
Сурский. Бедный! Ты похож на человека, который, уто¬
пая в море, хватается за соломинку. (Вбегает Федор.)
Федор. Письмо, сударь, письмо!
Дмитрий. Письмо?., письмо?.. Где оно?.. Дай сюда ско¬
рее!.. Оставь нас одних... (Федор уходит.)
Сурский. Читай скорее!
Дмитрий. Ах! друг мой, сердце мое оторвалось; я как
будто бы чего-то испугался. Какое-то горестное предчувствие...
руки мои дрожат... я страллусь... (Разламывает печать, разверты¬
вает письмо и, прочтя несколько строк, глядит, как остолбене¬
лый, на Сурского.)
Сурский. Друг мой, что с тобою сделалось? (Продолоюи-
тельное молчание.)
Дмитрий (с отчаянною улыбкою). Прекрасные вести! пре¬
красные вести! Мой благодетель умер! (Упадает на стул без
чувств, Сурский старается помочь ему; наконец он приходит
в память.) Итак, все решено. Вот конец поприща, по которому
я так весело, так беспечно пробегал! Кто мог это предвидеть?..
Неужели любовь для того только льстила мне, чтобы так жесто¬
ко обмануть меня? Благодетель мой умер: теперь все конче¬
но!.. Сурский! Ты читал эти строки? Кто писал их? Что в них еще
есть утешительного?.. Дай мне их! (Сурский подает ему пись¬
мо.) «Почтеннейший, высокоименитый господин, пылкая голова,
молодой мечтатель, маленький философ!» Как! Это что значит?
Га! Какая адская злоба, какая черная ненависть! «Ваш благоде¬
тель, не успевши излить на вас остатки щедрот своих, изволил
отправиться на тот свет!» Сурский! прочти бога ради подпись:
в моих глазах мелькает имя Андрея Лесинского, но я не верю
моим встревоженным чувствам: они меня обманывают.
Сурский. Так точно, тут подписано его имя.
Дмитрий. Его имя? И это писал сын об умершем отце
своем! Неужели развращение людей может простираться до та¬
кой степени?.. «Ваша отпускная... уничтожена, сестра наша выхо¬
дит замуж за князя Кизяева, и так как у нас недостает лакеев
для служения при свадебном столе, то и просим вас всепокор¬
нейше... как можно поскорее пожаловать... к нам». Сурский! что
это значит?. Насмешка или истина?.. Аг понимаю! Софья выходит
543
замуж; отпускная моя уничтожена — я раб!.. Ха! ха! ха!.. (Под¬
ходит к Сурскому и с неистовым восторгом треплет его по
плечу.) Я раб, Софья выходит замуж! Слышишь ли ты это?.. А!
Неужели от этих слов лицо твое не делается лицом Гарпии
и волосы твои не превращаются в шипящих змей?.. Что ты заду¬
мался? Неужели ты можешь в эту минуту иметь другие чувства,
кроме неистовства и злобы, другие желания, кроме мщения
и крови?.. Я раб!.. Я буду прислуживать при столе... и кому же?..
Андрею и Петру Лесинским,— при столе, который будет давать¬
ся по случаю свадьбы их сестры!.. Знаешь ли ты, кто эта сестра
и что она для меня значит?.. Ее муж обратится ко мне и пре¬
зрительно скажет: «Человек, подай тарелку!» Этого мало, он
будет при мне обнимать Софью, целовать ее!.. Ха! ха! ха!.. Что
ты не смеешься?.. Не смешно ли это?.. (Схватывает руками голо¬
ву.) Чувствуешь ли ты, как горит моя голова: она раскалена
адским пламенем! Чувствуешь ли ты, как страждет это бедное
сердце: лютое отчаяние вонзило в него свои кровавые когти
и раздирает его на миллионы частей!.. Ах! Ужасно! Ужасно!..
(Погружается в мрачную задумчивость; продолжительное мол¬
чание.)
Сурский. Боже мой! Он почти с ума сходит! Что мне
делать с ним?
Дмитрий (вскакивает в бешенстве). Где, где оно, где это
письмо?.. Дай мне его!.. (Схватывает письмо, разрывает его на
части и бросает на пол.) Видишь ли ты эти лоскутки? Как разо¬
рвал я эту бумагу, так разорву и написавших ее!.. Я расщиплю
на части их тело! Я высосу по капле кровь из жил их! Я притащу
их на могилу моего благодетеля, скажу им: «Здесь погребен
отец ваш», и брошу в глаза их эти лоскутки. (Скрипит от ярости
зубами.) О! Тщетны будут мольбы их! Тщетно будут обнимать
колена мои!.. О! Какое сладостное зрелище!.. Какое веселое
пиршество!.. Сурский! видишь ли, как черная кровь клубится из
зияющих ран их?.. Видишь ли, как ужасно смерть исказила поси¬
нелые уста их?.. Как страшно они обращают на меня свои крова¬
вые глаза?.. Видишь ли ты эти судорожные движения, это боре¬
ние смерти с жизнию, эти глухие, хриплые стоны: они предше¬
ствуют смерти! Но она еще медлит: она хочет усладить меня этим
зрелищем. Видишь: кровавыми руками они разрывают землю
и грызут ее зубами! Видишь ли, как черная пыль смешалась
с багровою пеною? Тс!., тише!., молчи!.. Слышишь: они изрыгают
на меня проклятия!.. Сурский! уйдем отсюда! (Тащит его за ру¬
ку.) Мне страшно здесь, я дрожу... я весь оледенел... мои воло¬
сы стоят горою... О! о!.. Стой!.. Слышишь ли, с каким диким, ужас¬
ным хохотом они кричат мне: ты наш раб!.. Софья выходит за¬
муж!.. Я их раб!.. Софья выходит замуж!.. (Упадает без чувств.)
Сурский. Боже мой! Что мне делать? Он без чувств! Он
умирает! Дмитрий! Дмитрий! Опомнись, проснись! Тебя призы¬
вает голос твоего друга!.. Эй, Федор! Федор!.,
544
КАРТИНА ВТОРАЯ
Действие происходит в деревне Лесинской.
Дома-то новы хоть, да предрассудки
стары!
Порадуйтесь: не истребят
Ни годы их, ни моры, ни пожары!*
Грибоедов U
Местом сцены есть большая зала; в правой стороне оной видна часть го¬
стиной. Иван входит и смотрит на стенные часы.
(Иван.) Ого! да уж время-то голомя: почти восемь часов.
Скоро господа встанут. Подмести-ка поскорее горницу-то, а то
и не уйдешь от крика барыни; да как бы еще вместо завтрака
и пощечин не отведать или чего и больше. Вот чего дождался
я на старости лет! Барин! барин! Успокой, господи, твою душу!..
(Утирает рукавом слезы и берет в руки метлу.) Как везде насо-
рено! Да уж и то сказать: пир горою был! Вот какие нынче
времена! Детки не успели еще путем схоронить отца своего да
уж и за гульбу принялися! А матушка-то их! Ох, что-то будет
с нами грешными! (Прислушивается.) Ой, кто-то идет! Уж не
барыня ли? Беда моя! (С торопливостию начинает мести.) (Вбе¬
гает Лиза.)
Лиза. Здравствуй, дедушка, что ты тут поделываешь?
Иван (тяжело вздохнувши). Да вот мету горницу.
Лиза. А слышал ли ты новость?
Иван (с любопытством). А какую бы это?
Лиза. К нам вот сию минуту приехала гостья.
Иван. А кто ж бы это?
Лиза. Да мамзель.
Иван. Какая?
Лиза. Ну, да та самая, что у которой барышня училась.
Иван (с радостию). Как? неужто в самом деле?
Лиза. А что ж тут за диковинка такая? Разя она не езжала
К нам? Разя ты не знаешь, как она любит Софью Петровну и как
барышня ее любит?
18 В. Белинский, т. 1
545
Иван. Все так, все это вестимо, да вот в чем дело-то: вить
уж годов восемь, как она у пас пзволпла быть, а с тех пор ни
разу не жаловала. Да что ж ты, Лиза, призадумалась?
Лиза. Я думаю: где-то теперь наш Дмитрии Егорыч, знает
ли он, что Петр Степаныч изволил скончаться?
Иван. Ох, Лпза, не говори ты мпе про пего; лпшь только
кто об нем молвит хоть словечко, так сердце и обольется
кровью. Что-то еще без барпна-то будет теперь? Они его
с двора сгонят. Когда-то я увижу его, моего батюшку? Большая
нужда мне до него есть. Старый барин перед смертью со слеза¬
ми молил меня отдать ему грамотку, тихонько, чтобы никто не
знал, а пуще всего барыня да молодые господа. Знать, секрет¬
ная какая. Да я, пускай, смекнул, что написапо-то в ней.
Лиза. Хоть бы уж он приехал-то поскорее, а то барышня
стосковалась, да и только. Не зпаю, что и делать с ней! То
примется плакать так, что, глядя на нее, и сама надорвалась; то
начнет смеяться, прости мепя, господи, словно какая сумасшед¬
шая; то уж некстати молчалива, то уже больно разговорчива!
Ничем не угодишь на нее: то позовет, то вышлет вой; то заве¬
дет речь про упокойного барина али про Дмитрия Егорыча, а то
дак ни словечка не велит промолвить про них. Право, она любит
Дмитрия Егорыча, как родного брата.
Иван (как бы испугавшись). Как родного брата?..
Лиза. А что ж?..
Иван. Да так; ничего. А где же мамзель-то?
Лиза. Да на заднем мозанине.
Иван. Да ты доложила ли барышне об ее милости?
Лиза. Я было хотела доложить, да она не приказывала
никого беспокоить: хочет удивить барышню.
Иван. Ах, Лиза, как бы ты знала, какая она добрая! Как
барышня-то жила у покойницы Пелагеи Игнатьевны (крестит¬
ся), — дай ей, господи, царство небесное, — так я в частуху езжал
в дом ее милости. Бывало, матушка Марья Миколавна велит
меня позвать к себе в комнату да уж изволит, изволит разгова¬
ривать со мною; уж как я и живу-то, и каково-то с нами господа
ладят? Перестанет говорить, поклонишься да пойдешь вон; ан
не тут-то было: остановит да велит поднести винца рюмочку, да
еще акроме-то пожалует на водку. Уж мне не так дороги день¬
ги да виио, как ее ласковое словечко! То-то русская-то мамзель,
не то что французская! Небось та и слова не промолвит с на¬
шим братом холопом!
Лиза. Ах, да вить она говорила об тебе. Лишь только
я успела снять с нее дорожный капот да сказать, здоровы ли
господа, как она спросила: «А жив ли и здоров ли старик Иван,
которого часто посылали к покойнице Пелагее Игнатьевне,
и каково он поживает? Позови-ка его ко мне». А я, дура, забол¬
талась с тобою и сказать тебе об этом позабыла.
Иван. Ох, ты воструха, воструха! Побечь поскорее к ней.
546
Л п з а. Ах, барыня идет! (Входит Лесипская в утреннем
неглиже.)
Лесинская. Что это у вас тут за беседа такая? Вишь,
какие господа! изволят стоять, поджавши руки, да растаба¬
рывать.
Иван. Я, матушка Лпсафета Андреевна, пол мету.
Лесинская. Да ты еще и пола-то не вымел? Ай да мо¬
лодец! Вот я тебе, старому хрычу, дам матушку Лисафету Ан-
древпу. Нет: с вами добром-то, знать, не сделаешься. Вишь, как
добрый-то ваш барин, не тем будь упомянут покойник, избало¬
вал вас. Нет, я примусь за вас добрым порядком; уж нечего
сказать: не больно люблю баловать проклятое хамово поко¬
ленье; у меня всякая вина виновата. Что тут изволпшь с внуч-
кой-то своей разговаривать? Чать, господ ругали да хвалили
своего Дмитрия Егоровича?
Иван. Нет, матушка, бог видит, нет. Она пришла сказать,
что Марья Миколавна изволила к вам пожаловать.
Лесинская. Какая Марья Николавна? Мамзель, что ли?
Лиза. Да-с.
Лесинская. Вот еще нелегкая-то принесла! Да давно ли
она приехала?
Л и з а. Да уж часа с полтора-с.
Лесинская. Как же ты, мерзавка, не доложила мне?
Она с любезным-то своим дедушкою заговорилась: вишь, давно
не видались!
Лиза. Да она не велела-с.
Лесинская. Кто она?
Л и з а. Да Марья Миколавпа-с.
Лесинская. Ах ты, негодная, да разве ты должна боль¬
ше ее слушаться^ а не барыню свою?
Л и з а. Да вы ведь не приказывали,
Лесинская. Ах, мерзавка, мерзавка, да ты еще и огрызать¬
ся вздумала. Вишь, какая грубиянка! Когда барыня говорит тесе,
что ты виновата, так как же ты смеешь оправдываться?
Л и з а. Да вы еще изволили почивать, так я не смела...
Лесинская. Да ты еще вздумала вывертываться, так
вот же тебе. (Бьет ее по щепам.) Да нет, ты не стоишь того,
чтобы я марала об тебя свои руки. Эй, старый черт, отхлопай
ее, да смотри, хорошенько, а пе то вить самого велю отодрать
на конюшне.
И в а п. Помилуйте, сударыня, на что же это похоже?
Л е с п н с к а я (с злобою). Ах ты, старая каналья, да ты еще
смеешь отговариваться?..
И ван. Да что же я, сударыня, за палач такой? Опять же,
как бы то ни было, вить она приходится мпе родная внучка.
Лесинская. Да разве хамы смеют разбирать родство,
когда им господа приказывают?..
18*
547
Иван. Да разве мы не такпе же люди, как и ваша милость,
сударыня?
JI е с и н с к а я. Да ты еще смеешь равняться с господами?..
Бей! Я приказываю тебе!
Иван. Да это, сударыня, сущая каторга. Разве вы нехристь
какая, что ли? Господи боже мой, до чего мы дожили! Ах,
батюшка барин, на кого ты покинул нас, бедных сирот своих! То-
то была душа христианская. Зря мухи не тронет, бывало.
Лесинская (задыхаясь от злобы). Ах, мошенник, зло¬
дей! Он убил меня, зарезал! Ах, изверги, разбойники! Они умо¬
рят меня, убыот мою душеньку! Каково покажется? Изволь тер¬
петь от своих же рабов. Ах, изверг проклятый! он смеет рав¬
няться с господами; не хочет исполнить моих приказаний, назы¬
вает меня нехристью да еще вздумал хвалить при мне своего
потатчика барина! Нет, нет: задам баню, хорошую баню, на ко¬
нюшню, на конюшшо, запорю до смерти.
И ван. Да чем же я прогневал вас, сударыня?
Лесинская. Там узпаешь, чем. Вот изволь поступать
с ними милостиво. Ох, грубияны, пожили бы вы у моего братца
Филиппа Андреича! Нет, уж у него не так бы заговорили! Он до
полусмерти колотит вашего брата, да не смей рта разинуть, не
смей слова пикнуть. Коли станет орать али плакать, так вдвое
велит приударить. А то вишь, какие неженки; чуть мазнешь по
роже, так и расхнычутся, точно дворяне какие. Ох, да я забол¬
талась с вами и богу-то позабыла помолиться; вы, разбойники,
меня всегда в грех вводите. Да уж, правда, скоро к обедне
заблаговестят. Ты, старый болван, скорее прибирай залу да го¬
товь спину палкам, а ты, мерзавка, поди-ка позови сюда Сидора
Андреича, Марью Николавну да Сонюшку да вели подавать са¬
мовар. Ах, да вот и Сидор Андреич идет. (Лиза уходит.)
(Входит подслеповатая муоюская фигура в долгополом сюр¬
туке и {с волосами), остриженными по-светски; ее рябое лицо
украшено небольшою рыжею бородою; она беспрестанно вертит
головою; в одной руке ее четки, а в другой длинная палка.)
Сидор Андреевич. Здравствуйте, Лизавета Андреев¬
на, с добрым утром честь имею поздравить вас, сударыня! Здо¬
ровы ли?
Лесинская. Твоими теплыми молитвами, Сидор Андре¬
ич, живу кое-как. Да вот людишки-мошенники все бесят: такие
делают грубости, что терпенья нет, да и только. Да вот погоди:
я справлюсь с ними.
Сидор Андреевич. И доброе дело сделаете. Сказал
господь: «Несть раб более господина своего!», а в другом
месте: «Раби, повинуйтеся во всяком страсе владыкам, не ток¬
мо благим и кротким, но и строптивым»5.
Лесинская. И жаль их, окаянных, Сидор Андреич, да
делать-то нечего; пожалуй, дай им волю-то, так они барыне-то
548
и на шею сядут да поедут. Уж я ли, кажется, поступаю с ними не
по-христиански?
Сидор Андреевич. Бить рабов ничуть не грешно,
а должно, говорит русская пословица: не бить ребра, не ви¬
дать добра. Премудрый Сирах сказал: «Любяй сына своего да
учинит ему раны»; а в другом месте священное писание гласит:
«Биет сына, его возлюбит». Когда детей господь указал бить, то
уже рабов-то и подавно.
Лесинская. Ну, Сидор Андреич, ты говоришь, как кни¬
га, тебя любо слушать. Где это набрался такой премудрости?
Сидор Андреевич. Не от себя, матушка, от бога:
«Господь умудряет слепцы».
Лесинская. Сущая правда; иной весь век свой учится,
умирает на книгах, и все не то, что ты. Ты нынче, пожалуйста,
попой уж на крылосе-то. Право, я не могу от слез удержаться,
когда слышу твой голос. Отродясь не слыхивала таких певчих,
как ты.
Сидор Андреевич. Извольте, матушка Лизавета Ан¬
дреевна, для вас все готов сделать, чего ни пожелаете. Нечего
сказать: доволен вашей милостию. Не оставили вы меня грешно¬
го, зато и господь не оставит вас. (Входит Софья.)
Софья. Здравствуйте, маменька! (Целует у нее руку.) Ах,
знаете ли вы, как я сегодня была обрадована? Представьте се¬
бе: просыпаюсь и вижу у постели своей — кого ж бы вы дума¬
ли? — мою любезную Марью Николавну!
Лесинская. Очень рада, Сонюшка, очень рада. Если бы
ты знала, как мне приятно, что ты весела. То-то материнское-то
сердце! Ты своими слезами о любезном батюшке тоску всем
нагнала. Небось, как я умру, обо мне не станешь так плакать!
Я знаю, что мать тебе не так мила, как отец.
Софья. Маменька, вы несправедливы. Вы сами должны
знать, люблю ли я вас и буду ли плакать на вашей могиле. Но
кого же можно любить по долгу или по принуждению? Спросите
себя, как вы меня любите, как обращаетесь со мною, как ведете
себя в отношении к другим, и тогда судите...
Сидор Андреевич. Нет-с, сударыня Софья Петров¬
на, не предавайтесь таковому светскому лжемудрию; оно опас¬
но паче змеиного яда.
Лесинская. Сговоришь с ней, с краснобайкой, вишь, из
книг-то научилась каким правилам. Нет, небось в мое время так
не смели и думать, а не то что говорить. Дети должны любить
своих родителей, хоша бы родители их и не любили. А когда они
не почитают отца, а пуще всего матерей, то не будут счастливы
и долговечны на земли. В какой, бишь, это заповеди-то сказано,
Сидор Андреич? Да, кажется, во второй!
Сидор Андреевич. Нет, в пятой! Чти отца твоего
и матерь.
549
Лесинская. Ох! я слаба стала на память, все позабыла,
что и знала. (Входит Рудииа.)
Рудпна. Здравствуйте, Лизавета Андреевна, как долго
я не видалась с вамп! (Целуются.)
Лесинская. Да, заспесивилась, матушка, заспесивилась.
Шутка лп дело, уж почти с полгода я не видала тебя. Видно,
тебе пе люба моя хлеб-соль! Кажется, я всякому рада душевно;
слава богу, без гостей ни на час. Ну, матушка, слыхала ли ты
о нашем несчаетип?
Р у д п и а. Да, несчастпе ваше ужасно; я думаю, вы в боль¬
шом огорчешт? Да как и пе печалиться? Все добрые люди мно¬
гого лишились в Петре Степапыче и все вместе с вами оплаки¬
вают невозвратимую потерю.
Лесинская. Правда, матушка, сущая правда: как не пе¬
чалиться мне? (Слышен звон колокола, и она крестится.) Ах, да
уж и к обедне звонят. Ай да отец Игнатий, нечего сказать;
спасибо ему. Уж подлинно, что достойный священник! Я вчера
просила его пораньше начать обедню. Много хлопот, милая
Марья Николавна: скоро будет семнадцатое число, день ангела
Сошошки. Надобно приготовиться да сделать бальчпк хоро¬
шенький; у меня будет князь Кизяев. То-то человек-то! Уж под¬
линно с большими достоинствами: имеет четыреста душ кресть¬
ян, а как умен, как учен, уж подлинно, что чудо. Вот с ним-то
гхоговори-ка, Сонюшка, небось и тебя заметает словами. Я давно
была знакома с ним; да мой муженек, по своей сварливости,
что-то повздорил с его сиятельством, так уж он лет пять не
жалует к нам. А какой вежливый, какой учтивый! Вот как-то до
смерти Петра Степаныча случилось мне встретиться с ним на
балу у Васильевых. Уж он и в карты все со мной играл, и руки-
то у меня расцеловал; даже от танцев отказался, чтобы сделать
мне партию. Уверял меня в своей преданности, радовался, что
смерть моего мужа дает ему случай снова познакомиться со
мною. Смотри, Сонюшка, обходись с ним ласковее; он имеет на
тебя виды.
Р у д и н а. Как это, Лизавета Андреевна, у вас будет бал?
Кажется, вы недавно схоронили мужа?
Лесинская. Не все же, матушка, плакать; сколько ни
плачь, а слезами не поможешь, и так у меня от слез глаза
высохли. Правда: старик-то был человек странный, сварливый,
ни в чем не давал мне воли; а все муж, все жалко. Что ни
говорите, а уж без бала нельзя обойтися: ведь Сонюшка-то не
маленькая; как же можно пропустить ее именины без бала; все
засмеют, скажут, что я скуплюсь, что я не люблю своей дочери;
а я, кажется, готова для нее все сделать.
Сидор Андреевич. Конечпо, матушка, нельзя: кто
живет в свете, тот поневоле должен угождать свету; да тут
и греха нет никакого. Сам господь пировал в Кане Галилейстем,
а святый Давид плясал перед ковчегом6.
550
Лесинская. Правда, Сидор Андрепч, правда! Да уж ко¬
му поверить, как не тебе? Пондем-ка к обедпе-то; а ты, милая
Марья Николавна, посиди с Сонюшкой; я на час к обедне схожу.
Ох! не успела я и чаю-то напиться, да уж делать нечего, как-
нибудь отстою. (Уходит с Сидором Андреевичем.)
Р у д и н а. Наконец мы можем поговорить с тобою свобод¬
но. Ах, друг мой, Сонюшка, ты так изменилась со дня нашей
разлуки, что тебя и узнать трудно. Лицо твое похудело, ты так
бледна... Кстати, ты давеча намекала, что имеешь что-то важное
сообщить мне. Теперь, кажется, самое удобное время для
этого.
Софья. Этого времени я ждала с нетерпением и стра¬
шилась; оно для меня ужасно. О друг мой! много я имею сооб¬
щить тебе! Ты образовала мои способности и, можно сказать,
создала мою душу, мое сердце, оно должно быть для тебя от¬
крыто... Но увы! ты не будешь более видеть в них, как в чистом
зеркале, отпечатки чистых, непорочных движений молодой эн¬
тузиастки... Я уже не та тихая, задумчивая мечтательница, не та
легковерная, неопытная гостья мира, которой душа была ясна
и невинна, как душа младенца. Под этим кровом я узнала бла¬
женство и страдание, вкусила чистые радости и сделалась (за¬
крывает руками лицо) преступницею!.. Я стою пред тобою не так,
как друг твой, но как виновный пред своим судьею. О, ежели ты
презришь мною, ежели ты отвергнешь меня, ежели разорвешь
эту сладостную цепь дружества, которая столько очаровала
жизнь мою, — что тогда будет со мною?.. (Отирает слезы.)
Р удин а. Софья! Что это значит? Я не ожидала от тебя
такого приветствия! Ты приводишь меня в ужас! Но я никак не
могу поверить, чтобы твоя ангельская душа могла оскверниться
преступлением (с гордостию): тебя воспитывала я! Неужели это
пламенное стремление к добру, это сильное негодование при
одной мысли о пороке, которые составляли, так сказать, твой
характер, были не чем иным, как только мгновением скоропре¬
ходящим, восторгом ветреной молодой девушки? (С чувством)
Софья! Помнишь ли ты час нашей разлуки? Помнишь ли ту
минуту, когда, сжимая меня в своих объятиях, голосом, заглу¬
шаемым рыданиями, ты дала мне священную клятву помнить
мои наставления, следовать моим правилам, быть жрицею до¬
бродетели, не гасить никогда этого чистого, святого пламени
к высокому, который я умела возжечь в душе твоей? Я повери¬
ла тебе, Софья! Неужели ты изменила своей клятве? Нет, это
невозможно: ангелы не могут быть людьми. Впрочем, друг мой,
я уверена, что если ты и преступница, то и в самом преступле¬
нии благородна, если ты и пала, то так падают души высокие.
Софья! Откройся предо мною: это сердце для тебя всегда от¬
версто, эти объятия (обнимает ее) всегда готовы принять тебя!
Я еще твой друг и вместо бесполезных упреков пролью в твою
душу чарующий бальзам утешения.
551
Софья. Друг мой, я женщина, но я не страшусь ни смер¬
ти, ни злополучий, ко быть преступницей... О, это ужасно!..
Я сейчас же расскажу тебе свою историю; она кратка и не уто¬
мит твоего внимания; она только растерзает твою душу. Вот
она. Моя мать — ты ее знаешь; отец мой — ангел: его уже нет.
Я увидела юношу: он имеет все, чем только можно было пле¬
нить меня: его краткие, отрывистые речи, его необыкновенные
поступки дышали благородством мыслей, возвышенностию
чувств; его пламенные, быстрые взоры блистали гордостию
и мужеством; на его приятном, выразительном лице написана
была мрачная задумчивость; он страдал и не жаловался; любил
и молчал. Узнавши меня, излил передо мною свои чувства, свои
мысли: они были понятны только для одной меня. Он сделался
смелее: признался и умел исторгнуть признание — и я узнала
небо. Не буду много говорить тебе о моем блаженстве; чтобы
описать его вполне, довольно сказать: я любила и была любима.
Наконец, увлеченные своим пламенем, мы сгорели в нем!..
И (закрывает лицо руками)... О, что со мною будет! (После
некоторого молчания.) Он мужчина, следовательно, не мог
иметь понятия о всей бедственности моего положения и вскоре
был принужден ехать в Москву; а я, я осталась одна! Кажется,
я все сказала!..
Р у д и н а. Ах, Софья, твое положение более, нежели
ужасно; чтобы выразить всю бедственность оного, я не нахожу
слов. Даже не могу утешать тебя; могу только плакать о тебе.
Пусть эти слезы будут чистою жертвою дружбы. (Молчание.) Но
скажи мне, кто этот молодой человек? Неужели он не мог
предложить тебе своей руки?
Софья. Он сын лакея: а ты знаешь мою мать!
Р у д и н а. Как это? сын лакея, говоришь ты?
Софья. Тот самый, о коем, может быть, ты не раз слыха¬
ла от моей матери, как о человеке гнуснейшем. Она ненавидела
его, как только могут ненавидеть подобные души благородного
человека. Он тот самый воспитанник моего родителя, о кото¬
ром он много раз говорил с лестнейшими похвалами.
Р у д и н а. Скоро ли он приедет сюда?
Софья. Я думаю, что скоро, и вот почему: мой родитель
отпустил его на волю, но моя мать и братья каким-то образом
отрыли в бумагах покойного отпускную и сожгли ее. Между тем
подали прошение, чтобы выслали из Москвы их человека, да и к
самому ему послали письмо, которого содержания я не знаю;
но, судя по их о нем разговорам, заключаю, что это письмо
самое язвительное. О, что будет с бедным Дмитрием, когда он
узнает, что его благодетель умер!..
Р у д и н а. Писал ли он к тебе из Москвы письма?
Софья. Этого никак нельзя было сделать.
Р у д и н а. Итак, нет никакого средства выйти тебе из этих
ужасных обстоятельств?
552
Софья. В моем положении мне осталось одно средство:
отчаянная решительность. Я во всем признаюсь матушке; уверю
ее, что если она не согласится на мои требования, то я всем
объявлю о моем стыде: осрамлю и себя и ее. Я знаю, что это на
нее сильно подействует.
Р у д и н а. Но в чем же будут состоять твои требования?
Софья. Чтобы обвенчать меня с Дмитрием и определить
его в военную службу.
Р у д и н а. А если она на это не согласится?
Софья (решительно). Я выполню свои угрозы и лишу себя
жизни.
Рудина. Софья! И ты способна это сделать, ты, кроткая
девушка? Я не понимаю даже, как могла ты произнести такие
слова.
Софья. Что ж тут удивительного? Не сама ли ты говори¬
ла мне, что ужасно бедствие, а не смерть? Лишась Дмитрия,
я лишусь всех благ, привязывающих меня к жизни.
Рудина. Как это? Ты имеешь мать, братьев.
Софья. О, если бы я могла не иметь их!
Рудина. Тебя ли я вижу? Софья, ты ли это?
Софья. Не удивляйся, друг мой, ты еще не то услышишь
от меня. Я меньше тебя жйла на свете, но не меньше испытала.
Ты еще, может быть, не знаешь, как ужасно, как убийственно,
получивши хорошее воспитание, возвысившись от толпы людей
обыкновенных, видеть в своем отце или матери члена этой низ¬
кой, пресмыкающейся толпы, которую столько презираешь; как
горестно среди множества быть одною! Моя мать желала ви¬
деть меня воспитанною только для удовольствия одного пустого
тщеславия, глупого самолюбия, а не для истинной цели. Ей при¬
ятно, когда восхищаются ее дочерью, хвалят ее ум и познания,
и между тем этот ум и эти познания называет развратом. Ты не
можешь представить себе той жестокости, с какою она обраща¬
ется со своими людьми: не буду тебе описывать ее, пбо не могу
без ужаса и вспомнить об ней; не можешь представить, до какой
степени она предана самому гнуснейшему и отвратительнейше¬
му ханжеству и как оскорбляет сим святость и чистоту религии.
А если бы ты знала моих любезных братцев! Не буду много гово¬
рить тебе об них, скажу только, что буйство, повеспичество, же¬
стокость и полуневежество есть отличительные качества этих
полуварваров! И с этими людьми я связана такими узами, и этих
людей я должна любить и уважать! Но это еще я могла бы сно¬
сить в надежде, что со временем обстоятельства могут измениться;
моя любовь, ее следствие и участь Дмитрия — вот что ужасает
меня. Я знаю его: он пылок, бешен, чувствителен до крайности;
он не погибнет без того, чтобы не погубить врагов своих! Будущее
ужасно страшит меня. В довершение всего этого моя мать за¬
брала себе в голову, что я непременно должна выйти замуж за
какого-то князя Кпзяева, которого я никогда и не видала, и, не
553
спросясь моего согласия, почти дала ему слово. Беспрестаппо
мне хвалит его, и вычисляет его богатство, и часто в блажепном
забвении с улыбкою самодовольства говорит мпе «ваше сия¬
тельство» и называет княгинею.
Р у д и н а. Чем же ты отвечаешь ей на эти комплименты?
С о ф ь я. Иногда шутками, иногда молчаньем, иногда па-
смешками, глядя по расположению духа.
Рудипа. Эх, напрасно: ты этим как бы изъявляешь свое
согласие и питаешь ее надежду.
С о ф ь я. Я это делаю с намерением: мне хочется одура¬
чить его сиятельство, моего любезпого жениха.
Р у д и н а. А почему это давеча Лизавета Андреевна гово¬
рила тебе об этом князе, как о человеке, о котором ты слы¬
шишь в первый раз?
Софья. Это есть следствие каких-нибудь ее расчетов.
Она в житейских-то делах гений: проведет хоть кого. Мне даве¬
ча так смешно было слушать ее, что я даже забыла свои го¬
рести. Впрочем, она с князем-то завела не шуточную коммер¬
цию: то и дело пересылают друг к другу людей с письмами.
Рудина. Ведь она сама, кажется, не умеет яисать, кто же
ей пишет эти письма?
Софья. Мои братцы. (Входит Иван; лицо его бледно; на
глазах видны слезы, и он весь дрожит.)
Рудина. А, здравствуй, Иван, здравствуй, добрый старик!
Давно уж мы не видались с тобою.
Иван (низко кланяясь). Здравия желаю, матушка Марья
Миколавна; благодарствую на том, что вы не забыли меня, бед¬
ного старика!
Софья. Но что с тобою сделалось? Ты дрожишь, как
в лихорадке, бледен, как полотно: уж не болен ли ты?
Иван. Нет, сударыня-барышня, я здоров; на мое мучение
и боль-то меня несчастного не берет: уж пора бы костям и на
упокой.
Софья. Да отчего же ты так встревожен?
Иван. По милости вашей матушки Лисафеты Андревны.
Софья (быстро). А что такое?
Иван. Да так-с, пустяки-с: об мою старую спину, для бо¬
жия праздника, сейчас обломали пучков с шесть. (Софья
в сильном волнении отходит на другой конец залы и слотрит
с окно.)
Рудина. Боже мой! неужели? да за что же?
Иван. И, матушка Марья Миколавна, что уж и говорить
об этом: то ли еще увидим; Лисафета Андревна изволила ска¬
зать, что это еще только цветики. Теперь нас человек с пять
передрали на конюшне, иную за то, что тарелку разбила, иную,
что самовар упустила, иного, что смел оправдываться; иного за
грубое слово: то-то потеха-то была! Кричат, плачут, молятся,
а Андрей Петрович только и изволит приказывать: «Эй, прибавь
554
на калачи, прибавь на калачи!» А коли кто плохо бьет, так того
учнет из своих рук катать орапельником.
Руд и на. Ах, какой ужас! Кто же этот Андреи Петрович,
дворецкий, что ли, какой?
Софья (быстро). Мой брат!..
Иван. Да тут еще нечему дивиться, матушка Марья Мико-
лавна; то ли еще было! Как покойный-то барин, Петр Степаныч
(крестится), — дай ему, господи, царство небесное, — изволил
кончаться на смертном одре, барыня с горя изволила бить де¬
вок; барышня у постели обливалась горючими слезами, а моло¬
дые-то господа изволили буянить по деревне да делать то, о чем
и донести вашей милости совестливо. Насилу, насилу могли
отыскать их, чтобы проститься с отцом да принять его роди¬
тельское благословение, навеки нерушимое. Лишь успели за¬
рыть его в могилу, то и пошли пиры да балы; нас стали мучить,
как скотов каких; коли учнут напрасно взыскивать, не моги рта
разинуть, не моги пикнуть в оправдание,— на конюшню, да
и только; уж порют, порют, как собак каких. А если кто захвора¬
ет, да доложат барыне, так только и услышишь: «Вишь, какой
благородный, вишь, какой дворянин! Еще хворать вздумал; но-
лечите-ко его хорошенько орапельником!» Ну, такое житье, что
хоть околевай, да и только, али ложись живой в мать сыру
землю; могуты нашей не стало, сударыня Марья Миколавна.
Иной охотник собак лучше кормит, как нас барыня. Оставил нас
грешных, господи! Знать, забыл он нас аль уж по грехам казнит.
Софья. Она моя мать: я должна уважать и любить ее!..
Иван. Тридцать лет ходил я за упокойным барином и не
то, что дурного чего не видал, даже дурака не слыхал от него;
любил он меня, мой батюшка, словно родного. А теперь па ста¬
рости вот до чего я дожил: порют, как какую собаку. Ох, нака¬
зал меня, господи! Хоть уж бы прибрал он меня!
Р у д и н а. Да это ужасно, это превосходит все меры
тиранства. (Вздыхает.) А делать нечего, надобно терпеть да
молчать.
Иван. Коли уж дело на то пошло, так я к слову доложу
вашей милости, сударыня-матушка Марья Миколавна, еще кое
о чем. Вот был у нас мужичок Антип Власьев; упокойник барии
жаловал его и поставил бурмистром. Богачее и зажиточнее его
у нас во всей вотчине никого не было; ну, потому, то есть, что
был мужик не ленивый, работящий, а уж такая умница, что
и сказать нельзя. Это у него хлеба всегда бывало одоньев два¬
дцать в запасе, лошадок много, а скотинушки водилось столько,
что и счету не было. Мужички его любили, то есть, по той
оказии, что он никого не обижал, не притеснял. Бывало, на
праздник божий позовет к себе вот нашего брата, дворового
человека, да и мужичков-то, кто ему сродни, так вот как
угостит, что откуда что возьмется! Одним господь его обидел,
у него только и был один сын: парень — кровь с молоком, за¬
555
гляденье, да и только. Приглянулась ему дочь старосты Федо¬
ра,— уж и подлинно девка завидная, работница, хозяйка, руко¬
дельница, а мужику то и нужно. Упокойник барин позволил Ап-
типу женить своего сына на ней да еще дал денег на вино. Чрез
год у Антипа родился внук; Антип от радостп чуть с ума не
сошел; поднял пир горою. Тут упокойник барин изволил скон¬
чаться, а барыня за что-то давно сердилась на Антипа. Вот
и приходит одним вечером с молодыми господами. А у него
перед избой стояли два новых сруба, с полей приехали его
работники, да к этому же времени стада подогнали; вот барыня
на досуге и смекнула, что у него и скота-то, и лошадей-то,
и хлеба больно много. «А чьи это у тебя, Антип, срубы?» —
«Мои, сударыня».— «Да что ты больно богат, чем это больно
разжился?» — «Да своими трудами, сударыня».— «Хорошо же
ты, брат, обворовываешь господское добро-то да мужиков-то
обирал!» Взяла да и велела срубы-то перевезти на барский
двор, хлеб-от перекласть на господское гумно, лошадей и скот
также перегнать к себе, а ему оставила сущую малость. Взвыл
наш мужик, повалился ей в ноги: «Матушка Лисафета Андревна,
не пусти по миру!» — «Вот ты у меня, старый черт, не так заво¬
ешь; пойдем-ка в клеть-то твою да посмотрим, что у тебя в ко-
робье-то есть». Вскрыла коробью, нашла сотняжек пять деньжо¬
нок да все до одной копейки прибрала к себе. Иван-то, его сын,
знаешь, парень молодой, не вытерпел да и скажи: «Ведь это,
сударыня, сущий разбой, вы нас совсем изволили ограбить».—
«А! Так ты так-то поговариваешь с господами-то? Хорошо,
я тебе припомню это. А ты, Антип Власьевич, знать, происхож¬
дения-то дворянского, сам и работать не хочешь, а нанимаешь
работников; вишь, как с воровства разжился, живешь, как барин
какой».
Софья. Боже мой! И я всего этого не знала, и все это от
меня было скрыто! Чем же, Иван, кончилась эта история?
Иван. А вот чем, сударыня-барышня. Настала некрутчина;
очередь была на одном мужике, у которого было три сына,
а барыня его обошла да отдала Ивана, Антипова сына. То-то
жалости-то достойно было, как он расставался с отцом да
с молодой женой. Бедная в постелю слегла, захирела да умерла.
Антип остался один-одинехонек, сыну копеечки не мог дать.
С горя спился с кругу да пошел по миру. А все-таки его гоняют
на барщину; он от старости да от горя работать не может. Так
беспрестанно его колотят не на живот, а на смерть.
Софья. Боже мой, боже мой! О, я несчастная! И это
чудовище есть моя мать! Она наряжает меня, как куклу. Я по¬
теряла счет моим платьям, шалям, шляпкам; у меня лежат ты¬
сячи перстней, колец и других драгоценных безделиц, и все это
приобретено ценою несчастия моих ближних. О, прочь эти
пустые наряды! Я истреблю их, иначе они будут жечь мое тело.
Пойду, посмотрю, не превратились ли они в кровь. (Уходит
556
в другую комнату и скоро возвращается.) Иван, добрый старик!
(подает ему кошелек) возьми эти деньги: они мои собственные,
их подарила мне моя бабушка в день моего ангела. Раздели их
тем, которых разорила моя мать: пусть эта малость хотя
несколько загладит ее преступления. Хотя она и жестокого сер¬
дца, но она все моя мать, и я, несмотря на все, еще люблю ее.
Иван. Добрая барышня, заплати вам за это, господи. Ах,
барышня, знать, вы уродились в своего батюшку! (Входит Анд¬
рей Лесинский.)
Андрей (сухо). Ах, здравствуйте, Марья Николавна! (Гор¬
до кланяется.)
Рудина. Здравствуйте, Андрей Петрович! Здоровы
ли вы?
Андрей. Слава богу! (К Ивану, который с трепетом стоит
у дверей.) А, любезный мой! Ты изволишь тут жаловаться на
господ своих, взводить на них разные клеветы и небылицы! Хо¬
рошее дело! хорошее дело! Уж я слушал-слушал,— терпенья не
стало. Нет, брат, знать, тебе мало; не тужи, не тужи: завтра еще
прибавлю.
Иван. Воля ваша, батюшка Андрей Петрович: бейте, поку¬
да живы.
Андрей. Шкуру сдеру с мерзавца; каждый день буду
бить до полусмерти. (К Софье.) А вам, сестрица, не стыдно ли
позволять лакею, при посторонней особе, жаловаться и клеве¬
тать на свою мать и братьев? И не только слушать это хладно¬
кровно, но и разделять его мысли и чувство?.. Что за филантро¬
пия такая! Желал бы я знать, где это вы нахватались таких
сентиментальных правил?..
Софья. И ты еще можешь упрекать меня? Человек под¬
лый, душа низкая, презренная, и ты еще смеешь называться
моим братом; ты палач, кровопийца? И ты еще насмехаешься
над моими чувствами? Так, точно: они должщя казаться тебе
смешными: ты не можешь понимать их. Прочь с глаз моих,
дикое, свирепое животное! Я не могу без ужаса и отвращения
смотреть на тебя.
Андрей (злобно). Ах, Софья Петровна, да вы можете
быть отличною актрисою, а я еще и не имел счастия знать, что
вы обладаете таким прекрасным талантом! Какой жар! Какое
исступление! Ну, точь-в-точь, как какая-нибудь героиня мадам
Жанлис! То-то: вот что значит хорошее воспитание да искусные
наставники! То ли дело! Как раз научат таким вещам, о которых
мы, темные люди, и понятия не имеем. (Является Лесин¬
ская.)
Лесинская. Об чем вы тут судите да рядите, чать, все
об книгах? (С улыбкой.) Ох, вы, ученые люди! Ну, насилу, насилу
отстояла я, грешная. Вот подлинная истина, что лукавый силен:
во всю обедню, грешница, продумала про житейское. То надоб¬
но послать в город купить что-нибудь; то нужно достать хоро-
557
шуго плетку для девок; то надо отпороть кого-нпбудь пз лакеев;
то как бы поскорее чайку напиться. Ведь тут-то, как нарочно,
все и на ум-то придет! А ты, Сонюшка, что-то встревожена?
Никак ты опять плакала? У тебя такие мутные глаза. Пора бы
и перестать тужить об мертвых-то: ведь слезамп не воскре¬
сишь пх!
Андрей. Да, она пмела прпчпну плакать! Ну уж, мамень¬
ка, что было без вас!
Леспнская. А что такое? Скажи, мой батюшка! Не на¬
грубил ли тебе кто-нпбудь из людей? Отпори его, сколько душе
твоей угодно.
Андрей. Нет, совсем не то-с. Да уж я не хочу вводить
вас в неудовольствие и для того смолчу до времени. Ваше здо¬
ровье и спокойствие для меня дороже всего на свете. (Целует
у ней руку.)
Лесинская. Ну уж, Марья Николавна, что за сынки
у меня: сердце не нарадуется. Правда, Петруша-то пемного
ветрен и не так солиден, как Андрюша; а уж как умен, как любит
мать, так и сказать невозможно. Чего! я было пригласила па
чашку чаю отца Игнатия, да отказался по какой-то нужде.
Андрей. А где же, маменька, Сидор Андреич? Ведь он
вместе с вами ходил к обедне?
Лесинская. Чего! Лишь только мы вышли с ним из цер¬
кви, как Марья Никевна пристала к нему: «Сидор Андреич, Си¬
дор Андреич! Ко мне милости прошу, пожалуйста!» Ну, что ты
будешь делать с нею: отбила его у меня, да и только. Не знаю,
как мпе и быть: Сидора Андреича никому показать нельзя —
так все и хватают нарасхват. Вот что значит угодить богу-то:
куда ни придет, во всякий дом несет благословение божие. От-
того-то так и любят его все. Ох, у меня хлопот полон рот!
Надобно послать в город за Анной Левонтьевной, чтобы посо¬
била мне по хозяйству да сшила кое-что к именинам Сонюшки.
То-то женщина-то прелюбезная, преуслужливая! Поди, Сонюшка,
да посмотри, пожалуйста, все ли готово к чаю. (Софья уходит.
Входит Иван.)
Иван (к Лесинской). Сударыня, какая-то жепщина просит
меня, чтобы я доложил вам об ней.
Лесинская. Какая женщина?
Иван. Да бог ее знает, Лисафета Андревна! Оно, то есть,
тово, одета на благородную стать.
Лесинская. Ну, что ж? введи ее сюда.
Иван (отворяя дверь в прихожую). Извольте, матушка,
войтить сюда. (Входит женщина, бедно, но опрятно одетая).
Лесинская. Что тебе, милая, нужно?
Женщина (почтительно кланяясь). Сударыня, я бедная
вдова; мой муж оставил мне в наследство бедность и тропх
малолетних детей. Теперь я еду с ними в убогой кибитке и на
плохой лошаденке на свою родину, в Орловскую губернию,
558
и бедностию доведена до крайности просить вспомоществова¬
ния сострадательных людей... п потому... надеюсь...
Лесинская. Ах, матушка, жаль мне тебя, право. Не
в похвальбу сказать: люблю, грешница, накормить алчущего,
напоить жаждущего и всегда помогать нищим! Андрюшень¬
ка, друг мой, поди, вели дворецкому отпустить ей полмерки
крупки на кашу, полмерки овсеца да пудик сенца для лоша¬
денки. (Женщина вздыхает, кланяется и уходит за Андреем.)
Ох, уж эти мне потаскуши! дай той, подай другой: отбою,
право, нет.
Рудина. Мне кажется, Лизавета Андреевна, что эта жен¬
щина благородная и достойная лучшего приема и большего
вспомоществования...
Л е с и и с к а я. И, матушка, много шатается по белому све¬
ту этих благородных, всех не оделишь. Да и что благородство
без богатства? Ох, что это Сонюшка-то замешкалась? ГТойтить
самой. (Уходит. Входит Софья.)
Рудина. Без тебя тут приходила какая-то бедная женщи¬
на; судя по ее ухваткам и словам, можно заключить, что она
была недурно воспитана.
Софья. Что же маменька дала ей?
Рудица. Сперва. сказала довольно длинную проповедь
о своей страсти к благодеяниям, а потом велела ей выдать
полмерки крупки на кашу, полмерки овсеца да пудик сенца для
лошаденки.
Софья. Неужели? (Входят две монахини.)
Старшая монахиня (с большою книгою под мышкою,
низко кланяясь). Здравствуйте, прекрасная барышня! Доложите
об нас своей маменьке. Мы собираем подаяния для церкви во
имя угодника божия Николая Чудотворца, епископа Мирликий-
ского, и надеемся у богомольной и странноприимной госпожи
сего дома выпросить позволение переночевать ночку. (Входит
Лесинская.)
Лесинская (с восторгом). Ах, боже мой! Какими судь¬
бами? милости просим, прошу пожаловать! Обрадовал меня
нынешний день господь, и не знаю, за какие молитвы. Вы, верно,
переночуете у меня ночки две или три?
Старшая монахиня (низко кланяясь). Покорно бла¬
годарим, сударыня, на добром слове; мы с большим удовольст¬
вием останемся: много ездили, так устали.
Лесинская. А это, знать, беличка с вами?
Старшая монахиня. Да, сударыня, сестра Серафима
божиею милостию. (Рудина и Софья уходят.) Это, знать, доч¬
ка ваша?
Лесинская. Да, матушка, дочь моя.
Старшая монахиня. Ну, уж, сударыня, наградил вас
господь дочкою: настоящий херувимчик. Чай, вы ничего не жа¬
лели для ее воспитания?
559
Лесинская. Как же, матушка, как же! Уж так воспитаиаг
что нельзя лучше: говорит по-французски, по-немецки, по-
итальянски, даже и англинские-то книги читает; и как танцует,
как играет на фортепьянах, на гитаре! У ней одних учителей да
мамзелей было столько, что и счету нет. А вот эта-то, что сей¬
час вышла с нею, больше всех учила ее и с десяти лет находи¬
лась при ней. Правда, воспитание-то мне ничего не стало. У меня
была старая тетка Пелагея Игнатьевна, женщпна гордая, наду¬
тая, никогда ко мне не ездила. Один раз я и приехала к ней
с Сонюшкою, Сонюшка тогда была по седьмому годочку и очень
понравилась своей бабушке. Та и упросила меня, чтоб я отдала
ей Сонюшку на воспитание, и за это обещала отказать ей шесть¬
сот душ. У меня только одна и была дочка, так и жалко было
расстаться. Сперва не хотела, а после раздумала, что если
Сонюшке-то она откажет свое имение-то, так уж мне не нужно
будет давать ей в приданое своих крестьян, что они лучше до¬
станутся сыновьям. Так она и жила у ней до шестнадцати лет,
и вот видно-то как с год, тетка-то моя умерла, и Сонюшка пере¬
ехала к нам.
Старшая монахиня. Мы слыхали, что у вас недавно
супруг скончался.
Лесинская. Да, матушка, назад тому три недели.
Старшая монахиня. Я думаю, он так же был добр,
как и вы?
Лесинская. Правда, он был незлой человек, а только
ужасно странен: представьте себе, не давал мне ни в чем воли;
не любил своих сыновей и воспитывал, как своего родного
сына, одного дворового мальчишку; к святым людям был
неласков, а каких-нибудь побродяг и нищих так ласкал и ода¬
ривал. Ах, жаль, что теперь нет дома Сидора Андреича; я бы
познакомила вас с ним. Он слеп, а делает большие чудеса,
например: кто бы ни взошел в комнату, тотчас узнает. А уж как
знает житие святых, библию; если бы он был теперь дома, то бы
поговорил с вами о божестве-то. Правда, и про него мне много
говорили худого, например, что его выгнали из одного дома
за ужасный порок, да я не больно верю этим наговорам.
Старшая монахиня. Худые люди про кого не выду¬
мают! (Кланяясь.) Не соблаговолите ли, сударыня, сколько-ни¬
будь пожертвовать на церковь угодника божия Николая Чудо¬
творца.. .
Лесинская. Как же, как же: не могу, грешница, дать
мжого, а сколько животы позволяют, так с радостию. Пятьдесят
рублей, я думаю, будет довольно.
Старшая монахиня. Премного довольны вашими
милостями. Да будет над вашим домом благословение божие;
дай вам господи дождаться внучков и правнучков...
Лесинская. И, помилуйте, за что же! Пожалуйста, по¬
живите у меня побольше, всем будете довольны: у лошадей
560
ваших овес будет без выгреба, извозчика вашего будут кормить
с моего стола. Для спасенных людей я ничего не жалею. (Входит
Иван.)
Иван. Сударыня, пожалуйте чай кушать!
Лесинская. Милости прошу, пожалуйте чайку покушать.
(Уходит с монахинями.)
Иван. Ушли. Теперь опять нападет на девок. Ну, старик
опять попался: делать нечего. Воля божия; без его воли и во¬
лос не пропадет на голове человека. Все так, да терпеть-то
тошно. Где ни послушаешь, все худые вести: того прибили,
у того отняли трудовое, кровью и потом нажитое. Ну, видно,
пришлось терпеть: авось бог вступится. Пусть беззаконничают,
поколь он терпит грехам их, зато уж барышня — дай-то ей, гос¬
поди, доброго здоровья да хорошего женишка. (Вынимает ко¬
шелек.) Однако тугонько набит. Раздать кое-кому деньжонок-
то. Как бы барыня не узнала: тогда только держись. Пойтить да
посправиться об столе да приготовить шандалы со свечами,
(Уходит.)
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
Действие происходит в городке, находящемся в трех
верстах от деревни Лесинской.
Ах! не вини меня: вини мои ты чувства,
Которых укрощать не знаю я искусства.
Вини сей огнь в моей пылающей крови:
Чрезмерен я во всем — и в злобе и в любви!
Озеров7.
Театр представляет постоялую горницу; чемодан и несколько дорожных
узлов лежит в углу оной; на кровати в беспорядке раскинуты: дорожный
тюфяк, подушки и проч. Дмитрий сидит в немом отчаянии, облокотясь на
стол; лицо его бледно, глаза мутны, волосы растрепаны; он неподвижно
и безмолвно смотрит в окно; чрез минуту выходит из соседственной ком¬
наты Сурский.
Сурский. Проклятый городишко! Насилу могли пайти
горенку, в которой еще таки можно жить. Я весь разломан: так
измучила меня эта скверная дорога. Ну, брат, мы с тобой похо¬
жи не на людей, а на каких-нибудь заморских чучел, которых
показывают за деньги: на нас не осталось нитки сухой; все
платье в грязи выпачкано. (Молчание.) Эй, Дмитрий! (Дмитрий
машинально оборачивается и безжизненно смотрит на него, не
говоря ни слова.) Да что ты, или без языка? Ободрись, мало¬
душный! (Дмитрий отворачивается от него, принимает прежнее
полооюение и погружается в мрачную задумчивость.) Ну, брат,
с тобою горе, да и только. Право, ты похож не на человека,
а на мраморную статую, поставленную для украшения этой
лачуги!
Дмитрий. Бесчувственный! Неужели ты, видя человека,
стоящего на краю пропасти, готового упасть в нее,— можешь
смеяться?
Сурский. Послушай, Дмитрий, разве ты не знаешь, что
я приехал сюда единственно с тем намерением, чтобы отсторо-
562
нять этого несчастного от пропасти, которую он, по своему
безумию, сам изрыл себе? Я обещал тебе употребить все силы
для твоего спасения: этого для тебя должно быть довольно,
ибо я давно уже отвык давать обещания, песбыточные и необ¬
думанные. Впрочем, пе ручаюсь за успех моих намерений
в рассуждении тебя; скажу только, что имею надежду получить
оный средством, какого ты от меня и ожидать можешь.
Я слишком многим жертвую моей к тебе дружбе, ибо решаюсь
на поступок, чрезвычайно важный и могущий иметь для меня
следствия неприятные. В сем городе живет по временам мой
старинный друг, с которым я вместе учился в Московском
университете и, бывши студентом, подружился. Он служит
чиновником особых поручений и заведует несколькими
городами здешней губернии, в числе которых находится и этот.
Он теперь в другом городе, где живут его родители, и нын¬
че непременно должен быть здесь. Я сейчас был на его кварти¬
ре; лишь бы он приехал, а то сию же мипуту явится здесь,
и я вместе с ним подумаю, что нам должно делать для твоего
спасения.
Дмитрий (приведенный в чувство его словами). Итак,
судьба еще не всего лишила меня, еще есть другое существо,
которое принимает во мне участие; Сурский! благодарю тебя за
дружбу: я умею ее чувствовать. Но позволь заметить тебе, что
ты жестоко обижаешь мепя, скрывая свои памерепия, как буд¬
то они совсем не до меня касаются. Такая недоверчивость
оскорбляет мое самолюбие. Так поступают с маленькими детьми
их родители: хотят говорить о средствах устроить их счастие
и между тем высылают их из комнаты, советуя кончить
в другой.
Сурский. Что ж делать? Ты после сам узнаешь, что ина¬
че никак невозможно было поступить. Успех моего предприя¬
тия зависит от крайнего хладнокровия, крайней осторожности, а
ты зпаешь себя. (Жмет его руку.) Друг мой, если ты желаешь
быть счастливым, если ты любишь Софью, то заклинаю тебя ее
именем взять до времени терпение и слепо повиноваться мне:
от этого зависит твое соединение с Софьею.
Дмитрий (с неумеренным восторгом). Мое соединение
с Софьею,— сказал ты?.. (Смотрит на него с выражением неожи¬
данной радости.) О вестник блаженства, апгел-храпитель! По¬
втори, повтори мне эти слова! Они воскрешают меня, убитого
отчаянием, подавленного безнадежностью!.. О! эти слова... они
отрадны для меня, как для узника: «ты свободен»... (Крепко
сжимает его руку.) О! повтори, повтори мне их...
Сурский. Видишь ли, каков ты, можно ли тебе открыть
что-нибудь; еще ничего нет, а ты уже с ума сходишь от ра¬
дости. Для чего предаваться ей до такой степени, надежда об¬
манчива. Ты сам не испытал ли это?
563
Дмитрий. Да, так, ты прав; по крайней мере скажи мпе,
это ли твое намерение; уверь меня, уверь, я буду послушен,
как ребенок...
Сурский. Это, самое это; только, бога ради, молчи;
будь нем, как рыба!
Дмитрий (вскакивает со стула и ходит по комнате боль¬
шими шагами в сильном волнении, потирая руками: все его дви¬
жения выражают радость самую сильную, но смешанную с неко¬
торым сомнением). Боже!.. Итак, еще мне не должно совер¬
шенно отчаиваться; еще надежда опять льстит мне. Но не для
того ли, чтобы, как прежде, обмануть меня?— Нет, этого быть
не может: у меня есть друг! О, я счастливец!.. Я буду супругом
ангела!.. (Схватывает руку Сурского и пожимает ее.) Но, друг
мой, я обещался молчать и сдержу свое слово; но послушай,
и ты сдержишь свое, не правда ли? О, я буду счастлив! Слышишь
ли, как сильно бьется мое сердце, видишь, как я весь дрожу:
неужели это не есть предвестие счастия?..
Сурский. А может быть, и злополучия!.. Кто знает!..
(Входит хозяйка, неся согретый самовар.)
Хозяйка. Поспел, батюшка, поспел; так кипит, что и не
уймешь. У вас свои, что ли, будут чашечки-то да чай¬
ничек-то?..
Сурский. Свои, хозяюшка, свои: я всегда в дорогу беру
с собою весь прибор чайный. (К Дмитрию.) Ну-ка, брат, не
хочешь ли запить поэтические восторги прозаическим ча¬
ем: он согреет тебя; да, правда, ты беспрестанно горишь в
пламени, так и не мог озябнуть от холодной осенней погоды,
по милости которой я дрожу, как в лихорадке. А что, хозяюш¬
ка, опростала ли ты ту горенку-то, о которой я давеча говорил
тебе?
Хозяйка. Светелку-то, что ли, батюшка? Как же,
опростала.
Сурский. Так лишнее-то не худо бы отсюда перенести
в нее.
Хозяйка. Не прикажете ли позвать вашего человека; он
прозяб с дорожки-то, так забрался на печь.
Сурский. Позови, пожалуйста. (Хозяйка уходит.)
Сурский (грея свои руки около самовара, из которого
валит сильный пар). Как я люблю приветливый, гостеприимный
пар самовара! Как я любил его, еще бывши ребенком! Не прав¬
да ли, друг мой, этот китайский напиток, который мы называем
чаем, есть превосходное приобретение! Какие разнообразные
и многочисленные удовольствия доставляет он человеку! Как,
например, приятно он соединяет семейный круг! Еще и теперь
живы в моей памяти те сладостные зимние вечера, в которые,
бывало, наше неразделенное семейство собиралось вокруг са¬
мовара, и я, любимец моей матери, первый жался с своим сту¬
лом к чанпому столику и первый получал свою чашку. Как этот
564
напиток приятен в откровенной беседе двух друзей, еще к тому
же окруженных облакамп табачного дыма; но, Дмитрий, мне
кажется, что еще приятпее, когда прелестные ручки прелестной
подруги приготовляют эту ароматическую влагу и когда она
с улыбкою подает ее своему другу и подслащивает поцелуями?
Не правда ли, Дмитрий?.. (Вздыхает и задумывается.)
Дмитрий. Клянусь богом! мысль прекрасная и справед¬
ливая! Но, Сурский, отчего вдруг родились этот вздох, эта за¬
думчивость, эта печаль? Право, я, во все время моего с тобою
знакомства, еще в первый раз вижу тебя, так сильно растроган¬
ного мечтою.
Сурский (как бы опомнившись). Ну, брат, подлинно, что
знакомство с мечтателями есть самая прилипчивая зараза: я с
тобою поневоле начал мало-помалу вдаваться в прежние глу¬
пости. В самом деле, каково покажется? Не более как в про¬
должение двух минут успел тебе сказать целую проповедь об
удовольствиях, доставляемых самоваром. Однако я заболтался
с тобою, позабыл и трубку закурить. (Накладывает в трубку та¬
баку и закуривает.) Ах, как приятно, после дороги и долго не
куривши, хорошенько затянуться!
Дмитрий. Послушай, Алексей, несмотря на мою недаль¬
новидность, я замечаю, что скрытность, которая, по-видимому,
составляет отличительную черту твоего характера, тебе не свой¬
ственна. Ты хочешь принудить себя быть скрытным, стараешься
избегать всего мечтательного, беспрестанно находишься в дей¬
ствительности и между тем невольно изменяешь самому себе.
Мне кажется, что ты стремишься забыть что-то такое, о чем
одно воспоминание для тебя тягостно,— и не можешь. Такая
скрытность в рассуждении меня, твоего друга, непростительна.
(Пожимает его руку.) Любезный Алексей, неужели я не заслу¬
жил твоей доверенности? Неужели я не стою того, чтобы ты
открыл мне свои тайны? Не забудь, что в рассуждении этого
предмета ты у меня в долгу.
Сурский. Что было, то прошло. Для чего вспоминать,
когда воспоминание мучительно?.. (С чувством.) Друг мой,
в последний раз говорю с тобою не шутя; повесть моя мрачна:
она раздается в ушах моих, как последний вопль казненного,
и для того прошу тебя... (В задумчивости ходит по комнате взад
и вперед большими шагами, выпуская из роту густые облака
табачного дыма. Входит Степан.)
Степан. Что вам угодно, Алексей Петрович?
Сурский. О, брат, да ты никак только что спросонья:
знать, на печке-то лучше, чем на козлах. Благую же ты избрал
часть. Слазь-ка в ларец да вынь из него все нужное к чаю.
Степан. Сейчас-с. Да ключ-то, знать, у вас?
Сурский. У меня. Вот он: на!
Степан (вынимает чашки, чайник и прочее и становит на
стол). Вы сами изволите разливать?
565
Сурский. Само собою разумеется, что сам. Разве ты ме¬
ня не знаешь? Ступай-ка, спи покудова. (Степан уходит; он кла¬
дет щепоть чаю в чайник, наливает е оный воды и становит на
самовар; Дмитрий ходит по комнате большими шагами. Оба
молчат, В продолжение этой немой сцены Сурский наливает
в два стакана чаю, из коих один подает Дмитрию, а другой берет
себе.)
Сурский. Ну, брат, ты опять ударплся в свои унылые
мечты; возьми-ка вот стаканчпк-то, авось-либо хоть чаем-то не
разгонишь ли их. О чем ты задумался?
Дмитрий (с тяжким вздохом). Ах, друг мой, кто теперь
более меня может иметь причин к размышлениям самым мрач¬
ным? Решение моей участи так близко, так неверно: оно висит на
волоске; малейшая неосторожность, одно ошибочное движе¬
ние, одно неблагоприятное обстоятельство — и оно оборвется,
и искра надежды — надежды, которая теперь тлеется в душе
моей, превратится в истребительный пожар отчаяния — пожар,
который своим заревом осветит все ужасы бездонной пропасти,
готовой принять меня в свои недра... Ах! При этой убийствен¬
ной мысли мое сердце обливается холодом, мое дыхание спи¬
рается; кажется, что в это мгновение на мою гр^дь падает тяже¬
лый камень и сильно, сильно давит ее... О! что со мною будет,
ежели все твои старания останутся тщетными?.. (Вскакивает.) О!
Сколько в таком случае роковых ударов, сколько смертей
в одно и то же время!.. Быть рабом, лишиться предмета, кото¬
рым дышал, с которым связан узами, самыми крепкими
и вместе самыми... и после всего этого еще жить... Нет... Нет,
тогда все мои способности, все мысли, все намерения сольются
в одно слово, которое будет первым и последним,— и это сло¬
во есть — смерть!!!...
Сурский. И ты в состоянии решиться на самоубийство?
Дмитрий. Сурский, полно; не говори мне об этом; не
осуждай моего намеренпя: оно благородно; не отвращай меня
от него: оно твердо. И как! Неужели после всех этих злополу¬
чий, в обширности которых ум теряется, как в беспредельном
хаосе, еще должно жить?.. Помилуй, Сурский, ежели ты при¬
дешь ко мне и с отчаянным взором, крепко сжимая своей оле¬
денелою рукою мою руку, скажешь: «Злополучный друг! все
кончено: ты погиб!» Признайся, что в это мгновение несчастие
будет превосходить все меры воображения, что оно может
только равняться с счастием, которым я некогда наслаждался;
но в моей воле будет прекратить его в одну секунду, следова¬
тельно, оно будет непродолжительно; но жить... видеть тор¬
жество моих врагов; сносить всю жестокость мщения зтпх под¬
лых, низких душ; видеть свою любезную в объятиях соперника и,
наконец, к довершению всего этого, быть рабом! — О! Не зна¬
чит ли это в каждую секунду умирать, умирать тысячью смертя¬
ми?.. Можешь ли ты вообразить себе весь ужас человека, около
566
которого обвились тысячи ядовитых змей п медленно высасы¬
вают его кровь; можешь лп ты себе представить всю необъемле-
мость мучений человека, с которого с живого сдирают кожу?..
И все это я должен буду переносить ежемпнутно!.. Окованный
поносными цепями рабства, буду бессильными руками рвать их,
грызть зубами и, орошая их кровавою пеною ярости, изрыгать
адские проклятия на моих тиранов, которые между тем, поми¬
рая со смеху, будут наслаждаться несносною злобою, моим
бессильным бешенством!.. Зайцы будут смеяться над окован-
пым львом!.. О нет!.. Нет!.. Горе мне, горе врагам моим: они
не будут торжествовать мою гибель, и ежели я погибну, то не
иначе, как только вместе с ними, только вместе с ними предста¬
ну пред трон судии Есевышнего... А если решусь жить — то это
для мщения, и мщения самого ужаснейшего!.. О!..
Сурский. Не хочу осуждать тебя, но пе могу и оправ¬
дывать. Ты теперь находишься в таком положении, что все до¬
казательства и возражения бесполезны; они не приведут тебя
в рассудок и только более взбесят; но, несмотря на то, я все-
таки скажу, что источпик самоубийства есть бешенство, безумие
и малодушие. Истинно благородный и великодушный человек,
как бы ни был злополучен, всегда найдет утешение в своей
совести, в религии, в надежде на бога и решится терпеть здесь,
чтобы вечно наслаждаться там.
Дмитрий (с бешенством). Терпеть... терпеть здесь, что¬
бы вечно наслаждаться там!.. Вот истинно превосходная
и вместе преутешительная философия? К несчастию, она только
хороша для низкой черни. Как!.. Неужели вечное блаженство
непременно покупается ценою ужаснейших страданий? Дорого
же оно приходит! Неужели это премудрое и милосердое су¬
щество, которого мы называем богом, посылает людей на зем¬
лю, как колодников на каторгу? Неужели его благость так огра¬
ничена, что он не хочет сделать свое лучшее творение счастли¬
вым здесь и там! Нет, по-вашему, он не иначе должен сделать
его блаженным, как сперва потиранивши его, насладившись его
муками... Фарисей! Ты искажаешь божество!..
Сурский. Напротив, я не искажаю его, а представляю та¬
ковым, каково оно есть в самом деле. Впрочем, хотя земля
и есть поистпне поприще страданий большой части людей, одпа-
ко в этом виноват не бог, а сами люди. Они имеют разум — эту
искру божества, и уподобляются скотам. Признайся, что ты сам
есть виновник своих страданий, что ты сам своим неблагоразу¬
мием накликал на себя бедствия, которые теперь претерпева¬
ешь?!
Дмитрий. Хорошо: я сам. Но если бы я отказался от
Софьи, то разве бы мог быть счастливым? В таком случае я бы
бросился из огня да в полымя; опять, кто причиною тех го¬
рестей, которые я претерпевал в доме Лесинского еще прежде,
нежели увидел Софью?
567
Сурский. Ты, потому что пе умел сносить их с твер-
достию.
Дмитрий. Но ежели в моем характере нет этой твер¬
дости, то в таком случае кто виноват? Нет, брат, ежели сами
люди виноваты в собственных своих мучениях, то это значит, что
они злы и глупы. В таком случае можно ли сказать про челове¬
ка, что он есть образ и подобие бога, его сотворившего? Мож¬
но ли сказать, чтобы это низкое, презренное существо было
произведено на свет высочайшею премудростию? Притом, еже¬
ли эта высочайшая премудрость, по свойственному ей всеведе¬
нию, знала впредь, что люди рано или поздно должны будут
дойтить до крайней степени нравственного унижения, что они
никогда не могут быть счастливыми, то для чего же она произ¬
водила их?..
Сурский. Презренная горсть пыли! И ты осмеливаешься
обвинять бога, и ты дерзаешь восставать против него! Не ду¬
май, чтобы голос твой гремел, как голос титана; нет, он едва ли
слышен, как голос ничтожного червя!.. Кто сказал тебе, что
люди совершенно несчастны: ежели они претерпевают горести,
то для того, чтобы живее ощущать радости. Что если бы теперь
все надежды твои сбылись, не живее ли бы ты ощущал пре¬
лесть блаженства?..
Дмитрий. Так, хорошо. Но если они не сбудутся, то
в таком случае что остается мне делать?
Сурский. Терпеть!
Дмитрий. Опять-таки терпеть — да на что? и поче¬
му? Неужели человек во все продолжение своей жизни непре¬
менно должен страдать?.. Неужели этого требует правосудие
бога?
Сурский. Но с чего ты взял, что человек во все продол¬
жение своей жизни должен страдать? Неужели ты думаешь, что
ежели ты несчастлив, то и все несчастны? Если ты теперь пре¬
терпеваешь бедствия, то вспомни прошедшее, вспомни слова
твои, что одна минута возможного блаженства может заменить
целые века страданий; следовательно, в судьбе человека есть
равновесие. Бедный часто наслаждается спокойствием, кото¬
рого не имеет богатый; славный герой льет свою кровь
и беспрестанно ожидает себе смерти, между тем как земледе¬
лец, в счастливой безызвестности, не боясь смерти, спокойно
обработывает свою ниву: теперь не уравнена ли их участь?
Я думаю, что когда ты был счастлив, то твои чувства и мысли
в отношении к богу были совсем не таковы?..
Дмитрий. О друг мой! В то блаженное время каждое
чувство мое было — любовь, каждая мысль моя — благодар¬
ность к этому благому существу. Нередко я плакал от умиле¬
ния, нередко обращал слезящиеся взоры к небу и в благоговейном
безмолвии, в сладостных ощущениях, шептал священное имя
бога... А теперь... Теперь в душе моей поселилось какое-то
558
мрачное сомнение, которое, как пожар разрушительный, истре ^
било в ней доверенность к промыслу и даже эту сладостную
веру в высокое, которою я дышал доселе. На этот мир, который
прежде казался мне столь прекрасным, я теперь смотрю, как на
дикую пустыню, в которой злоба, невежество и предрассудки
воздвигли из костей и трупов престол несчастию!.. О! Ежели все
мои надежды кончатся моею гибелью... тогда, тогда мое лютое
отчаяние, моя неистовая ярость на все существующее разольется
огненным, клокочущим потоком, который затопит, разорит ме¬
ня, моих врагов и всех близких ко мне. Тогда уста мои загремят
хулою на бога, как на тирана, который утешается воплями своих
жертв, который упивается их слезами!.. * Тогда я буду просить
его, чтобы он или превратил меня в прах, или дал мне свои
громы, чтобы я мог в одно мгновение истребить этот чудовищ¬
ный мир, истребить этих лютых, бессмысленных тварей, которые
населяют его. О! Кровавыми бы руками исторгнул бы я тогда из
своего сердца остатки жалости и сострадания, превратил бы все
мои чувства и помышления в ярость и неистовство; своим дыха¬
нием, как вредоносным ядом, заразил бы воздух и воду и,
смотря на ужас и суетливость, с которыми бы зашевелились эти
муравьи в своем муравейнике, с диким хохотом, с адским само-
наслаждением приговаривал бы: «Я раб! Софья выходит за¬
муж!» Ах! эти ужасные слова разрывают узы, связывающие меня
с человечеством, и приводят меня в такое состояние, что я, при
воспоминании о них, томлюсь жаждою крови, убийства и разру¬
шения!.. (В бешенстве, с неистовыми движениями, быстро ходит
по комнате большими шагами.)
Сурский. Безумец! Итак, только потому, что ты несчаст¬
лив, должен погибнуть весь мир, в отношении к которому .ты
есть не что иное, как ничтожная пылинка? Не есть ли это порыв
эгоизма, которым ты столько гнушался, не есть ли это отсутст¬
вие любви к общему благу? Но я вижу, что убедить тебя доказа¬
тельствами рассудка есть труд Данаид; попробую, нельзя ли об¬
разумить тебя примером. Давеча ты просил меня рассказать
тебе историю моей жизни — я исполню твое желание.
Дмитрий. О! расскажи мне ее, расскажи. Ты несчастлив
и несчастием своим обязан существам, которые называются тво¬
ими ближними, твоими братьями: я это вижу. Заставь меня еще
более ненавидеть этих гнусных, ядовитых насекомых, пожираю¬
щих друг друга, этих...
Сурский. Нет, не ненавидеть, а прощать их хочу я за¬
ставить тебя. Дмитрий, ты видишь пред собою человека, который
был счастлив, как ты, и который теперь потерял и самую надеж¬
ду на счастие, который при всем этом не ропщет на бога, не
клянет судьбу и хочет жить.
* Так говорит дерзкое безумие, неистовое отчаяние человека, не упи¬
танного чистыми струями религии и нравственности.
569
Дмитрий. Без предисловий, без предисловий, бога ра¬
ди; я горю нетерпением слышать твою историю, а не наставле¬
ния. Говори и описанием своих несчастий прибавь еще несколь¬
ко капель этой черной, ядовитой желчи, которая пожирает мою
внутренность. Говори; я слушаю!
Сурский. Мой отец довольно достаточный человек, ува¬
жаемый всеми в нашем маленьком городке, как по месту, зани¬
маемому им, так и за его честность, прямодушие и истинное
русское хлебосольство. Несмотря на свое старомодное воспи¬
тание, он чужд предрассудков почтенной русской старины
и воспитывал меня по-новому, ничего не щадя для моего обра¬
зования. С самого моего младенчества во мне обнаружился
характер живой, пылкий, и я долго имел необыкновенную склон¬
ность к проказам и шалостям всякого рода. Воспитание, харак¬
тер, привычки, образ мыслей и жизни родителей и вообще се¬
мейства имеют обыкновенно большое влияние на нравственное
образование детей и даже на расположение их склонностей.
Это я испытал на самом себе. Мой отец женился на моей мате¬
ри если не по любви, то по какому-то маленькому расположе¬
нию, заставившему его предпочесть ее другим девушкам, на
которых бы он мог жениться. Во всем городе не было четы
счастливее моих родителей; под кровом их дома царствовало
семейственное согласие, мирная тишина и, следовательно,
и счастие. Обязанпый своим благополучием я^енитьбе, мой отец
полагал в семейственной жизни верх возможного человеческого
блаженства и часто с восторгом говаривал, что он желал бы
поскорее видеть меня женатым по склонности. Посему и ие
удивительно, что я, воспитанный в недре такого семейства,
вступивши в лета юношества, нечувствительно получил любовь
и склонность к тихой семейственной жизни. Ты пе можешь себе
представить, с каким восторгом я думал о том времени, когда
назову какую-нибудь милую девушку моею жепою, когда буду
жить своим домом и называться почтенным именем супруга,
хозяина, а может быть, отца семейства. Как обыкновенно во¬
дится у всех мечтателей, я составил в голове своей идеал моей
суженой — искал его в толпе знакомых девушек — и нашел. Не
буду много говорить: скажу только, что я, как говорится, по
уши влюбился в дочь одной небогатой вдовы чиновника, неког¬
да служившего в нашем городе. Меня пленило ее миловидное
личико, пара голубых глазок, блиставших кроткою задумчи-
востию и милою скромностию. Сверх сих достоинств она была
очень хорошо воспитана.
Дмитрий (пожимает его руку). И ты был человеком,
и ты любил, а между тем обвиняешь меня!
Сурский. Мой отец, заметив мою склонность, сказал:
«Браво, Алексей, браво: я помогу тебе». Он сделал предложе¬
ние ее матери, та была оным очень обрадована, ибо знала, что
мой отец довольно достаточный человек. Положено было от-
570
пустпть меня в Московский университет н чрез год, после окон¬
чания полного курса, женить. Между тем мне позволено было
обращаться с Мариею, как с своею невестою. Не буду говорить
тебе о моем счастии: ты сам знаешь, что значит первое стыдли¬
вое прпзнание, первый поцелуй, первый вздох лю6еп, пожа¬
тие руки, страстные застенчивые взгляды; скажу только, что
спи более и более укрепляли наш союз. Наконец наступил час
разлуки — и я полетел в Белокаменную с тяжкою грустию в
душе, сопровождаемый наставлениями родителя, слезами ми¬
лой матери и... (Вздыхает и погружается в тихую задумчивость.)
Дмитрий. Сурский, не прав ли я? Не отгадал ли я? О ду¬
ша твердая! И ты, будучи способен так сильно чувствовать, уме¬
ешь казаться бесчувственным!..
Сурский. Да, друг мой, я много пспытал радостей, но
вдвое больше горестей; те и другие сделали на меня сильное
впечатление, те и другие сильно волновали мою грудь; но,
несмотря па то, я умел владеть собою. Но слушай далее. Бывши
в университете, сначала я очень часто получал от нее письма
и еще чаще писал к ней; потом она стала реже и реже писать
ко мне, и я начал примечать, что ее волнует какая-то печаль,
какое-то сомнение, наконец она совсем перестала писать ко
мне. В письмах моих родителей я только с некоторого времени
стал примечать какую-то 'двусмысленность в рассуждении Ма¬
рии; казалось, что они хотели скрыть от меня что-то неприят¬
ное, и наконец просто сказали, что они рассорились с госпожою
Сунскою, что Мария недостойна меня, чтобы я забыл ее, что
она мне неверна, что я ею забыт и презрел. Я бесился, кровь во
мне кипела, и тут я узнал, как сильно любил ее. Приближалась
вакация, я непременно хотел поехать домой, чтобы, как водит¬
ся, обременить упреками неверную и отомстить моему соперни¬
ку; но жестокая горесть повергла меня в продолжительную бо¬
лезнь, почему я и принужден был остаться в Москве. Выздоро¬
вевши, я с сугубою силою чувствовал всю важность моей потери,
весь ужас моего одиночества, и, желая рассеяться, снедаемый
отчаянием, я завел многие новые знакомства и с помощью
услужливых друзей пустился в повесннчество разного рода
и порядочно порасстроил свое здоровье.
Дмитрий. И ты еще после всего этого остался жить?
Боже! Итак, я еще не все испытал, я еще не был поражен этим
адским бичом, который называется изменою. Сурский! О, ты
много, много пспытал! Только одна твоя железная душа могла
перенести это.
Сурский. Да, друг мой, мое несчастие ужасно. Я не
знал, как ты, этих неистовых восторгов любви, я не горел в этом
пожирающем огне, который погубил тебя; но я испытал это ти¬
хое биенпе сердца, это сладостное смятение, это стыдливое за¬
мешательство, которое чувствует юноша при взгляде на свою
571
любезную. Я видел в пей спутницу моей жизни, милую подругу,
которая должна была услаждать мое бытие, видел в ней любов¬
ницу и вместе верного друга — и лишился всего. Все мечты
мои, все надежды лопнули, как дождевые пузыри.
Дмитрий. Что же, ты видел ее после этого?
Сурский. Целые три года я не был дома: наконец, окон¬
чивши курс в университете, я обнял моих родителей. Долговре¬
менное отсутствие, отчаяние, горести, шалости — все это так пе¬
ременило мой вид, что они с трудом узнали меня. От них услы¬
шал я, что чрез несколько месяцев после моего отъезда
приехал к ним в город какой-то князь, влюбился в Марию и сде¬
лал предложение ее матери. Ослепленная знатностию и жадная
к богатству старуха, забывши совесть, приказывала своей доче¬
ри принимать этого князя как жениха. Сначала Мария не хотела
и смотреть на него, но он, как сирена, сумел усыпить в ней
чувства любви и чести — и я был забыт. Как жених, ездивший
каждый день в дом Сунской, он улучил свободную минуту — и
обманутая Мария, боясь объявить о своем посрамлении матери
и надеясь поправить все браком, долгое время поневоле испол¬
няла желания подлеца. Наконец, в один день тщетно ожидала
она своего любовника — он скрылся и с тех пор не показывает¬
ся. Вскоре и Мария уехала с своею матерью из нашего города,
и о ней более ничего не слыхали.
Дмитрий. И поэтому ты ее более уже никогда не видал?
Сурский. Нет. Поживши несколько времени в роди¬
тельском доме, я хотел опять ехать в Москву, чтобы опреде¬
литься там к какой-нибудь должности. Ввечеру, накануне моего
отъезда, приходит девушка и, подавая мне письмо, сказала, что
оно от Марии, которая просила ее вручить его мне по моем
приезде. Трепещущею рукою я развернул эту бумагу и узнал из
ней, что обольстителю пособляли некоторые люди, отдавая ему
мои письма, вместо которых подлецы доставляли Марии дру¬
гие; что она предалась ему не из любви, а из желания отомстить
мне, и что при всем том никогда не преставала любить меня.
Она просила у меня прощения, умоляла не проклинать ее и не
мстить злодею: «В этом мире, — заключила, — вы не увидите
недостойную; моим присутствием я никогда не оскорблю вас,
я сама погубила мое счастие, и мне остается только оплакивать
мое безрассудство и легкомыслие!» Чрез несколько дней я очу¬
тился в Москве.
Дмитрий. Ты знаешь фамилию этого князя?
Сурский. Знаю. А что?
Дмитрий. А место его пребывания?
Сурский. Нет. Но к чему эти вопросы?
Дмитрий. И ты не намерен отыскивать этого под¬
леца?
Сурский. Для чего?,
572
Дмитрий. Чтобы отомстить ему, чтобы вымотать жи¬
лы из его тела вместе с жизнию и освободить землю от чудо¬
вища!..
Сурский. Для чего ж? Ведь я этим не возвращу поте¬
рянного счастия.
Дмитрий. Но голос чести, голос самого рассудка пове¬
левает тебе это сделать: оставивши его жить, ты дашь ему
средства продолжать свои злодейства.
Сурский. Что ни говори, а я не могу быть его судьею.
Но оставим это. Ах, боже мой, время идет, а моего Томина нет
как нет! Лишь бы он приехал, а то сию же минуту прпдет; ты
тогда, пожалуйста, уйди в светелку, о которой я давеча говорил
хозяйке. (Входит Томин.)
Томин. А, друг мой, наконец я тебя вижу! (Здоровается
с Сурским; Дмитрий уходит.)
Сурский. Ну, брат, а я устал, ждавши тебя. Где ты это
пропадал?
Томин. Да так все кое-где. А, этот-то твой проказник? Ну
уж, брат, справедлива пословица, что видно птицу по полету.
Признаюсь,— молодец!
Сурский. Не хочешь ли чаю, трубки?
Томин. О братец, до чаю ли, до трубки ли теперь; надоб¬
но делами-то поспешить. Я только что приехал, а уж успел
кое-что смастерить. Священник согласен, место назначено,
и все готово. К тому же сам случай явился к нашим услугам:
Софья Петровна именинница, и потому у Лесинской нынче бал.
Мы с тобою к ней едем. Я скажу ей одно словечко, которое
произведет на нее самое магическое действие и заставит при¬
нять тебя, как какого-нибудь царя. Ты ангажируешь Софью
Петровну на вальс, сообщаешь паш план; она соглашается;
мы все трое скрываемся; садимся на лошадей; они обвенчаны,
и дело кончепо, — а там посмотрим, что делать. (Выни¬
мает часы и смотрит на них.) Однако уже скоро три часа;
почти пора ехать. Ты покудова принарядись, а я пойду также
переодеться, и как кончу свой туалет, то пришлю за тобою че¬
ловека, и мы едем. Однако ж ты возьми туда своего челове¬
ка, а мой останется здесь действовать. (Пожимает его руку.)
Прощай. (Уходит.)
Сурский. Да, делать нечего; надобно решиться на эта
средство: оно одно только и остается. (Кричит.) Эй, Степан!
Степан! (Входит Дмитрий.)
Дмитрий (мрачно). Ну, что? Жизнь или смерть?..
Сурский. Надежда и до времени безусловное повинове¬
ние! Все улажено, как нельзя лучше. Я сейчас еду к Лесинской,
ты же ни шагу из этой комнаты, а пуще всего не являйся в ее
доме; ежели ты это сделаешь, то все пропало: ты погиб. (Дмит¬
рий в молчании пожимает его руку. Входит Степан.)
573
Степан. Чего изволите, сударь?
Сурский. Ну, брат, теперь, пожалуйста, сон-то отложи
до другого времени: пора работать. Степан! Кажется, я не могу
сомневаться в твоей расторопности, а пуще всего в молчали¬
вости?
Степан. Помилуйте, сударь, разя вы меня не знаете?
Я готов за вас голову свою положить.
Сурский. Хорошо, я верю! Вынь-ка мою фрачную пару да
пособи мне одеться.
Степан. Сейчас-с!
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
Действие в деревне Лесинской*
Конечно, я на зло назначен от рожденья,
Кляня злодействие, стремлюсь на преступленья!
Озеров8*
Местом сцены есть та же самая зала, которая была и во второй картине.
Она тщательно убрана, и в пей все показывает, что она приготовлена к
принятию гостей; в правой стороне находится гостиная; обе эти комнаты
расположены так, что будто составляют одну. Софья, небрежно и просто
одетая, сидит в глубокой горести около ломберного стола, утирая платком
слезы; Рудина старается ее утешить.
Рудина. Софья, утешься; отри свои слезы; твоя печаль
раздирает мое сердце. Ах! для чего только одна я могу пони¬
мать твои горести и сострадать им!
Софья (рыдая). Как ни велики мои несчастия, но я могу
еще плакать; не мешай свободно литься слезам моим: от них
мне становится легче.
Рудина. Но сама посуди: время и место ли плакать тебе?
Скоро будут съезжаться гости, а ты так расстроена, так бледна,
глаза твои опухли и покраснели от слез. Что подумают они,
увидя тебя в таком положении?
Софья. Какая нужда мне до толков этпх людей? Неужели
для них я должна отказаться от последнего утешения, которое
осталось мне в моих горестях?..
Рудина. Но, друг мой, вспомни требования приличия. Бо¬
га ради, я прошу тебя, скрой печаль свою и хотя по наружности
кажись веселою. К чему такое уныние? Всякая горесть должка
иметь пределы.
Софья. Всякая, но не моя. Друг мой, сообрази, если мо¬
жешь, эту многочисленность, эту разнообразность огорчений;
расплети эту запутанную сеть бедствий, в которые я вовлечена
судьбою; сочти эти раны, которыми избито мое сердце; найди
в нем хотя одпо живое место и тогда скажи мне: «Твоя горесть
575
должна пметь границы!» В цветущей юности, в поре сладостных
мечтаний, в поре лестнейших надежд, осыпанная всеми дарами
фортуны и воспитания,— я есть не что иное, как жертва, укра¬
шенная цветами для заклания. Из мирного крова, где я воспи¬
тывалась, где видела одни хорошие примеры, где вкушала пер¬
вые радости бытия,— я вступила в дом родительский, где царст¬
вуют невежество и пороки; я любила — и любовь моя сделалась
преступною, грозит мне еще новыми бедствиями; я обожала
своего отца — и лишилась его; моя мать — ты знаешь ее — и
теперь... Ах, горько, горько переносить все это слабой, безза¬
щитной девушке!.. (Утирает слезы.)
Рудина. Для чего безвременно отчаиваться?.. Неужели
эти обстоятельства не могут взять другого, лучшего оборота?
Софья (старается оправиться и беспрестанно смотрится
в зеркало). Что, все еще приметно, что я плакала?
Рудина. Немного приметно; но это все скоро пройдет.
Постарайся чем-нибудь рассеяться. Возьми, кстати, гитару, сыг¬
рай да пропой что-нибудь.
Софья. Ах, да в самом деле проиграть что-нибудь. (Бе¬
рет гитару, лежащую на фортепияно, и настроивает ее.)
Рудина. Да смотри, что-нибудь повеселее: это лучше
рассеет печаль твою.
Софья (вздыхая). Нет, теперь радостные, веселые звуки
чужды мне; одно печальное может говорить моему сердцу,
одно унылое может трогать его. (Играет и поет.)
Беден тот, кому забавы,
Игры, майские цветы,
Соловей в тени дубравы
И весенних лет мечты
Не в веселье, так, как прежде!
Кто улыбку позабыл,
Кто, сказав «прости» надежде,
Взор ко гробу устремил!
(Кладет гитару на прежнее место.) Ах, как я люблю э:гот
прекрасный романс, а особливо этот куплет: содержание его
так близко к моему положению. (Входит Лесинская.)
Лесинская. Ба, да ты, Сонюшка, еще не одета? Вот слав¬
но: скоро приедут гости, а она изволит поигрывать на гитаре да
растабарывать. С Марьею-то Николавной еще успеешь, сколь¬
ко тебе угодно, наговориться. Ну, уж только какая ты, бог с то¬
бою, чудная: еще к тому же сидишь в зале; ну, как бы кто
приехал да застал тебя в таком наряде, куда бы хорошо было!
Ступай-ка, ступай, оденься, да смотри, получше да поаккурат¬
нее, а то вот от тебя станется, что ты для гостей-то оденешься
не лучше горничной девки.
Софья. Впрочем, как вам угодно, и я все-таки разря-
жаться-то не совсем намерена,
576
Лесинская. С тобою вить не сговоришь; ты готова ма¬
тери-то наговорить тьму грубостей. (Софья выходит.) Вон уж
и гости съезжаются. (Смотрит в окно.) Кто бы это был? А! Сест¬
рица Аграфена Лукьяновна. (Рудина выходит.)
(Входят гости, являются Софья и ее братья.)
Аграфена Лукьяновна. Здравствуйте, сестрица!
С именинницею поздравляю. (Она и ее три дочери здороваются
с Лесинскою, ее сыновьями и Софьею; первых поздравляют с
именинницею, а вторую с днем ангела; те и другие благодарят.)
Лесинская. В гостиную прошу пожаловать. (Все идут
в гостиную; в залу входят два оборванные лакея и зажигают
лампы.) Прошу покорно садиться. (Все садятся.) А что же Фе¬
дор Максимыч не пожаловал к нам с вами?
Аграфена Лукьяновна. Он сейчас же приедет
с сыновьями. Что вы, Софья Петровна, так печальны?
Лесинская. Да все тужит о своем папеньке.
Аграфена Лукьяновна. Быть не может; не все же
плакать, пора и утешиться.
(Входит Федор Максимович с двумя взрослыми сыновьями;
начинаются здорования, поздравления, благодарения, после ко¬
торых все садятся по местам; Аграфена Лукьяновна занимает
место на канапе у круглого стола, Лесинская около ее, а Федор
Максимович около их на креслах; Софья и ее братья с своими
гостями уходят в залу.)
Лесинская. Как поживаете, Федор Максимович?
Федор Максимович. Слава богу, помаленьку-с.
Лесинская. Хозяйство ваше каково идет?
Федор Максимович. Да покудова хорошо. Я уж
с хлебцем-то убрался кое-как-с.
(Вдруг ввалила целая толпа гостей; раздаются поцелуи, по¬
здравления, благодарения. Лесинская сажает всех по чинам.)
Лесинская. Ну, теперь мои дорогие гости собрались,
только одного князя нет. (Являются два лакея и на огромных
подносах, под предводительством Лесинской, разносят кофе, за
который все с усердием принимаются. Барышни, схватившись за
руки, вереницами ходят по зале; около их увиваются молодые
люди. Девки и лакеи суетливо перебегают по комнатам; все это
составляет пеструю живую картину. В гостиной происходит пре-
занимательный разговор.)
Одна из госпож. Уж сынки-то ваши, Лизавета Анд-
ревна, на возрасте, молодцы молодцами; пора бы в службу.
Я думаю, вы в полк намерены определить их?
Лесинская. Да, Катерина Степановна, дети ужасно со¬
крушают меня. Для дворянина нет приличнее военной службы,
а расстаться не могу. Вы сами знаете, каково материнское-то
сердце. Жаль: чего не натерпятся там, и холоду, и голоду, да
еще не мудрено, что и головы свои положат. А делать нечего:
больше некуда определить.
19 В. Белинский, т, i
577
Другая госпожа. Ох! дети, дети! Дорого достаются
своим родителям: роди, воспитай да еще пошли, может быть,
на верную смерть.
Лесинская. Что ж делать, Лизавета Артамоновна! Петр
Стеианыч хотел определить их в Московский университет, да уж
я настояла, чтобы оставить дома.
Третья госпожа. И, помилуйте, дело ли это? На что
похоже? Прилично ли дворянину учиться в этих школах, кото¬
рые набиты разночинцами и семинаристами, и мещанамп, и от¬
пущенниками, и всяким сбродом, и всякой сволочью?
Первая госпожа. То ли дело, как держать детей при
себе-то. За глазами-то и научатся бог знает чему: пожалуй,
и бога-то забудут.
Третья госпожа. Да и чему учат-то в этих университе¬
тах? — Безбожию, разврату, да и только. Я зпала одного эдакого
ученого. Человек не старше двадцати пяти лет, а представь себе,
какой нравственности: смеялся над постами, презирал дворян¬
ством, чинами, поносил стряпчего Андреева, который схватил
крестик и за то, что прокурор об нем постарался, подарил ему
три тысячи золотом. Вот каковы эти развратные ученые!
Федор Максимович. Да к чему это ученье?- Мы
и наши отцы не учились, а всегда были с куском хлеба. Слава
богу, не хуже ученых-то жили, да еще иной ученый-то покло¬
нится нашему брату, чтобы посадил его за свой стол.
Четвертая из госпож. Да не низость ли учиться
дворянину в каком-нибудь университетишке, где какой-нибудь
профессор мещанского происхождения будет с ним обходиться
без должного уважения? Да опять, стоят ли эти пустые науки
того, чтобы дворянин ими занимался? Другое дело француз¬
ский язык: без него, как без рук.
Все. Да, да, правда, истинная правда!
Лесинская. Вот недалеко сказать, теперь хоть бы То-
мин-то: учился в университете и чему выучился? Одному злоре¬
чию. Этот человек — настоящий ехидный змей: только знает, что
поднимает всех на смех. Право, если бы он не занимал такого
места, я бы его за вороты не пустила к себе, да пригодиться
может.
Андрей и Петр (подбегая с тороплиеостию к своей
матери, кричат ей в один голос, запыхавшись). Ах, маменька!
Князь приехал, князь приехал!
Лесинская. Неужели? Ах, боже мой!.. (С поспешмостию
идет в залу и встречает князя).
Князь (подходя к ней к руке). Наконец я опять имею
счастие в собственном вашем доме свидетельствовать вам мое
почтение, мою преданность, мою готовность к вашим услугам.
Ах! я было и забыл! Честь имею поздравить с именинницею.
(Кланяется Андрею и Петру и дружески пожимает их руки, по¬
здравляя с именинницею.)
578
Лесинская (с восторгом удовлетворенного мелочного
самолюбия). Ах, князь, я не нахожу слов благодарить вас за
ваше расположение к нашему дому! Прошу покорно в гости¬
ную. (Князь, вошедши в гостиную, со всеми раскланивается, и,
при входе его, все с величайшим подобострастием отвечают на
его поклоны.) Сонюшка, вот князь! рекомендую тебе его.
Князь (пораженный красотою Софьи, с щегольскими
ухватками подходит к ней к руке). Честь имею поздравить вас,
сударыня, со днем вашего ангела; к этому я мог бы пожелать
вам всех возможных благ, ежели бы вы не имели их.
Софья (насмешливо). Прекрасный комплимент! Благода¬
рю вас за него.
Князь (с.иущенный ее словами и холодностию). Извините
меня, я виноват: прп взгляде на вас должно удивляться, а пе
говорить.
Софья. Еще лучше.
Леспнская. Князь! прошу покорно садиться, сделайте
милость. Что вы к нам так поздно изволили пожаловать?
Я устала, ждавши такого дорогого гостя.
Князь. О! слишком много чести! Я был задержан
кое-чем!
Лесинская. Ах! я и позабыла приказать подать вам кофе!
Князь. А где же Сидор Андреевич?
Лесинская. Чего, у меня его отбили, да и только; никак
не могу залучить к себе. Нет, теперь уж не буду так проста: пз
рук не выпущу.
Князь. Ах, Лизавета Андревна! вы настоящим сокрови¬
щем владеете. Что это за человек такой: уж подлинно, что
святой.
Все. Да, он, точно, имеет в себе что-то такое святое.
(Являются Томин и Сурский; Лесинская, увидя их, идет к ним
навстречу.)
Томин (подходя к ее руке). Здравствуйте, Лизавета Анд¬
реевна; с именинницею честь имею поздравить. Вот рекомендую
вам моего приятеля, Алексея Петровича Бурина; он дворяннп,
живет в Саратовской губернии и имеет шестьсот душ. (Сурский,
едва удероюивая смех свой, вежливо кланяется и подходит
к руке.)
Лесинская. Ах, очень рада. Чувствительно благодарю
вас, Николай Иванович, за доставление такого прекрасного зна¬
комства. Садиться прошу покорно. (Оглядывается.) Ах! и кре-
сел-то нет; люди все точно разбежались, п приказать некому.
(Бежит в залу, несет, запыхавшись от поспешности и усталости,
кресла и просит Сурского садиться.)
Сурский (с трудом удерживаясь от смеху). Напрасно из¬
волите трудиться; покорно вас благодарю.
Томи н. Позвольте мне представить моего друга Софье
Петровне.
19*
579
Лесинская. Она, верно, ушла с барышнями в свою ком¬
нату. (Является множество лакеев; одни из них на огромных
подносах несут варенья, конфекты, к которым барышни сыплют¬
ся со всех сторон; другие расставляют столы для карточной иг¬
ры; вдали раздаются звуки настроиваемых музыкальных инстру¬
ментов; Лесинская с колодою карт хлопочет о составлении пар¬
тии, и вскоре на трех столах садятся за карты.)
Лесинская. Вам, князь, не угодно ли в вистик?
Князь. Нет-с; покорно вас благодарю.
Лесинская (обращаясь к Сурскому и Томину). А вам-с?
Томин. Нас также увольте...
Лесинская (улыбаясь). Верно, потанцевать хочется.
(Музыканты начинают играть польский; кавалеры ангажируют
дам и начинают ходить с ними чрез гостиную во внутренние
комнаты, откуда возвращаются чрез коридор в залу, где, пере¬
менивши дам, снова начинают ходить. Игроки шумят, спорят,
разговаривают. Лакеи беспрестанно мелькают; одни из них
снимают со свеч, другие разносят десерт, чай, вина, закуски,
лимонад, аршад и проч. Наконец музыка умолкает, танцы пре¬
кращаются; некоторые из танцевавших мужчин уходят, другие
остаются в зале с барышнями, из которых некоторые отды¬
хают на стульях, обмахиваясь веерами, другие ходят попарно;
множество взад и вперед бегающих маленьких детей довершают
эту картину.)
Лесинская (садясь около Сурского). Вы живете в са¬
мом Саратове?
Сурский. Нет-с, мои поместья находятся в уезде одного
городка Саратовской губернии.
Лесинская. По крайней мере часто в нем бываете?
Сурский. Нет, я больше живу в Москве и приехал сюда
повидаться с Николаем Ивановичем.
Лесинская. Верно, ищете в Москве невест; там много
их, однако я никакому молодому человеку не посоветовала бы
жениться в Москве. Не мудрено обмануться, то ли дело в гу¬
бернии!
Князь. Вы совершенно правы, Лизавета Андревна, языком
вашим управляет сама мудрость. (Лесинская от удовольствия
вне себя; Сурский отворачивается и смеется.) Вы, конечно, со¬
гласны с их мнением?
Сурский. О, само собою разумеется: можно ли сравнить
этих ветреных, рассеянных московок с кроткими обитательница¬
ми кротких сел?
Лесинская. Истинная правда.
Князь. Какая может быть нравственность в девушке, ко¬
торая позволяет мужчине объясняться с собою в любвп и дает
ему слово выйти за него замуж! А в Москве всегда так дела¬
ется.
580
Лесинская. Ах, неужели, князь? Скажите, какой раз¬
врат! Впрочем, я думаю, что так только делают знатные и бога¬
тые женихи,— ну, а их можно в этом извинить.
Князь. Оно так, ваша правда; однако надобно в таком
случае сделать предложение родителям, а когда они дадут сло¬
во, тогда уже, я думаю, не нужно будет спрашивать согласия
у невесты: ибо всякая благовоспитанная девушка никогда
не будет противиться родителям, зная, что они не поже¬
лают зла.
Лесинская. Ах, князь, вы восхищаете меня! Вот истин¬
ная нравственность!..
Князь. Я, сударыня, русский и, следовательно, должен
любить и уважать русские обычаи.
Лесинская. Прекрасно, справедливо! Ваши слова,
князь, делают вам честь. Может после этого какая мать отказать
вам в руке своей дочери и какая девушка не польстится этою
партиею? (Софья, которая внимательно слушала весь этот раз¬
говор, уходит в залу и в задумчивости садится в углу оной; князь,
с легкостию зефира, подбегает к ней, и Лесинская смотрит на них
с улыбкою самодовольствия.)
Князь. Вы так задумчивы, так печальны, и эта унылость
так возвышает эти прелести!..
Софья (холодно). Князь, сделайте милость, оставьте эти
комплименты у себя и поберегите их для кого-нибудь другого.
Князь (принуждая себя улыбнуться). О сударыня! как вы
жестоки! Неужели вам нельзя говорить правду, не опасаясь на¬
влечь на себя вашего гнева?
Софья. Ах, князь, как вы расточительны на комплимен¬
ты! Хотя вы и большой почитатель русских обычаев, а, видно,
не знаете этой пословицы: береги денежку на черный день.
Князь. Насмешница! Ежели это вам не нравится, то я по¬
винуюсь. Софья Петровна, позвольте мне быть с вами откровен¬
ным. Я люблю одну барышню, прекрасную, как ангел, или, лучше
сказать, как вы сами, люблю ее больше жизни и...
Софья. Точно вы меня хотите сделать поверенной вашей
любви; о, слишком много чести!
Князь. Жестокая! Этот ангел, это божество, которое пле¬
нило меня с первого взгляда, — есть вы! Отвечайте: жизнь или
смерть?..
Софья. Ха! ха! ха! Какое пышное поэтическое объясне¬
ние! Послушайте, князь: какая может быть нравственность
в девушке, которая позволяет объясняться с собою в любви?
Опять, кажется, в ваших глазах согласие девушки ничего на
стоит?
Князь (смешавшись). Но... вы сами согласитесь, что ино¬
гда, хотя по наружности, необходимо нужно уважать мнения
тех людей, от которых некоторым образом зависит наше
счастие...
531
Софья. О, ваши правпла преблагородны и вместе превы-
годны! Впрочем, князь, ежели я слушала вас спокойно, то почи¬
тайте это за шутку, равно как и ваше объяснение. (Вдруг заигра¬
ли вальс, и все начинают танцевать; наконец Сурский берет Со¬
фью; пройдя с нею несколько кругов, они садятся в углу залы;
вальс скоро оканчивается, и все уходят в гостиную.)
Сурский. Сударыня, мне нужно с вами поговорпть об
одном важном для вас деле. Вы удивлены? Я друг Дмитрия
Калинина, известного вам человека, и знаю все...
Софья (бледнеет и дрожит). Ужасный человек! Что вы
хотите делать?..
Сурский. Спасти вас обоих. Для этого осталось одно
только средство, и ежели вы умеете любить истиппо, то вы долж¬
ны на оное решиться.
Софья. Но какое средство?..
Сурский. Время дорого. Ежели вы пропустите благопри¬
ятную минуту, то все пропало. Вам должно обвенчаться с ним!
Софья. Но где? и когда?
Сурский. Когда опять начнутся танцы, вы должны ти¬
хонько скрыться отсюда и вместе со мною и Томиным ехать
в церковь, где вас ожидает Дмитрий и священник. Понимаете?
Софья. Боже мой! Ах! да это ужасно! Но он гибнет,
я его люблю, итак, согласна на все. (Уходит; Сурский такоюе идет
в гостиную, где происходит прекурьезный разговор.)
Лесинская. Я была настоящею мученицею. По милости
моего муженька, формально не имела воли. Представьте себе:
он заставлял меня обедать за одним столом с лакеем, содер¬
жал этого мерзавца, как своего сына, позволял ему делать вся¬
кие вольности, говорить со мною, с сыновьями!..
Одна из госпож. Да, это ужасно. Где же теперь его
фаворит?
Лесинская. В Москве изволит поживать. Не знаю, зачем
он его послал туда. Да вот скоро вышлют оттуда. (Входит Софья
и Рудина.)
Князь. Да, ваш покойный муж был престранный человек.
Рудина (взглядывает на князя, бледнеет, трепещет и в
ужасе вскрикивает). Боже мой! Князь Мансырев!
Князь (вглядываясь в Рудину). Что это значит?.. Каким
случаем?.. Еще жива?.. (Опомнившись.) Но сударыня, вы шути¬
те, что ли?.. Почему вы превращаете меня в другую фамилию
и делаете вид, что я вам был когда-нибудь знаком?..
Рудина (в исступлении). Ах, я знаю тебя, слишком корот¬
ко знаю, ужасный человек!..
Сурский. А! Старые знакомцы! Очень рад! Но... каким
образом?.. Мария!.. Рудина!.. Это ты ли?.. Узнала ли меня?..
Рудина. Сурский, это ты! Все, как нарочно, собрались
сюда, чтобы мучить меня!.. Ах!.. (Упадает в обморок; все прихо¬
дит в смятение, игроки бросают свои карты; все обступают
582
кругом Сурского и князя и смотрят на них с удивлением; Р у дину
же между тем, по приказанию Софьи, выводят.)
Сурский (к князю). Итак, это вы тот благородный чело¬
век, который, под ложным именем, как хптрый змей, умел обо¬
льстить невинность и добродетель и лишить меня моего рая?..
Князь, я было все забыл, но ваше имя, нечаянная встреча с нею
слишком живо напомнили мне прошедшее (пожимает его руку).
Милостпвый государь! мне нужно кое о чем объясниться с вами
наедине! Вы, без сомнения, понимаете...
Леспнская. Что тут за чудеса такие происходят? Как!
В моем доме такие соблазнительные истории! Падают в обмо¬
роки, грозят кпязю! и я должна сносить это? Растолкуйте мне,
что все это значит? Разве я пе хозяйка в дому моем? (В две¬
рях залы является Дмитрий и быстрыми шагами подходит к го¬
стиной; его всклокоченные волосы, посиневшие, дрожащие губы,
его глаза, налившиеся кровью, пылающие неистовым огнем,
странные движения показывают явное помешательство ума
и какую-то ужасную решительность. Черный, измоченный плащ
небрежно покоится на его плечах. Удивленное и пораженное
его видом собрание высыпает из гостиной в залу и, не дошед-
ши к нему, с ужасом отступает назад и, ставши около него
полукругом, хранит глубокое молчание.)
Дмитрий (с дикою улыбкою и блуждающими взорами).
Здесь раздаются клики радости; сюда стеклись счастливые дети
невежества, чтобы шумными, бессмысленными удовольствиями
праздновать свои пиршества!.. Они веселы, они счастливы;
а там, в четырех скучных, скучных стенах, добыча отчаяния
тщетно ожидала прекращения своих бедствий!.. Тщетно ожидал
я своего друга, который решился спасти меня. Верно, он сде¬
лался жертвою своего великодушия, подумал я — и очутился
здесь. (В изнеможении бросохтся на стул.) Ах, как кипела моя
кровь! Ручьи дождя прохлаждали меня немного, и я, с засох¬
шими устами/ жадно ловил живительную влагу. (После краткого
молчания.) Да, я был на славном бале, я слушал прекрасную
музыку!.. Там, в лесу, где бушует ветр, где он со свистом
крутит нагие деревья, там было темно, мрачно, но отрадно
и весело. Около деревни, когда я проходил кладбищем, псы,
увидя меня, страшно завывали, а па старой колокольне стонала
сова. Ах, как весело отдавалась в ушах моих эта ночная музы¬
ка!.. Я трепетал от сладостного восторга. Во мраке, на гробо¬
вом камне, сидела какая-то тень в белом, как снег, саване
и махала мне рукою, чтобы я воротился; но я еще быстрее
пошел вперед, сопровождаемый ее глухими стенанпямп, от ко¬
торых волосы мои стали дыбом, зубы ужасно заскрежетали!
(Стремительно вскакивает; окружающая его толпа, которую он
окидывает мрачным взором, со страхом отхлынула назад.)
Глупцы! Что вы смотрите на меня с таким удивленпем? Или
я кажусь вам непонятным? Для чего умолкли эти шумные кликп
583
радости, эти громкие звуки музыки? Для чего прервалась эта
суетливость, эта стихия ничтожных душ? Неужели мое присутст¬
вие водворило здесь ужас и отчаяние?.. Или мой взор, как голо¬
ва Горгоны, превратил вас в камни?.. А! я упал среди вас, как
гром небесный. (Дико хохочет.) Ха!.. Ха!.. Ха!.. Бедные, как они
жалки!.. (Опять бросается на стул и покрывает лицо руками.)
Сурский. Боже мой! Одно к одному! Безумец: он погиб
навсегда!
Дмитрий. Зачем очутился я здесь? Неужели для того,
чтобы прервать игры детей?.. (Увидев нечаянно Софью, которая
с выражением дикой радости и ужаса быстро смотрела на него
в трепете.) А! вспомнил! я пришел требовать мое небо! Софья!
Я здесь!.. (Бросается к ней, влечет ее на средину залы и крепко
сжимает в своих объятиях.) Итак, ты опять в моих объятиях,
существо неземное, красота божественная! Кто теперь может
вырвать тебя из моих рук?.. О, прижмись крепче к этому серд¬
цу, к этому храму любви, который вмещает тебя в себе. Софья!
желала ли бы ты назвать меня твоим супругом?..
Софья (в ужасном волнении, в сильном замешательстве)*
Так, Дмитрий, я не постыжусь даже и перед этими людьми на¬
звать тебя другом моей души, хотя они и не поймут меня!.. Но
ты ужасен, как ночное привидение. Ах! я не могу без трепета
смотреть на тебя: меня палит твое дыхание... Дмитрий! для нас
на земле нет более блаженства!..
Дмитрий. Как, и в моих объятиях ты можешь говорить
о злополучии?.. И, глядя на этих бессмысленных тварей, ты мо¬
жешь называть себя несчастною, — ты, в душе которой горят
искры огня небесного?.. Софья! для чего такое унижение?., и пе¬
ред кем же?..
Софья. Так; но эти люди не дадут нам более блаженство¬
вать на земле...
Дмитрий. И ты еще не научилась презирать землю, ко¬
торой не знала? Или ты забыла, что и на сей самой земле
нашим отечеством было небо? Что могут нам сделать эти лю¬
ди? — Разлучить с землею, навсегда соединить с небом. (Обра¬
щаясь к толпе.) Существа ничтожные! Видите ли вы этого анге¬
ла? Можете ли оценить его? Рабы сует! Видите, как небрежно
рассыпаются ее прелестные локоны на груди моей; чувствуете
ли, как упоительно ее дыхание, как сладострастно ее присутст¬
вие, как огненны ее объятия? Неужели вы, видя ее, в восторге
умирающую в моих объятиях, еще можете не признать меня
полубогом? Жалкие слепцы!.. Софья! когда же поймут нас!..
(По зале раздается шепот: «Он сумасшедший, он с ума сошел;
его надобно схватить, посадить на цепь».)
Лесинская (как бы пробудясь от глубокого сна). Боже
мой! Что это такое значит? Мою дочь, при всем собрании, в мо¬
их глазах, смеет обнимать мой лакей! Разбой, явный разбой,
денной разбой!.. Андрей, Петруша! Что вы стоите, как
584
остолбенелые? Али не видите, что делают с вашей сестрою? Алп
вы не понимаете, что наш дом обесчещен, опозорен? Без языка,
что ли, вы?
Андрей. Да, черт возьми, это превосходная картина! На¬
шу сестру, при наших глазах, обнимает наш лакей, и она ему
позволяет это делать с собою!.. Все стоят, разиня рот, и, не
говоря ни слова, любуются этим зрелищем! Эй, люди! сюда!
Несите веревки, кандалы, цепи! Эй, скорее! (Сбегается толпа
слуг; Дмитрий сажает на стул полумертвую Софью, гордо
и презрительно смотрит на слуг, которые не решаются напасть
на него.) Что же вы, болваны, али ослепли? Схватить его...
Дмитрий. Как! Что такое? У меня хотят отнять то, что
для меня дороже жизни, чести, бессмертия? Безумцы! Неужели
вы думаете, что этот прелестный цветок взрощен для вас?
Неужели вы думаете, что хотя один из вас достоин владеть
им?.. Ха! ха! ха! Глупцы! Я, только один я могу наслаждаться
его ароматическим запахом — он. обовьется около меня, как
гибкая, нежная павилика около величавого кедра. И самые гро¬
мы не отторгнут ее от меня. (Слуги стоят в нерешимости, как
бы удерживаемые сверхъестественною силою.)
Андрей (от ярости топая ногами). Скоты! И вы боитесь
подойти к такому же рабу, как и вы сами!..
Дмитрий (задыхаясь и трепеща от сильного бешенства).
Раб, раб... и это слово опять раздается в моих ушах?.. Гнусное
животное! и ты осмелился произнести мне это? О, ты дорого
заплатишь мне за него!.. Тебя не спасет от моего мщения ни
твое дворянство, ни твои крестьяне, ни даже самое твое ничто¬
жество! Это слово давно уже воспалило в душе моей жестокую
жажду: твоею клокочущею кровью я утолю ее!.. И это презрен¬
ное животное назвало меня рабом, и оно еще живо, еще ды¬
шит! (Бросается к Андрею и, схвативши его за грудь, с неистов¬
ством треплет, скрежеща зубами.) Несчастный, знаешь ли ты,
что в сию самую минуту обращу тебя в прах, разорву твое серд¬
це на миллионы частей, вытрясу из него твою низкую душонку!..
Знаешь ли ты, что за эти слова эти торжественные лампы пре¬
вращу в погребальные факелы!.. Или повтори мне их, или у ног
моих проси прощения... Я знаю, ты для спасения своей жизни
в состоянии решиться на это. А не то...
Софья (бросаясь между ими). Дмитрий! И ты хочешь
убить моего брата?.. Злодей!..
Дмитрий (с силою отталкивая от себя Андрея). Софья!
и ты можешь вступаться за этого подлеца, который в одну се¬
кунду вонзил в мое сердце тысячи кинжалов?.. И ты можешь
обвинять меня, ты, которая клялась мне иметь одну душу, одно
сердце, одни желания, одни мысли?.. Женщина! ежелп я в
ярости, то и ты неистовствуй!..
Андрей. Долго ли это будет продолжаться? (Бросается
к нему и схватывает его за грудь.) Стой, раб!..
585
Дмитрий (громовым, задыхающимся от злобы голосом).
Раб! опять раб!.. (С силою отталкивает его от себя, выхватывает
из кармана пистолет, взводит курок; выстрел раздается,
и бездыханный Андрей с простреленною грудью падает в дверях
гостиной.) Теперь называй меня рабом! повелевай мною, если
можешь... (Софья упадает в обморок; женщины без памяти бе¬
гут по зале, испуская вопли; мужчины приказывают подать эки¬
пажи, и вскоре большая часть присутствовавших исчезает.
Дмитрий подходит к убитому и безмолвно, подобно привиде¬
нию, стоит пред ним, держа в руке пистолет.)
Лесинская (упавши на колена пред трупом). Мой сын!..
Ах!.. Он застрелен! Андрюша! милый Андрюша! Встань! Боже
мой! Разбой... Злодейство! Велите объявить! пошлите в город...
Ах, в глазах темнеет! Я умираю без покаяния!.. (Упадает без
чувств.)
Дмитрий (ужасным громовым голосов). Убийца!.. Убий¬
ца!.. Горе тебе, горе! О, что ты сделал?.. Взгляните сюда — и
удивляйтесь делам моим! Вот лежит юноша, убитый мною за
одно слово; возле его полумертвая, безотрадная мать, а там
его сестра, моя любовница... ха! ха! ха! Торжествуйте, адские
духи: я приготовил для вас превеселое пиршество! (По некото¬
ром размышлении.) Но я сделал должное. Этот безрассудный
юноша был достоин большего наказания; он осмелился назвать
меня своим рабом! Рабом! И я за это слово сделал с ним не
больше, как только убил его?.. Убил?.. Следовательно, я убий¬
ца!.. Убийца! О, как ужасно это слово! Оно потрясает мою ду¬
шу. Как! неужели я за одно слово лишил жизни существо, подоб¬
ное мне?.. Какое имел я на это право?.. Мщение! мщение!
Мысль о тебе так сладостна, так отрадна, а следствия так ги¬
бельны, так ужасны! Безумец! я хотел этим горьким, ядовитым
питием утолить мучительную жажду мщения, и она преврати¬
лась в огненный тартар, который в миллион раз ужаснее терза¬
ет меня!.. (С ужасом глядит в двери залы.) Но кто приближает¬
ся ко мне?.. Ба, это та самая тень, которая давеча на гробовом
камне воспрещала моему гибельному ходу! Это тень моего
благодетеля: мое злодейство вызвало его из мрачной могилы...
Смотрите, с какою ужасною улыбкою он благодарит меня за мое
дело! О! прочь от меня, привидение с седыми локонами, не
терзай своим присутствием несчастного!.. Смотрите: целая тол¬
па фурий сопровождает обитателя могилы. Каким грозным,
зловещим блеском он озаряет картину убийства! Как ужасно по¬
трясают они своими факелами! Боже! они стремятся па меня,
они гонятся за мною; они хотят растерзать меня своими бичами,
разорвать своими железными когтями. (В исступлении бегает по
зале.) О! защитите меня от них! Сурский, куда ты скрылся?
Спаси своего друга! (В изнеможении бросается в кресла и за¬
крывает руками лицо; по некотором молчании говорит.) Где
они? где эти адс::по посетители? Они скрылись; они не могли
586
спосить моего присутствия... Слава, мне слава, сам ад ужасается
меня! (Тихонько подходит к убитому.) Тс... тише... он спит!.. По¬
щупайте, как сильно бьется его сердце! (Щупает и с ужасным
криком отскакивает от трупа, смотря с содроганием на свои
руки.) Кровь!., кровь!.. Мои руки обагрены кровию! Ах! как го¬
ряча она! как жжет их!.. (Подходит к Софье и дергает ее ш
руку.) Пробудись, несчастная! (Софья открывает глаза и с ужа¬
сом смотрит на него.) Софья! пора! Все готово! Видишь лп:
двери храма отворены, седой священник стоит у налоя. Твоя
отец и твой брат будут свидетелями нашего брака! их товари¬
щи, жители могил, певчими! Иди! Окровавленною рукою вовле¬
ку тебя к алтарю брачному.
Софья. Убийца, оставь меня! Ты в крови моего брата! ты
ужасен! Ах! оставь меня! (Опять повергается в бесчувствие.)
Дмитрий. «Убийца, оставь меня!» — сказала она мне.
Так меня ужасаются и духи злые, и ангелы небесные. (Осматри¬
вается кругом.) Здесь нет никого, все исчезли; я один. Что оста¬
ется мне в моем положении? — Бежать?.. Куда?.. В леса, в деб¬
ри, где воют голодные звери, где свистят бурные ветры? Но
разве там не найдут меня полночные посетители?.. Итак, вот
предел моего поприща, вот конец моих надежд! Врата неба
для меня закрыты: их стережет этот юноша! Я добыча ада!
Судьба! торжествуй; ты сыграла со мною дьявольскую шутку!
Торжествуйте и вы, обитатели мрачного тартара; улыбайтесь
мне, как своей жертве!.. Вот жизнь человека!.. Вот удел его!..
Вот для чего он создан... (Бросает пистолет.) Убийственное ору¬
жие! Ты пусто, ты не можешь прекратить моих страданий. (Под~
ходит к Софье.) Вот та, которая привязывала меня к жизни
и соединила с небом!.. Могу (ли) обнять ее руками, обагренны¬
ми кровию ее брата?.. О, да будет проклят и час моего зачатия,
и час моего рождения! Да будет проклят и тот, кто дал мне эту
бедственную жизнь! Духи адские! возьмите свою добычу, схва¬
тите свою жертву, влеките ее в свои мрачные вертепы, где оби¬
тает горесть, отчаяние и мучения вечные! (Упадает без чувств)ч
КАРТИНА ПЯТАЯ
Действие в деревне Лесинской,
Что жизнь, когда в ней нет очарованья?.,
Блаженство знать, к нему лететь душой,
Но пропасть зреть меж им и меж собой,
Желать всяк час и трепетать желанья!.,
Жуковский 9*
Место сцены есть то же самое, которое было в предпоследней картине.
Иван и Лиза
Иван. Здравствуй, Лиза! Что новенького? Ах, все старое!
Вот, родимая: кто может угадать, что вперед будет? Мне сдает¬
ся, что кто ни взглянет на меня, хилого старика, всякий молвит
про себя: «Уж пора бы старым костям-то и на место! что зря
небо коптить!» Ан вот вышло не (по)-ихнему: я и старых-то
и младых-то пережил; недавно молился за упокой души Петра
Степаныча, и всего-то не с лишком как месяца через три
довелось нести гроб его сынка, молодца всего-то с небольшим
в двадцать лет. Не знаю, Лиза, как по тебе, а по мне так жаль
Андрея Петровича! Пускай он к нашему-то брату, холопу, куда
был неприветлив, а все вить и в нем душа-то была христиан¬
ская; вить и он молился одному с нами богу. Господи! отпусти
грехи его!..
Лиза. Да, дедушка, умереть страшно, а коли уж нельзя
миновать такой беды, так все легче умереть по-христиански,
а вить Андрей-то Петрович скончался без покаяния, как какой-
нибудь басурман, от пули. И откуда только взялся Дмитрий
Егорович? И за что это он застрелил его? Ну, дедушка, вот
страсть-то была: как он выпалил, я так и присела. Ты ведь
видел?
Иван. Как же, как же, видел на беду мою. Чего, Лиза, как
с Марьей Миколавной попритчилось, я вить был в зале. Глядь,
588
вдруг откуда ни возьмись Дмитрий Егорыч, страшный, словно
оборотень какой. Я инда насилу мог распознать его. Идет, как
пьяный; с шинели течет дождь ручьями, волоса замочены,
знать, и шляпу-то забыл, и пошел такую околесную нести, что не
только я не понял ни словечка, да и господа-то рты разинули.
Как он схватил Софью-то Петровну, я так и обмер; от страха
душа чуть не вылетела.
Лиза. Да уж и в самом-то деле, он больно смел не под
стать; на что похоже: вздумал обнимать при всех барышню (с
жеманною гордостию подпершись руками); да за это и наша сест¬
ра не больно взлюбит; небось как раз даст отказ, как шест.
Иван. Да уж об смелости что и толковать: стало быть,
смел, когда не токмо что стал браниться с Андреем Петрови¬
чем, да еще сцапал его за грудь и почал трясти; то-то моло¬
дость-то! И за что, подумаешь, больно рассердился? Эка беда,
что назвал его рабом, так за это и надобно губить душу христи¬
анскую? Я бы на его месте за это и словечка не молвил. Нет,
Лиза, знать, лукавый подтолкнул его; вить он на это дело-то
куда хитер; небось хоть кого в грех введет.
Лиза. Нет, дедушка, все не то: видно, он не в шутку с ума
сошел!
Иван. Жаль его, Лиза, крепко жаль. Он такой добрый,
приветливый. Бывало, батюшка, все терпит. Его учнут ругать,
а он уйдет в свой уголок да и горюет в нем потихоньку. Коль
невзначай взойдешь, так вскочит со стула, утрет слезы да еще,
как будто ни в чем не бывал, станет смеяться; наш же брат
досадит ему, а он за это, при нужде, за нашего же брата посто¬
ит перед барином да от беды отведет. Теперь, мой родимый,
сгубил свою душеньку. Чай, горючими слезами обливается
в тюрьме.
Лиза. Знать, уж ему так на роду написано?
Иван. Чему быть, тому не миновать, знать, так богу угод¬
но. Не знаю, как бы урваться в город да забежать к нему
в тюрьму: отдать письмо бариново. Что? барышня сокрушается,
чай, да и только?
Лиза. С ней и бог знает, что делается: она словно с ума
сошла. Глаза такие красные, а ни одной слезинки не выронит,
часто хохочет так страшно, что ужасть слушать, так п подирает
по коже. То зачнет петь, то говорить сама с собою или в глухую
полночь вскочит с постели и зачнет спорить, как будто с Дмит¬
рием Егоровичем или с Андреем Петровичем. Беда да и только,
вить я в ее комнате сплю.
Иван. Барыня что-то поутихла: знать, почуяла божье на¬
казание.
Лиза. Ты видел, что ли, как она вопила, как выносили
сына-то? Насилу, насилу могли ее оттащить от могилы. Вот уж
две недели прошло с тех пор, а она все плачет да со¬
крушается.
589
Те же и Лесинская
Лесинская. Ну, так! Всегда вместе: вишь, какие нераз¬
лучные! Господа почти помирают с печали, а им и горя нет.
Иван. И, матушка Лисафета Андревна, не берите греха на
душу, не клепите на нас зря. Видит бог, сейчас плакали о вашей
беде, словно об своей.
Лесинская. Уж как бы не так! Можно вам поверить:
станете вы жалеть об господских несчастиях; чать, до смерти
радехоньки. Проводи меня к вечерне, а ты, Лизка, поди к Со¬
нюшке: она, бедная, по брате-то с ума сходит, да и только.
И что это с ней сделалось, что она позволила этому подлецу,
разбойнику обнимать себя да еще называла его своим другом?
Али она помешалась, али не разглядела его и подумала, что это
князь? И то (хорошо), что господь Марью-то Николавну принес,
а то бы беда. Вить только она одна умеет обращаться с Со-
нюшкою-то, а Сонюшка-то только одну ее и слушает. (Уходит
с Иваном.)
Лиза. Знать, уж у господ обычай такой: хоть околей, ни
в чем не поверят своим слугам, как будто в нас не такая душа,
как и в их благородиях. Чай, у бога-то все равны. Здесь им
хорошо повелевать нами, а на том-то свете небось не такую
затянут песню. Кто-то идет? Ба, да это барышня с Марьей Мико-
лавпой. (Уходит.)
Софья и Рудина
Рудина. Ну, вот хоть здесь посидим. Бога ради, пере¬
стань тосковать.
Софья. Кто же тебе сказал, что я тоскую? Напротив,
я очень весела: разве ты не знаешь, что я ожидаю к себе доро¬
гого гостя? Ах! о чем, бишь, я хотела говорить с тобою? Да!
вспомнила! Ты не досказала мне своей истории. А где же Дмит¬
рий? Что его нет здесь по сию пору? Или он явился ко мне на
одно мгновение, чтобы убить моего брата и вместе с ним
и меня? (С рассеянностию смотрит в окно.)
Рудина (в сторону). Что мне с ней делать? Он у ней из ума
не выходит!..
Софья. Послушай: ты любила?
Рудина. К чему этот вопрос? Ты, кажется, слышала от
меня изъяснение странного происшествия? которое случилось
на роковом бале.
Софья. И ты думаешь, что ты любила истинно?
Рудина. Да, к моему несчастию.
Софья. Нет, этому никак нельзя поверить... Любовь, зга
божественная страсть, которая бывает уделом только существ
возвышенных, которая доказывает их небесное происхождение,
может ли быть совместна с изменою? Нет: ты не знала этих сла¬
достных минут, в которые человеку все предметы представляются
590
в другом виде, в которые грудь его волнуется темным,
отрадным чувством неизъяснимого блаженства; этих минут,
в которые человек смотрит на небо, как на что-то знакомое,
и душа его рвется к нему! Друг мой, в эту эпоху жизни челове¬
ка в его груди горит пламя, которое он желает сообщить всему
существующему, и в этом пламени душа его очищается от всего
земного, суетного, как золото в горниле; в эту эпоху он пла¬
меннее, живее любит природу, потому что видит в ней отраже¬
ние своих чувств, видит символ вечной любви. (Плачет.)
Рудина (в сторону). Она плачет? Знак добрый! Видно,
стала приходить в рассудок; этим надобно воспользоваться.
(Вслух.) Друг мой! Человек есть странное создание: чтобы су¬
дить о каком-нибудь важном его поступке, должно сперва
узнать все, даже малейшие, причины, заставившие его решиться
на оный, все подробности, сопровождавшие его. Вспомни, что
я была молода, неопытна, легкомысленна; вспомни, какую
я имела мать; вспомни, что я была обманута мнимою изме¬
ною,— и тогда суди!
Софья. Нет, не так люблю я! Если б он и изменил мне, то
и страдать от него было бы для меня сладостно. Нет, моя любовь
совсем не такова! Я жертвовала своему любезному всем, чем
только могла жертвовать. Для него забыла я, что у меня есть
отец, мать, братья, что я от них завишу, что моя любовь может
убить их; в его объятиях я забыла даже самый стыд. И теперь
готова упасть к нему на грудь, перелить в уста его свою душу
и прижать к тоскующему сердцу ту руку, на которой дымится
кровь моего брата! Да, я смыла бы с нее эти кровавые пятна
своими слезами. (Дико оглядывается.) Но что же он нейдет ко
мне?.. Где он скрывается? Друг мой, не мучь меня, бога ради;
скажи мне: где он? Какая участь его ожидает? Не правда ли:
ведь его казнили? Для чего ж, жестокие, не соединили меня
с ним? Разве они не знают, что я не могу без него жить? (Слы¬
шен звон колоколов. Софья схватывает за руку Рудину.) Друг
мой, слышишь ли? Звонят: его хотят отпевать. Да нет: он пре¬
ступник, его нельзя отпевать, его просто зарыли в землю. Пой-,
дем скорее!
Рудина. Куда?
Софья. Искать его могилу: я хочу умереть на ней. Воз¬
дух, ее окружающий, очарователен, сладостен; я думаю, вся
окрестность дышит чем-то святым.
Рудина (в сторону). Ну, опять понесла! Когда это кончит¬
ся! (Вслух.) Послушай, Софья, кто же сказал тебе, что он умер?
Софья. А где же он?
Рудина. Он скрылся с своими друзьями, и его не могут
пайти.
Софья. А что давеча за обедом говорили моя мать
и брат! Нет, ты меня не обманешь; я все знаю: он сидит в тюрь¬
ме; он окружен толпою воров, убийц! ха! ха! ха! Дмитрий
591
в тюрьме. Что, обманула меня? Нет, я все знаю — и нынче непре¬
менно пойду к нему; ему со мною будет весело; мы обнимем
друг друга, вздохнем сладостно — и мгновенно оставим эту
бедную землю.
Рудина (в сторону). Час от часу лучше! Как бы мне об¬
мануть ее? (Вслух.) Не верь им, Софья: они обманывают тебя,
а не я. Ты знаешь, что они не любят Дмитрия и потому утешают
себя мыслию, что он сидит в тюрьме.
Софья. Так он скрылся. (Подумав.) Опять поймала!
Неужели Дмитрий решится убежать от своей Софьи, чтобы
спасти свою жизнь? Ха! ха! ха! Нет, голубушка! я знаю его! Нет,
меня не скоро обманешь. Вишь, какая услужливая!
Рудина. Он, может быть, и не скрылся, да его увезли
в то время, когда он был без чувств.
Софья. Кто же увез его?
Рудина. Его друзья.
Софья. Да это тот, что советовал мне на бале тайно
обвенчаться с Дмитрием и предлагал мне свои услуги в рас¬
суждении этого дела? Он, кажется, человек благородный?
Рудина (с удивлением). Ба, да я этого еще не знала! Кто
ж бы это был? Уж не Сурский ли?
Софья (с досадой). Да тот самый, которого привез к нам
Томин. Эх! какая недогадливая! Ну, да тот, при взгляде на кото¬
рого ты упала в обморок.
Рудина (тихо). Понимаю.
Софья. Верно, он любил тебя?
Рудина. Да, он самый. Подлинно, душа благородная,
и теперь для меня потерян навсегда! Этот князь... твой жених...
низкий человек! он и моим женихом назывался...
Софья. Как! Так меня хотели выдать за этого-то всесвет¬
ного жениха! (Смеется.) Ну подлинно, что завидная партия
(Подумав.) Ах! как мне грустно! Дмитрий что-то долго нейдет.
Верно, он утомился дальностию дороги. Но, несмотря на это, он
все-таки скоро придет. Ждать скучно, а делать нечего. Послу¬
шай: расскажи мне что-нпбудь.
Рудина. Что же рассказать тебе?
Софья. Да что-нибудь. Ну хоть, например, что с тобой
случилось, как ты уехала с матерью из своего города?
Рудина (в сторону). В самом деле, не успею ли хоть этим
развлечь ее? (Вслух.) Мы уехали в ваш губернский город, где
имели родственников. Мать моя вскоре умерла. Ты знаешь, что
я была воспитана в Смольном монастыре, и потому решилась
употребить себе в пользу свое воспитание,— решилась заняться
Образованием девиц. Вскоре услышала я, что твоя бабка ищет
для тебя русской мамзели, и потому...
Софья (перерывая). Да, мой друг, моя милая бабушка,
несмотря на то, что слишком гордилась своим дворянством,
была очень добра и благородна и, несмотря на то, что была
592
богатая русская дворянка, терпеть не могла иноземных воспи¬
тательниц. Ее нет уж на земле, но я скоро увижусь с нею. Не
правда ли? (Утирает слезы.)
Рудина (стараясь обратить внимание Софьи на слова
свои). Тебе тогда было десять лет, и я решилась образовать
тебя по-своему, так, чтобы ты могла быть моим другом, су¬
ществом, которое бы в этом мире одно любило меня искренно.
Причиною моей погибели был недостаток той душевной твер¬
дости, той непоколебимой свободы, которые делают человека
самостоятельным, независимым от влияния всего, что ниже его,
ниже мира, в котором он живет душою. И потому, чтобы изба¬
вить тебя от участи, которая постигла меня, я старалась вос¬
пламенить в душе твоей любовь, ко всему высокому, идеаль-
пому и возбудить в ней ненависть и гордое презрение ко
всему обыкновенному, суетному. Но, Софья, мне кажется, что
я ошиблась в моих расчетах — и сделала ужасную ошибку.
Ты имеешь в своем характере слишком много неженского, — это
нехорошо.
Софья. Что ты говоришь! Нет, неправда! Ты была моим
ангелом-хранителем; ты сделала меня способною любить; ты за¬
ронила в мою душу искры небесного огня... Не правда ли?..
Рудина. Нет, я не достигла моей цели; я хотела предо¬
хранить тебя моим воспитанием от обольщения и вместо того,
кажется, более оному способствовала им...
Софья (смотря в окно). Кто-то приехал! Боже мой! Уж
не Дмитрий ли? Ах, как я обрадовалась и в это же самое вре¬
мя как испугалась!.. Как сильно трепещет мое сердце! Мне ка¬
жется, что оно хочет вырваться из груди и лететь к нему!..
Моя милая! Пойдем поскорее! Встретим давно жданного
гостя!..
Рудина (останавливает ее). Постой! может быть, это и не
он. (Входит князь.)
Князь (обращаясь к Софье). Здравствуйте, Софья Пет¬
ровна! Позвольте спросить вас: могу ли я видеться с вашею
маменькою?
Софья (обращаясь к Рудиной). Он опять здесь! Зачем?
Уж не опять ли хочет сватать меня? Ха! ха! ха!
Рудина. Лизаветы Андревны нет дома: она у вечерни.
(Уходит.)
Софья. Куда ты уходишь, друг мой? Зачем оставляешь
меня с этим низким человеком?
Князь (с злобною ирониею). С низким человеком? Право?
Я не сомневаюсь, что в глазах ваших тот сумасшедший лакей,
с которым вы так благосклонно обращались и который, для
доказательства своей к вам любви, убил вашего брата, гораздо
выше меня.
Софья. Про кого это говорит он? А! понимаю: про Дмит¬
рия. Да этот лакей выше и благороднее всех князей и графов —
593
и эти низкие, презренные князья смеются над ним? Ха! ха! ха!
Эй, Лпза! Лиза! (Входит Лиза.)
Лиза. Чего изволите, сударыня?
Софья. Князь! Вот ваша невеста. (Уходит.)
Князь. Скоро ли приедет твоя барыня?
Лиза. Я думаю, что уж скоро-с: вечерня на отходе-с. (Вхо¬
дит Лесинская.)
Лесинская. Боже мой! Князь! Ваше сиятельство! Каки¬
ми судьбами?
Князь. Я прпехал к вам извиниться пред вами в бес¬
покойстве, которого был невольною причиною на вашем
бале!
Лесинская. Да, вы тогда с Марьей Николавной что-то
поспорили да с этим москвичом, которого к нам привез Томин!
Поверьте, князь, что это дело я считаю за пустяки и нпкогда не
променяю вас на всех в свете москвичей и мамзелей.
Князь. Для меня очень лестно такое * расположение
в мою пользу с вашей стороны — и я не нахожу слов, чтобы
изъявить вам за это мою благодарность.
Лесинская. Но скажите мне, ради бога, князь, какие
были у вас сношения с мамзелью?
Князь. Видите ли, в чем дело. Назад тому около шести
лет я ездил по делам в один городок довольно отдаленной
губернии. Там увидел я эту мамзель. Она, объявлю вам за тайну,
была ко многим молодым людям слишком благосклонна и ми¬
лостива; в то время я был моложе и, следовательно, и ветре¬
нее, так и не удивительно, что я завел с ней некоторого рода
приятное знакомство. Теперь понимаете?..
Лесинская. Да в этом, разумеется, можно извинить по
молодости лет всякого мужчину. Но она это дело растолковала
мне по-своему, совсем не так. Она говорит, что будто вы за нее
сватались, ее мать дала вам слово; вы долго ездили к ним
в дом как жених и наконец скрылись от них. Неужели это
правда?
Князь. Присягнуть готов, что это самая наглая ложь.
Ежели вы не верите мне, Лизавета Андревпа, то прикажите об¬
раз снять... я готов...
Лесинская. И, князь, помилуйте! Неужели вы думаете,
что я скорее поверю какой-нибудь потаскушке, нежели вам?
Жаль только, что у такой твари училась дочь моя. Да, правда,
у нее учителей-то была бездна, и счету нет. Досадно, что эта
мамзель, несмотря на прежнее свое развратное поведение,
еще изволит знаться с дворянами, да еще вздумала налгать мне
на князя. Завтра же с двора долой негодницу!
Князь. Оставимте это и поговорим о другом деле, для
которого я, признаться, больше и приехал к вам. На вашем
несчастном бале я был свидетелем ужаснейшего и вместе
странного происшествия...
594
Лесинская. Да, батюшка, вот каково у пас правитель¬
ство: разбойники днем режут людей... Мой бедный Андрюша
(крестится)... Дай ему, господи, царство небесное!.. (Плачет.)
Князь. Хотя меня и в большое сомнение прпвел посту¬
пок Софьи Петровны, которая... вы сами догадаетесь... однако,
несмотря на то, мои чувства в отношении к вашей дочери нима¬
ло не переменились, и я, приписывая ее поступок неопытности
и ветрености и думая, что ее страсть исчезнет скоро,— приехал
к вам настоятельно просить ее руки.
Лесинская. Ах, князь! Благодарю вас за ваше лестное
предложение! Вы знаете, что я всегда интересовалась им и с
своей стороны душевно рада; но я не знаю, что делается с Со¬
нюшкою; она с ума сходит, да и только: и слышать об вас не
хочет!
Князь. Вы можете употребить все влияние, какое только
может иметь мать на свою дочь.
Лесинская. Да об этом уж, князь, не беспокойтесь; уж
во что бы то ни стало, а вы женитесь на Сонюшке.
Князь. Мое счастие’ неописанно. Итак, я расстаюсь с вами
в лестной надежде быть принятым в ваше благословенное се¬
мейство и заменить собою потерянного вами сына. Теперь по¬
звольте мне проститься с вами.
Лесинская. Прощайте, князь! (Прощаются.) Я прово¬
жу вас.
Князь. Ах, бога ради, не беспокойтесь: вы можете про¬
студиться.
Лесинская. Ничего, ничего: теперь погода теплая. (Ухо¬
дят; входят Софья и Рудина.)
Софья. Уехал! Где же маменька?
Рудина (улыбаясь). Ах! да она никак вышла провожать
его на крыльцо? Так и есть! Это их голоса. Все еще наговорить-
ся-то не могут. Вот что мило!..
Софья. И ты могла променять Сурского па этого урода?
Рудина. Опять повторяю тебе, Софья, не обвиняй меня.
Между многими причинами было и желание исполнить
неотступные просьбы матери, жадной богатства и знатности.
Я решилась пожертвовать ее счастию своим — и погубила се¬
бя и ее.
Софья (смотря в окно). Посмотри-ка, посмотри: лошади
уж в ворота выехали, а они все еще раскланиваются. Вот друж¬
ба-то!
Рудина. Наконец идет!
Те же и Лесинская
Лесинская (к Софье). Ну, Софья Петровна, воля ваша,
как вам угодно, а извольте готовиться идти замуж за князя.
Софья. В самом деле? Не шутя?
Лесинская. Да, в самом деле, не шутя. Что ж тут стран¬
595
ного! Князь в тебя влюблен без памяти, несмотря, что ты на
бале так прекрасно обошлась с разбойником, с лакеем, и неот¬
ступно просит твоей руки...
Софья. Что ж, от нечего делать и это дело.
Лесинская. Да нет, любезная дочка, ваши поступки
и ваше упрямство мне уж больно надоели. И я для того прошу
вас покорно слушаться матери. Я знаю тебя: ты потому только
не любишь князя, чтобы этим сделать неприятность матери. Что¬
бы огорчать меня, ты всегда насмехаешься над Сидором Анд¬
реевичем и не уважаешь этого святого человека. Нет, уж терпе¬
ния моего не стало; извольте делать по-моему, а не по-своему.
(Смотрит на стенные часы.) Скоро уж шесть часов. Мне надоб¬
но съездить на часок к сестрице Аграфене Лукьяновне, посо¬
ветоваться с нею кое о чем да взять от нее Сидора Андреича,
а то, пожалуй, она и рада, что завладела им. Да, Марья Нико-
лавна, я и позабыла кое-что сказать вам...
Рудина. А что такое?
Лесинская. А вот видите ли что: я достоверно узнала,
кто вы таковы и какого разбора. Моя дочь училась у вас и вы¬
училась не повиноваться своей матери и теперь вас за это очень
любит; но я думаю, что такие знакомства и дружества предосу¬
дительны для благородной девушки. И для того прошу вас зав¬
тра же оставить мой дом.
Рудина (с презрением). Нет, завтрашнего дня долго до¬
жидаться: нельзя ли сию же минуту?..
Софья. Как, маменька, и вы могли поверить этому низ¬
кому человеку?..
Лесинская (топая от злости ногами). Молчать, судары¬
ня, молчать!.. Богатые князья не могут быть низкими людьми!..
(Входит лакей.)
Лакей. Сударыня, лошади готовы.
Лесинская. Сейчас выйду. Пошел, вели подавать с зад¬
него крыльца. (Уходит.)
Рудина. Да, он с ней изъяснился по-своему.
Софья. Кто он?
Рудина. Да его сиятельство.
Софья. Да, этот человек настоящий дьявол. (Смотрит
в окно.) Уехала ли она? Уехала. И зачем это? И для каких сове¬
щаний? Послушай, моя милая, не прекрасное ли приказание по¬
лучила я от маменьки? Выйти за князя Кизяева! О, это прелест¬
но! Быть княгинею! Это бесподобно! Ха! ха! ха!
Рудина. Да и я получила приказание едва ли не лучше
твоего. Завтра же должна я уехать отсюда, выгнанная
с бесчестием, как преступница. Да, признаться, это премило. Но
нет, я сейчас же, до ее возвращения, постараюсь избавить ее от
моего присутствия или, лучше сказать, себя от ее. С тобою, друг
мой, жаль расстаться, тем более что ты находишься теперь
в таких ужасных обстоятельствах.
596
Софья. Нет, моя милая, этого не будет. Я не буду женою
князя, а ты не уедешь нынче от нас. Уверяю тебя. Но, боже
мой! Какой ужасный стук! Кто-то бежит сюда опрометью. Ах!
это Дмитрий...
Рудина. Как, Дмитрий? Я уйду. Ах! как бы он опять чего-
нибудь не наделал... (Уходит.)
Софья. Да, он, точно он!
Голос из-за двери. Трепещите! это я! это я!.. (Вдруг
сбегает Дмитрий в том же самом виде и положении, как и
в четвертой картине. На левой руке его висит разорванная
цепь. При взгляде на Софью он отступает назад и, не говоря ни
слова, гремит цепью, устремя на нее мертвые и неподвижные
взоры.)
Софья. Дмитрий! Где ты был столь долгое время? Я об
тебе стосковалась! Откуда пришел ты?
Дмитрий (мрачно). Из тюрьмы!
Софья. Как? ты сидел в тюрьме, вместе с ворами, убий¬
цами?,. и я... и я не пришла разделить с тобою это заключение...
Ты был посажен в тюрьму!..
Дмитрий. Приличное место и прекрасное общество для
убийцы...
Софья. Но, Дмитрий, ты опять явился ко мне так ужа¬
сен...
Дмитрий. Я потому кажусь тебе ужасным, что на моем
челе ты читаешь страшную повесть убийства.— Ах!., оно... это
чело приводит в трепет всякого, кто ни взглянет на него.
Софья. Но что ты стоишь там, бледный и недвижный, как
мертвец? Для чего не подойдешь к своей Софье? Дмитрий! На
земле для .нас нет более счастия, говорила я тебе в один роко¬
вой вечер,— ты помнишь его; на земле для нас нет более бла¬
женства! — говорю я тебе теперь. (Бросается к нему в объятия.)
О! прижми меня крепче к своему сердцу, напечатлей на устах
моих огненный поцелуй — пусть в этом поцелуе сольются души
наши и вместе с ним вознесутся на небо!..
Дмитрий (высвободившись из ее объятий). Нет, ангел
небесный! Убийца Дмитрий не осквернит тебя поцелуем, на его
устах еще и теперь видна запекшаяся кровь! Нет: не для того
сокрушил я свои оковы, не для того обманул бдительность
стражи и пришел сюда. Позорная казнь меня ожидает, но это
железо (показывает ей кинжал) спасет меня от нее и прекратит
мои мучения. Но прежде мне хотелось взглянуть на тебя; хоте¬
лось ободрить себя божественным сиянием твоих черных очей.
Софья! Ты мною любима — и любовь моя превратилась для тебя
в источник бедствий,— я убил твоего брата, и его дымящаяся
кровь течет между нами рекою огненною. Софья! Прости меня!
Скажи, что ты меня не проклинаешь: улыбнись мне в последний
раз — и я умру спокойно.
597
Софья. Дмитрий! Ты меня жестоко обижаешь: я не ожи¬
дала от тебя этого. Как! неужели ты думаешь, что моя любовь
есть обычное, суетное чувство? Неужели ты думаешь, что на
земле может что-нибудь разделить нас? Ты для меня равно мил
и в золоте и в рубище. Дмитрий был невинен — и я его любила;
Дмитрий омыл руки свои в крови моего брата —и я люблю его
еще более, — но не убийство, а несчастие делает его в глазах
моих милее.— Дмитрий! Ступай в тюрьму — и я за тобой после¬
дую; лети на поле брани — и я туда сопутствую тебе; будь ца¬
рем — и я разделю с тобою трон; будь презренным разбойни¬
ком — и я буду разделять твое мрачное, всегда потопленное
в крови подземелье! Для тебя я презираю всеми условиями
света; для тебя попираю ногами все узы, соединяющие меня
с людьми. — Теперь сомневайся в любви моей; если можешь, —
беги от меня — или ко мне!..
Дмитрий. К тебе, к тебе! Существо божественное! (Бро¬
сается к ней в объятия.) О! кто умеет так любить, как я, и кто
так любим, как я,— тот с презрением смотри на жизнь, на лю¬
дей, на землю: они не могут ничего ни дать ему, ни отнять
у него. Но кто, подобно мне, держит в объятиях свою милую,—
тот все адские бичи, поражающие его, почптай за уязвление
ничтожных насекомых! О моя милая! жизнь человеческая
обильна бедствиями, но еще обильнее блаженством. (Долгое
молчание; он безмолвно склоняется своею головою на ее
плечо.)
Софья (вздохнувши). Ах! эта мипута с избытком возна¬
граждает меня за многое.
Дмитрий. Моя любезная! Сначала я был окованный по¬
сажен между толпою отчаянных злодеев. Члены этой дикой,
буйной толпы с неистовым смехом описывали друг другу свои
преступления. Один рассказывал, как он, помирая со смеху, ра¬
зорвал пополам грудного ребенка; другой — как размозжил
кистенем голову девяностолетнего старика; третий — как пере¬
резал целое семейство и забавлялся смертными судорогами
своих жертв; четвертый... но довольно; я не хочу терзать тебя
подобными рассказами. Потом эти головорезы подходили ко
мне и просили как своего товарища потешить их рассказом
о моем преступлении. Ах! и теперь еще содрогаюсь, вспомпная
их зверские лица, их кровавые глаза,— суди же, каково мне
было тогда! Потом эти злодеи с буйною веселостию, с адским
хладнокровием и с грубыми насмешками говорили о палачах,
о кнуте, о Сибири, о каторге — и предсказывали мне мою
участь. Я спрашивал самого себя, что со мною будет; взгляды¬
вал на свои руки — на них еще виднелась кровь,— и я, чтобы
заглушить ревущий голос моей совести, гремел цепями — и
в звуке этих цепей слышал роковой ответ. Мое положение бы¬
ло ужасно, но я еще мог жаловаться, мог изрыгать проклятия
на все существующее. А теперь, теперь, когда я держу в своих
объятиях мое небо — теперь я не нахожу слов для выражения
моего блаженства. Я в состоянии только молчать — и чувство¬
вать!.. Нет, радость сильнее горести!
Софья. Ах, Дмитрий! Сладко быть в объятиях милого,
так сладко, что я желала бы умереть в них!
Дмитрий. Теперь прочь все черные мысли, прочь
бедствия — теперь и самая смерть не посмеет приблизиться
к нам!
Софья. Но чем все это кончится? Подумай о будущем.
Моей матери теперь нет дома, и ее-то отсутствию мы обязаны
счастием этого свидания — счастием держать друг друга в объ¬
ятиях, упиваться дружным дыханием. Она скоро приедет и раз¬
лучит нас.
Д м п т р и й. Нас разлучпт? Кто? Сам ад не исторгнет тебя
из моих объятий.
Софья. Но кто исторгнул в тот роковой вечер?
Дмитрий. Да, но тогда и небо, и ад, и могилы были
в заговоре против меня.
Софья. Моя мать, ты ее знаешь, — она ненавидит тебя,
и если увидит здесь, то осыплет проклятиями и ругательства¬
ми.— Дмитрий! ты бешен — я трепещу.
Дмитрий. Не бойся. Я даже не взгляну на эту слабую
женщину, чтобы не привесть ее в трепет. Она твоя мать, этого
довольно, — будь спокойна.
Софья. Но она вооружит против тебя всех людей сво¬
их; они опять на тебя кинутся — что ты тогда станешь де¬
лать?
Дмитрий. Если хотя одна тварь подползет ко мне по¬
ближе, то я раздавлю ее ногою!
Софья. И ты еще не насытился кровию? Ты еще хочешь
обременять себя новыми преступлениями?
Дмитрий. Но неужели мне отдаться в их руки, чтобы
они надругались надо мною?
Софья. А если следы твои откроют солдаты и придут
сюда; ежели они поведут тебя отсюда прямо на место позорной
казни — туда, где тебя будет ожидать кнут и палач,— тогда что
ты будешь делать?..
Дмитрий. Софья! к чему эти мрачные предсказания, эти
странные предположения и вопросы? Женщина! твои уста есть
ящик Пандоры! Так, по всем твоим расчетам, мы должны по¬
гибнуть от людей, которые не хотят нас видеть счастливыми.
Итак, скажи, что же должпо нам делать, чтобы освободиться от
их влияния?..
Софья. Умереть!
Дмитрий. Как? Умереть!
Софья. Да, умереть! Что ж тут удивительного?
Дмитрий. Но каким образом?
Софья. Ты мужчина, у тебя есть кинжал! Умертви меня
599
и потом сам последуй за мною, не выпуская меня из своих
объятий. Мы соединим уста свои, сольем дыхание, вздохнем
сладостно — и смерти нашей позавидуют сами ангелы.
Дмитрий. Женщина! И ты могла предложить мне
это?..
Софья. Могла, и горжусь этим! Мой милый, кто на земле
узнал радости небесные, кто разгадал душою тайну тех наслаж¬
дений, которые бывают на небе уделом праведных по смерти,—
для того уже нет более отечества на земле; для того уже лю¬
ди,— если они не в состоянии понимать его,— более не братья!..
Да и можно ли жить на земле, узнавши небо? Можно ли су¬
ществам, уподобившимся ангелам, быть в сообществе зверей,
бессловесных и диких!..
Дмитрий. Все так; это правда. Теперь я вижу ясно, что
нам должно умереть. Так, я могу бестрепетною рукою вонзить
это железо себе в сердце, могу повернуть его в нем, покуда
еще в состоянии буду дышать; но вознести руку свою на пора¬
жение существа любезного — видеть его борения с смертию, ви¬
деть бьющуюся из раны кровь — нет! На это я никак не могу
решиться. Не принуждай меня к этому; не проси, не умоляй!
Софья! Знаешь ли, что ты этими небесными взглядами, этим
ангельским укором преклоняя меня на убийство, влечешь
в ад?..
Софья. И ты почитаешь себя мужем? Слабый ребе¬
нок! бессильное дитя! беги отсюда скорее или я покажу тебе
лозу! Отдай мне кинжал, а себе возьми иглу — и беги с глаз
моих!
Дмитрий. Называй меня презренным трусом, низкою
душою, — назови, если хочешь и можешь, даже подлецом, —.
то и тогда, клянусь тебе небом и адом, кровию и мщением,
клянусь нашею любовию, и тогда не соглашусь на твое предло¬
жение!..
Софья. А! муж твердый и благородный! Когда неопыт¬
ным и невинным сердцем я предалась тебе со всем жаром
любви, когда пожертвовала тебе всем,— тогда, тогда ты умел
этим пользоваться, умел пресыщаться из чаши наслаждения,— а
теперь, когда я прошу тебя прекратить мои мучения, пересе¬
литься со мною в лучший мир,— ты глух к моим словам! Дмит¬
рий! Кажется, было время, когда ты не проранивал ни одного
моего слова, не оставлял без исполнения ни одного моего же¬
лания,— а теперь?..
Дмитрий. Перестань, ради бога, перестань! Как могло
прийти тебе в голову такое ужасное желание? От одной мысли
об нем я, убийца, я трепещу!..
Софья. Дмитрий! Заклинаю тебя всем, что есть для тебя
священного в мире; умоляю тебя именем любви нашей — испол¬
ни мое желание. Оно благородно: оно достойно нас. Вспомни,
малодушный, вспомни те сладостные минуты, когда мы занима¬
600
лись чтением истории великих людей. Когда ты читал мне, как
Брут казнил сыновей своих; как окончили жизнь свою Лукреция,
Виргиния, Клеопатра; как умерли, защищая свободу, два по¬
следние римлянина; как Сусанин жертвовал за царя своею жиз¬
нию, — я пристально смотрела на лицо твое и с восторгом заме¬
чала, что оно пылало, что глаза твои сверкали, что ты весь
трепетал.— Дмитрий! неужели эти благородные движения были
не чем иным, как низким притворством? Дмитрий! Слышишь ли
голос этих великих теней: они говорят тебе, что убить себя не
есть преступление, когда честь запрещает жить!..
Дмитрий. Змея-обольстительница! Прочь с глаз моих!
Сам ад управляет языком твоим, упитанным ядом и желчию!
Не обольщай меня, говорю тебе! (Софья плачет; Дмитрий
бросается к ней в объятия.) Ангел небесный, ты плачешь? Ты
опять женщина! Дай налюбоваться мне этими чистыми пер¬
лами!..
Софья. Хорошо: я не буду более говорить об этом.
Я вижу, что мой жребий есть страдать на земле, тогда как ты,
счастливец, будешь обитать в лучшем мире, тщетно ожидая
к себе свою Софью!.. Милый друг, я чувствую, что страдания мои
будут бесконечны: смерть разит только счастливых, а злополуч¬
ных щадит. Ко мне опять пристает с своими докучными прось¬
бами, даже с приказаниями и угрозами моя мать, чтобы
я отдала свою руку князю Кизяеву, подлейшему человеку в ми¬
ре, которого прельщает мое приданое.
Дмитрий (с беспокойством). Неужели? В самом деле?
Так он еще преследует тебя своими предложениями? Что
же ты?
Софья. Лишась тебя, я не буду иметь в целом мире ни
одного существа любезного — и охладею к жизни. Равнодушная
ко всему, чтобы утешить мать мою, чтобы доставить ей хотя
одно удовольствие во всю жизнь мою и вместе чтобы рассеяться
немного) от скуки, — я решусь выйти за князя!
Дмитрий. Как? Что сказала ты? Чтобы кто-нибудь дру¬
гой, кроме меня, мог назвать тебя своей супругой, мог срывать
с божественных уст твоих пламенные поцелуи, мог утопать
в твоих роскошных объятиях? Нет: скорее безобразные куски
бьющегося тела этого дерзновенного будут добычею псов! Ско¬
рее я соглашусь видеть даже тебя растерзанною, окровавлен¬
ною, бездыханною, нежели думать, что кто-нибудь, кроме меня,
будет владеть тобою. Нет, не говори об этом, даже не думай:
этого быть не может!..
Софья. Но что же мне остается делать? К кому прибегну
я, кто защитит меня, когда мать моя будет насильно принуж¬
дать меня к исполнению своих желаний и станет мстить в случае
сопротивления с моей стороны?
Дмитрий (ужасным голосом), И ты в состоянии решить¬
ся выйти за него?..
601
Софья. Да, в состоянии, тем более, как по всему замет¬
но, могу доставить тебе этим не малое удовольствие!
Дмитрий (приведенный ее словами в крайнюю степень
бешенства). Как? Из чего ж это видно?
Софья. Из того, что ты не хочешь лишить меня возмож¬
ности изменить тебе.
Дмитрий (дико улыбаясь). О, если так, то час нашей
смерти пробил. Софья! Обойми меня крепче, крепче, поцелуй
в последний раз!.. Ах! как ужасно!.. Во мне кровь оледе¬
нела и остановилась; сердце уже не бьется; дыхание преры¬
вается...
Софья (трепеща). Да! и мне немного страшно. (Молча¬
ние.) Вспомни князя!..
Дмитрий. А! это слово бросило меня из одной край¬
ности в другую. От него кровь моя разогрелась — этого мало:
она теперь кипит, клокочет... (Быстро смотрит ей в глаза.) Со¬
фья! ты желаешь... умереть?..
Софья. Да, от руки твоей. Я перешла цветущий сад бы¬
тия и вступила в дикую пустыню, где растут терны колючие, где
текут ручьи ядовитые; ее зловещий вид ужаснул меня — и
я хочу возвратцться в свое бессмертное отечество, где опять
найду с тобою потерянное счастие.
Дмитрий. Женщина! У меня рука дрожит!..
Софья. Мужчина! Если ты слаб, то дай мне кинжал, и я
или сама заколюсь, или попрошу оказать мне это благодеяние
моего будущего мужа... князя... и мой муж исполнит мою
просьбу!..
Дмитрий. Так!., так!.. Только от руки твоего мужа, толь¬
ко от руки твоего мужа и любовника умрешь ты! Прощай!.,
(Вонзает ей в сердце кинжал и между тем тихо опускает и кла¬
дет ее на пол.)
Софья (умирающим голосом). Прощай!., мой милый!..
Благодарю тебя!.. Ты избавил... (Умирает).
Дмитрий. Не докончила... Смерть заградила эти уста
прелестные, из которых выходили некогда звуки волшебные!
Они уже посинели!.. Как мила она и мертвая! Какое спокой¬
ствие на лице! Я не могу налюбоваться ею. Но пора! Она
зовет меня! Она ждет меня! Пора! Это орудие соединит нас!
(Берет кинжал, взмахивает его над своей грудью и вдруг, услы¬
шав стук шалое, удерживает кинжал, прячет его в карман и,
подошедши к двери, ведущей из залы в коридор, встречается
с Иваном.)
Иван (крестясь.) Господи, Иисусе Христе! Пресвятая бого¬
родица! Каким образом вы опять очутились здесь? Ведь вы
были в тюрьме? Как же вы ушли из нее? Бога ради, не наделайте
опять каких-нибудь бед!
Дмитрий. Не бойся, старик! Что новенького скажешь ты
мне? Ты видел2 как умирал старый господин твой?
602
Иван. Как же, батюшка, видно, мне всех вас придется пе¬
рехоронить!
Дмитрий. Не говорил ли он на смертном одре чего-ни¬
будь обо мне?
Иван. Как же, батюшка, Дмитрий Егорьгч, он горько пла¬
кал, когда вспомнил об вас, мой батюшка, и со слезами умолял
меня отдать вам вот эту грамотку. (Подает ему запечатанное
письмо.)
Дмитрий (принимая письмо). Не произошло ли у вас
в доме каких перемен после его смертп?
Иван. Как только он скончался, то барыня так начала ти¬
ранствовать над нами, что не дай господи такого житья лихому
татарину ни здесь, ни на том свете: и била, как собак, и отдава¬
ла в солдаты, и пускала по миру, отнимала хлеб, скотт осматри¬
вала клети, ломала коробьи, обирала деньги, холст; кто малость
в чем-нибудь провинится* так ушлет в дальние вотчины; да все¬
го и пересказать нельзя. На каторге колодникам лучше житье-
то, чем нам, грешным, у барыни.
Дмитрий. Да, старик, подлпнио, что радостные вести со¬
общил ты мне. Но скажи мне, каков был в отношении к вам тот,
которого я... понимаешь?..
Иван (в размышлении). Кто ж бы это был?
Дмитрий. Андрей!
Иван. И, батюшка, да от него и сыры-боры загорелись,
он-то первый мучитель наш был.
Дмитрий. А! так я без намерения сделал доброе дело!
Пойдем, прочтем эти строки, узнаем, что содержится в них.
(Подходит к столу.)
Иван (увидев труп Софьи и всплеснувши руками). Госпо¬
ди! Боже мой! Это еще что такое?.. Вы никак опять убили чело¬
века?.. Ба! да это барышня, Софья Петровна! Вся в крови!..
Ай!.. ай!..
Дмитрий. Молчи, старик! Разве ты не видишь, как спо¬
койно почивает она?.. Не разбуди ее своим нелепым враньем,
своим глупым криком!
Иван. Ах, душегуб, душегуб! Что ты сделал? За что ты
убил ее? Али она обидела тебя? Никто от нее худого слова не
слыхивал!.. Кто-то теперь постопт за нас, грешных?.. Лисафета
Андревна доконает нас вдосталь!.. Ох! согрешили мы пред гос¬
подом богом!.. (Уходит.)
Дмитрий. Неужели эти люди для того только родятся на
сйет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами?..
Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей
власти волю других, подобных им существ, отнимать у них свя¬
щенное сокровище — свободу? Кто позволил им ругаться пра¬
вами природы и человечества? Господин может, для потехи или
для рассеяния, содрать шкуру с своего раба; может продать
его, как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, раз¬
603
лучить его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами,
с братьями и со всем, что для него мило и драгоценно!.. *
Милосердый боже! отец человеков! ответствуй мне: твоя ли
премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов,
этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пью¬
щих, как воду, их кровь и слезы?.. (Обращаясь к Софье.) Она
была их ангелом-хранителем! И я лишил их последней защиты,
последней обороны против тиранства. Они будут благословлять
ее имя и проклинать мое. (Глядит на нее в размышлении.)
О неизъяснимая прелесть! И самая смерть не могла уничтожить
тебя! Но что я медлю соединиться с нею? Время! Она зовет! Она
ждет! Но я должен прежде прочесть эту бумагу: ее писала рука
святого человека. (Разламывает печать и читает вслух.) «Любез¬
ный Дмитрий! На одре смерти пишу к тебе эти строки! При
моей жизни мне не удалось, прижавши тебя к моему сердцу,
назвать своим милым сыном! Так, Дмитрий! узнай тайну, долго
хранимую мною: я твой отец! Не проклинай моей памяти: я был
молод, имел страсти и, подобно всем людям, мог заблуждать¬
ся...» (Дмитрий трепещет всем телом; бумага выпадает из рук
его; мутными глазами он смотрит на окружающие предметы.)
Вот истинно прекрасные новости!.. Сестра!., любовница!., жена!..
Убийство... кровосмешение!.. (В изнеможении упадает на стул
и закрывает руками лицо. Входит Рудина.)
Рудина. Что мне говорил этот безумный старик? Боже
мой! что я вижу? Ай! ай!.. (На крик ее сбегается толпа слуг
обоего пола и всех возрастов и безмолвно с удивлением смот¬
рит на эту картину; вдруг вбегают Сурский и Томин.)
Сурский. Так! я отгадал, что он здесь. (Увидев тело Со¬
фьи.) Еще новое убийство и, верно, опять его!.. Несчастный, что
ты сделал?..
Дмитрий (указывая на Софью). Моя сестра!..
Сурский. Кто? сестра?., она?., твоя?..
Дмитрий. Да, моя любовница... моя жена... моя сестра
родная. Прочти эту бумагу,— только не задохнись от смеху.
(Сурский поднимает письмо и читает про себя.) Что, понял ли?
* К славе и чести нашего мудрого и попечительного правительства,
подобные тиранства уже начинают совершенно истребляться. Оно постав¬
ляет для себя священнейшею обязанностию пещись о счастии каждого че¬
ловека, вверенного его отеческому попечению, не различая ни лиц, пи
состояний. Доказательством сего могут служить все его поступки и между
прочим указ о наказании купчихи Аносовой за тиранское обхождение с
своею девкою и городничего за допущение оного, напечатанный в 77-м №
«Московских ведомостей» за 1830 год, 24 день сентября. Этот указ должен
быть напечатан в сердцах всех истинных друзей человечества, в сердцах
всех истинных россиян, умеющих ценить мудрые распоряжения своего
правительства, напоминающие слова нашего знаменитого, незабвенного Фон¬
визина: «Где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, —
там человечеству не могут не возвращаться права его; там все скоро
ощутят, что каждый должен искать своего счастия и выгод в том, что
ваконно, и что угнетать рабством себе подобных есть беззаконно» 10.
604
Вот как играет беспощадная судьба слабыми смертными! Нет:
видно, милосердный бог наш отдал свою несчастную землю на
откуп дьяволу, который и распоряжается ею истинно по-дья¬
вольски!.. Каким грозным, зловещим светом озарились глаза
мои!.. О! теперь, лютый тигр — отчаяние, грызи мое сердце,
разрывай его на миллионы частей, покуда еще оно бьется.
Эхидны совести, змеи раскаяния, высасывайте из жил моих соки
бытия, иссушайте мозг в костях моих!.. Так! так! Хорошо!.. Пре¬
красно!.. Мне кажется, что каждый нерв мой превратился
в змею лютую, что каждая капля крови моей превратилась в яд
пожирающий. Моя внутренность горит, в ней пылает целый ад!
Какое превосходное состояние!.. Ха! ха! ха! Воды мне, воды!
Дайте залить внутренний огонь!..
Сурский. Несчастный! Знаешь ли ты, что о твоем побеге
узнали, что тебя ищут и скоро найдут? Знаешь ли ты, сколько
человек погибнут теперь за твой побег? Несколько человек сол¬
дат прогонят сквозь строй, несколько чиновников лишат мест
и чинов и, может быть, и более сделают!
Дмитрий. Да ты пришел ко мне, как фурия, чтобы му¬
чить меня при последнем издыхании. (Вынимает кошелек с день¬
гами и подает его Сурскому.) На, возьми эти деньги, облегчи
ими, сколько можно, судьбу несчастных, пострадавших за меня;
я прошу тебя об этом. Оно... это золото для меня только и мо¬
жет быть полезно в этом отношении...
Сурский. Бедный! бедный! Жаль мне тебя, а помочь не
могу. Итак, ты его сын?..
Дмитрий. Да, его сын: в этом нет ни малейшего сомне¬
ния; эта бумага писана им, а мне очень известна рука его. (По¬
сле некоторого молчания.) Люди! люди! Кто постигнет вас?
Я почитал этого старика за образец добродетели; думал, что
любовь его ко мне бескорыстна; а он — он потому только любил
меня, что видел во мне плод своей роковой любви. Старик! ты
просишь меня, чтобы я не проклинал тебя! А! ты, верно, чувст¬
вовал, что достоин этого! Так! я проклинаю тебя, низкий сласто¬
любец, проклинаю тебя и этот бедственный дар, эту преступную
жизнь, которою тебе обязан!.. Я убийца! я кровосмеситель!..
Я осужден на позорную казнь: и всем этим одолжен тебе, мой
отец! Приди сюда! Я вызываю тебя из твоих мрачных убежищ!
Явись предо мною, тень ужасная! Явись отвечать на мои вопро¬
сы, выслушать мои проклятия — и проклясть меня! Я расторгаю
узы крови; я отрекаюсь от тебя; я не сын твой более! (Обраща¬
ясь к толпе.) По вашим бледным, удивленным лицам я замечаю,
что вы с ужасом внимаете словам моим; вы удивляетесь, что
сын может проклинать своего родного отца; не удивляйтесь
более; она моя сестра! Но он не является, он трепещет смерт¬
ного! Постой! Я сам пойду искать его... (Входит Лесинская.)
Лесинская. Что тут такое сделалось? Боже мой! Он
опять здесь? Кто смел впускать его? Ну, уж только людцы у ме-
605
ея... Где Сонюшка?.. Ай, ай! он ее убил!.. Андрюша!.. Сонюшка!..
Что теперь скажет князь!.. Господи!..
Дмитрий. Женщина! ты пришла требовать от меня де¬
тей своих!., их нет уже более! Но не проклинай меня! Не смот¬
ри на меня страшно! Не я убийца их, а твой муж, их и вместе
мой отец! Понимаешь?..
Лесинская. Господи! за что ты меня, грешную, так
жестоко караешь? Или я больше всех согрешила перед тобою?
Пресвятая заступница, матерь божия! чем я прогневала тебя?..
(Упадает без чувств.)
Дмитрий. А! Кровопийца!.. (Обращаясь к толпе.) По¬
смотрите! посмотрите! Она еще не знает, чем обратила на себя
эти громы, которые раздались над ее преступной головою
смертию детей... А семейства, разоренные и ограбленные? А не¬
счастные старцы, протягивающие свои дрожащие руки для ис-
прошения милостыни?.. А дети, отторгнутые от семейств?...
А истязания, а мучения, а тиранства неслыханные?.. Понимаете
ли теперь, чем раздражила она правосудие бога?.. Теперь спро¬
сите меня, чем я обратил на себя гонения непримиримого,
жестокого рока? За что я несу на себе эти кары, эти мучения,
каких, может быть, еще ни один смертный никогда не испыты¬
вал? Человеки! Говорить ли вам об этих ужасах; осветить ли
глаза ваши адским блеском роковых истин? Поднять ли пред
вами эту мрачную завесу, скрывающую за собою преступления
неслыханные, страдания, превосходящие всякое вероятие? Слу¬
шайте — и трепещите!.. Эта девушка есть ее дочь: мы любили
друг друга! Любовь ослепила нас и вовлекла в преступление! —
Вот первая ступень в бездну погибели... Я хотел поправить это
зло — и решился, признавшись во всем моему благодетелю,
требовать руки его дочери; он любил меня, и его ко мне любовь
была загадкою для этой женщины, которая лежит пред вами
без чувств; но я растолкую ей эту загадку — и она встанет, хотя
бы была умерщвлена тысячью смертями,— и вы, внимающие
мне, вы содрогнетесь, по вашим жилам пробежит холод, воло¬
сы подымутся горою на головах ваших. С нетерпением и стра¬
хом я ожидал письма — и получил! Его писали сыновья ее, этой
фурии, а диктовал сам ад! В груди моей закипело мщение!
Потом в этом доме, в один вечер, один из сыновей ее назвал
меня рабом — и упал к ногам моим, окровавленный и безды¬
ханный! Меня схватили, оковали и посадили в тюрьму. Нынеш¬
ний день мне удалось сокрушить свои оковы и прийти простить¬
ся с нею. В ее объятиях я забыл все — и она предложила мне
умертвить ее и умереть самому в ее объятиях! Я ужаснулся
и отказался! Она умоляла, заклинала, но я, я был тверд; она
сказала мне, что ее мать хочет отдать ее насильно замуж — и
я — трепещите, окружающие меня, трепещи и ты, виновная жен¬
щина, — я вонзил в ее сердце это железо! Смотрите! на нем
еще и теперь дымится чистая кровь!.. Потом входит сюда ста¬
606
рый служитель, как бы подосланный ко мне враждебною судь¬
бою, и рассказывает мне, как тиранпт она рабов свонх,— от его
простого, безыскусственного рассказа у меня волосы стали го¬
рою, кровь сперва замерла в жилах, а потом закипела адским
огнем!.. Наконец, этот старик подает мне письмо, говорит, что
оно от моего благодетеля. Срываю печать, читаю —и что жа
узнаю?.. Трепещите, говорю я вам, трепещите!.. Я узнаю, что
он — мой отец! Она — моя сестра!.. Так скрытные семействен¬
ные преступления ужасно наказываются. (Лесинская приходит
в память и медленно приподымается.) А! эти слова пробудили
тебя! Женщина! твой дом есть дом преступления и проклятия!
Ты сама со дня твоего рождения была жрицею предрассудков
и эгоизма; твоя жизнь обременена грехами: смой их своею кро¬
вию,— вот кинжал!..
Лесинская. Помогите! помогите! Этот злодей, изверг,
разбойник и меня зарежет! (Опять упадает без чувств; одни из
слуг подымают ее и выносят в другую комнату, а другие прибли¬
жаются к Дмитрию с намерением схватить его.)
Дмитрий (махая кинжалом). Кому мила еще жизнь, тот
не подходи ко мне! (Все отступают; он садится на стул.) Что же
вы все молчите? Почему ничего не делаете? Несите сюда гроб!..
Шейте саван!.. Зовите попов, певчих!.. Пускай поют за упокой
души ее! Вы сами войте, кричите, бейте в стекла, свистите, то¬
пайте ногами! Может быть, от этой музыки мне будет повеселее!..
Рудина (упавши на колены около трупа Софьи.) Прости,
несчастное, благородное существо! Ах!., ты достойна была луч¬
шей участи.
Дмитрий. Кто ты такая? Какое имеешь право оплаки¬
вать ее?..
Рудина. Она была мой друг, моя воспитанница!
Дмитрий. Так ты-то та, которая образовала ее ангель¬
скую душу, возвысила, облагородила? Благодарю тебя, благо¬
родная женщина! Ах! для чего, украсив этого ангела всеми пре¬
лестями души, ты не могла сделать его счастливым? Смотри,
какое спокойствие начертано на лице ее! Она счастлива: она пе
знает этой роковой тайны; она не ощутила этих мук, этих угры¬
зений совести, этих истязаний, которыми я теперь терзаюсь.
И за что? Неужели я был орудием божьего мщения отцу мое¬
му?.. Отцу?.. О ненавистное имя! Ты, при звуке которого трепе¬
щет от радости сердце каждого человека, — ты заставляешь
меня гнушаться собою, своим бытием, проклинать весь мир! А ты,
существо всевышнее! скажи мне: насытилось ли моими страда¬
ниями, натешилось ли моими муками? навеселилось ли моими
воплями, упилось ли моими кровавыми слезами?.. Что делаю я?
К моим преступлениям присовокупляю еще новое! Но кто сде¬
лал меня преступником? Может ли слабый смертный избежать
определенной ему участи? А кем определяется эта участь? О!
я понимаю эту загадку! Сурский! подойди ко мне! (Он подходит
607
к нему.) Выслушай последние желания своего умирающего дру¬
га: это письмо и прежнее, превращенное мною в лоскутки, по¬
ложи со мною во гроб! Я с ними предстану пред лицо бога: в них
написано мое определение! Еще одна мольба: исполни ее!
Я любил и был несчастлив,— ты также любил и также страдал;
молю тебя: забудь прошедшее, не будь собственным тираном!
(Берет за руку Рудину.) Я знаю: это она, эта воспитательница
и друг Софьи, твоя любезная! Помирись с нею, утешь меня при
смерти. Покуда еще дышу я, докажи мне, что счастие может
существовать на земле!
Сурский. Хорошо: я согласен! Но скажи мне, что ты...
Дмитрий. Ты увидишь скоро... Мой друг! благодарю тебя
за дружбу, за приязнь! Я ей обязан многими сладостными
минутами в моей жизни! (Берет руку Томина и жмет ее.) И тебя
благодарю также! Теперь прощайте, мои милые! Не проклинай¬
те моей памяти! Я гибну — но невинный! Я не способен был
делать зло — и делал его. (Несколько человек приближаются
к Софье и хотят поднять ее, чтобы вынести в другую комнату.)
Прочь! Еще одна минута, одна только минута — и тогда делай¬
те, что хотите: я уже буду не в состоянии препятствовать вам!
(Слуги отступают и смотрят на него с изумлением.) Софья! твое
желание исполнится сейчас! Я иду к тебе. (Вдруг умолкает и с
глубоким вниманием смотрит на цепь, висящую у него на левой
руке.) А! твои адские звуки сопровождают меня и в могилу!
Символ постыдного рабства, прочь с глаз моих,— не обременяй
рук моих, не бесчесть их! (С бешенством срывает цепь и далеко
отбрасывает от себя.) Свободным жил я, свободным и умру!..
(Закалывается; вбегает толпа вооруженных солдат.)
ПРИМЕЧАНИЯ*
© «Художественная литература», 1976 г«
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
В тексте примечаний приняты следующие сокращения:
Апненков — П. В, Анненков. Литературные воспоминания.
Гослитиздат, I960.
Белинский, АН СССР — В. Г. Белинский. Поли. собр. соч.,
т. I—XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953—1959.
«Белинский и корреспонденты» — В. Г. Белинский и его коррес¬
понденты. М., Отдел рукописей Государственной библиотеки
СССР им. В. И. Ленина, 1948.
«Воспоминания» — В. Г. Белинский в воспоминаниях современ¬
ников. Гослитиздат, 1962.
ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
Григорьев — Аполлон Григорьев. Литературная критика.
М., «Художественная литература», 1967.
Гриц — Т. С. Г р и ц, М. С. Щепкин. Летопись жизни и твор¬
чества. М., «Наука», 1966.
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом)
АН СССР.
КСсБ — В. Г. Белинский. Сочинения, ч. I—XII. М., Изд-во
К. Солдатенкова и Н. Щепкипа, 1859—1862 (составле¬
ние и редактирование издания осуществлено Н. X. Кет-
чером).
КСсБ, Список I, II... — Приложенный к каждой из первых де¬
сяти частей список рецензий Белинского, не вошедших
в данное изд. «по незначительности своей».
ЛН — «Литературное наследство». М., Изд-во АН СССР.
Надеждин — Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эсте¬
тика. М., «Художественная литература», 1972.
Полевой — Николай Полевой. Материалы по истории рус¬
ской литературы и журналистики тридцатых годов. Изд-во
писателей в Ленинграде, 1934.
Пушкин — А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти томах.
М. — Л., Изд-во АН СССР, 1949.
Станкевич — Переписка Николая Владимировича Станкевича,
1830-1840. М., 1914.
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской
революции.
Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч.
в 16-ти томах. М., Гослитиздат, 1939—1953,
20*
НАЧАЛО
I
Известен рассказ И. Панаева — в ту пору начинающего писателя —
о том, какое впечатление произвела на него первая большая статья Белин¬
ского, Открыв как-то последний номер «Молвы», Панаев бросил взгляд на
статью с оригинальным названием «Литературные мечтания. Элегия в про¬
зе», принялся ее читать — и не смог уже оторваться. «Новый, смелый, све¬
дай дух ее так и охватил меня. «Не оно ли, — подумал я, — это новое слово,
которого я жаждал, не это ли тот самый голос правды, который я так давно
хотел услышать?»
Своим впечатлением Панаев поспешил поделиться с М. Языковым, в ту
пору также начинающим литератором. «Языков пришел в такой же восторг,
кик я, и впоследствии, когда мы прочли всю статью, имя Белинского уже
стало, дорого нам» 1.
Так происходило знакомство читающей России — молодой Росссии —
с Белинским. Это знакомство может быть охарактеризовано более поздним
01!кликом Аполлона Майкова: «Вдруг налетела буря Белинского...» 2. Здесь
ш редана не только сила впечатления от его критики, но и сам момент
внезапности и неотвратимости.
Тут нужно установить, что же особенно потрясло современников,
в чем увидели они «новое слово». Увы, их свидетельства, сами по себе, не
дают исчерпывающего ответа. Что-то очень важное, по, очевидно, казав¬
шееся само собою разумеющимся, словно оставлено между строк. И мы
должны поэтому внимательно сопоставить исторические свидетельства,
вдуматься в них, почувствовать саму литературную ситуацию начала
30-х годов прошлого века.
На поставленный выше вопрос — о новизне «слова» Белинского —
можно, конечно, ответить и не мудрствуя лукаво: дескать, все дело в глу-
1 И. Панаев. Литературные воспоминания. М. — Л., Гослитиздат,
1950, с. 108.
2 «Достоевский. Статьи и материалы». Пб., 1924, с. 270.
612
бипе его мысли, в энергия, в актуальности, в неразрывной связи с действи¬
тельностью и т. д. (нередко мы так и отвечаем). И разумеется, это будет
правильный ответ, но уж слишком общин, применимый к любому велпкому
критику, да и к любому великому мыслителю. А важно ведь именно попять,
как проявились эти качества Белинского конкретно — в каких именно лите¬
ратурных теориях, суждениях о писателях, оценках.
Панаев вспоминал, что его особенно поразило то место статьи
Белинского, где говорилось о вреде «литературного идолопоклонства», о
«детском благоговении к авторитетам». Между тем мысль эта для русского
читателя не была уж такой неожиданной. Сегодня, спустя полтора века, мы
можем отдать должное русской критике 20-х — начала 30-х годов, довольно
строгой, порою даже пристрастной к отечественным писателям. Кажется,
никогда еще пе было свергнуто так много литературных кумиров, не выра¬
жалось столь сильно критическое отношение к авторитетам, как в это вре¬
мя. Вот наудачу несколько примеров.
Ровно за десять лет до «Литературных мечтаний» Кюхельбекер в зна¬
менитой статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической...»
напал на мечтательную, уводящую от жизни музу Жуковского; заодпо
досталось и «недозревшему Шиллеру», которому критик противопоставил
«великого Гете» и «огромного Шекспира». Позднее Н. Полевой произнес
строгий суд над И. Дмитриевым, бывшим еще в те годы, по выражению до¬
революционного исследователя Н. Котляревского, «литературной иконою».
Не говорим уже о Надеждине, развернувшем настоящее критическое на¬
ступление на русских, а заодно и западноевропейских романтиков.
Само выражение «у нас нет литературы», ставшее своеобразным лейт¬
мотивом критической элегии Белинского, имело уже свою историю. Впер¬
вые этот горький вывод был сделан Бестужевым в статье 1825 года и затем
на разные лады повторялся другими критиками. «Будем беспристрастны и
сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа,
у нас еще нет литературы», — писал, например, И. Киреевский в «Обозрении
русской словесности за 1829 год».
Почему же, говоря о борьбе Белинского с «кумиропреклонением», со¬
временники склонны были почти забыть об аналогичных усилиях его пред¬
шественников? Потому, прежде всего, что эти усилия не отличались доста¬
точной последовательностью. Вместо поверженных кумиров критика
выдвигала новые, подчас пе более достойные. В результате принятая иерар¬
хия художественных ценностей отличалась редкой пестротой и, так сказать,
разностильностыо.
Приведу характерную дневниковую запись Кюхельбекера, относя¬
щуюся к 1835 году. «Марлпнский человек — высокого таланта... У нас мало
людей, которые могли бы поспорить с ним о первенстве. Пушкин, он и Ку¬
кольник— надежда и подпора пашей словесности: ближайший к ним —
Сенковский, потом Баратынский» Вот она, элита русской литературы, в
представлении одного из ее самых требовательных критиков: Пушкин, Мар-
лпнский, Кукольник — звезды первой величины; чуть-чуть слабее — Сенков¬
ский; Баратынский идет вслед за Сенковским...
1 В. К. Кюхельбекер. Дневник. Л., пзд-во «Прибой», 1929, с. 235^
613
На этом фопе отбор Белппского, благодаря его взыскательности и ток-
кому вкусу, казался как бы произведенным впервые. Из только что упомя¬
нутых имен уцелело лишь одно имя — Пушкин, прпчем против ослепи¬
тельно яркой славы Марлпнскего Белинский выступил в критике первым, а
против Кукольппка — одним из первых. И общая картина ценностей в рус¬
ской литературе как-то неожиданно поредела п упорядочилась. «В самом
деле, Державин, Пушкин, Крылов, Грибоедов — вот все ее представители;
других покуда нет, и не ищите пх», — говорилось в заключение «Литера¬
турных мечтаний». Произведенный Белинским суд был строг, подчас не¬
оправданно строг: так, среди развенчанных им авторитетов (по причинам,
о которых мы скажем ниже) оказался Баратыпскпй. Но в непоследователь¬
ности и половипчатости критика упрекнуть уже было невозможно. II то,
что пм было оставлено, — действительно осталось навсегда.
Однако дело не только в строгости и последовательности отбора, но и
в воплотившихся в нем общественных настроениях. И до Белинского было
так, что в борьбе против литературных авторитетов угадывались те или
другие социальные симпатии. Но никогда еще эти симпатии не приобретали
столь откровенно демократической окраски, никогда еще борьба за измене¬
ние . иерархии художественных ценностей не была в такой мере борьбой
против цепностей, призпанпых официально.
До Белинского отчетливо выразились демократические симпатии в дея¬
тельности Надеждина, что было подчеркнуто уже псевдонимом, литератур¬
ной маской последнего. Против могущественных авторитетов дерзнул вы¬
ступить не кто иной, как «экс-студент Никодим Надоумко», ютящийся
где-то в крохотной каморке па Патриарших прудах, среди незнатного и не¬
богатого люда. (Фигуру этого славного бойца, причем именно в его демо¬
кратическом обличье, Белинский намеренно оживил в «Литературных
мечтаниях», указывая тем самым на своего ближайшего предшественника:
«И кто же был нашим разочарователем, нашим Мефистофелем? Кто явился
сильною, грозною реакциею и гораздо поохладил наши восторги?», и т. д.)
Однако, поскольку, сражаясь с литературными «матадорами», Надеж¬
дин нарочито смешивал оригинальничанье со всяким отступлением от тра¬
диции, от правил, то есть, по его представлениям, с опасным вольномысли¬
ем, то круг замыкался — и критик в борьбе за новое выступал как бы
от имени идеи порядка, то есть уже утвержденного старого. Характерное
переплетение демократических настроений с откровенно консервативны¬
ми и монархическими, что было свойственно в ту пору далеко не одному
Наде ж дину!
Демократизм Белппского опять-таки последовательнее и, хочется ска¬
зать, чище. «У нас... царствует в литературе какое-то жалкое, детское бла¬
гоговение к авторитетам; мы и в литературе высоко чтим табель о рангах и
боимся говорить вслух правду о высоких персонах... И добро бы еще это
было вследствие убеждения! Нет, это просто из нелепого и вредного прили¬
чия или из боязни прослыть выскочкою, романтиком». Тут многозначи¬
тельно само построение фраз, сама лексика (все слова в цитате подчерк¬
нуты Белинским). Литературная знаменитость уподобляется в обществен¬
ном представлении обладателю крупного чина, «высокой персоне», а шкала
художественных ценностей — табели о рангах (красноречив прпсоедини-
614
тельный союз «п»: «мы и в литературе высоко чтим табель о ранга
то есть о жизпп п говорить не приходится). Поэтому и признание худо¬
жественных авторитетов — это не столько дело убеждения, сколько соблю¬
дения декорума, «приличия», а выступающий против нпх — есть «выскочка»,
то есть в некотором роде бунтовщик. Спустя много лет Белинский писал
о трудной доле людей, осмеливающихся идти против течения: общество
награждает их «за добродетель справедливости и неподкупности эпитетами
беспокойного человека, ябедника, разбойника и пр. и пр.» (письмо к Каве¬
лину от 7 декабря 1847 г.). Речь здесь идет о «справедливости» в ее прямом,
социальном выражении, однако неподкупную прямоту и демократизм Бе¬
линского читатель почувствовал с первых его статей, еще под покровом как
будто чисто литературной борьбы с авторитетами.
Наконец, эффект первых выступлений критика был предопределен
еще одним проявлением его последовательности и прямоты. Тут нужно ска¬
зать об отношении Белинского к ведущей тепденцпп в русской литератур¬
ной мысли тех лет.
Примерно к середине 20-х годов прошлого века, первоначально в лоне
романтической критики, а затем все более отклоняясь от псе, у нас разви¬
лось сильное философское течение. Его представители: Веневитинов, Надеж¬
дин, ранние И. Киреевский и В. Одоевский и другие — поставили своей
целью создание всеобъемлющей философской теории искусства. Вопросы
стиля или жанров (например, судьба романа или повести в русской литера¬
туре начала 30-х гг.) интересовалн их постольку, поскольку в них отра¬
жалось общее состояние искусства и развитие человеческого общества.
Иначе говоря, они не довольствовались определением литературы со сто¬
роны систематических правил риторики или поэтпкп, но стремились найти
место и принципы развития искусства в общей целостностп мироздания.
На языке идеалистов, какими были все представители данного течения, это
означало развить знание об искусстве в «лице самой идеи» (выражение Ге¬
геля), что имело далеко идущие последствия. Самым важным было то,
что утверждалось гносеологическое понимание искусства как особой формы
познания идеи, устанавливалась система движения искусства, выте¬
кающая из развития идеи (мирового духа) и состоящая из ряда художест¬
венных стадий или периодов (смена «классической», «романтической» и
современной — синтетической — форм).
Белинский, начавший критическую деятельность в «Телескопе» п
«Молве», в изданиях Надеждина, самого крупного у нас представителя фи¬
лософской тенденции, логически должен был стать его преемником. И он
действительно очень многое перенял от Надеждина в отношении философ¬
ских интерпретаций искусства. Но перенял оригинально, на свой лад. При¬
чем в ранний период деятельности Белинского критическое отношение его
к философскому течению выразилось сильнее, чем во второй половине
30-х годов. Уже к 1836 году, к концу того периода, который охватывается
настоящим томом, картина стала меняться...
В чем проявилась эта оригинальность? С одной стороны, всем памятны
страницы «Литературных мечтаний», посвященные жизни идеи: «Весь бес¬
предельный, прекрасный божпй мир есть не чго пное как дыхание едипой
вечной идеи...» и т. д. Это настоящий вдохновенный гимн мирозданию в
G15
диалектическом единстве и многообразии его связей. В соответствии с этим
и искусство понимается Белинским как «выражение великой идеи вселен¬
ной в ее бесконечно разнообразных явлениях». А нравственную жизнь идеи,
борьбу между добром и злом, любовью и эгоизмом Белинский сравнивает
с противоборством в физическом мире «силы сжимательной и расширитель¬
ной», что также должно быть понято в контексте философских идей вре¬
мени. Надеждин любил повторять, что «всякая... жизнь слагается из двух
противоположных элементов, из двух противоборствующих сил, кои назо¬
вем (пожалуй) именами, заимствованными из природоучения, назовем:
движением и материею, светом и тяжестью, силой центробежной и силой
центростремительной» К В свою очередь, ближайший источник этой мысли —
учение Шеллинга о противоречиях в «Я», ставшее одним из краеугольных
камней диалектики в классическом немецком идеализме.
Но с другой стороны, автор «Литературных мечтаний» не хочет начи¬
нать свое обозрение издалека, с «прелюдии о литературе средних и новых
веков»; он отказывается «толковать даже и о блаженной памяти класси¬
цизме и романтизме». В этом демонстративном самоограничении не только
насмешка над Марлинским, с его появившимся незадолго перед тем про¬
странным литературным обозрением «от яиц Леды» до Н. Полевого (см.
ниже, прим. 27 к «Литературным мечтаниям»). В какой-то мере здесь
содержится вызов и Надеждину, и всей русской философской эстетике.
Ведь практиковавшиеся ею обширные экскурсы в древнюю и средневековую
эпохи обосновывали историко-философскую сторону системы, то есть после¬
довательное движение классической, романтической и новейшей форм в
мировом искусстве. Только после соответствующего обоснования критик
считал себя вправе обратиться к литературе русской, которой посвящались
лишь заключительные страницы работы. (Так, в частности, строилась и
диссертация Надеждина «О происхождении, природе и судьбах поэзии, на-
вываемой романтической», где из десяти цечатных листов текста русской
литературе посвящено заключительных шесть-семь страниц.) Белинский
же прямо от философских посылок своей статьи переходит к состоянию
отечественной литературы («...начну прямо с русской»), отведя ей столько
места, сколько, пожалуй, еще не отводил ни один обозреватель. Различие
не только количественное, но и принципиальное! Белинский насытил фи¬
лософскую систему практическим духом, строго подчинив некоторые общие
установки философской эстетики конкретному и подробному отчету о дви¬
жении новой русской литературы и образования, начиная с Петровской
эпохи. Это было замечено самыми проницательными современниками.
Анненков писал, что статья Белинского «произвела необычайное впечат¬
ление, как первый опыт ввести историю самой культуры нашего общества в
оценку литературных периодов»2. Григорьев говорил, что «Литературные
мечтания» — ни более ни менее как ставили на очную ставку всю русскую
литературу со времен реформы Петра...»3. А это было равносильно тому,
что вся русская литература ставилась «на очную ставку» с еще не быва-
1 Н а д е ж д и н, с. 401.
7 А н н е н к о в, с. 139.
’ 3 Г р и г о р ь е в, с. 158.
616
лыми по строгости требованиями, которые должны были ее поднять на дру¬
гой, новый уровень. Так в последовательности суждений Белинского пред¬
ощущался расцвет русской литературы 30-40-х годов, упрочение в ней
новых реалистических тенденций.
II
Но требования Белинского к русской литературе нельзя брать ста¬
тично. Они постоянно находились в движении, в развитии. Постараемся на¬
щупать направление этого развития от первой статьи Белинского до вы¬
ступлений 1836 года. Это лучше всего сделать, обратившись к толкованию
им проблем народности. Ведь, как заметил критик, «народность — вот
альфа и омега нового периода», и если раньше все хотели прослыть роман¬
тиками, то «теперь всякий литературный шут претендует на титло народ¬
ного писателя».
Одна любопытная деталь: говоря о Державине, Белинский писал в
«Литературных мечтаниях», что народностью поэт обязан своему невеже¬
ству. Через год же с небольшим критик заявил в «Ничто о ничем...»: «Отре¬
каюсь торжественно от этой мысли как совершенно ложной». Постараемся
выяснить, в чем состояло «отречение» Белинского: оно показывает, какие
изменения произошли в его концепции народности.
Почему автор «Литературных мечтаний» считал «невежество» поэта
благотворным фактором? Потому что решающее значение в это время кри¬
тик придавал самообнаружению оригинального и глубокого народного духа.
Подражание противопоказано оригинальности, и в этом случае «невежест¬
венный», но талантливый поэт оказывается в более благоприятном поло¬
жении, чем литератор-всезнайка.
Но тут встает вопрос о самом народном духе, который открывает себя
в поэте. Белинский считает, что народность у нас еще не выработалась, не
отстоялась и поэтому полное выражение народпого духа в литературе еще
невозможно. «Что такое народность в литературе? Отпечаток народной фи¬
зиономии, тип народного духа и народной жизни; но имеем ли мы свою на¬
родную физиономию?» Ответ подразумевается отрицательный. Следова¬
тельно, необходимо прояснить народную физиономию, интенсифицировать
самобытное начало, а этого можно достигнуть лишь с помощью образования,
развития умственной жизни. Программа Белинского с самого начала наце¬
лена на просвещепие широких слоев народа, чему вовсе не противоречит
указание на «невежество» Державина и па бессознательность художествен¬
ного творчества вообще. Ведь настоящий поэт должен бессознательно
воспроизвести то, что сознательно вырабатывается и усвояется целым на¬
родом, а именно — неповторимое и единственное в своем роде националь¬
ное начало.
Самое характерное для такой концепции народности с теоретической
точки зрения то, что в центре ее — один копкретный народ. Это был до¬
вольно распространенный в 20—30-х годах тип мысли, сложившийся еще
на почве романтизма и просветительства, в частности, просветительства
декабристского толка. Каждый народ обладает своим поэтически значи¬
617
тельным содержанием и должен его развивать — таков главный мотпв этой
концепции. «Гении красноречия и поэзип, гражданин всех стран, ровесник
всех возрастов народов, не был чужд п предкам нашим», — писал еще
А. Бестужев в «Полярной звезде на 1823 год» (курсив мои. — Ю. М.).
II автор «Литературных мечтании» еще не сомневается в том, что в
допетровском периоде отечественной истории воплощалась «идея русской
жпзнп», хотя он уже признает эту идею односторонней, критически отно¬
сится к древнерусским источникам и в связп с этим поддерживает скептиче¬
ское направление в историографии (см. об этом подробнее в прим. 89
на с, 637). С другой стороны, Бэлинскнй в «Литературных мечтаниях» еще
укоряет Петра I в слишком резком разрыве с народпой традицией. Время
Екатерины II, но мнению критика, смягчило этот разрыв: «тогда-то парод
русский, наконец освоившийся кое-как с тесными и несвойственными ему
формами новой жизни», — впервые после царя Алексея проявил свой соб¬
ственный, пезаёмный, самобытный дух, и гений Державина воплотил его
в слове.
Почему же в статье «Нпчто о ничем...» Белинский изменил свой взгляд
на «невежество» Державина? Потому прежде всего, что оно представляется
теперь критику мнимым: поэт, по его новым представлениям, вовсе не был
оторван от идей времени; наоборот, он поддавался их давлению, а это были
ложные, высокопарные, неглубокие идеи. Значит, в ином свете явилось те¬
перь критику и екатерининское время: «Державин шел путем слишком
гесным; он льстил современности, нападал на интересы частные, современ¬
ные и редко прибегал к интересам общим, никогда не стареющим, никогда
не изменяющимся — к интересам души и сердца человеческого!» Значит,
изменилось и соотношение частного и общего, национального и всечеловече¬
ского. Народен не тот, кто во что бы то ни стало хочет выразить свое и отго¬
родиться от чужого, а тот, кто открыт устремлениям общечеловеческого
прогресса. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» сказано об од¬
ном из писателей (о Николае Полевом): «автор... искал больше человече¬
ского, нежели русского, и вследствие этого народное и русское само
пришло к нему».
Теперь в центре концепции народности Белинского не один конкрет¬
ный народ, а динамика развития народов, определивших лицо мировой
истории. Оценка национального момента подчинена этой динамике. По¬
скольку данный парод воплощает самые прогрессивные тенденции мировой
истории (пли, па языке идеалиста, представляет современную стадию раз¬
вития всеобщего духа), он обладает высшей всеобъемлющей народностью.
Яркость национальной печати данного народа находится в прямой зависи¬
мости от богатства исторического содержания его жизни. В связи с этим
Белинский (особенно явственно уже за пределами интересующего нас
периода, в конце 30-х гг.) повышает свою оценку реформ Петра I, которые,
как считает критик, придвинули Россию к общеевропейской линии
развития. Но соответственно чрезвычайно понижается и оценка допетров¬
ского периода русской истории, находящейся, по его мнению, ниже
необходимого исторического уровня.
Легко почувствовать, что за «перестановкой акцентов» в проблеме на¬
родности — рост социальной и, я бы сказал, политической оппозиционности*
618
В эстетической оболочке ощущается горячее общественное чувство Белин¬
ского, негодующего против феодальной отсталости, неподвижности, защи¬
щающего идеи европеизации страны.
Эти настроения вообще стимулировали характерный для второй поло¬
вины 20-х — начала 30-х годов переход от романтического типа народности
к философскому (построенному на дпнампке развития идеп, то есть истори¬
ческих стадии).
Однако Белинский пошел дальше этого взгляда. Оригинальность кри¬
тика особенно видна в том месте статьи «Ничто о ничем...», где он вклю¬
чается в обсуждение проблемы народности вслед за Надеждиным. «Что та¬
кое народность в литературе? Отражение индивидуальности, характерности
народа, выражение духа внутренней и внешней его жизни, со всеми ее ти¬
пическими оттенками, красками и родимыми пятнами—не так ли?» Белин¬
ский привел общепринятое определение; незадолго перед тем его развивал
Надеждин в статье «Европеизм и народность, в отношении к русской словес¬
ности» К Но следующее затем рассуждение в статье «Ничто о ничем...» зву¬
чит уже полемически ново: «Если так, то, мне кажется, нет нужды постав¬
лять такой народности в обязанность истинному таланту, истинному поэту;
она сама собой непременно должна проявляться в творческом создании».
Мало сказать, что национальный момент Белинский включает в фило¬
софскую концепцию. Но он вообще считает: не надо гоняться за народно¬
стью. Народность не должна быть целью, не должна условливаться априор¬
ными критериями: выбором темы, угла зрения, материалом и т. д. По Белин¬
скому, народен «Евгений Онегин», отображающий преимущественно жизнь
высших сословий; народны и сочинения Гоголя, в которых «поэтизируется
по большой части жизнь собственно народа, жизнь массы». Народность под¬
чиняется только одному критерию — истинности: «если изображение жизни
верно, то и народно». Создается открытая эстетическая перспектива, в ко¬
торой ведущее слово признается за самим художником, прокладывающим
новые пути в искусстве.
Отсюда, на первый взгляд, неожиданный факт: Белинский в это время
с большим пониманием относился к типично романтической ситуации: ге¬
ний и толпа; великий художник и коснеющая в предрассудках и невежестве
масса. Не одобряя такую крайность, когда художник-гений понимался как
синоним «оригинала», отрешенного от всех мирских забот, критик считал
плодотворной саму идею — «изобразить художника в борьбе с людьми, об¬
стоятельствами, судьбой и самим собою». Порой же в изображении Белин¬
ским непримиримого конфликта, в который вовлекается гений, сверкают
краски, словно заимствованные с художественной палитры «бурпых ге¬
ниев», представителей пемецкого литературного движения «Бури и на¬
тиска». «Вы ожидаете услышать из уст его какое-нибудь недоговоренное
слово, какой-нибудь глухой вопль души, подобный молнии, проблеснувшей
над бездною и открывшей на минуту всю глубину ее; вы ожидаете увидеть
лицо, мгновенно передернутое судорогою, уста, искривившиеся страданием,
взор, который изобличал бы предсмертную муку...» Весь этот реквизит ху-
дожника-гения высмеивался и преследовался философской критикой,
1 См.: Надеждин, с. 440—441.
619
Надеждиным в первую очередь, видевшим в нем проявление запоздалого
романтизма. Однако Белинский в традиционной ситуации ощущал актуаль¬
ное содержание.
С одной стороны, эта ситуация давала выход его демократическим
бунтарским настроениям — и в приведенном только что описании че¬
ловека с лицом, передернутым судорогою, с мучительным взором, словпо
запечатлен облик Дмитрия Калинина, героя юношеской драмы Белин¬
ского. Но в то же время в этой ситуации воплотилась эстетическая
проблематика: во всех разногласиях гения и толпы, касающихся художе¬
ственного вкуса, путей развития искусства и т. д., приоритет признается
за генивхМ.
Вообще проблема гения и его соотношения с талантом занимает все
большее место в сознании Белинского, начиная с рецензии на романы
Н. Полевого, со статьи «Стихотворения Кольцова». Если «талант в состоянии
изображать лишь то, что внушено ему обстоятельствами или влиянием, то
«гений творит образы новые, никем даже не подозреваемые». Автономность
гения понимается не в смысле независимости его от природы, а в том
смысле, что последняя открывает свои законы через гения. «Гений есть тор¬
жественнейшее и могущественнейшее проявление сознающей себя при¬
роды». Поэтому, находясь в полном согласии с законами природы (и даже
служа их орудием), гений противоречит художественным законам, приня¬
тым его современниками. И тот, кто хочет увидеть новые пути в искусстве,
должен идти за гением, но не за толпой.
В этом пуикте взгляды Белинского сближались с кантовской теорией
гениальности из его «Критики способности суждения». Причем — любопыт¬
ная деталь! — Белинский оказался ближе к духу этой теории, чем много¬
опытный и более сведущий в немецкой философии Надеждин. Оба были
преисполнены веры в творческие силы художника, оба взяли на вооружение
кантовское положение об эстетическом суждении как «целесообразности
без цели» (см. наст, т., с. 165 и прим. 25 на с. 654). Но Надеждин при этом,
боясь своеволия художника и эстетического произвола, выдвигает катего¬
рию образца, обязательного и для гения: «Бессмертные творения великих
наших предшественников... сияют теперь перед нами во всей лучезарной
лепоте своей. Стоит только прилежнее поучиться...»1 У Белинского же
(как и у Канта) природа открывает свою актуальную волю не в прошлых
образцах, по в новейших творениях гениев2. Вновь создаются незамкну-
тость, открытость эстетической перспективы.
Отсюда — характер требований, предъявляемых Белинским к критике.
Первым условием ее он считает эстетическую чуткость, «приемлемость впе¬
чатлений изящного». И Белинский зло смеется пад суждением по системе,
1 Н а д е ж д и н, с. 60.
2 Ср. положение Капта в «Критике способности суждения»: «...Произве¬
дение гения (по тому, что в произведении следует приписать гению, а пе
возможной выучке или школе) — это пример не для подражания (иначе
в нем было бы утеряно то, что в нем есть гений и что составляет дух
произведения), а для преемства со стороны другого генпя, в котором оно
пробуждает чувство собственной оригинальности...» (И м м а н у п л К а н т,
Соч. в 6-ти томах, т. 5. М., «Мысль», 1966, с. 335),
С20
по образцу: в этом случае критик «похож на мольеровых лекарей, которые
говорили, что опи лучше решатся уморить больного, чем отступить хоть
на йоту от предписаний древних».
Все эти размышления Белинского к концу интересующего нас перио¬
да вылились в решение вопроса «о критике вообще и у нас в России». Так
называлась статья С., Шевырева, вызвавшая отклик Белинского.
Шевырев устанавливал, что критика двояким образом участвует в раз¬
витии художественной культуры. Она или следует за поэзией, или предше¬
ствует ей. «Там творцы поэты открывают начало литературы: здесь критик
есть... ее начинатель» !. Первый случай имел место в большинстве развитых
европейских литератур. Второй — в литературе немецкой, где возникла
плеяда блестящих мыслителей, начиная от Лессинга, Винкельмана и Гер-
дера, и где словесности предстояло исполнить то, что уже «предчувствова¬
ла критика»2. В России, считает Шевырев, должно произойти то же,
что и в Германии.
Казалось, кому как не Белинскому, в котором русская критика впервые
осознавала свою огромную силу, — не поддержать второй, так сказать, не¬
мецкий путь развития отечественной литературы! Однако Белинский отверг
прогноз Шевырева. Почему? Это будет видно из того, как понимал послед¬
ний приоритет критики.
В литературном мире идет вечная борьба двух сил — собственно поэ¬
зии и поэтической теории (науки). Первая представляет начало движения,
вторая — начало порядка, сдерживания. Первая стремится к полной свободе
и хаосу. Вторая — к мертвому, холодному подражанию. Кто же примирит
враждующие силы, обеспечив нормальный литературный прогресс? Кри¬
тика! Критика оперирует теоретическими положениями, но она не наука, а
посредница между наукой и поэзией. «Торжествует исключительно наука:
освободить искусство* буйствует искусство: восставить на него науку,—
вот ее назначение» 3. Критике, таким образом, отводится роль регулятора
творческой силы. Но это было равносильно наложению опеки на литературу,
от которой Белинский и ждал нового слова. И поэтому в поставленной Ше-
выревым дилемме он взял сторону поэзии (искусства), а не науки.
«Между искусством и наукою точно есть борьба, — писал Белинский
в статье «О критике и литературных мнениях «Московского наблюда¬
теля», — да только эта борьба есть пе жизнь, а смерть искусства. Вдохнове¬
нию не нужна наука, оно ученее науки, оно никогда не ошибается. Основ¬
ной закон творчества, что оно сообразно с целию без цели, бессознательно
с сознанием (Белинский вновь мотивирует суверенность творчества с по¬
мощью кантовских положений. — Ю. М.), опровергает все теории и системы,
кроме той, которая основана на нем, выведенная от закопов человеческого
духа и вековых опытов над произведениями искусства...»
Подходя к критике с другой стороны — со стороны ее функций в об¬
ществе, Белинский настаивает на ее доходчивости, демократизме. Критика
должна быть «говорливою», наклоняться «до своих читателей», пережевывать
1 «Московский наблюдатель», 1835, апрель, кн. 1, с. 497.
2 Т а м ж е, с. 496.
3 Т а м же, с. 504.
621
«пм пищу»? с tide см, Бсемп способами воспитывать и развивать «чувство
изящного). Но пря этом она не должна поступаться свопм содержанием и,
соприкасаясь с высокими произведениями искусства, должна усваивать и
осмыслять то новое, что явлено через них «человеческим духом» (приро¬
дою). Зто и будет соединением «немецкой теории и французского способа
изложения:), что составит, по Белинскому, отличие русской критики.
В решении Белинским проблем народности, соотношения гения и та¬
ланта, наконец, функции и характера критики замечается общая тенден¬
ция — спять ограничения, дать простор для творчества, для нового, еще
только зарождающегося.
Одновременно Белинским снимаются запреты на выбор темы, предме¬
тов изображения, а также па пх критическую интерпретацию. Все сферы
жизни подвластны искусству, его аналитическому, беспощадному скаль¬
пелю. «Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть.
Дурна ли, хороша ли, по мы не хотим ее украшать, ибо думаем, что в поэ¬
тическом представлении она равно прекрасна в том и другом случае, и
потому именно, что истинна, и что где истина, там и поэзия».
Тенденция эта — против ограничений и запретов — была, конечно, на¬
сквозь злободневной, вырастала из насущных устремлений русской литера¬
туры тех лет. Шевырев, например, явпо побаивается обозначившихся колос¬
сальных перемен, получивших впоследствии наименование реалистиче¬
ских, — и ему чудится в них нечто от своеволия и «буйства», которое надо
поскорее подчинить строгой указко критики. Белинский же — весь внима¬
ние, весь — доверие к новым веяниям. И борьбе за суверенность новых
реалистических тенденций — такова сложность литературного развития! —
Белинский подчиняет даже типично романтическую ситуацию художника-
гения и толпы.
Ш
Аполлон Григорьев писал: «Имя Белинского, как плющ, обросло че¬
тыре поэтических венца, четыре великих и славных имени... сплелось с
ними так, что, говоря о них как об источниках современного литературного
движения, — постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить и о
пем. Высокий удел, данный судьбою немногим из критиков!»1
Четыре великих имени — Грибоедов, Пушкин, Гоголь и Лермонтов.
О трех из них Белинскому удалось сказать нечто существенно важное уже
в самом начале критического пути.
Отношение Белинского к Грибоедову было сложным и с течением вре^
ыени претерпело различные изменения. Но никогда так высоко пе ставил
он творца «Горя от ума», пожалуй, никогда так верно не оценивал пе
только общественное, но и художественное значение комедии, как в первые
годы своей деятельности. «Горе от ума» «есть истинная divina comedia!» (бо¬
жественная комедия). В лице Грибоедова русская литература «лишилась
Шекспира комедии». Очевидно, такому подходу благоприятствовало само
миросозерцание Белинского этих лет.
1 Григорьев, с. 161,
622
Предмет комедии, говорит автор «Литературных мечтаний «есть пред¬
ставление жизни в противоречии с идеею жизни». Зта фра?а возвращает
нас к вдохновенному описанию жизни вечной идеи, то есть к философскому
кредо Белинского в «Литературных мечтаниях». Комическое — это отрица¬
тельный способ выражения той же идеи, через контраст должного и сущего,
идеального и действительного. Осознание этого контраста порождает вели¬
чайшую силу горечи, негодования, протеста — тут демократизм раннего
Белинского ищет себе опору в самой философской установке. «Элемент»
комедпи есть этот желчный гумор, это грозное негодование, которое не
улыбается шутливо, а хохочет яростно, которое преследует ничтожество
и эгоизм не эпиграммами, а сарказмами». Белинский в эту пору очень
чуток к сатирическому проявлению художественной мысли, к открытому
выражению авторского приговора, к вторжению в поэтику произведения
субъективно-лирических моментов. Все это в концентрированном виде он
и нашел в «Горе от ума», где люди, извратившие «идею жизни», «заклей¬
мены мстительною рукою палача-художника».
И не случайно Всеволод Мейерхольд, готовя в 1928 году спектакль
«Горе уму», задуманный как гневный сатирический памфлет на старую Рос¬
сию, обращался за поддержкой к автору «Литературных мечтаний». В бе¬
седе с актерами Мейерхольд говорил, что данная молодым Белинским ха¬
рактеристика грибоедовской комедпи «очень и очень нам может помочь» К
Суждения Белинского о «Горе от ума» предваряют описание «идеаль¬
ной» и «реальной» поэзии, содержащееся в статье «О русской повести и
повестях г. Гоголя».
Как мы уже знаем, философской критике свойственно было представ¬
ление о гом, что поэзия, развиваясь, проходит через определенные стадии:
символическую, классическую, романтическую и т. д. К подобному воззре¬
нию Белинский подойдет позже, к концу 30-х годов. Что же касается его
теории двух типов поэзии — идеальной и реальной, — то она еще строится
на несколько иных основах.
Прежде всего резко отличается от общепринятой трактовка Белинским
античной (классической) формы. Последняя традиционно считалась образ¬
цом объективной поэзии. Белинский же видит в ней выражение поэзии
идеальной, то есть такой поэзии, когда художник «пересоздает жпзнь по
собственному идеалу» («...ибо у всякого младенчествующего народа... жизнь
всегда враждует с действительностью»).
Однако главное отличие состоит в следующем. В философской критике
прокладывал себе дорогу историко-типологический подход: каждая из форм
поэзии строго связывалась с определенной эпохой: классическая с антич¬
ностью, романтическая со средневековьем и т. д. Белинский же строит свою
концепцию на иных основах. Хотя он склоняется к той мысли, что реальная
поэзия, «родившаяся вследствие духа нашего положительного времени, бо¬
лее удовлетворяет его господствующей потребности», но совремепные права
поэзии идеальной им не оспариваются. Наоборот. «...В наше время невоз¬
можна идеальная поэзия? Кет, именно в наше-то время и возможна она...
1 В. Э. М е й е р х о л ь д. Статьи, письма, речи, беседы, ч. II. М., «Искус¬
ство», 1968, с. 161.
623
только не в том смысле, как у древних». И тут вновь звучит панегирик
субъективному, лирическому началу в поэзии, причем вытекает он из зна¬
комой нам философской посылки — о развитии «идеи всеобщей жизни».
«Для нас внешняя природа, без отношений к идее всеобщей жизни не имеет
никакого смысла... Лирический поэт нашего времени более грустит и жа¬
луется, нежели восхищается и радуется, более спрашивает и исследует,
нежели безотчетно восклицает». Отсюда — законность в современной поэзии
и такого способа изображения, когда нарушаются принципы жизнеподобая.
Правда, среди образцов современной идеальной поэзии критик не упо¬
минает комедию Грибоедова, видимо считая ее более сложным случаем
(ведь персонажи «Горе от ума», как говорилось в «Литературных мечта¬
ниях», «сняты с натуры во весь рост, почерпнуты со дна действительной
жизни»). Но самим обоснованием субъективных форм художественной
мысли концепция идеальной поэзии продолжает характеристику грибоедов-
ской комедии.
Если в Грибоедове Белинский, так сказать, легализировал — в эстети¬
ческом отношении — субъективно-лирические моменты современной поэзии*
то Пушкин толкал критика к пересмотру самого понятия содержательности.
Дело в том, что камнем преткновения для философской критики служила
именно мнимая нефилософичность зрелых произведений Пушкина. Содер¬
жательность понималась как прямая проекция в поэтический текст опре¬
деленных философских идей — существенно важных, с точки зрения
критика. Поэтому Надеждин отказывался видеть «мысль», скажем, в описа¬
нии душевного состояния автора при наступлении весны («Или, не радуясь
возврату погибших осенью листов...») и отсюда делал вывод, что «Евгений
Онегин» — произведение мелкое, бедное содержанием.
На этом фоне станет ясно, почему Белинский в оценке пушкинского
творчества передвигает акцент с «мысли» на «чувство». Молодые поэты пе
увидели в творениях Пушкина «этого чувства глубокого и страдательного,
которым они дышат и которое одно есть источник жизни художественных
произведений», — отмечалось в «Литературных мечтаниях». Еще решитель¬
нее — в статье «Стихотворения Владимира Бенедиктова», где с точки зрения
«чувства» рецензируемому поэту противопоставлялся именно Пушкин:
«...Сочинение может быть с мыслию, но без чувства; и в таком случае, есть
ли в нем поэзия? И, наоборот, очень понятно, что сочинение, в котором есть
чувство, не может быть без мысли».
Апология «чувства» Белинским — это, конечно, не противопоставление
ему мысли. Наоборот, это особая форма защиты мысли, обоснование художе¬
ственного плана ее проявления. А с точки зрения последнего, мысль сильна
не как философский афоризм, но как мысль-чувство, сильна конкретностью
и человечностью своего жизненного течения. И Белинский в качестве при¬
мера глубокой мысли приводит строки о бесплодно растраченной молодости
(«Но грустно думать, что напрасно // Была нам молодость дана»). А ведь
именно исходя из подобных примеров, Надеждин делал вывод, что «фило¬
софский камень не дался автору «Евгения Онегина».
«Евгений Онегин» — «лучшее произведение Пушкина». Это было заяв¬
лено молодым критиком явно в пику Надеждину, да еще в статье «Ничто
о ничем...», представляющей собою «отчет» издателю «Телескопа»,
624
Одновременно Белинским совершалась реабилитация и таких произве¬
дений, как «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», которые были отвергнуты
Надеждиным по причине их принадлежности к «романтпзхму».
Следует, однако, отметить, что известный «философский» порог для
раннего Белинского продолжал существовать: многие пушкинские стихотво¬
рения, большинство повестей Белкина, «Анджело», сказки, «Домик в Ко¬
ломне» были с неодобрением или снисходительно встречены критиком по
причине их якобы недостаточной серьезности и глубины. Повести Белкина
«не художественные создания, а просто сказки и побасенкп». Эта мысль
была равносильна другой: в повестях Белкина жизнь не осмыслена фило¬
софски, но передана в случайности и фрагментарности своего эмпириче¬
ского течения. И «Домик в Коломне» — это только «шуточная и остроум¬
ная безделка». В дальнейшем Белинский многое здесь пересмотрел, по,
скажем, в отношении повестей Белкина, сказок этот порог так и остался им
непреодоленным.
Уже к середине 30-х годов рядом с Пушкиным в сознании Белинского
выросла другая колоссальная фигура — Гоголь, которого критик признал
«главою» русской литературы, «главою поэтов».
Любовь к Гоголю Белинский мог унаследовать от Надеждина, который,
как мы теперь знаем, был в начале 30-х годов одним из самых глубоких
ценителей и самых страстных защитников восходящего таланта. Окрепла
же эта любовь в кружке Станкевича, в общении с друзьями-сверстниками.
Впоследствии один из участников кружка вспоминал: «В те годы только
что появлялись творения Гоголя; дышащие новою, небывалою художествен¬
ностью, как действовали они тогда на все юношество и в особенности на
кружок Станкевича!.. Станкевич ценил очень верно и тонко художествен¬
ность Гоголя...» 1 Этот вывод подтверждается множеством конкретных дета¬
лей: свидетельством того же мемуариста о восторженном приеме в кружке
Станкевича «Повести о том, как поссорился...» и «Коляски», высказыванием
Станкевича (в письме к Я. Неверову от 4 ноября 1835 г.) о том, что Гоголь—
«романист», «которому равного я не знаю между французами. Это истин¬
ная поэзия действительной жизни» 2, и др.
Все это ничуть не умаляет заслуг Белинского как истолкователя
Гоголя. Наоборот: критик чутко уловил настроение лучшей части русских
читателей — особенно «юношества», — воплотив это настроение в слово, в
концепцию.
Только что приведенная мысль Станкевича о гоголевском творчество
как «истинной поэзии действительной жизни» под пером критика выступает
1 К. Аксаков. Воспоминание студентства 1832—1835 годов.— «День»,
1862, № 40.
2 Станкевич, с. 335. Сдержаннее первое известное высказывание
Станкевича о «Ревизоре», однако оно вовсе не свидетельствует об его
отрицательном отношении к комедии. Н. Станкевич оценивает ее сравни¬
тельно: «Ревизор далеко отстал от Миргорода. Это не его род. Но и тут
талант» (там ж е, с. 613). В то же время есть основания считать, что очень
скоро Станкевич более глубоко посмотрел на «Ревизора». Уже 3 ноября
1836 года, после посещения спектакля, Станкевич замечал, что «Щепкнн
превосходен в последнем акте, но в 1-м не постиг, кажется, Гоголя» (там
же, с. 623). Последующие свидетельства И. Тургенева, Грановского говорят
о страстной любви Станкевича ко всему творчеству Гоголя.
625
в ином обличье — как элемент его теоритт двух видов поэзии. В данном
случае — реального вида («Эта поэзия реальная, поэзия жизни действитель¬
ной...»). Из этого положения были выведены все конкретные памятные
нам признаки гоголевских произведений: «простота вымысла», «совершен-
ная истина жизни» и т. д.
Статья «О русской повести...» сразу оставила далеко за собой все
написанное о Гоголе, потому что в ней впервые его творчество включалось
в контекст общерусской (и в некоторой мере общеевропейской) литератур¬
ной эволюции. Тем самым в отношении Гоголя критик решил ту же задачу,
которую несколько раньше И. Киреевский поставил применительно к Пуш¬
кину (в работе «Нечто о характере поэзии Пушкина», 1828).
К «поэтическим венцам» Грибоедова, Пушкина, Гоголя, воздвигнутым
с помощью Белинского, можно было бы прибавить еще одно великое имя —*
Баратынского, если бы... если бы критик не оказался к нему столь неспра¬
ведливым, оспорив даже его право называться настоящим поэтом. (Впослед¬
ствии, в 40-е гг., Белинский более высоко оценивал творчество Баратын¬
ского, но он так и не поставил его в первый ряд поэтов, тех, кто создает
«капитальные произведения».)
Приговор этот, так диссонирующий с нашим сегодняшним восприяти¬
ем Баратынского, нужно не оправдывать (в оправдании Белинский не
нуждается), но объяснить.
Белинскому было свойственно представление о неуклонном совершен¬
ствовании человечества: «Вчера всегда хуже нынче, завтра всегда лучше
нынче», — писал критик в 1836 году. Непреложность этого процесса гаран¬
тирована (речь идет о Белинском 1834—1836 гг.) прогрессом разума и спо¬
собностью людей неуклонно претворять разумное з жизнь. Мироощущение
же Баратынского, как известно, было более сложным и не столь оптими¬
стичным. И со стороны критика это вызывало не просто несогласие. Чело¬
веку, торжественно провозгласившему (в «Литературных мечтаниях»), что
общество «ежеминутно улучшается», подобный комплекс воззрений мог
показаться как нечто уже безнадежно архаичное.
Помимо контраста в философском мироощущении, существовала еще
и эстетическая несовместимость, так до конца Белинским и не преодолен¬
ная. В стихах Баратынского, отмечал критик, «игра ума», холодность, в то
время как современному читателю «надо в поэзии огня да огня: иначе нас
трудно разогреть». Последние строки одного из стихотворений («Ожидание»)
походят «на заключение хрпи» — то есть они кажутся принадлежащими к
риторике, но не к поэзии. И вообще — многое в Баратынском от XVIII века!
Мы уже знаем, какое место занимала идея гения в эстетических воз¬
зрениях Белинского. Однако ведь она существовала не только как теорети¬
ческий взгляд, но проявлялась в самом вкусе критика, в его избирательно¬
сти: исполненное волнения, живого трепета предпочиталось холодному и
рационально взвешенному. В связи с этим устанавливался резко отрица¬
тельный взгляд на риторику и как определенную дисциплину, и как
арсенал завещанных еще античностью художественно-экспрессивных прие¬
мов, — взгляд, ставший знамением времени, типичный и для романтиков,
и для идеологов реализма (все значение риторики для европейской куль¬
туры было раскрыто лишь в нашем веке).
620
В противопоставлении Белинским деланного искусства искусству
«живорожденному» (выражение Ап. Григорьева) прокладывала себе путь
прогрессивная эстетическая тенденция, но этот путь имел своп издержки
и подчас приводил к смешениям. Белинский был беспощаден к логической
априорности и стилистической цветистости, но эта же самая беспощад¬
ность — в случае с Баратынским — мешала отличить игру ума от глубин
интеллектуальности и изящную каламбурность от изящества мысли.
* * *
Деятельность Белинского часто делят па три периода: середина 30-х,
конец 30-х и 40-е годы. Об этих трех стадиях писал Плеханов как о своего
рода тезисе, антитезисе и синтезе в развитии Белинского, причем сходство
последней стадии с начальной видел в ощущении критиком тесной связи
искусства с общественными вопросами.
Первым эту мысль высказал сам Белинский. В августе 1840 года, в на¬
чале нового (заключительного, «третьего») этапа своей деятельности, ои
писал Боткину: «От теорий об искусстве я снова хочу обратиться к жизни
и говорить о жизни. В «Наблюдателе» и «Отечественных записках» я доселе
колобродил, но это колобродство полезно: благодаря ему, в моих статьям
будет какое-нибудь содержание не так, как в телескопских».
Таким образом, и у Белинского, и у его исследователей первый период
хронологически падает на двухлетнее сотрудничество в «Телескопе» и
«Молве», то есть на отрезок времени, обнимаемый настоящим томом. Однако
с характеристикой этого периода, данной самим Белинским, едва ли можн">
согласиться: она продиктована его строгой самокритикой 40-х годов. В дей¬
ствительности его начальные шаги вовсе не были свободны от философ¬
ского «колобродства». Наоборот, жизненное содержание с самого начала
воспринималось Белинским в эстетической оболочке, что, как мы видели,
необычайно актуализировало его теоретические построения и ставило
критика в оригинальные отношения к главенствующему философскому
течению русской эстетики. И в этой двуедпности раппего Белинского
таились семена его будущего развития — как философского самоуглубления
конца 30-х годов (его симптомы заметны уже в статье о сочинении Дроз¬
дова; см. об этом в прим. к ней), так и широких социально-политических и
художественных концепций следующего восьмилетия.
Ю. Майн
СТАТЬИ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ
(с. 47-127)
Впервые — «Молва», 1834, ч. VIII, (I) —№ 38, с. 173—176 (ц. р. 21 сен¬
тября); (II) —N° 39, с. 190—194 (ц. р. 28 сентября); (III) —N° 41, с. 224—
236 (ц. р. 12 октября); (IV) — N° 42, с. 248—256 (ц. р. 20 октября); (V) —
N° 45, с. 295-302 (ц. р. 10 ноября); (VI) — № 46, с. 308—318 (ц. р. 16 нояб¬
ря); (VII) — № 49, с. 360—377 (ц. р. 7 декабря); (VIII) - № 50, с. 387-403
627
(ц. p. 14 декабря); (IX) — № 51, с. 413—428 (ц. р. 21 декабря); (X) — № 52,
с. 438—462 (ц. р. 29 декабря). Подпись: — он—ииский. Вошло в КСсБ, ч. I,
с. 5—130.
«Литературные мечтания» не первое выступление Белинского в печа¬
ти. Еще в 1831 году в московском журнале «Лпсток» было опубликовано его
стихотворение «Русская быль» (№ 40-41, подпись: В. Б.—й). Несколько
позднее в этом же издании (№ 45, ц. p. 10/VI, без подписи) появи¬
лась маленькая рецензия на анонимную брошюру «О Борисе Годунове, со¬
чинении Александра Пушкина. Разговор». М., 1831, — первое известное нам
критическое произведение Белинского. В 1833—1834 годах Белинский опуб¬
ликовал ряд переводов с французского. Но именно «Литературные мечтания >
открыли русскому читателю выдающегося писателя, критика такого яркого
и могучего таланта, которого еще не знала отечественная литература.
В своей статье Белинский дал очерк развития русской литературы за
сто лет, произвел строгую переоценку ее ценностей, тесно связал идеи
философской эстетики с злободневными художественными проблемами
(см. об этом в сопроводительной статье к наст. т.).
«Литературные мечтания» вызвали широкий резонанс. Еще не закон¬
чилось печатанье статьи, а уже И. Лажечников запрашивал Белинского
в письме из Твери (от 26 ноября 1834 г.): «Чьи это у него (речь идет о
Надеждине, редакторе «Телескопа» и «Молвы». — Ю. М.) такие бойкие, ум¬
ные мечтанья (Литературные?). Описание царствования Екатерины нас
восхищает. Уведомьте с первою почтою, кто Автор их...» («Белинский и
корреспонденты», с. 174). Впоследствии в своих воспоминаниях Лажечников
подытожил те отклики, которые вызвала статья: «Изумление читателей
было общее. Кто был от нее в восторге, кто вознегодовал, что дерзкою рукою
юноши, недоучившегося студента (как узнали вскоре), семинариста (как
называли его иные) — одним словом, человека без роду-племени — кумиры
их сбиты с пьедестала, на котором они, казалось, стояли так твердо» («Вос¬
поминания», с. 43).
П. Анненков сохранил для нас ценное свидетельство Белинского о том,
как реагировал на «Литературные мечтания» писатель и ученый П. Каче-
повский: «Старый профессор призвал тогда к себе Белинского, — этого сту¬
дента, еще не так давно исключенного из университета за малые способно¬
сти, как говорилось в определении совета, жал ему горячо руку и говорил:
«Мы так не думали, мы так не писали в наше время» (Анненков, с. 135).
Есть свидетельство М. Погодина, правда, относящееся к значительно
более позднему времени (к 1869 г.), о том, что «Пушкин... обратил на нее
(на «Литературные мечтания») внимание...» (см.: М. Поляков. Пушкин
и Белинский (по неизданным материалам).— «Огонек», 1950, № 6, с. 24).
Особенно сильное впечатление произвела статья на молодых читате¬
лей, сверстников Белинского. И. Панаев, начинающий литератор, впослед¬
ствии близкий к Белинскому, писал критику 16 июля 1838 года: «Я прочел
Ваши «Литературные мечтания» ...во многом тогда же не согласился с
Вами, — но уже полюбил Вас искренно и после того не пропускал ни одной
Вашей строчки. Прямота Вашего характера, юношеская мощь в слове и —
самое важное — это глубокое эстетическое чувство, дарованное Вам госпо¬
дом богом, поразили меня с первого раза, Я подумал, прочитав Вашу
628
Критическую элегию: вот человек, который имеет все элементы для того,
чтобы сделаться со временем критиком, в полном значении этого слова-)
(«Белинский и корреспонденты», с. 196).
Говоря о появлении «Литературных мечтаний», младший современник
Белинского — Ап. Григорьев свидетельствовал: «...с этой минуты он, в гла¬
зах всех нас, тогдашнего молодого племени, стал во главе сознательного или
критического движения» (Григорьев, с. 159).
Статья Белинского вызвала несколько откликов в печати. Ряд бранч¬
ливых заметок поместил А. Воейков (псевдоним: А. Кораблинский) в «Лите¬
ратурных прибавлениях к Русскому инвалиду», 1835, № 40, 68, 83, и т. д.
С грубой бранью, граничившей с прямой политической инсинуацией, обру¬
шился на критика Ф. Булгарин в рецензии на книгу Е. Розена «Петр Бас¬
манов» («Северная пчела», 1835, № 251, 252). Белинский ответил впослед¬
ствии на этот выпад в «Журнальной заметке» (см. наст, т., с. 436).
Отзыв С. Шевырева о «Литературных мечтаниях» был еще уважитель¬
ный, несмотря на то, что он почувствовал себя уязвленным замечаниями
критика о его стихах. Напомнив о распространенном мнении — «У нас нет
еще словесности», — Шевырев писал: «На этот текст мы недавно читали
в одном московском журнале статью, одушевленную огнем и свежею мыс¬
лию, которую приятно было встретить, особенно после долгой отвычки от
мыслящего чтения в журналах. Вывод показался нам резким софизмом; но
многие черты и частные обрисовки в этой статье обнаруживают мнение
самобытное» («Московский наблюдатель», 1835, апрель, кн. 1, с. 494). Однако
есть свидетельства, что в устных высказываниях Шевырев был более резок
и непримирим. Н. Станкевич сообщал Я. Неверову 5 февраля 1835 года:
«Белинский в своих «Литературных мечтаниях» (хорошая статья в «Молве»;
Шевырев, говорят, хвалил ее, пока до него не дошло дело) сказал (хваля,
впрочем, чрезвычайно Шевырева), что в стихах его развивается мысль, а ив
изливается чувство. Справедливое замечание! Шевырев, говорят, взбесился
и кричит: как сметь так говорить? Это тон Полевого» (Станкевич,
с. 311). Все это предвещало уже острую полемику Белинского с Шевыревым
в следующем году (см. в наст. т. статьи «Ничто о ничем...» и «О критике и
литературных мнениях «Московского наблюдателя»).
Наиболее обстоятельным был отзыв Я. Неверова в его «Обозрении рус¬
ских газет и журналов за вторую половину 1834 года» («Журнал министер¬
ства народного просвещения», 1835, № 9, сентябрь, отд. VI). Хотя в философ¬
ских суждениях Белинского рецензент не нашел «ничего такого, чего бы
мы не знали», но, прибавляет он, «это всем известпое излилось с такою
полнотою, силою и жаром пз сердца автора, в этих строках так много
истины, благородного участия и нравственной девственности...» (с. 590).
Вместе с тем, по мнению рецензента, критик недооценил «прелестные песно¬
пения Жуковского и Батюшкова, взлелеявшие для нас мощного поэта
Пушкина» (с. 592). Внимание Неверова привлекла также полемика Белин¬
ского с псевдонародностью, с «ложным понятием», какое имеют о народ¬
ности «наши романисты».
«Литературные мечтания» не раз становились предметом внимания
демократической критики шестидесятников. Так, Н. Добролюбов отметил
связь статьи Белинского с умственной жизнью и настроениями в кружке
629
Станкевича, в который входил критик (см.: Н. А. Добролюбов. Со5р.
ссч. в 9-ти томах, т. 2. М. — Л., «Художественная литература>т 1962, с. 398).
Н. Черпышевскнй в пятой статье «Очерков гоголевского перл ода русской
литературы» (1856) указал на связь «Литературных мечтании» со статьей
Надеждина «Литературные опасения за будущий год> (1828). «Начал он
с того самого, на чем остановился Надеждин, — с чрезвычайно резкого и
горького отрицания всей нашей литературы, до самого Гоголя, который и
сам тогда еще не доказал, что его деятельность полошит конец этому отри¬
цанию» (Чернышевский, III, с. 183).
1 Белинский приводит цитату из книги О. Сенковского «Фантасти¬
ческие путешествия барона Брамбеуса». СПб., 1833, с. 327.
2 Крез — царь Лидии, обладавший огромным богатством. Ир — ни¬
щий, о котором рассказывается в «Одиссее» Гомера (песня восемнадцатая).
3 Из стихотворения А. Полежаева «Вечерняя заря».
4 Имеется в виду поэма И. Козлова «Чернец» (1825).
5 В 1834 г. в «Библиотеке для чтения» были опубликованы стихотво¬
рения И. Козлова «Моя молитва», «Свежана и Руслан» (т. I), «Ночь. Элегия»
(т. II), «Обманутое сердце», «Станцы из лорда Байрона», «К печальной кра¬
савице» (т. III), «К Эмме, из Шиллера» и «Умирающий Гейдук, иллирий¬
ская баллада» (т. IV). Все обстоит благополучно — цитата из рецензии На¬
деждина на вторую часть «Новоселья» («Молва», 1834, № 23; см.: Надеждин,
с. 385).
G О «новых приобретениях Байронов и Пушкиных» писал, в частно¬
сти, Н. Полевой в рецензии на первую главу «Евгения Онегина» («Москов¬
ский телеграф», 1825, № 5). Н. Полевому возражал Д. Веневитинов: «Я не
вижу в его (Пушкина. — Ю. М.) творениях приобретений, подобных Байро-
новым, делающих честь веку» («Сып отечества», 1825, № 8; см. также:
Д. В. Веневитинов. Избранное. М., Гослитиздат, 195G, с. 185—186).
7 Белинский пародирует О. Сенковского, который не скупился на
похвалы в адрес Кукольника. Так, разбирая его драматическую фантазию
«Торквато Тассо,), Сеиковский писал: «...я так же громко восклицаю «вели¬
кий Кукольпик!» перед его видением Тасса и кончиною Лукреции, как воск¬
лицаю «великий Байрон!» перед многими местами творений Байрона»
(«Библиотека для чтения», 1834, т. I, отд. V, с. 37).
8 Белинский пародирует название газеты «Литературные прибавле¬
ния к Русскому инвалиду».
9 Цитата пз стихотворения В. Жуковского «Утешение в слезах»
(из Гете).
10 Об истории этого тезиса («У нас нет литературы») см. в сопрово¬
дительной статье к наст, т., с. 613. См. также ниже, прим. 19.
11 Намек на О. Сенковского, выступавшего чаще всего под псевдо¬
нимом «Барон Брамбеус».
12 Имеется в виду «Надпись к портрету М. М. Хераскова» (1801)
II. Дмитриева:
Пускай от зависти сердца в зоилах ноют;
Хераскову спи вреда не принесут:
Владимир, Иоанн щитом его покроют
И в храм бессмертья проведут.
630
Иоанн Грозный — герой поэмы Хераскова «Росспяда»; кпевскпй князь Вла¬
димир — герой его поэмы «Владимир возрожденный».
13 Имя Хераскова упоминалось И. Кайдановым, наряду с Ломоносовым
и Державиным, в числе лучшпх русскпх ппсателей XVIII в. (И. Кайданов.
Руководство к познанию всеобщей политической истории. СПб., 1821, с. 343).
14 Выделяя курсивом гостеприимное «отечество», Белинский наме¬
кает на то, что Булгарин служил в армии Наполеона и в 1820 г., прпняв
вновь русское подданство, появился в Петербурге. Подробнее об этом Бе¬
линский писал в «Журнальной заметке» (см. также прим. 17 к «Журналь¬
ной заметке»).
15 Ср. в другой работе Белинского, в рецензии «Грамматика языка
русского, ч. I... Сочинение Калайдовича...» («Молва», 1834, № 47, 48; Белин¬
ский, АН СССР, т. I): «Г-н Греч выдумал три спряженпя (г. Греч очень
любит тройственность!)...» Несколько позже, в статье «Европеизм и народ¬
ность, в отношении к русской словесности», Надеждпн говорил о «тройствен¬
ности» Греча в том смысле, что он написал «целые три» грамматики. «Ко¬
нечно, эта тройка не далеко уехала на пустыре русского языка; да она
и заложена не по-русски...» (Надеждин, с. 419). Три грамматики Греча:
«Практическая русская грамматика». СПб., 1827; «Пространная русская
грамматика», т. I. СПб., 1827; «Начальные правила русской грамматики».
СПб., 1828.
16 Скиния завета — храм, в котором, по библейскому преданию, хра¬
нился ковчег завета (ящик со скрижалями Моисея).
17 Речь идет о романах И. Калашникова «Дочь купца Жолобова.
Роман, извлеченный из Иркутских преданий» (ч. I—IV. СПб., 1831) и «Кам¬
чадалка» (ч. I—IV. СПб., 1833).
18 Толстая фантастическая книга—это книга О. Сенковского «Фанта¬
стические путешествия барона Брамбеуса» (СПб., 1833), в которых предме¬
том шуток, в частности, служили Кювье и Шампольои. При этом Сенков-
скпй, мистифицируя читателя, прибегал к вымышленным, пародийным ци¬
татам. Например, одной из частей книги, под названием «Ученое путеше¬
ствие на Медвежий остров», были предпосланы следующие два эпиграфа:
«Итак, я доказал, что люди, жившие до потопа, были гораздо умнее
нынешних: как жалко, что они потонули!..
Барон Кювье»
«Какой вздор!
Гомер, в своей «Илиаде».
19 О. Сенковский в статье «Мазепа». Сочинение Фаддея Булгарина»
(«Библиотека для чтения», 1834, т. И, отд. V) писал: «У пас нет литера¬
туры! Что же такое значат 12 ООО званий русскпх книг в каталоге пашей
книжной торговли? Это верно 12 000 голландских сельдей!» (с. 1). Тютюн-
джи-Оглу — один из псевдонимов Сенковского. Но упомянутая статья
Подписана крпптоппмом О. О О!
20 Речь идет о трудах: Н. Ка р а м з и н. История государства Россий¬
ского, тт. I—XII. СПб., 1816—1829; С. Глинка. Русская история в пользу
воспитания, чч. I—VIII. М., 1816—1818; Ф. Эмин. Российская история
жизпи всех древних от самого начала России государей... тт. I—III. СПо.,
1767—1769.
631
21 Статья О. Сенковского «Скандинавские саги» (а не «Исландские
саги») была опубликована в «Библиотеке для чтения», 1834, т. I, отд. III.
22 Д. Велланский издал «Конспект главных содержаний общей физи¬
ки» (СПб., 1830), «Опытную, наблюдательную и умозрительную физику...»
(СПб., 1831) и др.; М. Павлов — «Основания физики» (ч. I. М., 1833; ч. II
вышла позднее, в 1836-м). Оба автора имели репутацию серьезных профес-
соров-шеллингианцев, пропагандистов новейших философских идей. Упо¬
минание Белинским Веллапского характерно потому, что незадолго перед
этим «Умозрительную физику В***» высмеял Сенковский в «Большом
выходе у Сатаны» (1833). Белинский же демонстративно отнес сочинения
Велланского и Сенковского к различным уровням «умственной деятель¬
ности».
23 «Лукреция Борджиа» (1833) —драма В. Гюго.
24 Неточная цитата из стихотворения Г. Державина «Видение мурзы».
25 Имеется в виду статья О. Сенковского «Скандинавские саги»
(«Библиотека для чтения», 1834, т. I, отд. III). «...Эта статья всемирная,
будет переведена на все языки», — писал о ней Булгарин в статье «Об об¬
щеполезном предприятии книгопродавца А. Ф. Смирдина» («Северная пче¬
ла», 1833, № 300).
26 Обозрения были популярным жанром в русской журналистике
1820-х — начала 1830-х гг. См. подробнее об этом в прим. (в вводной
ваметке) к статье «Ничто о ничем...».
27 Белинский имеет в виду А. Марлинского, автора большой статьи
«О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем» («Московский теле-
граф», 1833, № 15, 16, 17, 18; см. также: А. А. Бестуже в-М арлинский.
соч. в 2-х томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1958, с. 559—612). Далее Белинский
пародирует упомянутую статью Марлинского, который предлагал начать
разговор «с яиц Леды» («разве эту фигуру не считают началом мира и че¬
ловека?»), приглашал читателей на пароход «Джон Булль», чтобы прогу¬
ляться в Индию; высказывал мнение, что древнеиндийская поэзия была не
«гимном», а «молитвой», и т. д.
28 В греческой мифологии Леда — дочь Фестия, царя Этолии. От ее
союза с Зевсом, явившимся ей в образе лебедя, родилась Елена; причем,
согласно одному из вариантов мифа, родилась она из яйца. Став женой Ме-
нелая, Елена была похищена Парисом, что явилось причиной Троянской
войны. Крылатое выражение «с яиц Леды» восходит к Горацию, который
в своем сочинении «Об искусстве поэзии» ставит Гомеру в заслугу то, что
он, повествуя о Троянской войне, не начинает ab ovo (то есть с яиц Леды),
но сразу же вводит в сущность событий.
29 «Рамаяна» и «Махабхарата» — древнеиндийские эпические поэмы;
первая из них приписывается Вальмики. «Шакунтала» (полное название:
«Узнанная по кольцу Шакунтала»)—драма древнеиндийского писателя
Калидасы. Приводимое Белинским название этой поэмы «Саконтала» восхо¬
дит еще к первой русской публикации отрывков из поэмы в переводе
Н. Карамзина: «Сцены из Саконталы, индейской драмы» («Московский жур¬
нал», 1792, ч. VI, кн. 2).
30 Шива — один из индийских богов. Магадева (или Махадева, то
есть великий бог) — один из эпитетов Шивы.
032
31 Веды — древнейшие памятники индийской литературы, относя¬
щиеся ко 2-му — 1-му тысячелетиям до н. э.
32 Моаллакат — то есть «Муаллакат» — название сборника доислам¬
ской арабской поэзии, составленного Хаммадом. В сборник вошло семь
шедевров семи поэтов.
33 Белинский перефразирует выражение Н. Надеждина из статьи
«Всем сестрам по серьгам», опубликованной в «Вестнике Европы», 1829,
№ 22, 23 (см.: Надеждин, с. 106). Никодим Аристархович Надоумко — псев¬
доним Надеждпна, под которым в «Вестнике Европы» в 1828—1829 гг. был
опубликован ряд его нашумевших статей, начиная с «Литературных опасе¬
ний за будущий год». В последний раз за подписью «Н. Надоумко» была
опубликована статья «Борис Годунов. Сочинение А. Пушкина» («Телескоп»,
1831, ч. I, № 4), и с тех пор под этим псевдонимом Надеждин больше не
выступал. Поэтому Белинский называет Надоумко покойником.
34 Евангелие от Матфея, 5, 3 («Блаженны нищие духом, ибо их есть
царство небесное»).
35 Из стихотворения В. Кюхельбекера «Смерть Байрона».
36 Речь идет о французской переделке «Короля Лира», принадлежа¬
щей перу Ж.-Ф. Дюсиса («Король Леар», 1783), и переделке Н. Гнедича
«Леар, трагедия в пяти действиях, взятая из творений Шекспира», СПб.,
1808. Н. Гнедич опирался не на английский подлинник, а на пьесу Дюсиса,
однако внес в нее ряд изменений (см. об этом в кн.: «Шекспир и русская
культура». М.—Л., «Наука», 1965, с. 88—92).
37 Из стихотворения Е. Баратынского «На смерть Гете».
38 Ган Исландец — персонаж одноименного романа В. Гюго. Карл
Моор и маркиз Поза — персонажи трагедий Шиллера «Разбойники» и «Дон
Карлос».
39 Эжен Сю, по профессии хирург, плавал в качестве судового врача,
а не капитана.
40 Из стихотворения Д. Веневитинова «Я чувствую, во мне горит...».
41 Об этом писал Н. Надеждин в рецензии на повесть «Киргиз-кай-
сак» В. Ушакова: повесть — «эскиз, схватывающий мимолетом одну черту
с великой картины жизни — краткий эпизод из беспредельного романа судеб
человеческих» («Телескоп», 1831, ч. I, № 3, с. 383).
42 Евангелие от Матфея, 11, 28.
43 Это отзвук представлений «скептической школы» в русской исто¬
риографии — школы, основанной М. Каченовским. Согласно этим представ¬
лениям, на юге России в IX и X ев. жил грубый и дикий народ руссн^.
покоривший своей власти славянские племена.
44 Речь идет о царе Алексее Михайловиче.
45 То есть Петр Алексеевич — царь Петр Первый.
46 Неточная цитата из «Арапа Петра Великого» А. Пушкина, гл. IV.
Эта глава была опубликована в альманахе «Северные цветы на 1829 год»,
СПб., 1828, и перепечатана в кн. «Повести, изданные Александром Пушки¬
ным», СПб.. 1834.
47 Пушкин, «Евгений Онегин», гл. вторая, строфа XII. Последняя
строчка представляет собою цитату из песни Дуни в опере «Днепровская ру¬
салка» (переделка Н. Краснопольским пьесы Генслера «Das Donauweibchen»).
СЗЗ
Эту песню, пользовавшуюся большой популярностью, высмеивал п Надеж-
дип в «Литературных опасениях за будущий год» (см.: Надеж¬
дин, с. 61).
48 Белинский имеет в виду курского купца-самоучку Федора Алек¬
сеевича Семенова. В «Телескопе» (1832, ч. X, № 13) была опубликована
статья М. Погодина «Курский купец-астроном», рассказывавшая о жизни
Семенова. О Семенове Белинский упомянул и в 1838 г. в статье «Петровский
театр», видя в нем и в А. Кольцове «самобытные проблески народного
духа».
49 «Дворянские выборы» (М., 1829) п «Дворянские выборы, часть
Вторая, пли Выбор исправника» (М., 1830) — комедии Квиткп-Основьяненко;
новый роман Лажечникова — «Ледяной дом» (М., чч. I—IV, 1835). С отрыв¬
ком из этого романа — «Язык» — Белинский мог познакомиться по публи¬
кации в «Телескопе» (1834, ч. XX, № 16).
50 А. Пушкин, «Евгений Онегин», гл. шестая, строфа IV.
51 Бэлинский допускает нарочитый галлицизм (parler le russe).
52 Впоследствии Белинский изменил свой взгляд на значение дея¬
тельности Кантемира (см. его статьи: «Сочинения Александра Пушкина»,
статья первая; «Портретная галерея русских писателей. Кантемир» и др.).
53 Несмотря на то, что для XVIII — начала XIX вв. характерно былэ
в общем отрицательное отношение к деятельности Тредиаковского, суще¬
ствовали и иные мнения. Радищев, Воейков и др. подчеркивали его
заслуги перед русским стихосложением. «Его филологические и граммати¬
ческие изыскания очень замечательны», — писал Пушкин в статье «Путе¬
шествие из Москвы в Петербург».
54 Выражение А. Бестужева: «Подобно северному сиянию с берегов
Ледовитого моря, гений Ломоносова... озарил полночь» («Взгляд на старую
п новую словесность в России». — «Полярная звезда на 1823 год», СПб.).
55 Сравнение Ломоносова с Петром Великим было очень популярным.
«...Явился необыкновенный человек: Ломоносов, Петр в своем роде»
(Н. Полевой. Сочинения Державина. — «Московский телеграф», 1832,
№ 16, с. 536).
50 К этому месту в «Молве» было сделано примечание «издателя», то
есть Н. Надеждина: «Уведомляем наших читателей, что с будущего года из
постоянных отделений «Телескопа» будут составлять биографии отечествен¬
ных наших писателей, из которых несколько уже приготовлено. — Изд.».
57 Стихотворения М. Ломоносова называются: «Утреннее размыш¬
ление о божием величестве» (1743) и «Вечернее размышление о божием
величестве при случае великого северного сияния» (1743).
58 В произведении В. Жуковского «Двенадцать спящих дев» («Бал¬
лада вторая. Вадим») героя, которого «ведет рука святая», манит вдаль
звук чудесного «звонка».
59 Книга М. Ломоносова называется «Российская грамматика» (1755).
60 Две трагедии — это «Тамира и Селим» (опубл. в 1750 г.) и «Демо-
фонт» (опубл. в 1752 г.); Петриада — неоконченная поэма «Петр Великий)
(I песнь опубл. в 1760, II — в 1761 г.).
61 Впоследствии Белинский подчеркивал, что «при всей своей без¬
дарности Сумароков много способствовал к распространению на Руси
m
охоты п к чтению и к театру» («Сочинения Александра Пушкина», статья
первая).
62 «Гений —всего только большая способность к терпению»,— это
выражение Бгоффона, заппсапноз его современниками (Эро де Сешаль,
С. Пеккер), стало крылатым.
63 Такого мнения придерживался А. Бестужев: «Сумароков... был
отцом нашего театра» («Взгляд па старую п повую словеспость в России»).
64 Речь идет о Н. Кукольнике. В его произведении «Торквато Тассо,
большая драматическая фантазия в стихах» (СПб., 1833) умирающий Тассо
предсказывает появление «юноши» (то есть Кукольника):
Еще дитя, в училище, за книгой,
Он обо мне начнет мечтать и думать
II жпзнь морэ расскажет перед светом (с. 161).
65 Из стихотворения В. Жуковского «Русская слава».
56 Белпнскпй приводит слова Екатерины II (из ее «Наказа») по
кн.: И. Кайданов. Начертание истории государства Российского. СПб.,
1829, с. 401.
67 Екатерина II была автором множества произведении: политических
и исторических трактатов, статей, комедии, комических опер, сказок для де¬
тей; она негласно руководила журналами «Всякая всячина» и «Собеседник
любителей российского слова».
68 Понять этот намек помогает следующее место пз «Пантеона рос¬
сийских авторов» (1801—1802) Н. Карамзина: «Не многие, может быть, знают
следующий анекдот. Екатерина И, любя успехи российского языка, желала,
чтобы в избранном обществе Эрмитажа все говорили по-русски. Ее воля
была законом... За всякое иностранное слово, вмешанное в разговор, винов¬
ный осуждался прочесть сто стихов из «Тилемахиды» Тредиаковского)
(Карамзин. Соч., т. VII. СПб., 1834, с. 276).
69 Около января 1808 г. произошел следующий эпизод: привратник
Г. Державина принял пакет, адресованный соседу поэта обер-священнику
II. С. Державину. Поэт написал шуточное послание «Приказ моему приврат¬
нику» (в совремеппых изданиях стихотворение посит название: «Прпврат-
пику»), начинавшееся словами:
Един есть бог, един Державин,
Я в глупой гордости мечтал:
Одна мне рифма — древний Навин,
Что солнца бег остановлял.
Это стихотворение, опубликованное значительно позднее (1859), было изве¬
стно современникам Белинского по спискам.
70 Известный портрет Державина работы С. Тончи был выполнен
в соответствии с просьбой поэта:
...ты лучше напиши
Меня в натуре самой грубой;
В жестокий мраз с огнем души,
В косматой шапке, скутав шубой...
(«Тончию»)
71 Слова дз стихотворения Пушкина «Пророк»:
II шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.
635
72 Первое выражение — неточная цитата пз стихотворения Г. Дер¬
жавина «Фелица», второе — пз стихотворения Державина «Видение мурзы».
Оба стихотворения посвящены Екатерине II.
73 Речь пдет о Суворове, для характеристики которого Белинский
заимствовал живописные детали из од Державина, посвященных полководцу:
«На взятие Измаила», «На победы в Италии», «На переход Альпийских
гор» и др.
74 Критик пересказывает стихотворение Державина «Русскпе де¬
вушки».
75 Речь пдет о стихотворении «Бог» (1784).
75 Первая цитата из Евангелия от Матфея, И, 28. Вторая цитата пз
Евангелия от Луки, 23, 34.
77 Реминисценция из «Гамлета» Шекспира в переводе М. В (рончен-
ко), СПб., 1828, д. III, явл. 4 («Власы, подобно рати, пробужденной // От сна
смятеньем бранным, как живые // Встают горою!»).
78 Эти сравнения были очень распространены в русской критике
1810—1820-х гг. Так, например, П. Вяземский в статье-некрологе «О Держа¬
вине» сравнивал русского поэта с Анакреоном, Горацием, Ювеналом, Пинда¬
ром («Сын отечества», 1816, № XXXVII, с. 163—175).
79 Г. Державин написал несколько драматических произведений:
«Добрыня, театральное представление с музыкою в пяти действиях» (1804),
«Пожарский, или Освобождение Москвы; героическое представление в че¬
тырех действиях, с хорами и речитативами» (1806), «Ирод и Мариамна,
трагедия в пяти действиях» (1807) и др.
80 См. выше, прим. 12.
81 В журнальном тексте явная опечатка («пиитах» вместо «пиити*
ках»).
82 Комическая опера А. Аблесимова называется «Мельник, колдун,
обманщик и сват» (поставлена и издана в 1779 г.).
83 Имеются в виду беглые упоминания о Д. Ефимьеве и П. Плавиль-
щикове в «Опыте краткой истории русской литературы» Н. Греча (СПб.,
1822). О комедии Ефимьева «Преступник от игры, или Братом проданная
сестра» здесь сказано, что «она отличается острым и легким слогом» (с. 208).
Плавильщиков также причислен к «драматическим писателям», которые
«достойны внимания».
84 То есть стихотворение «Фелица».
85 Имеется в виду четверостишие Жуковского «Надпись на могиле
Карамзина»:
Лежит венец на мраморе могилы,
Ей молится России верный сын,
И будит в нем для дел прекрасных силы
Святое имя: Карамзин.
со Статьи Н. Арцыбашева «Замечания на «Историю государства Рос¬
сийского», сочиненную г. Карамзиным...» печатались в «Московском вест¬
нике» (1828, чч. XI, XII). Позднее в том же журнале (1829, ч. III) Арцыба¬
шев напечатал «Замечания на II т. «Истории государства Российского». Вы¬
ступления Арцыбашева вызвали шумный отклик; появились антпкрптпки,
иаирпмер, книга С. Руссова «О критике г. Арцыбашева на «Историю госу¬
636
дарства Российского, сочиненную Н. М. Карамзиным» (СПб., 1829); статья
О. Сомова «Хладнокровные замечания на толки гг. критиков «Истории го¬
сударства Российского» и их сопричетников» («Московский телеграф», 1829,
№ 2) и т. д.
87 Белинский перефразирует крылатое выражение «вернемся к на¬
шим баранам» (то есть не будем отступать от темы) — выражение, вос¬
ходящее к средневековому французскому анонимному фарсу «Адвокат Пьер
Патлен».
88 В «Рассуждении о российской словесности в нынешнем ее со¬
стоянии» («Труды общества любителей российской словесности», 1812,
ч. I) Мерзляков высказал ряд критических замечаний о поэмах Хераскова:
в «Россияде» употребление мифологических имен надумано («это фигуры
риторические, а не боги»), «характеры почти все однообразны», во «Влади¬
мире возрожденном» утомителен аллегоризм, вроде олицетворения «сове¬
сти — в образе девы, разума — в виде старика». Позднее Мерзляков развил
свой взгляд на «Россияду» в цикле статей, опубликованных в «Амфпоне»
(в частности: «Россияда» (Письмо к другу. О характерах)», 1815, май,
«Россияда» (Письмо к другу. О слоге Поэмы)», 1815, август, и др.). Одновре¬
менно с критикой поомы Хераскова выступил П. Строев в статье «Письма
о русской словесности. О «Россияде», поэме г. Хераскова» («Современный
наблюдатель российской словесности», 1815, № 1, 3).
89 Статья М. Каченовского «История государства Российского, т. XII»
была опубликована в «Вестнике Европы», 1829, № 17, 18. Эта статья вместо
с другими работами Каченовского («Параллельные места в русских летопи¬
сях», там же, 1809, ч. XLVII, № 18; «О баснословном времени в россий¬
ской истории», «Ученые записки Московского университета», 1833, ч. I, № 2, 3
и т. д.) положила начало так называемой скептической школе в русской
исторической науке. В противовес Карамзину эта школа настаивала па
недостоверности древнейших письменных источников русской история
(в частности «Повести временных лет» и «Русской правды»), оспаривала
тезис о высокой степени развития Киевской Руси. Несмотря на ошибоч¬
ность и односторонность этих выводов, сама идея критического подхода
к источникам, отмежевание от официальной историографии, поиски общих
моментов в русской и западноевропейской истории — все это имело большое
научное и общественное значение и обусловило симпатии к Каченовскому
со стороны молодого поколения, в частности Белинского. Как свидетель¬
ствовал С. Строев (С. Скромненко), Каченовский «гораздо прямее и подроб¬
нее говорил... о тех же предметах на лекциях, читанных им, в последние
годы, в словесном отделении Московского университета» (С. С к р о м-
ненко. О недостоверности древней русской истории... СПб., 1834, с. 6).
Упоминаемые Белинским юноши—это и есть слушатели Каченовского,
студенты Московского университета, развивавшие в своих трудах идеи
скептической школы: помимо С. Строева, Н. Станкевич («О причинах по¬
степенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III». — «Ученые записки
Московского университета», 1834, ч. V, № 1, 2), О. Бодянский («О мнениях
касательно происхождения Руси». — «Сын отечества и Северный архив»,
1835, т. LI, № 36, 38, 39) и др. Высказывание Белинского о скептической
школе см. также в X разделе «Литературных мечтаний».
637
90 Зоилом нередко называли Качсновского за его критику «Исторпп
государства Российского» Карамзина (см. в частности эпиграмму А. Пуш¬
кина «Журналами обиженный жестоко...»). Фома Фомич Желтяк, то есть
житель желтого дома, сумасшедший, — персонаж статьи Н. Полевого «Ли¬
тературные опасения кое за что» («Московский телеграф», 1828, 23, под¬
пись: Бенпгпа), направленной против Надеждина и пародировавшей на¬
звание его первой критической статьи «Литературные опасения за буду¬
щий год».
91 Белинский пародирует фразеологию оппонентов и критиков Арцы¬
башева. Возможно, имеется в виду Вяземский, который в ответ на статьи
Арцыбашева опубликовал в «Московском телеграфе» (1828, № 19) стихотво¬
рение «Быль», заканчивавшееся так:
Карамзина сравним с отважным зодчим.
С семьей же сов, друзья! и с прочим, прочим,
Кого и что сравнить, оставлю вам.
92 Ср. «Горе от ума», д. IV, явл. 4.
93 Не совсем точная цитата из «Евгения Онегина», гл. шестая,
строфа XI.
94 «Кадм и Гармония» (1786) — роман М. Хераскова.
95 ZZ7. Роллен был автором мпоготомпых трудов «Древняя история» и
«Римская история». В русской критике имя Роллена обычно ассоциирова¬
лось с именем его переводчика В. Тредиаковского, ставшего символом тер¬
пеливого труда. Когда рукоппсь перевода нескольких томов погибла во
время пожара 1747 г., Тредиаковский во второй раз подготовил перевод.
96 Такую точку зрения высказывал Н. Греч: «Карамзин по справедли¬
вости предпочел словосочинение французское и английское периодам ла¬
тинским и немецким, в которые дотоле ковали русский язык» («Опыт
краткой истории русской литературы». СПб., 1822, с. 248).
97 Цитата из «богатырской сказки» Н. Карамзина «Илья Муромец».
98 Сентиментальность литературной манеры Карамзина и возникшего
под его влиянием общественного вкуса высмеивал и Бестужев-Марлинский
в упомипавшеися статье <Ю романе Н. Полевого «Клятва при гробе господ¬
нем»: «Все завздыхали до обморока; все кинулись ронять алмазные слезы
на ландыши, над горшком палевого молока, топиться в луже. Все загово¬
рили о матери-природе — они, которые видели природу только спросонка из
окна кареты!..»
99 Белинский имеет в виду «Письма из Франции к одному вельможе в
Москву» (II. И. Папину) Фонвизина от 14/25 июня и 18/29 сентября 1778 г.,
первоначально опубликованные в «Санкт-Петербургском журнале» (1798,
сентябрь, октябрь) и перепечатанные (с дополнением еще четырех писем)
в «Вестнике Европы» (1806, № 7—9). Смысл своего противопоставления
«писем» Фонвизина и Карамзина критик более подробно раскрыл в первой
статье пушкинского цикла: письма Фонвизина «несравненно дельнее и важ¬
нее «Писем русского путешественника»: читая пх, вы чувствуете уже на¬
чало французской революции...».
100 То есть свидание Н. Карамзина с французским ученым п писате¬
638
лем Ж.-Ж. Бартелеми. Об этом свпданпи сказано в «Письмах русского пу¬
тешественника» — в письме пз Парижа от мая 1790 г., начинающемся сло¬
вами, которые п перефразирует Белинский: «Нынешний день молодой скиф
К*... имел счастие узнать Бартелемп-Платона». «Молодой скиф» (у Белин¬
ского— «русский скиф»)—намек на роман Бартелемп, рассказывающий о
путешествии любознательного скифа в Древнюю Грецию, — «Путешествие
молодого Анахарспса по Греции».
101 Выражение Надеждина из его статьи «Современное направление
просвещения» («Телескоп», ч. I, № 1, с. 45).
102 Это мнение было высказано П. Вяземским в статье «О жизни и
сочинениях В. А. Озерова», предпосланной первой части «Сочинений
В. А. Озерова» (СПб., 1816). С трагедии Озерова «Эдип в Афинах» «нача¬
лась новая эпоха в истории театра и словесности нашей» (с. 13), — писал
Вяземский.
103 Это мнение также было высказано П. Вяземским в упомянутой
выше статье: «...Озеров с вернейшим успехом ловил сходство женских лиц;
кисть его при изображении их была разборчивее в красках, точнее в оттеп-
ках и тщательнее в отделке» (с. 20).
104 Эраст Чертополохов — персонаж повести П. Яковлева, впервые
опубликованной под названием «Несчастие от слез и вздохов» в журнале
«Благонамеренный» (1824, № 13—15; 1825, № 3, 4, И—13). Имя Эраста
Чертополохова, «нового Стерна», представлявшего собою пародию на сен¬
тиментального писателя кн. Шаликова, стало нарицательным.
105 Белинский говорит о любви Жуковского к Марии Протасовой, кото¬
рая была племянницей поэта. Жуковский сделал ей предложение, но оно
было решительно отклонено ее матерью.
105 Речь идет о стихотворении Жуковского «Песня» (130S, переложе¬
ние стихотворения французского поэта Ф. Фабра д’Эглантина «Je t’aime
tant»).
107 Статья о морали — это статья «Нечто о морали, основанной па
фплософии и религии». Далее Белинский переходит к другой статье —
«Нечто о поэте и поэзии». В этих работах поэтическое творчество пони¬
мается как высокий и независимый акт самоотдачи («поэзия, осмелюсь
сказать, требует всего человека»), и вместе с тем как деятельность, обу¬
словленная внешними обстоятельствами — «образом жизни», «воснитапием»
(«Климат, вид неба, воды и земли — все действует на душу поэта, отверз-
тую для впечатлений»). Третья работа, о которой говорит Белинский,—
«Речь о влиянии легкой поэзии на язык». Все три работы вошли в неза¬
долго перед тем изданные «Сочинения в прозе и стихах» К. Батюшкова
(СПб., 1834, ч. I).
108 Это четверостишие взято из песни не Мерзляко!за, а Лажеч¬
никова «Сладко пел душа-соловушко...». Песня была включена в роман
И. Лажечникова «Последний Новик...» (1831). Белинский позднее отметил
свою ошибку (см. наст, т., с. 119).
109 А. Мерзляков перевел поэму Т. Тассо «Освобожденный Иеруса¬
лим» (отдельное издание: чч. 1—2. М., 1828).
110 П. Плетнев писал об этом в статье «Письмо к графине С. И. С. о
русских поэтах». Приводя стихотворение Капниста «Другу сердца», он вос¬
639
клицал: «Что значат все однообразные мечтания Ламартина перед этою
ясностию сердца и блеском роскошной природы?» («Северные цветы на
1825 год», СПб., с. 21).
111 То есть в кнпге Н. Греча «Опыт краткой истории русской литера¬
туры». СПб., 1822. Литературным «адрес-календарем» эту книгу называли
потому, что содержащиеся в ней краткие характеристики русских писате¬
лей носили главным образом справочный характер.
112 А. Воейков перевел поэму Ж. Делпля «Сады, или Искусство укра¬
шать сельские виды» (СПб., 1816), сочинения Вергилия; был соиздателем
журнала «Сын отечества» (1821—1822 гг.) и редактором газет «Русский ин¬
валид» (с 1822г.) и «Литературные прибавления к Русскому инвалиду»
(с 1831 г.).
113 Это изречение Наполеона стало известно из книги французского
посла в Варшаве де Прадта «История посольства в Великое герцогство Вар¬
шавское» (1816). Сходное выражение встречается и у Ж.-Ф. Мармонтеля.
114 В числе предисловий к разным изданиям было и знаменитое пре¬
дисловие П. Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» А. Пушкина — «Раз¬
говор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильев¬
ского острова» (1824), сыгравшее роль одного из важнейших манифестов
русского романтизма. Точное название упоминаемого ниже стихотворения
Вяземского — «Да как бы пе так».
115 Н. Греч в упомянутом выше «Опыте краткой истории русской ли¬
тературы» и В. Плаксин в «Руководстве к позпанию истории литературы»,
СПб., 1833, признавали существование древнего периода русской литера¬
туры. У Плаксина история русской литературы до Ломоносова подразделя¬
ется даже на три периода: период языческой литературы, период
«преобладания христианской литературы пред языческой» и период «учено¬
богословской литературы». Отрицательное отношение Белинского к этой
точке зрения связано с его общей историко-литературной концепцией
(см. об этом в сопроводительной статье к наст. т.).
116 Речь идет о журнале «Российский музеум» (1815, № 1). Здесь
были напечатаны по-английски и в русском прозаическом переводе отрывки
из поэмы «Корсар», под заглавием: «Морской разбойник, в трех песнях, со¬
чинения лорда Бирояа». Публикация открывалась словами: «Лорд Бирон
есть один из нынешних славных поэтов-английских» (с. 37).
117 Выражение Вольтера из его «Рассуждения о древней и новой тра¬
гедии» (1748), предпосланного в качестве предисловия к трагедии «Семи¬
рамида». Говоря о «Гамлете», Вольтер писал: «Можно подумать, что это про¬
изведение — плод воображения пьяного дикаря» (Вольтер. Эстетика, М.,
«Искусство», 1974, с. 114). Хотя в этой оценке проявился характерный для
эпохи Просвещения рационалистический подход к Шекспиру, но широко
распространенное во времена Белинского мнение о Вольтере как о беспо¬
щадном хулителе Шекспира не соответствует фактам. Выражение «пьяный
дпкарь» не передает всей сложности отношения Вольтера к английскому
драматургу.
118 На экзамене в Царскосельском лицее 8 января 1815 г. Пушкин в
присутствии Державина прочитал свое стихотворение «Воспоминания в
Царском Селе»* которое привело в восторг знаменитого поэта. Об этом эпи¬
640
воде упоминалось в опубликованной в 1832 г. восьмой главе «Евгения Оне¬
гина» (строфа II): «Старик Державин пас заметил//!!, в гроб сходя, благо¬
словил».
119 Подразумевается статья А. Бестужева-Ыарлинского о романе
Н. Полевого «Клятва при гробе господпем» (см. вышз, прим. 27). Отбы¬
вавший ссылку на Кавказе Бестужев сделал под статьей пометку: «Даге¬
стан, 1833».
120 Слова Пушкина о Байроне (стихотворение «К морю»),
121 Формула юная словесность получила распространение в русской
критике после опубликования статьи О. Сенковского «Брамбеус и юная сло¬
весность» («Библиотека для чтения», 1834, т. III, отд. I). К «юной словес¬
ности» Сенковский относил В. Гюго, Ж. Жанена, Э. Сю, А. Дюма, В. Дюканжа,
А. Виньи, О. Бальзака, М.-Ф. Сулье и других, а истоки этого направления
видел в творчестве писателей XVIII в., прежде всего Руссо и Дидро. В своих
нападках на этих писателей Сенковский всячески подчеркивал политиче¬
ские моменты, так что его статья граничила с прямой политической инси¬
нуацией: «...юная словесность»... не есть литературная школа: это прямо
вторая французская революция в священной ограде нравственности, зате¬
янная со всею легкомыслеипостшо и производимая со всем неистовством
и остервенением, свойственным пароду, который произвел и обожал Марата,
Робеспьера, Сен-Жюста...» (с. 39). В русской критике во многом сходпыч
образом попимал «юную словесность» Надеждин, который полемически
сближал с нею как раз творчество Сенковского (в своей статье «Здравый
смысл я Бэрон Брамбеус»—«Телескоп», 1834, ч. XXI, № 19—21). Белин¬
ский, не защищая революционной идеологии как в политическом ев
проявлении, так и в литературном, тем не менее, в отличие от Сенковского
и Надеждина, считает благотворным появление Виктора Гюго «с толпою
других мощных талантов».
122 Феррагус — персонаж повести Бальзака «Феррагус, предводитель
деворантов», составившей первую часть его «Истории тринадцати». Русский
перевод этой повести, под названием «Один из тринадцати», был опублико¬
ван в «Телескопе», 1833, ч. XV, № 9—12.
123 См. выше, прим. 120.
124 См. выше, прим. 27.
125 Намек на Ф. Булгарина. Прозвище заимствовало Белинским
у Пушкина, который часто изображал Булгарина под видом начальника
отряда французской полиции, в прошлом уголовного преступника Видока
(в частности, в напечатанной в 1830 г. в «Литературной газете» заметке
«О записках Видока»).
126 Подразумевается Сенковский, выступивший под псевдонимом
«Барон Брамбеус».
217 О желтяках см. выше, прпм. 90; Семинаристом назвали Н. На¬
деждина, намекая на то, что он выходец из духовенства и воспитывался в
Рязанской духовной семинарии и Московской духовной академии. Г ар, ку+
псц, аршинник и подобные им бранные слова метили обычно в Н. Полевого,
отец которого был купцом и промышленником; нередко к этим словам при¬
бегал в своей борьбе с Полевым и Надеждин. Таким образом, Белинский
отчетливо заявил свою самостоятельную позицию, осуждая крайности
21 В. Белинский, т. 1
6U
полемики с обеих сторон и отделяя в каждой из противоположных точек
зрения истину от лохи.
128 Речь идет прежде всего о Ф. Булгарппе, который в первых главах
«Евгения Онегина» признал «кисть великого художника» («Северная
пчела», 1826, № 132). По поводу же седьмой главы ромаиа Булгарин писал:
«Совершенное падение, chute complete!» («Северная пчела», 1830, № 35).
129 Белинский напоминает о нашумевшем эпизоде в русской журна¬
листике: в 1831 г. в «Телескопе» (№ 13) Пушкин под псевдонимом «Феофи-
лакт Косичкин» опубликовал статью против Булгарина и Греча «Торжество
дружбы, или Оправданный Александр Апфпмович Орлов». В этой статье
проводилось ироническое сопоставление Булгарииа с лубочным писателем
Орловым — сопоставление, которое впервые было намечено Надеждиным в
рецензии на произведения Орлова («Телескоп», 1831, 9). На статью Фео-
филакта Косичкина Н. Греч ответил заметкой, в которой он, между прочим,
писал, что у Булгарина «в одном мизппце более ума и таланта, нежели во
многих головах рецензентов» («Сын отечества», 1831, № 27). В ответ в том
же «Телескопе» (1831, № 15), под тем же псевдонимом Пушкин опублико¬
вал новую статью: «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем».
130 С 1821 г. Батюшков страдал тяжелым психическим расстрой¬
ством.
131 На русском языке произведение Ж.-Ф. Лагарпа «Ьусеё...»
(t. 1—16, 1799—1805) вышло в следующем издании: И.-Ф. Л а г а р п. Ликей,
или Круг словесности древней и новой. СПб., чч. 1—5, 1810—1814. Перевод
был осуществлен П. Карабановым (ч. 1), П. Соколовым (чч. 2, 3), А. Николь¬
ским (ч. 4), Д. Соколовым (ч. 5). Имя Мартынова было названо Белинским
ошибочно — очевидно, потому, что И. Мартынов издавал журнал «Лицей»
(выходил в Петербурге, в 1806 г.).
132 Речь идет об издании: Н. Остолопов. Словарь древней и новой
поэзии, чч. 1—3. СПб., 1821.
133 Цитата из «Евгения Онегина», гл. первая, строфа V.
134 Неточная цитата из стихотворения Пушкипа «Чаадаеву» («В стране,
где я забыл тревоги прежних лет...»).
135 Уездный городок — Чембар, где Белинский провел детство и отро¬
ческие годы. «Подобные шуму волп» — измененная цитата пз поэмы «Цы-
ганы»; «журчанию ручья» — возможно, перефразировка выражения из сти¬
хотворения Пушкипа «Ночь» («...мои стихи, сливаясь и журча,//Текут,
ручьи любзи...»).
135 Армида — персонаж поэмы «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо.
Армида удерживает Ринальдо с помощью своих чар в волшебном саду.
137 Беллнскип имеет в виду стихотворения «К морю» и «Наполеон».
138 Скрытая цитата пз стихотворения Пушкина «Зимняя дорога» («То
разгулье удалое, //То сердечная тоска...»).
139 Цитата пз стихотворения Ф. Глинки «Непонятная вещь».
143 Цитата пз «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...»). Курсив
Белинскою.
141 Цитата из «Евгения Онегина», гл. восьмая, строфа LI.
142 Высоко оценил творчество Баратынского И. Киреевскпи, который
в статье .«Обозрение русской словесности за 1831 год» («Европеец», 1832)
642
охарактеризовал «Бориса Годунова» Пушкина и «Наложницу» Баратын¬
ского как «важнейшие явления нашей поэзии». Еще раньше В. Плакспн
писал в статье «Взгляд на состояние русской словесности в последнем
периоде»: «...Время, судья не зависимый от настоящих успехов, решит, ког.гу
будет принадлежать первый венок — Пушкину или Баратынскому» (сСыя
отечества и Северный архив», 1829, т. VI, Л° XXXIV, с. 93). В одной книжке
были изданы поэмы Баратынского «Бал» и Пушкина «Граф Нулин» — «Две
повести в стихах». СПб., 1828.
143 Баратынский написал несколько критических статей: рецензию
на поэму А. Муравьева «Таврида» («Московский телеграф», 1827, ч. XIII,
Л° 4), «Антикритику» — ответ на разбор Надеждиным его поэмы «Налож¬
ница» («Европеец», 1832, ч. 1, 2) и др. Современники высказывали и иныэ
мнения о критической деятельности Баратынского. Так, например, О. Сен-
ковский писал: «Г. Баратынский очень удачно оценивает Пушкина, Дельвига,
Языкова, и, если бы решился излагать свои мысли в прозе, он был бы
замечательным критиком» («Библиотека для чтения», 1835, т. X, отд. V, с. 4).
144 Остан — персонаж баллады И. Козлова «Венгерский лес». Воз¬
можно, под Всемилой Белинский имел в виду Веледу, героиню той же бал¬
лады.
145 Неточная цитата из стихотворения Н. Языкова «Графу Д. М. Хво¬
стову» («Итак— мпе новая награда...»).
146 Поэма Ф. Глинки называется «Карелия, или Заточение Марфы
Иоанновны Романовой», СПб., 1830.
147 Н. Языков посвятил памяти Дельвига стихотворения «На смерть
барона А. А. Дельвига» («Северные цветы на 1832 год», СПб., 1831, под на¬
званием «А. А. Дельвигу») и «Песня» («Он был поэт: беспечными гла¬
зами...»; опубликовано там же). Скорее всего, под прелестной поэтической
панихидой Белинский имеет в виду второе стихотворение, где автор пред¬
лагает «учредить обряд» в память умершего поэта («Пусть видит мир, как
наших поминают...»).
148 Белинский цитирует заключительные строки рецензии на «Стихо¬
творения барона Дельвига». СПб., 1829, опубликованной в «Московском вест¬
нике», 1829, ч. VI, с. 16 (подпись под рецензией: В.).
149 Так, в частности, начиналась последняя статья из большого обо¬
зрения «Взгляд на кабинеты журналов и политические их отношения между
собою»: «Берег! берег! Наконец, любезные читатели, приближаюсь я с вами
к концу дипломатических наблюдений» («Московский вестник», 1830, ч. VI,
с. 216; Белинский хорошо знал эту статью — см. наст, т., с. 371 и прим. 1
на с. 684).
150 Речь идет о произведениях: Н. Муравьев. Киргизский пленник.
М., 1828; Ф. С—в (Соловьев). Московский пленник. М., 1829; «Евгений
Вельской, роман в стихах». М., 1828—1829 (автор не установлен). Кстати,
в журнальной публикации статьи Белинского опечатка: Вельской назван
Вельским.
151 Речь идет о книге: А по л л ос (А. Д. Байбаков). Правила пиити¬
ческие о стихотворении российском и латинскохМ. М., 1826 (1-е издание этой
книги вышло в 1774 г.). Белинский цитирует определение «поэзии или сти¬
хотворства»* содержащееся на с. 5 этой книга.
21*
613
152 Цитата из стихотворения Е. Баратынского «Подражателям» (Бе¬
линский цитирует по первой публикации стихотворения в «Московском
вестнике», 1830, ч. I, № 1, с. 7, чем объясняется расхождение с последующей
публикацией: «Плач подражательный досаден...»).
153 Цитата из «Монолога Фауста» (отрывок из «Фауста» Гете, пере¬
вод Д. Веневитинова).
154 Перевод поэмы Ламартина «L’homme», осуществленный А. Поле¬
жаевым, называется «Человек. К Байрону» (впервые опубликован в альма¬
нахе «Урания», М., 1826; вошел в «Стихотворения А. Полежаева», М., 1832,
где в оглавлении дан другой вариант заглавия: «Человек, послание к
Байрону»).
155 Стихотворение А. Полежаева называется «Море».
156 Макс и Текла — персонажи пьес Шиллера «Ппкколомини» и
«Смерть Валленштейна», входящих в его драматическую трилогию «Валлен¬
штейн».
157 Неточная цитата из «Евгения Онегина», гл. седьмая, строфа L.
158 Это замечание сделал В. Одоевский в повести «Княжна Мими»
(«Библиотека для чтения», 1834, т. VII).
159 Лубочный писатель XVIII в. М. Комаров подписывался обычно
так: «Матвей Комаров, житель города Москвы». Белинский упоминает его
«Повесть о приключении англинскаго милорда Георга и о брандебургской
маркграфине Фридерике Луизе» (СПб., 1782) и приписывавшуюся ему ано¬
нимную «Историю о славном рыцаре Полиционе, египетском царевиче, и о
прекрасной королевне Милитине, и сыне их дивном в героях Херсоне и
о прекрасной царевне Калимбере» (М., чч. I—IV, 1787). Особенно популярна
была первая книга, к которой относятся известные строки Некрасова в
поэме «Кому на Руси жить хорошо» («...когда мужик не Блюхера и не ми¬
лорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет»).
160 См. выше, прим. 129. Белинский обыгрывает многие полемиче¬
ские выражения Пушкина.
151 Ср. у Пушкина в «Торжестве дружбы...» — «...сии два блистатель¬
ные солнца нашей словесности».
102 Пушкин в «Торжестве дружбы...» писал: «...доказано, что Фаддей
Венедиктович (издавший Горация с чужими примечаниями) не знает по-
латыни...» Речь шла о книге: «Избранные оды Горация, с комментариями,
изданные Ф. Булгариным». СПб., 1821. Однако «чужие примечания» Булга¬
рина в данном случае не являлись плагиатом. В заметке «От издателя» было
оговорено: «Что же касается до истолкования текста, то вся слава принад¬
лежит Ванденбургу и Мичерлиху, отличнейшим в паше время фило¬
логам, и Иосифу Ежовскому, объяснившему Горациевы оды на польском
языке» (с. 1).
163 Ср. у Пушкина в «Торжестве дружбы...»: «Фаддей Венедиктович
более философ; Александр Анфимович более поэт».
164 Аммалат-Бек — персонаж одноименной повести, Правин — персо¬
наж из повести «Фрегат «Надежда», полковник В *** — очевидно, полков¬
ник Верховский из той же повести «Аммалат-Бек».
155 Князь Петр — персонаж из повести «Фрегат «Надежда».
644
166 Произведение Марлииского называется: «Андрей, киязь Переяс¬
лавский. Повесть». Оно было опубликовано в Москве анонимно (глава пер¬
вая отдельным изданием в 1828 г.; глава вторая — в качестве приложения
к 42-му номеру журнала «Галатея» на 1830 г.).
157 Имеется в виду следующее место из уже упоминавшейся статьи
Марлииского о Н. Полевом: «Исторические повести Марлииского, в которых
он, сбросив путы кппжного языка, заговорил живым русским наречием,
служили дверьми в хоромы полного романа...»
168 В «Московских новостях», напечатанных в «Молве» (1831, № 6),
в сообщении о детском бале в доме А. Дурасовой на Чистых прудах,
упоминалось, между прочим, о появлении Никодима Аристарховича Надоум-
ко, который «на скудельных своих ногах пробирался между группами
танцующих». Потом Надоумко беседовал с Пахомом Силычем (другой
вымышленный персонаж из статей Надеждина, опубликованных в «Вестни¬
ке Европы»). «Беседа кончилась пожатием рук и громким Хе! Хе! Хе!
Никодима Аристарховича».
169 Цитата из стихотворения В. Жуковского «Певец во стане русских
воинов».
170 Белинский дает понять, что он не может писать о журнале
Н. Полевого «Московский телеграф», который незадолго перед тем (в ап¬
реле 1834 г.) был запрещен за напечатание неодобрительного отзыва
о казенно-патриотической пьесе Н. Кукольника «Рука всевышнего отече¬
ство спасла».
171 Цитата из стихотворения Державина «Утро».
172 Цитата из «Бориса Годунова» Пушкина, сцена «Ночь. Келья в
Чудовом монастыре».
173 В 1830 г. в России свирепствовала эпидемия холеры.
174 В 1830 г. прекратили свое существование многие журналы: «Вест¬
ник Европы», «Атеней», «Московский вестник», «Славянин», «Русский зри¬
тель» и др.
175 Цитата из басни Крылова «Щука и Кот».
173 Речь идет о журнале «Сын отечества», который в 1829 г. слился
с журналом «Северный архив» и стал называться «Сын отечества и Север¬
ный архив». Журнал выходил под редакцией Ф. Булгарина и Н. Греча.
Говоря о тройственности журнала, Белинский имеет в виду также газету
«Северная пчела», издававшуюся тем же Булгариным (с 1831 г. — совме¬
стно с Гречем).
177 Речь идет прежде всего о «Московском телеграфе». Ср. строки из
письма Белинского к Полевому от 26 апреля 1835 г., приведенные в приме¬
чаниях (вводной заметке) к рецензии «Аббаддонна» Н. Полевого...».
178 См. выше, прим. 128.
179 Речь идет о «сатирической повести» Ф. Булгарина «Предок и по-
томки», опубликованной в его Сочинениях, СПб., ч. XII, 1830 г. В этой
повести Пушкин был выведен под именем Ни-кандра Семеновича Свистуш-
кина, автора поэм «Жиды» (намек на поэму «Цыганы») п «Воры» (намек
на «Братья Разбойники»). Пасквиль Булгарина содержал обвинение полити¬
ческого характера: вместе со своим закадычным другом, бароном Шнапсом
фон Габенихтсом (намек на барона Дельвига), Н. Свистушкин поклоняется
645
трем божествам: «Вакху, Лени п Свободе», машет «деревянным кпнжалсм»
и т. д.
iso Статья Белинского печаталась в преддверии ноеого, 1835 г.
181 Намек на романы М. Загоскпна «Юрпй Милослазский, плп Русские
в 1612 году», чч. I—III. М., 1829; и «Рославлев, плп Русские в 1812 году»,
чч. I—IY. М., 1831.
182 Белинский полемизирует с Бестужевым-Марлпнскнм, который в
упоминавшейся статье о Н. Полевом утверждал, что древний период рус¬
ской псторпп предоставляет благодатный материал для исторического ро-
мапа: «Вглядитесь в черты князей наших... и скажите, чем хуже они героев
Вальтера Скотта или Виктора Гюго для романа?»
183 Ср. у Бестужева-Марлинского: древнерусские князья «лазплп через
тын к боярыням, как французские сеньоры...».
184 Все это намеки на самого Булгарина.
185 Намек на то, что «Петр Иванович Выжпгин нравоописательный —
исторический роман XIX века» (чч. I—IV. СПб., 1831) пользовался значи¬
тельно меньшим успехом, или, как ниже говорит Белинский, сбытом,
чем «Иван Выжигин».
183 Кнпга В. Ушакова называется: «Кот Бурмосеко, любимец халифа
Аль-Мамума», восточная повесть». М., 1831.
187 Возможно, Бслинскпй имеет в впду следующее замечание, выска¬
занное О. Сенковским, в связи с произведением Вельтмана «Лунатик. Слу¬
чай) (М., 1834): «...его романы заставляют нас думать, что это дарование
страждет преимущественно недостатком творческой силы... Автор, кажется,
сам чувствует это и старается рассказом, уловками слога, даже типограф¬
скими фокусами вознаграждать скудость своего создания» («Библиотека
для чтения», 1834, т. У, отд. V, с. 37).
188 И. Лажечников в письме к Белинскому от 16 сентября 1835 г. пол¬
ностью согласился с этой оценкой (см.: «Белинский и корреспонденты»,
с. 176). Позднее мнение Белинского поддержал Ап. Григорьев (см.: Григорь¬
ев, с. 227).
189 Далее следовало примечание Надеждппа: «То же самое объявляем
от имени г. Межсвича, в статье которого песня сия отошла к Мерзлякову
пэ причине перестановки звездоч::и. — Под.». Эта неточность была допущена
в рецензии В. Межевича на «Российскую христоматшо» И. Ленинского
(«Молва», 1834, № 44, с. 281), что, вероятно, и повлекло за собою «неумыш¬
ленную вину» Белинского.
190 Роман называется: «Последний Новик, пли Завоевание Лпфляндпи
в царствование Петра Великого» (чч. I—IV. М., 1831—1832).
191 То есть «Ледяной дом», чч. I—IV. М., 1835—1838. Отрывок из романа
под названпем «Язык» был опубликован в «Телескопе» (1834, ч. XX, № 16).
192 Это все псевдонимы В. Одоевского. Белинскпй, разумеется, знает,
кто скрывается за ними, и поэтому как бы случайно останавливается па
букве О.
193 Подробный разбор произведений В. Одоевского Белинский дал
в 1844 г. в статье «Сочинения князя В. Ф. Одоевского».
194 Последнее произведение называется «Сказка о том2 как опасно
девушкам ходить толпою по Невскому проспекту».
195 Сборник «Новоселье» был издан А. Смирдппым в Петербурге
в 1833 г. по случаю переезда его книжного магазина в новое помещение
па Невском проспекте. В следующем году появилась вторая часть «Ново¬
селья».
193 Реминисценция пз уже упоминавшейся статьи Марлинского о
романе Н. Полевого «Клятва при гробе господпем»: «На святой Руси по
сочинителей не клич кликать: стоит крякнуть да денежкой брякнуть, так
набежит, наползет их полторы тьмы с потемками».
197 В «Библиотеке для чтения» (1834, т. VII, отд. VI) было опублико¬
вано сообщение «о ходе национального литературного предприятия, которо¬
го успех так сильно занимает всех русских — о предполагаемом издании
«Энциклопедического лексикона». В качестве образцовых статей журнал
опубликовал четыре статьи пз будущего лексикона, в числе которых была
и статья Н. Греча «Ломоносов». Эту статью и имеет в виду Белинский.
188 См. выше, прим. 171.
199 Неточная цитата из «Вечернего размышления о божием величе¬
стве при случае великого северного сияния» Ломоносова.
200 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Разговор книгопро¬
давца с поэтом».
201 Речь идет о статье О. Сенковского «Черпая женщина. Роман Ни¬
колая Греча» («Библиотека для чтения», 1834, т. IV, отд. V).
202 Статья Надеждина под таким названием, содержавшая резкую
критику Сенковского, была опубликована в «Телескопе», 1834, ч. XXI,
№ 19—21.
203 Трагедия А. Хомякова «Димитрий Самозванец» вышла в Москве
отдельным изданием не в 1834, а в 1833 г.
204 Как отметил еще С. Венгеров, этот абзац, возможно, был вписан
Надеждиным (см.: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I, 1900, с. 426).
Наиболее подробную аргументацию авторства Надеждина см.: В. С. Н е-
ч а е в а. В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе»
и «Молве». 1829—1836. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 253—256, 461—462. Спод¬
вижник царя, посещающий храм русского просвещения, — это министр на¬
родного просвещения С. Уваров, который в конце сентября 1834 г. приехал
в Москву и неоднократно бывал в университете. Уваров с опаской и подо¬
зрением следил за «Телескопом» и «Молвой», неоднократно высказывал
Надеждину свое недовольство, п последнему крайне необходимо было уми¬
лостивить царского министра.
205 В Чембаре Белинский в этом году не был. Помета имеет пародий¬
ную окраску, в частности, Белинский намекает на упоминавшуюся выше
(см. прим. 119) статью Марлинского, под которой стояло: «Дагестан, 1833».
И МОЕ МНЕНИЕ ОБ ИГРЕ г. КАРАТЫГИНА
(с. 128-137)
Впервые — «Молва», 1835, ч. IX, № 17, стлб. 276—278 (ц. р. 26 апреля);
№ 18, стлб. 287—295 (стлб. 290—294 ошибочно помечен: 300—304, а стлб.
295 помечен — 279? ц. р. 3 мая). Подпись: (—он—инский). Вошло в КСсБ,
ч. I, с. 505-518,
647
Настоящей статьей Белинский включается в дискуссию, имевшую к
тому времени уже двухлетнюю историю.
Весной 1833 года, когда в Москве гастролировала чета петербургских
актеров В. А. Каратыгин и А. М. Каратыгина-Колосова, в «Молве» были
опубликованы «Письма в Петербург» за подписью П. Щ. (каждое из писем
соответственно в № 44—48 и 50; последнее письмо — «От П. Щ. Письмо к
издателю» — опубликовано в № 56). За таинственным криптонпмом скры¬
вался Н. Надеждин (авторство его доказано советским исследователем
С. Ссоецовым; см. эти ппсьма: Надеждин, с. 346—366 и комментарий на
с. 524—529).
П. Щ. бесстрашно выступил против знаменитых актеров, упрекая их
в аффектированной и неестественной манере игры. «Мое мнение прямое,
задушевное, что г. Каратыгин отличный художник, делающий честь русской
сцене. Он овладел мастерски наружною, лепною частию своего искусства,
постиг тайну чаровать зрение, но еще не нашел ключа к сокровенному свя-
тплищу сердца» (Надеждин, с. 361).
Выступления П. Щ. вызвали против него, по его собственным словам,
«бурю» негодования. Главным оппонентом выступил С. Шевырев, напе¬
чатавший в той же «Молве» несколько статей (1833, № 52—54, 57, 58, 60).
Шевырев доказывал, что игра обоих актеров сочетает «науку с душою»,
«художественную обдуманность» с «живостью исполнения». Раздражение
Шевырева вызвало и то, что против знаменитых актеров выступил неизве¬
стный автор, скрывающийся под таинственным кринтонимом.
Весной 1835 года, во второй приезд Каратыгиных в Москву, П. Щ.
вновь выступил в «Молве» (№ 16, 17, 19), подтвердив свою прежнюю оценку
игры обоих актеров. Новый цикл писем принадлежал скорее всего тому же
Надеждину, хотя в доказательстве его авторства есть еще не проясненные
моменты.
Настоящая статья Белинского печаталась в «Молве» одновременно с
письмами П. Щ.: начало статьи в № 17, вместе со вторым письмом; окон¬
чание статьи — в № 18, перед опубликованием в следующем номере треть¬
его, завершающего письма.
1 Пожелание о том, «чтобы всякая критика была скреплена под¬
писью имени рецензента», Шевырев высказывал неоднократно. Например,
в статье «О критике вообще и у нас в России» («Московский наблюдатель»,
1835, апрель, кн. 1, с. 524).
2 Примером такого литературного адрес-календаря был, по мнению
Белинского, «Опыт краткой истории русской литературы» Н. Греча» (см.
прим. 111 к «Литературным мечтаниям»).
3 «Прародительница» («Ahnfrau», 1817, современный перевод: «Пра¬
матерь») — пьеса Ф. Грильпарцера. Тассо —персонаж драматической фанта¬
зии Н. Кукольника «Торквато Тассо» (1833).
4 Димитрий Донской — персонаж одноименной трагедии В. Озерова;
Ермак — персонаж одноименной трагедии А. Хомякова; Эссекс — персонаж
трагедии «Елизавета и граф Эссекс» (по роману «Кенильворт» Вальтера
Скотта; переведена с немецкого В. Каратыгиным); Ляпунов — персонаж
драмы Н. Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»,
648
5 Эдип — персонаж трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах».
6 См. прим. ИЗ к «Литературным мечтаниям».
7 Часто встречающаяся у Белинского ремпнпсценция библейского
выражения: «И создал господь бог человека из праха земного, и вдунул
в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Бытие, 2, 7).
8 В «Венецианском купце» Шекспира (перевод Н. Ф. Павлова) Щеп¬
кин играл Шейлока. Первое исполнение им этой роли состоялось 8 февраля
1835 г. в Большом театре в Москве. В тот же вечер Щепкин впервые
выступил в роли матроса Симона в водевиле Т.-М.-Ф. Соважа и
Ж.-Ж.-Г. Делюрье «Матрос» (перевод с французского Д. Шепелева) (см.:
Гриц, с. 203).
9 К этому месту Надеждин сделал следующее примечание: «...к сожа¬
лению, это нередко становится день ото дня все реже и реже. О г. Моча-
лове должно теперь говорить часто уже в прошедшем пли даже в давно¬
прошедшем времени. — Зам (ечание) изд (ателя) ».
10 Речь идет о переводе И. А. Вельяминова, изданном под названием:
«Отелло, или Венецианский мавр». СПб., 1808. Переводчик опирался па
французскую стихотворную адаптацию Ф.-Ф. Дюсиса, привлекая, возможно,
и дословный перевод Летурнера (см. об этом: «Шекспир и русская культу¬
ра». М.—Л., «Наука», 1965, с. 88—89).
11 В этом обвинял Каратыгина П. Щ. в «Письме I. К г. издателю
«Телескопа». Описывая, в частности, исполнение актером роли Ермака, кри¬
тик говорил: «Он разделил всю роль на эффекты, производимые картинно-
стию положений и звуками голоса, и принес на жертву этому разделению
все: и чувства, и прелестные стихи» («Молва», 1835, № 16).
12 Этот диалог содержится в трагедии А. Сумарокова «Димитрий Само¬
званец» (д. I, явл. 1), но передан Белинским неточно: Димитрий отвечает
на вопрос не Шуйского, а своего наперсника Пармена: «Какие ж горести
судьба тебе дала?» Позднее Белинский писал: «Недавно попались мне в руки
две старинные книги. Одну из них я знал когда-то наизусть: это знаменитая
трагедия Сумарокова «Димитрий Самозванец»... («Русская литературная
старина». — «Телескоп», 1835, ч. XXIX, №17—20).
13 К этому месту относится примечание Надеждина: «Тальма восхи¬
щал своею игрою не в одних классических французских трагедиях. —
Зам (ечание) изд (ателя) ».
«Замечание» вызвано тем, что Белинский явно полемизировал с На¬
деждиным, который еще в первом цикле писем П. Щ. оценивал искусство
Тальмы как важный симптом «стремления к истине»: «...Сценическое искус¬
ство слезло с ходулей, сбросило парик и мушки, сбилось с выученного
такта, отказалось от нотных распевов. Тальме приписывают сие важное
в летописях театра превращение, Тальме, у которого Наполеон учился ста¬
вить своп императорские аудиенции! Перемена чудная! Театр сделался не
копией, а оригиналом жизни!» («Молва», 1833, № 44, см. также: Надеждин,
с. 348).
14 Римский полководец и политический деятель Гай Марий, происхо¬
дивший из небогатой латинской семьи, был известен своим порывистым,
страстным характером.
m
О РУССКОЙ ПОВЕСТИ И ПОВЕСТЯХ г. гоголя
(с. 138—181)
Впервые — «Телескоп», 1835, ч. XXVI, N° 7, с. 392—417 (ц. р. 1 сентя¬
бря); Л» 8, с. 536—603 (ц. р. 21 сентября). ГТодппсь: В. Белинский. Вошло
в КСсБ, ч. I, с. 169—240.
Хотя Гоголь уже в начале своего пути нашел признание у многих
критиков (особенно выделялись отзывы А. Пушкина и Н. Надеждина), его
творчество еще не было осмыслено в широкой общелитературной перспек¬
тиве. Эту задачу и поставил перед собой Белинский. Повести Гоголя из
только что вышедшпх двух его сборников былп рассмотрены критиком, с
одной стороны, как высшее достижение русской повести, от Карамзина до
Павлова, с другой — как факт общеевропейской художественной эволю¬
ции, а именно эволюции реальной формы поэзии, начатой Шекспиром, про¬
долженной Вальтером Скоттом и т. д. Признавая жизненность обеих форм
поэзии — как идеальной, так и реальной, Белинский тем не менее высказы¬
вает предположение, что последняя форма ближе к духу времени (см. об
этом в сопроводительной статье к наст. т.). Отсюда — особая роль Гоголя,
особые «надежды», которые связывает с ним Белинский.
Критика еще не знала столь глубокой и проницательной характеристи¬
ки художественного своеобразия Гоголя, в частности его юмора, какая была
дана в настоящей статье. Необходимо специально отметить приоритет
Белинского в анализе и оценке повестей из сборника «Арабески» («Невский
проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего»), которые до этого вызывали
в критике лишь краткие замечания (чаще всего неодобрительные). Сам
подзаголовок статьи — «Арабески» и «Миргород» — имел полемическое зву¬
чание: Шевырев свою незадолго перед тем появившуюся статью демонстра¬
тивно назвал «Миргород...» («Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 2),
заметив с укоризной, что в повестях, «которые читаем мы в «Арабесках»,
этот юмор малороссийский не устоял против западных искушений и поко¬
рился в своих фантастических созданиях влиянию Гофмана и Тика...» (с. 404).
Статья Белинского вызвала несколько откликов в печати, из которых
самый обстоятельный принадлежал Неверову. Отзыв этот, содержащийся
в написанном Неверовым разделе коллективного «Обозрения русских газет
и журналов за первую половину 1835 года», свидетельствует о том, на¬
сколько смелой была оценка Белинским творчества Гоголя. По мнению
рецензента, в истории русской повести, от Марлинского до Полевого, Белин¬
ский «отмечает новые, еще не замеченные черты». «Но, приступив к раз¬
бору произведений г. Гоголя, делается особенно пристрастным, потому что
находит в нем свою любимую реальную поэзию. Достоинство, прелесть боль¬
шей части повестей г. Гоголя неоспорима; но ставить их выше всего, нарав¬
не с самыми драгоценнейшими, высочайшими творениями человеческого
гення есть преувеличение...» («Журнал министерства народного просвеще¬
ния», 1836, N° 7, с. 433).
Статья Белпнского была тепло принята Гоголем. «Я имел случай ви¬
деть действие этой статьи на Гоголя, — вспоминал Анненков. — ...Он благо¬
склонно принял заметку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти,
чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится
650
го всех рассказах Гоголя >, п был доволен статьей, п более чем доволен: он
бил осчастливлен статьей» (Анненков, с. 174—175). По верному замечанию
советского исследователя Н. Мордэвченко, статья «О русской повести...»,
открывшая читательской аудитории Гоголя как великого художника, откры¬
ла и самому Гоголю Белинского-критика («Н. В. Гоголь. Материалы и иссле¬
дования», т. 2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1936, с. 126).
Несомненно, в первую очередь Белппского как автора настоящей ста¬
тьи имел в виду Гоголь в «Авторской исповеди» (1847): «Я очень помню я
совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас
очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками
любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значенье поэтичо-
ских созданий» (Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII. Изд-во АН СССР,
1952, с. 435-436).
Влияние статьп Белинского прослеживается во всей последующей
истории русской критики. Н. Чернышевский в «Очерках гоголевского перио¬
да русской литературы» (статья пятая, 1856) привел обширные выдержка
из «замечательной статьи» Белинского, особенно подчеркнув проницатель¬
ность критика: в первых произведениях Гоголя Белинский увидел «начало
новой эпохи для русской литературы и предсказал, какое высокое местэ
они займут в ней» (Чернышевский, т. III, с. 184). На статью Белинского опи¬
рался Н. Некрасов в полемике с А. Писемским по поводу второго тома
«Мертвых душ». В «Заметках о журналах за октябрь 1855 года» Некрасов
писал: «Напрасно г. Писемский ссылается на «горячего, с тонким чутьем,
критика», который будто бы, по преимуществу, открыл в Гоголе социально-
сатирическое значение. Критик... выше всего ценил в Гоголе — Гоголя-поэ-
та, Гоголя-художпика, ибо хорошо понимал, что без этого Гоголь не имел
бы и того значения, которое г. Писемский называет социально-сатириче¬
ским. Вспомним, что самое слово поэт в применении к писателю-прозаику
начало на Руси появляться в первый раз в статьях этого критика по поводу
Гоголя» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. IX. М., Гослитиз¬
дат, 1950, с. 342).
1 «Петр Великий» (а не «Петрияда»)—неоконченная поэма М. Ло¬
моносова; «Россияда» и «Владимир возрожденный» — поэмы М. Хераскова;
«Алексаидроидаъ — поэма П. Свечипа.
2 Хара — от древнегреческого «%apis» — прелесть, красота.
3 См. прим. 7 к статье «И мое мнение об игре г. Каратыгина».
4 Неточная цитата из «Бориса Годунова» Пушкина (сцена «Ночь*
Келья в Чудовом монастыре»).
5 Белинский приводит цитату (с небольшими неточностями) по изда¬
нию: «Разбойники, трагедия в пяти действиях, соч. Шиллера». М., 1828,
с. 167. Фамилия переводчика —Н . Кетчера — в изданпи не обозначена.
5 Название трагедии Шиллера — «Орлеанская дева» (v<Die Jungfrau
vcn Orleans»). Именно так был озаглавлен и первый полный русский пере¬
вод трагедии, сделанный В. Жуковским (1824).
7 См. прим. 41 к «Литературным мечтаниям».
8 Это было сказано Еслппсклм в «Литературных мечтаниях» (см.
паст, т., с. 107).
С51
9 Жиль Блаз — главный персонаж романа А.-Р. Лесажа «Истории
Жиль Блаза из Сантильяны» (1715—1735). Говоря о тысяча первой пародии
на Жилблаза, Белинский подразумевает Ивана Выжигина, персонажа одно¬
именного романа Ф. Булгарина (1829).
10 Имеется в виду «История о петухе, кошке и лягушке», опублико¬
ванная в «Библиотеке для чтения» (1834, т. II, отд. I) под другим загла¬
вием: «Отрывок из записок Иринея Модестовича Гомозейки». Произведение
было подписано одшш из псевдонимов В. Одоевского — В. Безгласный (но
в оглавлении второго тома указано авторство В. Одоевского). Действие
«истории» происходит не в Ржеве, а в Реженске.
11 Повесть В. Одоевского «Княжна Мими. Домашние разговоры», опу¬
бликованная впервые в «Библиотеке для чтения» (1834, т. VII, отд. I),
была подписана псевдонимом: В. Безгласный. (Но в оглавлении седьмого
тома журнала указано авторство В. Одоевского.)
12 М. Погодин был сыном крепостного крестьянина, отпущеннего на
волю.
13 Имеется в виду популярный учебник риторики Бургпя («Elementa
oratoria»), неоднократно переиздававшийся.
14 Белинский опирался на незадолго перед тем изданные «Повести
Михаила Погодина», чч. I—III. М., 1832. Произведения, о которых «умолчал»
Белинский, — «Русая коса», «Как аукнется, так и откликнется», «Соколь-
ницкий сад» и др.
15 Об отношении Белинского к Н. Полевому см. в наст. т. рецензию
на «Аббаддонну» и «Мечты и жизнь» и прим. (вводную заметку) к ней.
16 Появление повестей Павлова стало крупным общественным собы¬
тием. В 1835 г. в Москве вышла книга Н. Павлова «Три повести». Включен¬
ная в эту книгу повесть «Аукцион» была ранее напечатана в «Телескопе»
(1834, ч. XIX, № 1); две другие повести— «Именины» и «Ятаган» — печата¬
лись впервые, если не считать публикации отрывка из «Ятагана». Книга
Н. Павлова, содержавшая резкие обличительные мотивы, освещавшая
такие стороны русской жизни, как крепостное право, произвол в армии,
обратила на себя внимание правительства. На составленной С. Уваровым
докладной записке Николай I наложил резолюцию: «...Разделяю мнение
ваше, что ныне поздно запрещать книгу; но должно потребовать немедля
сюда цензора и отобрать от него письменно ответы на все неприлично про¬
пущенные места» (см. прим. Н. А. Трифонова в кн.: Н. Ф. Павлов. Пове¬
сти и стихи. М., Гослитиздат, 1957, с. 335).
17 В рецензии на «Три повести» Павлова, опубликованной в «Библио¬
теке для чтения» (1835, т. IX, отд. VI), отмечалось, что хотя произведения
отличаются живостью и занимательностью, но в них «нет никакой идеи».
«Что они доказывают? Ничего! И ничего потому, что все это частные слу¬
чаи, обстоятельства исключительные, изъятия из общей, повсеместной
жизни...» (с. 7).
18 «Северная пчела» (1835, № 61) в специальной библиографической
заметке пренебрежительно отозвалась о «Трех повестях». Приведя несколько
цитат, рецензент заключил: «Вследствие сего можете судить о содержании
и слоге всей книги».
19 Белинский не точен; в «Молве», помимо краткого библиографиче*
652
ского известия (1835, № 3), была опубликована анонимная рецензия на
«Три повести) (там же, № 4). В ней повести Павлова были, в частности,
противопоставлены повестям Марлинского, полным «мишурных фраз, рито¬
рических вычур». «Три повести»... имеют особого рода оригинальность...
Г. Павлов пристально вгляделся в жизнь, которую описывает, провел ее
чрез свое чувство и передал верно и живо. Его нельзя обвинять в мизантро¬
пии, но он и не льстец жизни. Картины его не обливают душу смертным
холодом, не взбивают дыбом волосы на голове, не щемят сатаиински серд¬
це: но не берите их, чтоб заснуть слаще после обеда, в мягких вольтеров¬
ских креслах; не читайте, если хотите позабыться на минуту...» Автором
этой рецензии был, очевидно, Надеждин, который в первой половине 30-х гг.
проявлял неизменный интерес к творчеству Н. Павлова. Еще в сопро¬
водительном примечании к «Аукциону» издатель «Телескопа» писал: повесть
«принадлежит к собранию оригинальных повестей, в коих с особенным ис¬
кусством и верностью схвачены характеристические черты современного
быта, преимущественно па высших ступенях общества. Сочинитель начал
издание их одною книжкою, которая уже почти отпечатана» («Телескоп»,
1834, ч. XIX, с. 17). Ср. также замечания Н. Павлова в связи с чтением его
повестей московским литераторам (письмо к Н. Чичерину от 1833 г.):
«Повести мои литераторам понравились... Надоумко поклонился мне до
земли» (Н. Ф. Павлов. Повести и стихи, с. 334).
20 Речь идет о статье С. Шевырева о «Трех повестях» Н. Павлова
(«Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 1). Белинский перефразирует
рассуждения из статьи: «Жизнь есть какое-то складное бюро, со множест¬
вом ящиков... Все повествователи шарят в этом бюро; но не всякому изве¬
стна пружина закрытого ящика» (с. 122). Позднее в работе «О критике
и литературных мнениях «Московского наблюдателя» Белинский дал под¬
робный разбор статьи Шевырева.
21 Цитируется повесть Павлова «Маскарад». В «Московском наблюда¬
теле» (1835, март, кн. 2) была напечатана первая половина повести. Оконча¬
ние появилось в том же журнале в 1836 г. (март, кн. 1). Позднее «Маскарад»
вошел в кн. Павлова «Новые повести», СПб., 1839.
22 Имеется в виду следующее место из лекции Шевырева, прочитан¬
ной в Московском университете 15 января 1834 г.: «...Вот в природе символ
Англии, этого чудного острова, этого, по выражению Шекспира, драгоцен¬
ного камня в серебряной оправе океана...» Лекция эта под названием «Ха¬
рактеристика образования главнейших новых народов Западной Европы»
опубликована в «Ученых записках Московского университета», 1834, ч. 5,
№ 3, и ч. 6, № 4 (здесь приведенная цитата — на с. 74 и 75), позднее вошла
в качестве «Чтения первого» в книгу С. Шевырева «История поэзии», т. 1.
М., 1835. Сравнение Англии с драгоценным камнем в оправе моря заимство¬
вано из трагедии Шекспира «Ричард II» (акт II, сц. 1, монолог Гонта).
23 Помимо упоминавшихся уже откликов на «Три повести», сущест¬
вует краткая рецензия, написанная Пушкиным, но не появившаяся в то
время в печати. Пушкин также высоко оценил книгу Павлова («Три пове¬
сти... очень замечательны и имели успех вполне заслуженный»), но в неко¬
торых частных суждениях разошелся с Белинским. Так, приведенную Бе¬
линским цитату из «Ятагана» («Понимаете ли вы удовольствие...» и т. д.)
653
Пушкин расценил как своего рода саморазоблачение персонажа, вопреки
воле автора, «...Несмотря на то, что выслужившийся офицер видимо герои
п любимец его воображения, автор дал ему черты, обнаруживающие хо¬
лопа» (см.: Пушкин, т. VII, с. 324—325).
24 По свидетельству П. Анненкова, это место в статье, раскрывающее
«качества истинного творчества», особенно понравилось Гоголю. «Это совер¬
шенная истина, — заметил Гоголь и тут же прибавил с полузастенчпвой и
полунасмешливой улыбкой, которая была ему свойственна: — Только не по¬
нимаю, чем он (Белинский) после этого восхищается в повестях Полевого»
(Анненков, с. 175). Имеется в виду отзыв о Полевом, содержащийся в на¬
стоящей статье Белинского.
25 Учение о целесообразности, воспринимаемой без представления о
цели, как об особом, «третьем моменте» суждения вкуса, изложено Кантом
в его «Критике способности суждения» (ч. первая, кн. первая, § 10—17).
О «соразмерности с целью без цели» писал Надеждин в 1828 г. в статье «Ли¬
тературные опасения за будущий год» (см.: Надеждин, с. 54% Об особен¬
ностях трактовки Белинским этого вопроса см. в сопроводительной статье
к наст, т., с. 620.
26 Речь идет о трагедии Софокла «Филоктет».
27 Подробнее об этой повести Белинский говорит в статье «Ничто о
пичем...» (см. наст, т., с. 234—238).
28 Цитата из поэмы Пушкина «Цыганы».
29 Филемон и Бавкида — герои древнегреческого мифа, обработанного
Овидием в «Метаморфозах», ставшие синонимом неразлучной четы преста¬
релых супругов. В журнальном тексте вместо Филемон — Палемон.
30 Неточная цитата из «Евгения Онегина», гл. вторая, строфа XXXI.
31 Говоря о привычке, Белинский полемизирует с Шевыревым. Раз¬
бирая «Старосветских помещиков», Шевырев в рецензии на «Миргород»
писал, что пассаж о привычке «как будто разрушает нравственное впечатле¬
ние целой картипы» («Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 2, с. 4С6).
Белинский остановится также на этом вопросе позднее, в статье «О критике
и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (см. наст, т., с. 271).
32 Цитата приведена Белинским с небольшими неточностями. Курсив
принадлежит Белинскому.
33 Цитата приведена Белинским с мелкими неточностями. Курсив
Белинского.
34 Имеется в виду баспя Крылова «Тень и Человек».
35 Это выражение стало крылатым, причем в качестве первоисточника
указывается обычно настоящее место в статье Белинского. Однако в дей¬
ствительности он цитирует распространенное выражение. Новизна у Белин¬
ского состояла в том, что он применил это выражение к художественному
образу, подчеркнув диалектическую сочетаемость в нем неповторимостп и
типичностп, оригинальности и узнаваемости. Ср. в повести Н. Полевого
«Живописец»: «За большим бюро сидел тут — мой знакомый незнакомец,
которого я увидел у моего старика иконописца!» (Н. Полевой. Мечты и
жизнь, ч. II. М., 1834, с. 153).
35 Белинский соответственно приводит реплики старика Горацпя пз
трагедии Корнеля «Гораций», д. III, явл. 6; Медеи из трагедии Корнеля
m
«Медея», д. I, явл. 5 п Эдппа пз трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах», д. 1Г,
явл. 1. Полемический характер замечания Белинского объясняется тем, что
в нормативных поэтиках эти реплики обычно фигурировали в качестве ти¬
пичных примеров высокого. Так, Остолопов приводит упомянутые выше
восклицания Горация и Эдипа в качестве образца «высокого в чувствова¬
ниях» (II. Остолопов. Словарь древней и новой поэзии, ч. I. СПб.,
1821, с. 168). Ср. также у Надеждина в трактате «О высоком»: «...одео слово
Едипа у Озерова: «Ах! я Едпп... — выразительнее для меня ста красно¬
речивых страниц, изображающих жпзнь его» («Вестник Европы», 1829,
№ 6, с. 136).
37 То есть Шейлок, персонаж драмы Шекспира «Венецианский купец».
38 Произведение Гоголя как в первой своей публикации, так п в по¬
следующих, носит название «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем».
39 Белинский цитирует и частично пересказывает повесть В. Одоев¬
ского «Насмешка мертвого» (опубликована в «Деннице на 1834 год», М.,
1834; впоследствии под заглавием «Насмешка мертвеца» вошла в книгу
Одоевского «Русские ночи», 1844).
40 В заключительных строках этого абзаца Белинский обращается
к мотивам и образам рассказа В. Одоевского «Бал» (впервые напечатан в
«Новоселье», СПб., ч. I, 1833; впоследствии вошел в «Русские ночи»). Именно
в этом рассказе картина безудержного веселья, упоения бала сменяется
описанием пустующего храма, в котором безответно звучит речь священ¬
ника, произносящего «заветные слоЕа любви, веры, надежды».
41 Повесть Гоголя называется «Ночь перед рождеством».
42 Здесь и далее Белинский цитирует и пересказывает «Невскпй про¬
спект», допуская небольшие неточности. В частности, по тексту повести,
незнакомка живет не в третьем, а в четвертом этаже.
43 Во второй половине 30-х гг. Гоголь переделал «Портрет», создав
по существу новую редакцию (она была опубликована в «Современнике),
1842, т. XXVII, № 3, и затем перепечатана в третьем томе «Сочинений Ни¬
колая Гоголя», СПб., 1842). Как писал Гоголь П. Плетневу 17 марта 1842 г.,
он переделал повесть «вследствие сделанных еще в Петербурге замечании).
При этом, очевидно, Гоголь принял во внимание и соображения москвича
Белинского, высказанные в статье «О русской повести...». Вторая редакция
«Портрета» также не удовлетворила Белинского (см. его отзыв в статье
«Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души», 1842).
44 Белинский приводит с небольшими неточностями цитату пз статьи
С. Шевырева о «Миргороде» («Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 2,
с. 410). Говоря о неудачном изображении «призрака», Шевырев имел в вид /
Вия в одноименной повести Гоголя. Далее Белинский продолжает разбор
той же повести.
45 Речь идет о «Малороссийской повести» В. Нарежного «Бурсак» (1824).
46 Замечание Белинского пмеет явно полемический характер: Григо¬
рии Сковорода был одним из любимых мыслителей Надеждина.
47 На самом деле действие «Тараса Бульбы» не приурочено строго
к XVI в. Ряд деталей позволяет отнести это действие еще и к XV п к XVII вв.
48 Белинский пмеет в виду Шевырева, писавшего в упомянутой
635
статье о «Миргороде»: «Это: слышу/ останется навсегда памятным в нашей’
литературе, и если бы г. Гоголь не изобрел ничего другого, кроме этого слав¬
ного: слышу, то одним этим мог бы заставить молчать всякую злонамерен¬
ность критики» («Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 2, с. 409). Го¬
голь, видимо, помнил эти отклики на реплику, когда, готовя повесть к пе¬
чатанию в Собрании сочинений, писал Н. Я. Прокоповичу (ппсьмо от
27/15 июля 1842 г.): «...В нынешнем списке слово: слышу, произнесенное Та¬
расом пред казнью Остапа, заменено словом: чую. Нужно оставить по-
прежнему... К этому слову уже привыкли читатели и потому будут недо¬
вольны переменою, хотя бы она была и лучше» (Н. В. Гоголь. Полн. собр.
соч., т. XII, с. 85).
49 «Малороссийским Поль де Коком» назвал Гоголя О. Сенковскпй
в рецензии на «Новоселье», ч. II («Библиотека для чтения», 1834, т. III, ч. II,
отд. V). Сближал Гоголя с Поль де Коком и Ф. Булгарин. Для «Телескопа»
и «Молвы», с их культом Гоголя, характерно было то, что они энергично
выступали против этой аналогии. Надеждин в рецензии на «Новоселье»,
ч. II подчеркивал «бесконечную разницу» между двумя писателями
(«Молва», 1834; № 23; см. также: Надеждин, с. 387). Белинский включил¬
ся в эту полемику еще до статьи «О русской повести...». В рецензии
«Сестра Анна. Сочинение Поль де Кока...» («Молва», 1835, № 31—34; Бе¬
линский, АН СССР, т. I) критик с иронией упоминал о тех, кем Гоголь был
«пожалован в Поль де Коки».
50 «Я росс» — реплика Росслава, персонажа одноименной трагедии
Я. Княжнина. См. также прим. 36.
51 Белинский приводит цитату из «Тараса Бульбы» с небольшими не¬
точностями.
52 Эти отрывка: «Глава из исторического романа» и «Пленник.
Отрывок из исторического романа». К первому отрывку («Глава...») в тексте
«Арабесок» (ч. I. СПб., 1835) было дано следующее примечание: «Из романа
под заглавием: Гетьман; первая часть его была написана и сожжена, по¬
тому что сам автор не был ею доволен; две главы, напечатанные в периоди¬
ческих изданиях, помещаются в этом собрании». В современных изданиях
сочинений Гоголя оба отрывка печатаются в составе неоконченного романа
«Гетьман».
53 Белинский имеет в виду описание степи в «Тарасе Бульбе». В за¬
ключении абзаца перефразировано гоголевское восклицание: «Черт вас
возьми, степи, как вы хороши!»
54 Эта мысль была высказана С. Шевыревым в упоминавшейся статье
о «Миргороде»: «...как бы хотелось, чтоб автор... рассмешил нас нами же са¬
мими; чтобы он открыл эту бессмыслицу в нашей собственной жизни, в
кругу так называемом образованном, в нашей гостиной...» («Московский
наблюдатель», 1835, март, кн. 2, с. 402—403). Анахронизмом Белинский счи¬
тает это пожелание потому, что оно навязывает свободной воле художника
тему и предмет изображения.
55 Статьи Гоголя, вошедшие в «Арабески», не были по достоинству
оценены не только Белинским, но и критикой 30-х гг., хотя среди читателей
раздавались и иные голоса. Находившийся в заключении Кюхельбекер по
отрывкам из статей Гоголя, приведенным в рецензии О. Сенковского («Би¬
656
блиотека для чтения», 1835, т. IX, отд. VI), составил себе впечатление, что
автор, «как видно по всему, человек мыслящий» (В. К. Кюхельбекер.
Дневник. JL, «Прибой», 1929, с. 230). В. Стасов вспоминал, что, будучи а
30-е гг. студентом Училища правоведения, он испытывал «великое восхище¬
ние» «от исторических статей Гоголя, напечатанных в «Арабесках». «Шле-
цер, Миллер и Гердер», «Средние века», «Мысли об изучении истории»— все
это глубоко поражало меня картинностью и художественностью изложения»
(«Гоголь в воспоминаниях современников». Гослитиздат, 1952, с. 397). Впо¬
следствии Белинский отказался от оценки статей Гоголя, высказанной в ра¬
боте «О русской повести...». «...Во. время оно, — писал он Гоголю 20 апреля
1842 г., — с юношескою запальчивостию изрыгнул я хулу на Ваши в «Ара¬
бесках» статьи ученого содержания, не понимая, что тем самым изрыгаю
хулу на духа».
О СТИХОТВОРЕНИЯХ г. БАРАТЫНСКОГО
(с. 185—192)
Впервые — «Телескоп», 1835, ч. XXVII, № 9, с. 123—137 (ц. р. 1 ок¬
тября). Подпись: В. Белинский. Вошло в КСсБ, ч. I, с. 241—252.
Творчество Баратынского находилось в центре внимания русской кри¬
тики 1820—1830 годов. В связи с выходом «Стихотворений Евгения Бара¬
тынского» (М., 1827) Пушкин отозвался о нем как «об одном из перво¬
классных наших поэтов и быть может еще недовольно оцененном своими
соотечественниками» (рецензия не была завершена; см.: Пушкин, т. VII,
с. 51). Глубокий разбор произведений Баратынского дал И. Киреевский
в «Обозрении- русской словесности за 1831 год» («Европеец», 1832, № 2;
перепечатано в кн.: И. Киреевский. Полн. собр. соч., т. II. М., 1911).
Выход в свет нового издания «Стихотворений Евгения Баратынского»
(чч. I—II. М., 1835) вызвал ряд откликов в критике. Одобрительная рецен¬
зия была помещена в «Библиотеке для чтения» (1835, т. X, отд. II). «Г. Ба¬
ратынский— поэт элегический, по преимуществу» (с. 2). Его музе свой¬
ственно «необщее выражение лица и необычайная простота речей» (с. 5).
Издание 1835 года и послужило поводом для настоящей статьи Белин¬
ского, содержавшей явно одностороннюю оценку творчества поэта. Необхо¬
димо, однако, подчеркнуть, что эта оценка не является недоразумением или
простой ошибкой и может быть понята лишь в контексте эстетических
взглядов критика (см. об этом в сопроводительной статье к наст. т.).
С возражениями на статью Белинского выступил Я. Неверов в напи¬
санном им разделе коллективного «Обозрения русских газет и журналов
за первую половину 1835 года»: «...Разве ум не может дружиться с поэзиею,
если только он не заглушает чувства?.. Кажется, что отказать в поэтическом
-таланте г. Баратынскому столь же невозможно, как и почитать его поэтом
по преимуществу» («Журнал министерства народного просвещения», 1836,
№ 7, с. 429—430).
Впоследствии в связи с выходом книги Баратынского «Сумерки» (М.,
1842) Белинский написал новую статью, «Стихотворения Е. Баратынского»
(см. наст, изд., т. 5), в которой отчасти пересмотрел свой взгляд на твор-*
*1ество поэта.
657
1 Иван Иванович Перерепенко — персонаж из «Повести о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя.
2 Белинский полностью приводит стихотворение «Уверение», впервые
опубликованное под этпм названием в «Северной звезде на 1829 год»
(с. 121). В пзданпп 1835 г., по которому цитирует Белинский, стихотворение
напечатано без заглавия. Курсив Белинского.
3 Стихотворение называется «На смерть Гете».
4 В издании 1835 г. это стихотворение носит название «Елпзийския
поля». В современных изданиях — «Элизийские поля».
5 В изданип 1835 г. (как и в современных изданиях) стихотворение
озаглавлено «Разуверение».
5 Первое стихотворение называется «Богдановичу». Что касается по-
сланпя Гпедичу, то в издании 1835 г. опубликовано два стихотворения:
«И. И, Гнедичу» («Так, для отрадных чувств еще я не погиб...») и «Г—чу»
(в современных изданиях: «Гнедичу, который советовал сочинителю писать
сатиры»).
7 В издании 1835 г., по которому цитирует Белинский, это стихотворе¬
ние опубликовано без названия под номером XLVI. В современных изданиям
восстановлено название первой публикации стихотворения («Невский
зритель», 1820, февраль): «К девушке, которая — на вопрос, как ее зовут —
отвечала: не знаю». Белинский приводит стихотворение с небольшими не¬
точностями.
8 Стихотворение Карамзина называется «Триолет Лизете» (1796),
9 Стихотворение помещено в издании 1835 г. без названия под номе¬
ром XLV. В современных изданиях восстановлено название первой публи¬
кации («Стихотворения Евгения Баратынского». М., 1827) — «Случай».
10 В издании 1835 г. стихотворение помещено без названия под но¬
мером LIV. В современных изданиях восстановлено название первой пуб¬
ликации («Урания. Карманная книжка на 1826 г.». М., 1825) — «Ожиданпе».
Курсив Белинского.
11 В издании 1835 г. опубликовано без названия под номером LXXIX.
В современных изданиях печатается под названием «К Амуру» (в первой
публикации в «Северной лире па 1827 год». М., 1827 — «Амуру»).
12 Цитата приведена с небольшими неточностями. Курсив Белинского.
СТИХОТВОРЕНИЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА
(с. 193-208)
Впервые—«Телескоп», 1835, ч. XXVII, № И, с. 357—387 (ц. р. 24 но¬
ября). Подпись: В. Белинский. Вошло в КСсБ, ч. I, с. 252—271.
Еще в краткой библиографической заметке («Молва», 1835, № 45) Бе-
лпиский обещал дать «подробный отчет» о «Стихотворениях Владимира
Бенедиктова», «обращающих на себя внимание не собственным достоин¬
ством, которое очень не велико, но шумными обстоятельствами (разумеется,
литературными), сопровождавшими их появление в свет». Среди этих «об¬
стоятельств» — восторжеппая статья С. Шевырева о новой кнпге («Москов¬
ский наблюдатель», 1835, август, ки. 1).
658
В статье Шевырева содержалось скрытое противопоставление моло¬
дого поэта Пушкину, которого критик пе называет по имени: прежде в рул-
скоп литературе якобы господствовала форма, теперь настал черед мысли.
«Период форм, период материальный, языческий одппм словом, период сти¬
хов и пластицпзхма уже кончился в нашей литературе сладкозвучною
сказкою: пора наступить другому периоду духовному, периоду мысли!»
(с. 442). Кроме того, Бенедиктова отличает «могучее нравственное чувство
добра, слитое с чувством целомудрия», в то время как «муза прежняя, муза
форм и стихов, была и в содержании своем музою материальною» (с. 446).
Статья Белинского строится в значительной мере как ответ Шевы-
реву: объясняя, что такое «мысль» и «нравственность» в искусстве, критик
постоянно противопоставляет Бенедиктову Пушкина. Вместе с тем это про¬
тивопоставление подводит к очень злободневному для эстетики тех лет
вопросу — о философской содержательности искусства и о формах ее про¬
явления (см. об этом в сопроводительной статье к наст. т.).
Но, разумеется, спор выходил за рамки полемики с Шевыревым, так
как мнение последнего было весьма типичным для русской критики 30-х го¬
дов. Я. Неверов в рецензии «Стихотворения В. Бенедиктова» писал: «...Что
же принес нам новый поэт? Мысль крепкую и светлую, как сталь, которая
выковывается иногда в самые нежные грациозные формы, но всегда сохра¬
няет свою силу и твердость». («Журнал министерства народного просвеще¬
ния», 1836, № 1, январь, отд. VI, с. 193). Естественно, что Неверов с неудо¬
вольствием отозвался о настоящей статье Белинского: «...в разборе... стихо¬
творений г-па Бенедиктова он не оценивает его по достоинству» (т а м ж е,
№ 8, август, отд. VI, с. 433).
В свою очередь, рецензии Шевырева и Неверова отражали исключи¬
тельную популярность нового поэта среди читателей. Впоследствии Я. По¬
лонский в составленном им биографическом очерке Бенедиктова вспоминал:
«...Не один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедик¬
това... Учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, деви¬
цы их переписывали, приезжие пз Петербурга, молодые франты, хвастались,
что им удалось заучить наизусть только что написанные и еще нигде не
напечатанные стихи Бенедиктова. И эти восторги происходили именно в то
время, когда публика с каждым годом холодела к высокохудожественным
произведениям Пушкпна...» («Сочинения В. Г. Бенедиктова», т. I. СПб. — М.,
1902, с. XII).
В этих условиях статья Белинского преследовала цель дискредитации
нового кумира, что имело важное общественное и литературное значение.
Творчество Бенедиктова было расценено критиком как воплощение вы¬
чурности, надуманности, эффектности. Все это противостояло просто¬
те и безыскусственности. Еще в «Литературных мечтаниях» Белинский
заметил, что, говоря о Марлпнском, он решается быть «органом нового об¬
щественного мнения». И действительно, критик выразил, прежде всего, те
настроения, которые пробудила книга Бенедиктова в кружке Станкевича.
10 ноября 1835 года Станкевич писал Я. Неверову: «Он (Бенедиктов) не поэт
или, пока, заглушает в себе поэзию... Что ни стих, то фигура; ходули бес¬
престанные. Чувство выражается просто: ни в одном стихотворении Пуш¬
кина нет вычурного слова, необыкновенного размера, а он — поэт. Бенедиктов
659
блестит яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или
натянутыми стихами» (Станкевич, с. 339).
0 том, какое впечатление произвела статья Белинского на читателей,
свидетельствуют воспоминания И. Тургенева, который в то время «не хуже
других упивался» стихами Бенедиктова. «...В одно утро зашел ко мне сту¬
дент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в копдитерской Беранже
появился № «Телескопа» с статьей Белинского, в которой этот «критикан»
осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немед¬
ленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски — и,
разумеется, также воспылал негодованием. Но — странное дело! — и во время
чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то
во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убеди¬
тельными... неотразимыми... Прошло несколько времени — и я уже не читал
Бенедиктова» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах.
Сочинения, т. 14. М. — JL, Изд-во АН СССР, 1967, с. 23).
К мнению Белинского о поэзии Бенедиктова присоединился Надеждип.
Полемизируя с Шевыревым, он писал в статье «Европеизм и народность, в
отношении к русской словесности» (1836): «...Поэзия г. Бенедиктова, вся из
отборных, блестящих фраз, в которых, конечно, нельзя не признать относи¬
тельного достоинства, кажется ему чудом совершенства...» (Надеждин,
с. 423).
Отголосок полемики содержится также в письме И. Панаева к Белин¬
скому от 16 июля 1838 года: «...наши Вкусо-водители... смешивают Бенедик¬
това с Пушкиным...» («Белинский и корреспонденты», с. 196).
См. также в настоящем томе рецензию Белинского на второе издание
«Стихотворений Владимира Бенедиктова» (1836).
1 Цитата из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца
с поэтом».
2 См. прим. 117 к «Литературным мечтаниям». Обвинение в «Север¬
ной пчеле», о котором говорит Белинский, было сделано Ф. Булгариным в
рецензии «Петр Басманов. Трагедия в пяти действиях. Соч. Барона Ро¬
зена...» (1835, № 251). Белинский отвечал также на это обвинение в «Жур¬
нальной заметке» (см. наст, т., с. 440—441).
3 Например, врач Диафуарус, персонаж комедии Мольера «Мнимый
больной». «Вы ни перед кем не отвечаете за свои действия: надо только
следовать правилам науки, не заботясь о том, что из этого получается...»
(д. II, явл. 6).
4 Намек на Сенковского, отличавшегося широкой образованностью и
знавшего множество языков, в том числе китайский, маньчжурский, мон¬
гольский, тибетские и т. д.
5 Этот аполог (иносказательный рассказ с элементами нравоуче¬
ния) содержался в пародийной рецензии Сенковского на «Избранные
притчи Круммахера» («Библиотека для чтения», 1835, т. XI, отд. VI,
с. 31-32).
16 «Стихотворения Александра Пушкина». СПб., чч. I, II вышли в свет
в 1829 г.; ч. III вышла в 1832 г.; ч. IV, которую еще не видел Белинский,
660
вышла в 1835 г. Рецензию на эту часть критик напечатал в 1836 г. (см.
наст, т., с. 469).
7 Шевырев в упомянутой выше статье «Стихотворения Владимира
Бенедиктова>> писал: «...является в нашей литературе новый поэт... с глу¬
бокою мыслию на челе...» («Московский наблюдатель», 1835, август, кн. 1,
с. 493).
8 Курсив Белинского.
9 Белинский полностью привел стихотворение С. Шевырева «Очи»
(опубликованное в «Телескопе», 1831, № 14). Тем самым было подчеркнуто,
что настоящая статья направлена не только против Бенедиктова, но и про¬
тив Шевырева — как критика современной поэзии и как поэта.
10 Перевод стихотворения Шиллера «Die Grosse der Welt» носит назва¬
ние «Беспредельность» (опубликован в «Московском вестнике», 1827, № 12).
11 Стихотворение называется «К Полярной звезде».
12 Это стихотворение было опубликовано в изданной незадолго перед
тем книге: «Стихотворения Виктора Теплякова», (т. I). М., 1832, с. 29—34.
СТИХОТВОРЕНИЯ КОЛЬЦОВА
(с. 209—215)
Впервые — «Телескоп», 1835, ч. XXVII, № 12, с. 470—483 (ц. р. 4 де¬
кабря). Подпись: В. Белинский. Вошло в КСсБ, ч. I, с. 271—278.
«Стихотворения Алексея Кольцова» (М., 1835) — это первое собрание
сочинений поэта. Издателем был Н. Станкевич, который, по словам Белин¬
ского, отобрал для него стихи «из довольно увесистой и толстой тетради»,
переданной ему автором. Во время печатания книги Станкевич был в де¬
ревне, и наблюдал за изданием Белинский. Белинский хотел предпослать
стихам свое предисловие, где сообщалось о материальной поддержке, ока¬
занной изданию Станкевичем, но последний счел это неудобным. «Ради
бога, вырежь к черту это предисловие...» — писал он Белинскому 17 июля
1835 года (Станкевич, с. 409). Книга вышла без предисловия.
Издание стихотворений Кольцова вызвало весьма сочувственную ре¬
цензию Я. Неверова («Журнал министерства народного просвещения», 1836,
№ 3, отд. V, с. 653—658). Более сдержанная оценка была дана в рецензии,
опубликованной в «Северной пчеле» (1835, № 290; подпись: П.).
«Молва» (1835, № 44, без подписи) в кратком библиографическом
извещении о выходе книги писала: «Мы поговорим в «Телескопе» об этом
примечательном явлении в нашей литературе, об этом истинном сюрпризе
в наше время, когда уже почти нечему удивляться, особенно в отношении
к стихам». Исполнением этого обещания и явилась настоящая рецензия.
Позднее Белинский написал большую статью «О жизни и сочинениях
Кольцова», опубликованную в качестве предисловия к книге «Стихотворе¬
ния Кольцова» (СПб., 1846).
1 Белинский цитирует (с пропуском пятого четверостишия) стихотво¬
рение «Удалец».
2 В позднейших изданиях стихотворение называется «Крестьянская
пирушка».
661
3 В издании 1835 г., как и в последующих, стихотворение называется
«Песня».
4 См. прим. 108 к «Литературным мечтаниям,).
3 Белпнский привел полностью стихотворение «Первая любозь». Кур-
спз Белинского.
6 Речь идет о стихах Бенедиктова (см. в наст. т. статью «Стихотворз-
еия Владимира Бенедиктова»).
7 В цитировании стихотворения допущена небольшая неточность.
Курсив Белипского.
НИЧТО О НИЧЕМ...
(с. 216—257)
Впервые — «Телескоп», 1836, ч. XXXI, (I) — № 1, с. 155—171 (ц. р.
2 января); (II) —№ 2, с. 341—352 (ц. р. 22 февраля); (III) — № 3,
с. 472—493 (ц. р. 5 марта); (IV) —№ 4, с. 630—664 (ц. р. 17 марта). Подпись:
В. Белинский. Вошло в КСсБ, ч. II, с. 5—70.
Статья представляет собою «отчет» о полугодии (с июня по декабрь
1835 г.), когда Надеждин был за границей и журналом «Телескоп» руково¬
дил Белинский. Жанр годового литературного обозрения, введенный впер^
вые в русскую журналистику в 1815 году Гречем, приобрел большую попу¬
лярность; обозрения А. Бестужева в «Полярной звезде», О. Сомова в «Север¬
ных цветах», И. Киреевского в «Деннице», Н. Полевого в «Московском
телеграфе» и т. д. (об истории этого жанра см.: В. Г. Березина, Белин¬
ский и вопросы истории русской журналистики. Л., изд. ЛГУ, 1973, с. 105
и далее).
Неоднократно с годовыми обозрениями выступал в «Телескопе» и
Надеждин, видевший в популярности этого жанра знамение времени: «Все
подчинено ответственности, разбору, обозрению! Итак, мудрено ли, что жур¬
налы, коих существенное назначение: быть отголосками современного духа
жизни, единодушно стремятся к тому, чтобы хотя по имени удовлетворить
господствующей потребности во все всматриваться, все разглядывать, все
обозревать внимательным, строгим оком?» («Обозрение русской словесно¬
сти за 1833 год», 1834. См.: Надеждин, с. 376).
Обозрения позволяли в свободной форме соединить теоретические рас¬
суждения с анализом и подчас с простым библиографическим описанием
текущей литературной продукции — преимущество, которым сполна вос¬
пользовался Белинский в настоящей статье. Давая «отчет» издателю «Теле¬
скопа» — главным образом отчет о журнальной литературе, — критик и раз¬
вивал основные положения философской критики, и одновременно спорил
с ее главным представителем по вопросу о народности, об оценке Пушкина
и т. д. Вместе с тем Белинский вносил коррективы в свою собственную ли¬
тературную теорию, из которых важнейшей была перемена взгляда иа
«невежество» Державина. Указание на зависимость поэта от «современной
ему учености», критика ограниченных и узких взглядов екатерининского
времени (ср. описание «века Екатерины» в (VI) гл. «Литературных мечта¬
ний»)— все это свидетельствовало о бурном росте демократических эле¬
ментов в мировоззрении Белинского.
6G2
1 Цитата пз стпхотворонпя Н. Карамзина «Опытная Соломонова муд¬
рость, пли Выбранные мысли из Екклезиаста».
2 Речь идет о статье Ф. Булгарина «Ничто, или Альманачная статейка
о ничем (ппсьмо к А. Ф. Смирдину)» («Новоселье», СПб., (ч. I), 1833). Бе¬
линский напоминает о том, как рецензент «Московского телеграфа» (1833,
№ 5, с. 101), а затем Надеждин в «Телескопе» (1833, ч. XIV, № 5) обыграли
название статьи Булгарина. Надеждин ппсал: «...ее сам автор называет
«Статейкою о ничем», и нам не остается сказать об ней ничего, кроме ска¬
занного уже «Московским телеграфом», что г. Булгарин весь в ней вы¬
лился...» (Надеждин, с. 344). Полемический смысл слову ничто — примерпг-
тельно к литературе — был придан еще Н. Карамзиным, писавшим в «Моей
исповеди» (1802): «Еще и другим отличусь от моих собратий-авторов, а
именно, краткостию. Они умеют расплодить самое ничто...» (Н. Кара м-
зин. Соч., т. VII. СПб., 1834, с. 172).
3 Определение образцовой было закреплено рядом изданий, осуще¬
ствленных А. Воейковым: «Образцовые сочинения в прозе знаменитых
древних и новых писателей» (М., 1811), «Собрание образцовых русских
сочинений и переводов в прозе» и «Собрание образцовых русских сочинений
и переводов в стихах» (совместно с А. Тургеневым и Жуковским. СПб.,
1815—1817) и др.
4 См. прим. 88 к «Литературным мечтаниям».
5 Об этом Белинский писал в «Литературных мечтаниях» (см. наст,
т., с. 76). Говоря о том, что он повторил «чужую мысль», Белинский, воз¬
можно, имеет в виду большую статью Н. Полевого, написанную в связи
с выходом в свет «Сочинений Державина», тт. I—IV. СПб., 1831. Однако
Полевой рассматривал творчество Державина как борьбу гения с обстоя¬
тельствами, самобытности с подражательностью (см.: «Московский теле¬
граф», 1832, N° 16, с. 550).
6 Речь идет о победах русских войск, одержанных в войне с Персией
(1827—1828), с Турцией (1829) и о взятии Варшавы (1831). Для позиции
Белинского, однако, характерно то, что в отличие, скажем, от Надеждина,
прославлявшего усмирение Польши, он исключает подобную тему из сферы
внимания современной литературы.
7 Речь идет о стихотворении Державина «Памятник» (1795).
8 Эта статья в 30-е гг. не была написана. Цикл статей о Пушкине
Белинский создал в 1840-х гг. (см. наст, изд., т. 6).
9 Исправлено по КСсБ (в журнальной публикации «нравственно-исто¬
рический»).
10 Намек на повести Сенковского, вошедшие в его книгу «Фантасти¬
ческие путешествия барона Брамбеуса» (СПб., 1833) — «Сентиментальное
путешествие на гору Этну» (в которой Брамбеус проваливается в жерло
Этны, попадает в «погреб того света», путешествует «вверх ногами по раз¬
ным подземным государствам») и «Ученое путешествие на Медвежий
остров». Во второй повести участники экспедиции нашли и расшифровали
«Записки последнего предпотопного человека».
11 См. об этом в статье Белинского «Литературные мечтания» (наст, т.,
с. 53 и прим. 27 к ней),
603
12 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Разговор кнпгопро^
давца с поэтом» (1824).
13 Белинский обращается к Николаю Ивановичу Надеждину.
14 Зерцало — треугольная призма с написанным на ее гранях текстом
указов Петра I, стоявшая в присутственных местах.
15 Речь идет об Александре I, издавшем в 1809 г. указ, на основании
которого для перевода в чпн коллежского асессора (чин 8-го класса) необхо¬
димо было сдавать соответствующий экзамен. Эта мера, вызвавшая широкое
недовольство в чиновничьих кругах, была фактически отменена в 1834 г.
10 Измененная цитата из пародии на стихотворение Пушкина «Чернь»
(«Поэт и толпа»), опубликованной в «Московском телеграфе», 1832, ч. 44,
N° 8, приложепие «Камер-обскура», с. 154. Автором пародии был, очевидно,
Н. Полевой.
17 Имеются в виду Булгарин и Греч. Булгарин в «Северной пчеле»
вел борьбу с «Библиотекой для чтения» чуть ли не с момента ее возникно¬
вения. В конце 1835 г. в борьбу с Сепковским вступил Н. Греч, который
первое время входил в редакцию «Библиотеки для чтения» (см.: В. Каве¬
рин. Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора
«Библиотеки для чтения». М., «Наука», 1966, с. 89—90).
18 Впервые в истории русской журналистики издатель «Библио¬
теки для чтения» Смирдин ввел твердый авторский гонорар. Журнал вы¬
ходил с исключительной точностью — обычно первого числа каждого ме¬
сяца.
19 Булгарин фактически не принимал участия в редактировании жур¬
нала, а Греч вышел из редакции в 1835 г. На ограничение редакторских
функций Греча в «Библиотеке для чтения» намекал незадолго перед тем и
Надеждин; Греч остался «при скромной должности корректора...» (Надеждип,
с. 422).
20 Имеется в виду В. И. Панаев. В «Библиотеке для чтения» было
опубликовано его произведение «Самоотвержение. Истинное происшествие»
(1835, т. VIII, отд. I).
21 Ср. рецензию Белинского на «Конек-Горбунок» П. Ершова. Об
отношении критика к сказкам Пушкина см. в прим. (вводной заметке) к
этой рецензии.
22 Словосочетание смиренная проза восходит к строкам из «Евгения
Онегина»: «...И, Фебовы презрев угрозы, // Унижусь до смиренной прозы»
(гл. третья, строфа XIII).
23 Стихотворение И. Козлова «К неверной» опубликовано в «Библио¬
теке для чтения», 1835, т. XI, отд. I.
24 См. наст, т., с. 454.
25 Повесть «Марихен» появилась в кн.: В. Ушаков. Досуги инва-»
лида, ч. I. М., 1832. Белинский присоединяется к оценке, которую дал пове¬
сти Надеждин в 1832 г.: «Это безжизненное подражапие лафонтеневским
семейственным картинам, вставленное в русские рамки» (см.: Надеждин,
с. 324).
26 Белинский имеет в виду А. Е. Измайлова как баснописца. Смысл
этой параллели проясняет более поздняя характеристика Белинским басен
Измайлова: «Порок басен Измайлова заключается в простонародности, до¬
664
веденной до тривпальностп, до грубого безвкусия» (рецензия на «Басни и
сказки Александра Измайлова», 1839).
27 Имеется в виду статья Надеждина «Европеизм и народность, в
отношении к русской словесности» («Телескоп», 1836, ч. XXXI, Л° 1, 2).
28 Речь идет о «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Ива¬
ном Никифоровичем» и о «Старосветских помещиках».
29 Произведение В. Ушакова «Сельцо Дятлово. Уездные сцепы» была
помещено в «Библиотеке для чтения», 1834, т. IV, отд. I.
30 «Пиюша. Карикатура» («Библиотека для чтения», 1835, т. XI, отд. I)
содержит пасквиль на Белинского, изображенного под именем Виссариона
Кривошеина.
31 Джяур — Гяур, персонаж одноименной поэмы Байрона.
32 Неточная цитата из басни И. Крылова «Лисица и Виноград». Далее
Белинский обращается к другой басне Крылова — «Свинья под Дубом».
33 Автор повести «Беда, если б не медведь» («Библиотека для чтения»,
1835, т. X, отд. I) — М. Марков.
34 «Утрехтские происшествия 1834 года» А. Тимофеева опубликованы
в «Библиотеке для чтения», 1835, т. XII, отд. I.
35 Сен-симонисты и Жорж Санд (госпожа Дюдеван) выступали в за¬
щиту прав женщин.
36 Произведение А. Шидловского называется «Пригожая казначейша.
Сцены уездного города» («Библиотека для чтения», 1835, т. IX, отд. I).
37 Белинский пересказывает содержание повестей «Омнибусы, или от
всего близко» («Библиотека для чтения», 1834, т. VII, отд. II) и «Достовер¬
ное сказание о моем путешествии по Англии» Пуля (там же, 1835, т. XII,
отд. II).
38 В «Библиотеке для чтения» были опубликованы следующие отрывки
из воспоминаний Д. Давыдова: «Знакомство с фельдмаршалом графом
Каменским» (1834, т. II, отд. I), «Встреча с великим Суворовым» (1835,
т. XI, отд. I), «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау» (1835, т. XII,
отд. III). Сочинение О. Сенковского «Воспоминания о Сирии. I. Затмение
солнца. II. Преступные любовники» (1834, т. V, отд. I) появилось за
подписью «Осип Морозов».
39 Статья С. Шевырева «Сикст V. Историческая характеристика» по¬
явилась в «Библиотеке для чтения», 1834, т. VI, отд. III. В редакционном
примечании было оговорено, что «самые пределы... журнала не позволяют
нам напечатать ее (статью) во всем ее пространстве». Переделка передан¬
ных в журнал произведений была возведена Сенковским в принцип.
«В Б (иблиотеке) для ч (тения) редакция значит — редакция, в подлинном
смысле слова, то есть сообщение доставленному труду принятых в журнале
форм, обделка слога и предмета, если они требуют обделки, соблюдения
всего удовольствия читателей и следовательно всей пользы самого издания»
(там же, 1836, т. XVII, отд. VI, с. 8).
40 Перевод романа Бальзака «Рёге Goriot» носил название «Старик
Горио» («Библиотека для чтения», 1835, т. VIII и IX, отд. II). В редакцион¬
ном примечании к публикации говорилось: «...само собою разумеется, что
длинноты и повторения, которыми г. Бальзак увеличивает объем своих
665
сочинений, устранены в переводе». Сенковскпй, однако, не ограничился
устранением «длиннот», но переделал конец ромапа.
41 Статья написана О. Сенковскпм («Библиотека для чтения», 1835,
т. XIII, отд. III).
42 Это обвинение высказал Ф. Булгарин в рецензии на сочинение
барона Розена «Петр Басманов...» («Северная пчела», 1835, № 251, 252). Бе¬
линский отвечал на обвинения в «Журнальпоп заметке» (см. наст, т., с. 443).
43 Намек на фразу Сенковского «человек с умом на три страницы» пз
его пародийной рецензии на «Избранные притчи Круммахера» («Библиотека
для чтения», 1835, т. XI, отд. VI, с. 32).
44 Евангелие от Матфея, 25, 15.
45 Речь пдет о статье Сеиковского, опубликованной без подписи в
«Библиотеке для чтения», 1835, т. XII, отд. V. В статье содержался разбор
«Ледяного дома» И. Лажечникова и романа А. Степанова «Постоялый двор».
Записки покойного Горянова, изданные его другом Н. П. Маловым». Белин¬
ский посвятпл специальную рецензию роману Степанова («Молва», 1836,
ч. XI, № 1; Белинский, АН СССР, т. II), в которой отмечал «и бестолко¬
вость, и безграмотность, и непристойность» этого произведения.
46 Речь идет о статье Сенковского «Черная женщина», роман Николая
Греча», опубликованной в «Библиотеке для чтения» (1834, т. IV, отд. V).
47 Статья Сенковского о романе Булгарина «Мазепа»; опубликована
в «Библиотеке для чтения» (1834, т. II, отд. V; подпись: О. О О!).
48 Статья Сенковского с разбором двух драм Кукольника «Князь
Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» и «Роксолана» опубликовала в «Биб¬
лиотеке для чтения» (1835, т. IX, отд. V). В «Северной пчеле» (1835, № 159—
161) появился ответ Кукольника «Замечания автора «Роксоланы» на рецен¬
зию в «Библиотеке для чтения».
49 Белинский приводит цитату из статьи В. Строева «Русская критика
в 1835-м году» («Сын отечества», 1836, ч. CLXXV, отд. III, с. 52).
50 Речь идет о басне И. Крылова «Мышь и Крыса».
51 Пропущен Булгарин. — Имеется в виду роман Булгарина «Димит¬
рий Самозванец» (СПб., чч. 1—2, 1830).
52 Белинский приводит цитату из рецензии Ф. Булгарина на кн. «Бо¬
рис Годунов», трагедия в трех действиях М. Лобанова». СПб., 1835 («Север¬
ная пчела», 1835, № 64).
53 Речь идет о рецензии В. Строева: «Поединок. Сочинение славяно¬
фила Аполлинария Беркутова». СПб., 1835 («Северная пчела», 1835, № 174;
подпись: Р. М.), где в частности, говорилось: «В Москве все книги для лег¬
кого чтения... издаются непростительно дурно. Кажется, с намерением
забывают, что книги этого рода преимущественно читаются дамами...»
51 В 1835 г. был издан «Полный и новейший песенник...» Собранный
И—м Гурьяновым» (чч. I—XIII. М.). Сенковский, рецензируя «песенник»,
представил Н. Степанова, в типографии которого книги были напечатаны,
как одного из соиздателей. Рецензия заканчивалась словами: «Нот не
приложено к собранию никаких; но самое содержание многих песен пока¬
зывает, что они поются только пьяно-пъяниссимо» («Библиотека для чтения»,
1835? т. XI, отд. VI, с. 22). Белинский еще до опубликования статьи «Ничто
о ничем...» выступил в защиту Степанова. В рецензии на «песенник»
т
(«Молва», 1833, ч. X, № 35; Белинскпй, АН СССР, т. I) критик отметил:
;<...г. Степанов столько же виноват в этом грехе, сколько фабрикант, делав¬
ший обверточную бумагу, на которой напечатаны неблагопрпобретенные
пьесы песенника».
55 К этому месту в журнальной публикации сделано примечание
Надеждина: «Это, верно, любимая замашка «Библиотеки». Она и со мной
поступила так же: обругала меня как переводчика «Сорока одпоп повести»,
которые только изданы мною, как и напечатано в пх заглавии, п вдобавок
назвала меня поэтом, оттого, что в некоторых из этих повестей есть стихи,
именно в тех, которые переведены покойным А. А. Шишковым. — Изд.».
Речь идет о книге «Сорок одна повесть лучших иностранных писателей...»;
изданы Николаем Надеждиным, чч. I—XII. М., 1836. Упомянутая Надежди¬
ным рецензия на «Сорок одну повесть...» помещена в «Библиотеке для чте¬
ния», 1836, т. XV, отд. VI.
55 Рецензия Сенковского на сочинение Ф. Кони «Иван Савельевич.
Московская шутка-водевиль...» (М., 1835) была опубликована в «Библиотеке
для чтения», 1835, т. XIII, отд. VI. Рецензент весьма вольно цитировал
произведение Кони. Белинский, очевидно, имеет в виду то место рецензии,
где автор, приведя реплику одпого из персонажей водевиля, в скобках от
себя прибавил: «смейтесь, это каламбур», тем самым создавая впечатление,
что эта фраза — ремарка водевилиста. Об этом водевиле и об отзыве Сенкоз-
ского Белинский уже писал ранее в рецензии, опубликованной в «Молве»
(1835, ч. X, № 51 и 52; Белинский, АН СССР, т. I).
57 Речь идет о В. Строеве и его статье «Русская критика в 1835-м годуз>
(«Сын отечества», 1836, ч. CLXXV, отд. III, подпись: В. В. В.). Говоря
о Строеве как о перелагателе Бальзака, Белинский имеет в виду прежде
всего его кн. «Сцепы из петербургской жизни». СПб., ч. I, 1835. В рецензии
иа эту книгу («Молва», 1835, ч. X, N2 39; Белинский, АН СССР, т. I) Белин¬
ский говорил: «Бальзак написал «Сцены частной жизни» и «Сцены париж¬
ской жизни»: как было не написать г-ну В. В. В. «Сцен петербургской
жизни»? Впоследствии, однако, Белинский высоко отзывался о переводах
Строева, в частности, о его переводе «Парижских тайн» Э. Сю.
58 Из всех частных изданий того времени только «Северная пчела»
имела право печатать политическую информацию.
59 Цитата из уже упоминавшейся статьи В. Строева «Ругская кри¬
тика в 1835-м году» («Сын отечества», 1836, ч. CLXXV, отд. III, с. 59; цитата
приведена с мелкими неточностями).
60 См. выше, прим. 17.
61 Неточная цитата из «Евгения Онегина», гл. шестая, строфа XXVIII.
Белинский намеренно допустил неточность («жажда злата» вместо «жажда
крови»), намекая на денежные, финансовые причины расхождения Греча
и Булгарина с Сенковским. Борьба за подписчиков достигала высшей остро¬
ты к концу года, когда шла подписка на следующий год.
62 В «Сыне отечества» (1836, ч. CLXXVI, отд. Ill) было опубликовано
«Письмо к издателям «Сына отечества» за подписью: Павел Крутенев.
Последний рекомендует себя как дядя Платона Крутенева, чья книга «Ав¬
торский вечер. Странный случаи с моим дядею» (СПб., 1835) была высмеяна
в «Библиотеке для чтения» (1836, т. XIV, отд. VI). На наивном приеме отож-
667
дествлення автора дпсьма с персонажем книги и строится вся защита:
«Дядя этот я, все суждения в «Авторском вечере» мои, следственно, я могу
считать, что книжка моя, и обязан защищать ее от толкований ложных».
Кстати, упомянутая книга Платона Крутенева получила уничтожаю¬
щую оценку Белинского («Молва», 1835, ч. X, № 51 и 52; Белинский,
АН СССР, т. I).
63 Издатель «Литературных прибавлении к Русскому инвалиду»
Воейков в литературных заметках, подписанных псевдонимом «А. Кораблшь
ский», систематически нападал на Белинского.
64 Белинский говорит о московских журналах, прекративших свое
существование в 1830-м—«холерном году»: «Московском вестнике», «Вест¬
нике Европы», «Атенее», «Галатее», и также о закрытых правительством
в 1832 г. «Европейце» и в 1834 г. — «Московском телеграфе». См. также в
«Литературных мечтаниях» (наст, т., с. 111).
65 Вернувшись из заграничной поездки, Надеждин в заметке «От
издателя» («Молва», 1835, № 50), датированной 26 декабря 1835 г., писал,
что «все зависящие от него меры к продолжению обоих журналов («Теле¬
скопа» и «Молвы»), во время его отсутствия были приняты им заблаговре¬
менно» и что он «ласкает себя надеждою, что и сами читатели, по вышедшим
каижкам и листам, отдадут справедливость добросовестности сих мер»;
66 Об этом писал, например, В. Строев в упомянутой выше статье
«Русская критика в 1835-м году»: «Московский наблюдатель» основался
с одной целию: подкопать репутацию Барона Брамбеуса и участников в
«Библиотеке для чтения» («Сын отечества», 1836, ч. CLXXV, отд. III, с. 47)%
Это соответствовало действительности: организаторы «Московского наблюда¬
теля» и сочувствующие ему литераторы выдвигали перед новым журналом
задачу противодействия «Библиотеке для чтения». 2 ноября 1834 г. Гоголь
писал М. Погодину из Петербурга, что необходимо «сколько-нибудь оттянуть
привал черни к глупой Библиотеке...».
67 Объявление об издании «Московского наблюдателя» напечатано
в «Московских ведомостях», 1834, 29 декабря, № 104. В качестве постоянных
участников журнала были названы Е. Баратынский, Н. Гоголь, М. Дмит¬
риев, Н. Мельгунов, В. Одоевский, Н. Павлов, М. Погодин, А. Хомяков,
С. Шевырев, Н. Языков. По требованию цензуры из программы журнала
исключили имя И. Киреевского, редактора запрещенного два года назад
журнала «Европеец» (1832).
68 «Роберт-дъявол» (1831) — опера Дж. Мейербера, написанная на либ¬
ретто Э. Скриба.
69 Речь идет о статье Д. Давыдова «Химическое изыскание по свекло¬
сахарному производству» («Московский наблюдатель», 1835, май, кн. 2).
«Своя семья» — повесть в стихах Н. Прокоповича; опубликована
в «Московском наблюдателе», 1835, май, кн. 1; «Иван Барабаш» — повесть
И. Срезневского (там же, 1835, апрель, кн. 1); «Маскарад» — повесть Пав¬
лова (там же, 1835, март, кн. 2); «Себастиян Бах» — повесть Одоевского
(Безгласного) (там же, 1835, май, кн. 1; впоследствпи вошла в книгу
Одоевского «Русские ночи»); «Взгляд на направление истории (письмо
к М. Ф. О.)» —статья И. Ястребцова (там же, 1835, апрель, кн. 2).
668
71 См. в наст. т. статью Белинского «О критике и литературных мне¬
ниях «Московского наблюдателя».
72 «Отчет об этом романе в «Телескопе» не появился. В 1830 г. Бе¬
линский опубликовал большую статью с разбором романов И. Лажечникова
«Ледяной дом» и «Бусурман» (см. наст, изд., т. 2).
73 См. в наст. т. работы Белинского «Стихотворения Владимира Бене-
диктова» и «Стихотворения Кольцова».
О КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРНЫХ МНЕНИЯХ
«МОСКОВСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ»
(с. 258-310)
Впервые — «Телескоп», 1836, ч. XXXII, (I) — № 5, с. 120—154 (ц. р.
21 марта); (II) —№ 6, с. 217—387 (начиная со с. 353 (в действительности:
253) и до конца статьи пагинация ошибочна; ц. р. 17 апреля). Подпись:
В. Белинский. Вошло в КСсБ, ч. II, с. 71—152.
Эту работу Белинский задумал еще в период написания статьи
«Ничто о ничем...», где говорилось: «Критика в «Наблюдателе» так странна,
так удивительна, что стоит особенного, подробного рассмотрения...» На¬
чавшаяся в середине 30-х годов полемика «Телескопа» с «Московским
наблюдателем» концентрировалась вокруг двух вопросов: философский
метод критики и общественно-литературная позиция журнала. Настоя¬
щая статья посвящена второму вопросу.
Еще Надеждин в статье «Европеизм и народность, в отношении к
русской словесиости» (1836) определил позицию «Московского наблюда¬
теля» как аристократическую. «По мнению «Наблюдателя», литература
должна говорить языком высшего общества, держаться паркетного тона,
быть эхом гостиных; и, в этом отношении, он простирает до фанатизма
свою нетерпимость ко всему уличному, мещанскому, чисто народному»
(Надеждин, с. 423). В полном согласии с Надеждиным Белинский развер¬
нул свой блестящий анализ «Московского наблюдателя» как журнала
«светского». Светскость понимается критиком и как политический консер¬
ватизм, и как литературное ретроградство: борясь со «светскостью», Бе¬
линский снимает ограничивавшие художника «запреты» — «запреты» на
тему, предмет изображения, на угол зрения и т. д., что отвечало главной
тенденции эстетических устремлений критика к середине 30-х годов (см.
об этом в сопроводительной статье к наст. т.).
В то же время, борясь со «светскостью», Белинский — и здесь он
уже расходился с Надеждиным — не делает никаких уступок шовини¬
стическим настроениям, не подлаживается под вкус «черни» (см. в наст,
статье полемику о «кулаке»).
Выступление Белинского против Шевырева, как главного критика
«Московского наблюдателя», было поддержано Станкевичем. В письме к
критику из Пятигорска от 30 мая 1836 года он сообщал: «Брат писал мне,
что ты последнею статьею о «Московском наблюдателе» решительно убид
Степана Петровича и что он сам от себя отрекается... в час добрый!»
(Станкевич, с. 412).
669
О впечатлении, которое произвело выступление Белинского против
Шевырева, свидетельствует и более поздппй отзыв П. Анненкова: «Статья
эта в полемическом смысле принадлежит к мастерским вещам автора и
по яркости красок и резкой очевидности доводов пе утеряла, кажется
нам, относптельпой занимательности и доныне» (Анненков, с. 150).
Как сказано выше, другим пунктом полемики «Телескопа» с «Мо¬
сковским наблюдателем» был вопрос о методе критики и литературной
науки. Эта полемика, поводом для которой послужил выход в свет книги
С. Шевырева «История поэзии» (т. I. М., 1835), отразилась в рецензии
Белинского «Вторая книжка «Современника» и в статье «Опыт системы
нравственной философии...» (см. прим. (вводную заметку) к этой статье).
1 Речь идет о статье С. Шевырева «О критике вообще и у нас в
России» («Московский наблюдатель», 1835, апрель, кн. 1). Эту статью Бе¬
линский разбирает ниже.
2 Речь идет об издании: «Полный и новейший песенник, в трина¬
дцати частях... собранный И — м Гурьяновым». М., 1835. Белинский дал
уничтожающий отзыв об этом издании («Молва», 1835, № 35; Белинский,
АН СССР, т. I).
3 Статьей Шевырева «Словесность и торговля», опубликованной в
«Московском наблюдателе» (1835, март, кн. 1), открывался журнал.
4 У Шевырева: «вызови на страшный суд совесть того писателя»
(с. 12).
5 Речь идет о произведениях Ф. Булгарина «Иван Выжигин. Нрав¬
ственно-сатирический роман» (чч. I—IV. СПб., 1829) и «Димитрий Само¬
званец, исторический роман» (чч. I—II. СПб., 1830); М. Загоскина «Юрий
Милославский, или Русские в 1612 году» (чч. I—III. М., 1829) и «Рослав-
лев, или Русские в 1812 году» (чч. I—IV. М., 1830), И. Лажечникова «По¬
следний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Вели¬
кого» (чч. I—IV. М., 1831—1832). «Библиотека для чтения» выходила с
1834 г.
6 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Разговор книго¬
продавца с поэтом».
7 С. Шевырев напечатал в «Библиотеке для чтения» статью
«Сикст V. Историческая характеристика» (1834, т. VI, отд. III).
8 У Шевырева: «пашп пишущие спекуляторы и дарят нас, по боль¬
шей части, романами в роде разочарованном или ужасном» (с. 16).
9 Первая статья опубликована в «Московском наблюдателе», 1835,
март, кн. 1 и кн. 2; статья о «Трех повестях» Павлова — т а м ж е, кн. 1.
10 См. прим. 85 к «Литературным мечтаниям».
11 Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. III, явл. 10; реплика
Чацкого).
12 Филипп II и Дон Карлос — персонажи драмы Ф. Шиллера «Дон
Карлос».
13 Цитата пз «Горя от ума» (д. I, явл. 7; реплика Чацкого).
14 Статья Шевырева о «Миргороде» Гоголя опубликована в «Москов¬
ском наблюдателе», 1835, отд. V, март, кн. 2.
15 Игра слов Расин — la racine по-французски «дерево». «Да, как бы
№
пе гак!» — этой фразой оканчивалась каждая строфа в одноименном стихо¬
творении П. Вяземского, опубликованном в «Новоселье», СПБ., ч. I,
1833.
15 Курсив в цитате принадлежит Белинскому.
17 В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» (см. наст,
т., с. 181).
18 См. прим. 1 к наст, статье. Чье-то мнение, о котором говорится
ниже, — это мнение А. Бестужева, высказанное в статье «Взгляд на рус¬
скую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» («Полярная звезда
на 1825 год», СПб.).
19 У Шевырева: «созданий национального искусства» (с. 497).
20 Мысль Шевырева изложена неточно. Речь идет у него не о борьбе
предания с наукой, а борьбе нового в жизни, как с преданием, так и с
наукой. «Наука преграждает путь всякому новому, свежему стремлению.
Эту же роль, какую паука занимает в мужах ученых, — предание играет
в массе народа: ибо предание есть наука толпы» (с. 502).
21 Имеется в виду следующее место пз рецензии Сенковского на
водевиль Ф. Кони «Иван Савельич. Московская шутка-водевиль...» (М.,
1835): «Московская шутка? Это что за новость?.. Г-н Кони ошибается: ми¬
лостивый государь, Москва, — мы говорим о Москве пишущей и печатаю¬
щей,— никогда не шутит; Москва ругается...» («Библиотека для чтения»,
1835, т. XIII, отд. VI, с. 26).
22 В названии сочинения Жанена у Белинского пропуск. Нужно:
«...Histoire de la poesie et de la litterature...» Перевод заглавия сочинения
Жанена, вышедшего в Париже в 3-х томах, в 1834 г., — «Романы, сказки
и литературные новеллы. История поэзии и литературы всех народов».
Статья Шевырева об этом сочинении опубликована в «Московском наблю¬
дателе», 1835, май, кн. 1.
23 Белинский имеет в виду высказывание Жанена, которое приводит
Шевырев: «но потом я снова уверплся в сеоих силах, увидев, что и все
столько же об этом знают, кате и я» (с. 120).
24 Имеется в виду Сенковский; один из его псевдонимов — Тю-
тюнджп-Оглы.
25 У Шевырева: «откровенно сознается» (с. 123).
26 Хотя отношение Белинского к современной французской литера¬
туре оставалось достаточно сложным и критичным (см., в частности, его
отзыв о Викторе Гюго в наст, статье), но он выступает против осуж¬
дения этой литературы по сугубо политическим причинам — как литера¬
туры якобы безнравственной, социально опасной и т.д. Подобное мнение,
пользовавшееся в России официальной поддержкой, разделяли не только
Шевырев и Сенковский, но п Надеждин.
27 Этот перевод (вместе с предисловием переводчика) был опубли¬
кован в «Московском наблюдателе», 1835, июль, кн. 1 и 2. Еще раньше
Шевырев напечатал статью «О возможности ввести пталпянскую октаву
в русское стихосложение» с приложением: «Несколько строф из седьмой
песни «Освобожденного Иерусалима» («Телескоп», 1831, ч. III, Ш 11—12).
«Просодической реформе» Шевырева Белинский посвятпл также специ¬
альную заметку (см. наст, т., с. 429). Проблема введеппя в русское сти¬
171
хосложение октавы и, в связп с этим, проблема перевода «Освобожденного
Иерусалима» Торквато Тассо давно занимала литераторов. В этой связи
имели свое значение и опыты Шевырева, недооцененные Белинским.
28 Речь идет о Надеждине. Статья Шевырева была опубликована в
«Телескопе» в то время, как ее автор находился в Италии.
29 Речь идет об А. Воейкове, который еще в 1819 г. в «Послании к
С. С. Уварову» защищал спондей в русском стихосложении:
Пусть говорят галломаны, что мы не имеем спондеев!
Мы их найдем, исчисляя подробно деяния Россов...
(«Вестник Европы», 1819, ЛЗ 5, с. 21)
30 Речь идет о стихотворении Шевырева «Послание к А. С. Пуш¬
кину» («Денница», М., 1831). Высоко оценивая значение Пушкина для
русской поэзии, автор в то же время сетует, что российский язык в
творчестве поэта «галльскою диетою замучен», и призывает к поэтическому
новаторству.
31 Белинский перефразирует строки из стихотворения Пушкина «Да¬
выдову» («Когда чахоточный отец //Немного тощей Энеиды...»).
32 Статья Шевырева «Стихотворения Владимира Бенедиктова» опуб¬
ликована в «Московском наблюдателе», 1835, август, кн. 1.
33 Иронический пересказ стихотворения «Кудри», напечатанного в
«Библиотеке для чтения», 1836, т. XIV, отд. I. (У Бенедиктова: «...Навивать
их шелк на пальцы, //Поцелуем припекать...»)
34 Суждения критиков о «Руслане и Людмиле» Пушкин привел в
предисловии ко второму изданию поэмы (1828).
35 Курсив в цитате принадлежит Белинскому.
36 Стихотворение называется «Певец в Кремле».
37 См. прим. 6 к статье «О русской повести и повестях г. Гоголя».
38 Обе цитаты— из монолога Чацкого («Горе от ума», д. II, явл. 5;
в первом случае неточно).
39 Ср. замечание Белинского об этом стихотворении в статье «Сти¬
хотворения Владимира Бенедиктова» (см. наст, т., с. 207).
40 Статья С.- Шевырева о драме А. де Виньи «Чаттортон» опублико¬
вана в «Московском наблюдателе», 1835, октябрь, кп. 2.
41 Впоследствии Белинский стал относиться к творчеству А. де
Виньи более критически. В «Литературной хронике» (1838) он присоеди¬
няется к характеристике А. де Виньи, данной Пушкиным в статье
«О Мильтоне и шатобриановом переводе «Потерянного рая»: «чопорный,
манерный граф Виньи» (статья Пушкипа появилась впервые в «Совре¬
меннике», 1837, т. I).
42 Белинский имеет в виду прежде всего Растипьяка, персонажа из
романа Бальзака «Отец Горио». Вокер (Воке) — персонаж из того
же романа.
43 В краткой рецензии, посвященной русскому переводу книги
А. де Виньи: «Стелло, или Голубые бесы. Повести, рассказанные больному
черным доктором» (чч. I, II. СПб., 1835), Белинский писал, что это «одно
из лучших сочинений современной французской литературы» («Молва»,
1836, № 5; Белинский, АН СССР, т, II),
672
* Цитата приведена с мелкими неточностями.
45 В родном городе Флоренции Данте выступал против сторонни-»
ков папы — «черных» гвельфов. После победы последних был приговорен
заочно к смерти и вел жизнь изгнанника.
46 Дюма рассказал о своем путешествии в Швейцарию в книге
«Impressions de voyage», 1834 («Путевые впечатления»). Белинский пере¬
вел отрывки из этой книги: «Месть. Из путевых впечатлений Александра
Дюма» («Телескоп», 1834, ч. XXII, № 28 и 29), «Гора Гемми. Из путевых
впечатлений Александра Дюма» (там же, № 32). Ко второй публикации
Надеждин сделал примечание: «Г. Белинский переводит все Путевые
впечатления г. Дюма и намеревается издать их в свет . — Изд.» (с. 390).
47 В последние годы жизни В. Скотт много писал ради заработка.
Белинский имеет в виду его исторические труды: «Жизнь Наполеона Бо¬
напарта» (тт. I—IX, 1827; русский перевод — СПб., чч. I—XIV, 1831—1832);
«История Шотландии» (тт. I—III, 1829—1830; русский перевод—СПб.,
чч. I—III, 1831) и др.
48 История нравственного самоубийства художника, которую опи¬
сывает Белинский, опираясь на очерк О. Люше, представляет собою инте¬
ресную параллель к судьбе Чарткова, центрального персонажа повести
Гоголя «Портрет» (ср. отзыв Белинского о первой части этой повести
в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» — в наст, т., с. 180).
49 Статья С. Шевырева «Московский театр», посвященная игре Ка¬
ратыгина, напечатана в «Московском наблюдателе», 1835, апрель, кн. 1.
О приезде Каратыгиных в Москву в 1833 и в 1835 гг. и о возникшей в
связи с этим полемике — см. прим. (вводную заметку) к статье Белин¬
ского «И мое мнение об игре г. Каратыгина».
50 Умолчание в статье Белинского красноречиво: Шевырев, прежде
всего, оттенил в характере Ермака верноподданнические «чувства»: «Вме¬
сте с этим богатырством, этим сознанием своей силы, соединяется в Ер¬
маке коренное русское чувство; чувство совершенной покорности и вер¬
ности царю» (с. 672).
51 Статья Н. Мельгунова «Музыкальная летопись» напечатана в
«Московском наблюдателе», 1835, март, кн. 1; статья Н. П—щ—ва (Н. Пав¬
лищева) «Брамбеус и юная словесность» помещена там же, июнь, кн. 1
и кн. 2.
52 Эти статьи принадлежат Н. Павлову (см.: Н. Мордовченко.
Гоголь и журналистика 1835—1836 гг. — В кн. «Гоголь. Материалы и ис¬
следования», т. 2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1936, с. 133). Они напечатаны
в «Московском наблюдателе», 1835, июль, кн. 2, и октябрь, кн. 1.
53 Упоминаемая Белинским выходка автора против русского кулака
вызвала острую полемику, имевшую явный политический подтекст. Нача¬
лось все с следующего упрека Загоскину, высказанного Н. Павловым в
рецензии на «Аскольдову могилу»: «Как позволить себе в изящном произ¬
ведении, на сцене, — еще похвальное слово кулаку?..» «Нам ли, теперь ли
хвалиться преимуществами дикости, грубого тела, когда и враги наши
стыдятся уже называть нас варварами...» («Московский наблюдатель», 1835,
июль, кн. 2, с. 283, 285). Надеждпн оспорпл этот упрек: в статье «Европепзм
и народность, в отношении к русской словесности» он обвинил «Московский
22 В. Белинский, т. 1
673
наблюдатель» в том, что тот «преследует... г. Загоскина, самого народного
пз наших писателей; русской кулак делает ему вертижи, русской фарс
бросает его в лихорадку» («Телескоп», 1836, ч. XXXI, № 2; см.: Надеждин*
с. 423). По поводу этого суждения Белинский п подал издателю «Телескопа»)
свою апелляцию. Надеждин, однако, оставил за собою последнее слово
И сопроводил апелляцию Белинского своим примечанием («Телескоп», 1836,
Ч. XXXII, № 6, с. 363): «Я почитаю излишним пускаться здесь в метафизику
кулака; скажу только, что, по моему мнению, всякое орудие драки, есте¬
ственное и искусственное, равно не достойны человека, которому прпрода
дала другое средство борьбы и победы — мысль и слово! Что же касается
До красноречивой фигуры вопрошения, выписанной здесь пз «Московского
наблюдателя», замечу, что говорить о целом классе народа, будто он за
углом поглаживает свою бороду и за углом рад похвастать своими кула¬
ками, значит так же мало знать этот народ, как Аустерлицкпй мост, на
котором нет чугуна ни звонкого, ни глухого, который весь был и есть
деревянный. Впрочем, вся выходка о кулаке в критике на «Аскольдову
Могилу» кажется мне привязкою; в опере это роковое слово только один
раз упомянуто. Это именно и есть доказательство ожесточения против
г. Загоскина. — Изд.». Ответ Надеждина привел к продолжению полемики
(см. подробнее прим. в кн.: Надеждин, с. 542). На полемику о «кулаке»
откликнулся И. Лажечников, поддержавший Белинского в письме к нему
от 18 марта 1836 г.: «Боже мой! что за панегирик кулаку написал Ник (олай)
Ив (анович) в своем Европеизме и своей народности!..» («Белинский и кор¬
респонденты», с. 180).
54 Статья опубликована в «Московском наблюдателе», 1835, июнь,
кн. 1.
55 Статья О. Бодянского, посвященная книге «Народные спеванки, пли
Светские песни словаков в Венгрии, как простого народа, так и высшего
сословия, собранные, в порядок приведенные, объясненные и выданные
Яном Колларом», ч. I и II. Буда, 1834 и 1835; опубликована в «Московском
наблюдателе», 1835, октябрь, кн. 1 и 2.
Говоря о том, что Бодянский причислен к мифам, Белинский, очевидно,
пмеет в виду брошюру С. Руссова: «Разбор статьи, напечатанной в «Сыне
отечества» на 1835 г., в № 37, 38 и 39, «О мнениях касательно Руси» (СПб.,
1836) (направленную против другой работы Бодянского), где, в частности,
утверждалось, что Бодянский — это «псевдоним» (с. 4).
56 Автором этой статьи, опубликованной без подписи в «Московском
наблюдателе», 1835 (ноябрь, кн. 1, с указанием: «Обещано продолжением),
был И. Ефимович. Статья интересна как одна пз первых в Росспп попыток
оценить новейшее философское движение в Германии, включая Гегеля:
«...чего недостает Франции? Истинного просвещения, знания; надобпо... чтоб
слабое, неосновательное учение, неправильно прозванное эклектическим,
претворилось в ученое познание истины, в систему конкретного единства,
в систему великого Гегеля. Понять или умереть — вот закон нашего столе¬
тия (с. 100).
57 Названная статья, опубликованная в «Московском наблюдателе»,
1835, август, кн. 2, принадлежит М. Макарову. Автор обвинял критика
«Молвы» в неуважении к таким писателям, как Нелединский-Мелецкий п
674
Капнпст, и заключал свою статью следующей сентенцией: «В литературе
республика, как и везде (кроме крохотки Сан-Марино), никуда не годится.
Литература требует необходимости в своих уставщиках: Лагарпах, Карам¬
зиных, Шатобрпанах, Гете» (с. 622). В статье был задет и Лажечников,
который в ответ написал «Отповедь г. Авениру Народному». Прося Белин¬
ского (в письме от 29 ноября 1835 г.) поместить «Отповедь» в «Молве», Ла¬
жечников сообщал: «Знаю, за что гневаются издатели Наб (людателя) на
меня: при самом выходе 1-й пресловутой книжки я посмеялся над нею в
Английском клубе, сравнив Шевырева с мышью, удалившеюся в сыр, а
журнал назвал наблюдателем из передней одного Князя» («Белинский и
корреспонденты», с. 178).
58 Статья опубликована в «Московском наблюдателе», 1836, март, кн. 1.
Продолжение статьи печаталось в следующей книге (март, кн. 2; ц. р.
10/IV) и поэтому в настоящей работе Белинским не рассматривается.
59 Автор романа «Князь Скопин-Шуйский, или Россия в начале
XVII столетия» (чч. I—IV. СПб., 1835) — фрейлина О. Шишкина.
60 Московский университет имел во времена Белинского следующие
четыре факультета: нравственных и политических наук; физических и ма¬
тематических наук; врачебных или медицинских наук и словесных наук.
61 Беллона — в древнеримской мифологии богиня войны.
62 В действительности у Белинского не было камердинера. Перед
нами — явный полемический прием, примененный с целью показать, что
упомянутый роман Коттен отвечает неразвитому эстетическому вкусу.
53 Цитата с небольшой неточностью. Фразы в скобках принадлежат
Белинскому.
64 «Мисс Эджворт ныне первый и во всех отношениях лучший рома¬
нист в Европе», — утверждалось Сенковским в «Библиотеке для чтения»
(1834, т. III, отд. VII, с. 67). Об Эджуорт и о ее романе «Елена» Белинский
писал еще в рецензии на «Библиотеку романов и исторических записок»
(см. наст, т., с. 427).
65 Цитата из «Евгения Онегина», гл. седьмая, строфа XLVIII.
66 Цитата из «Насмешки мертвого» В. Одоевского («Денница. Альма¬
нах на 1834 год». М., 1834, с. 229). Впоследствии под заглавием «Насмешка
мертвеца» рассказ вошел в «Русские ночи» Одоевского.
67 См. рецензию Белинского на «Вастолу» в наст. т. и прим. к ней.
68 Произведение А. Тимофеева «Любовь поэта (несколько писем, най¬
денных в рабочем столике молодой девушки)» опубликовано в «Москов*
ском наблюдателе», 1835, ноябрь, кн. 1, Свое мнение о «Песнях» Тимофеева
Белинский высказал в специальной рецензии (см. наст, т., с. 464).
69 См. в наст. т. рецензию Белинского на книгу С. Пеллико «О должно¬
стях человека» и прим. к этой рецензии.
70 Имеется в виду П. Шаликов, сентиментальный поэт и редактор
«Дамского журнала». Ср. в другой заметке, опубликованной в «Молве»,
1836, № 10 (подпись: «Молва»): «...в блаженной памяти «Дамском журнале»,
этом «Московском наблюдателе» прошлого десятилетия...» (с. 276).
71 Статья Низара «Виктор Гюго в 1836 г.» напечатана в «Московском
наблюдателе», 1835, ноябрь, кн. 2, и декабрь кн. 1 (журнал был издан в по¬
рядке погашения задолженности за 1835 г.; поэтому дата — 1835 — не
22*
675
соответствует тому времени, когда книжка готовилась к печати; ц. р. —
20 марта 1836 г.).
72 Возможно, намек на Шевырева, который начал свою литературную
деятельность в 20-е гг. как поэт, а затем продолжал ее и в качестве критика
в журналах «Московский вестник», «Московский наблюдатель» и др.
ОПЫТ СИСТЕМЫ НРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
СОЧИНЕНИЕ... АЛЕКСЕЯ ДРОЗДОВА
(с. 311—342)
Впервые — «Телескоп», 1835, ч. XXX, 21—24, с. 337—369 (ц. р. 22 ав¬
густа 1836 г.; вып. в свет 28 октября). Подпись: В. Белинский.
Статья написана Белинским в имении Бакуниных Прямухино, где он
жил с конца августа 1836 года* закончена 14 сентября.
Сохранились: 1) копия Т. А. Бакуниной, озаглавленная «Опыт системы
нравственной философии, сочинение магистра А. Д.» (оканчивается сло¬
вами «...то и жизнь человека должна быть беспрерывным», с. 339, стро¬
ки 4—5 сн.), хранится в ЦГАОР, ф. 825, on. 1, № 198, лл. 1—16; 2) копия
А. П. Ефремова (от слов «димость молитвы и пренебрежение ею почита¬
лось...», с. 332, строки 11—12 св., и кончая словами «...своего сознания не
убил», с. 333, строка 13 св.), продолженная (от слов «или вернее сказать...»,
с. 333, строка 13 св.) и законченная самим Белинским, хранится в ЦГАОР,
ф. 825, on. 1, № 1093, лл 26—33.
Рукопись статьи была переслана Белинским в Москву, и Надеждин
решил опубликовать ее в одной из книжек «Телескопа», которые выходили
в порядке погашения задолженности за предыдущий год (этим и объяс¬
няется расхождение между временем написания статьи и датой, стоящей
на титульном листе журнала, — 1835). Кстати, и цензурное разрешение по¬
следней — 22/VIII 1836 — не соответствует времени окончательного состав¬
ления книги. Сообщение «От издателя», которым заканчивается этот том
журнала, датировано: «20 октября 1836».
12 октября 1836 года Надеждин сообщил Белинскому, который все еще
жил в Прямухино, что значительно сократил его статью о книге Дроздова.
Откровенно признаваясь, что находится в «большом страхе» за напечатание
в «Телескопе» «Философического письма» П. Я. Чаадаева, он прибавлял:
«...я выпустил больше половины собственных ваших мнений, которые напе¬
чатать нет никакой возможности. Вы, почтеннейший, удалясь в царство
идей, совсем забыли об условиях действительности. При том же и время
теперь самое неблагоприятное» («Русская мысль», 1911, № 6, отд. II, с. 41—
42). Наборная рукопись утеряна. Давно известно, что с автографа этой
статьи Белинского Т. А. Бакуниной была снята копия. Об этом она писала
братьям около 26 октября 1836 года: «...всю эту неделю я была занята
переписыванием статьи г. Белинского, которая меня восхитила, — он нам
читал ее несколько дней подряд, и то, что я почувствовала, невыразимо»
(там же, с. 41). Однако поиски копии Т. А. Бакуниной оставались безре*
зультатными. Поэтому до настоящего времени во всех изданиях сочинений
Белинского текст статьи о книге Дроздова воспроизведен по значительно
сокращенной журнальной .публикации. В полном виде она была опублико-
676
ъана И. Т. Трофимовым по найденпой им копии Т. А. Бакуниной и копии
А. П. Ефремова, продолженной Белинским («Русская литература», 1960,
№ 3, с. 125-146).
Сличение копии Т. А. Бакуниной с журнальной публикацией статьи
показывает, что, кроме сокращений в заглавии и эпиграфе, в ней есть про¬
пуски, описки, а иногда и ошибки. Так, например, в копии Т. А. Бакуниной
сказано: «Почтенный автор начинает, как должно, с определения идей
«нравственной философии», которую он иначе называет «деятельной»; раз¬
личие ее от «умозрительной» он полагает в том, что предмет первой есть
истина, второй добро» (с. 313, 20 сн.). Между тем в журнальной публикации
иначе: «Почтенный автор начинает, как и должно, с определения идеи
«нравственной философии», которую он иначе называет «деятельною»; раз¬
личие ее от «умозрительной» он полагает в том, что предмет последней
есть истина, а первой добро». Обращение к рецензируемой книге Дроздова
показало, что ошибка — в копии Т. А. Бакуниной. Что же касается незна¬
чительных разночтений журнального текста с копией Т. А. Бакуниной, то
они, видимо, объясняются правкой Надеждина во время самовольного со¬
кращения статьи. Вероятно, опиской Надеждина следует объяснить рас¬
хождение в дате написания статьи. В журнальной публикации она датиро¬
вана 13 сентября, а в автографе Белинского — 14 сентября. Текст содержа¬
щихся в копии Т. А. Бакуниной и журнальной публикации одних и тех
же цитат частично не совпадает. В одном случае текст цитаты в копии
Т. А. Бакуниной несколько полнее или точнее цитаты в журнальной
публикации, в другом — наоборот. Из этого следует, что в обоих источниках
цитаты даны неточно. Поэтому в виде исключения они приводятся по
рецензируемой Белинским книге Дроздова.
Печатается по копии Т. А. Бакуниной, а затем по копии А. П. Ефре¬
мова, продолженной и законченной Белинским, с устранением сокраще¬
ний в эпиграфе и заглавии, пропусков и ошибок по журнальной публи¬
кации.
Настоящая статья отражает тот «курс» философских занятий Белин¬
ского, который он охарактеризовал в письме к М. Бакунину от 14 августа
1838 года: «Много прошел я курсов, но важнейшим была первая поездка
в Прямухино... Ты сообщил мне фихтеанский взгляд на жизнь — я уцепился
за него с энергиею, с фанатизмом; но то ли это было для меня, что для
тебя? Для тебя это было переход от Канта, переход естественный, логиче¬
ский; а я — мне хотелось написать статейку — рецензию на Дроздова, и для
этого запастись идеями. Я хотел, чтобы статья была хороша — и вот вся
тут история». Дело, однако, не только в «прикладном» характере фихтеан¬
ских интересов Белинского, но и в самом существе его отношения к немец¬
кому мыслителю. М. Бакунину был ближе поздний Фихте, Фихте периода
«Наставления к блаженной жизни» («Die Anweisung zum seligen Leben...»,
1806), считавший, что назначение человека состоит во внутреннем само¬
углублении, в идеальном познании бога. Для Белинского же фихтеанство —
прежде всего философия действия, как она была развита в трудах немец¬
кого ученого 1794 года: «Наукоучение» («Wissenshaftslehre») и «Лекции
о назначении ученого» («Vorlesungen liber die Bestimmung des Gelehrten»:
это произведение в переводе Бакунина печаталось в «Телескопе», 1835,
677
ч. XXIX). В учении Фихте этого периода «Я» подчиняет себе «пе-Я», дух
подчиняет природу. Природа — лишь материал, который должно преодолеть
«Я» на пути своего усовершенствования. Эта субъектпвно-пдеалистическая
посылка давала выход бунтарским, демократическим, «штюрмерскпм» на¬
строениям Белинского. По позднейшему свпдетельству крптпка (письмо
к М. Бакунину от 12—24 октября 1838 г.), он «фихтеанизм понял как робес-
пьеризм и в новой теории чуял запах крови» (о «штюрмерскпх» настроениях
Белинского во время пребывания в Прямухпне, в частности, об его кон¬
фликте с А. М. Бакуниным, отцом Михаила Бакунина, см.: М. Поляков,
риссарион Белинский. Личность — идеи — эпоха. М., Гослитиздат, I960,
С. 233—235; А. Н. Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка, изд 2-е. СПб.,
1908, с. 148).
В сравнении с предшествующими работами Белинского настоящая
статья характерна тем, что в ней впервые с большой силой подчеркнуто
значение рациональных моментов: разум признается единственной подлин¬
ной основой познания, нравственности, нравственных действии и т. д.
Подобное перемещение акцента соответствовало общеевропейской философ¬
ской эволюции, от Канта через того же Фихте к Гегелю, утверждавшей
приоритет опосредствованного знания, логического мышления. В русской
критике и эстетике эта тенденция вела от Веневитинова, Надеждина и др. —
к философским штудиям Станкевича и Белинского середины 30-х годов.
Ср. в письме Станкевича к Я. Неверову от 21 сентября 1836 года: «Одному
довольно веры, другому пояснения этой веры... но вполне ум удовлетво¬
ряется только совершенным согласием с самим собою... Вне знания нет
бытия, вне единства нет знания; совершенное одобрение ума, согласие,
равное согласию на то, что 2X2 = 4: вот чего должно достигнуть уму!»
(Станкевич, с. 365).
Необходимо принять во внимание еще один момент, нашедший отра¬
жение в статье Белинского, — борьбу вокруг книги С. Шевырева «История
поэзии», т. 1. М., 1835. С. Шевырев рассматривал свою книгу как обоснова¬
ние «чисто исторического» способа изучения (с. I), противополагая его
философскому методу Надеждина. Последний напечатал пространную
статью о труде Шевырева, в которой доказывал необходимость дальнейшего
расширения и углубления основных начал философской эстетики («Теле¬
скоп», 1836, ч. XXXI; см. также: Надеждин, с. 445—470). Развернулась
острая полемика, в которой на стороне Шевырева выступили П. Плетнев,
Я. Неверов, В. Андросов (в неопубликованной заметке метод исследования
Шевырева поддержал также А. Пушкин —см.: Пушкин, т. VII, с. 398—400),
а на стороне Надеждина были Станкевич, Белинский и др. Именно этой
полемикой вызваны в настоящей статье замечания о противниках «логиче¬
ских построений» (то есть о Шевыреве). Таким образом, борьба Белинского
с односторонними «фактистами» и «профанами науки» оказалась связан¬
ной с отмеченной выше тенденцией — обоснованием приоритета логиче¬
ского, опосредствованного знания.
Своей философской ориентацией, углубленным теоретическим интере¬
сом к проблемам познания и этики настоящая статья уже предсаряет
наступление нового периода в творческом развитии Белинского,
678
1 Речь идет о С. Шевыреве (см. выше, во вступительной заметке й
паст. прим.).
2 Говоря о людях, нападающих на немецкую философию, Белинский
имеет в виду прежде всего Сенковского. Люди, защищающие светскость, —
это прежде всего С. Шевырев.
3 Намек на П. Вяземского. См. подробнее прим. 5 к рецензии «Вто¬
рая книжка «Современника».
4 Златой телец — выражение из Библии (Исход, 32).
5 Речь идет о статье В. Андросова «Как пишут критику» («Москов¬
ский наблюдатель», 1836, апрель, кн. 1), выступившего в защиту книги
С. Шевырева «История поэзии» (о сущности спора см. выше, во вступитель¬
ной заметке к примечаниям). Андросов, в частности, привел процитирован-»
ную Белинским песню для доказательства мысли: «...Каждый век имеет?
свои потребности, свои страсти, своп чувства... но не с каждою потребно*
стпю, не с каждым чувством гармонирует дух бессмертный, воплощающий
себя в произведениях мысли» (с. 488). В. Андросов, ученый, экономист, был
видным деятелем Московского общества сельского хозяйства, чем, видимо*
и вызвано полемическое замечание Белинского — «о новом способе унаво^
живать поле».
6 Евангелие от Матфея, 10, 37—38.
7 Курсив Белинского.
8 Эта притча рассказана в Евангелии от Матфея, 19, 16—24, и в Еван-»
гелии от Луки, 18, 18—25. Окончание притчи передано Белинским несколько
неточно: богатый человек, услышав, что нужно все раздать нищим, опеча¬
лился; и Иисус сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в царствие
божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели бога¬
тому войти в царствие божие».
9 Евангелие от Матфея, 26, 38; 26, 39 и 26, 41.
10 Второе Послание Петра, 3, 13 и Послание к римлянам, 8, 21.
11 Евангелие от Луки, 17, 20—21.
12 Имеется в виду следующее место из «Лекций о назначении уче*
ного» (лекция II): «Der Staat geht... auf seine eigene Vernichtung aus: es ist
der Zweck aller Regierung die Regierung iiber fliissig zu machen» («Государство
стремится... к своему собственному уничтожению: цель всякой власти —
сделать. излишней эту власть»)—Johann Gottlieb Fichte. Von den Pflich-
ten der Gelehrten, Jenaer Vorlesungen 1794/95. Berlin, Akademie Verlag,
1972, S. 16).
13 Послание к римлянам, 6, 14.
14 Ср. Послание к римлянам, 8, 17; Первое Послание к корпы-*
фянам, 6, 19.
15 Евангелие от Матфея, И, 28—30.
РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
Ночь на Рождество Христово... Соч... К. Баранова (с. 345—347). Впер¬
вые — «Молва», 1834, ч. VIII, № 45, с. 292—295 (ц. р. 10 ноября). Подпись:
*—он — инский. Вошло в КСсБ, ч. I, с. 133—136.
1 См. прим. 196 к «Литературным мечтаниям».
679
2 Речь идет о Гете, с которым Шиллер был связан творческой друж¬
бой.
3 «Бедный Егор» — роман немецкого писателя К.-Г. Крамера, переве¬
денный на русский язык (М., 1807; второе издание — Орел, 1824).
4 Белинский перечисляет персонажи произведения Булгарина «Иван
Выжигин». Нравственно-сатирический роман» (чч. I—IV. СПб., 1829).
Повести Безумного (с. 347—349). Впервые — «Молва», 1834, ч. VIII,
Лг 49, с. 356—360 (ц. р. 7 декабря). Подпись: —он — инский. Вошло в КСсБ,
ч. I, с. 157—160.
1 Псевдоним И. В. Селиванова.
2 «Александроида» — поэма П. Свечина (чч. I—IV. М., 1827—1829)«
3 См. прим. 121 к «Литературным мечтаниям».
4 Белинский имеет в виду свой собственный перевод: «Месть. Из пу-*
тевых впечатлений Александра Дюма». Опубликован в «Телескопе», 1834,
ч. XXII (подпись: «С франц., В. Белинский»).
5 Белинский перефразирует известное выражение Мольера: «Я беру
свое добро, где нахожу его». Эту фразу приводит Гримаре в своей книге
о Мольере (J. L. Grimarest. La Vie de Moliere, 1705).
Регентство k Бирона. Повесть. Соч. Константина Масальского... Граф Обо*
янский... Соч. Н. Коншина... Шигоны... (с. 350—352). Впервые — «Молва»,
1834, ч. VIII, № 52, с. 434—438 (ц. р. 29 декабря). Подпись: —он — инский,
Вошло в КСсБ, ч. I, с. 160—164.
1 Здесь опубликована повесть К. Масальского «Дон-Кихот XIX века».
Белинский имеет в виду то место этой повести, где один из персонажей,
Артемий Петрович, в нарочито окарикатуренной форме излагает идеи, по¬
черпнутые в «немецкой книге, проповедывающей материализм», а другой
персонаж, Вельский, уличает его в атеизме и в отрицании идеи божествен¬
ного откровения.
2 Белинский приводит полностью двустишие А. Измайлова, опублико¬
ванное в его книге «Новые басни и сказки» (СПб., 1817, с. 61).
Изгнанник... Сочинение Богемуса... (с. 352—355). Впервые — «Молва»,
1835, ч. IX, № 2, «Новые книги», стлб. 23—27 (ц. р. И января). Подпись:
(— он — инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 305—308.
1 «Димитрий Самозванец» (чч. I—II. СПб., 1830)—роман Ф. Булга¬
рина. «Черная женщина» (чч. I—IV. СПб., 1834) — роман Н. Греча.
2 См. прим. 156 и 38 к «Литературным мечтаниям».
3 Отрывок из работы О.-Л.-Б. Вольфа «Die schone Litecatur Europa’s
in der neuesten Zeit», озаглавленный «Немецкая словесность в девятнадца*
том столетии», был напечатан в «Телескопе», 1833, ч. XV, № 9, 10, 12.
Поселыцик. Сибирская повесть. Соч. Н. Щ... (с. 355—360). Впервые —
«Молва», 1835, ч. IX, № 3, «Новые книги», стлб. 43—50 (ц. р. 18 января).
Подпись: (— он — инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 308—315.
1 Несколько позже Белинский опубликовал рецензию на другое произ¬
ведение Н. Щ(укина) «Ангарские пороги. Сибирская быль». СПб., 1835
(«Молва», 1835, № 13; Белинский, АН СССР, т. I).
2 См. прим. 104 к «Литературным мечтаниям».
3 Имеются в виду произведения: К. Масальский «Стрельцы, историчен
680
скпй роман», чч. I—IV. СПб., 1832, п роман И. Калашникова «Камчадалка»
чч. I—IV, СПб., 1833.
4 См. прим. 197 к «Литературным мечтаниям».
5 Белинский высмеивает Сенковского, считавшего, что созданный
Вальтером Скоттом тип исторического романа неоправданно беллетризирует
исторические события: «Исторический роман, по-моему, есть побочный
сынок без роду, без племени, плод соблазнительного прелюбодеяния истории
с воображением. Я стою за чистоту нравов...» («Библиотека для чтения»,
1834, т. И, отд. V, с. 14). Точку зрения Сенковского высмеивал и Надеждин
в ряде статей, в частности в статье «Европеизм и народность, в отношении
к русской словесности» (см.: Надеждин, с. 440). Позднее, в статье «О движе¬
нии журнальной литературы в 1834 и 1835 году», Гоголь с возмущением
писал о Сенковском: «Вальтер Скотт, этот великий гений... назван шарлата¬
ном. И это читала Россия, это говорилось людям уже образованным...»
(Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч., т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 160).
6 О пленниках см. прим. 150 к «Литературным мечтаниям». «Андрей
Бичев, или Смешны мне люди» — комедия Эраста Перцова (СПб., 1833).
7 Речь идет о романах В. Скотта «Айвенго» и «Карл Смелый, или Анна
Гейерштейнская, дева мрака».
8 Это главный тезис диссертации Надеждина «О происхождении, при¬
роде и судьбах поэзии, называемой романтической» (защищена в 1830 г.
в Московском университете; в этом же году вышла на латинском языка
отдельной книгой) (см.: Надеждин, с. 252).
9 Неточная цитата из «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо, в пере¬
воде А. Мерзлякова, ч. I, песнь первая. М., 1828.
В тихом озере черти водятся... Федора Кони (с. 360—361). Впервые —
«Молва», 1835, ч. IX, № 5, «Новые книги», стлб. 76—79 (ц. р. 1 февраля).
Подпись: (—он — инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 316—318.
1 Название водевиля приведено неточно. Надо: «В тихом омуте черти
водятся».
2 Как указал сам. Ф. Кони в предисловии к рецензируемому Белин¬
ским изданию, «Завязка и главное лицо сей комедии заимствованы... из
водевиля Скриба: «М-dme de St-Agnes».
3 Ср. «Горе от ума», д. IV, явл. 6.
4 Премьера пьесы Ф. Кони «В тихом омуте...» состоялась в Москве
28 сентября 1834 г.
Повести, изданные Александром Пушкиным (с. 362—363). Впервые —
«Молва», 1835, ч. IX, № 7, «Новые книги», стлб. 108—110 (ц. р. 15 февраля).
Подпись: (—он—инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 319—320.
Белинский развивает свой взгляд на последние произведения Пушки¬
на, высказанный еще в «Литературных мечтаниях» (СхМ. наст, т., с. 97).
Об отношении Белинского к Пушкину см. в сопроводительной статье к наст,
т. См. также: Ю. Манн. Русская философская эстетика. М., «Искусство»,
1969, с. 209.
1 Неточная цитата из «Евгения Онегина» («Отрывки из путешествия
Онегина»).
2 Еще до выхода в свет книжки «Библиотеки для чтения» с повестью
Лушкина Сенковский обратился к ее автору с восторженным письмом. «Вы
681
создаете нечто новое, вы начинаете новую эпоху в литературе...» (см.: Пуш¬
кин, т. XV, с. 109—111). Белинский знал мнение Сенковского о «Пиковой
даме» пз рецензии последнего на книгу Мельгунова «Рассказы о бывалом
и небывалом». В ней отмечалось, что «Пиковая дама» и есть верх прелест¬
ного русского рассказа» («Библиотека для чтения», 1834, т. III, отд. VI, с. 5).
3 Действительно, произведенпя, составившие рецензируемую Белин¬
ским книгу, были уже опубликованы раньше. «Пиковая дама» появилась
в «Библиотеке для чтения», 1834, т. II. «Повести покойного Ивана Петровича
Белкина, изданные А. П.» вышли отдельным изданием в СПб., 1831. Первый
отрывок пз «исторического романа» («Ассамблея при Петре Первом») опуб¬
ликован в «Литературной газете» (1830, март); второй («Обед у русского
боярина») под названием «IV глава из исторического романа» — в «Север¬
ных цветах на 1829 год» (СПб., 1828). Оба отрывка в рецензируемой книге
были напечатаны под заглавием «Две главы из исторического романа». Вся
рукопись (без VII главы) впервые была опубликована после смерти Пушки¬
на («Современник», 1837, т. VI) под заглавием «Арап Петра Великого»
(в рукописи роман не имеет названия).
История о храбром рыцаре Францыле Венциане... (с. 363—365). Впер¬
вые— «Молва», 1835, ч. IX, № 7, «Новые книги», стлб. 110—113 (ц. р. 15 фев¬
раля). Подпись: (—он—инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 321—324.
1 См. прим. 159 к «Литературным мечтаниям».
2 Речь идет о статье Булгарина «Краткое полюбовное объяснение
подписчика на журналы со всеми журналистами, их сотрудниками и авто¬
рами, прославленными в журналах или растерзанными в них» («Северная
пчела», 1835, № 42 и 43; подпись: «Нуль после цифры (10). Ф. Б.»).
Новое Не любо — не слушай, а лгать не мешай... Две гробовые жертвы,
Рассказ Касьяна Русского (с. 365—366). Впервые — «Молва», 1835, ч. 1Х?
№ 7, «Новые книги», стлб. 114—115 (ц. р. 15 февраля). Подпись:
(—он —инский). Вошло в КСсБ., ч. I, с. 325—326.
1 См. прим. 10 к статье «Ничто о ничем...».
2 О «смирдинском периоде» русской литературы Белинский писал
в «Литературных мечтаниях» (см. наст, т., с. 123).
Конек-Горбунок... Сочинение П. Ершова... (с. 366—367). Впервые —
«Молва», 1835, ч. IX, № 9, «Новые книги», стлб. 143—145 (ц. р. 1 марта).
Подпись: (—он— инский). Вошло в КСсБ., ч. I, с. 329—331.
Проблема литературной обработки фольклорного материала связана
у Белинского с общей концепцией развития художественного сознания. Под¬
делаться под дух фольклорного произведения невозможно, так как невоз¬
можно искусственно восстановить предшествующие формы художественного
сознания. Отсюда отрицательное отношение критика не только к произве¬
дению П. Ершова, но и к сказкам Пушкина. В рецензии на сказку
«Царь-девица», М., 1835 («Молва», 1835, № 12, ц. p. 22/III; Белинский,
АН СССР, т. I.), Белинский писал, имея в виду сказку Пушкина: «Ох, царь
Салтан Салтанович! Бог тебе судья! встормошил ты наш неугомонный
народ — житья не стало от сказок; хоть беги со света долой!» Подобные воз-<
зрения были характерны для русской философской эстетики. Так, Н. Стан-*
кевич в письме к Я. Неверову от 30 октября 1834 г. отзывался о «Коньке*
682
Горбунке» следующим образом: «...Что путного в этом немощном подража¬
нии народным поговоркам, которые уродуются, искажаются стиха ради,
и какого стиха? Пушкин изобрел этот ложный род...» (Станкевич, с. 295—296) *
1 Неточная цитата из стихотворения Н. Карамзина «Опытная Соло¬
монова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста».
2 То есть в повести Карамзина «Наталья, боярская дочь».
Путевые записки Вадима (с. 368—369). Впервые — «Молва», 1835, ч.
IX, № 10, «Новые книги», стлб. 158—161 (ц. р. 8 марта). Подппсь (—он
— инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 331—334.
1 Автор рецензируемой книги В. В. Пассек.
2 Неточная цитата из басни Крылова «Лебедь, Щука и Рак».
3 Белинский имеет в виду роман Н. Греча «Черная женщина», чч. 1-ч
IV. СПб., 1834.
4 Этот роман — «Ледяной дом», чч. I—IV. М., 1835. Ц. p. I ч. было
дано еще 14 февраля 1833 г. Белинский знал о готовящемся издании
романа от самого И. Лажечникова, с которым он находился в дружеских
отношениях.
5 См. прим. 21 к «Литературным мечтаниям».
6 Повести г. Павлова. — Н. Павлов. Три повести. М., 1835 (подроб¬
ный разбор этих повестей Белинский дал позднее в статье «О русской по¬
вести и повестях г. Гоголя»); «Грамматика» Востокова. — А. Востоков был
автором нескольких грамматик: «Сокращенной русской грамматики» (СПб.,
1831), «Русской грамматики» (СПб., 1831) и др.; о повестях Безумного
Белинский писал в специальной рецензии (см. наст, т.); «Грамматике
языка русского» И. Калайдовича (ч. I. М., 1834) Белинский посвятил специ¬
альную рецензию («Молва», 1834, № 47, 48; Белинский, АН СССР, т. I).
7 То есть книгу И. Кайданова «Начертание истории Российского госу¬
дарства», СПб., 1829.
Были и небылицы Казака Луганского... Книжка вторая (с. 369—370).
Впервые — «Молва», 1835, ч. IX, № 10, «Новые книги», стлб. 161—162
(ц. р. 8 марта)... Подпись: (—он — инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 334—335.
1 Псевдоним В. И. Даля.
2 Калипсо — нимфа в древнегреческой мифологии, жившая на леген¬
дарном острове Огигия, на который после кораблекрушения попал Одиссей.
Здесь в плену у Калипсо он пробыл семь лет.
Аббаддоина. Сочинение Николая Полевого... Мечты и жизнь. Были и
повести, сочиненные Николаем Полевым (с. 370—375). Впервые — «Молва»,
1835, ч. IX, № И, «Новые книги», стлб. 172—180( ц. р. 15 марта). Подпись:
(—он — инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 335—343.
Это первая рецензия Белинского из серии его выступлений, специально
посвященных Н. Полевому. Отношение к Полевому, журналисту, историку
и писателю, издателю незадолго перед тем закрытого журнала «Московский
телеграф» (1825—1834), показательно для позиции молодого Белинского.
Долгие годы Надеждина и Полевого разделяла непримиримая вражда, про¬
истекавшая из философских, литературных, политических различий в пози¬
ции обоих журналистов. Надеждин осуждал как романтическую ориентацию
«Московского телеграфа», так и его политическую оппозиционность. Поле¬
683
мика осложнялась личным соперничеством двух литераторов, упорной борь¬
бой за читательскую аудиторию.
Белинский еще в «Литературных мечтаниях», вопреки традиционному
отношению «Телескопа» и «Молвы» к Полевому, воздал должное издателю
«Московского телеграфа» (см. наст, т., с.ИО). В данной же рецензии, под¬
черкивая свою свободу «от всякого влияния партий», Белинский высоко
оценивает художественные произведения Полевого. Эта характеристика
была развита затем в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя».
К моменту публикации настоящей рецензии происходит и личное
сближение обоих литераторов. Кс. Полевой вспоминал: «...Белинский сде¬
лался постоянным гостем у брата моего и у меня. Эта приязнь была совер¬
шенно бескорыстной как с нашей, так и с его стороны» (Полевой, с. 343).
Наиболее яркий документ, отражающий взаимоотношения двух лите¬
раторов, — письмо Белинского к Полевому от 26 апреля 1835 г. Принимая
на себя руководство «Телескопом», в связи с отъездом Надеждина за гра¬
ницу, Белинский выражает желание «иметь своим читателем того человека,
который с таким благородным и беспримерным самоотвержением старался
водрузить на родной земле хоругвь века, который воспитал своим журналом
несколько юных поколений и сделался вечным образцом журналиста».
Во второй половине 30-х годов отношения Белинского к Полевому ста¬
новятся враждебными. Это объясняется и изменением позиции Полевого,
который после переезда в Петербург в конце 1837 года «в пять дней стал
верноподданным» (выражение Герцена), и углублением философских инте¬
ресов Белинского, который теперь осуждает поверхностность и эклектизм
литературных теорий Полевого.
Объективную оценку деятельности Н. Полевого Белинский дал в бро¬
шюре «Николай Алексеевич Полевой» (СПб., 1846), написанной после
смерти писателя (см. наст, изд., т. 8).
1 Речь идет о большой статье «Взгляд на кабинеты журналов и поли¬
тические их отношения между собою», публиковавшейся в «Московском
вестнике» в 1830 г., за подписью: NN (чч. II—VI). Статья написана М. Пого¬
диным при некотором участии других авторов, в частности Надежди¬
на (см.: Н. Барсуков. Жизнь я труды М. П. Погодина, кн. III. СПб.?
4890, с. 87).
2 До Белинского с рецензией на «Аббаддонну» выступил В. Плаксил
(«Сын отечества и Северный архив», d835, т. XLVII, № 7; ц. р.
4 января), похваливший «главную идею» романа («жизнь убивает поэзию,
Поэзия издевается над жизнию»), но отметивший недоконченность изобра¬
жения, отсутствие легкости в слоге и т. д. Другой роман, «Клятва при гробе
господнем», очень высоко оценил А. Марлинский в специальной статье об
этом романе (см. прим. 27 к «Литературным мечтаниям»). Кто поставил
«Аббаддонну» чуть «не наравне с изделиями» А. Орлова, установить пе
удалось.
3 Речь идет о 7-й сцене IV акта трагедии. Леди Мпльтфорд говорит
здесь Луизе почти те же слова, намекая на Фердинанда: «Это у тебя не
врожденное величие, и его не мог внушить тебе отец... Я слышу голос дру¬
гого учителя».
684
4 Продолжение романа (два отрывка) Н. Полевой напечатал в «Сынз
отечества», 1838, т. IV и V. Второе издание романа — и вновь «без конца»,
как отмечал Белинский в специальной рецензии, вышло в 1840 г. В этой
рецензии (см. наст, изд., т. 3) критик более строго оценил роман, отметив
в нем черты идеальности, прекраснодушия.
5 «Симеон Кирдяпа (Русская быль XIV века)» опубликован в
«Московском телеграфе», 1828, ч. XIX, № 1—3; «Святочные рассказы»
(а не вечера) опубликованы в «Московском телеграфе» (1826, ч. XII,
№ 23, 24).
Записки о походах 1812 и 1813 годов... (с. 375—376). Впервые — «Мол¬
ва», 1835, ч. IX, № 12, «Новые книги», стлб. 189 — 191 (ц. р. 22 марта). Об¬
щая подпись в конце отдела: (—он—инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 343—344.
1 Автор рецензируемой книги — А. С. Норов.
2 Скорее всего, речь идет о книге: Д. П. Бутурлин. История наше¬
ствия императора Наполеона на Россию в 1812-м году, чч. 1—2. СПб., 1823—
1824 (перевод А. Хатова; оригинал на франц. языке). Но, возможно, имеется
в виду другая книга Бутурлина: «Картина осеннего похода, 1813 г., в Гер¬
мании, после перемирия, до обратного перехода французской армии чрез
Рейн». Перевод с французского, СПб., 1830.
3 То есть Наполеона Бонапарта.
Хмельницкие, или Присоединение Малороссии... Соч. П. Голоты...
(с. 376—378). Впервые — «Молва», 1835, ч. IX, № 12, «Новые книги»,
стлб. 191—193 (ц. р. 22 марта). Общая подпись в конце отдела: (—он —
инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 345—347.
1 Будучи отголоском эпигонского сентиментализма, «Дамский жур¬
нал» представлял собою архаичное явление и не раз служил предметом
острых насмешек в русской критике 1820—1830-х гг.
2 Цитата из украинской народной думы «Богдан Хмельницкий и Васи¬
лий Молдавский», с которой Белинский мог познакомиться по книге:
(Н. А. Цертелев) Опыт собрания старинных малороссийских песней.
СПб. 1819, с. 41. Здесь впервые опубликована запись этой думы, сделанная
Н. Цертелевым в 1814 г.
3 Об Эрасте Чертополохове — см.’ прим. 104 к «Литературным мечта¬
ниям». «Российский феатрь — идававшееся Академией наук многотомное
собрание русских пьес: «Российский феатр, или Полное собрание всех poG-»
сийских феатральных сочинений», чч. I—XLIII. СПб., 1786—1794.
Сочинения в прозе и стихах, Константина Батюшкова (с. 378—381),
Впервые — «Молва», 1835, ч. IX, № 13, «Новые книги», стлб. 204—210
(ц. р. 29 марта). Общая подпись в конце отдела: (—он—инский). Вошло в
КСсБ, ч. I, с. 348-353.
1 Стихотворение называется «К Тассу» («Позволь, священна тень, без-*
вестному певцу...»).
2 Ряд произведений Батюшкова назван неточно. В рецензируемом
издании они опубликованы под названием: «На развалинах замка в Шве¬
ции», «Гезпод и Омир, соперники», «Карамзину» (в современных изданиях
печатается под названием «К творцу «Истории государства Российского»),
Послание И. М. М (уравьеву) А (постолу) ». Стихотворение «К Н.» теперь
печатается под названием «К Никите»,
685
8 Речь идет о переводе из I песни ^Освобожденного Иерусалима»:
«Скончал пустынник речь! Небесно вдохновенье!»
4 В современных изданиях это стихотворение печатается под назва*
нием «Элизий».
5 Ряд названий приведен Белинскиад неточно, Цужно: «Ничто о поэто
и поэзии», «Прогулка в Академию художеств», «Речь о влиянии легкой поэ¬
зии на язык», «Письмо к И. М. М (уравьеву) А (постолу) о сочинениях
г. Муравьева».
6 Замечание высказал Н. Полевой в статье. «Сочпнения Державина»
(см. «Московский телеграф», 1832, № 15, с. 397). Это было одно из первых-^
если не первое — обоснование у нас идеи последовательно «хронологиче¬
ского порядка» при расположении сочинений писателя.
Арабески... Н. Гоголя... Миргород... Н. Гоголя..- (с. 381—383). Впервые —
«Молва», 1835, ч. IX, № 15, «Новые книга», стлб. 239—242 (ц. р. 12 апре¬
ля). Подпись: (—он— инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 357—359.
1 См. прим. 7 к «Литературным мечтаниям».
2 Обещанная Белинским статья так и не. появилась. Критика г. Шевы-
рева, о которой говорится ниже, — статья С. Шевырева о «Князе Михаиле
Васильевиче Скопине-Шуйском» Кукольника («Московский наблюдатель»,
1835, март, кн. 1 и 2). Подробный разбор этой статьи Белинский дал в работе
«О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя» (см. наст,
т., с. 264).
3 О каких точно романах Полевого идет речь — неизвестно. В 1835 г.
новых романов Полевого издано не было. Но в «Московском наблюдателе»
(1835, октябрь, кн. 1) Н. Полевой опубликовал «Пир Святослава» с под¬
строчным примечанием: «Отрывок из нового романа «Синие и зеленые».
Скорее всего, это произведение и имел в виду Белинский. Другое произведе¬
ние, о котором, возможно, идет речь, — «Христофор Колумб. Исторический
рассказ» (ч. I. М., 1835).
4 Подразумевается Шевырев, который писал в статье «Словесность
и торговля»: «... Вызови на страшный суд совесть того писателя, которого
первый роман... завоевал внимание публики!.. Его насильственное второе,
более насильственное третье и четвертое вдохновение не было ли плодом
того безотчетного, но сладкого чувства, что роман теперь самая верная
спекуляция?» («Московский наблюдатель», 1835, март, кн. 1, с. 12—13).
Подробный разбор этой статьи Белинский дал в работе «О критике и ли¬
тературных мнениях «Московского наблюдателя».
5 Обещанный «отчет» (статья «О русской повести и повестях г. Го¬
голя») появился не в 5-м, а в 7-м и 8-м номерах «Телескопа» за 1835 г.
Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I... (с.
383—385). Впервые — «Молва», 1835, ч. IX, № 16, «Новые книги», стлб. 257—
260 (ц. р. 19 апреля). Общая подпись в конце отдела: (—он—инский),
Вошло в КСсБ, ч. I, 359—362.
1 Автор рецензируемого романа — Р. М. Зотов.
Ведьма, или Страшные ночи за Днепром... Соч. А. Чуровского... Чер¬
ной (ый?) Кощей... Соч. А. Чуровского (с. 385—386). Впервые — «Молва»,
1835, ч. IX, № 17, «Новые книги», стлб. 270—272 (ц. р. 26 апреля). Подпись:
— он — инский. Вошло в КСсБ, ч, I, с. 362—364.
т Белинский имеет в виду «Путевые записки Вадима», о которых ои
написал специальную рецензию (см. паст, т., с. 3G8).
Учебная книга всеобщей истории... И. Кайданова... (с. 386—391). Впер¬
вые — «Молва», 1835, ч. IX, 19, «Новые книги», стлб. 309—316 (ц. р.
10 мая). Общая подпись в конце отдела: (—он—инский). Вошло в КСсБ,
ч. I, с. 364—371.
1 Первое определение содержится в рецензируемой Белинским книге
(Введение, § 1). Второе определение — с темп или другими вариациями —
повторяется во многих трудах И. Кайданова: «История есть повествование
о достопамятных происшествиях, случившихся в свете» («Краткое начерта¬
ние всемирной истории». СПб., 1822, с. VII; см. также «Основания всеобщей
политической истории». СПб., 1814, с. XVI и т. д.).
2 Это замечание содержится в «Предисловип» к «Истории государства
Российского» (т. I. СПб., 1818): «Хвастливость авторского красноречия и
нега читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков?
Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие...» (с. XVII).
3 Выступая за максимальное приближение литературного языка к
разговорному, О. Сенковский предлагал отказаться от употребления таких
слов, как сей, оный, поелику и т. д. (см., в частности, в его книге
«Фантастические путешествия барона Брамбеуса». СПб., 1833, стр. XI, XII
и др.). Преследование Сенковский этих слов приобретало подчас комически-
утрпрованный характер. Так, Сенковский опубликовал «Резолюцию на чело¬
битную сего, онаго, таковаго, коего, вышеупомянутаго, вышереченнаго,
ннжеследующаго, ибо, а потому, поелику, якобы и других причастных
к оной челобитной, по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из
русского языка» («Библиотека для чтения», 1835, т. VIII, отд. VI).
Сцены на море. Сочинение И. Давыдова (с. 391—392). Впервые —
«Молва», 1835, ч. IX, № 19, «Новые книги», стлб. 317—318 (ц. р. 10 мая).
Подпись: (—он—инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 371—373.
1 В журнальной публикации неточно: вместо Н. Давыдов — И. Давы¬
дов.
2 Отзыв о «Сценах на море» был опубликован в «Московском наблю¬
дателе», 1835, март, кн. 2; подпись: а; рецензия на «Ангарские пороги» —
в той же книжке журнала; без подписи. Белинский посвятил специальную
рецензию «Ангарским порогам» Н. Щ (укина) («Молва», 1835, № 13; Белин¬
ский, АН СССР, т. I).
Дитя поэзии... Стихотворения Михаила Меркли (с. 392—395). Впер¬
вые — «Молва», 1835, ч. IX, № 21, «Новые книги», стлб. 342—347 (ц. р. 23 мая).
Подпись: (—он—инский). Вошло в КСсБ, ч I, с. 378—382.
1 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродав¬
ца с поэтом».
2 Неточная цитата из стихотворения Н. Языкова «Воспоминание об
А. А. Воейковой».
3 См. прим. 150 к «Литературным мечтаниям».
4 Из песпи «Журнал любви» («Самый новейший отборнейший москов¬
ский и санктпетербургскпп песельник...», 2-е изд. М., 1803, с. 254).
Наталия. Сочинение госпожи ***... (с. 396—399). Впервые — «Молва»,
687
1835, ч. IX, № 22, «Новые книги», стлб. 361—366 (ц. .р. 31 мая). Общая
подпись в конце отдела: (—он— инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 382—387,
1 Автор рецензируемой книги — французская писательница Шарль
де Монпеза (M-me Charles de Montpezat).
2 Первая цитата — завершающие строки стихотворения Г. Державина
«На смерть князя Мещерского». Вторая цитата — также завершающие стро¬
ки другого стихотворения Державина — «К первому соседу». Курсив везде
Белинского.
3 О повести К. Масальского Белинскпй уже писал: см. наст, т., с. 351,
Выступление «Библиотеки для чтения» против немецких философов — это
статья О. Сенковского «Германская философия» (т. IX, отд. III, 1835) с рез¬
кими нападками на Канта, Шеллинга и особенно Гегеля. «Германская фило¬
софия, — заключал автор, — наделала много вреда; она сбила с толку пе
одну умную голову и запутала все науки: пора ей в отставку — и, по мило¬
сти, освободите от ней русских, которые всегда славились своим здравым
смыслом».
4 Цитата из стихотворения В. Жуковского «Голос с того света»
(из Шиллера).
О господине Новгороде Великом... А. В. (с. 399 — 400). Впервые —
«Молва», 1835, ч. IX, № 23, «Новые книги», стлб. 380—381 (ц. р. 7 июня).
Общая подпись в конце отдела: (— он— инский). Вошло в КСсБ, ч. 1,
с. 388—389.
1 Автор рецензируемой книги А. Вельтман.
2 Об этом Вельтман говорит в рецензируемой книге (с. 3).
Борис Годунов. Трагедия... М. Лобанова (с. 400—401). Впервые —
«Молва», 1835, ч. IX, № 23, «Новые книги», стлб. 382—384 (ц. р. 7 июня),
Подпись: (— он — инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 389—391.
Настоящая рецензия Белинского привела в негодование М. Лобанова,
который не оставил ее без ответа. 18 января 1836 года он произнес речь
в собрании императорской Российской академии (опубликовано позднее,
в «Трудах императорской Российской Академии», ч. III. СПб., 1840), в кото¬
рой, в частности, обрушился на современную русскую критику: «Критика,
сия кроткая наставница и добросовестная подруга словесности, ныне обра¬
тилась в площадное гаерство, в литературное пиратство, в способ добывать
себе поживу из кармана слабоумия дерзкими и буйными выходками, неред¬
ко даже против мужей государственных, знаменитых и гражданскими п ли¬
тературными заслугами. Ни сан, ни ум, ни талант, ни лета, ничто не
уважается» (с. 95). Хотя в качестве примеров Лобанов приводил далее
нмена Ломоносова, Карамзина,. но при этом он явно имел в виду и себя,
обиженного рецензией Белинского, не пощадившей в нем ни лет, ни сана
(М. Лобанов был действительным членом Российской академии). На обви¬
нения Лобанова, граничившие с политическим доносом, ответил Пушкин
в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так
и отечественной» («Современник», 1836, т. III). С речью Лобанова Пушкин
познакомился по протоколу, опубликованному в книжке «Заседание, быв¬
шее в императорской Российской Академии 18 января 1836 г.» (СПб., 1836,
приведенная выше цитата — на с. 24). Пушкин тем самым взял под защиту
Белинского (см. об этом: Ю. Оксман. Переписка Белинского. Критико¬
688
библиографический обзор. — ЛН, т. 56, с. 251—252). В 1841 г., рецензируя
«Труды императорской Российской Академии», на речи М. Лобанова оста¬
новился Белинский, заметив, что эту речь надо было напечатать вместе с
посвященной ей статьей Пушкина.
1 Возможно, речь идет о статье О. С (омова) «Федра», трагедия Расина,
перевод М. Е. Лобанова...» («Сын отечества», 1823, № XLI), где, в частности,
говорилось: «...Мы имеем наконец «Федру», достойную своего имени» (с. 260).
В некоторых стихах перевода критик находил даже «больше поэзии, нежели
в Расиновых» (с. 257).
Художник. Т. м. ф. а. (с. 401—403). Впервые—«Молва», 1835, ч. IX,
№ 24—26, «Новые книги», стлб. 401—405 (стлб. 405 ошибочно помечен: 445;
Ц. р. 30 июля). Общая подпись в конце отдела: (—он—инский). Вошло
в КСсБ., ч. I, с. 391—395.
1 Автор рецензируемой книги А. В. Тимофеев.
2 Выражение «умеренность златая» (златая середина, aurea mediocri-
tas) восходит к «Одам» Горация, кн. II, 10, 5.
3 Евангелие от Иоанна, 18, 36.
4 Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Поэт». Курсив Белин**
ского.
Жертва... Сочинение г-жи Монборн (с. 404—410). Впервые — «Молва»,
1835, ч. X, № 27—30, «Новые книги», стлб. 9—20 (ц. р. 14 августа). Об¬
щая подпись в конце отдела: (— он — инский). Вошло в КСсБ, ч. I,
с. 400—410.
1 В упомянутой Белинским книжке «Телескопа» под рубрикой «Зна¬
менитые современники» помещена статья «Александр Дюма» (из «Revue
des Deux Mondes»). На странице, на которую дана отсылка, начинается
разбор драмы Дюма «Антони», представляющей, по мнению автора статьи,
покушение на священный институт брака. «Дюма, жрец страсти, создал
идеальный апотеоз прелюбодеяния — Антони».
2 В повести Жан лис «Женщина — автор» Доротея говорит своей се¬
стре Эмилии, ставшей писательницей: «...Не печатай никогда сочинений
своих... Истинная героиня есть добродетельная мать и супруга» («Повести
госпожи Жанлис, переведенные Н. Карамзиным», изд. И, ч. II. 1816,
с. 10—11).
3 Брадаманта — персонаж поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд».
4 См. прим. 58 к «Литературным мечтаниям».
5 Здесь помещена статья «Феликс Неф» (из «Foreign Quarterly Re¬
view»). Статья рассказывала о просветительской и филантропической дея¬
тельности священника Ф. Нефа среди крестьян Верхних Альп во Франции.
В тексте «Молвы» ошибочно напечатано: Феликс Фен.
6 Евангелие от Матфея, 25, 15.
7 Обращение спартанской женщины к своему сыну-воину, переданное
Плутархом (в книге «Изречения лакедемонянок») и ставшее крылатым вы¬
ражением.
8 Ср. «Евгений Онегин», гл. третья, строфа XXVIII.
9 Данное высказывание типично для Белинского, который в 30-е гг,
отрицательно относился к утопическому социализму и, в частности, к уче¬
нию Сен-Симона. Но в начале 40-х гг. «идея социализма» стала для Белм-
689
ского «идеею идей, бытпем бытия» (см. его письмо к В. Боткину от 8 сен¬
тября 1841 г.).
Ижорский. Мистерия (с. 410—415). Впервые—«Молва», 1835, ч. X,
№ 27—30, «Новые книги», стлб. 20—27 (ц. р. 14 августа). Общая подпись
в конце отдела: (—он— инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 410—414.
Мистерия «Ижорский», изданная без имени автора, принадлежит
В. Кюхельбекеру, который работал над ней, находясь в одиночном заключе¬
нии. Отрывки из мистерии печатались в журналах и альманахах еще в кон¬
це 1820-х годов и обратили на себя внимание критики. Так, И. Киреевский
в опубликованном в альманахе «Денница на 1830 год «Обозрении русской
словесности за 1829 год» отметил, что «сцены из этой драматической фанта¬
зии... замечательны по редкому у нас соединению глубокости чувства с иг-
ривостью воображения» (И. Киреевский. Полн. собр. соч. в 2-х томах,
т. II. М., 1911, с. 26). Разрешение на отдельное издание мистерии, о котором
хлопотал Пушкин, было получено еще 10 июля 1833 г. Но книга появилась
лишь в 1835 г. В нее вошли две части мистерии. Завершающая третья часть
была опубликована лишь в советское время в Собрании сочинений В. Кю¬
хельбекера, изданном в серии «Библиотека поэта»? т. 2, Драматические
произведения. М., «Советский писатель», 1939.
До настоящей рецензии Белинского с отзывом на «Ижорского» высту-
пила «Библиотека для чтения» (1835, т. X, отд. VI, рецензия не подписана,
но некоторые ее моменты, в частности пассаж о местоимениях «сей» й
«оный», свидетельствуют об авторстве О. Сенковского). «...Ижорский», — от¬
мечает рецензент, — похож на диатрибу против жизни. Он ведет атаку на
все, что может радовать, услаждать, веселить, счастливить человека. Неко¬
торые пункты этой, в целом несправедливой, жалобы писаны с талантом
замечательным, с чувством неподдельным, с скорбию непритворною. Только
глубоко оскорбленное сердце могло бросить такой взгляд на жизнь...» (с. 3)<
Но какова в целом мысль пьесы, по мнению рецензента, «отгадать трудно»,
так как произведение не закончено.
Более суровое отношение Белинского к мистерии обусловлено прежде
всего тем, что она противоречила его эстетическому кредо. Выступая за
органическое искусство, критик был в это время непримиримым про¬
тивником рационализма в искусстве. «Что создано фантазиею, а пе холод*
ным умом, то всегда истинно, верно и прекрасно...» («Стихотворения Влади¬
мира Бенедиктова»). Отсюда вражда критика к аллегоризму, печать
которого, по его мнению, песет на себе «Ижорский». В смешении же мифо¬
логических образов различных планов — античного, западноевропейского и
русского — критик видел не только нарочитый рационализм, но и предвзя¬
тое, антиисторическое отношение к фольклорному материалу. Ведь мифоло*
гическое сознание порождается определенной стадией духовной эволюции*
и восстановить его ретроспективно невозможно (см. об этом также в наст,
т. в рецензии на «Конек-Горбунок» П. Ершова и в прим. к ней).
1 Речь пдет о своде законов Российской империи — собрании действо¬
вавших в то время законодательных актов, расположенных в темати¬
ческом порядке. Этот свод был издан в 1832 г. и вступил в силу 1 января
1835 г.
2 Эта и последующая строка в тексте мистерии читаются так:
Безумец, на тебя весь гад:
Ты червь презренный, подлый ад.
Конечно же, это опечатка. (Об опечатках, кстати, упоминал п Кюхельбекер
в дневниковой записи от 12 мая 1835 г.: «...Мой «Ижорскип» мне прислан,
напечатанный. Жаль только, что в нем ошибок типографских бездна». —
В. К. Кюхельбекер. Дневник. Д., пзд-во «Прибои», 1929, с. 233.) Белин¬
ский исправил эту опечатку, но неточно, чем и объясняются его упреки к
этому двустишию. Нужпо:
Безумец, на тебя весь ад:
Ты червь презренный, подлый гад.
3 Приведенный Белинским монолог содержится в I, а не в III д.
II части мистерии.
4 Цитата приведена неточно.
Сын жены моей... Сочинение Поль де Кока... (с. 415—418). Впервые —
«Молва», 1835, ч. X, № 27—30, «Новые книги», стлб. 27—32 (ц. р. 14 августа).
Общая подпись в конце отдела: (—он —инский). Вошло в КСсБ, ч. I,
с. 414—419.
1 Речь идет о древнегреческих мифах, послуживших основой для мно¬
гих художественных произведений. Эдип, не зная своего происхождения,
случайно убивает своего отца, фиванского царя Лая, затем женится на
собственной матери. Атрей, враждуя со своим братом Фиестом, убивает его
детей. Атриды — потомки Атрея, над которыми тяготеет проклятие за пре¬
ступление их предка.
2 Евангелие от Иоанна, 18, 36.
3 Речь идет о романе Ж.-Б. Луве де Кувре «Любовные похождения ка¬
валера де Фоблаза» (тт. 1—13, 1787—1790). Были издания романа на русском
языке: «Приключения Шевалье де Фобласа», чч. I—VI. СПб., 1792—1794;
«Жизнь кавалера Фоблаза», чч. I—V. М., 1793—1795, и др.
4 Вскоре после этой рецензии Белинский напечатал рецензию: «Се¬
стра Анна. Сочинение Поль де Кока» («Молва», 1835, № 31—34; Белинский,
АН СССР, т. I).
Наследница... Сочинение П. Сумарокова... (с. 418—420). Впервые —
«Молва», 1835, ч. X, № 31^—34, «Новые книги», стлб. 75—78 (ц. р. 31 августа).
Общая подпись в конце отдела: (—он — инский). Вошло в КСсБ, ч. I.
с. 423-426.
1 См. прим. 111 к «Литературным мечтаниям».
Рейнские пилигримы. Соч. Бульвера... (с. 420—423). Впервые — «Молва»,
1835, ч. X, № 31—34, «Новые книги», стлб. 78—83 (ц. р. 31 августа). Общая
подпись в конце отдела: (—он — инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 426—431,
1 Статья «Анжело, падуанский тиран, драма в четырех действиях
Виктора Гюго» напечатана в «Московском наблюдателе», 1835, апрель, кн. 2.
2 Статья «Эдвард Литтон Бульвер» напечатана в «Московских ведо¬
мостях», 1835, № 62, 63.
Начертание русской истории для училищ. Сочинение профессора По¬
година (с. 423—425). Впервые — «Молва», 1835, ч. X, № 36, «Новые книги»,
стлб. 147—150 (ц. р. 13 сентября). Общая подпись в конце отдела: (— он —
инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 442—444,
691
Настоящая рецензия вызвала неудовольствие М. Погодина и привела
к объяснению его с Надеждиным. В своем «Дневнике» Погодин записал:
«Неприятное утро у Надеждина, который имеет дух рассказывать о лае
Белинского» (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кп. IV. СПб.,
1891, с. 354). Суждение Белинского о труде М. Погодина звучало тем болео
красноречиво, что в том же номере «Молвы» крптик с похвалой отозвался
о «Русской истории для первоначального чтения» Н. Полевого (см. в наст,
т. следующую рецензию).
1 Цитата из рецензии С. Шевырева: «Romans, contcs, et nouvelles litte-
raires... par Jules Janin» — «Романы, сказки п литературные новеллы..*
Жюля Жанена» («Московский наблюдатель», 1835, май, кн. 1, с. 120).
2 Сергей Скромненко в книге «О недостоверности древной русской
истории и ложности мнения касательно древности русских летописей»
(СПб., 1834) в духе скептической школы спорил с статьей М. Пого¬
дина «О достоверности древней русской истории» («Библиотека для
чтения», 1834, т. VI, отд. III). См. также прим. 89 к «Литературным меч¬
таниям».
3 Речь идет о театральных зрелищах, устраивавшихся во время уве¬
селений в Москве близ Новинского бульвара.
4 Обещанная статья в «Телескопе» не появилась. Замечание Белин¬
ского о «беспристрастии» Погодина явно иронично. Статья М. Погодина
(«Московский вестник», 1830, ч. I, № 2) содержит суровую критику Поле¬
вого. «Пожалеем, что дельная наша историческая литература обезображи¬
вается таким чудовищем, как «История русского народа», — заключал По¬
годин свою рецензию.
Русская история для первоначального чтения. Сочинение Николая По¬
левого (с. 425—426). Впервые — «Молва», 1835, ч. X, № 36, «Новые книги»,
стлб. 150—151 (ц. р. 13 сентября). Подпись: (— он — инский). Авторство —
КСсБ, Список I, с. 533.
Об отношении Белинского к Н. Полевому — см. прим. (вводную замет¬
ку) к рецензии «Аббаддонна. Сочинение Николая Полевого...» (наст, т., с. 684).
1 Обещанная статья в «Телескопе» не появилась.
2 Третья часть «Русской истории...» Полевого вышла в том же 1835 г.
Белинский поместил на нее сочувственную рецензию (см. наст, т., с. 478),
Четвертая часть появилась в 1841 г. и также была высоко оценена Белин¬
ским в специальной рецензии.
Библиотека романов и исторических записок, издаваемая книгопродав¬
цем Ф. Ротганом... (с. 426—429). Впервые— «Молва», 1835, ч. X, № 38, «Но¬
вые книги», стлб. 182—186 (ц. р. 29 сентября). Общая подпись в конце
отдела: (— он— инский). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 445—448.
Оценка, которую дал «Библиотеке романов» Белинский, противостоит
мнению Сенковского. В опубликованной перед тем в «Библиотеке для чте¬
ния» рецензии (1835, т. X, отд. VI) в заслугу издателя книги были постав¬
лены «выбор романов и достоинство перевода». Особенно понравился ре-
цензенту роман Эджуорт «Елена»: «Простота рассказа, естественность
завязки и характеров, сильный и трогательный интерес целой повести и
притом занимательность подробностей ставят «Елену» наряду с лучшими
английскими романами» (с.- 32),
692
1 Имеется в виду иллюстрированный еженедельник «Живописное
обозрение».
2 См. прим. (вступительную заметку) к статье «И мое мнение об игре
г. Каратыгина».
3 Неточная цитата из басни Крылова «Пустынник и Медведь».
4 Роман Ж. Жанена называется «Дебюро. История двадцатикопеечно¬
го театра» (1833).
Просодическая реформа (с. 429—430). Впервые — «Телескоп», 1835,
ч XXVII, № 9, с. 145—146 (ц. р. 1 октября). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч. I,
с. 485—486.
1 См. прим. 27 к статье «О критике и литературных мнениях «Мос¬
ковского наблюдателя».
Довмонт, князь псковский... Соч. А. Андреева... (с. 430—431). Впервые—
«Молва», 1835, ч. X, № 39, «Новые книги», стлб. 197—199 (ц. р. 5 октября).
Общая подпись в конце отдела: (—он—инский). Вошло в КСсБ, ч. I,
с. 449—450.
1 Неточная цитата из вступления к «Руслану и Людмиле» Пушкина.
0 жизни и произведениях сира Вальтера Скотта. Сочинение Аллана
Каннингама... (с. 431—435). Впервые — «Молва», 1835, ч. X, № 43, «Новые
книги», стлб. 262—270 (ц. р. 2 ноября). Подпись: (В. Б.) Вошло в КСсБ,
ч. I, с. 454-461.
1 Цитата из поэмы Пушкина «Братья Разбойники».
2 Эти сомнения высказывал О. Сенковский. См. прим. 5 к рецензии
«Поселыцик. Сибирская повесть. Соч. Н. Щ.».
3 Речь идет о романах «Шотландские пуритане» и «Айвенго».
4 Джон Буль — персонаж сатирического произведения Дж. Арбетпота
«История Джона Булля» (1712). Здесь — нарицательное имя англича¬
нина.
5 То есть Вильяма Шекспира. Далее Белинский говорит о поэма
Дж. Мильтона «Потерянный рай». Отрицательное отношение критика к
этому произведению объясняется тем, что, по его мнению, жанр эпической
поэмы законно принадлежит лишь древности и не восстановим в новое
время. Ср. в статье Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя»
(наст, т., с. 144).
6 О юной словесности см. прим. 121 к «Литературным мечтаниям».
Далее упоминаются статьи Сенковского «Черная женщина», роман Николая
Греча» («Библиотека для чтения», т. IV, отд. V), «Мазепа», сочинение Фад¬
дея Булгарина» (там же, т. II, отд. V)’. Драму Кукольника «Роксолана»
(наряду с его же драмой «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»)
Сенковский разбирал в статье, опубликованной в «Библиотеке для чтения»,
1835, т. IX, отд. V. Белинскому понравился критический тон этого разбора
(ср. в статье Белинского «Ничто о ничем...» в настоящем издании, с. 434).
Рецензия Сенковского на «Избранные притчи Круммахера» опубликована
там же, 1835, т. XI, отд. VI.
7 Булгарин в статье «Ревель летом» («Северная пчела», 1835, № 229)
писал о том, что он встретил «преумного и пречестного русского мужичка»,
который автору «посоветовал... не изгонять из русского языка слов сей, сия,
сие, оный, оное, оныя». «И, батюшка! сказал мне добрый старик: ведь как
693
станем общипывать наше родное слово, как курицу, так чужие люди зажа¬
рят его и съедят, а нам оставят одни косточки» (с. 926). О расхождениях
между Булгариным и Сенковским см. также прим. 17 к статье «Ничто
о ничем...».
8 Сенковский ответил девице Д. специальной заметкой («Библиотека
для чтения», 1835, т. XI, отд. VI), выдержанной в характерной для него
шутливо-издевательской манере: «О, стократ счастливый Брамбеус! На тебя
нападают девицы. Мы отдали б все на свете за честь быть предметом гоне¬
ния одного такого врага. Так нередко начинается любовь и счастие» и т. д.
(с. 26—27).
Журнальная заметка (с. 436—444). Впервые — «Молва», 1835, ч. X,
№ 46—47, стлб. 320—333 (ц. р. 30 ноября). Подпись: В. Белинский. Вошло
в КСсБ, ч. I, с. 488—502.
Настоящая заметка была ответом на рецензию Ф. Булгарина «Петр
Басманов. Трагедия в пяти действиях. Соч. барона Розена...» («Северная
пчела», 1835, № 251, 252, подпись: Кси). Булгарин обвинил молодых авто¬
ров «Телескопа» и «Молвы», прежде всего Белинского, в отсутствии патрио¬
тизма, в ренегатстве. На защиту Белинского выступил позднее Надеждин в
статье «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности»:
«...Безбородые Шеллинги, возмущающие настоящее спокойствие литера¬
туры тревожными сомнениями, не так ничтожны на самом деле, как их
думают представить... на их действиях нет ни тени корыстного расчета, ни
тени злонамеренного предубеждения; и, что всего важнее, в них не только
не видно ренегатов, отпирающихся от своего отечества, но напротив, ярко
светит самый благороднейший патриотизм, горит самая чистейшая любовь
к славе и благу истинно русского просвещения, истинно русской литера¬
туры» («Телескоп», 1836, ч. XXXI. См. также: Надеждин, с. 395).
1 Цитата из «Горе от ума», д. IV, явл. 4.
2 Басня Крылова называется «Собачья дружба».
3 Орест и Пилад — герои древнегреческой мифологии, двоюрод¬
ные братья, ставшие символом верной дружбы. Иронически этот символ
использован, кстати, и в упомянутой выше Белинским басне Крылова. Под¬
черкнутое Белинским слово оный метит одновременно и в Сенковского и в
Булгарина: первый был неутомимым преследователем слов «сей», «оный»
и т. д. (см. прим. 3 к рецензии «Учебпая книга всеобщей истории...»
И. Кайданова); Булгарин же защищал употребление этих слов.
4 Речь идет о путевых очерках Булгарина, печатавшихся в «Северной
пчеле» во втором полугодии 1835 т.; об одном из этих очерков Белинский
уже упоминал в рецензии на книгу Аллана Каннингама «О жизни и произ¬
ведениях сира Вальтера Скотта» (см. наст, т., с. 434 и прим. 7 к этой ре-*
цензии). О «войне» «Северной пчелы» с «Библиотекой для чтения», в связи
с упомянутыми статьями Булгарина, Белинский специально не писал.
5 См. прим. 19 к «Литературным мечтаниям». Упомянутая статья
Сенковского вышла до опубликования «Литературных мечтаний) (ц. р.
31 января 1834 г.) и не могла быть направлена против Белинского. Сенков-
скип имел в виду литераторов, высьазывавшпх аналогичные мысли еща
раньше — прежде всего Надеждина.
6 См. прим. 128 к «Литературным мечтаниям»,
694
7 Нарочитое искажение подписи Ф. Булгарина. Настоящая его под¬
пись «Кси».
8 Цитата из «Горе от ума», д. III, явл. 10.
9 Белинский писал о Марлине ком в статьях «Литературные мечта¬
ния», «И мое мнение об игре г. Каратыгина», «О русской повести и пове¬
стях г. Гоголя».
10 Неточная цитата из «Повести о тем, как поссорился Иван Ивано¬
вич с Иваном Никифоровичем», гл. IV.
11 Белинский писал об этом в «Литературных мечтаниях».
12 См. прим. 27 к «Литературным мечтаниям».
13 То есть статью «О русской повести и повестях г. Гоголя».
14 Цитата из «Невского проспекта» Гоголя.
15 Цитата из басни Крылова «Пустынник и Медведь».
16 Это замечание было сделано Белинским в рецензии на «Библиотеку
романов и исторических записок...» (см. наст, т., с. 427).
17 Белинский возвращает Булгарину обвинение в «ренегатстве», на¬
мекая на хорошо известные в литературных кругах обстоятельства биогра¬
фии последнего: поляк по происхождению, Булгарин воспитывался в Петер¬
бурге и потом служил в русской армии; после ареста за какую-то провин¬
ность и перевода в драгунский полк, стоявший в Финляндии, Булгарин бе¬
жал в Варшаву и в течение 1810—1812 гг. служил в армии Наполеона;
после размена пленных жил некоторое время в Варшаве, а в 1820 г. по¬
явился в Петербурге и стал известным литератором. Здесь и ниже Белин¬
ский перефразирует ходившую в рукописи эпиграмму на Булгарина:
Фиглярин — вот поляк примерный,
В нем истинных Сарматов кровь:
Смотрите, как в груди сей верной
Хитра к отечеству любовь.
То мало, что из злобы к русским,
Хоть от природы трусоват,
Ходил он под орлом французским
И в битвах жизни был не рад.
Патриотический предатель,
Расстрига, самозванец сей —
Уже не воин, уж писатель,
Уж русский к сраму наших дней
Двойной присягою играя,
Поляк в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодяя,
А русских братством запятнал.
Эта эпиграмма была сообщена П. Вяземским в письме к П. Плетневу
от 31 января 1831 г. «Вот эпиграмма, которая ходит по Москве. Не знаю, чья
она, но чья бы ни была, она хороша...» Наиболее вероятным автором эпи¬
граммы считают самого Вяземского (см. кн.: «Эпиграмма и сатира. Из исто¬
рии литературной борьбы XIX-го века, составил В. Орлов», т. 1. М. — Л.,
Academia, 1931, с. 375, 394).
18 См. прим. 159 к «Литературным мечтаниям».
19 Белинский имеет в виду книгу М. Ф. Меморского «Новая россий¬
ская грамматика в вопросах и ответах», неоднократно переиздававшуюся.
О примитивном характере этой книги Белинский писал еще в 1834 г. в ре¬
635
цензии на «Грамматику языка русского» И. Калайдовича («Молва», 1834,
47, 48; Белинский, АН СССР, т. I. В 1839 г. критик напечатал уни*
чтожающую рецензию на вышедшее в 1838 г. в Москве четырнадцатое из¬
дание этой книги («Московский наблюдатель», 1839, ч. I, № 1).
Осенний вечер. Изданный В. Лебедевым... (с. 444—449). Впервые —
«Молва», 1835, ч. X, № 48—49, «Новые книги» стлб. 349—355 (ц. р. 20 де¬
кабря). Подпись: (В. Б.). Авторство — КСсБ, Список I, с. 534.
1 Неточная цитата из стихотворения Е. Баратынского «Падение
листьев».
2 Неточная цитата из вступления к «Руслану и Людмиле».
3 В альманахе «Осенний вечер» были напечатаны стихотворения
В. Бенедиктова «Горячий источник» и «К Аделаиде».
Недовольные... Соч. М. Н. Загоскина... (с. 449—455). Впервые — «Молва»,
1835, ч. X, № 48—49, «Театр», стлб. 356—366 (ц. р. 20 декабря). Подпись:
(£. Б.). Вошло в КСсБ, ч. I, с. 522—533.
1 Подробного разбора комедии «Недовольные» Белинский не написал.
Кратко суровую оценку комедии критик впоследствии повторил в заметке
«От Белинского» (см. наст. т.? с. 515).
2 Сурский — персонаж романа Загоскина «Рославлев, или Русские в
1812 году» (чч. I—IV. М., 1831). Холмин — персонаж из произведения того
же автора «Три жениха. Провинциальные очерки» («Библиотека для чте¬
ния», 1835, т. X). (!
3 «Черная немочь» — повесть М. Погодина. Белинский подробно писал
о ней в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя».
4 'Герамен — персонаж трагедии Расина «Федра», наставник Ипполита*
Имеется в виду рассказ Терамена о гибели Ипполита (д. V, явл. 7).
5 Персонаж из «Трех женихов», о котором упоминает Белинский,—*
князь Владимир Иванович Верхоглядов представлял собою памфлетное
изображение либерального интеллигента. Верхоглядов называет себя «либе¬
ралом, европейцем»^ читает западную прессу; его кабинет украшен портре¬
тами Лафайета, Гюго, Мирабо, Байрона и т. д., но при этом в своих крепост¬
ных Верхоглядов вколачивает «просвещенные понятия» с помощью хлыста.
(«Три жениха. Провинциальные очерки». «Библиотека для чтения», 1835,
т. X, с. 25-103).
6 Имя камердинера князя Радугина — Жохов (жох — хитрый человек,
пройдоха, плут).
7 Богатонов — персонаж комедий М. Загоскина «Г-н Богатонов, или
Провинциал в столице» (СПб., 1817) и «Богатонов в деревне, или Сюрприз
самому себе» (1826). М. Щепкин играл роль Богатонова во второй комедии,
первое исполнение им этой роли состоялось 17 августа 1824 г. в Москве;
отд. издание комедии — 1826 г. (см.: Гриц, с. 720).
0 характере народных песен у славян задунайских. Набросано Юрием
Венелпным... (с. 455—458). Впервые — «Молва», 1836, ч. XI, № 1, «Библио¬
графия», с. 31—37 (ц. р. 2 января). Общая подпись в конце отдела: (В. £>.),
Вошло в КСсБ, ч. II, с. 172—177.
1 У Белинского в названии книги Венелина пропуск. Нужно: I. Серб¬
ские. Осман Шеович...
2 Статья Ю. Венелпна «О характере народных песен у славян за-
m
дунайских» была напечатана в «Телескопе» (1835, ч. XXVII, № 9—11), в то
время, когда Белинский, замещая уехавшего за границу Надеждина, воз¬
главлял журнал.
3 Поправка Белинского необоснованна: из контекста видно, что автор
имеет в виду эпическую поэму JI. Камоэнса «Лузиада» (первый рус¬
ский перевод, осуществленный А. Дмитриевым,— 1788 г.). См.: 10. Вене¬
лин. О характере народных песен у славян задунайских..., с. 101.
4 У Венелина: «Эти заказные вещи, эти нарочные труды по части го«
меризма...» (с. 101).
5 У Венелина: «кухонность человеческого слова» (с. 5).
6 Имеется в виду следующее рассуждение Венелина: «Удивительно, до
какой степени занимала воображение Европы эта сказочная история беглой
женщины!.. Мне хотелось бы велеть высечь ее розгами потому, что во всем
атом я вижу, что все греческие города были сумасбродны, если они за нее
только затеяли 10-летнюю войну... Но Goethe не так рассуждал, как я, он
сожалел, что такая прелесть бежала с каким-то фригийским цыганом; он
счел лучше выдать ее за немца» (с. 108—109). (Речь идет о сценах
«Фауста», посвященных Елене, — ч. II, акт III.)
7 Имеются в виду следующие рассуждения Венелина: «Не вдруг
можно открыть себе ту ухватку или движение, в котором иногда действуют
великие люди. Если Юлий Цесарь или Аристотель стали бы играть с кош¬
кою..., вам невольно покажется, что бегание по комнате дело высокое. Так
бывает и с прославившимися писателями, которые в свою очередь в состоя¬
нии ребячествоватъ» (с. 55—56). Далее Венелин применяет эту мысль к
Гердеру: «Теперь господствует система скандинаво-мании. Сам Гердер,
добрый Гердер даже вообразил себе, что героическая или рыцарская травка
растет только в Скандинавии, когда говорит, что тевтонские племена отли¬
чались духом рыцарства и завоеваний, а славянские духом миролюбия.
Сколько Гердер ни философствовал о человечестве, все-таки этот его приго¬
вор показывает, как он плохо знал и историю и человечество» (с. 60—61).
Всеобщее путешествие вокруг света..., составленное Дюмон-Дюрвилем...
(с. 458—461). Впервые — «Молва», 1836, ч. XI, № 1. «Библиография», с. 37—41
(ц. р. 2 января). Общая подпись в конце отдела: (В. Б.). Вошло в КСсБ,
ч. II, с. 177-179.
1 На обложке этой книги указано: «переведенное и издаваемое Нико¬
лаем Полевым». Французский оригинал: М. Dumont d’U г v i 11 е. Voyage
pittoresque autour du monde, resume general des voyages de decouvertes...,
I I. Paris, 1834.
2 Карта Ш. Дюпена была опубликована в 1826 г. во французском жур-*
нале «Le Globe» вместе со статьей того же автора, посвященной состоянию
народного просвещения во Франции. На этой карте департаменты с высо¬
ким уровнем образования были обозначены светлой краской, с более низким
уровнем — темной краской. О статье и карте Дюпена русских читате¬
лей оповестил в 1827 г. «Московский телеграф» (ч. XIII, № 1), где было
опубликовано «Письмо из Дрездена» А. И. Тургенева к П. Вяземскому (под¬
пись: Э. А.). «...Советую подписаться на Globe... Там недавно была статья
о темной и светлой или просвещенной Франции... К ней приложена и кар-
ja, иллюминованная по просвещению» (с. 93). Эта книжка «Московского
617
телеграфа» находилась в личной библиотеке Белинского (JIН, т. 55?
с. 526).
3 Объявление об издании «Всеобщего путешествия вокруг света...>>
опубликовано в качестве приложения к «Московским ведомостям», 1835*
№ 101, подпись: Николай Полевой.
4 В этом объявлении Н. Полевой ппсал, что им полностью подготовлен
перевод труда Дюмон-Дюрвиля в шести томах; «при подписке выдается и
рассылается первый том», а «следующие затем томы будут выходить еже¬
месячно».
5 Денежные затруднения и конкуренция Плюшара помешали осу¬
ществлению планов Н. Полевого. «Начатое им предприятие погпбло и пе
было кончено», — свидетельствовал Кс. Полевой. См.: Полевой, с. 334, 486
(комментарий В. Орлова).
Вастола, или Желания... Соч. Виланда... Изд. А. Пушкин (с. 461—464),
Впервые — «Молва», 1836, ч. XI, № 2, «Библиография», с. 58—64 (ц. р.
22 февраля). Общая подпись в конце отдела: (В. Б.). Вошло в КСсБ, ч. II,
с. 179—182.
«Вастола, или Желания» — это перевод стихотворной сказки Виланда
«Перфонт, или Желания» (1778). Автором перевода был Е. Люценко, быв¬
ший секретарь хозяйственного правления Царскосельского лицея. Пушкин,
познакомившийся с Люценко в годы своего учения в лицее, содействовал
изданию книги в пользу переводчика. Опубликование книги вызвало раз¬
личные толки. Высказывались предположения, что Пушкин не только из-*
датель, но и автор перевода. «Библиотека для чтения» (1836, т. XIV,
отд. VI) осудила Пушкина за «благотворительность», ибо «человек, пользую¬
щийся литературною славою, отвечает перед публикою за примечательное
достоинство книги, которую издает под покровительством своего имени...»
(с. 34). «Молва» (1836, № 1) в кратком извещении о выходе книги
заметила, что «это должна быть какая-нибудь литературная мистификация,
которой объяснение предоставляем будущности» (с. 6—7). Пушкин ответил
на обвинения в анонимной заметке, опубликованной в «Современнике», 1836,
т. 1 (авторство Пушкина было указано позднее, в заметке «От редакции»
в т. III, с. 332): «...Печатать чужие произведения, с согласия или по просьбе
автора, до сих пор никому не воспрещалось. Это называется издавать, слово
ясно; по крайней мере до сих пор другого не придумано» (с. 303). Для по¬
зиции Белинского, который еще не мог знать разъяснения Пушкина
(ц. p. I тома «Современника» — 31 марта), характерно то, что он категори¬
чески отвергает авторство Пушкина, но вместе с тем порицает его за «бла¬
готворительность», оказанную автору плохой книги.
Песни Т. м. ф. а... Елисавета Кульман. Фантазия. Т. м. ф. а... (с. 464 •—>
469). Впервые—«Молва», 1836, ч. XI, №2, «Библиография», с. 65—73
(ц. р. 22 февраля). Общая подпись в конце отдела: (В. Б.). Вошло в КСсБ,
ч. И, с. 182—188.
1 Автор рецензируемой книги А. В. Тимофеев.
2 Имеется в виду стихотворение «Ночною темнотою покрылись не-»
беса...» (1747, перевод стихотворения, приписываемого Анакреону).
3 Возможно, Белинский имеет в виду подготовленный М. Вронченко
перевод второй части поэмы А, Мицкевича «Праотцы» («Dziady»). «Нев*
608
скип альманах па 1829 год», СПб., 1828. Хор несколько раз повторяет здесь
двустишие:
Мрачно всюду, глухо всюду —
Быть тут чуду, быть тут чуду (с. 137).
4 У Тимофеева — «чрезвычайно страшного». Стихотворение назы¬
вается «Колыбельная песенка».
5 Стихотворение «Грамматика» имеет посвящение: «А. X. В...ву, то
есть А. X. Востокову.
6 Амалия — персонаж драмы Шиллера «Разбойники»; Миньона—*
персонаж рохмана Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера». Текла —
персонаж пьес Шиллера «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна» (из
драматической поэмы «Валленштейн»).
7 Статья А. Никитенко «Елисавета Кульман» опубликована в «Библио¬
теке для чтения» (1834, т. VIII, отд. I). Автор писал о стихотворениях
Кульман: «...здравая критика признает поэтическое достоинство ее творений
и укажет им почетное место в отечественной словесности» (с. 66—67).
Кстати, «Фантазия Тимофееева «Елисавета Кульман» посвящена Александру
Васильевичу Никитенко.
8 В «фантазии» Тимофеева в качестве действующих лиц, наряду
с силами природы, с цветами, растениями, участвуют и «три ворона»
(в «сцене третьей»). Ср. также стихотворение «Отверженный» в рецензируе¬
мой Белинским книге Тимофеева «Песни». Во второй части «Песен» (СПб.,
1835) помещено стихотворение «Ворон».
Стихотворения Александра Пушкина... (с. 469—471). Впервые —
«Молва», 1836, ч. XI, «N*2.3, «Библиография», с. 83—87 (ц. р. 5 марта). Общая
подпись в конце отдела: (В. Б.). Вошло в КСсБ, ч. II, с. 188—190.
1 «Песни западных славян» были опубликованы вначале в «Библио¬
теке для чтения», 1835, т. IX, отд. I. Одно стихотворение «Сербская песня»
(позднейшее название—«Конь») было напечатано ранее, в том же жур¬
нале, в т. VIII, отд. I. Полностью цикл «песен» перепечатан в рецен¬
зируемом Белинским издании, где также впервые опубликованы «Преди¬
словие» и «Примечания». В «Предисловии» Пушкин сообщал, что «большая
часть этих песен» взята им из книги «La Cuzla...», изданной П. Мериме в
Париже в 1827 г., и привел письмо французского писателя к С. Соболев¬
скому. Мериме рассказал о том, как вместе с одним из друзей они решили
мистифицировать публику описанием воображаемого путешествия по юж¬
ной Европе; на себя Мериме «взял собирание народных песен и перевод пх».
(Именно этим объясняется упомпнапие Белинским двух французских шар-
латаное.) Но не все стихотворения пз пушкинского цикла были подража¬
нием песням Мериме. Два стихотворения — «Соловей» и «Сестра и
братья» — переведены из сборника сербских песен Вука Караджича; три
стихотворения — «Песня о Георгии Черном», «Воевода Милош» и «Яныш
Королевпч» — были сочинены самим Пушкиным.
2 В рецензируемой Белинским книге были опубликованы «Сказка о
рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка
р золотом петушке», первоначально напечатанные в «Библиотеке для чте¬
699
ния» (соответственно: в 1835, т. X, отд. I; 1834, т. И, отд. I; 1835, т. IX,
отд. I).
3 Цитата приведена с небольшими неточностями.
4 Белинский цитирует «Элегию» с небольшими неточностями.
0 должностях человека, соч. Сильвио Пеллико... (с. 471—472). Впер¬
вые «Молва», 1836, ч. XI, № 3, «Библиография», с. 94. Общая подпись
в конце отдела: (В. Б.). Авторство — КСсБ, Список II, с. 621.
Итальянский писатель и общественный деятель Сильвио Пеллико как
участник заговора карбонариев был в 1820 году приговорен к смертной
казни, замененной пятнадцатилетним тюремным заключением. В тюрьме
Пеллико проникся духом христианского смирения, отразившимся в его книге
«Le mie prigioni» (1832; русский перевод—«Мои темницы». СПб., 1836).
Книга получила широкую известность в России.
Живой отклик в русской критике вызвала и другая книга С. Пеллико
«О должностях человека» («Discorso dei doveri degli uomini», 1834). В «Те¬
лескопе» (1835, ч. XXVIII, № 13) были опубликованы отрывки из этой
книги: «I. Любовь к отечеству», «И. Истинный патриот» (перевод с италь¬
янского С. М.), со следующим примечанием Н. Надеждина: «Предлагаем
этот отрывок читателям нашим, чтоб познакомить их с переводом прекрас¬
ной книги, которая скоро поступит в печать. — Изд.». Пушкин посвятил
С. Пеллико заметку в разделе «Новые книги» («Современник», 1836, т. III).
Отметив большое впечатление, произведенное «Моими темницами» — «Изум¬
ление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью, — прочли умили¬
тельные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброже¬
лательства», —Пушкин добавил, что новая книга Пеллико «разрешила нам
тайну прекрасной души, тайну человека-христианина». Пушкин оспорил
мнение С. Шевырева («Московский наблюдатель», 1836, март, кн. 1), считав¬
шего, что без автобиографических записок «Мои темницы» книга Пеллико
была бы «сухим, произвольно догматическим уроком».
На фоне всех этих откликов обращает на себя внимание явно сдер¬
жанное, граничащее с иронией отношение Белинского к «великопостной
книге» Сильвио Пеллико. Ср. также в статье Белинского «О критике и лите¬
ратурных мнениях «Московского наблюдателя» (наст, т., с. 307).
1 Судьба перевода, о котором говорит Белинский, неизвестна. Новый
перевод книги С. Пеллико, сделанный с итальянского: «Об обязанностях
человека, наставление юноше». СПб., 1836.
2 Журнал «Посредник» («Conciliatore») Пеллико редактировал еще до
ареста, в 1818—1819 гг. Журнал был закрыт за пропаганду прогрессивных
идей.
Провинциальные бредни и записки Дормедона Васильевича Пруткова...
(с. 472—477). Впервые — «Молва», 1836, ч. XI, №4, «Библиография»,
с. 107—118 (ц. р. 17 марта). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч. II, с. 193—200.
Дормедон Васильевич Прутиков — псевдоним А. Полторацкого. По
словам И. Лажечникова, это был «богатый аристократ, страшный охотник
писать и печататься» («Воспоминания», с. 45). Из письма Лажечникова к
Белинскому от 26 ноября 1834 года явствует, что последний был рекомендо¬
ван Полторацкому в качестве литературного секретаря («Белинский и кор¬
респонденты», с. 174). Не желая, однако, «жертвовать своими убеждениями»,
700
Белинский, по свидетельству того же Лажечникова, вскоре оставил эту
должность. В 1835 г. Белинский выполнял поручения Полторацкого, свя¬
занные с печатаньем его книги (см. письмо Полторацкого к Белинскому от
31 июля 1835 г. в кн.: «Белинский и корреспонденты», с. 258). Это не поме¬
шало критику выступить с настоящей рецензией. Откликаясь на нее, Ла¬
жечников писал Белинскому в 1836 г.: «Прутиков заслужил теперь
свою фамилию: вы его порядочно отделали (прутом) ? как мальчишку...»
(там ж е, с. 182).
1 В цитате курсив Белинского.
2 Перед зерцалом — см. прим. 14 к статье «Ничто о ничем...».
3 «Выйду я на реченьку...» — песня на слова Ю. Неледипского-Мелец-
кого.
Отелло, фантастическая повесть В. Гауфа... (с. 478). Впервые —
«Молва», 1836, ч. XI, № 4, «Библиография», с. 131—132 (ц. р. 17 марта). Без
подписи. Вошло в КСсБ, ч. II, с. 211.
1 Ко времени написания настоящей рецензии вышло русское издание:
3. Вернер. Двадцать четвертое февраля, трагедия в одном действии, пе¬
ревод с нем. А. Шишкова 2-го. М., 1832. Драма Ф. Грильпарцера «Прароди¬
тельница» (перевод П. Ободовского) находилась в репертуаре русских те¬
атров. См. упоминание об этом в статье Белинского «И мое мнение об игре
г. Каратыгина», наст, т., с. 130).
Русская история для первоначального чтения. Сочинение Николая По¬
левого. Часть третья (с. 478—483). Впервые — «Молва», 1836, ч. XI, № 5,
«Библиография», с. 114—124 (ц. р. 21 марта). Общая подпись в конце от¬
дела: (В. Б.). Вошло в КСсБ, ч. II, с. 212—220.
1 Рецензия Белинского на первые две части труда Н. Полевого см. в
наст, т., с. 425—426.
2 Позиция Полевого охарактеризована не совсем точно. Выступая
против точки зрения Карамзина, изобразившего «Иоанна кровожадным чу¬
довищем, которого природа создала на гибель человечества», Н. Полевой
подчеркивал роль внешних обстоятельств в формировании этого характера:
«Рождение, воспитание, события довели Иоанна к тому, чем он был наконец,
и погубили в нем врожденную мудрость и добродетель, в которых нельзя
сомневаться, ибо беспричинное явление чудовищ в природе есть клевета на
род человеческий» («Русская история для первоначального чтения», ч. III,
М, 1835, с. 126).
3 Это неточно: боярство было пожаловано не Минину, а Пожарскому.
Ошибку Белинского отметил А. Пушкин в неопубликованной им статье
«Примечание о памятнике князю Пожарскому и гражданину Минину»
(см.: Г. М. Кока. Примечание о памятнике... (из журнальной полемпки
1836 года). — «Русская литература», 1969, № 2, с. 129—134.
4 Белинский, очевидно, основывался на словах самого Полевого, кото¬
рый в объявлении о продаже первых двух частей своей книги «Русская
история для первоначального чтения...» («Московские ведомости», 1835,
N° 65) обещал довести повествование «до воцарения ныне благополучно
царствующего императора Николая 1-го». Однако захчысел этот не был осу¬
ществлен. Четвертая часть его «Русской истории...» (СПб., 1841) охваты¬
701
вает период от царствования Федора Алексеевича до воцарения Екате¬
рины II.
Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский...
(с. 483—488). Впервые — «Молва», 1836, ч. XI, №6, «Библиография»,
с. 146—155 (ц. р. 17 апреля). Общая подпись в конце отдела: (В. Б.),
Вошло в КСсБ, ч. II, с. 221—228.
1 Псевдоним А. Ф. Вельтмана.
2 Имеются в виду персонажи произведений Вельтмана «Странник»
(чч. I—III. М., 1831—1832). «Кощей бессмертный, былина старого времени»
(чч. I—III. М., 1833), «Святославич, вражий питомец. Диво времен красного
солнца Владимира» (чч. I—II. М., 1835).
3 Речь идет о произведениях: «Беглец, повесть в стихах» (М., 1831) и
«Муромские леса, повесть в стихах» (М., 1831).
4 Выражение из сказки И. Дмитриева «Воздушные башни» («Для
сказки и того довольно, // Что слушают ее без скуки, добровольно»).
5 Произведение А. Вельтмана называется: «MMMCDXLVIII год. Руко¬
пись Мартына Задека», кн. I—III. М., 1833.
Оперы и водевили, переводы с французского Дмитрия Ленского...
(с. 488—489). Впервые—«Молва», 1836, ч. XI, Я» 6, «Библиография»,
с.- 157—158 (ц. р. 17 апреля). Общая подпись в конце отдела: (В. Б.). Автор¬
ство — КСсБ, Список II, с. 621.
1 Имеется в виду Ф. Кони, который в своей книге «Иван Савельич.
Московская шутка-водевиль в двух действиях» (М., 1835) поместил «вместо
предисловия» «отрывок из Гетева «Фауста». Громкое предисловие — пре-*
дисловие того же Кони к водевилю «В тихом омуте черти водятся». М.,
1834. Об этом предисловии Белинский уже писал (см. наст, т., с. 361).
Несколько слов о «Современнике» (с. 489—494). Впервые — «Молва»,
1836, ч. XI, № 7, с. 167—178 (ц. р. 30 апреля). Подпись: (В. Б.). Вошло в
КСсБ, ч. II, с. 261-270.
Рецензия посвящена первому тому «Современника». Отзыв Белинского
еще сдержанно-одобрительный: критик поддерживает высокие требования
к журнальной литературе, которые выдвинуты в опубликованной в «Совре¬
меннике» статье Гоголя (не зная об авторстве последнего, Белинский уви¬
дел в статье программное выступление издателя), но требует от журнала
большей определенности полемики, в частности полемики с «Московским
наблюдателем».
Вторая кнпга «Современника» вызвала более суровую оценку критика
(см. его рецензию в наст, т., с. 516).
Несмотря на критические замечания Белинского в адрес «Современни¬
ка», Пушкин воздал должное его таланту. Характерно, что именно после
публикации наст, рецензии Пушкин во время своей поездки в Москву
в апреле — мае 1836 года попытался установить связь с Белинским. Оставив
для критика экземпляр II тома «Современника», Пушкин в письме из Пе¬
тербурга от 27 мая 1836 года уполномочивал П. Нащокина: «...пэшли от меня
Белинскому (тихонько от Наблюдателей, N3) п вели сказать ему, что очень
жалею, что с ним не успел увидеться» (Пушкин, т. X, с. 583).
Позднее же, в «Письме к издателю», опубликованном в III томе «Совре¬
менника» (подпись: А. Б.), Пушкин, в связи со статьей Гоголя «О движении
702
журнальной литературы...», писал: «Жалею, что вы, говоря о «Телескопе»,
пе упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую на¬
дежду. Если бы с незавпсимостию мненпй и с остроумием своим соединял
он более ученостп, более начитанности, более уважения к преданпю, более
осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика,
весьма замечательного» (Пушкин, т. VII, с. 441).
1 Ср. свидетельство Надеждина: «Наконец показалось и в нашем доб¬
ром городе Москве двадцать пять экземпляров желанного «Ревизора», и они
расхватаны, перекуплены, перечитаны, зачитаны, выучены, превратились
в пословицы...» (см.: Надеждин, с. 471).
2 О. Сенковский писал в связи с основанием «Современника»: «...Этот
журнал, или этот альманах, учреждается нарочно против «Библиотеки для
чтения». Особое беспокойство Сенковского вызвало то, что программа ново¬
го журнала предусматривала помещение полемических статей. «Мы бы отда¬
ли все в свете, если б он (Пушкин) не сдержал своей программы, — если бы
он выдал книжки своего «Современника» чистыми от всякой брани, от вся¬
ких нападок на другие журналы...» («Библиотека для чтения», 1836, т. XV,
отд. VI, с. 67, 69).
3 Название отдела «Новые книги» в «Современнике» было сопровож¬
дено примечанием: «Книги, означенные звездочками, будут впоследствии
разобраны» (с. 296). Но в III томе «Современника» Пушкин уточнил это
примечание: «...Звездочкою означены были у издателя те, которые показа¬
лись ему замечательными или которые намерен он был прочитать; но он
не предполагал отдавать о всех их отчет публике...» (с. 331—332).
4 В I т. «Современника» были помещены: «Роза и кипарис. Графине
М. А. Потоцкой» П. Вяземского и три произведения Пушкина: «Пир
Петра Первого» (а не «Великого», как у Белинского; опубликовано без
подписи); «Скупой рыцарь» (Сцены из Ченстоновой трагикомедии «The
coveteous Knight»), подпись: Р.; «Из А. Шенье» (последнее также без
подписи).
5 Пьеса Гоголя «Утро делового человека», опубликованная в «Совре¬
меннике» с подзаголовком «Петербургские сцены», переделана из неокон¬
ченной комедии «Владимир третьей степени». Говоря о двух неопубликован¬
ных комедиях, Белинский, помимо «Владимира третьей степени», имеет в
виду «Женитьбу», которую Гоголь читал в мае 1835 г. в Москве, в доме
М. Погодина (опубликована в IV томе «Сочинений Николая Гоголя», 1842).
Упоминая одну напечатанную комедию, Белинский подразумевает только
что вышедшего в Петербурге «Ревизора».
6 Речь идет о стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят» (написа¬
но в 1830 г.). В «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года», где око
было опубликовано в измененной редакции (в главе пятой), Пушкин
прпписал стихотворение вымышленному лицу: «Вот начало сатирической
поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу» (с. 76).
7 Статья «Собрание сочинений Георгия Кониского архиепископа Бе¬
лорусского...» принадлежит Пушкину. Опубликована без подписи. Белин¬
ский приводит пазваиие статьи так, как оно дано в оглавлении к I т. жур¬
нала.
8 Речь идет о публикации «Париж (Хроника русского) »г составленной
703
из писем А. Тургенева к друзьям и напечатанной без его ведома. Тургенев,
прочтя «хронику», выразил в письме к П. Вяземскому и В. Жуковскому
свое возмущение: «...Разве я позволял вам печатать все ничтожности и
личности?..» (JIH, т. 58, с. 128).
9 В послесловии к «Долине Ажитугай» «издатель» (то есть Пушкин)
писал: «Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого
Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на рус¬
ском языке свободно, сильно и живописно» (с. 169).
10 Статья «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году»
написана Гоголем и должна была появиться за его подписью. Однако
подпись зта в последний момент была снята Пушкиным, возможно, с целью
предотвратить нападки на Гоголя, накануне премьеры «Ревизора», со сто¬
роны Сенковского, задетого в упомянутой статье (см. подробнее об этом:
В. Г. Березина. Новые данные о статье Гоголя «О движении журнальной
литературы, в 1834 и 1835 году». — В кн.: «Гоголь. Статьи и материалы». JL,
изд. ЛГУ, 1954).
11 Гоголь писал о «Телескопе»: «...Журнал, вначале отозвавшийся
живостью, но вскоре простывший, наполнявшийся статьями без всякого
разбора, лишенный всякого литературного движения». Однако в черновиках
статьи давалась характеристика Белинского: «В критиках Белинского, поме¬
щающихся в «Телескопе», виден вкус, хотя еще необразовавшийся, молодой
и опрометчивый, но служащий порукою за будущее развитие, потому что
основан на чувстве и душевном убеждении. При всем этом в них много
есть в духе прежней семейственной критики, что вовсе неуместно и непри¬
лично, а тем более для публики».
12 Разумеется, утверждение Белинского иронично: он хорошо знал
о псевдонимах Сенковского.
13 Перлами русской поэзии Гоголь называл стихи Языкова и Баратын¬
ского.
14 Цитата приведена неточно.
15 В цитатах мелкие неточности.
16 Речь идет о «Московском наблюдателе». В статье «Москва и Петер¬
бург в литературных отношениях» (подпись: Наблюдатель) упомянуто о
том, что «Литературные прибавления»... выражают свою приязнь к «Мос¬
ковскому наблюдателю» (1836, март, кн. 1, с. 186). Об Оресте и Пиладе см.
прим. 3 к «Журнальной заметке».
17 Гоголь писал: «Вышли новыми изданиями Державин, Карамзин,
гласно требовавшие своего определения...»
18 У Гоголя эта мысль звучит не так категорично: «Отчего же не гово¬
рили сии писатели?.. Считали ли они для себя низким спуститься на жур¬
нальную сферу, где обыкновенно бойцы всякого рода заводят свой шумный
бой? Мы не имеем права решить этого».
19 Статья называется «О сатире и сатирах Кантемира» (название
первой публикации в «Вестнике Европы», 1810, № 3, 5, 6 — «Критический
разбор кантемировых сатир, с предварительным рассуждением о сатире
вообще»). Помимо упоминаемых Белинским двух статей, Жуковский был
автором и других критических работ, в частности, статьи «О критике» (1809),
704
20 Об этом выступлении Сенковского — см. прим. 3 к рецензии
«Учебная книга всеобщей истории... И. Кайданова».
21 Почти весь раздел «Новые книги» в первом томе «Современника»
подготовил Гоголь.
Михаил Васильевич Ломоносов. Сочинение Ксенофонта Полевого.-
(с. 495—504). Впервые — «Молва», 1836, ч. XI, № 7, «Библиография», с. 178—-
197 (ц. р. 30 апреля). Общая подпись в конце отдела: (Б. Б.). Вошло в КСсБ,
ч. И, с. 228—239.
1 См. прим. 15 к статье «Ничто о ничем...».
2 Евангелие от Матфея, 5, 13.
3 Речь идет о Н. Грече, авторе ряда книг по русской грамматике
(см. прим. 15 к «Литературным мечтаниям»).
4 См. рецензируемое Белинским издание, т. 1, гл. IX, с. 189.
5 Это письмо Ломоносова впервые опубликовано в альманахе «Урания.
Карманная книжка на 1826 год для любительниц и любителей русской сло¬
весности». М., 1826. Перепечатано в рецензируемой книге Полевого (т. II,
с. 293—295). Белинский цитирует письмо с небольшими неточностями. Сле¬
дующая затем цитата из книги Полевого (т. II, с. 286—292) также приведена
с мелкими неточностями.
6 В личной библиотеке Белинского сохранился экземпляр настоящей
книги Кс. Полевого с многочисленными пометками критика. Пометки но¬
сят в основном иронический характер и, по предположению Л. Ланского,
автора статьи «Библиотека Белинского», были сделаны в 40-х гг., когда от¬
ношение критика к братьям Полевым резко изменилось (Л Н, т. 55,
с. 485—488).
Стихотворения Владимира Бенедиктова. Второе издание (с. 504—506).
Впервые — «Молва», 1836, № 8, «Библиография», с. 211—214 (ц. р. 6 июня).
Общая подпись в конце отдела: (В. Б.). Вошло в КСсБ, ч. И, с. 243—245.
1 См. в наст. т. статью Белинского «Стихотворения Владимира Бе¬
недиктова».
2 Критик, осудивший приведенную строку,— П. Вяземский. В своей
статье о «Цыганах» («Московский телеграф», 1827, ч. XV, № 10, отд. I) он
заметил: «Еще не хотелось бы видеть в поэме один вялый стих, который,
бог знает как, в нее вошел...» (с. 121). Об ответе Пушкина Белинский узнал
из статьи К. Полевого о «Полтаве»: «И не прав ли Пушкин, сказавший
одному своему критику, осуждавшему его стих в «Цыганах» ...Я именно так
хотел, так должен был выразиться» («Московский телеграф», 1829, ч. XXVII,
№ 10, с. 221).
Ночь. Сочинение С. Темного... (с. 506—510). Впервые—«Молва», 1836,
ч. XI, № 8, «Библиография», с. 214—223 (ц. р. 6 июня). Общая подпись в
конце отдела: (В. Б.). Вошло в КСсБ, ч. II, с. 245—251.
1 Намек на рецензию О. Сенковского «Ночь. Сочинение С. Темного...».
Рецензент иронизировал над безграмотным построением фразы: «Где г. Тем¬
ный так хорошо выучил по-турецки? У турков естественный порядок слов
в предложении диаметрально противоположен тому, который мы называем
естественным в наших языках...» («Библиотека для чтения», 1836, т. XVI,
отд. VI, с. 3).
23 В. Белинский, т. 1
705
2 Это признание явно автобиографическое: Белинский имеет в виду
свою пьесу «Дмитрии Калинин».
3 Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. II, явл. 2, реплика Чацкого).
4 Ср. «Горе от ума» (д. IV, яел. 8, слова Хлестовой о Репетилове).
5 Слова, набранные курсивом, представляют собой неточные цитаты
из стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского».
Московские записки (с. 510—511). Впервые — «Молва», 1836, ч. XI, № 8,
с. 209—211 (ц. р. 6 июня). В оглавлении XI части статья озаглавлена: «Но¬
вая комедия Гоголя». Без подписи.
На принадлежность настоящей заметки Белинскому указала Е. П. Се-
ребровская в статье «Белинский о национальном театре» («Совет Эдебпаты».
Ашгабад, 1943, № 12, с. 108—113). Аргументация Серебровской приведена:
Белинский, АН СССР, т.ХШ, с. 301—303.
Здесь верно отмечено, что характеристика таланта Гоголя в настоящей
заметке близка к соответствующей характеристике в статье «О русской по¬
вести и повестях г. Гоголя». Но в то же время такие аргументы, как высокое
уважение автора заметки к таланту Гоголя, любовь к театру и т. д., по
являются достаточно убедительными, так как все это может быть отнесено
и к Надеждину. Не может служить убедительным аргументом и указание на
фразеологический оборот: «Мы много надеемся от Гоголя» как якобы отли¬
чающий лишь стиль Белинского. Подобный оборот мы встречаем и у Надеж¬
дина в статье 1832 года («Мы... надеемся от г. Погодина многого для русской
повести». — См.: Надеждин, с. 325), и у Булгарина в статье 1847 года («...Мы
вполне надеемся от него чего-нибудь истинно прекрасного...» — «Северная
Пчела», 1847, № 8) и т. д.
Проведем поэтому несколько параллелей между «Московскими запис¬
ками» и другими работами, вошедшими в наст, т., — параллелей,
подтверждающих авторство Белинского. В рецензии на «Недовольные» Бе¬
линский отметил: внимание публики к пьесе «чрезвычайно радует как дока¬
зательство, что русская публика никогда и не думала быть холодною к отече¬
ственной литературе и особенно театру, как изволят уверять в этом люди...».
Аналогичная защита публики от обвинений в холодности к отечественной
литературе ведется в «Московских записках»: «Нет ничего нелепее, как
обвинять ее в холодности ко всему родному и пристрастии ко всему чу^
жому».
В статье «Стихотворения Кольцова» говорится: «Толпа слепа: ей нужен
блеск и треск, ей нужна яркость красок... Но нет — этого быть не может!
Ведь есть же и у самой толпы какое-то чутье, которому она следует
наперекор себе и которое у ней всегда верно!» Ср. в «Московских запи¬
сках»: «...Русский человек часто поддается обману, увлекается мишурою,
принимает новость за достоинство, но у него есть свое чутье, которое,
против его воли, заставляет его ценить истинно изящное...»
Оба суждения строятся на трех моментах, полностью совпадающих в
своей последовательности и составляющих единую логику: 1) толпа увле¬
кается мишурою, любит яркость, блеск. 2) Но у ней есть внутреннее
«чутье», которое всегда верно. 3) Она отдается этому чутью «наперекор
себе», «против... воли».
Заметим также, что в сходной характеристике таланта Гоголя в настоя¬
706
щей заметке и в статье «О русской повести...» существенна общность обо¬
рота «печать типизма»: «...в этом типизме, ...которая есть гербовая печать
автора». Ср. в «Московских записках»: «...налагать на них печать типизма»*
Настоящая заметка написана в связи с премьерой «Ревизора» в Мос*
ковском театре, состоявшейся 25 мая 1836 г,
1 В следующем номере «Молвы» появилась «Театральная хроника»
Надеждина (подпись: А. Б. В.), содержавшая подробный разбор московской
премьеры «Ревизора» (см.: Надеждин, с. 471—478). Белинский дал обстояв
тельный анализ комедии позднее, в статье «Горе от ума» (1840). См. наст,
изд., т. 2.
Страсть сочинять, или «Вот разбойники!!!» Водевиль... Переделанный
с французского Федором Кони (с. 511—513). Впервые — «Молва», 1836t
ч. XI, № 9, «Библиография», с. 234—237 (ц. р. 15 июня). Общая подпись со
следующей рецензией: (В. Б.). Вошло в КСсБ, ч. II, с. 251—253.
1 Далее Белинский приводит (с некоторыми неточностями) ряд цитат
из «Ревизора», что свидетельствует о том впечатлении, которое произвела
на него премьера комедии в Москве (25 мая 1836 г.). Но первую реминис¬
ценцию из «Ревизора» мы обнаруживаем у Белинского в рецензии, написан¬
ной еще до московской премьеры: в полемических заметках «Метеорологи¬
ческие наблюдения над современною русскою литературою» («Телескоп»,
1835, ч. XXIX, № 17—20; ц. p. 1/V 1836 г.). Очевидно, Белинский был
среди самых первых читателей «Ревизора», несколько экземпляров кото¬
рого поступили в Москву незадолго до премьеры.
2 См. прим. 1 к рецензии «Оперы и водевили... Ленского».
3 Под журналистом, уезжающим за границу, подразумевался Надеж¬
дин, который шесть месяцев в 1835 г. провел за границей. Журнал в это
время редактировал Белинский.
От Белинского (с. 513—516). Впервые — «Молва», 1836, ч. XI, № 12t
с. 330—335 (ц. р. 13 августа). Подпись: Виссарион Григорьев сын Белин«
ский. Вошло в КСсБ, ч. II, с. 270—274.
1 Эпиграф взят из предисловия Сумарокова к «Димитрию Самозванцу»,
(СПб., 1807, с. VI).
2 Белинский имеет в виду полемические замечания Вяземского, в ча¬
стности, его прим. (выноску) к статье о «Ревизоре» (см. об этом прим,
12 к рецензии «Вторая книжка «Современника»).
3 Петербургский журнальчик — это «Литературные прибавления к Рус¬
скому инвалиду». В «Библиотеке для чтения» (1836, т. XVII, отд. VI) об
атом издании говорилось: «У нас есть один такой журналец свой, проданный
нам телом и душою, с которым мы заключили формальный контракт, на
весьма выгодных для него условиях, чтобы он... бранил «Б (иблиотеку) для
ч (тения) » в каждом своем листочке...» (с. 1—2). Редактор «Литературных
прибавлений...» А. Воейков (псевдоним — А. Кораблинский) систематически
нападал также на Белинского, умышленно искажая его фамилию («Белын*
ский»).
4 Автор повести «Она будет счастлива. Эпизод из воспоминаний о пе*
тербургской жизни» («Телескоп», 1836, ч. XXXII, № 7, подпись: Ив. П—в)
И. Панаев. А. Воейков писал в «Литературной заметке»: «Хотя под нею
^повестью) подписано: Ив. П — в, но мы давно не верим в подписные лите*»
23*
707
ры и даже, пускаясь в догадки, подозреваем г. Виссариона Белинского
в ее сочинении» («Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1836,
№ 59 и 60).
5 Статья, посвященная постановке «Ревизора» на московской сцене,
была опубликована в «Молве», 1836, № 9, за подписью: А. Б. В. Автор
статьи — Н. Надеждин (см. С. О с о в ц о в. А. Б. В. и другие. — «Русская
литература», 1962, № 3). В этой статье, между прочим, был задет М. Загос¬
кин, автор комедии «Недовольные». Говоря о нападках Булгарина и Сенков¬
ского на «Ревизора», рецензент «Молвы» писал: «напрасно... уверяли они,
что... «Горе от ума» хуже «Недовольных» г. Загоскина, а «Ревизор» хуже
«Горе от ума»: все было напрасно» (см.: Надеждин, с. 472). В ответ на эту
статью в «Северной пчеле» (1836, № 169, 27 июля) появилась заметка
«К издателям «Северной пчелы» за подписью «Титулярный советник Иван
Евдокимов сын Покровской, Москва, 9-го июня 1836». Сочинитель этого
ппсьма (по-видимому, Загоскин) нападал на Белинского, считая его автором
упомянутой рецензии в «Молве».
6 См. в наст. т. статью Белинского «И мое мнепие об игре г. Кара¬
тыгина».
7 См. в наст. т. рецензию Белинского «Недовольные... соч. М. Н. За¬
госкина...».
8 М. Загоскин был управляющим конторою императорских московских
театров, позднее (с 1837 г.) — директором императорских московских теат¬
ров.
Вторая книжка «Современника» (с. 516 — 520). Впервые — «Молва», 1836,
ч. XII, № 13, с. 3—12 (ц. р. 3 августа). Подпись: (В. Б.). Вошло в КСсБ,
ч. И, с. 275-282.
Настоящая заметка примыкает к рецензии Белинского «Несколько слов
о «Современнике» ( см. наст, т., с. 489—494). Разочарование в «Современни¬
ке» было характерно для московских друзей Белинского, сближавших петер¬
бургский журнал с «Московским наблюдателем». Станкевич в письме из
Москвы от 22 октября 1836 года к М. Бакунину и Белинскому сообщал об
острбте И. Клюшникова, который «к названию Пушкина журнала «Совре-
Ленник» прибавил «Наблюдателю» (Станкевич, с. 620).
Рецензия Белинского вызвала широкий отклик. П. Анненков вспоми¬
нал: «...Он но задумался назвать и «Современник» Пушкина, со второй его
книжки, «петербургским «Московским наблюдателем» по направлению, заме¬
тив в нем (справедливо или нет, — это другой вопрос) поползновение искать
себе читателей и судей в одном, исключительно светском круге. Помним,
что эта полемика с «Современником» произвела в то время почти столько
же шума и негодования, как и заметка его, несколько прежде сделанная
И из другого круга представлений» (речь идет о статье «О русской повести
и повестях г. Гоголя». — Анненков, с. 151).
1 Намек на С. Шевырева, автора книги «История поэзии» (М., 1835),
и на позицию журнала «Московский наблюдатель». См. об этом в прим.
(в вводной заметке) к статье «Опыт системы нравственной философии...»
Ср. также в другом выступлении «Молвы»: «Голос общего мнения обвиняет
708
«Московского наблюдателя» в отсутствии мысли и жизненного движения.
Это обвинение не без основания: его можно доказать и a priori, то есть из
чистого разума, столь ненавистного «Московскому наблюдателю», и a poste¬
riori, то есть из близорукого опыта, столь любимого «Московским наблюда¬
телем» («Признаки мыслительности и жизни в «Московском наблюдателе».—
«Молва», 1836, № 10; подпись: «Молва»),
2 Из басни И. Крылова «Синица».
3 Это замечание было сделано Гоголем в статье «О движении журналь*
ной литературы...» по поводу редактора «Московского наблюдателя» В. Ан¬
дросова.
4 К светским изданиям, помимо «Московского наблюдателя» и «Сов¬
ременника», Белинский, скорее всего, относил «Литературную газету» (1831),
альманах Дельвига «Северные цветы», а также, возможно, журнал «Москов¬
ский вестник».
5 Белинский пересказывает суждение Вяземского из его статьи о «Ре¬
визоре»: «Человек, в сфере гостиной рожденный, в гостиной — у себя, дома:
садится ли он в кресла? он садится как в свои кресла...», и т. д. (^Совре¬
менник», 1836, т. II, с. 296). Необходимо отметить, что статья Вяземского,
представлявшая собою один из первых серьезных разборов гоголевского
«Ревизора», была в пылу полемики односторонне оценена Белинским.
Ср. более позднюю оценку Н. Г. Чернышевского: «...князь Вяземский и
г. Плетнев... очень верно понимали произведения Гоголя. Все написанное
ими о нем принадлежит к числу лучшего, что только было написано о Го¬
голе» (Чернышевский, т. III, с. 127).
6 «Евгений Онегин», гл. четвертая, строфа VII.
7 Произведение Розена называется «Иоанн III и Аристотель (из тра¬
гедии: Дочь Иоанна III)». Третья стихотворная пьеса, не названная Белин¬
ским, — «Драматическая сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером
волке (отрывок)» Н. Языкова.
8 Автором записок была действительно Н. Дурова, участница войны
1812 г. Пушкин сопроводил записки Дуровой своим предисловием.
9 Автор статьи «Статистическое описание Нахичеванской провинции,
составленная В. Г....» — В. Золотницкий (а не Золотицкий).
10 Речь идет о статьях Вяземского: «Ревизор, комедия, соч. Н. Го¬
голя...»; «Наполеон и Юлий Цезарь»; «Новая поэма Э. Кине: «Napoleon,
роете par Edgar Quinet». Paris, 1836.
11 Речь идет о позиции «Московского наблюдателя» в связи с полеми¬
кой вокруг книги С. Шевырева «История поэзии» (М., 1835). См. об этом
в прим. (вступительной заметке) к статье «Опыт системы нравственной
философии...».
12 Вяземский в примечании к своей статье о «Ревизоре», говоря о
«Московском наблюдателе», заметил: «...издатели «Телескопа» и другие
могут в добродушном и откровенном испуге воскликнуть: избавь нас боже
от его критик!» («Современник», 1836, т. И, с. 289—290).
13 Неточная цитата из «Ревизора», д. II, явл. VIII, реплика Хлеста¬
кова (в первом издании, СПб., 1836—«иногда что-нибудь хочется сделать,
почитать, или так придет фантазия сочинить что-нибудь...»).
14 В анонимной статье Пушкина «Французская Академия» («Совре¬
709
менник», 1836, т. II) сообщалось об избрании Скриба в академики и приводи¬
лась произнесенная им по этому поводу речь. Скриб, в частности, утверждал,
что «театр весьма редко бывает выражением современного общества», «он
часто выражает противоположное», что комедия «описывает редкие исклю¬
чения и минутные странности», показывая «только уголок общества»
(в этом смысле Скриб противопоставлял театральные произведения песне,
которая говорит о современности всю правду). С мыслью Скриба о том, что
в театре отражается прошедшее, перекликается следующее место из статьи
В. Одоевского «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литера¬
туре»: «В старой Европе ужасы конца XVIII столетия отозвались в нынеш¬
ней литературе по той же причине, почему идиллическая и жеманная поэзия
прежнего времени отозвалась в век терроризма... Ибо литература, вопреки
общепринятому мнению, есть всегда выражение прошедшего...» (с. 211—212) ^
Автором этой статьи, подписанной литерами С. ©., Белинский мог счесть
Вяземского, которому принадлежит большинство критических статей во
II томе «Современника». Необходимо, однако, отметить, что Вяземскому
вовсе не свойственно умаление жианенной актуальности и остроты русской
«сатиры». Наоборот, в опубликованной в том же томе рецензии на «Реви¬
зора» он решительно возражает против мнения, будто бы «комедия — ложь,
клевета, несбыточный и недозволительный вымысел» (с. 300).
15 Во втором томе «Современника» под рубрикой «Новые русские
книги, вышедшие с апреля месяца 1836 года», не было помещено ни одной
рецензии; даны лишь краткие библиографические аннотации, четыре из
которых помечены звездочками (о значении звездочек — см. прим. 3
к рецензии «Несколько слов о «Современнике»).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Дмитрий Калинин. Драматическая повесть в пяти картинах
(с. 523—608).
При жизни Белинского не печаталось. Первоначально в печати поя¬
вился отрывок из «Дмитрия Калинина». Он был опубликован Н. Н. Ен-
галычевым в статье «Виссарион Григорьевич Белинский. Новые данные
для его биографии» («Русская старина», 1876, т. 15, № 1, с. 66—76)«
Полный текст трагедии, по обнаруженной в делах Московского цензур¬
ного комитета рукописи, впервые напечатал Н. С. Тихонравов («Сборник
Общества любителей российской словесности на 1891 год», М., 1891,
с. 437-533).
Начало работы над «Дмитрием Калининым» — лето 1830 года, во время
пребывания Белинского в Чембаре; окончание — ноябрь 1830 года.
Сохранились: 1) рукопись опубликованного Н. Н. Енгалычевым от¬
рывка (от слов «суетного как золото в горниле...», с. 591, строка 7 св. и
кончая словами: «...я замечаю, что вы с...», с. 605, строка 6—7 сн.), являю¬
щаяся автографом Белинского (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 167); 2) цензурная
рукопись трагедии, написанная родственником и другом Белинского
Д. П. Ивановым и неизвестным лицом (ГЛБ, ф. 21, № 10780). В рукописи
710
нет ни одной поправки Белинского, а на обложке ее следующие пометы:
«№ 56 поступ. генварь 23—1831», «По 2 описи — № 39», «№ 12-й. Удержана
при делах Комитета по журналу пятого заседания генваря 30-го дня
1831 года. Секретарь адъюнкт Щедрицкий», «г. цензору Цветаеву».
Опубликованный Н. Н. Енгалычевым автограф отрывка (большая часть
«Пятой картины») является одной из предшествующих редакций «Дмитрия
Калинина». В отличие от цензурной рукописи в нем дано деление на явл.
(V—VIII), а некоторые из действующих лиц носят другие имена: Дмитрий
назван Владимиром, Сурский — Вельским, Рудина — мамзелью. В от¬
рывке также нет большого примечания (с. 604) к монологу Владимира
(Дмитрия) «Неужели эти люди для того только родятся на свет...». В осталь¬
ном текст отрывка отличается от цензурной рукописи незначительными
расхождениями, главным образом стилистического характера. Еще Н. С. Ти-
хонравов справедливо заметил, что цензурная рукопись списана «не совсем
исправными писцами». В ней есть пропуски, описки, а иногда и прямые
ошибки. Часть их удалось выявить при сличении цензурной рукописи
с автографом отрывка.
Печатается по цензурному экземпляру с устранением нескольких
пропусков и ошибок по автографу отрывка.
Еще до представления в цензуру Белинский (как это видно из его
письма к П. П. и Ф. С. Ивановым от 13 января 1831 г.) читал пьесу на засе¬
дании литературного общества студентов.
П. Прозоров, товарищ Белинского, один из участников литературного
общества, вспоминал: «Несколько вечеров продолжалось чтение драмы..*
самим автором. Наружность его, сколько могу припомнить, была очень исто¬
щена... но зато горячо и полно одушевления было чтение автора, увлекавшее
слушателей страстным изложением предмета и либеральными, по-тогдаш¬
нему, идеями» (Воспоминания, с. 114).
От первого чтения до момента представления в цензуру драма претер¬
пела большие изменения. По свидетельству другого товарища Белинского,
Н. Аргилландера (Воспоминания, с. 104), первоначально пьеса называлась
«Владимир и Ольга» (имя Владимир, как мы видели, главный герой сохра¬
нил и в отрывке, опубликованном Енгалычевым). Содержание пьесы пере¬
дает А. Пыпин со слов М. Чистякова, секретаря «литературного общества»:
«Пьеса являлась тогда в несколько ином виде: Владимир — действительно
незаконный сын помещика, богатого барина, и родился в семье его крепо¬
стного крестьянина; этот крестьянин потом умер, засеченный барином,
который, чтобы несколько загладить ужасное дело, взял Владимира к себе.
Владимир (или как иначе звали этого героя) отличался пылким нравом
и талантами; отец ставил его в пример своим барчонкам-сыновьям, и пред¬
почтение, оказываемое перед ними холопу, возбудило в них скрытую злобу*
Героиня — не сестра Владимира, но в любви к ней его соперником являлся
именно один из братьев. Отец умирает, не успевши дать вольной своему
незаконному сыну, и, по смерти отца, он достается по наследству своему
сопернику по любви к героине; новый барин, чтоб отомстить и унизить его,
заставляет его служить себе за столом. Здесь же, за столом, Владимир уби¬
вает его». Другой товарищ Белинского, Д. Иванов, подтвердил, что «этот
последний рассказ передает верно ту форму, в которой трагедия читалась
711
fea студенческих вечерах; но что после Белинский многое в ней изменил...»
(А. Н. Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка, изд. 2-е. СПб.,
1908, с. 46).
Таким образом, в первоначальном варианте отсутствовал мотив крово¬
смешения. В окончательном же, известном нам тексте возлюбленная глав¬
ного героя Софья является его сестрой.
Как показали работы советских исследователей (см.: В. С. Нечаева.
В. Г. Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности.
1811—1830. М., Изд-во АН СССР, 1949, глава «Дмитрий Калинин и крепост¬
ная действительность»), пьеса опирается на реальный жизненный материал,
на многочисленные действительные факты крепостнического произвола и
беззакония, о которых был осведомлен Белинский. Многообразны также
связи произведения с русской сатирической традицией, особенно с драма¬
тургией Фонвизина и Грибоедова. По страстности же протеста, по смелости
обличения социальной несправедливости пьеса Белинского, как указал еще
дореволюционный исследователь, «во всей русской литературе имела только
один прецедент... — это знаменитая книга Радищева» (М. А. Протопопов.
В. Г. Белинский, его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891, с. 33)*
Впоследствии делались попытки доказать прямую зависимость «Дмит¬
рия Калинина» от книги Радищева. Так, В. Данилов писал, что «сюжет
драмы Белинского почти целиком содержится в «Путешествии из Петер¬
бурга в Москву» (речь идет о гл. «Городня»; см.: В. Данилов. Юноше¬
ская драма В. Г. Белинского «Дмитрий Калинин». — «Русский филологиче¬
ский вестник», 1910, № 1, с. 68). Однако сходство это состоит в некоторой
тематической общности (судьба крепостного интеллигента), но не в особен¬
ностях трактовки образа, в художественной концепции. В. Переверзев в
статье «Трагедия В. Г. Белинского «Дмитрий Калинин» («Вопросы литера¬
туры», 1959, № 8), обоснованно возражая В. Данилову, писал, что герой
книги Радищева «добрый, благородно чувствительный крепостной человек,
пострадавший от жестокости своих господ, он сын сентиментального
XVIII века. Калинин — крепостной интеллигент первых десятилетий XIX
века, впитавший в себя соки романтизма «Бури и натиска», «неистового ро¬
мантизма», выражающий свои переживания в соответственной форме» (с. 175).
Наряду с несомненным влиянием немецкого «Sturm und Drang», драма¬
тургии Шиллера (об этом впоследствии говорил и сам Белинский), «Дмит¬
рий Калинин» обнаруживает также связь с французской романтической
школой — с так называемой «неистовой словесностью». Введение в оконча¬
тельную редакцию темы кровосмешения и, соответственно, усиление мотива
рока, обусловлены общей концепцией произведения и едва ли могут быгь
объяснены чисто внешним влиянием литературной моды или же стремле¬
нием автора облегчить пьесе путь в цензуре (что касается последнего, то
это могло лишь осложнить дело ввиду настороженного отношения цензуры
в ту пору к «неистовой словесности»). Следует обратить внимание на то, что
сам факт кровосмешения выступает в пьесе как еще одно, решающее под¬
тверждение социальной несправедливости, запутанности и извращенности
всего строя моральных понятий (ср. реплику Дмитрия в V картине: «Вот как
играет беспощадная судьба слабыми смертными! Нет: видно, милосердный
бог наш отдал свою несчастную землю на откуп дьяволу...»).
712
Определенное историко-литературное значение имела разработка Бе¬
линским идеологического конфликта двух персонажей — Дмитрия Калинина
и Сурского, конфликта, предвещавшего уже диалог «романтика» и «реа¬
листа» в произведениях «натуральной школы» — прежде всего диалог Петра
и Александра Адуевых в «Обыкновенной истории» Гончарова. (Подробнее
о поэтике «драматической повести» Белинского см.: Ю. М а н н. Поэтика
русского романтизма. М., «Наука», 1976.)
В январе 1831 года Белинский представил пьесу на рассмотрение цен¬
зурного комитета. Цензуровал рукопись профессор JI. А. Цветаев, отчеркнув¬
ший в ней на полях места, которые показались ему опасными (они приве¬
дены в кн. «Белинский и корреспонденты», с. 11—20). О дальнейших
событиях сообщает Н. Аргилландер: «...Раз утром... его (Белинского)
потребовали в заседание комитета, помещавшегося в здании университета.
Спустя не более получаса времени вернулся Белинский, бледный, как по¬
лотно, и бросился на свою кровать лицом вниз; я стал его расспрашивать,
что такое случилось, но ничего положительного не мог добиться; он
произносил только одно, и то весьма невнятно: «Пропал, пропал, каторжная
работа, каторжная работа!» (Воспоминания, с. 104). В письме к родителям
от 17 февраля 1831 года Белинский, рассказав об этом вызове в цензурный
комитет, прибавляет, что сочинение «было признано безнравственным, бес¬
честящим университет, и об нем составили журнал!.. Но после это деле
уничтожено, и ректор сказал мне, что обо мне ежемесячно будут ему пода¬
ваться особенные донесения» (протокол заседания Московского цензурной!
комитета от 30 января 1831 г., запретившего драму Белинского, приведен
М. Я. Поляковым в его работе «Студенческие годы Белинского». — см.: ЛН,
т. 56, с. 370—371). Пьеса и явилась действительной причиной исключения
Белинского из университета в сентябре 1832 года.
Нити от юношеской драмы Белинского идут ко многим его последую¬
щим работам, обнаруживаясь в виде отдельных реминисценций (ср., напри¬
мер, строки из философской части «Литературных мечтаний»: «Если ты
рожден сильным земли, гни свой хребетг ползи змеею между тиграми, бро¬
сайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы...»—с репликой
Дмитрия Калинина о помещиках: «...этих змиев, этих крокодилов, этих
тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду,
их кровь и слезы...»). Но главное в том, что от «Дмитрия Калинина» идет
развитие «штюрмерского», бунтарского начала мировоззрения Белинского.
В эстетическом отношении очевидна та роль, которую сыграл личный
опыт Белинского как автора «Дмитрия Калинина» в осознании и характери¬
стике им смешанного рода поэзии в статье «О русской повести и повестях
г. Гоголя», а именно тех произведений, «где событие, характеры и положу
ния как будто придуманы для выражения идей и чувств, так сильно волно¬
вавших автора...». Вместе с тем уже к началу критической деятельности
Белинского многое в его пьесе не отвечает его художественному вкусу.
Укажем на такую деталь: если Дмитрий Калинин объясняется Софье в
любви, читая монолог Фингала к Мойне, мысленно уподобляясь герою тра¬
гедии Озерова, то уже в «Литературных мечтаниях» Белинский иронически
замечает, что драматург «из Фингала сделал аркадского пастушка и заста¬
вил его объясняться с Мойною мадригалами, скорее приличными какому-
713
нибудь Эрасту Чертополохову...». Несколько же позднее, в рецензии на
кн. С. Темного «Ночь» (см. наст, т., с. 507), Белинский, предостерегая писа¬
телей против печатания незрелых произведений, писал: «Мы говорим это
от чистого сердца, говорим даже по собственному опыту...». Очевидно, что
«собственный опыт» — это трагедия «Дмитрий Калинин».
1 Белинский цитирует последние строки эпилога поэмы А. Пушкина
«Цыганы».
2 Неточная цитата из «Евгения Онегина» А. Пушкина, гл. вторая,
строфа XX.
3 Речь идет о 6-м явл. I д. трагедии «Фингал»,
4 Ср. «Горе от ума», д. II, явл. 5.
5 «Раб не больше господина своего» (Евангелие от Иоанна, 15, 20)'*
Вторая цитата— из Первого Послания Петра, 2, 18.
6 Имеются в виду: новозаветное предание об участии Христа в брач-«
ном празднестве в Кане Галилейской, где им была претворена вода в вино,
и старозаветное предание о перенесении царем Давидом ковчега завета
(ящика, хранившего скрижали Моисея) в новый храм в Иерусалиме. Когда
несли ковчег, «Давид скакал из всех сил пред господом»; «Так Давид и
весь дом Израилев несли ковчег господен с восклицаниями и трубными зву*
ками» (Вторая кн. Царств, 2, 14 и 2, 15).
7 Белинский приводит цитату (с небольшими неточностями) из тра¬
гедии В. Озерова «Эдип в Афинах», д. IV, явл. 2 (реплика Полиника).
8 В. Озеров, «Эдип в Афинах», д. IV, явл. 2.
9 Белинский цитирует стихотворение Жуковского «Певец».
10 Неточная цитата из комедии Шедоросль», д. V, явл. 1 (реплика Ста*
родума).
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *
Аблесимов Александр Онисимович
(1742 — 1783), писатель — 78, 118, 636.
Авенир Народный — см. Макаров М. Н.
Август Гай Октавий (63 до н. э. —
14 н. э.), римский император с 27 г.
до н. э. — 73, 389.
Авраамий Палицын (до принятия мона¬
шества Аверкий Палицын; ум. 1626),
политический деятель и писатель —
482, 483.
Адашев Алексей Федорович (ум. 1561),
государственный деятель — 480, 481.
Александр I (1777— 1825), российский
император с 1801 г. — 79, 80, 223, 424,
664.
Александр Македонский (356 — 323 до
н. э.), царь македонский, полководец
и государственный деятель — 58, 389,
487, 495.
Алексей Михайлович (1629— 1676) —
русский царь с 1645 г. — 64, 65, 72,
482, 633.
Алферов, сотрудник альманаха «Осеп-
ний вечер» — 445.
Анакреонт (ок. 570 — 478 до н.э.), древ¬
негреческий поэт — 76, 636, 698.
Анастасия Романовна (ум. 1560), пер¬
вая жена Ивана IV Грозного — 480,
481.
Андреев А., писатель 30-х гг. XIX в. —
430 — 431, 693.
Андросов Василий Петрович (1803 —
1841), экономист-статистик и журна¬
лист — 317, 517, 678, 679, 709.
Анненков Павел Васильевич (1813 или
1812 — 1887), литературный критик
И мемуарИСТ — 628, 650, 651, 654, 670,
708.
Ансон Джордж (1697 — 1762), англий¬
ский военно-морской деятель, адми¬
рал — 458.
Аполлос (до принятия монашества Бай¬
баков Андрей Дмитриевич; 1745 —
1801), архимандрит, духовный писа¬
тель, автор «Правил пиитических...» —<
98, 101, 643.
Арбетнот Джон (1667 — 1735), англий¬
ский писатель — 433, 693.
Аргилландер Николай Андреевич (1812 —
?), университетский товарищ Белин*
ского — 711, 713.
Арди Александр (ок. 1570 — 1632), фран¬
цузский драматург — 78.
Аретино Пьетро (1492— 1556), итальян*
ский писатель и публицист — 275.
Ариосто Лудовико (1474 — 1533), италь*
янский поэт — 92, 404, 407, 689.
Аристарх Самофракийский (г. рожд. и
смерти неизв.), филолог Александрий¬
ской школы — 48, 53, 95, 110, 282, 371,
489.
Аристотель Болонский — см. Фиораванте
Альберти.
Аристотель из Стагиры (384 — 322 до
н.э.), древнегреческий философ-—
92, 697.
Аристофан (ок. 446 — 385 до н. э.), древ¬
негреческий драматург, «отец коме¬
дии» — 49, 361. ,
Арцыбашев Николай Сергеевич (1773 —•
1841), историк — 80, 81, 636, 638.
Аттила (ум. 453), вождь союза гунн¬
ских племен — 53.
Байрон Джон (1723 — 1786), английский
мореплаватель — 458.
* Имена приводятся в современной транскрипции. В тех случаях, когда тран*
скрипция Белинского существенно не отличается от современной, разночтения
не указываются.
715
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788 —
1824)— 47 — 49, 58, 59, 74, 87, 91, 94,
96, 97, 99, 103, 110, 113, 124, 147, 166,
235, 238, 264, 273, 281, 282, 285, 288,
289—291, 315, 346, 402, 403, 411, 412,
421, 425, 435, 441, 442, 469, 485, 512,
630, 640, 641, 665, 696.
Бакунин Александр Михайлович (1768—
1854), отец М. А. Бакунина — 678.
Бакунин Михаил Александрович (1814 —
1876), революционер, один из оснопа-
телей и теоретиков народничества и
анархизма — 676 — 678, 70S.
Бакунина Татьяна Александровна
(1815 — 1871), сестра М. А. Бакуни¬
на — 676, 677.
Бакунины — 676.
Бальзак Оноре де (1799 — 1850) — 49, 94,
107, 108, 120, 124, 157, 162, 172, 242,
249, 287, 290, 291, 348, 349, 417, 641,
665 — 667, 672.
Баранов Кузьма Николаевич (1797 —
1836), писатель и актер московского
театра — 345 — 347, 679 — 680.
Баратынский (Боратынский \ Евгений
Абрамович (1800 — 1844), поэт — 48,
49, 59, 95, 98, 99, 101, 185 — 192, 199,
441, 444, 445, 633, 642 — 644, 657 — 658,
668, 696, 704.
Барбье АнрйЧЭгюст (1805—1882), фран-
. цузский поэт — 124, 346.
Барон Брамбеус — см. Сенковский О. И.
Барсуков Николай Платонович (1838 —
1906), историк, археолог, библиограф —
684, 692.
Бартелеми Жан-Шак (1716—1795),
. французский археолог и писатель —
84, 639.
Баттё Шарль (1713 — 1780), французский
философ, эстетик и педагог — 91, 92,
193, 257, 302, 315.
Батюшков Константин Николаевич
(1787 — 1855), поэт — 49, 51, 86, 88, 92,
95, 96, 139, 217, 378 — 381, 425, 432, 440,
629, 639, 642, 685 — 686.
Безбородко Александр Андреевич (1747 —
1799), государственный деятель, сек¬
ретарь Екатерины II — 73.
Безгласный — см. Одоевский В. Ф.
Безмолвный, сотрудник альманаха
«Осенний вечер» — 445, 446.
Безумный — см. Селиванов И. В.
Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич
(1778—1852), мореплаватель, адми¬
рал — 458.
Бенедиктов Владимир Григорьевич
(1807 — 1873), поэт— 193 — 208, 214,
257, 281 — 285, 445, 448, 449, 504 — 506,
658 — 662, 669, 672, 690, 696, 705.
Беранже, кондитер в Петербурге — 660.
Беранже Пьер-Жан (1780—1857), фран¬
цузский поэт — 162, 276, 286, 287, 21)3,
403, 433.
Березина Валентина Григорьевна (р.
1915), советский литературовед — 662,
704.
Беркутов Аполлинарий, писатель 1830-х
гг. — 248, 666.
Бестужев Александр Александрович
(1797—1837), писатель и литератур¬
ный критик, декабрист — 49, 51, 53, 67,
71, 92, 94, 107 — 109, 116, 129, 130, 136,
151 — 153, 161, 249, 272, 345, 391, 439 —
441, 445, 632, 634, 635, 638, 641, 644 —
647, 650, 653, 659, 662, 671, 684, 695.
Бетховен Людвиг ван (1770 — 1827) — 164„
Бирон — см. Байрон Д.-Н.-Г.
Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772), кур¬
ляндский дворянин, русский госу¬
дарственный деятель, фаворит импе¬
ратрицы Анны Иоанновны —351.
Бичи Фридерик Вильям (1796—1856),
английский мореплаватель — 458.
Блей Уильям (1753 — 1817), английский
мореплаватель — 458.
Блер Хьюг (1718 — 1800), английский
теоретик искусства — 94.
Бобров Семен Семенович (конец 1760-х —
1810), поэт — 77, 378.
Богданович Ипполит Федорович (1744 —
1803), поэт — 49, 77, 188, 191, 217, 378,
463.
Богемус, немецкий писатель — 352 —355;
680.
Боден Никола (1750 — 1803), француз¬
ский мореплаватель — 458.
Бодянский Осип Максимович (1808 —
1877), русский и украинский фило¬
лог-славист — 298, 637, 674.
Боккаччо Джованни (1313 — 1375), италь¬
янский писатель — 474.
Больвер — см. Булвер-Литтон Э.-Д.
Боткин Василий Петрович (1811 — 1869)',
писатель, критик, переводчик — 690.
Брюллов Карл Павлович (1799 — 1852),
художник-живописец — 381.
Буало (Буало-Депрео) Никола (1636 —
1711), французский поэт, критик, тео¬
ретик классицизма — 91, 92, 193, 315.
Бугенвиль Луи-Антуан де (1729—1811),
французский мореплаватель — 458.
Булвер-Литтон Эдуард Джордж (1803 —
1873), английский писатель — 290,
420 — 423, 691.
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789 —
1859), журналист и писатель — 48 —
50, 52, 89, 95, 96, 106, 107, 109, ИЗ,
117, 118, 121 — 123, 140, 152, 153, 174,
182, 195, 216, 226, 227, 243, 245 —
249, 263, 297, 308, 346, 347, 353, 35G,
716
362 — 365, 368, 434, 437 — 444, 489, 516,
629, 631, 632, 641, 642, 644 — 646, 652,
656, 660, 663, 664, 666, 667, 670, 680,
6S2, 693, 694, 695, 706, 708.
Бунина Анна Петровна (1774 — 1828),
поэтесса — 378.
Бурдалу Луи (Бургий; 1632—1704),
французский духовный оратор, автор
учебника риторики — 155, 652.
Бурманов Владислав, сотрудник альма¬
наха «Осенний вечер» — 445 — 447.
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790 —
1849), военный историк — 376, 685.
Бюффон Жорж-Луи-Леклерк де (1707—
1788), французский естествоиспыта¬
тель — 71, 365, 496, 635.
Вадим — см. Пассек В. В.
Валленштейн Альберт Венцель Евсевий
(1583 — 1634), австрийский полково¬
дец, имперский главнокомандующий
в Тридцатилетней войне— 114, 354.
Валлис Самуил (ум. 1795), английский
мореплаватель — 458.
Вальмики, мифический индийский по¬
эт — 632.
Вапдеибург, комментатор Горация — 644.
Ванкувер Джордж (1758— 1798), англий¬
ский мореплаватель — 458.
Василий III Иванович (1449 — 1533), ве¬
ликий князь московский с 1505 г. —
352, 480, 482.
Василий Иванович Шуйский (1552 —
1612), русский царь в 1606 — 1610 гг. —
482.
Вассиан Патрикеев Косой (до принятия
монашества князь Василий Иванович
Патрикеев; ум. 1545) церковный и по¬
литический деятель, публицист — 90,
Велланский Данила Михайлович (1774 —
1847), ученый-медик, философ — 51,
6'62.
Вельтман Александр Фомич (1800 —
1870), писатель— 119, 123, 382, 399 —
400, 441, 483—488, 646, 688, 702.
Вельяминов Иван Александрович (1771 —
1837), генерал, переводчик — 649.
Венгеров Семен Афанасьевич (1855 —
1920), историк литературы, библио¬
граф — 647.
Веневитинов Дмитрий Владимирович
(1805 — 1827), поэт, критик — 60, 102,
200, 283, 445, 630, 633, 644, 678.
Венелин (наст. фам. Хуца) Юрий Ива¬
нович (1802— 1839), филолог-сла¬
вист — 455 — 458, 696 — 697.
Вернер Цахариас (1768— 1823), немец¬
кий драматург — 104, 478, 701.
Верстовский Алексей Николаевич (1799 —
1862), композитор — 296, 297, 674.
Видок Эжен-Франсуа (1775—1857)',
французский сыщик — 95, 641.
Виже-Лебрен Мар ня-Е лизавета-Луиза
(1755 — 1842), французская художни¬
ца — 429.
Виланд Кристоф Мартин (1733 — 1813),
немецкий писатель — 306, 307, 461—
464, 675, 698.
Вильсон Генри (ум. 1810), английский
мореплаватель — 458.
Вингебер Конрад, владелец типографии
в Петербурге — 350, 355, 375, 415, 431,
444, 478.
Винкельман Иоганн Иоахим (1717 —
1768), немецкий историк античного
искусства — 272.
Виньи Альфред-Виктор де (1797—1863),
французский писатель — 263, 285 —
289, 293, 346, 641, 672.
Виргилий Марон Публий (70 —19 до
и. э.), римский поэт— 49, 54, 77, 92,
144, 187, 281, 316, 348, 402, 456, 640.
Висковатов Степан Иванович (1786 —
1831), драматург — 378.
Владимир Святославич (ум. 1015), с
980 г. князь киевский — 64, 430.
Воейков Александр Федорович (1779 —
1839), поэт, журналист — 81, 89, 118,
122, 123, 251, 279, 378, 400, 629, 634t
640, 663, 668, 672, 707.
Волков Михаил, артист московского теа¬
тра в 1830-х гг. — 134.
Волков Федор Григорьевич (1729 —
1763), актер и создатель первого рус¬
ского театра — 425.
Вольтер (наст, имя и фам. Мари-Фран¬
суа А р у э; 1694—1778) — 50, 70, 71, 91*
92, 124, 129, 136, 193, 194, 315, 380*
402, 417, 457, 502, 513, 640.
Вольф Оскар Людвиг Бернгард (1799 —
1851), немецкий писатель, историк —
355, 680.
Вордсворт (Уордсуорд) Уильям (1770 —
1850), английский поэт — 124.
Востоков (наст. фам. Остенек) Александр
Христофорович (1781 — 1864), фило¬
лог-славист, поэт — 368, 683, 699.
Вронченко Михаил Павлович (1802 —
1855), переводчик — 636, 698.
Вяземский Петр Андреевич (1792 —1878>\
поэт, переводчик, литературный кри¬
тик — 86, 87, 90, 270, 312, 313, 490, 493,
494, 506, 513, 518, 520, 636, 638—640,
671, 679, 695, 697, 703 — 705, 707, 709,
710.
Гайдн Франц Йозеф (1732—1809), авст¬
рийский композитор — 164.
Галактионов Степан Филиппович (1779 —
1854), художник, график —381*
717
Галилей Галилео (1564 — 1642), итальян¬
ский физик, механик и астроном —
317, 318.
Галль Базиль (1788— 1844), английский
мореплаватель — 458,
Гарди — см. Арди А.
Гарнье Робер (1534 или 1544— 1590),
французский драматург и поэт — 78*
Гауф В. — см. Хауф В.
Гафиз — см. Хафиз.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770 —
1831), немецкий философ — 237, 298,
320, 443, 674, 678, 688.
Геерен Арнольд (1760 — 1842), немецкий
историк — 389.
Генрих IV (1553 — 1610), король Фран¬
ции с 1589 г. — 495.
Генслер Карл Фридрих (1761 — 1825),
австрийский драматург — 633.
Гердер Иоганн Готфрид (1744 — 1803),
немецкий писатель и философ — 124,
184, 272, 324, 388, 457, 458, 657, 697.
Герцен Александр Иванович (1812 —
1870) — 684.
Гете Иоганн Вольфганг (1749 — 1832) —
49, 50, 52, 58, 59, 86, 89, 92, 102, 104,
110, 114, 117, 124, 125, 131, 145, 147,
149, 174, 183, 238, 272, 273, 285, 286,
289, 291, 315, 316, 346, 355, 402, 411,
420, 432, 433, 442, 457, 468, 469, 488,
512, 516, 630, 644, 675, 680, 697, 699,
702.
Гизо Франсуа-Иьер-Гийом (1787—1874),
французский государственный дея¬
тель, историк — 457, 458.
Гинце X., владелец типографии в Петер¬
бурге — 362, 366, 400, 401, 464.
Глаголев Андрей Гаврилович (ум. 1844),
историк русской литературы — 518,
Глазунов Илья Иванович (1786— 1849),
издатель и книготорговец — 311, 356,
378, 506.
Глазунов (Улитин) Николай Николаевич,
московский книгопродавец и изда¬
тель — 455.
Глебов Дмитрий Петрович (1789 — 1843),
поэт — 445.
Глинка Сергей Николаевич (1775 или
1776 — 1847), писатель, журналист —
50, 378, 631.
Глинка Федор Николаевич (1786 — 1880),
поэт, публицист — 98, 100, 283, 445,
642, 643.
Глхрв (псевдоним Глухарева И.), лубоч¬
ный писатель 1830—1840-х гг. — 439.
Гнедич Николай Иванович (1784 — 1833),
поэт, переводчик— 59, 89, 188, 191,
633, 658.
Гогниев Иван Егорович (1806 — 1883),
поэт — 228»
Гоголь Николай Васильевич (1809 —
1852)— 49, 112, 121, 129, 130, 138, 15S,
161, 162, 166 — 184, 189, 233, 234, 245,
249, 270—272, 381—383, 438, 440—442,
489—494, 510—514, 516, 517, 520, 630,
650, 651, 654 — 658, 665, 668, 670 — 673,
681, 683, 684, 686, 693, 695, 696, 702 —
710, 713.
Годунов Борис Федорович (1552 — 1605)*
русский царь с 1598 г. — 248.
Голицын Василий Васильевич (1643 —
1714), боярин, фаворит царевны Со¬
фьи — 384.
Голота Петр, беллетрист 1830-х гг. —
376 — 378, 685.
Гомер — 49, 54, 71, 77, 92, 114, 125, 142,
144, 181, 187, 298, 316, 324, 348, 402t
411, 456, 457, 488, 512, 630 — 632.
Гончаров Иван Александрович (1812 —
1891), писатель — 713.
Гораций (полн. имя Квинт Гораций
Флакк; 65 — 8 до н.э.), римский
поэт — 73, 76, 107, 174, 182, 219, 402,
632, 636, 644, 689.
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776 —
1822), немецкий писатель, композитор,
музыкальный критик— 130, 166, 287,
297, 363, 375, 478, 650.
Грамматин Николай Федорович (1786 —
1827), поэт и филолог — 467.
Гребенка Евгений Павлович (1812 —
1848), украинский и русский писа¬
тель — 445, 446.
Греч Николай Иванович (1787— 1867),
журналист, писатель, филолог — 48 —
50, 52, 78, 82, 89, 90, 121 — 123, 174,
226, 227, 245 — 247, 354, 356, 368, 369,
385, 386, 391, 424, 426, 434, 438, 441,
442, 489, 493, 498, 516, 631, 636, 638,
640, 642, 645, 647, 648, 662, 664, 666л
680, 683, 693, 705.
Грибоедов Александр Сергеевич (1795 —
1829)— 47, 51, 61, 66, 77, 81, 103, 105,
106, 124, 132, 139, 173, 176, 197, 224,
247, 265, 269, 271, 272, 283, 284, 357,
360, 398, 432, 433, 436, 439, 453, 454,
475, 508, 512, 638, 670, 672, 681, 694,
695, 706, 708, 712, 714.
Григорьев Аполлон Александрович
(1822 — 1864), поэт и литературный
критик — 629, 646.
Григорьев Василий Васильевич (1816 —
1881), историк-востоковед — 298.
Грильпарцер Франц (1791—1872), авст¬
рийский драматург — 130, 478, 648,
701.
Гримаре Жан-Леонор (ум. 1713), фран¬
цузский писатель, автор книги о
Мольере — 680.
Гриц Теодор Соломонович £1905 — 19592*
718
советский писатель, литературовед,
театровед — 649, 696.
Грузинцев Александр Николаевич
(1779 — 1840-е гг.), поэт и драматург —
439.
Гурьянов Иван, лубочный писатель
1820 — 1850 гг. — 248, 260, 439, 663,
670.
Густав II Адольф (1594 — 1632), швед¬
ский король с 1611 г. — 114, 354.
Гутенберг Иоганн (между 1394 и 1399
или 1406 — 1468), немецкий изобрета¬
тель книгопечатания — 123.
Гюго Виктор-Мари (1802—1885), фран¬
цузский писатель — 49, 52, 60, 94, 124,
157, 285, 286, 289, 309, 346, 392, 402,
420, 632, 633, 641, 646, 671, 675, 691,
696.
Гюллень-сор Фелицата-Виржиния (наст*
фам. Вишар; 1805 — после 1850), фран¬
цузская балерина — 449.
Давыдов Денис Васильевич (1784 —
1839), герой Отечественной войны
1812 г., военный писатель и поэт —
99, 242, 441, 445, 665.
Давыдов Дмитрий Александрович (1786 —
1851), помещик, агроном — 256, 66S.
Давыдов Нил Васильевич, писатель
1830-х гг. —391 — 392, 687.
Даль Владимир Иванович (1801 — 1872),
писатель, лексикограф, этнограф —
367, 369 — 370, 683.
Дампиер Уильям (1672 — 1715), англий¬
ский мореплаватель, пират — 458s
Данилов В. — 712.
Данте Алигьери (1265 — 1321) — 280, 288,
673.
Д’Антркасто Жозеф-Антуан де Брюни
(1739 — 1793), французский морепла¬
ватель — 458.
Девица Д. — 431 — 435, 694,
Дедушка Ириней — см. Одоевский В. Ф.
Дезульер Антуанетта (1638 — 1694^
французская поэтесса — 188.
Делавинь Каэимир-Жан-Франсуа (1793—•
1843), французский поэт и драма¬
тург — 124, 346.
Делиль Жак (1738 — 1813), француз¬
ский поэт и переводчик — 89, 188, 640.
Делорье Бенинь-Клод (1785—1852),
французский писатель — 132, 135, 649.
Дельвиг Антон Антонович (1798 — 1831),
поэт, журналист — 88, 100, 211, 643,
645, 709.
Демосфен (ок. 384 — 322 до н. э.), древ¬
негреческий оратор и политический
деятель — 54, 69, 402.
Деревицкий, сотрудник альманаха
^Осенний вечер» — 445а
Державин Гаврила Романович (1743 —
1816), поэт— 49, 51, 52, 60, 73 — 79,
82, 92, 94, 96, 103, 111, 117, 122, 124,
138, 139, 211, 217 — 219, 347, 381, 393,
395, 396, 403, 432, 440, 509, 520, 631,
632, 634 — 636, 640, 645, 662, 663, 686,
688, 704, 706.
Державин Иван Семенович (ок. 1756 —
1826), обер-священник, писатель и
поэт, сосед Г, Р. Державина — 635.
Десбут, сотрудник альманаха «Осенний
вечер» — 445.
Дидро Дени (1713 — 1784), французский
писатель, философ-просветитель — 641.
Диллон Петер (1785—1847), английский
мореплаватель — 458.
Дмитревский Иван Афанасьевич (1734 —
1821), актер, режиссер, театральный
деятель — 425.
Дмитриев Александр Иванович (1759 —
1798), брат И. И. Дмитриева, полков¬
ник, переводчик — 697.
Дмитриев Иван Иванович (1760 — 1837),
поэт —49, 77, 80, 86, 217, 425, 485,
630, 702.
Дмитриев Михаил Александрович
(1796 — 1866), поэт, критик, мемуа¬
рист — 206, 668.
Добролюбов Николай Александрович
(1831 — 1861) — 629, 630.
Дорошенко Петр Дорофеевич (1627 —
1698), гетман Правобережной Украины
в 1665 — 1676 гг. — 384.
Драйден Джон (1631 — 1700), англий¬
ский поэт, драматург, критик — 284.
Дроздов Алексей Васильевич, философ
начала XIX в. — 311 — 342, 676 — 679,
709.
Дурасова А. — 645.
Дурова Надежда Андреевна (1783-ч*
1866), писательница, участница войны
1812 г., первая женщина-офицер —
519, 709.
Дюдеван А. — см. Санд Жорж.
Дюканж Виктор-Анри-Жозеф (1783
1833), французский писатель — 641.
Дюкре-Дюмениль Франсуа-Гильом
(1761—1819), французский писатель —
123, 352, 374, 377, 385.
Дюма Александр (Дюма-отец; 1802 —
1870), французский писатель —124,
289 — 291, 346, 348, 349, 368, 641, 673,
680, 689.
Дюмон-Дюрвиль Жюль-Себастьян-Сезйр
(1790 — 1842), французский морепла¬
ватель и океанограф — 458 — 461,
697 — 698.
Дюпен Франсуа-Пьер-Шарль (1784 —
1873), французский геометр и эконо¬
мист — 459, 697.
719
Дюперре Виктор-Гюи (1775 — 1846)\
французский адмирал — 458.
Дюси Жан-Франсуа (1733 — 1816), фран¬
цузский драматург — 59, 134, 367, 633,
649.
Ежовский Юзеф (ок. 1796—1855), поль¬
ский филолог — 644.
Екатерина II Алексеевна (1729 — 1796),
российская императрица с 1762 г. —
71 — 74, 76 — 79, 211, 223, 499, 628, 635,
636, 662, 702.
Елизавета Петровна (1709 — 1761), рос¬
сийская императрица с 1741 г. —
209, 223.
Енгалычев Николай Николаевич, лите¬
ратуровед — 710, 711,
Ершов Петр Павлович (1815 — 1869),
писатель — 48, 114, 123, 228, 229,
366 — 367, 445, 448, 664, 682 — 683, 690.
Ефимович И., публицист 1830-х гг. —298,
299, 674.
Ефимьев Дмитрий Владимирович (1768—
1804), писатель — 78, 636.
Ефремов Александр Павлович (1815 —
1876), член кружка Станкевича, друг
Белинского — 676, 677.
Жакоб Библиофил — см. Лакруа П.
Жан Поль (наст, имя и фам. Иоганн
Пауль Фридрих Р и х т е р; 1763 —
1825), немецкий писатель— 147, 272,
Жанен Жюль-Габриель (1804 — 1874),
французский писатель, критик и жур¬
налист—124, 246, 247, 275 — 277, 291,
424, 428, Ш, 671, 692, 693.
Жанлис Мадлен-Фелисите Д ю к р е д е
Сент-Об#ш (1746 — 1830), фран¬
цузская писательница — 151, 306, 368,
374, 385, 398, 404, 427, 442, 689.
Женель — см. Жанен Жюль.
Живокини Василий Игнатьевич (1805 —
1874), актер — 455, 489.
Жильбер Никола-Жозеф-Лоран (1750 —
1780), французский поэт — 402.
Жоффруа Жюльен-Луи (1743 — 1814),
французский критик — 390—391.
Жуковский Василий Андреевич (1783 —
1852), поэт — 49, 51, 69, 71, 80, 86 —
88, 92, 96, 99, 102, НО, 114, 115, 139,
151, 183, 195, 199, 204, 217, 224, 229*
265, 283, 284, 350, 379, 397, 405, 432,
440, 441, 445, 490, 493, 494, 629, 630,
634 — 636, 639, 645, 651, 663, 672, 688,
704, 714.
Загоскин Михаил Николаевич (1789 —
1852), писатель — 49, 51, 116 — 118,
228 — 231, 249, 263, 296, 297, 441, 449 —
455, 514 — 516* 646, 670, 673, 674, 696,
706, 708,
Зилов Алексей Михайлович (1798—1865 У,
поэт, баснописец — 49, 357.
Зоил (ок. 400 —ок. 330 до н. э.), древ¬
негреческий ритор — 81, 638.
Золотницкий В. — 519, 520, 709.
Зольгер Карл Вильгельм (1780 — 1819),
немецкий эстетик — 267.
Зотов Рафаил Михайлович (1795 или
1796 — 1871), писатель и театральный
деятель — 383 — 385, 686.
Зябловский Евдоким Филиппович (1764 —
1846), статистик, историк, географ —
381.
Иван III Васильевич (1440 — 1505), ве¬
ликий князь московский с 1462 г. —
63, 90, 352, 482, 637.
Иван IV Васильевич Грозный (1530 —
1584), великий князь с 1533 г., первый
русский царь (с 1547 г.)— 426, 479—
482, 701.
Иван Евдокимов сын Покровский — см,
Загоскин М. Н.
Иванов Дмитрий Петрович (1812 —
1880-е гг.), родственник и друг Бе¬
линского — 710, 711.
Иванов Петр Петрович (1779 — ?), род¬
ственник Белинского — 711.
Иванова Федосия Степановна, двоюрод¬
ная сестра Белинского — 711.
Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич
(ок. 1795 — 1849), писатель и поэт,
историк — 80, 81, 85, 138.
Извекова (по мужу Бедряга) Мария
Евграфовна (1794 — 1830), поэтесса и
романистка — 306.
Измайлов Александр Ефимович (1779 —
1831), баснописец, прозаик, журна¬
лист— 95, 232, 352, 378,664, 665, 680.
Измайлов Владимир Васильевич (1773 —
1830), писатель и переводчик — 95,
151, 378.
Каверин Вениамин Алексадрович (р*
1902), советский писатель — 664.
Казак Луганский — см. Даль В. И.
Казы-Гирей Султан (1808 — 1863)', кор¬
нет, позже генерал-майор, автор рас¬
сказов, печатавшихся в «Современни¬
ке», по национальности черкес — 491а
704.
Кайданов Иван Кузьмич (1782— 1843)',
историк —49, 368, 386 — 391, 425, 631t
635, 683, 687, 694, 705.
Калайдович Иван Федорович (1796 —
1853), языковед — 368, 631, 683, 696,
Калашников Иван Тимофеевич (1797 —<
1863), писатель, этнограф — 48, 50,
121 — 123, 228, 230; 356* 359* 441, 442,
516, 631, 681%
720
Калидаса (г. рожд. и смерти неизв.)',
древнеиндийский поэт и драматург —
53, 306, 632.
Каменский Михаил Федорович (1738 —
1809), генерал-фельдмаршал — 665.
Камоэнс (Камоинш) Луиш ди (1524 или
1525 — 1580), португальский поэт —
457, 697.
Каннингам Аллан (1784— 1842), шот¬
ландский поэт — 431 — 435, 693, 694.
Кант Иммануил (1724 — 1804), немецкий
философ — 320, 654, 677, 678, 688.
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708 —
1744), поэт— 67, 90, 187, 439, 493, 499,
634, 704.
Капнист Василий Васильевич (1758 —
1823), писатель — 89, 95, 105, 188, 217,
378, 393, 639, 675.
Карабанов Петр Матвеевич (1764 —
1829), поэт и переводчик — 642.
Караджич Вук Стефанович (1787—1864),
сербский филолог, историк, фолькло¬
рист — 455, 699.
Карамзин Николай Михайлович (1766 —
1826), писатель, публицист и исто¬
рик—49, 50, 77, 80 — 92, 94, 96, 99,
109, 113, 119, 121, 139, 150, 191, 216,
217, 265, 266, 367, 378 — 380, 388, 440,
479, 480, 500, 631, 632, 635 — 638, 650г
658, 663, 675, 683, 687 — 689, 701, 704.
Каратыгин Василий Андреевич (1802 —
1853), актер — 128 — 137, 294, 295, 427,
514, 647 — 649, 651, 673, 693, 695, 701,
708.
Каратыгина (Колосова) Александра Ми¬
хайловна (1802— 1880), актриса —
128, 129, 294, 295, 427, 648, 673.
Карл XII (1682 — 1718), король Швеции
с 1697 Г. — 58, 384, 495,
Карлос дон (1545 — 1568), инфант испан¬
ский — 267.
Картерет Филипп (ум. 1796), англий¬
ский мореплаватель — 458.
Касьян Русский, писатель 1830-х гг. —
365 — 366, 682.
Катенин Павел Александрович (1792 —
1853), поэт, критик, театральный дея¬
тель — 378.
Каченовский Михаил Трофимович
(1775 — 1842), историк и литератур¬
ный критик — 51, 80, 112, 113, 628, 633,
637, 638.
Квитка-Основьяненко Григорий Федоро¬
вич (1778 — 1843), украинский писа¬
тель — 66, 634.
Кетчер Николай Христофорович (1809 —
1886), писатель, переводчик— 148, 651.
Кине Эдгар (1803 — 1875), французский
политический деятель, историк — 520,
' 709.
Кипренский Орест Адамович (1782 —
1836), живописец v график — 381
Кир II Великий (ум. 530 до н. э). с
558 г. до н. э. — царь Персии — 889.
Киреевский Иван Васильевич (1806 —
1856), философ, литературный критик
И публицист — 98, 642, 643, 657, 662,
668, 690.
Кислов, сотрудник альманаха «Осенний
вечер» — 445, 447.
Клопшток Фридрих Готлиб (1724 — 1803),
немецкий поэт — 124, 144, 316, 391.
Клюш ников Иван Петрович (1811 —
1895), писатель — 708.
Княжнин Яков Борисович (1742— 1791),
писатель — 77, 182, 656.
Козлов Иван Иванович (1779 — 1840),
поэт, переводчик — 48, 99, 183, 190,
199, 230, 283, 441, 445, 630, 643, 664.
Кок Поль-Шарль де (1793 — 1871), фран¬
цузский писатель — 123, 182, 245, 368,
374, 415 — 418, 656, 691.
Кока Георгий Михайлович, советский
литературовед — 701.
Коллар Ян (1793 — 1852), чешский и
словацкий поэт — 674.
Колридж Самюэл Тейлор (1772 — 1834),
английский поэт, критик и философ —
124.
Колумб Христофор (1451 — 1506), море¬
плаватель, по происхождению генуэ¬
зец — 87, 318, 366, 373.
Кольбер Жан-Батист (1619 — 1683), фран¬
цузский государственный деятель —
495.
Кольцов Алексей Васильевич (1809 —
1842), поэт — 209 — 215, 257, 519, 634,
661 — 662, 669, 706.
Комаров Матвей (1730-е(?) —1812(?),
лубочный писатель — 106, 363, 365,
443, 644.
Комсин С., сотрудник альманаха «Осен¬
ний вечер» — 445.
Конде Луи II Бурбон (1621—1686),
французский полководец — 70.
Кони Федор Алексеевич (1809 — 1879),
писатель и театральный деятель — 248,
360 — 361, 511 — 513, 667, 671, 681, 702,
707.
Конисский Григорий (в монашестве Ге¬
оргий; 1717 — 1795), украинский писа¬
тель, церковный деятель — 491, 703%
Константин VII Багрянородный (905 —
959), император Византии с 913 г.—
399.
Копшнн Николай Михайлович (1793 —
1859), писатель, переводчик, изда¬
тель — 350, 352, 680.
Коперник Николай (1473 — 1543), поль¬
ский астроном — 51.
721
Коринна, греческая поэтесса V в. до
н. э. — 407.
Корнель Пьер (1606—1684), французский
драматург — 49, 70, 78, 92, 124, 136,
174, 182, 193, 654, 655.
Кортес Эрнан (1485 — 1547), испанский
конквистадор, завоеватель Мексики —
373.
Косичкин Феофилакт — см. Пушкин А.
Костров Ермил Иванович (сер. 1750-х
гг. — 1796), поэт и переводчик — 77.
Коттен Мари-Софи Р и с т о (1770—1867),
французская писательница — 304, 306,
398, 427, 442, 675.
Коцебу Август Фридрих (1761—1819),
немецкий писатель — 489.
Коцебу Отто Евстафьевич (1788—1846),
мореплаватель — 458.
Крамер Карл Готлиб (1758 — 1817), не¬
мецкий писатель — 346, 680.
Краснопольский Николай Степанович
(1775 — 1830), переводчик и либрет¬
тист — 633.
Крез (595 — 546 до н.э.), царь Лидии
с 560 г. — 47, 630.
Крузенштерн Иван Федорович (1770 —
1846), мореплаватель — 458.
Круммахер Фридрих Адольф <1767 —
1845), немецкий поэт — 434, 660, 666,
693.
Крутенев Павел, журналист 1830-*х гг, —
250, 251, 667 — 668.
Крылов Иван Андреевич (1769 или 1768^*
1844) —49, 51, 86, 90, 112, 115, 124,
139, 172, 217, 233, 237, 247, 357, 368,
427, 432, 433, 437, 441, 442, 445, 493,
517, 645, 654, 665, 666, 683, 693—695,
709.
Крюковский Матвей Васильевич (1781 —
1811), драматург — 50, 378.
Кузмичев Федот Семенович (ок. 1809 —
1860 (?), лубочный писатель — 351,439.
Кук Джеймс (1728 — 1779), английский
мореплаватель — 458, 460.
Кукольник Нестор Васильевич (1809 —
1868), писатель, драматург — 48 — 50,
52, 71, 123, 124, 130, 131, 133, 135, 136,
246, 247, 264—267, 346, 382, 434, 630,
635, 645, 648, 666, 686, 693.
Кульман Елизавета Борисовна (1808 —
1825), поэтесса и переводчица— 464,
468, 469, 698, 699.
Купер Джеймс Фенимор (1789—1851),
американский писатель — 50, 273, 347,
353, 359, 365, 421, 429.
Курганов Николай Гаврилович (1725 —
1796), просветитель, педагог, изда¬
тель — 304, 443.
Куцый Андрей, сотрудник альманаха
«Осенний вечер» — 445, 447, 448s
Кювье Жорж (1769— 1832), француз¬
ский зоолог — 50, 631.
Кюхельбекер Вильгельм Карлович
(1797 — 1846), поэт, декабрист—59,
410 — 415, 633, 656, 657, 690 — 691.
Лавока (1790 — 1865), французский кни¬
гоиздатель — 410.
Лагарп Жан-Франсуа де (1739 — 1803),-
французский драматург и теоретик
литературы — 91, 92, 96, 193, 302, 315,
402, 642, 675.
Лажечников Иван Иванович (1792 —
1869), писатель —49, 51, 66, 89, 119,
120, 213, 245, 257, 263, 351, 368, 382,
441, 442, 628, 634, 639, 646, 666, 669,
670, 674, 675, 683, 700, 701.
Лазарев А., издатель — 355, 360, 376, 418,*
Лазарев И., издатель — 355, 360, 376, 418*
Лакруа Поль (1806 — 1884), француз¬
ский писатель — 124, 417.
Ламартин Альфонс-Мари-Луи де (1790 —
1869), французский поэт, публицист,
политический деятель — 48, 89, 102,
124, 278, 289, 346, 464, 640, 644.
Ланской Леонид Рафаилович, советский
литературовед — 705.
Лаперуз Жан-Франсуа де Гало (1741 —
1888 (?), французский мореплава¬
тель — 458.
Лаплас Пьер-Симон (1749 — 1827), фран¬
цузский астроном, математик и фи¬
зик — 458.
Лафайег Мари-Жозеф-Поль-Ив-Рок-Жи-
льбер Мотье (1757—1834), француз¬
ский политический деятель — 696.
Лафонтен Август (1758 — 1831), немец¬
кий писатель — 123, 231.
Лафонтен Жан (1621—1695), француз¬
ский поэт — 49, 124, 193, 417.
Лебедев В., издатель альманаха «Осен¬
ний вечер» — 444, 445, 696.
Лебрен — см. Виже-Лебрен М.-Е.-Л,
Левис — см. Льюис М.-Г.
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646 —
1716), немецкий философ, математик,
физик — 365.
Ленский (наст. фам. Воробьев) Дмит¬
рий Тимофеевич (1805 — 1860), дра¬
матург и актер — 488 — 489, 702, 707«
Лесаж Ален-Рене (1668 — 1747), фран¬
цузский писатель — 152, 652.
Лессинг Готхольд Эфраим (1729 — 1781),
немецкий писатель, просветитель —
124, 272.
Летурнер Пьер (1736 — 1788), француз¬
ский литератор, переводчик — 649.
Литке Федор Петрович (1797 — 1882),
мореилаватель и географ* исследова¬
тель Арктики — 458*
722
Лобанов Михаил Евстафьевич (1787 ■—
1846), поэт и драматург, перевод¬
чик — 248, 378, 400 — 401, 666, 688 —
689.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711 —
1765), ученый, поэт — 49, 51, 52, 68—71,
76, 77, 82, 90, 113, 121, 122, 124, 138,
211, 217, 219, 356, 465, 495—504, 520,
631, 634, 640, 647, 651, 688, 705.
Луве де Кувре Жан-Батист (1760 —
1797), французский писатель и по¬
литический деятель — 417, 691.
Льюис Мэтью Грегори (1775 —1818),
английский романист и поэт — 428.
Людовик XIV (1638—1715), французский
король с 1643 г. — 209, 380.
Лютер Мартин (1483— 1546), основатель
немецкого протестантства — 94, 495.
Люценко Ефим Петрович (1776 — 1854),
поэт и переводчик — 461, 698.
Люше Огюст (1806— 1872), французский
писатель — 291 — 293, 673.
Ляпунов Прокофий Петрович (ум. 1611),
политический деятель Смутного вре¬
мени — 482»
Магеллац Ферцан (ок. 1480 — 1521),
мореплаватель, по происхождению
португалец — 458.
Маздорф Александр Карлович (ум.
1820), баснописец — 357.
Мазепа Иван Степанович (1644 — 1709),
гетман Левобережной Украины в
1687 — 1708 гг. — 384.
Майков Василий Иванович (1728 — 1778),
поэт — 78, 378, 439.
Макаров Михаил Николаевич (1789 —
1847), этнограф и поэт — 299, 674, 675.
Макаров Петр Иванович (1765— 1804),
критик и переводчик — 150.
Манцони (Мандзони) Алессандро
(1785 — 1873), итальянский писа¬
тель — 94.
Марат Жан-Поль (1743 — 1793), деятель
Великой французской революции, уче¬
ный, публицист — 641.
Марий Гай (ок. 157 — 86 до н. э.), рим¬
ский полководец и политический
деятель — 136, 649.
Марков Михаил Александрович (ок.
1810—1876), беллетрист, поэт, дра¬
матург—114, 230, 239, 240, 249, 665,
Маркович Алексей Михайлович, сотруд¬
ник альманаха «Осенний вечер» — 445*
Марлинский А. — см. Бестужев А. А,
Мармонтель Жан-Франсуа (1723 — 1799),
французский писатель — 91, 315, 402,
462, 640.
Мартынов Иван Иванович (1771 — 1833),
переводчик, издатель журнала «Ли¬
цей» — 96, 642.
Масальский Константин Петрович
(1802 — 1861), писатель — 49, 121 —
123, 228, 230, 249, 350, 351, 356, 396,
441, 442, 516, 680 — 681, 688.
Матюрен — см. Мэтыорин Е.-Р.
Межевич Василий Степанович <1814 —
1849), критик и публицист— 646.
Мейербер Джакомо (наст, имя и фам,
Якоб Либман Бер; 1791—1864), ком¬
позитор — 254, 668.
Мельгунов Николай Александрович
(1804—1867), писатель—293 €68, 67Зш
682.
Меморский Михаил Федорович, публи¬
цист и беллетрист конца XVIII — на¬
чала XIX вв. — 443, 695.
Менцель Вольфганг (1798 — 1873), не¬
мецкий писатель и критик — 247.
Меншиков Александр Данилович
(1673— 1729), государственный и во¬
енный деятель, сподвижник Петра I —
65, 384.
Мерзляков Алексей Федорович (1778 —
1830), поэт, литературный критик —
80, 88, 89, 96, 217, 218, 359, 411, 425,
637, 639, 646, 681.
Мериме Проспер (1803 — 1870), фран¬
цузский писатель — 699.
Меркли Михаил Маркович (ум. 1846),
поэт — 392—395, 687.
Миевиль Д., книгопродавец — 471.
Миллер Герард Фридрих (1705 — 1783),
историк и археограф, член Петербург¬
ской Академии наук, по националь¬
ности немец — 184, 501, 503, 657.
Милонов Михаил Васильевич (1792 —*
1821), поэт — 89.
Мильтон (Милтон) Джон (1608 — 1674),
английский поэт, политический де¬
ятель—92, 144, 288, 316, 433, 458, 672, 69^
Минин (Сухорук) Кузьма (ум. 1616),
один из организаторов и руководи¬
телей второго ополчения в период
польской и шведской интервенции
в начале XVII в. — 482, 483, 701.
Мирабо Оноре-Габриэль Р и к е т и (1749—
1791), деятель Великой французской
революции — 696.
Митфорд Мэри Рассел (1787 — 1855),
английская писательница — 123.
Михаил Федорович (1596 — 1645), с
1613 г. первый русский царь пз ди¬
настии Романовых — 479, 482.
Михайловский-Данилевский Александр
Иванович (1790 — 1848), военный ис¬
торик — 441.
Мицкевич Адам (1798 — 1855), польский
поэт — 94, 147, 201, 465, 698, 699,
723
Мнчерлих Кристофор Вильгельм (1760 —
1854), немецкий филолог — 644.
Мольер (наст, имя и фам. Шан Батист
Поклен; 1622—1673) — 49, 124, 193,
195, 271, 288, 349, 361, 660, 680.
Монборн, французская писательница —
404—410, 689.
Монпеза Шарль де, французская писа¬
тельница — 396 — 399, 687 — 688.
Монтлюк Блез (1502 — 1577), француз¬
ский писатель — 445.
Монтэнь Мшпель де (1533 — 1592),
французский философ и писатель —
110.
Мордовченко Николай Иванович (1904 —
1951), советский литературовед —
651, 673.
Моррель Бенжамин (1795 — 1839), аме¬
риканский мореплаватель — 458.
Моцарт Вольфганг Амадей (1756 —
1791) — 164, 364.
Мочалов Павел Степанович (1800 — 1848),
актер — 130, 131, 133 — 136, 649.
Мстиславский Иван Федорович (ум.
1586), видный государственный и во¬
енный деятель эпохи Ивана IV — 483.
Мур Томас (1779 — 1852), английский
поэт — 110, 124, 147, 421.
Муравьев Андрей Николаевич (1806 —
1874), поэт, писатель, автор книг ду¬
ховного содержания — 643.
Муравьев Михаил Никитич (1757 — 1807),
писатель, общественный деятель —
380, 686.
Муравьев Николай Назарович (1775 —
1845), писатель, поэт, археолог — 100,
357, 393, 643.
Муравьев-Апостол Иван Матвеевич
(1765 — 1851), писатель и государст¬
венный деятель — 380, 686.
Мэтьюрин Чарлз Роберт (1782 — 1824),
английский писатель — 428.
Н. Щ. — см. Щукин Н. С.
Навуходоносор II (605 — 562 до н.э.),
царь вавилонский — 297.
Надеждин Николай Иванович (1804 —
1856), критик, журналист, историк и
этнограф — 54, 55, 60, 85, 95, 110, 123,
128, 129, 135, 150, 216, 221,222,231,232,
243, 244, 250, 252, 257, 278, 279, 297,
371, 513, 536, 628, 630, 631, 633, 634,
638, 639, 641 — 643, 645 — 650, 653 —
655, 660, 662 — 665, 667 — 669, 671 —
674, 676—678, 681, 683, 684, 692, 691,
697, 700, 703, 706 — 708.
Наполеон I (Наполеон Бонапарт; 1769 —
1821) — 90, 93, 97, 132, 136, 376, 485,
495, 631, 640, 649, 673, 685, 695, 709.
Нарежный Василий Трофимович (1780 —
1825), писатель— 180, 248, 655.
Нащокин Павел Воипович (1801—1854),
друг Пушкина — 702.
Неверов Януарий Михайлович (1810 —
1893), педагог, писатель — 629, 650,
657, 659, 661, 678, 682.
Неккер Жак (1732— 1804), французский
финансист и государственный дея¬
тель — 635.
Некрасов Николай Алексеевич (1821 —
1878) — 644, 651.
Нелединский-Мелецкий Юрий Алексан¬
дрович (1752 — 1829), поэт — 78, 476,
674, 701.
Неф Феликс (1798 — 1828), французский
священник — 405, 689.
Нечаева Вера Степановна (р. 1895), со¬
ветский литературовед — 647, 712.
Низар Жан-Мария-Наполеон-Дезире
(1806— 1888), французский критик и
историк литературы — 309, 675.
Никитенко Александр Васильевич
(1804 — 1877), литературный критик,
историк литературы — 468, 699.
Никодим Аристархович Надоумко — см*
Надеждин Н. И.
Николай I (1796 — 1855), с 1825 г. им¬
ператор всероссийский — 652, 701.
Николев Николай Петрович (1758 —
1815), поэт и драматург — 439, 467.
Никольский Александр Сергеевич (1755 —
1834), писатель, переводчик — 642.
Никон (светское имя Никита Минов;
1605 — 1681), церковно-политический
деятель России — 482, 483.
Новиков Николай Иванович (1744 —•
1818), просветитель, писатель, журна*
лист, книгоиздатель — 79, 500.
Нодье Шарль (Карл; 1780 — 1844), фран¬
цузский писатель — 90.
Норов Авраам Сергеевич (1795 —1869)',
историк и писатель — 375 — 376, 685.
Нума Помпилий, согласно античным
источникам — второй царь Древнего
Рима, правил в 715—673 или 672 гг*
до н. э. — 390.
Ньютон Исаак (1643 — 1727), английский
физик и математик — 365.
О. —см. Одоевский В. Ф.
Ободовский Платон Григорьевич (1803—*
1864), драматург, переводчик и поэт—»
701.
Овидий (полн. имя Публий Овидий На*
зон; 43 до н. э. — ок. 18 н. э.), рим¬
ский поэт — 311, 654.
Овчина-Оболенский-Телепнев Иван Фе¬
дорович (ум. 1539), русский государ*
ственный деятель — 480, 481^
724
Одоевский Владимир Федорович (1803 —
1869), писатель, философ, педагог,
музыкальный критик — 49, 51, 100,
116, 120 — 122, 124, 153, 154, 161, 173,
176, 177, 249, 256, 263, 306, 445, 446,
644, 646, 652, 655, 668, 675, 710.
Озеров Владислав Александрович (1769 —
1816), драматург — 51, 86, 87, 95, 130,
131, 139, 174, 182, 217, 425, 432, 63Э,
648, 649, 655, 713, 714.
Ознобишин Дмитрий Петрович (1804 —
1877), поэт — 48.
Окен Лоренц (1779 — 1851), немецкий
естествоиспытатель и натурфилософ —
320.
Оксман Юлиан Григорьевич (1895 —
1970), советский литературовед — 688.
Орлов Александр Анфимович (1791 —
1840), поэт и беллетрист — 52, 106, 107,
118, 130, 174, 304, 363 — 365, 368, 371,
439, 442, 642, 644, 684.
Орлов Владимир Николаевич (р. 1908),
советский литературовед — 695, 698.
Орлов Павел Никитич, московский актер
1830-х гг. — 134.
Осип Морозов — см. Сенковский О. И.
Осовцов Семен Моисеевич (р. 1917), со¬
ветский литературовед — 648, 708.
Оссиан, легендарный воин и бард кель¬
тов, живший, по преданиям, в III в. —
187, 445.
Остолопов Николай Федорович (1783 —
1833), поэт, теоретик стиха — 96, 98,
411, 642, 655.
Павлищев Николай Иванович (1802 —
1879), историк, публицист — 296, 673.
Павлов Михаил Григорьевич (1793 —
1840), профессор Московского универ¬
ситета — 51, 632.
Павлов Николай Филиппович (1803 —
1864), писатель — 158 — 161, 249, 256,
'{ 264, 267 — 270, 296 — 298, 368, 382, 649,
г 650, 652—654, 660, 668, 670, 673, 683.
Паглановский Д., переводчик — 478.
Палицын Авраамий — см. Авраамий Па-
лицын.
Панаев Владимир Иванович (1792 —
1859), поэт — 228, 230, 664.
Панаев Иван Иванович (1812— 1862), пи¬
сатель и журналист — 514, 628, 629,
660, 707.
Панин Петр Иванович (1721 — 1789), ге¬
нерал-аншеф — 638.
Парни Эварист-Дезире де Ф о р ж (1753—
1814), французский поэт — 380.
Пассек Вадим Васильевич (1808 — 1842),
писатель, историк, этнограф — 368 —
369, 386, 683, 687,
Паульдинг Хирам (1797— 1878), амери¬
канский мореплаватель — 458.
Пеллико Сильвио (1789 — 1854), италь¬
янский писатель — 307, 308, 471 — 472,
675, 700.
Пенинский Иван Степанович (1791 —
ок. 1868), писатель, педагог — 646.
Переверзев Валерьян Федорович (1882 —
1968), советский литературовед —
712.
Перцов Эраст Петрович (1804 — 1873),
драматург, журналист — 357, 681, 697.
Петр I Великий (1672 — 1725), русский
царь с 1682 г., российский император
с 1721 г.— 61, 64, 65, 67 — 69, 72, 116,
120, 185, 211, 222, 223, 356, 369, 384 —
386, 400, 424, 443, 476, 482, 495, 496,
498, 499, 633, 634, 664.
Петров Василий Петрович (1736 — 1799),
поэт — 49, 77, 82, 217, 378, 393, 439.
Пиндар (ок. 518—442 или 438 до н. э.),
древнегреческий поэт — 76, 407, 636.
Писарро Франсиско (между 1470 и 1475 —
1541), испанский конквистадор — 373.
Писемский Алексей Феофилактович
(1821 — 1881), писатель — 651.
Плавильщиков Петр Алексеевич (1760 —
1812), драматург и актер — 78, 636.
Плаксин Василий Тимофеевич (1796 —
1869), автор учебников по истории ли¬
тературы — 90, 371, 516, 640, 643, 684.
Платон (ок. 427 — ок. 347 до н. э.),
древнегреческий философ и писа¬
тель — 78, 84, 639.
Плетнев Петр Александрович (1792 —
1866), поэт, критик — 89, 639, 640, 655,
678, 695, 709.
Плутарх (ок. 46 — ок. 127), греческий
философ и писатель — 689.
Плюшар Адольф Александрович (1806 —
1865), издатель, типограф и книго¬
торговец— 352, 381, 460, 461, 698.
Погодин Михаил Петрович (1800 — 1875),
историк, писатель, журналист—118,
154 — 156, 161, 371, 423 — 425, 441, 453,
628, 634, 652, 668, 684, 691 — 692, 696,
703, 706.
Погорельский Антоний (наст. фам. и
имя Перовский Алексей Алексеевич;
1787 — 1836), писатель — 441, 442.
Подолинский Андрей Иванович (1806 —
1886), поэт — 48, 95, 100, 205, 206, 283.
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578
(?) — 1642(?), полководец и полити¬
ческий деятель — 482, 701.
Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801 —
1867), критик и журналист — 495 —
504, 684, 698, 705.
Полевой Николай Алексеевич (1796 —
1846), писатель, журналист, историк,
725
переводчик — 48, 81, 95, 156 — 158,
161, 223, 249, 370 — 375, 381, 382, 403,
425 — 426, 439, 441, 442, 460, 461,
478—483, 629, 630, 632, 634, 638, 641,
645—647, 650, 652, 654, 662—664, 683—
686, 692, 697, 698, 701, 705.
Полежаев Александр Иванович (1804
или 1805 — 1838), поэт —48, 102, 103,
630, 644.
Полонский Яков Петрович (1819 — 1898),
поэт — 659.
Полторацкий Александр Маркович
(1766 — после 1837), писатель — 472 —
477, 700 — 701.
Поляков Марк Яковлевич (р. 1916), со¬
ветский литературовед — 628, 678, 713.
Пономарев М., владелец типографии —
365, 366, 385.
Поп Александр (1688 — 1744), англий¬
ский поэт — 94.
Поповский Николай Никитич (1730 —
1760), философ, поэт, переводчик — 78,
378.
Портер Роберт Кер (1775 — 1842), анг¬
лийский путешественник, писатель и
художник — 458.
Потемкин Григорий Александрович
(1739 — 1791), государственный дея¬
тель, фаворит Екатерины II — 73.
Прадт Доминик-Дюфур де (1759—1837),
французский публицист и дипломат —
640.
Прозоров Павел Иванович (1811 — пос¬
ле 1850), университетский товарищ
Белинского — 711.
Прокопович Николай Яковлевич (1810 —
1857), поэт, друг Гоголя —256, 656,
668.
Протасова Екатерина Афанасьевна, мать
М. А. Протасовой — 639.
Протасова (по мужу Мойер) Мария Ан¬
дреевна (1795 — 1823), племянница
Жуковского — 639.
Протопопов Александр Павлович (1814 —
1867), писатель и актер — 439.
Протопопов Михаил Алексеевич (1848 —
1915), литературный критик — 712.
Прутиков Дормедон Васильевич — см*
Полторацкий А. М,
[уль — 241, 665.
ушкин Александр Сергеевич (1799 —
1837) — 48, 49, 51, 60, 64 — 66, 74, 81,
85, 88, 91 — 103, 105 — 107, 109 — 115,
117, 121, 122, 124, 139, 140, 145, 147,
152, 153, 162, 168, 169, 173, 174, 179*
183, 190, 191, 193, 195, 199, 201, 203 —
205, 211, 214, 215, 218 — 221, 224, 229*
230, 233, 250, 260, 263, 264, 272, 281 —
284, 306, 307, 347, 357, 362— 364, 367,
360, 392, 393, 395* 402* 403* 407* 429 —
433, 435, 439—442, 445, 448, 461—
464, 469 — 471, 489 — 491, 494, 499, 506,
516, 517, 519, 520, 523, 527, 628 — 630,
633 — 635, 638, 640 — 645, 647, 650, 651,
653, 654, 657, 659, 660, 663, 664, 667t
670, 672, 675, 678, 681, 682, 687 — 690,
693, 696, 698—705, 708, 709, 714.
Пушкин Василий Львович (1770 — 1830),
поэт — 95, 378.
Пси — см. Булгарин Ф. В.
Пыпин Александр Николаевич (1833 —
1904), литературовед — 678, 711, 712.
Радищев Александр Николаевич (1749 —
1802), революционер, писатель, фило¬
соф — 634, 712.
Радклиф Анна (1764— 1823), англий¬
ская писательница — 385, 428.
Рандюэль Евгений, владелец магазина
в Париже — 289.
Расин Жан (1639 — 1699), французский
драматург — 49, 78, 91, 92, 124, 136,
193, 209, 270, 288, 380, 400, 402,
441, 453, 670, 689, 696.
Рафаэль Санти (1483— 1520), итальян¬
ский художник и архитектор — 164.
Робеспьер Максимильен-Мари-Изидор
(1758— 1794), один из вождей яко¬
бинцев в Великую французскую рево¬
люцию — 641, 678.
Розен Егор Федорович (1800 — 1860),
поэт— 131, 437, 441, 442, 491, 519, 520,
629, 660, 666, 694, 709.
Роллен Шарль (1661 — 1741), француз¬
ский историк — 82, 638.
Ронсар Пьер (1524 — 1585), француз¬
ский поэт — 78, 187.
Россини Джакомо Антонио (1792 —
1868), итальянский композитор — 254,
Ротган Ф., петербургский книгопродавец
и издатель — 426 — 429, 692.
Рубан Василий Григорьевич (1742 —
1795), поэт и переводчик — 78.
Руссо Жан-Жак (1712— 1778), француз¬
ский философ, писатель, компози¬
тор —123, 402, 502, 641.
Руссов Степан Васильевич (ок. 1770 —
1842), писатель, библиограф — 298, 636$
637, 674.
Рыкалова Аграфена Гавриловна (1805 —•
1840), актриса —134,
Саади (наст, имя Муслихаддин Абу Му¬
хаммед Абдалах ибн Мушрифаддин;
между 1203 и 1210 — 1292), персид¬
ский писатель и мыслитель — 284.
Сальванди Нарцисс-Ахилл (1795—1856)’^
французский государственный деятель
и публицист — 396.
Сальери Антонио 11750,— 1825)* итальяц-
726
ский композитор, дирижер и педа¬
гог — 364.
Санд Жорж (наст, имя и фам. Аврора
Д ю п е н, по мужу Д ю д е в а н; 1804—
1876), французская писательница—240,
404, 665.
Сапфо (Сафо), греческая поэтесса 1-ой
половины VI в. до н. э. — 407.
Сарданапал — по некоторым источникам,
имя последнего ассирийского царя —
389.
Саути Роберт (1774 — 1843), английский
поэт — 124, 374.
Свечин Павел Иванович, поэт — 51, 138,
348, 651, 680.
Святослав Игоревич (ок. 945 — 972), ве¬
ликий князь киевский — 297.
Селиванов Илья Васильевич (ум. 1882),
писатель — 347 — 349, 368, 680, 683.
Селивановский Семен Иоанникиевич
(1772 — 1835), московский издатель и
книготорговец — 350, 368, 370, 399.
Семен (Рене-Семен) Август Иванович
(1783 — 1862), издатель и владелец
типографии в Москве — 356, 370, 425,
458, 495.
Семенов Федор Алексеевич (1794—1860),
астроном-любитель — 65, 634.
Сен-Жюст Луи-Антуан (1767—1794),
деятель Великой французской рево¬
люции — 641.
Сенковский Осип (Юлиан) Иванович
(1800 — 1858), писатель, журналист —
47 — 52, 66, 83, 89, 95, 121 — 123, 182,
195, 196, 221, 225 — 228, 242 — 250, 271,
274 — 277, 296, 301, 304, 312, 348, 349,
356, 357, 365, 368, 385, 386, 390, 396,
397, 432—434, 438, 441, 489, 492, 494,
506, 630—632, 641, 643, 646, 647, 656,
660, 663—668, 671, 673, 675, 679, 681,
682, 687, 688, 690, 692—694, 703—705,
708.
Сен-Симон Клод-Анри де Рувруа (1760—
1825), французский философ, социо¬
лог, социалист-утопист — 240, 304, 408,
417, 665, 689.
Сенсон, французский художник и путе¬
шественник — 458.
Сервантес де Сааведра Мигель (1547 —
1616), испанский писатель — 144, 355,
403, 439, 507,
Серебровская Елена Павловна (р. 1915),
советский писатель и литературовед —
706.
Сигов, лубочный писатель начала
XIX в. — 351, 439.
Сидонский Св. Ф. — 311,
Спдонский Федор Федорович (1805 —
1873), профессор богословия1 духов¬
ный писатель — 353а
Сикст V (в миру Феличе Перетти; 1520 —
1590), римский папа с 1585 г. — 665,
670.
Сильвестр (ум. ок. 1566), политичес¬
кий деятель и писатель XVI в. — 480,
481.
Симеон Полоцкий (в миру Самуил
Емельянович (Гаврилович) Петров-
ский-Ситнианович; 1629— 1680), бе¬
лорусский и русский общественный и
церковный деятель, писатель, пропо¬
ведник — 69, 90, 439, 472.
Скобелев Иван Никитич (1778 — 1849),
генерал и военный писатель — 441t
447.
Сковорода Григорий Саввич (1722 —
1794), украинский философ-просвети¬
тель, писатель и педагог — 181, 655.
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич
(1586 — 1610), государственный' и
военный деятель — 482.
Скотт Вальтер (1771 — 1832), англий¬
ский писатель — 47, 49, 94, 103, 106,
110, 113, 114, 116, 124, 130, 133, 140,
145, 273, 289, 291, 347, 352 — 354, 357 —
359, 373, 384, 402, 411, 421, 428, 431—
435, 461, 484, 493, 646, 648, 650, 673,
681, 693—694.
Скриб Огюстен-Эжен (1791 — 1861), фран¬
цузский драматург — 520, 668, 681, 710л
Скромненко Сергей — см. Строев С.
Сленин Иван Васильевич (1789 — 1836)t
книгопродавец и издатель — 386.
Слепушкин Федор Никифорович (1783 —•
1848), поэт — 211.
Смирдин Александр Филиппович (1795 ——
1857), издатель, книгопродавец и биб¬
лиограф — 89, 98, 121, 123, 226, 366,
381, 489, 632, 647, 663, 664, 682.
Снегирев Иван Михайлович (1793 —
1868), этнограф, фольклорист и архе¬
олог — 114j
Соболевский Сергей Александрович
(1803 — 1870), библиограф и поэт —.
699.
Соваж Тома-Мари-Франсуа (1794 —1877)’,
французский драматург — 132,135, 649.
Соколов Дмитрий Михайлович (1786 —
1819), переводчик — 642.
Соколов Петр Иванович (1766 — 1836),
писатель, переводчик, издатель «Санкт-
Петербургских ведомостей» — 642.
Соловьев Ф. — 100, 357, 643.
Сольгер — см. Зольгер К,
Сомов Орест Михайлович (1793— 1833)',,
литературный критик, писатель, жур¬
налист — 80, 85, 637, 662, 689.
Софокл (ок. 496 — 406 до н. э.), древне¬
греческий драматург — 168, 654.
Софья Алексеевна (1657 — 1704), царев¬
727
на, правительница России в 1682 —
1689 гг. — 384.
Срезневский Измаил Иванович (1812 —
1880), филолог, палеограф, этнограф —
256, 668.
Сталь Анпа-Луиза-Жермена де (1766 —
1817), французская писательница, те¬
оретик литературы — 93, 441.
Станкевич Александр Владимирович
(1821 — 1912), брат Н. В. Станкевича,
издатель его переписки — 669.
Станкевич Николай Владимирович
(1813 — 1840), в 30-е гг. — глава фи¬
лософско-литературного кружка, по¬
эт _ 629, 637, 659—661, 669, 678, 682,
683, 708.
Стасов Владимир Васильевич (1824 —
1906), художественный и музыкальный
критик — 657.
Степанов Александр Петрович (1781 —
1837), писатель — 230, 245, 248, 249,
516, 666.
Степанов Николай Степанович, хозяин
типографии в Москве — 248, 363, 392,
396, 404, 420, 430, 455, 472, 478, 483,
488, 511, 666, 667.
Стерн Лоренс (1713 — 1768), английский
писатель — 639.
Стефанович Вук — см. Караджич Вуи
Стефанович.
Стеффене Хенрик (1773 — 1845), датско-
норвежский философ и писатель — 355.;
Строев Владимир Михайлович (1812 —
1862), журналист, переводчик — 247 —
250, 666 — 668.
Строев Павел Михайлович (1796—1876),
археограф и библиограф — 637.
Строев Сергей Михайлович (1815 — 1840),
историк и археограф — 424, 438, 637,
692.
Струве Василий Яковлевич (1793 — 1864),
астроном и филолог — 399.
Струтовщиков Александр Николаевич
(1808 — 1878), переводчик — 114, 228.
Струйский Дмитрий Юрьевич (1806 —
1856), поэт, композитор и музыкаль¬
ный критик — 206.
Суворов Александр Васильевич (1729 —
1800) — 73, 74, 636, 665.
Сулье Мелькиор-Фредерик (1800—1847),
французский писатель — 641.
Сумароков Александр Петрович (1717 —
1777), поэт и драматург — 49, 71, 77,
79, 82, 89, 92, 96, 130, 135, 138, 187,
217, 378, 395, 425, 433, 439, 461, 463,
467, 472, 499, 501 — 503, 513, 520, 634,
635, 649, 707.
Сумароков Панкратий Платонович
(1765 — 1814), журналист поэт —.
418 — 420, 691ц
Сутей — см. Саути Р<
Сю Эжен (наст, имя Мари-Жозеф;
1804 — 1857), французский писатель —
60, 124, 365, 417, 633, 641, 667.
Тальма Франсуа-Жозеф (1763— 1826)’,
французский актер — 136, 649.
Тасман Абель Янсон (1603 — 1659), ни¬
дерландский мореплаватель — 458.
Тассо Торквато (1544 — 1595), итальян¬
ский поэт — 71, 89, 92, 97, 144, 278 —
280, 288, 306, 316, 348, 359, 380, 402,
403, 407, 429, 457, 639, 642, 671, 672,
681, 686.
Тауберт Иоганн Каспар (1717 —1771),:
историк, член правления Петербург¬
ской Академии наук, по националь¬
ности немец— 501, 503.
Тегнер Эсайас (1782— 1846), шведский
поэт — 94.
Телепнев — см. Овчина-Оболенский-Теле-
пнев И. Ф.
Темный С., писатель 1830-х гг. — 506 —
510, 705, 714.
Тенирс Давид младший (1610 — 1690),
фламандский художник — 156,
Теньер Д. — см. Тенирс Д.
Тепляков Виктор Григорьевич (1804 —*
1842), поэт— 123, 205, 661.
Тик Людвиг (1773 — 1853), немецкий пи¬
сатель — 355, 478, 650.
Тимофеев Алексей Васильевич (1812—•
1883), писатель — 48, 228, 229, 240, 249,
307, 401 — 403, 464 — 469, 675, 689,
698 — 699.
Тихонравов Николай Саввич (1832 —
1893), литературовед, археограф —
720, 721.
Тончи Сальвадор (1756 — 1844), живопи¬
сец и график, с 1800 г. работал в
Москве, по национальности италья¬
нец — 635.
Тредиаковский Василий Кириллович
(1703— 1768), писатель, переводчик,
теоретик стиха — 52, 67, 71, 73, 90,187,
279, 378, 395, 425, 429, 433, 439, 461,
472, 499, 519, 634, 635, 638.
Трилунный — см. Струйский Д. Ю.
Трифонов Николай Алексеевич (р. 1906),
советский литературовед — 652.
Трофимов Иван Трофимович, советский
литературовед — 677.
Туманекий Василий Иванович (1800 —
I860), поэт — 48, 199.
Тунман Иоганн Эрик (1746— 1778),
шведский историк — 399.
Тургенев Александр Иванович (1784 —
1845), общественный деятель, публи¬
цист — 491, 663, 697, 703, 704.
728
Тургенев Иван Сергеевич (1818 — 1883)—
660.
Турн Индржих Матиаш (1567 — 1640),
чешский полководец — 354.
Тютюнджи-Оглу — см. Сенковский О. И.
Уваров Сергей Семенович (1786 — 1855),
государственный деятель — 647, 652.
Усачев Федор Петрович (Никифорович;
1797 — 1882), московский актер 1830-х
гг. — 135.
Успенский Гаврила Петрович (ум. 1820),
писатель, историк, статистик — 358.
Устрялов Николай Герасимович (1805 —
1870), историк — 353, 368.
Ушаков Василий Аполлонович (1789 —
1838), писатель — 118, 168, 228—232,
234 — 238, 249, 441, 442, 515, 633, 646,
664, 665.
Фабр Д’Эглантин Филипп-Франсуа-Назер
(1650 — 1794), писатель и деятель Ве¬
ликой французской революции — 639,
Федор Алексеевич (1661 — 1682), русский
царь с 1676 г. — 483, 702.
Фердинанд II (1578 — 1637), император
Священной Римской империи в 1619 —
1637 гг. — 354.
Филарет (до монашества Романов Федор
Никитич; 1854 или 1855 — 1633), поли¬
тический деятель, патриарх — 482.
Филипп II (1527 — 1598), король испан¬
ский с 1556 г. — 267.
Фиораванте Альберти (между 1415 и
1420 — ок. 1486), итальянский архитек¬
тор, с 1474 г. работавший в России —
369.
Фихте Иоганн Готлиб (1762— 1814), не¬
мецкий философ — 237, 320, 338, 677 —
679.
Флиндерс Мэтью (1774 — 1814), англий¬
ский путешественник — 458.
Флориан Жан-Пьер Клари де (1755 —
1794), французский писатель —151,
188.
Фонвизин Денис Иванович (1744 или
1745 — 1792), писатель, драматург —
66, 73, 76 — 79, 84, 217, 239, 453, 454,
63S, 712, 714.
Фонтенель Бернар Jle Бовье де
(1657 — 1757), французский писа¬
тель — 380.
Фосс Иоганн Генрих (1751 — 1826), не¬
мецкий писатель — 87.
Фрейсипе Луи-Клод (1779 — 1842), фран¬
цузский мореплаватель — 458.
Хаммад рдви (694 или 695 — 772 или
773), собиратель сборника «Муалла-
ч кат» — 54, 633.
Хатов Александр Ильич (1780 — 1846),
военный писатель и картограф — 685.
Хауф Вильгельм (1802— 1827), немец¬
кий писатель — 478, 701.
Хафиз Шамееддин Мохаммед (ок .1325 —
1389 или 1390), персидский поэт — 284,
Хемницер Иван Иванович (1745 — 1784),
поэт-баснописец — 51, 77, 78, 217.
Херасков Михаил Матвеевич (1733 —
1807), писатель — 49, 77, 80, 82, 92,
94, 96, 130, 138, 195, 217, 218, 378, 380,
400, 425, 433, 439, 457, 631, 637, 638, 651.
Хмельницкий Богдан (Зиновий; ок.
1595 — 1657), украинский государст¬
венный деятель, полководец, гетман
Украины — 376, 377.
Хмельницкий Тимофей (1632 — 1653), сын
Богдана Хмельницкого, участник ос¬
вободительной борьбы украинского на¬
рода в 1648 — 1654 гг. — 376.
Хованский Иван Андреевич (ум. 1682),
политический и военный деятель —
384.
Хомяков Алексей Степанович (1804 —
1860), поэт, публицист— 123, 124, 130,
131, 133, 135, 283, 284, 296, 382, 441,
445, 647 — 649, 668, 6/3.
Хрусталев Николай, переводчик — 307,
471 — 472.
Цветаев Лев Алексеевич (1777 — 1835),
ученый-юрист — 711, 713.
Цезарь Гай Юлий (100 — 44 до н. э.), го¬
сударственный деятель, полководец,
писатель и оратор Древнего Рима —■
58, 495,697, 709.
Цертелев Николай Андреевич (1790 —
1869), русский и украинский фольк¬
лорист — 685.
Цицерон Марк Тулий (106 — 43 до н. э.),
древнеримский политический деятель,
оратор, писатель — 54, 69.
Чаадаев Петр Яковлевич (1794— 1856) —
писатель, философ, общественный дея¬
тель — 676.
Ченстон — см. Шенстон В.
Чернышевский Николай Гаврилович
(1828 — 1889) — 630, 651, 709.
Чичерин Николай Васильевич, помещик,
друг Н. Ф. Павлова — 653.
Чистяков Михаил Борисович (1809 —
1885), педагог и писатель — 711.
Чуровский А., писатель 1830-х гг, — 385 —
386, 686.
Шакловитый Федор Леонтьевич (ум*
1689), русский государственный дея¬
тель — 384,
729
Шаликов Петр Иванович (1767 — 1852)’,
писатель и журналист — 50, 81, 84,
308, 378, 639, 675.
Шампольон Жан-Франсуа младший
(1790 — 1832), французский египто¬
лог — 50, 631.
Шатобриан Франсуа-Рене де (1768 —
1848), французский писатель — 93, 270,
278, 441, 672, 675.
Шаховской Александр Александрович
(1777 — 1846), писатель, театральный
деятель — 78, 378.
Шевырев Степан Петрович (1806 — 1864),
литературный критик, историк литера¬
туры, поэт — 102, 128, 129, 158, 160,
180, 182 — 184, 200 — 203, 206, 242, 259,
261 — 291, 293 — 296, 299 — 308, 311,
312, 382, 383, 423, 424, 429, 439, 492,
629, 648, 650, 653 — 656, 658 — 661, 665,
668 — 673, 675, 676, 678, 679, 686, 692,
700, 708, 709.
Шекспир Уильям (1564 — 1616) — 47 —
49, 59, 67, 72, 74, 75, 86, 91 — 93, 103 —
106, 129, 131, 132, 134, 135, 144, 145,
149, 160, 162, 164 — 166, 168, 173, 174,
178, 180, 183, 186, 194, 209, 211, 271,
273, 281, 285, 286, 293, 305, 315, 346,
349, 361, 367, 402, 411, 415, 421, 425,
432, 433, 441, 442, 461, 469, 512,
633, 636, 640, 649, 650, 653, 655, 693.
Шелли Перси Биши (1792 — 1822), ан¬
глийский поэт — 420.
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф
(1775 — 1854), немецкий философ —
237, 267, 320, 443, 632, 688, 694.
Шенье Андре-Мари (1762 — 1794), фран¬
цузский поэт и публицист — 96, 402.
Шенстон Вильям (1714 — 1763), англий¬
ский поэт — 490, 703.
Шепелев Д., переводчик — 649.
Шидловский А.г писатель 1830-х гг. —
240, 665.
Шиллей — см. Шелли.
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих
(1759 — 1805) — 47, 49, 59, 60, 74, 86,
87, 89, 92, 102 — 105, 110, 124, 130, 131,
133, 134, 145, 147 — 149, 166, 183, 186,
203, 212, 237, 267, 272, 273, 284, 290,
293, 296, 305, 315, 346, 355, 362, 372,
373, 402, 405, 411, 425, 430, 432, 433,
442, 468, 469, 633, 644, 651, 661, 670,
680, 684, 688, 699, 712.
Шишкина Олимпиада Петровна (1791 —
1854), писательница, фрейлина — 301,
302, 675.
Шишков Александр Ардалионович
(1799 — 1832)* поэт и переводчик —
667, 701щ
Шлегель Август Вильгельм (1767 —-
1845), немецкий историк литературы,
критик, поэт, переводчик — 87, 91, 92,
267.
Шлёцер Август Людвиг (1735 — 1809),
немецкий историк — 50, ИЗ, 184, 657.
Шпиндлер Карл (1796 — 1855), немец¬
кий писатель — 355.
Штефене — см. Стеффене X.
Шубяков Александр, переводчик — 396*
398, 399.
Шувалов Иван Иванович (1727 — 1797),
государственный деятель, генерал-
адъютант, первый куратор Москов¬
ского университета — 69, 499 — 503*
Щегловитый — см. Шакловитый Ф. Л4
Щедритский Измаил Алексеевич (1792 —•
1826), историк, статистик — 711.
Щепкин Михаил Семенович (1788 — 1863)*
актер — 132, 455, 649, 696.
Щукин Николай Семенович (г. рожд. и
смерти неизв.) — 355 — 360, 392, 680 —
681, 687, 693.
Эверс Иоанн Филипп Густав (1781 —«
1830), русский историк, по националь¬
ности немец — 50.
Эджуорт Мария (1767 — 1849), ирланд¬
ская писательница — 304 — 306, 427 —
429, 442, 675, 692.
Эленшлегер Адам Готлоб (1779— 1850),
датский писатель — 94.
Эльснер Ф. И., издатель — 356.
Эмин Федор Александрович (1735 —
1770), писатель и журналист — 50,
52, 631.
Эро де Сешаль Мари-Жан (1759 — 1794),
деятель Великой французской револю¬
ции — 635.
Эсхил (ок. 525 — 456 до н.э.), древне¬
греческий драматург — 187, 305.
Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 127)'*
римский поэт-сатирик — 154, 636.
Юнг Эдуард (1683 — 1765), английский
поэт — 510.
Языков Николай Михайлович (1803 —
1847), поэт — 48, 99, 100, 199, 207, 283,
284, 392, 441, 445, 643, 668, 687, 704,,
709.
Яковлев Павел Лукьянович (1789 —•
1835), писатель — 87, 355, 377, 639, 685t
714.
Ястребцов Иван Иванович (1776 — 1839)s
врач и педагог 256А 668« '
УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
«Амфион» (Москва, 1815), журнал, изд.
А. Ф. Мерзляков, С. И. Смирнов,
Ф. Ф. Иванов — 637.
«Артист» («L’artiste»; 1831 — 1914),
французский критический журнал, в
1831 — 1843 гг. редактор А. Гикур —
420.
«Атеней» (Москва, 1828— 1830), лите¬
ратурно-научный журнал, изд. М. Г..
Павлов — 645, 668,
«Библиотека для чтения» (СПб., 1834 —
1865), журнал «словесности, наук, ху¬
дожеств, промышленности, новостей
и мод», изд. А. Ф. Смирдин, в 1834 —
1836 гг. ред. О. И. Сенковский и
Н. И. Греч — 48, 50, 90, 97, 98, 119,
122 — 124, 158, 168, 225 — 230, 234, 235,
238 — 256, 262 — 264, 274, 275, 277, 278,
282, 301, 306, 309, 348, 351, 363, 395, 397,
427, 434, 437 — 439, 441, 468, 489,
490, 492 — 494, 513, 514, 630 — 632, 441,
643, 644, 646, 647, 652, 656, 657, 660,
664 — 668, 670 — 672, 675, 681, 682, 687.
688, 690, 692 — 694, 696, 698 — 700, 703,
705, 707.
«Благонамеренный» (СПб., 1818— 1826),
журнал, изд. А. Е. Измайлов — 639.
«Вестник Европы» (Москва, 1802—1830),
журнал. В разные годы издавался
Н. М. Карамзиным, П. П. Сумароко¬
вым, М. Т. Каченовским, В. А. Жу¬
ковским, В. В. Измайловым— 112, ИЗ,
633, 637, 638, 645, 655, 668, 672, 704.
«Всякая всячина» (СПб., 1769— 1770),
изд. Г. В. Козицкий, журнал вы¬
ходил под наблюдением Екатери¬
ны II — 635.
«Галатея» (Москва, 1829 — 1830, 1839 —
1840), журнал «литературы, новостей
и мод», изд. С. Е. Раич — 645, 668.
«Дамский журнал» (Москва, 1823 —
1833), изд. П. И. Шаликов — 376, 675,
685.
«Денница» (Москва, 1830 — 1834), аль¬
манах, изд. М. А. Максимович — 445,
655, 662, 672, 675, 690.
«Европеец» (Москва, 1832), журнал «на¬
ук и словесности», изд. П. В. Кире¬
евский. Вышло 2 номера — 642, 643,
657, 668.
«Живописное обозрение» (Москва,
1835 — 1844), первый в России на¬
учно-популярный иллюстрированный
журнал, изд. А. Семен — 426, 693.
«Журнал министерства народного про¬
свещения» (СПб., 1834 — 1917), ред.
до 1860 г. А. В. Никитенко — 629, 650,
657, 659, 661.
«Земледельческий журнал» (1821—1840)*
с 1834 г. ред. С. А. Маслов — 256.
«Листок» (Москва, 1831), газета, изд«
К. В. Львов — 628.
«Литературная газета» (СПб., 1830 —
1831), ред.-изд. по ноябрь 1830 г,
А. А. Дельвиг, затем О. М. Сомов —
641, 682, 709.
«Литературные прибавления к Рус¬
скому инвалиду» (СПб., 1831 — 1839),
ред. А. Ф. Воейков — 48, 251, 493, 513,
514, 629, 630, 640, 668, 704, 707, 708.
«Лицей» (СПб., 1806), журнал, изд*
И. И. Мартынов — 642.
731
«Молва» (Москва, 1831 — 1836), газета
«мод и новостей», приложение к жур¬
налу «Телескоп», изд. Н. И. Надеж¬
дин — 48, 66, 90, 128, 129, 158, 248,
252, 297, 308, 345, 382, 386, 437, 438,
440, 441, 444, 515, 520, 627 — 631, 634,
645 — 649, 652, 656, 65S, 661, 666 —
668, 670, 672, 674, 675, 679 — 694,
696 — 702, 705 — 709.
«Московские ведомости» (1756 — 1917),
с 1813 по 1836 г. ред. П. И. Шаликов —
241, 251, 256, 420, 460, 668, 691, 698,
701.
«Московский вестник» (1827— 1830),
орган «Общества любомудров», изд.-
ред. М. П. Погодин — 100, 112, 371,
451, 636, 643 — 645, 661, 668, 676, 684,
692, 709.
«Московский журнал» (1791 — 1792),
изд. Н. М. Карамзин — 632.
«Московский наблюдатель» (1835 —
1839), «журнал энциклопедический»,
ред. в 1835 — 1837 гг. В. П. Андро¬
сов — 158, 160, 183, 200, 252, 253, 255 —
310, 391, 392, 420, 429, 460, 492, 493,
517, 520, 629, 648, 650, 653 — 656, 658,
661, 668 — 676, 679, 686, 687, 691 —693,
700, 702, 704, 708, 709.
«Московский телеграф» (1825 — 1834),
«журнал литературы, критики, наук
и художеств», изд. Н. А. Полевой —
110, ИЗ, 229, 381, 418, 630, 632, 634,
637f 638, 643, 645, 662—664, 668, 683—
686, 697, 698, 705.
«Невский альманах» (СПб., 1825 —
1833)— 698 — 699.
«Невский зритель» (СПб., 1820 — 1821),
журнал издавался при участии К. Ры¬
леева и В. Кюхельбекера — 658.
«Новоселье» (СПб., 1833 — 1834), альма¬
нах, изд. А. Ф. Смирдин, ред.
О. И. Сенковский — 97, 98, 121, 122,
630, 647, 655, 656, 663, 671.
«Новости литературы» (СПб., 1822 —
1826), прибавление к «Русскому ин¬
валиду», изд. А. Ф. Воейков,
В. И. Козлов — 400.
«Огонек» (Москва, с 1923 г.), общест¬
венно-политический и литературно¬
художественный иллюстрированный
журнал — 628.
«Осенний вечер» (СПб., 1835), альманах,
изд. В. Лебедев — 444—449, 696.
«Парнасский щепетильник» (СПб., май —
декабрь 1770), изд. М, Д. Чулков —
299,
«Покоящийся трудолюбец» (Москва,
1784—1785), изд. Н. И. Новиков —
299.
«Полезное увеселение» (Москва, 1760 —
1762), журнал, изд. М. М. Херасков —
502.
«Полярная звезда» (СПб., 1823 — 1825),
альманах, изд. А. Бестужев и К. Ры¬
леев — 445, 634, 662, 671.
«Посредник» («Conciliatore»; 1818 —
1820), итальянский журнал, изд.
С. Пеллико, Ф. Конфалоньери и др. —
472, 700.
«Российский музеум», журнал европей¬
ских новостей (Москва, 1815), изд.
В. Измайлов — 91, 640.
«Русская литература», историко-литера¬
турный журнал, выходит с 1958 г,
в Ленинграде — 677, 701, 708.
«Русская мысль» (Москва, 1880—1918),
журнал научный, литературный и по¬
литический, изд. В. М. Лавров — 676.
«Русская старина» (СПб., 1870—1918),
исторический журнал, основатель
М. И. Семевский — 710.
«Русский зритель» (Москва, 1828 —
1830), журнал «истории, археологии,
словесности и сравнительных костю¬
мов», изд. Д. П. Ознобишин и
К. Ф. Калайдович — 645.
«Русский инвалид» (СПб., 1813 — 1917),
в 1816 — 1847 гг. газета выходила под
названием «Русский инвалид, или
Военные ведомости» — 640.
«Русский филологический вестник»
(Варшава, 1879 — 1915; Москва, 1915 —
1917), научный журнал, основатель
И. А. Колосов — 712.
«Санкт-Петербургские ведомости»
(1728 — 1917), газета — 420.
«Санкт-Петербургский журнал» (1798)*
изд. И. П. Пнин и А. Ф. Бестужев —
638.
«Северная звезда» (СПб., 1829), альма¬
нах, изд. М. А. Бестужев-Рюмин —
658.
«Северная звезда» (СПб., 1829), альма¬
нах, изд. С. Е. Раич и Д. П. Озноби¬
шин — 658.
«Северная пчела» (СПб., 1825 — 1864),
газета «политическая и литератур¬
ная», в 1825 — 1830 изд. Ф. В. Бул¬
гарин, с 1831 — 1859 — Ф. В. Булга¬
рин и Н. И. Греч.— 113, 158, 180, 194»
227, 247 — 252, 262, 309, 363, 387, 434,
436 — 442, 444, 493, 514, 520, 629, 632,
642, 645, 652, 660, 661, 664t 666, 667Л
682, 693, 694, 706, 708.
732
«Северные цветы» (СПб., 1825 — 1832),
с 1827 г. изд. А. Дельвиг при участии
О. Сомова — 363, 445, 633, 640, 643,
662, 682, 709.
«Северный архив» (СПб., 1822 — 1828),
журнал «Истории, статистики и пу¬
тешествий», изд. Ф. В. Булгарин. В
1829 г. слился с «Сыном отечества» —
ИЗ, 645.
«Славянин» (СПб., 1827 — 1830), воен¬
но-литературный журнал, изд.
А. Ф. Воейков — 645.
«Собеседник любителей российского сло¬
ва» (СПб., 1783 — 1784), журнал, изд.
Академия наук — 635.
«Современник» (СПб., 1836 — 1846), жур¬
нал основан А. С. Пушкиным — 489 —
494, 516 — 520, 655, 670, 672, 679, 682,
688, 698, 700, 702 — 705, 707 — 710.
«Сорременный наблюдатель российской
словесности» (Москва, 1815), изд.
П. М. Строев — 637.
«Сын отечества» (Москва, 1812—1844,
1847 — 1852), исторический и палити-
ческий журнал, в 1829 — 1838 гг.
издавался под названием «Сын оте¬
чества и Северный архив», в 1825 —
1837 изд. Н. И. Греч и Ф. В. Ёулга-
рин —112, ИЗ, 247, 249, 250, 309, 460,
520, 630, 636, 640, 642, 645, 666 — 668,
674, 684, 685, 689.
«Сын отечества и Северный архив»
(Москва, 1829—1838) — 113, 637, 643,
645, 684.
«Телескоп» (Москва, 1831 — 1836), жур¬
нал «Современного просвещения*,
изд. Н. И. Надеждин — 68, 123, 216,
221, 232, 248, 252, 257, 297, 307, 308, 349,
355, 382, 383, 404, 405, 425, 426, 437,
438, 441, 455, 471, 514, 520, 628, 633,
634, 639, 641, 642, 646, 649, 650, 652,
653, 656, 658, 660 — 663, 665, 668 — 670,
672 — 674, 676, 677, 680, 684г 686, 689,
692 — 694, 697, 700, 703, 704, 707.
«Труды общества любителей россий¬
ской словесности при императорском
Московском университете» (1812,
1816 — 1826) — 637.
«Урания» (Москва, 1826), альманах,
изд. М. П. ПОГОДИН — 644, 658, 705.
«Ученые записки императорского Мо¬
сковского университета» (1833 —
1836) — 637, 653.
«Чтение в беседе любителей россий¬
ского слова» (СПб., 1811 •— 1816),
журнал издавался под наблюдением
А. С. Шишкова — 378.
«Revue Britannique», английский об¬
щественно-литературный журнал, из¬
давался в Париже в 1825 — 1902 гг.—
420 — 422.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
В. Г. Белинский. Портрет работы К. А. Горбунова (масло), 1871 г.
Чембары. Уездное училище, где учился В. Г. Белинский.
Начальная страница первопечатного текста «Литературных мечтаний»,
«Молва», 1834, № 38, с. 173.
Титульный лист журнала «Телескоп». В этом номере была напечатана
статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя».
Автограф из сохранившихся разрозненных отрывков черновой ру¬
кописи драмы «Дмитрий Калинин»,
733
СОДЕРЖАНИЕ
От редакционной коллегии 5
В. Г. Белинский и русская литература. В. Гей 7
СТАТЬИ
(1834—1836)
Литературные мечтания 47 627
И мое мнение об игре г. Каратыгина 128 647
О русской повести и повестях г. Гоголя 138 650
О стихотворениях г. Баратынского . 185 657
Стихотворения Владимира Бенедиктова 193 658
Стихотворения Кольцова . 209 661
Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за по¬
следнее полугодие (1835) русской литературы .... 216 662
О критике и литературных мнениях «Московского наблю¬
дателя» 258 66Э
Опыт системы нравственной философии. Сочинение... Алек¬
сея Дроздова 311 676
РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ
(ноябрь 1834 — август 1836)
Ночь на Рождество Христово... Соч... К. Баранова .... 345 679
Повести Безумного 347 680
Регентство Бирона. Повесть. Соч. Константина Масальского...
Граф Обоянский... Соч. Н. Коншина... Шигоны s . . . 350 680
Изгнанник... Сочинение Богемуса 352 680
Поселыцик. Сибирская повесть. Соч. Н. Щ . 355 680
В тихом озере черти водятся... Федора Кони 360 681
Повести, изданные Александром Пушкиным 362 681
История о храбром рыцаре Францыле Венциане 363 682
Новое Не любо — не слушай, а лгать не мешай... Две гро¬
бовые жертвы. Рассказ Касьяна Русского 365 6S8
Конек-Горбунок... Сочинение П. Ершова 366 682
В первой колонке цифр указывается страница текста* во второй -^дрц^
мечаний* -
734
Путевые записки Вадима
368
683
369
683
Аббаддонна. Сочинение Николая Полевого... Мечты и жизнь.
Были и повести, сочиненные Нпколаем Полевым . . .
370
683
Записки о походах 1812 и 1813 годов
375
685
Хмельницкие, или Присоединение Малороссии... Соч. П. Го-
лоты
376
685
Сочинения в прозе и стихах, Константина Батюшкова . .
378
685
Арабескп... Н. Гоголя... Миргород... Н. Гоголя ......
381
686
Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни
Петра I
383
686
Ведьма, или Страшные ночи за Днепром... Соч. А. Чуров¬
ского... Черной (ый?) Кощеи... Соч. А. Чуровского . .
385
686
Учебная книга всеобщей истории... И. Кайданова ....
386
687
391
687
Дитя поэзии... Стихотворения Михаила Меркли
392
687
Наталия. Сочинение госпожи ***
396
687
О господине Новгороде Великом... А. В
399
688
Борис Годунов. Трагедия... М. Лобанова
400
688
Художник. Т. м. ф. а .
401
689
Жертва... Сочинение г-жи Монборн
404
689
Ижорский. Мистерия . .
410
690
Сын жены моей... Сочинение Поль де Кока
415
691
418
691
Рейнские пилигримы. Соч. Бульвера
420
691
Начертание русской истории для училищ. Сочинение про¬
фессора Погодина
423
691
Русская история для первоначального чтения. Сочинение
Николая Полевого... Две части ..........
425
692
Библиотека романов и исторических записок, издаваемая
книгопродавцем Ф. Ротганом . . ........
426
692
Просодическая реформа
429
693
Довмонт, князь псковский... Соч. А. Андреева
430
693
О жизни и произведениях сира Вальтера Скотта. Сочинение
Аллана Каннингама
431
693
Журнальная заметка
436
694
Осенний вечер. Изданный В. Лебедевым
444
696
Недовольные... Соч. М. Н. Загоскина .........
449
696
О характере народных песен у славян задунайских. Набро-
455
696
Всеобщее путешествие вокруг света..., составленное Дюмон-
458
697
Вастола, или Желания... Соч. Виланда... Изд. А. Пушкин .
461
698
Песни Т. м. ф. а... Елисавета Кульман. Фантазия Т. м. ф. а.
464
698
Стихотворения Александра Пушкина .........
469
699
О должностях человека, соч. Сильвио Пеллико . . . . .
471
700
Провинциальные бредни и записки Дормедона Васильевича
472
700
Отелло, фантастическая повесть В. Гауфа
478
701
Русская история для первоначального чтения. Сочинение
Николая Полевого. Часть третья
478
701
Предки Калимероса. Александр Филиппович Македонский 483
702
Оперы и водевили, переводы с французского Дмитрия Лен¬
ского .
488
702
Несколько слов о «Современнике»
489
702
Михаил Васильевич Ломоносов. Сочинение Ксенофонта
Полевого
495
705
Стихотворения Владимира Бенедиктова. Второе издание .
504
705
Ночь. Сочинение С. Темного
506
705
Московские записки
510
70G
Страсть сочинять, или «Вот разбойники!!!» Водевиль... Пере¬
деланный с французского Федором Кони
511
707
От Белинского . .
513
707
Вторая книжка «Современника»
516
708
П Р ИЛ ОЖЕНИЕ
Дмитрий Калинин. Драматическая повесть в пяти картинах 523 710
Примечания Ю. Манна 609
Указатель цмен . . . 715
Указатель периодических изданий . . . .731
Список иллюстраций . . 733
Виссарион Григорьевич
БЕЛИНСКИЙ
Собрание сочинений, т. 1
Редактор С. Краснова
Художественный редактор Г. Масляненко
Технический редактор С. Ефимова
Корректоры Г. Киселева и О. Наренкова
Сдано в набор 29.08.75. Подписано к печати 16.07.76. Бумага типогр. № 1.
Формат 60 X 90Vi6. 46 печ. л. 46 уел. печ. л. 53,356 + i вкл. + 1 нак. =
«= 53,651 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ№827. Цена 1 р. 85 к.
Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басман-
рая, 19. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном коми¬
тете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29