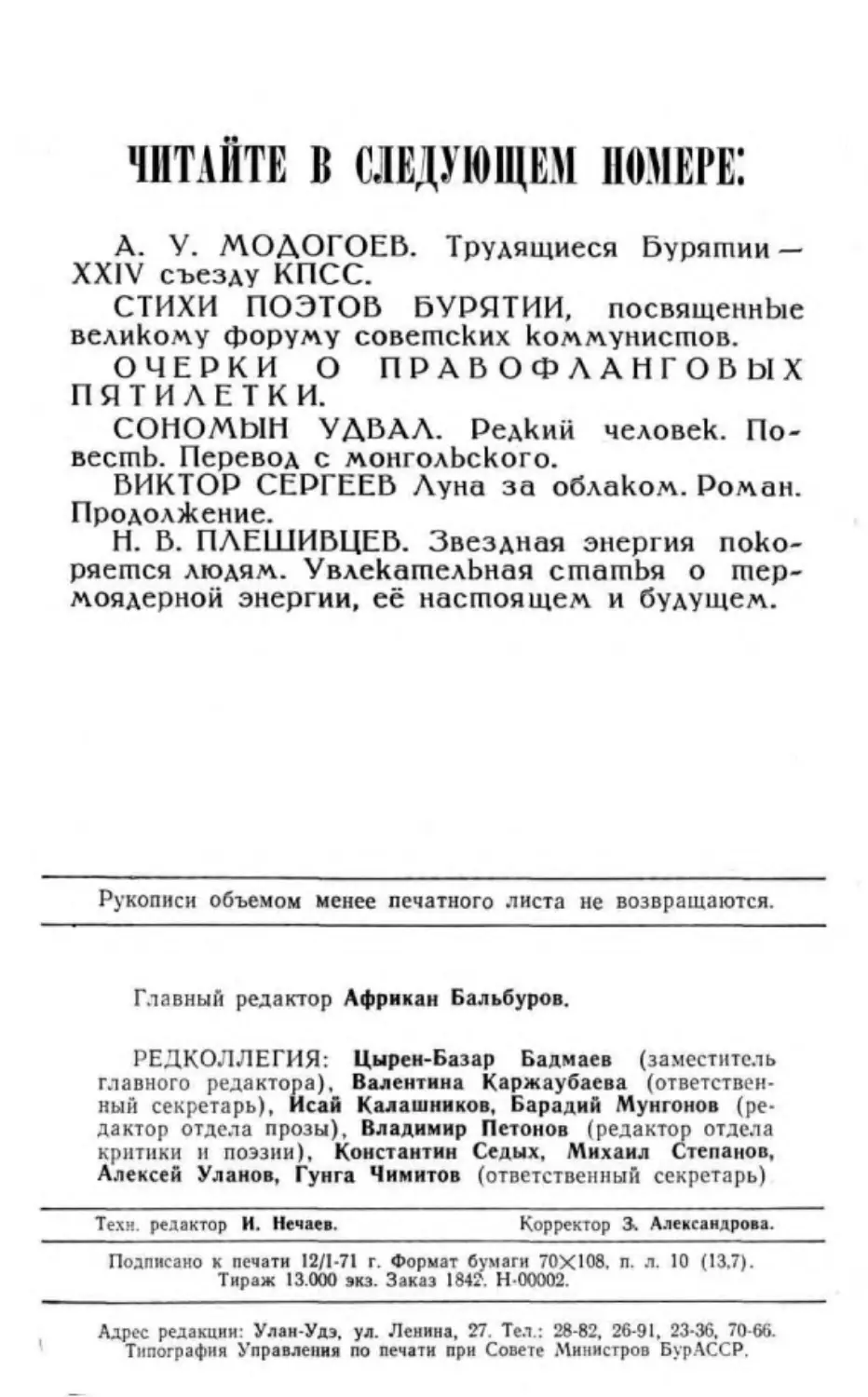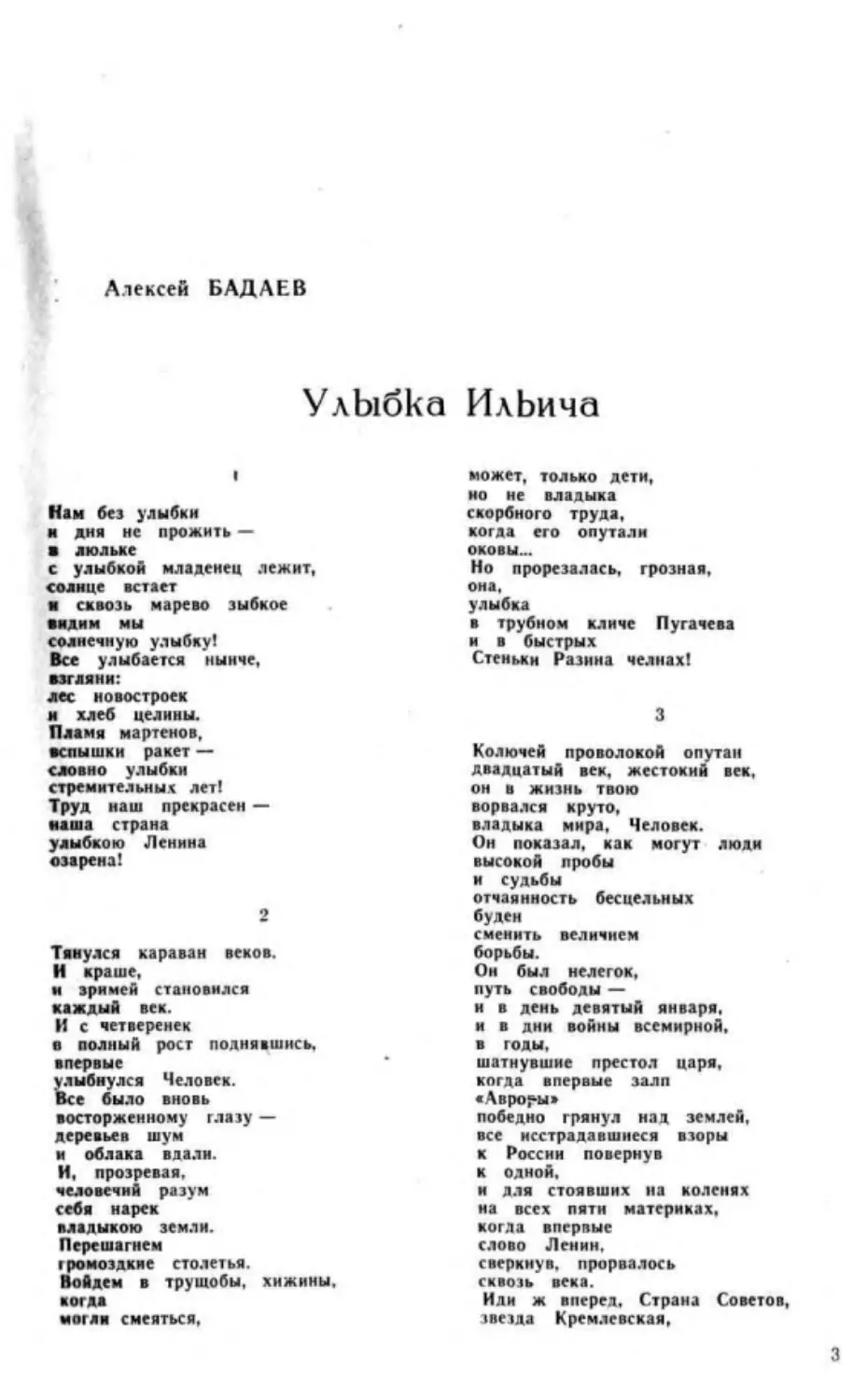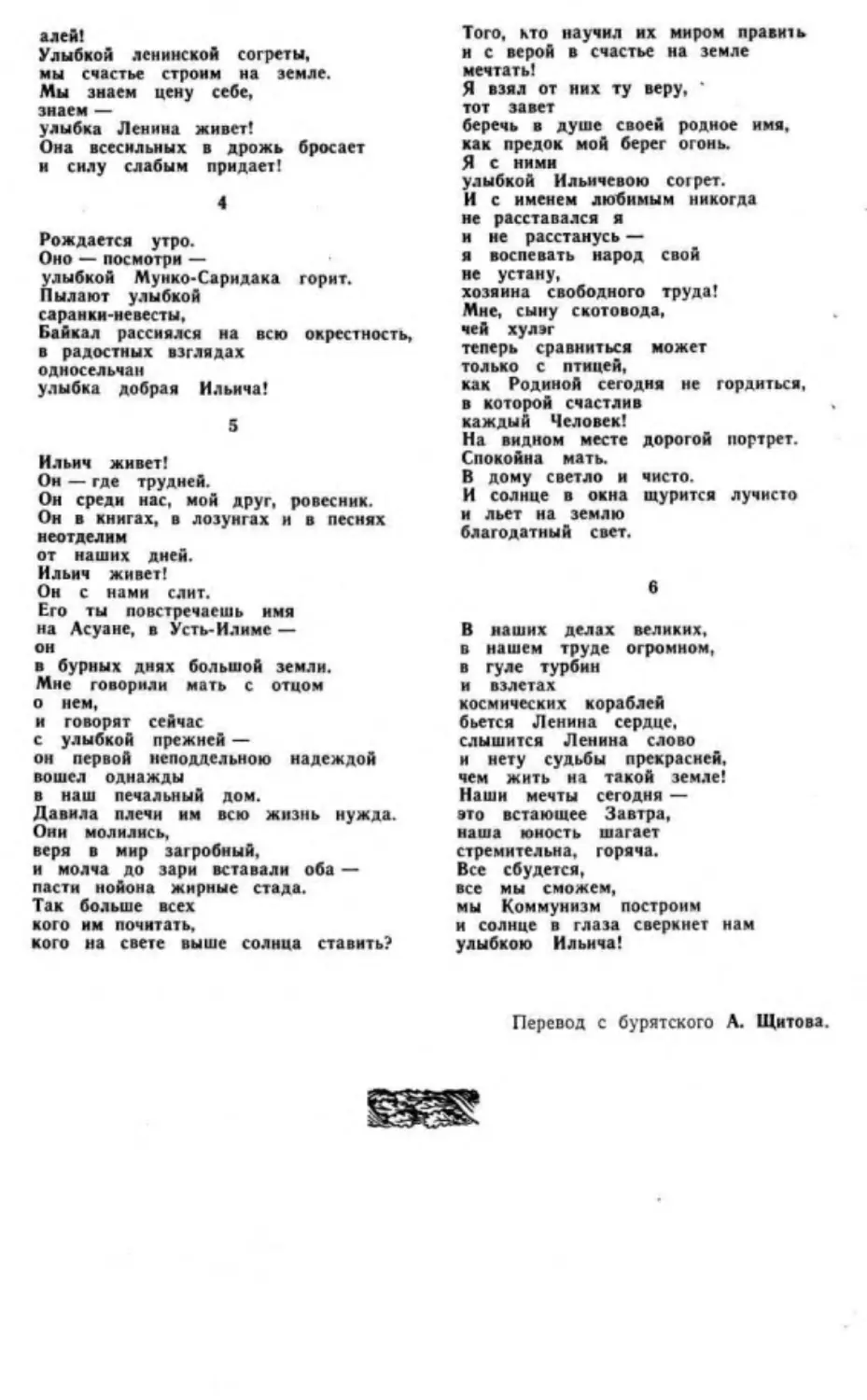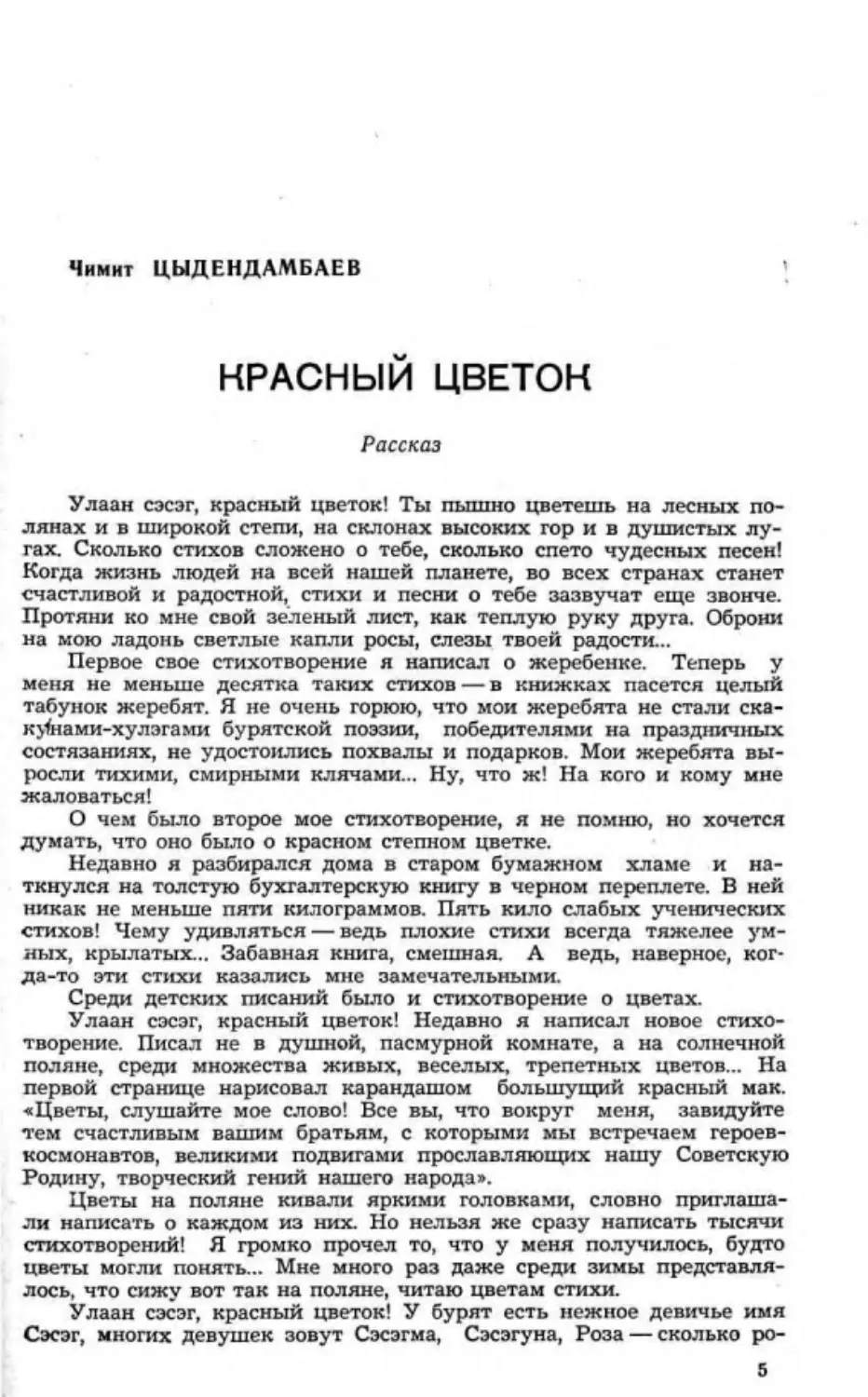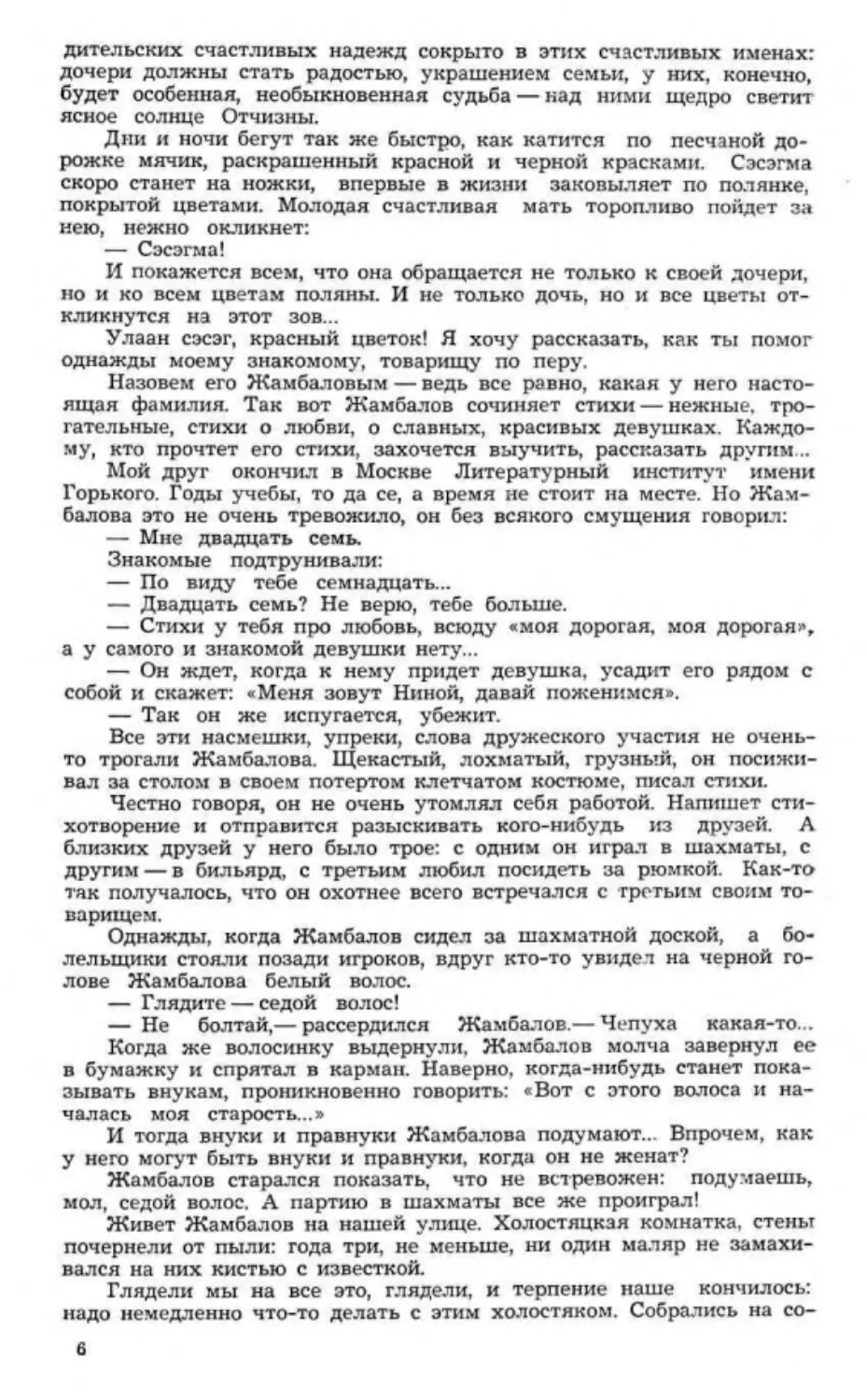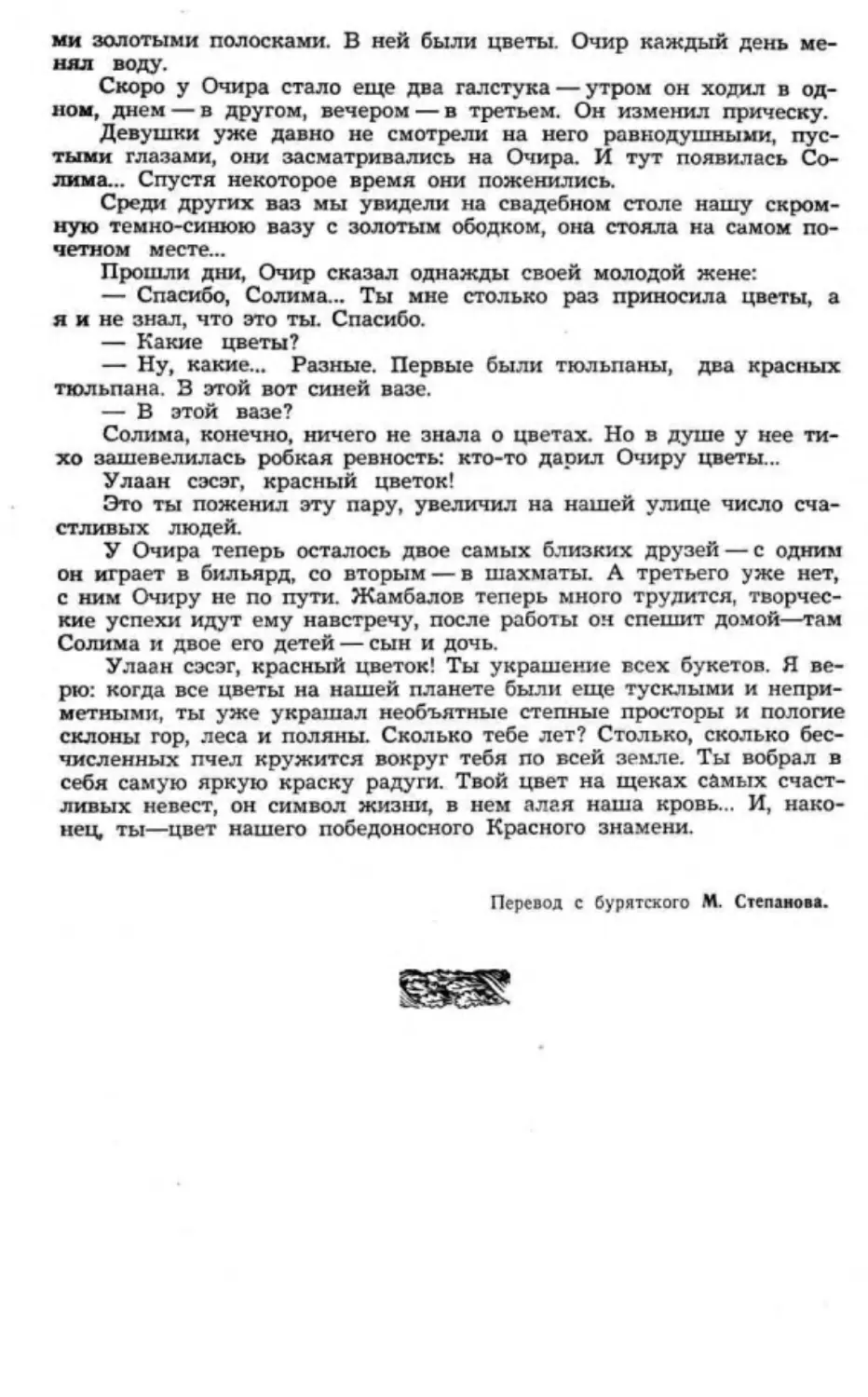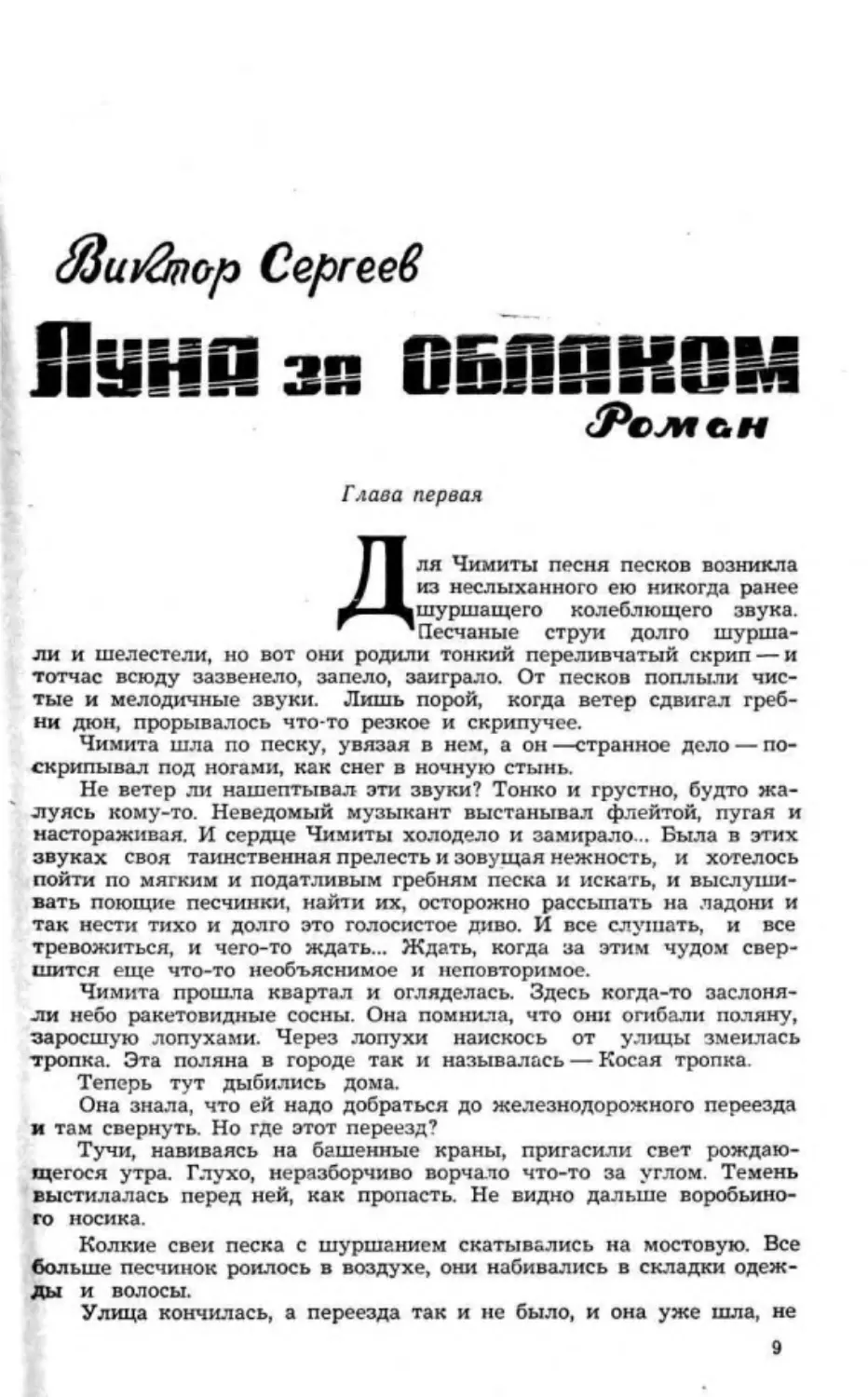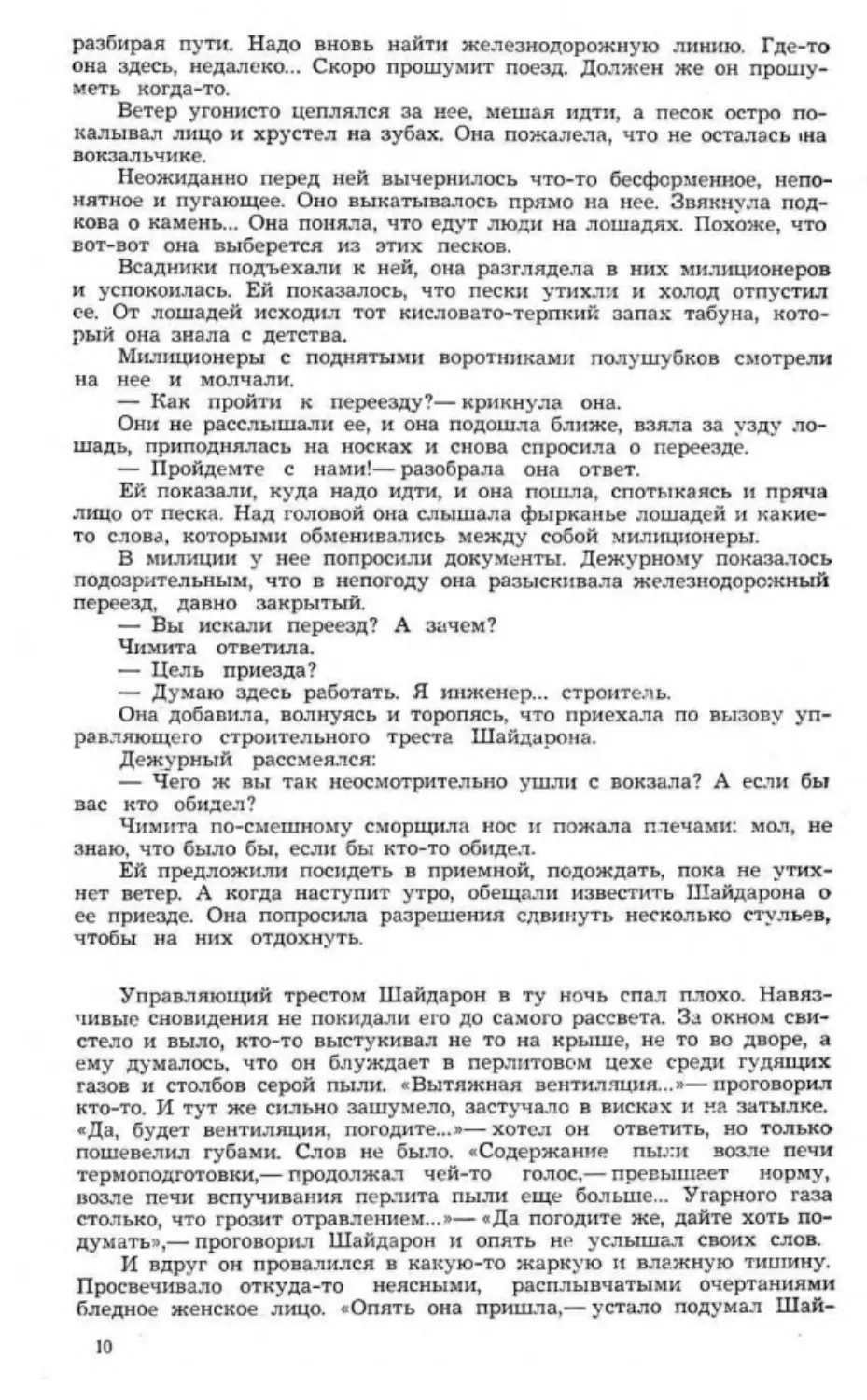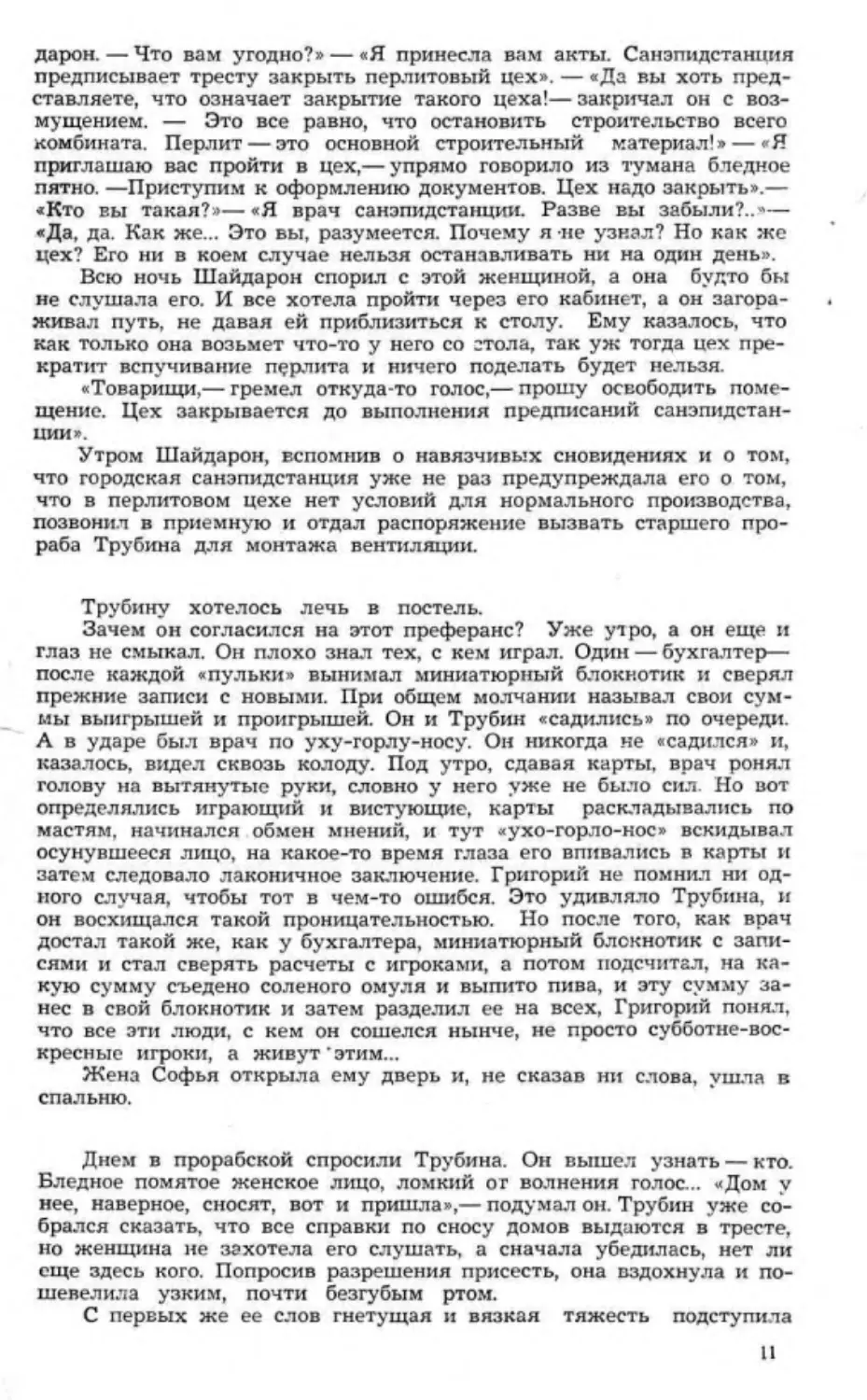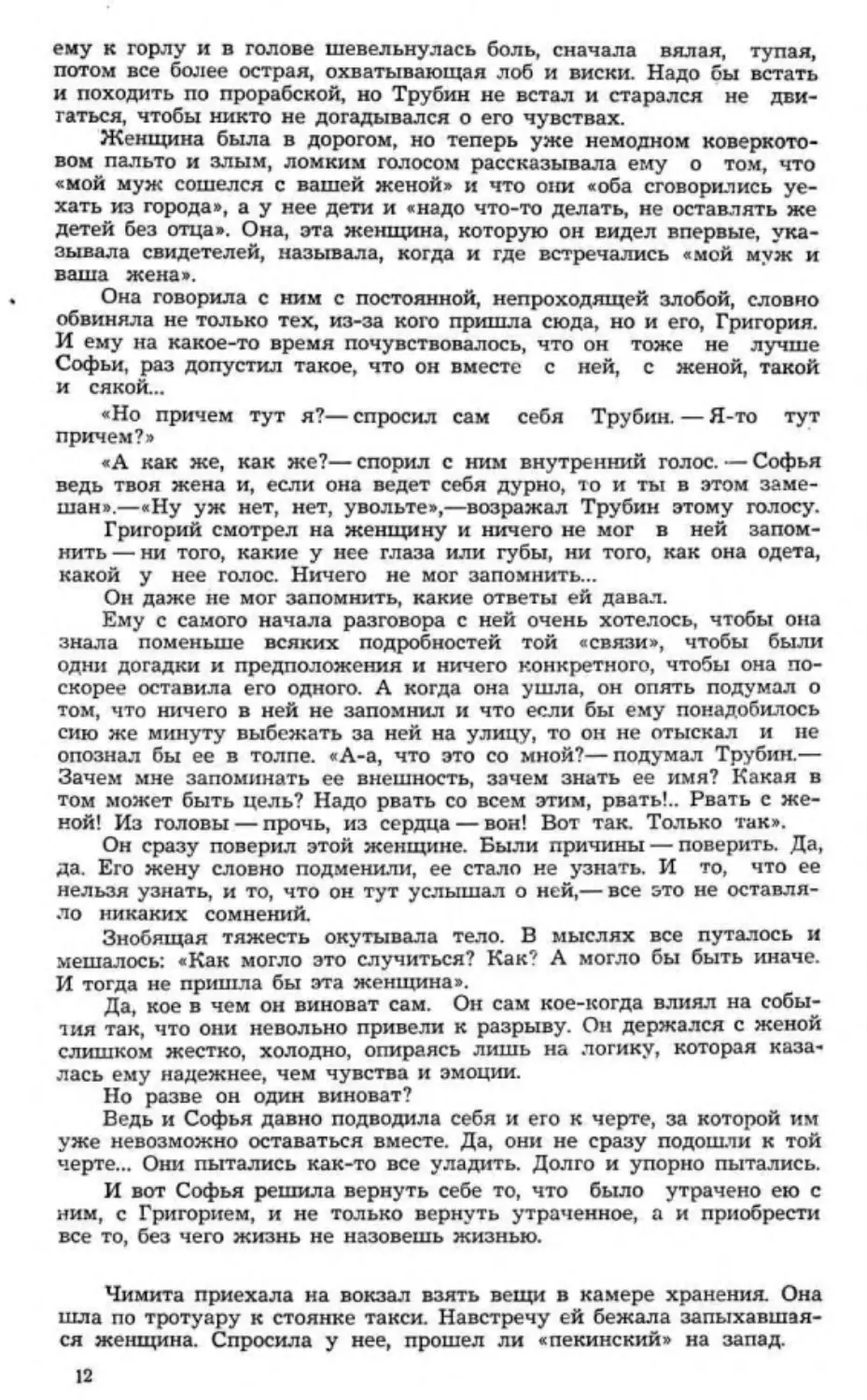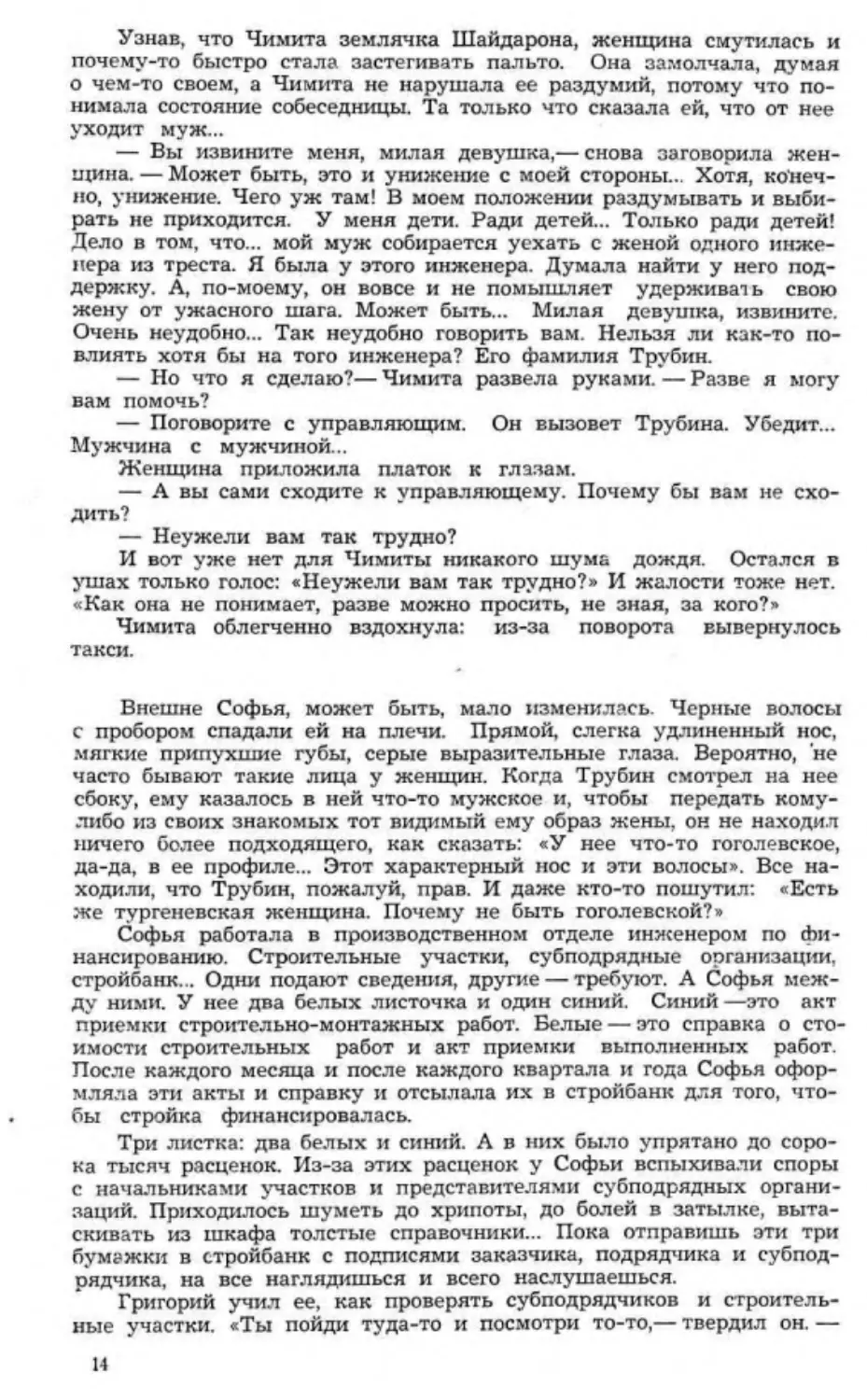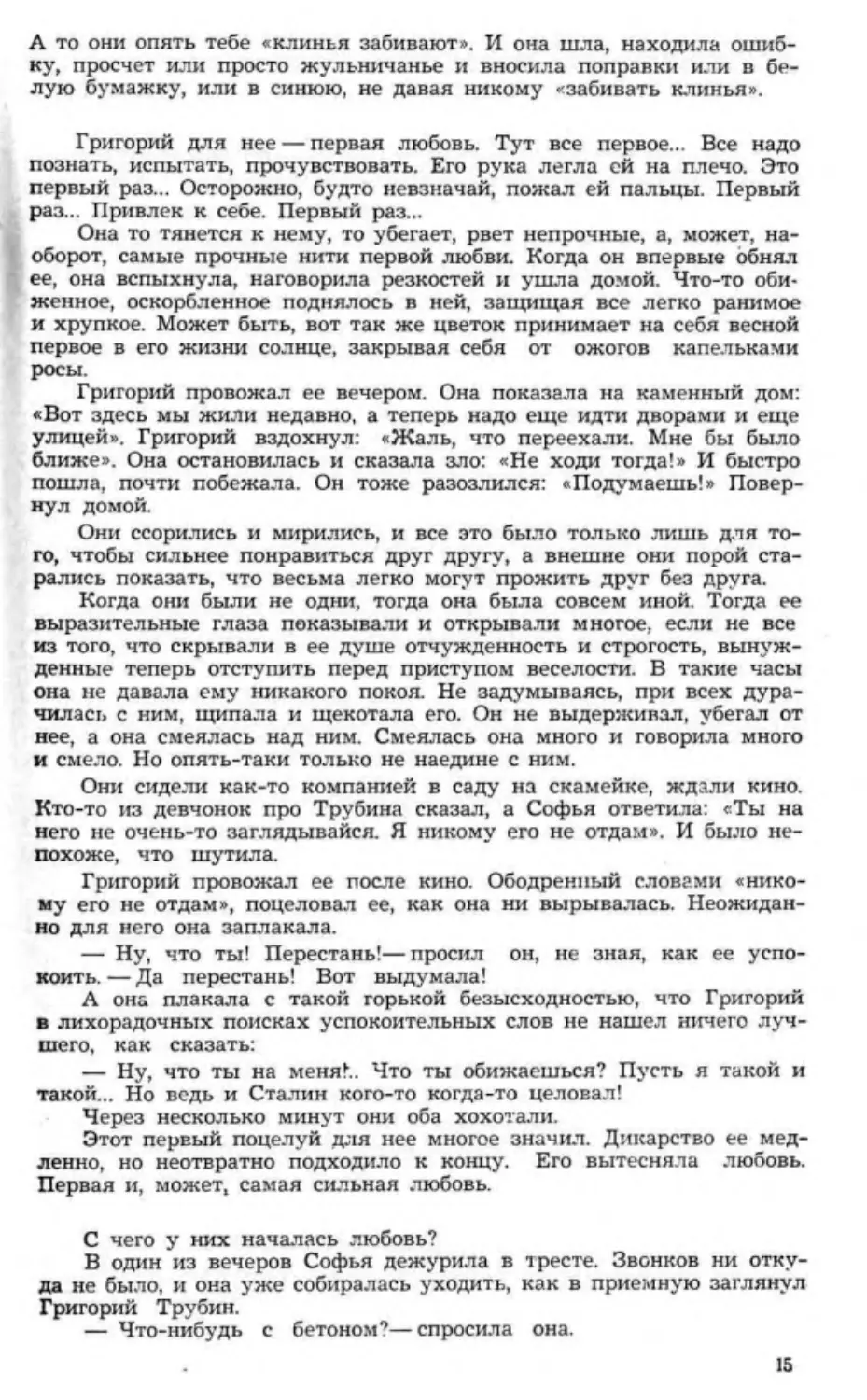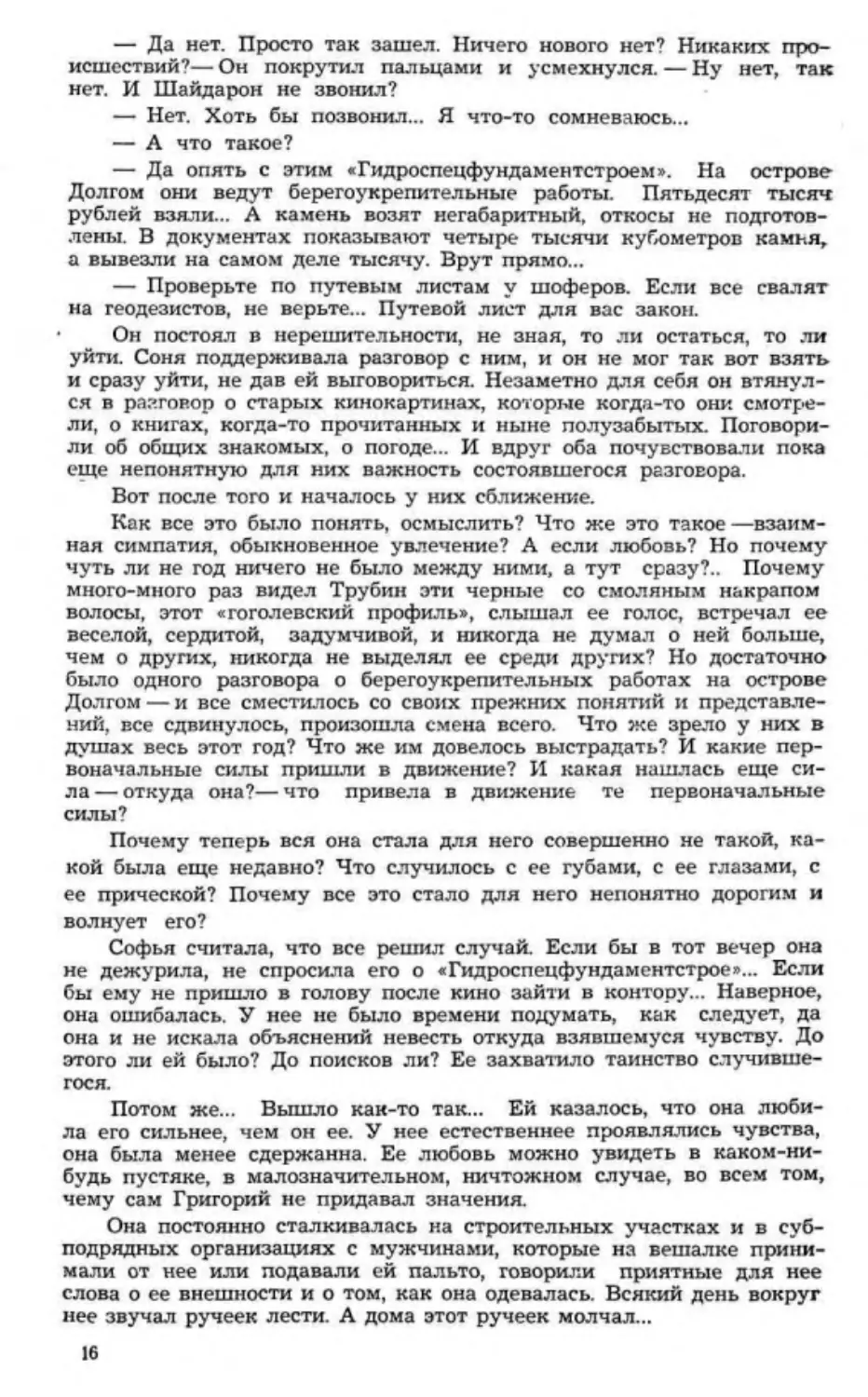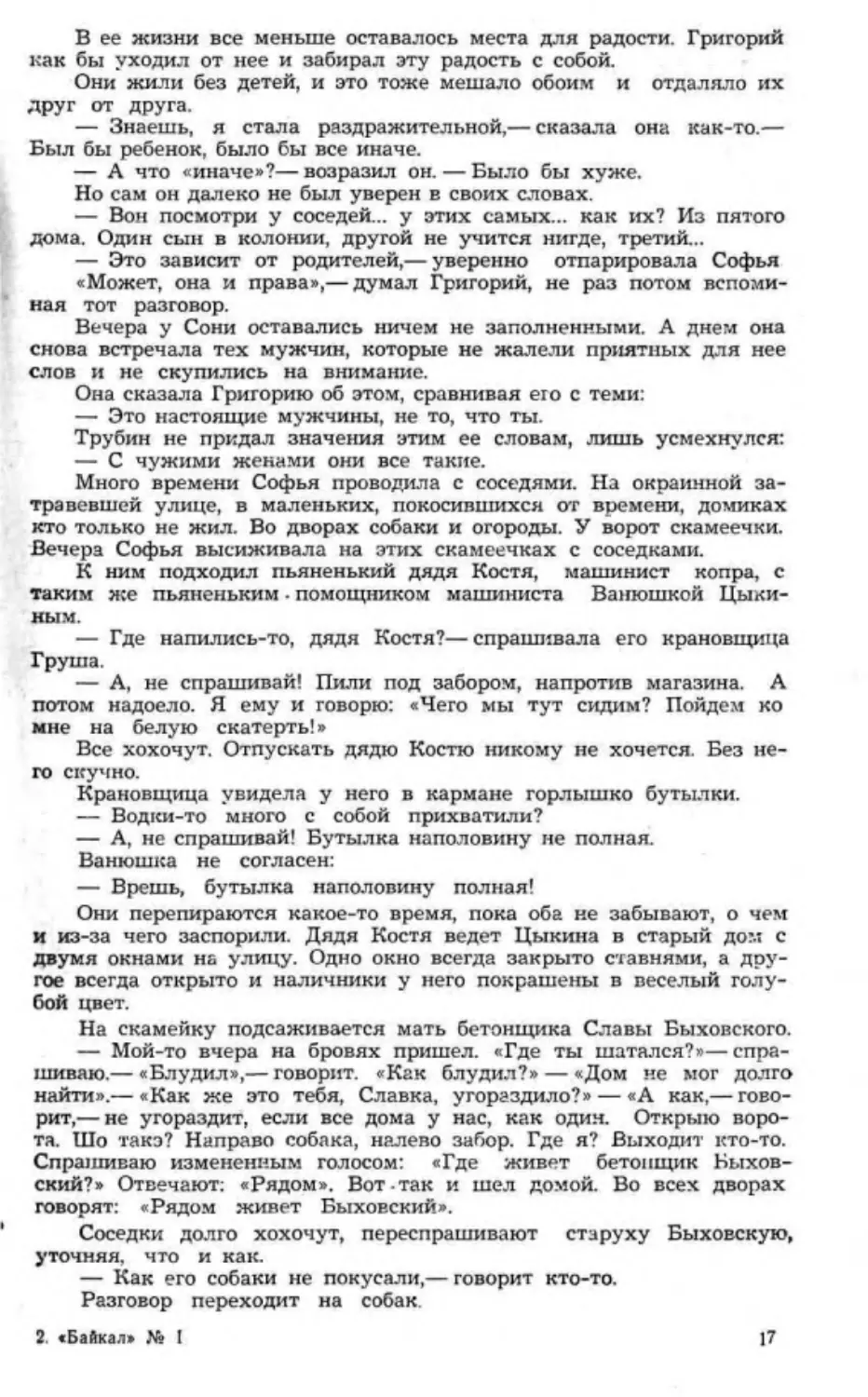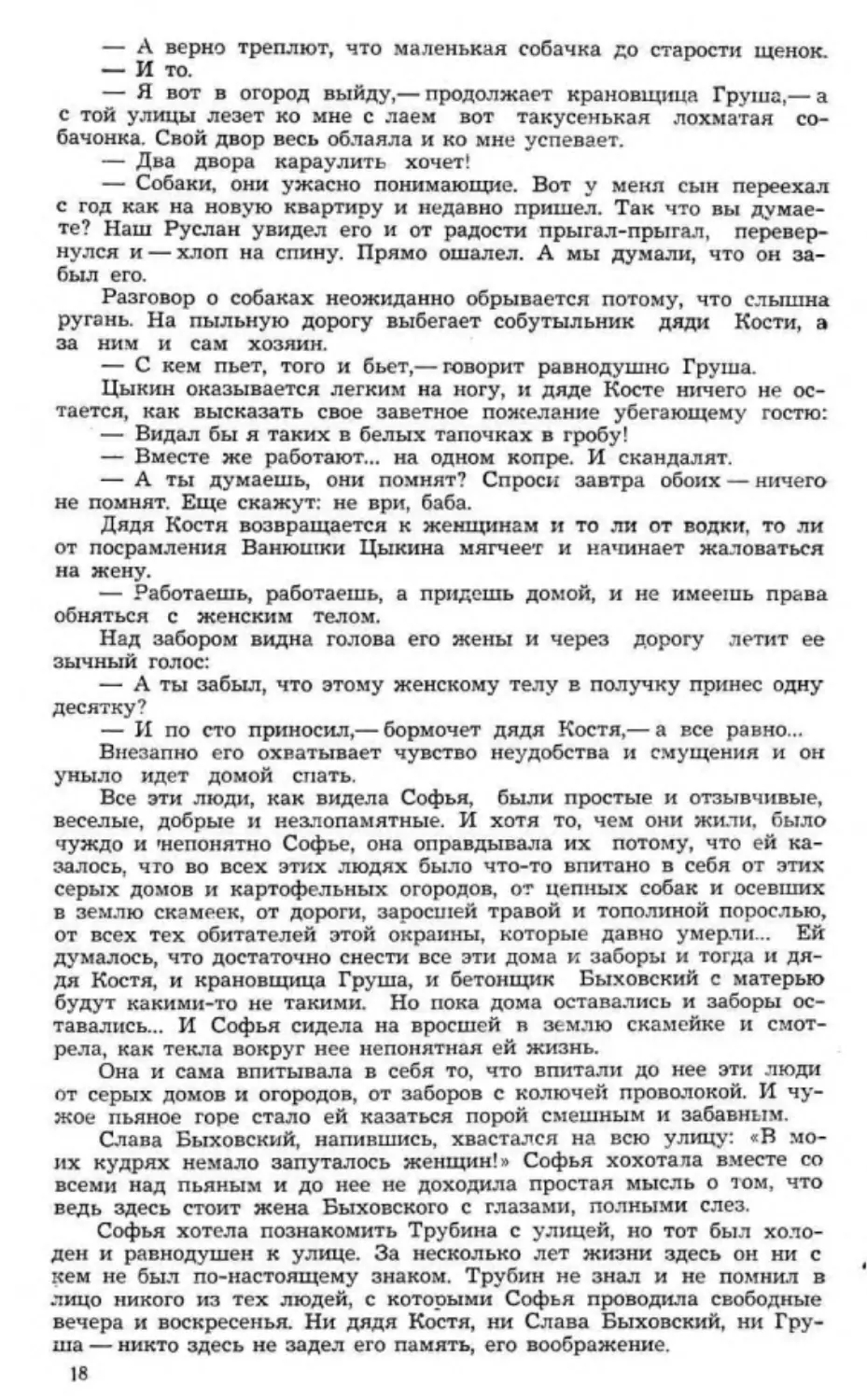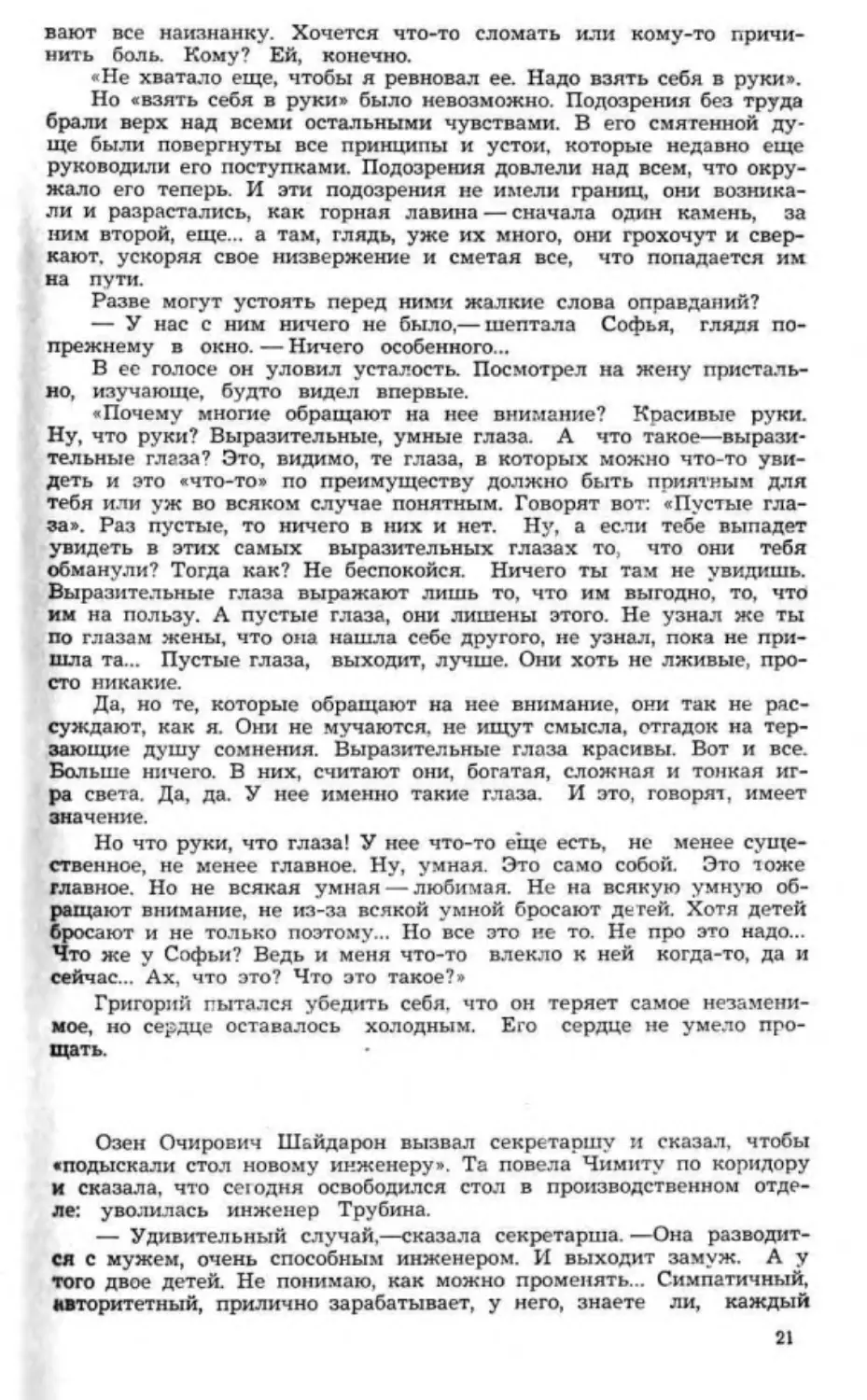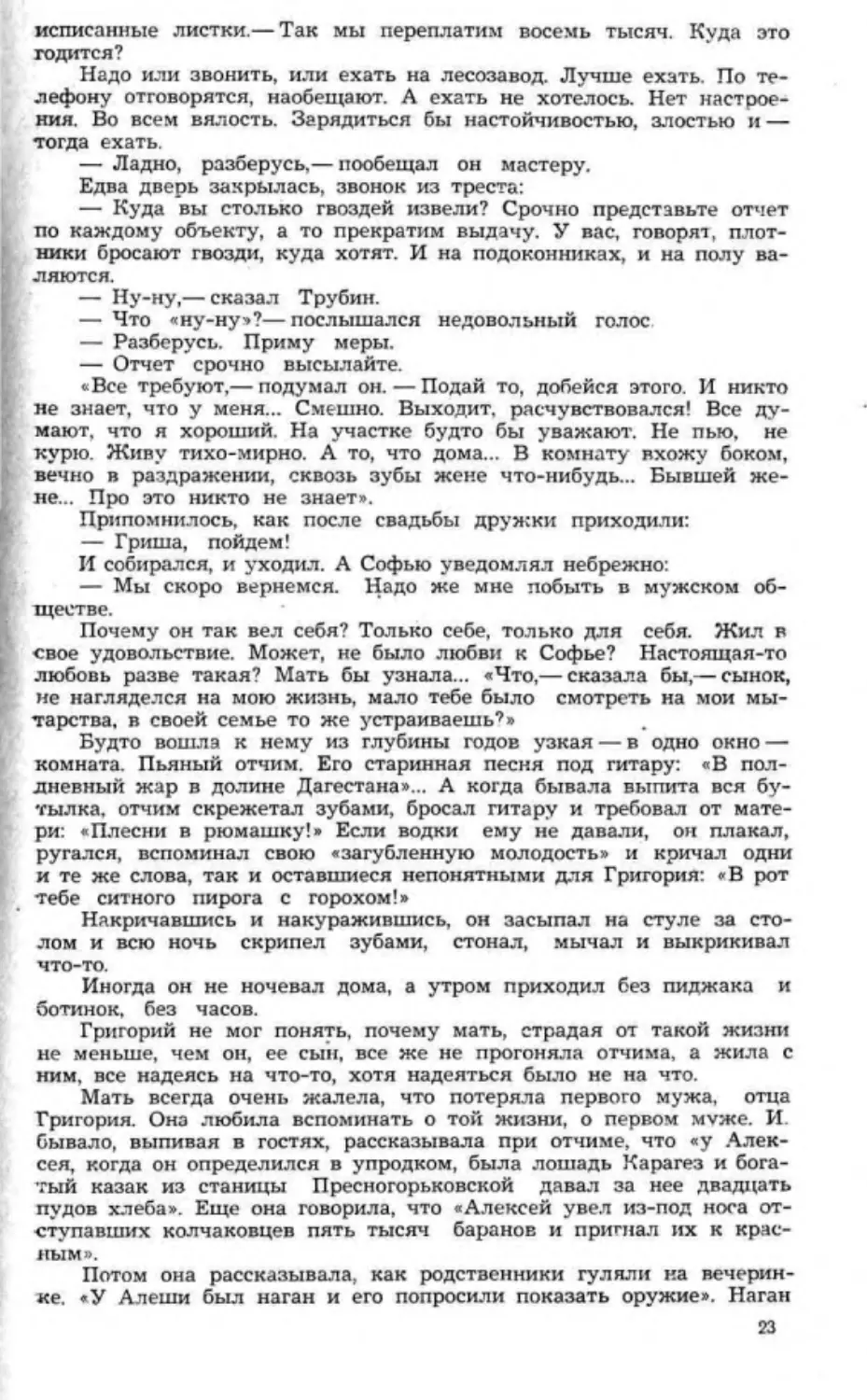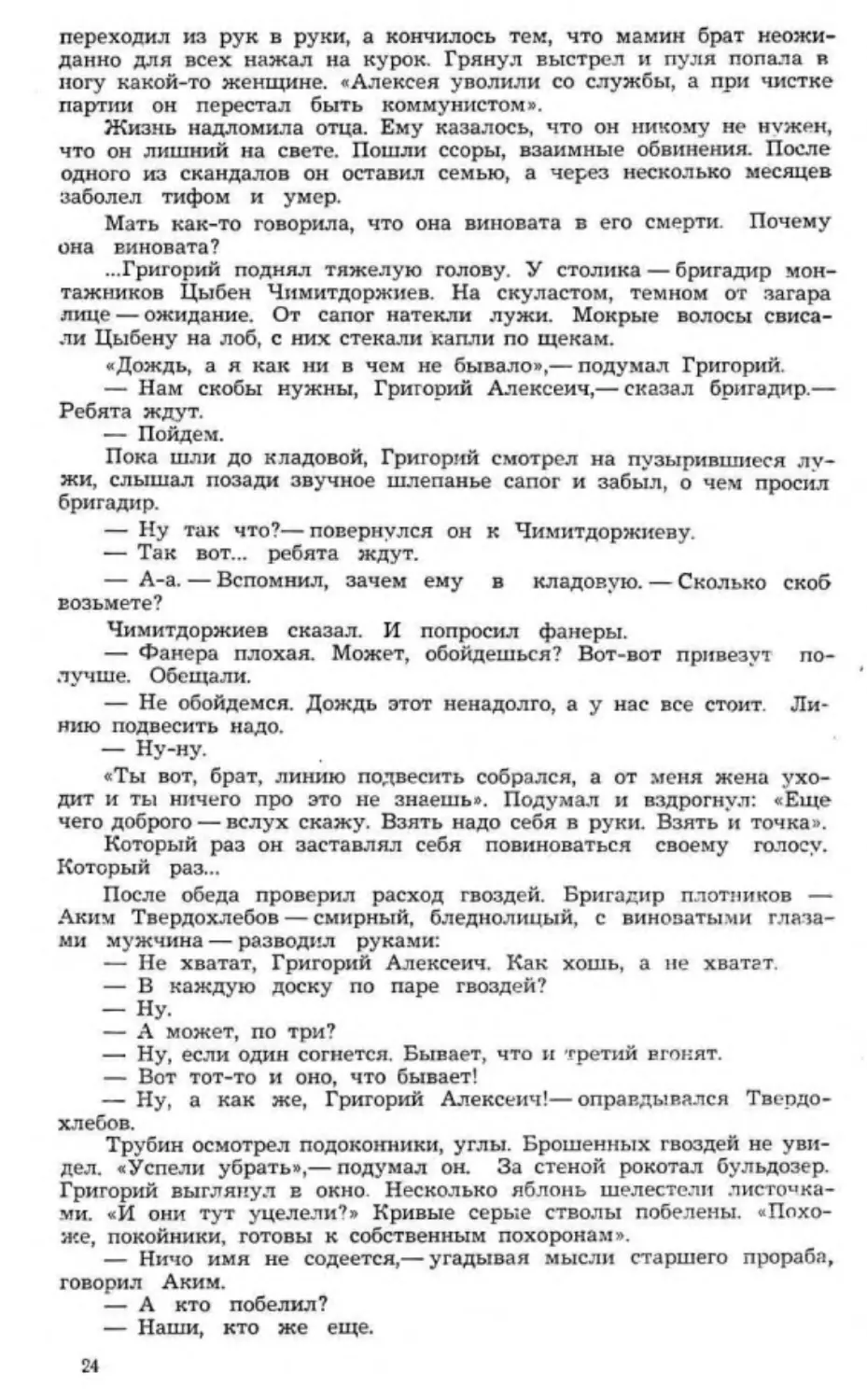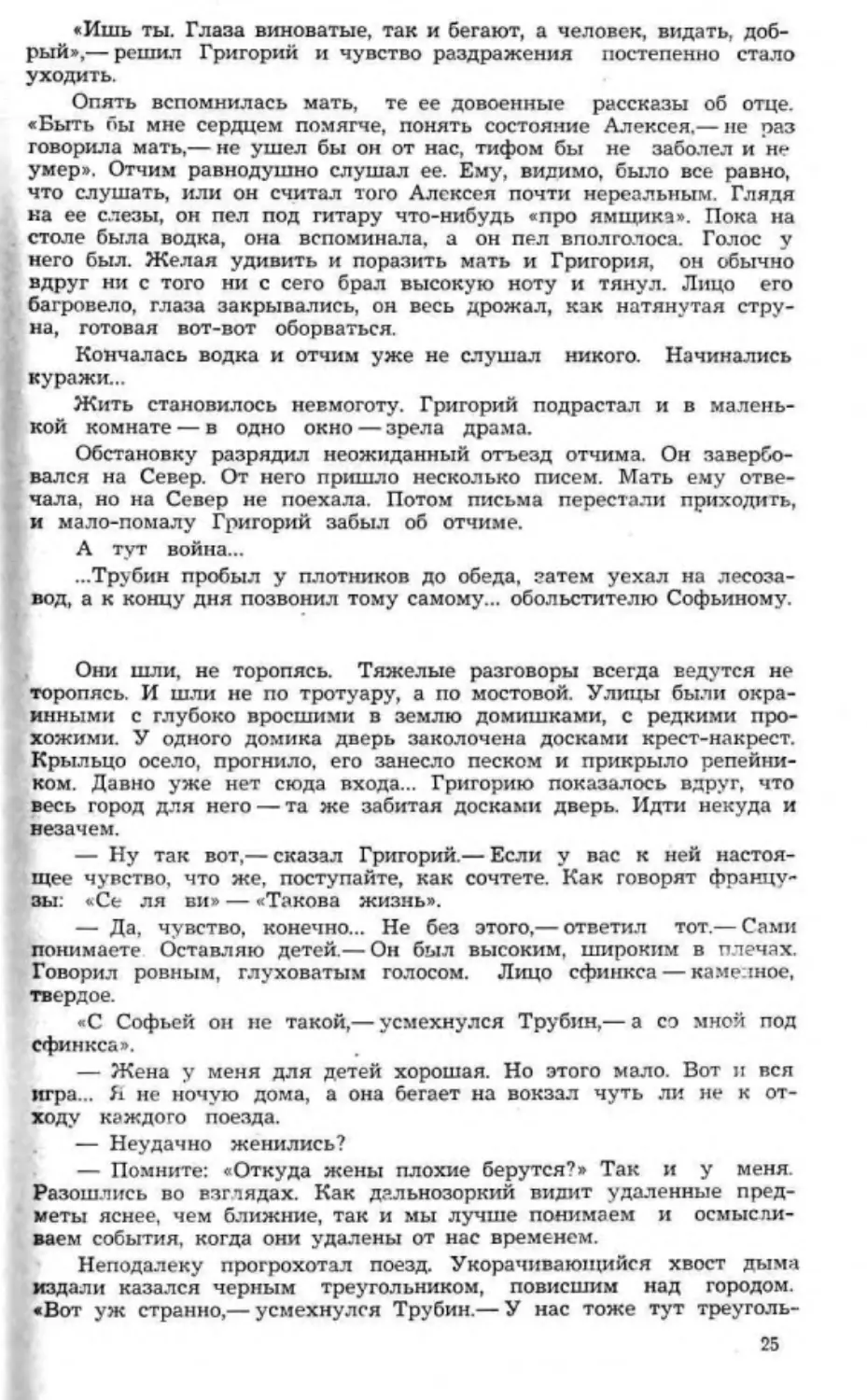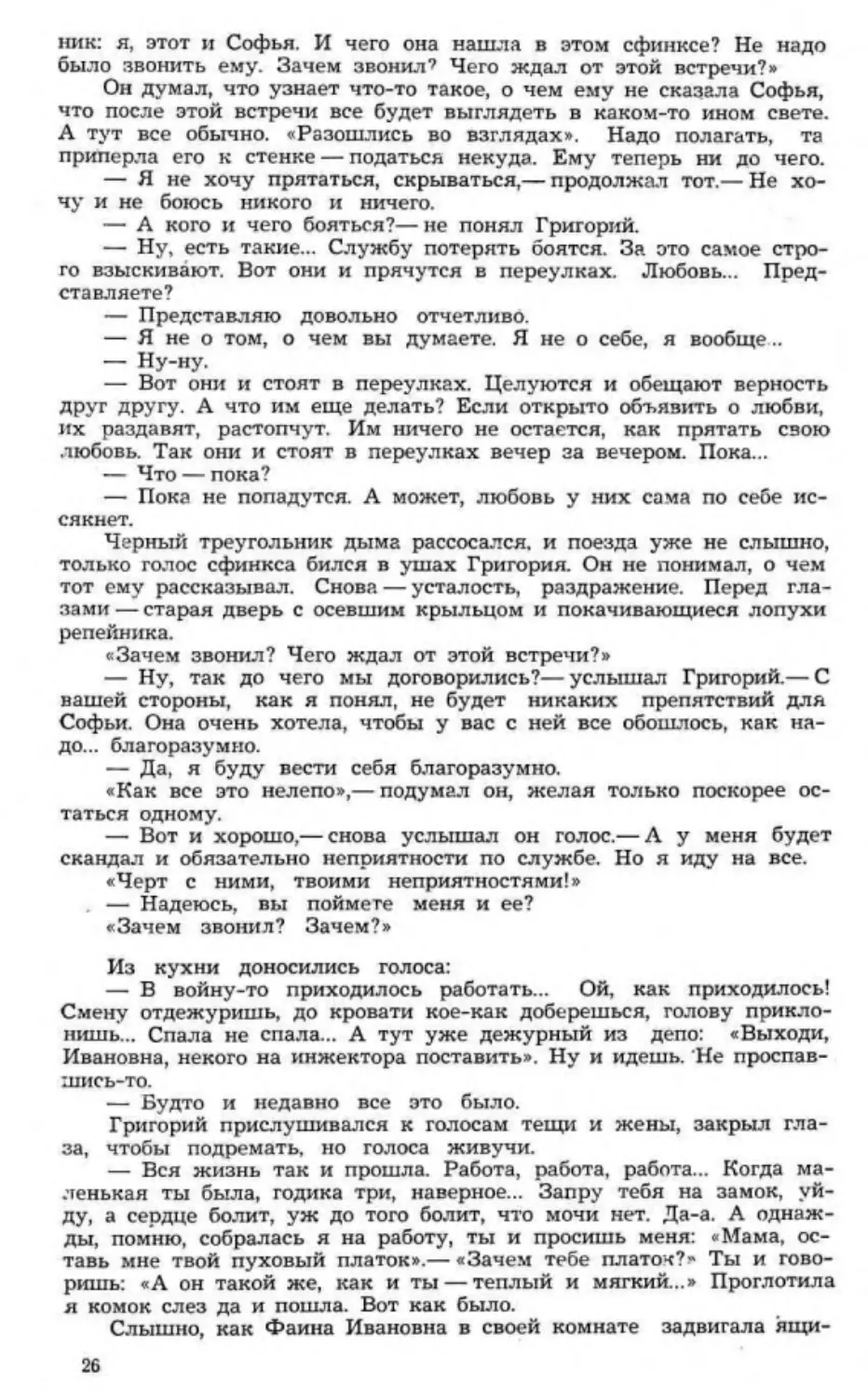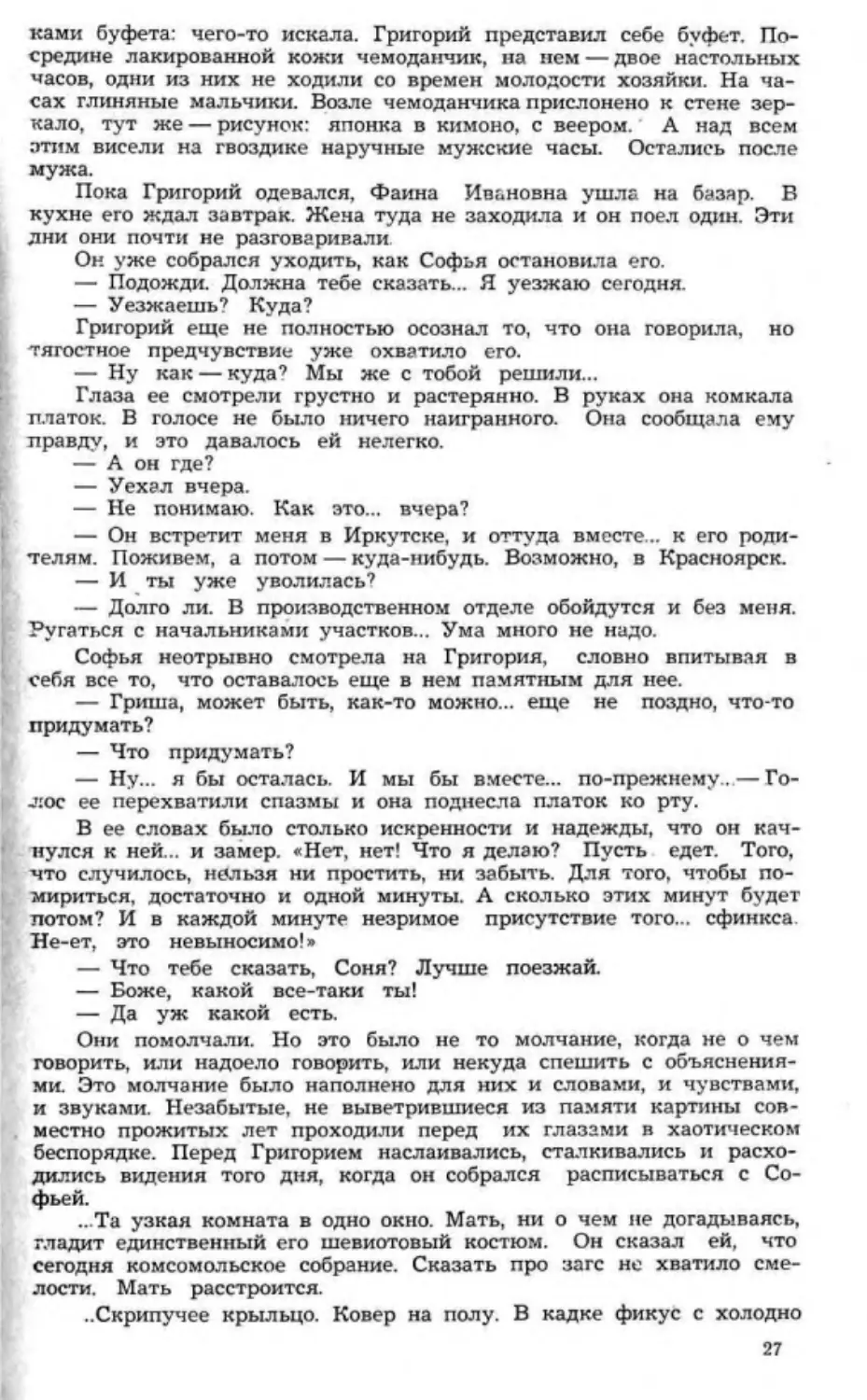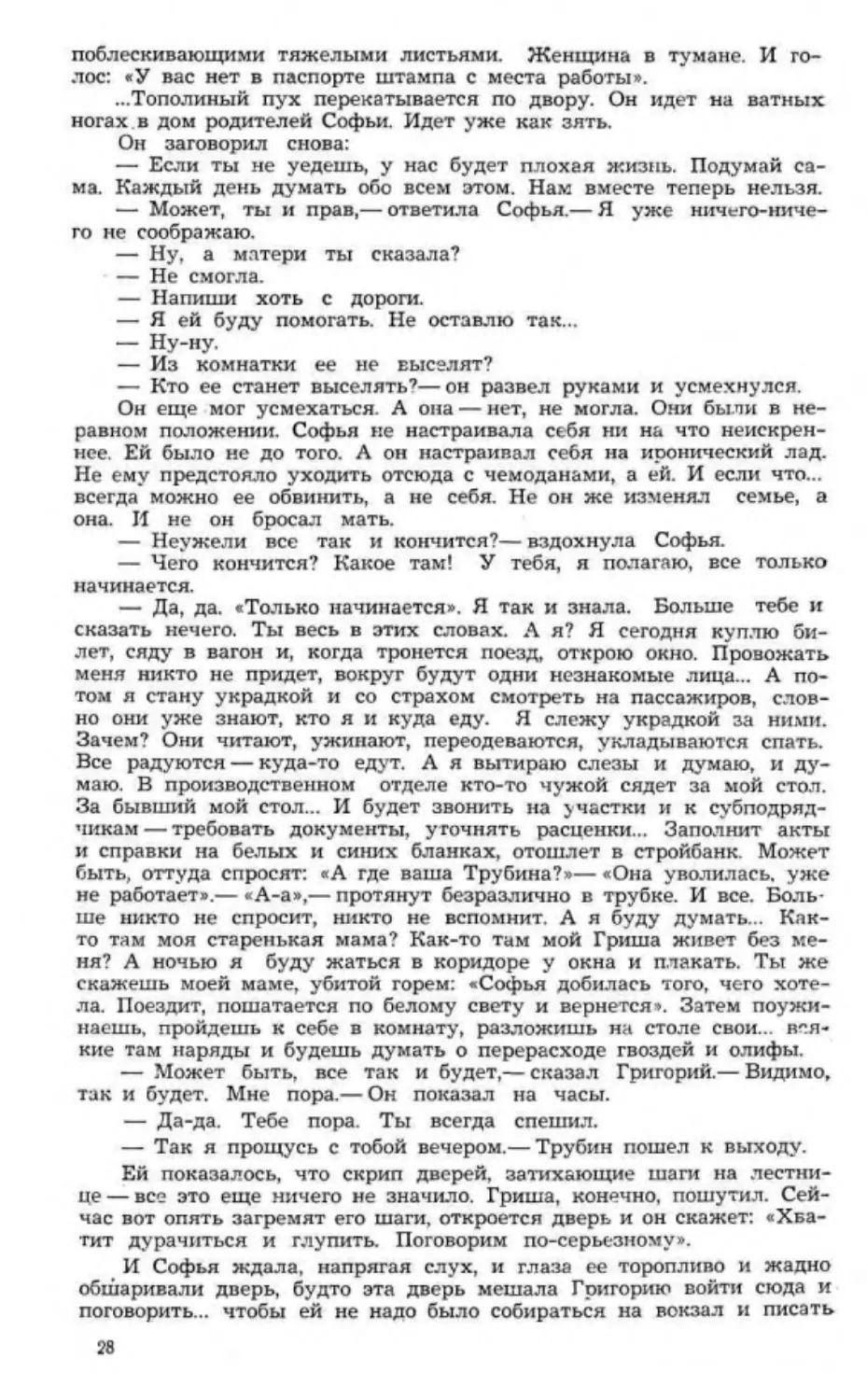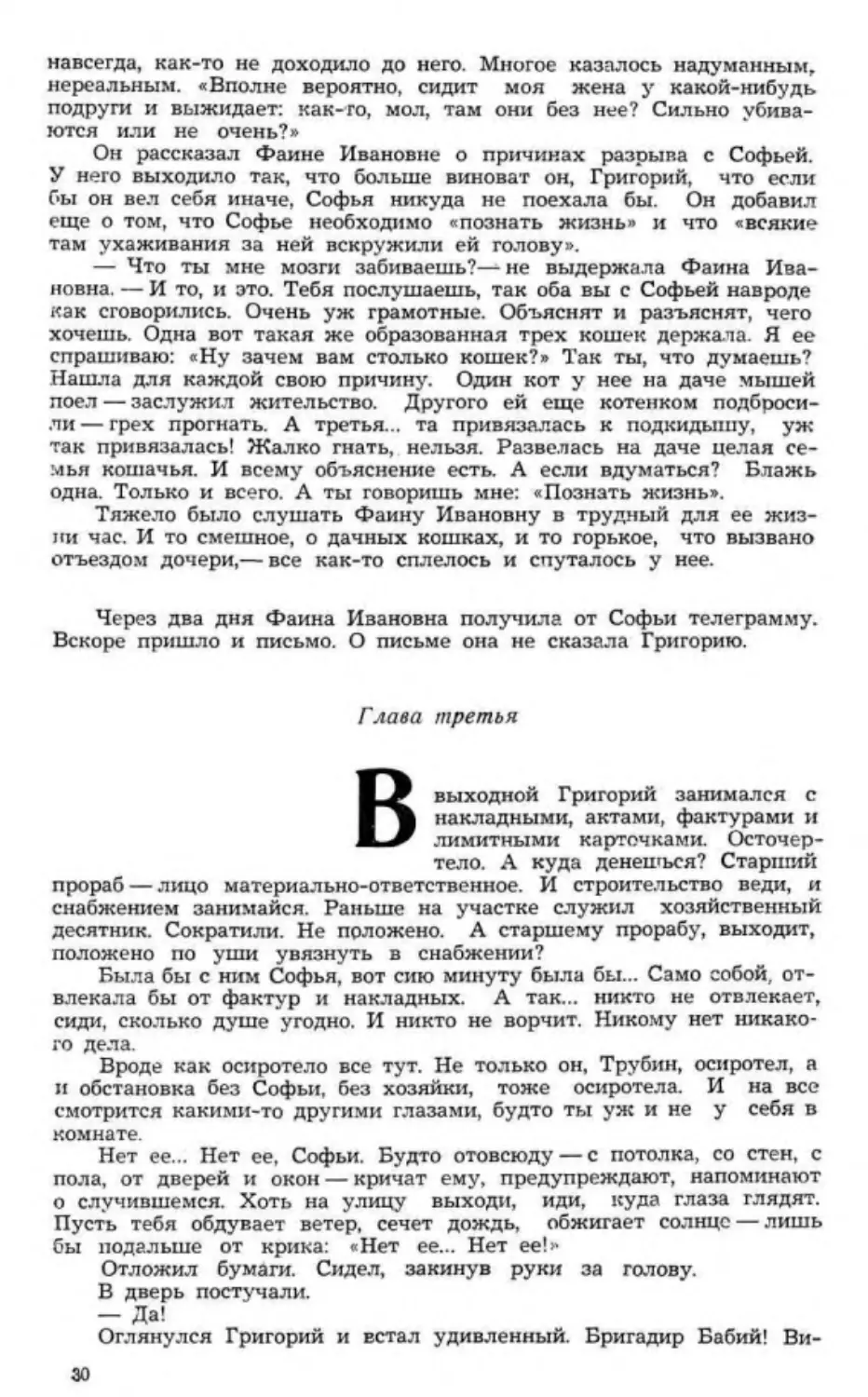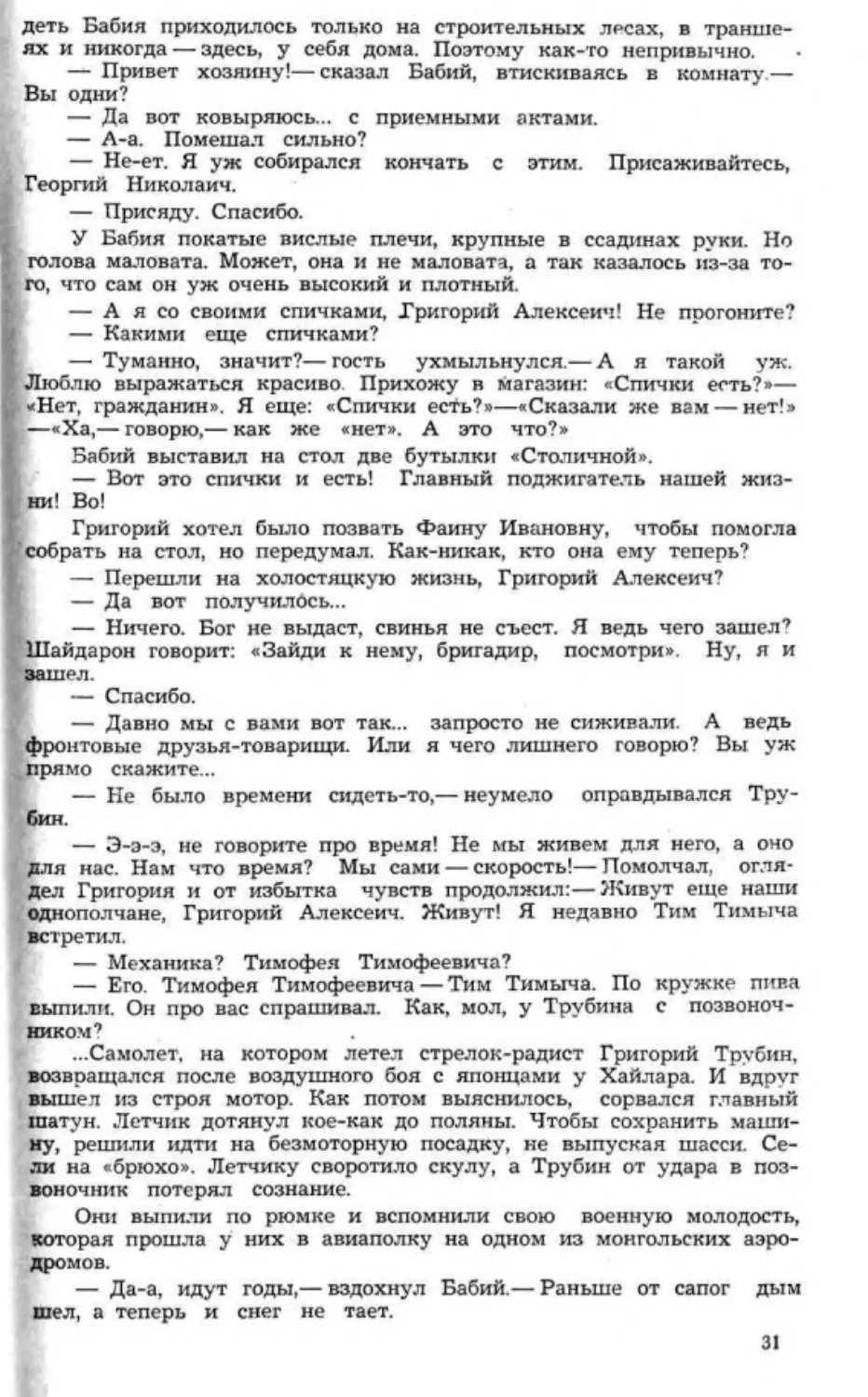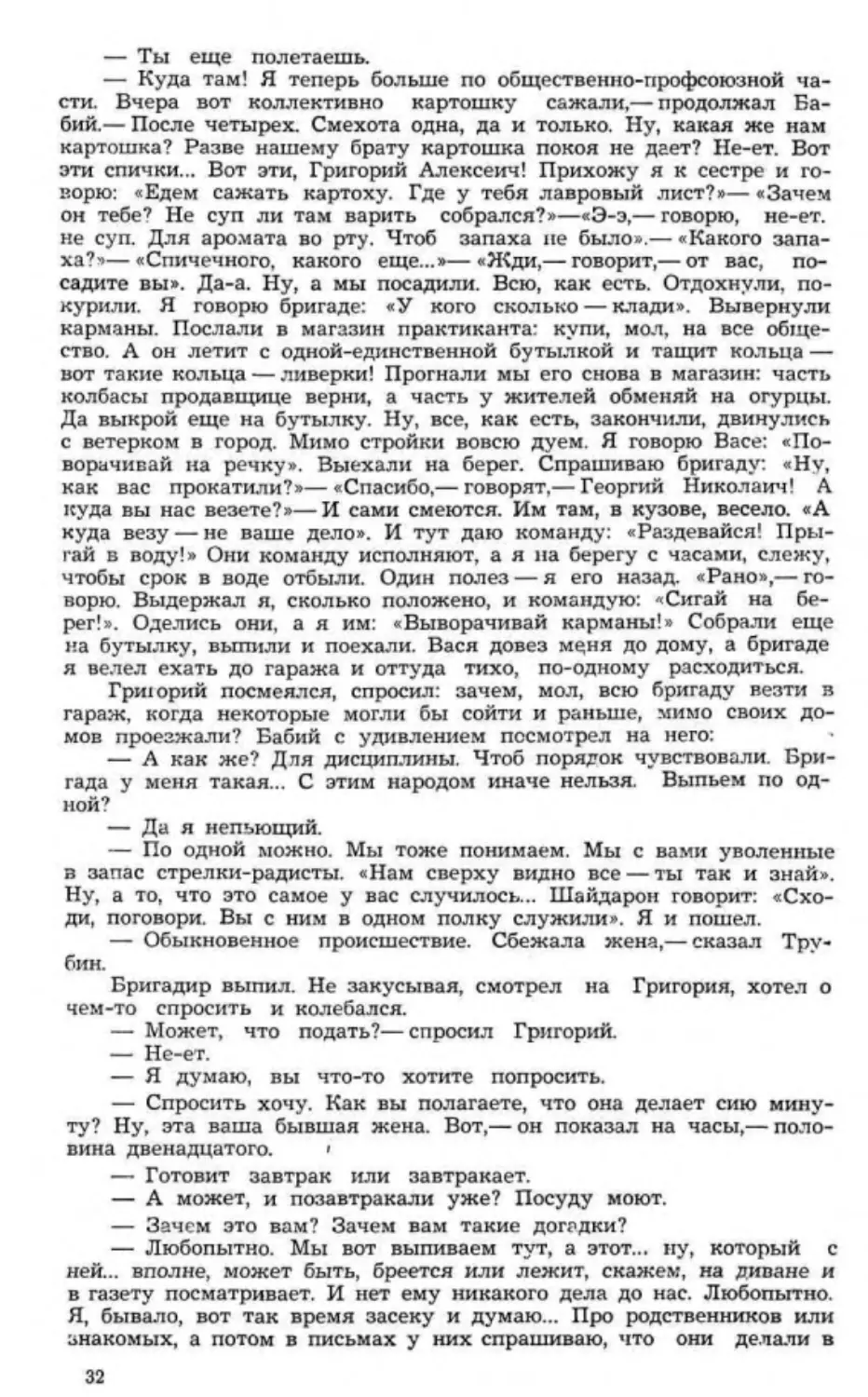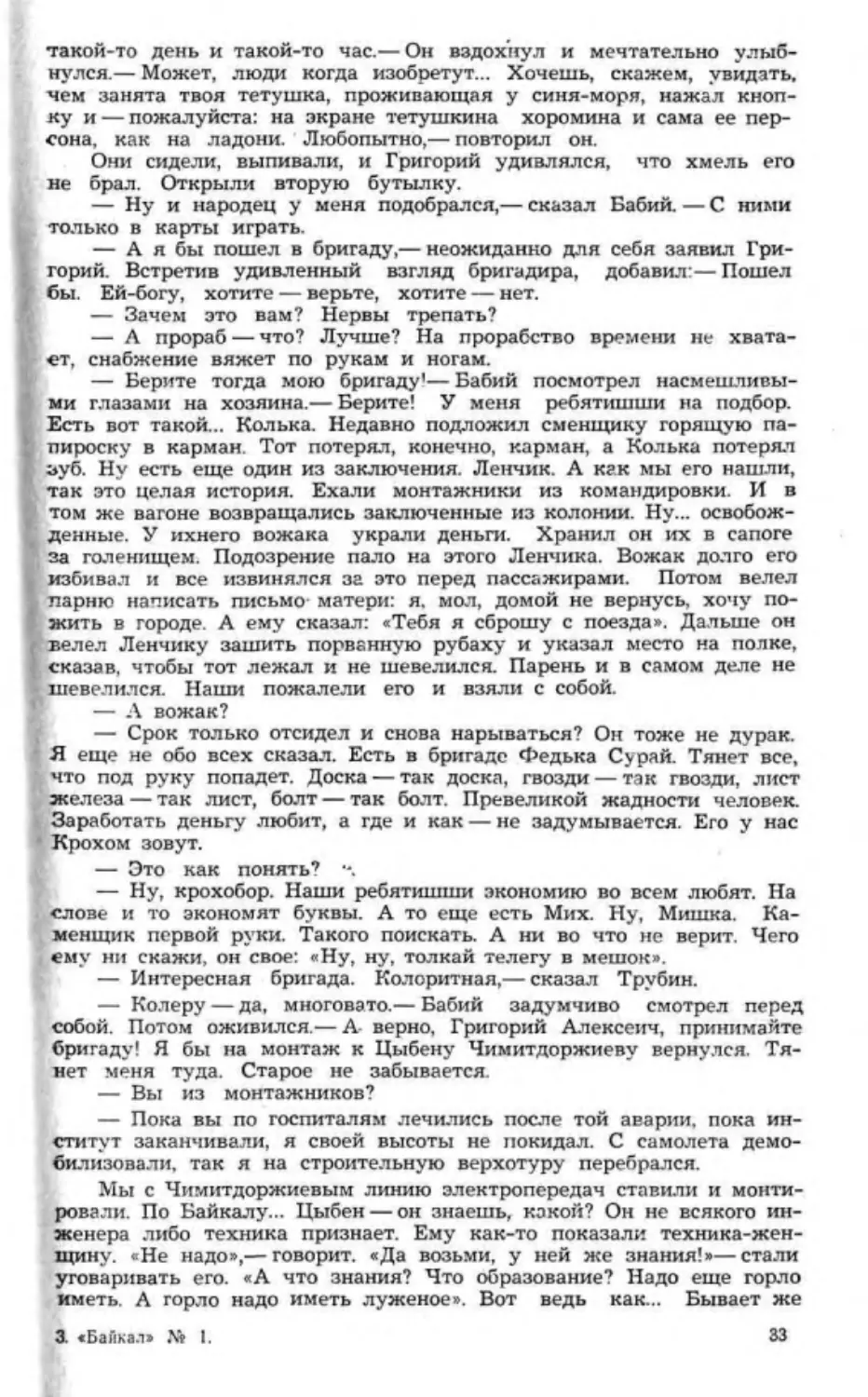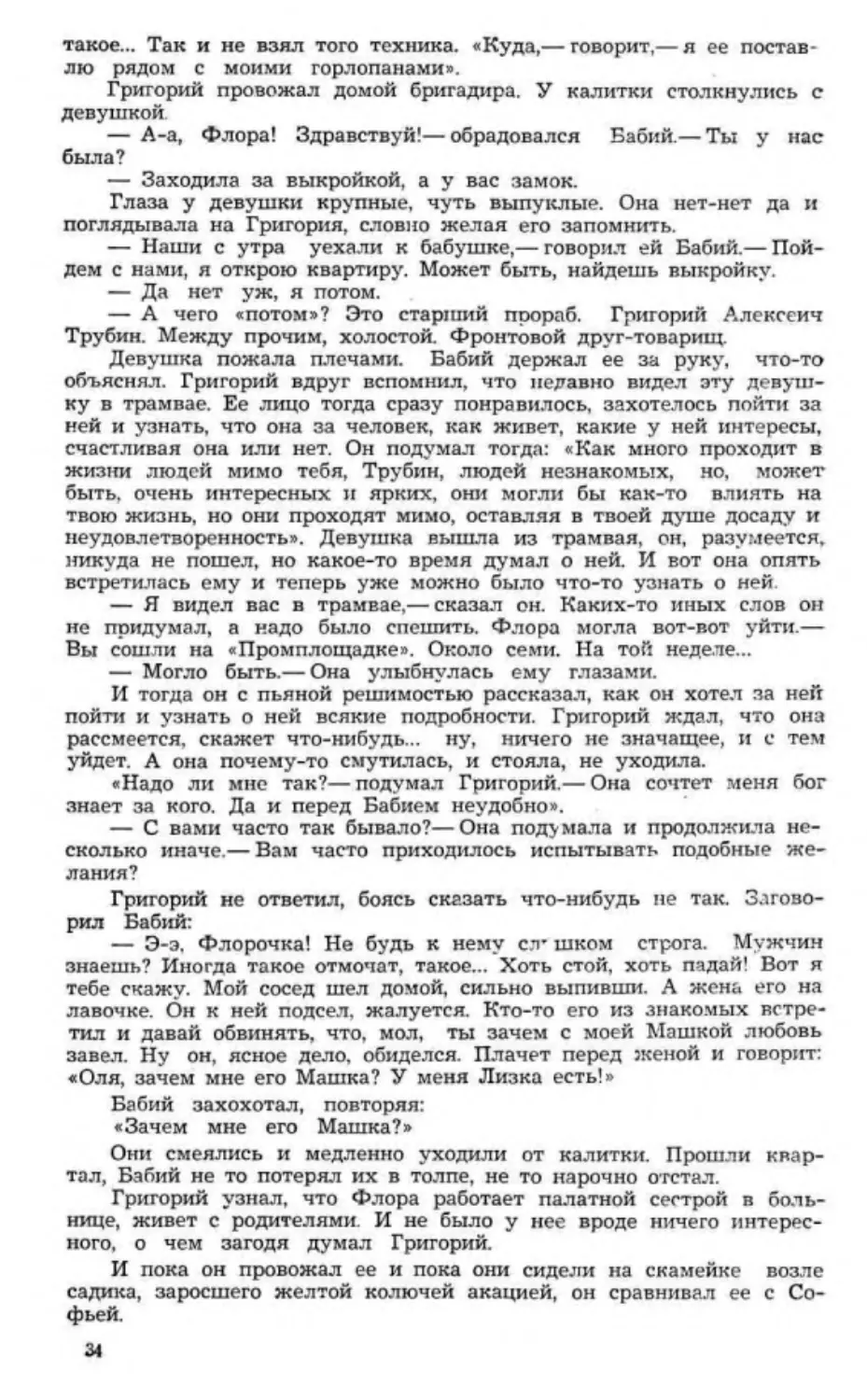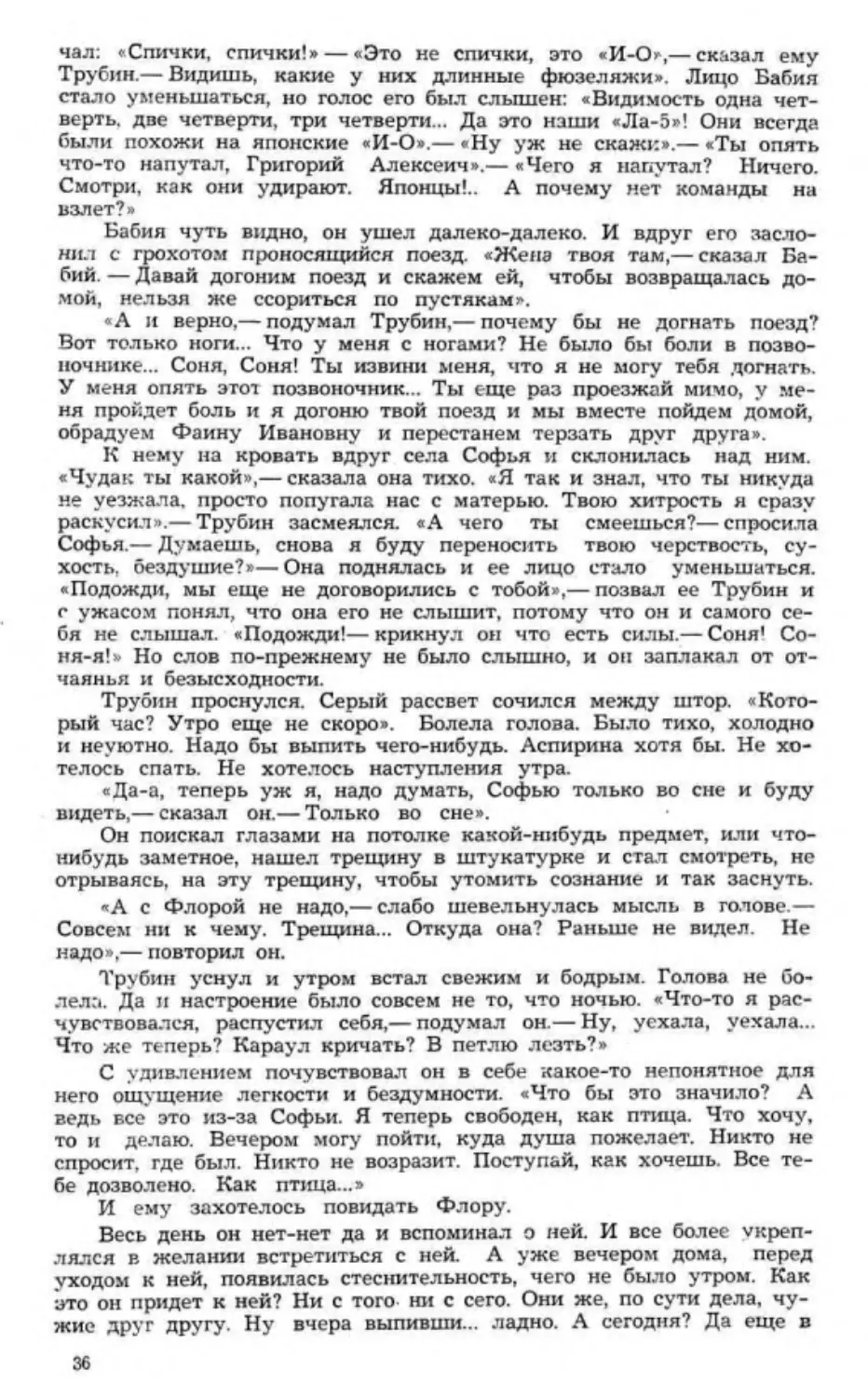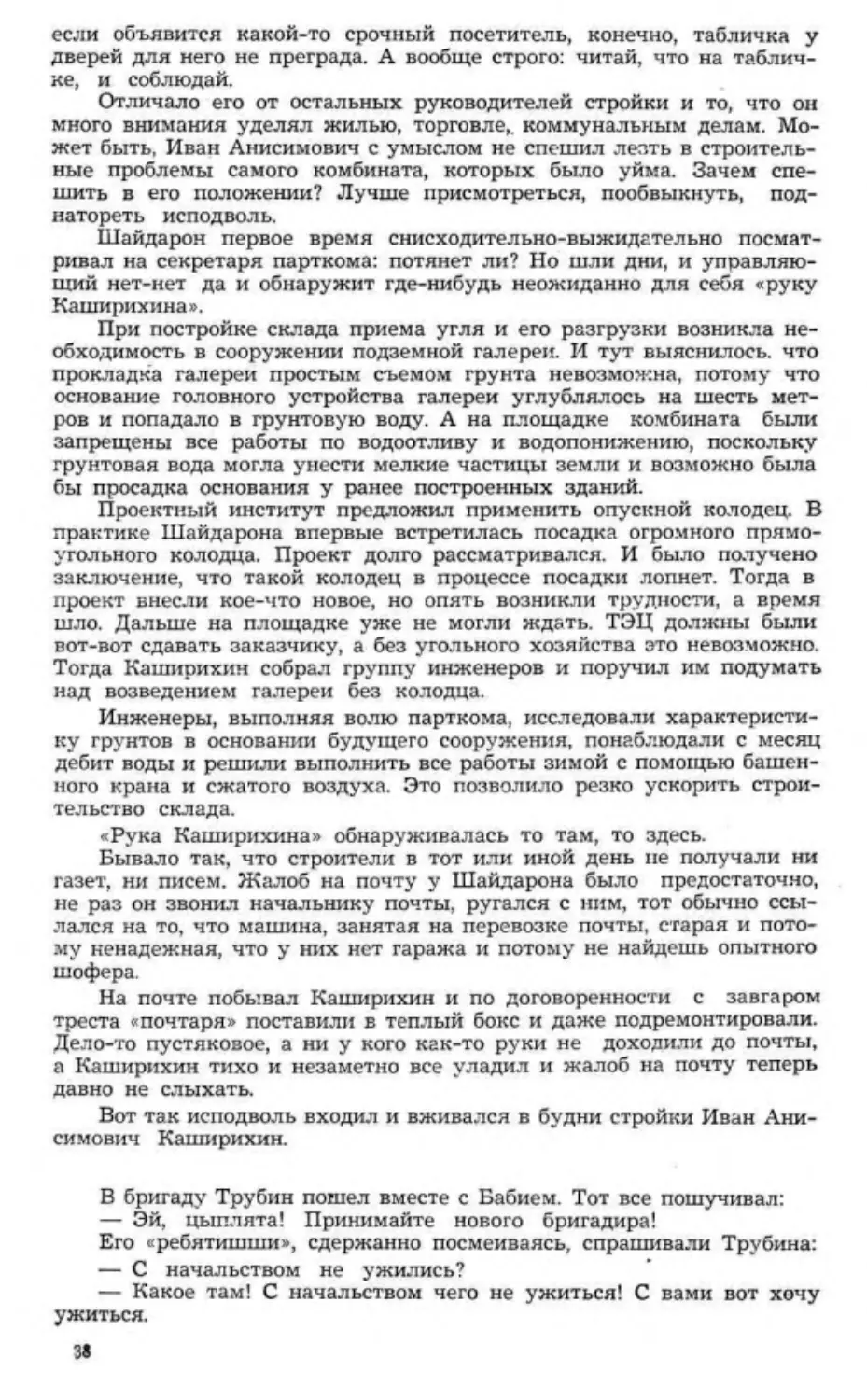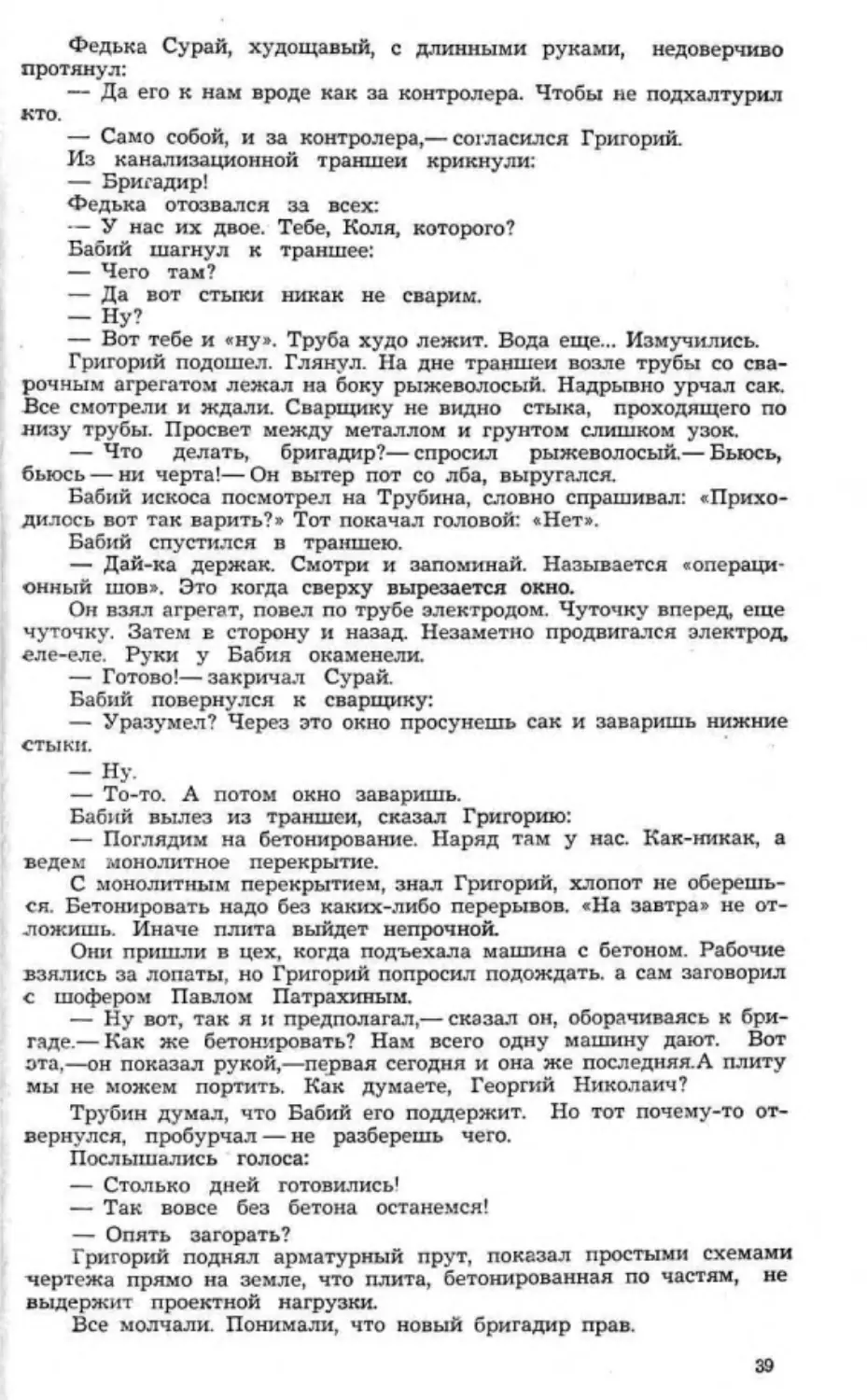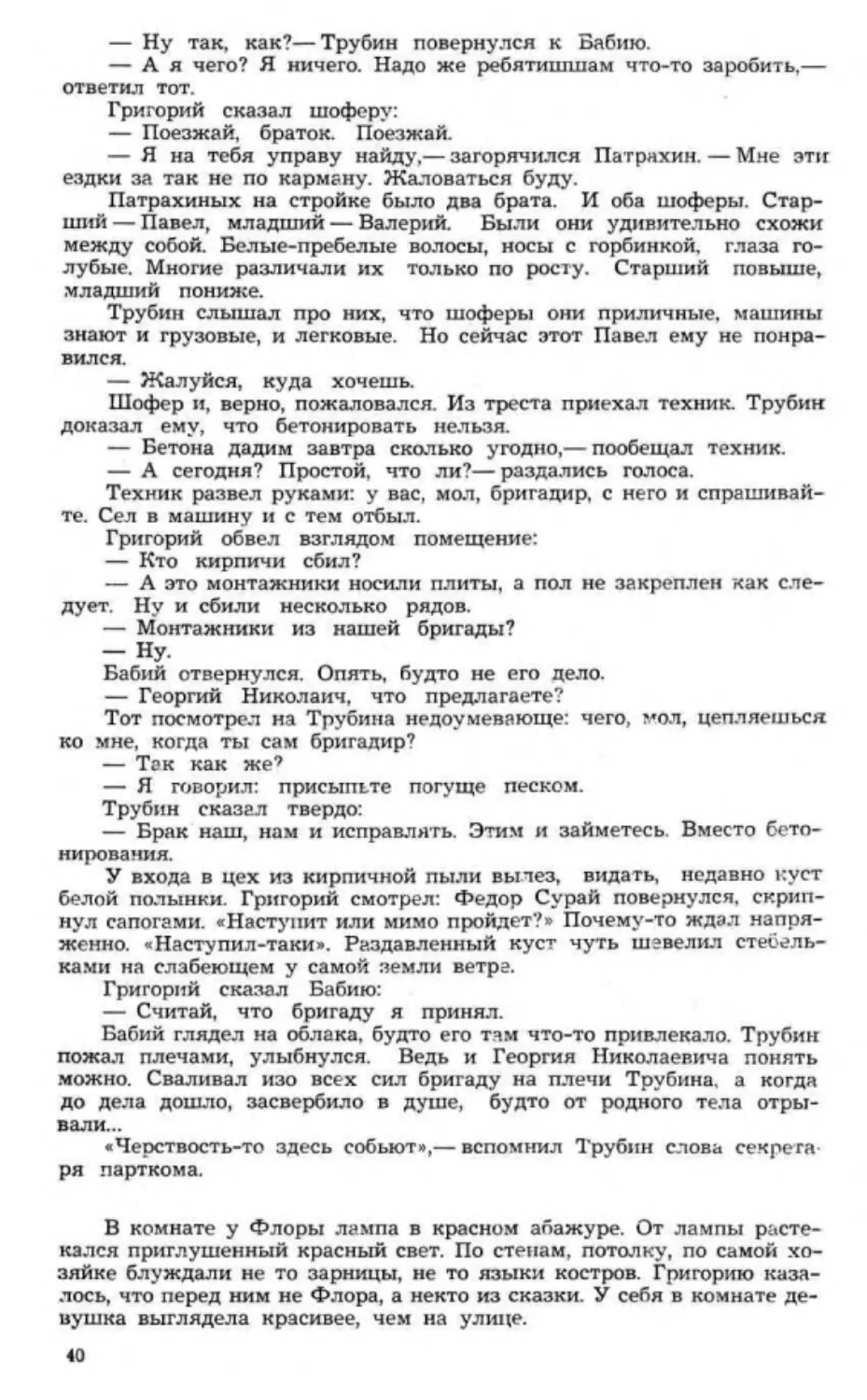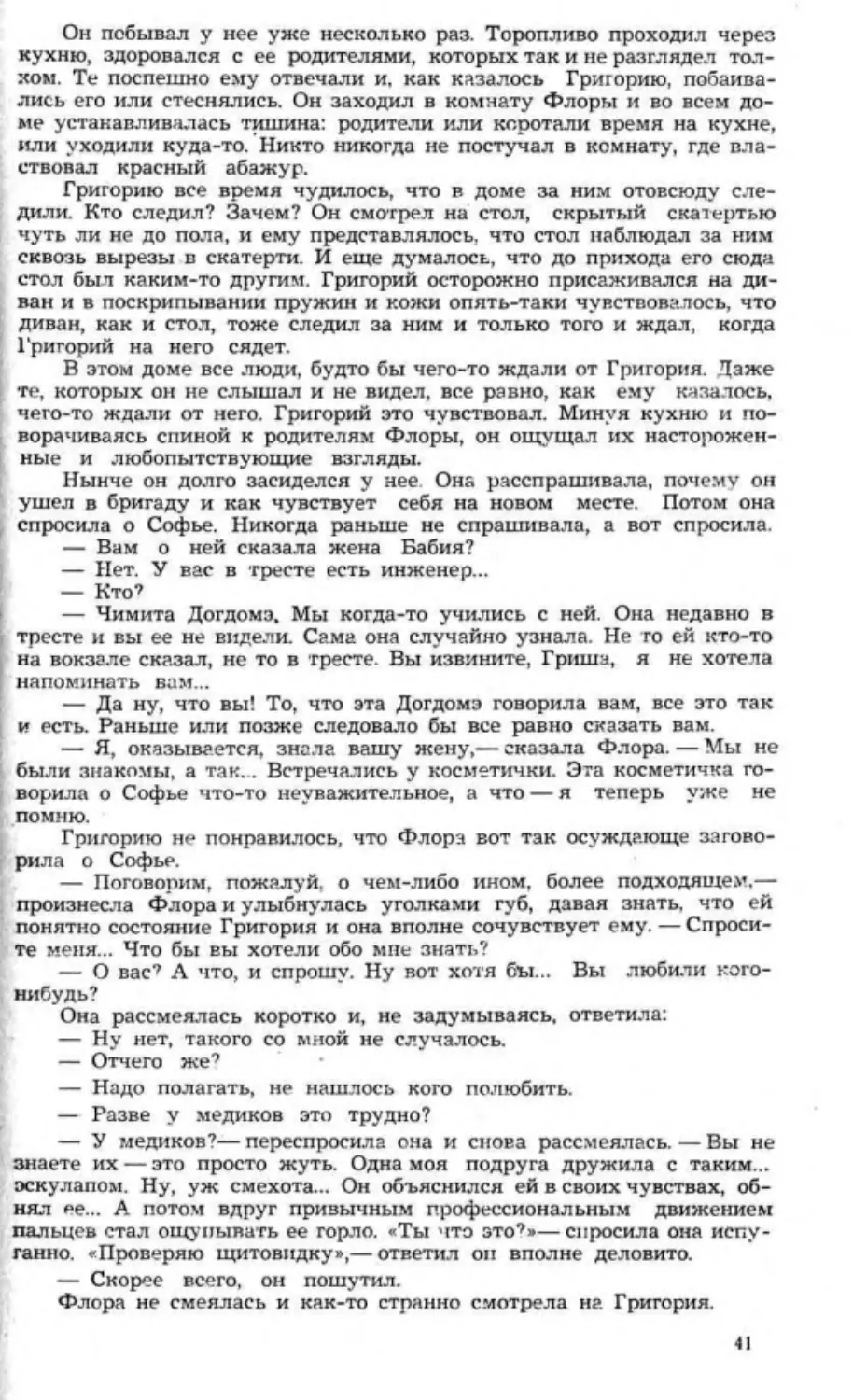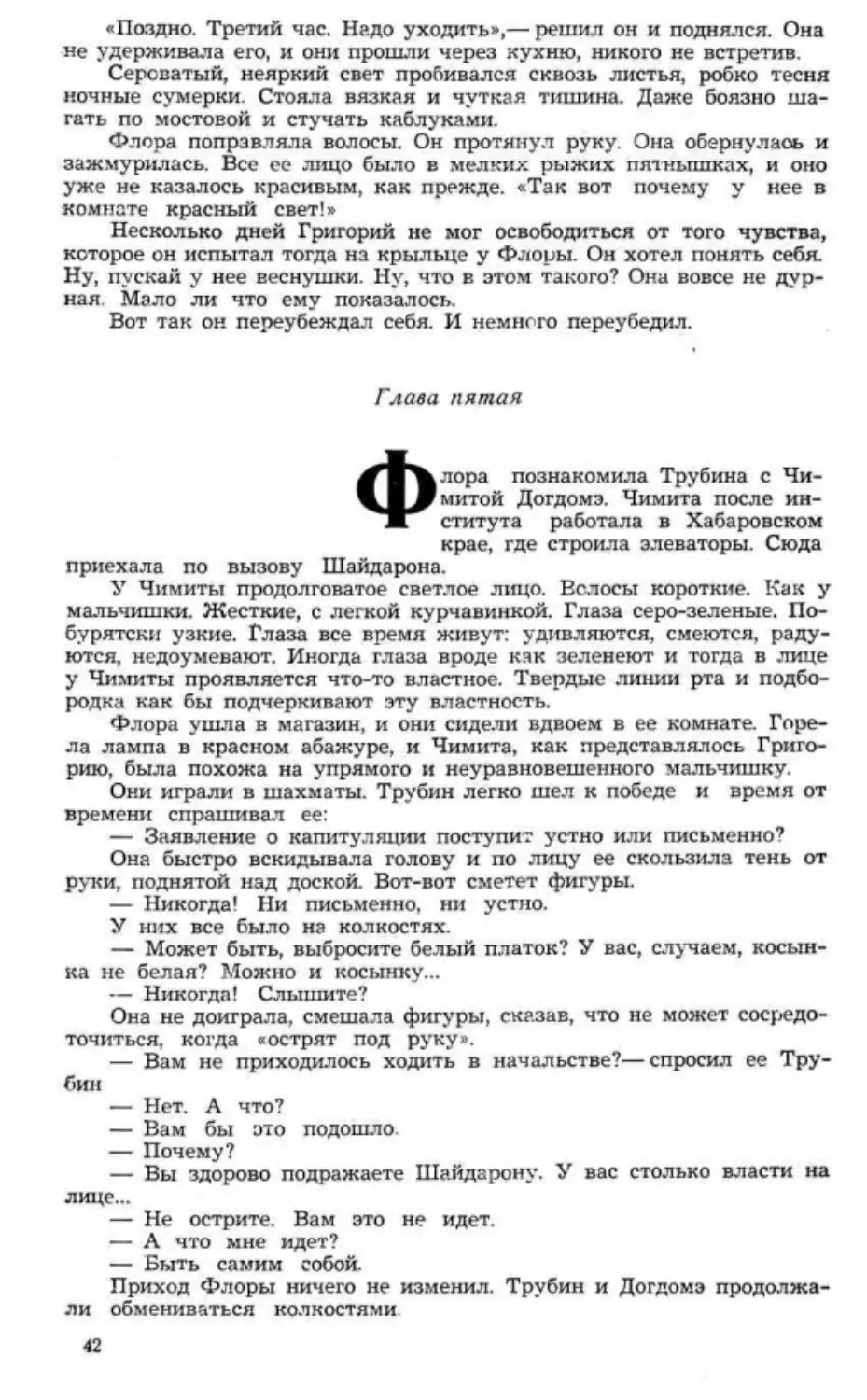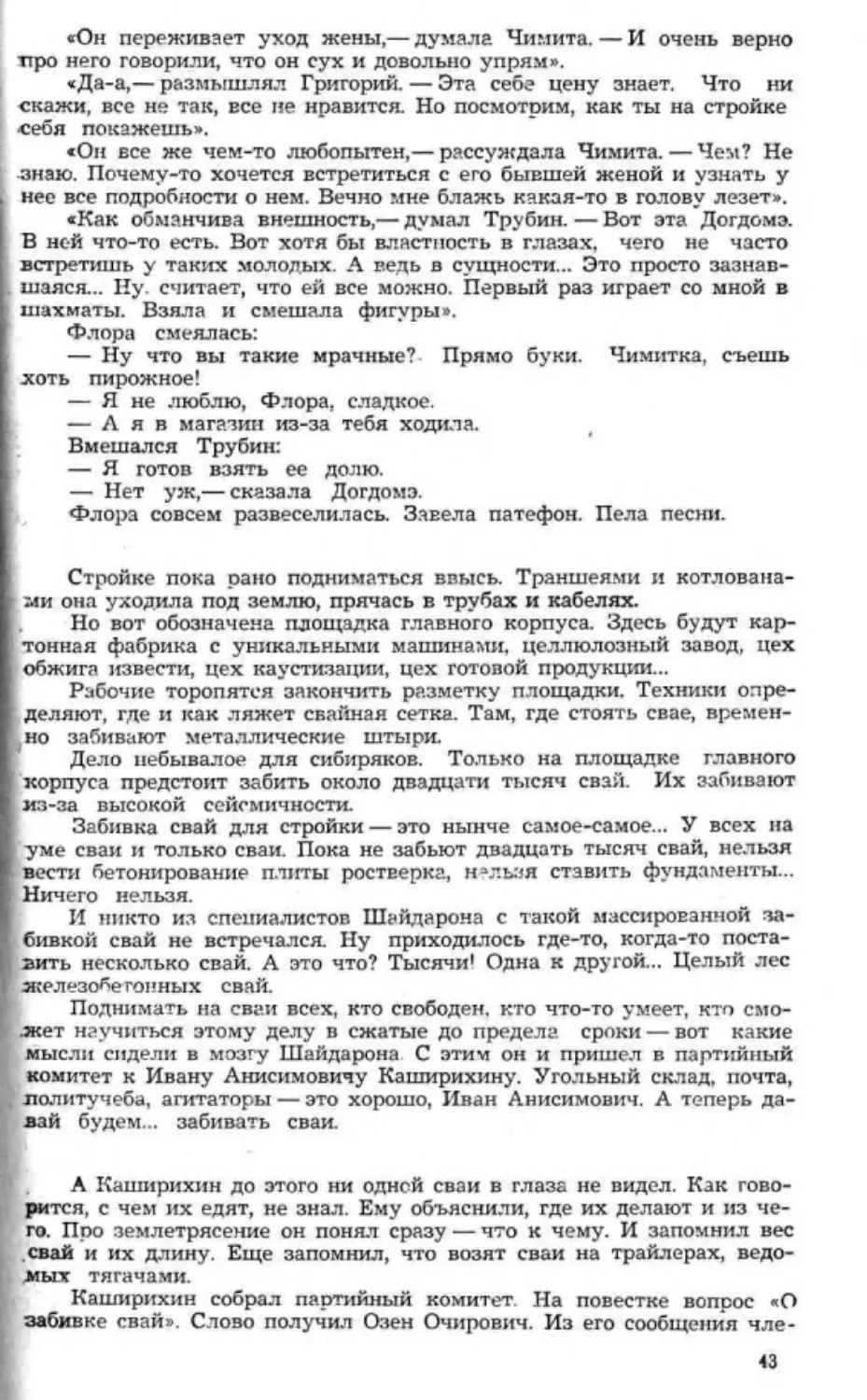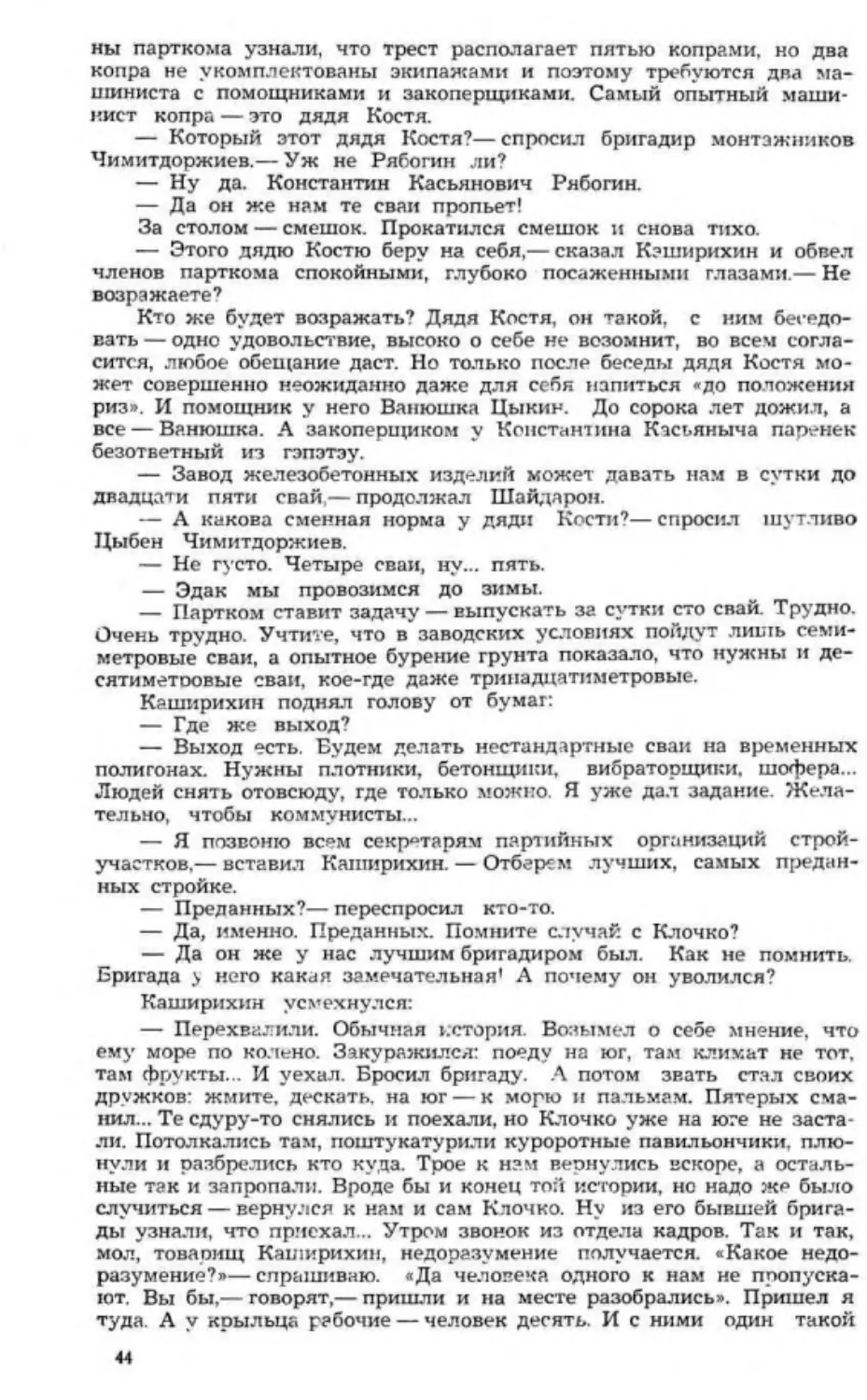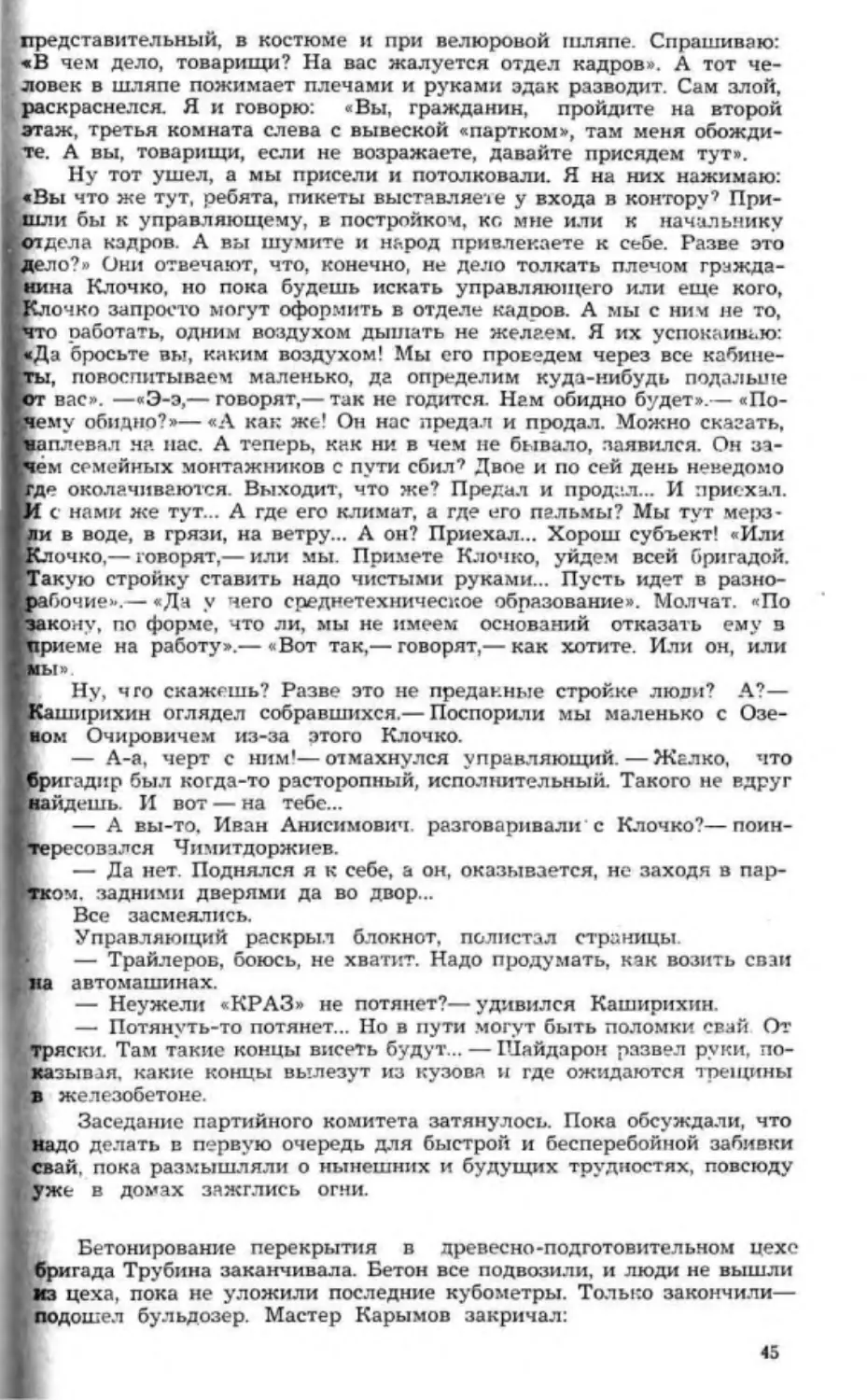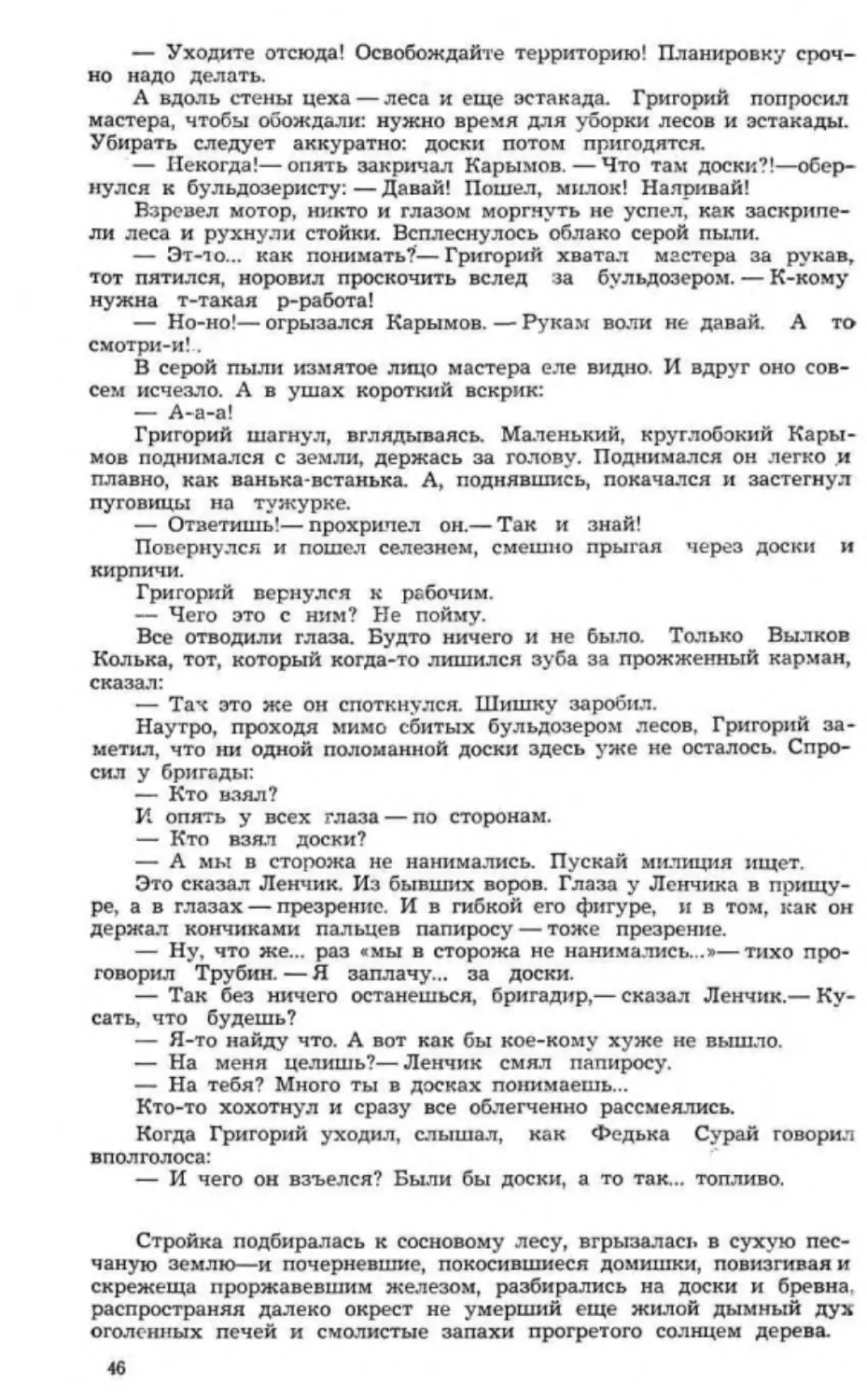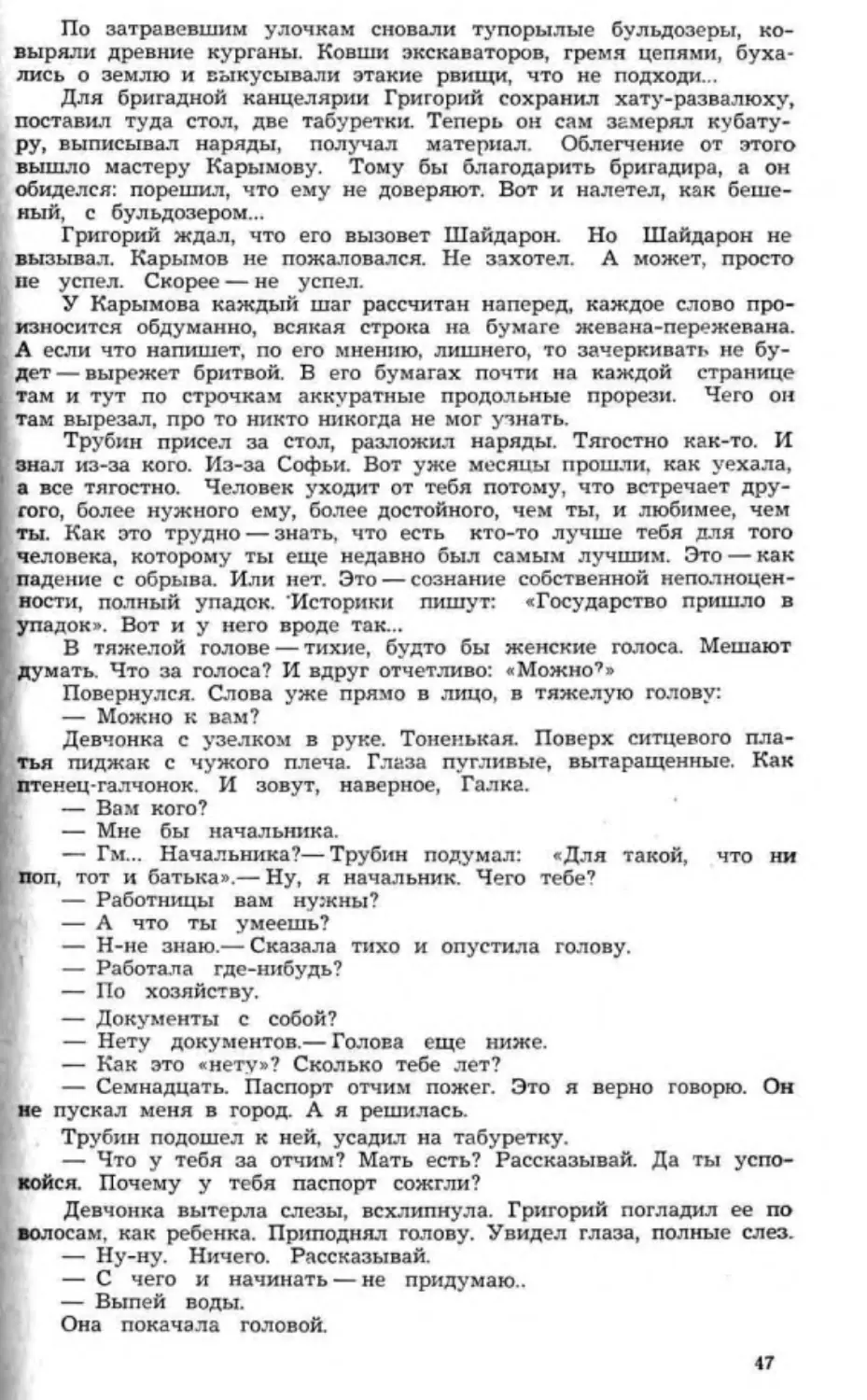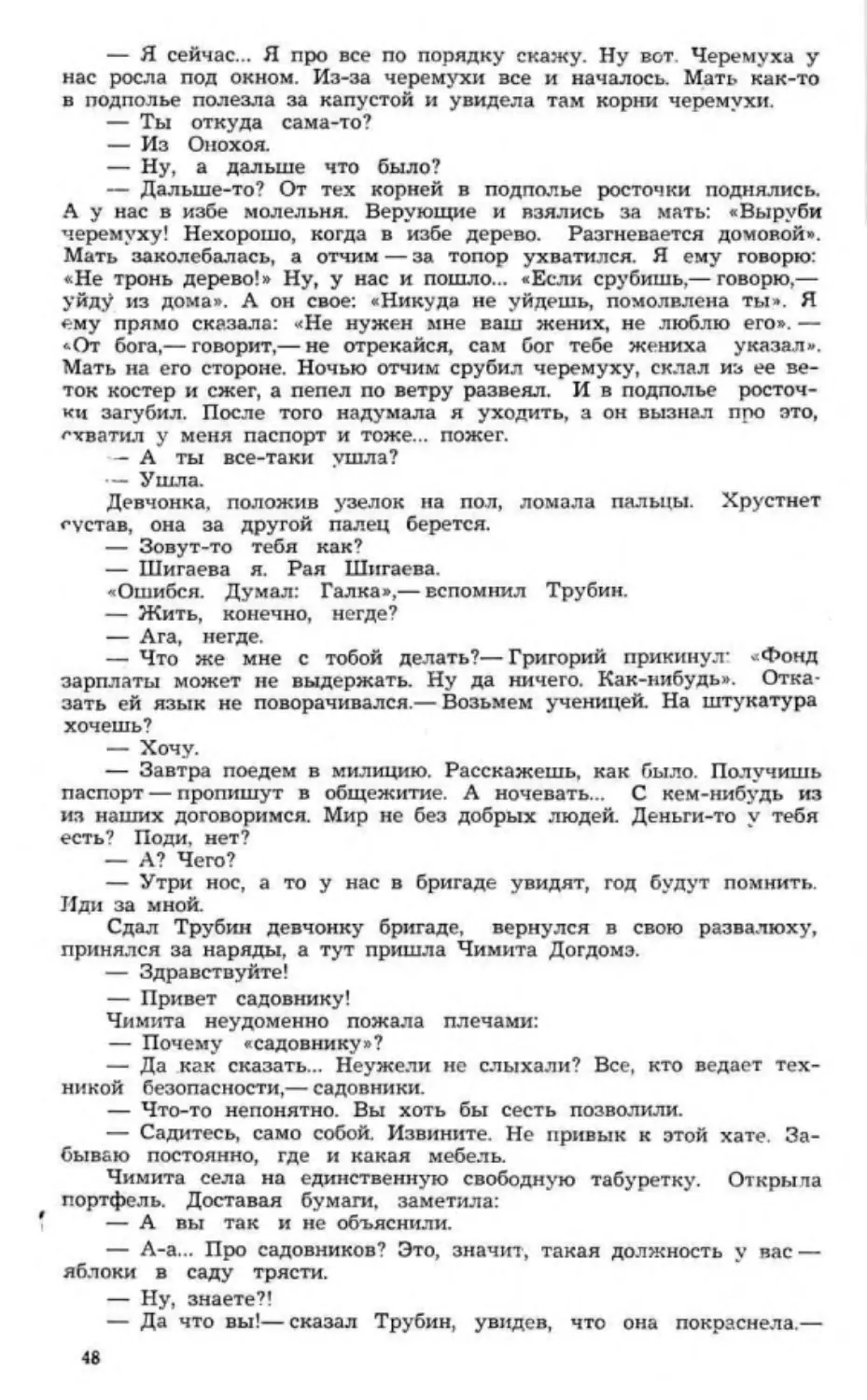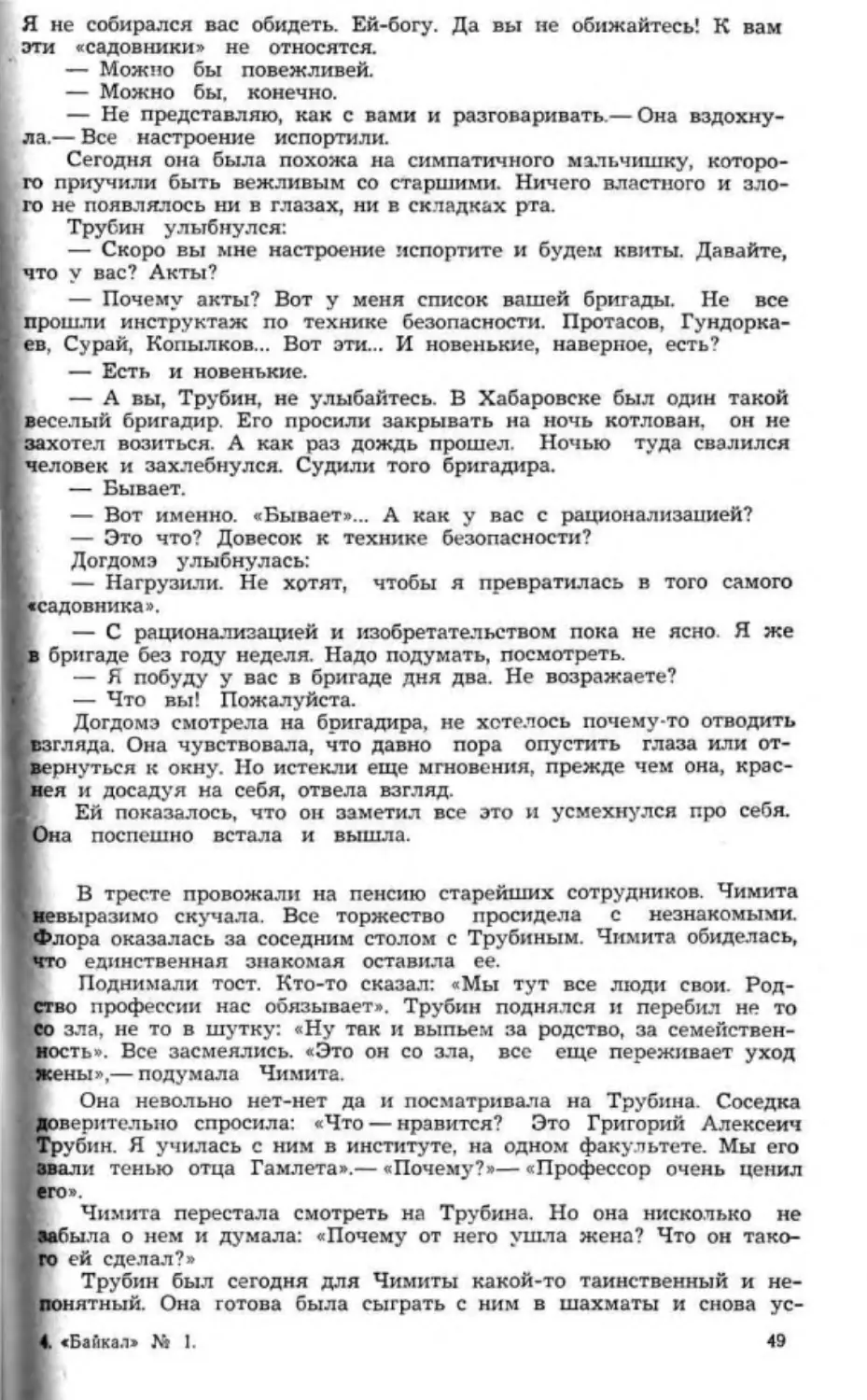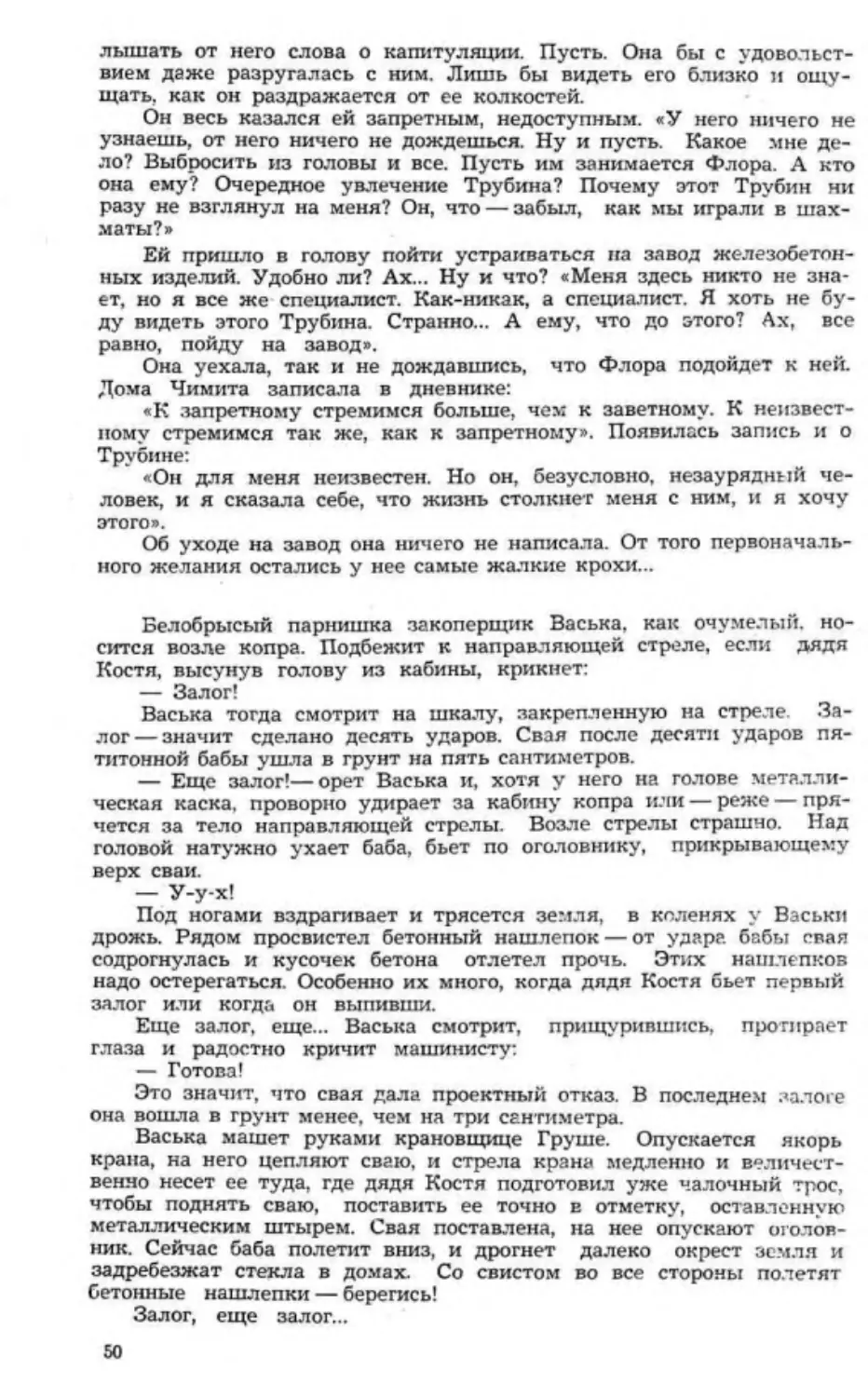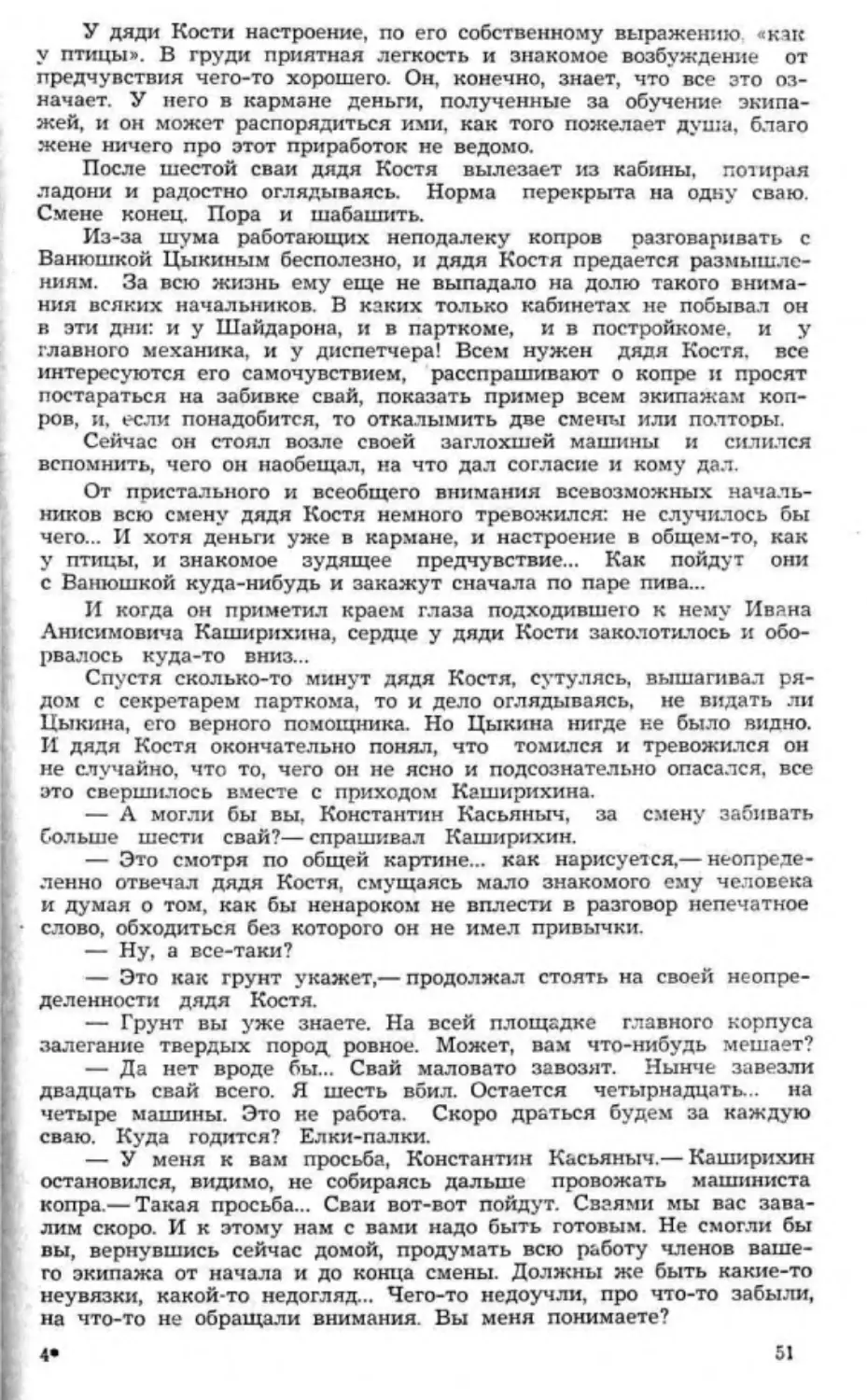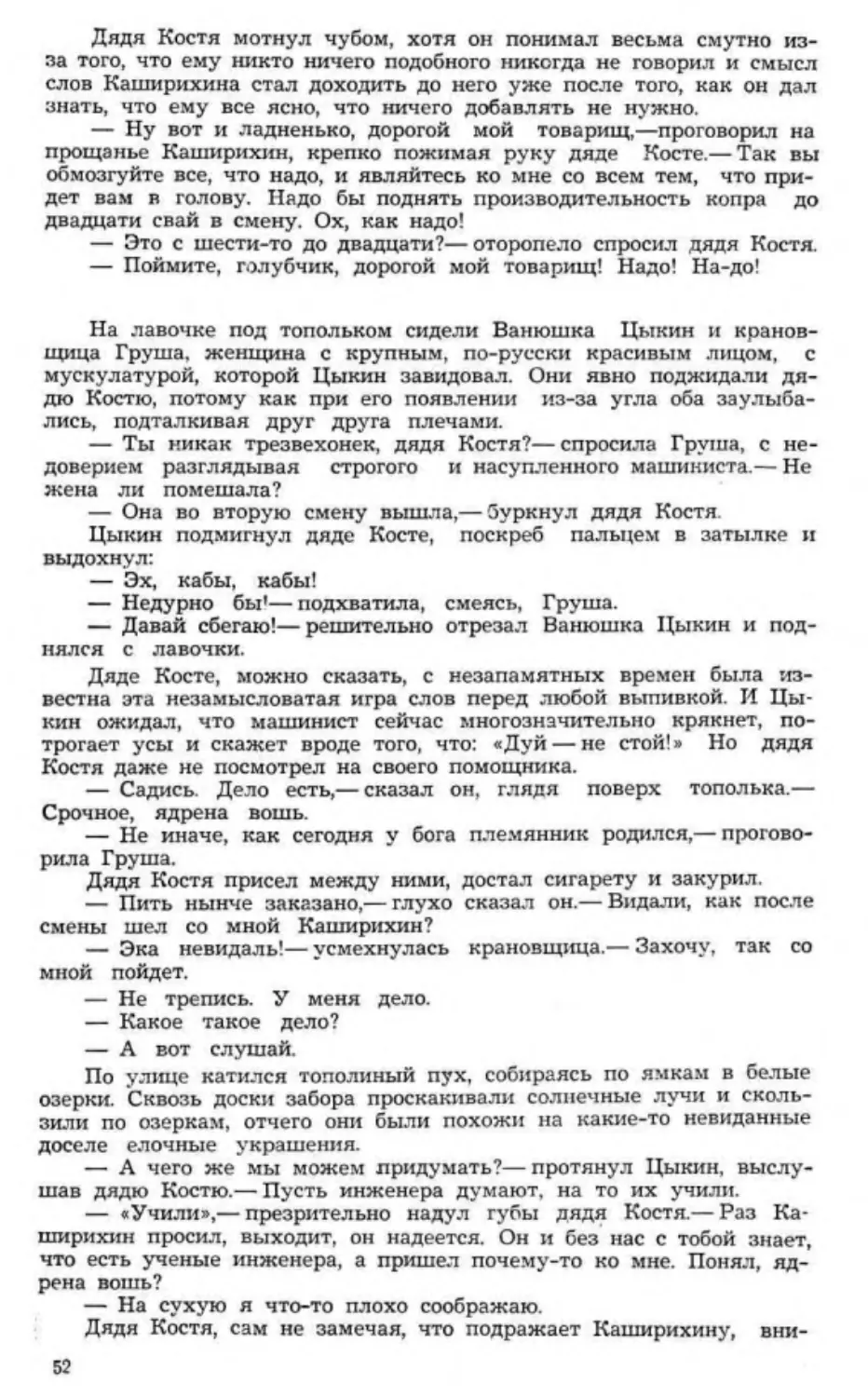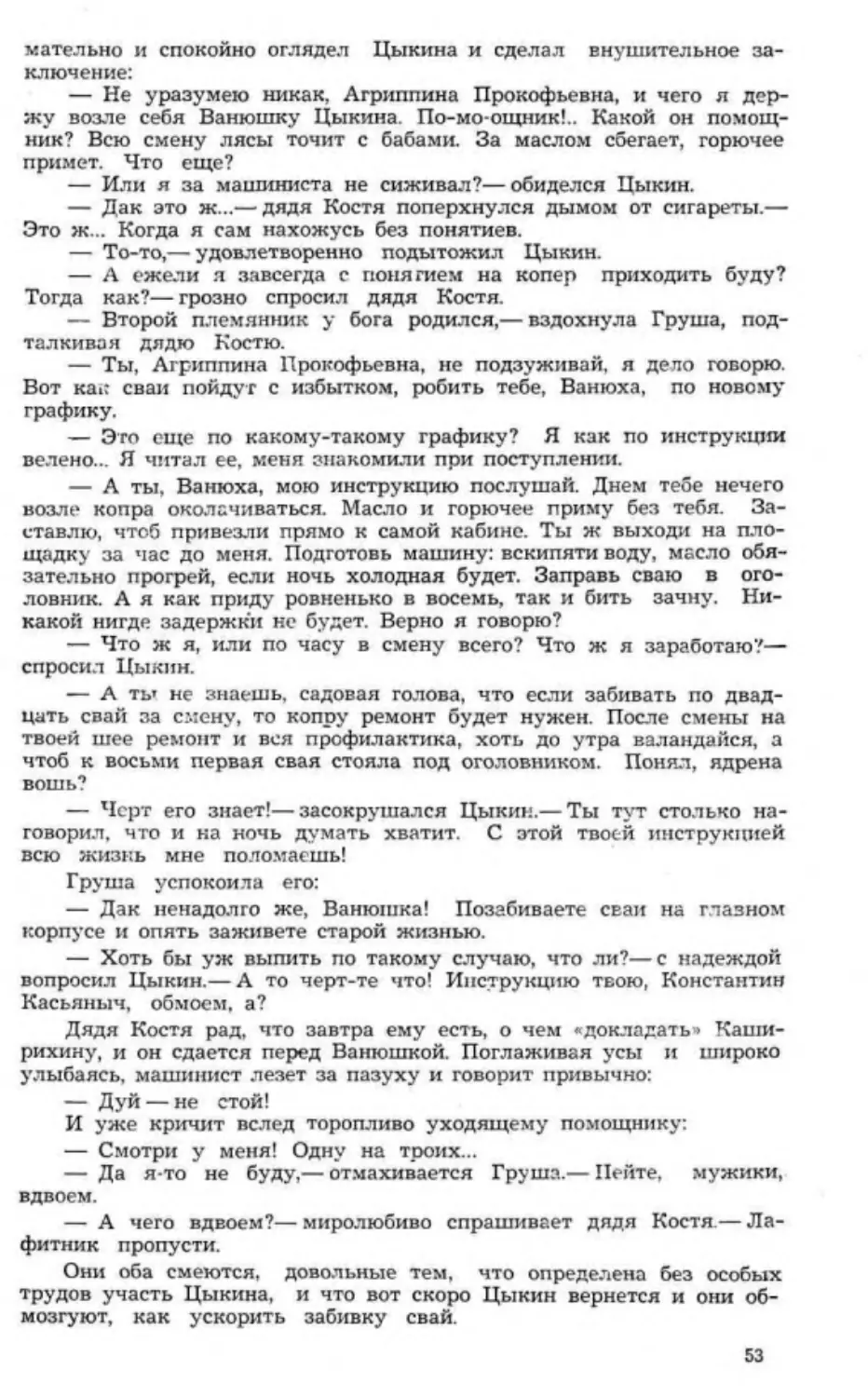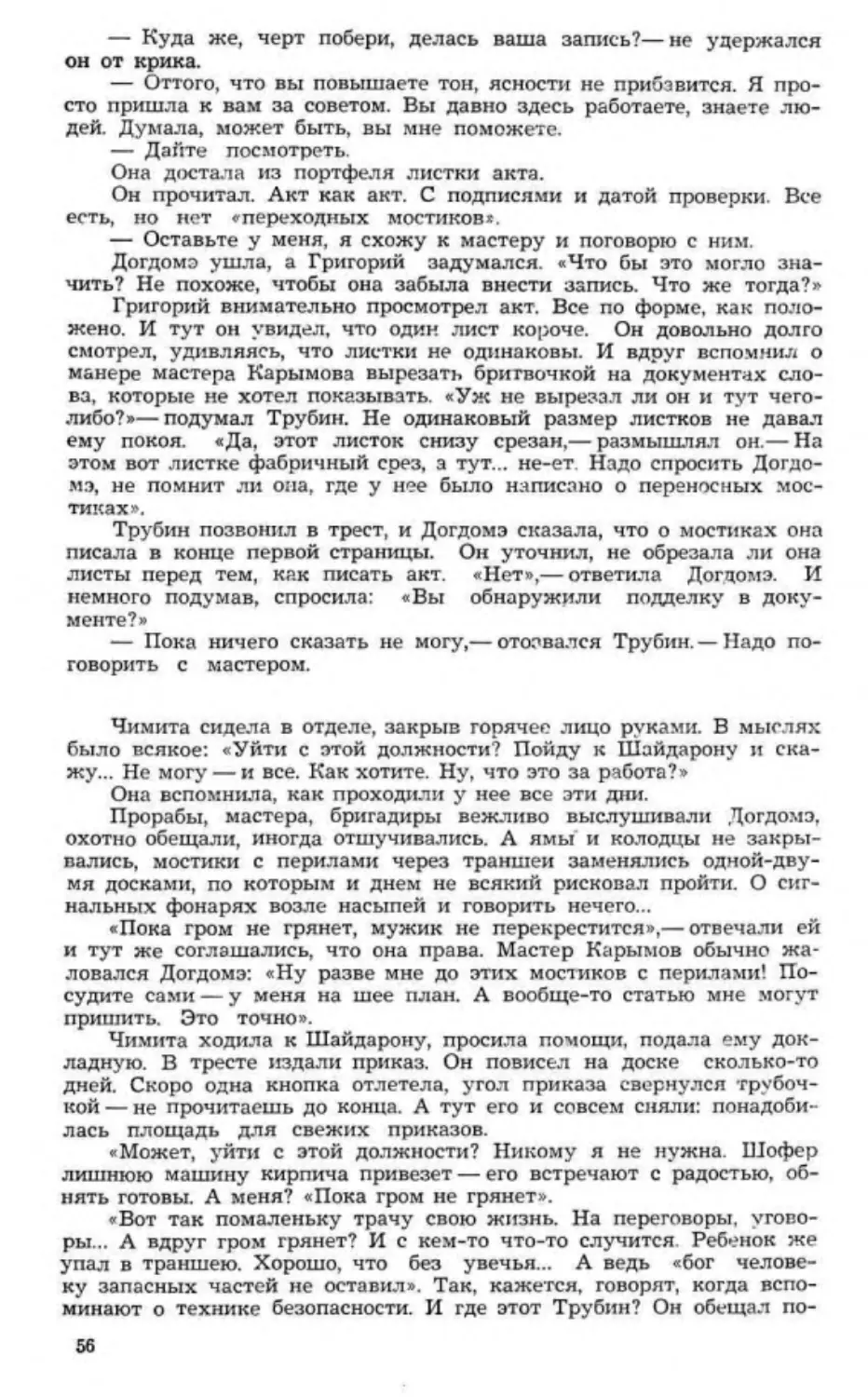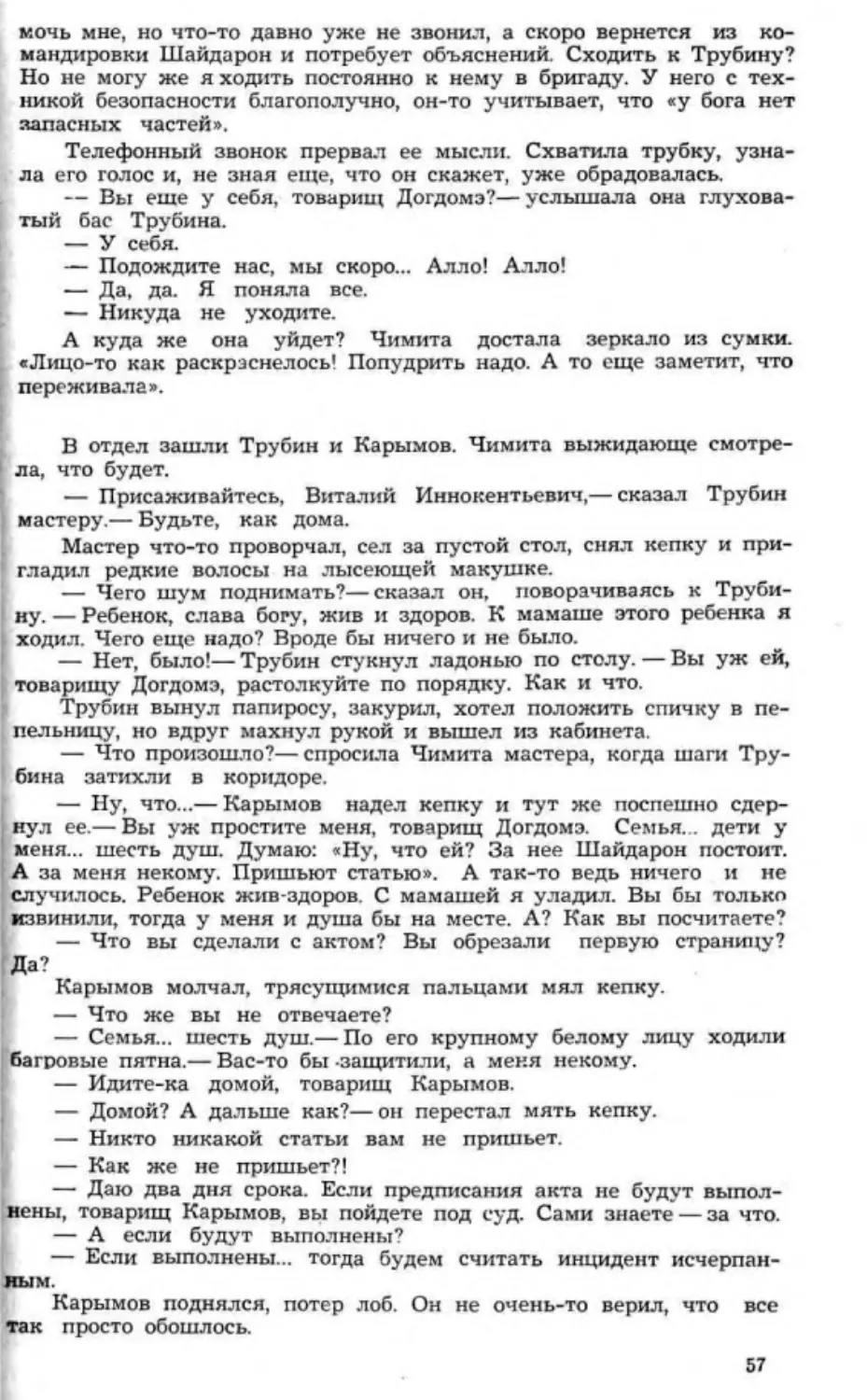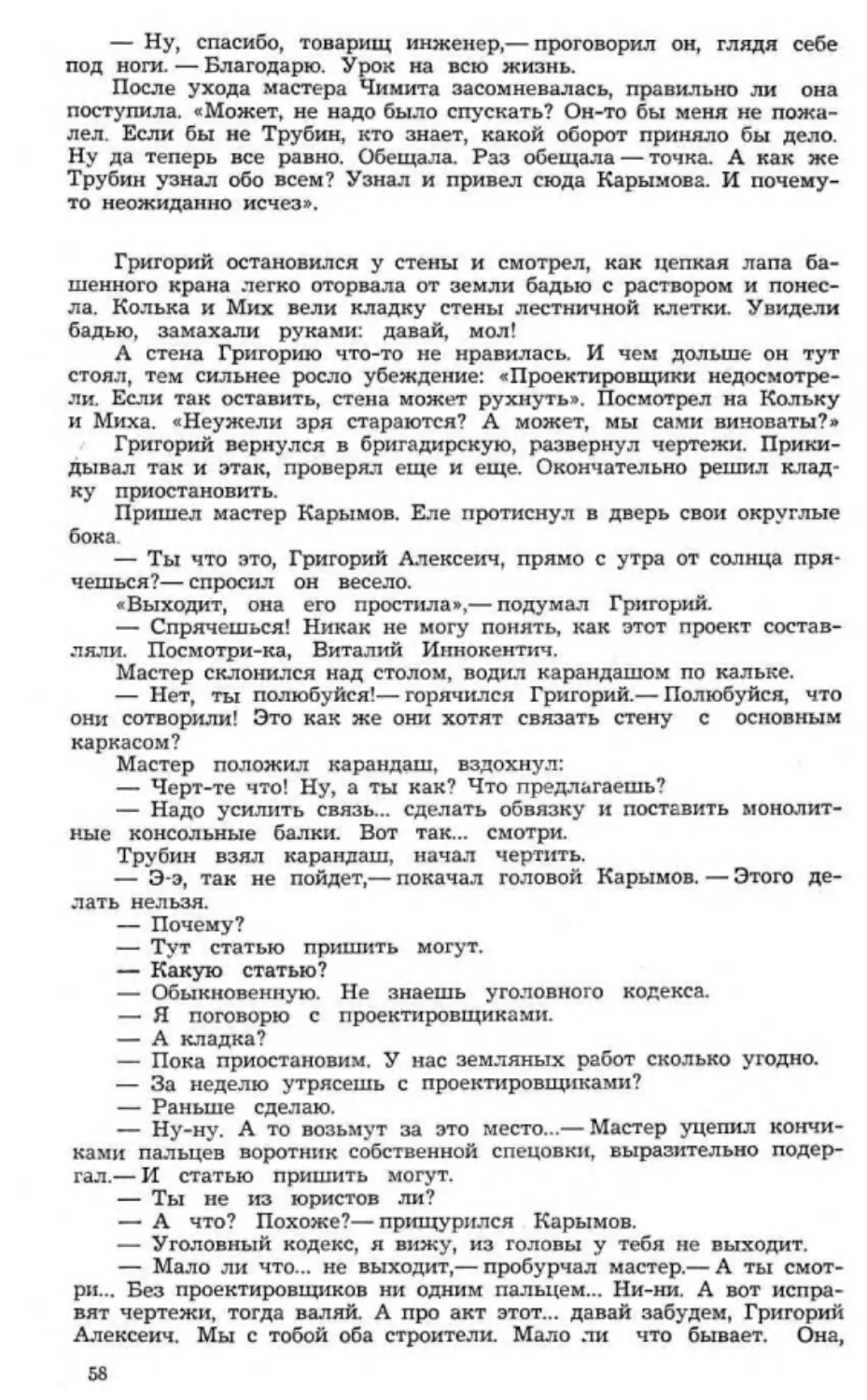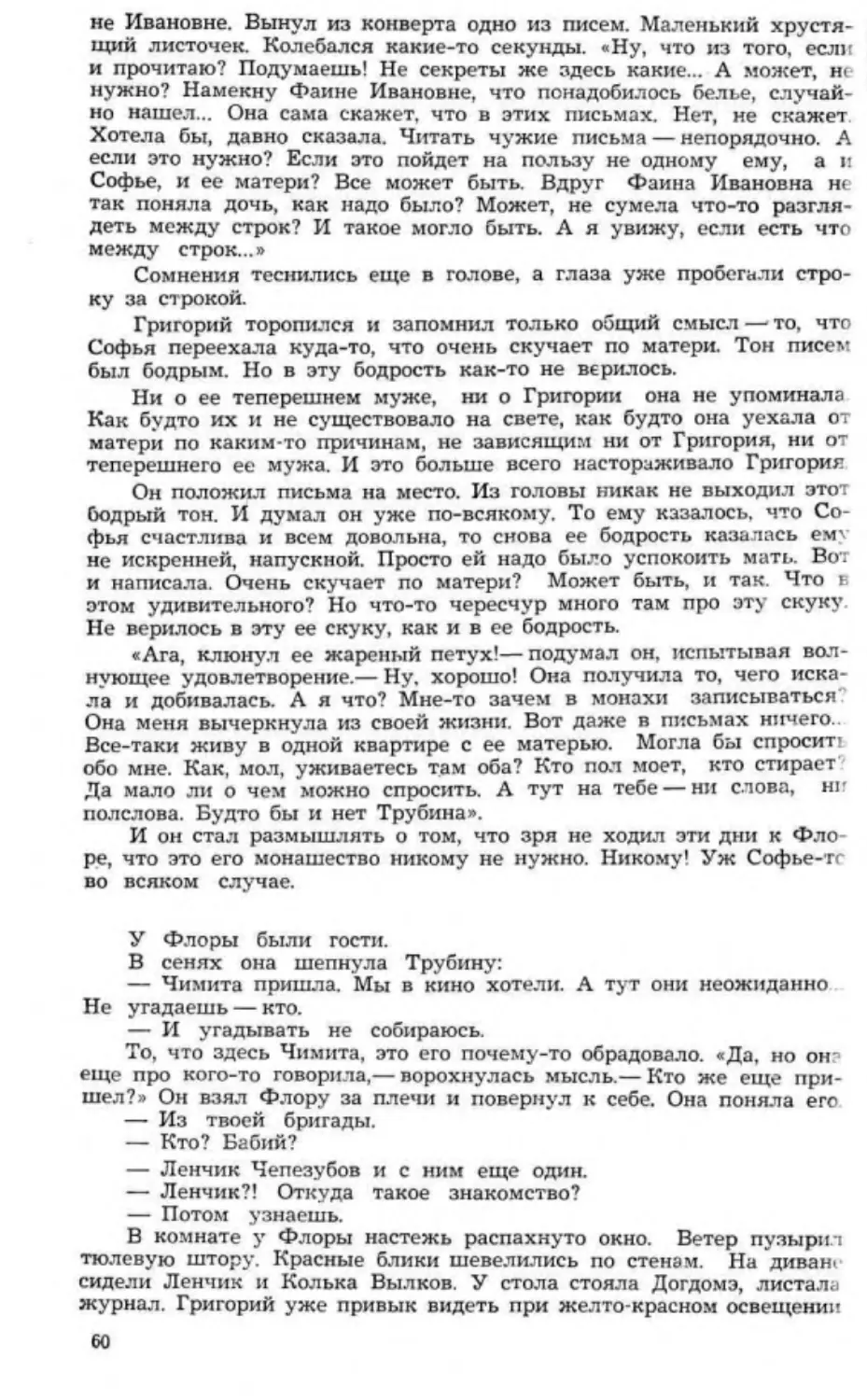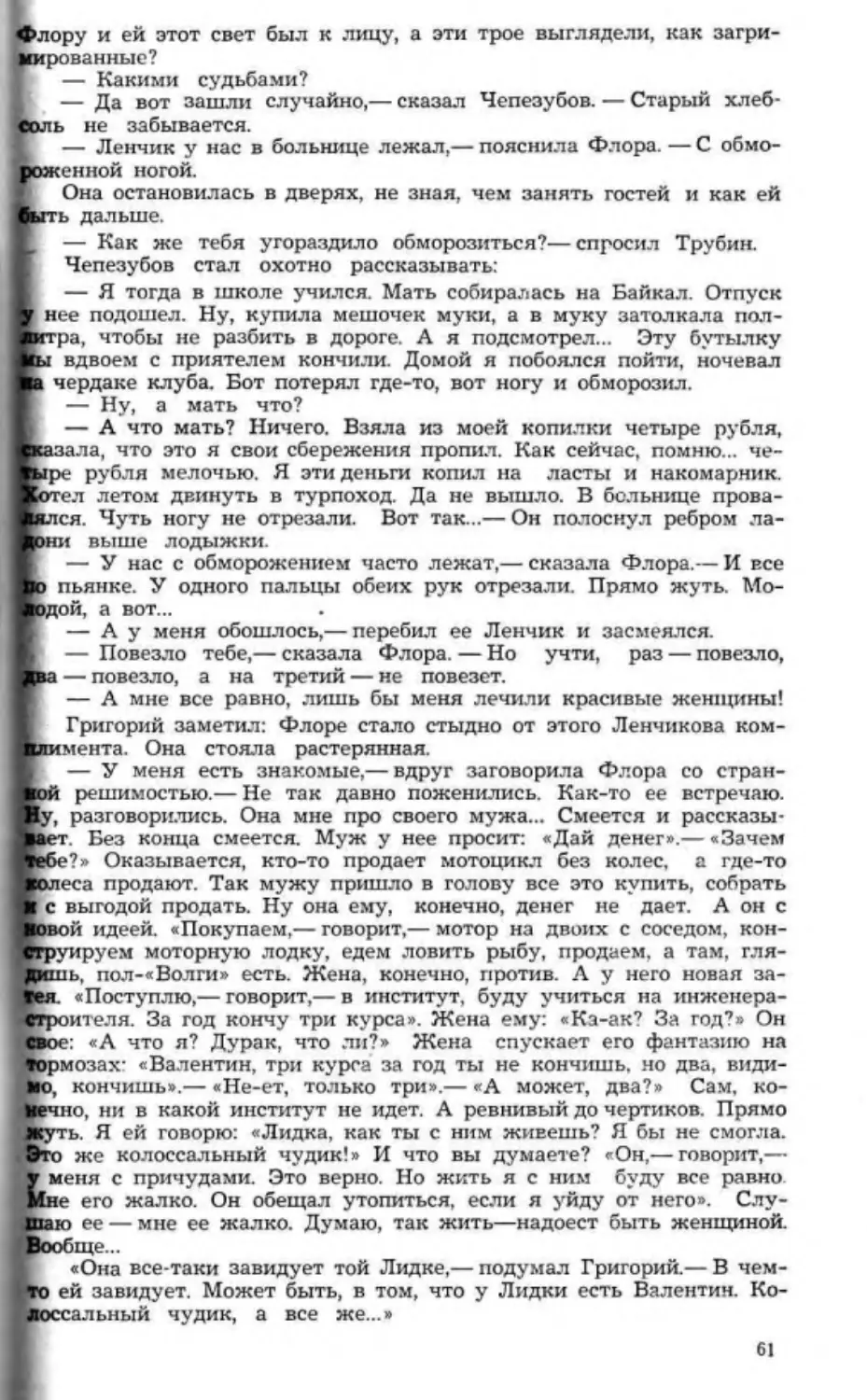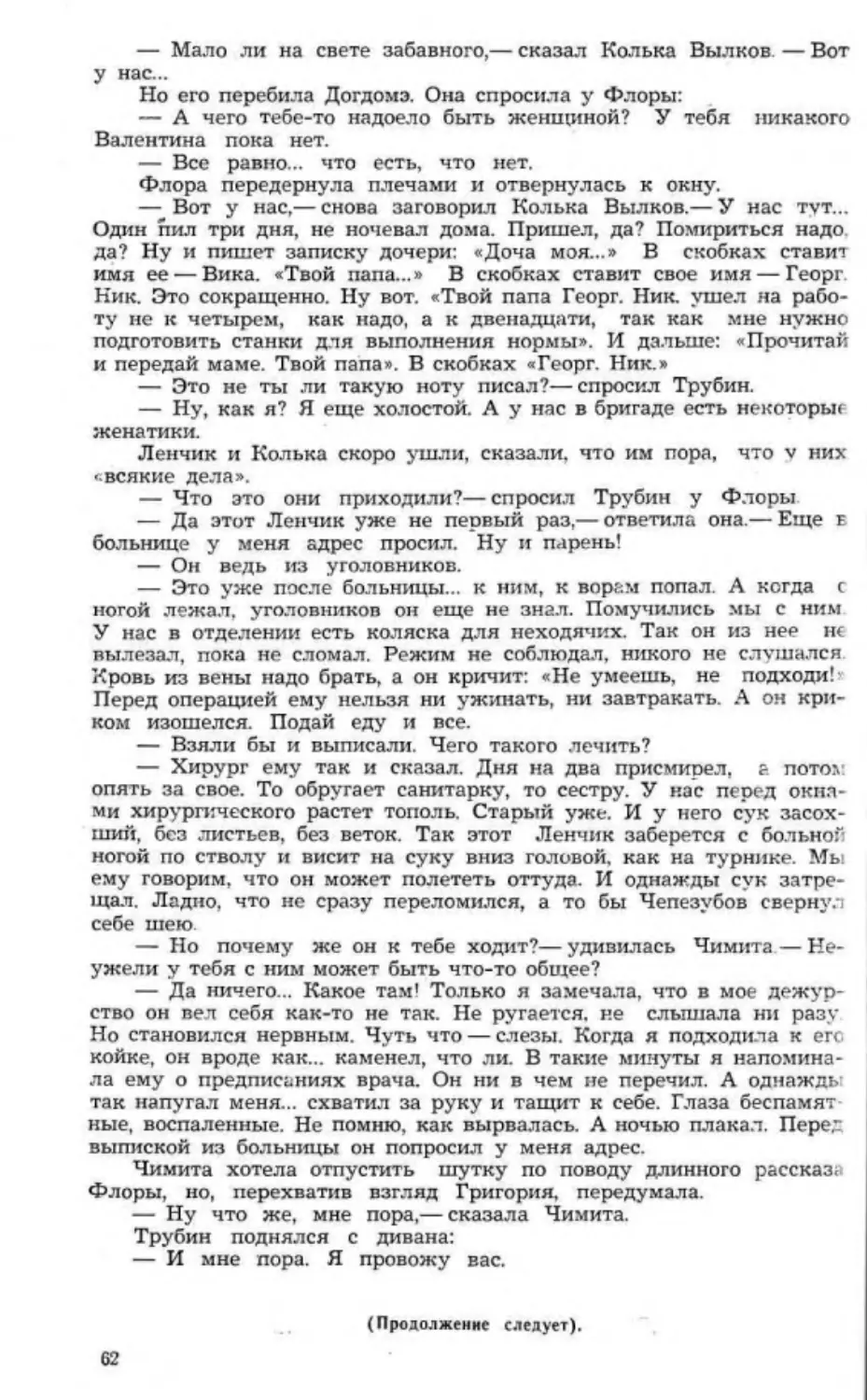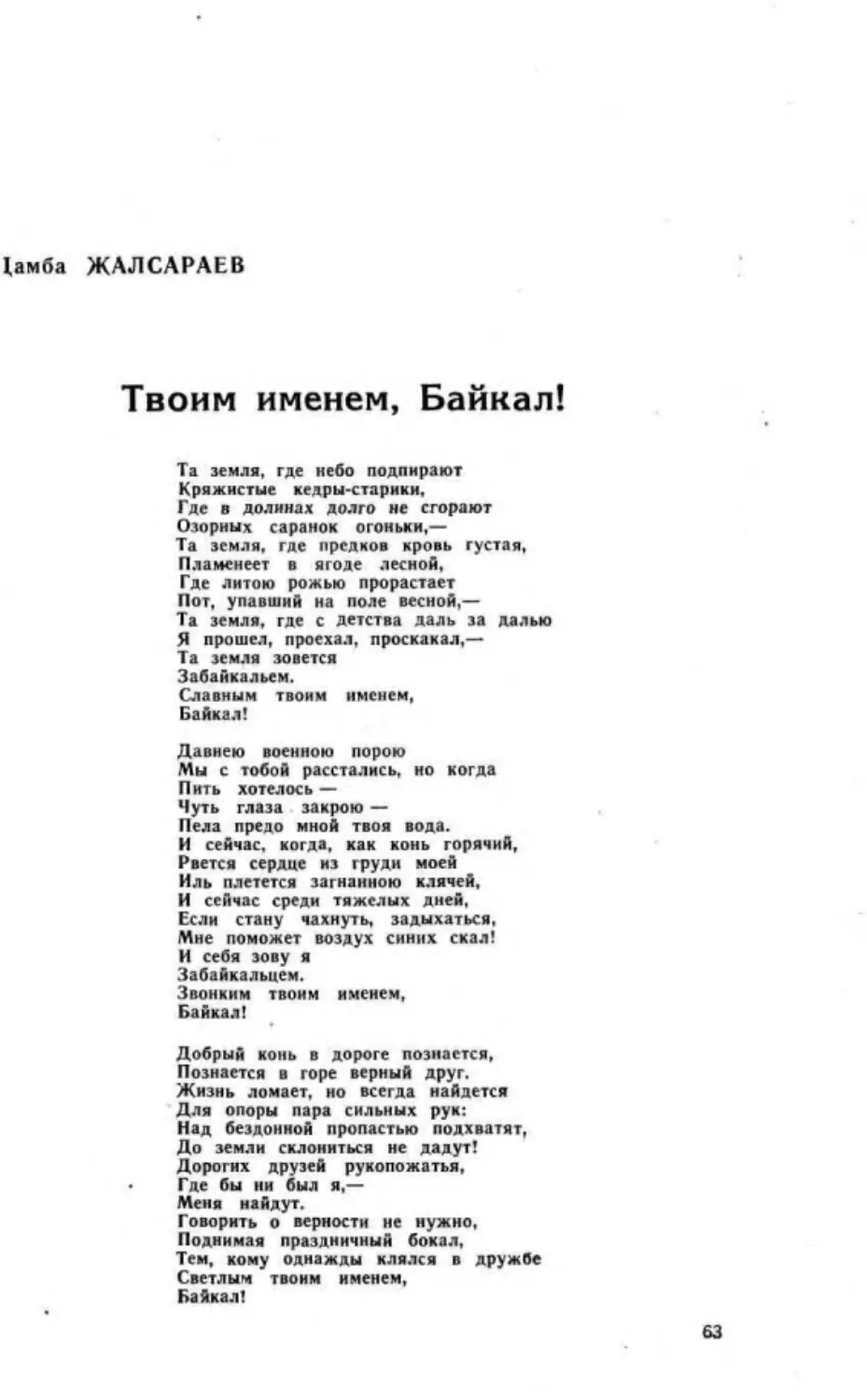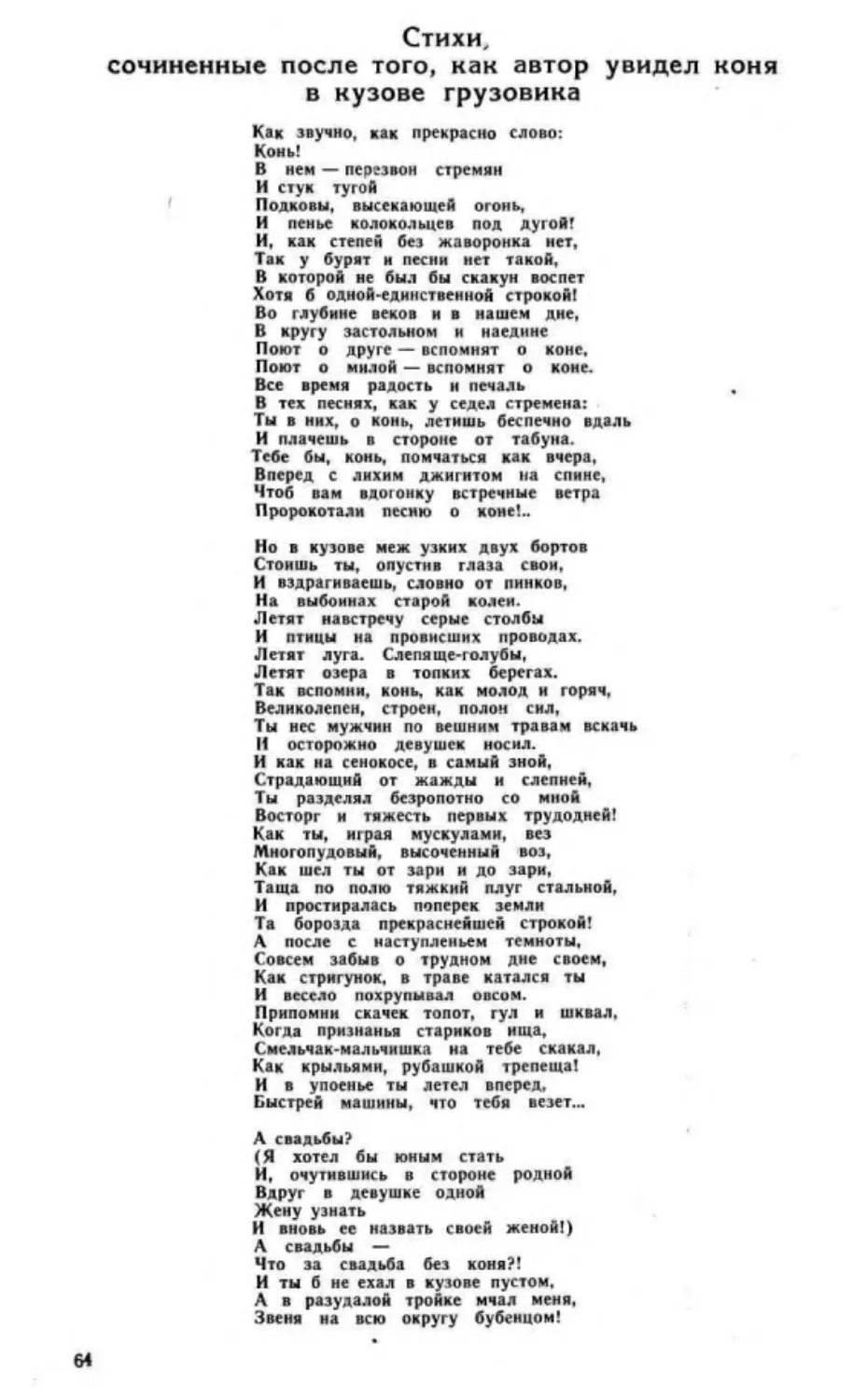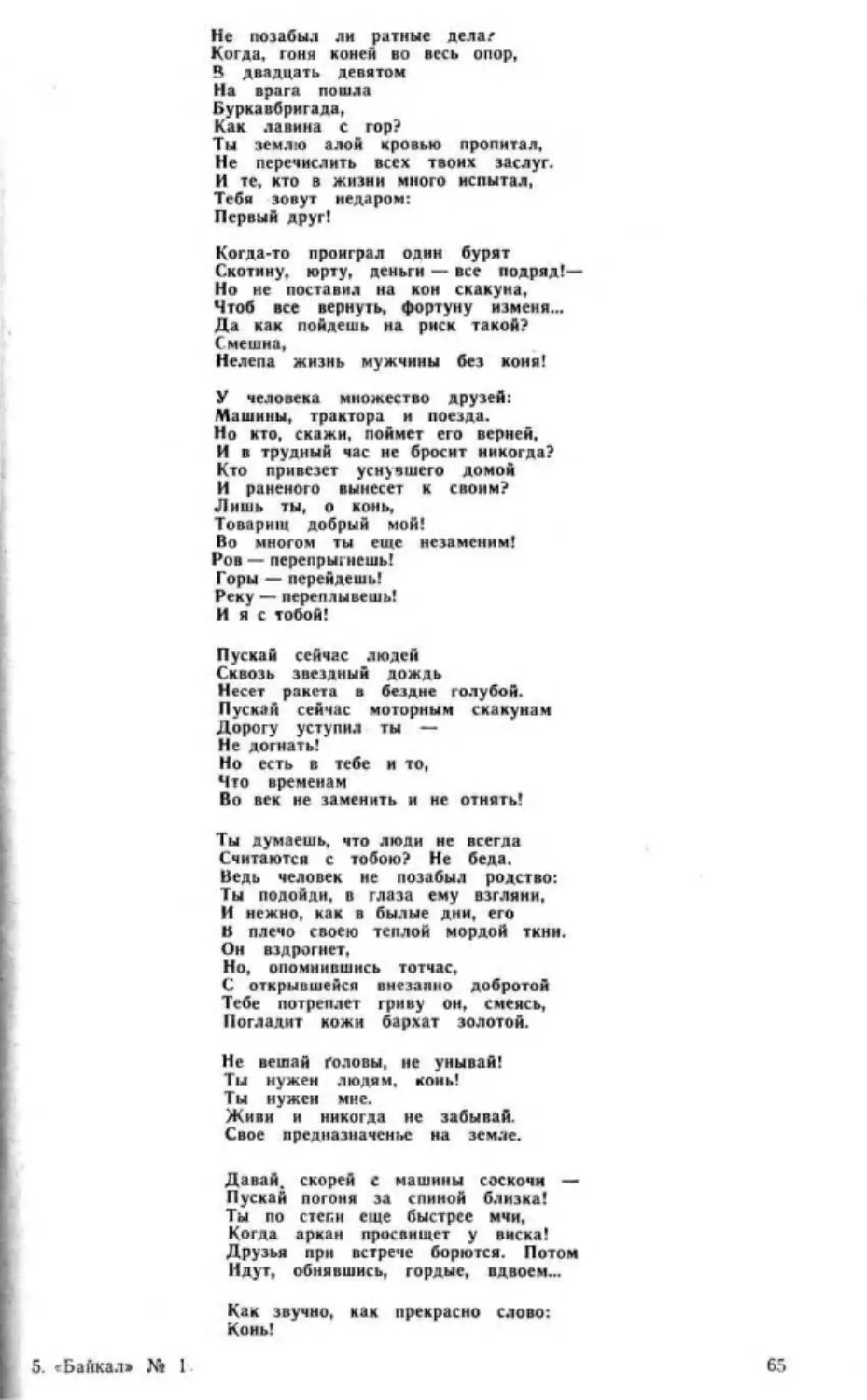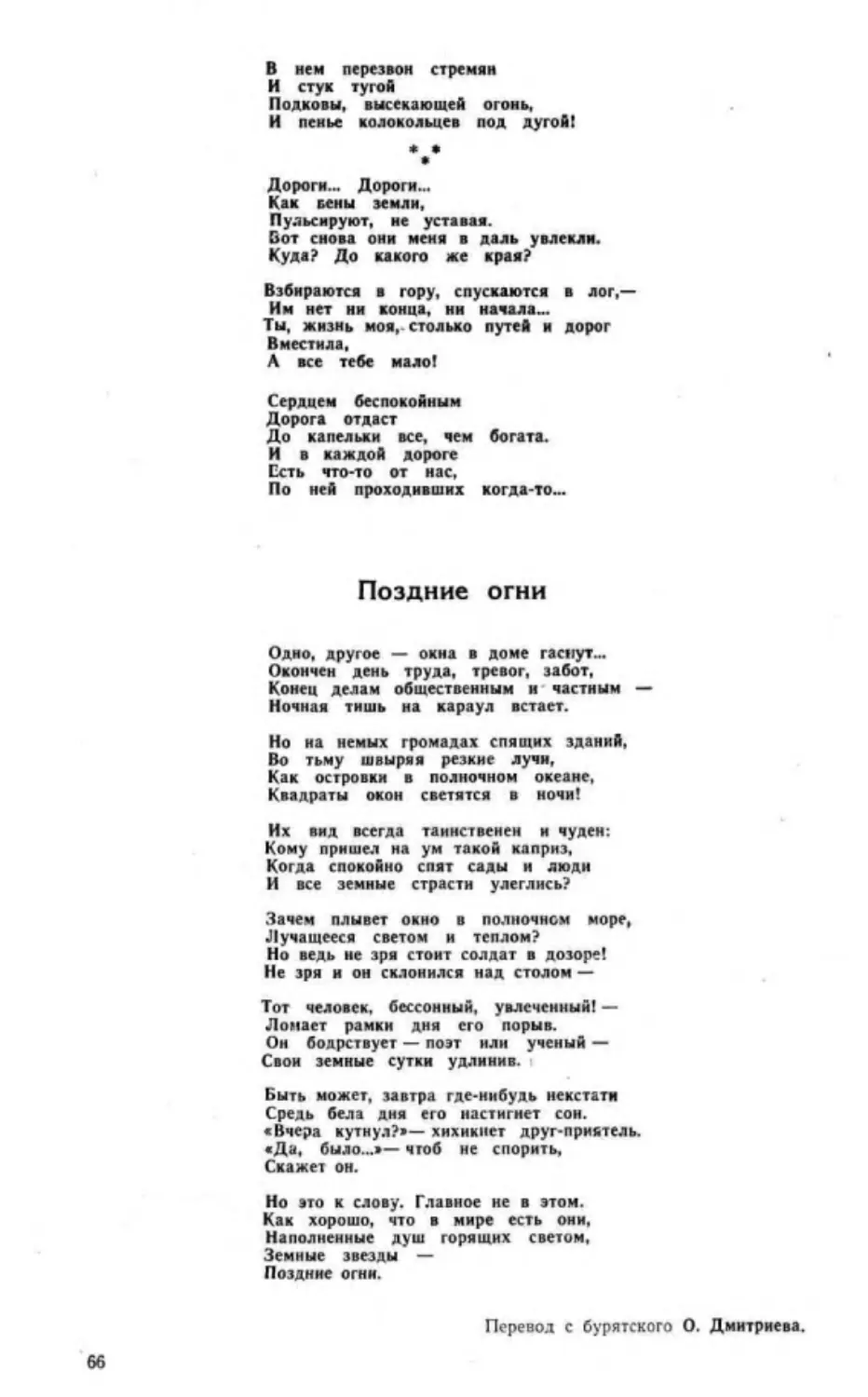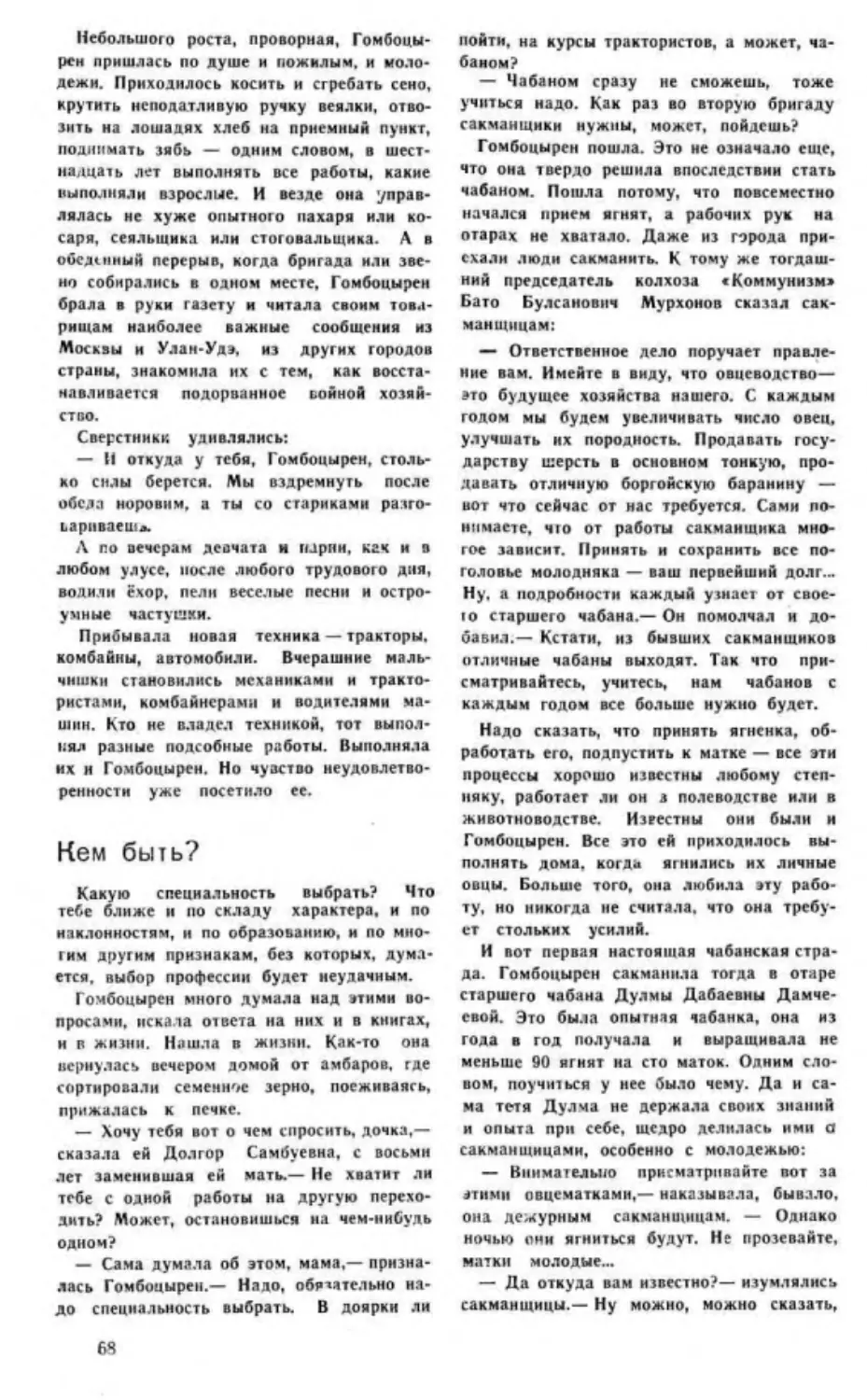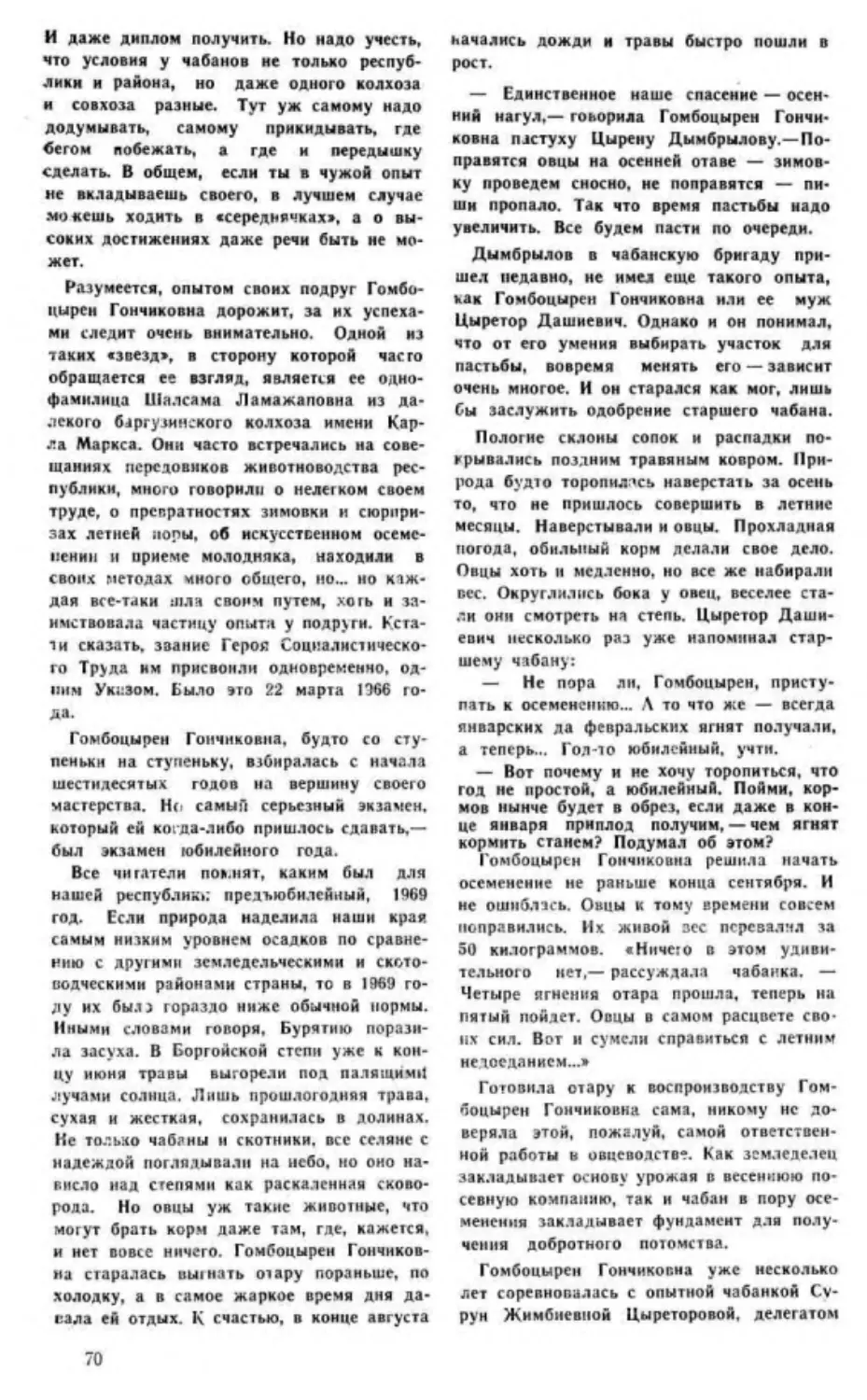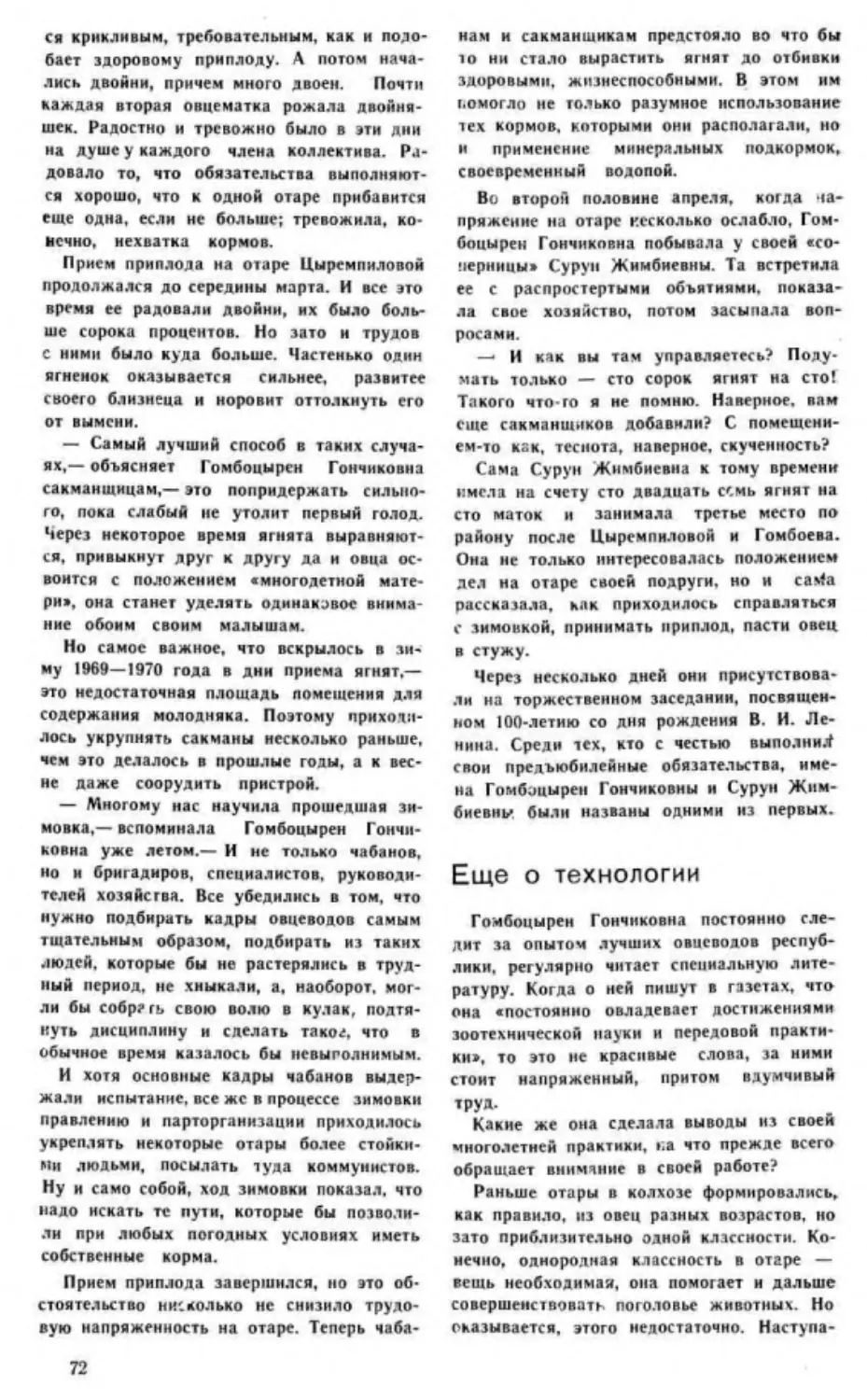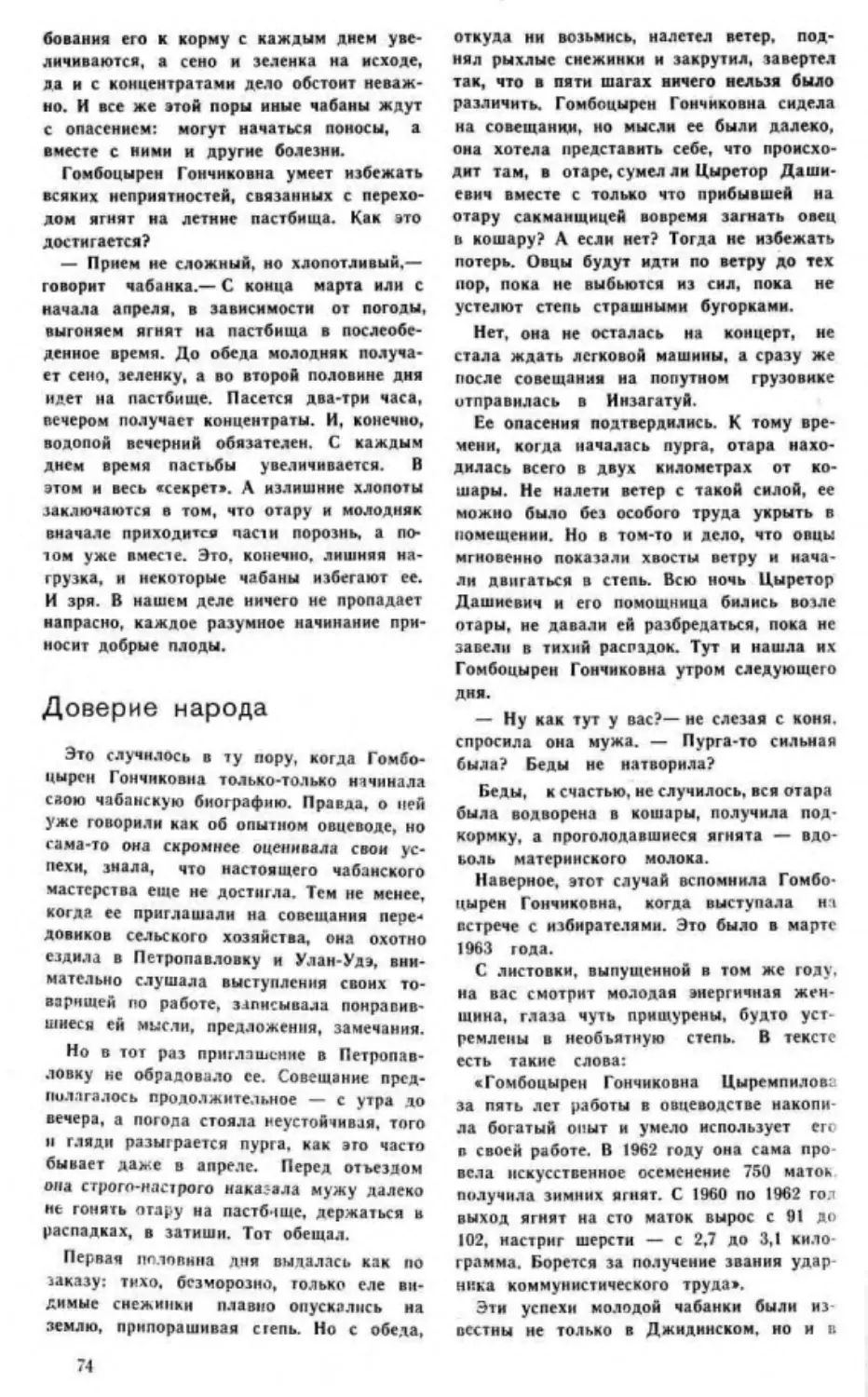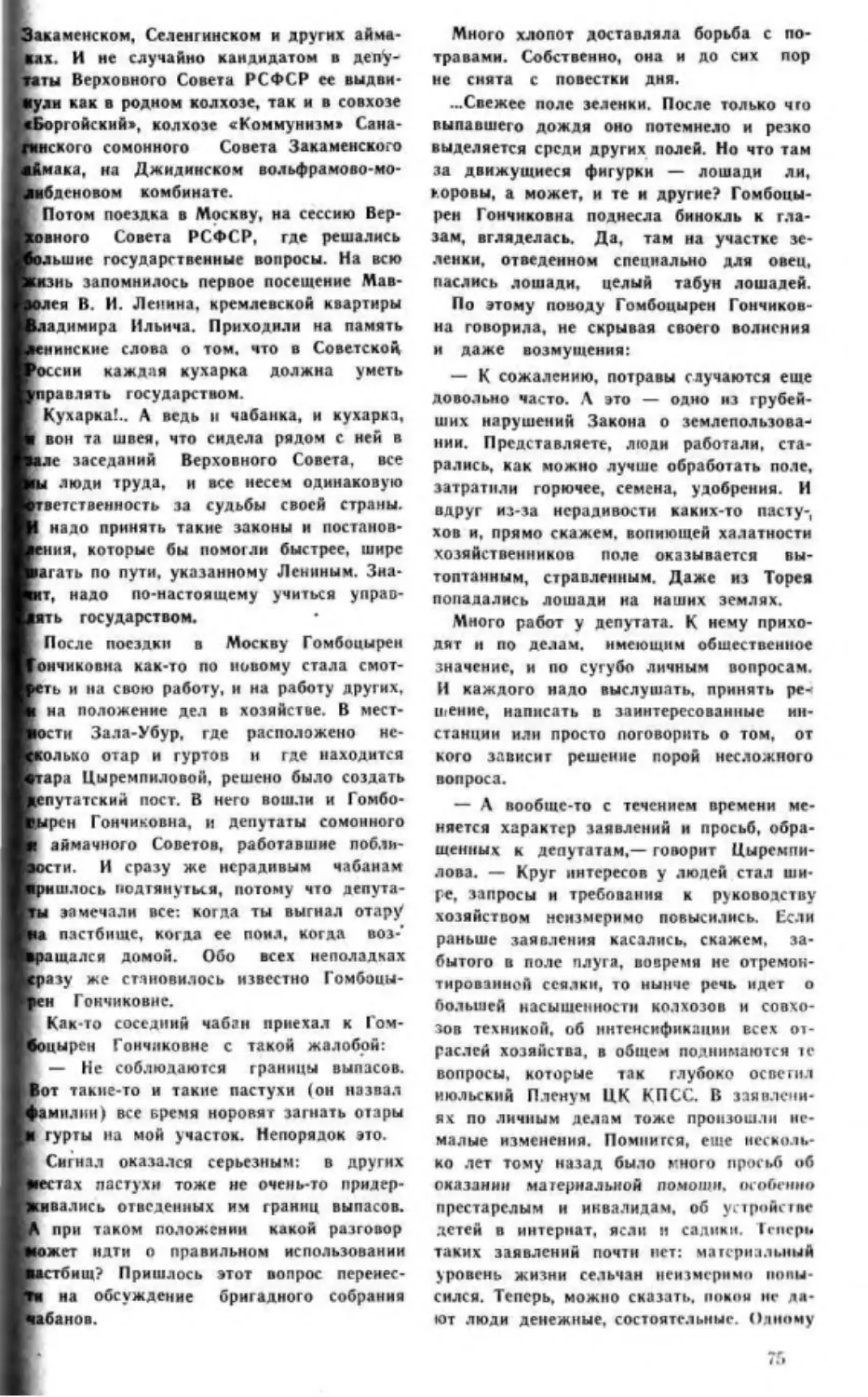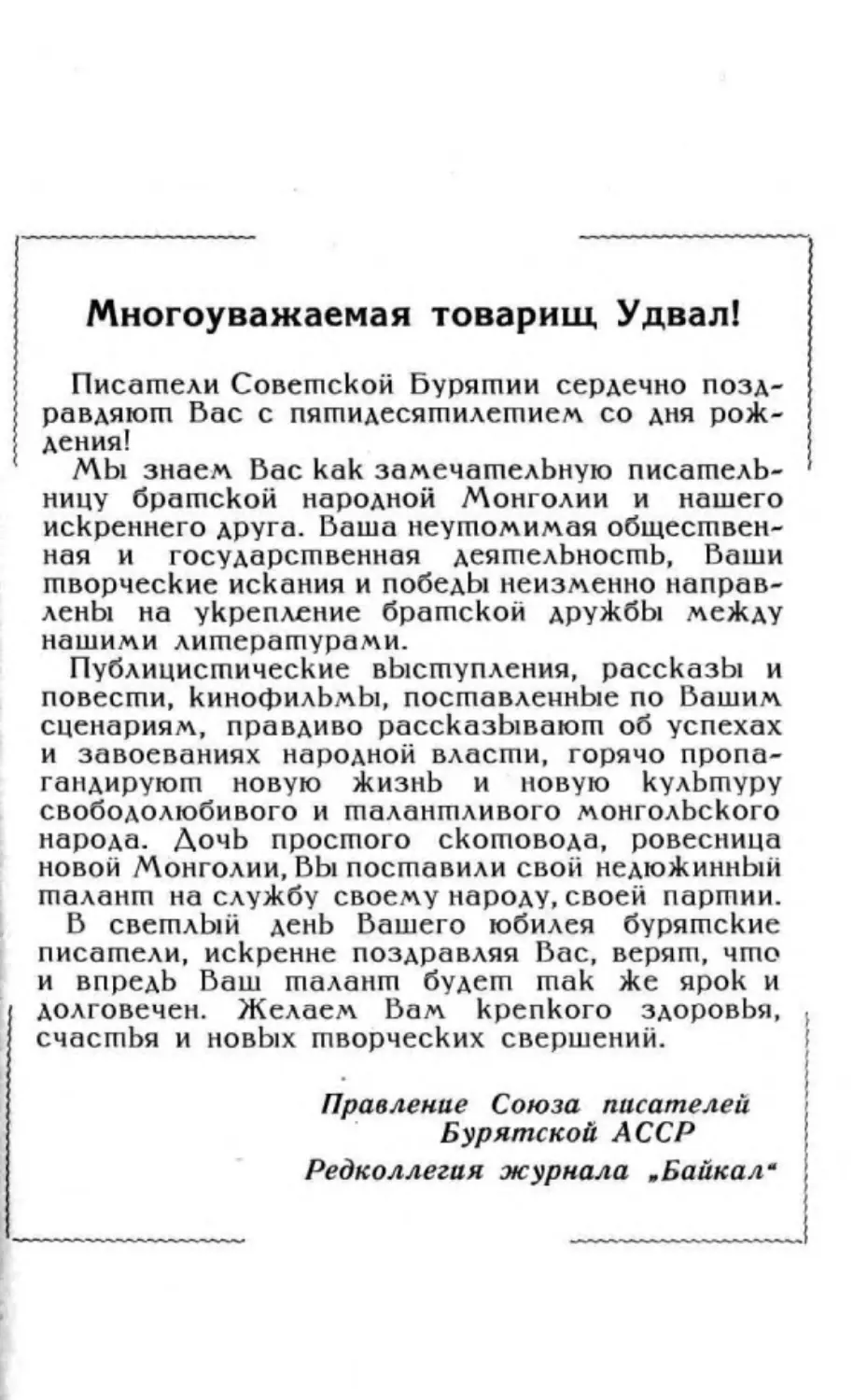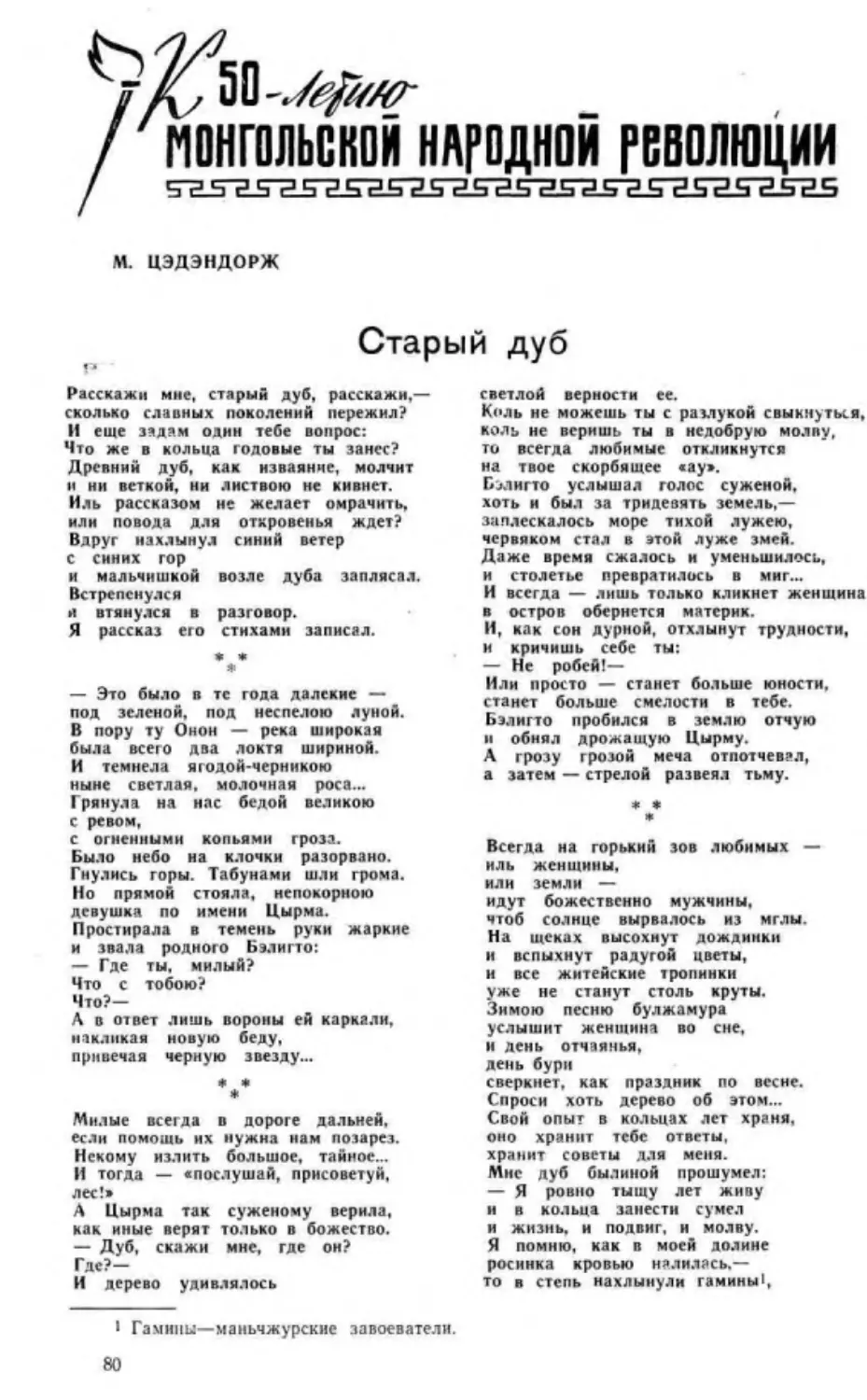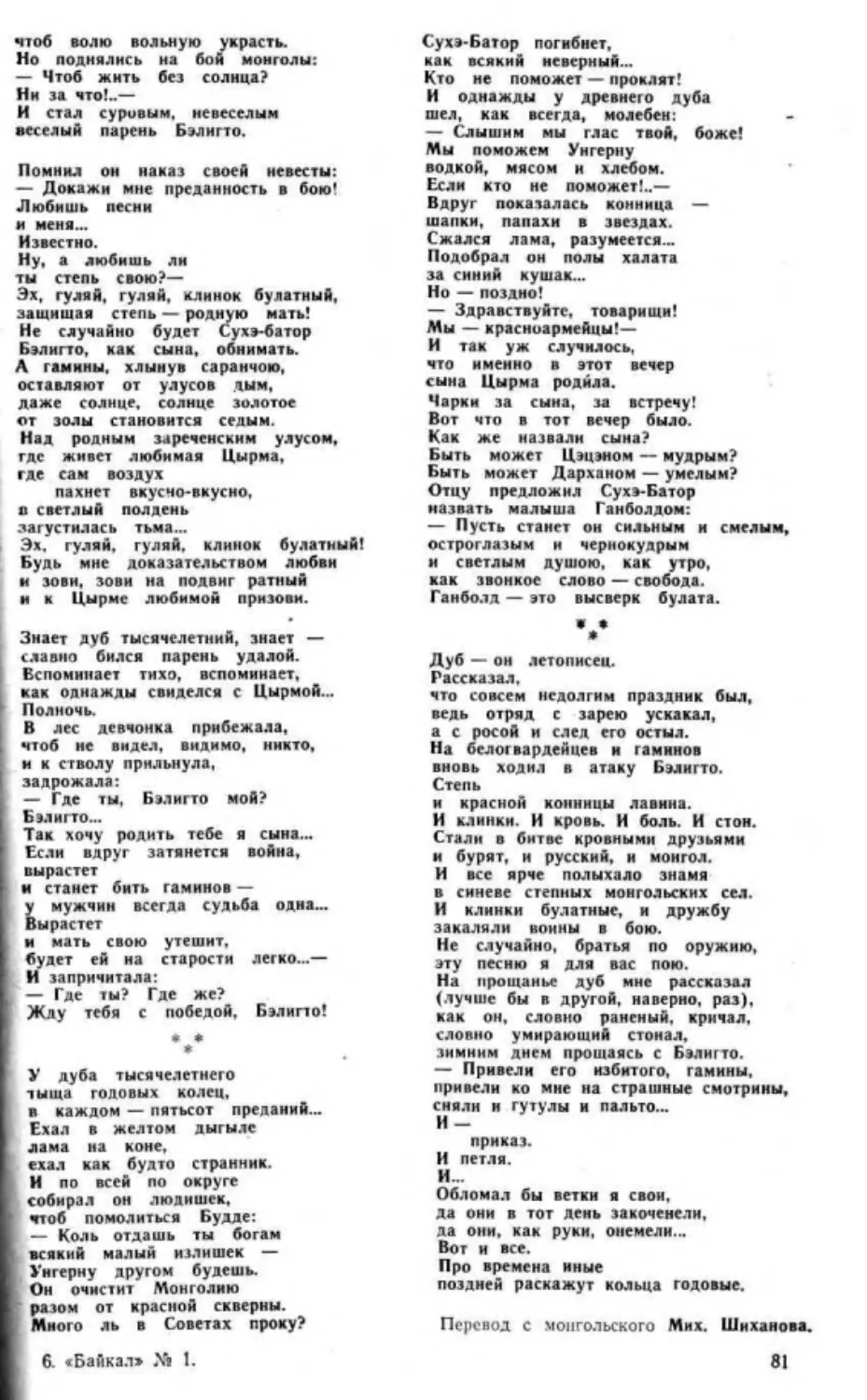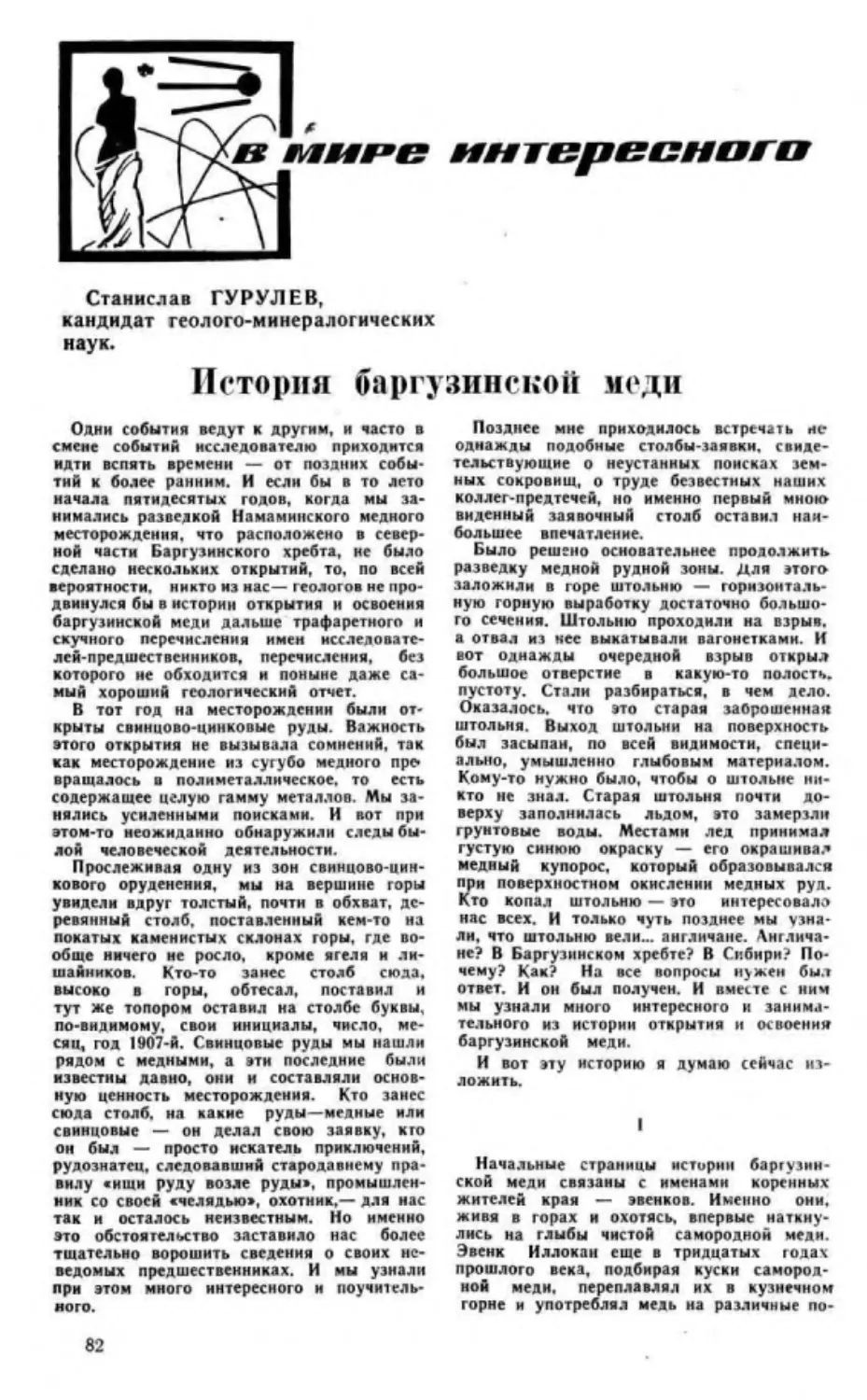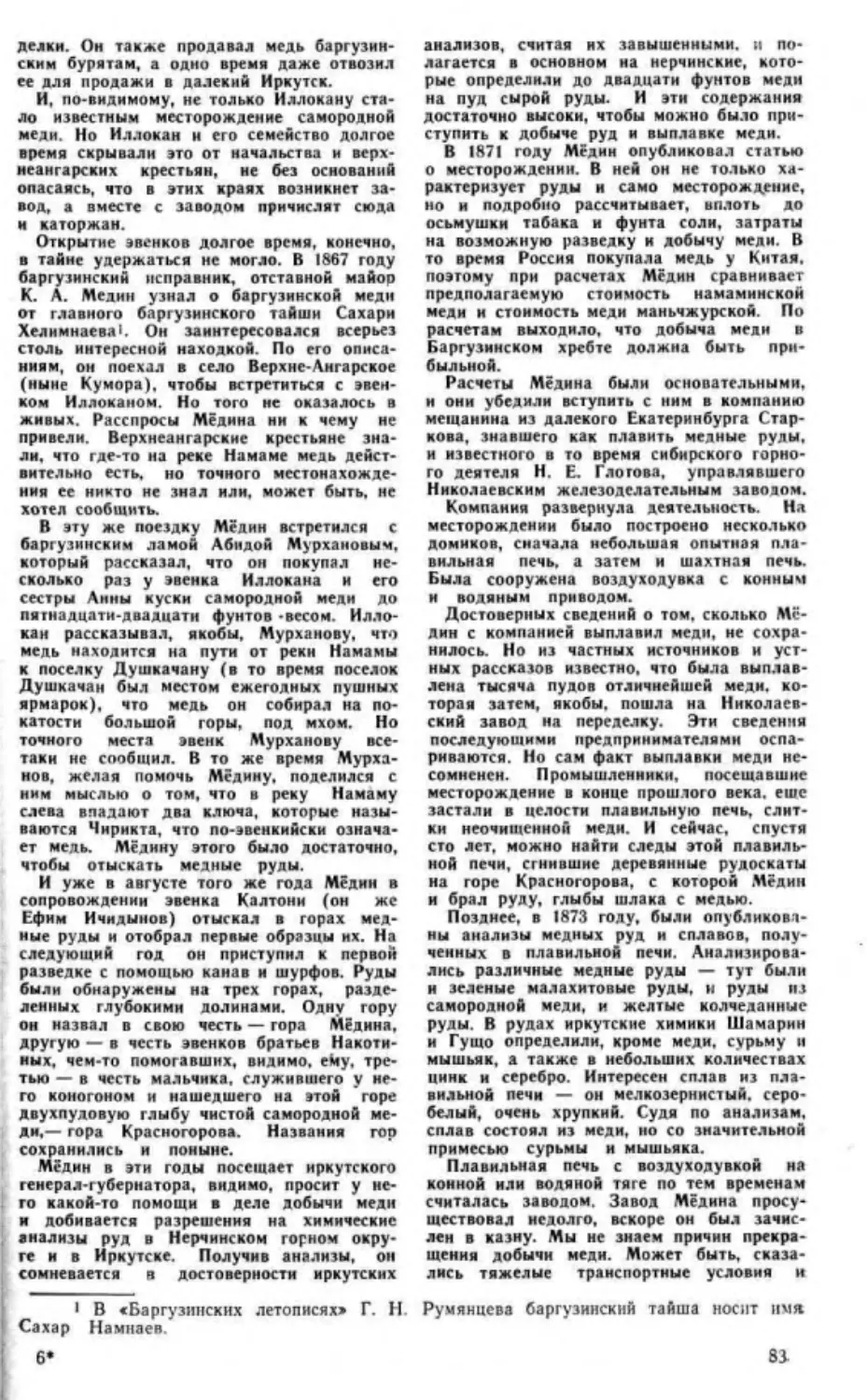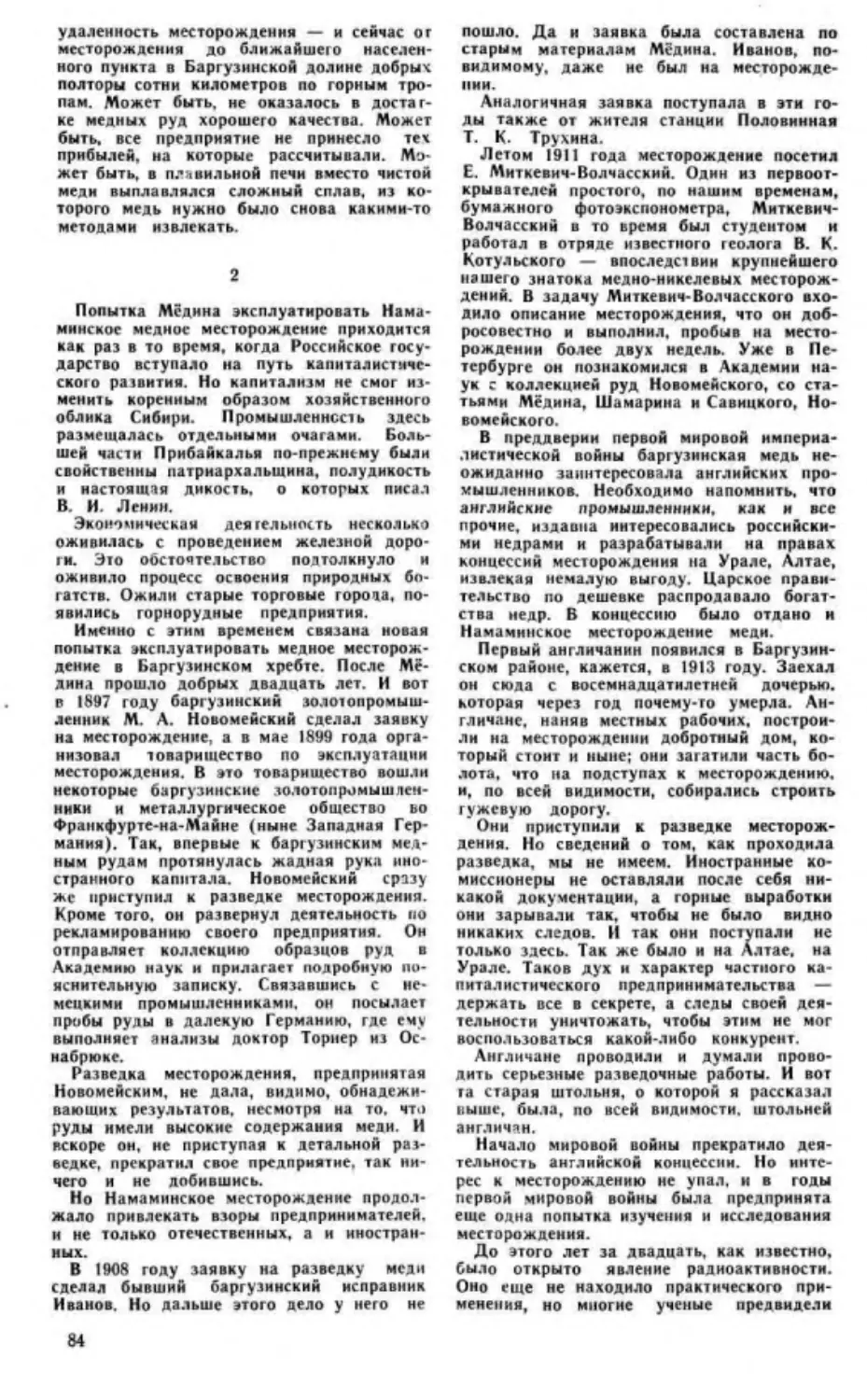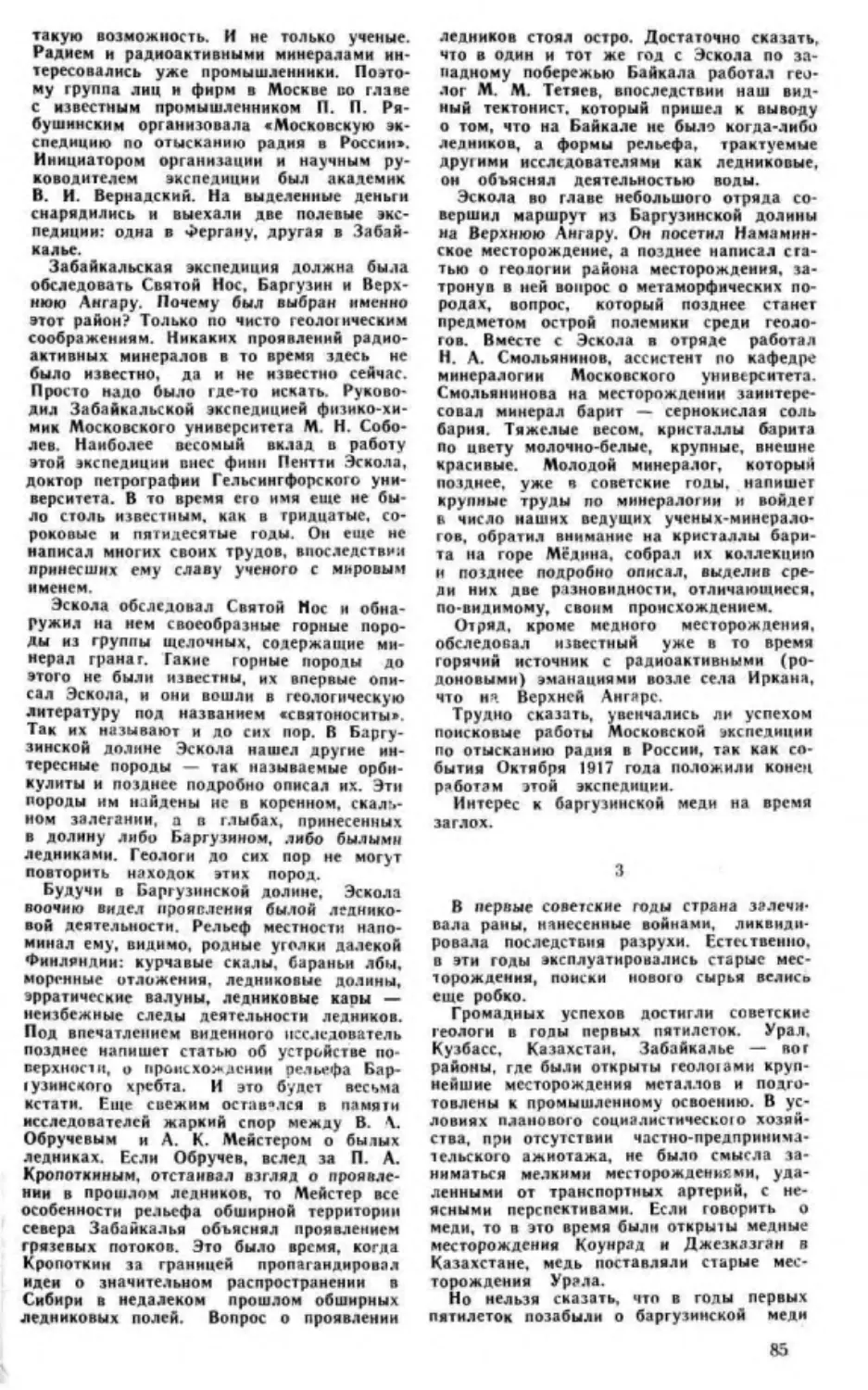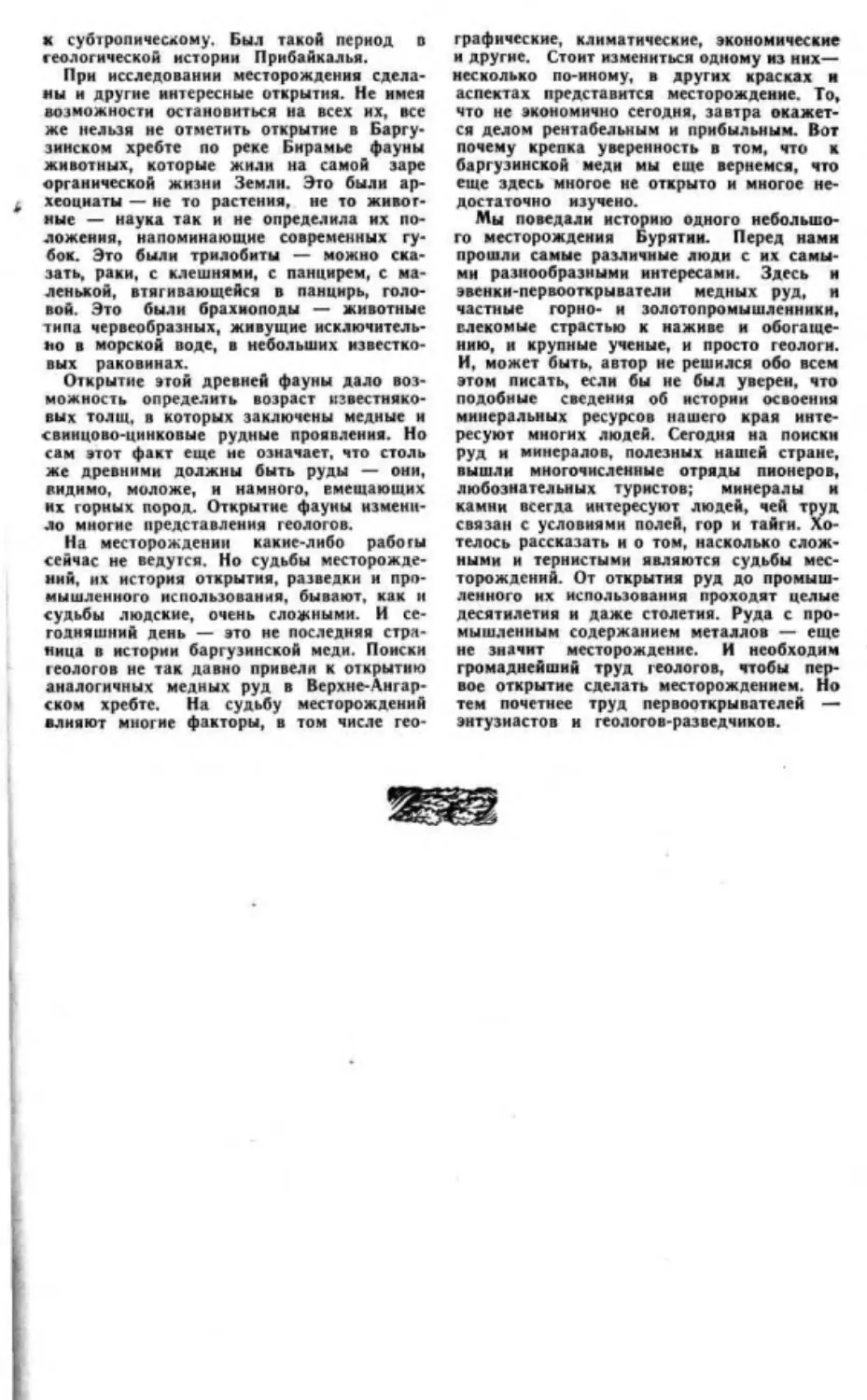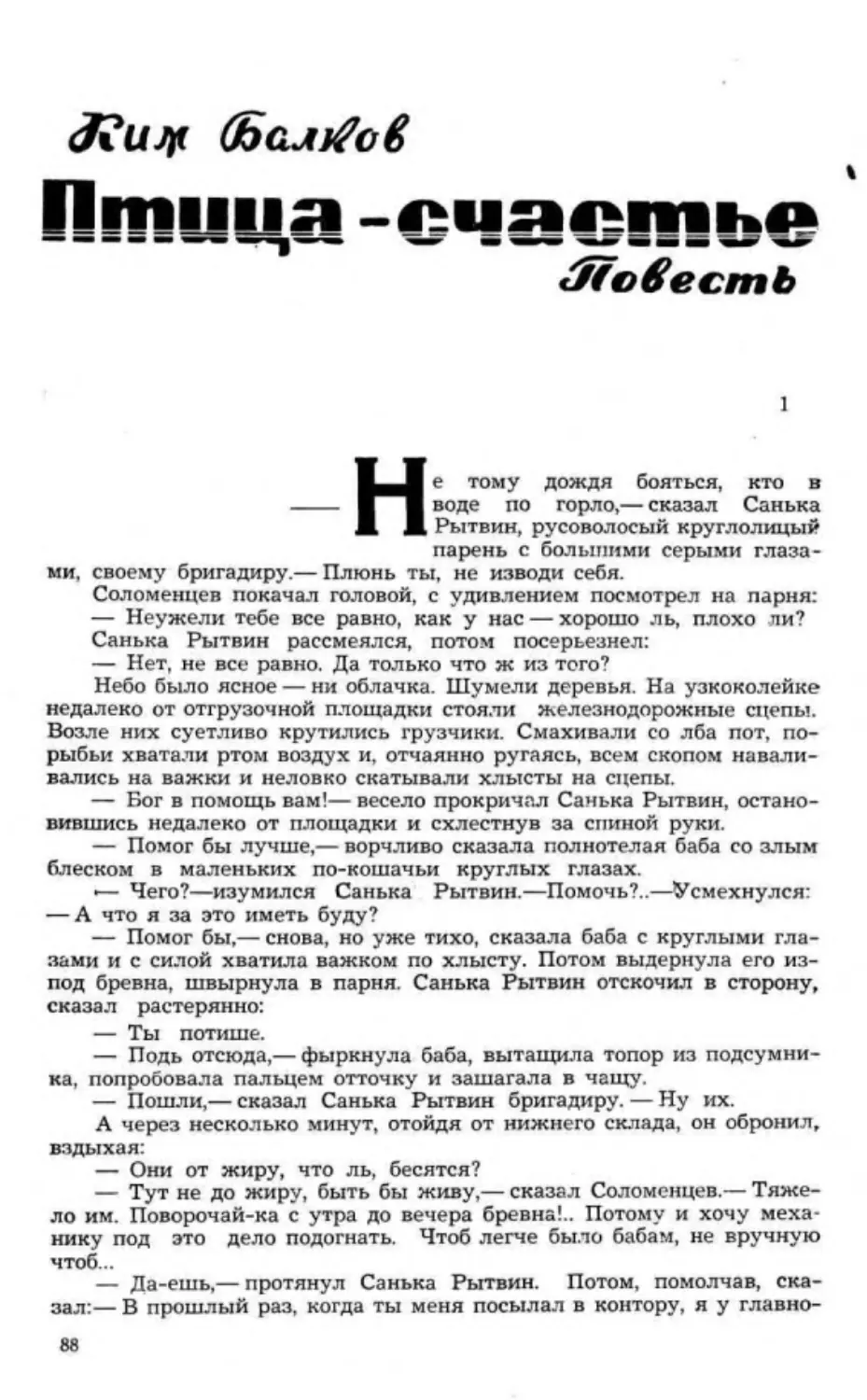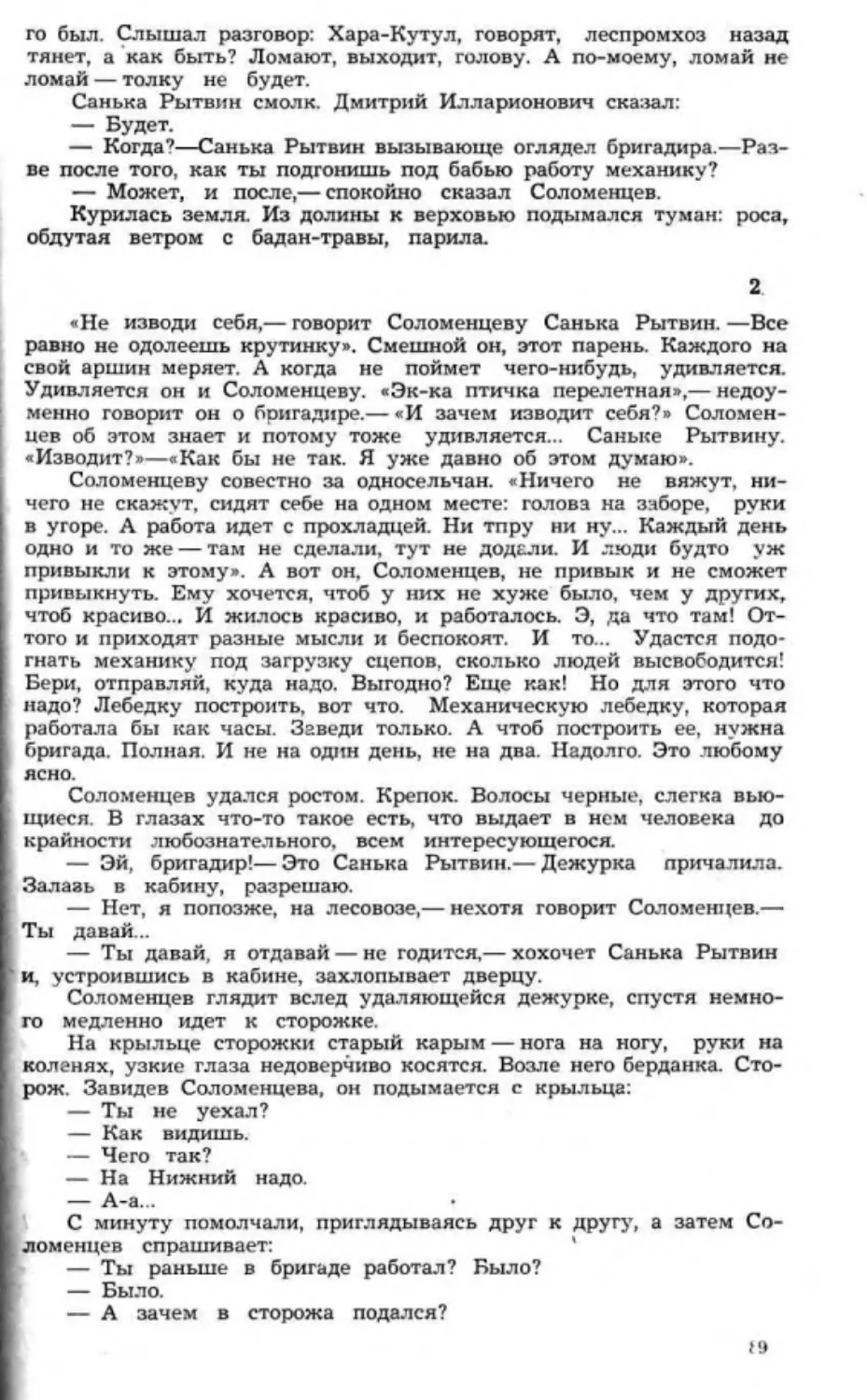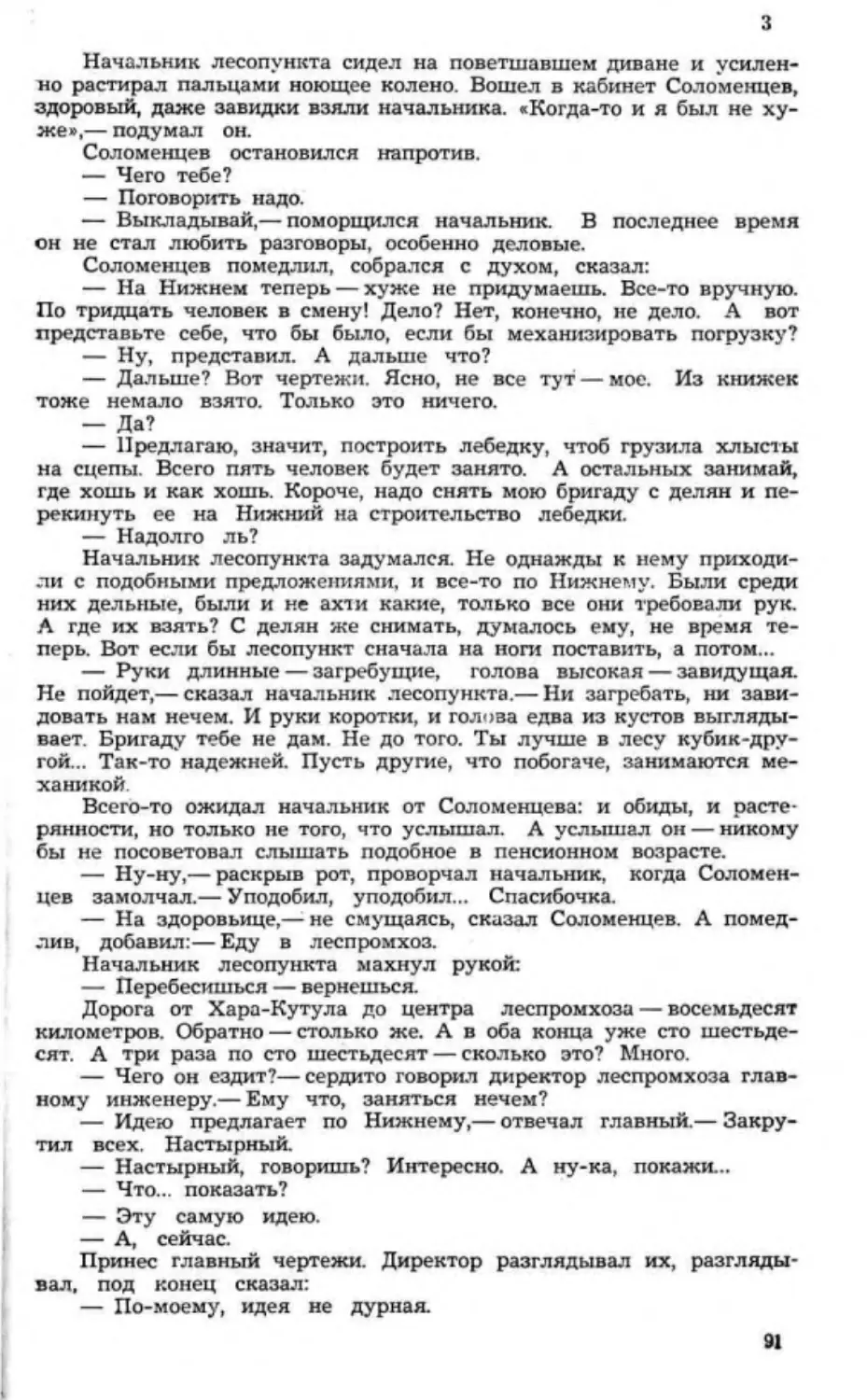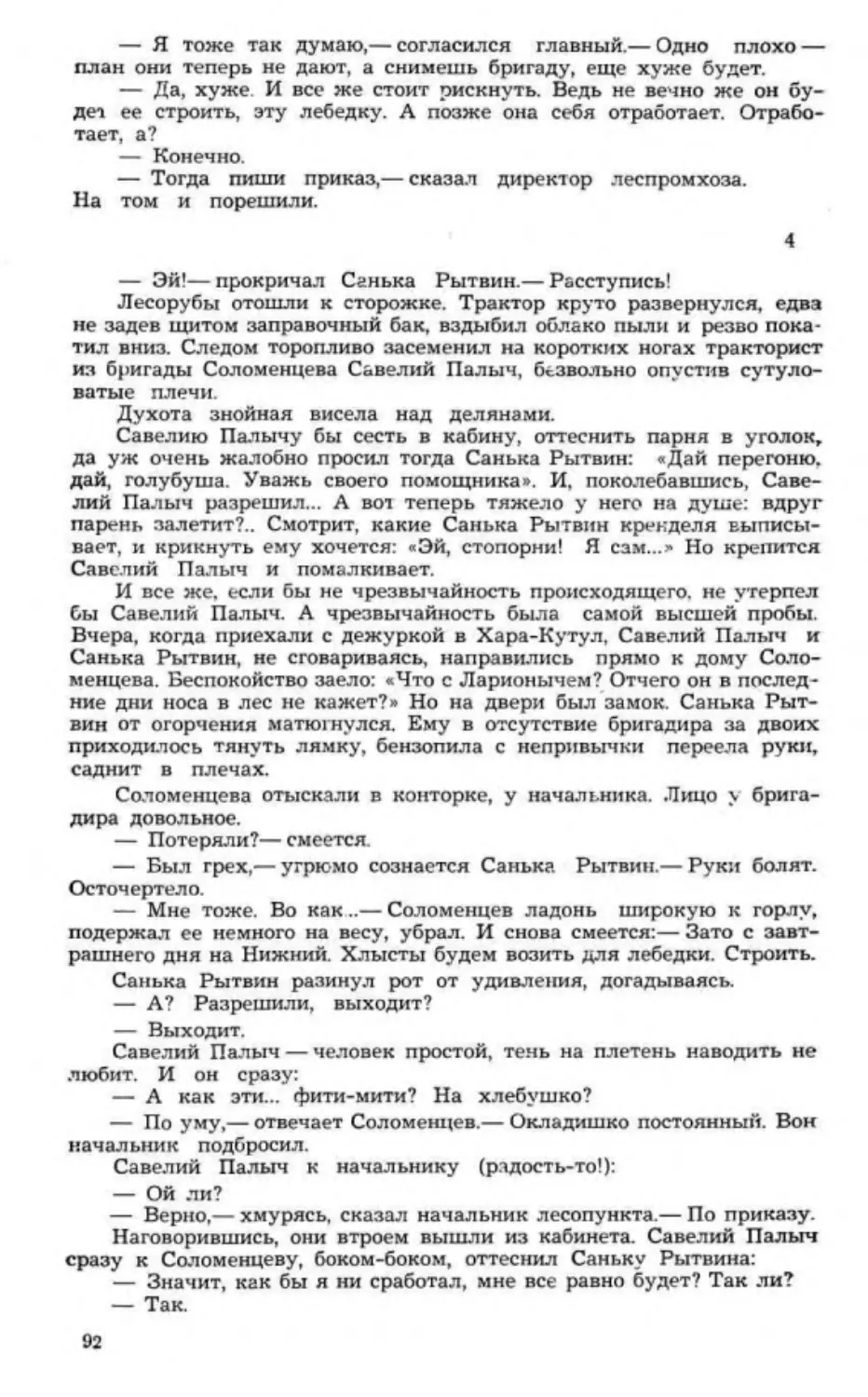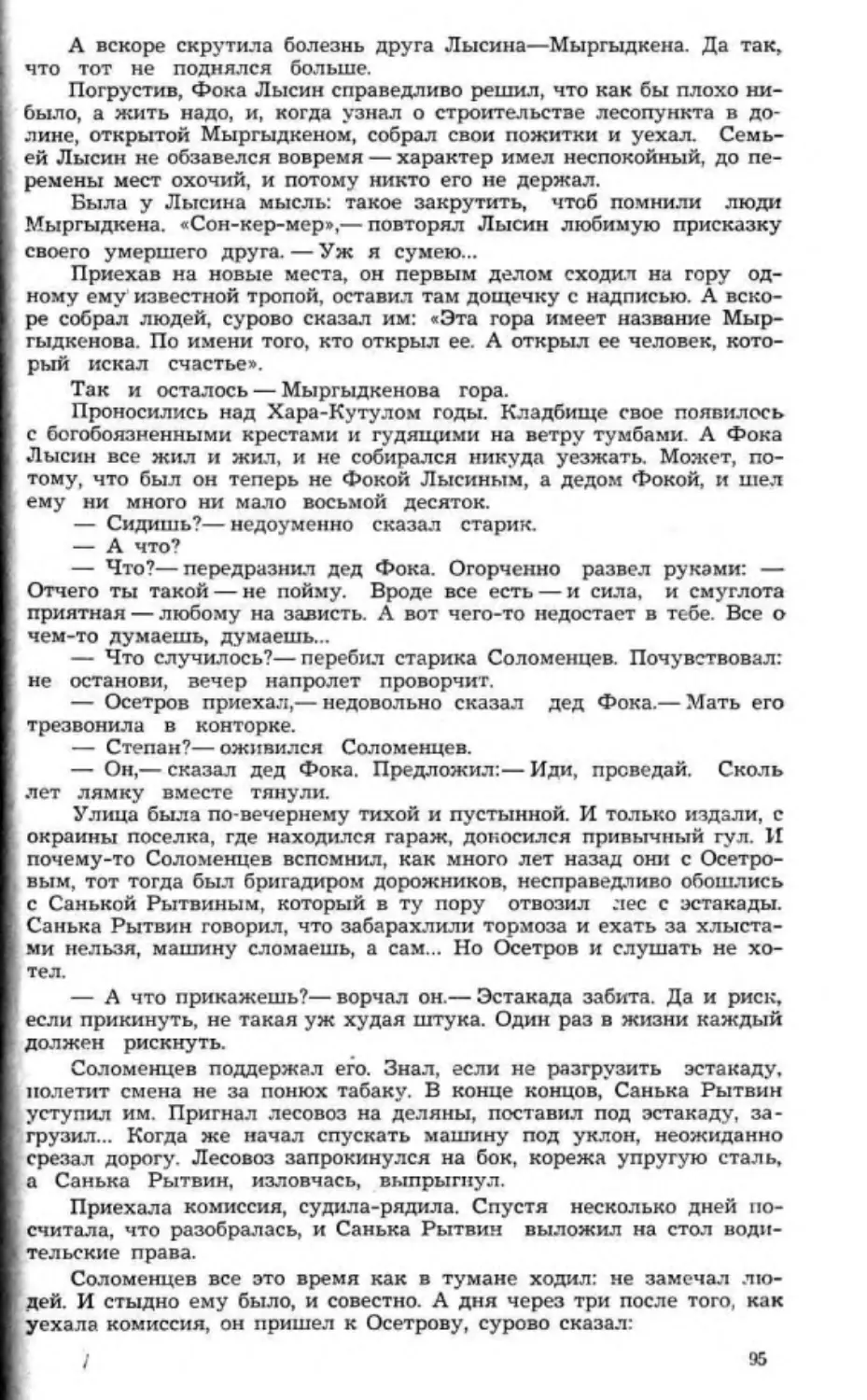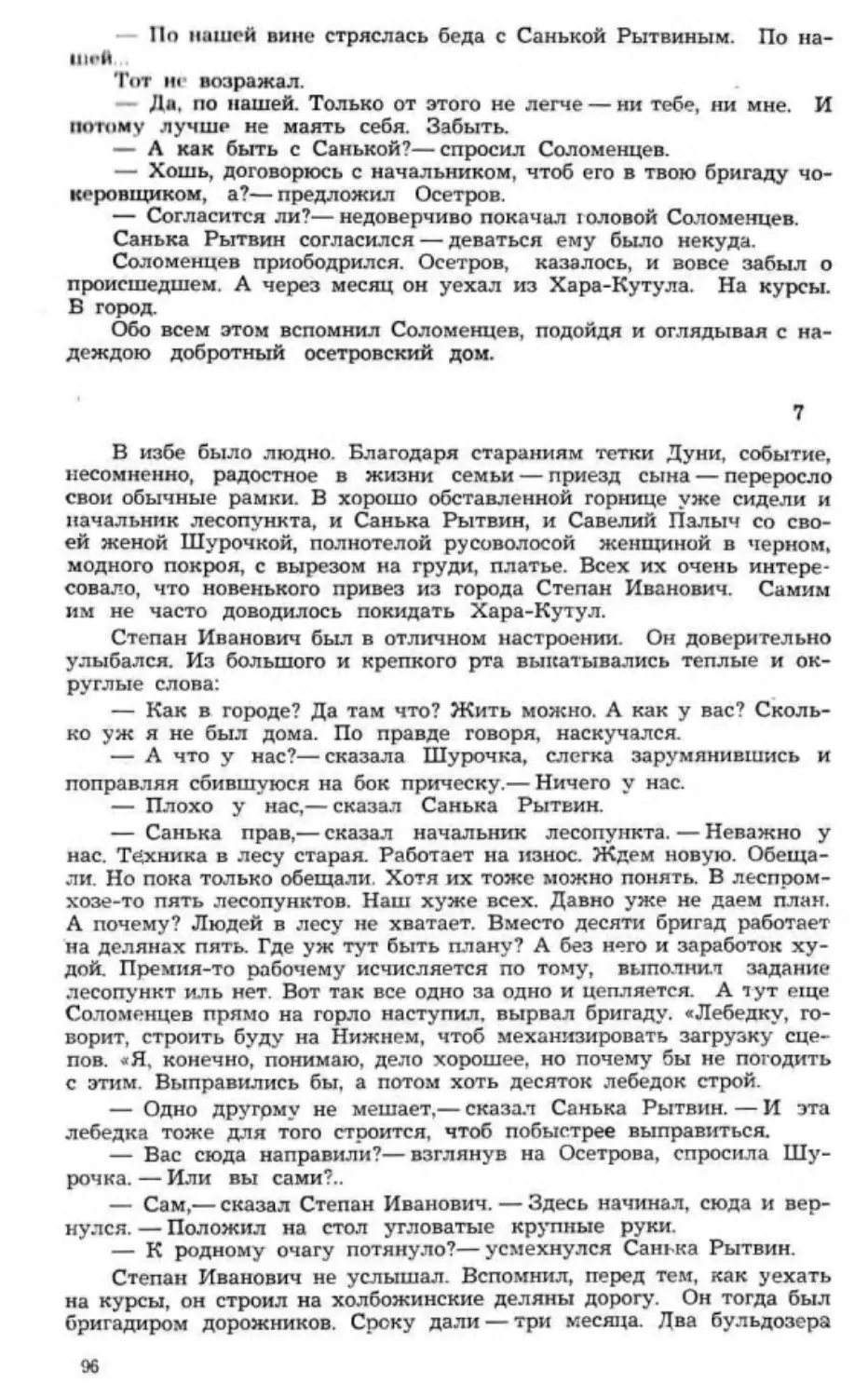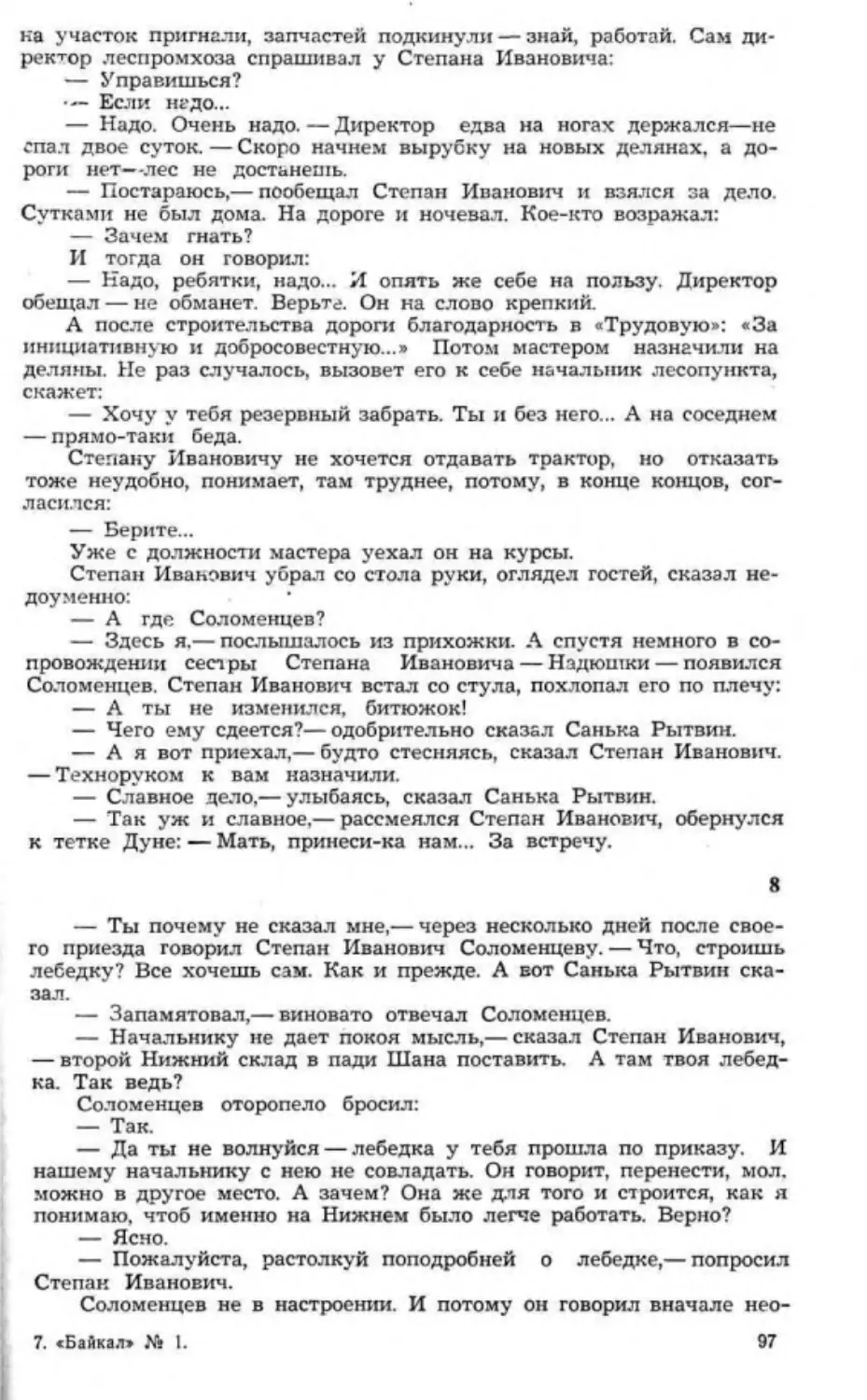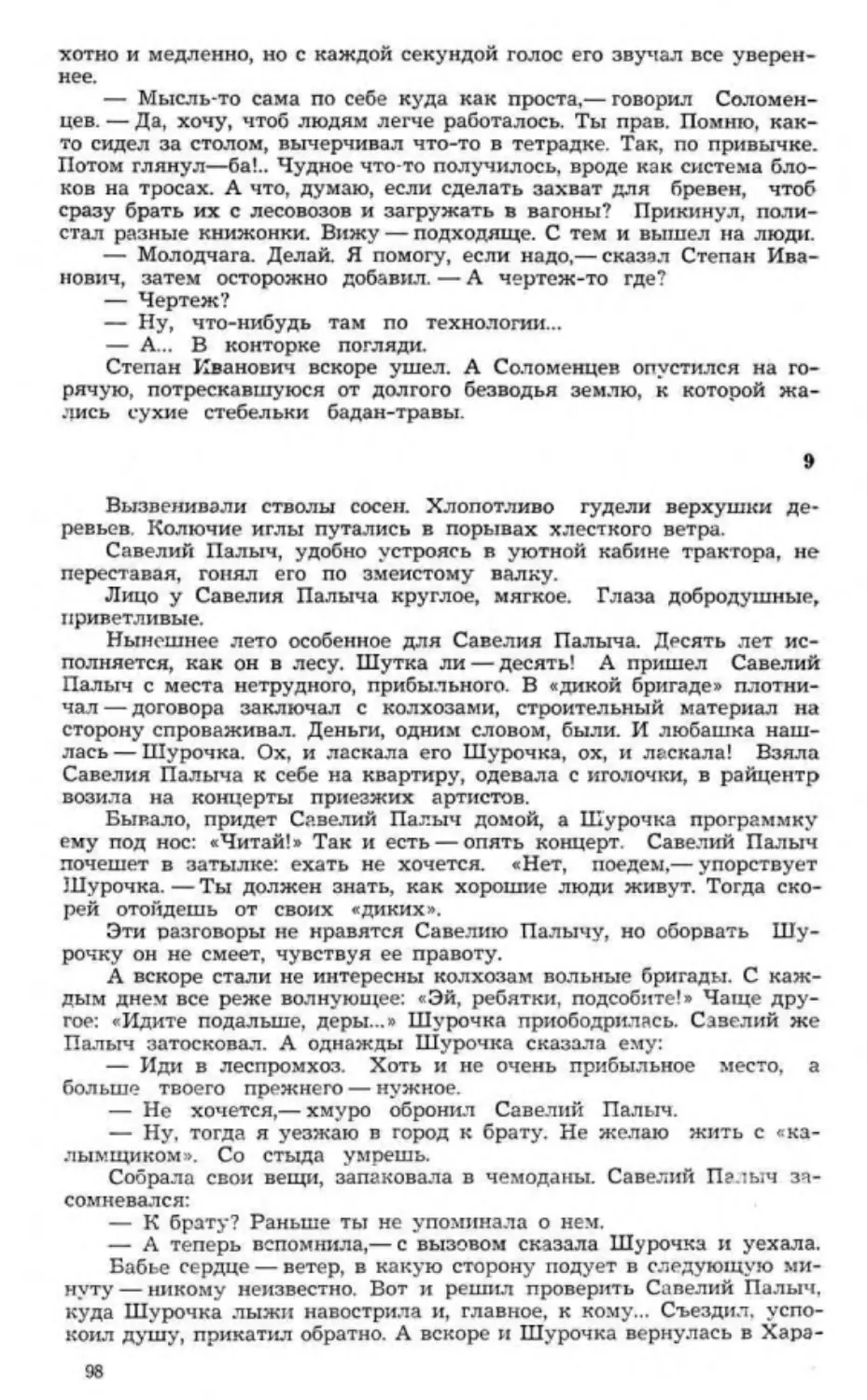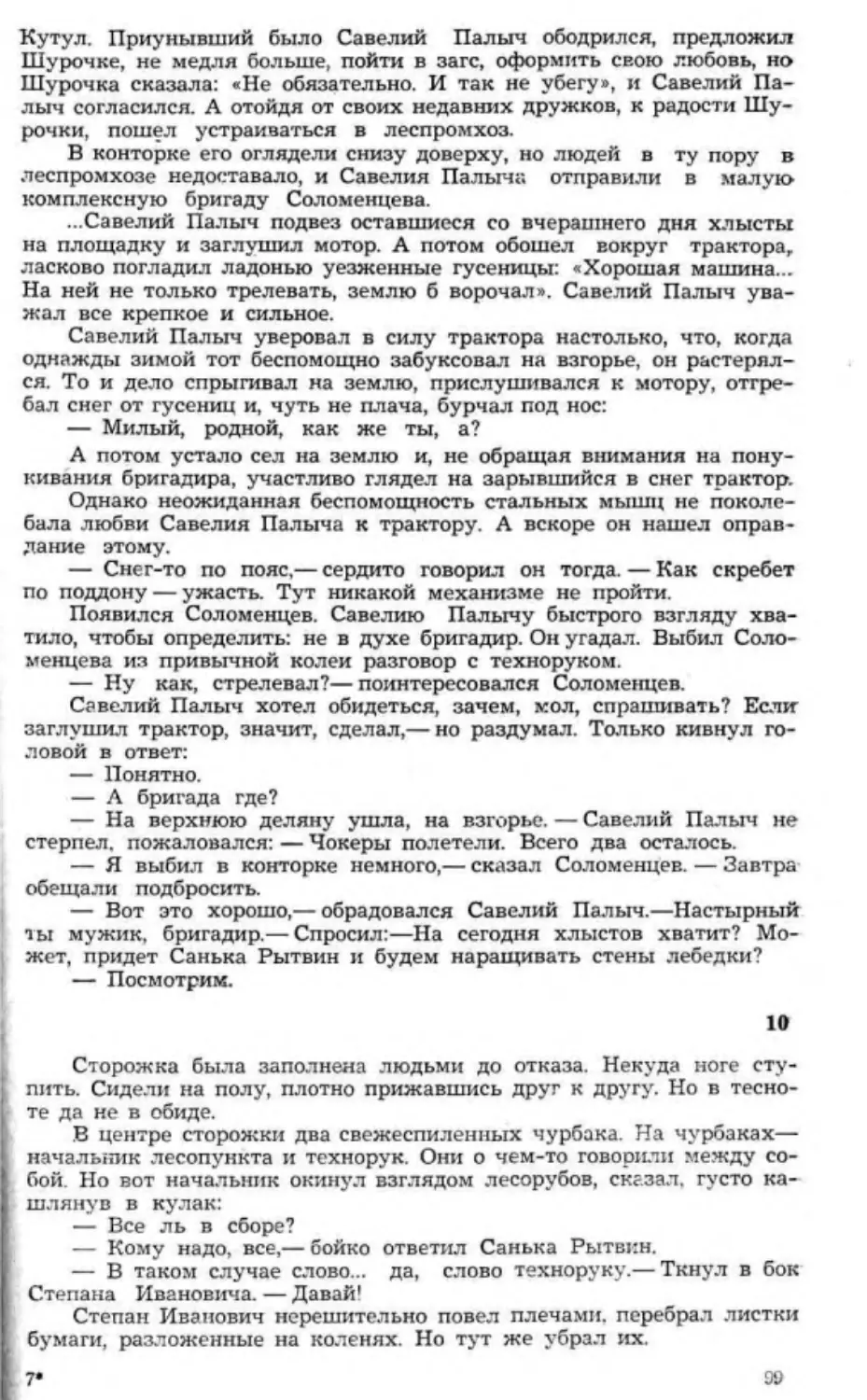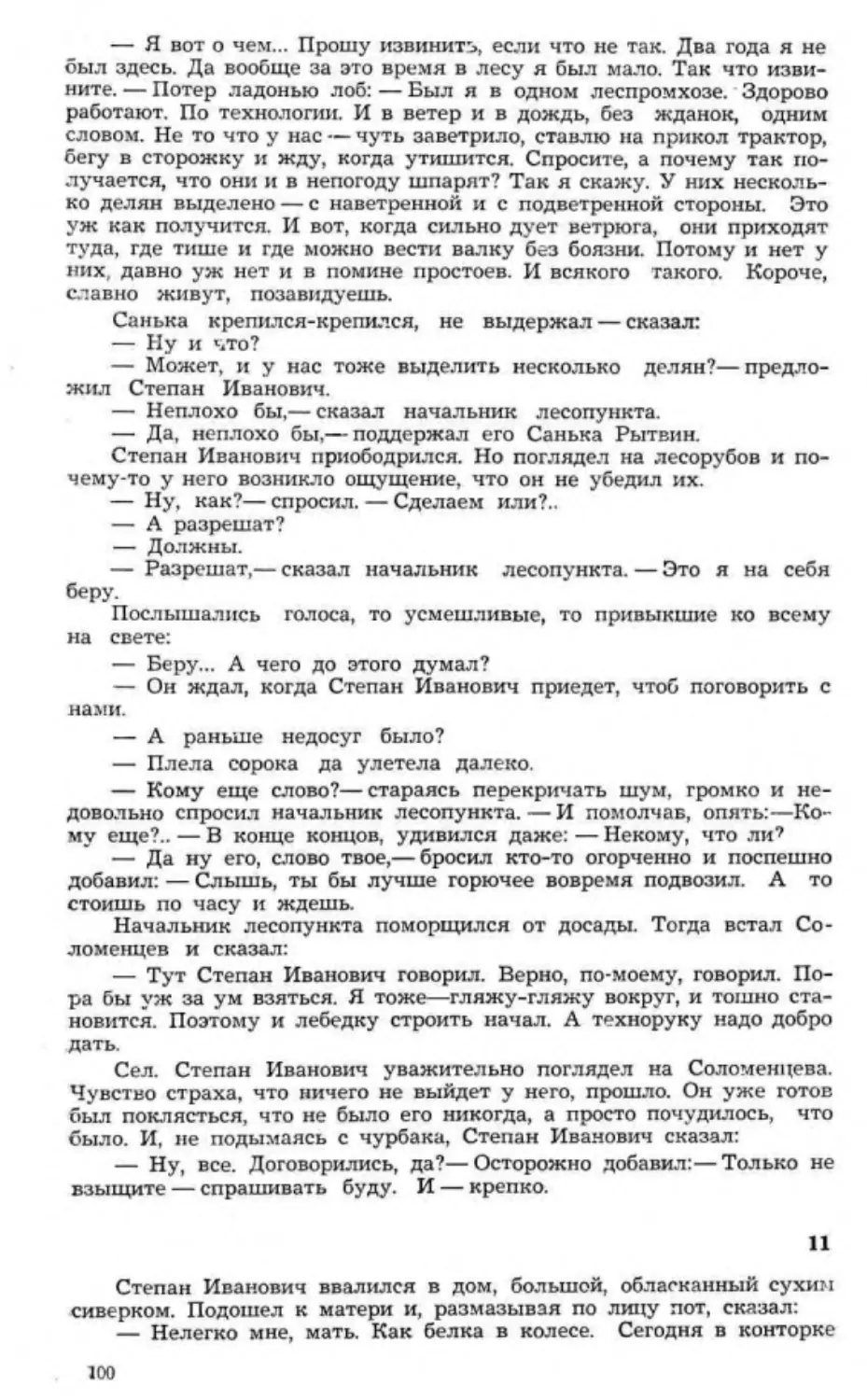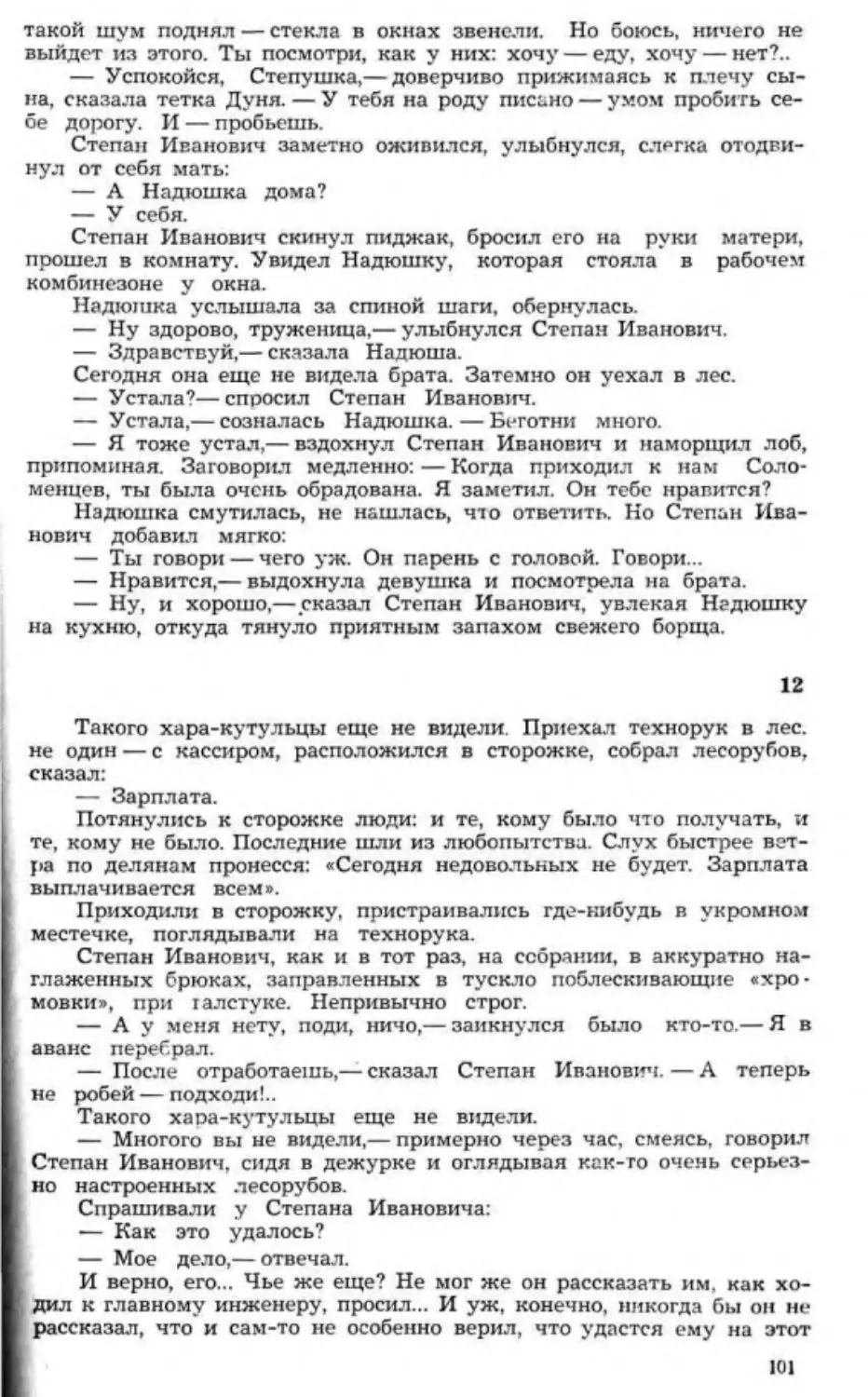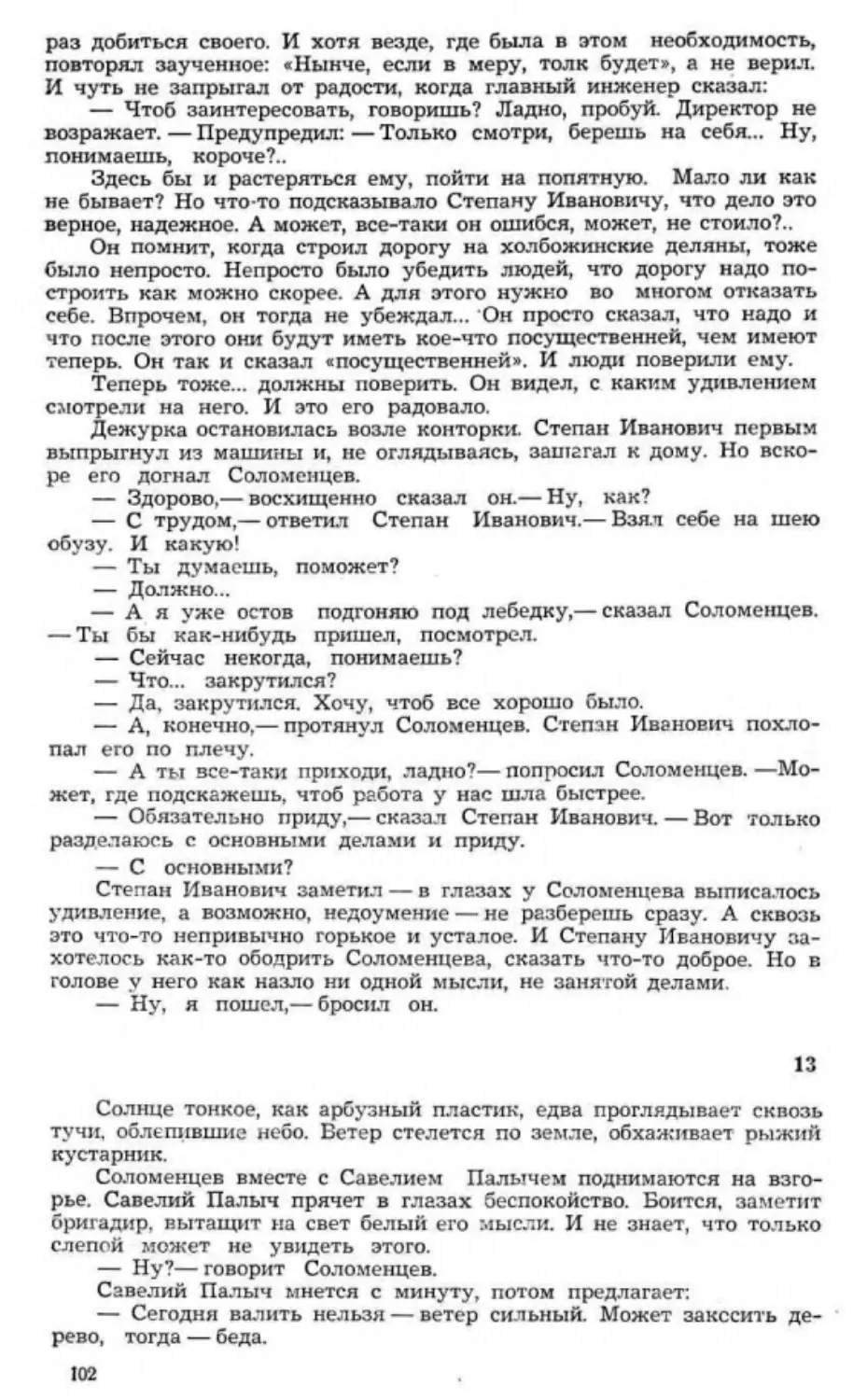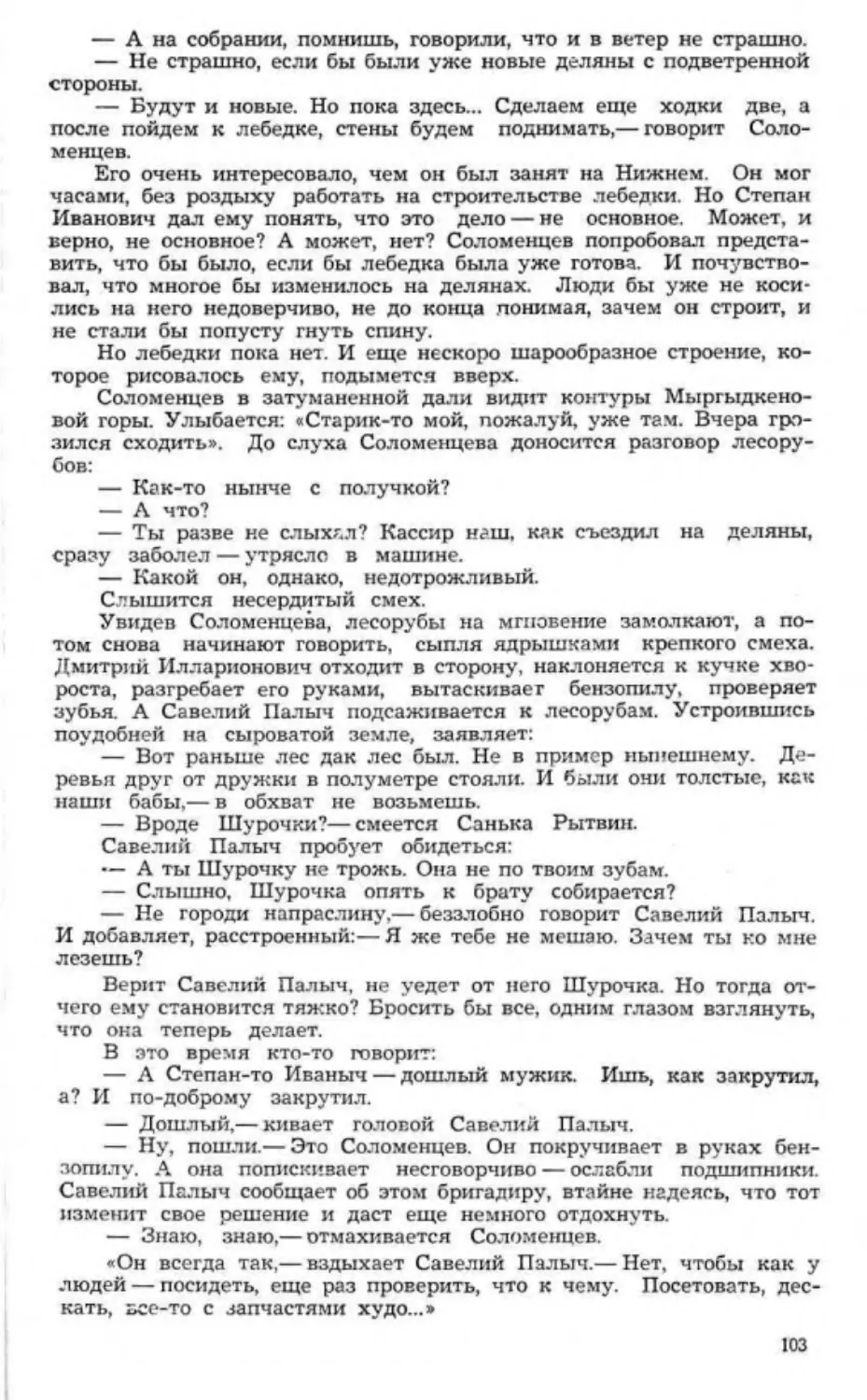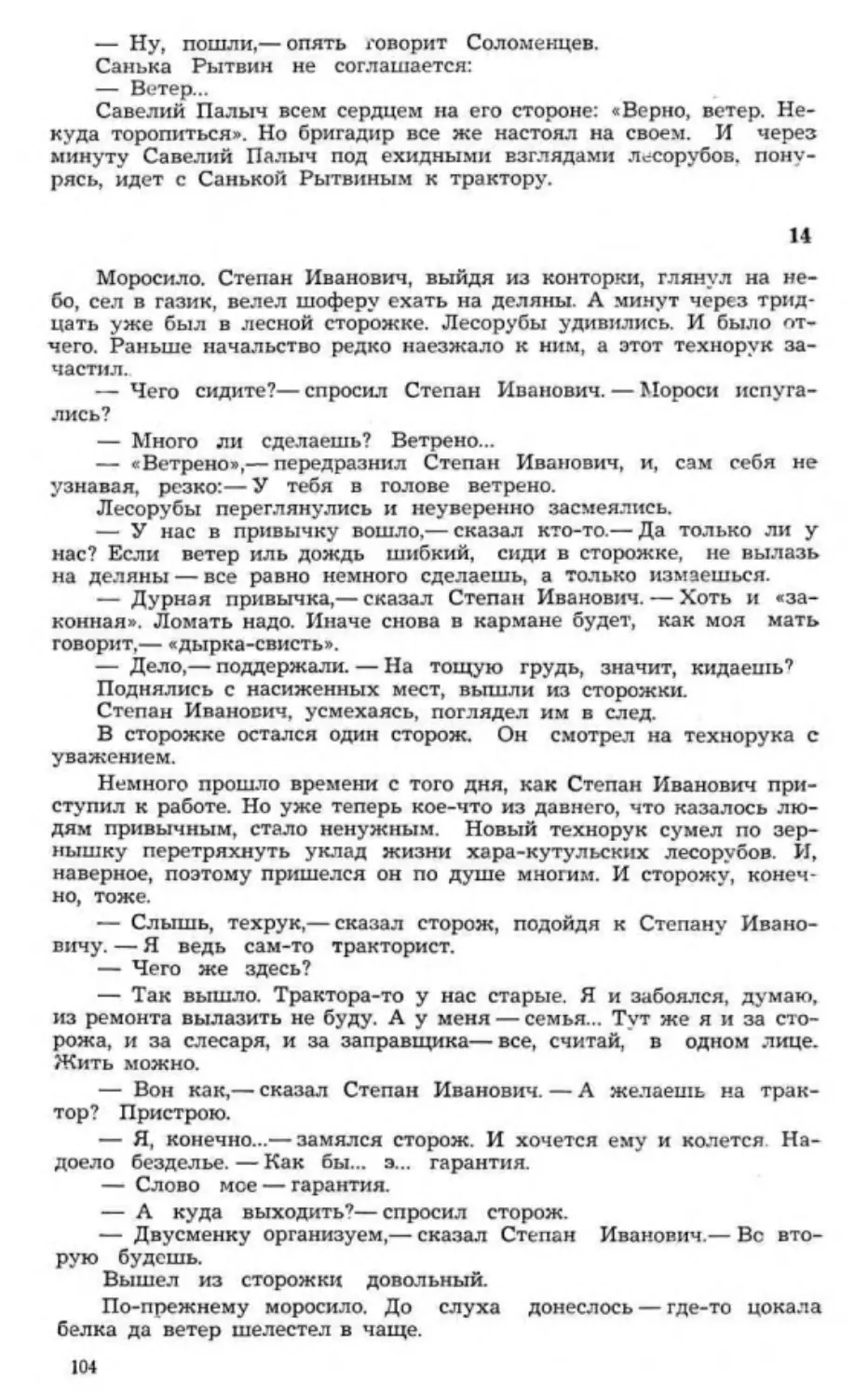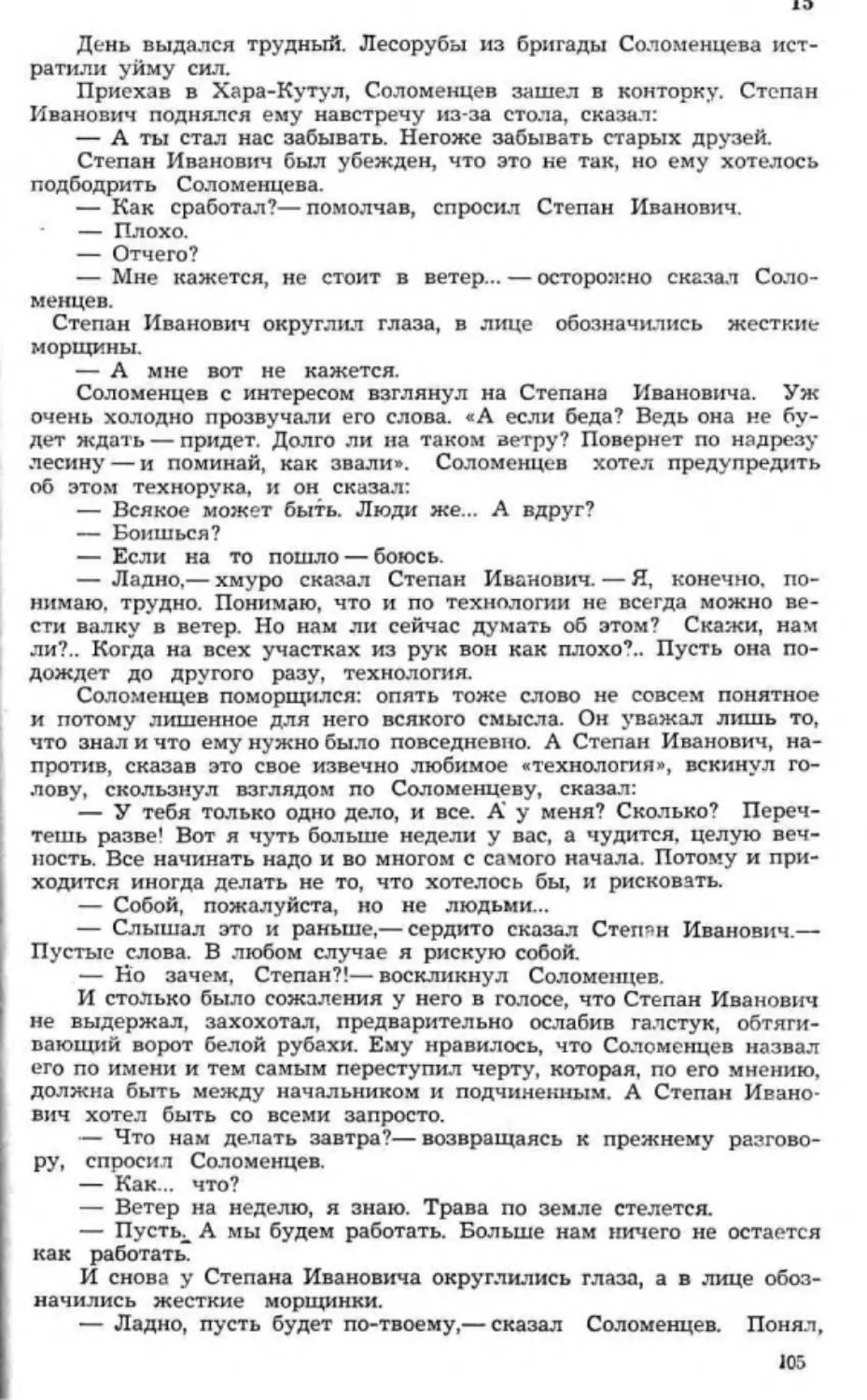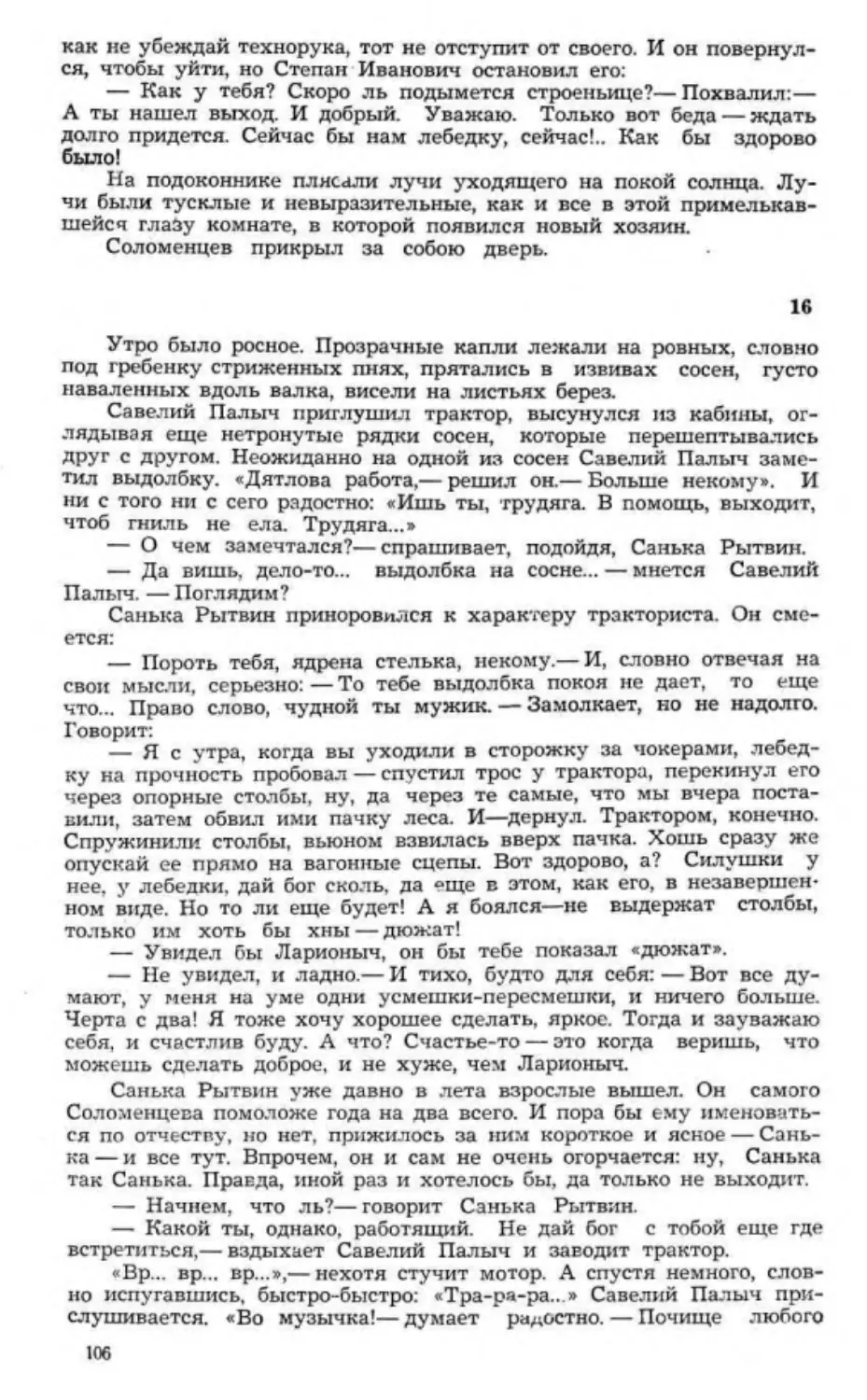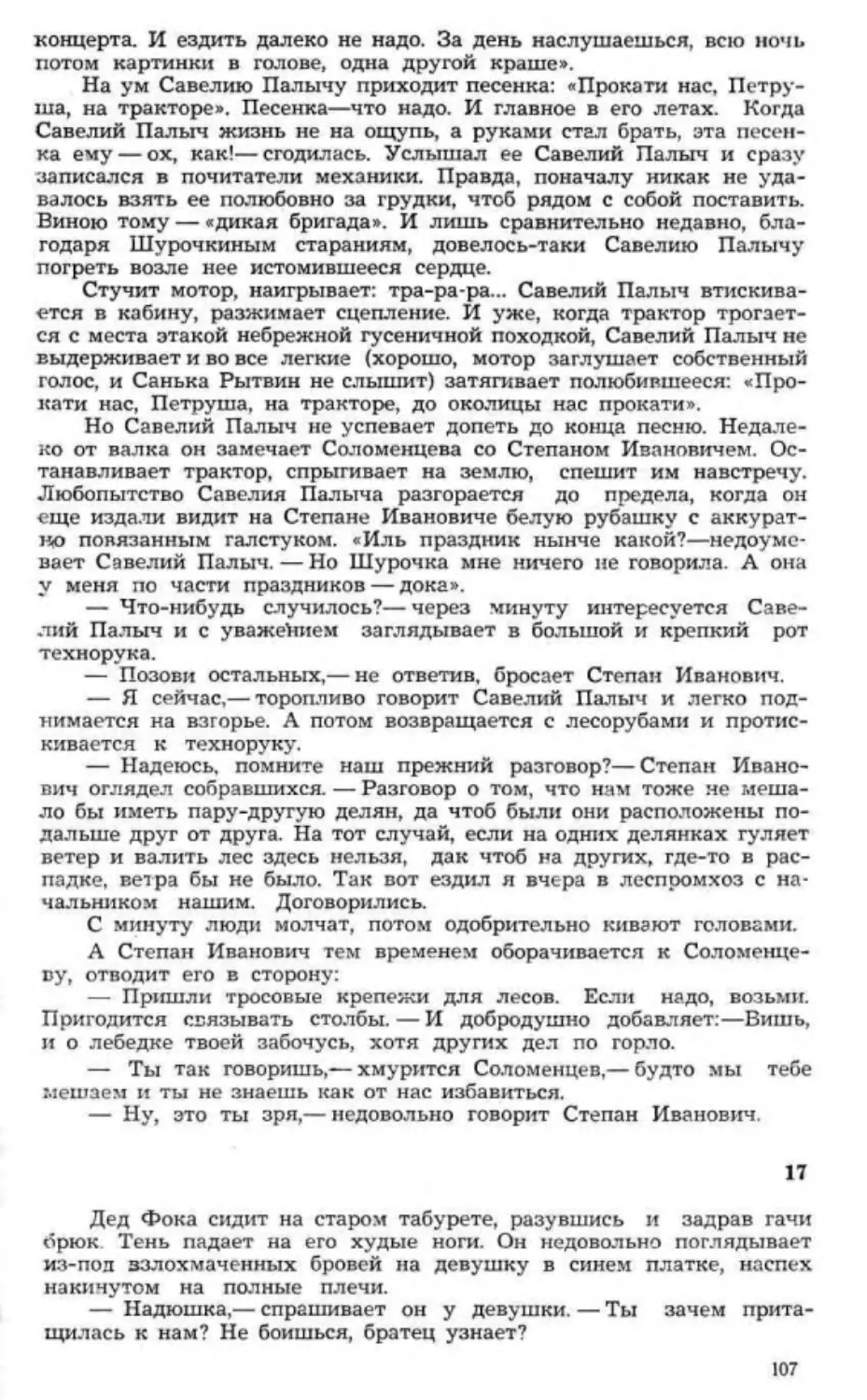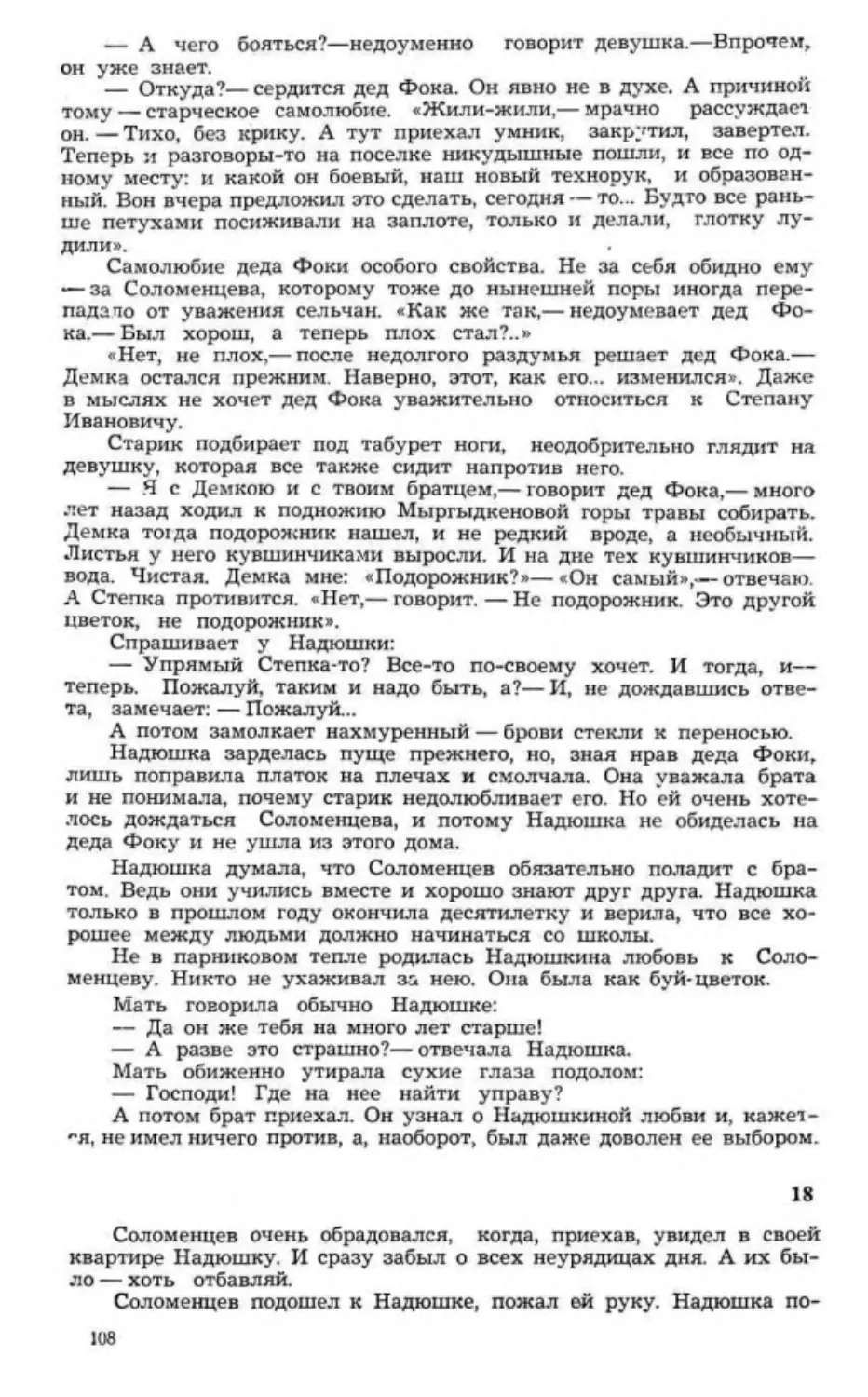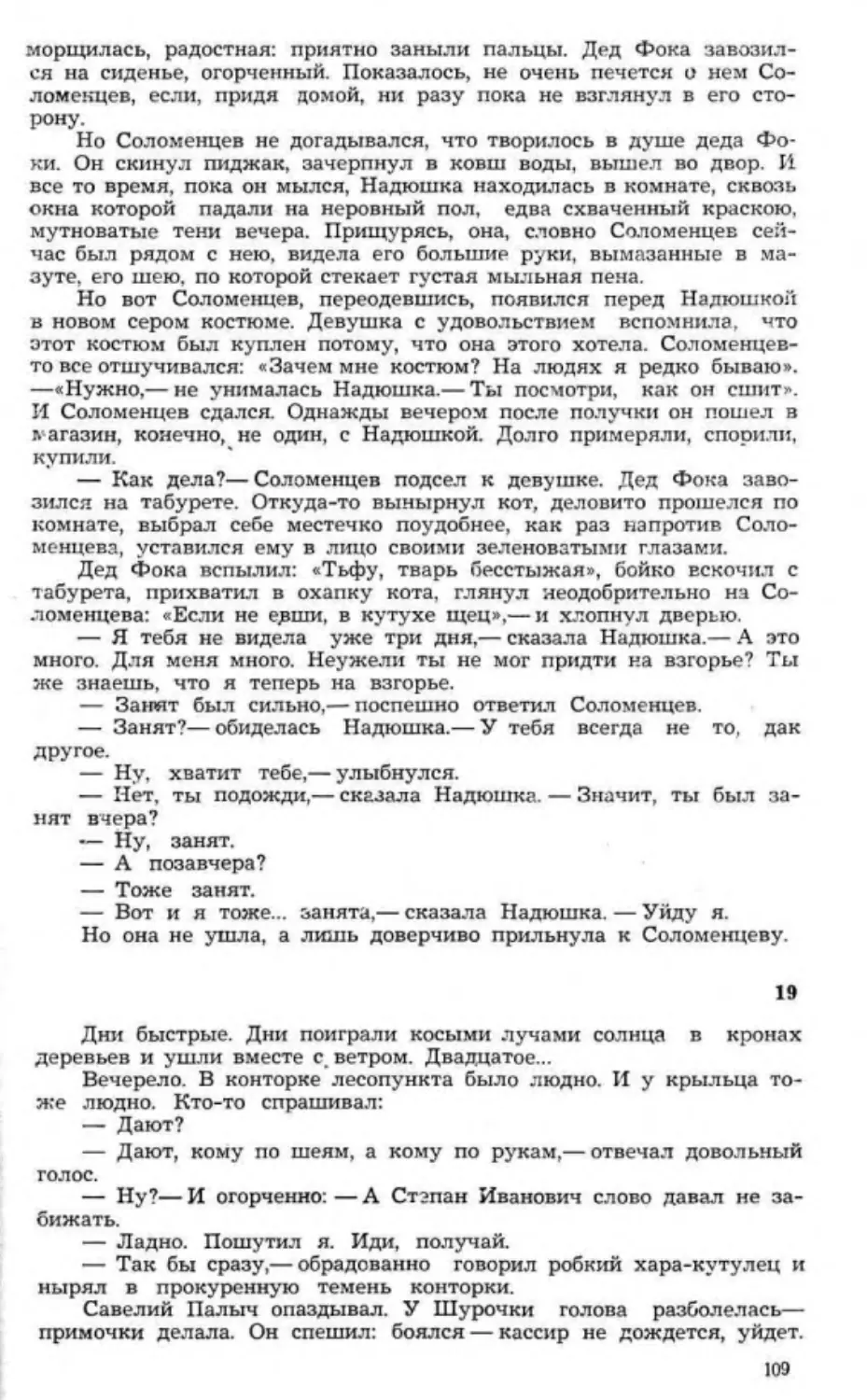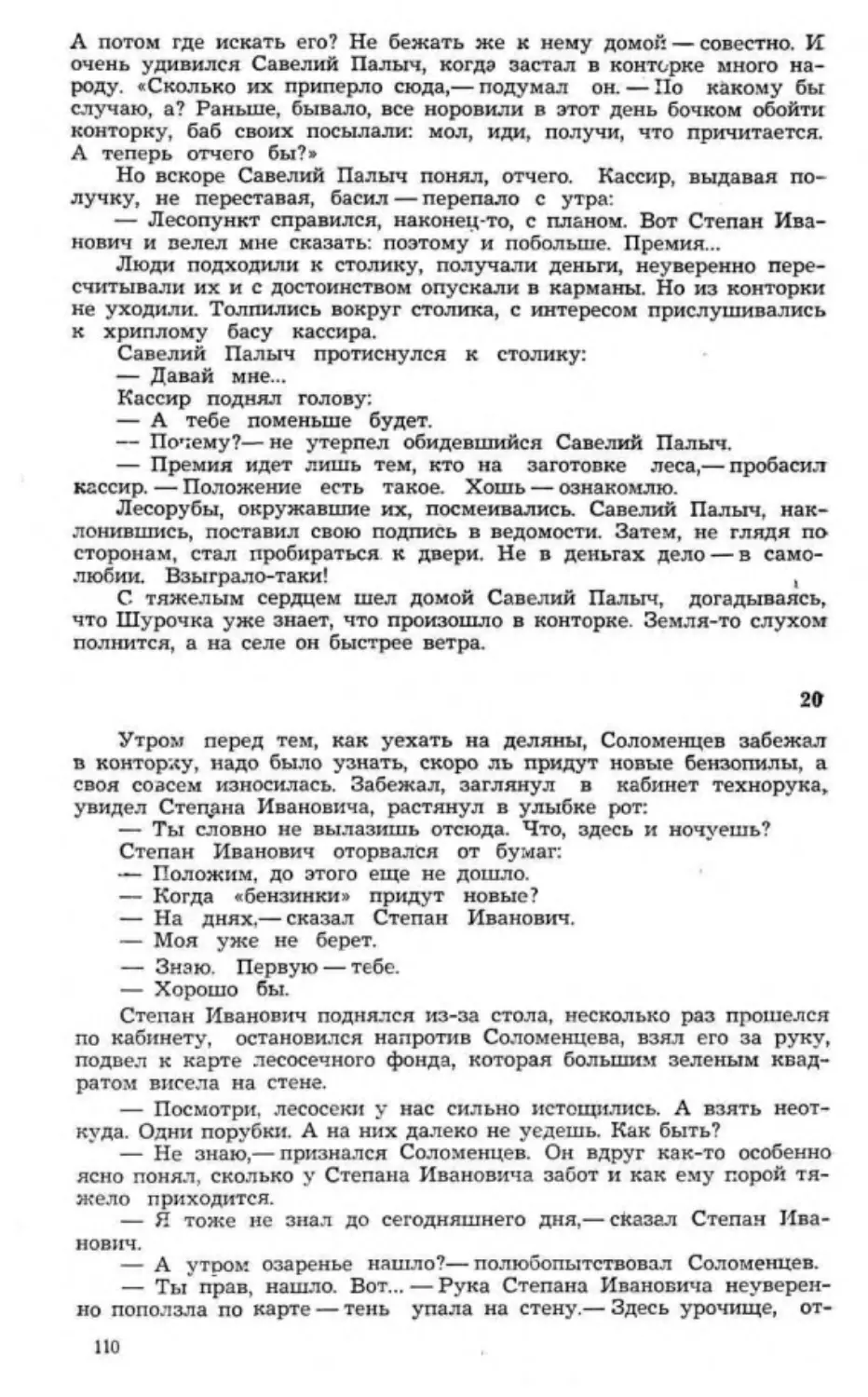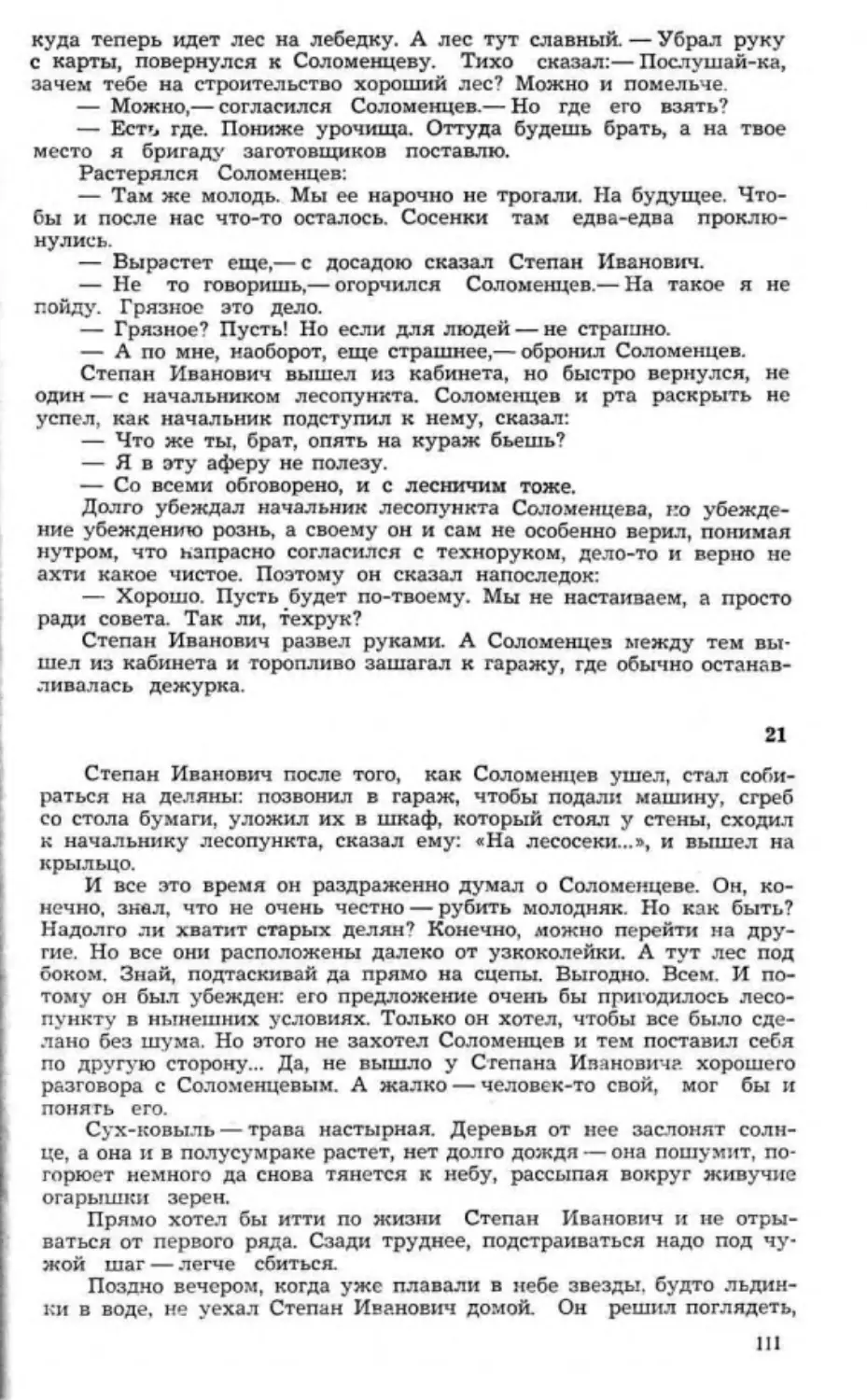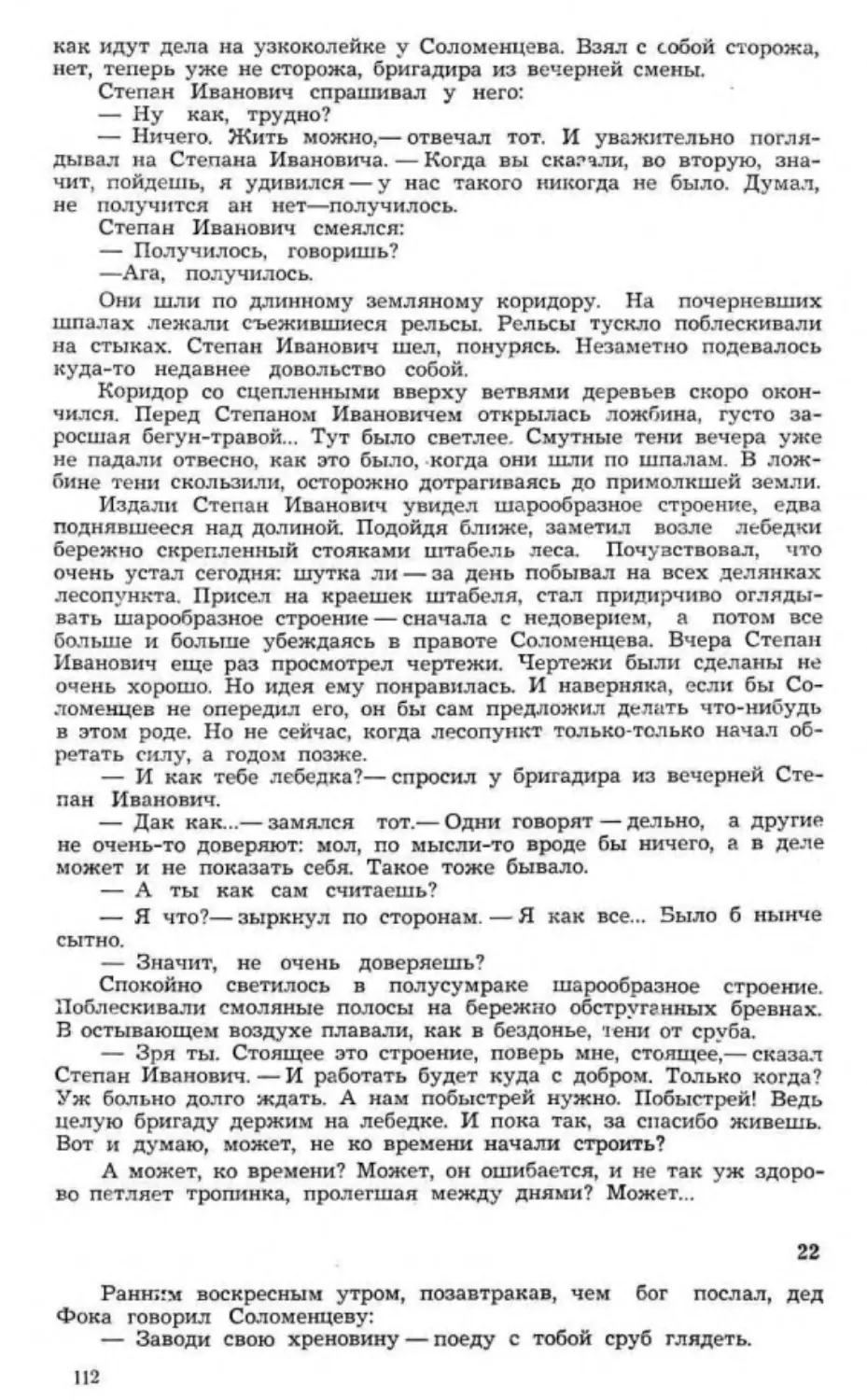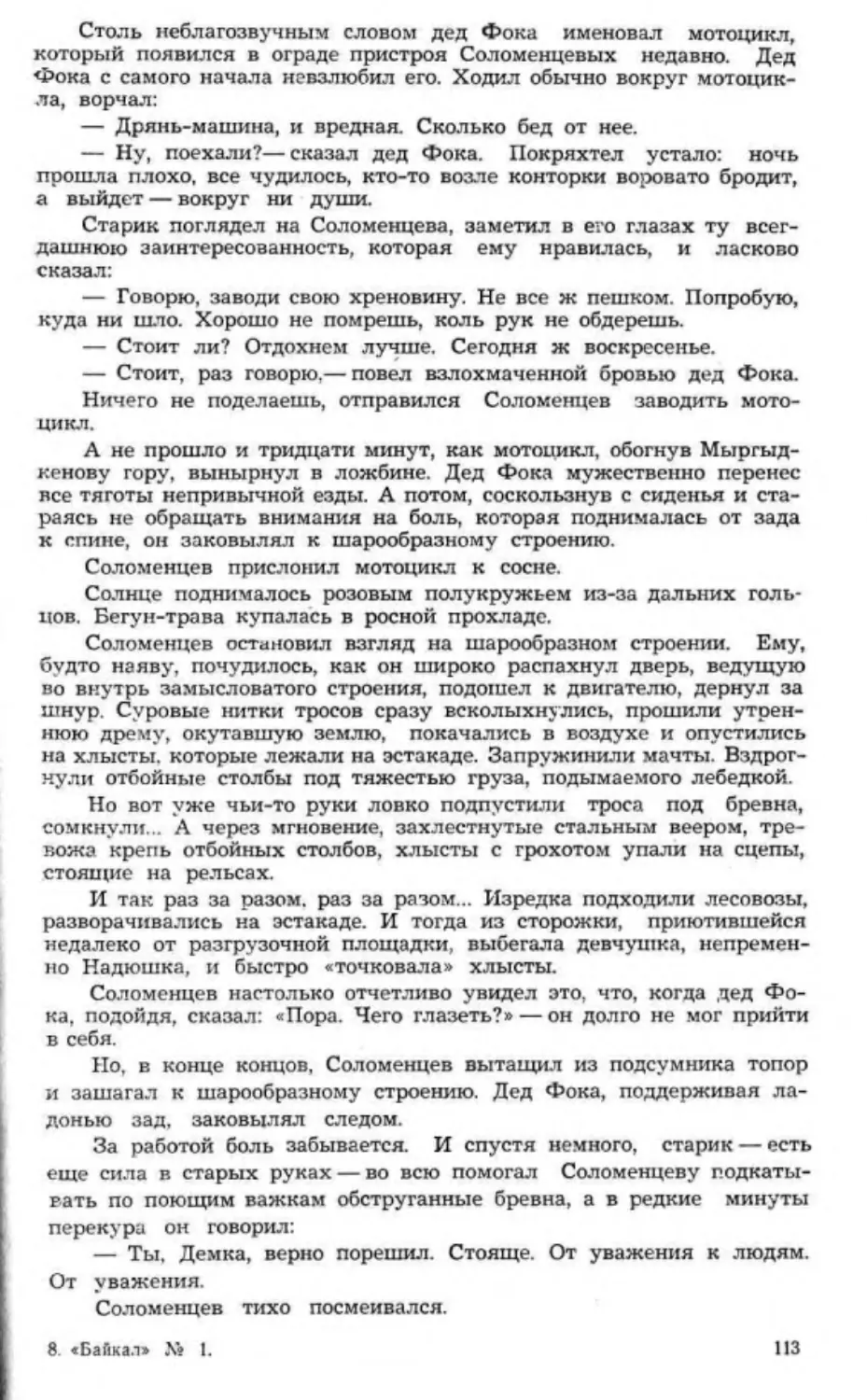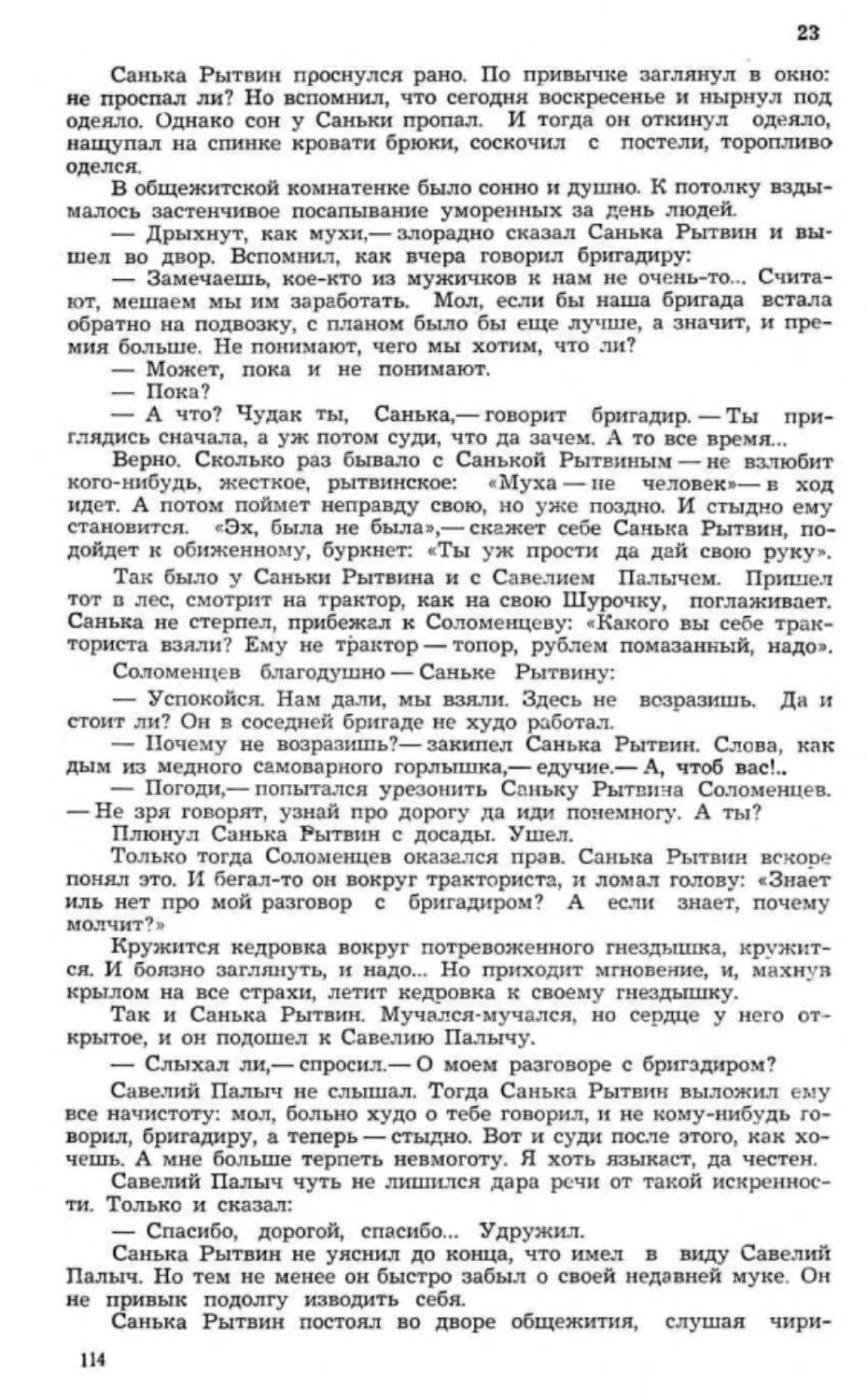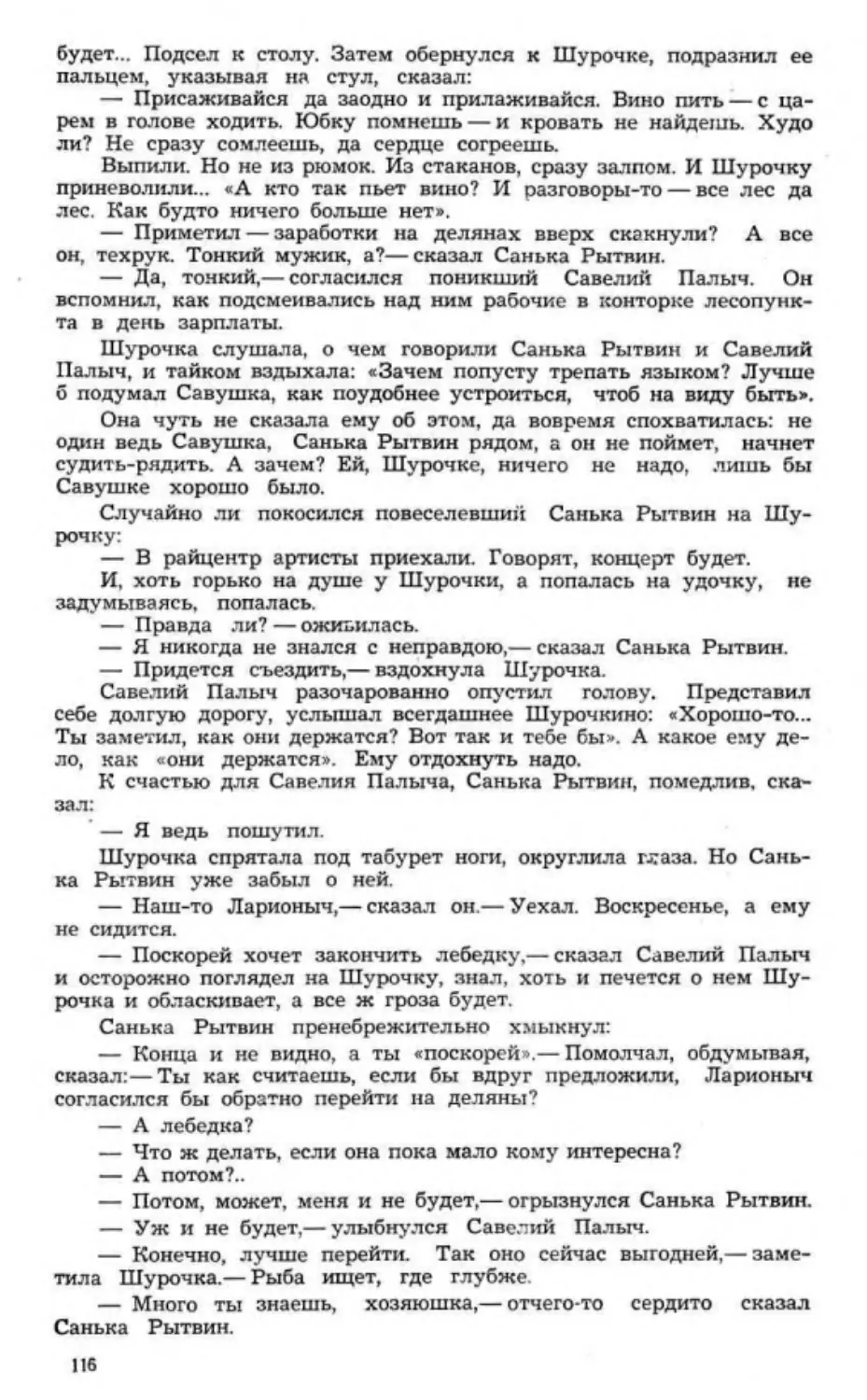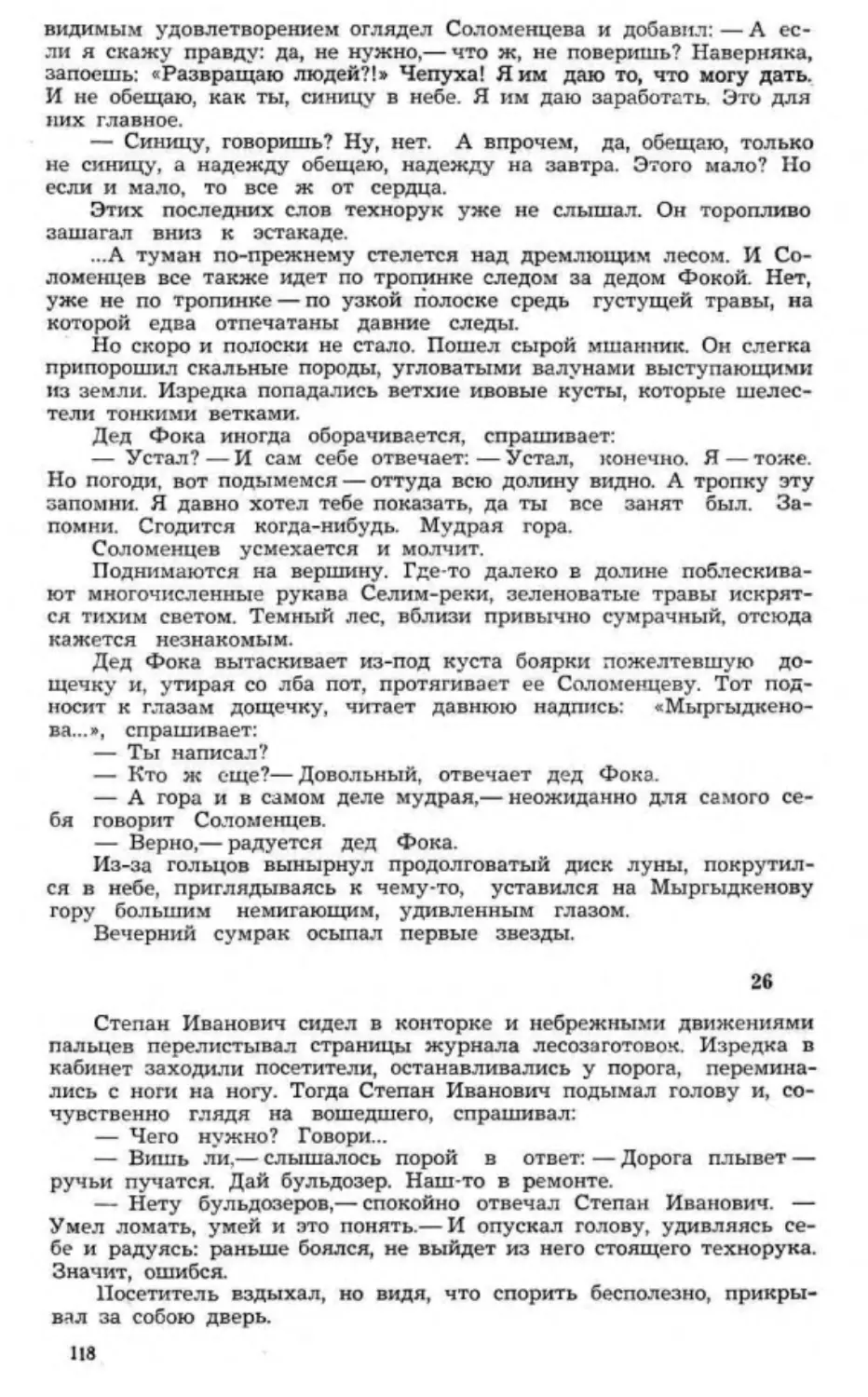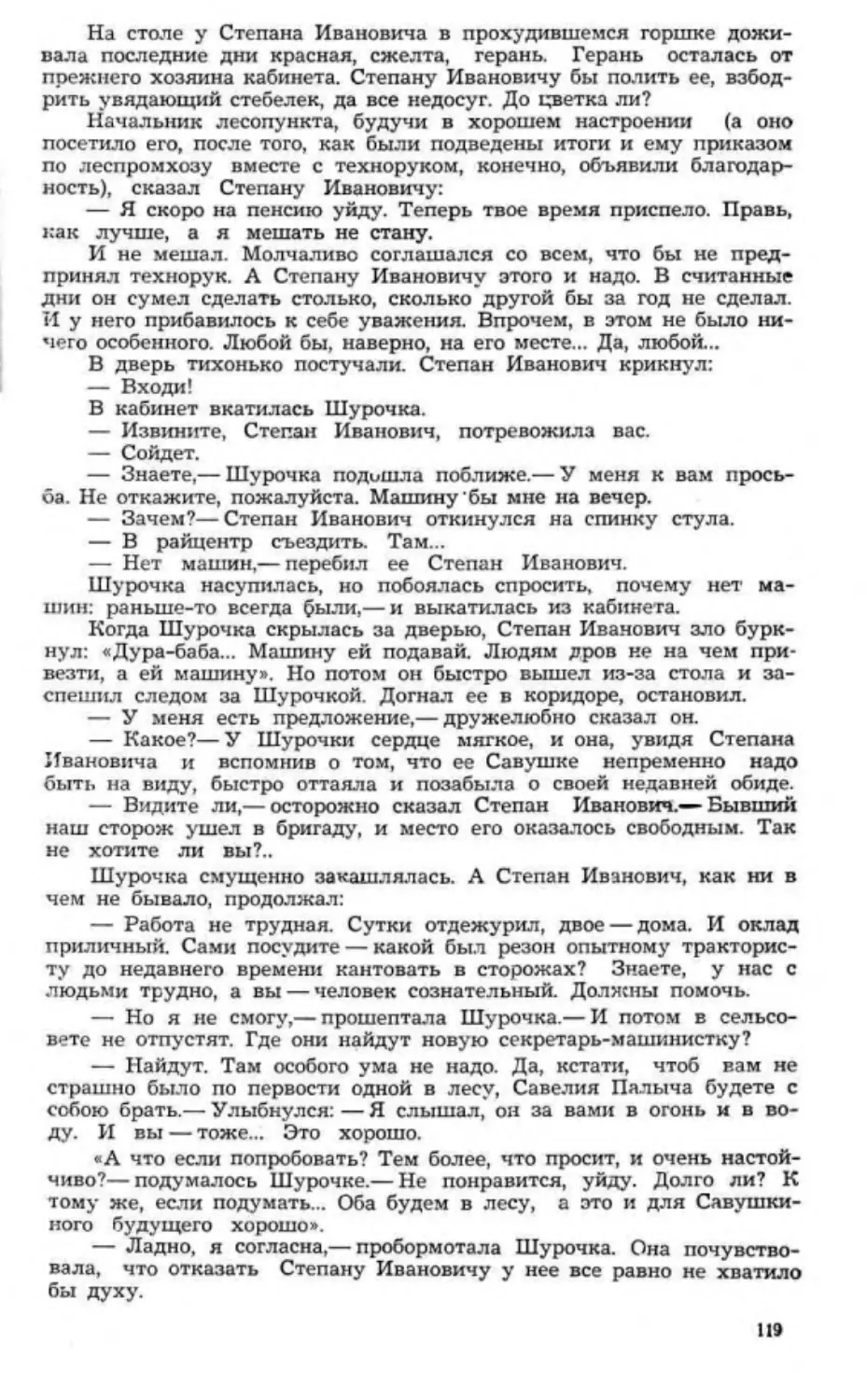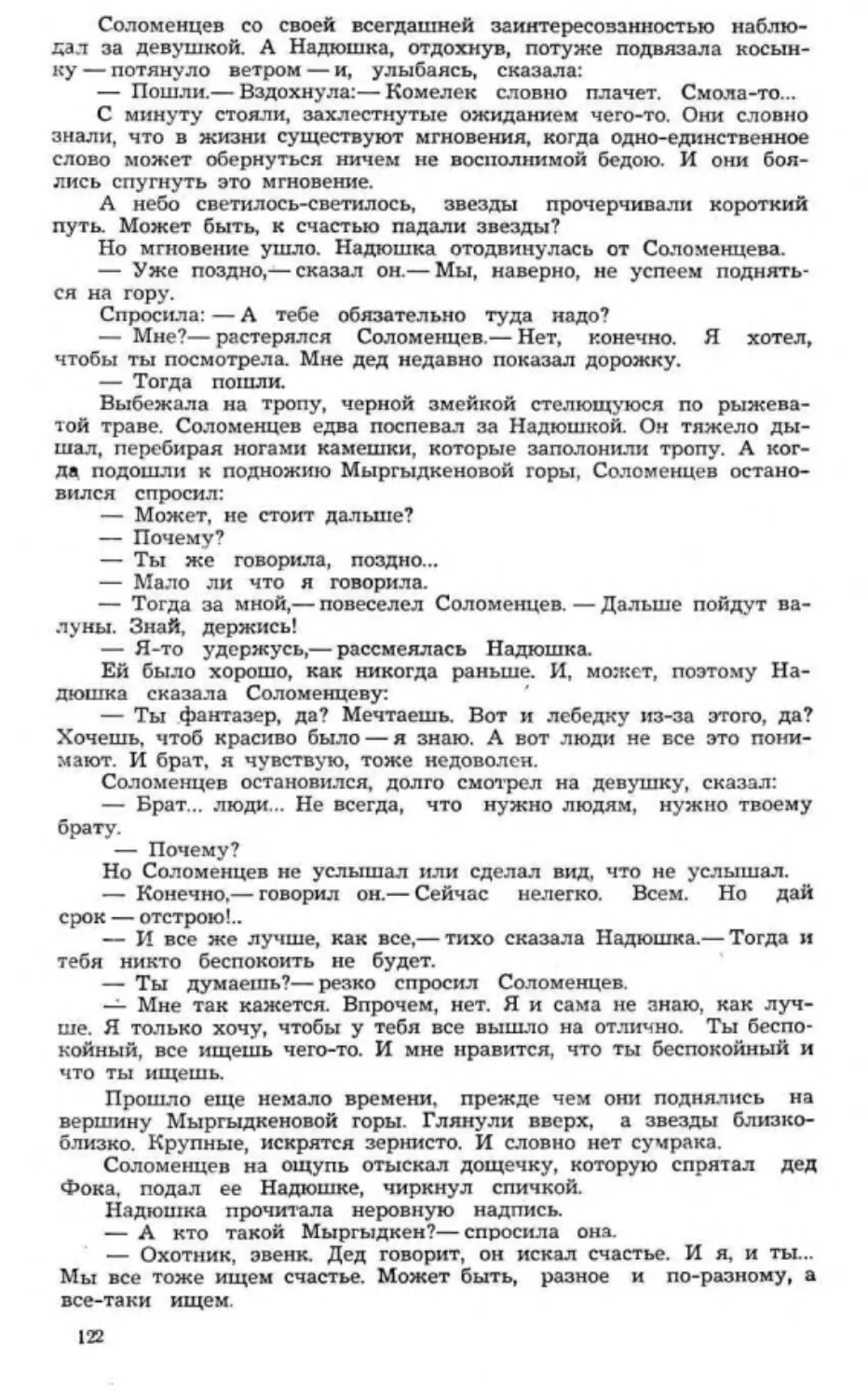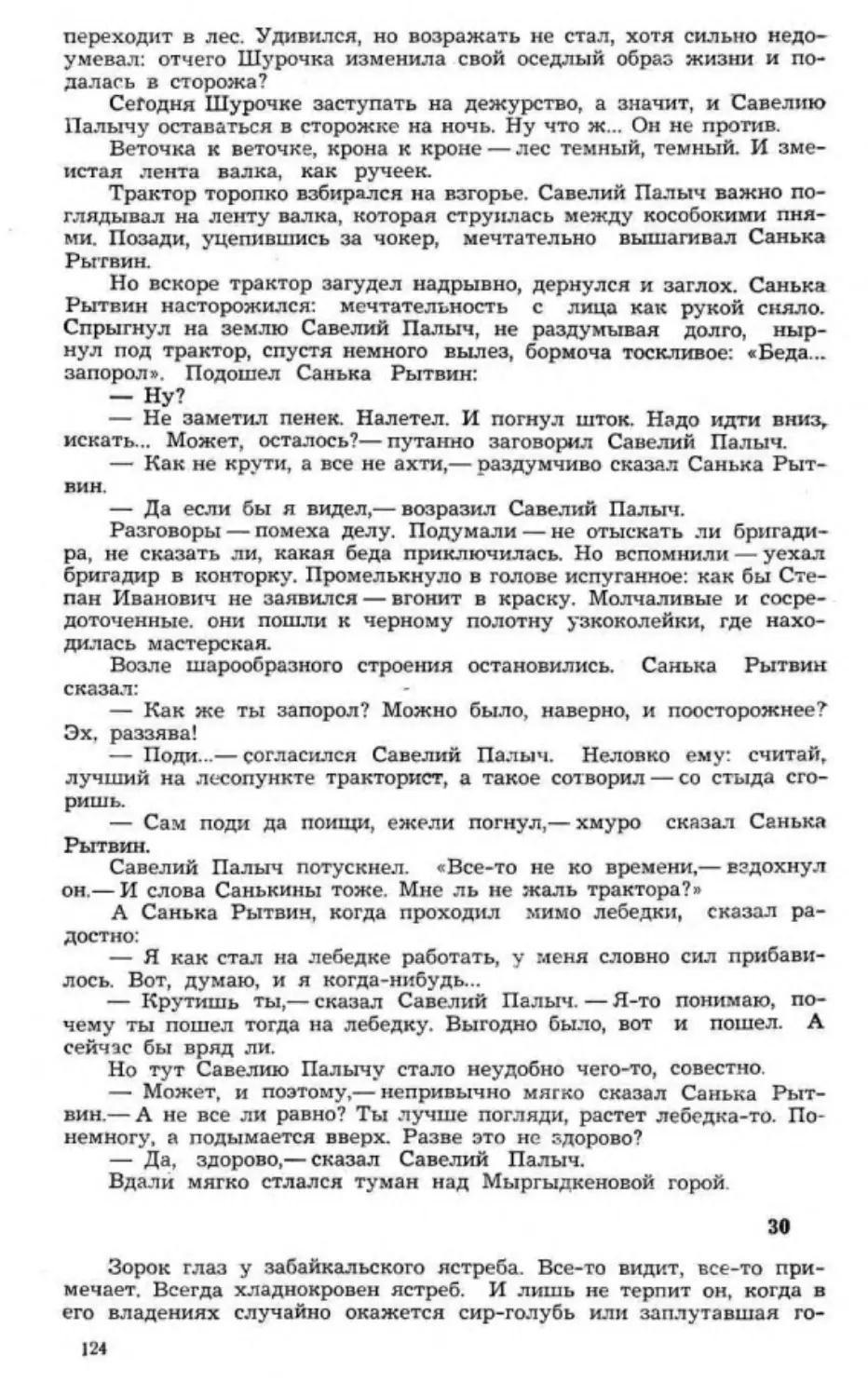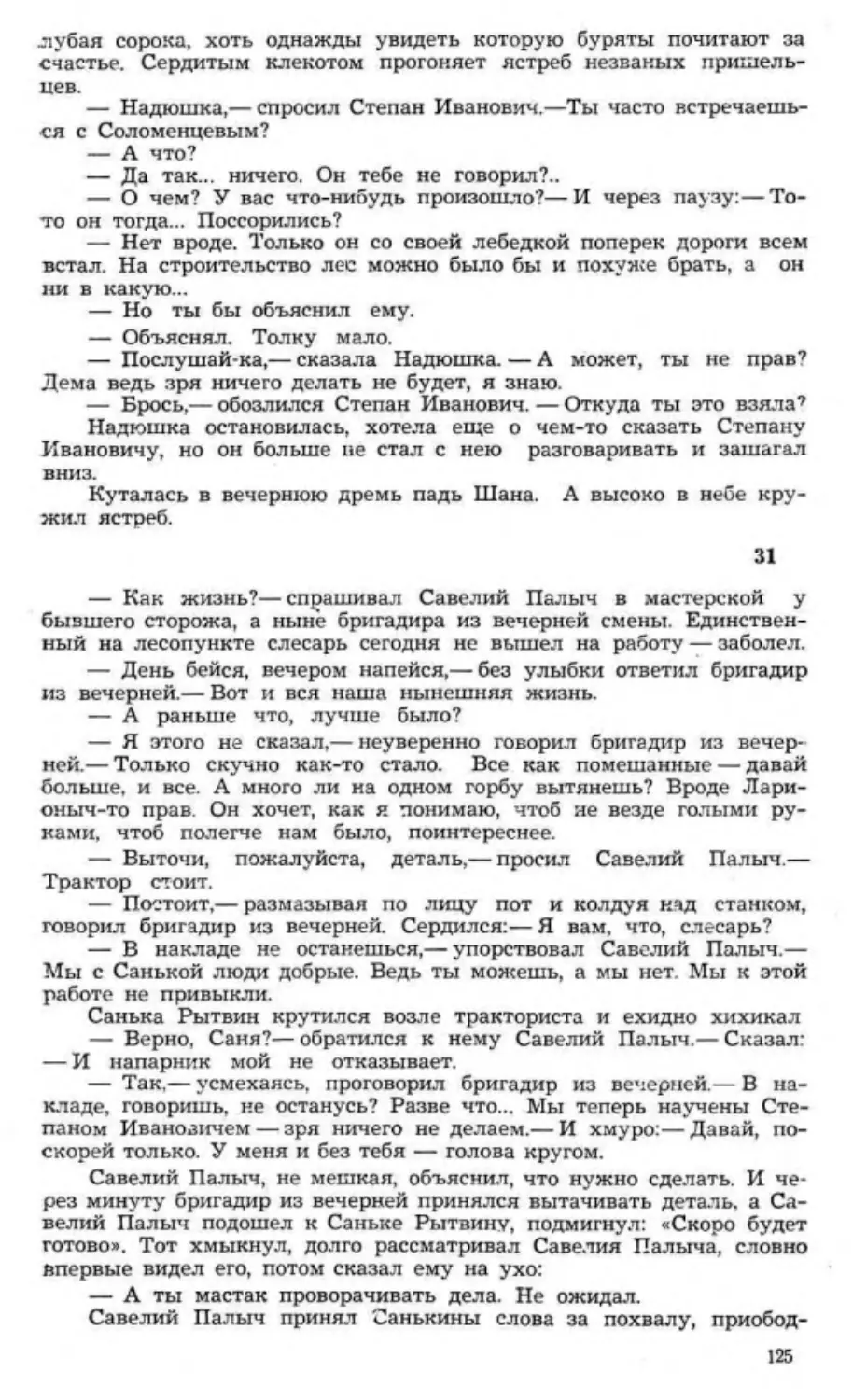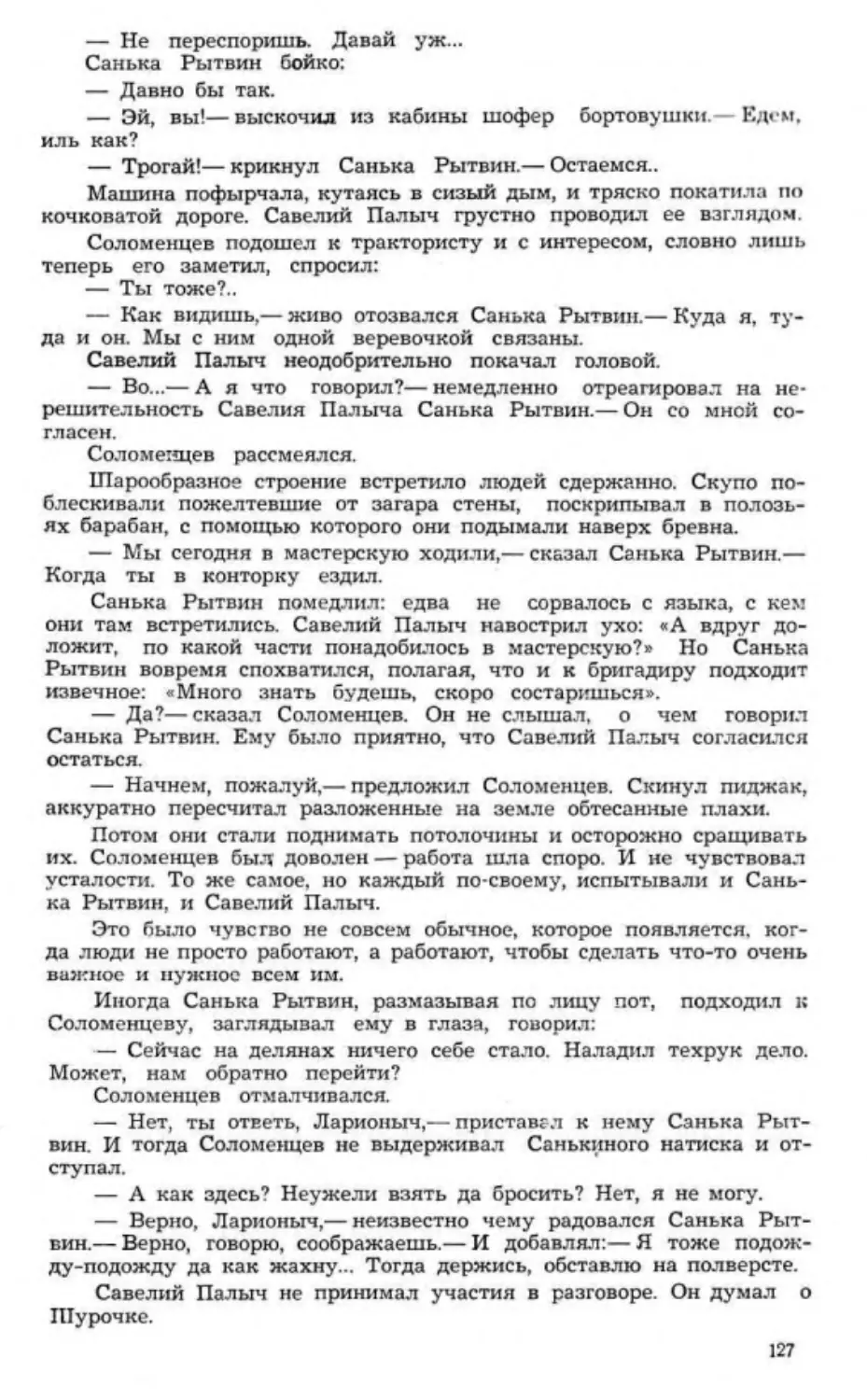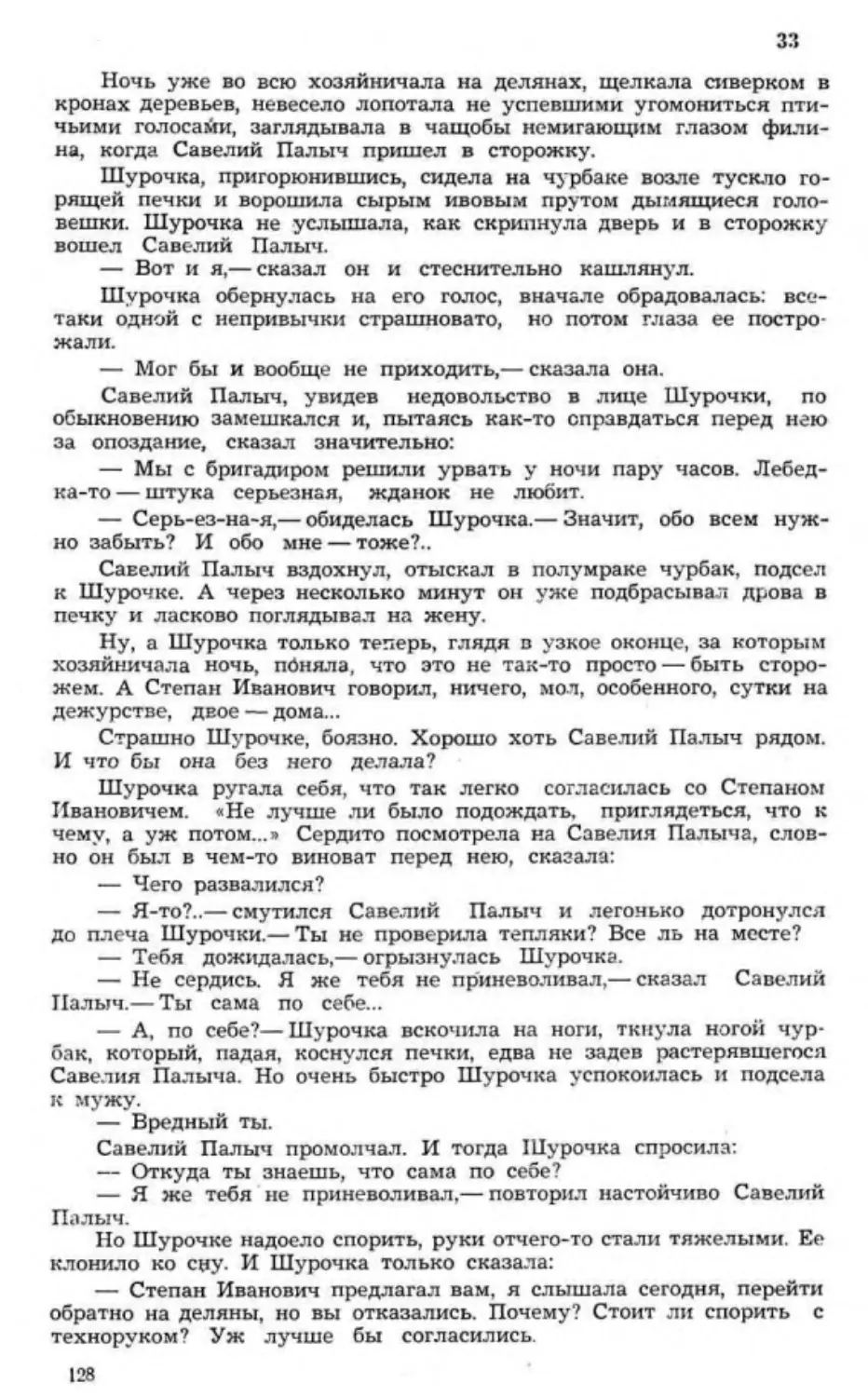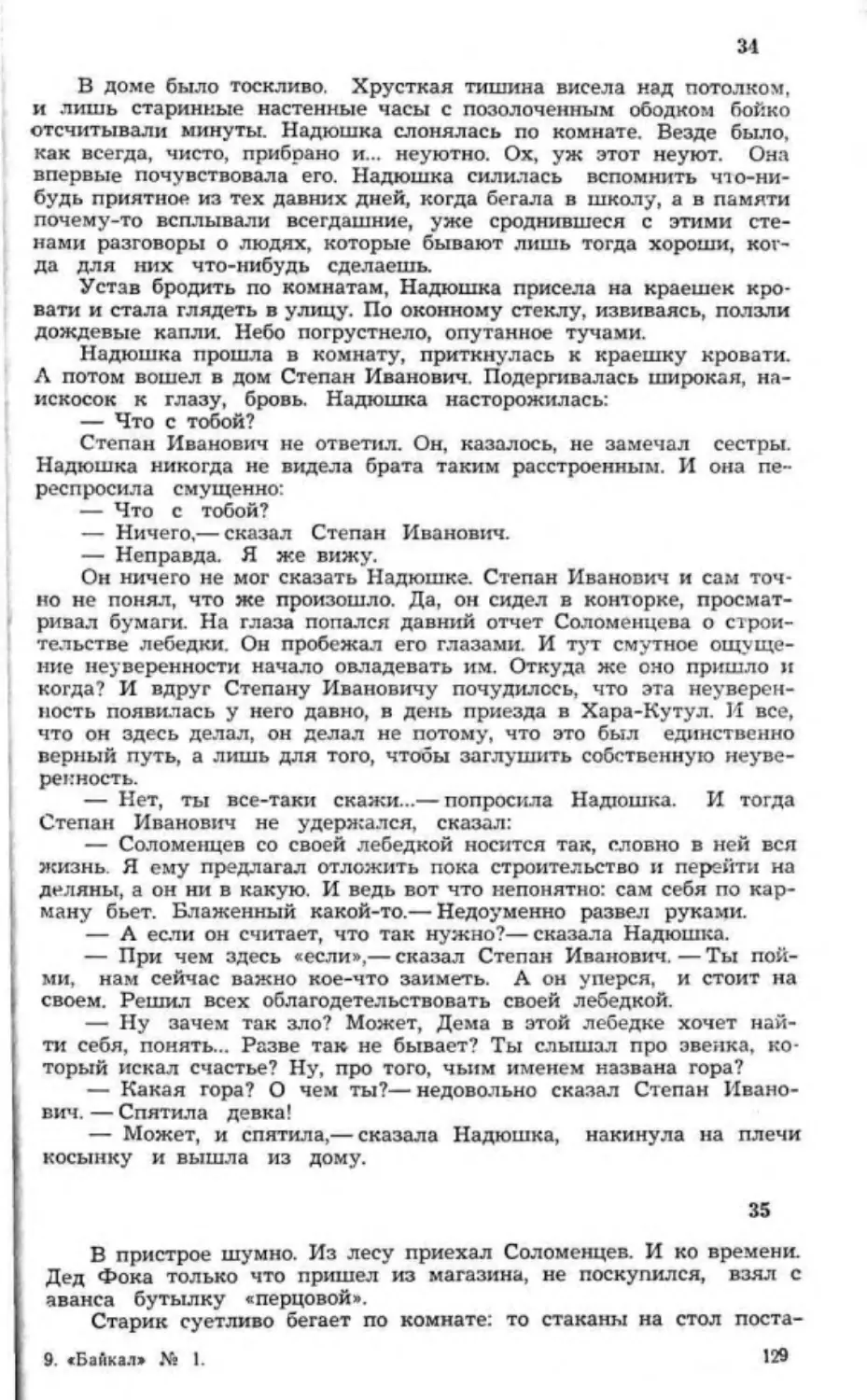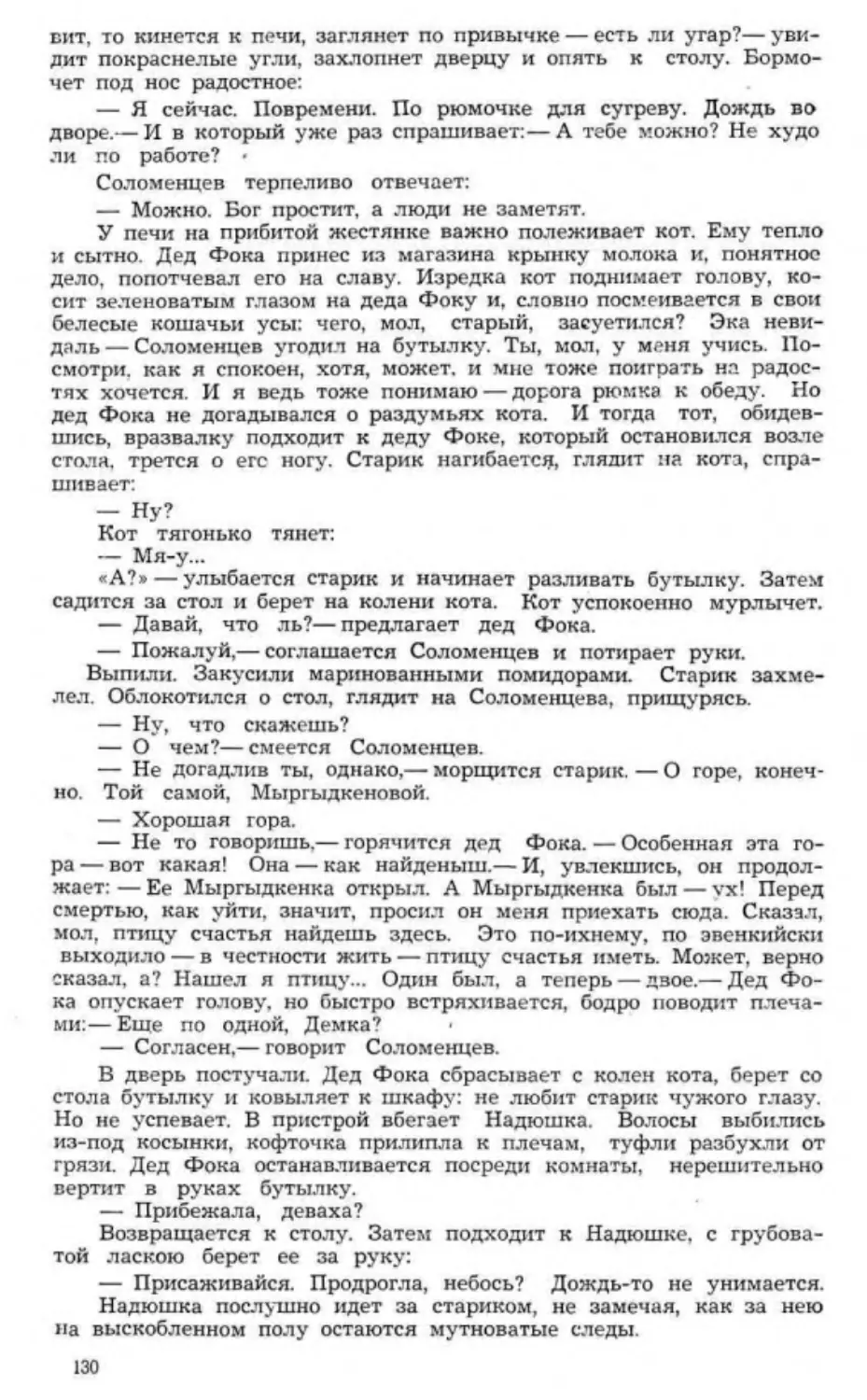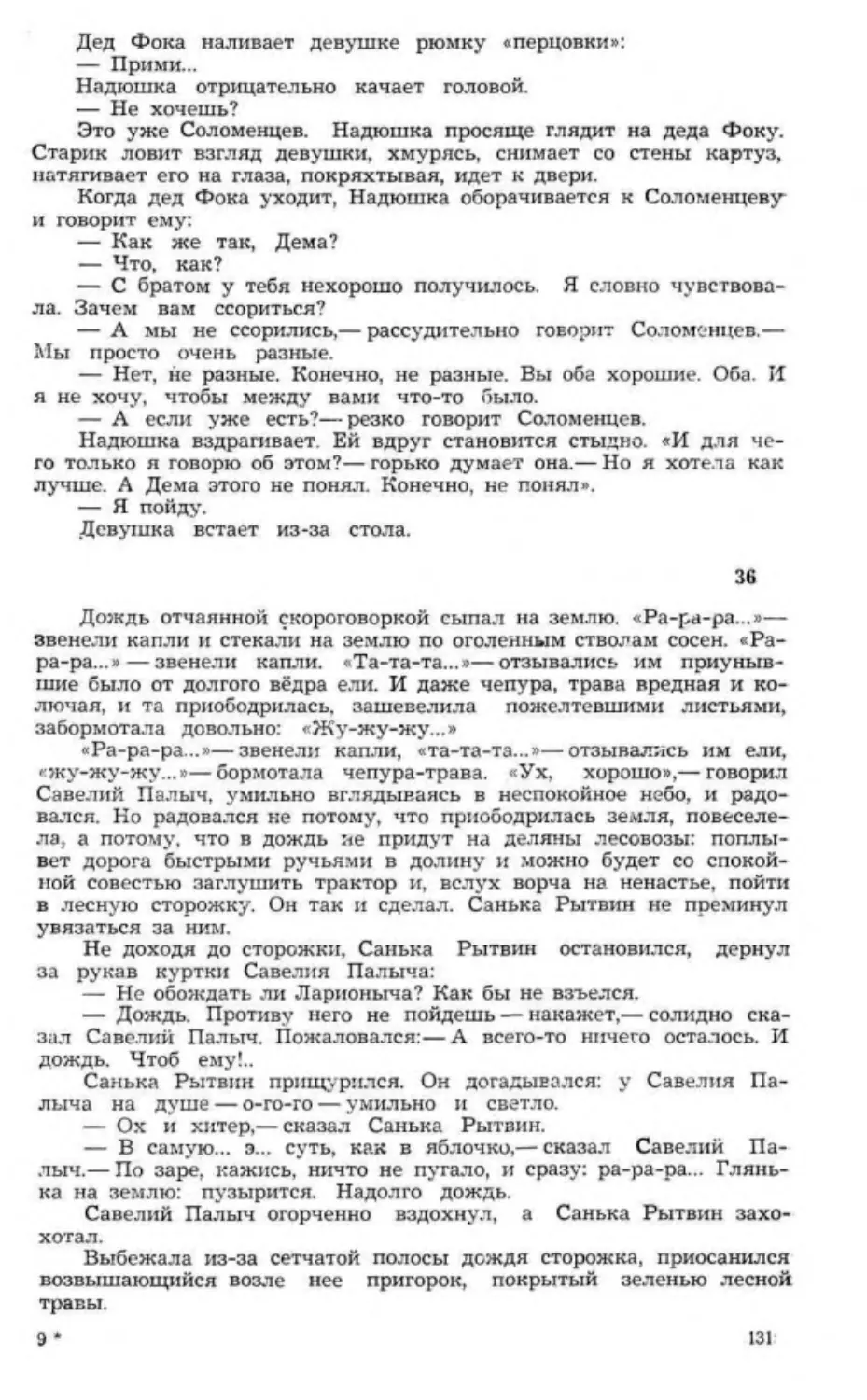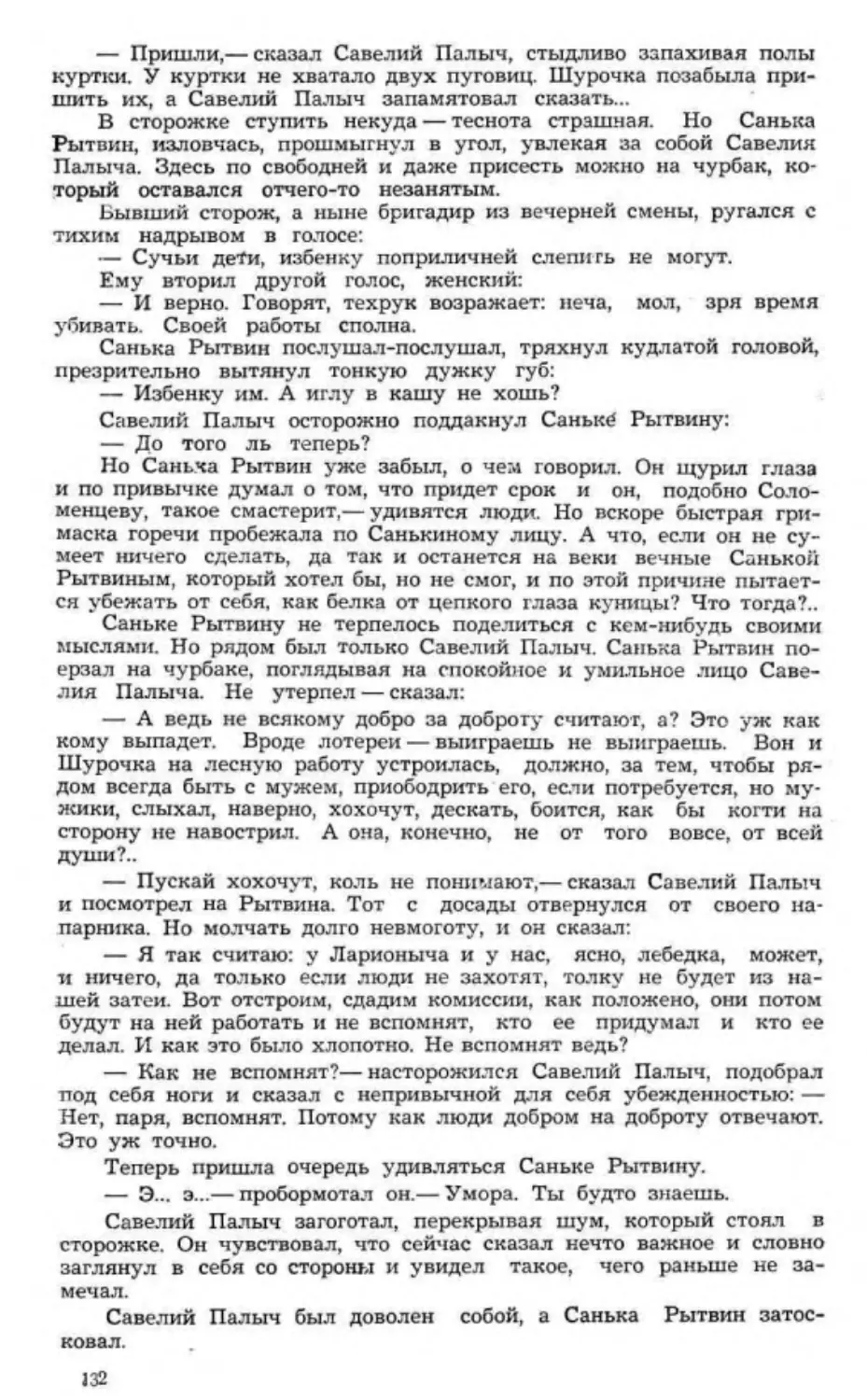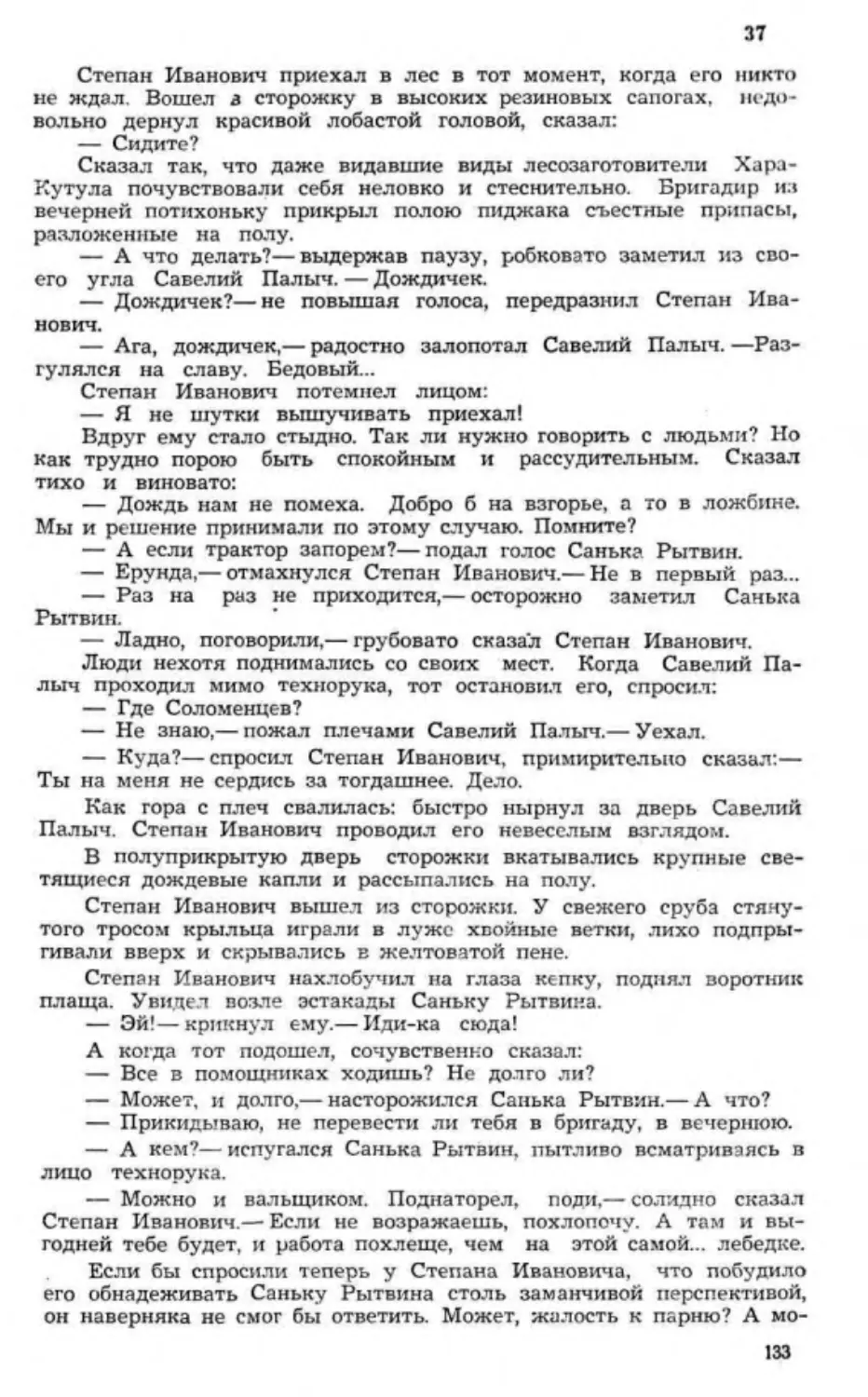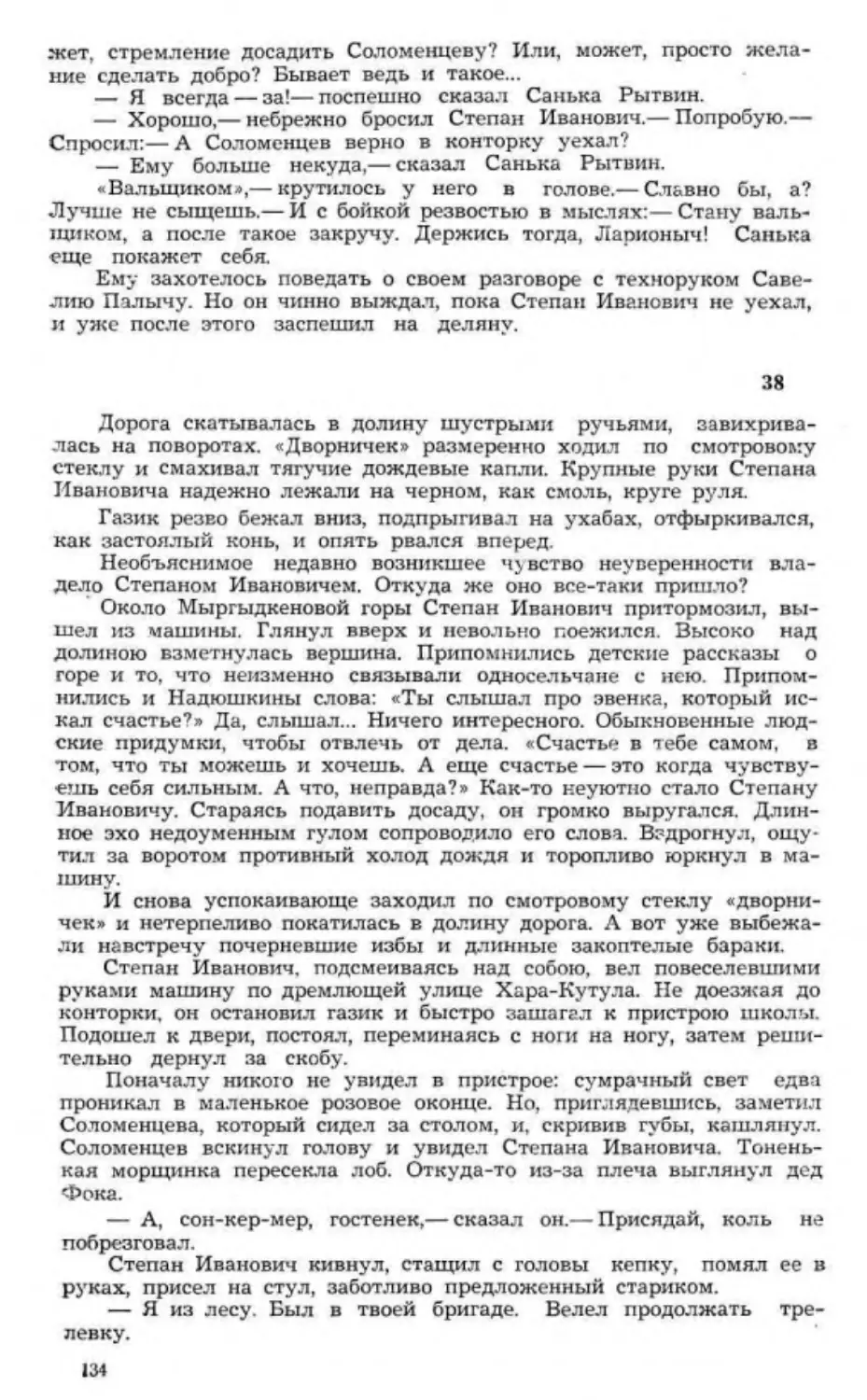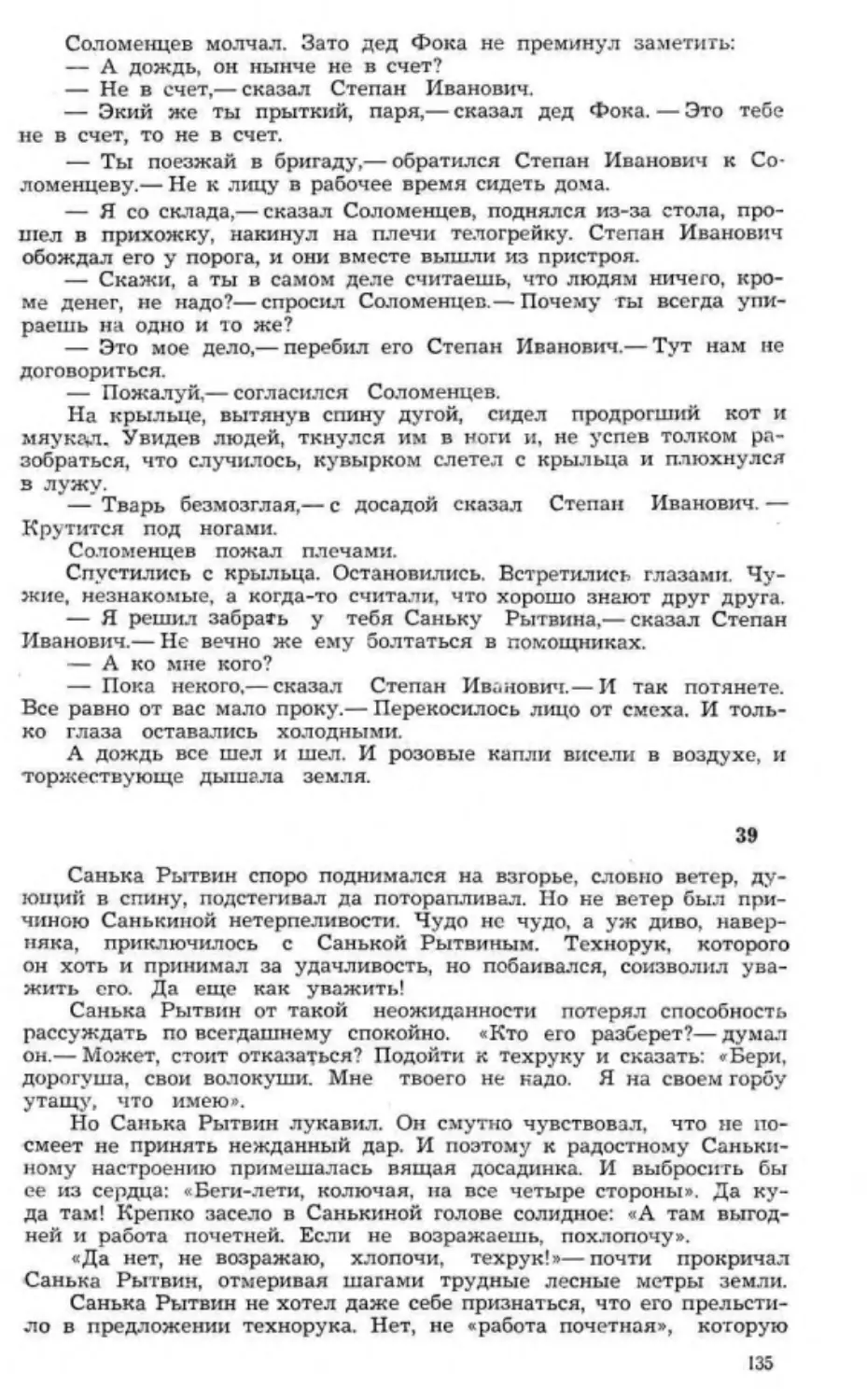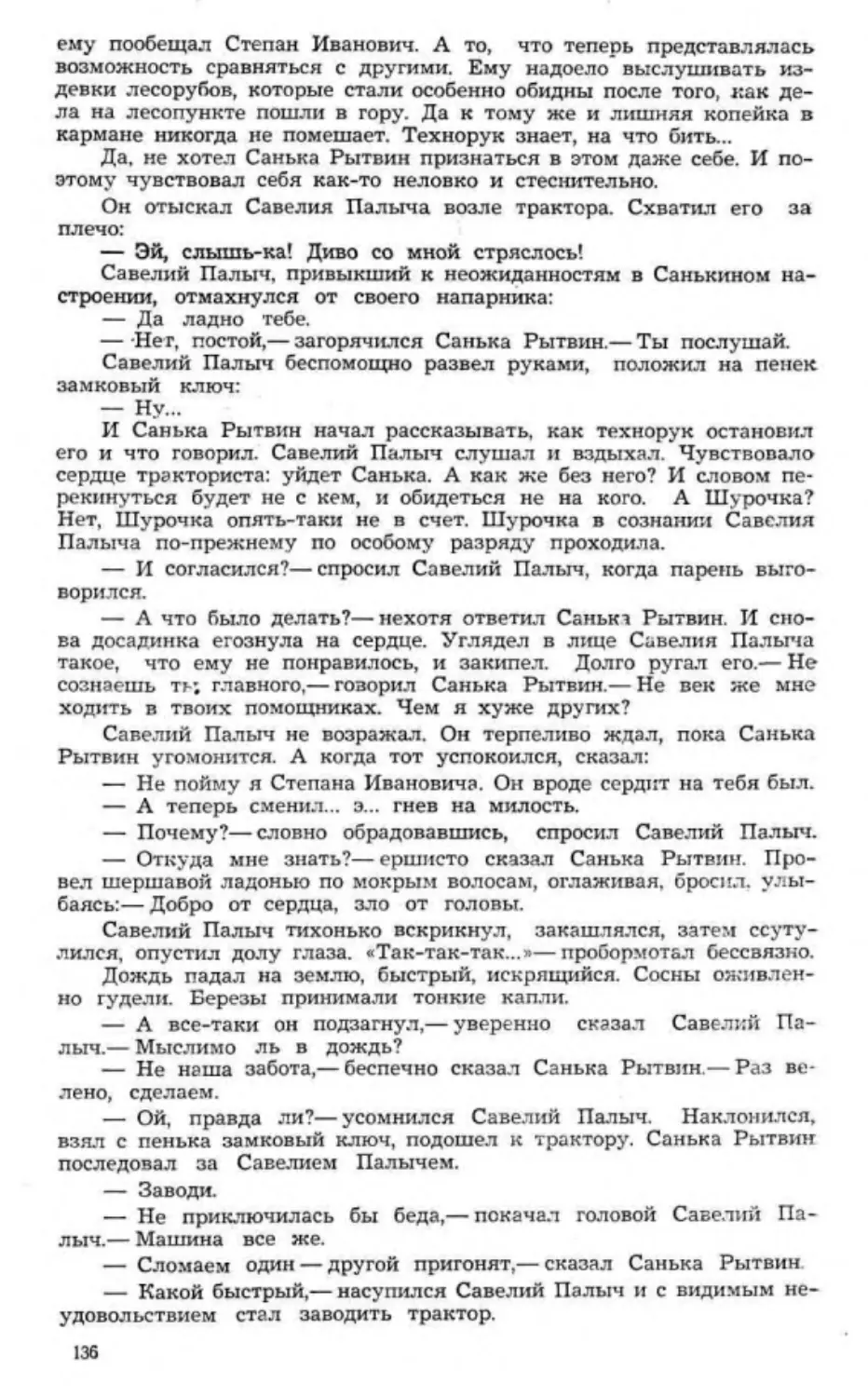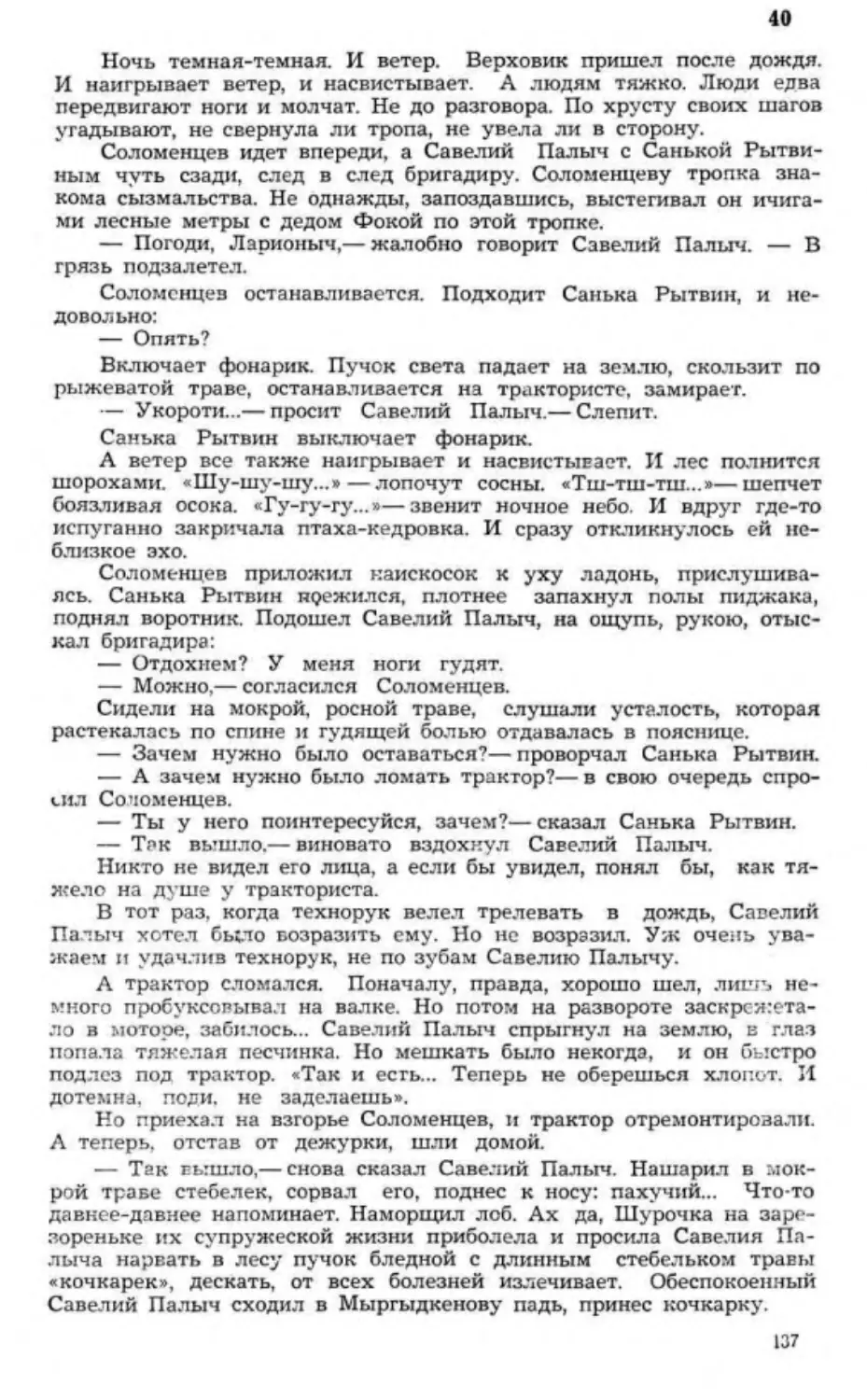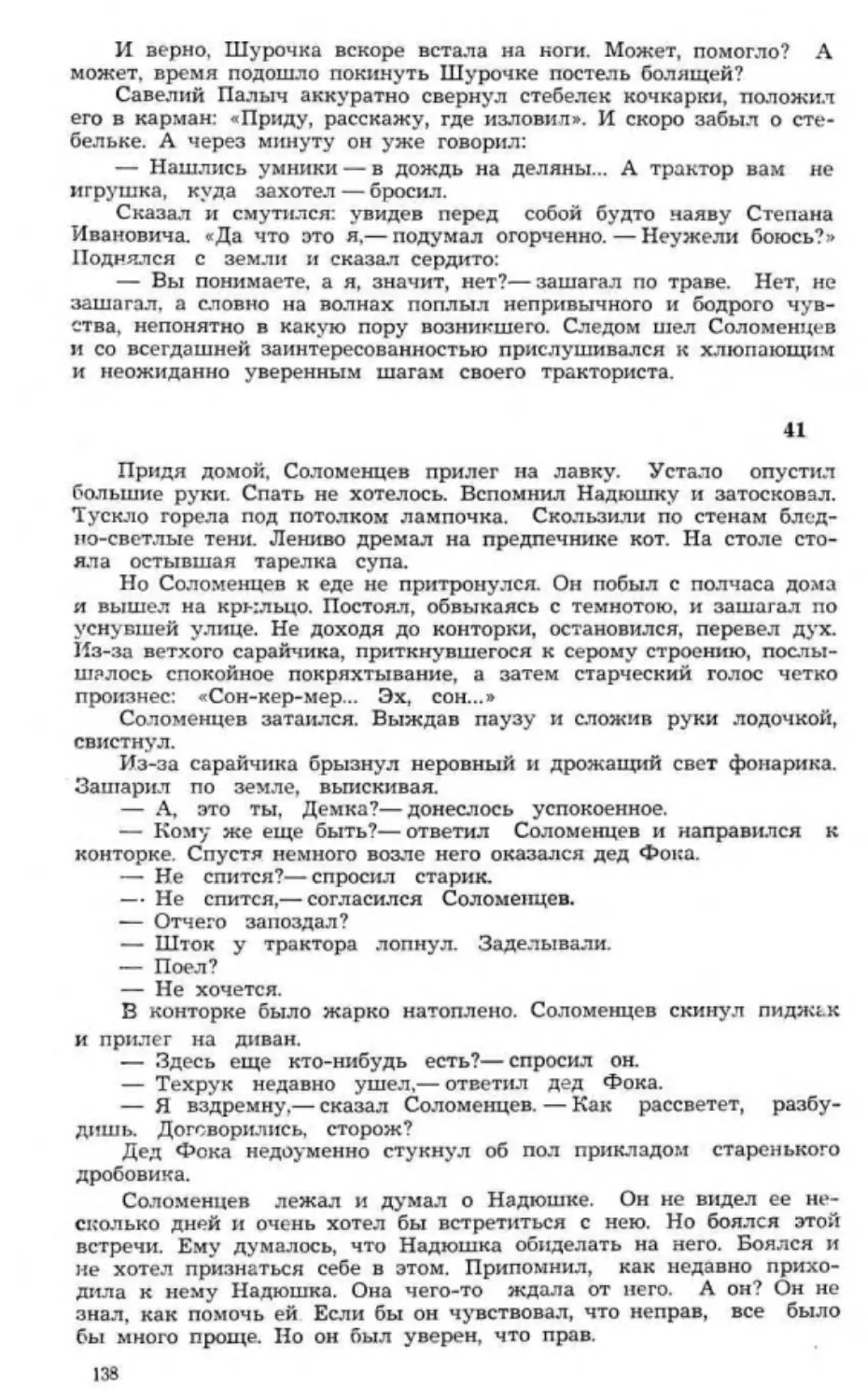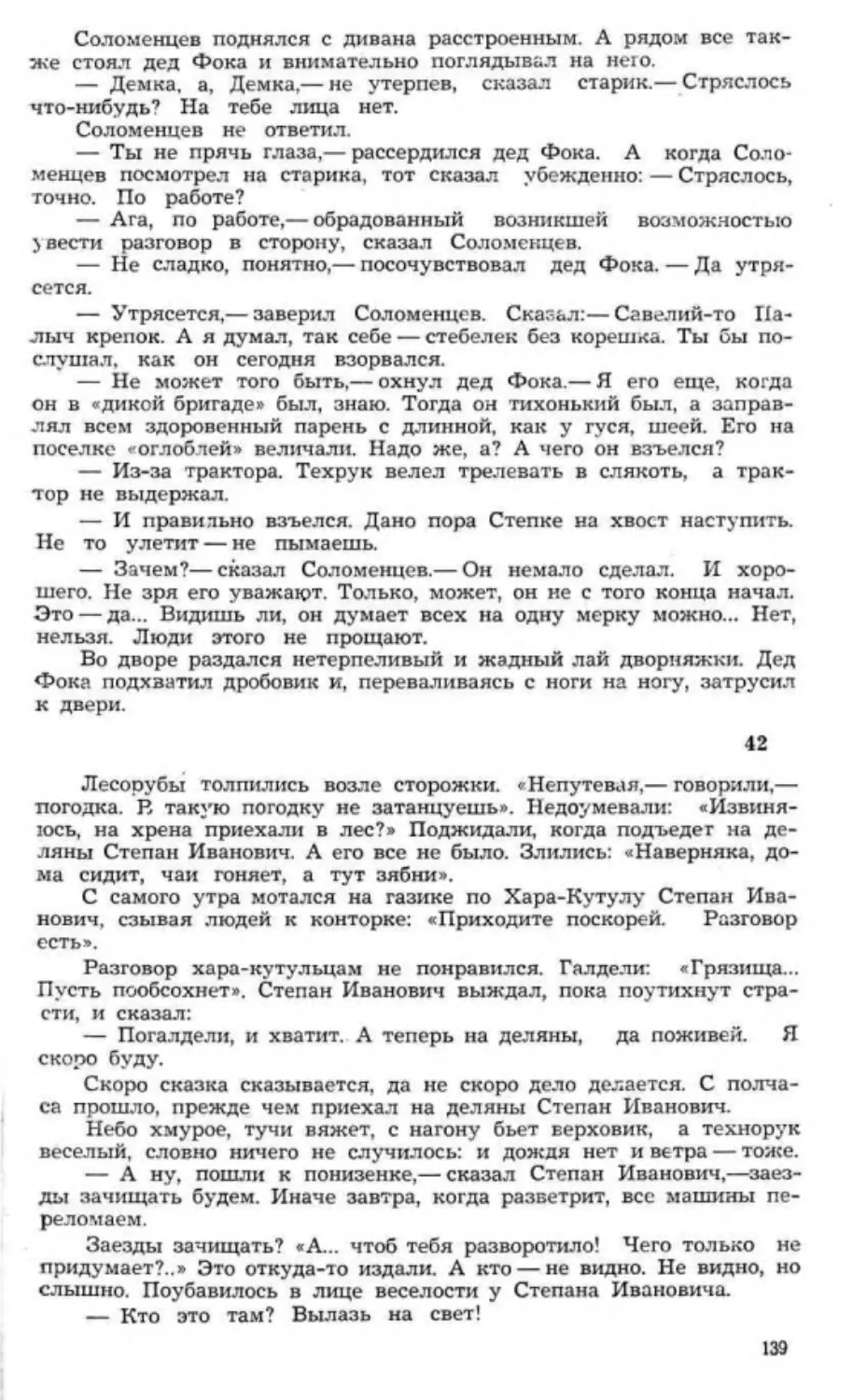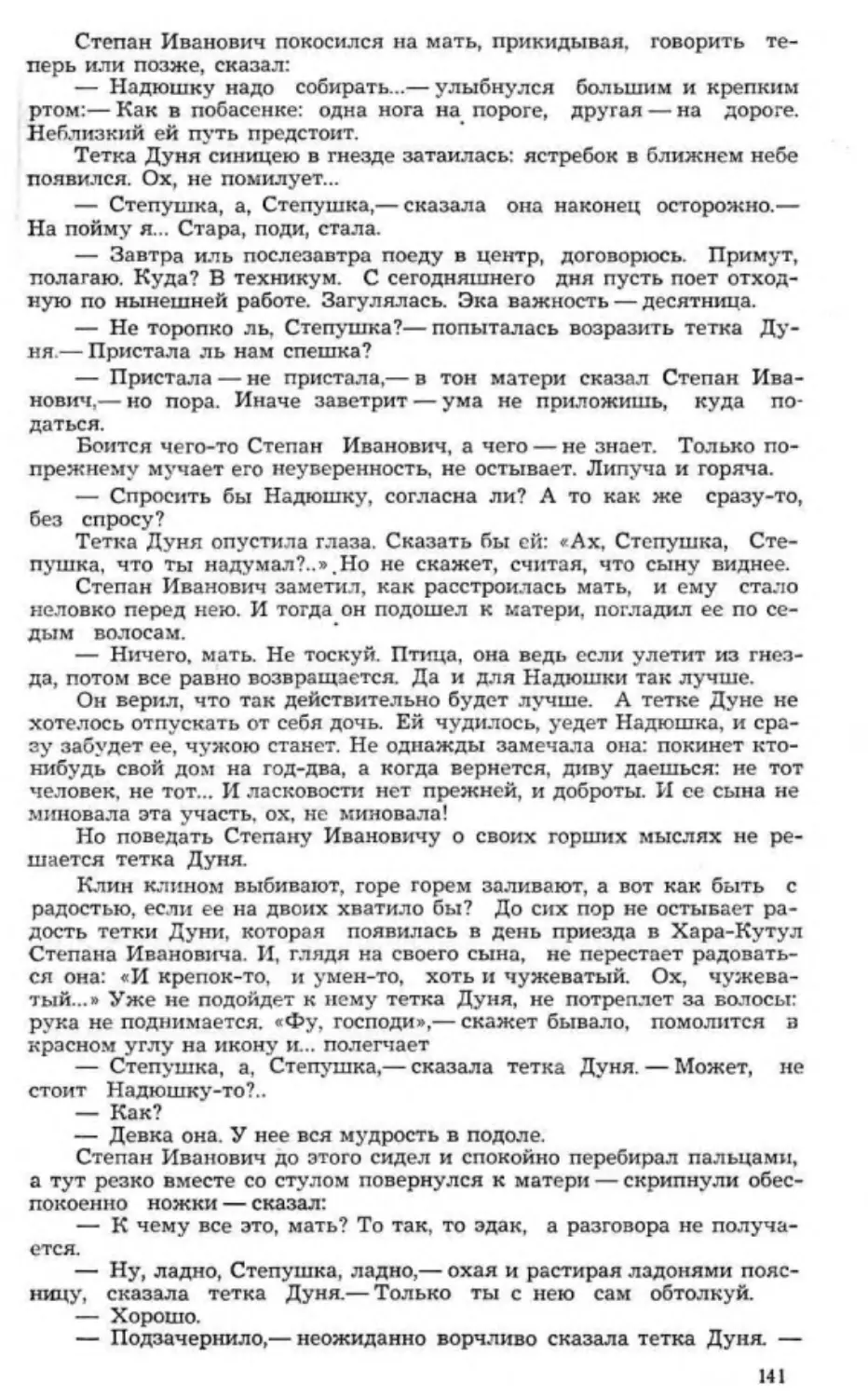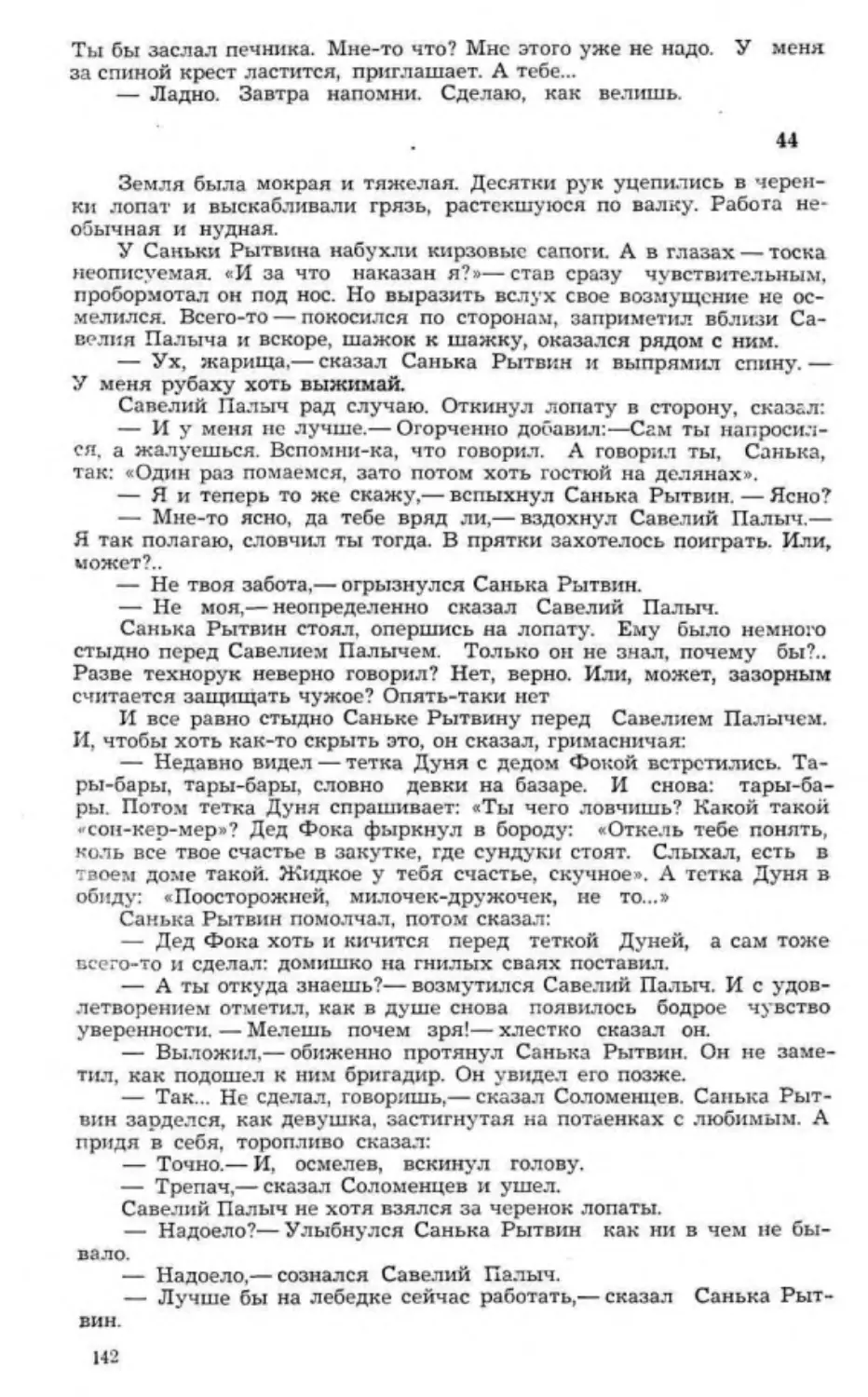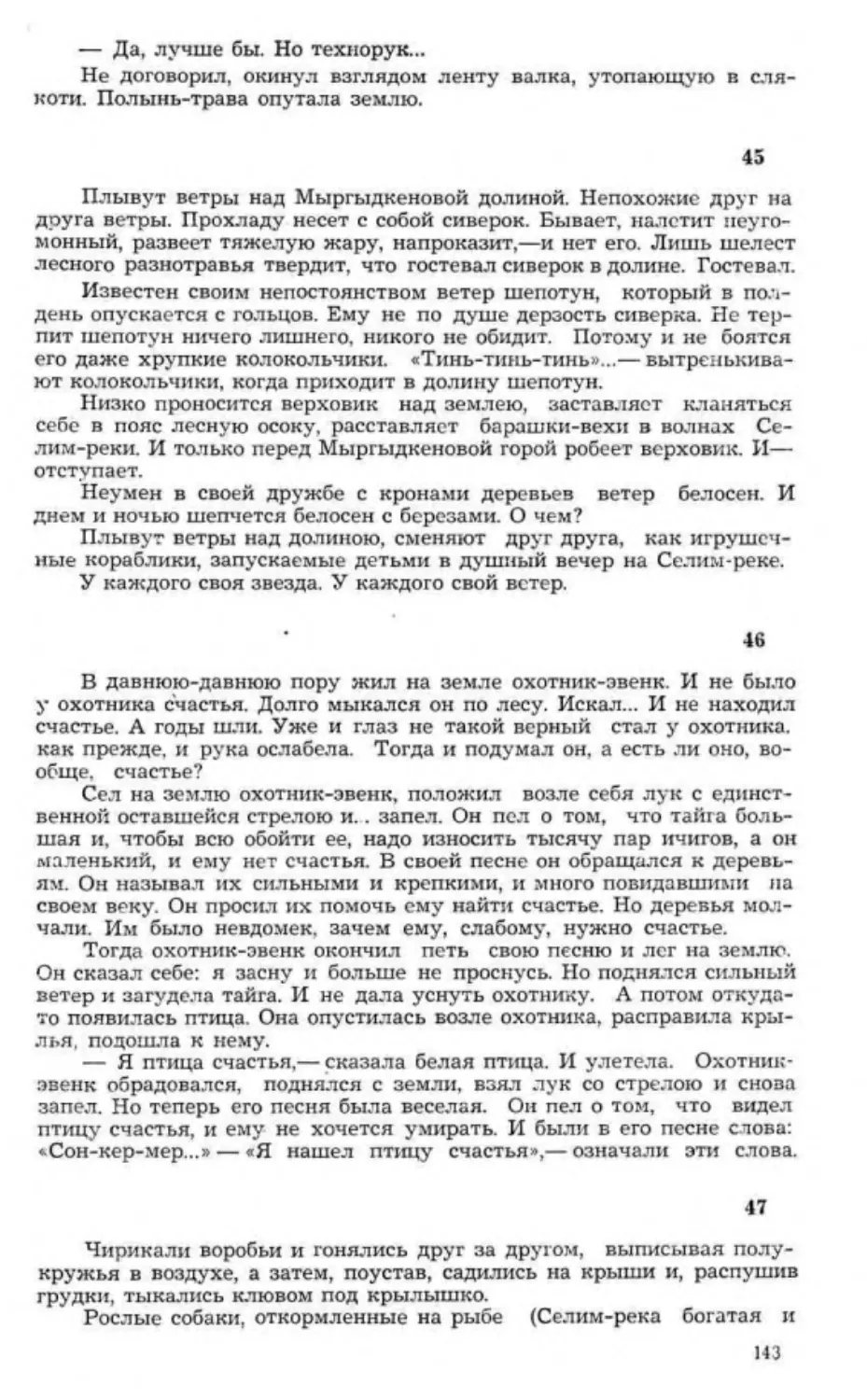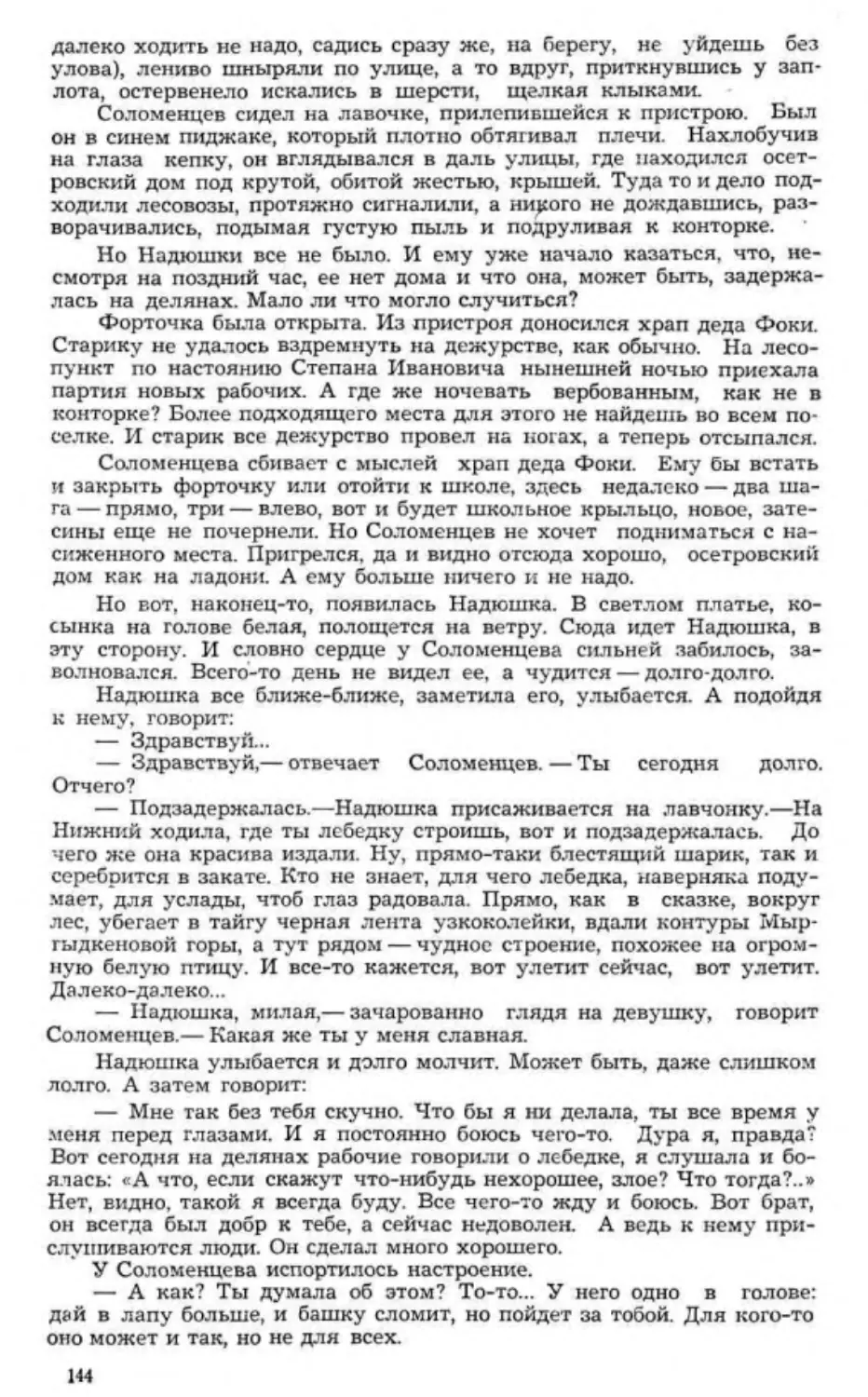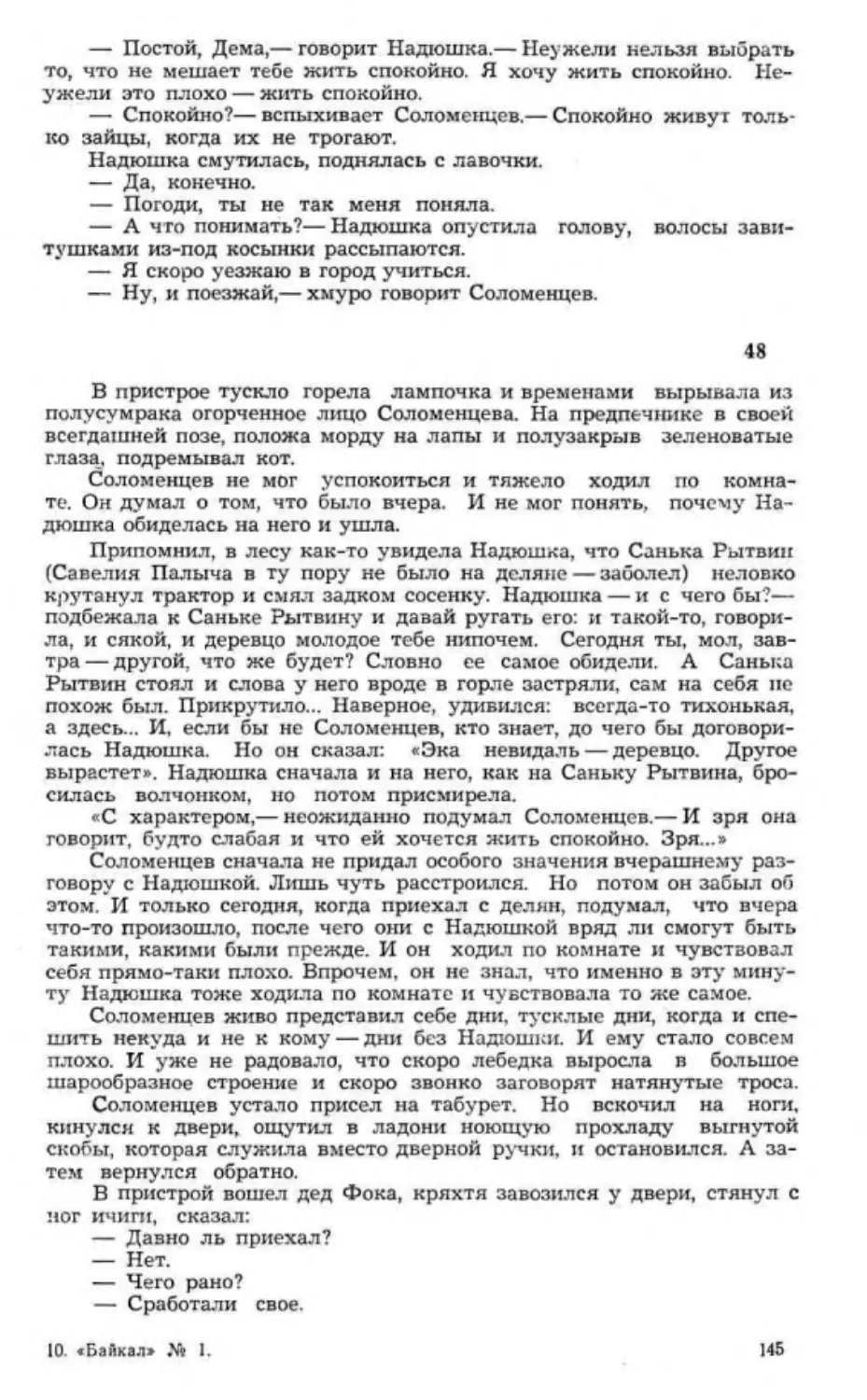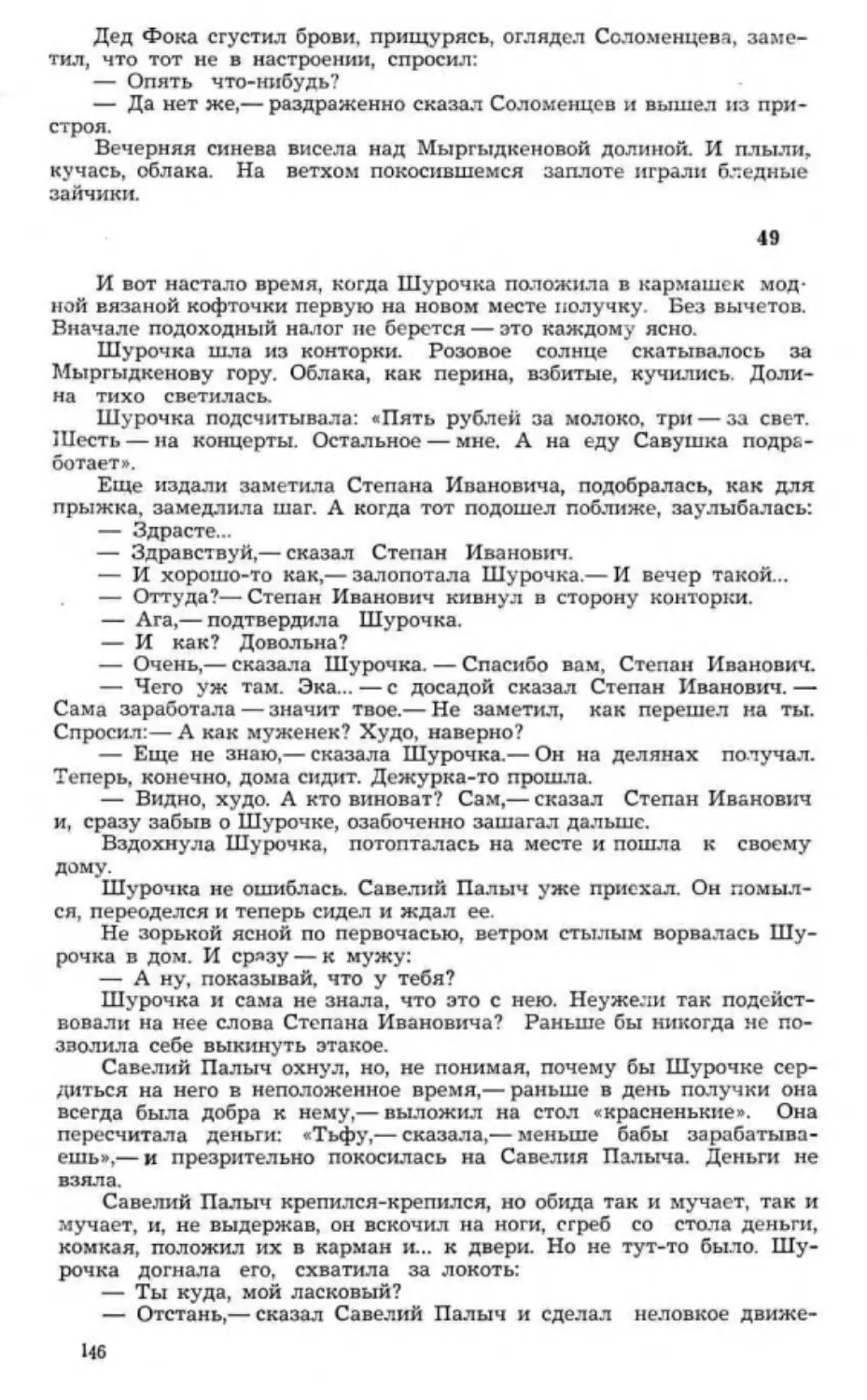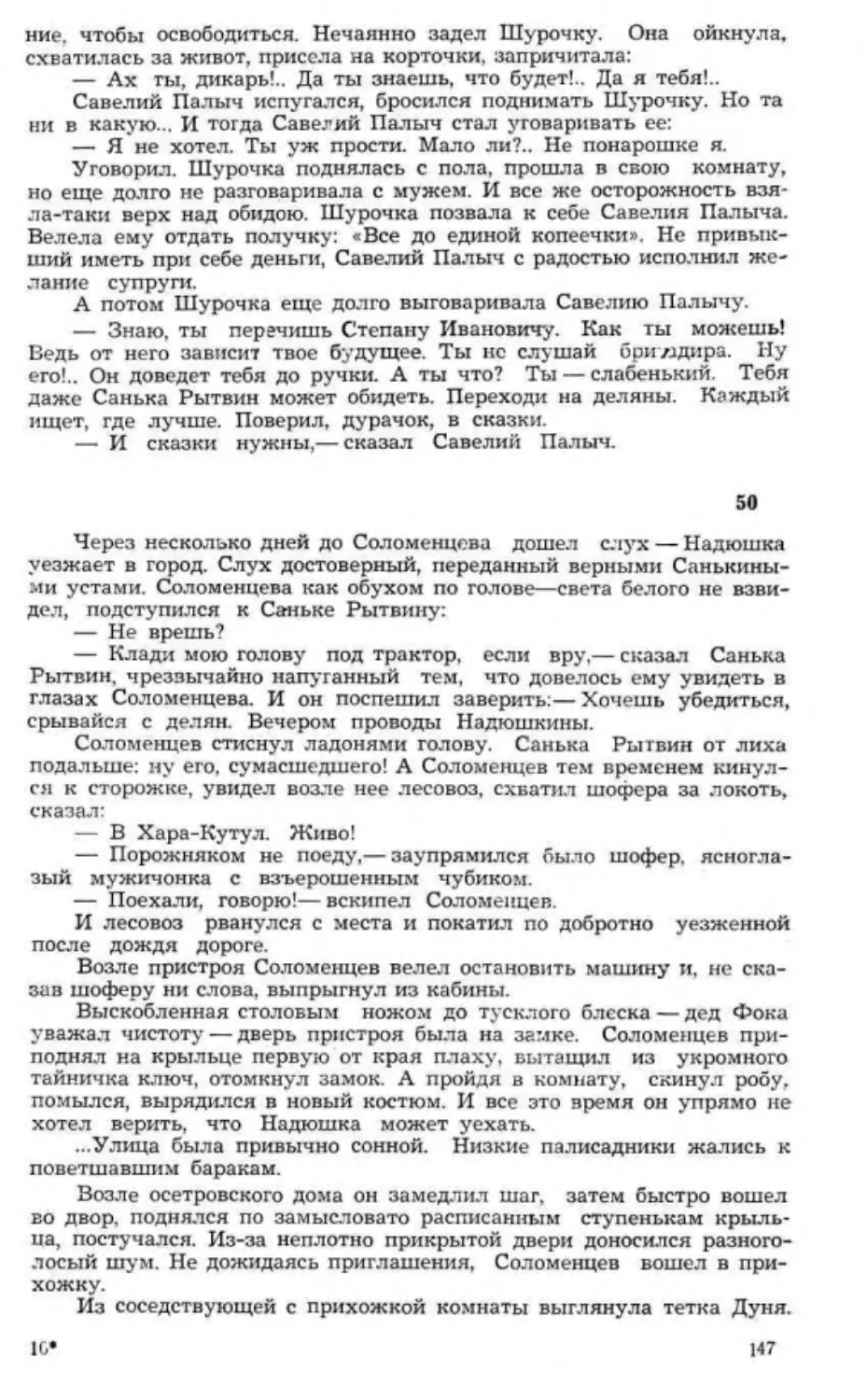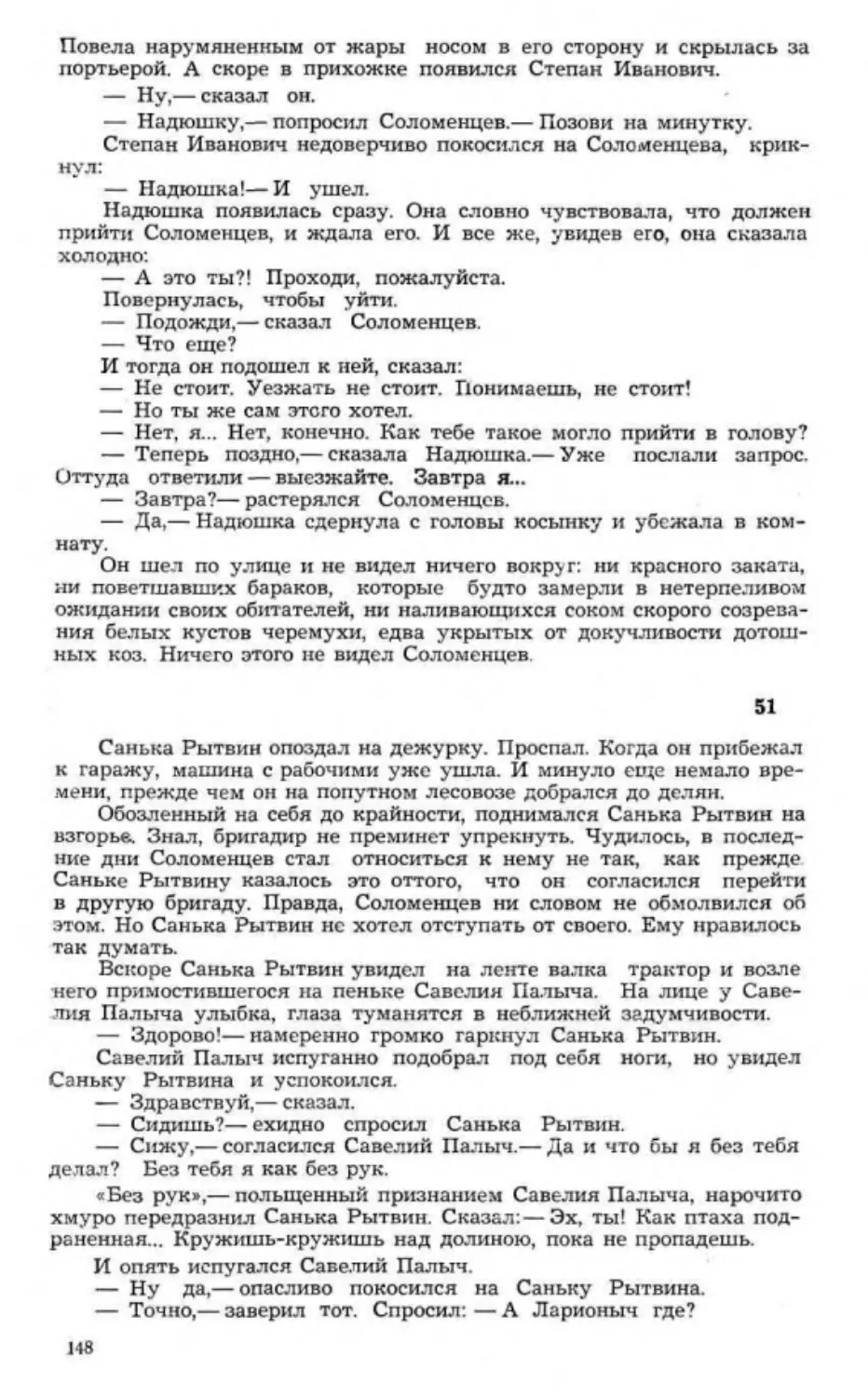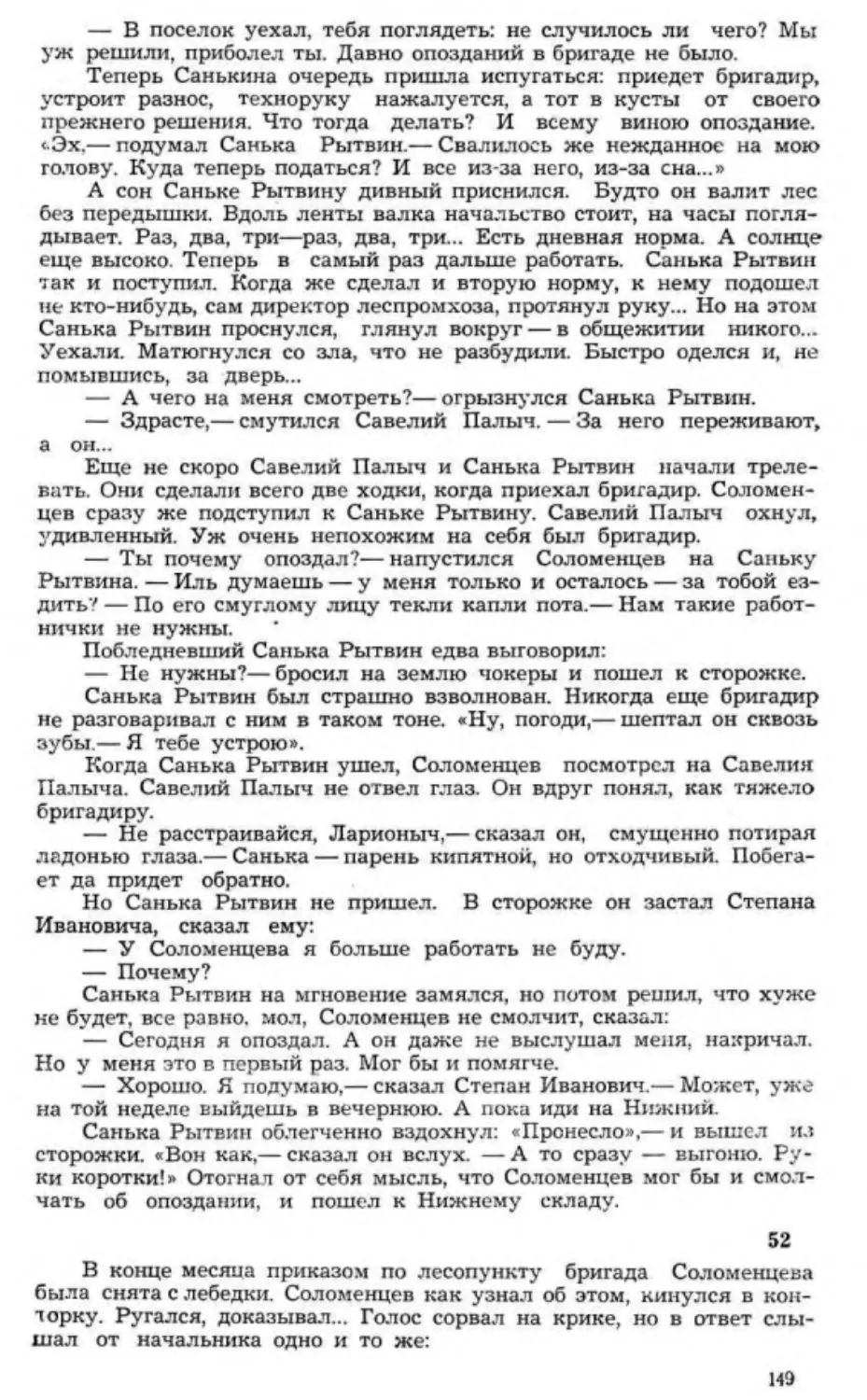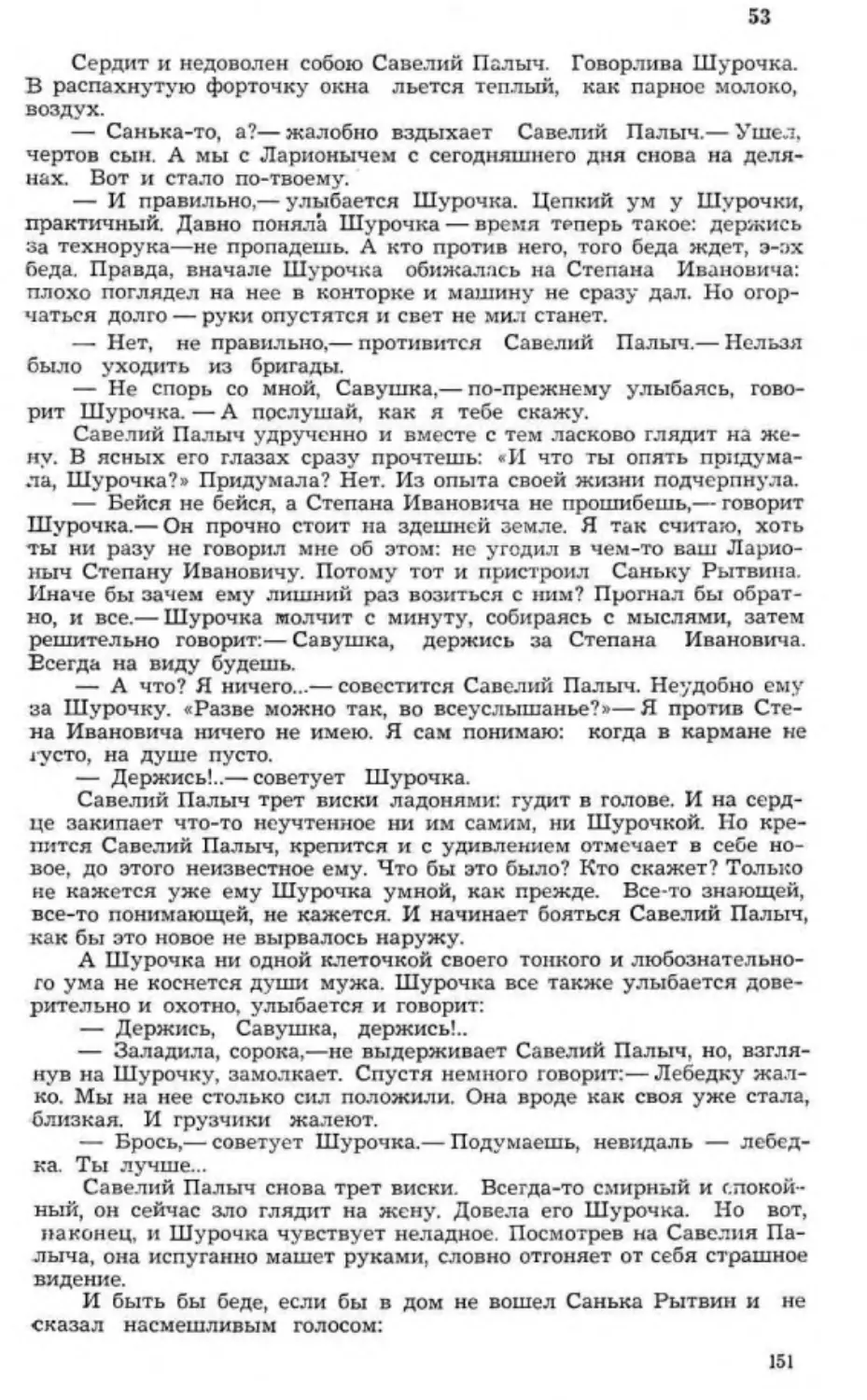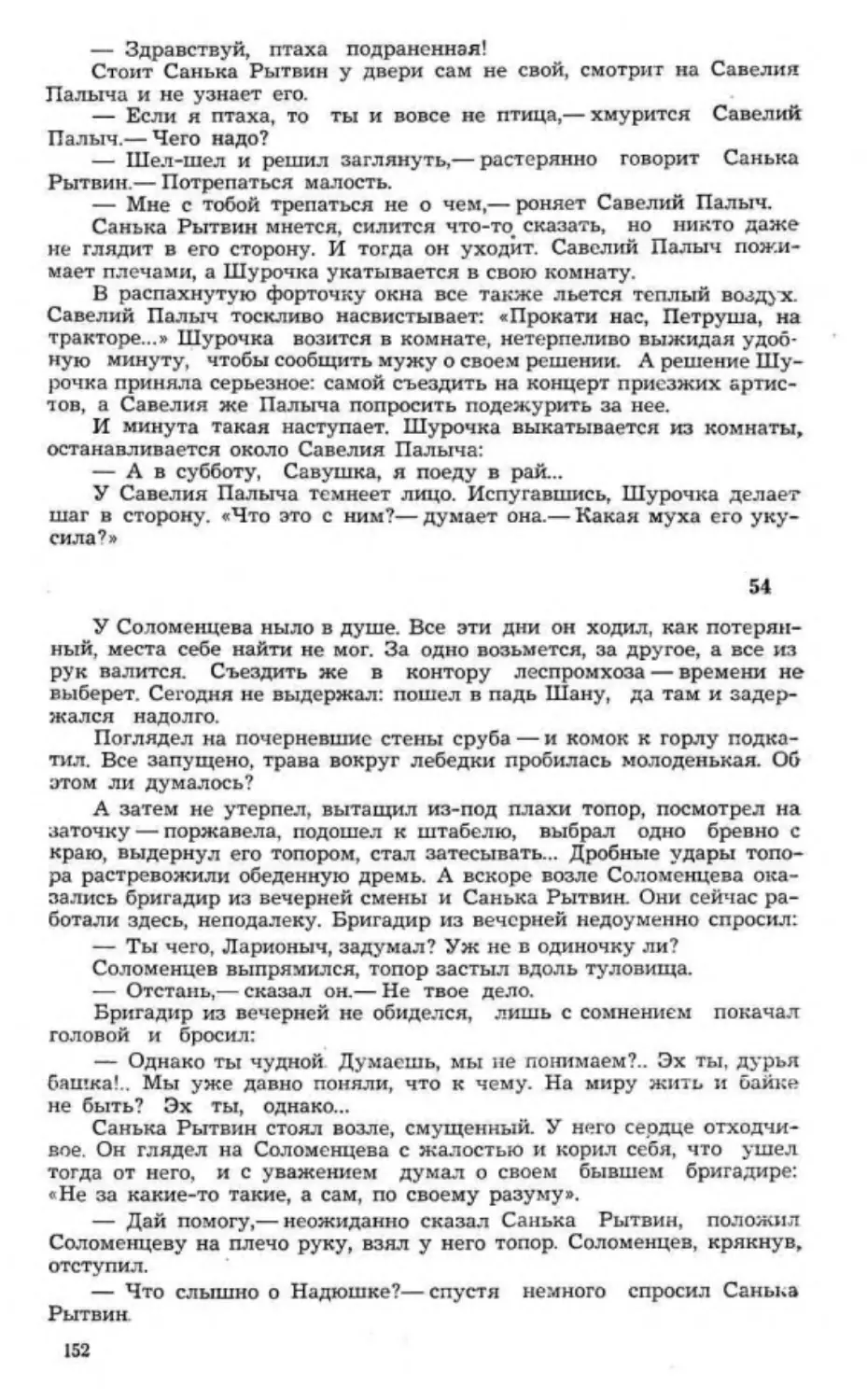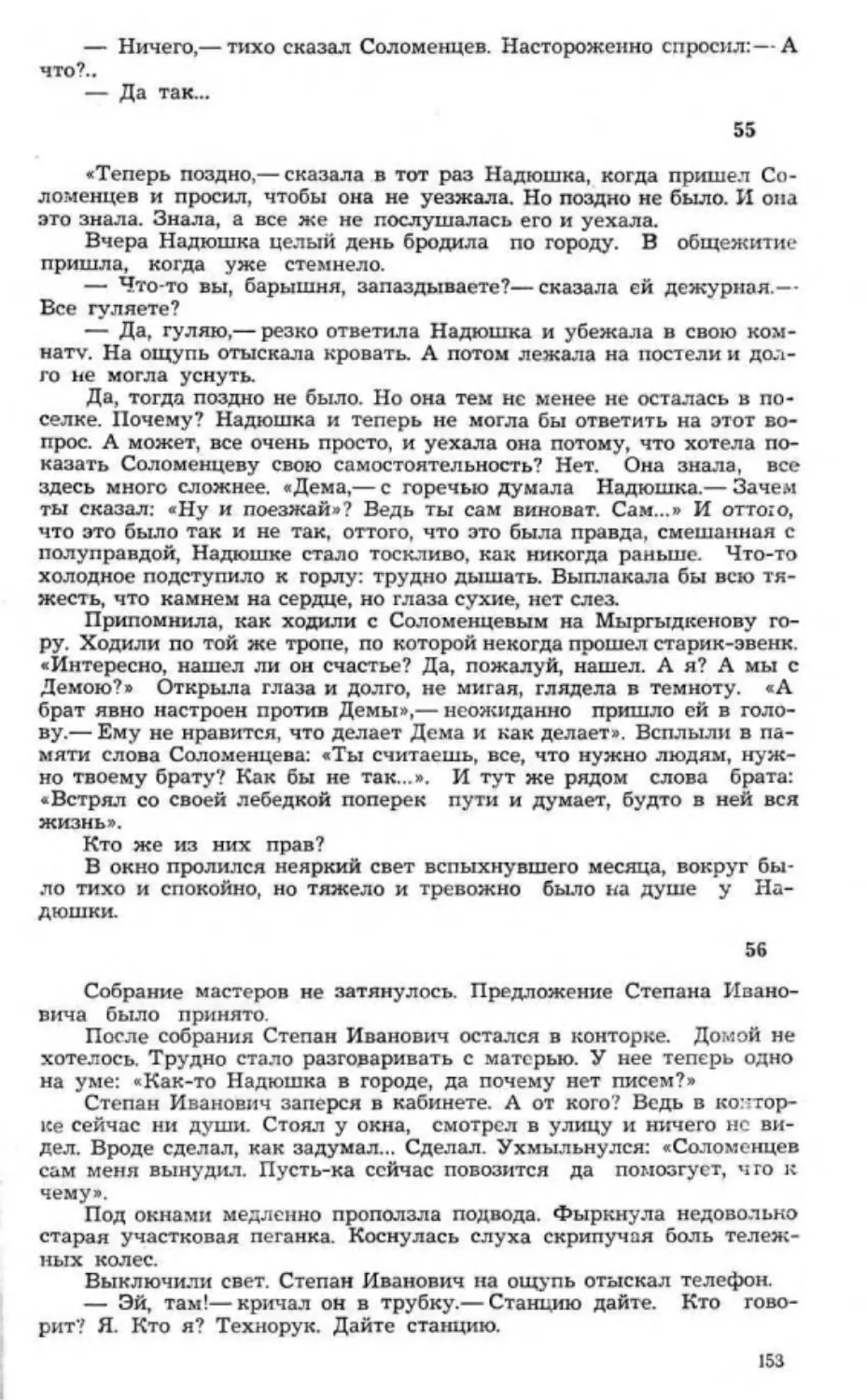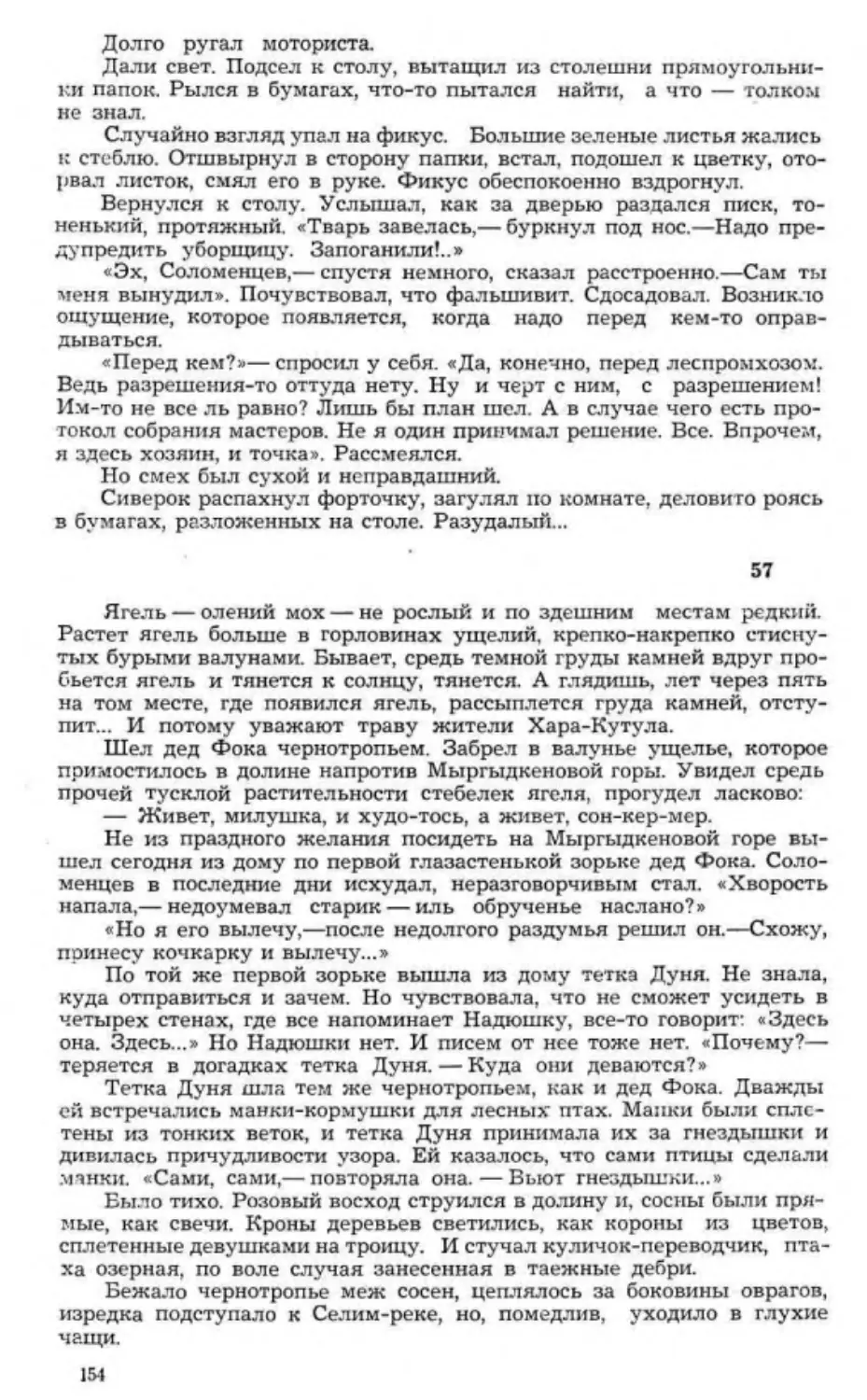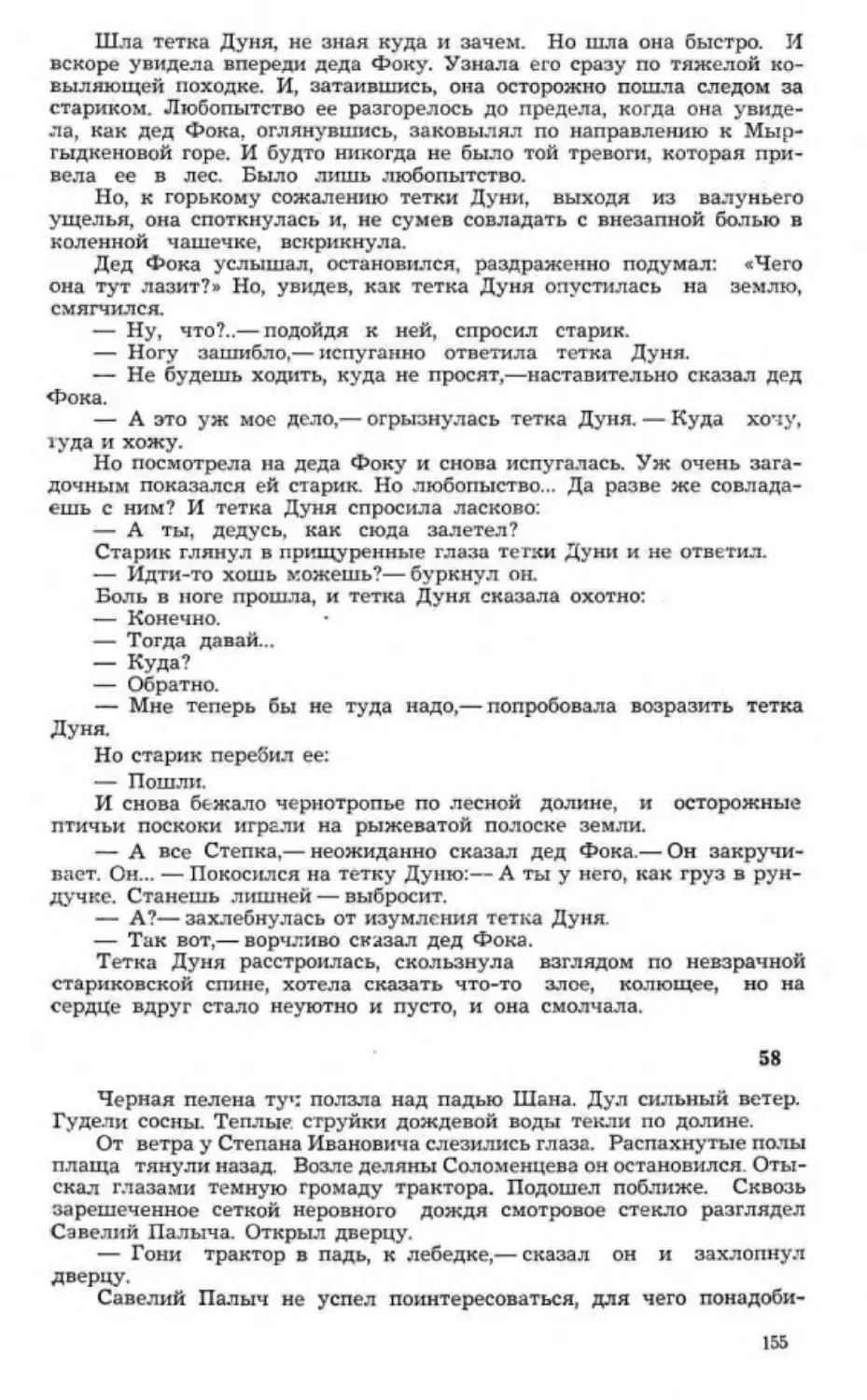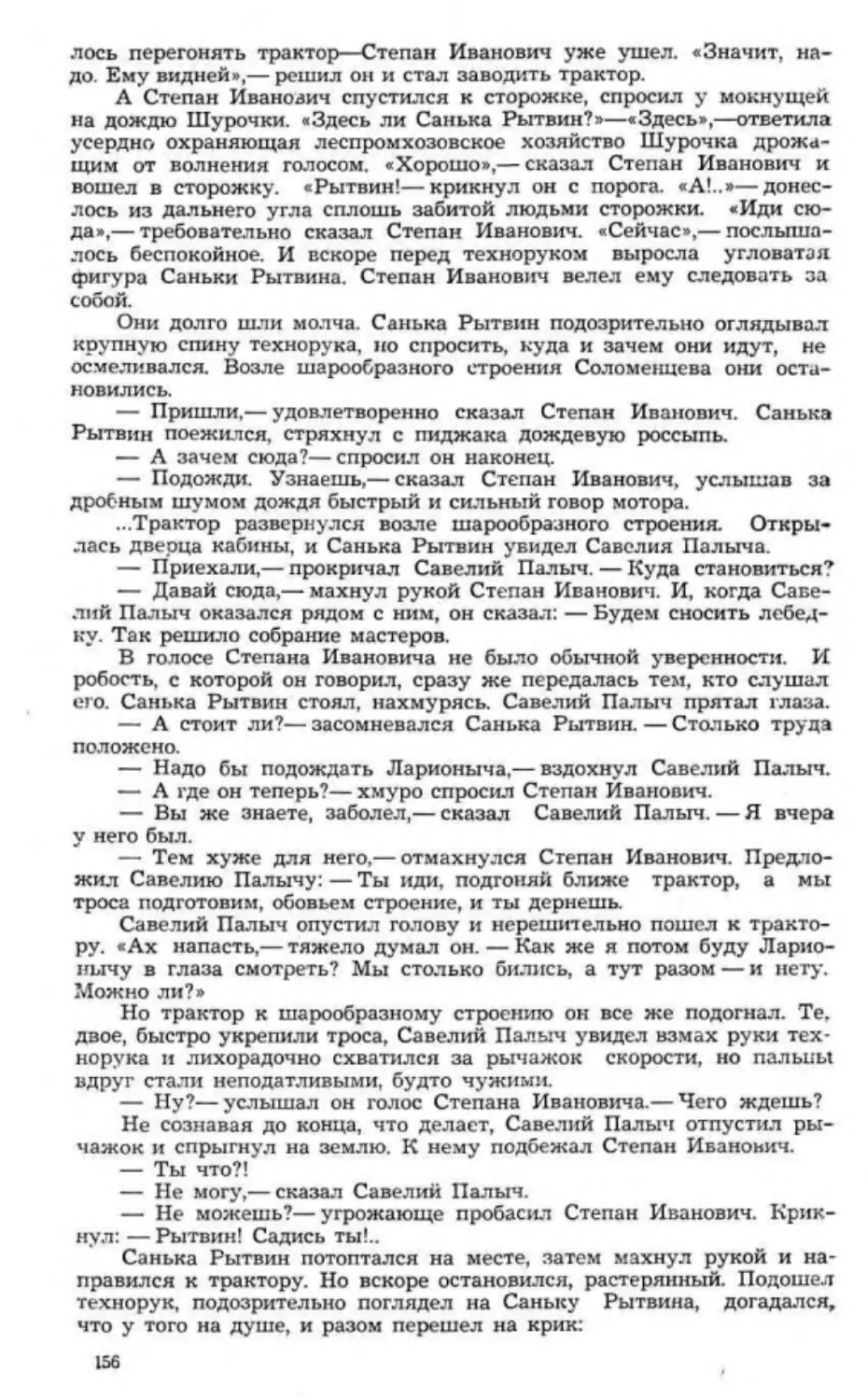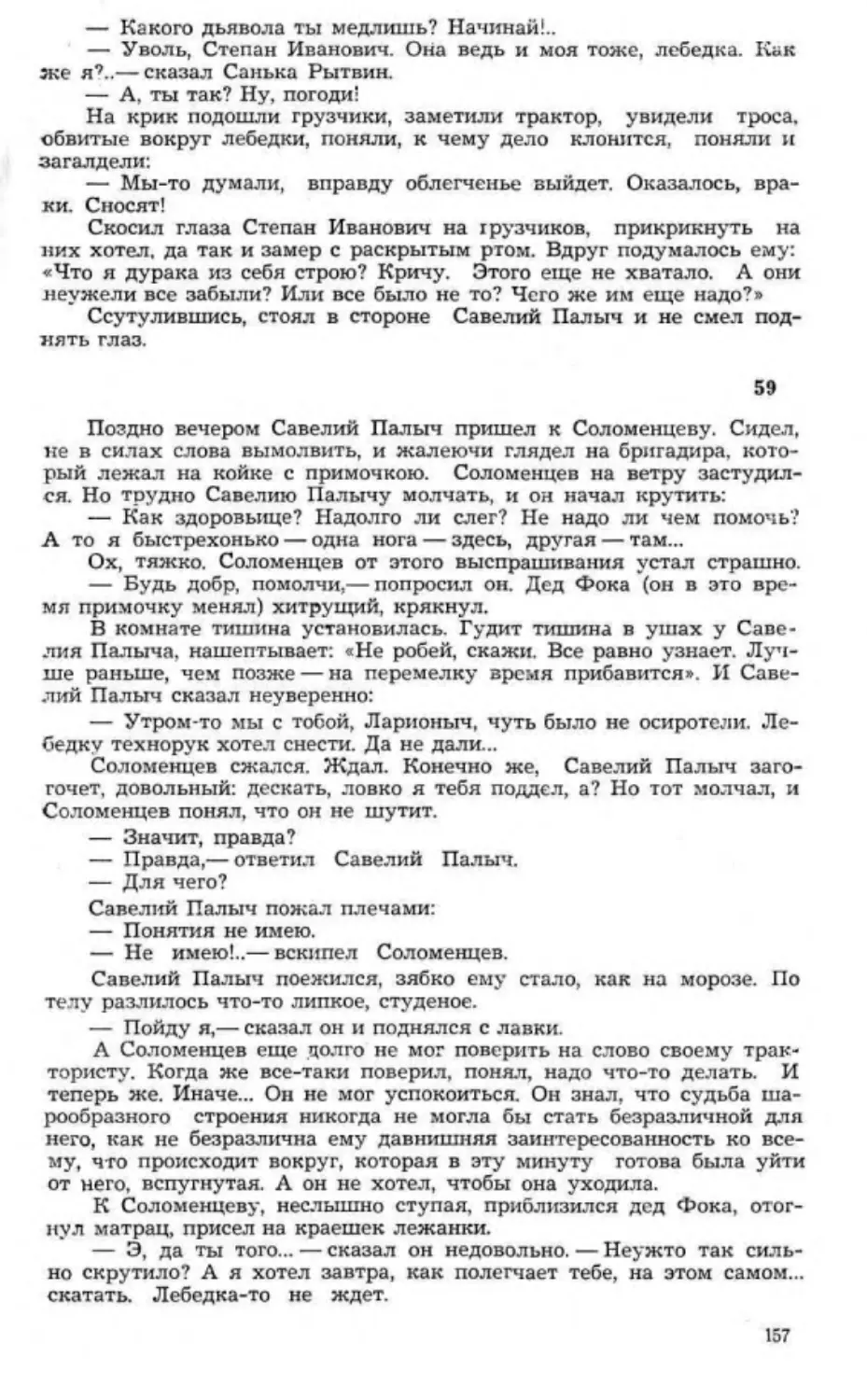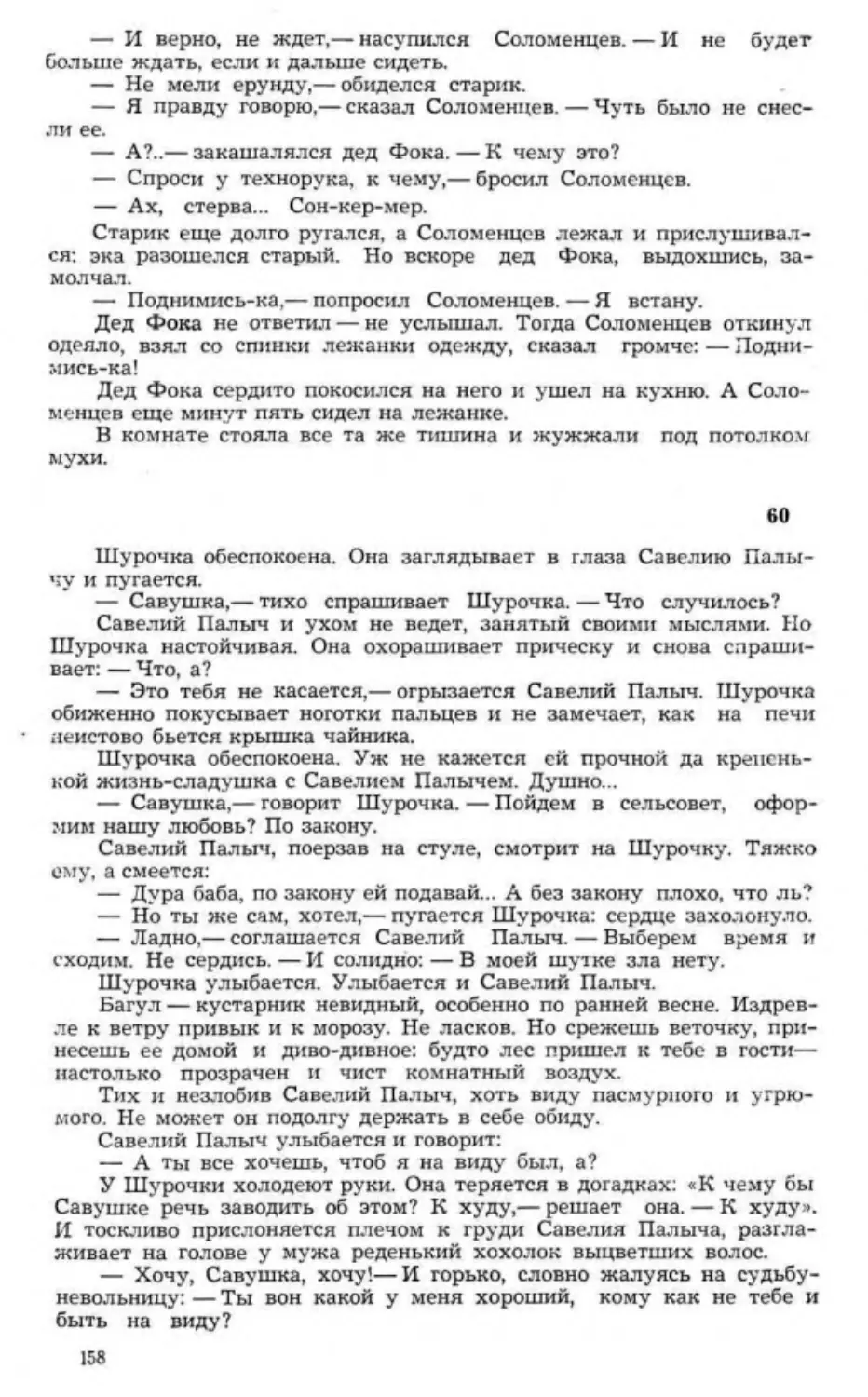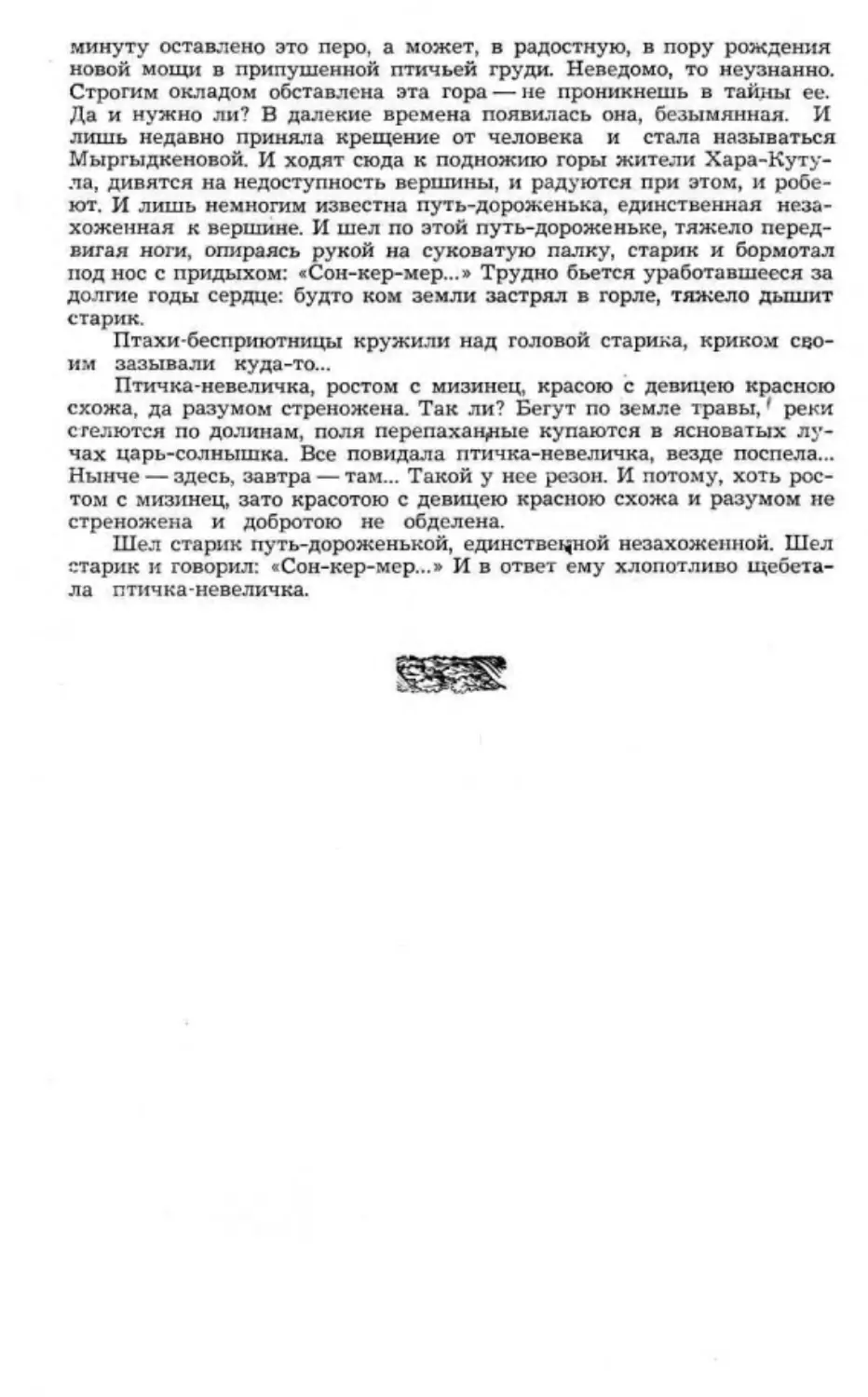Похожие
Текст
197/ -8
ин*<й I и
ЛИТЕРАТУРНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Выходит
один раз
в 2 месяца
на русском
и бурятском
языках
Орган Союза писателей Буряте кой АССР
СОДЕРЖАНИЕ
ПОЭЗИЯ
Год издания
двадцать четвертый
3
А. БАДАЕВ. Улыбка Ильича.
Д. ЖАЛСАРАЕВ. Твоим именем, Байкал. Баллада о коне. Поздние огни.
63
ПРОЗА
Ч. ЦЫДЕНДАМБАЕВ.
ток. Рассказ.
Красный
цве-
В. СЕРГЕЕВ. Луна за облаком. Роман.
Птица-счастье.
К. БАЛКОВ.
Повесть.
5
9
88
ОЧЕРКИ
1
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
1971
ИЮЛЬСКИЙ
ПЛЕНУМ
ЦК КПСС:
ДЕЛА, ЗАМЫСЛЫ, ПРОБЛЕМЫ
Н. РЫБКО. Чабанка.
К 50-летию
НАРОДНОЙ
67
МОНГОЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
М. ЦЭДЭНДОРЖ. Седой дуб.
Поэма.
80
С. ГУРУЛЕВ. История баргузинской меди.
82
В МИРЕ
ИНТЕРЕСНОГО
БУРЯТСКОЕ
ГАЗЕТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Б%фятская
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
А. V. МОДОГОЕВ. Трудящиеся Бурятии —
XXIV съезду КПСС.
СТИХИ ПОЭТОБ БУРЯТИИ, посвященные
велиКому форуму советских Коммунистов.
ОЧЕРКИ О ПРАВОФЛАНГОВЫХ
ПЯТИЛЕТКИ.
СОНОМЫН УДВАЛ. РедКий человеК. ПовестЬ. Перевод с монголЬсКого.
ВИКТОР СЕРГЕЕВ Луна за облаКом. Роман.
Продолжение.
Н. В. ПЛЕШИБЦЕБ. Звездная энергия поКоряется людям. УвлеКателЬная статЬя о термоядерной энергии, её настоящем и будущем.
Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.
Главный редактор Африкан Бальбуров.
РЕДКОЛЛЕГИЯ: Цырен-Базар Бадмаев (заместитель
главного редактора), Валентина Каржаубаева (ответственный секретарь), Исай Калашников, Барадий Мунгонов (редактор отдела прозы), Владимир Петонов (редактор отдела
критики и поэзии), Константин Седых, Михаил Степанов,
Алексей Уланов, Гунга Чимитов (ответственный секретарь)
Техн. редактор И. Нечаев.
Корректор 3:
Александрова.
Подписано к печати 12/1-71 г. Формат бумаги 70X108, п. л. 10 (13,7).
Тираж 13.000 экз. Заказ 1842. Н-00002.
Адрес редакции: Улан-Удэ, ул. Ленина, 27. Тел.: 28-82, 26-91, 23-36, 70-66.
Типография Управления по печати при Совете Министров БурАССР.
Алексей
БАДАЕВ
ИлЬича
Нам без улыбки
и дня не прожить —
в люльке
с улыбкой младенец лежит,
солнце встает
и сквозь марево зыбкое
видим
мы
солнечную улыбку!
Все улыбается нынче,
взгляни:
лес новостроек
и хлеб целины.
Пламя мартенов,
вспышки ракет —
словно улыбки
стремительных лет!
Труд наш прекрасен —
наша страна
улыбкою Ленина
озарена!
Тянулся караван веков.
И краше,
и зримей становился
каждый век.
И с четверенек
в полный рост поднявшись,
впервые
улыбнулся Человек.
Все было вновь
восторженному глазу —
деревьев шум
и облака вдали.
И, прозревая,
человечий разум
себя нарек
владыкою земли.
Перешагнем
I ромоздкие столетья.
Войдем в трущобы, хижины,
когда
могли смеяться,
может, только дети,
но не владыка
скорбного труда,
когда его опутали
оковы...
Но прорезалась, грозная,
она,
улыбка
в трубном кличе Пугачева
и в быстрых
Стеньки Разина челнах!
Колючей проволокой опутан
двадцатый век, жестокий век,
он в жизнь твою
ворвался круто,
владыка мира, Человек.
Он показал, как могут люди
высокой пробы
и судьбы
отчаянность бесцельных
буден
сменить величием
борьбы.
Он был нелегок,
путь свободы —
и в день девятый января,
и в дни войны всемирной,
в годы,
шатнувшие престол царя,
когда впервые залп
«Авроры»
победно грянул над землей,
все исстрадавшиеся взоры
к России повернув
к одной,
и для стоявших на коленях
на всех пяти материках,
когда впервые
слово Ленин,
сверкнув, прорвалось
сквозь века.
Иди ж вперед, Страна Советов,
звезда Кремлевская,
алей!
Улыбкой ленинской согреты,
мы счастье строим на земле.
Мы знаем цену себе,
знаем —
улыбка Ленина живет!
Она всесильных в дрожь бросает
и силу слабым придает!
Рождается утро.
Оно — посмотри —
улыбкой Мунко-Саридака горит.
Пылают улыбкой
саранки-невесты,
Байкал рассиялся на всю окрестность,
в радостных взглядах
односельчан
улыбка добрая Ильича!
Ильич живет!
Он — где трудней.
Он среди нас, мой друг, ровесник.
Он в книгах, в лозунгах и в песнях
неотделим
от наших дней.
Ильич живет!
Он с нами слит.
Его ты повстречаешь имя
на Асуане, в Усть-Илиме —
он
в бурных днях большой земли.
Мне говорили мать с отцом
о нем,
и говорят сейчас
с улыбкой прежней —
он первой неподдельною надеждой
вошел однажды
в наш печальный дом.
Давила плечи им всю жизнь нужда.
Они молились,
веря в мир загробный,
и молча до зари вставали оба —
пасти нойона жирные стада.
Так больше всех
кого им почитать,
кого на свете выше солнца ставить?
Того, кто научил их миром править
и с верой в счастье на земле
мечтать!
Я взял от них ту веру, '
тот завет
беречь в душе своей родное имя,
как предок мой берег огонь.
Я с ними
улыбкой Ильичевою согрет.
И с именем любимым никогда
не расставался я
и не расстанусь —
я воспевать народ свой
не устану,
хозяина свободного труда!
Мне, сыну скотовода,
чей хулэг
теперь сравниться может
только с птицей,
как Родиной сегодня не гордиться,
в которой счастлив
каждый Человек!
На видном месте дорогой портрет.
Спокойна мать.
В дому светло и чисто.
И солнце в окна щурится лучисто
и льет на землю
благодатный свет.
В наших делах великих,
в нашем труде огромном,
в гуле турбин
и взлетах
космических кораблей
бьется Ленина сердце,
слышится Ленина слово
и нету судьбы прекрасней,
чем жить на такой земле!
Наши мечты сегодня —
это встающее Завтра,
наша юность шагает
стремительна, горяча.
Все сбудется,
все мы сможем,
мы Коммунизм построим
и солнце в глаза сверкнет нам
улыбкою Ильича!
Перевод с бурятского А. Щитова.
Чимит ЦЫДЕНДАМБАЕВ
КРАСНЫЙ ЦВЕТОК
Рассказ
Улаан сэсэг, красный цветок! Ты пышно цветешь на лесных полянах и в широкой степи, на склонах высоких гор и в душистых лугах. Сколько стихов сложено о тебе, сколько спето чудесных песен!
Когда жизнь людей на всей нашей планете, во всех странах станет
счастливой и радостной, стихи и песни о тебе зазвучат еще звонче.
Протяни ко мне свой зеленый лист, как теплую руку друга. Оброни
на мою ладонь светлые капли росы, слезы твоей радости...
Первое свое стихотворение я написал о жеребенке. Теперь у
меня не меньше десятка таких стихов — в книжках пасется целый
табунок жеребят. Я не очень горюю, что мои жеребята не стали скаку/нами-хулэгами бурятской поэзии, победителями на праздничных
состязаниях, не удостоились похвалы и подарков. Мои жеребята выросли тихими, смирными клячами... Ну, что ж! На кого и кому мне
жаловаться!
О чем было второе мое стихотворение, я не помню, но хочется
думать, что оно было о красном степном цветке.
Недавно я разбирался дома в старом бумажном хламе и наткнулся на толстую бухгалтерскую книгу в черном переплете. В ней
никак не меньше пяти килограммов. Пять кило слабых ученических
стихов! Чему удивляться — ведь плохие стихи всегда тяжелее умных, крылатых... Забавная книга, смешная. А ведь, наверное, когда-то эти стихи казались мне замечательными.
Среди детских писаний было и стихотворение о цветах.
Улаан сэсэг, красный цветок! Недавно я написал новое стихотворение. Писал не в душной, пасмурной комнате, а на солнечной
поляне, среди множества живых, веселых, трепетных цветов... На
первой странице нарисовал карандашом большущий красный мак.
-«Цветы, слушайте мое слово! Все вы, что вокруг меня, завидуйте
тем счастливым вашим братьям, с которыми мы встречаем героевкосмонавтов, великими подвигами прославляющих нашу Советскую
Родину, творческий гений нашего народа».
Цветы на поляне кивали яркими головками, словно приглашали написать о каждом из них. Но нельзя же сразу написать тысячи
стихотворений! Я громко прочел то, что у меня получилось, будто
цветы могли понять... Мне много раз даже среди зимы представлялось, что сижу вот так на поляне, читаю цветам стихи.
Улаан сэсэг, красный цветок! У бурят есть нежное девичье имя
Сэсэг, многих девушек зовут Сэсэгма, Сэсэгуна, Роза — сколько ро.
дительских счастливых надежд сокрыто в этих счастливых именах:
дочери должны стать радостью, украшением семьи, у них, конечно,
будет особенная, необыкновенная судьба — над ними щедро светит
ясное солнце Отчизны.
Дни и ночи бегут так же быстро, как катится по песчаной дорожке мячик, раскрашенный красной и черной красками. Сэсэгма
скоро станет на ножки, впервые в жизни заковыляет по полянке,
покрытой цветами. Молодая счастливая мать торопливо пойдет за
нею, нежно окликнет:
— Сэсэгма!
И покажется всем, что она обращается не только к своей дочери,
но и ко всем цветам поляны. И не только дочь, но и все цветы откликнутся на этот зов...
Улаан сэсэг, красный цветок! Я хочу рассказать, как ты помог
однажды моему знакомому, товарищу по перу.
Назовем его Жамбаловым — ведь все равно, какая у него настоящая фамилия. Так вот Жамбалов сочиняет стихи — нежные, трогательные, стихи о любви, о славных, красивых девушках. Каждому, кто прочтет его стихи, захочется выучить, рассказать другим...
Мой друг окончил в Москве Литературный институт имени
Горького. Годы учебы, то да се, а время не стоит на месте. Но Жамбалова это не очень тревожило, он без всякого смущения говорил:
— Мне двадцать семь.
Знакомые подтрунивали:
— По виду тебе семнадцать...
— Двадцать семь? Не верю, тебе больше.
— Стихи у тебя про любовь, всюду «моя дорогая, моя дорогая»,
а у самого и знакомой девушки нету...
— Он ждет, когда к нему придет девушка, усадит его рядом с
собой и скажет: «Меня зовут Ниной, давай поженимся».
— Так он же испугается, убежит.
Все эти насмешки, упреки, слова дружеского участия не оченьто трогали Жамбалова. Щекастый, лохматый, грузный, он посиживал за столом в своем потертом клетчатом костюме, писал стихи.
Честно говоря, он не очень утомлял себя работой. Напишет стихотворение и отправится разыскивать кого-нибудь из друзей. А
близких друзей у него было трое: с одним он играл в шахматы, с
другим — в бильярд, с третьим любил посидеть за рюмкой. Как-тотак получалось, что он охотнее всего встречался с третьим своим товарищем.
Однажды, когда Жамбалов сидел за шахматной доской, а болельщики стояли позади игроков, вдруг кто-то увидел на черной голове Жамбалова белый волос.
— Глядите — седой волос!
— Не болтай,— рассердился Жамбалов.— Чепуха какая-то...
Когда же волосинку выдернули, Жамбалов молча завернул ее
в бумажку и спрятал в карман. Наверно, когда-нибудь станет показывать внукам, проникновенно говорить: «Вот с этого волоса и началась моя старость...»
И тогда внуки и правнуки Жамбалова подумают... Впрочем, как
у него могут быть внуки и правнуки, когда он не женат?
Жамбалов старался показать, что не встревожен: подумаешь,
мол, седой волос. А партию в шахматы все же проиграл!
Живет Жамбалов на нашей улице. Холостяцкая комнатка, стеньг
почернели от пыли: года три, не меньше, ни один маляр не замахивался на них кистью с известкой.
Глядели мы на все это, глядели, и терпение наше кончилось:
надо немедленно что-то делать с этим холостяком. Собрались на со6
вет, чтобы решить, с каких позиций начать наступление. Обсуждая
столь важный вопрос, мы имели в виду, что сражение предстоит нелегкое: Жамбалов — холостяк неуязвимый, словесные бомбежки на
него не действуют, даже при яростном критическом обстреле он не
поднимет руки, не признает своего поражения. И вот мы решили...
Итак, Жамбалов... Погодите, почему мы все время называем
его по фамилии? Давайте придумаем ему имя. Даши — не годится,
у нас есть поэт с этим именем. Цырен — тоже нельзя. И Дондок у
нас есть... Пусть будет Очир Жамбалов.
Судьба Очира Жамбалова была нами решена. Только бы он вышел на минуту из комнаты!
Мы подкарауливали его три дня, все это время он даже окна не
раскрывал. Не выкуривать же его из комнаты, как тарбагана из
норы!
Наконец, Очир распахнул окно, взглянул на улицу и вскоре вышел — степенный, с большой хозяйственной сумкой в руках. Пошел
на рынок, и, к нашей радости, не закрыл окно. Вот где была его первая роковая ошибка! Это то же, что на фронте при отступлении оставить за собой целехонькие мосты.
Едва Очир скрылся из виду, мы торопливо налили воды в темно-синюю вазу с двумя тонкими золотыми обручами, воткнули в нее
два тяжелых ярко-красных тюльпана, вручили вазу юркому, сообразительному мальчишке Арсалану. Еще дали ему заранее припасенные женские туфли на высоком каблуке. И все разъяснили, что
надо делать...
Моросил мелкий дождь, земля была мокрая. Арсалан побежал
по асфальту до дома, в котором жил Очир, надел женские туфли и
маленькими шажками затопал на высоких каблуках по сырой земле к окну Очира. За ним оставался четкий кокетливый след. Вазу
Арсалан поставил на подоконник холостяцкой Очировой комнаты.
Момент был столь серьезен и значителен, что нам было не до
смеха. Сидели в доме на противоположной стороне улицы, поглядывали, что будет дальше.
Когда Очир вернулся с рынка, он подошел к окну, долго разглядывал вазу. Потом унес ее с подоконника в глубь комнаты. Наверное, поставил поближе к своей кровати, а может быть, на письменный стол.
Вскоре он вышел на улицу, стал рассматривать следы под окном. Вот тут-то мы не выдержали — дружно грохнули:
— Сейчас полетит на тротуар ваза с тюльпанами!
— Ну, нет! Он же поэт...
«Что у него в душе?—думали мы. — Что с ним творится?»
Теперь мы знаем, что было у него в голове и на сердце: с того
дня наяву и во сне он видел чудесную девушку в туфельках на высоком каблуке. Красивую 'и умную. Добрую и нежную. Необыкновенную.
С этого дня изменились его стихи — в каждой строчке зазвучало настоящее человеческое волнение, большое, сильное чувство.
Мы продолжали нашу игру. Напрасно Очир пытался выследить
мнимую свою поклонницу — цветы появлялись у него на подоконнике, он находил букет у своей двери, ловкий Арсалан забрасывал их
через форточку в комнату.
Очир Жамбалов изменялся прямо-таки на глазах: ходил то восторженный, то гордый и счастливый... Как-то он предстал перед
нами в новом модном костюме.
Маляр оклеил его комнату голубыми обоями, монтер повесил
красивую люстру. На столе возвышалась темно-синяя ваза с тонки-
ми золотыми полосками. В ней были цветы. Очир каждый день менял воду.
Скоро у Очира стало еще два галстука — утром он ходил в одном, днем — в другом, вечером — в третьем. Он изменил прическу.
Девушки уже давно не смотрели на него равнодушными, пустыми глазами, они засматривались на Очира. И тут появилась Солима... Спустя некоторое время они поженились.
Среди других ваз мы увидели на свадебном столе нашу скромную темно-синюю вазу с золотым ободком, она стояла на самом почетном месте...
Прошли дни, Очир сказал однажды своей молодой жене:
— Спасибо, Солима... Ты мне столько раз приносила цветы, а
я и не знал, что это ты. Спасибо.
— Какие цветы?
— Ну, какие... Разные. Первые были тюльпаны, два красных
тюльпана. В этой вот синей вазе.
— В этой вазе?
Солима, конечно, ничего не знала о цветах. Но в душе у нее тихо зашевелилась робкая ревность: кто-то дарил Очиру цветы...
Улаан сэсэг, красный цветок!
Это ты поженил эту пару, увеличил на нашей улице число счастливых людей.
У Очира теперь осталось двое самых близких друзей — с одним
он играет в бильярд, со вторым — в шахматы. А третьего уже нет,
с ним Очиру не по пути. Жамбалов теперь много трудится, творческие успехи идут ему навстречу, после работы он спешит домой—там
Солима и двое его детей — сын и дочь.
Улаан сэсэг, красный цветок! Ты украшение всех букетов. Я верю: когда все цветы на нашей планете были еще тусклыми и неприметными, ты уже украшал необъятные степные просторы и пологие
склоны гор, леса и поляны. Сколько тебе лет? Столько, сколько бесчисленных пчел кружится вокруг тебя по всей земле. Ты вобрал в
себя самую яркую краску радуги. Твой цвет на щеках самых счастливых невест, он символ жизни, в нем алая наша кровь... И, наконец, ты—цвет нашего победоносного Красного знамени.
Перевод с бурятского М. Степанова.
Сергеев
33
Глава первая
Д:
ля Чимиты песня песков возникла
из неслыханного ею никогда ранее
шуршащего
колеблющего звука.
(
Песчаные струи долго шуршали и шелестели, но вот они родили тонкий переливчатый скрип — и
тотчас всюду зазвенело, запело, заиграло. От песков поплыли чистые и мелодичные звуки. Лишь порой, когда ветер сдвигал гребни дюн, прорывалось что-то резкое и скрипучее.
Чимита шла по песку, увязая в нем, а он —странное дело — поскрипывал под ногами, как снег в ночную стынь.
Не ветер ли нашептывал эти звуки? Тонко и грустно, будто жалуясь кому-то. Неведомый музыкант выстанывал срлейтой, пугая и
настораживая. И сердце Чимиты холодело и замирало... Была в этих
звуках своя таинственная прелесть и зовущая нежность, и хотелось
пойти по мягким и податливым гребням песка и искать, и выслушивать поющие песчинки, найти их, осторожно рассыпать на ладони и
так нести тихо и долго это голосистое диво. И все слушать, и все
тревожиться, и чего-то ждать... Ждать, когда за этим чудом свершится еще что-то необъяснимое и неповторимое.
Чимита прошла квартал и огляделась. Здесь когда-то заслоняли небо ракетовидные сосны. Она помнила, что они огибали поляну,
•заросшую лопухами. Через лопухи наискось от улицы змеилась
тропка. Эта поляна в городе так и называлась — Косая тропка.
Теперь тут дыбились дома.
Она знала, что ей надо добраться до железнодорожного переезда
и там свернуть. Но где этот переезд?
Тучи, навиваясь на башенные краны, пригасили свет рождающегося утра. Глухо, неразборчиво ворчало что-то за углом. Темень
выстилалась перед ней, как пропасть. Не видно дальше воробьиного носика.
Колкие свей песка с шуршанием скатывались на мостовую. Все
больше песчинок роилось в воздухе, они набивались в складки одежды и волосы.
Улица кончилась, а переезда так и не было, и она уже шла, не
разбирая пути. Надо вновь найти железнодорожную линию. Где-то
она здесь, недалеко... Скоро прошумит поезд. Должен же он прошуметь когда-то.
Ветер угонисто цеплялся за нее, мешая идти, а песок остро покалывал лицо и хрустел на зубах. Она пожалела, что не осталась ша
вокзальчике.
Неожиданно перед ней вычернилось что-то бесформенное, непонятное и пугающее. Оно выкатывалось прямо на нее. Звякнула подкова о камень... Она поняла, что едут люди на лошадях. Похоже, что
вот-вот она выберется из этих песков.
Всадники подъехали к ней, она разглядела в них милиционеров
и успокоилась. Ей показалось, что пески утихли и холод отпустил
ее. От лошадей исходил тот кисловато-терпкий запах табуна, который она знала с детства.
Милиционеры с поднятыми воротниками полушубков смотрели
на нее и молчали.
— Как пройти к переезду?— крикнула она.
Они не расслышали ее, и она подошла ближе, взяла за узду лошадь, приподнялась на носках и снова спросила о переезде.
— Пройдемте с нами!— разобрала она ответ.
Ей показали, куда надо идти, и она пошла, спотыкаясь и пряча
лицо от песка. Над головой она слышала фырканье лошадей и какието слова, которыми обменивались между собой милиционеры.
В милиции у нее попросили документы. Дежурному показалось
подозрительным, что в непогоду она разыскивала железнодорожный
переезд, давно закрытый.
— Вы искали переезд? А зг<чем?
Чимита ответила.
— Цель приезда?
— Думаю здесь работать. Я инженер... строитель.
Она добавила, волнуясь и торопясь, что приехала по вызову управляющего строительного треста Шайдарона.
Дежурный рассмеялся:
— Чего ж вы так неосмотрительно ушли с вокзала? А если бы
вас кто обидел?
Чимита по-смешному сморщила нос и пожала плечами: мол, не
знаю, что было бы, если бы кто-то обидел.
Ей предложили посидеть в приемной, подождать, пока не утихнет ветер. А когда наступит утро, обещали известить Шайдарона о
ее приезде. Она попросила разрешения сдвинуть несколько стульев,
чтобы на них отдохнуть.
Управляющий трестом Шайдарон в ту ночь спал плохо. Навязчивые сновидения не покидали его до самого рассвета. За окном свистело и выло, кто-то выстукивал не то на крыше, не то во дворе, а
ему думалось, что он блуждает в перлитовом цехе среди гудящих
газов и столбов серой пыли. «Вытяжная вентиляция...»—проговорил
кто-то. И тут же сильно зашумело, застучало в висках и на затылке.
«Да, будет вентиляция, погодите...»—хотел он ответить, но только
пошевелил губами. Слов не было. «Содержание пыли возле печи
термоподготовки,— продолжал чей-то голос,— превышает норму,
возле печи вспучивания перлита пыли еще больше... Угарного газа
столько, что грозит отравлением...»— «Да погодите же, дайте хоть подумать»,— проговорил Шайдарон и опять не услышал своих слов.
И вдруг он провалился в какую-то жаркую и влажную тишину.
Просвечивало откуда-то неясными, расплывчатыми очертаниями
бледное женское лицо. «Опять она пришла,— устало подумал Шай10
дарон.—Что вам угодно?» — «Я принесла вам акты. Санэпидстанция
предписывает тресту закрыть перлитовый цех». — «Да вы хоть представляете, что означает закрытие такого цеха!— закричал он с возмущением. — Это все равно, что остановить строительство всего
комбината. Перлит — это основной строительный материал!» — «Я
приглашаю вас пройти в цех,— упрямо говорило из тумана бледное
пятно. —Приступим к оформлению документов. Цех надо закрыть».—
«Кто вы такая?»—«Я врач санэпидстанции. Разве вы забыли?..«—
«Да, да. Как же... Это вы, разумеется. Почему я -не узнал? Но как же
цех? Его ни в коем случае нельзя останавливать ни на один день».
Всю ночь Шайдарон спорил с этой женщиной, а она будто бы
не слушала его. И все хотела пройти через его кабинет, а он загораживал путь, не давая ей приблизиться к столу. Ему казалось, что
как только она возьмет что-то у него со стола, так уж тогда цех прекратит вспучивание перлита и ничего поделать будет нельзя.
«Товарищи,— гремел откуда-то голос,— прошу освободить помещение. Цех закрывается до выполнения предписаний санэпидстанции».
Утром Шайдарон, вспомнив о навязчивых сновидениях и о том,
что городская санэпидстанция уже не раз предупреждала его о том,
что в перлитовом цехе нет условий для нормального производства,
позвонил в приемную и отдал распоряжение вызвать старшего прораба Трубина для монтажа вентиляции.
Трубину хотелось лечь в постель.
Зачем он согласился на этот преферанс? Уже утро, а он еще и
глаз не смыкал. Он плохо знал тех, с кем играл. Один — бухгалтер—
после каждой «пульки» вынимал миниатюрный блокнотик и сверял
прежние записи с новыми. При общем молчании называл свои суммы выигрышей и проигрышей. Он и Трубин «садились» по очереди.
А в ударе был врач по уху-горлу-носу. Он никогда не «садился» и,
казалось, видел сквозь колоду. Под утро, сдавая карты, врач ронял
голову на вытянутые руки, словно у него уже не было сил. Но вот
определялись играющий и вистующие, карты раскладывались по
мастям, начинался обмен мнений, и тут «ухо-горло-нос» вскидывал
осунувшееся лицо, на какое-то время глаза его впивались в карты и
затем следовало лаконичное заключение. Григорий не помнил ни одного случая, чтобы тот в чем-то ошибся. Это удивляло Трубина, и
он восхищался такой проницательностью. Но после того, как врач
достал такой же, как у бухгалтера, миниатюрный блокнотик с записями и стал сверять расчеты с игроками, а потом подсчитал, на какую сумму съедено соленого омуля и выпито пива, и эту сумму занес в свой блокнотик и затем разделил ее на всех, Григорий понял,
что все эти люди, с кем он сошелся нынче, не просто субботне-воскресные игроки, а живут "этим...
Жена Софья открыла ему дверь и, не сказав ни слова, ушла в
спальню.
Днем в прорабской спросили Трубина. Он вышел узнать — кто.
Бледное помятое женское лицо, ломкий от волнения голос... «Дом у
нее, наверное, сносят, вот и пришла»,— подумал он. Трубин уже собрался сказать, что все справки по сносу домов выдаются в тресте,
но женщина не захотела его слушать, а сначала убедилась, нет ли
еще здесь кого. Попросив разрешения присесть, она вздохнула и пошевелила узким, почти безгубым ртом.
С первых же ее слов гнетущая и вязкая тяжесть подступила
11
ему к горлу и в голове шевельнулась боль, сначала вялая, тупая,
потом все более острая, охватывающая лоб и виски. Надо бы встать
и походить по прорабской, но Трубин не встал и старался не двигаться, чтобы никто не догадывался о его чувствах.
Женщина была в дорогом, но теперь уже немодном коверкотовом пальто и злым, ломким голосом рассказывала ему о том, что
«мой муж сошелся с вашей женой» и что они «оба сговорились уехать из города», а у нее дети и «надо что-то делать, не оставлять же
детей без отца». Она, эта женщина, которую он видел впервые, указывала свидетелей, называла, когда и где встречались «мой муж и
ваша жена».
Она говорила с ним с постоянной, непроходящей злобой, словно
обвиняла не только тех, из-за кого пришла сюда, но и его, Григория.
И ему на какое-то время почувствовалось, что он тоже не лучше
Софьи, раз допустил такое, что он вместе с ней, с женой, такой
и сякой...
«Но причем тут я?— спросил сам себя Трубин. — Я-то тут
причем?»
«А как же, как же?— спорил с ним внутренний голос. — Софья
ведь твоя жена и, если она ведет себя дурно, то и ты в этом замешан».—«Ну уж нет, нет, увольте»,—возражал Трубин этому голосу.
Григорий смотрел на женщину и ничего не мог в ней запомнить — ни того, какие у нее глаза или губы, ни того, как она одета,
какой у нее голос. Ничего не мог запомнить...
Он даже не мог запомнить, какие ответы ей давал.
Ему с самого начала разговора с ней очень хотелось, чтобы она
знала поменьше всяких подробностей той «связи», чтобы были
одни догадки и предположения и ничего конкретного, чтобы она поскорее оставила его одного. А когда она ушла, он опять подумал о
том, что ничего в ней не запомнил и что если бы ему понадобилось
сию же минуту выбежать за ней на улицу, то он не отыскал и не
опознал бы ее в толпе. «А-а, что это со мной?— подумал Трубин.—
Зачем мне запоминать ее внешность, зачем знать ее имя? Какая в
том может быть цель? Надо рвать со всем этим, рвать!.. Рвать с женой! Из головы — прочь, из сердца — вон! Вот так. Только так».
Он сразу поверил этой женщине. Были причины — поверить. Да,
да. Его жену словно подменили, ее стало не узнать. И то, что ее
нельзя узнать, и то, что он тут услышал о ней,— все это не оставляло никаких сомнений.
Знобящая тяжесть окутывала тело. В мыслях все путалось и
мешалось: «Как могло это случиться? Как? А могло бы быть иначе.
И тогда не пришла бы эта женщина».
Да, кое в чем он виноват сам. Он сам кое-когда влиял на события так, что они невольно привели к разрыву. Он держался с женой
слишком жестко, холодно, опираясь лишь на логику, которая казалась ему надежнее, чем чувства и эмоции.
Но разве он один виноват?
Ведь и Софья давно подводила себя и его к черте, за которой им
уже невозможно оставаться вместе. Да, они не сразу подошли к той
черте... Они пытались как-то все уладить. Долго и упорно пытались.
И вот Софья решила вернуть себе то, что было утрачено ею с
ним, с Григорием, и не только вернуть утраченное, а и приобрести
все то, без чего жизнь не назовешь жизнью.
Чимита приехала на вокзал взять вещи в камере хранения. Она
шла по тротуару к стоянке такси. Навстречу ей бежала запыхавшаяся женщина. Спросила у нее, прошел ли «пекинский» на запад.
12
— На запад?—удивилась Чимита. Она сама вчера приехала
этим «пекинским».— Может, вам на восток? На запад проходил вчера, а следующий пройдет только завтра.
— Как вчера?— оторопела женщина.— Вы, гражданка, что-то
путаете. Извините...
Пока Чимита ждала такси, та женщина вернулась.
— Вы опоздали на поезд?— спросила ее Чимита.
Женщине было жарко, она распахнула
полы коверкотового
пальто и размахивала ими, как веером.
— Пустое... Никуда я не опоздала,— ответила она со вздохом.
Низкое, с рваными тучами, небо клонилось над вокзальной площадью. Из водосточной трубы с бульканьем, со скачущими гребешками пены выбегал мутный поток. Прижатые, приглаженные, вымоченные насквозь, лежали молчаливые пески.
Какой-то звук — тонкий, со вздохами — выбивался из шума
дождевой воды. Небо колыхалось от неспокойных облаков и воздух,
казалось, двигался, будто вся эта разноголосица вокзальных шумов
влекла его куда-то.
Чимита обернулась. У женщины тряслись плечи, бледные дряблые щеки в прозрачных каплях.
— Что с вами? Вам плохо?
— Ах, что там! Чего уж плохо?
И снова звуки дождя отодвинули все от них. Всюду капало, плескалось, журчало. Ничего другого нельзя было услышать. И под это
капанье и плесканье все словно бы приглаживалось, прижималось к
земле, становилось чище и обнаженнее, но уже без прежнего цвета
и запаха.
Женщина вдруг заговорила тихо, задумчиво и отрешенно:
— Все вокруг для него — эти созвездия распустившихся колокольчиков и фиалок, лилий и яблоневых лепестков... Больше он ничего не видит. — Она прошептала, подавленно всматриваясь:— У него глаза пчелы! Да, да. Для него элементарная маргаритка излучает
ультрафиолетовый свет. Этакие, знаете, кольца багряных крапинок.
Никто того не видит.
Чимита тактично промолчала.
— А вы верно подметили, что со мной плохо,— продолжала
женщина.—Он меня обманул с поездом. Это я про мужа... Распустившиеся колокольчики, маргаритки с ультрафиолетовым
излучением... Извините меня. Он двоих детей променял на одну... маргаритку... Или на фиалку, или...— Она заплакала, всхлипывая и сморкаясь. — Я уж с ним и по-хорошему, и всяко. Не могу найти адреса.
Был бы адрес... Теперь встречай хоть каждый «пекинский»
Чимита смотрела вдоль шоссе, ожидая, когда из-за поворота покажется такси.
Приглаженные, прилизанные пески не издавали ни звука и,
как думалось Чимите. они уже никогда не выйдут из этого молчания. Дождь заколдовал их тут навечно. Она вспомнила, как пески
пели в ночь ее приезда, но думать про это мешал голос женщины:
— А можно бы по-товарищески разобраться... Надо бы по-товарищески... Право, лучше бы по-товарищески обсудить и решить...
Ей стало жалко эту женщину, у которой беда и, видать, большая беда, если она стоит тут под шумами дождя и жалуется и просит кого-то о чем-то.
Чимита подошла к ней и предложила отойти под карниз крыши,
где не сеяла дождевая морось. Женщина покорно согласилась, и там,
согреваясь под защитой камня и железа, они обе мало-помалу разговорились.
13
Узнав, что Чимита землячка Шайдарона, женщина смутилась и
почему-то быстро стала застегивать пальто. Она замолчала, думая
о чем-то своем, а Чимита не нарушала ее раздумий, потому что понимала состояние собеседницы. Та только что сказала ей, что от нее
уходит муж...
— Вы извините меня, милая девушка,— снова заговорила женщина. — Может быть, это и унижение с моей стороны... Хотя, ко'нечно, унижение. Чего уж там! В моем положении раздумывать и выбирать не приходится. У меня дети. Ради детей... Только ради детей!
Дело в том, что... мой муж собирается уехать с женой одного инженера из треста. Я была у этого инженера. Думала найти у него поддержку. А, по-моему, он вовсе и не помышляет удерживать свою
жену от ужасного шага. Может быть... Милая девушка, извините.
Очень неудобно... Так неудобно говорить вам. Нельзя ли как-то повлиять хотя бы на того инженера? Его фамилия Трубин.
— Но что я сделаю?— Чимита развела руками. — Разве я могу
вам помочь?
— Поговорите с управляющим. Он вызовет Трубина. Убедит...
Мужчина с мужчиной...
Женщина приложила платок к глазам.
— А вы сами сходите к управляющему. Почему бы вам не сходить?
— Неужели вам так трудно?
И вот уже нет для Чимиты никакого шума дождя. Остался в
ушах только голос: «Неужели вам так трудно?» И жалости тоже нет.
«Как она не понимает, разве можно просить, не зная, за кого?»
Чимита облегченно вздохнула:
из-за поворота вывернулось
такси.
Внешне Софья, может быть, мало изменилась. Черные волосы
с пробором спадали ей на плечи. Прямой, слегка удлиненный нос,
мягкие припухшие губы, серые выразительные глаза. Вероятно, 'не
часто бывают такие лица у женщин. Когда Трубин смотрел на нее
сбоку, ему казалось в ней что-то мужское и, чтобы передать комулибо из своих знакомых тот видимый ему образ жены, он не находил
ничего более подходящего, как сказать: «У нее что-то гоголевское,
да-да, в ее профиле... Этот характерный нос и эти волосы». Все находили, что Трубин, пожалуй, прав. И даже кто-то пошутил: «Есть
же тургеневская женщина. Почему не быть гоголевской?»
Софья работала в производственном отделе инженером по финансированию. Строительные участки, субподрядные организации,
Стройбанк... Одни подают сведения, другие — требуют. А Софья между ними. У нее два белых листочка и один синий. Синий —это акт
приемки строительно-монтажных работ. Белые — это справка о стоимости строительных работ и акт приемки выполненных работ.
После каждого месяца и после каждого квартала и года Софья оформляла эти акты и справку и отсылала их в Стройбанк для того, чтобы стройка финансировалась.
Три листка: два белых и синий. А в них было упрятано до сорока тысяч расценок. Из-за этих расценок у Софьи вспыхивали споры
с начальниками участков и представителями субподрядных организаций. Приходилось шуметь до хрипоты, до болей в затылке, вытаскивать из шкафа толстые справочники... Пока отправишь эти три
бумажки в Стройбанк с подписями заказчика, подрядчика и субподрядчика, на все наглядишься и всего наслушаешься.
Григорий учил ее, как проверять субподрядчиков и строительные участки. «Ты пойди туда-то и посмотри то-то,— твердил он. —
14
А то они опять тебе «клинья забивают». И она шла, находила ошибку, просчет или просто жульничанье и вносила поправки или в белую бумажку, или в синюю, не давая никому «забивать клинья».
Григорий для нее — первая любовь. Тут все первое... Все надо
познать, испытать, прочувствовать. Его рука легла ей на плечо. Это
первый раз... Осторожно, будто невзначай, пожал ей пальцы. Первый
раз... Привлек к себе. Первый раз...
Она то тянется к нему, то убегает, рвет непрочные, а, может, наоборот, самые прочные нити первой любви. Когда он впервые обнял
ее, она вспыхнула, наговорила резкостей и ушла домой. Что-то обиженное, оскорбленное поднялось в ней, защищая все легко ранимое
и хрупкое. Может быть, вот так же цветок принимает на себя весной
первое в его жизни солнце, закрывая себя от ожогов капельками
росы.
Григорий провожал ее вечером. Она показала на каменный дом:
«Вот здесь мы жили недавно, а теперь надо еще идти дворами и еще
улицей». Григорий вздохнул: «Жаль, что переехали. Мне бы было
ближе». Она остановилась и сказала зло: «Не ходи тогда!» И быстро
пошла, почти побежала. Он тоже разозлился: «Подумаешь!» Повернул домой.
Они ссорились и мирились, и все это было только лишь для того, чтобы сильнее понравиться друг другу, а внешне они порой старались показать, что весьма легко могут прожить друг без друга.
Когда они были не одни, тогда она была совсем иной. Тогда ее
выразительные глаза показывали и открывали многое, если не все
из того, что скрывали в ее душе отчужденность и строгость, вынужденные теперь отступить перед приступом веселости. В такие часы
она не давала ему никакого покоя. Не задумываясь, при всех дурачилась с ним, щипала и щекотала его. Он не выдерживал, убегал от
нее, а она смеялась над ним. Смеялась она много и говорила много
и смело. Но опять-таки только не наедине с ним.
Они сидели как-то компанией в саду на скамейке, ждали кино.
Кто-то из девчонок про Трубина сказал, а Софья ответила: «Ты на
него не очень-то заглядывайся. Я никому его не отдам». И было непохоже, что шутила.
Григорий провожал ее после кино. Ободренный словами «никому его не отдам», поцеловал ее, как она ни вырывалась. Неожиданно для него она заплакала.
— Ну, что ты! Перестань!— просил он, не зная, как ее успокоить. — Да перестань! Вот выдумала!
А она плакала с такой горькой безысходностью, что Григорий
в лихорадочных поисках успокоительных слов не нашел ничего лучшего, как сказать:
— Ну, что ты на меня!".. Что ты обижаешься? Пусть я такой и
такой... Но ведь и Сталин кого-то когда-то целовал!
Через несколько минут они оба хохотали.
Этот первый поцелуй для нее многое значил. Дикарство ее медленно, но неотвратно подходило к концу. Его вытесняла любовь.
Первая и, можета самая сильная любовь.
С чего у них началась любовь?
В один из вечеров Софья дежурила в тресте. Звонков ни откуда не было, и она уже собиралась уходить, как в приемную заглянул
Григорий Трубин.
— Что-нибудь с бетоном?— спросила она.
15
— Да нет. Просто так зашел. Ничего нового нет? Никаких происшествий?— Он покрутил пальцами и усмехнулся. — Ну нет, так
нет. И Шайдарон не звонил?
— Нет. Хоть бы позвонил... Я что-то сомневаюсь...
— А что такое?
— Да опять с этим «Гидроспецфундаментстроем». На острове
Долгом они ведут берегоукрепительные работы. Пятьдесят тысяч
рублей взяли... А камень возят негабаритный, откосы не подготовлены. В документах показывают четыре тысячи кубометров камня,,
а вывезли на самом деле тысячу. Врут прямо...
— Проверьте по путевым листам у шоферов. Если все свалят
на геодезистов, не верьте... Путевой лист для вас закон.
Он постоял в нерешительности, не зная, то ли остаться, то ли
уйти. Соня поддерживала разговор с ним, и он не мог так вот взять
и сразу уйти, не дав ей выговориться. Незаметно для себя он втянулся в разговор о старых кинокартинах, которые когда-то они смотрели, о книгах, когда-то прочитанных и ныне полузабытых. Поговорили об общих знакомых, о погоде... И вдруг оба почувствовали пока
еще непонятную для них важность состоявшегося разговора.
Вот после того и началось у них сближение.
Как все это было понять, осмыслить? Что же это такое —взаимная симпатия, обыкновенное увлечение? А если любовь? Но почему
чуть ли не год ничего не было между ними, а тут сразу?.. Почему
много-много раз видел Трубин эти черные со смоляным накрапом
волосы, этот «гоголевский профиль», слышал ее голос, встречал ее
веселой, сердитой, задумчивой, и никогда не думал о ней больше,
чем о других, никогда не выделял ее среди других? Но достаточно
было одного разговора о берегоукрепительных работах на острове
Долгом — и все сместилось со своих прежних понятий и представлений, все сдвинулось, произошла смена всего. Что же зрело у них в
душах весь этот год? Что же им довелось выстрадать? И какие первоначальные силы пришли в движение? И какая нашлась еще сила — откуда она?— что привела в движение те первоначальные
силы?
Почему теперь вся она стала для него совершенно не такой, какой была еще недавно? Что случилось с ее губами, с ее глазами, с
ее прической? Почему все это стало для него непонятно дорогим и
волнует его?
Софья считала, что все решил случай. Если бы в тот вечер она
не дежурила, не спросила его о «Гидроспецфундаментстрое»... Если
бы ему не пришло в голову после кино зайти в контору... Наверное,
она ошибалась. У нее не было времени подумать, как следует, да
она и не искала объяснений невесть откуда взявшемуся чувству. До
этого ли ей было? До поисков ли? Ее захватило таинство случившегося.
Потом же... Вышло как-то так... Ей казалось, что она любила его сильнее, чем он ее. У нее естественнее проявлялись чувства,
она была менее сдержанна. Ее любовь можно увидеть в каком-нибудь пустяке, в малозначительном, ничтожном случае, во всем том,
чему сам Григорий не придавал значения.
Она постоянно сталкивалась на строительных участках и в субподрядных организациях с мужчинами, которые на вешалке принимали от нее или подавали ей пальто, говорили приятные для нее
слова о ее внешности и о том, как она одевалась. Всякий день вокруг
нее звучал ручеек лести. А дома этот ручеек молчал...
16
В ее жизни все меньше оставалось места для радости. Григорий
как бы уходил от нее и забирал эту радость с собой.
Они жили без детей, и это тоже мешало обоим и отдаляло их
друг от друга.
— Знаешь, я стала раздражительной,— сказала она как-то.—
Был бы ребенок, было бы все иначе.
— А что «иначе»?— возразил он. — Было бы хуже.
Но сам он далеко не был уверен в своих словах.
— Вон посмотри у соседей... у этих самых... как их? Из пятого
дома. Один сын в колонии, другой не учится нигде, третий...
— Это зависит от родителей,— уверенно отпарировала Софья
«Может, она и права»,— думал Григорий, не раз потом вспоминая тот разговор.
Вечера у Сони оставались ничем не заполненными. А днем она
снова встречала тех мужчин, которые не жалели приятных для нее
слов и не скупились на внимание.
Она сказала Григорию об этом, сравнивая его с теми:
— Это настоящие мужчины, не то, что ты.
Трубин не придал значения этим ее словам, лишь усмехнулся:
— С чужими женами они все такие.
Много времени Софья проводила с соседями. На окраинной затравевшей улице, в маленьких, покосившихся от времени, домиках
кто только не жил. Во дворах собаки и огороды. У ворот скамеечки.
Вечера Софья высиживала на этих скамеечках с соседками.
К ним подходил пьяненький дядя Костя, машинист копра, с
таким же пьяненьким • помощником машиниста Ванюшкой Цыкиным.
— Где напились-то, дядя Костя?— спрашивала его крановщица
Груша.
— А, не спрашивай! Пили под забором, напротив магазина. А
потом надоело. Я ему и говорю: «Чего мы тут сидим? Пойдем ко
мне на белую скатерть!»
Все хохочут. Отпускать дядю Костю никому не хочется. Без него скучно.
Крановщица увидела у него в кармане горлышко бутылки.
— Водки-то много с собой прихватили?
— А, не спрашивай! Бутылка наполовину не полная.
Ванюшка не согласен:
— Врешь, бутылка наполовину полная!
Они перепираются какое-то время, пока оба не забывают, о чем
и из-за чего заспорили. Дядя Костя ведет Цыкина в старый дом с
двумя окнами на улицу. Одно окно всегда закрыто ставнями, а другое всегда открыто и наличники у него покрашены в веселый голубой цвет.
На скамейку подсаживается мать бетонщика Славы Быховского.
— Мой-то вчера на бровях пришел. «Где ты шатался?»—спрашиваю.— «Блудил»,— говорит. «Как блудил?» — «Дом не мог долго
найти».— «Как же это тебя, Славка, угораздило?» — «А как,— говорит,— не угораздит, если все дома у нас, как один. Открыю ворота. Шо такэ? Направо собака, налево забор. Где я? Выходит кто-то.
Спрашиваю измененным голосом: «Где живет бетонщик Быховский?» Отвечают: «Рядом». Вот-так и шел домой. Во всех дворах
говорят: «Рядом живет Быховский».
Соседки долго хохочут, переспрашивают старуху Быховскую,
уточняя, что и как.
— Как его собаки не покусали,— говорит кто-то.
Разговор переходит на собак.
2. «Байкал» № 1
1?
— А верно треплют, что маленькая собачка до старости щенок,
— И то.
— Я вот в огород выйду,— продолжает крановщица Груша,— а
с той улицы лезет ко мне с лаем вот такусенькая лохматая собачонка. Свой двор весь облаяла и ко мне успевает.
— Два двора караулить хочет!
— Собаки, они ужасно понимающие. Вот у меня сын переехал
с год как на новую квартиру и недавно пришел. Так что вы думаете? Наш Руслан увидел его и от радости прыгал-прыгал, перевернулся и — хлоп на спину. Прямо ошалел. А мы думали, что он забыл его.
Разговор о собаках неожиданно обрывается потому, что слышна
ругань. На пыльную дорогу выбегает собутыльник дяди Кости, а
за ним и сам хозяин.
— С кем пьет, того и бьет,— говорит равнодушно Груша.
Цыкин оказывается легким на ногу, и дяде Косте ничего не остается, как высказать свое заветное пожелание убегающему гостю:
— Видал бы я таких в белых тапочках в гробу!
— Вместе же работают... на одном копре. И скандалят.
— А ты думаешь, они помнят? Спроси завтра обоих — ничего
не помнят. Еще скажут: не ври, баба.
Дядя Костя возвращается к женщинам и то ли от водки, то ли
от посрамления Ванюшки Цыкина мягчеет и начинает жаловаться
на жену.
— Работаешь, работаешь, а придешь домой, и не имеешь права
обняться с женским телом.
Над забором видна голова его жены и через дорогу летит ее
зычный голос:
— А ты забыл, что этому женскому телу в получку принес одну
десятку?
— И по сто приносил,— бормочет дядя Костя,— а все равно...
Внезапно его охватывает чувство неудобства и смущения и он
уныло идет домой спать.
Все эти люди, как видела Софья, были простые и отзывчивые,
веселые, добрые и незлопамятные. И хотя то, чем они жили, было
чуждо и 'непонятно Софье, она оправдывала их потому, что ей казалось, что во всех этих людях было что-то впитано в себя от этих
серых домов и картофельных огородов, от цепных собак и осевших
в землю скамеек, от дороги, заросшей травой и тополиной порослью,
от всех тех обитателей этой окраины, которые давно умерли... Ей
думалось, что достаточно снести все эти дома и заборы и тогда и дядя Костя, и крановщица Груша, и бетонщик Быховский с матерью
будут какими-то не такими. Но пока дома оставались и заборы оставались... И Софья сидела на вросшей в землю скамейке и смотрела, как текла вокруг нее непонятная ей жизнь.
Она и сама впитывала в себя то, что впитали до нее эти люди
от серых домов и огородов, от заборов с колючей проволокой. И чужое пьяное горе стало ей казаться порой смешным и забавным.
Слава Быховский, напившись, хвастался на всю улицу: «В моих кудрях немало запуталось женщин!» Софья хохотала вместе со
всеми над пьяным и до нее не доходила простая мысль о том, что
ведь здесь стоит жена Быковского с глазами, полными слез.
Софья хотела познакомить Трубина с улицей, но тот был холоден и равнодушен к улице. За несколько лет жизни здесь он ни с
кем не был по-настоящему знаком. Трубин не знал и не помнил в
лицо никого из тех людей, с которыми Софья проводила свободные
вечера и воскресенья. Ни дядя Костя, ни Слава Быховский, ни Груша — никто здесь не задел его память, его воображение.
18
Софье все же удалось уговорить Трубина пойти к дяде Косте
поиграть в карты. Дядя Костя и его жена оказались матерщинниками. Непечатные слова сыпались в таком изобилии, что Трубин на
какое-то время опешил. Ему было неудобно перед женой за то, что
она слышит эти слова, неудобно перед хозяевами за то, что они произносят их, неудобно перед самим собой... Но на непечатные выражения никто, кроме него, не обращал внимания.
Софье даже чем-то нравилась виртуозная матерщина дяди Кости, она много хохотала в тот вечер.
Григорию ничего не оставалось, как объясниться с женой. Он
начал издалека, с намеков. Поначалу намеки будто бы не произвели
на нее никакого впечатления. Но он сознавал: ее спокойствие не есть
еще ее верность ему. Достаточно напомнить ей кое-какие подробности и она перестанет упорствовать. Григорий же медлил, теплилась все же какая-то надежда.
Соня заметно нервничала. Делая вид, что намеки мужа всего
лишь пустяки, что она воспринимает их как неуместную шутку,
она тем не менее выдавала себя: ходила бесцельно по комнате, то
смотрясь в зеркало, то беря со стола ножницы, и при этом не видела себя в зеркале и не с/нала, что ей делать с ножницами. Иногда она
думала: «Может, и хорошо, что Григорий наконец-то обо всем узнал сам? Так легче. Все равно когда-то — раньше или позже — это
-должно случиться. Ну вот и случилось».
Последнее время она жила в полном смятении. Если ее замужество было ошибкой, то 'надо же искать какое-то решение. Любит
ли она его, Трубина? Да, любит. А он ее? Пожалуй, нет. Какое
там! Наверняка — нет! Она как-то уверила себя в том, что если в
семье разлад, то надо уж поступать так, чтобы при новом замужестве ее любовь была слабее любви мужа. Тогда не будет зависимости от него, не будет ощущаться его власти. Как часто женщины говорят друг другу: «Ты держи своего в руках. Чтобы не ты была его
половиной, а он был твоей половиной». Вот если у мужа любовь
посильнее, а у тебя послабее, тогда все образуется.
Ей казалось, что она нашла такого. А что дальше 7 Он звал ее
уехать, ничего не обещая. Она и сама понимала, что он не мог ей
дать каких-то благ. Но он твердо обещал дать ей одно — любовь.
И она верила ему. Он сам уходил от тяжелой жизни в поисках лучшей. Как тут не поверить?
И вот теперь Трубин все знает или обо всем догадывается. Его
осторожные слова, одетые в оболочку тумана, не оставят ее в покое.
Надеяться уже не на что.
— Ах, перестань! Ну чего ты об одном и том же?— сказала
она.
— Пойми, Соня. Я не такой, чтобы унижать тебя или себя. Давай без истерик. Если у нас с тобой жизнь не удалась, что же...
— У тебя все очень просто,— с раздражением ответила она.
Он почувствовал: она уже подготовила себя к тому, чтобы сказать правду. В окно он видел остановившиеся в небе облака, повисшие без движения листья. Даже воробей на коньке крыши, нахохлившись, сидел недвижимо.
«Все остановилось,— подумал он и удивился, что способен ещечто-то подмечать из того, что происходило за окном.— Почему все
остановилось? Хотя нет. Все это так, ненадолго. О чем я думаю?'
Надо ей сказать обо всем до конца».
И он стал сухим и бесстрастным тоном передавать ей то, что
услышал о ее измене.
2*
19
Она выслушала, ни разу не перебив его.
— Что ты на это скажешь?
— Ну, если уж она сама явилась к тебе...
Быстро взглянув на Софью, он заметил красные пятна у нее на
лице.
— Ну, если уж так...— повторила она глухо.— Тогда знай... Да,
мне кажется, что я люблю его. А то, что он меня любит, я не сомневаюсь ни на минуту. Поверь мне, он 'не из тех, о которых ты
думаешь. Он такой же честный, как и ты. Такой же принципиальный. Ты не подумай, что наши с ним отношения зашли далеко.
— Ну, знаешь ли, меня не интересуют подобные уточнения.
— Все-таки надо объясниться и понять, что произошло между
нами. Почему я разлюбила тебя и полюбила его?
— Что ты в нем нашла? Чем таким он тебя...— Трубин подыскивал слово.
— Вся разница между вами в том, что он меня любит, а ты...
Ну, что тебе говорить? Мы уже обо всем переговорили.
— Да, обо всем,— согласился Григорий. — Тебе решать. Дальше
так продолжаться не может. Если его любишь, то с ним тебе и
жить.
— Он зовет меня. Он говорит, что уедем к его родителям, а потом видно будет.
— Ну вот и поезжай.
Она не ответила, смотрела, не отрываясь, в окно. Не то ждала,
чего он еще скажет, не то своим молчанием выражала согласие на
его последние слова. Все вокруг было зыбким и неустойчивым. Она
уже разучилась определять и понимать, где для нее плохо, а где —
хорошо. Приходила утрами в производственный отдел и все думала,
перебирая синие и белые бланки, забывая о том, где она и что ей
надо делать. С трудом сбрасывала с себя оцепенение и бралась за
телефонную трубку: «Пора потребовать документы с «Дальстальконструкции». Но тут же наваливалось на нее такое безразличие ко
всему, что она снова задумывалась, неподвижно глядя в одну точку. Вчера начальник отдела сделал ей замечание: напутала с расценками за бетонирование...
Григорий чувствовал всю серьезность происходящего, но в глубине души что-то его еще обнадеживало, будто где-то неприметная
ниточка тянула за собой все то давнишнее, все то хорошее, что бы-,ло у них с Софьей.
Она вдруг закрыла лицо ладонями и заплакала. Григорий не
сразу к ней подошел — у него не было жалости к жене. Но он все
же переборол себя, налил ей воды и попросил, чтобы она успокоилась.
— Возможно, нам обоим будет лучше, если ты уедешь,— сказал он, как мог, более мягко.
— Послушай, Гриша. Можно все еще исправить. Все от тебя
зависит.
— Нет уж. Я с ним... с этим твоим... поговорю завтра. Скажу,
что с моей стороны вам помех не будет.
— Зачем ты так?— прошептала она.
На миг в груди Григория ворохнулась к ней жалость: «Может,
забыть все? Жить, как жили. Ну, уступить ей, вести себя, как она
хочет. Заботливей быть, что ли. А?» Но как подумал о ее встречах
с ним... с тем самым... «Это она тут такая — ахи да вздохи, а с ним
какая была? Кто ответит: какая с ним была? Что обо мне ему говорила? »
И — нет жалости. Одни подозрения. Они давят и выворачи-
вают все наизнанку. Хочется что-то сломать или кому-то причинить боль. Кому? Ей, конечно.
«Не хватало еще, чтобы я ревновал ее. Надо взять себя в руки».
Но «взять себя в руки» было невозможно. Подозрения без труда
брали верх над всеми остальными чувствами. В его смятенной дуще были повергнуты все принципы и устои, которые недавно еще
руководили его поступками. Подозрения довлели над всем, что окружало его теперь. И эти подозрения не имели границ, они возникали и разрастались, как горная лавина — сначала один камень, за
ним второй, еще... а там, глядь, уже их много, они грохочут и сверкают, ускоряя свое низвержение и сметая все, что попадается им.
на пути.
Разве могут устоять перед ними жалкие слова оправданий?
— У нас с ним ничего не было,— шептала Софья, глядя попрежнему в окно. — Ничего особенного...
В ее голосе он уловил усталость. Посмотрел на жену пристально, изучающе, будто видел впервые.
«Почему многие обращают на нее внимание? Красивые руки.
Ну, что руки? Выразительные, умные глаза. А что такое—выразительные глаза? Это, видимо, те глаза, в которых можно что-то увидеть и это «что-то» по преимуществу должно быть приятным для
тебя или уж во всяком случае понятным. Говорят вот: «Пустые глаза». Раз пустые, то ничего в них и нет. Ну, а если тебе выпадет
увидеть в этих самых выразительных глазах то, что они тебя
обманули? Тогда как? Не беспокойся. Ничего ты там не увидишь.
Выразительные глаза выражают лишь то, что им выгодно, то, что
им на пользу. А пустые глаза, они лишены этого. Не узнал же ты
по глазам жены, что она нашла себе другого, не узнал, пока не пришла та... Пустые глаза, выходит, лучше. Они хоть не лживые, просто никакие.
Да, но те, которые обращают на нее внимание, они так не рассуждают, как я. Они не мучаются, не ищут смысла, отгадок на терзающие душу сомнения. Выразительные глаза красивы. Вот и все.
Больше ничего. В них, считают они, богатая, сложная и тонкая игра света. Да, да. У нее именно такие глаза. И это, говорят, имеет
значение.
Но что руки, что глаза! У нее что-то еще есть, не менее существенное, не менее главное. Ну, умная. Это само собой. Это тоже
главное. Но не всякая умная — любимая. Не на всякую умную обращают внимание, не из-за всякой умной бросают детей. Хотя детей
бросают и не только поэтому... Но все это не то. Не про это надо...
Что же у Софьи? Ведь и меня что-то влекло к ней когда-то, да и
сейчас... Ах, что это? Что это такое?»
Григорий пытался убедить себя, что он теряет самое незаменимое, но сердце оставалось холодным. Его сердце не умело прощать.
Озен Очирович Шайдарон вызвал секретаршу и сказал, чтобы
«подыскали стол новому инженеру». Та повела Чимиту по коридору
и сказала, что сегодня освободился стол в производственном отделе: уволилась инженер Трубина.
— Удивительный случай,—сказала секретарша. —Она разводится с мужем, очень способным инженером. И выходит замуж. А у
того двое детей. Не понимаю, как можно променять... Симпатичный,
авторитетный, прилично зарабатывает, у него, знаете ли, каждый
21
месяц премиальные. Не представляю, что еще нужно женщинам!
«Где-то я слышала эту фамилию,— подумала Чимита.— Где же?
По какому случаю?»
— Вы пока сядете в производственном отделе. Это временно,—
говорила секретарша.
«А-а,— догадалась Чимита,— та женщина в коверкотовом пальто на вокзале как раз возмущалась нерешительностью этого Трубина. Вот уж странно, куда ни пойдешь, везде Трубин, Трубин...»
Лебеди летели на Байкал. Они хотели гнездиться и выводить
потомство там, где сухо шелестел камыш, где скалы склонялись
над морем, бросая свое отражение на песчаное дно, где дул ласковый «баргузин», где когда-то их далекий предок — белая лебедь —
преобразилась в бурятскую девушку и стала невестой богатыря Хоридоя.
Уж не от той ли лебеди повелись в улусах девушки с глазами,
з которых можно увидеть то солнечный, расколовшийся
на воде, луч,
то бездонность неба, что манит и зовет неведомо куда 7
Птицы летели в холодном рассветном небе. Рядом с ними стыли невесомые и тихие облака. Огневой бубен солнца выкатился изна горизонта и лучи его высветили степь и тайгу, а высоко в небе
еще купались сумерки и белые тела птиц, похожие на самолеты со
стреловидными крыльями, были красивы.
Внизу под ними прятался среди лесистых сопок город. Без огней, без гудков, без дыма. Спящий город, ощетинившийся башенными кранами.
Щемящие трубные звуки посылало небо.
— Ганг!— неслось сверху гортанно и грустно и тотчас же в
этот звук вплетался еще более тонкий и печальный:
— Ганг-го!
Песня падала на застывшие стрелы башенных кранов и звенела, как хрусталь:
— Ганг!
— Ганг-го!
Если бы город не спал, то люди увидели бы, что лебедей было пять.
Две пары и один...
Но ведь лебедь не живет один. Кто об этом не знает? Этим птица утверждает, что без любви нет и жизни.
Бывает, что и люди поступают, как птицы. Если они остаются
без любви.
Глава вторая
У
тром, как обычно, у Григория
Трубина закрутилась «прорабская карусель».
Пришел мастер Карымов и
сказал, что на лесозаводе жульничают: участок платит за дранку
метровой длины, а она короче да и в каждом пучке недосчитывается по тридцать дранок.
— Вот и получается,— говорил мастер.— Я тут прикинул. Мы
штукатурим за год... Видите, Григорий Алексеич?—Он совал ему
22
исписанные листки.— Так мы переплатим восемь тысяч. Куда это
годится?
Надо или звонить, или ехать на лесозавод. Лучше ехать. По телефону отговорятся, наобещают. А ехать не хотелось. Нет настроения. Во всем вялость. Зарядиться бы настойчивостью, злостью и —
тогда ехать.
— Ладно, разберусь,— пообещал он мастеру.
Едва дверь закрылась, звонок из треста:
— Куда вы столько гвоздей извели? Срочно представьте отчет
по каждому объекту, а то прекратим выдачу. У вас, говорят, плотники бросают гвозди, куда хотят. И на подоконниках, и на полу валяются.
— Ну-ну,— сказал Трубин.
— Что «ну-ну»?—послышался недовольный голос
— Разберусь. Приму меры.
— Отчет срочно высылайте.
«Все требуют,— подумал он. — Подай то, добейся этого. И никто
не знает, что у меня... Смешно. Выходит, расчувствовался! Все думают, что я хороший. На участке будто бы уважают. Не пью, не
курю. Живу тихо-мирно. А то, что дома... В комнату вхожу боком,
вечно в раздражении, сквозь зубы жене что-нибудь... Бывшей жене... Про это никто не знает».
Припомнилось, как после свадьбы дружки приходили:
— Гриша, пойдем!
И собирался, и уходил. А Софью уведомлял небрежно:
— Мы скоро вернемся. Надо же мне побыть в мужском обществе.
Почему он так вел себя? Только себе, только для себя. Жил в
свое удовольствие. Может, не было любви к Софье? Настоящая-то
любовь разве такая? Мать бы узнала... «Что,— сказала бы,— сынок,
не нагляделся на мою жизнь, мало тебе было смотреть на мои мытарства, в своей семье то же устраиваешь 7 »
Будто вошла к нему из глубины годов узкая — в одно окно —
комната. Пьяный отчим. Его старинная песня под гитару: «В полдневный жар в долине Дагестана»... А когда бывала выпита вся бутылка, отчим скрежетал зубами, бросал гитару и требовал от матери: «Плесни в рюмашку!» Если водки ему не давали, он плакал,
ругался, вспоминал свою «загубленную молодость» и кричал одни
и те же слова, так и оставшиеся непонятными для Григория: «В рот
тебе ситного пирога с горохом!»
Накричавшись и накуражившись, он засыпал на стуле за столом и всю ночь скрипел зубами, стонал, мычал и выкрикивал
что-то.
Иногда он не ночевал дома, а утром приходил без пиджака и
ботинок, без часов.
Григорий не мог понять, почему мать, страдая от такой жизни
не меньше, чем он, ее сын, все же не прогоняла отчима, а жила с
ним, все надеясь на что-то, хотя надеяться было не на что.
Мать всегда очень жалела, что потеряла первого мужа, отца
Григория. Она любила вспоминать о той жизни, о первом муже. И.
бывало, выпивая в гостях, рассказывала при отчиме, что «у Алексея, когда он определился в упродком, была лошадь Карагез и богатый казак из станицы Пресногорьковской давал за нее двадцать
пудов хлеба». Еще она говорила, что «Алексей увел из-под носа отступавших колчаковцев пять тысяч баранов и пригнал их к красным».
Потом она рассказывала, как родственники гуляли на вечерин«е. «У Алеши был наган и его попросили показать оружие». Наган
23
переходил из рук в руки, а кончилось тем, что мамин брат неожиданно для всех нажал на курок. Грянул выстрел и пуля попала в
ногу какой-то женщине. «Алексея уволили со службы, а при чистке
партии он перестал быть коммунистом».
Жизнь надломила отца. Ему казалось, что он никому не нужен,
что он лишний на свете. Пошли ссоры, взаимные обвинения. После
одного из скандалов он оставил семью, а через несколько месяцев
заболел тифом и умер.
Мать как-то говорила, что она виновата в его смерти. Почему
она виновата?
...Григорий поднял тяжелую голову. У столика — бригадир монтажников Цыбен Чимитдоржиев. На скуластом, темном от загара
лице — ожидание. От сапог натекли лужи. Мокрые волосы свисали Цыбену на лоб, с них стекали капли по щекам.
«Дождь, а я как ни в чем не бывало»,— подумал Григорий.
— Нам скобы нужны, Григорий Алексеич,— сказал бригадир.—
Ребята ждут.
— Пойдем.
Пока шли до кладовой, Григорий смотрел на пузырившиеся лужи, слышал позади звучное шлепанье сапог и забыл, о чем просил
бригадир.
— Ну так что?— повернулся он к Чимитдоржиеву.
— Так вот... ребята ждут.
— А-а. — Вспомнил, зачем ему в кладовую. — Сколько скоб
возьмете?
Чимитдоржиев сказал. И попросил фанеры.
— Фанера плохая. Может, обойдешься? Вот-вот привезут получше. Обещали.
— Не обойдемся. Дождь этот ненадолго, а у нас все стоит. Линию подвесить надо.
— Ну-ну.
«Ты вот, брат, линию подвесить собрался, а от меня жена уходит и ты ничего про это не знаешь». Подумал и вздрогнул: «Еще
чего доброго — вслух скажу. Взять надо себя в руки. Взять и точка».
Который раз он заставлял себя повиноваться своему голосу.
Который раз...
После обеда проверил расход гвоздей. Бригадир плотников —
Аким Твердохлебов — смирный, бледнолицый, с виноватыми глазами мужчина — разводил руками:
— Не хватат, Григорий Алексеич. Как хошь, а не хватат.
— В каждую доску по паре гвоздей?
— Ну.
— А может, по три?
— Ну, если один согнется. Бывает, что и третий ЕГОКЯТ.
— Вот тот-то и оно, что бывает!
— Ну, а как же, Григорий Алексеич!— оправдывался Твердохлебов.
Трубин осмотрел подоконники, углы. Брошенных гвоздей не увидел. «Успели убрать»,— подумал он. За стеной рокотал бульдозер.
Григорий выглянул в окно. Несколько яблонь шелестели листочками. «И они тут уцелели?» Кривые серые стволы побелены. «Похоже, покойники, готовы к собственным похоронам».
— Ничо имя не содеется,— угадывая мысли старшего прораба,
говорил Аким.
— А кто побелил?
— Наши, кто же еще.
24
«Ишь ты. Глаза виноватые, так и бегают, а человек, видать, добрый»,— решил Григорий и чувство раздражения постепенно стало
уходить.
Опять вспомнилась мать, те ее довоенные рассказы об отце.
«Быть бы мне сердцем помягче, понять состояние Алексея,— не раз
говорила мать,— не ушел бы он от нас, тифом бы не заболел и не
умер». Отчим равнодушно слушал ее. Ему, видимо, было все равно,
что слушать, или он считал того Алексея почти нереальным. Глядя
ка ее слезы, он пел под гитару что-нибудь «про ямщика». Пока на
столе была водка, она вспоминала, а он пел вполголоса. Голос у
него был. Желая удивить и поразить мать и Григория, он обычно
вдруг ни с того ни с сего брал высокую ноту и тянул. Лицо его
багровело, глаза закрывались, он весь дрожал, как натянутая струна, готовая вот-вот оборваться.
Кончалась водка и отчим уже не слушал никого. Начинались
куражи...
Жить становилось невмоготу. Григорий подрастал и в маленькой комнате — в одно окно — зрела драма.
Обстановку разрядил неожиданный отъезд отчима. Он завербовался на Север. От него пришло несколько писем. Мать ему отвечала, но на Север не поехала. Потом письма перестали приходить,
. и мало-помалу Григорий забыл об отчиме.
А тут война...
...Трубин пробыл у плотников до обеда, затем уехал на лесозавод, а к концу дня позвонил тому самому... обольстителю Софьиному.
Они шли, не торопясь. Тяжелые разговоры всегда ведутся не
торопясь. И шли не по тротуару, а по мостовой. Улицы были окраинными с глубоко вросшими в землю домишками, с редкими прохожими. У одного домика дверь заколочена досками крест-накрест.
Крыльцо осело, прогнило, его занесло песком и прикрыло репейником. Давно уже нет сюда входа... Григорию показалось вдруг, что
весь город для него — та же забитая досками дверь. Идти некуда и
незачем.
— Ну так вот,— сказал Григорий.— Если у вас к ней настоящее чувство, что же, поступайте, как сочтете. Как говорят французы: «Се ля ви» — «Такова жизнь».
— Да, чувство, конечно... Не без этого,— ответил тот.-— Сами
понимаете Оставляю детей.— Он был высоким, широким в плечах.
Говорил ровным, глуховатым голосом. Лицо сфинкса — каменное,
твердое.
«С Софьей он не такой,— усмехнулся Трубин,— а со мной под
сфинкса».
— Жена у меня для детей хорошая. Но этого мало. Вот и вся
игра... Я не ночую дома, а она бегает на вокзал чуть ли не к отходу каждого поезда.
— Неудачно женились?
— Помните: «Откуда жены плохие берутся?» Так и у меня.
Разошлись во взглядах. Как дальнозоркий видит удаленные предметы яснее, чем ближние, так и мы лучше понимаем и осмысливаем события, когда они удалены от нас временем.
Неподалеку прогрохотал поезд. Укорачивающийся хвост дыма
издали казался черным треугольником, повисшим над городом.
«Вот уж странно,— усмехнулся Трубин.— У нас тоже тут треуголь25
ник: я, этот и Софья. И чего она? нашла в этом сфинксе? Не надо
было звонить ему. Зачем звонил Чего ждал от этой встречи?»
Он думал, что узнает что-то такое, о чем ему не сказала Софья,
что после этой встречи все будет выглядеть в каком-то ином свете.
А тут все обычно. «Разошлись во взглядах». Надо полагать, та
приперла его к стенке — податься некуда. Ему теперь ни до чего.
— Я не хочу прятаться, скрываться,— продолжал тот.— Не хочу и не боюсь никого и ничего.
— А кого и чего бояться?—не понял Григорий.
— Ну, есть такие... Службу потерять боятся. За ото самое строго взыскивают. Вот они и прячутся в переулках. Любовь... Представляете?
— Представляю довольно отчетливо.
— Я не о том, о чем вы думаете. Я не о себе, я вообще ...
— Ну-ну.
— Вот они и стоят в переулках. Целуются и обещают верность
друг другу. А что им еще делать? Если открыто объявить о любви,
их раздавят, растопчут. Им ничего не остается, как прятать свою
любовь. Так они и стоят в переулках вечер за вечером. Пока...
— Что — пока?
— Пока не попадутся. А может, любовь у них сама по себе иссякнет.
Черный треугольник дыма рассосался, и поезда уже не слышно,
только голос сфинкса бился в ушах Григория. Он не понимал, о чем
тот ему рассказывал. Снова — усталость, раздражение. Перед глазами — старая дверь с осевшим крыльцом и покачивающиеся лопухи
репейника.
«Зачем звонил? Чего ждал от этой встречи?»
— Ну, так до чего мы договорились?— услышал Григорий.— С
вашей стороны, как я понял, не будет никаких препятствий для
Софьи. Она очень хотела, чтобы у вас с ней все обошлось, как надо... благоразумно.
— Да, я буду вести себя благоразумно.
«Как все это нелепо»,— подумал он, желая только поскорее остаться одному.
— Вот и хорошо,— снова услышал он голос.— А у меня будет
скандал и обязательно неприятности по службе. Но я иду на все.
«Черт с ними, твоими неприятностями!»
. — Надеюсь, вы поймете меня и ее?
«Зачем звонил? Зачем?»
Из кухни доносились голоса:
— В войну-то приходилось работать... Ой, как приходилось!
Смену отдежуришь, до кровати кое-как доберешься, голову приклонишь... Спала не спала... А тут уже дежурный из депо: «Выходи,
Ивановна, некого на инжектора поставить». Ну и идешь. 'Не проспавшись-то.
— Будто и недавно все это было.
Григорий прислушивался к голосам тещи и жены, закрыл глаза, чтобы подремать, но голоса живучи.
— Вся жизнь так и прошла. Работа, работа, работа... Когда маленькая ты была, годика три, наверное... Запру тебя на замок, уйду, а сердце болит, уж до того болит, что мочи нет. Да-а. А однажды, помню, собралась я на работу, ты и просишь меня: «Мама, оставь мне твой пуховый платок».— «Зачем тебе платок?» Ты и говоришь: «А он такой же, как и ты — теплый и мягкий...» Проглотила
я комок слез да и пошла. Вот как было.
Слышно, как Фаина Ивановна в своей комнате задвигала яши26
нами буфета: чего-то искала. Григорий представил себе буфет. Посредине лакированной кожи чемоданчик, на нем — двое настольных
часов, одни из них не ходили со времен молодости хозяйки. На часах глиняные мальчики. Возле чемоданчика прислонено к стене зеркало, тут же — рисунок: японка в кимоно, с веером. А над всем
этим висели на гвоздике наручные мужские часы. Остались после
мужа.
Пока Григорий одевался, Фаина Ивановна ушла на базар. В
кухне его ждал завтрак. Жена туда не заходила и он поел один. Эти
дни они почти не разговаривали.
Он уже собрался уходить, как Софья остановила его.
— Подожди. Должна тебе сказать... Я уезжаю сегодня.
— Уезжаешь? Куда?
Григорий еще не полностью осознал то, что она говорила, но
тягостное предчувствие уже охватило его.
— Ну как — куда? Мы же с тобой решили...
Глаза ее смотрели грустно и растерянно. В руках она комкала
платок. В голосе не было ничего наигранного. Она сообщала ему
правду, и это давалось ей нелегко.
— А он где?
— Уехал вчера.
— Не понимаю. Как это... вчера?
— Он встретит меня в Иркутске, и оттуда вместе... к его родителям. Поживем, а потом — куда-нибудь. Возможно, в Красноярск.
— И ты уже уволилась?
— Долго ли. В производственном отделе обойдутся и без меня.
Ругаться с начальниками участков... Ума много не надо.
Софья неотрывно смотрела на Григория, словно впитывая в
?ебя все то, что оставалось еще в нем памятным для нее.
— Гриша, может быть, как-то можно... еще не поздно, что-то
придумать?
— Что придумать?
— Ну... я бы осталась. И мы бы вместе... по-прежнему...— Голос ее перехватили спазмы и она поднесла платок ко рту.
В ее словах было столько искренности и надежды, что он качался к ней... и замер. «Нет, нет! Что я делаю? Пусть едет. Того,
1то случилось, нельзя ни простить, ни забыть. Для того, чтобы помириться, достаточно и одной минуты. А сколько этих минут будет
лотом? И в каждой минуте незримое присутствие того... сфинкса.
Не-ет, это невыносимо!»
— Что тебе сказать, Соня? Лучше поезжай.
— Боже, какой все-таки ты!
— Да уж какой есть.
Они помолчали. Но это было не то молчание, когда не о чем
говорить, или надоело говорить, или некуда спешить с объяснениями. Это молчание было наполнено для них и словами, и чувствами,
и звуками. Незабытые, не выветрившиеся из памяти картины совместно прожитых лет проходили перед их глазами в хаотическом
беспорядке. Перед Григорием наслаивались, сталкивались и расходились видения того дня, когда он собрался расписываться с Софьей.
...Та узкая комната в одно окно. Мать, ни о чем не догадываясь,
гладит единственный его шевиотовый костюм. Он сказал ей, что
сегодня комсомольское собрание. Сказать про загс не хватило смелости. Мать расстроится.
..Скрипучее крыльцо. Ковер на полу. В кадке фикус с холодно
27
поблескивающими тяжелыми листьями. Женщина в тумане. И голос: «У вас нет в паспорте штампа с места работы».
...Тополиный пух перекатывается по двору. Он идет на ватных
ногах.в дом родителей Софьи. Идет уже как зять.
Он заговорил снова:
— Если ты не уедешь, у нас будет плохая жизнь. Подумай сама. Каждый день думать обо всем этом. Нам вместе теперь нельзя.
— Может, ты и прав,— ответила Софья.— Я уже ничего-ничего не соображаю.
— Ну, а матери ты сказала?
— Не смогла.
— Напиши хоть с дороги.
— Я ей буду помогать. Не оставлю так...
— Ну-ну.
— Из комнатки ее не выселят?
— Кто ее станет выселять?— он развел руками и усмехнулся.
Он еще мог усмехаться. А она — нет, не могла. Они были в неравном положении. Софья не настраивала себя ни на что неискреннее. Ей было не до того. А он настраивал себя на иронический лад.
Не ему предстояло уходить отсюда с чемоданами, а ей. И если что...
всегда можно ее обвинить, а не себя. Не он же изменял семье, а
она. И не он бросал мать.
— Неужели все так и кончится?-— вздохнула Софья.
— Чего кончится? Какое там! У тебя, я полагаю, все только
начинается.
— Да, да. «Только начинается». Я так и знала. Больше тебе и
сказать нечего. Ты весь в этих словах. А я? Я сегодня куплю билет, сяду в вагон и, когда тронется поезд, открою окно. Провожать
меня никто не придет, вокруг будут одни незнакомые лица... А потом я стану украдкой и со страхом смотреть на пассажиров, словно они уже знают, кто я и куда еду. Я слежу украдкой за ними.
Зачем? Они читают, ужинают, переодеваются, укладываются спать.
Все радуются — куда-то едут. А я вытираю слезы и думаю, и думаю. В производственном отделе кто-то чужой сядет за мой стол.
За бывший мой стол... И будет звонить на участки и к субподрядчикам — требовать документы, уточнять расценки... Заполнит акты
и справки на белых и синих бланках, отошлет в Стройбанк. Может
быть, оттуда спросят: «А где ваша Трубина?»— «Она уволилась, уже
не работает».— «А-а»,— протянут безразлично в трубке. И все. Больше никто не спросит, никто не вспомнит. А я буду думать... Както там моя старенькая мама? Как-то там мой Гриша живет без меня? А ночью я буду жаться в коридоре у окна и плакать. Ты же
скажешь моей маме, убитой горем: «Софья добилась того, чего хотела. Поездит, пошатается по белому свету и вернется». Затем поужинаешь, пройдешь к себе в комнату, разложишь на столе свои... всякие там наряды и будешь думать о перерасходе гвоздей и олифы.
— Может быть, все так и будет,— сказал Григорий.— Видимо,
так и будет. Мне пора.— Он показал на часы.
— Да-да. Тебе пора. Ты всегда спешил.
— Так я прощусь с тобой вечером.— Трубин пошел к выходу.
Ей показалось, что скрип дверей, затихающие шаги на лестнице — все это еще ничего не значило. Гриша, конечно, пошутил. Сейчас вот опять загремят его шаги, откроется дверь и он скажет: «Хватит дурачиться и глупить. Поговорим по-серьезному».
И Софья ждала, напрягая слух, и глаза ее торопливо и жадно
обшаривали дверь, будто эта дверь мешала Григорию войти сюда и
поговорить... чтобы ей не надо было собираться на вокзал и писать
28
записку матери. Но лестница молчала и дверь молчала и'все, что
окружало ее, было немо и враждебно ей.
— Ну что же,— сказала она сама себе.— Раз так, то так.
Вечером Григорий застал Фаину Ивановну в слезах. Та ходила
"кз комнаты в кухню и обратно, ее шатало и она натыкалась на.столы, на табуретки...
— Это как же так можно? А?— в который раз спрашивала она
Григория и, не дослушав его ответ, хваталась за голову и принималась ходить и вздыхать.
— Вот видишь... письмецо оставила матери и подалась невесть
куда. А тот-то, тот-то! Детей осиротил! Это куда же Софья глядела?
Она чувствовала себя виноватой перед Григорием и не знала,
что сделать для него.
Мать Софьи не так давно ушла на пенсию. Работала в паровозном депо слесарем. Мужа ее репрессировали перед войной. Телеграмма Калинина о его освобождении опоздала... Был он кладовщиком на элеваторе — обвинили, что заразил зерно клещом.
Фаина Ивановна из последних сил тянулась, чтобы дать дочери образование. Сама ходила в мазутной телогрейке. Ее так на
улице за глаза и звали — мазутница. Она была охочей и злой на
работу, ни в каких бабьих сплетнях участия не принимала. Сказывалось, может быть, то, что долгие годы ее прошли в депо. У ней
и голос был басовитый, и смеялась она не по-женски раскатисто,
громко.
Внезапный отъезд дочери был для нее тяжелым ударом. И как
всякий тяжелый удар, сначала он лишь оглушил, привел в растерянность. Находясь в таком состоянии, она еще не успела подумать
о тех последствиях отъезда дочери, которые могли вызвать пеоемены в ее жизни, а первым делом подумала о своем собственном
неудобстве перед Григорием.
И разговоры Фаины Ивановны с Трубиным в тот вечер были
не совсем свойственны ее натуре и характеру.
Сокрушенно качая головой, она говорила:
— Ну и жены нынче! Ну и жены! Ты знаешь, вот напротив живут... Памяти-то у меня вовсе нет. Как ее и звать — забыла. Так
она что? Мужика своего вокруг пальца обводит. Ей к полюбовнику
надо, так она, змея, с тем умыслом на скандал к мужу напрашивается. Это чтоб из дому-то уйти. Расцапается — ну — вдрызг. И подалась! И хитрющая — не приведи бог! Утекет от законного мужа
во всем старом да рваном: туфлишки-развалюшки, халат засаленный, телогрейка. А у самой все новехонькое, что ни на есть моднейшее, упрятано загодя у знакомой.
Вот ведь какая она. Муж-то к ней зачнет с подозрениями да упреками, а она ему: «Чудак ты! Простофиля! Ну, к кому я в такой
наружности пойду, кому нужна? Ты что-нибудь своей головой понимаешь?»
Фаина Ивановна в растерянности умолкла. В глазах ее — испуг:
«Это, мол, чего я тут ему наговорила? Еще подумает, что и моя
дочь такая».
Старушка спохватилась:
— Ну Софья-то росла у меня в строгости. Боже упаси, если
что... Без спросу — никуда. Такая была стеснительная и аккуратная,
что глядишь на нее и душа не нарадуется. И что с ней случилось —
не пойму. Я уж и так и эдак думаю. На картах пробовала гадать.
Григорий пожал плечами. То, что Софья уехала, и, может быть,
29
навсегда, как-то не доходило до него. Многое казалось надуманным,
нереальным. «Вполне вероятно, сидит моя жена у какой-нибудь
подруги и выжидает: как-то, мол, там они без нее? Сильно убиваются или не очень?»
Он рассказал Фаине Ивановне о причинах разрыва с Софьей.
У него выходило так, что больше виноват он, Григорий, что если
бы он вел себя иначе, Софья никуда не поехала бы. Он добавил
еще о том, что Софье необходимо «познать жизнь» и что «всякие
там ухаживания за ней вскружили ей голову».
— Что ты мне мозги забиваешь?—- не выдержала Фаина Ивановна. — И то, и это. Тебя послушаешь, так оба вы с Софьей навроде
как сговорились. Очень уж грамотные. Объяснят и разъяснят, чего
хочешь. Одна вот такая же образованная трех кошек держала. Я ее
спрашиваю: «Ну зачем вам столько кошек?» Так ты, что думаешь?
Нашла для каждой свою причину. Один кот у нее на даче мышей
поел — заслужил жительство. Другого ей еще котенком подбросили — грех прогнать. А третья... та привязалась к подкидышу, уж
так привязалась! Жалко гнать, нельзя. Развелась на даче целая семья кошачья. И всему объяснение есть. А если вдуматься? Блажь
одна. Только и всего. А ты говоришь мне: «Познать жизнь».
Тяжело было слушать Фаину Ивановну в трудный для ее жизни час. И то смешное, о дачных кошках, и то горькое, что вызвано
отъездом дочери,— все как-то сплелось и спуталось у нее.
Через два дня Фаина Ивановна получила от Софьи телеграмму.
Вскоре пришло и письмо. О письме она не сказала Григорию.
Глава третья
В
выходной Григорий занимался с
накладными, актами, фактурами и
лимитными карточками. Осточертело. А куда денешься? Старший
прораб — лицо материально-ответственное. И строительство веди, и
снабжением занимайся. Раньше на участке служил хозяйственный
десятник. Сократили. Не прложено. А старшему прорабу, выходит,
положено по уши увязнуть в снабжении?
Была бы с ним Софья, вот сию минуту была бы... Само собой, отвлекала бы от фактур и накладных. А так... никто не отвлекает,
сиди, сколько душе угодно. И никто не ворчит. Никому нет никакого дела.
Вроде как осиротело все тут. Не только он, Трубин, осиротел, а
и обстановка без Софьи, без хозяйки, тоже осиротела. И на все
смотрится какими-то другими глазами, будто ты уж и не у себя в
комнате.
Нет ее... Нет ее, Софьи. Будто отовсюду — с потолка, со стен, с
пола, от дверей и окон — кричат ему, предупреждают, напоминают
о случившемся. Хоть на улицу выходи, иди, куда глаза глядят.
Пусть тебя обдувает ветер, сечет дождь, обжигает солнце — лишь
бы подальше от крика: «Нет ее... Нет ее!»
Отложил бумаги. Сидел, закинув руки за голову.
В дверь постучали.
- Да!
Оглянулся Григорий и встал удивленный. Бригадир Бабий! Ви30
деть Бабия приходилось только на строительных лесах, в траншеях и никогда — здесь, у себя дома. Поэтому как-то непривычно.
— Привет хозяину!— сказал Бабий, втискиваясь в комнату.—
Вы одни?
— Да вот ковыряюсь... с приемными актами.
— А-а. Помешал сильно?
— Не-ет. Я уж собирался кончать с этим. Присаживайтесь,
Георгий Николаич.
— Присяду. Спасибо.
У Бабия покатые вислые плечи, крупные в ссадинах руки. Но
гова маловата. Может, она и не маловата, а так казалось из-за тоэ, что сам он уж очень высокий и плотный.
— А я со своими спичками, Григорий Алексеич! Не прогоните?
— Какими еще спичками?
— Туманно, значит?— гость ухмыльнулся.— А я такой уж.
эблю выражаться красиво. Прихожу в магазин: «Спички есть?»—
«Нет, гражданин». Я еще: «Спички есть?»—«Сказали же вам — нет!»
-«Ха,— говорю,— как же «нет». А это что?»
Бабий выставил на стол две бутылки «Столичной».
— Вот это спички и есть! Главный поджигатель нашей жиз1! Во!
Григорий хотел было позвать Фаину Ивановну, чтобы помогла
збрать на стол, но передумал. Как-никак, кто она ему теперь?
—• Перешли на холостяцкую жизнь, Григорий Алексеич?
— Да вот получилось...
— Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Я ведь чего зашел?
Шайдарон говорит: «Зайди к нему, бригадир, посмотри». Ну, я и
зашел.
— Спасибо.
— Давно мы с вами вот так... запросто не сиживали. А ведь
фронтовые друзья-товарищи. Или я чего лишнего говорю? Вы уж
прямо скажите...
— Не было времени сидеть-то,— неумело оправдывался Трубин.
— Э-э-э, не говорите про время! Не мы живем для него, а оно
для нас. Нам что время? Мы сами — скорость!— Помолчал, оглядел Григория и от избытка чувств продолжил:— Живут еще наши
однополчане, Григорий Алексеич. Живут! Я недавно Тим Тимыча
встретил.
— Механика? Тимофея Тимофеевича?
— Его. Тимофея Тимофеевича — Тим Тимыча. По кружке пива
выпили. Он про вас спрашивал. Как, мол, у Трубина с позвоноч7
ником
...Самолет, на котором летел стрелок-радист Григорий Трубин,
возвращался после воздушного боя с японцами у Хайлара. И вдруг
вышел из строя мотор. Как потом выяснилось, сорвался главный
шатун. Летчик дотянул кое-как до поляны. Чтобы сохранить машину, решили идти на безмоторную посадку, не выпуская шасси. Сели на «брюхо». Летчику своротило скулу, а Трубин от удара в позвоночник потерял сознание.
Они выпили по рюмке и вспомнили свою военную молодость,
которая прошла у них в авиаполку на одном из монгольских аэродромов.
— Да-а, идут годы,— вздохнул Бабий.— Раньше от сапог дым
шел, а теперь и снег не тает.
31
— Ты еще полетаешь.
— Куда там! Я теперь больше по общественно-профсоюзной части. Вчера вот коллективно картошку сажали,— продолжал Бабий.— После четырех. Смехота одна, да и только. Ну, какая же нам
картошка? Разве нашему брату картошка покоя не дает? Не-ет. Вот
эти спички... Вот эти, Григорий Алексеич! Прихожу я к сестре и говорю: «Едем сажать картоху. Где у тебя лавровый лист?»— «Зачем
он тебе? Не суп ли там варить собрался?»—«Э-э,— говорю, не-ет.
не суп. Для аромата во рту. Чтоб запаха не было».— «Какого запаха?»— «Спичечного, какого еще...»—«Жди,— говорит,— от вас, посадите вы». Да-а. Ну, а мы посадили. Всю, как есть. Отдохнули, покурили. Я говорю бригаде: «У кого сколько — клади». Вывернули
карманы. Послали в магазин практиканта: купи, мол, на все общество. А он летит с одной-единственной бутылкой и тащит кольца —
вот такие кольца — ливерки! Прогнали мы его снова в магазин: часть
колбасы продавщице верни, а часть у жителей обменяй на огурцы.
Да выкрой еще на бутылку. Ну, все, как есть, закончили, двинулись
с ветерком в город. Мимо стройки вовсю дуем. Я говорю Васе: «Поворачивай на речку». Выехали на берег. Спрашиваю бригаду. «Ну,
как вас прокатили?»—«Спасибо,— говорят,— Георгий Николаич! А
куда вы нас везете?»—И сами смеются. Им там, в кузове, весело. «А
куда везу — не ваше дело». И тут даю команду: «Раздевайся! Прыгай в воду!» Они команду исполняют, а я на берегу с часами, слежу,
чтобы срок в воде отбыли. Один полез — я его назад. «Рано»,— говорю. Выдержал я, сколько положено, и командую: «Сигай на берег!». Оделись они, а я им: «Выворачивай карманы!» Собрали еще
на бутылку, выпили и поехали. Вася довез ме,ня до дому, а бригаде
я велел ехать до гаража и оттуда тихо, по-одному расходиться.
Григорий посмеялся, спросил: зачем, мол, всю бригаду везти в
гараж, когда некоторые могли бы сойти и раньше, мимо своих домов проезжали? Бабий с удивлением посмотрел на него:
— А как же? Для дисциплины. Чтоб порядок чувствовали. Бригада у меня такая... С этим народом иначе нельзя. Выпьем по одной?
— Да я непьющий.
— По одной можно. Мы тоже понимаем. Мы с вами уволенные
в запас стрелки-радисты. «Нам сверху видно все — ты так и знай».
Ну, а то, что это самое у вас случилось... Шайдарон говорит: «Сходи, поговори. Вы с ним в одном полку служили». Я и пошел.
— Обыкновенное происшествие. Сбежала жена,— сказал Трубин.
Бригадир выпил. Не закусывая, смотрел на Григория, хотел о
чем-то спросить и колебался.
— Может, что подать?— спросил Григорий.
— Не-ет.
— Я думаю, вы что-то хотите попросить.
— Спросить хочу. Как вы полагаете, что она делает сию минуту? Ну, эта ваша бывшая жена. Вот,— он показал на часы,— половина двенадцатого.
'
— Готовит завтрак или завтракает.
— А может, и позавтракали уже? Посуду моют.
— Зачем это вам? Зачем вам такие догадки?
— Любопытно. Мы вот выпиваем тут, а этот... ну, который с
ней... вполне, может быть, бреется или лежит, скажем, на диване и
в газету посматривает. И нет ему никакого дела до нас. Любопытно.
Я, бывало, вот так время засеку и думаю... Про родственников или
знакомых, а потом в письмах у них спрашиваю, что они делали в
32
такой-то день и такой-то час.— Он вздохнул и мечтательно улыбнулся.— Может, люди когда изобретут... Хочешь, скажем, увидать,
"чем занята твоя тетушка, проживающая у синя-моря, нажал кнопку и — пожалуйста: на экране тетушкина хоромина и сама ее персона, как на ладони. Любопытно,— повторил он.
Они сидели, выпивали, и Григорий удивлялся, что хмель его
не брал. Открыли вторую бутылку.
— Ну и народец у меня подобрался,— сказал Бабий. — С ними
. только в карты играть.
— А я бы пошел в бригаду,— неожиданно для себя заявил Григорий. Встретив удивленный взгляд бригадира, добавил:—Пошел
бы. Ей-богу, хотите — верьте, хотите — нет.
— Зачем это вам? Нервы трепать?
— А прораб — что? Лучше? На прорабство времени не хватает, снабжение вяжет по рукам и ногам.
— Берите тогда мою бригаду!— Бабий посмотрел насмешливыми глазами на хозяина.— Берите! У меня ребятишши на подбор.
Есть вот такой... Колька. Недавно подложил сменщику горящую папироску в карман. Тот потерял, конечно, карман, а Колька потерял
зуб. Ну есть еще один из заключения. Ленчик. А как мы его нашли,
так это целая история. Ехали монтажники из командировки. И в
том же вагоне возвращались заключенные из колонии. Ну... освобожденные. У ихнего вожака украли деньги. Хранил он их в сапоге
за голенищем. Подозрение пало на этого Ленчика. Вожак долго его
избивал и все извинялся за это перед пассажирами. Потом велел
ларню написать письмо- матери: я, мол, домой не вернусь, хочу пожить в городе. А ему сказал: «Тебя я сброшу с поезда». Дальше он
велел Ленчику зашить порванную рубаху и указал место на полке,
сказав, чтобы тот лежал и не шевелился. Парень и в самом деле не
шевелился. Наши пожалели его и взяли с собой.
— А вожак?
— Срок только отсидел и снова нарываться? Он тоже не дурак.
Я еще не обо всех сказал. Есть в бригаде Федька Сурай. Тянет все,
что под руку попадет. Доска — так доска, гвозди — так гвозди, лист
железа — так лист, болт — так болт. Превеликой жадности человек.
Заработать деньгу любит, а где и как — не задумывается. Его у нас
Крохом зовут.
— Это как понять? -.
— Ну, крохобор. Наши ребятишши экономию во всем любят. На
•слове и то экономят буквы. А то еще есть Мих. Ну, Мишка. Каменщик первой руки. Такого поискать. А ни во что не верит. Чего
ему ни скажи, он свое: «Ну, ну, толкай телегу в мешок».
— Интересная бригада. Колоритная,— сказал Трубин.
— Колеру — да, многовато.— Бабий задумчиво смотрел перед
собой. Потом оживился.— А- верно, Григорий Алексеич, принимайте
бригаду! Я бы на монтаж к Цыбену Чимитдоржиеву вернулся. Тянет меня туда. Старое не забывается.
•—• Вы из монтажников?
—• Пока вы по госпиталям лечились после той аварии, пока институт заканчивали, я своей высоты не покидал. С самолета демобилизовали, так я на строительную верхотуру перебрался.
Мы с Чимитдоржиевым линию электропередач ставили и монтировали. По Байкалу... Цыбен — он знаешь, какой? Он не всякого инженера либо техника признает. Ему как-то показали техника-женщину. «Не надо»,— говорит. «Да возьми, у ней же знания!»—стали
уговаривать его. «А что знания? Что образование? Надо еще горло
иметь. А горло надо иметь луженое». Вот ведь как... Бывает же
3. «Байкал» № 1.
33
такое... Так и не взял того техника. «Куда,— говорит,— я ее поставлю рядом с моими горлопанами».
Григорий провожал домой бригадира. У калитки столкнулись с
девушкой.
— А-а, Флора! Здравствуй!— обрадовался Бабий.— Ты у нас
была?
— Заходила за выкройкой, а у вас замок.
Глаза у девушки крупные, чуть выпуклые. Она нет-нет да и
поглядывала на Григория, словно желая его запомнить.
— Наши с утра уехали к бабушке,— говорил ей Бабий.— Пойдем с нами, я открою квартиру. Может быть, найдешь выкройку.
— Да нет уж, я потом.
— А чего «потом»? Это старший прораб. Григорий Алексеич
Трубин. Между прочим, холостой. Фронтовой друг-товарищ.
Девушка пожала плечами. Бабий держал ее за руку, что-то
объяснял. Григорий вдруг вспомнил, что недавно видел эту девушку в трамвае. Ее лицо тогда сразу понравилось, захотелось пойти за
ней и узнать, что она за человек, как живет, какие у ней интересы,
счастливая она или нет. Он подумал тогда: «Как много проходит в
жизни людей мимо тебя, Трубин, людей незнакомых, но, может
быть, очень интересных и ярких, они могли бы как-то влиять на
твою жизнь, но они проходят мимо, оставляя в твоей душе досаду и
неудовлетворенность». Девушка вышла из трамвая, он, разумеется,
никуда не пошел, но какое-то время думал о ней. И вот она опять
встретилась ему и теперь уже можно было что-то узнать о ней.
— Я видел вас в трамвае,— сказал он. Каких-то иных слов он
не придумал, а надо было спешить. Флора могла вот-вот уйти.—
Вы сошли на «Промплощадке». Около семи. На той неделе...
— Могло быть.— Она улыбнулась ему глазами.
И тогда он с пьяной решимостью рассказал, как он хотел за ней
пойти и узнать о ней всякие подробности. Григорий ждал, что она
рассмеется, скажет что-нибудь... ну, ничего не значащее, и с тем
уйдет. А она почему-то смутилась, и стояла, не уходила.
«Надо ли мне так?— подумал Григорий.— Она сочтет меня бог
знает за кого. Да и перед Бабием неудобно».
— С вами часто так бывало?—Она подумала и продолжила несколько иначе.— Вам часто приходилось испытывать подобные желания?
Григорий не ответил, боясь сказать что-нибудь не так. Заговорил Бабий:
— Э-э, Флорочка! Не будь к нему слишком строга. Мужчин
знаешь? Иногда такое отмочат, такое... Хоть стой, хоть падай! Вот я
тебе скажу. Мой сосед шел домой, сильно выпивши. А жень его на
лавочке. Он к ней подсел, жалуется. Кто-то его из знакомых встретил и давай обвинять, что, мол, ты зачем с моей Машкой любовь
завел. Ну он, ясное дело, обиделся. Плачет перед женой и говорит:
«Оля, зачем мне его Машка? У меня Лизка есть!»
Бабий захохотал, повторяя:
«Зачем мне его Машка?»
Они смеялись и медленно уходили от калитки. Прошли квартал, Бабий не то потерял их в толпе, не то нарочно отстал.
Григорий узнал, что Флора работает палатной сестрой в больнице, живет с родителями. И не было у нее вроде ничего интересного, о чем загодя думал Григорий.
И пока он провожал ее и пока они сидели на скамейке возле
садика, заросшего желтой колючей акацией, он сравнивал ее с Софьей.
34
У Флоры любимые словечки «жуть» и «колоссально». Когда она
работала в «скорой помощи», то вот там-то настоящая «жуть».
— Страшнее, чем в больнице?— спросил Григорий.
— И не говорите. Вызовы, вызовы... Чаще ночью. Во дворах собаки. Номеров на домах не видно. В иную квартиру придешь, а там
пьяная драка — кому-то разбили голову. Рану надо обработать, а
пьяный кочевряжится, не дает. Да еще меня же ударить норовит.
Вызвали как-то поздно вечером в дождь, на окраину. Поехали.
Дождь так и льет. Грязь колоссальная. До места не доехали — с мотором что-то случилось. Пошла пешком. В туфлях, капроновых
чулках. Кое-как дом разыскала. На колючую проволоку наткнулась, чулки порвала, ноги исцарапала. Иду и плачу. И что вы думаете? Зачем вызывали? Муж с женой поругались. Та, чтобы припугнуть его, симулировала обморок. Я к ним постучалась, а они чай
пьют, помирились. Смотрят на меня, будто я с того света. А женщина еще с оскорблениями: «Шляются тут по темноте всякие!»
Григорий, не перебивая, слушал. Когда садился на скамейку
под акациями, в мыслях было: «Попробую поухаживать». А теперь
об этом и не думал. Он сидел близко от нее и чувствовал запах ее
тела и запах духов и все время ощущал какую-то двойственность:
ему нравилось ее лицо и он хотел как-то себя настроить, что-то
разбудить, разжечь в себе, однако же, на душе было холодно и неуютно. И чем дольше она рассказывала ему о своей жизни, тем
больше крепла в нем эта холодность.
«Ну зачем я выясняю про все это?»— подумал Григорий. И он
вдруг подумал, что обкрадывает Флору, что она старается занять его чем-то, вспоминает для него различные истории, хотя ему
ничего из этого знать в сущности не нужно. Да она и сама, наверное, видит, что все это так...
Странно... Он все же договорился с ней встретиться. Зачем? Ну,
просто... Хотя бы потому, что у Софьи был некто он — сфинкс, а
у него должна быть некто она. Пусть Флора.
Идя домой, Григорий снова думал о Софье.
...Ее нет. Ее нет! Ее нет!!! Она уехала, оставила тебя одного в
полупустой комнате, наедине с вещами, которых совсем недавно
касались ее руки. О, какую боль она причинила тебе своим бегством! Об этом кричат даже стены комнаты. И как же ты придешь
домой и что станешь делать, если все, что там осталось и ждет тебя — все это осуждает твое поведение. Полупустая комната будет
постоянно напоминать об отсутствии Софьи. Полупустой шкаф тоже напомнит... «Я набью его новыми вещами,— рассуждал сам с собой Трубин.— Добавлю в комнату мебели. Куплю кресло, а может
быть, и диван. И еще ковер».
«Покупай, покупай,— твердил ему кто-то со стороны.— Сколько
ни покупай, а все равно -пустота останется. Вещами обложишься,
а в сердце пусто. Для сердца-то чего купишь?»
«Найду и для сердца, найду... не может быть! Она меня обманула, а я что?— спорил Трубин.— Вот пойду к Флоре... Нет, не хочу, не желаю!»
А кто-то нашептывал:
«Сходи, чего там. Жена сбежала, а ты из себя кого корчишь?»
«Нельзя обманывать других только потому, что ты сам обманут»,— возражал Трубин.
Ночью ему снился монгольский аэродром. С гор спускались
метель с ветром и снегом. «А как же самолеты?— подумал Трубин.— Почему нет сигнала тревоги? Э-э, да это не метель, это же
японские самолеты!» Откуда-то появился Бабий, он смеялся и кри3*
35
чал: «Спички, спички!» — «Это не спички, это «И-О»,— сказал ему
Трубин.— Видишь, какие у них длинные фюзеляжи». Лицо Бабия
стало уменьшаться, но голос его был слышен: «Видимость одна четверть, две четверти, три четверти... Да это наши «Ла-5»! Они всегда
были похожи на японские «И-О».— «Ну уж не скажи».— «Ты опять
что-то напутал, Григорий Алексеич».— «Чего я напутал? Ничего.
Смотри, как они удирают. Японцы!.. А почему нет команды на
взлет?»
Бабия чуть видно, он ушел далеко-далеко. И вдруг его заслонил с грохотом проносящийся поезд. «Жена твоя там,— сказал Бабий. — Давай догоним поезд и скажем ей, чтобы возвращалась домой, нельзя же ссориться по пустякам».
«А и верно,— подумал Трубин,— почему бы не догнать поезд?
Вот только ноги... Что у меня с ногами? Не было бы боли в позвоночнике... Соня, Соня! Ты извини меня, что я не могу тебя догнать.
У меня опять этот позвоночник... Ты еще раз проезжай мимо, у меня пройдет боль и я догоню твой поезд и мы вместе пойдем домой,
обрадуем Фаину Ивановну и перестанем терзать друг друга».
К нему на кровать вдруг села Софья и склонилась над ним.
«Чудак ты какой»,— сказала она тихо. «Я так и знал, что ты никуда
не уезжала, просто попугала нас с матерью. Твою хитрость я сразу
раскусил».— Трубин засмеялся. «А чего ты смеешься?—спросила
Софья.— Думаешь, снова я буду переносить твою черствость, сухость, бездушие?»—Она поднялась и ее лицо стало уменьшаться.
«Подожди, мы еще не договорились с тобой»,— позвал ее Трубин и
г ужасом понял, что она его не слышит, потому что он и самого себя не слышал. «Подожди!— крикнул он что есть силы.— Соня! Соня-я!» Но слов по-прежнему не было слышно, и он заплакал от отчаянья и безысходности.
Трубин проснулся. Серый рассвет сочился между штор. «Который час? Утро еще не скоро». Болела голова. Было тихо, холодно
и неуютно. Надо бы выпить чего-нибудь. Аспирина хотя бы. Не хотелось спать. Не хотелось наступления утра.
«Да-а, теперь уж я, надо думать, Софью только во сне и буду
видеть,— сказал он.— Только во сне».
Он поискал глазами на потолке какой-нибудь предмет, или чтонибудь заметное, нашел трещину в штукатурке и стал смотреть, не
отрываясь, на эту трещину, чтобы утомить сознание и так заснуть.
«А с Флорой не надо,— слабо шевельнулась мысль в голове.—
Совсем ни к чему. Трещина... Откуда она? Раньше не видел. Не
надо»,— повторил он.
Трубин уснул и утром встал свежим и бодрым. Голова не болела. Да и настроение было совсем не то, что ночью. «Что-то я расчувствовался, распустил себя,— подумал он.— Ну, уехала, уехала...
Что же теперь? Караул кричать? В петлю лезть?»
С удивлением почувствовал он в себе какое-то непонятное для
него ощущение легкости и бездумности. «Что бы это значило? А
ведь все это из-за Софьи. Я теперь свободен, как птица. Что хочу,
то и делаю. Вечером могу пойти, куда душа пожелает. Никто не
спросит, где был. Никто не возразит. Поступай, как хочешь. Все тебе дозволено. Как птица...»
И ему захотелось повидать Флору.
Весь день он нет-нет да и вспоминал о ней. И все более укреплялся в желании встретиться с ней. А уже вечером дома, перед
уходом к ней, появилась стеснительность, чего не было утром. Как
это он придет к ней? Ни с того- ни с сего. Они же, по сути дела, чужие друг другу. Ну вчера выпивши... ладно. А сегодня? Да еще в
36
дом к ней. А там у нее отец, мать. Он то надевал пиджак, то снимал. Было очень зыбкое состояние. Неопределенность. То ему казалось, что надо пойти, что ничего особенного в этом нет. То он думал
о том, как же пойдет, что о нем подумают она и ее родители.
Глава четвертая
Т
Ч
рубин написал заявление. В тресте
недоумевали: «Из старших прорабов да в бригадиры?» Обещали в
какой-то мере освободить от снабжения — накладных, фактур, счетов. Пытались сыграть на самолюлюбии: «Вы же растущий инженер. А в бригаде что? Растеряете талант». Григорий стоял на своем. И вдруг его поддержал сам управляющий Озен Очирович Шайдарон. Сказал: «Это ему полезно. Всякому положены свои «огни, воды и медные трубы». Ну вот и пусть узнает, что это такое — «огни и воды».
И на парткоме разговор был. Судили, рядили: как быть? Фронтовик, член партии, волевой, умный руководитель. Почему просится
на понижение? Что это — прихоть? Обида кзкая-нибудь 7
Вызвали Трубина и спросили прямо: «Объясни, зачем идешь в
бригаду?» Ответил, что с самого института не может выбраться из
«строительных канцелярий», хотел бы «в самой рабочей гуще повариться».
Переглянулись члены парткома, промолчали. Про Софью спросили: почему уволилась, где она?
Трубин сказал. Неприятно говорить об этом, вроде как в . своей
слабости расписывался.
— Нравоучений читать не будем,— сказал секретарь партийного
комитета Иван Анисимович Каширихин. — Может, ее вина твою перетягивает. Да и поздно теперь. Что же... Иди в бригаду. Там с тебя
эту черствость — ту самую, что Софья не вынесла, собьют. Помни,
что беды хоть и мучат, да уму учат.
С Иваном Анисимовичем на стройке считались, хотя он и не был
профессиональным строителем. Невысокий, коренастый, всегда по
старой армейской привычке в сапогах, он как-то легко и быстро сходился с рабочими, техниками, мастерами, инженерами. Прост в обращении, прост и с виду... Над широким лбом — залысины, на виски
спадали редкие рыжеватые волосы. Над выпуклыми надбровьями —
спокойные карие глаза. Голос громкий и густой. Слышно его из приемной, когда Каширихин поднимается на крыльцо и здоровается со
встречными.
Поначалу он обратил на себя внимание тем, что в часы приема,
обозначенные на табличке у дверей его кабинета, был всегда на месте,
что бы ни случилось. Если выпадало ему заболеть, прием посетителей
вел кто-либо из членов парткома. Таблички о приеме посетителей были и у Шайдарона, и у главного инженера, и у председателя поетройкома, но только редко когда кто-либо из них придерживался указанных часов. Текучка заедала. То да се... На участок срочно надо, в райком партии вызывают, в райисполком, в обком союза... Мало ли куда.
И получалось чаще всего так: надо тебе говорить с управляющим—
лови, где хочешь, где сумеешь. В кабинете застанешь — твоя удача.
в коридоре — тоже ничего, прямо на улице — будь и этим доволен
А у Каширихина прием в понедельник, среду и пятницу. С шести
до восьми вечера. Это для обычного посетителя. Для массового. Ну,
37
если объявится какой-то срочный посетитель, конечно, табличка у
дверей для него не преграда. А вообще строго: читай, что на табличке, и соблюдай.
Отличало его от остальных руководителей стройки и то, что он
много внимания уделял жилью, торговле,, коммунальным делам. Может быть, Иван Анисимович с умыслом не спешил лезть в строительные проблемы самого комбината, которых было уйма. Зачем спешить в его положении? Лучше присмотреться, пообвыкнуть, поднатореть исподволь.
Шайдарон первое время снисходительно-выжидательно посматривал на секретаря парткома: потянет ли? Но шли дни, и управляющий нет-нет да и обнаружит где-нибудь неожиданно для себя «руку
Каширихина».
При постройке склада приема угля и его разгрузки возникла необходимость в сооружении подземной галереи. И тут выяснилось, что
прокладка галереи простым съемом грунта невозможна, потому что
основание головного устройства галереи углублялось на шесть метров и попадало в грунтовую воду. А на площадке комбината были
запрещены все работы по водоотливу и водопонижению, поскольку
грунтовая вода могла унести мелкие частицы земли и возможно была
бы просадка основания у ранее построенных зданий.
Проектный институт предложил применить опускной колодец. В
практике Шайдарона впервые встретилась посадка огромного прямоугольного колодца. Проект долго рассматривался. И было получено
заключение, что такой колодец в процессе посадки лопнет. Тогда в
проект внесли кое-что новое, но опять возникли трудности, а время
шло. Дальше на площадке уже не могли ждать. ТЭЦ должны были
вот-вот сдавать заказчику, а без угольного хозяйства это невозможно.
Тогда Каширихин собрал группу инженеров и поручил им подумать
над возведением галереи без колодца.
Инженеры, выполняя волю парткома, исследовали характеристику грунтов в основании будущего сооружения, понаблюдали с месяц
дебит воды и решили выполнить все работы зимой с помощью башенного крана и сжатого воздуха. Это позволило резко ускорить строительство склада.
«Рука Каширихина» обнаруживалась то там, то здесь.
Бывало так, что строители в тот или иной день не получали ни
газет, ни писем. Жалоб на почту у Шайдарона было предостаточно,
не раз он звонил начальнику почты, ругался с ним, тот обычно ссылался на то, что машина, занятая на перевозке почты, старая и потому ненадежная, что у них нет гаража и потому не найдешь опытного
шофера.
На почте побывал Каширихин и по договоренности с завгаром
треста «почтаря» поставили в теплый бокс и даже подремонтировали.
Дело-то пустяковое, а ни у кого как-то руки не доходили до почты,
а Каширихин тихо и незаметно все уладил и жалоб на почту теперь
давно не слыхать.
Вот так исподволь входил и вживался в будни стройки Иван Анисимович Каширихин.
В бригаду Трубин пошел вместе с Бабием. Тот все пошучивал:
— Эй, цыплята! Принимайте нового бригадира!
Его «ребятишши», сдержанно посмеиваясь, спрашивали Трубина:
— С начальством не ужились?
— Какое там! С начальством чего не ужиться! С вами вот хочу
ужиться.
38
Федька Сурай, худощавый, с длинными руками, недоверчиво
протянул:
— Да его к нам вроде как за контролера. Чтобы не подхалтурил
кто.
— Само собой, и за контролера,— согласился Григорий.
Из канализационной траншеи крикнули:
— Бригадир!
Федька отозвался за всех:
— У нас их двое. Тебе, Коля, которого?
Бабий шагнул к траншее:
— Чего там?
— Да вот стыки никак не сварим.
-Ну?
— Вот тебе и «ну». Труба худо лежит. Вода еще... Измучились.
Григорий подошел. Глянул. На дне траншеи возле трубы со сварочным агрегатом лежал на боку рыжеволосый. Надрывно урчал сак.
Все смотрели и ждали. Сварщику не видно стыка, проходящего по
.низу трубы. Просвет между металлом и грунтом слишком узок.
— Что делать,
бригадир?— спросил рыжеволосый.— Бьюсь,
бьюсь — ни черта!— Он вытер пот со лба, выругался.
Бабий искоса посмотрел на Трубина, словно спрашивал: «Приходилось вот так варить?» Тот покачал головой: «Нет».
Бабий спустился в траншею.
— Дай-ка держак. Смотри и запоминай. Называется «операционный шов». Это когда сверху вырезается окно.
Он взял агрегат, повел по трубе электродом. Чуточку вперед, еще
чуточку. Затем в сторону и назад. Незаметно продвигался электрод,
еле-еле. Руки у Бабия окаменели.
— Готово!— закричал Сурай.
Бабий повернулся к сварщику:
— Уразумел? Через это окно просунешь сак и заваришь нижние
стыки.
-Ну.
— То-то. А потом окно заваришь.
Бабий вылез из траншеи, сказал Григорию:
— Поглядим на бетонирование. Наряд там у нас. Как-никак, а
ведем монолитное перекрытие.
С монолитным перекрытием, знал Григорий, хлопот не оберешься. Бетонировать надо без каких-либо перерывов. «На завтра» не отложишь. Иначе плита выйдет непрочной.
Они пришли в цех, когда подъехала машина с бетоном. Рабочие
взялись за лопаты, но Григорий попросил подождать, а сам заговорил
•с шофером Павлом Патрахиным.
— Ну вот, так я и предполагал,— сказал он, оборачиваясь к бригаде.— Как же бетонировать? Нам всего одну машину дают. Вот
эта,—он показал рукой,—первая сегодня и она же последняя.А плиту
мы не можем портить. Как думаете, Георгий Николаич?
Трубин думал, что Бабий его поддержит. Но тот почему-то отвернулся, пробурчал — не разберешь чего.
Послышались голоса:
— Столько дней готовились!
— Так вовсе без бетона останемся!
— Опять загорать?
Григорий поднял арматурный прут, показал простыми схемами
чертежа прямо на земле, что плита, бетонированная по частям, не
выдержит проектной нагрузки.
Все молчали. Понимали, что новый бригадир прав.
— Ну так, как?—Трубин повернулся к Бабию.
— А я чего? Я ничего. Надо же ребятишшам что-то заробить,—
ответил тот.
Григорий сказал шоферу:
— Поезжай, браток. Поезжай.
— Я на тебя управу найду,— загорячился Патрахин. — Мне эти
ездки за так не по карману. Жаловаться буду.
Патрахиных на стройке было два брата. И оба шоферы. Старший — Павел, младший — Валерий. Были они удивительно схожи
между собой. Белые-пребелые волосы, носы с горбинкой, глаза голубые. Многие различали их только по росту. Старший повыше,
младший пониже.
Трубин слышал про них, что шоферы они приличные, машины
знают и грузовые, и легковые. Но сейчас этот Павел ему не понравился.
— Жалуйся, куда хочешь.
Шофер и, верно, пожаловался. Из треста приехал техник. Трубин
доказал ему, что бетонировать нельзя.
— Бетона дадим завтра сколько угодно,— пообещал техник.
— А сегодня? Простой, что ли?— раздались голоса.
Техник развел руками: у вас, мол, бригадир, с него и спрашивайте. Сел в машину и с тем отбыл.
Григорий обвел взглядом помещение:
— Кто кирпичи сбил?
— А это монтажники носили плиты, а пол не закреплен как следует. Ну и сбили несколько рядов.
— Монтажники из нашей бригады?
-Ну.
Бабий отвернулся. Опять, будто не его дело.
— Георгий Николаич, что предлагаете?
Тот посмотрел на Трубина недоумевающе: чего, ?,»ол, цепляешься
ко мне, когда ты сам бригадир?
— Так как же 9
— Я говорил: присыпьте погуще песком.
Трубин сказал твердо:
— Брак наш, нам и исправлять. Этим и займетесь. Вместо бетонирования.
У входа в цех из кирпичной пыли вылез, видать, недавно куст
белой полынки. Григорий смотрел: Федор Сурай повернулся, скрипнул сапогами. «Наступит или мимо пройдет?» Почему-то ждал напряженно. «Наступил-таки». Раздавленный куст чуть шэвелил стебельками на слабеющем у самой земли ветре.
Григорий сказал Бабию:
— Считай, что бригаду я принял.
Бабий глядел на облака, будто его там что-то привлекало. Трубин
пожал плечами, улыбнулся. Ведь и Георгия Николаевича понять
можно. Сваливал изо всех сил бригаду на плечи Трубина, а когда
до дела дошло, засвербило в душе, будто от родного тела отрывали...
«Черствость-то здесь собьют»,— вспомнил Трубин слова секретаря парткома.
В комнате у Флоры лампа в красном абажуре. От лампы растекался приглушенный красный свет. По стенам, потолку, по самой хозяйке блуждали не то зарницы, не то языки костров. Григорию казалось, что перед ним не Флора, а некто из сказки. У себя в комнате девушка выглядела красивее, чем на улице.
40
Он побывал у нее уже несколько раз. Торопливо проходил через
кухню, здоровался с ее родителями, которых так и не разглядел толком. Те поспешно ему отвечали и, как казалось Григорию, побаивались его или стеснялись. Он заходил в комнату Флоры и во всем доме устанавливалась тишина: родители или коротали время на кухне,
или уходили куда-то. Никто никогда не постучал в комнату, где властвовал красный абажур.
Григорию все время чудилось, что в доме за ним отовсюду следили. Кто следил? Зачем? Он смотрел на стол, скрытый скатертью
чуть ли не до пола, и ему представлялось, что стол наблюдал за ним
сквозь вырезы в скатерти. И еще думалось, что до прихода его сюда
стол был каким-то другим. Григорий осторожно присаживался на диван и в поскрипывании пружин и кожи опять-таки чувствовалось, что
диван, как и стол, тоже следил за ним и только того и ждал, когда
Григорий на него сядет.
В этом доме все люди, будто бы чего-то ждали от Григория. Даже
'< те, которых он не слышал и не видел, все равно, как ему казалось,
чего-то ждали от него. Григорий это чувствовал. Минуя кухню и поворачиваясь спиной к родителям Флоры, он ощущал их настороженные и любопытствующие взгляды.
Нынче он долго засиделся у нее. Она расспрашивала, почему он
ушел в бригаду и как чувствует себя на новом месте. Потом она
спросила о Софье. Никогда раньше не спрашивала, а вот спросила.
— Вам о ней сказала жена Вабия?
— Нет. У вас в тресте есть инженер...
— Кто?
— Чимита Догдомэ. Мы когда-то учились с ней. Она недавно в
тресте и вы ее не видели. Сама она случайно узнала. Не го ей кто-то
на вокзале сказал, не то в тресте. Вы извините, Гриша, я не хотела
напоминать вам...
— Да ну, что вы! То, что эта Догдомэ говорила вам, все это так
и есть. Раньше или позже следовало бы все равно сказать вам.
— Я, оказывается, знала вашу жену,— сказала Флора. — Мы не
были знакомы, а так. . Встречались у косметички. Эта косметичка говорила о Софье что-то неуважительное, а что — я теперь уже не
помню.
Григорию не понравилось, что Флора вот так осуждающе заговорила о Софье.
— Поговорим, пожалуй, о чем-либо ином, более подходящем,—
произнесла Флора и улыбнулась уголками губ, давая знать, что ей
понятно состояние Григория и она вполне сочувствует ему. — Спросите меня... Что7 бы вы хотели обо мне знать?
— О вас А что, и спрошу. Ну вот хотя бы... Вы любили когонибудь?
Она рассмеялась коротко и, не задумываясь, ответила:
— Ну нет, такого
со мной не случалось.
— Отчего же 7
— Надо полагать, не нашлось кого полюбить.
— Разве у медиков это трудно?
— У медиков?— переспросила она и снова рассмеялась. — Вы не
знаете их — это просто жуть. Одна моя подруга дружила с таким...
эскулапом. Ну, уж смехота... Он объяснился ей в своих чувствах, обнял ее... А потом вдруг привычным профессиональным
движением
7
пальцев стал ощупывать ее горло. «Ты что это »—спросила она испуганно. «Проверяю щитовидку»,— ответил он вполне деловито.
— Скорее всего, он пошутил.
Флора не смеялась и как-то странно смотрела на Григория.
»
41
«Поздно. Третий час. Надо уходить»,— решил он и поднялся. Она
не удерживала его, и они прошли через кухню, никого не встретив.
Сероватый, неяркий свет пробивался сквозь листья, робко тесня
ночные сумерки. Стояла вязкая и чуткая тишина. Даже боязно шагать по мостовой и стучать каблуками.
Флора поправляла волосы. Он протянул руку. Она обернулась и
зажмурилась. Все ее лицо было в мелких рыжих пятнышках, и оно
уже не казалось красивым, как прежде. «Так вот почему у нее в
комнате красный свет!»
Несколько дней Григорий не мог освободиться от того чувства,
которое он испытал тогда на крыльце у Флоры. Он хотел понять себя.
Ну, пускай у нее веснушки. Ну, что в этом такого? Она вовсе не дурная. Мало ли что ему показалось.
Вот так он переубеждал себя. И немного переубедил.
Глава пятая
Ф
^лора познакомила Трубина с Чи'митой Догдомэ. Чимита после института работала в Хабаровском
крае, где строила элеваторы. Сюда
приехала по вызову Шайдарона.
У Чимиты продолговатое светлое лицо. Волосы короткие. Как у
мальчишки. Жесткие, с легкой курчавинкой. Глаза серо-зеленые. Побурятски узкие. Глаза все время живут: удивляются, смеются, радуются, недоумевают. Иногда глаза вроде как зеленеют и тогда в лице
у Чимиты проявляется что-то властное. Твердые линии рта и подбородка как бы подчеркивают эту властность.
Флора ушла в магазин, и они сидели вдвоем в ее комнате. Горела лампа в красном абажуре, и Чимита, как представлялось Григорию, была похожа на упрямого и неуравновешенного мальчишку.
Они играли в шахматы. Трубин легко шел к победе и время от
времени спрашивал ее:
— Заявление о капитуляции поступит устно или письменно?
Она быстро вскидывала голову и по лицу ее скользила тень от
руки, поднятой над доской. Вот-вот сметет фигуры.
— Никогда! Ни письменно, ни устно.
У них все было на колкостях.
— Может быть, выбросите белый платок? У вас, случаем, косынка не белая? Можно и косынку...
— Никогда! Слышите?
Она не доиграла, смешала фигуры, сказав, что не может сосредоточиться, когда «острят под руку».
— Вам не приходилось ходить в начальстве?— спросил ее Трубин
— Нет. А что?
— Вам бы это подошло.
— Почему?
— Вы здорово подражаете Шайдарону. У вас столько власти на
лице...
— Не острите. Вам это не идет.
— А что мне идет?
— Быть самим собой.
Приход Флоры ничего не изменил. Трубин и Догдомэ продолжали обмениваться колкостями.
42
«Он переживает уход жены,— думала Чимита. — И очень верно
про него говорили, что он сух и довольно упрям».
«Да-а,— размышлял Григорий. — Эта себе цену знает. Что ни
скажи, все не так, все не нравится. Но посмотрим, как ты на стройке
•себя покажешь».
«Он все же чем-то любопытен,— рассуждала Чимита.—Чем? Не
-знаю. Почему-то хочется встретиться с его бывшей женой и узнать у
нее все подробности о нем. Вечно мне блажь какая-то в голову лезет».
«Как обманчива внешность,— думал Трубин. — Вот эта Догдомэ.
В ней что-то есть. Вот хотя бы властность в глазах, чего не часто
встретишь у таких молодых. А ведь в сущности... Это просто зазнавшаяся... Ну. считает, что ей все можно. Первый раз играет со мной в
шахматы. Взяла и смешала фигуры».
Флора смеялась:
— Ну что вы такие мрачные?- Прямо буки. Чимитка, съешь
.хоть пирожное!
— Я не люблю, Флора, сладкое.
— А я в магазин из-за тебя ходила.
Вмешался Трубин:
— Я готов взять ее долю.
— Нет уж,— сказала Догдомэ.
Флора совсем развеселилась. Завела патефон. Пела песни.
Стройке пока рано подниматься ввысь. Траншеями и котлованами она уходила под землю, прячась в трубах и кабелях.
Но вот обозначена площадка главного корпуса. Здесь будут картонная фабрика с уникальными машинами, целлюлозный завод, цех
эжига извести, цех каустизации, цех готовой продукции...
Рабочие торопятся закончить разметку площадки. Техники определяют, где и как ляжет свайная сетка. Там, где стоять свае, временно забивают металлические штыри.
Дело небывалое для сибиряков. Только на площадке главного
эрпуса предстоит забить около двадцати тысяч свай. Их забивают
яз-за высокой сейсмичности.
Забивка свай для стройки — это нынче самое-самое... У всех на
сваи и только сваи. Пока не забьют двадцать тысяч свай, нельзя
вести бетонирование плиты ростверка, нельзя ставить фундаменты...
Ничего нельзя.
И никто из специалистов Шайдарона с такой массированной забивкой свай не встречался. Ну приходилось
где-то, когда-то поста1
вить несколько свай. А это что? Тысячи Одна к другой... Целый лес
железобетонных свай.
Поднимать на сваи всех, кто свободен, кто что-то умеет, кто сможет научиться этому делу в сжатые до предела сроки — вот какие
мысли сидели в мозгу Шайдарона. С этим он и пришел в партийный
комитет к Ивану Анисимовичу Каширихину. Угольный склад, почта,
политучеба, агитаторы — это хорошо, Иван Анисимович. А теперь давай будем... забивать сваи.
;
А Каширихин до этого ни одной сваи в глаза не видел. Как говорится, с чем их едят, не знал. Ему объяснили, где их делают и из чего. Про землетрясение он понял сразу — что к чему. И запомнил вес
.свай и их длину. Еще запомнил, что возят сваи на трайлерах, ведомых тягачами.
Каширихин собрал партийный комитет. На повестке вопрос «О
забивке свай». Слово получил Озен Очирович. Из его сообщения чле43
ны парткома узнали, что трест располагает пятью копрами, но два
копра не укомплектованы экипажами и поэтому требуются два машиниста с помощниками и закоперщиками. Самый опытный машинист копра — это дядя Костя.
— Который этот дядя Костя?— спросил бригадир монтажников
Чимитдоржиев.— Уж не Рябогин ли?
— Ну да. Константин Касьянович Рябогин.
— Да он же нам те сваи пропьет!
За столом — смешок. Прокатился смешок и снова тихо.
— Этого дядю Костю беру на себя,— сказал Кзширихин и обвел
членов парткома спокойными, глубоко посаженными глазами.— Не
возражаете?
Кто же будет возражать? Дядя Костя, он такой, с ним беседовать — одно удовольствие, высоко о себе не возомнит, во всем согласится, любое обещание даст. Но только после беседы дядя Костя может совершенно неожиданно даже для себя напиться «до положения
риз». И помощник у него Ванюшка Цыкин. До сорока лет дожил, а
все — Ванюшка. А закоперщиком у Константина Кзсьяныча паренек
безответный из гэпэтэу.
— Завод железобетонных изделий может давать нам в сутки до
двадцати пяти свай,— продолжал Шайдарон.
-— А какова сменная норма у дяди Кости?-— спросил шутливо
Цыбен Чимитдоржиев.
— Не густо. Четыре сваи, ну... пять.
— Эдак мы провозимся до зимы.
— Партком ставит задачу — выпускать за сутки сто свай. Трудно.
Очень трудно. Учтите, что в заводских условиях пойдут лишь семиметровые сваи, а опытное бурение грунта показало, что нужны и десятиметровые сваи, кое-где даже тринадцатиметровые.
Каширихин поднял голову от бумаг:
— Где же выход?
— Выход есть. Будем делать нестандартные сваи на временных
полигонах. Нужны плотники, бетонщики, вибраторщики, шофера...
Людей снять отовсюду, где только можно. Я уже дал задание. Желательно, чтобы коммунисты...
— Я позвоню всем секретарям партийных организаций стройучастков,— вставил Каширихин. — Отберем лучших, самых преданных стройке.
— Преданных?— переспросил кто-то.
— Да, именно. Преданных. Помните случай с Клочко?
— Да он же у нас лучшим бригадиром был. Как не помнить.
Бригада > него какая замечательная 1 А почему он уволился?
Каширихин усмехнулся:
— Перехвалили. Обычная кстория. Возымел о себе мнение, что
ему море по колено. Закуражилсл: поеду на юг, там климат не тот,
там фрукты... И уехал. Бросил бригаду. А потом звать стал своих
дружков: жмите, дескать, на юг — к морю и пальмам. Пятерых сманил... Те сдуру-то снялись и поехали, но Клочко уже на юге не застали. Потолкались там, поштукатурили куроротные павильончики, плюнули и разбрелись кто куда. Трое к нам вернулись вскоре, а остальные так и запропали. Вроде бы и конец той истории, но надо же было
случиться — вернулся к нам и сам Клочко. Ну из его бывшей бригады узнали, что приехал... Утром звонок из отдела кадров. Так и так,
мол, товарищ Кашкрихин, недоразумение получается. «Какое недоразумение?»— спрашиваю. «Да человека одного к нам не пропускают. Вы бы,— говорят,— пришли и на месте разобрались». Пришел я
туда. А у крыльца рабочие — человек десять. И с ними один такой
44
представительный, в костюме и при велюровой шляпе. Спрашиваю:
«В чем дело, товарищи? На вас жалуется отдел кадров». А тот человек в шляпе пожимает плечами и руками эдак разводит. Сам злой,
раскраснелся. Я и говорю: «Вы, гражданин, пройдите на второй
этаж, третья комната слева с вывеской «партком», там меня обожди|.те. А вы, товарищи, если не возражаете, давайте присядем тут».
Ну тот ушел, а мы присели и потолковали. Я на них нажимаю:
7
• «Вы что же тут, ребята, пикеты выставляете у входа в контору При• шли бы к управляющему, в постройком, ко мне или к начальнику
&отдела кадров. А вы шумите и народ привлекаете к себе. Разве это
^дело?» Оки отвечают, что, конечно, не дело толкать плечом гражда1нина Клочко, но пока будешь искать управляющего или еще кого,
№лочко запросто могут оформить в отделе кадоов. А мы с ним не то,
гчто работать, одним воздухом дышать не желаем. Я их успокаиваю:
1«Да бросьте вы, каким воздухом! Мы его проведем через все кабине1ты, повоспитываем маленько, да определим куда-нибудь подальше
рот вас». —«Э-э,— говорят,— так не годится. Нам обидно будет».— «Поюему обидно?»— «А как же! Он нас предал и поодал. Можно сказать,
•наплевал на нас. А теперь, как ни в чем не бывало, заявился. Он за|чём семейных монтажников с пути сбил7 Двое и по сей день неведомо
Ёгде околачиваются. Выходит, что же? Предал и продал... И приехал.
И с нами же тут... А где его климат, а где его пальмы? Мы тут мерз|ли в воде, в грязи, на ветру... А он? Приехал... Хорош субъект! «Или
Клочко,— говорят,— или мы. Примете Клочко, уйдем всей бригадой.
•Такую стройку ставить надо чистыми руками... Пусть идет в разно, рабочие^.— «Да у чего среднетехническое образование». Молчат. «По
Ёзакону, по форме, что ли, мы не имеем оснований отказать ему в
гприеме на работу».— «Вот так,— говорят,— как хотите. Или он, или
мы».
Ну, ч го скажешь? Разве это не преданные стройке люли? А?—
ЕКаширихин оглядел собравшихся.— Поспорили мы маленько с ОзеЙ-ном Очировичем из-за этого Клочко.
— А-а, черт с ним!— отмахнулся управляющий. — Жалко, что
бригадир был когда-то расторопный, исполнительный. Такого не вдруг
I найдешь. И вот — на тебе...
— А вы-то, Иван Анисимович, разговаривали с Клочко?—поин$ тересовался Чимитдоржиев.
— Да нет. Поднялся я к себе, а он, оказывается, не заходя в пар:' тком. задними дверями да во двор...
Все засмеялись.
Управляющий раскрыл блокнот, полистал страницы.
— Трайлеров, боюсь, не хватит. Надо продумать, как возить сваи
на автомашинах.
— Неужели «КРАЗ» не потянет?— удивился Каширихин.
— Потянуть-то потянет... Но в пути могут быть поломки свай От
тряски. Там такие концы висеть будут... — Шайдарон развел руки, показывая, какие концы вылезут из кузова и где ожидаются трещины
в железобетоне.
Заседание партийного комитета затянулось. Пока обсуждали, что
надо делать в первую очередь для быстрой и бесперебойной забивки
свай, пока размышляли о нынешних и будущих трудностях, повсюду
уже в домах зажглись огни.
Бетонирование перекрытия в древесно-подготовительном цехе
бригада Трубина заканчивала. Бетон все подвозили, и люди не вышли
Из цеха, пока не уложили последние кубометры. Только закончили—
подошел бульдозер. Мастер Карымов закричал:
45
— Уходите отсюда! Освобождайте территорию! Планировку срочно надо делать.
А вдоль стены цеха — леса и еще эстакада. Григорий попросил
мастера, чтобы обождали: нужно время для уборки лесов и эстакады.
Убирать следует аккуратно: доски потом пригодятся.
— Некогда!—опять закричал Карымов.—Что там доски?!—обернулся к бульдозеристу: — Давай! Пошел, милок! Наяривай!
Взревел мотор, никто и глазом моргнуть не успел, как заскрипели леса и рухнули стойки. Всплеснулось облако серой пыли.
— Эт-ю... как понимать?—Григорий хватал мастера за рукав,
тот пятился, норовил проскочить вслед за бульдозером. — К-кому
нужна т-такая р-работа!
— Но-но!— огрызался Карымов. — Рукам воли не давай. А то
смотри-и!..
В серой пыли измятое лицо мастера еле видно. И вдруг оно совсем исчезло. А в ушах короткий вскрик:
— А-а-а!
Григорий шагнул, вглядываясь. Маленький, круглобокий Карымов поднимался с земли, держась за голову. Поднимался он легко и
плавно, как ванька-встанька. А, поднявшись, покачался и застегнул
пуговицы на тужурке.
— Ответишь!— прохрипел он.— Так и знай!
Повернулся и пошел селезнем, смешно прыгая через доски и
кирпичи.
Григорий вернулся к рабочим.
— Чего это с ним? Не пойму.
Все отводили глаза. Будто ничего и не было. Только Вылков
Колька, тот, который когда-то лишился зуба за прожженный карман,
сказал:
— Тач это же он споткнулся. Шишку заробил.
Наутро, проходя мимо сбитых бульдозером лесов, Григорий заметил, что ни одной поломанной доски здесь уже не осталось. Спросил у бригады:
— Кто взял?
К опять у всех глаза — по сторонам.
— Кто взял доски?
— А мы в сторожа не нанимались. Пускай милиция ищет.
Это сказал Ленчик. Из бывших воров. Глаза у Ленчика в прищуре, а в глазах — презрение. И в гибкой его фигуре, и в том, как он
держал кончиками пальцев папиросу — тоже презрение.
— Ну, что же... раз «мы в сторожа не нанимались...»—тихо проговорил Трубин. — Я заплачу... за доски.
— Так без ничего останешься, бригадир,— сказал Ленчик.— Кусать, что будешь?
— Я-то найду что. А вот как бы кое-кому хуже не вышло.
— На меня целишь?—Ленчик смял папиросу.
— На тебя? Много ты в досках понимаешь...
Кто-то хохотнул и сразу все облегченно рассмеялись.
Когда Григорий уходил, слышал, как Федька Сурай говорил
вполголоса:
— И чего он взъелся? Были бы доски, а то так... топливо.
Стройка подбиралась к сосновому лесу, вгрызалась в сухую песчаную землю—и почерневшие, покосившиеся домишки, повизгивая и
скрежеща проржавевшим железом, разбирались на доски и бревна,
распространяя далеко окрест не умерший еще жилой дымный дух
оголенных печей и смолистые запахи прогретого солнцем дерева.
46
По затравевшим улочкам сновали тупорылые бульдозеры, ковыряли древние курганы. Ковши экскаваторов, гремя цепями, бухались о землю и выкусывали этакие рвищи, что не подходи...
Для бригадной канцелярии Григорий сохранил хату-развалюху,
поставил туда стол, две табуретки. Теперь он сам замерял кубатуру, выписывал наряды, получал материал. Облегчение от этого
вышло мастеру Карымову. Тому бы благодарить бригадира, а он
обиделся: порешил, что ему не доверяют. Вот и налетел, как бешеный, с бульдозером...
Григорий ждал, что его вызовет Шайдарон. Но Шайдарон не
вызывал. Карымов не пожаловался. Не захотел. А может, просто
не успел. Скорее — не успел.
У Карымова каждый шаг рассчитан наперед, каждое слово произносится обдуманно, всякая строка на бумаге жевана-пережевана.
А если что напишет, по его мнению, лишнего, то зачеркивать не будет — вырежет бритвой. В его бумагах почти на каждой странице
там и тут по строчкам аккуратные продольные прорези. Чего он
там вырезал, про то никто никогда не мог узнать.
Трубин присел за стол, разложил наряды. Тягостно как-то. И
знал из-за кого. Из-за Софьи. Вот уже месяцы прошли, как уехала,
а все тягостно. Человек уходит от тебя потому, что встречает другого, более нужного ему, более достойного, чем ты, и любимее, чем
ты. Как это трудно — знать, что есть кто-то лучше тебя для того
человека, которому ты еще недавно был самым лучшим. Это — как
падение с обрыва. Или нет. Это — сознание собственной неполноценности, полный упадок. 'Историки пишут: «Государство пришло в
упадок». Вот и у него вроде так...
В тяжелой голове — тихие, будто бы женские голоса. Мешают
думать. Что за голоса? И вдруг отчетливо: «Можно 7 »
Повернулся. Слова уже прямо в лицо, в тяжелую голову:
— Можно к вам?
Девчонка с узелком в руке. Тоненькая. Поверх ситцевого платья пиджак с чужого плеча. Глаза пугливые, вытаращенные. Как
птенец-галчонок. И зовут, наверное, Галка.
— Вам кого?
— Мне бы начальника.
— Гм... Начальника?— Трубин подумал: «Для такой, что ни
поп, тот и батька».— Ну, я начальник. Чего тебе?
— Работницы вам нужны?
— А что ты умеешь?
— Н-не знаю.— Сказала тихо и опустила голову.
— Работала где-нибудь?
— По хозяйству.
— Документы с собой?
— Нету документов.— Голова еще ниже.
— Как это «нету»? Сколько тебе лет?
— Семнадцать. Паспорт отчим пожег. Это я верно говорю. Он
не пускал меня в город. А я решилась.
г , Трубин подошел к ней, усадил на табуретку.
— Что у тебя за отчим? Мать есть? Рассказывай. Да ты успокойся. Почему у тебя паспорт сожгли?
Девчонка вытерла слезы, всхлипнула. Григорий погладил ее по
волосам, как ребенка. Приподнял голову. Увидел глаза, полные слез.
— Ну-ну. Ничего. Рассказывай.
— С чего и начинать — не придумаю..
— Выпей воды.
Она покачала головой.
47
— Я сейчас... Я про все по порядку скажу. Ну вот. Черемуха у
нас росла под окном. Из-за черемухи все и началось. Мать как-то
в подполье полезла за капустой и увидела там корни черемухи.
— Ты откуда сама-то?
— Из Онохоя.
— Ну, а дальше что было?
— Дальше-то? От тех корней в подполье росточки поднялись.
А у нас в избе молельня. Верующие и взялись за мать: «Выруби
черемуху! Нехорошо, когда в избе дерево. Разгневается домовой».
Мать заколебалась, а отчим — за топор ухватился. Я ему говорю:
«Не тронь дерево!» Ну, у нас и пошло... «Если срубишь,— говорю,—
уйду из дома». А он свое: «Никуда не уйдешь, помолвлена ты». Я
ему прямо сказала: «Не нужен мне ваш жених, не люблю его». —
<-От бога,— говорит,— не отрекайся, сам бог тебе жениха указал».
Мать на его стороне. Ночью отчим срубил черемуху, склал из ее веток костер и сжег, а пепел по ветру развеял. И в подполье росточки загубил. После того надумала я уходить, а он вызнал про это,
<-хъатил у меня паспорт и тоже... пожег.
— А ты все-таки ушла?
•— Ушла.
Девчонка, положив узелок на пол, ломала пальцы. Хрустнет
оустав, она за другой палец берется.
— Зовут-то тебя как?
— Шигаева я. Рая Шигаева.
«Ошибся. Думал: Галка»,— вспомнил Трубин.
— Жить, конечно, негде?
— Ага, негде.
— Что же мне с тобой делать?— Григорий прикинул' «Фонд
зарплаты может не выдержать. Ну да ничего. Как-нибудь». Отказать ей язык не поворачивался.— Возьмем ученицей. На штукатура
хочешь?
— Хочу.
— Завтра поедем в милицию. Расскажешь, как было. Получишь
паспорт — пропишут в общежитие. А ночевать... С кем-нибудь из
из наших договоримся. Мир не без добрых людей. Деньги-то у тебя
есть? Поди, нет?
— А? Чего?
— Утри нос, а то у нас в бригаде увидят, год будут помнить.
Иди за мной.
Сдал Трубин девчонку бригаде, вернулся в свою развалюху,
принялся за наряды, а тут пришла Чимита Догдомэ.
— Здравствуйте!
— Привет садовнику!
Чимита неудоменно пожала плечами:
— Почему «садовнику»?
— Да как сказать... Неужели не слыхали? Все, кто ведает техникой безопасности,— садовники.
— Что-то непонятно. Вы хоть бы сесть позволили.
— Садитесь, само собой. Извините. Не привык к этой хате. Забываю постоянно, где и какая мебель.
Чимита села на единственную свободную табуретку. Открыла
портфель. Доставая бумаги, заметила:
— А вы так и не объяснили.
— А-а... Про садовников? Это, значит, такая должность у вас —
яблоки в саду трясти.
— Ну, знаете?!
— Да что вы!— сказал Трубин, увидев, что она покраснела.—
48
Я не собирался вас обидеть. Ей-богу. Да вы не обижайтесь! К вам
эти «садовники» не относятся.
— Можно бы повежливей.
— Можно бы, конечно.
— Не представляю, как с вами и разговаривать.— Она вздохнула.— Все настроение испортили.
Сегодня она была похожа на симпатичного мальчишку, которого приучили быть вежливым со старшими. Ничего властного и злого не появлялось ни в глазах, ни в складках рта.
Трубин улыбнулся:
— Скоро вы мне настроение испортите и будем квиты. Давайте,
в; что у вас? Акты?
— Почему акты? Вот у меня список вашей бригады. Не все
I прошли инструктаж по технике безопасности. Протасов, ГундоркаРев, Сурай, Копылков... Вот эти... И новенькие, наверное, есть?
— Есть и новенькие.
— А вы, Трубин, не улыбайтесь. В Хабаровске был один такой
веселый бригадир. Его просили закрывать на ночь котлован, он не
I захотел возиться. А как раз дождь прошел. Ночью туда свалился
| человек и захлебнулся. Судили того бригадира.
— Бывает.
— Вот именно. «Бывает»... А как у вас с рационализацией?
— Это что? Довесок к технике безопасности?
Догдомэ улыбнулась:
— Нагрузили. Не хотят, чтобы я превратилась в того самого
садовника».
— С рационализацией и изобретательством пока не ясно. Я же
бригаде без году неделя. Надо подумать, посмотреть.
— Я побуду у вас в бригаде дня два. Не возражаете?
— Что вы! Пожалуйста.
Догдомэ смотрела на бригадира, не хотелось почему-то отводить
гляда. Она чувствовала, что давно пора опустить глаза или отрнуться к окну. Но истекли еще мгновения, прежде чем она, краснея и досадуя на себя, отвела взгляд.
Ей показалось, что он заметил все это и усмехнулся про себя.
Она поспешно встала и вышла.
В тресте провожали на пенсию старейших сотрудников. Чимита
невыразимо скучала. Все торжество просидела с незнакомыми.
Флора оказалась за соседним столом с Трубиным. Чимита обиделась,
что единственная знакомая оставила ее.
Поднимали тост. Кто-то сказал: «Мы тут все люди свои. Родство профессии нас обязывает». Трубин поднялся и перебил не то
Со зла, не то в шутку: «Ну так и выпьем за родство, за семейственность». Все засмеялись. «Это он со зла, все еще переживает уход
жены»,— подумала Чимита.
Она невольно нет-нет да и посматривала на Трубина. Соседка
доверительно спросила: «Что — нравится? Это Григорий Алексеич
Трубин. Я училась с ним в институте, на одном факультете. Мы его
авали тенью отца Гамлета».— «Почему?»— «Профессор очень ценил
его».
Чимита перестала смотреть на Трубина. Но она нисколько не
забыла о нем и думала: «Почему от него ушла жена? Что он такого ей сделал?»
Трубин был сегодня для Чимиты какой-то таинственный и непонятный. Она готова была сыграть с ним в шахматы и снова ус-
I
«Байкал» № 1.
49
лышать от него слова о капитуляции. Пусть. Она бы с удовольствием даже разругалась с ним. Лишь бы видеть его близко и ощущать, как он раздражается от ее колкостей.
Он весь казался ей запретным, недоступным. «У него ничего не
узнаешь, от него ничего не дождешься. Ну и пусть. Какое мне дело? Выбросить из головы и все. Пусть им занимается Флора. А кто
она ему? Очередное увлечение Трубина? Почему этот Трубин ни
разу не взглянул на меня? Он, что — забыл, как мы играли в шахматы?»
Ей пришло в голову пойти устраиваться на завод железобетонных изделий. Удобно ли? Ах... Ну и что? «Меня здесь никто не знает, но я все же специалист. Как-никак, а специалист. Я хоть не буду видеть этого Трубина. Странно... А ему, что до этого? Ах, все
равно, пойду на завод».
Она уехала, так и не дождавшись, что Флора подойдет к ней.
Дома Чимита записала в дневнике:
«К запретному стремимся больше, чем к заветному. К неизвестному стремимся так же, как к запретному». Появилась запись и о
Трубине:
«Он для меня неизвестен. Но он, безусловно, незаурядный человек, и я сказала себе, что жизнь столкнет меня с ним, и я хочу
этого».
Об уходе на завод она ничего не написала. От того первоначального желания остались у нее самые жалкие крохи...
Белобрысый парнишка закоперщик Васька, как очумелый, носится возле копра. Подбежит к направляющей стреле, если дядя
Костя, высунув голову из кабины, крикнет:
— Залог!
Васька тогда смотрит на шкалу, закрепленную на стреле. Залог— значит сделано десять ударов. Свая после десяти ударов пятитонной бабы ушла в грунт на пять сантиметров.
— Еще залог!— орет Васька и, хотя у него на голове металлическая каска, проворно удирает за кабину копра или — реже — прячется за тело направляющей стрелы. Возле стрелы страшно. Над
головой натужно ухает баба, бьет по оголовнику, прикрывающему
верх сваи.
— У-у-х!
Под ногами вздрагивает и трясется земля, в коленях у Васьки
дрожь. Рядом просвистел бетонный нашлепок — от удара бабы свая
содрогнулась и кусочек бетона отлетел прочь. Этих нашлепков
надо остерегаться. Особенно их много, когда дядя Костя бьет первый
залог или когдс< он выпивши.
Еще залог, еще... Васька смотрит, прищурившись, протирает
глаза и радостно кричит машинисту:
— Готова!
Это значит, что свая дала проектный отказ. В последнем залоге
она вошла в грунт менее, чем на три сантиметра.
Васька машет руками крановщице Груше. Опускается якорь
крана, на него цепляют сваю, и стрела крана медленно и величественно несет ее туда, где дядя Костя подготовил уже чалочный трос,
чтобы поднять сваю, поставить ее точно в отметку, оставленную
металлическим штырем. Свая поставлена, на нее опускают оголовник. Сейчас баба полетит вниз, и дрогнет далеко окрест земля и
задребезжат стекла в домах. Со свистом во все стороны полетят
бетонные нашлепки — берегись!
Залог, еще залог...
50
У дяди Кости настроение, по его собственному выражениях «как
у птицы». В груди приятная легкость и знакомое возбуждение от
предчувствия чего-то хорошего. Он, конечно, знает, что все это означает. У него в кармане деньги, полученные за обучение экипажей, и он может распорядиться ими, как того пожелает душа, благо
жене ничего про этот приработок не ведомо.
После шестой сваи дядя Костя вылезает из кабины, потирая
ладони и радостно оглядываясь. Норма перекрыта на одну сваю.
Смене конец. Пора и шабашить.
Из-за шума работающих неподалеку копров разговаривать с
Ванюшкой Цыкиным бесполезно, и дядя Костя предается размышлениям. За всю жизнь ему еще не выпадало на долю такого внимания всяких начальников. В каких только кабинетах не побывал он
в эти дни: и у Шайдарона, и в парткоме, и в постройкоме. и у
главного механика, и у диспетчера! Всем нужен дядя Костя, все
интересуются его самочувствием, расспрашивают о копре и просят
постараться на забивке свай, показать пример всем экипажам копров, и, если понадобится, то откалымить две смены или полторы.
Сейчас он стоял возле своей заглохшей машины и силился
вспомнить, чего он наобещал, на что дал согласие и кому дал.
От пристального и всеобщего внимания всевозможных начальников всю смену дядя Костя немного тревожился: не случилось бы
чего... И хотя деньги уже в кармане, и настроение в общем-то, как
у птицы, и знакомое зудящее предчувствие... Как пойдут они
с Ванюшкой куда-нибудь и закажут сначала по паре пива...
И когда он приметил краем глаза подходившего к нему Ивана
Анисимовича Каширихина, сердце у дяди Кости заколотилось и оборвалось куда-то вниз...
Спустя сколько-то минут дядя Костя, сутулясь, вышагивал рядом с секретарем парткома, то и дело оглядываясь, не видать ли
Цыкина, его верного помощника. Но Цыкина нигде не было видно.
И дядя Костя окончательно понял, что томился и тревожился он
не случайно, что то, чего он не ясно и подсознательно опасался, все
это свершилось вместе с приходом Каширихина.
— А могли бы вы, Константин Касьяныч, за смену забивать
больше шести свай?— спрашивал Каширихин.
— Это смотря по общей картине... как нарисуется,— неопределенно отвечал дядя Костя, смущаясь мало знакомого ему человека
и думая о том, как бы ненароком не вплести в разговор непечатное
слово, обходиться без которого он не имел привычки.
— Ну, а все-таки?
— Это как грунт укажет,— продолжал стоять на своей неопределенности дядя Костя.
— Грунт вы уже знаете. На всей площадке главного корпуса
залегание твердых пород ровное. Может, вам что-нибудь мешает?
— Да нет вроде бы... Свай маловато завозят. Нынче завезли
двадцать свай всего. Я шесть вбил. Остается четырнадцать... на
четыре машины. Это не работа. Скоро драться будем за каждую
сваю. Куда годится? Елки-палки.
— У меня к вам просьба, Константин Касьяныч.— Каширихин
остановился, видимо, не собираясь дальше провожать машиниста
копра.— Такая просьба... Сваи вот-вот пойдут. Сваями мы вас завалим скоро. И к этому нам с вами надо быть готовым. Не смогли бы
вы, вернувшись сейчас домой, продумать всю работу членов вашего экипажа от начала и до конца смены. Должны же быть какие-то
неувязки, какой-то недогляд... Чего-то недоучли, про что-то забыли,
на что-то не обращали внимания. Вы меня понимаете?
4»
51
Дядя Костя мотнул чубом, хотя он понимал весьма смутно изза того, что ему никто ничего подобного никогда не говорил и смысл
слов Каширихина стал доходить до него уже после того, как он дал
знать, что ему все ясно, что ничего добавлять не нужно.
— Ну вот и ладненько, дорогой мой товарищ,—проговорил на
прощанье Каширихин, крепко пожимая руку дяде Косте.— Так вы
обмозгуйте все, что надо, и являйтесь ко мне со всем тем, что придет вам в голову. Надо бы поднять производительность копра до
двадцати свай в смену. Ох, как надо!
— Это с шести-то до двадцати?— оторопело спросил дядя Костя.
— Поймите, голубчик, дорогой мой товарищ! Надо! На-до!
На лавочке под топольком сидели Ванюшка Цыкин и крановщица Груша, женщина с крупным, по-русски красивым лицом, с
мускулатурой, которой Цыкин завидовал. Они явно поджидали дядю Костю, потому как при его появлении из-за угла оба заулыбались, подталкивая друг друга плечами.
— Ты никак трезвехонек, дядя Костя?— спросила Груша, с недоверием разглядывая
строгого и насупленного машиниста.— Не
жена ли помешала?
— Она во вторую смену вышла,— буркнул дядя Костя.
Цыкин подмигнул дяде Косте, поскреб пальцем в затылке и
выдохнул:
— Эх, кабы, кабы!
— Недурно бы1—подхватила, смеясь, Груша.
— Давай сбегаю!— решительно отрезал Ванюшка Цыкин и поднялся с лавочки.
Дяде Косте, можно сказать, с незапамятных времен была известна эта незамысловатая игра слов перед любой выпивкой. И Цыкин ожидал, что машинист сейчас многозначительно крякнет, потрогает усы и скажет вроде того, что: «Дуй — не стой!» Но дядя
Костя даже не посмотрел на своего помощника.
— Садись. Дело есть,— сказал он, глядя поверх тополька.—
Срочное, ядрена вошь.
— Не иначе, как сегодня у бога племянник родился,— проговорила Груша.
Дядя Костя присел между ними, достал сигарету и закурил.
— Пить нынче заказано,— глухо сказал он.— Видали, как после
смены шел со мной Каширихин?
— Эка невидаль!— усмехнулась крановщица.— Захочу, так со
мной пойдет.
— Не трепись. У меня дело.
— Какое такое дело?
— А вот слушай.
По улице катился тополиный пух, собираясь по ямкам в белые
озерки. Сквозь доски забора проскакивали солнечные лучи и скользили по озеркам, отчего они были похожи на какие-то невиданные
доселе елочные украшения.
— А чего же мы можем лридумать?— протянул Цыкин, выслушав дядю Костю.— Пусть инженера думают, на то их учили.
— «Учили»,— презрительно надул губы дядя Костя.— Раз Каширихин просил, выходит, он надеется. Он и без нас с тобой знает,
что есть ученые инженера, а пришел почему-то ко мне. Понял, ядрена вошь?
— На сухую я что-то плохо соображаю.
Дядя Костя, сам не замечая, что подражает Каширихину, вни52
мательно и спокойно оглядел Цыкина и сделал внушительное заключение:
— Не уразумею никак, Агриппина Прокофьевна, и чего я держу возле себя Ванюшку Цыкина. По-мо-ощник!.. Какой он помощник? Всю смену лясы точит с бабами. За маслом сбегает, горючее
примет. Что еще?
— Или я за машиниста не сиживал?— обиделся Цыкин.
— Дак это ж...— дядя Костя поперхнулся дымом от сигареты.—
Это ж... Когда я сам нахожусь без понятиев.
—• То-то,— удовлетворенно подытожил Цыкин.
— А ежели я завсегда с понятием на копер приходить буду?
Тогда как?— грозно спросил дядя Костя.
— Второй племянник у бога родился,— вздохнула Груша, подталкивая дядю Костю.
— Ты, Агриппина Прокофьевна, не подзуживай, я дело говорю.
Вот как сваи пойдут с избытком, робить тебе, Ванюха, по новому
графику.
— Это еще по какому-такому графику? Я как по инструкции
велено... Я читал ее, меня знакомили при поступлении.
—- А ты, Ванюха, мою инструкцию послушай. Днем тебе нечего
возле копра околачиваться. Масло и горючее приму без тебя. Заставлю, чтоб привезли прямо к самой кабине. Ты ж выходи на площадку за час до меня. Подготовь машину: вскипяти воду, масло обязательно прогрей, если ночь холодная будет. Заправь сваю в оголовник. А я как приду ровненько в восемь, так и бить зачну. Никакой нигде задержки не будет. Верно я говорю?
— Что ж я, или по часу в смену всего? Что ж я заработаю?—
спросил Цыкин.
— А ты не знаешь, садовая голова, что если забивать по двадцать свай за смену, то копру ремонт будет нужен. После смены на
твоей шее ремонт и вся профилактика, хоть до утра валандайся, а
чтоб к восьми первая свая стояла под оголовником. Понял, ядрена
вошь?
— Черт его знает!— засокрушался Цыкин.— Ты тут столько наговорил, что и на ночь думать хватит. С этой твоей инструкцией
всю жизнь мне поломаешь!
Груша успокоила его:
— Дак ненадолго же, Ванюшка! Позабиваете сваи на глазном
корпусе и опять заживете старой жизнью.
— Хоть бы уж выпить по такому случаю, что ли?— с надеждой
вопросил Цыкин.— А то черт-те что! Инструкцию твою, Константин
Касьяныч, обмоем, а?
Дядя Костя рад, что завтра ему есть, о чем «докладать» Каширихину, и он сдается перед Ванюшкой. Поглаживая усы и широко
улыбаясь, машинист лезет за пазуху и говорит привычно:
— Дуй — не стой!
И уже кричит вслед торопливо уходящему помощнику:
— Смотри у меня! Одну на троих...
— Да я-то не буду.— отмахивается Груша.— Пейте, мужики,
вдвоем.
— А чего вдвоем?— миролюбиво спрашивает дядя Костя.— Лафитник пропусти.
Они оба смеются, довольные тем, что определена без особых
трудов участь Цыкина, и что вот скоро Цыкин вернется и они обмозгуют, как ускорить забивку свай.
53
Утром на площадке к дяде Косте подошла Груша и спросила
равнодушно, то и дело позевывая и поднося кулак ко рту:
7
— Ты когда к Каширихину думаешь
— Дак вот, пока свай нет, и пойду. А что?
— Может, и мне сходить, что ли?
— Это зачем?—опешил дядя Костя.
— А ты что, один у него советчик, что ли? Я, может, придумала кое-что.
— Ха!
— Вот тебе и «ха».
— А что же ты такого придумала?— осторожно спросил дядя
Костя.— На крану ни черта не придумаешь.
— «На крану, на крану»... Вот видишь кладовщика?
- Ну.
— Вот он торчит тут у забора, здесь ему сваи будут сгружать,
а он их оприходует документом. Отсюда сваи потянут трактором ко
мне. А не лучше ли сразу сгружать сваи у копра?
— А кладовщик?
— Ну, что кладовщик? Промнется по площадке, ничего ему не
сделается, жирок лишний скинет.
Дядя Костя покрутил усами:
— Верно ты надумала!
— А с краном я тогда маневрировать начну. То к одному копру, то к другому, чтобы никаких простоев. Свая забита и скоренько
подается новая под оголовник.
— Верно!
Крановщица захохотала и, подбоченясь, смотрела на дядю Костю.. Тот покосился на нее хмуро, пошевелил усами:
— Про тебя я в парткоме упомяну, а самой идти к Каширихину тебе негоже. Он тебя и не знает вовсе. Вот так, милая.
И дядя Костя удалился.
Глава шестая
У
Чимиты в дневнике запись:
«Познакомилась с бригадиром
монтажников Цыбеном Чимитдоржиевым. Вот бывают такие люди...
С одного взгляда видно, что горячий и боевой. Его избрали членом
партийного комитета. До него бригадой руководил какой-то известный специалист по монтажу и дело вел хорошо, а потом зазнался,
сбежал на юг, опомнился, но бригада его не приняла.
У меня такое убеждение, что Цыбен справляется со своими обязанностями. Вчера ему пришлось поломать голопу. Надо было поставить опору на самую вершину сопки. Высота метров пятьдесят, а в
опоре двадцать тонн. Бригада выкурила пачку «Беломора», пока думала. Ребята наперебой высказывали советы, употребляя все свое
красноречие. Чимитдоржиев молчал. У ребят блестели глаза, руки
описывали в воздухе линии воображаемых чертежей. Цыбен. как
типичный степняк, немногословен, произнес лишь одно слово, потом
короткую фразу. В этой фразе содержалась интересная мысль.
Предложение Цыбена приняли. Опору подняли трактором. А
ведь к сопке подходят железная дорога да еще и река. Все надо было
точно рассчитать. И Цыбен рассчитал.
Все дружно хохотали над монтажником, предлагавшим поднять
54
опору краном. Тот монтажник привел даже крановщицу тетю Грушу,
а она посмотрела на сопку, улыбнулась, взяла парня за нос и спросила:
— Дуб или вяз?
— Дуб!
— Тяни до губ!
— Вяз!
— Тяни до глаз!
Ребята были так рады, что провод волокли на сопку уже на собственных плечах. А в каждом метре — килограмм. Ничего, тянули.
Пот лился градом, а не отступили.
— Ну вот, справились и без Клочко!— крикнул кто-то.
— А что нам Клочко! Пусть он без нас попробует!
Этот Клочко, оказывается, и был у них бригадиром до Цыбена».
Утром Догдомэ пришла расстроенная к Трубину. В хате-развалюхе только что закончилось бригадное совещание. Дым сизыми волнами ходил под потолком. На полу песок, грязь, окурки.
— Ну и живете вы тут!—сказала Догдомэ.
«Мальчика» сегодня кто-то обидел»,— подумал Трубин.
— Что у вас7
— Я ничего не понимаю, товарищ Трубин,— сказала она возбужденно.— За сопкой идет траншея. Ее вела ваша бригада. Там должны быть по положению переходные мостики с перилами. И я отмечала в акте...
— Извините,— перебил ее Трубин,— вам надо обратиться к мастеру Карымову. Эту траншею мы уже сдали по наряду.
— Я с ним, Карымовым, имела удовольствие беседовать.
— И что же?
— Я составила акт, внесла туда нужные предписания и подала
Карымову. Он прочитал и попросил у меня отложить подписание акта на два-три часа. «За это время я кое-что сделаю,— сказал он.—
Не будем портить отношений из-за ерунды». Я сказала, что никакой
«ерунды» там нет, но два-три часа подождать согласна. В тот день
я не смогла к нему зайти, а наутро он передает первый экземпляр
акта со своей подписью. Сказал, что напрасно задержал меня с подписью, ничего выполнить по акту не сумел.
— Ну и что же?
— Оказывается, еще до того, как он вручил мне акт, там произошел несчастный случай. В траншею сорвался ребенок... Его увезли в тяжелом состоянии.
— Напишите докладную,— сказал Трубин.
— Я пришла с вами посоветоваться. Дело в том, что... Дело в
том, что в акте не оказалось предписания об устройстве переходных
мостиков с перилами.
— Но вы вносили такое предписание?
•—• Хорошо помню, что вносила.
— А теперь его нет?
— Да, теперь его нет,— покорно сказала она.
«Это тебе не в шахматы играть»,— подумал он.
Трубин встал из-за стола, походил по комнате. Хотелось помочь
Догдомэ. Шайдарон не прощает такого.
— Куда же делось ваше предписание?— спросил Трубин.— Извините, но... написано пером, не вырубишь и топором. Вы просто
хотели записать про эти мостики и забыли в спешке.
— Нет, я ничего не забываю,— проговорила она.— Поверьте мне,
я писала в акте...
55
— Куда же, черт побери, делась ваша запись?— не удержался
он от крика.
— Оттого, что вы повышаете тон, ясности не прибавится. Я просто пришла к вам за советом. Вы давно здесь работаете, знаете людей. Думала, может быть, вы мне поможете.
— Дайте посмотреть.
Она достала из портфеля листки акта.
Он прочитал. Акт как акт. С подписями и датой проверки. Все
есть, но нет ^переходных мостиков*.
— Оставьте у меня, я схожу к мастеру и поговорю с ним.
Догдомэ ушла, а Григорий задумался. «Что бы это могло значить? Не похоже, чтобы она забыла внести запись. Что же тогда?»
Григорий внимательно просмотрел акт. Все по форме, как положено. И тут он увидел, что один лист короче. Он довольно долго
смотрел, удивляясь, что листки не одинаковы. И вдруг вспомнил о
манере мастера Карымова вырезать бритвочкой на документах слова, которые не хотел показывать. «Уж не вырезал ли он и тут чеголибо?»— подумал Трубин. Не одинаковый размер листков не давал
ему покоя. «Да, этот листок снизу срезан,— размышлял он.— На
этом вот листке фабричный срез, а тут... не-ет. Надо спросить Догдомэ, не помнит ли она, где у нее было написано о переносных мостиках».
Трубин позвонил в трест, и Догдомэ сказала, что о мостиках она
писала в конце первой страницы. Он уточнил, не обрезала ли она
листы перед тем, как писать акт. «Нет»,— ответила Догдомэ. И
немного подумав, спросила: «Вы обнаружили подделку в документе?»
— Пока ничего сказать не могу,— отозвался Трубин. — Надо поговорить с мастером.
Чимита сидела в отделе, закрыв горячее лицо руками. В мыслях
было всякое: «Уйти с этой должности? Пойду к Шайдарону и скажу... Не могу — и все. Как хотите. Ну, что это за работа?»
Она вспомнила, как проходили у нее все эти дни.
Прорабы, мастера, бригадиры вежливо выслушивали Догдомэ,
охотно обещали, иногда отшучивались. А ямы и колодцы не закрывались, мостики с перилами через траншеи заменялись одной-двумя досками, по которым и днем не всякий рисковал пройти. О сигнальных фонарях возле насыпей и говорить нечего...
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»,— отвечали ей
и тут же соглашались, что она права. Мастер Карымов обычно жаловался Догдомэ: «Ну разве мне до этих мостиков с перилами! Посудите сами — у меня на шее план. А вообще-то статью мне могут
пришить. Это точно».
Чимита ходила к Шайдарону, просила помощи, подала ему докладную. В тресте издали приказ. Он повисел на доске сколько-то
дней. Скоро одна кнопка отлетела, угол приказа свернулся трубочкой — не прочитаешь до конца. А тут его и совсем сняли: понадобилась площадь для свежих приказов.
«Может, уйти с этой должности? Никому я не нужна. Шофер
лишнюю машину кирпича привезет — его встречают с радостью, обнять готовы. А меня? «Пока гром не грянет».
«Вот так помаленьку трачу свою жизнь. На переговоры, уговоры... А вдруг гром грянет? И с кем-то что-то случится. Ребенок же
упал в траншею. Хорошо, что без увечья... А ведь «бог человеку запасных частей не оставил». Так, кажется, говорят, когда вспоминают о технике безопасности. И где этот Трубин? Он обещал по56
мочь мне, но что-то давно уже не звонил, а скоро вернется из командировки Шайдарон и потребует объяснений. Сходить к Трубину?
Но не могу же я ходить постоянно к нему в бригаду. У него с техникой безопасности благополучно, он-то учитывает, что «у бога нет
запасных частей».
Телефонный звонок прервал ее мысли. Схватила трубку, узнала его голос и, не зная еще, что он скажет, уже обрадовалась.
— Вы еще у себя, товарищ Догдомэ?— услышала она глуховатый бас Трубина.
— У себя.
— Подождите нас, мы скоро... Алло! Алло!
— Да, да. Я поняла все.
— Никуда не уходите.
А куда же она уйдет? Чимита достала зеркало из сумки.
«Лицо-то как раскраснелось! Попудрить надо. А то еще заметит, что
переживала».
В отдел зашли Трубин и Карымов. Чимита выжидающе смотрела, что будет.
— Присаживайтесь, Виталий Иннокентьевич,— сказал Трубин
мастеру.— Будьте, как дома.
Мастер что-то проворчал, сел за пустой стол, снял кепку и пригладил редкие волосы на лысеющей макушке.
— Чего шум поднимать?— сказал он, поворачиваясь к Трубину. — Ребенок, слава богу, жив и здоров. К мамаше этого ребенка я
ходил. Чего еще надо? Вроде бы ничего и не было.
— Нет, было!— Трубин стукнул ладонью по столу. — Вы уж ей,
товарищу Догдомэ, растолкуйте по порядку. Как и что.
Трубин вынул папиросу, закурил, хотел положить спичку в пепельницу, но вдруг махнул рукой и вышел из кабинета.
— Что произошло?— спросила Чимита мастера, когда шаги Трубина затихли в коридоре.
— Ну, что...— Карымов надел кепку и тут же поспешно сдернул ее.— Вы уж простите меня, товарищ Догдомэ. Семья... дети у
меня... шесть душ. Думаю: «Ну, что ей? За нее Шайдарон постоит.
А за меня некому. Пришьют статью». А так-то ведь ничего и не
случилось. Ребенок жив-здоров. С мамашей я уладил. Вы бы только
извинили, тогда у меня и душа бы на месте. А? Как вы посчитаете?
— Что вы сделали с актом? Вы обрезали первую страницу?
Да?
Карымов молчал, трясущимися пальцами мял кепку.
— Что же вы не отвечаете?
— Семья... шесть душ.— По его крупному белому лицу ходили
багровые пятна.— Вас-то бы -защитили, а меня некому.
— Идите-ка домой, товарищ Карымов.
— Домой? А дальше как?— он перестал мять кепку.
— Никто никакой статьи вам не пришьет.
— Как же не пришьет?!
— Даю два дня срока. Если предписания акта не будут выполнены, товарищ Карымов, вы пойдете под суд. Сами знаете — за что.
— А если будут выполнены?
— Если выполнены... тогда будем считать инцидент исчерпанным.
Карымов поднялся, потер лоб. Он не очень-то верил, что все
так просто обошлось.
57
— Ну, спасибо, товарищ инженер,— проговорил он, глядя себе
под ноги. — Благодарю. Урок на всю жизнь.
После ухода мастера Чимита засомневалась, правильно ли она
поступила. «Может, не надо было спускать? Он-то бы меня не пожалел. Если бы не Трубин, кто знает, какой оборот приняло бы дело.
Ну да теперь все равно. Обещала. Раз обещала — точка. А как же
Трубин узнал обо всем? Узнал и привел сюда Карымова. И почемуто неожиданно исчез».
Григорий остановился у стены и смотрел, как цепкая лапа башенного крана легко оторвала от земли бадью с раствором и понесла. Колька и Мих вели кладку стены лестничной клетки. Увидели
бадью, замахали руками: давай, мол!
А стена Григорию что-то не нравилась. И чем дольше он тут
стоял, тем сильнее росло убеждение: «Проектировщики недосмотрели. Если так оставить, стена может рухнуть». Посмотрел на Кольку
и Миха. «Неужели зря стараются? А может, мы сами виноваты?»
Григорий вернулся в бригадирскую, развернул чертежи. Прикидывал так и этак, проверял еще и еще. Окончательно решил кладку приостановить.
Пришел мастер Карымов. Еле протиснул в дверь свои округлые
бока.
— Ты что это, Григорий Алексеич, прямо с утра от солнца прячешься?— спросил он весело.
«Выходит, она его простила»,— подумал Григорий.
— Спрячешься! Никак не могу понять, как этот проект составляли. Посмотри-ка, Виталий Иннокентич.
Мастер склонился над столом, водил карандашом по кальке.
— Нет, ты полюбуйся!— горячился Григорий.— Полюбуйся, что
они сотворили! Это как же они хотят связать стену с основным
каркасом?
Мастер положил карандаш, вздохнул:
— Черт-те что! Ну, а ты как? Что предлагаешь?
— Надо усилить связь... сделать обвязку и поставить монолитные консольные балки. Вот так... смотри.
Трубин взял карандаш, начал чертить.
— Э-э, так не пойдет,— покачал головой Карымов. — Этого делать нельзя.
— Почему?
— Тут статью пришить могут.
— Какую статью?
— Обыкновенную. Не знаешь уголовного кодекса.
—• Я поговорю с проектировщиками.
— А кладка?
— Пока приостановим. У нас земляных работ сколько угодно.
— За неделю утрясешь с проектировщиками?
— Раньше сделаю.
— Ну-ну. А то возьмут за это место...— Мастер уцепил кончиками пальцев воротник собственной спецовки, выразительно подергал.— И статью пришить могут.
— Ты не из юристов ли?
— А что? Похоже?— прищурился Карымов.
— Уголовный кодекс, я вижу, из головы у тебя не выходит.
— Мало ли что... не выходит,— пробурчал мастер.— А ты смотри... Без проектировщиков ни одним пальцем... Ни-ни. А вот исправят чертежи, тогда валяй. А про акт этот... давай забудем, Григорий
Алексеич. Мы с тобой оба строители. Мало ли что бывает. Она,
58
'эта Догдомэ, и то против меня ничего не имеет. «Выполни,— говорит,— к сроку предписания и инцидент исчерпан».
— Не одобряю я такие штучки,— сказал Трубин.— Ты меня
знаешь. И давай не будем об этом... Раз она так решила... Ну, в
фбщем...
— Ладно, ладно,— проговорил Карымов.— Так ты учти, проектировщиков я быстренько вызову.
Авторы проекта вскоре явились. Походили, посмотрели. Трубин
•Молчал. И те молчали. Их было двое. Оба молодые. Может быть,
шервый год после института. И Трубин понимал, что им трудно. ВсеЬаки они инженеры, а тут бригадир с замечаниями. Приятного
сало.
Они отошли в сторонку от Трубина, переговаривались вполюса.
— Пожалуй, выдержит.
— Нет, такая стена не годится. Он прав.
— Ну, это еще... рано говорить.
— Связь стены с каркасом надо обязательно усилить. Но у меня
новые сомнения появились.
— Что такое?
— Как он будет класть плиты перекрытия на внутреннюю стеТы посмотри, сколько там вентиляционных каналов.
— Да-а. Каналы ослабляют стену. Тут мы прошляпили. Не пойкак получилось.
— А бригадир-то...
Проектировщики пододпли к Трубину. Тот, который первым
ризнал ошибки в проекте, заговорил:
— Да, в чертежах есть упущения. С вашими замечаниями мы
эгласны. Может быть, у вас есть еще что-нибудь к нам?
— Вентиляционные каналы приняли во внимание?
Проектировщики переглянулись:
— Мы подумаем.
— И сообщим вам завтра.
Трубин улыбнулся, достал папиросы, угостил инженеров.
— А чего завтра? Можно и сегодня. Надо вот что... Стену с венияционными каналами усилить железобетонной «рубашкой».
— И с помощью стержней связать плиты?
— Да-а..
— Пройдемте к вам в бригадирскую. Посмотрим чертежи вмес. Вы не возражаете?
Вечерами Трубин обычно бывал у Флоры.
Про красный свет он так ей и не сказал. Привык к красному
ету. Если такое освещение скрывает веснушки, то что же, пускай,
нее маленький обман, а то,, что он ходит к ней — это обман попьше. Чего уж тут про свет...
Григорий как-то несколько вечеров не ходил к Флоре. А потом
млел. Из-за Софьи.
Надо было собрать белье в баню, а белье лежало в комоде у
>аины Ивановны. Старушки дома не было, и Григорий прошел в ее
? комнату, открыл верхний ящик комода. Там лежали наволочки,
[Простыни. Он порылся и ничего не нашел для себя. Где находилось
[его белье, он не помнил, и стал подряд открывать ящик за ящиком.
'Среди белья, на самом дне одного из ящиков, он нащупал бумагу и
'вытащил ее. И сразу жаром охватило... Он держал два надорванных конверта и знакомые — Софьины — буквы прыгали перед гла["Эами. «Получила письма от дочери и молчит»,— подумал он о Фаи59
не Ивановне. Вынул из конверта одно из писем. Маленький хрустящий листочек. Колебался какие-то секунды. «Ну, что из того, если
и прочитаю? Подумаешь! Не секреты же здесь какие... А может, не
нужно? Намекну Фаине Ивановне, что понадобилось белье, случайно нашел... Она сама скажет, что в этих письмах. Нет, не скажет.
Хотела бы, давно сказала. Читать чужие письма — непорядочно. А
если это нужно? Если это пойдет на пользу не одному ему, а и
Софье, и ее матери? Все может быть. Вдруг Фаина Ивановна не
так поняла дочь, как надо было? Может, не сумела что-то разглядеть между строк? И такое могло быть. А я увижу, если есть что
между строк...»
Сомнения теснились еще в голове, а глаза уже пробегали строку за строкой.
Григорий торопился и запомнил только общий смысл — то, что
Софья переехала куда-то, что очень скучает по матери. Тон писем
был бодрым. Но в эту бодрость как-то не верилось.
Ни о ее теперешнем муже, ни о Григории она не упоминала
Как будто их и не существовало на свете, как будто она уехала от
матери по каким-то причинам, не зависящим ни от Григория, ни от
теперешнего ее мужа. И это больше всего настораживало Григория
Он положил письма на место. Из головы никак не выходил этот
бодрый тон. И думал он уже по-всякому. То ему казалось, что Софья счастлива и всем довольна, то снова ее бодрость казалась ему
не искренней, напускной. Просто ей надо было успокоить мать. Вот
и написала. Очень скучает по матери? Может быть, и так. Что Б
этом удивительного? Но что-то чересчур много там про эту скуку.
Не верилось в эту ее скуку, как и в ее бодрость.
«Ага, клюнул ее жареный петух!—подумал он, испытывая волнующее удовлетворение.— Ну, хорошо! Она получила то, чего искала и добивалась. А я что? Мне-то зачем в монахи записываться?
Она меня вычеркнула из своей жизни. Вот даже в письмах ничего..
Все-таки живу в одной квартире с ее матерью. Могла бы спросит!
обо мне. Как, мол, уживаетесь там оба? Кто пол моет, кто стирает
Да мало ли о чем можно спросить. А тут на тебе — ни слова, ни
полслова. Будто бы и нет Трубина».
И он стал размышлять о том, что зря не ходил эти дни к Флоре, что это его монашество никому не нужно. Никому! Уж Софье-тг
во всяком случае.
У Флоры были гости.
В сенях она шепнула Трубину:
— Чимита пришла. Мы в кино хотели. А тут они неожиданно...
Не угадаешь — кто.
— И угадывать не собираюсь.
То, что здесь Чимита, это его почему-то обрадовало. «Да, но он?
еще про кого-то говорила,— ворохнулась мысль.— Кто же еще пришел?» Он взял Флору за плечи и повернул к себе. Она поняла его
— Из твоей бригады.
— Кто? Бабий?
— Ленчик Чепезубов и с ним еще один.
— Ленчик?! Откуда такое знакомство?
— Потом узнаешь.
В комнате у Флоры настежь распахнуто окно. Ветер пузырил
тюлевую штору. Красные блики шевелились по стенам. На диван^
сидели Ленчик и Колька Вылков. У стола стояла Догдомэ, листала
журнал. Григорий уже привык видеть при желто-красном освещении
60
Флору и ей этот свет был к лицу, а эти трое выглядели, как загримированные?
— Какими судьбами?
— Да вот зашли случайно,— сказал Чепезубов. — Старый хлебсоль не забывается.
— Ленчик у нас в больнице лежал,— пояснила Флора. — С обмороженной ногой.
Она остановилась в дверях, не зная, чем занять гостей и как ей
быть дальше.
— Как же тебя угораздило обморозиться?— спросил Трубин.
Чепезубов стал охотно рассказывать:
— Я тогда в школе учился. Мать собиралась на Байкал. Отпуск
В нее подошел. Ну, купила мешочек муки, а в муку затолкала пол«итра, чтобы не разбить в дороге. А я подсмотрел... Эту бутылку
Мы вдвоем с приятелем кончили. Домой я побоялся пойти, ночевал
на чердаке клуба. Бот потерял где-то, вот ногу и обморозил.
— Ну, а мать что?
— А что мать? Ничего. Взяла из моей копилки четыре рубля,
^рсазала, что это я свои сбережения пропил. Как сейчас, помню... чежыре рубля мелочью. Я эти деньги копил на ласты и накомарник.
Жотел летом двинуть в турпоход. Да не вышло. В больнице проваВялся. Чуть ногу не отрезали. Вот так...— Он полоснул ребром ла•они выше лодыжки.
— У нас с обморожением часто лежат,— сказала Флора.— И все
Но пьянке. У одного пальцы обеих рук отрезали. Прямо жуть. Мо•додой, а вот...
— А у меня обошлось,— перебил ее Ленчик и засмеялся.
— Повезло тебе,— сказала Флора. — Но учти, раз — повезло,
I — повезло, а на третий — не повезет.
— А мне все равно, лишь бы меня лечили красивые женщины!
Григорий заметил: Флоре стало стыдно от этого Ленчикова комШлимента. Она стояла растерянная.
— У меня есть знакомые,— вдруг заговорила Флора со странНой решимостью.— Не так давно поженились. Как-то ее встречаю.
Иу, разговорились. Она мне про своего мужа... Смеется и рассказывает. Без конца смеется. Муж у нее просит: «Дай денег».— «Зачем
•ебе?» Оказывается, кто-то продает мотоцикл без колес, а где-то
Ьолеса продают. Так мужу пришло в голову все это купить, собрать
и с выгодой продать. Ну она ему, конечно, денег не дает. А он с
новой идеей. «Покупаем,— говорит,— мотор на двоих с соседом, кон|Ьтруируем моторную лодку, едем ловить рыбу, продаем, а там, глядишь, пол-«Волги» есть. Жена, конечно, против. А у него новая заЯея. «Поступлю,— говорит,— в институт, буду учиться на инженера-^втроителя. За год кончу три курса». Жена ему: «Ка-ак? За год?» Он
свое: «А что я? Дурак, что ли?» Жена спускает его фантазию на
'«ормозах: «Валентин, три курса за год ты не кончишь, но два, видимо, кончишь».— «Не-ет, только три».— «А может, два?» Сам, конечно, ни в какой институт не идет. А ревнивый до чертиков. Прямо
Ясуть. Я ей говорю: «Лидка, как ты с ним живешь? Я бы не смогла.
Это же колоссальный чудик!» И что вы думаете? «Он,— говорит,—
у меня с причудами. Это верно. Но жкть я с ним буду все равно
Мне его жалко. Он обещал утопиться, если я уйду от него». СлуШаю ее — мне ее жалко. Думаю, так жить—надоест быть женщиной.
Вообще...
«Она все-таки завидует той Лидке,— подумал Григорий.— В чемИо ей завидует. Может быть, в том, что у Лидки есть Валентин. Колоссальный чудик, а все же...»
61
— Мало ли на свете забавного,— сказал Колька Вылков. — Вот
у нас...
Но его перебила Догдомэ. Она спросила у Флоры:
— А чего тебе-то надоело быть женщиной? У тебя никакого
Валентина пока нет.
— Все равно... что есть, что нет.
Флора передернула плечами и отвернулась к окну.
— Вот у нас,— снова заговорил Колька Вылков.— У нас тут..,
Один пил три дня, не ночевал дома. Пришел, да? Помириться надо,
да? Ну и пишет записку дочери: «Доча моя...» В скобках ставит
имя ее — Вика. «Твой папа...» В скобках ставит свое имя — Георг.
Кик. Это сокращенно. Ну вот. «Твой папа Георг. Ник. ушел на работу не к четырем, как надо, а к двенадцати, так как мне нужно
подготовить станки для выполнения нормы». И дальше: «Прочитай
и передай маме. Твой папа». В скобках «Георг. Ник.»
— Это не ты ли такую ноту писал?— спросил Трубин.
— Ну, как я? Я еще холостой. А у нас в бригаде есть некоторые
женатики.
Ленчик и Колька скоро ушли, сказали, что им пора, что у них
<;всякие дела».
— Что это они приходили?— спросил Трубин у Флоры.
— Да этот Ленчик уже не первый раз,— ответила она.— Еще Б
больнице у меня адрес просил. Ну и парень!
— Он ведь из уголовников.
— Это уже после больницы... к ним, к ворам попал. А когда с
ногой лежал, уголовников он еще не знал. Помучились мы с ним
У нас в отделении есть коляска для неходячих. Так он из нее не
вылезал, пока не сломал. Режим не соблюдал, никого не слушался.
Кровь из вены надо брать, а он кричит: «Не умеешь, не подходи!Перед операцией ему нельзя ни ужинать, ни завтракать. А он криком изошелся. Подай еду и все.
— Взяли бы и выписали. Чего такого лечить?
— Хирург ему так и сказал. Дня на два присмирел, а потом
опять за свое. То обругает санитарку, то сестру. У нас перед окнами хирургического растет тополь. Старый уже. И у него сук засохший, без листьев, без веток. Так этот Ленчик заберется с больной
ногой по стволу и висит на суку вниз головой, как на турнике. Мы
ему говорим, что он может полететь оттуда. И однажды сук затрещал. Ладно, что не сразу переломился, а то бы Чепезубов свернул
себе шею.
— Но почему же он к тебе ходит?—удивилась Чимита.— Неужели у тебя с ним может быть что-то общее?
— Да ничего... Какое там! Только я замечала, что в мое дежурство он вел себя как-то не так. Не ругается, не слышала ни разу
Но становился нервным. Чуть что — слезы. Когда я подходила к его
койке, он вроде как... каменел, что ли. В такие минуты я напоминала ему о предписаниях врача. Он ни в чем не перечил. А однажды
так напугал меня... схватил за руку и тащит к себе. Глаза беспамятные, воспаленные. Не помню, как вырвалась. А ночью плакал. Пере;:
выпиской из больницы он попросил у меня адрес.
Чимита хотела отпустить шутку по поводу длинного рассказа
Флоры, но, перехватив взгляд Григория, передумала.
— Ну что же, мне пора,— сказала Чимита.
Трубин поднялся с дивана:
— И мне пора. Я провожу вас.
(Продолжение следует).
62
1,амба ЖАЛСАРАЕВ
Твоим именем, Байкал!
Та земля, где небо подпирают
Кряжистые кедры-старики,
Где в долинах долго не сгорают
Озорных саранок огоньки,—
Та земля, где предков кровь густая,
Пламенеет в ягоде лесной,
Где литою рожью прорастает
Пот, упавший на поле весной,—
Та земля, где с детства даль за далью
Я прошел, проехал, проскакал,—
Та земля зовется
Забайкальем.
Славным твоим именем,
Байкал!
Давнею военною порою
Мы с тобой расстались, но когда
Пить хотелось —
Чуть глаза закрою —
Пела предо мной твоя вода.
И сейчас, когда, как конь горячий,
Рвется сердце из груди моей
Иль плетется загнанною клячей,
И сейчас среди тяжелых дней,
Если стану чахнуть, задыхаться,
Мне поможет воздух синих скал!
И себя зову я
Забайкальцем.
Звонким твоим именем,
Байкал!
Добрый конь в дороге познается,
Познается в горе верный друг.
Жизнь ломает, но всегда найдется
Для опоры пара сильных рук:
Над бездонной пропастью подхватят,
До земли склониться не дадут!
Дорогих друзей рукопожатья,
Где бы ни был я,—
Меня найдут.
Говорить о верности не нужно,
Поднимая праздничный бокал,
Тем, кому однажды клялся в дружбе
Светлым твоим именем,
Байкал!
63
Стихи,
сочиненные после того, как автор увидел коня
в кузове грузовика
Как звучно, как прекрасно слово:
Конь!
В нем — перезвон стремян
И стук тугой
Подковы, высекающей огонь,
И пенье колокольцев под дугой!
И, как степей без жаворонка нет,
Так у бурят и песни нет такой,
В которой не был бы скакун воспет
Хотя б одной-единственной строкой!
Во глубине веков и в нашем дне,
В кругу застольном и наедине
Поют о друге — вспомнят о коне,
Поют о милой — вспомнят о коне.
Все время радость и печаль
В тех песнях, как у седел стремена:
Ты в них, о конь, летишь беспечно вдаль
И плачешь в стороне от табуна.
Тебе бы, конь, помчаться как вчера,
Вперед с лихим джигитом на спине,
Чтоб вам вдогонку встречные ветра
Пророкотали песню о коне!..
Но в кузове меж узких двух бортов
Стоишь ты, опустив глаза свои,
И вздрагиваешь, словно от пинков,
На выбоинах старой колеи.
Летят навстречу серые столбы
И птицы на провисших проводах.
Летят луга. Слепя ще-голубы,
Летят озера в топких берегах.
Так вспомни, конь, как молод и горяч,
Великолепен, строен, полон сил,
Ты нес мужчин по вешним травам вскачь
И осторожно девушек носил.
И как на сенокосе, в самый зной,
Страдающий от жажды и слепней,
Ты разделял безропотно со мной
Восторг и тяжесть первых трудодней!
Как ты, играя мускулами, вез
Многопудовый, высоченный воз,
Как шел ты от зари и до зари,
Таща по полю тяжкий плуг стальной,
И простиралась поперек земли
Та борозда прекраснейшей строкой!
А после с наступленьем темноты.
Совсем забыв о трудном дне своем,
Как стригунок, в траве катался ты
И весело похрупывал овсом.
Припомни скачек топот, гул и шквал,
Когда признанья стариков ища,
Смельчак-мальчишка на тебе скакал,
Как крыльями, рубашкой трепеща!
И в упоенье ты летел вперед,
Быстрей машины, что тебя везет...
А свадьбы?
(Я хотел бы юным стать
И, очутившись в стороне родной
Вдруг в девушке одной
Жену узнать
И вновь ее назвать своей женой!)
А свадьбы —
Что за свадьба без коня?!
И ты б не ехал в кузове пустом,
А в разудалой тройке мчал меня,
Звеня на всю округу бубенцом!
64
,
Не позабыл ли ратные дела.'
Когда, гоня коней во весь опор,
В двадцать девятом
На врага пошла
Буркавбригада,
Как лавина с гор?
Ты землю алой кровью пропитал,
Не перечислить всех твоих заслуг.
И те, кто в жизни много испытал,
Тебя зовут недаром:
Первый друг!
Когда-то проиграл один бурят
Скотину, юрту, деньги — все подряд!—
Но не поставил на кон скакуна,
Чтоб все вернуть, фортуну изменя...
Да как пойдешь на риск такой?
Смешна,
Нелепа жизнь мужчины без коня!
У человека множество друзей:
Машины, трактора и поезда.
Но кто, скажи, поймет его верней,
И в трудный час не бросит никогда?
Кто привезет уснувшего домой
И раненого вынесет к своим?
Лишь ты, о конь,
Товарищ добрый мой!
Во многом ты еще незаменим!
Ров — перепрыгнешь!
Горы — перейдешь!
Реку — переплывешь!
И я с тобой!
Пускай
сейчас
Сквозь
звездный
людей
дождь
Несет ракета в бездне голубой.
Пускай сейчас моторным скакунам
Дорогу уступил ты —
Не догнать!
Но есть в тебе и то,
Что временам
Во век не заменить и не отнять!
Ты думаешь, что люди не всегда
Считаются с тобою? Не беда.
Ведь человек не позабыл родство:
Ты подойди, в глаза ему взгляни,
И нежно, как в былые дни, его
В плечо своею теплой мордой ткни.
Он вздрогнет,
Но, опомнившись тотчас,
С открывшейся внезапно добротой
Тебе потреплет гриву он, смеясь,
Погладит кожи бархат золотой.
Не вешай головы, не унывай!
Ты нужен людям, конь!
Ты нужен мне.
Живи и никогда не забывай.
Свое предназначенье на земле.
Давай,
Пускай
Ты по
Когда
Друзья
Идут,
скорей г машины соскочи —
погоня за спиной близка!
степи еще быстрее мчи,
аркан просвищет у виска!
при встрече борются. Потом
обнявшись, гордые, вдвоем...
Как звучно, как прекрасно слово:
Конь!
5. «Байкал» № 1
65
В нем перезвон стремян
И стук тугой
Подковы, высекающей огонь,
И пенье колокольцев под дугой!
Дороги... Дороги...
Как вены земли,
Пульсируют, не уставая.
Бот снова они меня в даль увлекли.
Куда? До какого же края?
Взбираются в гору, спускаются в лог,Им нет ни конца, ни начала...
Ты, жизнь моя,.столько путей и дорог
Вместила,
А все тебе мало!
Сердцем беспокойным
Дорога отдаст
До капельки все, чем богата.
И в каждой дороге
Есть что-то от нас,
По ней проходивших когда-то...
Поздние огни
Одно, другое — окна в доме гаснут...
Окончен день труда, тревог, забот,
Конец делам общественным и частным —
Ночная тишь на караул встает.
Но на немых громадах спящих зданий,
Во тьму швыряя резкие лучи,
Как островки в полночном океане,
Квадраты окон светятся в ночи!
Их вид всегда таинственен и чуден:
Кому пришел на ум такой каприз,
Когда спокойно спят сады и люди
И все земные страсти улеглись?
Зачем плывет окно в полночном море,
Лучащееся светом и теплом?
Но ведь не зря стоит солдат в дозоре!
Не зря и он склонился над столом —
Тот человек, бессонный, увлеченный! —
Ломает рамки дня его порыв.
Он бодрствует — поэт или ученый —
Свои земные сутки удлинив.
Быть может, завтра где-нибудь некстати
Средь бела дня его настигнет сон.
«Вчера кутнул?»— хихикнет друг-приятель.
«Да, было...»— чтоб не спорить,
Скажет он.
Но это к слову. Главное не в этом.
Как хорошо, что в мире есть они,
Наполненные душ горящих светом,
Земные звезды —
Поздние огни.
Перевод с бурятского О. Дмитриева.
66
Июльский Пленум ЦК КПСС: дела, замыслы, проблемы
Никифор РЫБКО
ЧАБАНКА
ласковыми, как прикосновение близкого человека, летом — обжигающими, как дыхание костра, зимой — студеными, страшными. А вот осень... Чаще всего она — длинная, светлая и задумчивая, воздух сух и
прозрачен. Все времена года нравились
Гомбоцырен, в любую пору находились
подходящие игры, как для скотовода и
земледельца всегда находилось занятие то
в поле, то на лугу, то в кошарах
иЛи>
коровниках. Но осень как-то ближе была
ее сердцу.
Боргойская степь... Пологие безлесные
сопки, лишь кое-где в распадках да по
вершинам сохранились сосновые рощи, похожие на своеобразные оазисы. По весне
долины покрываются пышным ковром зелени, резвятся тарбаганы, в поднебесье
с утра до ночи заливаются жаворонки.
Круглый год з этой степи пасутся тысячные отары овец( стада коров, табуны лошадей. 3 летнюю пору ртутный столбик
термометра нередко поднимается выше 30
градусов, а зимой опускается ниже 40.
Снегу бывает здесь мало, по зато случаются метели, и горе тому чабану, которого вместе с отарой застанет в долине низовой ветер, а то и пурга.
Вот такими и запомнились Боргойские
степи Гомбоцырен Цыремпиловой с самою раннего детства: весной — теплыми и
5*
Она не просто полюбила свой край, она
гордилась им. В школе им часто рассказывали, какие бои проходили здесь в гражданскую войну, как создавались первые
колхозы, создавались в жестокой борьбе
с кулаками, нойонами и ламами. А еще
раньше, не очень далеко от Инзагатуя, у
подножия Сарабды, вырос мальчик, который стал славой и гордостью всего бурятского народа. Мальчика звали Доржм Баизароз. В Селенгинской Даурии отбывали
ссылку декабристы братья Бестужевы, которые еще в ту пору пытались разводить
тонкорунных овец.
Уже на памяти Гомбоцырен проходила
Великая Отечественная война. Ей было
всего одиннадцать лет, когда первые мужчины и старшеклассники, ад руг повзрослевшие, отправлялись на фронт. А тем, кто
продолжал учиться, пришлось познать и
работу на полях от зари до заря, и скудный обед в холодной избе, и силу степных
ветров, когда на тебе надеты ветхая шубенка да стоптанные унты. Трудно было
учиться, но Гомбоцырен все же окончила
восемь классов Дырестуйской школы. А в
колхозе с каждым годом все острее ощущался недостаток в рабочих руках. И когда девушке предложили пойти в полеводческую бригаду, она не могла отказаться,
Не могла, потому что сама понимала: так
надо.
67
Небольшого роста, проворная, Гомбоцырен пришлась по душе и пожилым, и молодежи. Приходилось косить и сгребать сено,
крутить неподатливую ручку веялки, отвозить на лошадях хлеб на приемный пункт,
поднимать зябь — одним словом, в шестнадцать лет выполнять все работы, какие
выполняли взрослые. И везде она управлялась не хуже опытного пахаря или косаря, сеяльщика или стоговальщика. Л в
обеденный перерыв, когда бригада или звено собирались в одном месте, Гомбоцырен
брала в руки газету и читала своим товарищам наиболее важные сообщения из
Москвы и Улан-Удэ, из других городов
страны, знакомила их с тем, как восстанавливается подорванное войной хозяйство.
Сверстники удивлялись:
— И откуда у тебя, Гомбоцырен, столько силы берется. Мы вздремнуть после
обеда норовим, а ты со стариками ра.чгоьариваешд.
А по вечерам деочата и парни, как и в
любом улусе, после любого трудового дня,
водили ёхор, пели веселые песни и остроумные частушки.
Прибывала новая техника — тракторы,
комбайны, автомобили. Вчерашние мальчишки становились механиками и трактористами, комбайнерами и водителями машин. Кто не владел техникой, тот выполнял разные подсобные работы. Выполняла
их и Гомбоцырен. Но чувство неудовлетворенности уже посетило ее.
Кем быть?
Какую
специальность
выбрать?
Что
тебе ближе и по складу характера, и по
наклонностям, и по образованию, и по многим другим признакам, без которых, думается, выбор профессии будет неудачным.
Гомбоцырен много думала над этими вопросами, искала ответа на них и в книгах,
и в жизни. Нашла в жизни. Как-то она
вернулась вечером домой от амбаров, где
сортировали семенное зерно, поеживаясь,
прижалась к печке.
— Хочу тебя вот о чем спросить, дочка,—
сказала ей Долгор
Самбуевна, с восьми
лет заменившая ей мать.— Не хватит ли
тебе с одной работы на другую переходить? Может, остановишься на чем-нибудь
одном?
— Сама думала об этом, мама,— призналась Гомбоцырен.— Надо, обязательно надо специальность выбрать. В доярки ли
63
пойти, на курсы трактористов, а может, чабаном?
— Чабаном сразу не сможешь, тоже
учиться надо. Как раз во вторую бригаду
сакманщики нужны, может, пойдешь?
Гомбоцырен пошла. Это не означало еще,
что она твердо решила впоследствии стать
чабаном. Пошла потому, что повсеместно
начался прием ягнят, а рабочих рук на
отарах не хватало. Даже из города приехали люди сакманить. К тому же тогдашний председатель колхоза «Коммунизм»
Бато Булсанович Мурхонов сказал сакманщицам:
— Ответственное дело поручает правление вам. Имейте в виду, что овцеводство—
это будущее хозяйства нашего. С каждым
годом мы будем увеличивать число овец,
улучшать их породность. Продавать государству шерсть в основном тонкую, продавать отличную боргойскую баранину —
вот что сейчас от нас требуется. Сами понимаете, что от работы сакманщика многое зависит. Принять и сохранить все поголовье молодняка — ваш первейший долг...
Ну, а подробности каждый узнает от своето старшего чабана.— Он помолчал и добавил.— Кстати, из бывших сакманщиков
отличные чабаны выходят. Так что присматривайтесь, учитесь, нам чабанов с
каждым годом все больше нужно будет.
Надо сказать, что принять ягненка, обработать его, подпустить к матке — все эти
процессы хорошо известны любому степняку, работает ли он а полеводстве или в
животноводстве.
Известны они были и
Гомбоцырен. Все это ей приходилось выполнять дома, когда ягнились их личные
овцы. Больше того, она любила эту работу, но никогда не считала, что она требует стольких усилий.
И вот первая настоящая чабанская страда. Гомбоцырен сакманила тогда в отаре
старшего чабана Дулмы Дабаевны Дамчеевой. Это была опытная чабанка, она из
года в год получала и выращивала не
меньше 90 ягнят на сто маток. Одним словом, поучиться у нее было чему. Да и сама тетя Дулма не держала своих знаний
и опыта при себе, щедро делилась ими и
сакманщицами, особенно с молодежью:
— Внимательно присматривайте вот за
этими овцематками,— наказывала, бывало,
она дежурным сакманщицам. — Однако
ночью они ягниться будут. Не прозевайте,
матки молодые...
— Да откуда вам известно?— изумлялись
сакманщицы.— Ну можно, можно сказать,
что на этой неделе объягнится овца или в
течение трех-четырех дней, но определить
день и почти час...
— А вы повнимательнее понаблюдайте
за поведением вон хотя бы той, с черной
звездочкой на лбу. Видите, она то ложится, то встает, то ходит, то стоит как вкопанная. Место себе выбирает.
Овцу со «звездочкой» или с другой какой-либо приметой отделяли и через несколько часов получали от нее приплод.
Цепкая память Гомбоцырен схватывала
все эти, казалось бы, незначительные сведения, сохраняла надолго, до тех пор, пока
они не подкреплялись и не обогащались
собственными
наблюдениями.
Особенно
внимательно у х а ж и в а л а Гомбоцырен за молодняком. Когда наступало ее дежурство,
она прежде всего проверяла, есть ли у ягнят свежее сено, соль, мел, достаточно ли
приготовлено теплой воды. Особенную тревогу вызывало у нее малейшее недомогание ягненка. Тут она сразу же обращалась
к старшей чабанке,
просила вызвать ветеринарного работника. Та одобряла ее беспокойство, но ветеринарного работника вызывала не всегда.
— Этой беде мы сами помочь можем,—
обычно говорила она, осмотрев больного,
на взгляд Гомбоцырен Гончиковны, ягненка. — И ветеринар не понадобится.
Действительно, старший чабан то березовый или сосновый веник давала ягненку, то еще что-нибудь добавляла ему в
корм, и тот становился таким же резвым,
как и другие. И Гомбоцырен начинала понимать, что не такое это простое дело —
быть чабаном. Вспоминала слова матери:
«Чабаном сразу не сможешь, тоже учиться надо...»
Расставалась с отарой она с сожалением. Но ничего не г.оделчешь — окот закончился, ягнята подросли и в дополнительном уходе уже 1.е нуждались. На прощание старшая члбапка сказала ей:
— Приходи опять ко мне на будущий
год.
Хорошая помощница из тебя получается, а там, гляди, и добрый чабан выйдет.
Гомбоцырен работал т на сеноуборке, на
очистке зерна, выполняла другие задания
бригадира, а сама нет-нет да и вспомнит
о «своей отаре». Как там, все ли в порядке? Особенно тревожилась она за ягнят.
Но оказалось, что в отаре зс..1 ягнята к
отбивке нагуляли порядочный вес, падежа
среди н и х не было да и сами овиы пришли
к очередной зимовке вполне упитанными и
здоровыми.
Но даже тогда она еще не знала, что
навсегда свяжет себя с овцеводством, что
постепенно накопленный опыт и любовь к
животным сделают из нее отличного чабана.
В следующую зиму она опять сакманила, но теперь уже в отаре, где старшим чабаном была Долгор Тубанова. И, что особенно важно, теперь она не ограничивалась обязанностями сакманщицы.
Наконец настало то время, когда Гомбоцырем Гончиковна объявила в семье:
— Решила стать чабаном. И в правлении об этом сказала. Сама чувствую, что
должна сделать именно такой выбор.
Маленькой Ринчин-Хакды мнения тогда
не спрашивали, хотя
впоследствии она
стала неплохой сакманщицей Б маминой
отаре. Впрочем и Цыретор Дашиевич недолго после этого оставался в тракторной
бригаде. Видел
он, что трудно
приходится жене управляться с отарой, когда
нет никакой техники да и в простейших
механизмах
сами чабаны
разбираются
слабовато. Короче говоря, попросился он
на маточную отару
Гомбоцырен Гончиковны. Его не удерживали, потому что в
чабанских бригадах всегда ощущалась нехватка в людях. Сперва он работал как
рядовой чаСак, но петом отаре выделили
трактор ДТ-20 и круг его обязанностей
значительно расширился.
Вот уже одиннадцать лет, начиная в
!У59 года, Гомбоцырен Гончиковна Цыремпилова работает старшим чабаном маточной отары. За это время дочь Ринчин-Ханда закончила десятилетку, сын Ойдоп перешел в шестой класс. Сама Гомбоцырен
Гокчиковна добилась выдающихся успехов, и Президиум Верховного Совета СССР
присвоил ей звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и
золотой ме;;али «Серп и Мол )т». Избиратели дважды называли ее депутатом Верховно: о Совета Российской Федерации.
Год юбилейный
Однажды Гомбоцырен Гончнконну спросили, можно ли выучиться н:1 чабана. Хорошего, передового Члбана, такого, которым могло бы гордиться хозяйство.
Чабанка улыбнулась, п о л у м а л а и ответила:
— Выучиться любой профессии можно.
69
И даже диплом получить. Но надо учесть,
что условия у чабанов не только республики и района, но даже одного колхоза
и совхоза разные. Тут уж самому надо
додумывать,
самому
прикидывать, где
бегом побежать, а где и передышку
сделать. В общем, если ты в чужой опыт
не вкладываешь своего, в лучшем случае
мо «ешь ходить в «середнячках», а о высоких достижениях даже речи быть не может.
Разумеется, опытом своих подруг Гомбоцырен Гончиковна дорожит, за их успехами следит очень внимательно. Одной из
таких «звезд», в сторону которой часто
обращается ее взгляд, является ее однофамилица Шалсама Ламажаповна из далекого баргузинского колхоза имени Карла Маркса. Они часто встречались на совещаниях передовиков животноводства республики, много говорили о нелегком своем
труде, о превратностях зимовки и сюрпризах летней поры, об искусственном осеменении и приеме молодняка, находили в
своих г.четодах много общего, но... но каждая все-таки лла своим путем, хоть и заимствовала частицу опыта у подруги. Кстат и сказать, ззание Героя Социалистического Труда им присвоили одновременно, одним Указом. Было это 22 марта 1Э66 года.
Гомбоцырен Гончиковна, будто со ступеньки на ступеньку, взбиралась с начала
шестидесятых
годов на вершину своего
мастерства. Но самый серьезный экзамен,
который ей когда-либо пришлось сдавать,—
был экзамен юбилейного года.
Все читатели поднят, каким был для
нашей республика предъюбилейный, 1969
год.
Если природа наделила наши края
самым низким уровнем осадков по сравнению с другими земледельческими и скотоводческими районами страны, то в 1969 году их былэ гораздо ниже обычной нормы.
Иными словами говоря, Бурятию поразила засуха. В Боргойской степи уже к концу июня травы выгорели под палящим^
лучами солнца. Лишь прошлогодняя трава,
сухая и жесткая, сохранилась в долинах.
Не только чабаны и скотники, все селяне с
надеждой поглядывали на небо, но оно нависло над степями как раскаленная сковорода. Но овцы уж такие животные, что
могут брать корм даже там, где, кажется,
и нет вовсе ничего. Гомбоцырен Гончиковна старалась выгнать отару пораньше, по
холодку, а в самое жаркое время дня давала ей отдых. К счастью, в конце августа
70
качались дожди и травы быстро пошли в
рост.
— Единственное наше спасение — осенний нагул,— говорила Гомбоцырен Гончиковна пастуху Цырему Дымбрылову.—Поправятся овцы на осенней отаве — зимовку проведем сносно, не поправятся — пиши пропало. Так что время пастьбы надо
увеличить. Все будем пасти по очереди.
Дымбрылов в чабанскую бригаду пришел недавно, не имел еще такого опыта,
как Гомбоцырен Гончиковна или ее муж
Цыретор Дашиевич. Однако и он понимал,
что от его умения выбирать участок для
пастьбы, вовремя
менять его — зависит
очень многое. И он старался как мог, лишь
бы заслужить одобрение старшего чабана.
Пологие склоны сопок и распадки покрывались поздним травяным ковром. Природа будто торопилась наверстать за осень
то, что не пришлось совершить в летние
месяцы. Наверстывали и овцы. Прохладная
погода, обильный корм делали свое дело.
Овцы хоть и медленно, но все же набирали
вес. Округлились бока у овец, веселее стали они смотреть на степь. Цыретор Дашиевич несколько раз уже напоминал старшему чабану:
— Не пора ли, Гомбоцырен, приступать к осеменению... Л то что же — всегда
январских да февральских ягнят получали,
а теперь... Год-то юбилейный, учти.
— Вот почему и не хочу торопиться, что
год не простой, а юбилейный. Пойми, кормов нынче будет в обрез, если даже в конце января приплод получим, — чем ягнят
кормить станем? Подумал об этом?
Гомбоцырен Гончиковна решила начать
осеменение не раньше конца сентября. И
не ошиблась. Овцы к тому времени совсем
поправились. Их живой зес перевалил за
50 килограммов. «Ничего в этом удивительного нет,— рассуждала чабанка. —
Четыре ягнения отара прошла, теперь на
пятый пойдет. Овцы в самом расцвете своих сил. Вот и сумели справиться с летним
недоеданием...»
Готовила отару к воспроизводству Гомбоцырен Гончиковна сама, никому не доверяла этой, пожалуй, самой ответственной работы в овцеводстве. Как земледелец
закладывает основу урожая в весеннюю посевную компанию, так и чабан в пору осеменения закладывает фундамент для получения добротного потомства.
Гомбоцырен Гончиковна уже несколько
лет соревновалась с опытной чабанкой Сурун Жимбиевной Цыреторовой, делегатом
III Всесоюзного съезда колхозников. Подруги часто встречались,
бывали друг у
друга на отарах. Показатели в отаре Гомбоцыреп Гончиковны были несколько выше, она опережала в соревновании, но в
общем-то они считаются достойными соперниками.
«Какое принять обязательство?»—этот
вопрос всегда заставлял крепко задумываться и Цыремпилову, и других чабанов.
В самом деле, практически каждая овца
должна принести по ягненку. В противном
случае она будет в убыток хозяйству: одной шерстью не перекроешь затрат на ее
содержание. Но ведь бывают и всякие непредвиденные обстоятельства: из 600—700
овец, находящихся в отаре, могут ведь
хоть несколько оказаться по разным причинам яловыми или заболеть? С другой
стороны, при таком поголовье обязательно
несколько маток принесут двойню. Но каково соотношение тех и других? Смогут
ли двойни восполнить тот пробел, который
нанесет яловость? Одним словом, принимая обязательство, чабан обдумывает вопрос всесторонне, можно сказать, но проходит проверку моральных евоих качеств.
— Ведь по нашим обязательствам составляются колхозные,— говорит Гомбоцырен
Гончикоьна,— потом аймачные, республиканские. Так что каждый раз ты будто бы
берешь ответственность не только за свою
отару, но и за всех чабанов. Ну, а уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Тут надо все силы выложить, а слово сдержать.
Гомбоцырен Гончиковна посоветовалась
с членами небольшого своего коллектива к
было вынесено решение: в юбилейном году
получить и вырастить до отбивки не меньше ста ягнят на сто маток, настричь по
о,2 килограмма шерсти, зимовку, несмотря
на нехватку кормов, провести организованно, без падежа.
Примерно такие же обязательства принял и коллектив старшего чабана Сурун
Жимбиевны Цыреторовой. Теперь предстояло самое ответственное — дать бой тем
трудностям и неожиданностям, какие им
уготовила зима.
После того, как подготовка к воспроизводству была завершена и чабанские отары обосновались в зимниках, прошло колхозное собрание овцеводов. Были объявлены обязательства по отарам и бригадам,
•сводные наметки по всему колхозу, состоялся обмен мнениями между чабанами.
— Даже маточные отары получат кор-
мов в обрез,—сказал председатель колхоза
Дондок Бамбасаевич Лумбунов.—Сами понимаете, концентраты — покупные, сено—
привозное. Так что нужна самая строгая
экономия. Плюс зимняя пастьба. Плюс высокая дисциплина, сознание ответственности за порученный участок работы. Только
при этих условиях можно будет рассчитывать на успех.
Условия, разумеется, не из легких. Но
основной состав чабанов колхоза проводил
уже не одну трудную зимовку, не один раз
наверстывал нехватку кормов зимней пастьбой. А тут, к счастью, зима выдалась не
такая уж суровая, как предыдущая, и это
обстоятельство несколько сглаживало трудности.
Вставали рано, наскоро пили чай и шли
задавать овцам сено. К десяти часам
заканчивался водопой и овцы выгонялись
на пастьбу. В степи они паслись часов до
четырех, после чего загонялись в кошары
и получали концентраты. Жизнь текла размеренно, строго по часам, но за этой размеренностью скрывалось напряжение, к ночи люди уставали так, что еле держались
на ногах. Гомбоцырен Гончиковну беспокоило одно — не допустить чрезмерного
снижения упитанности овцематок, добиться тою, чтобы к началу ягнения они были
хотя бы в среднем теле. Это ей пока удавалось. Удавалось еще и потому, что осенняя отава ушла в зиму в зеленом, как бы
законсервированном виде. А такой корм
богат не только белками, но и витаминами.
К началу 1970 года коллектив на отаре
прибавился. Сакманить прибыла
сестра
Дулма и сестра мужа Долгоржап, дочка
Ринчин-Ханда. Пастухом был Цыден Дымбрылович Дымбрылов. Вот этим людям и
предстояло выдержать испытание на прочность, принять приплод и завершить зимовку.
Пока не началось ягнение, готовили недостающие щиты для сакманов, подвозили
солому, отбирали лучшее сено для будущего пополнения отары. Работали дружно. И
не только потому, что авторитет Гомбоцырен Гончиковны в этой своеобразном семье
был непререкаем, но и оттого, что каждый
хорошо представлял себе
предстоящие
сложности, связанные с приемом приплода. Значит, чем лучше к ним подготовиться,
тем легче они будут преодолены.
Первые дни ягнения не принесли никаких неожиданностей. В полном соответствии
с графиком осеменения ягнилось двадцатьтридцать голов в сутки, молодняк рождал-
71
ся крикливым, требовательным, как и подобает здоровому приплоду. А потом начались двойни, причем много двоен.
Почти
каждая вторая овцематка рожала двойняшек. Радостно и тревожно было в эти дни
на душе у каждого члена коллектива. Радовало то, что обязательства выполняются хорошо, что к одной отаре прибавится
еще одна, если не больше; тревожила, конечно, нехватка кормов.
Прием приплода на отаре Цыремпиловой
продолжался до середины марта. И все это
время ее радовали двойни, их было больше сорока процентов. Но зато и трудов
с ними было куда больше. Частенько один
ягненок оказывается
сильнее,
развитее
своего близнеца и норовит оттолкнуть его
от вымени.
— Самый лучший способ в таких случаях,— объясняет
Гомбоцырен Гончиковна
сакманщицам,— это попридержать сильного, пока слабый не утолит первый голод.
Через некоторое время ягнята выравняются, привыкнут друг к другу да и овца освоится с положением «многодетной матери», она станет уделять одинаковое внимание обоим своим малышам.
Но самое важное, что вскрылось в зи-.1
му 1969—1970 года в дни приема ягнят,—
это недостаточная площадь помещения для
содержания молодняка. Поэтому приходилось укрупнять сакманы несколько раньше,
чем это делалось в прошлые годы, а к весне даже соорудить пристрой.
— Многому нас научила прошедшая зимовка,— вспоминала
Гомбоцырен Гончиковна уже летом.— И не только чабанов,
но и бригадиров, специалистов, руководителей хозяйства. Все убедились в том, что
нужно подбирать кадры овцеводов самым
тщательным образом, подбирать из таких
людей, которые бы не растерялись в трудный период, не хныкали, а, наоборот, могли бы собр? гь свою волю в кулак, подтянуть дисциплину и сделать такое, что в
обычное время казалось бы невыполнимым.
И хотя основные кадры чабанов выдержали испытание, все же в процессе зимовки
правлению и парторганизации приходилось
укреплять некоторые отары более стойкими людьми, посылать туда коммунистов.
Ну и само собой, ход зимовки показал, что
надо искать те пути, которые бы позволили при любых погодных условиях иметь
собственные корма.
Прием приплода завершился, но это обстоятельство нисколько не снизило трудовую напряженность на отаре. Теперь чаба72
нам и сакманщикам предстояло во что бы
ю ни стало вырастить ягнят до отбивки
здоровыми, жизнеспособными. В этом им
помогло не только разумное использование
тех кормов, которыми они располагали, но
и применение минеральных подкормок,
своевременный водопой.
Во второй половине апреля, когда напряжение на отаре несколько ослабло, Гомбоцырен Гончиковна побывала у своей «соперницы» Сурун Жимбиевны. Та встретила
ее с распростертыми объятиями, показала свое хозяйство, потом засыпала вопросами.
—• И как вы там управляетесь? Подумать только — сто сорок ягнят на сто!
Такого что-го я не помню. Наверное, вам
еще сакманщиков добавили? С помещением-то как, теснота, наверное, скученность?
Сама Сурун Жимбиевна к тому времени
имела на счету сто двадцать семь ягнят на
сто маток и занимала третье место п»
району после Цыремпиловой и Гомбоева.
Она не только интересовалась положением
дел на отаре своей подруги, но и са^а
рассказала, как приходилось справляться
с зимовкой, принимать приплод, пасти овец
в стужу.
Через несколько дней они присутствовали на торжественном заседании, посвященном 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Среди тех, кто с честью выполнив
свои предъюбилейные обязательства, имена Гомбоцырен Гончиковны и Сурун Жимбиевны. были названы одними из первых.
Еще о технологии
Гомбоцырен Гончиковна постоянно следит за опытом лучших овцеводов республики, регулярно читает специальную литературу. Когда о ней пишут в газетах, чта
она «постоянно овладевает достижениями
зоотехнической науки и передовой практики», то это не красивые слова, за ними
стоит напряженный, притом вдумчивый
труд.
Какие же она сделала выводы из своей
многолетней практики, ка что прежде всего
обращает внимание в своей работе?
Раньше отары в колхозе формировались,
как правило, из овец разных возрастов, но
зато приблизительно одной классности. Конечно, однородная классность в отаре —
вещь необходимая, она помогает и дальше
совершенствовать поголовье животных. Но
оказывается, этого недостаточно. Наступа-
ет пора отбивки ягнят, а вместе с нею и
переформировка отары. Овцематок, которые уже шесть раз приносили потомство,
сдают на мясо. К дальнейшему воспроизводству они уже не пригодны. Их
место занимают ярки, а может быть и животные среднего возраста из расформированных отар. Так продолжалась из года в
год. Стабильного, постоянного состава отара не имела. Чабаны в свою очередь не
представляли зоотехнические возможности
отары в целом. К тому же уход за яркой
и зрелой овцой — не одно и то же, тут
необходим возрастной подход. Хоть и небольшая, но есть и особенность в кормлении разновозрастных овец. Молодая матка, скажем, может насытиться на таком
пастбище, с которого семи-восьмилетняя,
порядком износившая свои зубы, уйдет голодной. А подготовка к воспроизводству?
И таких «но» набирается столько, что Гомбоцырен Гончиковна одной из первых согласилась перейти на работу с одновозрастной отарой.
На предложение специалистов ответила:
— Да, формировать отары не только с
учетом классности, цвета шерсти,.но и возраста. Дайте мне первоокоток и позвольте
работать с ними до конца. Думаю, дело
стоящее.
Это было в 1965 году, когда основная
масса овец из отары Цыремпиловой подлежала сдаче на мясо и надо было сформировать новую. Именно сформировать, а не
добавлять разновозрастных животных.
После бонитировки была собрана отара
из 683 ярок в основном первого класса с
белой шерстью. Гомбоцырен Гончиковна
вместе с зоотехником и ветврачом лично
осмотрела каждое животное. Ярки были
здоровыми, на вид пригодны к воспроизводству, но рашица в упитанности ощущалась. И это вполне естественно, потому
что собраны они были из многих отар,
где условия кормления и содержания не
совпадали.
После летне-осеннего нагула ярки вывнялись и были вполне готовы к осеменемию. Их средний вес находился в пре~
1елах 45 и более килограммов. Результат
азался не очень блестящим, но и не бездежным: в среднем на сто маток было
•лучено 90 ягнят. Это ниже, чем при ра•те с последней отарой, но чабанку такой
зультат не обескуражил: далеко не кажя отара первоокоток имела такие ре•льтаты.
Все это известно теперь большинству
чабанов, но беда в том, что не у всех хватает терпения, настойчивости для выполнения всех требований. Между тем выполнение всех элементарных требований зоотехнии сказывается не только на многоплодии, оно отражается и на организме!
ягнят. Кстати сказать, в отаре Цыремпиловой средний вес молодняка к отбивке с
каждым годом увеличивался. Сама она
объясняет это тем, что с возрастом у овцематки плод развивается лучше, ягненок
родится крепче, быстрее набирает вес. Исключение составляет 1970 год, когда вес
ягнят к отбивке был ниже, чем в 1969 году. Здесь сыграли роль два обстоятельства:
во-первых, овце прокормить двух ягнят
труднее, чем одного, во-вторых, скудный
рацион, какой был в зиму 1969-1970 года.
Что касается производства шерсти, то с
возрастом, оно тоже увеличивается, ибо
организм продолжает развиваться, крепнуть. В 1970 году, правда, выход шерсти
по сравнению с 1969 годом несколько снизился, но все-таки был выше других предыдущих лет. Снижение объясняется тем же
недостатком кормов. Кроме того матки,
родившие двоен, много энергии расходовали на производство молока и, естественно,
у них меньше уходило питательных веществ на рост шерсти.
В технологии Гомбоцырен Гончиковны
большое место отводится воспитанию ягнят. Ведь бывают случаи, когда чабан получает сто ягнят на сто маток, а к отбивке
у него оказывается лишь 70 или 80. Сказывается пренебрежение к уходу и кормлению молодняка, а порой и незнание элементарных требований науки и практики.
Что поучительного в этом отношении у
коллектива, возглавляемого Цыремпиловой?
Прежде всего много внимания здесь уделяется кормлению ягнят в первые чясы и
дни их жизни. Следует особо отметить, что
ягнят Гомбоцырен Гончиковна содержит в
неотапливаемом помещении. Подстилка, сухой воздух, отсутствие сквозняков — все
это вместе взятое предупреждает простудные заболевания.
Но вот холод остался позади, солнце
все щедрее обогревает землю, в степях тает снег, с раннего утра до вечера ргздается песня извечного спутника степняка —>
жаворонка. Ягнята резвятся в выгульных
двориках, они уже не прочь вместе со
всей отарой отправиться на пастбище. Не
прочь, конечно, и чабан поскорее избавиться от многоголосого пополнения, пустить
его на подножный корм, потому что тре73
бования его к корму с каждым днем увеличиваются, а сено и зеленка на исходе,
да и с концентратами дело обстоит неважно. И все же этой поры иные чабаны ждут
с опасением: могут начаться поносы, а
вместе с ними и другие болезни.
Гомбоцырен Гончиковна умеет избежать
всяких неприятностей, связанных с переходом ягнят на летние пастбища. Как это
достигается?
— Прием не сложный, но хлопотливый,—
говорит чабанка.— С конца марта или с
начала апреля, в зависимости от погоды,
выгоняем ягнят на пастбища в послеобеденное время. До обеда молодняк получает сено, зеленку, а во второй половине дня
идет на пастбище. Пасется два-три часа,
вечером получает концентраты. И, конечно,
водопой вечерний обязателен. С каждым
днем время пастьбы увеличивается. В
этом и весь «секрет». А излишние хлопоты
заключаются в том, что отару и молодняк
вначале приходится пасти порознь, а лотом уже вместе. Это, конечно, лишняя нагрузка, и некоторые чабаны избегают ее.
И зря. В нашем деле ничего не пропадает
напрасно, каждое разумное начинание приносит добрые плоды.
Доверие народа
Это случилось в ту пору, когда Гомбоцырен Гончиковна только-только начинала
свою чабанскую биографию. Правда, о ней
уже говорили как об опытном овцеводе, но
сама-то она скромнее оценивала свои успехи, знала, что настоящего чабанского
мастерства еще не достигла. Тем не менее,
когда ее приглашали на совещания пере-"
довиков сельского хозяйства, она охотно
ездила в Петропавловку и Улан-Удэ, внимательно слушала выступления своих товарищей по работе, записывала понравившиеся ей мысли, предложения, замечания.
Но в тот раз приглашение в Петропавловку не обрадовало ее. Совещание предполагалось продолжительное — с утра до
вечера, а погода стояла неустойчивая, того
и гляди разыграется пурга, как это часто
бывает даже в апреле. Перед отъездом
она строго-настрого наказала мужу далеко
не гонять отару на пастбище, держаться в
распадках, в затиши. Тот обещал.
Первая половина дня выдалась как по
заказу: тихо, бсзморозно, только еле видимые снежинки плавно опускались на
землю, припорашивая сгепь. Но с обеда,
откуда ни возьмись, налетел ветер, поднял рыхлые снежинки и закрутил, завертел
так, что в пяти шагах ничего нельзя было
различить. Гомбоцырен Гончиковна сидела
на совещании, но мысли ее были далеко,
она хотела представить себе, что происходит там, в отаре, сумел ли Цыретор Дашиевич вместе с только что прибывшей на
отару сакманщицей вовремя загнать овец
в кошару? А если нет? Тогда не избежать
потерь. Овцы будут идти по ветру до тех
пор, пока не выбьются из сил, пока не
устелют степь страшными бугорками.
Нет, она не осталась на концерт, не
стала ждать легковой машины, а сразу же
после совещания на попутном грузовике
отправилась в Инзагатуй.
Ее опасения подтвердились. К тому времени, когда началась пурга, отара находилась всего в двух километрах от кошары. Не налети ветер с такой силой, ее
можно было без особого труда укрыть в
помещении. Но в том-то и дело, что овцы
мгновенно показали хвосты ветру и начали двигаться в степь. Всю ночь Цыретор
Дашиевич и его помощница бились возле
отары, не давали ей разбредаться, пока не
завели в тихий распадок. Тут и нашла их
Гомбоцырен Гончиковна утром следующего
дня.
— Ну как тут у вас?— не слезая с коня,
спросила она мужа. — Пурга-то сильная
была? Беды не натворила?
Беды, к счастью, не случилось, вся отара
была водворена в кошары, получила подкормку, а проголодавшиеся ягнята — вдоволь материнского молока.
Наверное, этот случай вспомнила Гомбоцырен Гончиковна, когда выступала нч
встрече с избирателями. Это было в марте
1963 года.
С листовки, выпущенной в том же году,
на вас смотрит молодая энергичная женщина, глаза чуть прищурены, будто устремлены в необъятную степь. В тексте
есть такие слова:
«Гомбоцырен Гончиковна Цыремпилов?
за пять лет работы в овцеводстве накопила богатый опыт и умело использует его
в своей работе. В 1962 году она сама провела искусственное осеменение 750 маток
получила зимних ягнят. С 1960 по 1962 гол
выход ягнят на сто маток вырос с 91 до
102, настриг шерсти — с 2,7 до 3,1 килограмма. Борется за получение звания ударника коммунистического труда».
Эти успехи молодой чабанки были известны не только в Джидинском, но и в
•Закаменском, Селенгииском и других аймаI ках. И не случайно кандидатом в делу-«таты Верховного Совета РСФСР ее выдвинули как в родном колхозе, так и в совхозе
«Боргойский», колхозе «Коммунизм» Сана-уинского сомонного
Совета Закаменского
аймака, на Джидинском волыррамово-молибденовом комбинате.
[ Потом поездка в Москву, на сессию ВерНрвного Совета РСФСР,
где решались
•рльшие государственные вопросы. На всю
Вкизнь запомнилось первое посещение МавНюлея В. И. Ленина, кремлевской квартиры
Нрладимира Ильича. Приходили на память
Нкнинские слова о том, что в Советской,•'осени каждая кухарка должна уметь
•управлять государством.
Кухарка!.. А ведь и чабанка, и кухарка,
вон та швея, что сидела рядом с ней в
ме заседаний Верховного Совета, все
люди труда, и все несем одинаковую
ответственность за судьбы своей страны,
надо принять такие законы и постановения, которые бы помогли быстрее, шире
!агать по пути, указанному Лениным. Знаят, надо по-настоящему учиться управ|ять государством.
После поездки в Москву Гомбоцырен
Гончиковна как-то по новому стала смотреть и на свою работу, и на работу других,
на положение дел в хозяйстве. В местности Зала-Убур, где расположено не|колы<о отар и гуртов и где находится
тара Цыремпиловой, решено было создать
Депутатский пост. В него вошли и Гомборфен Гончиковна, и депутаты сомонного
аймачного Советов, работавшие поблисти. И сразу же нерадивым чабанам
Мришлось подтянуться, потому что депутаты замечали все: когда ты выгнал отару
пастбище, когда ее поил, когда воз-'
[1ащался домой.
Обо всех неполадках
разу же становилось известно Гомбоцыен Гокчиковне.
Как-то соседний чабан приехал к Гомэцырен Гончнковне с такой жалобой:
— Не соблюдаются
границы выпасов.
&от такие-то и такие пастухи (он назвал
фамилии) все время норовят загнать отары
гурты на мой участок. Непорядок это.
Сигнал оказался серьезным: в других
стах пастухи тоже не очень-то придеркивались отведенных им границ выпасов.
при таком положении какой разговор
ажет идти о правильном использовании
гбищ? Пришлось этот вопрос перенесна обсуждение
бригадного собрания
абанов.
Много хлопот доставляла борьба с потравами. Собственно, она и до сих пор
не снята с повестки дня.
...Свежее поле зеленки. После только чго
выпавшего дождя оно потемнело и резко
выделяется среди других полей. Но что там
за движущиеся фигурки — лошади ли,
коровы, а может, и те и другие? Гомбоцырен Гончиковна поднесла бинокль к глазам, вгляделась. Да, там на участке зеленки, отведенном специально для овец,
паслись лошади, целый табун лошадей.
По этому поводу Гомбоцырен Гончиковна говорила, не скрывая своего волнения
и даже возмущения:
— К сожалению, потравы случаются еще
довольно часто. А это — одно из грубейших нарушений Закона о землепользова-1
нии. Представляете, люди работали, старались, как можно лучше обработать поле,
затратили горючее, семена, удобрения. И
вдруг из-за нерадивости каких-то пастухов и, прямо скажем, вопиющей халатности
хозяйственников
поле оказывается
вытоптанным, стравленным. Даже из Торея
попадались лошади на наших землях.
Много работ у депутата. К нему приходят и по делам, имеющим общественное
значение, и по сугубо личным вопросам.
И каждого надо выслушать, принять ре-;
шение, написать в заинтересованные инстанции или просто поговорить о том, от
кого зависит решение порой несложного
вопроса.
— А вообще-то с течением времени меняется характер заявлений и просьб, обращенных к депутатам,— говорит Цыремпилова. — Круг интересов у людей стал шире, запросы и требования к руководству
хозяйством неизмеримо повысились. Если
раньше заявления касались, скажем, забытого в поле плуга, вовремя не отремонтированной сеялки, то нынче речь идет о
большей насыщенности колхозов и совхозов техникой, об интенсификации всех отраслей хозяйства, в общем поднимаются те
вопросы, которые так глубоко осветил
июльский Пленум ЦК КПСС. В заявлениях по личным делам тоже произошли немалые изменения. Помнится, еще несколько лет тому назад было много просьб об
оказании материальной помощи, особенно
престарелым и инвалидам, об устройств
детей в интернат, ясли и садики. Теперь
таких заявлений почти нет: материальный
уровень жизни сельчан неизмеримо ноиысился. Теперь, можно сказать, покоя не- дают люди денежные, состоятельные. О д н о м у
надо помочь купить автомашину, другому — мотоцикл, да не простой, а с коляской, третьему — радиоприемник новейшей
марки.
Почти восемь лет Гомбоцыреи Гончиковна является депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Вторично избиратели оказали ей доверие 12 марта 1967
года.
Раньше
уже
говорилось — зимовка
1969—1970 года показала, что существующие кошары ни в коей мере не рассчитаны на выход большого количества ягнят.
В них, кроме самой отары, можно содержать 600—700 голов молодняка, то есть
расчет 100—на 100. А как же быть, если
многоплодие овец будет повышаться, а
оно и в самом деле должно расти: над
этим работают и практики, и ученые-селекционеры. Возведенный прошлой зимой
для отары Цыремпиловой в спешном порядке пристрой — не выход из положения.
Значит, надо уже сейчас иметь такие типовые проекты помещений, которые были
бы рассчитаны на содержание,
кроме
отары, не менее тысячи, а то и больше
ягнят. И новые кошары надо возводить
именно по таким, модернизированным
проектам.
— Эта мысль возникла у меня, когда я
познакомилась с решением июльского Пленума ЦК партии. Да и не только эта, много их родилось в голове после изучения исторических решений по сельскому хозяйству.
После июльского
Пленума
На собрании чабанов, где обсуждались
итоги июльского Пленума ЦК КПСС пригодились такие цифры: за последние пять
лет поголовье овец в хозяйстве увеличилось более чем на шесть тысяч голов.
Да, поголовье овец растет, увеличивается их продуктивность, несмотря на частые
засухи, постигающие Боргойскую степь.
Что же нужно для того, чтобы овцеводство и впредь развивалось высокими темпами, а его экономическая эффективность
повышалась год, от года? На этот вопрос
и чабанка Г. Г. Цыремпилова, и председатель колхоза отвечают одинаково:
— Нужно больше пооизводить собственных кормов. В настоящее время кормп,
заготовленные на месте, обеспечивают потребность лишь на 50—60 процентов. А привозные и покупные сено и концентраты об76
ходятся дорого, поэтому себестоимость баранины и шерсти еще высокая. Увеличить
доходность овцеводства — это прежде всею заняться производством кормов. Надо
расширять площадь поливных покосов и
утугов, улучшить полевое кормодобывание,
создать культурные пастбища.
Чабаны и руководители колхоза считают
также, что следует улучшать племенную
работу. Дальнейшее развитие овцеводства
невозможно без хороших баранов-производителей. Поэтому ставится вопрос о том
чтобы иметь станцию со своими баранамипроизводителями. Это поможет улучшить
и упорядочить искусственное осеменение и
в результате — поднять продуктивность
овцематок, получить качественный молодняк.
В общем можно сказать, что и чабаны,
и бригадиры животноводческих ферм, и руководители хозяйства отдают себе отчет
в том, что подъем сельского хозяйства потребует больших усилий, что в центре внимания должно быть повышение культуры
земледелия и животноводства, внедрение
в производство достижений науки и передовой практики, лучшего использования
капитальных вложений, земли, техники,
удобрений. Только на этой основе можно
добиться дальнейшего повышения производительности труда и увеличить производство и продажу государству всех сельскохозяйственных продуктов.
Но есть немало вопросов, которые волнуют чабанов и которые можно решить
лишь в общегосударственном масштабе.
— Мне очень понравилось вот это место
из постановления Пленума ЦК партии,—
Гомбоцырен Гончиковна остановила сипи
пялец против слов: «Создать механизированные овцеводческие фермы». — Препоавляете себе — механизированные овцеводческие фермы. Сейчас у нас есть электричество, механизирована подача воды и
то мы считаем, что уже многого достигли.
Но механизация нужна более широка?,
комплексная, такая же как и в полеводстве, хотя и там еще многие процессы труда выполняются вручную.
...На летней стоянке отары Гомбоцыреи
Гончиковны мы побывали в самые жаркие
июльские дни. Термометр показывал выше
тридцати градусов. Овцы, пригнанные на
дневной отдых, сгрудились в отраде, прятали свои головы друг под друга: навеса
здесь не было. Цыретор Дашиевич, рослый, широкоплечий мужчина тяжело вздохнул и заметил:
— Было бы хоть два-три десятка досок,
ам бы оборудовал навес. Но нет у нас
яи досок, ни плах, ни жердей. Кругом
степь. — Он вскинул глаза к дальним, по[желтевшим от солнца увалам, протянул
|В их сторону руку. — Деревце от деревца
на сто верст. Видите, тут пока не о механизации речь идет, а об элементарных вещах, о нескольких кубометрах третьесортного теса. В правлении колхоза нам отвецают, что досок нет, и их в самом деле
т. Гомбоцырен знает, она сама член правния. Где же выход? Впрочем, в решении
1ленума прямо говорится, что будет увенчиваться выпуск строительных материа»в для села. А раз сказано — будет сдеано.
Заночевали в летнике. Тишина кругом
такая, что в ушах звенит. Лишь изредка
искнет где-нибудь
потревоженная степ•1м зверьком птичка или фыркнет спросоовца. Поднялись рано, с солнцем.
— А где же Гомбоцырен Гончиковна?
-— Скоро будет, — отвечает с улыбкой
1ыретор Дашиевич.— Пока чай пьете, она
рк раз и вернется.
Попили чаю, а хозяйка все не показылась. Наконец хозяин протянул бинокль,
оказал в степь:
— Вон наша Гомбоцырен.
Действительно, километрах в трех-четыех между двух увалов медленно двигаась отара, а в стороне, на взлобке, маяла одинокая фигурка всадника.
В разговоре с чабанами был затронут
акой вопрос: хорошее или плохое это дело — отары переярок? Каково же мнение
|'омбоцырен Гончиковны?
^— Насчет
выгодности переярочных
тар,— сказала она,— судить должны экоо м и о 1 ы , зоотехники и ветеринарные раотники на основе многих данных, а не
иной отары.
В другой раз Гомбоцырен Гончиковна
оказывала нам зимник. Длинная типовая
ошара, приземистая, с низенькими окнаии— таких много разбросано в Боргойской
тепи. С прошлой зимовки навоз не был
це убран.
— Некогда, руки не доходят,— жаловась чабанка. — Представляете, сколько
ил надо положить, чтобы убрать этот
навоз. Его же надо буквально ковырять
по кусочку, потому что он слежался, спрессовался сотнями овечьих ног. Потом наваливать на телегу, сбрасывать где-нибудь
и так до бесконечности. А ведь можно было бы облегчить наш труд, причем не
прибегая к большим затратам.
Скажем,
будь у нас небольшой трактор-погрузчик, с
его помощью можчо было бы очистить
кошару в день-два. Но такого погрузчика
я нигде не встречала. Хорошо бы иметь
такую машину, сколько бы труда чабанского она сберегла. Две-три машины на хозяйство—и весь разговор. Механизаторы,
считай, на каждой отаре есть, да вот делать им особенно нечего...
Выше уже говорилось, что каждому чабанскому
участку
выделяются
луга
вблизи кошары с тем, чтобы чабаны имели
возможность часть сена заготовлять сами.
Весной они проводят задержание
талых
вод, вывозят и разбрасывают навоз, собирают камни, одним словом окультуривают
участок. И вот наступает время сенокоса.
Один или два чабана, свободные члены их
семей отправляются на луг, вооруженные
дедовскими литовками, деревянными граблями и вилами и приступают к работе.
Точь-в-точь как это делалось и пятьдесят,
и сто лет тому назад.
— Литовки каждый год поступают в потребсоюз,— горько усмехается Цыремпилова. — Причем с каждым годом все больше. Конструкторская мысль не перекинулась еще с дедовских литовок на небольшие мотокосилки. Не те широкозахватные,
которые сейчас выпускаются, а именно небольшие, можно сказать, портативные с
шириной захвата полтора метра.
Права, конечно, чабанка.
* *
*
Широко развитое социалистическое соревнование чабанов, целеустремленная массово-политическая работа, умелое применение материальных и моральных стимулов—
все это позволило в целом по хозяйству
получить по 97,6 ягненка на сто маток. И
впереди соревнующихся идет скромная труженица,
депутат
Верховного
Совета
РСФСР, Герой Социалистического Труда
Гомбоцырен Гончиковна Цыремпилова.
Ипзагатуй Джидинского аммака.
Известная монгольская писательница, видная общественная
деятельница Сономын Удвал родилась в 1921 году в урочище
Лун Центрального аймака в семье
скотовода. Ровесница
народной
революции, она выросла в бурные
годы становления новой жизни.
Рано познав грамоту, приобщилась к чтению книг, которые открывали перед ней все новые и
новые горизонты, пробудили в ее
душе жгучий интерес к. тайнам
рождения книг. Все эти годы она
упорно стремилась к осуществлению своей мечты — стать тружеником пера.
Сономын Удвал назначают
редактором аймачной газеты, п
чуть позже — заместителем ответственного
редактора
газеты
«Унэн» — центрального
органа
ЦК Монгольской народно-революционной партии.
Затем годы учебы в Советском Союзе, сначала в Институте Востоковедения, затем в Высшей партийной школе при ЦК
МНРП, и, наконец, в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.
Тов. Удвал член Президиума Великого народного хурали
МНР, член ЦК Монгольской народно-революционной партии, председатель Центрального совета профсоюзов Монголии, председатель Монгольского Комитета женщин, председатель правления Союзе,
писателей МНР.
Первое произведение С. Удвал было опубликовано в 1938 году в газете «Унэн»,
и с тех пор писательницей написано немалое количество книг. Главные из них: сборники рассказов «Счастье народа», «Неиссякаемый источник», «Пять дней из двадцати летх
и др. Повести «Од гэрэл», «Первые тринадцать» и другие вошли в золотой фонд современной монгольской литературы.
В последние годы Сономын Удвал в тесном содружестве с другими писателями
написала сценарии «Наводнение» и «Свет в степи», по которым были поставлены кинофильмы, имевшие успех в МНР и за ее пределами.
В настоящее время, писательница работает над романом о народном герое Магсаржаее.
Главная тема произведений Удвал — творческий труд, счастливые будни свободного народа, строящего социалистическое общество.
Писательница встречает свое пятидесятилетие в расцвете творческих сил, полна?
новых замыслов, она всегда в гуще событий, происходящих в ее стране и за ее пределами, сочетает писательский труд с активной общественно-политической деятельностью
78
Многоуважаемая товарищ Удвал!
Писатели Советской Бурятии сердечно поздравдяют Бас с пятидесятилетием со дня рождения!
МЫ знаем Бас КаК замечательную писателЬницу братсКой народной Монголии и нашего
искреннего друга. Ваша неутомимая общественная и государственная деятельность, Ваши
творчесКие исКания и победЫ неизменно направлены на укрепление братсКой дружбЫ между
нашими литературами.
Публицистические выступления, рассКазЫ и
повести, КинофилЬмЫ, поставленные по Вашим
сценариям, правдиво рассКазЫвают об успехах
и завоеваниях народной власти, горячо пропагандируют новую жизнЬ и новую КулЬтуру
свободолюбивого и талантливого монголЬсКого
народа. ДочЬ простого сКотовода, ровесница
новой Монголии, БЫ поставили свой недюжиннЫй
талант на службу своему народу, своей партии.
Б светлЫй денЬ Вашего юбилея бурятсКие
писатели, исКренне поздравляя Вас, верят, что
и впредЬ Ваш талант будет таК же яроК и
долговечен. Желаем Вам КрепКого здоровЬя,
счастЬя и новЫх творчесКих свершений.
Правление Союза писателей
Бурятской АССР
Редколлегия журнала „Байкал"
монгольско НАРОДНО революции
М. ЦЭДЭНДОРЖ
Старый дуб
Расскажи мне, старый дуб, расскажи,сколько славных поколений пережил?
И еще задам один тебе вопрос:
Что же в кольца годовые ты занес?
Древний дуб, как изваяние, молчит
и ни веткой, ни листвою не кивнет.
Иль рассказом не желает омрачить,
или повода для откровенья ждет?
Вдруг нахлынул синий ветер
с синих гор
и мальчишкой возле дуба заплясал.
Встрепенулся
и втянулся в разговор.
Я рассказ его стихами записал.
— Это было в те года далекие —
под зеленой, под неспелою луной.
В пору ту Онон — река широкая
была всего два локтя шириной.
И темнела ягодой-черникою
ныне светлая, молочная роса...
Грянула на нас бедой великою
с ревом,
с огненными копьями гроза.
Было небо на клочки разорвано.
Гнулись горы. Табунами шли грома.
Но прямой стояла, непокорною
девушка по имени Цырма.
Простирала в темень руки жаркие
и звала родного Бэлигто:
— Где ты, милый?
Что с тобою?
Что?—
А в ответ лишь вороны ей каркали,
накликая новую беду,
привечая черную звезду...
* *
*
Милые всегда в дороге дальней,
если помощь их нужна нам позарез.
Некому излить большое, тайное...
И тогда — «послушай, присоветуй,
лес!»
А Цырма так суженому верила,
как иные верят только в божество.
— Дуб, скажи мне, где он?
Где?—
И дерево удивлялось
1 Гамины—маньчжурские завоеватели.
80
светлой верности ее.
Коль не можешь ты с разлукой свыкнуться,
коль не веришь ты в недобрую молву,
то всегда любимые откликнутся
на твое скорбящее «ау».
Бэлигто услышал голос суженой,
хоть и был за тридевять земель, —
заплескалось море тихой лужею,
червяком стал в этой луже змей.
Даже время сжалось и уменьшилось,
и столетье превратилось в миг...
И всегда — лишь только кликнет женщина
в остров обернется материк.
И, как сон дурной, отхлынут трудности,
и кричишь себе ты:
— Не робей!—
Или просто — станет больше юности,
станет больше смелости в тебе.
Бэлигто пробился в землю отчую
и обнял дрожащую Цырму.
А грозу грозой меча отпотчевал,
а затем — стрелой развеял тьму.
Всегда на горький зов любимых —
иль женщины,
или земли —
идут божественно мужчины,
чтоб солнце вырвалось из мглы.
На щеках высохнут дождинки
и вспыхнут радугой цветы,
и все житейские тропинки
уже не станут столь круты.
Зимою песню булжамура
услышит женщина во сне,
и день отчаянья,
день бури
сверкнет, как праздник по весне.
Спроси хоть дерево об этом...
Свой опыт в кольцах лет храня,
оно хранит тебе ответы,
хранит советы для меня.
Мне дуб былиной прошумел:
— Я ровно тыщу лет живу
и в кольца занести сумел
и жизнь, и подвиг, и молву.
Я помню, как в моей долине
росинка кровью налилась,— 1
то в степь нахлынули гамины ,
чтоб волю вольную украсть.
Но поднялись на бой монголы:
— Чтоб жить без солнца?
Ни за что!..—
И стал суровым, невеселым
веселый парень Бэлигто.
Помнил он наказ своей невесты:
— Докажи мне преданность в бою!
Любишь песни
и меня...
Известно.
Ну, а любишь ли
ты степь свою?—
Эх, гуляй, гуляй, клинок булатный,
защищая степь — родную мать!
Не случайно будет Сухэ-батор
Бэлигто, как сына, обнимать.
А гамины, хлынув саранчою,
оставляют от улусов дым,
даже солнце, солнце золотое
от золы становится седым.
Над родным зареченским улусом,
где живет любимая Цырма,
где сам воздух
пахнет вкусно-вкусно,
с светлый полдень
загустилась тьма...
Эх, гуляй, гуляй, клинок булатный!
Будь мне доказательством любви
и зови, зови на подвиг ратный
и к Цырме любимой призови.
Знает дуб тысячелетний, знает —
славно бился парень удалой.
Вспоминает тихо, вспоминает,
как однажды свиделся с Цырмой...
Полночь.
В лес девчонка прибежала,
чтоб не видел, видимо, никто,
и к стволу прильнула,
задрожала:
— Где ты, Бэлигто мой?
Бэлигто...
Так хочу родить тебе я сына...
Если вдруг затянется война,
вырастет
| и станет бить гаминов —
у мужчин всегда судьба одна...
Вырастет
и мать свою утешит,
будет ей на старости легко...—
И запричитала:
— Где ты? Где же?
Жду тебя с победой, Бэлигто!
* *
*
У дуба тысячелетнего
тыща годовых колец,
в каждом — пятьсот преданий...
Ехал в желтом дыгыле
лама на коне,
ехал как будто странник.
И по всей по округе
собирал он людишек,
чтоб помолиться Будде:
.— Коль отдашь ты богам
всякий малый излишек —
Унгерну другом будешь.
Он очистит Монголию
разом от красной скверны.
Много ль в Советах проку?
6. «Байкал» № 1.
Сухэ-Батор погибнет,
как всякий неверный...
Кто не поможет — проклят!
И однажды у древнего дуба
шел, как всегда, молебен:
— Слышим мы глас твой, боже!
Мы поможем Унгерну
водкой, мясом и хлебом.
Если кто не поможет!..—
Вдруг показалась конница —
шапки, папахи в звездах.
Сжался лама, разумеется...
Подобрал он полы халата
за синий кушак...
Но — поздно!
— Здравствуйте, товарищи!
Мы — красноармейцы!—
И так уж случилось,
что именно в этот вечер
сына Цырма родила.
Чарки за сына, за встречу!
Вот что в тот вечер было.
Как же назвали сына?
Быть может Цэцэном — мудрым?
Быть может Дарханом — умелым?
Отцу предложил Сухэ-Батор
назвать малыша Ганболдом:
— Пусть станет он сильным и смелым,
остроглазым и чернокудрым
и светлым душою, как утро,
как звонкое слово — свобода.
Ганболд — это высверк булата.
V
Дуб — он летописец.
Рассказал,
что совсем недолгим праздник был,
ведь отряд с зарею ускакал,
а с росой и след его остыл.
На белогвардейцев и гаминов
вновь ходил в атаку Бэлигто.
Степь
и красной конницы лавина.
И клинки. И кровь. И боль. И стон.
Стали в битве кровными друзьями
и бурят, и русский, и монгол.
И все ярче полыхало знамя
в синеве степных монгольских сел.
И клинки булатные, и дружбу
закаляли воины в бою.
Не случайно, братья по оружию,
эту песню я для вас пою.
На прощанье дуб мне рассказал
(лучше бы в другой, наверно, раз),
как он, словно раненый, кричал,
словно умирающий стонал,
зимним днем прощаясь с Бэлигто.
— Привели его избитого, гамины,
привели ко мне на страшные смотрины,
сняли и гутулы и пальтоприказ.
И петля.
И...
Обломал бы ветки я свои,
да они в тот день закоченели,
да они, как руки, онемели...
Вот и все.
Про времена иные
поздней раскажут кольца годовые.
Перевод с монгольского Мих. Шиханова.
81
МИГ»К
Станислав ГУРУЛЕВ,
кандидат геолого-минералогических
наук.
История баргузинской меди
Одни события ведут к другим, и часто в
смене событий исследователю приходится
идти вспять времени — от поздних событий к более ранним. И если бы в то лето
начала пятидесятых годов, когда мы занимались разведкой Намаминского медного
месторождения, что расположено в северной части Баргузинского хребта, не было
сделано нескольких открытий, то, по всей
вероятности, никто из нас—• геологов не продвинулся бы в истории открытия и освоения
баргузинской меди дальше трафаретного и
скучного перечисления имен исследователей-предшественников, перечисления, без
которого не обходится и поныне даже самый хороший геологический отчет.
В тот год на месторождении были открыты свинцово-цинковые руды. Важность
этого открытия не вызывала сомнений, так
как месторождение из сугубо медного превращалось в полиметаллическое, то есть
содержащее целую гамму металлов. Мы занялись усиленными поисками. И вот при
этом-то неожиданно обнаружили следы былой человеческой деятельности.
Прослеживая одну из зон свинцово-цинкового оруденения, мы на вершине горы
увидели вдруг толстый, почти в обхват, деревянный столб, поставленный кем-то на
покатых каменистых склонах горы, где вообще ничего не росло, кроме ягеля и лишайников.
Кто-то
занес
столб
сюда,
высоко в горы, обтесал, поставил и
тут же топором оставил на столбе буквы,
по-видимому, свои инициалы, число, месяц, год 1907-й. Свинцовые руды мы нашли
рядом с медными, а эти последние были
известны давно, они и составляли основную ценность месторождения.
Кто занес
сюда столб, на какие руды—медные или
свинцовые — он делал свою заявку, кго
он был — просто искатель приключений,
рудознатец, следовавший стародавнему правилу «ищи руду возле руды», промышленник со своей «челядью», охотник,— для нас
так и осталось неизвестным. Но именно
это обстоятельство заставило нас более
тщательно ворошить сведения о своих неведомых предшественниках. И мы узнали
при этом много интересного и поучительного.
82
Позднее мне приходилось встречать не
однажды подобные столбы-заявки, свидетельствующие о неустанных поисках земных сокровищ, о труде безвестных наших
коллег-предтечей, но именно первый мною
виденный заявочный столб оставил наибольшее впечатление.
Было решено основательнее продолжить
разведку медной рудной зоны. Для этого
заложили в горе штольню — горизонтальную горную выработку достаточно большого сечения. Штольню проходили на взрыв,
а отвал из нее выкатывали вагонетками. К
вот однажды
очередной взрыв открыл
большое отверстие в какую-то полость,
пустоту. Стали разбираться, в чем дело.
Оказалось, что это старая заброшенная
штольня. Выход штольни на поверхность
был засыпан, по всей видимости, специально, умышленно глыбовым материалом.
Кому-то нужно было, чтобы о штольне никто не знал. Старая штольня почти доверху заполнилась льдом, это замерзли
грунтовые воды. Местами лед принимал
густую синюю окраску — его окрашивал
медный купорос, который образовывался
при поверхностном окислении медных руд.
Кто копал штольню — это интересовало
нас всех. И только чуть позднее мы узнали, что штольню вели... англичане. Англичане? В Баргузинском хребте? В Сибири? Почему? Как? На все вопросы нужен был
ответ. И он был получен. И вместе с ним
мы узнали много интересного и занимательного из истории открытия и освоения
баргузинской меди.
И вот эту историю я думаю сейчас изложить.
I
Начальные страницы истории баргузинской меди связаны с именами коренных
жителей края — эвенков. Именно они,
живя в горах и охотясь, впервые наткнулись на глыбы чистой самородной меди.
Эвенк Иллокан еще в тридцатых годах
прошлого века, подбирая куски самородной меди, переплавлял их в кузнечном
горне и употреблял медь на различные по-
делки. Он также продавал медь баргузинским бурятам, а одно время даже отвозил
ее для продажи в далекий Иркутск.
И, по-видимому, не только Иллокану стало известным месторождение самородной
меди. Но Иллокан и его семейство долгое
время скрывали это от начальства и верхнеангарских крестьян, не без оснований
опасаясь, что в этих краях возникнет завод, а вместе с заводом причислят сюда
и каторжан.
Открытие эвенков долгое время, конечно,
в тайне удержаться не могло. В 1867 году
баргузинский исправник, отставной майор
К. А. Медин узнал о баргузинской меди
от главного баргузинского тайши Сахари
Хелимнаева'. Он заинтересовался всерьез
столь интересной находкой. По его описаниям, он поехал в село Верхне-Ангарское
(ныне Кумора), чтобы встретиться с эвенком Иллоканом. Но того не оказалось в
живых. Расспросы Медина ни к чему не
привели. Верхнеангарские крестьяне знали, что где-то на реке Намаме медь действительно есть, но точного местонахождения ее никто не знал или, может быть, не
хотел сообщить.
В эту же поездку Мёдин встретился с
баргузинским ламой Абидой Мурхановыч,
который рассказал, что он покупал несколько раз у эвенка Иллокана и его
сестры Анны куски самородной меди до
пятнадцати-двадцати фунтов -весом. Иллокан рассказывал, якобы, Мурханову, что
медь находится на пути от реки Намамы
к поселку Душкачану (в то время поселок
Душкачан был местом ежегодных пушных
ярмарок), что медь он собирал на покатости большой горы, под мхом. Но
точного
места эвенк
Мурханову
всетаки не сообщил. В то же время Мурханов, желая помочь Медину, поделился с
ним мыслью о том, что в реку Намаму
слева впадают два ключа, которые называются Чирикта, что по-эвенкийски означает медь. Медину этого было достаточно,
чтобы отыскать медные руды.
И уже в августе того же года Мёдин в
сопровождении эвенка Калтони (он
же
Ефим Ичидынов) отыскал в горах медные руды и отобрал первые образцы их. На
следующий год он приступил к первой
разведке с помощью канав и шурфов. Руды
были обнаружены на трех горах, разделенных глубокими долинами. Одну гору
он назвал в свою честь — гора Медина,
другую — в честь эвенков братьев Накотиных, чем-то помогавших, видимо, ему, третью — в честь мальчика, служившего у него коногоном и нашедшего на этой горе
двухпудовую глыбу чистой самородной меди,— гора Красногорова.
Названия гор
сохранились и поныне.
Мёдин в эти годы посещает иркутского
генерал-губернатора, видимо, просит у него какой-то помощи в деле добычи меди
. и добивается разрешения на химические
анализы руд в Нерчинском горном округе и в Иркутске. Получив анализы, он
сомневается
в достоверности иркутских
\Сахар
анализов, считая их завышенными, и полагается в основном на нерчинские, которые определили до двадцати фунтов меди
на пуд сырой руды. И эти содержания
достаточно высоки, чтобы можно было приступить к добыче руд и выплавке меди.
В 1871 году Мёдин опубликовал статью
о месторождении. В ней он не только характеризует руды и само месторождение,
но и подробно рассчитывает, вплоть до
осьмушки табака и фунта соли, затраты
на возможную разведку и добычу меди. В
то время Россия покупала медь у Китая,
поэтому при расчетах Мёдин сравнивает
предполагаемую стоимость намаминской
меди и стоимость меди маньчжурской. По
расчетам выходило, что добыча меди в
Баргузинском хребте должна быть прибыльной.
Расчеты Медина были основательными,
и они убедили вступить с ним в компанию
мещанина из далекого Екатеринбурга Старкова, знавшего как плавить медные руды,
и известного в то время сибирского горного деятеля Н. Е. Глотова, управлявшего
Николаевским железоделательным заводом.
Компания развернула деятельность. На
месторождении было построено несколько
домиков, сначала небольшая опытная плавильная печь, а затем и шахтная печь.
Была сооружена воздуходувка с конным
и водяным приводом.
Достоверных сведений о том, сколько Мёдин с компанией выплавил меди, не сохранилось. Но из частных источников и устных рассказов известно, что была выплавлена тысяча пудов отличнейшей меди, которая затем, якобы, пошла на Николаевский завод на переделку. Эти сведения
последующими предпринимателями оспариваются. Но сам факт выплавки меди несомненен.
Промышленники, посещавшие
месторождение в конце прошлого века, еще
застали в целости плавильную печь, слитки неочищенной меди. И сейчас, спустя
сто лет, можно найти следы этой плавильной печи, сгнившие деревянные рудоскаты
на горе Красногорова, с которой Мёдин
и брал руду, глыбы шлака с медью.
Позднее, в 1873 году, были опубликованы анализы медных руд и сплавов, полученных в плавильной печи. Анализировались различные медные руды — тут были
и зеленые малахитовые руды, и руды из
самородной меди, и желтые колчеданные
руды. В рудах иркутские химики Шамарин
и Гущо определили, кроме меди, сурьму и
мышьяк, а также в небольших количествах
цинк и серебро. Интересен сплав из плавильной печи — он мелкозернистый, серобелый, очень хрупкий. Судя по анализам,
сплав состоял из меди, но со значительной
примесью сурьмы и мышьяка.
Плавильная печь с воздуходувкой
на
конной или водяной тяге по тем временам
считалась заводом. Завод Медина просуществовал недолго, вскоре он был зачислен в казну. Мы не знаем причин прекращения добычи меди. Может быть, сказались тяжелые
транспортные условия и
1 В «Баргузинских летописях» Г. Н. Румянцева баргузинский тайша носит имя
Намнаев.
83.
удаленность месторождения — и сейчас о г
месторождения до ближайшего населенного пункта в Баргузинской долине добрых
полторы сотни километров по горным тропам. /Может быть, не оказалось в достатке медных руд хорошего качества. Может
быть, все предприятие не принесло тех
прибылей, на которые рассчитывали. Может быть, в плавильной печи вместо чистой
меди выплавлялся сложный сплав, из которого медь нужно было снова какими-то
методами извлекать.
Попытка Медина эксплуатировать Намаминское медное месторождение приходится
как раз в то время, когда Российское государство вступало на путь капиталистического развития. Но капитализм не смог изменить коренным образом хозяйственного
облика Сибири. П р о м ы ш л е н н о с т ь здесь
размещалась отдельными очагами. Большей части Прибайкалья по-прежнему были
свойственны патриархальщина, полудикость
и настоящая дикость, о которых писал
В. И. Ленин.
Экономическая
деятельность несколько
оживилась с проведением железной дороги. Это обстоятельство подтолкнуло и
оживило процесс освоения природных богатств. Ожили старые торговые гороча, появились горнорудные предприятия.
Именно с этим временем связана новая
попытка эксплуатировать медное месторождение в Баргузинском хребте. После Медина прошло добрых двадцать лет. И вот
в 1897 году баргузинский золотопромышленник М. А. Новомейский сделал заявку
на месторождение, а в мае 1899 года организовал
товарищество по эксплуатации
месторождения. В это товарищество вошли
некоторые баргузинские золотопромышленники и металлургическое общество
во
Франкфурте-на-Майне (ныне Западная Германия). Так, впервые к баргузинским медным рудам протянулась жадная рука иностранного капитала. Новомейский сразу
же приступил к разведке месторождения.
Кроме того, он развернул деятельность по
рекламированию своего предприятия. Он
отправляет коллекцию образцов руд
в
Академию наук и прилагает подробную пояснительную записку. Связавшись с немецкими промышленниками, он посылает
пробы руды в далекую Германию, где ему
выполняет анализы доктор Торнер из Оснабрюке.
Разведка месторождения, предпринятая
Новомейским, не дала, видимо, обнадеживающих результатов, несмотря на то, что
руды имели высокие содержания меди. И
вскоре он, не приступая к детальной разведке, прекратил свое предприятие, так ничего и не добившись.
Но Намаминское месторождение продолжало привлекать взоры предпринимателей,
и не только отечественных, а и иностранных.
В 1908 году заявку на разведку меди
сделал бывший баргузинский исправник
Иванов. Но дальше этого дело у него не
84
пошло. Да и заявка была составлена по
старым материалам Медина. Иванов, повидимому, даже не был на месторождении.
Аналогичная заявка поступала в эти годы также от жителя станции Половинная
Т. К. Трухина.
Летом 1911 года месторождение посетил
Е. Миткевич-Волчасский. Один из первооткрывателей простого, по нашим временам,
бумажного фотоэкспонометра, МиткевичВолчасский в то время был студентом и
работал в отряде известного геолога В. ККотульского — впоследствии крупнейшего
нашего знатока медно-никелевых месторождений. В задачу Миткевич-Волчасского входило описание месторождения, что он добросовестно и выполнил, пробыв на месторождении более двух недель. Уже в Петербурге он познакомился в Академии наук с коллекцией руд Новомейского, со статьями Медина, Шамарина и Савицкого, Новомейского.
В преддверии первой мировой империалистической войны баргузинская медь неожиданно заинтересовала английских промышленников. Необходимо напомнить, что
английские
промышленники, как и все
прочие, издавна интересовались российскими недрами и разрабатывали
на правах
концессий месторождения на Урале, Алтае,
извлекая немалую выгоду. Царское правительство по дешевке распродавало богатства недр. В концессию было отдано и
Намаминское месторождение меди.
Первый англичанин появился в Баргузинском районе, кажется, в 1913 году. Заехал
он сюда с восемнадцатилетней дочерью,
которая через год почему-то умерла. Англичане, наняв местных рабочих, построили на месторождении добротный дом, который стоит и ныне; они загатили часть болота, что на подступах к месторождению,
и, по всей видимости, собирались строить
гужевую дорогу.
Они приступили к разведке месторождения. Но сведений о том, как проходила
разведка, мы не имеем. Иностранные комиссионеры не оставляли после себя никакой документации, а горные выработки
они зарывали так, чтобы не было видно
никаких следов. И так они поступали не
только здесь. Так же было и на Алтае, на
Урале. Таков дух и характер частного капиталистического предпринимательства —
держать все в секрете, а следы своей деятельности уничтожать, чтобы этим не мог
воспользоваться какой-либо конкурент.
Англичане проводили и думали проводить серьезные разведочные работы. И вот
та старая штольня, о которой я рассказал
выше, была, по всей видимости, штольней
англичан.
Начало мировой войны прекратило деятельность английской концессии. Но интерес к месторождению не упал, и в годы
первой мировой войны была предпринята
еще одна попытка изучения и исследования
месторождения.
До этого лет за двадцать, как известно,
было открыто
явление радиоактивности.
Оно еще не находило практического применения, но многие ученые
предвидели
такую возможность. И не только ученые.
Радием и радиоактивными минералами интересовались уже промышленники. Поэтому группа лиц и фирм в Москве во главе
с известным промышленником П. П. Рябушинским организовала «Московскую экспедицию по отысканию радия в России».
Инициатором организации и научным руководителем
экспедиции был академик
В. И. Вернадский. На выделенные деньги
снарядились и выехали две полевые экспедиции: одна в Фергану, другая в Забайкалье.
Забайкальская экспедиция должна была
обследовать Святой Нос, Баргузин и Верхнюю Ангару. Почему был выбран именно
этот район? Только по чисто геологическим
соображениям. Никаких проявлении радиоактивных минералов в то время здесь не
было известно, да и не известно сейчас.
Просто надо было где-то искать. Руководил Забайкальской экспедицией физико-химик Московского университета М. Н. Соболев. Наиболее весомый вклад в работу
этой экспедиции внес финн Пентти Эскола,
доктор петрографии Гельсингфорского университета. В то время его имя еще не было столь известным, как в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы. Он еще не
написал многих своих трудов, впоследствии
принесших ему славу ученого с мировым
именем.
Эскола обследовал Святой Нос и обнаружил на нем своеобразные горные породы из группы щелочных, содержащие минерал грана г. Такие горные породы до
этого не были известны, их впервые описал Эскола, и они вошли в геологическую
литературу под названием «святоноситы».
Так их называют и до сих пор. В Баргузинской долине Эскола нашел другие интересные породы — так называемые орбикулиты и позднее подробно описал их. Эти
породы им найдены не в коренном, скальном залегании, а в глыбах, принесенных
в долину либо Баргузином, либо былыми
ледниками. Геологи до сих пор не могут
повторить находок этих пород.
Будучи в Баргузинской долине, Эскола
воочию видел проявления былой ледниковой деятельности. Рельеф местности напоминал ему, видимо, родные уголки далекой
Финляндии: курчавые скалы, бараньи лбы,
моренные отложения, ледниковые долины,
эрратические валуны, ледниковые кары —
неизбежные следы деятельности ледников.
Под впечатлением виденного исследователь
позднее напишет статью об устройстве поверхности, о происхождении рельефа Баргузинского хребта. И это будет
весьма
кстати. Еще свежим оставался в памяти
исследователей жаркий спор между В. \.
Обручевым и А. К. Мейстером о былых
ледниках. Если Обручев, вслед за П. А.
Кропоткиным, отстаивал взгляд о проявлении в прошлом ледников, то Мейстер все
особенности рельефа обширной территории
севера Забайкалья объяснял проявлением
грязевых потоков. Это было время, когда
Кропоткин за границей пропагандировал
идеи о значительном распространении в
Сибири в недалеком
прошлом обширных
ледниковых полей.
Вопрос о проявлении
ледников стоял остро. Достаточно сказать,
что в один и тот же год с Эскола по западному побережью Байкала работал геолог М. М. Тетяев, впоследствии наш видный тектонист, который пришел к выводу
о том, что на Байкале не было когда-либо
ледников, а формы рельефа,
трактуемые
другими исследователями как ледниковые,
он объяснял деятельностью воды.
Эскола во главе небольшого отряда совершил маршрут из Баргузинской долины
на Верхнюю Ангару. Он посетил Намаминское месторождение, а позднее написал с гатью о геологии района месторождения, затронув в ней вопрос о метаморфических породах, вопрос, который позднее станет
предметом острой полемики среди геологов. Вместе с Эскола в отряде работал
Н. А. Смольянинов, ассистент по кафедре
минералогии
Московского
университета.
Смольянинова на месторождении заинтересовал минерал барит — сернокислая соль
бария. Тяжелые весом, кристаллы барита
по цвету молочно-белые, крупные, внешне
красивые. Молодой минералог, который
позднее, уже в советские годы, напишет
крупные труды по минералогии и войдет
в число наших ведущих ученых-минералогов, обратил внимание на кристаллы барита на горе Медина, собрал их коллекцию
и позднее подробно описал, выделив среди них две разновидности, отличающиеся,
по-видимому, своим происхождением.
Отряд, кроме медного месторождения,
обследовал
известный уже в то время
горячий источник с радиоактивными (родоновыми) эманациями возле села Иркана,
что на Верхней Ангаре.
Трудно сказать, увенчались ли успехом
поисковые работы Московской экспедиции
по отысканию радия в России, так как события Октября 1917 года положили конец
работам этой экспедиции.
Интерес к баргузинской меди на время
заглох.
В первые советские годы страна залечивала раны, нанесенные войнами, ликвидировала последствия разрухи. Естественно,
в эти годы эксплуатировались старые месторождения, поиски нового сырья вел ж: и
еще робко.
Громадных успехов достигли советские
геологи в годы первых пятилеток. Урал,
Кузбасс,
Казахстан, Забайкалье — во г
районы, где были открыты геоло!ами крупнейшие месторождения металлов и подготовлены к промышленному освоению. В условиях планового социалистического хозяйства, при отсутствии частно-предпринимательского ажиотажа, не было смысла заниматься мелкими месторождениями, удаленными от транспортных артерий, с неясными перспективами. Если говорить
о
меди, то в это время были открыты медные
месторождения Коунрад и Джезказган в
Казахстане, медь поставляли старые месторождения Урала.
Но нельзя сказать, что в годы первых
пятилеток позабыли о баргузинской меди
85
совсем. В 1933 году видный ученый в области рудных месторождений В. М. Крейтер, рассматривая месторождения цветных
металлов Восточно-Сибирского края, дал
описание
Намаминского месторождения,
основываясь на результатах предыдущих
исследований, и не согласился с основными
выводами Миткевич-Волчасского. Крейтер
пришел к мысли о том, что месторождение во многом аналогично медному месторождению Бизби в штате Аризона (США).
Он категорически предлагал продолжить
разведку месторождения.
Однако северные районы Забайкалья в
эти годы привлекали внимание исследователей в основном как золотоносные. К северу расположен крупнейший Ленский золотоносный район. Эксплуатировались прииски Баргузинской тайги (левобережье Баргузина и верховья Витима). Небольшие
прииски работали возле Нижне-Ангарска.
Естественно, поиски золота также велись в
Баргузинском и Северо-Муйском хребтах.
В середине тридцатых годов геологами
были открыты промышленные золотоносные россыпи на реке Няндони, смежной
с На мамой. Еще в 1911 году по Няндони
на плоту сплывал горный инженер В. Н.
Захаров, в задачу
которого входило исследование золотоносности этой реки. Хотя
Захаров и установил слабую золотоносность речных отложений Няндони, он сделал вывод о бесперспективности этой реки
на золото. И все-таки золотоносные россыпи здесь были открыты не по самой реке,
а по ее притокам. На одном из притоков
возник прииск Красный, несколько ниже —
прииски Богодикта и Щука, в устье Няндони — прииск Яксай.
На прииске Красном вместе с золотом в
россыпи иногда находились довольно крупные, с куриное яйцо, обломки черного мягкого блестящего минерала. То был минерал гессит — сложное соединение серебра,
золота, теллура и других металлов. Минерал интересен во всех отношениях. Не
случайно он так пристально привлек внимание минералогов: его характеризовали
в печати Е. П. Негурей и В. К. Земмель в
1937 году, В. И. Соболевский в 1939 году,
А. Ф. Ли в 1957 году.
Золотоискатели, естественно, интересовались и Намаминским месторождением, они
внимательно смотрели и на его окрестности. Еще во времена Медина в медных рудах месторождения химическим анализом
устанавливались серебро и золото. Правда,
золото содержалось в ничтожных количествах. Но эти малые содержания обращали на себя внимание.
И вот в 1939 году недалеко от медного
месторождения, в шести-восьми километрах, были открыты золотоносные кварцевые
жилы. Честь открытия их принадлежала
горному смотрителю
Верхне-Ангарского
приискового управления П. Г. Чиркову.
Энтузиаст горного дела, потомок землепроходцев-первооткрывателей, Чирков всю
свою жизнь посвятил поискам земных богатств. С лотком за спиной, в сопровождении своей жены, он исходил почти всю
Ангаро-Баргузинскую тайгу. И по ключу
Левому Чипчикону он наткнулся на квар86
иевые жилы, в которых в заметных количествах присутствовали сульфиды меди и
железа — обычные спутники золота. Переданные в трест «Байка л зо л ото» образцы
руд действительно содержали в промышленных количествах золото. Так было открыто золоторудное месторождение.
Разведуя это месторождение и доказывая его промышленную ценность, геологи
обращали пристальное внимание и на рядом расположенное медное месторождение,
рассчитывая и здесь обнаружить промышленную золотоносность. С этой целью в эти
годы и в последующем на медном месторождении проводились работы, но результаты их в общем оказывались отрицательными.
Медные руды привлекли внимание исследователей в послевоенные годы. Среди старинных материалов, относящихся еще к
временам Медина, обнаружился один анализ на олово. Доктор Торнер из Оснабрюке в одной пробе показывал до полупроцента олова. Вот этим обстоятельством
опять заинтересовались. Кроме того, золотоискательские работы в одной точке на
юре Медина обнаружили до килограмма
зелота на тонну сырой руды. Опять были
поставлены серьезные разведочные работы.
И уже на второй год эти работы привели к открытию на месторождении совершенно новых типов руд. Были открыты свинцово-цинковые руды, залегающие в известняках. Стало немного понятным, почему
в медных рудах местами содержались цинк
и свинец в заметных количествах. Свинцово-цинковые руды, как и медные, залегают
в известняках небольшими карманами, гнездами, неправильной формы залежами. Этот
тип оруденения геологи называют метасоматическим, он не пользуется у них благонадежностью в смысле разведки и обнаружения больших запасов. Можно встретить
громадные залежи, но можно и копаться
в мелких гнездах и карманах.
Лицо месторождения сильно изменилось.
Изменились и представления о медных рудах. Обнаружилось, что меднорудные тела
сильно окислены под воздействием воздуха
и воды. Зона окисленных руд, из которых
водами вынесены металлы, опускается на
глубину более ста метров. Только теперь
стало понятно, почему на месторождении
прямо с поверхности находились куски самородной меди, в изобилии присутствовали
водноокисные соединения железа, местами
встречались синие прозрачные кристаллы
медного купороса. Все эти минералы, а также одна из разновидностей барита, описанная Н. А. Смольяниновым, образуются
при окислении первичных медных руд в
условиях сухого и жаркого климата. Но
откуда же такой климат в Баргузинском
хребте? Ведь район расположен в зоне
сугубо континентального климата, в условиях, когда толщи горных пород до глубины в несколько сотен метров находятся
в мерзлом состоянии. Остается только лишь
одно — зона окисления образовалась в
прошлые геологические периоды, когда
климат Прибайкалья был жарким. Это было, видимо, тогда, когда на берегах Байкала росли пальмы и климат приближался
х субтропическому. Был такой период о
геологической истории Прибайкалья.
При исследовании месторождения сделаны и другие интересные открытия. Не имея
возможности остановиться на всех их, все
же нельзя не отметить открытие в Баргузинском хребте по реке Бирамье фауны
животных, которые жили на самой заре
органической жизни Земли. Это были археоциаты — не то растения, не то животные — наука так и не определила их положения, напоминающие современных губок. Это были трилобиты — можно сказать, раки, с клешнями, с панцирем, с маленькой, втягивающейся в панцирь, головой. Это были брахиоподы — животные
типа червеобразных, живущие исключительно в морской воде, в небольших известковых раковинах.
Открытие этой древней фауны дало возможность определить возраст известняковых толщ, в которых заключены медные и
свинцово-цинковые рудные проявления. Но
сам этот факт еще не означает, что столь
же древними должны быть руды — они,
видимо, моложе, и намного, вмещающих
их горных пород. Открытие фауны изменило многие представления геологов.
На месторождении какие-либо работы
сейчас не ведутся. Но судьбы месторождений, их история открытия, разведки и промышленного использования, бывают, как и
судьбы людские, очень сложными. И сегодняшний день — это не последняя страница в истории баргузинской меди. Поиски
геологов не так давно привели к открытию
аналогичных медных руд в Верхне-Ангарском хребте. На судьбу месторождений
влияют многие факторы, в том числе гео-
графические, климатические, экономические
и другие. Стоит измениться одному из них—
несколько по-иному, в других красках и
аспектах представится месторождение. То,
что не экономично сегодня, завтра окажется делом рентабельным и прибыльным. Вот
почему крепка уверенность в том, что к
баргузинской меди мы еще вернемся, что
еще здесь многое не открыто и многое недостаточно изучено.
Мы поведали историю одного небольшого месторождения
Бурятии. Перед нами
прошли самые различные люди с их самыми разнообразными интересами. Здесь и
эвенки-первооткрыватели медных руд, и
частные
горно- и золотопромышленники,
влекомые страстью к наживе и обогащению, и крупные ученые, и просто геологи.
И, может быть, автор не решился обо всем
этом писать, если бы не был уверен, что
подобные сведения об истории освоения
минеральных ресурсов нашего края интересуют многих людей. Сегодня на поиски
руд и минералов, полезных нашей стране,
вышли многочисленные отряды пионеров,
любознательных туристов;
минералы и
камни всегда интересуют людей, чей труд
связан с условиями полей, гор и тайги. Хотелось рассказать и о том, насколько сложными и тернистыми являются судьбы месторождений. От открытия руд до промышленного их использования проходят целые
десятилетия и даже столетия. Руда с промышленным содержанием металлов — еще
не значит месторождение. И необходим
громаднейший труд геологов, чтобы первое открытие сделать месторождением. Но
тем почетнее труд первооткрывателей —•
энтузиастов и геологов-разведчиков.
(Валков
-
н
е тому дождя бояться, кто в
воде по горло,— сказал Санька
Рытвин, русоволосый круглолицый
парень с большими серыми глазами, своему бригадиру.— Плюнь ты, не изводи себя.
Соломенцев покачал головой, с удивлением посмотрел на парня:
— Неужели тебе все равно, как у нас — хорошо ль, плохо ли?
Санька Рытвин рассмеялся, потом посерьезнел:
— Нет, не все равно. Да только что ж из того?
Небо было ясное — ни облачка. Шумели деревья. На узкоколейке
недалеко от отгрузочной площадки стояли железнодорожные сцепы.
Возле них суетливо крутились грузчики. Смахивали со лба пот, порыбьи хватали ртом воздух и, отчаянно ругаясь, всем скопом наваливались на важки и неловко скатывали хлысты на сцепы.
— Бог в помощь вам!— весело прокричал Санька Рытвин, остановившись недалеко от площадки и схлестнув за спиной руки.
— Помог бы лучше,— ворчливо сказала полнотелая баба со злым
блеском в маленьких по-кошачьи круглых глазах.
«— Чего?—изумился Санька Рытвин.—Помочь?..—Усмехнулся:
— А что я за это иметь буду?
— Помог бы,— снова, но уже тихо, сказала баба с круглыми глазами и с силой хватила важком по хлысту. Потом выдернула его изпод бревна, швырнула в парня. Санька Рытвин отскочил в сторону,
сказал растерянно:
— Ты потише.
— Подь отсюда,— фыркнула баба, вытащила топор из подсумника, попробовала пальцем отточку и зашагала в чащу.
— Пошли,— сказал Санька Рытвин бригадиру. — Ну их.
А через несколько минут, отойдя от нижнего склада, он обронил,
вздыхая:
— Они от жиру, что ль, бесятся?
— Тут не до жиру, быть бы живу,— сказал Соломенцев.— Тяжело им. Поворочай-ка с утра до вечера бревна!.. Потому и хочу механику под это дело подогнать. Чтоб легче было бабам, не вручную
чтоб...
— Да-ешь,— протянул Санька Рытвин. Потом, помолчав, сказал:— В прошлый раз, когда ты меня посылал в контору, я у главно88
го был. Слышал разговор: Хара-Кутул, говорят, леспромхоз назад
тянет, а как быть? Ломают, выходит, голову. А по-моему, ломай не
ломай — толку не будет.
Санька Рытвин смолк. Дмитрий Илларионович сказал:
— Будет.
— Когда?—Санька Рытвин вызывающе оглядел бригадира.—Разве после того, как ты подгонишь под бабью работу механику?
— Может, и после,— спокойно сказал Соломенцев.
Курилась земля. Из долины к верховью подымался туман: роса,
обдутая ветром с бадан-травы, парила.
«Не изводи себя,— говорит Соломенцеву Санька Рытвин.—Все
равно не одолеешь крутинку». Смешной он, этот парень. Каждого на
свой аршин меряет. А когда не поймет чего-нибудь, удивляется.
Удивляется он и Соломенцеву. «Эк-ка птичка перелетная»,— недоуменно говорит он о бригадире.— «И зачем изводит себя?» Соломенцев об этом знает и потому тоже удивляется... Саньке Рытвину.
«Изводит?»—«Как бы не так. Я уже давно об этом думаю».
Соломенцеву совестно за односельчан. «Ничего не вяжут, ничего не скажут, сидят себе на одном месте: голова на заборе, руки
в угоре. А работа идет с прохладцей. Ни тпру ни ну... Каждый день
одно и то же — там не сделали, тут не додали. И люди будто уж
привыкли к этому». А вот он, Соломенцев, не привык и не сможет
привыкнуть. Ему хочется, чтоб у них не хуже было, чем у других,
чтоб красиво... И жилосв красиво, и работалось. Э, да что там! Оттого и приходят разные мысли и беспокоят. И то... Удастся подогнать механику под загрузку сцепов, сколько людей высвободится!
Зери, отправляй, куда надо. Выгодно? Еще как! Но для этого что
надо? Лебедку построить, вот что. Механическую лебедку, которая
работала бы как часы. Заведи только. А чтоб построить ее, нужна
фигада. Полная. И не на один день, не на два. Надолго. Это любому
ясно.
Соломенцев удался ростом. Крепок. Волосы черные, слегка вьющиеся. В глазах что-то такое есть, что выдает в нем человека до
крайности любознательного, всем интересующегося.
— Эй, бригадир!— Это Санька Рытвин.— Дежурка причалила.
Залазь в кабину, разрешаю.
— Нет, я попозже, на лесовозе,— нехотя говорит Соломенцев.—
давай...
— Ты давай, я отдавай — не годится,— хохочет Санька Рытвин
и, устроившись в кабине, захлопывает дверцу.
Соломенцев глядит вслед удаляющейся дежурке, спустя немноо медленно идет к сторожке.
На крыльце сторожки старый карым — нога на ногу, руки на
коленях, узкие глаза недоверчиво косятся. Возле него берданка. Стоюж. Завидев Соломенцева, он подымается с крыльца:
— Ты не уехал?
— Как видишь.
— Чего так?
— На Нижний надо.
— А-а...
С минуту помолчали, приглядываясь друг к другу, а затем Соломенцев спрашивает:
— Ты раньше в бригаде работал? Было?
— Было.
— А зачем в сторожа подался?
{9
— Здесь ловчее.
— Ну?
— Тут хошь окладишка какой ни на есть, а постоянный,— сердится сторож.— А там... У меня семья.
— Погоди...
— Не приставай,— по-прежнему сердито говорит сторож. — Тоже как репей.
Соломенцев пожимает плечами:
— Кзк хочешь.
И в сторону от тропы. Но сторож останавливает его:
— Постой-ка.
А у самого в глазах злости уже нет — смеется:
— Сегодня ребята за животы хватались от Санькиного рассказа. Ты вроде что-то на Нижнем строить собираешься? Для облегчения?.. Саньке я не очень. Санька-то...
Не успел Соломенцев поделиться с Рытвиным о своей думке, а
уж на всех перекрестках об этом знают. «Вот трепач,— думает Соломенцев.— Я ему как доброму, а он...»
— Если так,— смеется сторож. — То не мудри зря. Пусть другие,
кто посильнее...
— А я что, слабый?—перебивает его Соломенцев, затем добавляет жестко:— У Саньки-то язык как помело. Но я ему за это —вот
так!— покрутил туго сбитым кулаком у самого носа сторожа.
Когда Соломенцев пришел на Нижний, там было тихо. Стояли
штабеля, пожелтевшие. Вокруг — ни души. На узкоколейке лениво
пыхтел мотовоз, притащивший сцепы. А вскоре Соломенцев услышал, как кто-то весело выводил:
Пошла
Малину
Нашла
Котора
я в лес по малину.
я там не нашла.
я только могилу,
травой заросла.
Голоса доносились из кустарника, прилепившегося к Нижнему.
Соломенцев туда, не мешкая. Раздвинул кусты, видит — Санька
Рытвин, а вокруг него — бабы раскрасневшиеся.
Бабы заметили Соломенцева:
— Иди сюда. Не дорого угощение, дорого приглашение.
— Вы что, выходной себе устроили?—добреет Соломенцев.
— Ага,— радуются грузчики, а пуще всех их бригадир, , баба
с круглыми кошачьими глазами. — Санечка нас угощает. — И снова:
Пошла я в лес по малину...
— Эй ты,— хмуро басит Соломенцев.— Иди сюда. Разговор
есть без чужого глазу.
Санька Рытвин неуверенно подымается с земли и идет следом
за Соломенцевым. Но тот неожиданно оборачивается к парню и
спрашивает:
— Ты о чем болтал сегодня в сторожке?
Санька Рытвин догадлив, и он говорит робко:
— Обо всем помаленьку.
— У...— Только злость у Соломенцева прошла, и он лишь машет
рукой:— Иди догуливай, трепач.
Санька Рытвин, уходя, необидчиво спросил:
— А ты как здесь оказался, Ларионыч? Все по тому же делу?
Соломенцев не ответил.
На Нижнем было все так же тихо и лишь из кустарника доносилось бойкое:
Котора
90
травой
заросла...
Начальник лесопункта сидел на поветшавшем диване и усиленно растирал пальцами ноющее колено. Вошел в кабинет Соломенцев,
здоровый, даже завидки взяли начальника. «Когда-то и я был не хуже»,— подумал он.
Соломенцев остановился напротив.
— Чего тебе?
— Поговорить надо.
— Выкладывай,— поморщился начальник. В последнее время
он не стал любить разговоры, особенно деловые.
Соломенцев помедлил, собрался с духом, сказал:
— На Нижнем теперь — хуже не придумаешь. Все-то вручную.
По тридцать человек в смену! Дело? Нет, конечно, не дело. А вот
представьте себе, что бы было, если бы механизировать погрузку?
— Ну, представил. А дальше что?
— Дальше? Вот чертежи. Ясно, не все тут — мое. Из книжек
тоже немало взято. Только это ничего.
— Да?
— Предлагаю, значит, построить лебедку, чтоб грузила хлысты
на сцепы. Всего пять человек будет занято. А остальных занимай,
где хошь и как хошь. Короче, надо снять мою бригаду с делян и перекинуть ее на Нижний на строительство лебедки.
— Надолго ль?
Начальник лесопункта задумался. Не однажды к нему приходили с подобными предложениями, и все-то по Нижнему. Были среди
них дельные, были и не ахти какие, только все они требовали рук.
А где их взять? С делян же снимать, думалось ему, не время теперь. Вот если бы лесопункт сначала на нога поставить, а потом...
— Руки длинные — загребущие, голова высокая — завидущая.
Не пойдет,— сказал начальник лесопункта.— Ни загребать, ни завидовать нам нечем. И руки коротки, и голова едва из кустов выглядывает. Бригаду тебе не дам. Не до того. Ты лучше в лесу кубик-другой... Так-то надежней. Пусть другие, что побогаче, занимаются механикой.
Всего-то ожидал начальник от Соломенцева: и обиды, и растерянности, но только не того, что услышал. А услышал он — никому
бы не посоветовал слышать подобное в пенсионном возрасте.
— Ну-ну,— раскрыв рот, проворчал начальник, когда Соломенцев замолчал.— Уподобил, уподобил... Спасибочка.
— На здоровьице,—'• не смущаясь, сказал Соломенцев. А помедлив, добавил:— Еду в леспромхоз.
Начальник лесопункта махнул рукой:
— Перебесишься — вернешься.
Дорога от Хара-Кутула до центра леспромхоза — восемьдесят
километров. Обратно — столько же. А в оба конца уже сто шестьдесят. А три раза по сто шестьдесят — сколько это? Много.
— Чего он ездит?— сердито говорил директор леспромхоза главному инженеру.— Ему что, заняться нечем?
— Идею предлагает по Нижнему,— отвечал главный.— Закрутил всех. Настырный.
— Настырный, говоришь? Интересно. А ну-ка, покажи...
— Что... показать?
— Эту самую идею.
— А, сейчас.
Принес главный чертежи. Директор разглядывал их, разглядывал, под конец сказал:
— По-моему, идея не дурная.
91
— Я тоже так думаю,— согласился главный.— Одно плохо —
план они теперь не дают, а снимешь бригаду, еще хуже будет.
— Да, хуже. И все же стоит рискнуть. Ведь не вечно же он буде! ее строить, эту лебедку. А позже она себя отработает. Отработает, а?
— Конечно.
— Тогда пиши приказ,— сказал директор леспромхоза.
На том и порешили.
— Эй!— прокричал Санька Рытвин.— Расступись!
Лесорубы отошли к сторожке. Трактор круто развернулся, едва
не задев щитом заправочный бак, вздыбил облако пыли и резво покатил вниз. Следом торопливо засеменил на коротких ногах тракторист
из бригады Соломенцева Савелий Палыч, безвольно опустив сутуловатые плечи.
Духота знойная висела над делянами.
Савелию Палычу бы сесть в кабину, оттеснить парня в уголок,
да уж очень жалобно просил тогда Санька Рытвин: «Дай перегоню,
дай, голубуша. Уважь своего помощника». И, поколебавшись, Савелий Палыч разрешил... А вот теперь тяжело у него на душе: вдруг
парень залетит?.. Смотрит, какие Санька Рытвин кренделя выписывает, и крикнуть ему хочется: «Эй, стопорни! Я сам...» Но крепится
Савелий Палыч и помалкивает.
И все же, если бы не чрезвычайность происходящего, не утерпел
бы Савелий Палыч. А чрезвычайность была самой высшей пробы.
Вчера, когда приехали с дежуркой в Хара-Кутул, Савелий Палыч и
Санька Рытвин, не сговариваясь, направились прямо к дому Соломенцева. Беспокойство заело: «Что с Ларионычем? Отчего он в последние дни носа в лес не кажет?» Но на двери был замок. Санька Рытвин от огорчения матюгнулся. Ему в отсутствие бригадира за двоих
приходилось тянуть лямку, бензопила с непривычки переела руки,
саднит в плечах.
Соломенцева отыскали в конторке, у начальника. Лицо у бригадира довольное.
— Потеряли?— смеется.
— Был грех,—• угрюмо сознается Санька Рытвин.— Руки болят.
Осточертело.
— Мне тоже. Во как..— Соломенцев ладонь широкую к горлу,
подержал ее немного на весу, убрал. И снова смеется:— Зато с завтрашнего дня на Нижний. Хлысты будем возить для лебедки. Строить.
Санька Рытвин разинул рот от удивления, догадываясь.
— А? Разрешили, выходит?
— Выходит.
Савелий Палыч — человек простой, тень на плетень наводить не
любит. И он сразу:
— А как эти... фити-мити? На хлебушко?
— По уму,— отвечает Соломенцев.— Окладишко постоянный. Вон
начальник подбросил.
Савелий Палыч к начальнику (радость-то!):
— Ой ли?
— Верно,— хмурясь, сказал начальник лесопункта.— По приказу.
Наговорившись, они втроем вышли из кабинета. Савелий Палыч
сразу к Соломенцеву, боком-боком, оттеснил Саньку Рытвина:
— Значит, как бы я ни сработал, мне все равно будет? Так ли?
— Так.
92
— И больше не случится, как у нас: сегодня ничего себе, а завтра?..
— Не случится.
— Ловко.
...Да, чрезвычайность происходящего была самой высшей пробы.
И, может, поэтому согласился Савелий Палыч, чтобы Санька Рытвин
перегнал трактор к Нижнему.
«Долго ли еще до Нижнего?» Заприметил зачесину на лесине.
«Нет, теперь близко,— обрадовался Савелий Палыч.— Деляны уже
кончились». Замахал руками — мошка заела, прилипчивая.
Подходя к Нижнему складу, Савелий Палыч увидел Соломенцева
в окружении сомлевших от духоты людей. «О чем он толкует им?—
подумал.— Поди, объясняет, для чего сюда потребовалось». Разглядел, хитро улыбаются люди. Не верят. «Ну и не надо». И сам не утерпел, улыбнулся радостно.
Дни, как резиновые шарики, одинаковые и... быстрые. Один за одним, один за одним. Растет лебедка. Недалеко от раз!рузочной площадки, где стоят железнодорожные сцепы, уже возвышается над
землею остов шарообразного строения, кое-где крутятся на тросах
блоки. И, нередко бывает, подойдут к Соломенцеву грузчики, попросят:
— Ларионыч, пожалста, подцепи за боковину хлыст, дерни. Заело, гольем не вывернешь.
И нельзя бы, да в нарушение всякой техники безопасности идет
бригадир, цепляет, тая в губах довольную улыбку. И думает не без
важности: «Счастье — это когда знаешь, что у тебя есть дело, которому ты служишь. А у меня оно есть».
Соломенцсв прочно освоился со своим положением коренного в
упряжке. Санька Рытвин с Савелием Палычем тоже. Пристяжные...
А воз не легок, но и не тяжел — тяни, не торопясь, с толком.
Да, растет потихоньку лебедка, подымается, с каждым днем все
больше приосаниваясь. Уже и грузчики, подходя, не скрывают радости: «Ишь ты, разлапистая какая». Но лесорубы, те по-прежнему
прячут глаза, подсмеиваются: «Пришибленные... Фиглю-миглю придумали, игру...» И только одно смущает их: как быть получке, бригада Соломенцева, худо-бедно ли, а в карман кое-что всегда припрячет. А у них зачастую в кармане ветер гуляет. Это их злит.
Вот как сегодня... Приехал на деляны кассир, устроился в сторожке поудобней, выкликает: «Сидор Конопаткин — двадцать пять
рублей. Четыре дня простоя, за то — шиш на постном масле». «Ерас
Трифонов — тридцать рублей. Три дня простоя. За то опять же —
шиш...»
«Тьфу... В сторожа, что ль, податься?»—негодовали лесорубы.
А потом слышат уважительное: «Санька Рытвин сорок пять рублей.
По тарифу». «За что, а?»—удивились мужики. «За светлую голову»,—
ответил Санька Рытвин и потряс перед носом у растерявшихся лесорубов новыми пятирублевками.
Но растерянность, она сродни лишь слабым. Быстро оправились
мужики, подступили к кассиру: «Зачем ты их ублажаешь? Они же
мотягу бросили, ушли на легкое». Кассир, привыкший к нраву односельчан, отмахнулся: «Отстаньте». Но те упрямые, и кассир сказал:
«За доброе дело и плата добрая. Лебедка-то — это вроде как мечта
Ларионыча. И, может, не только его. А мечту надо понимать. Да и
после будет всему леспромхозу выгода наипервейшая».
93
Только лесорубы все равно не дают работать кассиру. Тот даже
растерялся. Но, к счастью для него, вблизи оказался сторож — выручил. Успокоил людей. Да ненадолго. А вскоре пришел з сторожку Соломенцев, оперся о косяк, стоит, ждет. Кассир увидел его, выкрикнул:
— Соломенцев — пятьдесят пять рублей. По тарифу.
Соломенцев подошел к кассиру. Мужики сурово покосились на
него. Не утерпели, и резко:
— Это по какому праву, Ларионыч, твоей бригаде на хлебушко,,
а нам — фьють?..
Соломенцев, не ожидавший такого вопроса, смутился, а не найдя,,
что ответить, буркнул:
— Вот по такому...— Потом нерешительно сказал: — Строение,,
оно разве мне только нужно? И до меня его многие предлагали, а я
лишь убедил... Погодите — оно всем вам сгодится.
— Ладно, Ларионыч, это мы слыхали. Ты лучше скажи, почему
у нас одно, а у вас другое? Кто в этом виноват? Не вы ли?
Понял Соломенцев, чего от него хотят. А что скажешь? Заторопился к выходу. Почувствовал, взгляды по спине зашарили разобиженные. «Черт бы их побрал,— выругался он, выйдя из сторожки.—
Словно украл». Возле оказался Санька Рытвин, спросил:
— Треплются?
- Ну...
— Завидки берут,— сказал Санька Рытвин.— Завидки, а'7
Соломенцев покосился на парня:
— Дело не в этом. На делянах беда. Никак не управятся. А мы
взяли и всей бригадой оттуда. Вот и обижаются. Думают, мы виноваты, что нету плана, а значит, и заработка. Вроде как мы сдезертирили, и на дармовое.
— Теперь куда, на Нижний?— будто не слыша, спросил Санька
Рытвин.— А то до поселка махнем? По случаю получки, а?
— Нет, на Нижний,— сказал Соломенцев.— Савелия Палыча сменим. Заждался, наверно.
— На Нижний, так на Нижний,— разочарованно сказал Санька
Рытвин. — Пошли.
Воздух был неподвижен, как синь-вода в Селим-реке. Редкие
облака, как линялые зачесы, оставшиеся от скатки на берегу. Вечер...
Соломенцев сидел дома и лениво листал страницы пожелтевшей
от времени книги. Книга была без названия — утерян заглавный лист.
В углу на скатанном потничке удобно устроился старый кот: зеленые глаза задумчиво уставились в пол, лохматые лапы надежно покоились на потничке.
Пришел дед Фока с дежурства. Крепким узелком повязала Соломенцева с дедом Фокою жизнь. Мальчиком остался Соломенцев без
родителей. Тогда и взял его к себе Феоктист Гордеевич Лысин. С тех
пор и по сей день живут они в пристрое бревенчатой школы.
В молодости Лысин был человеком известным. Это он вместе с
охотником-эвенком Мыргыдкеном первым по хитрому следу соболя
пришел в долину на берег таежной речушки Селим. А вернувшись,
поведал людям о своем открытии. И потянулись сюда геодезисты с
рюкзаками, в которых были упрятаны до поры до времени хитроумные буссоли и аккуратно разлинованные масштабные карты. Вслед
за геодезистами проведать новые места рискнули лесодобытчики.
Риск оправдал себя. В высших инстанциях решено было начать строительство лесопункта.
94
»
А вскоре скрутила болезнь друга Лысина—Мыргыдкена. Да так,,
что тот не поднялся больше.
Погрустив, Фока Лысин справедливо решил, что как бы плохо нибыло, а жить надо, и, когда узнал о строительстве лесопункта в долине, открытой Мыргыдкеном, собрал свои пожитки и уехал. Семьей Лысин не обзавелся вовремя — характер имел неспокойный, до перемены мест охочий, и потому никто его не держал.
Была у Лысина мысль: такое закрутить, чтоб помнили люди
Мыргыдкена. «Сон-кер-мер»,— повторял Лысин любимую присказку
своего умершего друга. — Уж я сумею...
Приехав на новые места, он первым делом сходил на гору одному ему1 известной тропой, оставил там дощечку с надписью. А вскоре собрал людей, сурово сказал им: «Эта гора имеет название Мыргыдкенова. По имени того, кто открыл ее. А открыл ее человек, который искал счастье».
Так и осталось — Мыргыдкенова гора.
Проносились над Хара-Кутулом годы. Кладбище свое появилось
с богобоязненными крестами и гудящими на ветру тумбами. А Фока
Лысин все жил и жил, и не собирался никуда уезжать. Может, потому, что был он теперь не Фокой Лысиным, а дедом Фокой, и шел
ему ни много ни мало восьмой десяток.
— Сидишь?— недоуменно сказал старик.
— А что?
— Что?— передразнил дед Фока. Огорченно развел руками: —
Отчего ты такой — не пойму. Вроде все есть — и сила, и смуглота
приятная — любому на зависть. А вот чего-то недостает в тебе. Все о
чем-то думаешь, думаешь...
— Что случилось?—перебил старика Соломенцев. Почувствовал:
не останови, вечер напролет проворчит.
— Осетров приехал,— недовольно сказал дед Фока.— Мать его
трезвонила в конторке.
— Степан?— оживился Соломенцев.
— Он,— сказал дед Фока. Предложил:— Иди, проведай. Сколь
лет лямку вместе тянули.
Улица была по-вечернему тихой и пустынной. И только издали, с
окраины поселка, где находился гараж, доносился привычный гул. И
почему-то Соломенцев вспомнил, как много лет назад они с Осетровым, тот тогда был бригадиром дорожников, несправедливо обошлись
с Санькой Рытвиным, который в ту пору отвозил лес с эстакады.
Санька Рытвин говорил, что забарахлили тормоза и ехать за хлыстами нельзя, машину сломаешь, а сам... Но Осетров и слушать не хотел.
— А что прикажешь?— ворчал он.— Эстакада забита. Да и риск,
если прикинуть, не такая уж худая штука. Один раз в жизни каждый
должен рискнуть.
Соломенцев поддержал его. Знал, если не разгрузить эстакаду,
юлетит смена не за понюх табаку. В конце концов, Санька Рытвин
уступил им. Пригнал лесовоз на деляны, поставил под эстакаду, загрузил... Когда же начал спускать машину под уклон, неожиданно
срезал дорогу. Лесовоз запрокинулся на бок, корежа упругую сталь,
Санька Рытвин, изловчась, выпрыгнул.
Приехала комиссия, судила-рядила. Спустя несколько дней посчитала, что разобралась, и Санька Рытвин выложил на стол водительские права.
Соломенцев все это время как в тумане ходил: не замечал людей. И стыдно ему было, и совестно. А дня через три после того, как
уехала комиссия, он пришел к Осетрову, сурово сказал:
/
95
По пашой вине стряслась беда с Санькой Рытвиным.
1М,
I.
По на-
.
Тот н< возражал.
— Да, по нашей. Только от этого не легче — ни тебе, ни мне. И
потому лучше не маять себя. Забыть.
— А как быть с Санькой?— спросил Соломенцев.
— Хошь, договорюсь с начальником, чтоб его в твою бригаду чоксровщиком, а?— предложил Осетров.
— Согласится ли?— недоверчиво покачал головой Соломенцев.
Санька Рытвин согласился — деваться ему было некуда.
Соломенцев приободрился. Осетров, казалось, и вовсе забыл о
происшедшем. А через месяц он уехал из Хара-Кутула. На курсы.
В город.
Обо всем этом вспомнил Соломенцев, подойдя и оглядывая с надеждою добротный осетровский дом.
В избе было людно. Благодаря стараниям тетки Дуни, событие,
несомненно, радостное в жизни семьи — приезд сына — переросло
свои обычные рамки. В хорошо обставленной горнице уже сидели и
начальник лесопункта, и Санька Рытвин, и Савелий Палыч со своей женой Шурочкой, полнотелой русоволосой женщиной в черном,
модного покроя, с вырезом на груди, платье. Всех их очень интересовало, что новенького привез из города Степан Иванович. Самим
им не часто доводилось покидать Хара-Кутул.
Степан Иванович был в отличном настроении. Он доверительно
улыбался. Из большого и крепкого рта выкатывались теплые и округлые слова:
— Как в городе? Да там что? Жить можно. А как у вас? Сколько уж я не был дома. По правде говоря, наскучался.
— А что у нас?— сказала Шурочка, слегка зарумянившись и
поправляя сбившуюся на бок прическу.— Ничего у нас.
— Плохо у нас,— сказал Санька Рытвин.
— Санька прав,— сказал начальник лесопункта. — Неважно у
нас. Техника в лесу старая. Работает на износ. Ждем новую. Обещали. Но пока только обещали. Хотя их тоже можно понять. В леспромхозе-то пять лесопунктов. Наш хуже всех. Давно уже не даем план.
А почему? Людей в лесу не хватает. Вместо десяти бригад работает
на делянах пять. Где уж тут быть плану? А без него и заработок худой. Премия-то рабочему исчисляется по тому, выполнил задание
лесопункт иль нет. Вот так все одно за одно и цепляется. А тут еще
Соломенцев прямо на горло наступил, вырвал бригаду. «Лебедку, говорит, строить буду на Нижнем, чтоб механизировать загрузку сцепов. «Я, конечно, понимаю, дело хорошее, но почему бы не погодить
с этим. Выправились бы, а потом хоть десяток лебедок строй.
— Одно другрму не мешает,— сказал Санька Рытвин. — И эта
лебедка тоже для того строится, чтоб побыстрее выправиться.
— Вас сюда направили?— взглянув на Осетрова, спросила Шурочка.— Или вы сами?..
— Сам,— сказал Степан Иванович. — Здесь начинал, сюда и вернулся. — Положил на стол угловатые крупные руки.
— К родному очагу потянуло?— усмехнулся Санька Рытвин.
Степан Иванович не услышал. Вспомнил, перед тем, как уехать
на курсы, он строил на холбожинские деляны дорогу. Он тогда был
бригадиром дорожников. Сроку дали — три месяца. Два бульдозера
96
ка участок пригнали, запчастей подкинули — знай, работай. Сам директор леспромхоза спрашивал у Степана Ивановича:
— Управишься?
•— Если нгдо...
— Надо. Очень надо. — Директор едва на ногах держался—не
спал двое суток. — Скоро начнем вырубку на новых делянах, а дороги нет-—лес не достанешь.
— Постараюсь,— пообещал Степан Иванович и взялся за дело.
Сутками не был дома. На дороге и ночевал. Кое-кто возражал:
— Зачем гнать?
И тогда он говорил:
— Надо, ребятки, надо... 'А опять же себе на пользу. Директор
обещал — не обманет. Верьте. Он на слово крепкий.
А после строительства дороги благодарность в «Трудовую»: «За
инициативную и добросовестную...» Потом мастером назначили на
деляны. Не раз случалось, вызовет его к себе начальник лесопункта,
скажет:
— Хочу у тебя резервный забрать. Ты и без него... А на соседнем
— прямо-таки беда.
Степану Ивановичу не хочется отдавать трактор, но отказать
тоже неудобно, понимает, там труднее, потому, в конце концов, согласился:
— Берите...
Уже с должности мастера уехал он на курсы.
Степан Иванович убрал со стола руки, оглядел гостей, сказал недоуменно:
— А где Соломенцев?
— Здесь я,— послышалось из прихожки. А спустя немного в сопровождении сес!ры Степана Ивановича — Надюшки — появился
Соломенцев. Степан Иванович встал со стула, похлопал его по плечу:
— А ты не изменился, битюжок!
— Чего ему сдеется?— одобрительно сказал Санька Рытвин.
— А я вот приехал,— будто стесняясь, сказал Степан Иванович.
— Техноруком к вам назначили.
— Славное дело,— улыбаясь, сказал Санька Рытвин.
— Так уж и славное,— рассмеялся Степан Иванович, обернулся
к тетке Дуне: — Мать, принеси-ка нам... За встречу.
8
— Ты почему не сказал мне,— через несколько дней после своего приезда говорил Степан Иванович Соломенцеву. — Что, строишь
лебедку? Все хочешь сам. Как и прежде. А вот Санька Рытвин сказал.
— Запамятовал,— виновато отвечал Соломенцев.
— Начальнику не дает покоя мысль,— сказал Степан Иванович,
— второй Нижний склад в пади Шана поставить. А там твоя лебедка. Так ведь?
Соломенцев оторопело бросил:
— Так.
— Да ты не волнуйся — лебедка у тебя прошла по приказу. И
нашему начальнику с нею не совладать. Он говорит, перенести, мол,
можно в другое место. А зачем? Она же для того и строится, как я
понимаю, чтоб именно на Нижнем было легче работать. Верно?
— Ясно.
— Пожалуйста, растолкуй поподробней о лебедке,— попросил
Степан Иванович.
Соломенцев не в настроении. И потому он говорил вначале нео7. «Байкал» № 1.
97
хотно и медленно, но с каждой секундой голос его звучал все увереннее.
— Мысль-то сама по себе куда как проста,— говорил Соломенцев. — Да, хочу, чтоб людям легче работалось. Ты прав. Помню, както сидел за столом, вычерчивал что-то в тетрадке. Так, по привычке.
Потом глянул—ба!.. Чудное что-то получилось, вроде как система блоков на тросах. А что, думаю, если сделать захват для бревен, чтоб
сразу брать их с лесовозов и загружать в вагоны? Прикинул, полистал разные книжонки. Вижу — подходяще. С тем и вышел на люди.
— Молодчага. Делай. Я помогу, если надо,— сказал Степан Иванович, затем осторожно добавил. — А чертеж-то где?
— Чертеж?
— Ну, что-нибудь там по технологии...
— А... В конторке погляди.
Степан Иванович вскоре ушел. А Соломенцев опустился на горячую, потрескавшуюся от долгого безводья землю, к которой жались сухие стебельки бадан-травы.
Вызвенивэли стволы сосен. Хлопотливо гудели верхушки деревьев. Колючие иглы путались в порывах хлесткого ветра.
Савелий Палыч, удобно устроясь в уютной кабине трактора, не
переставая, гонял его по змеистому валку.
Лицо у Савелия Палыча круглое, мягкое. Глаза добродушные,
приветливые.
Нынешнее лето особенное для Савелия Палыча. Десять лет исполняется, как он в лесу. Шутка ли — десять! А пришел Савелий
Палыч с места нетрудного, прибыльного. В «дикой бригаде» плотничал — договора заключал с колхозами, строительный материал на
сторону спроваживал. Деньги, одним словом, были. И любашка нашлась — Шурочка. Ох, и ласкала его Шурочка, ох, и ласкала! Взяла
Савелия Палыча к себе на квартиру, одевала с иголочки, в райцентр
возила на концерты приезжих артистов.
Бывало, придет Савелий Палыч домой, а Шурочка программку
ему под нос: «Читай!» Так и есть — опять концерт. Савелий Палыч
почешет в затылке: ехать не хочется. «Нет, поедем,— упорствует
Шурочка. — Ты должен знать, как хорошие люди живут. Тогда скорей отойдешь от своих «диких».
Эти разговоры не нравятся Савелию Палычу, но оборвать Шурочку он не смеет, чувствуя ее правоту.
А вскоре стали не интересны колхозам вольные бригады. С каждым днем все реже волнующее: «Эй, ребятки, подсобите!» Чаще другое: «Идите подальше, деры...» Шурочка приободрилась. Савелий же
Палыч затосковал. А однажды Шурочка сказала ему:
— Иди в леспромхоз. Хоть и не очень прибыльное место, а
больше твоего прежнего — нужное.
— Не хочется,— хмуро обронил Савелий Палыч.
— Ну, тогда я уезжаю в город к брату. Не желаю жить с «калымщиком». Со стыда умрешь.
Собрала свои вещи, запаковала в чемоданы. Савелий Пэлыч засомневался:
— К брату? Раньше ты не упоминала о нем.
— А теперь вспомнила,— с вызовом сказала Шурочка и уехала.
Бабье сердце — ветер, в какую сторону подует в следующую миН Т
У У — никому неизвестно. Вот и решил проверить Савелий Палыч,
куда Шурочка лыжи навострила и, главное, к кому... Съездил, успокоил душу, прикатил обратно. А вскоре и Шурочка вернулась в Харэ98
Кутул. Приунывший было Савелий Палыч ободрился, предложил
Шурочке, не медля больше, пойти в загс, оформить свою любовь, но
Шурочка сказала: «Не обязательно. И так не убегу», и Савелий Палыч согласился. А отойдя от своих недавних дружков, к радости Шурочки, пошел устраиваться в леспромхоз.
В конторке его оглядели снизу доверху, но людей в ту пору в
леспромхозе недоставало, и Савелия Палыча отправили в малую
комплексную бригаду Соломенцева.
...Савелий Палыч подвез оставшиеся со вчерашнего дня хлысты
на площадку и заглушил мотор. А потом обошел вокруг трактора,,
ласково погладил ладонью уезженные гусеницы: «Хорошая машина...
На ней не только трелевать, землю б ворочал». Савелий Палыч уважал все крепкое и сильное.
Савелий Палыч уверовал в силу трактора настолько, что, когда
однажды зимой тот беспомощно забуксовал на взгорье, он растерялся. То и дело спрыгивал на землю, прислушивался к мотору, отгребал снег от гусениц и, чуть не плача, бурчал под нос:
— Милый, родной, как же ты, а?
А потом устало сел на землю и, не обращая внимания на понукивания бригадира, участливо глядел на зарывшийся в снег трактор.
Однако неожиданная беспомощность стальных мышц не поколебала любви Савелия Палыча к трактору. А вскоре он нашел оправдание этому.
— Снег-то по пояс,— сердито говорил он тогда. — Как скребет
по поддону — ужасть. Тут никакой механизме не пройти.
Появился Соломенцев. Савелию Палычу быстрого взгляду хватило, чтобы определить: не в духе бригадир. Он угадал. Выбил Соломенцева из привычной колеи разговор с техноруком.
— Ну как, стрелевал?— поинтересовался Соломенцев.
Савелий Палыч хотел обидеться, зачем, мол, спрашивать? Если'
заглушил трактор, значит, сделал,— но раздумал. Только кивнул головой в ответ:
— Понятно.
— А бригада где?
— На верхнюю деляну ушла, на взгорье. — Савелий Палыч не
стерпел, пожаловался: — Чекеры полетели. Всего два осталось.
— Я выбил в конторке немного,— сказал Соломенцев. — Завтра
обещали подбросить.
— Вот это хорошо,— обрадовался Савелий Палыч.—Настырный
ты мужик, бригадир.— Спросил:—На сегодня хлыстов хватит? Может, придет Санька Рытвин и будем наращивать стены лебедки?
— Посмотрим.
10
Сторожка была заполнена людьми до отказа. Некуда ноге ступить. Сидели на полу, плотно прижавшись друг к другу. Но в тесноте да не в обиде.
В центре сторожки два свежеспиленных чурбака. На чурбаках—
начальник лесопункта и технорук. Они о чем-то говорили между собой. Но вот начальник окинул взглядом лесорубов, сказал, густо кашлянув в кулак:
— Все ль в сборе?
— Кому надо, все,— бойко ответил Санька Рытвкн.
— В таком случае слово... да, слово техноруку.— Ткнул в бок
Степана Ивановича. — Давай!
Степан Иванович нерешительно повел плечами, перебрал листки
бумаги, разложенные на коленях. Но тут же убрал их.
7*
99
— Я вот о чем... Прошу извините, если что не так. Два года я не
был здесь. Да вообще за это время в лесу я был мало. Так что извините. — Потер ладонью лоб: — Был я в одном леспромхозе. Здорово
работают. По технологии. И в ветер и в дождь, без жданок, одним
словом. Не то что у нас — чуть заветрило, ставлю на прикол трактор,
бегу в сторожку и жду, когда утишится. Спросите, а почему так получается, что они и в непогоду шпарят? Так я скажу. У них несколько делян выделено — с наветренной и с подветренной стороны. Это
уж как получится. И вот, когда сильно дует ветрюга, они приходят
туда, где тише и где можно вести валку без боязни. Потому и нет у
них, давно уж нет и в помине простоев. И всякого такого. Короче,
славно живут, позавидуешь.
Санька крепился-крепился, не выдержал — сказал:
— Ну и что?
— Может, и у нас тоже выделить несколько делян?— предложил Степан Иванович.
— Неплохо бы,— сказал начальник лесопункта.
— Да, неплохо бы,— поддержал его Санька Рытвин.
Степан Иванович приободрился. Но поглядел на лесорубов и почему-то у него возникло ощущение, что он не убедил их.
— Ну, как?— спросил. — Сделаем или?..
— А разрешат?
— Должны.
— Разрешат,— сказал начальник лесопункта. — Это я на себя
беру.
Послышались голоса, то усмешливые, то привыкшие ко всему
на свете:
— Беру... А чего до этого думал?
— Он ждал, когда Степан Иванович приедет, чтоб поговорить с
нами.
— А раньше недосуг было?
— Плела сорока да улетела далеко.
— Кому еще слово?— стараясь перекричать шум, громко и недовольно спросил начальник лесопункта. — И помолчав, опять:—Кому еще?.. — В конце концов, удивился даже: — Некому, что ли?
— Да ну его, слово твое,— бросил кто-то огорченно и поспешно
добавил: — Слышь, ты бы лучше горючее вовремя подвозил. А то
стоишь по часу и ждешь.
Начальник лесопункта поморщился от досады. Тогда встал Соломенцев и сказал:
— Тут Степан Иванович говорил. Верно, по-моему, говорил. Пора бы уж за ум взяться. Я тоже—гляжу-гляжу вокруг, и тошно становится. Поэтому и лебедку строить начал. А техноруку надо добро
дать.
Сел. Степан Иванович уважительно поглядел на Соломенцева.
Чувство страха, что ничего не выйдет у него, прошло. Он уже готов
был поклясться, что не было его никогда, а просто почудилось, что
было. И, не подымаясь с чурбака, Степан Иванович сказал:
— Ну, все. Договорились, да?—Осторожно добавил:—Только не
взыщите — спрашивать буду. И — крепко.
11
Степан Иванович ввалился в дом, большой, обласканный сухим
сиверком. Подошел к матери и, размазывая по лицу пот, сказал:
— Нелегко мне, мать. Как белка в колесе. Сегодня в конторке
100
такой шум поднял — стекла в окнах звенели. Но боюсь, ничего не
выйдет из этого. Ты посмотри, как у них: хочу — еду, хочу — нет?..
— Успокойся, Степушка,— доверчиво прижимаясь к плечу сына, сказала тетка Дуня. — У тебя на роду писано — умом пробить себе дорогу. И — пробьешь.
Степан Иванович заметно оживился, улыбнулся, слегка отодвинул от себя мать:
— А Надюшка дома?
— У себя.
Степан Иванович скинул пиджак, бросил его на руки матери,
прошел в комнату. Увидел Надюшку, которая стояла в рабочем
комбинезоне у окна.
Надюшка услышала за спиной шаги, обернулась.
— Ну здорово, труженица,— улыбнулся Степан Иванович.
— Здравствуй,— сказала Надюша.
Сегодня она еще не видела брата. Затемно он уехал в лес.
— Устала?— спросил Степан Иванович.
— Устала,— созналась Надюшка. — Беготни много.
— Я тоже устал,— вздохнул Степан Иванович и наморщил лоб,
припоминая. Заговорил медленно: — Когда приходил к нам Соломенцев, ты была очень обрадована. Я заметил. Он тебе нравится?
Надюшка смутилась, не нашлась, что ответить. Но Степан Иванович добавил мягко:
— Ты говори — чего уж. Он парень с головой. Говори...
— Нравится,— выдохнула девушка и посмотрела на брата.
— Ну, и хорошо,—_сказал Степан Иванович, увлекая Недюшку
на кухню, откуда тянуло приятным запахом свежего борща.
12
Такого хара-кутульцы еще не видели. Приехал технорук в лес.
не один — с кассиром, расположился в сторожке, собрал лесорубов,
сказал:
— Зарплата.
Потянулись к сторожке люди: и те, кому было что получать, и
те, кому не было. Последние шли из любопытства. Слух быстрее ветра по делянам пронесся: «Сегодня недовольных не будет. Зарплата
выплачивается всем».
Приходили в сторожку, пристраивались где-кибудь в укромном
местечке, поглядывали на технорука.
Степан Иванович, как и в тот раз, на собрании, в аккуратно наглаженных брюках, заправленных в тускло поблескивающие «хро мовки», при галстуке. Непривычно строг.
— А у меня нету, поди, ничо,— заикнулся было кто-то.— Я в
аванс перебрал.
— После отработаешь,— сказал Степан Иванович. — А теперь
не робей — подходи!..
Такого хара-кутульцы еще не видели.
— Многого вы не видели,— примерно через час, смеясь, говорил
Степан Иванович, сидя в дежурке и оглядывая как-то очень серьезно настроенных лесорубов.
Спрашивали у Степана Ивановича:
— Как это удалось?
— Мое дело,— отвечал.
И верно, его... Чье же еще? Не мог же он рассказать им, как ходил к главному инженеру, просил... И уж, конечно, никогда бы он не
рассказал, что и сам-то не особенно верил, что удастся ему на этот
101
раз добиться своего. И хотя везде, где была в этом необходимость,
повторял заученное: «Нынче, если в меру, толк будет», а не верил.
И чуть не запрыгал от радости, когда главный инженер сказал:
— Чтоб заинтересовать, говоришь? Ладно, пробуй. Директор не
возражает. — Предупредил:—Только смотри, берешь на себя... Ну,
понимаешь, короче?..
Здесь бы и растеряться ему, пойти на попятную. Мало ли как
не бывает? Но что-то подсказывало Степану Ивановичу, что дело это
верное, надежное. А может, все-таки он ошибся, может, не стоило?..
Он помнит, когда строил дорогу на холбожинские деляны, тоже
было непросто. Непросто было убедить людей, что дорогу надо построить как можно скорее. А для этого нужно во многом отказать
себе. Впрочем, он тогда не убеждал... "Он просто сказал, что надо и
что после этого они будут иметь кое-что посущественней, чем имеют
теперь. Он так и сказал «посущественней». И люди поверили ему.
Теперь тоже... должны поверить. Он видел, с каким удивлением
смотрели на него. И это его радовало.
Дежурка остановилась возле конторки. Степан Иванович первым
выпрыгнул из машины и, не оглядываясь, зашагал к дому. Но вскоре его догнал Соломенцев.
— Здорово,— восхищенно сказал он.— Ну, как?
— С трудом,— ответил Степан Иванович.— Взял себе на шею
обузу. И какую!
— Ты думаешь, поможет?
— Должно...
— А я уже остов подгоняю под лебедку,— сказал Соломенцев.
— Ты бы как-нибудь пришел, посмотрел.
— Сейчас некогда, понимаешь?
— Что... закрутился?
— Да, закрутился. Хочу, чтоб все хорошо было.
— А, конечно,— протянул Соломенцев. Степан Иванович похлопал его по плечу.
— А ты все-таки приходи, ладно?— попросил Соломенцев. —Может, где подскажешь, чтоб работа у нас шла быстрее.
— Обязательно приду,— сказал Степан Иванович. — Вот только
разделаюсь с основными делами и приду.
— С основными?
Степан Иванович заметил — в глазах у Соломенцева выписалось
удивление, а возможно, недоумение — не разберешь сразу. А сквозь
это что-то непривычно горькое и усталое. И Степану Ивановичу захотелось как-то ободрить Соломенцева, сказать что-то доброе. Но в
голове у него как назло ни одной мысли, не занятой делами.
— Ну, я пошел,— бросил он.
13
Солнце тонкое, как арбузный пластик, едва проглядывает сквозь
тучи, облепившие небо. Ветер стелется по земле, обхаживает рыжий
кустарник.
Соломенцев вместе с Савелием Палычем поднимаются на взгорье. Савелий Палыч прячет в глазах беспокойство. Боится, заметит
бригадир, вытащит на свет белый его мысли. И не знает, что только
слепой может не увидеть этого.
— Ну?— говорит Соломенцев.
Савелий Палыч мнется с минуту, потом предлагает:
— Сегодня валить нельзя — ветер сильный. Может закосить дерево, тогда — беда.
102
— А на собрании, помнишь, говорили, что и в ветер не страшно.
— Не страшно, если бы были уже новые деляны с подветренной
стороны.
— Будут и новые. Но пока здесь... Сделаем еще ходки две, а
после пойдем к лебедке, стены будем поднимать,— говорит Соломенцев.
Его очень интересовало, чем он был занят на Нижнем. Он мог
часами, без роздыху работать на строительстве лебедки. Но Степан
Иванович дал ему понять, что это дело — не основное. Может, и
верно, не основное? А может, нет? Соломенцев попробовал представить, что бы было, если бы лебедка была уже готова. И почувствовал, что многое бы изменилось на делянах. Люди бы уже не косились на него недоверчиво, не до конца понимая, зачем он строит, и
не стали бы попусту гнуть спину.
Но лебедки пока нет. И еще нескоро шарообразное строение, которое рисовалось ему, подымется вверх.
Соломенцев в затуманенной дали видит контуры Мыргыдкеновой горы. Улыбается: «Старик-то мой, пожалуй, уже там. Вчера грозился сходить». До слуха Соломенцева доносится разговор лесорубов:
— Как-то нынче с получкой?
— А что?
— Ты разве не слыхал? Кассир наш, как съездил на деляны,
сразу заболел — утрясло в машине.
— Какой он, однако, недотрожливый.
Слышится несердитый смех.
Увидев Соломенцева, лесорубы на мгновение замолкают, а потом снова начинают говорить, сыпля ядрышками крепкого смеха.
Дмитрий Илларионович отходит в сторону, наклоняется к кучке хвороста, разгребает его руками, вытаскивает бензопилу, проверяет
зубья. А Савелий Палыч подсаживается к лесорубам. Устроившись
поудобней на сыроватой земле, заявляет:
— Вот раньше лес дак лес был. Не в пример нынешнему. Деревья друг от дружки в полуметре стояли. И были они толстые, как
наши бабы,— в обхват не возьмешь.
—• Вроде Шурочки?— смеется Санька Рытвин.
Савелий Палыч пробует обидеться:
— А ты Шурочку не трожь. Она не по твоим зубам.
— Слышно, Шурочка опять к брату собирается?
— Не городи напраслину,— беззлобно говорит Савелий Палыч.
И добавляет, расстроенный:— Я же тебе не мешаю. Зачем ты ко мне
лезешь?
Верит Савелий Палыч, не уедет от него Шурочка. Но тогда отчего ему становится тяжко? Бросить бы все, одним глазом взглянуть,
что она теперь делает.
В это время кто-то говорит:
— А Степан-то Иваныч — дошлый мужик. Ишь, как закрутил,
а? И по-доброму закрутил.
— Дошлый,— кивает головой Савелий Палыч.
— Ну, пошли.— Это Соломенцев. Он покручивает в руках бензопилу. А она попискивает несговорчиво — ослабли подшипники.
Савелий Палыч сообщает об этом бригадиру, втайне надеясь, что тот
изменит свое решение и даст еще немного отдохнуть.
— Знаю, знаю,— отмахивается Соломенцев.
«Он всегда так,— вздыхает Савелий Палыч.— Нет, чтобы как у
людей — посидеть, еще раз проверить, что к чему. Посетовать, дескать, все-то с запчастями худо...»
103
— Ну, пошли,— опять говорит Соломенцев.
Санька Рытвин не соглашается:
— Ветер...
Савелий Палыч всем сердцем на его стороне: «Верно, ветер. Некуда торопиться». Но бригадир все же настоял на своем. И через
минуту Савелий Палыч под ехидными взглядами лесорубов, понурясь, идет с Санькой Рытвиным к трактору.
14
Моросило. Степан Иванович, выйдя из конторки, глянул на небо, сел в газик, велел шоферу ехать на деляны. А минут через тридцать уже был в лесной сторожке. Лесорубы удивились. И было отчего. Раньше начальство редко наезжало к ним, а этот технорук зачастил.
— Чего сидите?— спросил Степан Р1ванович. — Мороси испугались?
— Много ли сделаешь? Ветрено...
— «Ветрено»,— передразнил Степан Иванович, и, сам себя не
узнавая, резко:— У тебя в голове ветрено.
Лесорубы переглянулись и неуверенно засмеялись.
— У нас в привычку вошло,— сказал кто-то.— Да только ли у
нас? Если ветер иль дождь шибкий, сиди в сторожке, не вылазь
на деляны — все равно немного сделаешь, а только измаешься.
— Дурная привычка,— сказал Степан Иванович. — Хоть и «законная». Ломать надо. Иначе снова в кармане будет, как моя мать
говорит,— «дырка-свисть».
— Дело,— поддержали. — На тощую грудь, значит, кидаешь7
Поднялись с насиженных мест, вышли из сторожки.
Степан Иванович, усмехаясь, поглядел им в след.
В сторожке остался один сторож. Он смотрел на технорука с
уважением.
Немного прошло времени с того дня, как Степан Иванович приступил к работе. Но уже теперь кое-что из давнего, что казалось людям привычным, стало ненужным. Новый технорук сумел по зернышку перетряхнуть уклад жизни хара-кутульских лесорубов. И,
наверное, поэтому пришелся он по душе многим. И сторожу, конечно, тоже.
— Слышь, техрук,— сказал сторож, подойдя к Степану Ивановичу. — Я ведь сам-то тракторист.
— Чего же здесь?
— Так вышло. Трактора-то у нас старые. Я и забоялся, думаю,
из ремонта вылазить не буду. А у меня — семья... Тут же я и за сторожа, и за слесаря, и за заправщика— все, считай, в одном лице.
Жить можно.
— Вон как,— сказал Степан Иванович. — А желаешь на трактор? Пристрою.
— Я, конечно...— замялся сторож. И хочется ему и колется. Надоело безделье. — Как бы... э... гарантия.
— Слово мое — гарантия.
— А куда выходить?— спросил сторож.
— Двусменку организуем,— сказал Степан Иванович.— Вс вторую будешь.
Вышел из сторожки довольный.
По-прежнему моросило. До слуха донеслось — где-то цокала
белка да ветер шелестел в чаще.
104
10
День выдался трудный. Лесорубы из бригады Соломенцева истратили уйму сил.
Приехав в Хара-Кутул, Соломенцев зашел в конторку. Степан
Иванович поднялся ему навстречу из-за стола, сказал:
— А ты стал нас забывать. Негоже забывать старых друзей.
Степан Иванович был убежден, что это не так, но ему хотелось
подбодрить Соломенцева.
— Как сработал?— помолчав, спросил Степан Иванович.
— Плохо.
— Отчего?
— Мне кажется, не стоит в ветер...—осторожно сказал Соломенцев.
Степан Иванович округлил глаза, в лице обозначились жесткие
морщины.
— А мне вот не кажется.
Соломенцев с интересом взглянул на Степана Ивановича. Уж
очень холодно прозвучали его слова. «А если беда? Ведь она не будет ждать — придет. Долго ли на таком ветру? Повернет по надрезу
лесину — и поминай, как звали». Соломенцев хотел предупредить
об этом технорука, и он сказал:
— Всякое может быть. Люди же... А вдруг?
— Боишься?
— Если на то пошло — боюсь.
— Ладно,— хмуро сказал Степан Иванович. — Я, конечно, понимаю, трудно. Понимаю, что и по технологии не всегда можно вести валку в ветер. Но нам ли сейчас думать об этом? Скажи, нам
ли?.. Когда на всех участках из рук вон как плохо?.. Пусть она подождет до другого разу, технология.
Соломенцев поморщился: опять тоже слово не совсем понятное
и потому лишенное для него всякого смысла. Он уважал лишь то,
что знал и что ему нужно было повседневно. А Степан Иванович, напротив, сказав это свое извечно любимое «технология», вскинул голову, скользнул взглядом по Соломенцеву, сказал:
— У тебя только одно дело, и все. А у меня? Сколько? Перечтешь разве! Вот я чуть больше недели у вас, а чудится, целую вечность. Все начинать надо и во многом с самого начала. Потому и приходится иногда делать не то, что хотелось бы, и рисковать.
— Собой, пожалуйста, но не людьми...
— Слышал это и раньше,— сердито сказал Степян Иванович.—
Пустые слова. В любом случае я рискую собой.
— Ко зачем, Степан?!—воскликнул Соломенцев.
И столько было сожаления у него в голосе, что Степан Иванович
не выдержал, захохотал, предварительно ослабив галстук, обтягивающий ворот белой рубахи. Ему нравилось, что Соломенцев назвал
его по имени и тем самым переступил черту, которая, по его мнению,
должна быть между начальником и подчиненным. А Степан Иванович хотел быть со всеми запросто.
— Что нам делать завтра?— возвращаясь к прежнему разговору, спросил Соломенцев.
— Как... что?
— Ветер на неделю, я знаю. Трава по земле стелется.
— Пусть^ А мы будем работать. Больше нам ничего не остается
как работать.
И снова у Степана Ивановича округлились глаза, а в лице обозначились жесткие морщинки.
— Ладно, пусть будет по-твоему,— сказал Соломенцев. Понял,
105
как не убеждай технорука, тот не отступит от своего. И он повернулся, чтобы уйти, но Степан Иванович остановил его:
— Как у тебя? Скоро ль подымется строеньице?— Похвалил:—
А ты нашел выход. И добрый. Уважаю. Только вот беда — ждать
долго придется. Сейчас бы нам лебедку, сейчас!.. Как бы здорово
было!
На подоконнике плясали лучи уходящего на покой солнца. Лучи были тусклые и невыразительные, как и все в этой примелькавшейся глазу комнате, в которой появился новый хозяин.
Соломенцев прикрыл за собою дверь.
16
Утро было росное. Прозрачные капли лежали на ровных, словно
под гребенку стриженных пнях, прятались в извивах сосен, густо
наваленных вдоль валка, висели на листьях берез.
Савелий Палыч приглушил трактор, высунулся из кабины, оглядывая еще нетронутые рядки сосен, которые перешептывались
друг с другом. Неожиданно на одной из сосен Савелий Палыч заметил выдолбку. «Дятлова работа,— решил он.— Больше некому». И
ни с того ни с сего радостно: «Ишь ты, трудяга. В помощь, выходит,
чтоб гниль не ела. Трудяга...»
— О чем замечтался?— спрашивает, подойдя, Санька Рытвин.
— Да вишь, дело-то... выдолбка на сосне... — мнется Савелий
Палыч. — Поглядим?
Санька Рытвин приноровился к характеру тракториста. Он смеется:
— Пороть тебя, ядрена стелька, некому.— И, словно отвечая на
свои мысли, серьезно: — То тебе выдолбка покоя не дает, то еще
что... Право слово, чудной ты мужик. — Замолкает, но не надолго.
Говорит:
— Я с утра, когда вы уходили в сторожку за чекерами, лебедку на прочность пробовал — спустил трос у трактора, перекинул его
через опорные столбы, ну, да через те самые, что мы вчера поставили, затем обвил ими пачку леса. И—дернул. Трактором, конечно.
Спружинили столбы, вьюном взвилась вверх пачка. Хошь сразу же
опускай ее прямо на вагонные сцепы. Вот здорово, а? Силушки у
нее, у лебедки, дай бог сколь, да еще в этом, как его, в незавершенном виде. Но то ли еще будет! А я боялся—не выдержат столбы,
только им хоть бы хны — дюжат!
— Увидел бы Ларионыч, он бы тебе показал «дюжат».
— Не увидел, и ладно.— И тихо, будто для себя: — Вот все думают, у меня на уме одни усмешки-пересмешки, и ничего больше.
Черта с два! Я тоже хочу хорошее сделать, яркое. Тогда и зауважаю
себя, и счастлив буду. А что? Счастье-то — это когда веришь, что
можешь сделать доброе, и не хуже, чем Ларионыч.
Санька Рытвин уже давно в лета взрослые вышел. Он самого
Соломенцева помоложе года на два всего. И пора бы ему именоваться по отчеству, но нет, прижилось за ним короткое и ясное —• Санька — и все тут. Впрочем, он и сам не очень огорчается: ну, Санька
так Санька. Правда, иной раз и хотелось бы, да только не выходит.
— Начнем, что ль?— говорит Санька Рытвин.
— Какой ты, однако, работящий. Не дай бог с тобой еще где
встретиться,— вздыхает Савелий Палыч и заводит трактор.
«Вр... вр... вр...»,— нехотя стучит мотор. А спустя немного, словно испугавшись, быстро-быстро: «Тра-ра-ра...» Савелий Палыч прислушивается. «Во музычка!— думает радостно. — Почище любого
106
концерта. И ездить далеко не надо. За день наслушаешься, всю ночь
потом картинки в голове, одна другой краше».
На ум Савелию Палычу приходит песенка: «Прокати нас, Петруша, на тракторе». Песенка—что надо. И главное в его летах. Когда
Савелий Палыч жизнь не на ощупь, а руками стал брать, эта песенка ему — ох, как!— сгодилась. Услышал ее Савелий Палыч и сразу
записался в почитатели механики. Правда, поначалу никак не удавалось взять ее полюбовно за грудки, чтоб рядом с собой поставить.
Виною тому — «дикая бригада». И лишь сравнительно недавно, благодаря Шурочкиным стараниям, довелось-таки Савелию Палычу
погреть возле нее истомившееся сердце.
Стучит мотор, наигрывает: тра-ра-ра... Савелий Палыч втискивается в кабину, разжимает сцепление. И уже, когда трактор трогается с места этакой небрежной гусеничной походкой, Савелий Палыч не
выдерживает и во все легкие (хорошо, мотор заглушает собственный
голос, и Санька Рытвин не слышит) затягивает полюбившееся: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати».
Но Савелий Палыч не успевает допеть до конца песню. Недалеко от валка он замечает Соломенцева со Степаном Ивановичем. Останавливает трактор, спрыгивает на землю, спешит им навстречу.
Любопытство Савелия Палыча разгорается до предела, когда он
еще издали видит на Степане Ивановиче белую рубашку с аккуратно повязанным галстуком. «Иль праздник нынче какой?—недоумевает Савелий Палыч. — Но Шурочка мне ничего не говорила. А она
у меня по части праздников — дока».
— Что-нибудь случилось?— через минуту интересуется Савелий Палыч и с уважением заглядывает в большой и крепкий рот
технорука.
•— Позови остальных,— не ответив, бросает Степан Иванович.
— Я сейчас,— торопливо говорит Савелий Палыч и легко поднимается на взгорье. А потом возвращается с лесорубами и протискивается к техноруку.
— Надеюсь, помните наш прежний разговор?— Степан Иванович оглядел собравшихся. — Разговор о том, что нам тоже не мешало бы иметь пару-другую делян, да чтоб были они расположены подальше друг от друга. На тот случай, если на одних делянках гуляет
ветер и валить лес здесь нельзя, дак чтоб на других, где-то в распадке, ветра бы не было. Так вот ездил я вчера в леспромхоз с начальником нашим. Договорились.
С минуту люди молчат, потом одобрительно кивают головами.
А Степан Иванович тем временем оборачивается к Соломенцеву, отводит его в сторону:
— Пришли тросовые крепежи для лесов. Если надо, возьми.
Пригодится связывать столбы. — И добродушно добавляет:—Вишь,
и о лебедке твоей забочусь, хотя других дел по горло.
— Ты так говоришь,— хмурится Соломенцев,— будто мы тебе
мешаем и ты не знаешь как от нас избавиться.
— Ну, это ты зря,— недовольно говорит Степан Иванович.
17
Дед Фока сидит на старом табурете, разувшись и задрав гачи
брюк. Тень падает на его худые ноги. Он недовольно поглядывает
из-под взлохмаченных бровей на девушку в синем платке, наспех
накинутом на полные плечи.
— Надюшка,— спрашивает он у девушки. — Ты зачем притащилась к нам? Не боишься, братец узнает?
107
— А чего бояться?—недоуменно говорит девушка.—Впрочем,
он уже знает.
— Откуда?—сердится дед Фока. Он явно не в духе. А причиной
тому — старческое самолюбие. «Жили-жили,— мрачно рассуждает.
он. — Тихо, без крику. А тут приехал умник, закрутил, завертел.
Теперь и разговоры-то на поселке никудышные пошли, и все по одному месту: и какой он боевый, наш новый технорук, и образованный. Вон вчера предложил это сделать, сегодня — то... Будто все раньше петухами посиживали на заплоте, только и делали, глотку лудили».
Самолюбие деда Фоки особого свойства. Не за себя обидно ему
— за Соломенцева, которому тоже до нынешней поры иногда перепадало от уважения сельчан. «Как же так,— недоумевает дед Фока.— Был хорош, а теперь плох стал?..»
«Нет, не плох,— после недолгого раздумья решает дед Фока.—
Демка остался прежним. Наверно, этот, как его... изменился». Даже
в мыслях не хочет дед Фока уважительно относиться к Степану
Ивановичу.
Старик подбирает под табурет ноги, неодобрительно глядит на
девушку, которая все также сидит напротив него.
— Я с Демкою и с твоим братцем,— говорит дед Фока,— много
лет назад ходил к подножию Мыргыдкеновой горы травы собирать.
Демка тогда подорожник нашел, и не редкий вроде, а необычный.
Листья у него кувшинчиками выросли. И на дне тех кувшинчиков—
вода. Чистая. Демка мне: «Подорожник?»—«Он самый»,— отвечаю.
А Степка противится. «Нет,— говорит. — Не подорожник. Это другой
цветок, не подорожник».
Спрашивает у Надюшки:
— Упрямый Степка-то? Все-то по-своему хочет. И тогда, и—
теперь. Пожалуй, таким и надо быть, а?— И, не дождавшись ответа, замечает: — Пожалуй...
А потом замолкает нахмуренный — брови стекли к переносью.
Надюшка зарделась пуще прежнего, но, зная нрав деда Фоки,
лишь поправила платок на плечах и смолчала. Она уважала брата
и не понимала, почему старик недолюбливает его. Но ей очень хотелось дождаться Соломенцева, и потому Надюшка не обиделась на
деда Фоку и не ушла из этого дома.
Надюшка думала, что Соломенцев обязательно поладит с братом. Ведь они учились вместе и хорошо знают друг друга. Надюшка
только в прошлом году окончила десятилетку и верила, что все хорошее между людьми должно начинаться со школы.
Не в парниковом тепле родилась Надюшкина любовь к Соломенцеву. Никто не ухаживал за нею. Она была как буй-цветок.
Мать говорила обычно Надюшке:
— Да он же тебя на много лет старше!
— А разве это страшно?— отвечала Надюшка.
Мать обиженно утирала сухие глаза подолом:
— Господи! Где на нее найти управу?
А потом брат приехал. Он узнал о Надюшкиной любви и, кажет"я, не имел ничего против, а, наоборот, был даже доволен ее выбором.
18
Соломенцев очень обрадовался, когда, приехав, увидел в своей
квартире Надюшку. И сразу забыл о всех неурядицах дня. А их было — хоть отбавляй.
Соломенцев подошел к Надюшке, пожал ей руку. Надюшка по108
морщилась, радостная: приятно заныли пальцы. Дед Фока завозился на сиденье, огорченный. Показалось, не очень печется о нем Соломекцев, если, придя домой, ни разу пока не взглянул в его сторону.
Но Соломенцев не догадывался, что творилось в душе деда Фоки. Он скинул пиджак, зачерпнул в ковш воды, вышел во двор. И
все то время, пока он мылся, Надюшка находилась в комнате, сквозь
окна которой падали на неровный пол, едва схваченный краскою,
мутноватые тени вечера. Прищурясь, она, словно Соломенцев сейчас был рядом с нею, видела его большие руки, вымазанные в мазуте, его шею, по которой стекает густая мыльная пена.
Но вот Соломенцев, переодевшись, появился перед Надюшкой
в новом сером костюме. Девушка с удовольствием вспомнила, что
этот костюм был куплен потому, что она этого хотела. Соломенцевто все отшучивался: «Зачем мне костюм? На людях я редко бываю».
—«Нужно,— не унималась Надюшка.— Ты посмотри, как он сшит».
И Соломенцев сдался. Однажды вечером после получки он пошел в
магазин, конечно, не один, с Надюшкой. Долго примеряли, спорили,
купили.
— Как дела?— Соломенцев подсел к девушке. Дед Фока завозился на табурете. Откуда-то вынырнул кот, деловито прошелся по
комнате, выбрал себе местечко поудобнее, как раз напротив Соломенцева, уставился ему в лицо своими зеленоватыми глазами.
Дед Фока вспылил: «Тьфу, тварь бесстыжая», бойко вскочил с
табурета, прихватил в охапку кота, глянул неодобрительно на Соломенцева: «Если не евши, в кутухе щец»,— и хлопнул дверью.
— Я тебя не видела уже три дня,— сказала Надюшка.— А это
много. Для меня много. Неужели ты не мог придти на взгорье? Ты
же знаешь, что я теперь на взгорье.
— Занят был сильно,— поспешно ответил Соломенцев.
— Занят?— обиделась Надюшка.— У тебя всегда не то, дак
другое.
— Ну, хватит тебе,— улыбнулся.
— Нет, ты подожди,— сказала Надюшка. — Значит, ты был занят вчера?
— Ну, занят.
— А позавчера?
— Тоже занят.
— Вот и я тоже... занята,— сказала Надюшка. — Уйду я.
Но она не ушла, а лишь доверчиво прильнула к Соломенцеву.
19
Дни быстрые. Дни поиграли косыми лучами солнца в кронах
деревьев и ушли вместе с_ ветром. Двадцатое...
Вечерело. В конторке лесопункта было людно. И у крыльца тоже людно. Кто-то спрашивал:
— Дают?
— Дают, кому по шеям, а кому по рукам,— отвечал довольный
голос.
— Ну?— И огорченно: — А Стэпан Иванович слово давал не забижать.
— Ладно. Пошутил я. Иди, получай.
— Так бы сразу,— обрадованно говорил робкий хара-кутулец и
нырял в прокуренную темень конторки.
Савелий Палыч опаздывал. У Шурочки голова разболелась—
примочки делала. Он спешил: боялся — кассир не дождется, уйдет.
109
А потом где искать его? Не бежать же к нему домой — совестно. VI
очень удивился Савелий Палыч, когда застал в конторке много народу. «Сколько их приперло сюда,— подумал он. — По какому бы
случаю, а? Раньше, бывало, все норовили в этот день бочком обойти
конторку, баб своих посылали: мол, иди, получи, что причитается.
А теперь отчего бы?»
Но вскоре Савелий Палыч понял, отчего. Кассир, выдавая получку, не переставая, басил — перепало с утра:
— Лесопункт справился, наконец-то, с планом. Вот Степан Иванович и велел мне сказать: поэтому и побольше. Премия...
Люди подходили к столику, получали деньги, неуверенно пересчитывали их и с достоинством опускали в карманы. Но из конторки
не уходили. Толпились вокруг столика, с интересом прислушивались
к хриплому басу кассира.
Савелий Палыч протиснулся к столику:
— Давай мне...
Кассир поднял голову:
— А тебе поменьше будет.
— Пот:ему?— не утерпел обидевшийся Савелий Палыч.
— Премия идет лишь тем, кто на заготовке леса,— пробасил
кассир. — Положение есть такое. Хошь — ознакомлю.
Лесорубы, окружавшие их, посмеивались. Савелий Палыч, наклонившись, поставил свою подпись в ведомости. Затем, не глядя посторонам, стал пробираться к двери. Не в деньгах дело — в самолюбии. Взыграло-таки!
„
С тяжелым сердцем шел домой Савелий Палыч, догадываясь,
что Шурочка уже знает, что произошло в конторке. Земля-то слухом
полнится, а на селе он быстрее ветра.
20
Утром перед тем, как уехать на деляны, Соломенцев забежал
в конторку, надо было узнать, скоро ль придут новые бензопилы, а
своя совсем износилась. Забежал, заглянул в кабинет технорука,
увидел Степана Ивановича, растянул в улыбке рот:
— Ты словно не вылазишь отсюда. Что, здесь и ночуешь?
Степан Иванович оторвался от бумаг:
— Положим, до этого еще не дошло.
— Когда «бензинки» придут новые?
— На днях,— сказал Степан Иванович.
— Моя уже не берет.
— Знаю. Первую — тебе.
— Хорошо бы.
Степан Иванович поднялся из-за стола, несколько раз прошелся
по кабинету, остановился напротив Соломенцева, взял его за руку,
подвел к карте лесосечного фонда, которая большим зеленым квадратом висела на стене.
— Посмотри, лесосеки у нас сильно истощились. А взять неоткуда. Одни порубки. А на них далеко не уедешь. Как быть?
— Не знаю,— признался Соломенцев. Он вдруг как-то особенно
ясно понял, сколько у Степана Ивановича забот и как ему порой тяжело приходится.
— Я тоже не знал до сегодняшнего дня,— сказал Степан Иванович.
— А утром озаренье нашло?— полюбопытствовал Соломенцев.
— Ты прав, нашло. Вот...—Рука Степана Ивановича неуверенно поползла по карте — тень упала на стену.— Здесь урочище, от-
110
куда теперь идет лес на лебедку. А лес тут славный. — Убрал руку
с карты, повернулся к Соломенцеву. Тихо сказал:— Послушай-ка,
зачем тебе на строительство хороший лес? Можно и помельче.
— Можно,— согласился Соломенцев.— Но где его взять?
— Есть где. Пониже урочища. Оттуда будешь брать, а на твое
место я бригаду заготовщиков поставлю.
Растерялся Соломенцев:
— Там же молодь. Мы ее нарочно не трогали. На будущее. Чтобы и после нас что-то осталось. Сосенки там едва-едва проклюнулись.
— Вырастет еще,— с досадою сказал Степан Иванович.
— Не то говоришь,— огорчился Соломенцев.— На такое я не
пойду. Грязное это дело.
— Грязное? Пусть! Но если для людей — не страшно.
— А по мне, наоборот, еще страшнее,— обронил Соломенцев.
Степан Иванович вышел из кабинета, но быстро вернулся, не
один — с начальником лесопункта. Соломенцев и рта раскрыть не
успел, как начальник подступил к нему, сказал:
— Что же ты, брат, опять на кураж бьешь?
— Я в эту аферу не полезу.
— Со всеми обговорено, и с лесничим тоже.
Долго убеждал начальник лесопункта Соломенцева, ко убеждение убеждению рознь, а своему он и сам не особенно верил, понимая
нутром, что напрасно согласился с техноруком, дело-то и верно не
ахти какое чистое. Поэтому он сказал напоследок:
— Хорошо. Пусть будет по-твоему. Мы не настаиваем, а просто
ради совета. Так ли, техрук?
Степан Иванович развел руками. А Соломенцез между тем вышел из кабинета и торопливо зашагал к гаражу, где обычно останавливалась дежурка.
21
Степан Иванович после того, как Соломенцев ушел, стал собираться на деляны: позвонил в гараж, чтобы подали машину, сгреб
со стола бумаги, уложил их в шкаф, который стоял у стены, сходил
к начальнику лесопункта, сказал ему: «На лесосеки...», и вышел на
крыльцо.
И все это время он раздраженно думал о Соломекцеве. Он, конечно, знал, что не очень честно — рубить молодняк. Но как быть?
Надолго ли хватит старых делян? Конечно, можно перейти на другие. Но все они расположены далеко от узкоколейки. А тут лес под
боком. Знай, подтаскивай да прямо на сцепы. Выгодно. Всем. И потому он был убежден: его предложение очень бы пригодилось лесопункту в нынешних условиях. Только он хотел, чтобы все было сделано без шума. Но этого не захотел Соломенцев и тем поставил себя
по другую сторону... Да, не вышло у Степана Ивановича хорошего
разговора с Соломенцевым. А жалко — человек-то свой, мог бы и
понять его.
Сух-ковыль — трава настырная. Деревья от нее заслонят солнце, а она и в полусумраке растет, нет долго дождя — она пошумит, погорюет немного да снова тянется к небу, рассыпая вокруг живучие
огарышки зерен.
Прямо хотел бы итти по жизни Степан Иванович и не отрываться от первого ряда. Сзади труднее, подстраиваться надо под чужой шаг — легче сбиться.
Поздно вечером, когда уже плавали в небе звезды, будто льдинки в воде, не уехал Степан Иванович домой. Он решил поглядеть,
111
как идут дела на узкоколейке у Соломенцева. Взял с собой сторожа,
нет, теперь уже не сторожа, бригадира из вечерней смены.
Степан Иванович спрашивал у него:
— Ну как, трудно?
— Ничего. Жить можно,— отвечал тот. И уважительно поглядывал на Степана Ивановича. — Когда вы скагали, во вторую, значит, пойдешь, я удивился — у нас такого никогда не было. Думал,
не получится ан нет—получилось.
Степан Иванович смеялся:
— Получилось, говоришь?
—Ага, получилось.
Они шли по длинному земляному коридору. На почерневших
шпалах лежали съежившиеся рельсы. Рельсы тускло поблескивали
на стыках. Степан Иванович шел, понурясь. Незаметно подевалось
куда-то недавнее довольство собой.
Коридор со сцепленными вверху ветвями деревьев скоро окончился. Перед Степаном Ивановичем открылась ложбина, густо заросшая бегун-травой... Тут было светлее. Смутные тени вечера уже
не падали отвесно, как это было, когда они шли по шпалам. В ложбине тени скользили, осторожно дотрагиваясь до примолкшей земли.
Издали Степан Иванович увидел шарообразное строение, едва
поднявшееся над долиной. Подойдя ближе, заметил возле лебедки
бережно скрепленный стояками штабель леса. Почувствовал, что
очень устал сегодня: шутка ли — за день побывал на всех делянках
лесопункта. Присел на краешек штабеля, стал придирчиво оглядывать шарообразное строение — сначала с недоверием, а потом все
больше и больше убеждаясь в правоте Соломенцева. Вчера Степан
Иванович еще раз просмотрел чертежи. Чертежи были сделаны не
очень хорошо. Но идея ему понравилась. И наверняка, если бы Соломенцев не опередил его, он бы сам предложил делать что-нибудь
в этом роде. Но не сейчас, когда лесопункт только-только начал обретать силу, а годом позже.
— И как тебе лебедка?— спросил у бригадира из вечерней Степан Иванович.
— Дак как...— замялся тот.— Одни говорят — дельно, а другие
не очень-то доверяют: мол, по мысли-то вроде бы ничего, а в деле
может и не показать себя. Такое тоже бывало.
—• А ты как сам считаешь?
— Я что?— зырккул по сторонам. — Я как все... Было б нынче
сытно.
— Значит, не очень доверяешь?
Спокойно светилось в полусумраке шарообразное строение.
Поблескивали смоляные полосы на бережно обструганных бревнах.
В остывающем воздухе плавали, как в бездонье, тени от сруба.
— Зря ты. Стоящее это строение, поверь мне, стоящее,— сказал
Степан Иванович. — И работать будет куда с добром. Только когда?
Уж больно долго ждать. А нам побыстрей нужно. Побыстрей! Ведь
целую бригаду держим на лебедке. И пока так, за спасибо живешь.
Вот и думаю, может, не ко времени начали строить?
А может, ко времени? Может, он ошибается, и не так уж здорово петляет тропинка, пролегшая между днями? Может...
22
Ранним воскресным утром, позавтракав, чем бог послал, дед
Фока говорил Соломенцеву:
— Заводи свою хреновину — поеду с тобой сруб глядеть.
112
Столь неблагозвучным словом дед Фока именовал мотоцикл,
который появился в ограде пристроя Соломенцевых недавно. Дед
Фока с самого начала невзлюбил его. Ходил обычно вокруг мотоцикла, ворчал:
— Дрянь-машина, и вредная. Сколько бед от нее.
— Ну, поехали?— сказал дед Фока. Покряхтел устало: ночь
прошла плохо, все чудилось, кто-то возле конторки воровато бродит,
а выйдет — вокруг ни души.
Старик поглядел на Соломенцева, заметил в его глазах ту всегдашнюю заинтересованность, которая ему нравилась, и ласково
сказал:
— Говорю, заводи свою хреновину. Не все ж пешком. Попробую,
куда ни шло. Хорошо не помрешь, коль рук не обдерешь.
— Стоит ли? Отдохнем лучше. Сегодня ж воскресенье.
— Стоит, раз говорю,— повел взлохмаченной бровью дед Фока.
Ничего не поделаешь, отправился Соломенцев заводить мотоцикл.
А не прошло и тридцати минут, как мотоцикл, обогнув Мыргыдкенову гору, вынырнул в ложбине. Дед Фока мужественно перенес
все тяготы непривычной езды. А потом, соскользнув с сиденья и стараясь не обращать внимания на боль, которая поднималась от зада
к спине, он заковылял к шарообразному строению.
Соломенцев прислонил мотоцикл к сосне.
Солнце поднималось розовым полукружьем из-за дальних гольцов. Бегун-трава купалась в росной прохладе.
Соломенцев остановил взгляд на шарообразном строении. Ему,
будто наяву, почудилось, как он широко распахнул дверь, ведущую
во внутрь замысловатого строения, подошел к двигателю, дернул за
шнур. Суровые нитки тросов сразу всколыхнулись, прошили утреннюю дрему, окутавшую землю, покачались в воздухе и опустились
на хлысты, которые лежали на эстакаде. Запружинили мачты. Вздрогнули отбойные столбы под тяжестью груза, подымаемого лебедкой.
Но вот уже чьи-то руки ловко подпустили троса под бревна,
сомкнули... А через мгновение, захлестнутые стальным веером, тревожа крепь отбойных столбов, хлысты с грохотом упали на сцепы,
стоящие на рельсах.
И так раз за разом, раз за разом... Изредка подходили лесовозы,
разворачивались на эстакаде. И тогда из сторожки, приютившейся
недалеко от разгрузочной площадки, выбегала девчушка, непременно Надюшка, и быстро «точковала» хлысты.
Соломенцев настолько отчетливо увидел это, что, когда дед Фока, подойдя, сказал: «Пора. Чего глазеть?» — он долго не мог прийти
в себя.
Но, в конце концов, Соломенцев вытащил из подсумника топор
и зашагал к шарообразному строению. Дед Фока, поддерживая ладонью зад, заковылял следом.
За работой боль забывается. И спустя немного, старик — есть
еще сила в старых руках — во всю помогал Соломенцеву подкатывать по поющим важкам обструганные бревна, а в редкие минуты
перекура он говорил:
— Ты, Демка, верно порешил. Стояще. От уважения к людям.
От уважения.
Соломенцев тихо посмеивался.
8. «Байкал» Л» 1.
113
23
Санька Рытвин проснулся рано. По привычке заглянул в окно:
не проспал ли? Но вспомнил, что сегодня воскресенье и нырнул под
одеяло. Однако сон у Саньки пропал. И тогда он откинул одеяло,
нащупал на спинке кровати брюки, соскочил с постели, торопливо
оделся.
В общежитской комнатенке было сонно и душно. К потолку вздымалось застенчивое посапывание уморенных за день людей.
— Дрыхнут, как мухи,— злорадно сказал Санька Рытвин и вышел во двор. Вспомнил, как вчера говорил бригадиру:
— Замечаешь, кое-кто из мужичков к нам не очень-то... Считают, мешаем мы им заработать. Мол, если бы наша бригада встала
обратно на подвозку, с планом было бы еще лучше, а значит, и премия больше. Не понимают, чего мы хотим, что ли?
— Может, пока и не понимают.
— Пока?
— А что? Чудак ты, Санька,— говорит бригадир. — Ты приглядись сначала, а уж потом суди, что да зачем. А то все время...
Верно. Сколько раз бывало с Санькой Рытвиным — не взлюбит
кого-нибудь, жесткое, рытвинское: «Муха — не человек»— в ход
идет. А потом поймет неправду свою, но уже поздно. И стыдно ему
становится. «Эх, была не была»,— скажет себе Санька Рытвин, подойдет к обиженному, буркнет: «Ты уж прости да дай свою руку».
Так было у Саньки Рытвина и с Савелием Палычем. Пришел
тот в лес, смотрит на трактор, как на свою Шурочку, поглаживает.
Санька не стерпел, прибежал к Соломенцеву: «Какого вы себе тракториста взяли? Ему не трактор — топор, рублем помазанный, надо».
Соломенцев благодушно — Саньке Рытвину:
— Успокойся. Нам дали, мы взяли. Здесь не возразишь. Да и
стоит ли? Он в соседней бригаде не худо работал.
— Почему не возразишь?— закипел Санька Рытвин. Слова, как
дым из медного самоварного горлышка,— едучие.— А, чтоб вас!..
— Погоди,— попытался урезонить Саньку Рытвина Соломенцев.
— Не зря говорят, узнай про дорогу да иди понемногу. А ты?
Плюнул Санька Рытвин с досады. Ушел.
Только тогда Соломенцев оказался прав. Санька Рытвин вскоре
понял это. И бегал-то он вокруг тракториста, и ломал голову: «Знает
иль нет про мой разговор с бригадиром? А если знает, почему
молчит? »
Кружится кедровка вокруг потревоженного гнездышка, кружится. И боязно заглянуть, и надо... Но приходит мгновение, и, махнув
крылом на все страхи, летит кедровка к своему гнездышку.
Так и Санька Рытвин. Мучался-мучался, но сердце у него открытое, и он подошел к Савелию Палычу.
— Слыхал ли,— спросил.— О моем разговоре с бригадиром?
Савелий Палыч не слышал. Тогда Санька Рытвин выложил ему
все начистоту: мол, больно худо о тебе говорил, и не кому-нибудь говорил, бригадиру, а теперь — стыдно. Вот и суди после этого, как хочешь. А мне больше терпеть невмоготу. Я хоть языкаст, да честен.
Савелий Палыч чуть не лишился дара речи от такой искренности. Только и сказал:
— Спасибо, дорогой, спасибо... Удружил.
Санька Рытвин не уяснил до конца, что имел в виду Савелий
Палыч. Но тем не менее он быстро забыл о своей недавней муке. Он
не привык подолгу изводить себя.
Санька Рытвин постоял во дворе общежития, слушая чири114
канье воробьев, затем нахлобучил на глаза кепку, зашагал по еще
не проснувшейся окончательно улице. Возле пристрой Соломенцева
остановился и заметил на двери замок, проворчал под нос: «Неужели
и в воскресенье не сидится?*—и направился дальше. Возле дома
Савелия Палыча, низкорослого, крепенького, замедлил шаг. «Он-то,
наверняка, дрыхнет под боком у своей Шурочки».
Но Саньке Рытвину делать нечего, а итти больше некуда (ХараКутул — не город, не разгуляться, не разминуться, запросто можно
и на язычок попасть: «Откуда так рано в воскресенье?»), и Санька
Рытвин открыл калитку, пересек двор, а подойдя к резному окну,
забарабанил шершавым кулаком по стеклу.
53
Услышав стук в окно, Шурочка вздрогнула, ткнула в бок Савелия Палыча.
— Кто бы это?—лениво ворочаясь в постели, сказала Шурочка.
И вдруг ей подумалось, а может, это технорук? Может, он заметил
Савелия Палыча и решил проведать, как-то он живет?
От этой мысли Шурочку в жар бросило. Не мешкая, она отпихнула от себя одеяло и, неловко перешагнув через Савелия Палыча,
оказалась на холодном — пятки стынут — полу.
Пуще всего в жизни Шурочка хотела бы, чтобы ее муж был
уважаем да чтобы всегда на виду. Она бы ничего для этого не пожалела. И ее очень огорчало, что пока этого не было и что ей ничего другого не остается, как терпеливо ждать.
— Вставай, вставай,— приговаривала Шурочка, выискивая халат в горке одежды, разложенной на стуле.— Да иди, отопри.
Савелий Палыч наконец-то открыл глаза и потянулся в постели. А Шурочка тем временем нашла халат, накинула его на плечи, подошла к зеркалу. Но, увидев, что Савелий Палыч и не собирается подниматься, сказала сердито:
— Встанешь ты иль нет? А если там?..
Делать нечего — поднялся Савелий Палыч, натянул брюки, пошел открывать... А Шурочка между тем — хитра, знает, кого приветить — вытащила из потаенного местечка припрятанную неделю назад на всякий случай бутылку доброго вина, поставила на стол.
Шурочка уже была убеждена, что ранний гость, постучавшийся
в окно, не кто иной, как Степан Иванович. Она очень желала этого.
А Шурочка не привыкла перечить своему желанию. Но каково же
было ее недоумение, когда вместо Степана Ивановича, которого и
послушать-то одно удовольствие, в дверях вырос Санька Рытвин. Шурочка от досады стукнула кулачком по столу, буркнула
что-то недовольное, быстрое, рука сама легла на бутылку: припрятать бы... Да у Саньки Рытвина глаз острый, заметил:
— Не торопись, хозяюшка, не торопись.
Шагнул к столу, осторожно взял бутылку и поднес ее к глазам,
чмокнул обрадованно в самое горлышко:
— Ух, хороша стервушка.
У Шурочки от обиды слезы на глаза навернулись. «И какие вы
все падкие до чужого!»—мелькнуло у нее в голове. Глянула на Савелия Палыча — у того тоже глаза маслянятся. «У, кабан старый *—
фыркнула Шурочка и ушла в комнату. Но через минуту вернулась:
с них станется, не позовут — сами выпьют. Достала рюмки из столешни, поставила их на стол.
— Нате...
Санька Рытвин не стал ждать второго приглашения, знал, не
8*
115
будет... Подсел к столу. Затем обернулся к Шурочке, подразнил ее
пальцем, указывая на стул, сказал:
— Присаживайся да заодно и прилаживайся. Вино пить — с царем в голове ходить. Юбку помнешь — и кровать не найдешь. Худо
ли? Не сразу сомлеешь, да сердце согреешь.
Выпили. Но не из рюмок. Из стаканов, сразу залпом. И Шурочку
приневолили... «А кто так пьет вино? И разговоры-то — все лес да
лес. Как будто ничего больше нет».
— Приметил — заработки на делянах вверх скакнули? А все
он, техрук. Тонкий мужик, а?— сказал Санька Рытвин.
— Да, тонкий,— согласился поникший Савелий Палыч. Он
вспомнил, как подсмеивались над ним рабочие в конторке лесопункта в день зарплаты.
Шурочка слушала, о чем говорили Санька Рытвин и Савелий
Палыч, и тайком вздыхала: «Зачем попусту трепать языком? Лучше
б подумал Савушка, как поудобнее устроиться, чтоб на виду быть».
Она чуть не сказала ему об этом, да вовремя спохватилась: не
один ведь Савушка, Санька Рытвин рядом, а он не поймет, начнет
судить-рядить. А зачем? Ей, Шурочке, ничего не надо, лишь бы
Савушке хорошо было.
Случайно ли покосился повеселевший Санька Рытвин на Шурочку:
— В райцентр артисты приехали. Говорят, концерт будет.
И, хоть горько на душе у Шурочки, а попалась на удочку, не
задумываясь, попалась.
— Правда ли? — оживилась.
— Я никогда не знался с неправдою,— сказал Санька Рытвин.
— Придется съездить,— вздохнула Шурочка.
Савелий Палыч разочарованно опустил голову.
Представил
себе долгую дорогу, услышал всегдашнее Шурочкино: «Хорошо-то...
Ты заметил, как они держатся? Вот так и тебе бы». А какое ему дело, как «они держатся». Ему отдохнуть надо.
К счастью для Савелия Палыча, Санька Рытвин, помедлив, ска~
зал:
— Я ведь пошутил.
Шурочка спрятала под табурет ноги, округлила глаза. Но Санька Рытвин уже забыл о ней.
— Наш-то Ларионыч,— сказал он.— Уехал. Воскресенье, а ему
не сидится.
— Поскорей хочет закончить лебедку,— сказал Савелий Палыч
и осторожно поглядел на Шурочку, знал, хоть и печется о нем Шурочка и обласкивает, а все ж гроза будет.
Санька Рытвин пренебрежительно хмыкнул:
— Конца и не видно, а ты «поскорей».— Помолчал, обдумывая,
сказал:— Ты как считаешь, если бы вдруг предложили, Ларионыч
согласился бы обратно перейти на деляны?
— А лебедка?
— Что ж делать, если она пока мало кому интересна?
— А потом?..
— Потом, может, меня и не будет,— огрызнулся Санька Рытвин.
— Уж и не будет,— улыбнулся Савелий Палыч.
— Конечно, лучше перейти. Так оно сейчас выгодней,— заметила Шурочка.— Рыба ищет, где глубже.
— Много ты знаешь, хозяюшка,— отчего-то сердито сказал
Санька Рытвин.
116
25
Безмолвна гора Мыргыдкенова. Рыжегрудые ястребки кружат
над ее вершиною. Робковатые суслики прячутся у подножия в теплых и сумрачных норах. А то вдруг пристигнутые опасностью замирают на месте, вытянувшись столбиком.
А по весне каждый раз распушивается на самой вершине Мыргыдкеновой горы куст боярки. Бесплодна земля, а она живет, боярка. И всякий раз, когда наступает время, боярка наливается буйной
силой — оранжевые ягодки отягощают куст.
Но ближе к зиме начинают опадать листья боярки: первый, второй, третий... А дальше уже без счета. Тяжкая пора наступает, ох,
тяжкая. И тогда-то, быть может, очень хочется боярке спуститься
вниз, быть поближе к своим сородичам — легче на миру, спокойнее.
Но приходит день большого солнца, и все начинается сначала.
Стоит гора Мыргыдкенова. Холодная, как все горы Подлеморья.
Только и она может служить пристанищем. Ох, может.
Петляет тропинка меж сосен. Туман стелется над дремлющим
солнцем. Туман прозрачный, как стекло. Голубые сороки низко над
землей пролетают, балаболят радостно.
Дед Фока и Соломенцев идут по тропе. Сосредоточенно. Старик радуется, что ему удалось вытащить из дома Соломенцева, как
тот не отнекивался. «Пусть поглядит...» А Соломенцев думает о том,
что с каждым днем ему все труднее ладить со Степаном Ивановичем. А кто в этом виноват? Разве скажешь сразу?
Он знает, люди на стороне технорука. Знает и почему. Но долго
ли так будет? Неужели можно как Степан Иванович: всех на одну
меру? А что это так, Соломенцев особенно ясно почувствовал в день
зарплаты. Тогда он пришел в конторку вместе с техноруком, услышал, как тот сказал окружавшим его лесорубам:
— Ну вот, кое-чего я для вас добился. Теперь уж у вас в кармане...
Его нестройно поддержали:
— Понятно.
— Но с каким трудом они заработаны, ты об этом думал?— не
выдержал Соломенцев.
— А без труда и...— рассмеялся Степан Иванович.
— Труд труду рознь,— нахмурился Соломенцев.— К чему он
такой, если с ног валит. И работать нужно с толком да красиво.
Вот что главное. Иначе на кой леший вся эта жизнь!
А когда затлел разговор о лебедке и когда Степан Иванович
снова заговорил о том, что на лебедке занята целая бригада, а на
подвозке людей не хватает, Соломенцев не выдержал, закипел кипнем, сказал ему что-то резкое, обидное. Но потом подумал, что было
бы лучше, если бы он объяснил все по-хорошему. Не однажды пробовал подойти к Степану Ивановичу, только тот перестал замечать
его. И даже больше того, на прошлой неделе, приехав в лес, технорук собрал лесорубов и сказал:
— .Вы тут мудрите, а на поверку подвозка с хромотой. Что
строите лебедку, хорошо. Но она будет не скоро. А я не люблю
ждать.
Соломенцев растерялся в тот раз: «Чего он мелет? Было бы что
ждать, а ждать можно». Он знал, если все сложится хорошо, к концу года лебедка будет сдана, и тогда...
Но Соломенцев не стал говорить об этом. А когда лесорубы ушли, он сказал Степану Ивановичу:
— Ты напрасно считаешь, что им ничего не нужно, кроме...
— Кроме чего?— спросил технорук, и, не дождавшись ответа, с
117
видимым удовлетворением оглядел Соломенцева и добавил: — А если я скажу правду: да, не нужно,— что ж, не поверишь? Наверняка,
запоешь: «Развращаю людей?!» Чепуха! Я им даю то, что могу дать.
И не обещаю, как ты, синицу в небе. Я им даю заработать. Это для
них главное.
— Синицу, говоришь? Ну, нет. А впрочем, да, обещаю, только
не синицу, а надежду обещаю, надежду на завтра. Этого мало? Но
если и мало, то все ж от сердца.
Этих последних слов технорук уже не слышал. Он торопливо
зашагал вниз к эстакаде.
...А туман по-прежнему стелется над дремлющим лесом. И Соломенцев все также идет по тропинке следом за дедом Фокой. Нет,
уже не по тропинке — по узкой полоске средь густущей травы, на
которой едва отпечатаны давние следы.
Но скоро и полоски не стало. Пошел сырой мшанник. Он слегка
припорошил скальные породы, угловатыми валунами выступающими
из земли. Изредка попадались ветхие ивовые кусты, которые шелестели тонкими ветками.
Дед Фока иногда оборачивается, спрашивает:
— Устал? — И сам себе отвечает: — Устал, конечно. Я — тоже.
Но погоди, вот подымемся — оттуда всю долину видно. А тропку эту
запомни. Я давно хотел тебе показать, да ты все занят был. Запомни. Сгодится когда-нибудь. Мудрая гора.
Соломенцев усмехается и молчит.
Поднимаются на вершину. Где-то далеко в долине поблескивают многочисленные рукава Селим-реки, зеленоватые травы искрятся тихим светом. Темный лес, вблизи привычно сумрачный, отсюда
кажется незнакомым.
Дед Фока вытаскивает из-под куста боярки пожелтевшую дощечку и, утирая со лба пот, протягивает ее Соломенцеву. Тот подносит к глазам дощечку, читает давнюю надпись: «Мыргыдкенова...», спрашивает:
— Ты написал?
— Кто ж еще?— Довольный, отвечает дед Фока.
— А гора и в самом деле мудрая,— неожиданно для самого себя говорит Соломенцев.
— Верно,— радуется дед Фока.
Из-за гольцов вынырнул продолговатый диск луны, покрутился в небе, приглядываясь к чему-то, уставился на Мыргыдкенову
гору большим немигающим, удивленным глазом.
Вечерний сумрак осыпал первые звезды.
26
Степан Иванович сидел в конторке и небрежными движениями
пальцев перелистывал страницы журнала лесозаготовок. Изредка в
кабинет заходили посетители, останавливались у порога, переминались с ноги на ногу. Тогда Степан Иванович подымал голову и, сочувственно глядя на вошедшего, спрашивал:
— Чего нужно? Говори...
— Вишь ли,— слышалось порой в ответ: — Дорога плывет —
ручьи пучатся. Дай бульдозер. Наш-то в ремонте.
— Нету бульдозеров,— спокойно отвечал Степан Иванович. —
Умел ломать, умей и это понять.— И опускал голову, удивляясь себе и радуясь: раньше боялся, не выйдет из него стоящего технорука.
Значит, ошибся.
Посетитель вздыхал, но видя, что спорить бесполезно, прикрывал за собою дверь.
118
На столе у Степана Ивановича в прохудившемся горшке доживала последние дни красная, сжелта, герань. Герань осталась от
прежнего хозяина кабинета. Степану Ивановичу бы полить ее, взбодрить увядающий стебелек, да все недосуг. До цветка ли?
Начальник лесопункта, будучи в хорошем настроении (а оно
посетило его, после того, как были подведены итоги и ему приказом
по леспромхозу вместе с техноруком, конечно, объявили благодарность), сказал Степану Ивановичу:
— Я скоро на пенсию уйду. Теперь твое время приспело. Правь,
как лучше, а я мешать не стану.
И не мешал. Молчаливо соглашался со всем, что бы не предпринял технорук. А Степану Ивановичу этого и надо. В считанные
дни он сумел сделать столько, сколько другой бы за год не сделал.
И у него прибавилось к себе уважения. Впрочем, в этом не было ничего особенного. Любой бы, наверно, на его месте... Да, любой...
В дверь тихонько постучали. Степан Иванович крикнул:
— Входи!
В кабинет вкатилась Шурочка.
— Извините, Степан Иванович, потревожила вас.
— Сойдет.
— Знаете,— Шурочка подошла поближе.— У меня к вам просьба. Не откажите, пожалуйста. Машину'бы мне на вечер.
— Зачем?— Степан Иванович откинулся на спинку стула.
— В райцентр съездить. Там...
— Нет машин,— перебил ее Степан Иванович.
Шурочка насупилась, но побоялась спросить, почему нет машин: раньше-то всегда были,— и выкатилась из кабинета.
Когда Шурочка скрылась за дверью, Степан Иванович зло буркнул: «Дура-баба... Машину ей подавай. Людям дров не на чем привезти, а ей машину». Но потом он быстро вышел из-за стола и заспешил следом за Шурочкой. Догнал ее в коридоре, остановил.
— У меня есть предложение,— дружелюбно сказал он.
— Какое?— У Шурочки сердце мягкое, и она, увидя Степана
Ивановича и вспомнив о том, что ее Савушке непременно надо
быть на виду, быстро оттаяла и позабыла о своей недавней обиде.
— Видите ли,— осторожно сказал Степан Иванович.— Бывший
наш сторож ушел в бригаду, и место его оказалось свободным. Так
не хотите ли вы?..
Шурочка смущенно закашлялась. А Степан Иванович, как ни в
чем не бывало, продолжал:
— Работа не трудная. Сутки отдежурил, двое — дома. И оклад
приличный. Сами посудите — какой был резон опытному трактористу до недавнего времени кантовать в сторожах? Знаете, у нас с
людьми трудно, а вы — человек сознательный. Должны помочь.
— Но я не смогу,— прошептала Шурочка.— И потом в сельсовете не отпустят. Где они найдут новую секретарь-машинистку?
— Найдут. Там особого ума не надо. Да, кстати, чтоб вам не
страшно было по первости одной в лесу, Савелия Палыча будете с
собою брать.— Улыбнулся: — Я слышал, он за вами в огонь и в воду. Р1 вы — тоже... Это хорошо.
«А что если попробовать? Тем более, что просит, и очень настойчиво?— подумалось Шурочке.— Не понравится, уйду. Долго ли? К
тому же, если подумать... Оба будем в лесу, а это и для Савушкиного будущего хорошо».
— Ладно, я согласна,— пробормотала Шурочка. Она почувствовала, что отказать Степану Ивановичу у нее все равно не хватило
бы духу.
119
— Договорились,— сказал Степан Иванович. Помедлив, добавил: — Да, вы просили машину? Машину я дам.
У Шурочки потеплело на сердце. И, уходя, она улыбнулась
технорук}'.
27
Надюшка торопилась: Соломенцев, конечно, ждет, как уговорились. Раза три уже поправляла прическу — то лисьим хвостиком
ее сложит, чтобы струйка волос по шее текла, то шишку накрутит — приплет на прошлой неделе выпросила у школьной подруги.
И все равно не по душе Надюшке прическа. «Не прическа,— сердилась она.— А пугало огородное. Деме не понравится». И снова прикипала к зеркалу, как завороженная. А зеркало добротное, укрепленное посреди стены. Обшивка прочная, узорчатая. Чтобы лучше
разглядеть себя, Надюшка всякий раз отходит чуть назад, в глубь
комнаты, и приподнимается на носках.
Стучат большие настенные часы: тик-тик-тик... Отсчитывают
время. Неторопливо, размеренно.
С утра помнила Надюшка — вечером встреча. Бегала по делянам с треугольником, а сама все время думала о встрече. Поэтому,
наверно, и день показался таким длинным. Могла бы, конечно, пойти на площадку, где работает Соломенцев,- чтобы хоть одним глазом
взглянуть, как-то он, да не хотелось расплескивать понапрасну радость предстоящего.
Низко нависли над Надюшкой широкие крепкие потолочины,
выкрашенные в пасмурный темно-синий цвет. К окну прилипла тяжелая духота знойного вечера.
«Да что же это, а?»— вконец рассердилась Надюшка, бросила
на стул приколки, присела на краешек аккуратно заправленной зеленым покрывалом кровати. Но, опомнившись, глянула на часы,
вскрикнула, вскочила на ноги и снова подбежала к зеркалу.
В это время, осторожно ступая по выскобленному до блеска полу, вошла тетка Дуня, придирчиво оглядела, как заправлена кровать, недовольно покосилась на Надюшку:
— Куда собираешься?
— Все туда же,— весело сказала Надюшка.
Тетка Дуня расправила складки на своей широкой и длинной
юбке, сказала:
— Как ты можешь? Я же тебе говорила, не ходи. Что люди
подумают, коль узнают? Да и не пара он тебе, пойми же, наконец.
Все должно быть по соразмеру, надо знать, что можно брать, чего
нельзя. Не то пристигнет беда. Она любит заполошных, которые с
нею не хотят считаться.
— Подождите, мама, я сейчас...— нетерпеливо и обрадованно перебила тетку Дуню Надюшка: она наконец-то уложила прическу. И
уже спокойней сказала:— Зачем вы, мама, все время пугаете меня?
А я страхов никаких не вижу. По-моему, их нет.
— Много ты знаешь,— буркнула тетка Дуня.— Всегда-то за
пазухой у матери. Небось, пригрелась?
Надюшка поежилась.
— Скажи-ка, почему Степушка в люди вышел?— продолжала
тетка Дуня. — А потому, что жизнь по соразмеру брал. Не всякое
брал, а что по силам.— Стянула с плеча сморщенными узловатыми
пальцами темный с малиновой каемкой платок, положила его на
колени, одобрительно заметила:— А силушка у Степушки агромадная, не как у Демки. Демка-то что? Демка — бригадир, и все. Ле120
бедку, говорят, строит. Для облегчения. А зачем? Работа у нас трудная, лесная. И дед Фока такой же... Мудрит. Назвал гору не русским
именем, и верит — доброе сделал. Очумелый. Мыр-гыд-кено-ва...
Тьфу, язык сломать.
— О чем у вас разговор?— неожиданно донеслось из прихожки
знакомое, хрипловатое.
— Ах, Степушка!— вскрикнула тетка Дуня и направилась на
кухню, приговаривая: — Раненько. Не запоздал. А я еще не сготовила. Проголодался, поди?
— Есть немного,— сказал Степан Иванович, выплескивая из
умывальника воду и отдуваясь. А когда привел себя в порядок, подошел к матери, снова спросил:—Так о чем у вас разговор-то был
с Надюшкой?
— Никакой... как его... Никакой, Степушка.
Степан Иванович усмехнулся, узкие щелочки глаз заблестели весело:
— И у вас, мама, от меня секреты появились?
Тетка Дуня сморщилась, большой дряблый рот округлился, задрожал. Степану Ивановичу стало жаль мать. Он ласково похлопал
ее по плечу, слегка приблизил к себе, сказал:
— Что с вами, мама? Никак обиделись?
— Зачем?— отозвалась тетка Дуня.— Зачем мне на свою кровушку-то?..— И торопливо, словно боясь, что сын спросит еще о чемнибудь, на что она не сможет ответить, тетка Дуня сказала:— А ты
садись, садись. Я сейчас.
Но Степан Иванович не последовал совету матери. Он прошел в
комнату, увидел прихорашивающуюся Надюшку.
— Куда собралась?
— В клуб,— соврала Надюшка и, хитровато прищурясь, поглядела на брата.— На танцы.
— А-а, в клуб,— сказал Степан Иванович.— Ну кружи, кружи
пока головы хара-кутульским пардям. А потом...
Но он не успел договорить, что будет потом. Надюшка выскользнула из комнаты.
28
И снова та же тропа, петляющая среди сосен, и робкий шелест
листвы, и лопочущие между собой сосны... И — эти двое. Соломенцев и Надюшка. И еще то, чего нельзя увидеть, но что обязательно
должно быть между любящими: этакое чувство важности и мудрости всего, что их окружает, когда даже самое обыкновенное дерево
кажется диковинным. Но Надюшка никак не могла избавиться от
ощущения неловкости перед Соломенцевым: она не сказала ему о
разговоре с матерью.
Девушка увидела сосновый комелек, чуть припушенный мхом.
Мутноватый слой смолы застыл на поверхности среза.
— Подожди,— сказала Надюшка, подойдя к комельку.— Передохнем. Куда нам спешить?
Соломенцев обернулся, с удивлением посмотрел на Надюшку,
сказал:
— Если ты не хочешь, можно и не ходить. Я ведь просто предложил. Думал, тебе будет интересно.
— Конечно, интересно,— отозвалась Надюшка, отыскала в кустарнике прутик и, наклонившись над комельком, осторожно убрала
с поверхности среза накипевшую смолу, отбросила извивающийся
от тяжести прутик в сторону.
121
Соломенцев со своей всегдашней заинтересованностью наблюдал за девушкой. А Надюшка, отдохнув, потуже подвязала косынку — потянуло ветром — и, улыбаясь, сказала:
— Пошли.— Вздохнула:—Комелек словно плачет. Смола-то...
С минуту стояли, захлестнутые ожиданием чего-то. Они словно
знали, что в жизни существуют мгновения, когда одно-единственное
слово может обернуться ничем не восполнимой бедою. И они боялись спугнуть это мгновение.
А небо светилось-светилось, звезды прочерчивали короткий
путь. Может быть, к счастью падали звезды?
Но мгновение ушло. Надюшка отодвинулась от Соломенцева.
— Уже поздно,— сказал он.— Мы, наверно, не успеем подняться на гору.
Спросила: — А тебе обязательно туда надо?
— Мне?— растерялся Соломенцев.— Нет, конечно. Я хотел,
чтобы ты посмотрела. Мне дед недавно показал дорожку.
— Тогда пошли.
Выбежала на тропу, черной змейкой стелющуюся по рыжеватой траве. Соломенцев едва поспевал за Надюшкой. Он тяжело дышал, перебирая ногами камешки, которые заполонили тропу. А когда подошли к подножию Мыргыдкеновой горы, Соломенцев остановился спросил:
— Может, не стоит дальше?
— Почему?
— Ты же говорила, поздно...
— Мало ли что я говорила.
— Тогда за мной,— повеселел Соломенцев. — Дальше пойдут валуны. Знай, держись!
— Я-то удержусь,— рассмеялась Надюшка.
Ей было хорошо, как никогда раньше. И, может, поэтому Надюшка сказала Соломенцеву:
— Ты фантазер, да? Мечтаешь. Вот и лебедку из-за этого, да?
Хочешь, чтоб красиво было — я знаю. А вот люди не все это понимают. И брат, я чувствую, тоже недоволен.
Соломенцев остановился, долго смотрел на девушку, сказал:
— Брат... люди... Не всегда, что нужно людям, нужно твоему
брату.
— Почему?
Но Соломенцев не услышал или сделал вид, что не услышал.
— Конечно,— говорил он.— Сейчас нелегко. Всем. Но дай
срок — отстрою!..
— И все же лучше, как все,— тихо сказала Надюшка.— Тогда и
тебя никто беспокоить не будет.
— Ты думаешь?— резко спросил Соломенцев.
— Мне так кажется. Впрочем, нет. Я и сама не знаю, как лучше. Я только хочу, чтобы у тебя все вышло на отлично. Ты беспокойный, все ищешь чего-то. И мне нравится, что ты беспокойный и
что ты ищешь.
Прошло еще немало времени, прежде чем они поднялись на
вершину Мыргыдкеновой горы. Глянули вверх, а звезды близкоблизко. Крупные, искрятся зернисто. И словно нет сумрака.
Соломенцев на ощупь отыскал дощечку, которую спрятал дед
Фока, подал ее Надюшке, чиркнул спичкой.
Надюшка прочитала неровную надпись.
— А кто такой Мыргыдкен?— спросила она.
— Охотник, эвенк. Дед говорит, он искал счастье. И я, и ты...
Мы все тоже ищем счастье. Может быть, разное и по-разному, а
все-таки ищем.
122
— И он умер?
— Кто?
— Охотник.
— Да.
— Славная гора,— сказала Надюшка.— Высоко, но не страшно.
— А почему должно быть страшно?
Надюшка не ответила. Она думала о том, что Мыргыдкенова
гора еще долго будет напоминать о человеке, который искал счастье.
И снова, как тогда в долине, начали падать звезды. Только теперь они были ярче.
29
Савелий Палыч был в ударе. Он быстро гонял по валку трактор.
Санька Рытвин едва поспевал цеплять чекеры за разделанные хлысты и радостно думал: «Здоровущ, однако, до работы...»
Савелий Палыч не знал, о чем думал Санька Рытвин, и всякий
раз на развороте, встречаясь глаза в глаза с ним, отмечал новое в
выражении лица своего чокеровщика. Натура чрезвычайно тонкая,
если дело касалось трактора, Савелий Палыч не мог понять, что творилось в Санькиной душе. Да только ли в Санькиной? Он и Шурочку-то не раскусил до конца. Впрочем, это Савелий Палыч относил на Шурочкин счет. Он считал ее умницей, которая все знает и
чувствует. Савелий Палыч с удовольствием вспомнил, как однажды
на заре-зореньке их супружеской жизни молоденькая Шурочка, что
называется, отбрила умудренную жизнью тетку Дуню.
А было так... Пришла к ним примерно через месяц после свадьбы
тетка Дуня, посидела, как всегда, почаевничала, новосгишки последние из фартука на стол высыпала: берите, мол, мне не жалко, и —
говорит:
— Слышала я, милочек-дружочек, будто мужика своего ругашь
за то, что он на паях в «дикой бригаде».
Савелий Палыч затаился — вот было бы здорово, если бы Шурочка перестала его «канать за вольные работы». Как бы тогда легко
дышалось да жилось! Но не тут-то было. Шурочка, глазом не моргнув, тетке Дуне:
— Я, тетушка, терпеть не могу хапуг, которые не по-честному.
А так, что ж, пожалуйста, и я не против. Еще как непротив. Да,
вот... А Савушка не из хапуг. Он там случайно. И потому ему самый
резон на доброе дело пойти.— Шурочка уже тогда почувствовала
тягу к спектаклям.— Так ведь, Савушка?— обратилась она к мужу.
Савелий Палыч охнул, но не возразил. А тетка Дуня в ногах зуд
почувствовала: новость-то какая! Только и сказала: «Я пойду, милочек-дружочек»— и за дверь.
Но в конце концов Савелий Палыч, судья добрый и пристрастный, оправдал Шурочкино решение: «Что бы я без жены делал? Мыкался бы по земле неприкаянным. И никогда бы так и не понял, что
счастье — это знать, что тебя уважают». Савелий Палыч не неуч, и
он читал, что в иных местах жены служат не для любви только —
для прочности быта.
С тех пор и повелось: что бы ни сказала Шурочка, что бы ни посоветовала, Савелий Палыч всегда — за! Потому что только с Шурочкой почувствовал он себя стоящим человеком, нужным. Зауважал
себя Савелий Палыч, а заодно и Шурочкино дело зауважал. «Машинистка-секретарша в ^рльсовете — шутка ли!— часто думал он. —
Все время надо возиться с бумагами. Только моей жене и работать».
И очень удивился Савелий Палыч, когда Шурочка сказала ему, что
123
переходит в лес. Удивился, но возражать не стал, хотя сильно недоумевал: отчего Шурочка изменила свой оседлый образ жизни и подалась в сторожа?
Сегодня Шурочке заступать на дежурство, а значит, и Савелию
Палычу оставаться в сторожке на ночь. Ну что ж... Он не против.
Веточка к веточке, крона к кроне — лес темный, темный. И змеистая лента валка, как ручеек.
Трактор торопко взбирался на взгорье. Савелий Палыч важно поглядывал на ленту валка, которая струилась между кособокими пнями. Позади, уцепившись за чокер, мечтательно вышагивал Санька
Рытвин.
Но вскоре трактор загудел надрывно, дернулся и заглох. Санька
Рытвин насторожился: мечтательность с лица как рукой сняло.
Спрыгнул на землю Савелий Палыч, не раздумывая долго, нырнул под трактор, спустя немного вылез, бормоча тоскливое: «Беда...
запорол». Подошел Санька Рытвин:
— Ну?
— Не заметил пенек. Налетел. И погнул шток. Надо идти вниз,
искать... Может, осталось?—путанно заговорил Савелий Палыч.
— Как не крути, а все не ахти,— раздумчиво сказал Санька Рытвин.
— Да если бы я видел,— возразил Савелий Палыч.
Разговоры — помеха делу. Подумали — не отыскать ли бригадира, не сказать ли, какая беда приключилась. Но вспомнили — уехал
бригадир в конторку. Промелькнуло в голове испуганное: как бы Степан Иванович не заявился — вгонит в краску. Молчаливые и сосредоточенные, они пошли к черному полотну узкоколейки, где находилась мастерская.
Возле шарообразного строения остановились. Санька Рытвин
сказал:
— Как же ты запорол? Можно было, наверно, и поосторожнее?
Эх, раззява!
•— Поди...— согласился Савелий Палыч. Неловко ему: считай,
лучший на лесопункте тракторист, а такое сотворил — со стыда сгоришь.
— Сам поди да поищи, ежели погнул,— хмуро сказал Санька
Рытвин.
Савелий Палыч потускнел. «Все-то не ко времени,— вздохнул
он.— И слова Санькины тоже. Мне ль не жаль трактора?»
А Санька Рытвин, когда проходил мимо лебедки, сказал радостно:
— Я как стал на лебедке работать, у меня словно сил прибавилось. Вот, думаю, и я когда-нибудь...
— Крутишь ты,— сказал Савелий Палыч. — Я-то понимаю, почему ты пошел тогда на лебедку. Выгодно было, вот и пошел. А
сейчас бы вряд ли.
Но тут Савелию Палычу стало неудобно чего-то, совестно.
— Может, и поэтому,— непривычно мягко сказал Санька Рытвин.— А не все ли равно? Ты лучше погляди, растет лебедка-то. Понемногу, а подымается вверх. Разве это не здорово?
— Да, здорово,— сказал Савелий Палыч.
Вдали мягко стлался туман над Мыргыдкеновой горой.
30
Зорок глаз у забайкальского ястреба. Все-то видит, все-то примечает. Всегда хладнокровен ястреб. И лишь не терпит он, когда в
его владениях случайно окажется сир-голубь или заплутавшая го124
лубая сорока, хоть однажды увидеть которую буряты почитают за
счастье. Сердитым клекотом прогоняет ястреб незваных пришельцев.
— Надюшка,— спросил Степан Иванович.—Ты часто встречаешься с Соломенцевым?
— А что?
— Да так... ничего. Он тебе не говорил?..
— О чем? У вас что-нибудь произошло?— И через паузу:— Тото он тогда... Поссорились?
— Нет вроде. Только он со своей лебедкой поперек дороги всем
встал. На строительство лес можно было бы и похуже брать, а он
ни в какую...
— Но ты бы объяснил ему.
— Объяснял. Толку мало.
— Послушай-ка,— сказала Надюшка. — А может, ты не прав?
Дема ведь зря ничего делать не будет, я знаю.
— Брось,— обозлился Степан Иванович. — Откуда ты это взяла7
Надюшка остановилась, хотела еще о чем-то сказать Степану
Ивановичу, но он больше не стал с нею разговаривать и зашагал
вниз.
Куталась в вечернюю дремь падь Шана. А высоко в небе кружил ястреб.
31
— Как жизнь?— спрашивал Савелий Палыч в мастерской у
бывшего сторожа, а ныне бригадира из вечерней смены. Единственный на лесопункте слесарь сегодня не вышел на работу — заболел.
— День бейся, вечером напейся,— без улыбки ответил бригадир
из вечерней.— Вот и вся наша нынешняя жизнь.
— А раньше что, лучше было?
— Я этого не сказал,— неуверенно говорил бригадир из вечерней.— Только скучно как-то стало. Все как помешанные — давай
больше, и все. А много ли на одном горбу вытянешь? Вроде Ларионыч-то прав. Он хочет, как я понимаю, чтоб не везде голыми руками, чтоб полегче нам было, поинтереснее.
— Выточи, пожалуйста, деталь,— просил Савелий Палыч.—
Трактор стоит.
— Постоит,— размазывая по лицу пот и колдуя над станком,
говорил бригадир из вечерней. Сердился:— Я вам, что, слесарь?
— В накладе не останешься,— упорствовал Савелий Палыч.—
Мы с Санькой люди добрые. Ведь ты можешь, а мы нет. Мы к этой
работе не привыкли.
Санька Рытвин крутился возле тракториста и ехидно хихикал
— Верно, Саня?— обратился к нему Савелий Палыч.— Сказал:
— И напарник мой не отказывает.
— Так,— усмехаясь, проговорил бригадир из вечерней.— В накладе, говоришь, не останусь? Разве что... Мы теперь научены Степаном Ивановичем — зря ничего не делаем.— И хмуро:—Давай, поскорей только. У меня и без тебя — голова кругом.
Савелий Палыч, не мешкая, объяснил, что нужно сделать. И через минуту бригадир из вечерней принялся вытачивать деталь, а Савелий Палыч подошел к Саньке Рытвину, подмигнул: «Скоро будет
готово». Тот хмыкнул, долго рассматривал Савелия Палыча, словно
впервые видел его, потом сказал ему на ухо:
— А ты мастак проворачивать дела. Не ожидал.
Савелий Палыч принял Санькины слова за похвалу, приобод125
рился. Но ненадолго. В мастерскую вошел Степан Иванович. Лицо
у него недовольное. Быстрые морщины бегут от глаз к низу, теряются у подбородка. В полусумрака Степан 4 Иванович разглядел
Савелия Палыча и Саньку Рытвина:
— Вы что здесь потеряли?
Савелий Палыч невольно попятился: суров был технорук. Санька Рытвин сделал шаг в сторону и с почтительного расстояния
сказал:
— Деталь вытачиваем.
Ободренный поддержкою Саньки Рытвина, Савелий Палыч сказал униженно:
— На подъеме полетела. Но через час заделаем. Не беспокойтесь.
— Через час?— спросил Степан Иванович. Медленно сказал: —
Через час, значит. Да... Был «дикарем», им и остался.
— Зачем обижаете мужика?— Заступился за Савелия Палыча
Санька Рытвин.— Мало ли кем был? Зато теперь он, может, не меньше вашего понимает мотягу, хоть и не кончал курсов.
— А ты помолчи,— побледнел Степан Иванович.— Тебя не
спрашивают, ты и помолчи.
— Вот еще. Стану молчать,— огрызнулся Санька Рытвин.
— Ну, смотри...— сказал Степан Иванович и вышел из мастерской.
Савелий Палыч стоял ссутулившись. У него мелко подрагивали
губы. Санька Рытвин был мрачнее тучи.
— Допрыгался,— глухо сказал бывший сторож, а ныне бригадир
из вечерней смены.
32
Вечером Соломенцев не уехал домой. Он решил перекрыть
строение. Благо, времени до наступления сумерек было достаточно—
солнце только-только скрылось за гольцами. Санька Рытвин мог
бы уехать — смена-то окончилась, но не захотел отставать от бригадира.
— Возьми и меня с собой,— сказал он. — Может, понадоблюсь?
Соломенцев обрадованно почесал в затылке. Он и сам собирался просить Рытвина остаться. Но если бы даже тот не согласился. Соломенцев все равно ушел бы. Один.
Савелий Палыч, услышав разговор Саньки Рытвина с бригадиром, с минуту поколебался, затем решительно зашагал на взгорье.
Но Санька Рытвин догнал его, вежливо взял за плечо, притянул к
себе, и Савелий Палыч оказался лицом к лицу со своим чокеровщиком.
— Куда торопишься?— нежно сказал Санька Рытвин.— Не беги от работы, не то она убежит от тебя.
— Работа — не волк...— Савелий Палыч сконфуженно опустил
голову, но быстро пришел в себя, расправил плечи и сказал с тихой
торжественностью в голосе:
— Меня Шурочка ждет. Она впервые в лесу.
— Ничего. Подождет.
Соломенцев делал вид, что не слышит. Он с вниманием разглядывал старенькую бортовую машину, на которой возили рабочих,
и думал, удастся иль нет Саньке Рытвину уломать Савелия Палыча. Чувствовал, что удастся. И не ошибся.
Савелий Палыч, со скорбтжэ глядя на Саньку Рытвина, сказал
напоследок:
126
— Не переспоришь. Давай уж...
Санька Рытвин бойко:
— Давно бы так.
— Эй, вы!—выскочил из кабины шофер бортовушки.— Едем,
иль как?
— Трогай!— крикнул Санька Рытвин.— Остаемся..
Машина пофырчала, кутаясь в сизый дым, и тряско покатила по
кочковатой дороге. Савелий Палыч грустно проводил ее взглядом.
Соломенцев подошел к трактористу и с интересом, словно лишь
теперь его заметил, спросил:
— Ты тоже?..
— Как видишь,— живо отозвался Санька Рытвин.— Куда я, туда и он. Мы с ним одной веревочкой связаны.
Савелий Палыч неодобрительно покачал головой.
— Во...— А я что говорил?— немедленно отреагировал на нерешительность Савелия Палыча Санька Рытвин.— Он со мной согласен.
Соломенцев рассмеялся.
Шарообразное строение встретило людей сдержанно. Скупо поблескивали пожелтевшие от загара стены, поскрипывал в полозьях барабан, с помощью которого они подымали наверх бревна.
— Мы сегодня в мастерскую ходили,— сказал Санька Рытвин.—
Когда ты в конторку ездил.
Санька Рытвин помедлил: едва не сорвалось с языка, с кем
они там встретились. Савелий Палыч навострил ухо: «А вдруг доложит, по какой части понадобилось в мастерскую?» Но Санька
Рытвин вовремя спохватился, полагая, что и к бригадиру подходит
извечное: «Много знать будешь, скоро состаришься».
— Да?— сказал Соломенцев. Он не слышал, о чем говорил
Санька Рытвин. Ему было приятно, что Савелий Палыч согласился
остаться.
— Начнем, пожалуй,— предложил Соломенцев. Скинул пиджак,
аккуратно пересчитал разложенные на земле обтесанные плахи.
Потом они стали поднимать потолочины и осторожно сращивать
их. Соломенцев был; доволен — работа шла споро. И не чувствовал
усталости. То же самое, но каждый по-своему, испытывали и Санька Рытвин, и Савелий Палыч.
Это было чувство не совсем обычное, которое появляется, когда люди не просто работают, а работают, чтобы сделать что-то очень
важное и нужное всем им.
Иногда Санька Рытвин, размазывая по лицу пот, подходил к
Соломенцеву, заглядывал ему в глаза, говорил:
— Сейчас на делянах ничего себе стало. Наладил техрук дело.
Может, нам обратно перейти?
Соломенцев отмалчивался.
— Нет, ты ответь, Ларионыч,— приставал к нему Санька Рытвин. И тогда Соломенцев не выдерживал Санькиного натиска и отступал.
— А как здесь? Неужели взять да бросить? Нет, я не могу.
— Верно, Ларионыч,— неизвестно чему радовался Санька Рытвин.— Верно, говорю, соображаешь.— И добавлял:— Я тоже подожду-подожду да как жахну... Тогда держись, обставлю на полверсте.
Савелий Палыч не принимал участия в разговоре. Он думал о
Шурочке.
127
33
Ночь уже во всю хозяйничала на делянах, щелкала сиверком в
кронах деревьев, невесело лопотала не успевшими угомониться птичьими голосами, заглядывала в чащобы немигающим глазом филина, когда Савелий Палыч пришел в сторожку.
Шурочка, пригорюнившись, сидела на чурбаке возле тускло горящей печки и ворошила сырым ивовым прутом дымящиеся головешки. Шурочка не услышала, как скрипнула дверь и в сторожку
вошел Савелий Палыч.
— Вот и я,— сказал он и стеснительно кашлянул.
Шурочка обернулась на его голос, вначале обрадовалась: всетаки одной с непривычки страшновато, но потом глаза ее построжали.
— Мог бы и вообще не приходить,— сказала она.
Савелий Палыч, увидев недовольство в лице Шурочки, по
обыкновению замешкался и, пытаясь как-то оправдаться перед нею
за опоздание, сказал значительно:
— Мы с бригадиром решили урвать у ночи пару часов. Лебедка-то — штука серьезная, жданок не любит.
— Серь-ез-на-я,— обиделась Шурочка.— Значит, обо всем нужно забыть? И обо мне — тоже?..
Савелий Палыч вздохнул, отыскал в полумраке чурбак, подсел
к Шурочке. А через несколько минут он уже подбрасывал дрова в
печку и ласково поглядывал на жену.
Ну, а Шурочка только теперь, глядя в узкое оконце, за которым
хозяйничала ночь, поняла, что это не так-то просто — быть сторожем. А Степан Иванович говорил, ничего, мол, особенного, сутки на
дежурстве, двое — дома...
Страшно Шурочке, боязно. Хорошо хоть Савелий Палыч рядом.
И что бы она без него делала?
Шурочка ругала себя, что так легко согласилась со Степаном
Ивановичем. «Не лучше ли было подождать, приглядеться, что к
чему, а уж потом...» Сердито посмотрела на Савелия Палыча, словно он был в чем-то виноват перед нею, сказала:
— Чего развалился?
— Я-то?..— смутился Савелий Палыч и легонько дотронулся
до плеча Шурочки.— Ты не проверила тепляки? Все ль на месте?
— Тебя дожидалась,— огрызнулась Шурочка.
— Не сердись. Я же тебя не приневоливал,— сказал Савелий
Палыч.—Ты сама по себе...
т
— А, по себе?— Шурочка вскочила на ноги, ткнз ла ногой чурбак, который, падая, коснулся печки, едва не задев растерявшегося
Савелия Палыча. Но очень быстро Шурочка успокоилась и подсела
к мужу.
— Вредный ты.
Савелий Палыч промолчал. И тогда Шурочка спросила:
— Откуда ты знаешь, что сама по себе?
— Я же тебя не приневоливал,— повторил настойчиво Савелий
Палыч.
Но Шурочке надоело спорить, руки отчего-то стали тяжелыми. Ее
клонило ко сну. И Шурочка только сказала:
— Степан Иванович предлагал вам, я слышала сегодня, перейти
обратно на деляны, но вы отказались. Почему? Стоит ли спорить с
техноруком? Уж лучше бы согласились.
128
34
В доме было тоскливо. Хрусткая тишина висела над потолком,
и лишь старинные настенные часы с позолоченным ободком бойко
отсчитывали минуты. Надюшка слонялась по комнате. Везде было,
как всегда, чисто, прибрано и... неуютно. Ох, уж этот неуют. Она
впервые почувствовала его. Надюшка силилась вспомнить что-нибудь приятное из тех давних дней, когда бегала в школу, а в памяти
почему-то всплывали всегдашние, уже сроднившеся с этими стенами разговоры о людях, которые бывают лишь тогда хороши, когда для них что-нибудь сделаешь.
Устав бродить по комнатам, Надюшка присела на краешек кровати и стала глядеть в улицу. По оконному стеклу, извиваясь, ползли
дождевые капли. Небо погрустнело, опутанное тучами.
Надюшка прошла в комнату, приткнулась к краешку кровати.
Л потом вошел в дом Степан Иванович. Подергивалась широкая, наискосок к глазу, бровь. Надюшка насторожилась:
— Что с тобой?
Степан Иванович не ответил. Он, казалось, не замечал сестры.
Надюшка никогда не видела брата таким расстроенным. И она переспросила смущенно:
— Что с тобой?
— Ничего,— сказал Степан Иванович.
— Неправда. Я же вижу.
Он ничего не мог сказать Надюшке. Степан Иванович и сам точно не понял, что же произошло. Да, он сидел в конторке, просматривал бумаги. На глаза попался давний отчет Соломенцева о строительстве лебедки. Он пробежал его глазами. И тут смутное ощущение неуверенности начало овладевать им. Откуда же оно пришло и
когда? И вдруг Степану Ивановичу почудилось, что эта неуверенность появилась у него давно, в день приезда в Хара-Кутул. И все,
что он здесь делал, он делал не потому, что это был единственно
верный путь, а лишь для того, чтобы заглушить собственную неуверенность.
— Нет, ты все-таки скажи...— попросила Надюшка. И тогда
Степан Иванович не удержался, сказал:
— Соломенцев со своей лебедкой носится так, словно в ней вся
жизнь. Я ему предлагал отложить пока строительство и перейти на
деляны, а он ни в какую. И ведь вот что непонятно: сам себя по карману бьет. Блаженный какой-то.— Недоуменно развел руками.
— А если он считает, что так нужно?— сказала Надюшка.
— При чем здесь «если»,— сказал Степан Иванович. — Ты пойми, нам сейчас важно кое-что заиметь. А он уперся, и стоит на
своем. Решил всех облагодетельствовать своей лебедкой.
— Ну зачем так зло? Может, Дема в этой лебедке хочет найти себя, понять... Разве так- не бывает? Ты слышал про эве?1ка, который искал счастье? Ну, про того, чьим именем названа гора?
— Какая гора? О чем ты?— недовольно сказал Степан Иванович. — Спятила девка!
— Может, и спятила,— сказала Надюшка, накинула на плечи
косынку и вышла из дому.
35
В пристрое шумно. Из лесу приехал Соломенцев. И ко времени.
Дед Фока только что пришел из магазина, не поскупился, взял с
аванса бутылку «перцовой».
Старик суетливо бегает по комнате: то стаканы на стол поста9. «Байкал» № 1.
129
вит, то кинется к печи, заглянет по привычке — есть ли угар?— увидит покраснелые угли, захлопнет дверцу и опять к столу. Бормочет под нос радостное:
— Я сейчас. Повремени. По рюмочке для сугреву. Дождь во
дворе.— И в который уже раз спрашивает:—А тебе можно? Не худо
ли по работе? •
Соломенцев терпеливо отвечает:
— Можно. Бог простит, а люди не заметят.
У печи на прибитой жестянке важно полеживает кот. Ему тепло
и сытно. Дед Фока принес из магазина крынку молока и, понятное
дело, попотчевал его на славу. Изредка кот поднимает голову, косит зеленоватым глазом на деда Фоку и, словно посмеивается в свои
белесые кошачьи усы: чего, мол, старый, засуетился? Эка невидаль — Соломенцев угодил на бутылку. Ты, мол, у меня учись. Посмотри, как я спокоен, хотя, может, и мне тоже поиграть на радостях хочется. И я ведь тоже понимаю — дорога рюмка к обеду. Но
дед Фока не догадывался о раздумьях кота. И тогда тот, обидевшись, вразвалку подходит к деду Фоке, который остановился возле
стола, трется о егс ногу. Старик нагибается, глядит на кота, спрашивает:
— Ну?
Кот тягонько тянет:
— Мя-у...
«А?» — улыбается старик и начинает разливать бутылку. Затем
садится за стол и берет на колени кота. Кот успокоенно мурлычет.
— Давай, что ль?— предлагает дед Фока.
— Пожалуй,— соглашается Соломенцев и потирает руки.
Выпили. Закусили маринованными помидорами. Старик захмелел. Облокотился о стол, глядит на Соломенцева, прищурясь.
— Ну, что скажешь?
— О чем?— смеется Соломенцев.
— Не догадлив ты, однако,— морщится старик. — О горе, конечно. Той самой, Мыргыдкеновой.
— Хорошая гора.
— Не то говоришь,— горячится дед Фока. — Особенная эта гора — вот какая! Она — как найденыш.— И, увлекшись, он продолжает: — Ее Мыргыдкенка открыл. А Мыргыдкенка был — ух! Перед
смертью, как уйти, значит, просил он меня приехать сюда. Сказал,
мол, птицу счастья найдешь здесь. Это по-ихнему, по эвенкийски
выходило — в честности жить — птицу счастья иметь. Может, верно
сказал, а? Нашел я птицу... Один был, а теперь — двое.— Дед Фока опускает голову, но быстро встряхивается, бодро поводит плечами:— Еще по одной, Демка?
— Согласен,— говорит Соломенцев.
В дверь постучали. Дед Фока сбрасывает с колен кота, берет со
стола бутылку и ковыляет к шкафу: не любит старик чужого глазу.
Но не успевает. В пристрой вбегает Надюшка. Волосы выбились
из-под косынки, кофточка прилипла к плечам, туфли разбухли от
грязи. Дед Фока останавливается посреди комнаты, нерешительно
вертит в руках бутылку.
— Прибежала, деваха?
Возвращается к столу. Затем подходит к Надюшке, с грубоватой ласкою берет ее за руку:
— Присаживайся. Продрогла, небось? Дождь-то не унимается.
Надюшка послушно идет за стариком, не замечая, как за нею
на выскобленном полу остаются мутноватые следы.
130
Дед Фока наливает девушке рюмку «перцовки»:
— Прими...
Надюшка отрицательно качает головой.
— Не хочешь?
Это уже Соломенцев. Надюшка просяще глядит на деда Фоку.
Старик ловит взгляд девушки, хмурясь, снимает со стены картуз,
натягивает его на глаза, покряхтывая, идет к двери.
Когда дед Фока уходит, Надюшка оборачивается к Соломенцеву
и говорит ему:
— Как же так, Дема?
— Что, как?
— С братом у тебя нехорошо получилось. Я словно чувствовала. Зачем вам ссориться?
— А мы не ссорились,— рассудительно говорит Соломенцев.—
Мы просто очень разные.
— Нет, не разные. Конечно, не разные. Вы оба хорошие. Оба. И
я не хочу, чтобы между вами что-то было.
— А если уже есть?— резко говорит Соломенцев.
Надюшка вздрагивает. Ей вдруг становится стыдно. «И для чего только я говорю об этом?— горько думает она.— Но я хотела как
лучше. А Дема этого не понял. Конечно, не понял».
— Я пойду.
Девушка встает из-за стола.
36
Дождь отчаянной скороговоркой сыпал на землю. «Ра-ра-ра...»—
звенели капли и стекали на землю по оголенным стволам сосен. «Рара-ра...»— звенели капли. «Та-та-та...»—отзывались им приунывшие было от долгого вёдра ели. И даже чепура, трава вредная и колючая, и та приободрилась, зашевелила пожелтевшими листьями,
забормотала довольно: «Жу-жу-жу...»
«Ра-ра-ра...»—звенели капли, «та-та-та...»—отзывалась им ели,
оку-жу-жу...»—бормотала чепура-трава. «Ух, хорошо»,— говорил
Савелий Палыч, умильно вглядываясь в неспокойное небо, и радовался. Но радовался не потому, что приободрилась земля, повеселела, а потому, что в дождь не придут на деляны лесовозы: поплывет дорога быстрыми ручьями в долину и можно будет со спокойной совестью заглушить трактор и, вслух ворча на ненастье, пойти
в лесную сторожку. Он так и сделал. Санька Рытвин не преминул
увязаться за ним.
Не доходя до сторожки, Санька Рытвин остановился, дернул
за рукав куртки Савелия Палыча:
— Не обождать ли Ларионыча? Как бы не взъелся.
— Дождь. Противу него не пойдешь — накажет,— солидно сказал Савелий Палыч. Пожаловался:— А всего-то ничего осталось. И
дождь. Чтоб ему!..
Санька Рытвин прищурился. Он догадывался: у Савелия Палыча на душе — о-го-го — умильно и светло.
— Ох и хитер,— сказал Санька Рытвин.
— В самую... э... суть, как в яблочко,— сказал Савелий Палыч.— По заре, кажись, ничто не пугало, и сразу: ра-ра-ра... Глянька на землю: пузырится. Надолго дождь.
Савелий Палыч огорченно вздохнул, а Санька Рытвин захохотал.
Выбежала из-за сетчатой полосы дождя сторожка, приосанился
возвышающийся возле нее пригорок, покрытый зеленью лесной
травы.
9*
131
— Пришли,— сказал Савелий Палыч, стыдливо запахивая полы
куртки. У куртки не хватало двух пуговиц. Шурочка позабыла пришить их, а Савелий Палыч запамятовал сказать...
В сторожке ступить некуда — теснота страшная. Но Санька
Рытвин, изловчась, прошмыгнул в угол, увлекая за собой Савелия
Палыча. Здесь по свободней и даже присесть можно на чурбак, который оставался отчего-то незанятым.
Бывший сторож, а ныне бригадир из вечерней смены, ругался с
тихим надрывом в голосе:
— Сучьи дети, избенку поприличней слепить не могут.
Ему вторил другой голос, женский:
— И верно. Говорят, техрук возражает: неча, мол, зря время
убивать. Своей работы сполна.
Санька Рытвин послушал-послушал, тряхнул кудлатой головой,
презрительно вытянул тонкую дужку губ:
— Избенку им. А иглу в кашу не хошь?
Савелий Палыч осторожно поддакнул Саньке Рытвину:
— До того ль теперь?
Но Сань.ча Рытвин уже забыл, о чем говорил. Он щурил глаза
и по привычке думал о том, что придет срок и он, подобно Соломенцеву, такое смастерит,— удивятся люди. Но вскоре быстрая гримаска горечи пробежала по Санькиному лицу. А что, если он не сумеет ничего сделать, да так и останется на веки вечные Санькой
Рытвиным, который хотел бы, но не смог, и по этой причине пытается убежать от себя, как белка от цепкого глаза куницы? Что тогда?..
Саньке Рытвину не терпелось поделиться с кем-нибудь своими
мыслями. Но рядом был только Савелий Палыч. Санька Рытвин поерзал на чурбаке, поглядывая на спокойное и умильное лицо Савелия Палыча. Не утерпел — сказал:
— А ведь не всякому добро за доброту считают, а? Это уж как
кому выпадет. Вроде лотереи — выиграешь не выиграешь. Вон и
Шурочка на лесную работу устроилась, должно, за тем, чтобы рядом всегда быть с мужем, приободрить его, если потребуется, но мужики, слыхал, наверно, хохочут, дескать, боится, как бы когти на
сторону не навострил. А она, конечно, не от того вовсе, от всей
души?..
— Пускай хохочут, коль не понимают,— сказал Савелий Палыч
и посмотрел на Рытвина. Тот с досады отвернулся от своего напарника. Но молчать долго невмоготу, и он сказал:
— Я так считаю: у Ларионыча и у нас, ясно, лебедка, может,
-и ничего, да только если люди не захотят, толку не будет из нашей затеи. Вот отстроим, сдадим комиссии, как положено, они потом
будут на ней работать и не вспомнят, кто ее придумал и кто ее
делал. И как это было хлопотно. Не вспомнят ведь?
— Как не вспомнят?— насторожился Савелий Палыч, подобрал
под себя ноги и сказал с непривычной для себя убежденностью: •—•
Нет, паря, вспомнят. Потому как люди добром на доброту отвечают.
Это уж точно.
Теперь пришла очередь удивляться Саньке Рытвину.
— Э... э...— пробормотал он.— Умора. Ты будто знаешь.
Савелий Палыч загоготал, перекрывая шум, который стоял в
сторожке. Он чувствовал, что сейчас сказал нечто важное и словно
заглянул в себя со стороны и увидел такое, чего раньше не замечал.
Савелий Палыч был доволен собой, а Санька Рытвин затосковал.
132
37
Степан Иванович приехал в лес в тот момент, когда его никто
не ждэл. Вошел з сторожку в высоких резиновых сапогах, I^довольно дернул красивой лобастой головой, сказал:
— Сидите?
Сказал так, что даже видавшие виды лесозаготовители ХараКутула почувствовали себя неловко и стеснительно. Бригадир из
вечерней потихоньку прикрыл полою пиджака съестные припасы,
разложенные на полу.
— А что делать?— выдержав паузу, робковато заметил из своего угла Савелий Палыч. — Дождичек.
— Дождичек?— не повышая голоса, передразнил Степан Иванович.
— Ага, дождичек,— радостно залопотал Савелий Палыч. —Разгулялся на славу. Бедовый...
Степан Иванович потемнел лицом:
— Я не шутки вышучивать приехал!
Вдруг ему стало стыдно. Так ли нужно говорить с людьми? Но
как трудно порою быть спокойным и рассудительным. Сказал
тихо и виновато:
— Дождь нам не помеха. Добро б на взгорье, а то в ложбике.
Мы и решение принимали по этому случаю. Помните?
— А если трактор запорем?— подал голос Санька Рытвин.
— Ерунда,— отмахнулся Степан Иванович.— Не в первый раз...
— Раз на раз не приходится,— осторожно заметил Санька
Рытвин.
•— Ладно, поговорили,— грубовато сказал Степан Иванович.
Люди нехотя поднимались со своих мест. Когда Савелий Палыч проходил мимо технорука, тот остановил его, спросил:
— Где Соломенцев?
— Не знаю,— пожал плечами Савелий Палыч.— Уехал.
— Куда?— спросил Степан Иванович, примирительно сказал:—
Ты на меня не сердись за тогдашнее. Дело.
Как гора с плеч свалилась: быстро нырнул за дверь Савелий
Палыч. Степан Иванович проводил его невеселым взглядом.
В полуприкрытую дверь сторожки вкатывались крупные светящиеся дождевые капли и рассыпались на полу.
Степан Иванович вышел из сторожки. У свежего сруба стянутого тросом крыльца играли в луже хвойные ветки, лихо подпрыгивали вверх и скрывались в желтоватой пене.
Степан Иванович нахлобучил на глаза кепку, поднял воротник
плаща. Увидел возле эстакады Саньку Рытвина.
— Эй!—крикнул ему.— Иди-ка сюда!
А когда тот подошел, сочувственно сказал:
— Все в помощниках ходишь? Не долго ли?
— Может, и долго,— насторожился Санька Рытвин.— А что?
— Прикидываю, не перевести ли тебя в бригаду, в вечернюю.
— А кем?— испугался Санька Рытвин, пытливо всматриваясь в
лицо технорука.
— Можно и вальщиком. Поднаторел, поди,— солидно сказал
Степан Иванович.— Если не возражаешь, похлопочу. А там и выгодней тебе будет, и работа похлеще, чем на этой самой... лебедке.
Если бы спросили теперь у Степана Ивановича, что побудило
его обнадеживать Саньку Рытвина столь заманчивой перспективой,
он наверняка не смог бы ответить. Может, жалость к парню? А мо133
жет, стремление досадить Соломенцеву? Или, может, просто желание сделать добро? Бывает ведь и такое...
— Я всегда — за!— поспешно сказал Санька Рытвин.
— Хорошо,— небрежно бросил Степан Иванович.— Попробую.—
Спросил:—А Соломенцев верно в конторку уехал?
— Ему больше некуда,— сказал Санька Рытвин.
«Вальщиком»,— крутилось у него в голове.— Сл&вно бы, а?
Лучше не сыщешь.— И с бойкой резвостью в мыслях:— Стану вальщиком, а после такое закручу. Держись тогда, Ларионыч! Санька
•еще покажет себя.
Ему захотелось поведать о своем разговоре с техноруком Савелию Палычу. Но он чинно выждал, пока Степан Иванович не уехал,
и уже после этого заспешил на деляну.
38
Дорога скатывалась в долину шустрыми ручьями, взвихривалась на поворотах. «Дворничек» размеренно ходил по смотровому
стеклу и смахивал тягучие дождевые капли. Крупные руки Степана
Ивановича надежно лежали на черном, как смоль, круге руля.
Газик резво бежал вниз, подпрыгивал на ухабах, отфыркивался,
как застоялый конь, и опять рвался вперед.
Необъяснимое недавно возникшее чувство неуверенности владело Степаном Ивановичем. Откуда же оно все-таки пришло?
Около Мыргыдкеновой горы Степан Иванович притормозил, вышел из машины. Глянул вверх и невольно поежился. Высоко над
долиною взметнулась вершина. Припомнились детские рассказы о
горе и то, что неизменно связывали односельчане с нею. Припомнились и Надюшкины слова: «Ты слышал про эвенка, который искал счастье?» Да, слышал... Ничего интересного. Обыкновенные людские придумки, чтобы отвлечь от дела. «Счастье в тебе самом, в
том, что ты можешь и хочешь. А еще счастье — это когда чувствуешь себя сильным. А что, неправда?» Как-то неуютно стало Степану
Ивановичу. Стараясь подавить досаду, он громко выругался. Длинное эхо недоуменным гулом сопроводило его слова. Вздрогнул, ощутил за воротом противный холод дождя и торопливо юркнул в машину.
И снова успокаивающе заходил по смотровому стеклу «дворничек» и нетерпеливо покатилась в долину дорога. А вот уже выбежали навстречу почерневшие избы и длинные закоптелые бараки.
Степан Иванович, подсмеиваясь над собою, вел повеселевшими
руками машину по дремлющей улице Хара-Кутула. Не доезжая до
конторки, он остановил газик и быстро зашагал к пристрою школы.
Подошел к двери, постоял, переминаясь с ноги на ногу, затем решительно дернул за скобу.
Поначалу никого не увидел в пристрое: сумрачный свет едва
проникал в маленькое розовое оконце. Но, приглядевшись, заметил
Соломенцева, который сидел за столом, и, скривив губы, кашлянул.
Соломенцев вскинул голову и увидел Степана Ивановича. Тоненькая морщинка пересекла лоб. Откуда-то из-за плеча выглянул дед
Фока.
— А, сон-кер-мер, гостенек,— сказал он.— Присядай, коль не
побрезговал.
Степан Иванович кивнул, стащил с головы кепку, помял ее в
руках, присел на стул, заботливо предложенный стариком.
— Я из лесу. Был в твоей бригаде. Велел продолжать
трелевку.
134
Соломенцев молчал. Зато дед Фока не преминул заметить:
— А дождь, он нынче не в счет?
— Не в счет,— сказал Степан Иванович.
— Экий же ты прыткий, паря,— сказал дед Фока. — Это тебе
не в счет, то не в счет.
— Ты поезжай в бригаду,— обратился Степан Иванович к Соломенцеву.— Не к лицу в рабочее время сидеть дома.
— Я со склада,— сказал Соломенцев, поднялся из-за стола, прошел в прихожку, накинул на плечи телогрейку. Степан Иванович
обождал его у порога, и они вместе вышли из пристроя.
— Скажи, а ты в самом деле считаешь, что людям ничего, кроме денег, не надо?— спросил Соломенцев.— Почему ты всегда упираешь на одно и то же?
— Это мое дело,— перебил его Степан Иванович.— Тут нам не
договориться.
— Пожалуй,— согласился Соломенцев.
На крыльце, вытянув спину дугой, сидел продрогший кот и
мяукал. Увидев людей, ткнулся им в ноги и, не успев толком разобраться, что случилось, кувырком слетел с крыльца и плюхнулся
з лужу.
— Тварь безмозглая,— с досадой сказал Степан Иванович. —
Крутится под ногами.
Соломенцев пожал плечами.
Спустились с крыльца. Остановились. Встретились глазами. Чужие, незнакомые, а когда-то считали, что хорошо знают друг друга.
— Я решил забрать у тебя Саньку Рытвина,— сказал Степан
Иванович.— Не вечно же ему болтаться в помощниках.
— А ко мне кого?
— Пока некого,— сказал Степан Иванович.— И так потянете.
Все равно от вас мало проку.— Перекосилось лицо от смеха. И только глаза оставались холодными.
А дождь все шел и шел. И розовые капли висели в воздухе, и
торжествующе дышала земля.
39
Санька Рытвин споро поднимался на взгорье, словно ветер, дующий в спину, подстегивал да поторапливал. Но не ветер был причиною Санькиной нетерпеливости. Чудо не чудо, а уж диво, наверняка, приключилось с Санькой Рытвиным. Технорук, которого
он хоть и принимал за удачливость, но побаивался, соизволил уважить его. Да еще как уважить!
Санька Рытвин от такой неожиданности потерял способность
рассуждать по всегдашнему спокойно. «Кто его разберет?— думал
он.— Может, стоит отказаться? Подойти к техруку и сказать: «Бери,
дорогуша, свои волокуши. Мне твоего не надо. Я на своем горбу
утащу, что имею».
Но Санька Рытвин лукавил. Он смутно чувствовал, что не посмеет не принять нежданный дар. И поэтому к радостному Санькиному настроению примешалась вящая досадинка. И выбросить бы
ее из сердца: «Беги-лети, колючая, на все четыре стороны». Да куда там! Крепко засело в Санькиной голове солидное: «А там выгодней и работа почетней. Если не возражаешь, похлопочу».
«Да нет, не возражаю, хлопочи, техрук!»—почти прокричал
Санька Рытвин, отмеривая шагами трудные лесные метры земли.
Санька Рытвин не хотел даже себе признаться, что его прельстило в предложении технорука. Нет, не «работа почетная», которую
135
ему пообещал Степан Иванович. А то, что теперь представлялась
возможность сравняться с другими. Ему надоело выслушивать издевки лесорубов, которые стали особенно обидны после того, как дела на лесопункте пошли в гору. Да к тому же и лишняя копейка в
кармане никогда не помешает. Технорук знает, на что бить...
Да, не хотел Санька Рытвин признаться в этом даже себе. И поэтому чувствовал себя как-то неловко и стеснительно.
Он отыскал Савелия Палыча возле трактора. Схватил его за
плечо:
— Эй, слышь-ка! Диво со мной стряслось!
Савелий Палыч, привыкший к неожиданностям в Санькином настроении, отмахнулся от своего напарника:
— Да ладно тебе.
— -Нет, постой,— загорячился Санька Рытвин.— Ты послушай.
Савелий Палыч беспомощно развел руками, положил на пенек
замковый ключ:
— Ну...
И Санька Рытвин начал рассказывать, как технорук остановил
его и что говорил. Савелий Палыч слушал и вздыхал. Чувствовало
сердце тракториста: уйдет Санька. А как же без него? И словом перекинуться будет не с кем, и обидеться не на кого. А Шурочка?
Нет, Шурочка опять-таки не в счет. Шурочка в сознании Савелия
Палыча по-прежнему по особому разряду проходила.
— И согласился?— спросил Савелий Палыч, когда парень выговорился.
— А что было делать?— нехотя ответил Санькч Рытвин. И снова досадинка егознула на сердце. Углядел в лице Савелия Палыча
такое, что ему не понравилось, и закипел. Долго ругал его.— Не
сознаешь ть; главного,— говорил Санька Рытвин.— Не век же мне
ходить в твоих помощниках. Чем я хуже других?
Савелий Палыч не возражал. Он терпеливо ждал, пока Санька
Рытвин угомонится. А когда тот успокоился, сказал:
— Не пойму я Степана Ивановича. Он вроде сердит на тебя был.
— А теперь сменил... э... гнев на милость.
— Почему?— словно обрадовавшись, спросил Савелий Палыч.
— Откуда мне знать?— ершисто сказал Санька Рытвин. Провел шершавой ладонью по мокрым волосам, оглаживая, бросил, улыбаясь:— Добро от сердца, зло от головы.
Савелий Палыч тихонько вскрикнул, закашлялся, затем ссутулился, опустил долу глаза. «Так-так-так...»—пробормотал бессвязно.
Дождь падал на землю, быстрый, искрящийся. Сосны оживленно гудели. Березы принимали тонкие капли.
— А все-таки он подзагнул,— уверенно сказал Савелий Палыч.— Мыслимо ль в дождь?
— Не наша забота,— беспечно сказал Санька Рытвин.— Раз велено, сделаем.
— Ой, правда ли?—усомнился Савелий Палыч. Наклонился,
взял с пенька замковый ключ, подошел к трактору. Санька Рытвин
последовал за Савелием Палычем.
— Заводи.
— Не приключилась бы беда,— покачал головой Савелий Палыч.— Машина все же.
— Сломаем один — другой пригонят,— сказал Санька Рытвин.
— Какой быстрый,— насупился Савелий Палыч и с видимым неудовольствием стал заводить трактор.
136
40
Ночь темная-темная. И ветер. Верховик пришел после дождя.
И наигрывает ветер, и насвистывает. А людям тяжко. Люди едва
передвигают ноги и молчат. Не до разговора. По хрусту своих шагов
угадывают, не свернула ли тропа, не увела ли в сторону.
Соломенцев идет впереди, а Савелий Палыч с Санькой Рытвиным чуть сзади, след в след бригадиру. Соломенцеву тропка знакома сызмальства. Не однажды, запоздавшись, выстегивал он ичигами лесные метры с дедом Фокой по этой тропке.
— Погоди, Ларионыч,— жалобно говорит Савелий Палыч. — В
грязь подзалетел.
Соломснцез останавливается. Подходит Санька Рытвин, и недовольно:
— Опять?
Включает фонарик. Пучок света падает на землю, скользит по
рыжеватой траве, останавливается на трактористе, замирает.
— Укороти...— просит Савелий Палыч.— Слепит.
Санька Рытвин выключает фонарик.
А ветер все также наигрывает и насвистывает. И лес полнится
шорохами. «Шу-шу-шу...»—лопочут сосны. «Тш-тш-тш...»—шепчет
боязливая осока. «Гу-гу-гу...»—звенит ночное небо, И вдруг где-то
испуганно закричала птаха-кедровка. И сразу откликнулось ей неблизкое эхо.
Соломенцев приложил наискосок к уху ладонь, прислушиваясь. Санька Рытвин поежился, плотнее запахнул полы пиджака,
поднял воротник. Подошел Савелий Палыч, на ощупь, рукою, отыскал бригадира:
— Отдохнем? У меня ноги гудят.
— Можно,— согласился Соломенцев.
Сидели на мокрой, росной траве, слушали усталость, которая
растекалась по спине и гудящей болью отдавалась в пояснице.
— Зачем нужно было оставаться?— проворчал Санька Рытвин.
— А зачем нужно было ломать трактор?— в свою очередь спросил Соломенцев.
— Ты у него поинтересуйся, зачем?— сказал Санька Рытвин.
— Так вышло.— виновато вздохнул Савелий Палыч.
Никто не видел его лица, а если бы увидел, понял бы, как тяжело на душе у тракториста.
В тот раз, когда технорук велел трелевать в дождь, Савелий
Палыч хотел бь;ло возразить ему. Но не возразил. Уж очень уважаем и удачлив технорук, не по зубам Савелию Палычу.
А трактор сломался. Поначалу, правда, хорошо шел, лишь немного пробуксовывал на валке. Но потом на развороте заскрежетало в моторе, забилось... Савелий Палыч спрыгнул на землю, в глаз
попала тяжелая песчинка. Но мешкать было некогда, и он быстро
подлез под трактор. «Так и есть... Теперь не оберешься хлопот. И
дотемна, поди, не заделаешь».
Но приехал на взгорье Соломенцев, и трактор отремонтировали.
А теперь, отстав от дежурки, шли домой.
— Так вышло,— снова сказал Савелий Палыч. Нашарил в мокрой траве стебелек, сорвал его, поднес к носу: пахучий... Что-то
давнее-давнее напоминает. Наморщил лоб. Ах да, Шурочка на зарезореньке их супружеской жизни приболела и просила Савелия Палыча нарвать в лесу пучок бледной с длинным стебельком травы
«кочкарек», дескать, от всех болезней излечивает. Обеспокоенный
Савелий Палыч сходил в Мыргыдкенову падь, принес кочкарку.
137
И верно, Шурочка вскоре встала на коги. Может, помогло? А
может, время подошло покинуть Шурочке постель болящей?
Савелий Палыч аккуратно свернул стебелек кочкарки, положил
его в карман: «Приду, расскажу, где изловил». И скоро забыл о стебельке. А через минуту он уже говорил:
— Нашлись умники — в дождь на деляны... А трактор вам не
игрушка, куда захотел — бросил.
Сказал и смутился: увидев перед собой будто наяву Степана
Ивановича. «Да что это я,— подумал огорченно. — Неужели боюсь?»
Поднялся с земли и сказал сердито:
— Вы понимаете, а я, значит, нет?— зашагал по траве. Нет, не
зашагал, а словно на волнах поплыл непривычного и бодрого чувства, непонятно в какую пору возникшего. Следом шел Соломенцев
и со всегдашней заинтересованностью прислушивался к хлюпающим
и неожиданно уверенным шагам своего тракториста.
41
Придя домой, Соломенцев прилег на лавку. Устало опустил
большие руки. Спать не хотелось. Вспомнил Надюшку и затосковал.
Тускло горела под потолком лампочка. Скользили по стенам бледно-светлые тени. Лениво дремал на предпечнике кот. На столе стояла остывшая тарелка супа.
Но Соломенцев к еде не притронулся. Он побыл с полчаса дома
я вышел на крыльцо. Постоял, обвыкаясь с темнотою, и зашагал по
уснувшей улице. Не доходя до конторки, остановился, перевел дух.
Из-за ветхого сарайчика, приткнувшегося к серому строению, послышалось спокойное покряхтывание, а затем старческий голос четко
произнес: «Сон-кер-мер... Эх, сон...»
Соломенцев затаился. Выждав паузу и сложив руки лодочкой,
свистнул.
Из-за сарайчика брызнул неровный и дрожащий свет фонарика.
Зашарил по земле, выискивая.
— А, это ты, Демка?— донеслось успокоенное.
— Кому же еще быть?— ответил Соломенцев и направился к
конторке. Спустя немного возле него оказался дед Фока.
— Не спится?— спросил старик.
— Не спится,— согласился Соломенцев.
— Отчего запоздал?
— Шток у трактора лопнул. Заделывали.
— Поел?
— Не хочется.
В конторке было жарко натоплено. Соломенцев скинул пиджак
и прилег на диван.
— Здесь еще кто-нибудь есть?— спросил он.
— Техрук недавно ушел,— ответил дед Фока.
— Я вздремну,— сказал Соломенцев. — Как рассветет, разбудишь. Договорились, сторож?
Дед Фока недоуменно стукнул об пол прикладом старенького
дробовика.
Соломенцев лежал и думал о Надюшке. Он не видел ее несколько дней и очень хотел бы встретиться с нею. Но боялся этой
встречи. Ему думалось, что Надюшка обиделать на него. Боялся и
не хотел признаться себе в этом. Припомнил, как недавно приходила к нему Надюшка. Она чего-то ждала от него. А он? Он не
знал, как помочь ей. Если бы он чувствовал, что неправ, все было
бы много проще. Но он был уверен, что прав.
138
Соломенцев поднялся с дивана расстроенным. А рядом все также стоял дед Фока и внимательно поглядывал на него.
— Демка, а, Демка,— не утерпев, сказал старик.— Стряслось
что-нибудь? На тебе лица нет.
Соломенцев не ответил.
— Ты не прячь глаза,— рассердился дед Фока. А когда Соломенцев посмотрел на старика, тот сказал убежденно: — Стряслось,
точно. По работе?
— Ага, по работе,— обрадованный возникшей возможностью
увести разговор в сторону, сказал Соломекцев.
— Не сладко, понятно,— посочувствовал дед Фока. — Да утрясется.
— Утрясется,— заверил Соломенцев. Сказал:— Савелий-то Палыч крепок. А я думал, так себе — стебелек без корешка. Ты бы послушал, как он сегодня взорвался.
— Не может того быть,— охнул дед Фока.— Я его еще, когда
он в «дикой бригаде» был, знаю. Тогда он тихонький был, а заправлял всем здоровенный парень с длинной, как у гуся, шеей. Его на
поселке «оглоблей» величали. Надо же, а? А чего он взъелся?
— Из-за трактора. Техрук велел трелевать в слякоть, а трактор не выдержал.
— И правильно взъелся. Дано пора Степке на хвост наступить.
Не то улетит — не пымаешь.
— Зачем?— сказал Соломенцев.— Он немало сделал. И хорошего. Не зря его уважают. Только, может, он не с того конца начал.
Это — да... Видишь ли, он думает всех на одну мерку можно... Нет,
нельзя. Люди этого не прощают.
Во дворе раздался нетерпеливый и жадный лай дворняжки. Дед
Фока подхватил дробовик и, переваливаясь с ноги на ногу, затрусил
к двери.
42
Лесорубы толпились возле сторожки. «Непутевая,— говорили,—
погодка. В такую погодку не затанцуешь». Недоумевали: «Извиняюсь, на хрена приехали в лес?» Поджидали, когда подъедет на деляны Степан Иванович. А его все не было. Злились: «Наверняка, дома сидит, чаи гоняет, а тут зябни».
С самого утра мотался на газике по Хара-Кутулу Степан Иванович, сзывая людей к конторке: «Приходите поскорей.
Разговор
есть».
Разговор хара-кутульцам не понравился. Галдели: «Грязища...
Пусть пообсохнет». Степан Иванович выждал, пока поутихнут страсти, и сказал:
— Погалдели, и хватит. А теперь на деляны, да поживей. Я
скоро буду.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. С полчаса прошло, прежде чем приехал на деляны Степан Иванович.
Небо хмурое, тучи вяжет, с нагону бьет верховик, а технорук
веселый, словно ничего не случилось: и дождя нет и ветра — тоже.
— А ну, пошли к понизенке,— сказал Степан Иванович,—заезды зачищать будем. Иначе завтра, когда разветрит, все машины переломаем.
Заезды зачищать? «А... чтоб тебя разворотило! Чего только не
придумает?..» Это откуда-то издали. А кто — не видно. Не видно, но
слышно. Поубавилось в лице веселости у Степана Ивановича.
— Кто это там? Вылазь на свет!
139
Куда уж тут! Тихо и тревожно, как на погосте. Не дождался,
махнул рукой:
— Все. Давай за мной.
— Подожди...— К Степану Ивановичу
подошел Соломеицев
и спросил: — Есть ли в этом смысл?
Умно говорит Соломенцев и недовольно.
— Стоит снова ударить дождю, и все смоет.
•— А что ты предлагаешь?
— Ничего. Но все же думаю, тяжелая эта работенка, а будет ли
толк?
Лесорубы переглянулись, понравилось им: Соломенцев с техноруком на равной. Но не понравилось: нет, чтобы сказать, давайте
по домам, и дело с концом, а он тоже — крутит...
— Тяжелая не тяжелая, а нужная. И не по-пустому. Нарядец
выпишу.
Это уже Степан Иванович.
Успокоились лесорубы, поняли: раз приехал, надо что-то делать,
все равно день пропал. Под чужой рукой работа — вдвое меньше забота.
Соломенцев недоволен: «Быстры на решения хара-кутульцы.
Только помани. А долго ли так будет? Эх, техрук, сломаешь себе
шею, когда манить будет больше нечем!»
Санька Рытвин встал рядом со Степаном Ивановичем, сказал:
— Правильно техрук судит. Один раз помаемся, зато потом хоть
гостюй на делянах.
У Степана Ивановича отлегло от сердца.
Ушли лесорубы, а Соломенцев подзадержался. И тут он заметил
Надюшку.
— И ты здесь?
— А где же мне быть?
— Я думал, ты не приехала.
— Послушай, Дема, зачем ты опять? Ты же знаешь — нужно...
Соломенцев чуть было не вскинулся на девушку. Но очень уж
легко у него на душе — Надюшка рядом с ним,— и он сдержался.
— А я ничего не имею против,— сказал Соломенцев.— Я только
хотел посоветоваться. Но он все по-своему. И — пусть! Нам-то что?
— Улыбнулся, и у Надюшки лицо высветлилось.
Тень от сторожки на землю падает. А земля здесь услежена сильно. Есть тут и их следы.
Девушка коснулась руки Соломенцева:
— Пошли...
— Да, конечно.
А сами ни с места, глядят друг другу в глаза, притихшие.
В стороне от сторожки розовый куст чепурыжника качается на
ветру, качается...
43
Степан Иванович, слегка запрокинув назад голову, гоголем вышагивал по кухне. На низеньком стульчике у стены сидела тетка Дуня
и с грубоватой нежностью следила за сыном. Но Степан Иванович
не замечал матери, словно ее не было рядом. Он обдумывал нечто
важное. И только, когда решил окончательно, что будет делать, остановился посреди комнаты, хлопнул широченной ладонью по столу —
тоненько задребезжали, уложенные в горку, тарелки. Лодка с узорчато-расписным донышком подпрыгнула выше всех — чуть не растревожила всю горку.
— Степушка,— испуганно сказала тетка Дуня, кутая худые руки
в розовый передник.— Что с тобой?
140
Степан Иванович покосился на мать, прикидывая, говорить теперь или позже, сказал:
— Надюшку надо собирать...— улыбнулся большим и крепким
ртом:— Как в побасенке: одна нога на пороге, другая — на дороге.
Неблизкий ей путь предстоит.
Тетка Дуня синицею в гнезде затаилась: ястребок в ближнем небе
появился. Ох, не помилует...
— Степушка, а, Степушка,— сказала она наконец осторожно.—
На пойму я... Стара, поди, стала.
— Завтра иль послезавтра поеду в центр, договорюсь. Примут,
полагаю. Куда? В техникум. С сегодняшнего дня пусть поет отходную по нынешней работе. Загулялась. Эка важность — десятница.
— Не торопко ль, Степушка?—попыталась возразить тетка Дуня.— Пристала ль нам спешка?
— Пристала — не пристала,— в тон матери сказал Степан Иванович,— но пора. Иначе заветрит — ума не приложишь, куда податься.
Боится чего-то Степан Иванович, а чего — не знает. Только попрежнему мучает его неуверенность, не остывает. Липуча и горяча.
— Спросить бы Надюшку, согласна ли? А то как же сразу-то,
без спросу?
Тетка Дуня опустила глаза. Сказать бы ей: «Ах, Степушка, Степушка, что ты надумал?..» .Но не скажет, считая, что сыну виднее.
Степан Иванович заметил, как расстроилась мать, и ему стало
неловко перед нею. И тогда он подошел к матери, погладил ее по седым волосам.
— Ничего, мать. Не тоскуй. Птица, она ведь если улетит из гнезда, потом все равно возвращается. Да и для Надюшки так лучше.
Он верил, что так действительно будет лучше. А тетке Дуне не
хотелось отпускать от себя дочь. Ей чудилось, уедет Надюшка, и сразу забудет ее, чужою станет. Не однажды замечала она: покинет ктонибудь свой дом на год-два, а когда вернется, диву даешься: не тот
человек, не тот... И ласковости нет прежней, и доброты. 1/1 ее сына не
миновала эта участь, ох, не миновала!
Но поведать Степану Ивановичу о своих горших мыслях не решается тетка Дуня.
Клин клином выбивают, горе горем заливают, а вот как быть с
радостью, если ее на двоих хватило бы? До сих пор не остывает радость тетки Дуни, которая появилась в день приезда в Хара-Кутул
Степана Ивановича. И, глядя на своего сына, не перестает радоваться она: «И крепок-то, и умен-то, хоть и чужеватый. Ох, чужеватый...» Уже не подойдет к нему тетка Дуня, не потреплет за волосы:
рука не поднимается. «Фу, господи»,— скажет бывало, помолится и
красном углу на икону и... полегчает
— Степушка, а, Степушка,— сказала тетка Дуня. — Может, не
стоит Надюшку-то?..
— Как?
— Девка она. У нее вся мудрость в подоле.
Степан Иванович до этого сидел и спокойно перебирал пальцами,
а тут резко вместе со стулом повернулся к матери — скрипнули обеспокоенно ножки — сказал:
— К чему все это, мать? То так, то эдак, а разговора не получается.
— Ну, ладно, Степушка, ладно,— охая и растирая ладонями поясницу, сказала тетка Дуня.— Только ты с нею сам обтолкуй.
— Хорошо.
— Подзачернило,— неожиданно ворчливо сказала тетка Дуня. —
141
Ты бы заслал печника. Мне-то что? Мне этого уже не надо. У
за спиной крест ластится, приглашает. А тебе...
— Ладно. Завтра напомни. Сделаю, как велишь.
меня
44
Земля была мокрая и тяжелая. Десятки рук уцепились в черенки лопат и выскабливали грязь, растекшуюся по валку. Работа необычная и нудная.
У Саньки Рытвина набухли кирзовые сапоги. А в глазах — тоска
неописуемая. «И за что наказан я?»—став сразу чувствительным,
пробормотал он под нос. Но выразить вслух свое возмущение не осмелился. Всего-то — покосился по сторонам, заприметил вблизи Савелия Палыча и вскоре, шажок к шажку, оказался рядом с ним.
— Ух, жарища,— сказал Санька Рытвин и выпрямил спину. —
У меня рубаху хоть выжимай.
Савелий Палыч рад случаю. Откинул лопату в сторону, сказал:
— И у меня не лучше.— Огорченно добавил:—Сам ты напросился, а жалуешься. Вспомни-ка, что говорил. А говорил ты, Санька,
так: «Один раз помаемся, зато потом хоть гостюй на делянах».
— Я и теперь то же скажу,— вспыхнул Санька Рытвин. — Ясно?
— Мне-то ясно, да тебе вряд ли,— вздохнул Савелий Палыч.—
Я так полагаю, словчил ты тогда. В прятки захотелось поиграть. Или,
может?..
— Не твоя забота,— огрызнулся Санька Рытвин.
— Не моя,— неопределенно сказал Савелий Палыч.
Санька Рытвин стоял, опершись на лопату. Ему было немного
стыдно перед Савелием Палычем. Только он не знал, почему бы?..
Разве технорук неверно говорил? Нет, верно. Или, может, зазорным
считается защищать чужое? Опять-таки нет
И все равно стыдно Саньке Рытвину перед Савелием Палычем.
И, чтобы хоть как-то скрыть это, он сказал, гримасничая:
— Недавно видел — тетка Дуня с дедом Фокой встретились. Тары-бары, тары-бары, словно девки на базаре. И снова: тары-бары. Потом тетка Дуня спрашивает: «Ты чего ловчишь? Какой такой
«сон-кер-мер»? Дед Фока фыркнул в бороду: «Откель тебе понять,
коль все твое счастье в закутке, где сундуки стоят. Слыхал, есть в
твоем доме такой. Жидкое у тебя счастье, скучное». А тетка Дуня в
обиду: «Поосторожней, милочек-дружочек, не то...»
Санька Рытвин помолчал, потом сказал:
— Дед Фока хоть и кичится перед теткой Дуней, а сам тоже
всего-то и сделал: домишко на гнилых сваях поставил.
— А ты откуда знаешь?— возмутился Савелий Палыч. И с удовлетворением отметил, как в душе снова появилось бодрое чувство
уверенности. — Мелешь почем зря!— хлестко сказал он.
— Выложил,— обиженно протянул Санька Рытвин. Он не заметил, как подошел к ним бригадир. Он увидел его позже.
— Так... Не сделал, говоришь,— сказал Соломенцев. Санька Рытвин зарделся, как девушка, застигнутая на потаенках с любимым. А
придя в себя, торопливо сказал:
— Точно.— И, осмелев, вскинул голову.
— Трепач,— сказал Соломенцев и ушел.
Савелий Палыч не хотя взялся за черенок лопаты.
— Надоело?— Улыбнулся Санька Рытвин как ни в чем не бывало.
•— Надоело,— сознался Савелий Палыч.
— Лучше бы на лебедке сейчас работать,— сказал Санька Рыт-вин.
142
— Да, лучше бы. Но технорук...
Не договорил, окинул взглядом ленту валка, утопающую в слякоти. Полынь-трава опутала землю.
45
Плывут ветры над Мыргыдкеновой долиной. Непохожие друг на
друга ветры. Прохладу несет с собой сиверок. Бывает, налетит неугомонный, развеет тяжелую жару, напроказит,—и нет его. Лишь шелест
лесного разнотравья твердит, что гостевал сиверок в долине. Гостевал.
Известен своим непостоянством ветер шепотун, который в полдень опускается с гольцов. Ему не по душе дерзость сиверка. Не терпит шепотун ничего лишнего, никого не обидит. Потому и не боятся
его даже хрупкие колокольчики. «Тинь-тинь-тинь»...— вытренькивают колокольчики, когда приходит в долину шепотун.
Низко проносится верховик над землею, заставляет кланяться
себе в пояс лесную осоку, расставляет барашки-вехи в волнах Селим-реки. И только перед Мыргыдкеновой горой робеет верховик. И—
отступает.
Неумен в своей дружбе с кронами деревьев ветер белосен. И
днем и ночью шепчется белосен с березами. О чем?
Плывут ветры над долиною, сменяют друг друга, как игрушечные кораблики, запускаемые детьми в душный вечер на Селим-реке.
У каждого своя звезда. У каждого свой ветер.
46
В давнюю-давнюю пору жил на земле охотник-эвенк. И не было
у охотника счастья. Долго мыкался он по лесу. Искал... И не находил
счастье. А годы шли. Уже и глаз не такой верный стал у охотника,
как прежде, и рука ослабела. Тогда и подумал он, а есть ли оно, вообще, счастье?
Сел на землю охотник-эвенк, положил возле себя лук с единственной оставшейся стрелою и.. запел. Он пел о том, что тайга большая и, чтобы всю обойти ее, надо износить тысячу пар ичигов, а он
маленький, и ему нет счастья. В своей песне он обращался к деревьям. Он называл их сильными и крепкими, и много повидавшими на
своем веку. Он просил их помочь ему найти счастье. Но деревья молчали. Им было невдомек, зачем ему, слабому, нужно счастье.
Тогда охотник-эвенк окончил петь свою песню и лег на землю.
Он сказал себе: я засну и больше не проснусь. Но поднялся сильный
ветер и загудела тайга. И не дала уснуть охотнику. А потом откудато появилась птица. Она опустилась возле охотника, расправила крылья, подошла к нему.
— Я птица счастья,— сказала белая птица. И улетела. Охотникэвенк обрадовался, поднялся с земли, взял лук со стрелою и снова
запел. Но теперь его песня была веселая. Он пел о том, что видел
птицу счастья, и ему не хочется умирать. И были в его песне слова:
«Сон-кер-мер...» — «Я нашел птицу счастья»,— означали эти слова.
47
Чирикали воробьи и гонялись друг за другом, выписывая полукружья в воздухе, а затем, поустав, садились на крыши и, распушив
грудки, тыкались клювом под крылышко.
Рослые собаки, откормленные на рыбе (Селим-река богатая и
143
далеко ходить не надо, садись сразу же, на берегу, не уйдешь без
улова), лениво шныряли по улице, а то вдруг, приткнувшись у заплота, остервенело искались в шерсти, щелкая клыками.
Соломенцев сидел на лавочке, прилепившейся к пристрою. Был
он в синем пиджаке, который плотно обтягивал плечи. Нахлобучив
на глаза кепку, он вглядывался в даль улицы, где находился осетровский дом под крутой, обитой жестью, крышей. Туда то и дело подходили лесовозы, протяжно сигналили, а никого не дождавшись, разворачивались, подымая густую пыль и подруливая к конторке.
Но Надюшки все не было. И ему уже начало казаться, что, несмотря на поздний час, ее нет дома и что она, может быть, задержалась на делянах. Мало ли что могло случиться?
Форточка была открыта. Из пристрой доносился храп деда Фоки.
Старику не удалось вздремнуть на дежурстве, как обычно. На лесопункт по настоянию Степана Ивановича нынешней ночью приехала
партия новых рабочих. А где же ночевать вербованным, как не в
конторке? Более подходящего места для этого не найдешь во всем поселке. И старик все дежурство провел на ногах, а теперь отсыпался.
Соломенцева сбивает с мыслей храп деда Фоки. Ему бы встать
и закрыть форточку или отойти к школе, здесь недалеко — два шага — прямо, три — влево, вот и будет школьное крыльцо, новое, затесины еще не почернели. Но Соломенцев не хочет подниматься с насиженного места. Пригрелся, да и видно отсюда хорошо, осетровский
дом как на ладони. А ему больше ничего и не надо.
Но вот, наконец-то, появилась Надюшка. В светлом платье, косынка на голове белая, полощется на ветру. Сюда идет Надюшка, в
эту сторону. И словно сердце у Соломенцева сильней забилось, заволновался. Всего-то день не видел ее, а чудится — долго-долго.
Надюшка все ближе-ближе, заметила его, улыбается. А подойдя
к нему, говорит:
— Здравствуй...
— Здравствуй,— отвечает Соломенцев. — Ты сегодня
долго.
Отчего?
— Подзадержалась.—Надюшка присаживается на лавчонку.—На
Нижний ходила, где ты лебедку строишь, вот и подзадержалась. До
чего же она красива издали. Ну, прямо-таки блестящий шарик, так и
серебрится в закате. Кто не знает, для чего лебедка, наверняка подумает, для услады, чтоб глаз радовала. Прямо, как в сказке, вокруг
лес, убегает в тайгу черная лента узкоколейки, вдали контуры Мыргыдкеновой горы, а тут рядом — чудное строение, похожее на огромную белую птицу. И все-то кажется, вот улетит сейчас, вот улетит.
Далеко-далеко...
— Надюшка, милая,— зачарованно глядя на девушку, говорит
Соломенцев.— Какая же ты у меня славная.
Надюшка улыбается и долго молчит. Может быть, даже слишком
лолго. А затем говорит:
— Мне так без тебя скучно. Что бы я ни делала, ты все время у
меня перед глазами. И я постоянно боюсь чего-то. Дура я, правда?
Вот сегодня на делянах рабочие говорили о лебедке, я слушала и боялась: «А что, если скажут что-нибудь нехорошее, злое? Что тогда?..»
Нет, видно, такой я всегда буду. Все чего-то жду и боюсь. Вот брат,
он всегда был добр к тебе, а сейчас недоволен. А ведь к нему прислушиваются люди. Он сделал много хорошего.
У Соломенцева испортилось настроение.
— А как? Ты думала об этом? То-то... У него одно в голове:
дай в лапу больше, и башку сломит, но пойдет за тобой. Для кого-то
оно может и так, но не для всех.
144
— Постой, Дема,— говорит Надюшка.— Неужели нельзя выбрать
то, что не мешает тебе жить спокойно. Я хочу жить спокойно. Неужели это плохо — жить спокойно.
— Спокойно?— вспыхивает Соломенцев.— Спокойно живут только зайцы, когда их не трогают.
Надюшка смутилась, поднялась с лавочки.
— Да, конечно.
— Погоди, ты не так меня поняла.
— А что понимать?— Надюшка опустила голову, волосы завитушками из-под косынки рассыпаются.
— Я скоро уезжаю в город учиться.
— Ну, и поезжай,— хмуро говорит Соломенцев.
48
В пристрое тускло горела лампочка и временами вырывала из
полусумрака огорченное лицо Соломенцева. На предпечнике в своей
всегдашней позе, положа морду на лапы и полузакрыв зеленоватые
глаза, подремывал кот.
Соломенцев не мог успокоиться и тяжело ходил по комнате. Он думал о том, что было вчера. И не мог понять, почему Надюшка обиделась на него и ушла.
Припомнил, в лесу как-то увидела Надюшка, что Санька Рытвин
(Савелия Палыча в ту пору не было на деляне — заболел) неловко
крутанул трактор и смял задком сосенку. Надюшка — и с чего бы?—
подбежала к Саньке Рытвину и давай ругать его: и такой-то, говорила, и сякой, и деревцо молодое тебе нипочем. Сегодня ты, мол, завтра — другой, что же будет? Словно ее самое обидели. А Санька
Рытвин стоял и слова у него вроде в горле застряли, сам на себя не
похож был. Прикрутило... Наверное, удивился: всегда-то тихонькая,
а здесь... И, если бы не Соломенцев, кто знает, до чего бы договорилась Надюшка. Но он сказал: «Эка невидаль — деревцо. Другое
вырастет». Надюшка сначала и на него, как на Саньку Рытвина, бросилась волчонком, но потом присмирела.
«С характером,— неожиданно подумал Соломенцев.— И зря она
говорит, будто слабая и что ей хочется жить спокойно. Зря...»
Соломенцев сначала не придал особого значения вчерашнему разговору с Надюшкой. Лишь чуть расстроился. Но потом он забыл об
этом. И только сегодня, когда приехал с делян, подумал, что вчера
что-то произошло, после чего они с Надюшкой вряд ли смогут быть
такими, какими были прежде. И он ходил по комнате и чувствовал
себя прямо-таки плохо. Впрочем, он не знал, что именно в эту минуту Надюшка тоже ходила по комнате и чувствовала то же самое.
Соломенцев живо представил себе дни, тусклые дни, когда и спешить некуда и не к кому — дни без Надюшки. И ему стало совсем
плохо. И уже не радовало, что скоро лебедка выросла в большое
шарообразное строение и скоро звонко заговорят натянутые троса.
Соломенцев устало присел на табурет. Но вскочил на ноги,
кинулся к двери, ощутил в ладони ноющую прохладу выгнутой
скобы, которая служила вместо дверной ручки, и остановился. А затем вернулся обратно.
В пристрой вошел дед Фока, кряхтя завозился у двери, стянул с
ног ичиги, сказал:
— Давно ль приехал?
— Нет.
— Чего рано?
— Сработали свое.
10. «Байкал» № 1.
145
Дед Фока сгустил брови, прищурясь, оглядел Ссломенцева, заметил, что тот не в настроении, спросил:
— Опять что-нибудь?
— Да нет же,— раздраженно сказал Соломенцев и вышел из пристроя.
Вечерняя синева висела над Мыргыдкеновой долиной. И плыли.,
кучась, облака. На ветхом покосившемся заплоте играли бледные
зайчики.
49
И вот настало время, когда Шурочка положила в кармашек модной вязаной кофточки первую на новом месте получку. Без вычетов.
Вначале подоходный налог не берется — это каждому ясно.
Шурочка шла из конторки. Розовое солнце скатывалось за
Мыргыдкенову гору. Облака, как перина, взбитые, кучились. Долина тихо светилась.
Шурочка подсчитывала: «Пять рублей за молоко, три — за свет.
Шесть — на концерты. Остальное — мне. А на еду Савушка подработает».
Еще издали заметила Степана Ивановича, подобралась, как для
прыжка, замедлила шаг. А когда тот подошел поближе, заулыбалась:
— Здрасте...
— Здравствуй,— сказал Степан Иванович.
— И хорошо-то как,— залопотала Шурочка.— И вечер такой...
— Оттуда?— Степан Иванович кивнул в сторону конторки.
— Ага,— подтвердила Шурочка.
— И как? Довольна?
— Очень,— сказала Шурочка. — Спасибо вам, Степан Иванович.
— Чего уж там. Эка... — с досадой сказал Степан Иванович.—
Сама заработала — значит твое.— Не заметил, как перешел на ты.
Спросил:— А как муженек? Худо, наверно?
— Еще не знаю,— сказала Шурочка.— Он на делянах получал.
Теперь, конечно, дома сидит. Дежурка-то прошла.
— Видно, худо. А кто виноват? Сам,— сказал Степан Иванович
и, сразу забыв о Шурочке, озабоченно зашагал дальше.
Вздохнула Шурочка, потопталась на месте и пошла к своему
дому.
Шурочка не ошиблась. Савелий Палыч уже приехал. Он помылся, переоделся и теперь сидел и ждал ее.
Не зорькой ясной по первочасью, ветром стылым ворвалась Шурочка в дом. И сразу — к мужу:
— А ну, показывай, что у тебя?
Шурочка и сама не знала, что это с нею. Неужели так подействовали на нее слова Степана Ивановича? Раньше бы никогда не позволила себе выкинуть этакое.
Савелий Палыч охнул, но, не понимая, почему бы Шурочке сердиться на него в неположенное время,— раньше в день получки она
всегда была добра к нему,— выложил на стол «красненькие». Она
пересчитала деньги: «Тьфу,— сказала,— меньше бабы зарабатываешь»,— и презрительно покосилась на Савелия Палыча. Деньги не
взяла.
Савелий Палыч крепился-крепился, но обида так и мучает, так и
мучает, и, не выдержав, он вскочил на ноги, сгреб со стола деньги,
комкая, положил их в карман и... к двери. Но не тут-то было. Шурочка догнала его, схватила за локоть:
— Ты куда, мой ласковый?
— Отстань,— сказал Савелий Палыч и сделал неловкое движе146
ние. чтобы освободиться. Нечаянно задел Шурочку. Она ойкнула,
схватилась за живот, присела на корточки, запричитала:
— Ах ты, дикарь!.. Да ты знаешь, что будет!.. Да я тебя!..
Савелий Палыч испугался, бросился поднимать Шурочку. Но та
ни в какую... И тогда Савелий Палыч стал уговаривать ее:
— Я не хотел. Ты уж прости. Мало ли?.. Не понарошке я.
Уговорил. Шурочка поднялась с пола, прошла в свою комнату,
но еще долго не разговаривала с мужем. И все же осторожность взяла-таки верх над обидою. Шурочка позвала к себе Савелия Палыча.
Велела ему отдать получку: «Все до единой копеечки». Не привыкший иметь при себе деньги, Савелий Палыч с радостью исполнил желание супруги.
А потом Шурочка еще долго выговаривала Савелию Палычу.
— Знаю, ты перачишь Степану Ивановичу. Как ты можешь!
Ведь от него зависит твое будущее. Ты не слушай бригадира. Ну
его!.. Он доведет тебя до ручки. А ты что? Ты — слабенький. Тебя
даже Санька Рытвин может обидеть. Переходи на деляны. Каждый
ищет, где лучше. Поверил, дурачок, в сказки.
— И сказки нужны,— сказал Савелий Палыч.
50
Через несколько дней до Соломенцева дошел слух — Надюшка
уезжает в город. Слух достоверный, переданный верными Санькиными устами. Соломенцева как обухом по голове—света белого не взвидел, подступился к Са-ньке Рытвину:
— Не врешь?
— Клади мою голову под трактор, если вру,— сказал Санька
Рытвин, чрезвычайно напуганный тем, что довелось ему увидеть в
глазах Соломенцева. И он поспешил заверить:— Хочешь убедиться,
срывайся с делян. Вечером проводы Надюшкины.
Соломенцев стиснул ладонями голову. Санька Рытвин от лиха
подальше: ну его, сумасшедшего! А Соломенцев тем временем кинулся к сторожке, увидел возле нее лесовоз, схватил шофера за локоть,
сказал:
— В Хара-Кутул. Живо!
— Порожняком не поеду,— заупрямился было шофер, ясноглазый мужичонка с взъерошенным чубиком.
— Поехали, говорю!— вскипел Соломенцев.
И лесовоз рванулся с места и покатил по добротно уезженной
после дождя дороге.
Возле пристроя Соломенцев велел остановить машину и, не сказав шоферу ни слова, выпрыгнул из кабины.
Выскобленная столовым ножом до тусклого блеска — дед Фока
уважал чистоту — дверь пристроя была на замке. Соломенцев приподнял на крыльце первую от края плаху, вытащил из укромного
тайничка ключ, отомкнул замок. А пройдя в комнату, скинул робу,
помылся, вырядился в новый костюм. И все это время он упрямо не
хотел верить, что Надюшка может уехать.
...Улица была привычно сонной. Низкие палисадники жались к
поветшавшим баракам.
Возле осетровского дома он замедлил шаг, затем быстро вошел
во двор, поднялся по замысловато расписанным ступенькам крыльца, постучался. Из-за неплотно прикрытой двери доносился разноголосый шум. Не дожидаясь приглашения, Соломенцев вошел в прихожку.
Из соседствующей с прихожкой комнаты выглянула тетка Дуня.
1С*
147
Повела нарумяненным от жары носом в его сторону и скрылась за
портьерой. А скоре в прихожке появился Степан Иванович.
— Ну,— сказал он.
— Надюшку,— попросил Соломенцев.— Позови на минутку.
Степан Иванович недоверчиво покосился на Соломенцева, крикнул:
— Надюшка!— И ушел.
Надюшка появилась сразу. Она словно чувствовала, что должен
прийти Соломенцев, и ждала его. И все же, увидев его, она сказала
холодно:
— А это ты?! Проходи, пожалуйста.
Повернулась, чтобы уйти.
— Подожди,— сказал Соломенцев.
— Что еще?
И тогда он подошел к ней, сказал:
— Не стоит. Уезжать не стоит. Понимаешь, не стоит!
— Но ты же сам этого хотел.
— Нет, я... Нет, конечно. Как тебе такое могло прийти в голову?
— Теперь поздно,— сказала Надюшка.— Уже послали запрос.
Оттуда ответили — выезжайте. Завтра я...
— Завтра?— растерялся Соломенцев.
— Да,— Надюшка сдернула с головы косынку и убежала в комнату.
Он шел по улице и не видел ничего вокруг: ни красного заката,
ни поветшавших бараков, которые будто замерли в нетерпеливом
ожидании своих обитателей, ни наливающихся соком скорого созревания белых кустов черемухи, едва укрытых от докучливости дотошных коз. Ничего этого не видел Соломенцев.
51
Санька Рытвин опоздал на дежурку. Проспал. Когда он прибежал
к гаражу, машина с рабочими уже ушла. И минуло еще немало времени, прежде чем он на попутном лесовозе добрался до делян.
Обозленный на себя до крайности, поднимался Санька Рытвин на
взгорье.. Знал, бригадир не преминет упрекнуть. Чудилось, в последние дни Соломенцев стал относиться к нему не так, как прежде
Саньке Рытвину казалось это оттого, что он согласился перейти
в другую бригаду. Правда, Соломенцев ни словом не обмолвился об
этом. Но Санька Рытвин не хотел отступать от своего. Ему нравилось
так думать.
Вскоре Санька Рытвин увидел на ленте валка трактор и возле
«его примостившегося на пеньке Савелия Палыча. На лице у Савелия Палыча улыбка, глаза туманятся в неближней задумчивости.
— Здорово!— намеренно громко гаркнул Санька Рытвин.
Савелий Палыч испуганно подобрал под себя ноги, но увидел
Саньку Рытвина и успокоился.
— Здравствуй,— сказал.
— Сидишь?— ехидно спросил Санька Рытвин.
— Сижу,— согласился Савелий Палыч.— Да и что бы я без тебя
делал? Без тебя я как без рук.
«Без рук»,— польщенный признанием Савелия Палыча, нарочито
хмуро передразнил Санька Рытвин. Сказал:— Эх, ты! Как птаха подраненная... Кружишь-кружишь над долиною, пока не пропадешь.
И опять испугался Савелий Палыч.
— Ну да,— опасливо покосился на Саньку Рытвина.
— Точно,— заверил тот. Спросил: — А Ларионыч где?
148
— В поселок уехал, тебя поглядеть: не случилось ли чего? Мы
уж решили, приболел ты. Давно опозданий в бригаде не было.
Теперь Санькина очередь пришла испугаться: приедет бригадир,
устроит разнос, техноруку нажалуется, а тот в кусты от своего
прежнего решения. Что тогда делать? И всему виною опоздание.
<-Эх,— подумал Санька Рытвин.— Свалилось же нежданное на мою
голову. Куда теперь податься? И все из-за него, из-за сна...»
А сон Саньке Рытвину дивный приснился. Будто он валит лес
без передышки. Вдоль ленты валка начальство стоит, на часы поглядывает. Раз, два, три—раз, два, три... Есть дневная норма. А солнце
еще высоко. Теперь в самый раз дальше работать. Санька Рытвин
так и поступил. Когда же сделал и вторую норму, к нему подошел
не кто-нибудь, сам директор леспромхоза, протянул руку... Но на этом
Санька Рытвин проснулся, глянул вокруг — в общежитии никого...
Уехали. Матюгнулся со зла, что не разбудили. Быстро оделся и, не
помывшись, за дверь...
— А чего на меня смотреть?— огрызнулся Санька Рытвин.
— Здрасте,— смутился Савелий Палыч. — За него переживают,
а он...
Еще не скоро Савелий Палыч и Санька Рытвин начали трелевать. Они сделали всего две ходки, когда приехал бригадир. Соломенцев сразу же подступил к Саньке Рытвину. Савелий Палыч охнул,
удивленный. Уж очень непохожим на себя был бригадир.
— Ты почему опоздал?— напустился Соломенцев на Саньку
Рытвина. — Иль думаешь — у меня только и осталось — за тобой ездить? — По его смуглому лицу текли капли пота.— Нам такие работнички не нужны.
Побледневший Санька Рытвин едва выговорил:
— Не нужны?— бросил на землю чекеры и пошел к сторожке.
Санька Рытвин был страшно взволнован. Никогда еще бригадир
не разговаривал с ним в таком тоне. «Ну, погоди,— шептал он сквозь
зубы.— Я тебе устрою».
Когда Санька Рытвин ушел, Соломенцев посмотрел на Савелия
Палыча. Савелий Палыч не отвел глаз. Он вдруг понял, как тяжело
бригадиру.
— Не расстраивайся, Ларионыч,— сказал он, смущенно потирая
ладонью глаза.— Санька — парень кипятной, но отходчивый. Побегает да придет обратно.
Но Санька Рытвин не пришел. В сторожке он застал Степана
Ивановича, сказал ему:
— У Соломенцева я больше работать не буду.
— Почему?
Санька Рытвин на мгновение замялся, но потом решил, что хуже
не будет, все равно, мол, Соломенцев не смолчит, сказал:
— Сегодня я опоздал. А он даже не выслушал меня, накричал.
Но у меня это в первый раз. Мог бы и помягче.
— Хорошо. Я подумаю,— сказал Степан Иванович.— Может, уже
на той неделе выйдешь в вечернюю. А пока иди на Нижний.
Санька Рытвин облегченно вздохнул: «Пронесло»,— и вышел из
сторожки. «Вон как,— сказал он вслух. — А то сразу — выгоню. Руки коротки!» Отогнал от себя мысль, что Соломенцев мог бы и смолчать об опоздании, и пошел к Нижнему складу.
52
В конце месяца приказом по лесопункту бригада Соломенцева
была снята с лебедки. Соломенцев как узнал об этом, кинулся в конторку. Ругался, доказывал... Голос сорвал на крике, но в ответ слышал от начальника одно и то же:
149
— Погоди... Лебедка не к спеху. Подождет лебедка. А лишняя
бригада теперь на делянах нам, ох, как нужна.
А Степан Иванович, тот даже сказал:
— Все правильно. Давно надо было прикрыть.
Соломенцев нахмурился:
— Уже так?
— Иль не верно? Пока ты строил лебедку, другие работали и
кое-чего уже добились.
— Намного ли вас хватит? А если надоест всем с утра до вечера без роздыху, как лошади? Тогда что?
— Тогда и займемся механикой,— усмехнулся Степан Р1вано~
вич.— И твоей лебедкой — тоже.
— Ловко!
•—• Ты бы лучше поглядел по сторонам,— сказал Степан Иванович.— Вон даже Санька Рытвин от тебя ушел. Да... А нового я тебе
дать не могу. Людей нет.
— Ладно, посмотрим,— сказал Соломенцев.
Приехав на деляны, он рассказал Савелию Палычу, какая беда
пришла. Втайне ожидал: обрадуется Савелий Палыч — все же хочешь не хочешь, а на делянах теперь действительно лучше. Но Савелий Палыч не обрадовался.
— Что это деется?— Он недоуменно развел руками.
У Соломенцева немного отлегло от сердца. Но что он мог ответить Савелию Палычу, когда и сам еще не пришел в себя.
-— Что это деется?— повторил Савелий Палыч.
— Поживем—увидим,—хмуро сказал Соломенцев.—Выберу время— съезжу в леспромхоз. Добьюсь... Вот увидишь.
— Разве что так,— сказал Савелий Палыч.
— Так. А пока перегони трактор на нашу старую деляну.
Трактор лязгнул гусеницами по укатанной земле и скрылся в
чаще.
Чуткие даже к небольшому ветру, потрескивали ветки на березах, гудел осинник. Наплывала полуденная жара. Птицы в этих местах бойкие и непуганные, присмирели в гнездышках, примолкли...
И только шарообразному строению нипочем жара. Оно все также поблескивает смоляной позолотою. На белесых затесах бревен отражается солнце.
Соломенцев обошел вокруг строения, прибрал трос, уложил под
плаху топоры. И уже хотел было идти на деляны, когда к нему подошли грузчики. Их бригадир, невысокая, ладно сложенная баба с
круглыми по-кошачьи глазами, сбросила с плеча вагу, сняла ворхонки, протянула Соломенцеву руку ладонью кверху — пальцы худые,
потрескавшиеся,— сказала:
— Здорово, Ларионыч. Далеко ль собрался?
— На взгорье, на старую деляну.
— А здесь как же?
— Пока никак.
— Выходит, все будет по-старому, и твоя лебедка нам не в помощь?
— Ну, до этого еще не дошло,— сказал Соломенцев.
— А все же?— Баба хмуро покосилась на Соломенцева, натянула
верхонки, зло сплюнула сквозь зубы:— Воловодят, сволочи!
Закинула на плечо вагу и, не оглядываясь, тяжело зашагала к
Нижнему складу. Следом за нею потянулись остальные.
150
53
Сердит и недоволен собою Савелий Палыч. Говорлива Шурочка.
В распахнутую форточку окна льется теплый, как парное молоко,
воздух.
— Санька-то, а?— жалобно вздыхает Савелий Палыч.— Ушел,
чертов сын. А мы с Ларионычем с сегодняшнего дня снова на делянах. Вот и стало по-твоему.
— И правильно,— улыбается Шурочка. Цепкий ум у Шурочки,
практичный. Давно поняла Шурочка — время теперь такое: держись
за технорука—не пропадешь. А кто против него, того беда ждет, э-эх
беда. Правда, вначале Шурочка обижалась на Степана Ивановича:
плохо поглядел на нее в конторке и машину не сразу дал. Но огорчаться долго — руки опустятся и свет не мил станет.
— Нет, не правильно,— противится Савелий Палыч.— Нельзя
было уходить из бригады.
— Не спорь со мной, Савушка,— по-прежнему улыбаясь, говорит Шурочка. — А прслушай, как я тебе скажу.
Савелий Палыч удрученно и вместе с тем ласково глядит на жену. В ясных его глазах сразу прочтешь: «И что ты опять придумала, Шурочка?» Придумала? Нет. Из опыта своей жизни подчерпнула.
— Бейся не бейся, а Степана Ивановича не прошибешь,— говорит
Шурочка.— Он прочно стоит на здешней земле. Я так считаю, хоть
ты ни разу не говорил мне об этом: не угодил в чем-то ваш Ларионыч Степану Ивановичу. Потому тот и пристроил Саньку Рытвина.
Иначе бы зачем ему лишний раз возиться с ним? Прогнал бы обратно, и все.— Шурочка молчит с минуту, собираясь с мыслями, затем
решительно говорит:— Савушка, держись за Степана Ивановича.
Всегда на виду будешь.
— А что? Я ничего...— совестится Савелий Палыч. Неудобно ему
за Шурочку. «Разве можно так, во всеуслышанье?»—Я против Стена Ивановича ничего не имею. Я сам понимаю: когда в кармане не
густо, на душе пусто.
— Держись!..— советует Шурочка.
Савелий Палыч трет виски ладонями: гудит в голове. И на сердце закипает что-то неучтенное ни им самим, ни Шурочкой. Но крепится Савелий Палыч, крепится и с удивлением отмечает в себе новое, до этого неизвестное ему. Что бы это было? Кто скажет? Только
не кажется уже ему Шурочка умной, как прежде. Все-то знающей,
все-то понимающей, не кажется. И начинает бояться Савелий Палыч,
как бы это новое не вырвалось наружу.
А Шурочка ни одной клеточкой своего тонкого и любознательного ума не коснется души мужа. Шурочка все также улыбается доверительно и охотно, улыбается и говорит:
— Держись, Савушка, держись!..
— Заладила, сорока,—не выдерживает Савелий Палыч, но, взглянув на Шурочку, замолкает. Спустя немного говорит:— Лебедку жалко. Мы на нее столько сил положили. Она вроде как своя уже стала,
близкая. И грузчики жалеют.
—- Брось,— советует Шурочка.— Подумаешь, невидаль — лебедка. Ты лучше...
Савелий Палыч снова трет виски. Всегда-то смирный и спокойный, он сейчас зло глядит на жену. Довела его Шурочка. Но вот,
наконец, и Шурочка чувствует неладное. Посмотрев на Савелия Палыча, она испуганно машет руками, словно отгоняет от себя страшное
видение.
И быть бы беде, если бы в дом не вошел Санька Рытвин и не
сказал насмешливым голосом:
151
— Здравствуй, птаха подраненная!
Стоит Санька Рытвин у двери сам не свой, смотрит на Савелия
Палыча и не узнает его.
— Если я птаха, то ты и вовсе не птица,— хмурится Савелий
Палыч.— Чего надо?
— Шел-шел и решил заглянуть,— растерянно говорит Санька
Рытвин.— Потрепаться малость.
— Мне с тобой трепаться не о чем,— роняет Савелий Палыч.
Санька Рытвин мнется, силится что-то, сказать, но никто даже
не глядит в его сторону. И тогда он уходит. Савелий Палыч пожимает плечами, а Шурочка укатывается в свою комнату.
В распахнутую форточку окна все также льется теплый воздух.
Савелий Палыч тоскливо насвистывает: «Прокати нас, Петруша, на
тракторе...» Шурочка возится в комнате, нетерпеливо выжидая удобную минуту, чтобы сообщить мужу о своем решении. А решение Шурочка приняла серьезное: самой съездить на концерт приезжих артистов, а Савелия же Палыча попросить подежурить за нее.
И минута такая наступает. Шурочка выкатывается из комнаты,
останавливается около Савелия Палыча:
— А в субботу, Савушка, я поеду в рай...
У Савелия Палыча темнеет лицо. Испугавшись, Шурочка делает
шаг 7в сторону. «Что это с ним?— думает она.— Какая муха его укусила »
54
У Соломенцева ныло в душе. Все эти дни он ходил, как потерянный, места себе найти не мог. За одно возьмется, за другое, а все из
рук валится. Съездить же в контору леспромхоза — времени не
выберет. Сегодня не выдержал: пошел в падь Шану, да там и задержался надолго.
Поглядел на почерневшие стены сруба — и комок к горлу подкатил. Все запущено, трава вокруг лебедки пробилась молоденькая. Об
этом ли думалось?
А затем не утерпел, вытащил из-под плахи топор, посмотрел на
заточку — поржавела, подошел к штабелю, выбрал одно бревно с
краю, выдернул его топором, стал затесывать... Дробные удары топора растревожили обеденную дремь. А вскоре возле Соломенцева оказались бригадир из вечерней смены и Санька Рытвин. Они сейчас работали здесь, неподалеку. Бригадир из вечерней недоуменно спросил:
— Ты чего, Ларионыч, задумал? Уж не в одиночку ли?
Соломенцев выпрямился, топор застыл вдоль туловища.
— Отстань,— сказал он.— Не твое дело.
Бригадир из вечерней не обиделся, лишь с сомнением покачал
головой и бросил:
— Однако ты чудной. Думаешь, мы не понимаем?.. Эх ты, дурья
башка!.. Мы уже давно поняли, что к чему. На миру жить и байке
не быть? Эх ты, однако...
Санька Рытвин стоял возле, смущенный. У него сердце отходчивое. Он глядел на Соломенцева с жалостью и корил себя, что ушел
тогда от него, и с уважением думал о своем бывшем бригадире:
«Не за какие-то такие, а сам, по своему разуму».
— Дай помогу,— неожиданно сказал Санька Рытвин, положил
Соломенцеву на плечо руку, взял у него топор. Соломенцев, крякнув,
отступил.
— Что слышно о Надюшке?— спустя немного спросил Санька
Рытвин.
152
— Ничего,— тихо сказал Соломенцев. Настороженно спросил:—А
что?..
— Да так...
55
«Теперь поздно,— сказала в тот раз Надюшка, когда пришел Соломенцев и просил, чтобы она не уезжала. Но поздно не было. И она
это знала. Знала, а все же не послушалась его и уехала.
Вчера Надюшка целый день бродила по городу. В общежитие
пришла, когда уже стемнело.
— Что-то вы, барышня, запаздываете?—сказала ей дежурная.—
Все гуляете?
— Да, гуляю,— резко ответила Надюшка и убежала в свою комнату. На ощупь отыскала кровать. А потом лежала на постели и долго не могла уснуть.
Да, тогда поздно не было. Но она тем не менее не осталась в поселке. Почему? Надюшка и теперь не могла бы ответить на этот вопрос. А может, все очень просто, и уехала она потому, что хотела показать Соломенцеву свою самостоятельность? Нет. Она знала, все
здесь много сложнее. «Дема,— с горечью думала Надюшка.— Зачем
ты сказал: «Ну и поезжай»? Ведь ты сам виноват. Сам...» И оттою,
что это было так и не так, оттого, что это была правда, смешанная с
полуправдой, Надюшке стало тоскливо, как никогда раньше. Что-то
холодное подступило к горлу: трудно дышать. Выплакала бы всю тяжесть, что камнем на сердце, но глаза сухие, нет слез.
Припомнила, как ходили с Соломенцевым на Мыргыдкенову гору. Ходили по той же тропе, по которой некогда прошел старик-эвенк.
«Интересно, нашел ли он счастье? Да, пожалуй, нашел. А я? А мы с
Демою?» Открыла глаза и долго, не мигая, глядела в темноту. «А
брат явно настроен против Демы»,— неожиданно пришло ей в голову.— Ему не нравится, что делает Дема и как делает». Всплыли в памяти слова Соломенцева: «Ты считаешь, все, что нужно людям, нужно твоему брату? Как бы не так...». И тут же рядом слова брата:
«Встрял со своей лебедкой поперек пути и думает, будто в ней вся
жизнь».
Кто же из них прав?
В окно пролился неяркий свет вспыхнувшего месяца, вокруг было тихо и спокойно, но тяжело и тревожно было на душе у Надюшки.
56
Собрание мастеров не затянулось. Предложение Степана Ивановича было принято.
После собрания Степан Иванович остался в конторке. Домой не
хотелось. Трудно стало разговаривать с матерью. У нее теперь одно
на уме: «Как-то Надюшка в городе, да почему нет писем?»
Степан Иванович заперся в кабинете. А от кого? Ведь в комторке сейчас ни души. Стоял у окна, смотрел в улицу и ничего не видел. Вроде сделал, как задумал... Сделал. Ухмыльнулся: «Соломенцев
сам меня вынудил. Пусть-ка сейчас повозится да помозгует, ч го к
чему».
Под окнами медленно проползла подвода. Фыркнула недовольно
старая участковая пеганка. Коснулась слуха скрипучая боль тележных колес.
Выключили свет. Степан Иванович на ощупь отыскал телефон.
— Эй, там!— кричал он в трубку.— Станцию дайте. Кто говорит? Я. Кто я? Технорук. Дайте станцию.
153
Долго ругал моториста.
Дали свет. Подсел к столу, вытащил из столетни прямоугольники папок. Рылся в бумагах, что-то пытался найти, а что — толком
не знал.
Случайно взгляд упал на фикус. Большие зеленые листья жались
к стеблю. Отшвырнул в сторону папки, встал, подошел к цветку, оторвал листок, смял его в руке. Фикус обеспокоенно вздрогнул.
Вернулся к столу. Услышал, как за дверью раздался писк, тоненький, протяжный. «Тварь завелась,— буркнул под нос.—Надо предупредить уборщицу. Запоганили!..»
«Эх, Соломенцев,— спустя немного, сказал расстроенно.—Сам ты
меня вынудил». Почувствовал, что фальшивит. Сдосадовал. Возникло
ощущение, которое появляется, когда надо перед кем-то оправдываться.
«Перед кем?»—спросил у себя. «Да, конечно, перед леспромхозом.
Ведь разрешения-то оттуда нету. Ну и черт с ним, с разрешением!
Им-то не все ль равно? Лишь бы план шел. А в случае чего есть протокол собрания мастеров. Не я один принимал решение. Все. Впрочем,
я здесь хозяин, и точка». Рассмеялся.
Но смех был сухой и неправдашний.
Сиверок распахнул форточку, загулял по комнате, деловито роясь
в бумагах, разложенных на столе. Разудалый...
57
Ягель — олений мох — не рослый и по здешним местам редкий.
Растет ягель больше в горловинах ущелий, крепко-накрепко стиснутых бурыми валунами. Бывает, средь темной груды камней вдруг пробьется ягель и тянется к солнцу, тянется. А глядишь, лет через пять
на том месте, где появился ягель, рассыплется груда камней, отступит... И потому уважают траву жители Хара-Кутула.
Шел дед Фока чернотропьем. Забрел в валунье ущелье, которое
примостилось в долине напротив Мыргыдкеновой горы. Увидел средь
прочей тусклой растительности стебелек ягеля, прогудел ласково:
— Живет, милушка, и худо-тось, а живет, сон-кер-мер.
Не из праздного желания посидеть на Мыргыдкеновой горе вышел сегодня из дому по первой глазастенькой зорьке дед Фока. Соломенцев в последние дни исхудал, неразговорчивым стал. «Хворость
напала,— недоумевал старик — иль обрученье наслано?»
«Но я его вылечу,—после недолгого раздумья решил он.—Схожу,
принесу кочкарку и вылечу...»
По той же первой зорьке вышла из дому тетка Дуня. Не знала,
куда отправиться и зачем. Но чувствовала, что не сможет усидеть в
четырех стенах, где все напоминает Надюшку, все-то говорит: «Здесь
она. Здесь...» Но Надюшки нет. И писем от нее тоже нет. «Почему?—
теряется в догадках тетка Дуня. — Куда они деваются?»
Тетка Дуня шла тем же чернотропьем, как и дед Фока. Дважды
ей встречались манки-кормушки для лесных птах. Манки были сплетены из тонких веток, и тетка Дуня принимала их за гнездышки и
дивилась причудливости узора. Ей казалось, что сами птицы сделали
манки. «Сами, сами,— повторяла она.—Вьют гнездышки...»
Было тихо. Розовый восход струился в долину и, сосны были прямые, как свечи. Кроны деревьев светились, как короны из цветов,
сплетенные девушками на троицу. И стучал куличок-переводчик, птаха озерная, по воле случая занесенная в таежные дебри.
Бежало чернотропье меж сосен, цеплялось за боковины оврагов,
изредка подступало к Селим-реке, но, помедлив, уходило в глухие
чащи.
154
Шла тетка Дуня, не зная куда и зачем. Но шла она быстро. И
вскоре увидела впереди деда Фоку. Узнала его сразу по тяжелой ковыляющей походке. И, затаившись, она осторожно пошла следом за
стариком. Любопытство ее разгорелось до предела, когда она увидела, как дед Фока, оглянувшись, заковылял по направлению к Мыргыдкеновой горе. И будто никогда не было той тревоги, которая привела ее в лес. Было лишь любопытство.
Но, к горькому сожалению тетки Дуни, выходя из валуньего
ущелья, она споткнулась и, не сумев совладать с внезапной болью в
коленной чашечке, вскрикнула.
Дед Фока услышал, остановился, раздраженно подумал: «Чего
она тут лазит?» Но, увидев, как тетка Дуня опустилась на землю,
смягчился.
— Ну, что?..— подойдя к ней, спросил старик.
— Ногу зашибло,— испуганно ответила тетка Дуня.
— Не будешь ходить, куда не просят,—наставительно сказал дед
Фока.
— А это уж мое дело,— огрызнулась тетка Дуня. — Куда хочу,
туда и хожу.
Но посмотрела на деда Фоку и снова испугалась. Уж очень загадочным показался ей старик. Но любопыство... Да разве же совладаешь с ним? И тетка Дуня спросила ласково:
— А ты, дедусь, как сюда залетел?
Старик глянул в прищуренные глаза тетки Дуни и не ответил.
— Идти-то хошь можешь?— буркнул он.
Боль в ноге прошла, и тетка Дуня сказала охотно:
— Конечно.
— Тогда давай...
— Куда?
— Обратно.
— Мне теперь бы не туда надо,— попробовала возразить тетка
Дуня.
Но старик перебил ее:
— Пошли.
И снова бежало чернотропье по лесной долине, и осторожные
птичьи поскоки играли на рыжеватой полоске земли.
— А все Степка,— неожиданно сказал дед Фока.— Он закручивает. Он... — Покосился на тетку Дуню:— А ты у него, как груз в рундучке. Станешь лишней — выбросит.
— А?— захлебнулась от изумления тетка Дуня.
— Так вот,— ворчливо сказал дед Фока.
Тетка Дуня расстроилась, скользнула взглядом по невзрачной
стариковской спине, хотела сказать что-то злое, колющее, но на
сердце вдруг стало неуютно и пусто, и она смолчала.
58
Черная пелена туч ползла над падью Шана. Дул сильный ветер.
Гудели сосны. Теплые, струйки дождевой воды текли по долине.
От ветра у Степана Ивановича слезились глаза. Распахнутые полы
плаща тянули назад. Возле деляны Соломенцева он остановился. Отыскал глазами темную громаду трактора. Подошел поближе. Сквозь
зарешеченное сеткой неровного дождя смотровое стекло разглядел
Савелий Палыча. Открыл дверцу.
— Гони трактор в падь, к лебедке,— сказал он и захлопнул
дверцу.
Савелий Палыч не успел поинтересоваться, для чего понадоби155
лось перегонять трактор—Степан Иванович уже ушел. «Значит, надо. Ему видней»,— решил он и стал заводить трактор.
А Степан Иванович спустился к сторожке, спросил у мокнущей
на дождю Шурочки. «Здесь ли Санька Рытвин?»—«Здесь»,—ответила
усердно охраняющая леспромхозовское хозяйство Шурочка дрожащим от волнения голосом. «Хорошо»,— сказал Степан Иванович и
вошел в сторожку. «Рытвин!—крикнул он с порога. «А!..»—донеслось из дальнего угла сплошь забитой людьми сторожки. «Иди сюда»,— требовательно сказал Степан Иванович. «Сейчас»,— послышалось беспокойное. И вскоре перед техноруком выросла угловатая
фигура Саньки Рытвина. Степан Иванович велел ему следовать за
собой.
Они долго шли молча. Санька Рытвин подозрительно оглядывал
крупную спину технорука, но спросить, куда и зачем они идут, не
осмеливался. Возле шарообразного отроения Соломенцева они остановились.
— Пришли,— удовлетворенно сказал Степан Иванович. Санька
Рытвин поежился, стряхнул с пиджака дождевую россыпь.
— А зачем сюда?— спросил он наконец.
— Подожди. Узнаешь,— сказал Степан Иванович, услышав за
дробным шумом дождя быстрый и сильный говор мотора.
...Трактор развернулся возле шарообразного строения. Открылась дверца кабины, и Санька Рытвин увидел Савелия Палыча.
— Приехали,— прокричал Савелий Палыч. — Куда становиться?
— Давай сюда,— махнул рукой Степан Иванович. И, когда Савелий Палыч оказался рядом с ним, он сказал: — Будем сносить лебедку. Так решило собрание мастеров.
В голосе Степана Ивановича не было обычной уверенности. И
робость, с которой он говорил, сразу же передалась тем, кто слушал
его. Санька Рытвин стоял, нахмурясь. Савелий Палыч прятал глаза.
— А стоит ли?— засомневался Санька Рытвин. — Столько труда
положено.
— Надо бы подождать Ларионыча,— вздохнул Савелий Палыч.
— А где он теперь?— хмуро спросил Степан Иванович.
— Вы же знаете, заболел,— сказал Савелий Палыч. — Я вчера
у него был.
— Тем хуже для него,— отмахнулся Степан Иванович. Предложил Савелию Палычу: — Ты иди, подгоняй ближе трактор, а мы
троса подготовим, обовьем строение, и ты дернешь.
Савелий Палыч опустил голову и нерешительно пошел к трактору. «Ах напасть,— тяжело думал он. — Как же я потом буду Ларионычу в глаза смотреть? Мы столько бились, а тут разом — и нету.
Можно ли?»
Но трактор к шарообразному строению он все же подогнал. Те.
двое, быстро укрепили троса, Савелий Палыч увидел взмах руки технорука и лихорадочно схватился за рычажок скорости, но пальиьг
вдруг стали неподатливыми, будто чужими.
— Ну?—услышал он голос Степана Ивановича.— Чего ждешь?
Не сознавая до конца, что делает, Савелий Палыч отпустил рычажок и спрыгнул на землю. К нему подбежал Степан Иванович.
— Ты что?!
— Не могу,— сказал Савелий Палыч.
— Не можешь?—угрожающе пробасил Степан Иванович. Крикнул: — Рытвин! Садись ты!..
Санька Рытвин потоптался на месте, затем махнул рукой и направился к трактору. Но вскоре остановился, растерянный. Подошел
технорук, подозрительно поглядел на Саньку Рытвина, догадался,
что у того на душе, и разом перешел на крик:
156
— Какого дьявола ты медлишь? Начинай!..
— Уволь, Степан Иванович. Она ведь и моя тоже, лебедка. Как
зке я7..— сказал Санька Рытвин.
— А, ты так? Ну, погоди!
На крик подошли грузчики, заметили трактор, увидели троса,
обвитые вокруг лебедки, поняли, к чему дело клонится, поняли и
загалдели:
— Мы-то думали, вправду облегченье выйдет. Оказалось, враки. Сносят!
Скосил глаза Степан Иванович на грузчиков, прикрикнуть на
них хотел, да так и замер с раскрытым ртом. Вдруг подумалось ему:
«Что я дурака из себя строю? Кричу. Этого еще не хватало. А они
неужели все забыли? Или все было не то? Чего же им еще надо?»
Ссутулившись, стоял в стороне Савелий Палыч и не смел поднять глаз.
59
Поздно вечером Савелий Палыч пришел к Соломенцеву. Сидел,
не в силах слова вымолвить, и жалеючи глядел на бригадира, который лежал на койке с примочкою. Соломенцев на ветру застудился. Но трудно Савелию Палычу молчать, и он начал крутить:
— Как здоровьице? Надолго ли слег? Не надо ли чем помочь?
А то я быстрехонько — одна нога — здесь, другая — там...
Ох, тяжко. Соломенцев от этого выспрашивания устал страшно.
— Будь добр, помолчи,— попросил он. Дед Фока (он в это время примочку менял) хитрущий, крякнул.
В комнате тишина установилась. Гудит тишина в ушах у Савелия Палыча, нашептывает: «Не робей, скажи. Все равно узнает. Лучше раньше, чем позже — на перемелку время прибавится». И Савелий Палыч сказал неуверенно:
— Утром-то мы с тобой, Ларионыч, чуть было не осиротели. Лебедку технорук хотел снести. Да не дали...
Соломенцев сжался. Ждал. Конечно же, Савелий Палыч загогочет, довольный: дескать, ловко я тебя поддел, а? Но тот молчал, и
Соломенцев понял, что он не шутит.
— Значит, правда?
— Правда,— ответил Савелий Палыч.
— Для чего?
Савелий Палыч пожал плечами:
— Понятия не имею.
— Не имею!..— вскипел Соломенцев.
Савелий Палыч поежился, зябко ему стало, как на морозе. По
телу разлилось что-то липкое, студеное.
— Пойду я,— сказал он и поднялся с лавки.
А Соломенцев еще долго не мог поверить на слово своему трактористу. Когда же все-таки поверил, понял, надо что-то делать. И
теперь же. Иначе... Он не мог успокоиться. Он знал, что судьба шарообразного строения никогда не могла бы стать безразличной для
него, как не безразлична ему давнишняя заинтересованность ко всему, что происходит вокруг, которая в эту минуту готова была уйти
от него, вспугнутая. А он не хотел, чтобы она уходила.
К Соломенцеву, неслышно ступая, приблизился дед Фока, отогнул матрац, присел на краешек лежанки.
— Э, да ты того... — сказал он недовольно. — Неужто так сильно скрутило? А я хотел завтра, как полегчает тебе, на этом самом...
скатать. Лебедка-то не ждет.
157
— И верно, не ждет,— насупился Соломенцев. — И не будег
больше ждать, если и дальше сидеть.
— Не мели ерунду,— обиделся старик.
— Я правду говорю,— сказал Соломенцев. — Чуть было не снесли ее.
— А?..— закашалялся дед Фока. — К чему это?
— Спроси у технорука, к чему,— бросил Соломенцев.
— Ах, стерва... Сон-кер-мер.
Старик еще долго ругался, а Соломенцев лежал и прислушивался: эка разошелся старый. Но вскоре дед Фока, выдохшись, замолчал.
— Поднимись-ка,— попросил Соломенцев. — Я встану.
Дед Фока не ответил — не услышал. Тогда Соломенцев откинул
одеяло, взял со спинки лежанки одежду, сказал громче: — Поднимись-ка!
Дед Фока сердито покосился на него и ушел на кухню. А Соломенцев еще мин7/т пять сидел на лежанке.
В комнате стояла все та же тишина и жужжали под потолком
мухи.
60
Шурочка обеспокоена. Она заглядывает в глаза Савелию Палычу и пугается.
— Савушка,— тихо спрашивает Шурочка. — Что случилось?
Савелий Палыч и ухом не ведет, занятый своими мыслями. Но
Шурочка настойчивая. Она охорашивает прическу и снова спрашивает: — Что, а?
— Это тебя не касается,— огрызается Савелий Палыч. Шурочка
обиженно покусывает ноготки пальцев и не замечает, как на печи
неистово бьется крышка чайника.
Шурочка обеспокоена. Уж не кажется ей прочном да крепенькой жизнь-сладушка с Савелием Палычем. Душно...
— Савушка,— говорит Шурочка. — Пойдем в сельсовет, оформим нашу любовь? По закону.
Савелий Палыч, поерзав на стуле, смотрит на Шурочку. Тяжко
ому, а смеется:
— Дура баба, по закону ей подавай... А без закону плохо, что ль?
— Но ты же сам, хотел,— пугается Шурочка: сердце захолонуло.
— Ладно,— соглашается Савелий Палыч. — Выберем время и
сходим. Не сердись. — И солидно: — В моей шутке зла нету.
Шурочка улыбается. Улыбается и Савелий Палыч.
Багул — кустарник невидный, особенно по ранней весне. Издревле к ветру привык и к морозу. Не ласков. Но срежешь веточку, принесешь ее домой и диво-дивное: будто лес пришел к тебе в гости—
настолько прозрачен и чист комнатный воздух.
Тих и незлобив Савелий Палыч, хоть виду пасмурного и угрюмого. Не может он подолгу держать в себе обиду.
Савелий Палыч улыбается и говорит:
— А ты все хочешь, чтоб я на виду был, а?
У Шурочки холодеют руки. Она теряется в догадках: «К чему бы
Савушке речь заводить об этом? К худу,— решает она. — К худу».
И тоскливо прислоняется плечом к груди Савелия Палыча, разглаживает на голове у мужа реденький хохолок выцветших волос.
— Хочу, Савушка, хочу!— И горько, словно жалуясь на судьбуневольницу: — Ты вон какой у меня хороший, кому как не тебе и
быть на виду?
158
Савелий Палыч отстраняет от себя Шурочку, оценивающе оглядывает ее и говорит:
— А я и так на виду. Чего тебе еще надо? Ты брось это —стыдно.
РСак помешанная — твердишь одно и то же.
Шурочка вздыхает. И вдруг ей приходит в голову мысль, что
для счастья, для ее счастья, вовсе не обязательно, чтобы рядом с нею
был человек, который у всех на виду. Зачем? Пусть лучше это будет
муж, близкий и понятный тебе. «Как это я раньше не поняла такой
простой вещи?»—думает Шурочка.
— Степан Иванович чуть лебедку не снес,— снова хмурится Савелий Палыч. — И снес бы, если не мы с Санькой Рытвиным. Мы
помешали, не дали недоброму сдееться.
— А может, так нужно было?— вставляет Шурочка.
— Как... нужно?— недоумевает Савелий Палыч.— Разве можно
в душу-то руками?.. А она вроде как с крыльями. И полетела бы, да
не оперилась еще. Но погоди... Да... Доброе дело от человеческой доброты, и потому требует к себе уважения. Вот...
Савелий Палыч не успевает досказать свою мысль. В дверях вырастает Санька Рытвин. Держится Санька Рытвин гоголем и на лице
у него написано: я, мол, такой отчаянный, знай, держись за меня
крепче.
Санька Рытвин подходит к столу, берет стул, садится.
— Чего уставились?— помедлив, говорит он нарочито громко.—
Иль давно не видели?— смеется. Савелий Палыч молчит. Шурочка
уходит недовольная. Она до сих пор не может привыкнуть к Саньке
Рытвину.
— Я сейчас у Ларионыча был,— говорит Савелий Палыч.
Он чувствует в звуках собственного голоса уважение к себе.
Что-то сломалось в Савелии Палыче после вчерашнего. Будто заново
на свет родился, и чувства поострее стали, и ласковость появилась
к Саньке Рытвину неосознанная. Ничего подобного ке было с ним
раньше.
— Ну и как он?— спрашивает Санька Рытвин.
— Известно, как,— отвечает Савелий Палыч.
— Дела,— тянет Санька Рытвин. — А ведь до этого все тихо
пыло.
— Тихо?— с сомнением качает головой Савелий Палыч. Говорит:
-—Слышь, ты не хотел бы обратно? Какой тебе резон по другим-то?..
— Нет уж. Ларионыч на меня накричал. Не пойду я.
— Накричали на него. Подумаешь!—огорченно говорит Савелий
Палыч. — Мало ли?..
— Мало нимало, а мое со мной. Чужого мне не надо,
— Степан-то Иванович... — вздыхает Савелий Палыч. Но Саньга
Рытвин перебивает его:
— Будет тебе ныть. Тоску нагоняешь. А Степан Иванович, он
что ж? Он как Степан Иванович... Только вот беда — воду мутит.
— Верно, мутит,— соглашается Савелий Палыч.
— Ладно, хватит о нем,— хмурится Санька Рытвин.—Он теперь
не интересен.
61
Стоит гора, нысоко-высоко вздымаясь над долиною. И птицы разного толка, и певчие и непевчие, большие и малые, учуяв ли присталь в долгом споем полете, иль хоронясь от тяжелого ястребиного
глаза, садятся на ее вершину. И много-много птичьего пера, оброненного на той вершине под тощим кустом боярки. Может, в горькую
159
минуту оставлено это перо, а может, в радостную, в пору рождения
новой мощи в припущенной птичьей груди. Неведомо, то неузнанно.
Строгим окладом обставлена эта гора — не проникнешь в тайны ее.
Да и нужно ли? В далекие времена появилась она, безымянная. И
лишь недавно приняла крещение от человека и стала называться
Мыргыдкеновой. И ходят сюда к подножию горы жители Хара-Кутула, дивятся на недоступность вершины, и радуются при этом, и робеют. И лишь немногим известна путь-дороженька, единственная незахоженная к вершине. И шел по этой путь-дороженьке, тяжело передвигая ноги, опираясь рукой на суковатую палку, старик и бормотал
под нос с придыхом: «Сон-кер-мер...» Трудно бьется уработавшееся за
долгие годы сердце: будто ком земли застрял в горле, тяжело дышит
старик.
Птахи-бесприютницы кружили над головой старика, криком своим зазывали куда-то...
Птичка-невеличка, ростом с мизинец, красою с девицею краснею
схожа, да разумом стреножена. Так ли? Бегут по земле травы,' реки
стелются по долинам, поля перепаханные купаются в ясноватых лучах царь-солнышка. Все повидала птичка-невеличка, везде поспела...
Нынче — здесь, завтра — там... Такой у нее резон. И потому, хоть ростом с мизинец, зато красотою с девицею красною схожа и разумом не
стреножена и добротою не обделена.
Шел старик путь-дороженькой, единственной незахоженной. Шел
старик и говорил: «Сон-кер-мер...» И в ответ ему хлопотливо щебетала птичка-невеличка.
На нашей обложке: па первой странице Б. Чогсом. «ДУМА», на второй —
фоторепродукция с портрета работы х у д о ж н и к а Н. Котенева «Портрет эвенкийского народного мастера М. П. У Р О Н Ч И Н О И » , на третьей — Г. Намхайдагва.
« К О Т - У Ч И Т Е Л Ь » . Резьба по дереву и ни четвертом странице — С. Дамдинжав.
«ЗА КИЗЯКОМ». Резьба по дереву.
Цена 60 коп.
Индекс 73019