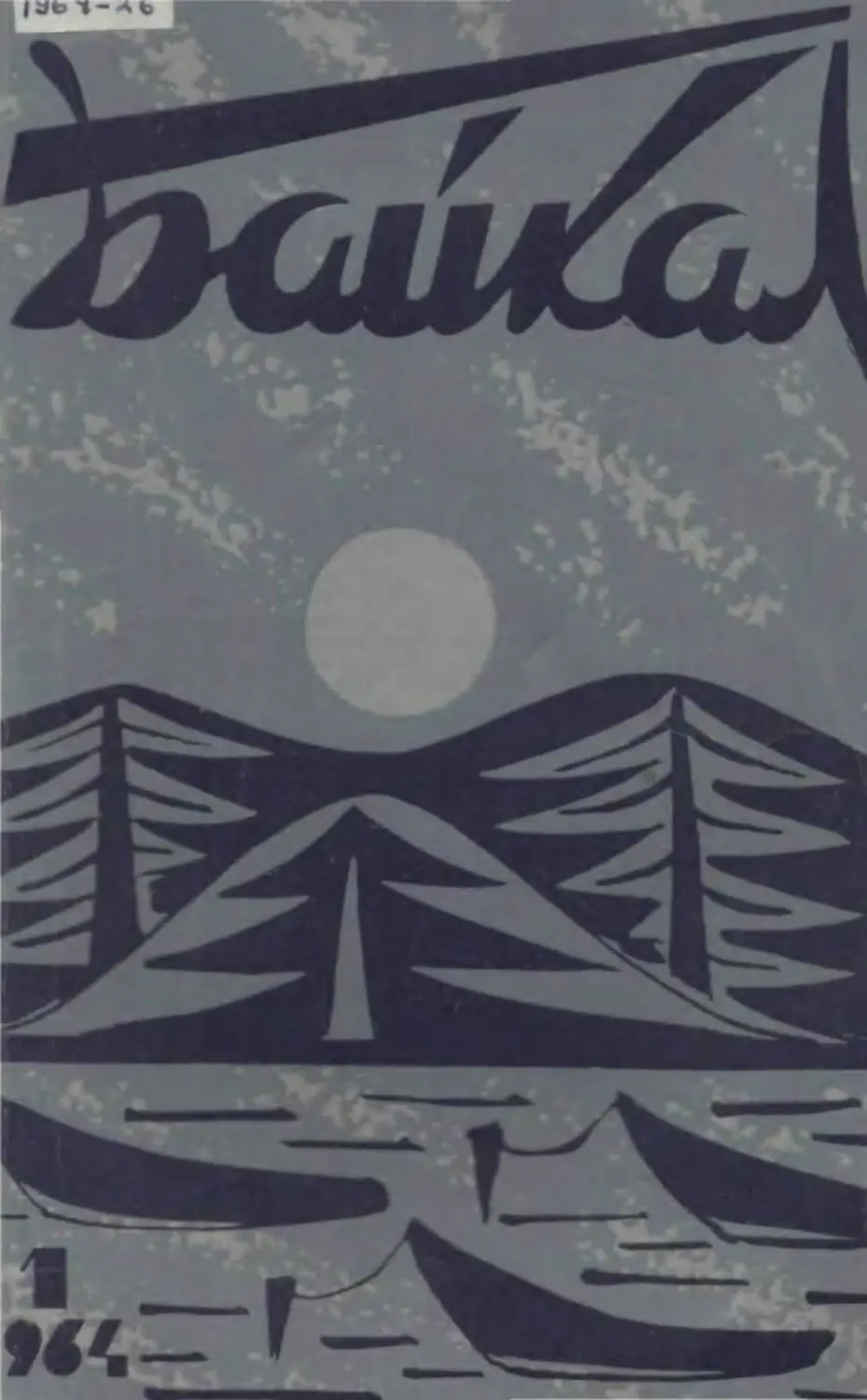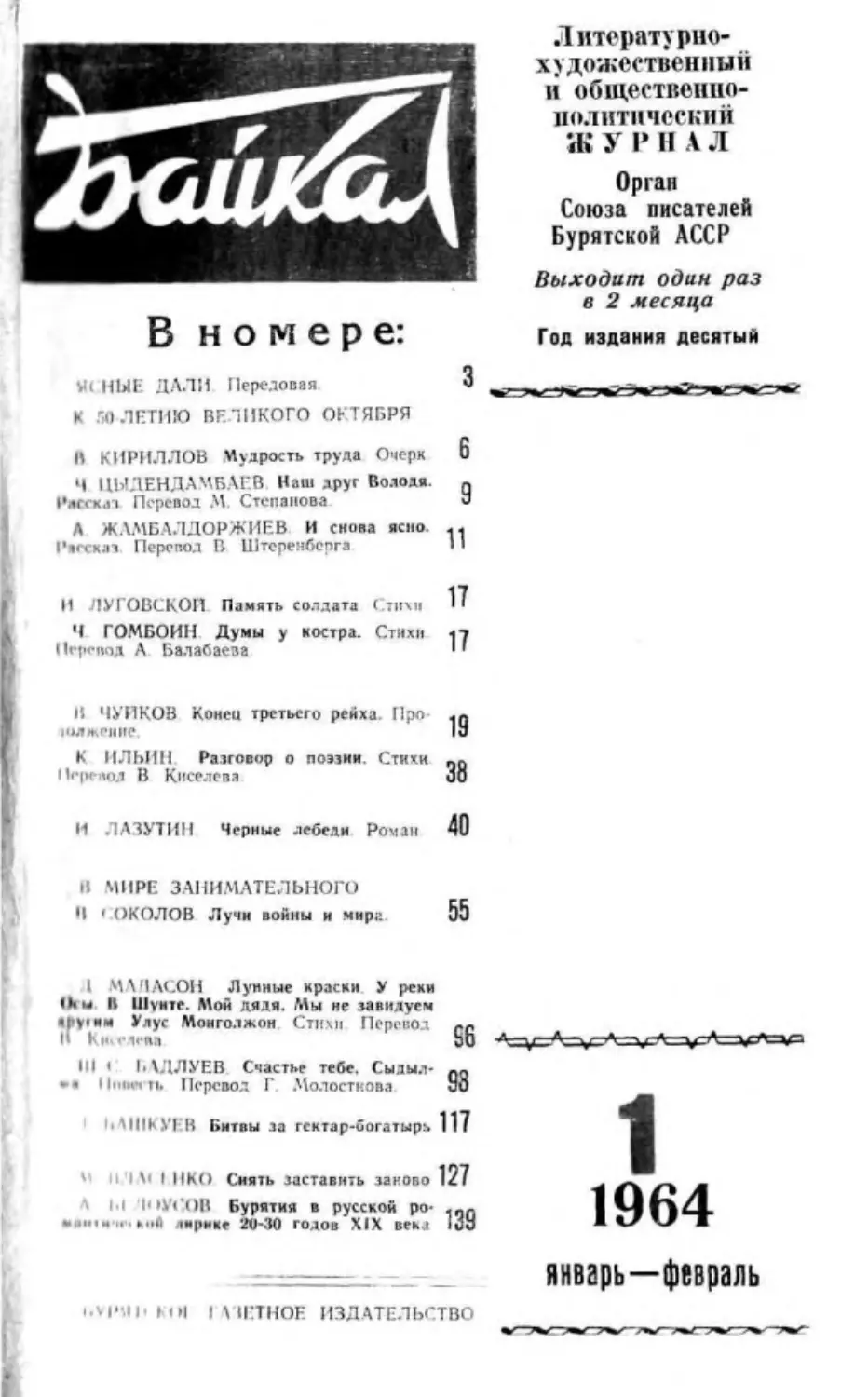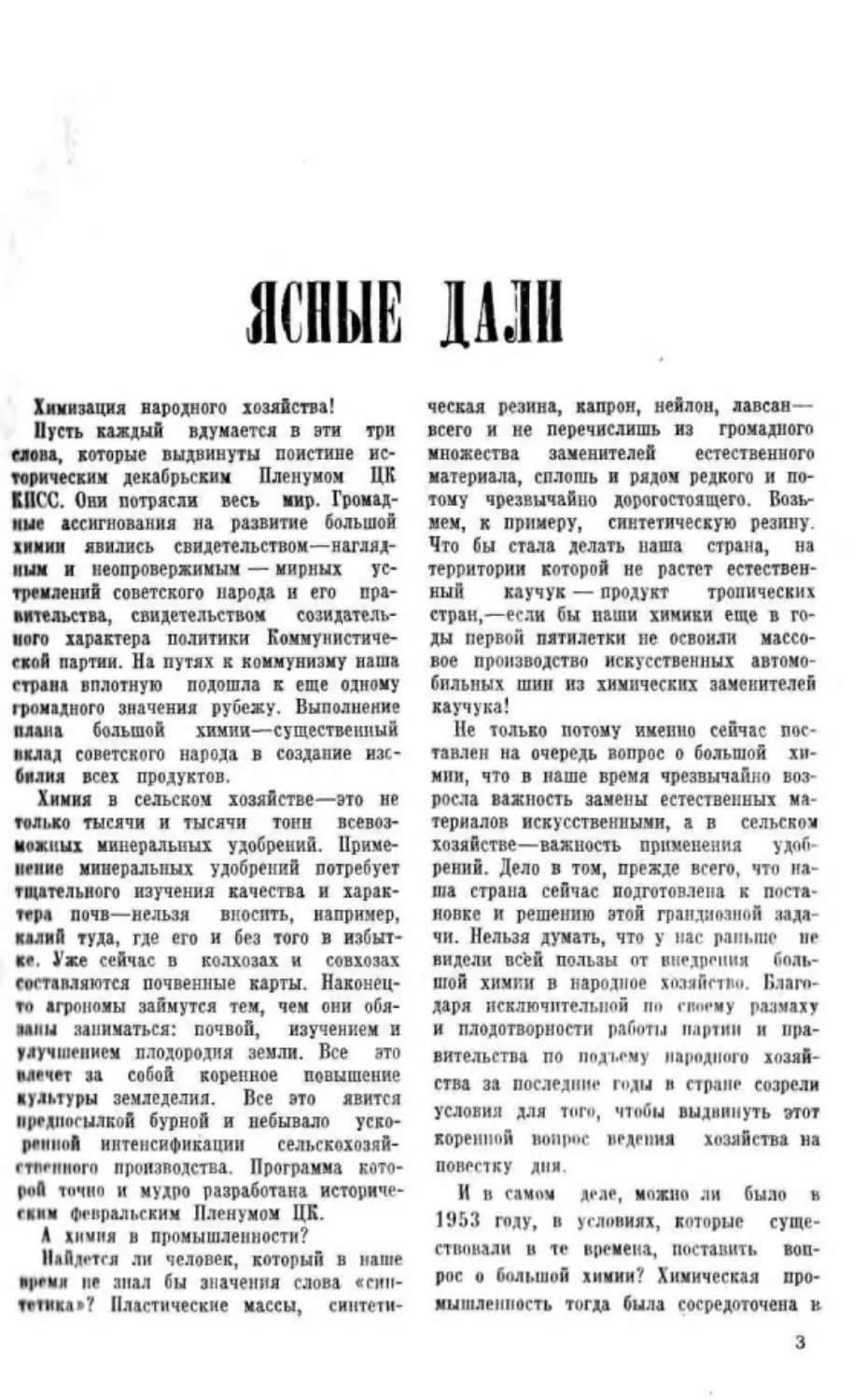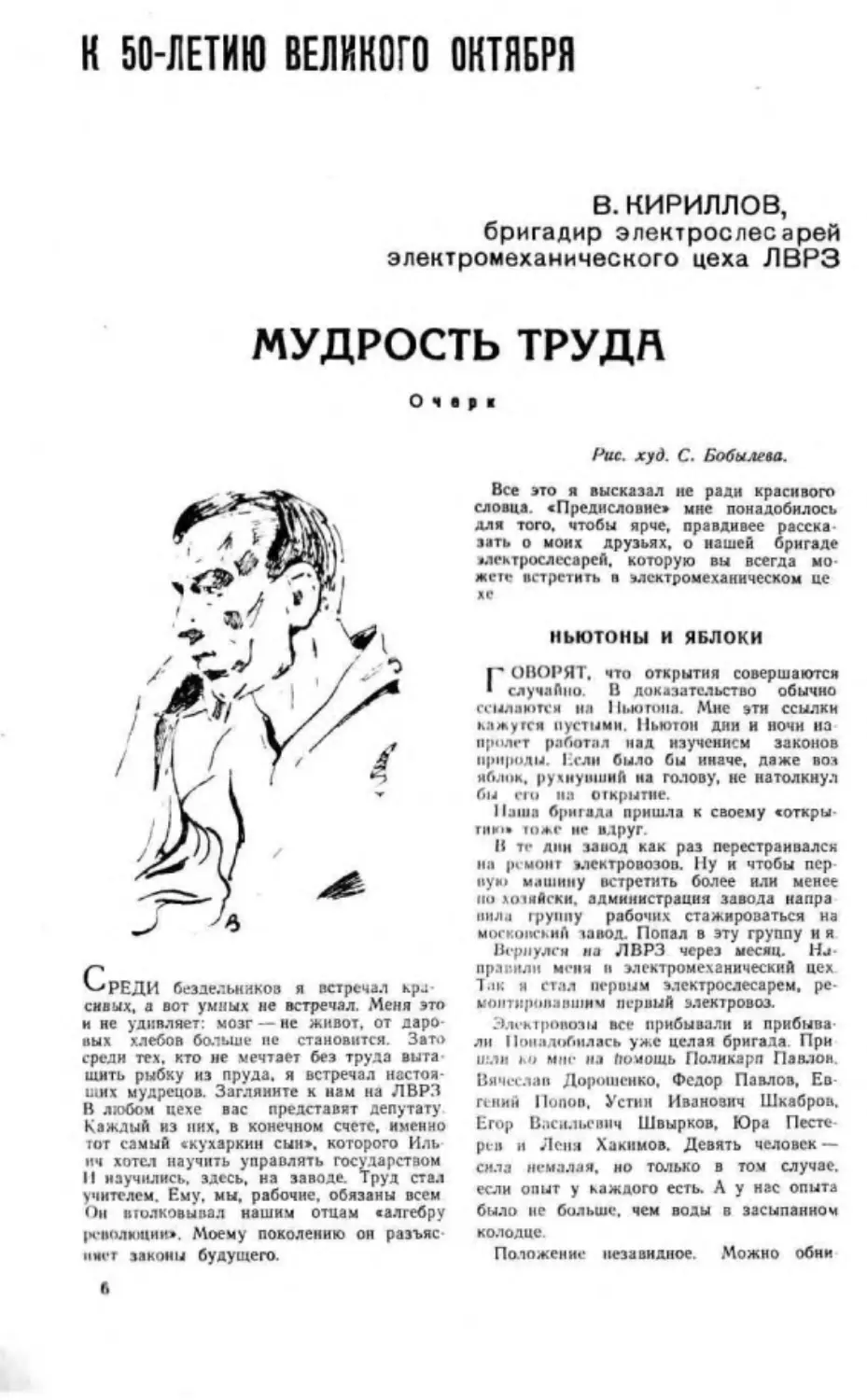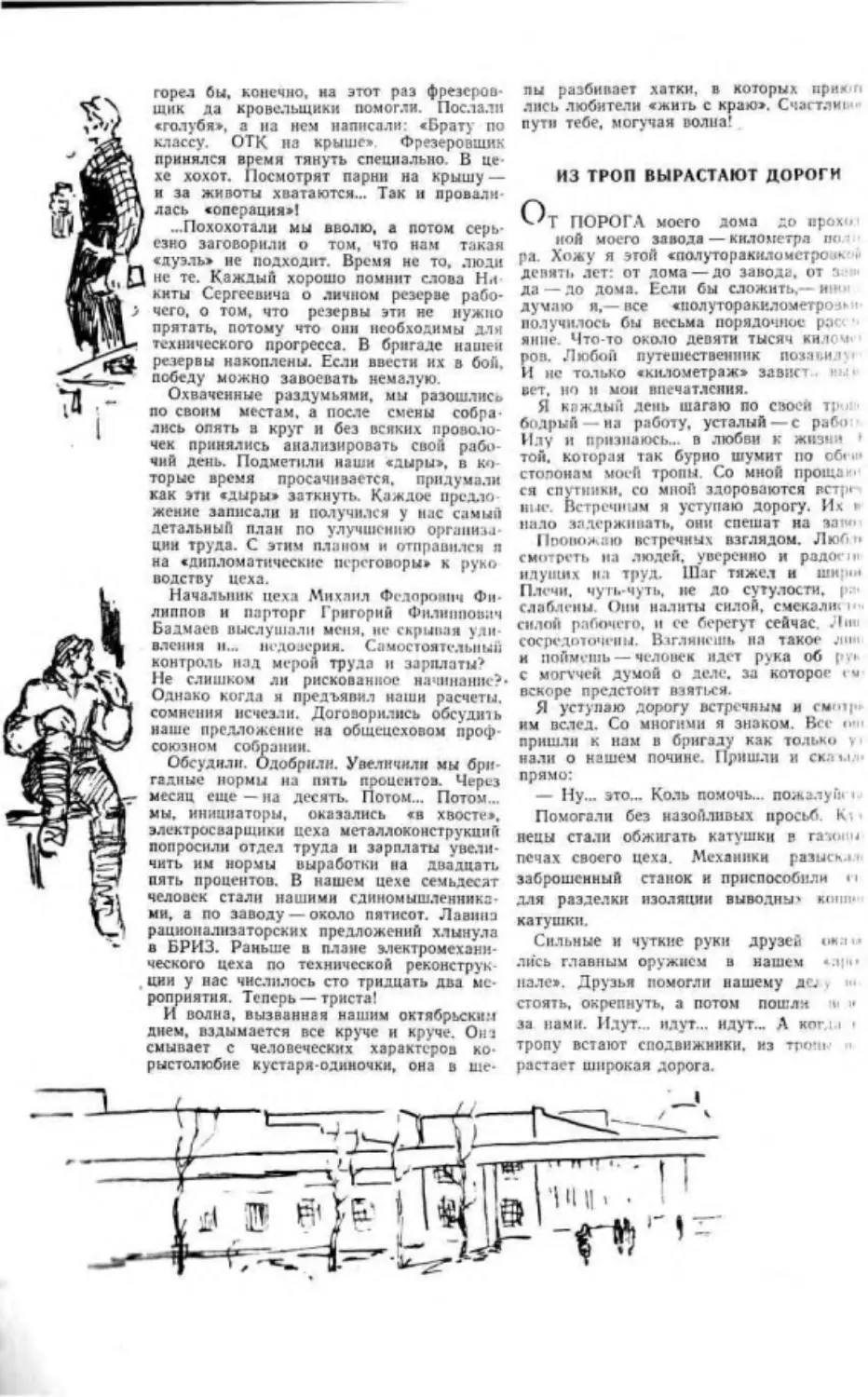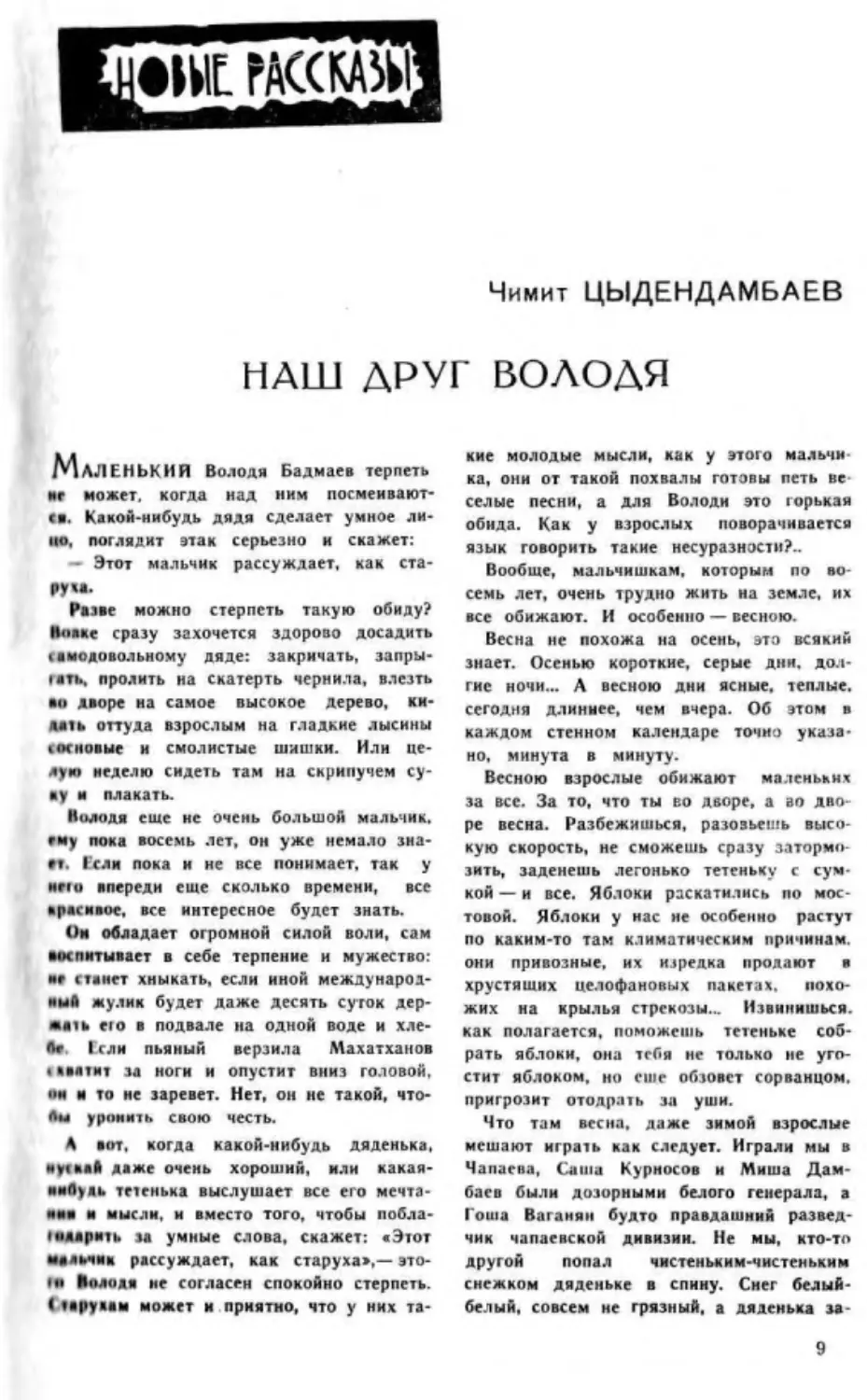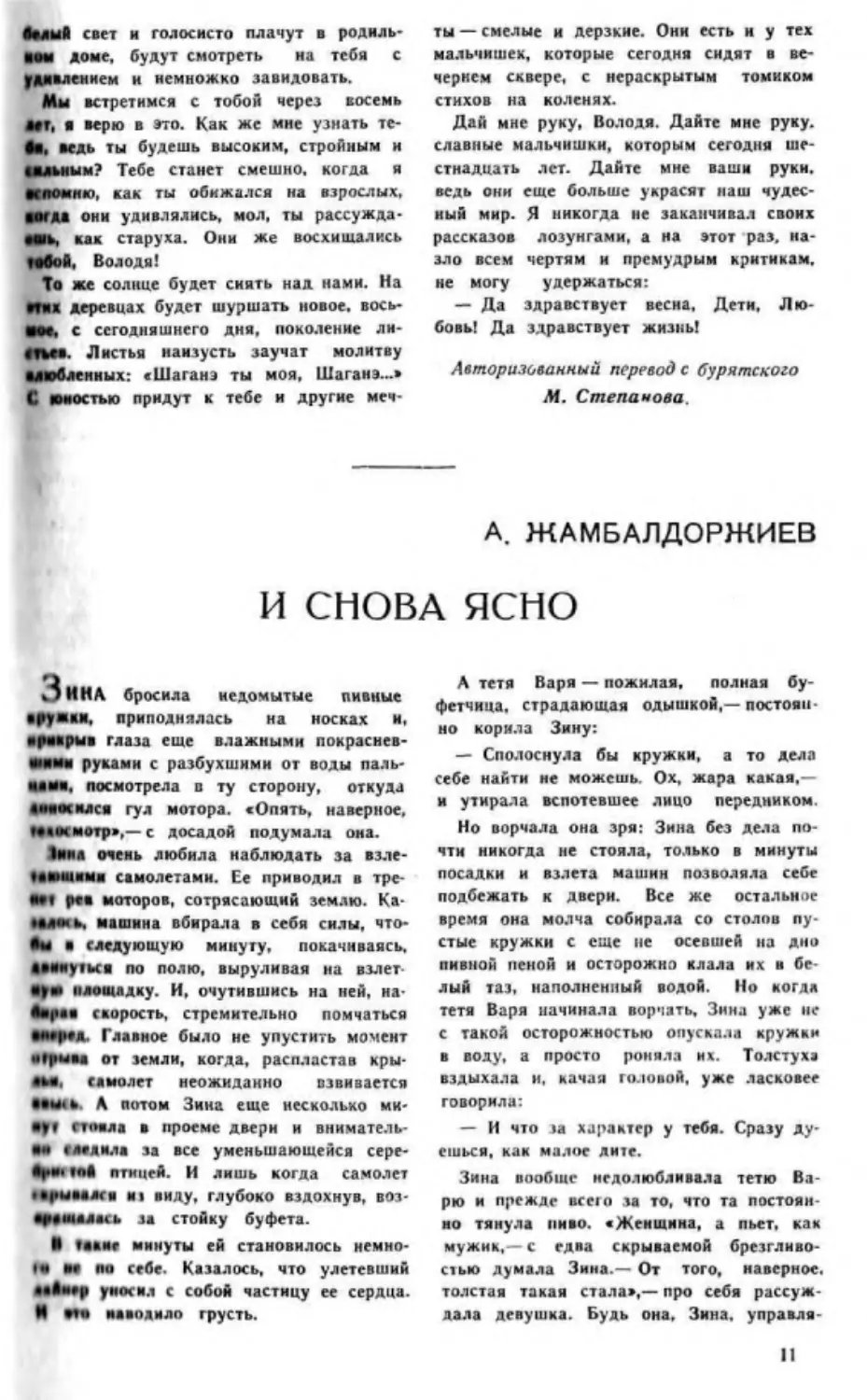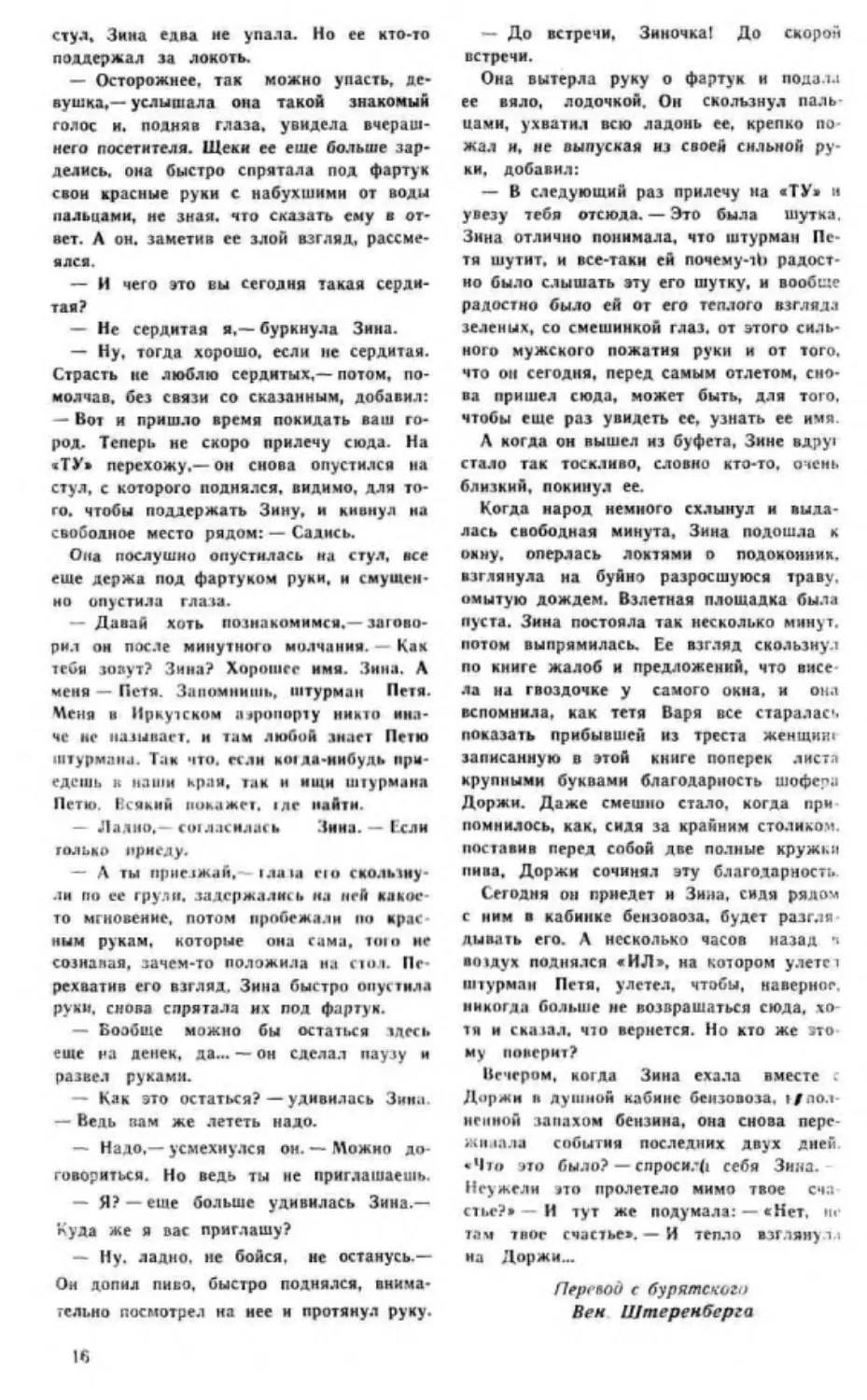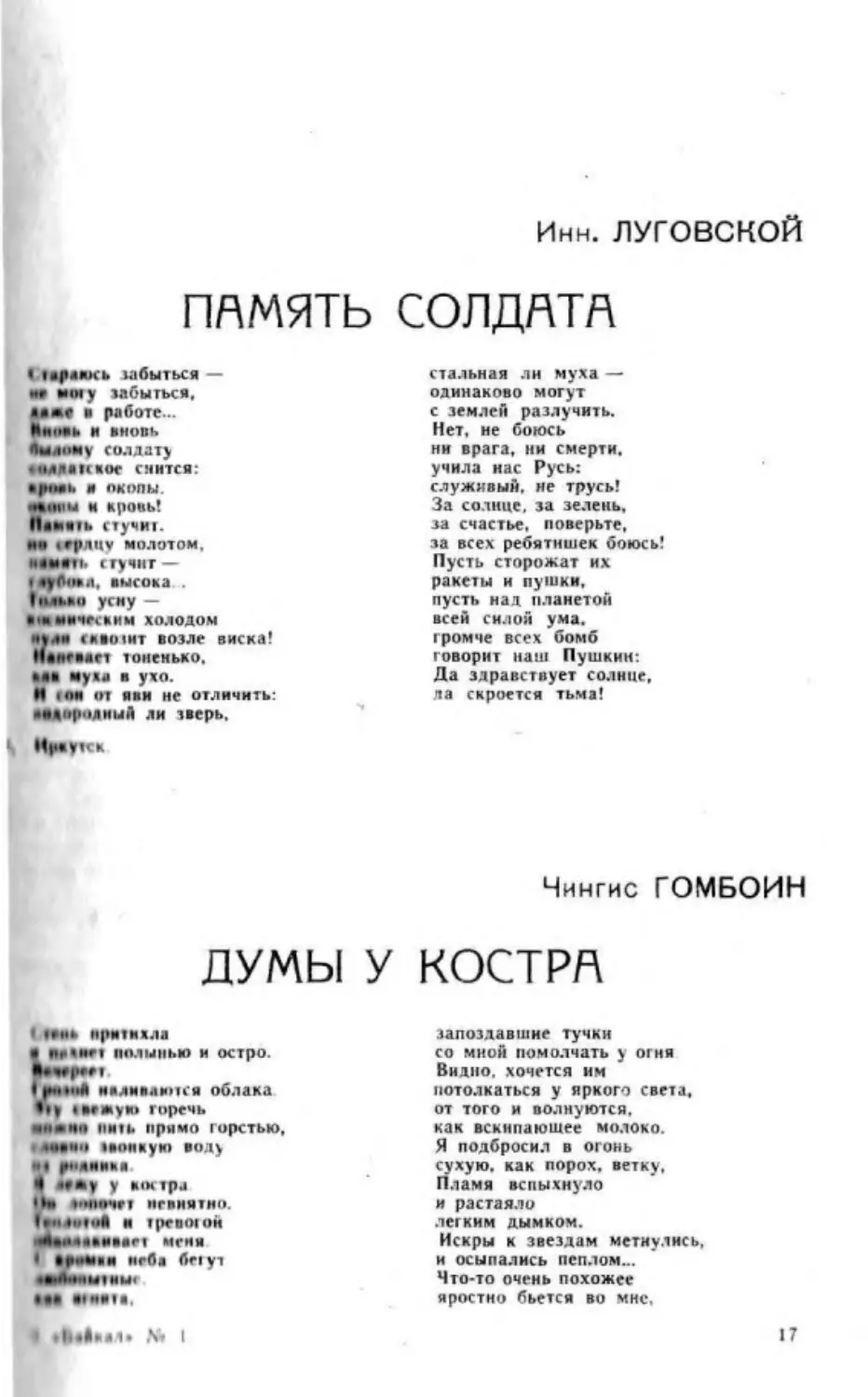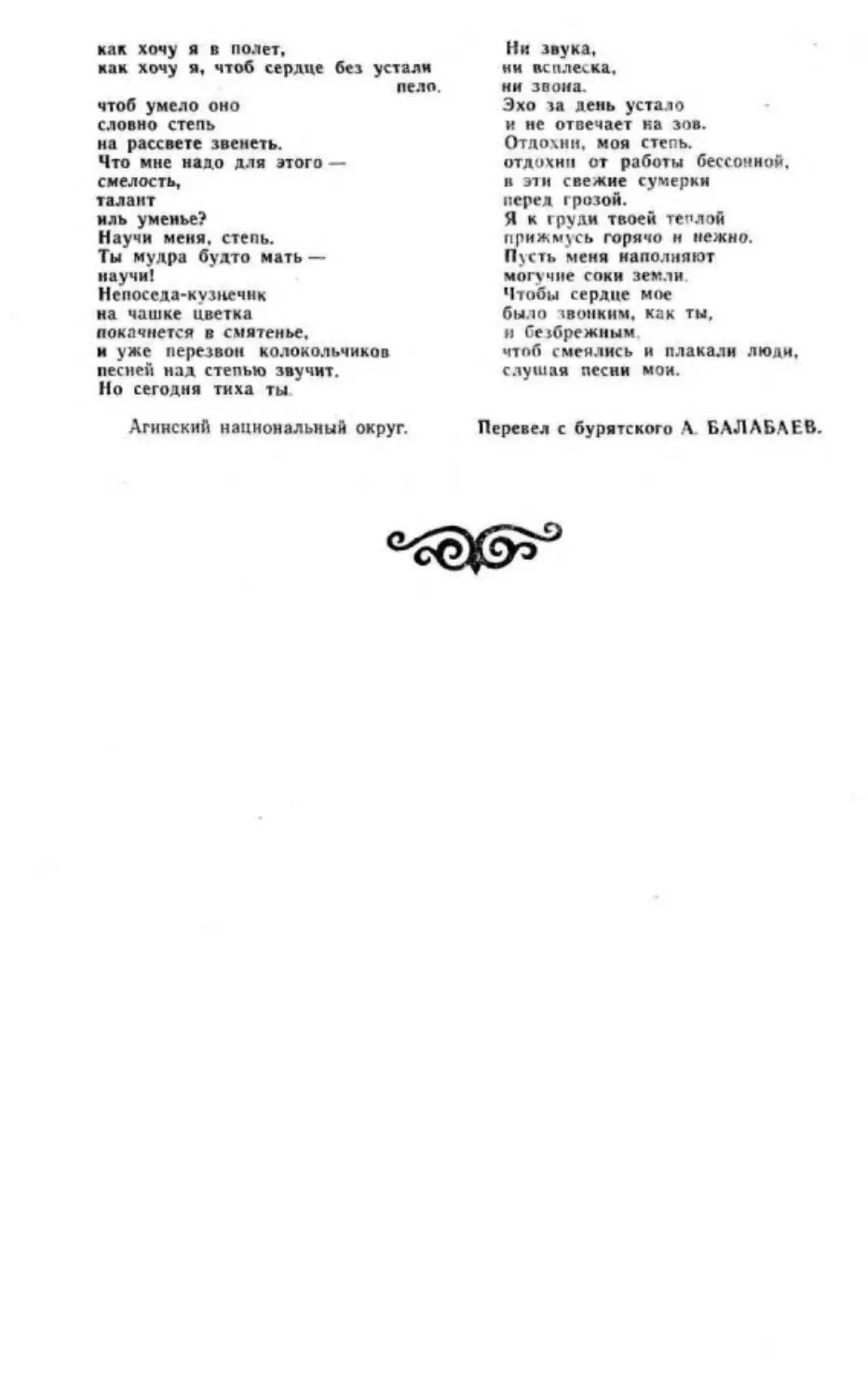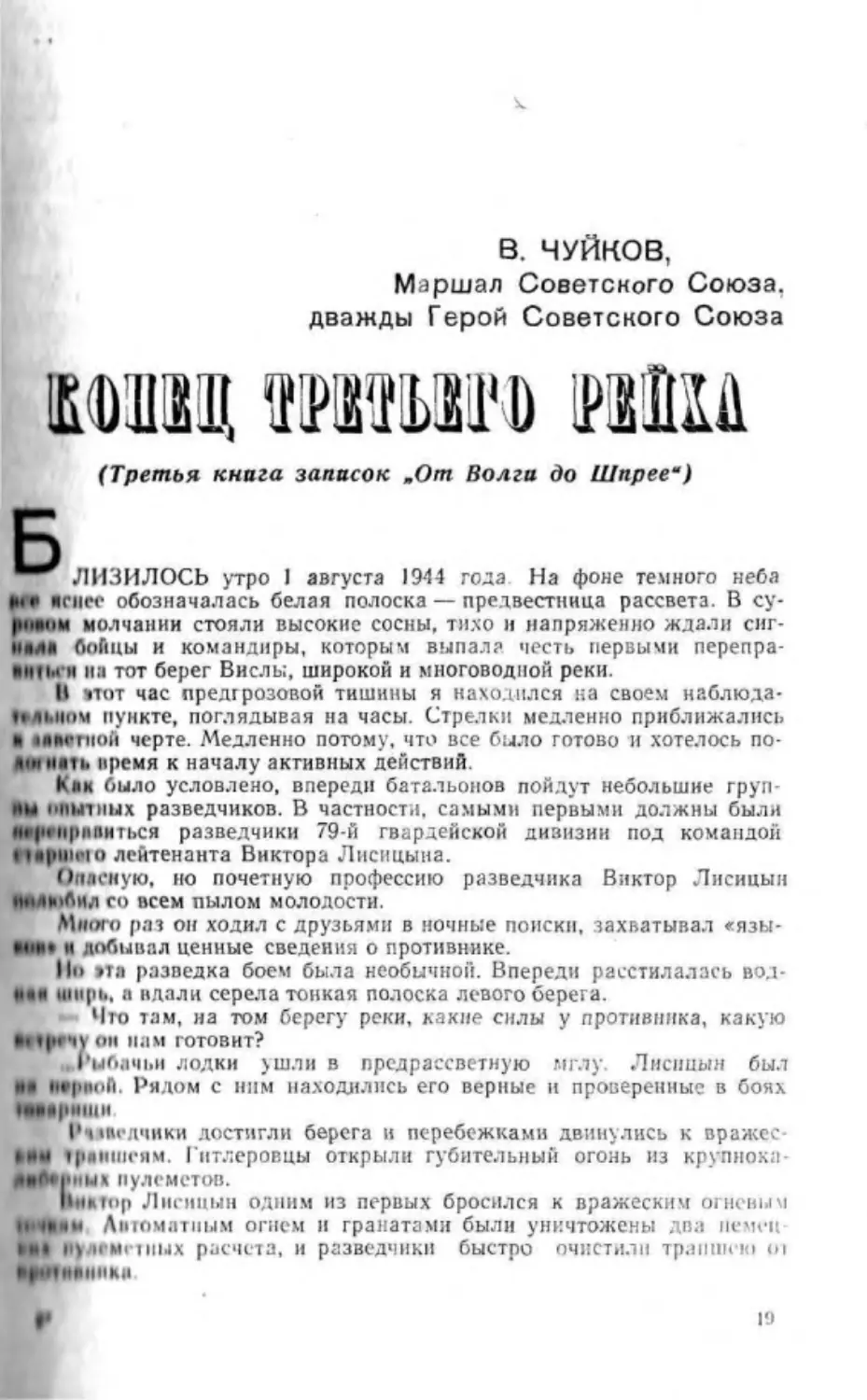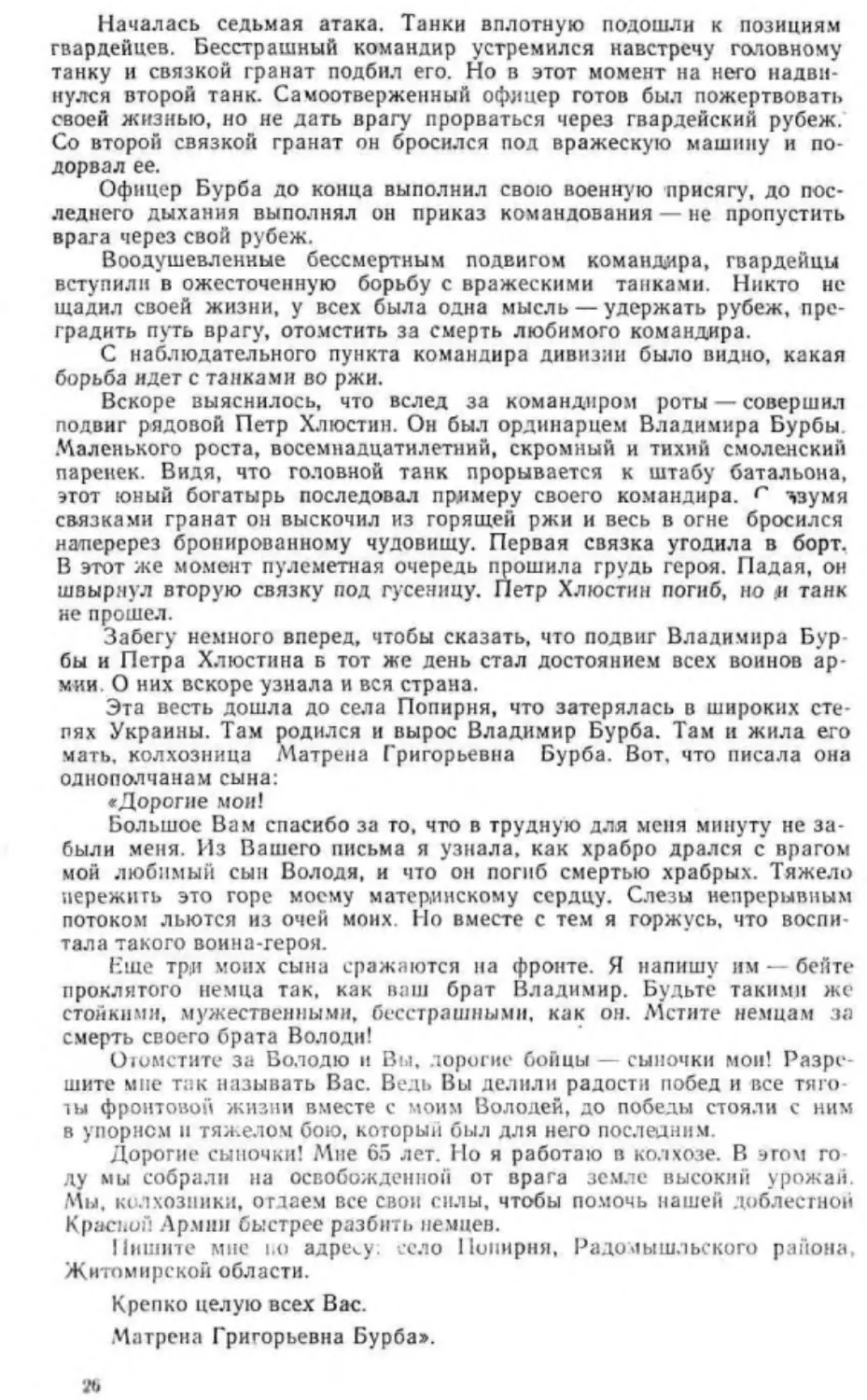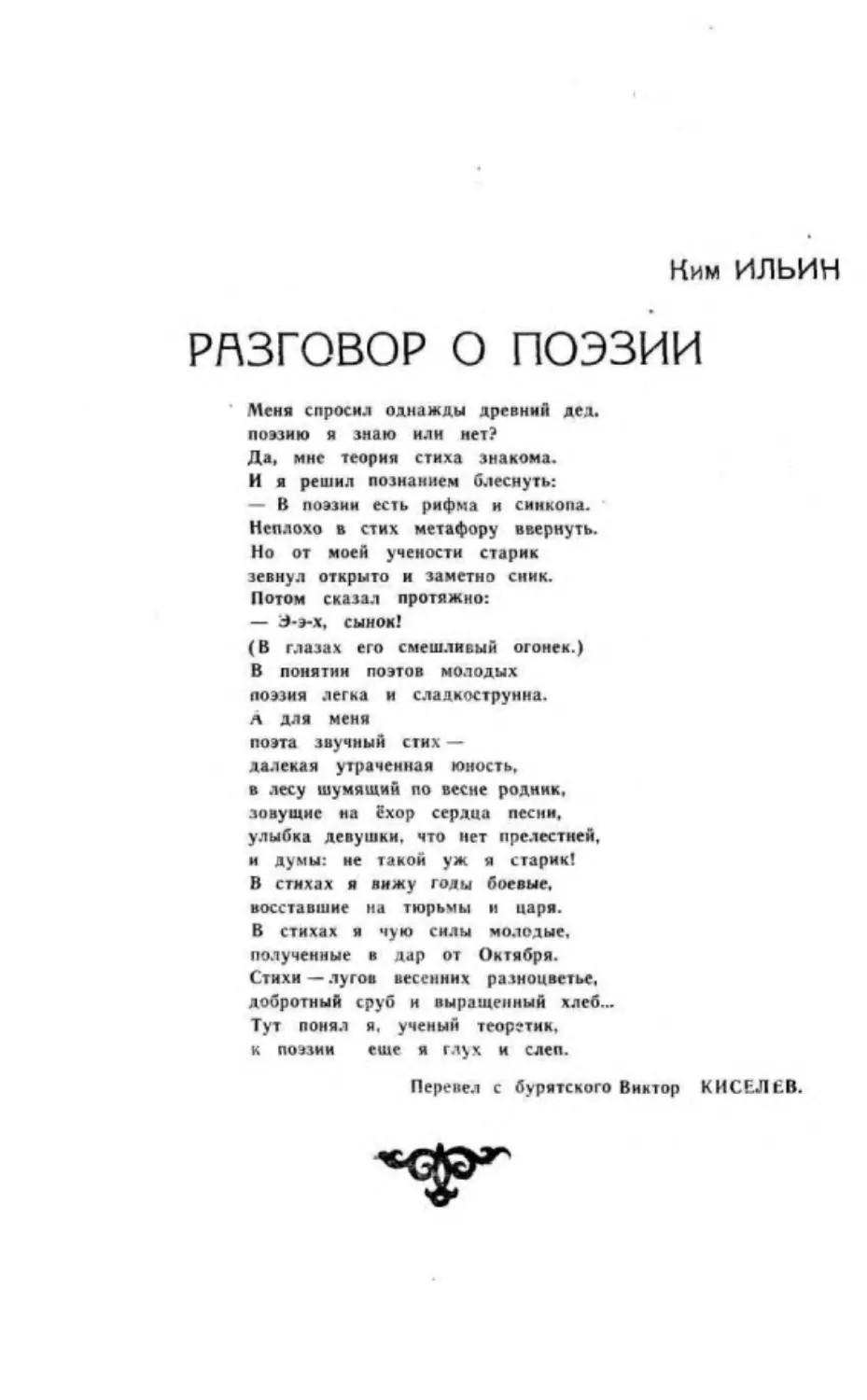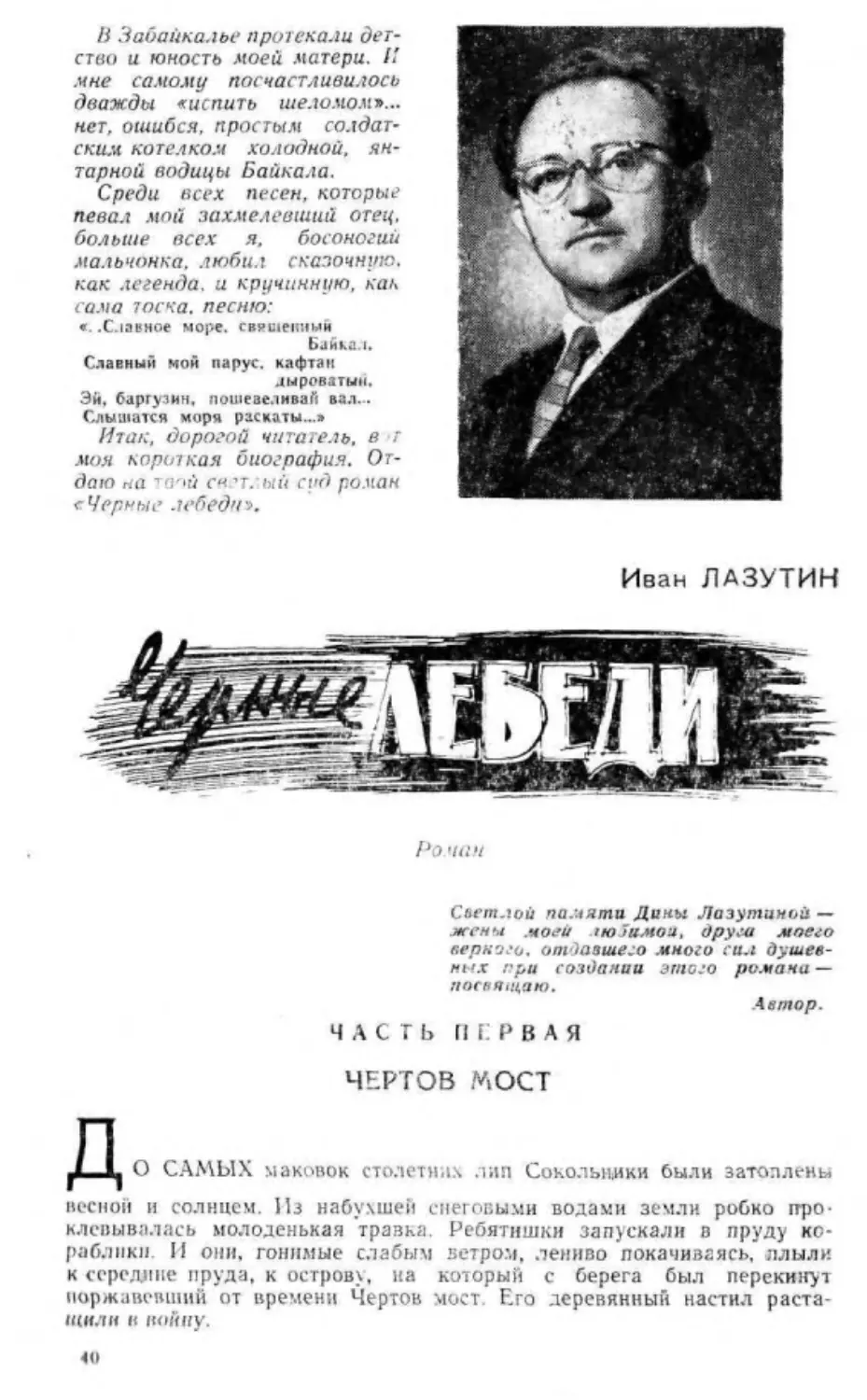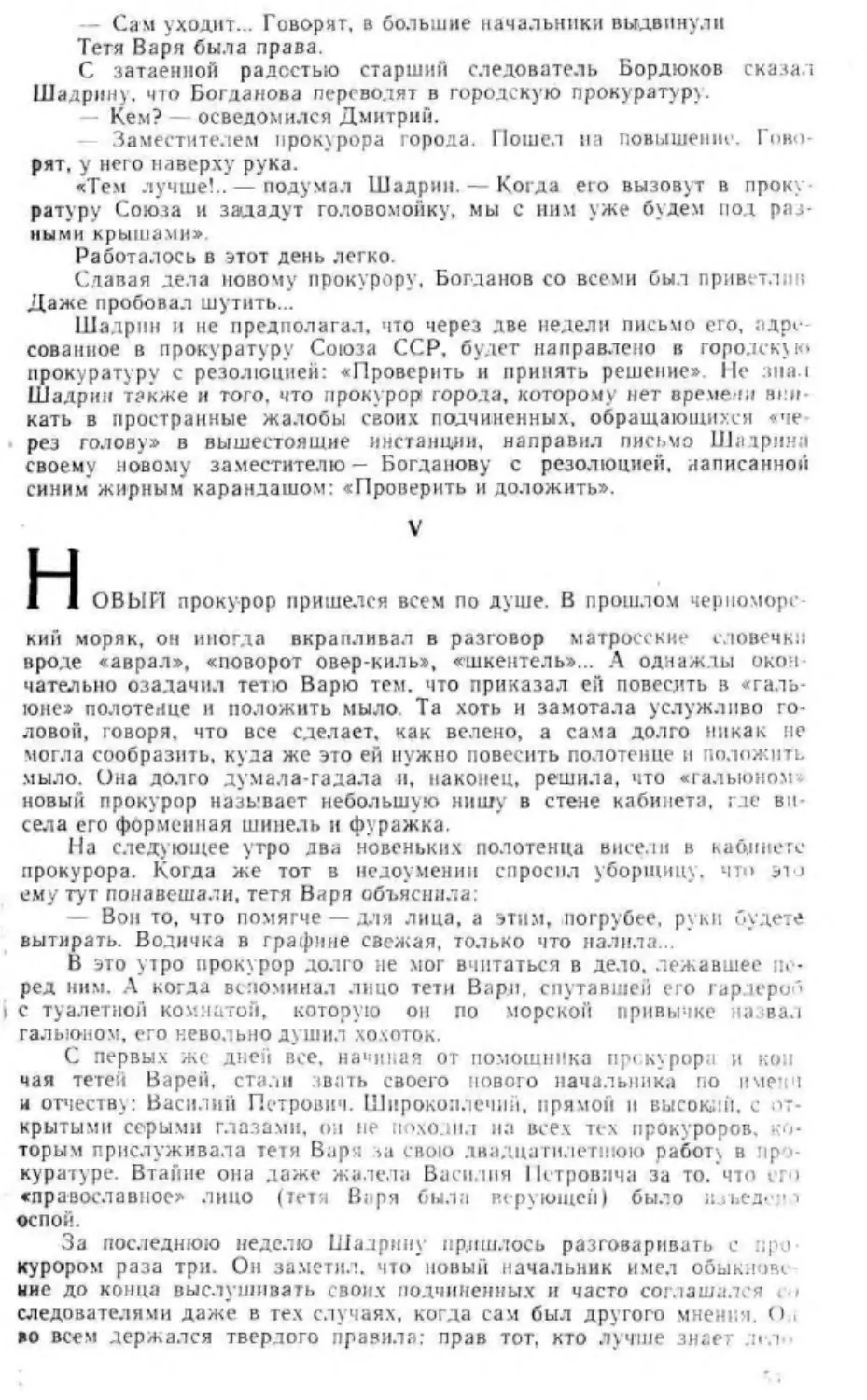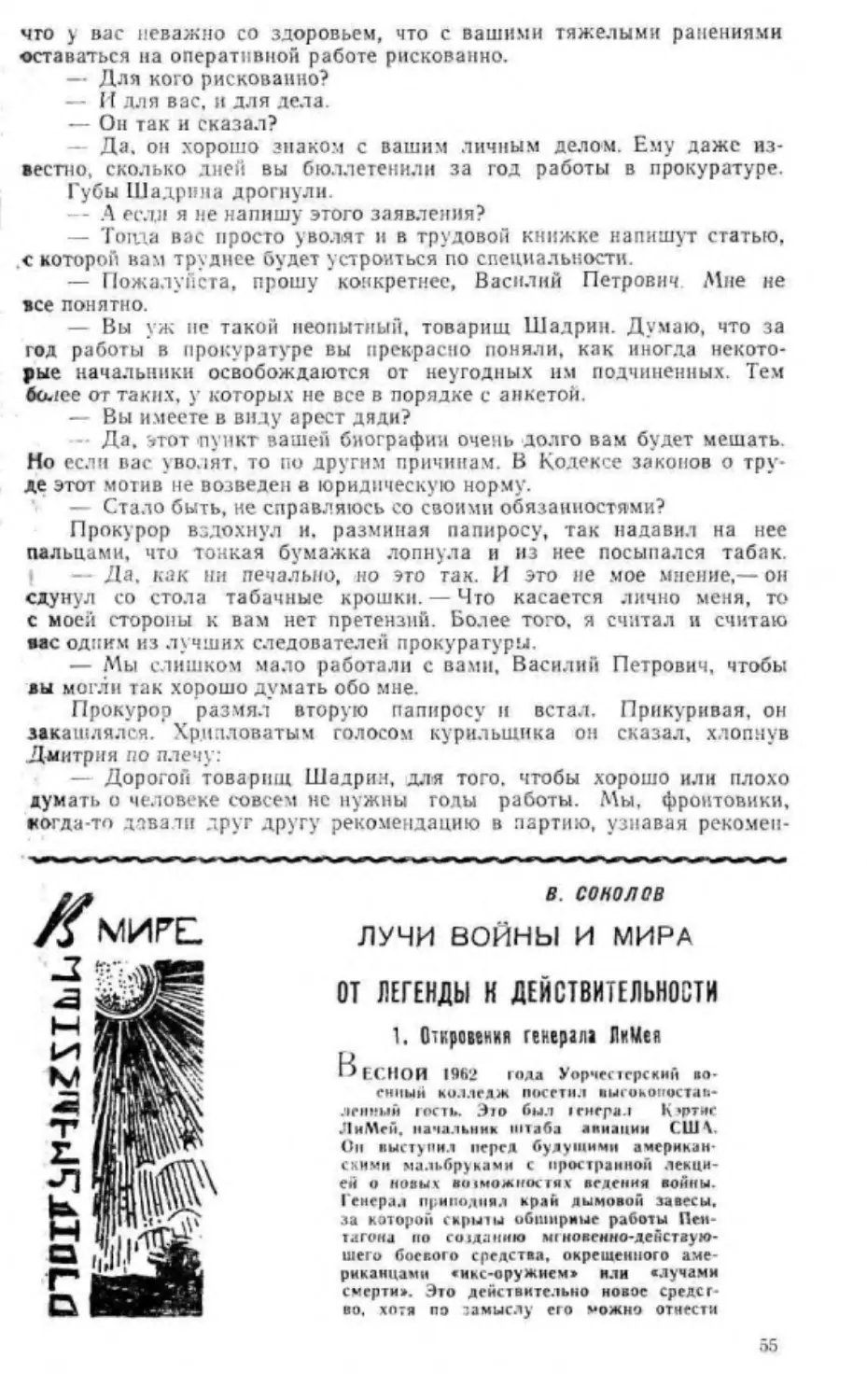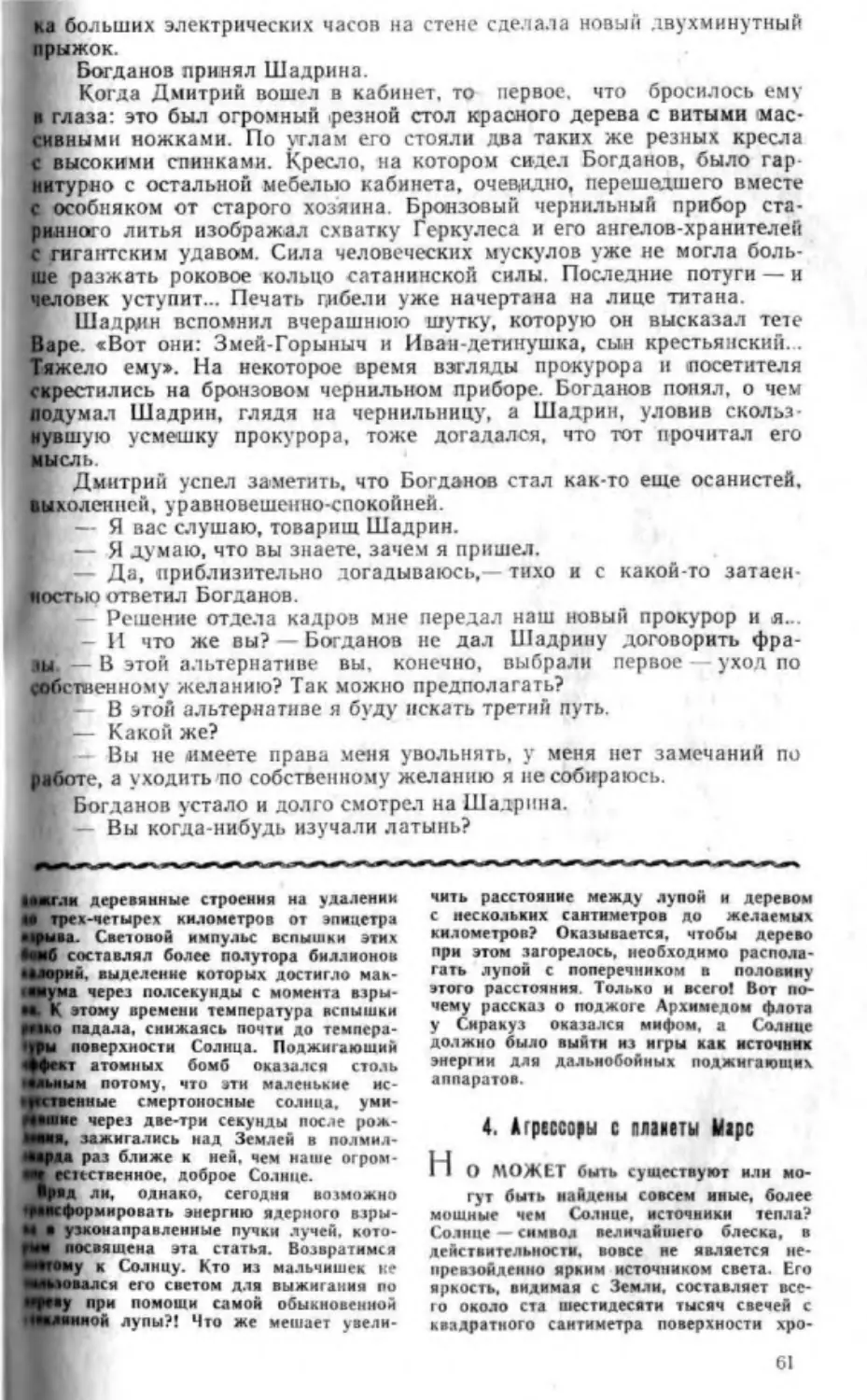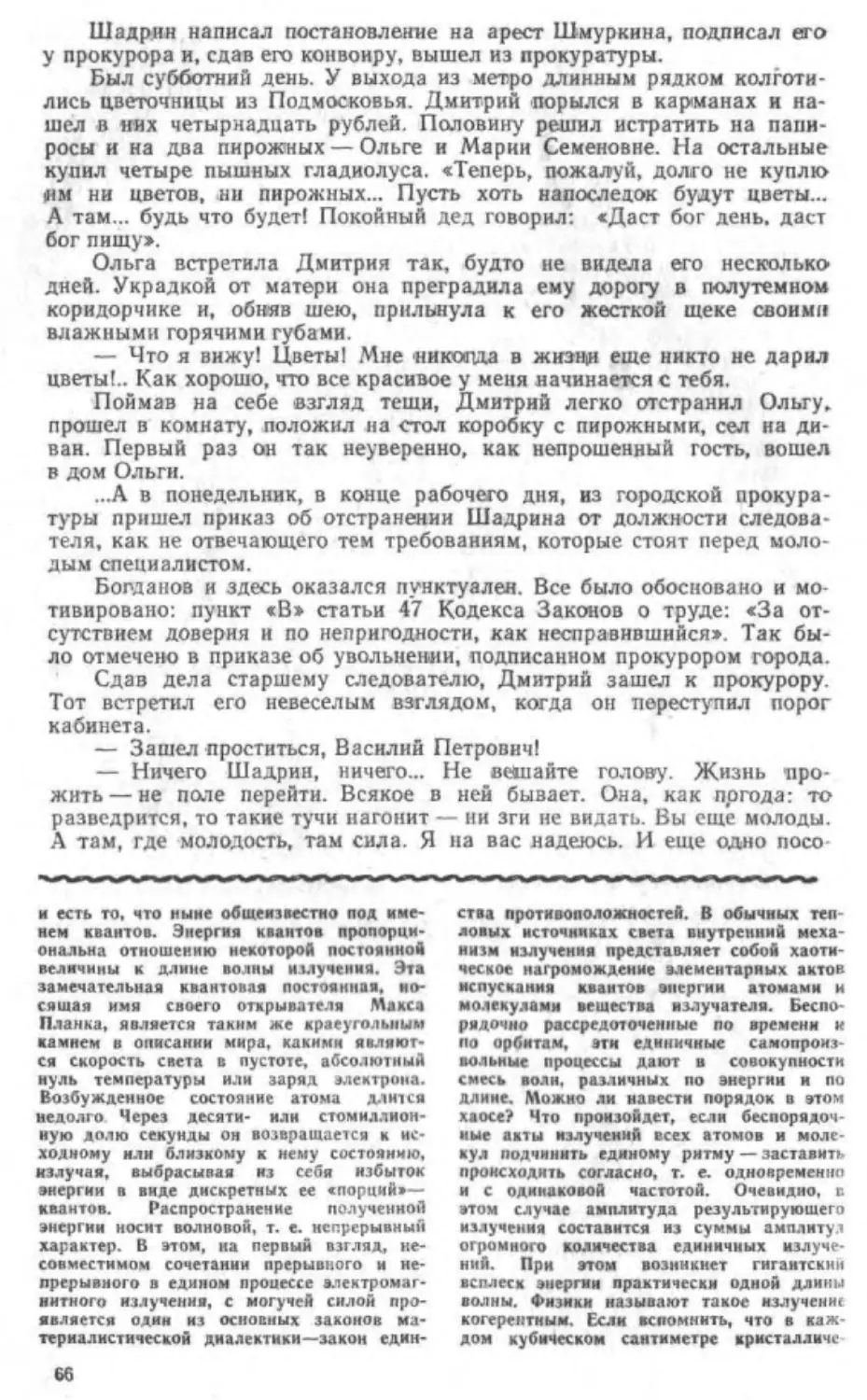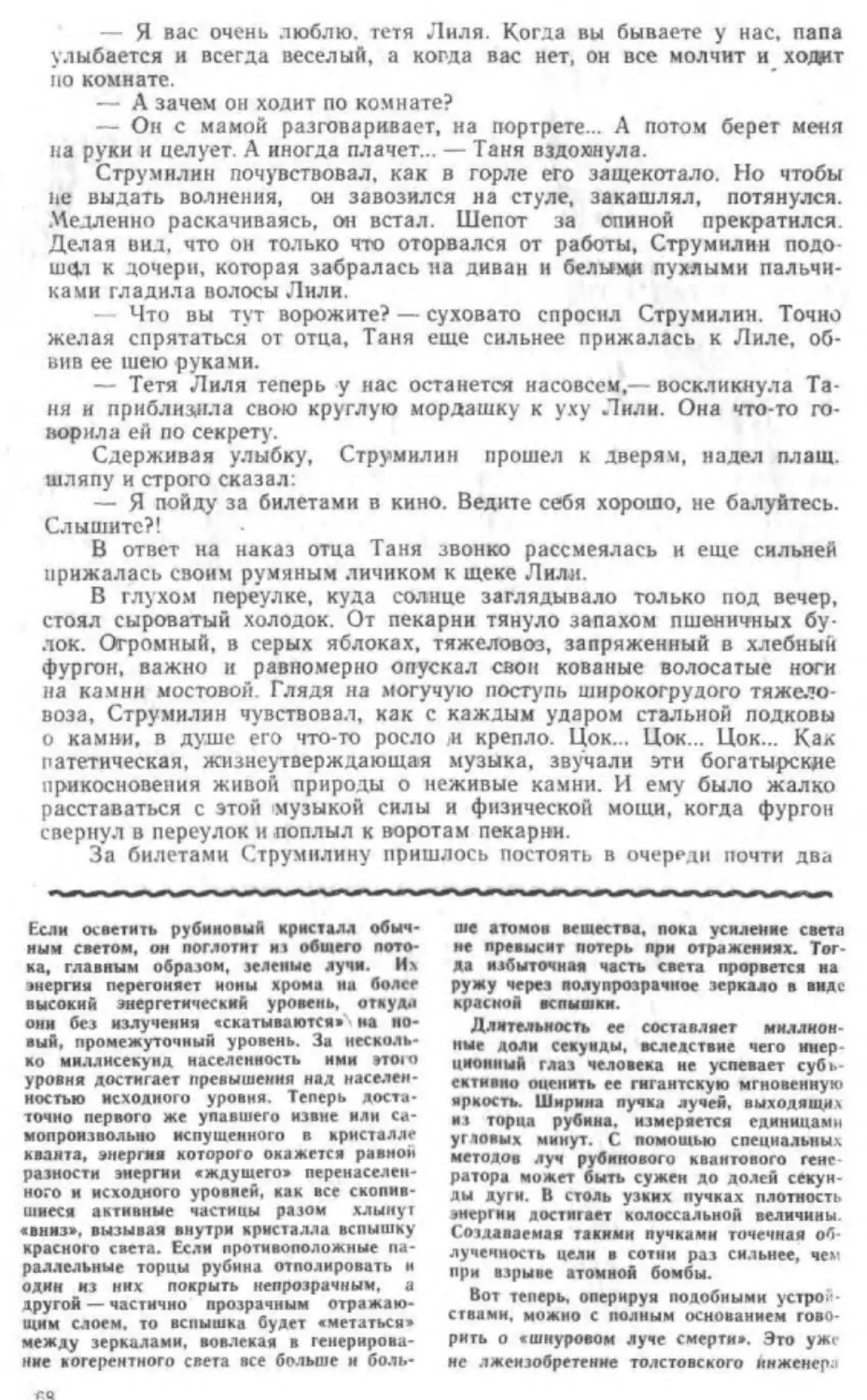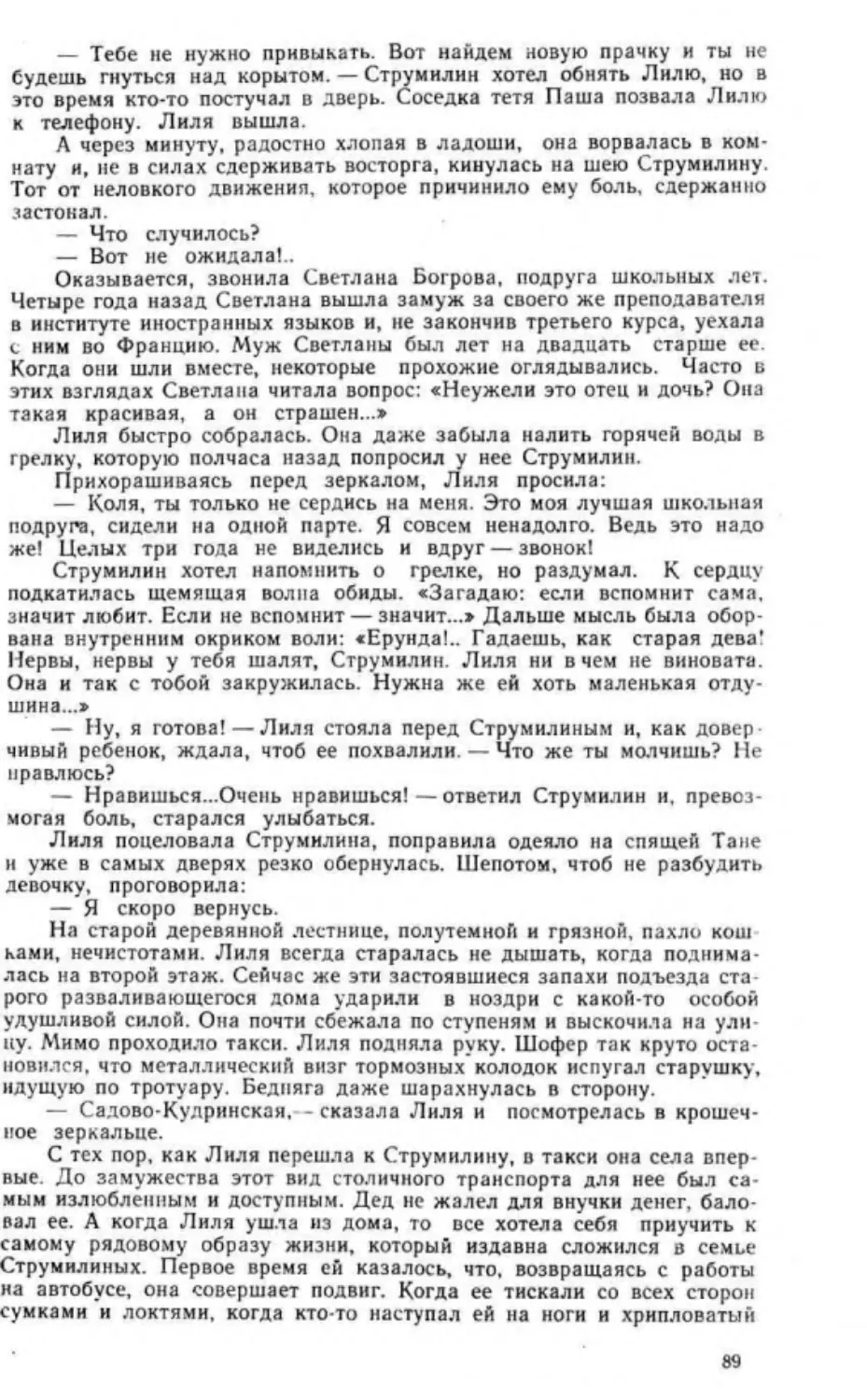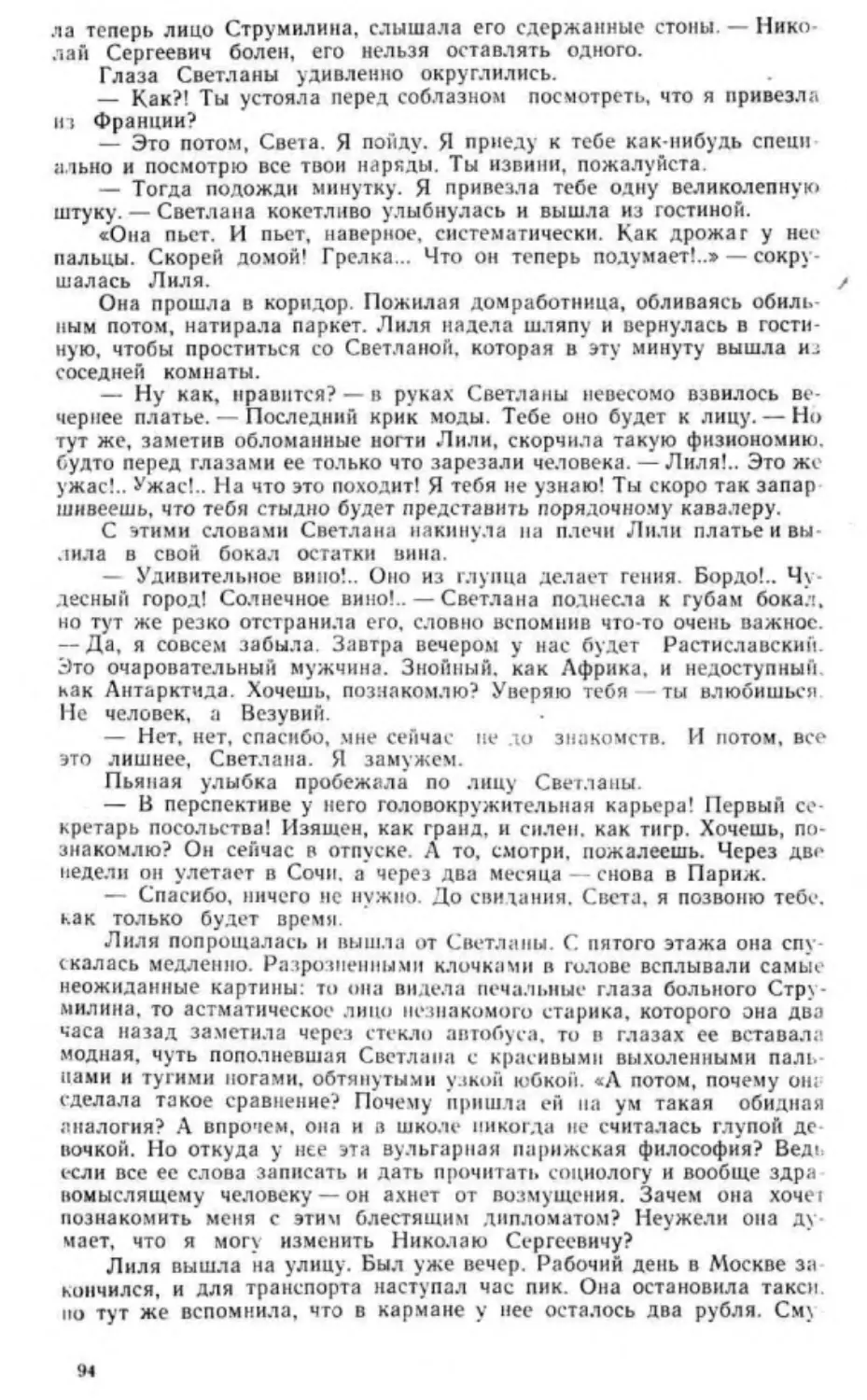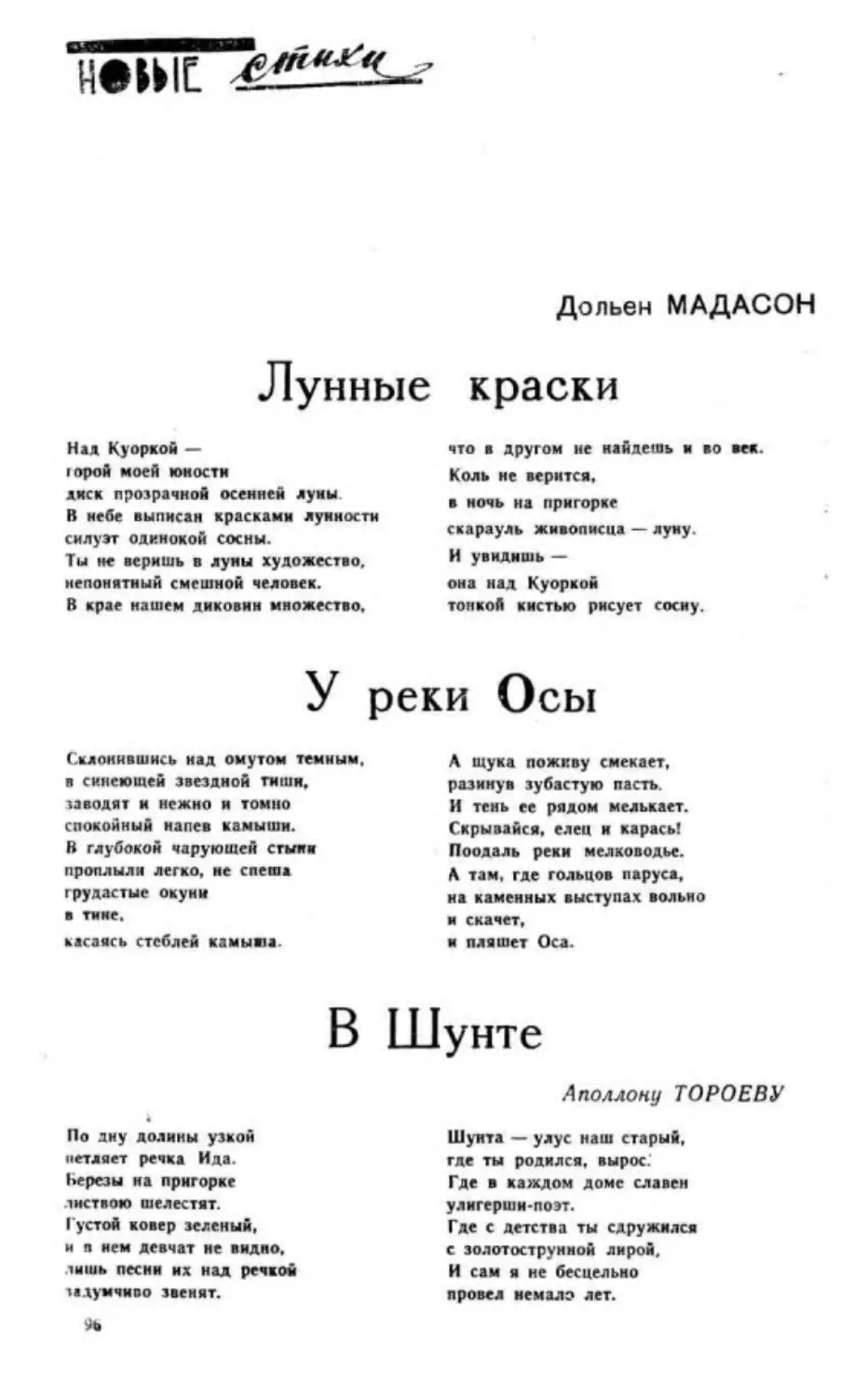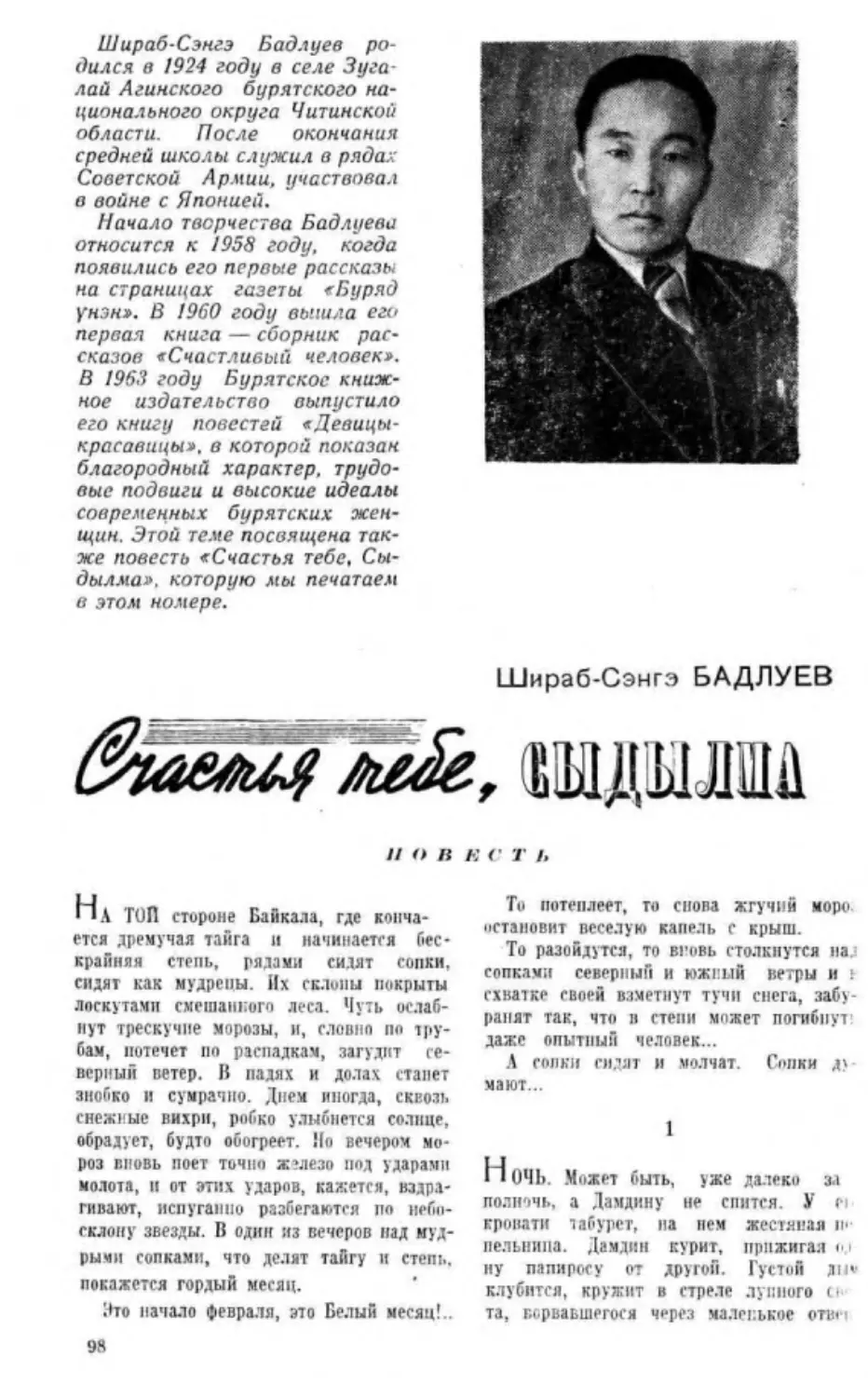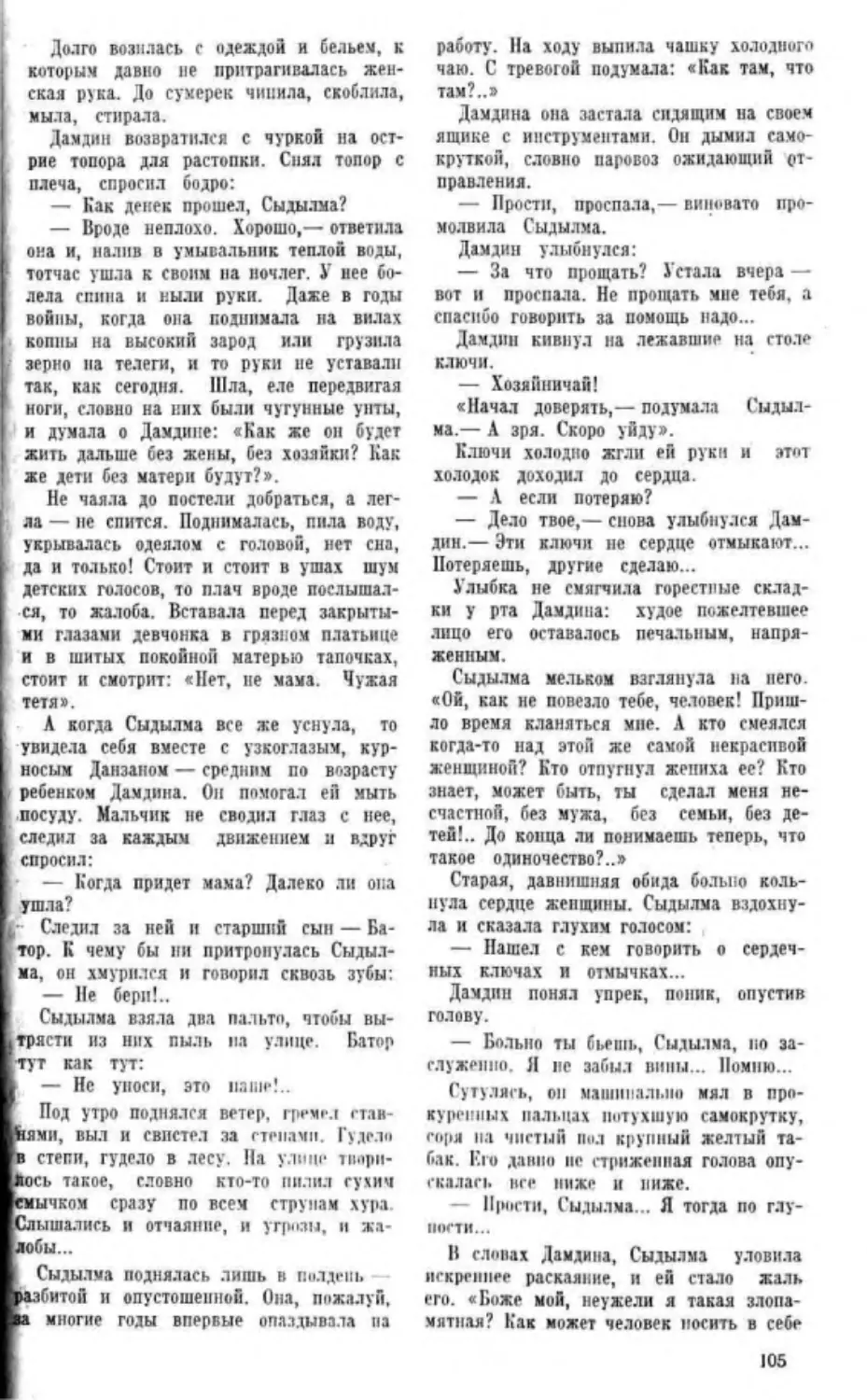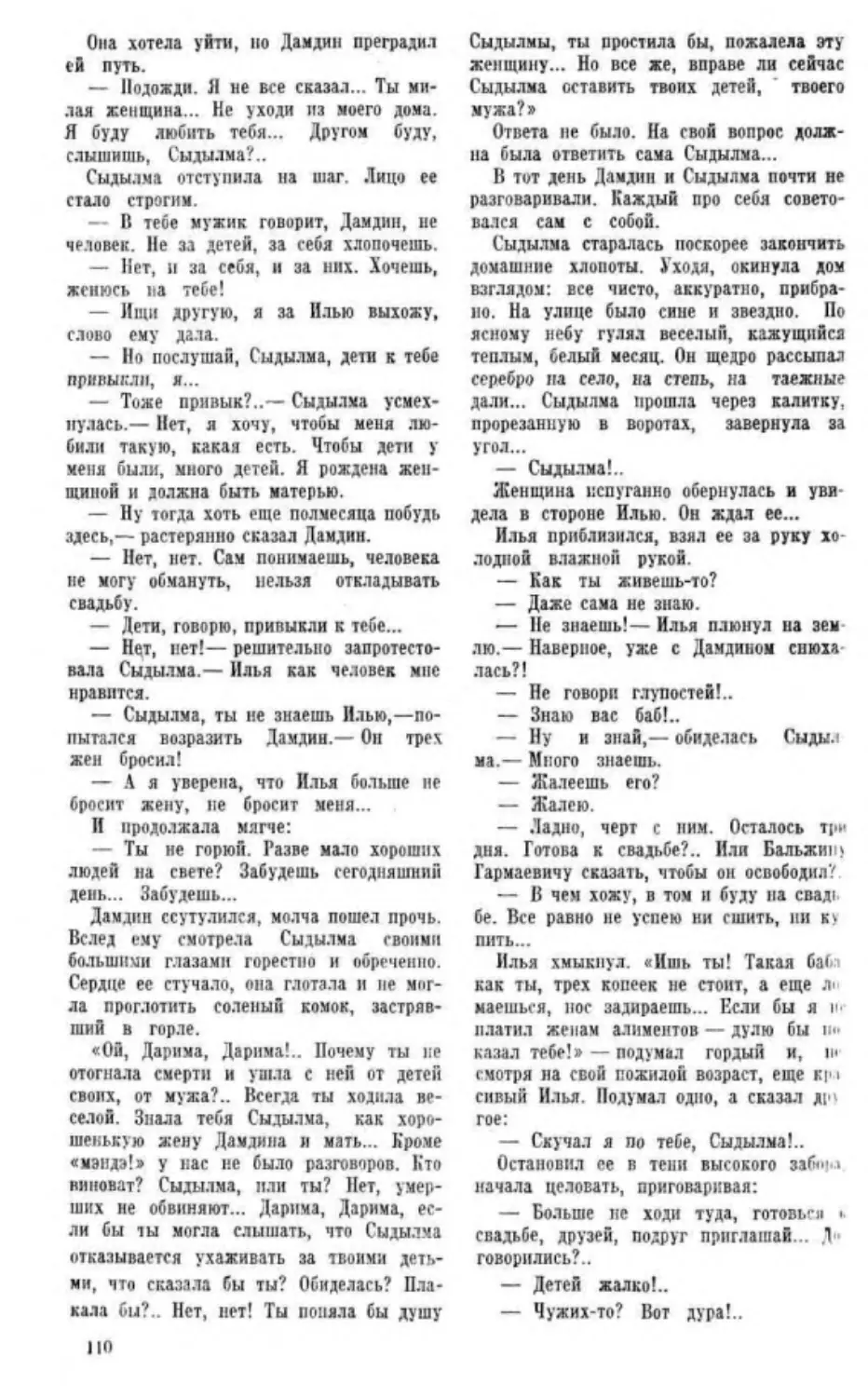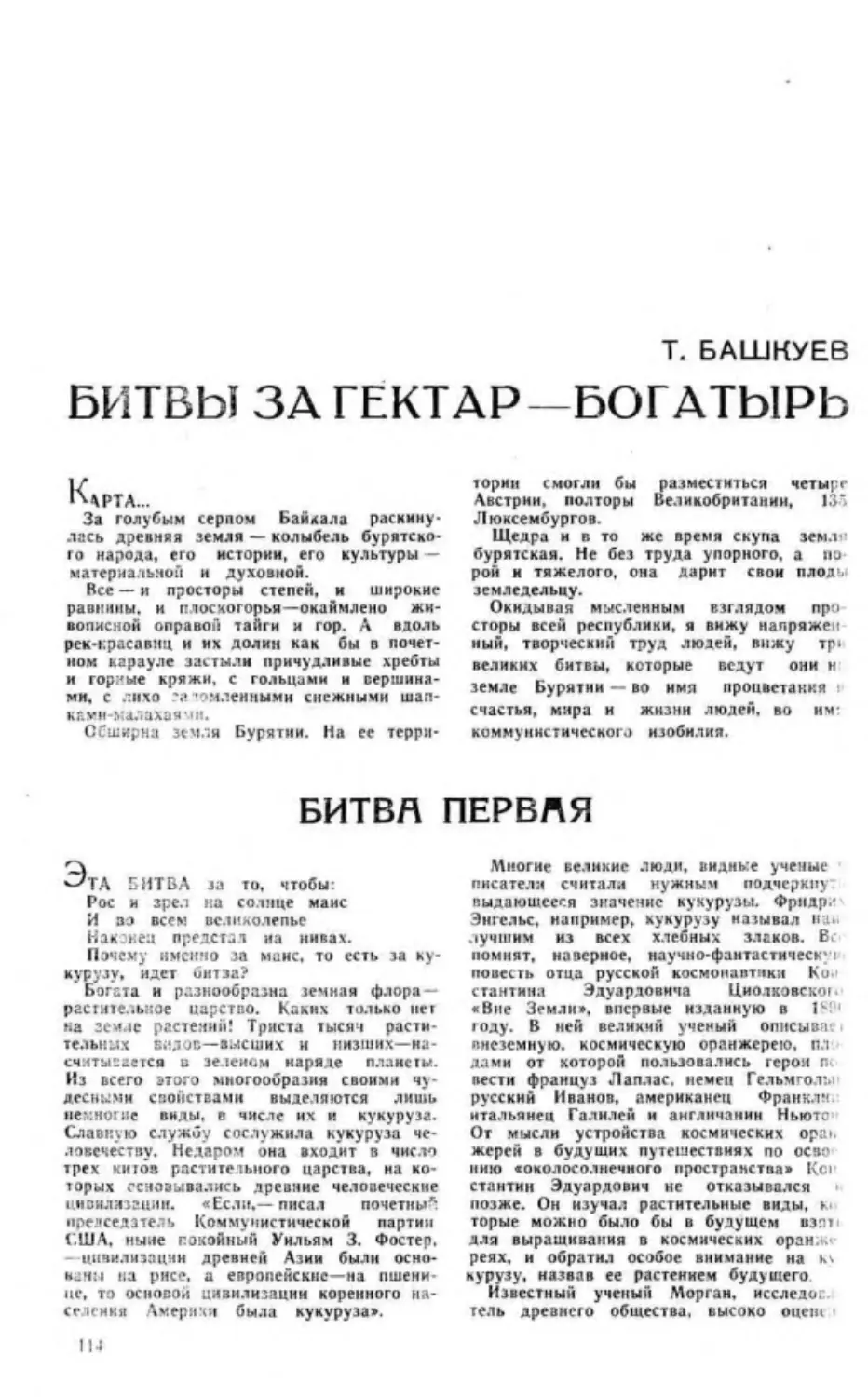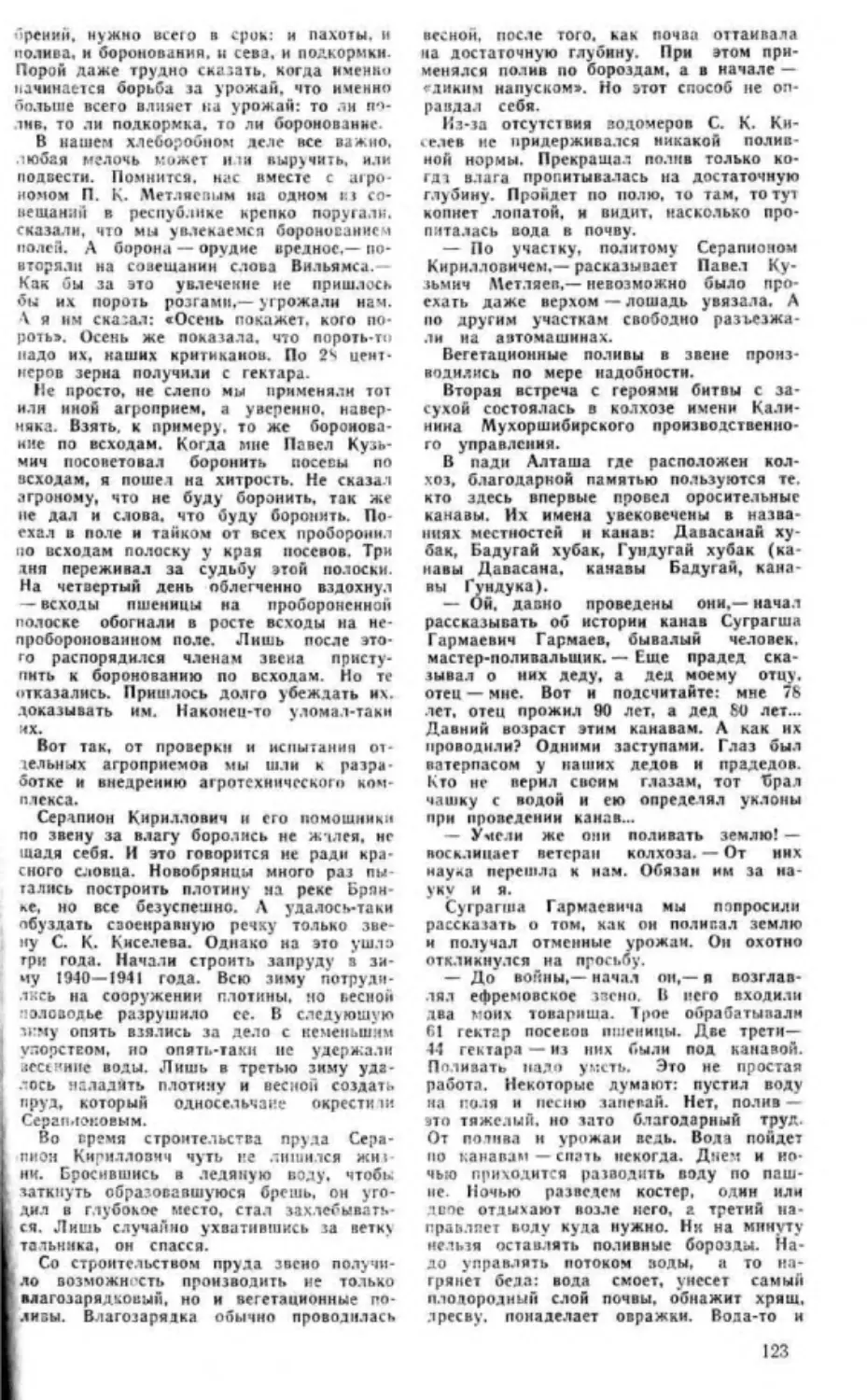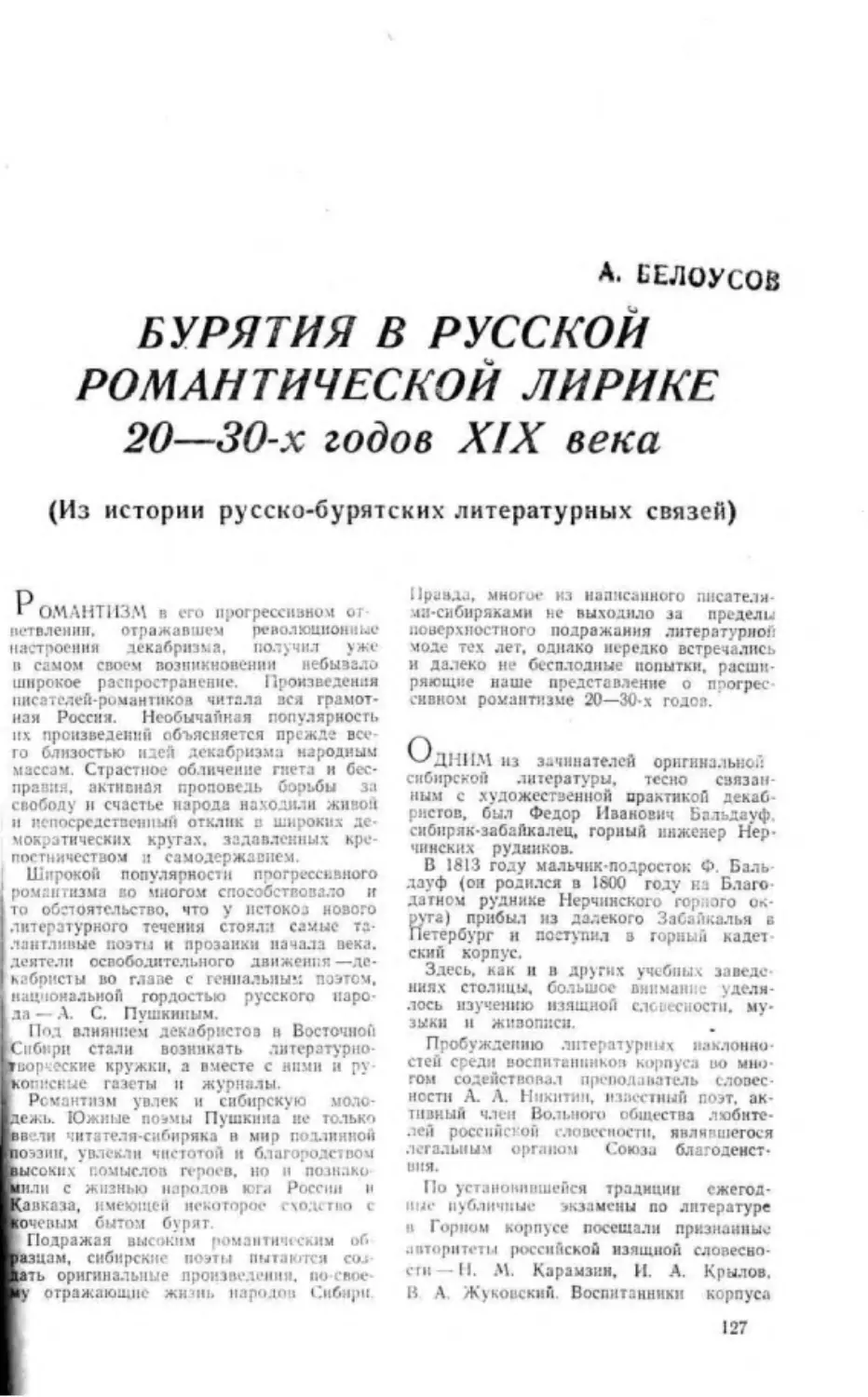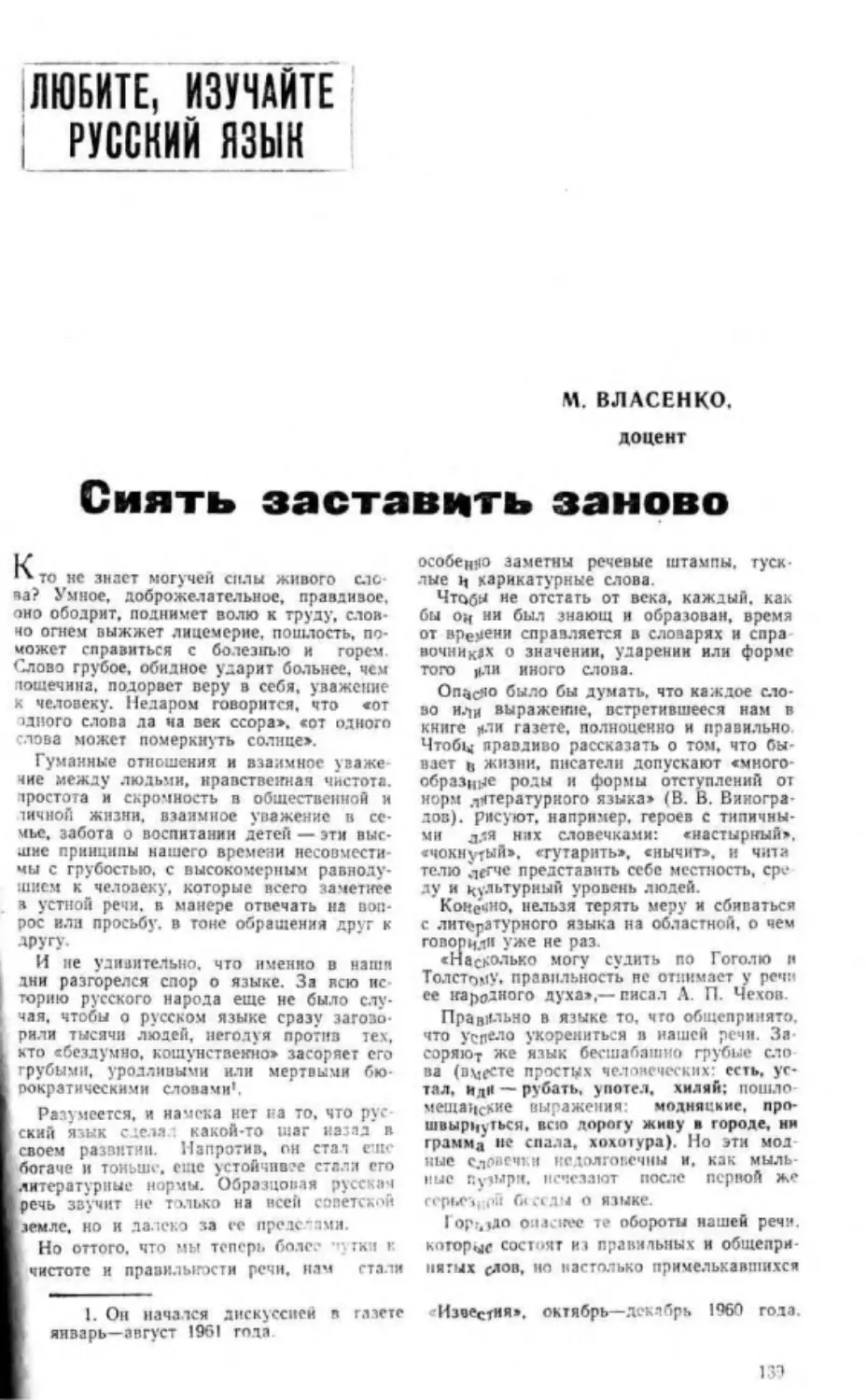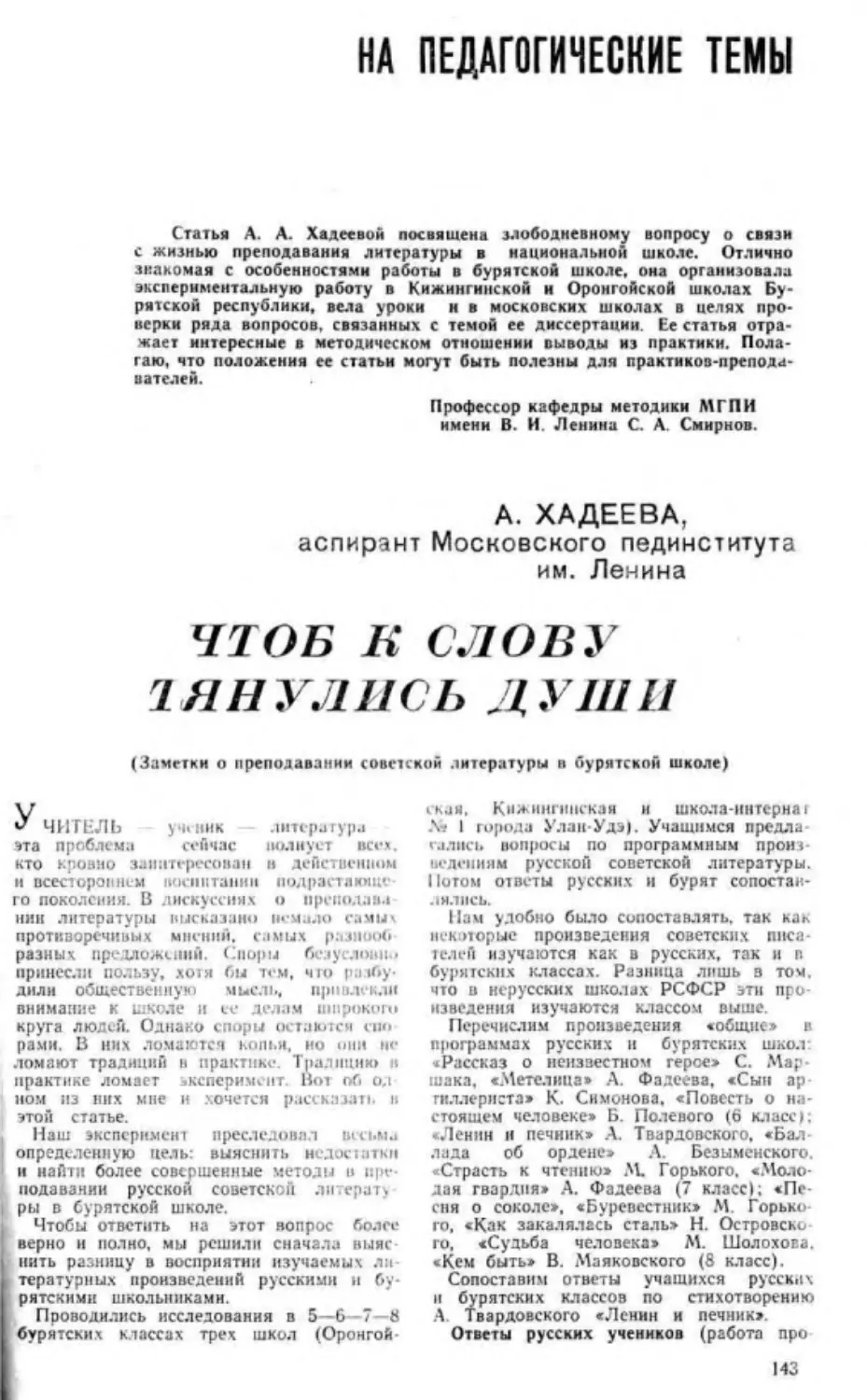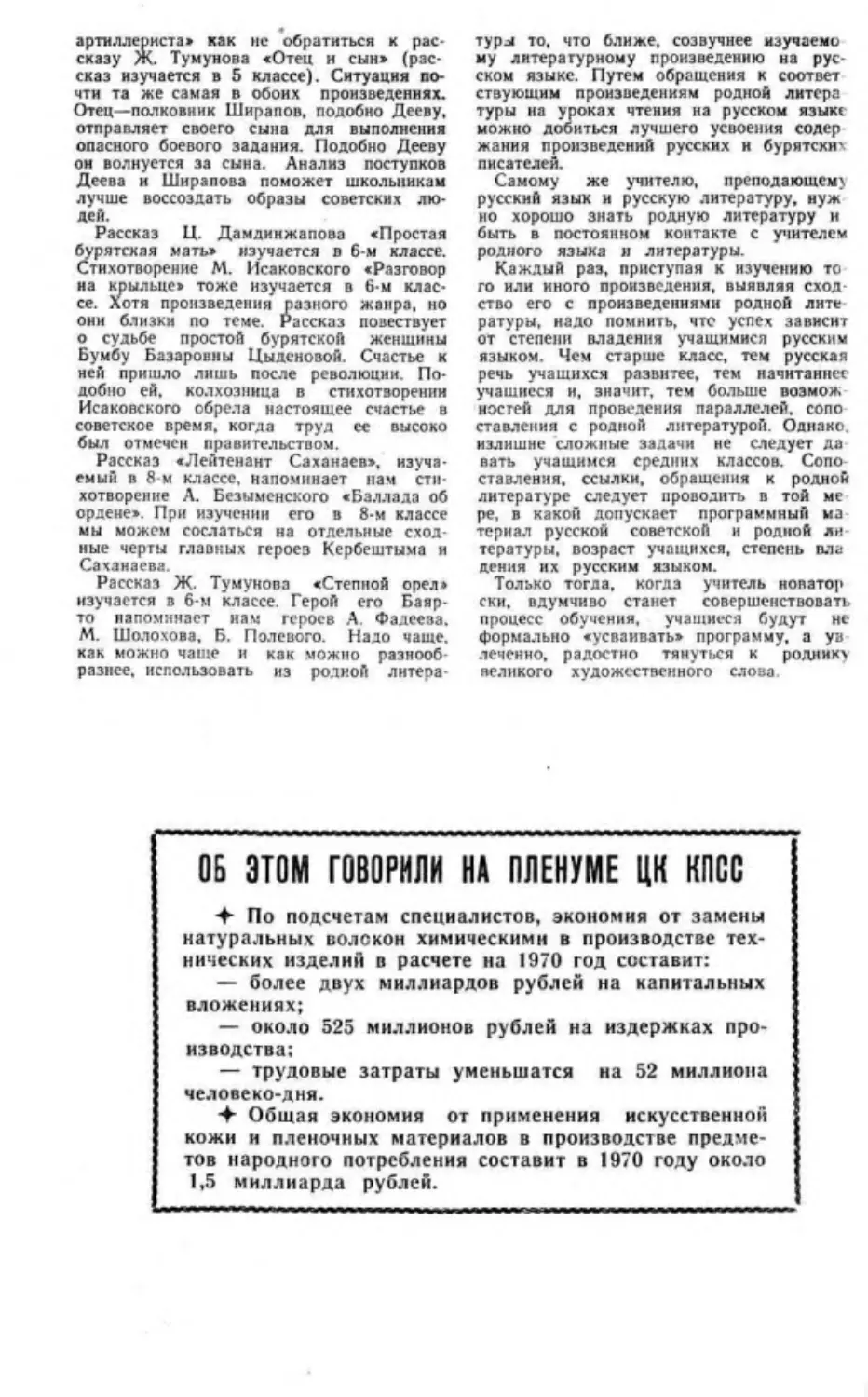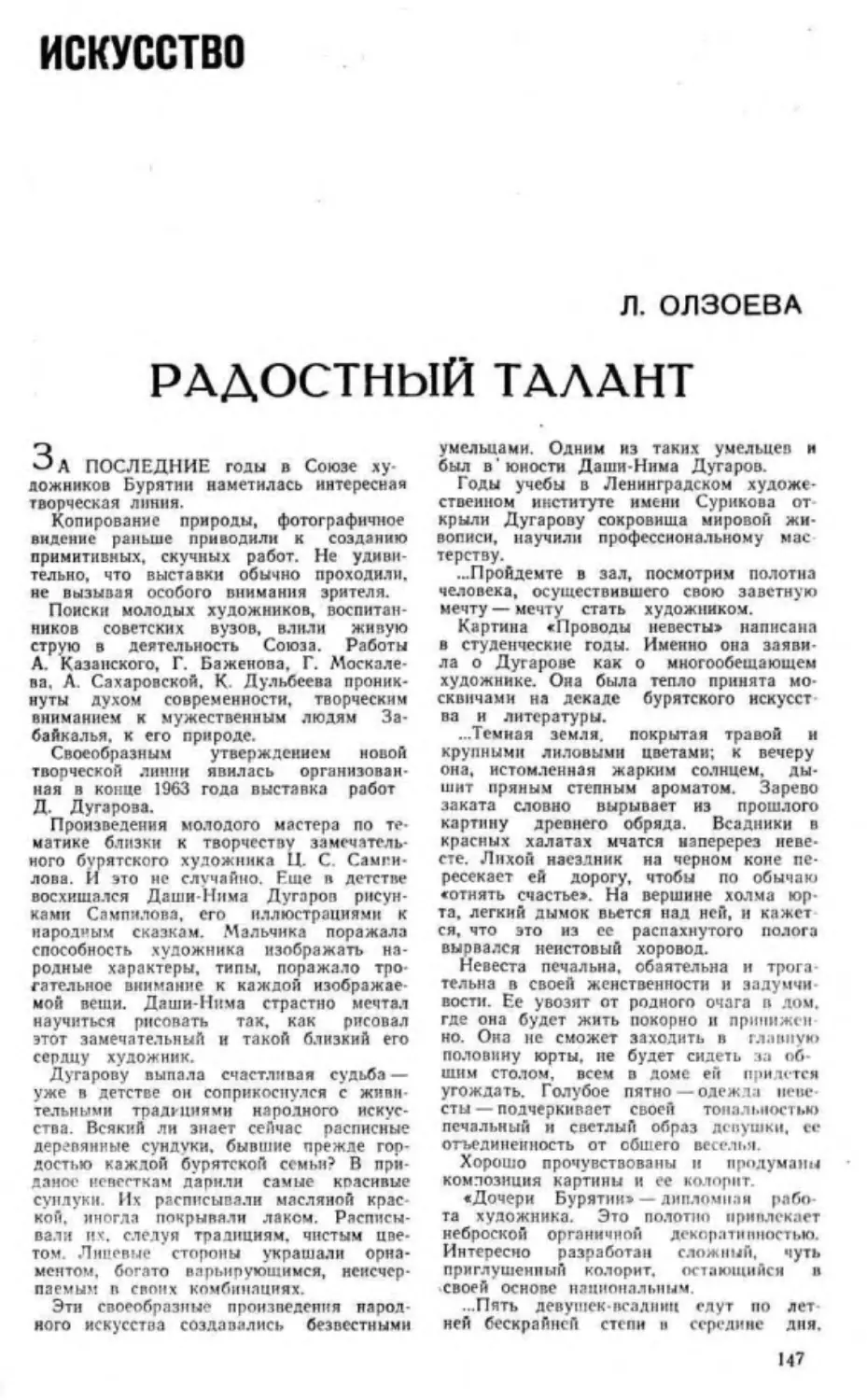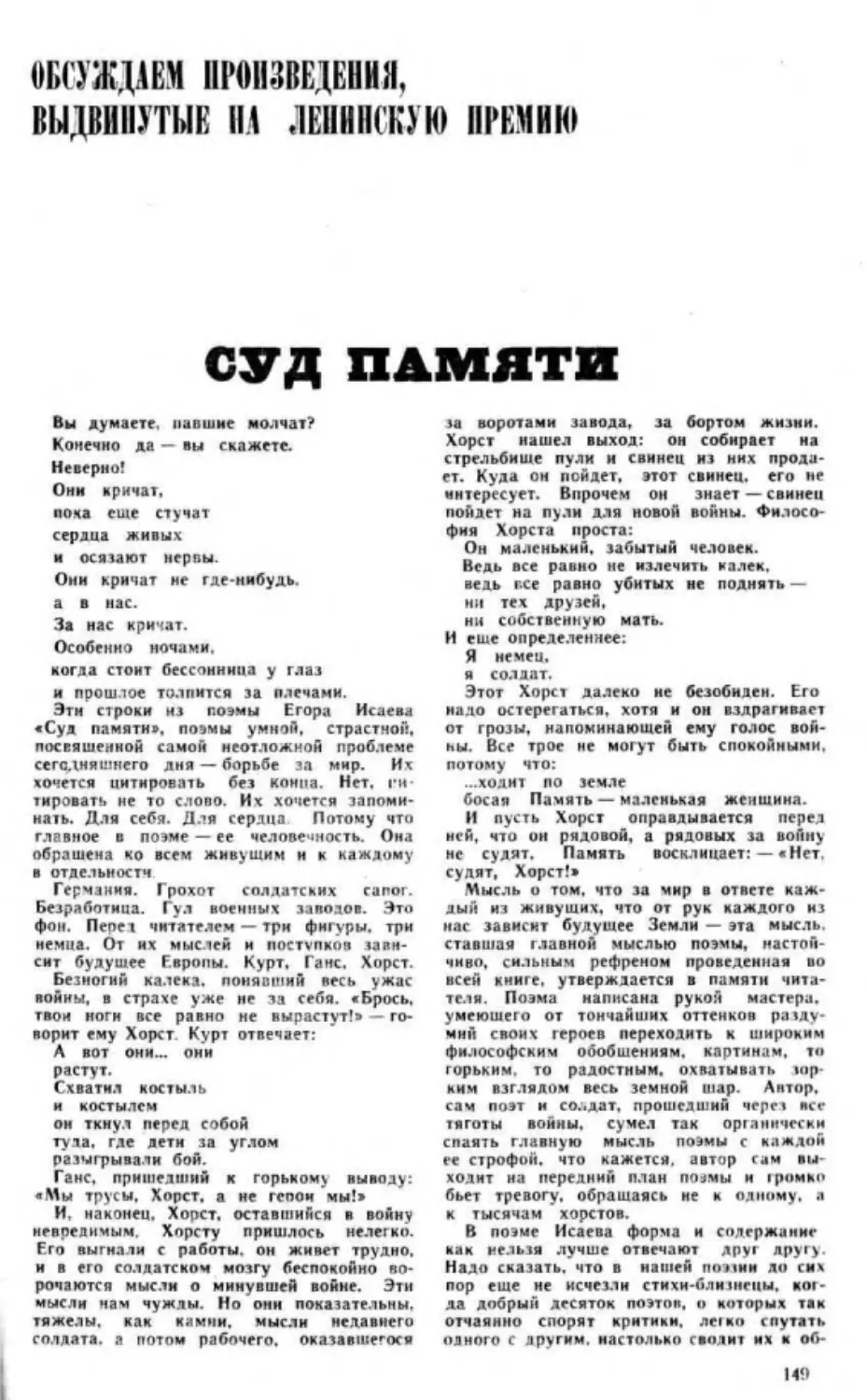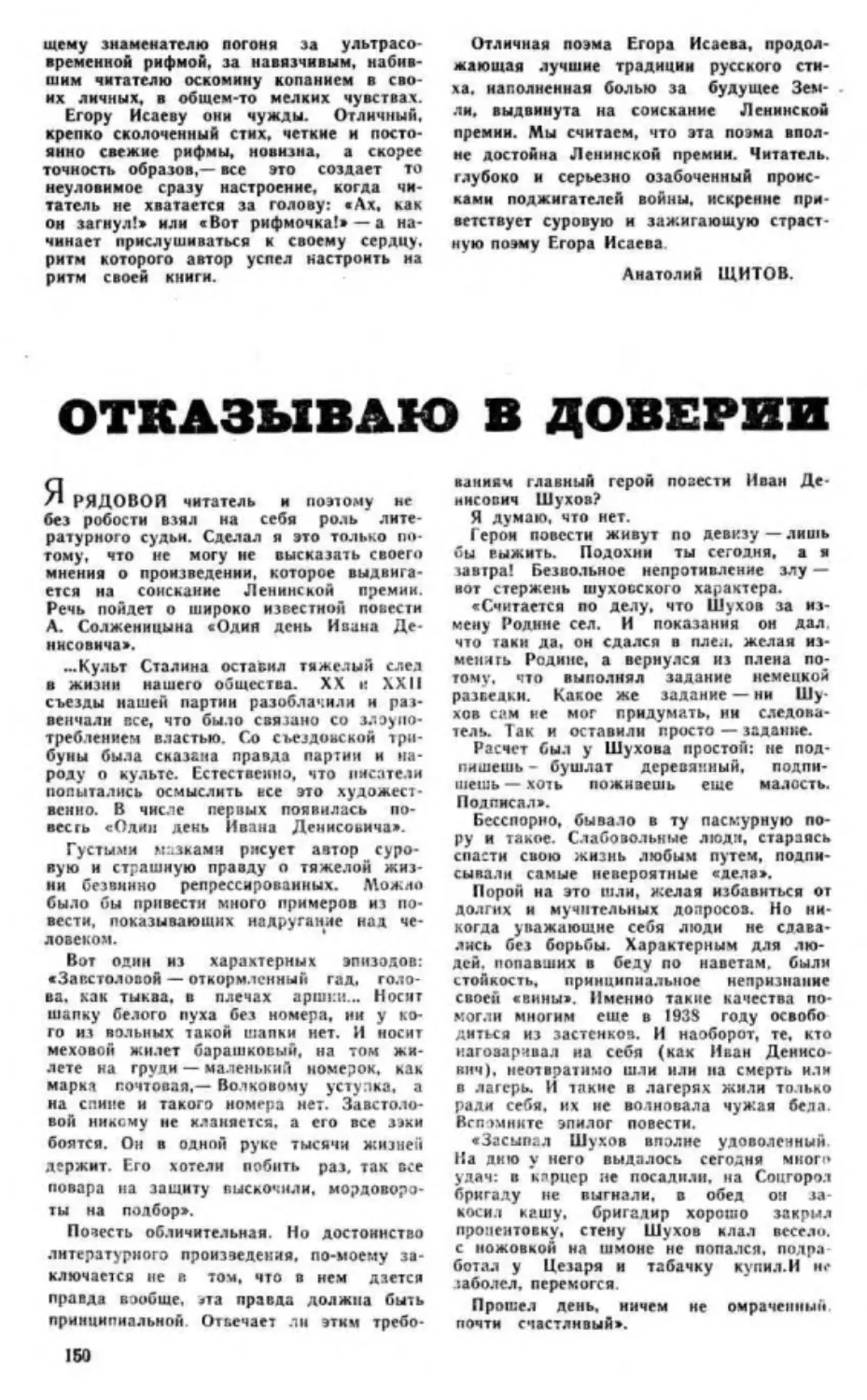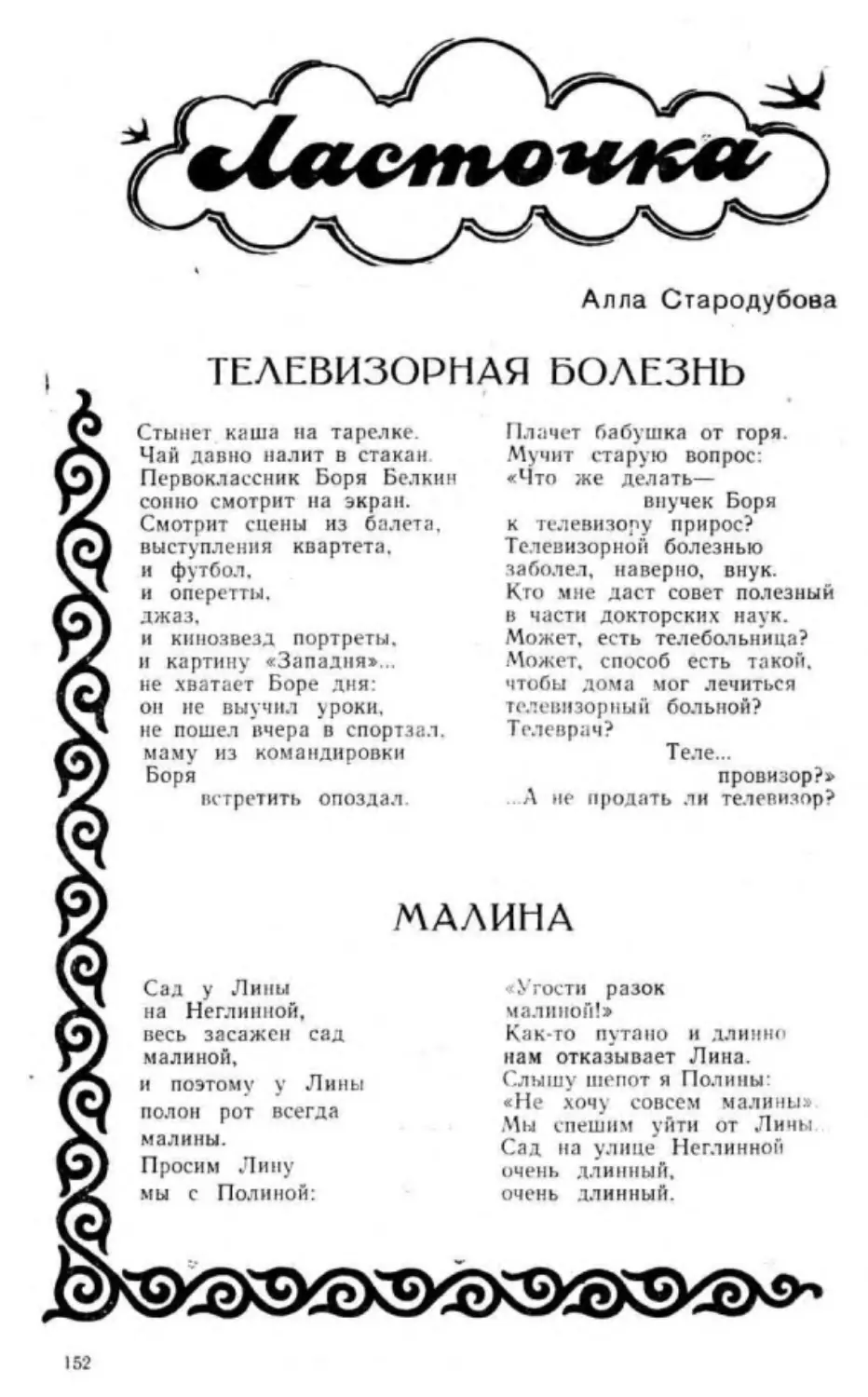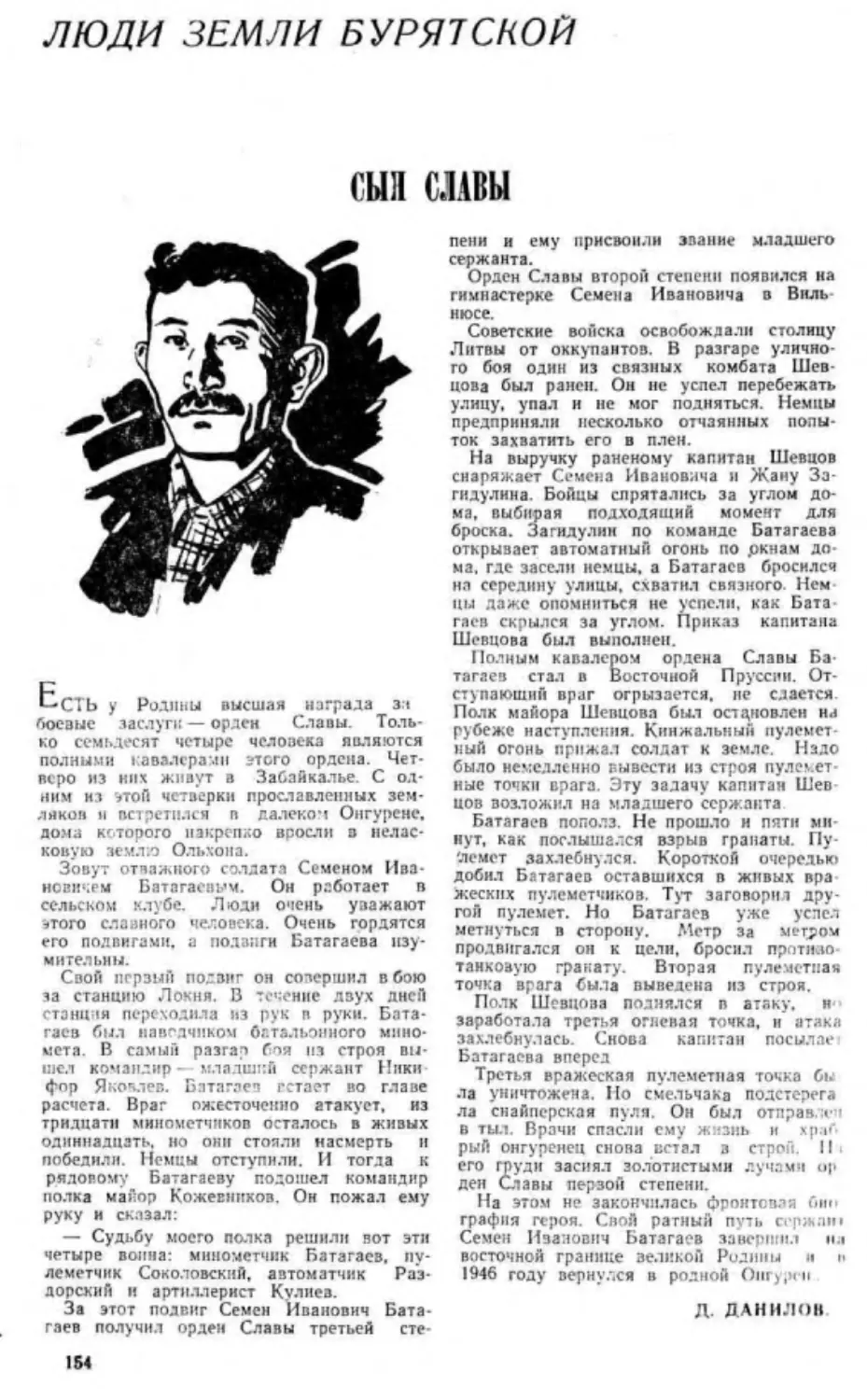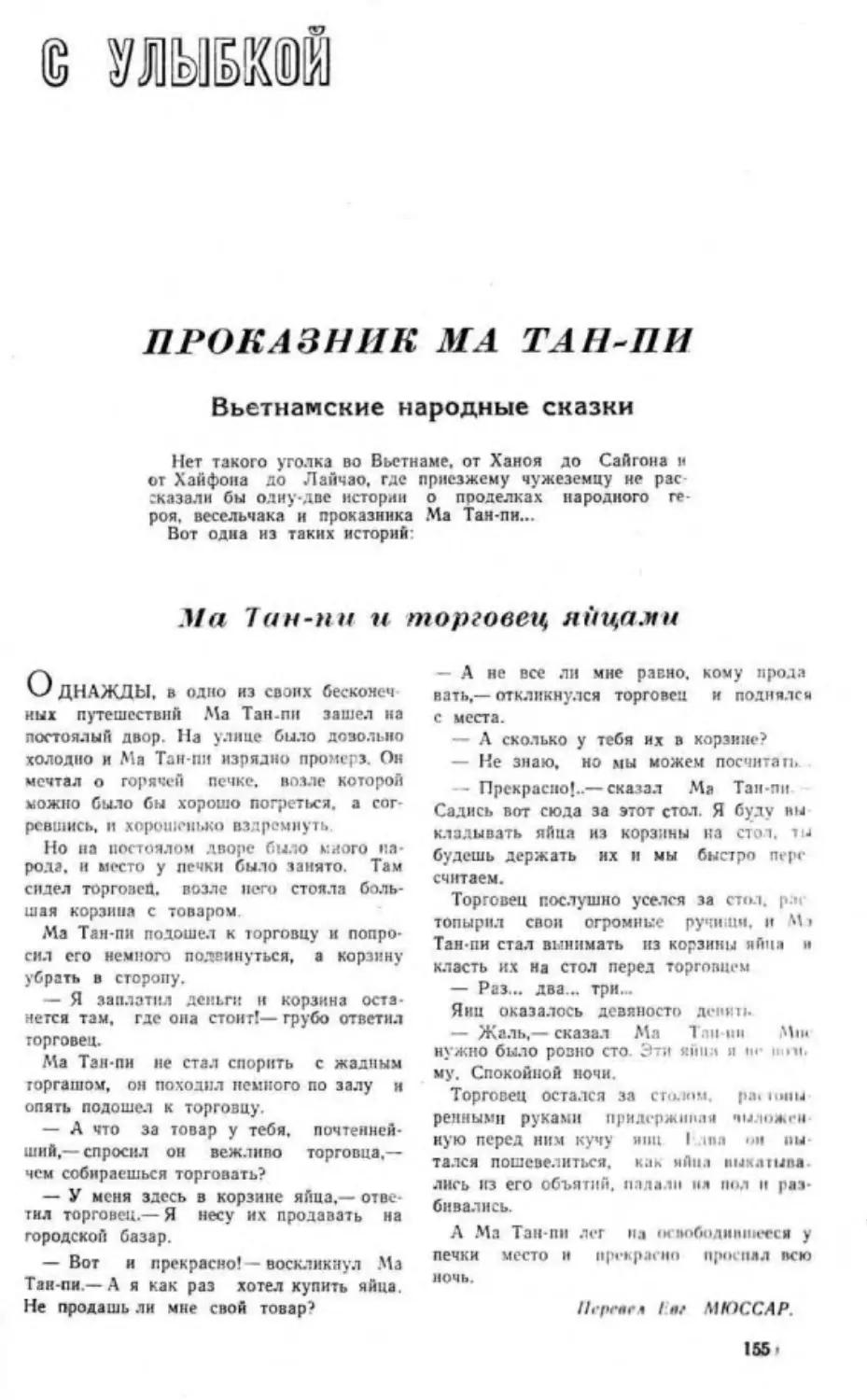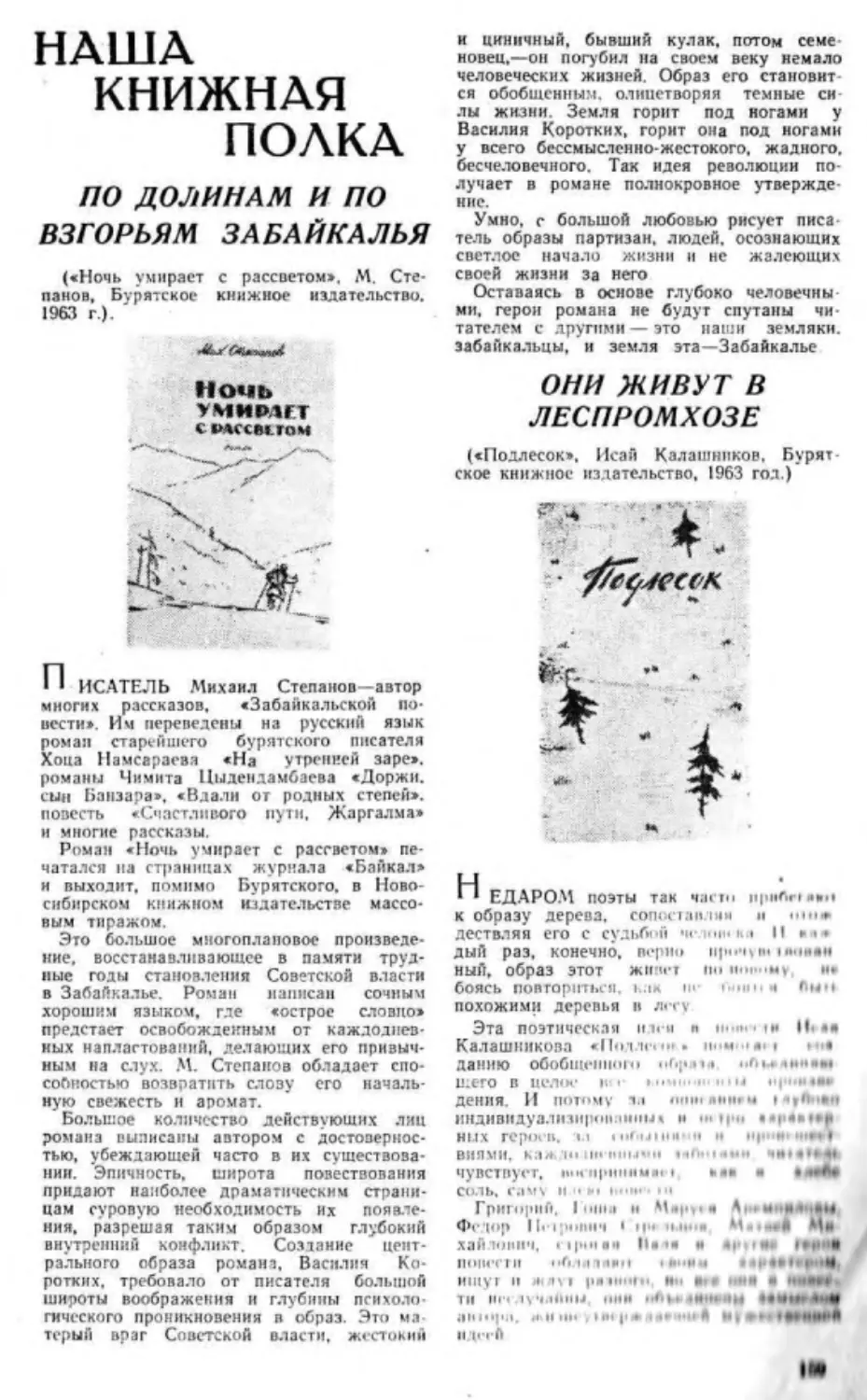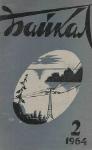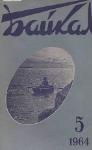Похожие
Текст
Литературнохудожественный
и общественнополитический
ЖУРНАЛ
Орган
Союза писателей
Бурятской АССР
Выходит один раз
в 2 месяца
Год издания десятый
В номере:
V I I НЫЕ ДАЛИ
Передовая.
К ЛО ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО О К Т Я Б Р Я
И КИРИЛЛОВ Мудрость труда Очерк
6
Ч ЦЫДЕНДАМБАЕВ. Наш друг Володя.
1'.11..-к,п Перевод М. Степанова
Л ЖЛМБАЛДОРЖИЕВ. И снова ясно.
1'»гск;п. Перевод В Штереиберга.
11
И Л.УГОВСКОИ Память солдата С т и х и
17
Ч ГОМБОИН Думы у костра. Стихи.
Перевод А. Балабаева.
17
И ЧУЙКОВ Конец третьего рейха. Про
юлжение.
19
К ИЛЬИН
Разговор о поэзии. Стихи
11г|К'чол В Киселева
38
И
ЛАЗУТИН
Черные лебеди
Роман
II МИРЕ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО
И ' ОКОЛОВ Лучи войны и мир;:
М \ МАСОН Лунные краски У реки
II Шунте. Мой дядя. Мы не завидуем
• \ | и .1 Улус Монголжон Стили Перево!
II Кн.. '-киа
9
40
55
I
лг>
ЬЬ
III < 1ЛДЛУЕВ. Счастье тебе, Сыдылм« п. .!..•( и. Перевод Г. Молостнова.
I
1|АИ1КУЕВ Битвы за гектар-богатырь 11 I
^1 I I . 'I \' I И К С ) Сиять заставить заново \21
Л 1.1 '|(1У('(Ж Бурятия в русской ро- 10П
и т и н г коЛ лирике 20-30 годов XIX века 1оН
лч>\||1
1964
январь—февраль
И:ТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
А. ХАДЕЕВА. Чтоб к
души.
слову тянулись,. ._
НО
Л. ОЛЗОЕВА. Радостный талант.
147
ОБСУЖДАЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВЫДВИНУТЫЕ НА ЛЕНИНСКУЮ ПРЕМИЮ.
А. ЩИТОВ. Суд памяти.
149
Н. МИРОНОВ. Отказываю в доверии. 150
ЛАСТОЧКА
А. СТАРОДУБОВА. Телевизорная бо'
лезнь. Малина. Говорят. А меня не беспо
коит.
Д. ДАНИЛОВ. Сын славы
154
С УЛЫБКОЙ.
КНИЖНАЯ ПОЛКА
155
159
Главный редактор
А. А. Бальбуров
Редакционная коллегия
Ц. Б. Бадмаев,
Зам. гл. редактора Ц. Г. Галсанов,
Ц. А. Жимбиев,
И. К. Калашников,
Б. М. Мунгонов,
К. Ф. Седых,
М. Н. Степанов,
Г. О. Туденов,
Д. А. Улзытуев,
Ц. Б. Цыдендамбаев,
Отв. секретарь В. Е. Штеренберг,
А. В. Щитов
Обложка работы худ.
В. УРИЗЧЕНКО.
Литературно- художественный
и общественно-политический двухмесячник
«Байкал» №1, 1964 г.
Рукописи не возвращаются
Т е х н и ч е с к и й редактор И. П. Нечаек
Корректор 3. И. Александрова
Адрес редакции: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 20. Тел. 28—82, 26—91, 23—36
Формат бумаги 70X108'/16- 10(13,7) п. л. + 1 вкл.
I I (10.Ч1Ц Подписано к печати 25/11-64 г. Тираж 9470 экз. заказ 1521.
1 тки |щ|| им Уп|).шлепни по печати при Совете
Министров БурАССР.
•
ЯСНЫЕ ШИ
Химизация народного хозяйства!
Пусть каждый вдумается в эти три
слона, которые выдвинуты поистине историческим декабрьским Пленумом ЦК
КПСС. Они потрясли весь мир. Громадные ассигнования на развитие большой
химии явились свидетельством—наглядным и неопровержимым — мирных устремлений советского народа и его правительства, свидетельством
созидательного характера политики Коммунистической партии. На путях к коммунизму наша
страна вплотную подошла к еще одному
громадного значения рубежу. Выполнение
плана большой химии—существенный
нклад советского народа в создание изобилия всех продуктов.
Химия в сельском хозяйстве—это не
только тысячи и тысячи тонн всевозножиых минеральных удобрений. Примепсине минеральных удобрений потребует
тщательного изучения качества и характера почв—нельзя вносить, например,
кмлиЯ туда, где его и без того в избытке. Уже сейчас в колхозах и совхозах
составляются почвенные карты. Наконецто агрономы займутся тем, чем они обя|.Ц||.1 заниматься: почвой, изучением и
улучшением плодородия земли. Все это
НЛРЧРТ за собой коренное повышение
культуры земледелия. Все это явится
предпосылкой бурной и небывало ускоренной интенсификации сельскохозяйстмгнного производства. Программа которой точно и мудро разработана историческим февральским Пленумом ЦК.
А химия в промышленности?
Нл и летел ли человек, который в наше
иремн ПР пиал бы значения слова «синтетики»? Пластические массы, синтети-
ческая резина, капрон, нейлон, лавсан—
всего и не перечислишь из громадного
множества заменителей
естественного
материала, сплошь и рядом редкого и потому чрезвычайно дорогостоящего. Возьмем, к примеру, синтетическую резину.
Что бы стала делать наша страна, на
территории которой не растет естественный
каучук — продукт
тропических
стран,—если бы наши химики еще в годы первой пятилетки не освоили массовое производство искусственных автомобильных шин из химических заменителей
каучука!
Не только потому именно сейчас поставлен на очередь вопрос о большой химии, что в наше время чрезвычайно возросла важность замены естественных материалов искусственными, а в сельском
хозяйстве—важность применения удобрений. Дело в том, прежде всего, что наша страна сейчас подготовлена к постановке и решению этой грандиозной задачи. Нельзя думать, что у пас раньше не
видели всей пользы от внедрения большой химии в народное хо.чяйстш». Благодаря исключительной по синему размаху
и плодотворности работы партии и правительства по подъему народного хозяйства за последние гиды м стране созрели
условия для того, чтобы выдвинуть этот
коренной иопрпг, ведения хозяйства на
повестку дня.
И « самим деле, можно ли было в
1953 году, п условиях, которые существовали в те времена, поставить вопрос о большой химии? Химическая промышленность тогда была сосредоточена в
рамках Министерства химической промышленности и развивалась сама по себе, в почти полном отрыве от других отраслей промышленности. В лучшем случае она могла выделять на нужды сельского хозяйства очень небольшое количество химических удобрений. В те годы
и думать нечего было о выполнении заказов сельского хозяйства
страны на
миллионы юнн минеральных удобрений.
Перестрелка системы управления промышленностью, образование
экономических районов, руководимых Советами пародного хозяйства, дали возможность развивать все отрасли
промышленности в
неразрывном комплексе. Гигантский разворот химической промышленности стал
возможным только потому, что эта промышленность вошла в единый комплекс
и с машиностроением, и с горнодобывающей промышленностью, и с лесоразработками, и, наконец, с сельским хозяйством.
Преимущество планового
хозяйства и
нашей стране находит новое л наиболее
полное выражение в плане большой химии. Продукция химической промышленности отныне будет определять уровень
и интенсивность развития всего народного хозяйства нашей страны. И это здорово! Это означает, что наша Советская
держава начинает по-настоящему, практическими делами решать те проблемы,
которые решались даже самыми передовыми капиталистическими странами совсем недавно — в предвоенные, а главным образом лишь в послевоенные годы.
Это значит, что мы уже догоняем, а в
скором времени обгоним Соединенные
Штаты Америки и в области химизации,
в области производства синтетических
материалов, в области производства минеральных удобрений. О том, что дело
обстоит именно таким образом, говорит
болезненность реакции на
решения декабрьского Пленума ЦК КПСС в цитадели
современного империализма—в Соединенных Штатах Америки. Как известно, во
псом мире давно уже стало обязательным
пристальнейшим образом, с неослабным
вниманием следить за развитием экономики нашей страны, изучать ее, аналишронать наши планы. Не от хорошей
-КИ.Н1И правящие крути Америки были
ныиуждсш пойти на попытку
умалить
д о с т и ж е н и и пашет народного хозяйства
щ»и нпмпщи фальшивки, изготовленной
111*1 и нм|'1ти и» итот смехотворный шаг
именно после декабрьского Пленума ЦК
КПСС—в дни, когда мировая пресса была занята обсуждением громадных
планов, принятых этим Пленумом. Святому
святое и снится. Выдавая желаемое за
действительное, американская
разведка
опубликовала насквозь фальшивый
доклад о каком-то снижении уровня
производства в пашен стране. Это была такая
беспардонная ложь, что даже архиреакциоикые круги буржуазных экономистов
оказались в сильнейшем смущении и
пролепетали жалкие опровержения, призванные оградить честь мундира этих
экономистов от фальшивки ЦРУ.
Ясные дали открыты перед нашей социалистической Годиной. Три года отделяют пас от пятидесятилетия
Великого
Октября. Сорока с небольшим лет оказалось вполне достаточным, чтобы страна
сохи, страна нищеты и сплошной неграмотности, чтобы лапотная при царизме
Россия запустила в космос первый
искусственный спутник земли, чтобы она
же послала в космос людей и в их числе
первую жепщипу-космопавтку. Мир наш
необычайно молод. Мир социализма только-только разворачивает свои исполинские силы. Советская социалистическая
держава гордо объявила, что она вкладывает невиданные
до сих пор средства «а развитие большой химии, что для
осуществления ее грандиозных замыслов
нужен мир на Земле, нужно полное и
всеобщее разоружение. Труд и творчество — родные братья.
Они исключают
всякие подлые хитрости, корыстный обман и военные авантюры, на которые
горазды дряхлеющие империалистические
хищники Запада. И как не вспомнить в
связи с этим великолепные слова Маяковского:
Другим
странам
по сто.
История —
пастью гроба.
А моя
страна — •
подросток,—
твори,
выдумывай,
пробуй!
Советская литература всегда
находилась в авангарде своего народа-творца
и созидателя. Точное и активное отра-
жение героических дел и устремлении
нашего великого современника — такова
задача писателя страны социализма. С
атой задачей отлично справлялась советспая литература. И нет никакого сомнения в том, что она справится со своими
задачами и сейчас, в поворотный момент
развития всего народного хозяйства, всего строительства коммунизма. Отразить
талантливо и верно борьбу народа за
дальнейший технический прогресс в нашей стране, отразить в книгах живые
дела живых современников, героев большой химии—долг каждого советского писателя, в каком бы жанре он ни работал.
Наша эпоха ставит перед советским
писателем требования, совершенно огличные от писателей прошлого или от
писателей современного капиталистического Запада. Речь идет о том, что вер1Н1ГТ1. отражения грандиозных дел наших
гопременников обязывает писателя отлично
рмбираться в этих делах, то есть знать
и достаточном объеме то, что составляет
сланное направление в промышленности
и и сельском хозяйстве. Не подлежит
сомнению, что таким направлением в
народном хозяйстве нашего времени явлигтгя химия. Писатель не может остаться
и стороне от всенародной борьбы за большую химию. А эта борьба потребует знаний, знаний и знаний. Иначе и немыслится участие писателя в выполнении
истсфического постановления декабрьского Пленума ЦК КПСС. Иначе получится
просто конфуз. Как можно писать, например, о мыслях и думах, о делах и замыслах инженера-химика, задумавшего
изменить технологический процесс получении какого-нибудь химического продукта,
••гли паявшийся за очерк на эту тему пн| птсл|. не будет разбираться в азах химик? Отсюда вывод: писателю тоже надо
< ПДИТ1.П1 за парту, за книгу и изучать
пгшшы современной химии. Мы говорим
••тоже» потому, что сейчас вся страна
«тля на учебники по химии. Рабочие и
иолхшшики, партийные работники и специплисты сельского хозяйства — сейчас
и йукиплыюм смысле этого слова не най-
ти такого работника на селе, кто оы не
изучал химию. Да и не только на селе.
Снова и снова становится во весь рост
старый, как мир, вопрос: сколько надо
знать писателю? И снова и снова время
дает ответ на этот вопрос: больше, обязательно больше, чем читатель. Еще
Чернышевский называл литературу учебником жизни. Грош цена такой книге, из
которой читатель не почерпнет никаких
новых истин, никаких новых сведений.
Стало быть писатель обязан непрерывно,
непрестанно, жадно и неустанно стремиться все к новым и новым знаниям.
Все это касается не только писателей.
Точно такие же требования предъявляет
современность ко всей творческой интеллигенции. Невежеству должна быть объявлена война во всех сферах нашей
культурной жизни. Сколько еще у нас
встречается таких, которые не стыдятся
того, что не имеют основательных познапий ни в одной отрасли человеческой
деятельности, не считают даже неудобным не знать основы агрономии н писать, в то же время, о трудовых буднях
колхозника!
С течением времени все яснее и яснее
становятся дали, за которыми уже не
угадываются, а узнаются зримые черты
коммунизма. Народ наш с каждым днем
наращивает свои усилия с тем, чтобы самоотверженным творческим трудом приблизить полное торжество коммунизма.
Этот труд прекрасен. Он достоин самых
лучших строк и в поэзии и в прозе. Он
достоин напряженных поисков кисти художника, достоин небывалых по красоте
формы и мысли мелодий композиторов.
Давайте творить во имя народа, строящего коммунизм — светлое завтра нашегэ
народа, лучезарное будущее всего человечества!
К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
В. КИРИЛЛОВ,
бригадир электрослесарей
электромеханического цеха ЛВРЗ
МУДРОСТЬ ТРУДА
О ч е р к
Рис. худ. С. Бобылева.
Все это я высказал не ради красивого
словца. «Предисловие» мне понадобилось
для того, чтобы ярче, правдивее рассказать о моих друзьях, о нашей бригаде
мехтрослесарей, которую вы всегда можете встретить в электромеханическом це
хс
НЬЮТОНЫ И ЯБЛОКИ
О1ЮРЯТ,
Г случайно.
^—'РЕДИ бездельников я встречал красивых, а вот умных не встречал. Меня это
и не удивляет: мозг — не живот, от даровых хлебов больше не становится. Зато
среди тех, кто не мечтает без труда вытащить рыбку из пруда, я встречал настоящих мудрецов. Загляните к нам на ЛВРЗ
В любом цехе вас представят депутату.
Каждый из них, в конечном счете, именно
тот самый «кухаркин сын», которого Ильич хотел научить управлять государством
11 научились, здесь, на заводе. Труд стал
учителем. Ему, мы, рабочие, обязаны всем
Он ншлковывал нашим отцам «алгебру
революции:». Моему поколению он разъясняет законы будущего.
что открытия совершаются
В доказательство обычно
ссылаются и.1 Ньютона. Мне эти ссылки
к а ж у т с я пустыми. Ньютон дни и ночи на
прсин'Т работал над изучением законов
природы. Кс'ли было бы иначе, даже воз
яблок, р у ч н у н ш и й на голову, не натолкнул
бы по пи О1крытне.
И м и . ) брша/ы пришла к своему «открытию» т о ж е III' вдруг.
И тс дни занод как раз перестраивался
на ремонт электровозов. Ну и чтобы периую м а ш и н у встретить более или менее
но хсинйски, администрация завода напра
|шл;| г р у п п у рабочих стажироваться на
москопскип чанод. Попал в эту группу и я
Вернулся на ЛВРЗ через месяц. Шпранили меня » электромеханический цех
Так я стал первым электрослесарем, ремолт!фои;лш1им первый электровоз.
Электровозы все прибывали и прибывали Понадобилась уже целая бригада. При
шли м> мне и.ч Гюмощь Поликарп Павлов.
Вячеслав Дорошенко, Федор Павлов, Евгений Попов, Устий Иванович Шкабров,
Егор Васильевич Швырков, Юра Пестерс-в и Леня Хакимов. Девять человек —
сила немалая, но только в том случае,
если опыт у каждого есть. А у нас опыта
было не больше, чем воды в засыпанном
колодце.
Положение незавидное. Можно обни
• чм я па прощание и расходиться в раз- поиске возмужал наш опыт. Производствентроны. Но мы не разошлись. Всех ные нормы выполнялись легко, без напряже*и ни! не раз солила и пересаливала, ния.
До октября мы с грехом пополам
м и п п м у мы точно знали: опыт — дело на- справились с ремонтом 12—14 электрово«няииг. На том и порешили: будем друж- зов. После октября 19—20 машин прохоин жить — поживать и опыт наживать.
дили через наши руки.
Н а ж и м а л и буквально по крохам. ГолоТак бригада оказалась «на стартовой
•т от раздумий гудели, а уж поту проли- площадке» для взлета в небо большого
|М
иуд соли можно выпарить из этого новаторства.
•мне. Ведь у нас даже инструмента нуж',1,1 не было. Подгоняешь на глазок, по
ОДИН ДЕНЬ В ОКТЯБРЕ
•мять раз переделываешь,
пустяковую
• «I ряцию на несколько этапов разбиваешь.
ЕВЯТЬ парней обменялись папироса• ищется, вот-вот нервы, которые натянупи, посмеялись над шутками. Замол• и струной, не выдержат, пошлешь все к
чали,
но не расходятся. Понимают, что
§«1<тякоЙ матери и побежишь к начальницу цс'ха требовать перевода на другой собрались в этот раз не для обычной ве»чисток. Но тут, в самый критический мо- селой послеобеденной беседы, длиною в
словно ненароком Женя Попов ока- одну папиросу. Ждут, когда начну гово| А у Женьки всегда в запасе есть рить. А мне немного не по себе — страшш шутка. Рассмешит — гнев как-буд- новато. Смотрю на ребят: чего их вроде
••I ||укой сняло. Мысль снова ясна, значит, бы бояться, свои ведь в доску, светлые
души, добрые парни. Словом, нечего мии лгло тебе подчиняется охотнее.
Ипнню, однажды бился я с наконечни- зансцены разыгрывать, говорить надо.
Начинаю. Так, мол, и так, ребята, за>"М иииода— есть такие детали у полюс•и'й « ш у т к и Сверлить их надо. Сижу и крывал я нынче наряды. Хорошо закрыл.
(•««нечто керна по линейке. Разметил. Бе- Сами помните. Получили мы денежки чегу сперло. Р-раз. Накренилось и... брак. стные, пахнут они только потом нашим и
• ч досяды готов был сверло разбить. Но все-таки легковаты те рубли, друзья.
' ' ни спас сверло «от расправы». ПобаДумал прервут меня, разобидятся. Но
" Ц1ИЛ. а потом и говорит, вздыхая:
нет, слушают серьезно. Полегче мне от
Да-в, размечать—скучное занятие. Вот этого доброго внимания стало. Продолжаю
>< мидумать, чтоб без разметки, по шаб- начистоту мысли свои выкладывать. ВидиУ
те ли, братцы, мне наряды закрывать при
Унк-л он, а у меня звучит в ушах — «по ходится и поэтому я порой замечаю то.
икПлону». Не выдержал, разыскал масте- что не видно вам. А заметил я, что пори, посоветовались мы и увидели, что люсные катушки к электровозу «ВЛ-60» мы
митио УГОТ самый шаблон для сверловки вдвое быстрее делаем, чем по нормам по• •••• инпмшкоп сделать. Засел за чертежи, ложено. Ясно теперь, почему рубли-то на. лиги через пять испытали мое изобрете- ши легковаты?
нии Удячно прошло испытание: брака нет
Молчание. Но по глазам вижу, понима• "|"-мши немало сэкономлено.
ют парни куда гну, а молчат. Почему? ДуМп|| ип.чмп и стал тем самым «ябло- мают, что в инициаторы на их горбу вым«, которое напряженную до
предела ехать хочу? Может быть, не хотят расстак толкает на завершающий шаг к ог- ваться с мирным житьем-бытьем, с успеиш
хами, которые вырвали из лап разных не1'и ншплмсь находкам, как дети. Как-то урядиц? Закрутилась в голове моей во г
мри Максимович Павлов пришел на этакая буря мыслей, из-за нее и не заме«•ну и говорит:
тил кто же первым из нашего круга мол||||.ми.14, кто сегодня катушки лудить чание вышвырнул. Слова помню, спокой' Л г и , никому, вижу, неохота пере- ные гордые такие:
• •шилп. чти махины к ванне с оловом,
— Ты что это, бригадир, в друзей не меи-п'и мы, собственно, их таскаем. Это
•• И* рлГюта получается, муравьиная воз- ришь? Дело ясное. Мы же рабочие, но'
кустари-одиночки.
Не ждать же нам копы
• Умом надо, ребятки, чаще раскиды( к/цинге, почему, собственно, не хронометрист заявится да за верстак спря|. 11.14 миленькие переносные ванны? чется...
Ну и хохот же тут г р я н у л ! И йот поче.'•плис:, катушку лудить, ванночку
» и лущ за милую душу. Удобно, му. По заводу давно песг.ин история бро-. т» т»
дит о «дуэли» нормировщики к фрезеров-'
I
м и р к и , сегодняшнему «Ньютону> не щика. Заметил периий, что рабочий явно
I . и к н у л и хлопцы «ура» и кинулись перекрывает нормы. Решил снять хронометраж. Снял -- п гли.|;1м иг верит: елеМши'имыча.
"|| | . н и щ накапливались. Кто-то элек- еле рабочий и норму укл;|Дии;|ется. При> | | Н мп,инициировал, другой настоял шел н другой р,-| I, с и р я м л с я за колонну,
Ц|' мп п переоборудовать, третий ра- фрезеровщик л н м п п л « т . ч о а д у » — и опять
' !П|1М<1 игктротележку и предло- хронометрист п д у р а к а х остался. Долго
т я н у л а с ь Л'а «думь», а закончились не• • . 1 1 1 П 1 1 . 1 . 1 1 1 . 1 1 1 , ее для перевозки катуожиданно.
1
чиним, к октябрю прошедшего года
Над цехом крышу перекрывали. Нор• ни ),«(...п | лобрый десяток собствен- мирошцик забрался туда. Взял бинокль —
и пин II постоянном творческом и снимает преспокойно хронограмму. Про-
Д
горел бы, конечно, на этот раз фрезеровщик да кровельщики помогли. Послали
«голубя», а на нем написали: «Брату по
классу. ОТК на крыше». Фрезеровщик
принялся время тянуть специально. В цехе хохот. Посмотрят парни на крышу —
и за животы хватаются... Так и провалилась «операция»!
...Похохотали мы вволю, а потом серьезно заговорили о том, что нам такая
«дуэль» не подходит. Время не то, люди
не те. Каждый хорошо помнит слова Никиты Сергеевича о личном резерве рабочего, о том, что резервы эти не нужно
прятать, потому что они необходимы для
технического прогресса. В бригаде нашен
резервы накоплены. Если ввести их в бой,
победу можно завоевать немалую.
Охваченные раздумьями, мы разошлись
по своим местам, а после смены собрались опять в круг и без всяких проволочек принялись анализировать свой рабочий день. Подметили наши «дыры», в которые время просачивается, придумали
как эти «дыры» заткнуть. Каждое предложение записали и получился у нас самый
детальный план по у л у ч ш е н и ю организации труда. С этим планом и отправился л
на «дипломатические переговоры» к руко
водству цеха.
Начальник цеха М и х а и л Федорович Филиппов и парторг Григорий Филиппович
Бадмаев в ы с л у ш а л и меня, не с к р ы в а я удивления и... недоверия. Самостоятельный
контроль над мерой труда и зарплаты?
Не слишком ли рискованное начинание?Однако когда я предъявил наши расчеты,
сомнения исчезли. Договорились обсудить
наше предложение на общецеховом профсоюзном собрании.
Обсудили. Одобрили. Увеличили мы бригадные нормы на пять процентов. Через
—- месяц еще — на десять. Потом... Потом...
мы, инициаторы, оказались «в хвосте»,
электросварщики цеха металлоконструкций
попросили отдел труда и зарплаты увеличить им нормы выработки на двадцать
пять процентов. В нашем цехе семьдесят
человек стали нашими единомышленниками, а по заводу — около пятисот. Лавина
рационализаторских предложений хлынула
в БРИЗ. Раньше в плане электромеханического цеха по технической реконструкции у нас числилось сто тридцать два мероприятия. Теперь — триста!
И волна, вызванная нашим октябрьским
днем, вздымается все круче и круче. Онз
смывает с человеческих характеров корыстолюбие кустаря-одиночки, она в ше-
пы разбивает хатки, в которых принт
лись любители «жить с краю». Счастлива
пути тебе, могучая волна!
ИЗ ТРОП ВЫРАСТАЮТ ДОРОГИ
>-'Т ПОРОГА моего дома до прохо.т
ной моего завода — километра пол"
ра. Хожу я этой «полуторакилометровк<н'|
девять лет: от дома — до завода, от з;::«
да — до дома. Если бы сложить,— инс>1
думаю я,— все «полуторакилометровкп.
получилось бы весьма порядочное рас'."'
янне. Что-то около девяти тысяч килочп
ров. Любой путешественник позавидуг
И не только «километраж» завист,. ньш
вет, но и мои впечатления.
Я каждый день шагаю по своей три:;'
бодрый — на работу, усталый — с рабом
Иду и признаюсь... в любви к жизни I
той. которая так бурно шумит по обчр
сторонам моей тропы. Со мной прощак>'
ся спутники, со мной здороваются ветре
ные. Встречным я уступаю дорогу. Их и
надо задерживать, они спешат на за пси
Провожаю встречных взглядом. Люб и
смотреть на людей, уверенно и радости,
идущих на труд. Шаг тяжел и широк
Плечи, чуть-чуть, не до сутулости, р.-:'
слаблсны. Они налиты силой, смекалист и.
силой рабочего, и ее берегут сейчас. Л и п
сосредоточены. Взглянешь на такое л и п '
и поймешь — человек идет рука об ру|с могучей думой о деле, за которое с ы >
вскоре предстоит взяться.
Я уступаю дорогу встречным и см<лр1>
им вслед. Со многими я знаком. Все сип
пришли к нам в бригаду как только V >
нали о нашем почине. Пришли и ска:<.|;и
прямо:
— Ну... это... Коль помочь... пожалуйста
Помогали без назойливых просьб. Но '
нецы стали обжигать катушки в газоии.
печах своего цеха. Механики разыскл.'и
заброшенный станок и приспособили п
для разделки изоляции выводны> кошн»
катушки.
Сильные и чуткие руки друзей о к а й
лись главным оружием в нашем «.арч
нале». Друзья помогли нашему де./ > |"
стоять, окрепнуть, а потом пошли т и
за нами. Идут... идут... идут... А ког,ы >
тропу встают сподвижники, из тронь 1 и
растает широкая дорога.
!•№ РАССШ
Чимит ЦЫДЕНДАМБАЕВ
НАШ ДРУГ ВОЛОДЯ
1 » ( А Л Е Н Ь К И Й Володя Бадмаев терпеть
нг может, когда над ним посмеиваются. Какой-нибудь дядя сделает умное лицо, поглядит этак серьезно и скажет:
- Этот мальчик рассуждает, как старуха.
Разве можно стерпеть такую обиду?
Попке сразу захочется здорово досадить
I цмодовольному дяде: закричать, запры1ИТ1., пролить на скатерть чернила, влезть
но дворе на самое высокое дерево, киАШЬ оттуда взрослым на гладкие лысины
• 01110П1.10 и смолистые шишки. Или цел у ю неделю сидеть там на скрипучем суму и плакать.
Молодя еще не очень большой мальчик,
гму пока восемь лет, он уже немало зна•т. Г.сли пока и не все понимает, так у
нпо впереди еще сколько времени, все
мрпсипое, все интересное будет знать.
Он обладает огромной силой воли, сам
•оспитывает в себе терпение и мужество:
иг станет хныкать, если иной международим(1 жулик будет даже десять суток дер*яп> ею в подвале на одной воде и хлеЛ>. I ели пьяный
верзила
Махатханов
• «И.1 им за ноги и опустит вниз головой,
он и то не заревет. Нет, он не такой, чтооы уронить свою честь.
Л вот, когда какой-нибудь дяденька,
и у < м л й даже очень хороший, или какаянмПу/и. тетенька выслушает все его мечтании и мысли, и вместо того, чтобы поблац | « п р и п . на умные слова, скажет: «Этот
мяльчик рассуждает, как старуха»,— это|ц П и т и и не согласен спокойно стерпеть.
• т р у н и м может и приятно, что у них та-
кие молодые мысли, как у этого мальчика, они от такой похвалы готовы петь веселые песни, а для Володи это горькая
обида. Как у взрослых
поворачивается
язык говорить такие несуразности?..
Вообще, мальчишкам, которым по восемь лет, очень трудно жить на земле, их
все обижают. И особенно — весною.
Весна не похожа на осень, это всякий
знает. Осенью короткие, серые дни, долгие ночи... А весною дни ясные, теплые,
сегодня длиннее, чем вчера. Об этом в
каждом стенном календаре точно указано, минута в минуту.
Весною взрослые обижают маленьких
за все. За то, что ты во дворе, а во дворе весна. Разбежишься, разовьешь высокую скорость, не сможешь сразу затормозить, заденешь легонько тетеньку с сумкой — и все. Яблоки раскатились по мостовой. Яблоки у нас не особенно растут
по каким-то там климатическим причинам,
они привозные, их изредка продают
в
хрустящих целофановых пакетах, похожих на крылья стрекозы... Извинишься,
как полагается, поможешь тетеньке собрать яблоки, она тебя не только не угостит яблоком, но оте обзовет сорванцом,
пригрозит отодрать за уши.
Что там весна, даже зимой взрослые
мешают играть как следует. Играли мы в
Чапаева, Саши Курносое и Миша Дамбаев были дозорными белого генерала, а
Гоша Ваганян будто правдашний разведчик чапаевской дивизии. Не мы, кто-то
другой
попал
чистеньким-чистеньким
снежком дяденьке в спину. Снег белыйбелый, совсем не грязный, а дяденька за
9
кричал так, будто я залепил в него комком глины или настоящей гранатой. Схватил меня за плечо и обозвал хулиганом.
Даже играть расхотелось... Из-за
этого
дяденьки, по словам Володи
Бадмаева,
его окружили белые, контузили и совсем
уничтожили.
Мальчишки не должны терпеть такие
незаслуженные обиды. Володя решил покончить с этим раз и навсегда, написать
письмо самому маршалу Семену Михайловичу Буденному. Когда мамы не было
дома, он так и написал на конверте: «Москва, Буденному Семену Михайловичу самому. Маршалу>. И стал думать, что еще
можно добавить. А ничего и не надо добавлять: даже в большой Москве не может быть второго Буденного, да еще Семена Михайловича, маршала. Да во всей
России Семен Михайлович Буденный рождается один раз в сто лет.
На конверте он больше ничего не дописал, внизу только прибавил: гор. УланУдэ. Школа № 37. Володя Бадмаев.
Вырвал из тетрадки белый-белый, чистый-чистый листок, обтер промокашкой
перо и принялся сочинять письмо.
«Дорогой товарищ Буденный,— старательно выводил Володя.— Все мы узнали
из газет и по радио, что тебе десятого
марта стало ровно восемьдесят лет. И что
тебе золотую медаль дали. Поздравляем
тебя и желаем еще долго жить.
Дорогой товарищ Буденный, ты даже
не знаешь, как нас, маленьких, обижают.
Зимою на стадионе коньки не дают без
папиного или маминого паспорта. И еще
я тебе хочу сказать...»
Больше Володя ничего не успел написать — вернулась мама, застала его за
столом. Володя спал, положив голову на
руки.
У многих мальчиков добрые, хорошие
матери. А Володина мама строгая, даже
очень злая. Разве это ему не обидно?
Ведь все мамы должны быть ласковые,
особенно весной...
А мать трясет перед его носом письмом.
Ах ты, негодный мальчишка! Чего
только он не выдумает! Только и знай,
что следи за паршивцем. Самому Буденному шдумал писать, не хватало еще беспокоить старого человека.
Еще пишет:
• Дороюй товарищ Буденный»... Друг какой у маршала сыскался! Еще на «ты»
• •(•|| МН.1П. ч
П и п . ты, обижают его,
он
самому Буденному жалуется. Да я со всеми обидчиками сама расправлюсь. Раньше, говорят, мальчишки в твои годы на
шахтах, под землей, коногонами работали,
деньги домой приносили... А вы с семи
лет в школу ходите да еще какие-то обиды для себя выдумываете. Мой руки, ешь
да спать живо!
Володя немножко поел чего-то без всякого желанья, разобрал свою постель, и
долго беззвучно плакал под одеялом.
Сейчас Володя сидит на высокой скамейке, болтает ногами в ботинках с побелевшими, сбитыми в футбол носами, и
рассуждает:
— Есть такие, почти взрослые, почт!'
дяденьки... Они с нами уже давно не играют. Им весною совсем легко. Им уже
вот сколько...— Володя нагнулся, написал
мелом на сером, рябом асфальте:
8 + 8=16.
— Вот сколько им лет — целых шестнадцать. Они уже книжки дедушки Маршака не читают.
Попроси
рассказать
«Мойдодыра», они разозлятся, еще драться полезут... А чего задаются? Смотреть
на них смешно: сидят вечерком в скверике, держат в руках книжки. Не читают,
просто так держат. Я поглядел: у одного
С. Есенин какой-то, у другого С. Щипачев... Молчат и на небо смотрят. А там
ни самолетов, ни птичек, одни только облака на них они смотрят. И вздыхают,
будто у них новенькие рогатки отобрали
Один еще тихо так сказал:
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...»
Будто вот-вот заплачет. Печальные они
какие-то, не знают, что ли: ведь скоро
можно купаться и цирк открывается!
Володя не может понять, что у этих
больших мальчиков есть свои обиды и печаль: безответная любовь, девичья капризная гордость... Они даже иногда завидуют маленькому Володе, хотят, чтобы
им было поменьше лет. Ну, скажем:
18—8 = 8.
Тогда бы в душе не было весенней печали, томления любви.
А ведь и для тебя, Володя, придет такая же тревожная весна. И ты будешь
смотреть на высокое небо, на зеленые почки, которые сдерживает до поры до времени великий пахучий клей, не дают листочкам распустить свои бойкие крылья.
Даже стихи попробуешь сочинять... Твой
маленький братишка и будущие дружки,
которые едва-едва успели родиться на
Пглый свет и голосисто плачут в родильном доме, будут смотреть
на тебя с
удивлением и немножко завидовать.
Мы встретимся с тобой через восемь
«м, я верю в это. Как же мне узнать тебя, ведь ты будешь высоким, стройным и
сильным? Тебе станет смешно, когда я
кпомню, как ты обижался на взрослых,
им да они удивлялись, мол, ты рассуждаешь, как старуха. Они же восхищались
ш(1<»й, Володя!
То же солнце будет сиять над нами. На
•Тих деревцах будет шуршать новое, восьмое, с сегодняшнего дня, поколение ли• шгн. Листья наизусть заучат молитву
влюбленных: «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»
С юностью придут к тебе и другие меч-
ты — смелые и дерзкие. Они есть и у тех
мальчишек, которые сегодня сидят в вечернем сквере, с нераскрытым томиком
стихов на коленях.
Дай мне руку, Володя. Дайте мне руку,
славные мальчишки, которым сегодня шестнадцать лет. Дайте мне ваши руки,
ведь они еще больше украсят наш чудесный мир. Я никогда не заканчивал своих
рассказов лозунгами, а на этот раз, назло всем чертям и премудрым критикам,
не могу
удержаться:
— Да здравствует весна, Дети, Любовь! Да здравствует жизнь!
Авторизованный перевод с бурятского
М. Степанова.
А. ЖАМБАЛДОРЖИЕВ
И СНОВА ЯСНО
«ЗИНА бросила
недомытые
пивные
• |»у*кн, приподнялась
на носках и,
прикрыв глаза еще влажными покрасневшими руками с разбухшими от воды пальни мм, посмотрела в ту сторону,
откуда
яниосился гул мотора. «Опять, наверное,
•м»нмотр»,— с досадой подумала она.
Зиип очень любила наблюдать за взлеишнпнми самолетами. Ее приводил в гречи !»«•• моторов, сотрясающий землю. Ка••11" ц, машина вбирала в себя силы, что«м и следующую минуту, покачиваясь,
«•йиу и.( я по полю, выруливая на взлет
Ици) площадку. И, очутившись на ней, напирам скорость, стремительно помчаться
•ицц-11 Главное было не упустить момент
•крива от земли, когда, распластав кры«ьи, симолет неожиданно
взвивается
••м<ъ, А потом Зина еще несколько мк«V стоила в проеме двери и внимательим I чпш.'м за все уменьшающейся сереП|.н. п.!» птицей. И лишь когда самолет
• » | 1 ы и м л 4 ц и| виду, глубоко вздохнув, воз•|.«и(,1 1.н I. 1.1 стойку буфета.
М миме минуты ей становилось немно|м «и ми себе. Казалось, что улетевший
« ч и ж |1 уносил с собой частицу ее сердца.
М »ш ишюдило грусть.
А тетя Варя — пожилая, полная буфетчица, страдающая одышкой,— постоянно корила Зину:
— Сполоснула бы кружки, а то дела
себе найти не можешь. Ох, жара какая,—
и утирала вспотевшее лицо передником.
Но ворчала она зря: Зина без дела почти никогда не стояла, только в минуты
посадки и взлета машин позволяла себе
подбежать к двери. Все же остальное
время она молча собирала со столов пустые кружки с еще не осевшей на дно
пивной пеной и осторожно клала их в белый таз, наполненный водой. Но когда
тетя Варя начинала ворчать, Зина уже не
с такой осторожностью опускала кружки
в воду, а просто роняла их. Толстуха
вздыхала и, качая головой, уже ласковее
говорила:
— И что за характер у тебя. Сразу дуешься, как милое дитс.
Зина вообще недолюбливала тетю Варю и прежде всего за то, что та постоянно тянула пиво. «Женщина, а пьет, как
мужик,— с едва скрываемой брезгливостью думала Зина.— От того, наверное,
толстая такая стала»,— про себя рассуждала девушка. Будь она, Зина, управля11
•ощим трестом, или хотя бы, как та женщина, что приезжала к ним проверять
буфет, прежде всего запретила бы тете
Варе пить. Их она бы послушала. Как
перед той женщиной лебезила. Даже отдуваться перестала и так забегала, словно
сбросила добрую половину своих ста с
лишним килограммов. Все книгу жалоб и
предложений
перекладывала
поближе,
очень уж хотелось похвастать благодарностью, что в этой книге записана.
Но Зина уже привыкла к тете Варе, а
расстаться с ней было бы трудно. Ведь
бывает так в жизни часто: живешь вместе
с человеком и многое в его поведении раздражает тебя, но жизнь без этого человека
ты себе не мыслишь, настолько он, со
всеми его даже неприятными привычками,
стал для тебя обязательным, необходимым. Так было и с тетей Варей. Когда
одна знакомая девушка предложила Зине
перейти на работу в центр города, она
отказалась. Нет, никогда не променяла
бы она этот буфет, из окна которого видно ясное голубое небо с летящими самолетами, на кухню в столовой даже в самом центре города. Оттуда, наверное, и
небо-то как следует не увидишь.
Зина любит глядеть и в темное ночное
небо, искать три маленькие звездочки —
красную, голубую, зеленую. Отыскав их,
наконец, она следит за ними, пока не
скроются они из виду. И никакая, самая
интересная книга, даже «Консуэло», которую Зина нет-нет да и снова возьмет в
руки, не может помешать ей наблюдать
за мерцающими в небе разноцветными
огоньками. В эти минуты ее охватывает
такое желание очутиться там, где плывут
эти маленькие огоньки, что даже начинает казаться будто она и вправду там, с
ними, в этом бездонном пространстве. И
от этого становится немного жутковато,
точно из-под ног ее исчезает твердая почва.
Зина с завистью смотрит на людей, собирающихся в полет, хоть и кажется ей.
что лететь, должно быть, в сущности, очень
страшно: ведь под крыльями нет надежной опоры, чего доброго, еще сорваться
можно. «Как же эти люди не боятся летать?» — часто спрашивает себя девушка.
Это, конечно, не касается пилотов и
штурманов. Человек ко всему привыкает.
Но пассажиры, им, наверное, очень страшно лететь»,— думает девушка.
.Чини, а, Зина,
IV
куда
ты пропала?—
слышит она голос тети Вари и это выв»
дит из раздумья.
— Я здесь,— кричит девушка.
— Пора закрывать буфет, а ты куда-ш
исчезла,— как всегда ворчит тетя Варя.
Иди сюда.
Ну, конечно, ведь до ночи самолетон
больше не будет, иначе тетя Варя /ни гм
что бы не закрыла буфет — это Зина хоро
шо знает. Она в последний раз бросап
взгляд на стоящие «ИЛы». Солнце куп.1
ет их в своих закатных лучах.
Зина вздрагивает, почувствовав как п<>
спине пробегает вечерний холодок, зачем
то вытирает о белый фартук давно про
сохшие руки и вбегает в помещение бу
фета. Тетя Варя уже сложила выручку и
старую кожанную сумку, давно вышедшую
из моды, и, бренча ключами, поджидал.>
Зину.
— Видно на автобусе нынче ехать при
дется,— поохала тетя Варя.
— А мне что,— пожала плечами Зина.
На автобусе, так на автобусе.
— Ишь, богачка нашлась! По двадцам
копеек каждый день где наберешь?
— Но ведь не каждый день,— возра ш
ла Зина. — Это сегодня, потому что сами
летов нет.
— И без тебя знаю,— оборвала ее теш
Варя.
Зина пригладила свои короткие светлые
волосы, накинула на голову голубую, >
темной каймой, косынку.
Автобуса долго не было. Обе, зябко ни
сживаясь, сидели на ступеньках аэроно))
та, и тетя Варя методично ругала ЦыГы
на. Потом она вспомнила про Доржи.
— Приехал бы хоть он, с ним тоже
уехать можно. Так и этого черта нет «
годня.
Зину знобило, она хотела скорее уех;ш.
и ей было все равно — приедет ли азч»
бус, Цыбан ли, Доржи...
Цыбан—муж тети Вари. У него больниц
жилистые руки, черные усы украшают сш
лицо. Он вечно сосет свою кривую трубку
Дядя Цыбан возит бензин для самолетоп
Когда они с тетей Варей садятся в к.(
бину его бензовоза, Зине всегда выпад..' >
место в середине. Она не переносит нис
лый запах бензина, которым, кажется, :
сквозь пропитался дядя Цыбан, и все прг
мя незаметно прикрывает нос рукой. I « л и
приходят
две
машины,
Зина спешил »
парню с черными глазами
и бронзоным
м| . .• «III чиош загара лицом. С какой ра«.и (ной улыбкой он всегда встречает ее!
•|,|||*н 1.1К же молчалив, как дядя Цыбан,
• и| кет, каперное, не меньше несет беишины ||о рядом с ним Зина не задыха. и и , нп, она даже не чувствует, что его
«4* М А Я пропитана этим кислым запахом.
И» шпн-.пк г., сидит Зина рядом с Дор•• Пня любит его быструю езду. Плохо
• ч«ц».|, что приезжает он обычно, когда
•«им I много самолетов. А дядя Цыбан —
•ниш мгсда. Он усаживается за столик,
• •«к миио и курит свою неизменную труб• I Почему Доржи не так часто приез• •м 7
нередко с сожалением думает
Н| щ и п н и начинают сгущ^ься сумерки.
I 1М» миг прохладнее. Зина застегнула
•яфц, оЛнила грудь руками. Когда же.
•••имен, придет автобус? Уж хоть бы дя• • ИмОйн приехал, а то сиди тут, дрожи
•И тлила. Тете Варе что? Ее жир греет,
• 4 111н и пальто она. Ей хоть час, хоть
••• 1И11И, нс замерзнет. Зина с досадой
•|м*1Н 1|>и она все-таки не пошла на рая столовую. Не пришлось бы тогда
день ездить десять километров в
десять — в другой конец. А мо*М| наг и сейчас не поздно? Надо бы узямь
,1има машинально тянет на себя
«««(г 1ИМ1.ГО сидящей рядом тети Вари.
1м чего? — недоумевает та. — Замерив ниПогь. Ну да, чем по кино да по те• ||-«« "ниш,, пальто справила бы лучше.
•Опят ворчит,— думает Зина. — И ко>М шлько перестанет?» — Она поднимайся, ч шОм пойти в зал — немного погре«»*я, и т у т замечает огни приближающей• * I ни И1 орту машины.
АшоЛус! — весело кричит Зина и бе• »| , му ипистречу.
А (ЛИТРА полил дождь, небо намоки,» с|м-.•!<>, тяжелые тучи опустились к
«гмлг. Потоки дождя заструились
том мутных ручейков. Он хлестал
• -»ни к* усиливавшийся, то немного за(•юшнй. На краю взлетной площадки,
• •••»,| мпхохлипшиеся птицы, молчаливо
1 -и III
1.1М0.11-1Ы.
'ни,, липла, что такая погода называет• |и || топ. И, конечно, ждать в эти дни
•иммшглгА нечего. Тетя Варя ушла к
• •••м ц) I поим знакомым, строго наказав
»ЯИР иг 1.МИЛ1.ГИ. про деньги. «А то, чего
кино отпустишь, а деньги полу-
чить забудешь. Знаю я тебя,— как всегда,
ворчливо сказала уходя толстуха. — Да по
два раза считай, чтоб не просчиталась».—
Она наговорила еще кучу всяких наставлений, которые Зина, впрочем, пропустила
мимо ушей.
Но все это было ни к чему. Кого можно ждать в такую погоду? Летчики сидят
по домам, играют в кости, рассказывают
какие-нибудь истории — в них у летчиков
недостатка нет — и пьют чай, а может
быть, и что-нибудь покрепче. И им тепло.
Тепло и тете Варе, а Зине нужно сидеть
в пустом, холодном зале буфета и караулить его. И так всегда. Что это за жизнь
такая? — вздыхает Зина. — Когда,
наконец, этот дождь перестанет?
Тетя Варя сказала, что после этого дождя они с Зиной пойдут по грибы. Смешная, какие же грибы будут после такого
дождя. Ох, если бы можно было его прекратить, ну взять и остановить дождь,
сказать ему — перестань лить — и он бы
сразу послушался, перестал. Вот радость
была бы. И все, не только она, и летчики,
и штурманы, и пассажиры с коричневыми,
черными, желтыми чемоданами,— все обрадовались бы выглянувшему солнышку и
хвалили бы ее, Зину, за то, что она, наконец, прекратила эту промозглую погоду.
Ее даже, наверное, поздравляли бы, снимали перед ней шляпы, благодарно жали
руки. Как это было бы приятно.
От этих мыслей становится немного теплее. Зина достает небольшое квадратное
зеркальце, ставит его перед собой и долго
смотрится в него. Поджав тонкие губы.
Зина проводит по ним пальцами, приглаживает распластанные брови, такие желтые, как осенние кусты, закидывает упавшую на высокий лоб золотистую прядь
волос. «Кажется, ничего, довольно красивые
волосы»,— отмечает про себя девушка.
А за окном, не переставая, также льет
дождь, монотонно колотя в стекла, и от
этого в ушах стоит непрекращающийся
шум.
Внезапно раскрывается дверь. Шлепки
дождя становятся отчетливее, но их тут
же заглушают шаги и молодой громкий
голос:
— Ну и погодка, черт побери.
Зина |~ "тро прячет зеркальце, исподлобья, улыбающимися глазами, смотрит на
вошедшего. Это — высокий парень, на нем
промокшая штурманская куртка. Сняв фуражку, он стряхивает на пол капли воды.
Его большие зеленые, цвета тины, глаза
внимательно глядят на Зину, на губах играет веселая улыбка, по щекам с намокших волос стекают струйки воды.
— Как это, чтобы в таком городе не
было приличного аэропорта. Черт знает,
что такое. Вместо гостиницы — какой-то
сарай, а уж о такой роскоши, как ресторан, и говорить нечего,— выпалил он единым духом, продолжая оценивающе разглядывать Зину. Его тон задел ее.
— Почему вы говорите, что нет ресторана, есть у нас ресторан и не один, вы
просто не нашли его,— решительно возразила она.
— Это в городе. Мне нужен ресторан
не в городе, а здесь — в аэропорту.
— Ах вот вы о чем,— уже мягче сказала Зина. Ей никогда не приходило раньше в голову, что в аэропорту обязательно
должен быть ресторан. К чему он, если
здесь самолеты стоят каких-нибудь полчаса, час от силы, разве
недостаточно
иметь для ьтого буфет, где всегда можно
купить пиво, кое-что закусить и даже бутылку красного вина. Чего еще нужно этому высокому парню?
А он тем временем подошел к буфетной
стойке и, оглядев все, что было выставлено здесь, спросил:
— А чего-нибудь покрепче не найдется?
— Чего покрепче? — не поняла Зина.
— Чего? Водки, или коньяку. Согреться
нужно. А разве этим согреешься? — и показал на вина, стоявшие в витрине.
— А у нас ни водки, ни коньяка нет.
— Да-а, бедно живете. Не то, что в
Иркутске. Знал бы, что такая погода будет, в Братск полетел бы. там по крайней мере, есть что выпить.
Как захотелось Зине перенестись в Иркутск, наверное, сейчас залитый солнцем,
где сверкают окна высоких домов, взглянуть на блестящую ленту Ангары. Ее она,
никогда не видела, но уже столько слышала об этой чудесной реке, что легко
могла представить ее, пробившую себе
путь между гор, в тайге, стремительно
несущуюся к своему возлюбленному Енисею. Ведь об этом даже легенда сложена,
и балет «Красавица Ангара», который Зина смотрела в оперном театре. Потом еще
тетя Варя ворчала: «Вот, по театрам ходить, а носить нечего. Пальто себе справить не можешь». А что ей, Зине, пальто,
ома сто справит себе, и не одно. Но не
> • • ' и . п тсчтр... Как же это можно. «Кра-
савица Ангара»... Она в действительности,
наверное, даже красивее, чем о ней гово
рят. И огни новой ГЭС сверкают на ней.
Ох, увидит ли она это все когда-нибудь?
А незнакомый штурман продолжал:
— Может, у вас есть еще что-нибудь в
заначке? Ну, скажем, «три семерки»?
— А что это такое «три семерки»? — не
поняла Зина.
Парень усмехнулся.
— Буфетчица... и не знает что такое
«три семерки». Как же вы торговать можете? Это портвейн. Вино такое, или, может, не знаете, что такое портвейн?
— Нет, почему же?.. Знаю. А «три семерки» никогда не видела,— окончательно
смутилась
сь Зина.
Зина. — Вот есть такой, может,
подойдет?
т?-и*о
— |Г она достала бутылку.
— Ладно уж, давайте этого,— снисходи
тельно согласился парень.
Зина раскупорила бутылку, подала ему
стакан. Он налил полный, залпом выпи.ч
его, отставил стакан и зажмурил свои зеленые глаза.
— Вот скоро перейдем на «ТУ», тогда к
вам залетать вообще не будем.
— Почему же не будете? — возразил;!
Зина, вспомнив, что тетя Варя как-то ска
зала: «А к нам «ТУ» начинают летать».
— Да потому, что «ТУ» во всякую ды
ру не залетают.
— Наш город не дыра,— обиделась Зи
на. — Тетя Варя говорила, что и у нас
«ТУ» скоро садиться будут.
— А позвольте узнать, кто эта провиди
ца тетя Варя? Если, конечно, не секрет?в голосе парня явно слышалась издевка
Он налил себе второй стакан вина, так ж<залпом выпил, покрасневшие глаза его немного размякли, потеплели. Он вытащил
из кармана грязный платок, протер им
мокрое лицо, шею, и опять налил вино и
стакан. Янтарная жидкость слегка коле
балясь в стакане. Шум дождя еще больше
усилился. Парень оглянулся на окно и
выругался:
— Вот же черт, еще сильнее хлёстан
стало. — Он отошел от прилавка, и Зжы
вдруг подумала: «Еще уйдет, не рассчи
тается».— Она чуть было не сказала ему.
чтоб уплатил. А он, подойдя к окну, по
стоял возле него с минуту и, вздохну н.
с досадой сказал:
— Видать, надолго здесь засели. Ник.1
кого просвета. — Потом вернулся к стой
ке, взял стакан с недопитым вином, по
« м ш р г л на свет, и словно, что-то вспомнив,
•«пякил его.
- Может, выпьете со мной за компаимт, предложил он, и смущенно добавил:
Вы не бойтесь, я заплачу.
- Что вы? Я не пью,— замотала голо•ий Зина.
Им губах у парня заиграла усмешка, он
ц| .111 лги Зину, взгляд его скользнул по ее
•пит ей груди, по красным от воды румм. Она заметила его этот изучающий
•«мил и, зарделась.
- Значит, не пьете? — голос его на
мот рп.ч прозвучал мягко, не то с сожа« г м и г м , нс то с одобрением.
I • Нет-нет, не пью.
•- Очень жаль, а то выпили бы вместе.
Нет, мне нельзя,— продолжала отне• М1м пни
Зина.
Он «мнил залпом вино и спросил:
Сколько прикажете?
1нн,1 назвала цену. Парень молча достал
«ты и, положил на прилавок и, застегнув
• У|чку, небрежно бросил:
(•дачи не надо. — С этими словами
ни Лыстро вышел.
1ммя хотела было догнать его, сказать,
ч и» сличу нужно взять, ей вообще хотеЧ1И ь, чтобы он
не уходил,— расспро1 И 1 » , П О О МНОГОМ.
Но
ЧТО-ТО СЛОВНО СКО-
I гг, и она с минуту не могла ни скаинмгго, ни двинуться с места. А когда
• ч I «омнность прошла, парень был уже
«•лицо.
'•' окном по-прежнему лил дождь. Зине
•пру) ПАЛО очень тоскливо, одиноко, она
• ••ч» и1 1.1 почти физическую пустоту. С че(и Лы «То?
Они топа достала свое маленькое квад(•••II"! 1гркальце, поставила перед собой.
N «И! нргмя послышался скрип двери и
• •'•• * пиро1а ворчливый голос тети Вари:
Му и погодка. Кажется, никогда не
•ч—-" "|'1Ч1. гляди, как все небо обложило.
Чип» '1,1,иг стало смешно. Что тете Вари пи щи оды?
(.опирайся, скоро автобус подойдет,—
• . , . , , , !,,„ , у \ . | и начала складывать выI > •»» и сумку.
I I • 1 Ч 1 . 1 ' » Зина видела
чудесный сон.
1 - \ м,1 и , | > 1 ш., приходивший днем в буфм, шил «• ли плечи и куда-то повел.
«»
И пг пойду собирать грибы, не пой« " г и м н ми. она. Но он мягко, нежно
— Глупая ты моя, о каких грибах говоришь. Ведь я не тетя Варя, я — штурман. Полетим со мной, а там скоро перейдем на «ТУ» и вместе будем летать на
нем.
Но Зина продолжает упрямиться.
— Нет, нет, я не хочу летать.
— Значит, ты не хочешь увидеть Иркутск, Ангару, Братск? Ну, что ж, оставайся здесь, в этом своем городишке, где в
аэропорту даже нет приличного ресторана. Если не полетишь со мной, тебя никто другой не возьмет.
И тут к нему подошла высокая, стройная девушка в белом шелковом платье с
длинной черной косой, перекинутой через
плечо, и глубокими голубыми
глазами.
Девушка нежно обняла штурмана и тихо
сказала:
— Я полечу с тобой.
— Консуэло, моя Консуэло,— обрадовался штурман. И они пошли по зеленому
полю аэродрома.
— Ты не Консуэло! — крикнула вслед
девушке Зина, и проснулась. В комнате
было темно, лишь в окно проникал бледноватый, серебристый лунный свет.
«Кажется, прояснилось»,— подумала Зина и, повернувшись на другой бок, снова
уснула.
День действительно наступил ясный, безоблачный, далеко кругом, окутанные прозрачной дымкой, виднелись поля, горы.
Умытые дождем, они выглядели посвежевшими. В стоявших на дороге лужах
поблескивали солнечные зайчики.
Автобус слегка покачивает, через открытое окно врывается свежий бодрящий воздух. В такое ясное утро радоваться бы
только. А Зина сидит задумчивая. Никак
из головы не выходит приснившийся ночью сон.
Услышав гул моторов, Зина подбежала
к окну. И тут послышался окрик тети
Вари.
— Зинй, а Зина! Народу столько, а ты
где-то ходишь.
Девушка вернулась к стойке.
«Хоть бы язык прикусила, старая карга,— зло подумала Зина, направляясь в
зал за пустыми кружками. — Как на маленькую девчонку при всех орет». — Кровь
прилила к лицу, она старалась не смотреть на посетителей, которые, как казалось ей, посмеиваются над ней. И тут
случилась еще одна беда: зацепившись за
15
стул, Зина едва не упала. Но ее кто-то
поддержал за локоть.
— Осторожнее, так можно упасть, девушка,— услышала она такой
знакомый
голос и, подняв глаза, увидела вчерашнего посетителя. Щеки ее еще больше зарделись, она быстро спрятала под фартук
свои красные руки с набухшими от воды
пальцами, не зная, что сказать ему в ответ. А он. заметив ее злой взгляд, рассмеялся.
— И чего это вы сегодня такая сердитая?
— Не сердитая я,— буркнула Зина.
— Ну, тогда хорошо, если не сердитая.
Страсть не люблю сердитых,— потом, помолчав, без связи со сказанным, добавил:
— Вот и пришло время покидать ваш город. Теперь не скоро прилечу сюда. На
«ТУ» перехожу,— он снова опустился на
стул, с которого поднялся, видимо, для того, чтобы поддержать Зину, и кивнул на
свободное место рядом: — Садись.
Она послушно опустилась на стул, все
еще держа под фартуком руки, и смущенно опустила глаза.
— Давай хоть познакомимся,— затворил он после минутного молчания. — Как
тебя зовут? Зина? Хорошее имя. Зина. А
меня — Петя. Запомнишь, штурман Петя.
\\е;;я к И1>ку]ском а ф о ш ц п у никто иначе не называет, и там любой знает Петю
штурмана. Так что. если ксхла-нибудь приедешь и н а ш и края, так и н и ш ппурмана
Петю. В с я к и й покажет. I и найти.
— Ладно,— с ш л а с и л а с ь
.Чина. — Если
только приеду.
— А ты приезжай,—глаза ею гколынулн по ее грули, задержались на ней кахоето мгновение, потом пробежали по красным рукам, которые она сама, юю не
сознавая, зачем-то положила на пол. Перехватив его взгляд, Зина быстро опустила
руки, снова спрятала их под фартук.
— Вообще можно бы остаться здесь
еще на денек, да... — он сделал паузу и
развел руками.
— Как это остаться? — удивилась Зина.
— Ведь вам же лететь надо.
— Надо,— усмехнулся он. — Можно договориться. Но ведь ты не приглашаешь.
— Я? — еще больше удивилась Зина.—
Куда же я вас приглашу?
— Ну, ладно, не бойся,
не останусь.—
Он допил пиво, быстро поднялся, внимательно посмотрел на нее и протянул руку.
16
— До встречи, Зиночка! До скорой
встречи.
Она вытерла руку о фартук и пода.к!
ее вяло, лодочкой. Он скользнул пальцами, ухватил всю ладонь ее, крепко пожал и, не выпуская из своей сильной руки, добавил:
•— В следующий раз прилечу на «ТУ» и
увезу тебя отсюда, — Это была
шутка,
Зина отлично понимала, что штурман Петя шутит, и все-таки ей почему-!^ радостно было слышать эту его шутку, и вообще
радостно было ей от его теплого взгляда
зеленых, со смешинкой глаз, от этого сильного мужского пожатия руки и от того,
что он сегодня, перед самым отлетом, снова пришел сюда, может быть, для того,
чтобы еще раз увидеть ее, узнать ее имя.
А когда он вышел из буфета, Зине вдруг
стало так тоскливо, словно кто-то, очень
близкий, покинул ее.
Когда народ немного схлынул и выдалась свободная минута, Зина подошла к
окну, оперлась локтями о подоконник,
взглянула на буйно разросшуюся траву,
омытую дождем. Взлетная площадка была
пуста. Зина постояла так несколько минут,
потом выпрямилась. Ее взгляд скользнув
по книге жалоб и предложений, что висела на гвоздочке у самого окна, и она
вспомнила, как тетя Варя все старалась
показать прибывшей из треста женщиш
записанную в этой книге поперек лист
крупными буквами благодарность шофера
Доржи. Даже смешно стало, когда припомнилось, как, сидя за крайним столиком,
поставив перед собой две полные кружки
пива, Доржи сочинял эту благодарность.
Сегодня он приедет и Зина, сидя рядом
с ним в кабинке бензовоза, будет разглядывать его. А несколько часов назад ч
во!дух поднялся «ИЛ», на котором улете т
ш т у р м а н Петя, улетел, чтобы, наверное,
никогда больше не возвращаться сюда, хот и и I к.1'.а.|, что вернется. Но кто же это
му поверит?
Вечером, когда Зина ехала вместе с
Д о р ж и в душной кабине бензовоза, 1/по.тпемной запахом бензина, она снова пережинала
события последних двух дней.
«Что это было?—спроси,"<1 себя Зина.
Неужели это пролетело мимо твое с ч а стье?» — И тут же подумала: — «Нет, ттам твое счастье». — И тепло взглянул,1
на Доржи...
Перевод с бурятского
Вен Штеренберга
Инн. ЛУГОВСКОЙ
ПАМЯТЬ СОЛДАТА
1
1И|1.1иц|, «абыться —
и» мо! у забыться,
яяжс и работе...
Мнит, и ышпь
Лмлому солдату
I плит кос снится:
»|111|11.
II
ОКОПЫ.
...п. .< и кровь!
м I. .щ. стучит.
1111 |Г|1МИ\' МОЛОТОМ,
н«мин. ( гучиг —
• уПонн, нысока. ,
| • .. * ,1 усну —
им мичгским холодом
ими «кношт возле виска!
Мйпшпгт тоненько,
• я» му«а и ухо.
И юн (П пин не отличить:
ли зверь,
стальная ли муха —
одинаково могут
с землей разлучить.
Нет, не боюсь
ни врага, ни смерти,
учила нас Русь:
служивый, не трусь!
За солнце, за зелень,
за счастье, поверьте,
за всех ребятишек боюсь!
Пусть сторожат их
ракеты и пушки,
пусть над планетой
всей силой ума.
громче всех бомб
говорит наш Пушкин:
Да здравствует солнце,
да скроется тьма!
Чингис ГОМБОИН
ДУМЫ У КОСТРА
• 1гн> притихла
• III чи I полынью и остро.
I». ., I . I I
I ,...••.и и.1 ШГ.ЛПЮ1 облака
'•> 1 К 1 1 н у п 1 горечь
ммшмм пин. прямо горстью,
• •тин шинкую воду
•
.......
Н
4*Й|у
V
К0(1р.|
Ин ниючп нгмнятно.
'•'» Н 1|Ц-|'1Н1Ц'1
Н1в11.|.|Щ|И||с-1 МОИМ
I
»|-
.41. I I
III I. !
V'
Ц.-1У1
запоздавшие тучки
со мной помолчать у огня
Видно, хочется им
потолкаться у яркого света,
от того и волнуются,
как вскипающее молоко.
Я подбросил в огонь
сухую, как порох, ветку,
Пламя вспыхнуло
и растаяло
легким дымком.
Искры к звездам метнулись,
и осыпались пеплом...
Что-то очень похожее
яростно бьется во мне,
17
как хочу я в полет,
как хочу я, чтоб сердце без устали
пело.
чтоб умело оно
словно степь
на рассвете звенеть.
Что мне надо для этого —
смелость,
талант
иль уменье?
Научи меня, степь.
Ты мудра будто мать —
научи!
Непоседа-кузнечик
на чашке цветка
покачнется в смятенье,
и уже перезвон колокольчиков
песней над степью звучит.
Но сегодня тиха ты.
Ни звука,
ни всплеска,
ни звона.
Эхо за день устало
и не отвечает на зов.
Отдохни, моя степь.
отдохни от работы бессонной,
в эти свежие сумерки
перед грозой.
Я к груди твоей теплой
п р и ж м у с ь горячо и нежно.
Пусть меня наполняют
могучие соки земли
Чтобы сердце мое
было чвонким, как ты,
и безбрежным
чтоб смеялись и плакали люди,
слушая песни мои.
Агинский национальный округ.
Перевел с бурятского А. БАЛАБАЕВ.
В. ЧУЙКОВ,
Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза
(Третья книга записок „От Волги до
Шпрее")
Б
ЛИЗИЛОСЬ утро 1 августа 1944 года. На фоне темного неба
им» ипкч- обозначалась белая полоска — предвестница рассвета. В су1 > | > н и м молчании стояли высокие сосны, тихо и напряженно ждали сигк и л я ГюГщы и командиры, которым выпал? честь первыми перепраишы'Н на тот берег Вислы, широкой и многоводной реки.
И ч! от час предгрозовой тишины я находился на своем наблюда• • н, ком пункте, поглядывая на часы. Стрелки медленно приближались
ц шш'мюм черте. Медленно потому, что все било готово и хотелось почт мац, нрсмя к началу активных действий.
К и к Пило условлено, впереди батальонов пойдут небольшие групнм "И1.ппих разведчиков. В частности, самыми первыми должны были
"• |" п р и м и и.ся разведчики 79-й гвардейской дивизии под командой
м н и м о лейтенанта Виктора Лисицына.
Ои/к'ную, но почетную профессию разведчика Виктор Лисицын
•Опл со »сем вылом молодости.
Много р.ч.э он ходил с друзьями в ночные поиски, захватывал «язы•М* н доГшиал ценные сведения о противнике.
I I » на разведка боем была необычной. Впереди расстилалась водщи пицц,, и вдали серела тонкая полоска левого берега.
Ч к) там, на том берегу реки, какие силы у противника, какую
•Ирсчу он н и м готовит?
Г ш м ч ь и лодки ушли в предрассветную мглу. Лисицын был
нерпой, Рядом с ним находились его верные и проверенные в боях
I 1 I шсдчики достигли берега и перебежками дв-инулись к вражес• 1 | > , м м и г я м . Гитлеровцы открыли губительный огонь из крупноклн|.|\ пулеметов.
П н м п р Л и с и ц ы н одним из первых бросился к вражеским огневым
Д | м о м , | I ц],1м огнем и г р а н а т а м и были уничтожены два немсц- ! ' \ и м ..... .IX р а с ч е т а , и разведчики быстро очистили т р а н ш е ю о:
...... П1К.1
»'
19
— Рубеж взят,— радировали они, продолжая вести наступательный бой.
Так же смело и решительно действовали разведчики под командой
капитана Ивана Яковлевича Дунаева.
Лодки одна за другой отчалили от берега. И когда загремели залпы орудий, Дунаев со своими разведчиками уже вступил на западный
берег. Шквальным огнем они обрушились на гитлеровцев, засевшил
в прибрежных траншеях.
Немцы укрепились на дамбе, но, благодаря искусному маневру, разведчики без потерь прорвали вражескую оборону и мощным натиском
смяли гитлеровцев. Офицер-коммунист Иван Яковлевич Дунаев ни на
минуту не терял управления боем и своим л и ч н ы м примером бесстрашия и мужества воодушевлял гвардейцев.
Вслед за разведчиками, а на отдельных у ч а с т к а х вместе с ними, начали переправу и стрелковые батальоны.
Вот как действовал 7 батальон 217-го гвардейского полка под
командой капитана Цитовского.
— Об опасности в бою гвардейцы не думают. У нас у всех одна
мысль — победить врага,— говорил комбат Цитовский, обращаясь к
бойцам-гвардейцам своего батальона.— Помните, переправа будет нелегкой, но главное впере.ш. Выйдя на западный берег, нужно сломит 1 .
сопротивление врага и неудержимо продвигаться вперед. В бою ра;;
няться только по персдопым.
6 часов у т р а . Н а ч а л и с ь а р т и л л е р и й с к а я подготовка. Разведыва
тельные батальоны приступили к форсированию реки. Используя легкие табельные средства, специальные и рыбачьи лодки, они стреми
тельно пересекли р е к у и, не останавливаясь, врывались в первые т р а п
шеи п р о т и в н и к а .
Немецкие наблюдатели заметили гвардейцев первого батальон I
79-й дивизии, только тогда, когда капитан Цитовский со своими бои
нами переходил иброд последний рукав реки.
Ра.чрьжы м и н и огонь вражеских пулеметов не могли остановит',
натиска с о в е т с к и х поемов.
Ь а г а л ь о н Цнпжгкого, преодолевая перебежками песчаную отмель,
почти в п л о т н у ю подошел к вражеским позициям. В это время из-за не
большого, поросшего лозняком пригорка неожиданно застрочил вра
жеский к р у п н о к а л и б е р н ы й пулемет. Цитовский резко изменил н а п р а и
ление, подобрался со с и н и м и бойцами к пригорку с фланга и первым
бросил гранату, за пен л р у | у ю . Немецкий пулеметчик замолчал. Вое
пользовавшись э т и м , к о м а н д и р ы рот (и взводов ворвались со своими
бойцами во вражеские т р а н ш е й и, ныГши из них гитлеровцев, ни м,ину
ты не задерживаясь, стали п р о ч т и ап.ея дальше. '
Горячий бой з а в я з а л с я \ о к р а и н ы деревни Малый Магнуш. Пре
следуя противника, батальон Цитопского первым ворвался в населен
ный пункт и водрузил на одном н •. юмон к р а с н ы й флаг.
Гитлеровцы перешли з к о ш р а т а н у . Но ничто не смогло ослабни,
высокого наступательного п о р ы в а г в а р д е й ц е в . Как только немцы ст :
ли приближаться к только что ' . а н я т о м у батальоном рубежу, комсом«
лец-пулеметчик Горюнов, в ы д ш ш у м п ш п » вперед, стал в упор расстре1
ливать их. Немецкие цепи з а л е г л и . По вскоре последовала нова ;,
к о н т р а т а к а . Когда немцы п о д о ш л и совсем близко, навстречу им пол
ня,:иеь гвардейцы.
В следующую к о н т р а т а к у н е м ц ы Просили танки, но н это и м
ке помогло.
Гвардии к а п и т а н Цитовскнн своевременно принял нужные меры
В самые трудные минуты боя он не терял Н|Итей умного расчета в ъ:
равлешш батальоном. Еще з а р а н е е в ы д в и н у л на танкоопасном напр;)!'.
20
ц н и ц бронебойщиков и, как только танки подошли к нашим позициям,
йринебонщики метким огнем подожгли лве вражеских машины. ОсШЛ1.Н1.К' повернули вспять.
Восемнадцать бойцов и офицеров батальона, отличившихся в этом
<1<и<>, били награждены мною орденами Красного Знамени. Капитан
I фим Григорьевич Цитовскпй был представлен к з в а н и ю Героя Совет( I - I I и Союза.
Не менее отважно действовали при форсировании Вислы саперы
АЛ и шардейской дивизии! Вот как о них рассказывает работник штаГ>а лппщип майор Алексей Ераксин.
- Столбы дыма и земли подымались в лесу от вражеских бомб.
(шинам иногда приходилось ложиться на землю, спасаясь ог
МКОЛКОВ.
На войне не у тещи в гостях. А все-таки доберемся до берега
N переправу построим! — крикнул сквозь грохот младший сержант
М и х и и л Беленков.
Он всегда находился впереди своих бойцов, шел во главе взвода,
иодЛллривая друзей веселым словом ,и смелыми действиями.
М и х а и л Беленков в армии с н а ч а л а войны. За свою удаль и оти я ж и у ю работу в саперной роте был награжден медалью «За отваI V » На фронте вступил в партию, вырос политически и теперь, по рекомендации командира роты, н а з н а ч е н парторгом.
Йот |П берег реки. Взводу предстояло построить причалы на обоих
Фермах, сделать настилы л навести мост через одну старицу. Вра*«"'кио минометы и орудия густо клали мины и снаряды на берегу,
МРШИЧ работе. Но где было трудно, туда и шел Беленков.
Мерным за установку сваи взялся Беленков. Он быстро разделся
и н ы р н у л в воду. Свая была установлена за несколько минут, за ней
ишрии, третья... Потом началась укладка настилов.
Быстрее, ребята, работайте! — подбадривал Беленков.— Мы с
«ими задерживаем подразделение, которое срочно нужно переправить
не шт Гкфег.
II бойцы работали с удвоенной энергией, стараясь как можно
пмпрее закончить постройку переправы. Если на забивку сваи даже
при ускоренных темпах требовалось тридцать минут, то сейчас саперы
рр эйГитали в двадцать.
Командир взвода объязш «перекур». Пока бойцы свертывали циVI и. Ьеленков начал ч и т а т ь сводку Созинформбюро.
Красная Армия уже на подступах к Восточной Пруссии, уже
йрмйлнж.ются к логову раненого фашистского зверя,— говорил Беленной
Нот разобьем немца, тогда и «перекур» побольше устроим,
и ( м Н ч п г курить долго некогда...
II снова закипела горячая работа.
К о м а н д и р роты отзывался о своем парторге т а к :
Парторг Беленков — моя опора и мой первый помощник в раз1«| "нмши всех боевых зада 1 '.. Где Беленков с к о м м у н и с т а м и , там нац«1'1П1К(1 успех обеспечен.
К нсчеру, когда переправа была готова, к о м а н д и р роты подвел
ИНН р п Г н м ы . Он отметил отличившихся с а п е р о в Среди них был сам
<ш|'М1р| п другие коммунисты, показавшие п р и м е р мужества и само• •»|ц |.,мм11юсти. А в это время Беленков \ ж е в ы т е к а л «Боевой листок»,
(МИЧиписнный отличной работе саперов.
(нмгчательные образцы отваги, высокого воинского мастерства
N 1ЦП «ни югорского таланта показал в этот день молодой офицер 217-го
««мм шардпи младший лейтенант А н а т о л и й Баяндин. Накануне он
• и I и |Г|р:щ комсоргом батальона.
О й т и л ы ж у была поставлена з а д а ч а первым форсировать в а ж н ы й
21
водный рубеж. Баяндин пони-мал, что от храбрости и умелых действий
каждого бойца во многом зависит успешный исход боевой операции
Перед самым форсированием рещ он посоветовался с командиром
и собрал комсомольцев батальона.
— На нас возложена
ответственная
боевая задача,— говорил
он. — Комсомольцы должны первыми высадиться на левый берег и увлечь за собой всю молодежь. Не о смерти будем думать, товарищи,
а о победе. Помните, гвардейцам назад пути нет!
На левом берегу гвардии младщий лейтенант Анатолий Баяндин
одним из первых ворвался в расположение немецкой обороны. Гвардейцы забрасывали вражеские траншеи гранатами, в упор разили
гитлеровцев из в,интовок, автоматов, пулеметов. Комсомолец-пулеметчик Горюнов уничтожил в этой схватке 16 гитлеровцев. Баяндин немедленно передал о его подвиге по цепи. Вскоре весь батальон узнал
о героизме отважного пулеметчика.
Баяндин знал свое место в бою - он был всегда там, где создавалась налболее трудная обстановка. Когда немцы перешли в контр
атаку, он был у пулеметчиков. Там он организовал выпуск боевых
листков, в которых сообщалось о подвигах героев. Двадцать молодых
гвардейцев вступили после этого боя в ряды комсомола. Восемнадцать процентов комсомольцев батальона были представлены к правительственным наградам.
Во второй половши' д н я п р о т и в н и к , оправившись от внезапно
го удара, перешел в контратаки и бросил против нас авиацию, но к
этому времени дивизии порно;о эшелона были уже на той сторож-.
Развернулись жестокие- бои за плацдарм.
Нет такой силы, которая могла бы остановить гвардейцев, когда
они наступали. Зде< ь, на Вне.шнеком плацдарме, они показали бога
тырскую храбрость и силу. Гн.чрдии сержант Ваган Багиров со своим
боевым д р у г о м п'.чрдци красноармейцем Тимофеем Ляшенко одним
из первых органи.кж.чл лодочную переправу. Он уже успел сделать три
рейса, когла ираже-ские самолеты, непрерывно висевшие над рекой,
повредили лодку Пулеметной очередью был прошит борт, вода устремилась и лодку, гро.чя чатоиить ее. Ба<гиров был ранен в правую руку,
Ляшенко
и с п и н у . По гвардейцы и тут не растерялись. Заранее приготовленными к о л ы ш к а м и н паклен они заделали пробоины, и лодка
продолжала спой путь. Багирои мог грести только левой рукой, но ои
продолжал в ы п о л н и т ь гной в о и н с к и й долг и обеспечил переправу оче
редной группы бойцом
Воины всех род(ж о р у ж и я показывали образцы умения и отваги,
особенно артиллеристы. Командир изиода у п р а в л е н и я лейтенант Марков вместе со своими ра ш е д ч и к а м и - а р т и л л е р н с т а м и гвардии сержан
том Глухим и гвардии к р а с н о а р м е й ц а м и Михайловым, Ковалевым
и Лежскиным п е р е п р а в и л с я па противоположный берег одновременн о
с пехотой. Под у р а г а н н ы м <л нем он четко корректировал огонь своих
орудий. Вскоре немецкий склад с горючим и боеприпасам^ взлете.'!
на воздух.
В итоге боев за день 1 а т л е т а бьи з а х в а ч е н плацдарм до 10 кл
лометров по фронту и 3—5 километров н глубину.
2-го и 3-го августа ч а с т и а р м и и продолжали расширять плацдарм
в ширину и в глуб.ину, перепраи/.г." » жпк-!\а и средства усиления.
Командирам корпусов сыло п р и к а з а н о подготовить себе команд
чью пункты на западном берегу Вислы.
Три дивизии резерва а р м и и оставались н а восточном берегу.
За первые дза дня боя из плацдарме сухопутные войска про
тнвника особого сопротивления ье оказывали, зато его авиация непрерывно атаковала наши переправляющиеся войска и переправочные
22
дедина Пользуясь скрытыми лесными подходами к реке, самолеты
н р т ш ш и к а звеньями и поодиночке на бреющем полете подходили
и переправам и сбрасывали кассеты мелких бомб (солдаты называли
ИИ « л я г у ш к а м и » ) на скопления людей, машин и лодок. Потери в лодй й к и катерах в первые дни доходили до 60 — 70 процентов, но лодьн Гил-тро восстанавливали и снова спускали на воду.
Один зенитный армейский полк, прикрывающий наши войска на
фронте до 25 километров, не мог справиться с авиацией, пока не по«1НИЛН зенитная польская дивизия. Но этих средств было очень мало:
фронт расширялся. Наша истребительная авиация была занята под
пириииой и не могла уделить нам внимания. Кроме того, у авиатором ощущался недостаток бензина. На войне никогда не бывает всего
и ноетатке, особенно в конце операции, поэтому приходилось мириться
• 1 Н К И М положением. Наши пехотинцы умели быстро зарываться в землю Т л к и с трудности нам были по плечу. Сложнее было решать дру•п. «опросы.
Я ужо упоминал, что армию все время нацеливали на север, ожи«йи отгула активных действий противника. Поэтому три дивизии армии опивались на восточном берегу В,ислы на прежних позициях, поутис фронтом на север.
В самый разгар боев на плацдарме, 3-го августа армия получает
н I командующего фронтом. Привожу этот приказ полностью:
с||ц фронте Венгров — С т а н и с л а в (иск Волошин) действуют четыре
дивизии: т а н к о в а я д и в и з и я «СС» «Викинг», танковая дивизия
голова», !9 т а н к о в а я дивизия и в районе восточнее и югон н н м - е П р а г и — д и в и з и я « Г е р м а н Геринг».
11г .исключена возможность попытки танковых дивизий противницу (форкаться в южном направлении. При этом наиболее вероятным
ш и н н о м прорыва следует с ч и т а т ь Калушип. Минск —- Мазовецкий.
47 л р м и я всеми с и л а м и наступает с рубежа: Тщебука, Виснев,
У и ш у и , .Чалесье в северном направлении.
Ч танковая армия д в у м я танковыми корпусами ведет бой на руг Окупев — Мендзылесье и одним танковым корпусом занимает
ш| 1 ' и л . щ м и п — Марки - Осеув — Волошин.
И целях у в е л и ч е н и я глубины боевых порядков 47 а р м и и
К о м а н д у ю щ е м у 8-й гвардейской армии выдвинуть один стрелкок о р п у с (три стрелков] 1С ДИЦ.13НИ) у с и л е н н ы й не менее как тремя
<фМ1й'1)(Ми (>-й артиллерийской длвизии с задачей — к утру 4.8.44 г.
«4Н / н п н п п я м н занять для обороны рубеж: Турки, Осецк и одну
• м ш и » (Иметь во втором эшелоне корпуса в районе Пилява».
И о л у ш н этот п р и к а з , я о к а з а л с я поставленным в очень щепетильиояожеиие. С одной с т о р о н ы , н у ж н о было развивать н а с т х п л е н и е
•«полном берегу Вислы н расширять плацдарм, где уже были втя• м и Гюи шесть стрелковых давизпи, с другой
п р и к а з ко^!фронта
"1ИШЛ п о в е р н у т ь на север три д и в и з и и , посадить их в оборону
и Ш -И) им. от переправ. Эюг 1'риказ обосснливал а р м и ю на захиа.и|.м 11ланда|)ме и обрекал ее снова па п а с с и в н о с т ь . Неужели коман|, м р , ' .• ! ;Ч!!(Т(.', :.• ) ^:аь^(. бы. '1С) НО ! , ( ) Н Я Т Н О . ЧТО фОрСИрОВЗНИе
и> ч ы , 1 | | М 1 а г и р а с ш и р е н и е п л а ц д а р м а угрожает п р о т и в н и к у более
щ а м и и о е м е д с т п и я м и , чем позиция трех арм ; ий восточнее Вислы. Мог
| | | И 1 | И ! М М 1 К , п о т е р я в ш и й за эту одну операцию Белоруссию, поло»ищ П о л ь ш и н понеся большие потере, думать о каком-то к о н т р у д а р е
1
и< ИИ' Не мо| потому, что не только левое крыло 1-го Белорусского
•4»|*«|Ц||| ми н м р а н о с крыло 1-го Украинского фронта вышли на В н с л \ .
' ' И 1 \ ' 1й Пы.ч з а х в а ч е н ужо Сандомирский п л а ц д а р м . Каждый шаг н а -
&
23
ших войск на западном берегу Вислы приближал нас к промышленным центрам Польши и к границам собственной Германии.
Выполняя приказ, мне с трудом удалось уговорить штаб фронта
оставить одну дивлзию для переправы на западный берег Вислы, а две
(82 и 88) повернуть на север и занять фронт обороны севернее
Гарволин.
Как и следовало ожидать, 4-го августа наши войска, р а с ш и р я я
плацдарм, встретили упорное сопротивление частей противника, "переброшенных из-поо. Варшавы. 5 и 6 августа начались контратаки двух
танковых дивизий, а именно: 19 и «Герман Геринг», о которых говорилось в приказе командующего фронтом. Они оказалась не в районе
юго-восточнее Праги, а уже за Вислой и двигались на юг пробив плацдарма, завоеванного 8-й гвардейской армией.
Наступили тяжелые дни боев за плацдарм. Кроме двух танковых
дивизий «Герман Геринг» и 19-й, гитлеров-ское командование перебросило 17 и 45 пехотные дивизии. Мы за эти дни могли переправить
на западный берег только 11 танковую бригаду и три самоходно-артиллерийских полка неполного состава.
Превосходство в силах и особенно в т а н к а х было на стороне
противника. Он бросил все силы для того, чтобы столкнуть нас с плацд а р м а . Обстановка в а р м и и осложнялась тем, что мы не имели мостовой переправы. Все попытки навести мост в районе деревни Скурча не давали результатов: авиация противника, которая, по-видимому,
имела специальную з а д а ч у — н е допустить постройки моста, беспрерывно висела над головами понтонеров. Вечером 5-го августа мы сумели собр|ать один мост и пустить по нему артиллерию и боеприпасы.
Но этот мост просуществовал лишь около двух часов: налетевшая
авиация противника разбила его. Оборонявшая мост польская зенитная артиллерийская дивизия понесла значительные потери.
Контратаки противника усиливались. Вдоль реки Пилица наносила удар 19-я танкова.я дивизия, вдоль реки Радомка контратаковала
танковая дивизия «Герман Геринг». Между ними действовали 17 и 45
пехотные дивизии. Противник контратаковал волнами, одна контратака н а к а т ы в а л а с ь на другую. Тяжелая обстановка сложилась на участке 4-го гвардейского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант
В. А. Глазунов. Его части под ударами танковой 'дивизии «Герман
Гер.инг» и 45 пехотной были вынуждены несколько попятиться назад.
Населенные пункты Хоакув и Студзянки несколько раз переходили
из рук в руки.
Вечером 5-го августа нам удалось переправить на плацдарм три
полка 47-й гвардейской дивизии и вместе с танковой бригадой поставить в оборону против танковой дивизии «Герман Геринг».
Ночью командный п у н к а р м и и переместился также на западный
берег, в лес юго-западнее Магаушев.
Работники ш т а б а а р м и и и политического отдела были посланы
в роты и батальоны. Перед всеми с т о я л а з а д а ч а — о р г а н и з о в а т ь уничтожение танков, как основную ударную, контратакующую силу противника. Всем бойцам было объявлено, что отходить за Вислу невозможно, это будет катастрофа. Надо разбить в первую очередь дивизию
«Герман Геринг». Наши воины с ненавистью относились к имени Герм а н а Геринга, поэтому был выброшен лозунг: «Бей танки толстопузою Г е р м а н а Геринга!».
С утра 6-го августа этот лозунг стол претворяться в жизнь.
Едва успели занять свои позиции полки 47-й дивизии, как на них
р и н у л и с ь тапки. При отражении этой атаки орудийный расчет старшего
г о р ж я п т а Дм.птрия Забарова подбил и сжег 5 немецких танков.
Ьыло это т а к . 19 танков, из них 6 тяжелых, двигались к позициям
94
пехотинцев с фланга. Там стояло противотанковое орудие Забарова
ПОТ.ПУСТИВ танк.и на 300 метров, расчет открыл огонь и с первого же
выстрела поджог один танк.
Фашисты развернулись, чтобы зайти с другой стороны. Наводчик
Царен Каспарян воспользовался этим. Два выстрела, и на месте замер т я ж е л ы й танк, а еще чеоез минуту загорелся п трети 1 ";.
Немцы попытались прорваться лобовым ударом, но героический
расчет быстро развернул орудие и подбил еще два т а н к л .
Во время боя наводчик Каспарян, заряжающий Куценко и замковый Машенкпн были ранены, но не отошли от орудия.
Вскоре в борьбу с танками «Герман Геринг» вступили пехотинцы.
Когда т а н к и стали прорываться к т р а н ш е я м пехотинцев, бронебойщик А л е к с а н д р Зуев обратился к своим соседям с призывом:
— Не у р о н и м гвардейской чести! Не пропустим врага вперед ни
на шаг!
Танки приближались. Их было восемь, а следом д в и г а л и с ь автоматчики. Гвардейцы не спешили открывать огонь, ожидая пока машины лодойдут поближе, чтобы бить по ним наверняка. 100 метров осталось пройти танкам до наших окопов, когда на них обрушилась лавина
огня. Били бронебойщики, пулеметчики, автоматчики, стрелки.
Александр Зуев, тщательно прицелившись, н а ж а л на спусковом
крючок. Пуля заклинила башню. Танк не мог теперь вести кругового
обстрела. Второй пулей Зуев попал в бензобак и танк запылал. Сидевшие в нем гитлеровцы пытались через люк спастись бегством, но всех
их догнали меткие пули пулеметчиков.
Умело расправился Зуев и со вторым танком. Первую пулю бронебойщик послал вражеской машине в лоб. Танк продолжал ползти
прямо на отважного бронебойщика. Зуев снял ружье с бруствера и укрылся на дне, окопа. Как только танк перевадил через окоп, Зуев быстро приподнялся и выстрелил ему в заднюю часть, а затем стремительно перебежал на запасную позицию. Танк развернулся и снова пополз
на окоп: гитлеровцы решили уничтожить бесстрашного гвардейца. Зуев
с запасной позиции пустил во вражескую машину третью -пулю, угодил
в заднюю часть корпуса и поджог ее.
Так, четырьмя выстрелами из бронебойки, славный сын Родины
Александр Зуев уничтожил два фашистских танка.
Кроме них, немцы оставили на поле боя несколько десятков трупов своих солдат и офицеров.
Наиболее жестокий бой с т а н к а м и развернулся на участке обороны 220 стрелкового полка 79 дивизии.
Там, на позициях стрелковой роты, которой командовал лейтенант
Владимир Трифонович Бурба, разыгрался один из самых драматических эпизодов войны.
Рота Владимира Бурбы, хорошо замаскировавшись, з а н и м а л а обо
рону во ржи. В ходе боя выяснилось, что это был самый ответственный
участок обороны дивизии —сюда танки дивизии «Герман Геринг» направили главный удар.
Гвардейцы свято помнили свою воинскую присягу, они стойко защищали свой рубеж. Бесстрашный офицер коммунист Бурба воодушевлял своих воинов, он умело организовал оборону занятого участка.
Противотанковыми гранатами и огнем бронебоек смельчаки преград.)
ли путь немецким бронированным машинам. Стрелки били по смотри
кым щелям танков из винтовок и пулеметов, ослепляя э к и п а ж и ври
жсских машин.
Шесть атак одну за другой предпринимали гитлеровцы, но нг момн
пробиться вперед через рубеж, занятый ротой гвардии л п п г п . ш ы
1>урба.
95
Началась седьмая атака. Танки вплотную подошли к позициям
гвардейцев. Бесстрашный командир устремился навстречу головному
танку и связкой гранат подбил его. Но в этот момент на него надвинулся второй танк. Самоотверженный офицер готов был пожертвовать
своей жизнью, но не дать врагу прорваться через гвардейский рубеж.
Со второй связкой гранат он бросился под вражескую машину и подорвал ее.
Офицер Бурба до конца выполнил свою военную присягу, до последнего дыхания выполнял он приказ командования — не пропустить
врага через свой рубеж.
Воодушевленные бессмертным подвигом командира, гвардейцы
вступили в ожесточенную борьбу с вражескими танками. Никто не
щадил своей жизни, у всех была одна мысль — удержать рубеж, преградить путь врагу, отомстить за смерть любимого командира.
С наблюдательного пункта командира дивизии было видно, какая
борьба идет с танками во ржи.
Вскоре выяснилось, что вслед за командиром роты — совершил
подвиг рядовой Петр Хлюстин. Он был ординарцем Владимира Бурбы.
Маленького роста, восемнадцатилетний, скромный и тихий смоленский
паренек. Видя, что головной танк прорывается к штабу батальона,
этот юный богатырь последовал примеру своего командира. с чзумя
связками гранат он выскочил из горящей ржи и весь в огне бросился
наперерез бронированному чудовищу. Первая связка угодила в борт.
В этот же момент пулеметная очередь прошила грудь геро^. Падая, он
швырнул вторую связку под гусеницу. Петр Хлюстин погиб, но .« танк
не прошел.
Забегу немного вперед, чтобы сказать, что подвиг Владимира Бурбы и Петра Хлюстина в тот же день стал достоянием всех воинов армии. О них вскоре узнала и вся страна.
Эта весть дошла до села Попирня, что затерялась в широких степях Украины. Там родился и вырос Владимир Бурба. Там и жила его
мать, колхозница Матрена Григорьевна Бурба. Вот, что писала она
однополчанам сына:
«Дорогие мои!
Большое Вам спасибо за то, что в трудную для меня минуту не забыли меня. Из Вашего письма я узнала, как храбро дрался с врагом
мой любимый сын Володя, и что он погиб смертью храбрых. Тяжело
пережить это горе моему материнскому сердцу. Слезы непрерывным
потоком льются из очей моих. Но вместе с тем я горжусь, что воспитала такого воина-героя.
Еще три моих сына сражаются на фронте. Я напишу им — бейте
проклятого немца так, как ваш брат Владимир. Будьте такими же
стойкими, мужественными, бесстрашными, как он. Мстите немцам за
смерть своего брата Володи!
Ошмстите за Володю и Вы, дорогие бойцы — сыночки мои! Разрешите мне так называть Вас. Ведь Вы делили радости побед и все тяготы фронтовой жизни вместе с моим Володей, до победы стояли с ним
в упорном и тяжелом бою, который был для него последним.
Дорогие сыночки! Мне 65 лет. Но я работаю в колхозе. В этом году мы собрали на освобожденной от врага земле высокий у р о ж а й .
Мы, колхозники, отдаем все свои силы, чтобы помочь нашей доблестной
Краской Армии быстрее разбить немцев.
Пишите мне ко адресу, село Попирня, Радомышльского района,
Житомирской области.
Крепко целую всех Вас.
Матрена Григорьевна Бурба».
26
Такое же письмо было получено из Смоленщины от матери Петра
Хлюстина.
Как видно из приведенных примеров, день 6 августа был очень
напряженным в боях за плацдарм. В -гот день командир 4-го корпуса
генерал-лейтенант Василий Афанасьевич Глазунов, который никогда не
жаловался на трудности, и тот позвонил мне по телефону и с тревогой
в голосе сказал:
— Товарищ командующий! Трудно сдержать танки противника,
прошу помочь...
Помощь была оказана. К полудню удалось переправить полк тяжелых танков «ИС».
К исходу дня на плацдарме горело несколько десятков танков противника, из них 14 «Тлгров».
О ходе боев за плацдарм .я докладывал штабу фронта через каждые два-три часа. Донесения, подлинники фотокопий авиационной разведки, наконец, показания пленных танкистов, взятых в плен в боях за
плацдарм, убедили командование фронтом, что танковые дивизии
«Герман Геринг», 19 и 25 находятся не на восточном, а на западном
берегу Вислы.
С этого момента командование фронтом, как говорится, повернулось лицом на запа|д, к событиям, которые развертывались на Ви,слинских плацдармах.
69-я армия генерал-лейтенанта В. Я. Колпакчи с ходу переправилась через Вислу и захватила плацдарм западнее Демблин, Пулавы
В распоряжение 8-й арм,ии прибыли три зенитно-артиллерийские дивизии, которые поставили на прикрытие переправ. К нам на плацдарм
был введен один механизированный корпус 2-й танковой армии. Наконец, вернулись в свою арм,ию две дивизии, которые были оставлены
в обороне на восточном берегу Вислы. Их разрешили снять и переправить на плацдарм.
Как только прибывшие зенитные дивизии заняли огневые позиции,
сразу же авиация 'противника прекратила налеты на переправы. С командного пункта армии было видно, как бомбардировщики противника
девятками, а истребители — парами старались прорваться через зенитный заградительный огонь к переправам. Однако, встретив на своем
пути густые разрывы снарядов, уходили в сторону. Это было вечером
7 августа. А к утру следующего дня наши инженерные части закончили наводку еще двух мостов через Вислу и на плацдарм полным потоком пошли свежие силы — артиллерия, танк,и, стрелковые части.
Теперь нас трудно было столкнуть с плацдарма.
Новые контратаки противника отражались нашими войсками уверенно, с ответными контрударами.
10 августа противник бросил против нас свежую 25-ю танковую
дивизию, которая в первый же час боя понесла большие потери и пригановила свое наступление.
Во второй половине дня мне позвонил к о м а н д у ю щ и й фронтом
'окоссовский.
— Как дела? — спросил он.
Я доложил, что новая попытка противника атаковать н а ш и ч а с т и
свежими силами, в частности т а н к а м и 25-й дивизии, не у в е н ч а л а с ь уе
пехом. На всех участках борьбы за плацдарм противник приостанови.:
наступление.
После этих фраз в телефоне послышался звук о б л е г ч е н и я Коп
стантин Константинович Рокоссовский, вероятно с нетерпением ж д л л
такого часа, когда противник приостановит свои мощные к о п г р и ш к п
иа плацдарм. И, наконец, этот час пришел. Судя по всему, к о м л и ч \ ' н >
ЩИЙ фронтом был доволен моим докладом.
37
Помолчав, он спросил меня:
— Как тебя найти?
Из этого вопроса и по тону в голосе я понял, что он собирается
приехать ко мне на плацдарм. Встретиться с ним мне хотелось. Но
можно ли рисковать жизнью командующего фронтом? Мой командный
пункт недалеко от переднего к р а я , противник может заметить движение машины к командному пункту ,и, чем черт не шутит, тот артиллерийский налет, который он организует, может накрыть именно эту машину. Нет, надо пойти на какую-то хитрость, чтобы не пустить Рокоссовского на плацдарм. Мысль сработала моментально. Я пошел на обман и, з н а я его в н и м а т е л ь н о с т ь к людям, ответил:
— Товарищ командующий, меня заедают вши. Я заказал баню.
Хочу помыться. Часа через два буду на том берегу.
— Проще говоря,— сказал Рокоссовский,— ты не хочешь пустить
меня на плацдарм.
— Нет, я хочу помыться, баня уже заказана,— повторил я, чувствуя,
что он уже успел разгадать мою хитрость.
— Ну хорошо,— согласился Константин Константинович,— встретимся в районе бани.
Вечером я встретился с ним на восточном берегу Вислы в районе
второго эшелона штаба армии. Встретились тепло, сердечно, как брат
с братом. Сходили вместе в баню, хорошо поужинали и затем почти
всю ночь до утра беседовали. Беседа шла откровенная, доверительная.
После того, как я рассказал о ходе форсирования Вислы и о боях за
плацдарм, он признался:
— Я знал, что тебе тяжело, но я верил тебе. В Сталинграде было
не менее трудно, но ты выдержал. Спасибо, товарищеское
спасибо
тебе.
Сейчас на Висле вспомнили встречу на Волге, разговорились
о Сталинградской битве. Поговорили и о текущих делах и планах на
будущее, о наступлении на Берлин. Наши мысли и думы вслух о дальнейшем развитии наступательных действий буквально совпадала по
каждому пункту, по каждому этапу будущего наступления.
Константин Константинович умел вести откровенные, доверительные беседы, о которых я, прямо скажу, всегда тоскую. В этой беседе
мы глубже и полнее поняли друг друга и с той поры остались навсегда хорошими друзьями.
Эта встреча оставила в моей памяти хороший след и помо-гла мне
глубже понять характер ,и ход мыслей душевного человека и замечательного полководца. Мы расстались друзьями. Константин Константинович, уезжая от меня, даже не разрешил мне проводить его. Такая
уж у него натура — он не любит подчеркивать свое превосходство над
подчиненными, а с друзьями старался держаться как равный с рав
кьгм — хорошая, прекрасная черта, говорящая о полноте души и глубине разума: кто не умеет говорить с подчиненными, того и подчиненные не могут понять.
Провожая его, я сказал, что противник не продвинется в районе
плацдарма к Висле и и на шаг. Так и случилось. Прошло еще несколько
дней, и противник, получив отпор, окончательно отказался от попыток
столкнуть нас в Вислу. Наши войска тоже перешли к обороне.
Теперь осталось коротко подвести итоги наступления от Ковели
до Вислы.
В результате наступательных боев с 18 июля по 10 августа войс к а 8-й гвардейской армии прошли с боями около 250 километров, форсировали Вислу и завоевали Магнушевский плацдарм — более 50 километров по фронту и до 20 километров в глубину.
Это был наш первый шаг на главном, Берлинском направлении,
26
шаг, который приближал нас к заключительному сражению, положившему конец третьему рейху.
Противник, принимавший участие в борьбе против наступления
8-й гвардейской армии, понес значительные потери. Четвертый танковый корпус остался без танков. Были полностью разгромлены 26-я,
342-я дивизии, 318-й полк 213-й охранной дивизии; 25-й полицейский
полк, 689-й, 991-й и 12-й охранные батальоны, 270-я и 600-я бригады
штурмовых орудий, 620-й и 637-й артиллерийские дивизионы РГК.
Танковые дивизии 19-я, 25-я и «Герман Геринг», а также 17-я и 45-я
пехотные дивизии вынуждены были перейти к обороне, так как в батальонах и полках остались лишь штабы и несколько танков, закопанных в землю.
Оценив значение завоеванного плацдарма, командующий фронтом
приказал:
«8 гвардейской а р м и и закончить наступательные действия переходом к жесткой обороне». Для гарантии и усиления оборонительных позиций плацдарма, нам придавался в оперативное подчинение 16-й танковый корпус, выведенный из состава 2-й танковой армии.
Во [Исполнение этого приказа войска армии к 6 сентября закончили работу по инженерному оборудованию первой линии оборонительной полосы. На переднем крае, перед двумя линиями сплошных траншей полного профиля, построенных на удалении двухсот-трехсот
метров одна от другой, с двумя-тремя ходами сообщения на километр фронта, были поставлены сплошные противотанковые и противо
пехотные минные поля и заграждения из колючей проволоки. Закончив
оборудование площадок для пулеметов и орудий противотанковой обороны, войска приступили к строительству блиндажей для укрытия личного состава и второй позиции обороны. Вторая позицчя обороны
строилась силами дивизий второго эшелона.
По районам вероятного скопления танков и пехоты противника
были спланированы огни артиллерии .и минометов. Перед артиллеристами стояла задача — систематически тренировать и уметь вести сосредоточенный огонь по первому сигналу, как днем так и ночью. Особое
внимание огневиков было обращено на обеспечение маневра подвижных частей резерва. На наиболее угрожаемых направлениях стояло
до 30 орудий на километр фронта.
Во всех крупных населенных пунктах создавалась круговая
оборона.
Моему заместителю генерал-лейтенанту Духанову с начальником
инженерных войск армии генерал-майором Ткаченко было приказано
провести рекогносцировку запасной армейской полосы обороны с передним краем по восточному берегу Вислы.
К Ю сентября в тылы армии стало прибывать пополнение. Перед
командирами корпусов стояла задача принять пополнение, обработать
его и приступить к доукомплектованию дивизий, которые поочередно
готовились к выходу в резерв.
Теперь, когда закончилась основная работа по созданию прочной
обороны и стало ясно, что противник уже не в силах столкнуть нас
в Вислу, мне приятно было вспомнить и ход форсирования этой мощной реки, и напряжение боев за плацдарм, и людей, которые обеспечили выполнение поставленной задачи.
Вот они, эти замечательные люди.
Командир 4-го гвардейского корпуса генерал-лейтенант В а с и л и и
Афанасьевич Глазунов с виду казался простым, ничем не о т л и ч а ю щимся человеком. В прошлом — он воздушный десантник Он иг один
раз, еще в 1941 году, с войсками побывал в тылу у п р о т и в н и к . I 1;мгм.
после переформирования десантных корпусов в гвардейские стрелковые дивизии, его назначили заместителем командира корпуса. Заместитель командира — должность, которая не всегда упоминается в реляциях и приказах: при удачных операциях, лавры успеха даются
прежде всего командирам, при неудачных — некоторые командиры всю
вину сваливают на своих заместителей. Глазунов был не таким, его
нельзя было не заметить, не видеть в боях и операциях потому, что он
был всегда там, где решались основные события, он как генерал-солдат был с солдатами в атаке, в окопе, на передовом командном пункте.
Вскоре его назначили командиром корпуса и в боях на Висле, где
особенно требовалось проявить высокие организаторские способности,
быстроту действий и волю командира, он развернулся во всю полноту
своих способностей. Он правильно понял главный замысел операции —
быстрота подготовки маневра и внезапность действий. Части его корпуса быстрее всех и лучше всех подготовились к выполнению задач'и,
проявили мобильность при форсировании реки и в действиях на противоположном берегу.
В корпусе ведущую роль при форсировании Вислы сыграла
57-я стрелковая дивизия во главе с генералом Афанасием Дмитриевичем Шеменковым, который под руководством Глазунова сумел скрытно
и вовремя сосредоточить свои полки для форсирования реки. Внезапный удар этой дивизии обеспечил успех всему корпусу.
Правее форсировал Вислу 28-й корпус под руководством генераллейтенанта Александра Ивановича Рыжова. Этот корпус форсировал
и наступал в центре ар-мии. Его задача была наносить рассекающий
удар и как можно глубже. Александр Иванович справился с такой задачей успешно, проявив при этом огромную волю и мужество.
79-я гвардейская дивизия первого эшелона его корпуса под командованием генерал-майора Леонида Ивановича Вагина начала переправу одновременно с дивизиями 4-го гвардейского корпуса. Полки див'изии, дружно форсировав В'ислу, сразу перемахнули через дамбу,
отбросили противника от реки, и тем самым лишили его возможности
наблюдать, что делается на самой реке и на подходах к ней.
На правом фланге а р м и и форсировала Вислу 27-я гвардейская
дивизия 28-го гвардейского корпуса под командованием.генерал-майора Глебова. Полки этой дивизии несколько запоздали с выходом к реке
на исходный рубеж, но в дальнейшем они наверстал^ упущенное и переправились на плацдарм к решающим событиям без опоздания.
Организаторские способности отмеченных товарищей, их умение
все делать вовремя, решили успех операции. Они по заслугам были
представлены к высшей награде — присвоению звания Героя Советского Союза.
В боях на Висле ведущая роль в о р г а н и з а ц и и и руководстве
войсками принадлежит генералам и офицерам—сталинградцам, за
плечами которых был богатейший опыт, приобретенный в свое время
на Волге, затем на Северном Донце, Днепре, Южном, а затем и Западном Буге.
При форсировании такой широкой и глубокой реки, как Висла,
большая роль принадлежит инженерным и саперным войскам. Без них
:»ту реку не переплывешь, а нам н у ж н о было переправить не только
люден, но и танки, а затем артиллерию, боеприпасы, продовольствие
и другое имущество.
Эта задача была выполнена дружным коллективом инженерного
отдела армигл во главе с генерал-майором инженерных войск Владимиром Матвеевичем Ткаченко.
Инженерные войска армии сумели в кратчайший срок сосредото41
чить все, что требовалось для форсирования этой мощной реки. Они
работали в основном ночами, чтобы скрыть от противника нашу подготовку, не смыкали глаз, под пулями, снарядами и авиационными
бомбами переправляли людей и технику через реку. Они наводили
мосты, по которым противник вел прицельный артиллерийский огонь,
на которые бросал эскадрильи бомбардировщиков. Такое напряжение
продолжалось больше недели, пока основная масса войск и техники
не была переправлена на западный берег.
Армейские артиллеристы во главе с Николаем Митрофановичем
Пожарским, его начальником штаба Владимиром Фомичем Хижняковым и другими офицерами — участниками великого сражения на Волге, — искусно маневрировали огнем и колесами до и после водной преграды, нанося невосполнимые физические и моральные потери противнику. У нас было мало тяжелых танков, которые сводом огнем могли состязаться с танками гитлеровцев «Тигр» и самоходным^ орудиями «Фердиианд», вооруженными 88-миллн>метровыми пушками. Борьба с ними
ложилась на артиллерию, главным образом, на тяжелые калибры,
которые выдвигались на открытые позиции да вели огонь прямой наводкой. Переброшенные из-под Варшавы для ликвидации нашего плацдарма танковая дивизия «СС», «Герман Геринг» и другие танковые
части были остановлены и побиты главным образом артиллерией крупных калибров и пехотинцами — истребителями танков. Все дрались
по-сталинградски. П р я м а я наводка, связка ручных гранат, плюс фаустпатроны, добытые в боях у врага, и, главное, патриотизм и героизм
советских людей, сломили сопротивление отборных эсэсовских войск.
Наши пехотинцы и танкисты тесно взаимодействовали на поле боя,
дополняли друг друга, прокладывая себе путь, очищая и навсегда закрепляя отвоеванные пространства. Они хорошо использовали результаты огневых ударов артиллерии и авиации, прочно закрепляла за собой успех.
Магнушевский плацдарм, как и другие плацдармы на Висле,
стал воротами, через которые шли наши войска для освобождения
Польши.
В дни совершенствования обороны плацдарма мне довелось побывать во многих частях армии, повстречаться с героями боев за Вислу
и вручить им заслуженные награды.
Вот передо мной бывший шахтер Донбасса, командир орудия
гвардии старший сержант Нестер Григорьевич Мосин, высокий, <плечистый артиллерист.
За мужество <и отвагу, проявленные в боях при форсировании
Вислы, Нестер Григорьевич удостоен пятой правительственной награды: Указом Президиума Верховного Совета он награжден орденом
Славы 1-й степени.
Золотой орден Славы явился заслуженной наградой бывалому
артиллеристу. Вместе со своим братом ефрейтором Леонидом Мосиным
и заряжающим красноармейцем Куликовым Нестер Григорьевич разбил за минувший год 4 немецких танка, 3 самоходных орудия, 2 бронетранспортера, 12 оруд;;й, л о 15 пулеметов и уничтожил свыше 300 гитлеровцев.
Рядом с воинскими н а г р а д а м и грудь сержанта украшает медаль
«За т р у д о и ^ ю доблесть». Это -- свидетельство самоотверженной р.ч(юты Нестера Григорьевича на шахте в Донбассе, где он д а в а л до
иоГшы по 2 -3 нормы. Комендор — моряк Балтики, затем п а р г н з ; ш , таком
п у т ь Нестера Уюсина ло 1942 года, когда он вступил в р я д ы Кр.чснои
Армии. В военном деле Мосин настойчив, делает но- п(>гп>чтельно, наверняка. Из любого, самого трудного п о л о ж е н и я он умп'т
найти выход. Однажды орудию сержанта Моспна вместе г (кт
31
пехоты привелось пойти в прорыв, образовавшийся во вражеской обороне. и углубиться в нее на 8 километров.
Враг зажал смельчаков в кольцо. Бесстрашно действовали артиллерксш Прямой наводкой они разбили три орудия и два бронетранспортера. Но когда гитлеровцы приблизилась на
расстояние
301< метров, расчет открыл огонь картечью, истребив 200 немцев. Отбив
несколько контратак противника, расчет сержанта Мосина помог пехоте прорвать вражеское кольцо.
В боях на подступах к Ковелю орудийный расчет Мосина помогал
расчищать путь пехоте. Прямой наводкой он разбил три дзота, уничтожил несколько пулеметных гнезд. Шаг за шагом продвигалось орудие вместе со штурмующей пехотой.
При форсировании Вислы орудие Мосина было погружено на лодки и переправлено на плацдарм. Зацепившись за малый клочок земли,
гвардейцы с помощью артиллеристов повели наступление.
Во многих боях участвовал кавалер трех орденов Славы коммунист Нестер Мосин. Он всегда сражался так, как наказывал ему отец,
старый шахтер Григорий Егорович Мосин — бить врага по-шахтерски,
без всякой пощады.
В этой же части я вручил орден «Отечественной войны» I степени ездовому Виктору Шерстюкову.
Еще на Северном Донце командир подразделения назначил его
ездовым.
— Чем же ' н е приглянулся я командиру? — недоумевал Шерстюков
Этот вопрос не выходил из сознания, но работал Шерстюков с таким рвением и с такой старательностью, как будто выполнял любимое
дело.
В обращении со своими любимцами Пушкарем и Пудиком Шерстюков проявлял необычайную расторопность, аккуратность. По крестьянской привычке Шерстюкову нравилось работать с лошадьми, но ему
все же хотелось попасть в орудийный расчет.
— Кто ) такой ездовой? — размышлял Шерстюков. — Последний
человек в подразделении... Орудийные расчеты бьют фашистских гадов, расстреливают танки, самоходки, разрушают укрепления врага;
одним слово.м воюют по-настоящему.
Однажды в подразделении проводился смотр лошадей. Сытые,
вычищенные до блеска Пушкарь и Пудик Шерстюкоза был,и признаны
лучшими в части. За образцовый уход за лошадьми и добросовестное
выполнение боевых заданий ездовому Шерстюкову объявили благодарность перед строем. Это было для него большой радостью.
Когда командир н а п р а в и л с я в свой бл.индаж, ездовой догнал его
и обратился к нему. Многое хотелось рассказать Шерстюкову, а главное доказать свое незавидное положение, но все мысли выразились
в одном вопросе:
— Ездовыми назначают кого, худших бойцов? — спросил он.
Командир внимательно взглянул на Шерстюкова. ласково хлоп
пул его по плечу и ответил:
- - Нет, тебя назначили как лучшего. — И привел ему много примерог,, когда расторопные и смекалистые ездовые обеспечивали успех
поя.
Слова командира глубоко врезались в память, и Шерстюков
с с р ь е и ю задумался над своей работой. Вот представился бы ему такой с л у ч а й , как рассказывал командир!...
Здесь, на плацдарме, в тесном взаимодействии с ротой пехоты
(>атаре>я вела бой в условиях открытых флангов. Гитлеровцы вели
огонь. Создалась т а к а я обстановка, когда требовалось
I'
стрелять из орудий прямой наводкой. Подкатить
орудия на руках
нельзя Шерстюков в это время привез снаряды. Он узнал, какая трудность возникла перед товарищами. Орудия, думал он, нужно выкатывать на большой скорости. В о тин момент он подскочил на своих лихих
конях к первому орудию, ловко подцепил его и помчался вперед.
С прямой наводки орудие било точно, уничтожая огневые точки противника. В этом бою Шерстюков выкатил на прямую наводку три
орудия, которые решили .исход боя. Своей находчивостью, храбростью
и мужеством он изумил всех бойцов.
Сейчас, -получив высокую правительственную награду, Шерстюкоз
твердым шагом, с гордо поднятой головой, возвращался в сарай.
Здесь его спросил командир подразделения:
— Понимаешь теперь, кого нужно н а з н а ч а т ь ездовым и что он
может сделать?
— Так точно, понимаю,— радостно ответил ездовой.
Какие у нас хорошие люди. Внешне незаметные, тихие, скромные, а совершают такие подвиги, о которых трудно даже рассказать,
не хватает слов.
Вот еще один представитель из таких же тихих и незаметных тружеников войны. Это санинструктор Михаил Лобснко. Он награжден
орденом Ленина. О себе он ничего не мог сказать, а между тем только один эпизод из его боевой ж и з н и мог бы стать темой для целой
повести.
Бой утих, так же внезапно, как и начался. И когда бойцы, отразив
немецкую атаку, вернулись в снои траншей, они увидели, что межд>
нашими и немецкими окопами, на нейтральной полосе, остался младший лейтенант Николай Стрель.шков. Он был ранен в ноги и не мог
даже ползти.
На ровной лесной полянке негде было укрыться, и Стрельников
лежал на виду у немцев, которые вели по нему стрельбу.
Гвардейцы видели это. Он;и открыли сильный огонь по гитлеровцам, мешая им прицельно стрелять в лейтенанта.
Совершенно неожиданно из окопа выскочил небольшого роста коренастый боец. Он лробежал несколько метров, затем упал и по-пластунски пополз к лейтенанту.
— Лобенко пополз...— проговорил кто-то.
На мгновение над -полем боя воцарилась тишина. Бойцы следили
за товарищем, прикрывая его своим огнем. Когда Лобенко подполз
К Стрельникову, немцы открыла ураганный огонь.
Но отважный санинструктор не обращал в н и м а н и я на п у л и . Он
взвалил к себе на опину лейтенанта, пополз к н а ш и м траншеям и т и х о
опустил стонущего от боли офицера на дно траншеи.
Много подвигов на счету у санитарного и н с т р у к т о р а гвардии
старшины медицинской службы Михаила Алексеевича Лобенко.
Немало р а н е н ы х в ы н е с Лобенко с ноля боя. С п а с е н н ы е им Николай Стрельцов, к р а с н о а р м е е ц Ковалев и м н о г и е д р у г и е , к о ю р ы х под
огнем перевязывал и в ы н о с и л Л о п е п к о , ч а с т п и ш у т с м \ письма, полные благодарности.
Четвертый год служит и споем подразделении с л а н н ы й патриот.
Четыре раза он был ранен, но всегда в о з в р а щ а л с я и свою часть, ставшую для него родной семьей.
Орден Ленина и три боевые м е д а л и , в е н ч а ю щ и е грудь коммуниста Лобенко, лучше всего говорят о его поцнига.ч, о том, как высоко ценит наша Родина благородный т р у д с а н и т а р а .
Был в нашей ар'.мии еще один санинструктор, кавалер ордена
Ленина с т а р ш и н а Федор Иванович Сидоренко. Участник Сталинградской битвы, он только в дни боев на т е р р и т о р и и завода «Красой
3
Б а й к а л > ,М> 1.
33
Октябрь» вынес из-под огня 80 раненых бойцов и командиров с о р . жием. Его знала воя армия, как отважного человека.
Командир полка В. А. Турчинский говорил о нем так:
— Где находится Федор Сидоренко, ни одного раненого не останется под огнем.
Проворный, смекалистый, он вынес с нейтральной полосы сразу
двоих: командира артдивизиона и радиста. Положил их на плащпалатку и ползком выволок в безопасное место.
На примере Федора Сидоренко в армии воспиталась большая
группа таких отважных санинструкторов, как Лобенко. Вручая ему
орден Ленина, я вспомнил доклад командира 39-й дивизии в самый
разгар боев за Магнушезский плацдарм:
— Федор Сидоренко погиб: его раздавил немецкий тянк вместе
с раненым бойцом, с которым он выполз с поля боя.
Каких замечательных людей воспитала наша партия. Бесстрашные, умные, волевые, скромные, о себе почти ничего «е говорят, но
как они любят Родину, с какой самоотверженностью выполняют поставленные перед ними задачи И таких не десять, не двадцать, а тысячи! Смотришь на них и сердце переполняется гордостью: спасибо
тебе, Родина-мать, спасибо, Великая Русь, за то, что на твоей земле
растут такие отважные воины.
Наступила пора тихой, оборонительной или, точнее сказать,
окопной жиз'ни. В этих услови-ях особое
значение приобретает
бдительность.
В обороне, особенно длительной, люди свыкаются с неподвижностью войск как одной, так и другой стороны, привыкают сидеть
друг против друга и часто без сговора не мешают один другому
жить «по-человечески». Например, не ведут огня по движущейся по
полю кухне, видя в ней безвредное для себя явление, не мешают ходить за водой.
Это объясняется по-видимому и тем, что обороняющимся частям
не дают много сил и средств для активных действий, так как идет накопление средств для решающих событий. И солдат думает: я буду
стрелять по людям, идущим с котелками к кухне за пищей, израсходую боеприпасы, затем противник, разозлившись, будет отвечать мне
тем же. а может быть еще сильнее, тогда и без того противная
окопная жизнь станет в десятки раз противнее.
Что такое окопная жизнь? Об этом говорить много не преходится.
Тем, кто -не попытал ее, достаточно спуститься в сырой подвал или погреб с узким окошком и представить себе, как сидели в таких условиях
люди по две-три недели, в ожидании, что этот подвал или погреб
может в любую минуту обвалиться от попавшего снаряда или мины,
придавить сырыми бревнами или досками с землей и плесенью.
Солдату приходится ч а с а м и стоять на посту в качестве наблюдателя, дежурного в секрете, то под проливным дождем, то под палящим солнцем или в морозную вьюгу. Ко всему этому прибавляете?;
еще незванная гостья — вошь. При подобном образе жизни она преследует всякого, не взирая на положение, звание и заслуги. В Сталинграде этих насекомых наши бойцы называли «автоматчиками.*, на
Северном Донце — «власовцами», на Висле — «фаустниками».
Многие знают, что такое бомбоубежище, в котором проводили
по несколько часов при бомбежках и выходили оттуда с реш е н и е м больше туда не ходить. Однако, бомбоубежище не сравнишь
с окопом или блиндажом первой позиции обороны. Солдат живет в них
несколько недель, даже месяцев, и такая жизнь становится невыносн34
мой. Он не только страдает от всевозможных лишений, но теряет остроту чувств, многое для него становится безразличным. Это безразличие
сказывается прежде всего на его отношении к врагу. Ведь и тот находится в таких же условиях.
Если между окопами пробежит заяц, это вызывает ликование обеих
сторон. Услышав в окопе музыку или песню, обе стороны затихают,
забывая, что их привело сюда.
Такие взаимоотношения устанавливались постепенно. Но с н.ими
нельзя было мириться. Вот почему в дни оборонительного затишья
на Магнушевском плацдарме особое значение придавалось партийнополитической работе, главным образом в ротах и взводах.
Тут мне хотелось бы отменить работу одного п а р т о р г а роты
220-го гвардейского стрелкового полка.
Дни стали короче. Велика -и неоценима заслуга тех политработников, которые умеют использовать это время для воспитания бойцов.
— Ночью,— говорит парторг младший лейтенант Выборное,— мы
и особенности стараемся активизировать нашу работу.
И действительно, как важно бывает вселить бойцу непоколебимую
веру в успех того, за что он борется, в возможность выполнения той
конкретной боевой задачи, которая стоит перед ним.
Парторг Василий Петрович Выборное зарекомендовал себя вдумчивым политработником. Его опыт работы на переднем крае ночью
поучителен во многом. Прежде всего нужно подчеркнуть конкретность и содержательность 'Проводимых им групповых и индивидуальных бесед, в которых он касается самых различных сторон жизни бойцов. Появление парторга Выборнова в окопах и землянках
в ночное время стало обычным. Бойцов интересует всегда в первую очередь свежая сводка Совинформбюро и они узнают ее содержание до рассвета от парторга. От сводки незаметно разговор переходит к беседе о том, что сегодня произошло в подразделении, о бытовых нуждах бойцов. Выборное обменивается с бойцами двумя-тремя
словами, подбодрит их, поддержит в них боевую активность, боевую
бдительность. Эти задушевные беседы касаются конкретных задач
подразделения и каждого бойца.
Однажды при проверке пулемета у бойца Скворцова парторг
установил, что затворная рама засорена песком.
— При таком состоянии твой пулемет может отказать в бою.
Не только себя, но и товарищей подводишь ты этим,— сделал строгий
вывод парторг.
Выборное предупредил Скворцова, что этот разговор останется
пока между ними, но что в следующий раз такого положения он Н'.потерпит. Такое товарищеское предупреждение, широко практикуемое
Выборновым, оказало воздействие. С тех лор Скворцов берег свой
пулемет, как зеницу ока.
Фронтовики любят ж.ивое слово. И парторг не только сам вел
индивидуальные беседы с бойцами, но и требовал от коммунистов,
чтобы они постоянно общались с красноармейцами, живо откликались
на их запросы.
Бойцы переднего края не могли припомнить такой ночи, когда ("п.:
к ним .не приходил парторг. Ночью бойцы не только узнавали от пар
торга политические новости, но и чувствовали его заботу б у к в а л ь н о
ВО всем. Не было в землянках керосиновых ламп. Выборное п<наГ><>
тился о том, чтобы их сделали.
— От нас до немцев,— рассказывали бойцы,— около 400 м с ч р о п , пп
и .чдесь мы можем всегда хорошо отдохнуть.
Землянки у нас были теплые. В них имелись газеты, брошюры,
журналы, книги. Об этом позаботился парторг_Выборнов.
Бойцы с благодарностью отзывались о заботливом политработнике, живо откликающемся на все их запросы и нужды.
В свой блиндаж Выборнов возвращался только к рассвету. И так
из ночи в ночь.
В обороне особенно в а ж н о иметь постоянную высокую бдительность, чтобы люди не забывали о противнике, который всегда может перейти в наступление и, воспользовавшись беспечностью и ротозейством, внезапно, быстро и с малыми силами добиться больших успехов. Вероятнее всего наступать или наносить удар будут не те войска, которые давно стоят в обороне, а свежие, из резерва. Войска, находящиеся в обороне, чаще всего и грают роль щита для сосредоточе
ния, подготовки свежих войск из резерва для нанесения внезапного
удара.
Может создаться такое впечатление, что в дни оборонительного
затишья на Магнушевском плацдарме, 8-я гвардейская а р м и я в безделье коротала длинные осенние ночи. Это неверно. Когда пушки молчат, действуют разведчики, льется пот у саперов, а штабы забывают
про отдых.
Разведка действовала непрерывно, добывая достоверные и проверенные данные о противнике. Чтобы эти данные были свежие, не архивной ценности, а давали сегодняшние, а не запоздалые сведения,
мы пустили в ход все виды разведки. Знать какой противник сидит
в первой траншее и что собирается делать — интересно и важно, но
этого недостаточно. В современной войне разведку надо вести глубокую, заглядывать и знать, что делается у противника в его тылу, за
10—30—50 и более километров. Это не значит, что командир роты или
батальона должен вести разведку на такую глубину. У него нет для
этого сил и средств. Но все же он может и должен стремиться просматривать противоположную сторону, насколько позволяет местность. Более глубокую разведку веди командиры дивизий, корпусов
и армии. У них сил и средств для этого значительно больше.
На плацдарме особенно важно, чтобы каждый командир, по силе
и возможностям, вел разведку противника. Тогда удастся избежать
внезапных атак.
Одновременно войска армид з а н и м а л и с ь строительством надежных
укреплений. На плацдарме надо было закрепиться так, чтобы противник не мог потеснить наши войска даже на метр. Для этого были возведены две позиции, к а ж д а я из двух-трех метров траншей с убежищами и блиндажами. Через Вислу было построено восемь мостов грузоподъемностью до 60 тонн. Перед каждым мостом построили лредмостовые укрепления.
Все это потребовало непрерывной работы всех войск, находящихся на позициях д в резерве.
Мы догадывались, что с Магнушевского плацдарма будет нанесен
главный удар сил фронта. Поэтому наши оборонительные работы мы
строили с расчетом наступательных действий крупных сил.
На Магнушевском плацдарме в пойме рек Шлица и Висла было
много заболоченных мест. Подходы к местам скопления войск были
т р у д н ы м и — ил, песок. Поэтому армейским саперам во главе с генералом Ткаченко пришлось основательно поработать. Ими было построено около 200 километров дорог по болотистой местности и тяжелым
песчаным участкам: колейных—130 километров, жердевых—30, грунтовых — 40.
Проделав необходимую работу, войска а р м и и могли считать свою
задачу выполненной. Они могли вести оборону против превосходящих
сил противника, а также были готовы перейтд в наступление.
Последней мерой по усилению бдительности и боевой готовности
г>
бойцов и командиров — была смена частей. Находящиеся в первом
эшелоне обороны выходили в резерв на доукомплектование и боевое
сколачивание.
Первая смена частей и соединений армии была произведена
в ночь с 8 на 9 сентября. Этой ночью на фронте плацдарма, занимаемого 8-й гвардейской армией, в первом эшелоне оставили четыре дивизии из девяти; пять находились во втором эшелоне, доукомплектовывались и занимались боевой подготовкой. Вторая смена произошла по
приказу командующего фронтом 15 сентября в связи с уходом Первой
польской армии с плацдарма на новое направление. Для ее смены
пришлось поставить на первую позицию обороны 82-ю стрелковую
дивизию.
Находящийся на плацдарме 16-й танковый корпус к этому времени подготовил два бригадных противотанковых узла и был готов к отражению любых танковых атак противника.
Теперь можно с уверенностью сказать, что 8-я гвардейская армия,
оказавшись в новых условиях, в составе 1-го Белорусского фронта,
с успехом выдержала экзамен на главном направлении да завоевала
моральное право претендовать на получение более трудных задач.
Магнушевский плацдарм стал мощной опорой для будущего движения
главных сил фронта на Берлин.
(Продолжение
следует)
ОБ ЗТ9М ГОВОРИЛИ НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС
4- Химическая промышленность выдвигается сейчас
на первый план в народном хозяйстве потому, что применение химических продуктов и синтетических материалов дает возможность осуществить коренные качественные преобразования в ведущих сферах материального производства. Эти преобразования позволяют быстро увеличивать выпуск продукции, повышать ее качество при одновременной экономии капитальных затрат
и снижении издержек производства.
-4" Сейчас ставится задача всемерно
форсировать
развитие х и м и ч е с к о й промышленности и на этой основе
ускорить х и м и з а ц и ю ведущих отраслей народного хозяйства.
+ За семь лег н у ж н о п о с т р о и т ь примерно 200 новых
и реконструировать с в ы ш е 500 д е й с г к у ю щ и х предприятий.
Ч" Общая с у м м а к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й в развитие
химической промышленности и к о м п л е к с н у ю химизацию сельского хозяйства с о с т а в и т свыше 42 миллиардов рублей, в том числе затраты, связанные только с
химизацией сельского хозяйства, определяются примерно в 10,5 миллиарда рублей.
37
Ким ИЛЬИН
РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ
Меня спросил однажды древний дед,
поэзию я знаю или нет?
Да, мне теория стиха знакома.
И я решил познанием блеснуть:
— В поэзии есть рифма и синкопа.
Неплохо в стих метафору ввернуть.
Но от моей учености старик
зевнул открыто и заметно сник.
Потом сказал протяжно:
— Э-э-х, сынок!
(В глазах его смешливый огонек.)
В понятии поэтов молодых
поэзия легка и сладкострунна.
А для меня
поэта звучный стих —
далекая утраченная юность,
в лесу шумящий по весне родник,
зовущие на ёхор сердца песни,
улыбка девушки, что нет прелестней,
и думы: не такой уж я старик!
В стихах я вижу годы боевые,
восставшие на тюрьмы и царя.
В стихах я чую силы молодые,
полученные в дар от Октября.
Стихи — лугов весенних разноцветье,
добротный сруб и выращенный хлеб...
Тут понял я, ученый теоретик,
к поэзии
еще я гл^\ и слеп.
Перевел с бурятского Виктор
КИСЕЛЕВ.
Редакции журнала „Байкал'
ДОРОГИЕ
Вы просили в качестве биографической-справки написать
читателям журнала «Байкал»
несколько слов о себе. Начни
с места в карьер, как в анкетах: Я, Лазутин Иван Георгиевич, русский, родился в 1923
году на Тамбовщине, в бедной
крестьянской семье. Мать —сибирячка. Детские годы ее прошли в Забайкалье.
После окончания десятилетки, в 1941 году, я был призван
на Тихоокеанский флот. Рядовым матросом служил на островах Японского моря до декабря 1942 года. В 1943 году
участвовал в боях на I и II Белорусских фронтах в гвардейских минометных частях («Катюша»). Водитель боевой машины. Солдат.
В январе 1944 года наша
гвардейская бригада стояла на
отдыхе в белорусском городишке Речица. И вот там-то судьба
свела меня с бригадой артистов Бурят-Монгольской республики. Жил с ними вместе
в одной крестьянской избе.
Бригада обслуживала фронтовые гвардейские части.
Никогда не забуду стойкости
и выдержки бурятских товара
щей. Днем у них — концерт за
концертом, а ночью — нехитрый солдатский отдых на полу
крестьянской избы, подчас не
разуваясь.
Питались артисты с нами, с
солдатами, из одной полевой
кухни, по тем же солдатским
нормам.
А как принимали их фронтовики!..
Видя перед собой
овеянные пороховым дымом
лица защитников Родины, Бадма Балдаков и Надежда Петрова (тогда они были совсем
молодые) в свои песни вкладывали всю душу.
ТОВАРИЩИ!
Цыдену Бадмаеву и Марине
Шалтыковой
приходилось
трижды (на бис1...) повторять
бурятский национальный танец
с луком. Они были совсем
юными...
А как лились в наши очерствелые солдатские сердца переливы баяна Ивана Сергеевича
Дворникова!.. К. огорчению моему, некоторые имена забыл.
Давно это было. Но невозможно забыть теперь уже народного артиста СССР Гомбо Цыдынжапова. Это был не только
большой художник, но и талантливый командир. Там, на
войне, его воля (он был руководителем бригады) была законом для подчиненных.
«Дисциплина! Дисциплина!1
И еще раз дисциплина!!!» — не
раз повторял он артистам.
И сейчас, когда за плечами
моими юридический факультет Московского университета,
аспирантура по философии,
многолетнее преподавание логики и психологии и, наконец,
годы писательского
труда...
(шутка ли сказать, прошло более двадцати лет) — мне всегда приятно вспомнить дорогую
для моего сердца встречу на
фронтовых дорогах с братьями-бурятами, которые тогда
были рядовыми артистами, а
теперь стали народными и заслуженными. И нигде-нибудь.
а вот именно там, на войне,
зарождалось
их
народное
признание.
Поэтому, я с легкой душой,
по Вашей просьбе, дорогие товарищи, передаю рукопись романа «Черные лебеди» журналу «Байкал».
Да и можно ли поступит, п<>
другому? Мой главный .г/" 1 »
романа Дмитрий Шадрин ч <« ч
его семья — корснны!' < «о»/),1»ки.
В Забайкалье протекали детство и юность моей матери. И
мне самому посчастливилось
дважды «испить шеломом-»...
нет, ошибся, простым солдатским котелком холодной, янтарной водицы Байкала.
Среди всех песен, которые
певал мой захмелевший отец,
больше всех я,
босоногий
мальчонка, любил сказочную,
как легенда, и кручинную, кал
сама тоска, песню:
«. .Славное море, священный
Байкал,
Славный мой парус, кафтан
дыроватьж,
Эй, баргузин, пошевеливай вал...
Слышатся моря раскаты...»
Итак, дорогой читатель, в г
моя короткая биография. Отдаю на п в'|й с^^т.'ыи С1'г1 роман
<• Черные
Иван ЛАЗУТИН
Роман
Светлой памяти Дины Лазутиной —
жены моей люЗимои, друга моего
верного, отдавшем много сил душевних при создании этого романа —
посвящаю.
Автор.
Ч А С Т Ь гн: р в А я
д
ЧЕРТОВ МОСТ
О САМЫХ маковок столетних л;ш Сокольники были затоплены
поеной и солнцем. Из набухшей снеговыми водами земли робко проклевывалась молоденькая травка. Ребятишки запускали в пруду кораблики. И они, гонимые слабым ветром, лениво покачиваясь, плыли
к середине пруда, к острову, на который с берега был перекинут
поржавевший от времени Чертов мост. Его деревянный настил растапшлл и койку.
•1(1
Шадрин и Богров свернули к Оленьему пруду. На противопо.юж
ном крутом берегу взметнул свои островерхие готические к р ы ш и деревянный особняк, построенный после войны пленными н е м ц а м и .
— А немцы все-таки умеют делать красивые, добротные вещи, сказал Шадрин.
— Ты это к чему?
— Смотри, какую красотлщу на берегу отгрохали.
— Многому нам еще н у ж н о поучиться у немцев,-- х м \ ро отозвался Богров.
Шадрин бросил взгляд на энергичный профиль Богрова Тот шел,
высоко подняв толову, похлестывая себя по ноге гибким п р у т и к о м
— Слушай, Вася, знаю я тебя уже семь лет, а до сих пор .мне
даже в голову не приходило, что ты дьявольски похож на ч и с т о к р о в ного арийца.
— А это к чему? — Богров посмотрел на Ш а д р и н а т а к , с л о в н о
ожидал от него подвоха
— А к тому, что если случится третья м и р о в а я в о и н а .и ты попадешь в плен к немцам, то тебе нечего бояться, с о ч т у т за своею.
Ростом высокий, нос у тебя с горбинкой, волосы пепельные, как V хе
рувима, даже глаза, и те голубые..
— Может быть, еще что скажешь? — сквозь зубы процедил
Богров.
— Физионо'мист .подчеркнул бы: лицо худощавое, э н е р г и ч н ы м
подбородок, твердые, у п р я м ы е складки рта. С к а ж и , чем не а р и е й ?
Мели, Емеля, твоя неделя,— б у р к н у л Богров. Ему было
не до шуток.
— Не понимаю только одного,— не у н и м а л с я Шадрин, — каким
образом на тамбовских картофельных тошнотиках в ы р а с т а ю т т а к и е
благородные германские физиономии? Нет, Вася, я бы на твоем месте
давно у к а т и л куда-нибудь на Вислу или Одер. Здесь, в ш и р о к о с к у л о й ,
веснушчатой России тебя не поймут.
Богров не слушал Шадрина: он сосредоточенно д\ мал о ч е м - т о .
Выгнув свой горбатый ч у г у н н ы й скелет. Чертов мост о д н и м концом у п и р а л с я в подножья двух к р я ж и с т ы х старых дубов, м о г у ч е подн я в ш и х над к р о ш е ч н ы м островком свои спутанные, о г о л е н н ы е о'чья
Как два м о л ч а л и в ы х облысевших гиганта, дубы стерегли п я т а ч о к
земл-и. А на берегу, при входе на мост, слева и справа с к л о н и л и с ь
над водой две старые липы. Кое-где на их ветвях п о н у р ы м и лоскут' к а м и держались одинокие прошлогодние листья. В немощном порыве
липы тянулись к двум дубам, которые непреклонно застыли над п р у дом. Но никогда л и п а м не дотянуться до дубов. Под мостом т и х о к о л ы х а л а с ь зеленоватая вода.
- Тебе эти две липы ничего не н а п о м и н а ю т ? — спросил Ш а д р и н
— Напоминают.
- Что?
— Песню об одинокой рябине
- - Мне тоже.
— Р а н ь ш е на этом островке была
с а м о в а р н а я , — с к а з а л 1>ч
•ров.— Один местный старожил говорил, что когда-то здесь был / к и , <
•иснейший уголок Сокольников. Вон в той чугунной тумбе ц в е л и [кип,
I по кромке острова зеленым кольцом тянулась стена декоративном,
дустарника. Сейчас, как видишь, здесь все запущено, мост почти р , :
^ушен, кустарник выкорчеван...
— А дубы? Разве они плохи?
— Только они и остались.
Держась за чугунные перила, Богров и Ш а д р и н пи к р и м ы им,
§утой б а л к и прошли на середину моста.
— Сядем? — предложил Шадрин.
Богров молча сел на перила и закурлл.
— Целый вечер в тебе корежится что-то, из тебя что-то так и выпирает, а ты все ходишь вокруг да около. Жалобно мычишь, а не
телишься.
Богров молчал. Склонив голову, он внимательно наблюдал, как
на воде расходились плавные круги от камешка, который он только
что бросил вниз. Шадрину показалось, что Богров, занятый своими
мыслями, ничего не слышит. Он повторил вопрос.
Богров поднял голову и долго смотрел на Шадрина.
— Левита арестовали...
— Как арестовали?!. За что?..
— За то. что он усомнился в гениальности Сталина.— Спокойно
и тихо ответил Богров.
— То есть как?.. Не понимаю...
— Все очень просто... Как-то поспорили па перерыве в коридоре,
а он сгоряча возьми да брось фразу о том, что многое из того, что сейчас приписывают Сталину — часто без цитат и сносок взято у Ленина.
— И только?
— Ведь это же...— Шадрин хотел что-то сказать, но раздумал.
Он вспомнил, как год назад был арестован Геннадий Петров, студент
их курса. Однажды в споре он сказал то, чего не было в «Кратком курсе истории партии». Это было сказано днем, а ночью, часа в два,
в комнату постучали двое в штатском. Предъявив постановление на
обыск, они быстро 'перетряхнули вещи Петрова, забрали все его
конспекты и письма и, напомнив, чтобы он захватил пару белья, увели.
Никто из товарищей по комнате в эту ночь не уснул. Петрова вес
любили: честнейший, горячий парень из Донбасса, душа нараспашку,
все было при нем: фронтовик, член партии, умница... А забрали, как
врага народа. Не было ни суда, ни следствия. Пропал человек, как
в прорубь провалился...
И вот теперь Левит...
— Почему ты молчишь? Боишься быть откровенным? — Богров
поднял на Шадрина ясные голубые глаза.— Я вижу тебя насквозь.
Дмитрий. Твое последнее выступление на семинаре слушал внима
тельно. Ты старался построить доклад так, чтобы всем было ясно.
что учение об отмирании государства принадлежит Марксу и Ленинл
Ты лавировал, ты хитрил и все-таки все свел к тому, с чего начал'
Ленин. Ведь так? Помнишь, даже. руководитель семинара сделал замечание, что ты умалил роль Сталина в учении об отмирании государства.
Шадрин молча глядел на свое отражение в воде.
— А помнишь, как зарезали твою статью о Радищеве за то, чт"
т ы отказался упомянуть в конце ее имя Сталина?
— Помню.
— Так почему же ты отказался от этой концовки? Ведь под уда
ром была статья?
Опершись о перила моста, Шадрин продолжал смотреть на сво
колышущееся отражение в труду.
— Ты -молчишь? Боишься меня? Зря!.. Я вижу, что ты дышшн,
тем же воздухом, что и я. Да что там я?..— Богров бросил в вод
юрящую папиросу. Она зашипела, и от нее разошлись по воде мягкие
ш) а иные круги.— Как мы измельчали! Честный человек боится вы
1 - к;иать свою мысль.
42
I Богров смолк
и, отвернувшись ог Шадрина, ждал ответа. Он начинал опасаться — не лишнее ли говорит.
— Слушай, Василий,— тихо начал Шадрин.— Все это очень слож; но. То, о рем говорил Левит, мне не (раз приходило в голову, но я бежал от этих мыслей.
— Бежал?
— Да, бежал,— твердо ответил Шадрин.— Бежал потому, что
мы иногда бываем слишком придирчивы к личности, которую оценила
история.
— История?— насмешливо переспросил Богров.
— Да, история. Во многих из нас не хватает сердцевины. Мы у т р а тили очень важную и, может быть, самую главную частицу того внутреннего ядра, которая является сущностью человека-гражданина.
Богров посмотрел на Шадрина и промолчал. Цепляясь за чугунные перила моста, он осторожно спустился на островок. Дмитрий смот> рел ему вслед и думал: «А он яснее, прямее меня. В хаосе противоречий его не шатает, как меня. У него все стоит на своих местах. Твердая
позиция. А я... я еще болтаюсь в своих убеждениях, как щепка в проруби. Может быть, он прав. Подумай, Шадрин, ведь ты не зря так выступал на семинаре по вопросу об отмирании государства. Не зря ты
в статье о Радищеве отказался упомянуть имя Сталина».
Он спустился на островок. Богров склонился над колючим перекрученным кустом терновника и старался сломать ветку. Острые шипы
поранили ему руку, из пальца сочилась кровь. Но, стиснув зубы, ок
с каким-то неистовством продолжал откручивать надломленную ветку.
— Ты говоришь — история? — процедил Богров.— Настоящую историю творит народ. То, что ты называешь сегодняшней историей,— это
подслащенная пилюля для легковерного поколения.
— Почему легковерного? —Шадрин поднял на Богрова настороженный взгляд.
— Потому что мы придумали себе новую религию. Руша учение
о Христе, мы создали нового бога Из христиан мы стали язычниками.
Вот так-то, друг... Но беда в том, что не все верят в него, в этого нового бога. Не все, пойми меня, Дмитрий. И я уверен, что придет в р е м я .
когда нации будет очень тяжело.
— Почему?
— Потому что выдуманные боги сойдут с пьедесталов. Но те, кто
молился, кто свято верил в человека-бога, потеряв его, временно потеряет вообще всякую веру. Ты изучал историю России, историю других
государств, а поэтому знаешь, что я имею в виду...
— И все-таки ты говоришь туманно
Осторожно каса-ясь пальцами шипов терновника, Богров неторопливо, слов«о взвешивая каждое слово, продолжал:
•— Возьми хогя бы меня, деревенского п а р н и и .ч Тамбовщины, колхозника, пятого в семье у отца... С тех нор, как я помню себя, лет с
шести, с утра до вечера, несколько раз в день, я слышал) и м я Сталина.
Включишь радио — говорят о Сталине, брал отс'ц и р \ к и газету — имя
Сталина в ней печаталось к р у ш ш м н б у к н а м п , с ра.фядкой. В клубе,
В сельсовете, в школе... — везде его портреты. Выступал районный инспектор с докладом о силосовании кормом
непременно заканчивал
здравицей Сталину... И так, изо д н я н ЛАМП,, м < года в год, от поколения к поколению. Эту новую религию мы .впитывали с молоком матери. Фанатиками мы ушли на фронт. С сто именем ходили в атаки,
с его именем гибли на пытках пленные герои, с мыслью о нем умиради в госпиталях раненые... — Богров глядел куда-то поверх деревьев,
Табунившихся на берегу пруда. Он словно что-то читал там, вдали.
';
43
— А вот сейчас я уже не верю в этого бога. Хотел бы верить, но
ке могу. Улала с глаз повязка.. — Богров умолк и подошел к берегу,
задумчиво глядя на зеленые вьдоросли, колыхаемые властью вод.
- - Я слушаю тебя. Говори до конца.
Богров огляделся, словно боясь, что его кто-то может подслушать.
— В университете нас с кафедр и на семинарах убеждают, что
Сталин — гений, что каждая его мысль —сокровище в науке. Я в это
не верю. Представь себе — не верю! Не верю потому, что понял, что
такое Ленин, какая бездонная глубина, какая необозримая широта
кроется в слове «Гений»..
Обернув шшш носовым 'платком, Богров сунул ветку в карман
пиджака.
— Нас с тобой убеждают, что Сталин пророчески прозорлив. А я
вижу обратное. Неподготовленность России к войне в сорок первом
юду — во многом была по его вине. «Предвидение» Сталина нам обошлось разгромом Украины, Белоруссии, Прибалтики, центральной части
России, Крыма, Кавказа...
Богров говорил все запальчивее и резче.
— Нам говорят, что Сталин величайший военный стратег. А меня
это раздражает. Вспомни гражданскую войну. Нищая, полуразрушенная, сермяжная Россия... Голодные, вшивые, полураздетые красноармейцы... Одна винтовка на троих, тиф, бесхлебье, внутри страны пожар контрреволюции, мятежи эсеров, банды Махно, Петлюры, Мамонтова, антоновщина, в Сибири Колчак, с запада лавиной прет до зубов
вооруженный вал четырнадцати государств: Деникин, Врангель, Юденич, поляки, немцы!.. Боже мой, кто только не поднимал руку на молодую ленинскую Россию. И вот в этом кровавом побоище, когда на
карту была поставлена судьба революции, в эти годы по-орлиному
взвился стратегический гений Ленина. За полтора-два года мы сумели
разбить внутренних и внешних врагов. Вот это — гений! Это — Ленин!
А здесь?— Богров желчно искривил губы и, озираясь вокруг, искал
что-то глазами на земле. Зло прищурившись, он смотрел в глаза Шадрину, ждал когда тот, наконец, заговорит.
Но Шадрин по-прежнему молчал. В нем боролись две силы. Одна
напористо теснила разум: «Да!.. Ты согласен, Шадрин. Что же ты пытаешь друга? Ведь он перед тобой наизнанку вывернул душу. А ты...
ты боишься вымолвить это твердое «Да!» Ну, говори же, Шадрин».
Другая сила удавом скручивалась и по-эмеиному шипела: «Подожди,
Шадрин, ты еще по-прежнему блуждаешь... Ты еще не вышел из этой
непролазной чащобы на дорогу... Ты блуждаешь, Шадрин...»
А Богров уже негодовал:
— Быть неподготовленным к войне в -годы, когда началась вторая
мировая бойня,— это ие что иное, как связать по рукам и ногам целую
нацию. Причем, такую нацию, которую еще великий Наполеон назвал непобедимой... Что касается меня, то скажу тебе, Дмитрий, как солдат солдату, который прошел от Волги до Одера,— мне было стыдно
сидеть на семинарах, когда мы изучали Великую Отечественную войну.
Наперебой друг другу, взахлеб, мы превозносили военный гений Сталина. Боже мой, до чего ж мы докатились!..
Богров покачал головой.
— Я преклоняюсь перед художником, перед писателем, создаю
щим образы беззаветных героев, которые слагали свои головы в боях,
голодали в тылу, 'падали от усталости у станков, впрягались в плуг,
умиради от истощения в осажденном Ленинграде... Все это история
напишет резцом на граните! Молва о героизме народа будет кочевать
лтч1д;ши от поколения к поколению! Истинный подвиг бессмертен!..
41
Богров неожиданно остановился и, зло посмотрев на Шадрина,
таинственно продолжал:
— Когда же мне говорят, что одной из г л а в н ы х причин победы
в Великой Отечественной войне является стратегический гений Сталина — я молчу, я немею. Почему? Да потому, что меня может ожидать участь Геннадия Петрова. А впрочем...— Богров вздохнул и продолжал уже более спокойно, с нотками безнадежности: — Впрочем,
знаешь, Дмитрий, если меня когда-нибудь п о д н и м у т н о ч ь ю и прикажут захватить с собой пару белья, то знай — кроме тебя, я никому не
высказывал этих мыслей. Знай также, что Богров п р е д а н Родине, что
Богров всегда останется солдатом партии.
Шадрин неторопливо прошелся по островку и в о з в р а т и л с я к чугунной тумбе, на выступ которой присел Богров.
— Ты кончил?
— Да! Я не п о н и м а ю только одного: почему ты не хочешь быть
откровенным со мной? Не доверяешь?
— Я доверяю тебе, Василий
— Так что же ты молчишь, как к а м е н н ы й ?
— Не торопи меня, дай до конца разобраться в себе. Временами
во мне сидят десять таких нигилистов и бунтарей, как ты. А б ы в а ю т
минуты, когда все мысли, все, что почерпнул в ж и з н и : принципы, знания, опыт, ошибки свои и чужие... — все это теряет органическое сцепление, и я, как в потемках, блуждаю и не вижу своей дороги. Где
день, где ночь, где правда, где ложь?.. Тебе легче, ты отчетливо видишь
маяки правды, а для меня они еще только м е р ц а ю т в тумане. То покажутся, то скроются...
- Как все, ты загипнотизирован,— сказал Богров,— но ты скоро
очнешься.
— Может быть. Я этого х о ч у . Но тебе, Василий, советую постичь
одну человеческою мудрость: плетью обуха не перешибешь.
— Так что же тогда делать?
— Ждать!.. Научиться терпеливо ждать!
— Чего ждать? — раздраженно спросил Богров.
— Ждать, когда ошибки Сталина в с т а н у т на дыбы, когда они
будут, как сор, в глазах партии и народа.
И тогдз?
- Тогда партия и с п р а в и т эти ошибки.
Богров раздраженно засмеялся.
—- Какой ты наивный, Дмитрий! Как будто ты не знаешь, что пер|ый, кто открыто усомнится в его безгрешности, тот не сносит головы.
Ты -понимаешь, что ты говоришь?.. Ошибки Сталина!.. В наши ддо это
звучит, как некогда, в века инквизиции, прозвучало бы примерно такое выражение: «Пакости и преступления бога». За богохульство рань
ше сжигал,и на кострах под улюлюканье и одобрение толпы. С е й ч а с
За богохульство наказывают тоньше — человек просто исчезает. К\
да?—неизвестно. Вот так, дорогой. Университет на многое о т к р ы л нам
глаза. Он п р а в и л ь н о объяснил прошлое, помог критически о ц е н и п
настоящее и открыл дверь в будущее. Я уверен, что мы идем к к о м м \
низму, и мы его построим! И если н у ж н о —-мы за него еще раз л р п н п л
•ем на животе от Волги до Одера. Только обидно, Д м и т р и й . . . [ Ь ' р г л
человеком поставили икону, на которой намалеван тоже человгк. I ! < к . >
зали: «Это бог», «Молитесь». И мы м о л и м с я . И с с т у п л е н н о м п л м м г м
Разговор на этом оборвался. Молча к у р и л и . Ш а д р и н нстлл и ш
ккнул на плечи пиджак.
— Пойдем.
Вышли на берег. Х м у р о г л я д я под ноги, Богрон т,нхп п р < ц омирм.-)
»
— Давай, Дмитрий, условимся: этот разговор никогда не нов
горять.
— Ни на пиру, ни на кладбище,— отозвался Шадрин. — Ни перед
другом, ни перед братом.
Дмитрий остановился и со сторо-ны посмотрел на подернутый
ржавчиной чугунный скелет моста. «Почему почти в каждом городе
есть свой чертов мост? — подумал он. — И почему именно чертов?
Может быть, это своего рода поэтический символ? Тогда что же стоит
га ним? — И, вспомнив Чертов мост в Альпах, через который провел
русскую армию Суворов, он как бы ответил на свой вопрос:— Пожалуй, это символ трудного пути, рискованного перехода. Это такое
движение вперед, при котором малейший неверный шаг 'может стать
роковым. Сбился с ритма, оступился — и тебя сожрет пропасть под
ногами. Смотри, Шадрлн, не оступись. Ты сейчас идешь по Чертову
мосту. И Богрова держи. Он твой друг. Не забывай оплошности
Геннадия Петрова...»
— Ты о чем думаешь?— спросил Богров.
Шадрин загадочно улыбнулся.
— Странно устроен человек. Мысли его могут годами хаотически
кружиться песчинками в вихревых столбах... И вдруг приходит такая
божественная минута, когда наступает полнейшее безветрие. Взвихренные песчинки снова падают на землю... Они возвращаются в свое
первозданное ложе. И все стоит на своих местах. Частица земли вернулась на землю. Небо остается незамутненным.
— А еще о чем думал?
— Еще?.. Еще мне кажется, что мы сейчас переходим Чертов
мост. Вспомни Альпы, Суворова... Остулиться в этом переходе — значит загреметь в тартарары. Ты меня понимаешь, Василий?
- Да.
— Ты рядом со мной в этом переходе?
-Да!
Богров молча протянул руку Шадрину.
н
II
ЕРВНИЧАЯ, Ольга прохаживалась у вестибюля метро. Всегда
аккуратный и точный, Д м и т р и й опаздывал...
Уже зажглись на столбах фонари и вдали, над парком, вспыхнули
гирлянды разноцветных лампочек. В эти вечерние часы Москва своим
шумом, огнями и суетой н а п о м и н а л а старинную, когда-то и кем-то
рассказанную романтическую легенду, в которой каждая человеческая
судьба — загадка. Куда они все торопятся? Почему на лице вот этого
уже седеющего гражданина, цветет лучистая улыбка? Так может улыбаться только влюбленный юноша, издали завидевший любимую? А он...
Чему улыбается он, этот пожилой гражданин? Почему он с таким трепетом и волнением смотрит через головы прохожих? Для кого он держит в руках маленький букетик цветов?
Ольга посмотрела на свои незабудки, поднесла их к лицу и глуГюко вдохнула сыроватый, еле уловимый аромат, в котором угадывались тончайшие запахи снеговой воды да степного ветра. И снова зашагала взад и вперед вдоль панели.
46
А Дмитрия все не было.
Есть вещи, к которым никогда нельзя привыкнуть. Как бы ты ни
выл уверен в преданности любимого человека, но если он опаздывает
на свидание, то тут просыпается з а д р е м а в ш и й в душе червь сомнения.
«А что если уже не любит?..» — И сосет, сосет душу этот извечный
чеовь...
Ольга пр : пнялась считать. Она решила — как только д о с ч и т а е т
До д в у х с о т — т а к сразу же уйдет. «...Двадцать один, д в а д ц а т ь два,
двадцать три...»— шептала она про себя, и ее рассеянный взгляд
скользил по л и ц а м прохожих.
Иногда н а с т у п а л и минуты, когда Ольга забывала, зачем она здесь,
у входа в метро, почему ведет этот г л у п ы й счет. С вязь м ы с л е н и поступков о б р ы в а л а с ь , ее всецело поглощал размеренный, п о т е р я в ш и й
всякое значение счет. «...Сто девяносто, сто девяносто один, сто девяносто два...» Теперь уже Ольга замедлила темп счета. Она боялась
произнести слово «двести».
Жадно в с м а т р и в а я с ь в мелькающих прохожих, она д у м а л а : «Н\
что же... Что же си не идет? Ведь прошло уже полчаса. Неужели что
случилось?..»
И вдруг... Ольга круто повернулась. Даже вздрогнула от неожиданности. Навстречу ей шел Дмитрий. Он был не один. Рядо-м с ним
шел прокурор. Ольга видела его дважды в следственной комнате таганской тюрьмы. Своими нудными допросами он не раз доводил ее
до слез.
Ольга хотела сделать вид, что не замечает их. Она уже рванулась вперед, чтобы влиться в поток прохожих, плывущий в вестибюль
метро. Но было поздно. Взгляд ее встретился с холодным взглядом
прокурора. Он узнал Ольгу. Она это 'поняла по еле заметной ухмылке,
пробежавшей по его губам. «Будь что будет». Стояла и ждала, пока
к ней подойдут.
Д м и т р и й с п р о к у р о р о м о чем-то спорили. Прокурор — это чувствовалось по его лицу — почти приказывал, а Дмитрий твердо не соглашался.
— Советую завтра же еще раз хорошенько проверить эту версию.
На одной интуиции далеко не уедешь,— говорил Богданов Шадрину,
беглым взглядом окидывая Ольгу с ног до головы.
Он поздоровался с ней еле заметным кивком.
Так в темный и притихший зал бросает свой ледяной п р и в ы ч н ы й
кивок судья, охладевший к человеческим страстям и уставший от многолетнего нелегкого труда.
Не дожидаясь, пока Шадрин ответит на его р а с п о р я ж е н и е официальным «Будет исполнено», прокурор прошел к своей машине, стоявшей у входа в метро.
Ольга ч у в с т в о в а л а , как в груди ее гулко опускалось и. поднималось сердце. Его п р и б о й н ы е у л а р ы чем-то н а п о м и н а л и ей зыбистыс
всхлипы гибкой р а з м о ч е н н о й к л а д и , п е р е б р о ш е н н о й через узкую ре
чушк\". Эти звуки она с л ы ш а л а в детстве, в деревне, когда видела, как
кто-нибудь из р е б я т и ш е к останавливался на середине клади и, приседая, н а ч и н а л у п р у г и м и т о л ч к а м и ног р а с к а ч и в а т ь ее. К л а д ь , п р и г н б а ясь, д о с т а в а л а до воды л издавала тугие, г л у б и н н ы е з в у к и . Одьт казалось, как будто в маленькой речушке н а ч и н а л о биться б о л ы п < > "
сильное сердце.
— Я боюсь этого человека. Если б я з н а л а , что в с т р е ч у с ь с
;то ни за что бы не пришла сюда,— сказала Ольга.
— Не бойся, он не так страшен,— ответил Шадрин.
— Но его взгляд... Ты заметил, как он посмотрел на меня? Как
будто чем-то пригрозил.
Они свернули в сторону Сокольников. Слева, врезаясь огненными
ножами фар в тихую и темную ночь, со свистом проносились легко
вые машины. Справа, в задумчивую звездную полудрему погружались
старинные деревянные домики, вокруг которых, словно цепочка усталых солдат, застыли тополя. А еще дальше — холодным черным
зеркалом поблескивал пруд. В него загляделся продрогший месяц.
Вначале шли молча. Дмитрий несколько раз пытался что-то сказать, но, тут же, хмурясь, обрывал себя на полуслове. Он, все оборачивался назад, словно чувствуя за собой слежку.
— Ты сегодня какой-то ненормальный. Все оглядываешься, когото ищешь,— заметила Ольга.
— Мне кажется, будто кто-то идет за нами и подслушивает. Но
это все пройдет, у меня иногда так бывает. Хорошо, что ты пришла
и хорошо, что встретилась с моим шефом.
— Когда я его увидела рядом с тобой, то на какое-то мгновение
я почувствовала, что снова сижу в камере таганской тюрьмы.
— 'Все это нервы... Только нервы. А то что он сегодня встретился,
это чертовски здорово!..
- Что же здесь хорошего?
Шадрин не ответил. Он только сильнее сжал ее руку. Через несколько минут они подошли к той самой лавочке (Дмитрий ее запомнил), на которой они в последний раз сидели осенью, когда холодная
-;емля была устлана багрянцем кленовой листвы, в которой золотыми
самородками желтели литые дубовые листья. Дмитрий тронул Ольгу
за плечо.
— Садись. Слушай меня. Только дай честное слово, что новость
эту ты встретишь мужественно и трезво.
Ольга почувствовала нервную дрожь.
— Митя, когда все это кончится? С тех пор, кгк мы с тобой знаем
д р у г друга,— ни одного спокойного дня, ни одной радости без слез...
Дмитрий сдержанно улыбнулся. Его улыбка мягко сверкнула в голубом лунном мерцании.
— Ну, ладно, я нарочно. Пошутил... Лучше шоговорим о звездах.
Ты только посмотр.и, какие они спелые, крупные. Как вишни в Краснодаре. Я в детстве видел такие и любовался ими, когда оставался один:
в ночном, в полеводческой бригаде, или просто лежа на поля'не перед
избой...
Дмитрий умолк, словно к чему-то прислушиваясь. Заложив руки
за голову, он привалился к спинке скамейки.
— Странная вещь
большой город. Я уже семь лет в Москве, а
лше сейчас кажется, что я первый раз увидел звезды и небо...
Потянувшись, он широко разбросал руки, положив их на покатую спинку лавочки.
— А знаешь, почему это? Да потому, что в унылой ночной степи,
где кроме печального ветра и безмолвной непроглядной дали ничего
нет, каждая звездочка кажется живой. Она дрожит, она манит, ока
рассказывает тебе сказку о вечности. Иногда лежишь на спине целыми часами и смотришь в небо. И так залюбуешься им!.. Даже забудешь, чго ты человек, что, кроме неба, есть земля, на которой люл.т
плачут и смеются, делают друг другу добро и зло. Ты только погляди,
как красиво! Вон, видишь,— Большая Медведица. С вечера она ковшом висит над нашим огородом, а перед рассветом уходит за ветлм,
к озеру...
Дмитрий глубоко вздохнул и вдруг сказал с нескрываемым раздражением:
48
— Что ты мне ни говори, а город своей цивилизацией убивает
;ько прирдд(ной красоты, что ,и вообразить трудно. Он, как гигант:ий спрут, замыкает в свои железобетонные клешни душу человека
1авит... Ох, как давит! И особенно это чувствуешь, когда 'Сквозь эти
ешни вдруг увидишь клочок голубого неба, трепетную звездочку...
Дмитрий закрыл ладонями глаза, точно защищая их от нестерпимо яркого света.
— Что с тобой? — тревожно спросила Ольга.
- Просто размечтался.
- О чем?
— О счастье, которое далеко, как эти звезды, и в то же время
•лизко, как ты...
Ольга п р и л ь н у л а к Шадрину и, положив на его плечо голову, широко открытыми глазами задумчиво смотрела на далекие огни придорожных фонарей.
— Я люблю, когда ты фантазируешь. -В эти минуты жизнь становится легче, красивей.
— Если у человека отнять Мечту, эту единственную, всегда манящую вперед звезду — то в ж и з н и человеческой была бы у б и т а не тол и ко Красота, и ее Смысл.
—О чем ты мечтаешь сейчас?—полушепотом спросила Ольга.
— Когда-нибудь я увезу тебя из города к себе, в Сибирь. Поселимся в таежном селе, сошью тебе из собачьих шкур доху, закажу
у самого лучшего пимоката валенки, шодлояшу шерстяным кушаком,
повешу на плечо тульское р у ж ь е и пойдем на лыжах в тайгу. От этой
красотнщи у тебя дух захватит! Будешь у меня р у м я н а я , к а к Ольга
Ларина, а мечтательная, как Татьяна.
Зал.'етив краем глаза, что Д м и т р и й л у к а в о улыбается, глядя на
Звезды, Ольга подняла с его плеча голову.
— Митя, оставь эти сказки!.. Говори, что у тебя случилось? Слышишь? Я вижу по твоему лицу, что у тебя что-то случилось.
— Не у меня, а у нас.
— Почему ты томишь меня? Если «у н а с » - - то я д о л ж н а обо всем
адать!
- Ты хочешь знать все? — с расстановкой спросил Дмитрий
и наклонился к Ольге. — Все до конца?
— Да!
- Обещай, что не будешь в м е ш и в а т ь с я в то, что я за 1умал?
Не отрывая от Дмитрия взгляда, Ольга ждала.
Что ж ты молчишь? С п р а ш и в а ю : обещаешь?
- Я слушаю.
Тогда я ничего не с к а ж ) .
Д м и т р и й сделал движение, словно
Собираясь встать и уйти.
II тебе не стыдно?!. Я ли не готова р а з д е л и т ь с тобой до< конца
|се, что нас ожидает?.. Я ли... Ну юворн же, говори!..
Ольга п р и б л и з и л а с ь к Ш а д р и н у и обдала его щеку г о р я ч и м
дыханием.
С л е г к а о т с т р а н и в чт себя О л ь г у , он н а ч а л :
— Вчера я с к а з л л Бордкжову, что хоч\ г на тебе ж е н и т ь с я . Он умиый и порядочны!! человек. Он п о ж е л а л мне добра и счастья. Сегодня
«та новость облетела п р о к у р а т у р у . Все х о д я т и \ л ы б а ю т с я , не то жадея меня, не то у д и в л я я с ь . А после обеда меня в ы з в а л сам прокурор
$наешь, что он с к а з а л ?
- Что?!
— Он сказал, что еле цгг.атель п р о к у р а т у р ы не может и м е т ь ж с н \
1'судимостыо. Он с к а з а л , что есть н е п и с а н о е п р а в и л о гос\ ифствспНФА с л у ж б ы , по которому это к а т е г о р и ч е с к и запрещено.
4 «Байкал» Л!' 1.
•!'•
— Не нужно. — И она скрылась в темном квадрате переулка.
Дмитрий привалился спиной к дубу и стоял неподвижно, высоко
запрокинув голову. Никогда в жизни он не ощущал такого приступа
нахлынувшей нежности. Никогда не боялся одиночества, как теперь.
Прислушиваясь к ударам собственного сердца, он с закрытыми глазами стоял и ждал: вот-вот зазвучат ее шаги. Но время тянулось мучительно медленно. И страх... Страх начинал овладевать им, немой
страх... «А что, если мать не пустит? Что, если... Нет! Нет!.. Кажется,
это ее шаги. Да, это она...»
Ольга подошла тихо и молча. Встала против него. Он стоял, как
каменный, не шелохнувшись.
— Пойдем,— твердо шепнула она.
В темном небе по-прежнему треиетно дрожали бледно-голубоватые звезды. Но Шадрин не замечал ни звезд, ни луны, ни даже самого
неба. Во всем мире он ощущал единственное: рядом с ним была Ольга,
он чувствовал ее.
До дома дошли пешком. Хозяйка квартиры встретила Ольгу осуждающим взглядом. Ольга, вся сжавшись в комок, прошла в комнату
Дмитрия и присела на расшатанную табуретку. Он снял с ее головы
косынку /и, не зная, куда повесить, принялся ходить по комнате, выискивая что-то глазами. От его мальчишеской беспомощности Ольге
стало вдруг легко.
— Ну что ты ходишь, как лунатик. Брось ее на стол.
— Деньги не будут водиться,— сказал Шадрин и повесил косынку на гвоздик в стене.
— Какой завтра день? — тихо спросила Ольга.
— Воскресенье
— Завтра у меня выходной.
— И у меня тоже.
П
III
ЕРВЫЙ раз за весну в полуподвальную комнату Шадрина за-
гляиуло солнце. Его лучи упали ослепительно-рыжим квадратом на
постель и заиграли в русых кудрях Дмитрия, который, разбросав руки, безмятежно спал. Лицо его было таким кротким и по-детски невинным и чистым, что Ольге хотелось смотреть и смотреть на него, не
отрываясь. Она затаила дыхание, боясь нарушить его сон. Только
теперь Ольга по-настоящему 'поняла, что значил для нее Дмитрий.
Ей становилось страшно от одной мысли, что она может потерять его.
Она слышала, как гулко и равномерно б>нлось его сердце. Большое, любящее сердце самого близкого человека. И вдруг заплакала.
Слезы беззвучно скатывались на грудь Дмитрия и оставляли серые
пятна на белой сорочке.
... В это же утро Шадрин и Ольга отправились в ЗАГС. Подавать
заявление.
Дорогой Ольга несколько раз пыталась остановить Дмитрия:
— Ты потеряешь из-за меня работу...
Дмитрий молчал.
— Пойми же, наконец, что мы можем быть счастливы и без этом
формальности.
Дмитрий упрямо шагал вперед.
— Я тебе верю больше, чем себе... Вернемся, Митя. . Р а с с к л ж г м
все маме и она поймет. Благословит нас без регистрации...
Ольга семенила за Дмитрием, который молча ускорял ш а г Потм
вдруг круто повернулся:
4*
м
— Ни за что! — отрезал он.
Она тоже остановилась и умоляюще поглядела на него:
— Будь же благоразумным. Уж коли у вас, следователей, есть та
кое неписаное правило, так зачем его нарушать?
Дмитрий осуждающе смотрел на Ольгу.
- Ты что, Митя? Обиделся?
Дмитрий крепко сжал руками ее хрупкие плечики.
- Скажи мне сейчас мой прокурор, что завтра утром меня четвертуют на лобном месте перед Василием Блаженным за то, что я женюсь на тебе — я б не дрогнул!.. Разве ты не видишь, как я счастлив?!.
Только представь себе: ты — моя жена! Же-е-на-а 1 ..
Оглядевшись по сторонам, Ш а д р и н порывисто прильнул к ее
губам.
— Жаль, что коммунистам не разрешают венчаться. А то мы
пошли бы сейчас а тобой в савдый великий собор России и обвенчалась
бы на глазах у всех.
Ольга рассмеялась.
— У тебя получается смесь евангелия с блокнотом агитатора.
Ты эклектик.
— На всякое критиканство и демагогию оставляю тебе ровно
ьеделю. Через неделю мы выпьем за патриархат! — Дмитрий протянул
в манере церковного дьячка: «Да убоится жена му-у-жа-а!..»
... Из ЗАГСа вернулись во втором часу. Пока Ольга возилась с обедом, Дмитрий сидел за маленьким письменным столиком (он же был и
обеденным), и писал письмо в прокуратуру СССР. Все, что накипело
у него в душе, он хотел вылить в это злое лисьмо. Он давно уже
выносил те слова, что, как пулеметные очереди, должны прошить
«картонные мишени фальшивых неписаных правил».
Ольга бесшумно подошла сзади и, затаив дыха-ние, вытянула шею.
Взглянув из-за плеча Дмитрия на лежавший перед ним лист бумаги,
она прочитала:
«В прокуратуру Союза ССР, от следователя прокуратуры Сокольнического р-на г. Москвы, члена ВКП(б) с 1943 года...»
Дальше прочитать не удалось. Закрыв письмо газетой, Дмитрий
строго посмотрел на нее и подчеркнуто-сурово произнес:
— За такие вещи буду наказывать!.. — Он резко привстал.—Не мешай! Когда все напишу, тогда прочитаю. — Мягко улыбнувшись, Дмитрий взял Ольгу за плечи и шодвел к газовой плите. — Ваше место, госпожа Шадрина, на кухне. У чугунов и кастрюлей... Патриархат! Отныне и вовеки веков!.. А м и н ь . .
ш
IV
АДРИН опустил в почтовый ящик письмо и почувствовал
облегчение па душе. «Таких, как Богданов, н у ж н о у ч и т ь , пока они еще
не выросли в неисправимых держиморд... Через неделю е.му придется
потеть в прокуратуре Союза. Его обязательно туда вызовут...»
Первой, кто попалась ему па г л а з а , была уборщица тетя Варя.
Шмыгнув носом, она м н о г о з н а ч и т е л ь н о подмигнула Д м и т р и ю и выжидательно уставилась на него.
— У тебя такой вид, тетя В а р я , как будто ты знаешь, где зарыт
клад. А сказать никому не хочешь. И у самой нет сил откопать.
— А то как же, он и есть — клад. Новость почище к л а д а ! . . — тетя
Наря поправила под платком п р я д к у седых волос и шепотом проговорил;!: - Уходит... Ну и слава богу, что уходит. Хоть вздохнем без него!
— Кто уходит?
•••
— Сам уходит... Говорят, в большие н а ч а л ь н и к и выдвинули
Тетя Варя была права.
С затаенной радостью старший следователь Бордюков с к а з а л
Шадрину, что Богданова переводят в городскую прокуратуру.
— Кем? — осведомился Дмитрий.
Заместителем п р о к у р о р а города. Пошел на повышение. Говорят, у него наверху рука.
«Тем лучше!.. — подумал Шадрин. — Когда его вызовут в п р о к у ратуру Союза и зададут головомойку, мы с ним уже будем под р а з ными к р ы ш а м и » .
Работалось в этот день легко.
С д а в а я дела новому п р о к у р о р у , Богданов со все-ми был п р и в е т л п ! ;
Даже пробовал шутить...
Ш а д р и н и не п р е д п о л а г а л , что через две недели п и с ь м о его, а д р е сованное в п р о к у р а т у р у Союза ССР, будет н а п р а в л е н о в горолск\ к»
п р о к у р а т у р у с резолюцией: «Проверить и п р и н я т ь решение». Не з н а л
Шадрин также и того, что прокурор! города, которому нет времени в н и кать в пространные жалобы своих подчиненных, о б р а щ а ю щ и х с я «через голову» в вышестоящие инстанции, направил п и с ь м о Ш а д р и н а
своему новому заместителю — Богданову с резолюцией, н а п и с а н н о й
синим жирным к а р а н д а ш о м : «Проверить и доложить».
Н
ОВЫЙ прокурор пришелся всем по душе. В прошлом ч е р н о м о р с -
кий моряк, он иногда в к р а п л и в а л в разговор м а т р о с с к и е словечки
вроде «аврал», «поворот овер-киль», «шкентель»... А о д н а ж д ы окончательно озадачил тетю Варю тем, что приказал ей повесить в «гальюне» полотенце и положить мыло. Та хоть и замотала услужливо головой, говоря, что все сделает, как велено, а с а м а долго н и к а к не
могла сообразить, куда же это ей нужно повесить полотенце и положить
мыло. Она долго д у м а л а - г а д а л а и, наконец, решила, что « г а л ь ю н о м »
новый прокурор называет небольшую нишу в стене кабинета, где висела его ф о р м е н н а я шинель и фуражка.
На следующее утро два новеньких полотенца висели в кабинете
прокурора. Когда же тот в недоумении спросил у б о р щ и ц у , что э т о
ему тут понавешали, тегя Варя объяснила:
— Вон то, что п о м я г ч е — для лица, а этим, погрубее, р у к и будете
вытирать. Водичка в г р а ф и н е свежая, только что н а л и л а . . .
В это у т р о п р о к у р о р долго не мог в ч и т а т ь с я в дело, л е ж а в ш е е перед ним. А когда в с п о м и н а л лицо тети Вар : п, спутавшей его г а р д е р о б
\ с туалетной к о м н а т о й , которую он по морской п р и в ы ч к е н а з в а л
гальюном, его невольно душил хохоток.
С первых же дне!) все, н а ч и н а я от п о м о щ н и к а п р о к у р о р а и коп
чая тетей Варей, стали звать своего нового н а ч а л ь н и к а по и м е н и
и отчеству: В а с и л и й П е т р о в и ч . Ш и р о к о п л е ч и й , п р я м о й и высокий, с отк р ы т ы м и серыми г л а з а м и , он не п о х о д и л па всех тех прокуроров, которым п р и с л у ж и в а л а тетя В а р и .на свою д в а д ц а т и л е т н ю ю работ\ в прокуратуре. Втайне она д а ж е ж а л е л а В а с и л и я Петровича за то, что его
«православное» лицо ( т е т я В а р я была в е р у ю щ е й ) было изъедено
оспой.
За последнюю неделю Шадрину пр ; ишлось р а з г о в а р и в а т ь с п р о курором раза три. Он з а м е т и л , что новый начальник имел о б ы к н о в е ние до конца выслушивать своих подчиненных и часто соглашался со
следователями даже в тех с л у ч а я х , когда сам был другого м н е н и я . Ом
во всем держался твердого п р а в и л а : прав тот, кто лучше знает дели
Прежде чем вызвать к себе следователя по какому-либо спорному или
сложному делу — прокурор всегда детально знакомился с ним, и, в
отлич,ие от Богданова, давая указание, не смотрел рассеянно в окно,
или через плечо следователя.
С новым прокурором Шадрину было легко. В нем он находил удивительное сходство со своим бывшим командиром взвода разведки капитаном Боряганым, погибшим на Волховском фронте. Те же неторопливые, но твердые движения, тот же взгляд, в котором сквозь доброту просвечивала тамбовская лукавинка. Даже манеры выпускать изо
рта дым и стряхивать пепел с папиросы — и те были одинаковы.
Но сегодня прокурор не смотрел в глаза Шадрину.
«Почему он так долго молчит?.. — думал Дмитрий. — Так молчал
наш Борягин, когда было нужно послать почти на верную смерть своего разведчика...»
В добрых серых глазах прокурора на этот раз не вспыхивали
лукавые огоньки и не светилось спокойное благодушие, В них таилось
что-то озабоченное, невеселое.
— Я вас слушаю, Василий Петрович,— нарушил молчание
Шадрин.
Прокурор сложил на груди руки жестом человека, не решающегося высказать правды. Глядя на зеленое сукно стола, он сказал:
— Я вызвал вас, товарищ Шадрин, по не совсем обычному
делу. — Он медленно поднял взгляд на Дмитрия. •—Вы давно в прокуратуре?
— Около года.
— А в партии?
— С сорок третьего.
— Значит, девять лет? И, если судить по биографии,— приходилось валяться в военных госпиталях.
— Приходилось,—• ответил Шадрин, все еще не догадываясь, к
чему весь этот разговор.
— Знаете что, Дмитрий Георгиевич... — прокурор замялся,— нам,
наверное, придется расстаться.
— Расстаться?.. — голос Дмитрия осекся. В первую минуту он
никак не мог сообразить — что ему грозит: беда, или, наоборот — повышение по службе.
— Не буду вас водить за нос. Говорю вам как бывшему фронто
вику, как коммунисту: в городской прокуратуре вами недовольны. И <
отдела кадров поступил нехороший сигнал.
«Богданов... — мелькнуло в голове Шадрина. — Его работа. Он ве
рен себе». — Дмитрий молча продолжал смотреть в рябоватое лицо
прокурора, перед которым лежало личное дело Шадрина.
•— Я подробно ознакомился с вашей биографией и мне стали
обидно за вас. Но ничего не поделаешь: прямое указание. — Прокурор
замолчал, машинально играя футляром от очков.
— Какое указание?
— Освободить вас от работы.
-— Основание?
— Сверху предложили два основания.
— Первое?
— Вы пишете заявление об освобождении вас от работы следова
н-ля и эту просьбу городская прокуратура удовлетворяет. Вы осво
оожделы по собственному желанию с удовлетворительной характер^;тикой.—Прокурор некоторое время молчал, потом, потирая изрытъш
оспой подбородок, продолжал: •— Сегодня звонил Богданов. Говори,:.
54
что у вас неважно со здоровьем, что с вашими тяжелыми ранениями
оставаться на оперативной работе рискованно.
— Для кого рискованно?
— И для вас, и для дела.
— Он так и сказал?
— Да, он хорошо знаком с вашим л и ч н ы м делом. Ему даже известно, сколько дней вы бюллетенили за год работы в прокуратуре.
Губы Шадрина дрогнули.
— А есди я не напишу этого заявления?
— Топда вас просто уволят и в трудовой книжке напишут статью.
,с которой вам труднее будет устроиться по специальности.
— Пожалуйста, прошу конкретнее, Василий Петрович. Мне не
все понятно.
— Вы уж не такой неопытный, товарищ Шадрин. Думаю, что за
год работы в прокуратуре вы прекрасно поняли, как иногда некоторые начальники освобождаются от неугодных им подчиненных. Тем
более от таких, у которых не все в порядке с анкетой.
— Вы имеете в виду арест дяди?
— Да, этот 'пункт вашей биографии очень долго вам будет мешать.
Но если вас уволят, то по другим причинам. В Кодексе законов о труде этот мотив не возведен в юридическую норму.
— Стало быть, не справляюсь со своими обязанностями?
Прокурор вздохнул и, разминая папиросу, так надавил на нее
пальцами, что тонкая бумажка лопнула и из нее посыпался табак.
I
— Да, как ни печально, но это так. И это не мое мнение,— он
сдунул со стола табачные крошки. — Что касается лично меня, то
с моей стороны к вам нет претензий. Более того, я считал и считаю
вас одним из лучших следователей прокуратуры.
— Мы слишком мало работали с вами, Василий Петрович, чтобы
вы могли так хорошо думать обо мне.
Прокурор размял вторую папиросу и встал. Прикуривая, он
закашлялся. Хр.ипловатым голосом курильщика он сказал, хлопнув
.Дмитрия по плечу:
— Дорогой товарищ Шадрин, для того, чтобы хорошо или плохо
думать о человеке совсем не нужны годы работы. Мы, фронтовики,
когда-то д а в а л и друг другу рекомендацию в партию, узнавая рекомеп-
в. соколов
ЛУЧИ ВОЙНЫ И МИРА
ОТ ЛЕГЕНДЫ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
1. Откровения генерала ЛкМея
В ЕСНОИ
1962
года Уорчестсрский военный колледж посетил пыгоконостаилгнный гость. Это был генерал
Юртис
ЛиМей, начальник штаба авиации СШЛ.
Он выступил перед будущими американскими мальбруками с пространной лекцией о новых возможностях ведения войны.
Генерал приподнял край дымовой завесы,
за которой скрыты обширные работы Пентагона по созданию мгновенно-действующего боевого средства, окрещенного американцами «икс-оружием»
или «лучами
смерти». Это действительно новое средство, хотя по замыслу его ]«ожно отнести
дуемого всего за одну лишь атаку. — Прокурор подошел к окну, с минуту стоял спиной к Шадрину, потом твердо продолжал: — Знайте,
если меня спросят о вас, то я так и скажу: следователь хороший. Так
и напишу в характеристике. А вот какая цена ей будет в глазах Богданова — судите сами. Приказ о вашем освобождении будет писать он,
а не я. Весь год вы работали с ним, а не со мной. Ему больше веры.
У него больше власти. Итак, выбирайте одно из двух.
Шадрин встал. Он все понял и не хотел задерживать прокурора
в рабочее время личными вопросами.
- Разрешите |идти?
- Как же вы решили: по собственному желанию, или... — конец
фразы прокурор не договорил.
- Я подумаю, Василий Петрович.
— В вашем распоряжении две неаели. Богданов любит точность.
Он даже в этом не хочет нарушить КЗОТа.
Когда Шадрин был уже в дверях, прокурор окликнул его:
— Постойте.
Он подошел к Дмитрию и уже другим, потеплевшим голосом
спросил:
— За что он вас?
- За год много накопилось несогласий, а главное... Главное...
за письмо.
- За какое письмо?
- В прокуратуру Союза.
- Тогда все ясно. — Прокурор покачал головой. — Мы с тобой
теперь побратимы. Я тоже за эту прыть «ошу полгода строгий выговор. Только это так, между нами, не для протокола. Если уж расставаться, то расставаться с чистой душой, без обид.
— Спасибо. Василий Петрович, не буду больше отнимать у вас
времени. Я вас понял.
Прокурор пожал Шадрину руку.
- Думай хорошенько, не торопись. В твоем распоряжении две
недели.
Дмитрий открыл дверь, но неожиданно остановился на самом пороге. Прокурор, подойдя к столу, стал перебирать какие-то документы
к сверстникам баллист и катапульт античного мира. Речь идет об остронаправленных разрушительных пучках электрической энергии, достигающих объектов
поражения с быстротой, которая в сорок
тысяч раз превосходит скорость
полета
межконтинентальной баллистической ракеты,
Несмотря на младенческую пору нового оружия, его реальные возможности уже
сейчас оказывают заметное влияние на
распределение бюджетных
ассигнований
США. К моменту посещения ЛиМеем Уорчестерского
колледжа
финансирование
разработок «икс-оружия» американскими
военными органами возросло с начала года почти в семь раз. Предполагают, что
общие затраты иа эту работу достигнут
до донца текущего десятилетия миллиарда с четвертью долларов. Уместно вспомнить, что с тех пор как знаменитое пись-
56
мо Сцилларда-Эйнштейна к тогдашнем\
президенту США Франклину Делано Руз
кельту приоткрыло шлюзы на пути созда
ния атомной бомбы, общие расходы н.1
ее рождение составили около двух миллиардов долларов. Сегодня свыше четы
рехсот крупных американских фирм, десятки высших учебных заведений и научных центров вовлечены Пентагоном
и
разработку «икс-оружия»,
Такосо положение дел с пресловутыми
«лучами смерти» в США, если судить (I
нем по потоку информации, низвергающемуся со страниц американской прессы
Чтобы оценить проблему по достоинству,
необходимо процедить этот потом чере>
плотный фильтр, преграждающий путь дез
„
""Фор"^™ " невежеству. Что же оста
нется
заслуживающего
внимания
пос.к
того как действительность отфильтруете»
Чувствуя, что Шадрин смотрит ему в спину, он круто повернулся.
Шадрин прикрыл за собой дверь и подошел к нему.
— Василий Петрович, а что если м«е попасть на прием к Богданову? Поговорить с ним начистоту?
Прокурор ухмыльнулся и потер ладонью подбородок.
- Кроме собственных цепей, пролетариату терять нечего.
...Прошла неделя. Никто в прокуратуре не знал, с какими невесельгм,и думами ходит следователь Шадрин. Никто не догадывался, отчего он так осунулся и стал чаще курить, допоздна засиживаясь
иногда в прокуратуре. Закончив рабочий день, он закрывался в своей
тесной комнатке и что-то подолгу писал.
Дотошная тетя Варя, однажды протирая с улицы окна, не вытерпела и, высунув в форточку голову, не без лукавства спросила:
- Уж не роман ли вы сочиняете, Дмитрий Георгиевич? Прямо
как Пушкин, все пишете и пишете. Молодая жена дома, поди, все
жданки съела.
Дмитрий встал, потянулся так, что хрустнули суставы в плечах.
Видя, что словоохотливая и добрая тетя Варя в душе уже пожалела,
что так неловко пошутила над человеком, занятым делом, он душевно
доверчиво, как малому ребенку, ответил:
— Пишу сказку, тетя Варя.
- Про кого?
- Про богатыря Иванушку, сына крестьянского, про то, как он
топором и с дорожным посохом пошел на Змея Горыныча. Ох, и драка
:коро будет у них, тетя Варя. Только клочья полетят во все стороны!..
- Да хватит вам меня дурачить-то, ведь, поди, не маленькая я.
-то не ладно у вас, Дмитрий Георгиевич. Правда, не мое это дело,
я вижу, что места себе не находите... — С этими словами тетя Варя
1езла с табуретки и скрылась из окна.
Теперь уже Дмитрий писал письмо на имя генерального прокурора Союза ССР. Но отправить его хотел только после того, как поУбывает на приеме у Богданова. Все, что наболело у него на душе за
год работы в прокуратуре, все, что становилось причиной его ухода
'.«по собственному желанию» ложилось на бумагу емкими, убедительными картинами.
О разговоре с новым прокурором Ольге он ничего на сказал
вымысла? Ложь и правда подчас так
соседствуют друг с другом в сложсобытиях, что их разделение оказывается совсем не простой задачей.
И
|десь, пожалуй, лучше всего может поМОчь исторический фон. На нем
яснее
|идны открытия и заблуждения, падения
Ввлеты, эти звенья цепи человеческого
Мзвития. Интересно и поучительно начать
врогулку по теме: «Лучи смерти,— вымыЙл и действительность» с той поры, когда
Иродилась сама идея таких лучей.
2. Легенда об Архимеде и
горе от ума
Т ТАК, названо первое имя, связанное
• С историей «лучей смерти*. Оно назММо только потому, что фальшивка двухУсячелетней давности о сожжении под
•музами римского флота при помощи
Мигчного света, отраженного системой
1*9* ил, слишком часто принималась зп
историческую правду. Вот он стоит
на
крепостной стене, этот великий эллин Архимед, и наводит свей сверкающий аппарат на вражескую галеру. Яркое пятно,
подобное, крошечному солнцу, зажигается
на ее борту, и корабль вспыхивает, как
факел. За ним — другой, третий... И вся
римская армада превращается в штатский пылающий костер...
Против этой грандиозной картины
не
смогли устоять не только летописцы, но и
бесчисленные изобретатели. Между тем,
даже такой мощный интеллект, каким обладал Архимед, не мог решить приписываемую ему задачу, поскольку, для этого
ему пришлось бы построить и установить
на стене крепости зеркало с поперечником... во много сотен метров!
Беда иных историков состоит в
том,
что они легко соблазняются эффектными
легендами или экстравагантными поступками выдающихся ученых и
техников.
Вольно или невольно, но таким путем зачеркивается или затеняется главное —тру57
И хотя та догадывалась, что гнетут его тревожные мысли, р а с с п р а ш и вать не решалась.
Дмитрий становился все замкнутей и нелюдимей.
VI
У
\ ВУХНЕДЬ'ЛЬНЫЙ срок подходил к концу. На тринадцатый
день после разговора с новым прокурором Шадрин отпросился у старшего следователя Бордюкова и отправился в городскую прокуратуру.
День стоял жаркий, душный. Закованная в каменные берега мутная Яуза, казалось, стояла на месте. Почти всю Пятщщкую Дмитрий
прошел пешком: в трамваях была давка и духота.
По узкому переулку он вышел на Новокузнецкую улицу, где размещалась городская прокуратура. Улица старая, дома низенькие,
толстостенные. Сюда, как показалось Шадрину, еще не 'проникли серые коробки тридцатых годов.
У приземистого двухэтажного флигеля с резными колоннами балкона и лепными львами, увенчанными огромными чашами, Шадрин
остановился. Уже в самой вывеске «Прокурор города Москвы» таилось нечто строго-казенное, неумолимо-суровое 1 ... Закон!.. А здесь,
в этом ажурном особняке, все дышало увесистой дворянской стариной,
тихим покоем и старомодной роскошью.
Во дворе особняка, огороженном узорчатой чугунной оградой,
разомлев на солнце, дремали вековые липы, которые своими широкими, развесистыми кронами защищали от солнца круглую бетонную чашу фонтана, лениво разбрасывающего веер жидких прохладных струй.
Взгляд Шадрина остановился на фронтоне особняка, где почти под самой крышей, над выступающим балконом, в эротических грациях нежились два лепных златокудрых амура. Один играл на свирели, другой
настраивал лиру. Вокруг чаши фонтана, к р у ч и н н о воркуя, ходили
сизые голуби.
Шадрин смотрел на окна особняка и остро чувствовал, каким пол я р н ы м контрастом ко всем этим амурам, свирелям, лепным львам
и струям фонтана были ржавые прутья железных решеток, которые
одним своим видом зачеркивали всю строгую утонченность стиля
довой подвиг первооткрывателя, та проза
будничных, и н о ) д а сверхчеловеческих усилий человека-творца, в котором зиключена самая высокая поэзия. Ж г у ч а я сила
желания приводила подчас к т р а г и ч е с к и му исходу не одних только средневековых
искателей «философского камни». Такой
исход неизбежен, когда мечта протниоречит фундаментальным законам п р и р о д ы .
Современное естествознание в полной мере испытало их незыблемость под ударами новых открытий. Вторжение
нового
только обогащало картину мира, поскольку кажущееся разрушение основных закономерностей всегда сводилось к переводу
считавшегося общим в разряд частностей.
Именно так развивалась и
проблема
«лучей смерти». Можно удивляться той
остроте, с какой эта проблема занимала
человеческие умы. Можно негодовать
в
связи с этим или даже отрицать этот
факт, уподобляясь Галлилею в
минуту
слабости. Земля продолжает
вертеться.
Парадокс состоит в том, что наибольшую
58
роль
в создании бесчеловечных средств
часто играли самые гуманные люди; при
этом их индивидуальные действия, исходившие из чувства долга, нередко приводили в итоге к надругательству над совестыо.
Вот один ш бесчисленных
подобных
примерок. В 1У42 году на выдающегося
ф и ш к а - т е о р е т и к а Грегори Брейта была
ьо.в.южени с т р а ш н а я ответственность: ем\
предстояло о т в е т и т ь на вопрос — не распространитш ли, раз возникнув, термо
я д е р н а я реакция на всю земную атмосферу.
Придя
к отрицательному
ответу,
Ьрейт откровенно сообщил его америкапским властям, и тем сказал «да» водородной бомбе. Не одна только ненависть !>
фашизму толкала Фредерика Жолио-Кюри
на постройку первого ядерного реактора,
Захват новейшей науки на западе человеконечавпстниками
явился
величайшей
драмой его жизни. «Я хочу,— писал он и
конце се,— чтобы перестали
говорить:
«наука ведет нас к гибели от атомной и
:
,«А ведь «ащ этим домом когда-то работал талантливый архитектор»,—
.подумал Шадрин..
Изысканно-красивый, представляющий .собой историческую цен^ность, особняк с железными решетками на окнах в эту минуту напоминал Шадрину античную мадонну, которая, очаровав нас классической
|красотой лица и пленительной грацией, вдруг, к нашему великому
[огорчению, улыбнулась. Там, где, по нашему расчету, должна была
[вспыхнуть яркая белизна улыбки — на нас внезапно ощетинилась чер;ная проредь гнилых зубов.
Дмитрий вошел в вестибюль. И здесь в глаза ему снова бросился
[резкий разлад между богатой, старинной обстановкой и грубой фанер|ной тумбочкой, рядом с которой стоял немолодой хмурый старшина
[милиции с красной повязкой на рукаве.
«Когда-то в этом вестибюле, вот у этой мраморной витой лестни2цы, застланной ковром, именитый хозярн дома встречал важных гос|тей во фраках и цилиндрах. Теперь этот парадный подъезд каждый
Цдень одержим казенным и служилым людом, а также крупными угоровными преступниками...»
Шадрин поднялся на второй этаж. Ковры, выооюие лепные потолки
псоридора, резные массивные двери с медными литыми ручками... — все
'здесь дышало той музейной неповторимостью, которую теперь можно
истретить в немногих домах Москвы.
Дмитрий отыскал кабинет Богданова. На высокой двери с огромсной ручкой была прикреплена черная табличка, на которой блестящими серебряными буквами было написано: «Заместитель прокурора
г. Москвы Г. Н. Богданов». Буквы светились острой холодно-зеркальиюй голубизной. Чем-то они напоминали Шадрину бритвенные лезвия.
Дмитрий пришел в часы приема. Секретарша записала его фамиЬшю третьей — в приемной сидело еще два прокурорских работника
в форменной одежде — и понесла список к начальнику. Не возвраща•ась долго. Через двойные глухие Двери не было слышно ни единого
рвука. Наконец она вышла из кабинета и с вежливой сдержанностью,
которая, как правило, отличает секретарш крупных начальников, сооб•дила:
— Примет всех, только просил несколько обождать. У него сейчас
Ьажный телефонный разговор.
дородной бомбы»; я хочу, чтобы, накомы могли работать спокойно, ничего
^^ опасаясь, и вновь с радостью прино•Ьть миру ценнейшие дары науки».
• Жажда научного познания нередко оказывалась сильнее политических и моральВых соображений. В то же время, полиКмка — достаточно мощный рычаг, чтобы
«свернуть ученых на сознательный путь
•оздания средств уничтожения. В этом
«Сложном психологическом тупике все сра^•у становится на свои места как только
«ученым задается вопрос, который некогда
Максим Горький
адресовал
мастерам
1ьтуры: «С кем вы?»
довском дальнобойном сжигателе. Понадобился авторитет Кеплера, чтобы охладить пыл увлекшегося изобретателя. Изданная в 1611 году кеплеровская «Диоптрика» впервые внесла теоретическую ясность в волнующую проблему сжигания
на расстоянии. Дальнейшему развитию ее
посвятил специальную работу «О катоптодиоптрическом зажигательном инструменте»
Михаиле Ломоносов. В те же годы Лавуазье удалось построить солнечную нагревательную установку для плавки металлов. Но ее высокотемпературный эффект
ограничивался расстоянием всего в несколько сантиметров.
Однако не прошло и полутора столетий
со времени опубликования «Диоптрики»,
как прибор для сжигания на значительном
расстоянии был все же создан. Он предОЗДАТЕЛЬ известной каждому старставлял собой громоздкое сооружение из
шекласснику камеры-обскуры Жан168 зеркал по триста квадратных сантиметров каждое. Все они посылали свои
тиста делла Порта был одним из тех
•идных физиков X V I I века, которые ока- солнечные «зайчики» в общую точку, где
зались плененными легендой об архимепадающий на зеркала свет солнца усилн-
3. Солнце выбывает из игры
|
59
«Зачем этот подробный отчет? Кто ее спрашивал, чем занят ее начальник?» — подумал Шадрин, наблюдая, как быстро и машинально
бегали пальцы секретарши по клавиатуре «Ундервуда».
Прошло полчаса, а двойные массивные двери, обитые пухлым дерматином, не подавали признаков, что за ними сидит живой человек.
Потом пде-то за спиной секретарши раздался резкий 'неприятный звонок. Звонил Богданов. Секретарша не по возрасту пружинисто и легко
привстала с кресла и бесшумно скрылась за дверью. Через минут\
она вернулась и" назвала фамилию сухого поджарого человека с желтушным лицо'м и погонами советника юстиции.
Разговор с первым посетителем был недолгим. Минут через десять
советник юстиции вышел весь потный, вытирая платком лоб и глаза
На его костистом лбу надулась толстая вена. Потоптавшись у стола
секретарши, он как-то боком, покашливал, вышел из приемной, не то
в чем-то виновато оправдываясь, не то прощаясь.
Второй посетитель, высокий молодой человек с университетским
значком на выгоревшем лацкане пиджака, тоже задержался в кабинете
Богданова недолго. Этот выскочил из-за высокой пухлой двери с видом,
словно его уже в пятый раз на «бис» вызывала аплодисментами востор
женная публика. Растерянность и неожиданно свалившаяся радость
оглупляли его юное лицо, на котором жесткая темная щетинка проступала только на уголках подбородка. Даже .не попрощавшись с секретаршей, он тремя намашистыми шагами отмерил расстояние до выходной двери и, в рассеянности забыв прикрыть ее за собой, скрылся в коридоре.
Наступила очередь Шадрина. В приемной стояла тишина, которая
была готова каждую секунду треснуть от дребезжащего звонка, вмонтированного где-то не то в стене, не то в столе секретарши. Дмитрий
засек время. Он волновался. Лет восемь-девять назад, уходя на боевое
задание — за языком, или на подрыв вражеской точки, откуда можно
было не вернуться, Дмитрий чувствовал себя гораздо увереннней
и тверже, чем сейчас. И сердце... Почему оно после четвертого удара
давало какой-то странный, неуверенный пятый удар? «А что, если не
примет? Возьмет и придумает какое-нибудь срочное дело в ЦК, или
в прокуратуре Союза»,— подумал Дмитрий, глядя, как минутная стрелвался почти в сорок раз. Попав в столь
интенсивный сводный «зайчик», сухое дерево воспламенялось через несколько минут на удалении более чем в полсотни
метров от прибора. Успех ею конструктора — французского натуралиста Бюффона
вновь подогрел воображение целой армии
изобретателей, одержимых манией дистанционных поджогов. Между тем, простые
числовые соотношения таили в себе неотвратимость краха их усилий. Что же это
за «роковые» числа»?
Солнце, как первоисточник энергии зажигательных аппаратов, излучает свет и
невидимую глазом радиацию различного
спектрального состава. Его излучающая
внешняя
оболочка — хромосфера — имеет
температуру около семи тысяч градусов
Цельсия. Знание температуры излучателя
немаловажно потому, что именно она в
первую очередь определяет интенсивность
излучения, причем — в четвертой степени.
С точки зрения физики, Солнце является
абсолютно черным телом. Общежитейская
60
нелепость подобного понятия столь велика, что исчезает не сразу даже после разьяснения физического смысла этого безусловно точного термина: к абсолютно черным телам относятся среды, которые полностью поглощают любое падающее на
них излучение. Именно таково Солнце.
Лучистый поток его, ежеминутно прони.(ываюший каждый квадратный сантиметр
у верхней границы атмосферы, составляет
около двух калорий. Но даже в безоблачный летний полдень этот поток ослабля
ется почти вдвое, пройдя сквозь толщу
земной атмосферы. Поэтому при самых
благоприятных условиях,
каждый квадратный метр земной поверхности ежеминутно получает от Солнца не более десят
ка килокалорий. А для того, чтобы загорелось сухое дерево требуется длительны:.
нагрев его лучистым потоком по крайней
мере в сорок раз большим,
Сброшенные американцами на Хиросиму
и Нагасаки атомные
бомбы—урановая
«Худышка» и плутониевый «Толстям» по-
ка больших электрических часов на стене сделала новый двухминутный
прыжок.
Богданов принял Шадрина.
Когда Дмитрий вошел в кабинет, то первое, что бросилось ему
В глаза: это был огромный .резной стол красного дерева с витыми массивными ножками. По углам его стояли два таких же резных кресла
с высокими спинками. Кресло, на котором сидел Богданов, было гарнитурно с остальной мебелью кабинета, очевидно, перешедшего вместе
С особняком от старого хозяина. Бронзовый чернильный прибор старинного литья изображал схватку Геркулеса и его ангелов-хранителей
с гигантским удавам. Сила человеческих мускулов уже не могла больше разжать роковое кольцо .сатанинской силы. Последние потуги — и
человек уступит... Печать щбели уже начертана на лице титана.
Шадрин вспомнил вчерашнюю шутку, которую он высказал тете
Варе. «Вот они: Змей-Горыныч и Иван-детинушка, сын крестьянский..
Тяжело ему». На некоторое время взгляды прокурора и посетителя
скрестились на бронзовом чернильном приборе. Богданов понял, о чем
подумал Шадрин, глядя на чернильницу, а Шадрин, уловив скользнувшую усмешку прокурора, тоже догадался, что тот прочитал его
мысль.
Дмитрий успел заметить, что Богданов стал как-то еще осанистей,
Выхоленней, уравновешенно-спокойней.
— Я вас слушаю, товарищ Шадрин.
— Я думаю, что вы знаете, зачем я пришел.
— Да, приблизительно догадываюсь,— тихо и с какой-то затаенностью ответил Богданов.
- Решение отдела кадров мне передал наш новый прокурор и я...
- И что же вы? — Богданов не дал Шадрину договорить фразы. — В этой альтернативе вы, конечно, выбрали первое — уход по
^таенному желанию? Так можно предполагать?
г В этой альтернативе я буду искать третий путь.
- Какой же?
- Вы не /имеете права меня увольнять, у меня нет замечаний по
работе, а уходить'по собственному желанию я не собираюсь.
Богданов устало и долго смотрел на Шадрина.
— Вы когда-нибудь изучали латынь?
ШЖ1.1И деревянные строения на удалении
<» трех-четырех километров от эпицетра
• •рыва. Световой импульс вспышки этих
«омб составлял более полутора биллионов
• •лорий, выделение которых достигло мак• яиума через полсекунды с момента взрын. К этому времени температура вспышки
|»»»ко падала, снижаясь почти до темпера|»ры поверхности Солнца. Поджигающий
«ффект атомных бомб
оказался
столь
• ильным потому, что эти маленькие ис«швейные смертоносные солноа, уми-
чить расстояние между лупой и деревом
с нескольких сантиметров до
желаемых
километров? Оказывается, чтобы дерево
П
И этом
Р
загорелось, необходимо располагать
лупой с поперечником в
половину
этого расстояния. Только и всего! Вот почем
У рассказ о поджоге Архимедом флота
У Сиракуз
оказался мифом, а
Солнце
должно было выйти из игры как источник
энергии для дальнобойных поджигающих
аппаратов.
«»рда раз ближе к ней, чем наше огром•«• естественное, доброе Солнце.
Вряд ли, однако, сегодня возможно
(•••сформировать энергию ядерного взрым • узконаправленные пучки лучей, котоуйм посвящена эта статья. Возвратимся
ингсому к Солнцу. Кто из мальчишек ке
ММовался его светом для выжигания по
|*ршу при помощи самой обыкновенной
•(•минной лупы?! Что же мешает увели-
1-41
ШШЫ М| Р С
° МОЖЕТ быть существуют или могут быть найдены совсем иные, более
мощные чем Солнце, источники тепла?
Солнце — символ величайшего блеска, в
действительности, вовсе не является непревзойденно ярким источником света. Его
яркость, видимая с Земли, составляет всего около ста шестидесяти тысяч свечей с
квадратного сантиметра поверхности хро-
61
'
— Да.
— Помните золотое правило логики: «ТегИит поп
— Его усваивают студенты первого курса и ученики десятых
классов.
— Тем лучше. — Богданов выпрямился в своем резном кресле,
стал важнее и солиднее. — Тогда слушайте, что я вам скажу, Шадрин.
Слушайте и знайте, что ни одно слово из нашего разговора, если вы
не хотите прослыть склочником и сутягой, вы не должны и не -можете
использовать в ваших жалобах в вышестоящие инстанции. — Богданов взглядом обвел высокие стены просторной комнаты старинного
особняка. — Эти стены не слышат.
— Я вас слушаю,— выжидательно произнес Шадрин и невольно
потянулся к столу.
— Вы были на войне?
— Вы об этом знаете..
— Вы когда-нибудь видели, как пехотинцы с винтовками наперевес пытаются грудью пойти на танки?
— Видел.
— И я видел. Я видел много таких героев. Но я ни разу не виде^л
из них хотя бы одного счастливчика, который не кончил бы свою
жизнь под гусеницами танка, или не остался лежать в чистом поле,
скошенный
пулеметной очередью. Так вот, Шадрин...— Богданов
встал. — Я работал с вами год. Я отлично вас знаю. Я вас проверил
в работе и сейчас убежден, что... вы... — Богданов остановился, подбирая подходящие слова.
— В чем вы убеждены? — медленно, с расстановкой спросил
Дмитрий.
— В том, что на поле боя вы можете быть героем и героически
броситься под вражеский танк, не щадя своей жизни... А на государственной работе, в органах прокуратуры - - вы алхимик. Вы — анархлст!.. Более того — вы опасный человек. С голыми руками вы бросаетесь на танк, пытаетесь его сокрушить... А имя этому танку — «Государственный ритм в работе. Субординация положений»... Почитайте
Маркса и Ленина и поймите же, наконец, что такое государственная
машина. В ней не может быть романтических отступлений ради таких мечтателей, как вы. Она сработана из стальных огнеупорных рымосферы. Еще полвека назад была получена электрическая дуга между угольными
электродами в воздухе, сжатом до двух
десятков атмосфер; ее яркость вдвое превосходила яркость Солнца. Современные
газоразрядные лампы сверхвысокого давления дают
кратковременные вспышки
света в сотни раз более яркие, чем Солнце. Быть может, применение подобных источииков, будь они в распоряжении Архимеда, позволило бы ему, на самом деле,
сжечь римский флот? А если, к тому же,
удалось бы сжать их энергию в тончайший пучок параллельных лучей?
Ведь
когда сечение такого пучка приближается
к точке, плотность заключенной в нем
энергии должна бесконечно возрастать. Перед концентратом столь сильно «спрессованной» энергии не может устоять никакое вещество. Заманчивая идея! Однако,
повременим с разоблачением заключенных
1
62
в ней ошибок и предоставим слово Гер
берту Джорджу Уэллсу, нарисовавшем;,
еще в 1898 году ужасающую картину аг
рессии марсиан против нашей планеты
Это была поистине «борьба миров»,
«...Вдруг блеснул свет, и светящийся зс
леноватый дым взлетел над ямой. В т
же миг послышался какой-то сильный ;:
пящий звук... из ямы высунулась горбат.
гень и сверкнул луч какого-то искусстве1!
ного света. Языки пламени, ослепительный
огонь переметнулись на кучку людей. Ка
залось, невидимая струя ударила в них
и вспыхнула белым сиянием. Мгновении
каждый из них превратился
в горящий
факел. Эта огненная смерть, этот невм
димый, неотвратимый пылающий меч п.
носил мгновенные меткие удары...»
Что же крылось за этой «огненной смср
тыо»? Какое неземное устройство наноси
ло обитателям планеты Земля иеотврачи
ТегИит поп йа(иг (лат.)—Третьего не дано.
чагов, одни из которых двигают другие, а эти другие передают движение третьим... А вы!.. Кто такой вы? Вы посмотрите на себя! Давно
ли вы научились, с вашим поэтическим воображением, правильно составлять обвинительные заключения? Не спорю: где-нибудь в другом месте вы могли бы представлять какую-нибудь значительную единицу. Но
здесь, в прокуратуре вы — ноль. Вы не постигли главиого: кроме закона, существует еще в государстве неписанная субординация. Хотя
вам может показаться, что я говорю, и туманно, но я уверен, что вы
понимаете меня с полуслова. Вот все, что я могу вам сказать. Партия
мне поручила прокурорские кадры столицы, и а отвечаю за чистоту этих
кадров. А поэтому... Поэтому, если не хотите, чтоб вас заживо раздавили танком, под гусеницу которого вы бросаетесь, мой вам совет уходите. Ухо дате из прокуратуры, пока не поздно. Напишите завтра же
заявление, вам дадут сносную характеристику, и вы найдете себе другую работу. В суде, нотариате, где угодно — только не в прокуратуре Москвы. Вы меня поняли? — В голосе Богданова звучала искренняя досада человека, который желает добра.
— Прекрасно понял.
— Что же вы решили?
Шадрин встал. Расправил борта пиджака, поправил галстук, который в эту минуту ему был особенно тесен.
— Никаких заявлений писать не буду! За работу, которую я люблю, на которую имею право и с которой справляюсь — я буду драться
^ до последнего патрона. И если я погибну под гусеницами этого вашего воображаемого танка, то знайте—этот подвиг оценят другие
\, бойцы правды и все-таки ваш танк когда-нибудь налетит или на мину,
[рли его гусеницы порвет связка ручных гранат.
Шадрин чувствовал, как дрожит его голос, как пересыхают губы.
Он говорил с трудом, выдавливая из себя каждое слово, и слова эти
[ тяжелыми гирямд падали на Богданова.
— Вы умеете образно выражаться, гражданин прокурор. Свою
геханическую душу и свой машинный стиль субординации вы выдаете
'.я эталон государственного ритма и грязните этой символикой святое слово «партия». Второй раз мы разговариваем с вами как враги,
второй р>аз я говорю вам, что иду на вас с открытым забралом. О ва•ые удары? Узллс проявил достаточную
осторожность при описании марсианского
Оружия, за исключением одной лишь детали — полированного
параболического
•еркала из неизвестного вещества, отбрасывающего параллельные тепловые лучи.
Впрочем, тут же Уэллс оговаривается, что
сникто не сумел убедительно это доказать». Несомненным автор считает одно:
«Здесь действуют тепловые лучи». Сам же
источник, предположительно, есть некая
«интенсивная теплота», сконцентрированная «в абсолютно непроводящей тепло камере». Вот и все. Еще более предусмотрительным в вопросе «тепловых лучей смерти» оказался другой великий фантаст —
Жюль Берн. Он, попросту, ни разу не упоминает о них во всех своих романах, которые сегодня никто не назовет фантастическими, ибо действительность давно уже
Обогнала многие самые смелые выдумки
рМгора.
5. Ледяной душ на пылкую голову
инженера Гарина
С ПУСТЯ
четверть века после марсианской авантюры, в беллетристике вновь
засверкали смертоносные тепловые лучи.
На этот раз их создателем оказался вполне земной инженер Гарин. В построенном
им приборе невероятный жар пиротехнических шашек собирался в игольчатый луч
при помощи гиперболической оптики. И
вот как действовал этот прибор:
«Первый удар луча гиперболоида пришелся по заводской трубе — она заколебалась, надломилась посередине и упала...
Был виден завод, раскинувшийся на много
километров. Половина зданий его пылала,
как карточные домики. Луч бешено плясал среди этого разрушения». Не правда
ли, совсем как во время атаки марсиан?!
Конкретность, доведенная до принципиальной схемы «гиперболоида», романтические возможности его применения, ожии63
шем стиле в работе, обо всем, что вы говорили раньше и что сказали
сейчас, я вынужден .написать в ЦК. Это мой долг.
Шадрин резко повернулся и направился к высоким дверям. 'Когда он взялся за медную скобку, его окликнул 'Богданов.
— Одумайтесь, Шадрин! Вы еще молоды!.. По горячности вы можете нагрохать таких ошибок, которые не поправите за всю жизнь.
— Я все продумал.
— С характеристикой морально неустойчивого человека и идейно
невыдержанного товарища вас «е возьмут мести мостовую.
- Я ко всему готов! Теперь я воочию убежден, что человеческой
подлости нет границ. Прощайте, прокурор Богданов.
Шадрин вышел и? кабинета. Дрожали пальцы рук, 'мелко тряслись в коленях ноги, дрожало все тело, когда он спускался по ковровой дорожке мраморной лестницы. «Подлец!.. Подлец!.. — не выходило у него из головы. — На войне таких ставили к стенке. А здесь?..
Как здесь доказать ему, что он мерзавец?!.»
...На работу в этот день Шадрин пришел в третьем часу. В дверяч
он столкнулся с прокурором. Обменялись взглядами, поздоровалась,
и Дмитрлй понял, что из городской прокуратуры был уже звонок.
Взгляд прокурора как бы говорил: «Мне уже все известно, всякие разговоры излишни».
На три часа был вызван на допрос некий Шм'уршн, проворовавшийся завхоз одного московского института. Неделю назад в район
ном отделе милиции завели на него уголовное дело, «о юркий завхоз,
припертый к стене «бухгалтерской экспертизой, все-таки продолжал
лавировать и упорно отрицал свою вину.
Из своего небольшого следовательского опыта Дмитрий заключил,
что всех подследственных можно классифицировать на две категории преступников: с одними интересно работать даже тогда, когда
они представляют из себя трудный орешек, с ними чувствуешь себя
бойцом начеку, всегда готовым нанести противнику такой удар, который тот совсем не ожидал в эту минуту. С такими приходится всегда менять тактику, лавировать, иногда идти «а 'хитрость. Другая категория подследственных — а их большинство — не вызывает ни азарта, не будоражит следовательской фантазии и смекалки. Преимущественно это мелкие торговые работники, пьянчуги-хозяйственники
ленные большим литературным мастерсгвом автора, вызвали такое брожение изобретательских умов, перед которым померкли былые эпидемии изобретений «лучей смерти». Можно не сомневаться в самых лучших намерениях знаменитого нашего писателя А. Н. Толстого, однако,
занимательность романа принесла не только добрые плоды. Неизбежное разочарование многих сотен изобретателей, неизмеримый вдохновенный труд их, заранее обреченный на бесплодие, ненужная трата
времени экспертов — всего этого могло бы
и не быть, если бы инженер Гарин не успел забыть некогда изучавшиеся им науки.
Попытку избавить изобретателей «лучей
смерти» и экспертов от ненужной трепки
нервов сделал известный советский оптик
профессор Г. Г. Слюсарев. В годы Великой Отечественной войны вышла в свет
его работа «О возможном и невозможном в оптике». Эта маленькая книжка, всего на шести с четвертью печатных листах,
64
сыграла большую роль в охлаждении беспочвенно горячих голов. Недаром три изДания се разошлись мгновенно,
Какие же научные ошибки
допустил
изобретатель «гиперболоида»? Г. Г. Слюсарев показывает простым расчетом, что
для сжигания легковоспламеняющихся материалов на удалении в один
километр
при помощи оптической системы с диаметром в дна метра нужно располагать источником света в шестьдесят тысяч раз больше
ярким, чем Солнце. «Трудно ожидать, что
в ближайшие сто-двести лет удастся найти такой источник»,— пишет автор. Здесь
чувство историзма, как мы увидим дальше, изменило ему. Осторожность в суждениях о будущем закономерна для носителей точных знаний, даже если они обладают самым пылким воображением,
В другом месте книги Г. Г. Слюсарев
рассказывает об истинах, не изменяющихся с течением времени. Речь идет о так
называемых «параллельных пучках» энергни. Это очень удобное описательное по-
или квартирные хулиганы. Как правило, вину свою эта категория людей или сваливает на других, вовлекая тем самым в круг правонарушителей других лиц, или упрямо и тупо не признает себя виновной.
Лицо облысевшего Шмуркина, который, подняв острые плечи, еидел перед следователем, выражало такую скорбь и мученичество, что
можно было подумать: ни одна беда на белом свете его не обошла.
План Допроса Шадрин составил еще вчера, а поэтому он не стал
перечитывать предыдущие протоколы допросов. Ему было уже давно
все ясно. Однако, он еще-надеялся, что Шмуркин, наконец, поймет,
что чистосердечное признание вины может только облегчить его участь.
Но Шмуркин по-прежнему твердил одно и то же: знать не знает
и видеть не видел, куца могли «уплыть» тридцать тысяч государственных денег.
- У вас подписка о невыезде?
- Да... — робко и неуверенно ответил Шмуркин, продолжая смотреть на следователя глазами невинного агнца, которого ни за что, ни
про что оговор,или. — Снимите с меня, гражданин следователь, это
ограничение. Мне хотелось бы на днях съездить в Бердянск к сестре,
; это моя родина, лет шесть там не был... А потам, если бы я...
Шадрин знал, что если Шмуркина не остановить, он в десятый раз
} примется рассказывать следователю историю своей неудачливой жизни и о тех злых людях, из-за которых он страдает.
- Обо всем этом вы уже говорили, гражданин Шмуркин. В пос\ ледн.ий раз я дал вам три дня на обдумывание, а сегодня вы «по-прежнему юлите. Теперь — все!.. Надоело!.. — Дмитрий положил ладонь
на стол. — С сегодняшнего дня вам придется размышлять в камере таганской тюрьмы.
Глаза Шмуркина округлились в испуге. Он как-то судорожно
привстал со стула, опираясь ладонями о колени
— Гражданин следователь... Это за что же?.. Я не виноват!..
- Вот там-то, в Таганке, вы, гражданин Шмуркин, поду/майте хоюшенько, на какие средства вы построили себе новенькую дачу по
Ленинградской дороге, как и на каком основании вы отправили на
вою и на директорскую дачу не одну машину стройматериалов?
ладствию это известно. Вам остается только добросердечно расскаВать все, и я вас уверяю, что признание может облегчить вашу судьбу.
•ятие. Оно облегчает построение
курсов
различных научно-технических дисциплин,
Таких, к примеру, как геометрическая опили радиолокация. Но само это поесть такая же фикция, как и другое,
менее удобное и распространенное поятие: «геометрическая точка». Подобно
«у как в реальном мире нет места георической точке, потому что признание
было бы равносильно признанию матеи без пространства, так же точно не
рдествует и «параллельных пучков энерI». Это — чистая абстракция, очень позная, иногда необходимая, но совершенбесплодная в энергетическом отношеии.
6, Миллионы Солнц в кармане
В
ШМОЖНО
ли такое? Еще
подобный заголовок следовало
недавно
бы отВсти к разряду трескучих и пустых литемтурных гипербол. Сегодня же он з в у ч и т
5. «Байкал»
как простая констатация факта. Чтобы
поверить этому, достаточно заглянуть в
библиографию по оптическим квантовым
генераторам. Чтобы понять это, необходимо заглянуть внутрь атома. Современная
физика объясняет излучение света внутренней энергетической перестройкой атомов.
Эта перестройка
проявляется в смене
электронами своих «адресов», т. е. орбит,
по которым они обращаются вокруг ядра.
Орбиты стабильны, и каждая из них соответствует определенному запасу энергии
атома. Получая энергию извне — за счет
освещения или механических соударений в
результате теплового движения молекул,
или иными путями,— атом
возбуждается.
Его электроны переселяются на орбиты,
характеризующие новое, повышенное, энергетическое состояние.
Но, возбуждаясь,
атом может поглотить не любое произвольное, а только вполне определенное количество энергии, соответствующее разности энергий старого и нового электронных
«адресов». Эти конечные порции энергии
65
Шадрин написал постановление на арест Шмуркина, подписал его
у прокурора и, сдав его конвоиру, вышел из прокуратуры.
Был субботний день. У выхода из метро длинным рядком колготились цветочницы из Подмосковья. Дмитрий порылся в карманах и нашел в юих четырнадцать рублей. Половину решил истратить на папиросы и на два пирожных — Ольге и Марии Семеновне. На остальные
купил четыре пышных гладиолуса. «Теперь, пожалуй, долго не куплю
(им ни цветов, ни пирожных... Пусть хоть напоследок будут цветы...
А там... будь что будет! Покойный дед говорил: «Даст бог день, даст
бог пищу».
Ольга встретила Дмитрия так, будто не видела его несколькодней. Украдкой от матери она преградила ему дорогу в полутемном
коридорчике и, обмяв шею, прильнула к его жесткой щеке своим»
влажными горячими губами.
— Что я вижу! Цветы! Мне 'Никошда в жизнда еще никто не дарил
цветы!.. Как хорошо, что все красивое у меня начинается с тебя.
Поймав на себе взгляд тещи, Дмитрий легко отстранил Ольгу,,
прошел в комнату, положил на стол коробку с пирожными, сел на диван. Первый раз он так неуверенно, как непрошенный гость, вошел
в дом Ольги.
...А в понедельник, в конце рабочего дня, из городской прокуратуры пришел приказ об отстранении Шадрина от должности следователя, как не отвечающего тем требованиям, которые стоят перед молодым специалистом.
Богданов и здесь оказался пунктуален. Все было обосновано и мотивировано: пункт «В» статьи 47 Кодекса Законов о труде: «За отсутствием доверия и по непригодности, как несправившийся». Так было отмечено в приказе об увольнении, подписанном прокурором города.
Сдав дела старшему следователю, Дмитрий зашел к прокурору.
Тот встретил его невеселым взглядом, когда он переступил порог
кабинета.
— Зашел лроститься, Василий Петрович!
— Ничего Шадрин, ничего... Не вешайте голову. Жизнь 'прожить— не поле перейти. Всякое в ней бывает. Она, как погода: то
разведрится, то такие тучи нагонит — ни зги не видать. Вы еще молоды.
А там, где молодость, там сила. Я на вас надеюсь. И еще одно посои есть то, что ныне общеизвестно под именем квантов. Энергия квантов пропорциональна отношению некоторой постоянной
величины к длине волны излучения. Эта
замечательная квантовая постоянная, носяшая имя
своего открывателя Макса
Планка, является таким же краеугольным
камнем в описании мира, какими являются скорость света в пустоте, абсолютный
нуль температуры или заряд электрона.
Возбужденное
состояние атома
длится
недолго. Через десяти- или стомиллионную долю секунды он возвращается к исходному или близкому к нему состоянию,
излучая, выбрасывая из себя избыток
энергии в виде дискретных ее «порций»—
квантов.
Распространение
полученной
энергии носит волновой, т. е. непрерывный
характер. В этом, на первый взгляд, несовместимом сочетании прерывного и непрерывного в едином процессе электромагнитного излучения, с могучей силой проявляется один из основных законов материалистической диалектики—закон един66
ства противоположностей. В обычных тепловых источниках света внутренний механизм излучения представляет собой хаотическое нагромождение элементарных актов
испускания квантов энергии
атомами и
молекулами вещества излучателя. Беслорядочно рассредоточенные по времени и
по орбитам, эти единичные самопронзвольные процессы дают в совокупности
смесь воли, различных по энергии и по
длине. Можно ли навести порядок в этом
хаосе? Что произойдет, если беспорядочные акты излучений всех атомов и молекул подчинить единому ритму — заставить
происходить согласно, т. е. одновременно
и с одинаковой частотой.
Очевидно, п
этом случае амплитуда результирующего
излучения составится из суммы амплитул
огромного количества единичных излучений.
При этом
возникнет гигантский
всплеск энергии практически одной длины
волны. Физики называют такое излучение
когерентным. Если вспомнить, что в каждом кубическом сантиметре кристалличе-
ветую. Как отец. Бросьте эту тяжбу с Богдановым. Сотрет он вас в порошок. Человек он номенклатурный.
Шадрин пожал прокурору руку и на прощание мог сказать только единственное:
— Спасибо, Василий Петрович...
Проходя по коридору, Дмитрий увидел тетю Варю. Она сидела
у окна и вязала чулок. Губы ее шевелились: она отсчитывала петли,
сосредоточенно углубившись в работу. Ему очень хотелось подойти
к старушке, обнять ее на прощанье, пожелать ей здоровья и долгих лет
жизни, но он так и не решился. Все, что хотел Шадрин сказать тете Варе в глаза, он пожелал ей в душе и закрыл за собой дверь (прокуратуры, где так неудачливо началась его трудовая жизнь.
VII
С
ТРУМИЛИН сидел за столом
и делал вид, что работает. Он
никак не мог сосредоточиться. За спиной его полушепотом, стараясь
не мешать ему, разговаривали Лиля и Таня. Струмилин отчетливо
слышал каждое их слово, и чем больше они шептались, тем дальше
отодвигалась от него работа. Он не видел лица Лили и дочери, но отчетливо представлял себе трогательную семейную картину, перед которой меркло все: косые взгляды соседей, осуждавших его за то, что он,
не успев оплакать жену, связался с другой женщиной, собственный
обет одному воспитывать дочь, не омрачая ее детства горемычным
словом «мачеха»... Струмллин изо всех сил старался удержаться, чтобы не вскочить со стула и не схватить их обеих в охапку, закружившись с ними по комнате. А шепот не прекращался.
— Тетя Лиля, вы от нас не уходите, оставайтесь у нас насовсем.
— Зачем, милая?
•— Я вам подарю Мишку и плюшевого зайца. Только вы не уходите. Ладно?
— Ладно, Танечка, останусь, только не сегодня.
— Нет, сегодня. Я вам еще куклу Аленушку подарю.
— А зачем ты хочешь, чтоб я у вас осталась?
то вещества содержи гея число атомов,
[ражаемое единицей с двадцатью тремя
нулями, и если представить себе, как во
всех этих микросистемах в одно и то же
мгновение произойдет испускание света,
*о не покажется такой уж неправдоподобной яркость, которую и дают на самом
деле некоторые квантовые генераторы, а
именно — в сотни миллионов раз превосХодящие яркость Солнца. Поскольку по| добный генератор света столь невелик, что
|может разместиться в достаточно просторвом кармане, то и название этой главы
о считать оправданным.
Способностью излучать электромагнитго энергию подобным образом обладают
различные вещества — твердые тела, жид.кости и газы. Но для этого необходимо
привести их к такому состоянию, при котором на более высоком энергетическом
•уровне находилось бы большее число акВИвных частиц, чем на нижних уровнях
Атома. В обычном состоянии теплового
•равновесия такая картина не наблюдается.
Существуют, однако, вещества, у которых
перенаселенность частицами верхних энергетических уровней может быть создана,
Поиск таких веществ ведется сейчас многочисленными исследователями со страстью, заставляющей вспомнить о средневековых искателях «философского камня».
Разница не требует объяснений. Можно
только сказать, что сегодня таких вещест»
найдено уже свыше десятка, и среди них
первое место, по праву, занимает рубин.
Этот красивый драгоценный камень первым открыл свойство излучать ярчайший
когерентный свет, сразу затмивший игру
его граней и, фигурально выражаясь, переселивший его из сейфов ювелиров в физические лаборатории. По-существу же,
это обыкновечный бесцветный глинозём, в
кристаллическую решетку которого введено некоторое количество ионов хрома,
Они-то и придают кристаллу великолепную окраску — от нежно-розовой до кроваво-алой. Они же и являются активными
частицами, элементарными излучателями.
67
- Я вас очень люблю, тетя Лиля. Когда вы бываете у нас, папа
улыбается и всегда веселый, а когда вас нет, он все молчит и ходит
по комнате.
— А зачем он ходит по комнате?
— Он с мамой разговаривает, на портрете... А потом берет ме«я
на руки и целует. А иногда плачет... — Таня вздохмула.
Струмилин почувствовал, как в горле его защекотало. Но чтобы
не выдать волнения, он завозился на стуле, закашлял, потянулся.
Медленно раскачиваясь, он встал. Шепот за спиной прекратился.
Делая вид, что он только что оторвался от работы, Струмилин подоше)л к дочери, которая забралась на диван и белыми пухлыми пальчиками гладила волосы Лили.
- Что вы тут ворожите? — суховато спросил Струмилин. Точно
желая спрятаться от отца, Таня еще сильнее прижалась к Лиле, обвив ее шею руками.
— Тетя Лиля теперь у нас останется насовсем,— воскликнула Таня и приблизила свою круглую мордашку к уху Лили. Она что-то говорила ей по секрету.
Сдерживая улыбку, Струмилин прошел к дверям, надел плащ,
шляпу и строго сказал:
— Я пойду за билетами в кино. Ведите себя хорошо, не балуйтесь.
Слышите?!
В ответ на наказ отца Таня звонко рассмеялась и еще сильней
прижалась своим румяным личиком к щеке Лили.
В глухом переулке, куда солнце заглядывало только под вечер,
стоял сыроватый холодок. От пекарни тянуло запахом пшеничных булок. Огромный, в серых яблоках, тяжеловоз, запряженный в хлебный
фургон, важно и равномерно опускал свои кованые волосатые ноги
на камни мостовой. Глядя на могучую поступь широкогрудого тяжеловоза, Струмилин чувствовал, как с каждым ударом стальной подковы
о камни, в душе его что-то росло ,« крепло. Цок... Цок... Цок... Как
патетическая, жизнеутверждающая музыка, звучали эти богатырские
прикосновения живой природы о неживые камни. И ему было жалко
расставаться с этой музыкой силы и физической мощи, когда фургон
свернул в переулок и лоплыл к воротам пекарни.
За билетами Струмилину пришлось постоять в очереди почти два
Если осветить рубиновый кристалл обычным светом, он поглотит и » общего потока, главным образом, зеленые лучи. Их
энергия перегоняет ионы хрома на более
высокий энергетический уровень, откуда
они без излучения «скатываются»\ на новый, промежуточный уровень. За несколько миллисекунд населенность ими этою
уровня достигает превышения над населенностью исходного уровня. Теперь достаточно первого же упавшего извне или самопроизвольно испущенного в кристалле
кванта, энергия которого окажется равной
разности энергии «ждущего» перенаселенного и исходного уровней, как все скопившиеся активные частицы разом хлынут
«вниз», вызывая внутри кристалла вспышку
красного света. Если противоположные параллельные торцы рубина отполировать и
один из них покрыть непрозрачным, а
другой - частично прозрачным отражающим слоем, то вспышка будет «метаться»
между зеркалами, вовлекая в генерирование когерентного света все больше и боль-
ше атомов вещества, пока усиление света
не превысит потерь при отражениях. Тогда избыточная часть света прорвется на
р у ж у через полупрозрачное зеркало в виде
красной вспышки.
Длительность ее составляет миллиончего инерные доли секун ды, вследствие
ционный глаз человека не успевает субъективно оценить ее гигантскую мгновенную
яркость. Ширина пучка лучей, выходящих
торца рубина, измеряется единицами
из
угловых минут. С помощью специальных
методов луч рубинового квантового гене
ратора может быть сужен до долей секунв столь узких пучках плотность
ды д у г и
энергии достигает колоссальной величины,
Создаваемая такими пучками точечная о<5лучечность цели в сотни раз сильнее, чем
бомбы,
п р и в з р ы в е атомной
„
Вот
теперь, оперируя подобными устрон«вами, можно с полным основанием говорить о «шнуровом луче смерти». Это уже
не лжеизобретение толстовского инженера
»
часа. Но это ожидание его нисколько не тяготило. Наоборот, он был
рад, что у него есть время подумать: что делать дальше? Как поступить с Лилей? Ведь он любит ее. Любит и мучает. Мучает и себя.
А зачем? К чему эта игра в верность старомодным обычаям? Нужно подумать о дочери. Ей нужна мать. Да и он не так уж стар, чтоб
навсегда остаться бобылем. А Лиля? Принесет д« он ей счастье? Может быть, эта ее первая девичья влюбленность погаснет при первом
столкновении с кастрюлями и уборкой квартиры?
Когда Струмилин начинал думать о Лиле, о том, откуда она придет к нему и что ждет ее у него — ему становилось тоскливо. Размечтавшись, он уже виде»!, как она уходит от него. Уходит благородно,
со слезами, попросив прощенья.
С этими мыслями Струмилин вернулся домой, и то, что предстало
перед его глазами, тронуло его до глубины души. Лиля и Танечка, обнявшись, лежали на диване и безмятежно спали. Уткнувшись лицом в
щеку Лили, Таня по-детски посапывала; ее розовые пальчики
левой руки лежали ,на груди Лили. 'Во сне Лиля Струмилину показалась еще красивее. Ее тонкие черты лица дышали спокойствием и тихим безмятежным счастьем.
Времени до начала сеанса оставалось меньше часа. А нужно было
собрать Таню, дойти до кинотеатра. Жалко было Струмилину тревожить сон двух дорогих для него существ. Он лринялся ходить по комнате. Все сильнее и ощутимее шевелилось в душе его большое чувство тайной радости: Лиля о ним! Лиля любит Таню! Она может стать
ей настоящей матерью.
Подойдя к дивану, Струмилгин потрепал Лилину щеку и дернул за
кооичку Таню. Лиля открыла глаза. В первую минуту они выражали
испуг и стыд. Таня >во сне сладко чмокала розовыми, блестевшими, как
стекляшки, губами, и все сильнее прижималась своей мордашкой к груда Лили. Ее пухлые пальчики словно надламывались в изгибах, когда
она старалась плотнее прильнуть к Лиле.
- Господа, вставайте, билеты взяты, карета подана.
Стыдливо зарумянившись, Лиля бережно взяла на руки Таню
и встала. Девочка продолжала спать и во оне что-то неразборчиво мурлыкала. Струмилин еще раз потянул ее за косичку и поднес ко рту
конфету, щекоча бумажной оберткой оттопыренные губы.
{Гарина, а реальность, воплощенная сегодв действующие приборы.
Профессор Слюсарев ожидал создания
эдобных источников света не ранее чем
ез одну-две сотни лет. История сокрала этот срок в десятки раз.
Справедливости ради, следует отметить,
заложенную в новые световые генераэры идею высказал впервые советский
изик В. А. Фабрикант еще задолго до начала подобных работ американцами. Соетский
приоритет в
рассматриваемом
просе относится не только к его теореческой постановке. Однако, начав наше
ствование с откровений высокопоставного американского генерала,
будем
одерживаться информации, поступаюиз его страны.
США первый квантово-механический
нератор на рубине был построен в июле
года Мейманом. Этот прибор давал
иничныс вспышки когерентного свети
Цельностью около пяти микросекунд с
эй мощностью до десяти киловатт.
В настоящее время известны оптические
квантовые генераторы, работающие
на
смеси неона и гелия, нв* кристаллах фтористого кальция с ионами самария и урана, на фтористом барии с ураном, на вольф р а м и т е кальция с неодимием, а также
на различных активных жидкостях. Все
эти вещества обеспечивают получение монохроматических излучений более чем с
десятком различных длин волн в пределах
видимой и инфракрасной частей спектра.
Необычные свойства этих приборов сразу
же обратили на себя в н и м а н и е военного
ведомства, университетов, исследовательских центров и промышленных фирм США.
Возникла и, как лавина, разрослась литература по зтому вопросу. Квантовые генераторы оптического диапазона получили в ней быстро
привившееся название
„лазеры" Этот термин является сокращением наименования: „и§Ь1 Атр1Шса1шп Ьу
811ти1а1ес1
Нгшзыоп о{
НайаПоп",
что означает: «Усилители
вынужденного
светового излучения».
Именно о них и
69
— А кому этот заяц прислал конфетку? Кому он все-таки ее прдалал? — громко произнес Струмилин.
При слове «конфетка» Таня поднесла кулачки к лицу и принялась
ими тереть глаза. А через минуту она уже держала в руках «Косолапого Мишку» и счастливо улыбалась.
Наряжая Таню в ее праздничный костюмчик с полосатым матросским воротником, Струмилин заметил, что, пока он ходил за билетами,
Лиля успела 'подмести комнату, вытереть лыль с книжного шкафа
и расставить ровными рядами Танины игрушки, которые в беспорядке
валялись за диваном.
Подметенный пол, стертая пыль, ровными рядами расставленные
игрушки... Кажется совсем мелочь. Но мелочь эта вошла в душу Струмилйну беспощаднее |И глубже, чем самые жаркие и клятвенные заверения любви. Он посмотрел на Лилю, и та, словно прочитав его мысли, еще сильнее залилась румянцем стыда и виновато спросила:
— Разве вам <не нравится, когда в комнате чисто и уютно?
— Нравится... А почему ты узнала, что я об этом подумал?
— Потому что я вас... — Лиля вначале замялась, а потом разговор решила свести на шутку.— Потому что я вас не люблю.
Таня подняла на Лилю тревожный взгляд и сердито потупилась.
Ей было непонятно — за что можно не любить ее папу. Отшатнувшись
от Лили, девочка обвила ручонками шею Струмилина и строго посмотрела на Лилю большими, как-то сразу 'посерьезневшими глазами.
— А я папу люблю. Мой папа хороший,— строго сказала она отчужденно.
Чувствуя, что шуткой своей она обидела девочку, Лиля обняла
сразу отца и дочь.
— Глупенькая, я пошутила. Я люблю папу, видишь, как я люблю
его.— Лиля несколько раз звонко поцеловала Струмилина в щеку.
Глаза Тани сразу потеплели, на ее личике снова расцвела улыбка, и
она, переметнувшись в сторону Лили, заключила ее в свои объятья.
По дороге в кино Таня без умолку болтала и, крепко сжимая в
своих горячих кулачонках пальцы отца и Лили, повисала на их руках,
когда они переходили улицу или перекресток. В этом детском озорстве
было столько радости и наивного ощущения полноты жизни, что на
сияющую мордашку девочки заглядывались прохожие.
рассказывал генерал Л и Май своим восторженным слушатели в Уорчестере.
.
I. ДОЛЯ*
7
П ЕРЕЛИСТЫВАЯ
страницы совсем еще
юной, но уже достаточно богатой зарубежной истории лазерной техники, особенно ощутимо сталкиваешься с характерной особенностью современного империализма — безжалостным
подчинением
достижений науки военщине. Всемерно
раздувая военную направленность науки
и сковывая развитие мирных ее аспектов,
империализм тормозит прогресс и тем самым наглядно демонстрирует глубину своего загнивания.
Военно-научные бюджеты современных
монополистических государств — подлинно
раковая опухоль на теле человечества.
Как только вековечная мечта апологетов
направленных сжигающих лучей превратилась из журавля в небе в реальную при70
ручейную синицу, начались лихорадочные
эксперементы с целью проверки разрушительного действия лазеров. Первые же
опыты, проведенные в Мичиганском уииверситете, показали, что луч лазера средней мощности способен практически-мгновенно прожигать игольчатые отверстия в
тонких листах стали. В лаборатории фирмы «Белл» фокусировка лазерного луча
на графитовом блоке вызывала уже через тысячные доли секунды местный точечный нагрев материала до восьми тысяч градусов. Эффект, полученный
при
аналогичных опытах с более мощным лазером фирмы «Тридент», особенно порадовал конструкторов новейшего радиационного оружия. По иронии судьбы, оно оказалось, в сущности, воплощением наиболее
старых оружейных идей, восходящих к
Бюффону и архимедовским временам,
Необычайные свойства лазеров открыли
многообразные области их военного применения, в том числе — и в космосе. Описание этих работ выходит за рамкиу на
В кино Таня уснула сразу же, как только кончился журнал. На
экране мелькали лица, люди о чем-то спорили, куда-то спешили, гремели трамвайные звонки, кто-то кого-то догонял... кто-то кому-то назначал свидание... Но ни Струмшшн, ни Лиля не могли включиться в чужую, далекую жизнь, которая кадрами проплывала 'перед их глазами.
В большгос руках Струмшгина лежала тонкая рука Лили. Он даже
ощущал по пульсу биечие ее сердца. Только в самом конце фильма,
когда публика в зале начала кашлять, возиться и стучать откидными
сиденьями, готовясь к выходу, Лиля наклонилась к уху Струмилина и
скорее горячим дыханием, чем словами, сказала:
— Милый...
Когда возвращались домой, был уже вечер. Москва р<ядилась в
разноцветно-огненные кружева и кокетливо подмигивала со всех сторон: с витрин магазинов, с высоких столбов, с пестрых реклам и задумчиво-грустных неоновых вывесок.
Таню (о,на так и не проснулась) нес на руках Струмвдин.
Разговаривать не хотелось. Бывают минуты, когда молчание становится красноречивее, сильнее слов. И только дома, укладывая дочь
в кроватку, Струмилин посмотрел на часы и полушепотом произнес:
— Времени уже одиннадцать. Тебе далеко ехать.
Лиля ничего не ответила и только, привалившись к сцинке дивана,
печально опустила пушистые ресницы. Так, не двигаясь, она сидела до
тех пор, 'пока Струмилин не уложил дочь.
— Николай Дмитриевич, я хочу с вами поговорить...
— Может, отложим этот разговор на следующий раз?
— Я не хочу больше свиданий. И вообще мне надоели всякие свидания!..— Лиля порывисто встала и подошла вплотную к Струмилину. — Я хочу большего. Вы понимаете, большего!..
Голос Струмшщна дрогнул. Он тихо спросил:
— Что ты хочешь?
— Хочу быть вашей женой. Люблю я вас.
Струмилин отвернулся от Лили и долго молчал. За стеной, в соседней комнате высокий голос Лемешева выводил грустно, тоскливо:
Под снегом-то, братцы, лежала она,
Закрыв свои карие очи,
стоящей статьи. Ограничимся только упо- ции работ учрежден специальный комитет
минанием о локации Луны, осуществленпо лазерам, возглавляемый доктором Рояой Массачусетсом технологическим инбертом Кингстоном из Массачусетского
ститутом в мае 1962 года при помощи
технологического института. Судя по амерубинового лазера. По утверждению ведуриканской журнальной информации, в 1962
щего специалиста
США в этой области
году на лазерные разработки в США было
профессора Таунса, если повысить мощ- израсходовано
тридцать два
миллиона
ность лазера на один-два порядка, то
долларов. В 1964 году правительственные
станет возможной картографическая рерасходы по этой статье составят, предпольефная съемка лунной поверхности.
ложительно, сто пятьдесят миллионов долВ начале статьи уже упомянулось, что в
ларов, а к 1970 году, кап уже указывалось,
разработку американцами лазерного «икспревысят м и л л и а р д долларов,
оружия» вовлечено к настоящему времени
несколько сотен н а у ч н ы х и промышлсн. 1 и т . и п . и в т а 1 » ыпшот йи-п.
иных предприятий. Среди них такие мото. А Н Т Ь р Ш Т ! . А М О Ж С Г ОЫТЬ
ные фирмы как «Дженерал электроник»,
Г|
«Вестингауз», «Белл телефоун», «Электро/До НГ.ДАВНГ.ГО
времени главные наоптикл систем», «Техникл рисерч», «Хыо:!
дежды США в отношении своей нациЭйркрафт», «Сперри», сТридент», «Рэмтеопальной обороны от межконтинентальных
он», «Эджертон» и другие. Основными :>ар;>кет возлагались на использование анказчиками этих фирм по лазерам являюттиракет «Ника Зевс». Стоимость этой сися военно-воздушные силы, армия и упстемы в масштабе страны
оценивалась
давление перспективных исследований миоколо пятидесяти миллиардов долларов.
яистерства обороны США. Для координаСистема противоракетной обороны «БЭМ71
Налейте, налейте, с т а к а н мне вин;'.
Рассказывать нет польше мочи. .
Ты о чем думаешь? Почему ты м о л ч и ш ь ?
Струмилин повернулся к Лиле.
— Лиля, я много об этом думал. Проверь себя .хорошенько. Я б-оюсь причинить тебе несчастье. Пойми, что для м е н я , если ты п р и д е ш ь . а
потом уйдешь — это будет т а к и м ударом, который я не вынесу. Меня
и без того трепала жизнь. Я устал.
Лиля надела плащ и, не прощаясь, н а п р а в и л а с ь к двери.
С т р у м и л и н догнал ее на лестничной площадке. С т и с н у в Л н л и н у
белокурую голову в своих больших ладонях, он б е з з в у ч н о поцеловал
ее в щеку. С м и н у т у они стояли м о л ч а , п р и ж а в ш и с ь д р у г к д р у г у , с л у шая биение сердец.
На улице, пересекая п у с т ы н н ы й Лбищенский переулок, он спросил:
— Как на все это посмотрит дедушка?
Ответила Лиля не с р а з у . Ежась и о з ж ю н о п о д н и м а я п л е ч и , ома
наконец проговорила:
— Для него это будет большой нсо.-кнданпостыо.
- Почему?
Л и л я молчала.
— Потому что ты у х о д и ш ь к человеку, у которого ребенок?
--- Нет, не потому. Он о с т а е т с я .один. Совсем о д н и . II -<то п у г а е т
меня. Но больше всего м е н я стращих другое.
— Что? — С т р у м и л и н резко повернул Лилю к себе.
Они остановились.
— Вы не любите м е н я . Вам просто ж а л к о ж е н щ и н } , к о т о р а я , к а л
девчонка, п р и в я з а л а с ь к в а м , а вы и:; с о с т р а д а н и я , р а з р е ш а е т е с;1,
иногда быть рядом с вами...
Струмилину хотелось с к а з а т ь о том, что он ее 1 а к л ю б и т , как может любить только человек, для которого эта л ю б о в ь остается последней опорой и последней надеждой в ж и з н л . Но ом не с к а з а л этог<х
Он только болезненно у л ы б н у л с я , п о п р а в и л п у ш и с т ы й локон, выг'и.5шнйся из-под косынки Л и л и , и п о к а ч а л головой.
— А ты все-таки н е р в н ы й ребенок. Тебе н у ж н о п р и н и м а т ь .хвойные в а н н ы и перед сном д е л а т ь п р о г у л к и .
БИ», основанная на использовании некусственных с п у т н и к о в Земли — носителей
антиракет, выливалась в еще более фантастическую сумму.
Появление ла.черол
сказалось на отношении
распорядителей
кредитов США к характеру
бюджетных
ассигнований на противоракетную оборону
американского континента.
Однако, основной т р у д н о с т ь ю создании
лазерного оружия считается
разработка
устройства,
позволяющего фокусировать
луч лазера на заданном удалении в п я т н о
с диаметром менее сантиметра, что необходимо для поражения цели. Мощность
лазерного луча может быть з н а ч и т е л ь н о
увеличена путем объединения группы лазеров в общую сфазированную решетку. В
этом направлении ведутся работы во многих странах мира.
Главным препятствием для эффективного использования лазеров против ракет и
спутников является рассеяние и поглощение лучистой энергии в атмосфере. Для
ослабления этих потерь в США предпола-
72
гается монтировать противоракетные ла.черные установки на больших высотах —
на в е р ш и н а х горных хребтов. Система и
целом представляет комплекс, в который
пходят различные средства. Станция дальнего радиолокационного обнаружения пол у ч а с т предварительную
информацию о
целях и.! внешней сети оповещения. При
Олиженное м е с т о п о л о ж е н и е цели перед<1сия лом станцией другому радиолокато| > > . который у т о ч н я е т непрерывно меняюшиеся к о о р д и н а т ы д в и ж у щ е й с я цели и
сообщает их лазеру-локатору. Последним
осуществляет автоматическое слежение за
целью с большой точностью и наводит на
лее литер-оружие. Луч его, н а п р а в л е н н ы й
на ракету, прожигает в ее корпусе отверстия, вызывающие р а з р у ш и т е л ь н у ю вибрацию. Возможно, так же, непосредственное воздействие лазерного луча на боеголовку ракеты с преждевременным подрывом
или
нейтрализацией
ядерного
взрывчатого вещества,
Нельзя обойти м о л ч а н и е м и н а л и ч и °
Шутка Л иле показалась обидной. Она подняла голову и настороженно посмотрела на Струм.илина Потом эта настороженность сменилась обидой, которая отразилась в уголках дрогнувшись губ.
— Я знаю, почему вы тяготитесь мной...
— Почему?
- Потому что вам стыдно и унизительно соединить свою судьбу
с судьбой... С судьбой опозоренной ж е н щ и н ы , которая была с у д и м а . - И после некоторого молчания, в течение которого она мучительно ждала, что ответит Струмилин, подавленно п р о и з н е с л а : — Н е так ли?
Что мог ответить на это Струмилин? Ему было и радостное больно
видеть скорбное лицо Лили, на котором одновременно о т р а ж а л и с ь любовь и страдание. И все-таки он решил очередной шуткой разрядить
то н а п р я ж е н и е , в которое сама себя поставила обидчивая и мнительная Лиля. Глядя на нее сверху вниз, он утвердительно .и насмешливо
покачал головой.
— Представь себе, ты не ошиблась.
Л иле не хватало воздуха. Глубоко и порывисто дыша, она смотрела на С т р у м и л и н а т а к и м и глазами, как будто только сейчас п о н я л а ,
что перед ней стоит не Струмилин, а кто-то другой. От этой мысли
ей становилось страшно. Но, глядя в усталые глаза С т р у м и л и н а , она
[ не вер,ила его словам. Эти глаза любили, они тосковали, кажется, они
у м о л я л и : «Не уходи, без тебя мне так плохо, так холодно...»
Пересохшими губами Лиля прошептала:
- Н и к о л а й Дмитриевич, вы же пошутили? Скажите, п о ш у т и л и ?
Я умоляю вас...
- Нет, я сказал п р а в д у .
—- Так з н а ч и т . . . Значит!.. — Л и л я отшатнулась от С т р у м и л и н а . —
Значит, вы меня обманывали?.. Значит все, что я принимала за любовь,
было курортной шуткой? Что же вы молчите?
Струмилин огляделся кругом. Переулок, в котором они останови 1сь, был т и х и м , безлюдным. Только было странно, как где-то непода!ку, в одном из дворов, метла дворника продолжала р ; итмично. чере.;
•димаковые и н т е р в а л ы , приглушенно ш а р к а т ь о шершавый асфальт.
Вод мета л и двор.
Струмилин положил на Лилины плечи руки. Некоторое время они
Стояли м о л ч а . Как никогда, Лиля в эту минуту была уверена, что она
скептического отношения к рассматриваемо! проблеме у части ученых и специаЯКтов-оруженников.
Так,
например, в
Шньском
номере английского журнала
«Нью с а й е н т и с т » за 1963 год опубликована
СТЦТЬя профессора Ганса Тирринга, подМ^гающая
с о м н е н и ю боевые
свойства
ИИров. Более того, автор статьи считаЦ разговоры о л а з е р н ы х «лучах смерти»
МОбще « ч и с т е й ш и м вздором», приводя в
Д^Снование своих утверждений иллюстЦтивные р а с ч е т ы . Правильность их не
(Цлежит сомнению. Однако ученый профКсор исходит из необходимости для порЫКения б а л л и с т и ч е с к о м ракеты расплаИТЬ ее я д е р н у ю боеголовку, вес которой
М определяет в 40 килограммов. При
МОИ наибольшая мощность излучения ла*ф( оценивается им в тысячные доли
МП», а н а и м е н ь ш а я
угловая ширина
в одну м и н у т у . Между тем, для поракеты, как уже упоминалось,
ИВИМлисты считают достаточным нару-
шение ее герметизации прожогом небольших отверстий.
Разумеется, проблема
противоракетной
борьбы с помощью лазеров содержит огромные научные и практические трудности, о части которых уже упоминалось.
Однако, было бы опасным легкомыслием
относить ее к разряду проблем типа «вечного двигателя».
Классический спор между снарядом н
броней проявляется в наши дни на более
высоком уровне: ракета — противоракетный комплекс. В этом соревновании, на
разных исторических этапах, преимущество может оказываться на стороне и наступательных, и оборонительных средств.
Общеизвестно, что в настоящее время не
существует технических возможностей, которые могли бы помешать советским глобальным ракетам выполнить свои задачи,
если в этом возникнет
необходимость.
Этот факт является одной из надежных
гарантий сохранения мира на современном
этапе.
73
любима, что большое чувство Струмилина к ней растет изо дня в день.
Но в ней снова и снова, как это было при каждом свидании, 'пробуждалось ненасытное желание еще и еще раз услышать о том, что он ее
любит.
— Разве ты не видишь, как я люблю тебя!? Особенно после того,
когда с тобой случилась эта беда.
Лиля, как-то сразу расслабленная, закрыла глаза и прижалась к
груди Струмилина. Губы ее вздрагивали. Она шептала:
— Зачем вы так жестоко шутите, Николай Дмитриевич? Не делайте больше этого. Мне так тяжело бывает, когда вы шутите... — Лиля медленно подняла Голову и молча смотрела на Струмилина.
Струмилин смотрел в глаза Лиле и видел в них отражение ночных
огней. Она ждала, что он ей скажет, но он ответил не сразу. Он даже
не ответил, а спросил. Спросил о том, что его волновало не меньше,
чем Лилю.
— Когда мы будем вместе?
— Когда ты захочешь. Хоть завтра. — И после некоторой паузы
Лиля .проговорила:—Только нужно подготовить к этому деда. Я знаю
его мягкий характер. Мой уход будет для него ударом. К тому же он
сейчас не совсем здоров.
Лиля стояла послушной, покорной девочкой и преданно смотрела
на Струмилина.
— Я приду к вам завтра. Только вы не гоните меня, как сегодня.
Я приду к вам навсегда. На всю жизнь..
VIII
М.
, АЙ и половину июня Дмитрий лровел в поисках работы. Где
он только .ни был: в прокуратуре СССР, в Министерстве юстиции, в редакциях газет и журналов, где, согласно штатным расписаниям, так же предусматривались юрисконсульты; два раза звонил в
Московский комитет партии, часами томился в приемных у директоров предприятий, заводов, фабрик... Всюду, где только мог быть ис-
В империалистических странах все отчетливее начинают понимать, что время
работает не на них. Все чаще появляются
в их печати полные глубокого пессимизма
признания в безнадежном отставании их
стран от Советского Союза в ведущих областях науки. Даже пресловутые «бешеные» конгрессмены в США в ы н у ж д е н ы
считаться с неотвратимостью грозного возмездия в случае развязывания ими мировой войны. Они уже достаточно твердо
убедились в том, что Советский Союз умеет пользоваться великими победами своей
передовой науки как в мирных, так и в
оборонительных целях.
9. Лазер служит миру
О,' Р У Ж И Е
несет в себе угрозу миру и
находясь на складах. Поэтому не послужит ли признание реальности нового
лазерного оружия подъему новой волны
страха перед будущим, волны
ужаса,
74
столь выразительно запечатленной на зна
менитых хиросимских панно японских ху
дожников Ири и Тосико Маруки?
Мы не вправе и не можем уходить от
фактов, какими бы нежелательными л.;человечества они ни были. Несомненным
является одно: у сторонников мира есть
сегодня достаточно оснований для опт):
милма. Недавно достигнутое соглашение
между великими державами о частичном
прекращении испытаний ядерного оружии,
укрепляет надежды на потепление межд>
народного климата. Подобно тому как мг
няется лицо атома в делящемся вещесии
или в синтезируемых элементах в зависп
мости от лица их хозяина, так же точи I
злой атом лазера-оружия становится дои
рым как только возникает надежда и .
всеобщее разоружение.
Усилия миролюбивых народов в их оГ>
щей борьбе за устранение войн из жизни
человечества не должны остаться безу
пешными. Плоды этих усилий могли бы рг
ализоваться, например, в замене ядерн • • • •
пользован юрист. Дмитрий предлагал свой диплом с отличием, характеристику из Университета и трудовую книжку, в которой было отмечено, что уволен как .несправившийся с работой.
В прокуратуре СССР ему сказали, что на следовательскую работу направить его не могут, так как вполне доверяют характеристике
заместителя прокурора города Богданова, у которого они уже успели
•справиться о молодом специалисте Шадрине. Дмитрий просил работу на выезд, ему и в этом отказали. Внимательно прочитав запись в
трудовой книжке, инспектор по кадрам— сухопарый мужчина с отвислой нижней губой и огромным кадыком, который перекатывался,
когда он говорил, провел ладонью по гладким, до синевы выбритым
щекам, и с озабоченной укоризной человека, в руках которого сосредоточены чуть ли не все тяготы и заботы страны, когда решался вопрос
о прокурорских кадрах, не глядя на Дмитрия, проговорил:
— Что ж, вы думаете, товарищ, на периферии легче? Напрасно...
А посылать туда людей по принципу «на, боже, что нам не тоже» мы
не имеем права. Однажды мы доверили вам ответственную работу
следователя в столице — вы не оправдали нашего доверия. Больше
экспериментировать мы не можем. Попробуйте обратиться в Министерство юстиции. У них больше возможностей использовать вас по
специальности.
Инспектор отодвинул от себя документы Шадрина на краешек
стола и углубился в бумаги, лежавшие перед ним.
Возразить Дмитрий ничего не мог. Он понял только одно: Богданова здесь знают, с его мнением считаются.
Когда Шадрин шел по длинному коридору, ему пришла на ум
строчка из стихов Некрасова:
II пошли они солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог...»
У Ольги в этот день был выходной. Больше двух часов она томилась в крохотном дворовом садике на Неглинной, ожидая Дмитрия.
Но вот, наконец, и он. Еще издали, как только Дмитрий вышел из
дверей центрального подъезда прокуратуры, она поняла: зря он це• лую неделю ждал приема в прокуратуре СССР. Она даже не спросирыва работой тепловыделяющих элемен'тов атомных энергоустановок, в лечебнюм действии радиоактивных изотопов, в
Ьногообразнейшей службе меченых атомов
И т. п. Аналогичные метаморфозы произойдут и с лазерами, как только вопрос
об их демилитаризации станет реальностью.
Что же полезного можно ждать от этих
грозных устройств на мирном поприще?
Как повернуть разящий рубиновый луч
лазера, чтобы он стал творить добрые дела? Для ответа на эти вопросы требуется
специальная статья. Здесь же мы можем
(лишь мельком упомянуть о некоторых воздоожных мирных трудах лазеров.
Уже упоминалось о чрезвычайно высокой разрешающей способности лазероло•каторов, могущей, в принципе, обеспечить
детальную рельефную
картографическую
йеъемку планет. Год назад подобные опыты были предприняты в отношении Луны.
'Кто следующий: Марс? Юпитер? Да и на
омой Земле с помощью лазерных даль-
номеров можно обеспечить небывало точную геодезическую съемку труднодоступных горных районов и получить, наконец,
их истинные подробные карты.
В технике связи монохроматичность лазерных пучков позволит в громадное число
раз повысить объем информации, передаваемой на заданной полосе частот. Подсчитано, например, что в спектральной полосе, занятой современным телевидением,
при переходе на лазерное излучение можно было бы разместить одновременную передачу свыше десяти тысяч программ.
Используя исключительную стабильность
частоты колебаний в квантовых генераторах, возможно создать часы, ошибка которых за несколько сотен лет непрерывной
работы не превысит нескольких
секунд.
Такие часы будут иметь неоценимое значение для космической навигации, особенно при полетах к отдаленным планетам.
Огромные технологические
трудности,
возникающие при обработке мелких деталей большой твердости, в особенности,
75
ла — как дела? В глазах ее Дмитрий прочитал грустное: «Не расстраи н а й с я , родной. Знай, что в беде ты мне еще дороже...»
И они долго шли молча по узенькой кромке мощеной булыжником мостовой, пока не свернули на просторный тротуар широкой асфальтированной у л и ц ы .
Шадрин достал из к а р м а н а -пиджака п а ч к у «Прибоя» и разорвал
;ее. В ней не осталось ни одной папиросы.
— Митя, обожди, я сейчас... — Ольга метнулась к табачному киоску и тут же вернулась с пачкой «Беломорканала».
— Спасибо... — с какой-то горькой усмешкой процедил Дмитрий.
Они свернули в сторону Столешникова переулка.
— Куда нам сейчас. Митя?
— Куда глаза глядят.
Стоял ж а р к и й полдень. В учреждениях были настежь раскрыты
окна. В тени, под л и п а м и , плотной стайкой кучились люди — ожидали
троллейбуса. У незащищенной от солнца стоянки т а к с и толпилась очередь. А машины, как назло, все не подходили. Потные, разомлевшие
лица Прохожих, тревожные свистки милиционеров, рекламная пестрота магазинных витрин и словно на старте застывшие -перед пешеходной дорожкой легковые машины, готовые каждую секунду по первому
знаку регулировщика рвануться вперед... — все это в г л а з а х Шадрина
сливалось во что-то единое, душное, чужое. Все это яркое, пестрое,
суматошно-нервное и беспорядочное плыло мимо него, отбрасывая его
в сторону. Лишь одна Ольга, которую он чувствовал и локтем и сердцем, одна единственная во всей многомиллионной Москве Ольга была
с ним рядом, понимала его. Только она одна верила в эту минуту, что
он неплохой человек, что ему очень тяжело, что в него можно верить...
В сквере на Советской площади они присели на лавочке. Шадрин
закурил.
К ресторану « А р а г в и » подкатили две «Победы», и из них вышли
шумлп-вые грузины. Они о чем-то разгоряченно спорили. Рассчитавшись с водителями, они тут же скрылись за дубовой дверью ресторана.
— Ты когда-нибудь была в «Арагви»? — спросил Дмитрий, вып у с т и в облачко дыма.
— Ой, что ты!.. Я за всю свою жизнь дальше столовой нигде
не была.
применяемых в точном приборостроении,
.нч ко у с т р а н я ю т с я при и с п о л ь з о в а н и и в
качестве рабочего инструмента лазерных
пучков. В частности, это относится л прож и г а н и ю прецизионных отверстий
Возможность регулирования и н т е н с и в н о сти, длительности и угловой ш и р и н ы лазернах пучков, в сочетании с их абсолютной стерильностью, открывает неопычаиные перспективы применения этих п у ч к о в
в биологии и медицине. Недавно сообщалось, например, об успешной операции по
восстановлению
нормального
состояния
человеческого глаза с отслоившейся сетчатой оболочкой, «приваренной» к г л а з н о м у
дну при помощи лазера.
Способность лазерных пучков п р о н и к а т ь
внутрь молекул вещества, и з м е н я т ь крис т а л л и ч е с к и е решетки и энергетику атомов
позволяет ожидать осуществления с помощью этих пучков-катализаторов северП 1 . ' п н о невероятных ранее и пока еще неиг | < > м | , | \ химических реакций. В результате их могут быть созданы п р и н ц и п и а л ь н о
70
новые материалы, обладающие сказочными свойствами.
Подобные примеры можно было бы продолжать без конца, но и сказанного достаточно, чтобы увидеть доброе лицо лазера.
излучающего не смертоносные лучи войны, а жизнеутверждающие лучи мира,
Заглядывая в далекое будущее человечества, когда окажутся на исходе его
«домашние» энергоресурсы, в том числе
и ядерные, позволительно предположить,
что спасение людям принесут именно лучи
сверхмощных лазеров, которыми землянг
вспорют тела соседних безжизненных планет, обратив на службу себе их беспредельную энергетическую целину. Конечно,
сегодня это еще фантазия, но реальность
ее в будущем уже подтверждена расчетами.
И вполне вероятно, что именно свет лазера принесет далеким цивилизациям, ко
торые отыщутся в бесконечной Вселенной.
первый привет жителей забывшей о вой
нах планеты Земля.
— Ну и плохо.
— Почему? Что хорошего в этих ресторанах? Один разврат...
Шадрин ухмыльнулся.
— Странно...
— Чего странного?..
— Почему-то все, кому путь в ресторан з а к а з а н , считают: раз человек посещает ресторан, значит, он или развратник, или прожигатель жизни.
— А разве не так?
— Вот именно не так. Олечка. Ты вплела толпу грузин, что только сейчас вкатилась в «Арагви»?
— Видела.
— Ты что думаешь — они, как с а п о ж н и к и , напьются и будут
горланить песни?
— А что, бывает и так...
— Бывает, но не у кавказцев н не у тех. кто посещает часто рестораны. Пьяные песни горланят только пропойцы н дураки. После
получки они втайне от жен, почти без закуски выпивают по бутылке
водки и, обняв друг д р у г а , считают, что они самые умные, самые
смелые. Уж тут им море по колено. Что им до того, если назавтра
придется проснуться под забором или в вытрезвителе. — Шадрин
вздохнул. — Все-таки здорово сказал Некрасов о русском мужике.
— Что он сказал о нем? — спросила Ольга, не спуская глаз с
входа в ресторан.
— Он до смерти работает, до полусмерти пьет...
—• Ну это, положим, он сам виноват!.. — запальчиво проговорила
Ольга. Она не любила пьяных.
— Нет, Оля, виноват не только он. Виноваты кое-какие обстоя'тельства. Ведь иногда человек пьет не потому, что у него лишние
деньги, а тютому, что у него их .не хватает. Пьет не с радости, а с горя.
— Я где-то об этом уже читала. Это с т а р а я песня.
— Верно. Старая... Но, к сожалению, ее будут петь до тех пор.
Ьюка мы не изживем горькое пророчество Есенина. Странно, меня се•годня что-то преследуют поэты: недавно Некрасов, а вот теперь —
^Есенин.
- Что это за горькое пророчество?
Шадрин запрокинул голову >и, рассеянно глядя куда-то вдаль, поверх многоэтажных домов, монотонно-тягуче, грустно прочитал есенин!<гкие строки:
...А месяц будс-т плыть и плыть,
Роняя весла по озерам,
А Русь псе будет жить и жить,
Плясать и плакать под забором...
Ольга не ответила. Она, как н Дмитрий, смотрела поверх в ы с о к и х
каменных домов на противоположной стороне площади. Потом Шад1Н неожиданно круто повернулся -к ней.
— А знаешь. Оля. когда-нибудь, как только мы ра.шогатсем, я поеду тебя по всем первоклассным ресторанам Москвы! Там мы отвезем такие блюда, которые нам д а ж е никогда не снились!
Ольга улыбнулась.
— Ты, наверно, просто проголодался. Так бы и с к а з а л .
Д м и т р и й тихо р а с с м е я л с я .
— Ты гений и пророк! Сколько в твоем кошельке?
— На обед в столовой х в а т и т .
•— Даже со вторым?
— Даже с третьим.
Резкая перемена в настроении Д м и т р и я Ольге бросилась в глаза.
77
— Неужели голод и предстоящий обед в столовой мог так сразу
и так неожиданно повергнуть тебя в восторг?
Лицо Шадрина посуровело, в нем одновременно были отражены
два внутренних состояния: вызов и готовность к борьбе. Смешениеэтих двух чувств сделали выражение его лица несколько надменным
и гордым.
— Ты понимаешь, Оля, сейчас я чувствую в себе что-то новое,
огромное, чего до сих пор так отчетливо и так резко не замечал.
— Что именно? — встревоженно спросила Ольга. Такие резкие
перемены в настроении Дмитрия она не замечала.
— Я стал сильнее! Ты понимаешь, сильнее!.. Я ощущаю в себе все
новые и новые волны сил. Наливаюсь чем-то весомым, тяжелым, а чем—
еще сам не могу понять. — Он посмотрел в сторону ресторана. — Ты видела, как шумная ватага ввалилась в «Арагви»?
Ольга пожала плечами.
— Ты спрашиваешь об этом второй раз. Не понимаю, какая может быть связь между твоим настроением и этими кавказцами?
— Прямая. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не был ни шовинистом, ни националистом. Для меня все люди равны. Но вот сейчас,
в эту минуту, .я ненавижу этих разодетых молодчиков, которые в прохладном полуподвале сидят и уплетают за обе щеки фирменные кавказские блюда. Цыплята «табака», шашлыки, купаты, бастурма... И
все это запивается великолепным грузинским вином, чередуется оживленными воспоминаниями о вчерашней вечеринке, на которой он« танцевали с молоденькими красивыми девочками... Вот именно — девочками!
— Я слушаю, продолжай.
-— Так вот, как я могу уважать этих молодчиков, когда у меня в
кармане нет даже полтинника на метро? Когда, если б не ты, я вынужден был бы собирать окурки с мостовой, чтобы сделать две-три
з а т я ж к и папиросой, без которых я сейчас не могу жить?!
— Вот ты и противоречишь сам себе.
— В чем?
— Всего пять минут назад ты осуждал меня и называл мещанкой
за то, что я плохо думаю о людях, которые посещают рестораны, что
я считаю их развратниками, прожигателями жизни... А сейчас сам
рассуждаешь, как мещанин.
—• Ты не поняла меня, Оля.
— Тогда объясни, пожалуйста.
— В ресторан можно ходить на честные трудовые деньги. А если
они, эти молодчики, вчера неплохо в ы р у ч и л и на московских рынках за
лавровый лист и грецкие орехи, то я, у которого мозг и сердце тоскуют по работе, имею право не только на возмущение, но даже на
ненависть.
— Почему ты думаешь, что они т о р г о в а л и л а в р о в ы м листом?
— Одного из них я у з н а л . Я видел его две недели назад на Тишинском рынке. Он торговал л а в р о в ы м листом и фруктами. Я запомнил его на сто лет вперед. Вот поэтому-то я так резко говорю о своем
негодовании.
— Если принять во внимание и еще одно, далеко не последнесобстоятельство.
— Какое?
— Если учесть, что ты сейчас голоден.
— Может быть. Но это еще раз подтвержает, что Маркс п р а в ,
бытие определяет сознание. Каков образ ж и з н и — таков образ мыслей.
Но это мелочи. Главное то, о чем я уже тебе сказал: после всех моих
мытарств я чувствую себя сильнее.
78
— Это хорошо, Митя. Я боюсь другого. Боюсь, чтобы все эти неприятности не надломили тебя. Помнишь, профессор Батурлинов говорил, что тебе 'Вредно волноваться.
Шадрин от души рассмеялся над наивностью Ольги.
— Профессор!.. Не волноваться... Не волнуется только гусыня,
когда ее, перед тем, как зарезать, откармливают. — Шадрин повернулся к Ольге. Лицо его вдруг осветилось ясной веселой улыбкой. —
Ты знаешь, как откармливают в деревне гусей?
— Нет, расскажи.
— Их сажают в мешок <и подвешивают где-,нибудь в чулане <или в
сарае. Из мешка торчат только хвост и голова. Хвост — снизу, сверх у — голова. И кормят... Кормят до тех пор, пока они не заплывут
жиром.
Ольга на минуту представила себе подвешенную в мешке гусыню
и сдержанно рассмеялась. Но видя, как лицо Дмитрия сразу же из веселого стало озабоченно-хмурым, подавила в себе смех.
— Что ты думаешь делать дальше? — спросила она.
— Дальше? Дальше придется идти в Министерство высшего образования, в отдел молодых специалистов. По положению в течение
трех лет после окончания вуза этот отдел должен шефствовать надо
мной, как над молодым специалистом.
...В этот же день, после обеда в столовой, Шадрин и Ольга отправились в Министерство высшего образования, где Дмитрий еще два
дня назад записался на прием к инспектору по юридическим кадрам.
...И Ольга снова ожидала его в скверике министерского двора, в
центре которого, прямо перед входом в Архитектурный институт, вяло
и утомленно бил маленький фонтан. Прощаясь с Ольгой, Шадрин поправил галстук, одернул пиджак.
— Ни пуха, ни пера! — вдогонку ему бросила Ольга и тут же окликнула, когда Дмитрий ничего ,не ответил на напутствие, ставшее
'студенческой традицией. — Митя!.. Ты слышишь: ни пуха, ни пера!
) Что же ты молчишь?
Кругом были люди. Одними тубами Шадрин послал Ольгу «к черьту». Видя, что это ее успокоило, он вошел в просторный прохладный
вестибюль министерства. По сравнению с прокуратурой СССР, здесь
•ыла иная обстановка. Другие по виду люди (в большинстве случаев,
рто были научные работники) чинно и важно поднимались и спуска1л|ись по широким ступеням винтовой лестницы. Высокий особняк был
[сооружен не без архитекторской выдумки и причуд. Широкие, почти
[.пустынные коридоры устланы толстой ковровой дорожкой, поглощавшей малейшие шумы.
«Где-то здесь работают наши ребята,— подумал Шадрин и остаЬовился. — Зайти пли не зайти к ним?». Но тут же твердо решил:
ИШопробую пока сам. Если л здесь от ворот поворот — тогда пойду к
[Георгию Зонову. Когда-то это был честнейший малый. Года два жили
к .ним в одной комнате общежития. Может, не забыл еще Стромынку
[и годы карточной системы...»
В отделе распределении;! молодых специалистов Шадрина направили к столу у окна, за которым с-ндсла немолодая женщина с корот1сой прической круто поседевших волос. Ее серая кофта напоминала
Дмитрию военную гимнастерку — не было только медных пуговиц на
Ц'руди. Это была инспекторша по ф а м и л и и Ткач, к которой его напраТ.вили. Она разговаривала с кем-то но телефону и, не сводя глаз с ды|.Мящейся папиросы, то и дело с т у ч а л а ею о край пластмассовой пе|.лелы1!шы, стараясь сбить н а г о р е в ш и й пепел.
Шадрин подошел к ее столу. Сразу на него пахнуло терпким та79
б а ч н ы м перегаром. «Наверное не вынимает изо рта, так р а з и т табачищем».
Перед столиком инспекторши Шадрин молча стоял до тех пор,
пока она не закончила разговор, в котором кого-то часто называла
голубчиком. Голос ее был то басовито-прогорклый, то надтреснутохри'пловатый. Она часто надсадно кашляла, п р и к р ы в а я трубку и рот
ладонью.
«И пьет навериое. Причем, пьет не какой-нибудь кагор или настойку, а красную головку, а то чего доброго и самогон»... — продолжал
рассуждать про себя Шадрин, рассматривая дряблые щек,и инспекторши. Ее ярко накрашенные губы бросали на лицо резкий мазок
вульгарности. «Соседи по квартире, наверное, ее боятся как огня»,—
решил Шадрин, продолжая терпеливо ждать, когда же, наконец, она
хоть жестом, хоть кивком головы (инспекторша давно видела, что перед ней стоит посетитель) пригласит его сесть на стул, стоявший рядом
с Шадриным.
Но Ткач, закончив разговор по телефону, зачем-то полезла в стол,
достала из ящика длинную записную к н и ж к у с телефонными номер а м и , и снова принялась кому-то звонить. В душе Ш а д р и н а подним а л с я внутренний протест против этой грубой неприятной женщины.
от которой веяло чем-то нечистоплотным.
Инспекторша говорила по телефону еще минут восемь-десять, потом резко бросила на р ы ч а ж к и трубку и посмотрела на Ш а д р и н а . Выр а ж е н и е и цвет ее маленьких, грязновато-серых и в о с п а л е н н ы х глаз
еще больше утвердили Дмитрия в его предположениях. « Н а в е р н я к а
пьет».
— Я вас слушаю,— прозвучал ее надтреснутый голос. Еле уловимым кивком головы она п р и г л а с и л а Шадрина сесть.
Ш а д р и н сел.
— В прошлом году я закончил юридический факультет Московского университета...
— Куда были распределены государственной комиссией?—оборнала его инспекторша, глубоко затягиваясь папиросой. От этой зат я ж к и ее дряблые серые щеки ввалились еще глубже.
В прокуратуру Сокольнического района города Москвы,— спокойно ответил Шадрин.
- Ну и что же? Почему при:ил..и в министерство?
Ш а д р и н н а ч а л рассказывать о том, что в работе ему с самого начала не повезло, что с прокуратурой пришлось расстаться и, что он
готов па любую работу по специальности, так как семейные обстоятельства не позволяют ему больше ходить без определенных з а н я т и й .
Инспекторша 'рассеянно с л х ш а л а Ш а д р и н а , а сама делала какието пометки в ведомости. л е ж а в ш е й перед ней. Раза два она перекинулась репликой с соседом, т о ж е , очевидно, и н с п е к т о р о м , который тут
же сообщил ей какие-то с т а т и с т и ч е с к и е цифры.
— Покажите вашу тру.'юзую к н и ж к у , — не о т р ы в а я глаз от ведомости, попросила инспекторша.
Д м и т р и й положил на стол д о к у м е н т ы . Д и п л о м и х а р а к т е р и с т и к у
с факультета Ткач пробежала мельком. Р а с с м а т р и в а я з а п и с ь в трудовой к н и ж к е , она з а к а ш л я л а с ь р к у л а к . А после очередной з а т я ж к и папиросой отодвинула от себя д о к у м е н т ы Ш а д р и н а и п о д н я л а па него
свои воспаленные глаза.
- Ничем помочь не могу. По о к о н ч а н и и факультета вы б ы л и р а с пределены на хорошее место. А то, что вас уволили — пас это не касается. Нужно было хорошенько работать.
— Но есть же положение, в котором говорится, что в течение тре.,
лет молодой специалист находится в р а с п о р я ж е н и и вашего отдела и что
80
Инспекторша не дала договорить Шадрину.
— Голубчик, я .повторяю вам еще раз,— нужно хорошенько работать, а не летать с места на место. Нужно стараться. Отдел молодых
специалистов свое дело сделал: вас распределили великолепно! Вам
дали работу в Москве. А то, что вы сработались или не сработались
с начальством — это не наше дело.
— Что же мне теперь делать?
— Устраивайтесь, как хотите сами. Диплом у вас на руках.
— Может быть, у вас есть заявки на юристов куда-нибудь на периферию?
— Пока ничего нет.
— Может, мне зайти попозже, через недельку, или через две?
Не знаю, ничего не обещаю... И, скажу вам прямо, молодой че|ловек, что, если даже будут заявки — вряд ли мы сможем направить
;вас на работу.
— Почему?
— А потому... — В голосе инспекторши звучало явное раздраже;ние. — Потому что мы до сих пор еще не обеспечили работой по спекциальности тех, кто закончил ваш факультет в прошлом году. Еще раз
'повторяю, на нас не надейтесь. Устраивайтесь, как вам заблагорас|;судится.
Чтобы отвязаться от назойливого посетителя, Ткач снова набрала
|номер телефона и принялась вслух читать какую-то сводку.
Дмитрий встал, аккуратно завернул в газету документы, в пос1едний раз посмотрел на инспекторшу и подумал: «Не здесь, не в миастерстве тебе нужно сидеть, товарищ Ткач. Тебе бы саблю в руки
13 в кавалерийское седло... Вот бы рубила головы. Или громить саюгонные аппараты в тридцатые годы...»
— Значит, помочь ничем не можете? — спросил Шадрин, но ответак и не дождался. Инспекторша сделала вид, что не расслышала
фоса.
Долго шел Шадрин по тихим, устланным ковровой дорожкой коцорам, пока совершенно случайно не шоднял глаз на дверь, за кото>й работал его товарищ студенческих лет Георгий Зонов. То, что
был ученым секретарем коллегии министерства — Шадрин это узеще в вестибюле, где в особом списке, соблюдая строгую должгную субординацию, стояли фамилии руководящих работников мн1стерства. Инспектора Ткача в этом списке не значилось — слишком
зел>ика фигура, чтобы стоять в одном ряду с министром, его загителями и помощниками...
Уже год Шадрин не видел Зонова, а за год столько воды утекло.
[а и Зонов-то может быть уже не тот простодушный парень с Урала,
5торый в юности -писал стихи и виртуозно играл на мандолине. Чтобы
)браться с мыслями, Дмитрий присел на стул, стоявший рядом с
»ерью кабинета Зонова. Вспомнилось, как однажды они до самого
(совета проходили по гулким коридорам общежития и все спорили
Гегеле. Зонов, в отличие от Шадрина, читал Гегеля в оригинале,
5ятил изучению философии гениального немецкого мыслителя не
т год. Его больше всего раздражало, когда некоторые верхогляды
шли о философии Гегеля не по трудам его, а по тем туманным и не
:гда точным комментариям, которыми пользовались студенты, читая
ще брошюры Общества по распространению политических и научзнаний.
Ероша черные прямые волосы, которые то и дело спадали на лоб.
№ов обеими руками (это была его привычка) поправлял то и дело
дающие с носа очки, словно они были свинцово-тяжелымде, Распа1сь все сильнее и сильнее, он доказывал, что многие наши дипло«Байкал» № 1 .
81
мнрованные, но малограмотные кандидаты от философии по-настоящему-то, подлинного Гегеля, и «не нюхали».
И долго-долго в пустынном коридоре звучал голос Зонова. Только почт,и на рассвете Шадрин сдался, чувствуя, что его знания Гвгеля
но сравнению с тем, что знал Зонов, ничтожно малы. Они расставались.
Дмитрию было стыдно, что Гегеля он изучал по куцым комментариям
н брошюрам.
«Такой ли он сейчас? Не отштамповала ли его на свой образец
министерская машина?..»—думал Шадрин. Затушив папиросу, он бросил окурок в железную урну н неуверенно взялся за ручку черной высокой двери. Оказалось, чтобы пройти к Зонову, нужно было миновать еще одни двери.
— Вы к кому? — спросила секретарша.
— Мне к Зонову.
Секретарша сказала, что Зонов в отпуске и что на работу он выйдет не раньше, чем в десятых числах июля.
Шадрин спустился по винтовой лестнице в вестибюль и из окна
увидел Ольгу. Она нервно ходила взад и вперед по зеленому дворику
министерства и время от времени бросала взгляд на парадную дверь,
откуда с минуты на минуту должен показаться Дмитрий. Шадрин оста-юшпся у широкого окна лестничной площадки и стал наблюдать за
Ольгой.
« К а к а я ты милая! Волнуешься, ждешь...»
Не успел он отойти от окна, как заметил: вертлявой походкой к
ней подошел смуглый франтовато одетый молодой человек с усиками.
Подбоченясь и вихляясь, он что-то говорил ей и оживленно кивал головой. По выражению лица Ольги Дмитрий понял, что кавказец пристает
к ней с разговорами. «Что тебе нужно, генацвали? А если я сейчас
выйду и нарьу тебе, шалопаю, уши?»— зло подумал Дмитрий и тут же
носторженно похвалил в душе Ольгу: «Молодец, курносая! Так его н
нужно!».
Модно одетый юноша, лениво волоча ноги, несколько шагов пропил следом за Ольгой, но поняс, что он не только не произвел на нее
желаемого впечатления, а наоборот, вызвал в ней презрение, г р а н и ч а щее с брезгливостью (это было написано на лице Ольги, когда она ему
что-то ответила), тут же отстал и скрылся в подъезде Архитектурного
института.
Когда Шадрин закрыл за собой тяжелую дверь вестибюля, Ольга
уже стояла па каменных ступенях подъезда.
— Ну как?- бросилась она к нему, не обращая в н и м а н и я на то,
что они здесь не одни.
Кивком головы Д м и т р и и позвал ее за собой и шел молча до тех
пор. пока они не вышли со двора министерства и не свернули на Кузнецкий мост.
— Неужели и здесь то же?..
— Отказали... Причем отка.-.ал» незаконно, оскорбительно. Я на
этом не остановлюсь. Если б ты видела, перед кем я почти навытяжкл
стоял полчаса, чтобы за какие-то п о л м и н у т ы эта особа решила вопрос
моей работы. Таких неприятных особ ты, пожалуй, не видела. Квазп
модо в юбке и с кочергой в руке.
— А ко мне тут приставал один тип. Насилу отвязалась. До чеп
же противный и наглый. Похож на одного из тех, кого мы видели \
ресторана «Арагви».
Дмитрий сделал вид, что его волнует другое.
— Слушай, Оля, а что, если мне придется срочно выехать куда
нибудь на север, или на Дальний Восток? Поедешь?
Ольга с укором посмотрела в глаза Шадрину и тихо ответила:
— Если ты еще хоть раз спросишь меня об этом, то я могу подумать, что до сих пор ты все-таки не знаешь меня! — В голосе ее звучала преданность и верность.
— Больше никогда об этом не спрошу.
— Наоборот, я хочу уехать с тобой в такую глухомань, где в тебя
никто не ткнет пальцем, что ты уволен с работы как несправившийся
со своими обязанностями, что жена твоя в прошлом судима.
Шадрин ничего не ответил. Он только чему-то усмехнулся и тронул Ольгу за руку.
— Пойдем.
— А сейчас куда?
— Есть еще один ход. Последний ход. Но он будет верным. Там
псе поймут.
— Что это? — спросила Ольга.
— ЦК! Только прием в ЦК!.- Буду ждать месяц, два,, полгода, но
дождусь приема... — ответил Шадрин и его губы плотно сомкнулись в
каком-то .мстительном ожесточении.
— Митя, кроме ЦК с тобой еще я.
Дмитрий резко остановился. Ничего сильнее Ольга в эту м и н у т у
сказать не могла. ЦК и Ольга!..
— Ты мне веришь? — взволнованно спросила она.
- Как себе.
Шадрин крепко сжал ее руку. Ольга почти физически ощутила,
как душевные силы Дмитрия вливаются и в нее, наполняя ее несгибаемой твердостью и готовностью идти навстречу любым бедам, любым
бурям. Идти вдвоем, с любимым...
— Ты знаешь, Митя, я тоже, как и ты..
- Что?
— Я чувствую себя сильнее, когда тебе делают больно. Твоя боль
поднимает и будоражит в с а м ы х глубинах моей души какие-то уснувшие силы.
Шадрин посмотрел на Ольгу и с улыбкой сказал:
— Из тебя, малыш, мог бы получиться хороший солдат. По натуре ты — боец. Жаль, что ты не была в моем взводе разведчицей. Я посылал бы тебя на такие дела, что у тебя рябило бы в глазах.
А большая, разноголосая Москва со своей людской суетой и машинной суматохой плыла, как льдины в половодье.
Плыла мимо, куда-то назад...
Ч
IX
[ОСОБОЙ с винтовкой ввел в к о м н а т у арестованного солдата и т у г
же, по .'знаку Богрова, гремя с а п о г а м и , вышел. Переминаясь с ноги на ногу, солдат стоял у порога и простуженно п о к а ш л и в а л , всякий
. раз поднося ко рту к у л а к .
«Нехороший к а ш е л ь » , - п о д у м а л Богров, в с п о м и н а я , ч г о точно так
же кашлял один из его сослуживцев, которого полгода назад с острой
вспышкой туберкулеза п о л о ж и л и и п о т н ы й м н ч п п а л ь , а потом совсем
комиссовали.
— Проходите, садитесь.
Богров внимательно посмотрел п.ч а р г г т н а ш к м о . Мятая, застиранная гимнастерка на нем висела метком
н н д а г ь с чужого плеча. Богров и раньше знал, что, если солдата отдают иод арест по серьезным
• мотивам, то старшины в таких с л у ч а я х не церемонятся: тут же переобмундировывают провинившегося, дают ему что похуже из старья, г
«ной раз и вовсе из того, что уже давно списано.
6*
83.
Кирзовые сапоги на ногах солдата были стоптаны. По заплатам \
дырам на сгибах голенищ можно было судить, что они давно отслужил1
свой срок.
А солдат сидел и время от времени приглушенно и мелко, точнс
украдкой, покашливал.
«Наверно, держат в карцере. А там, известное дело...»
Богров отчетливо представил себе тюремный карцер. Подземелье...
Полтора метра в ширину и два метра в длину. Пол цементный, холодный... В углу стоит вонючая параша. В нише сырой стены вмонтирована и замкнута на замок откидная железная койка, которую надзиратель поздно вечером отмыкает и в шесть утра снова замыкает. Брошенный в карцер провинившийся семнадцать часов в сутки должен
или стоять, или сидеть на холодном цементном полу, температура которого зимой и летом была постоянной, где-то около нуля.
— Давно под арестом?
— Двенадцатые сутки пошли.
— И все в карцере?
— В карцере... —• Голос солдата дрогнул. Казалось, что он вот-вот
разрыдается и бросится перед следователем на колени.
— Простудился? — Богров протянул солдату открытый портсигар. — Курите.
— Спасибо.
Солдат неумело прижег папиросу от папиросы следователя и снова
разразился в надсадном кашле. На глазах его выступили слезы, которые он вытирал грязным кулаком.
— Что, крепкие?
— Нет... просто некурящий я,— глуховато ответил солдат. Папиросу он держал так, словно гадая, что с ней делать: курить дальше
или затушить в пепельнице, которая стояла на столе.
— Зачем же тогда закурил? — простодушно спросил Богров, точно перед ним сидел не подследственный, а младший товарищ.
— Да как-то вроде неловко... Ведь угощаете...
Солдат осторожно положил горящую папиросу в пепельницу и,
глядя на следователя, виновато улыбнулся. Лучше бы он не улыбался. В улыбке его колыхнулась такая тоска, столько в ней было усталости и безнадежности, что Богров невольно отвел от солдата взгляд
и принялся листать уголовное дело.
Теперь Богров уже не смотрел на подследственного, но, тем не
менее, он как бы продолжал видеть его худое истомленное лицо, на
котором проступающие скулы были туго обтянуты бледной кожей,
подернутой сивым болезненным пушком. Такой пушок бывает по веснам у молоденьких поросят, которые с утра до вечера пробавляются
тем, что добудут на оттаявших огородах. Бывает такой пушок и на
лицах истощенных рослых солдат (таких Богров видел в войну, в запасных полках), которые после систематических недоеданий вдруг попадали на кухню и так жадно набрасывались там на еду, что после
наряда дней десять страдали расстройством желудка...
— Фамилия?
— Гаврилов.
— Год рождения?
— Тридцать второй.
— Партийность?
— Комсомолец.
— Образование?
— Среднее.
— Как же вы, гражданин Гаврилов, дошли до такой жизни, что
стали писать эпиграммы на своего вождя?
84
Солдат низко опустил голову и, зябко потирая потными ладонями,
молчал.
— Я спрашиваю, что заставило вас писать стихи, которые носят
явно враждебный характер?
Солдат поднес ко рту кулак, глухо откашлялся и, по-прежнему не
поднимая головы, ответил:
— Я уже рассказывал об этом, гражданин следователь. Там у вас
все записано.
Богров был знаком с делом по обвинению Гаврилова, но таков уж
церемониал уголовного процесса: сколько допросов, столько и записей
протоколов.
^ . — Расскажите кратко историю с отцом. Когда это было, при каких обстоятельствах...
— Это было в сорок втором году. — Словно что-то припоминая,
солдат прищурился.
— Где он служил?
— На Дальнем Востоке, в береговой обороне.
— А потом? — Богров пристально вглядывался в лицо солдата,
а сам думал: «Эх, ты, садовая голова!.. Что ты наделал?! Ведь тебе
всего-то двадцать лет, а ты уже сам себе подписал приговор».
— В конце сорок второго года отца взяли на фронт. Их часть
перебрасывали. Мы с матерью тогда жили в Красноярске. Там родина
матери и отца. Там родился и я.
Солдат смолк. Он о чем-то думал и глухо покашливал.
— Итак, отца везли на фронт,— тихо произнес Богров.
Солдат, словно автоматически — ему об этом приходилось рассказывать не раз — привычно продолжал:
— В Красноярске эшелон остановился, думали, что простоит часов пять-шесть. Должна быть баня. — Глядя себе под ноги, Гаврилов
неожиданно умолк. Но, чувствуя на себе взгляд следователя и его
немой вопрос: «А дальше?» продолжал рассказ: — От станции до нашего дома ходьбы не больше пятнадцати минут. Ну вот, отец и решил... — Гаврилов снова умолк, словно не решаясь говорить о том, что
было дальше.
— Что решил?
— Забежать домой, повидаться. Думал, что никто не заметит в
суматохе. Считал, что пока очередь дойдет до его вагона, он успеет
нобывать дома. Ушел без разрешения командира, никому ничего не
сказал.
А Богров думал: «Не повезло твоему отцу, Гаврилов, не повезло.
Это было как раз в те дни, когда по всем подразделениям армии и
флота был зачитан приказ Сталина о суровых наказаниях за дезертирство и самовольные отлучки. В это время военный трибунал иногда
действовал по принципу: «Бей своих, чтоб чужие боялись».
— Ну и как же, повидались?
Теперь Богрову было уже жалко Гаврилова.
— Повидались. Отец был дома минут десять. Потом мы все трос-:
отец, мать и я побежали на станцию. — Гаврилов вздохнул, дойдя до
самого печального места в своем рассказе. — Когда прибежали, эшс
лона уже не было. Оказывается, баню отменили. Отец отстал от своих
— Разумеется, он тут же заявил об этом военному коменданту,
как видно из дела?
_— Да. заявил... И, наверно, зря заявил. Можно было бы д о г н а н ,
свой эшелон на пассажирском. Он только что отошел. А отец не р.пился, думал, что все можно сделать по добру, по совести.
— Когда его судили?
— На второй день, там же в Красноярске. Судили как дгчсрпцы
военным трибуналом... Приговорили к смертной казни...
М
— Приговор приведен в исполнение?
— Формально — нет, а фактически — да.
— Что вы имеете в виду под формальным и фактическим?
— Формально смертную казнь заменили штрафной ротой.
—г А фактически?
— Штрафная рота — это почти то же, что и смертная казнь. Не
мне вам об этом говорить, гражданин следователь.
— Где погиб ваш отец?
— В штрафной роте, пол Оршей. Несколько человек их бросили
почти безоружными на немецкие танки. У каждого по винтовке и по
две гранаты.
— Когда о приговоре военного трибунала узнали вы?
Брови солдата озабоченно сошлись у переносицы. Было видно, что
нелегко сыну вспоминать позорную смерть отца.
Сразу же после трибунала в военкомат пришло извещение. Об
этом сообщили в депо, где отец работал до войны.
— Кем он работал?
- Кочегаром на паровозе.
Богров заметил, как на лице солдата промелькнуло что-то решительное, непреклонное. Л через минуту он, словно улитка, ушел в себя,
затаился, стал меньше.
- Как на вас отразилась эта беда? В школе об этом узнали?
•— Да. Меня с тех пор па улице и в школе все стали звать предателем. С этой кличкой я ушел в армию.
Богров полистал дело Гаврилова и остановился на странице, где
были подшиты стихи подследственного.
- Это ваши стихи?
— Мои,— твердо ответил солдат.
— Написаны вашей рукой?
- Да...
Богров пробежал г л а з а м и неровные строчки, написанные химическим карандашом на тетрадном листке в клетку.
— Вы кому-нибудь читали эти стихи?
- Нет.
— Как же они попали комсоргу полка?
— Их выкрал из моего чемодана сосед по конке.
- Кто?
- Ефрейтор Мигачеп.
Богров записывал в протоколе вопросы и ответы подследственного, а сам думал: «Подлецу, вору, что взломал замок и залез в чемо
дан, непременно за бдительность объявят благодарность. Дадут даже
внеочередное увольнение » город. Л вот тебе, солдат Гаврилов, за то.
что ты талантлив, за то, что тебе не повезло с самого детства, придется еще несколько суток проваляться па холодном цементном полу и
карцере. А потом, больного и изнуренного, тебя посадят перед судом
поенного трибунала и будут допрашивать как государственного прс
ступника, как изменника Родины. Тем более, с твоей биографией. .
твоим отцом, добра ждать нечего..»
С
ТРУМИЛИН не находил себе места. Острые боли в пояснице
ненными прострелами пульсировали по левой ноге и замирали \
щиколотки. Вспыхнула старая фронтовая болезнь — левосторонняишалгия. Первый раз она уложила его на нары весной сорок четверти
го года, в топких болотах немецкого концлагеря. Тогда он был еш86
молод, и болезнь прошла сама собой. Вернее, не прошла, а надолго
"тихла. Теперь ему уже тридцать четыре, возраст далеко не юношеский.
И вот снова...
*
Опираясь на палку, Струмилин с трудом доходил от кровати до
стола; превозмогая боль, через силу добирался по полутемному корилору до ванны. Припадая на больную ногу, он приглушенно стонал,
когда боль раскаленной стрелой прожигала бедро.
Но больше всего его мучила другая боль, не телесная... Он видел,
как Лиля увядала. Увядала с каждым днем. Она заметно подурнела,
ходила у д р у ч е н н а я , с видом, словно что-то где-то потеряла и не может
вспомнить — что и где. К Тане она стала относиться заметно холоднее.
Девочка уже не бегала за мачехой так, как это было два месяца назад, когда Лиля перешла к Струмилину. Тогда, в первые дни супружеской жизни, Лиля каждую свободную минуту что-нибудь делала по
хозяйству: стирала с мебели пыль, мыла посуду, штопала мужу носки,
гладила детское белье. Причем делала она все это с какой-то необыкновенной легкостью и душевным подъемом, который цвел на лице ее
лучистой улыбкой.
А теперь словно что-то надломилось в пей. А что надломилось, видел только один Струмилин. И это его больше всего сокрушало. Он
видел, что в Лиле надломилось то самое главное, что движет волей
человека, что руководит его поступками. Все реже и реже она смотрела в глаза Струмилину, словно чувствуя перед ним какую-то вину. А
неделю назад, за обедом, видя угнетенное состояние Лили, которая
как больная, через силу разливала по тарелкам борщ, Струмилин спросил ее:
— Что с гобой, Лиля? Ты не больна?
— Нет, я здорова. Но я не знаю, что происходит со мной. У меня
^как-то тяжело на сердце. Мучает какое-то недоброе предчувствие.
— Лиля, ты устала со мной. Я это вижу. Эта жизнь не по тебе.
Но, знай — ты всегда свободна. Вот поэтому-то я и настаивал всегда
на том, чтобы не регистрировать наш брак.
— Как тебе не стыдно об этом думать!.. — Лиля бросила на стол
^.половник и, уткнувшись лицом в фартук, з а п л а к а л а . — Мне и так тяркело, а ты еще добиваешь своим великодушием. Лучше бы побил
§.меня, или повел в ЗАГС. Чтобы уж было все, как у людей. Я боюсь..
ьТы понимаешь, боюсь, что у меня не хватит сил... — Лиля говорила
[что-то
еще, но Струмилин ее не понял — слова утонули в приступе ры;
; Ланий.
Струмилин, так и не прикоснувшись к еде, встал и, опираясь на
(палку, с трудом разогнул спину, распрямился в полный рост. Потом
[прошел к окну и, прислонившись лопатками к стене, застыл на месте,
' к а к человек, поставленный на расстрел.
— Еще раз говорю тебе, Лиля: ты всегда свободна. Я не хочу
^делать из твоей жизни пытку. Мне не нужно никаких жертв.
Обед прошел молча, как поминки. Это было неделю назад. Все последующие дни в семье назревала обоюдная, никем не высказанная
>ида, которая все больше и больше отчуждала друг от друга Лилю и
Зтрумилнна. А последние два дня болезнь окончательно свалила СтруЬмилина в постель. Утром он уже не мог вставать. Напрягаясь и выбиЬ»ая наиболее безболезненное положение, ои пытался опереться локрями, чтобы подняться, но ж г у ч а я боль снова и снова валила его в поЛили спала с Таней на диване и не слышала, как муж уже давно
кочет встать и не может.
— Лиля, Лиля... — тихо позвал ее Струмилин.
Лиля открыла глаза.
87
— Помоги подняться.
Лилк подошла к Струмилину и, обняв его за шею, пыталась поднять худое мускулистое тело. Удалось ей это с трудом. Тяжело было
смотреть на страдальческое лицо мужа, которое говорило, что боль была невыносимой.
— Почему ты не лечишься? Ведь мучаешься уже вторую неделю и
до сих пор не вызвал врача.
— Я сам врач. И знаю, что скоро все это пройдет без всяких порошков. Вот начну потихоньку вставать — буду ходить на физио-терапию. А сейчас, пока не кончилась острая вспышка, нужно спокойно
полежать. — Раскачиваясь, Струмилин медленно,с трудом встал с постели и, опираясь на палку, сделал шаг к столу.
— Я пододвину стол ближе к кровати. — В глазах Лили светилась
жалость. И только жалость. — Зачем ты мучаешь себя? Ведь тебе
больно двигаться.
— Еще больней мне не двигаться,—• сдержанно ответил Струмилин и, как на ящик с гранатами, сел в кресло. — Если можно, то подай
мне чай на письменный стол. Сегодня я буду целый день работать.
— Что ты будешь делать?
— Писать.
— Опять все то же? Это же истязание. Всю неделю ты круглыми
ночами все пишешь и пишешь. Ты же болен, тебе нужно лежать.
Струмилин улыбнулся, но улыбка вышла скорбная, горькая.
— Готовлю себе эпитафию.
Еще ни разу в жизни Лиля не стирала белье. Когда жила у деда,
эта черновая работа всегда выполнялась домработницей и няней. А
теперь ей самой пришлось столкнуться с этой грязной, изнурительной
работой. Прачка, которая стирала им, три дня назад уехала в деревню, поэтому Лиля, навязав большой узел, отправилась в прачечную.
Через полчаса она вернулась чуть ли не со слезами на глазах — в прачечной не было свободных номерков. Лиля попросила у соседки корыто
и принялась за стирку сама. В кухне не было свободного места, поэтому стирать пришлось в комнате.
Лежа в кровати, Струмилин наблюдал за ее неумелыми движениями и казнился. Если б не болезнь, он сам все это сделал бы быстрее
и лучше. Белокипенные хлопья мыльной пены летели из корыта во все
стороны, липли к ее щекам и, лопаясь мелкими пузырьками, бесследно
таяли. Капельки пота, стекая с висков Лили, сплывались с солеными
слезами и падали с влажного подбородка. Струмилин смотрел на Лилю, и готов был в эту минуту целовать ее мыльные руки. Он видел, как
она стирала его пропитанную потом нижнюю рубашку.
...Не разгибая спины, Лиля почти до вечера трудилась над корытом, пока не была выстирана последняя простыня. С грудой горячего
белья она пошла в ванную комнату, где жильцы обычно полоскали
белье. Вернулась только через час. Но вернулась усталая, безмятежно
счастливая. Подошла к Струмилину и, обняв его распаренной влажной
рукой, от которой пахло хозяйственным мылом, притянула к себе.
— Как гора с плеч.
— Развесила белье?
— Развесила. Тетя Паша помогла. Она добрая. Другие ехидно посматривают и ухмыляются, а эта видит, что у меня плохо получается
сама подошла и начала со мной развешивать.
Струмилин поднес к губам теплые влажные руки Лили.
— Ты у меня хозяйка.
Лиля устало улыбнулась.
— Вот только спина болит, а так ничего. Это, наверно, оттого, что
с непривычки. А так я даже ни капельки не устала.
88
— Тебе не нужно привыкать. Вот найдем новую прачку и ты не
будешь гнуться над корытом. — Струмилин хотел обнять Лилю, но в
это время кто-то постучал в дверь. Соседка тетя Паша позвала Л и л ю
к телефону. Лиля вышла.
А через минуту, радостно хлопая в ладоши, она ворвалась в комнату и, не в силах сдерживать восторга, кинулась на шею Струмилину.
Тот от неловкого движения, которое причинило ему боль, сдержанно
застонал.
— Что случилось?
— Вот не ожидала!..
Оказывается, звонила Светлана Богрова, подруга школьных лет.
Четыре года назад Светлана вышла замуж за своего же преподавателя
в институте иностранных языков и, не закончив третьего курса, уехала
с ним во Францию. Муж Светланы был лет на двадцать старше ее.
Когда они шли вместе, некоторые прохожие оглядывались. Часто в
этих взглядах Светлана читала вопрос: «Неужели это отец и дочь? Она
такая красивая, а он страшен...»
Лиля быстро собралась. Она даже забыла налить горячей воды в
грелку, которую полчаса назад попросил у нее Струмилин.
Прихорашиваясь перед зеркалом, Лиля просила:
— Коля, ты только не сердись на меня. Это моя лучшая школьная
подруга, сидели на одной парте. Я совсем ненадолго. Ведь это надо
же! Целых три года не виделись и вдруг — звонок!
Струмилин хотел напомнить о грелке, но раздумал. К сердцу
подкатилась щемящая волна обиды. «Загадаю: если вспомнит сама,
значит любит. Если не вспомнит — значит...» Дальше мысль была оборвана внутренним окриком воли: «Ерунда!.. Гадаешь, как старая дева!
Нервы, нервы у тебя шалят, Струмилин. Лиля ни в чем не виновата.
Она и так с тобой закружилась. Нужна же ей хоть маленькая отдушина...»
— Ну, я готова! — Лиля стояла перед Струмилиным и, как доверчивый ребенок, ждала, чтоб ее похвалили. — Что же ты молчишь? Не
нравлюсь?
— Нравишься...Очень нравишься! — ответил Струмилин и, превозмогая боль, старался улыбаться.
Лиля поцеловала Струмилина, поправила одеяло на спящей Тане
и уже в самых дверях резко обернулась. Шепотом, чтоб не разбудить
девочку, проговорила:
— Я скоро вернусь.
На старой деревянной лестнице, полутемной и грязной, пахло кош
ками, нечистотами. Лиля всегда старалась не дышать, когда поднималась на второй этаж. Сейчас же эти застоявшиеся запахи подъезда старого разваливающегося дома ударили в ноздри с какой-то особой
удушливой силой. Она почти сбежала по ступеням и выскочила на улицу. Мимо проходило такси. Лиля подняла руку. Шофер так круто остановился, что металлический визг тормозных колодок испугал старушку,
идущую по тротуару. Бедняга даже шарахнулась в сторону.
— Садово-Кудринская,-- сказала Лиля и посмотрелась в крошечное зеркальце.
С тех пор, как Лиля перешла к Струмилину, в такси она села впервые. До замужества этот вид столичного транспорта для нее был самым излюбленным и доступным. Дед не жалел для внучки денег, баловал ее. А когда Лиля ушла из дома, то все хотела себя приучить к
самому рядовому образу жизни, который издавна сложился в семье
Струмилиных. Первое время ей казалось, что, возвращаясь с работы
на автобусе, она совершает подвиг. Когда ее тискали со всех сторон
сумками и локтями, когда кто-то наступал ей на ноги и хрипловатый
89
тлос кондукторши уже в десятый раз надрывно звучал над ухом:
«Граждане, платите за проезд»... — Лиля твердила про себя: «Вот и не
сдамся! Вот и буду ездить как все1.. Я не слабее их!.. Как все, так и я».
Повиснув на пластмассовом кольце, в душе она посылала тысячи
проклятий по адресу тех, кто разъезжает на м а ш и н а х и не знает, как
нелегко простому рабочему человеку.
И вот теперь Лиля снова в такси.
Она опустила боковое стекло дверки, и в кабину упруго хлынула
свежая п р о х л а д н а я струя. Вдохнула полной грудью, жадно, облегченно.
Москва готовилась к празднованию Дня авиации. На заборах всюду
пестрели плакаты с самолетами и авиаторами в шлемах... Садовое
кольцо прихорашивалось. Перед площадью Маяковского, у Каляевской,
машина встала под красным светофором. Рядом, справа, стоял автобус,
до отказа набитый пассажирами. Люди в нем стояли молча, с напряженными, усталыми лицами. Ни на одном из них Лиля не увидела даже подобия улыбки. При виде этого скопища сжатых тел. она почувствовала, что ей вдруг стало душно. И тут же подумала: «Многие из
них не знают, что такое такси, что такое легковой автомобиль. Некочорые может быть даже больны. Как им сейчас трудно в этом душном
жарком месиве».
Внимание Лили привлек старик, который, очевидно, только что
вошел в автобус, и ему некуда было сесть. Он. наверное, страдал бронхиальной астмой, так как дышал мелко и часто, подергивая вниз и
[зверх головой, в такт каждому вдоху и выдоху. Встретившись взглядом с его бесцветными слезящимися глазами, обрамленными воспаленными веками, Лиля отвернулась/Она не могла больше видеть лица
старика.
Оставшийся путь Л и л я сидела неподвижно, уткнувшись подбородком в грудь.
— Вам какой номер дома по Садово-Кудринской? — спросил
шофер.
Только теперь Лиля вспомнила, что она едет к подруге, с которой
пе виделась три года. Огляделась по сторонам.
— Мы уже доехали. Вот этот дом, с гранитным цоколем. — Она
взглядом указала на восьмиэтажный дом, у тяжелых чугунных ворот
которого неторопливо, вразвалку, прохаживался милиционер.
Свою школьную подругу Светлана встретила бурно. Кинулась ей
ла шею и целовала так, что на щеках Лили осталось множество крас
кых пятен губной помады.
— Лилечка!.. Да ты по-прежнему раскрасавица!.. Ты настоящая
парижанка!.. Во Франции с твоей фигурой и твоей физиономией можно
голучить первую премию на конкурсе красоты!
Светлана не давала Л иле сказать слова. Сама сняла с нее легки!!
плащик, крутила, вертела, снова и снова п р и н и м а л а с ь целовать, тормошить и восторгаться...
— Мы только вчера из П а р и ж а ! А сегодня я вижу тебя. Это так
здорово, так здорово!.. Я никого еще не видела из московских друзей.
Первой позвонила тебе! Ты это ценишь? Да садись же ты, садись!.
Что ты на меня уставилась, как на Эйфелеву башню? У нас сегодня
такой беспорядок, что голову можно сломать. А впрочем, впрочем подожди!..— Светлана щелкнула пальцем, вскидывая руку. — Давай эту
встречу отметим по бордосским обычаям! Бордо — это мой любимьп:
город Франции! Там у меня много друзей! Я на одну минуту, Лилечка.
Светлана застегнула пояс своего модного французского халата и
\ ж е в самых дверях проговорила:
— На журнальном столике новинки Парижа.
90
Оставшись одна в просторной комнате, увешанной коврами и заставленной новой полированной мебелью, Лиля огляделась. Все в отдельности было богато, ново, даже броско. Но взятое вместе напоминало склад дорогой разностильной мебели. На черной китайской
скатерти с изображением золотых разъяренных драконов вразброс лежала стопка французских журналов мод и была рассыпана колода американских игральных карт с рисунками витринных красавиц на обороте. На немецкой пишущей машинке фирмы «Рейнметалл» дремал плюшевый тигренок, каких Лиля нередко видела за спинками заднего
сиденья дипломатических машин у гостиницы «Националь» и «Метрополь». Тахта была покрыта длинным персидским ковром, спускающимся со стены. Перед тахтой, на полу, лежала пятнистая шкура леопарда, уставившегося своими безжизненными стеклянными глазами на
черный концертный рояль.
«Зачем эта шкура в гостиной?» — подумала Лиля и перевела
взгляд на стены, где висело несколько репродукций картин. Никак не
вязалась шишкинская «Корабельная роща» с этюдами Пикассо и картинами французских модернистов. «Какая окрошка,— подумала Лиля.
— Это, пожалуй, потому, что квартирой никто по-настоящему не занимался. Светлана теперь наведет порядок». Полки серванта были до
нерху заставлены чешским хрусталем и китайским фарфором. Мягкие
светлые стулья, никак не вязавшиеся ни с темным румынским сервантом, ни с зеленоватыми китайскими гардинами, стояли в беспорядке.
Вскоре в гостиную вернулась Светлана. На ней была зауженнау
книзу короткая юбка и трехцветный (цвет французского флага) мохнатый свитер. «Как все недорого, просто и вместе с тем выдержан
юн...»—успела заметить Лиля, рассматривая на ногах Светланы туфли
га тоненьком высоком каблуке.
— Шпилька! — сказала Светлана, поймав взгляд Лили. — Сейчас
и Париже они в моде. В Москве их я пока не видела.
В руках у Светланы была большая бутылка вина с красивой этикеткой. Штопор она достала из серванта.
— Выпьем за нашу встречу!.. Помнишь, какой я была паинькой на
пашем выпускном школьном вечере? Боялась выпить даже рюмку кагора.
— А сейчас? — сдержанно спросила Лиля.
Она никак не могла побороть в себе ту неловкость, которая овладела ею, когда она переступила порог квартиры и сразу же почувствовала какой-то особый, слегка вульгарный налет на развязном поведении Светланы. Во всем: в манере говорить, двигаться, подносить к папироске спичку — проскальзывало что-то чужое, наигранное, неестестпенное. «Боже мой, неужели такой ее сделали эти три последние года
во Франции?» — подумала Лиля.
— А сейчас? Сейчас я многое н а у ч и л а с ь понимать. Многое повидала и... — Светлана посмотрела на Лилю и вздохнула. — Знаешь что,
Лиля, давай оставим згу философию на поздние времена. Сейчас просто выпьем за нашу встречу.
Она налила в бокал Лили вина и, поднесла к г л а з а м бутылку, посмотрела через нее на солнце.
— Два солнца! Одно па небе, другое — в этом бордо! Так любил
говорить один мой хороший ф р а н ц у з с к и й друг.
Она чокнулась с Лилей. Пила медленно, смакуя.
— Великолепно! Зя одно это вино можно быть патриотом Франции!
Выпила и Лиля. Вино ей понравилось. Не заставила она себя уговаривать и после того, когда Светлана провозгласила второй тост: «За
дружбу».
91
Лиля почувствовала, что пьянеет. Попросила сигарету. Два месяца
прошло с тех пор, как она выкурила последнюю папиросу. В голове
кружилось. Она присела на тахту и поставила на журнальный столик
хрустальную пепельницу.
— Света, я совсем пьяна! — сказала она, зажимая в ладонях пылающие щеки. — Меня, наверное, кто-то ругает.
Светлана подставила под спину подруги атласную подушку и,
сбросив туфли, с ногами забралась на тахту рядом с Лилей.
— Ну, теперь рассказывай. Рассказывай все, что было у тебя за
эти три года. Ведь ни одного письма, ни одной весточки, с ума можно
сойти!
Лиля молча смотрела на сизый дымок от сигареты и не знала, с
чего начинать разговор. Как ей рассказать о том, что в жизни ее случилось так много перемен. Казалось: все, о чем еще дорогой хотелось
ей поделиться со Светланой, все то, о чем она могла сказать только
подруге — вдруг улетучилось из головы. Сизый дымок от сигареты тонкой спиралью вился на фоне огненно-пятнистой шкуры леопарда. Лиля
вздохнула, и устало посмотрела на Светлану.
— Что тебе рассказать? Даже не знаю...
— Замужем?
- Да.
— Молодец! Давно?
— Два месяца.
— Кто он?
— Хороший человек.
— Допустим. Но все это — эмоции. Меня интересует его положение.
— Он врач. Рядовой врач больницы.
Светлана сделала глубокую затяжку сигаретой.
— Однако ты не хватаешь звезд с неба. А впрочем... Ты не сердись, я пошутила. Сколько ему лет? Хорош он?
— Он старше меня на восемь лет. Недавно у него умерла жена...
Осталась четырехлетняя дочка... Он инвалид Отечественной войны...
Светлана не дала договорить Лиле.
— Кошмар!.. Какой кошмар!.. И это ты, Лилька!.. Ты, за которой
ухаживали такие кавалеры!.. Ты только вспомни — не было отбоя! И
вдруг!.. — Светлана брезгливо выплюнула попавшие в рот табачинки,
встала с тахты и принялась босиком расхаживать по комнате. — Ты
прости меня, Лилька, может быть, я резка и неправа, но у меня не укладывается в голове! Инвалид, вдовец, с дочкой... Нич-чего не понимаю'
Или это подвиг, или величайшая глупость!
Лиля жадно курила. Только теперь она вспомнила, что Струмилин
просил у нее грелку, а она забыла налить ее горячей водой.
— Светлана, не нужно. Все это мне тяжело слышать. А потом уже
поздно. Все решено и решено на всю жизнь.
Светлана звонко рассмеялась.
— А сейчас ты скажешь: «Люблю и никого другого не желаю».
Губы Лили свело точно судорогой. Она с расстановкой, резко
проговорила:
— Да, я люблю его! И никто другой мне не нужен. Тебе это не понять. Ведь ты... Я все знаю, Светлана. Я знаю, как ты ушла от Олега,
хоть и любила его. Знаю, почему ушла. А я... Я этого не сделала бы.
потому что...
Снова нехороший нервный смех Светланы оборвал Лилю на полуслове.
— Ты это сделаешь! И сделаешь очень скоро. Я знаю тебя, Лилька. Я знаю и другое.
92
— Что ты знаешь?
— Я знаю, как ты воспитана, на каких сдобах замешана. Сейчас
ты этот крест несешь во имя любви, а потом поймешь, что никому это
не нужно, никто этот подвиг не оценит. Просто запаршивеешь между
корытом и кухней — и все!
Лицо Светланы вдруг стало злым, отчужденно-недобрым, заострившимся.
— Ты упрекнула меня за то, что я ушла от Олега, ушла к человеку, которого не любила и не люблю? Да, я не скрываю, что большой
любви к мужу у меня в начале не было. Было просто уважение. А этого
для здоровой семьи достаточно. Зато я познала, что такое красота
жизни, что такое свобода! А Олег?.. Что такое Олег? Бедный мальчик,
первый ученик в классе, который писал трогательные стихи, а потом
был способным студентом... Все это красиво в романах, а в жизни на
эту романтику нейлоновую шубу не купишь. — Светлана села в кресло и, положив руки на подлокотники, печально и соболезнующе смотрела на свою подругу. — Ты знаешь, Лиля, иногда мне становится страшно. Я не узнаю себя. Я стала такой циничной, что мне бывает стыдно
за себя. Но не думай, что это влияние буржуазной Франции. Я убеждена только в одном: если породистую собаку, избалованную нежным
рационом, которому может позавидовать даже бедный человек... Собаку, которая жила вместе с хозяином в квартире и спала на мягкой подстилке в теплой гостиной... Если эту собаку среди зимы выгнать на
двор, или привязать на цепь и по утрам бросать ей остатки со стола —
она взбесится или сдохнет.
Картинно разминая сигарету в тонких выхоленных пальцах, Светлана задумчиво продолжала:
— Ты думаешь это сравнение родилось в одну секунду? Нет, милая, оно пришло не сразу, а после долгих бессонных ночей, когда я тоже хотела уйти от мужа к одному красавцу сержанту. Он охранял наше посольство в Париже.' Видишь, я и разболталась.
Светлана встала с кресла, наполнила бокалы, один поднесла Лиле.
— Все равно нехорошо. Выпьем.
Лиля смотрела на прозрачное вино в бокале, потом тихо, словно
боясь, что от того, что она будет громко говорить, может расплескаться вино, еле слышно сказала:
— Ты сравнила меня с избалованной породистой собакой, которую хозяин выгнал зимой на двор?
Светлана хотела развить свою мысль дальше, но Лиля замахала
руками.
— Нет, нет, постой, постой... Избалованная собака!.. Прогнали
из дома...—-И она гордо, вызывающе вскинула голову. — Ты не права.
Светлана, меня никто не прогонял! Я ушла сама. Этот крест я несу
честно и без сожаления. Я люблю его.
Светлана отпила вино и затянулась сигаретой.
— Тем легче для собаки, если она сама, добровольно решила испытать, что такое жизнь дворняжки. Но запомни, дорогая, как только
эта собака хватит горячего до слез, так сразу же прибежит к старому
хозяину. Да еще как будет вилять хвостом! Эх, Лиля, Лиля... я всетаки старше тебя на два года. И это дает мне право кое-что тебе подсказать.
Светлана положила свою тонкую руку па плечо Лили.
Ну, ладно, не вешай носа! До всего этого ты еще дойдешь сама.
А сейчас пойдем, я покажу тебе кое-какие тряпицы, которые я привезла.
— Нет, я не могу больше задерживаться, мне уже пора.-- и Лиля
снова вспомнила, что забыла налить горячей воды в грелку. Она виде-
ла теперь лицо Струмилина, слышала его сдержанные стоны. — Николай Сергеевич болен, его нельзя оставлять одного.
Глаза Светланы удивленно округлились.
— Как?! Ты устояла перед соблазном посмотреть, что я привезла
из Франции?
— Это потом, Света. Я пойду. Я приеду к тебе как-нибудь специ
ально и посмотрю все твои наряды. Ты извини, пожалуйста.
— Тогда подожди минутку. Я привезла тебе одну великолепную
штуку. — Светлана кокетливо улыбнулась и вышла из гостиной.
«Она пьет. И пьет, наверное, систематически. Как дрожат у нее
пальцы. Скорей домой! Грелка... Что он теперь подумает!..» — сокрушалась Лиля.
Она прошла в коридор. Пожилая домработница, обливаясь обильным потом, натирала паркет. Лиля надела шляпу и вернулась в гостиную, чтобы проститься со Светланой, которая в эту минуту вышла из
соседней комнаты.
— Ну как, нравится? — в руках Светланы невесомо взвилось вечернее платье. — Последний крик моды. Тебе оно будет к лицу. — Но
тут же, заметив обломанные ногти Лили, скорчила такую физиономию,
будто перед глазами ее только что зарезали человека. — Лиля!.. Это же
ужас!.. Ужас!.. На что это походит! Я тебя не узнаю! Ты скоро так запар
шивеешь, что тебя стыдно будет представить порядочному кавалеру.
С этими словами Светлана н а к и н у л а на плечи Лили платье и вылила в свой бокал остатки вина.
— Удивительное вино!.. Оно из глупца делает гения. Бордо!.. Чудесный город! Солнечное вино!.. — Светлана поднесла к губам бокал,
но тут же резко отстранила его, словно вспомнив что-то очень важное.
— Да, я совсем забыла. Завтра вечером у нас будет Растиславскин.
Это очаровательный м у ж ч и н а . Знойный, как Африка, и недоступный
как Антарктида. Хочешь, познакомлю? Уверяю тебя — ты влюбишься.
Не человек, а Везувий.
— Нет, нет, спасибо, мне сейчас не до знакомств. И потом, все
это лишнее, Светлана. Я замужем.
Пьяная улыбка пробежала по лицу Светланы.
— В перспективе у него головокружительная к а р ь е р а ! Первый секретарь посольства! Изящен, как гранд, и силен, как тигр. Хочешь, познакомлю? Он сейчас в отпуске. А то, смотри, пожалеешь. Через две
недели он улетает в Сочи, а через два месяца — снова в Париж.
— Спасибо, ничего не нужно. До с в и д а н и я . Света, я позвоню тебе,
как только будет время.
Лиля попрощалась и вышла от Светланы. С пятого этажа она спускалась медленно. Разрозненными к л о ч к а м и в голове всплывали самые
неожиданные картины: то она видела печальные глаза больного Струмилина, то астматическое лицо незнакомого старика, которого она два
1
часа назад заметила через стекло автобуса, то в глазах ее вставал; ,
модная, чуть пополневшая Светлана с красивыми выхоленными пальцами и тугими ногами, обтянутыми узкой юбкой. «А потом, почему он;;
сделала такое сравнение? Почему п р и ш л а ей на ум такая обидная
аналогия? А впрочем, она и в школе никогда не считалась глупой девочкой. Но откуда у нее эта в у л ь г а р н а я п а р и ж с к а я философия? Ведь
если все ее слова записать и дать прочитать социологу и вообще здри
«смыслящему человеку — он ахнет от возмущения. Зачем она хочег
познакомить меня с этим блестящим дипломатом? Неужели она думает, что я могу изменить Николаю Сергеевичу?
Лиля вышла на улицу. Был уже вечер. Рабочий день в Москве закончился, и для транспорта наступал час пик. Она остановила такси,
но тут же вспомнила, что в к а р м а н е у нее осталось два рубля. Сму
94
шейная, она извинилась перед шофером и тихо направилась к троллейбусной остановке. Очередь. Ждать пришлось недолго. Цепляясь за
дверки, сели только трое молодых парней. Пропустила еще два набитых до отказа троллейбуса и только в четвертый с трудом вошла. Сразу же очутилась стиснутой между чьими-то сильными плечами, кто-то
Сольно упирался локтем в ее спину. От кого-то тошнотворно несло водочным перегаром и чесноком.
Домой Лиля добралась совсем обессиленная.
Первое, что бросилось в глаза, когда она переступила порог компаты, была холодная грелка на подоконнике. Таня сидела на конке
рядом с отцом и рассматривала картинки в детской книжке. Увидев
Лилю, она спрыгнула на пол и кинулась к ней навстречу.
Гостинцев на этот раз Лиля не принесла. Забыла.
— Денежек нет, Танечка.— Лиля с детской наивностью развела
руками. — Пошла и забыла захватить денежки.
Лицо Тани стало грустным. Губы ее обиженно оттопырились.
Весь этот вечер Лиля двигалась и говорила как-то автоматически,
точно в полусне. Словно чувствуя за собой какую-то вину, она боялась
встретиться взглядом со Струмилиным. Молча налила горячей воды
н грелку и поднесла к кровати,
— Прости меня, Коля. Я совсем забыла тогда...
Струмилин взял грелку и поблагодарил Лилю. Она хотела помочь
ему изменить положение, но он мягким жестом отстранил ее.
— Я сам.
После просторной и богатой квартиры Светланы неуютная бедная
комната Струмилина Л иле показалась нищенской, запущенной. В старом, рассохшемся буфете, который к Струмилину по наследству перешел от бабушки, стояла груда дешевой глиняной посуды. Между разнокалиберными стеклянными р ю м к а м и и бокалами вразброс лежали
г.илки и ножи из нержавеющей стали. Тут же, рядом с чашками, стояли пузырьки с какими-то микстурами и коробочки с порошками. Диван,
на котором спала Лиля, выпирал округлыми п р у ж и н а м и и уже давно
ждал ремонта.
— Как подруга?— спросил Струмилин. глядя на озабоченное лицо
Лили.
— Спасибо. Встретила хорошо. Только что из Парижа. Привезла
мне хороший подарок. Посидели, поболтали. Что тебе сделать на у ж и н ?
— Буду есть все, что подашь.
Струмилин улыбнулся. Но Лиля уже знала, что так улыбается он
лишь тогда, когда у него бывает особенно тоскливо на душе.
(Продолжение следует)
Н91ЫИ
Дольен МАДАСОН
Лунные краски
Над Куоркой —
горой моей юности
диск прозрачной осенней луны.
В небе выписан красками лунности
силуэт одинокой сосны.
Ты не веришь в луны художество,
непонятный смешной человек.
В крае нашем диковин множество.
что в другом не найдешь и во век.
Коль не верится,
в ночь на пригорке
скарауль живописца — луну.
И увидишь —
она над Куоркой
тонкой кистью рисует сосну.
У реки Осы
Склонившись над омутом темным,
в синеющей звездной тиши,
заводят и нежно и томно
спокойный напев камыши.
В глубокой чарующей стыки
проплыли легко, не спеша
грудастые окуни
в тине,
касаясь стеблей камыша.
А щука поживу смекает,
разинув зубастую пасть.
И тень ее рядом мелькает.
Скрывайся, елец и карась!
Поодаль реки мелководье.
А там, где гольцов паруса,
на каменных выступах вольно
и скачет,
и пляшет Оса.
В Шунте
Аполлону
По дну долины узкой
петляет речка Ида.
Ьерсзы на пригорке
листвою шелестят.
Густой ковер зеленый,
и в нем девчат не видно,
лишь песни их над речкой
тадумчипо звенят.
96
ТОРОЕВУ
Шунта — улус наш старый,
где ты родился, вырос.
Где в каждом доме славен
улигерши-поэт.
Где с детства ты сдружился
с золотострунной лирой,
И сам я не бесцельно
провел немало лет.
Мой дядя
Дядя у кедра нарост отпилил,
чашку себе из него смастерил.
Красную чашку себе смастерил,
крепкой арзы в эту чашку налил.
Выпил,
затем наливает еще.
В ус улыбается
— Эх, хорошо!
После четвертой почуял старик
пламенный будто надел он терлик.
Только лишь пятую он осушил,
сказывать сказки смешные решил.
Сказку завел,
снова выпил,
зевнул.
И неожиданно тут же уснул.
Мы не завидуем
Опять весна над белым садом
и где-то плачут кулики.
А мы сидим с тобою рядом
на берегу реки Оки.
Придя сюда по тихим травам,
тропой, известной нам двоим,
мы, скрывшись в зелени кудрявой,
сидим,
целуемся.
молчим.
Там, на реке мелькают лодки.
Веселый говор.
другим
шутки,
смех.
Нам вечер кажется коротким.
Но в жизни мы счастливей всех.
Самим себе на удивленье
мы не завидуем другим.
Нам дорого уединенье
безмолвным шепотом своим.
И мы сидим с тобою рядом
на берегу реки Оки...
Весна волшебница над садом,
и где-то плачут кулики!
Улус Монголжон
Шумная Окинская долина,
каменные хмурые гольцы.
Вдоль реки черемуха с рябиной
разбегаются во все концы.
Он зеленой степью окружен
мой улус прекрасный — Монголжон.
Дальше у подножья Сарндакз.
девственная дикая тайга.
и в ее таежном полумраке
бродят рысь, медведь и к а б а р г а .
Весь народ охотой заражен
7. чЁмйкал» Л? 1.
в солнечном улусе
Монголжон.
Летом я своих друзей проведал,
с ними песни пел, араки пил,
вел со стариками я беседы,
и подарки девушкам дарил.
От арзы и счастья был хмелен
я в родном улусе
Монголжон.
//<7>('<и'.' с бурятского И. Киселев.
Шираб-Сэнгэ Бадлуев родился в 1924 году в селе Зугалай Агинского бурятского национального округа Читинской
области.
После
окончания
средней школы служил в рядах
Советской Армии, участвовал
в войне с Японией.
Начало творчества Бадлуева
относится к 1958 году, когда
появились его первые рассказы
на страницах газеты «Буряд
унэн». В 1960 году вышла его
первая книга — сборник рассказов «Счастливый человек».
В 1963 году Бурятское книжное издательство выпустило
его книгу повестей «Девицыкрасавицы», в которой показан
благородный характер, трудовые подвиги и высокие идеалы
современных бурятских женщин. Этой теме посвящена также повесть «Счастья тебе, Сыдылма», которую мы печатаем
в этом номере.
Шираб-Сэнгэ БАДЛУЕВ
Н О В Е С Т 1,
1А ТОП стороне Байкала, где кончается дремучая тайга и начинается бескрайняя степь, рядами сидят сопки,
сидят как мудрецы. Их склоны покрыты
лоскутами смешанного леса. Чуть ослабнут трескучие морозы, и, словно по трубам, потечет по распадкам, загудит северный ветер. В падях и долах станет
знобко и сумрачно. Днем иногда, сквозь
снежные вихри, робко улыбнется солнце,
обрадует, будто обогреет. Но вечером мороз вновь поет точно железо под ударами
молота, и от этих ударов, кажется, вздрагивают, испуганно разбегаются по небосклону звезды. В один из вечеров над мудрыми сопками, что делят тайгу и степь.
покажется гордый месяц.
9то начало февраля, это Белый месяц!..
98
То потеплеет, то снова жгучий моро
остановит веселую капель с крыш.
То разойдутся, то вговь столкнутся нал
сопками северным и южный ветры и !
схватке своей взметнут тучи снега, забуранят так, что в степи может погибнут:
даже опытный человек...
А сопки сидят и молчат. Сопки д у мают...
• 1 О Ч Ь . Может быть, уже далеко зл
полночь, а Дамдину не спится. У см
кровати табурет, на нем жестяная IV
пельнина. Дамдин курит, прижигая о.1
ну папиросу от другой. Густой
клубится, кружит в стреле лунного (::•••
та, ворвавшегося через маленькое отшч
стие в ставне. Давно лежит так Дамдин,
не ощущая вкуса табака, лежит ни о чем
не думая.
Отчего же не спится этому небритому
уставшему человеку, когда вокруг тишина и мрак?
Отчего?..
Вот вырвал он изо рта папиросу, придавил ее так, что прогнулась пепельница,
потом глубоко вздохнул и повернулся лицом к стене, устремив взгляд на желтоватое пятнышко. И ему начало казаться,
что пятнышко это постепенно расширяется... В свете его он вдруг увидел такое
знакомое, такое родное- лицо Даримы. Нет,
не мертвой предстала она перед Дамдином, а живой, молодой девушкой с искорками в темных глазах, с ямочками на
свежих румяных щеках...
Память воскресила ее смеющуюся, ослепляющую ровными белыми зубами, когда однажды, откинув черные косы назад,
она схватила Дамдина за руки и они вместе упали на траву — высокую, мягкую...
Запомнился холодок ее иссиня-черных
волос, огонь полных девичьих губ с нежным запахом облепихи...
Дарима звонко смеялась, катала Дамдина по высокой траве, а когда он пытался что-то сказать, зал;имала ему рот
мягкой ладошкой.
— Молчи!..
От руки, от влажных и прохладных
пальцев Даримы тоже пахло облепихой.
Потом они слушали тишину, стараясь
угадать свое будущее.
— Что слышишь, Дамдин? — спрашивала Дарима.
— Жизнь слышу! — отвечал Дамдин.
— Я тоже... А слышишь, как стучит
мое сердце?
— Слышу...
Да, стучало и пело сердце Даримы. И
вот умолкло. Потерялся звук ее голоса в
долинах и падях... Нет больше Даримы,
остался лишь светлый день над высокой
травой и его настороженная тишина...
- ОГДА Дамдин вернулся с войны, отца в живых уже не было. Он умер от болезни желудка. Сильно постаревшую мать
• Дамдин нашел у родственников. Пустовавший заброшенный дом встретил его
^хмуро, не ласково, горбился оголенными
'стропилами и глядел, как слепой, пусты|ми окнами, не узнавая Дамдина.
7*
— Здравствуй! — сказал Дамдин, переступив порог.
— А-а, а-а,— невнятно, холодно ответила пустота.
И на сердце пусто. Не дождалась девушка, что провожала его на фронт и
долго махала платком уходящему эшелону: вот уже месяц, как вышла за однорукого фронтовика, его друга.
Горюй не горюй, а жить надо. Сердце
истосковалось по тишине, руки — по работе. На второй же день Дамдин отвез
мать в аймачную больницу. Вернулся, погоревал еще немного, да и за дело.
Весну пропадал на фермах. По-прежнему носил шинель и спал на ней посолдатски там, где усталость одолевала.
А уж работы — и говорить нечего, по горло хватало! Из-за бескормицы и суровой
погоды так отощал колхозный скот, что
старых коров нужно было поднимать и
ставить на ноги. Их ставили, а они снова
валились. Приходилось подвешивать их
на веревках. В те дни и ночи солдату доставалось. Ох, и доставалось же ему...
— Как настроение, главный подъемщик?! — спрашивал бригадир.
— Поднимаем, тужимся, даже хвосты
трещат! — улыбаясь, отвечал Дамдин. Но
улыбка была у него невеселой.
Лето пришло позднее. Но это было первое послевоенное лето, оно освежило, разгладило морщинки на суровых лицах людей, отогрело зачерствевшие сердца их.
Да и природу как-то по-новому пробудило: омыло дождем, приласкало солнцем,
дохнуло ласковыми ветрами — живи, радуйся!
Что днями — чуть ли не сутками Дамдин не сходил с сенокосилки! Теперь он
уже знал, как нужен скотине корм, как
горько глядеть на скелеты, обтянутые сухой кожей. Дамдин трудился с упоением,
забывал себя. И нп замечал он тогда
младшей дочери колхозного сторожа —
Баадая — быстрой и загадочной Даримы.
А она?.. Она вес приглядывалась к
бывшему фронтовику, поправился он ей.
Может быть так и не взглянул бы
Дамдип на пес, если бы однажды в полуденную жару ему не захотелось напиться из ручья, что бежал из-под каменистой
сопки. Подошел он к ручью, а там Дарима. Черпает воду рукой и обрызгивает
лошадь, отбивающуюся от комаров. И тут
будто ненароком плеснула водой и на про-
99
ходившего мимо Дамдииа. Тот вздрогнул,
словно очнулся.
Вода была холодной, колючей и искрилась так же солнечно, как глаза Даримы...
С тех пор они часто встречались здесь:
пили студеную воду, обливали друг друга,
смеялись, дурачились. А однажды вечером
соорудили маленький шалаш из сена и
хвороста, развели поблизости костер и
долго сидели рядом...
Мать Дамдииа и родители Даримы радовались их встречам. Старик Баадай даже как-то похвалил старуху-жену, дескать, хороших девушек народила, не засиживаются они, и женихи добрые для
них находятся. Плакала от радости выписавшаяся из больницы мать Дамдина, да
не пришлось ей долго радоваться: только
четыре дня и три ночи ощущала она нежные, ласковые руки невестки... Умерла
старая.
Дамдин и Дарима постепенно привели
в порядок заброшенный дом и зажили
небогато, но счастливо. А через год их
дом наполнился криком ребенка. Спустя
еще год Дарима родила второго сына, потом дочь, такую, словно повторила себя —
свои глаза с искоркой, свои ямочки на
щеках... Дамдин рано уходил из дому,
поздно возвращался. Брался за любую работу, какую только давал бригадир. Если
бы собрать в одно все сено, которое поднял на вилах Дамдин, то, наверное, получилась бы большая сопка. А зерно, которое он перетаскал на своих плечах, пожалуй, не вместилось бы в два товарных
состава!
Старательную, хлопотливую хозяйку
Дариму хвалили все односельчане, даже
самые придирчивые соседки не могли сказать плохое о ней. Дамдин и Дарима заложили огород, обзавелись коровой, в зиму забивали свинью. Всего им стало хватать для маленького и большого семейного счастья...
— Дарима, тебе хорошо? — мысленно
спросил Дамдин, глядя на желтоватое лунное пятнышко на стене.
— Хорошо,— послышался ему слабый
голос Даримы и вдруг образ ее стал меркнуть, терять очертание.
Дамдин чуть не закричал: «Подожди,
не уходи, Дарима! Подожди!» Он порывисто поднялся и, загрубевшими, с сухими мозолями руками, пытался снять со
степы меркнувшее лицо жены. Он шарил,
ловил его, как безуспешно ловят дети солнечных зайчиков.
— Дарима, не уходи! Дарима!..
Но белый месяц, видимо, закрыли тучи, исчезло пятнышко на стене, и Дарима ушла. А вскоре из соседней комнаты
послышался детский голос:
— Ма-ам! Мама!
Очнувшись, Дамдин соскочил с постели,
нащупал штепсель, включил свет. Дети
спокойно спали на матрацах и дохе, разостланных по полу, только одеяло валялось у них в ногах.
«Знать, кто-то во сне прокричал!» —
Дамдин поправил одеяло и, сложив на груди руки, глядя на детей, горько улыбнулся: «Вихрастый мой, Батор... Цветок
первый наш!» А Батор, видимо, понимал,
что он самый старший и должен опекать
младших — спал, прижимаясь губами к
пухлой щеке сестренки и стараясь через
нее обхватить еще и братишку.
«Эх, Дарима, Дарима, как же плохо нам
без тебя! — Дамдин опустился на колени
у изголовья ребят, осторожно поцеловал
кого в макушку, кого в лоб и щеку.—
Кровиночки, мои теплые!»
Потом он снова лежал без сна, курил,
горевал. Желтоватого пятнышка на стене
больше не было. Луна, знать, ушла своей
кривой дорогой по бескрайним просторам
небес, вольная беззаботная луна!.. А Дамдин никак не может вырваться из густой
темноты. До каких же пор будет так?
Кто и в какой добрый час выведет Дамдина к свету? Или это конец, пропасть,
из которой не выбраться? Пусть еще месяц пробудет он дома с детьми, а потом?
Кто же будет кормить и его, и их? Дети
еще так малы, что их не закрыть на замок, не уйти от них на работу. Может,
позвать какую-нибудь женщину, найти
няню, жениться?.. Но кому нужны чужие дети, кроме родной матери!.. Нет, не
найти ему ни друга жизни,- для себя, ни
матери для детей... Тяжко Дамдину одинокому в этом мраке, в этой тишине уходящей ночи. Он не поверил бы раньше,
что мужчины могут плакать. Но сегодня
он плачет сам горькими солеными слезами...
Лишь на свету, когда прокричал где-то
в селе охрипший петух, Дамдин закрыл
глаза и немного забылся сном.
П ЕСКОЛЬКО дней погода стояла неровная: то солнце проглянет, то снего-
пад начнется, то хиус вдруг поднимет
метель.
Как-то в ненастное утро к Дам дин у зашел тесть.
— Мэндэ-э,— мрачно сказал Баадай н
сел к столу на предложенный зятем стул.
Долго и молча маленькими глотками пил
вместе с Дамдином густой зеленый чай.
А напившись, вынул из кармана большуп
старую трубку, выточенную из кудрявого
березового корня, набил махоркой, раскурил и совсем отгородился от Дамдипа
светло-голубым облаком едкого дыма.
— Что делать думаешь? — услышал
Дамдин из-за этого облака.
— Не знаю, отец,— вздохнул Дамдин.
Тогда старик сухой рукой разогнал дым,
пристально поглядел на зятя. .
— А я знаю. Не волоки за собой длинную слезу. Найди себе женщину. Понимаешь, жеи-щи-ну!..
Дамдин молчал, а старик сурово и осторожно смотрел на него:
— Ты слышал мои слова?
— Слышал, отец.
— Тогда плечи расправь, за дело берись!
Баадай недовольно засопел, сердито выбил пепел из трубки о подошву своего сапога, а уходя так кашлянул, что в углу
зазвенели горшки.
«Ушла дочь.
Ушла, навсегда, а ему
хоть бы что! — горько подумал Дамдин.
— Железный характер у старика и сердце каменное!»
Баадай не поплакал и над свежей могилой дочери, он только сказал глухо,
указывая на свою грудь: «Вот тут режет,
за внучат режет...»
«Да как он может так просто говорить
о женитьбе?! — думал Дамдин. — Неужели не сдерживает его чистая память о
дочери, забота о родных внучатах?!»
Долго размышлял Дамдин над тем, что
сказал тесть, долго не соглашался с ним.
Наконец, как-то само собой встал перед
ним вопрос:
— А почему тебя, Дамдин, горе ведет
за руку? Неужели ты не догадываешься,
куда оно заведет тебя?..
И Дамдин словно раздвоился, в нем —
в таком, придавленном горем, начал пробуждаться новый, протестующий человек.
— Пусть! Чему быть, тому не миновать! — говорил один.
— Это не то, не выход! — не соглашался другой.
— Судьба сама укажет дорогу,— повторял несчастный Дамдин.
— Нет, судьбой нужно руководить!—
вторил пробуждающийся новый Дамдин.
И, должно быть, он-то и вывел, незаметно, мягкими, но упрямыми толчками овдовевшего Дамдина на улицу. И привел
па порог правления колхоза...
...Бальжин Гармаевпч разговаривал с
плотниками, давал им какое-то срочное
задание:
— Ну, братцы, малейший зевок — отстанем от кировцев,— говорил
он. —
Приготовьте инструменты, постели. После
обеда бригадир вас соберет, па машину
и... У меня все, можете идти!..
Старые и молодые строители один за
другим поднялись с мест и пошли к выходу.
«Сколько же помощи можно получать
от колхоза? Денег давали, машину когда
надо — бери. До каких пор буду просить
и просить. Может, уйти?» — думал Дамдин, пропуская мимо себя
выходивших
плотников. Но его уже заметил председатель.
— Как живешь, друг? — спросил Бальжин Гармаевич и поманил Дамдина к себе.
— Так же, по-прежнему.
— А ребятишки, как?
— Шумят, играют...
— Шумят, играют...— повторил в раздумье председатель и стал соображать
про себя, часто-часто помаргивая глазами. «Этот по пустякам не зайдет. Наверное, дела его плохи. А выход? Какой искать выход? »
— Ну что ж, выкладывай свои печали
на стол, Дамдин!
— Стола не хватит, Бальжин Гармаевич...
— Понимаю... А все же?
—• На работу хочется.
— Не плохо! А с ребятишками кто?
— Не знаю. Все работают... Все заняты., л
— Да, все заняты,— медленно проговорил председатель и стал смотреть в
окно, почесывая правый, с большей проседью чем левый, висок. — Заняты...
В февральском небе крутились, ворочались, белые и серые облака, возникали и пропадали причудливые нагромождения небесных беспокойных гор. Напрасно искал в них ответа председатель, стоя
у окна.
101
— Может, в городе няню поищем? —
наконец, сказал он, повернувшись к Дамдину.
— Вряд ли найдем такую.
— Да, вряд ли... — лицо председателя вдруг оживилось: — Знаешь что? Приходила ко мне Сыдылма Нимаева, отпуск
просила. Говорит: на месяц в центр съезжу, починка здоровью, дескать, требуется.
Я сказал: «Приходи завтра». Ты сходика давай к ней, поговори по душам!
— Пустое дело! — безнадежно отмахнулся Дамдин. — Не отдых ей нужен. Я
слышал она готовится замуж выходить.
— Что ты? — насторожился Бальжин
Гармаевич. — А я не слышал.
— Да, да, с Ильей Шаргаевым сходится.
— С Ильей? А где его городская бабенка?
— Прогнал. Ведь он так: как потолстеет жена, другую берет, тощую.
— Ишь ты... — председатель качнул
головой, помолчал. — Словом, позови! —
«казал он резко.— Кто зевает — тот пустое хлебает!..
Он взял из рук Дамдина лохматую овчинную шапку, сам надел ему на голову,
подтолкнул в спину:
— Иди, желаю успеха!.. Если что —
сюда веди, сам поговорю с ней.
Дамдин пошел нехотя, устало шаркая
старыми подшитыми валенками, а председатель подумал, глядя на кирзовые заплатки на задниках: «Не желаешь ты
Сыдылму в свой дом пустить, разделяет
вас что-то, догадываюсь!»
Наблюдательный, острого' ума человек
— Бальжпн Гармаевич и на этот раз не
ошибся: Сыдылму и Дамдина действительно разделяла давьпшнян обида. И сиен:
время Дамдин зло посмеялся над Сыды:;мой, нарисовав ее такой, какал «та есть
на самом деле: кривоногой, не но-Пурятски большеглазой, низкорослой,— и приколол этот рисунок к плащу ее жениха.
С тех пор мннго утекло воды, у всех
изменилась жизнь, сложились семьи, а
Сыдылма так и осталась к девках.
— Почему не выходишь замуж? —
спрашивали ее иногда.
— Мужчины красивых любят,— усмехалась Сыдылма.— А я вон какая...
Казалось, ничего ее не интересовало,
кроме работы. Куда ни пошлют — она
безотказна: была дояркой, работала на
102
лесозаготовках, на уборке хлебов и сена...
Всегда была Сыдылма в самом водовороте колхозной жизни.
— Себя побереги! Чего, как мужчина
ворочаешь?
— Для кого мне себя беречь?..
Молодость и некрасивых красит! Если
в молодости Сыдылма не создала семьи,
стоит ли теперь, когда миновали годы,
засеребрились виски, мечтать о личном...
Сыдылма встретила Дамдина молчаливым холодным взглядом больших глаз.
— Я хотел... Я вот зачем... — замялся
Дамдин. — Пришел сказать, что тебя
председатель зовет.
— Зачем?..
— Не знаю...
Собралась, пошла за Дамдином, все такая же безразличная, немая. «Помнит ли
она обиду?» — старался угадать Дамдип
и на сердце у него было неспокойно.
Жизнь безошибочно записала на лице
женщины все повороты трудных путей.
Она стала еще некрасивей, еще глазастей
и ниже ростом. И пушок в уголках верхней губы потемнел еще больше. Нет, Дамдин не может доверить своих детей такой
няке. Она не иначе — щипать их будет,
за волосы дергать!..
— Садись,— сказал председатель и
указал Дамдину на стул возле левой стеньг, а Сыдылме — возле правой. Бальжин
Гармаевич, кажется, прямо смотрит, но
левым глазом видит его, правым — ее.
Посидел, побарабанил пальцами по крышке стола, спросил непонятно:
— Что будем делать?..
Ответа не последовало. Но и председатель не спешил развивать разговор, как
говорится, пустил стрелу и лук спрятал.
Надо же ему прощупать своими острыми
глазами собеседников и определить, кто
чем дышит...
- Зачем звали? — первой прервала
молчание Сыдылма?
«Значит, не договорились! — сообразил
Бальжин Гармаевич. — Придется проявить характер».
— Так вы что, вовсе не объяснились?
- - Нет, он пришел,— Сыдылма кивнула на Дамдина,— и позвал сюда.
Тогда слушай, что я скажу... —
Бальжин Гармаевич прищурился. — Речь
идет о том, чтобы ты посидела с его детьми некоторое время. Согласна?
Сыдылма потупилась:
— Не сумею. Лучше на любую работу
— Как это «не сумею»? Ты чти, не
женщина? — И продолжал: — Если пожалеешь товарища, детей «то, безусловно,
сумеешь. Это точно!
— Не могу,— еще тише сказала Сыдыдна.
«Слава богу, не
отказывается!» — в
душе обрадовался Дамднн, но продолжал
сохранять мученическое выражение лица,
чем и подтолкнул председателя к решительному наступлению.
— Сыдылма,— повысил голос
Бальжин Гармаевпч,— я тебе не приказываю,
я прошу помощи, слышишь?!
— Я хотела... Мне некогда,— начал,»
было Сыдылма, но председатель перебил
ее:
— Знаю. Всем некогда. За посиделки
из кассы взаимопомощи расплатимся. А
если... — Бальжнн Гармаевпч неожиданно
прервал себя и начал стучать нальнем по
•столу. Это его постукивание хорошо знали все колхозники, в том числе и Сыдылма, оно примерно значило: «Закончим разговоры, приступим к делу. Другого решения быть не может!»
— Попробую,— цикории
проговорила
тогда женщина.
— Сумеешь! — отрезал председатель.
— Это я говорю...
«Все! Теперь ребята и р ш ш к н у т к п с и ,
как оторвешь их потом», - горько подытожил Дамднн, поднимаясь со стула. Через несколько минут он устало шагал по
большой ул;ще к своему дому, а впереди
(«его шла молчаливая Сыдылма...
III
АЛЬЯШН Гармаевпч не сразу сумел
поставить себя
так,
чтобы его не
боялись, а слушались, не подчинялись, а
уважали. Но постепенно он заслужил этого.
В первый послевоенный год колхоз
фасполагал лишь усталыми женщинами и
,сломанными телегами. В течение трех лет
•сменилось пять председателей. Многих
гбывших фронтовиков не удерживали
в
колхозе и подарки — баран и мешок зерОдни переселялись в город, другие
[уходили на шахты. Люди не верили, что
ргожно поднять хозяйство, не видели периспективы. Таково было положение, когда
|Вальжин Мухудаев, оставив стол аймачвого зоотехника, вернулся в родной колВ работе он не различал ни дней, ни
ночей. На трех сменных верховых лошадях скакал от фермы к ферме, от бригады
к бригаде. Советовался с людьми и сам
советовал им. Показывал, проверял, требовал.
— Да, он, знать, и не спит никогда!—
удивлялись колхозники.
Бальжин Гармаевпч не пригнал в колхозное стадо телка, и, чтобы отгулялся,
быка на мясо, как это делал его предшественник. Бальжин Гармаевич перебивался со всеми наравне. Это его жена
(жена председателя колхоза) с побитой
эмалированной кружкой в руке ходила
по селу, искала молока для ребенка.
— Трудно вам здесь, поди, голодно! —
сочувствовали ей женщины.
— Переживем как-нибудь,— скромно
отвечала жена нового председателя. — Вы
разбогатеете и мы разбогатеем.
— Наши люди! — начали говорить на
селе о семье Мухудаева. — Нужду и достаток пополам делят, на работу впереди
идут!..
15 аймачном центре на доске показателей колхоз «Красная звезда» занимал уже
не последнее место, когда случилось такое, что Бальжину Гармаевичу оказалось
не в чем ехать в город на совещание.
Нельзя же заявиться туда в выгоревших
дпагоиалепых галифе и пропитанном по1и\1
КНТе.'Н 1 !
УзП.'Ш
об
ЭТОМ,
КОЛХОЗНИКИ
с.южнлпп, т а й к о м и к у п и л и в сельпо залг.кавмшися костюм. Не хотел поначалу
Б а л ь ж п н Гармаенич принимать подарок,
но к о л х о з н и к и настояли:
—• Не отказывайся, мы от души ведь.
Хотим, чтобы наш председатель не хуже
других выглядел. Гордимся тобой, Бальжин Гармаевич!
Это теперь, подъезжая к селу, остановишься на сопке Залатай и залюбуешься
центральной усадьбой колхоза. Л что было
раньше? Он, что было!.. Не серенькими
избушками встречает
теперь «Красная
звезда», а светлыми домами, асфальтированными улицами. Издалека видны Дворец
культуры и электростанция, мастерские
и фермы.
Теперь так
рассуждают в «Красной
звезде »:
— Что ты за парень, если не имеешь
мотоцикла! Как же выдавать
девушку
замуж без радиолы и швейной машины!..
Вот почему не обижались колхозники на
это постукивание пальцами по крышке
стола, пусть проявляет свой непреклон103
иый характер Бальжин Гармаевич! Главное в том, что он всем счастья желает,
а колхозу благополучия. Постукивает —
значит считает себя правым, значит принял твердое решение, а если ошибется, то
не постесняется признаться в этом перед
любым колхозником. А ошибался он редко,
потому что с людьми постоянно советовался.
Ведь он и сегодня уже переговорил кое
с кем, прежде чем Сыдылму послать в
няньки к детям Дамдина, переговорил пока тот ходил за нею...
Конечно, он не совсем справедлив был
к Сыдылме, но ведь дети, за ними присмотреть нужно, да и притом, может
быть это остановит ее от неверного шага.
Выйти замуж за Илью Шаргаева, нет,
этого допустить нельзя.
' 1ЕРВОЕ время в чужом доме Сыдылма
чувствовала себя так, будто ее послали на привычную работу в амбар очищать зерно, или на молотьбу. Переступив
порог, она подоила корову, накормила ребятишек, натопила печку. Утром, уходя
на работу с плотничьими инструментами
в ящике, Дамдин наказывал детям:
— Не шумите, слушайтесь. Вечером
приду.
— Конфет принесешь в бумажках! —
кричали они в три голоса.
— «Москвича» заводного!
— Мне куклу!
Только отец ушел, дети затеяли шумную игру. Прыгали на кровати, прятались под одеялом, пугали друг друга. Сыдылма молчаливо наблюдала за их игрой
и шалостями. Вот если бы ей дали в руки
косу или лопату, она знала бы что делать,
но тут терялась. Да и не было у нее никакого интереса к этим посиделкам.
«Ладно, промаюсь как-нибудь месяц!»
— успокаивала она себя. Но отчаянная
возня ребятишек не довела до добра: пока
Сыдылма хлопотала на кухне, девочка
упала с кровати и сильно ушиблась.
Сыдылма подбежала, подняла ее на руки. Ребенок заплакал еще сильнее. С девочкой на руках ходила Сыдылма по комнате, качала ее, дула па синяк на лбу,
но та плакала и отбивалась ножками, не
хотела, чтобы чужая тетя держала ее. И
стоило положить девочку на кровать, как
она тут же перестала плакать. Братишки
прильнули к ней и кидали косые взгля104
ды на Сыдылму, словно она была виновата
в чем-то.
Тяжелые думы тревожили женщину:
«Знать я такая страшная, что они боятся меня! Может, думают, что я прогнала
их родную мать — сама пришла на ее
место... Почему не едят, может, не умею
стряпать?..»^
Плакать хотелось ей. Сыдылма решила
к председателю пойти, чтобы освободил от
посиделок и кое-как дождалась вечера.
Не успел Дамдин показаться на пороге, она быстро собралась и ушла к своим
Там рассказывала, как трудно прошел
день, жаловалась. Ее слушали, но не
очень сочувствовали. Зять хмуро молчал,
сестра упрекала:
— Не можешь потерпеть? Сирот пожалеть не хочешь? Не думаешь ли ты, что
детей растить — не то, что сено грести?.
Нет, голубушка, все дела переделаешь, а
от детей никогда не освободишься! Ты
вот не рожала их, не знаешь...
И она снова вернулась, даже к председателю не пошла.
Прошел уже обусловленный месяц, а
Сыдылма продолжала чувствовать себя гостьей и радовалась, что скоро кончатся ее
мученья.
—• Будь, как дома, будь хозяйкой,—
говорил ей Дамдин, но она словно не понимала его: чужой оставалась в чужом
доме...
Однажды он вытащил из кармана связку ключей и подал ей.
— Проверь, пожалуйста, может, что
в порядок пора привести, помыть, починить одежонку?..— И ушел на
работу,
оставив Сыдылму в растерянности. «Что
убирать? За что приниматься?
Вокруг
все чужие, холодные...» Подошла, открыла самодельный буфет, увидела рассыпанную муку, на ней следы детских ручонок
На полу — маленький валенок, к его подшпве сыромятным ремешком привязан;!
вилка. Две куклы без рук и без ног:
кирки хлеба, разбитый карманный фонарик... Па полке немытая посуда... Сыдылма подошла к умывальнику: сырост!
под ним прекратилась в зеленую плесень... С чего начинать?..
Сперва Сыдылма взяла веник и подмела полы, вынесла мусор и грязь. Подошла к зеркалу и на пыльной его глади
вывела цифру «47». Это столько мучи
тельных дней прошло с тех пор, как они.
в этом доме!..
Долго возилась с одеждой и бельем, к
которым давно не притрагивалась женская рука. До сумерек чинила, скоблила,
мыла, стирала.
Дамдин возвратился с чуркой на острие топора для растопки. Снял топор с
плеча, спросил бодро:
— Как денек прошел, Сыдылма?
— Вроде неплохо. Хорошо,—• ответила
она и, налив в умывальник теплой воды,
тотчас ушла к своим на ночлег. У нее болела спина и ныли руки. Даже в годы
войны, когда она поднимала на вилах
копны на высокий зарод или грузила
зерно на телеги, и то руки не уставали
так, как сегодня. Шла, еле передвигая
ноги, словно на них были чугунные унты,
и думала о Дамдине: «Как же он будет
жить дальше без жены, без хозяйки? Как
же дети без матери будут?».
Не чаяла до постели добраться, а легла — не спится. Поднималась, пила воду,
укрывалась одеялом с головой, нет сна,
да и только! Стоит и стоит в ушах шум
детских голосов, то плач вроде послышался, то жалоба. Вставала перед закрытыми глазами девчонка в грязном платьице
и в шитых покойной матерью тапочках,
стоит и смотрит: «Нет, не мама. Чужая
тетя».
А когда Сыдылма все же уснула, то
увидела себя вместе с узкоглазым, курносым Данзанол — средним по возрасту
ребенком Дамдина. Он помогал ей мыть
•посуду. Мальчик не сводил глаз с нее,
следил за каждым движением и вдруг
спросил:
— Когда придет мама? Далеко ли она
ушла?
Следил за ней и старший сын — Батор. К чему бы ни притронулась Сыдылма, он хмурился и говорил сквозь зубы:
— Не бери!..
1
Сыдылма взяла два пальто, чтобы выI трясти из них пыль на улице. Батор
[•тут как тут:
— Не уноси, это наше!..
Под утро поднялся ветер, гремел ставили, выл и свистел за пенами. Гудел»
в степи, гудело в лесу. На улице тпорпось такое, словно кто-то пилил сухим
1ычком сразу по всем струнам хура.
Слышались и отчаяние, и угрозы, и жа{лобы...
Сыдылма поднялась лишь в полдень
разбитой и опустошенной. Она, пожалуй,
многие годы впервые опаздывала па
работу. На ходу выпила чашку холодного
чаю. С тревогой подумала: «Как там, что
там?..»
Дамдина она застала сидящим на своем
ящике с инструментами. Он дымил самокруткой, словно паровоз ожидающий 'отправления.
— Прости, проспала,— виновато промолвила Сыдылма.
Дамдин улыбнулся:
— За что прощать? Устала вчера —
вот и проспала. Не прощать мне тебя, а
спасибо говорить за помощь надо...
Дамдин кивнул на лежавшие на столе
ключи.
— Хозяйничай!
«Начал доверять,— подумала Сыдылма.— А зря. Скоро уйду».
Ключи холодно жгли ей руки и этот
холодок доходил до сердца.
— А если потеряю?
— Дело твое,— снова улыбнулся Далдин.— Эти ключи не сердце отмыкают...
Потеряешь, другие сделаю...
Улыбка не смягчила горестные складки у рта Дамдина: худое пожелтевшее
лицо его оставалось печальным, напряженным.
Сыдылма лельком взглянула на него.
«Ой, как не повезло тебе, человек! Пришло время кланяться мне. А кто смеялся
когда-то над этой же самой некрасивой
женщиной? Кто отпугнул жениха ее? Кто
знает, может быть, ты сделал меня несчастной, без мужа, без семьи, без детей!.. До конца ли понимаешь теперь, что
такое одиночество?..»
Старая, давнишняя обида больно кольнула сердце женщины. Сыдылма вздохнула и сказала глухим голосом:
— Нашел с кем говорить о сердечных ключах и отмычках...
Дамдин понял упрек, поник, опустив
голову.
— Больно ты бьешь, Сыдылма, но заслуженно. Я не забыл вины... Помню...
Сутулясь, он машинально мял в прокуренных пальцах потухшую самокрутку,
соря на чистый пил крупный желтый таПак. Его дампо но стриженная голова опускалась нее ниже и ниже.
- Прости, Сыдылма... Я тогда по глупости...
В словах Дамдина, Сыдылма уловила
искреннее раскаяние, и ей стало жаль
его. «Боже мой, неужели я такая злопамятная? Как может человек носить в себе
105
зло столько лет? Для того ли ему дано
сердце?»
Тронув Дамдина за плечо, она хотела
было сказать: «Ладно, я не сержусь больше», но вместо этого мягко проговорила:
— Иди на работу, Дамдин...
...Живут на свете люди, живут и враги их — презрение, ненависть, зло. Враги
эти сильные и коварные,
разъединяют
людей меж собой, осуждают. Но они победимы, эти враги. В жизни есть такие
пути, которые, наперекор вражде, властно
велят идти в ногу и делить последний кусок хлеба. Вот это поняла вдруг Сыдылма. Поняла и почувствовала, как пошатнулась ледяная стена между ней и Дамдином, пошатнулась от маленькой искорки, лишь стоило с нее легонько сдуть
серый пепел.
— Иди на работу,— совсем мягко, душевно повторила она, и Дамдин, подняв
голову, спросил:
— Простила, или пожалела?..
— И то и другое,— ответила Сыдылма, беря веник, чтобы замести табак,
высыпавшийся из самокрутки Дамдина.—
Человек — человеку не волк...
IV
ЬурАНЫ в конце
концов утихают.
Холодную зиму сменяет радостная весна. Какой бы не разразился ливень, но
жаркий луч солнца найдет прорешку между беснующихся облаков...
Дамдин постепенно начал успокаиваться, забываться. Меньше стал горевать над
детьми. Приходя с работы, с удовольствием ел бурятский суп с лапшой и луком, ложился на чистую постель и крепко спал. Он даже забыл, что давно уже
прошел срок пребывания Сыдылмы в его
доме. А она не напоминала, покорно делала свое нелегкое женское дело с утра
до позднего вечера. В доме прибрано, еда
сготовлена, ребятишки обихожены, чего
еще желать? Встал — поел, отправился
на работу!..
На своей душе полегчало, а до чужой — недосуг. Нет-нет да и приходили
Дамдину в голову такие мысли: «Жену
искать погожу, лучше найду себе какуюнибудь вдовушку, похаживать к ней тайком буду...»
И кто знает, по какому бы руслу потекла дальнейшая жизнь Дамдина, не отруби он себе конец указательного пальца...
106
В те дни на центральной усадьбе строили детские ясли. Накануне Дамдин чистил
от мусора двор, попарился в бане'и выбрился до синевы. Утром бросил Сыдылме привычное «хозяйничай», поцеловал
детей и хлопнул дверью.
На стройку явился раньше всех, поискал работу, но не нашел такой, за которую можно было бы взяться одному.
Вместо этого приглядел чурбан, бросил
на его торец горсть мха и сел. Покуривая,
озирал он дали — беспечно, спокойно.
Трепетный красный флажок на цоколе
Дома культуры напомнил ему, что он давно не был в кино. Бескрайняя степь и
разрезающая ее речка Залатай увели в
беззаботное детство.
Речка как будто не изменяется: щедро
поливает луга и посевы, поит скот, бе.)
устали трудится для колхоза... Она такая
же работящая как Сыдылма...
Выше всех гольцов виднелся суровый
«Каменный штык». Отец когда-то говорил
Дамдину, что на самой макушке Каменного штыка похоронен шаман Залатай
вместе со своими доспехами и конем.
Будто в первые дни Белого месяца оттуда слышится крик шамана, дробный треск
его хэсэ1 и ржание лошади. Конечно, все
это чушь, неправда... Дамдин поднялся и
пошел бродить по комнатам стройки.
Вспугнул отдыхавшего на мху серого лохматого бродячего кота, и тот перебежал
Дамдину дорогу...
Издалека донесся звон пустых ведер,
кто-то шел по воду к колодцу.
«Вот еще говорят, будто не к добру
встретить бабу с пустыми ведрами!» —
промелькнуло в сознании Дамдина.
— Ни в бога, ни в черта не верю!—
мог похвастать Дамдин и рассказать историю с глиняной статуэткой Будды, которую мать повесила ему на шею, когда
он уходил на фронт.
Мать предупреждала:
— Не смей разлучаться со святым хранителем, носи, никакая вражеская пули
не заденет тебя!..
Но Дамдин расстался с Буддой еще
далеко от линии фронта — в бане на пересыльном пункте!
— Грязное белье в угол!— скомандовал усатый старшина, и божок с нижнем
рубашкой полетел в угол...
1
Хэсэ — обрядовый инструмент шама
на, барабан с бубенцами.
И ничего не стряслось с Дамдином после того. Всякий раз, после атаки, он
ощупывал себя, искал на себе дырочку,
оставленную пулей... Ранен был, но остался жив.
...Пришли строители. Дамдпн вместе с
двумя плотниками начал класть самый
верхний венец стены. Дамдин тюкал топором, пригонял бревна и думал, то о коте,
перебежавшем дорогу, то о
Сыдылме.
Вдруг острая боль обожгла палец.
— Сгореть бы тебе!—выкрикнул он,
и, зажав обрубленный палец, побежал в
больницу...
[
^ ТРУБИТЬ конец пальца уж не такая большая беда. Но работать нельзя, топор не возьмешь в руки. И вот лежи себе на мягкой кровати в окружении
веселых ребятишек, покуривай табачок,
да слушай наступающую весну.
Через все четыре окна в чистый дом
вливается солнечный свет, воздух душист, как над цветистым лугом после
дождя. А там за окнами тараторят галки — предвестницы теплых дней, падает
частая капель с крыши — ярко, огненно,
словно горячие стрелы. Все это успокаивает боль, радует душу.
В деревянном корыте-тэбшэ Сыдылма
рубит мясо, потом, чиркая острым ножом,
режет лапшу. Печка потрескивает, гудит,
словно, набирая пары, собирается она
увезти, умчать дом Дамдина навстречу
наступающей весне.
Вот уж запахло наваристым бурятским
«упом, в котором кипит добрых два кило
мяса и такая длинная лапша, что, взяв ее
за один конец, другим можно шутя похлестать ребятишек по носу!
В руках Сыдылмы поют тарелки и вил1ки. Поет и сама Сыдылма о родной сторо:е, где прошло ее беззаботное детство, о
м, что не заметила она, как ушла —отдела молодость, как нежданно-негаданно
суетился иней на ее уставшую голому...
Хорошо Сыдылма поет! Заслушался
.амдин и не заметил, как кто-то вошел в
,ом и сказал громко:
— Здравствуй, дочка! Как дела идут?
— Спасибо, идут,— ответила Сыдылма.
— Идет и дождик и снег... Я спрайтго, хорошо ли?
— Как сказать?.. По-прежнему...
— Так ответить — ничего не ответить!
мдин дома?
— Лежит, отдыхает.
— Так, так... Лежит сурок — в потолок плюет... Правда говорится, что под
лежачий камень вода не течет!..
«Это тесть!»—Дамдин поднялся и пошел на кухню.
— Здравствуй, отец.
— Здорово, зятек! Рука-то как?
— По пальцу тяпнул.
— Слышал, слышал... Хорошо хоть
голова худая осталась цела. Тебе-то она,
может, и не нужна... ко детям, вот, нам...
не безразлично, куда тебя глупые ноги
несут!..
Усадив ребятишек за стол, Сыдылма
разливала по тарелкам душистый суп, а
старик продолжал коситься па зятя и
брюзжал:
— Потерял жену — не теряй голову.
Слезы мертвым, а рассудок — живым. О г
слез еще никто не поумнел...
Как только старик переводил взгляд на
внуков, глаза его светились тепло и ласково. «Вон как едят аппетитно! Пшь, какие обихоженные стали!
Он отодвинул от себя тарелку, положил свою -сухую руку на сильную от нелегкой работы руку Сыдылмы.
— Послушай, дочка, что я скажу... Не
уходи из этого дома. Выведи внучат моих на широкую дорогу. Да и этот,— указал он на Дамдина,— не лучше ребенка.
ему тоже поводырь нужен!..
Сыдылма боязливо пожала
плечами,
быстро поднялась, зачем-то взяла ковш и
зачерпнула воды. Остановилась перед стариком растерянная. В руке дрожал ковш,
плескалась на пол вода.
— Я... я не знаю...
— А ты знай. Вот слушай...— начал
было Баадай, но Сыдылма прервала его:
— Нет, нет, не надо!
И закрыв лицо фартуком, поспешно вышла из кухни.
А старик повернулся к Длмдииу и медленно заговорил:
— Такую женщину, с такой душой,
поискан, надо! Ксть красивые да спесииыс. Та
жена, которая душой да умом
держит дом... Ты слышишь меня, Дамдин?.. Говорю но пустые слова. Я жизнь
прожил... Приглядись-ка лучше к Сыдылме, только не к лицу, а к душе ее... из
ничего и в новой кастрюле супа не сваришь...
Есть люди, которые говорят — я пожил, я повидал, так для красного словца.
107
У Баадая же за плечами долгая и трудная жизнь. Она, как бурная река льдину,
бросала его от одного берега к другому,
но не разломила, а очистила лишь, высветлила. Несмотря на свои восемьдесят
лет он прям и широк костью. Выглядит
памятником суровому степному витязю,
недаром в улусе его звали «Тумэр Баадай!» Звали не зря: у старика был железный характер.
Немного, пожалуй, найдется людей, которые бы не раз видели свою смерть и
остались живы. А Баадай умирал трижды.
Первый раз она попробовала его взяты
когда он пас скот в одной из русских
деревень. Поп хотел окрестить его в православную веру. Оскорбленный Баадай
чуть не застрелил попа, за что был жестоко избит верующими.
Второй раз,— когда его вели в тайгу
на расстрел бандиты есаула Тапхаева —
подлого сподвижника головореза Семенова. Давно бы лежать Баадаю в сырой земле, если бы не смекалка да быстрые ноги. Спасла его тайга дремучая, в которой
повстречался он с алханайскими партизанами...
В третий раз смерть подстерегала Баадая в суровый тридцать седьмой год, когда оклеветали его, назвав шпионом какойто страны Восходящего Солнца...
Все бы сломала, испепелила
такая
жизнь, но только не железного Баадая!
Живет старик, не унывает, пятерых детей
растит. Голова у Баадая светлая. Недаром
к нему за советом и стар и млад идет.
Должен же и Дамдин послушать его!..
Обед уж давно кончился, Баадай выкурил не одну трубку, а Дамдин молчит,
точно у него воробей во рту, которого он
боится выпустить. Катает хлебные крошки, вздыхает.
Оба обрадовались приходу Бальжина
Гармаевича. Тот, сбросив пальто, сразу
подошел к Дамдину, за плечи взял.
— Рад видеть хозяина добрым! Хорошо, что рука цела, а палец заживет!..
— и пошутил:— Знать, только что отобедали, выходит опоздал я!
— Опаздывают не зря,— подхватил
Баадай.— Где-нибудь на хозяина дома наговорил лишнего. Поэтому и на его обед
опоздал. Ведь так говорят буряты?!
— Правильно! Сейчас на правлении
разговор шел. Дамдину безвозмездную помощь оказать решили, пусть лечится спокойно, поправляется!..
108
Сыдылма налила в тарелку супу, поставила на стол перед председателем.
— Попробуйте нашего, Бальжин Гармаевич.
Дамдин достал большую бутыль с хурэнгэ, налил четыре полных чашки —
тех новых, с рисунком Байкала.
— Рады дорогому гостю, выпьем за
него!
Бальжин Гармаевич бережно принял
чашку.
— Нет, не за меня, давайте за то, чтобы все люди нашего колхоза были здоровыми и богатыми!
Баадай прежде чем выпить, сказал:
— Хурэнгэ, наш бурятский напиток
В нем наш труд, наше счастье. Не бросайте хурэнгэ, пейте каждый день. Будете всегда здоровыми. Теперь ты говори
Сыдылма!
— Сейчас Белый месяц,— робко сказала она.— До праздника корова даст молочка на хурэнгэ, а потом белая пища
разольется. Ну, будем счастливы...
Вторую чашку Бальжин Гармаевич поднял со словами:
— Белый месяц опять будем встречать,
с победами. Скот упитан, сдача молока
идет неплохо. И пусть наши чашки дп
Белого месяца следующего года будут
полны белой пищей!..
После третьей чашки хурэнгэ у Бая
дал совсем развязался язык.
— Скоро на свадьбе вино пить бу
дем,— сказал он, обращаясь к председа
телю.— Придешь на свадьбу?
— Не ты ли жениться надумал?
улыбнулся Бальжпн Гармаевич.
— Нет, Дамдина на Сыдылме женин,
будем! Ты в селе старший по должности
я старший у тех, кто на ногах ходит. ]!<•
захотят — заставим!
Старик много бы наговорил, но Баль
жин Гармаевич насупился и застучи.1
пальцами по столу...
— Семейные дела не решаются го.'!»
сованием на правлении. Давайте, лучик
прекратим эти разговоры.
«Ладно, помолчу,— отметил про сс!г„
Баадай.— С тобой бесполезно спорит г
ты —целый колхоз на двух ногах! Ни и
их все равно женю!»
Они ушли вместе. Бальжин Гармаеим
тепло поблагодарил Дамдина и Сыдылч\
за гостеприимство, пожелал благополучии
А Баадай, словно забыл, что ел и пил >
этом доме, он молчком оделил внуч.т;
конфетами, поцеловал их макушки, и
только с порога улыбнулся Сыдылме, а
на Дамдина посмотрел так, будто сказал:
«Эх ты, мокрая ворона!)-
п
« 1 РОШЛО еще десять дней и десять
ночей. Все было так же, как и рань[ше. Каждое утро, когда восток начинал
белеть, над трубой дома, в котором жил
Дамдин, поднимался сиреневый столбик
дыма. Затопив печь, Сыдылма с коромыслом и двумя ведрами спешила к колодцу.
Уже две ночи она не ночевала у своих,
но этого никто не знал, пока даже Дам5дин. Как-то она не управилась со стир(вой, поздно купала ребятишек. Среди натопившегося белья попались платья покойной Даримы. Их нужно было высушить
и выгладить, пока спали дети, чтобы не
увидели и не расстраивались лишний раз.
•«Пусть подальше уйдет от них неизбывное горе!».
Перед рассветом, управившись, она составила четыре разных стула, постелила
вз них свою телогрейку и прилегла на
Цасок.
В следующую ночь сторожила стель1ую корову. Подолгу простаивала в стайсе, только изредка заходила в дом, чтобы
югреться. Вздремнула тоже под утро па
стих же стульях, когда затащила теленка
» дом. Но в остальные вечера, как бы ни
!ыло поздно, как бы ни уставала, торошлась к своим. Мало ли чти могут иидувть люди, если увидят, что Сыдылма
ючует в доме Дамдина!..
Как-то в сумерки, когда Сыдылма заЬнчивала уборку двора и готовилась к
(вкину, зашла старуха Дулсан — жена
Ваадая.
I — Ох, ох... С утра собиралась, вот
»лько доползла. Ну, доча, как живешь?
— Сама не знаю. Кажется, немного
ривыкла.
— Слава богу... А я на минутку. НаI, возьми.— Старуха вытащила из коого мешочка большой кусок мяса —•
|Ычнын подарок родителей своей зажней дочери, когда они колят какую:будь скотину, и продолжала:
— Принесла долю Даримочкн, а даю
. Не угас огонек в очаге моей дочепь. Радуюсь, когда вижу дымок из тру. Это ты, дорогая моя, не даешь угасему, малых деток обогреваешь. Спатебе!
Горбатая старуха еще сильнее сгорбилась, держа на ладонях подарок. Подала
его Сыдылме и уковыляла с глазами,
полными слез. А Сыдылма думала, глядя
ей вслед:
«Бедная, как сильно похудела, еле на
ногах держится. Душевный, милый человек. Как хорошо назвали ее: «Дулсан —
большое сердце». Хотя бы Дамдин быстрее устроил свою жизнь, легче бы стало
бедной старушке?..»
В спальне заохал Дамдин, Сыдылма кинулась туда:
—• Что с тобой?
— Помоги, пожалуйста, руку перевязать. Терпеть невозможно...
— Может, сбегать за доктором?
— Не надо. Заживет. Ты только засыпь рапу вот этим порошком и забинтуй снова...
Руки у Сыдылмы огрубевшие, мозолистые. Они привыкли закидывать на рога
быков толстую конопляную налыгу и затягивать бастрык на возу с сеном. Дамдин
скрипел зубами, словно жевал песок и
камешки, потому что Сыдылма не бинтовать умела, и прочно стягивать ивовыми
прутьями толстые жерди изгороди!..
— Больно тебе, Дамдин?
— Очень.
— Потерпи, дорогой, скоро...
Сыдылма обматывала бинтом палец
Дамдина, а пи, чтобы отогнать режущую
боль, рассказывал:
!)то еще чти! Пит па Одере меня
задели!.. Помню переправлялись мы ночью... па плотах... Ну и дал нам немец
тогда жару. Но мы ТОЖР ему неплохо
отплатили... Кого куда ранило, а меня в
бок осколком прорекали... Сам завязал
рану рубашкой, затянул, да еще друга —
солдата раненного отнес и траншею... Посмотри-ка!..
Дамдин поднял р у б а ш к у и показал
широкий длинный шрам от бедра ч у т ь ли
не до подмышки. Сыдылма охнула, схватилась за голову:
— Бедный! Должно быть, болыт-то
как было!..
Взгляды их встретились. Глаза у Дамдина теплые, веселые, у Сыдылмы
увлажненные слезами сострадания.
— Сыдылма,—• начал
Дамдин.— Послушай... Добрый ты человек... Хорошая
женщина!..
Сыдылма быстро утерла глаза.
— Лишнее ты говоришь!..
109
Она хотела уйти, но Дамдин преградил
ей путь.
— Подожди. Я не все сказал... Ты милая женщина... Не уходи из моего дома.
Я буду любить тебя... Другом буду,
слышишь, Сыдылма?..
Сыдылма отступила на шаг. Лицо ее
стало строгим.
— В тебе мужик говорит, Дамдин, не
человек. Не за детей, за себя хлопочешь.
— Нет, и за себя, и за них. Хочешь,
женюсь на тебе!
— Ищи другую, я за Илью выхожу,
слово ему дала.
— Но послушай, Сыдылма, дети к тебе
привыкли, я...
— Тоже привык?..— Сыдылма усмехнулась.— Нет, я хочу, чтобы меня любили такую, какая есть. Чтобы дети у
меня были, много детей. Я рождена женщиной и должна быть матерью.
— Ну тогда хоть еще полмесяца побудь
здесь,— растерянно сказал Дамдин.
— Нет, нет. Сам понимаешь, человека
не могу обмануть, нельзя откладывать
свадьбу.
— Дети, говорю, привыкли к тебе...
— Н^т, нет!— решительно запротестовала Сыдылма.— Илья как человек мне
нравится.
— Сыдылма, ты не знаешь Илью,—попытался возразить Дамдин.— Он трех
жен бросил!
— А я уверена, что Илья больше не
бросит жену, не бросит меня... .
И продолжала мягче:
— Ты не горюй. Разве мало хороших
людей на свете? Забудешь сегодняшний
день... Забудешь...
Дамдин ссутулился, молча пошел прочь.
Вслед ему смотрела Сыдылма своими
большими глазами горестно и обреченно.
Сердце ее стучало, она глотала и не могла проглотить соленый комок, застрявший в горле.
«Ой, Дарима, Дарима!.. Почему ты не
отогнала смерти и ушла с ней от детей
своих, от мужа?.. Всегда ты ходила веселой. Знала тебя Сыдылма, как хорошенькую жену Дамдипа и мать... Кроме
«мэндэ!» у нас не было разговоров. Кто
виноват? Сыдылма, или ты? Нет, умерших не обвиняют... Дарима, Дарима, если бы ты могла слышать, что Сыдылма
отказывается ухаживать за твоими детьми, что сказала бы ты? Обиделась? Плакала бы?.. Нет, нет! Ты поняла бы душу
но
Сыдылмы, ты простила бы, пожалела эту
женщину... Но все же, вправе ли сейчас
Сыдылма оставить твоих детей, " твоего
мужа? »
Ответа не было. На свой вопрос должна была ответить сама Сыдылма...
В тот день Дамдин и Сыдылма почти не
разговаривали. Каждый про себя советовался сам с собой.
Сыдылма старалась поскорее закончить
домашние хлопоты. Уходя, окинула дом
взглядом: все чисто, аккуратно, прибрано. На улице было сине и звездно. По
ясному небу гулял веселый, кажущийся
теплым, белый месяц. Он щедро рассыпал
сер.ебро на село, на степь, на таежные
дали... Сыдылма прошла через калитку,
прорезанную в воротах,
завернула за
угол...
— Сыдылма!..
Женщина испуганно обернулась и увидела в стороне Илью. Он ждал ее...
Илья приблизился, взял ее за руку холодной влажной рукой.
— Как ты живешь-то?
— Даже сама не знаю.
— Не знаешь!— Илья плюнул на землю.— Наверное, уже с Дамдином снюхалась?!
— Не говори глупостей!..
— Знаю вас баб!..
— Ну и знай,— обиделась Сыдыл
на.— Много знаешь.
— Жалеешь его?
— Жалею.
— Ладно, черт с ним. Осталось три
дня. Готова к свадьбе?.. Или Бальжит
Гармаевичу сказать, чтобы он освободил?.
— В чем хожу, в том и буду на свадь
бе. Все равно не успею ни сшить, ни ку
пить...
Илья хмыкнул. «Ишь ты! Такая баГы
как ты, трех копеек не стоит, а еще -Ч'
маешься, нос задираешь... Если бы я н<'
платил женам алиментов — дулю бы ни
казал тебе!»—подумал гордый и, ш
смотря на свой пожилой возраст, еще щм
сивый Илья. Подумал одно, а сказал др*
гое:
— Скучал я по тебе, Сыдылма!..
Остановил ее в тени высокого забмн
начала целовать, приговаривая:
— Больше не ходи туда, готовься г
свадьбе, друзей, подруг приглашай... Д»
говорились?..
— Детей жалко!..
— Чужих-то? Вот дура!..
Квадратик усов Ильи неприятно колол
ее губы, дышал он винным перегаром
так мерзко, что Сыдылму затошнило.
— Подожди, дай хоть дух перевести!..
Она вытерла рот ладонью:
— Должно быть правда ты не любишь
детей, Илья...
— А ты роди мне — тогда узнаешь!..
У калитки ее дома спросил:
— Ваши... все дома?
— Зять в городе...
— Зайдем?.. Перед рассветом уйду...
— Как тебе
хочется,— машинально
ответила Сыдылма.
— Тогда пошли.— Илья взял ее за
руку и потянул в дом.
Та иочь была самой мучительной в
жизни Сыдылмы. Светлое сияние Белого
месяца, проникавшее через тюлевые занавески уродовало лицо Ильи, оно казалось
то очень бледным, то кривым и ненавистным. Его холодные влажные руки вызывали озноб. Да и весь он был для нее
неприятен и чужд. Она больше сидела
около него — потного и всхрапывающего
во сне, ждала, когда же наконец забрезжит утро над падью Залатуй, чтобы выпроводить Илью...
— Давай, отложим свадьбу,— сказала
Сыдылма, когда Илья, пыхтя, одевался.
— Но-но!— погрозил он рукой вместе
с портянкой.— Не выдумывай!
— Не могу я...
— Никаких разговоров! Все люди знают. Не рукавом же закрывать лицо при
встрече с каждым. Обман не простят...
— Ну ладно,— не твердо согласилась
Сыдылма и, проводив Илью, ткнулась лицом в подушку.
Она плакала и просила совета у мудрых таежных сопок, у родной степи, у
звезд и Белого месяца. Чистая душа ее
не могла покривить перед Ильей и не
могла отвернуться от детей Дамднна.
«Что делать? Что делать?»— твердила
она. Ей чудилась свадьба в доме Ильи,
какие-то разговоры п чьем-то счастье...
Виделись горестные глаза ребятишек п
черный квадратик усов...
VI
0,ЕНЬ ухода Сыдылмы утло все л:|
Цома Дамдина: и свет, и тепло, и то
асковое, что создавали женские руки.
Ребятишки приуныли, нахохлились сразу,
ак перед дождем воробьи. Забегали сест-
ры Даримы, но ненадолго: у самих по куче детей, сами работают!..
Дамдин — бледный и небритый, с заложенными за спину руками мотался по
дому, словно преступник по тюремной
камере. Останавливался, тупо глядел в
пол, или вскидывал голову к потолку и
замирал.
После оттепели выпал небольшой снежок. Вокруг стало свежо и ясно. Радостно забелели крыши домов. Голые тополя
вдоль улицы оделись в ' мягкие собольи
шубы.
Дамдин садился у окошка, встречал и
провожал пустыми глазами
жужжащие
машины, куда-то
спешивших людей.
Внешне он казался бездумно-спокойным,
но внутри все кипело и жгло.
Как же случилось, что он не удержал
Сыдылму?.. Пытался ли он удержать ее?..
Что он хотел из нее сделать, домашнюю
работницу, няню, живой замок?.. Подумал
ли он хоть раз, чего хочет сама Сыдылма,
пытался ли он угадать ее желания, чувства и думы?.. Нет!..
Большое видится на расстоянии... Только теперь, когда очень и очень далека
Сыдылма, Дамдин видит красоту этой
женщины... Нет, не ее круглое лицо, не
большие холодные глаза, не покачивающуюся походку, он видит нечто большее — человека, излучающего внутренний свет!..
Далеко-далеко за холодными глазами
Сыдылмы жарко горят большие
огни
женщины, матери, друга...
С УТУЛО
и угловато, как ворон над
гнездом, Дамдин сидел над спящими
в постели детьми и дремал. В ночи, в пптемках ее гулял порывистый ветер, обшаривал стены дома, притрагивался к
ставням, подвывал, словно просился в
дом...
Сыдылма вошла так тихо и осторожно,
что Дамдин обернулся лишь когда услышал чье-то затаенное дыхание.
— Сыдылма?!
— Тише, детей разбудишь!— прошептала она.
Ты зачем?
— Завтра свадьба...
Пригласить надумала?..
— Нет, захотелось детей поцеловать,
завтра некогда будет...
111
— Л-а, ну-ну...
Перед постелью детей Сыдылма встала
на волени, раскинули руки и будто крыльями обняла сразу всех троих.
«Милые мои, хорошие! Простите ли вы
меня?..»—• прошептала она.
Потом, сверкая в темноте заплаканными глазами, подошла к Дамдину, обняла
его.
— Трудно тебе, Дамдин?
— Очень трудно, Сыдылма...
— Слушай, Дамдин... Я не знаю —
люблю ли тебя, но жалею, места себе не
нахожу... Детей не могу из сердца выкинуть... Что же делать?..
— Идти туда, куда сердце зовет,—
сказал Дамдин, поглаживая острое плечо
Сыдылмы.— Но мне трудно будет без
тебя...
— Любишь?..
- Да.
' — Подумай хорошенько!..
— Я думал...
— Ты лучше найдешь.
— Нет, Сыдылма, лучшей уж мне не
найти... На тебя мне жизнь указала... Понимаешь?.. Выходи за Илью, за кого хочешь, но я буду ждать тебя Сыдылма..
Ты должна вернуться в мой дом... Слышишь, должна... Я не отдам тебя никому.
Ты нужна мне, детям моим!.. Ты слышишь меня, Сыдылма?..
— Слышу...— очень тихо прошептала
она.— Слышу, Дамдин...
VII
Н
ВСЕГО °Д У ночь над Байкалом бушевала снежная буря. Над горами и
сопками, что делили тайгу и степь п
прикрывали падь Залатай,
клубились
серые тучи. К утру неожиданно стихло,
нежно-розовым окрасилось небо и поднялось доброе веселое солнце...
Как и предыдущий, этот день начался
с разговоров о свадьбе. Женщины и девушки мечтали попеть и поплясать, блеснуть новыми нарядами. Мужчины, чего
уж греха таить,— выпить, повеселиться
с устатку, подурачиться.
Залатайские
хлеборобы, пастухи умели работать, умели и повеселиться.
К обеду заметно опустели полки сельпо: разошлись дорогие вина, модные платья, шелковые косынки. В подарок Сыдылме и Илье купили радиолу и гарнитур мебели. У кого не хватало денег —
112
шли к Бальжину Гармаевнчу и он писал
на заявлениях: «Касса, выдать аванс».
Родственники и друзья невесты тайком
соревновались с родственниками жениха:
кто лучше, кто богаче одарит молодых.
Никто и не подозревал, что свадьба-то
и не состоится!..
Может быть, как раз в тот чае, когда включались утюги и делались прически, Сыдылма говорила Илье:
— Я передумала. Я не пойду за тебя.
Илья, явившийся к ней уже переодетым в новый костюм, в белой рубашке,
подвязанный пестрым галстуком, не верил ушам своим. Квадратик усов под его
вислым носом нервно вздрагивал:
— Опомнись, Сыдылма, это не шутка.
Собирайся и пошли немедленно. Гости
вот-вот нагрянут! Поздно раздумывать!
Илья молил, кричал на Сыдылму, угрожал, что удавится, утопится. А она молчала, не шевелилась, как заросший мхом
камень. Наконец встала, выпрямилась:
— Уходи. Я все сказала, — медленно и
твердо проговорила Сыдылма.
Илья сделал вид, что ему стало плохо:
одной рукой схватился он за грудь, другую простер к Сыдылме.
— Умоляю! —• Он опустился на колени.
— Не позорь!..
— Уходи! — повторила Сыдылма и открыла дверь...
»ЗА НЕСКОЛЬКО
часов до начала свадебного торжества в правление колхоза явился радостный Баадай. Посматривая на Бальжина Гармаевича, старик
улыбался:
— На свадьбу-то собираешься, председатель?
— А как же? Непременно!
— А знаешь, в которую сторону идти?
~ Разумеется.
— Думаю, заплутаешься, молодых не
найдешь! — не унимался Баадай. — Нынче
все дороги перепутались...
— Я что-то не пойму тебя, — насторожился Бальжин Гармаевич. — Или ты ужо
выпить успел?..
— Выпил — не выпил, а на душе весело!
— С чего это?
— С того, что все по-моему получается.
«Однако, мешаешь ты мне, старт,
срочные дела...»—подумал Бальжин Гармаевич и собирался уже
забарабанить
пальцами по столу, но Ваадай по-молодому подскочил к нему и за рукав потя!гул к окошку:
— Гляди! Что скажешь?!
— Хорошо скажу!—воскликнул Бальжин Гармаевич, шлепнув старика ладонью по спине,— Счастья тебе, Сыдылма, скажу!
— Так по-моему?!
— По-твоему, железный Баадай!
Они вышли на крыльцо, па розовеющий вечерний свет и долго провожали
веселыми глазами Сыдылму и Дамдина
Те шли рядышком, близко-близко друг к
другу, рука об руку.
Они шли к дому Дамдина.
— Счастья тебе, Сыдылма!— отечески
промолвил Бальжин Гармаевич и повернулся к Баадаю.— Ну, что, старик, пойдем выпьем за хорошую семью!..
Т
1 АМ, где
кончается дремучая тайга и
начинается
бескрайняя степь, сидят,
как мудрецы, древние сопки. Из долины
Залатай к ним доносится песня простой
женщины Сыдылмы, песня, рожденная
•большим человеческим сердцем, хорошая
песня...
Счастья тебе, Сыдылма...
Перевод с бурятского Г.
МОЛОСТНОВА
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС
+ Производство всех, или почти всех, сельскохозяйственных продуктов и непосредственно связано с развитием зернового хозяйства. Будет зерно — будут мясо,
молоко и другие продукты.
4- Для того, чтобы добиться устойчивых, гарантированных урожаев зерновых культур и получать хлеба
столько, сколько нужно для полного удовлетворения потребностей страны, необходимо ускоренными темпами
развивать химию, наращивать производство минеральных удобрений.
Ч" Если мы проявим большую организованность и
настойчивость, используем удобрения под зерновые
культуры в наиболее благоприятных районах, то уже в
будущем году страна получит большой эффект. Принято считать, что тонна минеральных удобрений дает
прибавку зерна 2—3 тонны. Таким образом 7 миллионов тонн минеральных удобрений, внесенных под озимую пшеницу, кукурузу и другие зерновые культуры,
дадут возможность дополнительно получить
14—20
миллионов тонн, или 850 миллионов — 1 миллиард 200
миллионов пудов хлеба.
4" Х и м и я и механизация — вот то, что должно быть
сегодня предметом особой заботы партии, правительства, всего народа в области сельского хозяйства. Развитие сельскохозяйственной х и м и и и механизации — это
борьба за претворение в ж и з н ь Программы КПСС, великих задач, поставленных перед сельским хозяйством
X X I I съездом партии.
4- В нашей стране за пять лет производство химических волокон выросло со 166 до 310 тысяч тонн, то есть
почти в два раза.
8. «Байкал» № 1.
113
Т. БАШКУЕВ
БИТВЫ ЗА ГЕКТАР—БОГАТЫРЬ
За голубым серпом Байкала раскинулась древняя земля — колыбель бурятского народа, его истории, его культуры —
материальной и духовной.
Все — и просторы степей, и широкие
равнины, и плоскогорья—окаймлено живописной оправой тайги и гор. А вдоль
рек-красавиц и их долин как бы в почетном карауле застыли причудливые хребты
и горные кряжи, с гольцами и вершинами, с лихо га -омленными снежными шапками-малахаями.
ССширна земс'я Бурятии. На ее терри-
тории смогли бы разместиться
четыре
Австрии, полторы Великобритании, 13",
Лкжсембургов.
Щедра и в то же время скупа земл:'
бурятская. Не без труда упорного, а по
рой и тяжелого, она дарит свои плоды
земледельцу.
Окидывая мысленным взглядом
про
сторы всей республики, я вижу напряжен
ный, творческий труд людей, вижу три
великих битвы, которые
ведут
они к
земле Бурятии — во имя
процветания 1
счастья, мира и жизни людей, во им:
коммунистического изобилия.
БИТВА ПЕРВАЯ
•^ТА Б И Т В А за то, чтобы:
Рос и зрел ка солнце маис
И во всем великолепье
Какзкец предстал на нивах.
Почему именно за маис, то есть за кукурузу, идет битва?
Богата и разнообразна земная флора —
растительное царство. Каких только нет
на земле растений! Триста тысяч растительных впдос—высших и низших—насчитывается в зеленом наряде
планеты.
Из всего этого многообразия своими чудесными свойствами
выделяются
лишь
немногие виды, в числе их и кукуруза.
Славную службу сослужила кукуруза человечеству. Недаром она входит в число
трех китов растительного царства, на которых основывались древние человеческие
цивилизации.
«Если,— писал
почетны*
председатель Коммунистической партии
США, ныне покойный Уильям 3. Фостер,
—цивилизации древней Азии были оснонанм на рисе, а европейские—на пшенице, то основой цивилизации коренного населения Америки была кукуруза».
Многие великие люди, видные ученые
писатели считали
нужным
подчеркнут
выдающееся значение кукурузы. Фридр;'
Энгельс, например, кукурузу называл н-.и;
лучшим из всех хлебных злаков. Бс
помнят, наверное, научно-фантастическу!
повесть отца русской космонавтики Кои
стантина
Эдуардовича
Циолковскоь
«Вне Земли», впервые изданную в 18Г1
году. В ней великий ученый описывас-:
внеземную, космическую оранжерею, пл.>
дами от которой пользовались герои т
вести француз Лаплас, немец Гельмгольп
русский Иванов, американец Франклн;;
итальянец Галилей и англичанин Ньютс"
От мысли устройства космических ора>,
жерей в будущих путешествиях по осво
нию «околосолнечного пространства» Коп
стантин Эдуардович не отказывался
I
позже. Он изучал растительные виды, к < <
торые можно было бы в будущем вз^и
для выращивания в космических оранжг
реях, и обратил особое внимание на к \
курузу, назвав ее растением будущего.
Известный ученый Морган, исследог.
тель древнего общества, высоко оцет
ный Ф. Энгельсом, считал, что «маис
(кукуруза) способствовал прогрессу человечества больше, чем все остальные хлебные злаки взятые вместе». А другой исследователь Пауль Рейдин отмечал, что...
«где прекращалось возделывание кукурузы, там прекращалась цивилизация».
Ряд заокеанских историков успех колонизации Америки связывал с освоением кукурузы. «Будь вынуждены первые европейцы, переселившиеся в Америку, питаться только европейской
пшеницей и
рожью, они, наверное, погибли бы голодной смертью раньше, чем успели
укрепиться на лесистых побережьях страны».
—утверждает один историк.
А
другой
пишет: «Маис был тем мостом, пользуясь
которым английская цивилизация продвигалась сначала с трепетом и неуверенно,
а затем уверенно и смело к своему укреплению в Америке, к колонизации этой
страны».
Но это продвижение
вглубь Америки
колонизаторам стоило больших унижений.
П. Уэзеруокс, ботаник,
свидетельствует:
«Натерпевшись в течение сезона насмешек индейских женщин,
издевавшихся
над их неловкостью, унижаясь перед индейцами, которым они
рубили дрова и
носили воду в оплату за кукурузу, колонисты наконец поняли, что имеют дело с
новой проблемой агротехники и, отбросив
в сторону свою кичливость европейцев,
покорно переняли некоторые
навыки у
индейцев».
В наши дни в американских школах
детям
настойчиво
внушается
мысль о
том, что «Колумб открыл миру богатства
Америки, Америка открыла миру богатства кукурузы». «Кукуруза—самый дорогой дар Нового спета Старому». (Кстати
заметим, что редину к у к у р у з ы оспарива! ют три континента: Америка, Азия и Африка, поэтому приведенное утверждение
является спорным, условным).
по факт остается фактом: Соединенные
Штаты Америки именно благодаря куку', рузе резко увеличили производство зерна
|и на прочную основу поставили ведение
• животноводства. Более половины нацис( н а л ь н о г о дохода страны от сельского хозяйства дает кукуруза.
Все это мы привели для того, чтобы
Ьуясннть роль и место кукурузы в жизни
Тнародов, чтооы глубже понять
необхо|димость внедрения кукурузы.
Наша страна от царизма получила
[весьма небогатое «кукурузное»
наследство. В одной из книг, изданных за де|вять лет до Великого Октября, о кукурузе можно было прочитать
следующие
|строки:
«Прошло более трех столетий и мы,
россияне, остаемся также равнодушны и
косны к этому иекчому растению, как и
риста лет назад. Примитивные пралецовские приемы обработки и всей вообще
ультуры кукурузы остаются п р е ж н и м и .
1ы не сделали ни одного шага вперед и
Ёеле ее улучшения».
I Эти горькие слова принадлежат агророму В. М. Богдану. Взяты они из его
и и ; и к Кукгруза—чудо-растение».
В дореволюционное время
крестьянам,
которые пробовали возделывать кукурузу, нравилась эта культура, вселяла большие надежды. «Этот гигантский рост невиданного
растения приводил всех в
удивление, и действительно, нельзя было
не
удивляться»,— писал
корреспондент
«Земледельческой газеты», описывая первый урожай кукурузы в одном из сел
Смоленщины. Далее. В той же газете читаем: «Кукуруза дает с десятины
громадное количество корма... Хозяйство, которое разводит много кукурузы,—это фабрика кормовых растений, силоса, и удобрения».
Однако, несмотря на очевидную ценность кукурузы, она не получила широкого распространения в стране. Районы возделывания ее ограничивались только Закавказьем, Бессарабией, частью Украины
и некоторыми другими. Посевные площади под кукурузой в 1913 году не составляли даже и двух миллионов десятин.
Широкому внедрению посевов кукурузы мешали те же причины, о которых выше упоминал агроном
В. М. Богдан, а
именно: равнодушие и косность царского
правительства, отсталость агротехники и
отсутствие необходимых орудий и другие.
Как не вспомнить все это в наши дни,
когд,ц кукуруза
буквально шествует
по
колхозным и совхозным нивам, когда она
стала «королевой» наших полей. Расширение посевов кукурузы, освоение
этой
богатырской культуры было
предметом
особой заботы основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина. В
известном
письме, адресованном
Г. В.
Кржижановскому, В. И. Ленин 17 октября 1921 года писал: «...Преимущества кукурузы (и фасоли) в целом ряде отношений, видимо, доказаны. Раз это так,
надо п р и н я т ь меры более быстрые и более энергичные».
И эти меры были приняты, особенно
после сентябрьского Пленума ЦК КПСС
1953 года и январского Пленума ЦК
КПСС 1954 года. Посевные площади кукурузы были доведены к 1959 году до
224 миллиона гектаров. Это равно территории острова Британия. Царскому правительству,
чтобы
довести
площадь
кукурузы до двух
м и л л и о н о в десятин,
потребовалось свыше трех веков, а Сосетскому государству,
чтобы увеличить
площади под кукурузой к десять раз, потребовалось всего л и ш ь десятая часть того времени.
Какова судьба кукурузы у нас в республике? Когда они
проникла к
нам?
Любопытная история проникновения кукурузы в Забайкалье, интересны приключения к у к у р у з н ы х зерен на землях Бурятии.
...Гонимые злой царицей «Катькой» и
официальной религией, по зимнему первочутку и пссеннему бездорожью раск о л ь н и к и спешили на восток—в
неведомые к р а я , ,1а Байкал-озеро.
В их возках, среди нехитрого скарба, была драгоценная п о к т а ж а — семена различных злакоп и овощей.
Нет-мет степенный раскольник-бородач
115
мозолистой рукой развязывал холщовые
мешки и узелки, задумчиво пересыпал с
ладони на ладонь горсть семян — то жита, то пшеницы, то кукурузы-вкиюшки».
С сожалением и грустью оглядывался назад — в сторону теплую, южную, где на
нивах дружно всходили эти семена: с тревогой смотрел вперед: «В какую почву
лягут зерна, а взойдут ли еще?..» И как
бы отгоняя невеселые думы, пэспешно
крестился двумя перстами — «по истинно
старообрядческой
вере»,— и трогался в
путь...
За
Байкалом-озером
старообрядцев
ожидала суровая природа. Земли, что и
говорить, было в изобилии. Облюбовав
долины рек, вблизи к лесу и лесным
опушкам селились раскольники.
Старообрядцы, прозванные за Байкалом
«семейскими», вступили в единоборство
с дикой природой. Жгли, корчевали леса.
осваивали подлесные земли и
засевали
привезенными издалека семенами.
Местные жители — буряты, аборигены
края,— почти не знали
землепашества,
круглый год кочевали по степным просторам, вслед за скотом.
Русским же
раскольникам приходилось трудно. Порой
они не знали, от чего больше болят руки:
то ли от топора, то ли от сохи, то ли
от литовки. Но они сделали великое дело — акклиматизировали пшеницу и рожь,
некоторые огородные овощи, научили бурят возделывать хлебные злаки. В благодарность за это буряты-кочевники научили своих русских братьев уходу за овцами
и рогатым скотом.
Ссыльные крестьяне в одном потерпели
неудачу: как ни бились, но от кукурузывкиюшки» не сумели получить за Байкалом хозяйственно-годного урожая. Семена всходили, давали початки со зрелым
зерном, но странным было то, что уменьшались размеры растений и их початков.
Из великана на юге кукуруза превратилась в карлика в Забайкалье, словно упрятала свою богатырскую силу неведомо
куда. И она не оправдывала труд земледельца, и в хозяйстве крестьян-рзскольников «киюшка» снизошла до третьестепенной культуры, заняла укромную грядку на их огородах. Стала она возделываться не для продовольственных нужд,
а для украшения наряда семейских женщин...
Правда, в том же X V I I I веке за Байкалом жил человек, который мечтал о
том, чтобы раскрепостить богатырскую
силу кукурузы для... «несчастных крестьян,
живущих в Лене, в Камчатке и в Нерчинской области». То был Иоганн Сивере,
аптекарь из пограничной крепости Кяхта.
Он проводил опыты с кукурузой и еже
годно сообщал об этом в Петербург, ь
Вольное экономическое общество, членом
которого состоял. В «Трудах» общества
в разделе «Хозяйственные известия 1794
года» можно
прочитать:
«И. Сивере...
во время пребывания своего в Иркутской
губернии... предпринимал... в различные
годы делать опыты над так называемою
турецкою пшеничкою Кукуруза, 2еа та 15,
в разных местах гористых стран реки
116
Чикоя...» «Кукуруза ни малейшего вреда
не претерпела... Получил от оной до двух
сотаго зерна...»
Но Иоганну Сиверсу не суждено было
осуществить свою смелую мечту. Он не
сумел
продвинуть
кукурузу
даже
в
«разные места гористых стран реки Чикоя», не говоря уже о Лене, Камчатке и
Нерчинской области. В документах дореволюционных лет — в отчетах о разного
рода возделываемых хлебных злаках за
1912—1916 годы крестьянами, живущими
у реки Чикоя,— кукурузы и в помине нет.
В некоторых архивных документах против слова «кукуруза» неизменно стоит
жирный прочерк, а в большинстве случаев нет и этого слова.
Такова судьба кукурузы в Бурятии Р.
дореволюционный период.
Второй раз кукуруза пересекла
байкальский меридиан после исторического
сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953
года. На этот раз южную гостью за Байкалом встретили радушно. Ей отвел"
большие и хорошие массивы, не задворки
и не последние грядки на огородах, кал
это было в первый раз. И по зову Коммунистической партии на земле Бурятии
разгорелась битва за кукурузу, за то,
чтобы приручить эту пришлую культура
на забайкальской земле.
Как и во всякой битве, так и в битве
за кукурузу есть победы и поражения,
есть герои и героизм людей. Об этом и
попытаемся рассказать.
...1954 год. Это был первый год массо
вого сева кукурузы в колхозах и совхозах Бурятии. Сотни колхозников и раб-»
чих совхозов вышли на сев кукурузы
Да и одни ли они были на к у к у р у з ш г
полях? Нет, не одни. Школьники и учи
теля, рабочие и служащие предприятий ч
учреждений — все они, вооружившись ло
патами и ведрами, помогали сажать куку
рузу. С энтузиазмом советские люди взк
лись за освоение кукурузы. И это наблю
далось повсюду: и в Селенге, и в Хор»-г
ске, и в Джиде, и в Кударе.
Впервые столкнувшись с кукурузой, лю
ди не знали толком, как сеять ее, поухаживать за ней и даже... как убирал
И люди проявляли много выдумки и сме
калки, изобретательности и находчивости
Не располагая специальными кукуру •
ными сеялками, в колхозах, совхозах и •
МТС механизаторы и хлеборобы изобрс
тали различного рода кукурузосажалки
маркеры и другие. Помнится, верхом го
вершенства в то время считалась к у к \
рузесажалка,
изобретенная в
бывшей
Саянтуевской МТС под руководством !••
директора Семена Петровича Танхасаек>
Из себя она представляла продолговаты"
ящик наподобие корытца для кормлении
овец концентратами. На концах его бы •»
сделаны ручки, и два человека таскгы '
сажалку по полю, ставили на маркерими
след, нажимали педаль, высыпали семем.I
в гнезда и трогались дальше. За ни ш
шли люди, зарывали семена в гнездах.
Но и эта громоздкая «техника» б!.. "
шагом вперед в сравнении с лопатой. '^
то приходилось сажать кукурузу под яп
пату: копнет один, другой бросит семена
в ямку, третий ложит туда удобрение и
зарывает ямку...
И первый год многие хозяйства потер.пели неудачу: не получили урожая кукурузы. Появились нытики и маловеры, которые посчитали кукурузу обузой, не поI верили в ее чудесные свойства. Они, ра:
зумеется, много вреда нанесли делу освоения этой культуры. Но люди, которые
поверили в силу кукурузы, не отступали
: перед трудностями. Они вели борьбу как
бы на два фронта: и за то, чтобы освоить
агротехнику пришлой, новоявленной культуры, и за то, чтобы перебороть нытиков,
доказать им возможность
возделывания
кукурузы у нас, на широтах Байкала.
Мне, как газетчику,
приходилось видеться и разговаривать и с маловерами
и с приверженцами кукурузы. Слышал их
споры и взаимные упреки, а порой и насмешки:
— Заладили: кукуруза, кукуруза! Наплачешься с ней. Зеленка — вот наш верный конек, с ней будем с кормами в лк-бой год,— утверждали маловеры.
— Как бы не так,— возражали сторонники кукурузы. — Не то конь, не то кобыла — эта ваша зеленка. Недалеко умчит вас она...
Нелегко было тем, которые взялись за
освоение новой культуры. Не всегда их
понимали, не всегда помогали, поддерживали. А тут жизнь ставила все более
трудные задачи: то надо осваивать квадратно-гнездовой
сев, то надо
хорошо,
обильно удобрять кукурузные плантации.
И люди шли навстречу этим трудностям,
преодолевали их. Не располагая техникой — бульдозерами и скреперами, автомашинами и навозопогрузчиками,— многие
кукурузоводы ломом и лопатой выдалбливали горы навозные, и они перекочевывали на поля.
Среди этих энтузиастов кукурузы были
Базар Бадмацыренович Галданов из колхоза имени Ранжурова, Иннокентий Николаевич Дампилов из колхоза «Родина»,
Лодой Будаевич Кишектуев из колхоза
«Красный Оронгой», Дамба
Жанаевич
Жанаев, Федор
Шагжиев из
колхоза
«Эрдэм», Петр Васильевич Еранскин из
совхоза «Селенгинский», Радна Доржчс№ич Гонсорунов из совхоза
«Кударик|ский» и многие другие.
Все эти люди мне представляются богатырями. Впервые к такой мысли пришел как раз в тех «разных местах горклых стран реки Ч икон», о которых упоинал к я х т и н с к и й аптекарь Иоганн Си:рс 170 лет назад. В местности Зао«рная, что в долине Никоя, мы ш л и с
>азаром Бадмацыреновичем Галдановым.
1о обеим сторонам тянулись заросли:
справа — кукурузные, слева — тальникоые. Лишь узкая межа разделяла
твонье ума и рук человека и творенье машки-природы. Шли, и я сравнивал: тут
там почвы одни и те же. Но высота
устного старожила — тальника была куниже высоты южной гостьи. А ведь
«тарнику — десятки лет, а кукурузе —
•да нет. Иду и думаю: человек победил
природу, вернее, создал сам вторую природу, о которой хорошо говорил Максим
Горький.
Смотрю на Галданова, шагающего рядом. Доброе, спокойное лицо, задумчивые
глаза, на мою улыбку ответил сдержанной, скромной улыбкой. Таков
всегда
Галданов. Никакой рисовки, ни позы, а о
кичливости — не может быть и речи. Иному высота кукурузных стеблей и вскружила бы голову, но только не Базару
Бадмацыреновичу. А ведь он выращивал
отменную кукурузу. Ни год, ни два, а
много лет подряд. Карликовой кукурузы
не знал Галданов, не признавал. Что ни
год — растения великаны
вырастали на
его участках. Так было в 1958 году, так
было в 1959 и 1960 годах, так было и в
1961 году. 1000—1500 центнеров зеленой
массы с гектара снимал Базар Бадмацыренович. Это — несмотря на
трудности,
несмотря на капризы нашего забайкальского климата. В 1961 году, например,
сложились трудные погодные
условия.
Зима не походила на зиму, весна не была похожа на весну, а летом в некоторые
дни, бывало, хоть шубу надевай — наблюдались заморозки,
вкпадал
снег.
Но
Б. Б. Галданов опять вырастил отменную
кукурузу. В этом могли воочию убедиться делегаты X V I I I областной партийной конференции на выставке, устроенной
в фойе конференции. Там была выставлена галдановская кукуруза. Надписи на
высоченных снопах гласили: «Урожайность зеленой массы
на гектаре
!02П
центнеров на площади 50 гектаров, а на
площади 200 гектаров — по 720 центнеров».
Да один ли Галданов стал кукурузным
чародеем? Нет. Журналистская тропа к
свое время привела меня и в другие «места гористых стран реки Чикоя» — и в
частности под" Хаян, возле села Иванопки,
и в местности Хотогор возле улуса УстьДунгуй и в другие.
Видел я там высокую зеленую стену
кукурузы на
участках Николая
Иннокентьевича Дампилова и его сыновей, из
колхоза «Родина», Радны Доржиепича
Гонсорунова из совхоза «Кударннский» и
многих других мастеров.
Побывал и в Большой Кударе, познакомился с Георгием Диомидовичем Пепеляесым, который з а д а л с я большой целью — воскресить у с н у в ш у ю силу «киюшки», вдохнуть ж и з н ь в эту ю ж н у ю гостью, первой пересекшей б а й к а л ь с к и й меридиан еще в давние пргмсна, вывести ее
из укромной грядки огородоя на широкие
колхозные и совхозные поля.
Был я и н Усть-Киране, и в Усть-Кяхте. в Большом Лугу. Видел упорный труд
кукурузоводов, видел плоды их труда —
богатый у р о ж а й «королевы полей».
Журналистская судьба забросила меня
и в бассейн другой реки — Хилка, в улус
Усть-Алташсй, в отделение совхоза «Цолги некий».
И здесь шла битва за кукурузу. Эхо —
отголоски этой битвы — услышал еще на
подступах. Возле кладовой отделения си-
117
дел средних лет мужчина. Разговорились
с ним.
— Нынче в кукурузе хоть кричи: «Ау».
— начал он. — Густа, высока к у к у р у з н а я
чащоба.
И все мы говорим: «Спасибо
вам, Дамба Жанаеа и Николай Кондратюкоз, низкий поклон за труды ваши».
Лицо
собеседника
вдруг
озарилось
улыбкой, он тихо рассмеялся.
— Это я вспомнил забавный случай,—
пояснил он. — Иду с поля. Несу кукурузину — высокую, четырехметровую. Хотел
показать домашним:— Смотрите, вот какую кукурузу вырастил Дамба Жанаев!
Прохожу мимо соседней усадьбы. Вдруг,
без всякой окольной мысли, как-то ненароком, возьми да сравни кукурузный стебель с соседским домом. Выше крыши
вознеслась кукуруза! Но на ту беду, тут
как тут, рядом со мной объявилась жена
соседа. Ну и пошла она меня честить:
«Ишь, говорит, посмешище хочешь устроить!»— «Какое посмешище?» — «Не видишь разве: дом-то наш ниже кукурузы?» —- «Что же с этого? При чем здесь
я: это Дамбы Жанаева кукуруза. Она
выше и моего дома».— «Тогда и сравнивай со своим домом!».
Поведав эту историю, собеседник опять
улыбнулся:
— Ту кукурузину поставил у своего дома. Пожалуйста, можете посмотреть. Нет,
пожалуй, вам лучше сходить на жанаевскую кукурузу. Хороша она! Выращена
не простая кукуруза, а с початками... Вон
ребятишки, они уже не теряются, лакомятся початками.
Мы не пожалели времени, чтобы исходить все участки знатных кукурузоводов
Д. Д. Жанаева и Н. М. Кондратюкова и
убедится в том, что початки
удались.
Слухам не поверили — глазами посмотрели, глазам не поверили, руками потрогали, да на зуб попробовали.
Осмотрели все сорта: у
Жанаеза —
«Стерлинг» и гибрид «Буковинская-3», у
Кондратюкова вдобавок к этим
сортам
«Чишминский-1» и «Воронежская-76». Все
сорта дали початки, почти нет стеблей
без початков. Ими облеплены кусты.
А какие початки! Крупные, увесистые.
Развернешь одежку — залюбуешься, вспомнишь строки из «Песни о Гайавате»:
«А блестящие початки
Налилися сладким соком.
Засверкали из подсохших
Разорвавшихся покровов...»
Хороши початки у прославленного гибрида сБуковинская-3».
Они дошли до
молочно-восковой спелости как на участках Дамбы Жанаева, так и на участках
Николая Кондратюкова. У «Стерлинга»
початки в молочной спелости. А у сортов
«Воронежская-76» и «Чишмкнский-1» початки носковой и полней спелости.
Так у нас началась копая глава битпа — эпопея за кукурузу — борьба за янтарные початки. Если началом, прологом
кукурузной эпопеи в Бурятии был завоз
«кшошки» еше в стародавние времена, то
первой главой ее стала борьба за высокие
у р о ж а и зеленой массы кукурузы. Усилиями и трудом, смекалкой и разумом мно118
гих тружеников республики за 1954 —1961
годы было доказано: кукуруза может дасать до тысячи и более центнеров зеленой массы с гектара. Так была написана
первая глава эпопеи-битвы за приручение южанки в суровом крае. Герои первой
главы
эпопеи — Б. Б.
Галданов.
Н. И. Дампилов, Р. Д. Гонсоруков, Д. Ж
Жанаев, Н. М. Кондратюков, С. Бадмаев.
Ж. Цоктоев, К. Сафонов, Б. Бабошин.
Г. Смолин и многие другие,
Только при Советской власти, только
под руководством Коммунистической партии были созданы условия для освоения
кукурузы в суровом Забайкалье. Партия
разбила закостенелый взгляд па кукурузу, как только на зерновую культуру.'об
ратила внимание всех на возделывание
кукурузы для кормовых целей с использованием зеленой массы с початками. Исторические указания ЦК КПСС и товарм
ша Н. С. Хрущева, смелость и прозорливость в постановке вопроса о продвижении кукурузы в северные широты сыграли свою роль. Партия громадной оргакк
заторской работой добилась продвижение
кукурузы в те широты, где успешно воз1
делывалась пшеница, а потом продвинул:
ее туда, где вызревает рожь.
Центральный Комитет КПСС и личнтов. Н. С. Хрущев вовремя подмечали но
вые веяния, проявляли гибкость.
— Мне было особенно приятно,— гово
рил Никита Сергеевич Хрущев,— участш 4
кам сибирского зонального совещания >
ноябре 1961 года,— что в этом году пои
вилось новое в выращивании кукурузы
люди борются за то, чтобы получать к\
курузу с початками. Кукуруза, как куль
тура, уже завоевала ваши умы. Тепер>
вопрос стоит о второй ступени, о том, ка>
вырастить урожай повыше, да получи,
качеством — с початками.
А далее:
— С большим вниманием я слушал в:;
ступление тов. Лисичникова А. Г. Это Ж'
товарищи, Чита, суровый край, а тов. Ли
сичников получил в нынешнем году 122"
центнеров кукурузы с гектара. Это геро"
ческий поступок! Это ум, это культур
нашего советского человека. Теперь Е .
тов. Лисичников, не увлекайтесь толы-.
зеленой массой, идите по пути выращиг.
ния початкос, ищите подходящие для 31
го сорта.
Эти советы Никиты Сергеевича Хр\;;
на п р и н я л и на вооружение не только •
тинские, но и бурятские кукурузово;
Вырастить
початки
молочко-веско! < .
спелости — такую цель поставили пе;и
собой и Николай .Михаилович Коядра:
ков и Дамба Жанаевич Жанаев. На <
нове этого, Николай Кондратюков о
зался получить п 1901 году с 300 гем
ров кукурузы 20400 центнеров кормо:-м
единиц, а с каждого
гектара — по 6,м>'
кормовых единиц и тем самым обеспечим
кормами на весь год 764 коровы с у.!
каждой из них по 2000 литров мо.г^
Это было началом новой главы кукурх
ной эпопеи.
Пришли весна и лето. В упорном т р у '
наступила осень. Щедрой данью отп.м
гида она труд кукурузоводов. Н. М. Кондратюков и Д. Ж. Жанаев и их помощники взяли вторую ступень, с честью выполнили задание партии — вырастили початки, вписали яркие страницы новой
главы кукурузной эпопеи.
Приведем цифры, которые поют гимн
труду, упорству и мастерству
цолгинских чародеев.
Специальная комиссия,
созданная приказом директора
совхоза
«Цолгинский» Л. Ц. Цыренова, определила, что звено Н. М. Кондратюкова с площади 151 гектар убрало зеленой массы
кукурузы с початками молочно-восковой
« восковой спелости по 610 центнеров с
каждого гектара. А звено Д. Ж- Жанаева
с 162 гектаров получило по 591 центнеру зеленой массы с початками молочновосковой спелости.
Удельный вес початков в зеленой массе составил по звену Н. Кондратюкова
около 26 процентов, по звену Д. Жанаева — 24 процента. Н. М. Кондратюков
получил с каждого гектара по 158 центнеров початков, или в пересчете на сухое
(ерно — 39,5 центнера; Д. Ж. Жанаев —
по 99,6 центнера початков, в пересчете на
«;ухое зерно — 24,9 центнера.
В связи с тем, что выращены початки
молочно-восковой
спелости — намного
увеличивается выход кормовых единиц.
С каждого гектара Николаем Кондратюковым получено по 14640 кормовых единиц, а с 151 гектара — 22106 центнеров
кормовых единиц. У Дамбы Жанаева выход таков: с каждого гектара — по 14184
кормовых единицы, а со 162 гектаров —
22978 центнеров кормовых единиц.
Нетрудно
прикинуть, сколько
скота
можно содержать круглый год, сколько
можно произвести молока, мяса и шерсти за счет этих кормов. Получаются
внушительные цифры. Каждое из звеньев
прокормит в течение года по тысяче коров! При двухтысячном удое
каждой
коровы за счет кормов, произведенных
звеньями, можно произвести до четырех
миллионов килограммов молока.
Вот, что может дать кукуруза! Вот, что
такое кукуруза!
'Когда-то суеверные- ,с ( еверо-ам(гриканские индейцы племени ирокезов, возделывавшие кукурузу на холмах нынешнего
штата Нью-йорк, считали кукурузу даром божьим, благодарили всевышнего:
«...О
Ха-Вен-Ии-Ю!— молились они.—
Открой уши к словам твоего
народа.
Продолжай слушать. Мы благодарим тебя, о великий Ха-Вен-Ни-К), за то, что
ты послал нам кукурузу!»
Наши советские люди давно покончили
с суеверием. Они пришли к научному мировоззрению. Они знают, что не бог, не
всевышний, партия открыла народу кукурузу, как культуру больших возможностей, раскрепостила ее богатырскую силу. Еще великий Ленин в октябре 1!)21
года указывал, что по возделыванию кукурузы надо принять «меры более быстрые
и более энергичные». Владимир Ильич
требовал «обучить крестьян культуре кукурузы», агротехнике ее возделывания. И
партия под руководством ее ленинского
ЦК обучила крестьян «культуре кукурузы», научила людей побеждать и суровый
климат, и вечную мерзлоту, научила их
творить чудеса.
Советский народ
благодарит
за это
партию и тех, кто с честью выполняют
волю партии — кукурузных чародеев, таких как Николай Кондратюков, Дамба
Жанаев и других.
Эти кукурузных дел мастера одновременно со взятием вторых рубежей в возделывании «королевы полей» в том же
1961 году произвели разведку
боем и
третьих рубежей — возможности получения янтарного зерна кукурузы.
Кто из кукурузоводов Бурятии не завидует тем мастерам, которые получают
с гектара по 100—150 центнеров кукурузного зерна? Пожалуй, все. Но в ком эта
здоровая зависть рождает мечту получать янтарное зерно? Не у всех. Почему?
Одни мало верят бурятской земле, другие не надеются на забайкальский климат и погоду, третьи — не знают досконально особенностей кукурузы, так называемых биологических ее резервов.
Исключение составляют Н. М. Кондратюков, Д. Ж. Жанаев, Г. Д. Пепеляев и
некоторые другие.
Они — люди смелой
мечты, они — люди дела. Они любят бурятскую землю, не обидят ее. Хотя и не
слишком надеются на забайкальский климат, но полагаются больше на себя. Если небо не шлет дождя, то они для орошения достанут воду хоть из-под земли.
Это — не преувеличение, а факт. (Многие
наслышаны о жанаевских колодцах, из
которых поливалась кукурузная плантация).
Что же касается особенностей кукурузы, то многие из них они уже познали
на практике. А о других
особенностях
слышали, знают теоретически. В итоге —
два цолгинских чародея уже вышли на
подступы для штурма третьей ступени в
освоении кукурузы — к получению кукурузного зерна.
Один из таких путей — это подбор сортов с вегетационным сроком, соответствующим условиям долины Хилка. Николай Кондратюков сделал первую разведку боем, поставив опыты с двумя сортами. На двух гектарах испытал сорт «Воронежская-76», на других двух гектарах
— сорт «Чишминский-1». Початки у этих
сортов достигли фазы полной спелости,
дали спелое, годное дли посева зерно.
Оценка урожайности зерна — до 40 центнеров с гектара.
Сорок центнеров зерна — это хорошие,
хорошие результаты!
Только л и ш ь отдельные эпизоды привел из этом великой битвы за «пайс благос.ктениын», за кукурузу, которая идет
на земле Бурятии. Поле этой битвы — поля колхозов и совхозов. Знамя этой битны — изобилие. Герои этой битвы — наши современники, советские люди. Тактический руководитель в битве — наука.
Стратег этой битвы — партия. Цель битвы — победа над природой.
Битва продолжается и в эту шестую
весну семилетки.
119
БИТВЯ ВТОРАЯ
*~'Т\ БИТВА с извечным врагом земледельца — с засухой. Довольно-таки часто навещает она, эта непрошенная гостья, различные уголки и края земного
шара. В X V I I I веке было 34 засушливых
года, в Х!Х веке — 40 засушливых лет, а
в XX веке засушливыми выдались 1905,
1906, 1907, 1911, 1921 и другие годы.
Но у человека против всякого яда есть
противоядие. Против засухи же люди выработали различные
приемы орошения.
Люди издавна научились ценить
влагу.
Недаром это нашло яркое отражение в
многочисленных
легендах и мифах,
в
сказках и улигерах, в пословицах и поговорках. Так, например, народная
мудрость гласит:
«Земля скрывает в себе
клад, ключ к нему — вода», «Через поместье богача проходит арык, через двор
бедняка — пыльная дорога», «Где появляется вода, там начинается жизнь».
Итак, вода — жизнь. И в буквальном
значении слова. Это — аксиома. Подсчитано, что для производства годового запаса продуктов питания на одного взрослого человека требуется свыше 5000 тонн
воды. Велик ли килограмм мяса? Иной
человек его съедает в один присест. Но
для того, чтобы произвести этот килограмм мяса, нужно израсходовать от 37,5
до 75 тонн воды. Велик ли килограмм
хлеба? Его едва хватает на день для одного человека. Но для того, чтобы получить килограмм сухого вещества растениям требуется в засушливых
местах
2800 килограммов воды. Словом, «без воды и ни туды, и ни сюды», как это поется в шуточной песенке.
Борьба за воду — борьба
за жизнь.
Благополучие и процветание стран древних цивилизаций — Индии, Египта, Вавилона, Карфагена и других — было основано на искусственном орошении пустынных земель. Еще Карл Маркс писал, что
«условия климата и почвы, особенно огромные пространства пустыни, тянущиеся
от Сахары через Аравию, Персию, Индию
и Татарию до возвышенностей Азиатского
плоскогорья, сделали систему искусственных
орошений при помощи каналов и
водных сооружений основой восточного
земледелия». А Фридрих Энгельс отмечал:
«Первое условие земледелия здесь (т. е.
на Востоке) — это искусственное орошение... Плодородие земли достигалось искусственным способом, и оно немедленно
исчезало, когда оросительная система приходила в упадок; этим объясняется... и
тот факт, что достаточно
бывало одной
опустошительной войны, чтобы обезлюдить страну и уничтожить ее цивилизацию на сотни лет».
Основатель Коммунистической партии
и Советского государства Владимир Ильич Ленин проявлял глубокий интерес к
вопросам орошения земель. Еще задолго до Великой Октябрьской социалистическом революции В. И. Ленин писал:
120
«...Многие миллионы десятин и в Туркестане и во многих других местах России
«ожидают» не только орошения и всякого
рода «мелиорации», они «ожидают» также освобождения русского земледельческого населения от пережитков крепостного права, от гнета дворянских латифундий, от черносотенной диктатуры в государстве».
Лишь Великий Октябрь избавил народы царской России от гнета капиталистов
и помещиков, от гнета царизма.
Лишь
после этого «многие миллионы десятин
и в Туркестане и во многих других местах России», которые «ожидали» орошения, получили живительную влагу. Лишь
после установления
Советской
власти
стало возможным ставить вопрос о развитии орошения земель в широком мае
штабе и на иной основе.
И вот не прошло и семи месяцев после свершения Великой Октябрьской социалистической революции, как Владимир
Ильич в мае 1918 года, в обстановке разрухи и гражданской войны, нашел время
для того, чтобы заняться вопросами орошения земель, именно тех «многих миллионов десятин и в Туркестане», о которых писал еще задолго до революции.
Им был подписан декрет об организации
оросительных работ в Туркестане и выделены из скудного бюджета того времени 50 миллионов рублей.
В. И. Ленин последовательно и настойчиво добивался разработки широкой программы орошения земель. В апреле 1921
года Владимир Ильич написал в Народный Комиссариат земледелия:
«Ввид\
крайней неотложности вопроса о мерах
борьбы с засухой прошу вас созвать не
медленно
совещание заинтересованных
наркоматов с тем, чтобы проект декрет;,
мог быть внесен, в разработанном и согласованном виде, не позже среды, 27
апреля 1921 года в СТО». Спустя дв;:
дня после этого, 29 апреля 1921 года.
уже было принято постановление Совета
Труды и Обороны за подписью В. И. Ленина. В нем говорилось: «Признать борьбу с засухой делом первостепенной важности для
сельскохозяйственной жизни
страны и мероприятия, предпринимаемые
в этом направлении,— имеющими боево*
значение».
Развитие орошения Владимир
Ильич
Ленин непосредственно связывал со строительством социализма в стране. В письме к коммунистам Горской республики
Кавказа в 1921 году он так охарактеризовал
значение поливного земледелия
«Орошение больше всего нужно и больше
всего пересоздаст
край, возродит
его
похоронит прошлое, укрепит переход к
социализму».
Эти пророческие слова сбылись. На о\:
нове ленинской программы орошения земель пересозданы, возрождены к жизни
многие засушливые края. Что, например,
представляла из себя Голодная степь •
прошлом? Знаменитый ученый-географ и
путешественник
В. П. Семенов — ТянШаньский в свое время писал: «В летнее
время Голодная степь представляет сожженную солнцем, мертвую желто-серую
равнину, которая при палящем зное и
полном отсутствии жизни вполне оправдывает свое название... Уже в мае трава желтеет, краски блекнут, стада угоняются в пески, улетают птицы, черепахи
прячутся по норам, и степь опять обращается в безжизненное, опаленное солнцем пространство... Здесь и там разметанные ветром куски стеблей зонтичных,
похожие на кости, еще более усиливают
гнетущее впечатление, производимое
в
это время Голодной степью».
А теперь что представляет
Голодная
степь? Благодаря большой воде, пришедшей в эти края, пробудилась степь, расцветает из года в год. Хлопкоробы-туркмены назвали Голодную степь Гулистаном — страной цветов, краем плодородия.
Легендарный богатырь Фархад, герой поэтической легенды «Фархад и Ширин»,
ожил и вновь подарил людям
воду,
жизнь.
И такая картина везде и всюду. Представление об этом дают цифры. Если в
1917 году было 4080 тысяч гектаров орошаемых земель, то в 1929 году их стало
4470 тысяч гектаров, в 1937 году — 5820
тысяч гектаров, в 1940 — 6150 тысяч гектаров, а сейчас свыше 9 миллионов гектаров.
Подводя итоги проделанной работы,
тов. Н. С. Хрущев на совещании работников сельского хозяйства Северного Кавказа говорил: «Развитие орошения — это
воплощение в жизнь идей В. И. ЛенинаПартия и народ проделали колоссальную
работу
по
осуществлению
указаний
В. И. Ленина. Поливное земледелие в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Грузии и других республик стало могучим
источником развития экономики, особенно
производства хлопка».
За годы Советской власти ирригация
широкий размах получила и у нас в Бурятии. Республика располагает 175 тысячами гектаров орошаемых земель.
По
размерам орошаемых земель Бурятия вышла на второе место в Российской Федерации.
Эти цифры показывают размах битвы с
засухой в республике. Ведь территория
Бурятии подвержена частой засухе. Недаром она отнесена к зоне недостаточного и неустойчивого у в л а ж н е н и я . Декабрист А. А. Бестужев не без основания
отмечал, что «засуха здесь составляет
почти нормальное состояние климата».
Нельзя возразить столь меткому определению. Только за последние 50 лет
(1913—1963 гг.) у нас в республике дожяливыми выдались лишь три года — в 19И,
1959 и 1962 годах.
Среднегодовая сумма осадков по многолетним данным у нас не превышает и
300 миллиметров. Что это значит? Это
значит, в среднем на гектар выпадает всего лишь 3000 кубометров воды. Много
или мало этой влаги? Крайне мало. Ведь
из этого количества воды, выпадаемон к
виде дождя, снега и града, большая часть
влаги приходится на «мертвые»
сезоны
года — осень и зиму. Очень мало дождя
приходится на раннюю весну и первум
половину лета, когда наиболее ответственный период в росте и развитии растений. Кроме того, значительная часть влаги испаряется под воздействием нещадного забайкальского солнца.
Растениям
достается лишь малая толика выпавших
дождей и влаги растаявшего снега.
Острую нехватку влаги, ее дефицит
можно и нужно восполнять за счет искусственного орошения. Наши предки так
и поступали. Вот перед нами труд декабриста М. К. Кюхельбекера — «Краткий
очерк Забайкальского края». Он написан
в Баргузине более ста лет назад — в
1836 году, а опубликован лишь в 1983.
В нем автор сообщает любопытные сведения. «При горных потоках есть поля,—
пишет М. К. Кюхельбекер,— способные к
искусственной поливке, и ею умеют здесь
хорошо пользоваться. На таких поливных
нолях урожай отличный, далеко превосходящий лучший в России. Здесь считают
порядочною жатвою:
озимы (рожь) —
сам-девять и более;
ярицы — сам-пя1надцать. В изобильный же год уверяют,
будто озимь дает сам-пятнадцать, а ярица — сам-тридцать и даже более. На лето
помянутая искусственная поливка производится посредством запруд, канав и борозд, коими вода разводится на значительные площади, иногда с лишком на
сто десятин. Так что порой смачивают не
только нивы, но и покосы. Этою первою
поливкою увлажняют землю весной до
посева; когда же хлеб укрепнет и начнет
трубиться,
стараются
по возможности
повторять ее. На зиму запруживают горные потоки, дабы промерзли до дна; тогда воды выступают из русла и образуют
обширные массивы льда толщиною на несколько аршин, а в объеме на несколько
десятков десятин. О подобном выступлении воды из-подо льда говорят: «печка
кипит», самый лед называют «накипнем».
незамерзшая же поверх его вода поздешнему — наледь. Есть и натуральные
накипнл».
Это — высокая оценка искусства орошения земель, данная н а ш и м предком,
видавшему виды, перелоиым человеком
своего времени. Примечательно, что н л ш и
предки применяли и влагозарядковын и
вегетационный поливы ппшсн, в борьбе
с засухой разработали аффективный способ намораживания налелей на полях и
покосах. Все это позволяло им добиваться «урожаен», далеко превосходящих лучшие в России».
Хороших урожаев трав на поливных и
удобренных л у г а х , то есть на утугах дооииались буряты. Их достижения нашли
мри 41.тис- по всероссийском масштабе. Об
лом свидетельствуют материалы Нижегородской сельскохозяйственной выставки,
состоявшейся в 1896 году. «Особое внимание публики,— писал один корреспондент того времени,— привлекают экспона-
121
гы, характеризующие хозяйство оурят.
Их удобряемые
покосы, искусственное
орошение покосов, способы владения и
пользования
этими утугами — все это
представляет для специалистов, да и для
большой публики, глубочайший интерес.
Бурятам вообще посчастливилось на Нижегородской выставке, как никаким другим инородцам».
О довольно широком развитии орошения в Бурятии свидетельствуют и материалы Куломзинской комиссии. В них говорится: «...в пахотных общинах, расположенных в бассейне р. Баргузина... орошение пашен применяется издавна... В отдельных общинах поливается от 25 до 100
процентов всех пашен, причем в большей
части селений количество орошаемых полей превышает 60 процентов пахотной
площади. Население здесь до того освоилось с применением ирригации и так ее
ценит, что только те места и считает вполне пригодными для хлебопашества, которые могут быть поливаемы».
«В бурятских общинах Хоринского ведомства, расположенного по р. Чисану,
по отзывам инородцев,— читаем в труде
Н. Бутович,— на поливных пашнях хлеб
родится в 1,5 раза лучше, нежели на неорошаемых полях; в селе Бичурском Бичурской волости крестьяне показали, что
урожаемость «моченой» пашни вдвое выше против снемоченых» полей».
За плечами тружеников Бурятии — богатый многовековый опыт борьбы за влагу, славная традиция поливного земледелия и луговодства. Отрадно, что в наше
время есть носители этого богатого опыта. Наши современники приняли этот
опыт минувших поколений и их традицию
на вооружение в борьбе с капризами
природы. Они обогатили этот опыт и традиции, придали битве с засухой широкий
размах, ввели в бой мощную технику —
бульдозеры и скреперы, экскаваторы и канавокопатели вместо заступа, лома и кирки, дождевальные установки и насосные
станции вместо самотечного орошения.
Битва с засухой идет повсеместно: в
Баргузине и в Бичуре, в Кяхте и Иволге,
в Джиде и Заиграеве.
Передовики поливного земледелия республики много труда и усилий, и опыта
вкладывают в борьбу за урожай, за эффективное использование каждого гектара орошаемой пашни, луга. В республике
всем известны имена таких мастеров поливного земледелия и луговодства, как
Герой Социалистического Труда С. К. Киселев из колхоза «Гигант» Улан-Удэнского производственного управления, кукурузоводов Д. Ж. Жанаева и Н. М. Кокдратюкова из совхоза «Цолгинский», Р. Д.
Гонсорунова из совхоза «Кударннский»,
овощевода П. С. Пурбуевой из колхоза
«Коммунизм», картофелеводов Л. П. Шурыгиной и А. Мильгуновой из совхоза
«Онохойский», луговодов А. И. Батышева
из колхоза имени Тельмана и других. Они
доказали на что способна наша земля.
Благодаря орошению и удобрению полей С. К. Киселев доводил урожайность
пшеницы до 53,7 центнера с гектара, кар122
тофелевод Л. П. Шурыгина получала по
1000 цетнеров клубней с гектара, богатырскую кукурузу выращивают Д. Ж.
Жамаёв, Н. М. Кондратюков, Р. Д. Гонсорунов и другие.
Вот «свежий» пример. Полеводы колхоза «Родина» Кяхтинсхого производственного управления в 1963 году с каждого гектара поливных земель получили
по 30,4 центнера пшеницы. Свекловоды
колхоза «Рассвет» Мухоршибирского производственного управления на
площади
286 гектаров благодаря орошению вырастили по 130 центнеров корней сахарной
свеклы на гектаре. А луговоды колхоза
«Заганский» того же управления тт. Максимов, Калашников и Волошин ежегодно
получают с площади 150 гектаров до 35
центнеров сена с каждого гектара.
В разное время нам пришлось побывать
у многих нынешних мастеров поливного
земледелия — героев битвы с
засухой.
Опишу лишь две поездки, две встречи с
некоторыми из них.
...Село Новая Брянь.
Центр колхоза
«Гигант». На одной из улиц стоит дом
с резными воротами. Висит номерок «76»
с надписью «С. К. Киселев». Зашли в
дом. Хозяин его — Серапион Кириллович
засуетился, задвигал стульями, усадил
нас «повыше», и начался наш разговор
— Никита Сергеевич-то правильно говорит,— оживился, засверкал
глазами
Киселев. — За поливы, да за удобрение
надо как следует взяться. Жаль, здоровье
пошатнулось, а то бы тряхнул стариной...
Да, у Героя Социалистического Труд;:
здоровье пошаливает. То, что он не жалел, не щадил
себя, недосыпал ночей,
бросался в ледяную воду, чтобы починит!,
плотину, дает себя знать. Да и годы-то
его преклонные — восьмой десяток пошел
Мы попросили С. К. Киселева рассказать о своем опыте борьбы с засухой.
— Предстоит большое наступление н
засуху. Ваш опыт может очень даже при
годиться людям. Расскажите о нем,— гп
ворили мы ему.
— Перво-наперво, надо хозяином зем.п'
стать,— начал Серапион
Кириллович.Когда наше звено создавали, нам сказ;|
ли: вот вам напостоянно поливная земл:
вот вам плуги, инвентарь, тягло. За зем
лю несете ответ сполна. Хозяйствуйте.
И мы с головой ушли в работу. Стрг
мились стать настоящими хозяевами зели. Весь свой крестьянский опыт вклады
вали в труд. Подружились с агрономо»
Павлом Кузьмичом Метляевым. Стар.'
лись все применить: и опыт дедов и С"
веты агронома.
Первый же год работы звена увенчалуспехом. В 1940 году нами было полум
но пшеницы на круг со всей закреплгг
ной площади по 25,5 центнера зерна
гектара, в том числе с рекордного ум
стка — по 53, 75 центнера с гектара. ^
это — 328 пудов. Вот что дал гектар н"
ливной и удобренной земли при х о ; м '
ском обращений.
— Чтобы
хлебушко
рос,— расскл ч.
вает далее Серапион Кириллович,— н\ />
но всего в меру: и тепла, и влаги, и \ >
«рении, н у ж н о всего в срок: и пахоты, и
полива, и боронования, ;, сева, и подкормки.
Порой даже трудно сказать, когда именно
начинается борьба за урожай, что именно
больше всего влияет ка урожай: то ли полив, то ли подкормка, то ли боронование.
В нашем хлеборобном деле все важно,
любая мелочь может или выручить, или
подвести. Помнится, нас вместе с агрономом П. К. Метляепым на одном из совещаний в республике крепко поругали,
сказали, что мы увлекаемся боронованием
нолей. А борона — орудие вредное,— повторяли на совещании слова Вильямса.—
Как бы за это увлечение не пришлось
бы их пороть розгами,— угрожали нам.
•\ я им сказал: «Осень покажет, кого пороть». Осень же показала, что пороть-тс;
надо их, наших критиканов. По 24 центнеров зерна получили с гектара.
Не просто, не слепо мы применяли тот
или иной агроприем, а уверенно, наверняка. Взять, к примеру, то же боронование по всходам. Когда мне Павел Кузьмич посоветовал боронить
посевы по
всходам, я пошел на хитрость. Не сказал
агроному, что не буду боронить, так же
не дал и слова, что буду боронить. Поехал в поле и тайком от всех проборонил
по всходам полоску у края посевов. Три
дня переживал за судьбу этой полоски.
На четвертый день облегченно вздохнул
—• всходы
пшеницы на пробороненной
полоске обогнали в росте всходы на непроборонованном поле. Лишь после этого распорядился членам звена
приступить к боронованию по всходам. Но те
отказались. Пришлось долго убеждать их.
доказывать им. Наконец-то уломал-таки
их.
Вот так, от проверки и и с п ы т а н и я отдельных агроприемов мы шли к разработке и внедрению агротехнического комплекса.
Серапион Кириллович и его помощники
по звену за влагу боролись не жчлея, не
щадя себя. И это говорится не ради красного словца. Новобрянцы много раз пытались построить плотину на реке Брпнке, но все безуспешно. Л удалось-таки
обуздать своенравную речку только звену С. К. Киселева. Однако на это ушло
три года. Начали строить запруду в зиму 1940—1941 года. Всю зиму потрудились на сооружении плотины, но весной
половодье разрушило ее. В следующую
:»:му опять взялись за дело с кеменьшмм
упорством, но опять-таки не удержали
весенние воды. Лишь в третью зиму удалось наладить плотину и весной создать
пруд, который односельчане окрестили
Серапиюновым.
Во время строительства пруда Серапиоя Кириллович чуть ке лишился жизни. Бросившись в ледяную воду, чтобы
заткнуть образовавшуюся брешь, он угодил в глубокое место, стал захлебываться. Лишь случайно ухватившись за ветку
тальника, он спасся.
Со строительством пруда звено получило возможность производить не только
влагозарядковый, но и вегетационные поливы. Влагозарядка обычно проводилась
весной, после того, как почва оттаивала
на достаточную глубину. При этом применялся полив по бороздам, а в начале —
«диким напуском». Но этот способ не оправдал себя.
Из-за отсутствия водомеров С. К. Киселев не придерживался никакой поливной нормы. Прекращал полив только когда влага пропитывалась на достаточную
глубину. Пройдет по полю, то там, то тут
копнет лопатой, и видит, насколько пропиталась вода в почву.
— По участку, политому Серапиояом
Кирилловичем,— расказывает Павел Кузьмич Метляев,— невозможно было проехать даже верхом — лошадь увязала. А
по другим участкам свободно разъезжали на автомашинах.
Вегетационные поливы в звене производились по мере надобности.
Вторая встреча с героями битвы с засухой состоялась в колхозе имени Калинина Мухоршибирского производственного управления.
В пади Алташа где расположен колхоз, благодарной памятью пользуются те.
кто здесь впервые провел оросительные
канавы. Их имена увековечены в названиях местностей и канав: Давасанай хубак, Бадугай хубак, Гундугай хубак (канавы Давасана, канавы Бадугай, канавы Гундука).
— Ой, давно проведены они,— начал
рассказывать об истории канав Суграгша
Гармаевич Гармаев, бывалый
человек,
мастер-поливальщик. — Еще прадед сказывал о них деду, а дед моему отцу,
отец — мне. Вот и подсчитайте: мне 78
лет, отец прожил 90 лет, а дед 80 летДавний возраст этим канавам. А как их
проводили? Одними заступами. Глаз был
ватерпасом у наших дедов и прадедов.
Кто не верил своим глазам, тот Врал
ч а ш к у с водой и ею определял уклоны
при проведении канав...
— Умели же они поливать землю! —
восклицает ветеран
колхоза. — От них
наула перешла к нам. Обязан им за науку и я.
Суграгша Гаруаевича мы попросили
рассказать о том, как он полисал землю
и получал отменные урожаи. Он охотно
откликнулся на просьбу.
— До войны,— начал он,— я возглавлял ефремовское звено. В него входили
два моих товарища. Трое обрабатывали
61 гектар посевов пшеницы. Две трети—
44 гектара — из них были под канавой.
Полизать надо уметь.
Это не простак
работа. Некоторые думают: пустил воду
на поля и песню запевай. Нет, полив —
это тяжелый, но зато благодарный труд.
От полива и урожаи ведь. Вода пойдет
по канавам — спать некогда. Днем и ночью приходится разводить воду по пашне. Ночью разведем костер, один или
двое отдыхают возле него, г третий нап р а в л я е т воду куда нужно. Ни на минуту
нельзя оставлять поливные борозды. Надо у п р а в л я т ь потоком воды,
а то нагрянет беда: вода смоет, унесет самый
плодородный слой почвы, обнажит хрящ,
дресву, понаделает овражки. Вода-то и
123
друг, и враг хлебороба. Это надо помнить. Всегда нужно стараться направлять воду по наименьшему уклону. Почему? По меньшему уклону вода течет
тише, медленнее. Вода послушнее делается. Но стоит ее направить по крутому
уклону, как показывает она свой норов.
Зверем делается — все разнесет, разроет,
разрушит. Очень важно смачивать поле
равномерно. Не польешь ровно — урожай
будет пестрым, все кругами получится:
где зелено, где желто, а где и плешины
появятся...
С поливом надо спешить. Нельзя упускать благоприятные сроки. Мы старались в троем поливать по 7 гектаров в
сутки.
Суграгше
Гармаевичу мы прочитали
выдержку
кз старинного документа —
приговора ряда бурятских родов, в котором сказано: «Бескормица минует, падеж
не случится, скотина в доброте и силе
прозимует, а приплод от них будет прибыльный, если только будет сено, источник которого кроется в воде и назьме».
— Хорошо сказано,— отозвался С. Г.
Гармаев. — От одной воды вполсилу работает земля, а с навозом в полную силу
заработает ока. Удобряли землю и мы.
И автомашин и тракторов в наше время
было мало. Возили навоз на лошадях. И
несмотря на это, помногу удобрений вносили в почну. В 1939 году мы внесли на
гектар до 23 тонн навоза. После полива
разбросали навоз, потом разразняли и
запахали его. Затем приступили к севу.
Сеяли перекрестно.
В период кущения
пшеницы производили подкормку растений печной золой — по 3 центнера на гектар.
Заканчивая рассказ о своем опыте, Суграгша Гармаевкч з а к л ю ч и л :
— Полив и удобрение полей сторицей
вознаграждают труд хлебороба. В том
же 1939 году мы получили урожай с 41
гектара го 23 центнера пшеницы, с каждого из них; с 3 гектаров — по 28 центнеров, а с 17 — по 46. В каждом колоске с поливных участков — до 25 зерен.
И я всем скажу: на небо надейся — сам
не плошай! Если с неба нет дождя —
держи на земле воду наготове. Пригодится тушить пожар засухи. То-то!..
И алташейцы держат воду наготове.
Пожару засухи не разгореться на землях
колхоза. Вверх по пади, чуть выше колхозного центра, речка Алташейка, в самом узком и выгодном створе, перехвачена высокой плотиной. А за
плотиной
весной и летом шумит колхозное море.
Это водохранилище. Зеркальная площадь
его —25 гектаров. Наибольшая глубина—
9 метров. Миллион кубометров воды держится в запасе на случай засухи.
Об истории водохранилища, о том, как
используются его воды для целей орошения и о том, какую службу сослужит водохранилище в будущем году — обо всем
этом рассказал председатель колхоза Чимит Митыпович Митыпов, инициатор и
руководитель его строительства.
— Что, прежде всего,— говорит он,—
вынудило нас взяться за строительство
12-1
водохранилища? Поливом угодий колхо.5
занимался и до строительства водохранилища. Источником орошения служили
речка Алташейка, от" которой шли полиьныг канавы к полям. Но с каждым годом
расширялись орошаемые площади и ста
ло не хватать воды в канавах. Вверх;,1
перекроют канаву — внизу поливальщик; ,
простаивают, теряют дорогое время, упускают сроки полива. Бывало и наоборот
Однажды мне пришла мысль: «А что если
построить плотину на реке, создать водохранилище?» Съездил вверх по речке,
высмотрел, где удобно расположить платину. Потом стали совет держать: строить или не строить? Мнения, как всегда,
разделились. Были сторонкики, были и
противники. Поставили вопрос перед колхозным собранием, отстояли план строи
тельства водохранилища, заручились под
держкой
нашего
Бичурского райкома
КПСС и райисполкома, составили проек:
и смету, а вскюе принялись за работу.
Начав возведение плотины в 1959 го
ду, закончили его к весне 1950 года. Про
тив ожидания
строительство
плотины
обошлось колхозу очень дешево. Бичурской РТС, которая была
подрядчиком,
уплатили 5436 рублей. Кроме того, колхоз затратил 4850 трудодней на сумм\
2913 рублей,
произвел своей техникой
тракторных работ на 836 гектаров мягкой
пахоты на сумму 2090 рублей и работ ни
конном тягле на 500 рублей. Следовательно, строительство хранилища обошлось в 10.939 рублей.
Эти затраты уже окупились в 1961 году — за счет прибавки в урожае зерновых культур, сахарной свеклы и трав на
лугах, которая получена благодаря орошению. В течение 1962 и 1983 годов во
дохранилище работало только
на при
быль. За счет полива угодий водами и.:
колхозного моря получено дополнитель
но урожая на 10874 рубля от зерновых
культур, 1020 рублей— от сахарной свеклы
и 4200 рублей — от дополнительного сена
Всего прибыль от водохранилища состгвп
ла 16094 рубля. А на эти деньги можн^
будет возвести новую плотину в пади Хай
цагар. Таким образом, водохранилище
окупило себя, и «заработало» средства п.-.
новое водохранилище!
— Сейчас,— продолжал Чимит Митыпс
вич,— все колхозники убедились, что во
дохрани.чяще— стоящее дело. Те, кото
рые сомневались, считали строительстао
его ненужной затеей, говорят: «Спасибо'
Надоумили нас». Приятно отметить, что
многие члены колхоза отличились на во;
ведении плотины, вложили много труда и
это дело. Особенной похвалы заслужи
вает колхозник Гавриил Матвеевич Аф^
насьев. В период строительства он днеса.,
и ночевал на стройке. А когда закончил*
водохранилище, тогда вызвался охранять
плотину и регулировать уровень воды I:
водохранилище. Два года добровольно
выполнял эту работу, не требуя за свой
труд особой платы. Когда в 1961 гоз»
на общем собрании я внес предложена•
об установлении платы за охрану вод*
хранилища, то некоторые возразили: «Зачем, мол?» Но колхозники настояли на
том, чтобы оплачивать труд тов. Афанасьева. «Пожалеем 30 трудодней, а вдруг вода
прибудет, прорвет плотину. Тогда — прощай
наши десять тысяч»,— рассуждали колхозники.
И Гавриил Матвеевич Афанасьев сейчас — «директор» колхозного водохранилища. Дежурит, регулирует уровень воды
в нем. Развел рыбок. В водоеме прижились зеркальный карп, амурский
сазан,
лещ и хариус. От трех карпов, когда-то
завезенных с карпового питомника кандидатом наук т. Ватутиным, в колхозном
морг развелись многочисленные косяки.
Уже сейчас рыба в нашем водоеме представляет промысловой интерес. ЕСЛИ нам
научиться разводить рыб по всем правилам, то колхоз может ежегодно получать
до 500 центнеров рыбы на сумму до 40
тысяч рублей. А это — почти даровой доход! Думаю, что рыбоводы и научные
работники помогут колхозу в этом.
— Немного
отвлекся, — спохватился
Ч. М. Митыпов.— Рыба—это хорошо. Но
пшеница еще лучше. Сознаем, мы допусяали ошибки, проявляли робость — мало
размещали пшеницы на поливных землях.
Эту ошибку исправляем в 1964 году. На
поливе у нас будет возделываться 800
гектаров пшеницы. Наше водохранилище
обеспечит не только влагозарядковый, но
и вегетационные поливы таких больших
массивов.
800 гектаров пшеницы на поливе... Это
— размах! И мы попросили Чимкта Митыповича подробно рассказать об этом.
— Полив дает хорошие результаты,—
продолжает
председатель
колхоза.— В
1963 году первая комплексная бригада на
полизных землях разместила 197 гектаров
пшеницы, а на суходолах—613 гектаров.
В то время, когда г гектара суходола получено по 10,1 центнера зерна, с гектара
поливной пашни собрано по 15 центнеров
пшеницы. В том числе с 42 гектаров — по
17,75 центнера, с 49 — по 16 и с 17 гектаров—по 25 центнеров пшеницы. Себестоимость центнера зерна с суходола составила 2 рубля 61 коп., а с поливных участков — 1 рубль 48 копеек. Центнер пшеницы на поливе почти в два раза дешевле, чем на богаре.
— Мы составили план размещения пшеницы на поливных землях, определили,
кто. где и сколько будет сеять ее.
В отличие от прошлых лет в 1954 году вся пшеница на поливных землях будет удобряться не только органическими,
но и минеральными удобрениями. При сэставлечии плана удобрения полей мы исходили из принципа: там, где пшеница
размещается по пару, или после гороха,—
вносятся минеральные удобрения,
где
пшеница идет по пшенице —вносится иаво'.. Всего под пшеницу будет
внесено
9140 тонн навоза. Это — на 502 гектара.
Доза внесения на гектар —по 20 тонн на
302 гектарах, по 15 тонн —на 200 гектарах.
Минеральных же удобрений под пшеницу будет всего внесено 731 центнер,—
это на 275 гектаров. Норма на каждый
гектар по 2—3 центнера. Недостаток минеральных удобрений удерживает нас от
того, чтобы сочетать их с органическими
удобрениями. Но в порядке опыта на участке Бадук-хобо мы применим совместное внесение минеральных и навозных
удобрений. На площади 42 гектара внесем 840 тонн навоза и 126 центнеров минеральных удобрений, или по 20 тонн навоза и по 3 центнера минеральных удобрений на гектар.
К вывозке навоза на поля приступили
давно. Завоз минеральных
удобрений
продолжается. Свыше 30 тонн суперфосфата и аммиачной селитры уже хранятся в колхозных складах.
800 гектаров пшеницы будут поливаться весной в порядке влагозарядки, а в
период роста и развития растений — как
вегетщионные (по мере надобности). В
колхозе подобраны
49
поливальщиков
для полива пшеницы, а позже с н:ши будут проведены занятия на специальном
семинаре.
— А теперь заглянем в экономику орошаемого земледелия,— говорит Ч. М. Митыпов и демонстрирует таблицы, колонки
цифр.— Вот, что получается. От 600 гектаров посевов пшеницы планируем получить 15.424 центнера зерна. Если бы пшеница не была поливной, то получили бы
немногим более восьми тысяч центнеров
зерна. По нашим наметкам полив и удобрение дадут 7280 центнеров дополнительного зерна. По государстзенным закупочным ценам стоимость этой прибавки
в
урожае составит 61.880 рублей.
Стоит ли ради этой суммы производить затраты по поливу 11 удобрению полей, то есть брать на себя дополнительные заботы и затраты? Окупятся ли затраты, вознаградятся ли наши заботы и
труд?
Да, окупятся. Да, вознаградятся.
Стоимость 731 центнера минеральных удобрений составляет 1809 рублей. Чтобы получить, окучить, погрузить, вывезти, разбросать и заделать в почву тонну навоза,
по действующим в колхозе нормам и расценкам нужно затратить на вывозке 18
копеек, погрузке и разгрузке—17 копеек,
окучивании и заделке —17,5 копеех. Итого
52,5 копейки будет стоить тонна, следовательно стоимость всего вывезенного и
заделанного в почву навоза составит
4798 рублей. Затраты же на полип составят 2,4 трудодня на гектар. Если стоимость трудодня взять по 75 копеек, то на
полив одного гектара будет израсходовано по 3 рубля, или па осю площадь 800
гектаров—2400 рублей. Таким образом,
всего на полив и удобрение 800 гектаров
пшеницы будет израсходовано 9007 рублей. Если вычесть эту сумму из 61.880
рублей дополнительной выручки, то чистый доход составит 52.873 рубля. А это—
большие деньги!
В расчете на гектар затраты на полип
и удобрение составят 11 руб. 20 коп. А
дополнительной прибыли этот гектар пшеницы даст 66 руб. 90 коп. Следовательно,
рубль, вложенный на орошение и удобоение пшеницы, вернется колхозу 6 рубля-
125
ми прибыли. Вот, какие большие
возможности заложены в удобрении и поливе зерновых культур, в особенности пшеницы.
Наши подсчеты
являются
реальными.
Почему? Потому что мы запланировали
реальную, даже несколько заниженную
урожайность пшеницы с поливных участков—в среднем по 19,3 центнера с гектара. Правда, на участке Култук мы наметили урожайность по 25 центнеров пшеницы с гектара, на Бадук-хобо—по 22
центнера, на участках Птичник и Стрелка
—по 20 центнеров. В первый год массового сева пшеницы на поливе мы не можем
рисковать по понятным причинам.
Большие резервы повышения экономической эффективности орошения и удобрения полей кроются и в механизации
работ по поливу и удобрению,—заключает Ч. М. Митыпов.
' ЕЛОВР.К только что вернулся из
Москвы. Человеку есть о чем рассказать, есть чем поделиться. Новость номер
один он привез из столицы.
Спешим к нему, берем интервью. Слушаем и записываем. Изредка вставляем
вопросы.
Этот
человек—Николай
Николаевич
Хороших,
начальник
Мухоршибирского
производственного
колхозно-совхозного
управления. Он — участник
декабрьского
Пленума ЦК КПСС.
— Не забуду этого Пленума,— говорит
он. — С Пленума старт взяла большая
химия. Никита Сергеевич Хрущев заяви;;:
«Если бы был жив Владимир Ильич Ленин, то, видимо, сейчас он сказал бы примерно так: «Коммунизм—есть Советская
власть плюс электрификация всей страны,
плюс химизация народного хозяйства».
— В значении химии,—продолжает Николам Николаевич,—мы убедились давно.
За все эти годы на полях хозяйств нашего управления славно поработала химия. Она совершила «разведку боем»-для
большой химии.
Наш собеседник приводит цифры, много
цифр. Каждця из них — хвалебная
ода
чудеснице — химии. Вот примеры. Николай
Николаевич Кондратюков, знатный кукурузовод республики, всего лишь около килограмма полимикроудобрений «ПМУ—7»
потратил на гектар посевов
кукурузы,
а за счет этого дополнительно получил с
гектара 80 центнеров зеленой массы. Всего
прибавка
урожая
от применения
«ПМУ-7» на площади 122 гектара составила
4760 центнеров. Другой знатный кукурузовод Дамба Жанаевич Жанаев из того
же совхоза «Цолгинский», сосед Н. М.
Кондратюкова,
дополнительно
получи.;
7000 центнеров зеленой массы кукурузы
за счет применения чудодейственного порошка «ПМУ—7».
Мастер
высоких урожаев «сладкого
корня»—сахарной свеклы—Евсей
Маркович Павлов, ззекьевой из колхоза имени
X X I партийного съезда, за счет применения химических удобрений добился прибавки урожая корней сахарной свеклы ни
6234 центнера.
9,5—12,3 тысячи центнеров янтарное
пшеницы в виде прибавки получили хизяйства управления от применения авиахимической прополки
посевов гербицидами с одновременным внесением внекорневой подкормки химическими удобрения
ми.
Вот. что такое
химия!—заключаем
беседу Н. Н. Хороших.
Да, действительно химия настоящая ч\
десница. Примеры благотворного влияние
химических удобрений, химических в».
ществ защиты растений на урожай можн
продолжить. В минувшем году на поля
колхозов и совхозов республики внесен
5773 тонны минеральных " удобрений. Я
повсеместно результаты получены хср->
шие.
; -
А. БЕЛОУСОВ
БУРЯТИЯ В РУССКОЙ
РОМАНТИЧЕСКОЙ
ЛИРИКЕ
20—30-х годов XIX века
(Из истории русско-бурятских литературных связей)
Г ОМАНТИЗМ в его прогрессивном ответвлении,
отражавшем
революционные
настроения
декабризма,
получил уже
в самом своем возникновении небывало
широкое распространение. Произведения
писателей-романтиков читала вся грамотная Россия.
Необычайная популярность
их произведений объясняется прежде всего близостью идей декабризма народным
массам. Страстное обличение гнета и бесправия, актисная проповедь борьбы
за
свободу и счастье народа находили живой
и непосредственный отклик в широких демократических кругах, задавленных к р е постничеством и самодержавием.
Широкой популярности прогрессивного
романтизма во многом способствовало и
то обстоятельство, что у истокоз нового
литературного течения стояли самые талантливые поэты и прозаики начала века,
деятели освободительного движения—декабристы во главе с гениальны?.: поэтом,
национальной гордостью русского народа — А. С. Пушкиным.
Под влиянием декабристов в Восточной
Сибири стали
возникать
литературногворческие кружки, а вместе с ними и рукописные газеты и ж у р н а л ы .
Романтизм увлек и сибирскую моло. Южные поэмы Пушкина не только
1вели читателя-сибиряка в мир подлинной
Ьюэзии, увлекли чистотой и благородством
рысоких помыслов героев, но и познако1ИЛП с жизнью народов юга России и
Кавказа, имеющей некоторое сходство с
гоченым бытом бурят.
Подражая высоким р о м а н т и ч е с к и м об
|азцам, сибирские поэты пытаются со_>1ать оригинальные произведении, по-своеотражающие ж и з н ь народов Сибири.
Правда, многое из написанного писателями-сибиряками не выходило за
пределы
поверхностного подражания литературной
моде тех лет, однако нередко встречались
и далеко не бесплодные попытки, расширяющие наше представление о ппогрессивном романтизме 20—30-х годов.
О,
'ДНН.М из зачинателей оригинальной
сибирской
литературы,
тесно
связанным с художественной практикой декабристов, был Федор Иванович Бальдауф,
сибиряк-забайкалец, горный инженер Нерчинских рудников.
В 1813 году мальчик-подросток Ф. Бальдауф (он родился в 1800 году на Благодатном руднике Нерчинского горного округа) прибыл из далекого Забайкалья в
Петербург и поступил в горный кадетский корпус.
Здесь, как и в других учебных заведениях столицы, большое внимание уделялось изучению изящной словесности, музыки и живописи.
Пробуждению литературных наклонностей среди воспитанников корпуса во многом содействовал преподаватель словесности А. А. Никитин, известный поэт, активный член Вольного общества любителей российской словесности, являвшегося
легальным органом
Союза
благоденствия.
По установившейся традиции
ежегодные публичные экзамены по литературе
н Горном корпусе посещали признанные
авторитеты российской изящной словесности— II. М. Карамзин, И. А. Крылов,
В. А. Жукоиский. Воспитанники корпуса
127
не только читали классические
образцы
отечественной литературы, но и выносила
на суд
общественности и собственные
«опыты в изящной словесности».
Опытный педагог и поэт — А. А. Никитин обратил внимание на художественную
одаренность своего воспитанника—Ф. Баль
дауфа — автора «филозофических» стихов ,!
едких эпиграмм.
Впоследствии, в числе группы воспитанников горного корпуса, Ф. Бальдауф
стал появляться на собраниях Вольного
общества любителей российской словесности. С упоением слушал он страстные
политические речи будущих декабристов,
яркие и волнующие стихи, прославляющие вольность и свободу, разоблачающие
деспотизм и самовластье. Это была пора,
когда, по признанию самого царя, Россия
была наводнена «возмутительными стихами» Пушкина, которые читала
наизусть
лея молодежь.
Вольное общество любителей российской
словесности было основано в 1816 г. Наибольшая активность в деятельности общества отмечена 1818 и последующими
годами, когда во главе его
становится
«активнейший и убежденный член Союза
благоденствия» — Федор Глинка.
За три года (с 1818 по 1821) в общестпо вступают — А. Дельвиг, В. Кюхельбекер, Александр и Николай Бестужевы.
К. Рылеев, А. Корнилович и другие.
В эти годы Ф. Бальдауф знакомится со
всеми вновь принятыми членами общест•13, сходит в круг их общественных интересов, принимает участие в издании журнала «Соревнователь просвещения и благотворения». В 1819 году в майской книжке «Соревнователя»
появилась
первпя
«тунгусская» повесть Федора Бальдауфа
«Кавнту и Тунгильби», подписанная криптонимом «Ф. Б...», а в следующей книжке
журнала — элегия «Пловец».
Несмотря на традиционный сюжет повести — трагическая любовь охотника Кавнту к красавице Тунгильби — начинающий
писатель пытался
изобразить
природу
степного Забайкалья, жизнь и быт ее
обитателей — тунгусов Даурии, известных
ему по впечатлениям раннего детства.
С годами, под влиянием литературного
окружения, в произведениях Бальдауфа
все отчетливее стали звучать гражданские, свободолюбивые мотивы. Годы, проведенные в кругу литераторов Вольного
общества, оказали огромное влияние на
творчество начинающего поэта.
Известные литераторы той поры, члены
Вольного общества, дружески и заботлино относились к юноше-поэту, не оставляя
его без внимания и помощи. На всю
жизнь запомнил
Бальдауф
«сердечное
бодрое слово», услышанное им от А. Бестужева в дни тяжелых
переживаний
осенью 1819 года, когда пришло известие
о трагической гибели отца.
В июле 1823 года Ф. Бальдауф, успешно сдав выпускные экзамены, получил аттестат об окончании горного корпуса. Минуло около десяти лет петербургской жизни со всеми ее радостями и огорчениями.
128
Здесь, в столице, под влиянием
своих
учителей и наставников Бальдауф приоб
шился к революционной мысли того вре
мени, познал радость и муки твор'чества.
По прибытии в Нерчинск. Бальдауф.
был определен в горное училище в качестве преподавателя. С первых же дней
работы он произвел неблагоприятное впечатление на начальника Нерчинских заводов Бурнашева, человека мстительного и
властного,
пользовавшегося
широкими
полномочиями. О Бальдауфе сложилось
мнение как о вольнодумце с независимым
характером, непочтительно относящемся
к начальству. Этого было вполне достаточно, чтобы впасть в опалу.
Но если неприязненное отношение к
Бальдауфу со стороны правителя Нерчинских заводов и его ближайшего окруже
ния можно было объяснить на первых
порах личными качествами молодого инженера, то последующие репрессивные меры, принятые генерал-губернатором Вое
точной Сибири после восстания на Сенатской площади, следует понимать как доказанное соучастие Бальдауфа в декабристском движении.
По сохранившимся архивным документам
и свидетельствам
современников.
Бальдауф был взят под особый надзор
после прибытия первой же партии декабристов в Нерчинский горный округ в октябре 1826 года, вскоре был отстранен от
работы в училище и, для удобства надзора,
на первых порах определен
секретарем
военно-судной комиссии.
Впоследствии меры, принятые Бурнаше
вым, показались недостаточно эффективными, так как не устраняли возможности
контакта вольнодумца с прибывшими сюда
«государственными преступниками». В мае
1828 года Бальдауф был командирован и;]
длительный срок для обследования соля
ных запасов даурских озер.
После
возвращения
из командировки
Ф. Бальдауф имел встречу с генерал-губернатором Восточной Сибири Лавинским.
следствием которой и явилось новое наз
начение — горным надзирателем в Шнлку.
Назначение в шилкинскую глушь фактиче
ски означало ссылку, что подтверждалось
запретом что-либо писать в журналы бе^.
ведома и разрешения начальства.
Шилкинская ссылка Ф. Бальдауфа про
должалась ровно два года. Осенью 1830
года, после перевода декабристов в боле«
«спокойное» и «надежное» место — в Пет
ровский завод, он был вновь «водворен
на прежнее место учителя горное >-,,..,..
ща.
Несмотря на продолжающиеся преследо
вания он не пал духом, ничем не пост\
пился в своих взглядах и убеждениях.
Лишенный возможности личного кои
такта с декабристами, поднадзорный Баль
дауф широко использовал свои Нерчинска
знакомства для установления связей с у^
никами Читинского, а потом и Петрозаводского острога. По дошедшим до ш
отрывочным записям, х р а н я щ и м с я в гн
бирских а р х и в а х , известно, что в 1832
1833 годах Бальдауф поддерживал и л и
более близкие связи с нерчинскими купеческими семьями А. Белокопытова и Кандинскими. Интересы поэта к купеческим
семьям вполне объяснимы. А. Белокопытов сдавал в аренду свой дом в Чите женам декабристов, со многими «государственными преступниками» он был хорошо
знаком, своих приятелей купец навещал и
в Петровском Заводе. Эта возможность
свободного общения Белокопытова с декабристами использовалась Бальдауфом в
поддержании письменных связей с друзьями-единомышленниками.
Семьи Кондинских привлекала внимание
Бальдауфа своими культурными интересами. Братья Кондинские любили литературу и искусство, их дом охотно посещали инженеры, учителя, врачи и
даже
ссыльные поляки. Здесь постоянно устраивались дискуссии по вопросам политики,
проводились музыкальные вечера, горячо
и заинтересованно обсуждались произведения Пушкина и Гоголя, новинки художественной литературы. Кондинские выписывали почти все столичные газеты и журналы.
Среди нерчинского окружения
поэтл
нашлись и люди по-настоящему понимающие литературу. Участник польского восстания доктор Бопре, вдумчивый читатель
и строгий критик произведений Бальдауфа, настоятельно советовал своему «другу-стихотворцу» перейти от малых форм
к крупному эпическому полотну. С неизменным интересом относились к творчеству Бальдауфа и братья Кондинские.
Однако вновь созданный кружок любителей словесности не мог удовлетворить
Бальдауфа. Он понимал, что для Кондинских поэзия — дань моде, остальные же чле. ны кружка — подчиненные люди, зависимые от произвола начальства.
Как и следовало ожидать, кружок любителей словесности
вскоре
распался.
. Один за другим стали выбывать, полу| чая новые назначения, друзья по кадетскому корпусу
(А. Кулибин, А. Тгскин,
Н. Фриш), политический ссыльный Бопре
был переведен в более уединенное и потому «надежное» место — в Кадаинский рудник.
Перевод Бопре служил как бы косвенным напоминанием о возможной «перемене места» и Бальдауфу: его эпиграммы на
злобу дня и экспромты «по случаю» вновь
стали
распространяться
по
городу.
Ф. Бальдауф, понимая реальность нависшей угрозы, настоятельно просил начальника Нерчинских заводов отправить его,
как и в 1828 году, на поиски соляных запасов в Даурию.
Просьба Бальдауфа была удовлетворе;на. Лето 1834 года было едва ли не саым продуктивным за весь период
его
нзни на родине, ставшей для поэта
рашной неволей. Оказавшись в степном
росторе, вдали от «всевидящего ока» на:альства, он вновь почувствовал себя сво|Дным и независимым человеком. При
льное изучение ж и з н и бурят, друже:ие связи с людьми, к о ч у ю щ и м и в стсах Забайкалья,
дали поэту-романтику
9. «Байкал» № 1.
новую тему, расширявшую пределы «литературной географии» страны. С большим вдохновением работал Бальдауф над
осуществлением своих творческих замыслов, возникших в степном просторе.
Осенью 1834 г. Бальдауф возвратился в
Нерчинск. Он привез из степей новые стихи, воспевавшие быт бурят, их нравы и
верования.
С годами круг ограничений сжимался
все теснее: негде было печатать произведения, в обстановке неусыпного надзора
все труднее стало поддерживать связи с
декабристами, в стране усиливалась реакция. Особенно тяжким для Ф. Бальдауфа
был 1837 год, принесший одну за другой
страшные вести о гибели А. Пушкина и
А. Бестужева. Трагическая гибель великого поэта и популярного писателя-декабриста невольно наталкивала Бальдауфа на
сопоставления со всеми явлениями русской жизни, принимавшей особо жестокие
и нетерпимые формы здесь, на каторжных
заводах Нерчинска. Потеряв всякие надежды на -лучшее, он решил во что бы то
ни стало добиться разрешения на выезд в
столицу, навсегда покинуть родину, ставшую злой мачехой.
Ф. Бальдауф обращается за помощью
к своим влиятельным товарищам, пишет
стихотворные послания к начальству с
просьбой о перемещении в Петербург.
Однако его просьбы не были приняты во
внимание. На помощь опальному поэту
пришел вновь обретенный друг Дохтуров,
медик-хирург с крупными связями и знакомствами, сумевший повлиять на начальника заводов Татаринова. В январе 1839
года Ф. Бальдауф был командирован в
Петербург в качестве
сопровождающего
заводского обоза с серебром.
Поездка в столицу Бальдауфа не входила в расчеты ни заводского начальства.
ни канцелярии Бенкендорфа. Больше того,
появление в Петербурге . опального поэта,
свидетеля изуверских жестокостей царизма в Сибири, могло послужить новым поводом для возбуждения молодежи, сочувствующей декабристам.
Особенно волновало третье
отделение
то, что Бальдауф, освободившись от контроля, мог широко использовать свои сибирские знакомства в поддержании связей
с декабристами,
минуя
установленный
Бенкендорфом порядок. Все это вместе
взятое и заставило п р и н я т ь необходимые
меры, предотвращающие возвращение в
столицу Бальдауфа.
Караван из далекой Перчи
медленно
продвигался на запад. Где-то на Урале
утром 5 мая 1839 г., м и н у я городскую заставу, Ф. И. Бальдауф, по утверждению Боганшва, приподнялся п возке, чтобы еще раз
взглянуть на сшкчощне вдали горы. Один
миг — п полосатый ш л л г б а у м опустился на
голову почта...
В «нелепом стечении
обстоятельств»,
как до недавнего времени объясняли трагическую гибель Бальдауфа, нетрудно усмотреть преднамеренное и заранее обдуманное убийство. Шлагбаум, направленный рукой будочника, безошибочно опус-
129
тился на непокорную голову поэта, оставшегося верным революционным традициям
декабризма.
Л ИТЕРАТУРНОЕ
ПРИЗВАНИЕ Ф. Бальдауфа отчетливо проявилось с первых лет
пребывания в горном корпусе; он принимал живое участие в издании рукописного
журнала «Пилигрим», легко и непринужденно писал юмористические стихи, меткие эпиграммы и посвящения.
Уже в первом печатном произведении
«Кавиту и Тунгильби» («Соревнователь?/,
май 1819), Бальдауф выступил как сто
ронник прогрессивного романтизма. В своей повести он прославлял сильных и вольнолюбивых жителей степных просторов —
красавицу Кавиту и смелого
охотника
Тунгильби, борющихся за свое
счастье.
Повесть начинающего писателя была в
числе тех произведений, которые противостояли мистическому романтизму Жуковского, проповедовавшего покорность судьбе и «таинственным» силам природы.
Ф. Бальдауф с напряженным вниманием
следил за политической жизнью Европы.
Вместе со всеми прогрессивными людьми
той поры он восторженно приветствовал
греческое восстание, вспыхнувшее весной
1821 г.
Первым поэтическим откликом Бальдауфа на это глубоко волнующее
событие
явилась его поэма «Дунай», отдельные
главы которой обсуждались на заседании
Вольного общества уже в мае 1821 года
(восстание греческих патриотов, как известно, началось в апреле 1821 г.).
На заседании общества, как это следует
из записей А. Белокопытова, присутствовали К. Рылеев, Ф. Глинка, А. Никитин и
другие. Отрывок из поэмы Бальдауфа читал А. Бестужев.
Отрывок из поэмы «Дунай», к сожалению, до нас не дошедший, получил единодушное одобрение
присутствовавших и
был «избран» для напечатания в журнале
«Соревнователь просвещения».
Если принять во внимание, что стихи
А. Пушкина, посвященные греческому восстанию,— «Война» и «Генералу Пущину*
— были написаны лишь в конце 1821 г..
есть все основания полагать, что отрывок
из позмы Бальдауфа «Дунай» был первым
по времени поэтическим откликом на движение греческих патриотов в русской прогрессивной литературе.
В том же 1821 г. в журнале «Благонамеренный» была напечатана элегия Бальдауфа «Вечер на берегу Байкала», отражающая сложные и противоречивые чувства поэта. Прощаясь с прошлым, с невозвратимой порой детства автор вопрошает
грядущее:
Куда ведет меня угрюмая судьба?
Что бесприютного в пустыне ожидает?
Почто в душе моей свирепая борьба
Живых страстей не умолкает?..
Размышляя о «древности седой, о гибельной судьбе сибирских ханов», автор
К'О
далек от идеализации прошлого Сибиря.
темных преданий, исчезнувших в веках.
Говоря о «гибельной судьбе
сибирских
ханов», поэт недвусмысленно напоминает
«властителям и судиям» о их собственное
судьбе, о забвении их ожидающем:
Смотрите сильные! Здесь под землей
лежит
В развалинах обитель властелина;
Об латы витязя со скрежетом звучит
Убогий плуг поселянина!.
Что вы оставите от славы и побед?
Горсть праха под холмом пустыни
одичалой!
И никогда не воспомянет свет
Покинутых молвой усталой...
Элегические настроения, свойсгвенные
произведению в целом, сменились в этой
строфе энергичным стихом в духе декабристской поэзии, предупреждающей «ханов» — притеснителей народа о часе неминуемой расплаты.
Элегия Бальдауфа
«Вечер на берег>
Байкала», по утверждению М. К. Азадовского, является «одним из самых ранних
отражений в русской лирике
сибирской
природы. Кажется,— предполагает исследователь,— это, вместе с тем, первое упоминание Байкала в поэзии».
В первый же год пребывания в Нерчинске Бальдауф, непосредственно связанный с жизнью горнозаводских рабочих,
задумал написать поэму о горняках, в невыносимо тяжких условиях
добывающих
ценную для казны руду. Первой попыт
кой в реализации творческого
замысле
поэта, видимо, следует назвать баллад;,
«Кузнец», написанную вскоре после прибытия в Нерчинск. В рамках избранного
жанра автору, пожалуй, больше удалое;
передать чувства и настроения кузнеца
которому досталось в наследство
Нужда, утомленье и голод,
Да долгие, полные горестью дни,
Работа и тягостный молотШирокой картины труда рабочего в ба.;
ладе ' не получилось, это,
по-виднмом\
понимал и сам автор. «Ему хотелось,— н
свидетельству А. Таскина,—создать что
нибудь горное». «Я сумел бы,— говори.:
поэт,— изобразить наши подземелья, внуч
ренность рудников, этот полусвет у забог
и смесь синевы с бледностью на лицах р\
докопов перед огнем бленды, и мрак вд.:
ли от забоев, и звон цепей на ног
ссыльных, работающих у насосов».
Однако изображение каторжного тру
рабочих рудников не входило в расчет,
хозяев, а поэтическая активность вно
прибывшего инженера настораживала и
чальство, о чем он вскоре и был 01!
циально предупрежден.
Заброшена задумчивая лира,
На ней лежит маркшейдерский
прибор
с грустью
писал
Бальдауф
в одном и
посланий, адресованном д р у г у школьных
лет — Кулибину.
Работа в горном училище с одновременным исполнением канцелярских обязанностей в управлении заводов, непрерывные полицейские преследования и семейные несчастья на многие годы оторвали
поэта от любимых занятий. Неоднократные ходатайства Бальдауфа об освобождении от канцелярской работы успеха не
имели, каждый раз он получал отказ.
В мае 1823 года, в связи с заговором о
вооруженном восстании в
Зерентуйском
руднике, напуганное начальство, в целях
безопасности, срочно направило Ф. Бальдауфа в экспедицию по разведке соляных
запасов в степях Даурии. Бальдауф был
командирован на Дабасу-нор—соляное
озеро в долине реки Онон — на весь летний период до наступления заморозков.
Длительное пребывание опального поэта
в глухой даурской степи, населенной кочевниками-бурятами, по убеждению начальства, должно было стать равносильным тюремному заключению. Человек с
тяжелым и неуживчивым характером, как
представляла Бальдауфа нерчинская администрация, без того усугубит свою изолирозанность и окажется на положении
отвергнутого обществом бунтаря. Окруженный «дикими» кочевниками, не зная
их языка и быта, Бальдауф, как полагал
начальник Нерчинских заводов, невольно
впадет в меланхолию и примирится с существующей действительностью.
Однако жизнь опровергла «предначертания» чиновников горного ведомства. Не
ретивым начальником, а простым и добрым человеком пришел Бальдауф в юрту
степняка-скотовода и вопреки злобным
пророчествам был принят здесь как свой
человек. Впервые за многие годы он почувствовал себя легко и непринужденно.
Свободный от всякого притеснения начальства, повседневного контроля и мелочной опеки, поэт смог вернуться к любимым занятиям.
Ф. Бальдауф увлекся краеведением н
этнографией, историческим прошлым бурятского народа. Увлечение памятниками
древней культуры нашло свое отражение
и в стихах Бальдауфа. В одном из них,
написанном спустя несколько лет, поэг
писал:
Здесь в сумраке степей, в уединеньи,
Где след минувшего давно успел
остыть,
Сильней кипит порыв воображенья,
Здесь тихим шепотом преданье говорит.
Ф. Бальдауфа интересовало не только
далекое прошлое степного края, но и его
настоящее. Внимательно изучая
жизнь
бурят, их быт и нравы, устно-поэтическое
творчество, поэт приобщился к самым истокам народной поэзии.
Изоляция Бальдауфа от «культурного»
общества нсрчиаских чиновников дала совершенно неожиданный результат: поэт
вновь обрел свою музу. В чистых и звуч-
ных стихах его, последователя Пушкина,,
продолжателя декабристских
традиций,
впервые в русской литературе был создан,
обаятельный образ бурятки, дочери даурских степей.
Преодолевая литературные
шаблоны «романтической» поэмы, автор
не только создал запоминающийся образ красавицы-бурятки, но и сумел передать некоторые черты народной жизни.
Вот полный текст стихотворения, создан
ного Бальдауфом н даурской степи
н
впервые обнародованного в рукописном
ежемесячнике «Нерчинско-заводского наблюдателя» после смерти автора (186С>.
Л» X I ) .
К БУРЯТКЕ
Люблю я странный твой наряд,
Твои неловкие движенья.
Люблю я твой нескромный взгляд
И чуждой речи выраженья...
Я помню вечер: вкруг огня
Твои родные все сидели.
И ты смотрела на меня,
Как я, больной, склонясь к постели,
В припадке тягостном страдал,
Заснули все, но я не спал...
Мечты сменялися мечтами;
Твои я вздохи узнавал —
И беспокойными очами
Тебя во мгле густой искал.
Я помню утро: закипал
Душистый чай в котле широком,
А ты в молчании глубоком,
Склонясь к узорчатым коврам,
Своим молилася богам.
Не обо мне ли, одиноком...
(Ах, не разрушь моей мечты!),
Не обо мне ль молилась ты?
Быть может, скромною тропою
И я до счастья добреду;
Тогда, растроганный мечтою,
Про Борзю песню заведу.
В ней имя Бальджи будет всюду —
И я до гроба не забуду
Твое прощальное: «мэнду»!
В стихотворении «К бурятке», как в зародыше, заложены почти все необходимые компоненты романтической поэмы.
Здесь и страждущий русский, попавший в
среду кочевников, и влюбленная в
него
дева степей, н ярко выраженный восточный колорит стиха. Однако намеченные
повествовательные линии не нашли своего дальнейшего развития: автор ограни
чился лишь эскизным лирическим наброском, не перешедшим в большое лнро- лш
ческое произведение.
Стихотворение «К бурятке» представляет собой первую попытку поэта в сои
дании романтической поэмы. Лирический
герой произведения здесь сливается с об
разом самого автора и, по-видимому, вы
ражает его мысли, думы и настроения
Этому автобиографизму соответствуют и
обстоятельства жизни поэта и лирическая
манера повествования.
Стихотворение «К бурятке» скорей на
поминает авторский монолог, взятый и <
романтической поэмы типа «Кавказский
пленник» А. Пушкина.
Возможно, что поэт
и исследователь,
увлеченный одновременно поэзией и археологическими раскопками, действительно, сделал лишь первый лирический набросок, предполагая продолжить свою работу в другое, более свободное время. Такое предположение, на наш взгляд, допустимо еще и потому, что стихотворение
«К бурятке» было напечатано после смерти автора; по-видимому, поэт не спешил с
публикацией произведения из-за незавершенности своей работы. В этом предположении нас убеждает и опубликованный в
сборнике «Воспоминания бывших питомцев горного института» лирический этюд
Бальдауфа
«Самуйе»,
непосредственно
примыкающий к стихотворению «К бурятке» и являющийся, на наш взгляд, новым вариантом концовки названного произведения. В отличие от
«прощальной»
строфы стихотворения «К бурятке», лирический этюд «Самуйе» написан более совершенными и выразительными стихами,
воспевающими неповторимое обаяние степной красавицы, однако и тут и там заключительная фраза — бурятское приветствие
«мэнду» — остается неизменной.
Вот полный текст лирического этюда
«Самуйе»:
Как ты мила в своем наряде!...
Цвети, пустыни красота!
Веселых юношей к отраде,
А мне мила ты, как мечта.
Как песнь любви — души созданье!...
Я не молю тебя, мой друг,
Ни о любви, ни о вниманьи...
Пускай всегда лишь нежит слух,
Как листьев розы трепетанье.
Твое «мэнду», мой милый друг!..,
В это же время Бальдауф задумал написать большую поэму о жизни бурят, кочующих в степях Даурии. Обогащенный
новыми впечатлениями, свободный от полицейских преследований, опальный поэт
почувствовал свежий
прилив творческих
сил.
В одном из стихотворных посланий,
признав благотворность «желаемой отлучки», Бальдауф сообщал о себе:
Но что ж скажу я о себе?
Благодарение судьбе,
Все злое в бездне потонуло:
Свежее мысль, душа полней...
И сердце будто отдохнуло!
В часы докучливых забот,
Всегда желаемой отлучки,
Мне дева-муза строит ручки,
Шутя про витязя поет...
Песня про витязя, напеваемая «девоймузой, и была созревающим
планом
большой лиро-эпической поэмы, посвященной бурятскому народу, его прошлому и
настоящему. К сожалению, замысел поэта
остался не реализованным.
Осенью 1828 г. Бальдауф возвратился в
Нерчинск. Вскоре, по распоряжению гене-
1.Т2
рал-губернатора
Восточной Сибири, он
был отстранен от преподавания в учили
ще и «назначен» горным надзирателем в
далекую Шилку с запретом что-либо печа
тать в журналах без разрешения местно
го начальства. Принятые меры «безопас
ности» насильственно прервали поэтичс
скую деятельность Бальдауфа, изолирова
ли его от живого общения с кругом дру
зей-единомышленников, обрекли на дли
тельное молчание.
Многолетнее молчание Бальдауфа было
прервано лишь спустя пять лет. Весной
1834 г. поэт, используя испытанный метод,
обратился с поэтическим посланием к но
вому начальнику Нерчинских заводов —
Татаринову. Описывая тяготы своей нерчинской жизни, Ф. Бальдауф почти дословно повторил в своем послании пуш
кинскую фразу о том. что город «душен
для поэта».
Еще с поры веселых дней
Я мрачен, дик среди людей;
Душа лежит в поля широки—
Туда, туда, где свод высокий
Лазурью чистою облит,
Где неба путник одинокий
Светлее блещет и горит,
Туда, в далекие пределы,
Где дух поэта, мощный, смелый,
С самой природой говорит.
Воспевая могучие просторы Забайкалья,
поэт настоятельно просил начальника заводов отправить его в экспедицию туда
же, в степи, на берега Дабасу-нора, столь
памятные ему по поездке 1828 года.
Лето 1834 года Бальдауф вновь провел
в степях Даурии; оно, по-видимому, было самым продуктивным во всей творче
ской деятельности поэта. За короткий
срок в полевых условиях была почти завершена работа над большой поэмой «Авван и Гайро».
Страстный поклонник пушкинского рс
мантизма, почитатель его «южных» поэм.
Ф. Бальдауф во всем следовал примеру
своего учителя. В поэме «Авван и Таиров,
так же, как и в поэме А. Пушкина «Кав
казский пленник», ставились те же вопросы, подсказанные условиями русской жиз
ни той поры. Сходен и сюжет, все здесь
предельно просто н естественно, однако
события завершились мирным исходом, ми
новав романтического самоубийства герои
ни.
Характерна и такая деталь: «Авван и
Гайро», как и «Кавказский пленник» был
назван «повестью».
Сходства и совпадения, а иногда и пр>1
мое следование классическим образцам 1
построении сюжета, в приемах описание
дало основание проф. Азадовскому отш
сти поэму Бальдауфа к числу подражн
тельных образцов, имевших широкое распространение в 20-30-е годы XIX в. О;;1
нако, причислив «Авван и Гайро» к раряду подражательных произведений, и;
следователь вынужден был признать, что
в поэме нередко за романтической услои
постью «обнаруживается искреннее чупп
во, нашедшее подлинное поэтическое выражение, чувство, навеянное местной природой: «сумрачными степя.ми» Забайкалья,
^пленительной тишиной» степей
(«сопутницей уединенья»),
пологими берегами
Борзи, наметами тунгусов, приютившимися у сопок».
Однако этим не исчерпываются достоинства этой своеобразной талантливой, но,
к сожалению, незаконченной поэмы. Не
ставя своей задачей обстоятельного эстетического анализа поэмы «Авван и Гайро», остановимся лишь на некоторых наиболее характерных ее особенностях. Здесь
нашли свое неповторимое отражение картины бурятского быта. Для подтверждения сказанного, приведем живые и динамичные стихи, изображающие
сцену
укрюченья дикой лошади девушкой-наездницей, столь характерную для степного
быта скотоводов-кочевников:
Гайро
за рысаком летит...
Поводья бросив на луке,
Держа укрюк в одной руке,
Коня другою понуждая,
Уж близко дева молодая...
Совсем повиснув над седлом,
Она играет укрюком,
Нога проворная без стремя.
Конь, на себе не чуя бремя,
Летит, как птица, как стрела,
Летит чем далей, тем быстрее.
Гайро настигла, догнала,
Уж петля верная на шее,
И девы ловкая рука
Остановила рысака.
сАвван и Гайро» всем своим содержанием была связана с сибирской действительностью, выражала интересы ее прогрессивных кругов, вот почему она вызвала гнев и возмущение чиновников и духовенства, и ухудшила
условия жизни
опального поэта.
Находясь под сильным и благотворным
влиянием Пушкина, Бальдауф в обстановке непрерывных полицейских преследований продолжал декабристские традиции
и оставался верным, говоря словами Белинского, «той действительности, до него
непочатой и нетронутой, которая проси
лась под его перо». Этим он был близок
и дорог прогрессивному кругу сибиряков,
поддерживающих связи с декабристами.
Наибольшим художественным достижением автора является созданный мм образ
девушки-бурятки. Гайро — подлинная дочь
степей. Встретив где-то в степи никому
неведомого русского, она полюбила его.
Ради любви Гайро готова оставить родных и близких, изменить привычному поэядку жизни, но она не может принять
поставленных им условий. Авван умоляет
Гайро принять христианство, и только
тогда он «сердце страстное свое» готов
«вручить перед святыней»...
Гайро решительно отклоняет эти условия. Она готова пойти на любые лишения,
но не может поступиться в своих религиозных убеждениях. В ответ на мольбы и
просьбы Аввана Гайро отвечает:
Забуду все, забуду честь,
Но, друг, бурханов не забуду...
Решительно отвергая христианский обычай крещения, Гайро обрушивает свой
гнев и на возлюбленного. Обращаясь к
Аввану, она говорит:
Пускай мы глупы, суеверны,
Пускай природа нам дала
Рассудка чистоты немного.
Вы — своего любимцы бога
Творите ль добрые дела?
Образ Гайро, смелой наездницы, полюбившей неведомого пришельца, и отвергшей его за ложь христианских предрассудков, был заметным явлением в литературе начала 30-х годов, продолжающем
традиции прогрессивного романтизма, возглавленного Пушкиным.
Бальдауф глубоко и по-сыновьи любил
родное Забайкалье. Эта любовь к родному краю нашла свое наиболее полное выражение в картинах природы, занявших
свое особое место в поэме. Просторы степей, украшенные бесчисленным множеством «игривых табунов», оживленные стаями птиц, влекут читателя в свои синеющие
дали, настраивают на высокий романтический лад.
Забайкальские степи поистине неистощимы в своих нарядах. Вот она степная
Даурия в сиянии солнечных лучей:
...Там великан Адун-Челон
Своими вечными скалами
Стремится слиться с облаками;
Там блещет озеро струями;
Над ним кружат станицы птиц;
Табун игривых кобылиц
На скатах там холмов гуляет;
Здесь горделиво сын степей —
Верблюд горбатый выступает.
Там ходит стая журавлей;
Здесь в море солнечных лучей
Веселый жаворонок порхает,
А там, усевшись на бутан.
Лукавый, хитрый тарбаган
Проезжих громко окликает...
На смену ликующего дня приходит вечерняя прохлада:
Спокойный вечер лег над степью,
Холмы окрестные молчат,
Борзя чуть плещет, длинной цепью
Над нею лебеди летят...
«Авван и Гайро» была любимым детищем Бальдауфа, работа над ее завершением продолжалась до последних дней
жизни поэта. Тепло принятая в кругу
близких людей Нерчннского завода, поэма
стала распространяться в многочисленных
списках среди грамотного населения Сибири. Через нерчинских купцов, поддерж и в а в ш и х широкие сиязи со всем торговым людом Восточной Сибири, поэма бы
ла завезена в К я х т у и вскоре стала изве
стна жителям других городов.
В начале 1835 года «Авван и Гайро»
133
.шпала на страницы рукописного альманаха «Кяхтинский литературный цветник»,
издаваемого, как и рукописная
газета
-<Кяхтинская стрекоза», известным сибирским врачом и литератором, другом декабристов А. II. Орловым. Кяхтинскис рукописные издания, по свидетельству современников, пользовались широкой популярностью среди читателей Сибири, их
можно было встретить не только в соседних с Кяхтой городах, но и в Иркутске,
Красноярске и даже далеко на Алтае.
Внимание читателей привлекли в поэме
не только звучные и музыкальные стихи,
написанные в пушкинском поэтическом
ключе, но и свежесть и новизна содержания.
Не описание неведомых стран с их туманной экзотикой овладели
вниманием
восторженного читателя, а картины родного Забайкалья, с их удивительной, неповторимой сибирской красотой.
Поэма
привлекала внимание читателя и тем, что
она откликалась на те же социальные вопросы, какие стояли в центре всей русской прогрессивной литературы.
Образом разочарованного героя, стесненного условиями общественной жизни,
поэт разрабатывал ту же общерусскую тему «молодого человека XIX века», начатую «Кавказским пленником», нашедшую
свое классическое выражение в «Евгении
Онегине» и продолженную всей русской
литературой первой половины XIX века.
Не окончив работы над «Авваном и
Гайро», Бальдауф приступает к реализации нового творческого
плана — поэмг
«Шаманка», дошедшей до нас в отдельных главах.
В новом своем произведении поэт стремился охватить более широкий круг вопросов, волновавших тогда прогрессивные
силы общества.
В поэме «Шаманка» наметился опредс
ленный отход поэта от романтического
восприятия действительности, в произведении более отчетливо зазвучали социально-обличительные мотивы.
Уже во вступительной части поэмы автор находит суровые слова осуждения социального неравенства людей. Бедность,
обрекающая жителей степных просторов
на беспросветное существование, обессмысливает жизнь, губит народные дарования. Обращаясь к бедности, поэт пишет
О бедность, горькая, лихая!
Скажи, где слез ты не лила?
Скажи, кого ты довела
До счастья, до земного рая?
Убийствен твой противный вид:
В очах потухших жажда, голод,
И жгучий жар и льдяиый холод.
Тоска, отчаянье и стыд!
О бедность, бедность! Мать страдании!
Скажи, как создан белый свет—
Ты излила нам сколько бед;
Скажи мне, сколько дарований
Ты погубила в цвете лет?..
Нужда и бесправие обрекли пастушеские племена на безрадостную и горькую
134
жизнь. Уже тогда зорким глазом художника Бальдауф увидел необычайно интен
сивный процесс дифференциации населения, происходивший с неотвратимой последовательностью в городах, селах и степных улусах. Складывавшаяся торговля
на востоке страны втягивала в свою ор
биту и кочевников-скотоводов и хлеборо
бов-земледельцев; единицы хищников обо
гащались, народные массы
разорялись,
впадали в нищету. В одних юртах поэт
видел богатство и роскошь, в других —
нищету и грязь.
...В юртах все осталось то же:
(На наше общество похоже)
В богатых — жемчуг, пышный мех.
За чаркой водки глупый смех:
В убогих — черные лохмотья,
Отчуждено все чистоплотье;
Над дымной войлочной стеной
Висит сайдак — лук костяной.
Копье, ружье, бурхан овчинный;
А у богатых этот бог
Увешан с головы до ног
Какой-то сбруею старинной,
С чеканом золота, сребра,
Пред ним павлинных два пера,
Пшено в серебряной посуде;
На светлом круге — веры стих;
Бурханы в образе малютки
И место для молитв святых...
В поэме «Авван и Гайро»-, Бальдауф, ри
суя многие стороны жизни улуса, взаимо
отношения русских и бурят, окрашивает
их в характерные для романтика лирические тона. В новой же поэме дано совершенно реалистическое толкование исторп
чески сложившейся дружбе двух народов.
Русский народ, в отличие от эксплуататорских верхов, помог приобщиться буря
там к более высокой культуре, привил НУ
свободолюбие и ненависть к порабощению
Под влиянием демократической культу
ры великого русского народа бурят, гово
рится в поэме, изменился духовно —
Он вольность русских полюбил;
Не изменив своей одежде,
Своим он нравам изменил.
Пристальное
наблюдение за
жизнь*'
кочевников, далеких, казалось, от каких
либо общественных интересов, приводт
Ф. И. Бальдауфа к самостоятельным ви
водам, имеющим принципиальное значс
ние. Непрерывное общение с русскимг
приходит к заключению вдумчивый и нл
блюдательный поэт, не только оказывас;
общее цивилизующее влияние на буря.
но и приобщает их к вольнолюбию. Бурм
ты полюбили «вольность русских» —'к т
кому поэтическому выводу приходит Ба.11
дауф, и этот вывод может быть прир.1'
нен к научному открытию, оказавшем*
практическую помощь последующему IV
колению русских революционеров в п р <
ведении пропагандистской работы срг;т
народов Сибири, в их приобщении к ом
нательной борьбе против угнетения и •
сплуатации.
Есть основания полагать, что поэтическая деятельность Ф. Бальдауфа впоследствии привлекла внимание революционеров-демократов
Н. Г. Чернышевского и
М. И. Михайлова, попавших в ссылку на
Кадаинский рудник. В
подтверждение
сказанного
сошлемся на воспоминания
бывшего архитектора Нерчинских заводов
И. В. Барашева
(1820—1898), который
при посещении Кадаинского рудника в
сентябре 1864 г. заметил у «государственных преступников» (Н. Г. Чернышевского
и М. И. Михайлова) рукопись Бальдауфа.
раньше виденную им у Бопре.
Заинтересованность, проявленная Черны
шевским и Михайловым к литературному
наследству
Бальдауфа, весьма примечательна; она помогает нам в установлении
преемственности между поколениями русских революционеров, в определении места, занимаемого поэтом в истории классовой борьбы того времени.
1 ' ЕСМОТРЯ на ограниченность литературных сил в Сибири, Ф. Бальдауф но
был одинок. Уже на первом этапе освободительного движения, в крайне неблагоприятных условиях, в городах Восточной Сибири то тут, то там стали возникать
литературные группы и кружки. Среди
литераторов-забайкальцев и по опыту, полученному в столице, и по литературному
дарованию Ф. Бальдауф оказался во главе складывающегося прогрессивного романтизма, продолжающего славные традиции декабризма.
Несмотря на полицейские преследования,
с помощью активного посредничества нерчинских купцов, Бальдауфу удалось установить прочные связи со многими литераторами и прежде всего со штаб-лекарем
Кяхтинской таможни А. И. Орловым.
Бальдауф и Орлов, при тайной поддержке узников Петровско-Заводского казе
мата и многочисленного литературного актива городов Восточной Сибири стали издавать рукописный альманах «Кяхтинский
литературный цветник» и газету «Кяхтинская стрекоза».
Издания сибирских энтузиастов, к сожалению, до нас не дошли, но сохранились свидетельства современников, высоко оценивших эту первую по времени бесцензурную печать Сибири.
Кяхтинские рукописные издания, судя
но отзывам современников, широко и праваиво отражали жизнь родного края. В
стихах и прозе утверждалось все разумное и доброе, подвергалось резкому обличению все достойное поругания и осуждения.
О характере литературно-художествен
кого материала, помещаемого в а л ь м а н а х ?
.•( газете, можно судить по таким образцам.
как поэма Ф. Бальдауфа «Авпан и Гайро», и сатира Давыдова «Ннколосор».
Поэма Бальдауфа, опубликованная
п
первом номере а л ь м а н а х а , пользовалась
широкой популярностью среди читателей
и была размножена любителями поэзии в
дополнительных копиях, о чем свидетельствуют несколько видоизмененные ее варианты, хранящиеся в архивах Сибири.
Высокая проповедь «любви и дружества»,
страстное осуждение зла и несправедливости было высоко оценено читателем, разделявшим взгляды узников Петровского
каземата.
О смелости сатирического обличения в
кяхтинских повременных «изданиях» можно судить по сатире декабриста В. Л. Давыдова «Николосор». Вот ее неполный
текст и сегодня поражающий читателя
смелостью обличения и прозрачностью намеков на коронованную особу:
НИКОЛОСОР
Он добродетель страх любил
И строил ей везде казармы,
И где б ее ни находил,
Тотчас производил в жандармы.
При нем случилось возмущенье,
Но он явился на коне.
Провозглашая всепрощенье.
И слово он свое сдержал:
Как сохранилось нам в преданье,
Лет сорок с ряду все прощал
Пока все умерли в изгнаньи.
;
По своей остроте, смелости и политической
целенаправленности
«Николосор»
можно лишь сравнить с сатирой К. Рылеева «К временщику». И так же, как и сатира о «надменном временщике» не вызвала никаких репрессивных мер, так и
«Николосор» Давыдова прошел мимо бдительного ока третьего отделения: «благородный» прием умолчания был повторен.
Существенную помощь в издании альманаха и газеты, судя по воспоминаниям
М. Бестужева, оказывали сибирским литераторам узники Петровско-Заводского каземата. Кяхтинский литературный кружок
поддерживал систематическую связь с декабристами через доктора Орлова, имев
шего к ним свободный доступ.
Газета, по утверждению М. К. Азадовского, «служила как бы связью между находящимися еще в тюрьме декабристами
и сибирским обществом».
Издание альманаха и газеты прогрессивными литераторами явилось важной
морально-политической победой над силами реакции, победой, означавшей неодолимость подспудных сил д в и ж е н и я , потерпевшего временное поражение.
Кяхтинская рукописная газета активно
выполняла на п р о т я ж е н и и нескольких лет
роль общественной трибуны, выражавшей
тогда передовые демократические взгляды
зарождавшейся в Сибири разночинной интеллигенции.
Сибирские единомышленники
декабристов полностью принадлежали к разночинной интеллигенции. Это главным образом — учителя, горные инженеры, врачи,
чиновники.
Так, например, изданием кяхтинского
а л ь м а н а х а и газеты занимался литературный кружок, душой которого был попу-
135
лярнейший на все Забайкалье врач и литератор Александр Иванович Орлов. Доктор Орлов на протяжении многих лет был
неутомимым издателем рукописных журналов, собирателем литературных сил Восточной Сибири; для любимого дела он не
жалел ни сил, ни средств. Издательская
работа не только отнимала у доктора все
свободное от врачебной практики время,
но и доставляла
немало огорчений по
службе, нередко ставила его в положение
опального газетчика. Тепло и задушевно
нисал об А. И. Орлове — «философе и поэте» — В. К. Кюхельбекер, посвящая ему
свои глубоко прочувствованные стихи.
Постоянными и многолетними членами
кружка Орлова были учителя Троицкосавского уездного училища и русско-монгольской школы: Н. Крюков, Д. П. Давыдов,
В. П. Паршин, Н. Бадмаев и другие. Все
они благоговели перед героями 14 декабря, поддерживали с ними тесную связь,
делали все от них зависящее, чтобы хоть
чем-нибудь облегчить жизнь узников Петровского каземата.
В списке членов кяхтинского литературного кружка назван и Н. Бадмаев — учитель-бурят из русско-монгольской школы,
принимавший участие в издании рукописной литературной газеты. К сожалению,
нам пока ничего неизвестно о его литературной и педагогической деятельности. Мы
знаем лишь, что учащиеся русско-монгольской школы с большим прилежанием
изучали русский язык, любили
русскую
литературу, внимательно следили за ее
новинками. Среди учеников Н. Бадмаева,
по-видимому, был и будущий ученый-востоковед Доржи Банзаров, как известно,
обучавшийся в названной школе с 1832 по
1835 год.
Интерес к русской литературе, появление активных читателей из числа учащихся-бурят было примечательным явлением
в духовной
жизни бурятского
народа.
Спрос на книгу, любовь к художественному слову, хотя и очень ограниченный на
первых порах, был характерным признаком образования, употребляя выражение
Белинского, «класса читателей», без чего
невозможно развитие самой литературы.
Рядом с Н. Бадмаевым стоит имя инспектора той же русско-монгольской школы — В. П. Паршина, о котором тогда писали, что он неутомимо занимается отечественной изящной словесностью и отличается в своих сочинениях «живым слогом
и простотою рассказа».
Самым молодым и самым талантливым
поэтом кяхтинской группы был Дмитрий
Павлович Давыдов — автор всемирно известной песни «Славное море — священный
Байкал».
Повседневное
общение с
творческим
коллективом, влюбленным в
отечественную литературу, верящим в силу ее преобразующих идей, живая работа по выпуску газеты, пользующейся спросом прогрессивного читателя,— все это явилось
для Давыдова настоящей школой литературного мастерства. К сожалению, о кяхгинском периоде творчества Д. П. Давы-
136
дова (с 1830 по 1833 гг.), по-видимому,
напряженном и продуктивном, мы не можем судить, так как все номера альманаха
и газеты оказались утраченными и наше суждение о них основывается лишь на
отрывочных воспоминаниях современников,
дошедших до нас.
Наиболее известные произведения Давыдова, в том числе и песня о священном
Байкале, вошедшая в песенный репертуар
народов нашей страны, были
написаны
поэтом в 50—60 годы и потому связаны
уже с иным этапом общественного развн
тия.
Т
ВОРЧЕСКИЕ усилия кяхтинского литературного кружка были активно под
держаны группой нерчинских литераторов. В состав нерчинского кружка, вдохновляемого Федором Ивановичем Балъдауфом, входили учителя уездного учили
ща, чиновники горного ведомства, молодые
гостинодворцы. По-видимому, нерчинский
литературный кружок, по сравнению с кях
тинским, был более массовым и более
представительным: по утверждению Зензи
нова к началу 30-х годов кружок насчи
тывал в своем составе свыше 60 человек.
Правда, нерчинский литературный кружок
был менее однороден, чем кяхтинский,
здесь уже в самом начале наметились
различные интересы и направления в творческой работе. Одни кружковцы выступали, как сторонники и продолжатели литературных традиций декабризма; в рабо
те других все в большей мере проявлялся
интерес к этнографии и краеведению. Если на первых порах наметившиеся различия как-будто не обнаруживали противоречий, то с течением времени они стали
выступать в более отчетливой форме и
вносить вполне определенные различия, а
иногда и разногласия в творческую прак
тику нерчинских литераторов.
К концу 30-х годов противоречия во
взглядах на общественное развитие приняли более резкий характер. Литераторыразночинцы вступили в открытый конфликт с гостинодворцами и некоторой частью чиновников, проповедовавших «технический прогресс» ради «всеобщего обо
гашения».
Взгляды разночинцев на проповедь «вес
общего обогащения» неоднократно нахо
дили свое выражение в сатирах и экс
промтах Ф. Бальдауфа, широко бытовав
ших среди жителей Нерчинска. В дошел
шей до нас одной дневниковой записи тон
поры ярко передан характер противоре
чий внутри кружка, переставшим быть ли
тературным объединением друзей-едино
мышленников. На одном из литературных
вечеров в доме купца Кандинского, следу
ет из этой записи, Бальдауф внимательно
выслушал убежденную
речь инженер;!
возвратившегося из-за границы, о необхо
димости добычи золота «американским
способом» и тут же ответил ему острым ь
метким экспромтом:
В Америке пройдя огонь и воду,
Ты в Забайкалье вводишь в моду,
Чтобы казне в угоду
Быть тягостным народу.
Не скрывая своей неприязни к «гостинодворцам», Ф. Бальдауф открыто называл их «культурными живодерами» и со
многими из них порвал дружеские отношения.
Противоречия внутри нерчинского литературного кружка, как сказано, в наиболее обнаженной форме выступили лишь к
концу 30-х годов, в первую же половину
названного десятилетия они носили еще
подспудный характер и почти не сказывались в творческой работе основного ядра
литераторов.
Среди нерчинских поэтов этой поры следует назвать и Василия Петровича Паршина, преподавателя словесности уездного училища.
В. П. Паршин был разносторонне одаренным литератором, для него были одинаково доступны проза и поэзия, фольклор и этнография.
Разносторонние интересы Паршина-прозаика проявились и в его книге «Поездка
в Забайкальский край», написанной в традиционном жанре «путешествия». Книга,
изданная в Москве в 1844 г., была встречена читателем как энциклопедический
справочник по истории Восточной Сибири
и жизни народов ее населяющих.
Особой популярностью пользовались песни Паршина, представлявшие собой переводы бурятских улигеров. Знание бурятского языка открывало поэту широкий доступ к чистым истокам богатейших родников народной поэзии.
Из поэтических переводов и оригинальных произведений В. П. Паршина до нас
дошла лишь одна песня — «Цветок». Об
этой песне писали в свое время как о
классическом образце восточной лирики.
По свидетельству фольклористов, чтолибо подобное не зафиксировано в устном песенном творчестве, исключая предания о ядовитом растении, бытующие и
поныне среди хоринских бурят. Надо полагать, что песня «Цветок» не является
переводом с бурятского, а написана Паршиным по мотивам широко распространенного предания, искусно подстроенного
под пушкинский «Анчар».
н
ЕРЧИНСКИЙ литературный кружок,
о-виднмому, с первых же лет своей
>аботы установил тесную связь с кяхтинким кружком. Все лучшее, что создавалось нерчннскими литераторами, попадало
на страницы Кяхтинского альманаха и литературной газеты. Это подтверждается,
например, публикацией
полного текста
поэмы Ф. Бальдауфа «Авван и Гайро» на
страницах
«Кяхтинского
литературного
цветника» и письмами А. И. Орлова, блаодарившего Зензинопа зп «умные н дельые литературные вещи», присылаемые им
Кяхту.
В своей работе кяхтинский и нерчинский кружки были прочно связаны с уз
никами Петровской тюрьмы и, конечно же.
опирались на литературный опыт и.теоре
тические положения декабристов.
Поэтика декабризма, разработанная в
«Законоположении» Союза благоденствия,
несомненно,
была
хорошо
известна
Ф. Бальдауфу еще по Петербургу; она ут
верждала «силу и прелесть» литературы
«более всего в непритворном изложении
чувств высоких и к добру увлекающих».
Высокими образцами декабристской поэзии и были знаменитые стихи Пушкина,
обращенные к декабристам в Сибири, и
не менее знаменитый ответ А. Одоевского.
Сибирская литература, развивавшаяся в
русле прогрессивной романтики, при всех
своих достоинствах все же была лишь далеким отблеском 14 декабря; по своему
революционному накалу, по охвату жизненных явлении она не была да и не могла быть равной литературе декабристского движения. Однако и при этих условиях
творческая практика литературных кружков была глубоко плодотворной, хотя и не
столь приметной; она таила в себе те зародыши нового, которые предшествовали
более мощному развитию революционной
литературы
последующих
десятилетий.
Рукописные сибирские газеты — первые
бесцензурные издания — может быть и бы
ли теми далекими предтечами вольной
русской типографии и знаменитого «Колокола», торжественный благовест которо
го огласил всю страну, поднял новое поколение людей на борьбу с крепостничеством и самодержавием.
В
ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ в Забайкалье выступила
небольшая
группа романтиков-мистиков, далеких от каких-либо общественных идеалов. Следует
отметить,
что представители реакционного романтизма не были связаны с декабристами, не
сотрудничали и в рукописных газетах и
журналах, издаваемых в Сибири. Из-под
пера романтиков-мистиков стали
появ
ляться произведения и по содержанию и
по форме, напоминающие баллады В. А.
Жуковского.
Раскрывая сущность творчества Жуковского, В. Г. Белинский писал о нем:
«Жуковский начал свое поприще балладами. Этот род поэзии им начат, создан
и утвержден на Руси: современники юно
сти Жуковского смотрели на него преимущественно как на антора баллад... Под
балладою тогда разумели краткий рассказ
о любви, большею частию несчастной: могилу, крест, приведение, ночь, луну, а иногда домовых и ведьм считали принадлежностью этого роди поэзии...»
Сибирские же «балладники», во всем
следуя установившимся образцам, лишь
несколько видоизменили обстановку, самый фон, на котором развертывалось действие «короткого рассказа о любви».
Наиболее характерным примером литературной продукции романтиков-мистиков
137
является «Бурятская песня> А. Таскнна.
опубликованная в литературных прибавле
ниях к «Русскому инвалиду» в 1831 г.,
№ 75..
Это — классический образец мистической
баллады со всеми ее неотъемлемыми атрибутами: ночным туманом, одинокой могилой шамана, навевающей
мистическим
ужас и страх, необычностью и загадочностью обстановки. Введя ряд бурятских
слов и понятий, автор «настроил» свою
балладу на восточный лад, придал ей определенный бурятский колорит.
Подобного рода «песни», созданные романтиками-мистиками,
не использовала
сибирская рукописная пресса, но зато их
охотно печатали столичные журналы определенного направления.
^ ОРЬБА
двух
культур — передовой,
демократической
и
«культуры»
реакционно-дворянской, выражавшей интересы
правящей клики, сказалась и на развитии
литературы в Сибири в 20—30-е годы.
Сибирская литература рассматриваемого
периода не представляла собою «единого
потока», а с годами все более отчетливо
отражала размежевание различных обще
ственных сил.
Передовая, творчески одаренная интел
лигенцня была тесно связана с декабристами и в крайне тяжелых условиях, исключающих, казалось, нормальное развитие литературы, продолжала традиции ре-
волюционного романтизма. Сибирские писатели, объединенные в творческие кружки, связанные между собою, плодотворно трудились, выдвигая из своей среды
поэтов и прозаиков, оставивших заметным
след в развитии литературы той поры.
Особенно должна быть отмечена заслугу
писателей-сибиряков 20—30-х гг. в их глубоком и устойчивом интересе к познанию
жизни народов Сибири, их быта и нравов,
многообразных и самобытных устно-поэтических традиций. Писатели-сибиряки уже
в те годы создали ряд произведений, ярко
и красочно знакомящих с жизнью Буря
тии, собрали значительные фольклорные
ценности, заложившие основу собиратель
ской работы последующих поколений.
Писатели первых десятилетий XIX века
были подлинными патриотами Сибири,
воспевавшими ее необразимые просторы,
покоряющие чарующей красотой леса и
горы, стремительные и бурные реки, не
сметные ее богатства, ждущие приложения
рук человеческих. Критика нередко проявляла к произведениям сибиряков лишь
этнографический интерес, забывая о глу
бокой любви их к родной земле, продикто
вавшей им яркие образы и задушевны',
слова.
Утверждая любовь к родному краю, по
эты и прозаики разрушали миф о Сибири
как о царстве вечного мрака, миф, со?
данный царизмом для устрашения нарс.
да, для борьбы с крамолой, подтачивай
щей устои самодержавия.
ЛЮБИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК
М. ВЛАСЕНКО,
доцент
Сиять заставить заново
к
особещю заметны речевые штампы, тускто не знает могучей силы живого слелые н карикатурные слова.
ва? Умное, доброжелательное, правдивое,
ЧтобУ не отстать от века, каждый, как
оно ободрит, поднимет волю к труду, словбы оц ни был знающ и образован, время
но огнем выжжет лицемерие, пошлость, поот вре.\|ени справляется в словарях и спра
может справиться с болезнью и горем.
вочник^х о значении, ударении или форме
Слово грубое, обидное ударит больнее, чем
того цли иного слова.
пощечина, подорвет веру в себя, уважение
Оп$ с цо было бы думать, что каждое слок человеку. Недаром говорится, что
«от
во и.чи выражение, встретившееся нам в
одного слова да на век ссора», «от одного
книге 11ли газете, полноценно и правильно.
слова может померкнуть солнце».
Чтобь,; правдиво рассказать о том, что быГуманные отношения и взаимное уважевает 6 жизни, писатели допускают «многочие между людьми, нравственная чистота,
образий роды и формы отступлений от
простота и скромность в общественной и
норм литературного языка> (В. В. Винограличной жизни, взаимное уважение п седов), рисуют, например, героев с типичнымье, забота о воспитании детей — эти высми д.гш них словечками: «настырный>,
шие принципы нашего времени несовмести«чокнутый», «гутарить», «нычит», и чита
мы с грубостью, с высокомерным равнодутелю легче представить себе местность, срешием к человеку, которые всего заметнее
ду и культурный уровень людей.
а устной речи, в манере отвечать на вопКонечно, нельзя терять меру и сбиваться
рос или просьбу, в тоне обращения друг к
с литературного языка на областной, о чем
другу.
говорили уже не раз.
«Насколько могу судить по Гоголю и
И не удивительно, что именно в наши
ТОЛСТОМУ, правильность не отнимает у речи
дни разгорелся спор о языке. За всю исее народного духа»,— писал А. П. Чехов.
торию русского народа еще не было слуПравильно в языке то, что общепринято,
чая, чтобы о русском языке сразу заговочто успело укорениться в нашей речи. Зарили тысячи людей, негодуя против тех,
соряю-г же язык бесшабашно грубые слокто «бездумно, кощунственно» засоряет его
ва (вместе простых человеческих: есть, усгрубыми, уродливыми или
мертвыми бю1
тал, ИдИ — рубать, употел, хиляй; пошлорократическими словами .
мещансКие в ы р а ж е н и я :
модняцкие, проРазумеется, и намека нет на то, что русшвырцуться, всю дорогу живу в городе, ни
ский язык сделп.: какой-то шаг н а з п д в
нг
грамма
спала, хохотура). Но эти мод
своем развитии. Напротив, он стал ешо
ные совочки недолговечны и, как мыльбогаче и тоньше, еще устойчивее стали его
нис пучыри, исчезают после первой же
литературные нормы. Образцовая русская
сер1.с-1(;(и"| Осссды о языке.
речь звучит не только на всей советском
Гораздо опаснее те обороты нашей речи,
земле, но и далеко за ге пределами.
которое состоят из правильных и общеприНо оттого, что мы теперь более -'утки к
чистоте и правильности речи, нлм
стали мятых слов, но настолько примелькавшихся
1. Он начался дискуссией в газете
январь—август 1961 года.
~Изве с тия», октябрь—дсклбрь
1960 года.
139
и стертых, что любая фраза из-за ни.ч
становится неестественной,
напыщенной,
многословной. Речевые штампы — главный
порок живой современной русской речи,
1
угроза оскудения и порчи языка .
Штампы речи —это, во-первых, канцеляризмы, допустимые в резолюциях, инструкциях и других деловых документах, но бессистемие в речи публицистической, художественной, обычной разговорной. К примеру: «Но к а к о м у вопросу плачешь?», «В
отношении острой нуждаемости в жилье»,
«Провести мероприятия по озеленению двора». Подобная словоупотребительная практика и создает «ту приблизительную, серую, обесцвеченную» речь, о которой с болью и совершенно справедливо пишут участники дискуссии о языке.
Речевые шаблоны — это не только канцеляризмы, но и парные сочетания, которые назойливо повторяются невзыскательными
журналистами
(«яркий
факт»,
«взволнованная речь», «значительный успех», «неизгладимое впечатление», «упорная
борьба» — их поделом и остроумно высмеял Г. Рыклин).
От сверхусердного употребления штампом может стать любое слово и самая оригинальная и пленяющая новизной синтаксическая конструкция.
Под влиянием резолюций, инструкций и
других официальных документов, которые
так часто случается слышать по радио и
на собраниях, стандартные обороты сделались слишком привычными и проникли во
все поры русской речи, даже в язык лирики. Вероятно, долгое господство готовых
предписаний свыше, речей «по бумажке» и
непременно с цитатами в годы
культа
личности тоже вело к шаблонизации и притуплению языка газеты, лекций, докладов.
Речевые штампы надо отграничить от
устойчивых выражений, без которых «не
может обойтись... даже наиболее сильный,
наиболее творческий ум»: счастливого пути, до сих пор, благовидный предлог, по
крайней мере, во всяком случае, руки
опускаются, всерьез и надолго, рука об
руку, умелые руки, рукой подать. В языке
десятки тысяч устойчивых ходовых оборотов, крылатых выражений, облегчающих
нашу речь и ее восприятие. Было бы вредно преследовать эти общепринятые сочетания, их объявлять ш т а м п а м и .
Речевым пустоцветом, т. е. штампом, слово ил!! выражение становится в том случае, когда оно теряет свое прямое или переносное значение, принятое в языке, и превращается в формальный привесок к фразе,
по инерции кочующий из статьи в статью.
из уст в уста.
Такими л и ш н и м и стандартными привесками к фразе часто бывают существительные дело, работа, положение, момент, вопрос, мероприятие, значение, задача, борьба.
«Значительный вред делу всеобуча наносит неоправданное отчисление некоторых
учеников из школ». «Положение с обуче-
нием молодежи, занятой в народном хо
зяйстве, ни в коей мере нельзя признать
удовлетворительным». Слова дело и положение служат лишь тенью, лишним двойникам слов всеобуч, обучение; исключив
их, мы сделали бы речь короче и проще.
Сопоставим другие примеры:
Мы провели рабоМы
разъяснили
ту по разъяснению правила техники беправил техники безо- зопасности.
пасности.
Мы провели меро- Мы привлекли мо
приятие по охвату лодежь к занятиям
молодежи спортивны спортом.
ми занятиями.
Колхоз провел ра- Колхоз помог...
боту по оказанию помощи...
Легко заметить, что первая формул»
ровка не только многословна и велеречива, но и меньше обязывает: провести работу еще не значит разъяснить, помочь
Бюрократический, обтекаемый смысл ее
очевиден
В школе, где, казалось бы, следовало
безжалостно изгонять речевые шаблоны,
без конца повторяют: работа над образом,
словарная работа, работа над текстом, работа над
ошибками, работа над стилем
и т. д., и т. п. Досадно слышать такие замечания учителя русского языка: «Ты что
же не провел работы над ошибками по
домашней работе?» Или: «Ребята, проведите работу над ошибками по контрольной
и домашней работе. Не забудьте выпол
нить задание по словарной работе».
От однообразного повторения теряют вы
разительность даже такие дорогие
нам
слова,
как борьба, рубеж, маяк, труже1
ник .
«Борьба с речевыми штампами должн.:
стать важной составной частью борьбы з;|
культуру устной и письменной речи. Боль
шое внимание борьбе со ш т а м п а м и необхс
димо уделять в школе, давая учащимся сг*
циальные у п р а ж н е н и я на исправление бе1
цветной штамповой речи».
Легко заметить (да простит меня ува
жаемый коллега!), что слово борьба вы
теснило у автора несколько более точны,
слов, и от того текст можно принять з.
«...специальное упражнение на исправленн<
бесцветной штампованной речи».
Снова и снова полезно вдуматься в гл>
Оокое соображение А. С. Пушкина: «Ис.
тинный вкус состоит не в безотчетном 01
вержении такого-то слова, такого-то обо[н
та, но в чувстве соразмерности и сообр:!
ности».
Считать или не считать слово или вир!жение штампом, зависит только от контсч
ста. Самые типичные штампы нужны >
полезны в официальном слоге, в делог.идокументах. Они могут пригодиться пи..:
телю, если ему надо высмеять язык бк>|><
крата.
Но штампы нетерпимы в худо/костит
лой, публицистической и научно-пому.ччр
' М. Д. М и ш а е в а. речевые штампы и оорьоа с ними, сборник «Материалы
межобластной
конференции языковедов Поволжья», Ульяновск, 19Ь2, стр. 27.
НО
VI
ной речи. Они накладывают печать книжности и несообразности даже на строение
ч формы слова и предложения. Когда в
погоне за громоздкими словами вводят в
оборот такие неестественные, наскоро сочиненные, глыбкны, как недоукомплектованно, недоразукрупнение, группонаполняемость, позднеспелые, недоохват, индпошив
1 пошив,
крысонепроницаемость, транспор1
тировка хлеба вместо привоз или перевозк-и, то перед нами те же плоды подражания карикатурным образцам.
«Мертвая сила шаблона» порождает и
несуществующие в языке грамматические
формы. Например: «Необходимы три тяговых подстанции, из них задействованы
только две> (газета г. Ангарска Иркутской области, 28 марта 1962 г.). Автор сочинил «задействованы» по образцу «пущены», не считаясь с тем, что глагола задействовать: у нас нет, а если бы его и
подхватили, то страдательного причастия
от него, как от непереходного, образовать
нельзя.
По инерции некоторые писатели ьвели в
оборот словечко зареванная вместо заплаканная. Его мы встречаем не только у иркутского прозаика Чаусова в повести «Далекие рейсы», но и в московских изданиях«Милиционер ввел в кабинет
зареванную
молодую женщину». (Игорь Гур^в, «Хребет скалистый», Детгиз, М., 1960 г., стр.
70). «Совершенно зареванная и, что было
уж совсем невероятно, растрепанная Валя»... (Елена Успенская, «Третья заповедь»,
изд. «Молодая гвардия», М., 1960, стр. 39).
Глагола заревать, как известно, в русском языке нет, перед нами грамматическая
несуразность, речевой штамп, скроенный
по инерции, вопреки законам грамматики.
С недавних пор в штамп стало превращаться выражение в основном, точное значение которого — в самом существенном,
и самом главном. Говорят: «На стройке работает в основном молодежь». «Осталось
в основном достроить теплицы». «Мы в основном надеемся на успех». В основном
употребляется и вместо главным образом,
и в значении только, пожалуй и так скаI зать. Исключить его всегда
можно без
! ущерба для смысла, а это верная примета речевого штампа.
Но не только отдельные слова и з н а ш и ваются и как бы «выветриваются» от чрезмерного употребления. Шаблонами стано|вятся и примелькавшиеся грамматические
[обороты. К ним надо в первую очередь от[нести фразы с предлогами в отношении, в
расти, по линии, в плане, в смысле, по причине, по вопросу-.
Простая мысль «Русский народ борется
мир» принимает такие неестественные
1>ормы: «В отношении русского н а р о д а следует сказать, что он борется за мир». Или:
«В части русского народа можно заявить.
что он идет по линии борьбы ча мир» и
т. п.
Каждый из предлогов-штампов тащит за
собой цепь лишних слов и нередко заставляет нанизывать вереницу одинаковых падежей: «В отношении переналадки оборудования предприятий, перестройки технологии производства изделий нельзя не отметить, что эти мероприятия снизят техникоэкономические показатели...»
Или: «В деле повышения качества обучения и воспитания работающей молодежи
сельских
районов...»
Шаблонны обороты с цепью зависящих
один от другого творительных
падежей,
причастий и отглагольных существительных.
Например: «В тех хозяйствах, где по каким-либо причинам не удастся
скосить
позднеспелые бобы к этому сроху, нужно
ускорить засыхание растений опрыскиванием... водным раствором соли... с последующей уборкой таких посевов
прямым
комбайн ированнем».
Особенно уродливы обороты, в которых
действующее лицо, как нечто неодушевленное запрятано среди творительных падежей: 3 «Овладение студентами необходм
мыми знаниями и навыками...» «Изображение Некрасовым жизни крестьян...»
Это типично ведомственные, бюрократические конструкции, которым не должно
быть места даже в канцелярском стиле.
Трудно воспринимается мысль, если ее
выражают несколькими причастными конструкциями, зависящими одна от другой.
Например: «Часто в школах создается обстановка, способствующая проникновению
в речь учащихся установившихся штампов, противоречащих нормам литературного языка: поощряются выступления школьников, составленные
по
определенным
шаблонам; заученные по учебнику ответы
предпочитаются
свободному
изложению
з н а н и й и мыслей учащихся».
Отяжеляют и бюрократизируют
нашу
речь отглагольные существительные, если
ими стараются заменить обычные глагольные формы. Пожалуй, первым это подметил В. Г. Белинский, написав об одной
книге для детей: «А язык — это верх неестественности: ни одной простой фразы,
все по-книжному. Вот несколько примеров:
«Не угодно ли вам прогуляться со мной по
саду в ожидании возвращения нашгх детей?» Помилуйте! Кто же так говорит?
Всякий скажет: пока воротятся наши де4
ти» .
Позже А. М. Пешковский доказывал, что
л и ч н ы й глагол (и даже инфинитив, деепричастие и причастие) более просто, сильно
и ясно передают мысль, чем отглагольное
существительное 5 .
Сравним:
Для выполнения плана в новом году
1
См. ст. Б. Т и м о ф е е в а «Надо учиться, говорить!» и 3.
3сличенок
•Транспортировка
мусора», сборн. «О родном нашем языке», стр. 56—62.
2
См. о предлогах-штампах в ж у р н а л е «Новый мир», 1958, А"» 4, стр. 276.
' К о р н е й Ч у к о в с к и й . Живой к а к жизнь, стр. 132—133.
4
В. Г. Б е л и н с к и й Сочинения, т. X, стр. 508.
5
А. М. П е ш к о в с к и й . Избранные труды, М., 1959, стр. 102.
141
предприятию нужно провести мероприятия
по снижению себестоимости изделий и повышению производительности труда...
Чтобы выполнить план в новом году,
предприятию нужно снизить себестоимость
изделий, повысив производительность труда.
Второй вариант не только короче, но и
яснее, естественнее, благозвучнее. Он быстрее укладывается в мозгу читателя, а тем
более слушателя.
Грамматические штампы обычно идут
рука об руку: предлоги в отношении, по
линии, в части неразлучны с отглагольными существительными. Те в свою очередь
выстраиваются в одинаковых падежных
формах. Скопление отглагольных существительных не обходится без нанизывания
причастий («способствующее проникновению»,
«обеспечивающее
продвижение»
и т. п.).
Однако именно эти, мы бы сказали,
структурные штампы остаются в тени и
беспрепятственно портят нашу письменную
и устную речь. Штампом может стать и
вполне
доброкачественная
конструкция.
Так, однажды в областной газете в треч
или четырех очерках и заметках повторилось одинаковое начало: «Колхоз «Заветы
Ильича». Идет
заседание
правления.*.
«Районная
больница.
Славится она...»
«Станция Зима. Паровозное депо.»
Неплохой зачин, повторенный рядом несколько раз, приблизился к газетному
штампу.
Опасность штампа заложена в самом
языке, «существующем и для других людей и лишь тем самым существующем и
для меня самого» 1 , в обобщающей силе
каждого слова.
Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят
ветшают, как платье,—
писал В. Маяковский. Все знают, как засияло «величественнейшее слово — партия»
в неповторимых сравнениях и афоризмах
поэта. Чтобы слово не стерлось, не превратилось в затасканный штамп, его надо
смело вводить в соприкосновение с новым
для него окружением, и это поможет точнее и тоньше передать мысль.
Русский язык «надо любить и неустанно
изучать в его совершенных образцах, но
вместе с тем и бороться с ним, стремясь
найти новые способы выражения новых
мыслей»,— писал академик Л. В. Щерба 2 .
Неожиданные, свежие, смелые сочетания
слов — вот противоядие для штампов речи. В них каждое слово полноценно, и нет
ничего лишнего, сказанного по инерции.
Ни одного примелькавшегося слова и выражения — закон истинной поэзии. И каждый журналист, лектор, учитель обязаны
быть столь же взыскательны к своему слову, как поэт.
Трафаретные формулы, «примитивные и
стертые от беспрерывного употребления....
как заигранные граммофонные пластинки»,
идут от привычки искать образец в "книге,
газете, в готовых тезисах для докладов.
Иногда люди уверены, что писать и гово
рить надо только стандартными выражениями. Резко осуждаются те ораторы, которые «топят конкретное, существенное в
потоке шаблонных фраз», подобных та
кой: «Выполняя соответствующие решения,
настойчиво борясь за новые успехи в деле
удовлетворения
растущих
потребностей
трудящихся, наш коллектив, воодушевленный и сплоченный, используя имеющиеся
возможности, приведя в действие внутрен
ние резервы и т. д. и т. п.» (газета «Известия», передовая «Против политической
трескотни», 1963 г., 10 июля).
И там же вскрывается глубокий вред
такой фразеологии, которую так .ненави
дел В. И. Ленин:
«А ведь все это — невозместимая растрата своего и чужого времени... Но вред
здесь не только в этом. Казенные, бессодержательные или напичканные общими
парадными словесами доклады и речи
расхолаживают людей, воспитывают у них
равнодушие к политическим выступлениям,
культивируют формализм, подают дурном
пример неискушенным».
К ш т а м п а м ведет и неприязнь редакторов ко всему новому, оригинальному, «из
лишнее запретительство», погоня за «пра
вильной до зевоты», обесцвеченной, белжизненной фразой, в КОТОРОЙ все гладко
по форме, вяло и подражательно по со
держанию. Как верно пишет об этом Ко;,
ней Чуковский в своем великолепном «Раз
говоре о русском языке»! 3
Говорить просто и ясно, коротко и а:
мобытно научишься не только по книгам, я.
у народа. Литературный язык постоянн'
вбирает в себя живописные слова из >\
простых людей.
В рассказе «Талант» («Известия», № 3<;
за
1962 г.) Галина Николаева рисуч
русскую крестьянку наших дней, в реч;
которой что ни слово, то удивительи
сильное, емкое: Облень, оброныш, него;и
поползень, поклончив, переимчив, покор
лив—так судит она своего непутевого сын
«Не лаписто ли живешь?» — о нем ж>
потянувшемся за личным богатством. « Н *
гляди на меня комом, гляди россыпью!
Попробуйте заменить эти народные с;:
за книжными, общеизвестными — и я.и
станет тусклым, растянутым.
Избитые, трафаретные фразы, слог.
пустоцветы, вялость и мертвая к н и ж н о *
речи,— это накипь на могучем потоке ]г,
ского языка, она отступит, если печать, .и
тература и школа будут отстаивать с.ш
бытную, краткую и образную н д р п м
речь.
1
К. М а р к с и Ф р. Э н г е л ь с. Немецкая идеология, Сочинения, г. I V , п ,
- Л. В. Щ е р б а . Избранные работы по русскому языку, М., 1957, стр. 1Н
' К о р н е й Ч у к о в с к и й . Живой как жизнь, М., 1962, стр. 98 и 137.
142
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
Статья А. А. Хадеевои посвящена злободневному вопросу о связи
с жизнью преподавания литературы в национальной школе. Отлично
знакомая с особенностями работы в бурятской школе, она организовали
экспериментальную работу в Кижингинской и Оронгойской школах Бурятской республики, вела уроки и в московских школах в целях проверки ряда вопросов, связанных с темой ее диссертации. Ее статья отражает интересные в методическом отношении выводы из практики. Полагаю, что положения ее статьи могут быть полезны для практиков-преподавателей.
Профессор кафедры методики МГПИ
имени В. И. Ленина С. А. Смирнов.
А. ХАДЕЕВА,
аспирант Московского пединститута
им. Ленина
ЧТОБ К СЛОВУ
1ЯН УЛИСЬ Д УШИ
(Заметки о преподавании советской литературы в бурятской школе)
У ЧИТЕЛЬ
у ч е н и к - литература
эта проблема
сейчас
волнует исч-х,
кто кровно заинтересован и действенном
и всестороннем воспитании подрастающего поколения. В дискуссиях о преподавании литературы высказано немало с а м ы х
противоречивых мнений, с а м ы х разнообразных предложений. Споры
бе.чуслошм
принесли пользу, хотя бы тем, что разбудили общественную
мысль,
привлекли
внимание к школе и ее делам широкого
круга людей. Однако споры остаются спорами. В них ломаются копья, но они не
ломают традиций в практике. Традицию и
практике ломает эксперимент. Вот об одном из них мне и хочется рассказать и
этой статье.
Наш эксперимент преследовал
весьма
определенную цель: выяснить недостатки
и найти более совершенные методы н преподавании русской советской литературы в бурятской школе.
Чтобы ответить на этот вопрос более
верно и полно, мы решили сначала выяснить разницу в восприятии изучаемых л н Ётературных произведений русскими и бурятскими школьниками.
Проводились исследования в 5—6—7—8
бурятских классах трех школ (Оронгой-
ская, Кижингинская и школа-интерна!
№ 1 города Улан-Удэ). Учащимся предлагались вопросы по программным произведениям русской советской литературы.
Потом ответы русских и бурят сопостанлялись.
Нам удобно было сопоставлять, так как
некоторые произведения советских писателен изучаются как в русских, так и в
бурятских классах. Разница лишь в том,
что в нерусских школах РСФСР эти произведения изучаются классом выше.
Перечислим произведения «общие»
в
программах русских и бурятских школ:
«Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «Метелица» А. Фадеева, «Сын артиллериста» К. Симонова, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (6 класс);
«Ленин и печник» А. Твардовского, «Баллада
об ордене»
А. Безыменского,
«Страсть к чтению» М. Горького, «Молодая гвардия» А. Фадеева (7 класс); «Песня о соколе», «Буревестник» М. Горького, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Судьба
человека»
М. Шолохова,
«Кем быть» В. Маяковского (8 класс).
Сопоставим ответы учащихся русских
и бурятских классов по стихотворению
А. Твардовского «Ленин и печник».
Ответы русских учеников (работа про143
водилась в 6 классе «Б» и «В» школы
„ЧГ° 29, учительница т. Бухман) на вопрос:
I. Каково отношение народа к Ленину?
ОТВЕТ: «Ленина уважали и любили
простые люди, старики его на сходку звали, дети обступали его, чуть завидя».
Ответы учеников-бурят на этот вопрос:
«Ребята обступают его, старики его зовут на сходку».
2. Отношение Ленина к народу, его близость к народу.
Ответы русских учащихся:
«Ленин любил здороваться душевно с
простыми людьми, он очень прост в обращении с крестьянами».
Ответы учащихся-бурят на тот же вопрос:
«Он на улице здоровался душевно с
каждым встречным»; «он против старика
не сердится, уважает его труд. Когда печник стал ругаться, то Ленин пошел своей дорогой, уважает старика, просит прошения, угощает чаем деревенских люден».
Сравнивая ответы русских и нерусских
у ч а щ и х с я мы приходим к выводу, что
ответы почти одинаковы, правда, у нерусских школьников не совсем
гладок
стиль, некоторые ответы их
страдают
многословием,
сухой,
неэмоциональной
передачей содержания произведения, но
том не менее сопоставление говорит о
том. что бурятские учащиеся воспринп
мают довольно хорошо идейную сторону
произведений русских советских писателей.
Сходство ответов русских и нерусских
школьников позволяет нам сделать вывод, что восприятие литературных образов героического характера
достаточно
глубоко у школьников-бурят. Знакомясь
с героическим литературным персонажем,
учащиеся без труда отмечают героические
черты его характера. Наши наблюдения
иоспнтания героического
литературного
персонажа идут в общем русле с исследованием Т. В. Рубцовой и других пс,1хологов.
Т. Рубцова пишет: «Героические черты
характера персонажа не только значительно глубже воспринимаются детьми,
если они видят идейную направленность
героя, его борьбу с трудностями и его
переживания, но и выше ими оцениваются». Так, например, нерусскими учащимися высоко оцениваются поступки таких
литературных героев, как Л. Петров, Метелица, А. Соколов, А. Мересьев и др.
Больше того через 5—10 лет можно смело включать в программу по литературе
для нерусских школ и ряд других произведений советской литературы.
Таким образом, можно постепенно идти
к уравнению учебных программ и со
временем вообще отказаться от составления специальных программ по литературе
и языку для национальных школ.
В. В. Голубков в своей книге «А^етодика преподавания литературы»,
касаясь
восприятия и
понимания произведений
учащимися, говорит, что восприятие и по•шмание произведений во многом ограничено возрастом, взглядами и личными
пкусами читателя. А в национальной шко-
144
ле к этому следует прибавить степень
владения учащегося русским языком. Что
же касается восприятия языковой стороны произведения русской советской литературы в нерусских школах, то здесь дело
обстоит
значительно хуже.
В четырех
седьмых бурятских классах Оронгойской
и Кижингинскон средних школ в 1961—62
и в 1962—63 учебных годах была проведена работа в связи с изучением стихотворения А. Твардовского «Ленин и печник». Задание было такое: найти слова
и выражения, характеризующие близость
поэтического текста к разговорной речи.
Школьники
самостоятельно не
смогли
справиться с ним, затруднялись в нахождении слов разговорного характера, в
выделении их из текста. Например, непонятными оказались слова и выражения:
«пофорсить», «ну, печник, душа живая,—
знай меня, не лыкоч шит!», «сладим любо-мило», «да сплеча на всю округу и
поехал, и понес», «старым садом, белым
полем на деревню зачесал». Затруднения
в работе над языком произведения мы
объясняем
неумением отличить слова
русского литературного языка от разговорного, народного, а это следствие недостаточного владения русским языком.
В ходе изучения стихотворения А. Безыменского «Баллада об ордене»
была
предложена нами письменная работа, в
которой требовалось объяснить некоторые
русские речевые обороты. Приводим дословно объяснения, данные учащимися
бурятского класса:
1. Смертен боец — «бессмертный», «бесстрашный», «не боится врагов», «даже не
жалеет свою жизнь», «грозит опасность»;
2. Лихой — «веселый»,
«послушный»,
«быстрый»;
3. Гуща огня — «в жестоком, тяжелом
бою»;
4. Взметнув
непокорную прядь — «непослушный волос уложил»;
5. Окровавленный враг — «сбитый враг?,
«погибший»;
6. Таранил
небесную высь — «самолет
летит, бомбит и стреляет в воздухе»;
7. Острослов — «остроумный», «говори^
быстро, точно, ясно».
Задание такого же характера было да
но во время изучения стихотворения «Ле
нин и печник» А. Твардовского в 7 клаг
се и при изучении поэмы К. Симоноп.ч
«Сын артиллериста» в 6 классе. Некото
рые учащиеся дали неверные объяснения
(таких, правда, было меньшинство) слг
дующих слов: спасовать — «спасти», сор
ванец — «бестолковый», «шаловливый-» 1н
работе было написано так, как ученик-("IV
рят произносит его на русском языке
«шалбалибый»), «человек, который вест
бегает»;
глушь — «тишина»,
«тихий",
«тишь», «без шума», «бесшумный». ИГР*"
торые слова, затрудняясь объяснит]
русски, объясняли на родном языке. Г.
письменных работах по словарю с т и » "
творения А. Твардовского «Ленин и т •>
ник» были получены такие отпеты: г \ | ч
ба — «много люди», «куча», «много», «м. I
вместе», «с шумом»; заметалась Л п ш .
койно — «заметательное движение», • о
гает туда-сюда». Затруднялись в объяснении таких выражений: «спорится труд»,
«мастерит легко, любовно, словно песенку поет», «осень с хлебом на порог».
Ответы учащихся убеждают нас и п
том, что некоторые русские слова отдельные учащиеся не понимают или понимают
неправильно, а непонимание или искаженное понимание слов и в ы р а ж е н и й ведет
к непониманию или к извращению содержания и идеи произведения. На этом основании можно сделать вывод, что необходимым условием полноценного
восприятия образов произведений
русской
советской литературы, их идейного содержания является соответствующая
работа над языком произведения, над объяснением непонятных слов и оборотов в
тексте. Детей надо приучать проявлять
внимание к особенностям
стиля русской
речи, вырабатывать у них «русское» языковое чутье». Без этого «чутья» многое
останется непонятным в выдающихся произведениях
русской советской литературы.
Многолетние наблюдения
показывают,
что там, где учитель систематически работает над обогащением речи учащихся,
постоянно привлекает их внимание к тексту произведения, учащиеся, осознанно и
эмоционально восприняв идейный смысл
прочитанного, дают без труда
верную
оценку образам русской советской лито
ратуры. Красивым в моральном отношении считают Соколова, сохранившего человечность, несмотря .на потерю семьи,
родного очага, страдания и мучения, пережитые в немецком плену. Дав высокую
оценку поступкам Мересьева, его героическому восемнадцатидневному путешествию но лесу, учащиеся считают, что он
заслужил полное право называться настоящим человеком. Высоко оценивается восьмиклассниками и образ Павла Корчагина, посвятившего
всю
свою
жизнь
«борьбе за освобождение
человечества».
Учителю нерусской школы следует руководить восприятием у ч а щ и х с я в большей мере, чем учителю русской школы,
'н постоянно обязан учитывать, что доупно учащимся, какие трудности возкают при встрече с каждым вновь изуаемым
произведением, что
неизвестно
м, что способно заинтересовать, к содеранию каких произведений они соверенно равнодушны. Наряду с этим учи:ль обязан направлять впечатления от
юспринимаемого
материала по
линии
йиошюнального воздействия, ясного осрисления его содержания.
Опыт показывает, что из советской лнературы лучше и легче всего восприни|аются произведения, отражающие героирскую
тему,
смелые подвиги героег.
ражданской и Великой
Отечественной
ойн, пол виги людей мирного времени в
•азных сферах жизни («Молодая гнар
|ИЯ» А. Фадеева, «Баллада об ордене»
Безыменского, «Повесть о настоящем
повеке» Б. Полевого. «Судьба челоиеа» М. Шолохова).
[Никаких трудностей, например, не во.ч
исало при изучении шолоховского рас
К). «Байкал» .\% !.
сказа. Учащихся бурятских 'школ тронули
до глубины души строки, повествующие
о жизни А. Соколова в немецком плену,
о расправе его с предателем Крыжневым,
о смелом поведении Соколова на допросе у майора Мюллера.
Чтобы добиться
коренных успехов в
изучении русской советской литературы в
бурятской школе, учителю важно понять,
что при изучении художественных произведений на русском языке связь с родной (бурятской) литературой естественна
и необходима. Это сопоставление с родной литературой является одним из условий успешного преподавания советской
литературы в
восьмилетней
бурятской
школе.
Связь произведений русской советской
и бурятской литературы может быть осуществлена при условии
идейно-тематической близости изучаемых произведений
(героизм и патриотизм советских людей
в Великой Отечественной войне по произведениям русских советских и бурятских писателей) К. Симонова, А. Фадеева,
М. Шолохова, Б. Полевого, А. Безыменского, Ж. Тумунова, X. Намсараева и др;
тема труда в изображении советских русских и бурятских писателен М. Исаковского, X. Намсараева, Д. Батожабая,
Ц. Номтоева, В. Маяковского и других.
Надо научить
детей находить
черты
сходства с родной литературой, научить
оценивать произведения русской
советской и родной литературы. Н. К. Крупская неоднократно говорила о важности
использования национальной
художественной литературы в учебно-воспитательных целях.
Как же учить этому? В 6 классе по
родной литературе изучается
отрывок
«Последние сражения» из романа Жамсо
Тумунова «Степь проснулась», в котором
автор повествует о победе партизан над
тапха^вмами-белобандитами.
Учащиеся
из вступительного занятия
узнают о партизанском движении в Забайкалье
в годы гражданской войны.
Рассказ же А. Фадеева «Метелица» изучается тоже в 6-м классе. Он дает воз
можность
бурятским шестиклассникам
снова соприкоснуться с эпохой граждан
ской войны, но уже в произведении на
русском языке.
В шестом классе, в конце учебного года, изучается стихотворение Ч. Цыден
дамбаеза «Мать героя», в седьмом классе
на русском языке в порядке дополнительного чтения рекомендуется знакомство со
стихотворением татарского народного поэта М. ' Д ж а л и л я
« П р а з д н и к матери».
Оба произведения злтр.мгивают одну и ту
же тему. Это дает возможность для идейно-тематического сопоставления.
Тема героизма и патриотизма советского народа н дни Великой Отечественной
войны нашл.ч отражение как в программах русской советской литературы, так и
родной литературы. Героизму и патриотизму советского народа посвящены произведения бурятских писателей. При изуч''ннн стихотворения К. Симонова «Сын
145
артиллериста» как не обратиться к рассказу Ж. Тумунова «Отец и сын» (рассказ изучается в 5 классе). Ситуация почти та же самая в обоих
произведениях.
Отец—полковник Ширапов, подобно Дееву,
отправляет своего сына для выполнения
опасного боевого задания. Подобно Дееву
он волнуется за сына. Анализ поступков
Деева и Ширапова поможет школьникам
лучше воссоздать образы советских людей.
Рассказ
Ц. Дамдинжапова
«Простая
бурятская мать» изучается в 6-м классе.
Стихотворение М. Исаковского «Разговор
на крыльце» тоже изучается в 6-м классе. Хотя произведения разного жанра, но
они близки по теме. Рассказ повествует
о судьбе
простой бурятской женщины
Бумбу Базаровны Цыденовой. Счастье к
ней пришло лишь после революции. Подобно ей, колхозница в стихотворении
Исаковского обрела настоящее счастье в
советское время, когда труд ее высоко
был отмечен правительством.
Рассказ «Лейтенант Саханаев», изучаемый в 8-м классе, напоминает нам стихотворение А. Безыменского «Баллада об
ордене». При изучении его в 8-м классе
мы можем сослаться на отдельные сходные черты главных героев Кербештыма и
Саханаева.
Рассказ Ж. Тумунова «Степной орел*
изучается в 6-м классе. Герой его Баярто напоминает нам героев А. Фадеева,
М. Шолохова, Б. Полевого.
Надо чаще,
как можно чаще и как можно разнообразнее, использовать из родной литера-
туры то, что ближе, созвучнее изучаемо
му литературному произведению на русском языке. Путем обращения к соответ
ствующим произведениям родной литера
туры на уроках чтения на русском языке
можно добиться лучшего усвоения содер
жания произведений русских и бурятских
писателей.
Самому
же учителю,
преподающем)
русский язык и русскую литературу, нуж
но хорошо знать родную литературу и
быть в постоянном контакте с учителем
родного языка и литературы.
Каждый раз, приступая к изучению то
го или иного произведения, выявляя сходство его с произведениями родной литературы, надо помнить, что успех зависит
от степени владения учащимися русским
языком. Чем старше класс, тем русская
речь учащихся развитее, тем начитаннее
учащиеся и, значит, тем больше возмож
ностей для проведения параллелей, сопо
ставления с родной литературой. Однако,
излишне сложные задачи не следует да
вать учащимся средних классов. Сопоставления, ссылки, обращения к родной
литературе следует проводить в той мере, в какой допускает программный материал русской советской и родной литературы, возраст учащихся, степень вла
дения их русским языком.
Только тогда, когда учитель новатор
ски,
вдумчиво станет
совершенствовать
процесс обучения, учащиеся будут не
формально «усваивать» программу, а увлеченно, радостно
тянуться к роднику
великого художественного слова.
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС
+ По подсчетам специалистов, экономия от замены
натуральных волокон химическими в производстве технических изделий в расчете на 1970 год составит:
— более двух миллиардов рублей на капитальных
вложениях;
— около 525 миллионов рублей на издержках производства;
— трудовые затраты уменьшатся на 52 миллиона
человеко-дня.
4" Общая экономия от применения искусственной
кожи и пленочных материалов в производстве предметов народного потребления составит в 1970 году около
1,5 миллиарда рублей.
Нет, это не атомный гриб! Это «работаем» мирный Карымский в \ л к а н
на К а м ч а т к е .
Фото н а ш е г о ч и т а т е л я Лидии Данилеско.
Петропавловск-Камчатский.
« 11 рпкп 11,1 н е к е с т ы »
«( \Р"1!|.||| кр.и"'».
Репродукции
картин Д. Дугароза.
Фп! I
И
М.-ч II
ИСКУССТВО
л. ОЛЗОЕВА
РАДОСТНЫЙ ТАЛАНТ
*~>А ПОСЛЕДНИЕ годы в Союзе художников Бурятии наметилась интересная
творческая линия.
Копирование природы,
фотографичное
видение раньше приводили к
созданию
примитивных, скучных работ. Не удивительно, что выставки обычно проходили,
не вызывая особого внимания зрителя.
Поиски молодых художников, воспитанников советских
вузов, влили
живую
струю в деятельность Союза. Работы
А. Казанского, Г. Баженова, Г. Москалева, А. Сахаровской, К. Дульбеева проникнуты духом современности, творческим
вниманием к мужественным людям
Забайкалья, к его природе.
Своеобразным
утверждением
новой
творческой линии явилась организованная в конце 1963 года выставка работ
Д. Дугарова.
Произведения молодого мастера по тематике близки к творчеству замечательного бурятского художника Ц. С. Самойлова. И это не случайно. Еще в детстве
восхищался Даши-Нима Дугаров рисунками Самойлова, его
иллюстрациями к
народным сказкам. Мальчика поражала
способность художника изображать народные характеры, типы, поражало трогательное внимание к каждой изображаемой вещи. Даши-Нима страстно мечтал
научиться рисовать
так, как
рисовал
этот замечательный и такой близкий его
сердцу художник.
Дугарову выпала счастливая судьба —
уже в детстве он соприкоснулся с живительными традициями народного искусства. Всякий ли знает сейчас расписные
деревянные сундуки, бывшие прежде гордостью каждой бурятской семьи? В приданое невесткам дарили самые красивые
сундуки. Их расписывали масляной краской, иногда покрывали лаком. Расписывали их, следуя традициям, чистым цветом. Липовые стороны украшали орнаментом, богато варьирующимся, неисчерпаемым в своих комбинациях.
Эти своеобразные произведения народного искусства создавались безвестными
умельцами. Одним из таких умельцев и
был в ' ю н о с т и Даши-Нима Дугаров.
Годы учебы в Ленинградском художественном институте имени Сурикова открыли Дугарову сокровища мировой живописи, научили профессиональному мастерству.
...Пройдемте в зал, посмотрим полотна
человека, осуществившего свою заветную
мечту — мечту стать художником.
Картина «Проводы невесты» написана
в студенческие годы. Именно она заявила о Дугарове как о
многообещающем
художнике. Она была тепло принята москвичами на декаде бурятского искусст
ва и литературы.
...Темная земля.
покрытая травой
и
крупными лиловыми цветами; к вечеру
она, истомленная жарким солнцем,
дышит пряным степным ароматом.
Зарево
заката словно вырывает из
прошлого
картину древнего обряда.
Всадники в
красных халатах мчатся наперерез невесте. Лихой наездник на черном коне пересекает ей дорогу, чтобы по обычаю
«отнять счастье». На вершине холма юрта, легкий дымок вьется над ней, и кажется, что это из ее распахнутого полога
вырвался неистовый хоровод.
Невеста печальна, обаятельна и трогательна в своей женственности и задумчивости. Ее увозят от родного очага в дом,
где она будет жить покорно и п р и н и ж е н но. Она не сможет заходить в г л а в н у ю
половину юрты, не будет сидеть .чл общим столом, всем в доме ей придется
угождать. Голубое пятно — одежда ненесты — подчеркивает своей
тональностью
печальный и светлый образ девушки, ее
отъединенность от общего веселья.
Хорошо прочувствованы и продуманы
композиция картины и ее колорит.
«Дочери Бурятии» — д и п л о м н а я работа художника. Это полотно привлекает
неброской органичной
дскоратишюстыо.
Интересно
разработан
сложный,
чуть
приглушенный колорит, остающийся
в
своей основе национальным.
...Пять девушек-всадниц едут но летней бескрайней степи м середине дня.
147
степь залита ярким светом, кое-где лежат
тени от гор, прозрачные, легкие, как горы, чуть заметные вдали. И оттого горы
тоже кажутся кочующими, как тони от
всадниц.
Группа девушек не вызывает у зрителя внешнего любопытства своей «экзотичностью». Это наши современницы, разделяющие с нами заботы и радости.
Влюбленность художника в прекрасную
землю Забайкалья особенно ясно ощущается в произведениях последнего перно
да — большом полотне «Суровый край» и
многочисленных этюдах.
Вот строчки из книги отзывов: «Работы Дугарова помогают узнавать чудесный край — Бурятию. Если б у нас в Литве увидели «Суровый край», то эту
страну за се величие и в то же время .за
ее простоту полюбили бы. Чувствуется
прекрасная жизнь, привольная жизнь!»
Вот строчки из другого отзыва: «В картине «Суровый край» художнику удалось
передать снежный просто])
безлюдного
края, трудность работы и жизни в нем.
И в то же время его красоту».
В этом полотне с большой силой переданы образ могучей природы и единство
человека с ней.
...Снежная степь, холодное небо, окутанное облаками. А человек смотрит
вдаль н любуется. Сила и гордость во
всей его фигуре. Его одежда — фиолетовый халат, желтый кушак, голубая, отороченная мехом остроконечная шапка —
оживляет весь пейзаж. Вольно и хорошо
человеку в этих просторах. Красивы душой люди, живущие в этом краю...
Этюды написаны в широкой свободной
манере, сохранившей непосредственность
и полноту чувства.
...«Поселок Тунка». Ночь притаилась п
горах, а в долине воздух еще светел и
ярок, так бывает перед самым наступло
нием темноты. Этюд написан в традициях
русской реалистической школы, и тем не
менее образ Сибири передан своеобразно
и свежо.
Этюд «Саяны с деревней Торы» написан
яркими красками забайкальского лета.
Гордо блистают белые вершины, цепь гор
тянется далеко, и нет ей конца. Иллюзия
пространства достигается скупыми, но выразительными средствами. Более холодный в цвете тон гор удаляет от нас, раздвигает просторы земли, веселой и щедрой. Небо удачно связано с землей пятном тающего облачка.
Этюд «Вечерний мотив», очень небольшой по размеру, хорошо передает картину заката. Желтое небо с красными полосами уже таит ожидание темноты. Дерево на втором плане словно сейчас проросло из теплой земли. Серая полоса земли на переднем плане еще освещена последними лучами. Тает вдали гряда гор...
Выразительны также этюды
«Загон»,
«На курорте Аршан», «Вечер в Тунке»,
«Вид Хамар-Дабана».
Смело решено полотно «Тунка. Снежные вершины». Композиция его неожиданна и выразительна. Сверкают снегом
белые вершины, холодный сизый цвет гор
подчеркивает,
раздвигая
пространство,
более теплые по колориту землю и свет
лое небо.
Острый глаз и умение дать яркую психологическую
характеристику особенно
обнаруживаются в портретах Дугарова.
Сильное впечатление производят «Испанка» и «Женщина в черном». Образ «Испанки» сложен и человечен; решенная декоративно, картина оставляет доброе, радостное чувство. Несмотря на некоторые
недостатки в композиции, привлекает проникновенностью образа портрет патриарха бурятской литературы Хоца Намсараева, написанный художником совместно
с Сергеем Поликарповым.
Творчество Дугароза — еще одна страница в яркой летописи бурятского искусства, идущего от народных традиций, от
жизни.
ОБСУЖДАЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ВЫДВИНУТЫЕ НА ЛЕНИНСКУЮ ПРЕМИЮ
СУД ПАМЯТИ
Вы думаете, павшие молчат?
Конечно да — вы скажете.
Неверно!
Они кричат,
пока еще стучат
сердца живых
и осязают нервы.
Они кричат не где-нибудь,
а в нас.
За нас кричат.
Особенно ночами,
когда стоит бессонница у глаз
и прошлое толпится за плечами.
Эти строки из поэмы Егора
Исаева
«Суд памяти», поэмы умной, страстной,
посвященной самой неотложной проблеме
сегодняшнего дня — борьбе за мир. Их
хочется цитировать без конка. Нет, гитировать не то слово. Их хочется запоминать. Для себя. Для сердца. Потому что
главное в поэме — ее человечность. Она
обращена ко всем живущим и к к а ж д о м у
в отдельности.
Германия. Грохот
солдатских сапог.
Безработица. Гул военных заводов. Это
фон. Пере! читателем — три фигуры, три
немца. От их мыслей и ПОСТУПКОВ зависит будущее Европы. Курт, Ганс, Хорст.
Безногий калека, понявший весь ужас
войны, в страхе уже не за себя. «Брось,
твои ноги все равно не вырастут!» — говорит ему Хорст. Курт отвечает:
А вот они... они
растут.
Схватил костыль
и костылем
он ткнул перед собой
туда, где дети за углом
разыгрывали бой.
Ганс, пришедший к горькому выводу:
«Мы трусы, Хорст, а не гепои мы!»
И, наконец, Хорст, оставшийся в войну
невредимым. Хорсту пришлось нелегко.
Его выгнали с работы, он живет трудно,
и в его солдатском мозгу беспокойно ворочаются мысли о минувшей войне. Эти
мысли нам чужды. Но они показательны,
тяжелы, как камни, мысли недавнего
солдата, а потом рабочего, оказавшегося
за воротами завода, за бортом жизни.
Хорст
нашел выход: он собирает на
стрельбище пули и свинец из них продает. Куда он пойдет, этот свинец, его не
интересует. Впрочем он
знает — свинец
пойдет на пули для новой войны. Философия Хорста проста:
Он маленький, забытый человек.
Ведь все равно не излечить калек,
ведь все равно убитых не поднять —
ни тех друзей,
ни собственную мать.
И еще определеннее:
Я немец,
я солдат.
Этот Хорст далеко не безобиден. Его
надо остерегаться, хотя и он вздрагивает
от грозы, напоминающей ему голос войны. Все трое не могут быть спокойными,
потому что:
...ходит по земле
босая Память — маленькая женщина.
И пусть Хорст
оправдывается
перед
ней, что он рядовой, а рядовых за войну
не судят.
Память
восклицает: — «Нет,
судят, Хорст!»
Мысль о том, что за мир в ответе каждый из живущих, что от рук каждого из
нас зависит будущее Земли — эта мысль,
ставшая главной мыслью поэмы, настойчиво, сильным рефреном проведенная во
всей книге, утверждается в памяти читателя. Поэма
написана рукой мастери,
умеющего от тончайших оттенков раздумий своих героев переходить к широким
философским обобщениям, картинам, то
горьким, то радостным, охватывать зорким взглядом весь земной шар. Актор,
сам поэт и солдат, прошедший через все
тяготы
войны, сумел так
органически
спаять главную мысль поэмы с к а ж д о й
ее строфой, что кажется, автор сам выходит на передний план поэмы и громко
бьет тревогу, обращаясь не к одному, а
к тысячам хорстов.
В поэме Исаева форма и содержание
как нельзя лучше отвечают друг другу.
Надо сказать, что в нашей поэзии до сих
пор еще не исчезли стихи-близнецы, когда добрый десяток поэтов, о которых так
отчаянно спорят критики, легко спутать
одного с другим, настолько сводит их к об-
щему знаменателю погоня за ультрасовременной рифмой, за навязчивым, набившим читателю оскомину копанием в своих личных, в общем-то мелких чувствах.
Егору Исаеву они чужды. Отличный,
крепко сколоченный стих, четкие и постоянно свежие рифмы, новизна, а скорее
точность образов,— все это создает то
неуловимое сразу настроение, когда читатель не хватается за голову: «Ах, как
он загнул!» или «Вот рифмочка!» — а начинает прислушиваться к своему сердцу,
ритм которого автор успел настроить на
ритм своей книги.
Отличная поэма Егора Исаева, продолжающая лучшие традиции русского стиха, наполненная болью за будущее Земли, выдвинута на соискание
Ленинской
премии. Мы считаем, что эта поэма вполне достойна Ленинской премии. Читатель,
глубоко и серьезно озабоченный происками поджигателей войны, искренне приветствует суровую и зажигающую страстную поэму Егора Исаева.
Анатолий
ЩИТОВ.
ОТКАЗЫВАЮ В ДОВЕРИИ
Я РЯДОВОЙ
читатель
и поэтому не
без робости взял на себя роль литературного судьи. Сделал я это только потому, что не могу не высказать своего
мнения о произведении, которое выдвигается на соискание Ленинской премии.
Речь пойдет о широко известной повести
А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
...Культ Сталина оставил тяжелый след
в жизни нашего общества. XX к X X I I
съезды нашей партии разоблачили и развенчали все, что было связано со злоупотреблением властью. Со съездовской трибуны была сказана правда партии и народу о культе. Естественно, что писатели
попытались осмыслить все это художественно. В числе первых появилась повесгь «Один день Ивана Денисовича».
Густыми мазками рисует автор суровую и страшную правду о тяжелой жизни безвинно репрессированных. Можно
было бы привести много примеров из повести, показывающих надругание над человеком.
Вот один из характерных
эпизодов:
«Засстоловой — откормленный гад, голова, как тыква, в плечах аршкн... Носит
шапку белого пуха без номера, ни у кого из вольных такой шапки нет. И носит
меховой жилет барашковый, на том жилете на груди — маленький номерок, как
марка почтовая,— Волковому уступка, а
на спине и такого номера нет. Завстоловой никому не кланяется, а его все зэки
боятся. Он в одной руке тысячи жизней
держит. Его хотели побить раз, так все
повара на защиту выскочили, мордовороты на подбор».
Почесть обличительная. Но достоинство
литературного произведения, по-моему заключается не в том, что в нем дается
правда вэобще, ла правда должна быть
принципиальной. Отвечает ли этим требо-
150
ваниям главный герой понести Иван Денисович Шухов?
Я думаю, что нет.
Герои повести живут по девизу — лишь
бы выжить. Подохни ты сегодня, а я
завтра! Безвольное непротивление злу —
вот стержень шуховского характера.
«Считается по делу, что Шухов за измену Родине сел. И показания он дал,
что таки да, он сдался в плел, желая изменить Родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой
разведки. Какое же задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание.
Расчет был у Шухова простой: не подпишешь - бушлат
деревянный, подпишешь — хоть
поживешь еще
малость.
Подписал».
Бесспорно, бывало в ту пасмурную пору и такое. Слабовольные люди, стараясь
спасти свою жизнь любым путем, подписывали самые невероятные «дела».
Порой на это шли, желая избавиться от
долгих и мучительных допросов. Но никогда уважающие себя люди не сдавались без борьбы. Характерным для людей, попавших в беду по наветам, были
стойкость,
принципиальное непризнание
своей «вины». Именно такие качества помогли многим еще в 1938 году освобо
диться из застенкоз. И наоборот, те, кто
наговаривал на себя (как Иван Денисович), неотвратимо шли или на смерть или
в лагерь. И такие в лагерях жили только
ради себя, их не волновала чужая беда.
Вспомните эпилог повести.
«Засыпал Шухов вполне удоволенный.
На дню у него выдалось сегодня много1
удач: в карцер не посадили, на Соцгоро. !
бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл
процентовку, стену Шухов клал весело,
с ножовкой на шмоне не попался, подработал у Цезаря и табачку купил.И п.заболел, перемогся.
Прошел день, ничем не омраченный,
почти счастливый».
То есть как,—спросим
мы,—неужели
душа Шухова не откликнулась на трагедию Буйновского, восставшего за права заключенных и попавшего на десять
суток в карцер, в котором «...если отсидеть их строго и до конца,— это значит
на всю жизнь здоровья лишиться...»
Герои Солженицына отгородились друг
от друга стеной одиночества и вражды.
«Кто арестанту главный враг?
Другой
арестант»,— откровенно признается
Шухов. Этому трудно
поверить. Солженицын попросту сказал неправду о людях,
попавших под тяжелую пяту беззакония.
В неправде автора уличает невольно и
сам герой повести — кавторанг. Он (см.
•тИзвестия* за 15 января) вспоминает:
...Вышел из БУРа, как говорили заключенные, «прозрачным и звонким». Меня шатало. И вот, когда я возвратился в
барак, десятки рук потянулись ко мне с
кусками хлеба, сахара, закрутками табака. Я подумал: «А людей-то в нас не
затоптали...»
Да, не затоптали н не могли затоптать,
потому что несгибаема воля человека,
сильна его гордость, прекрасна душа,
«шуховщину» он не приемлет.
Не принимаю Шухова и я. Не верю
ему, не верю автору, убеждающему меня
в правдивости образа Шухова. Россия
всегда была страной сильных и гордых
людей. Эти люди за правду всегда сражались смело. Мое Забайкалье знает этих
борцов. Оно видело их на каторжных
трактах прошлого. Не выживать стремились
те люди, а жить, мужественно и ярко.
О них нужно писать, их судьбы нужно
воссоздавать художественно, их образы
нужно воспевать. Но Шухора называть
их братом по духу нельзя. Это несправедливо, это вредно. Литература
учит
нас жить, учит примером своих героел,
так пусть же примером этим будет всегда сильный, мудрым и горд:>!Й челозек.
Шухова к в наставнлки НЕ возьму и всеми силами постараюсь, чтобы не взял его
в настапники кой сын, мой внук, молодость моего отчего края.
Есть у меня несогласие и с языком повести. Герой повести говорит языком чеховского героя Дениса Григорьева из рассказа «Злоумышленник». Это язык отсталого, ограниченного человека. Как можно
согласиться с принижением, я бы сказал,
с грубым принижением советского человека, духовно неизмеримо выросшего по
сравнению с людьми десятых годов нашего столетия. Для стиля повести с первой и до последней страницы характерен
какой-то примитивизм, вся повесть испещрена вульгаризмами.
Можно привести
лишь некоторые:
«И надзиратели, без
Волнового шманявшие кое-как, тут зарьялись...», «ихьего объекта», «повар пробуркател», «смефуечками
он
бригаду
свою не жалует», «и по захрястку его кулаком», «Без подъемника, без фуемника»,
«Так босиком и шмоняли».
Всякое литературное произведение, кроме всего прочего, призвано воспитывать
эстетическое чувство. Повесть Солженицына таким воспитателем не будет. Мое
мнение поддерживает сама жизнь. Помню
один любопытный эпизод. О Солженицыне спорили двое. Один утверждал,
что
Солженицын достиг в мастерстве слова
толстовских вершин. Второй внимательно
выслушал своего оппонента и спросил:
— Слушай, у тебя есть дочь. Ей шестнадцать лет. Толстого она давно прочла.
А вот Солженицына не читала. Ты дашь
дочери почитать его повесть?
Первый смутился, замолчал, а потом
честно признался:
— Нет, Солженицына не дам.
— Значит не веришь ему?
На этот вопрос ответа не последовало.
Однако больше никогда я не слышал от
моего приятеля ничего о толстовских вершинах, покоренных Солженицыным.
На этом, пожалуй, можно и закончить.
Я считаю, что повесть «Один день Ивана Денисовича» не заслуживает Ленинской премии — самой высокой и почетной
награды для художника.
Н. МИРОНОВ,
персональный пенсионер, член КПСС
с 1929 г.
Алла Стародубова
ТЕЛЕВИЗОРНАЯ БОЛЕЗНЬ
Стынет каша на тарелке.
Чай давно налит в стакан.
Первоклассник Боря Белкин
сонно смотрит на экран.
Смотрит сцены из балета,
выступления квартета,
и футбол,
и оперетты,
джаз,
и кинозвезд портреты,
и картину «Западня»...
не хватает Боре дня:
он не выучил уроки,
не пошел вчера в спортзал.
маму из командировки
Боря
встретить опоздал.
Плачет бабушка от горя.
Мучит старую вопрос:
«Что же делать—
внучек Боря
к телевизору прирос?
Телевизорной болезнью
заболел, наверно, внук.
Кто мне даст совет полезный
в части докторских наук.
Может, есть телебольница?
Может, способ есть такой,
чтобы дома мог лечиться
телевизорный больной?
Телеврач?
Теле...
провизор?»
...А не продать ли телевизор?
МАЛИНА
Сад у Л и н ы
на Неглинной,
весь засажен сад
малиной,
и поэтому у Лины
полон рот всегда
малины.
Просим Л и н у
мы с Полиной:
152
«Угости разок
малиной!»
Как-то путано и длинно
нам отказывает Лина.
Слышу шепот я Полины:
«Не хочу совсем м а л и н ы » .
Мы спешим уйти от Личы
Сад на улице Неглинной
очень длинный,
очень длинный.
ГОВОРЯТ
Пусть ребята все услышат:
Говорят,
в парикмахерскую Миша
что две лягушки
не заходит целый год,
ели ложками ватрушки,
скоро косы заплетет.
лягушонок — их сынок,
вилкой пил томатный сок.
Говорят,
четыре хрюшки
Но еще бывает хуже:
Степа, сел в гостях за ужин, поселились у речушки,
смотрят все: большой какой, Но, хоть рядышком вода,
а котлету ест рукой!
ходят грязные всегда.
Вспоминаем поневоле:
Говорят,
две подружки, Поля с Олей,
что три лисички
рук не моют по три дня,
начали растить косички.
видно, свинки им родня.
И теперь у всех лисят
космы длинные висят.
А МЕНЯ НЕ БЕСПОКОИТ
Что такое?
Что такое?
Отстающих в классе трое?
А меня что беспокоит?
Я ж отличник! Вот дневникпервый в классе ученик.
Что такое?
Что такое?
Почему-то плачет Зоя?
А меня что беспокоит?
Я не брат ей, не сестра,
не встречался с нем с утра.
Что такое?
Что такое?
Дед в трамвае едет стоя?
А меня что беспокоит?
Удивляюсь неспроста:
это ж детские места.
Что такое?
Что такое?
А меня не беспокоит...
158
ЛЮДИ ЗЕМЛИ
БУРЯТСКОЙ
СЫН СЛАВЬ!
пени и ему присвоили звание младшего
сержанта.
Орден Славы второй степени появился на
гимнастерке Семена Ивановича в Вильнюсе.
Советские войска освобождали столицу
Литвы от оккупантов. В разгаре уличного боя один из связных
комбата Шевцова был ранен. Он не успел перебежать
улицу, упал и не мог подняться. Немцы
предприняли несколько отчаянных попыток захватить его в плен.
На выручку раненому капитан Шевцов
снаряжает Семена Ивановича и Жану Загидулина. Бойцы спрятались за углом дома, выбирая подходящий момент для
броска. Загидулин по команде Батагаева
открывает автоматный огонь по .окнам дома, где засели немцы, а Батагаев бросился
на середину улицы, схватил связного. Немцы даже опомниться не успели, как Батагаев скрылся за углом. Приказ капитана
Шевцова был выполнен.
Полным кавалером ордена Славы Батагаез стал в Восточной Пруссии. Отступающий враг огрызается, не сдается.
•—СТЬ у Родины высшая награда з,ч
Полк майора Шевцова был остановлен на
боевые заслуги — орден
Славы. Тольрубеже наступления. Кинжальный пулеметко семьдесят четыре человека являются
ный огонь прижал солдат к земле. Надо
полными к а в а л е р а м и этого ордена. Четбыло немедленно вывести из строя пулекетперо из них живут в Забайкалье. С одные точки врага. Эту задачу капитан Шевним из этой четверки прославленных земцов возложил на младшего сержанта.
ляков я г.стретплся в далеком Онгурене,
Батагаев пополз. Не прошло и пяти мидома которого накрепко вросли в неласнут, как послышался взрыв гранаты. Пуковую землю Ольхона.
'лемет захлебнулся. Короткой очередью
Зовут отважного солдата Семеном Ивадобил Батагаев оставшихся в живых врановичем
Батагаевь'м. Он работает
в
жеских пулеметчиков. Тут заговорил друсельском клубе. Люди очень уважают
гой пулемет. Но Батагаев уже успел
этого славного человека. Очень гордятся
метнуться в сторону.
Метр за метром
его подвигами, а подвиги Батагаева изупродвигался он к цели, бросил противомительны.
танковую гранату.
Вторая
пулеметная
Свой первый подвиг он совершил в бою
точка врага была выведена из строя.
за станцию Локня. В течение двух дней
Полк Шевцова поднялся в атаку,
Н"
станция переходила из рук п руки. Батазаработала третья огневая точка, и атака
гаев был наводчиком батальонного минозахлебнулась. Снова
капитан посылае!
мета. В самый разгар боя из строя выБатагаева вперед
шел командир — младший сержант НикиТретья вражеская пулеметная точка 61,1
фор Яковлев. Батаглев ."стает во главе
ла уничтожена. Но смельчака подстерега
расчета. Враг ожесточенно атакует, из
ла снайперская пуля. Он был отправлен
тридцати минометчиков осталось в живых
в тыл. Врачи спасли ему жизнь и хрлГ>
одиннадцать, но они стояли насмерть
и
рый онгуренец снова встал з строп. I I ;
победили. Немцы отступили. И тогда к
его груди засиял золотистыми л у ч а м и ор
рядовому Батагаеву подошел командир
ден Славы первой степени.
полка майор Кожевников. Он пожал ему
На этом не закончилась фронтовая 6нс
руку и сказал:
графия героя. Свои ратный путь с е р / к а н т
— Судьбу моего полка решили вот эти
Семен Иванович Батагаев завершил
н.|
четыре воина: минометчик Батагаев, пувосточной границе великой Родины и п
леметчик Соколовский, автоматчик
Раз1946 году вернулся в родной Онгуроп..
дорскин и артиллерист Кулиев.
За этот подвиг Семен Иванович БатаД. Д А Н И Л О В
гаев получил орден Славы третьей
сте154
ПРОКАЗНИК
МА
ТАН-ПИ
Вьетнамские народные сказки
Нет такого уголка во Вьетнаме, от Ханоя до Сайгона к
от Хайфона до Лайчао, где приезжему чужеземцу не рассказали бы одну-две истории о проделках народного героя, весельчака и проказника Ма Тан-пи...
Вот одна из таких историй:
Ма Тан-пи и торговец яйцами
О ДНАЖДЫ,
в одно из своих бесконеч
ных путешествий Ма Тан-пи зашел на
постоялый двор. На улице было довольно
холодно и Ма Тан-пи изрядно промерз. Он
мечтал о горячей печке, возле которой
можно было бы хорошо погреться, а согревшись, и хорошенько вздремнуть.
Но на постоялом дворе было много народа, и место у печки было занято. Там
сидел торгонец, возле него стояла большая корзина с товаром.
Ма Тан-пи подошел к торговцу и попросил его немного подвинуться, а корзину
убрать в сторону.
— Я заплатил деньги и корзина останется там, где она стоит!— грубо ответил
торговец.
Ма Тан-пи не стал спорить с жадным
торгашом, он походил немного по залу и
опять подошел к торговцу.
— А что за товар у тебя, почтеннейший,— спросил он вежливо
торговца,—
чем собираешься торговать?
— У меня здесь в корзине яйца,— ответил торговец.— Я несу их продавать на
городской базар.
— Вот
и прекрасно!— воскликнул Ма
Тан-пи.—А я как раз хотел купить яйца.
Не продашь ли мне свой товар?
— А не все ли мне равно, кому ирода
вать,— откликнулся торговец н поднялся
с места.
— А сколько у тебя их в корзине?
— Не знаю, но мы можем посчитать...
— Прекрасно!..— сказал
Ма Тан-пи.
Садись вот сюда за этот стол. Я буду выкладывать яйца из корзины на стол, ч и
будешь держать их и мы быстро перс
считаем.
Торговец послушно уселся за стол, р.-цтопырил свои огромные ручищи, и ,М I
Тан-пи стал вынимать из корзины я й ц а и
класть их на стол перед торговцем
— Раз... два... три...
Яиц оказалось девяносто дсшт.
— Жаль,— сказал Ма
Тан-ин
Л\м<
НУЖНО бЫЛО рОВНО СТО. ЭТИ Я Й Н Л 11 1И
1
1ПГИ,
му. Спокойной ночи.
Торговец остался за столом.
р;и ниш
репными руками п р и д с р ж н н л н ч и л о ж г н ную перед ним кучу яиц Г.дпл ом им
тался пошевелиться, к л к и П п а ц и к л н а к а лись из его объятий, мала.'ш ил пол и разбивались.
А Ма Тан-пи лог на оеноГтдншпоеся у
печки место и п р е к р а с н о просиял всю
ночь.
/Луичим / «.•
М1ОССАР.
155-
Страничка шахматиста
Почему я „болел"
за Штейна
Когда Леонид Штейн стал чемпионом
СССР, я искренне выражал
свою
радость.
— Почему вы «болели» именно за Штейна?—спросил меня один из наших молодых шахматистов.
О, он многого не знал, этот восемнадцатилетний поклонник мудрой игры! Ему
не было известно, что в 1954 году, проходя воинскую службу в Бурятии, Штейн
участвовал от нашей республики в чемпионате Сибири и Дальнего Востока и
был там первым. Но избежать поражения
ему не удалось, над ним одержал верх
второй представитель Бурятии—наш старейший перворазрядник Бадмацыбик Цыденов.
Когда мы вернулись с соревнований, я
спросил Леонида, как он проиграл Цыденову.
— Я не смог заглянуть ему в глаза,—
шутливо ответил Леонид.
— А причем тут глаза?— не понял я.
— Видишь ли,—объяснил он,—Цыденов
очень старательный шахматист. Он
все
время смотрит на шахматную доску и
исключительно
редко
отводит от
нее
взгляд. И вот было замечено, что те, кто
сумел улучить такой момент и заглянуть
ему в глаза, выиграли, а те, кому это не
удалось, проиграли. К сожалению, я оказался в их числе. Да, старательности Цыденова можно только позавидовать!
В первенствах Бурятии Леонид Штейн
не участвовал. Но он сыграл не одну сотню «молниеносных» партий с нашими ведущими шахматистами. Его помнят уланудэнские любители шахмат и по сеансам
одновременной игры в городском парке
культуры и отдыха.
В 1955 году мне довелось
вместе
с
Леонидом Штейном участвовать в турнире кандидатов в мастера в Калуге." Там
он легко занял первое место и получил
право на классификационный матч с мастером.
Жили мы с ним в одном номере. Леонид, вообще отличающийся живым характером, предложил мне ежевечерние шахматные блитцматчи из четырех партий.
Побежденный должен был перед
сном
гасить свет. Чаще это приходилось делать мне. Но мне приятно вспомнить, что
иногда эту обязанность выполнял и Леонид.
Как же мне было не «болеть» за своего
давнего шахматного приятеля!
158
В нашем полку
прибыло
Классификационная комиссия Российской шахматной федерации
присвоила
звание кандидата в мастера еще одному
бурятскому шахматисту—Бато Мункоеву.
Мункоев давно считается
одним из
сильнейших наших шахматистов. В перпенствах республики он нередко занимал
места в первой пятерке, однако ни разу
не смог набрать кандидатской ноомы. В
зональном первенстве РСФСР 1962 года
он уже был на пороге «дома
кандидатов», но переступить его не смог.
И вот, наконец, 1963 год, чемпионат
Бурятии. Самоотверженно боролся в нем
Мункоев. Успех окупил его старания—
второе-третье место (с Власовым) и 7 очков (из десяти), необходимых для заветного кандидатского звания.
Игру .Мункоева отмечают
неизменная
активность, стремление к атаке. В тактических осложнениях он чувствует себя,
как рыба в воде. Несколько не в ладах
он с позиционной игрой. Но теперь, когда
высокий шахматный разряд даст
ему
возможность чаще встречаться с сильными, опытными шахматистами, Бато Мункоев, думается,
познает и позиционные
тонкости.
Став кандидатом в мастера,
Мункоев
вместе с Б. Амбаевым, В. Власовым,
С. Могордоевым, А. Самариным, Б. Сампиловым, и А. Сумкиным вошел в «ударный отряд» бурятских шахматистов.
Новые встречи
+ Закончился один из полуфиналов
мужского первенства Бурятии 1964 года
Победителями его стали Краснов (телецентр), Мельников (завод «Электромаши
на») и Бетин (аэропорт).
Начался второй полуфинал. В чис.тучастников—бывший кандидат в мастера
А. Ушаков, наши многоопытные шахматпг
ты А. Игумнов, В. Мамилов, П. Тоглое»
Б. Цыденов, а также талантливая мо.ю
дежь.
ф Когда читатели получат этот номер
журнала, В. Власов, А. С а м а р и н и автор
этих строк будут участвовать в 3011:111.
ных соревнованиях чемпионата РСФСР и
г. Владивостоке, а Л. Г а р м а е з а уже смо
жег отчитаться о своем участии » ГШ.ЧУ
финале всероссийского первепстн.ч .ДО >
«Буревестник».
А. Сумкан, кандидат в л«1гтг/><>
НАША
КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ПО ДОЛИНАМ И ПО
ВЗГОРЬЯМ
ЗАБАЙКАЛЬЯ
(«Ночь умирает с рассветом», М. Степанов, Бурятское книжное издательство.
1963 г.).
и циничный, бывший кулак, потом семеновец,—он погубил на своем веку немало
человеческих жизней. Образ его становится обобщенным, олицетворяя темные силы жизни. Земля горит под ногами у
Василия Коротких, горит она под ногами
у всего бессмысленно-жестокого, жадного,
бесчеловечного. Так идея революции получает в романе полнокровное утверждение.
Умно, с большой любовью рисует писатель образы партизан, людей, осознающих
светлое начало жизни н не жалеющих
своей жизни за него
Оставаясь в основе глубоко человечными, герои романа не будут спутаны читателем с другими — это наши земляки,
забайкальцы, и земля эта—Забайкалье
ОНИ ЖИВУТ В
ЛЕСПРОМХОЗЕ
(«Подлесок», Исай Калашников, Бурятское книжное издательство, 1963 год.)
•%•
п.
ИСАТЕЛЬ Михаил Степанов—автор
многих рассказов,
«Забайкальской повести». Им переведены на русский язык
роман старейшего
бурятского писателя
Хода Намсараевя «На
утренней заре»,
романы Чимнта Цыдендамбаева «Доржи.
сын Банзара», «Вдали от родных степей»,
повесть
«Счастливого пути, Жаргалма»
и многие рассказы.
Роман «Ночь умирает с рассветом» печатался на страницах ж у р н а л а «Байкал»
и выходит, помимо Бурятского, в Новосибирском книжном издательстве массовым тиражом.
Это большое многоплановое произведение, восстанавливающее в памяти трудные годы становления Советской власти
в Забайкалье. Роман
написан
сочным
хорошим языком, где
«острое
словно»
предстает освобожденным от каждодневных напластований, делающих его привычным на слух. М. Степанов обладает способностью возвратить слову его начальную свежесть и аромат.
Большое количество действующих лиц
романа выписаны автором с достоверностью, убеждающей часто в их существовании. Эпичность, широта
повествования
придают наиболее драматическим страницам суровую необходимость их появления, разрешая таким образом
глубокий
внутренний конфликт. Создание
центрального образа романз, Василия Коротких, требовало от писателя большой
широты воображения и глубины психологического проникновения в образ. Это матерый враг Советской власти, жестоким
н
ЕДАРОМ поэты так части ириПн пин
к образу дерева, сопооанлич н то*
дествляя его с судьбой чг.-ннн к.| II н и »
дый раз, конечно, верно п р и м у » ! типам
ный, образ этот
жнмгг м<> н т т м у , И»
боясь повториться, |,ак иг ( т и к и Лмм
похожими деревья » лесу
Эта поэтическая н - к - и и I ....... ш М> «я
Калашникова «1 1о;1.-|по1, > н и м и ! им
> н*
данию обобщенного м п р . ч ы , п(м,. тмит
шего в целое ш г ь п м и ' ч и т ы и|тм41М
дения. И потому '1.1 тми п м н г ч I '.
индивиду а лнзирон.'шпмх н I» \\«, >*\>н
них герое», :ы < п Г . и ш и н н н н|<»иВИЯМИ, К а Ж, '10 1ИГМН1.1М11
|.|1Н1|.|ММ
ЧИ' •
' •
чувствует, щ и - п р н и н и и м ,
ням к
1ДМ9
соль, с а м у н и ц| тип-. м1
Григорий, I ним н М ч. . .
Федор Ппроинч ' !|'| н пни Мт>«ч1 Ми
хай.'юпнч, 1||11нии Пичв н *|ч • ••
ПОНССТИ
|''| I I I п.. I
I N •" •
«=1||«Ш
и щ у г и / 1 ' . ; | \ | р и т м ! ! ! Мм «о* «ни • Ц^^^Н
ТИ
ЦП Л У ' Ы Н Н Ы ,
ПНИ М(П-
••
;|||Ц|р;|. (1.11 ни ', И" ) " * •м1-ч«» И •
идггП
I"
»
СТИХИ
РАЗНЫХ
ЛЕТ
(сТараса», Геннадий Дагуров,
Бурятское книжное издательство, 1963 год).
На поляне,
хвост задрав,
показался
между трав,
как тигренок,
бурундук,
Это мойй таежный
друг,—
весело бегут по страницам, легко запоминаясь, строчки из новой детской к н и ж ки Данри Хилтухина «Поросята есть хотят».
Птицы и звери, цветы и снег, поросята
с носами-пятачками — о них рассказано
просто и поэтично, сохраняя в стихах задорную детскую интонацию.
И шел и шел
он без конца.
Он поле опушил
и лес.
Он закружился
у крыльца,
за воротник ко мне
залез,—
ГГАРАСА
С ТИХИ
разных лет Геннадия Дагуроза объединяет название «Тараса». Так
названа им лирическая поэма о родном
улусе. Но тема ее шире — разговор идет не
только о «первородине», воспоминаниях
детства, навсегда милых сердцу привычках и обычаях родины. Образы и мысли
поэмы объединяет живое чувство современности.
Поэма эта н а п и с а н а в 1961 году. Геннадий Владимирович Дагуров, ныне кандидат филологических наук, преподаватель Уральского государственного
университета, никогда не был поэтом-профессионалом, но творческая судьба его неразрывно связана с историей зарождени/1
бурятской советской поэзии.
В 1958 году Правление Союза писателей Бурятской АССР приняло решение
об издании «Антологии бурятской
поэчни». Приглашение принять участие в
ней вызвало к жизни новую струю
в
творчестве Дагурова. Так появилась поэма «Тарага» и многие стихотворения, свидетельствующие о том, что «пламень
сердца» поэта не угас, что
мысли его
принадлежат передовым идеям времени,
как и говорит он об этом в стихах от
имени «старого бурята».
ПОРОСЯТА
ЕСТЬ
это о снеге. А что делать с поросятами,
оставшимися голодными? Носы у них
пятачками, хвосты— крючками. Сбились поросята у кормушки, а в кормушке пусто.
Но пришли ребята в свинарник, пришли на
помощь. Принесли они морковь, редиску,
картофель и свеклу, сварили кашу. И в
конце концов, «понравилось ходить ребятам к смешным совхозным поросятам». А
ребятам, прочитавшим эти стихи, наверняка понравится книжка.
РАССКАЗЫ ДЛЯ
(«Плут Дондок»,
Бурятское книжное
год).
ДЕТЕЙ
Гэлэгма
Доржиева.
издательство,
1963
ХОТЯТ
(«Поросята есть хотят» Д а н р и Хилтухин, Бурятское книжное
издательство,
1963 год).
В
ЭТОЙ книжке для детей десять ряс
сказов. В рассказах автор рисует малс-ш.
кому читателю нашу жизнь. Нет и шг.
назойливой морализации, но, как и по.™
гается в детских
рассказах и с к а з к и х .
торжествует справедливость и добро. Д\ .
ленькие дети «играют> обычно в событии
каждого дня. Эта «игра» — у з н а в а н и е м г
ра. В этом смысле рассказы к н и ж к и с 1 1 л \ 1
Дондок» похожи на детскую игру, гдо п»>|.
ческая фантазия девчонок и м а л ь ч и ш е к ш
терпит в мире ничего скучного, морит н;1
зидательного.
1=У;
1&т
В? -
*
Ш
ЕЕН-НЕ- Ю ПО-РО-Ю ЕЛ-
±4 л
Муз. А. Пахмут<
Сл. Ц. Галса!
ВЗ
РЗГ-ТЗ-ЕТ ЛЕИ, ЗЕ- ЛЕН-НЗ-Я ЧЕ-РЕ-МУ-Ха ВРОД-
ЧЕРЕМУХА
Весеннею порою,
едва растает лед,
зеленая черемуха
в родном краю растечеремуха, черемуха
в Бурвтнн цветет.
Под забайкальским и
когда настанет срок,
черемуху колеблет
весенний ветерок.
Черемухой, черемухе!
заполонён восток.
Черемуха на юге,
где соловьиный звон;
в душистой белой вы
Саянов горный склон
Черемухой, черемухой
весь воздух напоен.
РЕ- му-ха, ЧЕ- РЕ -ку-ха в СУ
Какой я полон силы,
когда в условный час
я вижу пару милых
черемуховых глаз.
Черемуха, черемуха,
укрой скорее нас.
Мне нет цветов дорог
черемухи лесной.
Любимая, ты тоже
черемуха весной,
цветущая черемуха >
Бурятия родной. //
Цена 60 коп.
ИНДРК(