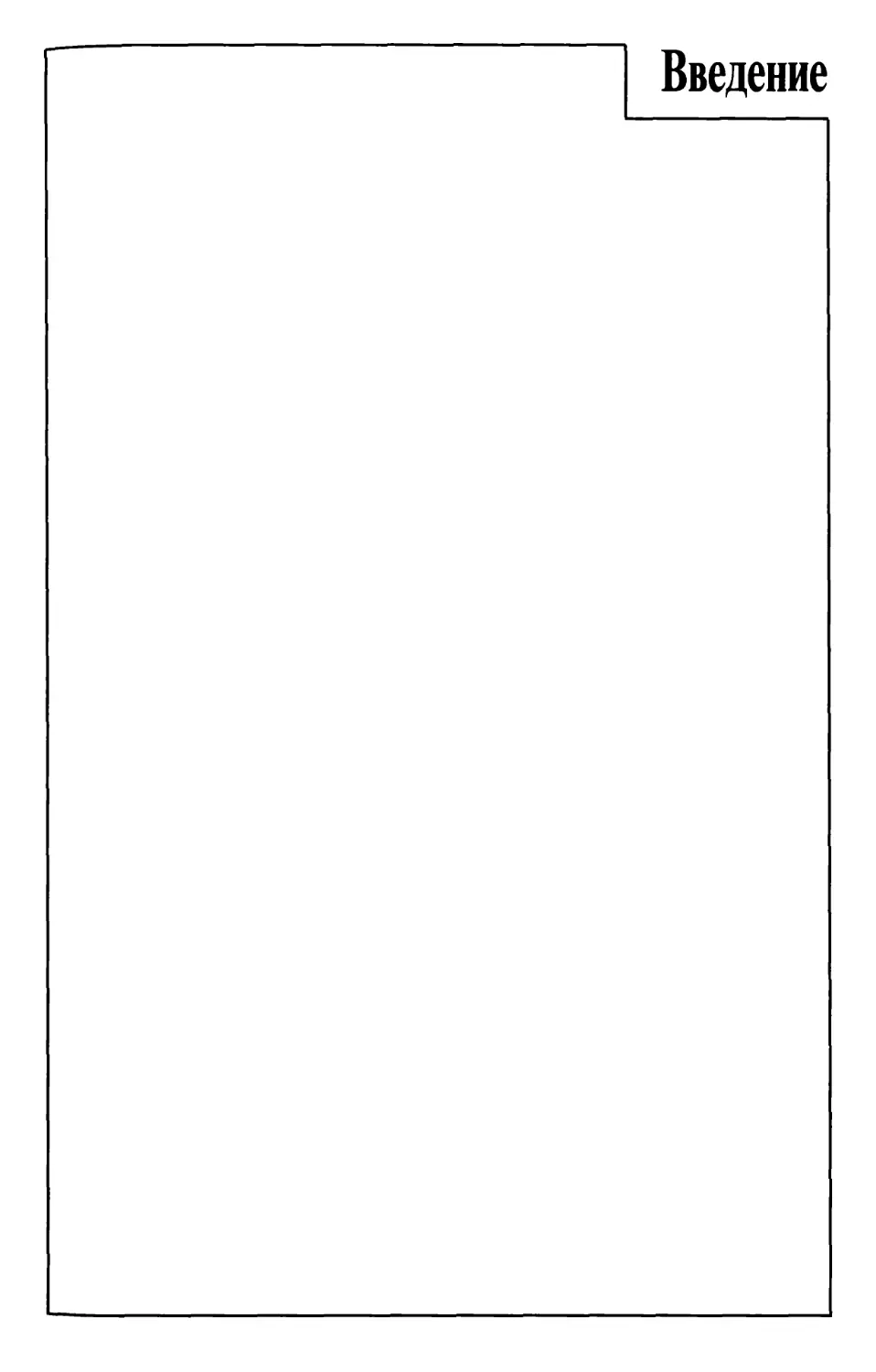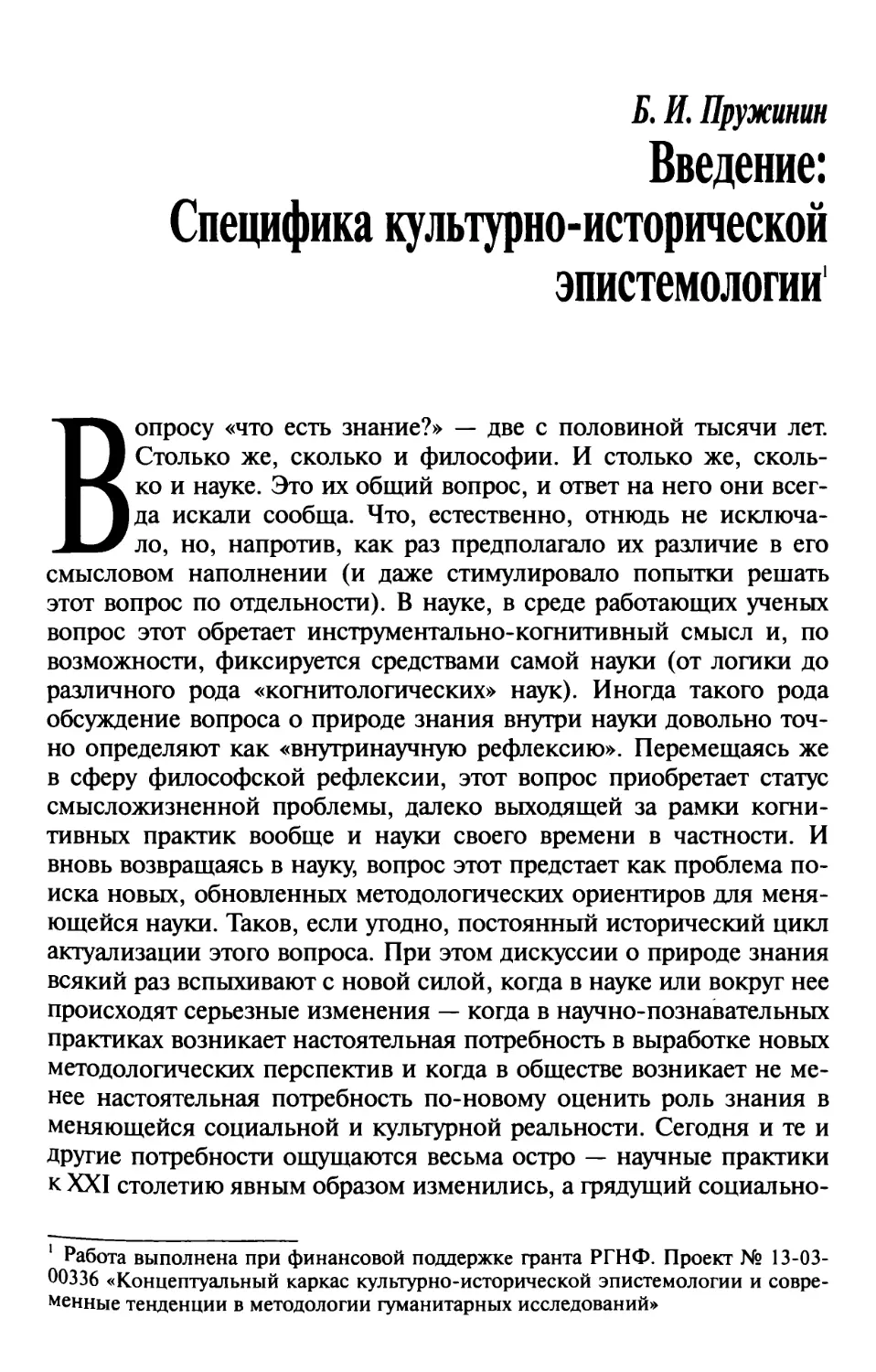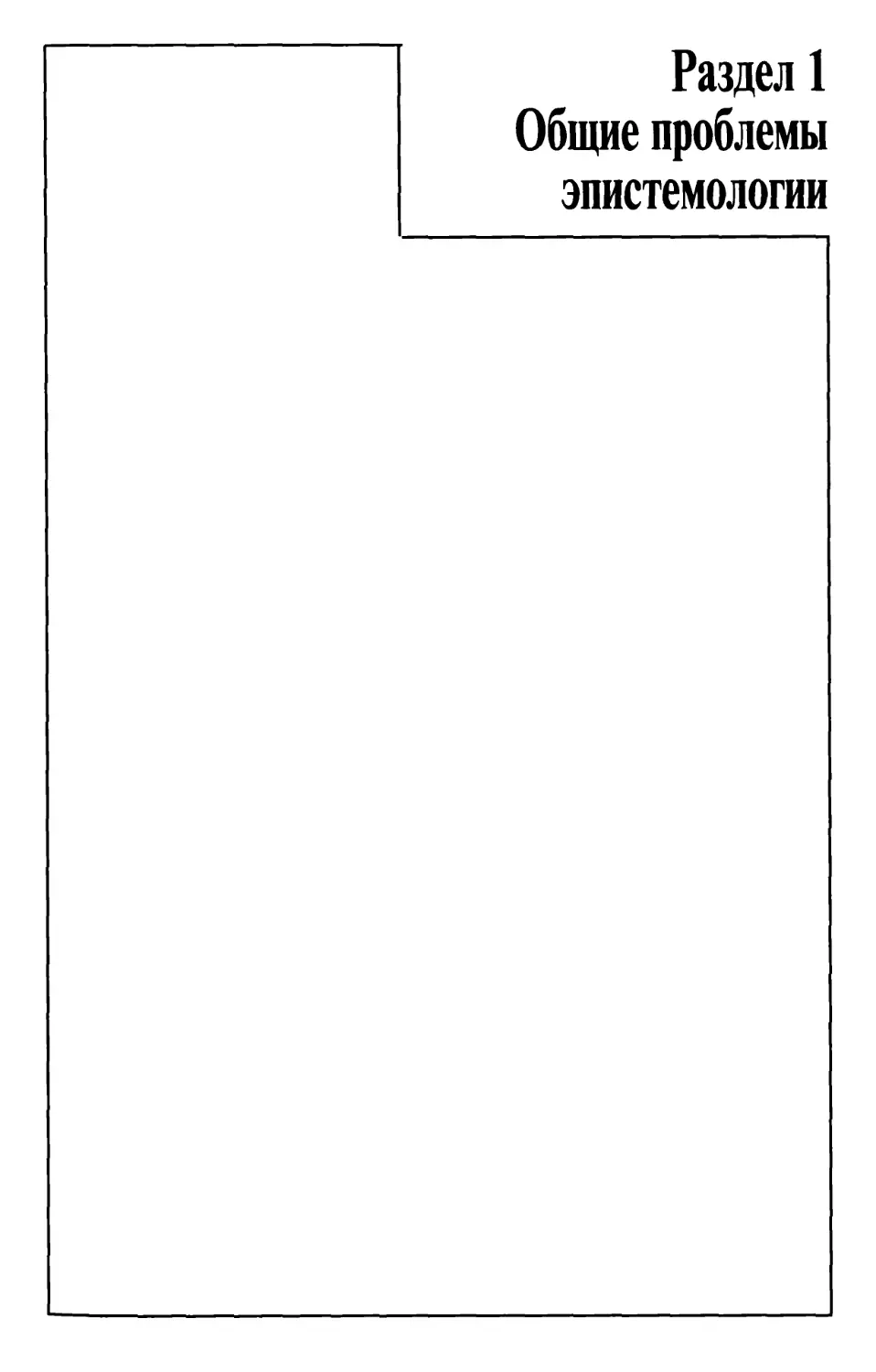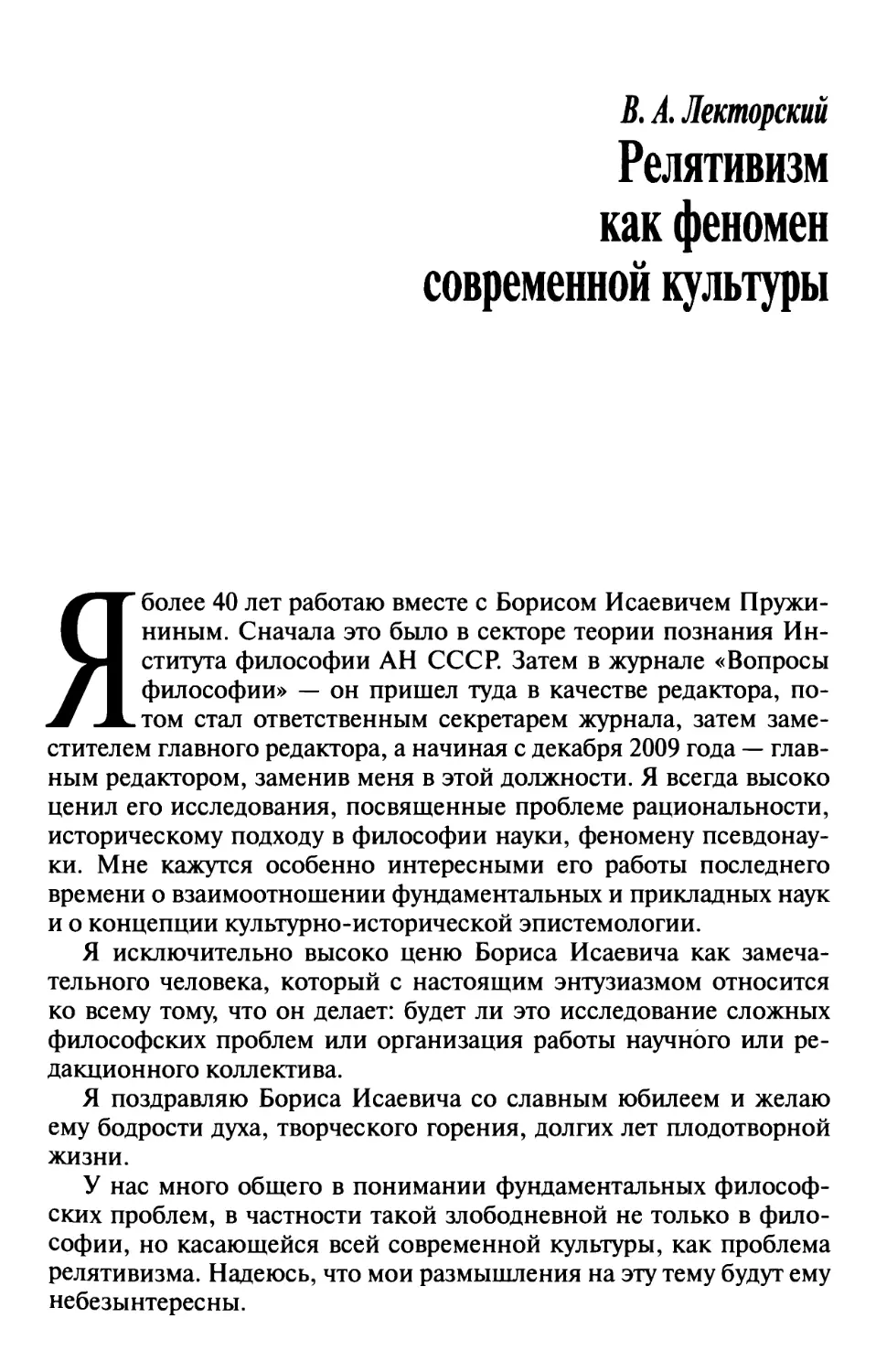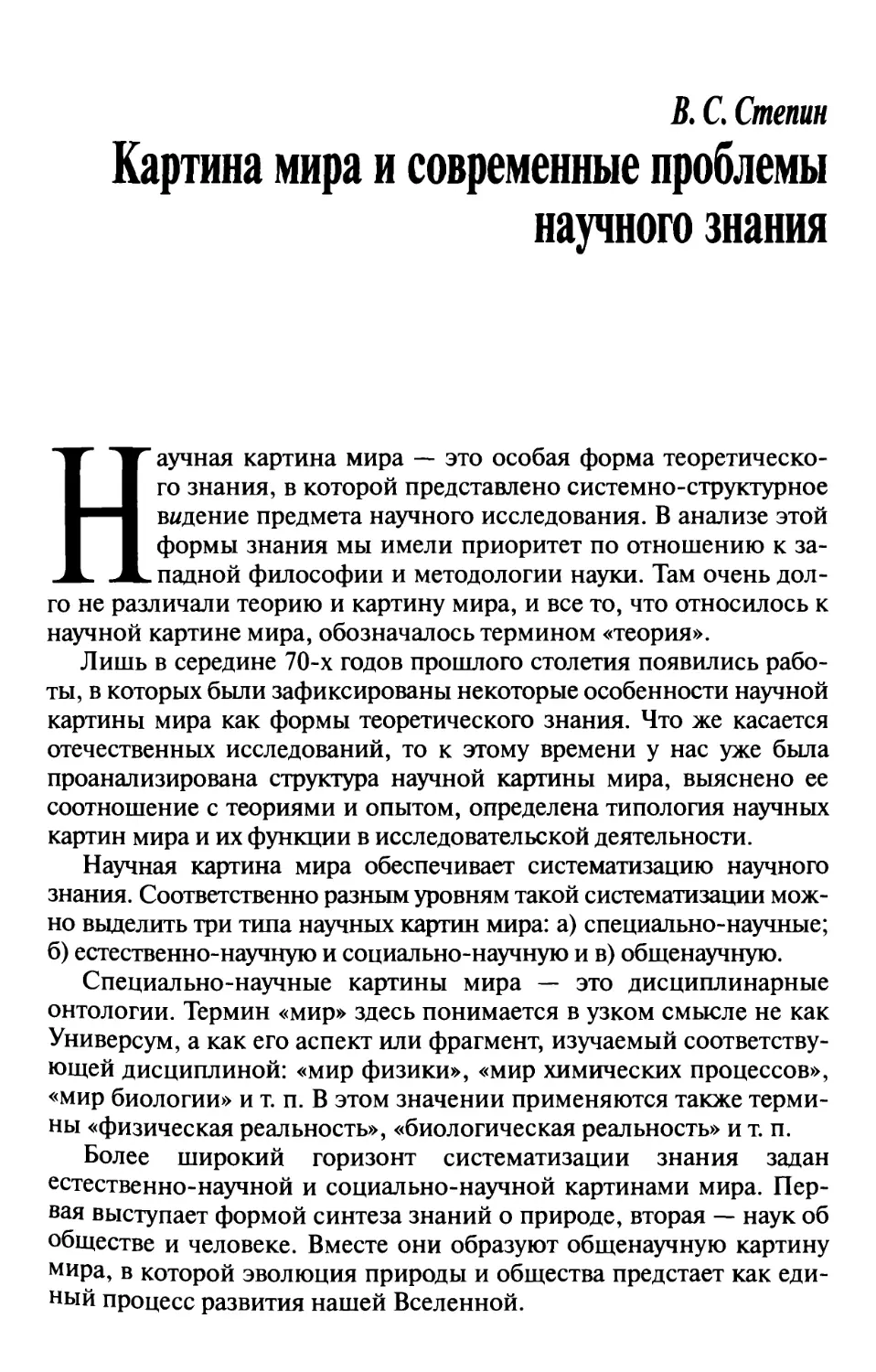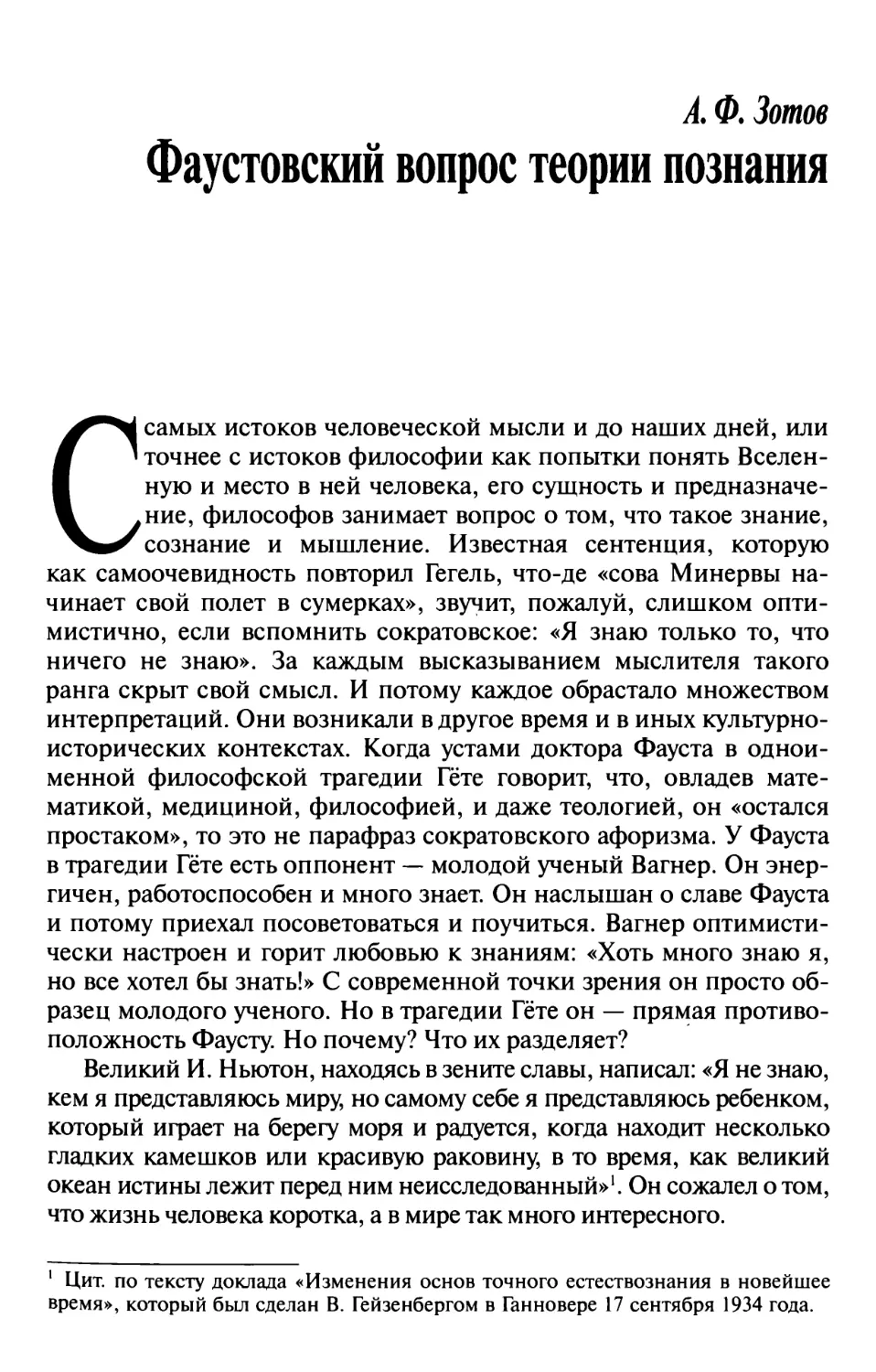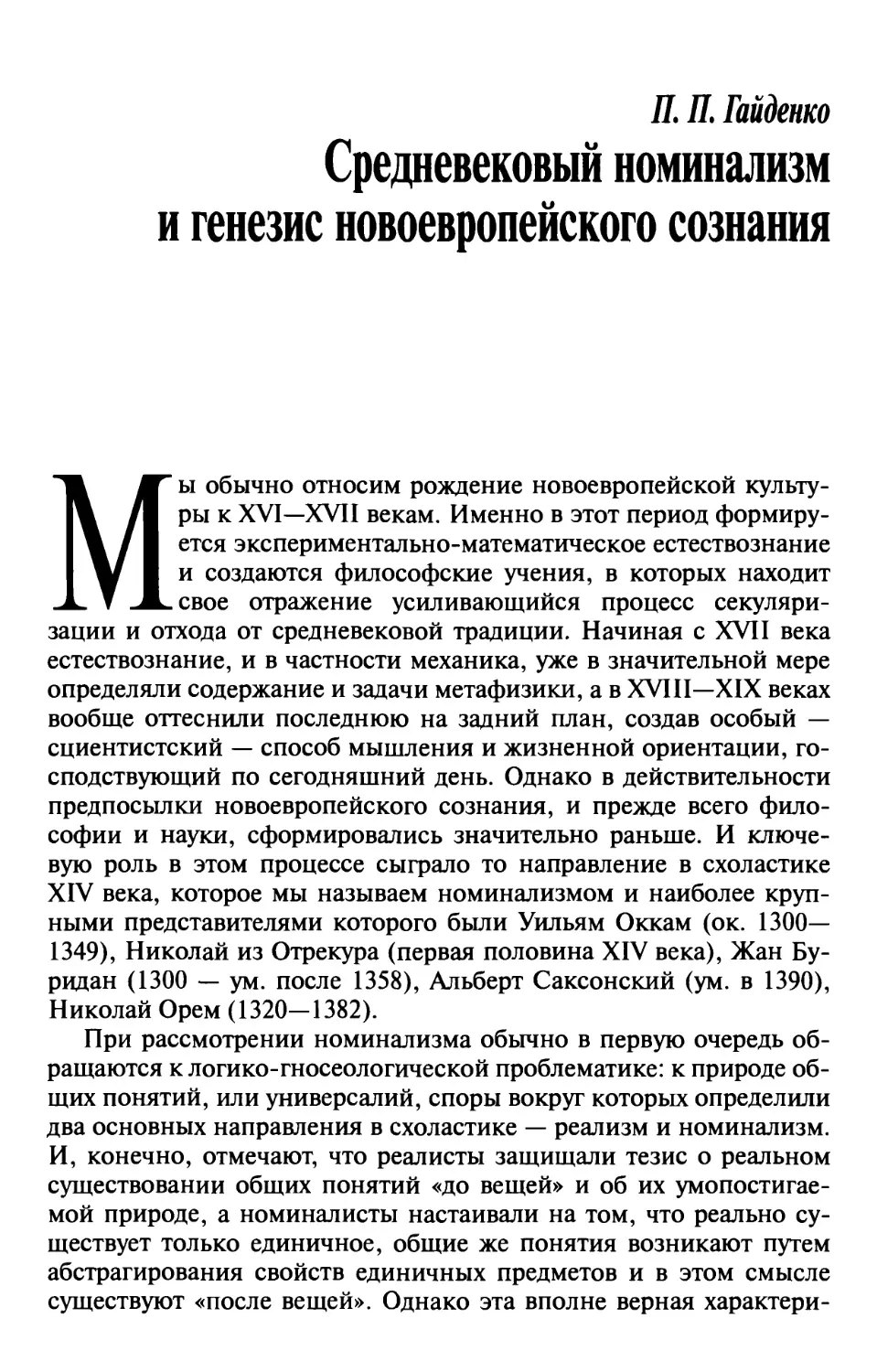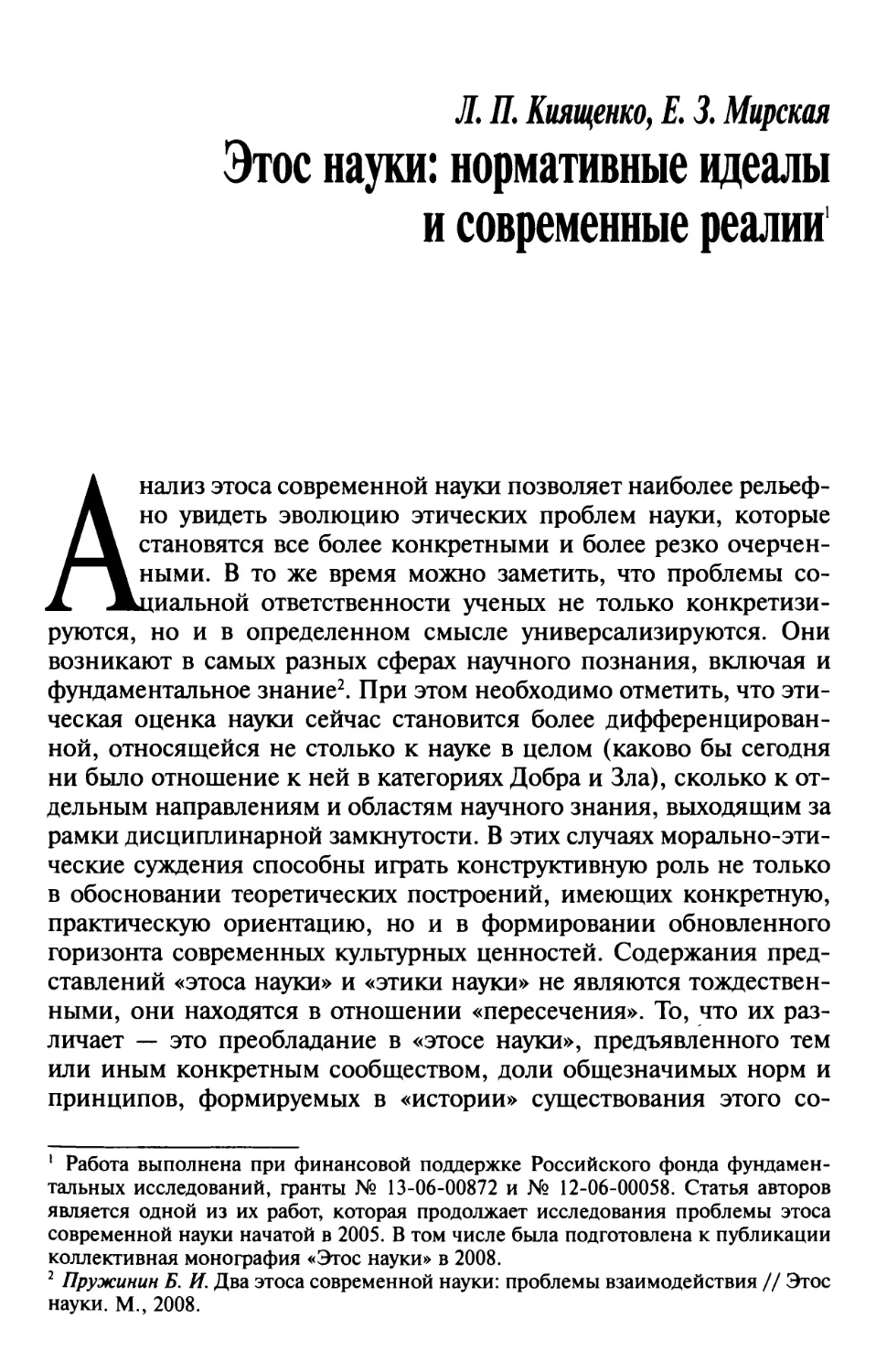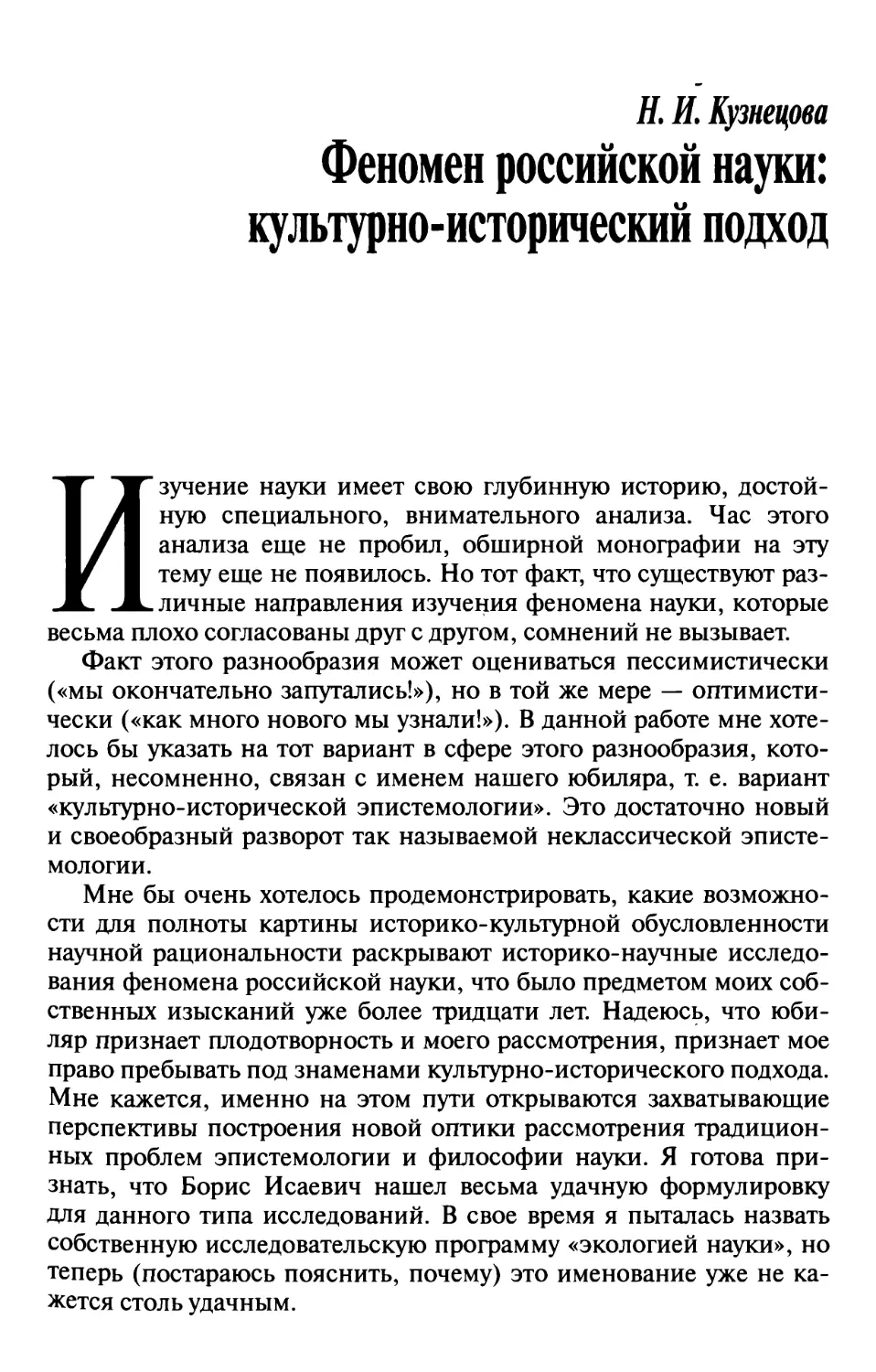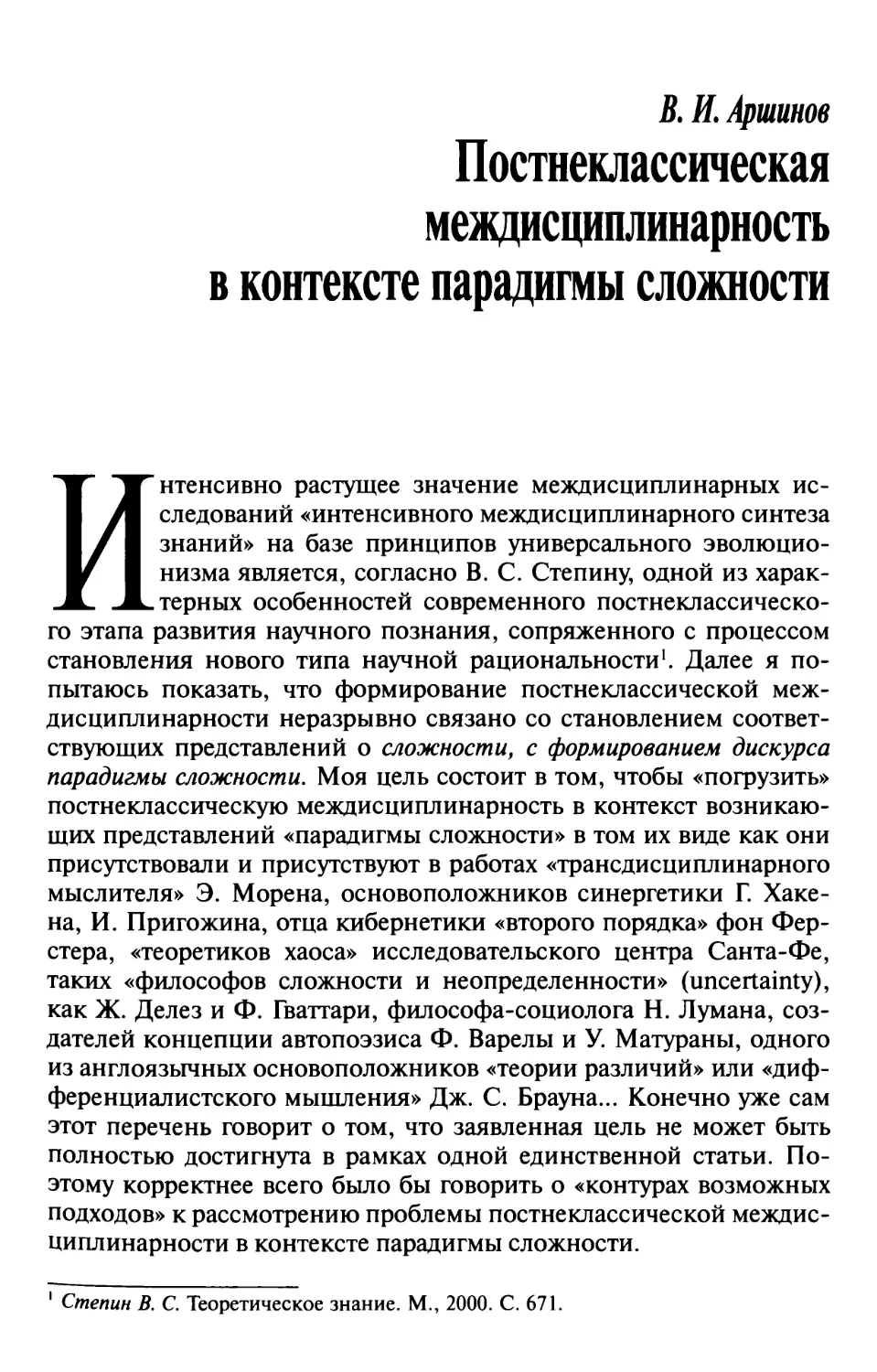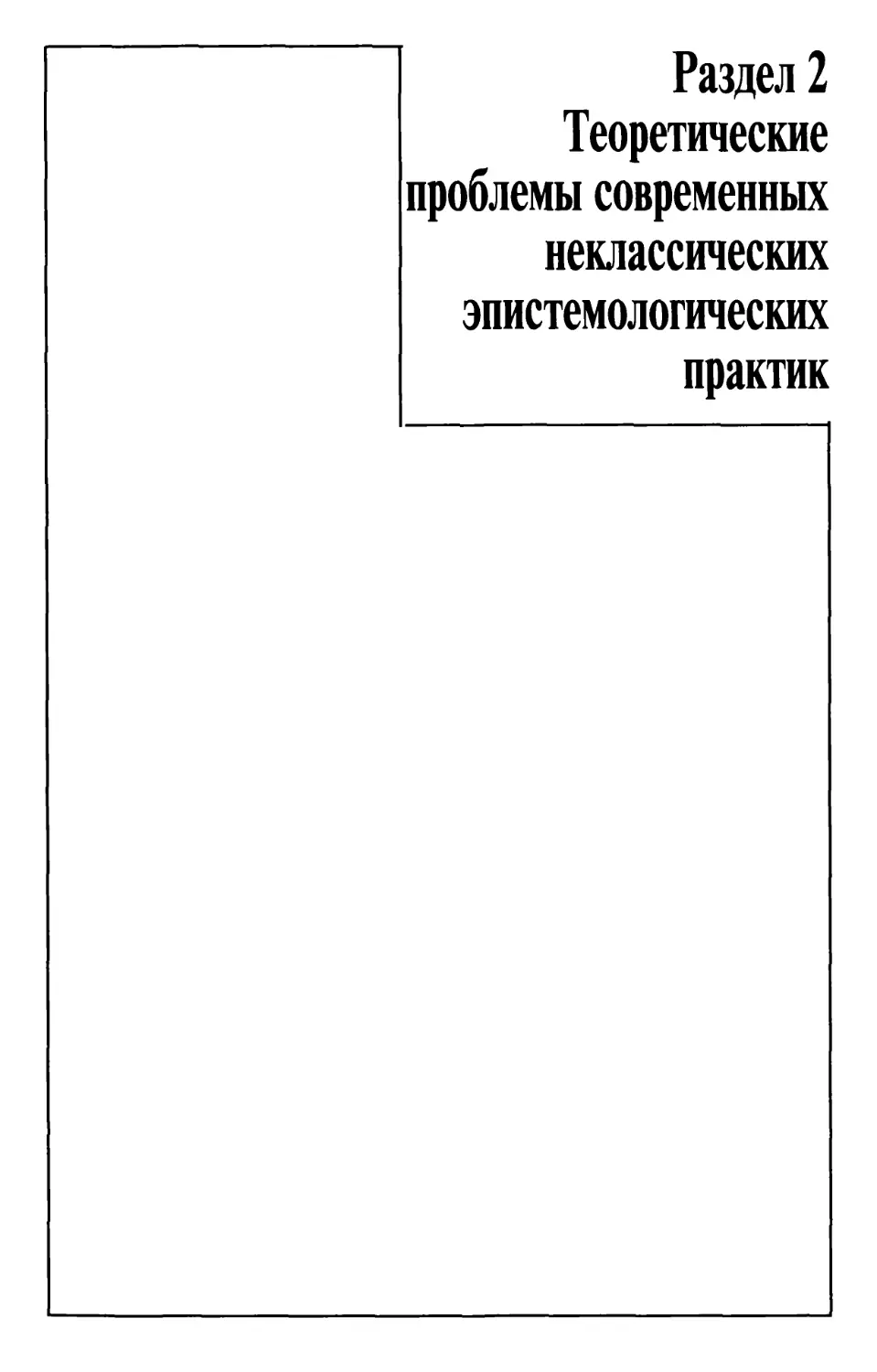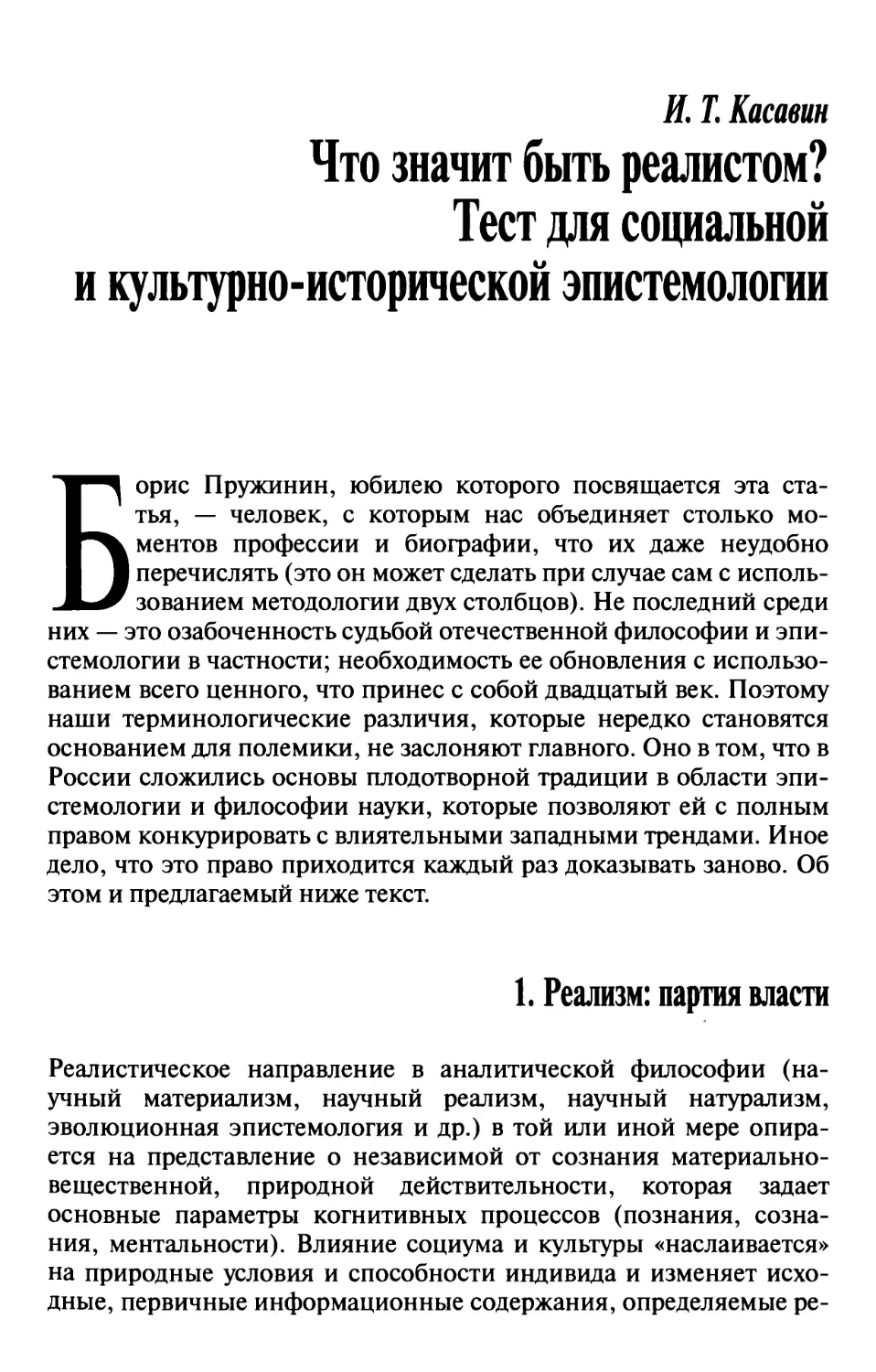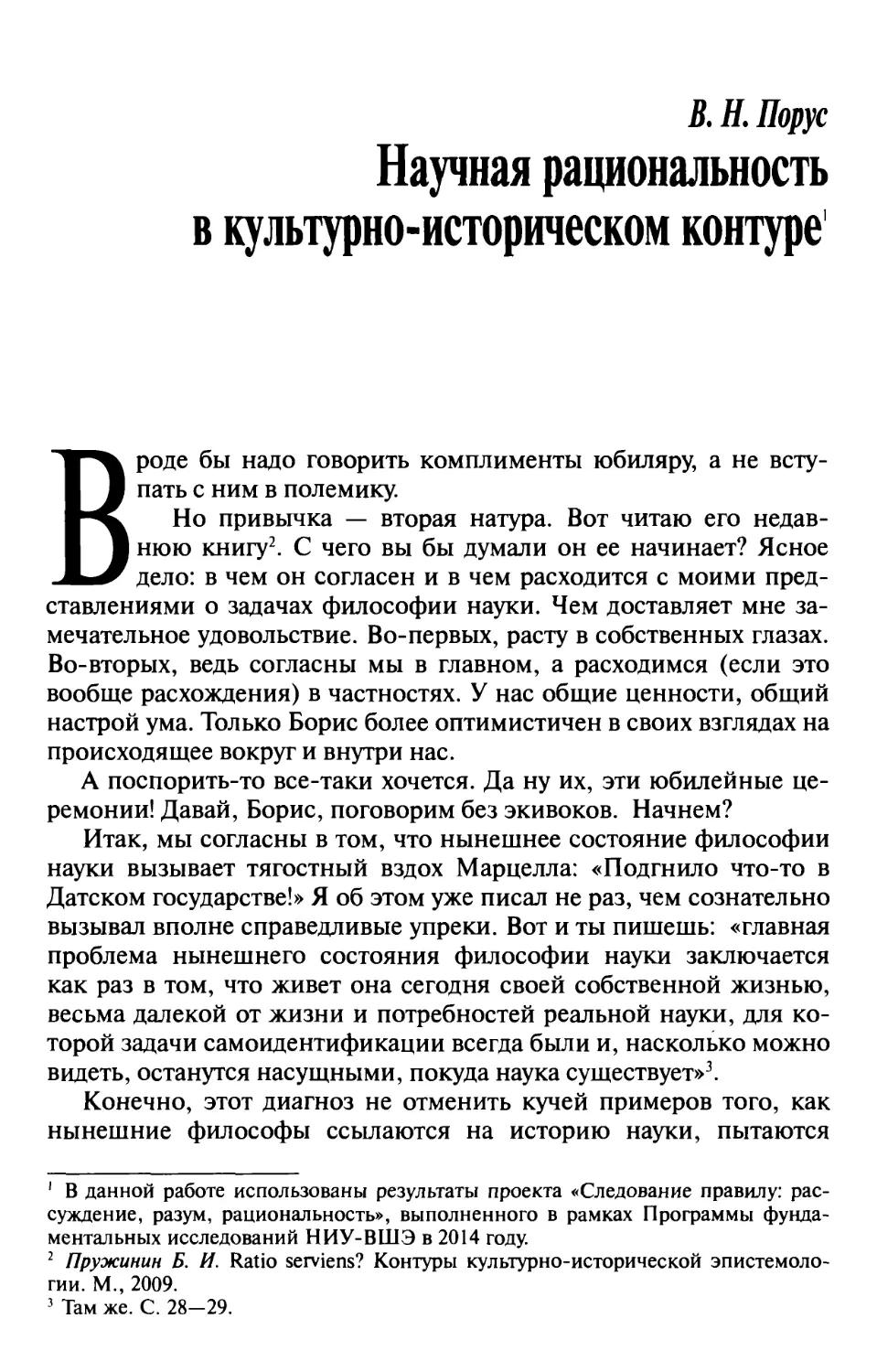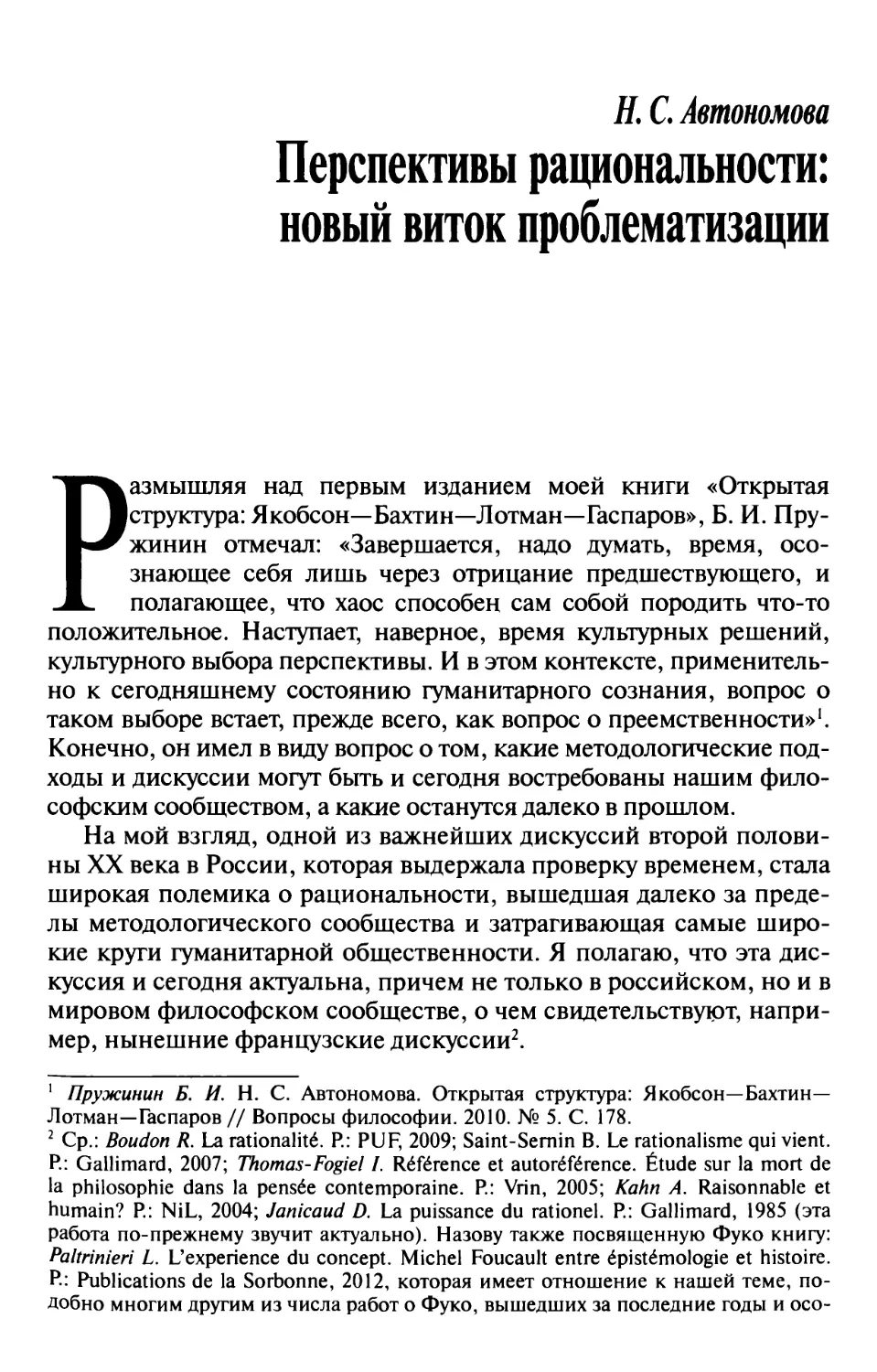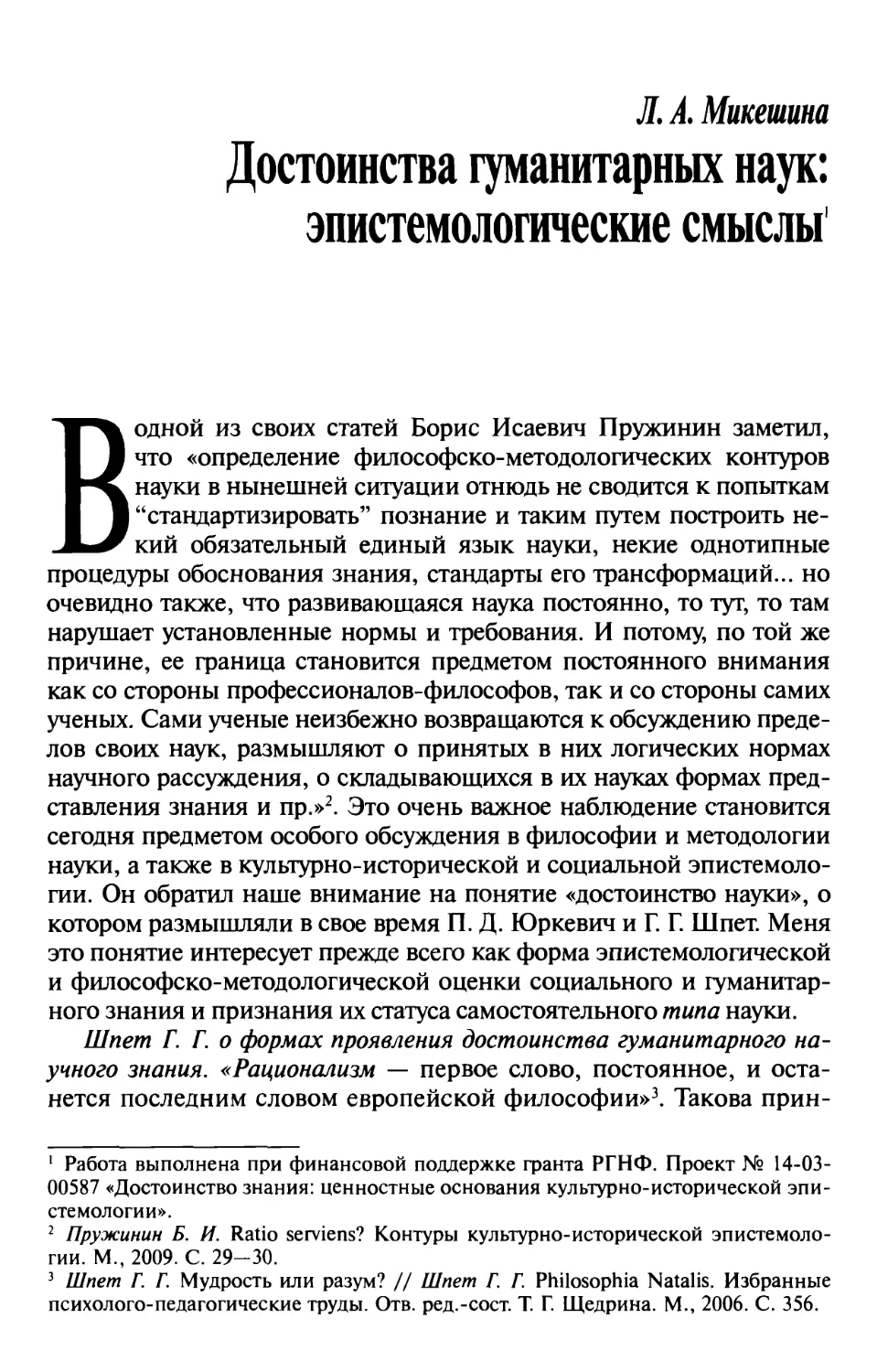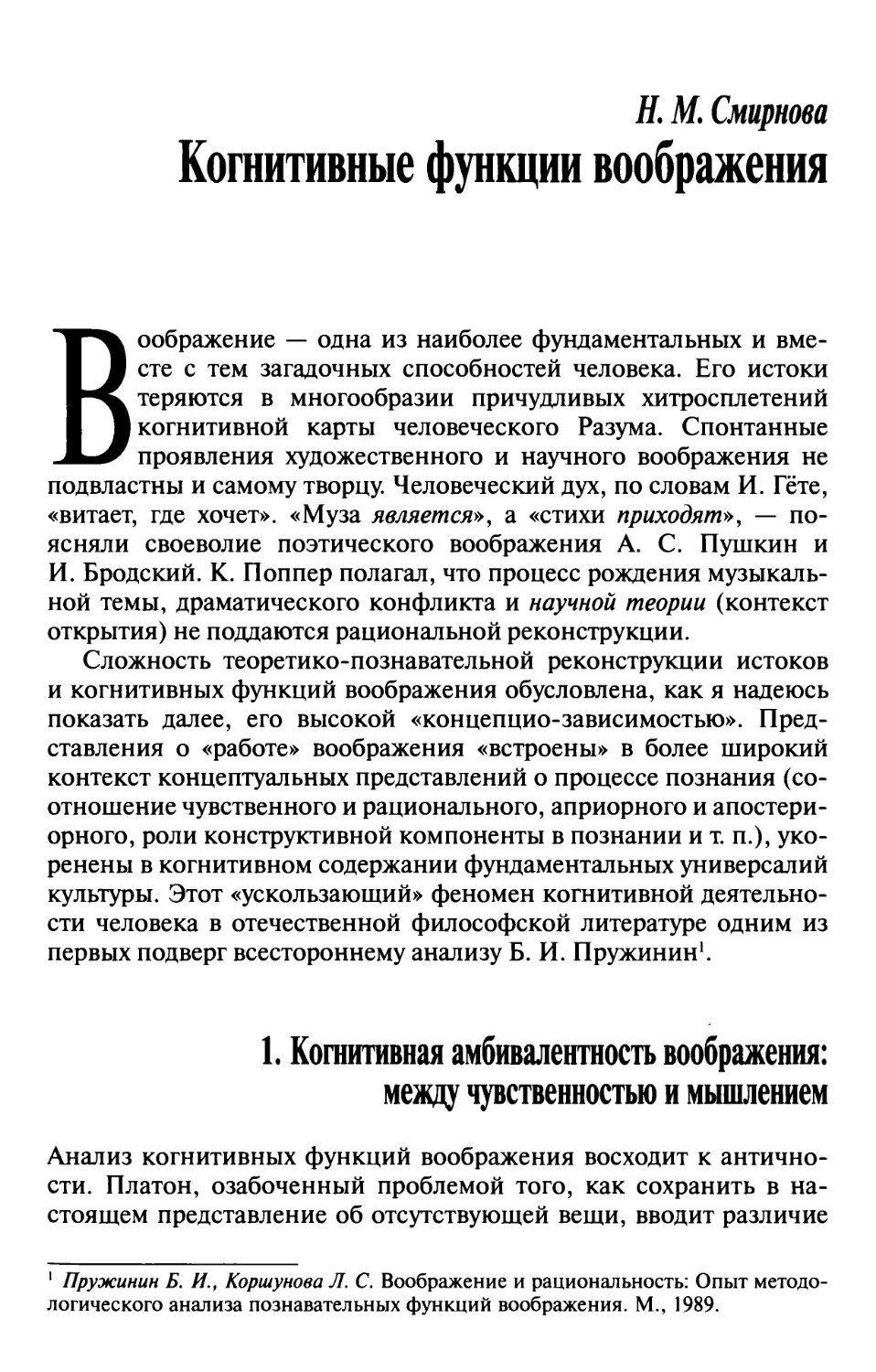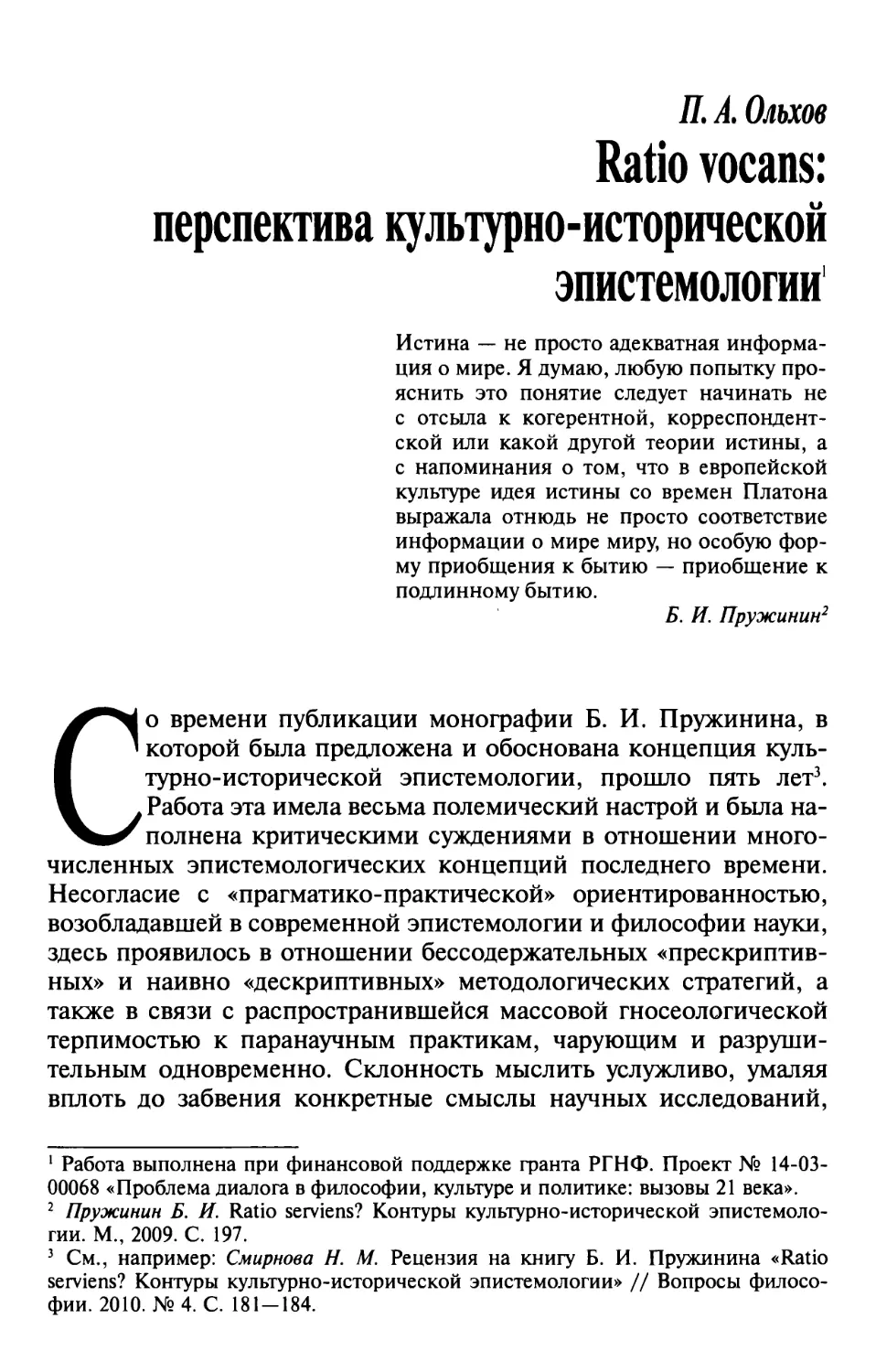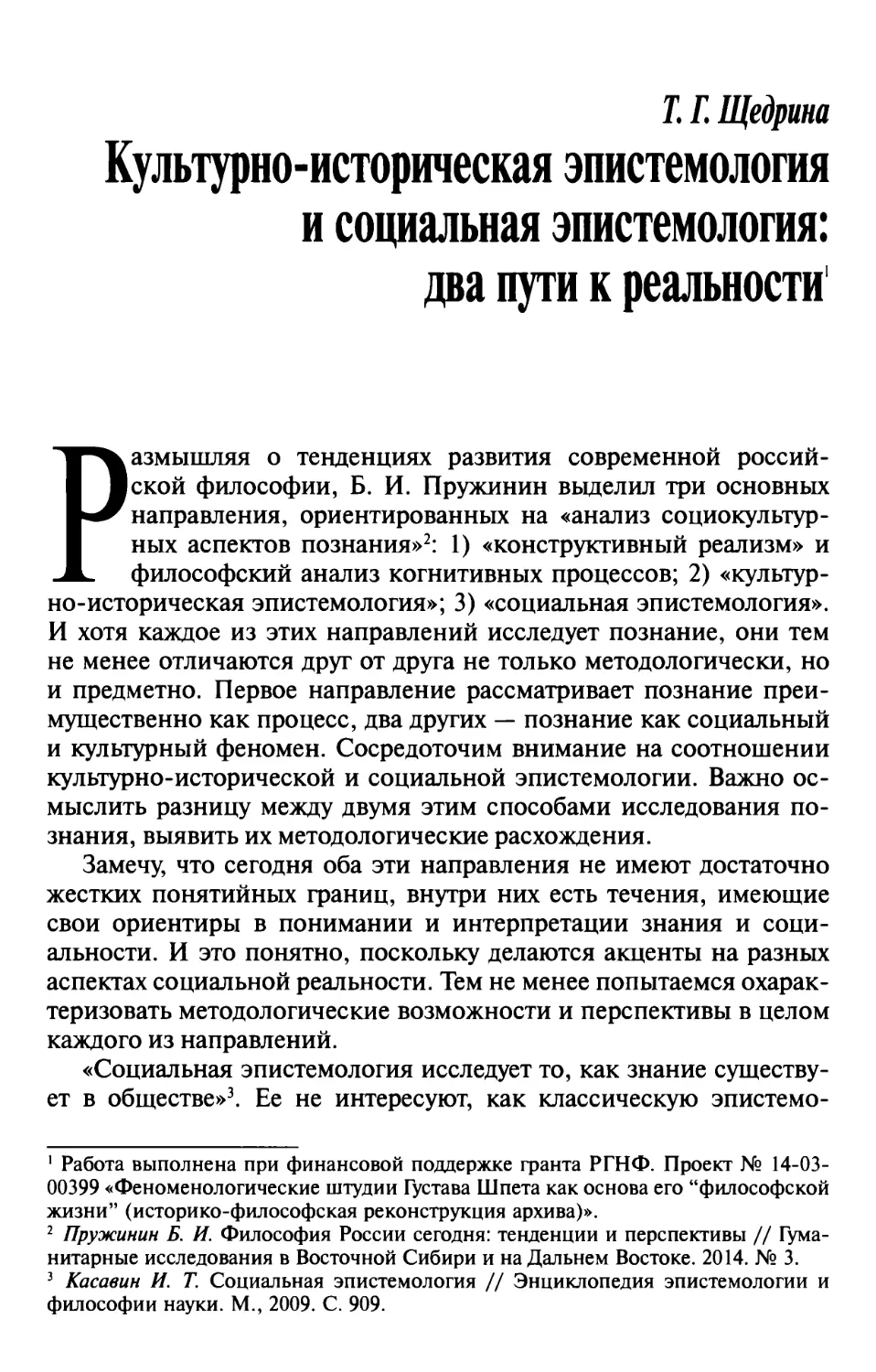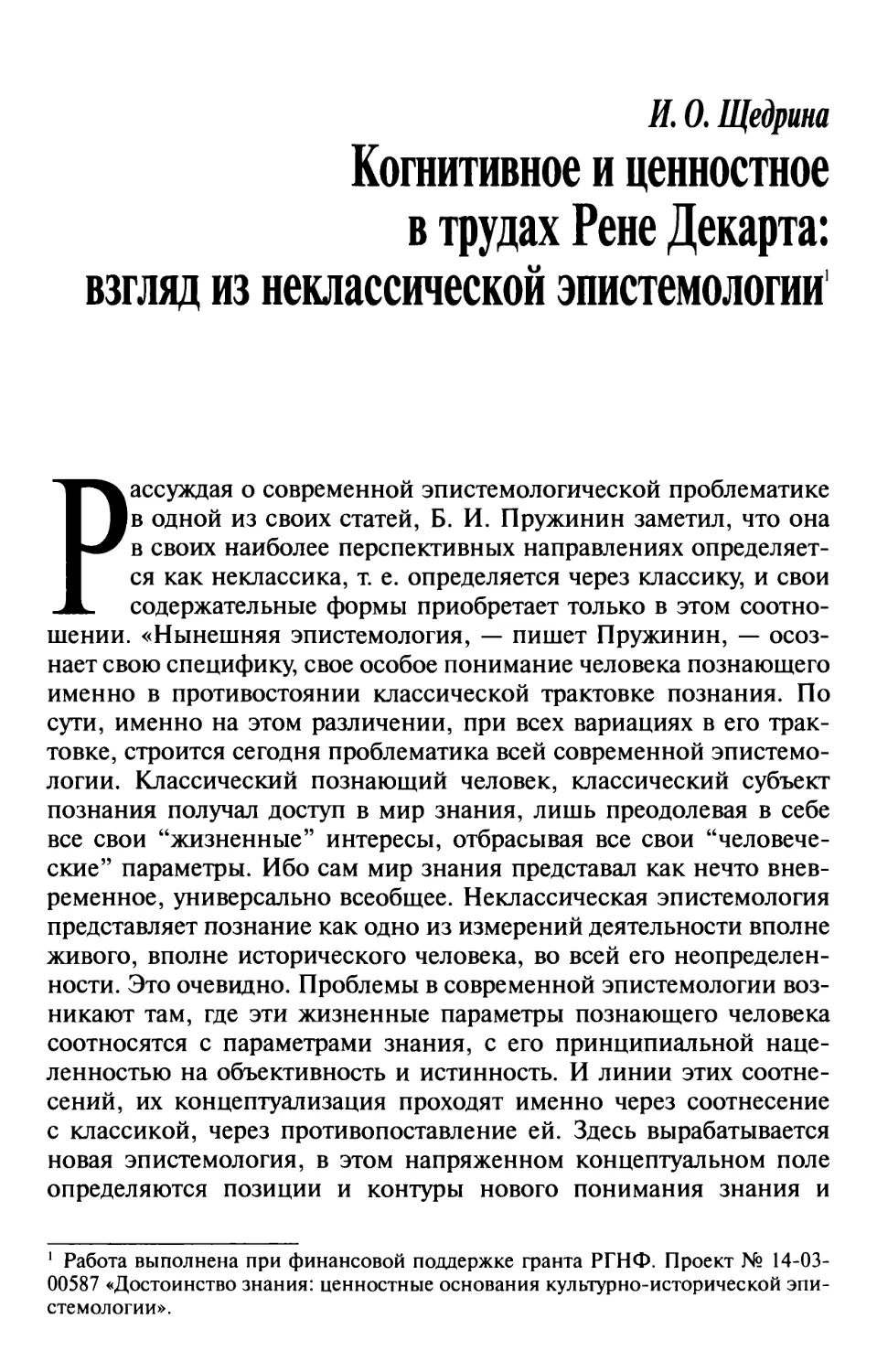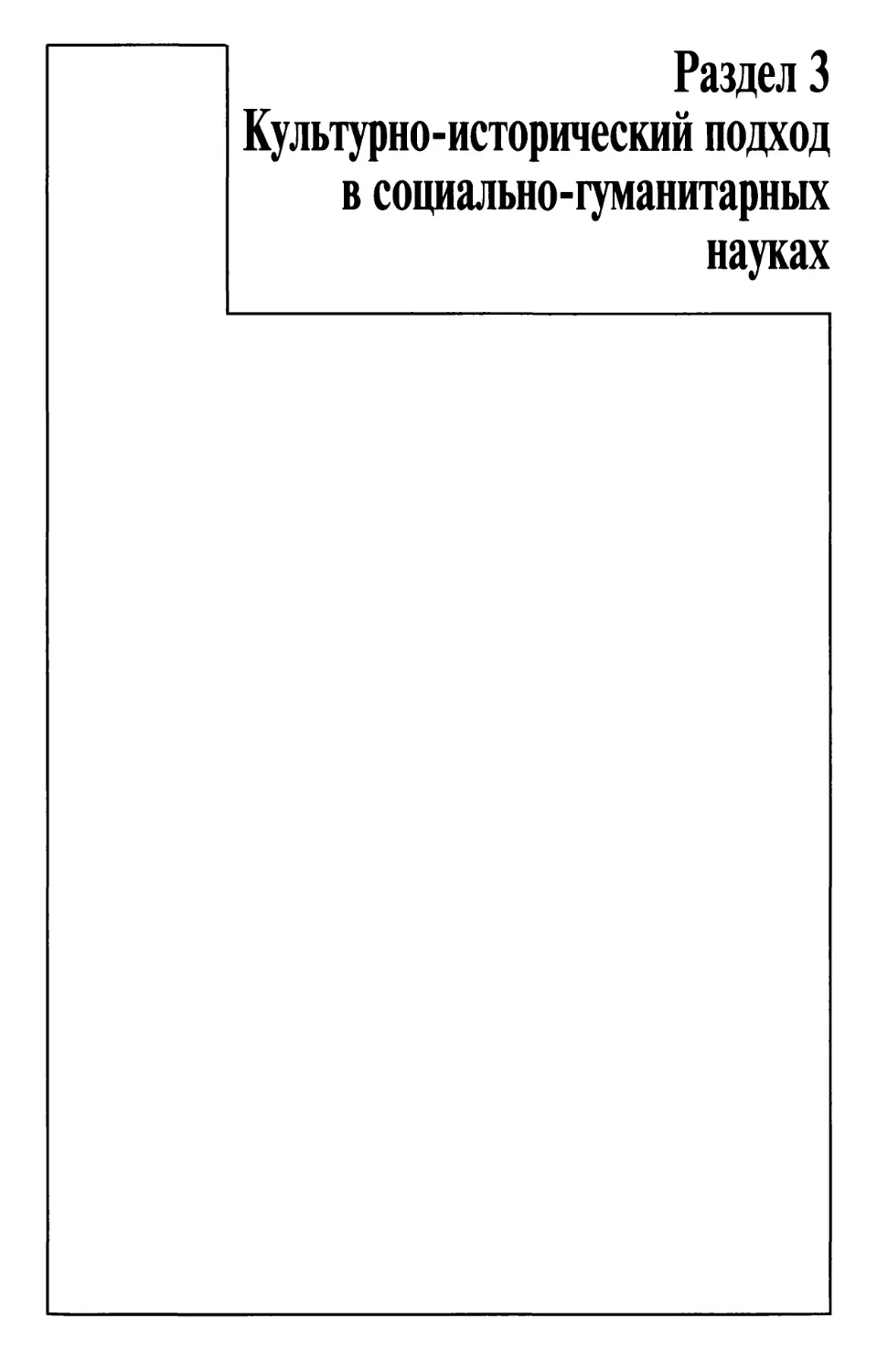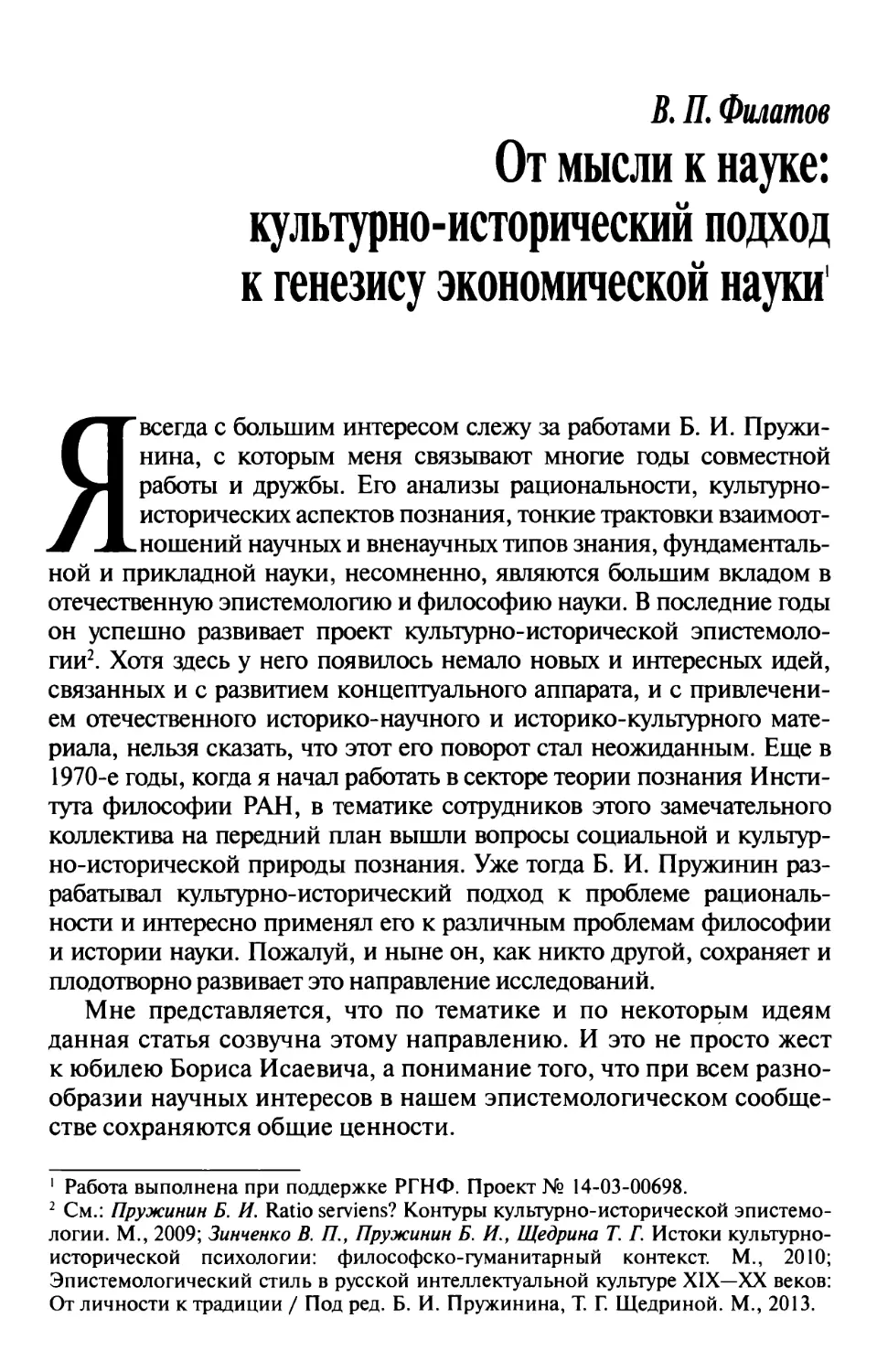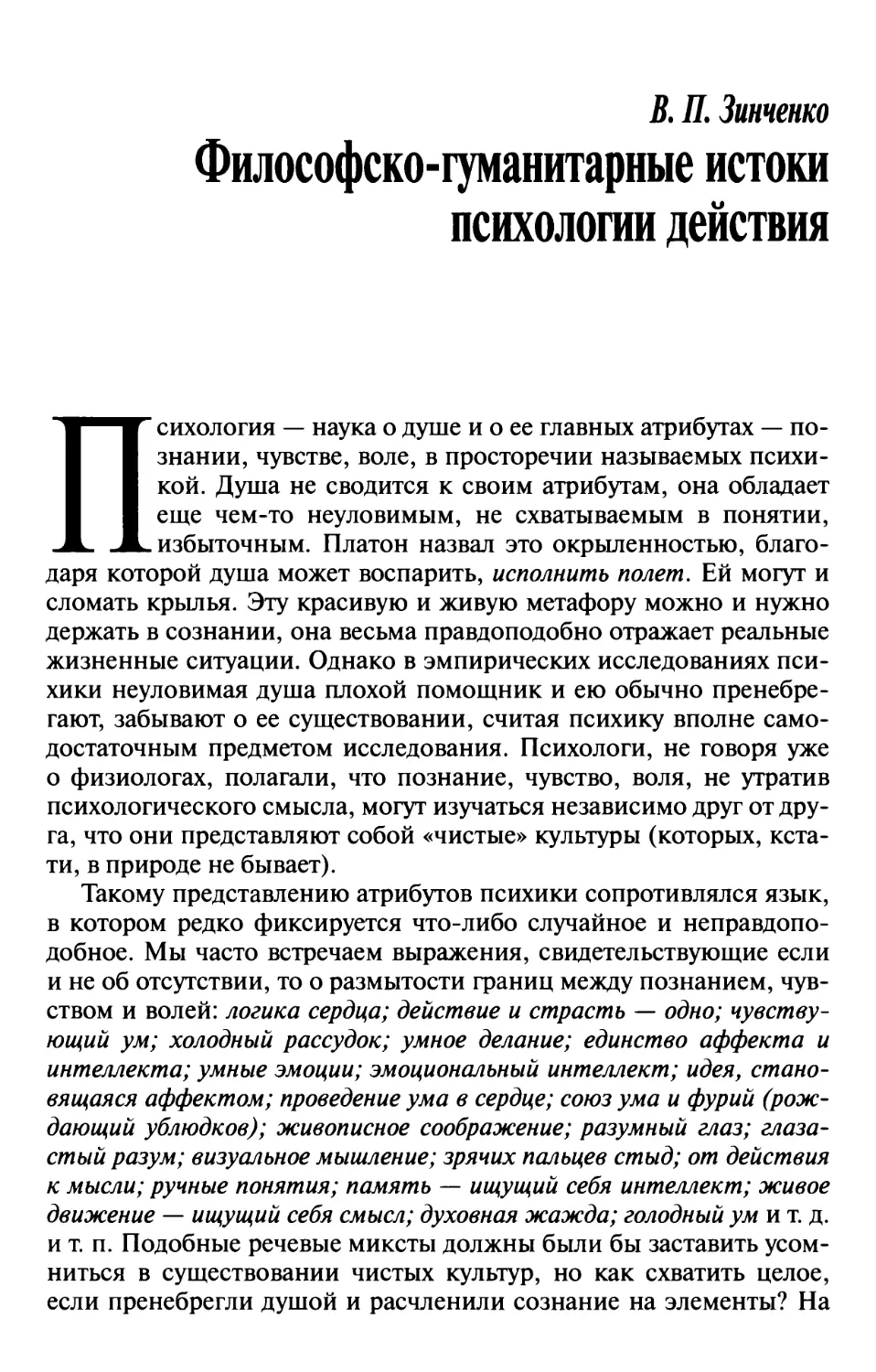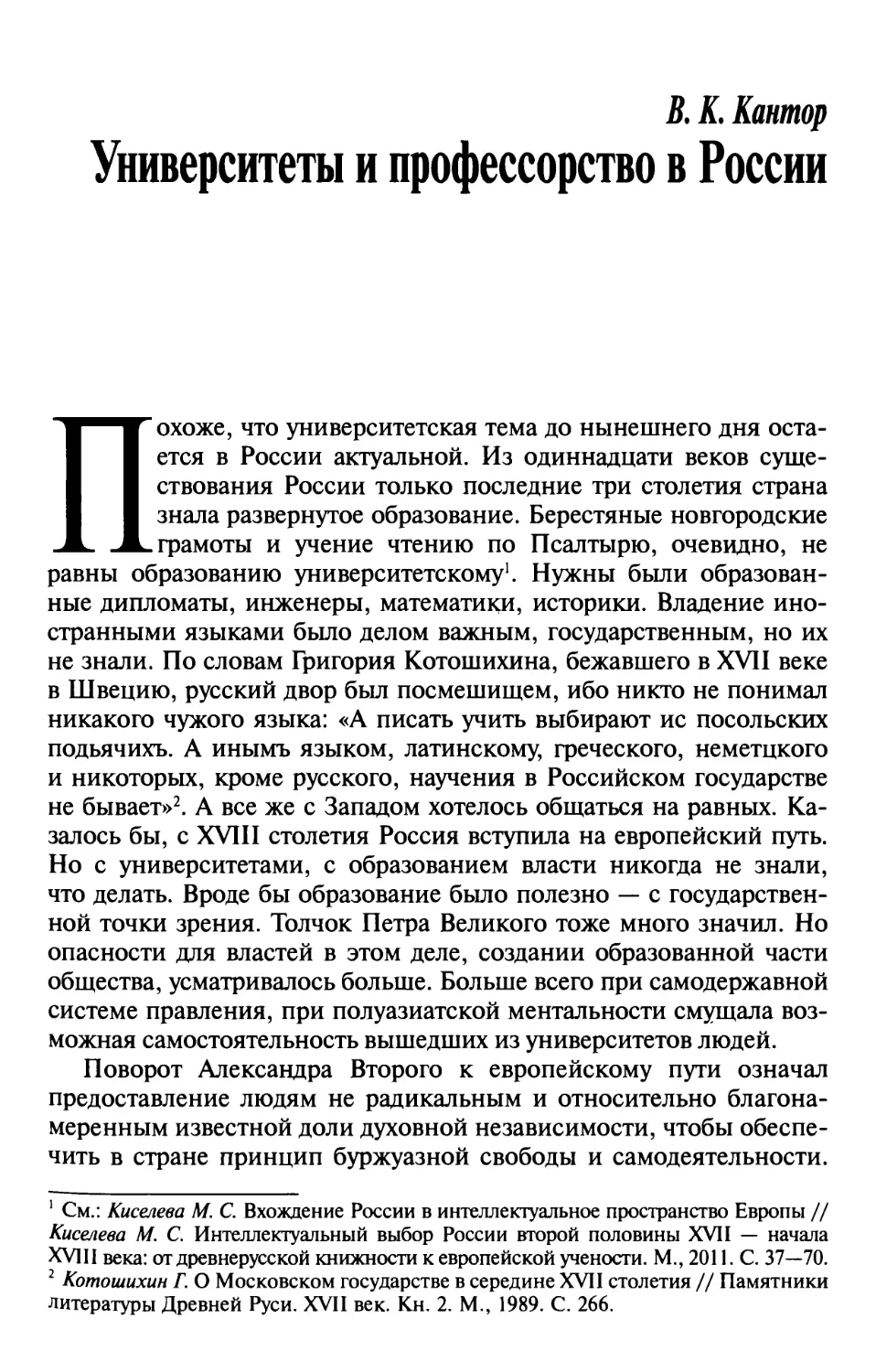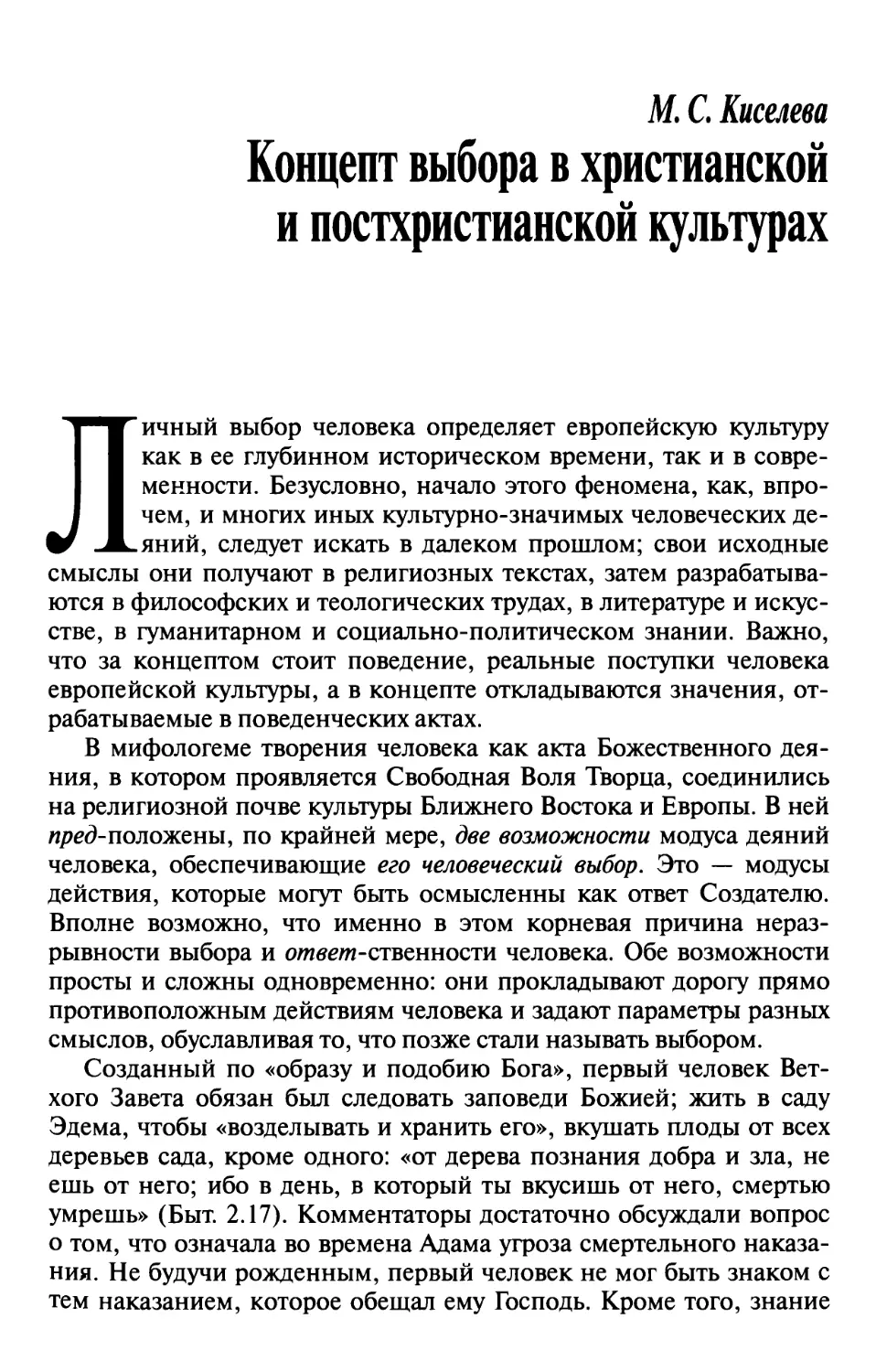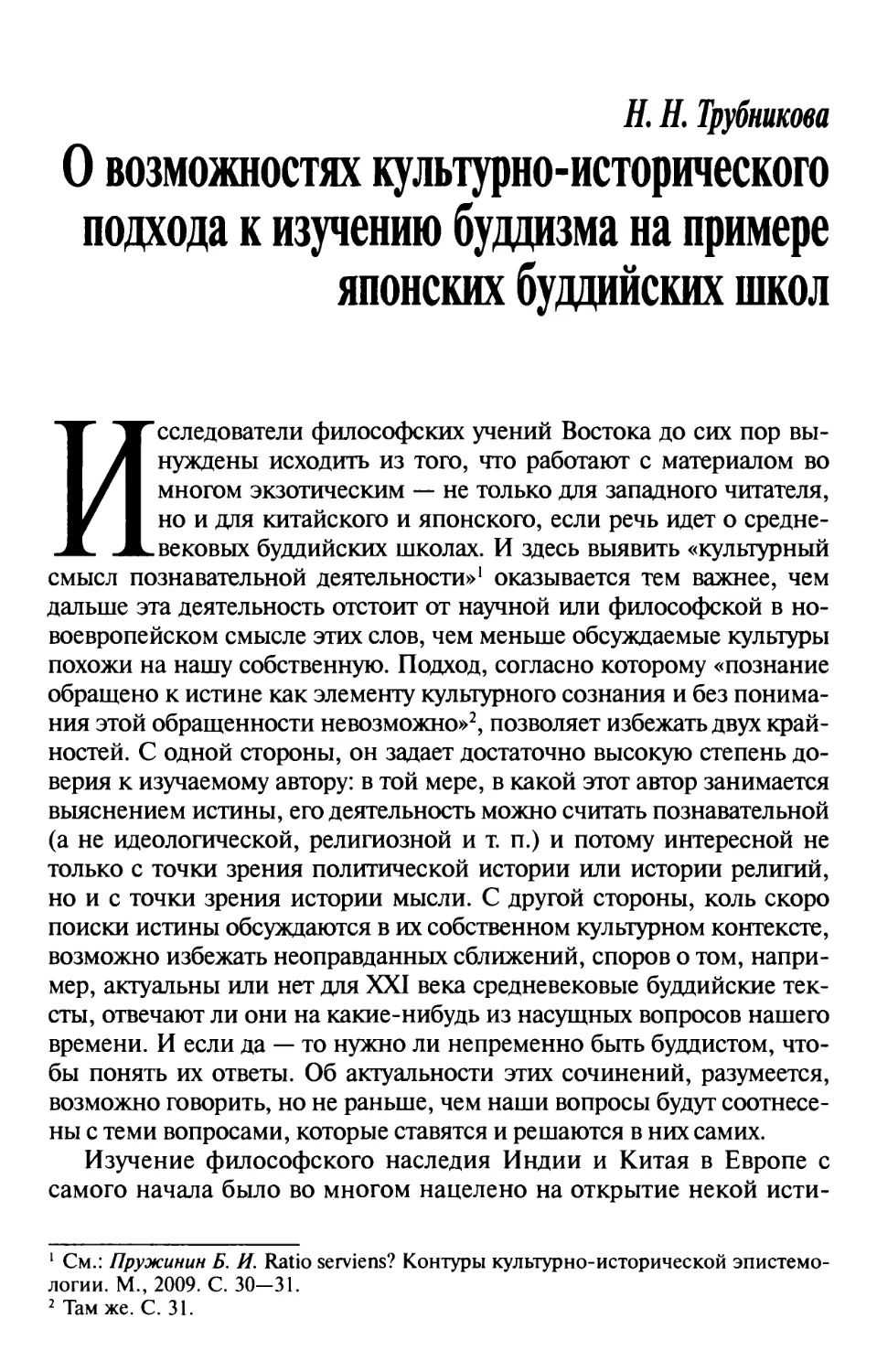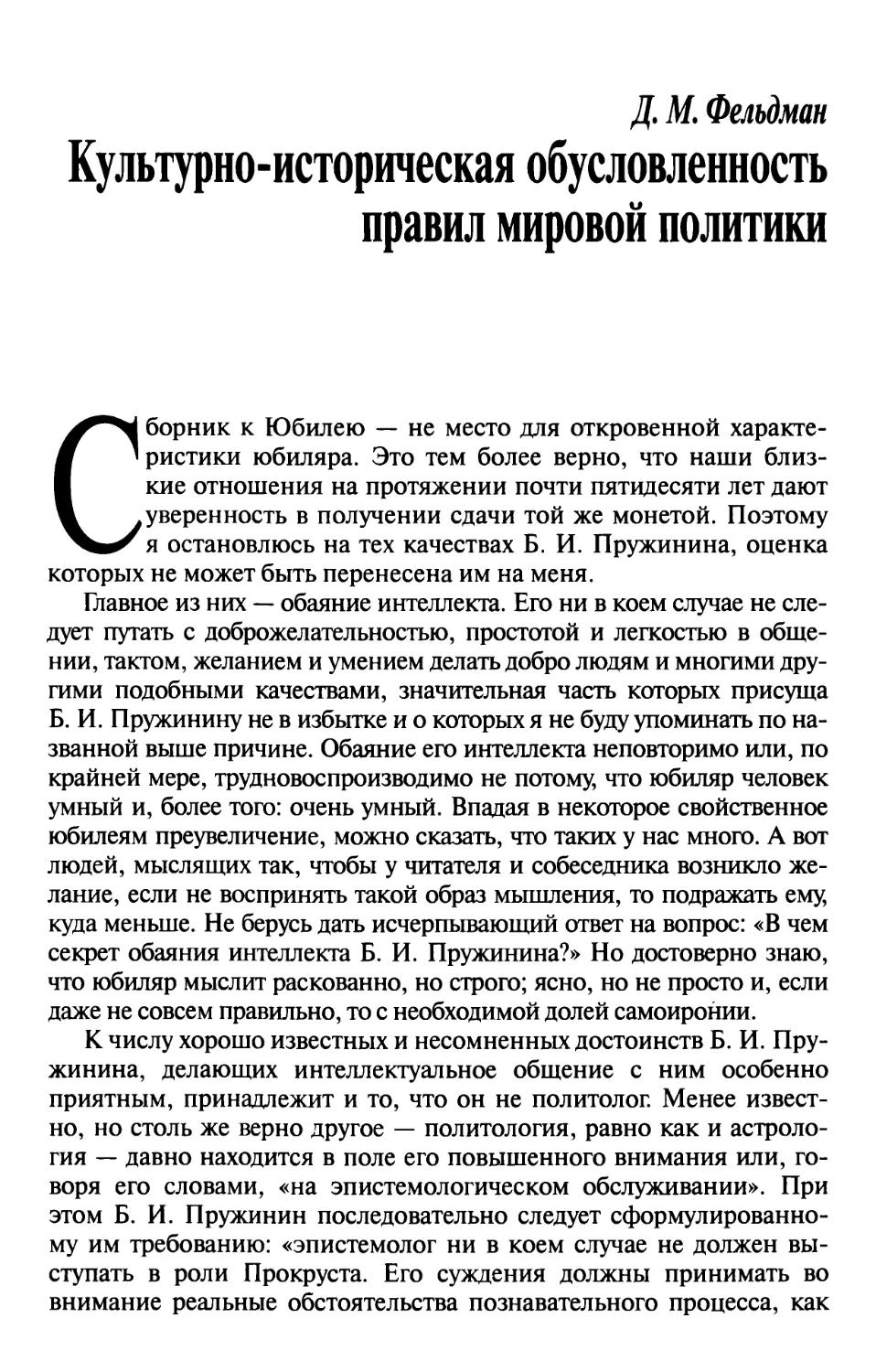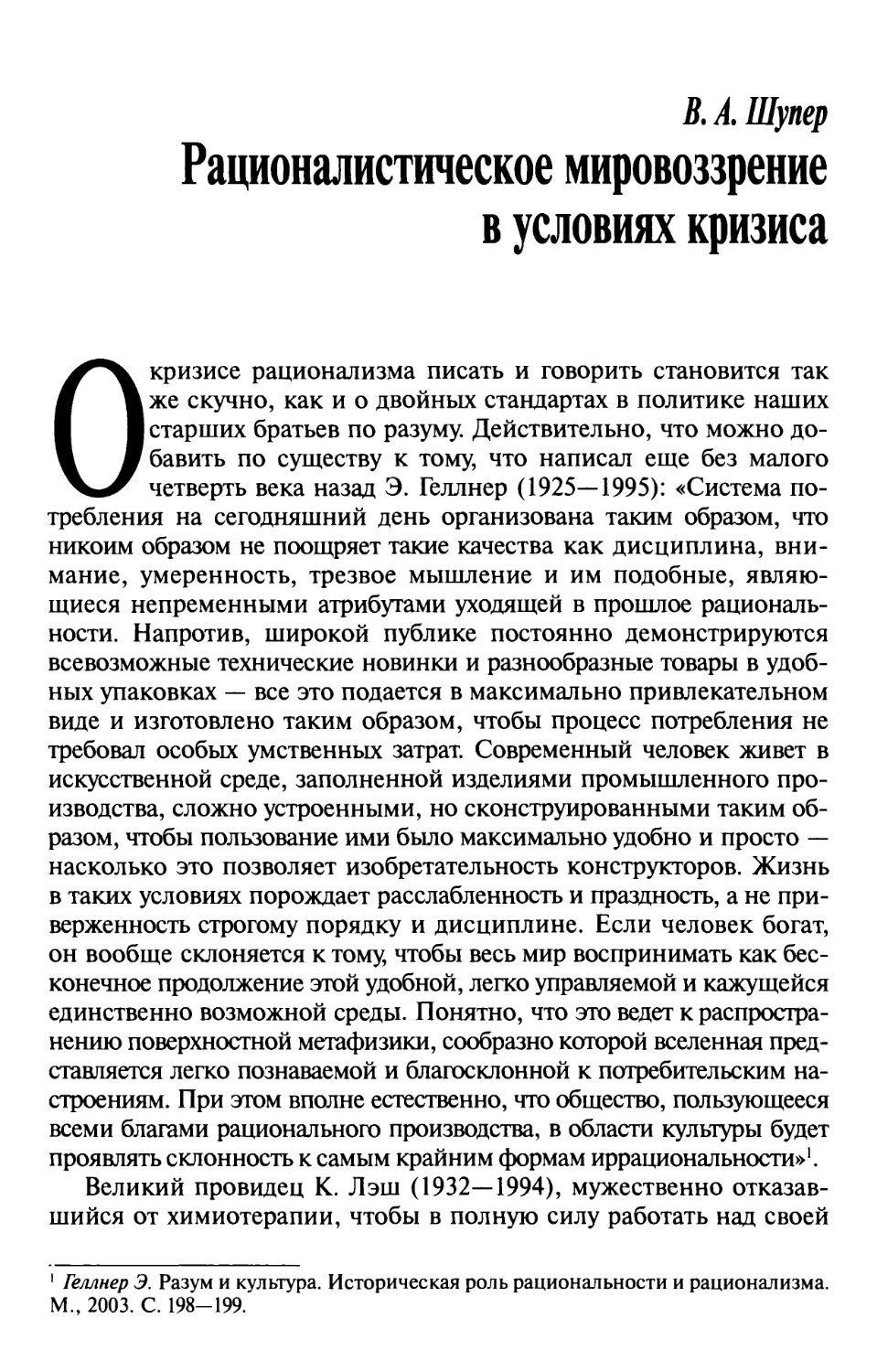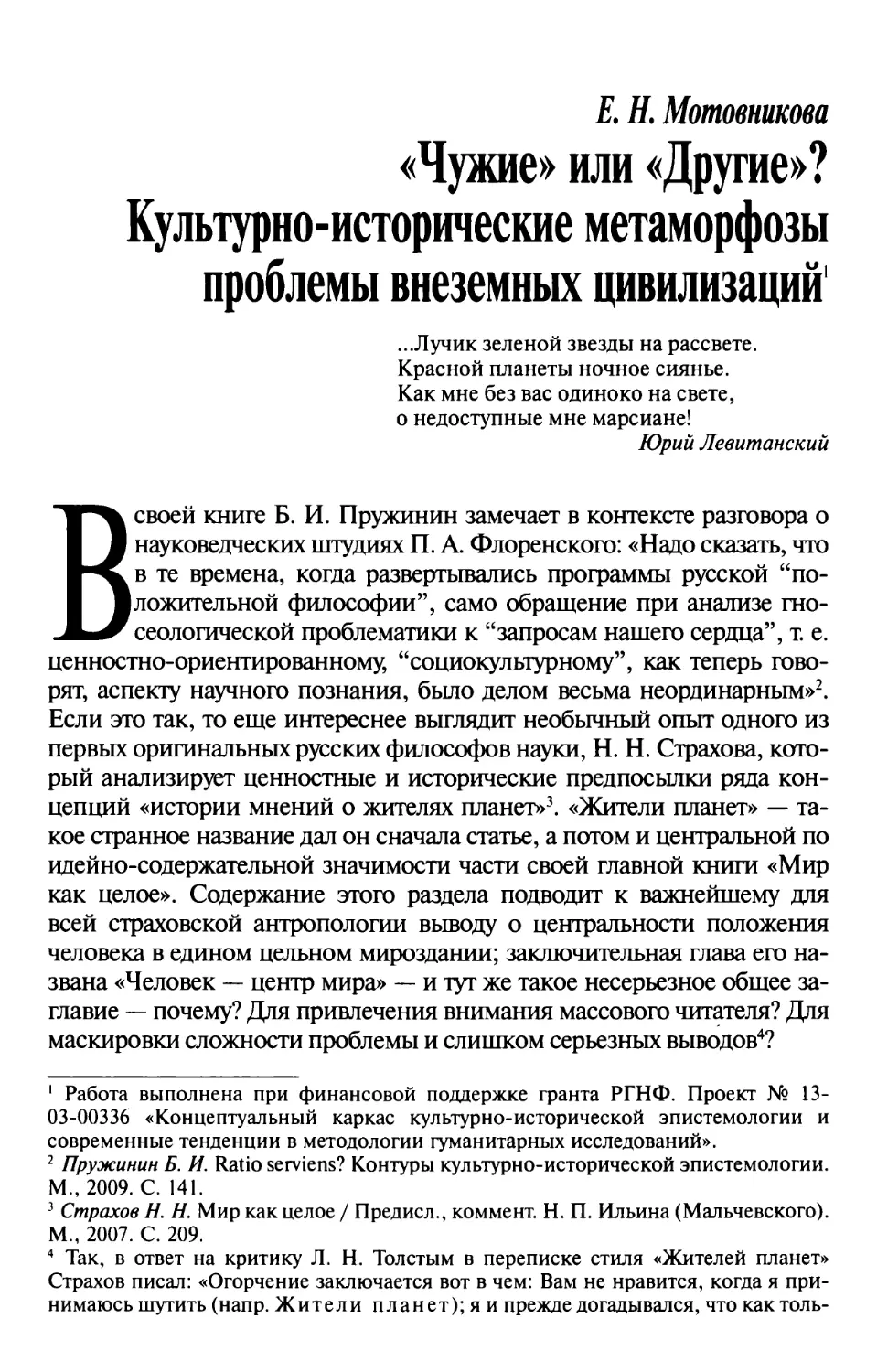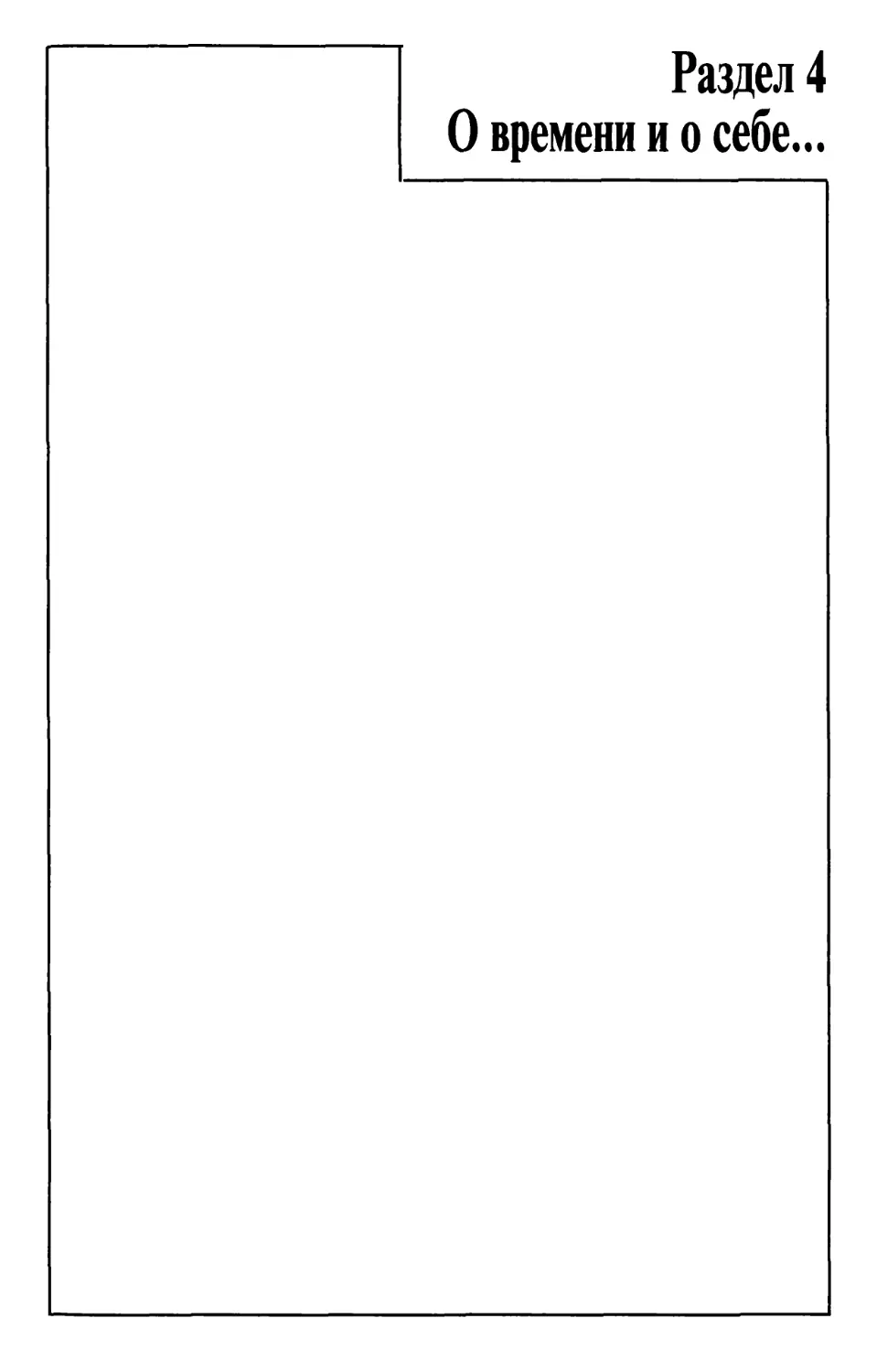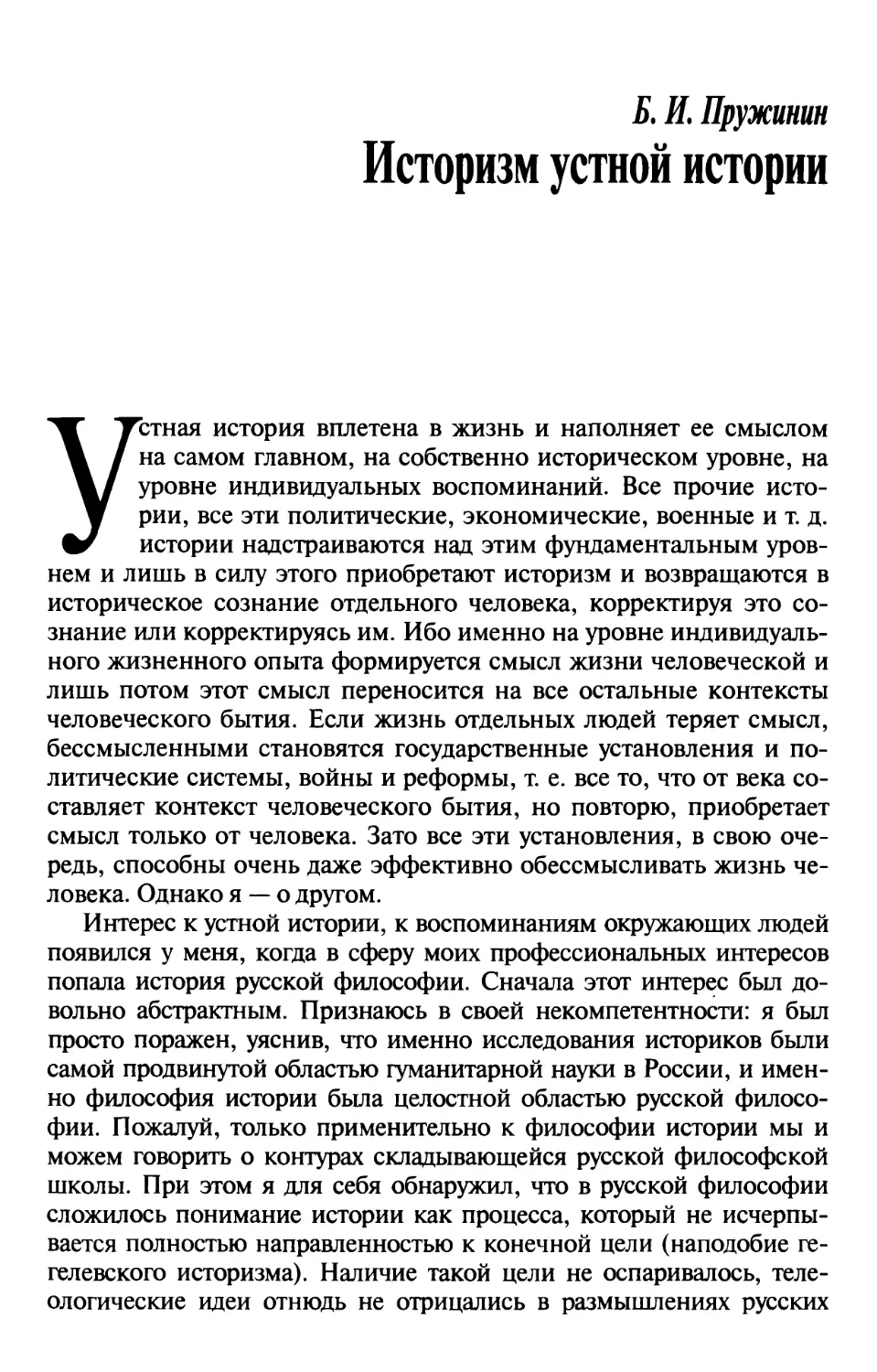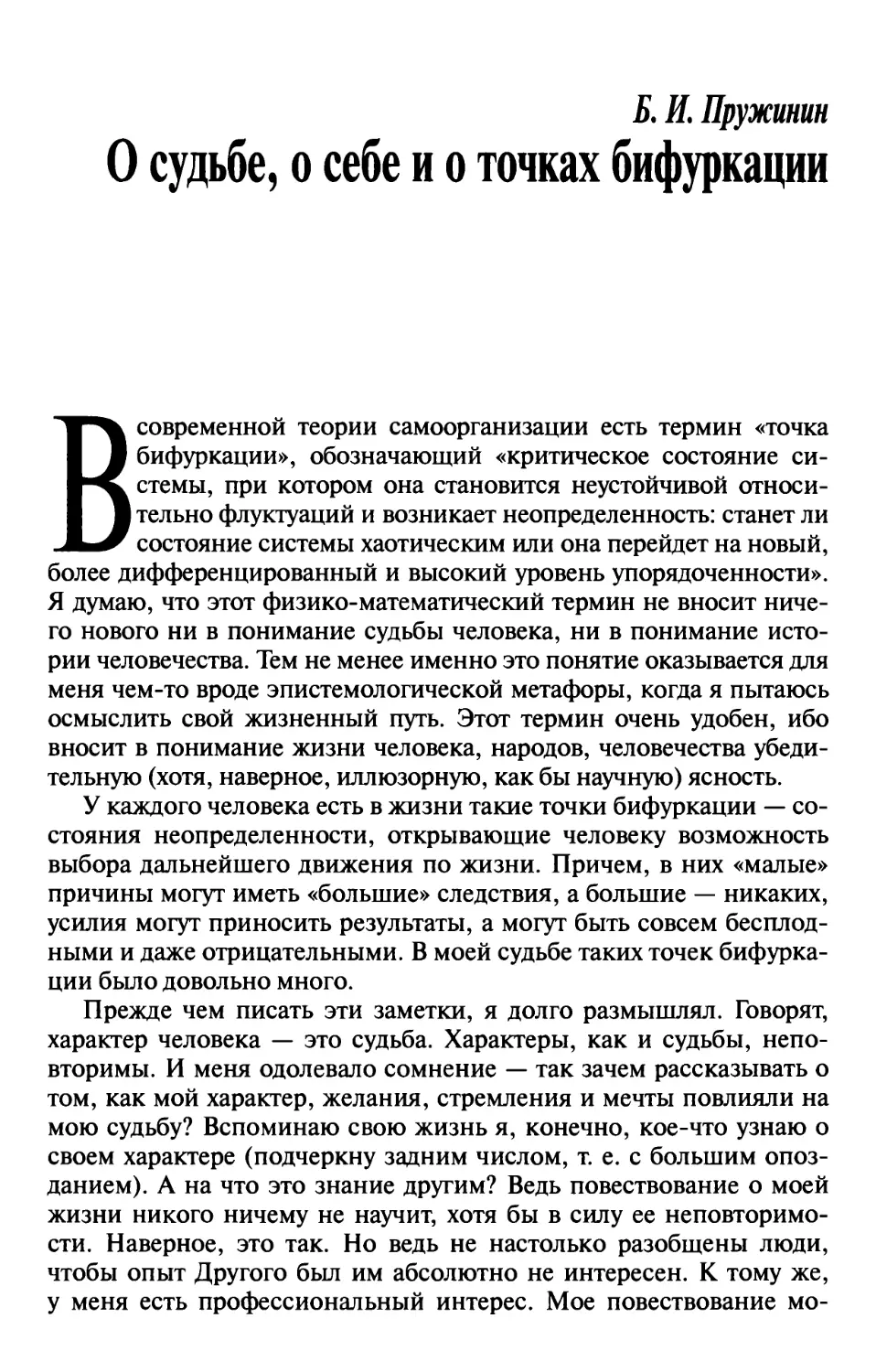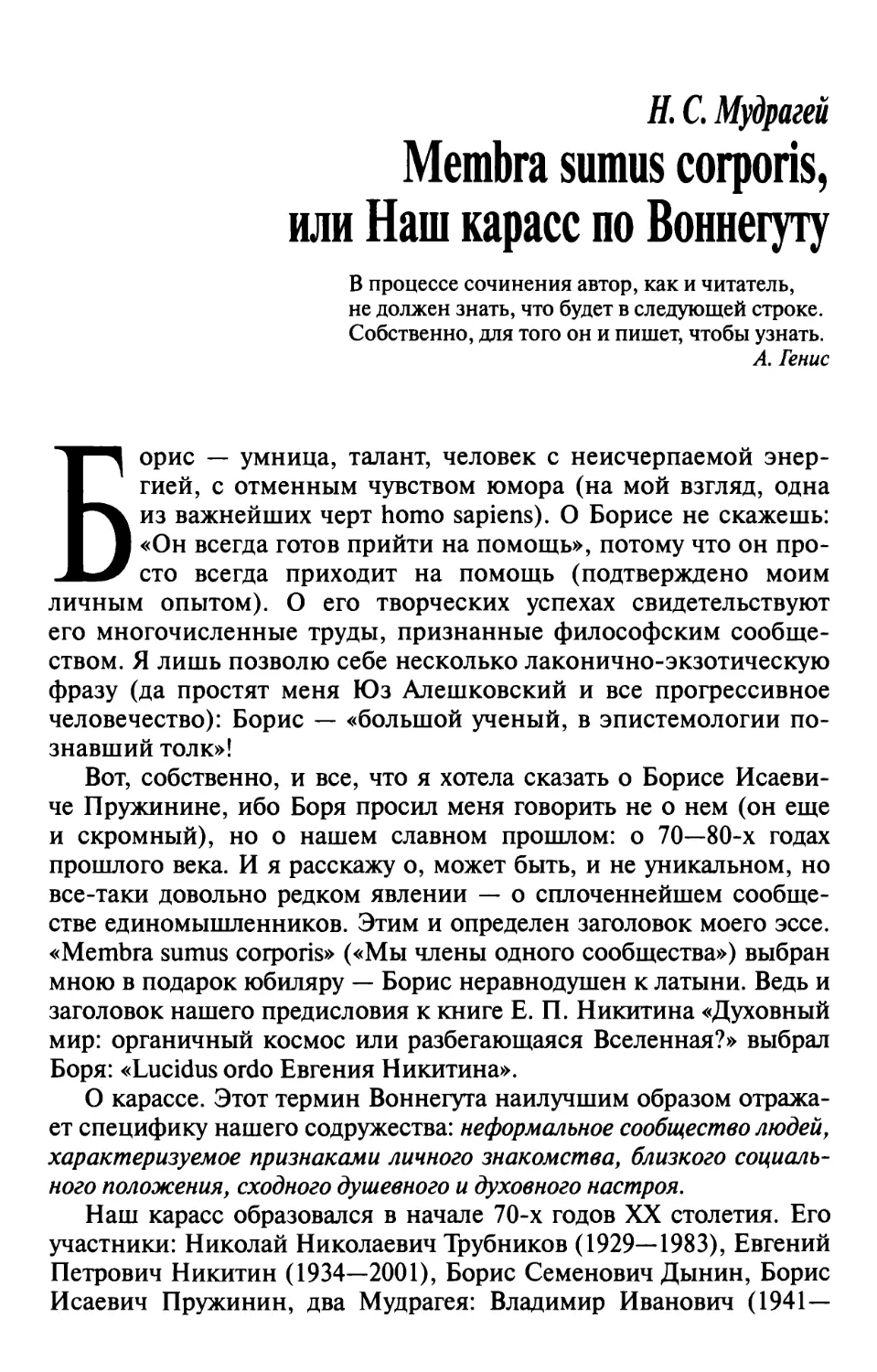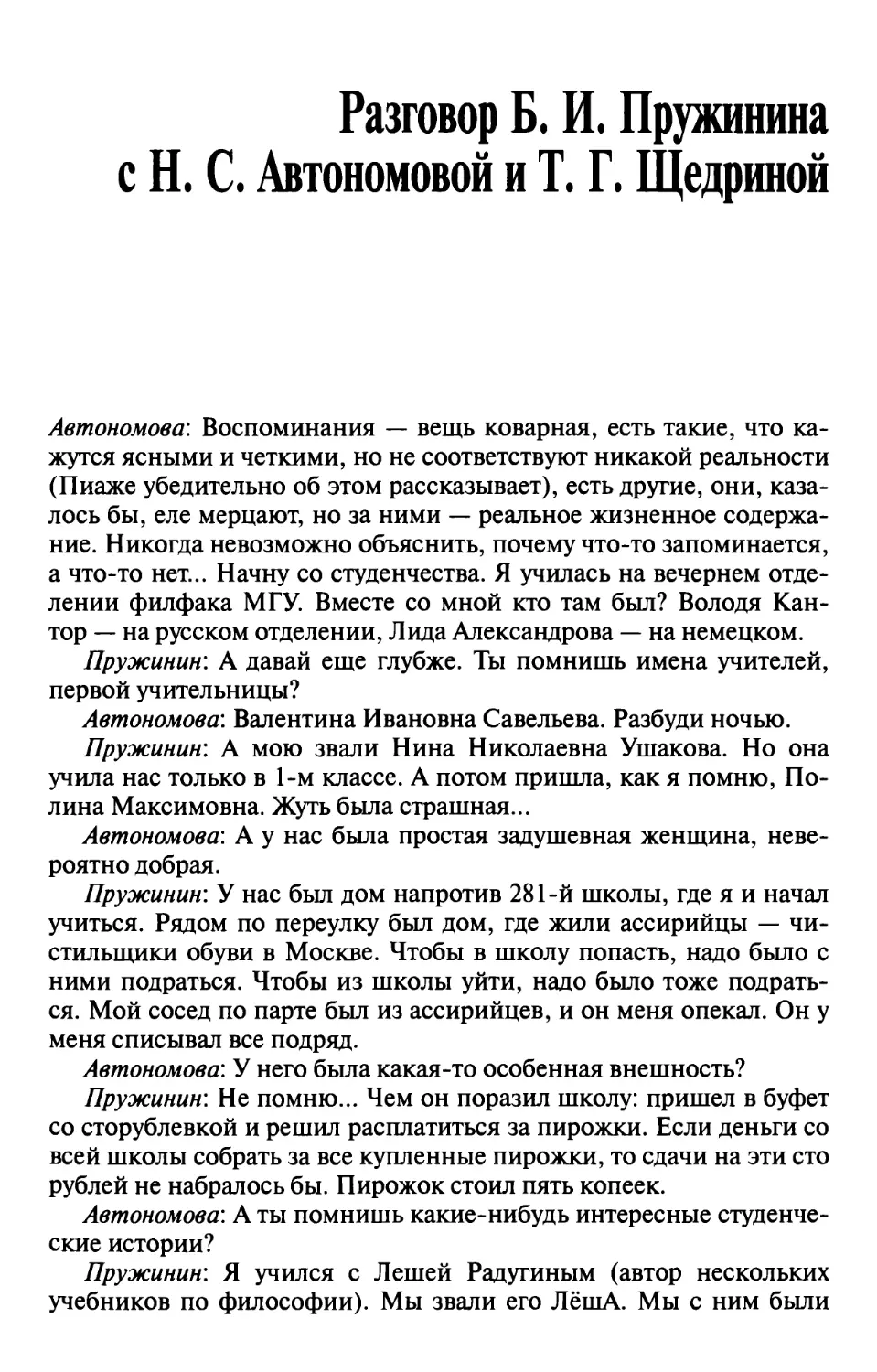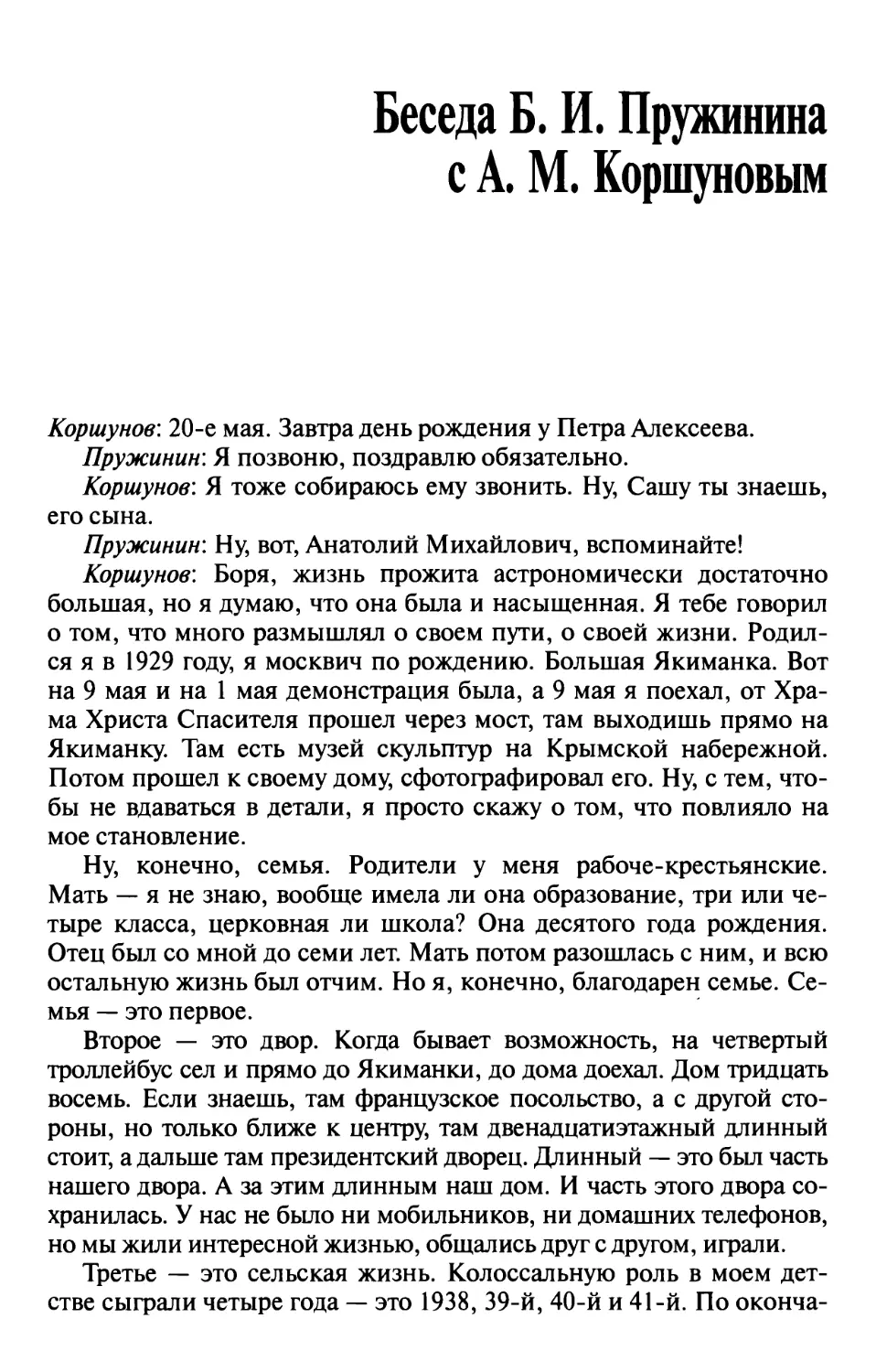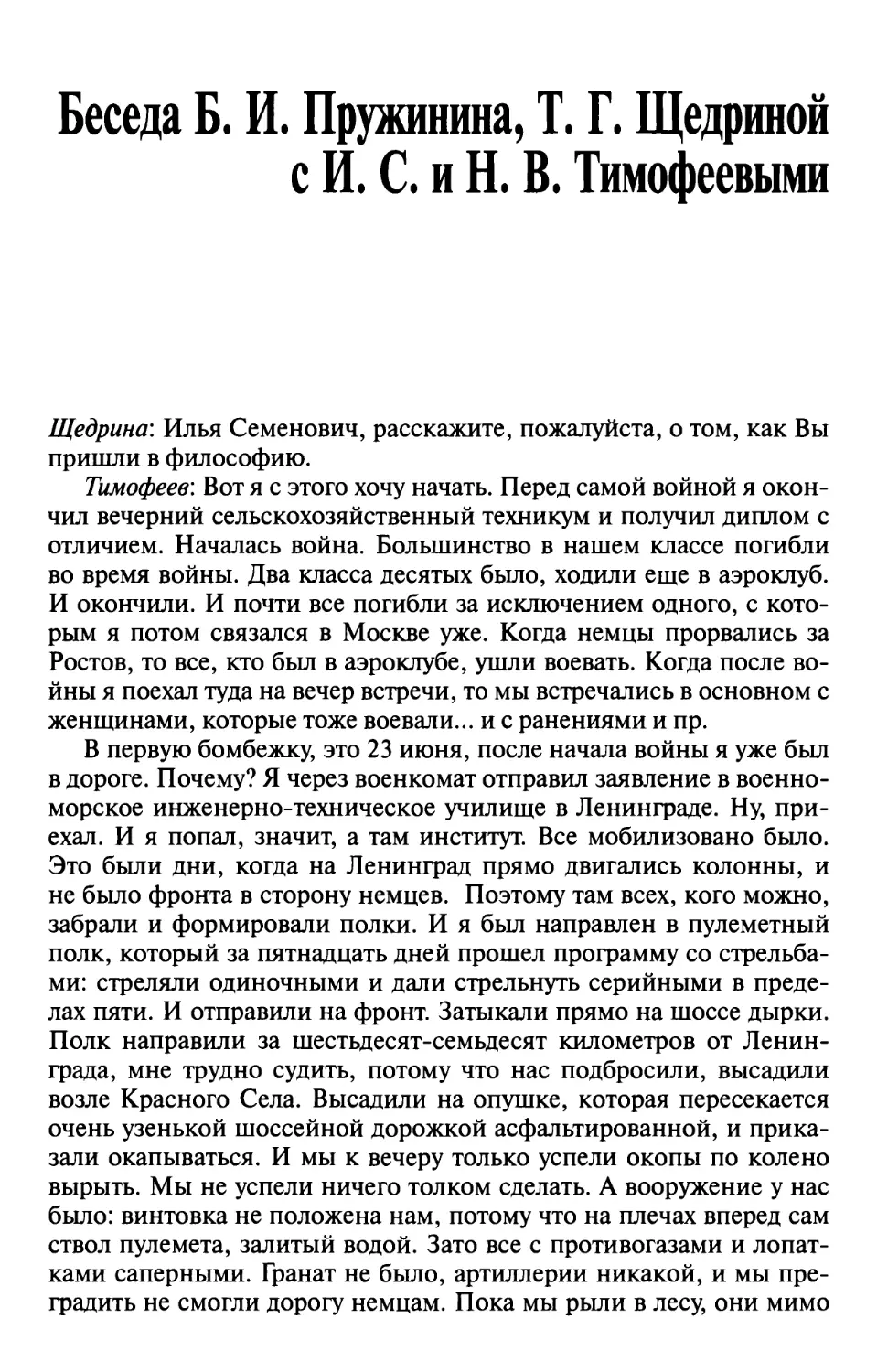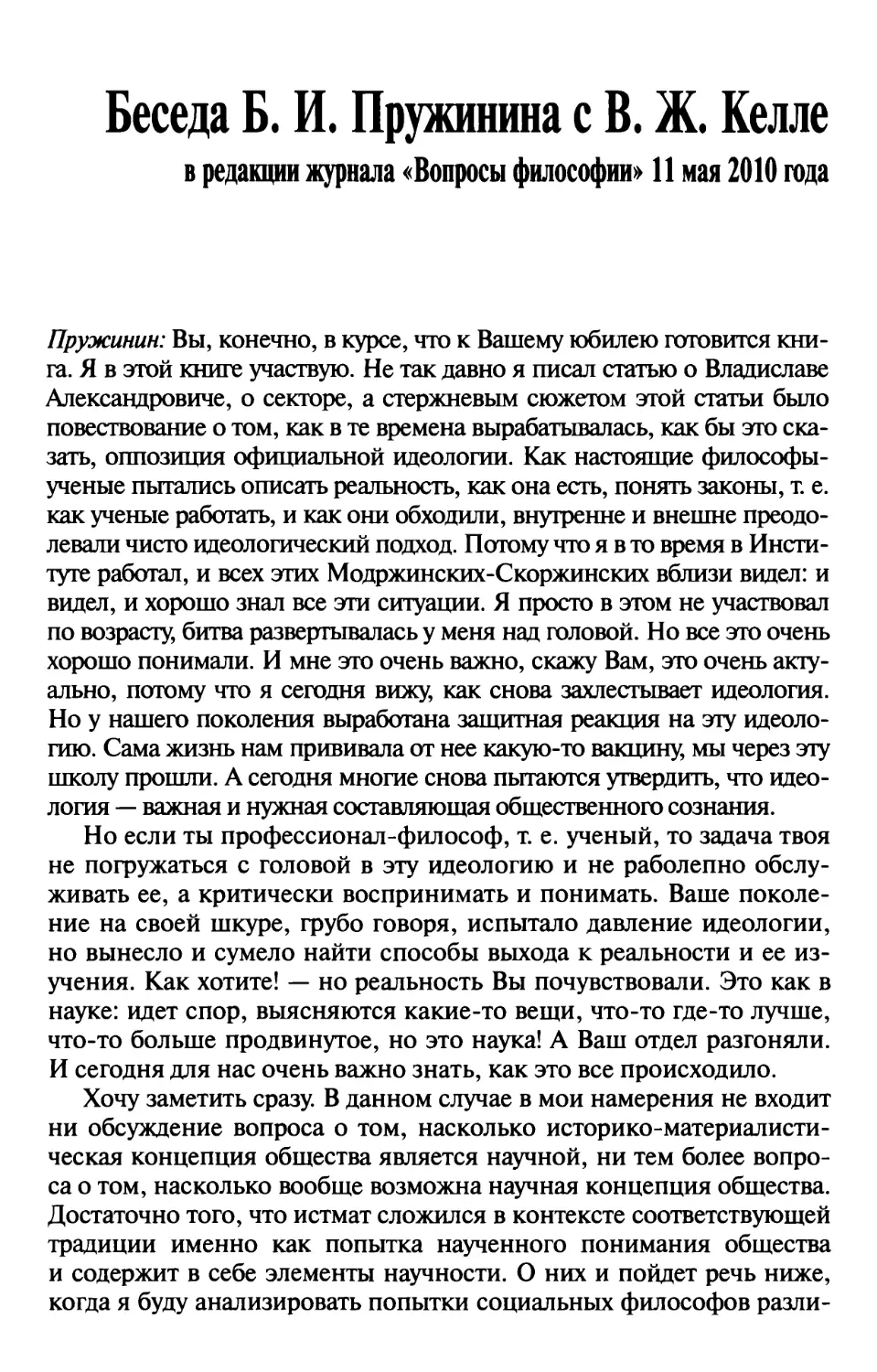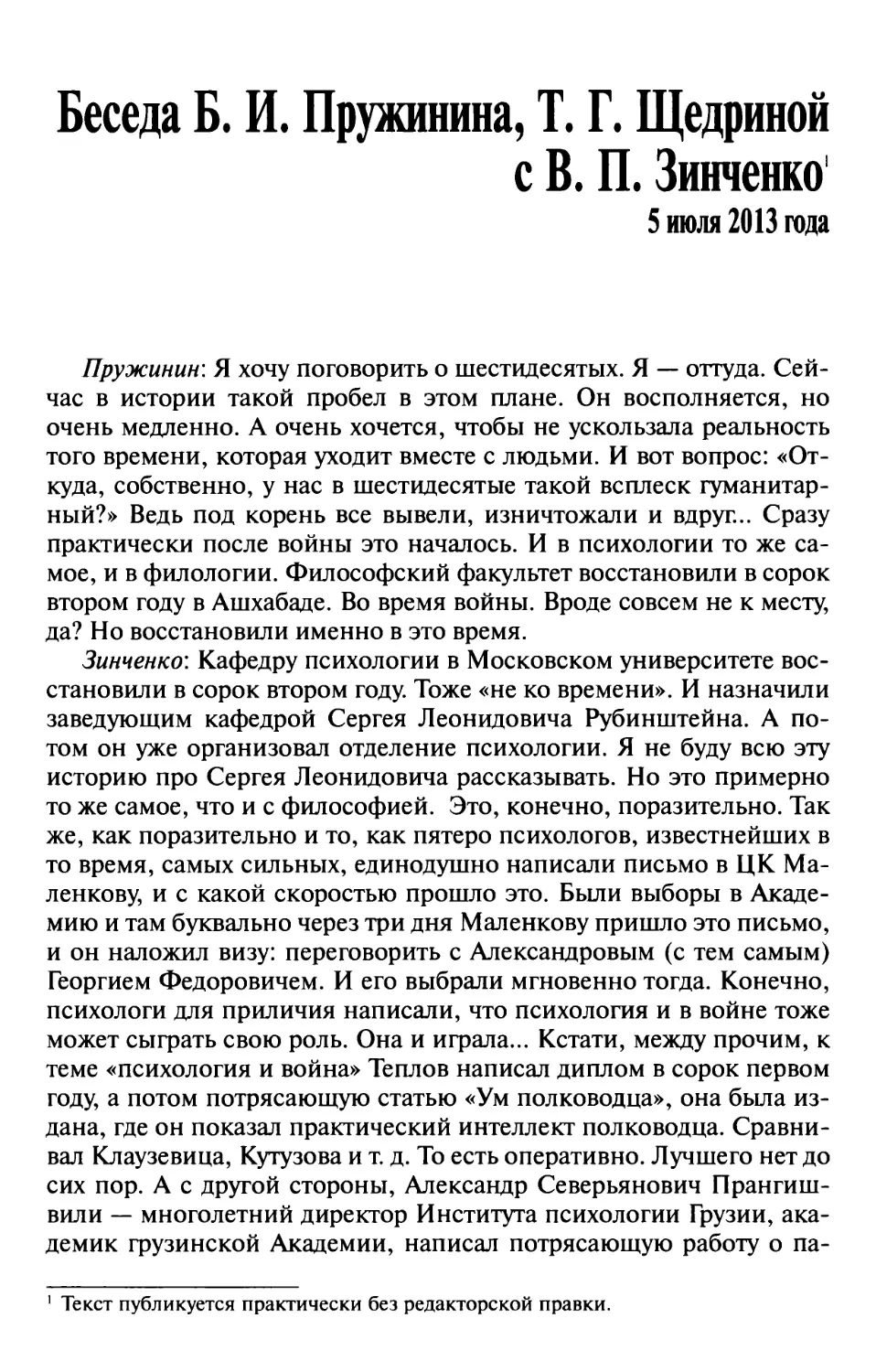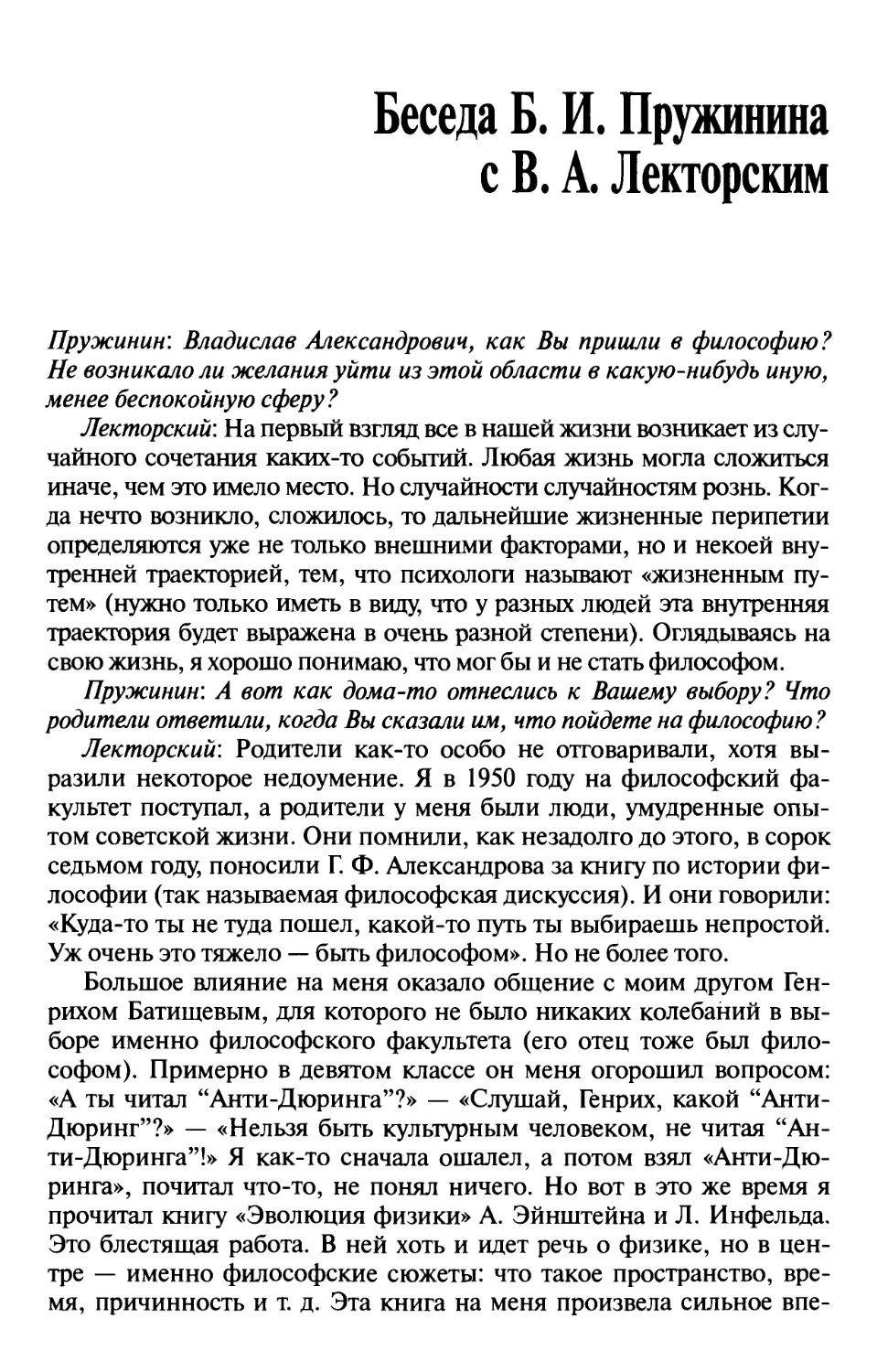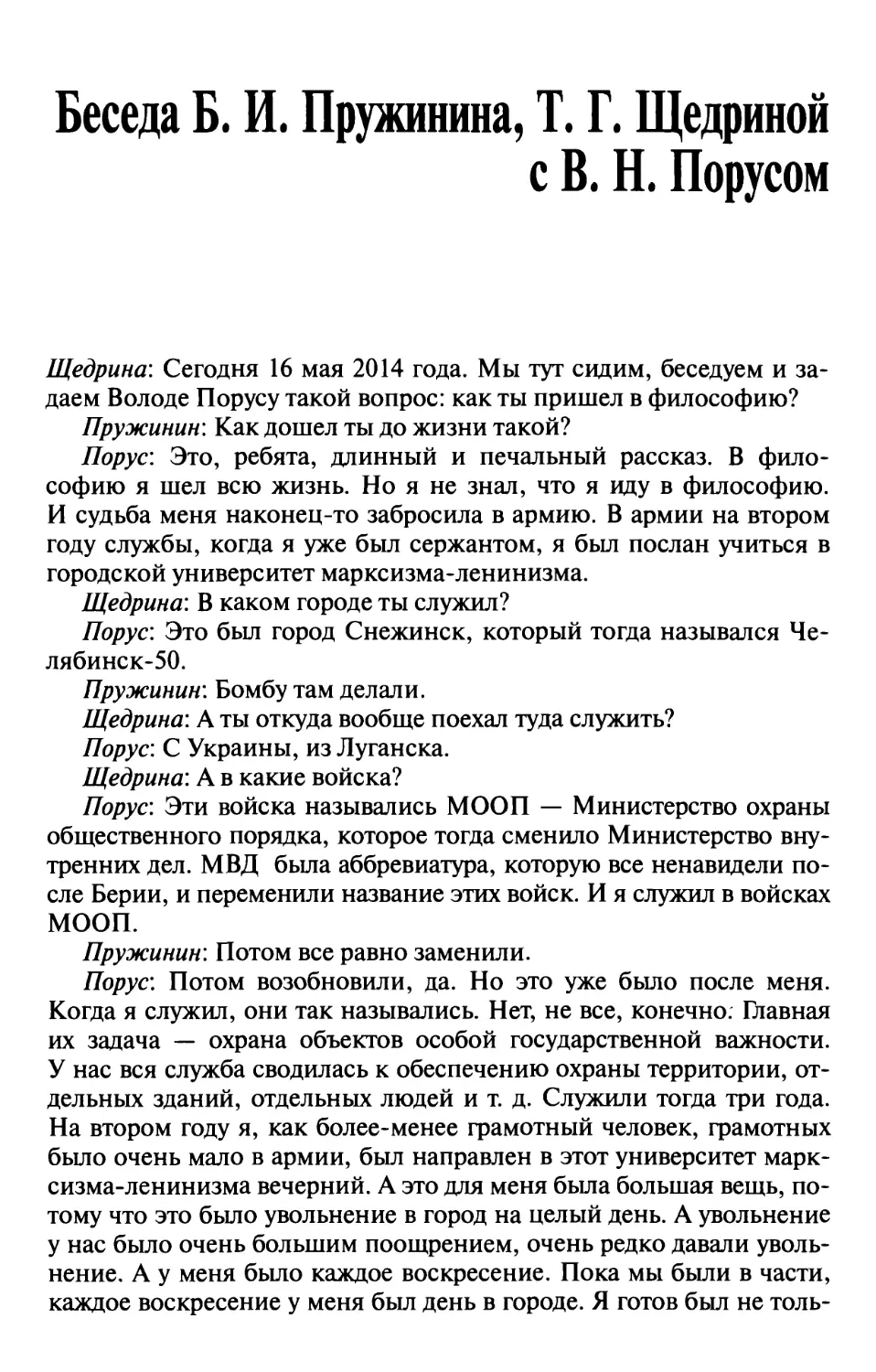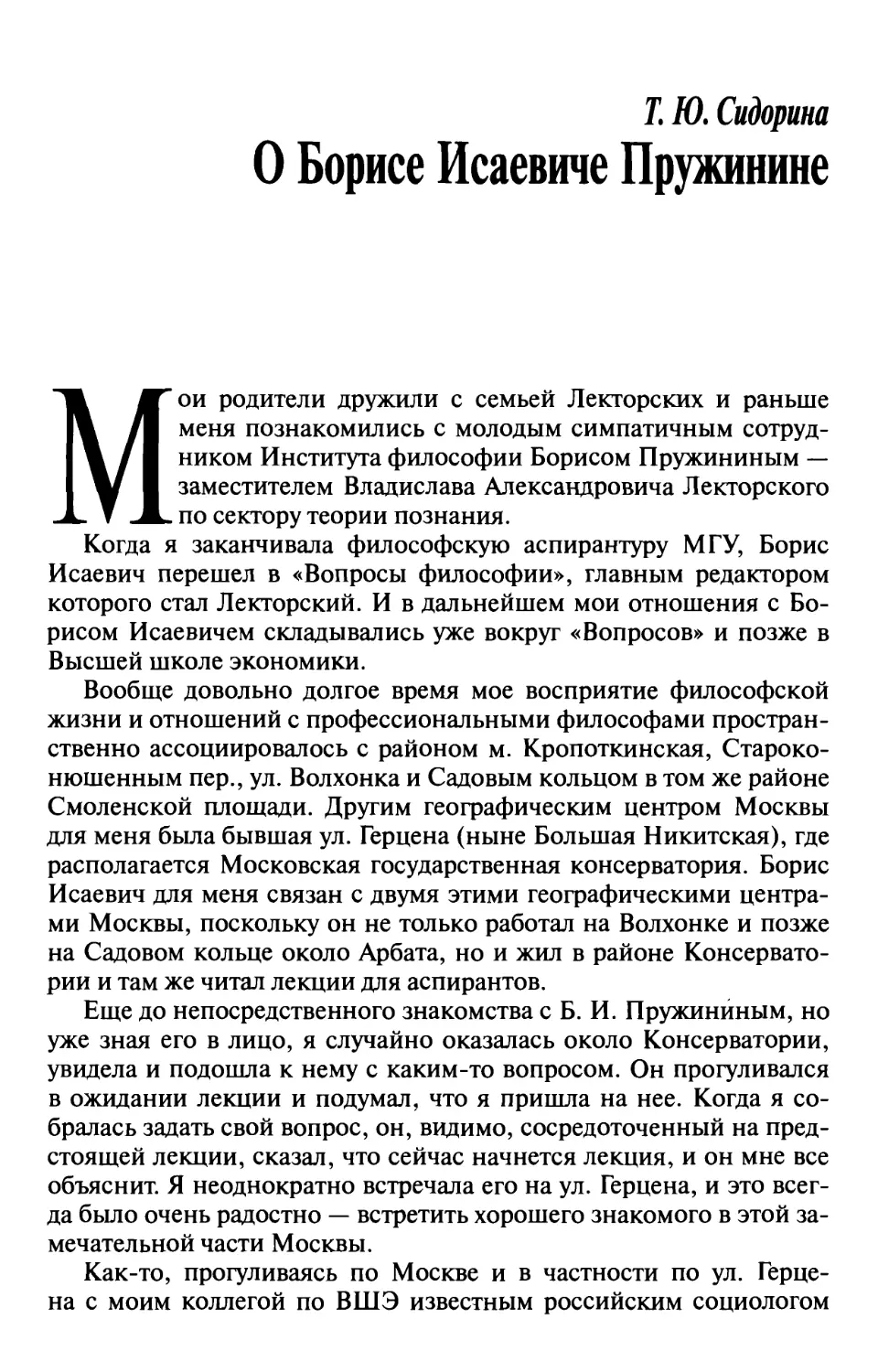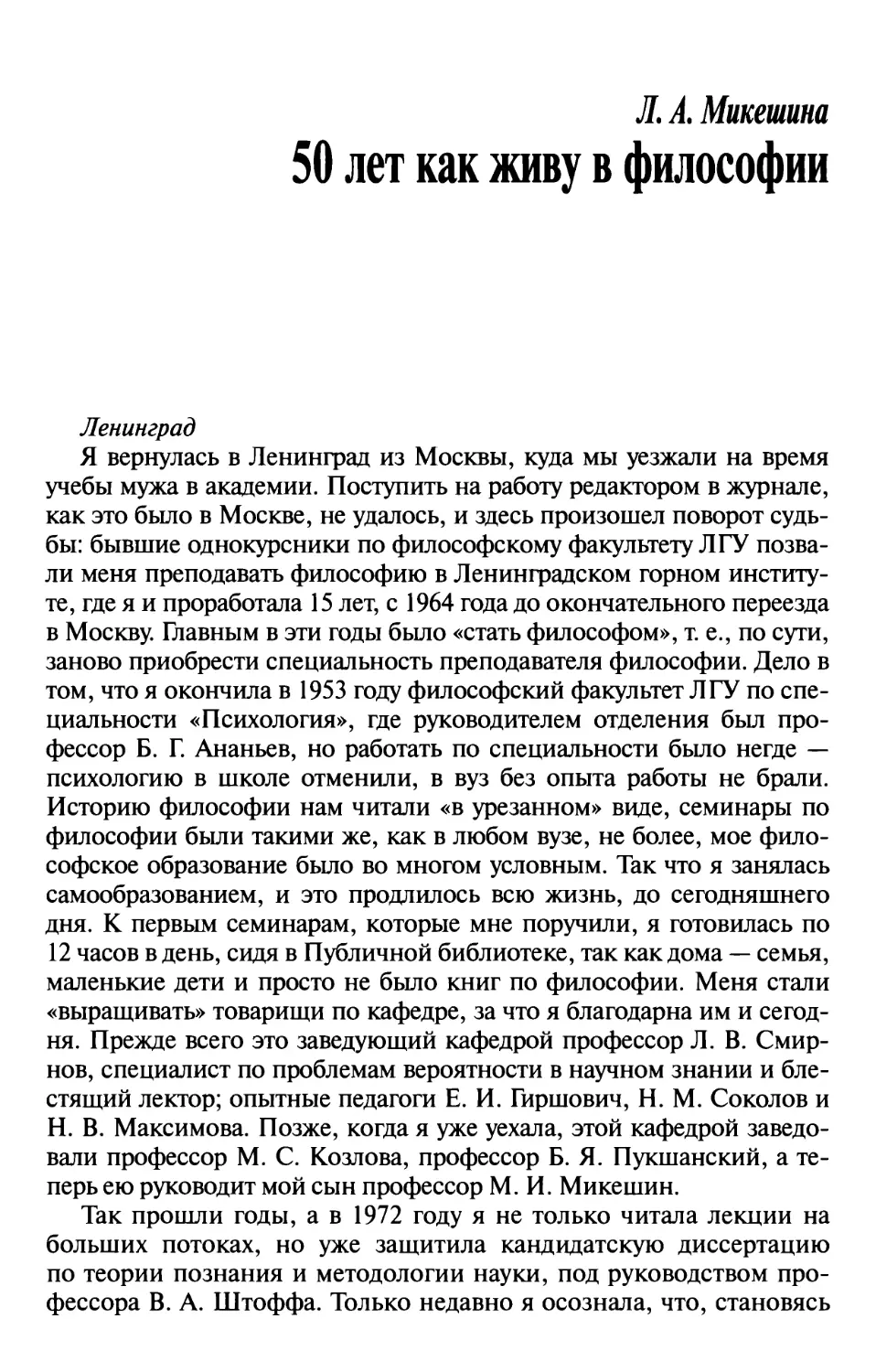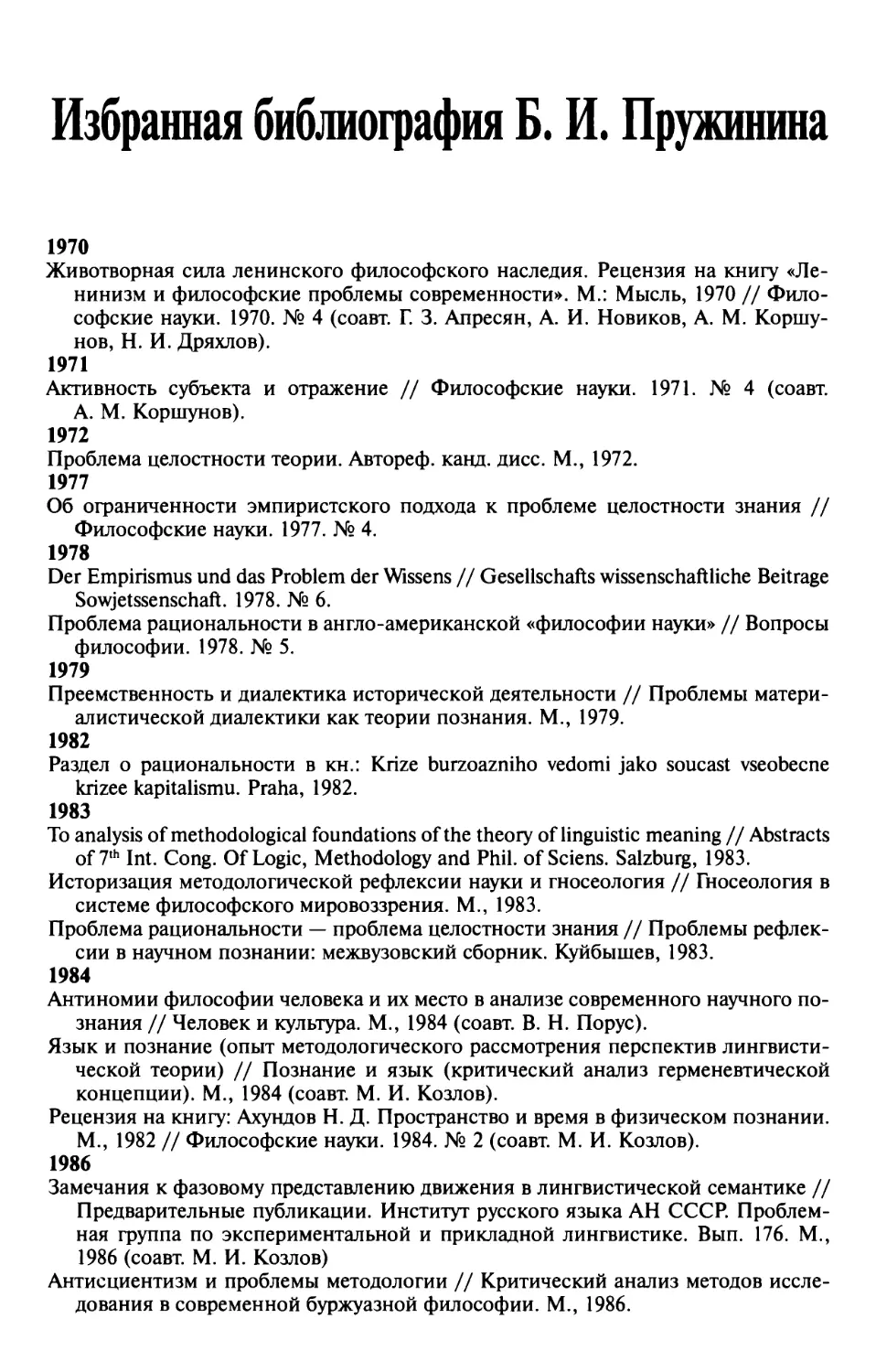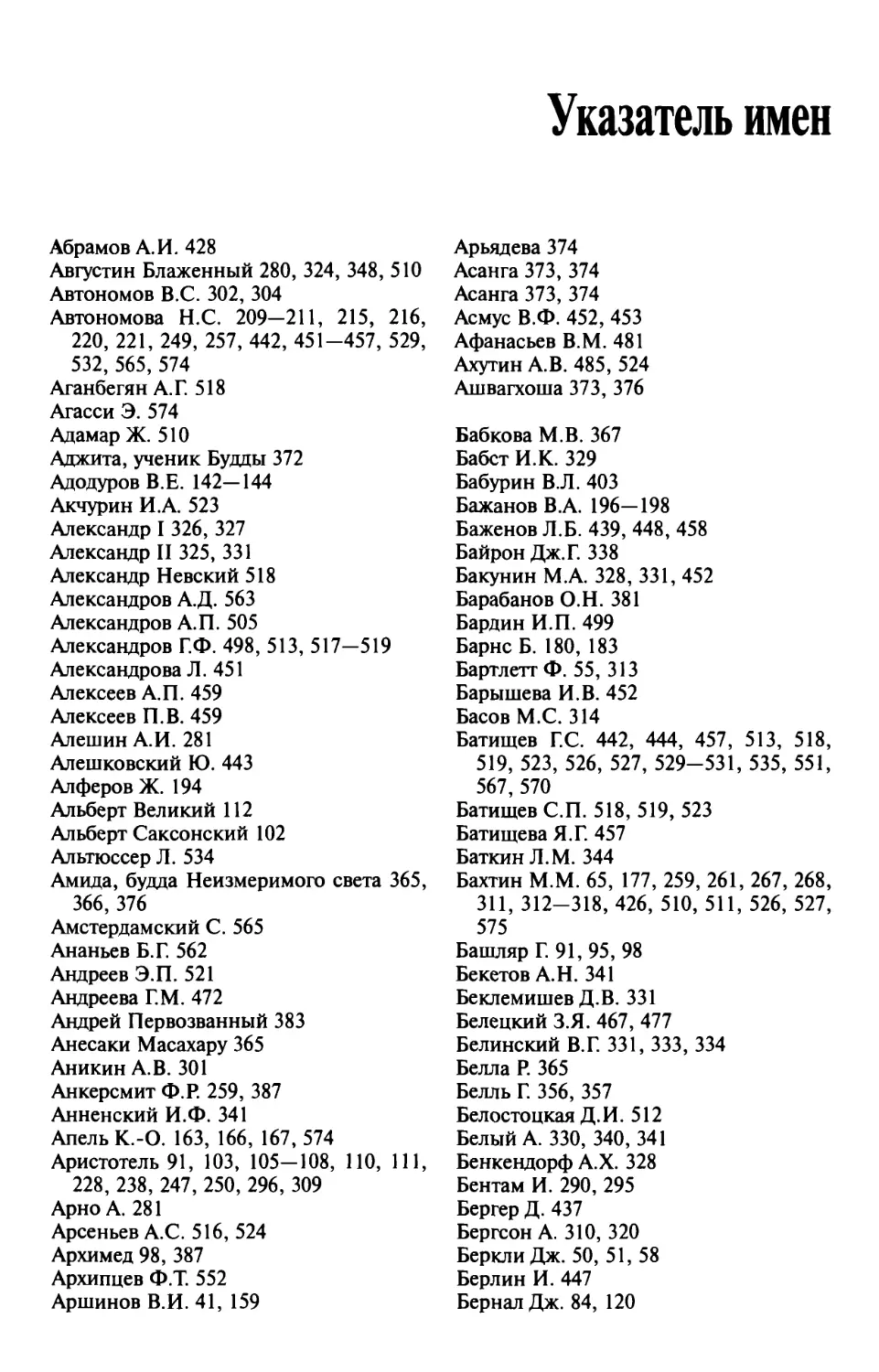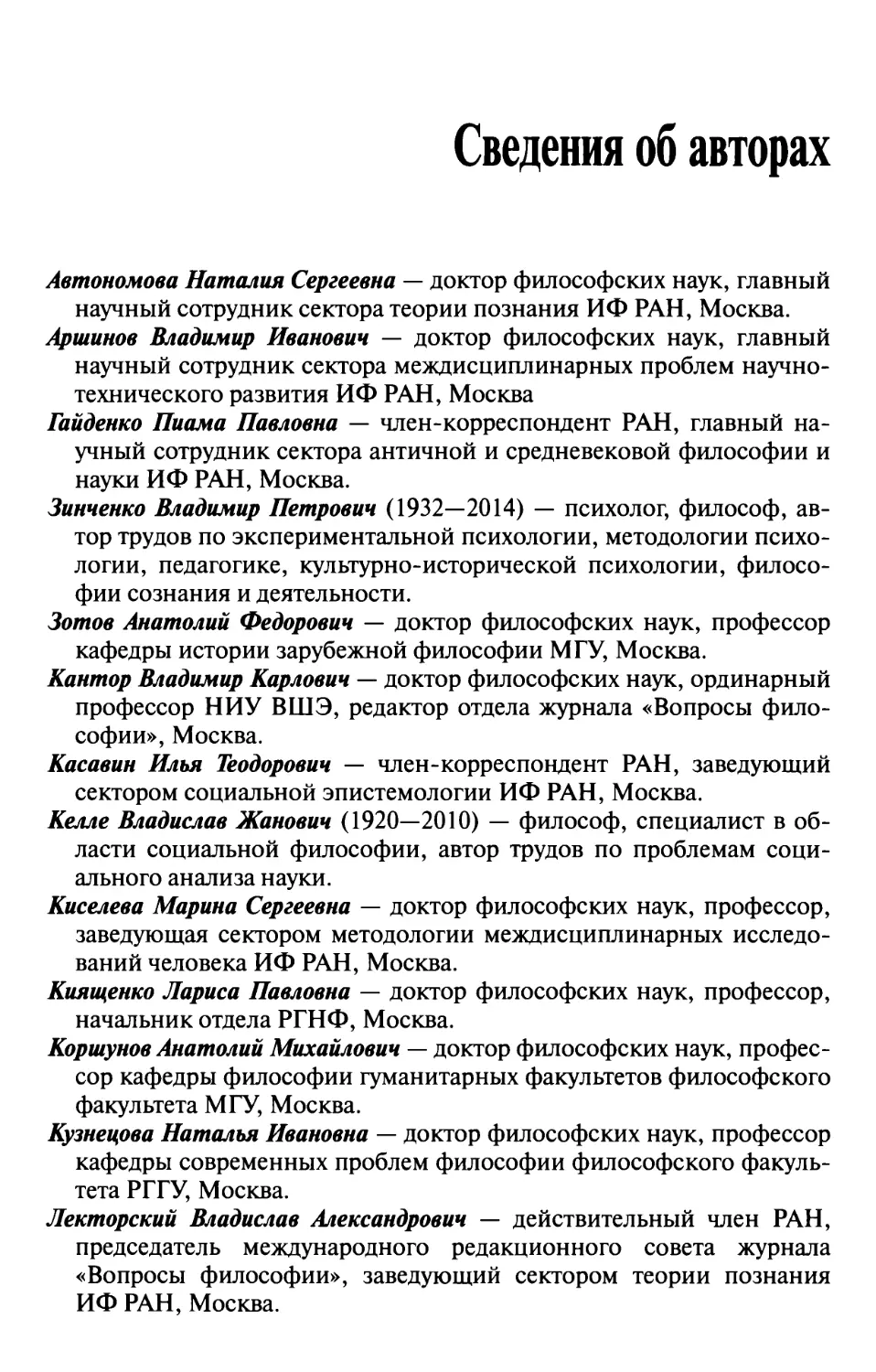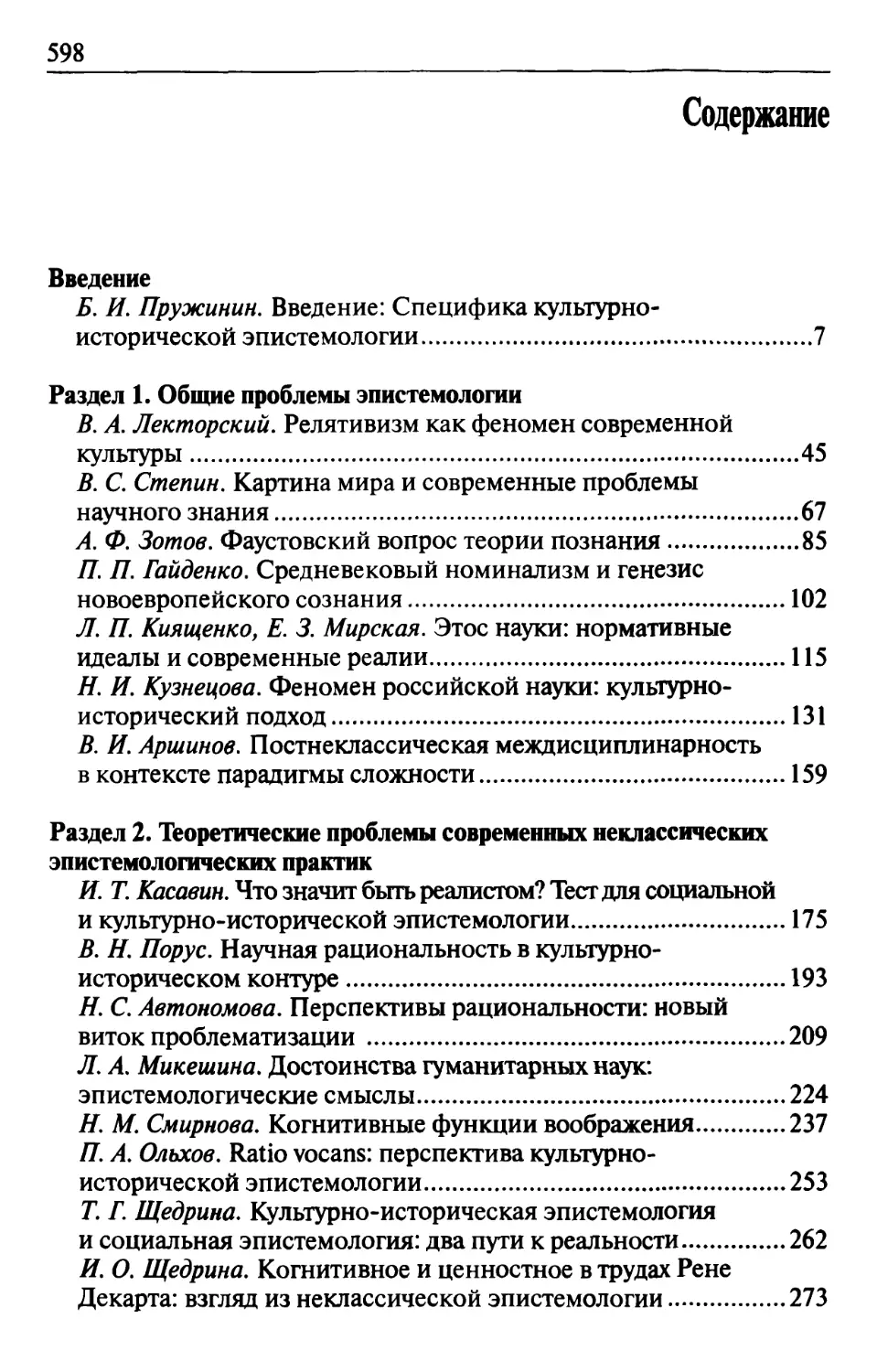Автор: Автономова Н.С. Щедрина Т.Г.
Теги: философия духа метафизика духовной жизни философские науки философия эпистемология
ISBN: 978-5-8243-1922-4
Год: 2014
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
Культурно-историческая
эпистемология:
проблемы
и перспективы
К 70-летию
Бориса Исаевича
Пружиним
РОССПЭН
Москва
2014
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
Культурно-историческая
эпистемология:
проблемы
и перспективы
К 70-летию
Бориса Исаевича
Пружиним
РОССПЭН
Москва
2014
Культурно-историческая эпистемология: проблемы и перспективы.
К 70-летию Бориса Исаевича Пружинина / Отв. ред.-сост. Н. С. Автоно-
мова, Т. Г. Щедрина; науч. ред. Т. Г. Щедрина. М. : Политическая
энциклопедия, 2014. — 599 с. : ил. — (Humanitas).
ISBN 978-5-8243-1922-4
Коллективная монография посвящена 70-летию известного
отечественного философа, специалиста в области эпистемологии и философии
науки, главного редактора журнала «Вопросы философии» Б. И.
Пружинина. В центре внимания ведущих отечественных философов и ученых-
гуманитариев перспективы и методологический статус оригинального
направления исследований — культурно-исторической эпистемологии. Здесь
также представлены беседы юбиляра с философами и учеными,
формировавшими эпистемологическую традицию в отечественной философии и
гуманитарной науке второй половины XX века.
Книга предназначена для широкого круга читателей - философов и
ученых, работающих в различных областях науки.
© Левит С. Я., составление серии, 2012
© Автономова Н. С, Щедрина Т. Г.,
составление тома, 2014
© Щедрина Т. Г., научное
редактирование, 2014
© Коллектив авторов, 2014
© Политическая энциклопедия, 2014
ISBN 978-5-8243-1922-4
Введение
Знание - высшая красота в человеке.
Знание — клад тайный.
Знание радость дарует и славу,
Наставников наставник.
Знание — верный друг на чужбине.
Знание — бог верховный.
Знание ценят цари, не богатство.
Люди без знаний — не люди.
Бхартрихари. «Три шатаки»
Б. И. Пружиним
Введение:
Специфика культурно-исторической
эпистемологии1
Вопросу «что есть знание?» — две с половиной тысячи лет.
Столько же, сколько и философии. И столько же,
сколько и науке. Это их общий вопрос, и ответ на него они
всегда искали сообща. Что, естественно, отнюдь не
исключало, но, напротив, как раз предполагало их различие в его
смысловом наполнении (и даже стимулировало попытки решать
этот вопрос по отдельности). В науке, в среде работающих ученых
вопрос этот обретает инструментально-когнитивный смысл и, по
возможности, фиксируется средствами самой науки (от логики до
различного рода «когнитологических» наук). Иногда такого рода
обсуждение вопроса о природе знания внутри науки довольно
точно определяют как «внутринаучную рефлексию». Перемещаясь же
в сферу философской рефлексии, этот вопрос приобретает статус
смысложизненной проблемы, далеко выходящей за рамки
когнитивных практик вообще и науки своего времени в частности. И
вновь возвращаясь в науку, вопрос этот предстает как проблема
поиска новых, обновленных методологических ориентиров для
меняющейся науки. Таков, если угодно, постоянный исторический цикл
актуализации этого вопроса. При этом дискуссии о природе знания
всякий раз вспыхивают с новой силой, когда в науке или вокруг нее
происходят серьезные изменения — когда в научно-познавательных
практиках возникает настоятельная потребность в выработке новых
методологических перспектив и когда в обществе возникает не
менее настоятельная потребность по-новому оценить роль знания в
меняющейся социальной и культурной реальности. Сегодня и те и
Другие потребности ощущаются весьма остро — научные практики
к XXI столетию явным образом изменились, а грядущий социально-
Работа выполнена при финансовой поддержке фанта РГНФ. Проект № 13-03-
00336 «Концептуальный каркас культурно-исторической эпистемологии и
современные тенденции в методологии гуманитарных исследований»
8
Введение
экономический порядок все более настойчиво определяют как
«общество знания», в отличие от индустриальных устремлений XX века.
В старом вопросе «что есть знание?» появляются новые смысловые
коннотации.
В этом тексте речь пойдет о поиске новых философе ко-
методологических перспектив для меняющейся науки и о том,
что в этом проблемном контексте может предложить культурно-
историческая эпистемология, претендующая на роль обновленной
версии философско-методологической рефлексии над наукой.
Рассуждения о методологических запросах современной науки и о
сфере возможной эпистемологической эффективности культурно-
исторической эпистемологии я начну с конкретной ситуации,
сложившейся в одной из бурно развивающихся сегодня
исследовательских областей. В 2012 году в мартовской книжке старейшего и
авторитетнейшего научного журнала «Nature» появилась статья,
посвященная оценке исследовательских работ в молекулярной
биомедицине2. Авторы, опытные специалисты3, рассказывали о
состоянии исследований раковых опухолей на молекулярном уровне. И,
между прочим, констатировал, что из 53 проверенных в
лаборатории публикаций по данной тематике, в 47 описывались результаты,
которые не удалось повторить. Исследования, представленные в
достаточно солидных изданиях, оказались невоспроизводимыми.
Обратил мое внимание на эту статью в «Nature» Роман Иванов
в своем обзоре, опубликованном на сайте Компьюлента (science.
compulenta.ru от 04 апреля 2012) в разделе «Биотехнология и
медицина». Обзор был озаглавлен «Академические исследования в
онкологии теряют доверие». Надо сказать, эта публикация
производит именно такое впечатление: «теряют доверие»! Ведь в конце
концов речь идет не о гипотетических последствиях «Большого
взрыва», которые скажутся на судьбе Вселенной через пару
миллиардов лет, а об исследованиях в области медицины. «Невоспроиз-
водимы»? И сразу же вспоминается история с вакциной от ВИЧ4.
2 Begley С. G., Ellis L. M. Drug development: Raise standards for preclinical cancer
research // Nature. Vol. 483. Issue 7391. P. 531—533. URL: http://www.antipin.com/get/
nature.pdf (дата обращения: 14.06.2014).
3 К. Гленн Бигли бывший вице-президент и директор отдела исследований в
области гематологии и онкологии в Amgen Inc., Thousand Oaks, Калифорния США,
ныне консультант; Ли М.Эллис работает в Университете Техаса MD Anderson
Cancer Center, Хьюстон, Техас, США.
4 Профессор Университета штата Айова Донг-Пай Хан ради получения гран-
Б. И. Пружинин. Специфика культурно-исторической эпистемологии
9
Впечатляют также и комментарии к статье Бигли и Эллис, в
которых ученые говорят об исследовательской «небрежности»,
возникающей в результате гонки за грантами и за публикациями в
«рейтинговых» журналах (от которых зависит и финансирование проектов, и
личный успех). При этом практически всем участникам обсуждения
описанная ситуация представляется далеко не уникальной для
современной науки. Но, однако, отнюдь не эта констатация
заставляет внимательно присмотреться к описанной ситуации. Если бы речь
шла просто о «падении нравов»... В истории науки такого рода
«падения» уже случались не раз и в масштабах даже более значительных и
страшных. Достаточно вспомнить «лысенковщину». Но прежде
всякий раз это было результатом вторжения в науку извне, и наука
находила в себе силы справляться с подобными ситуациями. Ибо научное
сообщество находило внутри самой научной деятельности средства,
обеспечивающие в конечном счете объективность оценки научных
результатов. Сегодня, однако, значительная часть научного
сообщества ведет себя так, что появляются весьма веские основания
усомниться, если не в наличии, то, во всяком случае, в эффективности
средств, позволяющих устанавливать истину. Так что и в данном
случае, в ситуации, описанной Бигли и Эллис, можно усмотреть отнюдь
не только признаки упадка нравов в сообществе ученых, но куда
более «серьезный» с точки зрения философско-методологической
рефлексии над наукой аспект — аспект, имеющий эпистемологический,
по своей сути, смысл. Ведь судя по констатации, соображение о том,
что научная истина будет рано или поздно установлена, никак не
останавливает весьма значительную часть нынешнего научного
сообщества. А между тем размывается самое основание объективности
научной деятельности — воспроизводимость научного знания.
та сфальсифицировал данные исследования, посвященного разработке вакцины
против СПИДа. Данные исследования были опубликованы в 2010—2012 годах в
различных научных журналах. Донг-Пай Хан и его команда получили от
правительства внушительный денежный грант. Позже выяснилось, что подчиненные
профессора знали о том, что результаты исследования были сфальсифицированы.
И еще история. Руководителям компании Pfizer было предъявлено обвинение
в сокрытии информации о некоторых опасных побочных эффектах лекарства Це-
лебрекс (продается в России).
И еще. Сотрудник Университета Коннектикута опубликовал около 26 статей
в 11 научных журналах, посвященных лечебным свойствам ресвератрола
(компонента красного виноградного вина), но все данные были сфальсифицированы.
Проведенное расследование выявило 145 фактов фабрикации данных.
Университету Коннектикута пришлось вернуть два гранта в размере 890 000 $ и разослать во
все журналы предупреждения. Примеры можно продолжить.
10
Введение
Ниже я попытаюсь разобраться в описанной ситуации. Но
прежде — одно необходимое уточнение. Исследования по биомедицине
проводятся в рамках отнюдь не «академической науки» (под
которой, очевидно, имеется в виду наука, традиционно именуемая
фундаментальной), но, строго говоря, в рамках науки прикладной (или,
если угодно, техно-науки). И хотя в лаборатории Г. Бигли
исследования не привязаны жестко к решению каких-либо частных,
ситуативных задач, но тем не менее развертываются они, прежде всего, как
основание дальнейших прикладных исследований — как их базис.
В этой лаборатории разрабатывается базисная составляющая
прикладной науки, содержащая в себе и концептуальные конструкции,
и опытно-экспериментальные результаты, но в целом жестко
ориентированная на расширение прикладных возможностей получаемого
знания, на перспективу решения прикладных задач. Такие
исследования биологии человека отнюдь не являются фундаментальными в
том смысле, который этот термин приобрел в XIX столетии: они —
не «чистая наука», не «pure science». Они изначально ориентированы
на формирование фундамента для приложений, для applied science.
В связи со сказанным еще одно терминологическое уточнение.
В современной англоязычной литературе имеются два термина,
ясно учитывающих это различие исследовательских ориентации —
fundamental science (в смысловой оппозиции-связке с special sciences) и
basic science (в смысловой оппозиции-связке с applied science). В
русскоязычной науковедческой литературе такого рода различия
терминологически представлены еще весьма слабо. В отечественной
терминологии, как правило, опираются скорее на двусмысленность
термина «фундаментальный», который применительно к науке
совмещает в себе два смысловых пласта — фундаментальная наука как
чистая наука, разрабатывающая связную, целостную систему знаний,
и фундаментальная наука как разработка фундамента для
дальнейших исследований, прямо замкнутых на частные задачи. В
английском языке происходит как бы разведение двух смыслов термина
«фундаментальная наука». При всех очевидно обширных сферах
пересечения этих двух типов научно-познавательной работы, сегодня
они с не меньшей очевидностью расходятся. И если мы примем во
внимание тот факт, что в лаборатории фирмы Amgen, Inc.5
выполняются именно базисные исследования {basic science), то мы вынуждены
будем по иному подходить и к оценке параметров и результатов
соответствующих исследований, в том числе, и их воспроизводимости.
5 Мультинациональная биофармацевтическая компания; штаб-квартира Amgen
расположена в Южной Калифорнии, с представительствами в более чем 50 странах.
Б. И. Пружинин. Специфика культурно-исторической эпистемологии 11
В прикладной науке, включая ее базисную составляющую, иная,
отличная от мертоновской «атмосфера» в научных коллективах и тем
более в отношениях между коллективами, иные требования, иные
коммуникации, иные цели. В такого рода научных институциях,
встречающихся сегодня практически во всех областях науки (от физики до
политологии), формируются собственные критерии результативности
исследований. И они отличны от критериев традиционной науки.
Чистая (фундаментальная) наука и прикладное (базисное)
исследование: различия ценностных ориентации
Какова же та реальность научно-познавательной деятельности,
которая стоит за обозначенными выше различиями фундаментальной
науки и прикладных исследований? Думаю, сегодня на этот вопрос
можно дать уже достаточно определенный ответ. Конфигурацию
науки сегодня меняет расширяющаяся сфера исследований, жестко
мотивированных решением конкретных практических задач, т. е.
предполагающих обязательное приращение лишь такой информации о
мире, которая имеет отношение к решению данной конкретной
практической задачи и которая оценивается прежде всего с этой точки
зрения. В прикладной науке как самостоятельном структурном
образовании приращение знания о мире вообще, приращение знания
безотносительно к решению той или иной частной практической задачи,
конечно, во внимание принимается, но лишь как побочный результат
собственно прикладной работы. Так что попытки включить это
знание в контекст чистой науки, т. е. превратить полученное знание из
потенциально значимого для целостной рациональной картины мира
в реально значимое, будут оцениваться как исключительно личная
инициатива ученого. Во всяком случае, даже базисные исследования,
не говоря уж об узко прикладных, институционально не
ориентируют ученого на такое предприятие. Более того, исследователю
ненавязчиво напомнят, что если полученное им фундаментальное знание
данную прикладную задачу решить не позволяет, то, стало быть, оно
должно оцениваться внутри прикладной науки как негативный
исследовательский результат, свидетельствующий о том, что целей своих он
как ученый-прикладник не достиг. Что, подчеркнем, имеет для
реализующейся внутри прикладных исследований познавательной
деятельности последствия эпистемологического характера. Мы фактически
получаем здесь иной тип информации о мире, с иными, отличными
от собственно фундаментального знания, когнитивными параметра-
12
Введение
ми, даже если эта информация внешне схожа с научным знанием как
таковым. Впрочем, часто и не схожа.
В 1934 году в одном из своих писем П. Л. Капица заметил: «У нас
вечно путают чистую науку с прикладной. Это естественно,
конечно, и понятно, но в то же время [в этом] несомненный источник
многих ошибок. Разница [между] прикладной научной работой и
чисто научной [в] методах оценки. В то время как всякую
прикладную работу можно непосредственно оценить по тем конкретным
результатам, которые понятны даже неэксперту, чисто научная
деятельность оценивается куда труднее и [эта оценка] доступна более
узкому кругу людей, специально интересующихся этими вопросами.
Эта оценка может производиться правильно только при широком
контакте с мировой наукой»6. Петр Леонидович хорошо знал, о чем
писал. Он был создателем и руководителем, пожалуй, самой первой
лаборатории, оборудование которой изготавливалось
промышленным путем. И он констатирует: результаты прикладных
исследований предстают в формах, которые позволяют этим результатам
существовать и оцениваться вне целостной самовозрастающей сферы
научного знания, вне «мировой науки». Тем самым он указывает на
основополагающее гносеологическое условие самостоятельного
существования прикладных исследований — возможность
существования этих результатов в формах, заданных локальной прикладной
ситуацией и приспособленных под решение локальных
практических задач.
В прикладном исследовании задачи ставятся извне — клиентом,
заказчиком. И результат в конечном счете оценивается им же.
Причем не с точки зрения истинности. Заказчика интересует
технологическая воплощаемость, а не знание о мире как таковое. Поэтому
структура прикладного исследования отличается от чисто научного.
С помощью имеющегося фундаментального научного знания в ходе
базисных исследований строится общая концептуальная модель
ситуации, требующей практического вмешательства, и обозначаются
контуры такого вмешательства. Однако собственно практическое
решение поставленной задачи, как правило, нуждается в дальнейшем
конкретизирующем исследовании. И, как правило, такое
исследование сводится к поиску («подбору») факторов, необходимых для
достижения практической цели7. В свою очередь, подбор факторов,
6 Капица П. Л. Письма о науке 1930-1980. М., 1989. С. 34-35.
7 Классический пример тому — поиск катализаторов в химико-технологических
исследованиях. Нахождение кинетических уравнений и определение оптимальных
параметров является главной целью научных исследований в области
каталитических процессов. Как известно, катализатор селективен по отношению к определен-
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 13
необходимых для решения практической задачи, чаще всего
предполагает учет факторов, различной, по большей части
взаимоисключающей природы. Так что исследование в своей собственно
прикладной части предстает как обращение к различным, весьма далеким
друг от друга дисциплинам, концепциям, методам и методикам.
В рамках установившихся ныне философско-методологических
представлений эту ситуацию подбора решения зачастую
представляют как междисциплинарное исследование. Однако в данном
случае речь не идет о поиске некоторых синтетических, рациональных
представлений. Прикладные цели исследования этого не требуют.
Совмещение различных подходов выполняется под практический
результат и осуществляется в формах, которые часто вообще не
могут быть трансформированы в стандартное знание, т. е. не могут
быть соответствующим образом оценены. Подгонка исходной
научной модели ситуации под данное решение происходит, как
правило, не путем развития логически связного образа реальности на
базе этой модели, а за счет прямого введения условных допущений
и дополнений «к случаю», заимствованных большей частью из
чистой науки же, но зачастую совершенно иррациональных с точки
зрения исходного научного образа.
Свое оправдание результат такого исследования получает по его
способности к практическому воплощению. Рациональное же
обоснование полученного эффекта на базе и в связи с уже
существующей системой знания оказывается вне мотивационной структуры
прикладной науки, так что полученное знание как бы изымается
из познавательного процесса и продолжает свое существование в
формах, зачастую просто исключающих его дальнейшее участие
в развитии чистой науки — целостной системы
рационального знания. Именно так и теряется важнейший признак научного
знания — возможность его использования для производства
нового знания, т. е. для последовательного расширения области зна-
емого. Результаты прикладного исследования могут представать
в виде рецептурных списков или инструкций, уместных лишь в
данном конкретном (локальном) случае. Отсюда — локальность
инструментального знания и прикладной науки вообще. И
замечу, несколько забегая вперед: адекватное прикладной науке
методологическое сознание естественно обращается к проблематике
ным реакциям и соответствующие уравнения для практических целей получаются
эмпирическим путем. Это не значит, что поиск идет вслепую, это значит, что
подбор соответствующих уравнений выполняется в определенном заданном химией
диапазоне. Но это — именно подбор под конкретные технологические цели.
14
Введение
локальности типов исследования и несоизмеримости знания; по
этим признакам легко узнается постпозитивистская философия
науки.
Таким образом, в науке конституируется особый тип
исследования — прикладное исследование, специфические мотивации и
установки которого проникают на все уровни познавательной
деятельности и фактически раскалывают этос науки. Рядом с этосом чистой
науки формируется этос науки прикладной. Как и прежде, цель
чистой науки — знание о мире как он есть сам по себе, т. е.
объективная картина мира. Конечная же цель прикладной — предписание для
производства, т. е. точный и технологически эффективный рецепт.
Достижение истинного знания является для фундаментального
исследования целью самодовлеющей; для прикладного исследования
истина является ценностью инструментальной, а самодовлеющей
ценностью является как раз технологическая эффективность знания.
В случае фундаментальной науки перспективы исследований
определяются главным образом задачей выявить новое знание как
новое, открыть еще не познанные и не представленные в системе
знания характеристики мира, и лишь внутри этой задачи она
концентрируется на совершенствовании технических средств и
технологических возможностей. Прикладное исследование прямо
ориентировано на расширение вполне определенных технологических
возможностей общества, т. е. ориентировано на получение вполне
определенного знания.
Кроме того, в планировании и экспертной оценке полученных в
прикладной науке результатов резко возрастает роль
финансирующих организаций (явного или неявного заказчика), а полученное
знание чаще всего оказывается собственностью заказчика.
Впрочем, субъектом познания здесь зачастую оказывается именно
организация, институт, со всеми вытекающими отсюда
гносеологическими и мотивационными последствиями.
Список различий этосов, очевидно, можно продолжать и
конкретизировать. Однако более интересным представляется
иной вопрос: в какой мере чистая фундаментальная наука и
прикладное исследование обладают самостоятельностью? Могут ли
они в отдельности претендовать на статус особого типа научно-
познавательной деятельности? Могут ли они осуществляться
самостоятельно, вне соотнесения друг с другом?
Современная наука — явление в социальном плане столь
масштабное, по своим результатам — столь значимое, а с
экономической точки зрения — столь дорогостоящее, что общество уже
просто не может себе позволить безропотно и терпеливо ожидать
Б. И. Пружинин. Специфика культурно-исторической эпистемологии 15
результатов свободного поиска ученых. И речь здесь идет, конечно
же, отнюдь не только о желании или нежелании. На самом деле,
наука уже давно включена в процесс промышленного
производства и только в его рамках может существовать. Но в этом
взаимодействии общественного производства и науки очевиден явный
дисбаланс сил — приоритет принадлежит, безусловно,
промышленному производству. Последнее же, по понятным причинам,
мотивирует, прежде всего, рост исследований, прямо
ориентированных на прикладное использование их результатов. В течение
всего XX столетия удельный вес прикладного исследования
нарастал. Доля же чистой науки относительно сокращалась.
Первоначально (к последней трети этого столетия) казалось, что сегодня
сохранить себя чистая наука может лишь в качестве фундамента
прикладной — как источник, точнее как своего рода работа впрок
для прикладных моделей. Но и в этом качестве ее вытесняет
сегодня базисное исследование, прямо работающее на прикладную
перспективу. Собственно чистая наука оттесняется сегодня на
периферию специальной познавательной деятельности, где
продолжает существовать благодаря поддержке достаточно богатых
спонсоров-государств.
Вместе с тем прикладные исследования не способны
представлять науку как таковую, ибо не способны самостоятельно
обеспечить преемственность в развитии знания. Логика развертывания
таких исследований задается извне. Поскольку прикладные
исследования фактически отказываются от решения проблем,
обеспечивающих целостность и преемственность в развитии знания.
И базисные исследования не берут на себя эти функции.
Предоставленное само себе, прикладное исследование неизбежно
трансформируется в совокупность технологических сведений. В этой
констатации нет ничего оценочного — технологические сведения
весьма полезное и древнее цивилизационное образование, они
заведомо старше науки, они существовали и развивались
тысячелетиями до и вне науки. Просто механизмы их генерирования и
обеспечения преемственности в их развитии, их культурные функции,
формы их трансляции и прочие их характеристики иные, нежели в
науке.
Прикладное знание всегда является потенциально уникальным
и фрагментарным, или, говоря языком самой распространенной
ныне методологической концепции, оно «несоизмеримо» с
другими фрагментами прикладного же знания. Следует заметить, что
именно в этом пункте возможно возникновение разрывов в
процессе научного познания (разрывов, которые так подробно описала
16
Введение
постпозитивистская и постмодернистская рефлексия над наукой).
Но главное, есть вполне определенная социально-экономическая
причина, жестко закрепляющая эти разрывы в динамике
прикладной науки самой по себе. Эта причина — заказчик. В любом случае
заказчик не склонен считаться с требованием открытости научных
коммуникаций в прикладной науке. И не важно, действует ли здесь
чисто экономическая конкуренция или военная. Вот почему
прикладная наука лишается внутреннего вектора саморазвития —
логику ее развития в сторону технологических сведений задают
социокультурная конъюнктура и интересы рынка8.
И возвращаясь к моему исходному сюжету именно с учетом
всех этих факторов, действующих в сфере прикладных
исследований, надо полагать, и следует оценивать результаты 47 упомянутых
выше невоспроизводимых результатов базисных биомедицинских
разработок. Скажем, вполне допустимо предположить, что хотя бы
некоторые из авторов этих 47 публикаций сознательно исключали
возможность воспроизведения полученных ими результатов в
чужих (конкурирующих) лабораториях. А чтобы убедиться в
реальности такого рода допущения, предлагаю отечественному читателю,
заглянуть, к примеру, в отчеты РАН, где результаты исследований
представляются, а технологии их получения (фактически, методы их
воспроизведения) зачастую нет. Такой вариант функционирования
научных коммуникаций показался бы ученым девятнадцатого
столетия чудовищным. Но уже не ученым двадцатого. Сегодня ученые,
работающие далеко не только в «оборонной науке», даже и не
вспоминают о свободе коммуникаций в научном сообществе. Они сейчас
озабочены скорее тем, чтобы не сказать лишнего своим коллегам из
конкурирующих организаций.
И именно вал подобного рода изменений, нарастающих в
науке примерно с середины прошлого столетия, а отнюдь не только
(и даже не столько) имманентная логика развертывания философ-
ско-методологической рефлексии над наукой, возвращают нас к
вопросу о природе знания. Возвращают к вопросу, который встает
8 Кстати, именно в силу тех же причин научное прикладное исследование
может трансформироваться и в псевдонаучное. Происходит это тогда, когда
концентрация на решении некоторой конкретной задачи настолько изолирует
исследование, настолько его локализует, что какой-либо научный (и даже вообще
рациональный) контроль над способами решения этой задачи в их соотношении
с целью становится невозможным. Впрочем, надо заметить, современная
философия науки зачастую отказывается даже от претензии на этот контроль. И это
свидетельствует, по крайней мере, о реальных претензиях прикладной науки на
самодостаточность, на роль науки как таковой.
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 17
сегодня уже не как частный методологический вопрос, но как
вопрос о самом существовании науки как таковой.
О трендах, преобладающих ныне в философии науки
В интенсивно меняющейся сегодня науке меня в данном случае
интересует судьба одной, но «основополагающей»
характеристики знания — его воспроизводимость. Эта характеристика знания
очевидным образом неразрывно связана с самой идеей научного
метода и научной истины. Она не всегда акцентировалась, но,
может быть, именно потому, что смысл ее всегда был более или менее
ясен. Воспроизводимость научного знания означает, во-первых,
что ученый, получивший некоторую информацию о мире, может
в принципе вновь получить ее и тем самым воспроизвести в своем
сознании именно таким образом как информацию о мире. Не
«переживать» ее в себе, путаясь или наслаждаясь уникальным личным
воспоминанием, но именно «повторять» процедуру ее получения со
всей возможной точностью, и в результате «получать» эту
информацию вновь и вновь. При этом повторяющееся «получение» этой
информации не обязательно должно быть, так сказать, фактически
физическим, но обязательно потенциально допускающим такую
возможность. Для чего ученый должен фиксировать эту
информацию в таких формах, которые позволяли бы ему контролировать
процесс ее воспроизведения (что в достаточной степени позволяют
делать лишь упорядоченные вербальные формы закрепления
информации). Это и есть, собственно, формы научного знания.
Во-вторых, формы представления и методы воспроизведения
информации как научного знания должны обеспечивать возможность
трансляции этой информации по каналам коммуникации любому
другому «человеку познающему». Причем информация должна
транслироваться в таком виде, чтобы другой ученый, получив ее, мог
самостоятельно получать ее также и от мира, т. е. мог контролировать процесс ее
получения от мира. Что опять-таки позволяют делать лишь вербальные
формы связного текста. Таким образом, и в первом, и во втором случае,
воспроизводимость знания обеспечивается представлением
информации в виде связного текста, содержащего в себе указание на
достаточно точный метод ее воспроизведения. И поскольку информация может
быть воспроизведена, она оценивается ученым как истинная.
Таким образом, наши соображения по поводу устройства мира
и его отдельных фрагментов (можно сказать, наши мнения о мире)
становятся научным знанием только в том случае, если эти сообра-
18
Введение
жения в принципе могут быть достаточно точно воспроизведены.
Причем способы и условия их воспроизведения должны
контролироваться самим ученым настолько и так, чтобы процедура
воспроизведения могла транслироваться в научных коммуникациях
вместе с этими соображениями. И этот контроль — важнейшее
условие именно научного познания. Совокупность социальных и
культурных факторов, допускающих возможность такого контроля,
а также мыслительных норм и процедурных стандартов,
собственно, и образуют науку как особого рода коллективную деятельность.
Фактически речь идет об использовании «научных методов», т. е.
последовательных действий (мыслительных и параллельных им
«физических»), приводящих к построению знания. Вот почему они
и становятся предметом пристального специального внимания, в
том числе и философско-методологической рефлексии над наукой,
предметом учения о методе, методологии науки. Философская
методология как эпистемология, таким образом, занимается помимо
прочего обоснованием условий и норм, благодаря которым
информация о мире, полученная и воспроизведенная одним из
членов научного сообщества, может быть получена и воспроизведена
всеми членами сообщества. В центре ее внимания — конкретные
стандарты научной коммуникации, обеспечивающие общность
видения мира членами научного сообщества.
Общность мнений членов научного сообщества, позволяющая
в принципе говорить о существовании научного сообщества как
такового, вырабатывается благодаря тому, что в основе
деятельности ученых лежат ценностные, экзистенциально осмысленные
культурные установки, мотивирующие и структурирующие их
собственно когнитивную активность. Я даже рискну утверждать,
что познавательное отношение в науке как культурном
феномене — это особый тип феноменологической редукции, выносящей
за скобки все, что не соответствует этому отношению. Это
утверждение можно рассматривать в качестве исходного тезиса
культурно-исторической эпистемологии, контуры которой я пытаюсь
очертить в этой статье. С точки зрения культурно-исторической
эпистемологии наука конституируется как общение
определенного типа, в основе которого лежит ценностная установка ученых на
преодоление границ существующего знания. Фактически,
научные сообщества складываются благодаря объединяющей ученых
приверженности научному критицизму, но, подчеркну еще раз,
не ограниченному проверкой повторяемости полученных ими
результатов. Конституирующий науку критицизм ориентирован на
расширение горизонтов знания.
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 19
Основные условия воспроизводимости научного знания —
требования к формированию связных текстов, обеспечивающих
воспроизведение наших соображений по поводу устройства мира, — были
осознанны и более или менее точно сформулированы вместе с
возникновением науки. Они, например, очень ясно представлены в
определении, которое дает знанию Платон: «...знание — это истинное
мнение с объяснением, а мнение без объяснения находится за
пределами знания. Что не имеет объяснения, то непознаваемо, <...> а то,
что его имеет, познаваемо»9. И далее: «[объяснять — значит] выражать
свою мысль звуками с помощью глаголов и имен, причем мнение как
в зеркале или в воде отражается в потоке, изливающемся из уст»10.
Платон, однако, представляя это определение, отдавал себе
отчет в том, что оно само по себе в принципе не исчерпывает суть
феномена научного знания. Оно фиксирует, так сказать, необходимые
процедурные параметры научно-познавательной практики, но
отнюдь не условия ее социокультурной необходимости, ее социальной
и культурной нужности. Греки прекрасно осознавали параметры
знания, необходимые для того, чтобы отличать научно-познавательные
практики (т. е. те процедуры, которые необходимо совершать для
получения знания в науке) от иных форм духовного освоения
действительности и от индивидуальных когнитивных актов. Но для
определения социального статуса и экзистенциального смысла самой
научно-познавательной деятельности, необходим, по крайней мере,
еще один рефлексивный шаг. И Платон, повторю, прекрасно
понимал направленность этого шага: приведенное определение не
является достаточным для понимания природы знания, прежде всего
потому, что не содержит в себе указание на условия истинности «мнения».
В нем не уточняется, что такое истинность и не указывается,
благодаря чему мнение приобретает статус истинного. В силу этого в нем
не выражается общественный смысл коллективной познавательной
деятельности, ее экзистенциальная и культурная значимость.
Приведенное определение является, так сказать, повседневной
констатацией того, что делают люди, посвятившие себя научному
познанию, но оно не выражает смысл этого «посвящения».
Поэтому Платон, в том же диалоге делает приведенное выше определение
предметом достаточно жесткого критического анализа Собственно,
весь «Теэтет» построен на этой критике. И из нее можно уяснить,
что Платона устраивают отнюдь не любые типы «объяснения», по-
9 Платон. Теэтет 201с—206d / Пер. Т. В. Васильевой // Платон. Сочинения: В 4 т.
Т. 3. М., 1993. С. 263.
10 Там же. С. 269.
20
Введение
скольку, так сказать, «логический вектор» объяснения всегда
указывает на вполне определенные основания истинности мнения, а
стало быть и на экзистенциально-культурный смысл знания.
Более того, Платон хорошо понимал, что, предлагая свой выбор этих
оснований, он, фактически, расширяет контекст рефлексии над
знанием, выводя рефлексию за рамки анализа исключительно
внутренних когнитивных параметров познавательной деятельности11.
Дело в том, что уточнение условий истинностной оценки
мнения предполагает концептуально-мировоззренческую
(эпистемологическую) трактовку его оснований, выявление, если угодно,
культурно-антропологических истоков знания. Здесь осмысление
феномена знания выводит нас за рамки описания повседневных
познавательных практик ученых, ориентированных
непосредственно на воспроизводимость результатов их работы, к ее культурно-
историческим контекстам, к ее экзистенциальной цели и ее
культурному смыслу. Сам Платон, предпринимая этот рефлективный
шаг, склонялся скорее к созерцательно-эссенциалистской
трактовке оснований знания и представлял «воспоминание» о созерцании
мира идей как структурирующий (методологический) принцип
«объяснения» истинного мнения о мире.
Но что особенно важно для целей этой работы, и я хочу это
подчеркнуть: собственно эпистемологическая трактовка оснований
истинности знания сопряжена у Платона с
ценностно-мировоззренческим смыслом познания-воспоминания. Так
ориентированное познание обращено к самому фундаменту человеческого
в человеке, к душе, к тому, что наполняет смыслом человеческое
существование и, соответственно, придает смысл, в том числе
и мнению о непосредственно данном человеку мире. Знание по
Платону — благо, ибо познание истины возвращает человека к его
11 Вот почему, на мой взгляд, нет смысла просто упражняться в логическом
анализе данного выше определения знания с целью продемонстрировать его
логическую несамодостаточность. Подобный анализ может иметь исключительно
инструментальный смысл и оправдан только в контексте исследования конкретного
фрагмента научно-познавательной деятельности, взятого в конкретных историко-
культурных обстоятельствах. И оправдан он может быть лишь постольку,
поскольку способствует реконструкции тех эпистемологических оснований истинности и
ценности знания, которые в этих конкретных обстоятельствах обретают для
научного исследования особую методологическую значимость. См. по этому
поводу, оживившиеся ныне дискуссии в связи с известной заметкой Эдмунда Геттиера
«Является ли знанием истинное и обоснованное мнение?» (См.: Analysis. 1963.
Vol. 23. P. 121 — 123). Последним из наиболее интересных комментариев к этим
дискуссиям, мне представляется публикация Г. К. Фролова (Фролов Г. К. О
нюансах перевода и цитирования в контексте проблемы Геттиера // Вопросы
философии. 2013. № 11. С. 168-173).
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 21
подлинной сущности. В этом смысл научно-познавательного
усилия человека. Именно в этом контексте по Платону имеет смысл
рассуждать о путях познания и оценивать истинность мнения в его
сопоставлении с непосредственно данным. Иными словами,
ценностное измерение познания имеет у Платона и методологический
смысл. При этом в приведенном выше определении представлено
эмпиристское понимание оснований истинности, по сути
предполагающее иное антропо-мировоззренческое основание познания
и, соответственно, иную трактовку методов его воспроизведения и
даже иные оценки познавательных практик.
Рискну утверждать, что вся дальнейшая история философско-
методологической рефлексии над знанием может быть
представлена как явное или неявное противостояние этих двух эпистемолого-
методологических установок. Но замечу — противостояние это
развертывалось прежде всего в логико-методологическом плане,
к чему его склоняло именно эмпиристское понимание знания.
Общая картина, конечно, никогда не была простой; господство
той или иной трактовки оснований истинности знания никогда
не было безраздельным. Случались компромиссы,
предпринимались попытки совмещения. Важно в данном случае другое: в
контексте противостояния, каждая из установок задавала достаточно
жесткое понимание методов «объяснения»12, а стало быть, и
требований к воспроизведению знания. Что, в свою очередь,
задавало определенным образом ориентированные методологические
программы, в центре внимания которых оказывались то
дедуктивные, то индуктивные процедуры «объяснения». Их разработка,
полагаемая в основание методов науки, собственно и заполняла все
поле методологической рефлексии над наукой. Тема же
ценностной составляющей истинности знания, как правило, оттеснялась
на периферию методологического сознания науки (и лишь иногда
проступала, например, в гносеологии И. Канта). Ибо, как казалось,
она ничего не добавляла к операционально-эффективным логико-
методологическим разработкам процедур воспроизведения знания,
но, напротив, сама представала как производная выбора эмпирист-
ской или рационалистской эпистемологической установки.
Наука менялась не раз и менялась весьма радикально. Наука
Античности, Средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени,
12 См.: Никитин Е. П. Объяснение — функция науки. М., 1970; См. также:
Никитин Е. П. Объяснение философское и объяснение научное // Никитин Е. П.
Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся вселенная? / Под ред.
Н. С. Мудрагей, Б. И. Пружинина. М., 2004. С. 50-86.
22
Введение
XIX—XX столетий... Менялись представления о целях научного
познания и о его социокультурных функциях. Соответственно,
менялись и представления об основаниях истинности научного знания,
о методах достижения истины и наиболее приемлемых формах
научных коммуникаций. Но ведущей темой методологии
всегда оставалась разработка норм связного, т. е. логически
корректного «объяснения», в которых воплощалось либо интуитивно-
эссенциалистское, либо эмпиристское понимание оснований
истинности мнения. И возможно по причине этой жесткой «дихо-
томичности», монистические, так сказать, претензии
конкурирующих эпистемологических программ, оборачивались в методологии
нормативизмом — поиском строгих исчерпывающих норм
воспроизведения знания, ориентированных либо на дедукцию, либо на
индукцию, но в любом случае способных благодаря своей
очевидной самодостаточности обеспечить получение истинного знания.
Методология в любом своем варианте всегда была озабочена
поиском «Метода», с точки зрения которого оценивались бы все
научные практики. Наличие у научного знания культурного смысла,
культурной ценности в общем не отвергалось, но прямого
отношения к этим конкретным методологическим поискам оно не имело.
Очевидным положительным результатом нормативистской
установки учений о методе, установки, заданной любой из двух
эпистемологических программ было достаточно успешное формулирование
ясных логических стандартов научности (воспроизводимости)
знания в рамках соответствующей программы. Негативным же
последствием нормативизма было то, что каждая из этих программ
своими универсалистскими претензиями подминала под себя реальную
практику ученых. Методологи в этом случае выступали в качестве
надзирающей инстанции, оценивающей деятельность ученого с
высот той или иной трактовки истины и требовавшей от ученого
строгого следования предписанному канону. Правда, до поры, реальное
разделение научных дисциплин (так сказать, по ориентации либо
на аксиомы, либо на опыт) как бы компенсировало абстрактность
требований методологии. Но лишь до поры. Во всяком случае,
радикальные изменения в научно-познавательных практиках, ставших
ныне в основном прикладными и по самой своей сути
трансдисциплинарными, жестко поставили вопрос об эффективности
методологического нормативизма вообще. И методология, наконец,
отреагировала на эту ситуацию. В радикальном отказе от нормативизма,
собственно, и состоял резкий поворот в
философско-методологической рефлексии над наукой, случившийся к середине прошлого
столетия.
Б. И. Пружинин. Специфика культурно-исторической эпистемологии 23
Мне представляется очевидным, что причиной крутой
трансформации методологии стали, прежде всего, отмеченные выше
изменения в науке. А вот в том, что касается собственно этой
трансформации, на мой взгляд, нынешняя методология отнюдь
не обосновала в достаточной мере понимание изменений,
произошедших в современной науке. Скорее, это была
негативно-зеркальная реакция на предшествующий этап философско-методо-
логической рефлексии над наукой. В плане обсуждения причин,
стимулировавших методологический поворот, важно отметить,
прежде всего, что никакого внутреннего, так сказать, краха
программы позитивистской философии науки фактически не было.
Логический позитивизм как методологическая исследовательская
программа мог и далее уточнять логические нормы
эмпирического обоснования знания. Произошло другое. Предлагаемые им все
более точные стандарты научности мало интересовали
работающих ученых, поскольку были далеки от их реальных практик. Нет,
ученые, конечно, не оспаривали необходимость строить логически
корректные концепции и проверять их на опыте. Но ни первое, ни
второе не воспринимались ими как самодостаточные критерии
научности в процессе реальной научно-исследовательской работы.
Новая, теперь постпозитивистская философия науки радикально
изменила основания и ориентацию своих программ. Она
демонстративно отказалась от идеи универсальной самодовлеющей
нормы познания, но, подчеркну, отнюдь не вернулась к теме
оснований истинности знания как теме рефлексии над наукой. Взамен
логических процедур, соотносящих знание с эмпирическими
данными, новая философия науки напрямую обратилась к истории
науки, к повествованию о том, как ученые науку делали и делают.
В книге Т. Куна «Структура научных революций», ставшей,
фактически, символом постпозитивистской философии науки, понятие
истины употребляется всего несколько раз и то лишь в служебных
контекстах. Эта книга вся построена на реконструкциях
уникальных познавательных ситуаций, случавшихся в истории науки.
Сегодня в рассуждениях о науке превалирует
постпозитивистское, по сути, умонастроение, согласно которому
надстраивающаяся над наукой нормирующая философско-методологическая
рефлексия не нужна в принципе; ученые сами выбирают (или
вырабатывают заново) методы воспроизведения знания,
сообразуясь лишь с контурами конкретной исследовательской
ситуации. Цепочка этих ситуаций собственно и образует историю
науки, описанием которой теперь должна заниматься философско-
методологическая рефлексия над наукой (или то, во что в этом слу-
24
Введение
чае рефлексия трансформируется). Эти описания поучительны, но
никакого самостоятельного нормативного смысла для
познавательной практики не имеют. И надо признать, такая позиция
действительно выглядит как разрыв со всей предшествующей
методологической традицией, как крутой поворот в философии науки.
Тем более, что этот поворот сопровождается отказом от прескрип-
тивной функции рефлексии над наукой в пользу дескриптивной
(от обязательной методологической нормы как условия
воспроизведения знания).
Но при этом в качестве компенсации за отказ от
универсального позитивистского нормативизма, полагающего, что мнение
становится знанием благодаря соответствию некой абсолютной
норме, постпозитивизм предложил идею локального, обусловленного
конкретными обстоятельствами использования нормы.
Методологическая норма, с этой точки зрения, как и прежде выполняет
свои функции критерия научности, но в конкретных ситуациях,
где она принимается в качестве таковой научным сообществом и
поддерживается с помощью социальных структур этого
сообщества. Ориентиры же такого принятия определяются, согласно
постпозитивистским представлениям, внешней социокультурной
средой, в которой успешно функционирует наука. Впитывая в себя
общий идейный фон окружающей среды, ученые
трансформируют его в своего рода внутринаучную идеологию, которая находит
решение определенного типа задач по образцам и закрепляет это
решение с помощью определенных норм. Таким образом, способы
использования норм принимаются учеными благодаря влиянию
социокультурной среды, в которую погружена наука, и
закрепляются с помощью внутринаучных властных институтов (социальных
структур). Соответственно, исследование этих структур
становится центральной темой, отказавшейся от эпистемологии
постпозитивистской философии науки. И как это не покажется
парадоксальным, мы вновь получаем вариант позитивизма, только теперь
не логического, а социологического13. И, стало быть, мы вновь,
несмотря на все рассуждения о крутом повороте, случившемся в
философско-методологической рефлексии, оказываемся в рамках
той же нормативистской традиции. Правда наука тогда
распадается на локальные исследовательские ситуации, в каждой из которых
воспроизводимость знания обеспечивается своей констелляцией
13 См.: Пружинин Б. И. Социологизм в эпистемологии (критические заметки) //
Релятивизм, плюрализм, критицизм: эпистемологический анализ / Отв. ред. В. А.
Лекторский. М., 2012. С. 61-79.
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 25
норм «объяснения», принятой в локальных сообществах ученых.
Это и есть плата за сохраненный норматив в постпозитивистской
рефлексии над наукой.
Научное знание у постпозитивистов должно быть столь же
«практически полезным» по отношению к социокультурной
среде, как и при позитивистах. Это, собственно, и есть канал, через
который социокультурные обстоятельства определяют выбор
дисциплинарной матрицы, задающей научному сообществу нормы
научности (воспроизводимости) знания. Только основания
«полезности» знания, благодаря которому оно вписывается в
социокультурную среду, оказываются иными. Если прежде требовалось
соответствие наших суждений о мире неизменным нормам
эмпирического обоснования (что само по себе гарантировало
эмпирическую воспроизводимость и, стало быть, практическую
эффективность), то теперь речь прямо идет об эффективности этих
суждений в решении локальных жизненно-практических задач (и
лишь в этом контексте оценивается воспроизводимость знания).
При этом никакой нужды в эпистемологических размышлениях
о познании и истине, согласно современной постпозитивистской
философии науки, здесь опять-таки нет. Как нет нужды обсуждать
вопрос о ценностном измерении знания, предназначенного для
удовлетворения реальных нужд социокультурного контекста
научной деятельности. Социокультурный смысл этого измерения
научного познания понятен и очевиден — полезность.
Таков сегодня философско-методологический тренд. И он,
конечно же, не случаен, если принять во внимание те радикальные
перемены, которые произошли в науке, начиная со второй
половины прошлого столетия, и которые, конечно же, затронули ее
эпистемологические основания. Современные научные практики,
очевидно, не вмещаются в узкие рамки нормативной методологии,
навязывающей науке стандарты знания. Однако, на мой взгляд,
сама по себе локализация сферы действия методологической
нормы и, соответственно, ее социокультурная релятивизация в рамках
постпозитивистской философско-методологической рефлексии
над наукой отнюдь не исчерпывают суть произошедших в науке
изменений и ее реальных методологических запросов. Дело в том, что
в ведущих ныне трендах философской рефлексии над наукой мы,
фактически, имеем дело с переносом на прикладную науку все той
же позитивистской антифилософской установки, игнорирующей
ценностное измерение знания, его достоинство. А между тем, само
прикладное исследование внутри себя предполагает целый ряд
параметров, не укладывающихся в позитивистскую схему и по самой
26
Введение
своей сути нуждающихся именно в философско-методологическом
осмыслении. В частности, прикладное исследование задает весьма
специфические требования к воспроизводимости своих
результатов и их трансляции в научном сообществе, совершенно не
учитываемых вне философской, принимающей во внимание ценностное
измерение познания рефлексии. В самой науке возникают
проблемы, предполагающие возвращение к эпистемологической
рефлексии над наукой.
Практическая ориентация науки
и методологический смысл самоценности научного знания
Рассуждая о соотношении ценностного и прагматического
измерений науки, можно безошибочно заявлять, что одно не исключает
другое, во всяком случае, полностью. Но если конкретно оценивать
нынешнее положение дел, то придется все же признать: в
повседневной деятельности современного исследователя-прикладника
трактовка знания как самоценного духовного феномена, как блага
(в высоком платоновском смысле), непосредственного
операционального методологического смысла не несет. Такой исследователь
охотно признает, что его научный поиск созвучен ведущим
идейным мотивам современности и, наверное, имеет общекультурное
значение. Более того, прикладник, бесспорно, признает общее
влияние социокультурной среды на выбор исследовательских
стратегий и оснований оценки его результатов. Но, в конечном итоге,
он констатирует: решающее значение в определении параметров
и норм оценки его результатов имеет эффективность этих
результатов применительно к определенной, заказчиком поставленной
задаче. И господствующие ныне в философии науки
постпозитивистские установки лишь транслируют и внятно выражают взгляды
прикладника. Так что самоценность знания оказывается не очень
важной компонентой научного самосознания, во всяком случае, в
плане методологическом.
Но так ли уж методологически безопасен для науки такой отказ
от ценностного измерения познания и замена его практически-
прагматическим? Ведь если дело в науке обстоит именно так, как
оно представляется постпозитивистскому сознанию прикладника-
ученого, то надо полагать, никакой перспективы у науки в ее идее,
т. е. у науки как культурного феномена, нет. Вне поля зрения тако-
Б. И. Пружинин. Специфика культурно-исторической эпистемологии 27
го сознания оказываются внутренние стимулы развития знания,
которое расширяется лишь под воздействием внешнего запроса —
прямого или опосредованного. На фоне нарастающего массива
прикладных исследований наука превращается из столпа
европейской культуры в предприятие по производству знания, наподобие,
скажем, производства стройматериалов. Стройматериалы — вещь
нужная и даже необходимая, в том числе и для культурного
строительства, но сами по себе они не являются
саморазвивающимся элементом культуры. Так и наука превращается в технологию.
Однако исчезновение методологических измерений знания,
связанных с его самоценностью — не просто проблема самосознания
ученого-прикладника. Это — проблема, ни много, ни мало, самого
существования науки как культурного феномена.
Мы, видимо, настолько привыкли к присутствию науки в
жизни общества, что забываем о ее культурно-исторической природе.
Между тем, она отнюдь не является антропологически
обязательным элементом любого общежития. Наука — исторический
феномен, однажды возникший в рамках определенной культуры и
потому вполне способный исчезнуть в ходе неблагоприятных для
этой культуры трансформаций. Известны культуры, где не
возникала потребность в особого рода коллективной деятельности,
направленной на конструирование знания о мире. И эти культуры
прекрасно обходились без такого рода деятельности, кумулируя
необходимые для жизни и производства сведения о мире совершенно
иными способами и закрепляя их в иных формах. Наука же в
европейском ее понимании, при всех вариациях в различные эпохи
европейской истории, всегда содержала в своем самосознании
специфические для европейской культуры основания. И эти основания
всегда были связаны с понятием истины как блага, как высшей
культурной ценности, которая сама по себе экзистенциально
мотивировала научное познание.
Происходившие в науке изменения всегда выражались в ее
культурном статусе, а трансформации ее культурного статуса меняли ее
эпистемологические конфигурации, но не разрушали ее. Однако
изменения, которые происходят в ней и в ее самосознании
сегодня, ставят под сомнение ее культурную самодостаточность. Нет, в
расхожем дискурсе культурная значимость науки, конечно же, не
отрицается, но ее довольно дорогостоящее существование
оправдывается сегодня, прежде всего, ее полезностью, что представляет
ее как принципиально вторичную, «обслуживающую практические
нужды» компоненту социокультурной реальности. Вопрос, однако,
в том, способна ли она выполнять свою эпистемологическую роль
28
Введение
в этом качестве? И соответственно, второй вопрос — адекватно ли
представляет реальное положение дел в науке рефлексия,
удовлетворяющаяся именно таким видением ее роли?
Если нынешний философско-методологический тренд в своих
констатациях полно и точно описывает ситуацию в науке, то это
описание, фактически, является приговором. На том месте, которое
занимала наука в социокультурном пространстве, остается тогда лишь
интеллектуальная деятельность, обслуживающая в системе
разделения труда производственные технологии, — «фабрика знания».
Собственно господствующая ныне философия науки и описывает как бы
со стороны процессы растворения науки в этой инструментальной
работе. Сегодня мы, фактически, уже наблюдаем результат этого
процесса «прикладнизации» науки: внутренняя логика самостоятельного
развития науки рвется, коммуникации деформируются, а иногда и
просто разрушаются. Знание, выступающее как товар,
предполагает иные формы его функционирования в научном сообществе,
плохо совместимые с идеей самоценности знания, его всеобщности, его
доступности критике, которая ведь как раз и является обязательным
условием саморазвития сферы знания. И на фоне этих изменений
вопрос: «может ли наука, внутри которой нарастают все эти процессы,
сохранить себя как культурный феномен?», оказывается
риторическим. Ответ очевиден: нет, не может. Полагаю, однако, что и вопрос
и ответ таковы именно потому, что не менее интенсивно идущие в
современной науке процессы, содержащие в себе иной вектор этого
общего движения, не попадают в поле зрение современной (читай,
постпозитивистской) философии науки.
Трактовка знания как блага, как самодовлеющей культурной
ценности, так или иначе, присутствовала в науке всегда. Ценность
знания отнюдь не исчерпывалась конкретной полезностью, но
выступала как «полезность», по сути, общезначимая,
общечеловеческая — и в историческом времени, и в общекультурном
пространстве. И не важно, имелось ли в виду мистическое приобщение к
надчеловеческому миру, к «божественному замыслу» или
преображение жизни человечества благодаря усилиям ученых. Эти
различия, значимые в иных отношения, в данном случае вторичны.
Добытое в науке знание по своей сути несет в себе благо. Осознанием
этой связи знания и блага поддерживала себя наука как культурный
феномен в течение двух с половиной тысяч лет европейской
истории.
Сознание этого измерения науки отнюдь не было
методологически нейтральным. Оно ориентировало ученых на расширение
знаемого как такового, на исследования, результаты которых не
Б. И. Пружинин. Специфика культурно-исторической эпистемологии 29
приносили прямой выгоды ни обществу, ни самому ученому.
Зачастую эти результаты могли быть достигнуты лишь следующими
поколениями ученых. И даже если усилия, необходимые для
достижения результата, и продолжительность исследования превышали
продолжительность жизни ученого, он посвящал научному поиску,
научной работе всю свою жизнь14, Между тем, в господствующей
ныне постпозитивистской рефлексии над наукой
методологические смыслы ценностного измерения знания вообще ускользают
из поля зрения. Сегодня уже не нужно тратить на познание всю
жизнь, продолжительность исследовательских программ
измеряется сроками отчетов по грантам или экономически просчитанными
ожиданиями бизнеса.
Впрочем, постпозитивизм проявляет тем самым
последовательность в реализации своей позиции — локальная уникальность
методов исключает какие-либо методологические оценки условий
воспроизводимости знания, исключает даже обращение к
познавательному опыту, приобретенному в иных ситуациях. Вместо этого в
центре философии науки оказываются социальные механизмы
закрепления за этими констелляциями статуса образцов — парадигм.
Что же касается философской рефлексии над наукой, то она, с
этой точки зрения, возможна только как резонерство по поводу
неповторимых случаев в историческом прошлом, и нужна, в общем,
лишь для констатации их уникальности. И надо признать, этой
констатацией увлеченно занялись весьма многие историки науки
и бывшие ее философы. Методологическое сознание оказывается
тогда наивно дескриптивным. А между тем сегодня можно просто
констатировать весьма существенные трансформации,
происходящие в самом основании научно-познавательной деятельности. В
частности, трудно не заметить, если не смотреть на науку сквозь
призму постпозитивистских схем, что в ходе прикладного
исследования воспроизводимость знания выполняет совершенно иные
эпистемологические функции, нежели в фундаментальном.
14 Вот совершенно произвольно выбранная иллюстрация к этому тезису. Гипотеза
Римана (сформулирована в 1859 году). Простые числа не могут быть выражены
как произведение двух меньших целых чисел, например, 2, 3, 5, 7 и т. д.
Распределение простых чисел среди всех натуральных чисел не подчиняется никакой
закономерности, однако Риман обнаружил, что число простых чисел, не
превосходящих х, выражается через распределение нетривиальных нулей дзета-функции
Римана. Риман высказал гипотезу, не доказанную и не опровергнутую до сих пор,
что все нетривиальные нули дзета-функции лежат на прямой линии. На
сегодняшний день проверены первые 1 500 000 000 решений.
30
Введение
Бросающимся в глаза проявлением этого своеобразного
методологического использования требования воспроизводимости
знания стало, так сказать, падение нравов в современной науке —
широкое распространение не совсем корректных и просто
фальсифицированных публикаций о якобы полученных результатах.
Но важнее другое. Фактически разрушается традиционная научная
коммуникация, которая, собственно, и обеспечивала критическую
оценку знания на воспроизводимость. Дело в том, что современная
ориентированная на приложения наука как социальная
подсистема включена в социально-экономические отношения. А
складывающееся ныне общество знания становится обществом
«когнитивного капитализма» и, добавим, когнитивной конкуренции, где
воспроизводимость результатов научного поиска является
собственностью.
Прикладной результат исследования, как правило, включен в
систему конкурентных отношений. Его воспроизводимость,
фиксирующая методы его получения, — особенно важный элемент этой
конкуренции, и потому именно она зачастую просто становится
фигурой умолчания. Но в современной науке формируются иные
механизмы коммуникации и, соответственно, иные механизмы консти-
туирования воспроизводимого знания. Это реальность современной
науки и по сути своей ее нынешнее состояние представляет собой
«точку бифуркации». Из этой точки открываются две исторические
перспективы. Одна — к технологиям, оставляющим в качестве
исчерпывающего параметра знания лишь его воспроизводимость в
локальных ситуациях и, тем самым, отсекающая перспективу
фундаментальной науки и превращающая знание в технологические
сведения. Другая возможная перспектива предполагает новые
отношения прикладного и фундаментального измерений науки,
подразумевает возвращение локальных прикладных результатов в целостную
систему рационального знания о мире и преодоление их
локальности. И понятно, что реализация этой последней перспективы
предполагает иные формы коммуницирования в научном сообществе и
вообще иное философско-методологическое сознание особенностей
коллективной деятельности по конструированию знания о мире. В
том числе, особенностей воспроизводимости знания.
Философско-методологической рефлексии над наукой
необходимо принять во внимание, что, вообще говоря, прикладное
исследование непосредственно ориентировано отнюдь не на внутрина-
учную коммуникацию, не на обоснование-объяснение, имеющее
своей целью доказать нечто коллеге-ученому и, тем самым, достичь
общезначимости своих результатов, достичь истины. Такое иссле-
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 31
дование ориентировано на конкретное, локальное приложение,
на изначально заданную результативность. И критерий его
результативности — не истина, а эффективность, которая, как известно,
всегда имеет степени в рамках заданной задачи. Так что в этом
локальном контексте, даже однажды полученный, пусть и
приблизительный по отношению к искомому результат заслуживает
внимания и даже публикации (для целей дальнейшего финансирования
исследований, но без метода его получения). Но при этом, что
особенно важно отметить, исследовательская ситуация как бы
переворачивается — результат, к которому стремиться исследователь ему
задан, а целью собственно исследования становится поиск
условий, при которых данный результат может быть воспроизведен.
Такая ориентация прикладного исследования очевидным образом
превращает всю совокупность методологических норм, связанных с
воспроизводимостью знания, в достаточно гибкий инструмент
исследования, именно в инструмент, а не критерий. Эту инверсию как
раз и не замечает постпозитивизм. Абстрактная норма-критерий вне
конкретной ситуации оказывается столь же вторичной, как и
требования обязательного приложения норм в локальном «научном
сообществе». И даже в учебных целях представление методологии как
рекурсивных списков отвлеченных предписаний становится чем-то
сугубо технологическим и исключает свободу научного поиска,
превращая конкретные методики в стандартные технологии, которые
можно продать или навязать извне. Все это порождает массу никому
не нужных, но, безусловно, процветающих сегодня менеджеров от
науки. Между тем смысл методологических норм как инструментов
познания раскрывается лишь в конкретной исследовательской
работе, где они используются как инструменты исследования,
работающие на поиск условий воспроизводимости заданного результата. Но,
напомню, само исследование, о котором здесь идет речь и в котором
методологическая норма превращается в средство исследования,
является строго прикладным, ориентированным на обслуживание
технологии, на практическое приложение.
Чтобы пояснить сказанное, вернемся к статье Бигли и Эллис.
Пытаясь объяснить причины описанной выше тревожной
ситуации в исследованиях по биомедицине, они ссылаются на
сложность и капризность материала, с которым работают здесь
исследователи. И надо признать, авторы статьи указывают здесь
на обстоятельство, приобретающее практически во всей науке,
а отнюдь не только в биомедицине, все большее значение.
Применительно к своей теме они отмечают, что процессы, идущие в
раковых клетках на молекулярном уровне, весьма чувствительны
32
Введение
к самым различным влияниям и точное воспроизведение условий
эксперимента почти невозможно, а стало быть, невозможно
стабильное воспроизведение результатов исследований. Более того,
в той мере, в какой эксперименты проводятся на животных,
экстраполяция полученных результатов на процессы в раковых
опухолях человека весьма уязвима. И т. д., и т. д. В совокупности все эти
обстоятельства приводят к тому, что не позволяют исследователям
полностью контролировать условия воспроизводимости
результатов их работы, а стало быть, делают этот результат весьма
сомнительным с точки зрения строгих стандартов научности.
Что можно предпринять, чтобы сохранить воспроизводимость
результатов исследования в ситуации нарастающей сложности и
неоднозначности? Ну, естественно, Бигли и Эллис призывают
исследователей поднять планку корректности исследовательской работы
и уровень подготовки публикаций. При этом, отмечая основные
направления совершенствования техники исследовательской
работы, они фактически повторяют (применительно к ситуации в своей
области) вполне традиционные методологические требования
фундаментальной науки. Однако все это напоминает глас вопиющего
в пустыне. Их рекомендации имеют вид скорее общих призывов,
нежели конкретных методологических ориентиров. Наука
изменилась. Мотивационный контекст и цель работы ученого теперь иные,
нежели в чистой науке. Да и авторы статьи, кстати, призывают не
истине служить. Они призывают приложить усилия, чтобы в
конечном счете выиграл пациент, ждущий медицинской помощи, именно
с этой, вполне прагматической целью, призывают они — «mast try
harder» («надо постараться еще больше»). Но, как это ни
парадоксально, именно в связи с этим, весьма общим «гуманистическим», а
реально — прагматически-прикладным пожеланием в
методологических рекомендациях авторов появляется действительно
любопытный и новый для традиционной методологии момент,
открывающий путь к фундаментальному научному познанию.
Контуры новой методологии
Итак, прикладное исследование отнюдь не ориентировано на
внутринаучное общение. Но ведь именно в контексте внутрина-
учной коммуникации воспроизводимость становится главным
условием научности знания, и более того, условием
существования науки как коллективной деятельности, как социальной и
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 33
культурной подсистемы общества. Поэтому, если мы хотим
оценить перспективы дальнейшего существования науки, то вполне
уместным представляется вопрос: имеются ли в современной науке
социально-организационные структуры, позволяющие
трансформировать результаты прикладного исследования в полноценное
воспроизводимое знание, которое может быть передано по
каналам научных коммуникаций и транслировано любым членом
научного сообщества?
Я полагаю, в науке как социальной подсистеме такие структуры
сегодня складываются, и роль их все более возрастает.
Становление этих структур связано, на мой взгляд, с необходимостью
экспертизы результатов прикладных исследований. Сегодня требуется
не столько проверяемость воспроизведения результатов, сколько
экспертная оценка потенциала и рисков их практического
использования. Дело в том, что такого рода экспертное сообщество
по необходимости основывает свои суждения на всей
совокупности имеющихся на данный момент рациональных и обоснованных
знаний. И при этом оно по необходимости же, правда куда менее
очевидной, опирается на знание «живое», на знание, направленное
на поиск новых знаний, поскольку только включившись в контекст
такого работающего знания, результат прикладного исследования
может быть действительно оценен с точки зрения содержащихся в
нем потенциальных возможностей. Ведь задача экспертизы
состоит именно в том, чтобы максимально полно оценить потенциал
результата прикладного исследования именно как нового знания.
Вот почему эксперт, который соответствует сегодняшнему
социокультурному запросу, это не критик широкого журналистского
профиля, и не современный менеджер от науки, сам не
написавший ни одной статьи, не поставивший ни одного эксперимента, не
расшифровавший ни строчки архивного «не-текста» и т. д.
Востребованный сегодня обществом эксперт — это ученый-профессионал,
активно работающий в одной из специальных дисциплин, и потому
способный оценить эффективность нового знания внутри своей
исследовательской работы. Это — ученый-теоретик, это — ученый-
экспериментатор, это — социолог или этнограф, способный
выполнять полевые исследования, это — историк-архивист,
способный расшифровывать рукописные архивы... Работающие ученые
составляют корпус экспертов, который сегодня фактически берет
на себя роль фундаментальной науки и при этом реально
руководствуется самым широким пониманием ценности знания. Ибо такое
сообщество по самой своей сути ориентировано на ценность
знания для общества в самом широком смысле. И именно это сообще-
34
Введение
ство нуждается в новом философско-методологическом сознании,
расширяющем горизонты локальных прикладных исследований.
Каковы основные черты философско-методологической
рефлексии, соответствующей целям такого рода экспертного
сообщества? Прежде всего, для такого рода рефлексии характерно
знаково-символическое понимание результатов прикладного
познания — усмотрение в них смыслов, выходящих за рамки целей, жестко
заданные под данное конкретное приложение. Результаты локального
прикладного исследования соотносятся с социокультурной
реальностью благодаря вполне определенному социально-экономическому
запросу заказчика. Чем в основном и ограничивается их
социокультурный символизм. В случае же экспертизы речь идет о таком
соотнесении этого результата с социокультурной реальностью, которое
выводит за рамки узкого интереса данного, всегда жестко ограниченного
социокультурного заказа. Методология в этом случае ориентирует на
выявление в полученном прикладном результате предельно
широкого диапазона смыслов: от гуманитарно-социальных до личностно-
экзистенциальных, несущих в себе экологические, экономические,
биологические и прочие возможности и риски. И,
соответственно, культурно-историческая методология ориентирует эксперта-
исследователя на различение в данном фрагменте прикладного знания
новых предметных смыслов, открывающих новые исследовательские
перспективы, куда данный фрагмент прикладного знания может быть
включен. В конечном итоге, такое расширение мотивирует
включение данного фрагмента в целостную систему развивающегося знания
о мире, возвращая ему статус универсальной общечеловеческой
ценности, возвращая знанию достоинство15.
Другая особенность этого типа философско-методологической
рефлексии связана с экзистенциально-личностным уровнем
функционирования экспертного сообщества. Социум, естественно,
требует от экспертов полной и объективной экспертизы, т. е. если
угодно, исчерпывающей оценки практических возможностей и
последствий реализации прикладных достижений. Однако для того,
чтобы частный результат прикладного исследования в полной мере
15 Г. Г. Шпет подчеркивал: «Достоинством определяется главным образом знание
конкретное. Поэтому достоинство почерпается из уразумения смысла. Знание,
направленное на уразумение смысла, есть достойное знание. Оно тем более
достойно, чем более проникает в смысл» (Шпет Г. Г. < Заметки о достоинстве зна-
ния> // Семейный архив Шпета. Расшифровка текста Т. Г. Щедриной). Это
понятие «достоинства» соотносится с эпистемологической традицией «положительной
философии» в России, для которой характерна неразрывная связь предметности
мысли, конкретности смысла и историчности сознания.
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 35
включался в систему знания, на базе которой и осуществляется его
оценка, требуется личностное усилие и экзистенциальная позиция, а
не только социальный запрос на честную экспертизу. В социальном
запросе всегда содержится очень и очень много
разнонаправленного. В нем есть такая же конкуренция и такая же игра интересов, что
и во всяком социальном запросе. Для того чтобы прикладное
знание и его практический потенциал всесторонне оценивались в
контексте научного знания, необходимо ценностно-ориентированное
усилие эксперта-ученого, преодолевающее локальный интерес и
конкуренцию в сообществе ученых-прикладников. В экспертном
сообществе концептуальное оформление этому усилию придает
историческое сознание науки как культурного феномена.
И не о том в данном случае идет речь, что ученый должен знать
историю своей науки и достижения, ведущие к нынешнему
положению дел. Это необходимое, но далеко не достаточное условие
расширения контекста экспертной оценки результатов. Первостепенно
важным в данном случае является осознание ученым того
обстоятельства, что не прошлым исчерпывается история науки, но ее история
есть то, что делает ученый здесь и теперь — его настоящая работа и
есть реальная история. Осознание того, что результатом своего
исследования ученый порождает веер возможных трансформаций
реальности и тем самым меняет ее сложившуюся научную картину, кладется
культурно-исторической эпистемологией в основу усилия,
преодолевающего локальный интерес и конкуренцию, порождает потребность
в научной коммуникации, позволяющей расширять горизонты
оценки его исследовательского результата. Методологическое сознание
ученого исторично, если он осознает, что своим исследованием он не
просто прибавляет знание, но меняет всю его совокупность зачастую
непредсказуемо, неожиданно. И несет за это ответственность перед
тысячелетней традицией науки. В этом, собственно, состоит вторая
специфическая черта культурно-исторической эпистемологии,
претендующей на то, чтобы находиться в основании методологического
сознания научно-экспертного сообщества.
Собственно, формирование такого сознания можно
рассматривать, как условие возвращения науки в историю с ее
творчеством и ответственностью. И это условие реализует философско-
методологическая рефлексия, которая позволяет увидеть
знаково-символический смысл науки, осознать частный результат
прикладного исследования и как элемент системы научного
знания, в которую оно включается, и как элемент общества, жизнь
которого оно меняет. Ответственность ученого как бы расширяется,
и, с одной стороны, методологической нормой, методологическим
36
Введение
требованием становится соотнесение дисциплин в оценке данного
результата, ибо говорить сегодня о социокультурном смысле
прикладного результата без опоры на всю систему наук невозможно. С
другой стороны, культурно-историческая эпистемология требует
расширения экспертизы, указывая в конкретной
исследовательской работе на те знаковые и предметные перспективы, куда она
должна расширяться. Таким образом, мы совершаем обратный
разворот в соотнесении методологии и науки, выходя за узкие рамки
прикладного исследования. Не внешний социокультурный
контекст создает науку и определяет применение методологических
стандартов в локальной исследовательской ситуации, но именно
философско-методологическая рефлексия демонстрирует
дополнительные смыслы любого научно-прикладного результата —
социальные, физиологические, культурные...
В перемене этой позиции принципиален историзм, который
состоит в том, что мир, присутствующий в сознании человека, не
произволен, что в истории есть преемственность, свидетельствующая о
наличии некой реальности, с которой соприкасается культура.
«Такой подход предполагает в своей основе деятельностную позицию
ученого, позицию исторического преемника — не игрока в бисер,
но ответственного творца, продолжающего осмысление мира, в
котором живет, в котором укоренен и который должен осмыслить
так, чтобы в нем могло жить следующее поколение. И эта
позиция требует особого типа сознания — философского культурно-
исторического сознания, которое выводит научное исследование на
ее предельные основания и соприкасается с миром»16.
Таким образом, культурно-историческая рефлексия над
современной наукой фиксирует новые, если угодно, обнадеживающие
тенденции, ведущие к единству прикладного и фундаментального
в науке. Бесспорно, конечно, что социокультурные факторы,
мощно влияющие сегодня на науку, локализуют прикладное знание.
Именно эта их роль обычно подчеркивается в господствующих
ныне концепциях развития науки, которые все более
приобретают культурологический характер, ориентированный на
манипуляции исследовательскими трендами, на обслуживание научной
политики. Однако социокультурная среда, в которой функционирует
сегодня наука, шире, чем связка «производитель-заказчик», под-
16 Пружиним Б. И., Щедрина Т. Г. Культурно-исторический подход в
гуманитарных науках // Культурно-исторический подход в гуманитарных науках: проблемы
и перспективы: Материалы международной научной конференции. Владивосток,
2011. С. 5.
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 37
талкивающая науку к производству «знания-товара». Есть и иного
рода социокультурные факторы, которые не просто замыкают
исследование на жестко заданный заказ, но вынуждают соотносить
его с социокультурными запросами, расширяющими горизонты
прикладного исследования и тем самым выводящие его
интересы за рамки локального прагматизма. Частный прикладной
результат, включаясь в жизненные контексты, вынуждает общество
оценивать его с точки зрения куда более широких социальных и
культурных последствий, которыми он чреват. Иными словами, он
попадает в сферу действия социально-культурных требований,
расширяющихся до общекультурных.
Здесь я вновь обращусь к примеру, с которого я начал статью.
Биомедицинские исследования раковых процессов на
молекулярном уровне нацелены на получение лекарственных препаратов. И
фармакологическая фирма, вкладывающая средства в
соответствующие исследования, конечно же, заинтересована в
положительном и воспроизводимом результате. Ее интересует конкретный
прагматический эффект исследований, который возможен на базе
достаточно обоснованных результатов. И здесь интерес фирмы
совпадает с интересом общества. Однако... Фирма-заказчик
заинтересована, прежде всего, в прибыли и победе над конкурентами на
товарном рынке лекарств. А это резко сужает сферу ее
эпистемологического интереса. Во-первых, фирма не склонна финансировать
побочные ветви исследования, ведущие к неясным результатам, а
тем более выходящим вообще за рамки производственного
интереса фирмы. Во-вторых, фирму интересует не собственно знание, а
эффективность лекарственного препарата, который вырабатывают
исследователи. А эффективным в заданных пределах может быть
далеко не только истинное знание.
Этот последний пункт заслуживает особого внимания,
поскольку его обсуждение весьма демонстративно в интересующем
нас плане. История науки и техники знает массу примеров, когда
в основу практически эффективных предложений и конструкций
ставились мнения об устройстве мира, позднее оценивавшиеся как
неточные, а иногда и просто неверные. Их «неверность»
устанавливалась позднее, в контексте более широких исследований, при
вписывании в общую систему знаний о мире и включении в
общую динамику науки. Но у фирмы, по понятным причинам, нет
внятного стимула для продолжения такого рода исследований,
нет желания увеличивать затраты на продолжение исследований и
вписывание эффективной модели в более широкие научные
контексты с сомнительной практической перспективой. Зато у со-
38
Введение
временного общества такое желание появляется. Дело в том, что
побочные следствия локальной эффективности такого препарата
могут быть весьма значительными. В данном случае,
использование лекарств, выработанных на базе локальных достижений, может
обернуться (и зачастую оборачивается) весьма серьезными
негативными последствиями. В Германии, например, это
обстоятельство стало сегодня предметом особого внимания17. А следствием
такого внимания становится широкая государственная поддержка
мер по экспертизе, фактически, вынуждающая расширять
контексты научной работы и, как я отмечал, требующая новых
методологических ориентиров.
То новое, что в действительности предлагают Бигли и Эллис
для повышения уровня воспроизводимости результатов, можно
представить как методологическую рекомендацию переступать в
своей работе через грань, разделяющую доклинические и
клинические исследования, т. е. ясно осознавать подчиненность своей
исследовательской работы четко заданным прикладным целям,
осознавать ее границы. Они предлагают ввести в доклинические
(базисные, по сути) исследования «прогностический биомаркер»,
позволяющий различать тех пациентов, которым вероятно
поможет лекарство, вырабатываемое на основе результатов данного
исследования. А это значит, приемлемость любого полученного
результата следует оценивать, прежде всего, с точки зрения его
возможной эффективности, отдавая себе отчет в том, что в
основании этой оценки оказываются вообще не эпистемологические
требования, а практические. Эпистемологические требования
предстают как производные от практических. И в частности,
воспроизводимость выступает здесь уже не как обязательное
требование, которому должен соответствовать результат исследования,
претендующего на научность, но лишь как ценностный ориентир,
направляющий исследование на поиск условий и факторов,
которые могли бы обеспечить полноценную воспроизводимость
однажды полученного полезного результата.
Иными словами, воспроизводимость в данном случае
выступает не как жесткий критерий научности, а как обусловленный
заказом ценностный ориентир исследовательского поиска. При этом у
воспроизводимости появляется степень. Воспроизводимость, ко-
17 Бехман Г. Современное общество: общество риска, информационное
общество, общество знаний / Пер. с нем. М, 2010; Бехман Г., Горохов В. Г. Социально-
философские и методологические проблемы обращения с технологическими
рисками в современном обществе (Дебаты о технологических рисках в современной
западной литературе) // Вопросы философии. 2012. № 8. С. 127—136.
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 39
нечно, надо повышать, но сама по себе она может быть весьма
различной. Это, во-первых. А во-вторых, полученный результат сразу
попадает в перекрестье социокультурных интересов, фактически
выводящих его за рамки узко заданных прикладных целей
данного исследования. Коль скоро речь идет о результате, на основе
которого может быть получено лекарство для данной категории
пациентов, возникает вопрос, о возможных побочных последствиях
его применения, о его биофизических свойствах, о рисках, о цене
и пр., и пр. Полученный результат как бы извлекается из сферы
конкурентных интересов заказчика и переносится в сферу
широких социокультурных значений и оценок. Он попадает в поле
зрения общественной экспертизы, предполагающей широкий
исследовательский контекст, т. е. апелляцию ко всей системе научного
знания и включение в систему научных коммуникаций, научного
общения.
Таким образом, предложенный Бигли и Эллис
методологический ход, фактически, предполагает потенциальное оправдание
эпистемологической значимости результата, не поддающегося
стабильному воспроизведению, для дальнейшей
исследовательской работы. При этом коль скоро предполагается практическая
эффективность этого результата, то дальнейшее исследование
становится поиском условий его воспроизводимости. Тем самым
методологическое требование воспроизводимости
трансформируется из стандарта оценки научности результата в работающий
инструмент исследования, в ориентир поиска. Руководствуясь
им, ученый-прикладник выявляет, прежде всего, те
биомолекулярные характеристики однажды полученного им результата,
которые могут обеспечить стабильное его воспроизведение.
Воспроизводимость становится ценностным ориентиром
исследовательской работы, а ее исходным пунктом оказывается оценка
практической эффективности единичного результата. Если
эффективный с биомедицинской точки зрения результат удается
подтвердить в одном случае из 20 попыток, то он, с точки зрения
исследователя-прикладника, оправдан также и с
эпистемологической тоски зрения, так что автор имеет право на его
представление для сообщества ученых. Неопределенный с точки зрения
воспроизводимости результат в прикладном исследовании ни в
коем случае нельзя считать неэффективным и, соответственно,
недостойным представления в каналах научных коммуникаций.
Ведь если в ходе применения препарата, созданного на базе
данного знания, удастся спасти хотя бы одного из 20 пациентов —
это успех. И здесь явно проявляется измерение, которое в рус-
40
Введение
ской эпистемологической традиции именовали «достоинством
знания»18.
Эффективность имеет свои границы и свои условные
требования, свою степень оценки, в отличие от раздражающих
абсолютистских претензий истины. Нельзя быть немножко истинным, но
можно быть в известной мере более или менее эффективным. Это
различие, кстати, с эпистемологической точки зрения,
принципиальное, часто упускается из виду в рассуждениях о релятивности
истины, о возможности достигнуть истины по договоренности, об
истине как результате компромисса и т. д. Вопрос о релятивности
истины не следует путать с вопросом о ее конкретности. Истинное
мнение всегда соотносится с реальностью в определенных условиях,
но это соотношение всегда однозначное, жестко воспроизводимое в
данных фиксированных условиях. И методология, работающая как
инструмент познания внутри исследования, ориентирует на
достижение этого состояния, этой однозначности. Другое дело —
трактовка истины как компромисса. Здесь отрицается существование
какого бы то ни было объективного основания, позволяющего принять
в качестве истинного то или иное суждение о мире. Эта позиция
сегодня является весьма распространенной в социологии познания
и некоторых направлениях историографии науки. Между тем, она
просто акцентирует все те моменты научной исследовательской
работы, которые связаны именно с ориентацией на эффективность,
исключающую истинность знания в строгом смысле. Фактически
в этих направлениях описываются эпистемологические
характеристики именно базисного знания, но не фундаментальной науки.
А посткуновская философия науки довела эту позицию до предела,
распространяя такого рода описание на всю науку, на всю научно-
познавательную деятельность в целом. И именно это, на мой взгляд,
является причиной ограниченности рефлексивных возможностей
постпозитивистской философии науки. Понятие истины как бы
вытесняется из описания реальной научно-исследовательской работы;
а наука при этом лишается оснований, лишается своей претензии на
объективность. Необязательной оказывается и воспроизводимость.
Именно так Бруно Латур описывает лабораторию-фабрику.
Именно так представляет знание «дефляционная концепция истины».
Между тем, достаточно представить себе науку с таким
самосознанием, чтобы понять: будущего у такой науки нет — ни истины, ни
18 См.: Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека // Юрке-
вич П. Д. Сочинения. М., 1990. С. 84; Соловьев В. С Теоретическая философия //
Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М, 1990. С. 826.
Б. И. Пружиним. Специфика культурно-исторической эпистемологии 41
мертоновской атмосферы, ни преемственности, ни даже претензий
на общезначимость. Наука фактически растворяется в прочих
формах социальной активности. И как это ни парадоксально,
философия науки как бы не замечает этого приговора, активно включаясь
в эдинбургские искания. В центре внимания оказываются
социокультурные аспекты научного познания, замкнутые на
функционирование науки как социального института, ориентированного на
социально значимые программы. Философия науки фактически
вырождается в локальные социальные технологии.
Между тем, повторю, под воздействием не менее значимых и
приобретающих сегодня все большее значение социокультурных
факторов, прикладные исследования все более встраиваются в
исследовательскую работу экспертных сообществ. И в современной
науке нарастает тенденция, расширяющая контекст прикладной
значимости ее результатов. У общества возникают
дополнительные требования и к фирме, и к результату исследования, которое
проводится благодаря ее финансированию. Достаточно ли хорошо
проверены последствия применения соответствующих лекарств?
Если лекарство будет слишком дорогим, то нельзя ли его заменить,
или найти дешевые составляющие? Попытки ответить на эти и
еще многие сходные вопросы стимулирует расширение
собственно предметных исследований, связанных с данным прикладным
результатом. А социокультурным подтекстом всех этих требований
к знанию, полученному как результат практически
ориентированного исследования, становится идея пользы знания, расширенная
до идеи знания как блага. Что, в свою очередь, вынуждает к
расширению проекций исследования. Прикладное знание
апробируют, его проецируют в какие-то новые контексты, в которых оно
совершенно иначе предстает. Но все это, очевидно, невозможно без
привлечения науки в целом, без привлечения всей системы
научного знания (от физики и биологии до социологии и филологии).
Такую работу сегодня фактически уже выполняют экспертные
сообщества ученых. И заменить эту живую экспертную работу не
могут никакие индексы и формальные оценки научной деятельности,
подогнанные под чисто прикладные установки.
Многое меняется в самосознании современной
фундаментальной науки. Многое требует осмысления. В частности, единство
научного знания предстает здесь не как иерархическая система, в
основании которой лежит физика, но как целостная система
дисциплин, соединяющая и естественные, и гуманитарные области
познания в своей экспертной функции. И для методологического
осмысления этой целостной системы нужен, я полагаю, обнов-
42
Введение
ленный концептуальный инструментарий, включающий такие
понятия, как «стиль научного мышления»19, «внутренняя форма
слова»20, «реконструкция»21, «разговор»22, «достоинство знания»23
и др. Мне представляется, что в перспективе разработки этих
понятий можно будет уточнить методологическую эффективность
того направления философско-методологической рефлексии над
наукой, которое я называл в этом тексте культурно-исторической
эпистемологией.
Научное сообщество (которое Капица в приведенной выше
цитате называл мировой наукой), несущее в себе знание как таковое
и разрабатывающее его как универсальную основу оценки рисков
и перспектив прикладных нововведений, и есть сегодня
фундаментальная наука. По сути, это уже четвертый смысловой пласт
понятия фундаментальной науки (наряду с поиском оснований всего
существующего, наряду с идеей чистой науки и наряду с
трактовкой науки как фундамента для разработки приложений — базисной
наукой). Здесь фундаментальная наука предстает как основа
экспертной оценки прикладных результатов знания, как основа
работы экспертного, в том числе и философского, сообщества. И,
очевидно, в этом есть своя философско-методологическая специфика,
суть которой я попытался контурно обозначить в этом тексте.
Я благодарю всех авторов этой книги, которые возвращают
современной философии науки четвертое —
культурно-историческое — измерение.
19 См.: Пружинин Б. И. «Стиль научного мышления» в отечественной философии
науки // Вопросы философии. 2011. № 6. С. 64—74.
20 Пружинин Б. И. Густав Шпет и Павел Флоренский: семиотические смыслы
культурно-исторической эпистемологии // Густав Густавович Шпет / Под. ред.
Т. Г. Щедриной. М., 2014. С. 140-165.
21 См.: Щедрина Т. Г. Публикации или реконструкции? Проблемы
текстологии в историко-философском исследовании // Вопросы философии. 2008. № 7.
С. 130-140.
22 Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М., 2008.
23 См.: Щедрина Т. Г., Пружинин Б. И. «Достоинство знания»: современные
методологические проблемы гуманитарной науки в контексте традиции
«положительной философии» в России // Наука и социальная картина мира. К 80-летию
академика B.C. Стёпина / Под ред. В.И. Аршинова, И. Т. Касавина. М.: Альфа-М,
2014. С. 674-686.
Раздел 1
Общие проблемы
эпистемологам
В. А. Лекторский
Релятивизм
как феномен
современной культуры
Я более 40 лет работаю вместе с Борисом Исаевичем Пружи-
ниным. Сначала это было в секторе теории познания
Института философии АН СССР. Затем в журнале «Вопросы
философии» — он пришел туда в качестве редактора,
потом стал ответственным секретарем журнала, затем
заместителем главного редактора, а начиная с декабря 2009 года —
главным редактором, заменив меня в этой должности. Я всегда высоко
ценил его исследования, посвященные проблеме рациональности,
историческому подходу в философии науки, феномену
псевдонауки. Мне кажутся особенно интересными его работы последнего
времени о взаимоотношении фундаментальных и прикладных наук
и о концепции культурно-исторической эпистемологии.
Я исключительно высоко ценю Бориса Исаевича как
замечательного человека, который с настоящим энтузиазмом относится
ко всему тому, что он делает: будет ли это исследование сложных
философских проблем или организация работы научного или
редакционного коллектива.
Я поздравляю Бориса Исаевича со славным юбилеем и желаю
ему бодрости духа, творческого горения, долгих лет плодотворной
жизни.
У нас много общего в понимании фундаментальных
философских проблем, в частности такой злободневной не только в
философии, но касающейся всей современной культуры, как проблема
релятивизма. Надеюсь, что мои размышления на эту тему будут ему
небезынтересны.
46
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Информационный хаос, дезинформация и релятивизация жизни.
«Вавилонская башня»
Сегодня о релятивизме ведутся большие споры. Не столь уж
многие философы решаются прямо называть себя релятивистами, хотя
систематически подозревают в нем друг друга и нередко не без
основания. Философия второй половины XX века и начала века
XXI в целом пронизана релятивистскими настроениями: как
аналитическая философия, так и в особенности постмодернизм. И это
не случайно, ибо выражает определенные особенности
современной культуры и социальной жизни и имеет прямое отношение к
миру повседневности, т. е. касается каждого человека.
В нашей жизни мы опираемся на знания, которые выражают
истинное положение дел и в которых нет никаких оснований
сомневаться. Каждое наше действие предполагает такие знания,
хотя обычно мы не отдаем в них отчета. Нам известно, что по
земле можно ходить, что по воде ходить нельзя, а по болотной
трясине нужно передвигаться с осторожностью. Мы знаем, что ножом
можно порезаться, мы умеем плавать (знаем как это делать), умеем
ездить на велосипеде и т. д. Иными словами, мы как бы купаемся
в море разнообразных знаний, в которых обычно не отдаем себе
отчета, ибо в этом нет необходимости. А знание — это то, что
выражает истинное положение дел — иначе о знании бессмысленно
говорить.
Но встречаются ситуации, в которых мы можем принимать за
реальность то, чего на самом деле не существует. Ложка,
опущенная в стакан, кажется сломанной. Находящиеся в удалении дома
представляются стоящими рядом, хотя в действительности между
ними может быть большое расстояние; когда мы видим
сновидения, нам кажется, что все это происходит в действительности, мы
легко можем спутать с реальностью мираж, образы галлюцинаций.
Однако в таких случаях иллюзии и видимость легко
рассеиваются. Чтобы понять, что ложка не была сломана, достаточно вынуть
ее из стакана; чтобы убедиться в действительном расстоянии
между домами, нужно подойти к ним поближе; когда мы просыпаемся,
мы освобождаемся от образов сновидений и понимаем, что это был
только сон, а не действительность; когда во время путешествия по
пустыне мы подъезжаем ближе к оазису, а он внезапно исчезает, мы
понимаем, что это был мираж. Иными словами, включение в
повседневную жизнь, продолжение деятельности снимает те
иллюзии, которые время от времени могут возникать.
В. А. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
47
Таким образом, способы отличения истины от лжи или
заблуждения кажутся достаточно простыми. Столь же ясным и простым
представлялось то, как нужно себя вести: что хорошо и что плохо,
что делать нужно и что делать категорически запрещено.
Жизнь несколько усложнилась, когда появилась
экспериментальная наука, которая на определенном этапе соединилась с
производством новых технологий, начавших влиять на повседневную
жизнь. Однако и в этих условиях проблема отделения истины от
лжи и заблуждения (иллюзии) казалась несложной. Сама наука
понималась как источник все новых знаний о мире, которые
накапливаются по мере научного прогресса и которые помогают
сделать жизнь более комфортной, благополучной и здоровой. Эта
установка характеризовала идеологию Просвещения.
Однако во второй половине XX века выяснилось, что именно
развитие науки и связанных с нею процессов создали
принципиально новую ситуацию, когда то, что казалось самоочевидным и
несомненным, такую самоочевидность потеряло. Человек стал
запутываться в представлениях о том, что реально существует, начал
терять ориентиры жизненного поведения.
В конце XX века возник феномен так называемой технонау-
ки: фундаментальная наука стала все более тесно соединяться с
наукой прикладной. Возникли принципиально новые
технологии, которые начали не просто влиять на повседневный
жизненный мир, но в известном смысле взрывать его. Это прежде всего
информационно-коммуникационные технологии: телевидение,
Интернет, сотовая связь. Возникла виртуальная реальность, в
которой (наряду с обычной) живет все большее число людей. Человеку,
на которого обрушиваются информационные потоки, все труднее
отделить то, что существует на самом деле, от того, что только
кажется реальным, знание от мнения, истину от заблуждения и лжи.
Ибо это он в большинстве случаев не может проверить лично,
приходится полагаться на сведения, почерпнутые от других. А среди
других есть люди, которые прибегают к сознательной
дезинформации. Телевидение обладает особой способностью внушения.
Телевизионная картинка, сопровождаемая голосом диктора, создает
впечатление реальности показанного и рассказанного. Быстрая
смена таких картинок не оставляет времени для критического
размышления по поводу увиденного. Но именно телевидение и
другие современные информационно-коммуникативные технологии
формирует образ реальности. Резко возрастают возможности для
манипуляции сознанием. Разные политические идеологии
претендуют на наиболее адекватное осмысление социальных процессов и
48
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
предлагают различные программы действия. Но эти программы
несовместимы друг с другом. Какую из них предпочесть? Как
понимать действительность, что нужно делать? Ответить на эти вопросы
бывает столь непросто, что кажется соблазнительной мысль о том,
что в этом сложном мире каждая система идей «права по-своему»,
что нет всеобщей, общеобязательной и объективной истины, что в
каком-то смысле она своя у каждой системы взглядов.
Любители жить в виртуальном мире могут сформировать
второе Я — виртуальное, наделив его такими качествами, которые
отсутствуют у автора этого Я в реальном мире. Виртуальное Я может
общаться с другими виртуальными Я, т. е. как бы жить в мире
искусственных конструкций. Жизнь в этом мире нередко
оказывается настолько увлекательной, что представляется не менее (а иногда
более) реальной, чем жизнь в обычном жизненном мире. Какое Я
считать подлинным? Какую реальность настоящей? Или они обе
подлинны, хотя и принципиально отличны друг от друга, а в чем-
то взаимно несовместимы?
Сегодня процесс глобализации приводит к интенсификации
взаимодействия разных культур. Культуры исторически всегда так
или иначе взаимодействовали друг с другом. Сегодня их
представители все чаще живут на одной территории (вследствие возрастания
потоков миграции) и постоянно сталкиваются с необходимостью
решения общих проблем. И вот здесь выясняется, что в различных
культурах существуют не только разные представления о ценностях
(что хорошо и что плохо, что нужно делать, чего делать нельзя), но
и в ряде случаев разное понимание того, что происходит в мире,
ибо их представления о мире до конца не совпадают. Выходит, что
представители этих культур живут как бы в разных мирах.
В этой ситуации информационного хаоса и растущей
релятивизации возникает естественное мнение, что истинное представление
о том, как устроен мир и что происходит на самом деле, должна
дать наука. Ведь она всегда претендовала именно на это и до
недавних пор оправдывала эти притязания. И тут мы сталкивается с
удивительным фактом. Оказывается, что сегодня существует
множество теорий, объясняющих возникновение и развития Вселенной,
и между ними трудно выбрать истинную, так как не существует
достаточных эмпирических средств подтвердить или опровергнуть
одну из них.
Релятивистская установка, т. е. мнение о том, что истина не
является общеобязательной и объективной и что она своя если не у
каждого человека, то у каждой системы понятий (культурной
картины мира, научной теории), что поэтому бессмыслен спор о том,
В. А. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
49
что имеет место на самом деле, становится весьма популярной —
по крайней мере среди многих деятелей культуры, журналистов,
публицистов, политиков. Эта установка нередко обосновывается
ссылкой на плюрализм как характерную черту демократического
общества и даже преподносится как выражение той свободы,
которой достигла современная цивилизация, в которой никто не может
навязывать свое мнение другим. С этой точки зрения все
общеобязательное (в том числе истина) закрепощает человека, а плюрализм
и релятивизм делает его по-настоящему свободным. В таком духе
обычно интерпретируется популярная до недавних пор идея муль-
тикультурализма: как выражение толерантности разных культур по
отношению друг к другу при невозможности (и ненужности)
взаимопонимания.
Дело, однако, в том, что релятивистская установка, которая
кажется привлекательной в абстрактной формулировке, в жизни не
может работать. Вот, например, идея мультикультурализма.
Невозможно решать совместные проблемы при отсутствии
взаимопонимания. На практике представители каждой культуры считают, что
именно их представления о мире и ценностях являются
подлинными—в отличие от остальных. Поэтому каждая из культур пытается
навязать свое миропонимание другим. Толерантности не
получается, возникает конфликт (вообще в основе многих конфликтов
современности лежат именно межкультурные конфликты). Не
случайно некоторые известные европейские политики заявили, что
идея мультикультурализма провалилась.
Я приведу житейскую иллюстрацию парадоксальности
релятивистской позиции. К уважаемому человеку пришла женщина с
жалобой на мужа. Этот человек внимательно выслушал женщину и
заявил: «Да, ты права». Женщина ушла. После этого появился муж
этой женщины и стал рассказывать о том, что во всем виновата его
жена. Уважаемый человек послушал мужа и сказал: «Да, ты прав».
После того как мужчина ушел, из другой комнаты дома
уважаемого человека вышла его жена, которая слышала оба разговора: «Как
могут быть правы оба твоих посетителя? Ведь рассказ каждого из
них несовместим с рассказом другого. Поэтому кто-то из них
неправ». Уважаемый человека выслушал свою жену и сказал: «Да, и
ты права тоже».
Создается впечатление, что мы сегодня действительно
оказались в ситуации всеобщей релятивизации, которая в силу своей
парадоксальности парализует действие.
Известна легенда о вавилонской башне, которую не смогли
достроить потому, что строители внезапно заговорили на разных язы-
50
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
ках (раньше они пользовались одним), не смогли понять друг друга
и договориться. Кажется, что современное человечество не может
построить «вавилонскую башню» (сегодня это глобальный мир),
потому что люди не могут понять друг друга.
Существует ли выход из этой ситуации? И верно ли понимание
самой ситуации как всеобщей релятивизации? Что по этому поводу
думает современная философия?
Релятивизм в современной философии и науках о человеке
Релятивистская позиция была сформулирована в философии
давно. Первым релятивистом принято считать афинского софиста
Протагора, заявившего: если кому-то что-то кажется, то это и есть
на самом деле. Это был индивидуальный, или даже
индивидуалистический, релятивизм. Согласно этой позиции, у каждого своя
истина. Уже в античности была обнаружена противоречивость такого
рода высказываний, которые опровергают сами себя. В самом деле.
Тезис о том, что у каждого своя истина, претендует на
общезначимость. То есть согласие с этим тезисом означает, что есть по
крайней мере одна истина, которая не у каждого своя, а общая для всех:
это истина о том, что у каждого своя истина. Но если есть
общезначимые истины, тогда почему мы должны остановиться на
признании только одной этой? Почему не могут быть
общезначимыми и другие высказывания? Но тогда получается, что неверно само
утверждение о том, что у каждого своя истина.
Релятивистская позиция казалась настолько парадоксальной и
невозможной, что после Протагора ни один серьезный философ
ее не придерживался. Иногда с релятивизмом путают скептицизм.
В действительности это не одно и то же. Скептик сомневается в
возможности нахождения истины, не отрицая существования
действительного положения дел и не утверждая, что у разных людей
своя истина. Реалистическая эпистемологическая позиция
несовместима с релятивизмом. Это, однако, не означает, что
эпистемологический антиреализм должен быть релятивизмом.
Феноменализм Беркли, Маха, трансцендентальный идеализм Канта, Фихте,
Гегеля, неокантианцев, Гуссерля не только не являются
релятивизмом, но принципиально противостоят последнему. Не были
релятивистами и логические позитивисты: Карнап, Гемпель, Рейхенбах
и др. Не являются релятивизмом инструментализм и операциона-
лизм в философии науки.
В. А. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
51
В действительности релятивизм в эпистемологии стал
популярен относительно недавно. И это связано с одним важным
обстоятельством: обнаружением роли языка и — более широко —
концептуальных каркасов в конструировании опыта и при этом
признании существования разных языков и концептуальных каркасов.
Для эмпириков опыт принципиально «дан» в виде ощущений,
впечатлений, «простых идей» и других его конституент, которые
связываются между собой независимо от воли познающего
субъекта, законами ассоциации, «взаимным притяжением» и т. д.
Познаваемая реальность определяется опытом, а точнее тождественна
с ним («существовать значит быть воспринимаемым» по Беркли).
Истинность высказывания определяется его связью с опытом. Ни
о каком релятивизме речи быть не может.
Для рационалистов, а потом трансценденталистов опыт
конструируется субъектом, но не произвольно, а с помощью всеобщих
и необходимых понятийных средств: категорий, схем, символов
и т. д. Поскольку эти концептуальные средства априорно
необходимы и предзаданы познающему индивиду трансцендентальным
субъектом или объективным духом, признание конструируемости
опыта не ведет к релятивистским следствиям.
Но если мы признаем, что, с одной стороны, опыт не «дан», а
является результатом концептуальной конструкции (наследие
рационализма и трансцендентализма), а с другой, что опыт
определяет реальность, с которой имеет дело познание, и что никаких
априорных понятийных средств не существует, что они многообразны и
изменчивы (наследие эмпиризма), то релятивистские выводы
становятся неизбежными.
Именно это и произошло в развитии эпистемологии и
философии науки во второй половине XX века.
Главный толчок релятивизму в современной эпистемологии
и философии науки дал Т. Кун1. Он попытался показать, что
формальные модели научной теории, предлагавшиеся логическими
позитивистами, и их представления о логике подтверждения не
имеют ничего общего с реальной историей науки. Согласно Куну,
научная деятельность осуществляется в рамках парадигм,
которые определяют характер теорий, принимаемые научным
сообществом способы постановки проблем, формулировку задач и путей
их решения. Парадигма задает мир, в котором работает ученый.
Она определяет смысл теоретических понятий. Последние не
просто интерпретируют научные факты, но в известном смысле их
1 Кун Т. Структура научных революций. М, 1975.
52
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
конституируют, ибо факты «теоретически нагружены». Вне
теоретического осмысления факты для ученого не существуют.
Бессмысленно говорить об истинности научного утверждения вне
той парадигмы, в рамках которой оно делается — таким образом,
разговор об объективной (транспарадигмальной) истине
невозможен. При переходе от одной парадигмы к другой меняется смысл
всех научных понятий. А поскольку теоретические понятия
определяют понимание фактов, то меняются и сами факты. Меняется
восприятие мира, а точнее сам мир. Происходит нечто сравнимое
с переключением гештальта: там, где раньше видели утку, теперь
является кролик. Кун подчеркивает, что нас не должен вводить в
заблуждение тот факт, что после смены парадигмы ученые вроде
бы продолжают пользоваться старыми понятиями. В
действительности с его точки зрения используется старое слово, но оно
приобретает новый смысл. Таким образом, на самом деле речь идет о
разных понятиях. Так, например, и Ньютон, и Эйнштейн
пользуются при изложении своих теорий одним и тем же словом —
«масса». Но, согласно Куну, в это слово они вкладывают разный смысл,
так как придерживаются принципиально различных парадигм:
по Эйнштейну масса зависит от скорости передвижения тела, по
Ньютону масса и скорость взаимно независимы. Поэтому физики,
придерживающиеся разных парадигм, не могут понять друг друга,
так как наделяют разным смыслом те же самые слова. Это значит с
точки зрения Куна, что рациональная дискуссия между
представителями разных парадигм невозможна. Ибо нет надпарадигмальной
рациональности, последняя существует только внутри парадигмы и
у каждой из них своя.
Конечно, это настоящая релятивистская позиция. В разных
парадигмах разная рациональность, разная истина, разное понимание
способов объяснения и подтверждения утверждений, разное
восприятие фактов и даже разная реальность. Правда, когда оппоненты
Куна указывали на релятивизм его концепции, сам он с этим не
соглашался. По каким-то причинам он не решался сделать последний
вывод из своей концепции. Но эти выводы сделали другие.
Например, Фейерабенд2. Его концепция не совсем та же, что у
Куна. Фейерабенд не принимает концепцию парадигмы, не
согласен и с куновской идеей о том, что в зрелой науке в каждый период
господствует только одна парадигма, что большинство ученых
занимаются (и должны заниматься) решением частных
«головоломок» в рамках принятых способов деятельности и не посягать на
2 Feyerabend P. Against Method. Outlines of anarchistic theory of knowledge. L., 1975.
В. А. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
53
пересмотр основоположений. Но основные идеи Фейерабенда те
же, что у Куна: высказывания о фактах концептуально нагружены,
поэтому фактов (и даже восприятий) вне той или иной
концептуальной системы нет, нет и истины вне такой системы, как нет и вне
концептуальной реальности. Более того. Не только не существует
объективных способов демонстрации преимуществ одной теории
перед другой, нельзя говорить даже о том, что наука имеет какие-
то преимущества в осмыслении мира по отношению к мифу,
сказке. Человек творит реальность, в которой живет и которую познает,
и может делать это каким ему угодно способом. «Все позволено»
(anything goes). Это, конечно, законченный и последовательный
релятивизм.
Из куновской концепции были сделаны и другие выводы. Если
наука делается в рамках парадигмы, а последняя определяет
сообщество ученых, принимающих ее, если приверженность
парадигме связана не столько с рациональными критериями (последние
сами зависимы от принятой парадигмы), сколько с социально-
психологическими факторами, то напрашивается мысль о том, что
можно и нужно понять производство научного знания не в рамках
эпистемологии, методологии и логики науки, а в рамках
социологии научного познания. Возникло несколько школ социологии
познания (иногда это называют социальной эпистемологией). Одна
из них, Эдинбургская, подчеркнуто релятивистична3. Принятие
той или иной научной теории, согласно представлениям этой
школы, целиком и полностью определяется взаимоотношениями
между учеными. Главную роль в этих отношениях играют соображения
престижа, социального статуса внутри науки, распределения
финансов и прочие, никакого отношения к собственно
познавательным критериям не имеющие. Принятие той или иной теории, той
или иной интерпретации эмпирических фактов — результат
переговоров и договоренностей, устраивающих разных участников. И
теория, и факты — не что иное, как социальные конструкции.
С этой точки зрения разговоры об истине, рациональности и т. д. —
лишь риторические украшения, камуфлирующие подлинную суть
научного процесса. Интересно, что так понятая социология
научного познания не может избежать общего парадокса релятивизма.
В самом деле. Если все научные теории — только плод социальных
договоренностей и не имеют отношения к истине, то тогда этот
тезис должен быть применим также и к самой теории социального
производства знания. Значит, эта теория тоже не истинна, она про-
3 Bloor D. Knowledge and Social Imagery. 2 ed. Chicago—L., 1991.
54
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
сто пытается навязать нам себя. Но если дело обстоит так, почему
мы должны позволять этой теории навязать себя, почему нужно
принимать эту теорию всерьез и верить тому, что в науке не идет
речь о познании реальности и о стремлении к объективной истине?
В связи с идеями Куна и Фейерабенда вспомнили еще об одной
теории (гипотезе), которая была сформулирована в конце 1930-х
годов, но обрела особую популярность именно в середине XX века,
когда релятивизм стал прокладывать себе широкую дорогу в
философии науки и эпистемологии. Это так называемая гипотеза
лингвистической относительности4. Американские лингвисты Э. Сепир
и Б. Уорф, пытаясь обобщить результаты этнолингвистических
исследований, пришли к таким выводам. Воспринимаемый и
осмысливаемый нами мир бессознательно строится на основе
определенных языковых норм. Мы расчленяем действительность на
элементы в соответствии с определенными, присущими данному
языку правилами классификации (воплощенными в лексических
единицах) и грамматическими структурами. Поскольку не
существует двух похожих языков, то можно сказать, что разные
общества живут в разных мирах. Согласно гипотезе лингвистической
относительности, разные языковые картины мира могут воплощать
разные категориальные структуры, а тем самым оказывать влияние
на восприятие мира, на нормы мышления и опосредствованным
образом на нормы поведения данного языкового коллектива. В
современных европейских языках, являющихся одной семьей,
существует деление всех слов на две большие группы: существительное
и глагол, подлежащее и сказуемое. Именно данное обстоятельство,
считает Б. Уорф, обуславливает определенную онтологию,
разделяемую носителями этих языков — членение мира на предметы
и их действия, процессы. В языке североамериканских индейцев
хопи, по его мнению, не существует деления на субъект и
предикат, а в языке племени нутка нет даже деления на существительные
и глаголы. В последнем случае привычное нам разделение мира на
предметы и процессы не имеет места. Носители разных языков
живут в разных мирах, характеризующихся разной онтологией
(представлениями о реальности) и не сообщающихся друг с другом.
Бессмысленно говорить о преимуществах одной языковой онтологии
перед другой.
На роль используемого языка и концептуальных средств в
конструировании реальности обращал особое внимание такой
известный американский представитель аналитической философии, как
4 Уорф Б. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
В. А. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
55
Н. Гудмэн. Согласно Гудмэну, бессмысленно говорить о некоторых
предцанных характеристиках мира (the way the world is). Наши
способы выделения событий, принятые типы классификации
определяют то, что мы считаем реальным миром. Единственного
способа концептуализации мира не существует. Так же, как есть разные
способы построения систем в математике (в качестве исходных
положений мы можем принимать те или другие), так же возможны
альтернативные формы понимания мира, а точнее альтернативные
миры. Эту конструктивистскую и релятивистскую позицию Гудмэн
назвал ирреализмом5.
Вообще современный эпистемологический конструктивизм, и в
частности такая его разновидность, как социальный конструкцио-
низм, это, конечно, релятивистская позиция. В качестве примера
влиятельной конструктивистско-релятивистской позиции в
современной психологии отмечу так называемый нарративистский
подход (иногда говорят о нарративистской психологии), который
оказал серьезное влияние не только на теоретические представления в
современной психологии, но и на психологическую практику.
Нарративистский подход применяется сегодня к осмыслению
многих психологических феноменов. Остановлюсь на одном из
них — проблеме памяти.
В течение многих столетий память в психологии (да и в
философии) понималась как просто сохраняющиеся в нервной системе
следы предшествующей информации, полученной из внешнего
мира. В соответствии с таким пониманием вспомнить нечто
означает оживить тот или иной след, перевести его из несознаваемого
состояния в осознаваемое. Революционное значение в изучении
памяти имели проведенные в 30-е годы прошлого столетия
исследования английского психолога Ф. Бартлетта6. Он показал, что в
действительности каждый человек строит определенную картину
собственного прошлого, которая включается в его «Я-концепцию»
(образ себя). Представление о собственном прошлом — это
активный процесс концептуального и языкового осмысления тех
«следов» в мозгу, которые являются результатом взаимодействия
с окружающим миром, а не просто эти самые «следы».
Осмысление происходит по-разному и зависит от интересов личности, от ее
жизненного пути. Не все события прошлого, оставившие «след»,
вспоминаются (что-то не случайно забывается), то, что
вспомнилось, может быть по-разному осмыслено. Более того, одни и те же
5 См.: Goodman N. Ways of Worldmaking. Indianapolis, 1978.
6 Bartlett F. Remembering: An experimental and social study. Cambridge, 1932.
56
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
вспомнившиеся события прошлой жизни могут быть по-разному
поняты и оценены на разных этапах жизни. Человек как бы
строит собственное прошлое, а тем самым и самого себя. Современный
нарративистский подход привнес в понимание памяти как
конструктивного процесса идею о том, что осмысление человеком
собственного прошлого происходит в форме рассказов (нарративов)
о себе7. Эти нарративы, т. е. словесные конструкции, создаются и
самим человеком, и другими людьми, с которыми он
взаимодействует и которые рассказывают ему нечто о нем, при этом рассказы
других могут быть интериоризованы личностью и становятся для
нее частью собственной «Я-концепции»8. Насколько
представления (нарративы) человека о собственном прошлом соответствуют
тому, что было на самом деле? Многие представители
нарративного подхода считают, что такая постановка вопроса бессмысленна.
Дело не в том, какие события в жизни человека имели место в
прошлом, а в том, как он их осмысливает. Разные люди,
участвовавшие в одних и тех же событиях, по-разному их воспринимают и
понимают. Если двое из них будут рассказывать о некоторых эпизодах
совместной деятельности, они расскажут об этом по-разному. Дело
не в том, что кто-то будет обязательно искажать то, что имело
место, а другой будет рассказывать о том, что действительно
произошло. Ведь одни и те же события могут иметь разное значение для
разных людей: важное для одного, несущественное для другого.
Можно вспомнить даже то, чего на самом деле не было. Это так
называемые ложные воспоминания. К счастью, это не так часто
происходит, но тем не менее случается. Один из известных
психологов прошлого столетия Ж. Пиаже рассказал такую историю.
Когда он был маленьким (примерно четырех лет), он однажды гулял
на бульваре с няней. В это время к ним подошел незнакомец и
попытался отнять у няни ребенка (Ж. Пиаже был из богатой семьи,
и, возможно, незнакомец хотел похитить ребенка для того, чтобы
затем потребовать у родителей выкуп). Няня подняла крик,
незнакомец испугался и убежал. Этот случай произвел большое
впечатление и на родителей малыша, и на него самого. Эта история
неоднократно рассказывалась и обсуждалась в семье. Сам Пиаже
сохранил о ней ясные воспоминания — он запомнил и этот
вечер, и ужасного незнакомца, и храброе поведение няни. Когда он
7 См.: Price G. Narratology: The Form and Functioning of Narrative. The Hague, 1982;
BrunerJ. Acts of Meaning. Cambridge, 1990.
8 Как считает современный американский философ Д. Деннет, Я и есть не что
иное, как «центр нарративной гравитации» {Dennett D. Consciousness Explained. L.;
N.Y., 1991. P. 418).
В. А. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
57
был уже немолодым человеком, он однажды в очередной раз
посетил свою няню (она жила в том же городе, и он регулярно ее
навещал). И вдруг няня призналась, что никакого эпизода с попыткой
похитить ребенка в действительности не было. В то время ей
показалось, что родители малыша хотели ее уволить, и для того,
чтобы доказать свою нужность, она сочинила эту историю. Много раз
рассказанная история превратилась в образ воспоминания о том,
чего в действительности не было.
Сторонники нарративной психологии считают, что совершенно
неважно, соответствуют ли ваши воспоминания тому, о чем
вспомнили другие. Важно, чтобы в ваших воспоминаниях была
внутренняя согласованность. Вот если в них появился диссонанс, тогда
нужно их так скорректировать, чтобы этого диссонанса не было — это и
есть так называемая нарративная психотерапия. А было ли то, о чем
вы вспомнили на самом деле уже не имеет значение. У каждого своя
прошлая реальность. Общего для всех прошлого не существует.
Это, конечно, типичный релятивизм.
Кажется, что идет победное шествие релятивизма и в
современной философии (в частности эпистемологии и философии науки),
и в ряде наук о человеке9.
Значит ли это, что релятивизм одержал победу и мы не можем
выйти из релятивистской ловушки? А ведь принятие
релятивистской установки означает отказ от таких фундаментальных
ценностей культуры, как ориентация на знание и рациональность, поиск
истины, возможность критической дискуссии (если каждая
позиция права, как возможно критика?).
Релятивизм и диалог
Попробую ответить на эти вопросы. Сразу же скажу, что, по
моему мнению, современная ситуация и в философии, и в науке, и в
практической жизни не такова, как ее изображают релятивисты.
Имеются проблемы, связанные с существованием разных
концептуальных каркасов. Неоспорим факт плюрализма и в науке, и в
культуре, и в общественной жизни. Но никакого «релятивистского
9 Одним из самых последовательных защитников релятивизма в современной
философии был Р. Рорти. См.: Rorty R. Hilary Putnam and Relativist Menace. John
Searl on Realism and Relativism // Rorty R. Thruth and Progress. Philosophical papers.
Vol. 3. Cambridge, 1998.
58
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
капкана» нет. Более того. Плюрализм может быть рационально
понят только в рамках антирелятивистской установки.
После XVII века, начиная с Декарта, в европейской
философии укоренилось мнение о том, что непосредственно данной
реальностью является мир сознания. С этой точки зрения именно о
нем можно иметь неоспоримое знание, знание же о внешней
реальности произвол но, да и само существование последней можно
поставить под сомнение — отсюда проблема «доказательства
существования внешнего мира», которую Кант считал скандалом в
философии. Субъективный мир — это исходная реальность и для
эмпириков (Беркли, Юм, Мах), и для рационалистов и трансцеден-
талистов (Кант, Фихте и др.). Это «точка зрения от первого лица».
У многих современных философов (особенно у тех, кто относит
себя к аналитической философии) сознание в качестве исходной
реальности было заменено языком и/или концептуальными
каркасами. Язык и эти каркасы — не продукт деятельности индивида,
они навязываются ему языковым или иным сообществом
(научным коллективом, соответствующей культурой и т. д.). Это уже не
«точка зрения первого лица как индивида», а «точка зрения
первого лица как коллектива» (не «Я», а «Мы»). Но все равно реальность
видится только через призму соответствующих языковых и
концептуальных построений. Существование или не существование
предметов, свойств, процессов вообще и тех или иных конкретных
предметов и свойств зависит от наличия или отсутствия
соответствующих языковых и концептуальных ресурсов. Существование
референта языковых выражений целиком определяется наличием
соответствующих описаний в языке (дескриптивная теория
референции Б. Рассела). Внешний мир лишь посылает некоторые
импульсы на органы чувств познающих существ. А содержательное
оформление этих импульсов, их интерпретация определяется в
рамках того или иного языка, концептуального каркаса.
Поскольку эти языки и схемы могут быть разнообразны и не определяются
самим миром, то картины реальности (а с этой точки зрения и сама
реальность) могут быть самыми разными. Отсюда неизбежность
релятивистских выводов.
Но это исходное положение в понимании познания и сознания
может и должно быть оспорено. Сегодня изучением
познавательных процессов занимается не только философия (в рамках такого
ее раздела, как эпистемология), но и множество специальных
когнитивных наук (психология, когнитивная лингвистика,
когнитивные нейронауки, исследования в области искусственного
интеллекта), иногда объединяемые в когнитивную науку. Эпистемология
В. Л. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
59
интенсивно взаимодействует с этими дисциплинами. Все эти
исследования исходят из того, что познавательные процессы могут
быть рационально поняты и исследованы в том случае, если за
точку отсчета мы примем не языковой или концептуальный каркас, а
взаимодействие познающего существа как реально существующего
(имеющего тело, органы чувств, нервную систему) с внешней
реальностью. Познавательный процесс должен быть понят как
включенный в реальный мир. Язык и иные концептуальные построения
играют важную роль в выявлении определенных характеристик
мира, но только в том случае, если эти построения соответствуют
тому, что есть на самом деле. Если такого соответствия нет, то эти
построения отбрасываются. Таким образом, языковые и/или
концептуальные каркасы не творят мир, а лишь могут выявить (или
не выявить) то, что реально существует. Это «точка зрения
третьего лица». В ее рамках можно понять и возможность «точки зрения
первого лица». Обратное движение мысли невозможно. Но это
значит, что не может быть речи о том, что восприятие или
констатация факта в науке полностью определяются принятыми
концептуальными средствами.
На современные когнитологические исследования большое
влияние оказала экологическая теория восприятия, разработанная
известным американским психологом Дж. Гибсоном. Многие из
тех, кто сегодня работает в когнитивной науке, считают себя гиб-
сонианцами или неогибсонианцами10.
Исходный пункт теории Гибсона заключается в том, что
восприятие это не обработка «следов» воздействия внешнего мира на
сенсорную систему, а непрерывное взаимодействие
воспринимающего с внешним миром. Только в рамках такого непрерывного
взаимодействия оно и может существовать. Восприятие — не
«идеальный предмет», имеющийся во «внутреннем мире» сознания, не
«вещь», а процесс. Это процесс извлечения информации из
внешнего мира. Восприятие не конструируется, но и не дается.
Воспринимаемая информация извлекается из мира активными
действиями воспринимающего. Поэтому можно что-то воспринять и что-то
не воспринять. Можно воспринимать лучше и хуже. Но действия,
обеспечивающие восприятие, это не действия сознания и не
деятельность мозговых механизмов (хотя без работы мозга восприятие
невозможно), а реальные действия воспринимающего субъекта с
его окружением. Поэтому в восприятие включено не только
сознание и не только сенсорная система плюс мозг, а все тело восприни-
ГибсонДж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
60
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологам
мающего и та часть окружения, которая взаимодействует с
субъектом в данном процессе. Восприятие — не только явление сознания,
но и событие в реальном мире, необходимая составляющая жизни.
Извлекаемая информация — в отличие от сенсорных сигналов,
которые с точки зрения старых концепций восприятия порождают
отдельные ощущения, — соответствует особенностям самого
реального мира. Ощущения, которые якобы вызываются отдельными
стимулами и которые с точки зрения старой философии и
психологии лежат в основе восприятия, не могут дать знания о мире. На
самом деле таких ощущений просто не существует. Это миф
традиционной философии и психологии. Восприятие, понятое как
активный процесс извлечения информации, презентирует субъекту
те качества самого внешнего мира, которые соотносимы с его
потребностями. Постулированные традицией ощущения не могут
развиваться, не могут возникать новые их виды. Между тем
извлекаемая в восприятии информация становится все более тонкой,
совершенной и точной. Учиться воспринимать можно всю жизнь.
Другая важная идея Гибсона, имеющая прямое отношение к
обсуждаемой теме, состоит в том, что каждое живое существо
выделяет в мире именно то, что соответствует возможностям его действия.
У разных типов живых существ эти потребности и возможности
существенно отличаются.
Реальность многообразна и многослойна, и познающее
существо имеет дело только с некоторыми ее характеристиками. Так,
например, человек, сидящий и работающий за столом, собака,
подбежавшая к хозяину и улегшаяся под столом, и таракан, огибающий
ножку стола, воспринимают один и тот же реальный предмет —
стол. Но воспринимают они его по-разному. Для собаки стол не
существует как то, что может использоваться для еды или
написания текстов, таракан, по-видимому, не может воспринять стол в его
целостности. Все эти существа живут в мире, в котором существует
стол, но они воспринимают его в соответствии со своими
возможностями действия (можно сказать, в соответствии со своими
онтологическими схемами). Если существуют инопланетные разумные
существа, то можно полагать, что они будут воспринимать и
постигать мир, в том числе и наше земное окружение, иным образом, чем
мы. Если бы были существа, размеры которых были сопоставимы с
размерами элементарных частиц, они смогли бы непосредственно
воспринимать эти частицы, что невозможно для человека.
Таким образом, есть плюрализм в восприятии мира. Человек
видит то, что не видит собака. Какое-то живое существо,
сенсорная система которого отличается от человеческой, может воспри-
В. А. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
61
нимать то, что не способен воспринять человек. Мы не можем
субъективно пережить то, как воспринимает мир летучая мышь, у
которой отсутствует зрение и которая ориентируется с помощью
эхо-локации (известный американский философ Т. Нагель
пытался извлечь из этого факта серьезные философские выводы)11. Да и
люди воспринимают мир по-разному. Если я и другой человек
смотрим на один и тот же предмет, например на дерево, то мы видим
его несколько по-разному. Во-первых, потому, что мы занимаем
разные позиции в пространстве, т. е. наши углы зрения
различаются. Во-вторых, потому что зрительный образ у разных людей
встроен в разные системы предшествующих знаний. Опыт каждого
человека специфичен, люди не одинаковы. Поэтому мои переживания
воспринимаемого дерева будут в чем-то непохожи на переживания,
связанные с восприятием этого же дерева другим человеком (даже
восприятие определенных свойств может быть разным у разных
людей: например художник будет видеть цвет листьев дерева иначе,
чем я). Однако в этом факте нет ничего фатального для
достижения взаимопонимания. Ведь мы живем и действуем в одном мире
и в нашем общении исходим из того, что существенные
объективные характеристики дерева видятся нами одинаковым образом.
Познающие существа имеют дело с одним и тем же реальным
миром, из которого они лишь извлекают разные характеристики, а не
конструируют собственные реальности. Поэтому мы можем понять
и то, как воспринимают мир животные — хотя последние не
способны понять наше восприятие мира. Таким образом, констатация
плюрализма не влечет релятивистских следствий.
Разные языки по-разному расчленяют мир. Но это опять-таки
не основание для релятивизма. Дело, во-первых, в том, что
существует так называемая лексико-грамматическая синонимия:
те смыслы, которые в одном языке выражаются грамматически,
могут быть в другом выражены лексически. Так, например, во
многих романо-германских языках категория определенности-
неопределенности выражена через систему артиклей. В
русском языке система артиклей отсутствует. Однако категория
определенности—неопределенности может быть выражена и в
русском языке с помощью лексических средств: через
местоимения «этот», «тот» в одном случае, «какой-то», «некоторый» в
другом. В современной лингвистике популярна теория порождающей
грамматики Н. Хомского, которая исходит из того, что ряд грамма-
11 Nagel Т. What Is It Like to Be a Bat? // Philosophical Review. Vol. 83. N. Y, 1974.
P. 435-450.
62
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
тических категорий являются универсальными (вопреки тому, что
утверждается в гипотезе лингвистической относительности):
например, такие категории, как названия предметов
(существительные и именные фразы), названия ситуаций — предложения. Таким
образом, прямо заключать от грамматической структуры языка к
характерной для него картине мира и к специфическим для его
носителей мыслительным схемам по меньшей мере опрометчиво.
Действительно, в разных языках есть определенные различия в
классификационных системах и в выражаемых языками смыслах.
В самом деле возникают в этой связи трудности перевода с одного
языка на другой. Но эти трудности не фатальны. Любой
переводчик и любой антрополог, изучающий язык до того не
исследованного народа, исходит из предпосылки о том, что люди, говорящие
на другом языке и принадлежащие к иной культуре, живут в том же
самом природном мире, в каком живем мы, а значит, для
собственного выживания должны воспринимать объективные
характеристики этого мира, и что эти другие — существа рациональные, т. е.
способные делать разумные выводы из воспринимаемого. А это
значит, что они не могут быть радикально отличными от нас.
Известный американский философ Д. Дэвидсон сформулировал это
как «принцип благожелательности» при исследовании других
языков и иных культур (principle of charity)12. Но это значит, что сколь
бы ни были различны языки, у них всегда есть общее смысловое
поле. Поэтому трудности перевода преодолимы. Они
преодолимы в принципе, и они все в большей степени преодолеваются
самой жизнью, в частности интенсивным процессом глобализации,
ведущим к сближению разных культур. Культуры не замкнуты на
себя (как считают релятивисты), а все более интенсивно
взаимодействуют друг с другом. А это значит, что сближаются смысловые
поля разных языков.
Парадигмы (их можно назвать и глобальными теориями) тоже
не замкнуты на себя. Не существует их несоизмеримости.
Вопреки тому, что утверждает Кун, смена фундаментальных научных
теорий не влечет за собою смену слоев знания, воплощенных в
структурах восприятия (обеспечивающих прямой контакт с миром, как
это показал Гибсон) и в положениях здравого смысла, выраженных
посредством обыденного языка. Появление новых теорий никогда
не вытесняет полностью теорий старых. Разные парадигмы в
действительности сопоставляются посредством внешних им критери-
12 См.: Davidson D. On the Very Idea of a Conceptual Scheme // Davidson D. Inquires
into Truth and Interpretation. Oxford, 1984.
В. А. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
63
ев. Развитие научного знания — это постоянная критическая
дискуссия между разными глобальными концепциями, спор между
ними. Плюрализм научных концепций — факт науки и условие ее
развития. Его смысл не в наличии разных представлений о
реальности, каждое из которых не может быть оценено извне
(релятивистская позиция), а в том, что в процессе конкуренции разных
теоретических представлений, одни из них демонстрируют свои
преимущества перед другими, при этом последние сходят со
сцены. Критическая дискуссия различных теоретических
построений — это средство поиска истины, способ выяснения того, что
же происходит на самом деле. Появление новой парадигмы вовсе
не изменяет полностью смысл старых понятий. Так, например, нет
полного отличия смысла слова «масса» в теории Ньютон и в
теории Эйнштейна. Просто с помощью более поздней теории можно
и выяснить границы смысла старого понятия, и выявить в нем
такие различения, которые в старой теории не существовали. Так,
например, именно в свете теории относительности можно показать,
что Ньютон не различал инертную и тяготеющую массу
Возможны случаи, когда один и тот же референт будет по-разному
пониматься, т. е. по-разному описываться в разных теориях. Атом, как
он понимался в физике в XVII веке и как он теоретически
осмысливается в современной физике, выглядит очень неодинаково. Но
все же речь идет о том же самом объективно существующем
атоме (референт, таким образом, не определяется дескрипцией — так
считают многие философы, разрабатывающие логическую
семантику и проблемы эпистемологии13, и представители современного
референциального реализма в философии науки14). Таким
образом, в основе дискуссий разных теоретических концепций в науке
лежит реалистическая эпистемологическая установка — иначе эти
дискуссии не имели бы смысла (а они и не имеют смысла с точки
зрения куновского релятивизма).
Теперь несколько слов о понимании человеком собственного
прошлого (нарративистская концепция памяти). Конечно,
каждый человек понимает свое прошлое (и тем самым самого себя)
по-своему. Это факт, связанный с тем, что каждый из нас не похож
на остальных и не может быть похож. Это тоже плюрализм как
необходимая черта жизни, особенно жизни современной,
характеризующейся все большей индивидуализацией. В этом нет ничего
плохого. Важно, однако, что в тех случаях, когда в условиях со-
13 См.: Kripke S. Naming and Necessity. Oxford, 1980.
14 Hacking I. Representing and Intervening. Cambridge; N. Y, 1983.
64
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологам
вместных действий нам нужно согласовать наше понимание
прошлых событий с тем, как эти события понимают другие (ибо от
понимания прошлого зависит осмысление настоящей ситуации,
а без последнего бессмысленно предпринимать совместные
действия), мы всегда можем достичь такого согласования. Ибо
прошлое — это те события, которые происходили на самом деле и
которые наблюдались разными людьми, а не то, что кто-то из нас в
одиночку придумал. Можно иметь разные оценки этих событий,
можно по-разному понимать важность каких-то из них, но все же
в отношении существенных характеристик таких событий можно
всегда прийти к общему мнению. Ибо человек не замкнут в мире
собственного сознания и личных воспоминаний, а общается с
другими, включен в отношения совместной деятельности и взаимной
коммуникации. В таких условиях жить прошлым, выдуманным
тобою лично, невозможно.
Приведу в этой связи такой пример. Пятнадцать лет тому назад
в США оказалось несколько десятков человек, страдавших
психическим заболеванием раздвоения личности (по-английски это не
«раздвоение», а скорее «расщепление»: multiple personality disorder:
MPD). Это были в основном женщины. Каждая из них обратилась
к своему психоаналитику, и эти терапевты в результате особых
сеансов выяснили, что с их пациентками в раннем детстве
происходило одно и то же: в младенческим возрасте их отцы приставали к
ним с сексуальными домогательствами. Все пациентки с помощью
психоаналитиков вспомнили эти факты, которые были настолько
травмирующими, что они (как это объясняет теория
психоанализа) загнали память об этих событиях в глубины подсознания — и
в результате, как рассказали те же психотерапевты, получили
неприятное заболевание в виде MPD. Выяснение этих ужасных
фактов было настолько шокирующим, что все женщины подали в суд
на своих родителей (не только на отцов, но и на матерей, так как
получается, что мать знала об извращениях отца, но не
предпринимала никаких действий). И вот когда ситуация приобрела столь
неприятный поворот, родителям нужно было защищаться. Они
смогли достать соответствующие свидетельства (документы, видео-
и фотоматериалы, рассказы свидетелей и т. д.), которые
убедительно свидетельствовали о том, что ничего подобного в
действительности не происходило.
Это факт говорит не только о том, что можно «вспомнить» о
том, чего не было, но и о том, что жить с ложным представлением о
прошлом можно лишь в том случае, если человек находится на
необитаемом острове и не контактирует с окружающими. Как только
В. Л. Лекторский. Релятивизм как феномен современной культуры
65
такая искусственная изоляция прерывается, вольно или невольно
приходится согласовывать с другими представления не только о
настоящем, но и о прошлом.
Наконец, о плюрализме культур и культурном релятивизме.
Есть распространенная сегодня теория культурного
разнообразия, которая именно релятивистскую интерпретацию культуры
считает наиболее современной и даже связывает именно с таким
пониманием популярную в мире, а также у нас практику
толерантности, как способ борьбы с ксенофобией. Считается, что
существует равноправие разных концептуальных каркасов и систем
ценностей, которые определяют индивидуальную и коллективную
идентичность и лежат в основании разных культур. При таком
понимании характерные для разных культур системы взглядов не
могут взаимодействовать друг с другом, ибо замкнуты на себя (ку-
новское представление о несоизмеримости научных парадигм —
частный случай такого понимания). Толерантность в этом случае
выступает как уважение к другому, которого я вместе с тем не могу
понимать и с которым не могу взаимодействовать. Это что-то
вроде лейбницевского мира монад, не имеющих окон. Это понимание
кладется в основу практики мультикультурализма, который при
такой его интерпретация выступает, как консервирование
существующих культурных различий.
Но подобное понимание мульткулыурализма и толерантности,
как я уже говорил выше, провалилось на практике. И это не
случайно, ибо релятивистское представление, лежащее в основе этой
практики, совершенно несостоятельно.
Между тем можно сформулировать такое понимание
взаимоотношения разных культур и толерантности, которое и
концептуально лучше других, и практически может приводить (и исторически
приводило) к позитивным результатам. Правда, возникает вопрос,
идет ли речь о том, что обычно называется толерантностью. Ведь
последняя — это просто терпимость к другим взглядам. Я считаю
плодотворным такое понимание отношений между
представителями разных взглядов, концептуальных каркасов, систем ценностей,
которое предполагает не просто терпимость, а жгучую
заинтересованность в этих иных способах понимания мира, желание вступить
с ними во взаимодействие. Это «больше, чем толерантность».
Это то, что является диалогом. О диалоге как фундаментальной
характеристике отношения разных сознаний и разных культур
писал когда-то M. M. Бахтин.
Существует не только плюрализм взглядов по философским,
ценностным, принципиальным теоретическим вопросам, но и вза-
66
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
имодействие этих взглядов, их взаимная критика и самокритика.
В результате этой взаимной критики разные познавательные и
ценностные позиции могут изменяться, а в некоторых случаях даже
отвергаться. Развитие взглядов отдельных людей, развитие культур,
научных программ предполагает коммуникацию, диалог с
представителями иных позиций. Взаимодействие с позициями,
отличными от моих, сопоставление моей аргументации с аргументами в
пользу иной точки зрения выступает как необходимое условие
развития моих собственных взглядов. Диалог выступает как уважение
к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное изменение
позиций в результате критического диалога. Наладить такой диалог
между разными культурами исключительно трудно (в философии и
науке это все же удается). Но только на этом пути можно избежать
конфронтации разных культур.
Таким образом, в современном мире не существует никакого
«релятивистского тупика». Есть плюрализм взглядов в культуре, в
науке, есть различие языков и проблемы с их взаимной переводи-
мостью, есть разность политических позиций, есть разнообразие
внутреннего мира людей. Но главное в том, что разные системы
взглядов и ценностей не самозамкнуты, а открыты как внешней
реальности, так и другим людям. Они взаимодействуют с миром и
с другими смысловыми системами. И меняются в ходе этого
взаимодействия. Форма этого взаимодействия — диалог с миром и
другими. Это бывает очень нелегко. Нередко вместо диалога мы
имеем конфронтацию и попытки навязывания определенной системы
взглядов остальным. Но отказ от диалога, замыкание в
релятивистские концептуальные каркасы (воссоздание ситуации вавилонской
башни) равнозначны сегодня гибели. Поэтому другого пути нет.
Ситуация сложна, но не безнадежна15.
15 См. также: Поппер К. Миф концептуального каркаса // Поппер К. Логика и рост
научного знания. М., 1983. С. 558—593.
В. С. Степин
Картина мира и современные проблемы
научного знания
Научная картина мира — это особая форма
теоретического знания, в которой представлено системно-структурное
видение предмета научного исследования. В анализе этой
формы знания мы имели приоритет по отношению к
западной философии и методологии науки. Там очень
долго не различали теорию и картину мира, и все то, что относилось к
научной картине мира, обозначалось термином «теория».
Лишь в середине 70-х годов прошлого столетия появились
работы, в которых были зафиксированы некоторые особенности научной
картины мира как формы теоретического знания. Что же касается
отечественных исследований, то к этому времени у нас уже была
проанализирована структура научной картины мира, выяснено ее
соотношение с теориями и опытом, определена типология научных
картин мира и их функции в исследовательской деятельности.
Научная картина мира обеспечивает систематизацию научного
знания. Соответственно разным уровням такой систематизации
можно выделить три типа научных картин мира: а) специально-научные;
б) естественно-научную и социально-научную и в) общенаучную.
Специально-научные картины мира — это дисциплинарные
онтологии. Термин «мир» здесь понимается в узком смысле не как
Универсум, а как его аспект или фрагмент, изучаемый
соответствующей дисциплиной: «мир физики», «мир химических процессов»,
«мир биологии» и т. п. В этом значении применяются также
термины «физическая реальность», «биологическая реальность» и т. п.
Более широкий горизонт систематизации знания задан
естественно-научной и социально-научной картинами мира.
Первая выступает формой синтеза знаний о природе, вторая — наук об
обществе и человеке. Вместе они образуют общенаучную картину
мира, в которой эволюция природы и общества предстает как
единый процесс развития нашей Вселенной.
68
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Современная естественно-научная картина мира фиксирует
иерархию структур неживой природы как результат эволюции Вселенной от
Большого взрыва до наших дней (элементарные частицы, атомы,
молекулы, звезды и планетные системы, галактики, Метагалактика) и
структур живой природы (ДНК, РНК, клетка, многоклеточные
организмы, популяции, биогеоценозы, биосфера).
Поскольку эти структуры могут исследоваться в разных
дисциплинах, естественно-научная картина мира определяет место
каждой из них в системе знаний о природе и связи их предметных
областей.
Что же касается современной социально-научной картины мира
(картины социальной реальности), то в сообществе обществоведов
и гуманитариев пока нет того уровня консенсуса в принятии той
или иной ее версии, который сложился в естествознании по
поводу научной картины природы. Тем не менее в различных версиях
структуры и динамики общества есть общие компоненты, своего
рода инвариантное содержание, что намечает общие контуры
картины социальной реальности.
Я попытался эксплицировать это содержание и, конкретизируя
его, ввести целостное представление о структуре и динамике
общества. Первый вариант этой работы был дан мною еще в 1992 году
в книге «Философская антропология и философия науки», где я
зафиксировал устойчивую систему идей, которая разделяется
сторонниками разных парадигм. Во всех них общество
рассматривается как исторически меняющаяся система, а в качестве основных
подсистем общественной жизни фиксируются экономика,
социальная структура и соответствующие ей институты, культура.
Дальнейшие шаги предполагали анализ внутренней
организации этих подсистем, выяснение связей между ними, их функций в
социальной жизни с учетом ее исторической эволюции.
Для решения этих задач потребовалось, во-первых, уточнить и
конкретизировать представления о саморазвивающихся системах,
во-вторых, эксплицировать философско-антропологические идеи,
с позиций которых будет анализироваться внутренняя структура и
связи основных подсистем общества.
Принципиально важной характеристикой
саморазвивающихся систем являются периодически возникающие в них коренные
качественные изменения, фазовые переходы, когда один тип
саморегуляции сменяется другим. В этом процессе система может
усложняться, формировать новые уровни организации, которые
воздействуют на ранее сложившиеся уровни и законы их
функционирования, организуя их в новую целостность.
В. С. Степин. Картина мира и современные проблемы научного знания 69
Что же касается философской позиции анализа, то здесь важную
роль играли идеи философской антропологии, понимание
человеческого бытия как трех главных отношений человека к миру: а)
отношение к природе и искусственно созданной человеком природной среде,
в которой непосредственно протекает человеческая жизнь; б)
отношение к другим людям, к социальным коллективам; в) отношение к
духовному миру, в котором аккумулируется как индивидуальный опыт
человека, так и общественный исторический опыт поколений.
Эти три отношения человека к миру и порождают три главные
подсистемы общественной жизни: экономику, ядром которой
является производство материальных благ, социальные общности
(большие и малые социальные группы) и институты, культуру.
Каждая из этих подсистем не существует в отрыве от других. Они
лишь относительно автономны, выступая компонентами
целостной системы, которая называется обществом.
Рассмотрение общества как целостной сложной системы часто
выражено в представлении его как организма,
взаимодействующего с природной средой и воспроизводящего себя.
Этот подход можно встретить у О. Конта, когда он, стремясь
построить теорию общества как социальную механику, наталкивался
на ограниченность механистического подхода в этой области.
Термин «социальный организм» применял Г. Спенсер, подчеркивая
системную целостность общества. Его применял К. Маркс. Он
используется также в современной социальной философии и
социологии (Т. Парсонс и Н. Луман).
Я показываю, что в рамках этого подхода можно зафиксировать
наличие в обществе особых программ различных видов
деятельности, поведения и общения, благодаря которым воспроизводится и
изменяется социальная жизнь. Такого рода программы
закрепляются в различных знаковых формах и транслируются в качестве
семиотических образований от человека к человеку, от поколения
к поколению. Они составляют содержание культуры, то, что
принято обозначать как накопленный и обновляющийся социально-
исторический опыт. Культуру я определяю как сложную,
исторически развивающуюся систему надбиологических программ
человеческой жизнедеятельности, которая хранит и транслирует
эти программы (традиция), а также генерирует новые программы
деятельности, поведения и общения до того, как они внедряются в
социальную жизнь и меняют ее (творчество).
Рассмотрение культуры как социокода, надстраивающегося над
биогенетическим кодом и взаимодействующим с ним, достаточно
широко распространено как в зарубежной, так и в отечественной
70
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
философско-культурологической литературе (М. Петров, Ю. Лот-
ман и др.). Я опирался на все эти исследования и попытался
проанализировать структуру и динамику социокода как сложной
системы. Ключевыми идеями этого анализа являются представления о
культуре как иерархии программ деятельности, об их
дифференциации в соответствии с возникающими в ходе эволюции
подсистемами культуры (обыденное сознание, литература и искусство, религия
и миф, политическое и правовое сознание, философия, наука), о
наличии общих для всех этих культурных подсистем
фундаментальных жизненных смыслов и ценностей, выраженных в
мировоззренческих универсалиях, пронизывающих все сферы культуры. В своем
сцеплении и взаимодействии эти универсалии функционируют в
качестве своего рода генома социального организма.
Возникновение новых видов общества, новых типов
социального развития всегда предполагает трансформацию сложившейся
системы универсалий культуры. Духовные революции всегда
предшествуют социально-политическим революциям. И если в этом
процессе возник новый вид общества, то эффективность или
неэффективность нового культурно-генетического кода обнаружится в
последующем экономическом развитии, в возможностях
внутренней консолидации различных социальных групп, в способности
нового вида общества конкурировать с другими сосуществующими
с ним видами. Все эти последствия можно интерпретировать как
своего рода факторы естественного отбора, тогда как
трансформация универсалий культуры выступает в функции изменения генома
соответствующего социального организма.
Аналогии между биоэволюцией и социальной эволюцией в
данном случае оправданы, поскольку существуют общие
закономерности саморазвивающихся систем, экземплификациями которых
могут выступать как биологические, так и социальные объекты,
рассматриваемые в аспекте их исторической эволюции.
Не существует односторонней детерминации характера
культуры способом производства, но имеются сложные корреляции и
состыковки этих сфер человеческой жизнедеятельности. Их
взаимодействие нужно описывать не в терминах поведения жестко
детерминированных систем, а в терминах самоорганизации,
прослеживая их прямые и обратные связи.
С этих позиций я проанализировал парадигмально
несовместимые формационный и цивилизационный подходы и предложил
сближающую их концепцию типов цивилизационного развития.
Два реализовавшихся в человеческой истории типа такого развития
(традиционалистский и техногенный) различаются по основаниям
В. С. Степин. Картина мира и современные проблемы научного знания 71
их культурно-генетического кода — пониманию человека,
природы, человеческой деятельности, традиции и инноваций,
рациональности, личности, власти.
Марксистская теория формаций в этом аспекте предстает как
концепция предыстории и основных стадий истории техногенной
цивилизации с прогнозом ее перехода в коммунистическое общество. Но
применение этой теории к особой разновидности
традиционалистского типа развития, представленной цивилизациями Востока,
сталкивалось с огромными трудностями. К. Маркс, стремился обойти их,
выдвинув гипотезу об особом азиатском способе производства, но
это, в свою очередь, породило немало проблем при описании и
объяснении исторических фактов в рамках формационного подхода.
В обсуждаемой книге я учитывал особенности универсалий
культуры в разных типах цивилизационного развития и под этим
углом зрения анализировал возникновение и историческую
эволюцию научной рациональности, формирование ее новых типов,
изменение взаимоотношений науки и религии, особенности
правового сознания, функции философии в трансформациях базисных
ценностей культуры.
В книге акцентирована идея о том, что современные
глобальные кризисы, порожденные техногенной цивилизацией, требуют
пересмотра прежних стратегий ее развития. А это, в свою очередь,
предполагает критический анализ базисных ценностей
техногенной культуры и обнаружения точек роста новых ценностей. С этих
позиций я анализировал возможности формирования новых
мировоззренческих ориентиров в связи с проблемами современной
глобализации и места России в этих процессах. Такова логика
изложения основных идей книги.
В саморазвивающихся системах, возникающий в процессе
эволюции, каждый новый уровень организации будет воздействовать
на ранее сложившиеся уровни, ограничивая действие ранее
возникших законов этого уровня. Формирование же новых уровней
организации, если иметь в виду кардинальные фазовые переходы в
системе, связано с возникновением новых законов.
Было время, когда во Вселенной отсутствовали атомы и
молекулы, а значит, не было химических реакций и, следовательно,
закономерностей, которым они подчиняются. Если жизнь возникла
только на определенной стадии развития Вселенной, а это уже
научный факт, то до этой стадии не было биологической формы
организации материи и не было законов биологической эволюции.
Наконец, до возникновения человека и общества не было
закономерностей социального развития. Так что возникновение новых
72
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологам
законов в процессе эволюции является важнейшей
характеристикой развития нашей Вселенной.
Отмечу, что идея формирования в ходе эволюции новых законов
отнюдь не тривиальна. Она возникает только тогда, когда
эволюционные объекты рассматриваются в качестве сложных
саморазвивающихся систем. Но первые идеи эволюции неживой и живой
природы формировались в рамках представления об объектах как простых
механических системах. Примерами здесь могут служить гипотеза
Канта — Лапласа о происхождении Солнечной системы из газово-
пылевой туманности, а также концепция Ламарка о происхождении
видов. В обсуждаемой книге показано, что они не выходили за
рамки механической картины мира1. Эта картина полагала Вселенную
стационарной, а действующие в ней законы — вечными и
неизменными. Но современная наука сформировала иную картину нашей
Вселенной, в которой три ее подсистемы (неживая природа, живая
природа, общество) связаны между собой и последовательно
возникли в ходе эволюции. Каждая из них управляется особыми
законами, которые формируются во времени в процессе развития.
Теперь о второй части, о влиянии нового уровня организации
на ранее сложившиеся уровни сложной развивающейся системы.
Такое влияние является обязательным условием перехода от одной
стадии целостности системы (гомеостазиса) к другой стадии, более
сложной целостности (новый тип гомеостазиса). Это
закономерность развития любой саморазвивающейся системы, независимо от
того, будет ли это неживая, живая природа или общество. Даже
отдельные подсистемы социальной жизни — экономика, социально-
политическая сфера, культура могут быть рассмотрены как особые
саморазвивающиеся объекты, в которых возникают в ходе
развития новые уровни организации, подчиняющиеся описанным
характеристикам усложнения системной иерархии. Формирование
каждого нового уровня связано с появлением новых
закономерностей, которые начинают управлять действием ранее
сложившихся законов, но не отменяют их, а особым образом направляют это
действие. Например, закономерности химических реакций в
процессе обмена веществ клетки с окружающей средой избирательно
управляются ДНК и РНК клетки. Биологические инстинкты
проявляются в человеческом обществе через их регуляцию культурой.
Существуют запреты на некоторые формы их проявления. Эти
запреты могут быть выражены в соответствующих нравственных и
правовых императивах. Они начинаются еще с древних табу и про-
1 См.: Степин В. С. Цивилизация и культура. СПб., 2011. С. 225.
В. С. Степин. Картина мира и современные проблемы научного знания 73
должаются в современных формах этической и правовой регуляции
человеческого поведения.
Законы механики не отменяются. Но действуют они в
человеческом теле особым образом. Движениями тела управляет не
просто механика, а биомеханика. Все механические движения тела
осуществляются благодаря активности мышц. В свою очередь,
мышечные усилия человека возникают благодаря сложнейшим
биохимическим процессам, протекающим в организме. А эти процессы
могут развертываться в разных формах и с разной интенсивностью
в зависимости от состояния человеческой психики.
Известно, например, что высокая мотивация способна породить
сверхусилие тела, которое в других состояниях не возникает. Это
хорошо известно из практики большого спорта. Спортсмен,
нацеленный на победу, допустим, в Олимпийских играх или на
установление мирового рекорда, благодаря психологической настройке
может достичь результата, которого он не показывал в
многочисленных тренировках, хотя и приближался к нему.
Если появление в ходе космической эволюции новых законов
оказывает воздействие на ранее возникшие, то можно ли это
трактовать как изменение уже возникших законов в процессе развития?
Это очень важный и проблемный вопрос. На него возможны два
варианта ответа. Первый из них мы обсудили. Вновь возникшие
законы, оказывая воздействия на предшествующие, не отменяют и
не изменяют их, а лишь определяют формы и границы их действия
в рамках новой целостности. Но возможен и более радикальный
ответ, предполагающий изменение уже возникших законов под
влиянием новых уровней организации системы. Пока это гипотеза,
не получившая достаточного обоснования, хотя и правдоподобная.
Возможность такого рода ситуаций в ходе космической эволюции
по существу допускал, например, известный физик XX века П.
Дирак. Он полагал, что мировые константы могут изменяться с
течением времени, а это эквивалентно изменению физических
законов, включающих мировые константы. Возможно при дальнейшем
анализе ранних состояний нашей Вселенной (Метагалактики),
когда рождалась гравитация, а затем происходила дифференциация
исходного взаимодействия на сильные, слабые и
электромагнитные взаимодействия, гипотеза П. Дирака окажется продуктивной.
Возможно, будет обнаружено, что мировые константы изменяются
и в последующей эволюции Вселенной по мере ее расширения. Но
пока для всех этих гипотетических положений нет убедительных
подтверждающих фактов. Пока более верифицированным
представляется первый вариант ответа.
74
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Проблема формирования в ходе социальной эволюции новых
законов, регулирующих жизнь общества, включает два аспекта.
Первый касается появления новых законов в рамках человеческого
типа социальности, той истории человечества, которая уже
реализовалась и которая не закончилась. Второй аспект — это выход за
пределы человеческой истории, формирование некоего
надчеловеческого состояния социальной жизни, которое в вопросе А. А.
Гусейнова обозначено как «сверхсоциальное».
В первом аспекте вопрос имеет достаточно верифицируемый
ответ. Изменение типов цивилизационного развития, смена
формаций (как этапов предыстории и истории техногенной
цивилизации), изменение в ходе исторической эволюции основных
социальных подсистем (экономики, социально-политической сферы,
культуры) — во всех этих процессах можно зафиксировать
возникновение новых объективных законов, регулирующих жизнь
общества. Эти законы могут быть различны по степени общности
и интервалу действия. Но все они возникают во времени в ходе
исторического развития. Сошлюсь в качестве примера на те
исторические перемены, которые происходили в сфере производства в
связи со становлением и развитием рыночных отношений.
Как известно, разделение труда порождает обмен продуктами
деятельности, который подчиняется определенным законам. В них
можно выделить общее содержание, своего рода общесоциальный
инвариант — закономерность, которая действует на разных стадиях
развития производства. Но это общее всегда реализуется в
соединении с особенным, с конкретными законами, которые возникают
на соответствующих стадиях исторической эволюции и особым
образом регулируют обмен результатами труда, а также обратное
воздействие этого обмена на производство. Простое товарное
производство и расширение натурального обмена продуктами порождает
деньги. В результате формируются новые законы товарного
обмена. Дальнейшая эволюция товарно-денежных отношений
превращает деньги в капитал. Возникают законы капиталистического
производства, которых ранее не было. Затем уже в рамках
капитализма происходит формирование новых закономерностей рынка.
Во второй половине XX века деньги превращаются в
самостоятельный товар, и финансовая сфера обретает автономию по
отношению к сфере производства. К этому приводили процессы роста
инвестиций в страны, каждая из которых имела особую валюту, и
расширение мирового рынка, втягивающего в товарооборот все
новые объекты (услуги, знания, продукты художественного
творчества и т. д.). Все это потребовало особой регуляции валютного об-
В. С. Степин. Картина мира и современные проблемы научного знания 75
мена. И подобно тому, как в свое время расширение натурального
обмена товаров породило деньги, расширение валютного обмена
породило мировую валюту. Ею стал доллар США. Валютные
рынки и рынки ценных бумаг, регулируемые мировой валютой, в свою
очередь начали активно управлять развитием производства.
Сформировались новые законы экономического роста, определяющие
функционирование национальных и мировой экономик.
Я не буду далее анализировать позитивные и негативные
последствия всех этих перемен. О них сказано в обсуждаемой книге.
Подчеркну лишь то, что требовалось доказать — в ходе
социального развития возникают новые законы, каждый раз по-новому,
организующие социальную жизнь.
Теперь о второй, чрезвычайно важной проблеме, поставленной
в вопросах А. А. Гусейнова. Может ли прекратиться человеческая
история путем перехода в принципиально новую стадию развития
разума, кардинально изменяющую самого человека и законы его
социальной жизни?
Логика активистской установки Нового времени, развитая в
последующих трансформациях техногенной культуры, не только допускает
такую постановку вопроса, но и приводит к ответу на него в плане
возможности кардинального изменения человеческой природы.
Мои возражения против активистской установки связаны с
критической оценкой такого сценария, как конечной цели
социального развития. Но они не отбрасывают того позитивного содержания
активистской установки, которое выражено в идее человека как
деятельного существа, познающего и преобразующего мир.
Я не считаю, что можно вообще перейти в дальнейшем
социальном развитии к некой стагнации, воспроизводя одни и те же
состояния и не порождая ничего нового. Деятельность человека всегда
будет приводить к появлению новых состояний, которые будут
изменять социальную жизнь.
Если рассматривать человеческую активность в масштабе космоге-
неза, то ее можно представить как процесс, который формирует
особую линию эволюции природы. Подавляющее большинство объектов
искусственно создаваемой человеком предметной среды — второй
природы (начиная с каменного топора и одежды, сшитой из шкур
животных, и кончая современными изделиями из композитных
материалов, реактивными самолетами, космическими кораблями,
трансгенными растениями, компьютерами и т. п.) — не возникают в природе
сами по себе, вне человеческого разума и человеческой деятельности.
Вероятность их появления в рамках естественной линии
природной эволюции ничтожно мала, хотя и не противоречит законам
76
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
природы. И только возникновение человека, и развитие
человеческого разума как особой стадии космогенеза, превратило (если
использовать терминологию Гегеля) абстрактную возможность новой
линии эволюции в реальную, а затем и в действительность.
Резкое ее ускорение произошло на этапе истории
техногенной цивилизации. На этом этапе технологически осваиваются все
усложняющиеся типы системных объектов — простые
(механические), сложные саморегулирующиеся и, наконец, на современной
стадии начинается освоение сложных саморазвивающихся систем.
Каждая новая стадия техногенеза меняет социальные связи и
отношения людей и усложняет организацию общества как особой
материальной системы.
Ускорение техногенеза в современных условиях открыло
невиданные ранее возможности целенаправленного изменения
биологической составляющей человека, возможности
переконструирования его тела, созданного миллионами лет эволюции биосферы.
Современные технологии (прежде всего, генная инженерия,
информационные и когнитивные технологии) выступают
предпосылками реализации этого сценария. Возникли и концептуальные
обоснования его перспективности.
Возникло целое направление так называемого трансгуманизма,
которое пропагандирует неизбежность возникновения на
определенном этапе технологического развития нового типа мыслящих
существ. Появятся ли искусственно сконструированные
саморазвивающиеся особи как представители более высокой стадии
развития социальности и сознания, чем создавший их человек? Это
вопрос открытый, требующий внимательного анализа. Я эту тему
рассматривал в обсуждаемой сегодня книге. Если сценарий
«постчеловека» будет реализован, то это будет уже не человеческое, а
какое-то иное общество, и им будут управлять новые
закономерности. Тогда выработанные человеческой культурой формы
регуляции (например, нравственные и правовые нормы) могут оказаться
бесполезными и чуждыми. Кстати, Ф. Фукуяма, обсуждая
возможность «постчеловеческого будущего», обратил внимание на то, что
идея прав человека основана на принципе общей естественной
природы людей. А если произойдет формирование принципиально
нового вида «sapiens», который будет какое-то время соседствовать
с «Homo sapiens», то идея прав человека утратит свое основание.
В отличие от трансгуманистов, я не воспринимаю позитивно-
восторженно сценарий постчеловека. Я отношусь к нему, скорее, с
изрядной долей негативизма и настороженности. Риски, которые
обозначаются в связи с идеями переконструирования человеческой
В. С. Степин. Картина мира и современные проблемы научного знания 77
телесной организации, многообразны и вполне могут привести к
разрушению цивилизации и деградации человека.
Я думаю цель была все-таки другая: облегчить их адаптацию,
чтобы они не чувствовали себя дискомфортно в новой среде.
Уместно напомнить, что нечто подобное у нас было в первые
десятилетия существования Советского Союза — так называемые
двухгодичные учительские институты. В анкете была строка:
«незаконченное высшее образование». Было три ступени образования:
среднее, незаконченное высшее и высшее. Но затем советская
образовательная система вышла на новые рубежи. В послевоенные
годы в Советском Союзе среднее образование, основанное на
усвоении научных знаний, стало всеобщим. И даже обсуждался вопрос
о всеобщем высшем образовании, которое было ориентировано на
подготовку специалистов высокой квалификации.
Современный переход ко второму российскому капитализму
сопровождался демонтажем этой системы. К образованию стали
относиться как к сфере услуг, а в качестве его конечной цели стали
рассматривать формирование квалифицированного потребителя.
Полагалось, что достичь этой цели можно посредством
копирования той модели образования, которая утвердилась в
потребительских обществах Запада. В условиях недофинансирования
образовательной сферы и роста коррупции такое копирование привело
к снижению образовательного уровня. Как показала практика,
реформы пока не привели к росту образованности населения.
В культуре техногенной цивилизации должны возникать точки
роста новых ценностей как предпосылки будущего нового типа цивили-
зационного развития. И тогда надо с этих позиций проанализировать
изменения, происходящие в разных сферах современной культуры:
науке, философии, религии, нравственности, политическом и
правовом сознании, искусстве. Научно-технологический прогресс в
истории техногенной цивилизации всегда был главным источником ее
изменений. В этой области в первую очередь следует искать точки роста
новых ценностей. Я полагаю, что возникновение постнеклассической
рациональности представляет собой такого рода точку роста.
Этот тип рациональности возник в связи с освоением в науке и
в ее технологических приложениях сложных саморазвивающихся
систем. В большинство таких систем человек включен в качестве
особого компонента. Я называю такие системы человекоразмер-
ными. Они сегодня начинают занимать доминирующее положение
на переднем крае научных исследований. И их освоение
потребовало определенных корректив в интерпретации ценности науки и
порождаемых ею технологий. Долгое время в техногенной культу-
78
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
ре доминировал идеал самоценности научного познания. Выйдя из
под средневекового контроля со стороны религии, наука завоевала
право на автономное развитие. Полагалось, что цели науки добывать
объективно-истинное знание о мире и постоянно наращивать
корпус такого знания, всегда соответствуют высшим гуманистическим
ценностям. А поэтому науке не нужно никакой внешней для нее
регуляции. Ей достаточно внутренних регулятивов, представленных
внутринаучным этосом. Две определяющие ценностные установки
научной деятельности — ценность объективной истины и ценность
новизны — выступают основными принципами научной этики. Она
налагает запреты на умышленное искажение истины и на плагиат
как несовместимый с установкой на научные открытия и
приращение знания. Но освоение в научно-технологической деятельности
саморазвивающихся человекоразмерных систем потребовало
дополнительных этических регулятивов. В некоторых сценариях развития
человекоразмерных систем могут возникать зоны риска, опасные
для человека и общества. Их нужно определить и по возможности
избежать. Внутренних этических регулятивов здесь уже
недостаточно, хотя они остаются необходимыми. Они должны быть
соотнесены с более широким пониманием гуманистических идеалов.
Как выражение этой потребности в современной науке возникла
социально-этическая экспертиза научно-технологических программ
и проектов. В ней оцениваются возможные социальные последствия
научных и технических достижений. Разумеется, такие оценки
должны иметь объективное основание. А это предполагает привлечение
специалистов социально-гуманитарных наук и проведение особых
исследований, касающихся экономических, психологических,
социологических, культурологических аспектов тех изменений, которые
могут быть вызваны научно-технологическими инновациями.
Я не считаю, что существует только один, и причем
оптимистический, сценарий развития науки и технологий на современном этапе
цивилизационных перемен. Существуют и неблагоприятные
сценарии. Но считаю, что обсуждение оптимистического сценария имеет
преференции, поскольку он включается в качестве аспекта в
сценарий такого возможного перехода к новому типу цивилизационного
развития, который нацелен на решение глобальных проблем,
сохранения человека и накопленных им цивилизационных достижений.
Отсюда, конечно, не следует, что остальными
неблагоприятными сценариями, возможность которых справедливо отметил Борис
Исаевич, можно пренебречь. Напротив, их нужно анализировать.
Но это предмет особого исследования, особая проблема, которую
предстоит решать.
В. С. Степин. Картина мира и современные проблемы научного знания 79
Взаимодействие естественных, технических и социально-
гуманитарных наук, характерное для освоения сложных, человеко-
размерных систем, проявляется в различных формах. Социально-
этическая экспертиза научных программ и проектов — это только
один из аспектов, одна из форм такого взаимодействия. Важно
зафиксировать, что междисциплинарность исследования диктуется
самим комплексным характером изучаемого человекоразмерно-
го объекта, особенностями взаимодействия его подсистем в
рамках сложной целостности, разнообразием и соподчиненностью их
функций и их изменениями в ходе развития системы.
В современной науке уже существует немало образцов такого
типа исследований. Например, когнитивные науки и когнитивные
технологии, связанные с изучением функций человеческого мозга,
изначально предполагают взаимодействие биохимических и
физиологических исследований с психологией, с идеями и методами
лингвистики, семиотики, социальной антропологии,
культурологии. Социально-гуманитарная составляющая в таких
исследованиях не менее значима, чем естественно-научная.
Что же касается ценностных изменений в сознании ученых и
общества в связи с расширением в науке области постнекласси-
ческих исследований, то эти изменения постепенно происходят
и дают свои результаты. Достаточно вспомнить о моратории на
клонирование человека, принятого учеными и одобренного
общественным мнением. Уже стали привычными требования
экологической экспертизы и учета социальных последствий внедрения тех
или иных крупных технологических проектов.
После Чернобыля и Фукусимы значительно повышены
требования к безопасности АЭС, а эксплуатация АЭС, не удовлетворяющих
этим требованиям, приостанавливается. В нашей стране, несмотря
на недостаточную цивилизованность отечественного бизнеса,
также есть положительные образцы влияния гуманитарных ценностей
на реализацию крупных технологических проектов. Одним из таких
примеров является коренное изменение, благодаря активности
наших ученых и вмешательства Президента страны, проекта
прокладки нефтепровода в непосредственной близости от озера Байкал.
Проблема, которая здесь поставлена, кардинальна. Это вопрос
об изменениях предмета философии науки коррелятивно
историческим изменениям самой научной деятельности. Чтобы ответить
на этот вопрос необходимо более-менее развернутое рассуждение.
Мой подход к решению этой проблемы состоит в следующем.
Во-первых, необходимо четко различить науку и другие формы
познавательной деятельности (обыденное познание, искусство, фи-
80
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
лософию, религиозно-мифологический опыт), выделить главные
конституирующие признаки науки как общее, сохраняющееся на
всех этапах ее исторического развития. Во-вторых, вывить
исторически возникающие в науке типы рациональности, определить их
отличительные признаки, которые в каждом из этих типов
соединяются с общими инвариантными признаками науки.
В рамках такого подхода можно выяснить, как менялись и
углублялись представления философии науки о природе и
закономерностях научного познания.
Три главных типа научной рациональности (классическая,
неклассическая, постнеклассическая), возникшие в историческом
развитии науки, различаются по следующим критериям.
Во-первых, по типу системной организации исследуемых
объектов. Классическая рациональность обеспечивает освоение простых
систем, неклассическая — сложных саморегулирующихся систем,
постнеклассическая — сложных саморазвивающихся систем.
Познание каждого из этих типов систем предполагает особую
категориальную структуру мышления, особые смыслы категорий части и
целого, вещи и процесса, причинности, пространства и времени.
Во-вторых, различие типов рациональности выражается в
специфическом понимании идеалов и норм исследования. При
сохранении инвариантного содержания этих норм, выражающих
отличие науки от других форм человеческого познания, в каждом новом
типе научной рациональности возникают особые специфические
смыслы в трактовке объяснения и описания, обоснования,
строения и построения знания.
В-третьих, в каждом новом типе рациональности изменяются
философские основания науки. Углубляется философская
рефлексия над научной деятельностью. В классической рациональности
эта деятельность предстает как познавательное отношение, в
котором суверенный познающий разум (субъект) со стороны наблюдает
и изучает объекты и в идеале не детерминирован ничем, кроме
своих способностей постигать свойства и сущностные связи объектов.
В неклассической рациональности выясняется, что между
разумом и объектом всегда есть посредник — средства и операции
деятельности. Они исторически развиваются, и от уровня их
исторического развития зависит то, что может выделить и изучить в мире
познающий разум. Наконец, в постнеклассической
рациональности принимается во внимание, что любая деятельность, в том числе
и научное познание, социально детерминирована, определена
базисными ценностями культуры, которые программируют
деятельность, влияют на формирование ее ценностно-целевых установок.
В. С. Степин. Картина мира и современные проблемы научного знания 81
Научное познание во все эпохи было социально обусловлено.
Но не во все эпохи это осознавалось и закреплялось в
философских основаниях науки.
Возникновение каждого нового типа рациональности не
уничтожало предшествующие, но ограничивало сферу их действия.
Они сосуществуют в современной науке, и между ними можно
выявить отношения преемственности.
Становление постнеклассической рациональности
происходило в эпоху довольно радикальных изменений в организации науки
как социального института. Во второй половине XX века сложилась
«большая наука», с крупными исследовательскими коллективами,
углублением разделения научного труда, расширением сферы
технологических приложений научных знаний, возрастанием затрат на
науку со стороны государства и бизнеса. Начавшееся формирование
общества знаний (конец XX — начало XXI века) все в большей
степени превращало научные знания в рыночный продукт. Эти
процессы стимулировали появление так называемой технонауки. Ее
предпосылками выступали не только потребности производства и рынка,
но и особенности исследований на этапе постнеклассического типа
научной рациональности. При изучении сложных человекоразмер-
ных систем происходит сближение фундаментальных и прикладных
исследований. Например, расшифровка генома человека и
выяснение функций отдельных генов является решением фундаментальной
научной проблемы. Но одновременно здесь определяются методы
лечения наследственных болезней, создания новых лекарств, что
обычно расценивается как решение прикладных задач.
Множество сходных ситуаций возникает в когнитивных
исследованиях и информатике. Здесь фундаментальные научные
результаты оказываются теснейшим образом связаны с когнитивными и
информационными технологиями.
Укоренившаяся на этапе становления постнеклассики идея
социокультурной детерминации научного познания поставила перед
философией науки ряд новых задач. Необходимо было
переосмыслить ее соотношение с социологией науки, психологией,
науковедением, культурологией. Центральным звеном в решении этих
проблем стало понимание субъекта научного познания. В современной
науке он предстает как коллективный субъект, предполагающий
объединение ученых в формальные и неформальные сообщества,
со спецификой разделения в них исследовательского труда, с
особенностями социальных ролей в исследовательской деятельности,
с обратным воздействием на эту деятельность форм и способов
потребления обществом научных знаний.
82
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Исследование всех этих процессов социологами, психологами,
экономистами бесспорно важны для философии науки. Но
достаточны ли они для понимания закономерностей научного
познания? Я полагаю, что недостаточны.
Любая деятельность, в том числе и познавательная,
предполагает взаимодействие субъекта с объектом. Это два полюса
деятельности, где один не существует без другого. Сосредоточение только
на одном из них, в данном случае на характеристиках субъекта
познания, может быть необходимым, но совершенно недостаточным
для понимания того, как в науке возникает ее главный результат —
знание об исследуемом объекте.
«Социологический поворот», на который справедливо обратил
внимание Б. И. Пружинин2, сопровождался в общем-то
неадекватными претензиями социологии знания на главную роль в изучении
процессов порождения новых знаний. Если уже ставшие классическими
работы Р. Мертона, К. Мангейма и других известных социологов,
раскрывали особенности развития науки как социального института, то
в конце XX — начале XXI века появились декларации о новых целях
социологии знания — выяснить ее методами как возникают научные
открытия. Д. Блур писал по этому поводу, что социология должна
покончить с тем, что она отдает на откуп философии и истории науки
анализ процессов роста научного знания и научных открытий.
Уже вышло немало публикаций в рамках этой программы.
В наиболее радикальных из них, например в работах К. Кнорр-
Цетины, утверждается, что в реальной деятельности научных
лабораторий новое знание является результатом соглашения между
учеными, что структурирование нового знания не зависит от его
соответствия или несоответствия реальности, что для описания
процесса открытия не нужно понятий «истина», «природа»,
«теория», для этого достаточно проанализировать особенности
коммуникаций исследователей в научном сообществе.
Столь экстравагантные выводы не случайны. Социологический
подход предполагает видение социальных процессов в особом
ракурсе — как социальных связей и отношений людей в различных
социальных группах. Но для объяснения того, как возникает, допустим, в
естественных науках знание о закономерностях природных объектов,
этого явно недостаточно. Знание о поведении природных объектов
не редуцируется к знаниям о поведении людей в научных
сообществах. Кстати, весьма показательно, что в менее радикальных вариан-
2 Пружиним Б. И. Социологизм в эпистемологии (критические заметки) //
Релятивизм, плюрализм, критицизм: эпистемологический анализ. М., 2012. С. 61—79.
В. С. Степин. Картина мира и современные проблемы научного знания 83
тах современной социологам знания, например в работах Б. Латура,
активно используются концептуальные средства и идеи философии
науки (в частности концепция Л. Флека). Но даже у Д. Блура,
провозгласившего «сильную программу социологии знания», легко
обнаружить немало ссылок на К. Поппера, Т. Куна, С. Тулмина,
П. Фейерабенда. У К. Кнорр-Цетины тоже можно найти ссылки на
идеи С. Тулмина. Все это является косвенным признанием того, что
при анализе процессов роста научного знания недостаточно
ограничиться только установками и понятийными каркасами социологии,
а необходимо привлекать для решения этой задачи концептуальные
средства и методы, разрабатываемые в философии науки.
Я должен уточнить свою позицию. Социальные науки — это
обширный комплекс дисциплин. Многие из них уже имеют
длительную историю и достаточно высокий уровень развития. В каждой из
них есть свои дисциплинарные онтологии — картины исследуемой
реальности, которые вводят представление об основных системно-
структурных характеристиках предмета исследования
соответствующей дисциплины. Поэтому утверждать, что во всех социально-
гуманитарных науках присутсвует предпарадигмальный период, было
бы по меньшей мере опрометчиво. И таких утверждений я не делал.
Речь шла о другом. О более высоком уровне систематизации знания,
представленном картиной социальной реальности — системой
обобщенных представлений о структуре и динамике общества как
целостности. Эта картина не создается какой-либо одной теорией, она
опирается на достижения различных дисциплин, их теории и опытные
факты, обобщением которых выступают дисциплинарные онтологии.
Версия картины социальной реальности, которая была
разработана К. Марксом, изложена в предисловии к работе «К критике
политической экономии». О ее позитивном содержании мы уже сегодня
говорили. Это содержание позволило функционировать данной картине
как исследовательской программе, которая стимулировала
построение конкретных теорий. Их соотнесение с картиной социальной
реальности давало ей дополнительное обоснование. К такого рода
теориям можно отнести экономическую теорию К. Маркса («Капитал»),
его уникальные реконструкции истории Франции конца XIX века
(«Гражданская война во Франции», «18 брюмера Луи Бонапарта»).
Относительно последних, я уже доказывал, в том числе и в
обсуждаемой книге, что их нельзя рассматривать как повествование
(«нарратив»), излагающее исторические факты. Эти реконструкции
являются не эмпирическим, а теоретическим знанием. Они особые
теоретические модели уникального, нетипологизированного
объекта, которые обобщают эмпирические факты и объясняют их.
84
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Марксова картина социальной реальности функционировала в
советской философии как ее особая часть — исторический
материализм. Но она не была только философским знанием. Как и любая
научная картина мира, она выступала особой формой конкретно-
научного знания, хотя в ее формировании и обосновании
философские идеи и принципы играли необходимую и важную роль.
Идеологическая канонизация марксизма не уничтожила
полностью эвристического потенциала построенной Марксом картины
социальной реальности. В психологии она была истоком
знаменитого исследования Л. С. Выготского, его культурно-исторической
концепции развития высших психических функций. В историко-
научных исследованиях на нее опиралась проведенная Б. М. Гессе-
ном реконструкция механики Ньютона, получившая известность
после его доклада «Социально-экономические корни механики
Ньютона» на II Международном конгрессе по истории науки в
Лондоне. С марксовой картиной социальной реальности
соотносились историко-научные исследования Дж. Бернала.
Вместе с тем марксистская концепция общества не была
единственной картиной социальной реальности, повлиявшей на
развитие социальных наук. Как я уже отмечал, в исследованиях М. Вебе-
ра, продолживших традиции Г. Риккерта и В. Виндельбандта, была
предложена во многом альтернативная картина динамики
общества. В ее основании лежала идея изменения ценностей культуры
как фактора формирования новых видов социальности. Веберов-
ский анализ эпохи становления капитализма, ряд теоретических
реконструкций процесса формирования «духа капитализма»
демонстрировали эвристический потенциал веберовского подхода к
построению картины социальной реальности.
Этот подход получил обоснование в развитии социально-
гуманитарных наук XX столетия. Дисциплинарные онтологии
таких наук, как социальная антропология, семиотика культуры, ряд
концепций в социологии, акцентировали определяющую роль
культуры в воспроизводстве и динамике социальной жизни. С
марксистской версией картины социальной реальности все эти
результаты не состыковывались. Возникла проблема построения
такой картины социальной реальности, в которой были бы
синтезированы новые представления о социальных процессах с
сохранением того позитивного, что было в марксистской концепции
общества. Представленная в обсуждаемой книге версия картины
социальной реальности преследовала именно эти цели.
А. Ф. Зотов
Фаустовский вопрос теории познания
С самых истоков человеческой мысли и до наших дней, или
точнее с истоков философии как попытки понять
Вселенную и место в ней человека, его сущность и
предназначение, философов занимает вопрос о том, что такое знание,
сознание и мышление. Известная сентенция, которую
как самоочевидность повторил Гегель, что-де «сова Минервы
начинает свой полет в сумерках», звучит, пожалуй, слишком
оптимистично, если вспомнить сократовское: «Я знаю только то, что
ничего не знаю». За каждым высказыванием мыслителя такого
ранга скрыт свой смысл. И потому каждое обрастало множеством
интерпретаций. Они возникали в другое время и в иных культурно-
исторических контекстах. Когда устами доктора Фауста в
одноименной философской трагедии Гёте говорит, что, овладев
математикой, медициной, философией, и даже теологией, он «остался
простаком», то это не парафраз сократовского афоризма. У Фауста
в трагедии Гёте есть оппонент — молодой ученый Вагнер. Он
энергичен, работоспособен и много знает. Он наслышан о славе Фауста
и потому приехал посоветоваться и поучиться. Вагнер
оптимистически настроен и горит любовью к знаниям: «Хоть много знаю я,
но все хотел бы знать!» С современной точки зрения он просто
образец молодого ученого. Но в трагедии Гёте он — прямая
противоположность Фаусту. Но почему? Что их разделяет?
Великий И. Ньютон, находясь в зените славы, написал: «Я не знаю,
кем я представляюсь миру, но самому себе я представляюсь ребенком,
который играет на берегу моря и радуется, когда находит несколько
гладких камешков или красивую раковину, в то время, как великий
океан истины лежит перед ним неисследованный»1. Он сожалел о том,
что жизнь человека коротка, а в мире так много интересного.
1 Цит. по тексту доклада «Изменения основ точного естествознания в новейшее
время», который был сделан В. Гейзенбергом в Ганновере 17 сентября 1934 года.
86
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Но Фаустовский вопрос — что значит знать? — перед ним,
видимо, не стоял. И наука, и философия пошли по другому пути. Кант,
открыв «человеческое измерение» мироздания
(«трансцендентальное») и противопоставив «вещи-в-себе» человеческому знанию,
относящемуся к ним (в этом суть и кантианского, и картезианского
«дуализма»), заложил основы современной (неклассической) теории
познания. Но гносеология после Канта — это уже не философское
учение о познании как составная часть философского же учения о
мире. И даже не логика, которая осталась от старой философии
после краха последней классической философской конструкции,
претендовавшей на абсолютность философской системы Гегеля.
Современная гносеология — это, скорее, комплекс теоретических и
прикладных междисциплинарных исследований и разработок,
совокупной задачей которого является анализ возможных способов
познавательной связи «субъективного» с «объективным». Этот
комплекс исследований в принципе должен включить и
проектирование, и производство механизмов, которые обеспечивают научно-
познавательную деятельность. Все эти составляющие в наше время
налицо, пусть даже и не обрели организационную форму реального
проекта, объединенного общей задачей и единой стратегией тех, кто
является специалистами в разных сферах научной и
производственной деятельности. Обратим внимание и на ряд проблем,
пограничных для теории познания, которые тем не менее нельзя не учитывать
в современных условиях и которые ныне широко обсуждаются.
Я вынужден фактически ограничиться здесь их перечислением,
причем не в виде иерархии по степени важности, потому что в
зависимости от ситуации ценность каждой из них заметно меняется.
Большинство из них достигли такого уровня разработанности, что
составили особую предметную область науковедения. Оно тоже занимается
очень разными вещами — и формами организации научной
деятельности, и способами подготовки исследователей в разных системах
образования, и психологическими аспектами научной работы, и
соотношениями различных «уровней» научной деятельности (фундаментальных
исследований, прикладных исследований, технических разработок,
производства научно-исследовательской аппаратуры и пр.).
В последнее время на авансцену вышла тематика социальной
ответственности ученых за возможные последствия их исследований,
тематика финансирования науки, поскольку современные
исследования нередко стоят столь дорого, что расходов на них не
выдерживает экономика даже великих держав; тематика падения
социального престижа ученого и преподавателя и связанного с этим падением
статуса кризисом науки и образования в России и некоторых дру-
А. Ф. Зотов. Фаустовский вопрос теории познания
87
гих странах, и т. д. Входит ли все перечисленное выше и еще многое
аналогичное этому в состав современной теории познания? Или же
для теории познания все эти моменты безразличны так же, как
безразлична общая («чистая») математика (не говоря уж о логике) не
только к вопросам о быстродействии компьютеров, но даже и к
вопросам использования той или иной системы счисления (двоичной,
десятеричной со специальными знаками для каждой десятки чисел
следующего разряда2 или шестидесятеричной), позиционной или
непозиционной, наличия или отсутствия в записи нуля и к прочим
тонкостям, хорошо известным историкам математики? Или, быть
может, следуя к тому же в русле широко распространенной
практики употребления термина «логика» в квази-гегелевском смысле
(когда говорят о логике истории, логике спора, логике войны и пр.),
имеет смысл принять тезис о множестве, к тому же открытом, и
теорий познания, и денотатов термина «познание»?
То, что философам здесь далеко не все ясно, на мой взгляд,
свидетельствует и то, что ныне термин «эпистемология» используют
куда чаще, чем «гносеология», и, вероятно, не только потому, что
первое слово более благозвучно. Но позвольте, может возразить
читатель, кто же говорит, что процесс познания уже исследован до
мельчайших деталей? Однако, сути «фаустовского вопроса» — «что
значит знать?» — такие рассуждения не затрагивают, потому что
речь в нем идет не об устройстве познавательного процесса.
Казалось бы, когда сегодня в энциклопедиях, философских
словарях и учебниках по философии предлагают различные
определения понятия «знание», то и другой, «фаустовский», аспект знания
должен был бы быть как минимум принят во внимание. Вопрос
«что значит знать?», вопрос о смысле знания — важнейшая тема.
Но присмотримся к тому, как же в словарях и энциклопедиях
определяют понятия «знание» и «познание». Вот, к примеру,
определение термина «знание» в Энциклопедии Кирилла и Мефодия:
«Знание — форма существования и систематизации, результатов
познавательной деятельности человека. Выделяют различные виды
знания: обыденное («здравый смысл»), личностное и др.
Научному знанию присущи логическая обоснованность, доказательность,
воспроизводимость познавательных результатов. Знание
объективируется знаковыми средствами языка»3.
2 Такой системой пользовались египтяне и римляне.
3 У меня есть претензии к этому определению, но сейчас нет нужды их
выражать — принимаем это определение как наличность, феномен рефлексии
современной культуры.
88
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
А вот другое определение из Энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона4, и отделяет его от первого временной
промежуток примерно в столетие:
«Знание — самое общее выражение для обозначения
теоретической деятельности ума, имеющее притязание на объективную
истину (в отличие, например, от мышления или мысли, которые
могут быть заведомо фантастичны). Вопрос об условиях, при
которых, и об основаниях, по которым результаты нашей умственной
деятельности могут иметь объективное значение, или вопрос о
достоверности нашего знания, породил целую философскую
дисциплину, выступившую на первый план в новой философии. Термины
3. и познание, относясь в сущности к одному и тому же предмету,
различаются некоторым оттенком: первый относится более к
объективной стороне в результатах умственного процесса, второй —
более к их субъективным условиям. Впрочем, это различие, весьма
относительное и нетвердое, редко выдерживается; обыкновенно
обоими терминами пользуются как синонимами».
В современных словарях, посвященных этой теме, авторы, начав
с краткого и вполне ясного определения этого термина,
перечисляют все его значения5. Осмелюсь утверждать, что сходства между
этими определениями больше, чем различия, и по большому счету
все они вполне приемлемы. Так что же, история — история
развития науки и философии — разрешила давний спор между
позициями Фауста и Вагнера в пользу второго, и тем самым вопрос, что
значит «знать», исчерпан? Или, скорее, объявлен «псевдопроблемой»?
Не будем торопиться. Если обратимся к «Толковому словарю
русского языка» СИ. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, то обнаружим,
что здесь, т. е. в практике обычного словоупотребления, слово
«знать» имеет шесть основных значений. Из них только два первых
перекликаются с приведенными выше определениями, хотя и не
совсем совпадают с ними, а остальные выходят далеко за пределы
смыслового пространства тех определений, которые даны в
энциклопедиях.
Во второй половине прошлого века большой интерес в
философском сообществе вызвали публикации на тему неявного
знания6, но эта разновидность знания еще не зафиксирована в тексте
определения знания в Энциклопедии Кирилла и Мефодия. Заме-
4 Его автор — Вл. Соловьев.
5 Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 246—247.
6 Книга Майкла Полани «Личностное знание» была переведена на русский язык в
1985 году и стала событием для нашего философского сообщества.
А. Ф. Зотов. Фаустовский вопрос теории познания
89
тим, однако, что этот аспект темы знания, учитывая все ее
трансформации, тоже относится к проблеме состава знания, его
строения, его организации, в определенной мере и его назначения и
использования. Такова и в самом деле суть, «ядро» проблематики
знания, если знание понимать как Достояние человека.
Знанием можно обладать, его можно иметь, накапливать про запас,
использовать по мере надобности. Его объем может расти, но может
и уменьшаться.
Любопытно, что теоретическая концепция «роста знания» не
так уж давно была весьма влиятельной. И если она и подвергалась
критике, то лишь в том плане, что-де ее сторонники не
учитывают фактора качественных преобразований в составе знания, в
формах его существования и способах его организации, меняющихся в
ходе исторического развития человечества. Куда меньше внимания
уделялось противоположным процессам — утрате знаний и
деградации разума. Например, тому, что люди теряют интерес к знанию,
деятельность по достижению новых знаний становится
непрестижной, а накопленные сокровища знаний подчас не просто забывают,
но и отправляют на свалку культуры. Эти процессы, насколько мне
известно, никогда не «концептуализировались», не создана
теоретическую модель деградации знания и разума, хотя факты утраты
знаний и деградации науки хорошо известны специалистам. И тем
не менее превалировало мнение, что по большому счету и в самом
деле «рукописи не горят», поскольку свойство расти (и притом
бесконечно) является сущностной характеристикой самого знания.
Сегодня мы далеки от столь безбрежного оптимизма и потому
обсуждаем стратегию оптимального развития знания «в условиях
бюджетного дефицита», сокращения материальных (и кадровых)
ресурсов на развитие науки и образования. И только философы
изредка сетуют на то, что в России наука и образование
финансируются «по остаточному принципу», растет неграмотность, падает
рейтинг отечественных университетов в сравнении с зарубежными,
ректоры университетов чаще говорят о «стратегии выживания»,
чем о планах развития, а уровень образования снижается. И в
самом деле, о каком «естественном» росте знания можно говорить
в условиях, когда элементарная безграмотность стала массовой и
продолжает расти?
Но даже при всем этом, как свидетельствуют вышеприведенные
определения из энциклопедий, мы все-таки знаем, что такое
знание. А может быть, только предполагаем, что знаем это? В
принципе, мы знаем еще и то, что знание есть продукт мышления, а
мышление, как говорят те же энциклопедии и словари, — это вые-
90
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
шая ступень человеческого познания. В определениях, которые
являются общепринятыми, обычно говорится также, что-де
формы и законы мышления изучаются логикой, а механизмы его
протекания — психологией и нейрофизиологией. Не упущено из виду
и то, что мышлением интересуется также наука кибернетика — «в
связи с моделированием некоторых мыслительных функций». И
нет здесь места никакой метафизике — вроде той, которая скрыта
в сомнениях Фауста. Это, похоже, решающий аргумент в пользу
того, что история вынесла свой беспристрастный приговор в
пользу Вагнера: с точки зрения современного человека, «знать» — это
не что иное, как обладать знаниями, т. е. иметь в своем
распоряжении надежную информацию относительно тех или иных объектов,
которую можно и нужно использовать на практике. А мыслить,
соответственно, — это не что иное, как обладать способностью
производить знания, т. е. особый «продукт», который иногда называют
«интеллектуальным».
Но что значит «производить знание»? С сохранением знания,
пожалуй, ясно. Их хранит память человека и та совокупность
средств, естественных и искусственных, которые человек
использовал, придумал и сотворил. Это и медные скрижали, и
отполированная поверхность скал, и стволы деревьев, а также глиняные
таблички, кость, листья папируса, бумага, кожа животных,
магнитофонная лента, фотопленка и т. д. То, что все это хранит не знания
как таковые, а «вещественные» результаты воздействия одних
материальных объектов на другие, и в этом отношении не отличается от
следов других природных взаимодействий (например, воздействия
движения ледника на поверхность земли или на камни) — это,
кажется, не так уж важно. Важно другое. Когда речь идет о знании,
именно человек отличает следы, которые оставил один природный
объект на другом, от тех, которые оставил он сам (или другой
человек) на этих материальных объектах для того, чтобы сообщить
нечто (одновременно и воплощенное в таких следах, и отличное от
них) ему подобным. Тогда след, как результат материального
взаимодействия, становится знаком, т. е. содержит смысл, который сам
не имеет ни вида, ни формы, ни запаха, ни состава, ни заряда, ни
прочих материальных характеристик.
Если для того, чтобы об этом сказать, используют термин
«информация», вопрос не только не проясняется, но даже напротив —
особенно в тех концепциях, где информация становится третьим
базовым компонентом мироздания, которое, как и встарь,
рассматривается как предмет естествознания, а вовсе не «наук о духе». Но
если и здесь избавиться от метафизики, то термин «дух» — слово,
А. Ф. Зотов. Фаустовский вопрос теории познания
91
которым мы называем природный механизм, который производит
знание. Процесс этой работы описывает психология, а его
«телесную» природу раскрывает нейрофизиология. Быть может,
философия здесь и впрямь ни к чему? Как тут не вспомнить об
Энгельсе, который высмеивал метафизические мудрствованиями тех
ученых, которые умели измерять пространство и время, но при
этом сетовали на то, что они-де не знают, что это такое. Ясно же,
что пространство есть «сплошь одни кубические метры», а время —
«сплошь одни часы»... Правда, современные физики и
математики почему-то не удовлетворяются столь простыми и очевидными
разъяснениями и продолжают спорить о том, что же такое
пространство и время; математики давно конструируют многомерные
и конфигурационные пространства, которые уж никак не «сплошь
одни кубические метры», а физики, только-только согласившись в
том, что следует отказаться от понятия пустого пространства,
тотчас ввели понятие чистого вакуума и занялись его свойствами, а
также продолжают выдвигать и обсуждать новые, все более далекие
от «здравого смысла» гипотезы о природе времени.
Не пользуются у них большим почтением и философские
определения пространства и времени как «всеобщих форм
существования материи»: в этих определениях не так уж трудно усмотреть
следы очень старой, а именно аристотелевской, метафизики. В
этой метафизике, в отличие от столь бессодержательных
(«формальных») определений, которые лучше было бы называть
«именованиями», форма трактовалась как активное, идеальное (духовное)
начало мироздания. Поэтому «первоначало» мира понималось в
метафизике Аристотеля как «форма всех форм» и как
неподвижный источник всех процессов, «перводвигатель». Но в конечном
счете это было не чем иным, как определением Бога. Таким
образом, история физики и математики уже давно могла бы нас научить
тому, что можно довольно эффективно описывать феномены,
систематизировать их и применять на практике результаты такой
работы, не зная при этом «природы» того объекта, который
получил имя. Бывает и так, что нет даже уверенности, что такой объект
существует как «объективная реальность» в составе Мироздания.
Один из многочисленных исторических примеров тому —
«теплород», о котором много писали физики прошлого. И если слову
приписать абсолютный онтологический статус «за пределами» мира
языка и практики его употребления, это чревато тем, что Г. Башляр
называл «эпистемологическими препятствиями».
Все сказанное в полной мере относится к ситуации с
исследованиями феноменов мышления. Когда основоположник европейского
92
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
рационализма Рене Декарт, провозгласив принцип радикального
сомнения в качестве методологического принципа, пробует совместить
его с другим, который ограничивает сферу того, что может и должно
быть подвергнуто сомнению, когда он говорит о самоочевидности
факта мышления как непосредственной данности, он приписывает
термину «мышление» онтологический статус. Но не так ли
поступает учитель физики, когда рассказывает школьникам о классической
механике, говоря, что законы механики суть «законы природы»?
Приписывая научным формулировкам онтологический
статус, он и впадает (в дидактических целях) в «грех объективизма»7,
реификации. Согласно Декарту, «человек есть вещь мыслящая»;
и потому его известнейшую формулу — Cogito ergo sum — можно
истолковать не только как логический вывод, где из
«непосредственно очевидного и потому наличного, «фактического»
основания, выводится логическое следствие, но и как определение одного
через другое («Я мыслю — значит, я существую»). Он не
доказывает здесь факт человеческого существования как оно свойственно
всему классу «вещей», в состав которого входит и человек; здесь
фиксируется особый способ существования, свойственный только
человеку: если человек не мыслит, то он и не существует как
человек. Значит, «причина» человеческого существования в том, что у
человека как «вещи мыслящей» есть некий специфический
атрибут — дух. Декарт на этом не останавливается: он начинает
изучать его характеристики. И оказывается, что первый шаг на этом
пути был уже сделан самим Декартом. И сделано это было еще «до
того», как был «удостоверен» факт существования собственного Я:
ведь начальный акт мышления, по Декарту, — это сомнение. Ego
dubito — это и есть Ego cogito в его, так сказать, «зародышевом
состоянии». Таким образом, одна из возможных трактовок
картезианского Cogito состоит в том, что мышление — это специфически
человеческий способ бытия. Мыслить — значит быть человеком. И
наоборот: быть человеком — значит мыслить. Такую трактовку
тезиса Декарта можно считать декларацией «экзистенциальной»
программы исследования мышления.
Программа эта далеко не тождественна другой, а именно
программе изучения нервно-физиологических (электрических,
химических и пр.) процессов в коре головного мозга. Суть этой
последней грубо, но, на мой взгляд, вполне корректно выражает тезис,
приписываемый представителю так называемого вульгарного
материализма Якобу Молешотту: мозг вырабатывает мысль; он про-
7 Против подобных ошибок и весьма убедительно боролся Эдмунд Гуссерль.
А. Ф. Зотов. Фаустовский вопрос теории познания
93
изводит мысль так же, как поджелудочная железа — желчь. Это,
конечно же, лишь аналогия, поскольку и сам Молешотт не
утверждал, что головной мозг — это одна из многих желез, а мышление —
это один из множества физиологических процессов, которые в
организме совершаются. Ведь психология не сводилась к физиологии
высшей нервной деятельности уже в трудах И. П. Павлова. Тем не
менее то определение, которое дано мышлению в Энциклопедии
Кирилла и Мефодия, как и во множестве других публикаций,
относящихся к данной тематике, ассоциируется именно с этой
«редукционистской» установкой. А от нее — один шаг к проблеме
искусственного воссоздания разума. Вопрос лишь в том, насколько
хорошо удастся воссоздать «естественное» в «искусственном».
Представление о возможности создать «искусственный разум»
появилось в Европе на исходе Средних веков, когда зарождалось
промышленное (механическое) производство. В те стародавние
времена мастера-ремесленники создавали поразительные
механические приборы — и не только для измерения времени. Многие из
таких умельцев создавали подобия человеческих существ
(«Пианистка», «Танцовщица», «Шахматист» и т. п.). В те годы это было
небезопасно: творцы вместе с их творениями могли быть преданы
суду святейшей инквизиции и приговорены к сожжению на костре
по обвинению в греховном состязании с Господом. Но и сам
Всевышний нередко представал в истории культуры в образе Великого
Мастера, механика и математика.
В книге «Ars Magna» («Великое искусство»), относящейся к
началу XIII века, испанский богослов-католик, лингвист и логик Рай-
мунд Луллий изложил принципы построения «мыслящей
машины», которая позволяла воспроизводить логические рассуждения.
В этом техническом устройстве соединялись особого рода алфавит,
в котором буквы представляли понятия, сочетания фигур
силлогизма образовывались из букв с помощью семи концентрических
колец, вращение которых создавало серию комбинаций терминов.
Эта серия, по мнению автора, могла воспроизвести все предикаты
Мироздания. Такая идея пользовалась успехом среди ученых людей
вплоть до XVIII века, несмотря на то, что Лейбниц еще в 1666 году
подверг ее критике как математик, назвав «слабой тенью
подлинного искусства комбинаторики». Затем уже в XIX веке английский
математик Чарльз Бэббидж изобрел аналитическую машину для
выполнения математических операций, у которой уже была
«память», программируемое и вычислительное устройство из рычагов
и шестеренок; программа вводилась в устройство в виде перфокарт.
Правда, Беббидж понимал, что он не проникает ни в тайны мыш-
94
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
ления, ни в глубины устройства мироздания и не моделирует
строение человеческого мозга. Он полагал, что создает не аналог
мыслящего субстрата, а всего-навсего механизм для решения расчетных
задач в тех областях деятельности, где такие задачи возникают.
Поэтому он не видел большой разницы между ним и другими
техническими новинками — такими как страховые таблицы, тахометр
или устройство, сбрасывающее случайные препятствия с рельсов
перед движущимся поездом.
Однако на заре современной кибернетики в работах Н.
Винера была снова воспроизведена архаичная мировоззренческая
схема. Правда, несколько скорректированная и дополненная более
поздними поправками из арсенала научной и технической
мысли. Казалось бы, европейское мировоззрение, философия и
методология науки XX столетия должны были бы избавиться от
механистической формы редукционизма. Однако дорога научного
прогресса — не хорошо спроектированное шоссе: механицизм и
субстанциалистекая натурфилософия сменилась «энергетизмом», а
затем и функционализмом, принципы которого утвердились в
научной картине мира после публикации книги Э. Кассирера
«Понятие субстанции и понятие функции». Почти в
неприкосновенности по меньшей мере в качестве объяснительного принципа,
сохранилось стремление видеть в «сложном» (в прямом
соответствии с этимологией этого слова) нечто «сложенное» — если не из
«абсолютно простых», то «более простых» элементов. Специфику
же этого «сложного» трактовали как результат структурных связей,
отношений между «более простыми» объектами — ведь само
слово «элемент» заряжено такой уверенностью. Конечно, обогащается
арсенал методологических терминов: «организация» с ее
многочисленными «уровнями», «система» с ее растущими «степенями
сложности», «управление» с его «прямыми» и «обратными» связями и,
наконец, «информация», по онтологическому статусу
сравнявшаяся с категориями «материи», «энергии», «движения»,
«пространства» и «времени». При этом «информация» приобретает качества
прежней «субстанции». Но образ «машины» не исчез: как
Вселенная в целом, так и мозг предстают в сознании большинства ученых
как «машина» (правда, теперь информационная). Стоит
напомнить, что Н. Винер, по его воспоминаниям, занимаясь
проблемами технического обеспечения ПВО Британии, отметил в качестве
важного факта то, что он случайно заметил аналогичность
структуры участка нервной ткани мозга, связанного с работой
рецепторов, со структурой электронного устройства, управляющего огнем
зенитной батареи. А за этим (или параллельно этому) развернулось
А. Ф. Зотов. Фаустовский вопрос теории познания
95
множество исследований по созданию электронных моделей
нервных клеток (аксонов) и «нервных сетей». Это, в свою очередь, дало
толчок дискуссиям о том, «может ли машина мыслить». Так что не
только компьютер представал как «электронный мозг», и реверсив-
но — живой, биологический мозг трактовался как «биологический
компьютер». И это было нечто большее, чем метафора.
Одна из самых «молодых» наук — кибернетика — по ходу дела
приобретала черты философии; конечно, не в средневековом
толковании последней как «метафизики», а в ином, близком духу
позитивизма позднего Просвещения. Ведь совсем недавно философию у нас
определяли как «науку о наиболее общих законах развития природы,
общества и мышления». Эти же черты проступают в винеровском
определении кибернетики — как «науки об управлении и связи в
организме, машине и обществе». Поэтому именно наши
отечественные философы быстро отреагировали на появление кибернетики с
ее философскими претензиями: одни резко негативно, другие —
позитивно. Последние сразу вспомнили о сочинении А. А. Богданова
«Всеобщая организационная наука (тектология)», универсалистскую
установку и философский характер которой подчеркивал сам автор
в предисловии к немецкому изданию своей книги (1923). Эти
философы составили ядро Института системных исследований, который
стал, пожалуй, главным центром по разработке теоретических
проблем кибернетики в нашей стране. Такова духовная (культурная)
атмосфера исторического процесса, в котором рождался класс
проблем, кои сегодня объединяет термин «искусственный интеллект». А
в итоге возникло то, что я бы назвал «семантической ловушкой» — в
том значении, которое близко к «эпистемологическому
препятствию» Г. Башляра. Специалисты, которые занимались
конструированием вычислительных устройств, наряду с другими, как правило,
необычными и сложными техническими задачами (последние были
впоследствии включены в проблематику «автоматики»,
«распознавания», теории моделей и техники моделирования), а также
другие профессионалы, занятые организацией сложных (в частности
человеко-машинных) систем, назвали эти создания технического
гения «умными машинами», «интеллектуальной техникой». А технико-
теоретический компонент, который обеспечивает взаимодействие
таких устройств с объектом (распознавание, моделирование,
адаптацию — например, в форме обеспечения «гомеостазиса» системы),
получил название искусственного интеллекта.
Разнообразие (дифференциация) этого класса проблем, т. е.
прикладных технических задач, имело следствием глубокую
специализацию внутри сообщества разработчиков интеллектуальной техники.
96
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Внушительные результаты, полученные в разных
специализированных исследовательских центрах, в конечном счете помогли им
избавиться от тех априорных («бионических») предпосылок, которые
были свойственны Винеру и выразились в его знаменитом
определении кибернетики, которое долго было классическим. Сегодня эти
предпосылки имеют ценность скорей для историков кибернетики,
чем для тех, кто связан с практическими, да и теоретическими
разработками в этой сфере. Соответственно, теперь большинство
разработчиков «интеллектуальной техники» не оглядывается в ходе своих
поисков на достижения нейрофизиологов. Но не видят они особой
пользы для себя и от философских новаций в теории познания; тем
более что она тоже избавилась и от попыток редукции содержания
знания к ощущениям, и от трактовки ощущений как «превращения
энергии внешнего раздражения в факт сознания».
Значит ли это, что область сотрудничества и возможности
полезного взаимодействия между философами и теми, кто называет
предмет своих исследований «системами искусственного
интеллекта», теперь минимальна или вообще исчезла? На мой взгляд,
прежде чем пытаться на этот вопрос отвечать, стоит вспомнить,
что бывают такие ситуации, когда содержание и структура разных
предметов, которые называют одними и теми же словами,
настолько различны, что уместно вспомнить старую шутку о немецком
майоре, который надеялся, что его новый подчиненный,
вольноопределяющийся доктор философии может лечить его детей, потому
что «доктор есть доктор»!
Персонажам этой шутки было бы небесполезно продолжить
беседу, начав с четкого определения различий тех сфер деятельности,
в каждой из которых собеседники компетентны. А потом
попытаться найти точки соприкосновения их профессиональных миров.
Ведь понятое различие и даже сознанная противоположность
позиций и интересов могут открыть дорогу не только к мирному
сосуществованию, взаимному признанию автономии (как
показывает недавний исторический опыт развития взаимоотношений между
«физиками» и «лириками», а также между философией и
естествознанием), но и к позитивному, полезному взаимодействию.
Например, понимание (и принятие как факта) инаковости Другого как
плодотворного пути развития самосознания давно стало
предметом исследования философов и психологов. Любая серьезная
дискуссия возможна лишь в том случае, если налицо разные подходы,
разные мнения и установки, разные позиции участников, которые
решили обсудить одну и ту же тему, которая их одинаково
интересует. И тогда мало-помалу из различных языков, на которых изъ-
А. Ф. Зотов. Фаустовский вопрос теории познания
97
ясняются участники дискурса, чуть ли не сам собою возникает не
только язык-посредник, но и общий (общепонятный) язык
складывающегося «федеративного сообщества» ученых. Таким
способом совершается процесс, противоположный тому, которым,
согласно библейской легенде, закончилась претенциозная программа
«столпотворения вавилонского». О том, что в России такой
процесс пошел всерьез (и, надеюсь, надолго), свидетельствует
активная работа Научного совета РАН по методологии искусственного
интеллекта, который создан по инициативе группы философов
и ученых разных специальностей. Пока трудно сказать, далеко ли
участники этого проекта продвинулись по пути создания общего
языка, и тем более в понимании сути того «фаустовского вопроса»,
о котором идет речь. Но ясно, что философам, психологам,
лингвистам, математикам, разработчикам интеллектуальной техники
есть что сказать друг другу, а в научном сообществе возникло
желание слушать и понимать друг друга.
На мой взгляд, среди участников междисциплинарного
дискурса теперь немного тех, кто видит в размышлениях Хайдеггера о
том, что значит мыслить, некую заумь, далекую от научной
практики. Даже тот факт, что Хайдеггер закончил свою краткую статью
«Was heißt denken?» серией высказываний о том, чем мышление не
является8, содержит глубокий позитивный смысл.
Но когда человек мыслит? Для большинства наших современников
совсем нетрудно осознать, что по большому счету человек начинает
думать всерьез только тогда, когда попадает в проблемную ситуацию,
встречается с трудностями, для которых нет простого решения. Как я
уже отметил, картезианское Cogito начинается с Dubito. Человек
начинает мыслить тогда, когда сомневается и сознает себя
сомневающимся. Знание — это ответ на вопрос, процесс познания начинается
с вопроса. И здесь «точка опоры» в поисках ответа на «фаустовский
вопрос»: человек вопрошающий — это и есть человек мыслящий. За
каждым вопросом «что это?» скрыто вопрошающее «начало»,
человеческое Я. За каждым ответом — то же Я, но уже изменившееся Я,
поскольку ответ, каким бы он не был, получен, а знание приобретено,
освоено. Это значит, что самостановление человека есть процесс его
самоизменения. Поэтому у Хайдеггера его «негативные» утверждения
8 Вот эти высказывания:
Мышление не ведет ни к какому знанию, подобному тому, которое содержится
в науках.
Мышление не доставляет никакой мудрости, полезной для жизни.
Мышление не разрешает никаких мировых загадок.
От мышления нет никакой непосредственной пользы для деятельности.
98
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
о мышлении связаны с важным «позитивным» тезисом: мышление —
это «вопрошание бытия». А бытие, по Хайдеггеру, — это Dasein, мое
собственное, подвижное, временное «тут-бытие». Вопрошание бытия
рефлексивно и потому изменчиво, что обращено к самому человеку
(к Dasein). А мышление — человеческое мышление — всегда
осмысленно, всегда беспокойно, всегда, так сказать, светится
меняющимися смыслами. Если смысл мысли попытаться «вынести за скобки»,
то мысль перестает быть собою. Как и человеческое существо,
которое не мыслит, даже если все его биологические функции (включая
функции головного мозга) в полном порядке. Маугли из рассказов
Киплинга — всего лишь красивая легенда; опыт убедительно
свидетельствует о том, что определение мышления как функции мозга
совершенно недостаточно. Мыслит все-таки не мозг человека, а человек
при помощи мозга. Это тривиальность, и было тривиальностью для
большинства философов даже тогда, когда мыслительные процессы
отождествлялись с «мозговой активностью», а физиология высшей
нервной деятельности претендовала на роль авангардного
направления в исследовании мышления.
Отсюда следует, что мышление даже и «в первом приближении»
нельзя рассматривать как «достояние» человеческого индивида, а
общественное сознание нельзя считать совокупностью
индивидуальных, «личных» сознаний. Не удивительно, что ссылка в Сибирь
или на Кавказ, и тем более одиночное заключение, были в России
самыми тяжкими наказаниями. Когда во исполнение воли
государевой Тараса Шевченко сослали в солдаты «с запрещением писать
и рисовать», его фактически лишали и возможности мыслить,
поскольку мыслит-то человек не только при помощи мозга, но и при
помощи языка в процессе общения, при помощи кисти, холста,
карандаша, листа бумаги, книг и прочих информационных средств.
И для того чтобы понять смысл этого запрета (писать и рисовать),
не нужно знать новейших достижений невропатологии и
психологии — довольно обычного здравого смысла, почерпнутого из опыта
тюремных надзирателей. Каждый, кто привык пользоваться
компьютером, базами данных и Интернетом, конечно, знает, как
тяжко лишиться всего этого. Но, с другой стороны, когда Г. Башляр
писал, что ученый-механик (речь об Архимеде) «мыслит рычагом»,
это больше, чем метафора. Вот почему неокантианец Г. Коген,
бывший очень неплохим математиком, в книге «Принцип метода
бесконечно малых» писал как о чем-то самоочевидном: «Не в глазу
находится чувственность, а в raison d'astronomie».
Вместе с тем поучительно, что важную роль в «демаркации»
наук о мышлении («когнитивных наук») от наук о нервных про-
А. Ф. Зотов. Фаустовский вопрос теории познания
99
цессах, обеспечивающих мышление, сыграла и психиатрия, когда
специалисты в этой области медицины поняли, что далеко не все
феномены психических заболеваний и «девиантного» поведения их
пациентов могут быть объяснены только патологиями мозга.
Можно по-разному относиться к психоанализу9, но его неоспоримой
заслугой было открытие того уровня психики, который получил
название «подсознания». То, что абстрактное мышление человека не
только «надстраивается» над чувственным уровнем познания
человека, но и существенным образом влияет на все компоненты
чувственности, давно известно. Напомню хотя бы о работах Р. Л.
Грегори, которые стали достоянием широкой публики после выхода в
свет его книги «Мыслящий глаз»10. И хотя до сих пор по традиции
мыслителями называют философов, никто не подвергает
сомнению факт существования высокоинтеллектуальных литературных
и музыкальных произведений, шедевров архитектуры и
живописных полотен11.
Однако, если судить по публикациям серьезных исследований,
притом не только философских, но и психологических, в которых
было бы представлено, в какой степени и как именно, в свою
очередь, влияет наше чувственное вооружение — не только
чувственный состав знания, но также набор рецепторов и их устройство —
на организацию мыслительных процессов высшего уровня (способ
мышления человека в целом и организацию рационального
мышления в частности) не так уж много. Более того, распространено
мнение, будто бы интеллектуальные процессы, если они «в норме»,
от состава, строения и работы рецепторов, а также от организации и
работы соответствующих участков мозга, ведающих работой
рецепторов, либо совсем не зависят, либо зависят очень незначительно.
Согласно этой точке зрения, не только мышление, но и весь
духовный мир слепых и глухих (в том числе слепорожденных и глухих от
рождения) не отличается от мышления и духовного мира зрячих и
обладающих нормальным слухом людей, поскольку мыслительные
процессы в их мозгу протекают одинаково12. Обширная практика
сурдопедагогики, и особенно поразительные результаты по
развитию мышления у слепоглухонемых пациентов, полученные группой
Я здесь имею в виду классический психоанализ 3. Фрейда.
Перевод этой книги на русский язык появился в России (вторым изданием) в
2003 году.
При этом высшая их оценка звучит примерно так: это полотно (симфония,
пьеса и т. д.) отличает философская глубина его содержания.
Или, точнее, эти различия не больше, чем различия между биологически
нормальными индивидами.
100
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологам
наших исследователей, организаторами и вдохновителями которой
были психолог В. В. Давыдов и философ Э. В. Ильенков, казалось
бы, говорят в пользу такого мнения. Правда, в таком случае,
наверно, придется музыкальное творчество и вообще всю музыкальную
культуру не рассматривать как особый вид интеллектуальной
деятельности человека. А это не может не вызвать возражения. То же
относится и к живописи, и другим видам духовной культуры.
Впрочем, такая позиция сейчас заметно ослабла. Более того, недавние
исследования группы нейрофизиологов, проведенные в США,
показывают, что и с другими компонентами мышления дело обстоит
тоже не просто. Они, например, обнаружили в мозгу человека
особый участок, ответственный за цифровой счет: люди, страдающие
патологией этого участка мозга, не могут решать задачи с числами
(хотя считать они способны, но делают это медленно). Разве это не
означает, что их мыслительная деятельность отличается от той,
которая свойственна людям без такой патологии?13
И снова возникает старая тема: затрагивают ли (и если да, то в
какой степени) такие исследования и их впечатляющие
результаты существо «фаустовского» (и «хайдеггеровского») вопроса?
Понимаем ли мы теперь, ознакомившись с самыми последними
результатами нейрофизиологии и, если так позволительно сказать,
«нейропсихологии», что значит «знать» и что значит «мыслить»?
Не происходит ли здесь снова и снова незаметная подмена темы
смысла темой механизма? И потому, пробуя найти ответ на
экзистенциальный вопрос: «Что значит знать?», мы отвечаем на другой:
«Как оно устроено? Как оно функционирует?» Однако уже
сравнительно давно зарубежное и отечественное философское
сообщество активно обсуждает тему сознания и знания в той форме, как
она представлена в публикациях и выступлениях Э. Нагеля, где,
на мой взгляд, происходит определенная «интерференция»
экзистенциального и функционального (процессуального) подходов.
Здесь, даже когда «физиологический» компонент приглушен14, об-
13 Правда, последние годы философы и психологи часто (а теперь уже как-то
мимоходом, как о чем-то самоочевидном) пишут о превалировании у того или иного
индивида «право-полушарного» или «лево-полушарного» мышления; но при этом
речь идет все-таки скорее о соотношении двух компонентов в процессе духовной
деятельности, чем о характеристиках разума: ведь «эмоциональное» при этом не
включается в состав «рационального», и обратно: «голова-то» остается
«холодной»...
14 Это нашло выражение в том языке, который используется в дискуссиях о
сознании: ведь один из ключевых терминов этого языка — «ментальные процессы»,
никак уж не может быть заменен выражением «нейрофизиологические процессы
в мозгу человека».
А. Ф. Зотов. Фаустовский вопрос теории познания
101
суждается тема способов создания теоретических «ментальных
моделей», а путь к созданию общей теории разума освещается
надеждой построить систему ментальных моделей, которая напоминала
бы наконец-то разгаданный биологами генетический код человека.
То, что делается в рамках этой программы, конечно же, никак не
выглядит топтанием на месте. Я понимаю, что попытка рассказать
сколько-нибудь полно и связно о результатах этих исследований в
пределах этого текста очень сложно. Поэтому я ограничусь здесь
только одним замечанием: дискуссия, которая началась в
философском сообществе после появления в 1974 году статьи Э. Нагеля
«What is it like to be a bat?», шла и продолжает идти не о том, можно
ли (и если можно, то как именно) проникнуть во «внутренний мир»
летучей мыши, оставаясь при этом человеком. Речь с самого начала
шла о том, как выразить то «приватное качество», квалиа сложной
системы? И можно ли это сделать вообще? Ведь вопрос, который
был вынесен в заглавие статьи Нагеля, можно было бы
переформулировать и так: «What is like to be E. Nagel?» Переводя эту тему
в плоскость чувственного восприятия и его переживания, Фрэнк
Джексон приводит пример с «Фрэдом», который, сортируя
помидоры на конвейере, видит два рода красного, которых не видит
обычный человек. Значит, этот обычный человек «слеп» к дуализму
«красное-1» — «красное-2». Вывод, который делает Ф. Джексон на
основе этого феномена, звучит так: как выглядит этот новый цвет,
мы никогда не узнаем, потому что наш физикалистский подход
исключает то качество, о котором идет речь. Предлагается и более
изощренная модель: Мэри, специалист по нейрофизиологии, сама
цветов не различает и потому работает только с черно-белым
монитором. Но, будучи специалистом экстра-класса, она обладает
всей информацией об устройстве зрительных клеток и об
электромагнитных волнах. Что случится, если в один прекрасный момент
она увидит цвета? Узнает ли она тогда что-то новое о мире и нашем
визуальном восприятии этого мира? Ведь можно сделать вывод, что
этот человеческий индивид, Мэри, тогда обретет некое новое
знание о внутреннем мире других людей по сравнению с тем знанием,
которым обладала раньше? Несомненно! Но это значит, что самое
полное «физикалистское» знание принципиально не полно;
значит, есть и такое знание, которое «не пересекается» с физикалист-
ским. И тогда ответ на вопрос, что значит «быть самим собою»,
находится в другом «пространстве знания», нежели знание научное,
которое есть не что иное, как информация о любом объекте.
П. П. Мденко
Средневековый номинализм
и генезис новоевропейского сознания
Мы обычно относим рождение новоевропейской
культуры к XVI—XVII векам. Именно в этот период
формируется экспериментально-математическое естествознание
и создаются философские учения, в которых находит
свое отражение усиливающийся процесс
секуляризации и отхода от средневековой традиции. Начиная с XVII века
естествознание, и в частности механика, уже в значительной мере
определяли содержание и задачи метафизики, а в XVIII—XIX веках
вообще оттеснили последнюю на задний план, создав особый —
сциентистский — способ мышления и жизненной ориентации,
господствующий по сегодняшний день. Однако в действительности
предпосылки новоевропейского сознания, и прежде всего
философии и науки, сформировались значительно раньше. И
ключевую роль в этом процессе сыграло то направление в схоластике
XIV века, которое мы называем номинализмом и наиболее
крупными представителями которого были Уильям Оккам (ок. 1300—
1349), Николай из Отрекура (первая половина XIV века), Жан Бу-
ридан (1300 — ум. после 1358), Альберт Саксонский (ум. в 1390),
Николай Орем (1320-1382).
При рассмотрении номинализма обычно в первую очередь
обращаются к логико-гносеологической проблематике: к природе
общих понятий, или универсалий, споры вокруг которых определили
два основных направления в схоластике — реализм и номинализм.
И, конечно, отмечают, что реалисты защищали тезис о реальном
существовании общих понятий «до вещей» и об их
умопостигаемой природе, а номиналисты настаивали на том, что реально
существует только единичное, общие же понятия возникают путем
абстрагирования свойств единичных предметов и в этом смысле
существуют «после вещей». Однако эта вполне верная характери-
П. П. Гайденко. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания 103
стика номинализма далеко не достаточна для понимания подлинно
эпохального поворота, который был осуществлен в рамках того
направления, представители которого не случайно дали ему имя «via
moderna» — «новый путь»: в номинализме берет свое начало новый
тип метафизики, который можно обозначить как метафизику воли,
в отличие от метафизики бытия, созданной в античности и — с
некоторыми уточнениями — сохранявшей свое значение в Средние
века. Что же представляет собой метафизика бытия?
Бытие, или сущее, — центральное понятие древнегреческой
философии. В теоретически-рефлектированной форме оно впервые
предстает у элеатов. Глава школы Парменид защищает тезис:
бытие есть, а небытия нет; ибо невозможно ни познать, ни выразить
небытие — оно непостижимо. А поскольку Парменид убежден, что
мыслить и быть — одно и то же, отсюда следует: то, что невозможно
мыслить, в действительности не существует. Что же такое пармени-
довское бытие, какими атрибутами наделяет его философ? Бытие
едино и вечно, а значит, никогда не возникает, всегда уже есть.
Будучи единым, оно не содержит в себе множественности, а потому в
нем нет ни движения, ни изменения — оно всегда тождественно
самому себе. Итак, бытие едино, неделимо, самотождественно,
неподвижно, неизменно, вечно. А поскольку множественность, движение
и изменение — главные характеристики чувственного мира,
Парменид называет его миром «мнения», в отличие от бытия, которое
есть предмет «знания»; «мнение» так же непрочно и преходяще,
как и сам этот мир, который вполне правомерно назвать небытием.
Вот основные моменты онтологии элеатов: 1) бытие есть, а
небытия нет; 2) бытие едино, неделимо; 3) бытие постижимо с
помощью ума, а небытие дано чувственному восприятию. Эта онтология
была по-разному интерпретирована Демокритом, Платоном и
Аристотелем, но ее основной смысл не был при этом утрачен.
Восприняв тезис Парменида, что бытие едино, Демокрит объявил бытием
атомы, а небытием — пустоту. Принцип неделимости
сохранился по отношению к каждому отдельному атому, которых, однако,
множество: тут Демокрит, желая объяснить движение и тем самым
создать физику как науку, вступает в полемику с элеатами. Как
известно, Зенон Элейский, отстаивая тезисы своей школы,
пытается показать, что движение рационально непостижимо: силясь его
мыслить, разум запутывается в неразрешимых противоречиях. По
свидетельству Аристотеля, атомизм и родился в полемике с
элеатами. Но при этом в нем сохранилось противопоставление
чувственного мира, как лишь видимости, бытию, с той, однако, поправкой,
что это истинное бытие — атомы — дано у них не столько умозре-
104
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологам
нию, сколько абстрактному представлению, о чем свидетельствует
как вид атомов (выпуклые, вогнутые, шероховатые, с крючками),
так и объяснение их неделимости: atomon означает «неразрезае-
мое», «нерассекаемое», т. е. не разнимаемое на части в силу
физической твердости атома.
Полемическую по отношению к Демокритовой интерпретацию
бытия предложил Платон. Правда, бытие у него, как и у атомистов,
предстает множественным, но эти «многие» суть умопостигаемые
сущности — идеи, которые Платон называет to ontos on — истинно-
сущее. Идеи неделимы не в силу их физической нерассекаемости, а
в силу их логико-онтологического единства, т. е. их
нематериальности. С элеатами Платона роднит убеждение в том, что бытие (идеи)
вечно, неизменно и познаваемо лишь с помощью ума, а не
чувственного восприятия, как изменчивый мир «становления». «Нужно
отвратиться всей душой ото всего становящегося: тогда способность
человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия»1. В
древнегреческой философии понятие «сущность» (ousia) произведено от
понятия «бытие» (to einai), так же, впрочем, как и в латинском, и в
большинстве новых языков, в том числе и в русском. Именно идеи
Платон называет сущностями, ибо сущность — это то, что
существует. Однако Платон, утверждая вслед за элеатами, что небытие
ни выразить, ни мыслить невозможно, в то же время, в отличие от
них, вынужден признать его неким образом существующим: в
противном случае, говорит Платон, непонятно, как возможно
заблуждение, поскольку заблуждение — «это мнение о несуществующем»2.
Критикуя элеатов, Платон подчеркивает: если принять, что бытие
едино, познание окажется невозможным, ибо последнее
предполагает «двоицу» — познаваемое и познающее, и есть отношение между
этими «двумя». Обосновывая возможность познания, Платон
вынужден ввести наряду с «бытием» «иное», которое есть
«существующее небытие»3. Небытие выступает, таким образом, как принцип
различия, отношения, благодаря которому устанавливается связь
между идеями и соответственно возможность их познания. «...Все
идеи суть то, что они суть, лишь в отношении одна к другой, и лишь
в этом отношении они обладают сущностью, а не в отношении к
находящимся в нас их подобиям»4. Иное по своему статусу ниже
бытия, оно существует лишь благодаря своей причастности бытию. В
1 Платон. Государство. VI, 518с.
2 Платон. Софист. 240е
3 Там же. 258Ь.
4 Платон. Парменид. 133с.
П. П. Гайденко. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания 105
свою очередь бытие как взаимосвязанное множество идей
(идеальная целостность, идеальный космос) существует и мыслимо лишь в
силу своей причастности к сверхбытийному и непознаваемому
Единому, которое есть высшее начало всего сущего. Платон, таким
образом, существенно корректирует онтологию элеатов, но сохраняет
важнейшие их интуиции: бытие есть, и хотя оно не тождественно
Единому, Единое является условием возможности бытия, и каждая
из сущностей — идей — есть нечто единое и неделимое; бытие
познаваемо, а небытие — нет; и, наконец, сущность есть предпосылка
отношения. Идеи (сущности) Платона составляют, таким образом,
как бы «срединное царство» между высшим и трансцендентным
началом — Единым, и текучим «становлением» эмпирического мира,
который является предметом не знания, а «мнения». Однако
трудности, вставшие перед Платоном при попытке объяснить чувственное
через его причастность сверхчувственному бытию — идеям, а также
убеждение в том, что природа как сфера движущегося и
изменяющегося также может стать предметом научного знания, побудили его
ученика Аристотеля по-новому интерпретировать проблему бытия.
Сохраняя восходящее к элеатам и разделяемое Платоном
представление о бытии как о самотождественном и неизменном, Аристотель,
однако, ищет неизменное и пребывающее начало в самом
эмпирическом мире и переосмысляет платоновское понимание сущности.
Сущность, по Аристотелю, не есть запредельная чувственной вещи
идея, а есть то устойчивое и непреходящее в самой вещи, что делает
ее самостоятельной и составляет основу ее бытия. Среди категорий
Аристотеля сущность есть первая, потому что она — представитель
бытия среди других категорий. Само же бытие, по Аристотелю,
категорией не является: на него указывают, к нему отнесены все
категории. Сущность, таким образом, есть в большей степени сущее, чем
любой ее предикат (акциденция), каковыми являются остальные
категории. «Сущность есть то, что существует в первую очередь и дано
не как некоторое специальное бытие, но как бытие в
непосредственности своей»5.
Как же мыслит Аристотель сущность? В «Категориях» она
определяется им так: «Сущностью, о которой бывает [идет] речь
главным образом, прежде всего и чаще всего, является та, которая не
сказывается ни о каком подлежащем и не находится ни в каком
подлежащем, как, например, отдельный человек или отдельная
лошадь. А вторичными сущностями называются те, в которых, как
видах, заключаются сущности, называемые [так] в первую оче-
Лристотель. Метафизика. VII, 1.
106
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
редь, как эти виды, так и обнимающие их роды; так, например,
определенный человек заключается, как в виде, в человеке, а
родом для этого вида является живое существо. Поэтому здесь мы и
говорим о вторичных сущностях, например, это — человек и
живое существо»6. То, что «сказывается» о подлежащем,
характеризует род или вид подлежащего, а то, что «находится» в подлежащем,
есть сопровождающий (более или менее случайный) признак. Так,
«животное» сказывается о человеке, «белый» находится в человеке.
Первичная сущность ни о чем не сказывается, вторичная
сказывается о первичной сущности, но не может сказываться об остальных
категориях. Сущность может иметь противоположные
определения, хотя и не в одно и то же время; так, человек может быть
болен или здоров, весел или печален; сущность есть как раз то
начало, которое опосредует противоположности; сама же она не может
иметь ничего противоположного ей как сущности.
Мы так подробно остановились на аристотелевском анализе
понятия сущности, потому что здесь философ формулирует
важнейший тезис, вокруг которого впоследствии развернется полемика,
связанная с номиналистическим поворотом в онтологии. В своем
определении сущности Аристотель прежде всего подчеркивает, что
сущность имеет онтологический приоритет перед отношением. Вот
как он определяет категорию отношения: «Соотнесенным с чем-
нибудь называется то, что в том, что оно есть само, обозначается в
зависимости от другого или каким-нибудь другим образом ставится
в отношение к другому»7. Поясняя свою мысль, Аристотель говорит,
что соотносительно определены понятия «большее — меньшее»,
«двойное — половинное», а также «господин — раб», «отец — сын»
и т. д. Каждое из соотнесенных получает свое содержание через
другое; поэтому для соотнесенного существовать — значит находиться
в каком-нибудь отношении к другому. Те, кто ставят отношение выше
сущности (а значит, бытия), признают чувственное знание за
истинное — ведь чувственное знание есть отношение сущего к
субъекту восприятия. «Кто объявляет истинным все, что
представляется, тот все существующее обращает в отношения»8. Так Аристотель
критикует скептицизм и релятивизм, который был в особенности
характерен для софистов. Сущность, по Аристотелю, есть начало и
причина: именно в ней следует искать источник связи следствия с
его причиной как в природе, так и в искусстве и мышлении. Поэто-
6 Аристотель. Категории. 5, 2а.
7 Там же. 7, 6а.
8 Аристотель. Метафизика. IV, 6.
П. П. Гайденко. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания 107
му, как и Платон, Аристотель убежден, что сущность есть
подлинный предмет научного знания (episteme). Однако в качестве такого
предмета выступает не первичная сущность как отдельный
индивидуум, а вторичная — неделимый вид (неделимым видом Аристотель
называет наименее общий, ближайший к первичным сущностям
вид, который потому и неделим, что дальше на виды не
распадается). Это последнее видовое отличие есть, согласно Аристотелю,
первая форма, или «суть бытия», «чтойность» вещи,
выражающаяся в ее определении. В случае сущности-эйдоса, т. е. неделимости
вещи по виду, сущность тождественна форме вещи; если же имеет
место неделимость по числу (неделимость «вот этого»
индивидуума, например, отдельной лошади), то сущностью будет составное из
формы и материи. Все чувственные сущности представляют собой
составное из формы и материи: таковы живые существа — растения
и животные, а также небесные светила (их Аристотель считал тоже
живыми индивидуумами) и, наконец, простые тела — земля, вода
и т. д. Самостоятельное бытие — вот главная отличительная
характеристика сущности. Взятая в другом своем аспекте, а именно, как
причина бытия, сущность есть форма чувственной вещи; поэтому
Аристотель называет сущностью и «то, что, находясь в таких вещах,
которые не сказываются о субстрате, составляет причину их бытия,
например, душа — причина живого существа»9. О сущности, таким
образом, философ говорит в двух значениях: в смысле
подлежащего, которое не сказывается ни о чем другом, и в смысле формы, или
эйд оса, каждой вещи, придающей ей ее бытие. Видимо, не
случайно, говоря о первичных сущностях, Аристотель, как правило,
приводит примеры живых существ: в самом точном смысле сущностью
оказывается для него живой индивидуум.
Однако реалистическая метафизика Аристотеля,
противопоставленная им идеализму Платона, отнюдь не означает, что он
признает реальное существование только вещей чувственного
мира, т. е. составных сущностей. По Аристотелю, реальный мир не
сводится к чувственно данному, напротив, область чувственного
«представляет собой ничтожнейшую <...> часть целого»10. Помимо
составных существуют и простые сущности, чье бытие есть чистая
актуальность, т. е. чистая форма. Высшей сущностью, полностью
свободной от материи, является у Аристотеля чистый ум,
мыслящее себя мышление — вечный двигатель, или Бог, в котором
осуществлена вся полнота бытия.
9 Аристотель. Метафизика. V, 8.
10 Там же. IV, 5.
108
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Посмотрим теперь, в какой мере аристотелевская трактовка
бытия отличается от той, какую мы обнаружили у элеатов, а затем у
Платона. Как соотносятся у Аристотеля понятия бытия и небытия,
бытия и единого, бытия и познания? Начнем с последнего. Вещи,
по Аристотелю, познаваемы в той мере, в какой они являются
сущими. Это тезис общий для всей описываемой традиции. Поэтому,
согласно Аристотелю, началом познания в вещах является форма,
так же как у Платона — идея; напротив, беспредельное, материя,
лишенная формы, не может быть и предметом познания, ибо она
не есть бытие. «Ничто беспредельное <...> не может иметь бытия»11.
Главным же в форме является ее единство. И тут мы видим, как
решает Аристотель поставленную элеатами проблему «бытие —
единое»: «Сущее и единое представляют то же самое, и у них — одна
природа, поскольку каждое из них сопровождает другое»12. Как и
элеаты, пифагорейцы, Платон, Аристотель мыслит бытие как
предел, а небытие — как беспредельное. Предел, по Аристотелю, — это
«сущность, которая есть у каждой вещи, и суть бытия для каждой
вещи; ибо в этой последней — предел для познания, а если для
познания, то и для вещи»13. Как видим, у Аристотеля не утрачены
основные интуиции элейской школы, хотя они и претерпели у него
определенную трансформацию.
Насколько понятие бытия связано в греческой философии с
понятием предела, границы, формы, можно видеть также на
примере учения Плотина, который, полемизируя с Аристотелем по
многим вопросам, сохраняет нерушимой связь сущности и предела.
Вот, что говорит Плотин о сущем: «Эти вещи суть сущности
потому, что каждая из них имеет предел и как бы форму: бытие не может
принадлежать беспредельному, бытие должно быть фиксировано в
определенных границах, должно быть устойчивым. Это устойчивое
состояние для умопостигаемых (сущих) есть определение и форма,
от которых они получают также и свое бытие»14. Таким образом, в
древнегреческой философии понятие бытия, как и понятие
совершенства, связано с принципом предела, единого, неделимого;
определенность, форма — условие мыслимости сущего; беспредельное,
безграничное осознается как хаос, несовершенство, небытие.
Понятие бытия, как оно рассматривалось в античности,
оказало влияние и на средневековую мысль. Однако в Средние века по-
11 Аристотель. Метафизика. II, 2.
12 Там же. IV, 2.
13 Там же. V, 17.
14 Плотин. Эннеады. V, 1,7.
П. П. Гайдеико. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания 109
нимание бытия определялось также и христианским Откровением,
восходившим к иной духовной традиции. В Ветхом и Новом
Заветах совершеннейшее Сущее — Бог — есть прежде всего
беспредельное могущество, а потому всякое ограничение и определенность
воспринимаются как признак конечности и несовершенства.
Неудивительно, что эти две традиции осознавались с самого начала как
несовместимые. Так, греческий врач и философ Гален (129—199)
писал: «Нашему Богу недостаточно только захотеть, чтобы
возникли или были созданы вещи той или иной природы. Ибо если бы Он
захотел мгновенно превратить камень в человека, это было бы не
в Его силах. Именно здесь наше собственное учение, так же как и
учение Платона и остальных греков... отличается от учения
Моисея. Согласно Моисею, Богу достаточно пожелать, чтобы материя
приобрела ту или иную форму, и она тем самым приобретет ее. Он
считает, что для Бога все возможно, даже если Он захочет
превратить прах в лошадь или быка. Мы же так не думаем, но утверждаем,
что некоторые вещи невозможны по природе, и Бог даже не
пытается создавать их. Он лишь выбирает наилучшее из возможного»15.
Насколько острым было столкновение этих двух способов
мировосприятия в первые века христианства, свидетельствует также
рассуждение Оригена, в духе греческой философии
отождествлявшего бытие с пределом и познаваемостью: «...Нужно сказать, и Бо-
жие могущество ограничено, и под предлогом прославления Бога
не должно отвергать ограниченность могущества [Его]. В самом
деле, если бы могущество Божие было безгранично, то оно по
необходимости не знало бы само себя, потому что по природе
безграничное — непознаваемо»16.
Было бы интересно рассмотреть многочисленные попытки
примирить греческое умозрение с христианской верой или, напротив,
противопоставить их друг другу, поскольку эти попытки во многом
определили трактовку бытия не только в Средние века, но и в
Новое время. Однако это специальная тема. Для нас здесь важно
отметить, что именно догмат о Божественном всемогуществе послужил
отправной точкой формирования нового типа метафизики — не
метафизики бытия, а метафизики воли. Начало этой новой
метафизике положили учения Дунса Скота (XIII век) и номиналистов
XIV века. Чтобы увидеть, как происходило формирование волюн-
тативной метафизики и какой поворот в мышлении оно
повлекло за собой, сравним трактовку бытия, как она была дана, с одной
15 Galeni G. De usu partium. XI, 14, 905-906.
16 Ориген. О началах. II, 9, 1.
по
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
стороны, Фомой Аквинским, пытавшимся примирить аристоте-
лизм с христианской теологией и тем самым сохранить основы
метафизики бытия, и представителями номиналистической школы, с
другой.
Высшее начало у Фомы есть бытие, акт которого заставляет
Вселенную существовать. «Первое из созданий есть само бытие,
которое предшествует — в качестве их условия — всем другим
созданиям, но которому ничто не предшествует»17. Различая бытие
и сущность, Фома тем не менее не противопоставляет их, а вслед
за Аристотелем подчеркивает их общность. Субстанции
(сущности) обладают самостоятельным бытием, в отличие от
акциденций, которые существуют только благодаря субстанциям. На этом
основании Фома различает субстанциальные и акцидентальные
формы: субстанциальная форма сообщает вещам простое бытие,
акцидентальная же является источником их качеств, свойств.
Различая актуальное и потенциальное состояния, Фома
рассматривает бытие как первое среди актуальных состояний: в вещи столько
бытия, сколько в ней актуальности. Соответственно он выделяет
четыре уровня бытийности вещей в зависимости от того, каким
образом форма организует материю, привнося в нее ту или иную
меру актуальности. На низшей ступени бытия форма есть causa
formalis сущего, она составляет лишь внешнюю определенность,
«так-бытие» вещи. Таковы неорганические стихии и минералы. На
следующей ступени — у растений — форма предстает как causa fi-
nalis, целевая причина вещи: последней в этом случае присуща
целесообразная организация, она наделена душой, формирующей ее
изнутри. Третий уровень — животные. У них форма выступает как
causa efficiens, действующая причина, поэтому животные не только
целесообразно организованы, но и имеют в себе начало
деятельности. Наконец, на четвертом уровне форма предстает в своем
чистом виде, уже не как начало, организующее материю, а сама по
себе (forma per se, forma separata) и, таким образом, есть дух (ум),
разумная душа — высшее из сотворенных сущих. Не будучи
связана с материей, человеческая разумная душа не погибает со смертью
тела, поэтому Фома именует ее «самосущим». Чувственная душа
животных сама по себе не действует, все ее действия
осуществляются телом, а разумная душа имеет отделенные от тела действия:
мышление и воление. Таким образом, в томизме, как и у
Аристотеля, бытие тесно связано с понятием сущности, и хотя бытие и
сущность у Фомы не тождественны, однако сущность стоит к бытию
Фома Лквинский. De potentia. q. 3, f. 4.
П. П. Гайденко. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания 111
ближе всего. Потому только о сущности может быть достоверное
знание. Хотя познание, как полагает Фома вместе с Аристотелем,
и начинается с ощущения, но ощущению дано лишь единичное, а
о нем не может быть высказано общего суждения, и потому оно —
не предмет науки. Только с помощью ума мы постигаем сущности,
которые познаются лишь постольку, поскольку они отделимы от
материи. Таким образом, и для Фомы бытие связано с пределом и
познаваемостью; предметом научного познания являются
сущности, т. е. субстанции, стоящие к бытию ближе, чем отношения.
Поворот в этих вопросах намечается у францисканца Дунса
Скота, выступившего с критикой томизма и защищавшего тезис
об онтологической первичности индивидуального над общим.
Согласно Скоту, реально существуют лишь индивиды; что же касается
сущности и формы, то они существуют лишь как объекты
божественного ума. Тезис о реальности единичного тесно связан у
Скота с его убеждением в том, что не разум, а воля есть первичное
начало как в Боге, так и в человеке. А потому человеческий разум не
может постигнуть того, что зависит только от решения свободной
воли Бога.
Волюнтативная теология Дунса Скота оказала влияние на
номиналистов XIV века. Именно всемогущий Бог Откровения, с его
абсолютно свободной волей был противопоставлен ими Богу
греческих философов. Согласно Оккаму, вера тем сильнее, чем более
очевидно, что ее догматы не могут быть рационально доказаны.
Опровергая основные положения метафизики бытия и создавая
базу для новоевропейской метафизики воли, номиналисты
опираются прежде всего на Священное Писание и отвергают стремление
примирить веру с разумом и с помощью разума обосновать
истинность догматов веры. Стремление это мы видим как у
византийских, так и у западных богословов: в этом отношении интересно
сравнить Иоанна Дамаскина и Фому Аквинского, опиравшихся в
своей аргументации на античную метафизику бытия. Тем не
менее представители номиналистической школы тоже апеллировали
к античной философии, в частности к аристотелевскому учению о
первой сущности как единичной вещи. Так, Оккам доказывает, что
именно единичные вещи — это единственная реальность,
существующая независимо от человеческого ума, и только они должны
быть предметом познания. Это значит, что лишь чувственное
восприятие есть тот путь, которым мы можем получать свидетельство
о реально существующем, — вывод, отнюдь не вытекающий из
аристотелевских предпосылок. При этом номиналисты пошли
значительно дальше Дунса Скота: если последний считал, что у Бога
112
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
имелся выбор сущностей (идей), которые он был волен сотворить,
то Оккам упразднил само понятие сущности, или субстанции,
лишив его того основания, которое оно имело в патристике и
схоластике вплоть до Фомы, а именно — существования идей (общих
понятий) в божественном уме.
Идеи, по Оккаму, вовсе не присутствуют в уме Бога в качестве
прообразов вещей: сперва Бог своей волей творит вещи, а уж затем
в его уме возникают идеи как репрезентации этих вещей, т. е. как
представления, вторичные по отношению к единичным
индивидуумам. Соответственно и человеческое познание должно иметь дело
прежде всего с единичными предметами, которые и есть подлинно
сущее. Что же касается общих понятий, то они — не более чем
знаки, имена (nomina) единичных вещей в человеческом уме.
С этой точки зрения, сущность (субстанция) утрачивает свое
значение самостоятельно сущего, которому принадлежат
акциденции, не имеющие бытия без соответствующих субстанций.
Субстанция утрачивает значение бытия по преимуществу, ибо Бог,
согласно номиналистам, может создать любую акциденцию, не
нуждаясь для этого в субстанции. По словам Петра Ломбардского,
«Бог может создать любую акциденцию без посредствующей
субстанции только своим действием, следовательно, может создать
любую акциденцию без другой и субстанцию без акциденции —
только своим действием»18. В результате исчезает принципиальное
для метафизики бытия различие между субстанциальными и ак-
цидентальными определениями. Субстанциальные формы теряют
то значение, которое они имели у Альберта Великого и Аквината.
Субстанция, с точки зрения номинализма, больше не есть то, в чем
коренится бытие сущего. Как мы знаем, согласно метафизике
бытия, сущность постигается умом, в отличие от акциденций,
которые даны чувствам и связь между которыми устанавливается
рассудком. В номинализме же по существу уравниваются друг с другом
умопостигаемое бытие вещи и ее просто наличное, эмпирически
данное существование, т. е. ее явление. Таким образом, отменяется
интеллектуализм метафизики бытия, а вслед за ним —
иерархическая структура тварного мира. Номинализм не признает различных
бытийных уровней вещей, их онтологической иерархии.
В соответствии с новым учением о бытии и сущности
формируется и новое представление о познании и о природе познающего
ума. Если в схоластике от Бонавентуры до Фомы предметом всеоб-
18 Questiones et decisiones in quattuor libros sententiarum Petri Lombardi. Lyon. 1495.
Id. 30q.l.
П. П. Гайденко. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского сознания 113
щего и необходимого знания являются субстанции как
умопостигаемые реальности, то, согласно Оккаму, познание должно быть
направлено не на сущность вещи, т. е. не на вещь в ее всеобщности,
а на единичную вещь. Таково интуитивное познание — cognitio
intuitiva. И это потому, что познаем мы не субстанции, а
акциденции: открывается возможность толковать знание лишь как
установление связи между акциденциями, т. е. ограничить его уровнем
явлений, — возможность, которая полностью реализовалась в
Новое время сначала в английском эмпиризме, а позднее в
трансцендентальной философии Канта и его последователей. Произошел
пересмотр важнейшего принципа метафизики бытия, гласящего,
что сущность (субстанция) есть условие возможности отношений. В
номинализме впервые наметилась та тенденция к
самостоятельности гносеологии по отношению к онтологии, которая была чужда
античному и средневековому мышлению и развернулась полностью
только в Новое время. В томизме гносеология не существовала
самостоятельно, независимо от онтологии, ибо то, что разум
постигает с помощью понятий, есть бытийное определение вещей, их
сущность, и только на уровне чувственного познания (воображения)
вещь, согласно Фоме, рассматривается в ее отношениях, почему
чувственное познание в основном зависит от познающей души и
может вводить в заблуждение. Иная концепция познания в
номинализме: здесь познание рассматривается как продукт познающей
души; предмет интуитивного познания и представление об этом
предмете — две разные реальности, а отсюда следует вывод, что
возможно получить интуицию и того, что реально не существует. Лишь
одна вещь дана уму так, как она существует сама по себе: это сам ум.
Согласно Николаю из Отрекура, как от существования одной вещи
нельзя заключить к существованию другой (ибо вещь не
рассматривается в ее всеобщности, но как единичный индивидуум), так
же невозможно делать заключение от представления о вещи к самой
вещи: ведь Бог всегда может своей волей создать в душе
представление, которому ничто не соответствует в реальности.
Статус разума, таким образом, мало отличается в номинализме
от статуса воображения; разум понимается как субъективная
деятельность, лишенная онтологических корней, а значит,
внутренней связи с реальным бытием и потому противостоящая ему. Умы
больше не рассматриваются как высшие в иерархии тварных
сущих. Ум — это не бытие, а представление, направленность на бытие,
субъект, противостоящий объекту. Из реальной субстанции ум
превращается в интенциональность. Субъективистское истолкование
духа влечет за собой вывод, что явления внутренние, психические,
114
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
достовернее внешних, физических, поскольку даны нам
непосредственно — психологизм, чуждый античной философии, но вполне
естественный для августинианской традиции, с ее углубленным
интересом к «внутреннему человеку». Все это способствовало
выделению гносеологии в самостоятельную область исследования,
которая начиная с XVII века все больше получает приоритет по
отношению к онтологии.
И в теологии, и в философии номинализм кладет начало той
развившейся в Новое время тенденции, которую можно назвать
волюнтативной, поскольку она подчеркивает приоритет воли перед
разумом, практического начала — перед теоретическим, веры —
перед знанием и которая наиболее последовательно была
реализована в учении Канта. Если мы примем во внимание, что номинализм
Оккама оказал сильное влияние на Лютера, то сможем понять,
почему именно в протестантизме реализовалось многое из того, что
было намечено в номинализме.
Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что
номинализм осуществил едва ли не самый радикальный поворот в истории
мысли со времен античной классики, разрушив фундаментальные
предпосылки метафизики бытия, просуществовавшей на
европейском континенте более полутора тысячелетий, и заложив
основания метафизики воли. Это, разумеется, не значит, что все корни
традиционной онтологии, восходящей к античности и давшей
богатые плоды и в Средние века, были вырублены сразу. Эти корни
были слишком мощны и глубоки, чтобы их удалось выкорчевать в
течение одного-двух столетий. Категорию субстанции, так же как и
понятие бытия, мы встречаем у многих философов Нового
времени. Но при внимательном анализе можно заметить, что
трактуются эти понятия часто иначе, чем в той традиции, историю которой
мы попытались здесь вкратце проследить. Эта новая трактовка
несет на себе явные следы влияния номинализма, что нетрудно
показать на примере учений не только представителей эмпирического
направления — Фр. Бэкона, Т. Гоббса, Дж. Локка, Д. Юма, но и у
рационалистов — Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница и др. А в
немецком идеализме, начиная с Канта и Фихте, не только изгоняется
понятие субстанции, но создаются продуманные системы, в основе
которых лежит понятие воли, или свободы, и которые вполне
сознательно противопоставляются метафизике бытия.
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская
Этос науки: нормативные идеалы
и современные реалии
Анализ этоса современной науки позволяет наиболее
рельефно увидеть эволюцию этических проблем науки, которые
становятся все более конкретными и более резко
очерченными. В то же время можно заметить, что проблемы
социальной ответственности ученых не только
конкретизируются, но и в определенном смысле универсализируются. Они
возникают в самых разных сферах научного познания, включая и
фундаментальное знание2. При этом необходимо отметить, что
этическая оценка науки сейчас становится более
дифференцированной, относящейся не столько к науке в целом (каково бы сегодня
ни было отношение к ней в категориях Добра и Зла), сколько к
отдельным направлениям и областям научного знания, выходящим за
рамки дисциплинарной замкнутости. В этих случаях
морально-этические суждения способны играть конструктивную роль не только
в обосновании теоретических построений, имеющих конкретную,
практическую ориентацию, но и в формировании обновленного
горизонта современных культурных ценностей. Содержания
представлений «этоса науки» и «этики науки» не являются
тождественными, они находятся в отношении «пересечения». То, что их
различает — это преобладание в «этосе науки», предъявленного тем
или иным конкретным сообществом, доли общезначимых норм и
принципов, формируемых в «истории» существования этого со-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, гранты № 13-06-00872 и № 12-06-00058. Статья авторов
является одной из их работ, которая продолжает исследования проблемы этоса
современной науки начатой в 2005. В том числе была подготовлена к публикации
коллективная монография «Этос науки» в 2008.
2 Пружиним Б. И. Два этоса современной науки: проблемы взаимодействия // Этос
науки. М, 2008.
116
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
общества, в отличие от «этики науки», которая сформирована с
акцентом на всеобщие нормы и принципы и претендует на
универсальный статус. Проблема этоса научного познания, с нашей точки
зрения, сегодня представлена, например, через переосмысление в
современной культуре традиционных соотношений Истины и
Блага, всеобщего и общезначимого, фундаментального и прикладного
в научном познании, наконец, персональной и коллективной
ответственности в проведении того или иного исследования. Этос
науки как проблема философии и методологии науки является
современной и своевременной проблемой, несмотря на ее
кажущийся «романтический сциентизм», если иметь в виду традиционное
представление о научном этосе, связанное с именем Р. К. Мертона.
Хотя сам термин этос может не встречаться в текстах,
посвященных трансформациям современного научного познания, но его
проблематика там явно присутствует. Она просматривается, например, в
современных исследованиях влияния смены ценностных установок
на нормы и стандарты самого познавательного процесса, а также и в
обратных воздействиях. Как конструктивный момент следует
подчеркнуть взаимодействие установок науки и общества, идущих на встречу
друг другу и в то же время спорящих между собой. Эта ситуация
кардинальных трансформаций в самосознании общества и тех
изменений, которые происходят в развитии современной науки, может быть
воспринята как формирование этоса постнеклассической науки.
Этос постнеклассической науки может быть рассмотрен как
сложный, саморазвивающийся «узел» множащихся ответвлений,
различных аспектов его изучения и частных случаев применения,
которые дают представление о статусе современной науки.
Однако, что лежит в основании этого сложноорганизованного «узла»
познавательной деятельности, рассматриваемого в целом как
проблема? Вообще говоря, таким основанием может быть любой из
выше приведенных примеров проявления или аспектов изучения
проблематики этоса современной науки. Каждый из них дает свою
часть стереоскопического видения, объединяющего единства
разнообразия представлений о состоянии современной науки в целом.
Причем каждый из аспектов рассмотрения может иметь
самостоятельный исследовательский интерес.
Философский аспект, рельефно проступающий в связи с
развитием нового типа философствования, который ближайшим образом
переживается в дополнительности кризиса научной
рациональности и кризиса классической философии. Аспект, который
непосредственно касается роли, места и качества современной философии
науки, перспективы которой, во-первых, «неразрывно связаны с от-
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская. Этос науки: нормативные идеалы...
117
ходом от абстрактных методологических дискуссий в пользу
ситуативных исследований типа case study. Во-вторых, философия науки
перестает быть узко специализированным анализом естествознания.
Она преобразуется в междисциплинарное исследование с
преобладанием гуманитарного компонента, в силу чего исследование научного
знания становится лишь формой и способом познания человека»3.
Социологический аспект связан с возрастанием значения
междисциплинарных и проблемно-ориентированных задач, которые
требуют нетрадиционных форм производства и организации
знания4. Эти задачи напрямую связаны с практическими запросами,
возникающими в рамках культурных и цивилизационных
изменений (экологических, биомедикотехнологических, биоэтических,
технических) современной эпохи.
Антропологический аспект обусловлен необходимостью
проведения когнитивно-коммуникативных стратегий изучения поведения
сложных человекомерных саморазвивающихся систем, в которых
результаты познавательной деятельности находятся в прямой
зависимости от коммуникативной составляющей. Антропологический
аспект в первом приближении может быть представлен
проекциями философского и социального аспектов постнеклассической
науки на жизненный мир человека с его ценностными и
нормативными принципами и правилами.
Экзистенциальный аспект статуса постнеклассической науки
непосредственно связан с антропологическим аспектом, являясь
его конкретизацией. Он, в свою очередь, сводится к осмыслению
роли человека в процессе формирования и обоснования сложных,
саморазвивающихся систем в своей жизнедеятельности, одной из
которой является наука. Для этой цели может быть использован
квалифицирующий ряд, непосредственно касающийся
современных способов научного исследования и человеческого присутствия
в них, а именно наблюдателя — участника — свидетеля5.
Этот квалифицирующий ряд состояний человека (субъекта),
включенного в современный научный исследовательский
процесс, имеющий как диахроническое (культурно-историческое,
временное изменение), так и синхронное измерения
(одновременное присутствие не только «теперь», но и «здесь», локально и
пространственно отмеченный). Такие измерения дают возможность
3 Философия науки. Вып. 5. Философия науки в поисках новых путей. М., 1999. С. 9.
4 Например, академическая наука, популярная наука, журнальная наука, наука
учебника, наука исследования, в свое время предложенная Л. Флеком.
5 Киященко Л. П. Опыт философии трансдисциплинарности («казус биоэтика») //
Вопросы философии. 2005. № 8.
118
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологам
по-новому освещать проблемы смены парадигм, преемственности,
а также соизмеримости новых теорий и подходов.
Сложность, многомерность, постнеклассического исследования
в целом и в частности этоса постнеклассической науки,
обусловлены соответствующей методологией, ориентированной как на про-
блемоцентризм, так и на изменчивость функционирующих в нем
норм и ценностей.
Другими словами, этос постнеклассической науки,
рассмотренный как проблема, дает представление о некотором единстве,
сложноорганизованной, открытой и динамичной целостности,
которая может быть рассмотрена в различных своих аспектах и с
разных позиций. Подчеркнем, что проблематизация этоса науки,
помимо интереса объединяющего научное сообщество, в нашем
случае сама по себе имеет особый спецификум как в поиске, так и в
возможном ответе. Проблематизация не предполагает
однозначного и окончательного ответа, она обозначает скорее «веер»
возможностей, право ответственного выбора решения (уточнения,
переформулирования, выяснения основания, доли участия, ценности,
цели и т. п.), которое только и возникает в научном сообществе.
В нашем случае этос постнеклассической науки как проблема
будет рассмотрен через призму соотношения состояния или статуса
научного знания в целом и его организующих «частей» — внешних и
внутренних порядков, границ6, образующих основания его
жизнедеятельности, или, по Куну, через «призму» парадигмы
(дисциплинарной матрицы). Обоснование смены парадигм (смены способов
постановки проблем и методов научного исследования, положенное в
основу его концепции научных революций) поможет, с одной
стороны, сохранить преемственность, соразмерность сменяющихся форм
научного познания, а с другой, показать их качественное различие.
Выбирая такой ход исследования, мы тем самым стартуем от
имеющейся в логике и методологии науки традиции — в
переломные моменты своей истории быть особенно озабоченными
основаниями, обоснованиями и обоснованностью научных результатов,
6 То, о чем идет речь, может быть соотнесено с нормами и ценностями,
образующими научный этос по Р. Мертону. Нормы выражаются в форме позволений,
запрещений, предписаний, предпочтений и т. п. Ценности соотносятся с целями и
желаемыми результатами деятельности в данном научном сообществе. Но соотношение
внутреннего и внешнего порядков, образующих системный феномен этоса науки,
может быть проиллюстрирован различением внутренней и внешней стороны
границы, рассмотренного Н. Луманом. «Граница системы есть не что иное, как вид и
конкретность тех операций системы, которые ее индивидуализируют. Граница —
это форма системы, другая сторона которой становится, тем самым, окружающим
миром» (Луман Н. Общество как социальная система. М, 2004. С. 78).
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская. Этос науки: нормативные идеалы...
119
т. е. неизбежно выходить за рамки дисциплинарной закрытости в
сферу философии науки. Если же главным предметом и конечной
целью философии науки рассматривать не саму науку, а человека,
осуществляющего познавательную деятельность в форме науки или
более радикально: условия, смысл и формы человеческой свободы в
сфере научного познания в динамике соотношения
необходимости, возможности и случайности, то значительно усложняется
понимание современной философии науки и ее гносеологическо-
онтологическая структура. В таком понимании философию науки
интересуют и методы, и язык, и научные институты, и
нравственность, и социальная роль ученых, и отношения людей в научных
коллективах, а также многое другое знание, о чем она,
естественно, узнает из междисциплинарных (научных и метанаучных)
исследований7, что, так или иначе, проявляется в феномене этоса
науки. Граница между наукой и метанаукой, в свою очередь, имеет
широкий спектр значений в человеческом существовании,
начиная от непосредственности переживания повседневности и
кончая известной отстраненностью представлений о жизненном мире.
Граница приобретает открытый, но непрозрачный характер. Речь в
таком случае идет о легитимности в современной философии
науки, а через ее посредство, и в научном познании рассмотрения
актуальных проблем существования человека.
Рассмотрение этоса постнеклассической науки, таким образом,
дает возможность отметить основные тенденции формирования
философии современной науки, которые мы связываем с опытом транс -
дисциплинарности, как опытом практического философствования8.
Этос современного познания предстает в разнообразии его
организационных форм. Это не только дисциплинарное и
специальное знание, существующее в университетах и институтах,
зафиксированное в учебниках. Трансдисциплинарное сообщество все
более приобретает очертание трансинституционального
образования, которое организовано необходимостью решения. жизненно-
практических проблем и связано общностью экзистенициального
настроения, зависящего от рисков современного цивилизационно-
го обустройства человеческого существования.
Следует отметить, что любое научное сообщество, занятое
производством, развитием и трансляцией дисциплинарного знания в раз-
7 См.: Порус В. Н. К вопросу о междисциплинарности философии науки //
Эпистемология и философия науки, 2005, Т. IV, № 2, С. 67.
8 Киященко Л. П., Тищенко П. Д. Философия трансдисциплинарности как опыт
практического философствования // Праютчна фшософ1я. Киев, 2004. № 2—3.
120
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
личных формах организации (классической и неклассической науки),
характеризуется общностью настроения. Имеется в виду настрой как
установка, например, на следование нормам дисциплинарной
матрицы или же ориентация на отслеживание их изменения. Оно играет
цементирующую роль и в специфических феноменах
самоорганизации научного сообщества, которые получили название «невидимых
колледжей» (Т. Бернал, Д. Прайс), «республики ученых» (М. Полани).
Но общность по настроению проявляется не только в этом. Она
становится особенно заметной при рассмотрении постнеклассической
науки. Что изменилось в постнеклассической науке? Главным образом
трансформировалось настроение. Если в классической науке каноном
были эзотеризм, автономия, непроницаемость границ для ненаучного
знания, то в постнеклассической науке в связи с изменением
характера предмета исследования настроение кардинально меняется.
Предмет возникает и формируется совместными усилиями как ученых-
экспертов, так и представителей общественного мнения, в горизонте
взаимодействия научной картины мира и жизненного мира, совместно
проживаемого участниками трансдисциплинарного общения.
Современное научное познание охватывает собой и
исследовательские направления научной мысли, вопрос об организационном
дисциплинарном оформлении которых — дело отнюдь не
ближайшего будущего. Пока они возникают и оформляются на стыках или
границах научных дисциплин как эффект междисциплинарного
общения в результате формирования контингентно согласованного
языка в использовании своих модельных представлений — особенного
всеобщего. Особенность такого направления научной мысли состоит
в том, что в ней одновременно происходит формирование как своего
предмета, так и методологического его обеспечения в режиме
реального времени научного сообщества, как правило, сформированного
и объединенного конкретной практической задачей, запрос на
решение которой пришел извне из актуальных проблем жизненного мира.
Нормы приобретают динамический характер, попадая в
зависимость от целей, поставленных трансдисциплинарным сообществом.
Координация с прилагаемыми обстоятельствами вынуждает их
действовать контекстуально обусловлено: то как интегрирующее, то
как дезинтегрирующее начало в организации
трансдисциплинарного сообщества. На первый план сейчас выступает идея
дифференцированного на многие страты сообщества со своими
специфичными нормами исследования — локальными формами «этоса»9.
9 Erno-Kjolhede Е. Scientific norms as (dis)integrators of scientists? // MPP Working
Paper. 2000. № 4. URL: http//www.cbs.dk/departments/mpp.
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская. Эгос науки: нормативные идеалы...
121
Конкретная проблема, которая доопределяется по мере ее
уточнения, оказывается сильнейшим стимулятором революционных
преобразований в науке. Замечено, что по мере решения избранной
проблемы, сообщество ученых (экспертов, менеджеров, политиков
от науки), совместно обеспечивавших исследование этой
проблемы, распадается. Кратковременность существования отдельного
мыслительного коллектива, оперативно и эффективно решающего
острую злободневную задачу, вводит свой стиль в сферу
производства научного знания.
На современного ученого участие в таких исследованиях
налагает двойную сетку обязанностей, так как на систему ценностей
и норм, характерную для научного познания, накладывается еще
одна система ценностей и норм, специфическая для той
организации, которая создана для решения конкретной задачи.
Этос постнеклассической науки возвращает
персонифицированную позицию ученого классического этоса науки, с той разницей,
что теперь ученый держит персональный ответ за свою позицию
не только перед самим собой, но и перед научным сообществом.
Эта двойная ответственность драматически не равнозначна. Право
«собственности» в современном высоко коммерциализированном
сообществе трансформирует норму ответственности каждого
участника трансдисциплинарного общения. Ответственность
корпорации (коллективная отчетность перед обществом), основанная на
корпоративной собственности (материально-финансового
обеспечения научного исследования), порой вступает в конфликт с
нормой ответственности ученого за сделанное персонально им.
Традиционная система норм и ценностей научного этоса Р. Мер-
тона, как и параметры, составляющие дисциплинарную
матрицу Т. Куна, при решении конкретной задачи (здесь и теперь), как
правило, трансформируются, причем неоднозначно. Ведь ученый
погружен в сложно организованную ситуацию, его поведение
обусловлено зачастую неосознаваемыми повседневными правилами
поведения в жизненном мире, а также сложившимися в сообществе
установками (рефлексивно и рационально выраженных форм —
теоретически обоснованных или достигнутых по договоренности),
межличностными отношениями (партнерства, конкуренции,
лидерства и т. д.), интеллектуальным и эмоциональным климатом
сообщества (общности по интересам). Экстремальная по сложности
ситуация «быть или не быть», «приводящая в сознание» каждого ее
участника, вынуждает его становиться посредником между
всеобщим и общезначимым. Между предельными позициями
бесстрастного наблюдателя (классика) и конкретного участника (неклассика)
122
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
когнитивно-коммуникативных познавательных практик, однако
возникает возможность быть свидетелем (постнеклассика), который
одновременно удерживает в себе оба предельных состояния.
Эта ответственная (в ответе на вопрос, заданный
экзистенциальной ситуацией) транс-позиция свидетеля делает его философом
современного, постнеклассического типа. Но эта же ситуация
воспроизводит и традиционное: «философствовать — значит мочь начать»
(Р. Сафрански). Особенность стилистики такого
свидетельствующего философствования в данном месте и времени состоит в
осознании ответственности не только в отношении выбора для себя, но
и в отношении сохранения открытости (коммуникабельности)
другому. Причем обе формы ответственности совместно реализуются в
процессах коммуникативных трансдисциплинарных практик.
Рассмотрение проблемы этоса постнеклассической науки
возвращает нас к началу возникновения научной мысли, к тому
историческому моменту, когда онтологический и этический аспекты в
познании окружающего мира еще неразведены. В наши дни это
становится возможным постольку, поскольку коммуникативный аспект
(пространство морального поступка), необходимо сопряженный с
познанием природной реальности, стал основой и условием: а)
онтологического описания в трансдисциплинарном подходе; б)
самого научного отношения к природе, которое из субъект-объектного
все больше преобразуется в субъект-субъектное.
Для этоса современной науки характерно динамическое
напряжение между идеями господства над природой и диалога с
природой, а так же между представлениями о риске из-за
недостаточности знания и несовершенства технологий, а также о риске из-за
чрезмерной власти знаний и технологий.
Таким образом, в постнеклассическом научном исследовании
намечается ряд существенных изменений, которые включают не
только регулятивы, связанные с неклассическими идеалами и
нормативами объяснения и описания, обоснования и доказательности,
учитывающими относительность объекта к средствам и операциям
деятельности, но и те, которые связаны с преодолением
дисциплинарной (предметной) разобщенности.
Когда граница, разделяющая отдельные отрасли науки,
становится объединяющей средой общения, в которой отрабатываются
трансдисциплинарные (на основе синергетической методологии
возникает и формируется предметность проблемы, снимающая
нестыковки, противоречия, конфликты) и транслингвистические
обменные процессы, включающие рефлексию над ценностными и
нормативными основаниями научного познания.
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская. Этос науки: нормативные идеалы...
123
Таким образом, мы видим, что социальная ответственность
ученых не есть нечто внешнее, некий довесок, неестественным образом
связываемый с научной деятельностью. Напротив, это органическая
составляющая научной деятельности, достаточно ощутимо
влияющая на современную проблематику и направления исследований.
Этос трансдисциплинарности приобретает очертание
трансинституциональных взаимодействий, в зависимости от
единственности или множественности участников, собранных в авторской
позиции открытой системы, представляющей жизненный мир в
конкретном исполнении, что находит выражение в особенностях
ее матрицы научного исследования.
Говоря об этосе трансинституциональных взаимодействий,
исходно предполагают его динамический и амбивалентный
характер. Напомню, что слово «этос» в его классическом толковании,
сформулированном Р. Мертоном, подчеркивает то обстоятельство,
что его принципы являются одновременно этическими нормами
самосовершенствования ученого и методологическими правилами,
обеспечивающими достижение истины как некоторой идеальной
конструкции. Правда, в поздних работах, в частности в статье
«Амбивалентность ученых», Мертон отмечал, что внимательное
рассмотрение поведения ученых должно включать в себя анализ того,
«...как в каждом социальном институте развиваются потенциально
противоречивые нормы; как конфликтующие нормы образуют
значимую амбивалентность в профессиональной жизни ученых; как
эта амбивалентность влияет на реальные, — в отличие от
предполагаемых, — отношения между людьми науки»10.
Реальная наука осуществляется всегда в интервалах между: а)
идеей общей собственности и частной собственности на знания
(например, в форме патентов); б) универсализмом объективного
наблюдателя и партикуляризмом включенного; в) заинтересованностью в
науке, бескорыстием ученого и интересом в получении практически
полезного эффекта; г) организованным скептицизмом объективной
науки и организованным догматизмом коммерчески
ориентированной. Эти оппозиции образуют сеть интервалов, внутри которых
совершается конкретный поступок в конкретной трансверсальной
(т. е. выходящей за рамки принятой нормы для адекватного
выражения специфического случая) ситуации. Иными словами, границы
норм приобретают динамический характер, начинают зависеть от
целей, поставленных трансинституциональным сообществом.
10 Merton R. К. The ambivalence of scientists // Merton R. K. Sociological ambivalence
and other essays. N. Y, 1976. P. 35.
124
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Нельзя не вспомнить в этой связи, «что определенные фазы
социальной структуры порождают обстоятельства, при которых
нарушение социального кодекса представляет собой «нормальный»
ответ на возникающую ситуацию»11.
Новые условия функционирования науки делают невозможным
исполнение некоторых норм для широкого контингента
работников науки. О какой «бескорыстности», независимости от внена-
учных целей может идти речь для ученых, занятых прикладными
исследованиями, которые предпринимаются специально для
использования их результатов?! Огромные масштабы «закрытых»
исследований с засекреченными результатами разрушают
действенность нормы «коллективизма» традиционного этоса. Массовый
характер современной науки усиливает конкурентный дух в
атмосфере сотрудничества-соперничества, внутренне присущий науке.
Прежняя система этических норм науки может быть соотнесена (да
и то с рядом оговорок) лишь с условиями научной деятельности в
академических организациях, ведущих фундаментальные
исследования, но отнюдь не со всеми современными организационными
формами. Уже много лет назад стало ясно, «что даже в чисто
теоретическом плане отношение к науке как к гомогенному институту,
понимаемому (и описываемому) по образцу "чистых"
университетских исследований, должно придти к концу»12.
За последние десятилетия накопилось большое количество
литературы, посвященной фактам отступления от традиционных
норм научного этоса. Позиции авторов были различны: от
возмущенного морализирования в адрес «нарушителей» до
объективного описания и поиска закономерностей в этих нарушениях. Тем не
менее «традиционный» (отраженный в мертоновской формуле)
научный этос продолжал (и продолжает, хотя и в меньшей степени)
существовать в самосознании ученых. Разумеется, это набор
провозглашаемых, а не статистически выполняемых норм —
классический идеал поведения в науке.
Традиционный этос продолжает действовать на сознание (и
поведение) современных ученых, это было явно подтверждено
социологическим мониторингом, проводившимся с 1994 по 2002 годы
социологами науки Института истории естествознания и техники
(И И ET РАН). В этот промежуток времени было проведено 4 об-
1 ' Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социология преступности
(Современные буржуазные теории). 1966. М., С. 299.
12 Barnes S. В., Dolby R. G. The Scientific Ethos: a Deviant Viewpoint // Archives
Européennes de Sociologie. P. 1970. Vol. 11. № 1. P. 13.
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская. Этос науки: нормативные идеалы...
125
следования (через каждые 2—3 года), опросы осуществлялись в
ведущих институтах РАН по идентичным анкетам. Из всех
зарегистрированных индикаторов для нашей темы наиболее интересны
характеристики самосознания ученых. Так, важно отметить, что в
каждом обследовании четверть респондентов неизменно
фиксировали удовлетворенность своей деятельностью (устойчиво
коррелирующую с возможностью продолжать исследования), а о явной
неудовлетворенности заявляли около 60% ученых. При этом 90% были
твердо намерены продолжать оставаться в сфере науки, а о своем
решении покинуть науку всегда сообщал лишь 1% опрошенных.
Очень показательны причины неудовлетворенности. Естественно,
что низкую оплату труда всегда отмечала наибольшая часть ученых
(более 70%), но далее ими указывались такие чисто научные
претензии, как невозможность вести полноценные исследования (от 50%
до 70%) и сокращение экспериментальных возможностей (от 50% до
60%). Отметим, что об удовлетворенности своей работой регулярно
заявляли заметно больше ученых, чем следовало бы ожидать по их
критическим высказываниям. Дополнительный заработок имели
около 90% опрошенных научных работников, а вот вне науки
дополнительный доход получали только около 20% ученых. При этом еще
некоторая часть хотела бы подрабатывать и вне науки, но от 50% до
60% академических исследователей заявляли о своем решительном
неприятии «посторонней» работы — «нет и не хочу»! В свете
обсуждаемой проблемы, пожалуй, наиболее показательными были мо-
тивационные приоритеты продолжения научной деятельности. Из
девяти предложенных мотивов первое место постоянно занимала
«невозможность изменить свою ориентированность на науку»13.
В этом плане научный этос мертоновского типа (независимо
от степени его адекватности или неадекватности истинному
положению вещей) является некоторым «охранным механизмом» для
исследований (и, следовательно, для науки как системы знаний о
мире). Однако его сохранение в самосознании ученых имеет и
другую сторону: он создает конфликтную ситуацию и вызывает
психологическую напряженность у ученых, вынужденных как-то
совмещать требования, связанные с реальными условиями своей работы,
и тот образец научной деятельности, который закреплен в
традиции научным этосом, тоже существует в их сознании.
Кроме того, общеизвестно, что современная наука — не только
самодеятельный институт, но и объект управления и организации.
13 Мирская Е. 3. Этос науки: идеальные регулятивы и повседневные реалии // Этос
науки. М., 2008. С. 140.
126
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Чтобы внешне налагаемые формы организации не входили в
противоречие с собственными закономерностями функционирования
самой науки, чтобы управление было эффективным и
оптимизировало научную деятельность, надо познавать как «собственные»
механизмы науки и законы ее развития, так и управления таким
институтом, как наука, что значительно трансформирует
традиционные представления о нормах, правилах, цели и ценности
достигнутого результата научного исследования.
Следует отметить, что специфика организации науки затрудняет
резкое различение лиц, делающих науку и управляющих ею. Резкое
различие этих двух групп видно именно при умышленном
заострении вопроса и в каких-то предельных случаях (так, например, ясно,
что рядовой научный сотрудник наукой не управляет, а сотрудники
Минобрнауки ее не делают). Чаще всего процесс управления
настолько проникает в процесс «делания» науки, что они зачастую не
дифференцируются. Ведь уже руководитель первичного
научного коллектива (заведующий лабораторией или сектором) занят не
только научной деятельностью, но и управлением ею. В еще
большей степени это относится к директору любого академического
института, который, являясь ученым (в настоящем или прошлом),
должен обеспечивать благополучные показатели своего института.
Но если эти два вида деятельности реально сосуществуют и как бы
составляют единство, то, может, их и не надо различать? К
сожалению, делать это нужно, очень нужно и даже необходимо: иначе
возникает видимость общности бытия, общности сознания,
непонимание непонимания и, следовательно, невозможность его преодоления.
В последнее десятилетие во всем мире велись интенсивные
дискуссии относительно модели Triple Helix (Тройная спираль),
которую составляли: университеты — бизнес — государственная власть.
Она была введена Генри Ицковичем и Лойетом Лейдесдорффом14 и
предложена для исследования процессов построения эффективных
инновационных систем. Анализ успешных инновационных
проектов привел к «гипотезе уникальности» успешных
инновационных пространств. Их стали понимать как вторичные признаки, а не
как причины случаев самостоятельного развития, происходящего в
особых обстоятельствах. При этом обнаружилась малая
продуктивность решений и теоретических, и практических проблем, если при
14 EtzJcowitz H., Leydesdorff L. The dynamics of innovation: from National Systems and
«Mode 2» to a Triple Helix of university—industry—government relations // Research
Policy. 2000. Vol. 29. P. 109—123; Ицкович Г. Тройная спираль. Университеты —
предприятия — государство. Инновации в действии. Томск, 2010.
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская. Этос науки: нормативные идеалы...
127
этом не обращаться к истории науки. История науки
свидетельствует о том, что инновационный потенциал естественно-научного
знания, потенция его промышленного приложения никогда не
угасали на протяжении всей истории естествознания. Однако
актуализация этого потенциала вызывала серьезные затруднения.
История сохранила многочисленные случаи отрицания
инновационного потенциала различных феноменов знания даже со
стороны тех персон, знания которых в сфере науки и ее
приложений не вызывала сомнений. Так, Г. Герц утверждал невозможность
практического применения открытых им электромагнитных волн
в технике. Уильям Томсон лорд Кельвин, президент Королевского
общества, в 1895 году указывал на невозможность иметь
летательные машины тяжелее воздуха. Томас Уотсон, создатель и президент
IBM, еще в 1943 году думал, что на мировом рынке можно будет
продать не более чем пять компьютеров и т. д. А. Эйнштейн в 1932
году не видел оснований считать, что ядерная энергия когда-либо
будет получена. Инициацию внедрения достижений научной
мысли можно связать с их необходимостью для жизни общества.
Трансформация восприятия знания и возросшая оценка его
инновационного потенциала стали заметны с появлением института
публикации, т. е. передачи естественно-научного знания во
всеобщее пользование, и в особенности после возникновения
профессиональной фигуры ученого (scientist), требующего специальной
подготовки и обладающего особым менталитетом, который
вырабатывается на основе специфического этоса. Можно в качестве
гипотезы высказать следующее суждение: этос по своей природе
обладает динамически настраиваемой структурой, которая, не меняя
своей сущности в зависимости от статуса науки в обществе,
приобретает различные конфигурации.
В современных условиях актуализация инновационного
потенциала в общем виде на всех ветвях «тройной спирали» требует
решения отдельной проблемы — воспитания проектировщика-
актуализатора с этосом, принципиально отличающимся от
исследовательского. Российские университеты, настроенные на
воспроизводство «ученых», не могут (пока) реализовать эту функцию.
Генри Ицкович и Лойет Лейдесдорфф полагали, что новая
ситуация в науке, особенно ее инновационный характер, может быть
более адекватно описана как система структурных преобразований в
функционировании университетов, промышленности и
правительства. Каждая из трех составляющих триплекса меняет свою роль за
счет усвоения ролевых функций других субъектов производства
знания. Университеты усваивают функции бизнеса, создавая мобильные
128
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
трансдисциплинарно и трансинституционально работающие
компании, ориентированные на решение конкретных научно-практических
проблем. Бизнес активно использует ученых в качестве
консультантов в развитии новых инновационных проектов, а студентов и
аспирантов в качестве мобильной, высококвалифицированной рабочей
силы для нового типа производства. Правительство выполняет не
только регулирующие функции, создавая наиболее благоприятные
условия для инновационной деятельности, но и с помощью
политики инвестиций обеспечивает ее необходимыми ресурсами.
Одновременно правительство усваивает научные функции, постоянно
отслеживая социальные и экономические последствия своей политики
в области инвестиций с помощью постоянно действующих
исследовательских групп. При этом эффекты инновационного развития
оцениваются не только по результатам традиционного промышленного
производства, но и по формированию интеллектуального капитала,
являющегося залогом стабильного последующего развития.
Инновации отличаются от традиционно понимаемых
изобретений тем, что в них производство нового знания необходимый, но
недостаточный результат. Инновациям в технике или других областях
деятельности всегда предшествуют социальные инновации в виде
создания трансинституциональных центров, рабочих групп,
компаний и т. д., которые сводят вместе ранее практически разобщенные
группы ученых, бизнесменов и политиков. Для решения важной для
них конкретной проблемы должно быть изобретено эффективное
«пространство трансинституционального взаимодействия». В нем
постепенно формируется особый язык с постоянно
расширяющимся словарем, специфически эффективные в данных условиях
трансинституциональной коммуникации в системе тройной спирали
дискурсивные практики, понятийно-метафорические системы.
Соответственно формируются специфические коммуникативные
компетенции участников трансинституционального взаимодействия.
Причем изменения в функционировании каждой ветви из
описанной спирали оказывается возможным только в том случае, если,
обладая адекватными коммуникативными компетенциями,
участники инновационного процесса осуществляют двойную
герменевтику. Они должны рефлексировать, с одной стороны, на свою
позицию субъектов, погруженных во взаимодействие, а с другой — на
свою же позицию наблюдателей, размещенных вне системы
взаимодействия (внутри традиционной монодисциплинарной науки,
традиционном бизнесе и политике).
Динамика взаимодействия между дискурсивными
перспективами участников триплекса сложны, поскольку участники могут отно-
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская. Этос науки: нормативные идеалы...
129
ситься к различным системам референции, а также в связи с
неоднозначным восприятием позиций друг друга. Язык причин и следствий,
учет зависимых и независимых переменных, традиционно
предполагаемые единым и стабильным универсумом, в котором
фиксированные отношения были предопределены. Когда изменения в этих
отношениях становятся предметом анализа целей учреждений и
организаций с точки зрения их сетевого взаимодействия, которые раньше
можно было считать само собой разумеющимися, то они становятся
неопределенными и поэтому могут и должны быть пересмотрены.
Ведь кроме способности и знания необходима и готовность
работать с непривычной информацией, а такая готовность может быть
вызвана только жестокой необходимостью или мощным
интересом. Это касается в первую очередь «организаторов науки». А что же
противоположная сторона — «исследователи науки», имеют ли они
знания, необходимые организаторам? Опыт западных стран, весьма
широко использующих науковедческие данные для повышения
эффективности организации научной деятельности, подтверждает
наличие в их арсенале безусловно полезных результатов (достаточно
их или нет — отдельный вопрос). Но ответ на поставленный вопрос
зависит не только от самого накопленного запаса знаний, а также и
от того, сходно ли оценивают существенность выработанных
представлений «исследователи» и «организаторы», понимают ли вторые
первых, на одном ли языке они говорят. К сожалению, факт наличия
«разноязычных» групп, имеющих совершенно разные представления
о науке, бросается в глаза каждому, кому приходилось и
приходится принимать участие в конференциях, симпозиумах, совещаниях и
тому подобных мероприятиях по проблемам эффективности науки.
Это разделение идет не по возрасту («отцы» и «дети»), не по статусам
(«элита» и «середняк»), не по приверженности к различным
научным концепциям. На разных языках говорят (и мыслят!)
представители тех, кто делает науку, и тех, кто управляет наукой.
Основа разноязычности этих групп очень глубока, так как она
связана с различием их «бытия» — положением по отношению к науке и
характером деятельности. Одни находятся в науке, которая является
системой производства знания; через различные формы
сотрудничества, профессионального взаимодействия они включены в
функциональные механизмы этой системы; продукт их деятельности —
знание, и естественно, что их интересы (и «язык») связаны с сущностью
и спецификой процессов порождения нового знания. Другие же не
участвуют в процессе производства знания, для них содержание
науки роли не играет, для них, как и для всех, не занятых самим этим
производством, наука предстает системой показателей. Одни делают
130
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
«вещи» (научные результаты, сравним — телевизоры, туфли и т. д.),
другие делают «показатели» (проценты плана, экономические
эффекты и т. п.). Дело не в том, что последние «плохие люди» — у них
такая работа. Если бы показатели адекватно отражали
функционирование науки и постоянно в соответствии с ним корректировались,
ничего страшного в этом разделении не было бы: одни работают,
другие ведут учет и планирование. Но показатели, выбранные
однажды, начинают жить своей жизнью — с помощью тех людей, которые
«делают» показатели, говорят и мыслят на языке показателей. А вот
это уже не просто плохо, а очень плохо, ибо реальная жизнь науки
контролируется (и тем самым деформируется!) по этим показателям.
В свое время Мертон писал о необходимости координации целей и
средств, как фаз социальной структуры, и о том, что недостаточность
такой координации ведет к аномии. «Поскольку одной из наиболее
общих функций социальной организации является создание основы
для прогнозируемого и регулируемого поведения людей,
эффективность этой функции все более ограничивается по мере того, как
разъединяются указанные элементы социальной структуры»15.
Существенную особенность исторической ситуации
современного философствования и социальной мысли мы в первую
очередь видим в том, что они нарабатывают стратегии обращения с
многоликой сложностью мира, рассматривая его, то как единство
неразличимого множественного, то как множественность
различенных единств. Еще Монтень отмечал, что «Мир — не что иное,
как бесконечное разнообразие и несходство»16. Указанные подходы
ритмически воспроизводят всегда существовавшую традицию
мыслить амбивалентность мысли за счет приоритетного рассмотрения
одной из выделенных противоположных позиций.
Необходимо введение принципов демократизма управления и
распределение по труду. Без возвращения к этим принципам все
попытки улучшения и совершенствования чего бы то ни было (в том
числе и науки) будут обречены на неудачу. Однако в каждой
отдельной сфере социального организма эти принципы должны
осуществляться своеобразно — адекватно реальным формам
производственного сотрудничества, характерным именно для данной сферы. А для
этого необходимо знать и эти реальные формы, и подлинные
трудовые отношения в них, и неоднородности внутри соответствующей
профессиональной группы, и нормативные идеалы этоса науки.
15 Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности
(Современные буржуазные теории). М., 1966. С. 312.
16 Монтень М. Опыты: В 3 т. Т. 2. М., 1992. С. 299.
H. И. Кузнецова
Феномен российской науки:
культурно-исторический подход
Изучение науки имеет свою глубинную историю,
достойную специального, внимательного анализа. Час этого
анализа еще не пробил, обширной монографии на эту
тему еще не появилось. Но тот факт, что существуют
различные направления изучения феномена науки, которые
весьма плохо согласованы друг с другом, сомнений не вызывает.
Факт этого разнообразия может оцениваться пессимистически
(«мы окончательно запутались!»), но в той же мере —
оптимистически («как много нового мы узнали!»). В данной работе мне
хотелось бы указать на тот вариант в сфере этого разнообразия,
который, несомненно, связан с именем нашего юбиляра, т. е. вариант
«культурно-исторической эпистемологии». Это достаточно новый
и своеобразный разворот так называемой неклассической
эпистемологии.
Мне бы очень хотелось продемонстрировать, какие
возможности для полноты картины историко-культурной обусловленности
научной рациональности раскрывают историко-научные
исследования феномена российской науки, что было предметом моих
собственных изысканий уже более тридцати лет. Надеюсь, что
юбиляр признает плодотворность и моего рассмотрения, признает мое
право пребывать под знаменами культурно-исторического подхода.
Мне кажется, именно на этом пути открываются захватывающие
перспективы построения новой оптики рассмотрения
традиционных проблем эпистемологии и философии науки. Я готова
признать, что Борис Исаевич нашел весьма удачную формулировку
для данного типа исследований. В свое время я пыталась назвать
собственную исследовательскую программу «экологией науки», но
теперь (постараюсь пояснить, почему) это именование уже не
кажется столь удачным.
132
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Исходные позиции и предпосылки
На первый взгляд, наши исследовательские интересы различны:
Борис Исаевич охвачен тревожным ощущением, что европейский
философский Разум «сбился с пути», я же озабочена тем, что
общественное умонастроение (по крайней мере в России) свернуло в
сторону «антисциентизма». Что же сближает наши позиции и
позволяет считать, что мы сторонники одной и той же оптики, одного
и того же направления исследований?
Тема Разума, бесспорно, стержневая для всей европейской
культуры. Но, как писал еще совсем недавно наш юбиляр,
«непременный признак современных духовных исканий (от философии до
кинематографа) — размышления по поводу ограниченности
нашего разума. С сожалением или без, с тревогой или с энтузиазмом
принято теперь говорить о бессилии разума перед лицом подлинно
человеческих экзистенциальных проблем. И на то, конечно, есть
весьма серьезные основания»1.
«Разум для меня, — продолжает Борис Исаевич, — обобщение
культурно-исторического опыта рациональной, рассудочной
деятельности человека и в этом качестве — культурно-историческое,
смысловое основание этой деятельности, культурно-смысловое
основание функционирование рассудка. В том числе, и в ходе
научно-познавательной деятельности»2.
Можно кратко сказать, что для нашего юбиляра ключевая
тема — рассмотрение вопроса о силе/бессилии разума в решении
основных «смысложизненных» вопросов человечества. Именно
поэтому разум должен включать, помимо рассудочных правил
деятельности, вопросы «блага», созидающего смысл человеческого
существования в мире. Но знание, говоря языком Френсиса Бэкона,
есть сила, а не благо. Наука же строит знания и ни на что другое
не претендует. В науке, следовательно, царит рассудок, но не разум.
Европейская цивилизация, так уж получилось, слишком зависит
от научной рациональности, что и вызывает настоящую
философскую тревогу.
Исторические факты (прежде всего история XX столетия),
казалось бы, полностью подтверждают такую оценку. Самые
пессимистические прогнозы оказались верными, и XX век «подарил»
человечеству две ужасных мировых войны, роковую для России
1 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009. С. 7.
2 Там же. С. 7-8.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 133
революцию 1917 года, основным последствием которой
оказался грандиозный большевистский террор, взрыв атомной и
водородной бомбы, шпиономанию «холодной войны»,
бессмысленную гонку вооружений для подготовки «звездных войн», призрак
«ядерной зимы», страх перед грядущим царством киберов и
манипуляциями генной инженерии, все ближе подступающую угрозу
глобального экологического кризиса. Печальные итоги. Да,
хочется апеллировать к Разуму, а не рассудку, как и призывает Борис
Исаевич, хочется кричать: «Остановитесь, пока не поздно!»
Главное ощущение — неуверенность, что очередные технические
новации (а их источником сегодня являются научные достижения)
принесут благие, а не дурные последствия. Но правильно ли
поставлен диагноз?
Полностью разделяя общую тревогу, я все же склонна считать,
что наука — одна из важнейших ценностей европейской культуры.
Неправильная, искаженная интерпретация основных
характеристик научного познания приводит к разрушению европейского
мира, в том числе и в плане его смысложизненных ориентиров.
И для меня всякое культивирование антисциентистских
настроений — большая беда. А в современной России это настоящая
катастрофа. Именно поэтому в свое время мне показалось крайне
важным сформулировать тематику «экологии науки», следуя здесь
в русле рассуждений академика Д. С. Лихачева о «культурной
экологии». Он писал: «Экологию нельзя ограничивать только
задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни
человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и
им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее
существенная, чем сохранение окружающей природы... Убить человека
биологически может несоблюдение законов биологической
эволюции, убить человека нравственно может несоблюдение законов
экологии культурной»3. Иначе говоря, мне хотелось рассмотреть те
социокультурные обстоятельства, в рамках которых возможно
существование (или разрушение) самого феномена научного
познания. История формирования науки в России оказалась бесценным
эмпирическим материалом для соответствующих обобщений4.
Экология науки — это прежде всего изучение культурной,
семиотической среды, в которой формируется и живет ученый,
изучение явных и неявных правил (предпочтений) выбора будущих про-
3 Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Л., 1985. С. 50—51.
4 См.: Кузнецова Н. И. Социо-культурные проблемы формирования науки в
России (XVIII - середина ХГХ вв.). М., 1999.
134
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
фессий, традиций пользования книгами и другими источниками
информации; это реконструкция явных или неявных
представлений о смысле жизни, об отношениях с людьми — вне круга
профессиональных обязанностей и с коллегами, определенное
понимание общения, видение долга и ответственности человека перед
людьми и обществом. Такая постановка вопроса, как мне кажется,
вполне соответствует смысловым акцентам манифеста «культурно-
исторической эпистемологии».
А вот слово «экология», которое как определенная
методологическая программа указывало на круг изучаемых «средовых»
явлений, увы, получило теперь негативные коннотации, так как
оказалось сильнейшим образом захвачено политическим контекстом.
«Экология» сегодня — не просто имя определенной научной
дисциплины, но символ партийного движения «зеленых». К
сожалению, нельзя не признать очевидности такого превращения. Мои
же цели состояли не в том, чтобы создать партийное (или
общественное) движение «В защиту науки», но в том, чтобы решать
познавательные задачи, а именно — изучать факторы, определяющие
успешное (или не успешное) функционирование и развитие
научных исследований.
Нельзя не видеть, что наука в своем неустанном стремлении
развиваться, прокладывая все новые русла технических
возможностей, действительно может продуцировать непредсказуемые
социокультурные последствия, в том числе неблагоприятные для
культуры в целом. Мне представляется, что в современной ситуации
совершенно необходим постоянный, придирчивый «философский
мониторинг» духовного и практического контекста
развивающейся науки. Ее Кастальский ключ не должен быть замутнен цивили-
зационной суетой, которая не имеет ничего общего с исходным ее
культурным горизонтом. Каковы же эти горизонты?
Уроки экологии и перспективы «экологии науки»
Тревоги по поводу состояния российской науки появились отнюдь
не сегодня, не в последние два десятилетия. Принято считать, что
так называемая советская наука была в фаворе у властей и успешно
развивалась. Это, конечно, не так. Вот характерная озабоченность
прежних времен. Авторитетный биофизик с мировой известностью
М. Д. Франк-Каменецкий писал в 1988 году: «Советские ученые
стали очень редко делать яркие открытия. Это оскудение нашей
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 135
научной нивы особенно бросается в глаза в сравнении с
лавинообразным нарастанием числа открытий, которые делают в разных
областях наши зарубежные коллеги. А ведь еще тридцать-сорок
лет назад не мы, а они там, на Западе, кричали "Караул!", когда мы
первыми создали водородную бомбу, а вскоре первыми запустили
спутник? Сколько раз в те годы мы испытали законную гордость за
нашу науку, слушая звенящий металлом, до боли знакомый левита-
новский голос... А наша славная школа теоретической физики? По
учебникам Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица учились и сейчас
учатся студенты во всем мире. Физика плазмы, химическая кинетика,
почти все разделы математики... Можно долго перечислять
области, где нам было чем гордиться». Однако, продолжает автор, со
временем «все реже с Запада стали доноситься крики "Караул!", а
последнее время их что-то совсем не стало слышно. Ясно, что
нашей науке необходима перестройка. Но какая?»5
Может показаться, что именно сейчас власти, наконец,
попытались оторваться от «советского контекста», заимствовали западные
образцы организации научной деятельности и приняли меры к тому,
чтобы стимулировать необходимую «перестройку». Не будем сейчас
обращаться к суперактуальной тематике реорганизации РАН и
прочим болезненным для российского научного сообщества вопросам.
Ясно одно: отсутствие ясной «экологической» модели для
феномена науки породило и постоянно порождает только благие порывы,
ведущие отнюдь не к манифестированной благой цели.
В этой связи вспоминается характерный эпизод нашей с
Борисом Исаевичем полемики, которая нашла свое отражение при
обсуждении Морального кодекса исследователя6. Я приводила такой
пример: «Более всего волнует понимание науки, которое
сложилось в современном обществе. Меня в свое время крайне
расстроило одно шоу, которое показывали по третьему каналу телевидения
("Народ хочет знать")... На трибуне — два седых доктора наук и еще
какой-то чиновник. Геолог и сейсмолог объясняют, что наука пока,
к сожалению, не может предсказывать землетрясения. А "народ
хочет знать"! Встает молодой человек и говорит: "Господа! Слушайте
внимательно. Допустим, перед некоторой отраслью стоит задача.
Вот, скажем, открывается автосервис, который должен обслуживать
клиентов с проблемами поломок автомобилей. Но в данном сервис-
5 Франк-Каменецкий М. Д. Механизмы торможения в науке // Иного не дано. М.,
1988. С. 634.
6 См.: Круглый стол «Моральный кодекс исследователя и нравственные
основания научно-педагогической деятельности» // Высшее образование в России. 2012.
№3. С. 41-64.
136
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
центре, который должен ремонтировать автомобили, делать этого
не умеют, т. е. автосервис не выполняет свою задачу. Что с ним
делают? Его закрывают. Если ваш институт уже столько лет работает
и не может предсказывать сейсмические явления, что с ним нужно
сделать?.."» Это общественное мнение, продолжала я, давит
отечественную науку похуже чиновников. «Молодой человек с
подобными аналогиями просто не ведает, что творит. И это массовая
культура, на уровне которой сегодня надо выживать и вузу, и науке. Вот,
действительно, очень мощная, хотя и трагикомическая проблема»7.
Б. И. Пружинин тогда подхватил эту тему следующим
образом: «Выступление этого молодого человека весьма
любопытное. Он ведь просто указал ученым на то обстоятельство, которое
как-то ускользает из их поля зрения, да и из нашего обсуждения.
Он просто указал на те изменения, которые произошли в науке,
точнее, в ее социальном восприятии. Товарищи ученые, говорит
он, наука существует не для каких-то там непонятных поисков
истины, а для удовлетворения вполне реальных практических (в
конечном счете — повседневных) нужд. Так что закрывать надо этот
самый институт... В сегодняшней научной деятельности слишком
много такого, что превращает ее во вполне повседневное
социальное предприятие. И при чем же здесь бесконечный поиск вечно
ускользающей Истины... Другой вопрос, способна ли такая наука
устоять, сохранить себя в культуре как самодовлеющая ценность?
Как что полезное — да, а как устой культуры — вряд ли.
Молодого человека, однако, этот вопрос вообще не интересует — он готов
жить и без истины, тем более научной»8.
Был ли на самом деле между нами спор? Скорее всего, нет, оба
мы озабочены изменением в социальном восприятии науки. Но
каким образом, спрашивается, это сугубо внешнее (средовое)
восприятие может сказываться на существовании, функционировании
научного познания? Это уже вопрос эпистемологический, имеющий
солидную историю. И сейчас можно со всей ответственностью
заявить, что именно культурно-исторический подход способен
исследовать так поставленную проблему и ответить на этот вопрос.
В свое время экология заставила переформулировать ( перекате -
горизировать) вопрос о влиянии среды на организм, в ней
«проживающий». Основной методологический урок, как представляется,
состоял в том, что границы организма и окружающей среды
исчезают в экологическом подходе.
7 Там же. С. 47-48.
8 Там же. С. 48.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 137
Сама экология, оттолкнувшись от исходного проекта
Эрнста Геккеля (изучение организма во всей совокупности условий
его обитания), построила в XX веке более сложные модели, в
частности перешла к изучению «экосистем» (взаимоотношения
физико-химической и биологической среды в целом), что
крайне изменило исходную модельную картину. В экосистемных
исследованиях рассматриваются потоки энергии и питательных
веществ и баланс этих потоков. «Организм» в этих моделях, по сути
дела, становится компонентом преобразования энергии и
вещества, теряя свою, казалось бы, очевидную, пространственную
ограниченность.
Кратко поясним сказанное. Известный американский ученый
Роберт Риклефс подчеркнул особенности понятия «экосистема»
следующим образом: «Взаимосвязь физического и биологического
миров лежит в основе концепции экосистемы в экологии.
Несмотря на то, что экосистема — самая крупная и во многих
отношениях самая важная экологическая единица, сам термин вошел в
употребление лишь в 1935 году. Он был создан английским ботаником
Тенсли, который писал, что в экосистему входит "...не только
комплекс организмов, но и весь комплекс физических факторов,
образующих то, что мы называем средой биома, — факторы
местообитания в самом широком смысле. Хотя главным интересующим нас
объектом могут быть организмы, однако, когда мы пытаемся
проникнуть в самую суть вещей, мы не можем отделить организмы от
их особой среды, в сочетании с которой они образуют некую
физическую систему"»9.
Именно такой категориальной оптики, на мой взгляд, не
хватало и науковедам при обсуждении таких тем, как «наука и культура»,
«наука и общество». Когда-то казалось, что сам язык
противопоставляет эти понятия, фиксируя привычное, устойчивое
впечатление, что речь идет о сугубо разных вещах. Пора же, усваивая уроки
научной экологии, перекатегоризировать проблему, построить
новую модель феномена науки.
Но как это сделать? Не является ли это темой социологии науки,
изучающей функционирование науки как социального института?
Ведь определенного рода социальность и есть та среда, в которой
порождена и развивается наука? Такое понимание породило во
второй половине XX столетия то суперактивное направление
исследований на Западе, которое в общем виде стали именовать
«социальной эпистемологией». В настоящее время это направление успешно
9 Риклефс Р. Основы общей экологии. М., 1979. С. 20.
138
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
развивается и в нашем философском сообществе10. И все же при
таком подходе, как мне кажется, не хватает того, что схватывает
модель экосистемы — изучения «факторов местообитания» науки.
Рассмотрение феномена науки в контексте «культурно-
исторического» подхода дает возможность подчеркнуть, что наука не
является особой организацией, «подсистемой» социума,
специфическим социальным институтом, подверженным непосредственному
управлению со стороны государства или иных социальных структур.
Наука — не техническая система, где поворотом руля можно
изменить траекторию движения. Все это до сих пор плохо осознается.
Конечно, наука в чем-то похожа на курицу, которая несет золотые яйца,
но при каком «питании» и когда именно можно собрать этот
замечательный урожай? Никто не может назвать точных сроков научных
открытий — да и сами научные открытия с точки зрения их содержания
непредсказуемы. Видимая публике рациональность научного знания
в данном случае не пошла на пользу науке, ибо порождает иллюзию,
что науке можно дать задание и контролировать процесс его
исполнения, как это публика способна делать в случае тех социальных
структур, которые непосредственно служат ее интересам. Наука нуждается
в неформальной и всесторонней общественной поддержке, даже
когда результаты ведущихся поисков совершенно неясны.
Выдающийся американский социолог Роберт Мертон
выразительно писал: «Наука имеет социальные последствия. Но если
последствия науки для общества были уже давно замечены, то
последствия различных социальных структур для науки — нет. Лишь
очень немногие из ученых-естественников и ненамного больше
социальных ученых уделяли внимание различным влияниям
социальной структуры на темпы развития науки, центры
сосредоточения ее интересов и, возможно, само ее содержание. Трудно сказать,
откуда берется это нежелание изучать воздействие, оказываемое на
науку ее социальной средой»11.
Каковы же причины такого положения дел? Называя
нежелание углубляться в исследования социальных контекстов науки
ошибочным, важнейшей из причин Мертон считает возникающие
здесь порой сомнения в объективности научного познания. Он
пишет: «Возможно, это нежелание идет от ошибочного мнения,
будто признать данный социологический факт значило бы поставить
10 См.: Социальная эпистемология: идеи, методы, программы / Под ред. И. Т. Ка-
савина. М., 2010; Касавин И. Т. Социальная эпистемология. Фундаментальные и
прикладные проблемы. М., 2013.
11 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. М., 2006.
С. 744.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 139
под угрозу автономию науки. Возможно, считается, что
объективность — ценность, занимающая столь важное место в этосе
науки, — подвергается опасности тем фактом, что наука есть
организованная социальная деятельность, что она предполагает поддержку
со стороны общества, что степень этой поддержки и типы
исследований, которым она оказывается, в разных социальных
структурах различны, равно как и рекрутирование научных талантов.
Возможно, здесь замешано и некоторое чувство, будто наука остается
более чистой и незапятнанной, если имплицитно понимать ее как
нечто, развивающееся в социальном вакууме»12.
Полностью разделяя мнение Роберта Мертона о том, что
изучение социальных контекстов науки, ни в коей мере не ставит под
сомнение ни личное бескорыстие ученых, ни веру в
объективность научного познания, я хотела бы прибавить, что погружение
в сферу исследований общественного бытия науки, напротив,
заставляет осознать, сколь удивителен и хрупок этот цивилизацион-
ный дар Европы всему миру, сколь требует он внимания, уважения
и заботливой охраны со стороны общества. Ибо плоды научного
творчества служат всему человечеству и дают нам всем надежду,
что можно справиться с многочисленными невзгодами
человеческого бытия. Результаты научного поиска в конечном итоге — это
наше здоровье, питание, смягчение страданий, спасение от
опасности природных катаклизмов, облегчение труда или даже —
просто умножение и разнообразие удовольствий для полноценного
отдыха. Стоит прибавить, что некоторые из нас нуждаются в
мировоззрении, в построении картины мира, благодаря которой в
конечном итоге создаются наиболее общие ориентиры человеческих
мечтаний и поведения, и роль науки для реализации таких целей
также бесспорна. Думаю, что именно искреннюю и возвышенную
благодарность научному сообществу должны порождать изыскания
социальных контекстов науки, если они выполнены достойно.
А теперь обратимся к начальному периоду формирования
российской науки. Скажу сразу: с моей точки зрения, совершенно
бесполезно в XXI веке искать причины успехов и кризисов нашего
национального института науки (Академии наук). Не дело искать в
прошлом виновников современных проблем! Я бы хотела в данном
случае, напротив, выявить те «факторы местообитания», которые
позволили Петру Великому реализовать свой на редкость
«модернизацией ный проект» по созданию Санкт-Петербургской
Императорской Академии наук.
12 Там же.
140
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Оценки петровского времени в целом у гражданских историков
до сих пор крайне противоречивы (хотя в величии его деяний не
сомневались такие выдающиеся историки России, как С. М.
Соловьев и В. О. Ключевский). Довольно забавно, что современные
отечественные историки характеризуют период его правления как
«неорганическую модернизацию». Здесь фактически царит
консенсус. И ни один из курсов отечественной истории фактически
не упоминает такую «утопию» Петра-реформатора, как создание
Академии наук. Вот уж, точно, — «неорганическая модернизация»!
Ведь никаких национальных корней для создания подобного
национального института просто не существовало.
Удивительно, с каким пренебрежением до сих пор говорится об
академическом проекте XVIII столетия! Открытие в 1725 году
Императорской Академии наук в совсем молодом еще городе на Неве
кажется историкам мелкой деталью, иногда даже вызывающей
ухмылки и насмешки. Будто хочется забыть этот стартовый период
российской науки как страшный сон. Вот характерное мнение
современного журналиста: «До Ломоносова в России не было ни
собственной науки, ни высшего образования. Замечательные ученые,
которые по приглашению властей наезжали работать в Академию
наук, основанную Петром I, были все-таки иностранцами, на
время прижившимся на российской почве. И вот Ломоносов не только
первым показал наличном примере, "что может собственных
Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать", но
и гораздо больше, чем кто-либо из его современников, сделал для
появления будущих поколений отечественных исследователей»13.
А между тем именно петровский, подчеркнем, абсолютно
волюнтаристический проект создания полноценной Академии наук
(подобный Парижской Академии наук и Лондонскому
Королевскому обществу) был самым важным фактором появления на арене
отечественной истории такой гигантской фигуры, как Ломоносов.
Мы никогда не поймем его масштабных деяний, если перед тем
не вооружимся нужной культурологической оптикой. Мы ничего
не поймем, если не удивимся прежде всего дерзновенному
замыслу российского императора открыть в стране, где не было еще ни
«цифирных» (в отличие от церковно-приходских) школ, ни газет
и журналов, ни публичных библиотек, никаких светских высших
учебных заведений, такого учреждения, как Академия, где
совершались бы научные открытия всемирного значения.
13 Левин А. «Наше всё» — парень из Мишанинской // Троицкий вариант. 2011.
22 ноября. № 23 (92). URL: http://trv-science.ru/92N.pdf.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 141
Известно, что даже многие сподвижники Петра считали
академический проект, мягко выражаясь, нереализуемым. Историк
XIX века Петр Пекарский передает в связи с этим весьма
характерный, удивительный по выразительности эпизод: «В 1724 году,
по поручению Петра Великого, Татищев отправлялся в Швецию,
и лейб-медик Блюментрост, встретившись с ним тогда, просил его
узнавать, не будет ли в Швеции ученых, которых можно было бы
пригласить оттуда во вновь открывавшуюся в Петербурге
Академию наук.
"Напрасно ищите семян, возразил Татищев, когда земли, на
которую сеять, не приготовлено". Император, заметив этих лиц,
и узнав, о чем у них идет речь, ответил Татищеву таким апологом:
"Некоторый дворянин желал в деревне у себя мельницу построить,
а не имел воды. И видя у соседей озера и болота, имеющие воды
довольство, немедленно зачал, с согласия оных, канал копать и на
мельницу припас заготовлять, которого хотя при себе в
совершенстве привесть не мог, но дети, сожалея положенного иждивения
родителем их, по нужде принялись и совершили"»14.
Естественно, что первые иностранцы, приглашенные в Россию
для академической работы, выглядели «десантом», высадившимся
на берегах Невы. Их было 13 человек, они молоды, как правило,
холосты, средний возраст — 24 года. Среди них — один француз,
два швейцарца, остальные немцы. Что касается вероисповедания,
то среди них один католик, остальные — протестанты.
И действия Петра были однозначно заклеймены русским
публицистом Д. И. Писаревым: «петровский период искусственного
насаждения наук в России (курсив мой. — Н. К.) продолжается до
наших времен и, может быть, будет продолжаться еще для наших
детей и внуков»15. Формально такая оценка возможна и как
убийственно точно звучит! Но справедлива ли она с высоты прошедших
времен?..
Вопросы подготовки научных исследователей уходят
глубоко в социально-культурную структуру общества — психологию,
привычки, традиции самых широких кругов населения, их
религиозные взгляды и ценности, в глубины так называемого
менталитета русского этноса XVIII столетия. Тем большим подвигом
нам должны представляться усилия первых русских интеллектуа-
14 Пекарский П. П. История Императорской Академии наук. СПб., 1870. Т. 1.
С. XIII (Автор указывает, что аполог Петра Великого дословно взят из письма
Василия Татищева к Шумахеру 11 августа 1747 года).
15 Писарев Д. И. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1955. С. 57.
142
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
лов — В. Е. Адодурова, М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского,
СП. Крашенинникова и следующих за ними. Путь, который они
преодолевали, «чтоб в просвещении стать с веком наравне», — это
болезненный разрыв с глубочайшими культурными традициями
Руси. И в трудностях, перипетиях их судеб повинен вовсе не
произвол отдельных лиц или бюрократизм государственного аппарата.
Все обстояло гораздо сложнее и драматичнее.
Надо сказать, что в своей многотомной «Истории России с
древнейших времен» СМ. Соловьев подчеркнул символическое
значение примера этих русских «простолюдинов» — Ломоносова и
Тредиаковского, положивших в середине XVIII столетия начало
национального «ученого сословия». Им пришлось буквально ломать
привычный уклад традиционной жизни для того, чтобы начать
необычную для того времени карьеру. И это было, без преувеличения,
подвигом. Историк с восхищением писал:
«Когда раздался громкий призыв русским людям к новой,
усиленной наукой жизни, в свежем и сильном народе послышались с
разных сторон отзывы: один крестьянский сын с берегов Белого
моря оставляет отцовский дом и бежит в Москву учиться в спас-
ских школах: другой, священнический сын, с устьев Волги из
Астрахани, также покидает отцовский дом и бежит туда же в
Москву учиться в спасских школах. Различная степень таланта,
различные характеры, различный закал характеров вследствие
различных условий времени и других, но стремление к форме начального
подвига одинаковы»16.
Мы не должны забывать, что академические должности,
формально «сверху» введенные, давали возможность делать совсем
неплохую социальную карьеру именно для «природных русских»
и особенно на первых порах в XVIII столетии для сословий,
лишенных исходных привилегий. Как теперь — в ретроспективе —
проанализировано, основные герои, ставшие крупными
естествоиспытателями благодаря появлению Санкт-Петербургской
Императорской Академии наук, были крестьянскими и
солдатскими детьми. Пример Михайло Ломоносова имел в этом отношении
колоссальную силу. В XIX столетии А. С. Пушкин и Н. А. Некрасов
придадут его образу героическую мощь. (Напомним, кстати, что
знаменитое стихотворение «Школьник», написанное в 1856 году,
было занесено Высочайшим указом в гимназические хрестоматии
для обязательного изучения с 1864 года).
16 Соловьев С. М. История России с древнейших времен: В 15 кн. Кн. X. М., 1961.
С. 525.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 143
Но предшествующий век выделил другие, более земные смыслы
и акценты. Современники, как указывает П. Пекарский, считали,
что Ломоносов сделал блистательную карьеру. Так, один из
значительных петербургских купцов В. Коржавин писал к своему брату
в Париж, 4 октября 1754 года: «Г. Ломоносов не более как пять лет
тебя старе, из бедной самой фамилии; никто об нем для пищи не
старался; всегда хлеба сам доставал и обучаться сам пятнадцать лет
довольно имел. А ныне я признаваю по крайней мере 3,000 р. и
более на год достает; честию — Академии советником; всегда при
милости императорской»17.
Таким образом, петровский проект создания академической
науки на национальной почве действительно оказался вполне
успешным и эффективным! И это оценили даже современники,
отталкиваясь от самых простых соображений — высокого
жалованья, социального престижа, почтенного статуса новой профессии.
Обратим внимание на такую деталь: в 1735 году из Петербурга в
Москву прибыл курьер с требованием отправить наиболее
способных студентов «спасских школ» для дальнейшего обучения в
Академический университет, который функционировал при
Императорской Академии наук. Именно в этот список попал и Михайло
Ломоносов. С этого события и началась его дорога в бессмертие.
Характерно, что для зачисления в Славяно-греко-латинскую
академию юноша солгал и назвался «сыном дворянина», а позднее
он выдавал себя за сына священника. Обнаруженная ложь могла
ему дорого стоить. При зачислении в Академический университет
такая проблема исчезла, крестьянский сын вполне мог стать
профессором и академиком. И если бы ни распоряжение Сената 1735
года, мир не узнал бы имени великого и разностороннего ученого.
Михайло Ломоносов должен был стать либо священнослужителем
где-нибудь в далеком провинциальном приходе, либо мелким
государственным чиновником («приказным»).
Подчеркнем, что Ломоносов не был одинок, не он один,
«природный русский», откликнулся на пассионарный призыв Петра.
Кто же еще совершил тот «начальный подвиг»? Каждая судьба —
это остросюжетный роман, которого — увы! — не написали
ленивые потомки. Сегодня Интернет с легкостью предоставит нужные,
хотя и беглые сведения.
Первым «природно русским» в Академии был Василий
Евдокимович Адодуров (1702—1780), который родился в Новгороде.
Дворянский сын, он учился в Новгородском духовном училище, затем
17 Цит. по: Пекарский П. П. Указ. соч. Т. 2. С. XXXI.
144
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
отправился в Славяно-греко-латинскую академию, где провел три
года. В 1726 году отправлен в Петербург для обучения в
академической гимназии. Уже в 1727 году стал студентом университета, где
проявил склонность к изучению иностранных языков, а также
математики. В 1729 году начал работу в академической канцелярии,
занимался переводами с немецкого и латинского научных и
богословских трудов.
26 октября 1733 года Адодуров получил звание «адъюнкт
высшей математики». Это был первый русский студент, ученик
Леонарда Эйлера, получивший в академическом университете столь
высокое ученое звание. В дальнейшем стал известен как
выдающийся переводчик научной литературы и филолог. Василий
Евдокимович был учителем русского языка «принцессы Софьи»,
будущей императрицы Екатерины И. К этому времени (1756) относится
принадлежавшая английскому послу сэру Чарльзу Уильямсу яркая
характеристика В. Е. Адодурова: «Я не видал ни одного из туземцев
столь совершенного, как он; он обладает умом, образованием,
прекрасными манерами; словом, это русский, соизволивший
поработать над собою»18.
Дворцовые интриги, в которые Адодуров был втянут, привели
вначале к долговременному домашнему аресту, а потом к ссылке в
Оренбург, правда, на должность помощника губернатора.
Воцарившись на престоле, императрица вернула своего любимца в столицу
и щедро одарила новыми обязанностями. В 1762 году В. Е.
Адодуров назначен куратором Московского университета, президентом
Мануфактур-коллегии, а с 1763 года — сенатором. С 1770-х годов
он в основном жил в Санкт-Петербурге, хотя и продолжал быть
покровителем Московского университета, для которого сделал
немало: заботился о пополнении библиотеки, приглашал иностранных
ученых, занимался подготовкой русских специалистов для учебы за
границей. В 1778 году он стал почетным членом Академии наук, а к
концу жизни пожалован в действительные статские советники.
Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1769) родился в
Астрахани, в семье приходского священника. Первоначальное
образование получил из духовных книг в Троицкой школе, но
словесным наукам обучался у капуцинских монахов, на латинском языке.
По некоторым сведениям, отец предназначал юношу к
духовному званию и намеревался женить его против воли. Однако за день
18 Цит. по: Никитин О. В. Василий Евдокимович Адодуров и его роль в истории
русской лингвистической традиции XVIII века // Слово: Православный
образовательный портал. 2011. 11 ноября. URL.:
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 145
до свадьбы жених бежал в Москву и поступил в Славяно-греко-
латинскую академию. По другим источникам, он
продемонстрировал в астраханской школе отличные способности к учению и был
послан в 1723 году в Академию в качестве лучшего ученика.
В 1726 году Тредиаковский отправился за границу, не окончив
курса. Добрался до Голландии, где выучился французскому языку,
оттуда пешком вследствие крайней бедности отправился в Париж,
продолжил обучение в Сорбонне. Перевел роман «Езда в остров
Любви» Поля Тальмана, который был издан позднее
академическим издательством в Петербурге. СМ. Соловьев писал по этому
поводу: «В предисловии писателем впервые высказано требование
писать книги светского содержания разговорным языком, а не
славянским; мы видели, что это требование было уже высказано
Петром Великим; но Тредиаковский был первый из ученых, из
литераторов, который решился отстать от старой привычки»19.
Вернувшись в 1730 году в Россию, Тредиаковский предстал
одним из наиболее образованных людей тогдашнего русского
общества. В 1733 году его принимают на академическую службу в
качестве адъюнкта с обязательством «вычищать язык русской пишучи
как стихами, так и не стихами; давать лекции, ежели от него
потребовано будет; окончить грамматику, которую он начал, и
трудиться совокупно с прочими над дикционарием русским; переводить с
французского на русский язык все, что ему дастся»20. В этой
скромной должности он застрял надолго.
Только в 1745 году, когда Тредиаковский обратился с
прошением в Сенат и изложил по пунктам свои права на звание академика,
императрица Елизавета пожаловала его, по докладу Сената, в про-
фессоры «как латинския, так и российския элоквенции».
Одновременно был пожалован в академики и Ломоносов, а Степан
Крашенинников в адъюнкты.
Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) — сын поморского
государственного крестьянина, уроженец деревни Мишанинской
Куроостровской волости Двинского уезда Архангельской губернии,
стал адъюнктом Академии по классу химии в 1742 году, а в 1745 —
профессором и академиком.
Степан Петрович Крашенинников (1711—1755) — москвич,
родился в бедной семье солдата лейб-гвардейского Преображен-
19 Соловьев С. М. Указ. соч. С. 525.
20 Цит. по: Ляцкий Е. Тредьяковский (Василий Кириллович) // Брокгауз Ф. А.,
Эфрон И. А. Энциклопедический словарь. URL.: http://www.vehi.net/brokgaus/index.
html
146
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
ского полка. В 1724 году определен в класс философии Славяно-
греко-латинской академии, где блестяще освоил латынь и
греческий языки; в конце 1735 года направлен среди других 12 учеников
в академическую гимназию и университет. После соответствующей
проверки знаний зачислен студентом в состав отряда Второй
Камчатской экспедиции (под руководством профессоров Иоганна Гме-
лина, Герарда Миллера, астронома Делиля де ла Кройера).
Путь в Сибирь был в те времена, мягко выражаясь, нелегким.
Добравшись до Якутска, профессора опасались продолжать свой
путь. Тогда было принято решение отправить студента на разведку,
чтобы на Камчатке он приготовил все необходимое для их работы.
Профессора разработали подробную (80 параграфов!) инструкцию
для молодого человека, которая стала программой его действий.
19 августа 1737 года Степан впервые оказался на берегах
Охотского моря, в ожидании отправки на Камчатку вел наблюдения за
погодой, препарировал рыб, описывал морские приливы и отливы,
составил первый словарик «ламуцкого» языка (языка эвенков)...
Он вел подробный дневник, а также писал письма-отчеты
своим профессорам. Благодаря этому, история его поездки
известна в деталях. 4 октября 1737 года судно «Фортуна» вышло в
Охотское море. Несчастный студент так заболел морской болезнью, что
стал «почти бесчувственным». Через 10 часов случилось несчастье:
«судно вода одолела». Все, что можно, полетело за борт. Студент
спас научное оборудование, но все собственное имущество
потерял, оставшись в одной рубашке. После 10 дней этакого плавания
«Фортуна» не смогла войти в устье реки Большой и была
выброшена на косу. Экипаж и пассажиры чудом спаслись21.
25 июля 1745 года Степан Петрович получил должность
адъюнкта; в 1750 году он — первый русский профессор «натуральной
истории и ботаники». В том же году назначен ректором
Академического университета и инспектором гимназии. Путешественник-
исследователь Сибири и Камчатки, автор знаменитой книги
«Описание земли Камчатки» (1756), которая, прибавим,
постоянно переиздается и до сих пор служит важнейшим подспорьем для
тех, кто нуждается в знаниях этнографических, ихтиологических,
ботанических, метеорологических, географических. С моей точки
зрения, Крашенинников может быть сравним только с великим
Александром Гумбольдтом по потрясающей комплексности своего
труда: это и подробные карты, и флора, и фауна, и описания язы-
21 См.: Крашенинников С. П. Описание земли Камчатской / Предисловие Б. П.
Полевого. СПб.; Петропавловск-Камчатский, 1999. С. 5.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 147
ков, обычаев, нравов камчатского населения. Это описание
представляет настоящий «космос» уникального региона Земли.
В. И. Вернадский подытожил «начальные подвиги» первых
русских натуралистов следующим образом: «С появлением
Крашенинникова и Ломоносова подготовительный период в истории
научного творчества русского народа кончился.
Россия окончательно как равная культурная сила вошла в среду
образованного человечества, и началась новая эпоха ее культурной
жизни»22.
Надо признать, что «обрусение» Санкт-Петербургской
Академии наук, о котором мечтал Петр-реформатор, происходило
небыстрыми темпами. И тем не менее неуклонно.
Динамика «обрусения» науки в XVIII—XIX столетиях выглядела
так (процент российских подданных):
• 1725 г.-0%;
• 1726—1750 гг. — 13% (принято 3 чел.);
• 1751—1775 гг. — 21,7% (принято 5 чел.);
• 1776—1800 гг. — 43,7% (принято 7 чел.);
• 1801—1830 гг. — 23% (принято 10 чел.);
• 1831—1869 гг. — 64% (принято 42 чел.);
• 1861-1900 гг. - 87% (принято 59 чел.)23
Не буду продолжать рассказ обо всех перипетиях российской
истории трансплантации науки, все смысловые акценты уже
прозвучали: «неорганическая модернизация», «искусственное
насаждение» и «начальный подвиг»... Обратим внимание и на
поэтическое изображение новой для русских социальной карьеры: «Ноги
босы, грязно тело и едва прикрыта грудь... Не стыдися! Что за дело?
Это многих славных путь» (Н. Некрасов). На этом фоне оценим
слова, которыми часто подбадривал своих современников Петр: «И
небываемое — бывает!»
На фоне событий становления российской науки можно
попытаться сформулировать основные необходимые социокультурные
условия, в рамках которых такая сложная задача, как
«трансплантация» науки в национальную культуру, ранее ее самостоятельно не
породившую, была все же решена.
Именно успешная реализация этой утопической идеи Петра
Великого, на мой взгляд, убедительно доказывает европейскую
природу россиян. Ведь речь идет об освоении исключительно сложной со-
22 Вернадский В. И. Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 191.
23 См.: Романовский С. И. Наука под гнетом российской истории. СПб., 1999.
С. 82.
148
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
циокультурной традиции. Поэтому успехи россиян здесь особенно
красноречивы.
Суммируя выводы разнообразных наблюдений историков
науки и науковедов, можно подчеркнуть следующее: появление науки
на арене человеческой цивилизации в качестве особого
социального института, особой профессии, — показатель высокого развития
и социума, и культуры. Зрелая наука автономна, но только в том
смысле, что границы ее заданы особенностями целеполагания,
ценностных ориентации и профессиональных умений группы людей,
особым образом организованных. Наука базируется и может
существовать только в определенном аксиологическом пространстве, т. е.
в той культуре, в котором экспериментально добытое знание
признано ценностью (благом), где культивируются особые занятия и
образ жизни (именуемый познанием), где провозглашены ценностные
ориентации на поиск Истины и созданы условия для реализации
этих ориентации, а научная деятельность в целом стала объектом
положительной оценки со стороны общества и власти, где ей
обеспечена широкая публичная поддержка («public understanding of science»)24.
Рассмотрим эти «факторы местообитания» более подробно.
В принципе можно выделить 6 групп «средовых»
(социокультурных) факторов, которые оказывают весьма непосредственное
влияние на становление, функционирование и эффективное
развитие науки.
1. Аксиологические факторы.
Думаю, что это первичные, исходные, непременные условия для
всего остального. При этом следует различать «внешнюю» и
«внутреннюю» аксиологию.
Если наука формируется «сверху» (как, скажем, это было в
России), то именно власти должны решительно заявить то, что само
знание и «приращение знаний» — дело государственной
важности. Показательно, что и в Великобритании, и во Франции
патронаж верховной власти был ясно обозначен в именовании новых
учреждений — Лондонское Королевское Общество, Парижская
Королевская Академия наук. Петр в России повторил то же самое
указание — Санкт-Петербургская Императорская Академия наук.
Культурный образец здесь очевиден.
Обоснования этого проекта могут быть различны, так как
различны «факторы местообитания» науки: в одной традиционной
24 См. об этом: Кузнецова Н. И. Наука как средоточие европейских ценностей:
ретроспективная панорама // История науки в философском контексте. СПб., 2007.
С. 176-178.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: кулыурно-исторический подход 149
культуре нужны одни аргументы, в других — иные. Но
политическая воля должна быть ясно выражена, и соответственно ей должна
вестись настойчивая пропаганда необходимости научного
познания. При этом сами власти не путают богословскую или
чиновничью деятельность (которые тоже требуют знаний!) с тем, что
делается в лабораториях или в географических и этнографических
экспедициях.
Подкрепление подобной «агитации и пропаганды» — зримо
высокий социальный статус самого института науки (выбор типа
этого института — дело конкретное), а также достойное
социальное положение тех, кто сможет войти в научное сословие. Карьера
первых «природно русских» ученых в этом отношении достаточно
показательна.
Не менее важным является усвоение «внутренней» аксиологии,
тех моральных стандартов, которые образуют собственный
«научный этос».
Это, судя по всему, происходит в российской науке (в
сообществе «природно русских») отнюдь не сразу и потребовало довольно
длительного времени. Речь идет, по сути дела, об усвоении норм,
которые Роберт Мертон сформулировал, анализируя ранний этап
деятельности Лондонского Королевского общества, — т. е. о
комплексе тех моральных стандартов, которые усваивает научное
сообщество, осознавая специфику своей познавательной
деятельности. Позднее в мнемонических целях (т. е. для запоминания)
англоязычные студенты этот комплекс закрепили как акроним
CUDOS (т. е. — communism, universalism, disinterestedness, organized
skepticism)25.
Именно соблюдение этих правил, как показал Р. Мертон,
обеспечивало производство научной истины: 1) признание того, что
знание принадлежит всем (всеобщее благо); 2) требование
универсальности результатов познания, т. е. оценку научного результата на
внеперсональном уровне, т. е. без учета этнической, расовой,
половой или партийной принадлежности, а также наличия ученой
степени, званий и т. п.; 3) незаинтересованность исследователя ни в
каких практических аспектах своей деятельности (никаких земных
благ для обслуживания чьих-либо интересов, включая собственный
материальный интерес, нейтральность исследовательской позиции
и т. п.); 4) жесткая интерсубъективная проверка научных
результатов с целью устранения ошибок любой природы.
25 См.: Демина Н. В. Мертоновская концепция этоса науки: в поисках социальной
геометрии норм // Этос науки. М., 2008. С. 148—149.
150
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Н. В. Демина напоминает, что впервые тематику научных норм
Р. Мертон затронул в статье «Наука и социальный порядок» (1937),
но основное изложение представлено в статье «Нормативная
структура науки» (1942). «По мнению многих исследователей, принципы
универсализма и организованного скептицизма появились в
результате анализа фашистской и советской науки. Прежде всего это
была реакция американского социолога на фашистскую теорию
превосходства арийской расы и на советскую "лысенковщину"»26.
Далеко не сразу этот внутренний этос стал достоянием «природ-
но русских». Как представляется, научное сообщество, состоявшее
на первых порах исключительно из иностранцев, вполне разделяло
перечисленные моральные нормативы, принесло дух объективного
научного поиска, разделяли веру в то, что знание само по себе — и
сила, и благо. В этом плане для них главное было в самом служении
науке. И этот пафос был первоначально неодобрительно встречен
русскими патриотами.
Можно сказать, что идеалы Просвещения для русской
интеллигенции с естественно-научным образованием довольно долгое время
ставились намного выше идеалов «чистого познания», что
воспринималось как этос «чужеродной» петровской Академии. И это не исходило
«сверху», а было глубоко укоренившимся национальным убеждением,
почти на уровне предрассудка. Об этом свидетельствует, например,
яркая, с большим риторическим искусством и неподдельным пафосом
русского патриота произнесенная публичная речь М. А. Максимовича
на собрании по случаю юбилея Московского университета (1830).
Обратим внимание, как противопоставляются цели «чистого познания»,
которые характеризуют ученых-иностранцев, и цели
просветительские, которые так непосредственно важны для России: «Академия,
состоявшая наиболее из ученых иностранцев, — говорит М. А.
Максимович, — могла содействовать одной цели и была действительно
полезна для наук: она в состоянии была образовать несколько ученых
людей, но не могла действовать непосредственно на распространение
просвещения в России. Призванные чужеземцы более любили науки
свои, чем Россию; более лестно было для них обогатить свою науку
сведениями о великой и неизвестной еще стране, чем распространять
науку в сей невозделанной и для них чуждой земле; притом они не
знали языка нашего и наших потребностей27.
26 Демина Н. В. Мертоновская концепция этоса науки: в поисках социальной
геометрии норм. С. 147.
27 Максимович М. О участии Московского университета в Просвещении России.
М., 1830. С. 5-6.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 151
А вот и такой характерный эпизод из жизни Ломоносова,
связанный с полемикой относительно гипотезы Герарда Миллера о
норманнском происхождении русского народа. Обратим внимание
на способ критики, на ее аргументацию — хотя ведь речь идет о
научной гипотезе! С точки зрения концепции Мертона, критику
Ломоносова никак нельзя называть научной, так как нейтральность
исследовательской позиции здесь отрицается с ходу и служит, как
кажется Михаилу Васильевичу, неотразимым аргументов «contra»
самой концепции. Он выражается примерно так: в этой гипотезе
нет ничего, что говорило бы во славу народа российского. Итогом
полемики 1749—1750 годов было сожжение «скаредной
диссертации» Миллера, о чем было принято решение Академической
канцелярии.
Основная причина спора, как это показано современными
историками28, — различное понимание целей и задач
исторического исследования (иными словами, морального кодекса историка).
В Проекте переустройства Академии наук (примерно 1764—1765),
составляя ее новый Регламент, Ломоносов утверждает следующие
правила: историограф должен быть «1) человек надежный и
верный и для того нарочно присягнувший, чтобы никогда и никому не
объявлять и не сообщать известий, надлежащих до политических
дел критического состояния, 2) природный россиянин, 3) чтоб
не был склонен в своих исторических сочинениях ко шпынству и
посмеянию»29.
Миллер придерживался совершенно иных взглядов (не
«природный русский»!): историк «должен казаться без отечества, без
веры, без государя... все, что историк говорит, должно быть
строго истинно и никогда не должен он давать повод к возбуждению к
себе подозрения в лести»30. Почва для конфликта при таких
альтернативных позициях была обеспечена.
Характерно и то, что идеалы «чистой науки» (так режущий слух
нормальному обывателю!) были провозглашены в научном
сообществе россиян достаточно поздно. Идеал был, вероятно, заимствован
из Германии и в явной форме прозвучал в публичных речах только во
второй половине XIX столетия. Так, в прощальной речи над могилой
замечательного химика H. H. Зинина (основателя научной школы
казанских химиков) студент-естественник произнес: «Как он посвя-
28 Каменский А. Б. Ломоносов и Миллер // Ломоносов. Сборник статей и
материалов. Т. IX. СПб., 1991. С. 39-48.
29 Ломоносов М. В. ПСС: В 10 т. Т. 10. М.; Л., 1957. С. 148-149.
30 Цит. по: Каменский А. Б. Ломоносов и Миллер. С. 44.
152
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
тил себя, свою жизнь отысканию истины, посвятим ей нашу жизнь,
веруя, что раз мы проникаемся духом и идеалами чистой науки, для
нас сделаются ясными и достижимыми и другие высшие жизненные
идеалы»31. «Пусть же навсегда, постоянно разрастаясь, сохранится
между русскими учеными тот дух бескорыстной и глубокой любви к
знанию, который был его характерной чертой», — писали в память о
своем учителе великие химики А. М. Бутлеров и А. П. Бородин32.
Усвоение подлинного научного этоса, как видим, — дело
достаточно сложное и является поздним приобретением.
И последнее замечание. В экологии есть понятие
«лимитирующего фактора». Речь идет о так называемом законе минимума,
который был установлен Юстусом Либихом в 1840 году. Либих изучал
необходимые для роста растений химические элементы (так
называемые абиотические факторы) и показал, что некоторые элементы
находятся в большом количестве, другие — в малых, а некоторые
вообще в виде следов. Самое важное состоит в том, что одни
элементы не могут быть заменены другими. Рост растений
регулируется присутствием одного единственного элемента, концентрация
которого.в почве минимально, а именно — бором. Когда в
результате возделывания одной культуры в течение длительного времени
запасы бора оказываются исчерпанными, рост растений
прекращается, даже если другие элементы присутствуют в избытке. В этой
связи и было введено понятие «лимитирующего фактора»,
который, как это ясно из сказанного, приобретает решающее значение
для жизни и смерти рассматриваемого организма.
На мой взгляд, «лимитирующим фактором» в развитии
научного познания является именно ориентация на Истину. Эта
ценностная ориентация, вероятно, не порождена самой наукой, скорее,
наука воспринимает ее как естественно-исторический продукт
европейской культуры именно как «абиотический фактор». Когда-то
говорилось: от Бога идет стремление к истине, все остальное
человек сделает сам. Действительно, процедуры экспериментального
подтверждения, анализ доказательств или свидетельств известны
как процедуры. Критическая проверка любых результатов —
характерный признак науки, но само стремление к Истине, вероятно,
присутствует как тот «внешний» элемент, без которого невозможен
рост научного познания. Утрата этого стремления выступит в роли
«лимитирующего фактора» развития науки.
31 Цит. по: Фигуровский Н. А., Соловьев Ю. И. H. H. Зинин. Биографический очерк.
М, 1957. С. 209.
32 Цит. по: Бутлеров А. М. Сочинения: В 4 т. Т. 3. М., 1958. С. 115.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 153
2. Юридические установления и культурные табу.
Речь здесь идет и о самой парадигме власти. Неоднократно
утверждалось, что наука и демократия тесно связаны. Об этом
писалось немало, напоминая, что само зарождение научного труда
тесно связано с древнегреческой демократией в городах-полисах,
которая способствует публичным дискуссиям и становлению
свободной мысли, формированию рациональности, логических
правил вывода и аргументации33. Впрочем, как мы видели в Новое
время в Западной Европе научные учреждения вполне
благополучно существовали в рамках монархических режимов. Эти вопросы
требуют дальнейшего рассмотрения.
Подчеркнем сейчас только необходимость определенного
правового пространства, в котором оформляется национальный
институт для научной работы, на некоторые отдаленные следствия, в
рамках которых возможно успешное рекрутирование научных
кадров и само проведение исследований. Так, указом Петра к
высшему образованию и научному творчеству были допущены не только
дети бояр или дворян, но и государственные крестьяне, и
солдатские дети. Именно это привело в науку таких тружеников, как Ми-
хайло Ломоносов или Степан Крашенинников, за ними
последовали и другие. Ограничение касалось только крепостных.
Сбор важной информации, ее хранение и публикация также
регламентируется юридическими положениями. Здесь в российской науке
было много недоразумений, но мало-помалу они преодолевались.
Интересно и то, что князь Дм. Голицын, давая вежливые
советы императрице Екатерине II, обратил внимание на то, что
крепостное право мешает расцвету наук. В 1766 году он писал: «Мне
кажется, что ее Величество избрала наилучшие меры
относительно развития у нас наук и художеств; ничто, конечно, не
представляет лучших залогов для их преуспеяния, как основание академий
и правильное устройство сих учреждений. Но, опираясь на пример
истории, боюсь, что средства эти окажутся слабы, если
одновременно не будет у нас поднята внутренняя торговля. А она в свою
очередь не может процвести, если не будет мало-помалу введено у
нас право собственности крестьян на их движимое имущество»™.
Как видим, проницательный аналитик XVIII века заметит, что
«приращение» наук требует от государства не только открытия
33 См., например: Левин А. Е. Миф. Технология. Наука // Природа. 1977. № 3.
С. 93-98.
34 Цит. по: Избранные произведения русских мыслителей второй половины
XVIII века. М., 1952. Т. 2. С. 37.
154
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
специального учреждения, но и постепенной отмены
крепостного права! Именно в этом смысл «права собственности крестьян на
их движимое имущество». И это не случайная мысль. Князь
Голицын продолжает свое рассуждение — наставление императрице —
следующим образом: «Юм подтверждает мое мнение. "Если
государь, — говорит он, — не воспитает у себя фабриканта, способного
выткать сукно столь тонкое, чтобы оно достигло цены две гинеи за
аршин, то тем менее воспитается в его государстве астроном". Не
принимая этих выражений в буквальном смысле, должно, однако
же, согласиться, что все предметы производства имеют между
собою до того тесную связь и зависимость, что, желая утвердить в
стране науки и искусства не на основании предварительно
созданных внутренней торговли и ремесел, непременно встретишься на
пути к этой цели с величайшими препятствиями»35.
Может показаться, что речь здесь идет о чисто экономическом
вопросе, но ведь политика и экономика тесно связаны, а
юриспруденция является зримым выражением этой связи.
Укажем пока на очевидное: например, пагубное воздействие
института прописки (закрепление местопребывания) на свободу
научного творчества. Миграция и перемещение — в зависимости от
поставленных научных задач, поиска средств и оборудования для
проведения экспериментов — необходима науке, которая в
поисках знания сама не знает территориальных и юридических границ.
Сюда можно было бы отнести еще и наличие уже не
юридических установлений, а неких культурных табу. Вопрос этот,
подчеркнем, практически не исследован, а только приоткрыт для
исследования. Например, замечено, что традиционная вежливость
азиатской культуры запрещает публичный спор, а без последнего
невозможно провести научный семинар с придирчивым
критическим анализом сделанного, обеспечить жесткую и основательную
проверку данных. Обратим внимание на такую деталь из жизни
науки XX столетия. Знаменитый японский физик Хидеки Юкава
(лауреат Нобелевской премии), поясняя, почему он вынужден
заниматься фундаментальными исследованиями в США, писал в своей
книге: «Быть полемистом — не для японца, потому что жаркие
споры западного образца не в наших обычаях. Слишком горячий
спор может привести к ссоре, можно нечаянно обидеть
собеседника, и естественно, что мы таких споров избегаем. На Западе этих
проблем не возникает, наоборот, постоянные споры там сближают
людей, делают их друзьями, там культивируется давняя традиция
35 Там же. С. 37-38.
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 155
полемики — своего рода искусство, которому надо учиться»36. Речь
здесь идет, по сути, о невозможности реализовать один из
принципов научного этоса — «организованный скептицизм».
Но, повторим, здесь есть очевидные и неочевидные темы для
размышлений о юридических и культурных «факторах
местообитания» современной науки. Сбор необходимых сведений только
начался.
3. Критерии оценки научных результатов.
Это вопрос о том, — «а судьи кто?..» Вопрос — колоссальной
важности и серьезности. Кто выдвигает критерии того, как судить
об эффективности или неэффективности проводимых
исследований, кто может оценить по существу значимость и
фундаментальность полученных результатов?
В тех случаях, когда власть или публика решает, что является
важным результатом, а что — ничтожным и бесполезным,
происходит искажение научной практики, деградация критериев
научного профессионализма. И просвещенные монархи Западной Европы
никогда не брали на себя смелость судить о проделанной научной
работе. Но кто же тогда? Независимая администрация, которая
поставлена для того, чтобы «приглядывать» за учеными?..
Будто во избежание всяческого искушения от такого греха, Петр
заносит в свое Положение об учреждении Академии наук (от 22
января 1742 года) общее правило: «Но чтоб сие здание непременно и
полезно было, то имеет оное токмо под ведением императора, яко
протектора своего, быть и само себя править (курсив мой. — Н. К.),
еже учиняется, когда из оных или непременный президент или
попеременно один по другому каждый год или полгода выбирается»37.
Даже безудержный самодержавный правитель, как видим, хорошо
понимал, что профессионализм в суждениях о результатах
научного поиска — это принципиально. Вмешиваться в подобные оценки
без специального образования и подготовки — безумие. Критерии
оценки результатов научного труда — дело самого научного
сообщества. В этом и состоит смысл петровского выражения, что
Академия должна «сама себя править».
4. Базовые составляющие культуры, в которой может
развиваться наука, довольно разнообразны. Невозможно все перечислить,
тем более что здесь также только начинаются серьезные
исследования. Что можно усмотреть в результате краткого экскурса в
историю становления российской науки?
36 ЮкаваХ. Лекции по физике. М. 1981. С. 31.
37 Цит. по: История Академии наук СССР. Т. I. M; Л., 1958. С. 434.
156
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Язык науки достаточно оторван от бытовой практики и
подвергается атаке со стороны новых реалий, наименования которых на
первых порах приходится только заимствовать. Россиянам
пришлось практически полностью усвоить язык математики, физики,
химии... Начинать приходилось от самых общих понятий
«арифметики» и «геометрии» до слов «феория» (теория), опыт,
«эксперимент», «рефлексия» и т. п. Научные труды XVIII столетия весьма
причудливы в своей стилистике и лексике. Можно только диву
даваться, как уверенно и сравнительно быстро россияне сумели
сделать заимствованную, по сути, незнакомую и диковинную лексику
своей собственной.
До тех пор пока ученые говорят и пишут не на родном
национальном языке, наука не может считаться укорененной в данной
культуре. Необходимо развитое светское книгопечатание, пресса,
периодика. Необходимо, чтобы местная разновидность церкви не
была враждебна научным изысканиям, не обличала бы эти занятия
в своих проповедях и поучениях. На подобные выходки
православных священнослужителей жаловался Ломоносов Елизавете в
середине XVIII века, указывая, что в Академии и так мало «природных
россиян», а подобная антипропаганда вообще может привести к
катастрофе. Необходимо также, чтобы локальная, бытовая,
массовая религиозность не запрещала бы научные занятия как
«богопротивные». Совершенно очевидно, что некоторый уровень
агрессивно настроенной к науке массовой религиозности сделает развитие
науки в данной культурной среде полностью невозможной, так как
наука не может покоиться на плечах героических одиночек.
Помимо прочего, научные занятия должны давать возможность
личности занять достойное социальное место, получить уважаемый
статус. Образцы такой карьеры должны быть зримы и
представлены широкой публике, создавая необходимый минимум
психологической мотивации еще в юные годы.
Все эти базовые составляющие культуры обеспечивают
рекрутирование кадров, их воспроизводство. В противном случае наука
достаточно быстро растеряет своих «носителей», утратит
преемственность, прекратит свое существование в силу отсутствия тех, кому
передается социальная эстафета научного поиска.
5. Информационные традиции той или иной культуры имеют
огромное значение, включая сюда конкретные технические
средства сохранения и обмена информацией. Прежде всего, здесь речь
идет о библиотеках, музеях, прочих информационных службах.
История библиотек, издательского дела и т. п. — это также анализ
историко-культурный, другим он быть не может. В России станов-
H. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-исторический подход 157
ление библиотек, их состояние, режимы запрета и доступа к
информации — тематическая целина. Сколь драматичные сюжеты
здесь можно набросать!..
На наших глазах происходит информационная революция,
связанная с внедрением персональных компьютеров, созданием
Всемирной сети Интернет. Понятно, сколь пагубно техническое отставание
в разработке таких технологий. Но, кроме того, речь идет о режимах
секретности, о возможности отправиться на международную
конференцию или организовать необходимый симпозиум с приглашением
специалистов разных городов, стран, континентов. Обмен
информацией, «информационный рынок» самых разнообразных форм всегда
стоял у истоков новых областей знания. Его интернациональность —
не причуда, а необходимость развития познания.
6. Экономические факторы. На первый взгляд, с них следовало
бы начинать, поскольку аксиома гласит: если нет денег, нет и
финансирования науки. Однако, как мне хотелось бы подчеркнуть,
экономические условия стоят на последнем месте по значимости,
так как экономика не создает «лимитирующего фактора» для
научного творчества. Звучит парадоксом, но над этим стоит задуматься.
Зато отрицательных влияний экономика порождает сколько
угодно, убивая, в частности, бескорыстность стремления к истине
(см. пункт 3 научного этоса), требуя и мотивируя исследователей
исключительно к скорейшему «успеху» и безусловной
«эффективности».
* * *
Думаю, далеко не все экологические факторы существования науки
мне удалось выделить и рассмотреть. Могу только прибавить, что
научное сообщество довольно чутко к изменениям в « окружающей
среде», а также и к себе самим, постоянно рефлексируя состояние
научного сообщества и науки как института в целом. За последние
годы количество таких наблюдений заметно прибавилось, так как
состояние не только российской, но и мировой науки, вызывает
вполне справедливые опасения относительно ее благополучного
будущего.
Главное, что хотелось показать, — наука вмещает в себя почти
все важнейшие срезы культуры; поэтому так зависит ее положение
и успехи от благополучия этой культуры в целом. В свою очередь
культура, не приобретшая науку как собственного важнейшего
социального института, в чем-то не полна и не полноценна.
Культурно-историческая эпистемология, глашатаем которой
выступил Борис Исаевич Пружинин, как мне представляется, до-
158
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
статочно однозначно может показать, что изменение социального
восприятия, которое превращает науку исключительно в «сферу
услуг», — это катастрофическая ситуация в плане изменения
«факторов местообитания» науки. Наука когда-то пришла в Россию,
но — увы! — социальные приливы и отливы могут привести и к
гибели (утрате) этого хрупкого дара западноевропейской
цивилизации. Социум иногда способен убить культуру, мы видим это воочию
на каждом шагу. Культурно-исторический подход в эпистемологии
способен показать, что даже такие безличные, внеперсональные
явления, как знания, т. е. расчеты, уравнения, физические и
химические формулы, «обитают» там и только там, где культурная среда
это позволяет.
В. И. ApuiuHoe
Постнеклассическая
междисциплинарность
в контексте парадигмы сложности
Интенсивно растущее значение междисциплинарных
исследований «интенсивного междисциплинарного синтеза
знаний» на базе принципов универсального
эволюционизма является, согласно В. С. Степину, одной из
характерных особенностей современного постнеклассическо-
го этапа развития научного познания, сопряженного с процессом
становления нового типа научной рациональности1. Далее я
попытаюсь показать, что формирование постнеклассической меж-
дисциплинарности неразрывно связано со становлением
соответствующих представлений о сложности, с формированием дискурса
парадигмы сложности. Моя цель состоит в том, чтобы «погрузить»
постнеклассическую междисциплинарность в контекст
возникающих представлений «парадигмы сложности» в том их виде как они
присутствовали и присутствуют в работах «трансдисциплинарного
мыслителя» Э. Морена, основоположников синергетики Г. Хаке-
на, И. Пригожина, отца кибернетики «второго порядка» фон Фер-
стера, «теоретиков хаоса» исследовательского центра Санта-Фе,
таких «философов сложности и неопределенности» (uncertainty),
как Ж. Делез и Ф. Гваттари, философа-социолога Н. Лумана,
создателей концепции автопоэзиса Ф. Варелы и У. Матураны, одного
из англоязычных основоположников «теории различий» или
«дифференциал истского мышления» Дж. С. Брауна... Конечно уже сам
этот перечень говорит о том, что заявленная цель не может быть
полностью достигнута в рамках одной единственной статьи.
Поэтому корректнее всего было бы говорить о «контурах возможных
подходов» к рассмотрению проблемы постнеклассической междис-
циплинарности в контексте парадигмы сложности.
1 Степин В. С. Теоретическое знание. М., 2000. С. 671.
160
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологам
Говоря о междисциплинарности в связи с постнеклассической
наукой, важно обратить внимание на три момента. Выделенные
В. С. Степиным исторические этапы развития науки — классический,
неклассический и постнеклассический — различаются, во-первых,
системами идеалов и норм исследования, во-вторых — уровнем (или
степенью) рефлексии над познавательной деятельностью (с чем так
же, в свою очередь, связано и соответствующее изменение присущего
науке типа рациональности). И, наконец, в третьих, они
различаются особенностями «системной организации объектов, осваиваемых
наукой (простые системы, сложные саморегулирующиеся системы,
сложные саморазвивающиеся системы)»2. Существенно также, что все
три типа научной рациональности в некотором смысле сосуществуют,
будучи связанными между собой неким обобщенным принципом
соответствия, так что «возникновение каждого нового типа
рациональности не приводит к исчезновению предшествующих типов, а лишь
ограничивает сферу их действия»3. В то же время эти представления и
установки не остаются неизменным. Они переосмысливаются в
границах своей применимости. Так, возникновение теории
относительности и квантовой механики привело к рефлексивному осознанию
границ применимости классической механики и переосмыслению
понятий пространства, времени, причинности, реальности и т. д.
Аналогичная, хотя в определенном смысле более сложная ситуация
возникла в связи с появлением квантовой механики, в основании которой
лежат принципы наблюдаемости, контекстуальности,
неопределенности и дополнительности и которая требует более «высокого уровня»
рефлексивности (как наблюдения «второго порядка», т. е. наблюдения
за наблюдающими наблюдателями). Наконец, постнеклассическая
рациональность, ядром которой являются междисциплинарные
кластеры системно-кибернетических и синергетических понятий и
нелинейных человекомерных моделей «система — окружающая среда»,
породила новый комплекс уже трансдисциплинарных вопросов
«второго порядка», так или иначе группирующихся вокруг центральной
проблемы: проблемы сложности и, соответственно, систем ценностей
в возникающем новом мире сложности. По словам И. Р. Пригожи-
на, «наше видение природы претерпевает радикальные изменения в
сторону множественности, темпоральности и сложности»4. Иными
2 Степин В. С. Исторические типы научной рациональности в их отношении к
проблеме сложности // Синергетическая парадигма. Синергетика инновационной
сложности. М., 2011. С. 37.
3 Там же. С. 45.
4 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.
М., 2005. С. 11.
В.И.Аршинов. Постнеклассическая междисциплинарность в контексте... 161
словами, постнеклассическая рациональность становится
контекстуальной, а потому так или иначе конструируемой наблюдателем. Что
же касается обобщенных принципов соответствия и
наблюдаемости, то они, будучи темпорализованными и соотнесенными с
идеями универсального эволюционизма, трансформируются в принципы
субъект-объектной коэволюции, рекурсивности, коммуникативности
и эмерджентности, понимаемыми в этом контексте прежде всего как
принципы порождения нового знания, которое теперь все более
осознается как существенно междисциплинарное знание.
Далее я попытаюсь наметить «путь к наблюдателю /
проектировщику сложности», погружая постнеклассические принципы
соответствия, наблюдаемости, рефлексивности в общий (ко)эволюционный
контекст представлений о рекурсивной сложности, контингентности,
неопределенности и коммуникативности. И, конечно же, путей к
наблюдателю сложности может быть много. Как отмечает в конце своей
книги «Метод. Природа Природы» Эдгар Морен: «Сложность, прежде
всего, заставляет себя признать как невозможность упрощения; она
возникает там, где сложная целостность порождает свои
эмерджентности; там, где теряются отличительные и ясные признаки в
тождественных сущностях и причинных связях; там, где элементы
беспорядка и неопределенности нарушают течение событий; <...> там, где
антиномии приводят к тому, что в ходе рассуждения мы отступаем от
своего предмета»5. И далее он констатирует: «Мы находимся только на
начальном этапе познания сложности и признания сложности»6.
И здесь возникает вопрос о формах конкретной реализации этого
принципа: именно как принципа эволюции науки от классического
к постнеклассическому этапу ее развития. Уже говорилось, что
динамика типов рациональности реализуется в смене образов (гештальтов)
исследуемых объектов располагаемых на шкале, упорядоченной по
степени сложности. От простых объектов классической механики до
сложноорганизованных человекоразмерных, саморегулирующихся и
саморазвивающихся систем. И в этой смене образов, говоря словами
Морена, «субъект / наблюдатель улавливает свое собственное лицо в
объекте своего наблюдения»7, причем не только в этой смене гештальт-
образов объектов, но и там, где мы в ходе рассуждения отступаем от
своего предмета. Отступаем куда? По-видимому, к самим себе, к
своему Я, к своему личностному знанию и страстной вере в необходимость
поиска истины там, «где теряются отличительные и ясные признаки в
5 Морен Э. Метод. Природа Природы. М., 2013. С. 450.
6 Там же. С. 458.
7 Там же. С. 450.
162
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
тождественных сущностях и причинных связях; там, где элементы
беспорядка и неопределенности нарушают течение событий»8.
В этой связи мне представляется уместным привести несколько
цитат из недавно изданной на русском языке книги итальянского
социолога Данило Дзоло «Демократия и сложность: реалистический
подход»9. Обсуждая термин «сложность» и подчеркивая, что «даже
в случае наиболее изощренного использования понятие
сложности остается смутным и двусмысленным», он продолжает: «Термин
«сложность в том смысле, в каком я использую его при
рассмотрении теоретических вопросов, не описывает объективные свойства
естественных или социальных явлений. Не обозначает этот термин и
сложные объекты, противопоставляемые простым объектам. Скорее,
этот термин отсылает к когнитивным ситуациям, в которых
оказываются субъекты — как индивиды, так и социальные группы (курсив
мой. — В. А.). Отношения, которые строят субъекты и которые
субъекты проецируют на окружающую их среду в попытках
самоориентации, т. е. упорядочения, прогнизирования, планирования,
манипулирования, будут в зависимости от обстоятельств более или менее
сложными. Точно так же более или менее сложной будет подлинная
связь субъектов со средой»10. И далее: «...субъекты, осознающие
высокий уровень сложности среды, в которой они существуют,
достигают состояния когнитивной циркулярности. Такие субъекты сознают
сложность, с которой придется столкнуться при попытках объяснить
и спрогнозировать внешние, происходящие в среде явления в
соответствии с линейными (то есть монокаузальными,
монофункциональными или простыми) схемами, сами условия их отношений со
средой. <...> Соответственно, субъекты учитывают то
обстоятельство, что не могут определить свою среду в объективных категориях...
таким образом субъекты оказываются в ситуации
эпистемологической сложности... Возникает потребность в рефлексивной
эпистемологии, основанной на признании когнитивной взаимосвязи
субъекта (или системы) и среды в условиях повышенной сложности»11.
Проблема интерсубъективности тогда оказывается
«объектно-представленной» (или, если угодно — онтолоптированной) проблемой
(коммуникативного) взаимодействия «монад-субъектов», не просто
находящихся в ситуации «эпистемологической сложности», но и
«адекватно осознающих ее», рефлексивно ее переживающих.
8 Там же.
9 Дзоло Д. Демократия и сложность. Реалистический подход. М., 2010.
10 Там же. С. 28.
11 Там же. С. 29, 31-32.
В.И.Аршинов. Постнеклассическая мевдисциплинарность в контексте... 163
Дальше эту проблему можно рассматривать в разных ракурсах.
Я, как уже отмечалось, пытаюсь ее рассмотреть в контексте
дискурса постнеклассической науки, который однако необходимо
расширить, вводя новый концептуальный персонаж. А именно:
постнеклассического субъекта — наблюдателя / проектировщика
сложности. Для этого надо «вывести из тени» субъектный полюс
постнеклассической рациональности посредством введения
некоего параметра, характеризующего степень присутствия (или точнее
включенности) субъекта-наблюдателя, рефлексивного субъекта,
наблюдающего в том числе и себя самого в конструируемом им
самим разнообразии конкретных познавательно-проектных
ситуаций. Именно переключение гештальта с рассмотрения объектного
полюса эпистемы научного познания на субъектный дает
возможность наблюдать рекурсивный процесс становления субъекта
постнеклассической науки как наблюдателя / проектировщика
эволюционной сложности12, выходя при этом за пределы классической
декартовской субъект-объектной парадигмы и рассматривать его
(субъекта) з контексте личностного знания (Полани) и как
коммуникативное сообщество личностей (Апель), т. е. по существу в
интерперсональной и интерсубъективной и, далее, в
междисциплинарной и межпарадигмальной перспективе.
Здесь необходимо ввести в рассмотрение междисциплинарное
понятие интерфейса. Я использую это понятие, апеллируя к
интуитивно ухватываемому его смыслу в тех случаях, когда мы говорим,
например, об интерфейсе «человек — машина».
В последние годы в связи с проблемой сложности Хельга Новот-
ны — философ и социолог науки — ввела в обиход понятие эмер-
джентного интерфейса13. Она приводит множество примеров такого
рода интерфейсов. В изначальном физическом смысле интерфейс —
это поверхность раздела двух фаз вещества, которое может быть
твердым, жидким, газообразным или границей раздела живого и неживого
и т. д. При этом существенно, что интерфейс порождает качественно
новые свойства или эффекты, отличные от свойств ассоциированных
с ним поверхностей. Кстати говоря, в этой эмерджентности
интерфейсов кроется один из источников инновационного потенциала
конвергентного междисциплинарного развития. Новотны распространяет
12 Я по умолчанию принимаю тезис, согласно которому рост сложности как
динамического единства процессов дифференциации и интеграции соответствует
основному вектору универсальной эволюции.
13 Nowotny H. The increase of complexity and its reduction: emergent interfaces between
the natural sciences, humanities and social sciences // Theory, culture and society. 2005.
Vol. 22. №5. P. 15-31.
164
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
идею интерфейса на ситуацию пересечения или конфронтации разных
форм и/или областей знания. Эмерджентность говорит о незаплани-
рованности, неожиданности возникновения свойств, феноменов или
объектов, которые ведут себя как «граничные объекты», не имеющие,
однако, отчетливо распознаваемой границы, а потому не
поддающиеся категоризации и классификации. Поэтому зачастую вместо того,
чтобы играть роль коммуникативных медиаторов и порождать
возможность консенсуса, они ведут к непониманию, размежеванию и
конфликту Тем самым они порождают рост хаотической сложности
вследствие трудностей интерпретации, поскольку они находятся «в
зазоре» между двух взаимно несоизмеримых, взаимно непрозрачных, не
понимаемых языков. И тем не менее, отмечает Новотны, эти же
«граничные», гибридные объекты могут быть провозвестниками грядущих
коммуникативных прорывов, снижающих уровень сложности,
оптимизирующих ее временно, но не окончательно. X. Новотны апеллирует
к Н. Луману, для которого коммуникация в социальных системах — это
и (относительная) редукция сложности. Уместно так же здесь
упомянуть о его же концепции «двойной контингентности», исходной
взаимной коммуникативной непрозрачности, неопределенности
вошедших в «соприкосновение» автопоэтических систем, с которыми могут
быть соотнесены разные области знания. Итак, общим «контекстом»
для ситуации возникновения эмерджентного интерфейса является
ситуация «неожиданной междисциплинарной встречи» разных областей
знания. Она порождает рост сложности. Для редукции сложности в
этой ситуации нужна синергетически осмысленная коммуникация,
при которой ситуация двойной контингентности сохраняется как
нечто «полупрозрачное», поскольку любая попытка ее редукционистской
объектно-ориентированной элиминации, хотя и упрощает ситуацию,
но таким образом, что блокирует ее дальнейшее креативное
продолжение. И основой этой синергетически осмысленной коммуникации
является рекурсия, динамическим образом которой является странный
аттрактор, а пространственно-геометрическим — фрактал.
Здесь я, следуя X. фон Ферстеру, исхожу из его ключевого тезиса
его кибернетики второго порядка: «Коммуникация — это рекурсия»14.
При этом я рассматриваю понятие «рекурсия» как синергийно
сопряженное с такими понятиями, как рекуррентность, самоотнесенность,
«действенный цикл, становящийся рефлексивным и генерирующим
сложное мышление» (Эдгар Морен). Такой подход позволяет интер-
14 Foerster H. von. For Niclas Luhmann: How recursive is communication? // Foer-
ster H. von. Understanding understanding: essays on cybernetics and cognition. N. Y.,
2003. P. 305-325.
В.И.Аршинов. Постнеклассическая междисщтлинарность в контексте... 165
субъективно, нередукционистски соединить сложность в познании
общества и те концепции сложности, которые возникли в последние
годы в естественных науках. Это, конечно, синергетика Г. Хакена,
теория диссипативных структур И. Пригожина, кибернетика
второго порядка фон Ферстера, теория автопоэзиса Варелы и Матураны.
Особое место в этом перечне принадлежит открытию так называемых
странных аттракторов, которые чаще всего ассоциируются с
понятием детерминированного хаоса, но в меньшей степени с динамически
рекурсивным (фрактальным) процессом, а потому и
коммуникативным, лежащим в основе порождения новых смыслов, или
«распаковывания» смыслового континуума по В. В. Налимову. И здесь я
выдвину предположение, что вышеупомянутые «граничные объекты» в
эмерджентных интерфейсах X. Новотны есть, по сути, не что иное,
как фрактальные странные аттракторы. Чтобы задать им границы,
нужно идентифицировать их в качестве объектов исследования,
«имеющих фрактальные границы», и осознано реинтерпретировать
в качестве символических средств коммуникативного объединения
индивидуальных сознаний в интерсубъективное сознание.
Концепция интерфейса подводит нас, таким образом,
непосредственно к ключевому методологическому вопросу всего
сюжета междисциплинарной коммуникации в сложной среде. Это
вопрос о субъекте-наблюдателе сложности, который сам по себе
должен быть сложен, приравнен в этом качестве тому, что он
«наблюдает» и с чем он «имеет дело». Исторический процесс
конструктивного сопряжения наблюдателя и его окружения должен
стать коэволюционным. Это естественное продолжение
метафизической исследовательской программы Пригожина «нового диалога
человека с природой», о которой уже говорилось выше. Именно
для нового диалога человека с природой, согласно И. Пригожи -
ну, требуется трансформация самого наблюдателя-субъекта таким
образом, чтобы он был наделен способностью различать между
будущим и прошлым. А для этого субъект-наблюдатель должен
быть открытой, неравновесной, нелокализуемой диссипатив-
ной структурой, включенной в созидающую Вселенную. Но не
только. В контексте «встречи со сложностью» нам требуется не
только расширение концептуального пространства диалога, но
и качественная его трансформация. Переход к новой синергийно-
коммуникативной парадигме эволюционной сложности. Нам
необходимо заново войти в контекст «диалога человека с природой».
По аналогии с кибернетикой второго порядка, его можно было бы
назвать синергетическим диалогом «второго порядка». Или
диалогом двух коэволюционирующих субъектов-наблюдателей: внутрен-
166
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
него (эндонаблюдателя) и внешнего (экзонаблюдателя). И тогда
интерфейсом становится пространство коммуникативно
осмысленных событий-встреч «внешнего и внутреннего», субъективно-
объективного и объективно-субъективного в общем контексте
«самоорганизующейся и эволюционирующей Вселенной».
Подходящей метафорой-образом здесь мог бы быть образ ленты
Мебиуса — поверхности, в которой различение внешней и внутренней
сторон не имеет абсолютного значения. Но чтобы продвинуться
дальше в осмыслении нового субъект-объектного статуса
сложности как синергийной темпоральности, нам надо расширить (или
углубить, если угодно) наш темпоральный дискурс, включив в него
гештальт-образ «теперь-Now», а вместе с ним и сознание, и
самосознание в общую картину мира самосознающей Вселенной.
Переключение внимания с объектного полюса рассмотрения на
субъектный дает возможность более детально рассмотреть
динамику становления субъекта постнеклассической науки как
наблюдателя проводимых им действий-различий (Спенсер—Браун), что
открывает возможности выхода за пределы бинарной аристотелевской
логики в направлении признания ключевой идеи мультиперспек-
тивности, контекстуальности и множественности истин, языков
описания и языков действий-предписаний. Для меня существенно,
что идея, которая в своем изначальном виде появилась в
формулировке принципа дополнительности Бора, дает возможность выйти за
пределы классической декартовской субъект-объектной парадигмы
и рассматривать субъекта-наблюдателя как становящееся
коммуникативное сообщество (Апель), т. е. в возникающей
интерсубъективной перспективе. Иными словами, я утверждаю (вслед за Апелем)15,
что именно в современной постнеклассической науке,
ориентированной на конвергенцию естественно-научного и социогуманитар-
ного знания, на их синергийный диалог, возникает новая
междисциплинарная интерсубъективность как своего рода субъективность
второго порядка. В контексте становления неклассической науки,
в фокусе которой находились прежде всего проблемы квантово-
релятивистской физики и ее интерпретации, это понимание
интерсубъективности нашло свое выражение в высказывании Н. Бора,
связывающем в одно контекстуальное целое экспериментальный
контекст наблюдения (измерения) и контекст интерперсональной
коммуникации. Согласно Н. Бору, эксперимент — это ситуация
приготовления, воспроизведения и наблюдения таким образом,
чтобы мы могли передавать наши знания другому с тем, что бы он смог
15 Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001.
В.И.Аришнов. Постнеклассическая междисциплинарноеп» в контексте... 167
воспроизвести эту ситуацию приготовления, наблюдения и
сообщения другому. Именно поэтому уже на этапе становления
неклассической науки проблема объяснения как ее характерная и ключевая
характеристика оказалась с необходимостью дополненной
проблемой понимания (прежде всего проблемой понимания квантовой
механики). В философском измерении эта трактовка ведет к проблеме
трансцендентального субъекта науки «как медиума коммуникации»
(Б. В. Марков), а потому и как носителя трансцендентальной
рефлексии. Здесь мы опять сталкиваемся с проблемой сознания на
уровне интерсубъективности. Как пишет Апель: «...очевидность сознания,
которая всегда моя, благодаря взаимопониманию посредством языка
преобразуется в априорную значимость высказываний для нас и потому
может считаться априори обязательным познанием в русле консен-
сусной теории истины. Благодаря имплицитному или
эксплицитному включению такой очевидности сознания в парадигму языковой
игры в известной степени был установлен аргументативный смысл
достоверности представлений любого сознания для
коммуникативного и интерпретативного сообщества. Но ведь на установлении
смысла при коммуникативном синтезе интерпретации — а уже не
синтезе апперцепции — и основан "высший пункт" (Кант)
семиотически трансформированной трансцендентальной философии»16.
Мое обращение к Апелю в данном случае продиктовано
желанием обратить внимание на еще одну (на этот раз уже субъектную)
характеристику обобщенного принципа соответствия классического,
неклассического и постнеклассического этапов эволюции науки. Я
имею в виду характеристику, связанную с наделением
наблюдателя личностно ориентированным процессом осознавания. А
именно — наблюдателя как концептуального персонажа, наделенного
активно-деятельностной операциональной функцией
коммуникативного интерсубъективного посредника в когнитивном
пространстве постнеклассической науки. Наблюдатель — ключевая фигура
всех мысленных экспериментов в неклассической и
постнеклассической науке. Именно осознавание необходимости включения
осознающего наблюдателя в описание эволюционирующей реальности,
осознание конструктивно-деятельностного характера его участия в
этом процессе и является для меня главной отличительной чертой
постнеклассической рациональности в контексте представлений о
коэволюционном характере голографической сложности Вселенной.
При этом существенно, что сам постнеклассический наблюдатель
является предметом исторического конструирования, исторического
16 Там же. С. 194-195.
168
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
развития интенциональности человеческого сознания в связке «Я —
Другой». Иными словами, мы приходим к когнитивной
конфигурации двух рекурсивно связанных (взаимно отсылающих друг к другу,
коммуницирующих) наблюдателей. Наблюдатель, наблюдающий
другого наблюдателя — вот исходный пункт мысленных
экспериментов Эйнштейна, а затем Гейзенберга, Бора, Вигнера, Бома, Хокинга,
фон Неймана, Тьюринга, Серля. Этот наблюдатель второго порядка
(наблюдатель, наблюдающий себя как другого) явно или неявно
присутствует в конструктивистских дискурсах автопоэзиса у Ф. Варелы и
У. Матураны, «теории обществ» Н. Лумана, кибернетики второго
порядка фон Ферстера, синергетики процессов наблюдения.
В то же время проблема наблюдателя как медиатора
интерсубъективной коммуникации, как средства (или интерфейса)
коммуникативной самореференции и инореференции, применительно к пост-
неклассике пока еще ждет своего решения. Мне представляется, что
здесь (как и в свое время в квантовой механике) есть два
взаимодополняющих друг друга подхода к ее решению. Первый связан с
построением наблюдателя саморазвивающихся и эволюционирующих систем.
Второй — с построением наблюдателя сложности. В обоих случаях нам
придется иметь дело с принципиальной неопределенностью, контин-
гентностью, контекстуальностью, эмерджентностью онтологии пост-
неклассики и, соответственно, неопределенностью, контингентностью
и контекстуальностью ее постнеклассического субъекта-наблюдателя-
участника и наблюдателя «второго порядка» как самонаблюдателя
сложного саморазвивающегося мира. Точно так же, как невозможно
было бы построить квантовую теорию без понятий «наблюдатель» и
«наблюдаемая», невозможно построить полноценную теорию
сложности и саморазвития без понятий «наблюдатель сложности» и
«наблюдатель саморазвития». Постнеклассическая наука сама по себе
является открытой рекурсивно-коммуникативной системой,
креативный потенциал которой вполне достаточен для решения этой задачи.
Это означает, что классическая, неклассическая и постнеклассическая
рациональности образуют качественно новую открытую системную
сложность, сформированную особого рода «круговым», рекурсивным
соотношением между ними. Как уже отмечалось между разными фрагментами
(контекстами, фреймами) научного знания возникает новое, «сетевое»
гетерархическое соотношение, в котором постнеклассические
принципы наблюдаемости, контекстуальности, соответствия,
неопределенности и дополнительности оказываются по сути разными гранями
метапринципов рекурсивности и коммуницируемости смыслов в
нелинейной (и многомерной) динамике научного знания. В итоге
«научная рациональность на современной стадии развития науки представая-
В.И.Аришнов. Постнеклассическая меэвдисциплинарность в контексте... 169
ет собой гетерогенный комплекс со сложными взаимодействиями между
разными историческими типами рациональности»11.
При этом обобщенный принцип соответствия превращается в
принцип рекурсивности, т. е. соотносимое™, взаимодействия
знания с самим собой, со своими разными фреймами, контекстуально
выделяемыми наблюдателем сложности, понимаемым как
автопоэтический человекомерный субъект-объект, погруженный в разные
среды: «естественные» (природные), искусственные (технические)
и социокультурные (коммуникативно-семиотические). Тем самым
постнеклассическое знание становится междисциплинарно сложным
знанием, сложно организованной автопоэтической системой концепций,
описаний, практик экспериментирования, компьютерного
моделирования, наблюдения, измерения, практик конструирования и
коммуникации. В постнеклассической науке знание начинает взаимодействовать
само с собой как непосредственным, так и опосредованным образом.
Можно сказать, что для постнеклассической науки характерно
многообразие способов генерации нового знания именно потому, что ей
соответствует междисциплинарно сложная, гетерогенная знаниевая
среда. А одной из ключевых характеристик сложности является ее
потенциальная способность даже при кажущемся незначительным,
слабом воздействии порождать нелинейные эффекты
самоорганизации, эмерджентности. Это особенно характерно для нелокального
взаимодействия в контексте постнеклассики разных типов
междисциплинарного знания. В частности, имеется в виду фундаментальное
взаимодействие двух типов знания: знания описывающего (знания «о
том, что») и знания предписывающего (« о том, как»).
Здесь уместно процитировать известного американского
историка экономики Дж. Мокира, книга которого «Дары Афины:
экономические истоки экономики знаний» недавно вышла в переводе
на русский язык18. Мокир пишет: «Полезные знания <...>
включают два типа знаний. Первый из них — это знания о "том, что", или
пропозициональные знания (иными словами, убеждения) о
природных явлениях и закономерностях. Далее подобные знания можно
использовать для приобретения знаний "о том, как", т. е.
инструктивных или прескриптивных знаний, которые можно называть
технологиями»19. Первый тип знаний Мокир предлагает для
краткости называть Q-знаниями, а второй — Х-знаниями.
17 Степин В. С. Исторические типы научной рациональности в их отношении к
проблеме сложности. С. 45. Курсив мой. — В. А.
18 Мокир Дж. Дары Афины: экономические истоки экономики знаний. М., 2012.
19 Там же. С. 15-16.
170
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологии
Конечно, это различие не полностью совпадет с различием
между наукой и техникой, точнее — между научным знанием и знанием
техническим. Между знанием результатов наблюдений, измерений,
классификации природных явлений и законов ими управляющих,
с одной стороны, и знанием инструкций, руководств,
алгоритмов, которые превращаются в производственные,
технологические действия, с другой. Я не буду дальше углубляться в эту тему.
Ограничусь лишь констатацией того факта, что одна из важнейших
особенностей постнеклассической науки как рекурсивного,
динамически целостного процесса самоподдержания и развития
современного научного знания состоит в синергийном, взаимоусилива-
ющемся взаимодействии Q-знания и Х-знания. Это обстоятельство
позволяет говорить о становлении нового способа производства
научного знания, именуемого технонаукой или способом
производства-2. И это же обстоятельство дает основание критиковать
концепцию постнеклассической науки за то, что она якобы
умаляет решающую роль фундаментальных исследований.
В то же время рефлексивное переключение внимания с
объектного полюса рассмотрения на субъектный дает возможность более
детально рассмотреть субъекта постнеклассической науки и как
субъекта, владеющего Q,- знаниями и Х-знаниями в их явной или неявной
личностной форме, и как становящееся коммуникативное сообщество.
Иными словами, в постнеклассической науке, ориентированной на
междисциплинарную конвергенцию естественно-научного, технона-
учного и социогуманитарного знания как знаний Q,- и Х-типов,
возникает новая форма междисциплинарной интерсубъективности, а
именно: коллективная интерперсональная коммуникативность,
опосредованная сетевыми интерфейсами «человек-машина-человек».
Как уже говорилось выше, в контексте становления
неклассической науки, в фокусе которой находились прежде всего проблемы
квантово-релятивистской физики и ее интерпретации, это
понимание интерсубъективности нашло свое выражение в высказывании
Н. Бора, связывающем в одно контекстуальное целое
экспериментальный контекст наблюдения (измерения) и контекст
интерперсональной коммуникации. Согласно Н. Бору, эксперимент — это
коммуникативное сопряжение контекстов приготовления (Х-знание) и
рекурсивно воспроизводимого наблюдения явления (Q-знание)
таким образом, что мы можем сообщить наше знание, объяснение и
понимание другому с тем, что бы он смог воспроизвести эту ситуацию
приготовления, наблюдения и сообщения для себя. Именно поэтому
уже на этапе становления неклассической науки проблема
объяснения как ее характерная и ключевая характеристика оказалась с не-
В.И.Аршинов. Постнеклассическая междисциплинарность в контексте... 171
обходимостью дополненной проблемой личностного понимания, в
философском измерении напрямую ведущей к проблеме если не
трансцендентального, то уж во всяком случае
трансдисциплинарного субъекта науки «как медиума коммуникации», как носителя
соответствующей рефлексии. Но это уже рефлексия на уровне
осознаваемого единства О,- и Х-знаний, которое в полной мере реализуется в
современных языках программирования, в частности в одном из
важнейших их понятий компьютерного дискурса — понятии рекурсии.
Забегая вперед, замечу, что это рефлексивно осознаваемое единство
в полной мере достигается в «Законах формы» Дж. Спенсера-Брауна.
Однако в этой своей коммуникативной функции как единства
автореференции и инореференции, единства описания и предписания,
реализуемой наблюдателем сложности, межличностным интерфей-
ом между Alter и Ego, концепция рекурсии и как системно-научная,
и как философская была осознана не сразу. Именно в этом осозна-
вании я вижу основную заслугу Э. Морена, одним из первых
вступившим на путь «от концепции системы к парадигме сложности» в
начале 1970-х годов, когда зародились синергетика Г. Хакена, теория
диссипативных структур И. Пригожина, была предложена
концепция «динамического хаоса» и репрезентирующие его математические
конструкции, известные под названием «странных аттракторов», в
основе которых так же лежит идея рекурсии. В этом перечне нельзя
так же не упомянуть и вышедшие в то же время книги Д. Хофштад-
тера «Гедель, Эшер, Бах» и В. А. Лефевра «Конфликтующие
структуры». Наряду с этим принципиально важный шаг на пути введения
концепта «наблюдателя сложности» был сделан упомянутым выше
британским инженером Дж. Спенсером Брауном, опубликовавшем
в 1969 году работу под названием «Законы Формы»20. Но и здесь
сознание важности работы Спенсера-Брауна запоздало на десятилетия,
несмотря на то, что она уже в рукописи была горячо одобрена
Бертраном Расселом. Он увидел в ней адекватное решение логических
парадоксов самоотнесенности, которые сам вместе с Уайтхедом
пытался исключить из логической коммуникации посредством
специально разработанной для этих целей иерархии типов. Появление
работы Спенсера-Брауна было так же сочувственно встречено фон
Ферстером, написавшим на нее благожелательную рецензию. Затем
его идеи попытался развить Ф. Варела в своих работах по автономии
биологических форм21. Вскользь она упоминается и Э. Мореном.
20 Spencer-Brown G. Laws of Form. London, 1969.
21 Varela F. A Calculus for Self-Reference // International Journal of General Systems.
1975. Vol. 2. № 1. P. 5-24.
172
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологам
И все же, как уже говорилось, ключевое значение этой работы
осознавалось лишь постепенно и особенно интенсивно оно стало
происходить в последние годы в связи с разработкой пост-лумановских
стратегий в социокибернетике и киберсемиотике, философии
создания новых программных продуктов. Именно в «Законах формы»
концепты наблюдателя и наблюдения были введены изначально как
саморефлексивные рекурсивные концепты, «схватывающие» сам
процесс осознаваемого наблюдения в качестве конструктивной
семиотической процедуры создания форм различий, рекурсивно
(циклически) различающих самих себя. В настоящее время концепция
Спенсера-Брауна имеет множество интерпретаций, что вполне
естественно для той парадигмы междисциплинарной сложности, частью
которой она является. При этом я исхожу из того, что в современном
постнеклассическом познании граница между естественно-научным
познанием и познанием социогуманитарным имеет рекурсивно-
коммуникативный (фрактальный) характер. Концепция наблюдателя
сложности в контексте рекурсивной логики форм Спенсера-Брауна,
в которой наблюдение рассматривается как акт проведения границы
с одновременным различением внутреннего и внешнего,
означенного и неозначенного, осознанного и неосознанного, определенного
и неопределенного как раз отвечает такому пониманию указанной
междисциплинарной (и трансдисциплинарной) границы. На эту тему
существует множество разного рода комментариев, в совокупности
образующих то, что Н. Луман предлагал называть теориями различий
или теориями наблюдающих систем22.
Я понимаю эту концепцию именно как конструктивную попытку
операционально ввести в современный научно-философский
дискурс концепт «наблюдатель сложности», открывающий новые
возможности для понимания коммуникативной интерсубъективности,
включающей в себя также достижения философии Гуссерля,
философии сложности Морена, Делеза и Гваттари, философии принципа
дополнительности Н. Бора. Постнеклассическая наука в контексте
парадигмы сложности сама по себе является открытой
когнитивной средой, инновационный междисциплинарный потенциал
которой вполне достаточен для решения этой задачи при условии, если
входящие в ее состав междисциплинарные (естественно-научные
и социогуманитарные) Q,- и Х-знания войдут в синергийно-
конвергентное коэволюционное взаимодействие между собой.
22 Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 66—71.
Раздел 2
Теоретические
проблемы современных
неклассических
эпистемологических
практик
И, Т. Касавт
Что значит быть реалистом?
Тест для социальной
и культурно-исторической эпистемологии
Борис Пружинин, юбилею которого посвящается эта
статья, — человек, с которым нас объединяет столько
моментов профессии и биографии, что их даже неудобно
перечислять (это он может сделать при случае сам с
использованием методологии двух столбцов). Не последний среди
них — это озабоченность судьбой отечественной философии и
эпистемологии в частности; необходимость ее обновления с
использованием всего ценного, что принес с собой двадцатый век. Поэтому
наши терминологические различия, которые нередко становятся
основанием для полемики, не заслоняют главного. Оно в том, что в
России сложились основы плодотворной традиции в области
эпистемологии и философии науки, которые позволяют ей с полным
правом конкурировать с влиятельными западными трендами. Иное
дело, что это право приходится каждый раз доказывать заново. Об
этом и предлагаемый ниже текст.
1. Реализм: партия власти
Реалистическое направление в аналитической философии
(научный материализм, научный реализм, научный натурализм,
эволюционная эпистемология и др.) в той или иной мере
опирается на представление о независимой от сознания материально-
вещественной, природной действительности, которая задает
основные параметры когнитивных процессов (познания,
сознания, ментальности). Влияние социума и культуры «наслаивается»
на природные условия и способности индивида и изменяет
исходные, первичные информационные содержания, определяемые ре-
176 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
акцией тела на окружающую материальную среду. Отсюда иногда
проистекает различие между естественным, природным, с одной
стороны, и искусственным, социально-культурным, с другой, что
выражается в понятиях «объективности факта», «первичных
типах», «квалиа» и пр. Соответственно философская эпистемология
и онтология строятся так, чтобы хотя бы частично учесть
современные результаты естественных наук, говорящие о том, как в
действительности устроено человеческое окружение (мир сам по себе)
и субъект познания, деятельности и коммуникации. Этот учет
задает основы последующего дискурса, который главное в человеке
ассоциирует с материально-вещественным, природным, единым для
человека и высших приматов и противостоящим человеческому
сознанию — совокупности ментальных процессов. Отсюда следует
менталистское представление о знании как обоснованном и
истинном убеждении, а также корреспондентная концепция истины как
соответствия наших ментальных состояний, выраженных в форме
пропозиций внешнему объективному миру.
Современный философский реализм обычно ассоциируется
с классической теорией познания (Р. Декарт, Дж. Локк), которая
исторически связана с наукой Нового времени и возникновением
капитализма. Необходимость независимого обоснования науки и
техники выразилось в критике познавательных иллюзий и
предрассудков («идолов» рода, пещеры, рынка, театра, по классификации
Ф. Бэкона). Освобождение знания от «внешнего» влияния,
политических, религиозных, метафизических и обыденных
заблуждений рассматривалось как условие и цель новой науки, способной
обеспечить объективный взгляд на мир.
Философский реализм в англо-американском мире сегодня
получил наивысший социальный статус среди всех
эпистемологической тенденций. Ее представители наделены правом высшей
экспертизы, поскольку им принадлежат наиболее рейтинговые
журналы (Journal of Philosophy, Philosophical Review, Philosophical
Studies, Nous, Mind, Philosophy & Phenomenological Research), они
занимают самые престижные должности в университетах «within
the mainstream of analytic philosophy departments within the English-
speaking world»1). Реализм обычно связан с культом опыта,
доверием к здравому смыслу, политической лояльностью и моральной
ответственностью и поэтому находится ближе всего к
академическому истеблишменту, чем другие философские дискурсы. Его со-
1 Boghossian P. Л. Fear of Knowledge. Against Relativism and Constructivism. Oxford.
2006. P. 7.
И. Т. Касавин. Что значит быть реалистом?...
177
циальная легитимация обусловлена объективистскими
претензиями, которые легко используются любыми властными кругами для
оправдания своей политики. Пытаясь сохранить и укрепить свою
власть, реализм практикует резкую критику своих противников,
отрицая теоретическое значение их идей и ставя под сомнение их
социальную репутацию. Эта политика реализма как
академического мейнстрима вместе с тем побуждает внимательнее
присмотреться к его интеллектуальной уникальности.
В самом ли деле реализм непременно тождествен научному
материализму или натурализму? Так ли реализм несоизмерим с
социальным конструктивизмом, феминистской эпистемологией или
прочими его противниками? Не является ли квалификация
социальной эпистемологии (SE) как «антиреализма» ошибочной?
2. Марксистская традиция в социальной эпистемологии
Существует, по крайней мере, одна версия социальной
эпистемологии, которая в значительной степени обусловлена философским
реализмом определенного рода, а именно марксистским
диалектическим материализмом. Стоит напомнить, что последний
решительно выступает против наивного, «метафизического»,
«механистического», антидиалектического материализма (реализма), хотя
и признает положительную историческую роль последнего.
Современными вариантами материализма Декарта, Гоббса, Ламетри или
Бюхнера выступают концепции М. Бунге или Черчлендов. Среди
наиболее творческих и наименее догматической мыслителей,
работавших под (хотя бы частичным) влиянием марксистской
традиции, можно выделить, таких как Б. М. Гессен, Л. С. Выготский,
М. М. Бахтин, М. К. Петров. В то время как они находились вне
мейнстрима своего времени, то сегодня дают импульсы для новых
подходов. На мой взгляд, их идеи может плодотворно использовать
социальная эпистемология, которая существенно
пересматривает установки реализма. При этом было бы неверно истолковывать
это как движение в сторону принципиально антиреалистической
позиции. Тезисы о конструктивности и социокультурной
релятивности познания призваны наполнить реализм иным, более богатым
и адекватным содержанием. Для этого социальная эпистемология
ищет ответы на следующие вопросы. Во-первых, какова
специфика способов исследования познавательных процессов, которые
учитывают реалии культуры и социума? Во-вторых, это вопрос об
178 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
особенностях современной социокультурной ситуации в
отношении производства, функционирования и применения знания.
Наконец, возможность использования социально-гуманитарного
знания в современном обществе также представляет острую проблему.
В совокупности это и есть предмет социальной эпистемологии —
философско-междисциплинарного учения о познании,
направленного на исследование познания в социокультурном контексте. Я бы
не стал отождествлять с марксистской традицией социальную
эпистемологию, но нельзя не признать, что целый ряд идей К. Маркса и
его последователей в ней используются. Главная из них — это
принцип связи познания, сознания, деятельности и общения. Он
находит свое воплощение и за пределами философии, в современных
методологически заостренных течениях социально-гуманитарной
мысли, разделяющих коммуникативно-семиотический или
культурно-исторический подход (в социологии — Т. М. Дридзе2; в
лингвистике — 3. И. Комарова3; в психологии — В. П. Зинченко4).
В дальнейшем я затрону некоторые полемические темы на стыке
этой традиции и современной аналитической философии.
3. Онтологический поворот?
Среди многих современных трендов в исследованиях по
эпистемологии и философии науки прослеживается такой, который берет
на вооружение лозунг «Назад к вещам», как известно,
принадлежащий Э. Гуссерлю. Сегодня, как и тогда, имеется в виду
необходимость и важность онтологии как таковой, первая функция
которой — спасти некоторых философов, а заодно и всю культуру, от
напасти релятивизма. Б. Латур, недавний защитник одной из
версий релятивизма, и есть самый известный сторонник «нового
онтологизма», в котором между социальностью и техникой, человеком
и животным, знанием, субъектом и объектом не проводится
никаких границ: все это объявляется элементами единой «сети». То, что
2 См.: Дридзе Т. М. Две новые парадигмы для социального познания и
социальной практики // Россия: трансформирующееся общество. М., 2001.
3 Комарова 3. И. Коммуникативно-прагматическая парадигма в дисциплинарно-
методологическом пространстве современной лингвистики // Вестник
Челябинского государственного университета. 2013. № 1 (292). Филология,
искусствоведение. Вып. 73. С. 66—71.
4 См.: Зинченко В. П., Пружинин 2>. И., Щедрина Т. Г. Истоки
культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010.
И. Т. Касавин. Что значит быть реалистом?...
179
вчерашний социальный конструктивист и последователь «сильной
программы» в социологии науки решил поменять свои убеждения,
нет ничего необычного. Среди нас тоже есть такие, кто вчера
преклонялся перед когнитивными науками и аналитической
философией сознания, а сегодня и в грош их не ставит, уповая на
очередную завлекательную «утку» типа НБИК. И в том, и в другом случае,
как ни странно, не предлагается никаких теоретических новаций.
Латур, перепутывая все и вся в стремлении произвести
впечатление, на деле и по-своему говорит лишь о том, что между субъектом
и объектом познания существует огромное количество «предметов-
посредников» (В. А. Лекторский), включая предмет научной
дисциплины, систему идеальных объектов теории, экспериментальное
оборудование, используемые материалы, природные организмы.
И его оригинальная терминология в итоге оборачивается вполне
традиционным словарем социологии познания. Как показывает
Д. Блур, «монады и энтелехии отходят на задний план, и мы
остаемся с тем, что напоминает социальные связи, социальные
практики, исторически ситуативную деятельность и даже привычно
звучащие категории культуры»5. Так что оригинальность «акторно-
сетевого реализма» видна только тем, кто плохо информирован о
сути деятельностного подхода к познанию, в котором значительно
более корректно реконструируется континуум между субъектом
и объектом. А потому и тезис о том, что сегодня онтология такого
или иного рода призвана «дополнить», а то и заменить
эпистемологию, также недорого стоит. Ведь любая онтология есть всего лишь
акцент на объектной стороне познавательного процесса, результат
познания некоторой реальности, а грамотное изложение этого
результата включает описание его исходных предпосылок, условий и
методов получения, связи с другими результатами. Что же это, как
не эпистемологический анализ научного знания?
Но у Латура, погруженного целиком в перипетии
исследовательской лаборатории, нет времени и желания заниматься философией
и понятийным анализом, тем более что он убежден в грядущем
отмирании социально-гуманитарных наук. А нетребовательная
публика глотает его сомнительные конструкции на тему «воскрешения
вещей» точно так же, как еще недавно была захвачена
деконструкциями и похоронами Бога, субъекта, науки и философии вообще.
Каков же культурный смысл того, что делает Латур? Это
своеобразная скрытая реклама безграничных возможностей
прикладной науки («Дайте мне лабораторию, и я переверну мир» — гласит
5 BloorD. Anti-Latour// Stud. Hist. Phil. Sei. 1999. \Ы. 30. № 1. P. 98.
180 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
название одной из его статей), в которой личности ученого и его
творческому мышлению практически не остается места. Образу
науки без субъекта и объекта — некой всепроникающей
протоплазме — предстоит убедить налогоплательщиков во всевластии
научных экспертов и неизбежности платить за все новые, в том числе
ненужные и опасные изобретения.
Упоминание о Латуре не имело бы большого смысла само по
себе, если бы он не был одним из наиболее известных критиков
Эдинбургской школы (Д. Блур, Б. Барнс и др.). Его непонимание
и непринятие сути этой концепции, а также соответствующая
этому полемика имеет распространение и в российской философии, в
основном среди старшего поколения. Меня очень радует, что
интерес к социальной эпистемологии постепенно захватывает все более
широкие круги, в том числе и молодых ученых; это свидетельствует
об остроте поставленных проблем. И все же нужно более
внимательно читать труды зарубежных философов, даже они содержат что-то
не всегда понятное. Для тех, кто еще не считает свои взгляды
истиной в последней инстанции, порекомендую хотя бы уже упомянутую
статью Блура, изучение которой может помочь в освоении нового
материала. Критикам же социальной эпистемологии в ее
российском варианте, чтобы избежать упрека в неосведомленности, стоит
ознакомиться как минимум с трудами одноименного сектора
Института философии РАН (свыше двадцати индивидуальных и
коллективных монографий за последние шесть лет), хотя первые работы
в этом направлении появились свыше четверти века тому назад6.
Мои коллеги по сектору социальной эпистемологии и я сам не
давали клятвы верности Дэвиду Блуру, хотя это очень приятный и
умный человек, с которым у меня дружеские отношения. Я
пытаюсь разрабатывать собственные подходы к социальной
эпистемологии, поскольку это название не запатентовано и никто не имеет
на него монополии. По крайней мере, его автор и также мой
хороший знакомый, Стив Фуллер, никогда не предъявлял мне иска на
этот счет. При этом целый ряд их положений и подходов
представляются мне вполне приемлемыми.
Это относится, например, к тезису о том, что и истинные, и
ложные убеждения (теории, концепции) следует анализировать
одинаковым образом, объяснять из тех же самых причин. Не нуж-
6 В статье, заказанной мне журналом «Social Epistemology» (главный редактор —
С. Фуллер), я указываю на истоки российской социальной эпистемологии в трудах
Е. А. Мамчур, Л. А. Марковой, Л. А. Микешиной, В. А. Лекторского, В. С. Степи-
на, В. П. Филатова и др. См.: Kasavin I. In the former Soviet Union. Studies in social
epistemology// Social Epistemology. 1993. № 2.
И. Т. Касавин. Что значит был» реалистом?...
181
но рассматривать истину только как результат совпадения с
объектом, а заблуждение — только как продукт социальной иллюзии
и ангажированности. Истина не бессубъектна, а заблуждение не
безобъектно. Знания обоих родов — и истинные, и ошибочные —
в равной степени обусловлены комплексом социально-культурных
условий и обстоятельств. Использование понятия истины в
объяснении того, как формируется знание, подставляет телеологию на
место реальных социокультурных обстоятельств. Очевидно, что
все это не имеет ничего общего с отказом разграничивать истину и
ложь вообще, что любят приписывать Блуру
Отсюда становится ясным отношение между объективностью
научного знания и релятивизмом. Если выбор научной теории — дело
вкуса; если эксперимент можно подтасовать, чтобы он подтверждал
теорию; если в реконструкции истории науки главную роль играют
корыстные или политические убеждения ученых, а не исследование
своего предмета, то все это не релятивистская, а просто
недобросовестная стратегия, хоть в науке, хоть в философии. Но если ученый,
выдвигая или обосновывая идею, придумывая схему эксперимента,
выступает не как гносеологическая абстракция субъекта, но
апеллирует ко всему многообразию культурных ресурсов и при этом
следует кодексу научной честности, то у него есть шансы получить
объективное знание. Эпистемологический релятивизм, в понимании
Блура, это максимальный учет всего многообразия условий
познавательного процесса, включая, естественно, и предмет
исследования. Это наиболее объективный взгляд на познание.
Можно считать признанным понимание методологического и
эпистемологического релятивизма как отказа от абсолютности
философских категорий, научных законов, эмпирических данных, от
кумулятивного развития знания7. Его сторонники подчеркивают на-
груженность опыта теоретическими интерпретациями, зависимость
значения теоретических терминов от включенности в теоретические
схемы, обусловленность теорий мировоззренческими системами и
социальными конвенциями, функциональную и содержательную
зависимость знания и сознания от деятельности и общения,
прерывность и неравномерность познавательного процесса. В качестве
выражения эпистемологического релятивизма нередко
рассматривают принцип «лингвистической относительности» Сепира—Уорфа,
тезис «онтологической относительности» У. Куайна, понятие
«несоизмеримости» (Т. Кун, П. Фейерабенд) и др.
7 См.: Касавин И. Т. Релятивизм // Новая философская энциклопедия / Под ред.
В. С. Степина, Г. Ю. Семигина и др. Т. 3. М., 2000. С. 442.
182 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
Я напоминаю эти общеизвестные факты, чтобы в очередной
раз оправдать8 релятивизм, который даже для Ф. Энгельса был
выражением естественного развития знания через «ряд
относительных заблуждений». Блур также защищает методологический
релятивизм, противопоставляя его позиции Латура, которую я бы
вообще-то назвал «релятивизмом в дурном смысле». Ведь он не
проводит различия между тем, как влияют на процесс и результат
познания самые разные факторы — от понятий, математических
моделей и приборов до наблюдателя, сообщества и природных
объектов. Кстати, Блур в отличие от Латура не отвергает субъект-
объектную схему познания, и, даже указывая на многообразие ее
интерпретаций, настаивает на ее плодотворности.
Соотношение индивидуального и коллективного познания —
основание для разграничения классической и неклассической (социальной)
эпистемологии (по С. Фуллеру, их символизируют соответственно
фигуры К. Погшера и Т. Куна), а также различия между позициями Э. Гол-
дмана9 и Блура. Последнего интересует познающий индивид только
как представитель социального типа (сообщества), а знание — только
в интерсубъективной языковой или практической форме. Психология
познания важна, но не может заменить эпистемологического подхода,
основанного на внешнем, объективном, социологическом
исследовании знания «вне черепной коробки». Здесь Блур следует и Л.
Витгенштейну, и Л. С. Выготскому в отрицании «приватного языка» и
понимании знания как продукта коллективной деятельности и общения.
Голдман противопоставляет этому свою концепцию, в которой главную
роль играет отдельный индивид и нормативное построение его
социальных практик на основе своеобразного понятия корреспондентной
истины. Невнятность последнего показана многими авторами10, как и
недостатки абстракции гносеологического субъекта, которой
привержен Голдман. Поэтому его «социальная эпистемика» только cum grano
salis может претендовать на статус социальной эпистемологии.
Принципиальное различие Блура и Латура состоит в их
оценке социально-гуманитарных и естественных наук. Блур
отстаивает объективный статус и особую значимость социального
знания, поскольку его предметом является фундамент всякой
науки — научное сообщество. Латур предрекает конец «недонаукам»
социально-гуманитарного цикла, как скоро современная технонау-
8 Более обстоятельно об этом см.: Микешина Л. А. Релятивизм // Социальная
эпистемология. Идеи, методы, программы. М., 2010.
9 См.: Goldman A. Knowledge in a Social World. Oxford; N. Y. 2003.
10 См., например, Моркина Ю. С. «Веритистское» направление в социальной
эпистемологии (Э. Голдман) // Эпистемология и философия науки. 2008. № 1.
И. Т. Касавин. Что значит быть реалистом?...
183
ка окончательно ляжет в основу всех общественных реалий.
Апологеты НБИК сегодня могут взять идеи Латура на вооружение, но
философам следует отнестись к ним критически.
Дефицит места вынуждает меня ограничиться сказанным, чего
все же достаточно для иллюстрации моего главного тезиса:
российская версия социальной эпистемологии достаточно близка
культурно-исторической эпистемологии, хотя и не тождественна
ей. А это на сегодняшний день, самый адекватный подход к
пониманию связи познания и культуры. Только самые
неинформированные из наших критиков этого не понимают.
4. Реализм и конструктивизм. Отвага глупости
В философско-эпистемологической литературе релятивизм и
конструктивизм обычно образуют оппозиционную пару с реализмом, с
чем связана взаимная критика. Характерным примером
современной реалистической позиции является небольшая, но весьма
амбициозная книга П. Богосяна11. Поскольку и она написана в манере,
напоминающей памфлет, то и за нами остается право посмотреть
на нее сквозь иронические очки. Каковы же аргументы автора?
Он обрушивается на релятивизм в образе Б. Барнса и Д. Блура,
которые отмечают, что для релятивиста нет никакого смысла
противопоставлять действительно рациональные стандарты или
убеждения тем, которые принимаются за таковые в некотором локальном
контексте. Поскольку релятивист полагает, что не существует
независимых от контекста или сверхкультурных норм рациональности,
он не рассматривает убеждения, принимаемые рациональным или
иррациональным образом, в виде двух отдельных и качественно
различных классов вещей. Приводя эту фразу как закавыченную
цитату, Богосян почему-то дает весьма странную для аналитика,
любящего точность и ясность, ссылку сразу на 20 страниц текста, не
желая, вероятно, рекламировать своих противников12. Однако
важнее другое. Богосян называет это тезисом «равноценности» (equal
11 См.: Boghossian P. Л. Fear of Knowledge. Against Relativism and Constructivism.
Clarendon Press, Oxford. 2006. P. 138. Этот автор малоизвестен в России, но в США
он принадлежит к философскому истеблишменту, будучи профессором Нью-
Йоркского Университета (NYU).
12 Barry Barnes and David Bloor, "Relativism, Rationalism and the Sociology of
Knowledge," in Rationality and Relativism, ed. by Martin Hollis and Steven Lukes (Cambridge,
Mass.: The MIT Press, 1982), 21—47 (сноска сохраняет формат Богосяна).
184 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
validity) и иллюстрирует его высказываниями некоторых ученых,
не считающих науку привилегированным способов видения мира
(археолог Ларри Циммерман, например), а также мнением
одного современного лидера американских индейцев племени лакота.
Последний говорит следующее: «Мы знаем, откуда мы пришли.
Мы потомки людей Буффало. Они пришли из глубин Земли после
того, как сверхъестественные духи подготовили этот мир для жизни
людей. Если неиндейцы выбирают для себя веру в то, что они
произошли от обезьян, то да будет так. Я встречал даже пятерых из
племени лакота, которые верят в науку и эволюцию»13.
Что называется «на полном серьезе» Богосян противопоставляет
этой точке зрения современный подход, согласно которому предки
американских индейцев пришли из Азии через Берингов пролив, а
вовсе не из глубин Земли. Тезис из мировоззрения американских
индейцев (миф) призван в таком случае конкурировать с
миграционной теорией происхождения индейских племен (историческая
география и история), но ведь и у ученых в этих вопросах, кстати,
расхождения категорически доминируют над единством, и
«объективной истины» не знает никто. Поэтому в процессе
академического образования следует знакомить и с мифами, и научными
теориями, пытаясь найти в первых рациональное зерно и
рассматривая вторые как достигнутый уровень знания в контексте
альтернативных позиций и дискуссий. Хотя, может быть, для обучения
американских бакалавров этот метод и не подходит...
Подчеркнем, что принципу «equal validity» Богосян
приписывает изрядную наивность, хотя он говорит не о буквальном тождестве
науки и ненауки, а о том, что их различие не абсолютно. Миф и наука
являются равно состоятельными основами исторических типов
мировоззрений, и хотя мировоззрения различны, они в каждую эпоху
предоставляли определенную онтологию, являлись критериями истины,
моральности, красоты, справедливости. Типы научности не меньше
различаются от эпохи к эпохе (античная, средневековая, классическая,
современная наука). Кеплер верил в астрологию, Ньютон — в
математику, в сотворенность мира, в алхимию; сегодня верят в Большой
взрыв. Не нужно поэтому реифицировать результаты сегодняшнего
дня, не стоит всегда быть демонстративно современным. Ведь никогда
не знаешь, из каких глубоких подземелий и пыльных чердаков
культуры будет извлечена очередная великая истина. Если бы Коперник не
поверил Филолаю, то он бы не пришел к гелиоцентризму — вопиющей
ереси и одновременно точке роста науки своего времени.
13 Цит. по: Boghossian P. A. Op. cit. P. 1.
И. Т. Касавин. Что значит быть реалистом? ...
185
Однако Богосян настаивает на своем. «Поскольку мы верим во
все это (то, что индейцы пришли из Азии. — И. К.), то мы
полагаемся на официальное мнение (deliverances) науки: мы
приписываем ей привилегированную роль в том, чему учить детей в школе,
что признавать доказательным в суде и на чем основывать наши
социальные практики. Мы принимаем за факт то, что является
истинным. Мы хотим соглашаться лишь с тем, в истину чего мы
можем верить на хороших основаниях; и мы считаем науку
единственным хорошим способом достижения рациональных
убеждений о том, что есть истина, по крайней мере, в области чисто
фактического. Следовательно, мы полагаемся на науку»14.
Итак, мы верим в «чистые факты», которые устанавливает наука
в качестве истинных, а потому считаем науку лучшим видом
знания и основой практики. Даже не хочется анализировать
логическую структуру такой аргументации, очень напоминающую
логический круг, свойственный именно вненаучному знанию. А потом
еще эта вера (belief) в факты? Ее эпистемический статус остается
непроясненным. Она рациональна в силу истинности фактов, в
которые мы верим? Так рациональна она или иррациональна?
Возникает впечатление, что автор, полемизируя с
релятивизмом, путает (сознательно или в силу некомпетентности)
скандальные и диффамирующие лозунги некоторых ученых со вполне
корректными положениями философов; верит в науку, а веру считает
рациональной; в итоге он слепую апологетику науки
противопоставляет серьезному анализу науки как социокультурного
феномена. Странно, но это не очень важно для человека, который является
представителем мейнстрима аналитической философии.
Однако давайте попробуем разобраться, что же такое эта вера. Быть
может, английское слово «belief» в большей степени соответствует
русскому слову «мнение»? Богосян определяет его как ментальное
состояние, у которого есть пропозициональное содержание, выражаемое
суждением о некотором положении дел в мире; оно может быть
оценено как истинное или ложное, а также как обоснованное или
необоснованное, рациональное или иррациональное15. Далее, Богосян
оговаривается, что не является во всех случаях приверженцем «объективизма
фактов» (fact-objectivist). Он сравнивает суждения космологии и
морали, приходя к выводу, что первые объективны, а вторые субъективны.
Так, суждение «У Юпитера 30 лун» якобы основывается на
объективных, независимых от сознания фактах и поэтому является ис-
14 Boghossian P. Л. Op. cit. P. 4.
15 См.: Op. cit. P. 10.
186 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
тинным. Суждение же «Чавкать макаронами неприлично»
справедливо лишь для США и ошибочно для Японии, в которой приняты
иные нормы поведения во время трапезы. И опять-таки
высказывание «Деньги — вещь, не существующая вне сознания»,
констатирует объективный факт.
Замечая, что все наши пропозиции состоят не из камней и
деревьев, а из понятий (Юпитер, луны, Солнечная система, тяготение и
пр.), Богосян должен бы признать, что в качестве абсолютного,
независимого от сознания «факта» существует только
неограниченное множество неких «объектов», о которых мы ничего не знаем,
в том числе и то, что они являются объектами. Всякому
астроному ясно, что звезды можно соединять в констелляции совершенно
иначе, чем это делали древние наблюдатели, придумавшие
известные созвездия. Требуется изрядная доля воображения, чтобы в
небесном хаосе увидеть образы Стрельца, Водолея, Медведицы, Льва
и пр. Аналогично и 30 лун Юпитера не существовали бы без людей,
потому что именно люди создали Солнечную систему из
совокупности видимых в небе мелких объектов. Без людей эти луны были
бы неизвестно чем в неизвестном месте в неизвестном отношении
неизвестно к чему. Имели ли бы они массу, скорость, орбиту и
прочие качества, которые люди им приписали в силу определенных
ментальных состояний (знаний, мнений, восприятий)? Едва ли.
Еще недавно Плутон признавали планетой Солнечной системы.
Сегодня его статус изменился, а само определение планеты
претерпело радикальное изменение16. Так что же существовало бы без
людей? Об этом ничего нельзя сказать, поскольку у нас нет об этом
никакого знания. Однако с объективным существованием неких
(да, небесных, хотя не мешало бы уточнить отличие неба от
Земли, ибо сама Земля — небесный объект) явлений и объектов,
скорее всего, согласятся все вменяемые и хотя бы отчасти грамотные
люди. В этом согласии и состоит единственная объективность,
доступная человеку.
16 Это произошло как раз в год выхода в свет книги Богосяна, который, зная об
этом заранее, воздержался бы от астрономических примеров. Официальное
признание Плутона планетой состоялось в мае 1930 на конференции
Международного астрономического союза. В последующем было доказано, что он не оказывает
влияния на неправильности в движении Урана и Нептуна, а его удаленность от
Солнца и масса слишком малы. На основе этого было выдвинуто предложение не
считать Плутон планетой. В дальнейших дискуссиях некоторые предложили
присвоить Плутону и другим аналогичным телам имя «планета-карлик». Другие
полагали, что понятие планеты является феноменом культуры и не подлежит ревизии.
24 августа 2006 года на очередной конференции Международного
астрономического союза ученые согласились называть Плутон «карликовой планетой».
И. Т. Касавин. Что значит быть реалистом?...
187
Едва ли не в большей мере, чем звезды и планеты,
объективным существованием обладают деньги, субъективность которых
почему-то подчеркивает Богосян. Конечно, если лишить нашу
Солнечную систему Солнца, то мы наглядно убедимся в его
объективности. Однако такой эксперимент нам провести не под силу.
А вот с деньгами дело обстоит иначе. Достаточно лишить человека,
существующего в обычных условиях, всякого денежного
содержания, и он почти сразу убедится в объективной, т. е. независимой от
сознания, природе денег. Не деньги зависят от нашего сознания, а
мы целиком и полностью от их реального, никак не воображаемого
наличия — такова объективная истина.
История с макаронами и чавканьем, конечно, совсем иного
разряда. И мы допустим, вслед за Богосяном, определенную
правомерность морального релятивизма, поскольку в разных
культурах разные нормы. Но здесь же возникает вопрос. Почему же сам
Богосян совсем иначе относится к моральному спору о геноциде
армян в 1915 году? Турецкие историки не считают избиение и
депортацию армян из Турции геноцидом, обосновывая это тем, что в
те времена доминировали другие моральные, культурные и
политические нормы. А такого понятия как «геноцид» вообще не
существовало. Однако Богосян здесь настаивает на приоритете самого
факта физического уничтожения и изгнания вне зависимости от
его конкретно-исторической социальной оценки: в основании
морали, как оказывается, тоже лежат «упрямые факты»!17
В таких вопросах, как нам кажется, следует быть более тонким.
Мы проблематизируем те или иные трагические события в истории
не потому, что они имеют или не имеют места в действительности.
Отношение к ним отличается от отношения к физическим фактам.
Почему бы нам не вспомнить кровавую резню на Бородинском
поле и не разорвать дипломатические отношения с Францией,
если она не признает захватнической цели наполеоновского
похода? Почему бы туркам не предъявить претензии грекам за
Троянскую войну, если те не признают ответственности за убийство
мирных горожан? Получается, что эти вопросы как-то отличаются от
вопроса по поводу Холокоста, непризнание которого в наши дни
означает банальное варварство и игнорирование международного
права. Во всех подобных случаях важны не только и не столько
физические факты (кто кого и в каком количестве уничтожил и т. д.),
сколько санкционированная обществом моральная и юридическая
17 См.: Fear of Terminology. An Interview with Paul Boghossian / By Khatchig Mouradian //
Aztag Daily. Sunday. June 3. 2007.
188 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
оценка мотивов и характера деяния, производная от определенных
национальных, культурных, политических интересов. В
большинстве случаев она представляет собой наложение современных
представлений на историческое событие, которое ранее уже получило
оценку, и тогда между собой начинают конкурировать две разные
оценки. И, как известно, единственным объективным основанием
выбора между ними является интерсубъективное согласие. Сегодня
большинство цивилизованных людей согласно по поводу геноцида
армян и Холокоста, но, скажем, в отношении сталинских
репрессий у российских граждан, как ни странно, до сих пор мнения
расходятся. Поэтому чтобы установить истину в таких случаях, нужно
апеллировать не столько к физическим фактам, сколько
исследовать, насколько и каким образом некоторое социальное событие
вписывается в доминирующую систему социальной легитимации.
Конструирование такой системы (чему, кстати, и во многом служат
исследования историков) и есть способ обеспечения торжества
исторической истины. Так что и в моральных вопросах не наивный
реализм, а именно конструктивизм и релятивизм позволяют
нащупать более верный путь рассуждения.
Однако недостаток релятивизма в том, что это явление равно
интеллектуальное и идеологически нагруженное, возникшее в
постколониальную эру, обнаруживает Богосян18. Прекрасно, он
понял смысл социальной эпистемологии, рассматривающей все
убеждения в социально-культурном контексте. Но тогда и реализм
нелишне проверить на предмет идеологичности. Ведь
свойственный ему сциентизм фактически легализует власть научных
экспертов и третирует простых людей, которые, будучи невежественным
стадом, не в состоянии самостоятельно установить научные
факты. Сциентистский реализм удобен власти и бизнесу, у которых все
права на истину, поскольку им принадлежат институты ее
установления (университеты, исследовательские центры). Ее можно
догматизировать и больше не заботиться о доказательствах. И автор
недаром вспоминает о колониализме, только не договаривает по
поводу его современного воплощения. Ведь именно такова
американская политика — доказывать всем, что нужно следовать
американскому диктату, поскольку он основан на истине, морали и
справедливости.
Еще одна мишень критики Богосяна — феминистская
эпистемология, разделяющая многие положения с эпистемологией
социальной. Он приводит следующий пассаж как выражение ее пороч-
См.: Boghossian P. Л. Op. cit. P. 5.
И. Т. Касавин. Что значит быть реалистом?...
189
ных философских склонностей, выраженных в тезисе «социальной
зависимости знания» (social dependence of knowledge — термин Бо-
госяна19), тесно связанном с социальным конструктивизмом.
«Феминистские эпистемологи, в согласии со многими другими
течениями современной эпистемологии, более не считают знание
нейтральным и прозрачным отражением независимо
существующей реальности, с истиной и заблуждением, устанавливаемыми
трансцендентными процедурами рациональной оценки. Скорее,
большинство согласно в том, что всякое знание ситуативно
(situated) и отражает положение субъекта, производящего знание в
определенный исторический момент в данном материальном и
культурном контексте»20. Что же противопоставляет ему Богосян?
«Я подчеркивал влияние, которое конструктивистские идеи
демонстрируют в гуманитарных и социальных науках. Но есть одна
гуманитарная дисциплина, в которой они занимают весьма слабые
позиции, и это сама философия, по крайней мере, та, что
практикуется в рамках мейнстрима аналитических кафедр философии в
рамках англоговорящего мира»21. Из этого становится очевидно, что
автор чувствует себя обязанным встать на защиту этого самого
«аналитического мейнстрима философских кафедр в рамках
англоговорящего мира». Вот чей социальный заказ выполняет он, хотя его
позиция самоидентифицируется как нейтральная и социально не-
нагруженная. Впрочем, в отчуждении этого мейнстрима от
остальных гуманитариев им резонно видится источник «science wars», в
которых столкнулись самые праведные аналитики и остальные
гуманитарии (среди них Л. Витгенштейн, Р. Карнап, Р. Рорти, Т. Кун,
X. Патнэм и Н. Гудмен). Последних Богосян с большой натяжкой
объявляет постмодернистами. Как видно, конкуренция на «мейн-
стримовских кафедрах» настолько сильна, что заставляет теснить
сторонников самих основоположников аналитической философии,
чтобы предоставить место Богосяну и ему подобным.
Чтобы эффективно критиковать своих противников, их
нужно оглупить. Именно так и поступает Богосян. Тезис социальных
эпистемологов о социальности познания он подменяет тезисом его
«социальной зависимости», причем зависимость
истолковывается исключительно как обусловленность социальными потребно-
19 См.: Op. cit. P. 5.
20 Lennon К. Feminist Epistemology as Local Epistemology // Proceedings of the
Aristotelian Society. 1997. Supplementary Volume 71. P. 37.
21 Boghossian P. Op. cit. P. 7. При этом «within» повторено самим Богосяном
дважды, более того, данная фраза воспроизводится на той же странице с небольшими
вариациями.
190 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
стями и интересами. Но уже само название ранней книги Д. Блура
(«Knowledge and Social Imagery», которое я перевожу как «Знание
и социальная образность») говорит о другом. Социальность
мыслится в рамках Эдинбургской школы как сложный конгломерат
социокультурных факторов, включая идеологию, мировоззрение,
повседневность, образовательные и коммуникативные практики
и другие феномены культуры. Они оказывают влияние на науку и
снабжают ее культурными ресурсами мышления и деятельности,
делая ее явлением конкретной культуры данного общества и
определенной исторической эпохи. Что же противопоставляет этому
взгляду Богосян? Среди прочего, это «три тезиса объективизма».
Процитируем их целиком.
«Объективизм касательно фактов: мир, который мы стремимся
понять и познать есть нечто, в большей части независимое от нас
и наших мнений (beliefs) о нем. Даже если бы мыслящие существа
никогда не существовали, мир все же обладал бы многими из тех
качеств, которые он в данный момент имеет.
Объективизм касательно обоснования (justification): факты
такой формы как "информация Е обосновывает мнение В" суть
факты, независимые от общества. В частности, то, что некая единица
информации обосновывает или не обосновывает данное мнение,
никак не зависит от случайных (contingent) потребностей и
интересов какого-либо сообщества.
Объективизм касательно рационального объяснения: при
подходящих обстоятельствах исключительно наше обращение
(exposure) к данным опыта (evidence) способно объяснить, почему мы
верим в то, во что верим (believe)»22.
Что касается объективизма фактов, то это наиболее
компромиссно звучащий тезис, с которым вроде бы можно и согласиться.
Однако он лишен эпистемологического содержания, поскольку не
дает основания для разграничения явлений объективного мира и
феноменов мира человека. Ведь все факты, как и теории, образы,
суждения, понятия и пр., обязаны человеку и никак не
тождественны реальному миру. Это только у раннего Л. Витгенштейна мир
состоит из фактов, но ведь Богосян с ним не согласен, и правильно
делает, поскольку «факты» «Трактата» нужно понимать в контексте
идей Д. Юма, И. Канта и Б. Рассела периода логического атомизма.
А. Л. Никифоров, критикуя подобную позицию, замечает:
«Предмет есть результат интерпретации воздействий на нас
внешнего мира с помощью органов чувств и знаний, воплощенных в
Boghossian P. A. Op. cit. P. 22.
И. Т. Касовши Что значит быть реалистом? ...
191
смысле языковых выражений... Предполагать, будто вне и
независимо от нас существуют предметы с многообразными —
известными и неизвестными нам — свойствами и наше знание лишь с той
или иной степенью полноты и точности отображает и описывает
эти предметы, по-детски наивно»23.
И напротив, «объективизм обоснования» — тезис значительно
более сильный. «Информация», «обосновывает» и «мнение» суть,
по Богосяну, явления природной реальности, существующие вне
человечества и отдельного индивида, поскольку он представляет
собой часть общества. Главное, что общество сводится к интересам
и потребностям, а вся совокупность социальных институтов
науки, права, морали, СМИ и пр. начисто игнорируется. За пределами
внимания оказывается вся обширная проблематика взаимосвязи
логики и риторики, науки и политики, обоснования и убеждения24.
Поэтому Богосян конструирует даже не попперовский «третий
мир», и не платоновский топос ноэтос, а какую-то фантасмагорию
витающих в безлюдном космосе, подобно астероидам, онтологизи-
рованных фрагментов процесса обоснования.
И, наконец, объективизм рационального объяснения — это
удивительный апогей индуктивистского эмпиризма. Неужели
некие чистые факты и в самом деле лежат в основе наших мнений и
заставляют верить в их истинность? Боюсь, что сфера таких фактов
очень узка. Если мы едем за рулем американского «Крайслера» и
видим крохотный силуэт двигающегося навстречу американского
же грузовика «Фредлайнер», то я бы не верил своим глазам и
допустил бы, что грузовик вовсе не игрушечный и лучше с ним
разойтись. Я бы не рекомендовал Богосяну есть американские
гамбургеры, хотя они и удивительно аппетитны на запах и вкус: это всего
лишь глютамат натрия. А получая зарплату, я бы на его месте
вместо долларов требовал золото: ведь американские деньги в
особенности, как он сам убеждает нас, лишены подлинной реальности,
они всего лишь плод нашего сознания. Впрочем, «факты» вовсе не
такие уж и чистые, поскольку берутся в «подходящих
обстоятельствах» (контексте?). Так что эта оговорка вполне приближает Бого-
сяна к критикуемой им позиции, согласно которой факты
конструируются в определенном теоретическом и культурном контексте.
23 Никифоров А. Л. Структура и смысл жизненного мира. М., 2012. С. 74.
24 См., например: Eemeren F. Н. van, Grootendorst R. Speech acts in argumentative
discussions. Dordrecht: Foris, 1984; Audi R. Practical reasoning. N. Y, 1989; Wright G. H. von. On
so-called practical inference // Acta Sociologica. 1972. № 15; Rescher N. Plausible
reasoning. Assen: \&n Gorcum, 1976.
192 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
* * *
Догматическая позиция, состоящая в нежелании (неумении?)
совмещать объективизм и релятивизм, реализм и конструктивизм и
строить тем самым более богатый и адекватный образ познания,
напоминает идейную платформу марксистов-ленинцев, до последнего
отстаивавших «теорию отражения» и «материалистическую
диалектику». Мейнстриму аналитических философов еще предстоит
отказаться от некоторых обветшавших «верований» и прийти к более
гибкой и сбалансированной эпистемологии, включающей не
статичного, абстрактно-гносеологического, но социально-исторического
субъекта. Если пренебречь амбициями, то пример тому можно
поискать и в англо-саксонском мире, и даже в России.
Так, В. А. Лекторский, характеризуя позицию конструктивного
реализма, пишет: «"Я" во всех своих ипостасях, в том числе и в качестве
познающего, может быть понято как существующее исключительно в
социальных коммуникациях, т. е. как продукт и одновременно
условие социально-культурного конструирования. Это не означает, что
субъективная реальность и "Я" фиктивны. Нет, они вполне реальны,
однако это особый тип реальности. Ведь реальность вообще
неоднородна. Это не только атомы и электроны, но и деревья, скалы, столы
и стулья. Это не только предметы, но и их тени, не только вещи, но
и события и процессы. "Я", субъективность и познание относятся к
реальности особого типа: реальности коммуникативной»25.
Б. И. Пружинин также вполне определенно высказывается о
связи коммуникативного подхода и «культурно-исторической
эпистемологии, внутреннюю форму которой образует идея общения.
Общения как самоценности, как стержневой ценности
европейской и русской культуры, на служение которой и направлены
усилия научного разума»26.
Обстоятельная эпистемологическая разработка категории
общения — задача текущего момента, если культурно-исторический,
конструктивный, коммуникативно-семиотический подходы
нуждаются в собственной реалистической онтологии и эпистемологии.
И здесь, как представляется, ростки новых идей следует ожидать
в междисциплинарном пространстве эпистемологии, философии
языка, дискурс-психологии и лингвистики речи. Иное дело, что
данное пространство еще требуется организовать, в чем именно
философии придется сыграть ведущую роль.
25 Лекторский В. А. Философия. Познание. Культура. М., 2012. С. 230.
26 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009. С. 393.
В. Н. Порус
Научная рациональность
в культурно-историческом контуре
Вроде бы надо говорить комплименты юбиляру, а не
вступать с ним в полемику.
Но привычка — вторая натура. Вот читаю его
недавнюю книгу2. С чего вы бы думали он ее начинает? Ясное
дело: в чем он согласен и в чем расходится с моими
представлениями о задачах философии науки. Чем доставляет мне
замечательное удовольствие. Во-первых, расту в собственных глазах.
Во-вторых, ведь согласны мы в главном, а расходимся (если это
вообще расхождения) в частностях. У нас общие ценности, общий
настрой ума. Только Борис более оптимистичен в своих взглядах на
происходящее вокруг и внутри нас.
А поспорить-то все-таки хочется. Да ну их, эти юбилейные
церемонии! Давай, Борис, поговорим без экивоков. Начнем?
Итак, мы согласны в том, что нынешнее состояние философии
науки вызывает тягостный вздох Марцелла: «Подгнило что-то в
Датском государстве!» Я об этом уже писал не раз, чем сознательно
вызывал вполне справедливые упреки. Вот и ты пишешь: «главная
проблема нынешнего состояния философии науки заключается
как раз в том, что живет она сегодня своей собственной жизнью,
весьма далекой от жизни и потребностей реальной науки, для
которой задачи самоидентификации всегда были и, насколько можно
видеть, останутся насущными, покуда наука существует»3.
Конечно, этот диагноз не отменить кучей примеров того, как
нынешние философы ссылаются на историю науки, пытаются
' В данной работе использованы результаты проекта «Следование правилу:
рассуждение, разум, рациональность», выполненного в рамках Программы
фундаментальных исследований НИУ-ВШЭ в 2014 году.
2 Пружиним Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009.
3 Там же. С. 28-29.
194 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
осмыслить ее нынешние и прошлые проблемы, цитируют
авторитетных ученых, тем самым как бы придавая добавочный вес своим
рассуждениям. Но что изменилось бы (к лучшему или к худшему)
в науке, если бы они не делали всего этого? На этот щекотливый
вопрос убедительного ответа (без политеса) я пока не видел. Зато
нередко слышал презрительные отзывы ученых о философских
суждениях о науке вообще и о философских разборках на эту тему
в частности4.
Так все-таки «самоидентификация» (ученые без философов-
консультантов разбираются с тем, где следует ставить
пограничные столбы науки и как охранять ее территорию от непрошенных
и нежелательных претендентов)? Или же без философов им не
обойтись: те должны явиться, оснащенные своими рефлексиями и
традициями, чтобы придать действиям и намерениям ученых
«законный вид и толк» и навести должный порядок с границами (не
без того, разумеется, чтобы согласовывать с коренными
обитателями страны ученых пропускной или визовый режим, правила
выдачи видов на жительство и тому подобные бюрократические
церемонии)? Если так, наступила бы трогательная идиллия:
философы, сделав это доброе дело, и сами смогли бы рассчитывать на
благодарное расположение к себе, создали бы в сфере науки свои
резервации с полуавтономным управлением, а также с
коммунальными удобствами и покровительством в случае чего, а взамен —
напоминали бы о своих консалтинговых услугах. И так до тех пор,
пока ученые почему-либо не возбудятся вновь поставить вопрос о
границах научной рациональности (так бывает, если развитие
научного знания подводит к необходимости пересмотра некоторых его
предельных оснований), тогда философы стряхнули бы дрему, все
чин по чину отрефлексировали, дали новые рекомендации и, как
поется в песне, «все опять повторится сначала».
И не надо напоминать, что ученые (разумеется,
выдающиеся, прокладывающие новые пути в науке) и сами могут выступать
4 Например, Ж. Алферов, физик первого мирового ряда, желая высказать свое
отрицательное отношение к министру Д. Ливанову, вернее, к его планам
преобразования российской науки, сравнил его с философом, рассказав притчу о том, как
в науке происходит развитие: физик открывает новое явление, приходит теоретик
и пишет теорию, потом приходит инженер и создает новый прибор. Потом
приходит философ, который не знает ни физики, ни математики, ни инженерного
дела, но обо всем любит поговорить (см.: «Жорес Алферов: "Философ" Д.
Ливанов - фигура уходящая» / URL: http://top.rbc.ru/spb_sz/26/04/2013/855902.shtml).
Это типично: не все ученые так прямолинейно-откровенны, но слишком многие
к философии относятся крайне пренебрежительно, особенно к философским
рассуждениям о науке.
В.Н.Порус. Научная рациональность в культурно-историческом контуре 195
в роли философов, что разделить эти «ипостаси» часто нет
никакой возможности приводить всуе имена Ньютона, Дарвина, Маха,
Кантора, Гильберта, Эйнштейна, Бора, Пригожина, Вернадского и
других великих и славных. Об этом помнят все и я тоже. Но сейчас
я говорю о профессиональных философах, о тех, для кого
рефлексии над наукой — не отвлечение от экспериментов и строительства
теорий, а прямая повинность, за выполнение которой, кстати, они
получают деньги, числясь по ведомству той же науки. О
представителях «науки о науке», но не обо всех науковедах кряду, а только о
тех, кто работает именно философскими, а не социологическими,
наукометрическими или, скажем, психологическими методами.
Вот с ними и возникают проблемы, о которых ты напомнил: они
словно забывают, что работают в консалтинговой службе науки, за
что и получают свое пропитание. Забывают и объявляют свои
занятия самоценными, даже, например, объявляя «философию науки»
дисциплиной, обязательной для всех неофитов. Не сдашь экзамен
по этой дисциплине (с небольшой добавкой исторических
сведений о науке) — не присвоят степени кандидата наук, а без нее на
территории науки пребывать, по правде, не комфортно, прибавки
к жалованью не жди. А уж в рамках дисциплины — чего там
только нет! Например, история споров вокруг банальности, согласно
которой наука — это все-таки наука, а не миф, не свободный
полет фантазий, не спор догматиков, но и не разгул шарлатанства и
жульничества. И о чем тут спорить, подумает аспирант и сбежит с
занятий.
Как решать такие проблемы? Как сделать, чтобы философы
служили науке, а не видели в ней лишь объект собственных интересов?
Если это так сложно, может быть, проще (и дешевле!) было бы
вовсе закрыть их консалтинг, и пусть себе занимаются, чем
привыкли: рисуют «картины мира», спорят друг с другом, хороша или
нехороша какая-то из них, а когда поблизости нет ученых, нескромно
именуют философию «царицей наук», «школой научного
мышления», «методологией научного познания» и прочими
превосходными титулами? Мне приходилось слышать такие предложения от
совсем даже неглупых людей, особенно от тех, кто некогда пострадал
из-за идеологических «фильтров», одним из каковых и была
вузовская философия в еще незабытые времена, или зеленел от скуки на
философских лекциях.
Итак, что стоит за дистанцированием философии науки от
потребностей самой науки? Ты полагаешь, что отчуждение возникло
из того, что философия науки не только фактически отказалась от
попыток точного определения границ науки (лучше сказать, границ
196 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
научной рациональности, чтобы не уточнять, что речь идет именно
о научном знании и способах его получения, а не об
институциональных или социально-психологических контурах науки), но и
подвела под этот отказ идеологическое оправдание. Дескать,
свобода и в науке главнее всего. И лозунг П. Фейерабенда, что все как-
то оказавшееся полезным для науки, будь то миф или религиозная
идея, должно быть признано рациональным, заслуживает хотя бы
молчаливого одобрения. Наука же свободна, словно птица в
вышине, и не надо спрашивать, из какого сора растут ее достижения.
Фейерабенду не надо, а нам-то как раз очень даже надобно. Нет,
возражаешь ты, все-таки науке нужна помощь и поддержка
философов науки, а не анархистские лозунги. Что до различения
«идентификации» и «самоидентификации», то с ним можно и погодить,
особенно ввиду угрозы, идущей от псевдонауки (или лженауки,
договоримся сейчас не разводить эти термины, хотя разница между
ними, наверное, важна, и не случайно в твоей книге этому уделено
большое внимание5). Когда враг у ворот, не до нюансов.
Лженаука так «достала» ученых, что они в праведном негодовании
бросают другие дела и принимаются разоблачать самозванку. Примеров
лженауки слишком много, чтобы их приводить. И примеров
борьбы против нее не мало. При всем их разнообразии заметим нечто
общее: эта борьба носит «оборонительный» характер, причем
оборона какая-то вялая, а наступления вообще не получается. Почему
бы это?
Вот И. Т. Касавин не сомневается в том, что лженауку от
науки отличить не трудно, для этого есть критерии (правила научного
этоса, специфические методы исследования, особые
институциональные формы и т. д.). Но обратите внимание: «В целом вопрос
о данных критериях — часть оборонительной стратегии науки
против лженауки, отличающейся негативной социокультурной ролью
и при этом претендующей на научный статус и соответствующее
социальное влияние и поддержку»6. Забавная картина
получается: наука сидит себе в осажденной хитрым и опасным врагом
крепости, а философы, которым, по идее, самое место в ней, чтобы
5 См. также: Рац М. В. Наука, ненаука, лженаука и квазинаука // Российская наука
и СМИ. Международная интернет-конференция. 5 ноября — 23 декабря 2003 года
на портале www.adenauer.ru / Под ред. Ю. Ю. Черного, К. Н. Костюка. М., 2004.
С. 278—285; Бажанов В. Л., Конопкин Л. М. О классификации подходов к
определению псевдонауки: традиции и новации // Эпистемология и философия науки.
2012. Т. XXXI. № 1. С. 174-191.
6 Псевдонаучное знание в современной культуре (материалы «круглого стола») //
Вопросы философии. 2001. № 6. С. 18—19.
В.Н.Порус. Научная рациональность в культурно-историческом контуре 197
служить фортификаторами оборонительных сооружений, то бишь
критериев научности, самым нехорошим образом эту крепость
покинули (ради своих интересов), попросту — дезертировали, и разве
что не примкнули к врагам (а может, кое-кто и примкнул!). И вот
уже враги науки, не взяв крепость штурмом, обошли ее со всех
сторон. Иногда (a la guerre come a la guerre) они надевают
маскировочные тоги, размахивая поддельными дипломами, принимая позы и
выражаясь по-ученому. И вот уже опросы показывают, что у
обитателей культурного пространства доверия к ним едва ли не больше,
чем к запершимся в крепостных стенах и непонятно чем там
занятым слугам научной рациональности. И высокие власти выделяют
проходимцам, как там ни стараются разные комиссии по борьбе с
лженаукой, весомые куски общественного пирога в виде прямых
субсидий или благословения на участие в лакомых контрактах.
Все это, конечно, архипечально, но отнюдь не является
причиной, по которой ученые гурьбой прибежали бы за помощью к
философам, хотя бы к тем, кто подобно тебе никогда и не помышлял о
дезертирстве, а напротив, верой и правдой служил науке и в
оборонительных, и в наступательных ее движениях. Зачем? В конце
концов, ну, подумаешь: не смогли философы выработать бесспорные
критерии научности. Да и бог с ними. Если смотреть на дело
практически, так и особой надобности в этих критериях нет. В самом деле,
когда решаются вопросы о научных должностях, субсидиях и
фантах, так тут уже не до отвлеченной аргументации с предъявлением
философских критериев. Бывает, надо просто рявкнуть и опереться
на власть. Правда, кто-то рявкнет еще громче... Но философскими
критериями эту разборку все равно не остановить. А в иных случаях,
когда власть все же позволяет ученым самим выбирать направления
своих исследований и назначать для этого руководителей,
определять необходимые ресурсы и даже требовать их у общества (оставим
в стороне, что так бывает все реже и что тому есть свои причины), те
управятся опять-таки без помощи философов.
Отличить науку от того, что наукой не было и никогда не
будет — да запросто! Спросите у авторитетного ученого, нуждается
ли он для этого в философии (особенно такой, для которой это
неразрешимая задача), и он ответит, что, пожалуй, обойдется без
советчиков. Еще не было такого, чтобы Институтом ядерной физики
руководил маг, колдун или самозванец. Бывает, конечно, что
научным коллективом или даже целым университетом руководит
мошенник, но с этим — к прокурору, а не к философам.
В. А. Бажанов и А. М. Конопкин приводят мнение
нобелевского лауреата С. Вайнберга о том, что «упрощенные модели науки»,
198 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
предлагаемые философами, чаще мешают, чем помогают ученым7.
Напомню, что эти модели потому и могут считаться упрощенными,
что предлагают слишком однозначное решение проблемы
«демаркации». Например, если всерьез принять за критерий разделения
науки и не-науки тезис К. Поппера о том, что ученый должен
стремиться к фальсификации научных гипотез (с тем, чтобы наука
никогда не застывала в догматической спячке, но всегда стремилась
к новым, более правдоподобным объяснениям фактов), а те, кто
лишь имитирует научную деятельность, скорее склонны выдавать
свои гипотезы за истину в последней инстанции (и потому
оберегают их от опровержений, чего бы то ни стоило), то в стане науки
может подняться сумятица и ученых, крепко верящих своим
теориям, назовут нарушителями «морального кодекса» науки. От чего
ни их настроение, ни результаты не улучшатся. Кроме того,
ретроспективный взгляд на то, как развивалась наука в прошлом,
приведет к еще большим переживаниям. Ведь окажется, что «настоящая»
наука часто шла рука об руку с псевдонаукой и отношения между
ними были вовсе не враждебные. Скажем, химия не только
вдохновлялась сверхценными целями алхимии, но и многое
заимствовала у последней по части эмпирических методов исследования; и
кто разделит научное и псевдонаучное в творчестве И. Кеплера? И
куда мы отнесем И. Ньютона, который не только занимался
алхимией, но и обосновывал свою теоретическую механику вполне
теологическими утверждениями об абсолютном пространстве и
абсолютном времени, — к ученым или к псевдоученым?
А «историцизм» Т. Куна (как только не превозносимого и как
только не поругаемого за его модель «дискретного» роста науки,
прерываемого «научными революциями») разве не ведет к такой
же упрощенной модели науки? И сколько мифов она породила: от
мифа «нормальной» науки (ученые неколебимо верят в
существование и необходимость «демаркационной линии» между «своей»
наукой и «чужой» псевдонаукой) до мифа о чисто психологических
и социально-психологических причинах, по которым эта вера
слабеет и гаснет, чтобы на время смениться новой верой — и так без
конца. И разве не из этих упрощенных моделей, как из источника,
потекло половодье релятивизма, давшего простор современному
скепсису по отношению к научной истине, либерализации
отношения к мифу и еще бог знает к чему, в старые добрые времена с
7 См.: Бажанов В. А., Конопкин А. М. О классификации подходов к определению
псевдонауки: традиции и новации // Эпистемология и философия науки. 2012.
Т. XXXI. № 1.С. 185.
В.Н.Порус. Научная рациональность в культурно-историческом контуре 199
порога отвергавшемуся учеными? Тех, кто слишком увлекается
такими идеями, кое-кто из ученых называет прямо и просто «врагами
науки»8. А с врагами, как известно, разговор короткий.
Что же из этого следует? Что модели науки не должны быть
упрощенными? Но если неупрощенных моделей пока не
придумали, а от упрощенных — один вред, не лучше ли сэкономить
время и занять его с пользой для науки, а не в утешение
философам? Да если бы, повторю, даже и была предложена самая что ни
на есть хорошая модель науки, и философам (в союзе с учеными)
удалось «раз и навсегда» установить суверенитет этой модели на
всей территории познавательных усилий человечества и защитить
его твердым законодательством, можно ли было бы считать, что с
псевдонаукой покончено или она ослаблена так, что уже ее нечего
и опасаться? Разве угроза псевдонауки так тесно связана с
разногласиями философов относительно критериев демаркации?
Пытаясь ответить на этот вопрос, мы начинаем
догадываться: причина того, что современной науке так тяжело отбиваться
от лженауки, заключена не в слабостях науки и уж тем более не в
философских разногласиях по поводу критериев научности. Она
коренится в культуре, впадающей в кризисное состояние, одним из
симптомов которого является падение ценности научной истины
по сравнению, например, с ценностью «практического успеха».
Здесь — nota bene. Действительно, если принять за бесспорное,
что научная работа (т. е. деятельность научных сообществ)
культурно обусловлена, то состояние культуры неизбежно отражено в
характере этой деятельности. Как подвергнуть эту зависимость научному
анализу? Сложность очевидна: научное исследование зависимости
науки от состояния культуры само является культурно зависимым.
Другими словами, относительно результатов такого исследования
можно спросить, не предопределены ли они еще до начала
исследования? Наука и культура — два зеркала, стоящие друг против
друга. Наука о науке отражает то, как культура воздействует на
характер своего отражения в ней. И как вырваться из круга этих
взаимных отражений и влияний?
По-видимому, размышляя над этим, ты и приходишь к
выводу: нужна новая эпистемологическая стратегия, отличная от тех, в
рамках которых ведется нескончаемый и надоевший спор между
«нормативистами» и «дескриптивистами», «абсолютистами» и
«релятивистами», адептами «должного» и адвокатами «сущего».
8 См.: Ефремов Ю. Н. Естествознание и квазифилософия // В защиту науки. 2000.
№ 1.С. 124-125.
200 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
Ты называешь такую стратегию «культурно-исторической»,
перенося в эпистемологию термин, ставший опознавательным знаком
для ветви современной психологии, выросшей из идей Л. С.
Выготского, развитых целой плеядой блестящих мыслителей, к
которой принадлежал и недавно ушедший из жизни наш общий друг
В. П. Зинченко, светлая ему память. Чем она характерна в первую
очередь? «Современная философия науки, погрузившись в
обсуждение внутренних структур когнитивной деятельности в науке,
утеряла из виду, что научность — культурная, а не только техническая
характеристика когнитивной активности, что познание обращено
к истине как элементу культурного сознания и без понимания этой
обращенности невозможно»9.
Вот здесь задержимся. Это важный момент. Итак, наука и
научность — культурные характеристики когнитивной активности.
Согласен. А вот откуда уверенность, что истина — это необходимый
элемент культурного сознания? Нет, я понимаю, что это
возможно хотя бы теоретически. Но вспомним известную провокацию
Ф. Ницше: «Если характер бытия лжив, — что, вообще говоря,
возможно, — чем была бы тогда истина, вся наша истина?
Бессовестной фальсификацией фальшивого? Высшей потенцией лживости?»
И далее: «В мире, который по существу ложен, правдивость была
бы противоестественной тенденцией: она могла бы иметь смысл
лишь как средство к особенной, высшей потенции лживости <...>
Чтобы правдивость была возможна, вся сфера человека должна
быть чиста, невелика и достойна уважения: преимущество во всех
смыслах должно быть на стороне правдивого. — Ложь, коварство,
притворство должны возбуждать удивление»10.
Но если культура потеряла эту способность внушать человеку
удивление (или, скажем, негодование), когда тот встречает ложь,
коварство, притворство?.. Что тогда? Мы больше не назовем ее
культурой? Мы скажем, что она «вырождена» или «разрушена»?
Что от нее остается после этой утраты? Когда мир «по существу
ложен»?
Когда истина или стремление к ней выпадают из системы
культурных ценностей, они перестают быть регулятивами
человеческого поведения и действия. Хотя при этом сохраняются их
словесные оболочки, они пусты как скорлупа выеденного яйца. И это
означает, что познание (как вид человеческой активности) вполне
может быть обращено не к истине, а к ее суррогатным замените-
9 Пружинин Б. И. Указ. соч. С. 31.
10 Ницше Ф. Воля к власти. Т. 1: Опыт переоценки всех ценностей. М., 1994. С. 250.
В.Н.Порус. Научная рациональность в культурно-историческом контуре 201
лям, например к «решению задач», к «спасению явлений» (их
объяснению с помощью определенной теории»), к «когерентности»
описаний и объяснений.., а почему бы и не к пользе, выгоде,
власти или удовлетворению потребностей? В конце концов, как
заявил Т. Кун, описание научной деятельности совсем не обязательно
требует термина «истина» для обозначения некой цели, к которой
эта деятельность направлена.
«Но необходима ли подобная цель? Можем ли мы не объяснять
существование науки, ее успех, исходя из эволюции от какого-либо
данного момента в состоянии знаний сообщества? Действительно
ли мы должны считать, что существует некоторое полное,
объективное, истинное представление о природе и что надлежащей
мерой научного достижения является степень, с какой оно
приближает нас к этой цели?»11
Для Т. Куна эти вопросы — риторические. И дело не только в
том, что термин «истина» не играет существенной роли в его
теории «научных революций». Дело в том, что наука в понимании
Т. Куна встроена в систему культурных ценностей, в которой
«истина» не занимает ни главного, ни даже сколько-нибудь значимого
места. Если это так по отношению к науке, то уж тем более — по
отношению к другим сферам человеческой жизни и деятельности.
Но это уже иное понимание культуры и культурных ценностей-
универсалий, нежели то, которому ты так явно симпатизируешь,
что иного и не приемлешь.
И вот первый вывод, к которому я пытался приблизиться
(согласишься ли с ним ты?): эпистемология, выбравшая культурно-
историческую стратегию, есть поле соперничества различных
интерпретаций культуры и ценностей познания, идущих от различных
же философий культуры. И значит, принимая за победителя в этой
конкурентной борьбе одну из возможных интерпретаций, ты
совершаешь осознанный ценностный выбор, становишься на
сторону определенного философского понимания культуры, науки и ее
целей, не заботясь о том, является ли твой выбор обоснованным с
методологической, логической или какой-нибудь еще точек
зрения. Скажем прямо, ты веришь в такую культуру, для которой наука
есть поиск истины, а истина есть главная культурная ценность —
и все тут. И эта вера лежит в подоплеке твоих методологических и
философско-научных предпочтений.
Веру не только хранят, ее еще надо отстаивать в борьбе с
хулителями. Например, можно вслед за Г. Г. Шпетом сказать, что фило-
11 Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. С. 220.
202 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
софия науки, забывшая священную обязанность хранить
«достоинство науки» (а оно в том, чтобы всегда видеть перед собою ту самую
цель, которую Т. Кун вовсе не считает необходимой), сама теряет
достоинство, становится безнравственной. Это этическая
инвектива, но она вполне соответствует характеру спора — ведь это спор
между инаковерующими, настроенными друг против друга.
Если судить с этой позиции, псевдонаука или лженаука не
только ложны, но и безнравственны, этически уродливы. Но
нравственными уродами становятся и те, кто методологически поддерживает
и философски оправдывает этих врагов науки. Они должны
понести заслуженную кару — быть отлученными от Культуры. Осуждая
их, ты призываешь рассматривать их призывы и скепсис по
отношению к Истине как болезнь, с которой Культура (та, в которую ты
веришь и которой отдал свою любовь) может и должна справиться,
выздороветь.
Но культурно-историческая эпистемология — все же не
этическая доктрина и не катехизис. Уж коли выбор сделан, позиции
заняты и наше дело — правое, надо разбираться с вопросами «кто
виноват?» и «что делать?». Иначе говоря, выявить причины
философского дезертирства и ренегатства: откуда дует ветер, что
наполняет их паруса и гонит в сторону релятивизма и потворства
лженауке?
Твое объяснение, насколько я его понял, сводится к
следующему. Современная наука испытывает сильный крен к «приклад-
низации». Это даже и не крен, а некий объективный процесс,
вызываемый ростом расходов на научные исследования и желанием
общества видеть в этом не плату за удовлетворение любопытства
ученых, а инвестиции в «прогресс», от которого ждут решения чуть
ли не всех проблем человечества. При этом меняются оценки
эффективности научной работы. Исследования космических «черных
дыр» или выяснение природы «темной материи», вероятно, когда-
нибудь раскроют самые загадочные стороны вселенского бытия.
Но является ли это желанной мечтой человечества, сегодня,
наверное, имеющего несравненно более актуальные потребности? А
ведь наука призвана служить именно этим потребностям — не так
ли рассуждают те, кто принимает решения о финансировании
научных исследований?
Сие означает, что ценность научных знаний и результатов все
больше измеряется тем, как наука служит текущим социально-
культурным запросам. Интерес к основаниям научной
деятельности вытесняется интересом к ее эффективности. Вытесняется
настолько, что из поля зрения уходит связь между эффективностью
В.Н.Порус. Научная рациональность в культурно-историческом контуре 203
и основаниями. В конце концов, большинству людей важен
научный результат (точнее, его применимость для какой-то полезной
новации), а не то, как он получен (пусть этими подробностями
занимаются ученые). Особенно, если это действительно актуальный,
нетерпеливо ожидаемый результат, от которого зависит, например,
сможет ли набрать новые темпы техническое развитие, вырастет ли
производительность труда, принесет ли прибыль внедрение этого
результата в производство каких-то товаров или услуг и т. д. Вот
это переключение на эффективность и практическую пользу и
является главной причиной, по которой философские рефлексии над
наукой перестают вращаться вокруг былого стержня — вопроса о
границах научности.
Соотношение между фундаментальной и прикладной науками
никогда не было постоянным. Но в наше время прикладная наука
обладает значительным перевесом (и по числу занятых в ней
работников, и по объемам финансирования, но самое главное — по
отношению к ней со стороны общества, которое часто даже просто
отождествляет с нею науку как таковую). Это понятно: таков
характер господствующих правил, по которым живет общество; если это
правила рынка, то ничего удивительного в том, что наука
рассматривается как фактор, способствующий именно рыночному успеху,
например, быстрому обороту средств и извлечению максимальной
прибыли. Проще говоря, рубль, вложенный в науку, должен давать
полтора или два (а лучше сто или тысячу!) рублей прибыли. И если
этого не происходит, то нужно еще поразмыслить, какие
исследования стоит финансировать, а какие лучше прикрыть, чтобы не
нести убытков. На деле все, разумеется, не так просто, но суть
именно в этом. Если говорить об «общем котле», к которому подходят
за своей порцией ученые, то на первый взгляд, большая доля каши
в нем заработана именно прикладной наукой, а «фундаменталыци-
ки» кормятся из благорасположения тех, кто стоит «на раздаче».
Тут можно воздеть руки к небу и возопить, что все как раз
наоборот, что именно успехи фундаментальных наук обеспечивают
долгую жизнь и эффективность прикладным наукам, привести
примеры один другого убедительней и т. д., и т. д. Ну да, правильно,
никто и не спорит. Но все-таки денежки будут отсчитывать прежде
всего на прикладные исследования, а «фундаменталыцикам» — что
останется. И чему удивляться? Есть страны, которые вообще не
могут себе позволить иметь фундаментальную науку (слишком дорого
и ни к чему). Россия пока еще не относится к их числу, хотя
соответствующие тенденции очень заметны. Но это мы здесь обсуждать
не будем.
204 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
«Прикладные» науки — это сфера, где работают иные, нежели
в фундаментальных, оценки знания. Знание здесь ценится за его
применимость, а не за проблематичное «соответствие с
реальностью». И если эта сфера и по объему, и по своей социальной
привлекательности преобладает, то это сказывается и на философско-
методологических рефлексиях. Проблема «демаркации» вместе с
проблемами критериально выраженной специфики научной
деятельности уходят из фокуса и расплываются на периферии этих
рефлексий. Отсюда в конечном счете тренды в философии науки, о
которых шла речь выше.
Объяснение понятно. Но я бы расставил акценты иначе. Не
следует, мне кажется, представлять дело так, будто рефлексии над
статусом и этосом прикладных наук par excellence меняют
установки и ценности философии науки. Все-таки проблема не столько в
этих рефлексиях, сколько в трансформациях культуры, в которой
истинность и объективность знания воспринимаются не как
фундаментальные ценности, а лишь как методологические требования.
Если не снять с них налет архаики, они сводятся к излишней и
скучной метафизике. Вот чуткая к этим трансформациям
философия науки и пытается стряхнуть этот налет, охотно меняя их смысл
и понятийное оформление. Еще Пилату казалось, что на вопрос
«Что есть истина?» нет приемлемого ответа, а современному
философу науки, предпочитающему называть себя методологом, и вовсе
странно морочить голову над ним, не так ли?
Итак, моя мысль в том, что трансформации культуры надо
рассматривать как причину трансформаций философии науки, а не
наоборот. Первые затрагивают отнюдь не только философские
размышления о прикладной науке. Фундаментальная наука, если
трезво приглядеться к работе ее институтов, совсем не выглядит
в этом отношении святой хранительницей идеалов истинности и
объективности. И в ее среде не заказаны тропы, по которым
крадется лженаука (примеров множество, и будем ли тратить время на
них?). Кто-то скажет, что это ложные пути и плохая наука, от
которой хорошая наука рано или поздно отказывается и ставит точки
над «ё» («кому бесславье, а кому бессмертие...»). Но это другой
разговор: о торжестве добра над злом в царстве научной
рациональности. Оставим его для воспитательных бесед с подрастающим
поколением.
В современной культуре наука вовсе не является «духовным
лидером», хранителем универсальных ценностей. Это может даже
показаться парадоксом: вся цивилизованная действительность
пронизана и пропитана наукой, которая, однако, не более чем наемная
В.Н.Порус. Научная рациональность в культурно-историческом контуре 205
работница, удовлетворяющая общественные нужды. Она стала
одной из многочисленных профессий. И вопрос о «демаркации»
поэтому можно прочитать еще и так: угрожает ли науке как
профессии лженаука, профанирующая научную профессиональность?
Я думаю, не очень. Мы уже говорили, что отличить лженауку
от науки — для этого вполне достаточно опыта научной элиты. И
если лженаука все же обитает не только где-то в социальных недрах
(всякие «академики черной магии», целители наложением перстов
или интерпретаторы «звездных текстов»), но пробирается даже в
научно-исследовательские институты, университеты и академии
(спросим об этом, например, у активистов движения «Диссер-
нет»?), то причины этого прискорбного явления вовсе не в
трудностях ее распознавания-разоблачения, а в чем-то ином.
В чем? Ответ на поверхности. Лженаука лучше, чем настоящая
наука, справляется с некоторыми задачами, вытекающими из
профессионального статуса последней. Она быстрее и легче добивается
коммерческого успеха. Она более «предусмотрительна» в
отношениях с заказчиками своих услуг (в том числе с властью),
подсовывая именно те результаты и выводы, каких от нее ждут. Она
чрезвычайно отзывчива на заказы и приказы, от кого бы они ни исходили,
лишь бы за их исполнение прилично платили. И вот ведь ужас, она
часто становится образцом жизни по ее правилам
(лжеметодологическим, лжеэтическим, лжеинституциональным), ибо проигрывать
в конкурентной борьбе не хочется, а для выигрыша (особенно, если
твой конкурент — шулер) почему бы самому не сжульничать?
Конечно, это один из симптомов культурного кризиса. Дело не
в том, что кто-то и где-то не в состоянии найти бесспорные
критерии научности, а в том, что различение науки и лженауки
постепенно утрачивает культурный смысл, а во всех остальных смыслах оно
либо утопает в бесчисленных и бесконечных методологических,
социологических и прочих уточнениях и конкретизациях, либо
тривиально сводится к решениям опытных ученых.
Я думаю, в констатации этого обстоятельства мы не разойдемся.
Ты пишешь: «Вообще и мягко говоря, тема, так сказать,
внутреннего влияния социальных и культурных факторов на познание, будь
то познание философское или специально-научное, для
философии не нова. <...> Выискивая в науке следы социокультурных
влияний, эпистемология <...> видела свою задачу прежде всего в том,
чтобы оградить познание от всех этих влияний <...> Но
выполняла эпистемология эту свою ограждающую функцию по разному, в
зависимости от характера влияний — либо просто отвергая их как
нечто чуждое научному познанию, либо пытаясь контролировать
206 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
и трансформировать их в разработку пути к истине, в разработку
логико-методологической проблематики. При этом понятно, что
соотношение этих задач, их удельный вес и степень успешности
их решения менялись в истории. Что касается дня нынешнего, то
приходится констатировать: традиционная эпистемология сегодня
не справляется ни с одной из них»12.
А какая могла бы справиться? Ты полагаешь, что социальная
эпистемология, взяв культурно-историческую стратегию, лучше
выполнит эти задачи? Хотелось бы в это верить — хотя бы потому,
что других, более надежных предложений нет. Но как быть с тем
выявленным ранее обстоятельством, что и сама эта эпистемология
подлежит влиянию различных философий культуры, каждая из
которых предлагает свою интерпретацию научной действительности,
а выбор одной из них в конечном счете зависит от веры и
убеждений того или иного философа или, если угодно, методолога?
Воланд говорил, что каждому воздастся по его вере. Допустим.
Но вера ослабеет и угаснет без поддержки. «Традиционная
эпистемология», говоришь ты, ожидает от социальной эпистемологии
«ответа на вопрос, как, какими логико-методологическими
средствами сохранить в науке ориентацию на истину в нынешней
социокультурной ситуации? И для этих ожиданий, несмотря на все
сложности, порожденные сегодня жестким запросом социума на
прикладную науку, есть основания. Ведь сегодняшняя наука все же
дает повод для вопроса, который может стать по сути стержневым
для эпистемологического исследования социокультурных
измерений познания: собственно, почему мы должны считать, что наука,
обладающая столь мощным потенциалом внутренней
преемственности, не способна адекватно ответить на возникшую
социокультурную ситуацию? Разве ее история не дает оснований
усомниться в том, что она пассивно определяется социокультурной средой?
Разве наука не демонстрировала неоднократно способность
активно формировать вокруг себя социокультурную среду и
поддерживать в ней то, что соответствует ее внутренней природе? Ответа на
эти вопросы в социальной эпистемологии пока нет. А между тем,
поиск таких ответов, по моему глубокому убеждению, мог бы стать
сферой реального приложения сил социальной эпистемологии как
направления философских исследований познания»13.
Значит, есть вера в то, что наука — не пассивный реципиент
социокультурных влияний, а напротив, способна активно преобразо-
12 Пружинин Б. И. Указ. соч. С. 293—294.
13 Там же. С. 296.
В. Н. Порус. Научная рациональность в культурно-историческом контуре 207
вывать культуру «под себя», под свои особенности и потребности.
И она вроде бы так и делает, только вот эпистемологи (философы
науки?) этого не замечают или не хотят заметить. Почему? Видимо,
потому, что выбирают для интерпретации научных явлений
именно ту философию культуры (а значит, и то понимание культуры),
для которой наука, ориентированная на прагматические ценности,
а не на идеалы истинности и объективности, вполне вписывается в
свойственную ей систему ценностных ориентации.
И я подхожу к выводу, который, боюсь, тебе не понравится.
Мне сдается, что эти эпистемологи более реалистично оценивают
свои культурные ориентации. Они не верят в то, что «настоящей»
науке, испытывающей непреходящее желание всегда оставаться в
кругу, очерченном строгими критериями рациональности, удалось
бы что-то всерьез изменить в социокультурной среде и
«поддерживать в ней то, что соответствует ее внутренней природе». Они стоят
на более оппортунистической позиции: между культурой и наукой
нет ценностных разногласий именно потому, что наука
обслуживает эту культуру, разделяя ее ценности, а не наоборот.
Честно сказать, мне это нравится не больше твоего. И я, как и
ты, хотел бы преодоления культурного кризиса. Скажу мимоходом,
мне всегда была симпатична утопия К. Поппера, который видел в
«Большой науке» идеальный образец «открытого общества», хотя
я никогда не верил, что этот образец может когда-нибудь надолго
закрепиться в социально-политических или экономических
программах. Но я все же предпочитаю остаться на почве реализма.
Возврата к ценностным корням идеи «демаркации» уже, скорей
всего, никогда не будет.
Конечно, не следует из-за этого впадать в меланхолию. Мы ведь
с тобою согласны в том, что отказ от жестких критериев научной
рациональности, изучение научно-исследовательской практики
в ее истории, готовность к актуальному пересмотру устоявшихся
представлений о «должном» и «сущем» в методологическом
арсенале науки — все это совершенно необходимо для того, чтобы
философия науки не отрывалась от самой науки, не «окукливалась»
в самодовольстве и самолюбовании. Сближение проблематики
философии науки и философии культуры — это верный ориентир
дальнейшего развития обеих ветвей философских исследований.
Именно в этом я и нахожу подоплеку своего тезиса о том, что
основной задачей философии науки является рассмотрение условий,
смысла и форм человеческой свободы в сфере научного познания.
Разумеется, свобода вообще не может быть предметом рассуждения,
если исключить из последнего вопрос о ее границах, за которыми
208 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
она заканчивается, отсутствует. Поэтому, я, признаться, не нашел
каких-то «серьезных» и «принципиальных» различий между
нашими представлениями о целях и задачах философии науки, о которых
ты упоминаешь в своей книге. Скорее, думаю, это даже не
различия, а разночтения, вызванные, возможно, моей манерой
использовать образные выражения и сравнения, когда нет места и времени
для пространных разъяснений. В любом случае, я уверен, что мы
всегда найдем общий язык и выясним все необходимые нюансы.
Но куда деть пессимизм, каким окрашены (даже против воли)
мои представления о возможности преодоления культурного
кризиса в обозримом и доступном нашим мечтаниям будущем? Не
знаю. Что делать?
H. С. Автономова
Перспективы рациональности:
новый виток проблематизации
Размышляя над первым изданием моей книги «Открытая
структура: Якобсон—Бахтин—Лотман—Гаспаров», Б. И. Пру-
жинин отмечал: «Завершается, надо думать, время,
осознающее себя лишь через отрицание предшествующего, и
полагающее, что хаос способен сам собой породить что-то
положительное. Наступает, наверное, время культурных решений,
культурного выбора перспективы. И в этом контексте,
применительно к сегодняшнему состоянию гуманитарного сознания, вопрос о
таком выборе встает, прежде всего, как вопрос о преемственности»1.
Конечно, он имел в виду вопрос о том, какие методологические
подходы и дискуссии могут быть и сегодня востребованы нашим
философским сообществом, а какие останутся далеко в прошлом.
На мой взгляд, одной из важнейших дискуссий второй
половины XX века в России, которая выдержала проверку временем, стала
широкая полемика о рациональности, вышедшая далеко за
пределы методологического сообщества и затрагивающая самые
широкие круги гуманитарной общественности. Я полагаю, что эта
дискуссия и сегодня актуальна, причем не только в российском, но и в
мировом философском сообществе, о чем свидетельствуют,
например, нынешние французские дискуссии2.
1 Пружиним Б. И. Н. С. Автономова. Открытая структура: Якобсон—Бахтин—
Л отман—Гаспаров // Вопросы философии. 2010. № 5. С. 178.
2 Ср.: Boudon R. La rationalité. P.: PUF, 2009; Saint-Sernin B. Le rationalisme qui vient.
P.: Gallimard, 2007; Thomas-Fogiel I. Référence et autoréférence. Étude sur la mort de
la philosophie dans la pensée contemporaine. P.: Vrin, 2005; Kahn Л. Raisonnable et
humain? P.: NiL, 2004; Janicaud D. La puissance du rationel. P.: Gallimard, 1985 (эта
работа по-прежнему звучит актуально). Назову также посвященную Фуко книгу:
Paltrinieri L. L'expérience du concept. Michel Foucault entre épistémologie et histoire.
P.: Publications de la Sorbonne, 2012, которая имеет отношение к нашей теме,
подобно многим другим из числа работ о Фуко, вышедших за последние годы и осо-
210 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
В российских спорах о рациональности, которые бурно шли
двумя-тремя десятилетиями раньше3, выявление различных типов
рациональности было широко распространенным концептуальным
ходом. Однако замечу, что при раздроблении разные типы
рациональности неизбежно оказываются несоизмеримыми. Наиболее
интенсивно сопротивлялись этой тенденции, удерживая
концепцию рациональности, не расщепленной на типы и подтипы,
насколько я могу судить, Б. И. Пружинин4 и я5. Причем в обеих
названных концепциях, при всех различиях между ними, речь шла
о том, что «рациональность», несмотря на всю апорийность этого
понятия, не является принципиально размытой и всегда может
выступать как однозначность при жесткой контекстуальной
привязке. Для Б. И. Пружинина таким фундаментом выступало
«историческое единство научного знания», а для меня — взаимодействие
«рассудочного и разумного».
В начале XXI века споры о рациональности в российском
сообществе практически сошли на нет. Последним всплеском интереса
к данной проблематике стала диссертация В. Н. Поруса6, в
которой рациональность рассматривалась уже не как проблема, но как
тема эпистемологии. Автор дает развернутый обзор основных
направлений в исследовании рациональности: логического и логико-
семантического, эпистемологического, социально-философского,
историко-философского. Он видит в идее рациональности средство
интеграции целого комплекса идей (гносеологических,
методологических, аксиологических) в систему мировоззрения и
одновременно методологический стержень, который позволяет объединить
разноплановые исследования в междисциплинарную целостность.
бенно в этом году — в связи с годовщиной его смерти (25 июня 1984). Дискуссии
о наследии Фуко ведутся непосредственно в терминах рациональности лишь
немецкими и отчасти англо-саксонскими исследователями, однако, независимо от
прямой понятийной закрепленности, внутренняя логика сюжетов, обсуждаемых
сегодня в социальном, политическом, историческом, эпистемологическом
контексте, так или иначе выводит нас к философской проблеме рациональности.
3 См. работы П. П. Гайденко, В. С. Степина, В. А. Лекторского, В. С. Швырева,
Е. П. Никитина, А. Л. Никифорова, И. Т. Касавина, 3. А. Сокулер, А. И. Ракито-
ва, Б. С. Грязнова и многих др. Среди репрезентативных сборников отмечу:
Исторические типы рациональности: В 2 т. (Т. 1 — ред. В. А. Лекторский. М., 1995;
Т. 2 — ред. П. П. Гайденко. М., 1996); Рациональность как предмет философского
исследования. М., 1995; Рациональность на перепутье: В 2 кн. М., 1999.
4 См.: Пружинин Б. И. Рациональность и историческое единство научного
познания. М., 1986.
5 См.: Автономова Н. С. Рассудок, разум, рациональность. М., 1988.
6 См.: Порус В. Н. Научная рациональность как тема эпистемологии. Диссертация
в виде научного доклада на соиск. ст. доктора филос. наук. М., 2002.
H. С. Автономова. Перспективы рациональности: новый виток проблёмапвации 211
Представления о научной рациональности фактически
формируются на фоне осмысления философской рациональности, в
контексте сложных взаимодействий между статическими и
динамическими, открытыми и закрытыми моделями, между нормативными
и дескриптивными, между конструктивистскими и
реконструктивными подходами и установками. В такой постановке
«рациональность» уже выходит за рамки философско-методологической
проблематизации, она становится скорее предметом
историографического интереса.
Цель данной статьи — прояснить вопрос о том, в каком
смысле возможна сегодня единая рациональность, если это не догма, не
идеологема, не просто символ, но, однако, и не реальность. Я
попытаюсь высказать некоторые доводы в защиту этой идеи. И хотя
я уже предпринимала эти попытки тридцать лет назад, мой опыт
философа, историка философии и филолога заставляет меня
снова вернуться к этой злободневной для нынешнего гуманитарного и
философского сообщества проблематике.
Начну с того, что диссертация В. Н. Поруса, фактически
закрывшая споры о «рациональности» в российском
эпистемологическом сообществе, совпала по времени с написанием известных
докладов Деррида, посвященных рациональности7, которые я
исследовала в одной из своих последних монографий8. В процессе
работы над ней мы с Борисом Исаевичем много беседовали,
обсуждали и проблему рациональности, но уже в современных разворотах
проблематики Деррида. Эти беседы сделали для нас обоих ясным
то, что проблема рациональности никуда из культуры не
исчезает, хотя она проявляет себя по-разному в разное время и в разных
контекстах (что, замечу, также говорит в пользу исторической
преемственности знания, как об этом писал Пружинин).
Так, Деррида в своей трактовке разума и рациональности
помещает проблему в современный политический и этический
контекст. Его нередко трактуют как до- и антиконцептуалиста, однако
его позиция гораздо более нюансирована. В качестве главных
собеседников Деррида выступают Кант и Гуссерль. Он как будто задает
им вопросы: Рационально ли вообще предпочитать разум?
Рационально ли говорить о желании разума? Как, спрашивается, разум
может иметь свои интересы, если он — «незаинтересованный»?
Derrida J. La Raison du plus fort (Y a-t-il des États «voyous»?) // Derrida J. Voyous.
Deux essais sur la raison. Paris: Galilée, 2003; Derrida J. Le «Monde» des Lumières à
venir. Exception, calcul et souveraineté // Ibid.
8 Автономова H. С. Философский язык Жака Деррида. М., 2011. С. 275—319.
212 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
Когда-то в «Критике чистого разума» Кант говорил о том, что
интерес разума разнолик: он является одновременно практическим,
спекулятивным и архитектоническим и даже, прежде всего, —
архитектоническим, т. е. призывающим строить систему9. Вопрос об
архитектоничности разума продолжает размышление о том, как и
какими средствами, в каком философском языке мы можем
зафиксировать разум — в его статике и в его динамике. Деррида
приводит большой фрагмент этого кантовского рассуждения,
подчеркивая, в мягкой полемике с Кантом, что не всякая связность является
системной, что связность и системность — не синонимы, и
призывает в свидетели Хайдеггера. Но не только Хайдеггера. В своем
стремлении показать, что разум следует искать не в системности,
но в чем-то другом, Деррида прибегает к доводу от плюрализма ра-
циональностей (в математике, социальных науках, науках о духе,
в физике, биологии, праве, экономике, политологии, психологии,
психоанализе, теории литературы и др.). Все они, дескать, имеют
свою онтологию, свой стиль, свою аксиоматику, институты,
сообщества, но также и свою историчность, запечатленную в
парадигмах, эпистемах, эпистемологических разрывах и др. Все эти разные
рациональности, по Деррида, сопротивляются
архитектоническому упорядочению в кантовском смысле, но если это так, тогда
регулятивная идея разума, которая бы вписывала всю эту массу
гетерогенного в единую схему, оказывается насильственной.
Когда мы говорим «спасти честь разума», рассуждает Деррида,
речь идет не только о «чести»10, но также о прочности и надеж-
9 Напомню читателю, о чем идет речь у Канта: «Под архитектоникой я разумею
искусство построения системы. Так как обыденное знание именно лишь
благодаря систематическому единству становится наукой, т. е. из простого агрегата
знаний превращается в систему, то архитектоника есть учение о научной
стороне наших знаний вообще, и, следовательно, она необходимо входит в учение о
методе» (Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М.,
1964. С. 680). «Под системой же я разумею единство многообразных знаний,
объединенных одной идеей. А идея есть понятие разума о форме некоторого
целого, поскольку им a priori определяется объем многообразного и положение частей
относительно друг друга» (Там же. С. 680). Дальше Кант говорит о том, что для
своего осуществления идея нуждается в схеме, т. е. в априорном принципе
соотношения частей. Схема, начертанная согласно эмпирическим соображениям, дает
лишь техническое единство, а схема, построенная согласно идее (когда разум а
priori указывает цели, а не эмпирически их выстраивает), создает
архитектоническое единство (Там же. С. 680—681).
10 Кстати, как во французском, так и русском переводе этой значимой цитаты из
Гуссерля слово «честь» потеряно, и речь идет о «реабилитации» разума и
рационализма, однако внимание к переводу позволяет нам корректировать наши
межъязыковые и межкультурные восприятия.
H. С. Автономова. Перспективы рациональности: новый виток проблематизации 213
ности, о борьбе с чем-то утрачиваемым. И правда: теряя разум,
философия теряет смысл и человечность. При этом приходится
учитывать, вновь напоминает нам Деррида, что и в философии и
вообще в различных сферах культуры возникают своеобразные
автоиммунные процессы, напоминающие защиту жизни от смерти в
формах смерти: спасаясь от того, что воспринимается как внешняя
агрессия, организм саморазрушается, иными словами, такой
способ спасения оказывается самоубийственным. Автоиммунные
процессы, по Деррида, возникают и в демократии, и в разуме. По сути,
это для Деррида более сильный довод против кантовского акцента
на архитектонике разума, нежели апелляция к типам
рациональности. Сама по себе тема здоровья и болезни разума принадлежит
Гуссерлю11, однако Деррида усиливает ее, в частности, самой
идеей апорийности разума, выражающейся в проблеме иммунитета и
автоиммунитета. Усиление этой тематики происходит вследствие
применения процедур деконструкции, которые делают
нестыковки элементов и отношений более заметными. Главный материал
для Деррида в данном случае — гуссерлевские доклады середины
1930-х годов, прочитанные в период между войнами в Вене и
Праге, и в целом посмертно вышедшее гуссерлевское сочинение
«Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология»,
помещенное в VI томе «Гуссерлианы».
Обращение Деррида к этим текстам имеет особый смысл как по
внешне-историческим, так и по концептуально-философским
причинам. Деррида спрашивает, что изменилось с тех пор, как Гуссерль
призвал европейское философское сознание к критике наук и
разума. Вопрос Деррида остается актуальным и сегодня: можем ли мы
(и должны ли мы) сейчас повторить этот призыв? Или же его нужно
видоизменить, переместить, переосмыслить? Как отнестись к
предпосылкам этого призыва и самой телеологической линии
размышления, которую он предполагает? Нужно ли их укрепить или,
напротив, подвергнуть сомнению? Быть может, нам стоило бьгпомыслить
не о «кризисе», но о каком-то другом потрясении? Быть может, мы
теперь уже находимся по другую сторону того, что Гуссерль называл
кризисом философии как кризисом европейского человечества? В
одном из текстов «Кризиса» (в так называемом Венском докладе)
Гуссерль, подчеркивает Деррида, фактически говорит о фатальности
трансцендентальной патологии, о болезни спекулятивного знания и
о том, что выход из этих состояний следует искать в феноменоло-
11 Она особенно активно проводится в его Венском докладе: Гуссерль Э. Кризис
европейского человечества и философия // Вопросы философии. 1986. № 6.
214 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
гическом разуме. Европейские нации больны, вся Европа в
кризисе, порожденном болезнью разума как болезнью «объективизма»:
притязая на универсальность, разум забывает, что знание
рождается в актах исторических и субъективных. Болезнь разума порождает
односторонний, специализированный разум. Чтобы лечить болезни
Европы, в которой повинны рациональные предпосылки и
предрассудки, нужно провести радикальное расчленение и отделить
философию в ее исторической данности от философии как бесконечной
задачи — воплощения безусловного практического идеала. Именно
для этого Гуссерль критикует трансцендентальную болезнь и
порождаемый ею объективизм, в котором он видит наивный рационализм,
объемлющий все науки. Философы, в том числе и Кант,
неоднократно пытались преодолеть эту наивность, усиливая рефлексию,
однако надежного решения проблемы это не давало. И причина этого в
том, что объективистская наивность — не простая случайность: она
возникает в процессе производства идеальных объектов, способных
к повторению в процессах технологических, — все это уводит
человеческий разум далеко от его исторических и субъективных
оснований. Но самое интересное, быть может, то, что этот кризис
возникает спонтанно, в самой динамике разума: Деррида говорит, что разум
ввергает себя в кризис неким автоиммунным способом, отвергая
свои собственные разумные основания как чужеродные.
Конечно, плюральные параметры дерридианской стилистики
могут показаться идеально соответствующими распространенным
доводам от множественности рациональностей во многих
современных дискуссиях. Однако, на мой взгляд, это соответствие только
внешнее, оно имеет мало общего с тем, в чем я вижу
рационалистический стержень концептуализации Деррида. Мне представляется,
что довод от плюрализма рациональностей остается лишь внешней
отсылкой, доводом от внешнего дискуссионного контекста,
который скорее заимствуется Деррида, чем развивается им. Для позиции
Деррида, как, впрочем, и для моей позиции, суть дела не в том, что
рациональностей «много», но скорее в том, что рациональность апо-
рийна по самой своей сути. Это можно показать на примере дерриди-
анского анализа соответствующих понятий: так, демократия может
существовать лишь как нечто не тождественное самой себе,
отсроченное, как то, что ищет себе место на немыслимой границе между
правом и справедливостью, немыслимой потому, что все то, что
делается по закону, не может быть справедливым (любой конкретный
случай не соответствует общей норме закона), и однако из этого
вовсе не следует, что «сгодится что угодно»: мы должны — пусть и под
бременем апорийности — искать лучшее из возможных решений.
Н.С.Автономова. Перспективы рациональности: новый виток проблематизации 215
В конечном счете Деррида дает определение рационального,
которое, как мне кажется, довольно близко подходит к тем ходам
мысли, которые я пыталась прописать в диссертации о
рациональности12: я имею в виду именно механизм концептуального
взаимодействия рассудочного и разумного как в истории философии,
причем не только посткантовской (хотя само четкое разведение
понятий рассудка и разума начинается после Канта), так и в
недавних или даже современных дискуссиях о рациональности13. Когда
я об этом писала, ход через «рассудочное» и «разумное» вполне мог
показаться архаическим на фоне других предлагаемых
механизмов рациональности, особенно в англо-американских
концепциях философии науки. Мне представляется, что стержневой момент
дерридианской концептуализации рациональности вращается
вокруг тех инстанций и параметров, которые можно было бы назвать
рассудочным и разумным, причем это происходит в ответ на
современный запрос: помыслить рациональное и его актуальные формы.
Оказывается, что без этой схематики нечто существенное в
современной судьбе рациональности остается непонятным. Особенно
ярко это проявляется в современных гуманитарных науках.
На материале современной филологии возникает мощный
слой вопросов, который необходимо включить в наше
обсуждение перспектив рациональности. Сам этот термин
«рациональность» при этом, как правило, не употребляется, речь идет о
структуре и неструктурном, об эволюции этих понятий в
гуманитарной мысли XX века, о роли языка в построении гуманитарных
объектов. Дело, однако, в том, что вопрос о структуре нередко
служит своего рода филологическим аналогом философскому
вопросу о рациональности и объективности познания. Можно было
бы даже сказать, попытавшись соотнести философские и
филологические подходы, что дискуссии о возможностях структуры и
методологий, работающих с понятием структуры, представляют
собой своего рода превращенную форму философских, дискуссий
о рациональности. Разумеется, в том случае, если рассматривать
понятие verwandelte Formen не как искажение-отрицание, но как
метаморфозу.
12 Лвтономова Н. С. Рациональность как теоретико-познавательная проблема.
Диссертация на соиск. уч. ст. доктора филос. наук. М., 1988.
13 Панораму дискуссий о рациональности в разных философских традициях см.:
Rationality in Science and Politics // Boston Studies in the Philosophy and History of
Science. Vol. 79 / Ed. By G. Andersson. D. Reidel Publ. Company, Dordrecht etc., 1984;
Rationality Today (Rationalité aujourd'hui) / Ed. T. Geraets. Ottawa: Ottawa University
Press, 1979.
216 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
В оправданности самой этой аналогии между дискуссиями о
рациональности и дискуссиями о структуре мне неоднократно
доводилось убеждаться в последние годы, участвуя в ряде
российских и международных конференций, посвященных вопросам
истории структурализма и семиотики, перевода, концептуальных
трансферов между культурными и интеллектуальными
традициями. Перспективы структурных и семиотических исследований
в гуманитарных науках обсуждались как в теоретическом, так и
в историческом плане, а также применительно к истории
рецепций на Гаспаровских чтениях-2014 в Институте высших
гуманитарных исследований им. Е. М. Мелетинского при РГГУ, на Лот-
мановских чтениях, посвященных Якобсону (декабрь 2013 года,
ИВГИ-РГГУ), где мне довелось быть не только докладчиком, но
и одним из организаторов; на международных конференциях в
университете Париж-8 (сентябрь 201014), где обсуждался вопрос о
«диалоге», или о взаимодействиях через сходства и различия
между структурно-семиотическими подходами во Франции и в
России15; в парижской Высшей нормальной школе (24—25 мая 2013:
«Гуманитарные и общественные науки в России: становление
научного языка и перевод научных текстов»), где предметом
дискуссии была роль концептуального перевода в процессе трансляции
идей, и др.16 Соотнесение философского контекста дискуссий
о рациональности с научно-гуманитарным планом дискуссий о
структуре, переводе, рецепциях и трансферах идей и понятий по-
новому осветило для меня работу над только что вышедшим в свет
новым изданием книги «Открытая структура: Якобсон—Бахтин—
Лотман—Гаспаров»17.
Исключительно интересный материал для обсуждения
проблем гуманитарной рациональности дает концепция Ю. М. Лотма-
на. Хотя соответствующими философскими терминами Лотман и
14 Avtonomova N. Le problème de la traduction et l'intraduisible dans la conception sé-
miotique de Lotman // Glissements, décentrements, déplacement. Pour un dialogue sé-
miotique franco-russe / Sous la dir. de M. Costantini. Paris, 2013. P. 49—57. Цифровая
библиотека университета Париж-8, постоянный инвентарный номер: http://www.
bibliotheque-numerique-paris8.fr/fre/ref/164239/COLN3/
15 В современных исследованиях иногда подчеркивается, что свойственное
московско-тартуской школе, да и всей российской научно-гуманитарной традиции
единство структурного и семиотического не было обязательной чертой других
аналогичных подходов в истории науки (например, у Кристевой семиотическое
описание трактовалось как способ динамизации структурного описания).
16 Материалы всех этих конференций готовятся к публикации.
17 Лвтономова Н. С. Открытая структура: Якобсон—Бахтин—Лотман—Гаспаров /
2-е изд. испр. и доп. СПб.; М., 2014.
H. С, Автономова. Перспективы рациональности: новый виток проблематизации 217
не пользуется, мы видим у него и идею структуры как формы
разума, и идею апорийности разума, о которой здесь уже говорилось
в связи с Деррида. А также глубокое понимание того, что апорий-
ность — не означает размытость, неоперациональность. Несмотря
на все упреки в недостаточной рефлексивности методологических
оснований Московско-тартуской семиотической школы,
справедливые лишь отчасти, Лотман представил в своем творчестве
полюса этой идеи. С одной стороны, программу построения
филологии во всей ее научной строгости, от которой он потом никогда
не отказывался, с другой стороны, соналичие в объекте и в нашей
мысли об объекте структуры и неструктурности, взрывного и
постепенного, упорядоченного и хаотического. В основе начальных
программ Московско-тартуской семиотической Школы лежала
мысль о единстве человеческого знания, о необходимости
выдвижения в гуманитарных науках общих идей, об общезначимых
формах их проверки. Она одушевляла рождение Школы ощущением
праздника духа, чувством освобождения от официально
идеологической догматики. И этот этап, на котором Лотман провозглашал,
что «литературоведение должно быть наукой», не был потом ни
устранен, ни сдан в архив ненужных вещей.
В наши дни распространена мысль о том, что Лотман, дескать,
интересен нам сейчас лишь как мыслитель, сумевший преодолеть
свои структуралистские заблуждения (речь при этом обычно идет
о позднем Лотмане) и подчеркнуть в гуманитарном знании все
то, что противоположно структуре и порядку. У меня другое
восприятие этой проблематики. Я полагаю, что ранний Лотман не был
структуралистским догматиком, сосредоточенным на закрытом и
статичном; а поздний Лотман отнюдь не отказался от
структурализма, сосредоточившись лишь на том, что противоположно
структуре или даже исключает структуру. И я не согласна с
современными мнениями, что структурализм в гуманитарных науках умер и на
смену ему пришли постструктурализм в методологии и, условно
говоря, постмодернизм как способ философствующего
переживания расшатанного мира. Философский опыт Деррида и историко-
филологический опыт Лотмана — оба, по сути, апорийные в своем
рациональном воплощении — дают нам много материала для
размышлений о том, что устарела не структура и не рациональность,
но наши представления о них. И как Деррида балансирует между
разумом и безумием, так и Лотман виртуозно корректирует, но не
упраздняет свои «старые» представления. В самом деле, в работах
Лотмана последних десятилетий мы встречаем все больше
интереса к открытым моделям культуры, к их динамике, к «непредсказуе-
218 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
мому» и «непонятному»18. При этом новым способом обращения с
этими проблемами у Лотмана становится широко трактуемая идея
перевода как средоточия жизни культуры и стимула к
выработке новых культурных значений, рациональность в этом контексте
приобретает более жесткие формы различения конкретных
исторических нюансировок, а не построения общих схем. Лотман не
был лингвистом, он был историком, однако именно он предложил
это переосмысление коммуникативного акта в заочном споре с
Якобсоном. Тем не менее вместе с Якобсоном он никогда не видел
структуру (иначе как искусственную абстракцию) вне истории, вне
динамики.
Ведь именно неструктурное, «непереводимое», находящееся за
границами упорядоченных культурных миров подталкивает нас
к неустанному поиску механизмов культурной переводимости,
которые заранее не даны. Таким образом, уходя от черно-белых
противопоставлений (как это пытается осуществить в своем языке
Деррида), мы можем лучше разглядеть то новое, что было в лотма-
новской концепции, которая никогда не чуждалась структурного,
но все больше интересовалась «непредсказуемым» и
«непереводимым». Лотману, как и Пригожину, важно было не отрицание
структуры, но, если угодно, структурообразующие потенции хаоса. Но
это вовсе не апология взрыва как такового: нередко оказывается,
что механизмы устойчивого, повторяющегося — именно из-за их
привычности — труднее бывает уловить, нежели моменты яркой
новизны, которые между тем становятся заметны лишь на фоне
устойчивого19.
В одном из своих поздних интервью20, размышляя о судьбе
Московско-тартуской Школы, Лотман проводит мысль о смерти
и рождении институций, а главное — научных идей — через
наслоение сюжетов. В этом процессе неизбежно возникает и момент
непредсказуемости того, что не ограничивается повторением и
порождает новое, которого мы не знаем. Осмысленная
культурная работа экспериментирования с различными формами непред-
18 Ср.: Лотман Ю. М. Непредсказуемые механизмы культуры. Таллинн, 2010.
19 Динамические процессы, по Лотману, — это никогда не чистая и абсолютная
динамика, но колеблющийся маятник между взрывными и постепенными
процессами, причем последние изучались гораздо меньше, хотя именно они «составляют
исключительно важный аспект исторического становления». Лотман Ю. М.
Культура и взрыв. М., 1992. С. 218; Ср. там же: «Значение медленных и пульсирующих
процессов в общей структуре человеческого бытия не уступает роли взрывных».
20 Лотман Ю. М. О судьбах «тартуской школы». Интервью с Пеэтером Торопом,
записанное в 1992 году, в оригинале было впервые целиком напечатано в кн.:
Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 146—157.
H. С. Автономова. Перспе1шшы ра1Ш01Шльности: новый виток проблематизации 219
сказуемого позволяет нам включить нашу недолгую жизнь в более
длительную память без парализующего страха от столкновений с
апорийностью того, что одновременно кажется нам «трагическим
расхождением» и «бессмысленным сближением».
И философский опыт Деррида, и историко-филологические
поиски Лотмана позволяют нам сегодня вновь поставить вопрос
о рациональном смысле философской рациональности. И это
отнюдь не тавтологический ляпсус, но стремление оттенить
представленный здесь подход на фоне тех, кто трактует рациональность
как нечто сугубо нерациональное. Все дело в том, что богатство
современных мнений в спорах о разуме и рациональности вновь
заостряет для нас вопрос о философском разуме и философской
рациональности, о ее отношении ко всем другим видам и
формам рациональности21. Частные концепции рациональности
могут быть сколь угодно плюральными (рациональность
семиотическая, аксиологическая, алеаторная, компьютерная, энтропиче-
ская; рациональность формальная и материальная, аналитическая
и семантическая, инструментальная и стратегическая, научная и
эмоциональная, глобальная и локальная, несовершенная и
совершенная, целенаправленная и коммуникативная, диалогическая
и прагматическая и т. д., и т. п.), однако философское понимание
рациональности в гипотетически полном его объеме, по сути своей
едино и иным быть не может. Конечно, можно указать на многие
философские концепции плюральной рациональности, на
концепции различных типов рациональности, но все же философское
развитие последних десятилетий в том совокупном его образе,
который прорисовывается за всеми нюансами различий,
свидетельствует в пользу формирования такого единства. Конечно, это не
симметричный баланс сил, но некое неустойчивое равновесие, в
котором то одна, то другая тенденция одерживает верх, и все же...
Впитывая весь опыт нерефлексивных «погружений», предельно
обостряя свою чувствительность к дорациональным и доконцепту-
альным формам переживания жизни, философия может
осмысливать эти содержания и сохранять саму себя, только если она бережет
21 Одно из последних обсуждений рациональности в ее возможностях, границах и
пределах состоялось в рамках заседания парижского Международного института
философии в Москве. См.: Рациональность и ее границы. La rationalité et ses
limites. Материалы международной конференции (15—18 сентября 2011). M., 2012. В
дискуссии участвовали исследователи из России, Финляндии, Италии, Германии,
Швеции, Испании, Канады, Франции; обсуждался современный опыт трактовки
научной и вненаучной рациональности, рациональности и морали, рациональности
как культурной ценности, построения различных моделей рациональности и др.
220 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
в себе способность к рефлексии. Стремясь осмыслить немыслимое,
нельзя вовсе уничтожить мысль, перевести ее полностью в жест,
крик, танец в надежде, что она сама собой в новых формах
возродится из пепла. Рефлексивность и ныне подпавшая под подозрение
теоретичность — это концептуальные аналоги этической
вменяемости мысли и ее ответственности перед тем, по поводу чего она
развертывается, и перед теми, кто использует ее выводы22.
Однако задачи современной философии разума — не только в
защите концептуального мышления на уровне рефлексивности и
теоретичности, но и в стремлении к большей ясности. Культурная
система может позволить себе любые игры с двойными, тройными
и бесконечными значениями символов, недоступными
окончательной расшифровке. Сложность этих игр значительно увеличилась с
тех пор, как границы культурных миров стали проницаемыми, а
сами эти миры начали сталкиваться и взаимодействовать.
Смешение символов, порожденных различными культурными
контекстами и плохо поддающихся переводу из одного контекста в другой,
постоянно угрожает человеку новым и более страшным
Вавилонским столпотворением. И все же, как показывает мой опыт работы
с философским языком Деррида23, исследование культурных
текстов фиксирует расширение контекста интерпретации и
углубление ее подтекстов. И это не делает работу истолкователя
бессмысленной: если мы способны внятно выразить свои рациональные
основания для выбора наиболее приемлемой трактовки значения в
данном определенном контексте и с точки зрения принятых
посылок, то это уже немало.
Концептуальный язык Деррида может показаться целиком
выламывающимся за рамки каких-либо правил, однако, пройдя
через все рискованные эксперименты, похожие на чистые языковые
игры, он вырабатывает в себе способность к схватыванию
«размытых» содержаний, не уловимых иными средствами. Тем самым он
расширяет для философской мысли регистр возможного и дости-
22 Недаром Ю. Хабермас, разделяя в целом критический пафос современной
философии, видит ее ошибку в том, что вместе с декартовской философией сознания
она отвергла и ее несомненные достоинства, а именно «ответственность
теоретической мысли» и научный эгалитаризм, требующий для каждого человека равного
доступа к истине. См.: Monde (spécial). Les aventures de la raison. Nov. 1984. P. 14.
Хабермас был одним из тех ученых и философов, кто отвечал на анкету газеты
«Монд» о разуме и рациональности.
23 См.: Лвтономова Н. С. Философский язык Жака Деррида. М., 2011. См.
особенно главу восьмую «"Сто понятий" Жака Деррида: материалы к концептуальному
словарю» (С. 363—463), в которой речь идет о строении и функционировании дер-
ридианского концептуального языка.
H. С. Автономова. Перспективы рациональности: новый виток проблематизации 221
жимого. Правда, для этого Деррида приходится помимо языковых
экспериментов и одновременно с ними изобретать новые ресурсы
«гипер-анализа» и перспективы «гипер-рациональности».
Но здесь важен и другой аспект ситуации, который мне удалось
осмыслить при работе с текстами Лотмана. Когда он в контексте
обоснования структурализма утверждал, что слово значимо в
системе и в контексте, а не само по себе, это был важный прорыв. Но
имеет смысл напомнить и другой ракурс восприятия: слово
значимо не только в далеких сложных и опосредованных контекстах, но
и при прямом, лобовом прочтении (разумеется, все равно с учетом
исторической дистанции) — в частности, потому что оно перфор-
мативно, нацелено на действие и само совершает действие. А
потому разгерметизация слов тоже может стать одной из задач
философского разума, как я это попыталась сделать при интерпретации
неологизмов Деррида24.
Следующий довод в пользу единства философии разума —
социологический. Речь идет о феномене, который можно было бы
названием преодолением «интеллектуального феодализма».
Тенденции развития культуры предполагают одновременно и
плюрализацию, и универсализацию (и в этом мы также видим апо-
рийность, как неотъемлемую характеристику рациональности).
Плюрализация мира культуры — это принятие в свой горизонт
других возможностей и других культур и тем самым расширение
средств индивидуализации человека, выбора его жизненной и
мировоззренческой позиции сообразно со своими склонностями,
со спецификой своего душевного мира. Если триста лет назад
повсюду выбор профессии предопределялся почти исключительно
его рождением (сын башмачника мог стать только башмачником
и никем другим), то теперь эти ограничения преодолены, но
сохраняются предопределенности духовного мира — например, в
вероисповедании, мировоззренческих ориентациях и др. Как
некогда напоминал М. Л. Гаспаров, русскому человеку, независимо
24 Автономова Н. С. Философский язык Жака Деррида. С. 404—411. Тут на
память приходят такие кентаврические нео-образования, как «перверформативный»
(perverformatif) (из «перверсный» и «перформативный») или «анархивный» (апаг-
chivique) (из «анархии» и «архива») и многие др. Хорошим примером
разгерметизации через этимологическое прояснение может быть термин «communauté»,
который Деррида не приемлет в его ныне привычном значении «сообщество»,
потому что его основу разъедает этимологическое ядро глагола латинского
глагола munire (он значит, в частности, укреплять — так сказать, обороноспособность,
т. е. наращивать ресурсы с главной целью защиты от других извне), ср.
использование современного термина «иммунитет», «автоиммунитет» (разрушение себя с
целью защиты от внешнего врага).
222 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
от его индивидуального склада, Пушкин ближе, чем Шекспир,
а Шекспир ближе, чем Вивекананда. Учитывая эту историко-
культурную предопределенность, можно однако предполагать — с
неким осознаваемым утопизмом — что реликты этой кастовости,
этого умственного феодализма будут исчезать, и это даст человеку
шанс свободнее выбирать и формировать круг взглядов и вкусов
применительно к своей индивидуальности. Необходимо, однако,
чтобы эти увеличивающиеся шансы человеческой
индивидуализации как-то соотносились между собой, чтобы они находили общий
язык, а без помощи разума, без механизмов сознания и осознания
это невозможно.
Здесь было приведено несколько доводов в пользу идеи
единства рациональности и разума — теоретических, психологических,
социологических. Специфику рациональности, представленную в
данной работе, можно подытожить в нескольких пунктах.
Рациональность как конфигурация перспектив: единая
рациональность может быть представлена как совокупная картина апо-
рийных тенденций, как результат соотнесения различных точек
зрения, каждая из которых фиксирует определенный аспект
объективности.
Праксеологическая рациональность: речь идет не о
самозамкнутой рациональности, но о возникновении и воплощении разумной
мысли в практических ситуациях, а также о ее «перформативности».
Новая дискурсивность разума: она выходит за рамки логики и
грамматики, позволяя точнее уловить динамику отношений слова
и понятия — они не сращены как готовое содержание и удобная
форма, и потому по некоторым языковым процессам можно судить
о том, как доконцептуальные содержания приводятся к
понятийной форме, и о том, как уже родившееся понятие вновь
рассеивается в различных ситуациях своего употребления.
Насколько уникальна сама наша ситуация проблематизации
разума? Катаклизмы, срывы от ясности в темноту, от жизненности
в болезнь, от «классичности» в «барокко», от сознания в не-мысль
не единичны в истории культуры. Так как культура, по
определению, это историческая преемственность таких разрывов, за
которыми культура должна была бы начинать с нуля, в ней быть не
должно, а когда такое все же возникает, немедленно начинаются
и работы по восстановлению поломанных мостов. Поэтому
можно предполагать, что абсолютизировать уникальность
современной ситуации заставляет нас наша историко-культурная
ограниченность. Главное, чему мы являемся свидетелями и что внушает
хоть какую-то толику оптимизма, — это феномен самосохранения
H. С. Автономова. Перспективы рациональности: новый виток проблематизации 223
разума, хотя и в меняющихся формах. Представляется, что
историческая смена форм рациональности — более емкий и
конструктивный ее образ, нежели единовременное сосуществование многих
типов.
Если между историческим опытом и актуальностью нет
мертвого разрыва, если трансляция опыта осуществляется, значит, у
разума есть шансы собраться, стать одновременно и более гибким,
и более сильным25. Учет удачных применений разума в истории
делает возможным взгляд вокруг себя и вперед. Новизна стоящих
перед разумом задач не отменяет глубокого фона культурной
преемственности мысли, а преемственность ни в коей мере не
предопределяет их решения. Для философа речь идет не об итогах, но о
продвижении — на фоне того, что нам уже известно. «Это может
показаться старомодным, но я считаю, что перед нами, как
некогда перед Кантом, по-прежнему стоит проблема, требующая
объяснить, где, в чем обретают единство логического развертывания
объективирующее сознание, моральная установка и мощь
эстетического суждения»26. И далее: «Существует лишь одна, вечная
рациональность, которая заключается в том, чтобы обнаруживать
всеобщее под разнообразием страстей и предрассудков»27. Эти
«архаичные» высказывания, принадлежащие мыслителю, остро
чувствующему современность, кажутся более проницательными и
жизненно перспективными, чем все попытки возвести невольную
и, можно надеяться, преходящую слабость мысли перед нынешним
вызовом разуму в «неклассическую» добродетель.
Одному из наших героев (это был Лотман) удалось выразить на
своем языке главный смысл апории рациональности. Он говорит:
«Соединение предсказуемого и непредсказуемого создает сложную
игру, которая и есть жизнь» и продолжает: «предсказать результат
этой игры невозможно, конец может быть трагическим, и вообще
история — занятие не для слабонервных. Но это занятие,
достойное человека»28.
25 Thorn R. И Monde. Les aventures de la raison. P. 25.
26 Habermas J. // Monde. Les aventures de la raison. P. 14.
27 Ibid.
28 Лотман Ю. M. Воспитание души. С. 292.
Л. А. Микешина
Достоинства гуманитарных наук:
эпистемологические смыслы
Водной из своих статей Борис Исаевич Пружинин заметил,
что «определение философско-методологических контуров
науки в нынешней ситуации отнюдь не сводится к попыткам
"стандартизировать" познание и таким путем построить
некий обязательный единый язык науки, некие однотипные
процедуры обоснования знания, стандарты его трансформаций... но
очевидно также, что развивающаяся наука постоянно, то тут, то там
нарушает установленные нормы и требования. И потому, по той же
причине, ее граница становится предметом постоянного внимания
как со стороны профессионалов-философов, так и со стороны самих
ученых. Сами ученые неизбежно возвращаются к обсуждению
пределов своих наук, размышляют о принятых в них логических нормах
научного рассуждения, о складывающихся в их науках формах
представления знания и пр.»2. Это очень важное наблюдение становится
сегодня предметом особого обсуждения в философии и методологии
науки, а также в культурно-исторической и социальной
эпистемологии. Он обратил наше внимание на понятие «достоинство науки», о
котором размышляли в свое время П. Д. Юркевич и Г. Г. Шпет. Меня
это понятие интересует прежде всего как форма эпистемологической
и философско-методологической оценки социального и
гуманитарного знания и признания их статуса самостоятельного типа науки.
Шпет Г. Г. о формах проявления достоинства гуманитарного
научного знания. «Рационализм — первое слово, постоянное, и
останется последним словом европейской философии»3. Такова прин-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке фанта РГНФ. Проект № 14-03-
00587 «Достоинство знания: ценностные основания культурно-исторической
эпистемологии».
2 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009. С. 29-30.
3 Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2006. С. 356.
Л. А. Микешина. Достоинства гуманитарных наук: эпистемологические смыслы 225
ципиальная позиция Шпета, с которой он исследует проблемы
философии, включая в их число герменевтику и феноменологию,
а также гуманитарное знание в целом и науки — историю, эстетику,
психологию, в том числе этническую, и др. С этой позиции он, по
существу, оценивает и достоинства научного знания.
Исследования Шпета в области исторического знания
(традиция, созданная В. Дильтеем), эстетики, психологии, проблемы
сознания, логики, философии языка и слова отражают стремление
не только получить частные результаты в каждой области, но, как
это теперь стало очевидным, разработать фундаментальные
основания, базовые понятия и принципы общей методологии и
философии социально-гуманитарных наук. По существу, он стремился
показать, что эти области знания не менее, чем естественные
науки рациональны, хотя тип рациональности и способы описания и
обоснования могут быть и существенно иными.
Сравнивая естественные и гуманитарные науки, Шпет отмечал
удивительное изменение представлений о законах и опыте:
«...Казалось когда-то, что мертвая "физическая" природа подчинена
строгости прямо-таки математических законов. Это время давно стало
воспоминанием. Эмпирический мир оказался много шире. "Опыт"
далеко вышел за пределы "физического" опыта, и один за другим
эмпирические предметы входили в состав научного знания: живая
природа, душа, наконец, социальная и историческая "природа".
И чем более широкую область захватывал опыт, тем яснее
становилось, что строгость "законов природы" есть мнимая строгость, что,
как нам ни хочется, чтобы эти законы были строги, но на самом
деле они — только эмпиричны»4.
Важнейшей особенностью общества как объекта социально-
гуманитарного познания является вхождение в его содержание и
структуру субъекта, наделенного сознанием и активно
действующего, как определяющего компонента исследуемой социальной
реальности. Из этого следует, что исследователь имеет дело с
особого рода реальностью — сферой объективации содержания
человеческого сознания, областью смыслов и значений, требующих
специальных методологических приемов, отсутствующих в
арсенале естественных наук. Здесь другая онтология познания.
Исследование объекта в этом случае осуществляется всегда с определенных
ценностных позиций, установок и интересов, и поэтому возникает
необходимость показать специфику не только объекта, но и
субъекта социально-гуманитарного познания. Очевидно, что оно осу-
4 Там же. С. 254-255.
226 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
ществляется социально сформированным и заинтересованным
субъектом, органически связано с его мировоззрением.
Возможность и важность проникновения с помощью
«интеллектуальной интуиции» через разные формы преходящего к
глубинному уровню бытия Шпет, не претендуя на методологическую
безупречность, иллюстрирует обращением к социальному бытию.
Однако в действительности внимание философа к этой форме
бытия не случайно, сама проблема как бы «на кончике языка» или
подспудно все время присутствует при рассмотрении глубинных
предпосылок познания в целом, гуманитарного в частности. Но не
как пример, а как реальную проблему он будет ее обсуждать в
других контекстах, в частности в «Явлении и смысле» при обсуждении
мысли Э. Гуссерля из «Идей I» о том, что «всякий вид бытия <...>
имеет сообразно сущности свои способы данности и,
следовательно, свои способы метода познания». Шпету важно не только это,
но также какие виды бытия выделяет немецкий философ.
Оказывается, что среди видов бытия он не называет особый вид
эмпирического бытия — бытие социальное, которое должно иметь и свою
особую данность, и свой особый способ познания. Гуссерль
отказывается признать социальное бытие «первично дающим актом»
и поэтому не выделяет социальное бытие как особый вид бытия.
Позиция Шпета принципиально иная: перспективы, которые
открываются при обращении к проблеме социального бытия,
«показывают в совершенно новом виде решительно все предметы как
научного знания, так и философского, сама феноменология
испытывает при этом значительные модификации. Именно
исследование вопроса о природе социального бытия приводит к признанию
игнорируемого до сих пор фактора, который только и делает
познание тем, что оно есть, показывает, как оно есть»5.
Одна из особенностей разработанной Шпетом методологии —
обращение не только к общим проблемам, но и к конкретным
вопросам различных гуманитарных наук, результаты и значение
которых еще предстоит оценить. Это прежде всего его
«лингвистический и герменевтический поворот», а также исследование
логических и методологических проблем конкретных наук и поиск их
решения, в частности в историческом знании и этнической
психологии, проблемы которых значимы и сегодня.
5 Там же. С. 111. Подробную разработку понятия «социальное» Шпет
предпринял в Заключении к Части II «Истории как проблемы логики». См.: Шпет Г. Г.
История как проблема логики. Критические и методологические исследования.
Материалы. В двух частях. М., 2002. С. 1011—1031.
Л. А. Микешина. Достоинства гуманитарных наук: эпистемологические смыслы 227
Лингвистический и герменевтический «повороты» Шпета как
способы выявления «достоинства» гуманитарного знания. Базовой
составляющей эпистемологии гуманитарных наук является
философия языка — термин, редко применяемый Шпетом, но по существу
очерчивающий круг проблем языка и слова, которыми увлеченно
занимался философ. Уже в начале XX века он осознал
необходимость постижения «многосмысленности» и
многофункциональности языка как текста, речи, письма, слова, их существования
в языке естественном и обыденном, языках науки и культуры, а
также в особой социокультурной сфере — общения и
коммуникации как передачи информации. Одно из направлений его работы в
этой области — обращение к «классике», что присутствует во всех
его текстах и особенно проявилось, как известно, в монографии
«Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта»
(1927). По отношению к Гумбольдту здесь он осознает многое из
того, что М. Хайдеггер, размышлявший как философ, а не филолог,
изложит позже в своем известном докладе «Путь к языку» (1959),
основой которого во многом стали также идеи В. Гумбольдта,
позволяющие открыться «общему кругозору для вглядывания в язык».
Шпет полагал, что почти через век «идеи Гумбольдта приобретают
для лингвистики значение принципов» и никоим образом не
устаревают, вместе с тем он оставляет для себя свободу как в
понимании текстов Гумбольдта, так и в понимании самого языка, вводя
скромный подзаголовок об этюдах, вариациях и даже «фантазиях»
по этому поводу, т. е. не претендуя на разработку лингвистической
концепции.
Шпет «предуведомил» размышления философов XX века о
слове, для него в полной мере было ясно, что слово — это
фундаментальная смысловая единица языка, «акт» социального и
культурного сознания, форма его «овеществления» в произнесенном,
написанном слове-знаке; базовый элемент в сфере сообщения и
способе коммуникации, «всеобщий знак» в семиотике
(семасиологии). Вместе с тем он разрабатывал многие конкретные аспекты
проблемы слова, в частности структурный анализ слова, теорию
слова как знака, восприятие слышимого слова, при этом
сохранялся философско-методологический, семиотический и культурно-
социальный подход к проблеме, не подменявшийся
психологическим или лингвистическим анализом. Таким образом, в конечном
счете Шпет показывает всю сложную архитектонику любой
гуманитарной науки, где решение сложных базовых проблем языка
создают прочный научный фундамент гуманитарных наук, делая их
достойными этого статуса наряду с естествознанием.
228 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
Существенное «дополнение» феноменологии герменевтикой
и дальнейшее ее изучение и развитие — важнейшая особенность
шпетовской философии и предпосылка дальнейшего развития его
«проекта» методологии гуманитарного знания. Характерное для
Шпета глубинное изучение вопроса привело впоследствии к
созданию своего рода истории герменевтики — «Герменевтика и ее
проблемы» (рукопись, 1918), значение которой еще не оценено в
полной мере и сегодня. Это не просто богатейший компендиум,
история учений о герменевтике и ее развитии от «эмпирически-
практических формул до их принципиального и философского
обоснования», но и фундаментальное исследование собственно
природы и проблем гуманитарных наук, их взаимодействия и
соотношения с философией. Одна из важнейших проблем как
герменевтики, так и гуманитарного знания в целом —
интерпретация, ее эпистемологические смыслы и особенности, а также
типология. Прослеживая в истории герменевтики развитие
различных форм интерпретации в гуманитарных науках, Шпет
одновременно, по существу, обосновывал ее непосредственное
отношение к достоинствам этого типа наук. Именно через различные
способы интерпретации осуществляется этическое, эстетическое,
культурно-историческое, т. е. ценностное влияние на социально-
гуманитарные науки и создает условия для достойного его
осуществления. Этот процесс не определяется строго
формальнологическими методами, но зависит от достоинства самого субъекта
как исследователя, когда происходит, по Шпету, «переход от
теоретического уразумения к нравственному».
Соотношение описания и объяснения как эпистемологическая
проблема достоинства научного знания. Исследуя предмет и «место»
этнической психологии среди других наук, Шпет обосновывает, что
она не является «объяснительной, основной для других наук
дисциплиной», но предстает как «описательная психология, изучающая
типические коллективные переживания». В связи с этим Шпет
ставит проблему соотношения описательных и объяснительных наук,
их эпистемологического и методологического различия. Он
считает необходимым учесть распространенное мнение (отмечу, что
это мнение господствует и сегодня. — Л. Л/.), «согласно которому
описание вообще лишь предварительная ступень в научной работе.
За описанием необходимо должно следовать объяснение, которое
будто бы только и делает науку наукою. Такое мнение, по Шпету,
есть отголосок старого рационалистического, восходящего к
Аристотелю представления об истинном и высшем познании как
познании из причин. В действительности отношение описательных
Л. Л. Микешина. Достоинства гуманитарных наук: эпистемологические смыслы 229
и объяснительных наук вовсе не есть простая последовательность
двух ступеней. Оба типа наук существуют рядом» (курсив мой. —
JI. Л/.)6. Обсуждая эту тему, Шпет мог бы вспомнить про
феноменологический подход к этой проблеме у Гуссерля, в частности в
«Идеях к чистой феноменологии и феноменологической философии»
он писал: «точные и чисто дескриптивные науки, хотя и находятся в
связи между собой, но не могут подменять друг друга, — как бы
далеко не зашло развитие точных, то есть оперирующих идеальными
субструкциями наук, они никогда не смогут решить изначальные,
оправданные задачи чистого описания»7.
Итак, у каждого из типов наук свои цели и «способы бытия»,
описание в своей высшей стадии применяет классификацию и
систематизацию, объяснение возможно там, где получены более
общие положения, указывающие на причины объясняемых явлений.
Между ними предполагается связь, не отменяющая их
специфических целей и методов. В целом такая взвешенная оценка
соотношения этих методов и типов наук весьма значима для понимания
природы, достоинства и характера «научности» гуманитарных наук,
которые часто упрекают в описательности.
Близки к этой позиции взгляды П. А. Флоренского,
изложенные в его известной статье о науке. Отмечу, что Б. И. Пружинин
уже обращался к проблеме взаимосвязи взглядов Шпета и
Флоренского и специально рассмотрел культурно-исторический смысл и
цели их методологий8. Но я рассматриваю известную научную
статью Флоренского «Наука как символическое описание» — одну из
тех в обширном наследии Флоренского, что содержит специально
научные идеи и положения, имеет непосредственное отношение к
философии и методологии науки. Его идеи и размышления о науке
как крупного ученого интересны и сегодня прежде всего потому,
что они не «заражены» упрощенным реализмом в форме идей
отражения и однозначного причинного детерминизма. Он
исследует феноменологические аспекты научного познания, в частности
соотношение методов описания и объяснения, при этом
описание рассматривается в связи с языком и природой научного
«символизма», что близко и Шпету и на что обратил внимание Борис
6 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis.
Избранные психолого-педагогические труды. С. 479.
7 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии.
М., 1994. С. 72.
8 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. Гл. 1.6. Культурно-исторический смысл и цели методологии: Густав Шпет и
Павел Флоренский.
230 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
Исаевич. Текст статьи научно рационалистичен, здесь Флоренский
не обращается к аргументам религиозного мышления, но
опирается на историю и труды современных ему ученых в первую очередь
Э. Маха и ведущих физиков. Отмечу, что в период написания и
публикации статьи (1918) оценка Маха Лениным уже известна в
России, но Флоренский, по-видимому, не знаком с «Материализмом и
эмпириокритицизмом», в любом случае он читает Маха в
оригинале и излагает отношение к его идеям с позиций методолога и
философа науки, находясь внутри дискуссии ученых о природе научного
знания. При этом он исходит из слов самого Маха, который
представлял себя не как философ, но как естествоиспытатель9,
размышляющий над природой научного знания и его методов.
Флоренский также размышляет над сложным и важнейшим
этапом современной науки — критикой и преодолением
механистической методологии, моментом, когда «начал осыпаться этот
бутафорский дворец». Он понимал, что Мах одним из первых
сформулировал принципиально новое отношение к теории,
которое состоит в том, что «в 1872 году, Эрнст Мах <...> определил
физическую теорию как абстрактное и обобщенное описание
(курсив мой. — Л. М.) явлений природы»10. Очевидно, что философ в
полной мере стоит на стороне Маха и видит достоинство науки в
том, что нельзя завершать исследования при «неполном
восприятии», а более полное представление может быть только результатом
долгого и кропотливого исследования, предсказание которого
«будет мифологией, а не наукой». «Таково беспристрастное суждение
Э. Маха. В 1872 году оно еще только нарождалось»11.
И далее Флоренский считает необходимым показать, что идея,
высказанная Махом в 1982 году о физической теории как
«абстрактном и обобщенном описании явлений природы», в
последующие десятилетия стала ведущей в трудах крупнейших физиков
этого периода Г. Кирхгоффа, Г. Гельмгольца, Г. Герца, П. Дюгема,
А. Пуанкаре и многих других, — в целом тех, кто не только
занимается непосредственно своей областью знания, но и
размышляет над проблемами философии и методологии науки. Вывод,
который Флоренский делает из анализа взглядов этих мыслителей
9 Мах Э. Познание и заблуждение. М, 2003. С. 32.
10 Флоренский имеет в виду работу: Mach E. Die Gestalten der Flüssigkeit. Prag.,
1872; Max Э. Принцип сохранения работы. История и корень его. СПб., 1909.
Критику дескриптивизма Э. Маха см.: Никитин Е. П. Радикальный феноменализм
Э. Маха // Позитивизм и наука. Критический очерк. М., 1975.
11 Флоренский П. А. Наука как символическое описание // Флоренский П. А.
Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 112.
Л. А. Микешина. Достоинства гуманитарных наук эпистемологические смыслы 231
и ученых, состоит в том, что «эти совокупные усилия утвердили
общество в мысли, что действительно физическая теория есть не
более как символическое описание, "упрощенное и
упорядоченное описание", хотя, кстати сказать, доныне еще отнюдь не стало
ясным, чего именно описание есть физика. <...> Доказывать
описательный характер их — значит ломиться в открытую дверь»12.
На материале физики он рассматривает проблемы соотношения
объяснения и описания, роль символов и языка в этих процессах,
что опять же сближает его со Шпетом (и именно это стало
предметом исследования Б. И. Дружинина). Флоренский делает
важный вывод: «все эти объяснения лишь модели, символы,
фиктивные образы мира, подставляемые вместо явления его, но отнюдь
не объяснение их. Ведь объяснение притязает непременно на
единственность, между тем как эти модели действительности допускают
беспредельный выбор. Объяснение есть точное знание, а эти
модели — игра фантазии. Объяснение аподиктично, а модели — лишь
гипотетичны, и вечно гипотетичны, по природе своей обречены на
вечную гипотетичность»13. Философ убежден, что «ни
математические формулы, ни механические модели не устраняют реальности
самого явления, но стоят наряду с нею, при ней и ради нее».
Отсюда понятным становится различие между объяснением и
описанием: «объяснение хочет снять самое явление, растворить его
реальность в тех силах и сущностях, которые оно подставляет вместо
объясняемого. Описание же символами нашего духа, каковы бы
они ни были, желает углубить наше внимание и послужить
осознанию предлежащей нам реальности»14.
Флоренский подчеркивает и этический смысл описания, т. е.
явно обсуждая достоинство знания полученного этим методом,
считая его достоверным и близким самому изучаемому объекту,
в отличие от построения абстракций и моделей различного типа
вместо реального объекта. Разумеется, современные оценки
существенно изменились с развитием теоретического
естественно-научного знания и методов моделирования объектов, но для
гуманитарного знания описательность не теряет своей
ценности — это необходимый прием. Повышение оценки метода
описания в его соотношении с объяснением, выявление его значимость
в естественных науках, в частности в механике, предполагает и
существенно иное эпистемологическое отношение к описанию в
12 Там же. С. 112-113.
13 Там же. С. 113.
14 Там же. С. 117.
232 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
гуманитарных и социальных науках, оценку этого метода как
достоинства данных наук.
Проблема типического в гуманитарных науках. Исследование
предмета и методов этнической психологии приводит Шпета еще
к одной фундаментальной для гуманитарных наук теме — проблеме
типического, корректное решение которой, сохраняя конкретность
знания, его достоверность, наряду с логическим обобщением,
составляет моменты достоинства этого типа наук. Он обсуждал
проблему типического еще в работе «Сознание и его собственник» в
связи с неприемлемостью «логики объема» и «экземплярного»
подхода при обобщении Я или субъекта. Именно здесь был поставлен
вопрос о необходимости разработки понятия «типическое» для
наук о культуре. Особенно существенно то, что Шпет тщательно
определяет саму природу типического в этом контексте, где
имеет место не абстракция обобщения как в естественных науках, но
«типическое индивидуального». «Единственность
индивидуального не уничтожается, если мы, заглядывая в его сущность,
устанавливаем "типическое" и изображаем его в ему единственно
присущей структуре»15. Таким образом, снимается упрек гуманитарным
наукам в том, что они недостаточно абстрактны, не стремятся к
формально-логическим обобщениям, а если вводят такого рода
дефиниции, то только проигрывают в конечном счете, утрачивая
существенные конкретные характеристики.
Проблема типического в полной мере присутствует на этапе
становления этнической психологии, когда ученые существенно
разошлись при определении такого понятия, как «душа» — базового для
психологии того времени. Но в этнической психологии, или
этнологии, на первый план выходит не просто «душа», но «душа народа»,
что еще более усложняет проблему понимания и определения
этого понятия. Шпет приходит к выводу, что «формально это есть лишь
указание на некоторого рода тип... Все это — уже не простое
истолкование и перетолкование термина, а новый смысл, новый принцип,
новый метод»16. Он придает важное значение этой проблеме,
связывая ее со статусом самих социально-психологических наук и пишет,
что «мое определение социально-психологического как типически
общного в реакциях коллектива на объективную действительность
принципиально отличается от распространенных и принятых
определений, составляющихся под влиянием объективирующих и гипо-
15 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis.
Избранные психолого-педагогические труды. С. 309.
16 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию // Там же. С 420.
Л. А. Микешина. Достоинства гуманитарных наук: эпистемологические смыслы 233
стазирующих тенденций генетического толкования понятий "дух" и
"душа"»17.
Споря с Г. Зиммелем о понимании социальной психологии,
Шпет вместе с тем поддерживает его важную идею: тип «не есть
какой-либо особый реальный носитель душевных свойств, а есть
некоторая идеальная конструкция. Этим Зиммель дает очень
много. Ведь установление типа не есть изучение индивида как
индивида, а есть оригинальное образование, принципы которого не
совпадают с принципами построения общего понятия. <...> Тип не
есть "носитель" в смысле субстанции, и именно поэтому изучение
типического не может быть объяснительным, но он может быть
"выразителем" в смысле репрезентации, и притом коллективного
по преимуществу»18. Идеальность такого типа тоже особого рода, и
когда Шпет употребляет понятие «идеально-типическое», он четко
различает общность идеального типа как сопоставление объема и
содержания понятия, как общего и частного (это понятие М. Вебе-
ра, но оно может употребляться и в физике); и, с другой стороны,
«идеально-типическое» как единичное, индивидуальное,
выражающее тип — индивидуальное, содержащее «общное». В первый ряд
оно не должно входить, так как «мы выходим здесь на иной
логический план».
Итак, если для естественно-научного знания принципиально
значимо формально-логическое абстрактное обобщение, то в
гуманитарном и социальном научном знании на первое место
выходит идеально-типическое, т. е. индивидуальное, выражающее
тип как общность, способ обобщения, что может сочетаться и с
формально-логическим обобщением в отдельных случаях. Это
делает данный тип научного знания вполне самостоятельным, не
ущербным, но достойным, обладающим своими приемами
выявления и передачи общего.
Однако недопустима другая крайность — релятивизация всего
научного знания на основе типизации и «превращения его в серию
в общем равноправных культурно-исторических проекций»19, о чем
справедливо предупреждает Б. И. Пружинин в одной из наиболее
интересных, эпистемологически значимых статей о методологии
науки Шпета. По его мнению, «все эти тенденции к культурно-
исторической релятивизации знания ведут к фактическому отказу
17 Там же. С. 478.
18 Там же. С. 484.
19 Пружинин Б. И. Между контекстом открытия и контекстом обоснования:
методология науки Густава Шпета // Густав Шпет и современная философия
гуманитарного знания. М., 2006. С. 138.
234 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
"гуманитаризированной" методологии от нормативных функций,
т. е. предполагают уход методологии из плана долженствования»20.
Как мне представляется, к развитию идеи Шпета о достоинстве
знания имеют также непосредственное отношение размышления
Бориса Исаевича о том, как сам философ реализует свою идею. Так,
Шпет размышляя о феноменологических предложениях Гуссерля,
«акцентирует, так сказать, "уважительное" отношение к
"жизненному миру" ученого, к реалиям его научно-познавательной
практики, к тому, что реально делает ученый, на что ученый реально
ориентируется, что он считает важным в познании»21. Именно это
«уважение» реальности науки, на чем настаивает Борис Исаевич,
определяет позицию Шпета по отношению к неокантианству и
эмпиризму. Если для этих направлений необходимо преодолевать
с помощью критико-рефлексивной методологии наивные взгляды
ученых, то для Шпета методология — это уяснение реально
функционирующих в исследовании методов. И далее важное
утверждение Пружинина: «логика для него не есть эмпирическое обобщение
научной практики, что она, по выражению самого Шпета,
"будучи наукой о науках, не есть эмпирическая наука о них", если
верно убеждение логики, что во всякой науке столько науки, сколько
в ней логики, то логика должна лежать в основе методологических
научных построений, а не быть системой обобщений из данных
научного развития»22.
Я считаю это важной проблемой, которая не всегда осознается
как исследователями, так и философами и методологами. Логика
действительно, везде присутствуя, выступает, иногда
«одномоментно», в разных ипостасях: как логика мышления, применения языка,
разных видов — формальной и «неформальной» логики, а также на
эмпирическом и теоретическом уровне, классическая
индуктивная и дедуктивная (от части к целому, от целого к части), логика, по
Шпету, «экземплярная» и логическая «необобщаемость»
индивидуального Я, которое одновременно, по Гегелю, «содержит в себе все».
Именно эти вопросы важны для наук, применяющих типизацию,
в целом для гуманитарного и социального знания. Итак верно, что
во всякой науке столько науки, сколько в ней логики, но
оказывается, что при этом возникает вопрос, о какой «всеобщности» и
логике идет речь, какова возможность ее применения в конкретном
20 Пружиним Б. И. Между контекстом открытия и контекстом обоснования:
методология науки Густава Шпета. С. 138.
21 Там же.
22 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Шпет Г. Г. Мысль и слово.
Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 213.
Л. А Микешина. Достоинства гуманитарных наук: эпистемологические смыслы 235
случае — данной науке. Размышления Бориса Исаевич об этих
проблемах, а также об особенностях эмпирического субъекта в
гуманитарном знании, представляют несомненный интерес, он предлагает
определенное видение и интерпретацию позиции Шпета в решении
этой значимой, особенно для гуманитарных наук, проблемы.
Достоинство науки и «альтернативная наука». В другом
ключе, преимущественно в науковедческом и историко-научном, о
достоинствах науки уже давно размышляет сам Б. И. Пружинин.
Он предлагает свое видение обсуждаемой проблемы, обращаясь
к такому «крайнему варианту», как псевдонаука, тем самым
осуществляя анализ проблемы «с другого конца», как отсутствия
достоинств. Он рассмотрел отношения астрологии и астрономии,
которые базируются на общих объективных, собственно
астрономических данных, однако астрологическая практика стремилась
дать астрологические прогнозы, и ее интерес состоял в том,
чтобы увидеть в движении небесных тел «земные смыслы». Знание о
звездах, движении небесных тел и созвездий интерпретировалось
с учетом интересов, проблем и пожеланий того человека, который
ожидал от астрологии лишь знаний о своей судьбе или ближайших
жизненных событий. Это своего рода «прикладное знание»
полностью зависело от истолкования астролога и утрачивало какую-либо
связь с наукой, что сохранялось, например, в случае определения
движения корабля по расположению звезд, что базировалось на
собственно научных астрономических данных.
Как известно, астрология существует и сегодня, а знание о
звездах, как и во все времена, получило, по выражению Пружинина,
«откровенно сервильный характер» и из «науки» превратилось в
«технические практики». Однако следует обратить внимание на
то, что астрология как альтернативная наука имела свое, так
сказать, «методологическое обоснование», поскольку стремилась
получить и сохранить свои «достоинства» как научного знания. Это
проявлялось, по Пружинину, «в выработке методологических
обоснований для закрепления процедур, позволяющих
интерпретировать элементы точного объективного знания в субъективных (даже
личностных) смысловых терминах. Соответственно <...>
формируются две, в общем рационально не совместимые
концептуальные модели, фиксирующие ситуации предсказания: "теория гене-
тур" — теория строгого наукоподобного предсказания-вычисления
и "теория инициации" — набор рецептурных рекомендаций»23.
23 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. С. 342.
236 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
В результате судьба человека оказывается «привязанной» к
динамике небесных тел, что обосновывает строгость предсказания, он
может даже «стать субъектом своей судьбы». Очевидно, что это к
реальной астрономии, как и к статусу достоинства научности, не
имеет отношения, однако видимость и даже разработка
«методологии» говорит об ориентации псевдонауки на систему ценностей и
достоинств реальной науки.
Поскольку астрология существовала в веках и существует
сегодня, Б. И. Пружинин, опираясь на историю науки,
осуществляет глубокий и полноценный критический анализ этой ситуации с
позиций методологии и культурно-исторической эпистемологии,
что несомненно значимо сегодня для дальнейшего развития
рациональности в науке и обществе. Вместе с тем считаю необходимым
отметить, что несколько в стороне осталась нравственно-этическая
сторона проблемы псевдонауки, чему придавал особое значение
Г. Г. Шпет, а до него П. Д. Юркевич. Как псевдонаука астрология,
а точнее астрологи, стоявшие за ней, превратно толковали ее
достоинства как возможность предсказание судьбы человека, но в
реальности вопреки нравственно-эстетическим и рациональным
нормам, они занимались обманом, что не может считаться
достоинством какого-либо знания.
В целом можно прийти к выводу, что, не будучи логико-
методологическим, понятие «достоинство науки» содержит
базовые эпистемологические смыслы, явно или неявно включая
систему методологических, культурно-исторических и социальных
ценностей в гуманитарное или естественно-научное знание.
Вместе с тем, это понятие обогащает философско-методологические
возможности обоснования социальных и гуманитарных наук как
самостоятельного типа научного знания.
H. М. Смирнова
Когнитивные функции воображения
Воображение — одна из наиболее фундаментальных и
вместе с тем загадочных способностей человека. Его истоки
теряются в многообразии причудливых хитросплетений
когнитивной карты человеческого Разума. Спонтанные
проявления художественного и научного воображения не
подвластны и самому творцу. Человеческий дух, по словам И. Гёте,
«витает, где хочет». «Муза является», а «стихи приходят», —
поясняли своеволие поэтического воображения А. С. Пушкин и
И. Бродский. К. Поппер полагал, что процесс рождения
музыкальной темы, драматического конфликта и научной теории (контекст
открытия) не поддаются рациональной реконструкции.
Сложность теоретико-познавательной реконструкции истоков
и когнитивных функций воображения обусловлена, как я надеюсь
показать далее, его высокой «концепцио-зависимостью».
Представления о «работе» воображения «встроены» в более широкий
контекст концептуальных представлений о процессе познания
(соотношение чувственного и рационального, априорного и
апостериорного, роли конструктивной компоненты в познании и т. п.),
укоренены в когнитивном содержании фундаментальных универсалий
культуры. Этот «ускользающий» феномен когнитивной
деятельности человека в отечественной философской литературе одним из
первых подверг всестороннему анализу Б. И. Пружинин1.
1. Когнитивная амбивалентность воображения:
между чувственностью и мышлением
Анализ когнитивных функций воображения восходит к
античности. Платон, озабоченный проблемой того, как сохранить в
настоящем представление об отсутствующей вещи, вводит различие
1 Пружинин Б. И., Коршунова Л. С. Воображение и рациональность: Опыт
методологического анализа познавательных функций воображения. М., 1989.
238 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
между эйказией (eikasia) — низшей способностью души,
заключающейся в уподоблении и воспроизведении, и фантазией
(fantasia) — способностью души поставлять образы не данного в
чувственности («Софист»). Двойственность функций воображения
запечатлена в самом названии работы Аристотеля De memoria et
reminiscentia, выдержанной в духе эвристики и диалектики
Платона. Заимствуя у Платона проблему того, как помыслить
присутствие отсутствующей вещи, автор «Трактата о душе» решает ее
в духе платоновской диалектики: отсутствие есть «иное»
присутствия. Он развивает далее мысль Платона о диалектике отпечатка
и изображения, чувства и иконического означивания.
Принципиальное же различение воображения и памяти Аристотель
усматривает в восприятии времени: «Самый важный момент — это
понятие времени», — полагает Аристотель2. «Понятие временной
дистанции внутренне присуще памяти и обеспечивает
принципиальное различие между памятью и воображением»3, —
комментирует мысль Аристотеля П. Рикер. Связь воображения и
памяти обеспечивается их принадлежностью к одной и той же части
души — ощущающей. Воображение доставляет чувственные
образы для их последующей переработки в мышлении.
Эпикурейская теория «подобий» полагает образы
«истечениями» самих вещей, поглощаемых сенсорным аппаратом человека.
Образы-«истечения» сохраняют в ослабленном виде свойства
самих вещей: форму, цвет, запах. Подобный наивный онтологизм в
понимании образов как копий-отпечатков самих вещей в тех или
иных модификациях характерен и для многих метафизических
систем Нового времени.
В рамках картезианского дуализма образ уподобляется
телесной вещи, возникающей под воздействием внешних сил,
вызванных механическими причинами. Образ мотивирует действия души,
пробуждает в ней врожденные идеи. Специфической проблемой,
порождаемой дуалистической установкой Декарта, является
вопрос о пространственной характеристике образов. Если, по
Декарту, протяженность является атрибутом материи (res extensa), то как
быть с пространственными характеристиками геометрических тел
и фигур, которые по определению являются объектами мышления?
Для разрешения этой трудности Декарт вводит понятие мнимой
протяженности, чем, по-видимому, закладывает основы тех
трудностей, с которыми впоследствии столкнулся Кант.
2 Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 3. М., 1981. 452Ь 7.
3 Рикер Л. Память, история, забвение / Пер. с фр. И. С. Вдовиной. М, 2004. С. 41.
Н.М.Смирнова. Когнитивные функции воображения
239
В рационализме Лейбница чувственно-телесное понимание
образа существенно ослабляется, воображение мыслится по аналогии
с деятельностью мышления. Различие между идеей и образом, по
Лейбницу, в том, что образ смутен, тогда как идея ясна. В
соответствии со своими представлениями о бесконечно малых
восприятиях, Лейбниц полагает, что, сплетаясь и взаимодействуя друг с
другом, смутные идеи постепенно обретают ясные очертания, ибо
смутное и неясное — это рациональное, которое пока что не
поддается осмыслению. Так что образ у Лейбница предстает как ступень
на пути к идее.
В эмпиризме же Д. Юма, напротив, сама мысль сводима к
сумме образов. В разуме существуют лишь впечатления, и копия этих
впечатлений — идеи. Образы связаны между собой отношениями
смежности и подобия. Они существуют в качестве внутренних
объектов мысли и подобны уменьшенным копиям самих вещей.
Хр. Вольф через неоплатоников воспринимает и развивает далее
идею Платона о неразрывной связи «высшей» и «низшей»
способности души. Он справедливо подчеркивал условность разделения
способностей души на «высшие» и «низшие», полагая, что
репродуктивное («иконическое») и продуктивное («фантазийное»)
воображение в познавательной деятельности выступают в неразрывном
единстве. Репродуктивное воображение не воспроизводит
предмет таким, как он есть «сам по себе» (res per se) — оно подчинено
творчески-созидательной, проективной функции воображения,
выступая его неотъемлемой частью. Поэтому воображение
воспроизводит не только важнейшие свойства предмета в его отсутствие,
но и всегда содержит некоторое о нем суждение, истолкование.
Продолжая и развивая вольфово представление о
воображении как важнейшей когнитивной способности человека, Кант
задает вектор дальнейшей философской разработки этого понятия.
«Воображение, — определяет Кант, — есть способность наглядно
представлять предмет также и без его присутствия»4. Подчеркнем,
что автор «Критики чистого разума» говорит не о воображении как
психической способности эмпирического субъекта, укорененной
в психофизических способностях его организма, а о
трансцендентальном воображении. Кант отнес /^продуктивное воображение к
когнитивной компетенции эмпирического, т. е.
психологического субъекта, тогда как продуктивная способность воображения —
«высшая способность души» — выступает привилегией
трансцендентального субъекта. Репродуктивное воображение, полагает он,
4 Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. О. Лосского. СПб., 1993. С. 115.
240 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
синтез которого подчинен исключительно эмпирическим законам,
а именно законам ассоциации, не содействует углублению
понимания сущности априорного. Поэтому оно вынесено за пределы
трансцендентальной философии, в область психологии. И лишь
продуктивное воображение как особого рода «самодеятельность»,
внутренняя форма чувства, — предмет изучения
трансцендентальной теории познания.
М. Хайдеггер («Кант и проблема метафизики», 1929) полагает,
что понятие трансцендентального воображения — одно из
наименее проясненных в кантовской теории познания. Прав ли он,
упрекая Канта в том, что тот не только не развил изначальное
истолкование трансцендентального воображения, но даже и не попытался
этого сделать?
В первом издании «Критики чистого разума» Кант
использует понятие трансцендентального воображения для обозначения
действия рассудка на чувственность. Трансцендентальное
воображение, по Канту, помогает сводить многообразие
чувственных созерцаний в обобщенное представление. Посредством этой
способности рассудок применяет эти представления совместно с
понятиями к опыту. В этом отношении трансцендентальное
воображение выступает как самостоятельная когнитивная
способность — общий корень чувственности и рассудка.
Однако из второго издания «Критики» (1781) исчезает именно
тот фрагмент, где трансцендентальное воображение вводится как
самостоятельная, наряду с чувственностью и рассудком,
познавательная способность трансцендентального субъекта. Понятие
«функция души» заменено здесь на понятие «функция рассудка».
М. Хайдеггер полагает, что трансцендентальная способность
воображения во втором издании «Критики чистого разума»
утрачивает свое самостоятельное значение и рассматривается как одна
из форм рассудочной деятельности5. Подчинение
трансцендентального воображения деятельности рассудка имеет выраженную
антипсихологическую направленность. Оно отражает дальнейшее
усиление Кантом позиций «трансцендентального идеализма» и
сопутствующее ему стремление окончательно избавиться от
элементов психологизма.
В тексте второго издания «Критики чистого разума»
трансцендентальное воображение тематизировано дважды. В параграфе № 24
«Трансцендентальной дедукции» читаем: «Трансцендентальный
синтез способности воображения — это первоначально-синтетическое
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. С. 50—64.
H. M. Смирнова. Когнитивные функции воображения
241
единство апперцепции, мыслимое в категориях»6. Синтез бывает
двоякого рода: интеллектуальный синтез производится лишь
рассудком без помощи воображения. В свою очередь, фигурный синтез
основан на трансцендентальной способности воображения. Иными
словами, во втором издании «Критики» воображение
трансформируется в разновидность рассудочной деятельности, так как
категории, по Канту, суть когнитивные инструменты рассудка.
Как обосновывает Кант превращение воображения из
самостоятельной когнитивной способности в функцию рассудка? Так как
наши наглядные представления чувственны, рассуждает Кант, то
способность воображения принадлежит к области чувственности.
Однако синтез может a priori определять чувство со стороны его
формы сообразно единству апперцепции. «В этом смысле, — полагает
Кант, — воображение есть способность a priori определять
чувственность, и ее синтез наглядных представлений сообразно категориям
должен быть трансцендентальным синтезом способности воображения
(курсив мой. — Н. С); это есть действие рассудка на чувственность и
первое применение его (а также основание всех остальных
применений) к предметам возможного для нас наглядного представления»7. И
далее: «Рассудок под именем трансцендентального синтеза
способности воображения производит на пассивный субъект, способностью
которого он является, такое действие, которое по справедливости может
быть названо аффицированием внутреннего чувства»8.
В первой главе «Аналитики основоположений» («О схематизме
чистых понятий рассудка») Кант озабочен проблемой подведения
предметов под общее понятие. Проблема, по Канту, состоит в том,
что чистые понятия рассудка совершенно неоднородны с
эмпирическими наглядными представлениями. Как возможно, чтобы чистые
понятия могли применяться к явлениям? Кант предполагает, что для
этого должно существовать нечто третье, однородное в одном
отношении с категориями, а в другом — с явлениями и обусловливающее
возможность применения категорий к явлениям. «Это
посредствующее представление, — убежден Кант, — должно быть чистым (не
заключающим в себе ничего эмпирического) и тем не менее, с
одной стороны, интеллектуальным, а с другой стороны, чувственным».
Такой характер, по Канту, имеет трансцендентальная схема9. Такая
схема однородна, с одной стороны, с категориями, а с другой — с яв-
6 Кант И. Критика чистого разума. С. 115.
7 Там же.
8 Там же. С. 116.
9 Там же. С. 127.
242 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
лениями. Она носит чувственный характер, связывая многообразие
в созерцании, и интеллектуальна, так как носит всеобщий,
априорный характер. Когнитивная функция схемы — трансформировать
образы на пути к формированию понятий. Сущность
трансцендентального схематизма, таким образом, в синтезе чувственного
содержания и чистых априорных понятий рассудка — двух «корней»
нашего познания, различных по своей когнитивной природе.
Когнитивная амбивалентность трансцендентальной схемы
позволяет ей опосредовать процесс подведения явлений под
категории рассудка. Схематизм рассудка через трансцендентальный
синтез способности воображения обеспечивает единство
многообразия во внутреннем чувстве — трансцендентальное единство
апперцепции. Воображение, по Канту, включено в структуру
интеллектуального содержания схемы и подчинено рассудочной
деятельности. Трансцендентальная схема становится «формальным и
чистым условием чувственности». Таким образом, в анализе
трансцендентальных условий возможности подведения предмета под
априорные рассудочные понятия Кант производит замену
психологически нагруженного понятия воображения на
идеально-чистую «трансцендентальную схему».
Однако полагать, что с помощью понятия трансцендентальной
схемы Канту удалось дать исчерпывающее объяснение того, каким
образом происходит подведение явлений под схематизм чистых
понятий рассудка, возможно, преждевременно. Известный
отечественный исследователь философии Канта В. А. Жучков полагает,
что учение о трансцендентальной схеме следует отнести скорее к
числу «оговорок», которые не вполне вписываются в общую логику
его рассуждений10.
В посткантовской немецкой классической философии Фихте
и Шеллинг прибегали к использованию понятия воображения для
обозначения той способности, посредством которой реальность
предстает рассудку, как к посреднику между теоретическим и
практическим. Но наибольшее влияние кантовские представления о
воображении как посреднике между чувственностью и рассудком
оказали на Г. В. Ф. Гегеля11. Функция воображения в гегелевской
10 Жучков В. А. Кант и проблема сознания // Философия сознания: история и
современность. М., 2003. С. 60.
11 Известно, что Гегель по-разному оценивал влияние на него Канта в различные
периоды своей философской деятельности. На всем протяжении своего
творчества Гегель сохранял неизменным упрек в адрес Канта в том, что его теория
познания носит психологический характер, имея в виду субъективизм его учения о
чувственном познании («Трансцендентальной эстетики»), трактовку «явлений» и
H. M. Смирнова. Когнитивные функции воображения
243
теории познания — в раскрытии содержания понятия
«представление». В отличие от созерцания, представление имеет выраженную
рефлексивную природу. Гегель выделяет три ступени представления.
Припоминание, равно как и воображение, имеет образный характер.
Но, в отличие от воображения, припоминание непроизвольно, а в
отличие от созерцания — менее полно и определенно. Образы
припоминания не имеют связи с местом и временем, но сохраняют
некоторую связь с созерцанием. Припоминание, по Гегелю, является
достоянием субъекта. Но для того, чтобы возвести его ко всеобщим
формам бытия и познания, припоминание и нуждается во второй
ступени представления — воображении. Сила воображения
(Einbildungskraft) выталкивает образы припоминания в сферу сознания.
Воображение входит в сознание произвольно, без непосредственной
связи с созерцанием. При этом воображение не только
воспроизводит, но и осуществляет функцию ассоциации образов — в этом
пункте рассуждений Гегеля, по-видимому, в наибольшей степени
сказалось влияние Канта, учение которого о продуктивной способности
воображения Гегель высоко ценил. Ассоциирующая сила
воображения и способность сопоставления образов позволяет воображению
достичь искомой Гегелем всеобщности и осуществить переход к
третьей ступени представления — памяти12. Воображение, по Гегелю,
выступает как деятельность когнитивного синтеза сознания,
опосредующего связь созерцания и представления.
2. Трансцендентальная феноменология
о роли воображения в познании
Феноменологическое понимание воображения как
интеллектуального созерцания (интуитивного усмотрения сущности)
тяготеет скорее к кантовской, нежели гегелевской его интерпретации.
Я имею в виду тот аспект кантовской теории воображения, где
пространства-времени. Т. И. Ойзерман полагает, что обвинения Гегелем Канта в
психологизме не справедливы: «Приписывание Канту не философского, а
психологического понимания человека, познания природы и в наше время часто
встречается в историко-философской литературе. Однако все, кто разделяет
представление Гегеля о психологическом характере учения Канта, глубоко заблуждаются».
См.: Ойзерман Т. И. Кант и Гегель. Опыт сравнительного исследования. М., 2008.
С. 483—484. Однако Гегель всегда высоко оценивал учение Канта о продуктивной
способности воображения.
12 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1977. С. 275—316.
244 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
речь идет о синтезирующей (обобщающей) его функции. По
Канту, трансцендентальный синтез способности воображения — это
первоначально-синтетическое единство апперцепции, аналогом
которого в трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля
можно полагать ноэтико-ноэматическое единство, конституированное
совокупностью интенциональных актов. Ноэма — это сам интен-
циональный предмет, ноэза же — способ ее презентации в
сознании, который чаще всего ускользает от внимания исследователя,
не прошедшего дисциплинирующей мышление школы
трансцендентальной феноменологии: мы, как правило, видим сам предмет,
но не замечаем способов его «видения». Кант выделяет два типа
синтезов: интеллектуальный синтез производится лишь рассудком
без помощи воображения, тогда как фигурный синтез основан на
трансцендентальной способности воображения. То, что Кант
назвал фигурным синтезом, вполне корректно сопоставимо с
функциональными характеристиками гуссерлевой ноэзы.
Следуя кантианским традициям, Э. Гуссерль бросает
решительный вызов онтологической метафизике «наивного вещизма»
образов, т. е. уподобления их уменьшенным копиям самих вещей.
В «Логических исследованиях» он выдвигает изящный аргумент
против уподобления воображения копированию. Представление
об образе как зеркальном отражении вещи предполагает, что у
воспринимающего есть непосредственный когнитивный доступ как
образу, так и к оригиналу для установления аналогии между ними.
Но у нас нет и не может быть как внешней позиции по отношению
к своему сознанию, так и прямого доступа к оригиналу «самому по
себе», вне ноэтических форм его ментальной репрезентации.
Наивная же теория отражения базируется на неявно предполагаемой
возможности прямого сравнения образа и оригинала как якобы
данного «поверх» когнитивных форм его представленности
сознанию (ноэзы).
По Гуссерлю, сущность образа может быть понята исходя из ин-
тенциональности сознания, т. е. представления о том, что любое
сознание есть сознание чего-либо. Образ — один из способов
направленности сознания на объект. Воображение — фундаментальная
процедура усмотрения сущности (Wesensschau) объекта. Она
осуществляется путем мысленного варьирования его свойств с целью
выявления сущностных предикатов. Границы, в пределах которых
подобное мысленное варьирование свойств возможно,
детерминированы сущностью предмета — второстепенные предикаты можно
«опустить», сущностные же предикаты — нет. Предположим, мы
хотим уяснить, в чем сущность куба. Мысленно экспериментируя
H. M. Смирнова. Когнитивные функции воображения
245
(«вращая») с этим геометрическим телом, мы абстрагируемся от
тех его свойств, которые представляются не имеющими отношения
к его сущности. Варьируя в воображении такие его
характеристики, как размер, цвет, состав, плотность, мы, очевидно, не
изменяем сущности этого предмета: куб остается кубом, будь он большим
или малым, легким или тяжелым, белым или цветным. Но если мы
изменим угол наклона его боковых сторон к основанию или
разрежем куб пополам, то очевидным образом изменим существо этого
геометрического тела. Следовательно, сущностью «кубичности»
будет тот «сухой остаток» свойств (сущностных предикатов),
которые присущи ему как его неотъемлемая часть, выявляемая в
процессе воображаемого варьирования его характеристик.
Аналогичным образом, с помощью воображения мы можем не
только «вычитать», но и «добавлять» свойства предмета, данного
нам в «частичном» восприятии. Так, если мы видим лишь фасад
дома, но не воспринимаем других его сторон, мы можем
идентифицировать этот предмет как дом, «достроив» его в собственном
воображении (если нет оснований предполагать, что перед нами
потемкинская деревня). Интуитивное усмотрение сущности, по
Э. Гуссерлю, — одна из базовых операций познания, лежащая в
основе всех абстракций науки и философии.
В конститутивной феноменологии «позднего» Э. Гуссерля
(«Картезианские размышления») мы встречаемся с феноменологическим
использованием той способности продуктивного воображения,
которую описал Кант. Исследуя процедуры
феноменологического конституирования трансцендентальной предметности, в пятом
«Картезианском размышлении» Э. Гуссерль задается философски
самым сложным вопросом — построения смыслов не только
трансцендентальных предметов как центров мировых отношений, но
Другого как обладающего собственным сознанием и миром интен-
циональных предметностей. Осуществив редукцию к сфере
принадлежности (примордиальной сфере), я обнаруживаю в ней предмет,
который «ведет себя» подобно мне самому, в «эмпирически сходной
кинестетической манере», рассуждает Э. Гуссерль. Именно здесь
вступает в действие продуктивное воображение — способность к
спонтанной ассоциации, интуитивному улавливанию сходства.
Э. Гуссерль особо подчеркивает, что перенос предметного смысла
с одного предмета на другой (аналогизирующая апперцепция) —
представляет собой не логическую операцию, но именно
ассоциативную деятельность воображения. С его помощью осуществляется
«образование пар» (Paarung) — объединение предметов,
обладающих сходным смыслом, с последующим переходом ко множествен-
246 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
ным конфигурациям. Таким образом, посредством ассоциативного
воображения смысл моего Я, обладающего сознанием и атрибутами
духовности, рассуждает Э. Гуссерль, в примордиальной сфере
переносится на функционально схожий предмет, способный управлять
своей телесностью. Такова роль продуктивной способности
воображения в подходе Э. Гуссерля к решению фундаментальной
общефилософской проблемы интерсубъективностии', по его замыслу,
позволяющей ему аргументировано ответить на предъявляемые ему
обвинения в трансцендентальном солипсизме.
В постгуссерлевской феноменологии вопрос о когнитивных
функциях воображения обрел дальнейшее развитие
преимущественно в рамках экзистенциальной феноменологии (Ж.-П. Сартр)
и феноменологической герменевтики (П. Рикер). В центре
внимания первой — специфика образа и восприятия, второй —
образа и знака. Ученик и последователь Э. Гуссерля Ж.-П. Сартр в
работе «Воображение» (1936) развивает далее критику Э.
Гуссерлем наивной онтологии образов, т. е. представление об образе как
уменьшенной копии вещи, находящейся в сознании. Источник
подобной метафизической иллюзии, полагает Сартр, коренится в
«опространствливании воображения», т. е. привычке мыслить
воображаемые предметы как расположенные в пространстве. В
подобном случае сознание уподобляется внутреннему пространству,
в котором располагаются уменьшенные копии-вещи, называемые
образами. «На деле же существование в образе есть
трудноуловимый модус бытия, — утверждает французский экзистенциалист. —
Для этого необходимо напряжение ума; особенно же необходимо
избавиться от почти непреодолимой привычки создавать все
модусы существования по типу физического существования»14.
В построении собственной теории воображения Ж.-П. Сартр
опирается на восходящую к Ф. Брентано и развитую Э.
Гуссерлем концепцию интенциональности, согласно которой любой
образ сознания обладает предметной наполненностью (материей
образа — hyle), т. е. является образом чего-то. Ключевой вопрос
экзистенциально-феноменологической теории образа —
выявление специфики образа в отношении восприятия. Для ответа на
него необходимо дать феноменологическую дескрипцию интенци-
ональной структуры образного сознания. В чем специфика интенции
13 Husserl Е. Cartesian Meditations. An Introduction to Phenomenology. The Hague,
1963.
14 Сартр Ж.-П. Воображение / Пер. с фр. H. В. Вдовиной // Воображение в свете
философских рефлексий. М., 2008. С. 375—376.
H. M. Смирнова. Когнитивные функции воображения
247
образа в сравнении с интенциональностью перцепции, или более
конкретно материи образа и материи восприятия?
Ответ Сартра таков: в перцепции наше внимание направлено
на объект в его целостности, тогда как образ воображения экзи-
стенциализирует его отдельные смысловые характеристики.
Воображение представляет нам предмет в его релевантных,
значимых характеристиках, тогда как менее значимые, по выражению
Ж.-П. Сартра, «неантизируются» (от фр. Néant — ничто),
«выводятся из игры» (Э. Гуссерль). Ученик Гуссерля обращается к
известному примеру своего учителя — гравюре А. Дюрера «Рыцарь,
смерть и дьявол». Мы можем воспринять ее и как объект-вещь, и
как объект-образ в зависимости от структуры интенциональных
актов. В перцепции мы воспринимаем картину как таковую —
рисунок на медной пластине, тогда как образы воображения
«просвечивают сквозь восприятие», рисуя нам рыцаря и его окружение.
Образ дан сознанию посредством квази-созерцания, которое, как и
трансцендентальная схема Канта, опосредует чувственность и
рассудок, возвышаясь над непосредственной чувственностью. Если,
созерцая картину в живом восприятии, мы в состоянии разглядеть
ее конкретные особенности, например породу коня, на котором
восседает рыцарь, то квази-созерцание не позволяет нам этого
сделать. Оно дает скорее смысл изображаемого как бытие
воспринимающего, т. е. «образ» реальности, обусловивший композиционные,
колористические и иные особенности восприятия картины.
3. Воображение и метафора: между образом и знаком
Для экзистенциальной герменевтики характерен перевод
эпистемологической проблематики в семантический план. Самым
ярким представителем этой традиции является П. Рикер. Однако
разрозненные высказывания о взаимоотношении образа и знака
обнаруживаются еще у Аристотеля. Он полагал, что дар создавать
хорошие метафоры зависит от способности схватывать сходство, а
живучесть метафоры — от способности наглядного представления
смысла в образах.
Проблема истоков метафоры и ее связи с воображением
активно обсуждалась в контексте теоретико-познавательного поворота в
философии Нового времени, в частности, во французском
материализме XVIII века. Возникает ли метафора из прямой референции,
которая в речевой практике обрастает символическими коннота-
248 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
циями? Или же, напротив, символический («переносный») смысл
метафоры «стирается» в процессе ее употребления, обедняя свое
содержание до прямой референции? Редукция изначального
символического смысла первичной метафоры до прямой референции
означает, что «вещи называют своими именами».
Кондильяк усматривал начало языка в первичной метафоре, но
полагал ее источником не продуктивное воображение, а нечеткость
исходных представлений, допускающих множественную
интерпретацию. Ж.-Ж. Руссо же, напротив, полагал метафору средством
репрезентации чувственных впечатлений: ее главная функция —
объективировать человеческие чувства. В концепции метафоры Руссо
воображение играет конститутивную роль: если человека, к
примеру, пугает тот или иной объект, он строит фантазийный образ чего-
то огромного и страшного15.
Современные подходы к проблеме взаимосвязи метафоры и
воображения сводятся к дилемме: можно ли с исчерпывающей
полнотой перевести содержание образа в знаковую форму, на язык
метафоры например, или же семантических ресурсов даже и
метафорического языка для этого недостаточно? Ядро проблемы
состоит в следующем: может ли пиктографическая («изобразительная»)
функция метафорического смысла «заместить» собой
пространственную компоненту образов воображения? Если да, то образ
воображения — лишь этап на пути формирования понятия.
Представитель феноменологической герменевтики П. Рикер
причисляет себя к сторонникам второго подхода. Он полагает, что
семантических ресурсов метафоры недостаточно16 для выражения
содержания образов воображения. П. Рикер предлагает выйти за
пределы узко семантического подхода к исследованию метафоры
и применить психологию воображения к ее семантике, т. е.
дополнить семантическую теорию метафоры психологией воображения.
В работе под символичным названием «Метафорический
процесс как познание, воображение и чувство»17, опубликованной в
Ученых записках Чикагского университета, П. Рикер пытается
показать, что теория метафоры должна располагаться на границе
семантики и психологической теории воображения. «Вопрос, к
которому я обращаюсь, — поясняет он, — состоит в том, можно ли
завершить такую теорию (метафоры. — Я. С), не включая в нее
15 Как, например, в «Телемахиде» Тредиаковского: «чудище обло, огромно, сто-
зевно и лайяй».
16 Ricœur P. The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling // Critical
Inquiry. 1978. Vol. 5. № 1. P. 143.
17 См.: Critical Inquiry. 1978. Vol. 5. № 1. P. 143-159.
H. M. Смирнова. Когнитивные функции воображения
249
столь существенный психологический компонент, как образ и
чувство. На первый взгляд, — продолжает он, — образ и чувство лишь
замещают недостающие объяснительные факторы. Но нет, образ и
чувство являются ее конститутивными факторами (курсив мой. —
Н. С.) Я хочу показать, что теории метафоры таких авторов, как
Ричарде (I. A. Richards), Блэк (Мах Black) и Бред ел и (М. Breadsley),
принципиально не полны без включения образа и чувства, т. е. без
приписывания семантической функции психологическим
характеристикам, без обращения к сопутствующим факторам, внешним
по отношению к информационному ядру метафоры»18.
Воображение и чувство, полагает П. Рикер, не замещают недостаток
информативного содержания метафорического высказывания, но
пополняют его когнитивный смысл.
Аттестация метафоры как «фигуры речи» (figure of speech)
предполагает, что в метафоре, как и в других тропах, символический
смысл изображаемого воплощается в квази-телесной экстернализа-
ции (quasi-bodily externalization)19. Тропы и, в частности, метафоры,
обеспечивают наглядную визуализацию сообщения. Эта
пиктографическая, или изобразительная (iconic), функция метафорического
смысла — неэлиминируемый элемент воображения вообще и
художественного воображения в частности.
Критикуя классическую теорию метафоры как искажения
(девиации) прямого значения слова, П. Рикер развивает интерактивную
теорию метафоры. Он полагает, что носителем метафорического
смысла является не отдельное слово, а предложение в целом. Если
единицей метафоры считать не слово, а предложение, то суть мета-
форизации — не замена одного слова другим, а изменение
характера взаимодействия субъекта и предиката. В полемике с Ж. Деррида
о роли метафорики в философском дискурсе П. Рикер настаивает
на том, что сущность метафоры заключена не в новом назывании
слова, как может показаться, но в новых смысловых коннотациях
глагола «быть» и связанных с ним операциях предикации20.
Метафора, продолжает он, — есть не что иное, как речевая реализация
предикативного напряжения между «есть» и «не есть». Поясним.
Приписывание предикатов — фундаментальная функция языка.
Суть метафоры, по Рикеру, — предикативное напряжение между
словами во фразе, в коллапсе прямого и «порождении нового
предикативного смысла». Подобная инновация возникает из улавливания
18 Ibid. P. 143-144.
19 Аналогичную интерпретацию предлагает и Роман Якобсон, а также болгарский
теоретик Цветан Тодоров.
20 См. Автономова Н. С. Философский язык Ж. Деррида. М., 2011. С. 361.
250 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
сходства непохожих объектов, операции, подобной той, что описана
Э. Гуссерлем в упомянутом выше пятом «Картезианском
размышлении» («образование пар» на основе ассоциативно схваченного
смыслового сходства). Именно в этом состоит функция воображения в
процессе метафоризации. И именно этим своим положением
интерактивная теория метафоры П. Рикера в наибольшей степени
обязана трансцендентальной теории интерсубъективности Э. Гуссерля.
Поскольку главную семантическую функцию воображения
П. Рикер усматривает в установлении предикативного сходства, то
для экспликации семантической роли воображения необходимо
выяснить, какую именно роль играет воображение в установлении
«единства непохожего». Именно в этом пункте теория метафоры
П. Рикера в наибольшей мере сближается с концептом
продуктивного воображения как инструмента когнитивного синтеза И.
Канта. По П. Рикеру, установление нового предикативного сходства
осуществляется путем актуализации пикторальной (иконической)
функции воображения. Именно усилием воображения
рождается «озарение сходства» (insight to likeness), в котором образ и знак
изначально сплавлены воедино. Уловить сходство — значит
усилием воображения осуществить смысловое отождествление, увидеть
близкое в далеком, знакомое в незнакомом. Воображение
«снимает» логическое напряжение между «тем же самым» и иным,
характерное для логической структуры сходства.
Но чтобы корректно понять работу воображения по
установлению сходства в метафоре, необходимо логически прояснить сам
процесс метафоризации. Как улавливание сходства работает на
продуцирование смысла и как связаны с этой работой пиктораль-
ные, или иконические, моменты? Работу воображения по
улавливанию сходства П. Рикер характеризует как «предикативную
ассимиляцию»21, или установление сходства по предикату («лебедь
бел» и «снег бел»). Именно здесь, в операции по установлению
предикативного сходства22, воображение играет конститутивную роль.
Пространственная функция метафоры проявляется в изменении
расстояния между значениями в логическом пространстве.
Обнаружение сходства — то, что Аристотель назвал эпифорой
метафоры, — есть сдвиг смысла в логическом пространстве.
Воображение, по П. Рикеру, и есть способность продуцировать
новые типы предикативных сходств вопреки и «поверх» различий.
21 Ricœur P. The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling. P. 148.
22 Автор прибегает к игре слов, отсутствующей в русском языке: «assimilation»
means «to make similar», semantically proximate.
H. M. Смирнова. Когнитивные функции воображения
251
Это требует развития навыков воображения: умения видеть
разные вещи в одной и той же перспективе. Сходство — не что иное,
как усмотрение связи, общности существенных свойств,
аналогичное гуссерлеву интуитивному усмотрению сущности. Воображение
представляет собой такую стадию установления сходства, когда
оно еще не схвачено в понятиях. Поэтому вслед за Г.-Г. Гадамером,
полагает П. Рикер, мы вправе говорить о фундаментальной
метафоричности нашего мышления в том отношении, что метафора
позволяет нам обозреть всеобщий процесс образования понятий. В
ней зафиксирован процесс движения к общему путем
«сопротивления различиям». Такова первая семантическая функция
воображения.
Следующий шаг состоит в том, чтобы инкорпорировать в
семантику метафоры пространственное измерение образа.
Необходимо понять, как процесс создания образов управляет
схематизацией предикативного сходства. Образы, возникающие из чтения
художественных текстов, например, продуцируют смыслы —
конкретные репрезентации, возникающие из вербальных элементов и
контролируемые ими. При чтении, например, вербальные смыслы
генерируют образы, которые, так сказать, ре-энактивируют
следы сенсорного опыта. Посредством такого изображения смысл не
только схематизируется, но и может быть прочитан в образе, в
который он вложен. Иными словами, метафорический смысл
генерируется в толще образов, продуцируемых вербальной структурой
художественного произведения. Эта вторая ступень рикеровой
теории воображения вплотную подводит нас к границе чистой
семантики и психологии, а точнее, к границе между продуктивным
воображением и психологией репродуктивного воображения.
Метафора выражает сдвиг от чувства к референции. Но
метафорическая референция не является прямой: она «расколота»
(множественна). Негативной предпосылкой метафорической
референции является воздержание (suspension) от использования
слова в его прямом значении. Для прояснения понятия
расколотой референции П. Рикер сопоставляет его с термином Р.
Якобсона «расщепленный смысл» (split sense). «Я предлагаю использовать
словосочетание Якобсона «расщепленный смысл» в дискуссии о
референциальной функции метафорического высказывания. Это
высказывание содержит в зародыше все, что может быть сказано
о метафорической референции. Суммируя, можно сказать, что
поэтический язык говорит не только о реальности, но обращается к
ней с помощью комплексной стратегии, включающей в себя в
качестве существенного компонента "воздержание" от обыденного
252 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
использования, прямой референции, присущей дескриптивному
языку. Это референции второго порядка по отношению к прямой
референции обыденного языка»23.
«Работа» воображения, согласно П. Рикеру, — необходимое
условие раскола референции. «Расщепленный смысл» (Р.
Якобсон) новой метафоры — это возникновение новой семантической
релевантности, или уместности, на руинах прямого смысла,
новая интерпретация. Фантазия — яркий пример расколотой
(множественной) структуры референции, присущей метафорическому
суждению24. Достигаемое с помощью воображения расщепление
референции представляет собой функциональную основу
метафорического смысла.
Суммируем представления о роли воображения в процедурах
образования метафор в рамках феноменологической
герменевтики П. Рикера. Интерактивная теория метафоры, согласно П.
Рикеру, — это модель изменения нашего видения и восприятия мира.
Воображение не только схематизирует установление
предикативного сходства (предикативную ассимиляцию) между терминами и
даже не только изображает смысл благодаря визуализации в
образах. Оно вносит свой вклад в «воздержание» (в смысле гуссерлевой
трансцендентально-феноменологической редукции) от обыденной
референции и в проектирование новых возможностей
«переописания» мира. Воображение поставляет модели смысловых
инноваций, нового «прочтения» реальности. Воображение обращает
нас к глубоко укорененным возможностям реальности, не
актуализированным в настоящем. В проектировании возможных миров
будущего предметного освоения — не только когнитивная, но и
глубоко укорененная в человеческом переживании реальности
онтологическая функция воображения.
23 Ricœur P. The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling. P. 153.
24 Op. cit. P. 155.
П. А. Ольхов
Ratio vocans:
перспектива культурно-исторической
эпистемологии
Истина — не просто адекватная
информация о мире. Я думаю, любую попытку
прояснить это понятие следует начинать не
с отсыла к когерентной,
корреспондентской или какой другой теории истины, а
с напоминания о том, что в европейской
культуре идея истины со времен Платона
выражала отнюдь не просто соответствие
информации о мире миру, но особую
форму приобщения к бытию — приобщение к
подлинному бытию.
Б. И. Пружиним2
Со времени публикации монографии Б. И. Пружинина, в
которой была предложена и обоснована концепция
культурно-исторической эпистемологии, прошло пять лет3.
Работа эта имела весьма полемический настрой и была
наполнена критическими суждениями в отношении
многочисленных эпистемологических концепций последнего времени.
Несогласие с «прагматико-практической» ориентированностью,
возобладавшей в современной эпистемологии и философии науки,
здесь проявилось в отношении бессодержательных «прескриптив-
ных» и наивно «дескриптивных» методологических стратегий, а
также в связи с распространившейся массовой гносеологической
терпимостью к паранаучным практикам, чарующим и
разрушительным одновременно. Склонность мыслить услужливо, умаляя
вплоть до забвения конкретные смыслы научных исследований,
1 Работа выполнена при финансовой поддержке фанта РГНФ. Проект № 14-03-
00068 «Проблема диалога в философии, культуре и политике: вызовы 21 века».
2 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009. С. 197.
3 См., например: Смирнова И. М. Рецензия на книгу Б. И. Пружинина «Ratio
serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии» // Вопросы
философии. 2010. № 4. С. 181-184.
254 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
привела, как это замечал Б. И. Пружинин, к настоящей драме
эпистемологического рассеяния.
Полемический пафос, который пронизывает монографию,
позволяет различить ее первый концептуальный контур. В ней прежде
всего возобновляется исходный экзистенциальный выбор
философии науки — актуализуется культурно-историческая миссия
философии, взявшейся выяснить предельные условия возможности
научного познавательного действия. Эта миссия отнюдь не
услужливая. Философское исследование не указывает на политическую
перспективу высвобождения науки, не ставит вопрос о свободе
науки. Стержневой проблемой всякой философии является «вопрос
об отсутствии свободы»; «философия только подводит к "вратам
свободы", она способна лишь критически продемонстрировать
человеку, что он несвободен и указать на то, что мешает
человеку становиться свободным»4. Тем не менее, в истории философии
были и такие времена, когда вместо критической демонстрации
несвободы, человек провозглашался «мерой всех вещей». Такие
решительно антиметафизичные времена были и в философии науки:
«В науке нет никаких "глубин"; везде только поверхность: все
данные опыта (Erlebte) образуют сложную, не всегда обозримую, часто
лишь в частностях понятную сеть. Все доступно человеку, и человек
является мерой всех вещей. Здесь проявляется родство с
софистами, а не с платониками; с эпикурейцами, а не с пифагорейцами; со
всеми, кто отстаивает земную сущность и посюсторонность.
Научное понимание не знает никаких неразрешимых загадок»5. С тех пор
многое переменилось. Современное философское исследование
должно «выявить в самой науке обстоятельства, по которым
свобода оказывается теперь ненужной науке (ученому)»; соответственно,
требуется уточнить «обстоятельства, по которым философия стала
не нужна науке. Надо понять эти обстоятельства как культурно-
исторические, т. е. как созданные самим познающим человеком»6.
Эпоха надежд на то, что наука решит все проблемы
человечества, давно миновала, однако не подлежит сомнению
познавательная реальность науки, ее культурно-историческая значимость.
4 Пружиним Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии.
С. 26. См. также выступление И. Т. Касавина: Философия науки: проблемы и
перспективы (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2006. № 10. С. 7.
5 Карнап Р., Тан Г., Нейрат О. Научное миропонимание — Венский кружок //
Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное / Пер. с нем. А. Л. Никифорова.
Под ред. О. А. Назаровой. М., 2006. С. 62.
6 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. С. 27.
П.АОльхов. Ratio vocans: перспектива культурно-исторической эпистемологии 255
Б. И. Пружинин показывает, что сегодня наука в стремлении
«услужить» мимолетным увлечениям «среднего» человека рискует
потерять свое культурное достоинство, свой статус «независимой
духовной инстанции». Современные тенденции научной
политики и различные варианты социологической рефлексии над наукой
таковы, что «фундаментальная устремленность к истине»,
мотивирующая научный разум, никого уже как бы больше не интересует.
Такое отношение к науке во всех сферах общества, в том числе и
в определенных кругах философии науки, приводит к нарушению
баланса экзистенциальных мотиваций научного разума и
нарастанию угрозы для культуры, в которой науку перестают замечать в ее
предельных смыслах, в ее культурной самодостаточности7. Таким
образом, «смелость судить о мире объективно»8 воспринимается
сегодня и в обществе, и многими философами науки как «научное
донкихотство», как «смелость» борьбы с ветряными мельницами...
Все это привело к тому, что современная культура, в том числе и
культура научного знания, оказалась «без идеалов» (читай — «без
истины»), что постепенно размывает историческую целостность
научного знания, его концептуальное ядро. Появляются (и
весьма в обществе поддерживаются, в том числе и на государственном
уровне) логизирующие конструкции, претендующие на статус
науки, по целому ряду эпистемологических параметров от науки
неотличимые, но науке чуждые по самой ее сути, научно имитативные
или, точнее, псевдонаучные9. Непреложным конвенциональным
условием науки как особой сферы культуры является сообщаемость
различных научно-познавательных практик в меру их истинности,
их конкретно-коммуникативное единство, которое обеспечивается
балансом первичных культурно-исторических мотивов или иначе
символическим характером этого единства. Символичность
научной коммуникации, ценностная нерасторжимость истинностного
и выразительно-знакового ее аспектов позволяет увязать в некое
открытое речевое целое познавательный опыт науки10.. Так дает
себя знать второй монографический контур.
Эти два контура обусловливают энциклопедическую
тональность данного исследования. Концепция культурно-исторической
эпистемологии вырабатывалась в череде живых откликов и раз-
7 См.: Там же. С. 10—13. Ср.: «Претензия ученых на постижение истины всегда
была мощным мотивирующим фактором именно в силу своей культурной
самодостаточности». Там же. С. 198.
8 Там же. С. 10.
9 Там же. С. 14.
10 Там же. С. 140-145 и др.
256 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
мышлений на крупные события, происходившие в истории
философской и научной мысли, — те, что становились остро
актуальными в течение последних двух десятилетий". В диалогических
интерлюдиях возникают фигуры Р. Декарта и У. Оккама, Г. Г. Шпе-
та и П. А. Флоренского, традиционные лидеры и новаторы
теоретической географии, психоанализа, педагогических наук и
многие другие — вплоть до персонажей утопического проектирования
науки. Каждая из этих фигур неавтономна и включена автором в
круг разговора, который происходит в близком и испытанном
кругу реального философского сообщества, продолжает и уточняет
проблемно-тематические горизонты возникающих дискуссий.
Сам термин «культурно-историческая эпистемология»
возникает как отклик на фундаментальные размышления П. П. Гайденко.
Именно в разговоре с этим Заслуженным собеседником Б. И. Пру-
жинин уточняет и свои собственные предпосылки и социально-
личностный аспект познания, через который сохранялась
историческая традиция европейской науки как исторического феномена12.
Собственно тема культурно-исторической эпистемологии
возникала в многолетнем личном опыте общения Б. И. Пружинина с
учеными «прикладных» научных направлений: педагогики, географии
и психоанализа13. Вынесение в заглавие книги терминологического
неологизма «культурно-историческая эпистемология» было
связано с предпринимаемыми попытками проанализировать проблему
демаркации науки и псевдонауки, погружая ее в культурные
смыслы, в контексты культурно-исторического сознания науки. При
этом для автора важно, что «появление этого терминологического
изобретения ни в коем случае не означает изобретения какой-то
новой, "постмодернистской" версии эпистемологии...» Этим
неологизмом Б. И. Пружинин подчеркивает «важность рассмотрения
науки как культурного феномена даже в тех случаях, когда речь
идет о формальных структурах научного знания, об анализе
языка науки»14. Подобным образом появляется глава о
предназначении философии и специально эпистемологии и философии науки
в обстоятельном ответе на размышления В. Н. Поруса, В. М. Ме-
11 Монография Б. И. Пружинина опубликована с интервалом в двадцать три года
после выхода в свет его же книги, посвященной проблемам рациональности и
исторического единства научного знания. См.: Пружинин Б. И. Рациональность и
историческое единство научного знания. М., 1986.
12 См.: Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. С. 85.
13 Там же. С. 14.
14 Там же. С. 30-31.
П. А. Ольхов. Ratio vocans: перспектива культурно-исторической эпистемологии 257
жуева и И. Т. Касавина15. В кругу непрерывного живого общения
Б. И. Пружинина — Н. С. Автономова, Н. В. Карлов, Л. М.
Косарева, В. А. Лекторский, М. К. Мамардашвили, Е. А. Мамчур,
Л. А. Микешина, В. И. Молчанов, А. Л. Никифоров, М. В. Рац,
Т. Г. Щедрина и многие др.
Культурно-историческая эпистемология ничуть не
противопоставлена иным исследовательским программам; в ней нет никакой
нарочитости «модельного» мышления, и в этом смысле она
настроена на укрепление единства эпистемологической и эмпирической
научной мысли, на последовательное философское трезвомыслие,
чуждое как «наваждению скептицизма» (С. Л. Франк), так и
догматизму пустых прескрипций. Ко всему «приходится
констатировать: основные традиционные категории классической
эпистемологии, которые используются сегодня для обсуждения всех этих
проблем, воспринимаются как что-то архаическое, а популярный
ныне концептуальный аппарат... обеспечивает лишь историческую
дескрипцию некогда произошедшего в науке и никакого
ориентирующего... значения для динамики науки не имеет»16. В этом
живом речевом энциклопедизме проявляется открытость «культурно-
исторической эпистемологии» Б. И. Пружинина.
Философия науки, ориентированная как на точное,
естественно-научное, техническое, так и на социальное,
гуманитарное знание, долгое время была погружена в обсуждение логико-
эпистемологических структур познавательной деятельности — то,
как они предстают извне научного самосознания. Научная
рациональность при этом представала в довольно факультативном по
отношению к конкретно-научным познавательным практикам виде,
как их смысловой образ или идеальный горизонт. Все
увеличивающийся разрыв между философскими исследованиями,
потребностями общества, а также методологическим самозамыканием
научного знания привел к появлению многочисленных аберраций во
взаимопонимании, к мнимому расширению пространства научного
понимания «по горизонтали» за счет внеэпистемологических,
квазифилософских симбиозов истории и математики («новая
хронология»), астрономии и культурологии (астрологические практики),
культурологии и психологии (ведовство) и т. п. Сегодня проблема
демаркации научного и вненаучного знания приобрела в сфере
философии науки довольно безнадежный вид. Более того,
современная социологически ориентированная философия науки вообще
15 Там же. С. 25-28.
16 Там же. С. 30.
258 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
может спокойно поставить знак равенства между псевдонаучными
и научными практиками, поскольку ее интересует не более чем их
социальная обусловленность (ведь вопрос об истине, который
маркировал знание и мнение, придавая им онтологическую различен-
ность, вообще сегодня задвинут на второй и даже на третий план).
Тем не менее научная рациональность, а вместе с ней и вопрос
об истине (как вопрос не только о должном, но и о возможном), и
сегодня остаются ключевой философской проблемой. И если
размышлять в рамках культурно-исторической эпистемологии, т. е.
если мыслить как человек, осознающий себя историческим лицом,
то в перспективе в качестве конкретного идеала философии науки и
научности, безусловно, оказывается отнюдь не ratio serviens, но ratio
vocans, как начало, «призывающее» философское и собственно
научное знание к осознанию собственного
культурно-исторического достоинства, которое не исчерпывается внешним наблюдением
или практиками локальной самоидентификации, но проявляется
на личных рубежах культурного самосознания ученых, когда
истина приобретает онтологический статус, как статус познавательного
идеала, обязательно присутствующего в интеллектуальной
культуре. «Научность — культурная, а не только техническая
характеристика когнитивной активности, <...> познание обращено к истине
как элементу культурного самосознания и без понимания этой
обращенности невозможно». Требуется возвращение
«непрагматического смысла в научно-познавательную деятельность»,
возвращение «научному знанию достоинства в отличие от "полезности"»17.
Согласие в таком возвращении заметно прежде всего в
культурно-исторической проекции, как некая экзистенциальная линия
возобновления первичных условий эпистемологического выбора.
Ученый совершает познавательное действие, не осуществляя
бездумно методологическую «инструкцию», написанную раз и
навсегда, но совершая интеллектуальное усилие к «совместному
мышлению» (Г. Г. Шпет). Такую постановку вопроса, как справедливо
замечает Б. И. Пружинин, нельзя назвать новой — новыми
являются те исследователи, которые оказываются таким образом
поставленными перед вопросом о собственной историчности, о мере
совместности и о конкретном характере гуманитарного познания.
В данном контексте позволю себе привести пространную
цитату из нашей коллективной монографии (в ее основании лежит
культурно-историческая эпистемология), одним из авторов и ре-
17 Пружиним Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. С. 31.
П.Л.Ольхов. Ratio vocans: перспектива ^льтурно-исторической эпистемологии 259
дакторов которой является Б. И. Пружинин: «Вопрос о
познавательном выборе, о выборе интерпретации опытных данных,
встающий перед ученым, переносится в сферу сознания и его решение
включает в себя личностное измерение. В этом выборе участвует
сознание ответственности, тема, которая в развернутом виде
предстала в концепции Бахтина — диалог и с предметом и с обществом.
Чего, заметим, лишены современные разновидности
конструктивистской эпистемологии, в лучшем случае, погружающие решение
этого вопроса в стилистику, построенную на обращении к
нейрофизиологической природе человека. Обращение к личности
ученого, исследующего гуманитарную реальность, с одной стороны,
погружает вопрос о выборе способов представления реальности в
знании в культурно-исторический контекст человеческого бытия,
а с другой, акцентирует эпистемологические аспекты темы
самопознания. То, что мы осмысливаем как знание о бытии, имеет
аспекты, наполняющие смыслом наше существование. Осознанная
субъективность собственного взгляда на мир не
противопоставляется здесь претензии разума на объективность. Через познание
мира личность познает себя в мире»18.
Именно поэтому, я думаю, важно согласиться с перспективой
культурно-исторической эпистемологии — с идеей нового
историзма — предлагаемой Б. И. Пружининым; она особенно
актуальна применительно к историческим наукам. Проблематика новой
эпистемологии исторического знания не есть только
проблематика согласия/несогласия с прежними культурно-историческими
формами философии исторических наук. Вопрос в другом. Если
мы мыслим в контексте культурно-исторической эпистемологии,
то справедливо себе отдать отчет о том, что именно сохраняется
в исторической науке в качестве неизменных методологических
ориентиров, а что уходит вместе с эпохой? В этой связи наиболее
острым становится вопрос о рациональности в исторической
науке. Можем ли мы сегодня говорить, что рациональность
исторической науки и есть такой неизменный методологический
ориентир, если понимать под ней абсолютизированный объективизм,
свойственный интеллектуальной культуре европейского
Просвещения19? И мы, конечно, все понимаем, что времена робеспьеров-
ской почтительности по отношению к внеисторическому Разуму
18 Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX—XX
веков: от личности к традиции / Под ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. М.,
2013. С. 151-152.
19 См. об этом: Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007.
260 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
как высшему существу, l'Être supreme, все же миновали. Иной
эпистемологический выбор делают историки «золотого века»
исторической науки, сделавшей свой выбор в пользу рациональности
конкретного смыслополагания в истории: искание истин истории
у наиболее ответственных историков послепросвещенческого XIX
столетия исключает какие-либо жесткие схематизации,
метафизические аллегории или религиозную мечтательность. Иронический
Карлейль в новелле, названной «Мумбо-Юмбо» и посвященной
учреждению религии мудрости, празднику догматической
рациональности, назначенному в самый разгар Французской
революции, не щадит и самого Робеспьера: «Мумбо есть Мумбо, и
Робеспьер — пророк его»20.
Подобным образом представляют преимущественно отчетный,
«дескриптивный» интерес попытки
экзистенциально-эпистемологической коррекции истории как некоей моральной идеи,
автономного этико-познавательного феномена, который имеет свою
концептуальную историю21. Однако последовательное доверие к
рациональности исторического знания предполагает принятие его
не как некоторой идеи, а как продуктивного опыта: требуется
возобновление самих его экзистенциальных оснований, его первичной
заданности как именно ответного знания, «ис-следования-ради».
Горизонт эпистемологического согласия в исторических науках
имеет герменевтико-диалогический характер, и он все более
намечается после «после истории» — в драматической ситуации
эпистемологического рассеяния, или, на нынешнем жаргоне
эпистемологической подлинности, ситуации «post-post-mo»22. Территория этого
рассеяния вполне описана; и вполне вырабатываются стратегии
собирания утраченных или полузабытых перспектив.
Это стратегии не изобретаемые, а скорее, обретаемые вновь.
Перечитывая книгу Б. И. Пружинина, я натолкнулся на описание
листка из архива Г. Г. Шпета с весьма важной для темы всей книги
рассуждением:
«Достоинство знания. — Достоинство. Конкретное знание.
Уразумение. История. Переход от теоретического уразумения к
нравственному.
20 Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991. С. 517.
21 Надежду на реабилитацию этого интереса выражает А. Мегилл. См., например:
МегиллЛ. Старый вопрос, поставленный вновь: существует ли моральный прогресс
в истории? / Пер. Н. В. Мотрошиловой и М. А. Кукарцевой // «Феноменология
духа» Гегеля в контексте современного гегелеведения. М., 2010. С. 650—661.
22 Сокращение от «post-post-modernity». См., например: Доманска Э. Философия
истории после постмодернизма / Пер. с англ. М. А. Кукарцевой. М., 2010. С. 3.
П. А. Ольхов. Ratio vocans: перспектива культурно-исторической эпистемологии 261
Юркевич говорит, что "достоинство знания" не определяется
количеством доказательств... Достоинством определяется знание
конкретное... Это понятие (достоинства) — по существу
нравственного происхождения, но оно играет большую роль, раз речь заходит
о цельном знании. Такое знание не доказывается, а определяется
по достоинству. — В научном знании оно может найти применение
в истории»23.
Этот отправной экзистенциальный пункт
культурно-исторической эпистемологии, на который может отозваться не только
Г. Марсель или по-своему M. M. Бахтин; это пункт, к которому,
как некоторому возвратному началу, стремятся и историки, о
намерениях которых свидетельствуют с редкостной личной
откровенностью А. А. Формозов и А. Я. Гуревич... Мне самому, после
некоторых, пусть и не слишком значительных усилий в области
эпистемологии исторического знания хотелось бы теперь признать
этот пункт ключевым.
23 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. С. 31-32.
Т. Г. Щедрина
Культурно-историческая эпистемология
и социальная эпистемология:
два пути к реальности
Размышляя о тенденциях развития современной
российской философии, Б. И. Пружинин выделил три основных
направления, ориентированных на «анализ
социокультурных аспектов познания»2: 1) «конструктивный реализм» и
философский анализ когнитивных процессов; 2)
«культурно-историческая эпистемология»; 3) «социальная эпистемология».
И хотя каждое из этих направлений исследует познание, они тем
не менее отличаются друг от друга не только методологически, но
и предметно. Первое направление рассматривает познание
преимущественно как процесс, два других — познание как социальный
и культурный феномен. Сосредоточим внимание на соотношении
культурно-исторической и социальной эпистемологии. Важно
осмыслить разницу между двумя этим способами исследования
познания, выявить их методологические расхождения.
Замечу, что сегодня оба эти направления не имеют достаточно
жестких понятийных границ, внутри них есть течения, имеющие
свои ориентиры в понимании и интерпретации знания и
социальности. И это понятно, поскольку делаются акценты на разных
аспектах социальной реальности. Тем не менее попытаемся
охарактеризовать методологические возможности и перспективы в целом
каждого из направлений.
«Социальная эпистемология исследует то, как знание
существует в обществе»3. Ее не интересуют, как классическую эпистемо-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект № 14-03-
00399 «Феноменологические штудии Густава Шпета как основа его "философской
жизни" (историко-философская реконструкция архива)».
2 Пружиним Б. И. Философия России сегодня: тенденции и перспективы //
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. № 3.
3 Касавин И. Т. Социальная эпистемология // Энциклопедия эпистемологии и
философии науки. М., 2009. С. 909.
Т. Г. Щедрина. Кулътур1Ю-историческая:мшстемо^^ 263
логию, источники знания сами по себе (объект, субъект и условия
познания). Для социальной эпистемологии «все три источника
знания <...> сводимы к одному — к социальным условиям познания.
И субъект и объект являются социальными конструкциями;
познается только то, что представляет собой часть человеческого мира, и
так, как это диктуют социальные нормы и правила. Таким образом,
и содержание и форма знания социальны от начала и до конца»4.
Иначе говоря, социальная эпистемология акцентирует социальные
условия познания, растворяя знание как феномен в этих условиях.
Методологическая программа социальной эпистемологии имеет
глубокие основания в процессах, которые сегодня захватывают
науку. Социальная эпистемология фактически описывает реальность
современной науки, превращенной в гигантский социальный
институт, подчиняющийся тем же ценностным установкам и нормам,
которым подчиняется современное общество, где правят власть и
деньги. Наука в рамках социальной эпистемологии предстает
скорее как Левиафан-государство, чем как гражданское общество,
имеющее свою культурную автономию. И прежде всего потому, что
хотя и в том и другом случае знание и наука предстают как
социальные феномены, социальная эпистемология просто не принимает во
внимание их специфику. И знание и наука — феномены
социального сознания, а потому к ним неприложимы некоторые параметры
иных социальных явлений. В частности, ни к знанию, ни к науке
непосредственно неприложимо правовое регулирование.
Этот аргумент об отсутствии правового регулирования знания и
науки приведен здесь не случайно. Я взяла его из работы Г. Шпета
«Новейшие течения социальной науки»5, поскольку он сыграл
важную роль на пути Шпета к феноменологии. И я полагаю, что
феноменологическая ориентированность культурно-исторической
эпистемологии является ее важнейшей характерной чертой и отличием
от социальной эпистемологии. Как подчеркивал Шпет, правовое
регулирование для социального явления — именно внешний признак,
это — его объективное закрепление, его, так сказать, одежда. Но
если мы материализуем социокультурные феномены сознания, что
и делает социальная эпистемология, которая рассматривает объект и
субъект как социальные конструкции, то таким образом мы
обосновываем для науки правовое регулирование как необходимый
признак. В таком случае знание, как, кстати, и образование, теряет свое
4 Там же. С. 908.
5 См.: Шпет Г. Г. Новейшие течения в социальной науке // Шпет Г. Г.
Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры. М., 2010. С. 39.
264 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
значение блага, оно уже не оценивается с точки зрения стремления
к высшим достижениям, к научным открытиям, знание становится
товаром, который хотя и является символом, тем не менее, имеет
цену, а не культурно-историческую ценность. Соответственно,
методологическая система норм и предписаний перерождается в научную
политику, базирующуюся на внешнем правовом регулировании.
Культурно-историческая эпистемология, так же как социальная
полагает, что знание в его субъектно-объектной структуре зависит от
социальных условий познания. Однако (если продолжить
метафорический ряд) в отличие от социальной эпистемологии культурно-
историческая рассматривает науку, знание не как государство,
требующее внешнего правового регулирования, но как гражданское
общество, изнутри формирующее свои рычаги управления
(долженствование здесь не внешняя, но внутренняя прерогатива). Здесь пре-
скриптивная методология уступает место самоорганизующемуся
сообществу экспертов, опирающихся на исторический (в том числе и
свой собственный) опыт методологического осмысления конкретных
научных исследований и изнутри регулирующих деятельность ученых.
Я думаю, что с помощью типологии социальности,
предложенной И. Т. Касавиным, довольно трудно в достаточной мере уточнить
«общее (курсив мой. — Т. Щ.) понимание предмета социальной
эпистемологии — отношение знания к социальности и отношение
социальности к знанию»6, поскольку она не дает ответа на
поставленный им самим вопрос: «о какой социальности идет речь в контексте
философского анализа знания»... Кроме того, эта типология не дает
ответа и на вопрос о том, какова специфика научного знания как
определенного типа социальности. Выделенные И. Т. Касавиным
типы социальной предметности коррелируют с направлениями
современной эпистемологии (см. выше). «Внутренняя социальность»
лежит в основании философского анализа когнитивных процессов,
«открытая социальность» составляет фундамент
«культурно-исторической эпистемологии», «внешняя социальность» ориентирует
исследования в области современной «социальной эпистемологии».
Чтобы уточнить обозначенные выше методологические
различения двух направлений современной эпистемологии,
обратимся к истории русской философии, в которой мы можем найти
реальную аналогию социально-эпистемологического и культурно-
исторического подходов, базирующихся на разном понимании
социальности. В центре внимания — методологические установки
6 Касавин И. Т. Социальная эпистемология // Энциклопедия эпистемологии и
философии науки. С. 909.
Т. Л Щедрина. К^галурно-историческая эпистемоиюгия и социальная эпистемология... 265
Густава Густавовича Шпета. Только предметом его исследования
становится иной социально-гуманитарный феномен: не знание как
таковое, но роман как форма знания.
Шпет полагает, что роман можно рассматривать не только как
вид поэтического творчества, обладающий эстетической
значимостью, но как «форму моральной пропаганды», как «чисто
риторическую композицию»7. Он анализирует не роман «вообще» и даже
не «классические» примеры романов-шедевров. Для него важно
понять роман как явление социальное, т. е. роман как проявление
массовой литературы (и с точки зрения писателя и с точки зрения
читателя), имеющее практическую ценность.
Роман как социальный феномен имеет динамическую форму, он
неустойчив, поэтому живуч. Отсутствие устойчивой внутренней
формы дает ему возможность трансформироваться в зависимости от
условий социальной реальности, не теряя при этом конструктивное ядро,
схему. Шпет формулирует характеристики романной формы:
иллюзорность, фантазийность, ироничность. В этих характеристиках романа,
как это ни странно, фиксируется специфика современной культуры
с ее симулякрами, массмедиа, рекламой. Как пробиться к
реальности? Вывод, который делает Шпет, созвучен нашему времени: «Роман
как искусство может падать и возрождаться, быть лучше и хуже, но он
всегда полнее и теплее отзовется на моральные волнения времени и
среднего человека. <...> Только в моменты Возрождения и рождения
новой культуры, когда из самой массы поднимаются творческие
индивидуальные вершины, она родственна им в других отношениях,
тянется за ними, и питает в них собственную аристократию»8.
Так и современная социальная эпистемология исследует
научное знание как социальное явление, т. е. раскрывает его
«идеологический» статус в системе отношений социального
производства9, имеющий практическую ценность. И такой взгляд на науку
безусловно важен сегодня для нас, поскольку фиксирует реальное
положение дел в этой области. Действительно, «в современной
науке — замечает Б. И. Пружинин — нарушился баланс мотиваций —
чрезвычайно значимыми в ней стали прагматические ориентиры,
массив прикладных исследований сегодня резко перевешивает
7 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 499.
8 Шпет Г. Г. Заметки к статье «Роман» // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 88.
9 Касавин И. Т. Социальная эпистемология // Энциклопедия эпистемологии и
философии науки. С. 909.
266 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
сферу фундаментальных»10. Да и Шпет в свое время не случайно
акцентировал внимание именно на социальном статусе романа.
1920-е годы — эпоха «расцвета пролетарского творчества»,
поиск таких «новых» литературных форм, как коллективный роман,
не имеющий «заранее намеченного плана и сюжета. Жеребьевка
определяет автора, который и должен продолжать роман, при чем
он имеет право вводить новых действующих лиц, переносить место
действия и т. д. Единственное требование — и при том чисто
формальное — фабульность и строгая композиция, чтобы чеховское
"ружье" в первом акте — "выстрелило" в четвертом»11. Не таков
ли сегодня научный институт, где конкретный ученый может и не
знать конечную цель исследования, а значит и не имеет
смыслового, ценностного целеполагания своей деятельности?..
Суть социального подхода к исследованию романной прозы
выразил ученик Шпета Борис Горнунг. В его словах — смысл шпетов-
ской позиции по отношению к роману не как литературному
жанру, но как социальному явлению. Итак, Горнунг (позволю большую
цитату) пишет:
«Пышное развитие реалистического романа и повести в XIX веке
мы должны рассматривать трезво и непредвзято. Нельзя
поддаваться гипнозу "великих имен", ставших навсегда "классиками"
мировой литературы. Надо помнить, что Флобер, Гонкуры, Мопассан
(даже Золя), Теккерей, Диккенс, Готфрид Келлер, Т. Шторм,
Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, Чехов, Гаршин (и даже Щедрин,
Гончаров, Писемский и Короленко) были единицами среди сотен
и сотен авторов, произведения которых не мог "от пошлости
выручать талант" (повторим выражение Г. Шпета), и что
естественная для грамотного человека тяга к чтению <...> вела к отравлению
этой пошлостью одно поколение за другим. <...> И если мы
проявили такой непредвзятый, не одурманенный гипнозом немногих
имен, подход к реалистической беллетристике, мы поймем, что
романом и повестью как формами литературы, наименее
связанными с какими бы то ни было формальными требованиями и
"правилами" (хотя бы и не каноническими, а индивидуальными
"взрывающими" каноны), весьма и весьма умело пользовались прежде
всего проводники очень определенных идей — идей культурного
нигилизма, антиэстетической и — шире — антифилософской на-
10 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009. С. 12.
11 Коллективный роман // Корабль. Литературно-художественный двухнедельник.
1923. № 1-2(7-8).
Т. Г. Щедрина. Культурно-историческая эпистемология и социальная эпистемология... 267
правленности, которую мы выше обозначили как "натурализм" в
более широком, чем обычно, понимании. <...> А роман и повесть
по самой своей сути требуют минимальных способностей автора,
а с другой стороны, допускают максимум "растечения мысли" для
проповеди, поучения и агитации. <...> И как же как не в форме
романа (ведь далеко не все читают статьи и критику) было бы удобнее
и легче изложить "демократические" сентенции и программы,
показать молодому поколению "что делать", иллюстрировать на
конкретных примерах законы классовой борьбы или дарвинизма»12.
Эти слова Горнунга можно считать своего рода исторической
демонстрацией и раскрытием смысла философской идеи Густав
Шпета, в рамках которой им был исследован роман как
социальный феномен. Констатируя социальный смысл романа, и Шпет и
Горнунг критически относятся к эстетическому значению этого
литературного жанра. Однако были и такие исследователи (например,
M. M. Бахтин), которые рассматривали роман именно в
эстетическом ключе, и обращались в таком случае к высоким единичным
образцам (романы Достоевского). При таком повороте на первый
план выходит уже культурно-исторический (ценностный), а не
социальный смысл романа. Впрочем, возможность такого ракурса
рассмотрения романа прекрасно осознавал и Шпет — просто он
ставил перед собой несколько иные, навязанные временем задачи.
Бахтин основывается на том, что «роман — художественный жанр.
Романное слово — поэтическое слово»13. «Роман хотя и сохраняет
связь с живыми риторическими жанрами, он, тем не менее как
"романное слово" сохраняет качественное своеобразие и несводим к
риторическому слову»14. Эти посылки позволяют Бахтину критически
отнестись к рассуждению Шпета о романе как социальном феномене.
При этом Бахтин дает роману характеристику аналогичную шпетов-
ской: роман «...по природе не каноничен. Это — сама пластичность.
Это — вечно ищущий, вечно исследующий себя самого и
пересматривающий все свои сложившиеся формы жанр. Таким только и может
быть жанр, строящийся в зоне непосредственного контакта со
становящейся действительностью»15. Тем не менее на основании цитаты из
«Внутренней формы слова» Бахтин делает вывод о том, что «в эсте-
12 Горнунг Б. В. <Черты европейской литературы конца XIX — начала XX века> //
Горнунг Б. В. Поход времени. М., 2001. С. 247-250.
13 Бахтин M. M. Слово в романе // Бахтин M. M. Вопросы литературы и эстетики:
Исследования разных лет. М., 1975. С. 82.
14 Там же. С. 82.
15 Бахтин M. M. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бахтин M. M.
Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. М., 1975. С. 482.
268 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
тической значимости Шпет роману совершенно отказывал»16. Хотя,
напомню, признание за романом эстетической значимости было для
Шпета не отказом, а проблемой. Для Бахтина эта проблематизация
осталась незамеченной, и может быть потому, что Шпет об этом не
сказал во «Внутренней форме слова» так, как он это сказал в
«Заметках о романе»: «Поэтические приемы романа подлежат суждению
поэтики, но не роман как такой, как конструктивное и композиционное
сооружение с социальными и поэтическими целями. —
(следовательно: у романа своя эстетика — не "поэтическая")»17. И далее:
«Эстетическое в романе идет от стиля, экспрессии (как в сценическом
представлении), но не от поэзии, не от ее внутренней формы (каковой в
романе вообще нет, как своей формы)»18. Роман, в понимании Шпета,
обладает внешней экспрессивной выразительностью и на этом уровне
необходим «анализ роли в романе экспрессивной символики,
регулирующей его морально-риторическую патетику»19.
За таким прочтением, раскрывающим смысл высказываний
Бахтина и Шпета о романе, лежат сложнейшие проблемы
современного литературоведения как гуманитарной науки. И одна из
таких проблем — методологические критерии исследования
романа как социального и культурно-исторического феномена. Иначе
говоря, возникает вопрос о том, можно ли говорить об истинности
или ложности романа как особого типа знания?
В связи с этим хочу отметить, что современные социальные
эпистемологи «рассматривают знание как то, во что просто верится, а также
исследуют то, каким образом убеждения институциализованы в том
или ином сообществе, культуре или контексте. Таким образом они
стремятся идентифицировать социальные силы и влияния,
ответственные за производство знания»20. Но если мы только верим в знание,
верим в истину, то наш мир — это только социальная конструкция?.. Для
социальных эпистемологов — так и есть: «Истинное знание — это
знание, понятое в присущем ему контексте, имеющее смысл
относительно некоторых познавательных и социокультурных координат»21. При
16 Бахтин M. M. Слово в романе // Бахтин M. M. Вопросы литературы и эстетики:
Исследования разных лет. М., 1975. С. 81.
17 Шпет Г. Г. Заметки к статье «Роман». С. 64.
18 Там же.
19 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 499.
20 Касавин И. Т. Социальная эпистемология // Энциклопедия эпистемологии и
философии науки. С. 908.
21 Касавин И. Т. Социальная эпистемология. Фундаментальные и прикладные
проблемы. М., 2013. С. 52.
Т. Г. Щедрина. К^туртю-историчесгаяэпистем^^ 269
таком подходе научная деятельность как осмысленное деяние,
нацеленное на истину (культурно-исторический феномен) отходит на
второй план, на первый выходит наука как форма внешней социальной
организации, как социальный институт, имеющий свой аппарат
насилия (научно-административные и дисциплинарные структуры)... Ведь
только таким образом можно поддерживать среди ученых внешнюю
веру в истину, в знание...
В свою очередь культурно-историческая эпистемология относится
к истине иначе, чем социальная: «Истина самоценна. И стремление
к ней всегда сращивалось со стремлением к столь же абсолютным в
данной культуре ценностям. В науке как особой области культурной
деятельности знание всегда производилось ради знания и потому его
сущностным культурно-мотивационным (гносеологическим)
признаком является использование полученного знания для производства
нового знания. Это определяло его форму, форму научного знания и
его эпистемологические характеристики. Так строилась геометрия
Евклида в контексте обращенной к Логосу натурфилософов Древней
Греции. И это лишь с нашей прагматической, социализованной
точки зрения неважно, что Ньютон постигал мудрость Творца, а не
просто любопытствовал. Между тем, такое познание имело абсолютную
культурную ценность и эта ценность обеспечивала производство
знания ради знания, а стало быть требовала представления информации
о мире в определенных формах, т. е. давало знание, пригодное для
продолжения познания. Мы просто забыли, что знание стало силой у
Ф. Бэкона потому, что на нем был отблеск мудрости Творца»22.
Вот здесь и начинаются сложности с определением того, к
какому из направлений современной эпистемологии ближе шпетовский
подход к исследованию романа. Хотя Шпет предлагает
рассматривать роман именно как социальный феномен, его подход трудно
назвать социально-эпистемологическим и прежде всего потому, что
он не разделяет «веру в истину», которая характерна для этого
подхода. Для него очевидно, что истина есть, она обладает бытийным
статусом: «Истина есть истина, ее связи и отношения — истинны;
видимость есть видимость, связи и отношения в ней случайны,
"вероятны" и гипотетической природы. Каждому свое. Нельзя только
думать, что в сфере истины господствует такая же немощь, как в
наших головах, устремленных на эту сферу; и нельзя думать, что мы
внесем строгий и абсолютный порядок в область по своему существу
случайной и беспорядочной видимости. Другими словами, нельзя
смотреть на "истину" как на "мнение", а на "мнение" как на "ис-
Пружинин Б. И. Надеюсь, что будет жить // Вопросы философии. 2008. № 5. С. 69.
270 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
тину". Это — наши ошибки, когда мы "истину" провозглашаем
относительной и вероятной, а "мнение" — истиной. В
действительности, повторяю, истина — истинна сама по себе, — такова она есть, а
видимость нам кажется, и потому она есть для нас, как она кажется.
"Ты должен все узнать, — говорит сам Парменид, — и
неколебимое сердце совершенной Истины, и мнения смертных, в
которых нет истинной достоверности"»23.
Любой социально-гуманитарный феномен (будь то роман или
наука) для Шпета истинен постольку, поскольку он обладает
самоценностью, существует, есть, действителен. Но при этом надо иметь в виду,
что реальность романа, как и реальность науки это не реальность
материалиста. Она не копируется и не фотографируется, но
преображается. Реальность любого социального и культурно-исторического
феномена всегда осмыслена: «Истинный же путь художественного
творчества требует, чтобы чувственно воспринимаемая
последовательность и сочетание звуков, цветов, линий, движений была
оживлена и осмыслена, чтобы она, как сказано, стала символом. Для этого
и надо показать, что за нею скрывается — ее возможное мысленное
содержание. Для натурализма чувственное довлеет себе, как копия,
как фотографический снимок, передающий все реальное бытие без
остатка. Точность и полнота передачи — достоинство и критерий
оценки. Эстетическое искусство отрешается от натуралистического
бытия, индифферентно к нему, оно оставляет открытою возможность
неопределенного ряда действительностей, а потому критерии и
оценки его — принципиально не связаны с соответствием или
несоответствием образа действительности. Этим, между прочим, отвергается и
связанный с натурализмом предрассудок, будто только одно
изображение есть "правильное", и притом будто бы то, какое имел в виду
автор»24. В этом рассуждении об истине проявляется
феноменологический фундамент гуманитарной методологии Густава Шпета и он
созвучен современной культурно-исторической эпистемологии.
Преображенный мир всегда осмыслен и у любого взгляда на
роман есть свои каноны установления этой осмысленности. Они
могут быть эстетическими, могут быть научными. Литературоведение
для Шпета это наука, имеющая свою методологическую специфику.
И в этой специфике роман предстает как «преображенная
реальность», требующая понимания и интерпретации. Методологический
23 Шпет Г. Г. Мудрость или Разум? // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 316.
24 Шпет Г. Г. Театр как искусство // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 37.
Т. Г. Щедрина. Культурно-историческая эпистемология и социальная эпистемология... 271
подход Шпета можно рассматривать как стремление к
рационализации культурно-исторических феноменов, причем к
рационализации конкретно-исторической (ведь истина есть действительность).
Шпет очерчивает поле исследований, предполагающих постановку
вопроса о культурных детерминантах, смысле, значении, словесном
творчестве, т. е. того объективированного культурного слоя, в
котором человек становится человеком. И при этом он отчетливо
понимает, что искусство, наука, философия, литература функционируют
в культуре как специфические феномены, имеющие свой
автономный статус, т. е. не зависящие от сиюминутного мнения общества,
в котором они функционируют в данный момент. Когда мы задаем
вопрос о смысле любого из этих феноменов, это означает, что мы
выстраиваем некоторую структуру социального мира, — мира
культуры, — с учетом конкретного контекста их функционирования.
Историко-культурный подход специфицирован у Шпета, поскольку
в его основании лежит мощный семиотический пласт. Внутри
этого культурно-исторического подхода сохраняется логическая
внятность, нацеленность на структурно-методологический анализ.
Вернемся к нашей аналогии, проясняющей суть культурно-
исторического подхода к познанию. Для Шпета очевидно, что истина
романа и истина науки хоть и несводимы, но коррелятивны друг
другу. Это различие и одновременно коррелятивность базируется на том,
что Шпет различает материальную вещь и предмет, который должен
быть обязательно уразумеваемым (осмысленным): «Под "вещью"
(ens) мы разумеем, с точки зрения языка, все, что может быть
названо, следовательно, не только материальные вещи и вещества, но
также психические акты, действия, поведение человека, а равно и всякий
социальный продукт или акт, в том числе, например, юридическое
определение, закон, религиозное установление, литературу научную
и художественную и т. д., и т. д., — влияние внутренней (логической
и поэтической) формы на все эти "вещи" может быть безгранично. —
Кроме того, и вообще необходимо помнить, что, когда мы говорим о
"предмете", как термине внутренней формы, мы, само собою
разумеется, имеем в виду предмет не в его оптических свойствах, так сказать,
самолично, а лишь в его подразумеваемости (Meinen)»25. А это значит,
что и наука, и искусство имеют свою внутреннюю форму (логическую
и поэтическую). Наука в своих внутренних формах также различает
предмет и вещь, также предполагает подразумевание предмета, его
25 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 398.
272 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
символический характер, только это различение и это
подразумевание определяется задачей особого рода — познавательной.
Но главное даже не этот выделенный нами в шпетовской
методологии корпус содержательных проблем, которые можно сегодня
продолжать разрабатывать, и даже не ее реактуализация в системе
современной эпистемологии. Дело, я думаю в том, что Шпет
высказал одну важную мысль, вычленяя характеристики романа как
формы знания. Если неустойчивость и расколотое сознание есть
специфические характеристики романа, то возможность
преодоления этого раскола есть ирония. Ирония является фактором
формообразующим в романе, «разрешающим» расколотое сознание.
Но во время Шпета ирония уже уходит, сегодня она из него ушла.
Ирония стала элементом жизни, а не формообразующим фактором
литературы. Мы живем в странную эпоху, когда ирония стала
всеобщей. Роман вышел за рамки литературы в жизнь. Эту критическую
по сути ситуацию очень внятно фиксируют ныне постмодернисты.
В современной науке сложилась такая же ситуация, которую увидел
Шпет в романе 1920-х годов. Как из романа когда-то ушла ирония, так
из современной науки ушла критика, предполагающая нацеленность
на объективность и истинность. Этот момент зафиксировали
социальные эпистемологи: если мы признаем подразумеваемость предмета
научного познания, его символический характер, то мы субъективизи-
руем знание, ставим под вопрос его общезначимость как важнейшую
черту науки, т. е. утверждаем произвол, «веру в истину».
Шпет очень часто балансирует на границе между
«устойчивостью» и «динамичностью», что позволяет современным
постмодернистам зачислить его в пантеон своих Богов. Одна лишь
фраза Шпета «Да здравствует разброд!», вырванная из контекста, чего
стоит. Но Шпет обладал методологической трезвостью,
нацеленностью на объективность и интеллектуальную связность. Поэтому
для него главным является не это пресловутое «пост-», но то, что
сегодня является одной из важнейших проблем эпистемологии.
Шпет подчеркивает, что научное познание функционирует по
своим внутренним канонам — внутренним формам (логическим) и
именно они позволяют науке быть объективированной формой
произвольных мнений о мире. Так и культурно-историческая
эпистемология подчеркивает в познавательном отношении не его
произвол, но произвольность мнений ученых, что предполагает
обсуждение и интерсубъективную проверяемость, нахождение пределов
познанного (встречу познанного и непознанного), т. е.
непрерывную динамику познанного. Этой динамикой и живет наука.
И. 0. Щедрина
Когнитивное и ценностное
в трудах Рене Декарта:
взгляд из неклассической эпистемологии
Рассуждая о современной эпистемологической проблематике
в одной из своих статей, Б. И. Пружинин заметил, что она
в своих наиболее перспективных направлениях
определяется как неклассика, т. е. определяется через классику, и свои
содержательные формы приобретает только в этом
соотношении. «Нынешняя эпистемология, — пишет Пружинин, —
осознает свою специфику, свое особое понимание человека познающего
именно в противостоянии классической трактовке познания. По
сути, именно на этом различении, при всех вариациях в его
трактовке, строится сегодня проблематика всей современной
эпистемологии. Классический познающий человек, классический субъект
познания получал доступ в мир знания, лишь преодолевая в себе
все свои "жизненные" интересы, отбрасывая все свои
"человеческие" параметры. Ибо сам мир знания представал как нечто
вневременное, универсально всеобщее. Неклассическая эпистемология
представляет познание как одно из измерений деятельности вполне
живого, вполне исторического человека, во всей его
неопределенности. Это очевидно. Проблемы в современной эпистемологии
возникают там, где эти жизненные параметры познающего человека
соотносятся с параметрами знания, с его принципиальной
нацеленностью на объективность и истинность. И линии этих
соотнесений, их концептуализация проходят именно через соотнесение
с классикой, через противопоставление ей. Здесь вырабатывается
новая эпистемология, в этом напряженном концептуальном поле
определяются позиции и контуры нового понимания знания и
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект № 14-03-
00587 «Достоинство знания: ценностные основания культурно-исторической
эпистемологии».
274 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
познания»2. Одной из основных классических фигур, через
отношение к которым и определяется сегодня эпистемологическая
тематика, является Рене Декарт. В контексте этой тематики в центре
внимания данной статьи будет тема когнитивного и ценностного в его
трудах как один из важнейших пунктов, от которого отталкивается
современная неклассическая эпистемология. Бесспорно, идеи
Декарта и в целом, и в данном пункте исследованы очень
обстоятельно. Тем не менее представляется, что некоторые моменты в
концепции этой классической фигуры, приобретающие особое значение в
указанном выше противостоянии, в традиционной
историко-философской презентации картезианства не акцентируются в
достаточной мере.
Философские идеи Декарта подробно излагаются в различных
историко-философских исследованиях. И в этом изложении его
концепция, как правило, заострена предельно гносеологически,
так как считается, что «под принципами Декарт понимает скорее
принципы знания, нежели принципы бытия. Подобное понимание
обусловлено прежде всего "эпистемологическим поворотом",
происходящим в европейской философии начиная с XVII в. <...> В
качестве первого принципа у Декарта выступает несомненное знание
(курсив мой. — И. Щ.) о существовании моего мыслящего Я»3. Но
при таком предельно гносеологическом заострении проблемы Я,
поставленной Декартом, совершенно исчезает то, что отмечал в его
концепции Поль Валери: «Декарт, не сомневавшийся в
собственной доблести, и не думал сомневаться в собственном
существовании. И если "COGITO" так часто возникает в его трудах, если мы
вновь и вновь обнаруживаем его в "Рассуждении", в
"Размышлениях", в "Началах", то это потому, что оно звучит призывом к его
самовлюбленной сущности. Он обращается к нему как к теме
собственного "я" и его абсолютно ясного сознания, как к резкому
сигналу побудки, взывающему к его гордости и к его возможностям.
До него ни один философ не выходил так решительно на сцену
своего мышления, не выставлялся напоказ, платя самой своей
личностью, осмеливаясь на протяжении целых страниц говорить "Я".
Особенно хорошо это ему удалось в "Размышлениях". Здесь его
стиль изумителен. Он силится донести до нас все подробности
спора, который ведет с самим собой, показать совершающуюся внутри
2 Пружиним Б. И. Неклассическая классика (о стиле эпистемологического
мышления В. А. Лекторского) // Человек в мире знания. К 80-летию Владислава
Александровича Лекторского. М., 2012. С. 9.
3 Дмитриев Т. А. Проблема методического сомнения в философии Рене Декарта.
М., 2007. С. 109.
И. О. Щедрина. Когнитивное и ценностное в трудах Рене Декарта...
275
сложную работу. Он стремится, чтобы мы все это усвоили,
уподобившись ему сначала сомнениями, а потом уверенностью; чтобы
мы неотступно следовали за ним от сомнения к сомнению вплоть
до того наичистейшего и почти безличностного "я", одного и того
же во всех и всеобщего в каждом»4. В этом рассуждении самым
главным мне представляется момент спора Декарта с самим собой.
Дело в том, что в современных историко-философских
исследованиях Я как проблема в концепции Декарта не
рассматривается, но вслед за Декартом повторяется тезис о том, что
первоначалом всего является именно Я — Я, которое мыслит. И далее,
как правило, следует изложение (более-менее полное) его
гносеологической концепции. Но при этом, на мой взгляд, в таком
историко-философском взгляде на Декарта упускается из виду то
обстоятельство, что к своему Я Декарт именно приводит читателя.
Он ведет себя как проводник, знающий, где нас ждет уютное
жилище, но ведущий нас к нему не напрямую, а извилистыми
тропами сомнения. Обращение к Я у него каждый раз требует усилия —
его Я это не само по себе Я, но Я-мыслящее. Интеллектуального
усилия он требует и от нас так же, как он требовал его и от своих
современников. Мысль требует усилия. Не в мысли самой по себе,
а именно в усилии ее сопровождающем, преодолевается сомнение.
Интеллектуальное усилие нам необходимо для того, чтобы втянуть
весь окружающий мир в мысль и тем самым преодолеть сомнение в
своем Я. Этот момент и подчеркивает в своем рассуждении Валери:
«"Cogito" не силлогизм, в нем нет, совершенно нет даже
буквального смысла. В нем есть насильственный акт, рефлекторный жест
интеллекта, живого и мыслящего, который кричит: "С меня
хватит! Во мне самом ваше сомнение не укоренено! Для себя я создам
другое сомнение, у которого нет никакой конкретной цели, я
назову его 'методическим сомнением'. Прежде всего я подвергну ему
ваши же положения, и вы покорно это стерпите. Ваши проблемы
не ведут меня ни к чему, и оттого, что согласно одной философии
я существую, а согласно другой — не существую, ничто не
меняется ни в вещах, ни во мне, ни в моих возможностях, ни в моих
страстях..."»5
По существу, этот момент усилия, которого требует мысль и
имеет самое прямое отношение к вопросу о соотношении когнитивного
4 Валери П. Взгляд на Декарта (фрагмент). Пер. и прим. И. С. Разумовского //
Вопросы философии. 2003. № 10. С. 162.
5 Валери П. Декарт. Пер. И. С. Разумовского // Вопросы философии. 2005. № 12.
С. 166.
276 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
и ценностного, к вопросу, который сегодня приобретает
чрезвычайно острую актуальность. Усилие мысли, усилие познания
предполагает ценностную ориентацию личности. Во всяком случае, для
культурно-исторической эпистемологии, разработкой которой
занимается Б. И. Пружинин, этот вопрос — о соотношении
ценностного и когнитивного — центральный. И не случайно в своих
работах он неоднократно обращается к идеям Декарта именно в таком
контексте. При этом, в отличие от М. К. Мамардашвили, Б. И.
Пружинин акцентирует конкретную историческую ситуацию
формирования науки Нового времени, в связи с которой складывались идеи
Декарта. «Естественно, — пишет он, — что люди, связавшие себя с
наукой и ощутившие в ней фундаментальную способность вносить
общезначимый смысл в исследуемые предметы, пытались
прояснить для себя не только ее инструментальный потенциал, но и
онтологический статус, экзистенциальную основательность и
культурные истоки»6. Декарт сыграл далеко не последнюю роль и в этом
плане становления научного мышления XVII века.
«Онтологическому укоренению научно-познавательной деятельности служило
"Сомнение" Декарта, его "Cogito ergo sum" — ибо именно ученый
и мыслит, а тот, кто познает, мыслящий субъект познания,
обладает подлинным бытием»7. При этом, «как неотъемлемая компонента
культуры, знание являет собой абсолютную ценность. Истина
самоценна. И деятельность, направленная на ее получение и владение
ею, придает человеку онтологический статус. Стремление к истине
всегда связывалось со стремлением к столь же абсолютным в данной
культуре ценностям»8. И что еще важно, по мысли Декарта — на
истину натолкнется скорее один человек, чем целый народ — в этом
можно увидеть принцип субъективной достоверности,
обуславливающий обретение онтологического статуса Я (установка не на
усвоение чужих мнений, а на выработку собственных). Сомнение у
Декарта фактически должно расчистить почву для онтологии новой
культуры, культуры рационального типа, а это требует усилия,
требует ценностных измерений.
В концепции Декарта мир познаваем и проницаем для
человеческого разума — необходимо лишь найти правильный метод
познания. И в поисках оснований знания о вещах он выдвигает
концепцию врожденных идей, т. е. фактически онтологизирует по-
6 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009. С. 80.
7 Там же.
8 Там же. С. 96.
И. О. Щедрина. Когнитивное и ценностное в трудах Рене Декарта...
277
знающего человека, представляя усилие правильно
ориентированного разума орудием такой онтологизации. «Декарт <...>
считает, что человеческий разум способен познать все, что существует
в мире, если он вооружен правильным методом и отправляется от
ясных и отчетливых идей»9. Л. А. Микешина в своей работе
«Эпистемология ценностей» также обращается к Декарту. Апеллируя к
соотношению когнитивного и ценностного в его исследованиях,
она подчеркивает: «Обращение к Декарту прежде всего интересно и
необходимо потому, что именно в его трудах осуществилось
становление субъектно-объектного контекста рассмотрения ценностей»10.
Фактически знаменитое cogito ergo sum для него — не только
выведение гносеологического тезиса, но и некоторая
«нравственная максима», заключающая в себе ту самую моральную
уверенность. Оставаясь верным себе, он выводит три правила морали, и,
хотя и называет их несовершенными, но призывает каждого им
следовать: во-первых, принимать правила окружающего мира и
придерживаться их (законы и обычаи, религия), избегая
крайностей; во-вторых, быть постоянным в своем согласии с правилами
(даже сомневаясь, продолжать им следовать); и, в-третьих,
стараться изменять скорее свои желания и устремления, чем окружающий
мир. Ни судьбу, ни порядок мира изменить нельзя, однако мир,
природу человек может познать.
Таким образом, по Декарту, «познание "книги мира", с одной
стороны, и обретение истины в собственном сознании — с другой,
были теснейшим образом связаны друг с другом»11. Более того,
таким образом, понятое познание приобретает у Декарта
методологический смысл и ориентирует его в конкретных научных
разработках — в понимании природы как окружающего пространства. В его
известных прикладных математических разработках проявляется
момент фундаментальности — он онтологически связывает
геометрическое понимание протяженности и через «Первоначала
философии» мораль. Как отмечает Л. А. Микешина: «Декарт различает
два вида достоверности: первая (включающая ценностные
компоненты) — моральная уверенность, достаточная для того, чтобы
управлять нашими нравами, хотя правила, в которых мы уверены,
могут быть и неверны; вторая — достоверность, которая получается
тогда, когда мы думаем, что вещь именно такая, какой мы ее пред-
9 Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум. М., 2003. С. 167.
10 Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. М., 2007. С. 16.
11 Соколов В. В. Философия духа и материи Рене Декарта // Декарт Р. Сочинения:
В 2 т. Т. 1. М., 1964. С. 8.
278 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
ставляем в суждении. <...> Такова достоверность математического
доказательства»12. «И дело не только в том, — продолжает она свои
рассуждения о ценностном и когнитивном у Декарта, — что в
основу истинности как достоверности закладывается принципиальный
тезис рационализма ego cogito ergo sum, но и в том, что во всей
системе рассуждений присутствует человек с его чувствами, разумом,
волей, сомнениями, предрассудками и моралью, системой
ценностей в целом»13. Ключевым в контексте данной проблематики для
Декарта становится человек, его Я; к рассмотрению которого
следует, на мой взгляд, обратиться, чтобы понять Декарта в
современных контекстах неклассической эпистемологии.
В книге «Размышления о первой философии, в коих
доказывается существование Бога и различие между человеческой душой
и телом» Декарт ясно ставит цель и указывает направление
своих мыслей. Причем он делает это, используя свой излюбленный
метод — сомнение. Сомнению он подвергает всю возможность
познания, действует как философ-гносеолог, и далее во втором
размышлении ставит вопрос: «что же тогда остается истинным?»14
И сам себе дает ответ, найдя основания и опору в ясности и
отчетливости истины «Я есмь»15. Эти же критерии (ясность и
отчетливость) Декарт будет использовать далее и опираться на них
в поиске содержания истинного познания16. Я у Декарта
выступает в качестве предельного основания, и именно такое
понимание проблемы Я «задало проблематику последующей западной
философии. Это понимание, выраженное в известном положении
"Cogito ergo sum", можно считать классическим»17. Именно от
него отталкивается сегодня современная неклассическая
философия. Важно не упустить из виду в таком «отталкивании»
онтологический, а стало быть и ценностный аспект «Cogito ergo sum».
В противном случае мы получим позицию, абсолютно зависимую
от классики, как ее прямое отрицание, и потому концептуально
бесперспективную.
12 Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. С. 17—18.
13 Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. С. 16.
14 Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается
существование бога и различие между человеческой душой и телом //Декарт Р. Сочинения:
В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 21.
15 Там же. С. 22.
16 См. подробнее о проблеме Я у Декарта в контексте проблемы причинности:
Шпет Г. Г. Проблема причинности у Юма и Канта. Ответил ли Кант на сомнения
Юма. Киев, 1907. С. 6.
17 Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
С. 173.
И. О. Щедрина. Когнитивное и ценностное в трудах Рене Декарта...
279
Всякий раз, когда Декарт возвращается к Я, он преодолевает
сомнение, таким образом оказывается, что вне сомнения его Я,
знаменитое Я Декарта как основа всего мироздания не существует.
«Усомнившись решительно во всем, — писал Шпет, — Декарт задался
целью найти для построения действительной науки такой принцип
или такой пункт, который сам был бы безусловно действителен и
безусловность которого была бы непосредственно очевидна ясно и
отчетливо, claire et distincte. Оказалось, что можно было бы усомниться
даже в своем существовании, если бы мы не мыслили, можно даже
сказать, если бы мы не сомневались, но раз мы усомнились в своем
существовании, мы существуем: cogito ergo sum»18. А можно было бы
сказать: сомневаюсь (что является как бы естественным
гносеологическим состоянием), следовательно, существую и, соответственно,
благодаря сомнению существование возвращается и всему миру.
К этому Я в онтологической проекции Декарт возвращается
каждый раз, когда он начинает сомневаться. Ибо цель сомнения
в том и состоит, чтобы быть сомневающимся. В этом смысл
радикализации его сомнения. На мой взгляд, Декарт — один из самых
сомневающихся философов. Но и самый устремленный,
экзистенциально устремленный к несомненному, безусловному — к Бытию.
Ибо на самом деле Декарт отнюдь не сомневается в мышлении
(к тому времени уже ставшем научным), в его способности (внутри
себя, в этом мышлении) схватить Бытие интеллектуальным
усилием. И тогда выясняется, что на самом деле сомнения были не
такими уж радикальными — познание, связанное с сомнением, лишь
форма освоения мира мышлением. Что же касается сомнения как
сомнения самого по себе, то и порождает его некое надуманное
существо — некий обманщик, «чрезвычайно могущественный и
хитрый, который всегда намеренно вводит меня в заблуждение»19.
Фактически онтологическая проекция проблемы Я у Декарта
показывает параметры сближения его со схоластической традицией и
в то же время дает возможность выявить исторические предпосылки
ее преодоления. При том, что сам Декарт не задумывался об этом,
равно как и о социокультурной обусловленности его «знания»:
«Известно, что Декарт рассматривал очевидность как важнейший
признак знания, поскольку считал истинным только то, что
воспринимается ясно, отчетливо, самоочевидно (первое правило его метода).
18 Шпет Г. Г. Работа по психологии // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2006. С. 159.
19 Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Сочинения: В 2 т.
Т. 2. М., 1994. С. 21.
280 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
Состояние умственной самоочевидности было для него исходным и
конечным моментом движения познания. Однако Декарт по
существу не задавался вопросом "очевидно для кого?", полностью
отвлекаясь от исторического и коммуникативного характера получения и
передачи знания»20. Тем не менее мы можем проследить становление
концепции Декарта, на которое оказали влияние и античные
философы, и скептик Монтень, и Блаженный Августин.
В сочинениях Декарта имя Августина встречается только у
оппонентов Декарта. Сам Декарт упоминает Августина в письме к
отцу Мелану: «Я вам весьма обязан за то, что Вы сообщаете мне
места из св. Августина, могущие подкрепить мои мнения;
некоторые из моих друзей уже сделали то же самое, и я испытываю
огромное удовлетворение от того, что мои мысли совпадают с мыслями
столь святого и выдающегося человека. Я вовсе не принадлежу к
тем людям, кои стремятся, чтобы их мнения считались новыми;
напротив, я приноравливаю свои мысли к чужим настолько,
насколько мне это дозволяет истина»21.
При этом не только оппоненты Декарта, но и современные
исследователи указывают на существование точек сближения Декарта
и Августина в развертывании проблемы Я. Как отмечает П. П. Гай-
денко: «Декартова связь со средневековой философией
обнаруживается в самом исходном пункте. Считая абсолютно несомненным
суждение "мыслю, следовательно существую", Декарт, в сущности,
идет за Августином, в полемике со скептицизмом, указавшим на
невозможность усомниться по крайней мере в существовании
самого сомневающегося. И это — не просто случайное совпадение:
тут сказывается общность в понимании онтологической
значимости "внутреннего человека", которое получает свое выражение в
самосознании. <...> Действительно, чтобы суждение "мыслю,
следовательно существую" приобрело значение исходного положения
философии, необходимы, видимо, два существенных допущения:
во-первых, восходящее к античности (прежде всего к платонизму)
убеждение в онтологическом превосходстве умопостигаемого над
чувственным <...> и, во-вторых, рожденное христианством
сознание высокой ценности "внутреннего человека", человеческой
личности, отлившееся позднее в принцип "Я"»22.
20 Микешина Л. А. Эпистемология ценностей. С. 208.
21 Письмо Р. Декарта отцу [Мелану] от 2 мая 1644 года // Декарт Р. Сочинения: В
2 т. Т. 2. М., 1994. С. 497.
22 Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.,
2000. С. 116. См. также: Соловьев В. С. Первое начало теоретической
философии // Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 771.
И. О. Щедрина. Когнитивное и ценностное в трудах Рене Декарта...
281
Момент культурно-исторической обусловленности
философских рассуждений Декарта подчеркивает П. Валери, полагая, что
проблему познания и собственного существования Декарту
навязало философское сообщество того времени, считавшее ее
«модной» и достойной внимания. Но Декарт, обратившийся к этой
проблеме, и тем самым входящий в сообщество, остается самим собой.
Он верен себе и не идет протоптанными скептической
философией тропами, поэтому «вместо респектабельного скептического
сомнения — пародийное методическое, вместо мудрого
монтеневского отказа от твердой уверенности в чем бы то ни было — слепая
вера в достоверную истинность очевидного. <...> Cogito как
призыв Декарта к своему Я обнажает эготизм, главную черту его
мышления»23. Но, может быть, именно в этом состоит причина, в
силу которой Декарт так и не преодолел до конца схоластику, с
которой начал бороться с помощью своего гносеологического
скептицизма24.
В целом, если более глубоко погружаться в труды и
эпистолярное наследие Декарта, то начинает казаться, что он сам следует
своему принципу «Я есмь», а других — никого нет. Этот момент
принципиального монологизма концепции Декарта подмечает русский
философ Л. М. Лопатин25. Тем не менее для Декарта все-таки была
очень важна и та сфера общения, в которой его идеи могли быть
апробированы. Этот коммуникативный, по сути, момент
формирования философской позиции Декарта подчеркивает Л. А. Ми-
кешина. «Декарт — пишет она — нуждался в дискуссии с другими
учеными и философами, как бы равными по рангу и уровню
интеллекта. Об этом говорит история опубликования Метафизических
размышлений (размышлений о первой философии). Предвидя,
что новые идеи и мысли вызовут возражения всякого рода, Декарт
через своего друга Мерсенна, известного своей обширной
перепиской с мыслителями XVII в., предоставил избранные места из
рукописи Т. Гоббсу, П. Гассенди, а также ряду теологов, в том числе
А. Арно, возражения которого были оценены автором как самые
23 Алешин Л. И., Разумовский И. С. Предисловие к публикации «Декарт» Поля
Валери // Вопросы философии. 2005. № 12. С. 155.
24 Как заметил Вл. Соловьев, «В схоластике рассудочное мышление является во
всей своей силе. <...> Какое бы великое значение ни имел в других отношениях
переворот, совершенный в западной философии Картезием, но форма
рассудочной отвлеченности осталась преобладающею и в новой философии». Соловьев В. С.
Кризис западной философии (против позитивистов) // Соловьев В. С Сочинения:
В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 76.
25 Лопатин Л. М. Философские характеристики и речи. М., 1995. С. 25.
282 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
важные. Издание вышло в сопровождении семи возражений и
ответов на них Декарта»26.
А если перевести этот коммуникативный аспект проблемы Я у
Декарта в онтологический план, то получается, что окружающие
его люди составляют «жизненный мир» его Я. «Вспомним, — писал
Мамардашвили, — что именно Декарту принадлежат слова о том,
что единственное, чего он хочет и о чем будет говорить, это то, что
он может почерпнуть из своей души и из великой книги жизни.
Обычно в русском переводе в этом выражении фигурирует слово
"мир", но это неудачное слово, ибо оно ассоциируется с другим
словесным рядом, а именно — с "картиной мира" и т. п., то есть
предполагает какую-то концепцию, изображение его. А в
действительности там, где у нас переводят "мир", у Декарта стоит слово
"monde", a оно имеет и другое значение — "свет". То есть
интенсивное общение, обмен, встречи, насыщение себя новым,
любопытным, характерным, выдающимся и открытым. Живая жизнь в
свете»27.
Таким образом, Я мыслящее — как точка опоры, проступает у
Декарта сквозь сомнения и живет в этих сомнениях, ибо сомнение
есть единственный способ заставить человека втянуть весь
окружающий мир в мысль, в рациональную мысль. Я может неверно
воспринимать собственное тело, свои ощущения по отношению к
предметам внешнего мира, может сомневаться даже в самом
существовании собственного тела. Но в результате сомнений
оказывается, что все это втягивается в сферу мышления, в Я как высшую
ценность, ради существования которой собственно и
развертывается мышление-сомнение.
Аргументируя последнее соображение, Декарт вводит образ
некоего обманщика, «чрезвычайно могущественного и хитрого»,
который намеренно запутывает его, заставляет сомневаться,
мыслить, и фактически возвращаться в своих рассуждениях к
самому себе, упираясь в собственное Я. В классической традиции этот
обманщик ассоциировался с Богом (абсолютным Я), в
неклассической — с Другим (социальным Я). «Но что же тогда остается
истинным? Быть может, одно лишь то, что не существует ничего
достоверного»28. Тем самым снимается и сомнение вместе с
обманщиком, его породившим. Однако сама эта констатация становится
26 Микешина Л. А. Философия познания. Проблемы эпистемологии
гуманитарного знания. М., 2009. С. 123.
27 Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М., 1999. С. 11.
28 Там же.
И. О. Щедрина. Когнитивное и ценностное в трудах Рене Декарта...
283
основанием для дальнейших рассуждений и вывода о
существовании Я как мыслящей субстанции, непосредственного центра
сознания, рассматриваемого безотносительно к внешним
предметам и к собственному телу субъекта. Из сомнений Декарт выводит
самого себя: «коль скоро я себя в чем-то убедил, значит, я все-же
существовал?»29 и даже образ обманщика только подтверждает
существование монолитного Я: «А раз он меня обманывает, значит,
я существую; ну и пусть обманывает меня, сколько сумеет, он все
равно никогда не отнимет у меня бытие, пока я буду считать, что
я — нечто»30. Таким образом после всех сомнений Декарт приходит
к своему знаменитому тезису: «Cogito ergo sum». И тем самым
восстанавливает в правах онтологию.
Присутствующее в декартовской философии, в его понимании
Я противоречие, двойственность его мыслительных ходов
сегодня проступила достаточно отчетливо31. В неклассической
философии эта двойственность и стала основанием для попыток вообще
отрицать эффективность рационального мышления и апелляций
в философии к самопрозрачности сознания. Но, мне кажется, что
прав Вл. Соловьев, утверждавший неизбежность возвращения к
этому пункту всякой философии: «Безусловная
самодостоверность наличного сознания есть коренная истина философии, и с
ее утверждения начинается каждый обширный круг философского
развития»32. И далее: «Само собою понятно, как уже замечал
Декарт, что заранее составленное намерение всегда и окончательно
сомневаться так же противно существу философской мысли, как
и принятое наперед решение устранить во что бы то ни стало все
сомнения, хотя бы с помощью произвольных ограничений
исследования. <...> Для философа по призванию нет ничего более же-
29 Там же. С. 21.
30 Там же.
31 «Ныне существующие философские направления, — писали тогда М. К. Ма-
мардашвили, Э. Ю. Соловьев и В. С. Швырев, принимая в расчет и направления
философско-методологические, — при ближайшем рассмотрении оказываются
не чем иным, как последовательным и откровенным развертыванием внутренних
неувязок, содержательных противоречий классического мышления, которых оно
могло избежать лишь путем значительных огрублений и упрощений, путем весьма
жестких абсолютизаций и умолчаний» Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю.,
Швырев В. С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной
философии // Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972. С. 31. См.
также различение классической и неклассической теории познания
(эпистемологии) в книге: Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.,
2001. С. 103-114.
32 Соловьев В. С. Первое начало теоретической философии // Соловьев В. С.
Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 771.
284 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
дательного, чем осмысленная и проверенная мышлением истина;
поэтому он любит самый процесс мышления, как единственный
способ достигнуть желанной цели, и отдается ему без всяких
посторонних опасений и страхов. К нему еще более, чем к поэту, при-
ложима заповедь: Дорогою свободной / Иди, куда влечет тебя
свободный ум»33.
Конечно, декартовское Я большей частью эпистемологическое.
Именно благодаря этому Декарт и достигает его монолитности и
самопрозрачности. Он ищет достоверности, почти математической
строгости; Другой (социальное Я) непрерывно обманывает его, так
же как психологическое Я (чувства, эмоции) — но все это в
совокупности проступает сквозь его cogito, и я не могу не согласиться
с Валери, который предлагает экзистенциальную интерпретацию
проблемы Я у Декарта. «Дело идет о том, — пишет он, — чтобы
показать или, скорее, показать наглядно, что может Я, когда ему
приходится действовать в одиночку. Что будет делать это Декартово Я?
Поскольку оно вовсе не чувствует своей ограниченности, ему
захочется сделать все или все переделать. Но сначала нужна чистая
доска. Все, что исходит не от Я или по видимости от него не исходит,
сводится к словам. Все, что разрешается только в слова, которые в
свою очередь разрешаются только во мнения или недоуменные
вопросы, превращается в школьные прения или простые
правдоподобия, не выдерживает натиска этого Я, слишком слабо для этого
натиска. Если понадобится, это Я в одиночку найдет своего Бога;
оно его добудет, и это будет Бог столь же отчетливый и безупречно
доказанный, каким должен быть Бог, чтобы быть Декартовым
Богом. <...> Сражаясь за свою ясность, решая проблемы, которые я
назвал естественными, он развивает то продвинутое чуть ли не до
предела возможностей сознание, которое называет своим
Методом, и которое блестяще завоевало безграничную геометрическую
власть. Он хочет распространить ее на самые разные явления; он
возьмется переделать всю природу, и именно он, чтобы ее
рационализировать, проявит удивительную плодовитость воображения.
Вот главное свойство такого Я, мышление которого не хочет
оставлять его на произвол изменчивых явлений природы и столь
несхожих средств и форм жизни»34.
Фактически то, что предлагает Декарт, может
рассматриваться как восстановление цельности и единства своего Я, буквально,
возвращение к самому себе, к собственной субъективности. «Это
33 Соловьев В. С. Первое начало теоретической философии. С. 762.
34 Валери П. Декарт // Вопросы философии. 2005. №12. С. 168.
И. О. Щедрина. Когнитивное и ценностное в трупах Рене Декарта...
285
возвращение — пишет Гуссерль — размышляющий совершает,
следуя известному и весьма примечательному методу сомнения. С
радикальной последовательностью устремленный к цели
абсолютного познания, он отказывается признавать в качестве сущего что
бы то ни было, что не защищено от любой мыслимой возможности
попасть под сомнение. Поэтому он осуществляет методическую
критику достоверностей жизни естественного опыта и мышления
в отношении возможности в них усомниться и путем исключения
всего, что допускает такую возможность, стремится обрести тот
или иной состав абсолютных очевидностей. <...> Только себя
самого, как чистое ego своих cogitations, удерживает размышляющий
как сущее абсолютно несомненно, как неустранимое, даже если бы
не было этого мира»35. И от него, от Я как чистого ego Декарт
пускается в обратный путь, но уже внутри мышления.
М. К. Мамардашвили интерпретирует этот ход рассуждений
Декарта следующим образом. «Я нарисовал прямую линию и вижу ее
прямой, но ведь не потому, что она — прямая: ни одна прямая
линия, как известно, не прямая. А я вижу прямую линию и
пользуюсь этим в рассуждении. Значит, результаты рассуждения зависят
все же оттого, что я использовал какое-то видение, выполненное
каким-то существом в процессе рассуждения? Насколько оно
обоснованно? Доказуемо ли? Может ли оно быть вечно истинным? —
как бы спрашивает Декарт. И отвечает: да, может, если я взял за
основу такие состояния, которые я вводил только вместе с
вводимым объектом причинения этих состояний. А для этого должно
заново и впервые рождаться условие наблюдения (рождаться
динамизацией, развязываемой созданием я)»36. И эти состояния,
оценивающие право вещей на бытие суть внутренние состояния Я,
сопровождающие мышление — ясность, очевидность.
Как подчеркивает В. А. Лекторский, главное в том, что Декарт
утверждает прозрачность и самодостоверность Я для самого себя.
Тем самым он преодолевает сомнения, но за счет социальных,
культурно-исторических измерений реального человека. Я — вне
общества и вне культуры, безотносительно к существованию других
Я — таким это Я выступает как мыслящее весь мир. Именно в этих
пунктах Декарт подвергается сегодня критике. Например, Хёсле,
анализируя философскую систему Декарта в контексте
обсуждения проблемы интерсубъективности, показывает недостаточность
мышления как основания социальной и культурной самоиденти-
35 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 51—52.
36 Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. С. 125.
286 Раздел 2. Теоретические проблемы современных эпистемологических практик
фикации37. И это верно, ведь одна из основных причин кризиса са-
моидентификации — несоответствие Я и роли, которую оно играет
в обществе. Втягиванием в рациональное мышление через
сомнение эту проблему не решить. Более того, даже и в качестве
гносеологической основы мышления, Я Декарта противоречиво. Декарт
просто вынужден удалить обманщика и констатировать: Бог нас не
может обманывать, дав нам врожденные идеи как основания для
понимания мира. Эта апелляция к Богу выглядит не очень
убедительной, просто прикрывающей внутреннюю непоследовательность
Декарта. Но ведь все эти реальные проблемы проступают именно в
мышлении, будучи втянуты в него через сомнение Декарта. Это
позволяет нам говорить о «Cogito ergo sum», как о классической основе
для формулировки современной философской проблематики.
37 См.: Хёсле В. Гении философии нового времени. М., 1992. С. 34, 123. См. также:
Труфанова Е. О. Идентичность и Я // Вопросы философии. 2008. № 6. С. 97.
Раздел 3
Культурно-исторический подход
в социально-гуманитарных
науках
В. П. Филатов
От мысли к науке:
культурно-исторический подход
к генезису экономической науки
Я всегда с большим интересом слежу за работами Б. И.
Пружинила, с которым меня связывают многие годы совместной
работы и дружбы. Его анализы рациональности, культурно-
исторических аспектов познания, тонкие трактовки
взаимоотношений научных и вненаучных типов знания,
фундаментальной и прикладной науки, несомненно, являются большим вкладом в
отечественную эпистемологию и философию науки. В последние годы
он успешно развивает проект культурно-исторической
эпистемологии2. Хотя здесь у него появилось немало новых и интересных идей,
связанных и с развитием концептуального аппарата, и с
привлечением отечественного историко-научного и историко-культурного
материала, нельзя сказать, что этот его поворот стал неожиданным. Еще в
1970-е годы, когда я начал работать в секторе теории познания
Института философии РАН, в тематике сотрудников этого замечательного
коллектива на передний план вышли вопросы социальной и
культурно-исторической природы познания. Уже тогда Б. И. Пружинин
разрабатывал культурно-исторический подход к проблеме
рациональности и интересно применял его к различным проблемам философии
и истории науки. Пожалуй, и ныне он, как никто другой, сохраняет и
плодотворно развивает это направление исследований.
Мне представляется, что по тематике и по некоторым идеям
данная статья созвучна этому направлению. И это не просто жест
к юбилею Бориса Исаевича, а понимание того, что при всем
разнообразии научных интересов в нашем эпистемологическом
сообществе сохраняются общие ценности.
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 14-03-00698.
2 См.: Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009; Зинченко В. П., Пружинин Б. И., Щедрина Т. Г. Истоки культурно-
исторической психологии: философско-гуманитарный контекст. М., 2010;
Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX—XX веков:
От личности к традиции / Под ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. М., 2013.
290 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Естественно-научный идеал научности
и «социальная физика»
О возникновении новоевропейского естествознания — «галилеев-
ской науки» — существует огромная философская и историко-на-
учная литература. Куда меньше внимания уделяется проблемам
генезиса социальных и гуманитарных наук. Между тем здесь
открывается очень интересное поле для культурно-исторического
подхода. Дело в том, что как научные дисциплины они
сформировались относительно недавно, в конце XVIII, а в основном в XIX
веке. Про психологию кто-то заметил, что она имеет краткую
историю, но очень длинную предысторию. То же самое можно сказать
и про другие основные социально-гуманитарные науки.
Конечно, в работах, например, по истории экономических
учений проводится определенная грань между «предысторией»
экономической мысли и первыми собственно научными
экономическими теориями. Обычно в качестве таковых выбирают учения
физиократов или же теорию А. Смита. Однако аргументация в
пользу того или иного выбора, как правило, не отличается
достаточной методологической обоснованностью.
Эту ситуацию образно описал С. Н. Булгаков в своей статье
«Народное хозяйство и религиозная личность» (1909):
«Политическая экономия в настоящее время принадлежит к наукам, не
помнящим своего духовного родства. Ее начало затеривается в
зыбучих песках философии просветительства XVIII века. У ее
колыбели стоят, с одной стороны, представители естественно-правовых
учений с их верой в неповрежденность человеческой природы и
предустановленную естественную гармонию, а с другой стороны —
проповедники утилитаризма — И. Бентам и его ученики,
исходящие из представления об обществе как совокупности
разрозненных атомов, взаимно отталкивающихся представителей различных
интересов. Общество здесь рассматривается как механизм этих
интересов, социальная философия превращается в "политическую
арифметику", о создании которой мечтал Бентам»3.
Но и Булгаков, на мой взгляд, не вполне учитывает весь сложный
интеллектуальный и социокультурный контекст этого процесса. На
становлении новоевропейской социально-экономической мысли
значительное влияние оказал тот образ науки, который был
сформирован в XVII веке родоначальниками новой науки о природе. Иногда
этот образ называют «картезианским идеалом науки», но его можно
3 Булгаков С. Я. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 343.
В. П. Филатов. От мысли к науке: культурно-исторический подход...
291
найти в работах не только Декарта, но и Бэкона, Спинозы, Лейбница
и других философов и ученых. Формирование этого идеала
происходило как в результате успехов естествознания, ориентировавшегося на
математические и механистические модели, так и под влиянием
социального контекста, в котором происходили генезис и развитие наук в
это время. Охвативший Европу в первой половине XVII века глубокий
политический и духовный кризис, жестокости Тридцатилетней войны
побуждали многих мыслителей апеллировать к идеалам
универсального и неизменного порядка как в природе, так и в социальной жизни.
Это выразилось в направленности мысли на абстрактное, общее,
неизменное у представителей точных наук, это же заставляло социальных
мыслителей искать аналогичные универсальные и неизменные
элементы в «природе человека» и в социально-политической жизни.
Картезианский идеал науки включает в себя онтологические,
методологические и социологические составляющие4. Его
онтологические принципы заключаются в том, что порядок природы
стабилен, неизменен; человек может познать его с помощью столь же
неизменных и присущих всем способностей человеческого Разума.
Материя является косным, инертным началом и отличается от
сознания — активного начала деятельности. Сознание заключено во
внутреннем индивидуальном мире, в индивидуальном теле; в
природе отсутствуют духовные начала и агенты.
Методологические принципы суммируются в следующих
положениях. Предметом науки является общее — универсальные
характеристики и связи сущего, понимаемого как «естественный
порядок». Науки об индивидуальном не может быть, это область
истории или искусства. Общие характеристики сущего в науке
должны выражаться в форме законов, неизменных и
универсальных. В естествознании эти законы допускают математическую
форму, к этому идеалу должны стремиться и остальные науки.
Правильное научное объяснение — это объяснение свойств целого из
свойств частей (методологический атомизм).
Социологические принципы очерчивают место и роль науки
в обществе и ценностные установки ученого. Наука нейтральна в
социально-политическом и моральном смысле; она ориентируется
на универсальные ценности истины, рациональности и
обоснованности, ученые образуют наднациональную «республику ученых»,
которая живет по собственным нормам и законам, которые в то
же время могут быть образцом толерантных и рациональных норм
взаимоотношений для остальных людей.
4 См.: Тулмин С. Человеческое понимание. М., 1984. С. 34—35.
292 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
В контексте такого понимания научного познания
возникла программа «социальной физики». Механико-математическое
объяснение природных явлений представлялось в XVII и в начале
XVIII века лишь первым шагом новой науки. Следующим, не
менее важным этапом считалось аналогичное объяснение
психического и социального мира человека, которое необходимо для
окончательного построения монистического миропонимания,
охватывающего мир как целое. Человек и социум не должны
оставаться отделенными от природы, представать «государством в
государстве», как отмечал Спиноза.
Суть этого проекта глубоко проанализирована в
фундаментальной работе Евгения Васильевича Спекторского «Проблема
социальной физики в XVII столетии», которая, на мой взгляд,
является замечательным образцом культурно-исторической
эпистемологии5. В этом обширном труде с привлечением разнообразных,
в том числе малодоступных источников, детально исследованы
характеристики социального («морального») и физического
мировоззрений той эпохи, выявлены многочисленные концептуальные
заимствования и переносы понятий и объяснительных схем,
которые происходили в XVII веке между новой формой «натуральной
философии» и социально-политической мыслью. Спекторский
показывает, что новое объяснение природных явлений
представлялось Гоббсу, Спинозе, Гроцию, Коменскому, Пуфендорфу, Вейгелю
и другим лишь началом: для них «весь мир как целое представлял
механическую систему, следовательно, возможна и необходима
была mathesis universalis, монистическое механическое
миропонимание, построенное математическим или геометрическим путем»6.
В свете этого идеала сфера психического со всем многообразием
чувств, мотивов, побуждений стала рассматриваться как
пространство взаимодействия немногих основных элементов:
«впечатлений», «страстей», «аффектов». «Механика» этих элементов, их
сложение, отталкивание, вытеснение и т. п., как это представлялось,
должна была дать естественную картину психической жизни,
подчиняющуюся причинным законам, аналогичным тем, которые
5 См.: Спекторский Е. В. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. 1.
Варшава, 1910; Т. 2. Киев, 1917. К этому труду примыкают также другие его
исследования по истории и философии социальных наук: Очерки по философии
общественных наук. Варшава, 1907; Физикализм в общественной философии
XVII века. Ярославль, 1909; Протестантство и рационализм в XVI и XVII столетиях.
Варшава, 1914; Номинализм и реализм в общественных науках. М, 1915.
6 Спекторский Е. В. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. 1. Варшава,
1910. С. 35.
В. П. Филатов. От мысли к науке: культурно-исторический подход...
293
действуют в физическом мире7. Основные элементы искались и в
социальной жизни, в которой базисным элементом большинство
теоретиков считало «природу человека». Споры шли в основном
относительно того, какова сущность этой природы и как она
проявляется в социальных взаимодействиях. Здесь взгляды
мыслителей расходились, одни (Гроций) считали, что люди по своей
природе тяготеют друг к другу, другие (Гоббс, Спиноза) доказывали, что
природа людей такова, что они отталкиваются друг от друга. Но и в
том и в другом случае имелась в виду аналогия с природными
силами и процессами. Движения в природе и обществе также мыслятся
сходно. Например, движения природных тел, если им ничто не
мешает, являются прямолинейными и бесконечными. Подобно этому
и желания человека являются бесконечными движущими силами,
не достигающими насыщения. Очень ясно об этом изменении, по
сравнению с аристотелевским, в понимании человеческого
действия и его мотивации пишет Гоббс в «Левиафане»: «счастье этой
жизни не состоит в покое удовлетворенной души. Ибо ни того finis
ultimus (конечной цели), ни summum bonum (высшего блага), о
которых говорится в книгах старых философов морали, не
существует. Да и человек, у которого нет больше желаний, был бы не более
способен жить, чем тот, у кого прекратилась способность
ощущения и представления. Счастье состоит в непрерывном движении
желания от одного объекта к другому, так что достижение
предыдущего объекта является лишь путем к достижению последующего»8.
На основе этих новых представлений строились теории
гражданской жизни, в которых предлагались статические и динамические
законы существования и поведения «социальных и политических
тел», свободы и необходимости, закономерности распределения
власти и благ и решались другие социально-политические
проблемы. При этом считалось, что как бы ни отклонялась жизнь
отдельных людей и общества в целом от тех законов, которые вытекали
из природы человека, в конечном счете они должны стать нормами
рационально устроенной социальной жизни.
Хотя программа «социальной физики» не дала ожидаемых
результатов и была поставлена под сомнение последующим
развитием социального познания, следы этих представлений о
человеческом обществе сохранились в науке и культуре. Не случайно у
О. Конта «социальная физика» была первым вариантом названия
7 Позднее Г. Райл назвал эту установку «пара-механическим мифом». См.: Райл Г.
Понятие сознания. М., 2000. С. 21—33.
8 Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 74.
294 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
позитивной науки об обществе. И в целом, как отмечал В. И.
Вернадский, «в нашем языке и в нашем мышлении на каждом шагу мы
чувствуем отголоски этих былых механических и физических
представлений о человеческом обществе. Мы говорим о равновесии
сил, центробежных и центростремительных силах общества,
условиях устойчивости и неустойчивости в общественных отношениях,
железных законах производства или распределения богатств... Все
это отражения в языке когда-то жившего течения мысли —
отголоски XVII столетия»9.
Из всех социальных наук этот проект в наибольшей степени
повлиял на становление политической экономии. Эта наука во
многом трансформировала для своих нужд модели взаимодействия
людей, идеи равновесия общества, наличия в нем циклических
процессов и т. п., которые в конечном счете восходят к
построениям социальной физики.
Ключевым моментом здесь были попытки объяснения того, как
возникает социальный порядок и экономическое равновесие не в
результате правления мудрого суверена, а как итог стихийного
взаимодействия людей на рынке. Еще предшественники А. Смита,
французские физиократы, доказывали, что в человеческом
обществе, как и на звездном небе, возникает порядок, который
открывает возможность благоденствия как для отдельных людей, так и
для всего общества. Свободная деятельность хозяйственных
субъектов ведет через притяжение и отталкивание к гармонии
интересов на земле, подобно тому как небесные тела приходят через
притяжение и отталкивание к гармонии Вселенной. Отсюда вытекала
концепция свободного рынка как механизма, дарованного Богом
на благо людям и не требующим для своего функционирования
вмешательства властей. Физиократ В. Мирабо в связи с этим учил:
«Всякое государственное управление народным хозяйством
совершается либо по законам природы — и тогда оно излишне, либо
вопреки им — и тогда оно безуспешно»10. Убеждение в том, что
движения в природе и движения в социальной сфере, действия людей,
должны координироваться механически, было характерно и для
А. Смита. Его знаменитая метафора «невидимой руки»
поясняет, как достигается эффективный порядок из вроде бы стихийных
действий индивидов, заботящихся лишь о собственном благе.
Также интересно, что одна из ранних его работ называется «Основные
принципы философского исследования, проиллюстрированные
9 Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 223.
10 Цит. по: Козловски П. Этика капитализма. Эволюция и общество. СПб., 1996. С. 36.
В. П. Филатов. От мысли к науке: культурно-исторический подход...
295
примерами из истории астрономии» и показывает его глубокие
познания в области ньютоновой механики и астрономии11. По сути
А. Смит видел в работах Ньютона методологический образец для
любой науки и проводил аналогию между натурфилософией, или
естественной наукой, изучающей явления природы — движение
небесных тел, затмения, приливы, атмосферные явления, с одной
стороны, и моральной философией, в которую в те времена
включалась проблематика всех социальных наук, с другой.
Ясные следы такой установки видны и в его философской
работе «Теория нравственных чувств», которая хотя и посвящена
проблемам этики, но в то же время она связана с его
последующей системой политической экономии. Этические отношения
людей Смит объясняет исходя из модели «эгоистического
индивида» (используемой им потом и в экономической теории): он
описывает нравственные состояния и отношения людей,
сдерживающих свои эгоистические побуждения для того, чтобы получить
одобрение внутреннего судьи. В порядке моральных отношений у
него просматривается параллель между законом гравитации,
определяющим взаимодействие тел в ньютоновой механике, и
нравственными чувствами, регулирующими социальные связи между
эгоистическими индивидами. Как и при действии закона
гравитации, результат зависит от расстояния. Нравственное чувство
последовательно ослабевает по мере того, как оно распространяется
от собственной семьи на близких друзей, на соседей, на жителей
большого города, на всех граждан данной страны, на иностранцев,
на все человечество12.
Таким образом, можно утверждать, что программа «социальной
физики» оказала существенное влияние на генезис экономической
науки. Эта программа наряду с учениями о естественном праве, а
также утилитаризмом И. Бентама с его «моральной арифметикой»
была тем специфическим идейным контекстом, в котором
постепенно вырабатывались основные модели и понятийный аппарат
политической экономии. Конечно, все это можно рассматривать
в качестве «строительных лесов» экономической науки, которые
были потом отброшены. Но для проблемы генезиса
экономической науки ее первоначальное следование картезианском образу
знания и духу социальной физики имеет важное значение.
11 См.: Негиши Т. История экономической теории. М., 1995. С. 94—95.
12 См.: Смит А. Теория нравственных чувств. М., 1997. С. 216—231. Гл. «О порядке,
в котором природа направляет нашу заботливость о каждом человеке».
296 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Археология знания М. Фуко
и генезис экономической науки
Большинство работ и учебников по истории экономических
учений написаны в жанре «истории идей». Некоторые авторы
начинают с законов Хаммурапи, некоторые — с Ксенофонта или
Аристотеля. Иногда создается впечатление о непрерывной тысячелетней
филиации экономических идей, но чаще, как отмечалось,
фиксируется некоторый пункт, обычно в XVIII веке, когда
«предыстория» — «экономическая мысль» — сменяется первыми образцами
«экономической науки». Однако аргументация в пользу выбора
того или иного ключевого пункта, как правило, не отличается
методологической обоснованностью и определяется вкусами автора
или его идеологической позицией.
Стоит отметить, что и в основных направлениях философии и
методологии науки выбор моделей генезиса научных дисциплин
не столь уж велик. Есть простая позитивистская модель, которая
рассматривает этот процесс как постепенное выделение науки из
повседневного практического опыта: медленное накопление
эмпирического материала, идущее параллельно с
совершенствованием и уточнением понятий донаучного здравого смысла. К. Поппер
связывает генезис науки с появлением традиции рациональной
критики, которая позволяет перерабатывать метафизические идеи
в более четкие теории науки. В концепции парадигм Т. Куна
различается допарадигмальная стадия, на которой знание об
определенной предметной области существует еще в виде разрозненного
набора сведений и фактов, а также их противоречивых истолкований,
и первая парадигмальная стадия, на которой исследователи
объединяются вокруг наиболее перспективной теории (парадигмы), что
ведет к образованию общепризнанной научной дисциплины.
Эти модели, на мой взгляд, не позволяют дать верную
картину становления экономической науки. Позитивистская модель не
учитывает длительного существования и развития экономической
мысли в рамках философии, политических и этических концепций.
Попперовская схема не выходит за рамки традиционной «истории
идей». Разработанная на материале физико-химических
дисциплин модель Куна однократного и быстрого перехода от донаучной
к научной стадии не позволяет объяснить растянутость генезиса по
времени. Между тем становление политической экономии как
науки длилось более века. Й. Шумпетер отмечает в этой связи, что ни
одна наука «никогда не бывает основана или создана одним
индивидом или группой. Точно также невозможно установить точную
В. П. Филатов. От мысли к науке: культурно-исторический подход...
297
дату ее "рождения". Существование экономической науки, как мы
теперь ее называем, стало общепризнанным в результате
длительного процесса, который протекал между серединой XVII и концом
XVIII века»13. Представляется, что более адекватное объяснение
сложного и длительного генезиса экономической науки из
«зыбучих песков» философии, политической мысли, проектов
«социальной физики», а также разнообразной литературы по
экономическим сюжетам, которую писали чиновники, купцы, «памфлетисты»
и др., можно достичь с привлечением концепции дискурсивных
формаций М. Фуко14. Ее достоинством является, во-первых, то,
что она была разработана на материале социально-гуманитарного
знания, во-вторых, то, что она изначально была нацелена на
объяснение процесса трансформации «дискурса», первоначально
существующего в виде разнородной совокупности «философских»,
«политических», «литературных» текстов в научную дисциплину15.
Дискурс — область или серия текстов и высказываний,
укорененных в определенных областях социальной практики. Оценивая
такие тексты, надо рассматривать не только их содержание, но и
модальности их существования. Так, текст может быть элементом
научной дискуссии, моральным предписанием, рекомендацией для
властвующей элиты и т. п. Фуко показывает как на первый взгляд
одно и то же понятие, например, богатство, функционирует в
различных дискурсах и доказывает, что для различных дискурсов
различным оказывается и значение данного понятия. В своих работах
он осуществил целую серию культурно-исторических
исследований, «археологических раскопок». Идея его «археологии знания»:
не брать понятия как простые ярлыки для обозначения от века
существующих и независимых от их восприятия в культуре
данностей, но в ходе «культурологических раскопок» вскрыть их
происхождение и законы функционирования.
Рассмотрим как М. Фуко, если пользоваться куновской
терминологией, разбивает однократный акт перехода от допарадигмаль-
ной к парадигмальной стадии на несколько порогов. Дискурсивная
формация, чтобы стать научной дисциплиной, должна преодолеть
эти пороги.
Первый порог — «порог позитивности» — проходится, когда
дискурс выделяется в качестве автономного, особого жанра лите-
13 Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3 т. Т. 1. СПб., 2001. С. 61.
14 См.: Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 177—194.
15 Примечательно, что М. Фуко в своей работе «Слова и вещи» (М., 1977)
непосредственно обращается к истории развития экономической науки.
298 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
ратуры со своей определенной тематикой. В случае
экономического дискурса это темы денег и цен, труда и собственности, торговли
и ренты и т. п., активно обсуждавшиеся в XVII и в первой половине
XVIII века. Общим объектом в этот период выступает сфера
богатства. При этом Фуко призывает избегать такого ретроспективного
прочтения авторов той эпохи, которое придало бы их
рассуждениям о богатстве позднейшее единство политической экономии.
«В рамках этой сферы бесполезно ставить вопросы, возникшие в
экономии другого типа, например, организованной вокруг
производства или труда; в равной мере бесполезно анализировать ее
различные концепты (даже и особенно, если их имя впоследствии
сохранилось вместе с какой-то аналогией смысла), не учитывая
систему, в которой они черпают свою позитивность»16. При этом,
даже если не брать в расчет памфлетов и эссе многочисленных
любителей-дилетантов, производители текстов, попавших затем в
анналы экономической мысли, мало походили на членов научного
сообщества. «Среди них были философ и сумасшедший,
священнослужитель и брокер, революционер и аристократ, эстет, скептик
и бродяга. Они принадлежали разным народам, занимали разные
общественные положения, обладали непохожими характерами...
Все они писали книги, но библиотека из них получилась бы весьма
необычная. Один или двое написали бестселлеры, а кое-кому
приходилось платить, чтобы их малопонятные работы, обращенные к
строго ограниченной аудитории, были опубликованы»17.
Возможно, автор этой весьма известной и выдержавший много изданий
книги из литературных соображений несколько преувеличивает
разнородность творцов дискурса периода «экономической мысли»,
но таковы первые шаги к отделению науки от метафизики и
повседневного опыта.
Второй порог — «порог эпистемологизации» — преодолевается
тогда, когда критически обсуждаются вопросы о возможных
методах познания, о достоверности знания и т. п. Похождение этого
порога в экономическом знании можно датировать, по Фуко,
второй половиной XVIII века и связан он прежде всего с именем
Адама Смита. Подобно своим предшественникам, еще остается в поле
позитивности, в «мире богатств». Однако в отличие от ранних
авторов он стремится упорядочить «законы, меры и единицы
обмена, он формулирует такой принцип порядка, который не сводим к
'" Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 232.
17 Хайблонер Р. Философы от мира сего. Великие экономические мыслители: их
жизнь, эпоха и идеи. М., 2008. С. 16.
В. П. Филатов. От мысли к науке: культурно-исторический подход...
299
анализу представления: он выявляет труд, его тяготы, его
длительность, тот рабочий день, который разрывает и вместе с тем
потребляет человеческую жизнь»18. Поэтому теория Смита выходит за
пределы того пространства, которое отводилось экономии в
«позитивный» период. Она, с одной стороны, касается вопросов
антропологических — о самой человеческой сущности и труде. А с
другой — указывает на пока еще не реализованную возможность
политической экономии, объектом которой является уже не обмен
богатств, но их реальное производство. Вслед за Шумпетером, к
этому можно добавить, что на этом этапе в «экономических
учениях» нарастает доля «экономического анализа», которая позволяет
становящейся науке подняться над уровнем здравого смысла.
Таким аналитическим инструментарием в данном случае экономики
выступают абстрактно-теоретические модели, статистика и анализ
экономической истории.
Третий порог — порог дисциплинарное™, собственно
«научности», он достигается, когда в дискурсивной области начинает
вестись систематический сбор эмпирических данных,
выделяются парадигмальные элементы (теория стоимости, модель
«экономического человека»), появляются четкие гипотезы и законы,
постулируются критерии научности знания. Важны здесь и
институциональные аспекты: появление университетских курсов,
профессорских позиций и кафедр; появление журналов, текстов,
используемых в качестве учебников; формирование устойчивого
научного сообщества. В политической экономии все это в
основном было достигнуто в первой половине XIX века.
Наконец, согласно Фуко, дисциплина может проходить
четвертый порог — «порог формализации». Этот порог связан с
построением строгих гипотетико-дедуктивных теорий, с формализацией
используемых моделей и объяснений, с широким использованием
математики. Возможность и важность формализации
экономической науки — предмет отдельных дискуссий. По существу эта
стадия началась лишь с конца XIX века, с работ Л. Вальраса и А.
Маршалла.
Разумеется, рассмотренная модель позволяет лишь в первом
приближении рационально реконструировать историю
становления экономической науки. При этом нужно иметь в виду, что
реальное многообразие школ и направлений в экономике, наличие
революционного типа преобразований (например, маржиналист-
ская революция, институциализация науки в европейских универ-
18 Там же. С. 300.
300 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
ситетах в XIX веке) существенно усложняет намеченную тут кратко
картину этапов, через которые должно пройти знание в своем
преобразовании из социально-экономической мысли в
экономическую науку.
О становлении экономической науки в России
Одним из основных направлений культурно-исторической
эпистемологии является осмысление особенностей истории
отечественной науки. В начале статьи уже отмечался такой поворот в работах
Б. И. Пружинина и его коллег. Но пока подобный интерес не столь
распространен. Большинство авторов работ по теории познания и
философии науки, когда им нужно обращаться к историческому
опыту познания, предпочитают брать материал из истории
западной науки. Как можно объяснить такую ситуацию? Проще всего
сказать, что нет пророка в своем отечестве. Можно также
утверждать, что становление отечественной науки происходило позднее
западноевропейской, поэтому ее анализ мало что может добавить
к картине науки как таковой. Конечно, наука как
интернациональное явление, суть которого постепенное распространение
новоевропейской традиции научного знания. Однако это
распространение предполагает наличие в воспринимающем науку обществе
собственных ценностных, социальных и культурных
предпосылок, без чего оно не может быть успешным19. В этом плане стоит
отметить, что развитие науки в России было в целом быстрым и
продуктивным, к концу XIX века отечественная наука занимала
достойное место в мировой науке и успешно интегрировалась в
международное научное сообщество20.
В этот же период происходил подъем отечественной
экономической науки и ее выход на международный уровень,
отмеченный появлением ученых, получивших международную
известность: М. И. Туган-Барановский, В. К. Дмитриев, Е. Е. Слуцкий,
А. А. Чупров, Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, И. М. Кулишер и
др. Между тем проблема становления российской экономической
19 См.: Кузнецова Н. И. Социо-культурные проблемы формирования науки в
России (XVIII - середина XIX вв.). М., 1999.
20 По числу ученых, количеству научных журналов, публикаций Россия занимала
5-е место после США и трех ведущих европейских стран. См.: Forman P.,
Heilbron J., Weart S. Physics circa 1900: Personnel, Funding, and Productivity of the
Academic Establishments // Historical Studies in the Physical Sciences. 1975. Vol. 5.
В. П.Филатов. От мысли к науке: культурно-исторический подход... 301
науки до сих пор не получила целостного и системного решения.
Из достаточно большой научной и учебной литературы по истории
этого вопроса трудно составить ясное впечатление о том, как
возникали научные школы, на какой методологической почве
происходило их становление, как формировалось научное сообщество
российских экономистов, каковы были их научные ориентации и
связи с коллегами из-за рубежа.
Одной из главных причин этого является уже отмеченное выше
постоянное смешение в литературе «экономической мысли» и
«экономической науки», которое осложняет выделение подлинно
научных направлений и школ. Любопытно, что используемая здесь
терминология весьма вольная: говоря об истории «экономической
мысли», «экономических учениях», «экономических доктринах»,
«экономической теории», авторы могут подводить под эти шапки
любые феномена — от взглядов И. Посошкова (начало XVIII века)
до ныне живущих экономистов21. Здесь стоит отметить и то, что
нередко встречаются работы по истории «экономической мысли»,
в которых продолжает давать знать о себе «героическая» картина
развития отечественной науки, созданная в конце 1940 —
начале 1950-х годов на волне борьбы с «низкопоклонством перед
Западом» и «космополитизмом». Эта схема истории русской науки
предполагает автохтонное зарождение науки на Руси в
допетровские времена и ее поступательное развитие сначала самородками
из низов народа, а затем
мыслителями-материалистами-революционерами. Вот как написано о «пионерах экономической науки в
России» в весьма популярной в свое время книге: страна «дала
смелых и оригинальных мыслителей. Достаточно сослаться на
замечательного русского ученого и писателя петровской эпохи Ивана
Посошкова, на социально-экономические сочинения А. Радищева,
на труды декабристов Н. Тургенева, П. Пестеля, М. Орлова... По
многим серьезным причинам русская мысль не могла играть роли
в формировании экономического учения марксизма, хотя
одновременно с Марксом Н. Г. Чернышевский с гениальной
проницательностью анализировал буржуазную политическую экономию
Запада»22. Это написано на излете советской эпохи, но остатки
подобных схем живы до сих пор.
21 Можно привести такие характерные примеры: Кирдина С. Г. Преемственность
в российской экономической теории: от Посошкова до институционализма //
Очерки истории российской экономической мысли. М., 2003. Или, например,
широко известная работа Марка Блауга «Economic Theory in Retrospect» у нас
вышла под названием «Экономическая мысль в ретроспективе» (М., 1994).
22 Аникин Л. В. Юность науки. М., 1979. С. 17.
302 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Нужно все же отметить, что более выверенный взгляд на
становление отечественной экономической науки постепенно
пробивает себе дорогу. Так, известный историк и методолог экономики
В. С. Автономов полагает, что не стоит проецировать
экономическую науку в те времена, когда для нее еще не было какой-то
реальной почвы. «Разделяя экономическую науку (анализ) и
экономическую мысль, мы исходим из презумпции существования
специализированных общественных наук, а не синкретического
знания, в котором не отделены друг от друга научные, этические
и религиозные аргументы. Такая специализированная наука
действительно возникла на Западе гораздо раньше, чем в России, что
объясняется прежде всего разными объективными условиями
общественного развития, в частности, более ранним развитием в
Западной Европе рыночной экономики и городов»23.
Экономическая мысль в России интересна, порой оригинальна,
но она всегда исторически конкретна, привязана к острым
проблемам текущего времени. Она представлена в различных идеях и
учениях любителей-практиков, политиков и чиновников,
философов и публицистов, при этом она не выходит за уровень здравого
смысла и не использует специальных моделей и аргументов,
характерных для ученых-экономистов. С точки зрения В. С. Автономо-
ва в такой форме экономическое знание существовало почти до
конца XIX века, «положение стало меняться в 1890—1910-е годы,
когда начали пользоваться известностью и разработки российских
экономистов в области экономического анализа. Наиболее яркими
примерами здесь могут служить: микроэкономические открытия
Е. Слуцкого, составившие элемент фундамента современной
экономической теории; теория циклов М. Туган-Барановского,
получившая в свое время значительный резонанс, но ныне отошедшая
на второй план вместе с теорией цикла как таковой»24. Сходные
оценки, но не столь «презентистски» выраженные, отстаивает
историк экономической науки П. Н. Клюкин25.
Конечно, такой временной сдвиг в реконструкции истории
отечественной экономической науки сталкивается с определенными
проблемами. Можно заметить, например, что Вольное
экономическое общество в России было основано еще в 1765 году и с
самого начала публиковало свои труды. С 1804 года ведет свою историю
23 Автономов В. С. История экономической мысли и экономического анализа: место
России // Очерки истории российской экономической мысли. М., 2003. С. 118.
24 Там же. С. 121.
25 См.: Клюкин П. Н. Элементы теории хозяйственного кругооборота в трудах
российских экономистов-математиков конца XIX — первой трети XX вв. М., 2010.
В. П. Филатов. От мысли к науке: культурно-исторический подход...
303
кафедра политической экономии Московского университета26.
Допустимо ли в свете подобных фактов говорить, что в это время еще
не было экономической науки?
Здесь возникает комплекс вопросов, которые требуют
изучения в плане культурно-исторической эпистемологии и на которые
можно дать лишь предварительные ответы. Основатели и члены
Вольного экономического общества не были, конечно,
профессиональными учеными-экономистами, это были в широком
смысле «любители», которые собирали эмпирический материал,
обсуждали социально-экономические проблемы, отстаивали те или
иные политические идеалы. Университеты в России до середины
XIX века были просветительскими учреждениями и
«питомниками для чиновников», лишь после реформ и принятия
относительно либерального устава 1863 года в университетах стали возникать
очаги науки, элементы модели университета «гумбольдтовского
типа», в котором реализуется единство образовательной и
исследовательской деятельности27.
Поэтому вполне допустимо, на мой взгляд, считать, что до этого
времени экономическое знание еще существовало в форме
«мысли», или пребывало на первой, «позитивной» стадии в
терминологии М. Фуко. Вместе с тем в 1880—1890-е годы ситуация стала
быстро меняться. Параллельно шли процессы «эпистемологизации»
экономического знания и формирование профессионального
сообщества ученых-экономистов. В это время в российском
обществе в целом резко возрос интерес к политической экономии. Об
этом свидетельствует обилие отечественных публикаций по
экономическим сюжетам и множество работ немецких, английских
и французских экономистов, переведенных и изданных в России
в конце XIX века28. Среди них немало книг, посвященных
«предмету и методу» политической экономии, в том числе
классических работ этого жанра Дж. С. Милля, У. Джевонса, К. Менгера,
Дж. Н. Кейнса, Д. Э. Кэрнса, Г. Шмоллера. Российские
экономисты, в том числе такие ключевые фигуры, как А. И. Чупров и
М. И. Туган-Барановский, также немало писали в этот период по
методологическим вопросам и в отдельных статьях, и во вводных
26 Первоначально она называлась кафедрой дипломатии и политической
экономии, позднее политической экономии и статистики.
27 См.: Стаферова Е. Л. А. В. Головнин и либеральные реформы в просвещении
(первая половина 1860 гг.). М., 2007; Шнедельбах Г. Университет Гумбольдта //
Логос. 2002. № 5-6.
28 См.: Книги западных экономистов XVIII — начала XX в., изданные в России /
Сост. библиографии Ю. В. Латов // THESIS. Т. 1. М., 1993. С. 227-255.
304 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
разделах своих курсов политической экономии. Важное значение
в этой «эпистемологизации» экономического знания занимало
осмысление российскими учеными результатов «маржиналистской
революции», произошедшей в экономической науке в 1870-х
годах. Как известно, переход от трудовой теории стоимости к теории
предельной полезности привел в итоге к тому, что классическая
«политическая экономия» стала пониматься как прошедший этап,
замещаемый новым типом «экономической науки» (economical
science — economics). Под этой новой экономикой стала
пониматься аналитическая наука о рациональном выборе и
использовании людьми ограниченных ресурсов для производства товаров
и услуг, их распределения и потребления. Анализ этого сдвига и
применение новых моделей в работах М. И. Туган-Барановского,
В. К. Дмитриева, Е. Е. Слуцкого положили начало
экономико-математическому направлению, которое уже принципиально
отделялось от уровня «экономической мысли» и практического здравого
смысла.
Наряду с этим преодолевался порог превращения экономики в
признанную научную дисциплину. Этот процесс проходил сходно с
другими социально-гуманитарными дисциплинами и определялся
общими изменениями в российских университетах. Хотя кафедры
экономики по-прежнему были в составе юридических
факультетов, их штат и число профессорских позиций росли, расширялась
тематика университетских курсов, возникали специальные
журналы. Важную роль играла система зарубежных стажировок
выпускников, проявивших научные способности и готовящихся к
университетской карьере29. Это укрепляло научные связи российских
ученых с европейскими коллегами и способствовало
формированию устойчивого научного сообщества. Как отмечает В. С.
Автономов, «началось массовое воспроизводство профессиональных
экономистов. Предположительно, их творчество характеризовалось
некоторыми стилевыми особенностями, но считать их на этом
основании единой школой означало бы чрезмерно "размывать"
значение данного термина»30.
Здесь отмечен важный момент. В самом деле, если в
естествознании генезис дисциплины прямо связан с принятием единой па-
29 См.: Дмитриев А. Н. Заграничная подготовка будущих российских профессоров
накануне Первой мировой войны // Профессорско-преподавательский корпус
российских университетов. 1884—1917 гг.: исследования и документы / Под ред.
Н. В. Грибовского, С. Ф. Фоминых. Томск, 2012.
30 Автономов В. С. История экономической мысли и экономического анализа:
место России. С. 122.
В. П. Филатов. От мысли к науке: культурно-исторический подход...
305
радигмы, то в социальных науках такое парадигмальное единство,
как правило, не возникает. Результатом генезиса российской
экономической науки стал спектр направлений и научных школ,
имеющих различные истоки, методологические и концептуальные
предпочтения, связи с различными представителями и школами
западной экономической науки. Однако это не вело к
разобщенности, что видно по интенсивным дискуссиям, которые шли в нем в
это время. Проблемные фокусы этих дискуссий, осознание
учеными исторической значимости этих проблем в контексте развития
страны придавали определенный общий стиль поискам ученых-
экономистов. Это соотносится и с тем, как трактуется понятие
стиля научного мышления в культурно-исторической
эпистемологии. Это понятие, как отмечает Б. И. Пружинин, несет в себе
«во-первых, идею внутренней смысловой связанности истории
научного познания, реализующейся в преемственности стилистик
различных периодов развития науки и, во-вторых, идею
поливариантности, предполагающую стилистическое многообразие
выражения в научном языке знания об одном и том же фрагменте мира»31.
Это стиль сохраняли и те российские ученые-экономисты, кто
впоследствии поддерживал дух науки в рамках советского режима и
репрессий — Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов и их коллеги, и те, кто
оказался в эмиграции — А. А. Чупров, Б. Д. Бруцкус, В. И. Бортке-
вич, Г. А. Харазов и др. Возможно, он дал исходный импульс и
начинающим тогда В. Леонтьеву и С. Кузнецу, которые впоследствии
стали лауреатами Нобелевской премии по экономике.
31 Пружинин Б. И. Культурно-историческая природа познания и стиль научного
мышления // Стиль мышления: проблема исторического единства научного
знания. К 80-летию В. П. Зинченко / Под ред. Т. Г. Щедриной. М., 2011. С. 30.
В. П. Зинченко
Философско-гуманитарные истоки
психологии действия
Психология — наука о душе и о ее главных атрибутах —
познании, чувстве, воле, в просторечии называемых
психикой. Душа не сводится к своим атрибутам, она обладает
еще чем-то неуловимым, не схватываемым в понятии,
избыточным. Платон назвал это окрыленностью,
благодаря которой душа может воспарить, исполнить полет. Ей могут и
сломать крылья. Эту красивую и живую метафору можно и нужно
держать в сознании, она весьма правдоподобно отражает реальные
жизненные ситуации. Однако в эмпирических исследованиях
психики неуловимая душа плохой помощник и ею обычно
пренебрегают, забывают о ее существовании, считая психику вполне
самодостаточным предметом исследования. Психологи, не говоря уже
о физиологах, полагали, что познание, чувство, воля, не утратив
психологического смысла, могут изучаться независимо друг от
друга, что они представляют собой «чистые» культуры (которых,
кстати, в природе не бывает).
Такому представлению атрибутов психики сопротивлялся язык,
в котором редко фиксируется что-либо случайное и
неправдоподобное. Мы часто встречаем выражения, свидетельствующие если
и не об отсутствии, то о размытости границ между познанием,
чувством и волей: логика сердца; действие и страсть — одно;
чувствующий ум; холодный рассудок; умное делание; единство аффекта и
интеллекта; умные эмоции; эмоциональный интеллект; идея,
становящаяся аффектом; проведение ума в сердце; союз ума и фурий
(рождающий ублюдков); живописное соображение; разумный глаз;
глазастый разум; визуальное мышление; зрячих пальцев стыд; от действия
к мысли; ручные понятия; память — ищущий себя интеллект; живое
движение — ищущий себя смысл; духовная жажда; голодный ум и т. д.
и т. п. Подобные речевые миксты должны были бы заставить
усомниться в существовании чистых культур, но как схватить целое,
если пренебрегли душой и расчленили сознание на элементы? На
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки психологии действия 307
первых (между прочим, достаточно длинных) порах психологи
пошли по пути дифференциации и анализа изолированных друг от
друга атрибутов души. Ведь так принято в естественных науках. Но
анализ анализу рознь. Как заметил Г. Г. Шпет, психологи избрали
путь даже не извлечения из целого душевной жизни, а отвлечения от
него отдельных психических процессов (функций). При этом
последние должны были быть очищены как от реальных жизненных
ситуаций, так и от души, от сознания, да и друг от друга.
Психологи доказали, что психику можно изучать без души.
Наглядным примером этого служит любой учебник по
экспериментальной, да и по общей психологии. Звучали, правда,
отдельные голоса, говорившие о том, что психику нужно анализировать
не по элементам, а по единицам, сохраняющим свойства целого
(Г. Г. Шпет, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.). Драму
поиска и перебора таких единиц (ассоциация, гештальт, реакция,
рефлекс, претерпевание, установка, акт отражения, значение, смысл,
слово, действие, переживание и др.) предвидел И. В. Гёте:
Написано: «В начале было Слово» —
И вот уже одно препятствие готово:
Я слово не могу так высоко ценить.
Да, в переводе текст я должен изменить,
Когда мне верно чувство подсказало.
Я напишу, что Мысль — всему начало.
Стой, не спеши, чтоб первая строка
От истины была недалека!
Ведь Мысль творить и действовать не может!
Не С и л а ли — начало всех начал?
Пишу — и вновь я колебаться стал,
И вновь сомненье душу мне тревожит.
Но свет блеснул, — и выход вижу я:
В Деянии начало бытия.
(И. В. Гёте. Фауст. Перевод Н. А. Холодковского)
В другом переводе: «В начале было дело». Л. С. Выготский,
обсуждая вечную проблему начала, предложил, казалось бы,
изящное решение: «Слово не было вначале. Вначале было дело.
Слово образует скорее конец, чем начало развития, слово есть конец,
который венчает дело»1. Не думаю, что в этом споре
когда-нибудь будет поставлена точка. Согласно Г. Г. Шпету, слово — глав-
1 Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. М., 1982. С. 360.
308 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
ный принцип cognoscendi; архетип культуры, воплощение разума.
Если это принять, то вначале был разум? Согласно М. Хайдегге-
ру, слово (язык) — Дом бытия, жилище экзистенции. В этом
жилище обитает человек. Но ведь сначала этот Дом нужно
построить. Значит, вначале было дело? Может быть, выход в том, чтобы
и разум и слово признать делом? По сути дела, это вопрос
риторический. Деятельностная природа языка была раскрыта В.
Гумбольдтом. В нашей стране его подход успешно развивали А. А. По-
тебня, Г. Г. Шпет, Л. С. Выготский, В. А. Звегинцев, Н. И. Жинкин,
А. Н. Соколов, А. А. Леонтьев и др. В 1955 году Дж. Остин ввел в
научный обиход термин «перформатив», указывающий на то,
что произнесение высказывания означает совершение действия2.
С этим направлением в лингвистике смыкается деятельностный
подход в психологии.
Попробуем посмотреть на проблему начала, как таковую.
Начало предполагает продолжение, т. е. путь к чему-то, к какой-то
цели, пока не суть важно осознанной или неосознанной. Начиная
свою статью «Путь к языку» М. Хайдеггер пишет, что тема статьи
«звучит так, словно язык далеко в стороне от нас, где-то, куда нам
нужно было бы сперва еще отправиться в путь»3. Но ведь
сущность человека покоится в языке: «Мы существуем, выходит,
прежде всего в языке и при языке. Путь, стало быть, к нему не нужен.
Да путь к нему притом еще и невозможен, если уж мы и без того
там, куда он должен бы вести. Однако там ли мы? <...>
Оказываемся ли мы без всякого нашего старания в близости языка? Или
путь к языку длиннейший из всех, какие можно помыслить?»4 Не
то же ли самое утверждает Т. Элиот: В моем начале — мой конец <... >
В моем конце — мое начало. Но концы и начала все же соединяет
путь. Еще одно хорошо известное утверждение («Я — концепция»,
сказали бы гуманистические психологи.): «Я есмь путь и истина и
жизнь». Если уже есмь истина, то нужен ли путь? Подобный
парадокс имеет отношение к культуре, поскольку слово — ее архетип,
к разуму, поскольку слово его воплощение. По тем же основаниям
он имеет отношение к деятельности и действию. В действии, как
и в языке, покоится (или беспокоится) сущность человека, о чем
недвусмысленно писал Г. В. Ф. Гегель: «Истинное бытие человека
есть его действие; в последнем индивидуальность действительна»5.
2 Остин Дж. Избранное. М., 1999. С. 19.
3 Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 253.
4 Там же.
5 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. Г. Г. Шпета // Гегель Г. В. Ф. Сочинения.
Т. IV. М., 1959. С. 172.
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки психологии действия 309
Действительность индивидуальности выступает не во мнении, не
в резюме, не в «Я—концепции». Психологи к такому заключению
пришли (если пришли?) далеко не сразу, что тем более
удивительно, что психология с самого начала своего возникновения, если и
не была психологией действия, то, скажу осторожнее, была при-
частна к действию, хотя не осознавала этого. А если осознавала,
то довольно быстро забывала об этом. Это лишь на первый взгляд
скандальное утверждение я попытаюсь развернуть далее. То, что
говорилось о невозможности и вместе с тем о нужности пути к
слову, к действию, к истине, имеет отношение и к пути психологии к
действию. Чем как не действием являются живое движение души,
движение живой мысли, живого слова? Не вдаваясь в историю
психологии, все же напомню, что Аристотель связывал движение и
память: «Ощущение (происходит) от внешних предметов, а
припоминание из души (направляясь) к движениям или остатках их в
органах чувств»6. Он определял сущность души как форму, цель
живого тела, и добавлял, что все действия сопряжены с движением, а
в неподвижном не может быть цели. Трактат Аристотеля «О душе»
следует рассматривать как первый опыт бытийного, если угодно,
деятельностного подхода к душе, к психике. В нем душа
рассмотрена не только как форма, источник, причина движения
живого тела, но и как осуществление (действие, процесс, деятельность)
того, что обладает потенциальной возможностью быть
осуществленным.
Вообще нужно сказать, что колебания философии и
философской психологии между онтологией и гносеологией заслуживают
специального рассмотрения. Забегая вперед, скажу, что в
отделившейся от философии психологии на многие десятилетия взяла верх
гносеология, точнее, ее пассивно-отражательный вектор.
Сказанное — не оценка и не критика — время для них ушло — а
констатация факта. Победа была не абсолютной и не повсеместной.
Например, И. М. Сеченов, обсуждая проблему «элементов мысли»,
наряду с «чувственными рядами» назвал не рефлексы, а «ряды
личного действия». (Да и само мышление, когда оно действительно
мышление, есть личное действие.) Как деятельность и действие он
рассматривал и память, считая ее основным условием психической
жизни. Потом рефлексология, реактология, бихевиоризм опустили
действие до уровня реакций и рефлексов. Они, с одной стороны,
недооценивали, а то и пренебрегали ментальностью, с другой —
рассматривали движение как лишенное модуса психического. Наи-
6 Аристотель. О душе // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М., 1975. С. 386.
310 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
более ярко такая позиция была выражена в 1926 году Дж. Утсоном,
утверждавшим, что у ребенка 5—6-дневного возраста имеется уже
весь репертуар движений взрослого человека. Замечу, что тогда же
или несколько раньше Н. А. Бернштейн во весь рост поставил
проблему построения движения, понимаемого им как акция, а не как
реакция.
Мудрый И. П. Павлов заметил, что мышление — это не
рефлекс, это — другой случай, который он не пытался исследовать.
Этот «случай» интересно исследовали А. Бергсон, Л. С. Выготский,
А. Валлон, М. Вертгеймер, поздний Ж. Пиаже и другие,
развивавшие деятельностную трактовку мышления.
Обратим внимание на важный аспект подобной трактовки,
который недостаточно учитывавшийся ее создателями и который
отчетливо выразил М. Хайдеггер. Мысль действительно
действует, поскольку мыслит. Но неверно расценивать мысль только как
технический процесс обдумывания на службе у действия и
делания. Этим приносится в жертву существо мысли и технической
интерпретации. «Бытие как стихия мысли приносится в жертву
мышления»7. Значит, действие действию рознь. Оно в
человеческой жизни выступает во множестве ипостасей.
Развитие психологической теории деятельности или деятель-
ностного подхода к психике стало важным шагом на пути
преодоления «гносеологической пассивности» психологии и поиска ею
собственной онтологии. У этого подхода были свои ограничения и
трудности идеологического порядка. Л. С. Выготский, видимо, был
последним советским психологом, который ставил мышление и
сознание не только над деятельностью, но и над жизнью:
«Конечно, жизнь определяет сознание. Оно возникает из жизни и
образует только один из ее моментов. Но раз возникшее мышление само
определяет жизнь, или, вернее, мыслящая жизнь определяет сама
себя через сознание»8. Вспоминая 30-е годы XX века, П. Я.
Гальперин писал, что во внешней, осмысленной, предметной
деятельности «мы усматривали прежде всего средство вывести
психологию из замкнутого круга сознания, из плена самонаблюдения»9.
Из этого круга, действительно, психологию вывели, но сам круг
сознания оставили за пределами исследования и робко вернулись
в него лишь во второй половине 1960-х годов. Автор
настойчиво подчеркивал объективность психики: «Предполагалось, что в
7 Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. С. 192—193.
8 Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. М., 1983. С. 253.
9 Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998. С. 250—251.
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки психологии действия 311
системе этой объективно осмысленной деятельности и ее
составная часть — психическая деятельность — потенциально
обретает и определенность содержания, и доступность объективному
исследованию»10. Таким образом, деятельность была поставлена во
главу угла, стала объяснительным принципом всей психики,
сознания, даже личности, начались попытки ее структурирования
(А. Н. Леонтьев), а затем и моделирования. Однако между
деятельностью и сознанием по-прежнему сохранялся разделительный
союз «и». Сознание оказывалось только производным, вторичным,
неким «гносеологическим» (или идеологическим) довеском к
поведению и деятельности. Такое сознание выполняло всего лишь
отражательные, а не созидательные функции: И зеркало корчит
всезнайку (О. Мандельштам). Идеи Л. С. Выготского о смысловом
строении сознания были забыты. Сегодня эстафетную палочку
отражения подхватили нейрофизиологи, увидевшие свое даже не
отражательное, а подражательное сознание в зеркальных нейронах
мозга. Сознание конструирует мир (миры), между прочим, и для
того, чтобы ему было что отражать и чему подражать. Оно же
лукаво конструирует и свой примитивный эрзац — правильное
мировоззрение. И все же именно развитие деятельностного подхода к психике
дало основания П. Я. Гальперину, как бы авансом, определить
психологию будущего как объективную науку о субъективном мире
человека (и животных). Замечу, что в начале 1920-х годов, т. е. еще до
развития деятельностного подхода, по-своему размыкали
замкнутый круг сознания А. А. Ухтомский, Н. А. Бернштейн, Г. Г. Шпет,
Л. С. Выготский, M. M. Бахтин, С. Л. Рубинштейн, утверждавшие
объективность сознания, даже духа и души, относительность
различения внешнего и внутреннего, субъективного и объективного.
Происходило то, что M. M. Бахтин назвал культурно-исторической
телепатией, когда разные ученые независимо друг от друга
приходили к близким, порой до неразличимости идеям об онтологии
сознания и духа, об их бытийности (и надбытийности), об участно-
сти сознания в бытии. М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский
позднее писали, что без онтологии тоска берет за горло, и
утверждали существование единого континуума бытия-сознания.
Тем не менее инерция гносеологического доминирования в
изучении психических процессов и функций — великая сила. Эта
инерция в середине XX века породила когнитивную психологию.
Дурные примеры заразительны. Вслед за ней появились
когнитивная лингвистика, когнитивная нейрофизиология, когнитивная ге-
10 Там же. С. 251.
312 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
нетика, когнитивная нейроэкономика, наконец, когнитивная
наука. К ней отнесли даже философию, не вспомнив при этом героя
В. В. Набокова — гностика Цинцинната, который был настолько
бесплотен, что его и повесить нельзя было. Все стало вокруг
когнитивно унылым: умственные души, умственные слова,
умственные нейроны, умственные гены, умственные деньги, умственные
ученые и философы. Не за горами когнитивная теология и
политология. Они обеспечат появление умственных служителей культа
и политиков. Можно даже подумать, что сбываются давние грезы
о ноосфере и планетарном мышлении. Но почему-то глупость во
всемирном Параноевом ковчеге по-прежнему достигает
космических высот. Может быть, и она будет названа (назначена!)
когнитивной? Дж. Сперлинг, прославившийся в начале 1960-х годов
блистательными исследованиями иконической памяти, и У. Найссер,
на основании этих и других исследований кратковременной
памяти написавший первую книгу «Когнитивная психология» (1967),
не могли себе представить, какого прожорливого джинна они
выпустили на волю. Этот неразборчивый джинн похож на
гоголевского Ноздрева: До леса — мое, лес — мой, за лесом — тоже мое.
Разумеется, ни Дж. Сперлинг, ни У. Найссер, равно как и Р. Декарт,
не виновны в столь расширительном толковании термина «cogito».
Дж. Сперлинг вслед за изучением иконической памяти,
выполняющей когнитивно-консервативные функции (сохранение иконы
на 700 мс), провел исследование стоящего за ней блока
сканирования, выполняющего оперативно-динамические, а по сути дея-
тельностные функции, без которых, кстати, невозможно познание.
Под абсолютизацией cogito иронизировал Гёте: Познай себя...
Какая польза в том: / Познаю, а куда бежать потом ?
А если всерьез, то когнитивная психология пошла вслед за
гносеологией, сознательно или бессознательно положила ее в качестве
своего «методологического» основания. Когнитивная психология
разделила грех старой доброй классической психологии, которую
М. М. Бахтин, вслед за Ф. М. Достоевским, справедливо упрекал
в пассивности, в непричастности к жизни, к бытию. Такая
психология заняла позицию алиби в бытии. Родовая травма теории
познания, которая стала образцом не только для психологии, но и
для ряда других областей культуры и гуманитарного знания
состоит в том, что теория действия, теория поступка подменялась
теорией уже совершенных поступков, на что неоднократно указывал
M. M. Бахтин. Различие между уже совершенным (прошлым) и
предстоящим (будущим) состоит в том, что первое описывается
значениями, а для второго важен смысл, являющийся ответом на
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки психологии действия 313
вопрос или предвосхищением. Смысловая сторона жизни
принадлежит душе, сознанию, личности. Смысл всегда персоналистичен
и локализован в будущем. Я вовсе не хочу сказать, что прошлые
значения бессмысленны. В них закреплена смертная плоть смысла,
которая может ожить, осветить настоящее и будущее. У каждого
смысла будет свой праздник возрождения, говорил M. M. Бахтин.
Когнитивная психология слишком долго находится в
«замкнутом круге познания». Поэтому она игнорирует психологию
личности или гуманистическую психологию. Последняя в качестве
своей методологической основы предпочла экзистенционализм, что
обусловило ее широкую популярность и весомый практический
потенциал. В отличие от нее когнитивной психологии достаточно
«общения» с subject'oM — nojx-лежащим исследованиям в
психологических лабораториях. Спору нет, в когнитивной психологии
получены интересные результаты в области перцепции,
внимания, кратковременной памяти, меньше — в области мышления,
сознания, совсем мало — в области моторики, навыков, действий,
деятельности. Многие результаты, полученные в рамках
когнитивной (как впрочем, и в «докогнитивной» экспериментальной
психологии), достаточно эффективно использовались в инженерной
психологии и эргономике. Но нельзя не обратить внимание на то,
что в США когнитивная психология развивается относительно
независимо от исследований деятельности (Motor control and
performance). Лишь сравнительно недавно на Международных
конгрессах когнитивная психология стала выступать в связке с
бихевиоризмом: Cognitive and Behavioral Psychology. В бихевиоризме она и
растворится — уж очень крепок поведенческий раствор. В отличие
от этого в нашей стране когнитивная психология не стала
самостоятельным направлением, а когнитивные исследования
выполнялись в парадигме деятельности и действия (см. указанные в списке
литературы работы Б. И. Беспалова, Б. М. Величковского, Г. Г. Ву-
четич, Н. Д. Гордеевой, В. П. Зинченко, П. И. Зинченко, А. Б.
Леоновой, А. И. Назарова, Ю. К. Стрелкова).
Скромность результатов не мешают широким
экспансионистским претензиям когнитивной психологии. Более чем за полвека
ее существования в ней не появилось фигур равновеликих К. Дун-
керу, М. Вертгеймеру, К. Коффке, Л. С. Выготскому, Ж. Пиаже,
Ф. Бартлетту, Д. Бруннеру, Л. С. Рубинштейну, А. Н. Леонтьеву,
А. Р, Лурии и другим классикам мировой и отечественной
психологии. Когнитивной, равно как и в гуманистической, культурно-
исторической, деятельностной и т. п., должна быть не психология,
а психологи. Психология же должна быть разнообразной, а глав-
314 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
ное, — поступающей, событийной, участной в бытии. Это не
означает, что она должна быть только практической, поскольку
действие, поступок — это тоже предметы, достойные теоретического и
экспериментального исследования.
Я счел необходимым эскизно обрисовать фон, на котором
начинала складываться и, надеюсь, сложится психология действия.
Именно действия, а не деятельности. Действие далеко не сразу
отвоевало себе место под психологическим солнцем, стало
осознаваться как предмет исследования. Сначала была признана его
гетерогенность (Г. Г. Шпет); затем, — что оно не реакция, а акция
(Н. А. Бернштейн); что оно столь же полноправный предмет
психологического исследования, как и любой психический процесс
(С. Л. Рубинштейн); что человек есть активный деятель в
объективной, закономерно организованной среде (М. Я. Басов); что
мышление, сознание участны в бытии, они бытийны, со-бытийны,
что мысль, вовлеченная в событие, становится сама событийной и
приобретает особый характер «мысли-поступка», «идеи-чувства»,
«идеи-силы». Предел событийности: «жизнь — поступление»,
«жизнь — деяние» (M. M. Бахтин). Относительно «идеи — силы»
Бахтин не оригинален. К. Маркс писал, что, когда идея
овладевает массами, она превращается в материальную силу. И. Губерман
разъяснил: т. е. превращается в свою противоположность.
Перечисленное есть освобождение от гносеологии, представляющее
собой необходимое условие онтологизации психики и сознания, а
затем и возможного сближения (это дело вкуса) с экзистенциальной
философией и психологией.
Для развития психологии действия мало признать, что
действие представляет собой условие развития психики, как,
например, действие ориентировочное, или исполнительное,
завершающее, хотя это тоже важно. Ч. Шеррингтон в свое время писал, что
на завершающих участках действия имеется место элементам
памяти и элементам предвидения, которые, в свою очередь, имеют
свою перспективу превращения в умственные способности. Смысл
сказанного великим физиологом состоит в том, что «элементы»
психики зарождаются внутри действия, Н. А. Бернштейн бы
сказал — внутри живого движения, в его биодинамической ткани.
Механическое движение ничего породить не может. А
биодинамическая ткань одновременно является и чувственной тканью, что нам
хорошо известно на собственном опыте: мы ведь ощущаем наши
собственные движения. Свои собственные действия мы можем
видеть не только снаружи, но и изнутри. Причем в последнем случае
даже лучше.
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки психологии действия 315
Обратимся к исследованиям и размышлениям Г. Г. Шпета,
М. М. Бахтина, Н. А. Бернштейна, Л. С. Выготского, С. Л.
Рубинштейна, составляющие своего рода пролегомены к теории
действия как такового. Судя по скудости перекрестных ссылок, они
слабо знали работы друг друга (если вообще знали), хотя вероятно
знали о существовании друг друга. Остановимся на них подробнее.
В 1922 году Г. Г. Шпет в журнале «Мастерство театра»
опубликовал статью «Театр как искусство», в котором подробно
рассмотрены свойства сценического действия: «Театральное действие
есть непременно какое-то условное, символическое действие, есть
знак чего-то, а не само действительное что-то, произведенное,
равно как и не простая копия — безыскусственная, технически,
фотографически точная, — воспроизводящая действительность»11.
Поскольку театральное действие символично, то оно, по
определению, имеет свои внутренние формы — «только они — грани
того драгоценного камня, который составляет предмет
эстетического наслаждения и который вправляется во внешние формы
металла»12. Внутренние формы определяют и формообразование
движений тела актера, совершающихся в трехмерном
пространстве и во времени. С некоторым пренебрежением Г. Г. Шпет
говорит, что это не те движения, с которыми возится естествознание и
психология, а движение живое, целесообразное и намеренное. Здесь
же он вводит и понятие гетерогенности сценического акта. «То
"действие", о котором мы говорим как об эстетически
созерцаемом предмете театрального искусства есть некоторый "характер",
"лицо", "маска" (persona). Театральное представление есть
представление актера, как действие некоторого лица, характера и пр.
Актер есть лицедей: когда он выступает на сцене, он
воспринимается нами не в своей действительности, а как некоторое
олицетворение. Актер творит из себя в двояком смысле: (1) как всякий
художник, из своего творческого воображения, и (2) специфически,
имея в своем собственном лице материал, из которого создается
художественный образ»13. И, наконец, главное. Актер исходит из
имеющихся в его распоряжении форм интонации, жестикуляции,
вообще телодвижения, комбинирует новые сложные формы. «Его
сфера — движения собственного тела, темп и ритм этого движения
и порядок, размах и сжатие, чередование повышений и понижений
11 Шпет Г. Г. Театр как искусство // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 19.
12 Там же. С. 23.
13 Там же. С. 38.
316 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
голоса, напевность речи, темп ее. Имея в виду совокупность форм
такого движения и принимая во внимание вышесказанное о
характере специфического движения и об очувствлении лица, "души",
здесь можно условится говорить об внешних и внутренних формах,
как формах и типах моторно-симпатических»н. Автор предлагает
называть моторно-симпатические формы экспрессивными, а
содержание сценического творчества экспрессивностью. Обращу
особое внимание на то, что Г. Г. Шпет вместо бытующих в психологии
неопределенных понятий внешнего и внутреннего использовал
введенное В. Гумбольдтом применительно к языку различение
внешних и внутренних форм действия. Благодаря этому
радикальному изменению взгляда сохраняется целостность слова, действия,
образа, символа. Однако это целостность динамичная,
допускающая взаимодействие форм внутри целого, а также целостность
открытая к миру.
Итак, действие актера является знаковым, символическим, оно
имеет свои внешние и внутренние формы, оно гетерогенно.
Внутренние формы определяют формообразование движений.
Последние являются живыми, целесообразными, намеренными, они несут
функцию очувствления, лица, души и представляют собой
экспрессивные моторно-симпатические формы. Выявленные Г. Г. Шпетом
свойства театрального Действа далеко выходят за его пределы,
характеризуют другие виды действия и действие как таковое.
Обратимся к работе M. M. Бахтина «Автор и герой в
художественной деятельности», написанной в 1924 году. В ней
значительное место уделено характеристике действия. M. M. Бахтин, как и
Г. Г. Шпет, рассматривал действие в контексте эстетики и выходил
за ее пределы, в том числе и в психологию. Он выделяет
некоторые формальные черты действия: продуктивность, необратимость,
символичность, протекание их в живом пространстве и времени.
А. А. Ухтомский сказал бы — в активном хронотопе. Действие
устанавливает связь между мною и другим внешним предметом,
расширяет сферу моего физического влияния. При этом «все данное,
наличное, уже имеющееся и осуществленное — как таковое —
отступает на задний план действующего сознания. Сознание
направлено на цель, и пути совершения и все средства достижения
переживаются изнутри. Путь свершения действия — чисто внутренний
путь и непрерывность этого пути тоже чисто внутренняя»15. Фик-
14 Шпет Г. Г. Театр как искусство. С. 33.
15 Бахтин М. М. Автор и герой в художественной деятельности // Бахтин M. M.
Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 120-121.
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки психологии действия 317
сация своей внешности при совершении действия может даже
оказаться роковой, разрушающей действие силой. M. M. Бахтин
ссылается на первое правило всякого спорта: смотри прямо перед
собою, не на себя. Во время трудного и опасного действия я весь
сжимаюсь до чисто внутреннего единства, перестаю видеть и
слышать что-либо внешнее, свожу себя и свой мир к чистому
самоощущению. По сути речь идет о внутренней форме действия, хотя
M. M. Бахтин и не использует в данном контексте этого термина.
Согласно одному из определений внутренней формы,
принадлежащему Г. Г. Шпету, внутренняя форма — это путь,
предполагающий ее овнешнение. Простим M. M. Бахтину, что он, настаивая на
непрерывности внутреннего пути действия, не знал о его внешней
дискретности, которую еще предстояло изучать Н. А. Бернштейну
и его последователям.
M. M. Бахтин продолжает: «Внешний образ действия и его
внешнее воззрительное отношение к предметам внешнего мира
никогда не даны самому действующему, а если даны, то
неизбежно становятся тормозом, мертвою точкою действия»16. И,
наконец, M. M. Бахтин заключает: «Мир действия — мир внутреннего
предвосхищенного будущего. Предстоящая цель действия
разлагает данную наличность внешнего предметного мира, план будущего
осуществления разлагает тело настоящего состояния предмета;
весь кругозор действующего сознания проникается и разлагается в
своей устойчивости предвосхищением будущего осуществления»17.
Действующее сознание или сознание в действии — это
уплотненное сознание человека собранного, которое взрывается,
разряжается действием, поступком. Уплотненность и скрытость
сознания во внутренней форме поступка создает иллюзию
реактивности, рефлекторности, импульсивности последнего. На самом
деле поступок творится на глазах, творится сознанием, которое
M. M. Бахтин иногда даже отождествлял с личностью.
Использование понятий внешней и внутренней формы в
размышлениях о наследии M. M. Бахтина соответствует проводимому
им различению форм внешнего и внутреннего бытия, его внешней
и внутренней плоти. Внутренняя плоть может принимать
форму души, форму сознания. Он, характеризуя словесное
художественное творчество, также использовал понятие внутренней
пространственной формы. Таков вкратце вклад «антипсихологиста»
M. M. Бахтина в создание психологии действия.
16 Там же. С. 123.
17 Там же.
318 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Обратимся к наследию Н. А. Бернштейна, главным
предметом изучения которого было построение движений и действий.
Его первые работы в этой области также как работы Г. Г. Шпета и
М. М. Бахтина датируются началом 1920-х годов. Он как будто
подслушал Г. Г. Шпета, говорившего, что живое движение — это
не простая кинема, и обратился к анализу внешней картины
(формы) такого движения. Н. А. Бернштейн шел от внешней
сложности живого движения к сложности его внутренней организации.
Он показал уникальность каждого движения, неустранимость
разброса параметров при его построении, поэтому «упражнение есть
повторение без повторения». Далее он показал, что обнаруженная
им дискретность движения является необходимым условием его
управляемости. Н. А. Бернштейном предложена целая серия
моделей построения и управления движениями, которым соответствует
иерархия неврологических уровней, обеспечивающих реализацию
все более и более сложных движений (от простейших синергии до
сознательно контролируемых предметных действий). Его модели
открыты для психологических компонентов, в том числе и для
регулирующих осуществление движения образов, которые, пользуясь
терминологией Г. Г. Шпета, входят во внутреннюю форму
движения и действия. Он признавал, что физиология мало знает об
образе, но ignoramus не значит ignorabimus: мало знать, как движение
выглядит снаружи, нужно видеть его изнутри. Н. А. Бернштейн ни
мало не сомневался в том, что движение столь же физиологическое,
сколь и психологическое образование, функциональный орган,
который реактивен, чувствителен, эволюционирует и инволюциони-
рует. Оно ориентировано на образ потребного будущего, на
перевод наличной ситуации из положения istwert в soliwert. Только через
напряжение действия потребное будущее может стать настоящим,
иногда даже бессмертным. Непотребное будущее приходит само.
Н. А. Бернштейн намечал и перспективу развития моторной
сферы: двигательная ловкость — это чрезвычайно универсальное
разностороннее качество, которое образует уже мостик к
настоящей умственной области. «Это своего рода двигательная
находчивость, но сплошь и рядом эта простейшая форма находчивости
перерастает в умственную находчивость, в изобретательность и
техницизм»18. Не случайно А. Р. Лурия назвал развитую Н. А.
Бернштейном физиологию активности «психологической физиологии».
Естественно, что и Л. С. Выготский не мог пройти мимо
психологической проблематики действия. Остановлюсь лишь на вол-
Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии. М., 1991. С. 25—27.
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки психологии действия 319
новавших его, вслед за К. Левином (и, конечно, за Б. Спинозой),
проблемах единства аффекта и интеллекта, аффекта и действия,
а также на проблеме сравнительной динамики мысли и действия.
Он сочувственно ссылается на В. Келера, заметившего, что нигде
интеллектуализм не оказывается столь несостоятельным, как в
теории интеллекта, пытающейся вывести природу интеллекта и его
развития из него самого19. Сам Л. С. Выготский писал, что мысль
не последняя инстанция, за мыслью стоит аффективная и
волевая тенденция. Не только. Он рассматривал мышление как
определенный вид деятельности, которому присуща динамика
особого рода, определенного типа и сорта, точно так же, как реальному
действию присуща своя динамика столь же определенного вида и
сорта20. Оба вида деятельности не отделены непроходимой
пропастью: «На деле в живой действительности мы на каждом шагу
наблюдаем переход мысли в действие и действия в мысль»21. При
этом Л. С. Выготский явно недооценивал динамику действия,
называя ее твердой, застывшей, жесткой, скованной, прочной,
косной, тугоплавкой в отличие от текучей динамики мысли.
Учитывая его знакомство и даже сотрудничество с Н. А. Бернштейном,
это выглядит по меньшей мере странно. Конечно, многие,
включая Л. С. Выготского, сравнивали мысль с молнией, но динамика
совершенного исполнения пианиста, скрипача, балерины
больше потрясает воображение, чем молниеносно пришедшая в
голову глупость. Так или иначе, но, разъясняя положение о прямом и
обратном превращении динамики мысли и действия, Л. С.
Выготский пишет: «Действие, преломленное через призму мысли,
превращается уже в другое действие, осмысленное, осознанное
и, следовательно, произвольное и свободное, т. е. стоящее в ином
принципиальном отношении к ситуации, чем действие
непосредственно обусловленное ситуацией и не прошедшее через это
прямое и обратное превращение динамики»22. Далее автор
высказывает важнейшее положение о единстве динамических смысловых
систем. «Осознанная функция приобретает и иные
возможности действия. Осознать — значит овладеть»23. Для интерпретации
(и развития) изложенных выше идей Л. С. Выготского вполне
применимы понятия внешней и внутренней форм. К сожалению,
он использовал эти понятия лишь применительно к слову и огра-
19 Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. М., 1983. С. 245.
20 Там же. С. 248-249.
21 Там же.
22 Там же. С. 250.
23 Там же. С. 251.
320 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
ничивал, как и А. А. Потебня, «содержимое» его внутренней
формы только образом. Он выделял в слове три основных элемента:
внешнюю звуковую форму, образ или внутреннюю форму и
значение. Но поскольку образ постепенно при словоупотреблении
вытесняется, остаются только звуковая форма и значение24. Видимо,
подобным образом вытиснились и понятия внешней и внутренней
формы, к которым Л. С. Выготский после «Психологии искусства»
не возвращался. А между тем действие, рассматриваемое как
внешняя форма, может иметь мысль в качестве своей внутренней
формы. Справедливо и обратное: мысль может быть внешней формой,
а действие — внутренней. На этой обратимости и основаны
взаимопереходы их динамики. В свою очередь, обратимость
предполагает общность смысла. Мысль (не забудем, она — тоже действие)
направлена на превращение оптического поля в смысловое, в поле
мысли, что делает возможным принятие не ситуативного, а
разумного решения и, соответственно, совершение разумного действия.
Последнее требует возврата к оптическому и моторному полям.
В небе быстро устаешь, цитирует Л. С. Выготский поэта. В свое
время А. Бергсон писал, что мысль может подниматься и парить
как угодно, но, будучи брошенной на поле действия, она должна
оказаться на ногах.
Следующий важный пункт в размышлениях Л. С. Выготского о
действии — это соотношение мышления и аффекта,
представляющих собой части единого человеческого сознания, в регуляции
действия (замечу, что действие к «частям сознания» он не
относил). Л. С. Выготский исходил из известного положения
Спинозы: аффект — это то, что увеличивает или уменьшает способность
нашего тела к действию и заставляет мышление двигаться в
определенном направлении: «В период сильного возбуждения нередко
ощущается колоссальная мощь. Это чувство появляется внезапно
и поднимает индивида на более высокий уровень деятельности.
При сильных эмоциях возбуждение и ощущение силы сливаются,
освобождая тем самым запасенную, неведомую до того времени,
энергию и доводя до сознания незабываемые ощущения
возможной победы»25. Автор говорит, следовательно, о динамогенном
влиянии эмоций на деятельность индивида, включая
интеллектуальную. Единство аффекта и интеллекта, Л. С. Выготский
понимает как изменчивое, а не неподвижное и постоянное:
«Мышление может быть рабом страстей, их слугой, но оно может быть и
24 Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1986. С. 43.
25 Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М., 1984. С. 101.
Исай Соломонович Пружинин,
сын унтер-офицера русской
армии. 1930-е гг.
Рахиль Берковна
(Ольга Борисовна) Пружинина
(урожд. Гринштейн). 1940-е гг.
О. Б. Пружинина с Борей. 1945 г.
Сестра Светлана с Борей. 1947 г.
Боря с бабушкой Н. Пружининой и сестрой Светой. 1948 г.
Борис с братом Семеном. 1948 г. Борис, Маирбек Хадиков,
Семен Пружинин. 1954 г.
3 "А" класс 281 школы. 1955 г.
Первомай. Фото И. С. Пружинима. 1950-е гг.
За уроками. 1950-е гг.
С отцом у Кремля.
Конец 1950-х гг.
Фрезеровщик завода
« Hефтеприбор». 1961 г.
Борис Кушер, Семен и Борис Пружинины. 1962 г.
Пограничник. Приморский край.
13.11.1963 г.
После армии. 1965 г.
Слева направо: Г. Чубков, Н. Гребнев, В. Гребнева, Р. Ляпина, А. Хе,
Б. Пружинин, О. Б. Пружинина, С. И. Пружинин, И. С. Пружинин.
Свадьба. 4.11.1965 г.
Борис и Аврора Пружинимы.
4.11.1965 г.
С маленькой Ольгой. 1966 г.
Борис-аспирант. 1969 г.
Первый поход. 1969 г.
Лев Баженов, Анатолий Коршунов, Борис Пружинин. На перевале. 1971 г.
Лев Баженов, Анатолий Коршунов, Владимир Евдокимов,
Борис Пружинин. 1971 г.
'
С Дмитрием Фельдманом. Осенний поход. 1972 г.
Характеристика. 04.10.1971 г.
Отзыв В. Г. Афанасьева. 21.11.1971 г.
ОтзывА. М. Коршунова. 02.03.1972 г.
Б. Пружинин. 1970-е гг.
С сыном Шурой. 1974 г.
Семен Пружинин и Анатолий Коршунов. 1970-е гг.
«Карасе». Вверху: Е. П. Никитин, Н. С. Мудрагей, H. H. Трубников.
Внизу: В. И. Мудрагей, Б. И. Пружинин. 1975 г.
Е. Никитин, Н. Трубников, Б. Пружинин, Н. Автономова, А. Мудрагей.
1976 г.
Николай Трубников. 1970-е гг. Евгений Никитин. 1979 г.
Владимир Мудрагей. 1977 г.
Борис Дынин. 1974 г.
\
Младший научный сотрудник ИФ АН СССР. 1977 г.
Б. Пружинин с детьми. 31.12.1978 г.
Стоят слева направо: Н. А. Алешина, С. А. Никольский, H. H. Алешина,
неуст. лицо, М. В. Акинфеева, В. Г. Федотова, А. М. Р. Бургете,
В. Т. Кураева, Н. И. Шевякова, И. А.Лаврентьева.
Сидят - слева И. К. Лисеев, справа Б. И. Пружиним,
в центре болгарские философы. Новый Иерусалим. 1980-е гг.
Черновик книги «Рациональность и историческое единство научного
знания». 1986 г.
h
f
Июнь 1986 г.
В. Ж. Келле и Б. И. Пружинин.
1980-е гг.
Владимир Порус и Юлий Шрейдер. 1980-е гг.
Стоят: А. Новиков, В. Порус, В. Филатов, И. Касавин, философ из Китая,
В. Буров, В. Лекторский, Чэнь Юнцюань.
Сидят: А. Хамидов, Н. Мудрагсй, Б. Пружинин. Сектор теории познания
ИФ АН СССР. Ноябрь-декабрь 1986 г.
Верхний ряд: С. И. Пружинин, Л. Г. Пружинина (урожд. Кушер),
А. А. Пружинина. Средний ряд: Л. И. Друкер, С. И. Друкер
(урожд. Пружинина), О. Б. Пружинина, И. С. Пружинин.
Внизу Б. И. Пружинин. 1980-е гг.
Б. Пружинин и А. Яковлев.
Начало 1990-х гг.
В. И. Мудрагей. 1990-е гг.
Сидят слева направо: Ольга Воронина, Владимир Мудрагей,
Инесса Фиалкова, Светлана Баранова, Ирина Блауберг,
Надежда Трубникова. Стоят слева направо: Анатолий Шаров,
Эрих Соловьев, Владимир Кантор, Борис Пружинин.
Редакция «Вопросов философии». Апрель 1998 г.
Б. И. Пружинин, А. П. Огурцов, Б. Г. Юдин. Конец 1990-х гг.
В. И. Мудрагсй, В. А. Лекторский, Б. И. Пружинин. 2000 г.
Стоят: Б. И. Пружинин, Н. С. Мудрагей.
Сидят: Ю. Н. Солодухин, М. Ф. Солодухина, В. И. Мудрагей.
Юбилей В. И. Мудрагея. Апрель 2001 г.
M. Киселева, В. Пирожков, Б. Пружинин.
Редакция «Вопросов философии». 2000-е гг.
Сидят слева направо: В. А. Лекторский, Б. И. Пружинин, В. К. Кантор,
Н. Н. Шульгин, С. Д. Баранова, В. В. Пирожков. Стоят слева направо:
А. Я. Шаров, И. С. Разумовский, Л. В. Макарова, Т. А. Уманская,
О. В. Галибина, И. В. Борисова, Н. А. Чистякова, Ю. В. Пущаев,
H.H. Трубникова. Редакция «Вопросов философии». 2007 г.
Б. И. Пружинин, В. Н. Порус, В. А. Шупер. «Сократические чтения».
Петрозаводск. 2008 г.
Александр Пружинин
Ольга Пружинина с сыном Жснсй
H. С. Автономова и Б. И. Пружинин. Париж. 2007 г.
Д. М. Фельдман и Б. И. Пружинин. Апрель 2008 г.
Слева направо: Б. И. Пружинин, В. С. Степин, А. А. Гусейнов,
В. А. Лекторский. В аэропорту. Париж. 2009 г.
Нина и Илья Тимофеевы. 1946 г.
?*
Т. Ю. Сидорина, Н. В. и И. С. Тимофеевы. Гагра. 2013 г.
■
А. Ф. Зотов и В. П. Зинченко. Юбилей В. А. Лекторского. 2012 г.
Л. С. Савельева, В. А. Лекторский, Н. С. Автономова.
Юбилей В. А. Лекторского. 2012 г.
О. Муравьева, H. Автономова, В. Лекторский, Б. Пружинин,
Н. Мотрошилова, Ж. Абдильдин, Л. Савельева, Т. Щедрина.
Юбилей В. А. Лекторского. 2012 г.
Н. И. Кузнецова и А. А. Гусейнов.
Юбилей В. А. Лекторского. 2012 г.
Л. А. Микешина.
Юбилей В. А. Лекторского. 2012 г.
Т. Г. Щедрина и Б. И. Пружиним. Пекин. 2012 г.
Марине Густавовне Шторх (урожл. Шпег) 95 лет. Май 2012 г.
Рустам Сабанчеев, Владимир Порус, Ирина Щедрина,
Андрей Кравченко, Татьяна Щедрина, Борис Пружинин,
Анастасия Шушкина. Афины. Август 2013 г.
Б. И. Пружинин, Б. Г. Юдин, А. А. Ардамов.
Уссурийск. Октябрь 2013 г.
Оля Пружинина и Павел Журавель с детьми: Димой, Ариной и Женей.
2013 г.
Главный редактор серии «Философия России первой половины XX века».
РХГА. СПб. Февраль 2013 г.
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки психологии действия 321
их господином»26. Зависимость интеллекта от аффекта есть
только одна сторона дела; столь же рельефно выступает и обратная
зависимость аффекта от интеллекта. Л. С. Выготский заключает
обсуждение этой проблемы: чтобы пойти дальше, нужно
рассматривать отношения между аффектом и интеллектом не как вещь, а
как процесс.
Особую значимость для развития современной психологии
действия приобретают труды С. Л. Рубинштейна. В 1920—30-е годы он
занимался проблематикой деятельности, действий и поведения,
развитие которой иначе, чем бихевиоризм, рефлексология и
реактология преодолевало гносеологизм классической психологии. Он
рассматривает «действия» (Handlung) и, значит, «поведение» как
цепь, иногда сумму, иногда систему, органического целого
действий: «"ДЕЙСТВИЕ" это акт, реакция, происходящая в МИРЕ
"объектов", содержаний, имеющих "ЗНАЧЕНИЕ". Изменение,
выявление структуры мира, происходящее в связи с практикой, с
реакциями, актами, действиями людей, само преобразует структуру
и характер действий — и значит реальное содержание поведения
<...> Поскольку нужно преодолеть оторванность, установить связь
от человека к миру, действия человека не могут быть сведены не
только к рефлексам, но и к реакциям. Психология не реактология.
Действия человека сводятся к реакциям, когда они определяются
лишь во взаимоотношении с раздражителем, вызвавшем реакцию,
но вне зависимости, оторвано от эффекта (от действия!),
вызванного ими. Такое отождествление действия с реакцией
методически не правильно (не диалектично) и фактически не верно: одно
и то же действие может быть произведено различными реакциями
(движениями), и одна и та же реакция (?) (если последовательно
определять ее только отношением к раздражителю) может
определять различные действия»21. Наконец: «Действие, определенное
как реакция на стимул, связывается с объективной
действительностью с одного конца, в своем начале, но концом своим оно
повисает в пустом пространстве». Настоящие выписки, взятые из
отрывков научного наследия, датированы 20-ми годами прошлого
века и опубликованы лишь к 100-летию ученого. Из них видно, что
С. Л. Рубинштейн уже тогда отказывался от стимульно-реактивных
схем, от субъект-объектной парадигмы, и вместо них обращался к
отношениям Человек-Мир: «Вместо дуалистической схемы: мир
26 Там же. С. 255.
27 Сергей Леонидович Рубинштейн: Очерки. Воспоминания. Материалы. М., 1989.
С 368-369.
322 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
или среда, с одной стороны, субъект, личность — с другой (как бы
вне среды или мира), поставить вопрос о структуре мира или среды,
включающей, внутри себя имеющей субъекта, личность как
активного деятеля. Предметом фундаментального изучения должна быть
структура мира с находящимся внутри него субъектом и изменения
этой объективной структуры в различных установках субъекта»28.
В 1930 году С. Л. Рубинштейн переехал в Ленинград, где до
1942 года возглавлял кафедру психологии ЛГПИ им. А. И. Герцена.
Здесь С. Л. Рубинштейн написал две книги — «Основы
психологии» (1935) и «Основы общей психологии» (1940). В Предисловии
ко второй книге автор ставит три основные проблемы, решению
которых она посвящена: Развитие психики, личности и сознания;
Проблема действенности и сознательности и, соответственно,
преодоление господствующей в психологии сознания пассивной
созерцательности; Преодоление абстрактного функционализма и
переход к изучению психики, сознания в конкретной
деятельности, в которой они не только формируются, но и проявляются. По
сути дела, речь идет об ограничении прав и претензий лишь
гносеологического понимания психологии и утверждении онтологии
психики и сознания. Для С. Л. Рубинштейна действие — не только
единица деятельности, но также единица анализа психики,
«клеточка», «ячейка» психологии. В действии психологический анализ
может вскрыть зачатки всех элементов психологии29. В действии
он видит не только зачаток, но и основание поступка: «Действие
<...> становится поступком по мере того, как и отношение
действия к действующему субъекту, к самому себе и к другим людям,
как субъектам, само будучи дано как отношение, поднявшись в
план сознания, т. е. превратившись в сознательное отношение,
начинает регулировать действие. Поступком действие становится по
мере того, как формируется самосознание»30. Через действие,
поступок и деятельность утверждается бытийный характер сознания.
Напомню гегелевское: Истинное бытие человека есть человеческое
действие. В нем индивидуальность действительна. Правда, потом,в
1950-е годы С. Л. Рубинштейн, будучи то ли загипнотизирован,
то ли запуган фантомной ленинской теорией отражения,
признал единицей анализа психики акт отражения. Но все же не факт
(И зеркало корчит всезнайку), а акт (!), который уже не столько
отражение мира, сколько его порождение.
28 Сергей Леонидович Рубинштейн: Очерки. Воспоминания. Материалы. С. 367.
29 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 175.
30 Там же. С. 50-51.
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки психологии действия 323
Сергей Леонидович привнес в психологию культуру мысли,
характерную для философии и философской психологии.
Последняя ведь никогда не исчезала, когда психология «отпочковалась»
или «отщепилась» от философии и все же при всей важности в его
творчестве проблем бытия, сознания, деятельности особое место
занимает проблематика человеческого действия и поступка.
Отсюда, между прочим, его огромное уважение и интерес к
исследованиям живого движения Н. А. Бернштейна.
Живое движение, в отличие от механического, есть не
перемещение в пространстве, а преодоление и построение собственного
пространства, описываемого не метрическими, а
топологическими категориями. Биодинамическая и чувственная ткань живого
движения — это строительный материал произвольных движений,
целесообразных действий и регулирующих их протекание
ощущений и образов — образов ситуации и образов действия, которые
должны быть выполнены. Живое движение — это неиссякаемый
источник и ресурс для создания других функциональных
органов более высокого порядка — психологических функциональных
систем. Проиллюстрирую это на примере построения (и
взаимоотношений) действия и образа. Осуществление действия
предполагает декомпозицию регулирующего его образа и одновременно
композицию нового образа, соответствующего измененной
действием ситуации. По сути действие и образ — одно целое, в
котором имеются внешняя и внутренняя формы. Построенный образ,
рассматриваемый как внешняя форма, содержит в себе в качестве
внутренней формы действие и слово с его значением и смыслом.
Осуществляющееся действие, рассматриваемое как внешняя
форма, содержит в себе в качестве внутренней формы образ и
слово. Наконец, слово, взятое как внешняя форма, содержит в себе
в качестве внутренней формы образ и действие. Эта краткая
характеристика живого движения дана на основании исследований
А. А. Ухтомского, Г. Г. Шпета, Н. А. Бернштейна, А. В. Запорожца,
Н. Д. Гордеевой. Живое движение — это живая онтология,
психологическая материя, если угодно, субстанция психики, душа души,
которая сама способна к движению (ср.: живое движение души).
Обратимся к порождающим характеристикам живого
движения. Оно выражает состояния человека, его интенции, что хорошо
видно на примере младенца, его первичном «бэби-хаосе» (гуление,
лепет, плачь, выражения лица, движения рук, ног, глаз и т. п.).
Неудавшаяся интенция к схватыванию предмета становится
знаком — помоги. Знак взрослому — это протосоциальное действие,
средство управления взрослым. Знак — это социокультурное дей-
324 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
ствие, возникающее прежде исполнительного. Самая большая
интрига (и тайна) скрыта в человеческом младенце. Живое движение,
совершающееся посредством кинематических цепей человеческого
тела, обладающих огромным числом избыточных степеней
свободы — это, конечно, очень много. Но ими еще нужно овладеть, что
не просто трудно, а очень трудно. И для этого уже нужен некий
гнозис, который бессмысленен вне моторики, вне хотя бы
зачаточных форм действия, названных Н. А. Бернштейном живым
движением. Справедливо и обратное: моторика вне гнозиса не может
быть живой. И здесь я вернусь к началу изложения. Должна быть
некая первичная интегральность познания, чувства и воли. У
младенца вполне наблюдаемы его движения и его состояния, назовем
их простейшими эмоциями. Нужен, повторюсь, гнозис, который
частично обеспечен его функционирующими органами чувств.
И здесь нам на помощь приходят философы, которые
постулировали наличие у младенца начальных форм интеллигибельной
интуиции, бытийного понимания, мысли и ощущений «могу».
Понимаю — мыслю — могу — это некая первичная интегральность,
постулированная бл. Августином, Г. Г. Шпетом, В. Штерном,
М. Хайдеггером, В. В. Бибихиным. Не является ли эта первичная
интегральность душой?
Далее, первичная интегральность дифференцируется, создается
новая — вторичная интегральность, подлежащая новой
интеграции и т. д. без конца. С психологической точки зрения важно, что
каждая новая интегральность утрачивает черты опосредованности,
проявляет себя непосредственно, как душа.
В. К. Кантор
Университеты и профессорство в России
Похоже, что университетская тема до нынешнего дня
остается в России актуальной. Из одиннадцати веков
существования России только последние три столетия страна
знала развернутое образование. Берестяные новгородские
грамоты и учение чтению по Псалтырю, очевидно, не
равны образованию университетскому1. Нужны были
образованные дипломаты, инженеры, математики, историки. Владение
иностранными языками было делом важным, государственным, но их
не знали. По словам Григория Котошихина, бежавшего в XVII веке
в Швецию, русский двор был посмешищем, ибо никто не понимал
никакого чужого языка: «А писать учить выбирают ис посольских
подьячихъ. А инымъ языком, латинскому, греческого, неметцкого
и никоторых, кроме русского, научения в Российском государстве
не бывает»2. А все же с Западом хотелось общаться на равных.
Казалось бы, с XVIII столетия Россия вступила на европейский путь.
Но с университетами, с образованием власти никогда не знали,
что делать. Вроде бы образование было полезно — с
государственной точки зрения. Толчок Петра Великого тоже много значил. Но
опасности для властей в этом деле, создании образованной части
общества, усматривалось больше. Больше всего при самодержавной
системе правления, при полуазиатской ментальное™ смущала
возможная самостоятельность вышедших из университетов людей.
Поворот Александра Второго к европейскому пути означал
предоставление людям не радикальным и относительно
благонамеренным известной доли духовной независимости, чтобы
обеспечить в стране принцип буржуазной свободы и самодеятельности.
1 См.: Киселева М. С. Вхождение России в интеллектуальное пространство Европы //
Киселева М. С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII — начала
XVIII века: от древнерусской книжности к европейской учености. М., 2011. С. 37—70.
2 Котошихин Г. О Московском государстве в середине XVII столетия // Памятники
литературы Древней Руси. XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 266.
326 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Снова потребовался как опыт Петра Великого, опиравшегося на
достижения наиболее буржуазных стран Запада, так и
продолжателей дела великого императора — Екатерины I, Елизаветы
Петровны, Екатерины II и Александра I, мечтавшего в эпоху своего
«прекрасного начала» о преобразованиях. Как известно, Петр по совету
Лейбница открыл в России Академию, а по совету Христиана
Вольфа Университет при академии (подготовленный Петром указ
подписан в 1725 году Екатериной I), проложив тем самым путь
образовательным реформам своих наследников.
Свобода просвещения была, разумеется, минимальной, постоянно
отбиралась («сжег гимназию и упразднил науки» — формула
Салтыкова-Щедрина о правителях России), и все же необходимость
научных исследований диктовалась военно-промышленными
нуждами государства, что принуждало его сдерживать свои
антикультурные инстинкты.
Одной из основных задач, стоявших перед послепетровской
европеизирующейся Россией, была задача создания условий для
самостоятельного развития науки, появления собственных ученых,
способных принести пользу российскому государству в
конкретных военных и технических нуждах. Оценивая петровские
реформы, Чернышевский утверждал, что «целью деятельности Петра
было создание сильной военной державы»3. Нельзя не заметить,
что утверждение Николаевского президента Военной академии
И. О. Сухозанета 1847 года: «без науки побеждать возможно, но без
дисциплины — никогда»4, цитируемое Тарле в работе «Крымская
война», противостоит петровскому пониманию сильной армии и
есть прямой путь к Крымскому поражению.
Победительница немцев императрица Елизавета Петровна
12 января 1755 года подписала указ об учреждении Московского
университета. Необходимость в России университета объяснялась
в указе следующим образом: «Как всякое добро происходит от
просвещенного разума, а, напротив того, зло искореняется, то,
следовательно, нужда необходимая о том стараться, чтоб способом
пристойных наук возрастало в пространной нашей империи всякое
полезное знание...»5 Иными словами, насаждение «пристойных
наук» было признано делом государственной важности.
3 Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. VII. М., 1950. С. 610.
4 Тарле Е. В. Сочинения: В 12 т. Т. VIII. М, 1957. С. 68.
5 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. XII. Т. 23. М, 1993. С. 259-260.
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России
327
Здесь сразу надо оговорить одну проблему, а именно: отличие
русского университета от западноевропейского. И дело не только в
том, что русские университеты стали появляться, по крайней мере,
на пять столетий позже, чем западноевропейские, их установка и
устройство было принципиально иными. Достаточно сослаться на
слова Ле Гоффа о специфике университета на Западе: «XIII
столетие — это век университетов, поскольку он является веком
корпораций. <...> В городах, где они сформировались,
университеты являли собой немалую силу числом и качеством своих членов,
вызывая беспокойство иных сил. Они достигали своей автономии
в борьбе то с церковными, то со светскими властями»6. В России
университеты могли только мечтать о независимости (они и
мечтали), но были полностью зависимы от государства — и
политически, и экономически.
В первые годы правления Александра I были основаны еще
четыре университета: Дерптский (1802), Вилленский (1803),
Казанский (1804) и Харьковский (1805). В 1819 году, на основе Главного
педагогического института, был образован Петербургский
университет. Однако уже в начале 1820-х годов университеты пережили
погром Магницкого и Рунича. Сам принцип научного
исследования оказался под подозрением. Так неокрепшее еще, по существу
еще не состоявшееся русское высшее образование самой
возможностью своею пугало чиновные круги, военную верхушку, да и
высший свет7.
Очень показательно для понимания архетипа отношения
российской власти к образованию и просвещение столкновение
Пушкина и Николая I по поводу пушкинской записки «О народном
воспитании», составленная Пушкиным по распоряжению
императора. Уже явно склонявшийся к либеральному консерватизму
(который никогда не означал сервильности), Пушкин оставался верен
принципам независимости мысли. И он сразу начинает с
утверждения своих принципов: «Последние происшествия обнаружили
много печальных истин. Недостаток просвещения и
нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения.
Политические изменения, вынужденные у других народов силою
обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались
у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий. <...> Не одно
6 Ле ГоффЖ. Интеллектуалы в Средние века. СПб., 2003. С. 57-58.
7 Приведу грибоедовские строки из «Горе от ума»: «Нет, в Петербурге институт //
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут: // Там упражняются в расколах и в
безверьи // Профессоры!!»
328 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества;
воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть
корень всякого зла <...>. Скажем более: одно просвещение в
состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия»8.
Ответ Николая стоит курсива, ответ на много вперед определил
отношение к образованию всех следовавших далее русских
властей. В письме от 23 декабря 1926 года А. X. Бенкендорф довел до
Пушкина, что «государь император с удовольствием изволил
читать рассуждения ваши о народном воспитании», но «при сем
заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы
просвещение и гений служат исключительно основанием совершенства, есть
правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на
край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей.
Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть
должно просвещению, безнравственному и бесполезному. На сих-то
началах должно быть основано благонаправленное воспитание (курсив
мой. — В. К.)»9. Это, в сущности, и осталось требованием русских
властей навсегда.
Поражение декабрьского восстания 1825 года означало, что
дворянство сошло с исторической сцены как революционная
политическая сила. Но это поражение имело и иные последствия.
Часть дворянства, не имея возможности применить свои силы на
политической арене, ушла в культурную деятельность, дав кадры
будущих ученых и мыслителей, явилась по существу первым
значительным отрядом российского просвещения. Надо ли
напоминать о студенческих кружках 1830-х и 1840-х годов, о Станкевиче,
Герцене, Грановском?! Не скованные нуждой, сохранявшие
экономическую независимость, они внесли в университетскую науку
дух бескорыстного исследования. Одних (Герцена, Огарева, позже
Лаврова, Кропоткина) этот дух повлек к революционной борьбе,
вывел за пределы университетской науки. Уже в 1843 году в
работе «Дилетантизм в науке» Герцен выступил за соединение науки
с жизнью, против «цеха ученых». А его друг Бакунин позднее
напишет призыв — идти разрушать университеты. Обращаясь к
молодым радикалам (март 1869 года), Бакунин писал в памфлете
«Несколько слов к молодым братьям в России»: «Не хлопочите о
науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта
наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть вырази-
8 Пушкин А. С. О народном воспитании // Пушкин А. С. Собрание сочинений:
8 10 т. Т. 7. М., 1962. С. 355-356.
9 Пушкин А. С. Собрание сочинений: В Ют. Т. 7. Комментарии. М., 1962. С. 450—451.
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России
329
тель. Наука же новая и живая несомненно народится потом, после
народной победы, из освобожденной жизни народа»10. Другие
(Грановский, Кавелин, Соловьев, Чичерин), напротив, поняли свою
университетско-профессорскую деятельность как служение, более
важное и нужное России, нежели революционная деятельность
Герцена. Противопоставив революционной этике этику научной
университетско-преподавательской работы, образу революционера
образ профессора, они заложили основу нового типа русских
просвещенных деятелей.
Пытаясь понять секрет влияния Грановского, не создавшего
научной школы, не сделавшего крупных научных открытий,
сравнительно далекого от общественно-политических страстей,
осудившего Герцена за его публицистику, на все русское образованное
общество, на таких разных по своим научным воззрениям людей,
как Бабст, Кавелин, Соловьев, Чичерин, на него самого, наконец,
Ключевский писал: «От него пошло университетское предание,
которое чувствует, которое носит в себе всякий русский
образованный человек. Все мы более или менее — ученики Грановского и
преклоняемся перед его чистой памятью, ибо Грановский, не
другой кто, создал для последующих поколений русской науки
идеальный первообраз профессора»" (курсив мой. — В. К.).
Формированию деятелей науки этого типа были известные
предпосылки. Чувствуя напор купечества и разночинного сословия,
видя, что дворянство теряет свои преимущества, представители
русского просвещенного консерватизма попытались превратить
дворянство в духовную аристократию, т. е. создать, а точнее,
завершить создание образованного слоя на базе дворянства, чтобы
просвещение стало внутренне присущей дворянству отличительной
чертой, семейной, родовой традицией. Теоретиком и практиком
такого подхода к образованию был попечитель Московского
университета граф С. Г. Строганов. Как вспоминал о нем СМ.
Соловьев: «Основная его (Строганова. — В. К.) мысль — поднять высшее
дворянское сословие в России, дать ему средства поддержать свое
положение, остаться навсегда высшим сословием: самым сильным
для этого средством в его глазах было образование, наука;
отсюда — мысль, что люди поставленные по происхождению и
богатству в верхнем слое общественном, должны учиться по
преимуществу <...> Государство сильно только аристократиею, думал он, но
10 Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. М., 1997. С. 213.
11 Ключевский В. О. Памяти Т. Н. Грановского // Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т.
Т. VII. М., 1989. С. 298.
330 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
аристократия сильна не одним своим происхождением, особенно
в России, где выходцам открыта такая свободная дорога;
аристократия поддерживается личными достоинствами членов своих, их
нравственными средствами — отсюда стремление усвоить
образование, науку, преимущественно для высшего сословия»12.
Разумеется, приход в высшее образование небольшого числа разночинцев
предполагался неизбежным. Но ставший профессором
разночинец получал потомственное дворянство и растворялся в элитарной
профессорской среде. Впрочем, малое количество университетов,
элитарность высшего образования привели (в данном случае
существенно это подчеркнуть) к тому, что просвещение охватило не все
дворянство, от дворянства тоже отделился узкий слой деятелей
науки, ученых, профессоров, которые, смешавшись с просвещенными
разночинцами-учеными, в результате и породили то определенное
социокультурное явление со своим особым, пусть не
осознававшимся еще таковым в 40-е годы, мировоззрением.
Все это, конечно, не означает, что университетская среда не
знала антагонизмов, была цельной и монолитной, что там не было
политических и идейных разногласий. В эпоху Николая I, власть
пыталась противопоставить либерально настроенным
профессорам профессоров-чиновников, выполняющих покорно все
предписания начальства. «Правительство, — как писал об этом
времени Г. Шпет, — не могло иначе относиться к просвещению, как в
полной уверенности в своем нераздельном праве на руководство
им»13. Идеолог Николаевской методы просвещения граф Сергей
Уваров в 1843 году, например, констатировал: «В царствование
Вашего Величества главная задача по министерству народного
просвещения состояла в том, чтобы собрать и соединить в руках
правительства все умственные силы, дотоле раздробленные, все средства
общего и частного образования, оставшиеся без уважения и частью
без надзора, все элементы, принявшие направление
неблагонадежное или даже превратное, усвоить развитие умов потребностям
государства»™ (курсив мой. — В. К.). Принявшие это требование
профессора стали выразителями совсем особого направления
русской мысли — «официальной народности», направления,
бесспорно чуждого либеральному образу мыслей и не желавшего тесных
12 Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других //
Соловьеве. М. Сочинения. КнигаXVIII. М., 1995. С. 547-548.
13 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. I / Отв. ред.-сост., коммент.
Т. Г. Щедриной. М., 2008. С. 263-264.
14 Уваров С. С. Десятилетие Министерства народного просвещения // Уваров С. С.
Избранные труды. М., 2010. С. 420.
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России
331
контактов с современной им Западной Европой. Однако когда
после «мрачного семилетия» николаевского режима Александр II был
вынужден провести ряд либерально-буржуазных реформ, когда
либерализм стал государственной политикой, то укрепились и
либеральные тенденции в университетах.
Обретя самосознание к середине XIX века, университетский
слой в начале XX века получил уже и своего сатирического
историографа и бытописателя — Андрея Белого, который уже в советское
время в своих романах и мемуарах попытался подытожить упадок
этого социокультурного слоя — произнеся своего рода надгробное
слово: «Именно я изучил изжитость профессорской квартирочки,
поднесенной мне, профессорскому сынку; <...> и уже
пятиклассником я знал: жизнь славной квартиры провалится; провалится и
искусство, прославляемое этой квартирою: с Мачтетом и Потапен-
кой, с Клевером и Константином Маковским, с академиком
Беклемишевым и Надсоном вместо Пушкина; еще более
оскандалится общественность этой квартиры, редко приподнятая над правым
кадетизмом»15. Отчасти он был прав, либерально-профессорская
элита оказалась в каком-то смысле в изоляции в эпоху
наступавших, а затем и свершившихся социальных катаклизмов в России
рубежа веков. Но лишь отчасти. Поскольку уход этого слоя с
исторической арены был трагичен, трагедией для России и русской
культуры.
Тесная связь, генетическое единство новейшей русской
литературы послепетровского периода с «профессорской культурой»
видна, что называется, с первого взгляда. Начиная с Ломоносова,
основателя Московского университета, поэта, художника,
ученого, выразившего внутренний пафос молодой русской культуры (не
говоря уже о Куницыне и Галиче, оказавших несомненное влияние
на русскую литературу, хотя бы в качестве учителей молодого
Пушкина), можно назвать ученых, профессоров, бывших в то же время
и участниками живого литературного процесса, таких как
Мерзляков, Кронеберг, Погодин, Шевырев, Надеждин. Притягательность,
значимость профессорской кафедры для мыслящих русских людей
была весьма велика: о профессорской карьере мечтали Гоголь и
Бакунин, Белинский и Чернышевский. События в ученом мире
становились фактами литературной жизни. Достаточно напомнить,
что столкновение Грановского и Шевырева, знаменитых
профессоров Московского университета, послужило окончательным
поводом для окончательного самоопределения двух общественно-ли-
15 Белый А. На рубеже двух столетий. М.; Л., 1930. С. 14—15.
332 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
тературных группировок (славянофилов и западников) и широко
отражено в литературной критике тех лет.
Начиная с 1860-х годов, однако, обнаруживается решительное
расхождение между университетско-профессорской культурой и
радикальной молодежью, вчерашними студентами. Русские
профессора по-прежнему выступают в журналах, пишут книги,
университеты более, чем когда-либо, переполнены слушателями, но
радикальные русские критики уже улавливают пока для общей массы не
очень отчетливое различие между позицией русской профессуры и
грядущими «революционными преобразователями России». В
статье «Наша университетская наука» Писарев заявлял, что
университетское прибежище науки от суровостей деспотизма на самом деле
не способствует ее развитию, поскольку от ученых требуется, чтобы
их «силы и способности были оценены правительством и
засвидетельствованы дипломом»16. Именно поэтому, полагал критик,
общественную инициативу и культурную самодеятельность вряд ли
можно развивать через университеты. Нарисовав иронический портрет
академика М. И. Сухомлинова (в статье — профессор Телицын),
Писарев риторически вопрошал: «Находите ли вы, что обновление
России будет совершаться быстро и радикально, если десятки тысяч
Телицыных будут рассеяны на всех поприщах нашей
общественной деятельности?»17 Расхождение университетской науки с
реальным развитием России кажется критику свершившимся фактом.
В 1870-е годы Михайловский опубликовал статью «Письма ученым
людям», в которой, подтверждая мысль Писарева, говорил, что
положительное влияние на развитие русского общества оказывала
литература и журналистика, а не профессура, что истинные
профессора — это писатели и литературные публицисты. Но православные
консервативные мыслители тоже стали отмежевываться от
либерально-профессорского круга. На 1880-й год падает полемика
Достоевского с профессором А. Д. Градовским: великий писатель
заявил, что «прогрессистски» мыслящие профессора не способны стать
действительными учителями русской общественности, ибо не
понимают, не чувствуют напряженной, склонной к катаклизмам природы
русской истории, поэтому их «рецепты» не применимы для России.
Выступления Писарева, Михайловского, Достоевского не
были случайностью. Уже в начале 1860-х годов сами
представители «профессорской культуры» заговорили о ценности и
незаменимости университетской науки, противопоставляя свою тенденцию
16 Писарев Д. И. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М., 1955. С. 187.
17 Там же. С. 150.
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России
333
всем иным направлениям и тенденциям общественного развития,
всем иным видам общественной деятельности. «У нас
университеты, — утверждал Б. Н. Чичерин, — заменяют все — и гимназии, в
которых не учатся и не могут учиться, потому что нет порядочных
учителей, и специальные школы, и литературу, и, наконец, самое
общественное образование, которого у нас нет. У нас
университеты вовсе не такие высшие учебные заведения, как в других
странах. Наши университеты — это умственная атмосфера, в которой
человек получает хоть какое-нибудь развитие. Через университеты
русское общество выходит из сферы "Мертвых душ"»18.
Профессорский слой, как полагал Чичерин, стоял между двумя
лагерями — радикалами и реакционерами. Тут можно вспомнить строчки
Алексея Константиновича Толстого, близкого к этому кругу:
Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами —
Не купленный никем, под чьё б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь!
1858
Так и было. Профессорская этика требовала не
присоединяться к крайним точкам зрения, которые каждая на свой лад толкали
Россию в омут безмыслия.
Вот, скажем, ориентация на радикалов, но — в меру. К голосу
профессора еще в 1840-е годы публика прислушивалась с
доверием. В 1846 году Белинский писал Герцену: «На всякий случай
скажи юному профессору Кавелину — нельзя ли и от него поживиться
чем-нибудь в этом роде. Его лекции, которых начало он прислал
мне (за что я благодарен ему донельзя), — чудо как хороши;
основная мысль их о племенном и родовом характере русской истории в
противоположность личному характеру западной истории —
гениальная мысль, и он развивает ее превосходно. Ах, если бы он дал
мне статью, в которой бы он развил эту мысль, сделав сокращение
из своих лекций, я бы не знал, как и благодарить его»19. Кавелин
18 Чичерин Б. Н. Московский университет // Чичерин Б. Н. Воспоминания. Т. 2. М.,
2010. С. 26.
19 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. XII. М., 1956. С. 255.
3 34 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
послушался просьбы-совета, и в результате явилась на свет (в
первом номере «Современника» за 1847 год) его знаменитая статья
«Взгляд на юридический быт древней России», статья, наделавшая
шуму и обострившая отношения славянофилов и западников.
Собственно, профессора и раньше выступали в журналах,
более того, именно они, как самые образованные люди, понимавшие
значение печатного слова, зачастую журналы эти и издавали.
Однако, выступая в журнале, профессор старался превратиться в
журналиста, усвоить раскованную неакадемическую манеру письма,
прикрываясь порой псевдонимом (Сенковский — Барон Брамбе-
ус, Надеждин — экс-студент Надоумко). Кавелин же опубликовал
в журнале научное исследование. И русская публика приняла его с
восторгом. Означало это, что в публике, помимо интереса к
литературно-критическим и философско-публицистическим статьям,
возник запрос на науку. Белинский чутьем просветителя уловил
этот новый шаг, который сделало русское общество в своем
развитии: отсюда его предложение Кавелину написать статью. Это была
попытка критика-демократа использовать академическую науку в
интересах прогрессивного воспитания общества.
Авторитет ученого, профессора был в русском обществе столь
высок, что в программной, полемической статье Ю. Ф.
Самарина «О мнениях "Современника" исторических и литературных»,
написанной и напечатанной сразу же по выходе номера
«Современника» во втором номере «Москвитянина» за 1847 год, именно
Кавелин был назван теоретическим обоснователем «натуральной
школы», Белинский же язвительно именовался всего лишь
популяризатором кавелинских идей. Нельзя не удивиться, писал
Самарин, «необыкновенной быстроте, с которою разрослась мысль,
пущенная в ход счастливою рукой г. Кавелина и подхваченная
г. Белинским»20. Что же это была за мысль, так возмутившая
славянофилов? Кавелин анализировал развитие русской истории и
культуры через проблему личности, ибо, по его мнению, «для
народов, призванных к всемирно-историческому действованию в
новом мире, такое существование без начала личности невозможно.
Иначе они должны бы навсегда оставаться под гнетом внешних,
природных определений, жить, не живя умственно и
нравственно. Ибо когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует,
мы выражаемся отвлеченно; собственно чувствуют, мыслят
единицы, лица, его составляющие. Таким образом, личность, сознающая
20 Самарин Ю. Ф. О мнениях «Современника», исторических и литературных //
Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М., 1996. С. 477.
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России
335
сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство, — есть
необходимое условие всякого духовного развития народа»21.
Именно эта идея оказалась в значительной степени центральной для
всего либерально-профессорского круга.
Структурировал русский просвещенный слой именно
университет. В 1862 году Б. Н. Чичерин издал книгу, где собрал свои
статьи, посвященные актуальнейшим вопросам русской пред- и
пореформенной жизни. Одна из статей была посвящена русским
университетам. «Одно из лучших созданий новой России — это
наши университеты, — писал Чичерин. — Проходя через них,
русское юношество совлекает с себя первобытную закоснелую
пошлость гоголевских героев и начинает приобретать духовные
интересы и идеальные стремления. <...> На университетах неизбежно
отражается та шаткость, которая господствует в современном
обществе. Но в них живет крепкое и серьезное предание, которое
может служить самым надежным противодействием
легкомысленным увлечениям общества и которое одно в состоянии возвратить
разбредшиеся умы к строгости и спокойствию научного труда. <...>
К ним многие поколения обращаются как к святилищам, из
которых они вынесли лучшие надежды жизни и самые заветные
воспоминания молодости. Порвите эту нить, превратите университеты
в публичные места, в общественные кафедры, тогда исчезнет
последний отпор тому невежественному легкомыслию, тому
нравственному безначалию, той страсти к мечтательным
нововведениям, по которым без паруса и кормила носится русская мысль»22.
Напомню послехрущевскую мудрость: «Надо учиться не на
ошибках, а в университетах». Но не только университет, даже жизнь
плохо учит. И здесь профессора, похоже, не виноваты.
Протестуя против невежества, против стеснения мысли и
исследования, представители университетско-профессорской культуры
вместе с тем вполне сознательно не принимали революционного
пути, возлагая надежды на просвещенных и гуманных деятелей
науки, искусства и очень мало на чиновников. Чиновникам идеи и не
были нужны. Но может ли общество жить и развиваться без идеи?
К несчастью, русским либеральным профессорам не удалось того,
что удалось, скажем, Локку, Адаму Смиту и т. д. — дать идею,
которая бы резюмировала и определила развитие страны.
21 Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и
культуры. М., 1989. С. 22.
22 Чичерин Б. Н. Философия права. СПб., 1998. С. 391.
336 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
* * *
В 1889 году Антон Чехов опубликовал повесть «Скучная история»,
которая начиналась следующими словами: «Есть в России
заслуженный профессор Николай Степанович такой-то, тайный
советник и кавалер; у него так много русских и иностранных орденов,
что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его
иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое; по
крайней мере за последние двадцать пять — тридцать лет в России нет и
не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы
коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем, но если говорить о
прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивался такими
именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его
самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских
и трех заграничных университетов. И прочее и прочее».
Профессорская культура23, профессор как человек, как общественная
фигура стали настолько заметным социальным явлением, что
оказались объектом пристального, художественного на сей раз, анализа.
Та основная претензия, которую публицистически высказал
Кавелину Достоевский об отношении профессорского слоя к
действительности, становится утлом зрения, под которым рассматривает и
исследует своего героя Чехов. Профессор, умный, интеллигентный,
крупный ученый с мировым именем, чуткий, высоконравственный
и деликатный человек, казалось бы тонко чувствующий литературу,
искусство, оказывается не в состоянии помочь разобраться в
жизни своим детям и племяннице, воспитать их так, чтобы они были в
жизни счастливы. Книжная культура, научное знание расходятся с
реальными противоречиями и нуждами действительности.
Чехов реализовал, прояснил и художественно обозначил то
противоречие, которое первым почувствовал Достоевский. Та
наследственность, семейно-родовая культурная преемственность, о
которой мечтал Кавелин, когда дети в области науки и культуры
продолжают дело отцов, утверждая и закрепляя их духовные
завоевания, были поставлены Чеховым под сомнение. Чеховский
прогноз получил и жизненно-историческое подтверждение.
В середине 1870-х годов Кавелин с радостью писал Самарину, что,
на его взгляд, в России происходит возрождение философии как на-
23 Термин «профессорская культура» я сочинил и ввел в научный оборот впервые
в 1978 году в своей статье о литературно-эстетических взглядах К. Д. Кавелина.
См.: Кантор В. К. Русское искусство и «профессорская культура» (Литературно-
эстетические взгляды К. Д. Кавелина) // Вопросы литературы. 1978. № 3. С. 155—
186. С тех пор это понятие стало общеупотребительным и разошлось по десяткам
статей и книг.
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России
337
уки и что связано это возрождение с деятельностью их круга: так,
наибольшее оживление и стечение множества народа вызвал диспут
по диссертации на степень магистра, которую защищал «сын
Соловьева, С. М-ча, юноша, говорят, очень знающий»24. И
действительно, в начале своего пути Владимир Соловьев, казалось, шел
предначертанным ему путем академического ученого. Однако именно
он, пожалуй, оказался первым беглецом из своего круга, своего рода
профессором-расстригой, ушедшим из строгой науки не просто в
журналистику или искусство (такое бывало и раньше), а по
контрасту еще дальше — в религиозную мистику, полную пророчеств и
апокалиптических предчувствий. И тем не менее в своей полемике
с официозом он становится постоянным автором знаменитого
либерально-профессорского журнала «Вестник Европы»,
возглавляемого профессором M. M. Стасюлевичем. «Профессорское начало»
в юном философе даже его апокалиптическим прозрениям придало
необходимый налет академической респектабельности. Выступая
против государственного и всякого иного национализма, против
стеснений свободы мысли, Соловьев с подозрением относился и к
радикальному молодежному движению. Уже в своих речах в память
Достоевского (1881—1883) он так обозначил свое понимание
любого — левого или правого — радикализма: «В достижении
общественного идеала путем разрушения все дурные страсти, все злые и
безумные стихии человечества найдут себе место и назначение;
такой общественный идеал стоит всецело на почве господствующего в
мире зла. Он не предъявляет своим служителям никаких
нравственных условий, ему нужны не духовные силы, а физическое насилие»25.
Соловьева не принял профессор-позитивист П. Н. Милюков, хоть
и либерал, но готовый поддержать и радикалов, лишь бы разрушить
монархию, называя «средневековым мистиком». Надо сказать, такая
поддержка радикализма профессорами была редкостью в России.
Если Ортега-и-Гассет писал, что «надо гуманизировать ученого,
который, восстав к середине XIX века, начал жить согласно евангелию
бунта, ставшему с тех пор величайшей вульгарностью, величайшим
обманом эпохи»26, то русские профессора пытались направить
деятельность воспитываемой ими молодежи на творчество, на
преодоление темного Ничто, стоящего перед человечеством. К несчастью,
не прошедшая вековой университетской выучки русская молодежи
24 Цит. по кн.: Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 6. М., 1877. С. 390.
25 Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В. С. Собрание
сочинений: В 10 т. Т. 3. СПб., б. г. С. 208-209.
26 Ортега-и-Гассет X. Миссия университета. М., 2010. С. ПО.
338 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
скатывалась именно в это Ничто, в нигилизм всеобщего отрицания.
Профессора искали духовной преемственности в культуре. Так из
духовной школы Владимира Соловьева вышли крупнейшие русские
мыслители начала XX века. Они пытались либерально отнестись к
молодежи, памятуя идею всеединства, которая должна примирить в
себе разные позиции. Но в социальной жизни такая позиция
порождала одну ошибку за другой. Скажем, считал Владимира Соловьева
своим учителем один из крупнейших русских философов профессор
С. Н. Трубецкой, первый выбранный ректор Московского
университета. Он хотел поверить молодежи, добился автономии университета
27 августа 1905 года. Но студенческие сходки, собрания,
беспорядки в аудиториях сорвали учебный процесс, что естественно привело
С. Н. Трубецкого к разочарованию в возможности свободы в русском
незрелом еще обществе. Это подействовало сокрушительно на его
здоровье, и всего через месяц он скончался.
Интересно, что в своей поэме «Возмездие» Блок подчеркивает
свое профессорское происхождение, но для него отец-профессор —
из породы избранных («похож на Байрона»), более того, вся поэма
о России, но на фоне отношения отца-профессора и сына-поэта.
На это никто не обращал внимания, меж тем это весьма
существенно. Ибо это две стержневые линии свободного русского
миропонимания, на них базировалась по Блоку судьба страны. Профессор
жил, не ища материальной выгоды, думая о смысле жизни:
Привыкли чудаком считать
Отца — на то имели право:
На всем покоилась печать
Его тоскующего нрава;
Он был профессор и декан;
Имел ученые заслуги;
Ходил в дешевый ресторан
Поесть — и не держал прислуги;
По улице бежал бочком
Поспешно, точно пес голодный,
В шубенке никуда не годной
С потрепанным воротником;
И видели его сидевшим
На груде почернелых шпал;
Здесь он нередко отдыхал,
Вперяясь взглядом опустевшим
В прошедшее...
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России
339
Блок ставит знак равенства между профессором и поэтом, видя
в отце высшее существо, уходившее душой с миры иные.
Он знал иных мгновений
Незабываемую власть!
Недаром в скуку, смрад и страсть
Его души — какой-то гений
Печальный залетал порой;
И Шумана будили звуки
Его озлобленные руки,
Он ведал холод за спиной...
И, может быть, в преданьях темных
Его слепой души, впотьмах —
Хранилась память глаз огромных
И крыл, изломанных в горах...
В ком смутно брезжит память эта,
Тот странен и с людьми не схож:
Всю жизнь его — уже поэта
Священная объемлет дрожь.
Собственно смертью отца-профессора, поэта высших миров,
и кончается поэма «Возмездие». Далее катастрофа «Двенадцати»,
двенадцати апостолов антихриста. А потом смерть поэта — от
невозможности жить в новом мире. Собственно еще в 1914 году Блок
провидел наступление на мир, на Россию ужаса:
Как часто плачем — вы и я —
Над жалкой жизнию своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!
Это стихотворение им названо «Голос из хора». Но, значит, и хор
нечто чувствовал нечто подобное, пусть не столь отчетливо. Конечно
же, отпадение и выход из профессорского слоя «детей», тех, которые
ощущали усиливающиеся противоречия и надвигающиеся перемены
и вместе с тем были отгорожены от реальности профессорским
бытом, культурой, всем строем представлений был не случаен. Они
уходили в мистику, декаданс, пытаясь эмоционально-интеллектуальным
усилием возместить недостающее им знание о «живой жизни»,
напрасно думая, что таким образом они прорвут изоляцию
обособленного культурного слоя. А потом ренегаты этого слоя, чувствовавшие
на себе его родовое проклятие, злились. «Не удались попытки, — пи-
340 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
сал Андрей Белый, пытавшийся в двадцатые годы приспособиться к
советскому взгляду на мир, — прожить под знаменами позитивизма,
либерализма, сими религиозными устоями профессорского бытия;
от этих знамен в конце века несло на меня мертвой затхлостью; все
действенное бежало от сих знамен: и вправо, и влево; средняя линия
однолинейного прогресса по Спенсеру — редела: усиливались где-то
сбоку от средней лежащие обители пессимизма, анархического
нигилизма, ницшеанства, марксизма, революционного народничества;
спасалися даже... в "мистику", столь осуждавшуюся "нашей средой",
чтобы только остаться вне "нашей среды"»27. Но беда была и в том,
что, когда революционный смерч захлестнул их, некоторые в
первый момент поверили «музыке революции» (Блок, Белый), а другие
(А. К. Тимирязев, сын биолога) просто пошли в услужение новой
власти, забывая о своем научном достоинстве. Думаю, сервилизм
Белого по отношению к победившему плебсу, сказавшийся в этих
рассуждениях, проявился не только в мемуарах. Его самый крупный
после «Петербурга» роман «Москва», в сущности, был ориентирован на
то, чтобы разоблачить, унизить русскую дореволюционную
профессуру. В предисловии к первому изданию 1925 года он писал: «В лице
профессора Коробкина, ученого мировой значимости, я рисую
беспомощность науки в буржуазном строе»28. Любопытно, что в этом
образе явно просвечивает помимо советизма еще и эдипов комплекс.
Как отмечает современная исследовательница: «Прототипом
профессора Коробкина в романе "Москва" был отец писателя
математик и философ Николай Васильевич Бугаев»29.
Стоит напомнить, что в том же 1925 году Михаилом Булгаковым,
сыном профессора богословия и историка церкви Афанасия
Ивановича Булгакова, было написано «Собачье сердце». Но опубликована
эта повесть была только в 1987 году. В повести профессор
Преображенский был выразителем разума и стойкости русской профессуры,
даже в те годы пытавшейся противостоять хаосу и разрухе, Шари-
кову и Швондеру, а также похожей на мужчину женщине. Как мы
знаем, Булгаков тоже был выходцем из профессорской семьи, жизнь
его вышвырнула далеко от зеленой лампы и кремовых штор. Но,
понимая изменившийся состав мира, он не стал его частицей. В новых
условиях он нес в себе этическое начало русской профессуры.
Вообще-то, достаточно непредубежденно посмотреть на
состав поэтического цеха начала века, чтобы увидеть, что, по крайней
27 Белый А. На рубеже двух столетий. С. 98.
28 Белый Л. Москва. М., 1989. С. 755.
29 Спивак М. Андрей Белый — мистик и советский писатель. М., 2006. С. 242.
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России
341
мере, треть поэтов, наиболее трагических (ибо на разрыве с
реальностью и возникала в данном случае трагедия), были выходцами из
профессорских семейств. Назовем некоторых: Вл. Соловьев, сын
профессора С. М. Соловьева; А. Белый, сын профессора Н. В.
Бугаева; А. Блок, сын профессора А. Л. Блока, внук профессора
А. Н. Бекетова и зять профессора Д. И. Менделеева; М.
Цветаева, дочь профессора И. В. Цветаева; С. Соловьев, сын
профессора М. С. Соловьева; крайне любопытна фигура профессора-поэта
Вяч. Иванова, собственное профессорство которого дало тот же
культурный фон, семейно полученный остальными. В известном
смысле и тяготение к литературным сюжетам и образам, к
абстрактной философской символике у И. Анненского, В. Брюсова,
Д. Мережковского и других поэтов-символистов,
историко-филологическую настроенность их поэзии можно отнести не только за
счет художественной школы, но и за счет определенным образом
сформированного университетским образованием направления
и склада мысли. Все это и создавало то причудливое сочетание, в
котором восхищение традиционной культурой, боязнь «грядущих
гуннов» парадоксально сплетались с трагической, болезненной
потребностью любым (мистическим, эстетическим) путем выйти за
ее пределы. Напомню ранние строчки Мережковского:
ДЕТИ НОЧИ
Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.
Мы неведомое чуем,
И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Наши гимны — наши стоны;
Мы для новой красоты
Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.
1894
342 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
История складывалась так, что в России, где образование и
культура, как писал С. М. Соловьев, была заморским плодом и
приживалась плохо, вместо ожидавшейся нравственной крепости
и здоровья профессорская культура порождала у своих
наследников ощущение жизненной неукорененности, непрочности бытия
и культуры, трагическое, разорванное миропонимание и сознание.
Трагизм мироощущения, как выяснилось, был неслучаен.
Ненависть восставшего в начале XX века демоса к профессорскому
сословию была чудовищна. Началось все с бессудных расстрелов.
Приведу лишь один эпизод из жизни Петербурга 1918 года,
зафиксированный поэтессой Зинаидой Гиппиус в ее «Черной книжке».
Тогда шли массовые расстрелы большевиками заложников —
офицерства и интеллигенции. И вот — дневниковая запись: «Недавно
расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и
великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума.
Остались дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во
"Всевобуч" (всеобщее военное обучение). Он явился. Там ему сразу
комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!): "А вы
знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили"»30.
Бунин говорил, что большевики убили чувствительность. Мы
переживаем смерть одного, семи, — писал он, — допустим, труднее
сопереживать смерти семидесяти, но еще возможно, однако когда
убивается семьдесят тысяч, то человеческое восприятие перестает
работать. Он писал, обращаясь к Уэллсу31, поверившему Ленину:
«Это Ленины задушили в России малейшее свободное дыхание,
они увеличили число русских трупов в сотни тысяч раз, они
превратили лужи крови в моря крови, а богатейшую в мире страну
народа пусть темного, зыбкого, но все же великого, давшего на всех
поприщах истинных гениев не меньше Англии, сделали голым
погостом, юдолью смерти, слез, зубовного скрежета; это они
затопили весь этот погост тысячами "подавляющих оппозицию"
чрезвычаек, гаже, кровавее которых мир еще не знал институтов, это они
<...> целых три года дробят черепа русской интеллигенции»32.
30 Гиппиус 3. Н. Черная книжка // Гиппиус 3. Н. Дневники. Минск, 2004. С. 250.
31 Об Уэллсе Бунин написал так: «Мне было стыдно за наивности этого туриста,
совершившего прогулку к "хижинам кафров", в гости к одному из людоедских
царьков <...> стыдно за бессердечную элегичность его тона по отношению к
великим страдальцам, к узникам той людоедской темницы». Бунин И. А. Несколько
слов английскому писателю // Бунин И. А. Великий дурман. М., 1997. С. 67.
32 Бунин И. А. Несколько слов английскому писателю // Бунин И. А. Великий
дурман. М., 1997. С. 69-70.
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России
343
Потом, чтобы Запад окончательно не счел победивший демос
скопищем людоедов, двести крупнейших ученых и писателей были
высланы на Запад (эта акция теперь имеет название «философский
пароход»). Интеллектуальный и вместе с тем очень страстный итог
бытия русского университета и русского профессорства подвел
бежавший в 1918 году из большевистской России академик Михаил
Иванович Ростовцев, историк античности и археолог. Для начала
приведу его буквально крик ужаса о судьбе русских профессоров из
статьи «Наука в большевистской России» (1921 год): «Почему
ученые умирают от голода? Я не представляю здесь длинный список
ученых, которые умерли от голода за последние 3 года. Их
множество. Почему большевики не защищают ученых от убийств и арестов
со стороны Чрезвычайной комиссии по всей России? Сколько
талантливых русских ученых погибло ужасной смертью в Ростове,
Киеве, Крыму, Москве! Почему многие из них покончили жизнь
самоубийством? <...> Почему сотни русских ученых, молодых и старых,
убегают из России и живут жизнью просителей в Западной Европе,
Японии, Китае и Америке? По моей статистике не менее трети
ученых покинули Россию»33. И в другой статье, он пытается показать
этос русского университета, русского профессорского сословия, как
оно сложилось к революции. И то, во что хотя превратить
университеты и выживших профессоров. Начну с его понимания
университетского этоса (статья «Университеты и большевики»): «Идеалы
русских университетов вынашивались университетами в
постоянной борьбе, внутренних и внешних конфликтов десятками лет.
Много мученичества потребовало проведение в жизнь этих идеалов.
Несмотря на постоянные шаги назад, мы все-таки последовательно
приближались к их осуществлению. <...> Университет был всегда
для русской интеллигенции не только учреждением для образования
юношества. Это была лаборатория мысли, научного творчества во
всех областях. Это был фокус, где сходились искания и стремления
лучшей части русской интеллигенции»34. Ну а при большевиках? Он
пишет: «Что же противопоставили этому идеалу большевики? Как и
во всем остальном, они резко порвал с традицией русского
либерализма и стали на сторону русского самодержавия в худшие его
моменты. Университет большевиков есть сколок с университета
Магницкого и Николая I. Большевики хотят сделать из университета
школу для служилого сословия советского государства»35. Так оно и
33 Ростовцев М. И. Избранные публицистические статьи. 1906—1923. М., 2002. С. 91.
34 Там же. С. 95.
35 Там же. С. 97.
344 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
произошло. А потом опять начался крайне медленный и теперь даже
трагический путь преодоления рабства и появления подлинного
профессорства.
* * *
«Профессорская культура», возникшая на перекрестье
дворянского и буржуазно-разночинского либерального консерватизма, была
явлением для России удивительным. Она дала крупных ученых,
достижения которых вошли в историю русской науки (Д. И.
Менделеев, А. М. Бутлеров, В. О. Ключевский, С. М. Соловьев),
ученых, многие из которых сумели сохранить свое достоинство и в
советское — сталинское — время (В. И. Вернадский, И. П. Павлов,
К. А. Тимирязев). Казалось бы, в Октябрьскую революцию спор
завершился и радикалы победили. Казалось бы, последний отзвук
этой крушения «профессорской истины» можно услышать в
насмешливо-недоверчивой реплике Маяковского: «Профессор,
снимите очки-велосипед! / Я сам расскажу о времени и о себе».
Однако преодоление культурно-исторического слома привело в
середине 60-х годов XX столетия к тому, что вновь возникшая
интеллигенция обратила полные ожидания взоры к новым
представителям «профессорской культуры». Правда, эта профессура
пришла не из университетов, а из академической науки. Вспомним
переполненные аудитории в 1960-х и 1970-х годах, где выступали не
только поэты и барды (Евг. Евтушенко, Б. Окуджава, Вл. Высоцкий
и др.), но и «ученые люди» (надо ли напоминать имена С. С. Аве-
ринцева, М. К. Мамардашвили, В. В. Бибихина, Л. М. Баткина и
др.). Когда свободы добавилось, они заняли и профессорские
кафедры. Стоит предположить, что «профессорство», быть может, стало,
наконец, неотъемлемой частью нашего духовного опыта. И все же
за него постоянно почему-то тревожно. Слишком много в нашей
истории было тенденций антипрофессорских, которые в любой
момент могут проснуться. А тогда под благовидными и не очень
предлогами снова начнется погром образования.
M. С. Киселева
Концепт выбора в христианской
и постхристианской культурах
Личный выбор человека определяет европейскую культуру
как в ее глубинном историческом времени, так и в
современности. Безусловно, начало этого феномена, как,
впрочем, и многих иных культурно-значимых человеческих
деяний, следует искать в далеком прошлом; свои исходные
смыслы они получают в религиозных текстах, затем
разрабатываются в философских и теологических трудах, в литературе и
искусстве, в гуманитарном и социально-политическом знании. Важно,
что за концептом стоит поведение, реальные поступки человека
европейской культуры, а в концепте откладываются значения,
отрабатываемые в поведенческих актах.
В мифологеме творения человека как акта Божественного
деяния, в котором проявляется Свободная Воля Творца, соединились
на религиозной почве культуры Ближнего Востока и Европы. В ней
я/?ед-положены, по крайней мере, две возможности модуса деяний
человека, обеспечивающие его человеческий выбор. Это — модусы
действия, которые могут быть осмысленны как ответ Создателю.
Вполне возможно, что именно в этом корневая причина
неразрывности выбора и omffem-ственности человека. Обе возможности
просты и сложны одновременно: они прокладывают дорогу прямо
противоположным действиям человека и задают параметры разных
смыслов, обуславливая то, что позже стали называть выбором.
Созданный по «образу и подобию Бога», первый человек
Ветхого Завета обязан был следовать заповеди Божией; жить в саду
Эдема, чтобы «возделывать и хранить его», вкушать плоды от всех
деревьев сада, кроме одного: «от дерева познания добра и зла, не
ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь» (Быт. 2.17). Комментаторы достаточно обсуждали вопрос
о том, что означала во времена Адама угроза смертельного
наказания. Не будучи рожденным, первый человек не мог быть знаком с
тем наказанием, которое обещал ему Господь. Кроме того, знание
346 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
добра и зла — что хорошо и что плохо, заключались в плодах
именно того древа, от которого Адаму вкушать было запрещено. Однако
слова, провоцирующие возможность отказа от заповеди Бога, были
сказаны самим Богом.
Альбер Камю, размышляя над Словами Творца в тексте
Книги Бытия, сказанными после грехопадения Адама, выделял те, что
его особенно задели: «...вот, Адам, стал как один из Нас, зная
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей и не взял
также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3.22).
Камю определил их так: «Об ответственности Бога»1. Видимо,
ответственность Бога состояла в том, чтобы позволить состояться
человеческой истории. Выбор другого действия Адамом,
противоположного указанного Богом, оказался трагической завязкой
человеческой культуры, позволив ей состояться. Без провокации выбора
не было бы начала...
Ветхозаветный первый человек мог выбрать или послушание,
или непослушание Богу; или соблюдение, или несоблюдение
заповеди. Выбор Адама состоял только из этих двух возможностей.
Послушание или О-слушание.
Адам совершает действие очень простого рода. Он выбирает то,
что дает ему Ева — плод запретного древа и ест его. Его
оправдание перед Богом имеет основание: Ева, жена «которую Ты мне дал,
она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3.12). Адаму неизвестен змей.
Змей говорит с Евой и произносит слова, прямо противоположные
тем, что сказал Адаму Бог: «И сказал змей жене: нет, не умрете»
(Быт. 3.4). Но и здесь «неумирание» также не может быть ясно, как
и слова «смертью умрете». Однако противоположности для
человека теперь обозначены: Бог и змей говорят и действуют
относительно человека прямо противоположно.
Поставим риторический вопрос: насколько случайно или
осознанно для самого Адама была ситуация выбора? Еще раз:
принимая плод с древа познания, Адам не мог знать того, что он неправ,
он еще не вкусил от древа познания. Однако в действии Адама
содержится модус выбора — О-слушание Бога.
Содержание книги Бытия можно представить как
повествование о событиях, в центре которых — ситуация выбора, сделанного
ветхозаветным человеком вне какого-либо осознания значимости и
глубочайших последствий, которые произойдут затем. Адам и Ева
ослушались Бога, это — их выбор; Каин, убивший Авеля, —
сделал свой выбор; Ной, услышавший повеление Бога, — свой; Авра-
1 Камю Л. Записки бунтаря. М., 2011. С. 85.
M. С. Киселева. Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах 347
ам тоже совершает выбор, отвечая на требования Бога принести в
жертву своего единственного сына Исаака...
Этот последний ветхозаветный сюжет об Аврааме и Исааке
поверг в страх и трепет Серена Кьеркегора, пытавшегося осознать,
пережить и прочувствовать выбор Авраама. Суть выбора — его бы-
тийственное, жизненно трагическое наполнение. Тема выбора, как
мы знаем, вошла в философию именно в трудах
философов-экзистенциалистов, импульс которым сообщил Кьеркегор. Состояние
страха, а точнее страха смерти, пребывание в котором определяет
со-стояние человека между Послушанием Богу и Ослушанием,
Невинностью и Виной, Добром и Злом, Верой и Неверием и т. п. для
Кьеркегора определяет необходимость, или лучше, неминуемость
осознания выбора. Однако все, о чем размышляет автор в
«Страхе и трепете», дословно не присутствует в тексте Ветхого Завета.
Там — событие, переданное как эпическое повествование. У
Кьеркегора — его переживание и его реконструкция как рефлексия
происходящего, рефлексия длящегося, но не завершенного действия —
выбор совершаемый. В Библейском тексте дело сделано: плод съеден,
Авель убит, послушный Авраам уже занес нож над Исааком...
В тексте «Страха и трепета» уловлена проблема, которая может
быть предана «огласке», но только Иоханнесом де Силенцио —
Иоханнессом «Молчащим». Выбор для человека — внутренняя
работа, его переживание, его страх и его трепет, а потому необходимо
проживание-переживание «выбора выборов»...
Но вернемся к тексту Ветхого Завета. Божественная воля
карает человека за его непослушание и увлечение земными радостями
жизни — эти сыны и дочери человеческие, занявшись друг другом
и умножая род человеческий, забыли об их Творце: «велико
развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время» (Быт. 6.5). Потоп — последнее и
неминуемое наказание.
Однако и Бог Ветхого Завета снова решает испытать.человека.
Он делает свой выбор: Божественное «Или-Или». Он решает
найти своего рода «альтернативу» среди всеобщего земного греха. Бог
видит праведника. По-слушание Ноя необходимо и достаточно для
спасения части земного человечества. Создатель выбрал Ноя;
сделанный им по указанию Господа ковчег укрыл его, его семью и его
скотину. Непослушание Богу ведет к злодеяниям, Ной же —
послушник: «И сделал Ной все; как велел ему Бог, так он и сделал»
(Быт. 6.22). Что же есть выбор и есть ли выбор человека во всей
этой истории? Ной после спасения по указанию Бога вышел на
землю, выведя всю семью, птиц, скот и гадов пресмыкающихся для
348 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
нового заселения земли и отблагодарил Бога, сделав жертвенник и
принеся в жертву «от всякого скота чистого, и из всех птиц чистых»
во всесожжение (Быт. 8.20). Ной — послушник Господа, но не
искупитель греховного выбора Адама.
* * *
В Новом Завете совсем иначе концептуализируется выбор: Бог
посылает Христа как искупительную жертву за не Им совершенный, но
адамов, грех. Новозаветный выбор — решение Бога Единого в
своей Троичной сущности. Этот выбор есть и Свобода (Духовная
святость), и Невинная Жертва (Крестное страдание Христа), и
Послушание (Сыном Отца). С новозаветного времени выбор неизменно
сопряжен с осознанием возможности и необходимости
осуществления человеческой свободы и принятия благодати, дарованной
человеку Богом, как ее последствие.
Человеческая природа Христа и его искупительная жертва
создает новое сакральное пространство для осмысления выбора
человеком: перед ним стоит задача, решение которой сложно, а порой
и непосильно: человек выбирает сам собственную свободу в
надежде обрести Божью благодать. Бог дал человеку пример — поступок
Христа: подражай Христу, жертвуй собой во Имя Бога — это и
будет твой человеческий выбор. Благодати Божьей человек может
ответить собственной свободной добродетелью. Григорий Нисский
формулирует в беседах «Об устроении человека» необходимость
выбора и осознание этой необходимости: «Одному из всех
[человеку] необходимо быть свободным и не подчиненным никакой
естественной власти, но самовластно решать [так], как ему кажется.
Потому что добродетель — вещь неподвластная и добровольная, а
вынужденное и насильное не может быть добродетелью»2.
Младший современник Григория Августин развивает эту мысль
о связи свободы и добродетели, находя для них некий общий
знаменатель «высшей добродетели» — в любви. Человек сознательно
выбирает порядок мира, установленный Богом, а потому
сознательно избегает зла и свободен в любви к Богу. Один из лучших
русских знатоков Августина Евгений Трубецкой полагал, что ав-
густиновская теодицея вносит роковое раздвоение в предвечный
2 Григорий Нисский. Об устроении человека / Пер., послесл. и прим.. В. М. Лурье,
под ред. А. Л. Берлинского. СПб., 2000. С. 69. Существенно здесь сказать, что
переводчик и издатель текста В. М. Лурье, отметил в примечании, что «PV(D|iT|» он
перевел как «решение», а не «воля». «Уже у св. Григория, — пишет Лурье, — мы
видим разграничение терминов веХтцш — воля, или энергия природы, a yvw|iT)
принадлежит личности, ипостаси» (Там же. С. 158—159).
M. С. Киселева. Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах 349
божественный план. Однако сила Божественной благодати
преодолевает эту раздвоенность: «Свобода твари <...> есть <...>
возможность самоопределения за или против Бога, иначе говоря,
возможность выбора между жизнью и смертью. Утверждая свободу
выбора, христианство признает действительность ада, но вместе с
тем отрицает возможность для твари в какой-либо мере нарушить
полноту вечной жизни Божества»3.
На протяжении всего европейского Средневековья свобода и
выбор человека неразрывно связаны. В этой связке находятся и
другие качества человека — разум и познание, но всегда этот
человек устремлен своей верой к Богу как источнику блага и защитнику
от зла. Известная ересь Пелагия о свободном выборе как добра, так
и зла лишь усиливала критическую направленность богословских
штудий.
Как представляется, гуманисты сделали христианскую идею
свободы выбора практикой собственной интеллектуальной,
художественной, поэтической и даже, в конце концов,
политической жизни, при этом акцентируя, опираясь на свободу человека
как «скрепу», «центр», созданного Богом мира. Без этой опоры не
смогли бы состояться ни Данте с его «Божественной Комедией»,
ни Лоренцо Валла с его критикой Константинова дара, ни Пико
делла Мирандола с его пониманием «достоинства человека», ни
вообще вся интеллектуальная европейская гуманистика.
Реформирование западного христианства, как это не
покажется невозможным, оказалось в руках тех, кто провозгласил отказ от
этого уверенного в своей свободе человека гуманистов и призвал
вспомнить ветхозаветный принцип: абсолютно свободен только
Бог, его выбор определяет спасение человека. Эту работу взял на
себя Мартин Лютер и его единомышленники. Что же произошло
с концептом свободы? Действительно ли протестант совершенно
отказался от свободы выбора? Выступив против идей Эразма
Роттердамского о свободе воли, Лютер в известном трактате «О
рабстве воли» определил задачу человека: спасение возможно только
верой, а потому свобода воли есть помеха, соблазн, препятствие в
диалоге человека и Бога.
Думаю, верно говорить о парадоксальной ситуации христианской
культуры: отняв свободу выбора у человека в вопросе веры и
благодати, реформаторы предельно расширили ее во всех земных сферах
человеческой деятельности — экономической и торговой,
путешествиях и обретении новых профессий, расширении возможностей
3 Трубецкой Е. Н. Смысл жизни // Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 2000. С. 141.
350 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
образования и исследования природы мира и самого человека. В вере
же главным стало благочестие, но не столько внешнее, с его
требованиями соблюдать установления веры (посещение храма, слушание
проповедей и т. д.), сколько внутреннее — заботливое пестование
человеком сердечной жизни в подражание евангельским сюжетам. На
этом пути оформился новый мистический концептуализм, и свобода
«творить себя» по образу Христову снова стала заботой пиетистов.
Протестантизм, таким образом, ужесточив моральные
принципы и ответственность христианина напрямую перед Богом и
отказав человеку в свободе, открыл другие каналы для самостоятельной
(свободной?) деятельности, перенаправив их в социум и природу,
чем отчасти спровоцировал секуляризацию европейской
культуры. И действительно, капитал сделал повседневный выбор
реальной задачей рынка, политики, частной жизни людей. Понятно
поэтому, что в среде интеллектуалов следующим шагом должна была
стать задача обоснования свободного выбора как политического,
морального, а затем и... теологического концепта. Этим
занималась европейская философия Нового времени разных школ и
направлений, включая просветителей, романтиков и, наконец,
немецких «классиков». В их философских системах концепт свободы
и выбора человека обрел силу рационального аргумента, способа
доказательства и морального императива.
Строго говоря «Фауст», трагедию великого Гете, можно прочитать
как поиск литературно-философского решения проблемы выбора,
как своего рода авторский ответ на лютеровский запрет свободы воли
человека. Предложение, за которым стоит договор о продаже души
героя дьяволу, у Гете формулирует Мефистофель с согласия Бога (!).
Его суть в том, что Фауст сам должен определить тот момента, когда
он, наконец, станет абсолютно счастлив, обретет полноту своих сил и
возможностей и перестанет мучиться бессмысленностью жизни,
требовать от себя новых желаний, интересов, открытий и увлечений —
всего того, что составляет движение человеческого духа. И именно
в это мгновенье душа Фауста должна оказаться в руках дьявола. Гете
находит простое и вместе с тем чрезвычайно противоречивое
решение, описывая само «мгновенье выбора». Фауст переживает
колоссальный духовный порыв, смыслом которого является осознание и
утверждение ценности свободы, которая завоевывается
каждодневным трудом, постоянным отказом от достигнутого ради следующего
шага. Этот момент и есть кульминация всей трагедии. Фауст
совершает свой выбор, определяя то мгновение, которое он хотел бы
остановить, но в логике самого выбора Фауста оно не остановимо, ибо
его смысл в постоянном движении вперед. Вот выбор Фауста:
M. С. Киселева. Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах 351
Жизни годы
Прошли недаром, ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой!
Однако гётевская трагедия не верна классике жанра. Фауст,
переживая «победное» событие своей жизни, — странный герой. Его
душа и тело не в единстве, о чем сам он и не догадывается.
Мефистофель уже сделал свое дело, «поработал» над телом Фауста,
ослепив его, лишив реального восприятия пространства и времени,
разрушив связи с миром, в котором, вопреки видению Фауста
реализации в нем после постройки плотины счастливой жизни многих
людей в будущем городе-саде, Рае на земле, побеждает смерть. Что
же видит Фауст глазами души? Его душа еще не в руках дьявола,
она делает свое дело, открывает Фаусту назначение человека,
которое возможно реализовать только в свободной деятельной волевой
жизни, остановить которую может смерть. Казалось бы,
безупречно разыгранная Мефистофелем партия зла должна привести его к
победе и он должен получить душу мятущегося героя. Но Бог, как
мы помним, еще в Прологе высказал Свою Божественную Волю. И
в кульминационном моменте трагедии сошлось Божественное
предопределение и жажда свободы Фауста:
Хор ангелов
Пламя священное!
Кто им охвачен,
К жизни блаженной
Добра предназначен.
Воздух очищен.
Братья, в полет!
Дух сей похищенный
Вольно вздохнет.
(Подымаются к небу, унося бессмертную
сущность Фауста.)
* * *
Безусловно, в идеях «Фауста» нашел отражение опыт Французской
революции. Но революция не привела Францию к протестантизму.
Опыт революционного отказа от католической веры вел ее к секу-
лярной культуре. Практика свободного выбора осуществлялась под
революционным лозунгом «Liberté, Égalité, Fraternité» в политиче-
352 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
ской схватке за власть. Революция и революционный выбор
оказались выбором между жизнью и смертью для многих участников
событий. Открылся новый поворот темы — за выбором отчетливо
просматривалось насилие (вспомним, как настаивал на их
несовместимости Григорий Нисский), приводящее к смерти. Эта связка
выбор-жизнь-смерть станет главной для осмысления
экзистенциалистами в XX столетии. По горячим следам революции и
Наполеоновских войн ее переживал в своем творчестве С. Кьеркегор,
сохраняя веру в Бога. Как точно заметил Р. Гвардини, сокрушение
авторитетов ведет к насилию, выбор же революционерами безбожия
развязал руки террору. Конечно, и христианство культивировало
насилие: завоевательные войны и походы на иноверцев,
преследование еретиков. Революция во Франции впервые опробовала насилие
не по вере, а по чисто политическим мотивам, развязав гражданскую
войну среди жителей одной страны и поставив проблему выбора,
мотивированную политическими интересами больших групп людей.
В классической философии XIX века на почве научной
строгости и протестантской религиозности была достигнута наивысшая
точка в рациональном понимании этого концепта: выбор был
отождествлен со свободой, которая в высшем смысле рассматривалась
как метафизическое понятие. От Канта к Гегелю система понятий
включала в себя идею Бога, автономию человека, его свободу, волю
и др., которые выводились для обоснования разумности и
свободы человека. Бог как Абсолютная Идея открыт познанию человека
и гарантирован единством божественной и человеческой природы.
Это единство «само и есть абсолютный дух»4, осуществляемый как
нравственный и разумный выбор человека. Однако и у Канта
философское обоснование выбора сообразовывало автономию человека
и чувство долга, выводя его в пространство высшего нравственного
действия, объединяющего человека и «все человечество» в пределах
практического разума. И Шеллинг, и во всех подробностях Гегель
в своей логически обоснованной системе тождества бытия и
мышления развили диалектический метод как прокладывание свободы
через борьбу и примирение противоположностей, тем самым,
определяя выбор как результирующую этой борьбы не только в пределах
человеческой жизни, но и в природе и сознании человека.
Диалектика немецких философов во 2-й половине XIX века
стала основанием критики теоретического знания, что создало
возможность сделать следующий шаг: вывести концепт выбора из под
его родовой связи с христианской религией, а значит поставить вне
4 Гегель Г. В. Ф. Философия религии: В 2 т. Т. 2. М., 2007. С. 161.
M. С. Киселева. Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах 353
отношений Бог-Человек. В связи с какими открытиями научного и
социально-гуманитарного знания стало возможно это
кардинальное изменение в содержании концепта?
Во-первых, это — эволюционная теория Ч. Дарвина,
создавшего естественно-научный инвариант концепта «выбор». Он
обеспечивал объяснение открытого ученым природного механизма
«естественного отбора» и наследования в процессе эволюции живой
природы во всевозможных ее родо-видовых формах. Дарвиновское
открытие позволило редуцировать выбор к природным процессам,
а сама теория дала новый импульс к пониманию человека в
различных социал-дарвинистских школах, видя в нем закономерное
звено эволюции природных форм, а потому освобождая его от
груза христианской традиции с ее моральными и метафизическими
проблемами.
Во-вторых, материалистическая теория исторического процесса
К. Маркса и Ф. Энгельса. Приняв во внимание уроки Французской
революции и применив диалектику Гегеля к развитию
человеческого общества, они создали теорию классовой борьбы — социально-
исторический инвариант концепта выбора. Классовая борьба, как
необходимый жизненный выбор в отстаивании интересов класса,
прежде всего экономических, осуществляется объективно и
закономерно. В этой теории выбор включает в себя насилие как
необходимое условие для достижения интересов класса, причем особую
форму насилия — насилие масс, сплоченных в класс. Личностный
выбор окончательно укореняется в мирских делах и проблемах,
практически растворяясь в интересах коллектива. Атеизм
марксизма коренится в переосмыслении связи индивид-общество; человек
стремится к обладанию полнотой своей земной свободы, и
трансцендентная метафизическая реальность остается вне его интересов.
С другой стороны, и это — в-третьих, к тому же результату
привел нигилизм Ф. Ницше, по существу, аппроприировавшего выбор
в пользу сверхчеловека. Бог мертв, человек определен «по ту
сторону добра и зла», идея вечного возвращения исключает выбор.
По этим направлениям закладывались основания
постхристианской культуры.
* * *
Все, что происходило с человеком в XX веке — две мировые
войны, революции, ГУЛАГ и нацистские лагеря смерти,
насильственное переселение народов, геноцид, освобождение
колоний — смертельный опыт, с которым, как кажется, невозможно
соединить свободный выбор человека. Но вопрос о том, как чело-
354 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
век справлялся с этим опытом, чрезвычайно важен для понимания
того, что происходило с концептом выбора.
Смерть-выбор-свобода — эту концептуальную триаду можно
рассматривать как маркер кризисного переживания опыта XX века
интеллектуалами экзистенциалистами. Обратим внимание на
последовательность понятий. Пограничная ситуация перед лицом
смерти — неслучайная идея этой философии. Противоречивость,
провозглашение гуманизма Сартром и глубокий пессимизм Камю,
последняя попытка рационально рассчитаться с Богом и отстоять
свободу человека — все это темы послевоенной кризисной менталь-
ности. Вопросы веры, Бога, любви и возможности истории
становятся фоном для постхристианской культуры. А. Камю писал в V Тетради
(сент. 1945 — апр. 1948), обсуждая с самим собой позицию писателя
как «свидетеля»: «имею ли я право быть только художником?» И
отвечал: «Я не могу в это поверить. Если я не совершаю выбора, мне
нужно молчать и признать себя рабом. Если я совершаю выбор, идя
и против Бога, и против истории, я становлюсь свидетелем, который
дает показания в пользу чистой свободы и которого история
обрекает на гибель. Сегодня мой удел — молчание или смерть. Если я решу
сделать над собой усилие и поверить в историю, моим уделом станут
ложь или убийство. Или религия. Я понимаю тех, кто предается ей
слепо, дабы избежать этого безумия, этой нестерпимой боли (да,
поистине нестерпимой). Но я не могу этого сделать»5.
В своей небольшой книге «Конец нового времени»,
написанной в середине прошлого века (1950), времени особой
популярности экзистенциализма, Р. Гвардини писал о том, что «личность»
как тип человека Нового времени завершает свое существование.
Оставаясь сторонником историзма и считая, что настанет
«постновое» время, в котором все проблемы будут решаться в
результате технических достижений человека группы, сообщества, массы,
Гвардини полагал, что следующий этап развития общества
породит новый тип человека. Это будет человек массы, которого он
характеризует «положительно»: «масса в том смысле, каким мы
наделяем это слово, не есть проявление упадка и разложения, как,
скажем, чернь Древнего Рима; это историческая форма человека,
которая может полностью раскрыться как в бытии, так и в
творчестве, однако раскрытие ее должно определяться не мерками нового
времени, а критериями, отвечающими ее собственной сущности»6.
5 Камю А. Записки бунтаря. С. 176.
6 Гвардини Р. Конец Нового времени. Попытка найти свое место // Самосознание
культуры и искусства XX века. М.; СПб., 2000. С. 197.
M. С. Киселева. Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах 355
Гвардини назвал этот тип «персоной» («лицом») и попытался,
во-первых, предвидеть те проблемы, которые «человек-персона»
вынужден будет решать; во-вторых, дать «структурное» описание
этого человека: «Такой человек <...> принимает и предметы
обихода и формы жизни такими, какими их навязывает ему
рациональное планирование и нормированная машинная продукция, и
делает это, как правило, с чувством, что это правильно и разумно. Не
имеет он и малейшего желания жить по собственной инициативе.
Свобода внешнего и внутреннего движения не представляет для
него, по-видимому, изначальной ценности. Для него естественно
встраиваться в организацию — эту форму массы — и
повиноваться программе, ибо таким способом «человеку без личности»
задается направление. Инстинктивное стремление этой человеческой
структуры — прятать свою самобытность, оставаясь анонимным,
словно в самобытности источник всякой несправедливости, зол
и бед»7. Гвардини говорит об исчезновении «чувства
собственного бытия человека», которое ранее было основой социального
поведения. «Все чаще обращение с человеком как с объектом
воспринимается как что-то само собой разумеющееся: начиная от
бесчисленных форм статистически-административного "охвата"
и кончая немыслимым насилием над отдельными людьми,
группами, даже целыми народами. И не только в критических
ситуациях или пароксизмах войн — это становится нормальной формой
управления»8.
Этот изменившийся тип человека из выживших масс (не
«восставших»!) среди кошмаров XX века постепенно нашел адекватный
себе особый род «свободы». Оправившись от мировых катастроф,
европейское массовое сознание достаточно быстро создало
необходимую для возрождающейся экономики и политического
социума фигуру «человека выбирающего» — чрезвычайно бережливого
в послевоенное время и постепенно приобретающего вкус и
навык к выбору вещей, а потом и услуг. Их спектр чрезвычайно
разнообразен и постоянно расширяется. В него включены бытовые,
домашние услуги, развлечения, шопинг, образование, медицина,
создание семьи, рождение детей от суррогатных матерей и т. д.
и т. п. Гвардини писал об утрате «таинственности», определенным
образом укорененного священного чувства: «Решающие события
человеческой жизни: зачатие, рождение, болезнь и смерть —
теряют свою таинственность. Они превращаются в биологически-со-
7 Там же.
8 Там же. С. 198.
356 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
циальные происшествия, о которых заботится все увереннее
действующая медицинская наука и техника. Но поскольку они все же
остаются фактами, преодолеть которые наука не может, постольку
их «анестезируют», по возможности лишают всякого значения»9.
Эта социального рода «анестезия» реализуется в тех ситуациях
выбора, которые предлагаются человеку взамен утери
трансцендентных смыслов, а не только чувств, о чем тоже писал Гвардини.
Новый плацдарм для тиражирования ситуации выбора
складывался в последнюю четверть XX века в связи с успехами
интернет-технологий в современном глобализирующемся мире.
Происходящее на наших глазах расширение доступа человека (не только
реального, но и виртуального) к многообразию социальных
пространств: государственных, политических, профессиональных,
экономических, финансовых, новых технологических институций
создает сложно структурированные горизонтально, иерархически или
произвольно проложенные, но технологически контролируемые
и финансово прибыльные связи. Такие связи поддерживают
социальную установку на расширение «предложений» и многообразие
«предпочтений» (именно слово просится взамен слову «выбор» в
данном контексте), культивируемых у современного человека.
Характеристика Гвардини человека, прячущего свою
самобытность, сегодня уже не актуальна. В современном обществе был
найден тот механизм, который позволил сделать «самобытность»
человека неким «брендом», имеющим определенную стоимость
и место на рынке. Немалую роль в этом механизме играет
провоцирование «ситуации выбора». Именно выбор работает на
создание современной индивидуальности, «персоны». Отметим, кстати,
распространенный термин «персонал» для определения статуса
человека в профессиях, имеющих «обслуживающий» характер и
прямо участвующих во всем разнообразии предложений для
выбора современным человеком. Полагаю, что словарь всегда чуток к
происходящим в социуме переменам. Профессия как
институциональная сфера современного социума резко меняет свои смыслы,
становясь все более обезличенной и именно в этом качестве все
более востребованной обществом и государством. На эту ситуацию
обратил внимание в середине 80-х годов прошлого века Генрих
Бёлль — писатель, чуткий к нравственным основаниям
христианской культуры, и определил ее как потерю профессиональной
свободы: «Все больше вымирают свободные профессии.
Свободные профессии не в официальном смысле слова, а в житейском...»
9 Там же. С. 217-218.
M. С. Киселева. Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах 357
Это — труд мелких собственников, крестьян, речников, рабочих,
которые, зарабатывая достаточно денег, чтобы прокормить свою
семью, могли позволить себе личную самостоятельность и хранили
независимость. Писатель заключает размышление тревожной
фразой, почти формулой: «Каждый день умирает частица свободы»10.
Каково же содержание концепта «выбор» в современном
обществе начала XXI века? Не нуждаясь в осмыслении метафизических,
личностных связей с Богом, обществом, равнодушно относясь к
морали и моральным принципам в отношениях с другими людьми,
«человек-персона» (воспользуемся этим термином Гвардини)
заинтересован в выборе. Как мы видели, ситуативно. Современный
выбор, во-первых, публичен. Он непосредственно встроен в
социальное и виртуальное пространство — сферу торговли, услуг, СМИ,
города, транспортных систем и т. п. Каналом, обеспечивающим
постоянную готовность человека к выбору, является реклама. Этот
род принудительной коммуникация не оставляет современному
человеку возможности «разговора наедине с собой». Да и о чем
говорить-думать, если клишированное СМИ сознание дает
множество уже готовых советов-рецептов для решения всех жизненных
проблем, перенося человека-персону из одной ситуации в другую?
Во-вторых, выбор функционален и культивируется массой
«персон» по разным параметрам (удобства, выгоды, полезности,
великолепия, финансового статуса и т. д. и т. п.). Современное
общество знает, какой выбор «правильный», а какой нет. «Правильный»
гарантирует жизненный успех, карьерный, финансовый рост и
прочие «персональные» завоевания в этом мире, «неправильный»
ведет к жизненным неудачам. Обратим внимание, что моральные
оценки или какие-либо христианские ценности (любви к
ближнему, например), в этих критериях не предусмотрены.
В-третьих, выбор «навязывается» человеку, обретая характер
узаконенной социальной необходимости, входя в те социальные
практики и профессиональные области, где ранее ему не было
места (например, «информированное согласие» пациента перед
медицинским вмешательством). Современная «ситуация выбора»
практически неотличима от практики «принятия решений» в
современном менеджменте, в области политики и информационных
технологий. Наверное самое важное состоит в том, чтобы понять,
что ситуация выбора более всего сейчас находится не в руках от-
10 Бёлль Г. Каждый день умирает частица свободы // Бёлль Г. Каждый день умирает
частица свободы. О себе самом. Франкфуртские лекции. Письмо моим сыновьям.
М, 1989. С. 350.
358 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
дельного человека, но властных структур. Власть высоких
технологий и современных СМИ, на которой строится современная
политика и которая находится в руках высокопрофессиональных
управленцев, выстраивает социальные структуры под свои
управленческие нужды. В России этот процесс пошел полным ходом
последние годы. Под эту «новую» власть попадают институции
и профессии свободные по своей сущности — искусство и наука.
Решения этой власти — ликвидация музеев, слияние институтов
культуры и искусств, ликвидация и слияние Академий,
невозможное по сути их деятельности, ибо физик-теоретик, астроном или
историк, работающий в архивах, не могут строить свою работу по
правилам практической и прикладной сельскохозяйственной или
медицинской науки и обратно, эффективность этих прикладных
наук требует выхода в «поля» и больницы, но не работу по
правилам теоретического исследования. В наших территориальных
масштабах этот государственный менеджерский проект обрекает науку
на вымирание. Изведя в стране науку и ученых, людей свободных
профессий, безусловно, процесс управления оставшимся
«персоналом» много облегчит задачи власти, а по существу, поставит
страну перед «новой дикостью».
Главную проблему, которую видел Гвардини для грядущего для
него, а для нас — современного общества, и в чем с ним нельзя не
согласиться, — это нахождение «власти над властью»11. Ситуации
выбора будут предлагаться и проводиться властью в
государственных масштабах до тех пор, пока человек не научиться
распоряжаться «самим распоряжением»: «У него есть власть над вещами,
но нет — или скажем более обнадеживающе, пока еще нет власти
над своей властью»12. Для современного постхристианского
общества концепт выбора можно сформулировать как задачу
нахождения такого социального инструмента, который бы позволил
обеспечить новый способ власти над властью. Понятно, такой способ
не может быть старым, возведенным еще в более высокую степень,
контролем. Очевидно, человечество должно найти новый способ
организации собственной жизни, сняв ту опасность, которая
исходит от современной власти, вооруженной новыми достижениями
высоких технологий. Гвардини как религиозный мыслитель
понимал эту проблему так: «Человек свободен и может использовать
свою власть, как хочет. Именно поэтому он может использовать ее
неправильно; неправильно, то есть ко злу и разрушению. Что га-
11 Гвардини Р. Конец Нового времени. Попытка найти свое место. С. 213.
12 Там же.
M. С. Киселева. Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах 359
рантирует правильное использование? — Ничего. Нет никакой
гарантии, что свобода сделает правильный выбор. Имеется
только вероятность того, что добрая воля превратится в склад души,
в позицию, в характер. Но, как мы уже видели, беспристрастный
взгляд принужден констатировать отсутствие такого характера,
который сделал бы правильное распоряжение властью вероятным.
Человек Нового времени не подготовлен к чудовищному взлету
своей власти. Не существует еще продуманной и действенной
этики пользования властью; тем более не существует и
соответствующего ей воспитания — ни для элиты, ни для всех»13.
Эти характеристики современного концепта выбора, стержень
которого составляет продуцирование ситуаций выбора, можно
было бы развивать и далее. Я постаралась наметить лишь основные
линии анализа проблемы.
* * *
Попробуем подвести итоги. Выбор европейского человека
исторически детерминирован христианской культурой, имеющей, как мы
видели, и созидательный, и разрушительный опыт.
Став двигателем процесса глобализации, современная
европейская культура практически расстается с тем, что составляло
когда-то ее основу субстанциальную основу, концептуально
осмысленную философами Нового времени. Эта основа
скреплялась как христианской верой, так и классической моделью знания;
как нравственным законом, так и самореализацией личности,
образованием, которое составляло ее базовую ценность.
Функциональность, пришедшая на смену субстанциальности, изменила
и мир, и человека, но она, как показал Гвардини в своей критике
человека Нового времени, коренилась именно там, в той же
европейской культуре. «Социально нейтральное» — политкорректное,
де-национальное, гендерно-неопределенное, профессионально-
неустойчивое, неполносемейное, провокативное в политике, в
современных СМИ и в других коммуникативных сообществах —
таковы характеристики современности, где выбор человека как его
внутренняя работа становится чрезвычайно проблематичным или
вовсе ненужным. Власть и бизнес множат, но и полностью
контролируют ситуации выбора, жестко охраняя и не позволяя подвергать
какому-либо сомнению собственный выбор.
Сегодня мы можем спросить себя, актуальна ли пережитая
Европой история? Можем ли мы говорить о проекте современной
13 Там же.
360 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
мировой культуры, в основании которой — глобальный выбор
человека как «рода человеческого» (вспомним это
субстанциональное понятие старой философии): его жизненного существования;
самосохранения не только как вида Homo sapiens, но как
созидателя в разнообразных сферах деятельности; культурно и
лингвистически сохранного; заинтересованного в коммуникативном
межкультурном опыте, способном актуализировать культурные
ценности исторического прошлого? Сегодняшние вызовы ставят
перед человеком новые задачи, их проективность необходимо
осуществлять не только в функциональном, но в ценностно-значимом
общекультурном контексте. Мне представляется, что слова Камю,
сказанные в адрес Мерло-Понти, как человека, который
«выжидает» чрезвычайно своевременны: «Он объясняет, что никто никогда
не бывает прав... Но чуть ниже он восклицает, что Гитлер —
преступник, и всякий, кто боролся против него, всегда будет прав.
Если никто не прав, тогда никого нельзя судить. Все дело в том, —
утверждает далее Камю, — что нужно бороться против Гитлера
сегодня. Мы уже достаточно выжидали. И продолжаем выжидать»14.
В послевоенной Европе предлагались и решения, а не только
ожидания. Как представляется, попытка Гвардини взглянуть в
будущее с позиций историзма, т. е. увидеть тенденции его развития
как массового общества, отнестись к нему не только обличающее
критически в духе Ортеги-и-Гассета, была одной из последних в
истории европейской мысли (о связи историзма и христианских
ценностях также писал и Бонхёффер в своей «Этике»). Скорее
всего, сохранность ценностей историзма объясняется их связью с
эсхатологическим христианским учением. Ведь Гвардини —
католический священник, теолог, преследовавшийся нацистами,
лишенный профессорского звания, его жизнь — ответственная
работа за сохранение ценностей христианской культуры. Дитрих
Бонхёфер — протестантский священник, теоретик морального
богословия, один из создателей Исповедующей Церкви,
выступившей против попыток соединения нацизма и лютеранства,
повешенный как участник антигитлеровского заговора в концлагере
Флоссенбюрг 9 апреля 1945 года.
Безусловно, в той постхристанской культуре, о которой думал
и писал Гвардини, мир для него оставался областью Божественного
проведения и заботы. Гвардини надеется на актуализацию
христианских ценностей для «персоны», ставя перед ней необходимость
выбора в трех направлениях: 1) храбрости в виду нарастающей
14 Камю Л. Записки бунтаря. С. 241.
M. С. Киселева. Концепт выбора в христианской и постхристианской культурах 361
опасности современной глобальной жизни (пережив войну, Гвар-
дини еще не ведал о возможностях современного терроризма);
2) правды, по причине разрушительной силу лжи и зла; 3) аскезы,
противостоящей изобилию, возможному в потребительском
обществе. Приводя евангельские слова «Что пользы человеку, если
он приобретет весь мир, но потеряет душу свою?» (Мф. 16, 26),
он разъясняет классическую христианскую заповедь о спасении
души: «"Приобретение мира" включает все возможные
человечески-культурные ценности: полноту жизненных сил, богатство
личности, искусство и науку во всех их проявлениях. Всему этому
противопоставлена гибель или спасение "души" — личное
решение, ответ человека на призыв Божий, делающий его лицом. Перед
таким выбором исчезает "весь мир"»15.
Констатация того факта, что современный человек не
испытывает потребности к переживанию нравственных ценностей и
осознанию трансцендентных сущностей свидетельствует о том, что
ответственность и свобода, связанные с концептом выбора,
претерпели существенные изменения. Потеряна вертикаль, которая
связывала человека с Богом или определяла необходимость
существования для него высших духовных ценностей и его собственную
человеческую состоятельность.
Если верны те эсхатологические тревоги, которые читаются
в сочинении Гвардини, те нежелания «негуманного» человека в
массовой «не-культуре» (оба термина вводит Гвардини, не
настаивая на них, но находясь в поиске относительно того, как
обозначить будущее общество) к самостоятельным решениям, если
действительно современный концепт выбора насыщается только теми
содержаниями, которые устраивают сильный бизнес и жесткую
власть, то поставленная нами проблема, оказывается в центре
поиска ответа на вопрос о возможностях человеческого бытия.
Завершим статью вопросом: выбор, свободный, разумный,
ценностно-значимый будет ли востребован современным человеком?
15 Гвардини Р. Конец Нового времени. Попытка найти свое место. С. 199.
H. H. Трубникова
О возможностях культурно-исторического
подхода к изучению буддизма на примере
японских буддийских школ
Исследователи философских учений Востока до сих пор
вынуждены исходить из того, что работают с материалом во
многом экзотическим — не только для западного читателя,
но и для китайского и японского, если речь идет о
средневековых буддийских школах. И здесь выявить «культурный
смысл познавательной деятельности»1 оказывается тем важнее, чем
дальше эта деятельность отстоит от научной или философской в
новоевропейском смысле этих слов, чем меньше обсуждаемые культуры
похожи на нашу собственную. Подход, согласно которому «познание
обращено к истине как элементу культурного сознания и без
понимания этой обращенности невозможно»2, позволяет избежать двух
крайностей. С одной стороны, он задает достаточно высокую степень
доверия к изучаемому автору: в той мере, в какой этот автор занимается
выяснением истины, его деятельность можно считать познавательной
(а не идеологической, религиозной и т. п.) и потому интересной не
только с точки зрения политической истории или истории религий,
но и с точки зрения истории мысли. С другой стороны, коль скоро
поиски истины обсуждаются в их собственном культурном контексте,
возможно избежать неоправданных сближений, споров о том,
например, актуальны или нет для XXI века средневековые буддийские
тексты, отвечают ли они на какие-нибудь из насущных вопросов нашего
времени. И если да — то нужно ли непременно быть буддистом,
чтобы понять их ответы. Об актуальности этих сочинений, разумеется,
возможно говорить, но не раньше, чем наши вопросы будут
соотнесены с теми вопросами, которые ставятся и решаются в них самих.
Изучение философского наследия Индии и Китая в Европе с
самого начала было во многом нацелено на открытие некой исти-
1 См.: Пружиним Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической
эпистемологии. М., 2009. С. 30-31.
2 Там же. С. 31.
H. H. Трубникова. О возможностях культурно-исторического подхода... 363
ны, значимой также и для западного мира, и в этом смысле почти
никогда не исходило из чисто исторических задач. Когда в эту
работу включились индийские, китайские, японские мыслители, для
них важно было показать, что «отсталая Азия» не вовсе
несостоятельна перед лицом «просвещенной Европы». И оказалось, что
носители традиционных буддийских знаний могут внести свой вклад
в научное изучение буддизма — не только как информаторы, но
и как коллеги-исследователи. Так, японец Нандзё Бунъю (1849—
1927), прошедший обучение сначала в Японии по правилам
буддийской школы Дзёдо-Син3, а затем в Европе у Макса Мюллера,
стал одним из основателей современной буддологии4. А на рубеже
XIX—XX веков российский исследователь О. О. Розенберг (1888—
1919), обосновывая возможность «изучения буддизма по японским
и китайским источникам», доказал, что в живой традиции
буддийских школ передаются вполне основательные знания о буддизме,
его теории и истории, а также — что на Дальнем Востоке
первоначальное индийское учение развивалось, а не только искажалось5.
Изучение буддизма с точки зрения истории культуры в Японии
продолжалось на протяжении всего XX века. При этом речь велась
или об особой буддийской культуре Японии (отличной от других
стран, сохраняющей то наследие Будды, которое в Индии и Китае
было утрачено), или же о «буддийском мире» как регионе,
объединенном не только общей верой, но и общей культурой: схожими
представлениями об устройстве мироздания, о ходе времени и
закономерностях смены эпох и др.6 В обоих случаях японские исследователи по
крайней мере отчасти продолжали традиции, представленные в
японской буддийской мысли еще с XII—XIII веков: рассуждения о Японии
как одной из стран на окраине большого буддийского мира или как о
последнем оплоте Закона Будды в век его повсеместного упадка7.
3 В этой статье я не даю подробных справок об упоминаемых буддийских
школах и мыслителях. См.: Философия буддизма: энциклопедия / Отв. ред.
М. Т. Степанянц. М., 2011.
4 См.: A Short history of the twelve Japanese Buddhist sects translated from the original
Japanese by Bunyiu Nanjio [1886]. Washington, 1979.
5 См.: Розенберг О. О. Труды по буддизму. М., 1991; Розенберг О. О. Об изучении
японского буддизма. О понимании восточной души / Буддизм. Проблемы
истории, культуры, современности. М., 1990.
6 См.: Васио Дзюнкэй. Нихон буккё: бунка-си-кэнкю. (Исследование истории
буддийской культуры Японии). Токио, 1938; Огава Канъити. Буккё бункаси кэнкю
(История буддийской культуры). Киото, 1973.
7 См.: Мещеряков Л. Н. Размер имеет значение: эволюция понятия «островная
страна» в японской культуре // Вопросы философии. 2012. № 8. С. 72—84;
Трубникова Н. Н. Рассуждения о Японии как «стране богов» в XIII в. // Там же.
С. 85-94.
364 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Одним из важных вопросов для исследователя буддийской
мысли оказывается вопрос о многообразии школ буддизма. (Их также
называют «сектами», хотя какого-либо ортодоксального
буддийского учения отдельно от них не существует.) Под школами
буддизма в этой статье будут пониматься в основном направления
буддийской мысли, но также и сообщества учителей и учеников,
принадлежавших к этим направлениям. Единообразной
организации школы не имели, но, как правило, каждая из них была связана
с одним или несколькими храмами, кроме учеников-монахов
имела также мирских прихожан, распоряжалась земельными угодьями,
мастерскими и прочей собственностью.
Как писал Розенберг, «из всех основателей религий никто
настолько, как Будда, кажется, не принимал во внимание того факта,
что люди различны, что не ко всем приложила одна и та же мерка,
что, говоря об одной и той же высшей истине, необходимо понять
способ обсуждения в зависимости от характера слушателя»8. В этом
смысле особенно интересны рассуждения самих буддийских
мыслителей о соотношении разных версий учения Будды. Речь при
этом идет о том, как одно и то же знание, одно и то же учение об
освобождении из мира страданий может быть по-разному
изложено для разных людей. Здесь перед нами не только опыты изложения
истории буддизма, но и опыты осмысления внутреннего
устройства учения. Это также опыты проведения границ: когда еще
можно считать, что люди следуют по Пути Будды, а когда приходится
признать, что они уклонились на ложные пути. В странах Дальнего
Востока подобные сочинения часто включают в себя еще и
сопоставление буддизма с конфуцианством и даосизмом, чьи
наставники говорили о том же, о чем и Будда, но совсем другими словами.
Что касается японского буддизма, то и в японской, и в мировой
науке в XX веке произошел примечательный сдвиг в оценке
многообразия его школ. Поначалу, пока исследователи доказывали
целесообразность изучения дальневосточного буддизма, они
подчеркивали, что «Закон Будды» — это не набор застывших догм, смысл
которых к тому же постепенно забывался, а учение, не чуждое
некого прогресса. Неудивительно, что «лучшими» школами в Японии
оказывались наиболее поздние — возникшие в эпоху Камакура,
в конце XII — начале XIV века. К ним относятся школы традиции
«созерцания», дзэн (нашедшие себе в XX веке немало
приверженцев в Европе и Америке), а также школа Нитирэн,
сосредоточенная на почитании «Лотосовой сутры», и амидаистские школы Дзё-
Розенберг О. О. Об изучении японского буддизма. Указ. изд. С. 107.
H. H. Трубникова. О возможностях культурно-исторического подхода... 365
до и Дзёдо-Син, нацеленные на исключительное почитание будды
Амиды (Амитабхи) и на посмертное возрождение в Чистой земле.
К началу модернизации Японии по западным образцам в середине
XIX века большинство японских буддистов принадлежало именно к
камакурским школам, и в последующие десятилетия представители
этих школ, такие как Судзуки Дайсэцу (1870—1966), много
работали над тем, чтобы познакомить Запад с японским буддизмом.
Камакурские школы выглядели «прогрессивными» исходя из
общих соображений: у них буддизм был «не религией церемоний и
таинств, но религией простого благочестия или духовного
упражнения. Догма уступила место индивидуальному опыту, а ритуал и
священничество — благочестию и интуиции»9. Их наставники не
замыкались в рамках храмов, а проповедовали мирянам, старались
писать простым языком, предлагали простые пути спасения,
доступные всем. В 1900—1920-х годах японские историки писали о
«буддийской Реформации», которую осуществили в XIII веке
основатели камакурских школ10. Доказать, что в японских религиях
была «своя» Реформация, значило показать, что Япония никогда
не была столь уж отсталой по сравнению с передовым Западом.
Позже об аналогах «протестантской этики» в японском
буддизме Нового времени писал один из крупнейших западных
религиоведов Р. Белла11. И в целом в работах по японскому буддизму
закрепилась та точка зрения, что в эпоху Камакура, во
времена становления первого в японский истории сёгуната (военного
правления), новые передовые школы одержали закономерную
победу над старыми — косными, погрязшими в отвлеченной
книжной учености, близко сращенными с государственной властью,
больше занятыми приумножением храмовых доходов, чем
заботами о спасении12.
9 Anesaki Masaharu. History of Japanese Religion. With special Reference to the social
and moral Life of the Nation (1907). London, 1930. P. 168. См.: Китагава Дж. Религия
в истории Японии / Пер. с англ. Н. М. Селиверстова, под ред. С. В. Пахомова.
СПб., 2005. С. 153.
10 Первой из таких работ стала статья: Хара Кацуро. Тодзай-но скжё кайкаку
(Реформация в религиях Востока и Запада) / Нихон тюсэйси-но кэнкю
(Исследования по средневековой истории Японии). Токио, 1929. С. 304—321.
11 Bellah R. N. Tokugawa Religion. The Values of Pre-Industrial Japan. Glencoe, 1957.
12 A. H. Игнатович и A. M. Кабанов, авторы камакурского раздела в отечественном
издании «Буддизм в Японии», в основном следовали этой же точке зрения, но
делали важную оговорку: «Реформаторские школы, пропагандировавшие более
легкие и действенные практические методы, ведущие к освобождению, явились
закономерным результатом обобщения и осмысления многовекового религиозного
опыта». См.: Буддизм в Японии / Под ред. Т. П. Григорьевой. М., 1993. С. 194.
366 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Во второй половине XX века картина «камакурские
реформаторы против ретроградов» была поставлена под сомнение13. Историк
и религиовед Курода Тосио (1926—1993) в нескольких работах
показывал, что «старые» буддийские школы так называемые «шесть
школ города Нара»14, а также школы Сингон и Тэндай составляли в
средневековом японском государстве одну из ветвей власти, наряду
с «чиновными» и «воинскими» владетельными домами. Они не
могли не участвовать в политике и в междоусобных войнах, не
заботиться о своих обширных поместьях и многочисленных подчиненных им
людях: монахах, учениках и служках, воинах и крестьянах. В полной
мере это относится к школам Сингон и Тэндай; школы города Нара,
взятые в целом, были представлены двумя большими храмами
этого города15, имевшими свои сети дочерних храмов по стране. Что до
«новых» школ, то переворот в японском буддизме, произведенный
ими, выглядит впечатляюще лишь при ретроспективном взгляде.
Если же рассматривать собственно камакурские источники, то
видно, что в XII—XIV веках новые буддийские движения школ как
таковых еще не образовали. Эти кружки почитателей того или иного,
пусть и знаменитого, наставника не имели сколько-то широкого
влияния, хотя в наши дни их основателей — Догэна, Синрана, Ни-
тирэна — относят к числу великих мыслителей Дальнего Востока.
А по-настоящему широко в Японии эпохи Камакура были известны
буддийские «таинства» — обряды, нацеленные на получение земных
благ, и связанные с ними прикладные учения о правилах обряда, его
целях и пр., представленные во всех старых школах. Также были
популярны амидаизм в его умеренном изводе, не требующий чтить
одного лишь будду Амиду, и совместное почитание будд и богов коми.
С другой стороны, «старые» школы в эпоху Камакура сами
обновлялись: не отрицая ни прежних учений, ни общинного уклада, они
старались сохранить или возродить японскую буддийскую общину в
пору междоусобиц XII века и затем в годы первого сёгуната.
Вокруг концепции Курода Тосио много спорили и японские, и
западные ученые. Соглашаясь, что его подход лучше согласуется
с источниками, критики возражали, в частности, что он мало что
дает в области истории мысли, поскольку касается лишь способов
бытования буддизма, хозяйственной и политической деятельности
школ, а не содержательной стороны их учений. В то же время, во
13 См. подробнее: Трубникова H. H. Вопрос о «старом и новом буддизме эпохи
Камакура» в религиоведческих исследованиях // Философия религии: альманах.
2010-2011 / Под ред. В. К. Шохина. М., 2011. С. 515-534.
14 Школы Куся, Хоссо, Дзёдзицу, Санрон, Рицу и Кэгон, см. ниже.
15 Тодайдзи и Кофукудзи.
H. H. Трубникова. О возможностях культурно-исторического подхода... 367
многом именно под влиянием концепции Курода Тосио внимание
исследователей стали привлекать сочинения камакурских
«ретроградов», в первую очередь те, где представители старых школ сами
ищут путей к обновлению своих традиций16. И оказалось, что в этих
текстах вполне есть место не одной лишь охранительной
религиозной идеологии, но и поискам истины, в том числе тогда, когда
наставники старых школ выступают против новых движений.
Культурно-историческая установка при изучении японского
буддизма прослеживается в работах Тамура Ёсиро (1921—1989)17.
Рассматривая сочинения камакурских мыслителей разных школ, он
отмечает их общую черту: привязку к насущному положению дел и
попытки осмыслить наступившую эпоху в буддийских понятиях.
Рассуждения о неизбежном упадке буддийского учения, о
наступившем «конце Закона» можно найти и у более ранних японских
наставников, и у более поздних, однако в эпоху Камакура эти
рассуждения оказываются в центре внимания, задают угол
рассмотрения всех остальных вопросов. При этом одни мыслители исходят из
того, что в «последнем веке, злом веке» людям нужны самые
простые наставления, ибо более сложных они понять уже не
способны (таковы амидаисты). Другие считают необходимым обратиться
к учению, каким оно было во времена Будды Шакьямуни (таковы
сторонники «возрождения уставов и заповедей» в «старых» школах,
например, Мёэ18). Третьи настаивают, что истинное подвижничество
выводит человека в некое вневременное «теперь» (таковы Догэн и
его единомышленники в традиции дзэн). Четвертые указывают, что
16 В 1970-х годах в серии «Памятники японской философской мысли» (Нихон
сисо: тайкэй) вышли не только тома, посвященные основателям «новых
камакурских школ», но также собрания текстов «старых» школ. См.: тома 9 и 15:
Тэндай хонгакурон (Рассуждения школы Тэндай об исконной просветленности).
Токио, 1973; Камакура кю буккё (Старый буддизм в эпоху Камакура). Токио, 1971.
В западном религиоведении программной стала статья: Foard J. H. In Search of a
Lost Reformation: A Reconsideration of Kamakura Buddhism // Japanese Journal of
Religious Studies. 1980. № 7/4. P. 261—291. Статьи разных авторов по японскому
буддизму в эпоху Камакура вошли в сборники: Re-Visioning Kamakura Buddhism /
Ed. R. К. Payne. Honolulu, 1998; Discourse and Ideology in Medieval Japanese
Buddhism / Ed. R. K. Payne and T. D. Leighton. L.; N. Y, 2006. Подборку русских
переводов см. в изд.: Трубникова Н. Н., Бабкова М. В. Обновление традиций в
японской религиозно-философской мысли XII—XIV вв. (в печати) и на сайте:
<http://trubnikovann.narod.ru/Kamakura.htm>
17 См.: Тамура Ёсиро. Нихон буккёси-нюмон (Введение в изучение истории
японского буддизма). Токио, 1969; Tamura Yoshirö. Japanese Buddhism. A Cultural
History / Trans, by J. Hunter. Tokyo, 2005.
18 См.: Трубникова H. H. Монах Мёэ: остаться человеком в пору бедствий
(с приложением перевода «Последнего наказа досточтимого Мёэ из Тоганоо») //
Человек. М., 2011. № 2. С. 91-115.
368 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
в периоды упадка все равно возможны отдельные фазы подъема
(таков Дзиэн, автор исторического трактата «Записки глупца»19). Пятые
учат: несмотря ни на что, «век Будды» в нашем мире все еще длится
(таковы почитатели «Лотосовой сутры» в школе Тэндай). И
«новаторы», и приверженцы старых школ рассуждают о том, как жить в
здешнем земном мире, — и когда считают его безнадежно
испорченным, и когда пытаются изменить его к лучшему. Если для более
ранних японских буддийских сочинений их привязку к их собственной
исторической ситуации возможно только реконструировать, то в
камакурских текстах «последний век» представлен не только
общими рассуждениями, но и примерами из жизни японской буддийской
общины. И такому материалу культурно-исторический способ
изучения оказывается соразмерен больше, чем какой-либо другой.
Радикальную переоценку всего японского буддизма в конце
1980-х годов предприняли двое буддийских ученых из школы Сото-
Дзэн, основанной Догэном, — Хакамая Нориаки и Мацумото Сиро.
Их подход так называемый «критический буддизм» вызвал жаркие
споры в мировом буддологическом сообществе20. Он представляет
резкую противоположность подходу культурно-историческому.
«Критический буддизм» исходит из того, что существует некий буддизм как
таковой, не зависящий от условий времени и места, предполагающий
критическое отношение к любому познавательному опыту, в том
числе и к самому учению о просветлении. И соответственно, существуют
псевдо-буддисты: все, кто не соответствует этому критерию.
Мацумото Сиро доказывал, что в большинстве своем буддийские
школы Дальнего Востока явно или неявно признают «истинную
сущность», «природу будды» в непросветленном живом существе21,
«исконную просветленность», «зародыш будды» в человеке — и что
это учение по сути не является буддийским, поскольку оно
несовместимо с основополагающими установками буддизма: на всеобщую
обусловленность и на «пустоту», относительность каких бы то ни
было сущностей, основ, принципов. Но когда деятельность
буддистов нацелена, как в Японии, на «пользу и выгоду в здешнем мире»,
и прежде всего на «защиту страны» (что было обязанностью
монахов в государственных храмах), то при обосновании обряда
приходится объяснять: что позволяет человеку в его нынешнем теле
милосердно заботиться о других, в том числе призывая на помощь будд
19 См.: Федянина В. А. Концепция «гневных духов» в исторической теории монаха
Дзиэн // Вопросы философии. 2011. № 7. С. 118—126.
20 См.: Pruning the Bodhi Tree: The Storm over Critical Buddhism / Ed. J. Hubbard and
P. L. Swanson. Honolulu, 1997.
21 Здесь — не только Будды, основателя учения, но и будды как общего понятия.
H. H. Трубникова. О возможностях культурно-исторического подхода... 369
и бодхисаттв? И почему такая забота — дело не заведомо
безнадежное? Ответы на эти вопросы как раз и приводят к рассуждениям об
«истинной основе» человека, которая уже просветлена, свободна и
способна проявляться в обусловленном мире явлений. Хакамая Но-
риаки указывал, что в Японии из совмещения буддийского учения
и добуддийского японского миропонимания возникают теории, где
«сущность» на словах отрицается, а на деле протаскивается снова.
Настоящим буддистом в Японии оказался только Догэн, а в Китае —
Тянь-тай Чжи-и (VI век). При этом сторонники «критического
буддизма» обсуждали не только вопросы теории, но и вопросы
бытования буддизма. С их точки зрения, считать, что все существа исконно
просветлены, не значит обосновывать равенство всех людей, а
напротив, значит оправдывать неравенство, освящая наличную
ситуацию в обществе авторитетом буддийского учения. На эти доводы
отвечали многие исследователи буддизма, и дискуссии вокруг
«критического буддизма» отчасти продолжаются до сих пор.
Ниже в этой статье мне хотелось бы обсудить один из примеров
того, какие преимущества дает культурно-исторический подход при
работе с буддийскими источниками. Речь пойдет о том, почему
Закон Будды существует в виде столь разных учений, с точки зрения
средневекового японского автора, монаха Гёнэна (1240—1321).
Гёнэн принадлежал к одной из провинциальных ветвей
могущественного рода Фудзивара. Монашеское обучение он проходил
в городе Нара в «Молельне при помосте для посвящений» (Кайдан-
ин) при храме Тодайдзи. В жизни буддийской общины эта молельня
играла важную роль: она отвечала за посвящения монахов для
государственных храмов всех школ кроме Тэндай. Позже много десятков
лет Гёнэн сам возглавлял Кайдан-ин. Обычно этого наставника
относят к школе Кэгон, но он освоил также «таинства» школ Сингон
и Тэндай, учения Хоссо, Санрон и других школ города Нара, хорошо
знал мирскую китайскую словесность, а также буддийские учения о
Чистой земле и о «созерцании», дзэн. Гёнэна можно считать одним
из монахов-ученых старинного образца, тех самых книжников, над
кем часто смеялись и камакурские новаторы, и приверженцы
«старых» школ, выступавшие за обновление. При этом сам Гёнэн если
не реформировал школы города Нара, то во всяком случае заново
изложил и систематизировал принятые в них теоретические и
практические наставления. Ему принадлежит огромный корпус трудов,
общим объемом больше 1200 свитков, в том числе изложения учений
всех шести школ Нара; сочинения по общинному уставу, по
«тайному учению», по амидаизму, по обрядовой музыке и др. Несколько
работ Гёнэна посвящены истории буддизма: среди них «Основы учений
370 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
восьми школ», «Хассю коё» (1268)22 и «Предания о передаче Закона
Будды в трех странах», «Сангоку буппо дэниу эти» (1311).
«Основы учений восьми школ» примечательны тем, что это —
сочинение сравнительно молодого монаха, лишь недавно
завершившего учебу. Оно рассказывает о передаче учения Будды из
Индии в Китай, а затем в Японию. Я разберу вводный раздел «Основ»,
содержащий краткий обзор всей книги.
На первый взгляд здесь перед нами один из многих взглядов
буддийских авторов на историю буддизма, в чем-то верный с точки
зрения научной буддологии, в чем-то полностью фантастический.
В очень большой мере этот взгляд зависит от принятого на Дальнем
Востоке учения о сменяющих друг друга временах «Правильного
Закона», «Подобия Закона» (каждое по тысяче лет) и «Конца Закона»
(десять тысяч лет). Жизнь Будды Шакьямуни это учение относит к очень
далекой древности, уход Будды в нирвану оно датирует 949 г. до н. э.,
так что наступление «Конца Закона» приходится на 1052 год. Но если в
других широко известных в камакурской Японии текстах история
буддизма показана как история утрат, постепенного нарастания людских
пороков и забвения заповедей Будды23, то у Генэна это, скорее,
история борьбы, попыток противостоять неизбежному ухудшению
людских способностей — созданием все новых изводов учения.
Книга Генэна построена в виде вопросов и ответов. Собеседники
не поименованы и о них ничего не сказано, но судя по формулировкам
вопросов, спрашивает наставник, а отвечает ученик, как на
буддийских школьных испытаниях. Итак, первый вопрос: сколько всего
учений оставил Будда? Ответ: их восемьдесят четыре тысячи24. А почему их
столько? Их число соответствует многообразию заблуждений у живых
существ в мире рождений и смертей. Входят ли сюда только учения ма-
хаяны, «Великой колесницы», или также и «Малой колесницы»,
хинаяны? Ответ: и махаяна, и хинаяна имеют по 84 000 учений. Таким
образом, махаяна не продолжает, не усовершенствует и не отменяет более
ранние хинаянские учения. В этом Гёнэн расходится, прежде всего, с
наставниками школы Тэндай, у которых соотношение между хинаяной
и махаяной мыслится как развернутое во времени: от простого к
сложному, от несовершенного учения к совершенному. У Генэна же махаяна
22 См.: Нума Хоре. Гёнэн. Хассю коё коги (Лекции по «Основам учений восьми
школ»). Токио, 1937; Prüden L. M. The Hasshu koyo by the scholar-monk Gyonen //
Pacific World. 1991. Vol. 7. P. 53-67; 1992. \fol. 8. P. 61-83; 1993. \bl. 9. P. 106-136.
23 См.: Трубникова H. H. Буддийская община в пору «Конца Закона»: взгляд из
Японии рубежа XII—XIII вв. // Восток-Oriens. М., 2011. № 2. С. 125—140.
24 Эту цифру называют и другие дальневосточные авторы. Восходит она к «Сутре
о царице Шримале» (яп. «Сё:мангё:»).
H. H. Трубникова. О возможностях культурно-исторического подхода... 371
и хинаяна сосуществуют, по-разному решая одни и те же задачи. Такая
точка зрения выглядит неожиданной, если учесть, что японский
буддизм часто определяют как полностью махаянский25. Однако точка
зрения Генэна объяснима исходя из традиции полемики между школами в
Японии. Начиная с IX века японские наставники школы Тэндай в
спорах с монахами из города Нара часто обвиняли противников в том, что
те склоняются к хинаяне и тем самым отступают от пути милосердия, а
значит, не годятся для служения стране. В самом деле, по крайней мере
три из школ города Нара — Риду, Куся и Дзёдзицу — преподавали
своим ученикам ранние буддийские теории: учения об устройстве общины
и о монашеских заповедях, об опыте как потоке «дхарм» и о
«достижении истины». Однако все эти дисциплины изучались уже в махаянском
изложении, и нередко наставники школ Нара ссылались именно на
это, когда доказывали, что причислять их к хинаянистам
несправедливо. Гёнэн принадлежит к иной традиции и идет по иному пути,
рассматривая хинаяну и махаяну как равноправные «колесницы».
На чем основано деление на две «колесницы»? Генэн называет
хинаянские учения «учениями слушателей голоса Будды», а маха-
янские — «учениями бодхисаттв». Гёнэн понимает это различие так:
для «слушателей голоса» важнее понять учение Будды и донести его
до своих учеников пускай в трудном, но точном изложении, а бодхи-
саттвы милосердно заботятся о непросветленных существах и
проповедуют так, чтобы их было легче понять. Те и другие наставления
делятся на «три корзины»: хранилища общинных уставов (виная),
проповедей будды (сутра) и толкований (абхидхарма). Здесь Гёнэн
не соглашается с теми многочисленными японскими учителями,
кто относил все уставы к хинаяне и на этом основании принижал их,
считая исполнение заповедей ненужным, коль скоро оно нацелено
будто бы не на заботу о других, а только на самосовершенствование
подвижника. О таких учителях пишет, например, Мудзю Итиэн в
«Собрании песка и камней» («Сясэкисю:», конец XIII века)26.
25 Соответственно, о раннем буддизме японские наставники говорят как о «малой
колеснице», хотя такое обозначение и звучит пренебрежительно, и в наши дни
буддологи предпочитают «хинаяне» понятие «тхеравада» — «учение старейших».
26 «Эти ученые, изучая наставления по созерцанию, принижают устав как
принадлежащий к Малой колеснице, говорят, что учителя устава глупы и безумны,
разумением подобны зверям и птицам. А сами учителя устава, не различая
причин и плодов подвижничества у ученых Великой колесницы, говорят, что те
не соблюдают уставов и мыслят подобно людям, стоящим вне Пути. И так они
хулят и принижают друг друга, что ведет к уничтожению Закона Будды». См.:
Трубникова H. H. Наследие индийской и китайской мысли в «Собрании песка и
камней». Мудзю Итиэн. Досточтимые молчальники («Собрание песка и камней»,
свиток ГУ, рассказ 1) // Вопросы философии. 2013. № 12. С. 89—110.
372 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Почему «корзин» именно три и что значит, что они охватывают
собою весь закон Будды? Они соотносятся с тремя основными
частями буддийского пути: должным поведением, сосредоточением и
мудростью. При Будде, — продолжает Генэн, — никто не записывал
его речей; ученики Просветленного действовали сообразно тому, что
слышали своими ушами. После ухода Будды его наставления стали
записывать, и так, в виде книг, Закон Дхарма стал распространяться все
шире. И уже затем Кашьяпа и его товарищи собрали «три корзины»
хинаянского буддийского канона, а Аджита и другие — «три корзины»
махаяны. Таким образом, записи текстов появились раньше, чем
началась работа по составлению канона. Здесь Генэн следует сравнительно
редкой версии предания: чаще дальневосточные авторы рассказывают,
что ученики Будды собрались на собор, и те, кто лучше помнил
наставления, пересказали их изустно, а другие впервые их записали.
Есть ли свои «три корзины» у хинаянистов и махаянистов? Да, и
отсюда следует сразу два вывода. Во-первых, исключать из канона
какие-то тексты (как недостаточно махаянские или слишком ма-
хаянские) невозможно; во-вторых, каждый из учителей поступает
правильно, когда не пытается согласовать свою проповедь со всем
каноном, а опирается лишь на его часть.
Как передавались книги, в которых изложено учение Будды?
В первые 100 лет Закон «переливался из сосуда в сосуд» без
изменений. Приверженцы школ Тэндай, Сингон и традиции дзэн
считали подобную передачу возможной всегда — лишь были бы учитель
и подходящий ученик. Но Гёнэн указывает: уже в первое столетие
после ухода Будды со смертью каждого из учителей какая-то часть
Закона терялась, хотя и оставалось еще много. Движение от
первоначального «Правильного Закона» к постепенному упадку и далее
к «Концу Закона» было непрерывным, и границы между эпохами
можно провести лишь условно.
Четыреста лет в Индии процветали учения «слушателей голоса»,
создавались разнообразные толкования Закона, приверженцы
разных его изводов соперничали между собой, снова и снова уточняя,
как же учил Будда и почему. «Учения бодхисаттв» пришли в упадок
и были сокрыты во дворце мудрых змеев-нагов. О спрятанных до
поры буддийских книгах рассказывают и наставники «таинств», и
приверженцы других школ; прятать книги следовало потому, что
переписывание и толкование их искажают. Разрывы в цепочках
преемственности буддийских традиций принято было объяснять
тем, что через много лет после уход Будды такой-то наставник
нашел и смог понять сокрытые книги, тем самым унаследовав учение
от самого Будды или от кого-то из его ближайших учеников.
H. H. Трубникова. О возможностях культурно-исторического подхода... 373
Через 500 лет после ухода Будды в нирвану в Индии
распространились лжеучения, в том числе ложное толкование Закона, согласно
которому существует неизменное «я», Атман. Приверженцы
хинаяны стали делиться на школы. Генэн называет здесь имена таких
наставников, как Махадева и Ватсипутра. Но еще через столетие
явился Ашвагхоша и стал проповедовать учение махаяны; он составил
«Трактат о пробуждении веры», где опроверг небуддийские и хинаян-
ские школы. Через 700 лет после ухода Будды Нагарджуна дал
окончательное опровержение всех существовавших в то время индийских
небуддийских учений и заново изложил махаянский Закон в целом.
Он «носил в себе всю Сутру цветочного убранства» — огромный свод
знаний, основополагающих для школы Кэгон, — и превзошел даже
Ашвагхошу. Оба наставника, и Ашвагхоша, и Нагарджуна, были
буддами древних времен, оставившими свои «следы» в нашем мире;
глубиной мысли и ясностью речей они превосходили обычных людей.
Однако по закону воздаяния люди продолжали укрепляться во
все более ложных взглядах. Через 900 лет после ухода Будды бодхи-
саттва Асанга получил наставления от будущего будды Майтрейи и
попытался передать их людям, но не был понят и попросил Май-
трейю самого спуститься с неба и проповедовать на земле. Тогда
были даны наставления «Трактата о йоге», содержащие все учение
Будды (на этот трактат опирается школа Хоссо). В те же годы Ва-
субандху сначала разрабатывал учение хинаяны и дал к нему
пятьсот новых толкований (они вошли в «Абхидхармакошу», трактат,
изучаемый в школе Куся), а затем — учение махаяны, также в виде
пятисот толкований. И тогда же Хариварман составил «Трактат о
достижении истины» (главный для школы Дзёдзицу), а Сангхабха-
дра — «Трактат об основах соответствия истине»27; оба этих
сочинения заново уточняли важнейшие положения хинаяны.
Спустя 1000 лет после ухода Будды махаяна все еще была едина
в себе. Но через 1100 лет после ухода между Дхармапалой и Бхава-
вивекой возник «спор о пустом и существующем»: о чем сторонник
буддийского учения может высказываться в положительном
смысле, а о чем возможно говорить лишь как о «пустом». С этого
времени внутри махаяны тоже выделяются школы. Являлись и новые
бодхисаттвы, все они основали собственные традиции толкований.
В Китае буддизм появился в конце первого тысячелетия после
ухода Будды. Кашьяпа-матанга и его спутник Чжу Фалань первыми
стали проповедовать закон китайцам. На китайский язык были пе-
27 Яп. «Абидацума дзюнсё:-ри-рон», содержит возражения к «Абхидхармакоше»
Васубандху.
374 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
реведены тексты и хинаянского, и махаянского канонов, китайские
подвижники ходили за ними в Индию. Величайшими из
переводчиков, по Гёнэну, были Кумараджива и Сюань-цзан (их восхваляло
индийское божество Веда, покровительствующее ученым), Буд-
дхабхадра и Дхармакшема (их защищали змеи, хранители знания).
Дальше Гёнэн переходит на ритмизованную прозу в стиле
китайских буддийских поэтов. Он перечисляет основателей китайских
буддийских школ и называет их основные тезисы. Цзи-цзан и Хуэй-
юань основали школу Саньлунь (яп. Санрон), они учили о восьми
отрицаниях и раскрытии истины; Хуэй-сы и Чжи-и основали школу
Тяньтай (яп. Тэндай), они учили о триединстве истины в сознающем
сердце; Цзы-энь и Хуэй-чжао рассуждали о «трех травах и двух
деревьях» (школа Фасян, яп. Хоссо); Фа-цзан и Чжэн-гуань учили о
десяти совершенствах и шести признаках бодхисаттвы (школа Хуаянь,
она же Кэгон); Пу-гуан и Фа-бао изучали абхидхарму (школа Цзюй-
шэ, она же Куся), а Фа-ли и Дао-сюань — винаю (школа Люй, она
же Рицу), Хуэй-инь разрабатывал учение «Трактата о достижении
истины» (школа Чэнши, она же Дзёдзицу), И Син и Хуэй-го
занимались «таинствами» (школа Чжэньянь, она же Сингон). Все эти и
другие наставники удостоились похвалы от богов и даров от будд28.
В Японии учение Будды, по Гёнэну, стало известно в пору
правления государя Киммэя (в середине VI века, так сказано и в «Анналах
Японии», «Нихон секи», VIII век), когда корейский правитель Сон-
мён прислал в дар Киммэю изваяние будды, обрядовую утварь и
книги. Тогда же был построен первый в Японии буддийский храм, хотя
ни чиновники, ни народ пока еще не чтили Трех Сокровищ.
Распространением Закона Будды по-настоящему занялся царевич Сётоку
(VI—VII века): он строил храмы, «луком сосредоточения и стрелами
мудрости» он победил мятежного сановника Мононобэ-но Морию,
противника буддизма. В то время в Японии прославились наставни-
28 В «Преданиях о передаче Закона Будды в трех странах» Генэн называет
тринадцать китайских школ: ]) Питань (школа «Абхидхармакоши»); 2) Чэнши
(школа «Трактата о достижении истины»); 3) Чжилюй (школа уставов);
4) Саньлунь (школа трех трактатов, опирается на сочинения Нагарджуны и
Арьядевы); 5) Нэпань (школа «Сутры о нирване»); 6) Дилунь (школа «Трактата
о десяти ступенях» Васубандху, яп. «Дзюдзи-рон»); 7) Цзинту (школа Чистой
земли); 8) Чань (школа созерцания); 9) Шэлунь (школа «Трактата-выборки
Великой колесницы» Асанги, яп. «Сёдайдзё-рон»); 10) Тяньтай (школа горы
Тяньтай, опирается на «Лотосовую сутру»); 11) Хуаянь (школа «Сутры цветочного
убранства»); 12) Фасян (опирается на сочинения Асанги и Васубандху);
13) Чжэньянь («тайная» школа). В итоге получается столько же буддийских школ,
сколько насчитывалось основополагающих текстов конфуцианского канона
(«Тринадцатикнижия»).
H. H. Трубникова. О возможностях культурно-исторического подхода... 375
ки родом из Кореи. Заслуги Сётоку, его «уловки» Генэн называет
непревзойденными, хотя и не говорит, что царевич был бодхисаттвой.
(Другие камакурские авторы, в том числе Синран и Мудзю Итиэн,
называют царевича воплощением бодхисаттвы Кандзэон — Авало-
китешвары.) Будды в Японии оставили свои «следы» так же, как и
в других странах: это были основатели школ, уроженцы материка и
японцы. Кореец Пикван основал в Японии школу Санрон, японец
Гэмбо — школу Хоссо, китаец Дао-сюань — школу Кэгон, китаец
Цзянь-чжэнь — школы Рицу и Тэндай, японец Сайте также
считается основателем школы Тэндай, а Кукай, тоже японец — школы Син-
гон. Традиции школ Куся и Дзёдзицу (изучающих, соответственно,
«Абхидхармакошу» Васубандху и «Трактат о достижении истины»)
также были переданы в Японию. Генэн снова перечисляет китайские
школы в виде стихотворения в прозе, где каждая из традиций названа
по какому-либо поэтическому образу, соотносимому с нею: Тэндай —
«яшмовый поток», Кэгон — «луна над озером Несогреваемым» и т. д.
По большей части эти образы восходят к названиям китайских
храмов, где жили и учили основатели китайских школ.
Итак, в Японии появились школы махаяны и хинаяны,
учителя, рассуждающие о познании «внутренней природы» (Санрон) и
«внешних свойств» (Хоссо), приверженцы путей «учения» и
«созерцания», знатоки «явного» и «тайного» учений. В семи храмах
города Нара и в храмах Столицы (города Киото) процветает
монашеская ученость. Наставники, подобные змеям-нагам и мудрым
слонам, учат и людей, и богов. Закон Будды дошел даже до
отдаленных деревень и не прерывается поныне, — пишет Гёнэн. Океан
учения все так же глубок, хотя в последнем веке вкус Закона стал
чувствоваться слабее. Но всю глубину Закона постичь не может
никто, даже если бы и хотел.
Итак, сколько же учений было передано в Японию? И какие
из них принадлежат к махаяне, а какие к хинаяне? Гёнэн еще раз
перечисляет восемь японских буддийских школ. Это Куся,
Дзёдзицу, Рицу (три хинаянские школы), Хоссо, Санрон, Тэндай, Кэгон,
Сингон (пять махаянских школ). В дальнейшем он подробно
говорит об учении каждой из них: пересказывает предания об их
основателях, говорит об их основополагающих книгах и о переводах
этих книг на китайский язык, перечисляет и поясняет основные
положения их учений. Разделы неодинаковы по объему: о школах
Куся, Дзёдзицу, Санрон и Сингон сказано сравнительно немного,
о школах Рицу, Хоссо, Кэгон и Тэндай — гораздо подробнее. Тому
возможно несколько объяснений: исходя из сравнительной
влиятельности школ в середине эпохи Камакура, из степени знакомства
376 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
с ними самого Гёнэна и др. На мой взгляд, соотношение между
разделами книги примерно отражает то, насколько деятельно
монахи этих школ в XIII веке участвовали в диспутах между собой: не
только в формализованных «прениях школ» при дворе или в
больших храмах, но и в неформальных дискуссиях вокруг задач
обновления общины.
Примечательно, что в конце своей книги Гёнэн обсуждает еще две
традиции, не ставшие школами, но обретшие немало приверженцев:
это дзэн и амидаизм. Говорит он о них совсем коротко, но вполне
одобрительно. На их принадлежности к махаяне или хинаяне Гёнэн
внимания не заостряет, но пишет, что дзэн передает самые тонкие
наставления будды, уже не выразимые словами, но осуществимые
только в действии, в подвижничестве. У почитателей же Амиды,
наоборот, учение Будды принимает самый простой вид, какой только
возможен, при том что эта традиция и опирается на «Трактат о
пробуждении веры» Ашвагхоши. Таким образом, два новых радикальных
буддийских движения представляют две крайности тех подходов,
которые давно известны по опыту «слушателей голоса» и бодхисаттв.
Книга Гёнэна «Основы учений восьми школ» показывает, что
деление буддизма на махаяну и хинаяну в Японии XIII века
относится не к затверженным общим местам — а скорее, к проблемам
буддийского учения, насущно значимым для многих школ в их
самоопределении. Гёнэн описывает это деление с его содержательной
стороны и затем показывает, как по-разному может выдерживаться
равновесие между двумя задачами учителя: передать учение (как
можно точнее) и обучить ученика (изложить учение как можно
понятнее). Итог книги о восьми школах сводится к тому, что
сосуществование разных школ не просто закономерно (как закономерны,
по закону воздаяния, людские страсти и заблуждения), но и
правильно, ибо помогает передаче Закона Будды. Путь к обоснованию
этой мысли, общей у многих японских средневековых
мыслителей, у Гёнэна проходит через рассмотрение истории школ, тех
развилок, на которых знаменитые наставники прошлого расходились
врозь, не сходя при этом с Пути Будды. Такой взгляд на
соотношение школ в рамках одной традиции вполне может быть сопоставлен
с другими точками зрения на многообразие учений,
представленными у авторов других регионов и эпох, и, конечно, его возможно
применить и к нашей нынешней ситуации, говоря уже не о
школах религиозно-философской мысли, а скажем, о направлениях в
философии вообще, в исторической науке или в религиоведении.
И основу для таких сопоставлений, как раз дает
культурно-историческое рассмотрение источников, подлежащих сравнению.
Д. M. Фельдман
Культурно-историческая обусловленность
правил мировой политики
Сборник к Юбилею — не место для откровенной
характеристики юбиляра. Это тем более верно, что наши
близкие отношения на протяжении почти пятидесяти лет дают
уверенность в получении сдачи той же монетой. Поэтому
я остановлюсь на тех качествах Б. И. Пружинина, оценка
которых не может быть перенесена им на меня.
Главное из них — обаяние интеллекта. Его ни в коем случае не
следует путать с доброжелательностью, простотой и легкостью в
общении, тактом, желанием и умением делать добро людям и многими
другими подобными качествами, значительная часть которых присуща
Б. И. Пружинину не в избытке и о которых я не буду упоминать по
названной выше причине. Обаяние его интеллекта неповторимо или, по
крайней мере, трудновоспроизводимо не потому, что юбиляр человек
умный и, более того: очень умный. Впадая в некоторое свойственное
юбилеям преувеличение, можно сказать, что таких у нас много. А вот
людей, мыслящих так, чтобы у читателя и собеседника возникло
желание, если не воспринять такой образ мышления, то подражать ему,
куда меньше. Не берусь дать исчерпывающий ответ на вопрос: «В чем
секрет обаяния интеллекта Б. И. Пружинина?» Но достоверно знаю,
что юбиляр мыслит раскованно, но строго; ясно, но не просто и, если
даже не совсем правильно, то с необходимой долей самоиронии.
К числу хорошо известных и несомненных достоинств Б. И.
Пружинина, делающих интеллектуальное общение с ним особенно
приятным, принадлежит и то, что он не политолог. Менее
известно, но столь же верно другое — политология, равно как и
астрология — давно находится в поле его повышенного внимания или,
говоря его словами, «на эпистемологическом обслуживании». При
этом Б. И. Пружинин последовательно следует
сформулированному им требованию: «эпистемолог ни в коем случае не должен
выступать в роли Прокруста. Его суждения должны принимать во
внимание реальные обстоятельства познавательного процесса, как
378 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
он осуществляется "здесь и теперь", и иметь своей целью не
карать, но способствовать его осуществлению, и по возможности,
совершенствованию»1. Конечно, поступать так ему тем легче, чем
меньше политологов стремятся найти методологический покой или
эпистемологические услады на ложе Прокруста, до странности
напоминающее современные критерии верификации научного знания.
О результатах длящегося уже многие годы опыта
«эпистемологического обслуживания» трудно однозначно судить по
приводимому ниже примеру. Как хорошо известно, нищий, даже
обслуживаемый по-королевски, принцем не становится. Но все-таки
он становится богаче, по крайней мере, с культурно-исторической
точки зрения... Надеюсь, что благосклонный читатель, уделив
время знакомству с этим опытом, составит себе представление не
только о плодотворности союза эпистемолога с политологом, но и
о правилах мировой политики.
* * *
«Нет правила без исключений».
Общеизвестное правило
История каждой страны, любого общества или государства
развертывается в условиях их международно-политического
взаимодействия. Оно представляет собой особую сферу политических
отношений — мировую политику. Сегодня участниками, акторами
мировой политики являются:
• около 200 признанных или частично-признанных государств;
• несколько десятков непризнанных государств;
• тысячи специализированных НПО, с интересами,
затрагивающими решение глобальных политических проблем;
• трудно определяемое, но, безусловно, громадное количество
организаций, фирм и разного рода объединений, в том числе
религиозных и криминальных, выходящих на мировую
арену, где их деятельность имеет и политические последствия;
• многие миллионы индивидов, активно взаимодействующих
в глобальном социуме благодаря, помимо, а иногда вопреки
своим и чужим государствам.
Множество идейно-мировоззренческих,
теоретико-методологических и политологических «-измов» претендуют на выявление
сущностных, базовых основ взаимодействия акторов мировой по-
1 Пружиним Б. И. Политология и теория познания // Вестник Московского
Университета. Серия 18: Социология и политология. 1995. № 3. С. 56.
Д. М. Фельдман. Культурно-историческая обусловленность правил мировой... 379
литики. Некоторые из них декларируют свою универсальность,
объясняя, например, гибель Византии, распад СССР и события на
Украине реализацией целей единого общемирового политического
заговора. Что уж тут говорить о диалектике соотношения
производительных сил и производственных отношений, «дающей ключ» к
пониманию всего, включая закономерности мировой политики и
причины «арабской весны». Для каждого события, происходящего
на мировой арене, проницательный ум идеолога и пропагандиста
может легко, исходя из принятых установок, найти «подлинные
причины» и выявить его «глубинный политический смысл», в
очередной раз подтверждающие правоту исповедуемого им «-изма».
Неизмеримо труднее выработать и закрепить те правила
международно-политического взаимодействия, по которым оно
осуществляется на протяжении всей истории человечества и которыми
руководствуется каждый из его участников — акторов мировой
политики в наши дни. Попытки установления правил взаимодействия
международно-политических отношений имеют столь же
длительную историю как существование самих международных отношений
и мировой политики. И хотя мировая политика и международные
отношения на протяжении многих тысячелетий были ограничены
изолированными ойкуменами, решить эту проблему даже в пределах
какой-либо одной из них так и не удалось. Причем, если в области
дипломатических, договорно-правовых, военных и торговых
отношений правила международного взаимодействия их участников,
несмотря на изменчивость и неполноту, все же фиксировались и
закреплялись в неизменно нарушаемых письменных и вербальных
соглашениях, заветах и наставлениях, то попытки регулирования
политической сферы этого взаимодействия были еще менее плодотворны.
Это обусловлено самой сутью проблемы, состоящей в уяснении
природы правил, представляющих собой результат сочетания
многообразных норм, обычаев, убеждений и заблуждений, которыми
руководствуются разные по своей природе, могуществу и влиянию родо-
племенные, торговые, религиозные, национальные и многие другие
объединения, отдельные индивиды, государства и все остальные
акторы мировой политики. Задача не облегчается, а усложняется тем,
что сегодня все они взаимодействуют между собой в едином,
глобальном политическом континууме, решая не только свои собственные,
часто сугубо специфические, но и многообразные общие проблемы.
Революции, кризисы и сопутствующие им изменения на
мировой арене, происходящие на наших глазах, показали насколько
актуальна не только для политической теории, но и для политической
практики важнейшая «задача сегодняшнего дня — найти общее по-
380 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
нимание того, как и какие правила игры будут соблюдать все
государства, любые администрации и правительственные структуры»2.
Решение этой задачи осложняется тем, что все чаще речь идет не
только о «правилах игры» государств, но и всех негосударственных
акторов, взаимодействующих в сфере мировой политики.
Отмечаемая двусмысленная интерпретация в практике международных
отношений, принципов, норм и правил, закрепленных в документах,
в том числе имеющих юридически обязывающий характер3,
фиксируется и многими другими отечественными и зарубежными
исследователями. Все чаще указывается на то, что наряду со «старыми»,
появляются «новые» и «неизвестные» правила мировой политики4.
Задача выявления всех этих правил, форм и способов их сочетания
не может быть решена без ясно сформулированного понимания того,
что именно следует искать. В большей части отечественной и
зарубежной политологической литературы под правилом — иногда
имплицитно, а чаще просто «по умолчанию», понимается широко
распространенная в данном социуме и воспринятая им норма, установленный
принцип, выступающий как средство регуляции, формально или
неформально закрепленный порядок деятельности, исторически
сложившейся или сознательно введенный стандарт поведения. Указывая
на органическую связь правил и деятельности, Э. Гидденс
рассматривает их как фундаментальные институты общества, которые и придают
смысл данным действиям5. Такое понимание используется ad hoc в
качестве методологического ориентира и в данной работе6.
Кроме того, следует прояснить о правилах взаимодействия каких
акторов мировой политики здесь пойдет речь. Рассматривая прави-
2 ТоркуновА. В. По дороге в будущее. М., 2010. С. 21.
3 См.: Там же.
4 См., например: Rassmussen J. L. Peacemaking in the Twenty-First Century: New
Rules, New Roles, New Actors // Peacemaking in International Conflicts: Methods
and Techniguer / Ed. by I. W. Zartman and J. L. Rasmussen. Washington, 1997.
P. 23—50; Казанцев А. А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая
политика и Центральная Азия. М., 2008; Лебедева M. M. Политическая система
мира: проявления «внесистемности», или новые акторы — старые правила //
«Приватизация» мировой политики: локальные действия — глобальные
результаты. М, 2008. Далее: «Приватизация». М., 2008.
5 См.: Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. М., 2005.
С. 55—59. Эвристический смысл такого понимания правил применительно к роли
государства в мировой политике, интересно показан в работе: Харкевич М. В.
Государство в современной мировой политике // Вестник МГИМО-Университета.
2010. №6(15).
6 Специально подчеркну: в данном случае это не более чем частная
методологическая установка, не имеющая парадигмального значения в рамках какого-либо
идейно-политического «-изма».
Д.М.Фельдман. Культурно-историческая обусловленность правил мировой... 381
ла взаимодействия государств между собой, их взаимоотношений с
негосударственными акторами и негосударственных акторов друг с
другом, еще раз констатируем: государство, едва ли не с самого своего
появления, является ведущим актором мировой политики. На
протяжении последних нескольких столетий именно государство является
основным, системообразующим элементом той системы
международно-политического взаимодействия, за которой закрепилось название
«Вестфальская». Оживленная дискуссия о зарождении, эволюции,
современном состоянии и будущем Вестфальской системы7 не
колеблет убеждения в том, что «государство было до Вестфальского мира,
по-видимому, оно и останется. Проблемы заключаются в том, как
разные по своей сути государства, могут сосуществовать в единой
политической системе; каковы должны быть принципы взаимодействия
различных государств с негосударственными акторами; наконец, что
собой должна представлять сама политическая система? Все эти
вопросы, на которые нет ответов, являются сегодня ключевыми»8.
При попытке найти ответ на вопрос о правилах взаимодействия
государств наиболее существенны не социальная природа
государства, его внутреннее устройство, геополитическое положение
и т. д. В центре внимания оказывается само их поведение на
мировой арене, анализ которого призван выявить реально
действующие правила межгосударственного взаимодействия. Используемый
прием имеет очень мало общего с популярным уже более полутора
веков уподоблением государства биллиардному шару, внутреннее
строение которого якобы однородно и не влияет на его поведение9.
7 Доходящие до противоположности взгляды исследователей подробно изложены
и в зарубежной, и в отечественной литературе. См., например: Krasner St. D. Sove-
renity: organized Hypocrisy. Princeton University Press, 1999. Etzioni A. From Empire
to Community A New Approach to international Relations. N. Y, 2004; Зорькин В. Д.
Апология Вестфальской системы // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 3
(май-июнь). С. 18—24; Барабанов О. Н., Фельдман Д. М. Если Вестфаль и болен,
то этот больной скорее жив, чем мертв // Международные процессы. 2007. Т. 5.
№ 3 (сентябрь-декабрь); Вестфальский мир: межкафедральный «круглый стол»
в МГИМО(У) МИД России 27 февраля 2008 года // Вестник МГИМО-Универ-
ситета. 2008. № 1; Суверенитет, трансформация понятий и практик / Под ред.
М. В. Ильина и И. В. Кудряшовой. М., 2008.
8 Лебедева M. M. Такие разные государства // «Приватизация». С. 98.
9 Авторство этого сравнения часто ошибочно приписывают А. Уолферсу,
использовавшему его в своей работе 1962 года. Cu:.Wolfers A. Discord and Collaboration.
Essay of International Politics. The Johns Hopkins Press, 1962. P. 24. Однако еще
И. Г. Фихте предлагал рассматривать взаимодействие государств как
столкновение шаров, в которых внутреннее изолировано от внешнего. См.: Fichte J. G. Der
Geschlossene Handelstaat // Fichte J. G. Gesamelte Werke. Berlin, 1845. Bd. 3. Цит. по:
Лукашук И. И. Глобализация, государства, право, XXI век. М., 2000. С. 21.
382 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
В данном же случае государство как объект изучения уподобляется
«черному ящику», на «вход» которого подаются сигналы, а по
реакциям, фиксируемым на «выходе», выдвигаются гипотезы как о его
внутренней структуре (что нас в данном случае мало интересует),
так и о характерных нормах и правилах его внешнего поведения.
Выделение поиска этих правил в качестве самостоятельного
предмета исследования умышленно игнорирует азбучное
методологическое требование обязательного учета неразрывной
взаимосвязи, единства внутренней и внешней политики. Такое нарушение
канона позволяет рассматривать любое и каждое государство
только как актора мировой политики. При этом не столь уж и важно, в
каком типологическом ряду находится данное государство. В
частности, является ли оно государством премодерна, модерна или
постмодерна, в каких формах оно осуществляет монополию на
легитимное насилие, является ли государство авторитарным или
демократическим, насколько эффективна его система управления и
т. д. Не рассматривается и то, как и какие функции осуществляет
государство: выпускает ли свои деньги как независимое Самоа или
пользуется общей для нескольких государств валютой как
Федеративная Республика Германия, следит ли за соблюдением закона о
правилах ношения головных уборов как Французская Республика
или не занимается этим как большинство других. Более того, в
данном случае не имеет большого значения, какого
внешнеполитического курса придерживается данное государство, например,
враждебно ли оно России как Грузия или поддерживает нас как Науру.
Говоря кратко, исходная методологическая посылка заключается не
в утверждении, что все государства действуют одинаково (Украина
действительно не Россия), а в предположении, что о государствах (и
правилах их взаимодействия) можно судить по их поведению.
Имеющийся опыт анализа сходств и различий между
современными государствами как акторами мировой политики подкрепляет
принятое допущение эмпирически хорошо обоснованным
выводом: «государства, каким бы ни были их политические
приоритеты, в своей национальной стратегии вынуждены в первую очередь
решать задачи, связанные с обеспечением собственного
существования, и искать ответы на встающие перед ними вызовы. Все
остальное, по сути, вторично»10.
Говоря о правилах взаимодействия негосударственных акторов
мировой политики, следует подчеркнуть, что в своем большин-
10 Мельвиль А. Ю., Ильин М. В., Мелешкина Е. Ю., Миронюк М. Г., Полунин Ю. А.,
Тимофеев И. Н. Опыт классификации стран // Полис. 2006. № 5. С. 33.
Д. М.Фельдман. Культурно-историческая обусловленность правил мировой... 383
стве эти акторы не являются более новыми, чем государство. Они
тысячелетиями взаимодействуют в мировой политике, создавая и
развивая свои отношения до, помимо, наряду, вопреки или
благодаря государствам. Негосударственные акторы представляют собой
многообразные этнические и религиозные общности,
профессиональные, идейно-политические, просветительские и прочие
организации, отдельные личности и их объединения «по интересам»,
содержание которых может быть отнюдь не политическим, но его
реализация имеет достоверно устанавливаемое
международно-политическое значение. Выдающиеся место и роль деятельности этих
традиционных акторов в мировой политике может не замечать лишь
тот, кто ничего не знает о мировых религиях, распространении на
нашей планете науки и образования, военном искусстве, создании
артефактов, ставших вершинами мирового искусства, и многих
других политикообразующих проявлениях человеческой деятельности.
Транснациональность этих акторов, имеющая вполне
очевидный политический смысл, персонифицирована в деятельности
таких хорошо известных в России людей, как Андрей
Первозванный, св. Кирилл и Мефодий, Феофан Грек, Афанасий Никитин,
Ф. Вольф, Д. Кантемир, Н. Миклухо-Маклай, В. Зворыкин,
Бр. Понтекорво и др. Среди них — иностранцы, создавшие
архитектурные шедевры Московского Кремля и Санкт-Петербурга,
первые профессора первого в России Московского университета,
французы — создатели русской школы классического балета и
русские пассажиры «философского парохода», оказавшие серьезное
влияние на образование и социально-гуманитарную науку
Германии, США, Франции и других стран.
Негосударственные акторы на мировой арене не всегда
действуют как политические субъекты, но обладают политическим ресурсом
своей гуманитарной, экономической, филателистической,
спортивной, военной, экологической и практически любой другой частно-
специальной деятельности. Политическое содержание этого ресурса,
его направленность и востребованность не сводятся непосредственно
к самому политическому характеру их деятельности, например,
политическому смыслу национально-освободительного или отдельных
антиглобалистских движений. Это политическое содержание
определяется соединением или столкновением многообразных
политических аспектов, сопутствующих неполитической деятельности,
реализации интересов отдельных негосударственных акторов,
неправительственных, квазигосударственных и государственных
организаций, взаимодействующих между собой или с интересами государства.
В качестве примера можно указать на деятельность Ордена госпита-
3 84 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
льеров — одного из духовно-рыцарских орденов, имеющего почти
1000 летнюю историю11, на национальные Олимпийские комитеты,
международные объединения филателистов и радиолюбителей, на
работу приснопамятных комитетов советских женщин или
молодежных организаций СССР, обществ дружбы с народами зарубежных
стран, организации типа Human Rights Watch, Green Movements и
т. п. Эти акторы, их многочисленные современные отечественные и
зарубежные аналоги активно действовали и действуют в сети
международно-политического взаимодействия. Не стоит забывать и о том,
что многие международные организации, в частности ООН, за годы
своего существования обросли сотнями общественных и
неправительственных фондов, комитетов, объединений и т. д. Каждый из
них, заявляя о своей поддержке целей Организации, занимается
своей организационно, а иногда и бюджетно обособленной
деятельностью, политическое значение которой в каждом конкретном случае
не составляет большого труда обнаружить.
Поиски правил взаимодействия негосударственных акторов
между собой вынуждают выйти за рамки Вестфальской системы.
Именно это, а не трактовка политической составляющей
международной интеграции как предвестника «заката Вестфаля», выводит
исследователя в иную куда более широкую, чем
межгосударственная, область общественных отношений. Но как бы многочисленны
и влиятельны не были негосударственные акторы, «внутри» госу-
дарственно-центричной системы международных отношений они
остаются под влиянием государства и государственного
суверенитета. Более того, по мнению ряда исследователей, даже далее всех
продвинувшаяся к международному, надгосударственному
регулированию евроинтеграция «стала на самом деле довольно необычным, но
все-таки рецептом сохранения государственного суверенитета»12.
Значительно более широкой областью политического
взаимодействия, являющуюся средой для всех акторов мировой политики
и существующей как «внутри», так и «вне» государственно-центрич-
ной системы, по-видимому, можно считать глобальную
политическую сеть, — один из специфических видов политических сетей.
В отечественной литературе термин «политическая сеть»
определяет «комплекс связей государственных и негосударственных обра-
11 См.: Захаров В. А. Орден госпитальеров. М., 2009.
12 Громогласова Е. С. Наднациональный и сетевой принципы в Европейском
Союзе // Международные процессы. 2010. Т. 8. № 2(23). С. 74. См. также: Wessels W.
An Ever Closer Fusion? A Dynamic Macropolitical View on integration Processes //
Journal of Common Market Studies. 1997. Vol. 35. № 2. P. 267—299; Wessels W. Teaching
Companion — Theories and Strategies of European integration. Köln, 2006. P. 82.
Д. М.Фельдман. Культурно-историческая обусловленность правил мировой... 385
зований в определенной сфере политики, которые взаимодействуют
между собой на базе ресурсной зависимости в целях достижения
согласия по интересующему всех политическому вопросу, используя
при этом формальные и неформальные нормы»13. Конечно, это
далеко не единственное и, по-видимому, не безупречное определение
политической сети. Так, по мнению Е. Громогласовой, «для
представителей политической науки характерен консенсус относительно
определения политической сети как комплекса стабильных связей
неиерархической и взаимозависимой природы, объединяющих
множество разнородных субъектов, которые обмениваются ресурсами,
сознавая, что кооперация облегчает достижение совместных целей»14.
Оставляя без комментариев констатацию наличия столь
редкого для политической науки консенсуса в определении чего бы то
ни было, надо напомнить, что уже в начале второй половины
прошлого века было отмечено: в сетевых отношениях
устанавливаются специфические властные отношения. Другими словами: здесь
действуют собственные правила сети, что в процессе
социального взаимодействия приводит к утверждению власти сети15. Еще в
работе Д. Ноука и Дж. Куклинского 1982 года было убедительно
подтверждено существование общего свойства всех сетей: между
акторами устанавливаются отношения, которые задаются и
конституируются сетью в целом. Для их характеристики исследователи
использовали такие измерения, как «интенсивность» и
«направленность», что позволяет типологизировать самые разнообразные
сети16. Вариативность сетевых форм организации социума,
многообразие их типов и природы не колеблют констатации наличия
некого инварианта, характеризующего все социальные сети. Пытаясь
найти его, М. Кастельс пришел к выводу: «власть сетевой
структуры оказывается сильнее структуры власти»17.
Не останавливаясь более на истории формирования термина
«сеть» и воззрениях на природу сетей в современном мире, следует
указать на специфику международно-политической сети. Здесь, бо-
13 Сморгунов Л. В. Сетевой подход к политике и управлению // Политические
исследования. 2001. № 3. С. 108.
14 Громогласова Е. С. Указ. соч. С. 74—75. В этом своем утверждении она опирается
на публикацию: Börzel Т. A. What's so Special about Policy Net-works? — An
Exploration of the Concept and Its Usefulness in Studying European Governance // European
Integration Online Papers (EIOP). 1997. Vol. 1. № 16. P. 1.
15 Подробнее об истории становления теории социальной сети см. Брун О. Е.
Развитие теории социальной сети // Вестник M ГИ МО-Университета. 2011. № 1 (16).
16 См.: Кпоке D., KuklinskiJ. Network Analysis. Beverly Hills, 1982. P. 9.
17 См.: Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. I: The Rise
of the Network Society. Oxford, 1996. Цит. по: Брун О. Е. Указ. соч. С. 239.
386 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
лее чем где-либо, «достижение согласия»18, равно как и «кооперация
для облегчения достижения совместных целей»19 — лишь частные
случаи получения желательного для ее акторов результата. Сделанное
уточнение вполне корреспондируется с официальными
документами, определяющими внешнеполитическую деятельность России, где,
в частности, подчеркивается значение «сетевой дипломатии,
опирающейся на гибкие формы участия в многосторонних структурах»20.
Хорошо известно, что в мировой политике «обмен ресурсами»
или «ресурсная зависимость» нередко имеют нулевое значение,
обнаруживаясь как отсутствие обмена и ресурсная независимость,
что, впрочем, нисколько не меняет сетевой характер
международно-политического взаимодействия. Сегодня именно здесь, во
всемирной политической сети сосуществуют и взаимодействуют
демократические и тоталитарные государства, межправительственные
и террористические организации, религиозные и
антиглобалистские движения, ТНК и международные тендерные объединения,
противоборствуют и сотрудничают между собой все другие акторы
мировой политики.Излагаемое понимание взаимодействия в
мировой политике не только дань очередной, на этот раз «сетевой» моде.
Уже отмечалось, что история международных отношений
свидетельствует, что многие негосударственные акторы, куда менее новы, чем
государственные. Поскольку это действительно так,
международное взаимодействие между ними, соответствующие
предлагаемому пониманию, существует тысячелетия. Ему по самой его природе
присущ хаотично-мультицентричный характер. Можно с высокой
степенью вероятности допустить, что такой характер мировой
политики свойственен ей изначально, хотя ее сфера включала отдельные
изолированные ойкумены, а не глобальный современный социум.
Обращаясь к аналогии не как доказательству, а как к иллюстрации,
полезно напомнить, что характер движения Земли не зависит ни от
переменчивых суждений Галилея, ни от тех знаний об этом
движении, которыми располагает наука на каждом этапе своего развития.
Инструментальное значение понимания взаимодействия
акторов мировой политики как сетевого дополняется, в частности, и тем,
что допускает его формализацию и последующее построение
формально-математических моделей различных политических сетей,
например, с использованием теории графов. Как известно, эта тео-
18 Сморгунов Л. В. Сетевой подход к политике и управлению. С. 108.
19 Громогласова Е. С. Указ. соч. С. 75.
20 Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 июля 2008 года.
URL: http://www.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml
Д. М.Фельдман. Культурно-историческая обусловленность правил мировой... 387
рия исходит из того, что сетью (графом) является графическая
схема, представляющая собой отрезки, соединяющие заданные точки.
Открывая возможности строить простейшие математические
модели сетевого взаимодействия, теория графов позволяет с их помощью
решать записанные на соответствующем языке задачи в графической
или матричной форме21. Использование различных моделей сетевого
международно-политического взаимодействия может помочь
применению все еще мало популярных в отечественной политической
науке формально-математических, количественных методов
исследований, а тем самым и обогащению ее методологического арсенала. При
этом, отдавая дань необходимой при добросовестном
теоретизировании самоиронии, нельзя хотя бы отчасти не признать справедливость
суждения О. Шпенглера: «то, что выражается в мире чисел, но не в
одной только научной формулировке, есть стиль души»22.
«Сетевое» понимание мировой политики как
международно-политического взаимодействия государственных и негосударственных
акторов не противостоит «системному». Не противопоставляя, а
сочетая эти теоретико-методологические подходы, можно
попытаться уменьшить один из основных недостатков любой «теории
против теории»23. Он «состоит в невозможности избежать ослабления
собственных позиций из-за необходимости пользоваться языком
врага»24. Другими словами: так же как ход познания физической
реальности не отменяет посредством квантовой механики законов
открытых Архимедом и Ньютоном, так и уяснение динамики
мировой политики, фиксируемой сетевым подходом к ее изучению, не
упраздняет достижений А. Богданова и Л. фон Берталанфи, М.
Каштана, Ч. Маклеланда и многих других приверженцев «общей
теории систем» и ее применения к международным системам.
По сути, речь идет о модификации и углублении предложенного
еще в конце 70-х годов прошлого века X. Буллом различения
мирового общества и международного сообщества. Как известно,
«Мировым обществом» он называл общность государств, установивших
на основе взаимного согласования общие правила и институты для
организации своих взаимных отношений и заинтересованных в вы-
21 Подробно об основах построения и применения этих моделей см., например, в
легко понимаемых не специалистами-математиками работах: Кетепу J. G., SnellJ.
Mathematical models in the social sciences. 1962. № 4; Ope О. Графы и их применение.
M., 1965.
22 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. М., 1993.
С. 208.
23 Лнкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М, 2007. С. 488.
24 Там же.
388 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
пол нении достигнутых соглашений и договоренностей. «Мировое
общество» в отличие от «международного сообщества» предполагает
легитимизацию действующих в отношениях между государствами-
членами норм, их ответственность за соблюдение правил и
принципов взаимоотношений. «Международное сообщество», по X. Буллу,
является лишь простой совокупностью (системой меньшей
целостности — выражаясь «системно») всех национальных государств25.
Предлагаемый в данной статье методологический прием
позволяет рассматривать международное сообщество как глобальный
социум, связанный сетью взаимодействий как государственных, так и
негосударственных акторов. Это не только допускает, но и
предполагает сочетание, своего рода «объединение», системного и сетевого
подходов. Ведь эмерджентные характеристики системы
межгосударственных отношений как некоторой целостности, испытывая
растущее в современных условиях влияние негосударственных
акторов, и глобальной сети международно-политического
взаимодействия не исчезают, не растворяются в ней. С «системной» точки
зрения эта сеть представляет собой не что иное, как среду данной
системы. Констатация влияния сети не означает воплощения
прогнозов ни о «столкновении цивилизаций», ни о крахе системы
межгосударственных отношений, ни о «закате Вестфаля»,
продолжающих подтверждать свой громадный потенциал адаптации.
По сути, речь идет (всего лишь) об осознании необходимости
обновления понимания развертывающихся в планетарных
масштабах экономических и политических процессов в соответствии с их
нелинейным характером. Гипотезы о прогрессивном, циклически-
поступательном или «спиралевидном» ходе исторического
процесса (различные версии диалектики Г. Гегеля, работы К. Маркса,
Дж. Модельски, Н. Кондратьева и др.), эволюции и смене
социально-экономических систем сегодня отступают перед
утверждающимся признанием доминирования в глобальном социуме
дискретных нелинейных процессов. С этой точки зрения, на куда
большее эвристическое значение может претендовать теория
ненаправленного колебания и циклов, независимых от периодичности
или случайности самих колебаний.
25 См.: Bull Я. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. L., 1977.
Эту же схему X. Булла использовал и А. Д. Богатуров, рассуждая об «анклавной»
природе мировой политики и «мировом конгломерате», но не сосредотачиваясь
на правилах взаимодействия акторов международно-политических отношений.
См. Богатуров Л. Д. Анклавная природа мировой политики и перспективы
формирования мирового общества // Современная мировая политика. Прикладной
анализ. М., 2009. С. 40—64.
Д. М.Фельдман. Культурно-историческая обусловленность правил мировой... 389
Динамичность и хаотичность современной мировой политики
заставляют исследователей обращаться к идеям не только И. Приго-
жина, но и А. Пуанкаре, а также их предшественников и
многочисленных последователей26. Современное понимание политической
реальности не может не учитывать вероятностный характер
развертывающихся на наших глазах общепланетарных политических
процессов. Изучение мировой политики с естественными науками
роднит то, что и здесь «вероятность» событий и процессов — не
отрицание причинности. Ведь «вполне причинно-обусловленные ("в
конечном анализе" — если, конечно, таковой возможен) процессы
сами порождают вероятностные последствия. При этом в
определенных политических пространствах сохраняются и зависимости от
прошлых траекторий развития (по типу path dependency)»27.
В процессах хаотического сетевого взаимодействия акторов
мировой политики, ускорения и усложнения социально-политической
динамики, роста взаимозависимости всего общепланетарного
социума возникают новые требования к интеллекту, обуславливающие
формирование «нелинейно-гуманистического мышления». В
идеале это мышление «синергийно учитывает разрывы рискогенного,
нелинейно развивающегося социума, его сетевые, объективные,
субъективно сконструированные и виртуальные реалии, ставит во
главу жизнедеятельности человека поиск новых форм гуманизма,
ориентированных на его экзистенциальные потребности»28.
Ни в коей мере не претендуя на немедленное и полное
воплощение этого идеала, можно уже сегодня в соответствии с ним
сформулировать основную теоретико-методологическую посылку анализа
проблемы, рассматриваемой в данной статье. Она заключается в
презумпции того, что в международно-политических
отношениях всех акторов всемирной политической сети действуют нормы и
правила, отличающиеся от норм и правил, принятых в системе
взаимодействия любых современных государств. Это отличие состоит
не только в том, что правила сети не легитимизированы и
институционально не оформлены. Не более важно и то, что они представ-
26 См.: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: нелинейность времени и
масштабы коэволюции. М., 2007.
27 Мельвиль А. Ю. Пространство и время в мировой политике: нелинейные
траектории // Пространство и время в мировой политике и международных
отношениях. Материалы 4 Конвента РАМИ. Том 1: Акторы в пространстве и времени
мировой политике. М., 2007. С. 19.
28 Кравченко С. А. Формирование Сетевого Человеческого Капитала:
методологические контуры концепции // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 6 (15).
С. 24.
390 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
ляют собой правила взаимоотношений отдельных, чаще всего
разнородных акторов, преследующих на мировой арене свои частные
(или более-менее временно совпадающие групповые) интересы.
Главным и общим для этих правил является то, что все они
ориентированы на получение наибольшего эффекта от взаимодействия с
другими акторами мировой политики. Назовем эти правила —
правилами повышения эффективности сетевого взаимодействия в
мировой политике или для краткости: «правила сети».
Правила повышения эффективности взаимодействия акторов
мировой политики не сводятся к обеспечению сотрудничества или
кооперации. Они включают в себя и правила конкуренции,
противоборства. При этом рациональные действия акторов мировой
политики, выстраиваемые по этим правилам, в силу их социокультурных
различий, интеллекте, образе жизни и стиле мышления не только не
гарантируют высокую эффективность этих действий, но зачастую
ведут к иррациональным последствиям их совокупной деятельности.
Важно иметь в виду, что неудачи отдельных акторов, действующих
по этим правилам, не всегда являются случайностью, издержками
или ошибками, следствием ресурсной или интеллектуальной
ограниченности и т. д. Куда чаще они представляют собой имманентный
результат проявления сетевой природы социума, нелинейности
мировых политических процессов, атомарности мышления и
уникальности интересов каждого из акторов мировой политики.
Все это затрудняет (а может быть и делает невозможным в
принципе) кодификацию этих правил, составление их сколько-нибудь
полного перечня. Однако для иллюстрации приведем весьма вольные
формулировки правил повышения эффективности политической
деятельности в разное время выработанные приверженцами разных
культур и стилей мышления. Среди этих правил: «хладнокровно
наблюдать, не вмешиваясь в борьбу других», «враг моего врага — мой
друг», «хочешь мира — готовься к войне», «удивить — победить»,
«бороться с врагом, во-первых, законами, во-вторых, силою», «не
можешь победить — присоединяйся» и множество других «стратегем»,
дополняющих и отвергающих друг друга. Пожалуй, наиболее
универсальным из подобных правил является многократно опровергнутое
морализаторами, но постоянно реализуемое в политике правило, в
соответствии с которым «разумный правитель не может и не должен
оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам».
Вместе с тем политическая сеть — это не мир по Гоббсу, не
«война всех против всех». В ней есть место и для воплощения таких
правил, как, например, «соглашения должны выполняться», «нет
блага в войне», «золотого» правила: «не делай другому того, чего
Д.М.Фельдман. Культурно-историческая обусловленность правил мировой... 391
не желаешь себе» и многих подобных, которые венчает великий
императив: «поступай так, чтобы максима твоего поведения могла
стать основой всеобщего благосостояния». Политически
грамотный читатель легко определит (несмотря на разрывы во времени и
пространстве, различия между идеологиями, культурами и
цивилизациями) не только источники, но и направленность упоминаемых
здесь правил. Очевидные противоречия между ними не ошибка
изложения, а отражение реального хаотичного взаимодействия всех
акторов мировой политической сети. Другими словами: «правила
сети» не исключают то вошедшее в учебники положение, что
«отдельные факты неправового, тем более силового решения
вопросов международной жизни не могут образовать общего правила»29.
Итак, наиболее мощным и влиятельным элементом, образующим
мировую политическую сеть, является государство в той или иной
мере воплощающее в своей деятельности на мировой арене
«правила сети». «Вестфальская» система межгосударственного
взаимодействия, будучи частью этой сети, испытывает влияние ее динамики и
своеобразия. Государственно-центричная система весьма подвижна и
изменчива, но не теряет при этом своей качественной
определенности и ведущей роли во взаимодействии на мировой арене.
Громадные исторические сдвиги, великие
социально-политические революции, революции в военном деле, науке и технике,
мировые войны и интеграционные процессы, развертывающиеся
в рамках «Вестфаля», показали выдающиеся адаптационные
возможности этой системы, ее гомеостатическую стабильность. Это
обусловлено, в частности, и тем, что правила, действующие в
системе взаимодействия государств (без относительно к тому, какие
это государства), ориентируют их на приверженность соблюдению
норм и принципов, закрепленных (или декларируемых) в
международном праве, взаимных соглашениях, договорах, других
установлениях, составляющих нормативную основу межгосударственных
отношений. Сохранение, обновление или изменение этих
нормативных правил происходит при участии международных
организаций и институтов, регулирующих и контролирующих
межгосударственные отношения. «Международное общество» считает
соблюдение нормативных правил необходимым условием участия
в своей повседневной деятельности. Более того —
приверженность этим правилам рассматривается в качестве атрибута
государства как полноправного актора мировой политической системы.
29 Вылегжанин А. Н. Становление глобального правового пространства в
XXI веке // Современные глобальные проблемы. М., 2010. С. 327.
392 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
В дальнейшем будем называть эти правила — правилами участия в
системе межгосударственного взаимодействия или кратко:
«правилами системы».
«Правила системы» признаются государствами,
существующими в данном пространственно-временном континууме как
нормативная основа, определяющая их взаимодействие и его
регулирование. Даже, казалось бы, внесистемные «государства-изгои», как
убедительно показывают отечественные исследователи, «не только
не подрывают, но, напротив, активно воспроизводят
фундаментальные нормы Вестфальской модели мира — суверенитет,
территориальность и примат государственных интересов»30.
Ныне общепринятые, эти правила отличаются от норм и правил,
действовавших когда-либо в других системах международных
отношений, не говоря уже о правилах, присущих различным сферам
общественных отношений внутри национально-государственных
границ. Но все эти нормы и правила формулируются, устанавливаются
и признаются не только как отражение реального взаимодействия,
но и как представление о том, каким оно должно быть.
Применительно к нормам современного международного права — какой
должна быть определяемая ими система взаимодействия государств
на мировой арене. Среди прочего, это проявляется в наличии и
общем признании, если и не взаимоисключающих, то
противоречащих друг другу (но не интересам каждого из государств-участников
международных отношений) норм и принципов международного
права. В качестве примера здесь чаще всего указывают на
принципы суверенитета, невмешательства во внутренние дела,
нерушимости границ и территориальной целостности, с одной стороны, и
равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой,
уважения прав человека и основных свобод — с другой.
Хотя подобные правила признаются государствами — акторами
данной системы международных отношений как идеальная модель
регуляции их взаимодействия, однако государства следуют им
избирательно, в зависимости от меняющегося содержания
конкретных интересов каждого из них, изменений внутриполитической
ситуации, обстановки на мировой арене и т. д. Важно подчеркнуть,
что признание и даже самое последовательное, скрупулезное
соблюдение каким-либо государством правил участия, действующих
в данной международной системе, фиксируя его принадлежность
30 Ильин М. В. Кризисы суверенитета в современную эпоху // Ассиметрия
мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности. М., 2011. С. 14;
Харкевич М. В. Государства изгои и международное общество // Там же. С. 48—65.
Д. М. Фельдман. Культурно-историческая обусловленность правил мировой... 393
к ней, отнюдь не предопределяет его успех во взаимодействии с
другими акторами той же системы. Здесь, так же как в спорте, приз
«fair play» очень редко достается победителю.
В политической практике взаимодействия на мировой
арене в конце XX и начале XXI века в очередной раз отчетливо
обозначилось несоответствие нормативной (не только
международно-правовой, но и идейно-ценностной) базы, правил участия в
международном взаимодействии, т. е. «правил системы» правилам
повышения эффективности этого взаимодействия, т. е. «правилам
сети». Действия отдельных государств, следуя прагматичным
«правилам сети», зачастую не только расходятся с декларируемыми
«общепризнанными нормами» т. е. «правилами системы», но и
сталкиваются с ними.
Констатация столкновения «правил сети» и «правил системы» в
современной системе межгосударственных отношений при ее
кажущейся тривиальности фиксирует глубокое внутреннее различие
природы этих правил.
Сегодня благодаря формированию общемирового рынка,
мировым войнам, развитию средств коммуникации и многому другому
система межгосударственных отношений стала всемирной. В ходе
чередования на протяжении нескольких веков господства
экономически автономных регионов было покончено с миром, в котором
существовало несколько социокультурно, хозяйственно и
политически изолированных ойкумен. Становление всемирной
(планетарной) системы государств сопровождалось неоднократной сменой
ее правил, при сохранении за государством роли доминирующего
актора — основного элемента этой системы. До сих пор именно
изменение «правил системы», происходившее внутри нее в результате
крупномасштабных международных конфликтов, означало
переход от Венского концерта к Версальско-Вашингтонской, а затем и к
Ялтинско-Потсдамской системам международных отношений.
Но если «правила системы» сравнительно часто менялись,
«правила сети» в своих существенных чертах воспроизводятся.
Они неизменно определяют нарушение, а затем
конвенционально утвержденный международным обществом пересмотр правил,
действовавших в каждой из предшествующих систем.
Утверждение очередных и, как показывает исторический опыт, временных
норм международного права, фиксирующих правила,
действующие в сменяющих друг друга системах международных отношений,
столько же неизменно происходит при определяющей роли тех,
кто победил в создавшем «новую» международную систему
противоборстве.
394 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
«Правила сети» глубже укоренены в социуме, при всей
хаотичности его многообразных внутренних взаимодействий, на
протяжении всей истории двигающегося к росту эффективности
человеческой деятельности. Они совпадают если не с вектором
биологической эволюции, то с общей социентальной основой
человеческой истории, ибо присущи любой сфере деятельности
человека и любой области общественных отношений. Оставаясь в
границах предметного поля политической науки, не будем
обсуждать встающие здесь интереснейшие вопросы общенаучного или
мировоззренческого масштаба. Среди них, например, вопрос о том
«не являются ли правила сети проявлением коренных
универсальных законов общественного бытия homo sapiens?». В данном
случае ограничимся выводом о том, что «правила сети» для мировой
политики как сферы общественных отношений куда более
органичны, чем периодически обновляемые, сменяющие друг друга
«правила системы», легитимизирующие лишь взаимоотношения
государств. Правила всех существовавших до сих пор систем
межгосударственных отношений неизменно испытывают мощное
влияние «правил сети», определяющих их динамику. При этом главное
значение «правил системы», их социентальный смысл состоит в
том, что они упорядочивают, регулируют хаотичное,
разнонаправленное взаимодействие в одной из важнейших частей сети, а тем
самым и противостоят этой хаотичности.
В заключение надо ясно сказать: определение, уточнение и
обновление понятий, занимающее столько места в данной статье —
не только проявление стиля мышления ее автора. Это, прежде
всего, его профессиональная обязанность, ибо: «теоретик не может
сделать больше, нежели сохранение понятий и называние вещей
своими именами»31.
Называя «правила игры»32, которые в ближайшие годы будут
определять поведение не только государств, но и
негосударственных акторов всемирного политического взаимодействия, можно
предвидеть рост влияния «правил сети», т. е. правил,
придерживаясь которых акторы мировой политики стремятся к повышению
эффективности, а не легитимности своей деятельности. Более
кратко: «правила сети» будут вытеснять, но не замещать «правила
системы». Это не приведет к, казалось бы, очевидно
напрашивающейся легитимизации «правил сети», действующих в сфере ми-
31 Шмит Т. К. Теория партизана. Промежуточное замечание по поводу понятия
политического. М., 2007. С. 144.
32 Торкунов Л. В. Указ. соч. С. 21.
Д. М. Фельдман. Культурно-историческая обусловленность правил мировой... 395
ровой политики. Именно в этой сфере менее всего вероятна
легитимизация единых, общих для всех акторов мировой политики
правил глобального управления и регулирования. И именно здесь
наиболее отчетливо проявляются различия в их подходах к целям
международного взаимодействия, к его приоритетам, ценностям
и критериям. Констатируя растущую хаотизацию мировой
политики, заметное в ряде стран снижение интереса к проблематике
глобального регулирования и управления, не следует видеть в этом
признаки приближающегося краха цивилизаций, конца
культуры и вселенской катастрофы. Чем меньше такого регулирования
сегодня — тем острее будет потребность в нем в будущем. Анализ
динамики мирового развития со времен античности до наших дней
убеждает в том, что хаос несет в себе не только всемирный
беспорядок, но и начало всякого, в том числе и политического, бытия.
В конечном счете именно сама культурно-историческая
обусловленность политического, а вовсе не весьма подвижные
различия между отдельными государствами, администрациями,
правительственными и неправительственными акторами будет
определять сосуществование и итог столкновения «правил
системы» и «правил сети».
Что же касается того, какой будет система взаимодействия
государств в обозримом будущем, то независимо от названия, которое
она получит, по своей сути она будет столь же Вестфальской, как и
все предшествующие. Для очередной модификации системы
межгосударственного взаимодействия предстоит сформулировать и
кодифицировать новые «правила системы». Главным достоинством
этих правил должно быть не отсутствие противоречий как между
ними, так и с «правилами сети», а соответствие (конечно не полное
и не постоянное) важнейшим в данный период интересам
государств, составляющих наиболее устойчивый компонент в системе,
являющейся важнейшей частью сети
международно-политического взаимодействия.
В. А. Шупер
Рационалистическое мировоззрение
в условиях кризиса
О кризисе рационализма писать и говорить становится так
же скучно, как и о двойных стандартах в политике наших
старших братьев по разуму. Действительно, что можно
добавить по существу к тому, что написал еще без малого
четверть века назад Э. Геллнер (1925—1995): «Система
потребления на сегодняшний день организована таким образом, что
никоим образом не поощряет такие качества как дисциплина,
внимание, умеренность, трезвое мышление и им подобные,
являющиеся непременными атрибутами уходящей в прошлое
рациональности. Напротив, широкой публике постоянно демонстрируются
всевозможные технические новинки и разнообразные товары в
удобных упаковках — все это подается в максимально привлекательном
виде и изготовлено таким образом, чтобы процесс потребления не
требовал особых умственных затрат. Современный человек живет в
искусственной среде, заполненной изделиями промышленного
производства, сложно устроенными, но сконструированными таким
образом, чтобы пользование ими было максимально удобно и просто —
насколько это позволяет изобретательность конструкторов. Жизнь
в таких условиях порождает расслабленность и праздность, а не
приверженность строгому порядку и дисциплине. Если человек богат,
он вообще склоняется к тому, чтобы весь мир воспринимать как
бесконечное продолжение этой удобной, легко управляемой и кажущейся
единственно возможной среды. Понятно, что это ведет к
распространению поверхностной метафизики, сообразно которой вселенная
представляется легко познаваемой и благосклонной к потребительским
настроениям. При этом вполне естественно, что общество, пользующееся
всеми благами рационального производства, в области культуры будет
проявлять склонность к самым крайним формам иррациональности»1.
Великий провидец К. Лэш (1932—1994), мужественно
отказавшийся от химиотерапии, чтобы в полную силу работать над своей
1 Геллнер Э. Разум и культура. Историческая роль рациональности и рационализма.
М., 2003. С. 198-199.
В. А. Шупер. Рационалистическое мировоззрение в условиях кризиса
397
последней книгой2, которую завершил за 10 дней до смерти,
указывал на беспочвенность эйфории, охватившей Запад после
распада советского блока и развала СССР. Он видел глубинные
процессы, приводящие к вырождению американской демократии, и
понимал, что подобная победа может его только ускорить. К. Лэш
был глубоко прав, связывая вырождение демократии с
умственной ленью, ведь подлинная демократия, по Лэшу, это всегда
диспут. Следуя за Лэшем, мы можем и должны считать науку высшей
формой демократии, предполагающей равенство всех перед
истиной, а отнюдь не всеобщее равенство. Ориентация же на
средний уровень — это путь к антиинтеллектуализму, поскольку по-
настоящему серьезная аргументация доступна немногим.
В. Г. Федотова с симпатией приводит слова Ю. Хабермаса:
«Проект модерна, сформулированный в XVIII веке философами
Просвещения, состоит ведь в том, чтобы неуклонно развивать
объективирующие науки, универсалистские основы морали и права и
автономное искусство с сохранением их своевольной природы, но
одновременно и в том, чтобы высвобождать накопившиеся таким
образом когнитивные потенциалы из их высших эзотерических
форм и использовать их для практики, т. е. для разумной
организации жизненных условий»3. Действительно, с расстояния более двух
столетий развитие «объективирующих наук» видится
квинтэссенцией Просвещения, поставившего Разум выше Веры и не
терпевшего никаких ограничений сферы рациональной критики.
Именно этот свободный дух веет и из ранних произведений К. Маркса
(1818—1883), вполне ощущавшего себя наследником великих идей
XVIII века.
С высоты птичьего полета В. Г. Федотова рассматривает расцвет и
упадок цивилизаций, стремясь выявить закономерности
трансформационных процессов. Наш же подход существенно более узок и
прагматичен: мы попытаемся рассмотреть лишь перспективы выживания
«объективирующих наук» в условиях тектонических цивилизационных
сдвигов, происходящих сейчас с головокружительной быстротой,
поскольку их исчезновение лишает смысла наше существование. В этом
мы очень близки к Б. И. Пружинину, неоднократно подчеркивавшему
в выступлениях на Сократических чтениях, что человечество
обходилось без науки в прошлом и вполне возможно будет обходиться без нее
в будущем, однако для себя он не видит места в подобном мире.
2 Лэш К. Восстание элит и предательство демократии. М., 2002.
3 Федотова В. Г. Социальные инновации как основа процесса модернизации
общества // Вопросы философии. 2010. № 10. С. 4.
398 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Трагическое положение в науке, которая на глазах перестает быть
такой, какой мы ее знаем и любим, заставляет вновь обращаться к
вопросам ее возникновения. А. Е. Левин связал зарождение античной
науки со становлением демократии, где политики должны были
доказывать избирателям правильность принимаемых решений, в то время
как в деспотиях решались инженерные задачи, иногда на очень
высоком уровне, но не требовалось никаких доказательств. Облеченный
властью или наделенный полномочиями был прав по определению.
Став доказательным знанием, наука, по Левину, решительно
отмежевалась от мифа, что совершенно не требовалось для
технологии: «...даже отделяясь от мифа, технология ему не противоречит
и с ним не конфликтует. Технологическое мышление оказывается
совместимым с мышлением мифологическим. Это может поначалу
показаться странным... Однако — и это принципиальный аспект —
оба типа мышления равно универсальны: подобно тому как для
технологии нет неправильно поставленных задач, для мифа не
существует необъяснимых вопросов. Именно поэтому технология
всегда способна найти в мифе свое оправдание (и многие
современные мифы великолепно это доказывают), миф же способен
ассимилировать любые достижения технологии»4.
Существенно иначе смотрел на возникновение науки такой
глубокий мыслитель, как М. К. Петров (1923—1987). Для него наука
Нового времени — не продолжение античной науки — Петров
настоятельно предостерегал от быстрой езды по сетям цитирования от древних
греков до современности, но порождение католицизма: «Лишенная
прямого выхода в деятельность по производству материальных благ,
лишенная семьи как традиционного воспитательного института,
духовная профессия начала приобретать явные черты дисциплинарно-
сти: создавать те процедуры обучения, оценки, признания, которыми
мы пользуемся и сегодня. Диссертация, защита, диспут, звание, сеть
цитирования, научный аппарат, объяснение с современниками с
помощью опор-ссылок на предшественников, приоритет, запрет на
повтор-плагиат — все это появлялось в процессе воспроизводства
духовных кадров, где обет безбрачия вынуждал использовать "инородные"
для духовной профессии подрастающие поколения»5.
Возникновение естествознания, по Петрову, — результат
распространения веры в то, что Всевышний создал не одну книгу, а
две: Священное писание и Природу. Постижение обеих — долг хри-
4 Левин Л. Е. Миф. Технология. Наука // Природа. 1977. № 3. С. 93.
5 Петров М. К. Перед «книгой природы». Духовные леса и предпосылки научной
революции XVII в. // Природа. 1978. № 8. С. 115.
В. А. Шупер. Рационалистическое мировоззрение в условиях кризиса
399
стианина, ибо первая, как писал Ф. Бэкон (1561 — 1626), раскрывает
волю Бога, а вторая — Его могущество. Эту линию в современной
отечественной философии продолжает Б. И. Пружинин. «Мы
просто забыли, — пишет Б. И. Пружинин — что знание стало силой у
Ф. Бэкона потому, что на нем был отблеск мудрости Творца»6.
Наши представления о научно-техническом прогрессе
приблизительно верны только для периода примерно с середины XIX века.
Как указывал М. К. Петров, первая промышленная революция
вовсе не была научно-технической, поскольку все революционные
изобретения — паровая машина, ткацкий станок, пароход, паровоз,
электрический телеграф — были сделаны
практиками-самоучками. Более того, наука тогда и не могла вести за собой технический
прогресс, поскольку сама от него отставала. Рекомендации ученых
XVII и XVIII веков по улучшению сельского хозяйства имели бы
катастрофические последствия в случае их применения на практике7.
По мнению Петрова, превращение науки в непосредственную
производительную силу общества стало результатом второй научной
революции, которая была типичной революцией сверху.
Потерпевший поражение в войнах с Наполеоном король
Пруссии Фридрих Вильгельм III (1770—1840), приобрел похвальную
склонность к реформам. Это позволило филологу В. фон
Гумбольдту (1767—1835) осуществить беспрецедентные реформы среднего
и высшего образования, основав, в частности, в 1810 году
Берлинский университет как первый в мире университет нового типа.
В нем впервые были введены поточные лекции и соответственно
должности профессоров и приват-доцентов, а преподаваться стали
не юриспруденция, теология и изящная словесность, а
естественные, точные и технические науки. Поточная система подготовки
специалистов была увенчана созданием в 1826 году Ю. фон Либи-
хом (1803—1873) лаборатории в Гисене, которая стала прообразом
современных НИИ, обязательно имеющих аспирантуру. Именно
здесь были разработаны первые в мире минеральные удобрения
(азотные). Таким образом, к середине XIX века сформировалась
«великая триада», по Петрову, — фундаментальная наука,
прикладная наука и подготовка кадров. Результатом второй научной
революции стало бурное развитие промышленности, прежде
всего — машиностроения и химии, в Пруссии, затем в Германии, что
позволило выиграть франко-прусскую войну и в начале XX века
сделать страну второй экономикой в мире и первой — в Европе.
6 Пружинин Б. И. Надеюсь, что будет жить // Вопросы философии. 2008. № 5. С. 69.
7 Петров М. К. История европейской культурной традиции и ее проблемы. М., 2004.
400 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Отметим, что недавнее исследование 1000 наиболее
инновационных компаний мира показало, что лишь 47% среди них делают
упор на технические инновации, 27% ставят во главу угла
исследование рынка, а 26% — работу с клиентами. Не будем забывать,
что новый флакон для духов — это тоже бесспорная инновация.
Нынешняя революция, которой пока трудно дать название, да и
делается это обычно задним числом, может в значительной мере
рассматриваться, подобно первой промышленной революции, как
революция техническая, а не научно-техническая, причем с упором
на социальные технологии, потребные для манипулирования
широчайшими народными массами в коммерческих или политических
целях. Только такое предположение позволяет объяснить, каким
образом небывалый прогресс может вполне сочетаться с упадком
фундаментальных исследований и резким снижением социального
статуса науки и ученых, причем отнюдь не только в нашей стране.
Соответственно оптимистический взгляд на судьбы
«объективирующих наук» может исходить из предположения о пришествии в
скором будущем новой иоушо-технической революции, которая все
расставит по прежним местам, или хотя бы близким к прежним.
Такое предположение находит опору уже в том совершенно очевидном
обстоятельстве, что задел фундаментальных знаний, необходимых
для прикладных исследований, безусловно, исчерпаем. В некоторых
важнейших областях, например в области фармакологии, он уже
местами вычерпан до дна. Так, у пяти крупнейших фармацевтических
компаний мира отдача от вложений в НИОКР упала до $0,43 на $1.
При этом широкой публике мало известна реальная практика работы
этих гигантских акул, которые патентуют молекулы, выделенные из
старых тибетских лекарств, водорослей, всего, что сумели поймать.
Однако люди делают в любой ситуации не то, что нужно, а то,
что умеют. В. Г. Федотова проницательно отмечает глубокие
различия между традициями и архаикой8. Традиции — это
социальные инновации, которые, как и технические изобретения, могут
быть удачными или неудачными. Они — условие развития
общества, а не его обуза, тяжкий груз прошлого. Вот архаика — это как
раз утрата достижений развития, откат назад, когда груз прошлого
действительно становится очень тяжким. В указанной работе
рассматривается архаизация различных сторон жизни в любезном
отечестве в начале 90-х годов, но намного ли лучше ли обстоят дела в
странах просвещенного Запада?
8 Федотова В. Г. Российская история в зеркале модернизации // Вопросы
философии. 2009. № 12.
В. А. Шупер. Рационалистическое мировоззрение в условиях кризиса
401
Увы, нет и подтверждений тому в избытке, причем именно в тех
областях, которые, по мнению широкой публики, находятся в
авангарде социального прогресса. Общий кризис рационализма на Западе,
отказ от великих идей Просвещения проявляются в самых различных
формах, достаточно вспомнить дело Д. Стросс-Кана, когда в лучших
традициях средневекового правосудия исследуются не
доказательства, которых нет, а репутация заявительницы, сомнения в коей и
спасли от многолетнего тюремного заключения одного из
авторитетнейших финансистов мира. На что надеяться в подобных ситуациях
людям не столь известным и не столь богатым? Ведь в США суды
тысячами приговаривают разведенных отцов к огромным выплатам для
возмещения ущерба, якобы нанесенного развратными действиями в
отношении дочерей. При этом суд основывает свой вердикт
исключительно на показаниях ребенка (!), за которым стоит разведенная мать.
Один из самых глубоких отечественных мыслителей, П. Я. Чаадаев
(1794—1856), писал о Западе, что он искал справедливость, а нашел
благосостояние. Выбрасывая как ненужный хлам принцип
презумпции невиновности в угоду большей части электората, Запад потеряет
сначала справедливость, затем благосостояние.
Отметим, что отход от великих принципов Просвещения вовсе
не ограничивается областью прав женщин как
привилегированного большинства. Если Гарвард лишает диплома своего выпускника,
высланного из США по подозрению в шпионаже, т. е. даже при
отсутствии судебного приговора (!), то разве не напоминает это нам
самые мрачные страницы отечественной истории, когда никакой
демократией в нашей стране и не пахло? Увы, на Западе есть очень
много такого, чего мы, выражаясь словами В. С. Черномырдина
(1938—2010), не можем видеть в упор. Или не желаем этого делать.
Между тем все совсем не так плохо, как может показаться на
первый взгляд. Все гораздо хуже, поскольку отход от принципов
Просвещения неизбежно приводит к размыванию этического фундамента
науки, в отсутствие которого она рассыпается сама, даже без
серьезных поползновений со стороны властей предержащих. Уподобивший
науку рынку Ф. фон Хайек (1899—1992) рыцарски защищал
рационализм и имел в виду механизмы возникновения и циркуляции знаний,
а вовсе не торгашеский дух. В конце концов, у проституции тоже
свой рынок. Финансирование науки с помощью грантов за
несколько десятилетий деморализовало научное сообщество, не оказавшее
этой рыночной мере никакого противодействия, хотя очевидно, что
конкурс результатов нельзя подменять конкурсом обещаний, что
цель исследования достигается в таком случае еще до его начала, что
деградируют институты строгой профессиональной критики и т. д. и
402 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
т. п. Да и сами фонды крайне не заинтересованы в признании отчетов
неудовлетворительными, ведь это брак в их работе.
Что сейчас осталось от этических принципов науки,
сформулированных в 1942 году Р. К. Мертоном (1910—2003)? Если
патентуются аминокислоты и последовательности генов в геноме, то как
можно положиться, что не начнут патентовать и элементарные
частицы, будет ли на них появится спрос? Научное сообщество стало
слабо сопротивляться покушениям на самое святое только тогда,
когда маразм приобрел поистине кафкианские формы, будь то
индексы научного цитирования, импакт-индексы или еще черт знает
какие извращения. Увы, было уже слишком поздно: рыночный
троянский конь был завезен в науку давно и успел сделать свое дело.
Зарисовка с натуры: заседание оргкомитета престижного
международного симпозиума, собираемого раз в два года. Итальянский
профессор говорит, что тезисы на одну страницу мало что дают, к
следующему симпозиуму надо опубликовать тезисы на 5
страницах. Французский профессор возражает ему, что тезисы не идут
ни в какой зачет, подготовка их — выброшенное время, а потому
чем короче, тем лучше. Разумеется, именно эта точка зрения была
единодушно поддержана остальными членами оргкомитета. Эти
люди — бескорыстные искатели истины? Они будут вдумчиво и
непредвзято анализировать статьи, присылаемые на рецензию?
Они пойдут против течения, отстаивая свои принципиальные
позиции? Идти против течения — значит не получать гранты.
Именно моральное разложение научного сообщества с помощью
грантов сделало возможным распространение таких химер, как
представление о разрушении озонового слоя, на борьбу с которым были
потрачены миллиарды долларов, или о потеплении климата как
результате антропогенных воздействий, которое обошлось куда
дороже. Да известно ли вам, любезнейшие читатели, что среднемировая
температура уже 15 лет вообще не растет? Вам обязаны были
сообщить и это, и многое другое! Большой вклад в развенчание обоих
мифов внес замечательный физико-географ член-корреспондент РАН
А. П. Капица (1931—2011). Характерно, что его брат, С. П. Капица
(1928—2012) был активнейшим членом Комиссии по борьбе с
лженаукой и фальсификацией научных исследований, созданной РАН в
1998 году. Можно предположить, что эти замечательные ученые
унаследовали независимость взглядов и преданность научной истине от
своего отца, любимого ученика Э. Резерфорда ( 1871 —1937).
Не следует простодушно полагать, что элиты западных стран
добросовестно заблуждаются относительно потепления климата.
Автору как-то довелось оказаться за столом с французским дипломатом,
В. Л. Шупер. Рационалистическое мировоззрение в условиях кризиса
403
бывшим послом в одной из европейских стран. Страдая, подобно
многим из нас, болезненным стремлением при каждом удобном
случае распространять научные знания, автор начал с жаром
объяснять уважаемому дипломату, что антропогенная природа потепления
климата — это на сегодняшний день не более чем гипотеза... Но на
этом пришлось остановиться, поскольку высокопоставленный
собеседник сразу же отмахнулся от этой темы, как от назойливой мухи:
«Да, все это нужно, чтобы притормозить Китай и Индию». Можно
быть благодарными за разъяснения, зачем это нужно Западу, но
возникает естественный вопрос: зачем это нужно нам?
Сюда же следует добавить и заботливо нагнетаемые страхи по
поводу исчерпания природных ресурсов. Нас запугивают в угоду
нефтяным компаниям и экологическому лобби исчерпанием запасов
нефти, хотя любой вдумчивый исследователь знает о том, как боялись в
XIX веке сначала исчерпания запасов древесины, потом угля.
Вовлечение в эксплуатацию битуминозных сланцев позволило увеличить
извлекаемые запасы нефти на порядок, но можно не сомневаться,
что борцы с исчерпанием природных ресурсов притихли ненадолго,
ибо источник их озабоченности лежат совсем не в экономической
плоскости. Даже в нашей стране, где к резкому падению курса
национальной валюты и жизненного уровня вместе с ним уже дважды
за последние 16 лет приводило снижение цен на нефть, а отнюдь не
ее добычи, все равно вовсю распеваются эти песни, поскольку они в
моде на Западе. Воистину не надо верить глазам своим. Кстати, нефть
все шире вытесняется газом как более прогрессивным видом топлива,
просто газовое лобби куда слабее, а экологам им заниматься не с руки
ввиду несопоставимо меньшей опасности для окружающей среды.
Особо следует остановиться на такой «области науки», как
исследования устойчивого развития, поскольку эта область обладает
явными признаками псевдонауки, сформулированными Б. И. Пружи-
ниным9. Было убедительно показано, что устойчивое развитие как
неистощительное природопользование невозможно даже
теоретически10. Действительно, можно, например, поддерживать плодородие
почв, но для этого надо применять усовершенствованные и зачастую
более затратные методы пахоты, вносить удобрения, использовать
севообороты и т. д. Соответственно и «устойчивое развитие» возможно
только в открытой системе, в которую вещество и энергия поступают
извне. Загрязнения тоже хорошо бы сливать куда-то вовне. Именно
9 Пружиним Б. И. Ratio serviens? // Вопросы философии. 2004. № 12.
10 Бабурин В. Л. Легенды и реалии устойчивого развития через призму географии //
Известия РАН. Серия: география. 2011. № 4.
404 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
эта модель отчасти реализуется в странах «золотого миллиарда»
путем выноса грязных производств. Использование электростанций,
работающих на солнечной энергии, или электромобилей позволяет
снизить загрязнение в высокоразвитых странах за счет его увеличения
в развивающихся, где выплавляются металлы для солнечных
батарей и аккумуляторов. Эти производства относятся к самым вредным.
Впрочем, устойчивое развитие как sustainable development с
очевидностью не наблюдается и в высокоразвитых странах. Если последний
кризис — это устойчивое развитие, то какое же считать
неустойчивым? Почему не замечается очевидное? Между тем еще в 90-е годы.
Д. И. Люри убедительно показал, что высокая цена на ресурс в
принципе исключает возможность его рационального использования11.
У «устойчивого развития» есть очень важная идеологическая
функция. Три десятилетия после Второй мировой войны
ознаменовались достаточно высокими темпами экономического роста,
составлявшими 4—5% в год, как для стран Западной Европы, так
и для США. В историю Франции этот период даже вошел под
названием «Славного тридцатилетия». С середины 70-х годов темпы
стали снижаться, опустившись до 2—2,5% и менее, что было
связано в первую очередь с выводом промышленности в страны
третьего мира. Именно тогда резко возросло внимание к проблемам
качества окружающей среды, а в 1987 году с подачи Г. X. Брундтланд
появилась концепция устойчивого развития — такого развития,
которое сохраняет качество окружающей среды для настоящего и
будущего поколений. Между тем выход на первый план
экологических проблем стал возможен именно в силу того, что
промышленные группы во все возрастающей степени выносили «грязные»
производства за пределы высокоразвитых стран.
В том же направлении действовала и другая тенденция — рост
благосостояния среднего класса, представители которого приобретали
вторые и третьи жилища, предъявляя при этом высокие требования к
качеству среды. Таким образом, появился спрос на идеологию,
утверждающую необходимость трансформации количественного роста в
качественный, избирателей убеждали в том, что они выигрывают в
качестве жизни, а не в материальном потреблении. Между тем очевидным
следствием такого развития стал продолжающийся рост безработицы,
формирование устойчивых групп населения, исключенных из
общественного производства, и потому имеющих совсем иные
представления о качестве жизни. Следует считать трагическим заблуждением
признание права на качественную окружающую среду приоритетным
11 Анатомия кризисов. М, 1999. Гл. VIII и IX.
В. А. Шупер. Рационалистическое мировоззрение в условиях кризиса
405
по отношению к праву на труд, утверждают два французских
профессора-вольнодумца, опубликовавшие очень резкую книгу12.
Особый вопрос — о цене «устойчивого развития». Жители
Калифорнии, разумеется, приветствуют развертывание солнечных
батарей в своем штате, но производимая с их помощью электроэнергия
убыточна и подобные проекты безо всякого воодушевления
воспринимаются в других штатах, поскольку поддерживаются из
федерального бюджета. В ФРГ убыточная «экологическая» энергетика
финансируется за счет 22%-го налога на всю потребляемую энергию.
Экономисты и предприниматели ропщут, ведь этот налог серьезно
снижает конкурентоспособность немецкого экспорта при далеко
не самой благоприятной конъюнктуре, но их не слушают.
Использование этанола в качестве топлива тоже убыточно, да к тому же
гонит вверх цены на продовольствие, от чего страдает, прежде
всего, самая бедная часть человечества. Между тем человечество может
получить неисчерпаемый источник экологически совершенно
безопасной энергии, овладев энергией управляемого термоядерного
синтеза. Почему на «термояд» не направляется хотя бы некоторая
часть огромных средств на «экологическую энергетику»,
выбрасываемых практически впустую? Ведь еще в конце 50-х годов XX века
любознательные школьники и студенты знали, что именно это
магистральный путь развития энергетики. Зачем свернули с него?
Причина в архаизации Запада и, разумеется, тех, кто ему
подражает в России. «Устойчивое развитие», ставшее официальной
идеологией и преподаваемое в школах, как в свое время закон
божий, несовместимо с наукой и потому враждебно ядерной физике
как одной из самых передовых ее областей. Если делать ставку на
«термояд», то надо кончать весь этот балаган с ветряками и
прочим, если слушать ученых, а не манипулировать ими, то надо раз
и навсегда замолчать по поводу борьбы с потеплением климата. Но
Разум больше не может быть поставленным выше Веры. Если до
Просвещения церковь убеждала людей в том, что они живут в
прекрасном и гармоничном мире, а потому должны быть счастливы,
а не ждать сколько-нибудь существенного улучшения своего
материального положения в результате развития экономики, крайне
медленного по тем временам, то сейчас эта функция возложена на
«устойчивое развитие». Ведь говорить о грядущих высоких темпах
экономического роста на Западе можно только в нетрезвом виде.
Как в таких условиях возродиться фундаментальной науке?
12 Брюне Л., Гишар Ж.-П. Геополитика меркантилизма: новый взгляд на мировую
экономику и международные отношения. М., 2012.
406 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Но солнце встает на востоке, и мы уже давно смотрим туда с
надеждой. Начисто лишенные расовых и национальных предрассудков, мы
нисколько не страшимся передать Науку — самое дорогое, что у нас
есть — в крепкие китайские руки. Увы, В. Г. Федотова, испытывая
закономерное восхищение перед успехами в экономическом и
социальном развитии Поднебесной, тем не менее отмечает глубокие и
труднопреодолимые отличия в менталитете китайской цивилизации13. Для
нас наиболее важно отметить сугубо утилитарное отношение к науке,
вместо принятой (или ранее принятой) на Западе научной
рациональности, на что указывает и Л. Ли14. Эта констатация не несет никаких
этических коннотаций: европейская наука Нового времени возникла
из благороднейших духовных исканий (см. выше), а китайцам надо
было вооружиться ей, прежде всего, для оказания сопротивления
европейским державам, а позднее и Японии, с особой жестокостью
терзавшей их страну. Для китайцев наука относится не к прекрасным
вещам, а к полезным. Китайцы определенно не глупее нас, они вполне
могут преодолеть и этот барьер, только нуждаются ли они в этом?
В условиях военного противостояния с США для советского
руководства фундаментальная наука была жизненно необходима,
что и обусловливало высокий статус науки и ученых в СССР,
аналогично и в США высокий уровень как науки, так и образования,
был вопросом национальной безопасности. Достаточно отметить,
что уровень среднего образования считал чуть ли не своей главной
заботой отец американского атомного подводного флота адмирал
X. Г. Риковер (1900—1986), неоднократно обсуждавший эти
вопросы с Дж. Ф. Кеннеди (1917—1963) и находившего в нем весьма
заинтересованного собеседника. Зато уже в 1993 году, сразу по
завершении геополитического соперничества, Конгресс США прекратил
финансированию работ по созданию Сверхпроводящего суперкол-
лайдера, пожертвовав уже вложенными немалыми средствами.
Однако соперничество КНР и США разворачивается скорее в
экономической плоскости, хотя китайское руководство уделяет
неослабное внимание укреплению обороноспособности страны, уже
спустило на воду первый авианосец и заложило второй, больше первого.
Можно не сомневаться, что в долгосрочных планах руководства КПК
достижение к какому-то году военного паритета с США, а может быть
и не только паритета, благо экономические возможности должны это
13 Федотова В. Г. Теорема Томаса китайской модернизации // Вопросы философии.
2012. № 6.
14 Lee L. О. The Cultural Constraction of Modernity in Urban Shonghai. Some
Preliminary Exploration // Becoming Chinese. Passages to Modernity and Beyond / Ed. by
Wen-Hsin Yen. Berkeley, Los Angeles, L., 2000.
В. А. Шупер. Рационалистическое мировоззрение в условиях кризиса
407
позволить. Однако Китай выиграет у Запада по его же правилам и уже
успешно делает это. Предельно все формализовав, чтобы сделать
подконтрольным бюрократам и понятным некомпетентному
большинству, утвердив высшей ценностью деньги при отсутствии хоть
сколько-нибудь серьезной идеологии, Запад сделал Китаю самые лучшие
подарки, какие только мог: Китай все скопирует или купит.
Пройдет 10—15 лет, и Китай, который не делает поспешных
шагов, поскольку знает, что время работает на него, но при этом
продвигается очень быстро, потратит миллиарды долларов на покупку
западных СМИ, или как минимум «золотых перьев», на гранты
европейским и американским ученым (А. Брюне и Ж.-П. Гишар считают,
что он уже к этому приступил15). Не изменится ли после этого
состояние общественного мнения на Западе? Будут ли там по-прежнему
петь «старые песни о главном»: потеплении климата, устойчивом
развитии, демократии, правах сексуальных меньшинств и т. п.? Более
вероятно коренное изменение международной повестки дня в том
мире, где все тверже звучит и голос Индии, несовпадение интересов
которой со странами Запада уже приводило к провалу переговоров
в рамках ВТО. На первый план выйдут вопросы развития, а не
экологии, здравоохранения, а не прав человека, государственного
суверенитета, а не международного гуманитарного сотрудничества. Если
СССР без единого выстрела проиграл третью мировую войну, то
Китай также без единого выстрела может выиграть четвертую и только
для Индии реально составить ему какой-то противовес к середине
столетия. Впрочем, перестав быть важными пунктами
международной повестки дня, «устойчивое развитие» и «потепление климата»,
возможно, по-прежнему будут широко использоваться на
внутреннем рынке, поскольку найти им подходящую идеологическую
замену при царящем интеллектуальном убожестве будет довольно трудно.
Не призывать же к форсированию исследований в области
управляемого термоядерного синтеза, в отличие от ветряков, совершенно
непонятных широчайшим народным массам!
Увы, в деле спасения науки Нового времени как самого
прекрасного творения западной цивилизации мы едва ли сможем
рассчитывать на китайцев, не испытывающих перед ней того
благоговейного трепета, который испытываем мы, и по большому счету
не нуждающихся в достижении превосходства в области
фундаментальной науки для замены Pax Americana на Pax Sinensis. Еще менее
благоприятны перспективы в нашей стране, чему недавний при-
15 Брюне Л., Гишар Ж.-П. Геополитика меркантилизма: новый взгляд на мировую
экономику и международные отношения..
408 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
мер — постыдный блицкриг против РАН летом 2013 года. Однако
события марта 2014 года, не делая взгляд в будущее более
оптимистичным, делают его менее однозначным. Как бы мы не относились
к присоединению Крыма, оно может означать гигантский
геополитический разворот, хотя может и остаться банальной кражей. В
первом случае В. В. Путин сможет пойти на территориальные уступки
Японии, до этого политически совершенно невозможные16, в обмен
на многомиллиардные японские инвестиции на Дальнем Востоке.
Замечательный отечественный экономико-географ И. М. Маер-
гойз (1908—1975) выступил с довольно неожиданной для первой
половины 70-х годов идеей использовать исключительно выгодное (уже
тогда!) экономико-географическое положение Дальнего Востока для
его ускоренного развития с тем, чтобы в дальнейшем сделать его
второй базой освоения Сибири, осваиваемой в этом случае как с запада,
так и с востока17. Между тем фундаментальный дефект
геополитического положения России состоит именно в ее крайней слабости на
Дальнем Востоке и он постоянно усиливается по мере перемещения
оси мирового развития из атлантического региона в тихоокеанский.
Шанс его форсированного освоения в 70-е годы при значительно
более благоприятной демографической и экономической ситуации был
прискорбным образом упущен. Сейчас речь должна идти уже не об
индустриальном, а о постиндустриальном освоении Сибири и
Дальнего Востока, поскольку индустриальное освоение так и осталось
незавершенным, а время его прошло18. А. Н. Пилясов подчеркивает, что
и добывающая промышленность может быть очень и очень
инновационной, обрастать множеством крупных и мелких фирм,
разрабатывающих и применяющих современные технологии добычи,
транспортировки, переработки, занимающихся минимизацией ущерба
для окружающей среды и социальным развитием территорий, на
которых работают добывающие предприятия. Многочисленные тому
примеры можно найти в Австралии и Канаде.
16 Достаточно вспомнить бурю негодования по поводу передачи Китаю
небольших островов на Амуре при заключении договора о границе, хотя и Китай, со
своей стороны, пошел на весьма серьезные уступки. Между тем, очевидно, что
Китай — не Эстония и не иметь с ним договор о границе в условиях постоянно
изменяющегося не в нашу пользу соотношения сил крайне нежелательно. Однако за
замечательным успехом российских дипломатов последовали не потоки
поздравлений, а потоки грязи, выливаемые на их несчастные головы.
17 Маергойз И. М. Уникальность экономико-географического положения
советского Дальнего Востока и некоторые проблемы его использования в
перспективе // Вестник Московского университета. Сер. V. География. 1974. № 4.
18 Пилясов А. Н. И последние станут первыми. Северная периферия на пути к
экономике знания. М., 2009.
В. Л. Шупер. Рационалистическое мировоззрение в условиях кризиса
409
Сейчас трудно сказать, станет ли присоединение Крыма важной
вехой в геополитической переориентации страны, но
совершенно очевидно, что подобная переориентация потребует разворота
на 180 градусов в области идеологии, а также образования и науки,
что гораздо важнее. Только просвещенный патриотизм (а не
просвещенный консерватизм, по С. А. Караганову) может стать
идеологией, отвечающей задачам развития страны. Мы должны вернуться к
идеям В. И. Вернадского (1863—1945), 150-летие со дня рождения
которого было отмечено разгромом Российской академии наук.
В. И. Вернадский твердо стоял на демократических позициях,
решительно обличал произвол властей, в 1911 году в числе первых
подал прошение об отставки с должности профессора
Московского университета (печально знаменитое «дело Кассо»), дважды
становился членом Государственного совета и дважды выходил из его
состава ввиду принципиального несогласия с принимаемыми
решениями. Тем не менее В. И. Вернадский всегда подчеркивал, что
задача ученых — укрепление и совершенствование государства как
величайшего цивилизационного достижения и, разумеется, условия
развития науки. Разве все мы не согласимся с тем, что крайне
несовершенное государство надо совершенствовать, а не разрушать?
Не все однако готовы согласиться, что совершенствовать и
укреплять надо именно свое государство. Либеральные властители наших
дум совершенно не желают замечать ни того, что интересы России
и стран Запада совпадают далеко не во всем, ни того, что
заимствуемый на Западе опыт далеко не во всем положителен и далеко не
всегда применим на российской почве, ни того, что ось мирового
развития все больше сдвигается на восток и очередная смена лидера не
за горами. Между тем просвещенный патриотизм состоит именно в
том, чтобы самым внимательным образом собирать интересный
зарубежный опыт, но подвергать его строгому и справедливому суду на
основе собственных представлений о должном и сущем. Стороннему
наблюдателю должна была бы показаться сюрреалистической
ситуация, при которой даже лучшие из либералов, включая Е. Т. Гайдара
(1956—2009) и примкнувшего к ним в этом сомнительном деле не
вполне либерального Г. А. Явлинского, решительно отстаивали право
Украины бесплатно пользоваться российским газом только потому,
что в этом был заинтересован Запад. Б. Е. Немцов даже умудрился
поработать советником президента Ющенко. Трудно представить
хоть какого-нибудь украинского политика в роли советника Путина.
Следуя старому доброму принципу «клин клином вышибают»,
наша многомудрая власть противопоставляет всей этой
прозападной публике тех, у кого ничего нет за душой, кроме православия,
410 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
самодержавия и народности. Их интеллектуальный багаж еще
более убог, с ним следует отправляться в прошлое, а не в будущее.
Между тем есть униженная и оболганная, но еще не добитая до
конца Академия, есть десятки тысяч ученых, осознанно или
стихийно следующих государственническим представлениям
Вернадского. Вот интеллектуальная сила, которую можно было бы
противопоставить «тлетворному влиянию Запада» для защиты
просвещенного патриотизма. Почему этого не делают? Не хватает ума?
Думается, что причина гораздо глубже и состоит именно в
архаизации, в сокрушительном падении образовательного и
интеллектуального уровня. Если браться за серьезные дела, то надо заботиться о
знаниях студентов, а не о рейтингах вузов. Надо поднимать
интеллектуальный уровень в стране, а не соревноваться с Западом в скорости
на спуске. Нужно требовать от ученых прорывов, а не импакт-индек-
сов, но разве способно на все это нынешнее руководство?
Показательна история с увольнением профессора А. Б. Зубова из ГУ-МГИМО в
марте 2014 года за проведенную им аналогию между присоединением
Крыма и аншлюссом Австрии. Охота на ведьм омерзительна по
определению, но в МГИМО работает немало весьма квалифицированных
историков, географов, политологов, с очевидностью не разделяющих
взгляды Зубова и способных дать ему достойный ответ, напомнив,
например, о событиях значительно более близкого прошлого, будь то
признание независимости Косово или агрессия против Ирака.
Именно такая дискуссия безо всяких последующих оргвыводов
имела бы огромное воспитательное воздействие на студентов, в то
время как увольнение профессора, обвиненного в растлении юных душ,
неизбежно привлечет к нему симпатии лучших из них. Но, увы,
архаизация нашей жизни зашла слишком далеко, чтобы сделать возможным
использование даже тех интеллектуальных ресурсов, которые у властей
предержащих, что называется, под рукой. Нелепо и думать о каких-
то более сложных маневрах, что подтверждает лишний раз правоту
К. Лэша с его крайне пессимистическим взглядом на перспективы
западной демократии, не говоря уже о ее евразийском преломлении.
На второй сессии Конференции научных работников РАН
25 марта 2014 года академик А. П. Кулешов поднял вопрос о
катастрофическом истончении интеллектуального слоя в стране в
постсоветский период, которому, безусловно, будут еще больше
способствовать грядущие сокращения штатов в бывших
институтах РАН. Эта тема затрагивалась и во многих других выступлениях.
Можно предположить, что пока этот слой не уничтожен,
архаизация остается обратимой, но какова критическая величина его
мощности? Не пройдена ли точка невозврата?
Е. Я. Мотовникова
«Чужие» или «Другие»?
Культурно-исторические метаморфозы
проблемы внеземных цивилизаций
...Лучик зеленой звезды на рассвете.
Красной планеты ночное сиянье.
Как мне без вас одиноко на свете,
о недоступные мне марсиане!
Юрий Левитанский
В своей книге Б. И. Пружинин замечает в контексте разговора о
науковедческих штудиях П. А. Флоренского: «Надо сказать, что
в те времена, когда развертывались программы русской
"положительной философии", само обращение при анализе
гносеологической проблематики к "запросам нашего сердца", т. е.
ценностно-ориентированному, "социокультурному", как теперь
говорят, аспекту научного познания, было делом весьма неординарным»2.
Если это так, то еще интереснее выглядит необычный опыт одного из
первых оригинальных русских философов науки, H. H. Страхова,
который анализирует ценностные и исторические предпосылки ряда
концепций «истории мнений о жителях планет»3. «Жители планет» —
такое странное название дал он сначала статье, а потом и центральной по
идейно-содержательной значимости части своей главной книги «Мир
как целое». Содержание этого раздела подводит к важнейшему для
всей страховской антропологии выводу о центральности положения
человека в едином цельном мироздании; заключительная глава его
названа «Человек — центр мира» — и тут же такое несерьезное общее
заглавие — почему? Для привлечения внимания массового читателя? Для
маскировки сложности проблемы и слишком серьезных выводов4?
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект № 13-
03-00336 «Концептуальный каркас культурно-исторической эпистемологии и
современные тенденции в методологии гуманитарных исследований».
2 Пружинин Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии.
М., 2009. С. 141.
3 Страхов Н. Н. Мир как целое / Предисл., коммент. Н. П. Ильина (Мальчевского).
М., 2007. С. 209.
4 Так, в ответ на критику Л. Н. Толстым в переписке стиля «Жителей планет»
Страхов писал: «Огорчение заключается вот в чем: Вам не нравится, когда я
принимаюсь шутить (напр. Жители планет); я и прежде догадывался, что как толь-
412 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Тем не менее Страхов действительно знакомит своих читателей
с изрядной коллекцией авторитетных ученых и мыслителей
Нового времени, прямо или косвенно высказывавшихся по проблеме
обитаемости внеземных миров. При этом собственное отношение к
вопросу он не только выдает намеком через название и общий
иронический тон всей статьи5, но и явно провозглашает под заголовком
«Правильная постановка вопроса». Эта глава начинается
недвусмысленным замечанием о том, что «не только у нас нет никаких сколько-
нибудь важных причин принимать их <планетных жителей>
существование, но что даже самое легкое, простое и ясное предположение
будет именно отрицание этого существования»6. Почти с первых
ко я оставлю сухие, холодные рассуждения (так отозвался один приятель
вообще о моем писании), так у меня выходит что-то странное. Из этого для меня
следует тот вывод, что я не могу дать живого, теплого тона тому, что пишу. Нечего
делать; придется вперед оставить попытки на глубокомысленную и тонкую
шутливость» (Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. 1870—1894 //
Толстовский музей. Т. II / Предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского. СПб., 1914. С. 21—22).
5 Собрав разрозненные статьи в книгу, Страхов подчеркнул в Предисловии эту
мысль как выражение своего философского понимания современного состояния
умов: «Люди мечутся, ища выхода, ищут страдания и почитают за стыд быть
довольными этою жизнью, как она есть. Самые глупые, спиритисты, уже переделали
мир по-своему и наслаждаются беседами с жителями планет. Другие, политические
фанатики, мечтают о том, чтобы переделать человека, изменить ход всеобщей
истории. Чтобы найти себе какой-нибудь выход, они разжигают в себе чувство
недовольства современным порядком мира, жизнью, нравами и свойствами людей, и тогда
начинают верить в какое-то новое человечество, которое будет свободно от самых
коренных свойств человеческой природы и которое в сущности такая же мечта в
будущем, как жители планет, беседующие со спиритистами, в настоящем. Так
стремятся люди насытить желания своего сердца; одни вздыхают о прошедшем и
погружаются в него, облекая его фантастическими красками; другие мечтают о будущем,
третьи населяют планеты и звезды. Никто только не думает, что задача должна быть
решена теперь и здесь и что всякое перенесение решения в другое время и в другое
место есть только обман, которым мы сами себя тешим. Если же кто это и чувствует,
то не умеет ни формулировать вопроса, ни приняться за его решение; современное
просвещение не дает для этого средств. Так что в настоящее время едва ли не самый
мудрый тот, кто, питая некоторое недоверие к Неисследуемому, отказывается от
попыток схватить умом роковую задачу и находит удовлетворение в ее практическом
решении, то есть в возможном исполнении долга» (Предисловие к первому
изданию. 18 октября 1872 года // Страхов H. H. Мир как целое. С. 68—69).
6 Страхов H. H. Мир как целое С. 215. Интересно сравнить это здравомыслящее
рассуждение с современным выражением столь же здравого понимания внена-
учного происхождения интереса к «инопланетянам». На просветительском сайте
публикация отрывка из книги «Пять нерешенных проблем науки» А. Уиггинса и
Ч. Уинна начинается словами: «Ученых, как и всех, будоражит возможность
существования внеземной жизни. Однако действительность такова, что, помимо
представлений на кино- и телеэкране, на страницах книг, на сайтах Всемирной
Паутины и бесчисленного числа рассказов "очевидцев", нет ни одного научного
свидетельства наличия жизни вне Земли. Тем не менее научные поиски ведутся на обоих
E. H. Мотовникова. «Чужие» или «Другае»? ...
413
страниц, едва заинтриговав читателя обещанием ответить на вопрос,
есть ли жители на планетах, автор заявляет, что планеты и звезды
вовсе не нуждаются в жизни, что «желание представлять себе иную
жизнь, отличную от нашей человеческой, — вот, без сомнения,
главное основание, по которому мы населяем планеты жителями. <...>
Если прежде из того же стремления родились олимпийские боги или
духи подземные, водяные и воздушные, — то ныне, когда более
точные исследования доказали отсутствие этих существ в указанных
местах, мы, сообразуясь с научными открытиями, нашли, что эта иная,
не наша жизнь, <...> может поместиться на других планетах. Мы
радуемся, что астрономия развязала нам руки или, выражаясь другими
словами, доказала бесконечность мироздания. Теперь, если бы даже
строгие изыскания показали, что на планетах Солнечной системы
вовсе нет жителей <...> мы будем подвигаться дальше и дальше и
будем при этом находиться в приятной уверенности, что места для
наших поселений всегда хватит. Понятие об иной жизни, отличной от
человеческой, глубоко и крепко коренится в человеческом духе. Как
легко видеть, оно имеет значение величайшей важности, потому что
неразрывно связано с тем смыслом, какой мы придаем нашей
земной жизни. <...> Как светлый или темный фон, на котором резко
рисуются формы нашей земной, человеческой жизни»7.
В чем же тогда состоит интерес самого автора разбираться с
заведомо ясным вопросом? Скорей всего, здесь сыграл решающую
роль тот познавательный мотив, в котором H. H. Страхов
признавался позднее: «Нет ничего интереснее, как исследование
заблуждений, ибо оно ведет к познанию самой глубокой стороны
человеческого существа. <...> Предрассудки и заблуждения — это
какое-то творчество, постоянно живое в душе человека, имеющее
корни в самом его существе. Наука обыкновенно тщеславится тем,
что она разрушает заблуждения и предрассудки; но, если она
только этим разрушением и ограничивает свою деятельность, то ей
можно сделать справедливый упрек, что она пуста и безжизненна,
что насытиться ею невозможно. Таким образом, тут возникает
вопрос и о целях и действиях науки, и о душевной жизни, взятой в ее
целости»8. Мысль эта — не только оригинальный аргумент
Страхова в пользу известной характерной установки русской философии
на выработку цельного знания о цельном человеке, но и представ-
фронтах, теоретическом и экспериментальном» (URL: http://nasha-vselennaia.
ru/?p=322, дата обращения 17.03.2014).
7 Страхов H. H. Мир как целое. С. 216—217.
8 Страхов H. H. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. VI—VII.
414 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
ляется хорошим примером того самого «обращения при анализе
гносеологической проблематики к "запросам нашего сердца"»9.
Поскольку сам H. H. Страхов ни в каких, по-нашему говоря,
инопланетян не верит, то он берет для разбора заблуждений не
просто ходячие мнения, но ряд известных в читающем мире
произведений авторитетных в науке и просвещении авторов,
выразивших эти мнения наиболее последовательно, осознанно и
обоснованно — ведь именно характер рассуждений и предрассудков
интересует его прежде всего.
Первым и важнейшим разбираемым автором Страхов
выбирает Лапласа с его «Изложением системы мира», в котором о «жителях
планет» не говорится почти ничего, признается только весьма высокая
вероятность их существования на том основании, что мир велик:
«Человек, созданный для температуры, которой он пользуется на земле, не
мог бы, по всей вероятности, жить на других планетах; но не должно
ли существовать бесконечное множество организаций,
соответствующих различным температурам шаров этого мира? Если одно различие
стихий и климатов вносит столько разнообразия в земные
произведения, то насколько больше должны различаться произведения
различных планет и их спутников? Самое деятельное воображение не может
составить об них никакого понятия, но их существование, по крайней
мере, очень вероятно»10. Сначала H. H. Страхов как будто не
собирается обсуждать вероятность и степень различий «организаций»,
произведенных в бесконечном множестве планет, а обращает внимание на
воспевание математиком, скептиком и материалистом Лапласом
«высокого достоинства» науки астрономии, открытия которой «оказали
важные услуги мореплаванию и географии; но величайшее их
благодеяние заключается в том, что они рассеяли страх, внушаемый
небесными явлениями, и искоренили заблуждения, порожденные
незнанием наших истинных отношений к природе»11. Какое такое особенное
величие видит Лаплас в астрономии? «Астрономия, говорит Лаплас,
открыла человеку истинную систему мира. Значит ли это, что она
способствовала постижению сущности мира? Нисколько. <...> Что
разумеет Лаплас под истинными отношениями к природе? Вообще, какая
тайная мысль увлекла творца "Небесной механики" к таким явно
непоследовательным суждениям?»12 Ключ к раскрытию тайны
восхищения Лапласа астрономическими открытиями Страхов находит в его
9 Пружиним Б. И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии.
С. 141.
10 Страхов Н. Н. Мир как целое. С. 210—211. Пер. H. H. Страхова.
11 Там же. С. 211.
12 Там же. С. 212-213.
E. H. Мотовникова. «Чужие» или «Другие»?...
415
допущении реальности обитаемых миров, что могло бы считаться
важнейшей истиной в познании мира. «В самом деле, не в том дело, что
человек прежде считал землю неподвижной, а в том, что <...> он
принимал свой род за единственное богоподобное творение. <...> И вот
откуда проистекли те мнения, которые выражает Лаплас. Предмет
астрономии потому высок, что звезды — не просто безжизненные
круглые глыбы, это — целые миры, наполненные всеми богатствами
жизни и красоты; так что наше понятие о мироздании было бы ничтожно,
если бы мы не знали об этих мирах»13. Подобно тому как великие
географические открытия раскрыли людям глаза на многообразие и
закономерности форм жизни на земле, так обследование космоса должно
показать, что человек — «песчинка в океане существования, и жизнь
его со всем ее содержанием, с его знанием и душой — ничтожна, как
чуть видная волна в этом океане»14.
Такой перенос опыта удивления земному многообразию на
вселенную H. H. Страхов объясняет только «прямым остатком старых
привычек» земных первопроходцев ожидания от расширения
изведанных пространств все нового, необычного, неповторимого.
Привычка эта весьма распространена среди людей самого разного склада
ума, в пример чего Страхов приводит высказывания и скептика Кон-
та, и верующего Шеллинга15. Трезвый же взгляд на развитие
астрономии показывает, что в мироздании царит однообразие, а не
разнообразие. «Чего не выдумывали люди в рассуждении звезд и планет!
<...> Что же оказалось? Планеты — та же земля; звезды — то же
солнце; и до бесконечности небес все то же и то же, все солнца да
планеты, да пространство, не имеющее конца...»16 К этому месту в тексте
Н. Н. Страхова Н. П. Ильин дает примечание, что мысль Страхова
совпадает с тем утверждением о единстве фундаментальных свойств
материального мира, которое в современной физике называется
«космологическим принципом»17. Единство законов и сил на земле
и на небе в философии Страхова имеет основополагающее значение,
которое раскрывает вся книга, а именно, «это имеет не тот смысл,
будто мы нашу ничтожную землю хотим сделать образцом для всего
великого мироздания, но тот, что величие целого мироздания
отражается в Земле, что в ней вполне выразилась сущность мира»18.
13 Там же. С. 214.
14 Там же.
15 См.: Там же. С. 227-228.
16 Там же. С. 227.
17 См.: Там же. С. 498.
18 Там же. С. 229. К рассуждению о единообразии законов природы примыкает по
смыслу еще один ироничный фрагмент, ирония которого продолжает быть актуаль-
416 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Итак, если с познавательным предрассудком бесконечной
новизны мира более или менее ясно, то что еще интересного может
дать нам рассмотрение других «образов» «жителей планет»,
представленных в научно-популярной литературе европейского
просвещения? Если не естествознание, не знание о мире, а собственные
потребности человеческой души являются источником фантазий о
«жителях планет», то что мы можем узнать о себе из частных
случаев выражения веры человека «в бытие существ более совершенных,
чем он сам»19? «Мы улетаем мысленно к счастливым жителям
планет, чтобы отдохнуть от скуки и тоски земной жизни. <...> Такие
мечты очень многочисленны; они имеют техническое название —
утопия <...> По самому источнику таких созданий воображения
видно, что они выражают более или менее высокие стремления
человеческого ума; и действительно, часто в них высказываются
возвышеннейшие и благороднейшие надежды и желания»20.
Сравнивая утопические сказки французских
просветителей Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» и Вольтера
«Микромегас»21 как «частный пример, где бы выразились
человеческие стремления к иной духовной жизни», Страхов указывает
индивидуальные различия авторов-современников, блестящих,
остроумных писателей, сказывающиеся и на смысле, и на
значении их произведений-утопий: «Вольтер часто наивен, прост,
приходит в действительное затруднение перед вопросом и делает
искренние восклицания. Фонтенель всегда лукав и коварен,
всегда доволен своим умом и своими словами и делает восклицания
ной вот уже 150 лет, а энтузиасты установления контактов с инопланетными учеными,
кажется, не переведутся никогда: «Законы механики в этом отношении совершенно
похожи на теоремы геометрии. Эти теоремы справедливы везде без исключения. На
этом замечании был даже некогда построен весьма основательный проект, имевший
целью войти в сношения с жителями Луны. Какой-то ученый, и едва ли не
немецкий, предлагал какому-то правительству, и едва ли не русскому, где-нибудь на
больших пространствах изобразить яркими огнями какой-нибудь геометрический чертеж,
например чертеж Пифагоровой теоремы. Жители луны, которые, вероятно, не менее
Пифагора радовались открытию этой теоремы и, может быть, так же принесли за это
в жертву богам сто лунных быков, без сомнения, узнали бы чертеж и любезно
отвечали бы нам другим чертежом. Ученый, кажется, прибавлял еще, что если бы этот
способ не удался, т. е. если бы оказалось, что жители Луны не знают геометрии, то мы
бы, по крайней мере, убедились, что с ними не стоит знакомиться» (Там же. С. 223).
По-видимому, некоторые культурно-исторические «внутренние формы» научного
творчества имеют силу для всей истории науки, сколько бы она ни продлилась, и как
бы ни преобладал фальсифицирующий опыт над верифицируемым.
19 Там же. С. 230.
20 Там же.
21 Страхов Н. Н. Мир как целое. Гл. IV. С. 229-246.
E. H. Мотовникова. «Чужие» или «Другое»?...
417
только в шутку22. <...> Фонтенель равнодушен к другим мирам
потому, что он равнодушен к нашему миру. <...> Ему нравится
воображать мир в виде бесконечной перетасовки карт, его остроумие
совершенно удовлетворено этими разнообразными сочетаниями,
и он в восторге называет их удивительными секретами природы»23.
В своем сочинении этот ученый-писатель часто позволял себе
невозможные, противоречивые сочетания, но, как думает Страхов,
не замечал этого, потому что «любил противоречия, находил в них
свое удовольствие»24. Вольтер, в оценке Страхова, не только
справедлив в высмеивании недостатка вкуса у Фонтенеля, но «смысл
Вольтеровой сказки далеко выше Фонтенелевых рассуждений.
Вольтер не совсем принадлежал к числу людей, довольных
жизнью, он глубоко чувствовал этот вопрос и, заговорив о жителях
планет, прямо выставил его»25. Поэтому Страхов пересказывает
несколько отрывков из сказки Вольтера, присоединяя свой
исторический и научный комментарий: «Вольтер осмеивает земную жизнь
и осмеивает чрезвычайно просто — перенося ее на планеты. <...>
Выставляя частные обстоятельства своего времени, как будто
явления общие и необходимые, Вольтер тем резче выставляет всю их
случайность и неразумность»26 (речь идет, например, о невежестве
судей, о преследовании еретиков, авторов книг и т. п.).
«Форма, в которой Вольтер выражает недовольство, также
замечательна. Как истинный сын XVIII века, Вольтер принимает за
величайшее зло жизни скуку»21 и выражает «целый взгляд на жизнь»,
представляющий «странное смешение пессимизма и оптимизма»:
22 Там же. С. 231.
23 Там же. С. 233.
24 Там же. С. 233. H. H. Страхов делает еще одно интересное замечание о стиле
Фонтенеля: «Между прочим, в течение своей долгой жизни он постоянно писал
похвальные речи умершим ученым; в этих речах тот же дух [противоречия], то же
стремление. Никогда, даже говоря о величайших умах человечества, Фонтенель
не мог найти точки опоры для своих суждений, не мог понять той глубочайшей
природы лица, из которой объясняются все его действия. Поэтому на величайшие
подвиги и заслуги он умел смотреть с дурной стороны и был очень доволен тем,
что его похвалы походили на насмешки. <...> Фонтенель принимал за изящество
какую-то изысканность, вычурную иногда до нестерпимости» (Там же). Здесь
Страховым отмечена, хотя никак не названа, одна характерная черта эстетики
просвещенческой светскости, о которой в XX веке писал Гадамер, — эстетическая
«профанация», «кощунство» и «вандализм», против которых восстает настоящее
искусство, в произведении которого «всегда присутствует нечто сакральное» (см.:
Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 199).
25 Страхов H. H. Мир как целое. С. 233.
26 Там же. С. 235.
27 Там же. С. 240.
418 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
мы недовольны жизнью, чувствуя свое глубокое несовершенство и
мимолетность жизни и завидуя высшим существам; но зависть эта
напрасна, потому что высшие по сравнению с нами существа так
же недовольны своей жизнью и собой, у всех желания превышают
потребности, а потребности превышают их удовлетворение;
посему здравомыслящие при любой продолжительности и богатстве
жизни умеют примириться со своей долей28. «Очевидный смысл
всего рассказа [Вольтера] тот, что краткость жизни есть мечта <...>.
Если мы будем мерить время нашей жизни вечностью, то оно
всегда будет ничтожно <...>. Нужно взять другую меру. Этой мерой не
может быть ничто иное, кроме содержания нашей жизни»29.
Одновременно Страхов обращает внимание на несуразности в
понятиях и представлениях ученых людей XVII—XVIII веков. Так,
Вольтер и Лейбниц считали возможным существование живых
существ огромного размера — «представления такого рода можно
считать даже обыкновенными для всех эпох и народов, они
составляют естественную ошибку человеческого ума. <...> Ум
человеческий ошибается, если, не зная связи, он полагает, что нет
связи; успехи наук состоят только в том, что показывают связь там,
где ее еще не находили. Связь между величиною и формою
несомненна. <...> Греки, так хорошо понимавшие смысл формы
нашего тела, представили нам Геркулеса человеком среднего роста»30.
Далее целую главу Страхов посвящает опровержению
представлений Фонтенеля, Вольтера и Конта о возможности существ,
обладающих большим по сравнению с земными, количеством «внешних
чувств», т. е. ощущений и восприятий31.
Специально Страхов обращает внимание на пародийное
изображение Вольтером учения Локка о множественных субстанциях
и свойствах: «Не легко выставить с такой простотой и выпуклостью
28 См.: Страхов H. H. Мир как целое. С. 239-241.
29 Там же. С. 241.
30 Там же. С. 236. И снова мы встречаем здесь пример «глубокомысленной
шутливости» H. H. Страхова: «На нашей скромной планете, как известно, смешон был
бы тот, кто, будучи высокого роста, стал бы на этом основании смотреть свысока
на других людей; точно так же мы не считаем особенно основательным, если люди
маленького роста считают себя обиженными природой и не могут утешиться в этой
обиде. В век Вольтера, между прочим, любили высоких женщин, нынче, как
известно, значение этого свойства несколько ослабело» (Там же. С. 237).
Многочисленные подобные замечания в статьях и книгах Страхова позволяют догадываться,
насколько содержательным, увлекательным собеседником он был в личном общении,
почему так ждали его приездов и не наскучивались его многодневным общением
Толстой, Фет, Данилевский и другие не слишком общительные интеллектуалы, хотя
в больших компаниях Страхов вел себя крайне скромно и молчаливо.
31 См.: Там же. С. 246-255.
E. H. Мотовникова. «Чужие» или «Другие»? ...
419
характеристические черты учения и довести их до той степени
ясности, что мелкость и фальшивость взгляда делается
осязательной сама собой»32. Вольтеровский персонаж говорит об открытии
сатурнийцами трехсот необходимых свойств вещества и тридцати
субстанций, включая в это число и Бога. Но необходимых,
существенных свойств не может и не должно быть много: «чем меньше
у нас таких свойств, тем глубже наше познание сущности, которой
они принадлежат. <...> Цель познания — вывести все из одного
свойства, из коренной черты сущности»33. Изобилие субстанций,
с которыми уравнивается и Бог, свидетельствует также о
слабости познания, поскольку мышление — «есть сведение многого на
одно». Количество познаний само по себе не представляет
ценности, и эту древнюю мудрость, наверное, можно признать
универсальной в истории, хотя ее постоянно приходится повторять перед
лицом увлечения многознанием без ума, любопытствующей
«жадностью, доходящей до истинной прожорливости»34.
Как истинный рационалист и гегельянец H. H. Страхов воспевает
настоящее высшее достоинство человека — мыслящий разум: «Ум —
центральная, сосредоточивающая сила. <...> Вот почему ум
останавливается, обозревает все, что уже в его власти, определяет главные
точки, центральные вопросы, — на них устремляет все свое внимание
и, следовательно, необходимо оставлять в тени то, что далеко от этих
вопросов. Так он поступает в каждой частной науке, в каждом
мелочном исследовании, так поступает он и в отношении к целой жизни, к
целой области мышления, ко всему миру. Ум есть деятельность
вполне свободная, перед которой открыты все пути. Никак нельзя сказать,
чтобы где-нибудь на планетах ум еще свободнее избирал предметы и
ставил вопросы, чем на Земле. Не хуже других обитателей мира мы
умеем избрать глубочайшую и занимательнейшую задачу»35.
32 Там же. С. 244.
33 Там же.
34 Там же. С. 245.
35 Там же. С. 245—246. В связи с вопросом о мировоззренческих основаниях
деятельности сильного ума в области проблемы существования/поиска внеземных
разумных существ немалый интерес представляет случай выдающегося
астрофизика XX века Иосифа Самуиловича Шкловского, который, будучи одним из
лидеров проекта SETI в СССР, «вдруг» заявил о переходе на противоположную
позицию уникальности земного человеческого разума. Приведем фрагменты
рассуждения об этом коллеги и биографа И. С. Шкловского, Л. М. Гиндилиса:
«Изменение позиции Шкловского по проблеме множественности обитаемых миров
явилось полной неожиданностью для многих и до сих пор продолжает волновать
тех, кто интересуется проблемой SETI. Как понять эволюцию его взглядов? <...>
Думаю, разгадка лежит в личности Шкловского. Он был не только крупнейшим
астрофизиком нашего времени, но и человеком широко талантливым: хорошо
420 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
Н. Н. Страхов нашел в XVII веке только одного автора-ученого,
не отошедшего в интересующем его вопросе от позиции строгого
научного применения ума и здравого смысла, о котором он еще раз
напоминает в конце статьи: «Самый простой и правильный взгляд на
жителей планет <...> это и самый обыкновенный взгляд. Простые
смертные, не увлекаясь ни философскими фантазиями вроде
Вольтера, ни боязливым скептицизмом ученых мужей, конечно, всего
естественнее предполагали, что если другие миры населены, то там
находятся такие же существа, как на земле»36. Этот здравомыслящий
ученый — вьщающийся математик и астроном Гюйгенс,
написавший книгу «Зритель мира, или О небесных странах и их убранстве».
«В этой книге автор старается последовательно и строго доказать, что
жители иных миров должны во всех существенных чертах походить на
людей, и точно так же другие организмы должны походить на наших
животных и наши растения. Соображения его чрезвычайно просты и
часто поражают своей неизысканной меткостью. <...> Доказательства
рисовал, прекрасно знал поэзию, мог без конца наизусть читать стихи, обладал
удивительным даром рассказчика и незаурядным литературным даром. Об этом
сегодня много говорилось. Но все это характеризует его не в полной мере.
Шкловский обладал одним редким качеством — он был мыслителем. Он серьезно
интересовался глобальными проблемами современности задолго до того как появился и
получил права гражданства сам этот термин. <...> Он указывал на необходимость
изучения закономерностей развития космических цивилизаций, подчеркивал, что
проблема внеземных цивилизаций является, в первую очередь, проблемой
социологической, ее нельзя подменять более узкой задачей связи, тем более акцентируя
внимание на технических аспектах межзвездных коммуникаций. Как мыслителя
Шкловского не удовлетворяла наивная вера некоторых исследователей в то, что
достаточно построить большой радиотелескоп, и вековая проблема установления
связи с внеземным разумом будет решена. Он называл такую точку зрения
"подростковым оптимизмом", и мне кажется, она вызывала у него известное
раздражение. Может быть, эта неудовлетворенность, этот внутренний протест против
упрощенческого подхода к проблеме породил разочарование и тем самым сыграл
определенную роль в эволюции его взглядов. <...> В чем же причины глубоко
пессимистического взгляда Шкловского на проблему внеземных цивилизаций?
Думаю, они состоят в следующем. Шкловский никогда не был безразличен к судьбе
нашей земной цивилизации. Остро ощущая противоречия современного мира, всю
несообразность жизни на нашей планете, он пришел к ощущению крайнего
пессимизма во всем, выражением которого и явилась идея об одиночестве нашей цивилизации,
а позднее — о тупиковом пути, связанном с приобретением разума. (Курсив мой. —
Е. М.) Думаю, это трагедия крупного ученого и гражданина, мысль которого не
могла смириться с тем, что он видел на Земле, и который на какой-то момент
потерял светлую перспективу» (Гиндилис Л. М. SETI: Шкловский, Каплан и Пи-
кельнер. Доклад на конференции «Современные проблемы астрофизики»,
посвященной памяти И. С. Шкловского, С. А. Каплана и С. Б. Пикельнера. Москва,
ГАИШ, сентябрь 1996. (Труды ГАИШ, в печати) // URL: http://cmm.univer.omsk.
su/seti/1-3-l-w.htm, дата обращения 17.03.2014.)
36 Страхов H. H. Мир как целое. С. 261—262.
E. H. Мотовникова. «Чужие» или «Другое»?...
421
его не всегда сильны и строги, но всегда верны в основании. Он
ошибается именно там, где вздумает предположить разницу между
людьми и жителями планет. Например, он говорит, что у этих жителей
может быть другая форма носа и другое положение глаз, что лицо такого
рода для нас должно казаться отвратительным, но что там, на
планетах, вероятно, к нему привыкли и находят его красивым»37.
Симпатия Страхова к Гюйгенсу выражена откровенно, без
обиняков: «Книга Гюйгенса, которую мало знают и, кажется, вообще
принимают за неудачную фантазию, неприличную для ученого мужа,
оставляет после себя чрезвычайно сильное впечатление. В то время,
когда она писана, естественные науки еще недавно поднялись и
открывали свою эру первыми, хотя гигантскими шагами. И что же?
Читая Гюйгенса, нельзя без удивления видеть, что все последующие
открытия не только не опровергают его взгляда, но могли бы служить
для большего его подтверждения. <...> Отсюда видно, что мысль
Гюйгенса принадлежит к числу тех простых и верных мыслей,
которые переживают века. <...> Не делает ли величайшей чести Гюйгенсу
то, что он так верно и просто понял новый дух, проникавший в его
время в исследования природы?»38 Страхов и сам был, на взгляд
многих, ученым и писателем странным, но в конце своей полувековой
творческой жизни он радовался тому, что мог смело переиздавать без
исправлений свои ранние научно-философские работы.
Единство и целостность мира, единство и взаимозависимость
изучаемых наукой явлений проявляются для H.H. Страхова и в
такой существенной черте времени, которую мы называем
глобальной культурой: «Мы гордимся тем, что мы — наследники
умственной жизни римлян и греков, и даже древних индусов, и что теперь
каждое открытие, каждая мысль, где бы они ни родились,
отзываются во всех концах образованного мира. Мы стремимся с
жадностью поглощать все явления духа, каковы бы они ни были»39.
Рациональная научная вера Страхова периода работы над книгой «Мир
как целое» проявляется и в убежденности в возможности открытия
37 Там же. С. 262—263. И эта «вечная» разновидность заблуждения многое годы была
темой страховских размышлений: «Источник фальши, очевидно, заключается в
самой двойственности человеческой жизни. Что бы мы ни делали, что бы ни
чувствовали и ни мыслили, все существует для нас в двух видах: во-первых, как
действительность, как действительное дело, чувство, мышление, и, во-вторых, как идея,
представление об этом самом деле, чувстве и мысли. Эта способность представления
и ведет нас к фальши, так как дает возможность человеку уклоняться от
действительности и вместо настоящих явлений производить их подобия» {Страхов H. H. Главная
задача истории // Исторический вестник. 1901. Т. 83. № 3. С. 1012—1013).
38 Страхов H. H. Мир как целое. С. 263.
39 Там же. С. 266.
422 Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-гуманитарных науках
нравственных законов. «Наша духовная жизнь образуется и
развивается не менее правильно, не менее строго законно, как и
совершаются какие-нибудь физические или химические явления.
Начиная от простейших ощущений и до глубочайших мыслей, чувств
и желаний, — психические явления тесно связаны между собою и
вытекают из единой сущности. Они не могут быть перестраиваемы
произвольно, они не должны быть понимаемы, как частное
сочетание свойств, созданное капризной фантазией чуждых нам сил и
вложенное в нас извне. Следовательно, нам нужно было бы
показать законное и неизбежное их развитие из глубочайшей глубины
человеческой сущности, — той таинственной глубины, где
сливаются дух и тело, где, как в центре тяжести, сосредоточено все наше
существование»40.
Человек — загадка и задача, решение которой может
выноситься при определенных социокультурных условиях развития
познания и практики, — в вымышленные формы «инопланетных
цивилизаций». В XVII—XIX веках — времена
научно-познавательного оптимизма — фантазии об инопланетянах носят в основном
характер утопий, которым здравый гуманистический смысл
придает добрую, позитивную окраску. В XX веке — веке мировых войн и
революций — и в мире инопланетян господствуют сюжеты войны,
жестоких столкновений добра со злом, причем сила зла
неимоверно, фантастически велика, а инопланетная жизнь, как и
историческая перспектива землян, предстает в основном в трагических
антиутопиях. Но это в общей логике движения знания. А у
индивидуального мышления перспектив гораздо больше. Со временем,
в ходе глубокой внутренней философской работы H. H. Страхов
признал проблематичность логики истории идей и первенство
духовно-религиозного измерения проблемы самопонимания
человека, выражающегося в том числе в представлениях о «другой»
жизни. Но оставаясь на позициях строгого мышления, он никогда
не мог преодолеть предметную и эпистемологическую
недосказанность в вопросе о законосообразности нравственного развития,
нерешенности тайны будущего, многообразия возможностей
человеческой (не инопланетной!) жизни.
40 Там же. С. 231. В уяснении H. H. Страховым границы возможностей решения
последней задачи — показать необходимое развитие духовной жизни из единого
целостного духовно-телесного начала — огромную роль сыграли творчество и
личность Л. Н. Толстого, который именно гениально умел «показывать» душевное
и духовное развитие человека с такой степенью правдивости, какой невозможно
достичь на путях рациональной, научно формулируемой истины.
Раздел 4
О времени и о себе...
Б. И. Пружиним
Историзм устной истории
Устная история вплетена в жизнь и наполняет ее смыслом
на самом главном, на собственно историческом уровне, на
уровне индивидуальных воспоминаний. Все прочие
истории, все эти политические, экономические, военные и т. д.
истории надстраиваются над этим фундаментальным
уровнем и лишь в силу этого приобретают историзм и возвращаются в
историческое сознание отдельного человека, корректируя это
сознание или корректируясь им. Ибо именно на уровне
индивидуального жизненного опыта формируется смысл жизни человеческой и
лишь потом этот смысл переносится на все остальные контексты
человеческого бытия. Если жизнь отдельных людей теряет смысл,
бессмысленными становятся государственные установления и
политические системы, войны и реформы, т. е. все то, что от века
составляет контекст человеческого бытия, но повторю, приобретает
смысл только от человека. Зато все эти установления, в свою
очередь, способны очень даже эффективно обессмысливать жизнь
человека. Однако я — о другом.
Интерес к устной истории, к воспоминаниям окружающих людей
появился у меня, когда в сферу моих профессиональных интересов
попала история русской философии. Сначала этот интерес был
довольно абстрактным. Признаюсь в своей некомпетентности: я был
просто поражен, уяснив, что именно исследования историков были
самой продвинутой областью гуманитарной науки в России, и
именно философия истории была целостной областью русской
философии. Пожалуй, только применительно к философии истории мы и
можем говорить о контурах складывающейся русской философской
школы. При этом я для себя обнаружил, что в русской философии
сложилось понимание истории как процесса, который не
исчерпывается полностью направленностью к конечной цели (наподобие
гегелевского историзма). Наличие такой цели не оспаривалось,
телеологические идеи отнюдь не отрицались в размышлениях русских
426
Раздел 4. О времени и о себе...
мыслителей, но акцент смещался. В центре оказывалось
представление об истории как процессе, протекающем в человеке, а не вне
его, — процессе, обретающем смысл в сознании и историческую
конкретность реального исторического действия в поступках.
История здесь предстает как процесс принципиально незавершенный,
причем не в том смысле, что он не достиг еще конечной цели, но
прежде всего в том, что он открыт действию, открыт осмысленному
поступку и его неожиданным последствиям, открыт всему
событийному и конкретному. За опытом экзистенциально нагруженного
осмысления человеком истории, за ощущением так понятого историзма
и обращается, по мнению русских мыслителей, наука история к
опыту прошлого — к реальности событий и реальности их переживания
человеком (переживания не только в психологическом смысле, но
и в смысле экзистенциальном). Этим русский историзм
отличается от историзма его «немецких учителей». Лежащие в его основании
идеи не успели в свое время приобрести четкое концептуальное
выражение, но они достаточно явно обнаруживают себя в
эпистемологической стилистике, в способах обсуждения проблем и в понимании
исследовательских перспектив. Совокупность этих идей я обозначаю
как культурно-историческую эпистемологию, представляющую в
качестве исходной формы философско-исторического материала
«беседу», «разговор», в котором воспоминание раскрывает
экзистенциальные истоки смысла человеческой жизни и смысла событий.
Форма эта восходит к работам Вл. Соловьева. И позднее
никогда она не уходила из отечественной философии. Степун как-
то заметил: «русская философия — бесконечная череда
разговоров, причем разговоров на одну и ту же тему» — о смысле жизни,
о ее исторической наполненности. Надо сказать, этот интерес к
беседам и воспоминаниям оживился у нас вопреки всему во
второй половине XX столетия. Разговор вообще — это, наверное,
специфическая черта стилистики русской философии.
Беседовали В. Дувакин с М. Бахтиным, разговаривал М. Мамардашвили,
Л. Митрохин подготовил целую книгу диалогов. В том же ключе
воспоминаний написана книга Н. Мотрошиловой. И в журнале,
где я начал работать, есть традиция обращения к «живым
разговорам». Эту традицию активно поддерживал В. Лекторский. Очень
любил публиковать воспоминания в журнале Владимир Мудрагей.
Мы с Мудрагеем участвовали в подготовке изданного Лекторским
двухтомника1. Став главным редактором, я старался поддерживать
1 Философия не кончается... Из истории отечественной философии. XX век:
В 2 кн. / Под ред. В. А. Лекторского. М., 1998.
Б. И. Пружиним. Историзм устной истории
427
в журнале эту традицию. Зачастую форму бесед с элементом
воспоминаний принимали «Круглые столы», проводившиеся в
редакции, а также многочисленные интервью. И наконец, мой интерес к
этому жанру был стимулирован моим участием в работе с книгами
серии о русской философии второй половины XX века. Большое
впечатление произвел на меня том «Как это было»,
обстоятельная рецензия на который была опубликована в журнале, а также
моя работа с томом, который я редактировал «Философия
продолжается». Тогда я понял, что без осмысления этого периода
отечественной философии, понять русскую философию как культурно -
исторический феномен невозможно, но при этом его осмысление
невозможно без обращения к экзистенциальной беседе.
Позднее, став редактором серии томов о русских
философах первой половины XX века, я понял, точнее, опять же уяснил,
два обстоятельства. Во-первых, русская философия целостный
культурный феномен, и мы настолько сможем приобщиться к ее
культурным традициям, насколько полно мы представим ее в ее
целостности. Без купюр и изъятий по идеологическим
соображениям — пусть и самым оправданным. Во-вторых, именно вторая
половина XX века, т. е. «советский период» русской философии,
является наиболее сложным периодом в этом плане. В работе над
томами о философах начала века неоценимую помощь мне
оказывала Татьяна Геннадьевна Щедрина. Она готовила материалы,
связанные с личными судьбами русских философов — архивы,
эпистолярное наследие, жизнеописание и, особенно, фоторяды,
основательно представленные в изданных томах. Но если от
русских философов остался «архив эпохи»2, пусть и с пробелами, пусть
и зачастую деформированный, но тем не менее сохранивший
очертания их экзистенциально-личностных позиций, то от философов
второй половины XX века практически ничего не сохранилось.
Я был свидетелем дискуссий, весьма острых и в
социально-политическом и в экзистенциально-смысловом плане,
разворачивавшихся в курилке на черной лестнице пятого этажа Института
философии СССР. Еще более острые дискуссии разворачивались
в «стекляшке», напротив Института, куда, кстати, приходили
научные сотрудники и Института экономики, и Института русского
языка. Но, так сказать, материальных следов этих дискуссий не
сохранилось. Конечно, при внимательном чтении книгах многих из
участников этих разговоров (В. Межуев, Н. Трубников, М. Виткин,
2 См.: Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М.,
2008.
428
Раздел 4. О времени и о себе...
А. Абрамов, Н. Юдина, А. Зиновьев, Э. Ильенков, Е. Никитин)
можно реконструировать живую, ищущую, вырывающуюся из-под
обязательных идеологических идиом, мысль. Мы тогда ее просто
вычитывали. Но сегодня... Ведь даже фотографии 60—70-х годов
XX века хуже по качеству и менее доступны, чем фотографии
начала этого века. Конечно, можно все эти усилия мысли
проигнорировать и прямо обратиться к западным мыслителям шестидесятых-
семидесятых. Но они-то жили в своем культурном и историческом
контексте, и потому такое обращение вне собственной истории
может привести лишь к подражанию внешней форме их мысли.
Расплатой за игнорирование собственной истории мысли, какой
бы наивной сегодня она ни казалась, может быть только аисто-
ризм — смертельное заболевание для философа (впрочем,
заболевание хроническое для «философоведов»).
Все эти обстоятельства мой жизни (ну и еще ряд обстоятельств
личного характера) подвигли меня к тому, чтобы
воспользоваться данным изданием для публикации ряда материалов по устной
истории второй половины XX века. Я жил в своем времени. Вокруг
меня были люди, которые помогали сохранить мне смысл моей
жизни — мои стремления, цели моей деятельности, мое ощущение
истории. Истории этих людей я попытался собрать в этой книге.
Далеко не в полной мере удалось мне реализовать замысел. Здесь
нет бесед очень со многими, чьи истории я хотел бы напечатать.
Здесь нет разговора с моим старшим братом, Семеном, который,
собственно, обратил меня к философии. Нет беседы с Натальей
Кузнецовой, а ее повествование может быть исторически очень и
очень интересным. Не менее интересным могла бы быть беседа со
Львом Владимировичем Скворцовым... Но я надеюсь продолжить
эту работу, ибо считаю, что она наполняет мою жизнь
историческим смыслом.
Б. И. Пружинш
О судьбе, о себе и о точках бифуркации
В современной теории самоорганизации есть термин «точка
бифуркации», обозначающий «критическое состояние
системы, при котором она становится неустойчивой
относительно флуктуации и возникает неопределенность: станет ли
состояние системы хаотическим или она перейдет на новый,
более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности».
Я думаю, что этот физико-математический термин не вносит
ничего нового ни в понимание судьбы человека, ни в понимание
истории человечества. Тем не менее именно это понятие оказывается для
меня чем-то вроде эпистемологической метафоры, когда я пытаюсь
осмыслить свой жизненный путь. Этот термин очень удобен, ибо
вносит в понимание жизни человека, народов, человечества
убедительную (хотя, наверное, иллюзорную, как бы научную) ясность.
У каждого человека есть в жизни такие точки бифуркации —
состояния неопределенности, открывающие человеку возможность
выбора дальнейшего движения по жизни. Причем, в них «малые»
причины могут иметь «большие» следствия, а большие — никаких,
усилия могут приносить результаты, а могут быть совсем
бесплодными и даже отрицательными. В моей судьбе таких точек
бифуркации было довольно много.
Прежде чем писать эти заметки, я долго размышлял. Говорят,
характер человека — это судьба. Характеры, как и судьбы,
неповторимы. И меня одолевало сомнение — так зачем рассказывать о
том, как мой характер, желания, стремления и мечты повлияли на
мою судьбу? Вспоминаю свою жизнь я, конечно, кое-что узнаю о
своем характере (подчеркну задним числом, т. е. с большим
опозданием). А на что это знание другим? Ведь повествование о моей
жизни никого ничему не научит, хотя бы в силу ее
неповторимости. Наверное, это так. Но ведь не настолько разобщены люди,
чтобы опыт Другого был им абсолютно не интересен. К тому же,
у меня есть профессиональный интерес. Мое повествование мо-
430
Раздел 4. О времени и о себе...
жет помочь кому-то осмыслить собственную судьбу, а стало быть,
понять свой собственный характер. Ведь в этом и состоит, на мой
взгляд, смысл философии, которой я занимался всю свою жизнь.
Философия ничему не научает (за этим — к науке), она не спасает
(за этим — в храм). Философия помогает понять себя. Опираясь на
свой собственный опыт, философ помогает осознать себя
отдельным людям, помогает сформировать сознание социальной
группе, помогает в этом народу, человечеству. А далее каждый человек,
каждая группа, народ и человечество сознательно делают свой
выбор. В этом меня убедили мой жизненный опыт и моя профессия
редактора с более чем 20-летним стажем.
Не уверен, что мои концептуальные конструкции многих
заинтересуют, а рассказы людей о своих судьбах, думаю, читать будут.
Другой вопрос, какая от этого будет читателю польза. Но это уже
его проблема.
История первая
Конец лета 1962 года, утро, я иду писать сочинение. Я поступаю в
МГУ на философский факультет. Вступительные экзамены на
Моховой. Я вхожу в метро «Университет» и достаю из кармана, нет не
«пятак», не монету достал я из кармана, а самодельную металлическую
болванку, сделанную под монету. К тому времени в московском метро
как раз появились турникеты, в которые надо было опускать
пятикопеечную монету. Поначалу турникеты срабатывали на пластиковый
жетон, но жетонов не хватало, турникеты перевели на пятикопеечные
монеты. И трудовая Москва немедленно отреагировала на это
массовым изготовлением самодельных болванок «под пятак». На заводе, в
механическом цехе, где я работал фрезеровщиком, сделать это было
не сложно, и мои карманы были полны этими псевдопятаками.
Здесь я отступлю от начатого сюжета, чтобы кое-что пояснить
в моей биографии. Я родился в Уланском переулке, в самом
центре Москвы (дом сохранился, сейчас там, кажется, гостиница
Лукойла). Учиться я начал в школе № 281 — Школа была довоенная,
с традицией. А потом мы переехали на Ленинский проспект в дом
рядом с универмагом «Москва». Это была окраина. Универмага
тогда еще не было, а был фундамент, на котором я в войну играл. Дом
заселялся жителями бараков с Нагорной улицы, и в школе, куда я
перевелся, традиции были совсем иные, атмосфера была далеко не
учебная. К тому же в конце 50-х началась у нас очередная реформа,
Б. И. Пружинил. О судьбе, о себе и о точках бифуркации
431
и школа, в которой я учился, стала 11-леткой с уклоном в
аналитическую химию. Я к тому времени уже кое-что о себе понимал и
никакого желания стать химиком-аналитиком не испытывал. Так что,
окончив восьмой класс, я из школы ушел. Мой старший брат помог
мне устроиться фрезеровщиком на завод «Нефтеприбор» (мне тогда
было всего 15 и я работал 4 часа), и записался в вечернюю школу
при какой-то автобазе на Мытной улице (такого рода учебные
заведения назывались «Школа рабочей молодежи»).
Не могу сказать, что в этой школе царил культ знания. Все было
очень своеобразно. Помню, географию преподавал очень
симпатичный мужчина, плохо говоривший по-русски, но очень
темпераментный. На первом же уроке пропел нам куплет из популярной
тогда песни о матросе Железняке: «Он шел на Одессу, а вышел к
Херсону. В засаду попал их отряд...» После чего назидательно
поднял палец и сказал: вот что бывает, когда географию не учат...
Но, так или иначе, я эту школу окончил. А к тому времени,
оказалось, что я отработал 2 года и имел право поступать на
философский факультет МГУ. Тогда на этот факультет принимали только со
стажем или после армии.
Так вот, я шел сдавать экзамен и в кармане у меня вместо пятаков
были болванки. Я опустил такую болванку в турникет, как это делал
уже пару месяцев. Но тут начались приключения. Болванка была
плохо зачищена и застряла в турникете. Мне бы убежать, но ведь я
боялся опоздать на экзамен и, опустив еще одну болванку в соседний
турникет, я побежал вниз по эскалатору. Внизу меня уже ждали
милиционер и дежурный по станции... После часового разговора с
офицером милиции мне позволили позвонить по телефону. Я позвонил
брату Семену на работу, он оказался на месте и через полчаса
приехал. Два часа он беседовал с милиционером. И уговорил его
отпустить меня. Просто отпустить, порвав протокол. Между прочим, ни
о каких подношениях речь не шла — милиционер просто снизошел.
Я побежал в поликлинику жаловаться на здоровье и выпрашивать
справку. А через два дня я писал сочинение вместе с филологами.
Получил за него 4, поступил в МГУ и стал приобщаться к философии.
Когда я рассказываю нынешним студентам эту историю в
качестве иллюстрации по теме «синергетика», я завершаю свой рассказ
следующим глубокомысленным рассуждением: «Вот не уговорился
бы милиционер, посадили бы меня, прошел бы я лагерную школу
и, возможно, в этом аттракторе своей жизни стал бы вором в
законе — держал бы "общак", ездил бы на джипе с охраной, а не
тратил бы время на вас, двоечников, за вполне умеренную зарплату».
Впрочем, признаюсь честно, я благодарен брату, что он меня спас
432
Раздел 4. О времени и о себе...
от этой захватывающей уголовной перспективы... Ведь и выбором
философского пути я тоже обязан ему.
История вторая
Мне было лет 9 или 10, а мой старший брат, Семен, заканчивал в
это время философский факультет МГУ. Разница в возрасте была
большая. К тому же, в отличие от Семена и даже моей (опять же
старшей) сестры Светланы, я был мальчик дворовый.
Учебно-воспитательных усилий моей матери на меня, видимо, уже не хватало
и я жил напряженной жизнью моего московского двора — дружил,
дрался, мирился, играл в войну... А вечерами, задремывая, делал
под взбадривавшие покрикивания мамы домашнее задание.
Впрочем, первый и второй классы я окончил полным отличником. Но,
правда, отличником я был в школе, где учился мой брат,
окончивший школу с золотой медалью, и его почему-то помнили учителя.
Отблеск этой памяти ложился и на меня. Было как-то стыдно уж
совсем валять дурака, и я что-то читал (кстати, не по слогам —
один из немногих в классе), что-то учил, что-то отвечал.
Однако брат, склонившийся над письменным столом, был у
меня перед глазами. Жили-то мы впятером в одной комнате. А еще
приходили его друзья-сокурсники — Петр Рогачев, осетин
Ходиков, Лев Скворцов и вели умные беседы о таких предметах, о
которых во дворе и не слыхивали. Непонятность завлекала. Между
прочим, в нашем доме этажом выше жил художник, к которому, как я
позднее узнал, ходил в гости Эвальд Ильенков. Общался с ним и
Семен. А еще я-то видел, как Семен прятал в шкаф книги,
купленные на сэкономленные на обедах деньги, а мать потом ругалась,
обнаруживая эти книги в шкафу под одеждой. Кстати, примерно тогда
на моих глазах произошла забавная история. У нас в общем
коммунальном коридоре на 12, кажется, комнат был телефон и соседка,
придя к матери, сообщила, что Семен кому-то сказал по телефону,
что вчера он весь вечер просидел в кафе. Мать расплакалась,
дождалась Семена и стала ему выговаривать — мы недоедаем, думаем, что
ты учишься, а ты... Семен сначала ничего понять не мог, а потом
объяснил — кафе, это кабинет философии (КФ) на философском
факультете на Моховой. Потом и я в этом КФ сиживал.
В общем, к 10 годам, когда, как говорят, я начал что-то
понимать в жизни, некая интеллектуальная бацилла проникла видимо и
в меня. И произошло событие, о котором я и хотел рассказать.
Б. И. Пружиним. О судьбе, о себе и о точках бифуркации
433
Однажды я уютно устроился за рабочим столом Семена и начал
делать то, что, как я полагал, всегда делал он. Я начал что-то
пришептывать, подпирая лоб кулаком, подчеркивать строчки в книге
и делать пометки на полях. Попался мне под руку жирный
красный карандаш и труд В. И. Ленина «Материализм и
эмпириокритицизм». Надо сказать, я получал истинное удовольствие от того,
что я делаю, и довольно основательно исчеркал книгу прежде, чем
был остановлен подзатыльником мамы. Надо полагать,
подзатыльник был недостаточно основательный, чтобы отбить у меня охоту
к этому занятию. Ведь, в конце концов, я все же стал редактором...
И еще одно воспоминание из тех времен. Отец и брат устроились
для разговора на диване перед обеденным столом. При этом вид у них
был настолько серьезно озабоченный, что это не прошло мимо
моего внимания. Любопытство возобладало, и я тихо забрался под стол.
А они стали обсуждать письмо ЦК КПСС по поводу культа личности
Сталина. Я слушал. Не могу сказать, что до того ничего подобного мне
слышать не приходилось. Но все это всегда говорилось вскользь, по
случаю и как бы иносказательно, намеками, смысл коих я не очень
понимал. Можно было критиковать работу домоуправления и добавить,
что у нас все так работает, а Ему одному за всем не уследить. Но такие
комментарии никак не затрагивали то, что я слышал в школе и по
радио («тарелка» висела у нас в комнате, но мы любили семьей слушать
главным образом «театр у микрофона»). Однако там, под столом,
видимо, случилась «передозировка». Конечно, ни о каких
мировоззренческих переворотах и речи быть не могло, в силу полного отсутствия
у меня этого самого мировоззрения. Но ощущение свое я помню
отчетливо — было такое чувство, что некий мудрый устроитель всего, в
том числе и моей жизни (счастливого детства), как бы исчез. Конечно,
присутствие этого устроителя в повседневных своих делах я не
замечал, но он как бы был гарантом стабильности этого мира. И вдруг его
не стало. Это как бы перед тобой чудо, а потом оказывается ловкость
рук или двойное дно. С этим чувством я и живу до сих пор.
История третья
Надо сказать, таких точек бифуркации в моей жизни было довольно
много. Варианты возникали отчасти по моей воле, отчасти без
всякого моего участия, отчасти, вообще, вопреки моим намерениям.
Я окончил первый курс и был призван в армию, ибо в том году
в МГУ отменили отсрочку. В следующем году ее восстановили. Но
434
Раздел 4. О времени и о себе...
я-то в эту трещину угодил. Однако призвали меня как раз под
сокращение сроков службы с 3 до 2 лет, и прослужил я меньше двух
лет в г. Находке на Дальнем Востоке в погранвойсках.
Потом вернулся к философии. Доучивался. Получил красный
диплом и был рекомендован в аспирантуру. Выступил на собрании
факультета, рассказал из самых лучших побуждений о том, что мы
недополучили на факультете, и уехал работать в стройотряд.
Вернулся и узнал, что в моей партдеятельности обнаружили очень
серьезные идеологические просчеты, и что рассчитывать я могу
в лучшем случае только на заочную аспирантуру. Дело в том, что
своим выступлением я влез в межгрупповую борьбу на факультете.
В результате на вступительных экзаменах факультетские
группировки так валили кандидатов в аспирантуру от противников, что
единственным претендентом, набравшим 15 баллов, оказался я.
Подобрал меня, именно подобрал и привел в очную аспирантуру,
Анатолий Михайлович Коршунов.
Однако через год самого Анатолия Михайловича выставили из
Университета. Я спросил его, останется ли он моим научным
руководителем. Он согласился, и я не просил мне назначить нового
из победившей на факультете группировки. С расстояния
своего жизненного опыта (не хочется здесь употреблять выражение «с
высоты»), я теперь понимаю, что все это выглядело как вызов, как
позиция, которая безнаказанной остаться не могла. Хотя честно
сказать, ни о чем таком я тогда не думал.
В качестве дополнительной нагрузки я вел методологический
семинар на биофаке МГУ. Мы обсуждали всякие философско-методо-
логические сюжеты применительно к биологии, и занятия в
принципе нравились сотрудникам. Вдруг староста группы звонит мне и
глубоко конфиденциально предупреждает, что на ближайшем моем
занятии будет представитель Парткома МГУ (не факультета, а
именно МГУ), курирующий идеологическую работу во всем
Московском Государственном: якобы поступила информация, что я что-то
там ошибочно трактую в политике КПСС. Ничего такого я вообще
не касался, мне это все, честно говоря, было вообще не интересно.
(У нас еще на втором курсе был экзамен по математике и все, кто не
сдал, ушли на научный коммунизм.) Но о причинах повышенного
идеологического интереса ко мне догадаться было не сложно —
кафедру диамата, где я был аспирантом, возглавлял ярый противник
Коршунова и притом специалист по философским проблемам
биологии. При этом ситуация, в которой я оказался, даже точку
бифуркации напоминала весьма отдаленно: что бы я ни сказал, все
оценивалось бы как недопустимая идеологическая ошибка. А уровень
Б. И. Пружиним. О судьбе, о себе и о точках бифуркации
435
предполагаемой проверки был таков, что надеяться после нее на
окончание аспирантуры было верхом наивности. Впереди светился
совсем другой «аттрактор». Как сложилась бы моя судьба, если бы я
был отчислен из аспирантуры с соответствующей формулировкой, я
не знаю, но точно она увела бы меня в сторону от философии.
А я этого уже не хотел. Я обратился к моему сокурснику
Владимиру Кузничевскому, который тогда успешно подвизался на
журнал истско-идеологическом поприще и был внештатным лектором
ЦК КПСС. Мы только окончили, он туда пошел, а я, значит, в
науке остался. Я ему звоню, говорю: «Слушай, проведи занятие!» Я
ему все честно объяснил. Он приходит. Я начинаю занятие. Сидит
представитель большого парткома, сидит декан биофака, сидит
секретарь партбюро биофака. Я выхожу и говорю: «Вы знаете,
вообще это занятие должен вести я, но тут выдалась такая возможность
послушать внештатного лектора ЦК. Он вам сейчас расскажет о
международном положении, я ему уступаю свое занятие!» И я сел.
А с середины ушел один представитель комиссии, потом ушел
декан. Так Кузничевский провел это занятие вместе со мной, точнее
вместо меня. В этот раз меня пронесло. Зато и кандидатскую
диссертацию, в общем ничем не выдающуюся, я защищал 3 часа
(вместо обычных 40 минут) и защитил ее с перевесом в одну треть
голоса. Вытянули меня мои оппоненты — Борис Семенович Грязнов,
Анатолий Федорович Зотов и отзыв Виктора Григорьевича
Афанасьева, тогда — зама главного редактора газеты «Правда». За что я
им благодарен. Ибо они позволили мне остаться в философии.
История четвертая
Я помню, как мой близкий друг Володя Мудрагей попал в
больницу. Для меня это было потрясением страшным. Я был у него в
последний раз в больнице, он уже собирался выписываться. Его уход
из жизни — это врачебная ошибка. Он собирался выписываться, я
уехал на дачу. 29 сентября. И вдруг звонок: «Володи нет...» Я был
совершенно опустошен, не мог в это поверить, я все надеялся,
что что-то не так, что звонок не настоящий, что что-то
перепутали. Пока ехал в электричке, не верил в это. Для меня это был удар.
Я почувствовал себя осиротевшим. Это действительно так. Он вел
меня, вел меня по журналу. Даже сейчас трудно об этом говорить.
Мудрагей очень много значил для меня. Он меня редактировать
научил, когда я пришел в журнал. Насколько я умел писать — это
436
Раздел 4. О времени и о себе...
вопрос культурно-исторический, а вот редактировать я не умел, и
за руку меня водил Володя. Причем он меня не учил тому, что и как
надо редактировать. Он просто помогал мне это делать. Он
заглядывал так как-то, я его о чем-то спрашивал, даже про редакторские
знаки я толком не знал ничего. Он мне показывал. Я эти знаки
видел еще в работах, которые делал мой брат, всю жизнь
проработавший редактором. Но вот в деле, в деле — это Володя. Он обладал
удивительной способностью чувствовать ситуацию, текст... Иногда
казалось, он не читает рукопись. Он был немножко близорук. Он
ее как-то прислонял к себе и почти носом возил по тексту, а потом
говорил: «Не, это не пойдет». Причем, самые такие абстрактные,
сложные рукописи, по каким-то таким заумным сюжетам,
феноменологическим, которыми он никогда в жизни не занимался. Потом
отдавали специалистам и нам говорили: «Нет, это не пойдет». В
редакции острили, что Володя не читает рукописи, а просто нюхает
их. И журнал... Он любил его, он делал журнал. У него был богатый
жизненный опыт работы. Он ведь уходил на время из журнала,
работал редактором в «Правде», потом вернулся. Вернулся с началом
перестройки, вернулся замом главного, к Владиславу
Александровичу вернулся. Тогда же примерно, чуть позднее, пришел я, и с тех
пор мы работали вместе.
Володя был очень подвижен, все время чем-то озабочен, но
рядом с ним я испытывал удивительное чувство внутреннего
спокойствия. Трубников называл его бесшабашно-озабоченным
человеком. Его беспокойство создавало спокойствие. Он беспокоился о
журнале, он вечно был чем-то занят, какими-то темами
журнальными, каким-то проблемами журнала, ставками, т. е. он жил
журналом, и около него было очень спокойно. Честно признаюсь, я
организационно «тунеядствовал» рядом с ним. Потому что он
вникал во все. А когда начались перестроечные процессы, т. е. когда
наш журнал выкинули в 1991 году из издательства «Правда» и мы
оказались вообще подвешенными между небом и землей — вот тут
Владислав Александрович и Володя непрерывно решали какие-то
проблемы. Я тоже в этом участвовал, но, честно признаюсь, только
иногда чувствовал опасности, грозящие журналу. Ведь была
ситуация очень интересная, не могу о ней не рассказать.
Журналу предложили поддержку, какой-то бизнесмен. Через
каких-то знакомых в журнале «Коммунист» мы вышли на этого
бизнесмена. Этот бизнесмен пригласил нас. Я помню, мы
пришли в солидное здание: вот в эту развернутую книгу на Новом
Арбате. Раньше там СЭВ располагался, Совет Экономической
Взаимопомощи, а потом там мэрия и бизнесмены. Мы к нему пришли,
Б. И. Пружинил. О судьбе, о себе и о точках бифуркации
437
сели, стали пытаться что-то сказать, что-то рассказать о наших
перспективах. Бизнесмен нас послушал и сказал так: «Журнал
занимает особняк. Ну, вам это много. У меня есть квартирка в
Кунцево, вот вы туда переедете, и я вас буду год финансировать. Если
окажется, что вы не становитесь рентабельными, то я вам пришлю
менеджера, будете печатать то, что я скажу». По-моему, тогда
Лекторский так задумчиво сказал: «Выкройки, что ли?» — «Ну, надо
будет — и выкройки печатать будете». Володька меня дергает и
шепчет: «Пошли отсюда». Мы выскочили оттуда как ошпаренные,
еле ноги унесли вообще из этой ситуации. Потом нас подхватило
издательство «Наука», это был не мед... 1990-е годы — сложные
времена, нас выпирали из особняка на Смоленской, и мы сумели
уйти, и уйти более или менее достойно в «Науку». Все хлопоты, все
реалии жизненные и содержательные по журналу — он принимал
все это на себя. Мы с ним вдвоем организовали Московский
философский фонд и издавали книги, редактировали их,
просматривали, находили переводчиков. Деньги давал фонд Сороса. Мы где-то
десятка полтора книг издали: Юнга, Рикера, Бергера и Лукмана и
др. Недавно мне в руки попала книжечка двадцатилетней
давности — тексты Юнга. И надо сказать, я с гордостью посмотрел на
то, что мы когда-то вдвоем делали. Сложностей было много,
особенно мелочей жизненных. Ну, например, ситуация: в Московский
философский фонд нужна была печать. Мы сделали эту печать,
придумали ее форму, пошли, заказали за свои деньги. Ее сделали.
Там по краям шел «Московский философский фонд», а в середке
было написано «исполнительный комитет». Печать надо было
регистрировать в милиции. Мы пошли в милицию. Там посмотрели
на наши бумаги, бумаги нормальные. А потом инспектор говорит:
«Это что такое — исполнительный комитет? Это что-то
непонятное, нет, так нельзя». И отказал. Мы выходим. Володька говорит:
«Что его волновало?» Я говорю: «Слово "исполнительный"». Он
достает из кармана ножичек, мы прямо там же срезаем слово
«исполнительный», с печати вырезаем, возвращаемся и говорим:
«А комитет можно?» Он говорит: «Можно». Печать у нас
функционировала довольно долго, там же надо было и отчеты финансовые
писать, мы находили бухгалтеров, они делали отчеты. Мы никакой
финансовой деятельностью не занимались, но отчет был
обязателен. И все это вел Володя. Он любил вспоминать один разговор с
Мамардашвили, который когда-то эту должность — «зам.
главного» — занимал: «Я, — говорит, — предложил заменить одну статью
на другую, а он сказал: "Знаешь, Володь, вот видишь этот рубль? —
(тогда были металлические рубли) — он целый, его нельзя по ку-
438
Раздел 4. О времени и о себе...
скам растаскивать. Его можно разменять, тогда будет куча мелочи.
А журнал должен быть как этот рубль — целым". Вот такая
история». И это было очень поучительно. Какие-то вещи я начинал
понимать прямо по ходу работы в журнале, потом стал «ответсеком»,
и в этом качестве я все время был рядом с Володей. Мы общались
очень тепло и близко. Вместе проживали эту сумасшедшую
внешнюю жизнь и я всегда рядом чувствовал его плечо.
Еще одну историю вспоминаю, как мы с Володей к следователю
были вызваны. Это история, которая достойна публикации. В
журнале появились две статьи. Статья Г. Гачева и статья В. Мильдона.
Статья Гачева была написана с психоаналитических позиций. В ней
было рассуждение такого рода: русский мужик, крестьянин, он, с
одной стороны, считал землю матерью, а с другой стороны, —
когда пахал, «насиловал» ее. Вот этот элемент насилия матери-Земли
он отметил в своей статье и истолковал его в психоаналитическом
духе как «нарушение». И он пытался на этом строить концепцию.
И вторая статья — Мильдона, где рассматривалось отцеубийство
как русская проблема. Ну, мы специально подобрали эти статьи.
Мы искали новую тематику для журнала, это было такое время
смутное. Искали новые формы выражения и публиковали иногда
что-то довольно рискованное с философской, подчеркну, точки
зрения. Вдруг получаем повестку к следователю. И я, и Володя.
Приходим. Он нам объясняет, что мы обвиняемся в клевете, есть
заявление, полученное, между прочим, от депутата — а депутатские
запросы они обязаны рассматривать. И смысл заявления такой: мы
клевещем на русский народ, это клевета. И клевета в статьях Гачева
и Мильдона. И за эту клевету нам полагается четыре года лагерей
общего режима. Мы несколько опешили. Стали вникать. Володя
сообразил через какое-то время: «У нас специальный журнал. Он
не идет в открытую подписку». Следователь радостно улыбнулся и
сказал: «Ну, тогда два года лагерей общего режима». При этом
следователь, надо сказать, с большой тоской смотрел на нас и говорил:
«Ребята, на мне три убийства висит, а вы со своими мелочами, но я
ничего не могу сделать. Вот получите вы по два года, и будете знать,
чего пишете». И пока Володя с ним эту тему обсуждал,
отторговывая еще полгода лагерей общего режима, я совершенно ошалело
смотрел на это, потом вдруг сообразил: «Скажите, а почему,
собственно, нас должны осуждать? А что такое клевета-то?»
Следователь популярно мне объяснил: «Если человека называют идиотом,
приписывая ему симптомы этой болезни, — это клевета, если он
не идиот в реальности, это ему психическую болезнь,
психофизиологическую приписывают». Я сижу, перевариваю это определение,
Б. И. Пружиним. О судьбе, о себе и о точках бифуркации
439
Володя опять торгуется со следователем, какие-то детали
обсуждает, он еще, по-моему, полгода все-таки отторговал. Там срок
сократился до года, поскольку мы журнал все-таки Академии наук и
имеем право анализировать самые сложные социальные феномены.
И тут вдруг на меня нашло просветление. Я говорю следователю:
«Послушайте, это не клевета! Это метафора! Это заимствование из
текстов Фрейда. Это не клевета, это иное. Пишите...» — И я стал
диктовать: — «...у русской земли нет половых органов, так что ни о
каком акте изнасилования речи быть не могло». Следователь
весело заржал, записал это все и радостно сказал: «Ну, дело закрывается!
Идите!» Последнее, что мы у него спросили, кто же это, что за
депутат? Он сказал: «Я не могу имя называть, но писал это его
помощник, они вообще весь журнал понесли за то, что вы публикуете, и
вот, в частности, за статьи Гачева и Мильдона. Мы потом
сообразили, что это был человек, который приносил в журнал какую-то
дурацкую статью, и мы ему отказали. Он обиделся и решил
посчитаться с нами. Вот так мы отбились от наказания.
И еще одна история.
Как-то мы получили бандероль. Открываем — номер
нашего журнала. А на обложке: список членов редколлегии с
указанием национальности каждого. Определяли, конечно, опираясь на
фамилии, поэтому практически вся редколлегия оказалась, по
мнению отправителя бандероли, «еврейской». А ниже было
приписано: «Дорогой товарищ Пружинин, я Вам очень сочувствую.
Представляю, как Вам тяжело, когда вокруг одни евреи и
неизвестной национальности Мудрагей...»
История пятая
Этот туристический развлекательный поход также можно назвать
точкой бифуркации. Хотя трудно сказать, моей или не моей.
Наверное, моей тоже.
Лев Баженов, участник этого похода (и, между прочим, автор
известной и отнюдь не потерявшей сегодня актуальность книги о
научной гипотезе) окрестил его «ледовым-крестовым». В поход нас
позвал, как всегда, Анатолий Михайлович Коршунов. Вообще, я с
ним бывал в разных походах. Были долговременные трудные
походы, например, по полярному и приполярному Уралу (с «волоком»
байдарок и перевалом из притоков Оби в притоки Печеры или из
Печеры в Обь, со спуском по порогам горных рек). Но были и по-
440
Раздел 4. О времени и о себе...
ходы, так сказать, развлекательные — на майские или ноябрьские
праздники, на 10—12 дней. Так вот, этот «ледовый-крестовый» был
майский и должен был быть развлекательным.
Я взял с собой племянника (он тогда учился в 8 классе), а
Баженов — дочку, тоже восьмиклассницу. Были два моих друга — Дима
Фельдман (сегодня профессор МГИМО) и Володя Евдокимов
(ныне покойный, тогда он был аспирантом Коршунова). Маршрут
был простой: поезд, подвода до небольшого озера, далее по реке
Ветлуге (приток Волги) до станции и поездом назад — в Москву.
И вот, где-то в последних числах апреля, мы выгрузились из
поезда, погрузились в тракторную тележку и через несколько часов
добрались до озера. А озеро еще не вскрылось — оно все было
покрыто мягким льдом и снегом! Дороги назад не было — началась
распутица. Мы поселились в клубе и два дня ждали весны. Потом
решили двинуться...
Анатолий Михайлович и я отправились на разведку. Сели в
байдарку, проплыли метров двести и попали в «сало». Знаете что такое
сало? Это примерно метровый слой рыхлого снега, две трети
которого под водой. И главное, не ясно, есть под ним лед или нет.
Байдарка в нем двигаться не может, ходить по нему нельзя — уходишь
по воду, а он над головой смыкается. Анатолий Михайлович решил
проверить, есть ли лед, т. е. можно ли ходить. Сделал несколько
шагов и провалился. Но под воду он сразу не ушел, поскольку у него в
руках было весло. Он завис по пояс и медленно стал погружаться. Я
к нему рванулся из лодки. Он на меня цыкнул. Сделать я ничего не
мог. Он помолчал и начал прощаться со мной и вообще с близкими...
Поскольку говорил он ровным голосом, без истерики и
погружался медленно, то я несколько пришел в себя и начал
соображать... И сообразил. Я толкнул ему свое весло и оно, скользнув по
снегу, оказалось рядом с ним. Он оперся на два весла и медленно
лег на «сало», а потом прополз к лодке.
Мы вернулись. О наших приключениях ничего не говорили.
Подождали еще день, а потом пошли. Иногда плыли, иногда шли
по льду, трещавшему и проваливавшемуся под нашими ногами, а
мы несли на себе лодки... Такой поход называется у бывалых по-
ходников «на хвосте у зимы». И они-то знают, что это такое.
Было в этом походе еще много очень и очень опасных
ситуаций. Мы не раз тонули, лодки переворачивались, но мы
выплывали... Помню, перевернулась лодка с Димой. Он ушел под воду. Мы
ждем, ибо сидя в байдарке ничего сделать и невозможно. Рядом с
моей лодкой разверзаются воды, по пояс вздымается Дима,
срывает с себя очки и говорит: «Боря, возьми, иначе все будет потеряно».
Б. И. Пружиним. О судьбе, о себе и о точках бифуркации
441
Я беру очки, а он снова уходит под воду. Между прочим, вода-то со
льдом, где-то около нуля.
Чтобы остановиться и обогреться, надо было пристать к берегу,
покрытому метровым слоем снега. Мы подплывали, кто-то из нас
вставал в лодке, падал на берег и начинал кататься по снегу, потом
утаптывал его. На этом месте мы ставили палатки. Мы спали на
снегу, но за весь поход, никто, ни разу даже не чихнул. Дети, между
прочим, тоже. Мы выжили. И потом много и часто хвалились этим
походом.
Но о той 40-летней давности ситуации с Анатолием
Михайловичем я рассказываю впервые.
История шестая, услышанная мною в походе
Еще о судьбе. Места, где пролегали маршруты наших походов,
были «весьма отдаленными» и костяк местного населения
составляли бывшие заключенные без права выезда. Эту историю
рассказал мне бывший заключенный, проведший ночь у нашего
походного костра. С котелком водки мы вдвоем сидели до утра. И он
рассказывал о себе.
«Я москвич, до войны жил на Дорогомиловке. Я был физически
очень сильным и хулиганистым. Ну, как вся дорогомиловская
шпана. Однажды, перед самой войной зашел в пивную выпить и
подрался. Врезал мужику, который меня чем-то зацепил. А он оказался
"советским работником" и схлопотал я 2 года лагерей».
Прерву его рассказ — нечто подобное я читал у Солженицына.
Но уверяю, ничего такого мой рассказчик не читал. Так вот:
«Началась война и я попросился на фронт. Долго не пускали,
потом взяли. Через год я был весь в медалях и орденах... Бывалый
вояка. А тут прислали пополнение — молоденькие лейтенантики,
только что после трехмесячных курсов, пороха не нюхали. И стал
такой малец на меня кричать... Я ему и врезал. Он лицо зажал в
руках, а я смотрю — между его пальцами что-то сочится. Я ему глаз
выбил. Может я ему жизнь спас — младшие командиры гибли
очень быстро... Но так или иначе, до сих помню слова приказа: в
виду тяжелого положения на фронтах заменить высшую меру
наказания 6 месяцами дисбата.
В дисбате тоже долго не жили... Однако, вот ведь — выжил и
даже ранен серьезно не был. Вернулся на Дорогомиловку весь в
орденах. И вот же, снова пивная, снова драка. И опять какой-то дея-
442
Раздел 4. О времени и о себе...
тель попался... В общем, по совокупности 10 лет лагерей и
поселение. Живу здесь неплохо. Я ведь тут в поселке Народный контроль
возглавляю. По Дорогомиловке тоскую только... Иногда...»
Мне кажется, вот тема для размышлений философа. Сократ
ведь именно о такого рода историях и думал.
История седьмая, неоконченная
После аспирантуры я опять оказался в ситуации выбора. Шла
затяжная арабо-израильская война, и на этом фоне меня ни в какие
вузы не брали. Полгода я что-то писал для себя, а ночами работал
оператором посылочного цеха на Киевском вокзале.
Преподавательская деятельность для меня была тогда в принципе закрыта,
и оттого перспектива работы в философии становилась все более
сомнительной. Но в марте 1972 я стал сотрудником сектора
теории диалектического материализма ИФ АН СССР. Помог мне Лев
Владимирович Скворцов, который учился вместе с моим братом на
философском факультете МГУ. А взял меня в этот сектор
Владислав Александрович Лекторский, с которым я работаю до сих пор.
Вот здесь я действительно оказался в философском
аттракторе. Моим окружением стали Эвальд Васильевич Ильенков,
Генрих Степанович Батищев, Владимир Сергеевич Швырев. И совсем
близким окружением — Николай Николаевич Трубников, Евгений
Петрович Никитин, Борис Семенович Дынин (уехавший в 1974 в
Канаду), Нелли Степановна Мудрагей и Владимир Иванович Му-
драгей, Наталия Сергеевна Автономова. Об атмосфере, царившей в
этом ближнем круге, написала Нелли Степановна Мудрагей. Что я
могу добавить?..
Спасибо всем моим Заслуженным собеседникам... Их истории и
наши разговоры перед вами.
H. С. Мудрагей
Membra sumus corporis,
или Наш карасе по Воннегуту
В процессе сочинения автор, как и читатель,
не должен знать, что будет в следующей строке.
Собственно, для того он и пишет, чтобы узнать.
А. Генис
Борис — умница, талант, человек с неисчерпаемой
энергией, с отменным чувством юмора (на мой взгляд, одна
из важнейших черт homo sapiens). О Борисе не скажешь:
«Он всегда готов прийти на помощь», потому что он
просто всегда приходит на помощь (подтверждено моим
личным опытом). О его творческих успехах свидетельствуют
его многочисленные труды, признанные философским
сообществом. Я лишь позволю себе несколько лаконично-экзотическую
фразу (да простят меня Юз Алешковский и все прогрессивное
человечество): Борис — «большой ученый, в эпистемологии
познавший толк»!
Вот, собственно, и все, что я хотела сказать о Борисе Исаеви-
че Пружинине, ибо Боря просил меня говорить не о нем (он еще
и скромный), но о нашем славном прошлом: о 70—80-х годах
прошлого века. И я расскажу о, может быть, и не уникальном, но
все-таки довольно редком явлении — о сплоченнейшем
сообществе единомышленников. Этим и определен заголовок моего эссе.
«Membra sumus corporis» («Мы члены одного сообщества») выбран
мною в подарок юбиляру — Борис неравнодушен к латыни. Ведь и
заголовок нашего предисловия к книге Е. П. Никитина «Духовный
мир: органичный космос или разбегающаяся Вселенная?» выбрал
Боря: «Lucidus ordo Евгения Никитина».
О карассе. Этот термин Воннегута наилучшим образом
отражает специфику нашего содружества: неформальное сообщество людей,
характеризуемое признаками личного знакомства, близкого
социального положения, сходного душевного и духовного настроя.
Наш карасе образовался в начале 70-х годов XX столетия. Его
участники: Николай Николаевич Трубников (1929—1983), Евгений
Петрович Никитин (1934—2001), Борис Семенович Дынин, Борис
Исаевич Пружинин, два Мудрагея: Владимир Иванович (1941—
444
Раздел 4. О времени и о себе...
2001) и я. Несмотря на значительную разницу в летах (Борис Иса-
евич на 15 лет моложе Трубникова, и мы долго уговаривали его
называть Колю «Колей» и перейти на «ты», на «ты» он перешел, но
наотрез отказался от «Коли», упорно называл его «Николаем
Николаевичем»), мы стали чрезвычайно близки и дружны (см.
определение карасса).
Мы работали в секторе диалектического материализма1
(которым в секторе практически никто не занимался), позднее он стал
сектором теории познания (аутентичное название). У театрального
критика Марины Токаревой есть замечательное выражение — «гу-
стонаселенность талантами». Именно такой территорией
густонаселенной талантами был наш сектор, которым чутко и терпеливо
руководил и руководит Владислав Александрович Лекторский
(Пружинин был его заместителем с 1978 по 1989 год). Практически
каждый сотрудник был уникальной личностью. Например, Генрих
Батищев (Трубников называл его Гендрихом, а Владимира
Ивановича Мудрагея зачастую именовал Вольдемаром Иогановичем).
Основная тема творчества Генриха — культура глубинного
общения. А еще он был чрезвычайно озабочен правильным образом
жизни. Если я приходила на работу с насморком, он выговаривал
мне: «Ты думаешь, что ты простыла? Ничего подобного! Ты мало
общаешься, неправильно питаешься и куришь!» Однажды он
пригласил нашу компанию на обед, чтобы продемонстрировать — как
правильно питаться. Стол был заставлен тарелками с сырой
морковкой, сырой свеклой, сырой капустой и сырым картофелем. Мы
очень хорошо пообщались, вяло пожевали и... рванули в
Медведково (где тогда мы жили с Мудрагеем и где чаще всего собирались).
По дороге закупили неправильную пищу и совсем неправильные
напитки.
Собирались мы практически каждую неделю после
очередного заседания сектора. Обсуждали то, что недообсудили на секторе,
или какую-то злободневную на тот момент тему, спорили, шутили,
рассказывали анекдоты. Очень нам нравился, например, такой:
Звонят из обкома КПСС в монастырь и просят прислать для
Пленума венские стулья. А монахам надоело таскать стулья туда-
сюда, и они отвечают:
— Фиг вам венские стулья!
1 В. И. Мудрагей был аспирантом сектора. Научным руководителем ему
назначили почему-то зам. директора Архипцева, которому не понравились цитаты из
«Нового мира», тогда опального, а еще больше — из высказываний ревизиониста
Лукача, и он не допустил своего аспиранта к защите. После ряда перемен мест
Володя обосновался в «Вопросах философии». Диссертацию защитил позже.
H. С. Мудрагей. Membra sumus corporis, или Наш карасе по Воннегуту 445
— А, фиг нам венские стулья, так фиг вам пионеры для
крестного хода!
— Фиг нам пионеры для крестного хода? Так фиг вам монашки
для вашего Пленума!
— Фиг нам монашки для нашего Пленума? Так фиг вам для
чтения закрытое письмо ЦК КПСС!!!
По поводу шуток. Всесоюзная шутка. В перестроечные
времена на телевидении и радио были передачи на философские темы.
Мудрагей однажды читал какую-то лекцию на Всесоюзном радио.
В заключение, как водится, ответы на вопросы. Мудрагей: «Вот нас
спрашивает Евгений Петрович Никитин из Томска...»
Заодно расскажу, как Мудрагей поверг в обморок московское
метро. У нас была собака, а готовых кормов для собак тогда не
продавали. Мы, как все собачники, покупали берцовые говяжьи кости
(26 коп. за 1 кг, чтобы их разрубать, специально обзавелись
топориком). Купил Володя кости, сложил их в авоську и на метро
отправился домой. Его кто-то сильно толкнул на эскалаторе, и он
полетел вниз. Когда приземлился на платформе, вокруг него лежали
эти кости. Немая сцена, потом визги и т. п. Еще больше пассажиры
были ошарашены, когда «раздробленный» пассажир собрал свои
кости в авоську и пошел к поездам.
Единственное, что разделяло нашу компанию на части, это
рыбалка. Никитин и Трубников были заядлыми рыболовами и
заразили нас с Володей. На 1—9 мая мы ездили рыбачить на Селигер,
в Шелемиху и т. д. Иногда и в отпуск ездили вместе (совершенно
незабываемая поездка на Белое море). Но Дынин сказал, как
отрезал: «Я родился на асфальте, мне и в городе хорошо». А Пружинин
в силу темперамента предпочитал активный отдых на байдарках.
Но однажды мы отправились на рыбалку большим коллективом
(часть которого вы можете увидеть на фотографиях в этом томе), и
Боря сказал, что рыбалка и без байдарки это здорово.
Кстати, о темпераменте. Так сложилось, что когда Коля заболел
(онкология), последние две недели его жизни при нем постоянно
находились Володя и с небольшими отлучками (по неотложным
секторским делам) Боря. Так вот Коля «жаловался» мне, посмеиваясь:
«Попросишь Вову принести стакан воды, он и принесет стакан воды.
Попросишь Борю принести стакан воды — Боря срывается с места и
через какое-то время приносит ящик минералки из магазина». Коля
скончался на руках у Вовы и Бори вечером 19 мая 1983 года.
446
Раздел 4. О времени и о себе...
Напомню, что карасе прежде всего — это сходство душевного и
духовного настроя. Этому требованию наше содружество
отвечало полностью. Нас объединило в нечто единое то, что называется
такими простыми словами: «общие интересы». Конечно, в первую
очередь — философия. Но не только. Сейчас я хочу рассказать об
интеллектуальном взрыве, произошедшем в 1970—1980-е,
который расширил и углубил наши интересы. Появились Авторы (в
самом широком смысле слова), творчество которых дало новую
пищу умам и сердцам, вызывало печаль и радость, грусть и смех.
Оглядываясь назад, сознаю, как нам невероятно повезло: мы стали
свидетелями и воспринимателями новых текстов. На наших глазах
творили Тарковский, Жванецкий (его рационализаторское
предложение: «Может, что-то в консерватории подправить?» сегодня даже
более актуально, чем тогда), Галич, Окуджава, Высоцкий
(Трубников говорил: «Высоцкий — это Пушкин наших дней») и пр. и пр.
Их не показывали по телевизору, они не выступали на радио, но
были закрытые просмотры (так, в кинотеатре «Горизонт» мы
Институтом посмотрели «Андрей Рублев»). Жванецкий выступал с
концертами в «закрытых» залах. Михаил Михайлович выступал и
в нашем Институте. Надо ли говорить, что огромный актовый зал
на 2-м этаже был забит до отказа: пришли не только сотрудники
Института, но и их друзья и родственники, друзья и родственники
друзей и родственников и т. д. И магнитофон! Социологи и
политологи написали тома о причинах перестройки. Я объясню одним
словом — магнитофон. Из какого окна не слышалось: «Протопи ты
мне баньку по-белому / Я от белого свету отвык»?
И Тарковский, и Жванецкий и иже с ними подготовили
перестройку. Своими произведениями они не просто доставляли нам
истинное эстетическое удовольствие, но сдвигали границы нашего
сознания своим содержанием и своей формой, меняли (или
укрепляли) мировоззрение, формировали гражданскую позицию.
Разумеется, все это не было прямой целью авторов, но таковы сила
искусства и тайна творчества.
Невероятно повезло нам и с там- и самиздатами. Каждый из нас
как пчелка нес в наш улей-карасс книги, которые давали иногда на
долгий срок, а иногда только на ночь (как же ночью было
страшно читать Оруэлла, особенно эпизод с крысой). Перечитали почти
все, изданное YMКА-Press, Посевом. Не перечисляю — сейчас эти
книги изданы и переизданы неоднократно. Назову лишь
незаслуженно полузабытую повесть Георгия Владимова «Верный Руслан
(история караульной собаки)». Пронзительная книга! А везение
H. С. Мудрагей. Membra sumus corporis, или Наш карасе по Воннегуту 447
наше состояло в том, что мы прочитали все это до того, как
хлынули в газеты и журналы материалы о ГУЛАГах, пытках,
расстрелах. Мы оказались первопроходцами в самих себе, что обусловило
острое восприятие и эмоциональный накал от прочитанного.
Конечно, мы уже знали и о концентрационных лагерях,
изобретенных вождем мирового пролетариата, и о сталинских расстрельных
списках. Но сила художественного слова превзошла все наши
знания, обнажив до предела нерв сопереживания.
* * *
«Конечно, это не подвиг, но что-то героическое в этом есть»
(Григорий Горин). Расскажу о наших героических деяниях (почему
героических — обсудим ниже).
I
Боря Дынин с женой Милой и сыном Кирой эмигрировали. 24
октября 1974 года мы провожали их в аэропорту Шереметьево. Они
стоят за огромной стеклянной стеной — это уже заграница. Мы на
территории СССР машем им рукой, изо всех сил сдерживая слезы.
Прощаемся навсегда. Интернета нет, почтовая переписка очень не
рекомендуется. Но в Москве остаются Борины родители Соломон
Аронович и Елизавета Михайловна. Естественно, им эти
рекомендации, мягко говоря, не интересны. Они пишут Борису, Борис
пишет им, вкладывая в тот же конверт письма нам. Когда приходит
письмо, родители зовут нас к себе. На столе сплошная вкуснятина
(нам было даже неудобно перед таким гостеприимством).
Я от имени всех товарищей пишу письма Боре, рассказывая о
наших делах, в частности о делах цеха. Представляю, как веселились
кегебешники по поводу моей конспирации — «цех» вместо «сектор».
Родители уехали к Борису, но дела в стране поменялись, переписка
идет напрямую. В 1990 году Боря и Мила впервые приезжают в
Москву, о чем раньше не то что мечтать, но и помыслить было
невозможно (потом приезжали неоднократно). Появился Интернет, завязалась
активная переписка. Дынин публикует в «Вопросах философии»
переводы И. Берлина, Дж. Сакса, свои собственные статьи. В 2010 году
он стал одним из победителей конкурса «Возможна ли
нравственность, независимая от религии?» (Институт философии РАН).
Внимательный читатель заметил, что отца Бори зовут не
Семен, а Соломон. В стране, где официально антисемитизм был
запрещен, однако крепко помнили о пятом пункте, «удобнее» было
носить русские имена. Вот вспомнился случай. В секторе фило-
448
Раздел 4. О времени и о себе...
софских вопросов естествознания работал прекрасный философ и
замечательный человек Лев Борисович Баженов. Как-то на
заседании дирекции он выступал, что-то критикуя. Директор Украинцев
ехидно ему: «Садитесь, Лев Барухович!»
Украинцев — тот самый директор, которому в лицо при полном
зале сотрудников Евгений Никитин заявил: «Я пережил пятерых
директоров Института, переживу и Вас». Такого свекольного цвета
физиономии, какое выдал Украинцев, я ни до, ни после не
видела. В 1983 году его, действительно, уволили: такой махровости даже
советско-партийная власть не выдержала.
II
1976 год. В Швейцарии выходит книга Александра
Александровича Зиновьева «Зияющие высоты». Ну, как водится, его тут же
уволили из Института, лишили ученых степеней, званий и наград
(в Отечественную войну летал на штурмовиках!). И, конечно, —
персональное дело изменника и предателя родины с
последующим исключением из КПСС (что само по себе уже было
гражданской казнью). Боря Дынин, которому я рассказала, что пишу
заметки о нас, из Канады напомнил мне, как его исключали из
партии. «На заседании партбюро при обсуждении персонального
дела Б. С. Дынина было сказано: «Дынин оказался случайным
человеком в философии». Никитин написал Борису четверостишие
«В утешение»:
Талантливых и необычайных
Всегда клеймили как случайных,
Внося в разряд необходимых
Лишь дураков непроходимых.
Так вот, мы всей командой зачастили к Зиновьеву в гости. С
Сашей мы сдружились благодаря общей территории (сектор
диамата и сектор логики размещались в одной комнате), одинаковым
взглядам на жизнь и любви к юмору и сатире. Зиновьев — крупный
ученый, писатель, художник и к тому же — карикатурист в
знаменитой на всю Москву институтской газете «Советский философ».
Кстати, сотрудники Института могли прочитать газету лишь на
второй-третий день, ибо, как только ее вывешивали, перед ней
выстраивались толпы людей (сарафанное радио наряду с
магнитофоном тоже было мощным оружием пролетариата). Несмотря на
такое советское наименование, газету, конечно, закрыли, раздав
H. С. Мудрагей. Membra sumus corporis, или Наш карасе по Воннегуту 449
выговоры по партийной линии направо и налево. Впрочем, вполне
заслуженно, ибо материалы и карикатуры в ней были
зубодробительные (особенно доставалось Архипцеву под фамилией «Полу-
портянцев»). Так вот, в газете вместе с Сашей служил и Никитин:
писал эпиграммы и тоже рисовал карикатуры. Короче, наши
частые визиты к Оле и Саше были исторически предопределены.
Но о каком если не подвиге, то героическом упоминалось выше?
Нормальное поведение нормальных людей. Конечно. Только
ситуация в стране была ненормальная. Хулителям перестройки, коим несть
числа, напомню, что за томик Солженицына, найденный в тумбочке
нашими доблестными органами, отправляли на несколько лет в
лагеря и тюрьмы. Но и без лагерей власть успешно ломала человеческие
судьбы — за «связь» с отъезжантами по воле или неволе («Товарищ,
выбирай: или на Восток, в Сибирь, или на проклятый Запад?»).
Разгоняли сектора, увольняли отделами. В секторе логики работала Ася
Федина, которая в разгар гонений на Зиновьева должна была
защищать диссертацию. Научный руководитель — Зиновьев. Никакой
идеологии и близко не было в диссертации по логике. Запретили! Федина
уволилась. Научная карьера была оборвана на взлете.
Расскажу о Володе Кормере, который, дабы на редакцию
«Вопросов философии» не обрушились репрессии, сам уволился.
Однажды ясным погожим днем 1979 года мы с Мудрагеем сидели у
Кормера на кухне и мирно беседовали втроем (Кормер и Мудрагей
тогда работали в «Вопросах философии»). Звонок в дверь. Володя
Кормер пошел открывать и вернулся — смущенный, растерянный
и радостный — с телеграммой из Парижа, в которой сообщалось,
что ему присуждена первая премия им. В. Даля за роман «Крот
истории, или Революция в республике S=F».
И вот, чтобы редакцию не разогнали, Кормер сразу подал
заявление на увольнение2.
Возвращаюсь к Зиновьеву. Перед отъездом Оля и Саша
вручили каждому из нас подарки на память (опять же уезжали навсегда;
вернулись через 21 год). Нам с Мудрагеем помимо всего прочего
подарили репродукцию картины Сальвадора Дали «Христос
святого Хуана де ла Крус». (Знали, что она очень мне нравилась. Б. Вер-
бер писал о картине: «Идея Дали в том, чтобы показать Христа,
увиденного сверху. Словно взгляд Бога. До него об этом никто не
думал».) На обороте Саша написал:
2 В. Кормеру было только 47 лет, когда его не стало (онкология). Огромная потеря
для отечественной литературы. В 2009 году к 70-летию Володи издали двухтомник
его произведений.
450
Раздел 4. О времени и о себе...
Разумеется, эти слова были сказаны и устно (Сальвадоров на
всех не хватило) всему нашему содружеству — Трубникову,
Никитину, Пружинину.
* * *
Наша активность не осталась незамеченной. Последовали
неприятности для всех нас. Ну, все это в прошлом. А сейчас душа
радуется, когда читаешь: «Пружинин Борис Исаевич — главный редактор
журнала "Вопросы философии"», когда просматриваешь
библиографию Бориса, где более 200 наименований. И одна из последних
коллективных монографий «Эпистемологический стиль в русской
интеллектуальной культуре XIX—XX веков: от личности к
традиции», в которой он не только научный редактор, но один из
авторов разделов, посвященных Н. Трубникову и Е. Никитину.
P. S. Мне хочется, чтобы читатель воспринимал эти заметки не
как воспоминание о прошлом, но как описание кусочка жизни
пережитого каждым из нашего карасса; не как память об ушедшем
прошлом, но как настоящее и сегодня живущее в нас.
Разговор Б. И. Пружинина
с Н. С. Автономовой и Т. Г. Щедриной
Автономова: Воспоминания — вещь коварная, есть такие, что
кажутся ясными и четкими, но не соответствуют никакой реальности
(Пиаже убедительно об этом рассказывает), есть другие, они,
казалось бы, еле мерцают, но за ними — реальное жизненное
содержание. Никогда невозможно объяснить, почему что-то запоминается,
а что-то нет... Начну со студенчества. Я училась на вечернем
отделении филфака МГУ. Вместе со мной кто там был? Володя
Кантор — на русском отделении, Лида Александрова — на немецком.
Пружиним: А давай еще глубже. Ты помнишь имена учителей,
первой учительницы?
Автономова: Валентина Ивановна Савельева. Разбуди ночью.
Пружинин: А мою звали Нина Николаевна Ушакова. Но она
учила нас только в 1-м классе. А потом пришла, как я помню,
Полина Максимовна. Жуть была страшная...
Автономова: А у нас была простая задушевная женщина,
невероятно добрая.
Пружинин: У нас был дом напротив 281-й школы, где я и начал
учиться. Рядом по переулку был дом, где жили ассирийцы —
чистильщики обуви в Москве. Чтобы в школу попасть, надо было с
ними подраться. Чтобы из школы уйти, надо было тоже
подраться. Мой сосед по парте был из ассирийцев, и он меня опекал. Он у
меня списывал все подряд.
Автономова: У него была какая-то особенная внешность?
Пружинин: Не помню... Чем он поразил школу: пришел в буфет
со сторублевкой и решил расплатиться за пирожки. Если деньги со
всей школы собрать за все купленные пирожки, то сдачи на эти сто
рублей не набралось бы. Пирожок стоил пять копеек.
Автономова: А ты помнишь какие-нибудь интересные
студенческие истории?
Пружинин: Я учился с Лешей Радугиным (автор нескольких
учебников по философии). Мы звали его ЛёшА. Мы с ним были
452
Раздел 4. О времени и о себе...
в одной группе. Своеобразный парень такой. Поэзию любил.
Ходил на первом курсе в зеленом смокинге. Мы сидим, ждем нашу
«француженку», у нас вела Ирина Владимировна Барышева. Ин-
теллигентнейшая дама. Мы ее дожидаемся, а он обе ноги задвинул
в стол, сидит и раскачивается на стуле. Она заходит, говорит «Бон
жур». Он говорит: «Бон жур» и падает на спину, а ноги вынуть из
стола не может, они там застряли. А она ему: «ЛёшА, что с Вами?»
И еще одну веселую историю вспоминаю. Про Женьку
Сидоренко. Это прелесть! Мы с ним на одном курсе были. Идет
какой-то экзамен. Я захожу, сажусь. Столы раздвинуты, все сидят,
готовятся. Я опускаю глаза влево: на полу лежит учебник, а
рядом — босая нога... Смотрю, а это Женькина нога. Он длинный
был, ногой перелистывал страницы и, перегнувшись через стол,
читал учебник.
Автономова: Чего только не бывает!
Пружиним: А ведь это был будущий секретарь парторганизации
Института философии. Блестящий логик. Его вычисления
проверяли на компьютере и ни одной ошибки не нашли. Он аспирант
Зиновьева был.
А еще я помню, как сдавал экзамен последний,
государственный. Истматчики сидят. Решается вопрос: быть мне в
аспирантуре или не быть. Истмат я сдаю. И такой вот вопрос задает мне
Разин: «А скажите, в чем суть социально-экономической программы
анархистов? К чему они стремились?» И так смотрит на меня... А я
накануне, ну, как всегда на нервной почве листал книжку
Бакунина. И там в конце абзац как раз про эту суть (я его и прочитал).
С радостью объявляю Разину: «Программа такая, как писал
Бакунин: и на своем черном знамени мы напишем "свободная
ассоциация и т. д. и т. п."». Почему она мне запала, я не знаю. Видимо,
понравилась. И я ему наизусть. — «Пять».
Автономова: А еще кто у вас вел?
Пружинин: Я слушал лекции В. Ф. Асмуса, А. С. Богомолова.
Бегал слушать лекции А. Ф. Лосева. Я уже не помню по какому
случаю. Слушал М. К. Мамардашвили. Да мы с тобой, по-моему,
ходили в Институт психологии. Он читал, я его слушал.
Автономова: Да, ходили. Но это уже, стало быть, позже.
Пружинин: Да, это позже.
Автономова: Это даже не аспирантское, уже мы были молодыми
младшими научными сотрудниками. Мы познакомились с тобой
в 1972 году в секторе диалектического материализма, где я только
что закончила аспирантуру и была научно-техническим
сотрудником в ожидании места младшего. Ты пришел вместе с другими мо-
Разговор Б. И. Пружинина с Н. С. Автономовой и Т. Г. Щедриной
453
лодыми для работы над эпохальным проектом, задуманным
высокими инстанциями: многотомным трудом по теории диалектики.
Пружинин: Да, у меня на диалектику, точнее на диалектическую
логику, была аллергия. Наверное, Елена Дмитриевна Смирнова нам
здорово лекции по матлогике читала. Хотя мне четверку всадила.
У меня было три или четыре четверки за все время учебы. Вот одна
из них была по матлогике. Математику я сдал нормально. У нас если
кто-то не сдавал математику, то на втором курсе уходил на научный
коммунизм. Естественный отбор. Там математика не нужна была.
Автономова: А ты здорово помнишь многие вещи...
Пружинин: Ну да, это было интересно.
Автономова: И сейчас тебе для курсов, которые ты читаешь,
помогает твое образование философское с уклоном в
естественно-научное знание?
Пружинин: Ну, иногда да. Я какое-то представление о
естественной науке имею.
Автономова: Я не знаю, сейчас так же учат?
Пружинин: Думаю, что нет. Мы в те времена слушали очень
серьезный курс по естествознанию. Наш курс специализировался по
биологии. В те времена шли битвы с лысенковщиной, и химия с
биологией (генетика) были очень актуальны. Мы много чего делали.
Значит, мы препарировали мышей на биофаке. Анатомию животных
на них изучали. Однажды мышей не хватило на группу. И меня
посылают в какую-то комнату за мышами: «Возьми и принеси». Ну, я
побежал. Забегаю. Банки стоят. На них цифры какие-то написаны.
Я в одну банку руку запускаю, и тут сзади голос: «Не сметь!» Я
оборачиваюсь... — «Они чумные!» Я чуть не это самое...
Автономова: Это где было?
Пружинин: Это на биофаке, мы туда ходили слушать лекции по
химии, по биологии.
А еще я помню, была такая история. Это было у нас на
факультете. Я вечером вышел, а с философского окна в коридоре
выходили на анатомичку медицинскую, прям напротив там была. Стоишь
вечером, куришь и смотришь, тогда курить можно было везде,
смотришь туда вниз, в коридор. Занимался я в кабинете философии,
чего-то читал. Вышел, уже темно, вечер поздний, зимой дело было.
Это здание на Моховой, старое здание философского факультета.
Там сейчас психологи. Все это здание отдали психфаку. Стою. А в
это время там дверь открытая была прямо вот у окна. И там была
каптерка Ученого совета. Там какой-то ремонт делали, и высыпали
дела оттуда. Я поднимаю дело и читаю: очередной разнос Асмуса.
Вот как его это самое... И я упер это дело. И вот сейчас не помню,
454
Раздел 4. О времени и о себе...
я кому-то отдал его сдуру. А там стенограмма обсуждения. Кому-то
из ребят я дал почитать. Интересная штука — память. Что-то
высвечивает, что-то наоборот совсем как бы убирает, как будто этого
и не было.
Автономова: Самое интересное, что, судя по современным
каким-то естественно-научным данным, ничего абсолютно не
пропадает (у нас в голове)...
Пружинин: Да, наверное... Но ведь воспоминания
возвращаются не сами по себе, а по каким-то причинам, обстоятельствам. Они
требуют контекстов, и потому, что-то важное забывается, что-то
случайное всплывает. Вот и наш с тобой разговор очень
неупорядоченный. Конечно, мы с тобой обязательно забудем то, что
следовало бы сказать, но зато вспомним что-то другое, не менее яркое.
Щедрина: А как вы жили в шестидесятые, семидесятые. Что
вообще было в быту?
Автономова: Я жила, когда уже от родителей ушла, на
аспирантскую стипендию в семьдесят рублей. Рядом был рыбный магазин.
На эти деньги можно было нормально жить, если делать рыбный
суп и разные другие блюда.
Пружинин: Да. Не шиковать, но прожить месяц можно было на
эти деньги.
Автономова: Еще я пекла пироги с рисом и луком. Большие
такие. Они очень сытные были. Иногда у нас в доме, у родителей,
делали пироги с селедкой, невероятно сытно. И потом был такой
салат «для гостей», самый дешевый: из копченой трески, риса, лука
и майонеза. То есть получалось довольно вкусно, большое
количество еды.
Пружинин: Знаю я этот салат.
Автономова: Его все делали.
Щедрина: А у нас в Приморье делали такой же только из сайры в
банках.
Пружинин: Сайра в Москве — это по праздникам.
Автономова: Это деликатес.
Пружинин: А еще были рыбные дни: по четвергам. День был
присутственный, кончался в стекляшке, а там так пахло рыбой... Жуть!
Автономова: А сейчас из этой стекляшки, по-моему, сделали
ресторанчик.
Пружинин: Иль Патио, да. О, какой был центр
интеллектуальной жизни! Институт философии, Институт экономики, Институт
русского языка. И вот как начиналось с десяти часов утра. Она
зимой запотевала изнутри, стекляшка. Столы сдвигались, сидели
интеллигенты. Как правило, тарелочка, восемь, девять, десять вилок
Разговор Б. И. Дружинина с Н. С. Автономовой и Т. Г. Щедриной
455
вокруг, и один огурчик, такой остаток от салата. И ля-ля-ля-ля-ля.
И стаканы. А под столом...
Автономова: В портфеле иногда.
Пружинин: В портфеле, да. Стаканы стояли на столе. Где-то в
районе пяти появлялись военные из Генштаба. В чине до
полковника. Они не садились, брезговали, брали стаканы. Разливали,
стоя, коньяк. Выпивали и уходили сразу. В районе восьми часов
появлялся разрозненный гегемон откуда-то из ближайших
предприятий. Но тоже очень ненадолго. А мы — ля-ля-ля-ля-ля до
закрытия.
Автономова: Когда было закрытие, я уже даже не помню.
Пружинин: Я тоже не помню. Поздно сидели. До десяти точно.
А само это предприятие — «стекляшка» — жило своей жизнью.
Я помню, однажды какая-то была выставка в музее Пушкина
зимой. И интеллигенты там стояли в очереди, замерзали и, видимо,
погреться прибегали. Какая-то старушка открыла дверь,
сказала «ой» и закрыла тут же. Налеты были. Местные милиционеры
иногда совершали большие налеты на это заведение. Но местного
участкового Швырев, например, прикармливал. И грозился, когда
выпивал, взять его к себе в аспирантуру. Участковый млел и
позволял нам очень многое. Совершенно особая жизнь была. Еще одну
историю расскажу. Значит, мы задержались в секторе. А ребята:
Сашка Сорокин, Швырев и еще кто-то, пошли в стекляшку
первыми. Мы выходим. Идем мимо здания. Мы почему-то решили
обойти, и идем не вниз сразу туда, к бассейну, ныне к Храму, а решили
обойти помещение, ныне там музей Глазунова и с той стороны
сегодня к стекляшке (Иль Патио) не пройдешь. Мы обходим и
видим — странно как-то: стоит машина, микроавтобус и два человека
у входа с повязками «дружинник». И вдруг мы, Я, Трубников, Нэл-
ля Мудрагей, ну вот всей компанией, Володя Мудрагей — мы его,
по-моему, ждали и поэтому задержались. И вдруг оттуда выходят
«руки за спину». Первый идет Сорокин, за ним еще какие-то
ребята, Мареев, по-моему, там, а за ними понуро — Швырев. И
Сашка, как в хорошем фильме времен войны, руку вскидывает:
«Ребята, там засада!» Мы развернулись, вернулись в сектор, обсуждаем
событие. Их всех в воронок запихнули и Швырева тоже. Сорокин
прибегает и говорит: «Ребята, у нас денег не хватает откупиться».
Там, говорит, со всех брали по два рубля, а Швырев раскричался:
«Я доктор, я доктор!», а ему офицер и говорит: «Тогда с тебя три».
Мы собрали деньги, вместо того, чтобы выпивать, мы скинулись, и
Швырева выкупили из милиции. Это, между прочим, тоже
стилистика времени.
456
Раздел 4. О времени и о себе...
Автономова: А Сорокин, это тот, который переходил в
неположенном месте и сказал милиционеру: «А я Митрохин».
Пружиним: Да-да! Он назвался Митрохиным. Скандал такой в
институте был.
Щедрина: А как его вычислили?
Пружинин: Он сам признался, что он назвался. Пришла бумага
из милиции о том, что Митрохин подвергал свою жизнь
опасности, переходя улицу в неположенном месте. Митрохин
рассердился. Это было после овощной базы.
Щедрина: Вот! Кстати, про овощную базу расскажите.
Пружинин: В другой раз. Это особая история. Ну, хорошо,
расскажу. В качестве заместителя заведующего сектором (я им стал в
1978 году) я должен был обеспечивать явку философов на переборку
гнилых овощей (это была наша реальность, которую очень хорошо
помянул Рязанов в фильме «Гараж»). Как я завлекал народ: брал
термос с водкой, подкрашивал ее чаем, и в обеденный перерыв мы
садились, я разливал... Постепенно наш разговор становился все более
оживленным. А все говорили: «Какой у вас дружный коллектив, за
столом сидят, весело разговаривают». Чай пьют и бурно беседуют.
Щедрина: Такое ощущение, что у вас «алкоголистый» коллектив.
Пружинин: Между прочим, пьянство было формой гусарства,
как йога. Это форма ухода была от социальной реальности. Но
отнюдь не надо представлять себе дело так, будто мы только пили.
Есть такая манера, посмотрев в прошлое, выдергивать из него то,
что хочется. Мы работали, мыслили, искали выходы,
переигрывали реальность. Пьянство было одной из таких «игр». Умный и
жутко пьющий Швырев, например. Это ум колоссальный...
Автономова: Редкостный!
Пружинин: Редкостный, да. Интуиция, схватывание налету
всего. Он пил запойно. Видимо, для того, чтобы не все понимать в
происходящем. И как говорят, я этого не знаю, что он очень
быстро протрезвлялся. Он пьяным приходил домой и ложился спать,
в шесть он просыпался и утром работал. Его пьянство
совершенно не отражалось на его производительности. И на блестящих его
статьях.
Автономова: До самых последних дней жизни Швырева для нас
было значимо его мнение. Не важно, о чем он размышлял (круг его
интересов был очень широк). Помню, как мы обсуждали в секторе
статьи. Если он заинтересуется — значит, в тексте что-то есть... Он
невероятной цепкости интеллектуальной, конечно, был. И если
его что-то трогало в тексте, он начинал рассуждать, даже если это
его совершенно не касалось. И уместно при этом.
Разговор Б. И. Пружинила с Н. С. Автономовой и Т. Г. Щедриной
457
Пружиним: Уместно и интересно. Всегда интересно. Эвальд
пил (ему много не надо было), но при этом труды Ильенкова
ценили все философы страны (и не только философы). А кто там
не пил? Один Батищев. У того свой тип запоя был, да. Духовный
запой. Мне Трубников рассказывал, что когда у Батищева
родилась первая дочка, Яночка, он был сторонником деятельностной
теории. И если с нее ночью одеяльце сползало, он брал ее руку,
в руку зажимал одеяльце и накрывал. Как это не похоже на
нынешних отстраненных философов-специалистов... А для
Батищева философия была формой жизни, но не формой борьбы за
престиж и деньги. Он писал о глубинном общении, хотя сам
общаться не мог. Это, кстати, Швырев сказал про него: «Даже
когда Генрих говорит правильные вещи, хочется встать и возразить».
Это у него очень ловко получалось. Даже если он говорил, что
дважды два четыре, то хотелось встать и сказать: «Нет, не
согласен! Не принимаю я этого!»
Автономова: Когда он умер? Ильенков умер в семьдесят
девятом.
Пружиним: Генрих Степанович умер, если я не ошибаюсь, в
конце октября 1990 года, я уже тогда был заместителем в секторе у
В. А. Лекторского. Я не был на его отпевании, только на похоронах.
Помню, как ехали на кладбище... Народу было не очень много.
Пружинин: Когда я пришел в сектор Борис Дынин у него был
замом. Дынин уехал. Лекторского чуть за это дело не уволили,
прошло некоторое время. Недолго замом был Никитин. Вдруг я
получаю от него предложение стать его замом. Я ему говорю прямым
текстом: «Владислав Александрович, второй еврей вот так с ходу?»
Но он настоял на своем.
Щедрина: И тридцать пять лет замом.
Пружинин: И тридцать пять лет замом, да.
Автономова: А с ним легко было. Интересно, что отношения
между поколениями тогда были совсем иными, нежели сейчас. В
те времена мы — молодые сотрудники, которым было по 27—28
лет, явно чувствовали себя очень младшими по отношению к
старшему поколению, хотя заведующему сектором, Владиславу
Александровичу Лекторскому, тогда не было и сорока! (Еще о
поколениях: когда Борис пришел в сектор, у него уже была дочь, Ольга,
но сына еще не было, а когда родился сын — Шурик, Александр,
мы все вместе в секторе кричали ура!) В общем и целом — не
только в секторе, но и шире, эта разница в 10—15 лет постепенно
переставала восприниматься со стороны как значимая (мы-то ее всегда
чувствовали и чувствуем!), как разница поколений, а в глазах ны-
458
Раздел 4. О времени и о себе...
нешних молодых — мы, наверное, все вместе становимся
неразличимо одним общим поколением старших. Время уплотняется,
спрессовывается.
А еще иногда наша дружная компания ходила в походы.
Один раз мне довелось быть в таком походе. Это было,
наверное, в году 1975/1976; мы ехали ночь на поезде в сторону
Ленинграда, а потом автобусом в сторону глухой деревушки Шелемихи,
давно уже облюбованной Никитиным и Трубниковым, — на
озерах, где можно было бродить по лесу, дышать воздухом, ловить
рыбу (только она что-то не очень ловилась), к тому же в походе —
ранней весной — было довольно холодно. Грелись у костра, и еду
готовили на костре, это мастерски делал Трубников. Он вообще
все умел прекрасно делать руками — вырезал из дерева без помощи
каких-либо инструментов ложки, сувениры, мастерски
переплетал книги. Так, например, увлекшись йогой, Трубников сделал для
всех членов нашего карасса (см. воспоминания Н. Мудрагей)
отдельные книжечки с комплексами упражнений и с росписью
особых диет.
В походе были Мудрагей всей семьей — с дочерью Аней,
которой тогда было, наверное, лет 12 (а ныне Анна Владимировна Го-
бечия — сотрудник редакции журнала «Вопросы философии» мать
двоих детей и уже бабушка), Никитин, ты и я. Ты и до этого часто
ходил в походы с друзьями — Львом Борисовичем Баженовым,
А. М. Коршуновым, Евдокимовым, и это были, насколько можно
судить по твоим рассказам, тяжелейшие, но не лишенные
романтики походы с преодолением порогов и множеством перипетий и
геройских подвигов. В этом нашем скромном походе такой
внешней романтики не было, но было другое — удивительное
ощущение контакта между людьми, а людей — с природой.
Наша жизнь как сотрудников сектора шла своим чередом,
сплетенная с семейными судьбами, с жизнью близких людей.
Трагически погибла дочь Баженова. Тяжелые болезни в семье
Лекторского унесли жизни его жены Ларисы и сына Игоря. Долго и тяжело
болел Трубников, он перенес тяжелую операцию на легких, мы все
ездили к нему и навещали его дома, когда он уже не мог
передвигаться. Чувствуя приближение конца, он раздаривал нам свои
книги — кому что. Потом была болезнь Жени Никитина, которую он
переносил бодро и стоически. Все эти болезни и утраты
переживались как общее горе. Помню, как мы ездили в больницу к Мудра-
гею — с радостью узнав, что ему стало лучше и что на следующий
день его выпишут, но на следующий день и его не стало.
Держались, как могли — друг за друга, за работу, за близких.
Беседа Б. И. Пружинина
с А. М. Коршуновым
Коршунов: 20-е мая. Завтра день рождения у Петра Алексеева.
Пружиним: Я позвоню, поздравлю обязательно.
Коршунов: Я тоже собираюсь ему звонить. Ну, Сашу ты знаешь,
его сына.
Пружинин: Ну, вот, Анатолий Михайлович, вспоминайте!
Коршунов: Боря, жизнь прожита астрономически достаточно
большая, но я думаю, что она была и насыщенная. Я тебе говорил
о том, что много размышлял о своем пути, о своей жизни.
Родился я в 1929 году, я москвич по рождению. Большая Якиманка. Вот
на 9 мая и на 1 мая демонстрация была, а 9 мая я поехал, от
Храма Христа Спасителя прошел через мост, там выходишь прямо на
Якиманку. Там есть музей скульптур на Крымской набережной.
Потом прошел к своему дому, сфотографировал его. Ну, с тем,
чтобы не вдаваться в детали, я просто скажу о том, что повлияло на
мое становление.
Ну, конечно, семья. Родители у меня рабоче-крестьянские.
Мать — я не знаю, вообще имела ли она образование, три или
четыре класса, церковная ли школа? Она десятого года рождения.
Отец был со мной до семи лет. Мать потом разошлась с ним, и всю
остальную жизнь был отчим. Но я, конечно, благодарен семье.
Семья — это первое.
Второе — это двор. Когда бывает возможность, на четвертый
троллейбус сел и прямо до Якиманки, до дома доехал. Дом тридцать
восемь. Если знаешь, там французское посольство, а с другой
стороны, но только ближе к центру, там двенадцатиэтажный длинный
стоит, а дальше там президентский дворец. Длинный — это был часть
нашего двора. А за этим длинным наш дом. И часть этого двора
сохранилась. У нас не было ни мобильников, ни домашних телефонов,
но мы жили интересной жизнью, общались друг с другом, играли.
Третье — это сельская жизнь. Колоссальную роль в моем
детстве сыграли четыре года — это 1938, 39-й, 40-й и 41-й. По оконча-
460
Раздел 4. О времени и о себе...
нии школы на три месяца меня отправляли в деревню. Я не просто
был дачником, я жил среди крестьян, занимался сельским трудом.
Огород полол, стерег телят, в ночное ходил. И даже в 40-м и 41-м
году принимал участие в пахоте на лошадях. Я умел пахать и ездить
на лошадях. Деревенская жизнь. Я потом приезжал в эту деревню.
Вспоминаю, как я в 1941 году встретил там войну, 22 июня я рыл
погреб, который, кстати, сохранился и в 1949 году, когда я приехал
уже после окончания первого курса философского факультета. Эта
моя вырытая яма, она глубиной была с высоту этой комнаты. По
улице кто-то бежал и кричал: «Война!» Я увидел, как люди бежали
в сельсовет, какие речи были, плач был, стоны и пр.
И, наконец, четвертое — школа. С первого по четвертый класс я
учился в 582 школе. Она прямо рядом с домом. И я вот 9 мая
подошел, положил руки и подержался за школу, как бы прощаясь. А
может, в последний раз, может, мне туда больше не удастся.
Пружиним: Там школа сейчас или там какое-то религиозное
заведение?
Коршунов: Какое-то есть и заведение, но там есть и объявление,
что школьный образовательный центр. Я был в выходной день, но
я как-то был и в рабочий день. Там уже в округе нет жилых домов,
по сути. Дома многие старые сохранились, я на них смотрю и у
меня на душе, знаешь. Я же знаю, какие магазины были, за
какими конфетами мы бегали, хлеб покупали. На Калужскую площадь,
сидел там армяшка, я помню, чистил обувь. Мы у него покупали
пугачи и пробки, стреляли. А рядом был мясной магазин, где пекли
котлеты. И если были деньги, то мы покупали две котлетки,
съедали. Они такие вкусные, до сих пор я их помню!
Я даже помню учительницу. Мельникова Зоя Александровна.
Когда я вернулся после эвакуации в Москву на философский
факультет, я заходил на Большую Полянку. Там читальня районная
была. Заходил в ее дом и видел надписи с ее фамилией. Вот это
период детства.
Начало войны я встретил в деревне, и если бы родители меня не
забрали, то я был бы под немцами, потому что эта деревня в Тульской
области. Танки Гудериана как раз подходили к Туле, они Тулу не
взяли, но эта деревня была оккупирована. Две-три недели примерно там
немцы были. Но в сентябре месяце приехала мать, и мы уехали в
Москву. Москва. Бомбежка. Беготня, конечно, в бомбоубежище.
Правда, если бы в наш дом пятиэтажный попала бомба, то нас бы там
накрыло бы. А в довоенное время там, где сделали бомбоубежище, там
хранили картофель. И когда осенью завозили картофель, мы,
мальчишки, набивали свои сумки и с этим картофелем бежали домой.
Беседа Б. И. Пружинина с А. М. Коршуновым
461
Я помню ведь: была война вот с Финляндией, затем нападение
на Польшу. А мы вот, ребята, мальчишки третий-четвертый класс,
во-первых, фильмы смотрели, обсуждали эти проблемы. В нашем
доме был дворник, это было году в 1938. Вдруг мы узнаем, что
ночью его арестовали. Всю семью выселили. Проблема. Ну, для нас
он уголовник. Мы, конечно, не обсуждали проблему террора и
причину терроризма. Но, понимаешь, вот эти социальные
проблемы, они входили в нашу жизнь через войну и пр. Колоссальное
влияние, конечно, в этот период оказывали кинотеатры. На
Якиманке «Авангард», это там, где МВД стоит, там церковь была.
Пружиним: Я ходил туда кино смотреть.
Коршунов: Да, в этой церкви был кинотеатр. А еще кинотеатр
«Ударник». Он был в 1931 году построен рядом с Домом
Правительства, это был ведущий кинотеатр Москвы. А рядом детский
кинотеатр. Там, где сейчас Театр эстрады со стороны Москвы-реки. Он
этажом выше, а ниже был детский кинотеатр. Вообще, почти
бесплатный вход был. Ну, и у ЦПКО, там, где главный вход в парк,
левее туда, ближе к Москве-реке, там был кинотеатр Парка Горького,
и туда ходили. У меня не было своих особых игрушек, не было своих
велосипедов, и газет мне не выписывали. Но мы жили в коммуналке
в двухкомнатной квартире: у нас комната была тринадцать с
половиной метров, а у соседей — двадцать пять. Их четверо было. Они жили
с большим достатком. У них двое сыновей. Они выписывали
«Пионерскую правду», детские журналы выписывали. А я все это читал.
Ну, вернусь к эвакуации. В 1941 году мы уехали. Я даже
помню — это было 22 октября. Накануне, 19 октября в Москве была
жуткая паника. 18 или 20 было объявлено чрезвычайное
положение. Начался грабеж магазинов. Отчим был на
шарикоподшипниковом заводе начальником отдела кадров. Единственный завод
ведь был в Союзе, а без шариков никакая техника невозможна
была, вообще-то говоря. Поэтому его отправили в Куйбышев
(в Самару). В конце октября, в самое напряженное время, мы
выехали. И 21 день ехали до Куйбышева.
Там, конечно, мы жили довольно сложно. Военное время.
Конечно, повезло в том плане, что отчим был привязан все-таки к
такому заводу, которому уделялось первостепенное значение. И хотя
мы испытывали все тяготы войны, в том числе и голод, но все-таки
выживали. Хотя и приходилось много трудиться. Было два огорода.
Один за восемь километров от барака, где мы жили, а другой —
рядом с бараком. Вот эти огороды помогали нам жить. В 1948 году я
закончил школу. В 1941—1942 годах я не учился, потому что была
эвакуация. Закончил я, когда мне было 19 лет.
462
Раздел 4. О времени и о себе...
В десятом классе и у меня, и у моих ближайших друзей — Бори
Кудряшова, Гены Савосина, сформировалась идея поступать в МГУ.
Родители мне не препятствовали. У нас был выбор: филологический
или философский. Нас немножко пугало, что на филологический
большой конкурс был. Ну, а на философский... Ну, кто на
философский идет? А у нас уже была потребность абстрактного мышления.
Поэтому мы все трое подали заявления на философский, но они не
поехали поступать, а я мог вернуться в Москву, я из Москвы.
Пружиним: А что вы знали о философском-то? Как
представлялось из десятого класса?
Коршунов: А не очень. Не очень мы его представляли. Это было
то, что мы читали в литературе, то, что перепадало нам из истории,
из исторической науки и из литературы. И какие-то философские
идеи, конечно, откладывались. Идея равенства, справедливости,
несправедливости, материализм, идеализм — эти термины были
для нас понятны, в общем-то. Диалектика, метафизика и пр. В
самом таком элементарном представлении. Я поступал в 1948 году.
Фронтовики шли вне конкурса. Ну, вот насколько у меня
сохранилась информация: на одно место было четыре человека. Пять
экзаменов было. Я набрал из двадцати пяти баллов двадцать четыре
балла. Это сочинение, литература, русский язык.
Пружинин: А четверка?
Коршунов: Четверка по языку была. А все остальные —
литература, сочинение, история СССР и конституция СССР. Вот по всем
этим предметам я прошел на «отлично». Философский факультет.
Ну, конечно, радость от поступления, торжество и пр. До занятий
надо было явиться на философский факультет, и навстречу идут
Угринович и Ковалев. Они тогда уже сотрудничали, там было
начало их преподавательской деятельности или они заканчивали,
точно я не могу сказать. «Ребята, вам придется поработать!» Это
август был. И вот две недели мы работали на машине. Две недели
работали. Заплатили. И на эту зарплату, она небольшая была, я
купил «Войну и мир» Льва Толстого. Это было первое приобретение
в моей библиотеке. Потом начались занятия. Значит, кратко наш
курс. На курсе было пять групп. Я был во второй группе. В нашей
группе учились Юрий Карякин, Иван Фролов, знаешь?
Пружинин: Знаю.
Коршунов: Льва Митрохина наверняка знаешь. Женю Плимака,
он мне давал рекомендацию в партию, между прочим. Леня
Филиппов был. Он рано, к сожалению, умер. У нас группа была,
пожалуй, самая сильная. Значит, первая, вторая, третья — это были
философские группы. А четвертая — логики. Не было кафедры ло-
Беседа Б. И. Пружинила с А. М. Коршуновым
463
гической, была просто группа. А пятая — психологи. Тогда не
только факультета, но и отделения не было. Группа отдельная. У них,
конечно, своя программа, но мы очень тесно соприкасались,
потому что читались некоторые предметы, где мы объединялись в
одной общей аудитории.
Ну, что сказать о факультете? На первом курсе, я помню очень
хорошо, в философию нас вводил Кутасов Дмитрий. Он был
деканом, и он нам читал диалектический материализм. На втором курсе
нам читали исторический. Семинар вел у нас Кошелевский. Наше
изучение строилось, я очень хорошо помню на «Анти-Дюринге»,
«Диалектике природы», а семинары были по «Материализму и
эмпириокритицизму», т. е. строилось все на базе изучения классиков
марксизма. Заканчивая курс, он сказал: «Ну, ребята, на втором
курсе у вас будет исторический материализм, и я в вашу группу
порекомендую хорошего преподавателя, моего друга, Матвея Яковлевича
Ковальзона!» И у нас вел занятия Матвей Яковлевич Ковальзон. Он
очень хорошо, оживленно вел занятия, неформально. Фронтовик,
он немножко прихрамывал, ну ты знаешь Матвея прекрасно. Был в
таких хороших, дружественных отношениях с нами. На втором
курсе у нас вела занятия Бурлак Валентина. Она у нас вела в качестве
ассистента историю русской философии. Затем вводили нас в
историю с самого начала — это древняя история, затем Древний Египет,
Вавилон и пр. Затем, античная философия. Дацук, доцент с
исторического факультета. Он довольно скучновато прочитал раздел,
относящийся к древней философии Египта, Вавилона. Но когда он
читал во втором семестре античную, древнегреческую историю и
древнеримскую — это были великолепные лекции! Мне помнится.
Вводили нас в математику. Мы изучали аналитическую геометрию
на первом курсе, и на втором курсе у нас была высшая
математика. В моем дипломе, он с отличием, но правило такое, что не
менее семидесяти процентов должно быть отличных оценок. У меня
в дипломе, если не ошибаюсь, три только «хорошо» — по языку, по
математике и по древней (по египетской) истории. Изучали логику.
Ну, тогда математической не было, конечно. Классическая логика.
У нас был доцент Воробьев. Это, если не ошибаюсь, второй курс.
Затем читал П. С. Попов.
На четвертом курсе или даже, может, на пятом курсе вошла в
моду математическая логика. Нам читала Софья Андреевна
Яновская. Она великолепный специалист, математик, представитель
математической логики, но мы не были готовы воспринимать ее.
Состоялось студенческое собрание, и мы попросили наше
руководство, этот треугольник — профком, парторг и деканат, чтобы
464
Раздел 4. О времени и о себе...
сняли нам этот курс. Нам его сняли. Мы не в обиде, просто мы
не были готовы. Запомнилось, конечно, преподавание и в связи с
психологией. У нас начинал Леонтьев читать. Пожалуй, что со
второго курса. Леонтьева мы знаем как выдающегося ученого,
психолога. Но лекции его были для нас сложноваты, и нам везло то, что
он часто отлучался. И его заменял Гальперин Петр Яковлевич.
Великолепный человек, он великолепный преподаватель,
великолепный ученый. Все мы восхищались его лекциями. Он читал очень
доступно, популярно и в то же время на хорошем научном уровне.
Слушал я и Лурию, но уже когда был в аспирантуре.
Ну, на более поздних курсах в наших лекциях, например, я,
конечно, могу выделить такую фигуру, как Ойзерман. Он читал нам
возникновение марксизма как революции в философии.
Развернутый курс. Очень интересно! И при этом он начинал с
младогегельянства, о Гегеле. У нас история философия была и отдельный курс, а он
вот читал это. И затем ранние этапы развития Маркса он прочитал.
Семинары вел у нас Мельвиль. Очень хорошее оставил впечатление.
Ну что сказать еще о факультете? Очень интересно, конечно,
рождалась научная жизнь студенческая. Было и Научное
студенческое общество. У нас в группе создалась определенная
группировка, которая выступила против Щипанова — при интерпретации
значения некоторых русских философов как предтечи
возникновения ленинизма. Они критиковали за такую прямолинейность. Это
и Карякин, и Плимак, и Леня Филиппов, и частично к ним
примыкал Фролов. Вот они объединились. Мы часто участвовали в
этих дискуссиях, просто как любители.
Пружиним: Они еще студентами выступили против Щипанова?
Коршунов: Да, студентами! Такие люди были...
Но, продолжу. Я хочу сказать, что в МГУ нам заложили основу для
того, чтобы начать научно-педагогическую деятельность. Нас всех
распределили, но преподавания философии не было в вузах, за
исключением некоторых университетов. Меня распределили в
Свердловский государственный университет. Оттуда отказ пришел. И всем
ребятам, которых распределили в качестве преподавателей
философии по вузам страны, всем пришли отказы. Это не значит, что люди
оказались без работы. Тогда этой проблемы не было. Находились
работы. Редакторы, ну, где-то в издательствах находили, кто-то в
школы шел. Разные, в общем, разные формы. Но, так или иначе, люди
распределились. Что касается меня, то первое предложение было во
Всесоюзное общество культурных связей за границей. На Арбате это
здание, ты знаешь. Я ходил туда. Беседа была первая. Я не был
прописан в Москве, я у тетки жил, прописан-то я в Куйбышеве. Они меня
Беседа Б. И. Пружинима с А. М. Коршуновым
465
брали бы в качестве младшего научного сотрудника, а раз брали, то
они давали какую-то прописку, временную или еще какую-то. И через
несколько дней мне говорят, что еще одна заявка — Механический
институт. Ну, я и туда являюсь. Механический институт — это тот
институт, который стал Инженерно-физическим. Пахомов Борис, ты его
знаешь, конечно, он там многие годы работал заведующим.
Пружинин: Это МИФИ знаменитый?
Коршунов: Да, МИФИ. Беседа. Ну, сразу становится ясным:
надо ехать на Урал. Все дело в том, что это место тогда называлось
Челябинск-40. Я его называю Атомград. И Боже упаси само
упоминание об этом городе, где производится плутоний, из которого,
кстати говоря, была создана первая бомба. Выбрали меня и Куль-
кина. «На месте — нам сказали — вам скажут, чем конкретно
заниматься». Я спросил: «Преподавание философии будет?» А я рвался
с интересом к преподаванию философии. «Да, это будет», —
сказали нам. И вот мы с Кулькиным отправились в Челябинск-40. Мы
в Челябинск приехали, а оттуда надо до Кыштыма доехать.
Сейчас город Озерск. Так вот, когда мы подъезжали к Кыштыму, все
сидящие в вагоне замолчали. Нельзя разговаривать. Он не просто
закрытый, а колоссальная территория, колоссальное количество
лесов. Там же был построен комбинат, который включал в себя
несколько заводов. Нельзя об этом городе разговаривать, засекречен.
Значит, приехали мы, поселили нас в гостиницу. А потом беседа.
Познакомились с нашими личными делами и направили на два
объекта. Там, во-первых, филиал Механического института, а
второй объект, он был более престижным — политотдел Министерства
атомной промышленности при Челябинском обкоме.
Вот, собственно, мое формирование как лектора здесь именно и
началось. В какую ситуацию я попал? Я мальчишка, я только что
окончил. Ну, какие-то лекции мы читали студентам, но это разве
курсы? А какая аудитория? Здесь в городе. Ну, во-первых, город в
тайге и сплошные аллеи таежные, окружен тайгой, кругом озера,
в которых я купался и осенью, и летом. Аудитория — это люди с
высшим образованием. Это физики по преимуществу, это химики,
биологи. Далее, когорта учителей.
Сколько мне приходилось, Боря, работать! Это жутко! Я
сидел денно и нощно. Первый год был очень трудный. Я с 1953 по
1959 год отработал в этом городе.
Пружинин: Там библиотека хорошая была?
Коршунов: Своя, при политотделе. Но философской литературы,
конечно, недостаточно. Когда я начинал эстетику читать, я
вынужден был в Москву, а в Москву я довольно часто, нас в командиров-
466
Раздел 4. О времени и о себе...
ки посылали в Москву месячные на курсы при ЦК. Нам читали
сотрудники ЦК.
Ну, вот подходит 1959 год. У меня связь с Университетом, я
выезжал несколько раз в Университет, я был прикреплен. Я сдавал
кандидатский минимум. И в горкоме знали, что я настроен на
аспирантуру. У меня была тяга к преподаванию.
Но прежде, расскажу об одном событии. Это было в 1954-м году.
Мы с Кулькиным еще жили в Челябинске-40. Я тогда занимался
фотографиями и завешивал окна днем. В тот день я завесил окна,
хотел печатать карточки и вдруг раздался мощнейший взрыв.
Говорят, первым атомным взрывом на базе мирном был Чернобыль.
Нет! Первый Чернобыль, если можно так сказать, был там! Дело в
том, что атомные отходы сливали в определенные бетонированные
резервуары большие, и там образовалась критическая масса.
Рвануло. И эта атомная полоса пошла на Свердловск. Ну ладно, все
как всегда у нас в стране скрыли.
Закончилось мое бытие там в 1959 году. В сентябре я выехал в
Москву в аспирантуру. Встала проблема выбора темы диссертации.
Мне дали в качестве руководителя Георгиева. Он мне
посоветовал проблему чувственного познания. Диссертацию я закончил в
1961 году. На факультете в это время было разделение кафедр.
Философия разделилась на кафедру диалектического и исторического
материализма отдельно. Кафедру диалектического материализма
возглавил Молодцов, а я стал его замом. А кафедру исторического
материализма — Дмитрий Чесноков.
Пружиним: Я слушал его лекции.
Коршунов: Да. Уже перед защитой я был отчислен из
аспирантуры и зачислен ассистентом кафедры. Наша защита — я
защищался вместе с Ричардом Косолаповым — состоялась в мае-июне
1962 года. Он шел первым, а я вторым.
С этого события, собственно говоря, начался в моей жизни
период философского факультета МГУ. Этот период со второй
половины 1961 года до середины 1969 ты знаешь.
Пружинин: Знаю, конечно. Это уже моя история. Была такая
дружная кафедра! Никитин преподавал, Грязнов читал лекции,
Федоров Винцент, Глинский Борис Александрович работали.
Коршунов: Я не помню, в каком году меня Молодцов сделал
заместителем. Он кафедрой практически не занимался (был
деканом); так, иногда придет, посидит и уйдет по своим делам.
В 1962 году я защитил кандидатскую, а в 1968 году, ты знаешь всю
эту историю, я защищал докторскую. Ты знаешь, в какой сложной
ситуации!
Беседа Б. И. Пружинина с А. М. Коршуновым
467
Пружиним: Это я помню. Вашу диссертацию сначала вообще
сняли с защиты. А. Я. Ильин приложил к этому руку.
Коршунов: В какой сложной ситуации! В 1968 году защита
докторской, в 1969 я уже доктор наук. Вхождение в профессуру
задержалось у меня. Получил я профессора только через три года.
Начались сложности в МГУ и я ушел.
Пружинин: В Зеленоград?
Коршунов: Да. Я уезжал на целый день. Два-три раза в неделю я
туда ездил. Возглавлял там кафедру философии. Кафедра
нормальная, хорошая. Люди работящие. Вот Юра Егоров, он в «Вопросах
философии» публиковался. Он потом стал заведующим. Орудже-
ва ты знаешь, он же был до меня. Я же его сменял. С руководством
почему-то не складывалось. Не знаю почему. Нормально на кафедре,
нормально курсы шли. Кафедра работала совершенно нормально.
И когда я оттуда уходил, они начали жаловаться, в том числе и в
министерство. Началось сложное возвращение в МГУ. За меня
«уцепился» ИПК, я директору Маринко просто благодарен и Штраксу,
которые тянули меня. Старики там были, понимаешь? Им нужен был
молодой. А я только что вот кандидатскую, тут же докторскую. И они
тянули. И не хотели меня брать, но они настояли. До ректората меня
пропускали через большой партком. Там сидел Ягодкин, его
заместитель вел атаку на меня. Я сказал: «Я, конечно, допустил ошибку, уйдя
из Университета». — «Вы знаете, что есть правило, что кто ушел из
Университета, то их не возвращают обратно?» — «Я допустил ошибку,
я признаю!» И вот ИПК. Это новый, очень важный этап. Тогда ведь
аудитория философская была, тогда порядка 120—150 человек только
на кафедру философии принимали. Приезжали не только
ассистенты и доценты, но и профессора. У меня в группе несколько
профессоров было, причем, приехавших со всего Союза, в том числе и из-за
рубежа приезжали много. Ну, и вывешивали, могу похвастаться,
списки, вот когда комплектовались группы. И, как правило, заполнены
были два листка: группа Ойзермана и Коршунова.
Пружинин: Ойзерман там тоже читал?
Коршунов: Он по совместительству. Там многие по
совместительству. Там и Ковальзон много вел занятий по совместительству,
и др. Его лекции пользовались большой популярностью.
В 1974-м году звонок. Хлябич, проректор по гуманитарным
факультетам. Ректорат решил Вам предоставить возможность быть
заведующим кафедрой. Делает мне предложение. Я для приличия
говорю, что дайте мне подумать. Ну, хоть сутки дайте. Я, конечно,
был согласен сразу. Пришел я на кафедру. Это уже была
выдающаяся кафедра, ты знаешь историю: Белецкий, Угринович. Я думаю,
468
Раздел 4. О времени и о себе...
что как раз при Угриновиче кафедра приобрела гуманитарную
направленность. Мое заведование этой кафедрой длилось с 1974 по
1996 год.
Кафедра мне много дала. Я акцентировал внимание на
методологии гуманитарных знаний. Внедрение дополнительного акцента,
вот это более точно. Потому что это не означает устранение
других акцентов. Кафедра ведь занималась многими проблемами, она
была социально ориентирована. На кафедре было около тридцати
преподавателей. Порядка семи, восьми или даже девяти —
профессора. Какой коллектив! На общем заседании кафедры не
обсуждались кандидатские, потому что у нас было очень много аспирантов!
Было сформировано три научных группы, где обсуждали
кандидатские разных специальностей. Это группа социальной философии,
историко-философская группа, руководители Ковальзон, Рачков.
И третья: проблема человека и гуманитарного знания. Я ею
руководил непосредственно, этой группой. У меня за годы моего
преподавания на философском факультете было порядка сорока
аспирантов. И почти все они защищенные. Двух самых выдающихся я
всегда называю: Мантатова и Пружинина.
Кафедра была связана со многими регионами Союза и за
рубежом. Кафедра внедрилась по всему Союзу через посредство
аспирантуры. Я не называю сейчас работы. Выходили мои
работы, выходили кафедральные. Много мы издавали и участвовали в
учебниках по философии и в книгах философских. Я часто ездил
в заграничные командировки. В Чехословакии готовил
преподавателей. Я напросился в Карлов университет сам к студентам,
еженедельно ходил в студенческую группу (двадцать пять
человек). Я был с октября 1972 по март 1973 года. Еще свежи события
1968 года. Ни одной стычки не было!
И конечно, хочу немного рассказать, как я стал министерским
работником.
Пружинин: Да, я хотел спросить.
Коршунов: В сентябре 1978 года один министерский работник,
не буду называть имена, встречает и говорит: «Шептулин уходит,
мы хотим тебя рекомендовать. Мы в Управлении общественных
наук продумывали кого бы нам». Короче говоря, они меня
подсунули. Меня пригласил зам. министра Мохов на беседу. Мне надо
было бы радикально отказаться. Но тщеславие сыграло. Я говорю:
«Во мне есть и отрицательные качества. Я, например, не считаю
себя слабым человеком, но считаю, что во многих делах я поступал
как слабая личность. Недостаточно воли проявлял. Я себя считаю
доброжелательным, но проявлял порой недоброжелательность». И
Беседа Б. И. Пружинина с А. М. Коршуновым
469
надо было здесь проявить стойкость, но тщеславие сыграло.
Потом, когда я уходил, Мохов пытался меня удержать: «Тебя же на
зам. министра целят». А я уже все.
Пружиним: А почему все?
Коршунов: Я скажу, почему... Вот пришел я в министерство,
представили меня. Стал я начальником управления
преподавания общественных наук и что очень важно: членом коллегии. Не
все начальники отделов и управлений были членами коллегии.
Члены коллегии пользовались дополнительными привилегиями.
И члены коллегии имели право на заседании министерского
совета голосовать против министра. Ну, ладно, короче говоря, был
назначен. Конечно, жутко трудно. Да, но кафедра осталась за мной.
В министерстве все делали для того, чтобы я сохранил полставки
в университете, но не в качестве заведующего. Потому что один
день из пяти рабочих я обязательно был на кафедре, т. е. я утром
приезжаю в министерство, отмечаюсь, и на весь день уезжаю на
кафедру. Все, меня больше в министерстве нет. Очень трудно. Мы
занимались не только вузами, но и техникумами. И мне
приходилось участвовать в обсуждении проблем развития науки и научного
знания на конференциях и сборищах не только вузовских
преподавателей, но и преподавателей средних специальных учебных
заведений. Значит, основная задача — это проблема развития
общественной науки. Я лично, как я понимал значение философии,
считал, что философия должна быть связана с интересами
человека, с наукой, разработкой методологических проблем естественных
наук, проблем гуманитарных наук, проблем логики, методологии.
Приходилось в очень сложные ситуации попадать. Я вот помню,
готовилась Олимпиада в 1980 году. Министерство собирало
руководителей вузов. Инструктировало, установки давались. Каждую
неделю заседание коллегии. Я член коллегии. Мое место недалеко
от министра — чем ближе к министру, тем выше положение. Связь
с вузами, проведение конференций республиканских, всесоюзных.
Обсуждение проблем по всем отраслям общественных наук. И
связи этих наук и со специальными науками. Решение многих
кадровых проблем.
Помню, ко мне в кабинет приходили из разных вузов, из
разных стран. Женщина: «Анатолий Михайлович, я из Владивостока.
Я знаю, у Вас день рождения. Я с большим удовольствием Вас
поздравляю, я знакома с Вашими работами. Но у меня к Вам
просьба. Не считайте меня корыстной, но у меня есть и корыстный
элемент — меня это все тронуло — меня в ИПК направляют. Но в
Свердловск. А мне бы в Москву. Мне надо завершить диссертацию,
470
Раздел 4. О времени и о себе...
мне Ленинка нужна». Я говорю: «Знаете что, я на Вашу просьбу
положительно реагирую. В моем распоряжении есть резервные места,
и я Вам выделяю, я Вам сейчас напишу записку, Вам выдадут
направление в московское И ПК».
Пружиним: Я думаю, Вам тяжело было в министерстве работать.
Вы человек иного типа: блестящий преподаватель, можете
организовать конкретную работу, а в министерстве — не Ваше дело, и Вы
это чувствовали. А я это чувствовал, когда мы уходили в походы,
выбирая самые сложные и опасные маршруты. Тем самым Вы
находили смысл, которого не могли найти в пустой суете
министерского времяпровождения. А еще, я помню, Вы и в журналах
философских сотрудничали.
Коршунов: Да, я активно работал в журналах. Не только
публиковал! У меня теснейшая связь с «Философскими науками». Я с
1970 до 1990 года член редколлегии, а в течение семи-восьми лет
при В. С. Готте до его смерти был заместителем. Это очень важно
было для меня! Ведь Аврора Пружинина и все девчонки в
журнале говорили: «Анатолий Михайлович, с Вами два номера в год
вести — это удовольствие!» А когда я был в Минвузе, я четыре года
был членом редколлегии журнала «Студенческий меридиан». Об
этом почти никто не знает.
А еще я тесно сотрудничал с разными издательствами: МГУ,
Высшей школы. Но была еще органическая, теснейшая связь с
Политиздатом. Здесь высокая благодарность твоему брату
Семену Пружинину. Он меня вывел на большую дорогу. По линии
Политиздата книги быстро расходились по всей стране и за рубежом.
Наши книги переводили много.
Пружинин: Я хочу похвалиться Вам. В свое время Вы
посоветовали нам вместе с Вашей женой Ладой написать книгу «Воображение
и рациональность». Мы написали. Прошло столько лет!
Литература меняется, что-то уходит. Я залез в Интернет. Эта книжка стоит в
программе по сдаче кандидатского экзамена у психологов! И до сих
пор она значится там. Это так приятно! Вспомнил, конечно, Ладу.
Вспомнил, как мы к Вам приезжали на дачу в Серебряный бор.
Коршунов: Я сказал жене: «Лада, Боря не просто умный. Он
очень хороший человек. И он свой». Боренька, за твои успехи!
Пружинин: За наши успехи! Потому что в моих успехах Ваши
успехи. Вы же помните, как все это было? И я помню, очень
хорошо помню. Вот я Вам скажу. В моей жизни были какие-то точки,
как сейчас говорят модным языком, точки бифуркации. Я не знаю,
как бы сложилась моя судьба дальше, если бы Вы меня тогда не
взяли в аспирантуру.
Беседа Б. И. Пружинина с А. М. Коршуновым
471
Коршунов: Боренька, напомни, что было тогда?
Пружинин: По молодости и глупости я каким-то образом
увлекся тогда А. Я. Ильиным. И он меня попросил выступать где-то на
собрании, вытащил. И я на собрании высказался, а я в аспирантуру
шел, у меня у одного был красный диплом в группе. Я
высказался о недостатках работы факультета (он меня на это дело подвиг)
и уехал работать в студенческий отряд. Вернулся, и тут оказалось,
что в моей партийной работе (я был парторгом 5 курса) были
крупные идеологические ошибки — это мне Шкуринов сказал — и что
меня не берут в аспирантуру. А поскольку они меня все-таки
рекомендовали, они меня переиграли в заочную аспирантуру. А дальше
было так: я сдавал экзамены, а там шла какая-то битва. Молодцов
против Ильина. Они уже столкнулись. И Вы в этом участвовали
где-то, но я про это не знал. Значит, столкновение было
довольно мощное. Они друг у друга аспирантов всех побили. А я набрал
15 баллов. Они уже на меня рукой махнули. Сдать-то я сдал, а чего
дальше-то будет? И тут Семен к Вам обратился. Сказал: «Может,
возьмешь?» Вы пошли к Молодцову. Молодцов, как я понимаю,
фыркнул на меня, но в аспирантуру Вы меня взяли к себе в очную,
на кафедру. Пока там шли эти все битвы, а там еще была история
очень интересная. Умный Глинский решил меня уговорить
перейти на сторону Молодцова. И он со мной по второму этажу, там, где
партком был у входа, где-то часа полтора ходил и объяснял общую
политическую ситуацию. Я его слушал, я с ним спорил. А в это
время из дверей иногда выглядывал А. Я. Ильин. Он посмотрит: я
с Глинским хожу. Он дверь закроет. Вот. И я, значит, оказался ни
в той, ни в другой группе. И в результате, вы меня взяли, потому
что против меня были и Ильин, и Молодцов. Но и на этом история
еще не закончилась. Дело в том, что когда Вас с факультета
убрали, у меня был с Вами разговор. Я сказал: «Анатолий Михайлович,
вот Вы уходите, но Вы же от меня не откажетесь? Вам же деньги
платить не будут, Вы уже ушли в Зеленоград». Вы сказали:
«Почему я должен отказываться?» И Вы у меня остались. Но у меня не
было научного официального руководителя. Вы ушли с кафедры.
У Фельдмана, кстати, тоже не было — Глинский ушел. И вот, как
задним числом я понимаю, мы выглядели с Фельдманом на
кафедре как два волчонка. Конечно, нам намекали, что вообще-то мы
должны поменять научных руководителей, а мы не меняли. Однако
это не было для нас борьбой, особым геройством или
высоконравственным поступком. Мне казалось, что, несмотря на Ваш уход,
все продолжает идти естественным путем: Вы меня взяли в
аспирантуру — значит, Вы и доведете. Почему я должен менять научно-
472
Раздел 4. О времени и о себе...
го руководителя? Мне казалось это таким непонятным. Фельдман
тоже не поменял. Но он защиту проскочил, а когда у меня была
защита — Вы помните, что это было.
Коршунов: Да.
Пружиним: Это была битва целая. Но перед этим было еще одно
событие: Ильин меня пару раз пытался подставить. Один раз я сам
прокололся. Это выглядело так: должно было быть дежурство на
факультете ночью на Новый год. И меня назначили прямо на Новый
год. И мне было сказано: в ноль часов там тогда-то. У меня что-то
сдвинулось в голове, и я на сутки опоздал. Я пришел через сутки.
А дальше меня в партком. Идет заседание парткома. И вдруг
Овсянников (а он же был с Ильиным) взвивается и говорит: «Выгнать из
аспирантуры! Выгнать из МГУ! Объявить строгий выговор! Никаких
защит и все!» И тут Андреева Галина Михайловна — она вообще не в
курсе всех этих битв была — говорит: «Да что же это Вы вдруг-то? Ну,
что он такого сделал? Ну, проспал. Ну, не пришел под Новый год!»
Коршунов: Она молодец. Она хорошая была.
Пружинин: И она как-то так руками развела, и партком мне
сделал просто выговор, без занесения.
И уж после этого была защита. Ну, это Вы видели сами.
Кстати, я до сих пор помню, конечно, Филипп Игнатьич Георгиев, он
выступил непонятно, но было ясно, что за меня. И Войшвилло как
мучился, Вы помните? Как мучился Войшвилло! Я ведь прошел с
сотыми долями. А оппоненты были, кстати, Борис Грязнов,
Анатолий Федорович Зотов. Я хочу делать книгу про тех, кто меня
сделал. Понимаете? Я хочу, чтобы это была книга про тех, кто меня
слепил. Рассказать о тех, кто в этих жутких ситуациях меня
поддержал, поверил в меня, помог мне, кто мою диссертацию вел. Это
же Вы меня подобрали. Вы ходили к Молодцову и уговорили его не
быть против, как я понимаю.
Коршунов: Боря, ты же знаешь, что я и сегодня свое мнение об
А. Ильине сохранил. Хотя мужик он умный был.
Пружинин: Мужик умный. Но, Анатолий Михайлович, то, что
делает человека — стержень нравственный — у него
отсутствовал. Мы все не без греха. Но какие-то вещи себе позволять нельзя,
нельзя самому себе врать. Ильин это себе позволял. Ну, что с этим
сделать? И Бог с ним. Он очень играл в идеологические игры. Вот
если по большому счету оставим в покое там демократию,
либерализм, против культа. Для него это все было только игрой. Он сам
рассказывал. Он же был лысенковцем. Он поменял позицию на
противоположную. И он рассказывал, как ему в Германии
аплодировали, когда он против Лысенко выступал. Это его вдохновляло.
Беседа Б. И. Пружинина с А. М. Коршуновым
473
Анатолий Михайлович, я Вас больше утомлять не буду.
Коршунов: Тебе интересно было?
Пружиним: Конечно. Анатолий Михайлович, разрыв поколений
произошел. Разрыв поколений и очень печальный для философии
нашей. И именно поэтому мы с В. А. Лекторским издаем серию
«Философия России XX века» при поддержке П. Г. Щедровицкого.
Владислав Лекторский издал двадцать один том (вторая половина
XX века). А я ведь продолжаю по первой половине XX века. И вот
чем мы заняты: мы, потому что вместе с женой Татьяной, линию
прочерчиваем от русской философии до Никитина, Трубникова, до
вас. Понимаете? И вот этим я сейчас занят прежде всего.
Коршунов: Боря, это хорошее, это творческое. Надо держаться
до самого конца. Уходить из жизни все равно придется, никуда не
денешься. Но держаться надо.
Пружинин: У Вас поколение такое. Вот Сашка Огурцов. Он
должен был участвовать в Круглом столе. Я ему написал. Он
ответил: «Я в больнице, не могу». Я ему посылаю стенограмму. Говорю:
«Саш, если можешь — впишись». Он отвечает, уже номер сдается,
все, он выпал из этого Круглого стола, потому что он не дал текст.
Он мне пишет: «Если подождете три дня, я в больнице, но я
сделаю». Я ему пишу: «Саша, выздоравливай, ну, о чем ты? Три дня,
номер-то уже ушел, так что махни рукой. Будет публикация, когда
напишешь». Через три дня он умер. Но текст он написал. И этот
текст его жена, Неретина, мне прислала. Вот. До последнего дня
работал человек. И Вы до последнего дня. И я до последнего дня.
Мы другое поколение. Мы работаем. Анатолий Михайлович, Вы
всю жизнь пахали. Вы сегодня об этом рассказали. Вы пахали всю
жизнь. И мы от Вас все это усваивали: пахать надо, пахать.
Коршунов: Боря, самое главное — наша встреча для меня просто
историческая встреча в личностном плане.
Пружинин: В личностном. А другой истории и нет! Она вся
личностная. Мы сейчас вспоминаем, кто кем был. Мы-то знаем, кто
чего стоил. Кто кого продавал, кто кого спасал.
Коршунов: Боря, я больше двух часов говорил, а нахожусь на
подъеме. Боря, я сегодня счастлив. Просто счастлив.
Пружинин: Вот из таких минут наша жизнь и состоит. Когда
выходишь на кафедру, когда выходишь и тебя слушают. А что наша
жизнь еще? Мы же для этого живем.
Беседа Б. И. Пружиним, Т. Г. Щедриной
с И. С. и Н. В. Тимофеевыми
Щедрина: Илья Семенович, расскажите, пожалуйста, о том, как Вы
пришли в философию.
Тимофеев: Вот я с этого хочу начать. Перед самой войной я
окончил вечерний сельскохозяйственный техникум и получил диплом с
отличием. Началась война. Большинство в нашем классе погибли
во время войны. Два класса десятых было, ходили еще в аэроклуб.
И окончили. И почти все погибли за исключением одного, с
которым я потом связался в Москве уже. Когда немцы прорвались за
Ростов, то все, кто был в аэроклубе, ушли воевать. Когда после
войны я поехал туда на вечер встречи, то мы встречались в основном с
женщинами, которые тоже воевали... и с ранениями и пр.
В первую бомбежку, это 23 июня, после начала войны я уже был
в дороге. Почему? Я через военкомат отправил заявление в военно-
морское инженерно-техническое училище в Ленинграде. Ну,
приехал. И я попал, значит, а там институт. Все мобилизовано было.
Это были дни, когда на Ленинград прямо двигались колонны, и
не было фронта в сторону немцев. Поэтому там всех, кого можно,
забрали и формировали полки. И я был направлен в пулеметный
полк, который за пятнадцать дней прошел программу со
стрельбами: стреляли одиночными и дали стрельнуть серийными в
пределах пяти. И отправили на фронт. Затыкали прямо на шоссе дырки.
Полк направили за шестьдесят-семьдесят километров от
Ленинграда, мне трудно судить, потому что нас подбросили, высадили
возле Красного Села. Высадили на опушке, которая пересекается
очень узенькой шоссейной дорожкой асфальтированной, и
приказали окапываться. И мы к вечеру только успели окопы по колено
вырыть. Мы не успели ничего толком сделать. А вооружение у нас
было: винтовка не положена нам, потому что на плечах вперед сам
ствол пулемета, залитый водой. Зато все с противогазами и
лопатками саперными. Гранат не было, артиллерии никакой, и мы
преградить не смогли дорогу немцам. Пока мы рыли в лесу, они мимо
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с И. С. и Н. В. Тимофеевыми 475
нас на полной скорости, не останавливаясь, пронеслись, несмотря
на наши заслоны из деревьев...
Щедрина: Они что, мимо вас прямо пронеслись?
Тимофеев: Ну, конечно! Представляете, мы же только прибыли.
Мы же только прибыли. Но полк знамя не потерял, хотя был
полностью дезориентирован. Мы оказались у немцев в тылу и
пробивались две недели до Ленинграда по ночам. Знаете, как с нами
поступили наши? Мы, наконец, наткнулись на три ряда наших окопов.
Наши тут нас же разоружили. СМЕРШ. Оказывается, были случаи,
когда немцы диверсантами к нам таким образом внедрялись. И мы
в казачьих казармах две недели просидели. Потом с нами начали
занятия. Потом недели две еще шло выяснение: кто мы, да что...
Кончилось тем, что вдруг пришла какая-то комиссия. Нас вызывают по
одному и спрашивают: «Учиться хочешь?» — «Хочу». И потом я
узнал, что прилетал Ворошилов, и привез установку, что война
затягивается, молодых всех со средним образованием отправить в
училища на шесть месяцев и на фронт. Давали после училищ обычно
младшего лейтенанта или лейтенанта. И после того нас перевели на
улицу Мира, где расположено в Ленинграде знаменитое училище
инструментальной разведки элитной артиллерии. Так я попал туда.
И мы стали ждать поезда, который повез нас в Омский военный
округ, в училище. Ехали целый месяц. Не удивляйтесь, потому что
на железной дороге нас все время загоняли в тупик, но у нас там
шли занятия.
После приезда в Омск я окончил курсы, а там поступило
распоряжение: меня уже предназначили для выпуска, но комиссия меня
спросила: «Вы не были радиолюбителем?» Я сказал: «Да я
составил трехламповый приемник». Мне задали два вопроса о том, как
устроено радио. Я ответил блестяще, конечно. И меня оставили еще
на шесть месяцев. И только после этого я попал на фронт, в Воро-
нежско-Борисоглебский район ПВО. К награде «За боевые заслуги»
я был представлен за оборону Лискинского моста. Вот где у меня
было девяносто восемь процентов целей, отданных артиллеристам.
После войны нас разоружили в Польше, мы передали склады
военные и ожидали конца войны, я даже опоздал приехать в
Университет. Потому что японская война шла, а нас в резерв
загоняли и все. А когда кончилась война, то еще всякая бюрократия. Мне
двадцать два года в это время было. И я должен был ехать в
Университет, в Москву.
Пружинин: А на какой факультет?
Тимофеев: Дело было так. Сорок четвертый год, весна. Приходит
разнарядка. Разнарядка на одно место в Военной академии связи.
476
Раздел 4. О времени и о себе...
На одно место. И у нас был такой лейтенант — пьяница, которому
уже ничего не доверяли. Так начальник штаба хотел от него
избавиться и послал его учиться вместо меня в эту Академию.
Пружинин: Вот так творится судьба.
Тимофеев: Я так рассердился! Так вот, когда я служил еще в Воро-
нежско-Борисоглебском районе ПВО, я часто приезжал в штаб
фронта в Воронеж — дома все разрушенные. Улицу проехать даже нельзя.
Весь Воронеж был такой. Нам подсказали путь через центр. И вот я
еду на боевой машине и смотрим: библиотека. В развалинах, но
библиотека! Дождя еще не было после того, как ее разрушили.
Развалина двухэтажная, а книги сухие. Я остановил машину, и пошел
смотреть книги. Я взял три тома истории философии. Серые книжки.
Я старшина еще был, меня сопровождал солдат, я его попросил
освободить место на заднем сидении. И я два ящика набрал философской
литературы, потом я взял еще и Библию. В общем, так я начал
собирать свою библиотеку, которая проехала со мной всю войну. Прошел
бы первый дождь, и все бы погибло. И с тех пор я так увлекся
историей философии, что я решил поступать на философский. Я конспекты
имел вплоть до Гегеля. Я ночами дежурил и конспектировал. Я на
высоком уровне подготовки приехал поступать на философский.
Пружинин: Почему именно эти три тома? Там же масса книг
валялась.
Тимофеев: Я когда добрался до философской литературы,
посмотрел, они лежали там единственные, ничего больше на полках
не было. Но все в развалинах.
Пружинин: Вот судьба.
Тимофеев: А дальше очень кратко. Приехал в Университет.
Боялся экзамена. Больше всего боялся: и русский язык забыл, ну,
немецкий... я еще имел какой-то опыт. И вот я готовился, поступил
на курсы. А потом и на философский в МГУ. Заниматься мне было
легко, а вот от пьянки освободиться после фронта... Я встаю утром,
и первая же мысль: «А где же я сегодня выпью?» Это предел. Я не
был пьяницей, я уклонялся, но надо мной смеялись, издевались.
И я тогда прилаживался, зато привык за три месяца. А это было
разложение. Тогда я придумал. Взялся за себя. Режим установил.
И два отвлекающих обстоятельства придумал. Во-первых, мы же
не знали, что происходит, например, в танцах. А при клубе
завода имени Сталина была замечательная школа. В течение года они
набирают курс, ходить обязательно надо, иначе отчисляют. Ты там
получаешь даже партнершу. И занятия идут по-настоящему. А там
большой дворец. Это отнимало время. И потом, мне же хотелось
по-современному себя вести. И я закончил эту школу танцев. Там
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с И. С. и Н. В. Тимофеевыми 477
кончают народными танцами. В начале — бальные, фокстрот,
танго. А кончали народными.
Тимофеева: Самое главное — ты пошел на занятия спортивные.
Тимофеев: А, это правильно. Она напоминает, что есть второе.
У нас при кафедре физкультуры в МГУ замечательные педагоги были,
высшего класса. И были трехдневные занятия в течение недели,
примерно через день — классическая гимнастика. Нагрузка такая, что в
течение недели ее ощущаешь. Вот и все. Я стал забывать о выпивках.
И потом до того довел, что Зиновьев завидовал мне, когда
пьянствовал. Он рюмочку нальет газированной воды и на меня смотрит. А я
выпил чуть-чуть и все. Это меня спасло. Потому что я потом
свидетелем был тому, как погибали замечательные люди, также пришедшие с
войны. Но они погибали раньше на десятки лет из-за пьянки.
Щедрина: Кто у Вас читал лекции на первом курсе?
Тимофеев: Читали лучшие кадры. Вот теперь насчет Зиновьева.
Щедрина: Он учился вместе с Вами?
Тимофеев: В моей группе.
Щедрина: Вот Вы пришли в группу. Как вы познакомились?
Тимофеев: Очень просто. Он же необыкновенный человек в
поведении. Он может полаять по-собачьи. Причем, так похоже!
Кстати, он облаял Бонифатия Михайловича. Облаял в Институте
публично за то, что тот не взял его на Финский конгресс. Зиновьев
уже был избран в Финскую академию, и его пригласили с
докладом. Он уже не пьет несколько лет. И он, конечно, очень
рассердился не только на Бонифатия Михайловича. А с ним поехали
Борис Грязнов, Садовский Вадим, Лекторский.
Щедрина: Но Вы прежде чем к конгрессу перейти, скажите про
студенческие годы. Кроме Зиновьева, кто с Вами учился?
Тимофеев: Я расскажу, как выглядел Университет, когда я
пришел. Там особенность такая: все время меняли программы.
Философский факультет самый молодой. А особенно молодой было
отделение психологии на философском. Она отделилась потом.
Белецкий возглавлял тогда Ученый совет. Сам читал лекции и вел
семинары. Диалектический и исторический материализм. Причем,
Белецкий очень умный человек. Он, например, организовывал
семинары так, что никак нельзя было не подготовиться. Например,
семинар «Национальный и классовый подход» вместе.
Национальный и классовый. До сих пор самое сложное сплетение. То есть он
темы выбирал для аспирантов особые. Но и лекции очень
интересные читал. Но он, конечно, огрублял.
Пружинин:Белецкий полагал (как мне рассказывали), что
объективная истина существует вне нас и независимо от нас, сама по себе
478
Раздел 4. О времени и о себе...
как некая реальность. И когда его на лекции попросили показать
эту истину, он открыл окно и махнул рукой вдаль: вот объективная
истина. А там Кремль... Никто с ним спорить не посмел.
Тимофеев: Когда мы пришли, это 1946-й год, то факультет
прямо преобразовался. Потому что еще в 1945 году мало было
студентов. Партийная организация маленькая, но очень интересные
преподаватели читали с самого начала. Нам же читали общую историю
в течение чуть ли не пяти лет до самых последних курсов.
Щедрина: Кто читал?
Тимофеев: Н. Н. Пикус читал. Это же чудо! Пикус читал
историю Греции. Он так прочитал, что такое Греция. Он показал так,
что это то же, что произойдет с нами.
1946 год очень важен для того, чтобы объяснить про людей.
1946 год — это когда уже валом прошла демобилизация, и,
соответственно, партийная организация сразу выросла втрое. Сто с
лишним коммунистов приехали, с орденами, половина пьяниц,
по способностям и прочим это совершенно другое отделение. Мы
делили обычно так: были такие подготовленные в политическом
аспекте, в историческом. Но они рвались скорее окончить. Таким
был А. Бутенко из нашей группы. Мама у него депутат каких-то
советов и пр. И он больше по социально-политическим
вопросам. Его жена Марина Хевеши тоже училась в нашей группе. Она
из венгерских революционеров, политически настроена
правильно. У них была прекрасная квартира, и она собирала группу у себя.
Толя, конечно, быстро грамотно и нужное выдавал на семинарах.
Щедрина: А кто еще учился в вашей группе, кроме Бутенко,
Хевеши?
Тимофеев: Я сейчас перечисляю тех, которые начинали с нами,
числились, а потом мы смотрим — они уже на следующем курсе. Это
было подстегивающе. Теперь, Заиченко. А он по истории
философии. И он хороший историк философии по всем правилам. Он ушел.
ТимофееваТамгфа Филатьева.
Тимофеев.Вторая жена Зиновьева. Она была марксисткой,
заведовала в «Комсомольской правде» отделом писем для молодых
женщин. Она была философски весьма грамотной и занимала
высокие посты, но все с партийной такой закваской.
Щедрина: Какой диплом вы писали, у кого?
Тимофеев: Уже на уровне диплома я взял тему соотношения
стихийности и сознательности при использовании законов
вообще, т. е. и законов природы, и законов общества. Это была
практически готовая диссертация, так и считали. И в аспирантуру я не
сдавал ничего, а просто приняли решение оставить. Я серьезно
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с И. С. и Н. В. Тимофеевыми 479
всегда выступал на семинарах. Моими непосредственными
руководителями были Матвей Яковлевич Ковальзон и Владислав Жа-
нович Келле. Келле же пришел ко мне в сектор ИИЕТа, когда его
выгнали из Института философии. Когда я был заведующим, я
прикрывал многих. Пиама пришла с взысканием, Саня Огурцов не
пришел только потому, что Кедров такую умность здесь проявил —
он просто взял его к себе. Взял к себе диссидента, который
исключен из партии, и они вдвоем писали.
Щедрина: И Вы сдали диплом на пять. А как Вы защищали
диплом?
Тимофеев: Очень просто. Я его написал и его даже показывали и
сказали: «Да это хорошее введение для более какой-то конкретной
темы». А я потом избрал закон соответствия производительных сил
и производственных отношений при социализме. И планирование
рассмотрел как проявление реальное. В той степени, в какой могут
планировать и получать результат. Это и сейчас еще актуально.
Тимофеева: Кандидатскую он защитил в 1950 году. А докторскую
в 1972.
Тимофеев: В 1972 защитил, но не утверждали еще полтора года.
Щедрина: Расскажите про кандидатскую.
Тимофеев: Кандидатская? Да она блестяще прошла!
Тимофеева: А ты забыл, как тебе отрицательный отзыв на
автореферат прислал из Свердловска и обвинили тебя в субъективном
идеализме? Забыл?
Тимофеев: Да, да... Это был потом приехавший в Москву...
Пружинин: старший Руткевич.
Тимофеев: Совершенно верно.
Тимофеев: Меня обвинили в субъективном идеализме, но это
дало только, по-моему, два испорченных бюллетеня. Против не
было. Также и по докторской. Руткевич просто прислал отзыв
отрицательный, и никому это известно заранее не было. А когда
зачитали, то все ахнули. Но все закончилось хорошо. После защиты
было распределение. Я перешел на кафедру философии АН СССР.
Это был большой почет. Тогда заведующим там был Иовчук.
Институт философии ответственность нес перед Президиумом за
нашу кафедру. Хотя официально она всегда была при Президиуме.
Щедрина: А можно еще один вопрос: когда вы поженились?
Нина Вячеславовна, расскажите, пожалуйста.
Тимофеева: Я закончила десятый класс в 1949 году, и мы поехали
жить в Ильинскую по Казанской дороге. Там было летнее
помещение, которое моей мачехе дали вместо пропавшего в войну зимнего
жилища. И вот это летнее жилище мы в течение лета делали зимним.
480
Раздел 4. О времени и о себе...
Я крутила барабан с опилками и стояла с учебниками, потому что
надо было идти сдавать экзамен в Университет. Ну, я, конечно,
завалила экзамены. Но мы не были еще женаты. И соседи все были очень
недовольны, ну, тогда это не принято было, что живут и не
расписаны. А нам некогда было этим заниматься. И вот когда мы утеплили,
поставили печку, затопили печку, печка работала хорошо. В доме
стало тепло, и мы пошли в поселковый совет, и решили
зарегистрироваться. Нам сказали: «Давайте пятнадцать рублей». А у нас
пятнадцати рублей не было. И тогда комендант дала нам двадцать рублей.
Тимофеев: Там вообще помощь была всесторонняя. Я участник
войны. Я носил шинель до аспирантуры. Карточки нужны были
на получение пальто или чего еще. Карточки отменены были в
1947году.
Тимофеева: Ну, вот, пять рублей у нас осталось, мы пошли,
купили черный хлеб, мягкий, горячий. Идем, едим, довольные и
счастливые. А соседка напротив: «Никак расписались?!» Вот такая
у нас была свадьба.
Пружиним: А это ведь самые голодные годы, очень голодные.
1946, 1947-1949...
Тимофеева: Картошка, капуста. На чем мы жили-то.
Пружиним: А когда философский факультет в Вашей жизни
появился?
Тимофеева: Вот в 1949 году я завалила экзамены. Сидела дома,
готовилась, а потом на следующий год пошла, сдала и поступила
в 1950 году. Причем, у нас получилось так, что мы в 1949 вместе с
Борей Грязновым вместе сдавали, но он-то конечно поступил. А в
1950-м поступила я.
Тимофеева: Я в 1955 году окончила. Работала два года в отделе
культуры райисполкома Раменского района. По распределению.
Подписал распределение заведующий сельским клубом в Ильинке.
Ревела невозможно, а он: «Ты с ума сошла, это же у нас около дома!»
Я с этим распределением пришла в областное отделение культуры.
Мужик такой симпатичный сидел и говорит: «А Вам очень хочется
там работать?» А у меня сразу слезы градом. Он говорит: «Ну, ладно.
Вы, может, отдохнуть хотите?» — «Очень хочу» — «Месяц, идите.
Через месяц придете, мы что-нибудь придумаем». И вот он придумал и
отправил меня в райисполком в Раменский район. И я два года там
вкалывала. Причем, я вкалывала. Ездила по району на машинах.
Тимофеев: И на танке.
Тимофеева: Не на танке, а на бронетранспортере. И ночами
возвращалась и вообще шут знает, что там было. Но зато опыт
получила там хороший. Очень хороший фундамент.
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с И. С. и Н. В. Тимофеевыми 481
Пружинин: А на занятия в университет на электричке?
Тимофеева: Да, в шесть часов утра. Я даже китайским языком
занималась в электричке, потому что специализацию какую-то
дурацкую придумала себе. Диплом защищала по развитию сельского
хозяйства в Китае. У нас замечательная группа была.
Пружинин: А потом дальше куда?
Тимофеева: После Раменского — в Институт авиационный. На
кафедру. Там ассистентом работала, ив 1961 году поступила в
аспирантуру на философском факультете.
Тимофеев: Она у Георгиева Филиппа Игнатьевича работала.
Тимофеева: Я хочу рассказать один существенный момент. Мы
же учились на одном курсе с В. А. Лекторским. С нами был Алеша
Богомолов. Была какая-то конференция, обсуждали тему
«Предмет философии». Кедров выдал там тезисы, и вот собрали большую
конференцию и обсуждали. И в том числе Лекторский выступил.
А я сидела рядом с Филиппом Игнатьевичем Георгиевым. Он Илью
называл Илюша, а меня, я была его аспирантка, называл только
Ниной Вячеславовной. Он сказал: «Нина Вячеславовна, обратите
внимание на этого юношу» — «А что такое?» — «Будущий ученый».
Вот так Георгиев о Лекторском высказался.
Пружинин: Филипп Игнатьевич спас меня на защите
кандидатской. Он выступил, он ничего не читал, но он выступил.
Было совершенно непонятно даже мне, о чем он говорит, но за
кого — было отчетливо ясно. Я прошел десятыми долями голосов.
А спасло меня то, что Георгиев выступил тогда, а еще Виктор
Михайлович Афанасьев. Он у меня оппонентом был и дал мне
положительный отзыв. Он уже в это время был зам. главного в
«Правде». Он системщик, дал мне по целостности науки положительный
отзыв. И поэтому я как-то проскочил.
Тимофеева: С Толей Коршуновым мы в аспирантуре вместе
учились. У нас было три курса, по несколько человек. Толя самый
старший был, потом Женя Никитин, Боря Грязнов, вот я была и
еще там Ира Родионова. В общем, у нас целая была компания.
Пружинин: Я у Коршунова тоже интервью буду брать.
Тимофеева: Он же кафедрой гуманитарных факультетов
заведовал в МГУ на философском. Я с ним общалась, когда работала в
Университете российской академии образования. Я приезжала туда
на кафедру и с ним общалась.
Пружинин: Я его обязательно поспрашиваю. Так интересно все
это! Эпоха целая. Она куда-то ушла.
Тимофеева: Да, и Дынин у нас был.
Пружинин: Дынин Борис, да.
482
Раздел 4. О времени и о себе...
Тимофеева: А он сейчас появляется? Приезжал?
Пружинин: Вот эта серия, которую я представлял, там в томе о
Вышеславцеве, Дынин участвует. Он пишет, статьи присылает.
Когда я пришел в сектор, Дынин был заместителем Лекторского.
Он поражал своей открытостью, экзистенциальной
заинтересованностью. Его выступления были всегда живыми и интересными. Он
дружил с Никитиным, Трубниковым и Нелей Мудрагей. Я только
начал входить в этот дружный коллектив, а он эмигрировал. Он
мечтал заниматься философией, но жизнь сложилась иначе. Хотя
глубинный философский дар он сохранил и сегодня пишет статьи
для «Вопросов философии», переводит английский политических
и религиозных философов.
Тимофеева: Молодец какой.
Тимофеев: Знаю, мы знакомы хорошо. Они по моделированию
работали: Дынин, Грязнов, Женя Никитин и Глинский. Я знаю их
работу и каждого из них хорошо знаю. Причем, я всех основных
диссидентов знаю лично. У нас были хорошие отношения.
ПружининЛ я вот еще что вспомнил. Дынин уехал, а его
родители оставались в Москве. Они были комсомольцами ленинского
призыва. Отец его прошел войну. Они приняли решение
эмигрировать вслед за детьми и внуками и долго готовились, собирались
с духом. В это время мы часто ходили к ним в гости читать письма
Бориса из-за границы. И они «репетировали» с нами беседу в
райкоме партии при сдаче партбилетов. А когда на самом деле пришли
туда, то все оказалось настолько прозаично, что они просто не
могли скрыть свою обиду. Их убеждения уже вообще никого не
интересовали. «Мы хотим сдать билеты»... «А... вам в 25 комнату...»
Разговаривать с ними никто не стал.
Тимофеева: Так, Илюш, давай я теперь немножко расскажу.
Работала в Авиационном институте, потом поступила в
аспирантуру. А в аспирантуре распределение. И я хотела пойти к Ковалеву в
университет на кафедру коммунизма. Меня интересовала
история. И он вроде Илье дал согласие, что меня возьмет, но потом не
взял. А кроме этого была заявка на меня в Институт стали и
сплавов. Я подписала распределение в Институт стали и сплавов. Там
я проработала три года, а после этих трех лет я попала на кафедру
уникальную совершенно, она образовалась тогда, когда в Академии
архитектуры и строительства, старой, самой первой, сделали сектор
подготовки научных кадров. И там были две кафедры: философии и
иностранных языков. И вот этой кафедрой философии от начала и
до конца руководил Ларионов Михаил Петрович. Он учился где-то
между Ильей и мною, старше был меня, так эту кафедру потом, ког-
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с И. С. и Н. В. Тимофеевыми 483
да Академию ликвидировали, и отдел-то жалко — это же институты
научно-исследовательские! — и взял Госстрой себе. Но тоже какая-
то непонятная ситуация. Потом они решили передать это в один
из научно-исследовательских институтов. И передали в Институт
строительных конструкций имени Кучеренко. Это был
центральный институт всей системы строительной ориентации.
Тимофеев: Там чуть ли не тридцать институтов.
Тимофеева: Да. Причем, фундаментальные институты:
железобетонный был, физики, стекла. Вот эта кафедра и по сей день
существует там. Ларионов руководил много лет до 1975 года. А потом
он потерял зрение, и вместо него пришла руководить кафедрой
новая жена Ковальзона и я ушла. Ушла в У РАО — Университет
российской академии образования.
Пружиним: Открытый университет...
Тимофеева: Да. Ты знаешь, я тебе скажу, мы с Краевским не
доспорили, к сожалению. Потому что он говорил, что это безобразие,
это образование заочное. Боря, но я с самого начала попала в
такую ситуацию, когда все рушилось, а людям хотелось учиться. Вот
на философский факультет тогда было 480 заявлений. И 80 человек
обучали мы по очной форме, вечерней. Остальные заочники.
Университет, конечно, мне очень много дал.
Щедрина: На чем мы остановились?
Тимофеев: Я рассказывал, как защищал кандидатскую. Теперь о
докторской немного скажу. Раньше отзывы на руки диссертанту не
давали, разрешали читать отдельные страницы. И вот в одном отзыве
написано, что я не понимаю разницу между законом естествознания в
науке и законом реально существующим. И между прочим, я
оказался в ИИЕТе именно потому, что такое замечание было сделано.
Смотрел я отзыв у Бонифатия Михайловича. Он показал мне его заранее.
Смотрю на это замечание, а он говорит: «Знаете, это уже вычеркнули.
Я велел вычеркнуть вот эту страницу». А я ему сказал: «И правильно,
будет очень неудобно, если это останется. Потому что я просто
достану свою книгу, а там у меня четко сформулированы различия между
законом природы и законом науки». На прощание он сказал: «Вы все-
таки действительно очень теоретически написали. И у вас прекрасно
сделанная докторская, вся на примерах из естествознания. Приходите
к нам в Институт, займитесь вот этим же самым».
Пружинин: То есть Кедров и взял Вас в Институт?
Тимофеев: Да. В И И ET я пришел по приглашению Бонифатия
Михайловича. Работал у Микулинского. Он возглавлял отдел
методологических проблем историко-научных исследований. Это очень
большой отдел, при котором действовал интересный семинар. Он
484
Раздел 4. О времени и о себе...
так и назывался «Методологические проблемы историко-научных
исследований». Микулинский, когда брал меня, то сказал:
«Осмотрись. И займись семинаром, я буду организационно поддерживать
семинар через Президиум ежегодно». Я, конечно, включился, но
семинар все-таки развалился после того, как повысились цены в
гостиницах. Люди просто перестали приезжать. Семинар вел
сначала Борис Грязнов, поскольку Микулинский все больше занят
был другими делами. Но кроме распада семинара, был еще один
кризис другого порядка, сейчас я напомню. В определенный
момент Бонифатий Михайлович объявил, что он будет директором
Института философии, куда перейдет и И И ET. Он уже даже
согласовал с начальством, что будет дважды директором. Против этого
восстал Микулинский. И я тоже. Рассорились мы. Я не помню,
как повел себя остальной коллектив, но пошли письма с
подписями групп против включения ИИЕТа в ИФ РАН. И от Бонифатия
это не скрывали. Большинство сотрудников понимали, что нельзя
институт тащить в другой институт в полном составе. Потому что
это будет конец всех свобод. Была очень большая опасность
потерять сложившиеся традиции и дисциплинарность.
Пружинин: А как создавалась группа системных исследований?
Тимофеев: С системщиками получилось вот как. Бонифатий
Михайлович их создал. Они это высоко ценили. Это и сейчас
высоко ценится, потому что он сразу одобрил их начинания. Я знаю
все их работы, следил. К моменту кризиса семь выпусков уже
опубликовали. Но тут пошли обвинения: «подменили диалектику!!!» и
т. д. Ребята очень разозлились. Они такую инициативу проявили!
Они такой создали коллектив! Семинары шли, системные
исследования действительно актуальны и сегодня. Я скажу, как
защитили системщиков. Я участвовал как председатель комиссии,
которую официально утвердили, и Микулинский в ней работал под
руководством заведующего отделом науки ЦК. Итоги комиссии:
решили провести конференцию, где обсудить общую ситуацию с
системными исследованиями. И как-то оставили их в покое, а еще
Уемов их сильно поддержал, а вот Кедров увильнул... не стал
поддерживать системщиков.
Пружинин: А к Глинскому как относились?
Тимофеев: Ну, Глинский это же другая группа. Но я, например,
отлично. Потому что их группа выступила с идеей жесткой
рациональности: Борис Грязнов, Женя Никитин, Глинский и еще кто-то
там, я забыл. Они совершенно четко действовали. А Борис Грязнов
слишком жестко, потому что, на мой взгляд, нельзя
рациональность слишком жестко определять. Потом, кстати, наткнулись на
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с И. С. и Н. В. Тимофеевыми 485
главную проблему, что системный подход не такой уж хороший,
потому что у него нет единичного.
Пружинин: Это была критика системного подхода?
Тимофеев: Не совсем. Дело в том, что все больше побеждала
математическая логика.
Пружинин: А математическую логику кто защищал?
Тимофеев: Яновская. Это очень серьезная самостоятельная
женщина. Но она же сделала вот какие вещи: она сделала тройное
введение абстракции через качество по «Капиталу».
Пружинин: Я ее работы знаю. А в институте кто ее поддерживал?
В Институте истории естествознания?
Тимофеев: Все серьезные. Зиновьев ее боготворил, но понимал
ее по-своему Ильенков тоже поднимал эту проблему. Новоселов
поддерживал ее также и высоко ставил.
Пружинин: Теперь скажите, вот Ваш отдел... приходили
диссиденты, Гайденко к вам пришла?
Тимофеев: Ко мне. И Мамардашвили тоже, и Ахутин.
Пружинин: А когда Вы работали все вместе, сильно
дискутировали, да? Были споры?
Тимофеев: Сильно — нет.
Пружинин: Но споры были?
Тимофеев: Споры были бесконечные. Газета выходила. Там
такое было! И потом все соревновались еще искуснее подать, что там
творилось.
Пружинин: Меня очень интересует период, когда бурные споры
шли. Бонифатий Михайлович ушел в Институт философии. Потом
вернулся. Уже как зав. отделом. Микулинский стал директором.
Тимофеев: Микулинский стал директором.
Ребята-системщики так обиделись и ушли в Институт системных исследований.
Я убеждал и Игоря Блауберга, и Вадима Садовского. Я говорил:
«Ребята, ну, вы поймите, как же не помочь сейчас в создании
нового института, где ваши исследования пойдут хорошо. Вы
можете быть ядром, по крайней мере, на том уровне, на котором вы уже
проверены».
Пружинин: Илья Семенович, а вот еще очень важный пункт.
Когда Степин увел философов в Институт философии, что
происходило в Институте истории естествознания и техники? Жизнь
немножко стала глуше?
Тимофеев: Не думаю... Меня он не взял. У него было такое
основание, ведь я к тому времени был уже, собственно говоря, старый —
это раз. И второе: я поддерживал Микулинского, а не Кедрова.
Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле
в редакции журнала «Вопросы философии» 11 мая 2010 года
Пружинин: Вы, конечно, в курсе, что к Вашему юбилею готовится
книга. Я в этой книге участвую. Не так давно я писал статью о Владиславе
Александровиче, о секторе, а стержневым сюжетом этой статьи было
повествование о том, как в те времена вырабатывалась, как бы это
сказать, оппозиция официальной идеологии. Как настоящие философы-
ученые пытались описать реальность, как она есть, понять законы, т. е.
как ученые работать, и как они обходили, внутренне и внешне
преодолевали чисто идеологический подход. Потому что я в то время в
Институте работал, и всех этих Модржинских-Скоржинских вблизи видел: и
видел, и хорошо знал все эти ситуации. Я просто в этом не участвовал
по возрасту, битва развертывалась у меня над головой. Но все это очень
хорошо понимали. И мне это очень важно, скажу Вам, это очень
актуально, потому что я сегодня вижу, как снова захлестывает идеология.
Но у нашего поколения выработана защитная реакция на эту
идеологию. Сама жизнь нам прививала от нее какую-то вакцину, мы через эту
школу прошли. А сегодня многие снова пытаются утвердить, что
идеология — важная и нужная составляющая общественного сознания.
Но если ты профессионал-философ, т. е. ученый, то задача твоя
не погружаться с головой в эту идеологию и не раболепно
обслуживать ее, а критически воспринимать и понимать. Ваше
поколение на своей шкуре, грубо говоря, испытало давление идеологии,
но вынесло и сумело найти способы выхода к реальности и ее
изучения. Как хотите! — но реальность Вы почувствовали. Это как в
науке: идет спор, выясняются какие-то вещи, что-то где-то лучше,
что-то больше продвинутое, но это наука! А Ваш отдел разгоняли.
И сегодня для нас очень важно знать, как это все происходило.
Хочу заметить сразу. В данном случае в мои намерения не входит
ни обсуждение вопроса о том, насколько историко-материалисти-
ческая концепция общества является научной, ни тем более
вопроса о том, насколько вообще возможна научная концепция общества.
Достаточно того, что истмат сложился в контексте соответствующей
традиции именно как попытка наученного понимания общества
и содержит в себе элементы научности. О них и пойдет речь ниже,
когда я буду анализировать попытки социальных философов разли-
Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле
487
чить в истмате идеологию и науку. Тем более что сами эти попытки
развертывались в рамках характерного именно для науки критико-
рефлексивного рассмотрения истматовских концепций.
Надо сказать, что в то время в ходе истматовского рассмотрения
социальной проблематики рефлексивность уже в принципе не
возбранялась. Да и сама философско-методологическая рефлексия при
этом рассматривалась вполне адекватно — как особая критико-ана-
литическая практика, позволяющая отследить и методологически
оценить способы соотнесения концептуальных построений с
реальностью. Однако в ходе критико-рефлексивного анализа
концептуальных структур истмата достаточно отчетливо возникал вопрос:
какого рода отношение концептуального аппарата истмата к
реальности должна оценивать философско-методологическая
рефлексия? Точнее, какого рода цели функционирования истмата прежде
всего должны приниматься во внимание при рефлексивной оценке
эффективности его концептуального аппарата — задачи ли
рационального оправдания практико-прагматических решений
«политико-идеологического руководства», т. е: идеологические задачи, или
задачи формирования адекватного представления о социальной
реальности (в том числе и о реальность самой идеологии), т. е. задачи
познания этой реальности, по возможности, научного?
Вообще говоря, т. е. в идее, истмат мыслил себя как научную
идеологию и потому никакого фундаментального противоречия внутри
него между этими целями возникать не должно было.
Соответственно, и компетенцию философско-методологической рефлексии над
истматом следовало ограничить выявлением частных расхождений,
для их дальнейшего устранения (преодоления) за счет взаимной
коррекции познания и идеологии. И естественно, при этом ни о
каком сознательном различении науки и идеологии внутри
истмата и речи быть не могло. Дело, однако, было в том, что к 60-м годам
прошлого столетия зазор между истматовской идеологией и
реальностью был уже настолько велик, что как раз ни о какой
самоочевидной научности марксистской идеологии речи уже не было. И это
обстоятельство, надо сказать, было очевидным и для
профессиональных идеологов, и для ученых-гуманитариев. Но если с точки
зрения первых, именно социально-гуманитарные науки следовало
подстраивать под идеологию, то для тех отечественных социальных
философов, кто пытался честно работать в рамках истмата, единство
в нем науки и идеологии (под руководством идеологии)
представлялось отнюдь не исходным пунктом их размышлений, но
чрезвычайно острой проблемой, предполагающей как раз четкое различение
этих составляющих истмата и коррекцию именно идеологии.
488
Раздел 4. О времени и о себе...
В те времена более или менее серьезные самостоятельные
разработки в истмате допускались только в рамках задач по обслуживанию
корпуса идеологических установок, а отнюдь не с целью объективного
познания социальной реальности. Соответственно задачей
рефлексии оказывалось не столько критико-методологическое осмысление
истматовских гипотез в их соотнесении с социальной реальностью,
сколько эффективное участие в их трансформациях под
прагматические конъюнктурные контексты, т. е. прагматизация историко-ма-
териалистических идей под решение идеологических задач (причем
задачи эти отечественные социальные философы отнюдь не сами
себе ставили). С этой точки зрения философско-методологическая
рефлексия, в рамках истмата подчинялась целям не
научно-познавательным, а идеологически-прикладным. И хотя, в силу претензии
истмата на научность своих идеологических программ,
критико-методологическая рефлексия и не исключалась полностью из
повседневной профессиональной работы тогдашних отечественных социальных
философов, но, так сказать, злоупотреблять ею не рекомендовалось.
И не рекомендовалось тем более настоятельно, чем более
идеологические установки истмата обнаруживали свою нереальность. В этой
ситуации любая попытка четко развести в истмате науку и идеологию,
оказывалась фактически равносильной утверждению, что принимать
за основание оценки истматовских идей следует не идеологическую
ангажированность, но элементы научности, содержащиеся в фило-
софско-исторической концепции марксизма. Так что, и для тех, кто
пытался исследовать социальную реальность, и для тех, кто
контролировал такого рода попытки, было очевидно: за разведением
науки и идеологии в рамках истмата явно просматривается критическая
позиция по отношению к его идеологии — сначала текущей, а в
перспективе и стратегической. Понятно, что попытки такого рода
всегда более или менее жестко пресекались. Дело не спасали и ссылки на
пролетариат, который якобы нуждается именно в научной идеологии.
Сколь бы ни были ограниченными концептуальные основания
истмата, они тем не менее позволяли даже изнутри различить вопиющую
неадекватность его идеологической составляющей той реальности,
которая сложилась к тому времени в стране. Во всяком случае, к 60-м
годам прошлого столетия это было видно уже и невооруженным
глазом. Вот за попытку различить в истмате науку и идеологию и дать
серьезную критико-рефлексивную оценку научного потенциала
истмата, собственно и был наказан В. Ж. Келле и сотрудники его отдела.
Вас разогнали тогда за книгу трех авторов — Бородай, Келле,
Плимак?
Келле: Не только из-за этого.
Беседа Б. И. Пружинила с В. Ж. Келле
489
Пружинит Подробности нужны, потому что я ж как бы со
стороны на это смотрел, многого и не знаю. То, что я писал о
Лекторском, я вблизи видел, как вырабатывалось, совершенно новое
отношение к материалу, к современной западной философии,
которое позволяло с этим материалом работать, а не просто поносить.
Не выстраивалась цепочка: Маркс вершина, все остальное
можно не изучать, это уже совершенно не интересно, все остальные
больше или меньше заблуждаются. Иная картина формировалась,
иное представление. И я об этом написал и как мне, кажется,
получилось. И я хочу в книгу о Вас, Вам посвященную, написать об
этом1. О противостоянии идеологии, о том, что философ работает
где-то на грани, что он не должен туда скатываться. Что он должен
чувствовать себя немножко отстраненным и ученым,
ориентированным на объективный подход. Оценивая интерес, будь то
национальный, общечеловеческий или групповой, он этот интерес
должен в своей перспективе просматривать. Он его должен понимать.
И мне кажется, что Вы могли бы на этот счет посодействовать.
Келле: Не знаю, в какой мере я смогу Вам посодействовать, но
расскажу о себе и освещу некоторые проблемы, которые тогда передо
мной возникали, и то, как я их решал. Сектор исторического
материализма я возглавил в середине шестидесятых годов. Я пришел в
Институт философии в 1963 году по приглашению Ф. В. Константинова, а
до этого работал в Московском университете на кафедре философии
естественных факультетов. Заведовал ею Халил Магомедович Фата-
лиев. Это был блестящий заведующий, он был крупным партийным
работником, потом перешел в науку. Доктор физико-математических
наук, он создал сильную кафедру и поддерживал на ней творческую
рабочую атмосферу. Он погиб во время авиационной катастрофы
при посадке во Внуково. Заведующим кафедрой стал Г. В. Платонов.
Это был совсем другой человек, Он решил подмять под себя кафедру,
и относился к ее членам по принципу личной преданности. Это был
человек-интриган. Естественно, и у меня, и у М. Я. Ковальзона
отношения с ним не сложились. Тогда Ковальзон ушел на кафедру
философии гуманитарных факультетов, а я воспользовался приглашением
и перешел в Институт философии. Сектора исторического
материализма в Институте не было, существовал объединенный сектор
научного коммунизма во главе с Ц. А. Степаняном.
Я защитил докторскую диссертацию, и через некоторое время
мне было предложено возглавить уже образованный сектор истори-
1 К сожалению, я этого сделать не успел. Наша беседа пошла уже в
сопровождении некролога.
490
Раздел 4. О времени и о себе...
ческого материализма. Бразды правления я принял от М. Д. Камма-
ри. Детали я сейчас уже не помню, но, во всяком случае, у меня было
много бесед с Каммари, это был очень интересный человек. Кстати,
в 50-е годы он был редактором «Вопросов философии». Он прошел
огонь борьбы с оппозицией. Его поколение пережило страшные
вещи. И это, конечно, их воспитало. Они усвоили, что есть
указанный сверху путь, ни вправо, ни влево отступать нельзя, это кончится
плохо. И эта установка стала основой засилья догматизма в партии.
Я такой школы не проходил. Еще продолжалась оттепель,
породившая волну шестидесятников. Она подхватила и нас, хотя, мы были
немножко старше. После 56-го года мы с Ковальзоном выпустили
книгу — «Формы общественного сознания» (1959), на которую
«Вопросы философии» отозвались критической рецензией. Нас
критиковали за то, что мы идеологию выводим за грань познания.
Лружинин: Я нашел эту рецензию и приведу несколько ее
фрагментов.
«Необходимо, однако, отметить, что в рецензируемой книге, в
целом полезной, содержатся отдельные положения, которые
вызывают серьезные возражения и нуждаются во внимательном разборе
и критике.
"В развитии общественного сознания, — пишут авторы, —
необходимо выделять две взаимно связанные друг с другом тенденции:
во-первых, познавательный процесс, обусловленный интересами
реальной жизненной практики общественного человека, —
накопление объективных знаний о природе и обществе; во-вторых,
идеологический процесс, обусловленный в антагонистических
формациях интересами различных действовавших в истории
классов, — возникновение, развитие и смена идеологий различных
классов" (стр. 11). Это противопоставление познавательного
процесса идеологическому последовательно проводится авторами во
всех разделах книги. Рассматривается ли общетеоретическое
положение о преемственности в развитии общественного сознания в
целом, они спешат заявить: "...Следует различать преемственность
в области идеологии от преемственности научного познания" (стр.
22); излагается ли та же проблема преемственности применительно
к отдельным формам сознания, например философии, авторы вновь
утверждают: "...В развитии философии имеет место идеологическая
и познавательная преемственность..." (стр. 244); освещается ли
содержание определенной формы общественного сознания, например
искусства, они вновь и вновь повторяют, что это содержание
представляет собой "единство идеологического и познавательного
моментов", осуществляемое "на эстетической основе" (стр. 212), и т. д.
Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле
491
Известно указание В. И. Ленина о том, что научная идеология в
противоположность идеологии ненаучной содержит объективную
истину. Ленин противопоставляет одну идеологию другой идеологии в их
отношении к объективной истине, но не противопоставляет науку
вообще идеологии вообще, познавательный процесс —
идеологическому процессу. Если, как утверждают авторы, в общественном сознании
действуют две тенденции — познавательная, научная, и
противостоящая ей идеологическая, ненаучная, — то понятие "научная идеология"
в его противопоставлении "ненаучной или антинаучной идеологии"
лишается всякого смысла. Проводимое авторами противопоставление
познавательного и идеологического как двух противоположных
процессов не отвечает действительности и не согласуется также с
указанием В. И. Ленина, содержащимся в статье "Три источника и три
составных части марксизма": "Точно так же, как познание человека отражает
независимо от него существующую природу, т. е. развивающуюся
материю, так общественное познание человека (т. е. разные взгляды и
учения философские, религиозные, политические и т. п.) отражает
экономический строй общества" (Соч., т. 19, стр. 5). Как видим, Ленин
здесь называет все формы общественного сознания — значит, и
идеологические формы, идеологию — формами познания»2.
Поскольку книга вызвала многочисленные отклики, редакция
опубликовала их обзор. Приведу фрагмент этого обзора.
«Отрицательно относясь к излагаемой в книге концепции о
соотношении познавательного и идеологического моментов в
сознании, доцент И. Миндлин (Москва) считает, что разделение
духовной жизни общества на эти два момента имеет искусственный
характер. В действительности жизнь общества подразделяется на
материальную и идеологическую (то есть духовную). Материальная
жизнь — это та, которая складывается независимо от сознания
людей, а идеологическая складывается, проходя через сознание
людей. Из этого следует, что в классовом обществе общественное
сознание не может быть единым, оно носит классовый характер; оно
отражает ту ожесточенную борьбу классов, которая происходит в
обществе и является главной силой истории. Эта борьба
пронизывает от начала до конца все формы общественного сознания, в том
числе и науку. А отсюда следует, что незачем искусственно
расчленять общественное сознание на эти две тенденции»3.
2 Гак Г М., Рачков П. Л., Степанян Э. X., Чугаев Л. Я. Спорные положения в
интересной книге // «Вопросы философии», 1960, № 8, с. 175
3 Спорные положения в интересной книге [«Авторы других рецензий,
поступивших в редакцию...»]. // «Вопросы философии». 1960. № 8. С. 179.
492
Раздел 4. О времени и о себе...
Келле: Да, точно. Из рецензентов помню Чугаева, заведующего
кафедрой на философском факультете, и было еще несколько
подписавших. Они это нам в вину поставили. Но каких-то
организационных выводов не делали. Только защищали теорию отражения.
Мы с Ковальзоном выдвинули идею и провели ее в книге «Формы
общественного сознания», что идеология и познание образуют две
тенденции в развитии общественного сознания, которые не
совпадают друг с другом. Есть познавательная тенденция,
ориентированная на объективность, и есть идеология, ориентированная на
интересы, и она может приводить к другой оценке действительности.
И в каждой форме сознания соотношение их своеобразное. В одних
превалирует познание, в других идеология. Но единственная форма
сознания, которая занимается анализом всех этих соотношений —
это философия. Выделение этих тенденций было для нас некоторой
новацией. На Западе давно идеологию и познание разделили.
Пружиним: Здесь я вновь не могу удержаться от комментария.
История, о которой повествует Владислав Жанович, настолько
недавняя, что делать какие-то далеко идущие теоретические
обобщения, апеллируя к ней, еще, наверное, рано. И тем не менее некоторые
идейные аналогии с днем нынешним очень даже просматриваются.
Ныне, похоже, в рамках постмодернистских направлений (с ярко
выраженными конструктивистскими установками) идеологию и
познание свели вновь. Причем свели значительно более радикально,
нежели об этом мог мечтать доцент Миндлин. Постмодернизм
просто отождествил науку (и, притом, отнюдь не только гуманитарную) с
идеологией. А поскольку благодаря этому отождествлению идеология
лишилась какой бы то ни было оппозиции, она вообще перестала
чувствовать свои границы и приобрела характерные черты мифа.
Впрочем, даже насквозь идеологизированное сознание предполагает все
же самооценку, и так или иначе включает в себя взгляд с иных
позиций на мир, в котором оно воплощает свой интерес, взгляд с позиций
скажем, знания о мире. Внутри мифа такой потребности нет — миф
не имеет внутренней опорной точки для самооценки, он не
рефлексивен в принципе. И при этом, никакой нужды в том, чтобы стать
познанием, а тем более научным познанием, он не испытывает.
Келле: Но мы же были изолированы, и мало было знакомы с тем,
что происходило в европейской философии. Работы западных
социальных философов были в спецхранах, нам было трудно их
получить. Мы сами пришли к идее разделения идеологии и познания, это
не было каким-то заимствованием. Эта идея была проведена нами в
«Лекциях по историческому материализму» (1962). Вместе с тем я
полагал, что в марксизме в принципе идеология и познание должны со-
Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле
493
впадать. Конечно, не только я так думал. Это был общий принцип.
Совпадение обусловлено тем, что рабочий класс, идеологией
которого является марксизм, заинтересован в объективном познании
действительности, и лозунги, которые он выдвигает, его идеологические
принципы тоже должны соответствовать реальности. Только тогда
можно будет сказать, что новое общество строится на основе науки.
Но реально это не получалось. И поэтому задача заключалась в том,
каким образом построить жизнь, организовать жизнь, организовать
саму идеологию таким образом, чтобы она совпадала с познанием,
чтобы была действительно научная идеология, как это
провозглашала теория. Противоречие между теорией и жизнью, таким образом,
получало уже зримое выражение в этой философской проблеме.
Но вернемся к вопросу о новом секторе. Когда я пришел в
Институт философии, сначала научным сотрудником, а затем
возглавил сектор исторического материализма, то с удивлением
обнаружил, что в самом Институте в это время многие очень способные
люди оказались как-то не у дел. Или у них возникли сложные
отношения с руководством секторов, где они работали, либо по каким-то
другим причинам. А я талантливых людей не боюсь, мне интересно
с ними работать. В результате собрался великолепный сектор! В нем
работали в разное время Н. Мотрошилова, Э. Соловьев, Е. Плимак,
Ю. Бородай, В. Толстых, В. Межуев, Н. Злобин, А. Гулыга и др. Одно
время в секторе были Ю. Левада, Б. Грушин. Они пришли из ИКСИ
после разгрома М. Руткевичем социологического сообщества этого
института. Тогда же с частью своего сектора Социологии культуры
пришел Ю. Семенов, очень честный и приятный человек. Он не
пожелал работать с М. Руткевичем. Я давал всем возможность самим
планировать свою работу, но все-таки учитывать дисциплинарный
профиль сектора. И мы начали выпускать продукцию. Я буду
говорить только о тех работах, в которых я принимал личное участие.
Уже первая публикация — «Принцип историзма в познании
социальных явлений» подверглась в Институте суровой критике.
Основная идея, за которую нас «долбали», заключалась в том, что мы
придали базисные функции политике в период феодализма.
Базис — это экономика. Мы проводили идею, что в
докапиталистических формациях реально действующей силой базисного порядка
было внеэкономическое принуждение, что в условиях феодализма
экономика не играла такой роли, как при капитализме, а
политика выполняла более фундаментальные функции в жизни общества.
После смерти П. В. Копнина Институт возглавил на правах врио
директора Одуев. Он вместе с Б. Украинцевым устроили нам тогда
настоящее судилище. Но это все прошло, других последствий не
494
Раздел 4. О времени и о себе...
было. Потом вышла книга «Наследие Маркса», там эта идея тоже
была проведена. Но главным в книге был всесторонний анализ
различных формационных моделей, представленных в наследии
Маркса. Дело в том, что в изложении исторического материализма
у Сталина в его знаменитой работе «О диалектическом и
историческом материализме» понятия формации вообще не было. И как-
то из истмата, вернее, из учебной литературы по истмату понятие
«формация» исчезло. Эта книга была предназначена вернуть в
марксистское понимание истории понятие «формация», во-первых,
а во-вторых, показать, что Маркс и Энгельс не дали окончательного
решения этого вопроса, что здесь еще много нерешенных проблем.
Пружиним: Это очень важный пункт. Сейчас ругают формаци-
онный подход как будто это возвращение к прошлому. Странно
получается: возвращение к тому, что Сталин удалил из марксизма, да?
Очень любопытно.
Келле: Дело в том, что при Сталине, конечно, философам, Вы
знаете, отводилась роль пропагандистов. Константинов прямо говорил:
«Мы должны быть идеологами» и т. д. А нам хотелось заниматься
творческой работой. В 40-е годы это было вообще невозможно, пока
жив был Сталин, но после 56-го года какие-то проблески появились,
и мы воспользовались, конечно, этим. Но старое поколение считало,
что мы слишком далеко зашли, начали уже копаться в самом
марксизме, разбираться, и эта книга вызвала неудовольствие руководства
Академии общественных наук. М. Т. Иовчук, в частности, там
большую роль сыграл. Нам устроили разгромное обсуждение книги.
Имеется стенограмма этого обсуждения, Так что Вы можете с ней
познакомиться. Потом некоторые люди после этого обсуждения подходили
ко мне и извинялись за свое выступление. Говорили, что их заставили.
Организаторы обсуждения считали, что мы ревизуем Маркса, и
от нас, от меня, прежде всего, требовали признания своих ошибок.
Признай свои ошибки, покайся и все тебе простят остальное. Ко
мне подходили в перерыв люди и убеждали признать свои
ошибки. Так что обстановка была очень накаленная. (Между прочим,
тоже маленький эпизод: уже после обсуждения, когда еще там
народ был, ходил, обменивался мнениями, обсуждение было бурное,
подходит ко мне один видный философ и спрашивает: «Какой
гонорар Вы получили за эту книгу?» А издал Политиздат. Я говорю:
«Ни копейки! Это же была плановая работа». — «Да?! А я думал,
что Вы еще гонорар получили». Он нас критиковал и потому что
плохо о нас думал. Вот так. А мы об этом вообще не думали.)
Пружиним: Идеология подламывала под себя тот элемент
научности, который вы пытались ввести.
Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле
495
Келле: Да.
Пружиним: И во что вылилось все это обсуждение, эти
претензии?
Келле: Каких-то организационных выводов тогда сделано не
было. Они хотели только меня припугнуть, прижать, чтобы я
немножко умерил свой научный пыл. Но я не умерил этот пыл. Это
первое, и второе, что имело значение, — на нас обратил внимание
Московский горком партии, который возглавлял, как вы знаете...
Лружинин: Ягодкин. Тогда он по идеологии был.
Келле: Ягодкин в начале 70-х годов решил сделать карьеру на
разгроме слишком прытких гуманитариев, которые, как он
говорил, нарушают идеологическую дисциплину. А они ее нарушали.
Он организовал проверку Института экономики, он хотел
разгромить «Вопросы философии», и одним из его главных противников
был Иван Тимофеевич Фролов. Ну, у Фролова были крупные связи
в ЦК, и он оказался орешком, который был Ягодкину не по зубам.
А я был, во-первых, членом редколлегии журнала, а, во-вторых,
возглавлял сектор, который все чего-то там куролесил. Тогда во главе
Института был Украинцев, Кедров сделал некоторые ошибки, и они
все-таки смогли его сбросить. А я попал под прицел этого человека.
Эти два фактора сработали. Кроме того, мы выпустили к столетнему
юбилею Ленина книгу «Ленинизм и диалектика общественного
развития». Это Плимака целиком заслуга, я лишь подписался под этим,
я был с этим согласен. Он разделил применительно к оппозиции
гносеологические корни оппозиции и социальные. Критики
признавали только социальные корни оппозиции — предатели, враги,
анти и прочее. А признание гносеологических корней, во-первых,
объясняло, почему Ленин все-таки оставлял этих людей. Он их
критиковал и оставлял их в партии. Того же Мясникова и других
многих. Троцкого, как известно, он критиковал тоже. Но он не выгонял
их, не расстреливал никого. А социальные корни, они должны
применяться достаточно осторожно. Объективно так получается даже
люди честные могли разойтись с руководством во мнениях.
Криминалом оказалось и то, что в книге говорилось о рабочей
оппозиции. Было показано, что рабочая оппозиция защищала
пункт программы партии о рабочем управлении. Это было
записано, но Ленин понял, что для России тех лет рабочее управление не
подходит. Чтобы вырваться из разрухи нужно было сосредоточить
производство в руках государства. Оппозиционеры остались на
старых позициях, но врагами партии они не были.
Еретические идеи были признаны троцкистскими. Спиркин
прямо тогда говорил об этом. Я сам не слышал, но мне передавали,
496
Раздел 4. О времени и о себе...
что в своих выступлениях в Институте философии он называл эту
книгу троцкистской. Она была запрещена. Она не вышла на
продажу. А историки мне говорили, что они зачитывались этой книгой.
Пружинит А она существует?
Келле: Ну, я не знаю, наверное, существует. У меня, конечно,
есть экземпляр, я могу Вам дать.
Пружиним: Конечно!
Келле: Мы шагали достаточно неосторожно. Главная книга,
которую мы задумали, была посвящена разработке объективной теории
исторического процесса. Одним из авторов плана этой книги был
Ю. Левада. Итак, была программа, подобран авторский коллектив,
проведена встреча авторов с детальным обсуждением
направленности работы и многих проблем. В это время еще был Б. Кедров.
Руткевич, очищая Институт, хотел, в частности, избавиться от Вит-
кина, и Кедров попросил меня, чтобы я взял его в свой отдел. Я
читал книжку Виткина по теории азиатского способа производства.
Издательским редактором этой книги был Наль Злобин,
уважаемый мною человек, ставший вскоре моим другом. Конечно, у меня
не было никаких причин не брать Виткина, не выполнить просьбу
директора. Но Руткевич, видимо, знал, что Виткин собирается
«уматывать». Во-первых, Виткин был недоволен теми гонениями,
которые на него обрушились, во-вторых, он недоволен был тем, что его
держали на должности младшего, хотя он заслуживал уже, как он
считал, значительно большего. Но я не мог его рекомендовать на
старшего потому, что, во-первых, я его только что взял, он хотя бы
должен был какое-то время проработать, а потом что-то выпустить.
Я его сделал просто секретарем задуманной нами книги.
Итак, к 1974-му году у меня уже накопилось достаточно
прегрешений. Но чтобы избавиться от меня, о чем мечтала дирекция,
нужен был повод. И вскоре он нашелся.
Пружинин: Отъезд Виткина?
Келле: Да. И когда Виткин в декабре 1974 года сказал, что он
уезжает в Израиль, я, конечно, об этом сообщил, и началась вся эта
катавасия. Дело в том, что реакция на еврейскую эмиграцию была
разной. Кое-где не обращали на это внимания, кое-где кого-то
наказывали, кому-то давали выговор. А наш отдел наказали по
полной — он был распущен.
Пружинин: Это поводом послужило, да?
Келле: Это послужило поводом, под давлением горкома
партии. Я думаю, что даже руководство Института, которое было
против меня, — Украинцев, Суворов, секретарь парторганизации, оно
бы не решилось на это. Пилипенко, зав. Отделом науки ЦК, меня
Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле
497
поддерживал, и получалась странная вещь — они мне давали
поручения, которые я выполнял, я входил в здание ЦК по временному
пропуску, мне не надо было каждый раз брать пропуск, т. е. я
работал на них. И в то же время, под влиянием горкома на меня
заводили дело. Но ЦК в это дело не вмешивалось, не хотело никакого
скандала. Вот такая ситуация сложилась любопытная.
Пружиним: Понятно. Хорошо, хорошо Вы рассказали. Очень
интересно.
Келле: Закончилось это партийным собранием, где меня
исключали из партии.
Пружиним: Это я помню. Это не получилось, но все это я помню.
Келле: Меня поставили в такую ситуацию, что я вынужден был
уйти из Института. Я попросил Семена Романовича Микулинско-
го, директора ИИЕТа взять меня в свой институт. Дело в том, что
я занимался социологией науки, провел большое исследование. В
Отделе у меня была небольшая группа молодых социологов,
которые проводили социологические опросы и в научных институтах
АН СССР. Но для меня это было занятие второго плана. В случае
перехода в И И ET оно становилось моей основной профессией.
Микулинский выполнил мою просьбу. С помощью
вице-президента АН П. Н. Федосеева я был переведен в Институт истории
естествознания и техники. Из Института философии ушли также
Е. Плимак и Н. Злобин. Так завершилась эта история.
Пружимин: Было сложно. Не так все просто было, как иногда
все это сейчас представляется. Спасибо Вам огромное!
Такая вот поучительная история из времени, когда идеология
господствовала и пыталась поглотить все, всю сферу
интеллектуальной и духовной жизни. Точнее, это — история противостояния
ее господству, демонстрирующая нам, помимо всего прочего, еще
и способы, какими такое противостояние идеологией подавляется.
Последнее, на мой взгляд, заслуживает особого внимания на фоне
рассуждений о «властных претензиях» знания.
И в заключении. Известно, в том числе и из опыта продвинутых
регионов, что без внимательнейшего отношения к своей
собственной истории, в том числе истории недавней, никакое движение
вперед (т. е. не по кругу) невозможно ни в какой сфере жизни. Тем более
в сфере интеллектуальной. Так что без осмысления своей, не только
давней, но и недавней истории отечественная философия и
социально-гуманитарная наука в целом не смогут сказать ничего
собственного внятного и значимого. Не сумеют актуализировать даже чужой
опыт. Ведь только в преемственности опыта и формируется
концептуальный аппарат, способный схватывать проблемы новой реальности.
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной
с В. П. Зинченко
5 июля 2013 года
Пружиним: Я хочу поговорить о шестидесятых. Я — оттуда.
Сейчас в истории такой пробел в этом плане. Он восполняется, но
очень медленно. А очень хочется, чтобы не ускользала реальность
того времени, которая уходит вместе с людьми. И вот вопрос:
«Откуда, собственно, у нас в шестидесятые такой всплеск
гуманитарный?» Ведь под корень все вывели, изничтожали и вдруг... Сразу
практически после войны это началось. И в психологии то же
самое, и в филологии. Философский факультет восстановили в сорок
втором году в Ашхабаде. Во время войны. Вроде совсем не к месту,
да? Но восстановили именно в это время.
Зинченко: Кафедру психологии в Московском университете
восстановили в сорок втором году. Тоже «не ко времени». И назначили
заведующим кафедрой Сергея Леонидовича Рубинштейна. А
потом он уже организовал отделение психологии. Я не буду всю эту
историю про Сергея Леонидовича рассказывать. Но это примерно
то же самое, что и с философией. Это, конечно, поразительно. Так
же, как поразительно и то, как пятеро психологов, известнейших в
то время, самых сильных, единодушно написали письмо в ЦК
Маленкову, и с какой скоростью прошло это. Были выборы в
Академию и там буквально через три дня Маленкову пришло это письмо,
и он наложил визу: переговорить с Александровым (с тем самым)
Георгием Федоровичем. И его выбрали мгновенно тогда. Конечно,
психологи для приличия написали, что психология и в войне тоже
может сыграть свою роль. Она и играла... Кстати, между прочим, к
теме «психология и война» Теплов написал диплом в сорок первом
году, а потом потрясающую статью «Ум полководца», она была
издана, где он показал практический интеллект полководца.
Сравнивал Клаузевица, Кутузова и т. д. То есть оперативно. Лучшего нет до
сих пор. А с другой стороны, Александр Северьянович Прангиш-
вили — многолетний директор Института психологии Грузии,
академик грузинской Академии, написал потрясающую работу о па-
1 Текст публикуется практически без редакторской правки.
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с В. П. Зинченко
499
нике (1929). Нашел место и время, понимаете, писать о панике во
время войн. И это в тот момент, когда паника охватила полстраны.
Как он выжил? Может, только потому, что эта книжка была издана
в Кутаиси. Так что просто этот интерес и внимание к
гуманитарным наукам чудом возникли у этого Сталина, понимаете... Может,
это следствие его обращения, понимаете, к ненавистному
народу — «Братья и сестры».
Теперь два слова о том, как я попал в психологию. В текстах,
которые я вам посылал, это есть. Все-таки какой-то уровень
культуры у меня был, видимо, даже у пацана благодаря эвакуации.
Потому что тогда мы второй раз бежали с Нижней Волги в Южный
Казахстан. Мы попали в совхоз в семидесяти километрах от
Ташкента, «Голодная Степь» — это все официальные названия. И мама
стала директором школы, и поселили нас в директорской
квартире в школе. И в ее кабинете была потрясающая библиотека с
дореволюционных времен! А мне климат этот не подходил, поэтому
дизентерия, брюшной тиф, конъюнктивит, желтуха — чего только
там не было! И я проводил все вечера, выходные дни — жара
жуткая! — проводил в кабинете директора школы и читал книжки. То
есть, в общем-то какой-то уровень культуры был, и когда настало
время выбирать профессию, то я уже понимал, что история
невозможна, филология невозможна, психология возможна, но в
Харькове не учили ей. Так и оказался все-таки в Москве. Ну, конечно,
интерес к психологии связан с тем, что отец был психологом. То
есть в этом смысле какая-то случайность судьбы. Я описывал, это
тоже может быть интересно, судьбу Давыдова с его слов. Рабоче-
крестьянский парень, в вечерней школе потому, что надо было
работать, есть нечего. Он работал в лаборатории академика Бардина,
металлурга. И Бардин ему сказал: «Парень, вся твоя дорога
должна быть связана с металлургией». Он подал документы в Институт
стали и сплавов. А потом поехал в деревню, на родину мамы, где-
то неподалеку от Москвы. И там была пара каких-то ленинградцев,
интеллигентов, имена, которых, к сожалению, утрачены. Они
пригляделись к этому пацану, вели с ним какие-то разговоры. И
расставаясь (уже летом сорок восьмого года, документы уже в
Институте, он с золотой медалью уже там принят), они сказали: «Парень!
Не порти себе жизнь. Ты гуманитарий до мозга костей. Никакой
ты не металлург». Он приехал в Москву, забрал документы, отнес
их на философский факультет, хотел быть философом. А уже на
философское отделение мест не было и ему предложили на
психологию. И вот так Давыдов стал психологом. И я стал психологом.
При этом я был уверен, что вообще моя судьба как психолога будет
500
Раздел 4. О времени и о себе...
судьбой психолога-экспериментатора. Первую теоретическую
курсовую работу я написал на третьем курсе под руководством Сергея
Леонидовича Рубинштейна «Сеченов о памяти». Какая-то
трепотня была. И решил, что хватит. На четвертом и пятом курсах я
проводил экспериментальные исследования по психологии установки,
по детскому восприятию, по сравнению осязания и зрения. А когда
я поступал в аспирантуру (или уже поступил?) и сдавал
кандидатский экзамен по философии, то чувствовал, что я ничего не знаю
об этой философии, я просто не в состоянии написать реферат. И я
пошел к Васе Давыдову. Он мне за ночь написал вступительный
реферат по теории отражения или еще по какой-то чертовщине
такой вот. И когда я принес этот реферат, на меня с таким
удивлением смотрел Матвей Ковальзон: откуда вообще что взялось?! У
этого хорошего парня, эмпирика, который на семинарах ни в зуб
ногой по диалектическому и историческому материализму? Вот.
Ну, и есть такой тип обучения — случайное обучение, чуть позже
я вспомню этот американский термин. Обучение вне учебной
деятельности, обучение от друзей. Пепси не было, пили водку и в
хорошей компании. Я уже писал о том, что вообще-то меня все эти
самые философские изыски моих собутыльников — Ильенкова,
Зиновьева, Давыдова и однокашников моих, вроде Бориса Пыш-
кова — все это куда-то такое впитывалось, входило.
Пружиним: Это какой год был?
Зинченко: Это пятьдесят первый, скорее второй-третий. И потом
уже аспирантские годы — пятьдесят четвертый, пятый. Мы
закончили в 1953-м году. И так я тихо, спокойно защитил вполне
эмпирическую диссертацию свою. А дальше — это спасибо Анатолию
Александровичу Смирнову. Он вдруг, это уже после смерти
Сталина было, послал Небылицына и меня в Германию в Йену с
докладами. И вот там, в Йене они заказали мне доклад по теории
деятельности. Я в этой теории ни в зуб ногой, понимаете, хотя я и ученик
всей этой деятельностной команды. Но тем не менее как-то
напрягся. Я помню, он был даже опубликован по-немецки, этот мой
полудетский доклад о психологической теории деятельности. Это
был, по-моему, 1956-й или 1957-й год. И так я между прочим жил
и поживал. И вдруг я так понял, что работа в Институте
психологии — это такая халява. Что ученый моего ранга — кандидат наук,
научный сотрудник, даже старший... должен написать одну статью
в год. А у меня легкая рука. Благодаря хорошему школьному
обучению я с удовольствием писал сочинения по литературе. И я решил,
что я сопьюсь к чертовой матери. И когда мне подвернулся случай
уйти в «почтовый ящик», то я и пошел. Ну, меня взяли в ежовые
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с В. П. Зинченко
501
рукавицы, понимаете... 8.15 — начало рабочего дня и конец не
прогнозируем. Так что не шуточные были дела. И тут я опять же
непроизвольно для себя стал думать: ну хорошо, деятельность
оператора системы управления, военный... А я — детский психолог. И я
вдруг подумал, что это одно и то же: инженерная психология и
детская психология. Ребенок приходит в мир, и какой он бы ни был,
он должен к нему привыкнуть. И, в конце концов, привыкает жить
в этом мире. А оператора засовывают в дурацкий мир,
построенный инженерами. Мир моделей, кодов, стимулов. И я решил, что
законы привыкания должны быть одни и те же. И вот это первое
было какое-то такое, что вообще, да, тогда еще и кибернетика, и я
решил, что вообще это можно описать. Человек имеет дело с
информационными моделями, но сам-то он должен сформировать
свою образно-концептуальную модель. А это уже было похоже на
какой-то такой концептуальный ход, который я стал
раскручивать — анализ деятельности оператора, требования к
информационным моделям и т. д. А тут эти самые требования, их все равно
проверить экспериментально было очень тяжело. Тем более, там
сроки большие. Так что что-то шло от фантазии. Но меня
выручило еще вот что. Возвращаясь назад, я в качестве предисловия, могу
сказать, что ваш брат или ваша сестра — философы — ведь держат
меня за своего сейчас.
Пружинин: Да, конечно.
Зинченко: Мне это не могло бы и в кошмарном сне присниться.
По сути дела, это вообще-то новый для меня тип деятельности. Но
это уже что-то такое, что близковато к педагогической
проблематике. А во мне, видимо, что-то такое сидело педагогическое, вот.
Хотя к педагогике я обратился от нужды. Мне родители помогали,
но дело заключается в том, что потребности московского студента
безграничны. И никакой помощи, никакой стипендии не хватало.
Да еще на факультете попалась зануда, которая требовала от меня
какой-то педагогической практики. И она сформулировала такие
к ней требования, что я сказал себе, а потом и ей: «Гори ты синим
огнем!».Я лучше сам пойду в школу преподавать психологию и
принесу справку, что у меня есть уже педагогическая практика. Я
пришел в 593-ю школу напротив американского посольства, рядом с
площадью Восстания. Директриса: «О, молодец! На каком курсе?
На четвертом? Ладно, подойдет. Потому что у меня сейчас
психологию и логику астроном преподает». Я говорю: «Конечно,
психология и астрономия — это науки достаточно туманные, но это не
основание, чтобы их преподавал один человек». И она меня пустила.
И так я пять лет преподавал, а когда я защитил в 57-м диссертацию,
502
Раздел 4. О времени и о себе...
то — спасибо моему учителю А. В. Запорожцу — он мне отдал свой
курс в университете. Так я начал работать в МГУ. А тут уже,
понимаете, не школа. Тут я вынужден был как-то выходить за пределы
эмпирии, потому что надо было все-таки объяснять, а что такое
перцепция. Тут уже как-то я «поженил» инженерную психологию с
восприятием, со своими исследованиями и т. д. В общем, как-то так
я дошел до уровня теоретической проблематики психологии. Очень
мне помог еще отец. И значит, где-то к шестьдесят шестому году я
сообразил, что я могу как-то вот из восприятия, из действия, из
инженерной психологии, из исследований детских, из исследований
взрослых чего-то такое сварить похожее на докторскую
диссертацию. Я в пятьдесят седьмом защитил кандидатскую, ну, к
шестьдесят шестому уже, в общем, достаточный срок прошел. И
действительно, защитил диссертацию на тему «Восприятие и действие», где
все это было подверстано. И здесь уже, в общем-то, ну сам жанр,
он требовал теоретического осмысления. И вскоре после защиты в
1969-м году меня соблазнили пойти в Институт дизайна. А
Институт был замечательный, потому что... Ну, правда, к моему приходу
Щедровицкого оттуда уже выгнали. Но там были искусствоведы,
там были историки дизайна, там были люди, которые знали
реальную историю (немецкий Bauhaus), архитекторы, Переверзев, вот.
Вот какая-то такая среда свободная, между прочим.
Пружинин: А странно, да? Семидесятые годы, начинается
дефицит всего. И вдруг Институт дизайна. Цветок такой экзотический...
Зинченко: Институт дизайна, он был раньше организован, и они
же его терпели, понимаете. Я не помню, я еще в «ящике»
выступал в роле провокатора теоретических исследований. В каком-то
смысле даже шантажистом. Потому что я помню, ну, я стал
заведующим лабораторией, мне нужны умные люди. Я приглашаю
Веню Пушкина из Института психологии, который там прозябал.
А директор института, прослышавший об этом, Веню Пушкина
возвел в старшего научного сотрудника. Я предлагаю лабораторию
Олегу Конопкину, а директор, прослышавший это, дает сам
лабораторию Олегу Конопкину. Замечательный вообще начальник
теоретического отдела, доктор технических наук, доктор физмат
наук, однокашник Ивана Георгиевича Петровского, профессор
Панов Дмитрий Юрьевич, я по его приглашению стал заведовать
лабораторией инженерной психологии. Он говорит: «Владимир
Петрович! Нам же пора организовать лабораторию логики» — это
в почтовом ящике, который занимается противовоздушной и
противоракетной обороной! Им логика понадобилась! — «Не
можете ли Вы кого-нибудь порекомендовать?» Ну, конечно, первая
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с В. П. Зинченко
503
идея — тогда у Зиновьева уже была скверная ситуация в МГУ — и
я знакомлю его с Зиновьевым. Зиновьев производит
замечательное впечатление на Панова. Панов его ведет к будущему академику
Семенихину, директору. Эти тоже уже готовы обниматься. И Саша
дает согласие, и его документы отправляют в КГБ и КГБ ставит
крест: ни в коем случае! Опять Панов: «А кого же еще?» «Битому
неймется»... Я предлагаю Щедровицкого и ситуация
повторяется. Он подходит Панову, он подходит Семенихину, но не подходит
КГБ. Опять ко мне обращение. Я предлагаю Садовского.
Садовский проходит уже фильтр КГБ и становится заведующим
лабораторией. Но по рекомендации Зиновьева сначала я принимаю к
себе Мих-Миха Новоселова, а по рекомендации Щедровицкого
Садовский принимает к себе Лефевра!
Можете себе представить, какая у нас компашка в «почтовом
ящике»! Там еще и математик Игорь Ушаков, который сейчас
профессорствует в Лос-Анджелесе, вот, ну, и т. д. В общем, мощная
какая-то интеллектуальная атмосфера появляется. Даже в
«почтовом ящике» — интеллектуальная атмосфера!
Пружиним: Это шестидесятые.
Зинченко: Директор института Владимир Сергеевич Семенихин
зовет меня, а там три доктора всего было в этом огромном
«ящике». Он меня зовет и говорит: «Володя, ну-ка, прочитай это. Это
мой доклад по совокупности для получения докторской
диссертации». Там двенадцать страниц было — доклад «по совокупности».
Но это был прием в клан, потому что там собрались академики
Лебедев, Расплетин, Кисунько, группа генеральных
конструкторов. «Ну, что у тебя? Ну, расскажи мне в нескольких словах». Он
становится доктором наук вот таким образом, без всяких ВАКов.
Так же как Юлий Борисович Харитон — его рекомендации, его и
Зельдовича было достаточно для утверждения докторских
диссертаций их сотрудников. Просто нельзя было оглашать нигде. Это
были лихие люди, да... Я помню, в конце концов, решил уйти (ну,
случилось так, что дважды я затевал большие эксперименты, а тут
переезд — у нас забрали здание и тут же разрушили мою большую
экспериментальную установку). И я решил: ладно уйду (меня еще
и Мунипов уговаривал уйти). Ушел во ВНИИТЭ. Так вот и там был
незаурядный человек директором. Помню, первое мое знакомство
с ним: Мунипов привел, а я тогда уже погрузился в «восприятие».
Институт технической эстетики — еще раз вам напоминаю.
Директор, дизайнер, и я ему говорю: «Юрий Борисович, но Вы ведь
знаете — я неожиданный человек» — «В каком смысле?» — «А я
специалист по зрению и мне для исследований может понадобить-
504
Раздел 4. О времени и о себе...
ся жабий глаз» — «А меня это не смущает». Вот так я и ушел из
«почтового ящика». Но когда я прощался с Владимиром
Сергеевичем Семенихиным, я сказал: «Я вот перехожу туда-то». А он:
«Володя, ты, пожалуй, делаешь правильно, потому что твоя служба
инженерно-психологическая в моем институте первой никогда не
станет». Дорогого стоит, да? «А скажи, пожалуйста, а что тебе надо
дать с собой, чтобы ты там сразу встал на ноги?» Я говорю:
«Владимир Сергеевич, за счет института я уже создал лабораторию в
подвале Психологического института на Моховой, и мне надо списать
эту технику, чтобы она не была собственностью вашей». И она
стала моей частной собственностью. Он вызвал зам. директора Юру
Митюшина и говорит: «Слушай, Володя вот, уходит. Спиши ему
эту аппаратуру». — «Владимир Сергеевич, он же три месяца тому
назад купил ценные приборы!» — «Ну ладно, не жмись, спиши!»
Он оставил мне пропуск в «ящик», полставки на какое-то время и
заключил с Институтом технической эстетики хоздоговор, чтобы я
не был там нищий.
Пружиним: Вот так и делалась наука.
Зинченко: Да.
Пружинин: Теперь это все будет решать бухгалтер. А как он
решит — можно догадаться. Списать? Да ни в жисть!
Зинченко: Теперь, я забегаю вперед, чтобы не забыть. Когда меня
выгнали из университета, я подергался-подергался (даже в ЦК с
ребятами говорил), а Борис Пышков мне сказал (он там
прозондировал): «Володь, оставь эту нашу контору, пиши книги. Сейчас
ничего не сделаешь». Я тогда чего-то такого почасового набрал
в Ленинском Пединституте. Я не могу без лекций. Я прихожу на
лекцию в плохом состоянии, ухожу в хорошем, прихожу на
службу в хорошем, ухожу — в плохом. И я пошел к Владимиру
Сергеевичу и говорю: «Я там слышал, что эргономику хотят в МИРЭА
делать» — «Да что за проблемы?» Поднимает трубку, звонит Евти-
хиеву, ректору МИРЭА: «Вот передо мной Володя сидит,
Зинченко, сделай ему кафедру эргономики». Я говорю: «Владимир
Сергеевич, ЦК будет против». Рассказываю ему... Он: «Наплевать на
это! Потому что у нас другое ЦК. Твое ЦК — отдел науки, а мое
ЦК — отдел оборонной техники. Они не полезут». И не полезли.
Потому что, когда меня выгнали из университета, они подумали:
«А зачем нам лишние неприятности?» И они меня вынудили уйти
из Института тоже. И я безболезненно перешел заведующим
кафедрой в МИРЭА. Ну, чтобы уже закончить с этим сюжетом — ЦК,
это вообще и психологически очень интересная вещь. Меня они
не сумели выгнать из партии, потому что я был в другой партии, я
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с В. П. Зинченко
505
был в парторганизации в Институте технической эстетики. А
когда Давыдова выгнали из партии и сняли с директоров института,
ну, Давыдов переживал очень. Мы как раз с ним поехали в
Тбилиси оппонировать, ну, эти же линии шли отдельно, и нас встречает
Мераб Мамардашвили. Обнимает Васю: «Вася, ты уже организовал
новую партию? Ну, насколько я понимаю, ты же не можешь жить
вне партии». Ну, и Васю надо спасать. (Этого же я вам тоже не
рассказывал?) Значит, подергались-подергались в ЦК, вот, не очень
это помогло. И я пошел к Юлию Борисовичу Харитону. Мы
отдыхали там семействами, и он к нам приезжал с женой. Это уже было
такое семейное знакомство. Рассказываю ему о Давыдове. Он мне
говорит: «Владимир Петрович, а Вы принесите мне какую-нибудь
английскую книгу. Не советскую, а английскую книгу по
психологии. Я должен посмотреть — это наука или не наука? И придите
ко мне». Это характеризует старое поколение. Я ему приношу вот
такой вот талмуд исследований по психологии памяти. Он
посмотрел: «Наука. Я поговорю». А я просил его поговорить с
Александровым. «Я поговорю с Анатолием Петровичем». Через некоторое
время он мне звонит и говорит: «Я поговорил с Анатолием
Петровичем. Он бы всей душой, но ведь Василий Васильевич член не его
Академии. Но он считает...» Я снова иду к Борису Пышкову. А там
злым гением в ЦК был Всеволод Петрович Кузьмин, абсолютно
приличный человек, когда речь шла о философии. Пышков мне
говорит: «Подожди, мне нужен момент». И дальше
фантастический рассказ. Дождался приема он какого-то в ЦК и видит: стоит
Кузьмин и Георгий Лукич Смирнов. Начальник отдела агитации и
пропаганды он тогда был. Я, рассказывает Пышков, к ним подхожу
и говорю: «Сева (у него тоже с ним были простые отношения),
слушай, что там с моим приятелем, однокашником, Васей Давыдовым
происходит? Он ведь из рабочих, русак, коммунист, настоящий
марксист, академик». Лукич говорит: «Всеволод Петрович, как?!
Из рабочих, русак, марксист и академик! И из партии?!» То есть он
это воспринял так, как будто бы ему сказали, что это еврей,
охотник, вегетарианец. Такое совершенно необыкновенное сочетание
и вдруг! «Разберись, Сева». Машина закрутилась обратно. Васе
отдали партийный билет. Вот это и есть переигрывание.
Переигрывание и на каком-то личностном плане, и на идеологическом плане.
Первый раз мне показалось, что я переигрываю, когда я в
шестьдесят седьмом году в вашем журнале «Вопросы философии» с Колей
Вергилесом опубликовал статью о порождении зрительного образа.
И там я написал, что никакая не теория отражения, а глаз —
Демиург — он создает мир.
506
Раздел 4. О времени и о себе...
Пружиним: Я эту статью помню. Идеологию можно было
обставить, да. И обставляли довольно успешно. То есть вообще говоря,
все шестидесятые годы это обставленная, обыгранная,
переигранная идеология. Такая непрерывная игра.
Щедрина: Эзопов язык...
Пружинин: Да. Партия ставит задачу: сделать нового человека.
Немедленно формируется целый ряд научных направлений.
Психология начинает развиваться. Как без этого? Философия,
личностный момент, так сказать, проблема личности вдруг выпирает
откуда-то. Приходится экзистенциалистов цитировать.
Зинченко: ...Как Эвальд Ильенков: «Вы просите песен, их есть у
меня. Я делаю человека из слепо-глухих»...
Пружинин.Вот, кстати, тоже.
Зинченко: Хороший пример
ПружининДа.
Щедрина: Но дело в том, что рынок рождает множество
профанации. Продают воздух.
Пружинин: Ты знаешь, наверное, мы сумеем обыграть и рынок.
Наверное, да.
Щедрина: Типа «торсионных полей». Я имею в виду, что
рождается очень много фантомов, которые практически
обосновываются, но которые ничего собой не представляют, потому что мы же не
можем их проверить. Они же в тайне держатся. Вот ты купи —
тогда ты и скажешь. Понимаете? И очень много таких покупательных
технологий...
Пружинин: Средство для похудения, средство для лечения, да,
и т. д. Нет, научимся мы это делать. Мы, не мы, но научимся.
Однако сейчас базар просто торжествует. Наверное, потому что
поколение, которое играло с идеологией, оно как раз оказалось вне
рынка. И тут поднялось самое дно.
Зинченко: Наше поколение проиграло рынку.
Пружинин: Оно проиграло рынку. Да, это надо признать. Оно
проиграло рынку. Но рынок все равно обыграют. И между
прочим, преемственность поколений в настоящей науке сохранится.
Вернутся и возвращаются к шестидесятым, чтобы научиться
переигрывать фантомы (идеологические или рыночные). Современные
чиновники уж больно откровенны... Ну вот. Продолжаем.
Вспоминайте, рассказывайте. Потом скомбинируется это все.
Зинченко: Значит, это какой-то переход от эмпирии, медленный
и постепенный. Латентное, скрытое обучение. Вот. Латентное
обучение, мною не осознаваемое. Мало-помалу из эмпирика я
вкручивался в теоретические проблемы, и они мне становились инте-
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с В. П. Зинченко
507
ресны. И вдруг, это начало семидесятых годов, — курс методологии
психологии в Московском университете. Начал Леонтьев. Долго
он не выдержал. Пригласил Эвальда Ильенкова. Тот тоже был не
очень преподаватель. И по моей рекомендации пригласили Ме-
раба. Аудитория самая большая была забита. И опять вмешалась
эта же самая компания Института психологии Академии Наук —
Ломов... Им обидно стало, они ведь даже заставили с помощью
Кузьмина переделать название Института психологии, старого
Челпановского, в Институт общей и педагогической психологии,
чтобы был только один Институт психологии РАН. И Леонтьеву
звонят из ректората: увольняйте Мамардашвили. Надо ему отдать
должное: он сказал, что нет, увольняйте сами. Проректор уволил.
Леонтьев призывает меня: «Владимир Петрович, возьмитесь за
этот курс». Наверное, не случайно, уже, видимо, что-то такое и
он почувствовал. Я говорю, что я должен посоветоваться с Мера-
бом. Иду к Мерабу, Мераб пожимает плечами и говорит: «Ну,
конечно, берись. Только я тебя умоляю: не погружайся в Канта, не
погружайся в Декарта. Лучше меня спроси, я тебе объясню». И я
предупреждал студентов: «Мераб Константинович вам читал
макси-методологию. Я буду читать мини-методологию, особенно не
погружаясь в философию». Вот такой мой был более или менее
путь, понимаете...
Теперь... если говорить о стиле мышления, то черт его знает...
Это, по-моему, бесконечный сюжет.
Пружинин: Да, наверное. Но понятие стиля позволяет через
метафору эпоху определить.
Зинченко: Ну, есть автопоэзис... Автопоэзис это, по сути,
метафорическое мышление. И у меня явно не теоретическое, а
метафорическое мышление. И, в общем, в этом смысле я не одинок,
потому что у Выготского есть фраза, что все слова в психологии суть
метафоры, взятые из пространства мира. Ну, начать с Психеи, с
Фантазии, с Эдипа, с Эрота и т. д. Это нас оправдывает и нам
кажется, что мы оперируем все-таки живыми метафорами.
Пружинин: Я могу сказать, что физика...
Зинченко: Она вообще символическая...
Пружинин: ...там метафор огромное количество. Я даже беру
классику просто: сила, импульс.
Зинченко: Даже в классической, да. И, в общем, на мой взгляд,
одна живая метафора стоит дюжину мертвых понятий.
Пружинин: Ну, да, вот найти ее, емкую и внятную...
Зинченко: И поэтическая формула она стоит математических
формул наших... И это метафорический стиль мышления. Если
508
Раздел 4. О времени и о себе...
проанализировать историю психологии, то увидим, что многие
метафоры приобретают понятийную форму, и мы забываем уже о
том, что это были метафоры. Они где-то брезжат только во
внутренней форме. Так же как и логика Потебни: «где-то в словах
брезжит первоначальное значение». Значит, это одна вещь. Но я
не могу, у меня скверный характер, я не могу удержаться от того,
чтобы не ответить нейрофизиологам. Кстати, и журналу «Вопросы
философии», там разумные статьи, по-моему (обзорные, правда),
только покойная Юлина публиковала.
Дело заключается в том, что нейропсихологи, нейрофизиологи
(я их различаю: нейропсихологи — приличные люди) —
нейрофизиологи упрекают психологию в метафоричности. Все дело
заключается в том, что сами нейрофизиологи метафоричны в квадрате,
если не в кубе. Но только со знаком минус, потому что они берут
наши живые метафоры, взятые из пространства мира, помещают
их в пространство мозга, обесцвечивают их, и они становятся
подобны по цвету серому мозговому веществу. Ну, точно так же, как
эти квантовые упражнения, потому что вся квантовая механика
символична.
Пружиним: Хотите забавную историю? Буквально вчера
произошла. Значит, у меня ребята из Вышки, философы, проходят
практику в журнале. Мы им раздали статьи из архива, то, что уже не
пошло. И вчера получаю письмо. Студентка пишет: «Вы знаете, я
занимаюсь работой с больными людьми. Психиатрической такой
работой. Там грань философии, психиатрии, я этим занимаюсь.
Мне дали текст о мозговых структурах и о влиянии мозга. Так вот,
это написано явно больным человеком».
Зинченко: Абсолютно верно.
Пружинин: Молодец девочка. Диагностировала.
Зинченко: Нейрофизиологи в зеркальных нейронах видят
отражение своего собственного сознания, а не сознания нормального
человека. По заданию Челпанова Зеньковский написал
антиредукционистскую работу. Он написал такую же антиредукционистскую
работу, как и Шпет. Шпетовская, слава Богу, есть, а работа Зень-
ковского я не знаю где.
Так что, это вот одно — метафоричность и концептуальность.
Это вот, ну, я не случайно писал «Поэтическую антропологию», не
случайно «женил» Мандельштама и Мераба, хотя Мераб тоже
метафоричен уже. Так что в этом смысле может быть это и сблизило
нас в свое время. Ну, также, кстати, как метафоричен
Пятигорский. Ну, в этом смысле и Володя Лефевр тоже такой же... Хотя он
затеняет свой метафоризм математическими формулами.
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с В. П. Зинченко
509
Дело заключается в том, что Борис Леонидович Пастернак
когда-то написал: «Метафоризм — это скоропись духа,
стенография большой личности». Ну, наше-то дело расшифровывать эти
метафоры.
Щедрина: А для этого необходимо понимание. Необходимо
услышать этого Другого. И начинается: диссертация, в которой
проводится эксперимент по «вживанию» в Шопена: вжилось 25
человек, не вжилось — пять... Ведь язык должен быть другой, если
пишешь диссертацию на такую тему... Но жесткие рамки
диссертационного исследования не позволяют иного языка...
Зинченко: Теперь, значит, для меня вообще это проблема — вот
как с метафоричностью и концептуальностью соотносится
интуитивизм и дискурсия. Потому что это вот сюжет моей статьи по
поводу Лекторского, в томе Лекторского — «Непосредственность
и опосредованность». И там я пытаюсь оправдать
непосредственность. Дело заключается в том, что развитие психологии шло... то,
что признали неклассичностью психологии Выготского. Это
главное слово — опосредованность и преодоление постулата
непосредственности. Я прошу прощения, лучше всего я опосредованность
определил бы как жидовство. То есть двух слов в простоте
душевной не услышишь. Через какие-то задние мысли и за свою жизнь...
А средства — что это? Это знаки, слова, символы, смыслы, лики
и т. д. Мы нагромоздили такое количество надолбов и рвов
опосредованных, что вообще, если бы это хотя бы иногда, так сказать, не
приводило к непосредственности, к чистоте взгляда, к отстройке
от этой опосредованности, то тогда был бы «гроб и свечи»...,
потому что интуиция возможна лишь по отношению к
непосредственной реальности, непосредственно воспринимаемой реальности.
Но это — это не моя мысль — Татьяна в одном из своих сочинений
цитировала русского философа, на которого ссылался Шпет, а тот
анализировал Гегеля. И у Гегеля, оказывается, уже все написано:
интуиция и дискурсия — это вроде синергии.
Щедрина: Шпет критиковал Ив. Ильина за то, что тот не увидел
синтеза в Гегеле, «интуитивизма плюс дискурсии».
Зинченко: Да-да. К этому мало-помалу приходит психология
сейчас, потому что все же ведь дело заключается в том, что нам
нужно объяснить мгновение. Это вот камень преткновения всей
психологии. Нам нужно объяснить симультантность, одноакт-
ность. Мы же не помним, откуда мы узнали то или иное слово, то
или иное положение. Откуда мы знаем, что не надо совать руки в
огонь и т. д. От кого мы это узнали, мы не помним. Это такой
хороший, по-моему, хайдеггеровский прозрачный такой ход мысли:
510
Раздел 4.0 времени и о себе...
путь к языку. Он говорит, что вообще путь к языку невозможен,
потому что мы уже в языке. Но путь к языку нужен и, может быть,
это самый трудный путь. Но я вспоминаю еще одного персонажа:
Я есть Истина, и Путь, и Жизнь. Так если ты уже есть истина, то
на кой тебе, извините, путь? Если ты уже в Истине находишься...
И вот это замечательное постулирование и Августином, и Шпе-
том, и Хайдеггером, и Бахтиным, и Бибихиным наличия
бытийного понимания, интеллигибельной интуиции над первоначалом.
Потому что логика-то такая вообще: Господь Бог, в конце концов,
должен иметь совесть, Он не мог обидеть человека, лишив его
инстинктов и рефлексов... Дай что-нибудь взамен! И Он дал эту
интуицию, дал это понимание. А мы это понимание, извините,
засоряем кучей опосредовании, затемняем, создаем себе проблемы
и т. д. Единственный выход из этого — это опять обратиться к
интуиции. Но только на каком-то уже... и Шпет молодец, потому что
он от интеллигибельной интуиции отличает чувственную, потом
интеллектуальную и т. д. То есть он уже начинает набрасывать все
эти вещи. Это один путь... если говорить о стиле. Но кому-то
повезло, понимаете, он интуитивист. И одного такого интуитивиста в
коллективе иметь неплохо. Но и дискурсанта тоже неплохо. То есть
вот это вот чередование. Но в одном человеке далеко не всегда
сливается и то и другое.
Щедрина: Целостности не хватает. Очень редко, когда это в
гармонии находится в человеке: интуитивизм и дискурсия.
Зинченко: И отсюда уже тогда тоже стиль — это Жак Адамар,
который классифицировал великих физиков XX столетия: кто из
них аналитик, кто синтетик, кто мыслит образами, как Эйнштейн,
а кто знаками, символами, словами и т. д. То есть, этот вот стиль,
он завязывается. Какие-то оси: эмпирическая — теоретическая,
интуитивная — дискурсивная, визуальная — вербальная,
непосредственная — опосредованная и т. д. Это все какой-то удивительный
единый узел.
Пружиним: Понятно. Это близко мне. Очень близко.
Щедрина: Да, это нам очень близко, поэтому мы вместе с Вами
столько книг и написали уже.
Пружинин:Ну, что я выключаю? Мучить перестаем?..
Зинченко: Сейчас, еще один сюжет, фрустрирующий меня.
Кстати, тоже имеющий отношение, правда, я его уже прописал
немножко в этой статье «На пути к действию». Это имеет
отношение, ну, взгляд с какого-то птичьего полета на историю
психологии. Значит, она все-таки, это не Ленин, правда, Ленину вообще
зря приписали теорию отражения. Никакой теории отражения у
Беседа Б. И. Пружинима, Т. Г. Щедриной с В. П. Зинченко
511
него никогда отродясь не было. Он был большой сволочью, но не
был идиотом, и говорил, что сознание творит мир. Лучше бы его
сознание только отражало. Но вся психология действительно, она
пошла за гносеологией. То есть она имела вот этот вот пассивно-
отражательный вектор своего развития. Где-то впутался
бихевиоризм, который похерил психологию, между прочим. И
сконцентрировался на реактологии, рефлексологии. Они имели свои
основания до своего возникновения, между прочим, потому что
им надоело это душевное водолейство. Также и теория
деятельности, между прочим, ну, как реакция на это. Но особый зуб (зубы) у
меня на когнитивную психологию. Потому что когнитивная
психология, она унаследовала от классической психологии
гносеологический вектор. Хотя вообще все основания у нее уже были для
того, чтобы обратиться к онтологии. Онтологии движения,
действия, поступка, деятельности. Это то, за что психологию, между
прочим, критиковал Бахтин. Кстати, вслед за Достоевским.
Достоевский и отвергал эту идею, что он психолог. Вот этот вот такой
деятельностно-онтологический вектор, он чужд был когнитивной
психологии. Тем более странно, что в Америке параллельно с
когнитивной психологией развивалась линия исследований motor
contrai and performance, т. е. исполнения действий. И это были две
такие расходящиеся линии. Только последнее время когнитивная
психология как-то начала связываться с бихевиоризмом. Ну, уже
все-таки неплохо, какой-то шаг к онтологии. Хотя раствор
бихевиоризма настолько крепкий, что она там может раствориться.
Дурные примеры заразительны, потому что, в общем-то, по сути дела
когнитивная лингвистика, когнитивная нейронаука, когнитивная
психология, когнитивная экономика и т. д. — эта зараза
распространилась. Вся наука стала когнитивной. То есть это
бездейственная наука получается. Ну, я жду, что появится еще когнитивная
теология и когнитивная политика, чтобы они не лезли в наши дела,
наконец.
Щедрина: Вряд ли.
Зинченко: Вряд ли, да.
Щедрина: Им недостаточно быть только когнитивными.
Зинченко: Была такая песенка: все стало вокруг
когнитивно-унылым. И гётевская гениальная строчка: «Познай себя. Что
толку в том? Познаешь, а куда бежать потом?» Все взбесились с
«я-концепциями». Не знаю, заметили ли вы или нет, в тексте моей
статьи я-концепцию Черчилля. Все люди червяки. Но я самый
привлекательный червяк. То есть, в общем, я все жду, когда все-
таки... мне вот здесь этот методологический шабаш. Не прислуша-
512
Раздел 4.0 времени и о себе...
лись к Фейерабенду, который сказал: «Сделайте, ребята,
методологическую передышку». Нет, объявили либерализм, плюрализм,
наплюрализм методологии и т. д. И пусть они сами разбираются.
А для психологии, мне кажется, что, в общем, достаточно
облагороженной гносеологии онтологией. Ну, может быть,
феноменологии с экзистенциализмом для гуманистической психологии...
Пружинин: Это было бы хорошо или это реальная перспектива?
Зинченко: Я думаю, что это дальняя перспектива.
Щедрина: Скажите, Владимир Петрович, а у Вас последняя
аспирантка по какой теме защищалась? К каким темам двигались?
Зинченко: Сейчас у меня прелестная работа Дарьи Белостоцкой.
Это восприятие художественного произведения, литературного,
малыми детьми, не умеющими читать, и людьми, которым за 75.
Одна из них Марина Густавовна. И общность смыслов у них.
Сейчас она уже договорилась где-то в Германии, даже поехала в
Австрию поучила немецкий, чтобы там поработать.
Щедрина: Скажите, Владимир Петрович, а вот когда Вы
отбираете участников эксперимента именно семидесятипятилетних и
шестилетних, ну, с шестилетними понятно. А вот
семидесятипятилетними — Вы делаете какую-то градацию образовательную? Ну, т. е.
тот, кто в 75 лет академик, например, его смысловой фундамент...
Зинченко: Нет, они просто интеллигентные люди. Даша живет...
я у нее как-то так и не могу спросить, почему не с родителями и
есть ли у нее родители. Она живет с дедушкой и бабушкой. Он
математик, она — физик. И это круг. Она ходит по кругу таких
семейных знакомых. Это определенный круг.
Щедрина: Она акцентирует внимание на том, что это
определенный социальный круг участников эксперимента?
Зинченко: Ну, там она специально об этом не пишет, но это
скорее всего подразумевается. Ну, она не в колхозе берет стариков. Ну,
для того чтобы понять рассказ Паустовского, где Моцарт герой, так
что это все-таки надо знать, кто такой Моцарт.
Пружинин: Можно то же самое в колхозе, только родители и
дети должны быть из той же среды.
Щедрина: Нет, конечно, бывают исключения, бывает тонкость
переживания и из другой социальной среды...
Пружинин: Выключаю.
Беседа Б. И. Пружинина
с В. Â. Лекторским
Пружиним: Владислав Александрович, как Вы пришли в философию?
Не возникало ли желания уйти из этой области в какую-нибудь иную,
менее беспокойную сферу ?
Лекторский: На первый взгляд все в нашей жизни возникает из
случайного сочетания каких-то событий. Любая жизнь могла сложиться
иначе, чем это имело место. Но случайности случайностям рознь.
Когда нечто возникло, сложилось, то дальнейшие жизненные перипетии
определяются уже не только внешними факторами, но и некоей
внутренней траекторией, тем, что психологи называют «жизненным
путем» (нужно только иметь в виду, что у разных людей эта внутренняя
траектория будет выражена в очень разной степени). Оглядываясь на
свою жизнь, я хорошо понимаю, что мог бы и не стать философом.
Пружинин: А вот как дома-то отнеслись к Вашему выбору? Что
родители ответили, когда Вы сказали им, что пойдете на философию?
Лекторский: Родители как-то особо не отговаривали, хотя
выразили некоторое недоумение. Я в 1950 году на философский
факультет поступал, а родители у меня были люди, умудренные
опытом советской жизни. Они помнили, как незадолго до этого, в сорок
седьмом году, поносили Г. Ф. Александрова за книгу по истории
философии (так называемая философская дискуссия). И они говорили:
«Куда-то ты не туда пошел, какой-то путь ты выбираешь непростой.
Уж очень это тяжело — быть философом». Но не более того.
Большое влияние на меня оказало общение с моим другом
Генрихом Батищевым, для которого не было никаких колебаний в
выборе именно философского факультета (его отец тоже был
философом). Примерно в девятом классе он меня огорошил вопросом:
«А ты читал "Анти-Дюринга"?» — «Слушай, Генрих, какой "Анти-
Дюринг"?» — «Нельзя быть культурным человеком, не читая
"Анти-Дюринга"!» Я как-то сначала ошалел, а потом взял
«Анти-Дюринга», почитал что-то, не понял ничего. Но вот в это же время я
прочитал книгу «Эволюция физики» А. Эйнштейна и Л. Инфельда.
Это блестящая работа. В ней хоть и идет речь о физике, но в
центре — именно философские сюжеты: что такое пространство,
время, причинность и т. д. Эта книга на меня произвела сильное впе-
514
Раздел 4. О времени и о себе...
чатление, и я понял (а я интересовался и физикой, и математикой,
и историей — очень разными предметами), что есть единственная
дисциплина, которая объединяет мои разные интересы и дает
понимание и того и другого. Потом еще Л. Толстого начитался: в
«Войне и мире» у него своя философия истории, Достоевский увлек, а
он-то, конечно, писатель сугубо философский. Писарева я читал в
девятом классе. Сейчас его никто не помнит, а в то время (1948 год)
он на меня сильное впечатление произвел. У него интересные, я
бы сказал яркие, статьи об образовании и науке. Они, конечно, в
смысле философском не очень глубокие, но живые и выводящие на
философскую тематику. И я понял, что философия — это и есть то,
что будет мне интересно. А до этого хотел быть историком. Ходил
на исторический факультет МГУ, на «день открытых дверей», это
было за полгода до поступления на философский. Уже принял
твердое решение: поступать на исторический факультет. Историю у нас
преподавала Вера Дмитриевна Сказкина, жена известного историка
академика С. Д. Сказкина. Она великолепно историю преподавала.
И когда я ей сказал, что хочу быть историком, то была очень
довольна: «Вот, наконец! Правильно! Идите туда!» Так что я почти что
решил быть историком. Но потом передумал. Конечно, я плохо тогда
представлял, что такое философия, а особенно наша философия тех
лет. Так что в какой-то мере это был прыжок с закрытыми глазами.
Пружинин: А выбор гносеологии — это уже потом ?
Лекторский: Ну, это уже потом. Поступив на факультет в 1950 году
(расцвет сталинизма), я через некоторое время понял, что
философия — это все же не то, что я предполагал. Там никакой гносеологии
в современном смысле не было. Не могу сказать, что у меня сразу же
возникли мысли об уходе из философии. Хотя некоторые лекции и
дискуссии вызывали недоумение и даже оторопь. Были, конечно,
лекции, семинары по теории познания, но это было очень
неинтересно. В основном мы изучали «Материализм и эмпириокритицизм»
В. И. Ленина. Скучнейшую работу. Читал курс лекций Ф. И. Георгиев.
Пружинин: Я помню, да.
Лекторский: Помню, как мы изучали на семинарах «Материализм
и эмпириокритицизм». Наш преподаватель каждый раз опаздывал
на полчаса на занятия, а когда приходил, говорил так: «Ребята, вот в
вашей группе есть студент Юрий Иванов — (он был старше нас лет
на шесть, до поступления на факультет работал инструктором
обкома партии, человек, поднаторевший в марксизме-ленинизме) — он
пусть занятия проведет, а я в это время газету почитаю».
Преподаватель сидел, читал газету. А Юра Иванов рассказывал нам, как
нужно понимать ленинскую работу. Это энтузиазма не вызывало. Когда
Беседа Б. И. Пружинина с В. А. Лекторским
515
курсовые работы начались, я на втором-третьем курсе писал что-то
на истматовские сюжеты (сейчас не помню, что именно).
Большинство лекций были не очень интересными. Но были и блестящие
преподаватели: лекции по психологии П. Я. Гальперина были событием.
Много хороших лекций было по истории западной философии, по
политической экономии капитализма (Г. Мансилья) и др.
Ситуация на факультете стала радикально меняться со второй
половины 1953 года. В сентябре защитил кандидатскую диссертацию
Эвальд Васильевич Ильенков. Представьте себе: только что умер
Сталин. А в кандидатской диссертации Ильенкова уже содержались
те идеи, которые он потом всю жизнь развивал и за которые его всю
жизнь ругали и обвиняли в отходе от марксизма. Вот тут я уже понял,
что истматом заниматься — нелепая вещь, но о том, что я буду
заниматься теорией познания, я тогда не думал. В то время мне казалось,
что интереснее всего заниматься историей философии. Это было
нечто более живое, какие-то были историко-философские сюжеты,
которые можно разрабатывать. И вот появился Ильенков, защитил
диссертацию по диалектике абстрактного и конкретного в
«Капитале» Маркса. А потом стал читать нам лекции, вести спецсеминар по
«Капиталу». Я внимательно прочитал его кандидатскую диссертацию
и стал старостой его семинара (1953—1954 годы). Первоначально
идеи Ильенкова вызывали у меня резкое отторжение. Ибо это было
настолько непривычно и противоречило всему тому, чему нас
учили, казалось, что это противоречит и здравому смыслу. Ну, например,
сама идея восхождения от абстрактного к конкретному. Выходит, что
вначале существует абстрактное, а конкретное появляется в конце
познавательного процесса. Но мы же знаем, что познание
начинается с опыта. А он именно конкретен. Абстракции же возникают
позже. И вот Ильенков все эти общепринятые идеи опрокидывал.
Конечно, все это нас, студентов, будоражило. И мы все страстно
это обсуждали, у нас были горячие дискуссии. И постепенно я ильен-
ковскими идеями проникся, стал сторонником Ильенкова. А потом,
через год, Ильенков с Коровиковым (Валентин Иванович Коровиков
вел у нас семинарские занятия по истории философии и тоже
пользовался популярностью у студентов) написали «Тезисы о предмете
философии». Они оба работали на кафедре истории западной философии,
которой руководил Теодор Ильич Ойзерман. И вот в 1954 году
собирается Ученый совет философского факультета МГУ для обсуждения
тезисов Ильенкова и Коровикова. И тут такое началось! Почти все
обрушились на авторов крамольных тезисов. А это была, конечно, крамола.
Еще бы! Утверждать (и это в 1954 году!), что предмет философии — это
теория познания, гносеология! А я, как уже говорил, проникся к этому
516
Раздел 4. О времени и о себе...
времени идеями Ильенкова. Но я был наивнейшим человеком и еще
не понимал, в каком обществе живу. Я выступил на заседании
Ученого совета с защитой тезисов. Вообще авторов тезисов защищали очень
немногие. Я помню, что среди защитников был А. А. Зиновьев (тогда
аспирант кафедры логики философского факультета), П. В. Копнин
(он был докторантом Института философии АН СССР), А. С. Арсе-
ньев (научный сотрудник того же Института). В основном же
участники обсуждения громили Ильенкова и Коровикова. Их просто
сминали, давили. Полгода спустя какой-то преподаватель факультета,
товарищ бдительный, написал письмо в ЦК КПСС о том, что на
факультете бродит крамола, два преподавателя — Ильенков и Корови-
ков — смущают неокрепшие студенческие умы, преподносят им
ревизионистские и антимарксистские идеи, вербуют своих сторонников
среди студентов. И примером того, как они преуспели в этой
деятельности, называлась моя фамилия. Через несколько месяцев нагрянула
комиссия из ЦК КПСС по расследованию ситуации на философском
факультете МГУ, члены комиссии все это изучали — расследовали, и
потом было принято закрытое постановление ЦК о факультете.
Впоследствии я узнал, что в этом постановлении меня указали в качестве
попавшего под влияние вредных идей. Я тогда не знал об этом
постановлении и не мог понять, почему вдруг ко мне изменилось
отношение руководства факультета. Я хорошо учился, у меня были одни
пятерки, я был рекомендован в аспирантуру. И вдруг в начале 1955 года
выясняется, что из всего нашего курса берут в аспирантуру только трех
человек (продемонстрировавших свою политическую зрелость).
Наш курс объявили зараженным ревизионизмом. Но и в целом
обстановка на факультете была признана тревожной курирующими
нас товарищами из партийных инстанций. Ибо в это время на
факультете происходили и другие события.
В марте 1955 года, когда я кончал факультет, состоялся Пленум
ЦК КПСС, где Г. М. Маленков был снят с должности Предсовмина,
•ему, кажется, был объявлен партийный выговор. Н. С. Хрущев
разоблачил Маленкова как человека, который не по тому пути вел
страну, не понимал взаимоотношения первого и второго подразделения
в экономике. По этому поводу на факультете было закрытое
партсобрание. Я не был тогда членом партии и не знал о том, что там
происходило, но потом об этом узнал. Оказывается, несколько человек с
нашего факультета выступили с заявлениями о том, что не понимают,
почему сняли Маленкова постановлением ЦК КПСС. 1955 год! А там
был секретарь райкома партии. «Ах, вы не понимаете? Исключить из
партии!» Исключили несколько человек, в том числе с нашего
курса Андрея Могилева. А он был у нас старостой курса, был сталинский
Беседа Б. И. Пружинила с В. А. Лекторским
517
стипендиат. Он войну прошел. И его исключили из партии!
Представляете, это было накануне зашиты его дипломной работы. Андрею не
дали защитить дипломную работу, а у него семья, двое детей. Он пошел
к Е. А. Фурцевой, которая тогда была первым секретарем
московского городского комитета партии. Фурцева знала Могилева, потому что
до поступления на факультет он работал бригадиром строителей и был
в этом качестве известен, получал разные премии. Фурцева
приказала его в партии восстановить, объявив строгий выговор с занесением,
конечно. Диплом Могилев с грехом пополам защитил, и после этого
его «бросили» строить кинотеатр «Стрела». Он возглавил эту стройку и
был первым директором этого кинотеатра. Вот такая судьба у
Могилева, но это отдельный разговор. Я привожу этот факт как пример того,
почему наш курс и факультет были официально признаны
зараженными нехорошими настроениями. Ильенкову, Коровикову, мне и всем
тем, кто попали под влияние этих преподавателей, дали кличку «гно-
сеологи». Считалось, что «гносеологи», если и не враги народа, то уж
во всяком случае люди, глубоко заблуждающиеся, от которых нужно
держаться подальше. Поэтому, когда я окончил факультет, меня
никуда не брали на работу, но диплом я все-таки, слава Богу, защитил. На
работу устраиваться меня послали в город Егорьевск.
Пружиним: Да, есть такой, под Москвой.
Лекторский: Там есть краеведческий музей, меня послали
работать экскурсоводом, оклад тридцать рублей. Поехал. Надо выполнять
указание. Приехал, а мне говорят: «Ты куда? Нам своих некуда девать,
ты еще к нам навязался». Они написали мне отказ, и я в течение
нескольких месяцев пытался устроиться на работу. Тогда философию в
большинстве вузов не преподавали, к тому же на преподавание
брали только членов партии. Я членом партии не был, к тому же
ходили слухи о том, что я «гносеолог». Потом я устроился лаборантом на
кафедру философии Московского Государственного Экономического
Института. Был такой институт, которого сейчас уже нет, потому что
где-то лет через десять после моей работы в нем его «слили» с
Плехановским институтом, они рядом находились. Была там кафедра
философии, между прочим, интересная. Я стал лаборантом кафедры. В чем
были мои обязанности? Вот кафедра заседает, я веду протоколы, а
потом печатаю их на машинке. Большего мне не доверяли,
преподавать я не мог. Но на кафедре работали интересные люди. Там был
Б. Э. Быховский, которого отовсюду исключали, он ходил с
партийным выговором, как якобы бывший троцкист. Это человек, который
фактически сделал трехтомную «Историю философии», знаменитую
«серую лошадь», получившую сталинскую премию. Конечно, в
редколлегии этого трехтомника значатся Г. Ф. Александров, М. Б. Ми-
518
Раздел 4. О времени и о себе...
тин, П. Ф. Юдин и др., но всю реальную работу делал Быховский. Он
был феноменально образованный человек. Знал много языков:
говорил и читал. Вот картина. 1955 год, только два года назад умер Сталин,
еще не было XX съезда КПСС и официальной критики культа
личности. Философия преподавалась предельно догматично. Быховский
читает лекции по философии студентам второго курса
общеэкономического факультета. А там, кстати, работали в то время очень
интересные экономисты. И студенты тоже. Вот академик А. Г. Аганбе-
гян, например, оттуда вышел, там учился. У Быховского нет никакого
текста, у него такая маленькая бумажка-план, он говорит, как артист,
импровизирует. Он настолько увлекательно читал лекции, что к нему
ходили студенты других факультетов и других курсов, которым это
формально не было нужно. Повторяю, что все это в 1955 году! И
второй из любопытных людей, работавших на кафедре, которого я чуть-
чуть не застал, так как он ушел с кафедры на пенсию в тот момент,
когда я попал на кафедру. Это был Степан Петрович Батищев, отец
Генриха Степановича, моего друга с 1943 года и на всю жизнь.
С ним была другая история. Он работал в ЦК ВКП(б),
занимал какой-то приличный пост в отделе агитации и пропаганды. Во
главе отдела был академик Г. Ф. Александров. Заместителями его
были будущие академики П. Ф. Федосеев, А. С. Еголин, будущий
член-корреспондент М. Т. Иовчук. Там работал и будущий академик
Ф. В. Константинов. Степан Батищев если и не занимал позиции,
сравнимой с позициями Федосеева и Иовчука, то по положению был
близок к Константинову. Я знал Степана Петровича хорошо,
поскольку знал Генриха, и к ним домой ходил регулярно. 1946 год. Сталин
произнес какую-то речь, в которой говорил о великом русском
народе. И сказал, что великий русский народ — это народ Александра
Невского и Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского,
Александра Суворова и Михаила Кутузова, а также народ Плеханова и
Ленина. Вдруг Плеханов рядом с Лениным оказался. Это был шок для
партийной публики! Меньшевик Плеханов — вдруг поставлен рядом с
Лениным. И стали в ЦК думать, что это может значить. Ведь Сталин
спроста ничего не говорит! Уж раз он назвал Плеханова рядом с
Лениным, значит, для этого есть какие-то основания. Наверное, Плеханов
был не такой уж плохой, как мы думали до сих пор? Надо к
Плеханову несколько пересмотреть отношение — сразу сделали такие
выводы. А Батищев как раз в свое время писал о Плеханове. Александров
вызывает его: «Пишите статью в журнал "Большевик" о Плеханове».
С. П. Батищев сел и написал статью о Плеханове, где было сказано,
что у Плеханова были серьезные ошибки, но было и много
достоинств, особенно в области философии. Александров как заведующий
Беседа Б. И. Пружинила с В. А. Лекторским
519
отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) регулярно приходил к
Сталину с докладами об идеологической ситуации в стране и о том,
что делает возглавляемый им отдел. Сталин должен был держать руку
на пульсе, знать, что происходит в идеологии. Это было еще до
философской дискуссии 1947 года. Александров еще был в фаворе. Сталин
ему благоволил. Поговорили с Александровым о том, о сем. И вдруг
в конце беседы Сталин задает вопрос: «А кто такой Батищев?»
Александров не понял смысла вопроса. «Это наш сотрудник, у нас в отделе
работает». «Вы меня не поняли, товарищ Александров! Ответьте мне,
пожалуйста, он большевик или меньшевик?» Ничего себе вопрос!
Александров опешил, конечно, смешался, но сразу сделал
надлежащие выводы. С. Батищева немедленно уволили из ЦК, объявили
партийный выговор. Хорошо, что не посадили, а послали преподавать в
Экономический институт. Для С. Батищева это был, конечно, удар не
только психологический. У него был инфаркт, после этого он
перманентно болел до самой смерти. Как я говорил, к Генриху ходил домой
в течение много лет, еще со времен войны. Генрих появился (в
коротких штанишках) в нашей школе № 59 в 1943 году. Их семья приехала
из Миасса, там они были в эвакуации. Они жили недалеко от нашего
дома, в переулке Сивцев Вражек. Я с Генрихом сразу же подружился (с
четвертого класса). Генрих, кстати, интересовался математикой,
химией, географией, всем на свете. Только постепенно он к философии
подошел. Я к нему ходил домой, я видел его семью, я помню его отца —
это был крепкий мужчина, выходец из крестьян, светловолосый, как
и Генрих. Мать была другого типа: из дворян. Работала в 1920-е годы
в советском посольстве в Германии. Знала много языков, переводила
впоследствии философские тексты с французского. Они были людьми
разного типа. На Генриха это оказало своеобразное влияние.
Как я сказал, отец Генриха был здоровый мужчина, никогда
не болел. А после его увольнения из ЦК ВКП(б) у него один удар
следовал за другим, он стал ездить по больницам и санаториям.
Преподавать ему было сложно. Сегодня у меня складывается
впечатление, что он боялся даже преподавать. Он подозревал, что за
ним следят, записывают его лекции (в те годы это в самом деле
было вполне реально). Он был, конечно, очень осторожный
человек, всего боялся. И когда Генрих стал публиковать первые статьи
с позиций раннего Маркса, с позиции деятельности, критицизма
(который «ни перед чем не останавливается»), его отец говорил:
«Генрих, добром это не кончится, ЦК за тебя скоро возьмется».
И Степан Петрович оказался прав, как мы это сегодня понимаем.
Вот на какой кафедре я оказался. Я там работал два года: с 1955 по
1957 год. Но я не терял связи с Эвальдом Ильенковым.
520
Раздел 4. О времени и о себе...
Он был руководителем моей курсовой работы четвертого курса,
и он же был руководителем моей дипломной работы. Но получилось
так, что когда мне надо было диплом защищать, я оказался в
подвешенном состоянии, ибо стал лицом подозрительным — «гносеоло-
гом». А Ильенкова выгнали с факультета. Его не просто выгнали, но и
запретили преподавать философию. Перевели в Институт АН СССР.
Ему сказали: «Вы пишите, занимайтесь исследованиями. Мы
посмотрим, что Вы там напишете, но преподавать пока Вам нельзя». В этой
ситуации Ильенков меня спасал. Он понял, что если он останется
моим руководителем, то мне не дадут защитить диплом. А в это
время на философском факультете, на той же кафедре истории западной
философии, где работал Ильенков, появился новый тогда для нас
человек Михаил Федотович Овсянников. Он работал на этой кафедре
когда-то, был резким, острым человеком, специалистом по Гегелю,
учеником Г. Лукача. И когда была философская дискуссия 1947 года,
то передавалось из уст в уста высказывание Сталина (официально оно
никогда не публиковалось) о том, что немецкая классическая
философия — это аристократическая реакция на французскую революцию
и французский материализм. Когда на философском факультете МГУ
обсуждались итоги философской дискуссии, Овсянников сказал, что
вышеупомянутая идея — это чепуха. Его сразу же с факультета
выгнали. И отправили преподавать в Московский областной пединститут.
В 1955 году его вернули на факультет. И вот Эвальд договорился
с Овсянниковым (а они оба были гегельянцами) о том, что тот будет
научным руководителем моей дипломной работы вместо
Ильенкова. «Иначе, сказал Эвальд, тебе не дадут защитить диплом». Я поехал
к Овсянникову, жил он в каком-то общежитии, где-то на
Студенческой улице, там был большой коридор, маленькая комнатка. Я застал
Михаила Федотовича, и он согласился меня поддержать. А
рецензентом мне дали Леню Пажитнова, замечательного человека, которого
через 10 лет исключили из партии и уволили с работы. И я защитил
дипломную работу с помощью этих двух прекрасных людей. Эвальд,
конечно, наблюдал за всем этим. Я к Эвальду часто ходил домой и в
Институт философии к нему ходил. Он интересовался, чем я
занимаюсь. Когда прошло два года, он сказал: «Будем брать тебя в
аспирантуру». Это был 1957 год. Заведующим сектором диалектического
материализма, в котором работал Эвальд и в который перешел с
философского факультета Саша Зиновьев (тогда еще не было
самостоятельного сектора логики), был Павел Васильевич Копнин. Он
недолго заведовал сектором, всего года полтора, потом уехал в Киев и стал
там директором украинского Института философии, но как раз, когда
я поступал в аспирантуру Института философии, заведующим был
Беседа Б. И. Пружинина с В. А. Лекторским
521
он. Он меня и взял в Институт, в котором я работаю уже 55 лет. Между
прочим, Ильенкову в течение нескольких лет ВАК не утверждал
кандидатскую степень (а защитился он, как я уже говорил, в 1953 году).
Взгляды его и поведение вызывали опасения (сегодня, как мы знаем,
кандидатские диссертации утверждаются в ВАКе в течение 3
месяцев). А. А. Зиновьев защищал кандидатскую диссертацию примерно
на год позже Ильенкова, и хотя она тоже была весьма необычной, ему
утвердили кандидатскую степень относительно быстро. Я помню,
что Саша Зиновьев звал одно время Эвальда Ильенкова «кандидат в
некандидаты»: мол, тебя могут и не утвердить. Именно эти люди —
Ильенков и Зиновьев, которые меня знали, уговорили Копнина взять
меня аспирантом в сектор. Тогда взяли в аспирантуру Института
всего трех человек: меня, Инара Мочалова в наш сектор (впоследствии
Инар стал крупнейшим специалистом по философским взглядам
В. И. Вернадского и работал в Институте истории естествознания и
техники АН СССР) и Эдуарда Андреева в сектор философских
проблем естествознания (впоследствии он стал известным специалистом
в области математических методов социологических исследований).
Пружинин: Смотрите, как интересно получается. Какое сложное
время: убирают, снимают, увольняют за малейший проблеск мысли.
Однако были все-таки люди, которые не боялись мыслить сами и
поддерживали других.
Лекторский: Борис Исаевич, я об этом много думал, и я какие-то
вещи понимаю, а какие-то до сих пор не могу понять. Ну, вот
например. Я рассказывал, что Ильенков защитил кандидатскую
диссертацию в сентябре 1953 года. Диссертация называлась «Проблема
абстрактного и конкретного в теоретическом мышлении, на материале
«Капитала». Мысли защищались совершенно необычные, если не
еретические. Но дело все в том, что если Ильенков защищал диссертацию
в сентябре 1953 года, когда Сталин уже умер (правда, после этой
смерти времени почти не прошло), то писал-то он эту работу за два года до
этого, при жизни Сталина, так сказать в период расцвета сталинизма.
Все эти еретические идеи вынашивались и обсуждались с
близкими людьми уже в начале 1950-х годов. Как это возможно? И откуда эти
идеи вообще могли появиться в то время?! Теодор Ильич Ойзерман
был научным руководителем Ильенкова (он же был одним из
оппонентов на защите кандидатской диссертации Зиновьева). Между
прочим, уже в 1954 году Ойзерман, прочитал нам спецкурс по «Критике
чистого разума» Канта, он разбирал Канта по параграфам, по разделам
и показывал глубокий смысл того, о чем Кант писал. Для нас это было
откровением, так как до этого мы понимали Канта по Ленину: как
дуалиста, и считали, что философия Канта — это анахронизм. Конечно,
522
Раздел 4. О времени и о себе...
после смерти Сталина, а особенно после XX съезда КПСС в 1956 году,
можно было делать в философии то, что раньше было невозможно.
Но, по-видимому, какие-то подспудные процессы, обусловившие
появление ряда интересных людей и новых проблемных полей в нашей
философии во второй половине XX века, шли уже до этого.
А во второй половине 1950-х и в 1960-е годы возникает новая
ситуация, невозможная раньше. Я рассказывал о том, что тезисы
Ильенкова и Коровикова осудили, их авторов выгнали с
философского факультета МГУ. Но все же тезисы эти были допущены к
обсуждению, и в течение года после обсуждения тезисов Ильенков
продолжал нам преподавать. В сталинские годы это было бы
совершенно невозможно. У А. Зиновьева было свое понимание логики
«Капитала», отличное от ильенковского, но это тоже были
реальные проблемы. Главное в том, что эти новые в нашей философии
люди формулировали реальные проблемы, которыми можно было
и стоило заниматься. И это увлекло философскую молодежь.
Поэтому и у Ильенкова, и у Зиновьева сразу же появилось множество
учеников. Г. П. Щедровицкий появился в эти же годы на
факультете со своими оригинальными идеями. Потом и Мамардашвили
примкнул к этим людям. Пошла интересная философская жизнь
с серьезными дискуссиями по поводу реальных проблем. И можно
было что-то делать, хотя каждый раз это было непросто.
Вот, например, Ильенков. Ему разрешали заниматься
исследованиями. Копнин как заведующий сектором его поддерживал. И
Зиновьева он тоже поддерживал. Ильенков активно участвовал во всех
обсуждениях в секторе, активно защищал и пропагандировал свои идеи.
Он публиковал статьи: и в «Вопросах философии», и в «Философской
Энциклопедии», и в трудах сектора. Я помню, правда, как Ильенков
опубликовал статью в «Вопросах философии» в 1956 году, а уже в
следующем номере журнала появилась критика его перед этим
опубликованного текста. Но все же его публиковали! А читатель мог сам делать
выводы о том, какая позиция более убедительна и перспективна.
Никого не сажали за философские тексты! И это уже был прогресс,
началась «оттепель». Конечно, были сложности и трудности. Но они были
все время. Ильенкова всю жизнь ругали, но все равно его печатали. Его
много переводили на Западе. Он стал известным человеком и у нас в
стране, и в мире. У него была масса сторонников. Иначе говоря, жизнь
была сложная, но появилась отдушина, и жизнь стала интересной. И у
лидеров нашей интересной философии того времени, и у нас, их
учеников, появилось понимание того, что философия — это не просто
разъяснение очередных Постановлений ЦК КПСС, а
самостоятельная и уважаемая сфера знания, важная для понимания человека, нау-
Беседа Б. И. Пружинина с В. А. Лекторским
523
ки и культуры. И прежде всего для понимания познания. Появились
разные философские школы: Ильенкова, Зиновьева, Щедровицкого,
впоследствии Библера, Батищева, Степина в Минске, Копнина в
Киеве и др. Это были интересные годы. Но в отношении публикаций,
особенно публикаций книг, они были всегда сложными. Для Ильенкова
было очень сложно опубликовать свою первую книгу. И Генрих Бати-
щев при жизни так и не смог свою главную книгу опубликовать.
Пружиним: Да, это уже было в восьмидесятых. Я хорошо помню
проблемы, возникшие вокруг книги H. H. Трубникова, которая тоже
вышла только после его смерти.
Лекторский: И Трубников, да. Но все равно, что-то
публиковалось. Что-то можно было обсуждать. Если не публиковали, то
можно было распространять тексты частным образом, можно было
делать доклады, как-то что-то обсуждать. Ну, вот у Батищева. Хотя
его книгу так и не опубликовали при жизни, он ее депонировал в
ИНИОН, чтобы люди могли заказать ее и прочитать.
Пружинин: Скажите, Владислав Александрович, а в каких центрах
концентрировалась московская философская жизнь в 1950—1970годы?
Лекторский: Конечно, центром философской жизни до
1955 года был философский факультет МГУ. Там и появились эти
люди, которые создали новые школы в нашей философии, главные
философские смутьяны и бунтари: прежде всего Ильенков и
Зиновьев, а затем Щедровицкий, Мамардашвили. И первые острые
философские дискуссии были именно на факультете: по
предмету философии, потом была бурная защита кандидатской
Зиновьевым, потом дискуссии по логике, в которых участвовали
Зиновьев и Щедровицкий. Но так было до 1955 года, пока комиссия
ЦК КПСС не разгромила факультет. Я и попал под этот разгром.
После этого Ильенков и Зиновьев вынуждены были уйти в
Институт философии. Щедровицкий с психологами связал свою
деятельность, т. е. тоже ушел с факультета. Мамардашвили вскоре перешел
работать в журнал «Вопросы философии». Туда же ушел с
факультета Иван Тимофеевич Фролов. И получилось, что центр философской
жизни полностью переместился. Прежде всего он перешел в
Институт философии, где появились сначала Ильенков и Зиновьев, потом
туда начали переходить наиболее одаренные выпускники
философского факультета: В. С. Швырев, Н. В. Мотрошилова, О. Г. Дробниц-
кий, В. А. Смирнов, Л. Н. Митрохин. В 1960-е годы в Институт
пришли такие молодые таланты, как Г. С. Батищев, И. А. Акчурин и др.,
такие известные люди, как Т. И. Ойзерман и М. А. Лившиц. В конце
1960-х годов директором Института стал П. В. Копнин (он сделал
меня заведующим сектором), а в начале 1970 годов Б. М. Кедров.
524
Раздел 4. О времени и о себе...
Наиболее значимые дискуссии стали происходить именно в этом
Институте, наиболее значимые книги выходили из его стен. Новая жизнь
Института началась в 1980-е годы, когда его директорами стали
сначала В. С. Степин, а затем А. А. Гусейнов.
Вторым центром нашей философии со второй половины 1950
годов стал журнал «Вопросы философии». Туда, как я уже сказал,
пришли работать сначала Мамардашвили и Фролов. Потом к ним
присоединились такие яркие люди, как Э. Ю. Соловьев, В. Н. Садовский,
И. В. Блауберг, А. П. Огурцов, Б. Г. Юдин, В. Ф. Кормер, В. К.
Кантор. Главные редакторы журнала менялись в течение 1950—1960
годов, но журнал делали именно те люди, о которых я только что сказал.
В «Вопросах» публиковались интереснейшие и острые статьи, на его
страницах шли горячие дискуссии. Новая жизнь журнала началась с
1968 года, когда его главным редактором стал И. Т. Фролов, а его
заместителем М. К. Мамардашвили. Журнал стал не только одним из
центров нашей философии, но одним из креативных мест нашей
культуры в целом. И. Т. Фролов, являясь сам одним из крупнейших
философов, сумел установить тесные и плодотворные связи журнала
с известными естествоиспытателями и деятелями культуры. Лично я
обязан Ивану Тимофеевичу многим. Он пригласил меня в 1968 году в
журнал в качестве члена редколлегии и заведующего отделом
диалектического материализма. Работа в журнале много мне дала. И именно
Фролов рекомендовал меня на должность главного редактора
журнала в декабре 1987 года Я проработал в этой должности 22 года. И это
стало для меня вообще главным делом жизни.
Третьим центром нашей философии стал с 1960 годов Институт
истории естествознания и техники АН СССР, когда туда пришел в
качестве директора выдающийся философ и историк науки Бонифа-
тий Михайлович Кедров. Он взял на работу группу талантливых
людей, которые начали исследовать проблемы философии и
методологии истории науки. Это были сначала В. С. Библер, А. С. Арсеньев.
Потом Бонифатий Михайлович взял в свой Институт философов,
исключенных или почти исключенных из партии и выгнанных с
работы: А. П. Огурцова, П. П. Гайденко. В 1974 году в ИИЕТ пришел
Мамардашвили. В этом Институте сложилась сильная философская
группа, которая стала влиять на тех, кто был просто специалистами
по истории естествознания. Из последних выросли известные
философы, которые впоследствии далеко вышли за рамки только
философии истории науки: В. Л. Рабинович, В. В. Визгин, А. В. Ахутин.
Нужно сказать, что все три центра философской мысли
взаимодействовали между собою. Мы хорошо знали друг друга, у нас было
много совместных обсуждений.
Беседа Б. И. Пружинина с В. А. Лекторским
525
А философский факультет МГУ пришел в полное запустение,
Были отдельные хорошо работавшие кафедры (кафедра истории
западной философии, кафедра логики) отдельные интересные
люди. Но в целом факультет в результате рьяной борьбы с
инакомыслием представлял собою подобие пепелища. Я, конечно, могу
быть субъективным, но, по-моему, он стал подниматься только с
80-х годов прошлого столетия.
Пружиним: Вы сказали о том, что даже во времена
относительной оттепели печататься было трудно. Можете ли Вы привести
какие-то примеры. В чем были эти трудности?
Лекторский: Ильенкову было очень трудно опубликовать свою
первую книгу («Диалектика абстрактного и конкретного в "Капитале"
Маркса»), которая потом получила известность и у нас, и за рубежом.
Он эту книгу сдал в издательство «Наука» в 1957 году (это при мне
было, я был в это время в аспирантуре Института философии).
Заведующий философской редакцией издательства «Наука» Кондаков
написал письмо в ЦК КПСС, о том, что у Ильенкова на Маркса гораздо
больше ссылок, чем на Ленина. Но ведь Ильенков именно о Марксе
писал книгу! В книге после этого что-то подправили, стали готовить
книгу к изданию, была уже верстка. И вдруг Ильенков попал в
неожиданную и по тем временам неприятнейшую ситуацию. Это был
1958 год. Произошла известная история с Б. Л. Пастернаком: ему дали
Нобелевскую премию за роман «Доктор Живаго». Роман этот не был
опубликован у нас, так как считался антисоветским. И вдруг
Нобелевская премия за этот самый роман. Скандал! Пастернака исключили из
Союза писателей, заставили отказаться от премии. А кто издал этот
роман за рубежом? Это был известный итальянский издатель Фель-
тринелли, человек левых взглядов, член итальянской компартии.
И вот тут, когда эта свистопляска с Пастернаком началась,
Ильенков вспомнил, что у того же Фельтринелли лежит готовая к изданию
его книга, та самая, которая у нас еще не вышла, но вот-вот должна
была выйти. А что если книга выйдет в Италии раньше, чем у нас, да
к тому же у издателя Пастернака? Тогда скандал будет уже с
Ильенковым. Он пошел в партбюро Института, рассказал о ситуации. Его
заставили написать письмо в Италию, отказаться от издания там
книги, объявили ему партийный выговор и рассыпали набор книги.
Ильенков попал в больницу, потом в санаторий (я к нему туда ездил).
И только спустя два года книжку все-таки издали у нас. К
вице-президенту АН СССР П. Н. Федосееву ходил с ходатайством за Ильенкова
Б. М. Кедров. Наш известный психолог Василий Васильевич Давыдов
(большой поклонник Ильенкова) выразил готовность быть
редактором. Марк Моисеевич Розенталь написал предисловие. Некоторые
526
Раздел 4. О времени и о себе...
места из книги изъяли. И только после этого она вышла в свет. Ее
издание даже в несколько урезанном виде (полный вариант был
опубликован уже в 1990 годы, 15 лет спустя после смерти Ильенкова) было
большим событием в нашей философии. Книгу потом перевели в
нескольких странах, в том числе и в Италии. А сейчас расскажу еще одну
историю, имеющую отношение к перипетиям, связанным с этим
трудным изданием. Как раз через 15 лет после смерти Эвальда Васильевича
я на одном мероприятии познакомился с итальянским профессором.
Он рассказал мне, что имеет прямое отношение к тому, что произошло
в свое время между Фельтринелли и Ильенковым. В конце 1950 годов
этот итальянец был студентом философского факультета МГУ,
молодым коммунистом. Ильенков выступил перед студентами. Итальянцу
показалось интересным то, что он услышал, и он напросился домой к
Эвальду Васильевичу, чтобы обсудить некоторые вопросы. Ильенков
рассказал, что закончил книгу, которая должна скоро выйти. Студент
попросил Эвальда Васильевича дать ему для внимательного прочтения
машинописный экземпляр. Когда молодой итальянец прочитал
книгу, он пришел в восторг и послал текст в издательство Фельтринелли.
Там книгу перевели и стали готовить к публикации по-итальянски.
Ильенков к этому времени уже узнал, что готовится итальянское
издание книги, но отнесся к этому спокойно, так как знал, что скоро книга
должна выйти в нашем издательстве. И тут вдруг скандал с
Пастернаком. О том, что за этим последовало, я Вам уже рассказал. Этого
итальянца, о котором я говорю, зовут Витторио Страда. Он крупнейший в
Италии специалист по истории русской культуры. В 1990 годы работал
атташе Итальянского посольства в Москве. (Между прочим, он
рассказал и о том, что также причастен к открытию M. M. Бахтина на
Западе и к его новому открытию у нас. Но это особая история.)
Нужно сказать, что практически каждая публикация
Ильенкова вызывала шквал враждебной критики, а нередко просто травлю.
Ибо каждый раз это было нечто непривычное. Это, например,
касалось и его статьи о тождестве бытия и мышления (в самом деле,
как может материалист утверждать подобные идеи?), и его
трактовки идеального (подумать только, идеальное может существовать вне
человеческой головы!), и его публикаций об отчуждении (это даже
обсуждалось на заседании в Отделе науки ЦК КПСС) и др. Я
уверен, что его преждевременная смерть была связана с этой травлей,
сопровождавшей всю его жизнь. Но и у других наших известных
философов ситуация с публикациями была не лучше. Я уже говорил
в этой связи о Г. С. Батищеве. Могу добавить, что Г. П. Щедровиц-
кий при жизни почти ничего не публиковал, а то, что издавалось,
выходило в основном в специализированных изданиях, недоступ-
Беседа Б. И. Пружинина с В. А. Лекторским
527
ных широкому читателю. И тем не менее и Ильенкову, и Батищеву,
и Щедровицкому все же удавалось что-то публиковать. У них было
множество поклонников. До сих пор ежегодно проводятся чтения
памяти Ильенкова и Щедровицкого. Регулярно проводятся
конференции, посвященные Фролову, Петрову, Мамардашвили и др.
Пружиним: Владислав Александрович, если бы у Вас была
возможность с кем-то устроить встречу из классиков философских? Время
оставляем в стороне. С кем бы Вы побеседовали ? Кант ? Гегель ?
Лекторский: Мне Кант был бы интересней сегодня, чем Гегель.
Когда-то я был большим поклонником Гегеля (конечно, под
влиянием Ильенкова). А сейчас интереснее Кант. И неокантианцы, и
современные поклонники Канта в аналитической философии (П. Стро-
сон, X. Патнэм и др.). Аналитические философы сначала «закрыли»
Канта, а примерно 40 лет назад открыли заново. Ведь у Канта масса
проблем, которые не потеряли остроты. В частности, меня
интересует то, что называется «трансцендентальным аргументом»: я думаю,
что это имеет определенный смысл. Вещь в себе в кантовском
понимании я не принимаю. Но думаю, что и об этом интересно подумать.
Кант вообще мне интересен именно своей незавершенностью, даже
противоречивостью. Гегель слишком уж закончен. Один поэт
написал стихи о любви и сказал после этого: «закрыл тему». Гегель
закрывает множество тем. А Кант наоборот открывает.
Из более поздних философов было бы интересно поговорить с
Э. Гуссерлем, с М. Мерло-Понти.
Пружинин: А кто из философов в наибольшей степени на Вас повлиял ?
Лекторский: Из отечественных — это, как я уже говорил, Эвальд
Васильевич Ильенков. Вся моя жизнь переплетена с его жизнью: и
идейно, и по-человечески. Я считаю его одним из тех, кто сделал
возможным новый облик нашей философии во второй половине XX века.
Идеи Эвальда Васильевича — это своеобразный оригинальный
гегельянизированный марксизм. Но я испытал и иные влияния.
Из отечественных авторов — это М. М. Бахтин, философско-пси-
хологические идеи Л. С. Выготского и его школы
культурно-исторической психологии. А из зарубежных немецкое
неокантианство (Э. Кассирер, Г. Коген), некоторые философы аналитической
традиции (Р. Харре, Дж. МакДауэлл и др.). Нужно сказать, что для
меня много значило взаимодействие и с другими нашими
выдающимися философами второй половины XX века: А. А. Зиновьевым,
Г. П. Щедровицким, М. К. Мамардашвили, В. С. Библером, Г. С. Ба-
тищевым, И. Т. Фроловым, Б. М. Кедровым, П. В. Копниным,
B. А. Смирновым, а также с такими известными психологами, как
C. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, В. П. Зинченко,
528
Раздел 4. О времени и о себе...
А. В. Брушлинский. Общение, дискуссии с ними значили для меня
исключительно много. Сегодня я отлично сознаю, что не мог бы
развивать свои идеи вне контекста тех проблем и дискуссий,
которые были в центре нашего нового философского движения тех лет.
Мои философские взгляды изменялись, хотя это была не столько
резкая ломка, сколько эволюция. Сегодня они в ряде пунктов не
похожи на те, которых я придерживался 30—40 лет тому назад. И вместе
с тем многие мои идеи того времени я продолжаю разделять и сегодня.
Пружиним: А вот еще тогда одна тема. У Вас вся жизнь с
Институтом философии связана. И личная тоже. Вы дома с Ларисой
обсуждали какие-то институтские события и ситуации, она ведь
тоже там работала ?
Лекторский: С моей первой женой Ларисой Цыпник я
познакомился в Институте. В 1962 году мы поженились. В Институте я
работаю всю жизнь (с 1957 года). Сейчас уже нет никого, кто работал бы
здесь столько (Юрий Владимирович Сачков стал сотрудником
Института раньше меня, но сейчас ему трудно активно работать. Теодор
Ильич Ойзерман старше меня, но в Институт пришел из МГУ позже,
чем я). Сегодня немодно работать на одном месте всю жизнь. Есть
даже популярная теория о том, что человек должен все время
меняться, а для этого постоянно менять место работы, быть своеобразным
неокочевником. Насчет того, что меняться нужно (а иногда это
просто приходится делать), я согласен — хотя и не думаю, что эти
перемены должны выражаться в непременном отказе от всего того, что было
(тем более в предательстве тех, с кем был вместе раньше, а и
предательство сегодня распространено). Я думаю, что перемены духовные
не обязательно сопровождаются перемещениями в пространстве.
Более того, мне кажется, что последнее не помогает, а мешает
первому. Мои взгляды сильно эволюционировали за 40 лет, хотя это была
именно эволюция, а не революция. Но этому не мешало то, что я всю
жизнь оставался сотрудником того же Института и того же сектора.
С декабря 1987 года я работал в течение 22 лет главным
редактором «Вопросов философии». Но с Институтом я сохранял связь,
оставаясь заведующим сектором теории познания.
Моя жена Лариса пришла в Институт позже меня, была моложе
меня. И вот примерно через 10 лет после нашей женитьбы на нас
стали обрушиваться всяческие беды. Сначала в возрасте 3 лет
тяжело заболел наш сын Игорь. Одновременно в Институте начались
такие процессы, которые и наш сектор, и меня как заведующего
привели к нелегким испытаниям.
В 1971 году в возрасте 49 лет умер директор Института П. В. Коп-
нин, который поддерживал наш сектор, началась полоса безвреме-
Беседа Б. И. Пружинила с В. А. Лекторским
529
нья, потом на 1 год директором пришел Б. М. Кедров, который тоже
нас поддерживал, а уже потом назначили на этот пост Б. С. Укра-
инцева, при котором началась настоящая травля сектора. Об этом
мне уже приходилось рассказывать (см. «О прошлом и настоящем.
Беседа Л. Н. Митрохина с В. А. Лекторским». «Вопросы
философии», 2002, № 9). Уехал за рубеж мой заместитель Б. С. Дынин. Это
было использовано для атаки на сектор. Подготовленную нами
книгу не рекомендовали к изданию. Был поставлен вопрос о роспуске
сектора. Это было тяжелое время. Между жизнью и смертью сына,
между жизнью и смертью сектора. Если бы не Лариса и ее
поддержка, я вряд ли выдержал все эти свалившиеся испытания. Сын умер в
1976 году в возрасте 5 лет. В 1982 году Украинцев ушел из Института.
Но в 1985 году тяжело заболела сама Лариса и умерла через 2 года.
Пружинин: Я пришел в 1974 году и практически все это застал.
И меня вот что еще поражало, время было такое, конечно, давление
ощущалось непрерывно, но когда я пришел, что меня поразило в
секторе — совершенно разные люди! Причем, такие фигуры яркие, казалось
бы, несовместимые...
Лекторский: Конечно, несовместимые. Например, Ильенков,
с одной стороны, и Евгений Петрович Никитин — с другой,
Владимир Сергеевич Швырев и Г. С. Батищев! Вообще-то сектор был
очень сильный. В эти годы работали в нем, кроме тех, кого я
назвал, и Николай Николаевич Трубников, и Борис Семенович
Дынин, и Наталья Сергеевна Автономова, и Неля Степановна Мудра-
гей, и Инна Петровна Фарман, и Владимир Петрович Филатов, и
Вы, Борис Исаевич. Все люди очень яркие и очень разные.
Пружинин: И все это, для меня до сих пор остается загадкой, как
при таком давлении снаружи сектор никакой трещины не дал. Иначе
разнесли бы в момент, это было понятно.
Лекторский: Когда у нас были обсуждения, шли сильнейшие
споры, критиковали друг друга так, что только щепки летели. А когда
кончалось обсуждение, были все вместе, могли пойти в кафе, в
ресторан. И это определялось не только тем, что мы уважали взгляды
друг друга, но и тем, что в понимании социальной ситуации все были
близки. Конечно, и в этом отношении определенные различия были.
Ильенков, например, до конца жизни был марксистом, сторонником
социализма. Вряд ли это можно было сказать о Трубникове и
Никитине. А Генрих Батищев стал в конце жизни православным человеком и
религиозным мыслителем. Но в главном, основном мы были едины:
нашу социальную действительность мы не принимали. И каждый
понимал, что все мы, при всех наших разногласиях делаем одно общее
и важное дело. Если бы дело обстояло иначе, если бы кто-то пытал-
530
Раздел 4. О времени и о себе...
ся делать личную карьеру за счет других, сектор при том огромном
внешнем давлении, которое было, мгновенно развалился бы.
Пружиним: Не знаю, знаете ли Вы или нет, это тоже, наверное,
сюда не пойдет. Мне Володя Филатов рассказывал, что когда его
брали в сектор, было собеседование в парткоме. Я уж не помню, кто там
тогда был. И ему говорят: «Вы знаете, Вы идете в сложный сектор.
Если возникнут какие-то проблемы, что-то Вам покажется
странным, Вы приходите, рассказывайте».
Лекторский: Молодцы ребята.
Пружинин: И никогда этого не было.
Лекторский: У нас же были обыски у некоторых членов сектора.
У Генриха было несколько обысков. Он мне по секрету об этом
говорил. Правда, ничего обличающего не нашли. Но кто-то на него
донес. Я был в курсе главных событий его жизни, к нему домой
ездил, знал всех его жен. У него и личные были сложности. Одна
жена его вообще посадила в психушку.
Пружинин: Это мы с вами ездили к нему, помните?
Лекторский: Это была вторая жена. А вот другая его история.
В 1983 году нашим директором был Георгий Лукич Смирнов.
Хороший человек, который к нам хорошо относился. Очередная
аттестация. А с Генрихом всякие истории были и до этого. Он одно
время, был на грани вылета из Института. Его хотели выгонять еще в
1970 году за публикацию в книге «Марксизм и принцип историзма»
(под редакцией В. Ж. Келле) статьи о революционно-критической
деятельности, в которой Генрих призывал со ссылками на раннего
Маркса к критическому сокрушению всех и всяческих авторитетов.
Статью Батищева показали тогдашнему идеологу партии М. А.
Суслову (подчеркнув соответствующие места в тексте Батищева, так как
читать весь текст Суслову было недосуг). Идеолог пришел в
бешенство и приказал разобраться. Конечно, в данном случае Батищев был
просто использован для борьбы с тогдашним директором Института
Копниным, который вызывал огромное раздражение всех
ортодоксов. На заседании Отделения философии и права, где обсуждалась
эта книга, было решено рассмотреть вопрос о возможности
дальнейшей работы Батищева в Институте (тогдашний академик-секретарь
Отделения Ф. В. Константинов и был главным организатором всего
этого мероприятия). Казалось бы, Батищев обречен. Но с помощью
Копнина все же удалось его спасти. После этого Батищев тихо и
спокойно работал, печатался, вел занятия с кружком своих сторонников.
И вот очередная аттестация сотрудников в 1983 году Меня вызывают
в партбюро Института, и секретарь партбюро говорит: «А я не
подпишу характеристику на Батищева». «Почему?» «Пока подписывать не
Беседа Б. И. Пружинила с В. А. Лекторским
531
буду». Я не могу ничего понять. Вроде бы никаких происшествий с
Батищевым в последнее время не было. Решил, что это какое-то
недоразумение. Проходит неделя. Я в Институте, Генрих тоже.
Пружинин: Там, в закутке, с логиками вместе.
Лекторский: И вдруг в сектор входит секретарь директора, «Вас и
Генриха Степановича вызывает к себе директор». Мы пошли. Сидит
Смирнов, сидит секретарь партбюро. И начинается какой-то
туманный, странный разговор. Я никак не могу понять, к чему все это.
Георгий Лукич Смирнов какие-то чудные вопросы задает Генриху: «А
чем Вы занимаетесь? Какие обсуждаете вопросы? С кем?» — «Ну да,
обсуждаю разные философские, есть люди, которые интересуются
моими идеями». А у него всегда был кружок адептов. «А среди
Ваших, тех, с кем Вы беседуете, есть священнослужители?» Вдруг
такой вопрос. Генрих помялся: «Нуда, есть такие тоже». — «Вы с ними
тоже философские вопросы обсуждаете?» «Да, тоже». — «И с каких
же позиций? Надеюсь, с материалистических?!» Генрих что-то
замычал, понять ничего нельзя. Потом другие вопросы, все вокруг да
около. И тут я начинаю понимать, до меня доходит, к чему все эти
вопросы. То, что Генрих стал религиозным человеком, я знал давно.
Он прямо не писал на религиозные темы, зашифровывал свою
позицию, но те, кто знал о его взглядах, могли понять, что скрывалось
за словами о «глубинном общении» и о «беспредельной диалектике
Универсума». Сначала Генрих был рьяным марксистом в духе
раннего Маркса, потом сторонником Рериха, а в конце концов пришел к
православию. И вдруг я понял в ходе беседы в дирекции, что Генрих
не просто стал православным, а что он крестился! И мне не сказал!
Я ведь должен был знать об этом, так как обычно я был в курсе его
дел. А тут он не рассказал! И вот Георгий Лукич, умный человек на
меня так смотрит: он понял, что я догадался, и говорит: «Ну, как, Вы
за Генриха Степановича ручаетесь». «Да, ручаюсь» — «Ну не будем
плодить диссидентов!» И все подписал. И секретарь партбюро
подписал. Мы вышли, я говорю Генриху: «Что же мне не сказал? Я хотя
бы был готов к этому разговору, а так меня застали врасплох».
Пружинин: А какое по Вашим воспоминаниям самое интересное
издание, связанное с Вашим именем? Я помню, например, одну книжку
черную «Философия. Методология. Наука»...
Лекторский: Я считаю, что эта книжка, сыграла большую роль в
наших исследованиях теории познания, методологии науки.
Другая, по-моему, тоже хорошая книжка — это «Гносеология в системе
философского мировоззрения». В книге «Философия. Методология.
Наука», изданной в 1972 году, была большая статья В. С. Степина, в
которой он изложил впервые свою концепцию науки, которую он
532
Раздел 4. О времени и о себе...
потом более детально разрабатывал в других своих книгах. В этой же
книге была наша совместная с В. С. Швыревым статья о типах и
уровнях методологических исследований. Одна из идей статьи была в том,
что методология не обязательно должна быть философской, что есть
и другие ее уровни и формы. Эту идею использовали наши
специалисты по системным исследованиям (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский,
Э. Г. Юдин), для которых это было принципиально важно. Но вот
прошло 5 лет после выхода этой книги, и вдруг на эту нашу статью
обрушился академик Л. Ф. Ильичев, личность известная: он был
секретарем по идеологии во времена Хрущева, одним из тех, кто участвовал
в разносе известной выставки в Манеже и последующем поношении
молодых поэтов и писателей, художников и поэтов. Ильичев
прислал статью в «Вопросы философии» (1977), которая была
немедленно опубликована. В статье Ильичева всячески поносился наш с
В. С. Швыревым текст, автор обвинял нас в принижении роли
марксистско-ленинской методологии. Но времена все же были уже другие.
Ильичев публикует свою статью, а реакции никакой. Мы тоже не
стали реагировать. Как будто бы никакой статьи Ильичева и не было.
Я не буду говорить о других коллективных и индивидуальных
книгах сектора, а среди них были интересные: книги Ильенкова,
Трубникова, Никитина, первая книга Автономовой, Ваша первая книга.
Скажу о себе. Именно в это время, когда сектор был в глухой опале (1970-е
и начало 1980-х годов) у меня появилось больше времени, так как
меньше стали вызывать на всякие совещания. Я написал книгу «Субъект,
объект, познание» (М., 1980), которая для меня была важной вехой.
Пружиним: Тогда еще один личный вопрос. Насколько важна была
для Вас в те сложные годы поддержка Людмилы Сергеевны Савельевой ?
Лекторский: На Людмиле Сергеевне я женился в 1988 году.
В Институт она пришла почти одновременно со мною, хотя была
моложе меня. Она меня всегда поддерживала не только тогда,
когда стала моей женой, но во время всех лет работы в Институте.
Пружинин: Она приехала откуда-то?
Лекторский: Она пришла работать в наш сектор в 1958 году. А в
1974—1977 годах работала в Алжире как переводчик вместе с
советскими врачами. Она работала так хорошо, что даже получила орден.
В 1974 году в течение года работала в Конго. Но каждый раз
возвращалась в наш сектор. А вот когда мы поженились, она ушла из
сектора сначала в иностранный отдел Института, а потом вообще
перешла из нашего Института в другой академический — Институт
психологи РАН. Она всю жизнь была связана именно с нашим
Институтом, переживала все его проблемы, знала практически всех
сотрудников разных поколений. Но в наше время считалось, что муж
Беседа Б. И. Пружинила с В. А. Лекторским
533
и жена не могут работать в одном секторе, особенно если муж
начальник (сейчас это считается вполне приемлемым: я знаю сектор,
в котором муж заведующий, а жена его заместитель).
О Люсе я хочу сказать вот что. Всегда, когда возникали сложные
ситуации (и до нашей женитьбы, и после), Люся меня всегда
поддерживала и при этом говорила: «поступай так, чтобы тебе потом
не было стыдно». Спасибо Люсе. Я счастливый человек.
Не знаю, получается ли связная картина из моих обрывочных
воспоминаний.
Пружиним: Когда-нибудь Вы это напишете, но на самом-то деле
Вы понимаете, что происходит? Я по журналу вижу. Теряется,
притупляется чувство истории. Такое ощущение, что вообще ничего не
было перед этим, и вот явились эти.
Лекторский: Помните, как Мандельштам писал в стихах о
Сталине? «Мы живем, под собою не чуя страны». Страну-то мы не
чуем, конечно.
Пружинин: Да, мы все испытываем это ощущение. Молодежь не
знает истории. И архивов никаких не осталось почти. От старой
русской философии осталась хотя бы переписка, рукописи, а в
советское время ничего же практически не писалось.
Лекторский: Боялись писать.
Пружинин: Да, боялись.
Лекторский: Поэтому мало, что осталось. Какая-то полоса, как
будто ничего не было.
Пружинин: Память, память живая есть. И поэтому так важны
наши интервью, наши воспоминания.
Лекторский: Да, надо записывать, потому что потом и это мы
уже не будем знать. Люди умрут, которые это помнят. Если мы не
запишем, то так это все просто исчезнет.
Пружинин: Выше Вы говорили о новом движении в отечественной
философии второй половины XX века. Как Вы оцениваете это
движение сегодня? Можно ли сказать, что оно представляет не только
исторический интерес?
Лекторский: Когда говорят о «советской философии», то в
действительности под этим словом скрываются очень разные вещи. В том
случае, когда западные советологи писали о советской философии, они
исходили из того, что это была на самом деле не философия,
предполагающая абсолютную критичность, обсуждение того, что обычно
принимается на веру (как в жизни, так и в науке), а идеология, способ
мнимого теоретического оправдания политики коммунистической
партии, метод индоктринации интеллигенции. Такая философия
могла только отучать от всякого самостоятельного мышления и вызывать
534
Раздел 4. О времени и о себе...
чувство отвращения. Сегодня некоторые наши журналисты и даже
философы в таком же духе пишут обо всей отечественной философии
советского периода. Легко можно найти примеры, подтверждающие
это мнение. В самом деле, именно таковы были в огромном
большинстве учебники, по которым преподавали в те годы философию,
в таком духе были написаны многие книги по философии, прежде
всего по проблемам исторического материализма и теории «научного
коммунизма». Были официальные представители этой философии:
М. Б. Митин, П. Ф. Юдин, Ф. В. Константинов и др. Иными словами,
реально существовал такой феномен, который соответствует так
понимаемой «советской философии». Но было и другое, то, чего, казалось
бы, не должно было быть в идеологизированном обществе.
Картина философской жизни России в советские годы была
гораздо сложней и интересней. Возрождение отечественной
философии произошло во второй половине XX века. В нашей философии
в эти годы наряду с догматиками и приспособленцами творили
выдающиеся умы, яркие личности, связанные с культурой
России и культурой мировой, с гуманитарным и естественно-научным
знанием. Мы только сегодня начинаем понимать и ценить то, что
было сделано в эти годы и что сегодня оказывается актуальным.
В философии России в это время были заложены такие традиции,
которые сегодня весьма перспективны и могут плодотворно
взаимодействовать с мировой философией.
Если говорить о том, какие же оригинальные идеи были
выдвинуты в новом философском движении России второй половины
XX века, то кратко их суть можно резюмировать следующим образом.
В это время интенсивно исследовалась проблематика логики и
методологии науки. Анализ логической структуры «Капитала»
позволил сформулировать общие особенности метода восхождения
от абстрактного к конкретному как он был применен К.
Марксом — гораздо раньше, чем соответствующие исследования были
проведены в западной философии, в частности в работах Л. Аль-
тюссера (Э. В. Ильенков, А. А. Зиновьев и др.).
Возникает разветвленное исследование проблематики
философии естествознания: проблема причинности в современной науке,
принцип соответствия, принцип дополнительности, принцип
наблюдаемости, принцип редукции, проблема глобального
эволюционизма и др. (Б. М. Кедров, М. Э. Омельяновский, И. Т. Фролов,
Н. Ф. Овчинников, В. С. Степин).
Э. В. Ильенков сформулировал оригинальное понимание
идеального как существующего в формах человеческой деятельности,
исходно в формах коллективной деятельности, т. е. тем самым как
Беседа Б. И. Пружинина с В. А. Лекторским
535
своеобразной объективной реальности по отношению к
индивидуальной психике. Это понимание противостояло философской
традиции, связывавшей идеальное с индивидуальным сознанием. Оно
было еретическим и по отношению к официальному толкованию
материализма в советской философии. Эта концепция имела
большое влияние как в философии, так и в некоторых науках о человеке
(в частности в психологии, особенно среди психологов,
продолжавших традиции культурно-исторической школы Л. С. Выготского).
Интенсивно разрабатывался деятельностный подход в двух
планах: во-первых, как способ понимания человека, его
творческой природы и выхода за пределы любой наличной ситуации, во-
вторых, как важный методологический принцип в науках о
человеке, позволяющий разрушить непроходимую стену между внешним
и «внутренним», субъективным миром. При разработке этой
проблематики философы опирались на ранние работы Маркса, а также
на традицию немецкой философии от Фихте до Гегеля, на
некоторые идет мировой философии XX века (В. С. Степин, В. А.
Лекторский, В. С. Швырев, М. А. Розов). На основе философского
понимания была разработана психологическая теория деятельности
(А. Н. Леонтьев), связанная с традицией Л. С. Выготского и
ставшая программой теоретических и экспериментальных
исследований. Г. П. Щедровицкий создал «Общую теорию деятельности»,
в рамках которой он и его школа анализировали не только
познающее мышление как особый вид деятельности, но и методологию
проектирования и создания разных организационных структур.
С 70-х годов прошлого столетия особое внимание стало уделяться
проблемам философской антропологии. Если первоначально ключом
к пониманию человека служил принцип деятельности, то затем ряд
философов стал усматривать специфику человеческого бытия в
общении, подчеркивая его несводимость к деятельности (Г. С. Батищев).
Интерес привлекают такие экзистенциальные состояния, как вера,
надежда, любовь (В. И. Шинкарук), смысл жизни и смерти (H. H.
Трубников). И. Т. Фролов анализировал проблему смысла жизни и смысла
смерти в контексте взаимоотношения философии и естествознания.
М. К. Мамардашвили разработал антропологическую концепцию,
в центре которой феномен индивидуального сознания. С. Л.
Рубинштейн создал своеобразную онтологическую антропологию, согласно
которой сознание не противостоит бытию, а через человека включено
в него и меняет его структуры и содержание — такое понимание было
несовместимо с принятым тогда пониманием философского
материализма. В контексте интереса к проблеме человека стали интересно
разрабатываться проблемы этики (О. Г. Дробницкий, А. А. Гусейнов).
536
Раздел 4. О времени и о себе...
Уникальной была разработка в эти годы А. А. Зиновьевым
проблем социальной философии. Уникальность эта не только в
оригинальности выдвинутых идей, но и в том, что в тех условиях эти
разработки нельзя было публиковать ни в каком виде.
Важно однако подчеркнуть, что в этой тяжелейшей
идеологической обстановке настоящая (а не официальная) философская
жизнь была весьма интенсивной. Я вспоминаю эти годы как время
появления новых идей, дискуссий, как время заинтересованного и
критического чтения работ друг друга, участия в совместных
семинарах и конференциях, как время интенсивных контактов с
учеными, деятелями культуры.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что идеи, выдвинутые в эти годы в
нашей философии, разработанные в ней концепции, не только не
остались в породившем их времени, как утверждают те, кто не знает
подлинной истории нашей философии. По моему глубокому
убеждению, многие из этих идей очень современны, и могут плодотворно
взаимодействовать с теми подходами, которые выдвигаются сегодня
в мировой философии. Я был главным редактором серии из 21
книги, вышедших в 2008—2010 годах и посвященных обсуждению идей
отечественной философии второй половины XX века. Считаю, это
одним из важнейших моих дел, а издание серии большим событием
не только в философии, но и в культуре нашей страны.
Пружиним: А теперь о Вашей работе главным редактором
«Вопросов философии». Ведь Вы занимали эту должность в течение 22 лет
(с декабря 1987 по декабрь 2009). Как Вы оцениваете этот период
Вашей жизни ? Что он для Вас значит ?
Лекторский: Я стал главным редактором журнала в то время,
которое было критическим и для нашей философии, и для страны в
целом. Волна неприятия марксизма как официальной идеологии
многими распространялась и на философию — во всяком случае на
отечественную, которая подозревалась в том, что является простой
служанкой этой идеологии. К тому же в начале 1990-х годов, когда
для нашей интеллигенции вопросы выживания стали
главнейшими, казалось, что дело не до отвлеченных рассуждений. В этих
труднейших условиях журнал не только не погиб, а обрел новую жизнь.
Я считаю, то, что мы делали в журнале «Вопросы философии» в те
годы, — это было очень важно. Мы на самом деле спасли журнал.
Он мог бы и погибнуть. Журнал выстоял. Не только выстоял, он
обрел новую аудиторию. Стал популярным не только среди
философов. Но это было отстаиванием и философии в целом, так как
журнал и есть лицо нашей философии. Оказалось, что в той ситуации,
в которой мы очутились, самые большие испытания были связаны
Беседа Б. И. Пружинина с В. А. Лекторским
537
даже не с материальными лишениями, а с утратой былых
ценностных опор, с необходимостью нахождения новых жизненных
ориентиров. А без философии это сделать невозможно. Отсюда рост
интереса к философии и к нашему журналу как ее живому воплощению.
Годы моей работы главным редактором журнала я считаю
интереснейшими и важнейшими в моей жизни.
Я считаю, что «Вопросы философии» играют исключительную
роль не только в нашей философии, но и в нашей культуре в целом.
Конечно, в журнале можно печатать только то, что предлагают
авторы. Журнал зависит от того, какие именно проблемы сегодня
изучаются и какие дискуссии ведутся. Особенно значимы для
«Вопросов философии» связи с главным философским центром
страны — Институтом философии РАН. Журнал имеет свою
редакционную политику, выражающуюся и в предпочитаемой тематике, и в
поддерживаемом профессиональном уровне статей, и в том, каким
проблемам посвящаются регулярно проводимые «круглые столы».
«Вопросы философии» — это ежемесячно проводимый
своеобразный смотр достижений отечественной философии. Журнал
оказывает самое серьезное влияние на философскую ситуацию в стране.
Сегодня у нас успешно издается ряд философских журналов:
«Вопросы философии» отличаются от них в ряде отношений.
Назову некоторые от этих отличий.
Во-первых, этот журнал не посвящен какой-то специальной
проблематике (логике, истории философии, социальной
философии, эпистемологии и т. д.), а публикует статьи по широкому
спектру центральных философских тем, в разработке которых
получены новые результаты и которые привлекают сегодня особое
внимание.
Во-вторых, «Вопросы философии» не придерживаются какой-то
одной философской позиции (аналитическая философия,
феноменология, пост-модернизм, неомарксизм и т. д.), а публикуют статьи,
авторы которых защищают разные точки зрения. Журнал видит одну из
своих задач в том, чтобы организовывать дискуссии между
представителями разных концепций. Главное условие публикации — высокий
профессиональный уровень и оригинальность выдвигаемых идей.
В-третьих, в «Вопросах философии» регулярно обсуждается
круг вопросов, связанных с пониманием современной социально-
культурной ситуации в России в ее отношении, с одной стороны, к
прошлому русской культуры, а с другой, к ситуации в современном
мире. Из номера в номер публикуются статьи и систематически
проводятся «круглые столы», которые можно было бы объединить
названием «Мысли о России». В журнале исходят из того, что наи-
538
Раздел 4. О времени и о себе...
более глубоко эту тематику, не просто теоретическую, но жизненно
важную, особенно в тот драматический момент, который мы
переживаем сегодня, можно понять только на философском уровне.
В-четвертых, редакционный коллектив старается делать журнал,
который интересен не только узкому кругу специалистов, а всем
тем, кто размышляет о мировоззренческих, методологических и
аксиологических проблемах современной науки, культуры и
современного общества. Руководство журнала исходит из необходимости
сильного взаимодействия философии с разными сферами
культуры. Поэтому публикуются интересные философские статьи
математиков, физиков, биологов, психологов, историков, искусствоведов,
писателей, политиков, религиозных деятелей (они же участвуют и в
«круглых столах»). Среди подписчиков журнала велик процент
читателей, не являющихся профессиональными философами.
«Вопросы философии» в самом деле можно рассматривать как
не просто философский и даже не просто общегуманитарный, а
как общекультурный российский журнал (в соответствии с ролью
философии как самосознания культуры), как своеобразное
собрание «мыслящей России».
«Вопросы философии» занимают одно из первых мест по
тиражу из всех 250 журналов, издаваемых Академическим
издательством «Наука». Я знаю, что не только российские, но и зарубежные
авторы считают для себя честью публикацию в нашем журнале.
Я рад тому, что в журнале работали и продолжают работать
замечательные люди, интересные философы, не только отличные
профессионалы, но прежде всего люди, преданные делу, прекрасно
понимающие значение той миссии, которую журнал осуществляет
в нашей стране.
Многие годы моим заместителем по журналу был Владимир
Иванович Мудрагей, деятельность которого очень много значила для
журнала. И я счастлив, что после моего ухода с поста главного
редактора «Вопросы философии» продолжают на высоком уровне
выпускаться теми людьми, с которыми я работал вместе многие годы,
которым я доверяю, которых я исключительно высоко ценю. Это
Вы, Борис Исаевич, как нынешний главный редактор, это Надежда
Николаевна Трубникова — Ваш заместитель. Это другие сотрудники
журнала, которые работают не за страх, а за совесть и делают важное
дело, отдавая себе отчет в его общекультурной значимости.
Я отнюдь не потерял связь с журналом: являюсь председателем
его Международного редакционного совета, регулярно участвую в
«круглых столах» (а также в их организации), в обсуждении текстов.
Журнал — важнейшая часть моей жизни. И это останется навсегда.
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной
с В. Н. Порусом
Щедрина: Сегодня 16 мая 2014 года. Мы тут сидим, беседуем и
задаем Володе Порусу такой вопрос: как ты пришел в философию?
Пружиним: Как дошел ты до жизни такой?
Порус: Это, ребята, длинный и печальный рассказ. В
философию я шел всю жизнь. Но я не знал, что я иду в философию.
И судьба меня наконец-то забросила в армию. В армии на втором
году службы, когда я уже был сержантом, я был послан учиться в
городской университет марксизма-ленинизма.
Щедрина: В каком городе ты служил?
Порус: Это был город Снежинск, который тогда назывался Че-
лябинск-50.
Пружиним: Бомбу там делали.
Щедрина: А ты откуда вообще поехал туда служить?
Порус: С Украины, из Луганска.
Щедрина: А в какие войска?
Порус: Эти войска назывались M ООП — Министерство охраны
общественного порядка, которое тогда сменило Министерство
внутренних дел. МВД была аббревиатура, которую все ненавидели
после Берии, и переменили название этих войск. И я служил в войсках
мооп.
Пружинин: Потом все равно заменили.
Порус: Потом возобновили, да. Но это уже было после меня.
Когда я служил, они так назывались. Нет, не все, конечно. Главная
их задача — охрана объектов особой государственной важности.
У нас вся служба сводилась к обеспечению охраны территории,
отдельных зданий, отдельных людей и т. д. Служили тогда три года.
На втором году я, как более-менее грамотный человек, грамотных
было очень мало в армии, был направлен в этот университет
марксизма-ленинизма вечерний. А это для меня была большая вещь,
потому что это было увольнение в город на целый день. А увольнение
у нас было очень большим поощрением, очень редко давали
увольнение. А у меня было каждое воскресение. Пока мы были в части,
каждое воскресение у меня был день в городе. Я готов был не толь-
540
Раздел 4. О времени и о себе...
ко марксизм-ленинизм изучать, но и любой -изм, лишь бы только
отпустили. Но изучая марксизм-ленинизм, политэкономия меня
как-то особо не тронула, а вот философией я стал интересоваться.
Щедрина: А кто вел у вас?
Порус: Я теперь уже не помню фамилию этого человека, но это
был преподаватель филиала МИФИ, который был в этом городе.
Он меня как-то отметил. И однажды я даже пошел к нему домой.
Я увидел там огромную библиотеку философских книг. А он был
человек одинокий, несчастный. Но философ. Вот я у него увидел
эти книги, он мне дал почитать кое-что.
Щедрина: А что?
Порус: Я уже не помню, но что-то интересное. Маха, что ли, я
уже не помню. Да, действительно, Мах. Потому что на курсах
изучали «Материализм-эмпириокритицизм», там Ленин ругает
махистов, а я не знал, кто такие махисты. Вот он сказал: «Возьми и
прочитай». Я прочитал, потом еще что-то, уже не помню что. Короче,
я увидел настоящие книги. Так бы оно и кончилось, но подошел
третий год, и мне надо было определяться: куда дальше идти. Там,
в этом городе, в Снежинске, был филиал МИФИ, он мне и
говорит: «Хочешь, переведись». А я до армии учился в Луганском
машиностроительном институте.
Щедрина: А, тебя забрали из института...
Порус: Да, я же работал на заводе локомотивостроительном...
Учился на вечернем. И я мог перевестись в МИФИ. Но я как-то
побоялся: учебные программы надо было пересдавать. Тут
подвернулся выход из положения: я тогда на третьем году был
исполняющим обязанности командующим взводом. Был старшим
сержантом, офицеров не хватало, и сержантский состав иногда назначался
на офицерские должности. Шел 1965 год. И мой взвод, которым я
командовал, на весенней проверке занял первое место в
Свердловском военном округе по стрельбе. Благодаря якутам. У меня во
взводе было много якутов, и они стреляли как боги. Все остальное не
имело никакого значения, но мишени мы все положили. Благодаря
этим отличным показателям, я, как победитель, был командирован
в Москву на слет победителей соревнований всевоинского смотра.
И приехал я в Москву. У меня было дней девять или восемь в
Москве. Я жил в части имени Дзержинского. Вручили мне медаль «За
20 лет победы над Германией», часы... Потом, правда, я потерял и
часы, и медаль. У меня было несколько дней свободных, и я решил
пойти в университет. Начал я с Моховой. Там был экономический
факультет и философский. Я туда пришел, там Ломоносов стоит, я
за него зашел. Лето было, никого не было. Я спросил: «А где корпус,
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с В. Н. Порусом
541
который на берегу Москвы-реки?» — «это на Ленинских горах, надо
туда ехать». Я же ничего в Москве не знал. Поехал я туда. Пришел,
посмотрел — Ленинские горы и т. д. И как Герцен и Огарев на
Воробьевых горах, я дал себе клятву, что буду учиться только здесь и
нигде больше. Это было мое самое важное решение. Потом вернулся
в часть, стал готовиться, подал документы. Написал отцу в Луганск,
чтобы он забрал документы из Машиностроительного института.
Тот мне написал: «Ты совсем с ума сошел? Приезжай, у тебя тут дом.
Где ты будешь учиться? У тебя там ничего нет — ни денег, ни жилья.
И еще не примут тебя». Я сказал: «нет, я буду учиться только в
Университете». И я стал готовиться. А готовился так: мы уезжали на
неделю-другую в тайгу, в лес, охранять периметр полигона. Там тихо,
спокойно. Ночи напролет я сидел у пульта контрольных приборов и
читал книжки, какие мог достать. Все, что мог достать. Опять-таки
едва не сорвалось все это дело, потому что когда служба подходила к
концу, и я ждал вызова уже на экзамены, в это время меня назначали
дежурным по части. Не по части, а по роте. И дневальный, который
остался за меня ночью дежурить, пошел и ограбил магазин.
Ограбил магазин, его потом поймали очень быстро. Целая шайка там
была. Три человека, они давно уже ходили, промышляли, я об этом
не знал, конечно. И меня могли задержать, не пустить на
экзамены просто потому, что этот «дневальный» был в моем подчинении.
В мое дежурство. Кто-то должен был отвечать. Но на мое счастье,
эти ребята, попав под следствие, мою фамилию не назвали. И меня
оставили в покое. А когда надо было ехать на экзамен, я тоже почти
случайно вырвался, потому что в это время не было командира
части, который меня ненавидел. А ненавидел потому, что, когда я
вернулся из Москвы, рассказал о порядках в дивизии Дзержинского.
По сравнению с нами это был бардак полнейший. Я об этом
рассказал, меня обвинили в том, что я распространяю клеветнические
слухи, позорю нашу столицу, наши войска и т. д. Сказали, что мы еще
посмотрим. Ну, меня уже наградили, я во всех списках Значился,
нельзя меня было так просто наказывать, и остался только осадок у
командира части такой: что с этим гадом надо еще разбираться...
Но на тот момент, когда меня должны были вызвать,
командира части не было, он уехал в какую-то командировку, и меня друзья
предупредили: давай, оформляй все документы в течение
нескольких часов, потому что он вернется скоро, и тебя уже точно не
пустят. Я все сделал, и когда уже выходил из части с чемоданчиком
дембельным, с документами, в это время машина подполковника
Наливалкина заезжала в часть. Я понял, что моя ситуация висит на
очень тонком волоске, схватил такси на последние деньги, доехал
542
Раздел 4. О времени и о себе...
от части до Свердловска, до аэропорта «Кольцово». Там на первый
рейс, которым только можно было в Москву улететь, и улетел. Так
началась моя другая жизнь. Так я пошел к философии.
А на экзаменах у меня получилось так: я жил там у тетушки в
Перловке под Москвой, и понятия не имел, что нужно отвечать и
как надо готовиться. Я в Москве был, собственно говоря, второй раз
в жизни. МГУ для меня представлялся чем-то совершенно
недосягаемым, а я, понимаешь ли, из провинции, после армии. В общем,
приехал в Москву как дикарь. Ну, и какой-то бог надоумил меня
ходить на все консультации. Я пошел на консультацию на одну, на
другую. Я совершенно не боялся экзамена по литературе, тут я был
дока, я все знал наизусть. Более-менее у меня была неплохая
подготовка по русскому языку. А вот что касается истории — тут я
ничего не знал. Абсолютно ничего, кроме учебника истории, который
был тогда в школе, и ничего не читал. Я написал сочинение, тоже
было под вопросом, потому что в выражении «быть или не быть» я
поставил запятую после «быть». Еще неизвестно как это могло
сказаться. А перед экзаменом по истории я решил сходить на
консультацию. В Большой коммунистической аудитории на экономическом
факультете, там, за Ломоносовым. Собралось нас тысяча человек, и
какой-то профессор нам рассказывает, как сдают экзамены по
истории. И говорит, что мы, конечно, понимаем, разная подготовка —
тогда на философский факультет принимали в основном людей со
стажем или после армии, а школьникам давали пять процентов —
ну, конечно, люди уже забыли все, и мы это все понимаем. Но для
нас главное — понимание исторических событий, а не перечисление
дат, событий и т. д. Знаете, говорит, вот типичный пример: когда
человек висит в неопределенности и мы не знаем, какую оценку
ставить, то задаем такой вопрос часто: что является началом развития
капитализма в России? Я навострил уши, слушаю. Он говорит:
«Начинают рассказывать, как заводы строили, как фабрики строили и
т. д. Все это не имеет отношения к делу. Капитализм — это
свободное товарообращение и единая денежная система. В России до
середины XVI века не было единых денег. Когда ввели единую монетную
систему, образовалась российская ярмарка. Она где-то в Нижнем
Новгороде была. Это было при Иване Грозном. Вот с середины
XVI века образование всероссийской ярмарки и единой денежной
системы — вот это и есть начало капиталистических отношений».
Я, конечно, послушал это, ничего этого не представлял.
Пришел я на экзамен, взял билет. В билете было два вопроса.
Первый: «Третий или четвертый поход Антанты на советскую
республику». Ну, я что-то такое мог сказать по этому поводу. Назвал
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с В. Н. Порусом
543
какие-то события, даты, толком еще не зная, что такое Антанта,
я тогда мало что понимал. Второй вопрос был «Культура России
18-го столетия». Об этом я не знал ровно ничего. Ровно ничего не
знал. Я знал только фамилию «Ломоносов», и еще я читал книжку
про Ломоносова, там упоминался его друг Виноградов, который
был основателем русского фарфора. Вот эти две фамилии я знал.
Все остальное — ни живописи, ни тем более философии, ни
поэзии — ничего этого я не знал. Но зато я пришел в гимнастерке, со
всеми значками, в сапогах. И принимали у меня какие-то пацаны,
то ли аспиранты, то ли молодые преподаватели. У них лица были
такие, как будто они жуют лимон и никак не могут его проглотить,
слушая ту ахинею, которую я нес. Но поставить сразу «неуд»
человеку заслуженному, солдату, не солдату, а уже сержанту, старшему
сержанту, они не решались. И они подозвали старшего. А старший
был какой-то то ли доцент, то ли профессор. Он руководил всей
этой группой. Он подошел, они ему там что-то пошептали на ухо.
Я понял, что дело мое плохо, швах. Он подсел ко мне, говорит: «Где
служил?» — «Там-то и там-то». — «Ну, я вижу, ты хорошо служил».
У меня были значки «Отличник Советской армии», «Отличник
войск МООП», какие-то еще были ордена. Да, вот та самая медаль.
Я был весь увешан, как икона. Он говорит: «Ну, ты хорошо служил,
я понимаю, три года, ну, ладно. Ты мне только ответь на один
вопрос — с чего началось развитие капитализма в России?» И тут я
понял, что мне отверзлись Врата. Но я, наученный уже солдатским
опытом, не сделал вид, что вот сейчас вам, га-га-га, отвечу. Я
сначала подумаю. И начал ему говорить: «Понимаете, нельзя сказать,
что развитие капитализма в России началось после петровских
преобразований, связанных со строительством промышленных
учреждений в России». Он говорит: «Почему нельзя?» — «Ну, вы
понимаете, там же использовался наемный труд крепостных» — «Да-да,
правильно-правильно». Тогда я говорю: «Понимаете, мне кажется,
что развитие капитализма начинается с развития
товарно-денежных отношений. А для этого нужна единая денежная система,
нужна какая-то единая торговая сеть». Он вытаращил глаза и говорит:
«Так-так-так!» Я говорю: «Это все произошло в середине XVI века
во время правления Ивана Грозного. Нижегородская
Всероссийская торговая ярмарка». Он говорит: «Сегодня первый мне так
сказал!» Поставил мне «отлично» и говорит: «Иди, солдат, учись!» Вот
так началась моя карьера. На экзамене устном по русской
литературе я боговал. Там я был бог, потому что мне попался билет
«Основные идеи лермонтовской поэмы "Мцыри"». А я ее знал
наизусть. И я им говорю: «Ну, прежде чем говорить о поэме, я лучше
544
Раздел 4. О времени и о себе...
вам ее сначала расскажу». Там была девица и какой-то парень, они
мне говорят: «Вы знаете ее наизусть?!» Я говорю: «Да, знаю ее
наизусть» — «Ну, попробуйте». И я им начал с первой страницы. Они
мне: «Хватит, хватит. Но вот основные идеи?» — «Личность,
протест против бездействия, героизм, порыв к свободе» и т. д. В общем,
начал отвечать. — «Все-все, все, достаточно!» Предложение я
разобрал, все причастия с деепричастиями, получил тоже «отлично».
И у меня стало десять баллов. А за сочинение мне поставили четыре
балла и, таким образом, я получил четырнадцать баллов из
пятнадцати. Это был не то что проходной, а даже выше проходного.
Пружиним: Это высокий бал, да.
Порус: Я написал телеграмму отцу: «В поступлении уверен». Он
мне бьет телеграмму: «Почему уверен?» Я говорю: «Уверен,
потому что уверен». И, таким образом, я поступил в Университет и стал
изучать философию. А дальше это целая история, как я пришел в
философию и как быстро я понял, куда я пришел.
Щедрина: Расскажи, о своих преподавателях?
Пружинин: Володька пошел на логику.
Щедрина: Сразу прям?
Порус: Нет, не сразу.
Щедрина: Вот ты на первый курс пришел. Кто с тобой учился?
Порус: Ну, вот Меськов со мной учился вместе. Рыклин со мной
учился вместе. Киященко Лариса со мной за одной партой сидела.
Это из наиболее известных людей.
Порус: На первом курсе читали лекции люди великие и
знаменитые, но я, конечно, очень мало чего знал, и, конечно, большое
отставание было в общекультурном, в образовательном смысле.
Я мало чего знал. Потом я на первом курсе женился...
Щедрина:А ты когда поступил, Боря?
Пружинин: Я раньше его поступил.
Порус: Он раньше. Он был на два курса старше меня.
Щедрина: А ты, Боря, знал его?
Пружинин: Знал. Я вернулся из армии, учился.
Порус: Я потом расскажу, как мы с Борькой впервые
встретились. Он, наверное, не помнит. Расскажу еще про алгебру... Это
примерно так же прошло, как и поступление.
Первый курс... Я быстро освоился, начал понимать, где я
нахожусь. Мне это быстро объяснили, когда у меня украли последние
ботинки в общежитии. Я пошел в душ в общежитии, оставил все
это без присмотра. Когда я вернулся, не было ни ботинок, ни
носков, вообще ничего. Я вынужден был в тапочках ходить на
занятия, пока не купил новые ботинки. Я быстро понял, куда я прие-
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с В. Н. Порусом
545
хал. Короче, пелена с глаз спала довольно быстро. Потом, конечно,
вся эта тогдашняя ситуация, вся эта коммунистическая трепотня.
Щедрина: Ты в общежитии жил?
Порус. Да, я жил в общежитии. Сначала на Ломоносовском
проспекте, а потом, когда женился, нам дали комнату на Ленинских горах.
После первого курса я пошел на логику. И попал я сперва к Во-
йшвилло. А потом, после Войшвилло, моим гуру стал Зиновьев.
Зиновьев нам преподавал тогда, и был на полставки заведующим
кафедры логики. Был такой момент в его жизни. Ну, как вам
сказать, к этому времени я уже действительно вгрызся в науку,
действительно. Ну, в общем, я хорошо учился. У меня диплом был весь
в пятерках, и была только одна тройка по математике. Дело в том,
что я сдавал экзамен по математике на второй день после свадьбы.
Когда преподавательница спросила: «Что с вами?» — я ответил:
«Я женился» — «Так перенесли бы!» — «Да ладно». В общем, она
мне поставила трояк, а потом четыре года меня подбивали
пересдать, чтобы был красный диплом. Я из принципа отказался. И так
я получил синий диплом с одной тройкой. Ну, теперь про
«алгебру»... Это был такой случай с Грязновым Борисом Семеновичем.
На третьем или на четвертом курсе, я уже сейчас не помню, он
преподавал историю логики. Преподавал он замечательно, но
проблема была в том, что занятия проходили у нас на Моховой, а жили
на Ленинских горах. И мне нужно было к девяти часам утра, или к
десяти, приехать туда. Поэтому надо было встать в пять или шесть,
а я этого не мог, тем более что вечером мы еще и гуляли.
Поэтому я почти на его лекциях никогда не был. А он был человеком
таким покладистым: ну, не ходит и не ходит. Но в списке-то я
числился. Когда пришло дело к экзаменам, я не знал ровным счетом
ничего из его курса. А курс у него был авторский, никакой
истории логики, кроме книжки Стяжкина тогда не было. У Стяжкина
была «История математической логики», а он давал философскую
историю логики, начиная с пифагорейцев и кончая
современностью. Я, конечно, ничего этого не знал. День расплаты
приблизился, я должен был сдать экзамен и мне сказали, что Борис
Семенович спрашивал нас: кто такой Порус. Почему он числится, но
он его никогда не видел. Он не ходит, потому что он далеко живет,
объяснили ему. Он говорит: Ну, вы ему передайте, что на экзамене
он будет отвечать со всеми на равных и к нему будет повышенное
внимание. Мне это все передали. Но что было делать? Я спросил:
«А какой самый трудный билет?» Самый трудный билет — это
становление алгебры Буля и взаимоотношения алгебры Буля с
традиционной логикой. Перевод традиционных силлогизмов в алге-
546
Раздел 4. О времени и о себе...
бру Буля. Я взял книжку Стяжкина, а там как раз этот вопрос был
подробно исследован. И я ее просто выучил наизусть, эту главу.
И больше ничего не знал. Когда я пришел на экзамен, Борис
Семенович говорит: «Очень приятно, познакомимся».
Пружинин: Он такой худой был.
Порус: Маленький, курил непрерывно. Говорит: «Ну, хорошо,
значит, вот садитесь. Но с вами будет особый разговор. Вы не
будете тащить билет, я вам дам самое трудное задание, не обессудьте».
Я говорю: «Ну, что делать...» — «Вот вам перевод традиционной
силлогистики в алгебру Буля. Ответите — хорошо. Нет —
извините». Я почесал затылок опять, тем же самым приемом. За полчаса я
ему изложил все, что я знал. С формулами, со всем. Ну, я
действительно все это подготовил. Он говорит: «Блестяще! Ну, остальное я
у вас и спрашивать не буду! Раз вы это знаете, то все остальное для
вас, ну, я теперь понимаю, почему вы не ходили на мои лекции».
Поставил мне «отлично». Через несколько лет, уже после
аспирантуры, я пытался устроиться на работу, а он тогда заведовал
сектором в ИИЕТе. Я пришел к нему как знакомый человек. Он
говорит: «Я знаю, вы живете далеко. Но если вы на это поднимаетесь,
то мы, конечно, будем рады вас видеть». Ну, вроде все шло к тому,
чтобы устроиться на работу к нему. И я ему тогда говорю: «Вот,
Борис Семенович, я вас когда-то очень сильно провел» — «Меня?
Вы? Когда?!» Я ему рассказал эту историю. Он хохотал минут
двадцать. Ну, тем более приходите на работу, все будет хорошо. Но так
я к нему и не попал, а вскоре он уехал в Обнинск, и там довольно
в скором времени умер, он уже был очень сильно болен. Потом я
много раз ездил в Обнинск на чтения его памяти. И всякий раз с
его женой мы вспоминали эти наши приключения бывшие.
Пружинин: Он моим оппонентом был, Грязное. Оппонентом на
диссертации кандидатской. Выглядело это так: я приехал к нему
домой показывать диссертацию. Он у меня взял и вышел из
комнаты читать. И в комнату вошел здоровущий пес, сел напротив меня,
и я два часа боялся шевельнуться
Щедрина: А как вы познакомились с Борей?
Порус: А с Борькой мы познакомились на партийном собрании.
Сейчас я вам расскажу, он наверняка забыл.
Пружинин: Что-то я не помню.
Порус: Сейчас я вам все расскажу, сейчас вспомнишь. Значит,
это было уже в брежневские времена, и по всему
социалистическому миру прокатилась волна ресталинизации, и она стала
активно обсуждаться во всех коммунистических партиях наших
стран-сателлитов, и в том числе в европейских коммунистических
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с В. Н. Порусом
547
партиях. И там были уже открытые выступления брежневского
каганата насчет того, что надо Сталина реабилитировать, так сказать,
потому что Хрущев очень сильно его облажал, а надо вернуть
Сталину его доброе имя. Я был на втором курсе, значит, это 1967 год.
А Боря был на два курса старше. И поскольку я был членом
Коммунистической партии Советского Союза...
Щедрина: А ты вступил где?
Пору с. В армии.
Пружиним: И я в армии.
Пору с: Ну вот, я был на этом собрании, где поставили вопрос,
причем, на этом настаивала какая-то группа людей, куда Борис,
видимо, входил по каким-то тесным соображениям. Речь шла о
том, что в югославской газете «Борба», во французской «Юмани-
те», в итальянской «Уните» были статьи, где рассказывалось о том,
что в Советском Союзе готовится обратный процесс по
отношению к хрущевским обличениям культа личности. И этот вопрос
был поставлен на собрании. А еще нужно было решать вопрос
такой: надо было на этом партийном собрании выбрать делегата на
областную партийную конференцию, где тоже была уже группа,
которая протестовала против ресталинизации. И против этого там
же в это время был Ягодкин, секретарь Московского горкома
партии, в университете была подхалимская группа, которая работала,
Ленинский райком партии, который тоже был сталинистский весь,
брежневистско-сталинистский. Конечно, они были против того,
чтобы в партийных организациях начиналась эта буза. И вот эти
ребята, они устроили обсуждение на этом партийном собрании.
Щедрина: Против ресталинизации?
Пору с: Да. Зачитывали выдержки из этих газет, и говорили, что
они решительно против того, чтобы... и т. д. А им говорили: что вы
хотите? У Сталина были заслуги перед Отечеством, мы выиграли
войну, мы не должны забывать этого. — Да, но Сталин был этим
самым гадом и сволочью... и т. д. В общем, разгорелась буза. À вопрос
был в том, чтобы принять резолюцию, которую делегат должен был
доложить на конференции. Они предложили текст этой резолюции.
Текст был такой: партийная организация философского факультета
решительно против попыток реабилитации Сталина, культа
личности и т. д. И вот тут я увидел Борьку. Он там выступал в своей
манере. Я подумал: о, вот люди какие, блин. Мне же с ними надо...
Пружинин: Слушай, я смутно вспоминаю.
Порус: А кончилось это вот чем: собрание затянулось надолго,
никто не хотел расходиться. И мудрый инструктор райкома,
который курировал это собрание, подсказал секретарю партийной
548
Раздел 4. О времени и о себе...
организации, что надо перенести собрание. А за это время
подготовить, чтобы правильно проголосовали. И поставили на
голосование вопрос о переносе. Все закричали: «Нет, сегодня надо
принять!» Стали проталкивать. И затем пошли уже на прямой подлог.
Есть кто-нибудь, кто возражает против того, чтобы перенести на
следующий там какой-то вторник наше собрание? Все кричат:
«Есть!» Борис кричит, еще кто-то кричит. Он говорит: «Ну и
хорошо, что нету».
Пружиним: Это было, да. Сейчас я вспоминаю. Точно.
Порус. Ну и хорошо, что нету. Значит, единогласно мы
переносим наше собрание на следующий день. Потом пошли по
факультетам выламывать руки и т. д.
Пружиним: Заиграли все это дело, да.
Щедрина: А в итоге-то что?
ПорусЛ в итоге было вот то, что сейчас есть. Но я тогда
познакомился с Борисом.
Порус: Ну, а потом мы встречались на всяких собраниях,
пересекались. По-настоящему мы стали общаться уже в Институте
философии. Когда я уже там работал, он тоже там работал.
Пружинин: Трубников тебя очень любил.
Порус: С Трубниковым связано вот какое воспоминание: когда
я поступал в аспирантуру, у меня экзамен вступительный
принимала комиссия, во главе которой был Ильенков. Эвальд
Васильевич знал, что я близок к Нарскому, а я в это время писал с Нарским
какие-то работы, даже публиковался уже в это время, и с
Зиновьевым. А он же был против формальной логики: мол, это искажение
философии и т. д. И он меня начал ехидно пытать, например,
такими вопросами: «Вот Вы, наверное, читали "Анти-Дюринг"?» —
«Читал, конечно» — «А какова была судьба Дюринга?» А я понятия
не имел, я думал, что Дюринг это вообще не человек. Я
занимался логикой, и мы на этого Дюринга клали с прибором с высокого
дерева. Ну, он мне: «Вы не знаете даже, кто такой Дюринг! А что
же Вы тогда говорите об "Анти-Дюринге"?! Вы не знаете основных
положений. А вот скажите мне, что такое учение о диктатуре
пролетариата в связи с развитием государства?» Я ему говорю: «Ну, с
развитием государства все диктатуры должны отмереть» — «Как
это — отмереть?! В каком смысле отмереть?» Ну, я говорю: «Ну, так
отмереть, чтобы его не было». В общем, нес я какую-то ахинею.
Дело шло к «неуду». Они выгнали меня из аудитории, где был
экзамен. Ну, не аудитория, а зал заседаний Ученого совета на пятом
этаже в ИФ РАН. Я стою такой потерянный, думаю, что ну все, звез-
дец, я не поступил. А в это время шел по коридору Копнин Павел
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с В. Н. Порусом
549
Васильевич. Подошел ко мне. А он меня знал, поскольку с
Зиновьевым мы часто встречались вместе, и он знал, что я ученик Зиновьева
и что логикой занимаюсь, и перспективный. Я был уже членом, не
членом, а председателем Студенческого Научного Общества
факультета, ну, и публикации у меня уже были. Он подходит: «Ну, как? Все
в порядке?» Я говорю: «Да нет, двойка, наверное» — «Как?» — «Ну,
там Ильенков что-то...» Он там прорычал, оттер меня, он такой
здоровый был, Павел Васильевич, оттер меня и пошел разговаривать с
Ильенковым. Он зашел туда, я так приоткрыл дверь и смотрю. Он
подошел и что-то там такое... Они бурно поговорили. Павел
Васильевич выходит, красный такой, он гипертоник был, кроме того, что
он сильно был болен уже в это время. Вышел и говорит: «Ну, ладно,
тебе "хорошо", но помни об этом. Ты это запомни» — «Павел
Васильевич, я запомню!» В общем, поставили мне четыре балла, и я
поступил. А потом Петр Васильевич Таванец говорит: «Володя, ну, ты
понимаешь, все хорошо, но недовольны были все, ты очень плохо
выступал, плохо экзамены сдавал. Ну как так можно, быть
неподготовленным таким?» — «Петр Васильевич, ну, я в диалектике,
конечно, не очень». Он говорит: «Ну, в общем вот так: мы тут поговорили
с Копниным, тебе дается шанс: ты должен сдать кандидатские так,
чтобы об этом знал весь Институт философии». Я говорю:
«Хорошо». И, действительно, весь первый год я ничего не делал, кроме
того, как учился. Я всю программу университета за пять лет
перелопатил. Я действительно сидел как ишак. Я читал, все
конспектировал, начал понимать, что такое философия, наконец, — я же
логикой занимался. И потом, когда я сдавал экзамен, один из экзаменов
принимали у меня Спиркин и Трубников, еще кто-то, я уже забыл.
И тут я выступил перед ними. Спиркин вообще лежал, а Трубников
смотрел во все глаза, он впервые меня видел. Во все глаза на меня
смотрел, и потом они поставили мне «отлично», я вышел. Он вышел
вслед за мной и говорит: «Послушайте, Володя, но Вы же философ!
Почему Вы занимаетесь логикой?»
Пружиним: Это на Трубникова похоже!
Порус: Я говорю: «Николай Николаевич, так получилось, так в
жизни срослось». Он говорит: «Ну, ладно, всяко бывает, но Вы
запомните — надо заниматься не тем, ради чего стоит жить. А тем,
ради чего можно сдохнуть». Я так ошалел, понял, что для него это
были какие-то слова очень важные, он не просто так их сказал.
«Да, конечно» — что-то там такое пробормотал я. А через
некоторое время я узнал, что он умирает, и уже Борис мне потом
рассказывал всю историю смерти Николая Николаевича, как все это
происходило, как он умирал от этого рака, как он дарил все свои вещи,
550
Раздел 4. О времени и о себе...
как он вещи раскладывал и как он в полном сознании ушел уже
похожий на тень. И вот я тогда понял, что два человека меня
благословило. Потом третий образовался. Это Копнин, который умер
через полгода после того, как меня взяли в Институт.
Пружиним: Его съели, Копнина.
Порус: Там была страшная вещь. Его за книгу «Философские
идеи Ленина» так заклевали, а он уже был болен. И все это
ускорило, он очень быстро ушел. И Трубников тоже уходил в это время, и
тоже от рака. А третий человек, который меня потом благословил —
это Кедров. Я об этом написал, мои воспоминания об этом вошли в
книгу о Кедрове. С Кедровым у меня вот как получилось: я
закончил аспирантуру и готовился к защите. А на работу мне
устраиваться было некуда. А я был не москвич, и когда кинулся искать работу,
мне сказали, что есть где-то на границе с Китаем какой-то город,
я уже забыл его название, там есть город, в котором нет ни одного
кандидата наук. Вот защититесь и поедете туда, значит. Короче, я
без работы. А тогда на работу не брали евреев вообще никак, потому
что перед этим при Кедрове уехал в Израиль Виткин.
Пружиним: Дынин тоже.
Порус: И еще целый ряд людей. А Дынин был членом партии,
его пришлось исключать из партии. Его пришлось исключать из
партии на партийном собрании, куда пришли представители
райкома, чтобы сделать показательное изгнание из партии. И он
пришел, все с ним были в хороших отношениях.
Там такая была ситуация: нужно было устроить показушную
порку ему, а ему устроили балаган. То есть, например, когда он
вышел, там обсуждали его заявление о его выходе из партии, то
спрашивали у него, вступит ли он в Коммунистическую партию
Израиля. Он ответил, что он этот вопрос обдумывает, но еще не решил
в какую, потому что там было две коммунистические партии, и он
знакомился с программой.
Пружинин: Народ лежал вообще.
Порус: Народ лежал. Потом, когда он сказал, что он теперь
будет заниматься этологией вместо философии, то все спросили, что
такое «этология». Он стал долго объяснять, минут двадцать
объяснял, перспективы ее развития и т. д. А инструктор райкома сидел и
его как перекашивало, потому что надо было изгонять из партии
врага народа, а они обсуждают, сволочи, этологию как науку о
поведении обезьян. Эта комедия продолжалась довольно долго. Был
у нас такой человек запоминающейся внешности. Во-первых, у
него была голая лысина, а во-вторых, у него весь передний ряд
зубов был золотой. Челюсть из одного золота. Он, послушав, что ему
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с В. Н. Порусом
551
сказал этот инструктор райкома, вышел на трибуну. А в это время
на него направили свет и вот, значит, от лысины стали блики
отражаться. Это само по себе было очень смешно. А потом он
открыл рот. И свет ударил в зубы, и от золотых зубов лучи света
стали расходиться. Все притихли. И он сказал: «Тут господин Дынин
считает, что мы его исключим из партии». Тут наступила гробовая
тишина. Все видели, что он беседовал с инструктором и, видимо,
наверное, не исключат. Сам Дынин страшно изумился! И в этой
гробовой тишине он говорит: «Нет, господин Дынин, мы не
исключаем вас из партии!» И даже пауза. «Мы изгоняем вас из
партии!» И вот тут уже никто не смог сдержаться от смеха и все
полезли под стулья.
Пружиним: Перед этим Элис выступал, помнишь? А вызов-то
в Израиль как делался? «Тетя» зовет в Израиль. На трибуну вылез
Элис и говорит — он с акцентом, югослав: «Тетя? Тетя становится
политической категорией». Помнишь?
Порус. Да-да! В общем, много было очень смешного. А когда
стали обсуждать мою кандидатуру (на работу), то все это
вспомнили, потому что все уже уехали, и этот уедет. Я без работы хожу, без
всяких надежд. И Петр Васильевич Таванец говорит: «Знаете что,
Володя? Тут мне поступило предложение, оно и вас касается. Мне
сказали так, что если я соглашусь стать секретарем партийной
организации Института, то Кедров пообещал взять моего аспиранта».
То есть меня. «Володя, — говорит Таванец, — я к вам очень хорошо
отношусь. Но я даже ради вас не стану секретарем партийной
организации». Я говорю: «Петр Васильевич, что мне делать?». Он
говорит: «Знаете, что я вам советую? Поговорите с Кедровым сами». А я
никак не мог его поймать. Наконец, я выяснил, что он в Институте,
вышел на улицу, там на ступенечках стою. Как сейчас помню,
поздняя осень, уже снежок идет. Нет, ранняя весна. Это было в феврале.
Щедрина: А год?
Порус: Сейчас скажу. Это был 1974 год. Снежок идет, я стою
и жду Кедрова. А он выходит из Института. И идет к машине.
Я к нему: «Бонифатий Михайлович, Вы меня знаете». А он меня
знал, потому что я участвовал в книге, которая была под его
редакцией «Диалектическое противоречие». Книжка вышла позже,
в 1979 году. Там я ругался с Ильенковым, с Батищевым, с Орудже-
вым. Такие мэтры, а я был тогда никому неизвестный аспирант.
Пружинин: А книжечка-то хорошая была.
Порус: Книжечка до сих пор помнится еще.
Пружинин: Книга очень долго шла, это была своеобразная книга.
Порус: Она девять лет лежала.
552
Раздел 4. О времени и о себе...
Пружиним: Ее Политиздат выпустил потом.
Порус: Ну вот, а Кедров читал мою статью, потому что я
единственный, кто в открытую спорил с Ильенковым. Он говорит: «Вы
там, конечно, не во всем были правы, но мне понравилось, как вы
с Эвальдом». Я говорю: «Бонифатий Михайлович, я сейчас не об
этом. Тут меня на работу не берут, то-се» — «Почему это Вас не
берут на работу?» И тут я уже обозлился и говорю: «Бонифатий
Михайлович, ну Вы же знаете, почему меня не берут на работу». Он
так на меня вылупился и говорит: «Да нет, ну, Вы это...» Я говорю:
«Бонифатий Михайлович, евреев не берут на работу, а я еврей». —
«Так, ну, ладно, завтра придете ко мне в кабинет, и мы об этом
поговорим подробно». Я на следующий день пришел, не спал ночь,
пришел к нему. А его нет, он уехал. Вызывает его секретарь и
говорит: «Тут Федор Тимофеевич Архипцев вас приглашает к себе в
кабинет».
Пружинин: Это его заместитель...
Порус: Да... исполнительный человек. Я явился. Так, Владимир
Натанович, мы тут посоветовались. Мы Вам можем предложить
три места на выбор. Куда вы пойдете? Останетесь в секторе логики
или пойдете к Шептулину? И вот вам еще Дмитрий Павлович
Горский предлагает работать у себя в секторе диалектической логики.
Я говорю: «Дмитрий Павлович? Ну, конечно, я к нему пойду». На
следующий день меня приказом оформили на работу. А через два
месяца, да, состоялось партийное собрание, Таванца не выбрали,
пришел новый партийный секретарь, и они обвинили Кедрова в
том, что он неправильную политику проводил, развел сионистское
гнездо в Институте, в том числе и меня назвали.
Попал я в сектор Горского. И там, в секторе этом, мы встретили
Щедрина: А ты, Боря, уже работал там?
Пружинин: Мы в одной комнате находились. Я работал, да.
Порус: И еще одну историю расскажу. Всемирный гегелевский
конгресс. Это уже относится к моей работе в секторе Горского. Это
был знаменитый гегелевский конгресс. Впервые в России, в
Советском Союзе.
Пружинин: Устраивал Митрохин.
Порус: Ему придавали огромное значение, потому что тогда
разрядка была какая-то там хельсинская.
Щедрина: А какой год?
Порус: Дай Бог вспомнить.
Пружинин: Митрохин еще был зам. директора.
Порус: Ну, в общем, это было такое мероприятие, которому
придавалось огромное значение, политическое: надо было показать,
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с В. Н. Порусом
553
что вот мы часть мирового культурного, философского в
частности, сообщества.
Щедрина: Я посмотрела. 1974 год.
Порус: Да.
Щедрина: Так ты только что устроился?
Порус: Да. Я работал в секторе Горского, и Горскому поручили
руководить секцией диалектической логики на этом конгрессе. А на
эту секцию записалась куча «диалектиков». И Горский стал
созывать рать. Он предложил Е. Войшвилло, И. Нарскому, Ю. Петрову
и они все решительно отказались участвовать в этой секции. Все. И
он подошел ко мне и говорит: «Вот, Володя, получается такая
неприятная вещь: на секции по диалектической логике будут
выступать наши сумасшедшие диалектики. И это будет позор на весь
мир. Мы не представим рациональную точку зрения на диалектику.
Вы могли бы как-то участвовать в ней? Я знаю, что Вы писали об
этом, участвовали в книге». Я говорю: «Дмитрий Павлович, я,
конечно, могу участвовать, но кто я?» Он говорит: «Это даже хорошо!
Вы — молодой человек, начинающий ученый, Вас будут слушать,
там будет международная общественность!» Я воспринял такой
приказ, как лесть, и решил подготовиться. Подготовился. Жил я
тогда в Загорске. Надел свой единственный костюм. И утром
поехал в Москву. А выступать я должен был в четыре часа дня. Я
приехал к десяти часам туда, поднимаюсь на этаж, а там меня встречает
Женя Сидоренко. И говорит: «Слушай, Володька, тут невиданное
дело — на каждом этаже буфет и в каждом буфете чешское пиво!»
Чешское пиво тогда было в диковинку, его никогда никто не пил и
никто никогда не видел. Я говорю: «Правда что ли?!» — «Да, везде!
На любом этаже!» Я собрал все деньги, которые у меня тогда были,
пошел, купил пару бутылочек, до четырех часов еще много
времени. А там «Портер», он довольно крепкий. Я бутылочку, вторую,
третью. Приходит одна порция моих собутыльников, потом
другая, потом третья, потом четвертая. Когда дело уже подошло часам
к двум, они потом мне рассказывали, единственная фраза, которую
ты мог произнести: «Я сегодня выступаю на гегелевском
конгрессе». Это была единственная внятная фраза. Но потом, когда я стал
приставать к женщинам, Женя Сидоренко сказал: «Володя,
наверное, ты сегодня не будешь выступать на гегелевском конгрессе».
И я почему-то решил, что он прав. Я говорю: «А что мне теперь
делать?» — «Иди домой». Я кое-как спустился, кое-как вышел. Потом
я взял направление на метро. Когда я дошел до метро, я уже был
никакой. Когда я пытался зайти в метро, меня без слов, без звука
милиционер развернул на 180 градусов и подтолкнул слегка к выхо-
554
Раздел 4. О времени и о себе...
ду. То есть в метро меня не пустили. Что делать? Я должен как-то
ехать на вокзал, я знал, что надо на Ярославский вокзал, это я
хорошо помнил. Но как туда попасть без метро я не знал. И я решил,
вспомнил, что в армии нас учили ходить по азимуту. Я выбрал себе
направление — с Ленинских гор хорошо видно — и решил никуда
не сворачивать. Так я пошел по прямой к Ярославскому вокзалу.
От метро «Университет» я взял курс и пошел. Шел очень долго,
дело к вечеру было, а потом наступила ночь, естественно. Но я с
пути не сворачивал нигде. Было лето, никакого дождя не было, но
я, видимо, шел через стройки и чтобы не сворачивать никуда, я
попадал в цементные чаши, в глиняные растворы...
Пружиним: Москва строилась.
Пору с. Я не свернул, действительно и таки попал на
Ярославский вокзал. Но когда я пришел на Ярославский вокзал, то дальше
уже идти не мог. Наступила ночь, и никаких электричек не было
уже. Я решил, что нужно отдохнуть. Присел к стене Ярославского
вокзала и заснул. Где-то к четырем стало холодно, я проснулся. Я
знал, что утром пойдут электрички первые. Я посмотрел на себя:
меня не могли пустить никуда. Я был от ушей до пяток в цементе, в
глине. В общем, жуткий совершенно вид. Я решил пробраться кое-
как в тамбур какой-то электрички, самая первая в четыре часа утра
шла. Я пробрался, в тамбур залез, сел, доехал до Загорска. Там тоже
выполз, прошмыгнул какими-то огородами.
Нашел свой дом, дошел и свалился спать. Утром, когда я
проснулся, я понял, что, во-первых, меня выгонят с работы, во-
вторых, у меня больше нет костюма, единственного, а в-третьих, я
вообще себя плохо чувствовал после всего этого. Я решил, что на
работу не поеду, все равно выгонят. Провел этот день в постели,
потом нашел какие-то старые штаны, какой-то свитер,
приоделся, что-то там на ноги нацепил и поехал в Институт. Приехал рано
утром, пришел в свой сектор, никого нет. Я сижу, думаю: «Ну, все,
последние уже мои часы в этом Институте». Открывается дверь и
заходит Дмитрий Павлович Горский. Дмитрий Павлович заходит и
говорит: «О, Володя. Как я рад вас видеть!» Потом сел и говорит:
«Володя, у меня к Вам просьба: скажите, что там было на этой
секции?» Я говорю: «Дмитрий Павлович, а Вас там не было?» — «Вы
знаете, Володя, когда я приехал утром, то увидел на каждом
этаже пиво чешское. Мы так хорошо посидели! Но после этого я не
смог уже придти секцию проводить, Вы же понимаете». Я
говорю: «Дмитрий Павлович, я Вас так хорошо понимаю! Я тоже там
не был». «Боже мой, — сказал Дмитрий Павлович, — значит
рациональная точка зрения на диалектику так и не была представ-
Беседа Б. И. Пружинила, Т. Г. Щедриной с В. Н. Порусом
555
лена!» — «Да...» Но завершение эта история получила совершенно
неожиданное. Оно пришло почти через двадцать лет. Когда я
однажды на одной вечеринке рассказал эту историю Кантору, он ее
запомнил и написал книгу о любви. Книга получила скандальную
известность, но он сказал: «Я тебе ее не подарю». Я говорю:
«Почему?» — «Ты будешь на меня обижаться». Я говорю: «В чем дело?» —
«Ну, понимаешь, мы с тобой уже одно целое, мы как бы Альтер-эго
друг друга. Там главный герой, который вроде бы я, попадают в
ситуацию как у тебя на гегелевском конгрессе». Там, правда, без
диалогов с Горским, что, по-моему, самое интересное. Но идею пройти
от Университета до Ярославского вокзала по азимуту, он
запомнил и написал «по азимуту прошел через все стройки». И говорит:
«Я всем объясняю, что это ты».
Пружиним: Еще интересно получилось: когда я уже уходил из
Института в журнал, Володька в сектор пришел. То есть мы и не
пересеклись.
Порус. Да, я на твое место пришел. А, как я пришел на это
место — это тоже замечательная история. Я расскажу. Дело в том,
что я в это время работал заместителем заведующего сектора
научной информации. Заведующим был Казин Паша. Это была такая
группа референтная при директоре, и обслуживали его
потребности информационные. В это время директором стал Георгий Лукич
Смирнов. А он был направлен в Институт философии то ли за
грехи, то ли не знаю за что...
Пружиним: Из-за болезни. Он уже не мог быть у Горбачева
помощником.
Порус: Он был членом Центрального комитета партии, и его
бросили на Институт. Он пришел, понятия ни о чем не имел, он вообще
был человеком не глупым, но человеком, от философии далеким, как
и от Полярной звезды. Ну, я ему был постоянно нужен, потому что
я польский знал, а ему нужно было переводить иногда статьи. Его
фамилия часто упоминалась в польских газетах, и он меня все
время дергал. Однажды это было так: идет круглый стол о понимании в
«Вопросах философии». Я там должен был выступать, а в это время
понадобился Георгию Лукичу Смирнову. Он послал своего секретаря
искать меня. Она заходит в Красный зал наш и говорит: «Владимир
Натанович, там Георгий Лукич рвет и мечет, он Вас очень требует».
Я прихожу: «Георгий Лукич, я здесь, к Вашим услугам». Он в сердцах
говорит: «Где Вы шляетесь?!» — «Георгий Лукич, я не шляюсь, я
сидел на заседании круглого стола "Вопросов философии"» —
«Круглого стола? А что они там обсуждают?» Я говорю: «Проблему
понимания» — «Дожили. Понимание у них стало проблемой!»
556
Раздел 4. О времени и о себе...
Пружинин: Человек был интересный.
Порус: Совершенно замечательный.
Пружинин: Первое, что его раздражило в Институте, когда он
пришел: карандаши не наточены.
Порус. Да, это его раздражало. А он однажды ко мне обратился
с совершенно замечательной просьбой. Говорит: «Я хочу Вашего
совета спросить» — «Да, Георгий Лукич?» — «Понимаете, по
Трудовому кодексу все сотрудники должны находиться на рабочих
местах. А они никто не находятся. Как быть? Как нам обойти
Трудовой кодекс?» Я говорю: «Георгий Лукич, нет ничего проще!» Он
посмотрел на меня одним глазом — он одноглазый был: «Как?» —
«Георгий Лукич, у нас, если сейчас все сотрудники придут, то не
хватит стульев их посадить». Он говорит: «Какая мысль! Я, —
говорит, — так и напишу! У нас нет производственных площадей, мы
не можем всех посадить!» И отстал от меня после этого. А к тому
времени, когда Боря ушел, он должен был сменить меня на посту
и.о. зав. сектором.
Пружинин: Казин ушел. И ты исполнял обязанности
заведующего сектором.
Порус: Да, Лукич хотел вместо меня Рачкова взять, был там
такой пробивной парень, там какая-то протекция была. Но для
этого надо было как-то меня убрать. Он меня вызвал в кабинет и
говорит: «Владимир Натанович, тут вот, знаете, нам нужно с Вами
поговорить о будущем сектора». Я говорю: «Георгий Лукич, я уже
все знаю. Плохой из меня заведующий, Георгий Лукич, не хочу я
быть заведующим. Давайте так сделаем: я уйду из сектора в сектор
на место Пружинина старшим научным сотрудником, а мое место
освободится». Он говорит: «А Вы не будете возражать?» Я говорю:
«Я не буду возражать. Наоборот, очень даже хочу». — «Тогда мы с
Вами договорились». И меня перевели на место Бориса. Рачкова
взяли заведующим сектором. На Ученом Совете Георгий Лукич
докладывает: «Мы на место заведующего сектором берем Рачкова».
Кто-то спрашивает: «А Порус?». Лукич говорит: «Он о своей
работе выразился так, что я при женщинах даже этого повторить не
могу!» Короче говоря, ушел я, и с тех пор работал у Лекторского в
секторе. А уже оттуда через много лет я ушел в РАО.
Т. Ю. Сидорина
О Борисе Исаевиче Пружинине
Мои родители дружили с семьей Лекторских и раньше
меня познакомились с молодым симпатичным
сотрудником Института философии Борисом Дружининым —
заместителем Владислава Александровича Лекторского
по сектору теории познания.
Когда я заканчивала философскую аспирантуру МГУ, Борис
Исаевич перешел в «Вопросы философии», главным редактором
которого стал Лекторский. И в дальнейшем мои отношения с
Борисом Исаевичем складывались уже вокруг «Вопросов» и позже в
Высшей школе экономики.
Вообще довольно долгое время мое восприятие философской
жизни и отношений с профессиональными философами
пространственно ассоциировалось с районом м. Кропоткинская,
Староконюшенным пер., ул. Волхонка и Садовым кольцом в том же районе
Смоленской площади. Другим географическим центром Москвы
для меня была бывшая ул. Герцена (ныне Большая Никитская), где
располагается Московская государственная консерватория. Борис
Исаевич для меня связан с двумя этими географическими
центрами Москвы, поскольку он не только работал на Волхонке и позже
на Садовом кольце около Арбата, но и жил в районе
Консерватории и там же читал лекции для аспирантов.
Еще до непосредственного знакомства с Б. И. Пружининым, но
уже зная его в лицо, я случайно оказалась около Консерватории,
увидела и подошла к нему с каким-то вопросом. Он прогуливался
в ожидании лекции и подумал, что я пришла на нее. Когда я
собралась задать свой вопрос, он, видимо, сосредоточенный на
предстоящей лекции, сказал, что сейчас начнется лекция, и он мне все
объяснит. Я неоднократно встречала его на ул. Герцена, и это
всегда было очень радостно — встретить хорошего знакомого в этой
замечательной части Москвы.
Как-то, прогуливаясь по Москве и в частности по ул.
Герцена с моим коллегой по ВШЭ известным российским социологом
558
Раздел 4. О времени и о себе...
О. И. Шкаратаном и итальянским социологом Э. Минджони,
который приехал к нам в университет, чтобы прочитать лекцию для
студентов-социологов, мы встретили Бориса Исаевича. Мы
расцеловались, я была рада представить его моим коллегам-социологам,
а немного позже Борис Исаевич сам пришел читать лекции в ВШЭ.
Но еще до этого я общалась с ним, готовя к публикации в
журнале «Вопросы философии», где он работал тогда в качестве
ответственного секретаря, а также в поездках на философскую
школу в Алушту. Борис Исаевич всегда был расположен к дружескому
общению, всегда благожелателен. Конечно, это и сейчас так. Но в
молодости меня это очень трогало, и я была рада, что есть коллега
по цеху, к которому можно обратиться с разными вопросами,
посоветоваться, обсудить волнующие профессиональные проблемы.
Борис Исаевич мне очень помог как редактор. Талант
исследователя и опыт многолетней работы позволяют ему безошибочно
выявить смысловое ядро статьи, увидеть просчеты автора. Ему
также присуще необыкновенное терпение в работе с автором. Думаю,
что во многом благодаря сотрудничеству с Борисом Исаевичем как
редактором состоялись многие мои лучшие статьи.
А еще мы оказались соседями по даче. Я совершенно
случайно купила участок в садовом товариществе «Волхонка» в
Талдомском районе. В этом же товариществе была и дача Пружининых.
Не могу сказать, что я заядлая дачница и умею вести дачный
образ жизни, но одним из важных элементов этой жизни я
представляла общение с соседями. Среди соседей я знала Пружининых,
Светлану Сергеевну Неретину и Александра Павловича Огурцова.
Я называю именно в таком порядке, потому что знакомства мои с
этими людьми строились именно таким образом. И вот, приезжая
на дачу, я прежде всего отправлялась нанести визиты моим
знакомым-философам. Причем мысль навестить Бориса Исаевича
приходила и в неурочное время, например, когда я возвращалась
после сбора грибов из леса, и это могло быть часов в 9 утра. Теперь
я понимаю, что вряд ли это было правильно, потому что я будила
как Бориса Исаевича, так и его домочадцев. Но у меня были
неотложные вопросы, и Борис Исаевич всегда меня принимал. Там же
на даче я познакомилась с детьми Бориса Исаевича Ольгой и
Александром и подружилась с ними.
А потом меня пригласили работать в Высшую школу
экономики. Для меня это было важным событием, начался новый
интересный этап жизни. Мы создавали факультет социологии, но должны
были обеспечить и весь блок гуманитарных дисциплин. Школа
была молодой, только начинала строиться. Меня, конечно, увлекал
Т. Ю. Сидорина. О Борисе Исаевиче Пружинине
559
энтузиазм молодых руководителей ВШЭ, вокруг все кипело, но
как философу по образованию мне хотелось сделать максимально
возможное для того, чтобы в Школе на высоком уровне
преподавались не только экономические, но и гуманитарные, в том числе
философские, дисциплины. Я предложила пригласить
профессоров, преподавателей, ученых, которых я знала, с которыми
сотрудничала и была дружна. Так, в ВШЭ пришли Владимир Петрович
Филатов и Борис Исаевич Пружинин, читать курс логики юристам
мы пригласили Виталия Ивановича Свинцова, автора прекрасного
учебника.
Преподавание философии и ряда других дисциплин
общегуманитарного блока вначале было закреплено за кафедрой общей
социологии, которую организовал и руководит известный социолог
H. E. Покровский.
Борис Исаевич пришел в ВШЭ в 1999—2000 учебном году. Ему
сразу поручили курс философии на самом ответственном и
сложном факультете экономики. Сложность заключалась не только в
том, что это был самый большой факультет, уровень подготовки
студентов был довольно высоким, но и в том, что этот факультет
был в то время лицом ВШЭ, и к нему было пристальное внимание.
Борис Исаевич органично вписался в коллектив кафедры и с
блеском справлялся с преподаванием на факультете экономики.
Это было далеко не просто, и не только потому, что в аудитории
присутствовало более ста человек, но и в силу присущего
экономистам критического отношения к философии. Борису Исаевичу
приходилось не только читать лекции, рассматривать философские
концепции, но и приобщать критически настроенных
экономистов к философскому мировосприятию.
Через некоторое время в ВШЭ пришла группа ученых с
предложением организовать Институт гуманитарных историко-теорети-
ческих исследований (ИГИТИ). Среди этих ученых был А. М. Рут-
кевич. В задачи ИГИТИ входило расширение гуманитарной
проблематики в исследованиях ВШЭ.
ИГИТИ начал свою работу с проведения семинаров,
организации конференций, выпуска препринтов. Борис Исаевич,
конечно, был вовлечен в эти мероприятия. Однажды А. М. Руткевич
поделился с ним идеей создания в ВШЭ факультета философии.
В 2002 году это было довольно неожиданно. В ВШЭ тогда уже
были факультеты права, прикладной политологии и отделение
журналистики, но предложение открыть философский факультет
в семье экономистов, бизнес-информатиков, менеджеров
воспринималось неоднозначно. Удастся ли этот замысел? Борис Исаевич
560
Раздел 4. О времени и о себе...
поддержал идею Руткевича и посоветовал привлечь к этой работе
меня, поскольку я хорошо знала жизнь ВШЭ и имела опыт
создания факультета социологии.
Мы встретились с Алексеем Михайловичем, продумали, что
нужно предпринять, к кому обратиться. Идея создания
факультета была поддержана, и началась серьезная длительная
подготовка к созданию факультета. Руткевич привел команду философов,
среди которых были и сотрудники Института философии РАН, и
профессора, и преподаватели ряда московских вузов, философская
молодежь.
Первый прием на факультет философии состоялся летом
2004 года. Борис Исаевич стал одним из ведущих профессоров
факультета философии.
В 2014 году факультету философии НИУ «ВШЭ» исполняется
10 лет. Это были интересные и непростые годы. Как любое новое
дело, создание и развитие факультета потребовало много усилий.
Мы волновались, придут ли студенты на наш факультет, какими
они будут, получится ли то, что замышлялось? Сначала был создан
бакалавриат, затем открылись магистерская программа и
аспирантура. Факультет рос, со временем присоединилось отделение
культурологии, позже отделение востоковедения.
Борис Исаевич Пружинин все годы работает на кафедре
«Онтологии, логики и теории познания» (заведующий кафедрой
В. Н. Порус), читает курс «Философии науки» для студентов
четвертого курса бакалавриата, руководит дипломными работами,
занимается с аспирантами в рамках курса подготовки к экзаменам
кандидатского минимума. Борис Исаевич — член Ученого совета и
Диссертационного совета факультета.
Мы все очень благодарны Борису Исаевичу за поддержку,
которую он оказывает в публикационной деятельности факультета.
Благодаря его советам и помощи многие преподаватели факультета
стали активнее публиковаться.
Но главное, что Борис Исаевич — наш старший товарищ. Мы
все это чувствуем и дорожим его участием в жизни факультета.
Один из выпускников факультета теперь работает редактором в
журнале «Вопросы философии», так что Борис Исаевич теперь и
наш работодатель.
Один из предметов, которые я преподаю на факультете
философии — философия техники. Этот предмет предваряет курс Бориса
Исаевича по философии науки, так что мы работаем как бы в
связке. Поэтому нам приходится обсуждать, что и как мы включаем в
наши курсы. Я благодарна Борису Исаевичу за предложение при-
Т. Ю. Сидорина. О Борисе Исаевиче Пружинине
561
влечь тексты представителей отечественной философии первой
половины XX века.
Борис Исаевич не только поддерживает мои начинания, но
также и критикует. Так, например, увидев мою увлеченность
антитехницизмом, критикой технократической концепции, Борис
Исаевич пошутил, что я преподаю не философию техники, а
философию «против техники». И посоветовал обратиться к Богданову
Сегодня мы встречаемся с Борисом Исаевичем на
заседаниях Диссертационного совета, на семинарах «Философия —
Образование — Общество», на кандидатских экзаменах, и, конечно, в
редакции журнала «Вопросы философии», которая давно уже
стала не просто помещением, где делают номер, но местом
профессионального и дружеского общения, местом, где можно встретить
коллег, обсудить вопросы и события нашей философской жизни,
принести новую статью, провести время за дружеским чаепитием
и всегда встретить расположение и участие, которое во многом
существует именно благодаря Борису Исаевичу Пружинину, ученому,
философу, педагогу и очень хорошему человеку.
Л. А. Микешина
50 лет как живу в философии
Ленинград
Я вернулась в Ленинград из Москвы, куда мы уезжали на время
учебы мужа в академии. Поступить на работу редактором в журнале,
как это было в Москве, не удалось, и здесь произошел поворот
судьбы: бывшие однокурсники по философскому факультету ЛГУ
позвали меня преподавать философию в Ленинградском горном
институте, где я и проработала 15 лет, с 1964 года до окончательного переезда
в Москву Главным в эти годы было «стать философом», т. е., по сути,
заново приобрести специальность преподавателя философии. Дело в
том, что я окончила в 1953 году философский факультет ЛГУ по
специальности «Психология», где руководителем отделения был
профессор Б. Г. Ананьев, но работать по специальности было негде —
психологию в школе отменили, в вуз без опыта работы не брали.
Историю философии нам читали «в урезанном» виде, семинары по
философии были такими же, как в любом вузе, не более, мое
философское образование было во многом условным. Так что я занялась
самообразованием, и это продлилось всю жизнь, до сегодняшнего
дня. К первым семинарам, которые мне поручили, я готовилась по
12 часов в день, сидя в Публичной библиотеке, так как дома — семья,
маленькие дети и просто не было книг по философии. Меня стали
«выращивать» товарищи по кафедре, за что я благодарна им и
сегодня. Прежде всего это заведующий кафедрой профессор Л. В.
Смирнов, специалист по проблемам вероятности в научном знании и
блестящий лектор; опытные педагоги Е. И. Гиршович, H. M. Соколов и
Н. В. Максимова. Позже, когда я уже уехала, этой кафедрой
заведовали профессор М. С. Козлова, профессор Б. Я. Пукшанский, а
теперь ею руководит мой сын профессор М. И. Микешин.
Так прошли годы, а в 1972 году я не только читала лекции на
больших потоках, но уже защитила кандидатскую диссертацию
по теории познания и методологии науки, под руководством
профессора В. А. Штоффа. Только недавно я осознала, что, становясь
Л. А. Микешшш. 50 лет как живу в философии
563
преподавателем и исследователем философских проблем, я
самообразовывалась под «руководством» не только книг и коллег, но в
значительной степени также и под влиянием журнала «Вопросы
философии», который я начала выписывать с 1969 года и привезла
с собой в Москву все полученные номера, продолжая подписку.
Став преподавателем философии, я не только по
необходимости, но и с интересом начала входить в научную жизнь
ленинградских философов, часто бывала на семинарах философского
факультета ЛГУ, регулярно участвовала в конференциях.
Вспоминаю об этом как об очень активной научной жизни на
факультете, где регулярно работали научные семинары по специальностям
логики (профессор О. Ф. Серебряков), диалектики (профессор
В. И. Свидерский), теории познания и методологии (профессор
В. А. Штофф). На них собиралось много народу и из других вузов
города, они превращались в бурные дискуссии, потому что
Свидерский рассказывал свои новые идеи о материалистической
диалектике, Штофф — о моделировании. На фоне сталинских «черт
диалектики» это были романтически захватывающие свежие идеи.
Мы знали, что В. И. Свидерский прошел войну, уже в конце, в
трудных условиях защитил кандидатскую по совершенно
невероятной теме — «Проблема пространства и времени в квантовой теории».
В тот момент, когда начал работать на факультете, он присоединился
к известным физикам В. А. Фоку и А. Д. Александрову, которые
вместе с другими упорно сопротивлялись проведению идеологического
совещания по физике, что, конечно бы, завершилось ее разгромом.
Обратившись в лекциях к диалектике, он обнаружил, что в
марксизме нет целостного учения о «материалистической диалектике», что ее
надо разрабатывать. Этому он и посвятил последующие годы, но за
весь послевоенный период, будучи блестящим философом и
преподавателем, он неоднократно попадал под преследование за свои идеи,
ему даже приписывали, что он противоречит сталинскому
изложению диалектики в «Кратком курсе». Мы слышали, что его «прятали»
и неоднократно спасали физики, взяв к себе на работу. Учитывались
и его военные заслуги. Но в конце 60-х — начале 70-х он уже свободно
читал лекции о «материалистической диалектике» и «субъективном и
объективном бытии», выступал на теоретических семинарах в
достаточно свободном обсуждении, свидетелями чего мы и были.
Другим «кумиром» был В. А. Штофф, опубликовавший
несколько книг по моделированию в науке. Он был моложе, в войне не
участвовал по состоянию здоровья, мы это знали. Знали и о том, что
он окончил знаменитую в городе «Анненшуле», что дало ему
прекрасное знание немецкого. Он вообще выделялся своей глубокой
564
Раздел 4. О времени и о себе...
образованностью, для меня он — «российский европеец», который,
кроме всего, всегда знал зарубежную литературу по методологии и
философии науки. Как известному ученому, ему удавалось выезжать
в соцстраны, его книги переводились в Германии, Польше, Венгрии,
Болгарии. Там он как-то находил книги на немецком и английским,
что было важным для него как исследователя моделирования в
науке. Вокруг него — не только известного ученого, но очень
приветливого и внимательного к людям человека — была «команда», куда,
в частности, входили А. С. Кармин, В. П. Бранский, И. А. Майзель,
В. В. Ильин, М. С. Козлова и я как его непосредственная ученица.
Он руководил моей кандидатской и консультировал докторскую,
которую я защитила в ЛГУ в 1978 г., уже приезжая для этого из
Москвы. За то, что мы наиболее глубоко занимались именно
философией науки, преподаватели кафедры «научного коммунизма»
называли нас «позитивистско-еврейской» группой.
Я только в последние годы осознала, какую выучку — школу
методологии я прошла у Штоффа, я это знала и раньше, но теперь
я поняла, что у многих отечественных методологов такой
выучки нет. Они знают много чего другого, но такого проникновения в
основания методологии науки, в тонкости общенаучных методов,
например, в большинстве учебных пособий по философии науки
нет. И часто в это даже не вникают, просто перечисляя некий
дежурный набор методов, не структурируя их по функциям и месту,
считая это «скучными азами». Но «дьявол кроется в деталях», и
такой невнимательный подход методологов и эпистемологов не
позволяет выделить целую серию других базовых операций и методов
в научном познании. Именно школа Штоффа позволила мне не
сразу, но постепенно осознать фундаментальную роль
репрезентации (несмотря на ее критику), интерпретации, конвенции,
категоризации, редукции и других методов и операций, которые просто
не привлекают внимания методологов. И этот список не завершен,
он будет продолжен, если одной из главных задач современной
эпистемологии и методологии научного познания будем считать
исследование понятийного аппарата, описывающего присутствие
человека и его активную роль в получении знания.
Отмечу еще один значимый для меня момент в формировании
моих философско-методологических представлений о научном
познании, наряду с влиянием В. А. Штоффа. Это
первоначальное приобщение, еще в Ленинграде, к работам В. Н. Садовского,
В. А. Смирнова, В. С. Швырева, а особенно В. А. Лекторского, у
которых присутствовала важная идея: принципы методологии
науки могут не зависеть от философии. Это справедливо уточняло
Л. А. Микешшш. 50 лет как живу в философии
565
функции методологии, но и неявно предполагало не столь жесткое
подчинение марксизму. Я стремилась войти в крут исследований
этих авторов, овладеть культурой и навыками
логико-гносеологического и методологического исследования, на что уйдут многие
годы, уже в Москве и при непосредственном общении.
Одна из фундаментальных проблем, которая занимала
ленинградских (как и киевских, московских и др.) философов в 1960—
1970-х годах — это проблема детерминизма. Казалось бы, с ней все
ясно в рамках марксизма и традиционных учений о причинности
и лапласовском детерминизме, но вот появился в стране перевод
книги М. Бунге «Причинность» (М., 1962), статья польского
философа С. Амстердамского «Разные понятия детерминизма» в
«Вопросах философии» (1966. № 7), статьи Ю. В. Молчанова, А. А. Иви-
на, Г. А. Свечникова, М. А. Парнюка о причинности в физике и др.
В этих работах традиционное понятие детерминизма стало пробле-
матизироваться и, по крайней мере, не сводилось теперь только к
одной форме — причинности. Это был несомненный прогресс, в
качестве других видов стал рассматриваться целый «спектр
детерминаций» — необходимая и случайная (вероятностная), возможная и
действительная, самодетерминация, взаимодействие, динамическая и
статистическая и др. Если до этого действительными законами
считались только те, которые единственным образом определяют
поведение объекта, то теперь было осознано, что в случае относительной
детерминации поведение объекта не определено строго однозначно.
Закономерности фиксируются лишь статистически, наступление
отдельного события или изменение системы можно определить лишь
вероятностно, принципиально неоднозначным образом.
Это стало определенным «потрясением» и стимулом для новых
исследований. Пошел поток работ, я сама в 1978 году защитила
докторскую по теме «Детерминация естественно-научного
познания» с включением компонентов ценностного влияния на научное
знание, и уже наступал определенный поворот к проблемам
«социального детерминизма» (конференция в Ростове-на-Дону,
работы Н. В. Мотрошиловой, Е. А. Мамчур и др.). Но уже и в секторе
теории познания Института философии обращаются к проблемам
культурной опосредованности субъектно-объектных отношений
(В. А. Лекторский), культурно-исторический подход к проблеме
рациональности (Н. С. Автономова, Б. И. Пружинин), роль
традиции как когнитивного и социально-культурного феномена в
трансляции знания (И. Т. Касавин, В. Н. Порус) и др.
Наиболее интересные обсуждения и жаркие дискуссии уже
в 70-х годах возникали на заседаниях научно-методологическо-
566
Раздел 4. О времени и о себе...
го семинара Марии Семеновны Козловой, блестящего
преподавателя философского факультета ЛГУ, которая позже станет
известным специалистом по Л. Витгенштейну и переедет в Москву.
Неравнодушная к нашей общей теме научной методологии, она
приглашала молодых, но уже известных философов из разных
городов. В частности, с «экзотическими» для нас и для того времени
докладами приезжали Ю. Н. Давыдов с темой «Эстетика
нигилизма и проблемы отрицательной диалектики», Н. В. Мотрошилова
с романтическими, захватывающими рассказами о
феноменологии и др. Но особенно мне запомнился интеллектуальный «бой»
двух концепций «философской теории физики» — В. П. Бранско-
го и В. С. Степина. Потрясала сама ситуация: как это возможно,
должна быть единственно правильная концепция, но в марксизме
такой не было, надо было создавать самим! И вообще может
существовать не единственная концепция. Бранский рассматривал
теоретическое знание как синтез умозрительного и эмпирического и
формулировал «четырехстадийную закономерность» развития
научного исследования, различал фундаментальное и
нефундаментальное теоретическое знание, особое значение придавал проблеме
наглядности в физике. Степин излагал идею о роли теоретических
схем в соотношении с картиной мира, с математическим
аппаратом и экспериментально-измерительной деятельностью. Вряд ли
присутствующие могли разобраться «на слух», но Степин был
понятнее и убедительнее, я уже в то время приняла его сторону, хотя
разобраться в сути смогла только годы спустя, когда вышла его
статья в «Вопросах философии» (1974. № 12) и его книги о теории.
На протяжении конца 60-х и 70-х годов под Петергофом, в «Доме
учителя» проходили ежегодные популярные конференции,
организатором которых были философский факультет ЛГУ, Проблемный
совет по материалистической диалектике (профессор Ф. Ф. Вяккерев),
организационное руководство осуществлял доцент Дмитрий
Александрович Гущин с командой. Он окончил философский факультет
МГУ (1958), затем аспирантуру в ЛГУ, да так и остался в Ленинграде.
Это человек удивительный, он никогда, например, не носил
пальто, потому что всегда и всюду был в автомашине, подъезжал прямо к
двери, даже в мороз, и просто был все время в движении, что-то
организуя ради коллег-философов. Талантливый организатор и
энтузиаст, он многие годы «держал на плечах» эту известную в стране
конференцию, куда ежегодно приезжали из разных городов философы:
москвичи, прибалты, украинцы и белорусы. Довольно быстро
вышли за пределы диалектики, сложных проблем, сугубо теоретических
не ставили, а как бы рассказывали кто и что за прошедший год еде-
Л. А Микешшш. 50 лет как живу в философии
567
лал. Это было интересно и важно, всем хватало места и времени для
выступления и для прекрасных вечеров на берегу Финского залива.
Приезжали и «генералы», гости из Москвы, обычно ненадолго. Как-
то был Г. С. Батищев, молодой и радостный. Он всегда имел свою
позицию по проблемам диалектики, творчества, общения. К нему
очень хорошо относились приезжавшие на конференцию, тянулись к
общению с ним, но почему-то его достижения отождествляли только
с идеями о законе единства и борьбы противоположностей.
Я переехала в Москву в 1978 году, Вячеслав Семенович приехал
несколько позже, до этого он руководил кафедрой философии в
БГУ и в эти годы часто приглашал меня оппонировать в
руководимом им совете и читать лекции в ИПК, а также сотрудничать в
коллективных монографиях. Я подружилась с прекрасными людьми
на кафедре, до сих пор вспоминаю А. А. Михайлова, специалиста
по М. Хайдеггеру и герменевтике, А. И. Зеленова, Л. Ф.
Кузнецову — сегодня известных белорусских философов. Однажды я чуть
не опоздала на поезд, уезжая из Минска: передавали знаменитое
выступление академика Сахарова, надо было дослушать, и еще шел
проливной дождь, а от гостиницы «Минск» до вокзала очень
близко и разумно идти пешком. Я едва успела в последний вагон.
Интересно вспоминать, как в годы перестройки, когда
начинали меняться «идеологические приоритеты», мы встречались с
философами в разных республиках, выезжая по поручению
президиума Философского общества СССР, в котором я довольно
долго работала вместе с блестящим организатором профессором
А. Н. Чумаковым. Я вспоминаю поездку в годы перестройки в
Грузию, Тбилисский госуниверситет. Удивительная была атмосфера в
эти годы. За круглым столом встречаемся с грузинскими коллегами
во главе с председателем философского общества Грузии
профессором М. К. Мамардашвили. В составе нашей группы Л. П. Буева,
Г. Г. Майоров и один из белорусских академиков. Мы в некоторой
эйфории (почти все можно говорить! Уже М. Горбачев) свободно
выступаем, призываем обсудить новые проблемы философии и
марксизма. Отзывается только Мераб Константинович,
размышлявший среди прочего о «смене языка философии» и, в частности,
марксизма, что звучало очень интересно и достаточно вольно.
Аудитория начинала пустеть на глазах, преподаватели исчезали под
предлогом занятий. Никто, кроме него и нас, не выступал,
некоторые заключения сделал председатель Философского общества
Грузии. Мы «увяли» и поняли, что ничего еще не произошло в этом
университете. И только в гостинице по вечерам в номере можно
было услышать напряженное и жаркое: когда Грузия будет свобод-
568
Раздел 4. О времени и о себе...
на?! Это произнесла преподаватель эстетики. А поезд ходил уже по
маршруту «Россия—Грузия», т. е. они уже видели себя
отделившимися, а мы тут к ним с философскими проблемами...
В этой же поездке был еще один случай, говорящий сам за себя:
белорусский академик был с женой, она химик и всюду ездила с нами —
в старинные монастыри и селения, любовалась бурным цветением
алых маков на зеленом поле прекрасной весенней Грузии. И вдруг
однажды в машине, обращаясь к нам, она произнесла накипевшее —
бурную речь, глубоко нас осуждающую за наши критические идеи и
поддержку реформ Горбачева. «Как вы могли?! Вы главные идеологи
и так предаете идеи партии и советской страны!!» Мы были
посрамлены. .. Химику виднее со стороны, мы же их учили идеологии.
Была еще одна интересная встреча. Также по линии
Философского общества СССР, которое доживало последние годы, чтобы
стать Философским обществом России, мы вместе с А. Н.
Чумаковым ездили в Киев — на заседание, где официально философы
Украины выходили из состава Философского общества СССР,
создавая свое объединение. Выступил Чумаков, все объяснил и
пожелал удачи, стали выступать украинские профессора — и возникла
непредвиденная трудность: философы из Львова и других западных
городов потребовали выступать на украинской мове. А
профессора не могли перейти, они, если говорили, то только на обыденном
украинском, но не владели философским украинским языком. Все,
кто мог, бросились подсказывать — «западники» не соглашались
уступить, и сидевшие вокруг нас философы говорили с тоской: вы
видите, что нас ждет. Это была реальная проблема, язык еще надо
было создавать, по-видимому, в дальнейшем это было сделано и,
кроме того, они стали пользоваться и понятиями на английском.
К этому периоду примыкает и моя поездка на конференцию в
Крым, посвященную движению Н. К. Рериха «Живая этика» и
«Знамя мира». Позвали и философов, я выступала с докладом об
истине, ее этических смыслах. Полный зал людей, не
«задавленных» абстракциями. Слушали, но вдруг с первого ряда вопрос:
почему вы нам марксизм читаете? Отвечаю: это проблема истины
в классической истории философии. Другой вопрос: а как вы это
будете объяснять детям, в детском саду?!! В перерыве подходили
участники из зала и говорили: «Доклад, к сожалению, от ума, и
только ответы на вопросы — от сердца». Приглашена была
большая группа индийских последователей «живой этики»,
внимательных, очень сдержанных, кители застегнуты на все пуговицы. Они
потом отмечали окончание и пригласили нас всех, кроме, к
нашему огорчению, С. Б. Крымского, известного гносеолога и методо-
Л. А. Микешина. 50 лет как живу в философии
569
лога, с которым мы все дружили и с интересом читали его работы
по теории познания. Когда мы приезжали в Киев на конференции,
он мог водить нас по городу не вообще, а по «эпохам», рассказывая
о Киеве определенного века. Не пригласили, думаю, потому, что он
был весь расстегнут (жарко!) и вел себя очень свободно на
встречах, явно шокируя их. На прощальном застолье последователи
«живой этики» напоминали нам, что Бог сотворил человека, чтобы
дальше он творил себя сам. Еще непривычно было такое
разнообразие идей и мнений, когда многое можно говорить и по-разному
думать, — это был признак новой эпохи в стране и философии.
Уже с первых лет моего переезда в Москву и работы на
кафедре философии МП ГУ (тогда МПГИ) я получила возможность
включиться в жизнь философов, в частности посещая в
Институте философии заседания сектора теории познания, руководимого
В. А. Лекторским, где я даже сделала доклад о неявном знании и
получила одобрение, в частности, В. С. Швырева. Это было очень
важно для меня как «новичка» среди московских эпистемологов.
Я старалась постоянно участвовать в семинарах и заседаниях этого
сектора, встречаясь с ведущими методологами и гносеологами
страны, что для меня было своего рода «школой». Для меня очень
значимыми были исследования по методологии и философии науки
М. А. Розова, с которым мы в одни годы учились на философском
факультете ЛГУ, особенно идеи о знании и социальной памяти,
дополнительности в гуманитарных науках, его понимание
релятивизма и др. Я постоянно обращалась к логико-гносеологическим
статьям и монографиям В. С. Швырева, Е. П. Никитина. Особенно
значимы идеи П. В. Копнина, с работами которого я была хорошо
знакома еще до его приезда в Москву. Кстати, необходимо
вспомнить о многих конференциях в Киеве и о дружбе с киевскими
философами, не только с С. Б. Крымским, но и с П. С. Дышлевым как
известным методологом естественно-научного знания.
В эти годы проходило много конференций, Институт
философии снимал осенью или весной, когда малый заезд, помещения
домов отдыха в Подмосковье. Меня приглашали, и я постепенно
входила в философское сообщество при Институте философии,
в котором уже 35 лет. Я, например, была оппонентом на
защитах докторских диссертаций у Л. А. Марковой, Б. И. Пружинина,
И. Т. Касавина, Н. И. Кузнецовой, В. А. Колпакова и др.
Сегодня тесно связана с работой высоко профессионального журнала
«Эпистемология и философия науки» под руководством И. Т.
Касавина, очень ценю общение с членами редколлегии и
сотрудниками сектора, особенно с Л. А. Марковой и А. Л. Никифоровым.
570
Раздел 4. О времени и о себе...
Переезд В. С. Степина в Москву и особенно руководство
ИФ РАН сделало очевидным, что этот человек объединит
философов и методологов науки на последующие годы. Тем более это стало
очевидным, когда многие методологи стали разрабатывать понятие
научной картины мира, идеалы и нормы научного познания. У
каждого, кто вошел в это сообщество, свои резоны. У меня это
складывалось так. Я участвовала в конференциях по картине мира, писала
статьи — вошла в круг тех, кого стали называть «картинщиками».
Однако очень скоро я начала понимать, что общие идеалы и нормы
научного познания можно конкретизировать, а картина мира — это,
хотя и главная, но не единственная форма предпосылочного знания
в науке. Речь должна идти о системе предпосылок, через которые в
научное знание входят разные формы ценностей. В науке
представлены не разрозненные компоненты, ценностно «окрашенные», но
своего рода система, состоящая из картины мира, стиля научного
мышления, философских, методологических, наконец,
идеологических принципов, понимание которых варьируется в разных школах
и направлениях. Только они не могли меняться «все в раз», как это
представлено в учении о парадигме у Т. Куна, они несли традиции и
в большей степени были укоренены в культуре.
Это был определенный итог моих исследований проблемы
ценностей научного познания. Они начались еще в Ленинграде, и уже
в кандидатской диссертации (1972) о структуре и функциях
научного метода была глава о методе как познавательной ценности, а
также о социально-исторической обусловленности научного
познания в широком смысле, т. е. сама социальность понималась как
универсальное свойство человеческого познания вообще. Такой
подход к ценностям в познании не был еще общепринятым.
Господствовали представления о ценностях, разработанные
профессором В. П. Тугариновым на философском факультете ЛГУ в
контексте принципов марксистской философии (1965). Понимание
природы ценностей носило преимущественно онтологический
характер. Однако уже в те годы появилась книга «Проблема ценности
в философии» (1966), где были представлены, в частности, другие
позиции (например, И. А. Майзеля о науке и проблеме ценностей),
взгляды неокантианцев, а также Д. Дьюи, М. Шелера, Н. Гартмана
и др.). В 1970—1990 годы проблема ценностей в познании
становится одной из ведущих и для московских исследователей. Были и
конференции, в частности, я участвовала, наряду со многими
философами из Москвы (И. Т. Фролов, В. С. Степин, Г. С. Батищев,
Е. А. Мамчур и др.) в конференции «Ценностные аспекты
современного естествознания» (Обнинск, 1973). Для меня это стало важ-
Л. А. Микешшш. 50 лет как живу в философии
571
ной темой исследования на десятилетия и завершилось
монографиями (Ценностные предпосылки в структуре научного познания.
М., 1990; Эпистемология ценностей. М., 2007).
Особые воспоминания — это поездки на российские и
международные конгрессы. Расскажу о некоторых. В 1997 году состоялся
I Российский философский конгресс, членом оргкомитета которого я
была, как и одним из руководителей секции теории познания, наряду
В. А. Лекторским и А. С. Карминым. Такого рода конгрессы
позволяют увидеть состояние и направления разработки проблем, в частности
в области теории познания и методологии науки. Поскольку я
писала обзор работы секции, то получила доступ ко всем выступлениям
и заявкам, т. е. достаточный презентативный материал для выводов о
ситуации в этой области философского знания. Насколько помню, я
пришла к выводу, что по-прежнему господствует теория отражения,
часто трактуемая натуралистически, а это означало, что субъект и
объект рассматриваются в оппозиции или в причинно-следственной
связи; предполагается, что все индивидуальные, личностные
особенности познающего должны быть элиминированы из знания и
познавательной деятельности и это принимается как условие получения
объективной истины. Знание понимается как «слепок», «копия»,
«образ» — как результат отражения, истинность которого
отождествляется с адекватностью и обусловливается «очищением ума» от ценностей
и культурно-исторических условий. Иными словами, в теории
познания для широкого круга отечественных философов все оставалось
без изменений несмотря на то, что уже почти 10 лет, начиная с
перестройки, можно было свободно мыслить и свободно читать не только
марксистскую литературу. Все это было очень огорчительно и в
значительной степени связано с невежеством и «непросвещенностью».
Разумеется, с каждым конгрессом ситуация менялась.
Уже в Свердловске на II Российском философском конгрессе
«XXI век: будущее России в философском измерении» (1999)
появилась новая проблематика синергетики, сама я выступала с
пленарным докладом о «новых образах познания и реальности», а на
секции по эпистемологии прозвучало три обстоятельных доклада о
герменевтике и познании (В. Г. Кузнецова, В. В. Миронова и мой).
На конгрессе в Москве (май, 2005), где я вместе с И. Д. Невважа-
ем и Б. Г. Режабеком руководила трехдневным заседанием секции
теории познания, а также эпистемологии и философии науки
выступило более ста участников, взгляды которых были предельно
разнообразны. Обсуждать их в такой ситуации, к сожалению, не
удавалось, и это вызывало неудовлетворение, видимо, поэтому
в заключение меня попросили прочитать лекцию по теории по-
572
Раздел 4.0 времени и о себе...
знания, как я ее читаю перед студентами и аспирантами, что я и
сделала за 45 минут. Очень многие подходили с вопросами, уже за
пределами заседания, дарили вновь написанные статьи и книги,
но важно было одно — ситуация в отечественной теории познания
стала существенно меняться во всем философском сообществе.
Сказать что-либо про последующие конгрессы я не могу,
поскольку я в них, к сожалению, не участвовала.
Стоит вспомнить о зарубежных поездках на конференции и
конгрессы тех лет. В 1983 году состоялся VII Международный конгресс
по логике, методологии и философии науки в Зальцбурге (ФРГ).
Начиналась перестройка, и если раньше подобные группы
возглавляли «генералы», то теперь это были специалисты: И. В. Блауберг,
В. Н. Садовский, В. А. Смирнов и др. Опишу только некоторые
моменты. На одном из секционных заседаний выступает сэр К. Поп-
пер, обычная аудитория, кафедра и мы сидим за столом, к которому
придвинута эта кафедра, слушаем его идеи, с которыми мы начали
знакомиться, в том числе по вышедшей уже на русском языке
книге «Логика и рост научного знания» (М., 1983. Сост. и ред. В. Н.
Садовский). А на доске за спиной Поппера мелом написано: «К. Поп-
пер просит подойти г-на В. Садовского» — все по-рабочему и даже
по-домашнему, как на занятиях у себя в аудитории. Наши
методологи и логики сделали очень достойные доклады, и в конце
недели, когда уже все участники, выступив, сразу уезжали, мы — одни
русские! — честно сидели в аудитории и слушали своих
докладчиков. При этом все должно было происходить на английском, даже
когда вел В. Н. Садовский, русский язык не был рабочим. И еще
одна особенность быта нашей советской группы: мы навезли с
собой сухих продуктов и даже банки консервов, которые грели,
налив горячую воду в раковину, а когда уезжали, многое оставили,
вызвав недоумение уборщиков. А при покупке билетов на поезд
Зальцбург — Вена кассир долго пыталась убедить Садовского, что
надо брать общий на группу билет, это гораздо дешевле, а он не
соглашался. Она же не знала, что каждому ученому надо было
персонально отчитываться в своей организации за расходы, мне,
например, в Министерстве образования, куда я вернула все до шиллинга.
Бостон для меня особый город, я была в нем три раза. В 1991, 1993
и 1998 годах. Поездки с группой преподавателей из МП ГУ в один из
университетов Suffolkuniversity, где учились студенты из разных стран
мира, в том числе из наших бывших союзных республик, а также в
колледж под Бостоном, преподаватели которого поселили нас у себя
дома. Американские коллеги принимали нас с любопытством и
желанием помочь, как людей из страны, победившей коммунистиче-
Л. А. Микешшш. 50 лег как живу в философии
573
ский режим. У нас в университете создавался социологический
факультет, и американские коллеги-социологи передавали нам свой
опыт. Мы посещали лекции и практические занятия, после обеда
для нас профессора проводили специальные семинары, где излагали
содержание курсов, учебников, теоретических и практических
пособий, многие из которых они нам подарили. Все было интересно и
умело организовано, кроме того, нам прочитал лекцию специалист
из Дома Кеннеди о Карибском кризисе, показали нам дом-музей
известного американского философа и поэта Р. У. Эмерсона и многое
др. В городе было много приехавших из России, в том числе,
например, одноклассники наших преподавателей, и они завидовали нам:
здесь не то, рутина, а вот у вас там жизнь! Бурная и активная... С
некоторыми американскими преподавателями мы задружили и
принимали их в 1992 году у себя на социологическом факультете.
Второй наш приезд пришелся на осень 1993 года, нас
принимали уже как хороших знакомых, но от нас хотели ежедневных
рассказов, что происходит в Москве, почему обстреливают дом
правительства, о чем мы сами ничего не знали и, по сути,
пытались понять и объяснить утром то, что вечером смотрели по CNN.
Приходилось постоянно выступать (переводчики — наши
преподаватели), объясняя поведение Горбачева, Ельцина, Руцкого и др.
Трудности были и в том, что сама наша группа преподавателей
раскололась на сторонников Хасбулатова или Ельцина, парламента,
коммунистов или демократов. Это очень памятная ситуация...
С Бостоном у меня связаны и личные обстоятельства: в 90-х
моего старшего внука мать увезла в этот город, там он и вырос, мы его
больше не видели. Только недавно в фейсбуке увидели фото, где он
в военной форме — вернулся из Афганистана.
Самая насыщенная поездка в Бостон была в 1998 году на
XX Всемирный философский конгресс «Пайдейа», который
проходил в только что построенном в центре Бостона
небоскребе-гостинице (в 1993 г. его еще не было), апартаменты которого
предполагали проведение крупнейших мероприятий, для чего были залы
с раздвигающимися стенами и множество комнат-классов. О
конгрессе много написано, в том числе в «Вопросах философии»,
поэтому отмечу лишь некоторые частные подробности. Наша
делегация была не менее 100 человек, и если на XVIII конгрессе 1988 года
(Брайтон под Лондоном) поездку каждого из нас, включенного в
тщательно подготовленный список, оплатило государство, то
теперь каждый изыскивал возможности или приехал на собственные
деньги. Мне помог мой докторант из Архангельска, который уже
создал собственный компьютерный центр, приносящий ему до-
574
Раздел 4. О времени и о себе...
ход. Наша группа была шумная и «разношерстная», так как ее
никто уже тщательно не отбирал. Примечательно, что любимым
местом встреч стал семинар по российским проблемам, руководимый
И. Т. Фроловым. И очень скоро на него стало собираться
большинство из наших, не знавших английского и не стремившихся на
встречи с всемирно известными философами для обсуждения
проблем философии. Ежедневно они собирались и спорили «стенка на
стенку» о проблемах России. Стоило ли для этого лететь в Бостон?!
На пленарном заседании, на симпозиумах мы увидели очень
многих из тех, кого все советские годы только критиковали, чьи
работы были недоступны. Теперь мы могли услышать и увидеть
У. Куайна, К.-О. Апеля, Ч. Парсонса, Р. Рорти, Э. Агасси, А. Дан-
то, и др. Мы с гордостью слушали Н. С. Автономову, выступавшую
на пленарном заседании от России. Однако «патриотам» из нашей
группы не понравилось, что она говорила на английском, а не на
русском, который был рабочим и его даже переводили, хотя
плохо и только на пленарном, но не на семинарах. Это напомнило мне
ситуацию 1988 года, когда, приехав с XVIII всемирного конгресса,
я рассказывала преподавателям — лингвистам и филологам — как
хорошо, что в нашей делегации было достаточно философов,
выступавших на английском языке. Встал
профессор-коммунист-патриот и долго возмущался: «Выступали не на русском»! — Осудил
мои восторги и ушел, хлопнув дверью.
На конгресс многие университеты из разных стран привезли свои
издания классиков философии, и можно было все покупать, по
крайней мере, посмотреть и даже читать, сидя рядом с прилавком. Это я
и делала (особенно когда шли занудные выступления на семинарах),
существенно просветившись в новейших изданиях и даже что-то
приобрела на скудные доллары, а больше я вообще ничего не покупала.
С конгрессом в Бостоне у меня связаны еще одни воспоминания.
Мы встречались с теми философами, которые давно уже уехали из
Ленинграда. Одна из них, дама очень почтенного возраста,
профессор Р. Зельман, которая приехала за границу с 70-летним сыном, и
их обеспечили пенсиями и двумя квартирами на одной площадке
нового дома, построенного для пенсионеров. Другая — Л. Мерзон,
фронтовик, прошла всю войну, профессор, философ-гносеолог из
педагогического института имени Герцена в Ленинграде. Она
пережила две трагедии: первая — самоубийство дочери, брак которой с
иностранцем государство отказывалось регистрировать, и вторую
трагедию, когда ее чуть не исключили из партии за отъезд сына с
отцом в США. Спасло ее только заступничество знавшего ее Б. М.
Кедрова в Москве, ее оставили в партии и на работе. Уехала она к сыну
Л. А Микешина. 50 лет как живу в философии
575
только в 1990-е годы. Она приехала на конгресс не только
послушать выступления, но и чтобы встретиться со своими учениками и
с нами, ее коллегами. Она не жила с семьей сына, ездила в другой
город в гости, но, как фронтовик, имела хорошую пенсию и ей
оплачивали обучение английскому языку в колледже вместе с
молодежью. Вот только некоторые воспоминания вокруг конгресса. Мы
вернулись в августе, в день объявления дефолта.
Стоит вспомнить также VIII Международную конференцию по
M. M. Бахтину в Калгари (Канада) в 1997 году Организаторы
поручили составить группу филологов и философов профессору В. Л. Мах-
лину, испытывая к нему особое уважение как к известному в мире
специалисту по Бахтину. Нас пригласили на неделю раньше, желая
пообщаться со специалистами из России. К нам все еще было особое
расположение и интерес, возникшие при М. Горбачеве, но угасшие, к
сожалению, полностью в нулевые годы. Целую неделю нам
показывали университет и кампус, возили на экскурсии по Калгари, где
недавно прошла зимняя всемирная олимпиада. Интересно было смотреть,
как живет страна, где проходит конференция, при двуязычии —
английском и французском. Каждый вечер нас принимали в
какой-нибудь семье и развлекали разговорами и музыкой. Среди
преподавателей было много славистов и даже русские эмигрантки. Все боялись
безработицы или уже потеряли место, поэтому выясняли ситуацию у
нас и просились к нам на работу, считая, что у нас теперь «рай».
О Бахтине выступали ученые с различных континентов и
многие города боролись за проведение следующей конференции.
Бахтин был на непревзойденной высоте, всем он был нужен, все о
нем писали. М. Холквист, с которым мы общались, написал книгу
(Holquist M. Dialogüsm. Bakhtin and his World. L,; N. Y. 1990). Мы
подружились со многими исследователями и встречались с ними
позже. В. Л. Махлин, владея несколькими языками, всегда был в
центре внимания и сделал очень глубокий доклад на заседании,
которое было проведено с выездом в отдаленный, прекрасно
обустроенный район Скалистых гор. Тема моего доклада (переводил
В. Л. Махлин) также заинтересовала специалистов, потому что
речь шла о значении идей M. M. Бахтина для современной
эпистемологии, чем, разумеется, никто из присутствующих не занимался
и не оценивал Бахтина с этой стороны.
Одновременно с этими событиями у меня была работа на
кафедре философии МП ГУ, которую я приняла через два года после
ухода известного ученого и общественного деятеля профессора
В. С. Готта и руководила ею 18 лет, включая самые бурные годы и
«борьбу идеологий». Но об этом в другой раз.
Избранная библиография Б. И. Пружинила
1970
Животворная сила ленинского философского наследия. Рецензия на книгу
«Ленинизм и философские проблемы современности». М.: Мысль, 1970 //
Философские науки. 1970. № 4 (соавт. Г. 3. Апресян, А. И. Новиков, А. М.
Коршунов, Н. И. Дряхлов).
1971
Активность субъекта и отражение // Философские науки. 1971. № 4 (соавт.
А. М. Коршунов).
1972
Проблема целостности теории. Автореф. канд. дисс. М., 1972.
1977
Об ограниченности эмпиристского подхода к проблеме целостности знания //
Философские науки. 1977. № 4.
1978
Der Empirismus und das Problem der Wissens // Gesellschafts wissenschaftliche Beitrage
Sowjetssenschaft. 1978. № 6.
Проблема рациональности в англо-американской «философии науки» // Вопросы
философии. 1978. № 5.
1979
Преемственность и диалектика исторической деятельности // Проблемы
материалистической диалектики как теории познания. М., 1979.
1982
Раздел о рациональности в кн.: Krize burzoazniho vedomi jako soucast vseobecne
krizee kapitalismu. Praha, 1982.
1983
To analysis of methodological foundations of the theory of linguistic meaning // Abstracts
of 7th Int. Cong. Of Logic, Methodology and Phil, of Sciens. Salzburg, 1983.
Историзация методологической рефлексии науки и гносеология // Гносеология в
системе философского мировоззрения. М., 1983.
Проблема рациональности — проблема целостности знания // Проблемы
рефлексии в научном познании: межвузовский сборник. Куйбышев, 1983.
1984
Антиномии философии человека и их место в анализе современного научного
познания // Человек и культура. М., 1984 (соавт. В. Н. Порус).
Язык и познание (опыт методологического рассмотрения перспектив
лингвистической теории) // Познание и язык (критический анализ герменевтической
концепции). М., 1984 (соавт. М. И. Козлов).
Рецензия на книгу: Ахундов Н. Д. Пространство и время в физическом познании.
М., 1982 // Философские науки. 1984. № 2 (соавт. М. И. Козлов).
1986
Замечания к фазовому представлению движения в лингвистической семантике //
Предварительные публикации. Институт русского языка АН СССР.
Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Вып. 176. М.,
1986 (соавт. М. И. Козлов)
Антисциентизм и проблемы методологии // Критический анализ методов
исследования в современной буржуазной философии. М., 1986.
Избранная библиография Б. И. Пружинила
577
Рациональность и историческое единство научного знания. Монография. М., 1986.
1987
Методологический анализ науки как философское исследование // О специфике
методов философского исследования. М., 1987.
Историзация методологической рефлексии науки и гносеология // Гносеология в
системе философского мировоззрения. София, 1987.
1988
Критерии рациональности в научном познании // Диалектика. Познание. Наука.
М., 1988.
Философия как феномен культуры // Духовная жизнь общества и структура
общественного сознания. М., 1988.
1989
Воображение и рациональность. Монография. М., 1989 (соавт. Л. С. Коршунова).
Об одной особенности современной гносеологической проблематики //
Философские науки. 1989. № 7.
«Звезды не лгут», или астрология глазами методолога // Критический анализ
ненаучного знания. М., 1989.
Разум и традиция (механизмы преемственности в развитии научного знания) //
Познавательная традиция: философско-методологический анализ. М., 1989.
1990
К вопросу о структуре астрологического знания // Знание за пределами науки.
М., 1990.
«Звезды не лгут», или астрология глазами методолога // Заблуждающийся разум?
Многообразие вненаучного знания. М., 1990.
Культурные универсалии, наука и вненаучное знание. Дискуссия //
Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. М., 1990 (соавт. И. Т. Каса-
вин, В. Л. Рабинович, В. Н. Порус, В. П. Филатов, В. Майков, Н. С. Автономо-
ва, В. Г. Федотова, А. Ф. Грязнов, Л. Поляков, А. А. Яковлев).
1991
Из истории отечественного психоанализа (историко-методологический очерк) //
Вопросы философии. 1991. № 7 (соавт. А. А. Пружинина).
«Агностицизм», «Агасси», «Интернализм», «Экстернализм», «Философия науки»
(соавт. И. Т. Касавин) // Современная западная философия. Словарь. М., 1991.
1992
Кроули А. Астрология. Архетипы астрального универсума согласно мифологии и
западным традициям. Перевод и комментарии «Астрология, астрономия и ин-
терпретативные гипотезы» // Магический кристалл. Магия глазами ученых и
чародеев. М., 1992.
Рациональность и историческое единство научного знания. Автореф. докт. дисс.
М., 1992.
1994
Астрология: наука, псевдонаука, идеология? // Вопросы философии. 1994. № 2.
К вопросу о структуре астрологического знания // Российская астрология. 1994.
№ 3, 4.
1995
Astrology: Science, Pseudoscience, Ideology? // Cosmism and the Occult in
Contemporary Russian Thought // Russian Studies in Philosophy. 1995. Vol. 34. № 1.
Политология и теория познания // Вестник МГУ. Серия 18: социология и
политология. 1995. № 3.
Психоанализ в России // Русская философия. Малый энциклопедический
словарь. М., 1995 (соавт. А. А. Пружинина).
578
1996
О пользе фундаментальности, или быть ли в России большой науке // Вопросы
философии. 1996. № 12.
1998
Фундаментальная наука и прикладное исследование (к вопросу о
социокультурных функциях знания // Наука в культуре. М., 1998.
1999
Рецензия на книгу: Микешина Л. А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и
реальности. М., 1997 // Вопросы философии. 1999. № 8.
Фундаментальная наука и прикладное исследование: методологический аспект
взаимодействия // Проблема ценностного статуса науки на рубеже XXI века.
СПб., 1999.
Спор о ведовстве: ratio serviens // Герметизм, магия, натурфилософия в
европейской культуре XIII-XIX вв. М., 1999.
2000
«Агностицизм», «Агасси», «Философия науки» (соавт. И. Т. Касавин), и др. статьи //
Новая философская энциклопедия. В 4 т. М., 2000—2001.
Психоанализ в России — между прошлым и будущим // Вопросы философии.
2000. № 10 (соавт. А. А. Пружинина).
2001
Выступление на круглом столе «Псевдонаучное знание в современной
культуре» // Вопросы философии. 2001. № 6.
2002
Знание фундаментальное, знание прикладное // Философия и социальные науки
в университетах России. Материалы научно-методической конференции ГУ
ВШЭ. М, 2002.
К вопросу о перспективах отечественной философии знания // Личность.
Познание. Культура. К 70-летию Л. А. Микешиной. М., 2002. (соавт. А. А.
Пружинина).
Познавательное отношение в классической и неклассической эпистемологии //
Субъект. Познание. Деятельность. М., 2002.
2003
Выступление на «круглом столе» по теме «Новые информационные технологии и
судьбы рациональности в современной культуре» // Вопросы философии. 2003.
№ 12.
2004
Проблема демаркации науки и псевдонауки в условиях кризиса рационализма //
Научные теории и географическая реальность. Четвертые сократические
чтения по географии. М., 2004.
Lucidus ordo Евгения Никитина // Е. П. Никитин Духовный мир: органичный
космос или разбегающаяся вселенная? / под ред. Н. С. Мудрагей, Б. И.
Пружинина. М., 2004 (соавт. Н.С. Мудрагей).
Рецензия на кн. П. П. Гайденко Научная рациональность и философский разум.
М., 2004 // Вопросы философии. № 6. 2004.
Философско-методологическое сознание науки сегодня (как я это вижу на 1 мая
2004 г.) // Рефлексивность социальных процессов и адекватнеость научных
методов. Пятые сократические чтения. М., 2004.
Проблема социокультурной мотивации научно-познавательной деятельности и
философия науки // Труды научного семинара «Философия Образование
Общество». Т. 1. М., 2004.
Я еще надеюсь // Эпистемология & философия науки. 2004. Т. II. № 2.
Ratio serviens? // Вопросы философии. 2004. № 12.
Избранная библиография Б. И. Пружинина
579
2005
Ratio serviens? // Философия и будущее цивилизации Тезисы докладов и
выступлений IV Российского философского конгресса (Москва 24-28 мая 2005). Т. 1.
М, 2005.
Стратегические цели образования и псевдонаука // Труды научного семинара
«Философия-образование-общество». Т. 2. 2005.
Псевдонаука сегодня // Вестник Российской академии наук. Т. 75. № 2. Февраль.
2005.
Псевдонаука сегодня // Вестник Национальной академии наук Украины. 2005. № 8.
Прикладное и фундаментальное в этосе современной науки // Философия науки.
Вып. 11. Этос науки на рубеже веков. М., 2005.
Рецензия на книгу «Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика
В. С. Степина. М., 2004. 816 с. // Вопросы философии. 2005. № 7.
Синергетический дискурс и «третий пол» // Мужчина и женщина в
современном изменяющемся мире: психоаналитические концепции. Материалы
всероссийской психоаналитической конференции / под ред. А. Н. Харитонова,
A. В. Литвинова. М., 2005. 408 с. (соавт. А. А. Пружинина).
2006
Между контекстом открытия и контекстом обоснования: методология науки
Густава Шпета // Густав Шпет и современная философия гуманитарного знания / ред.
B. А. Лекторский, Л. А. Микешина, Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина. М., 2006.
Полемические заметки по поводу статьи Ф.Р. Филатова «Классический
психоанализ сегодня: превратности метода и "ловушки метаязыка"» //
Психоаналитический вестник. 2006. № 16.
Парадигма парадигмы, или о парадигме современной методологии //
Современные проблемы педагогики: парадигма науки и тенденции развития
образования. В 2 ч. Ч. 1. Краснодар, 2006.
П. А. Флоренский и проблема социокультурной обусловленности знания
Серебряного века. Историко-философский диптих // На пути к синтетическому
единству европейской культуры. Философско-богословское наследие П. А.
Флоренского и современность. М., 2006.
«Синергетика: перспективы, проблемы, трудности» (материалы круглого стола) //
Вопросы философии. 2006. № 9.
Перспективы географии: фундаментальная теория или прикладная модель? //
Седьмые сократические чтения. Август Лёш как философ экономического
пространства. К столетию со дня рождения. М., 2006.
2007
О настоящем и будущем: (размышления о философии). Беседа Б. И. Пружинина с
В. А. Лекторским // Вопросы философии. № 1. 2007.
В поисках эпистемологии общения: Николай Бердяев — Густав Шпет — Лев
Шестов // H.A. Бердяев и единство европейского духа / под ред. В. Н. Поруса. М.,
2007. (соавт. Т. Г. Щедрина).
Гуманитарная наука как предмет философско-методологического анализа
(материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 2007. № 6.
Какие ожидания связывает эпистемология с «социальной эпистемологией»? //
Эпистемология и философия науки. 2007. Т. XIV. № 4.
Фундаментальное и прикладное в педагогической науке (эпистемологический
аспект) // Труды научного семинара «Философия — образование — общество».
М., 2007.
2008
Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке (материалы "круглого
стола") // Вопросы философии. 2008. № 3.
580
О методологии педагогики (философские заметки) // Актуальные проблемы
методологии педагогического исследования в постнеклассический период развития
науки. Краснодар; М., 2008 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Два этоса современной науки: проблемы взаимодействия // Этос науки / отв. ред.
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская. М., 2008.
Социальная роль философии в динамичном обществе (методологический аспект)
// Труды научного семинара «Философия — образование — общество». Т. 5. М.,
2008.
Фундаментальное и прикладное в педагогической науке (эпистемологический
аспект) // Труды научного семинара «Философия-образование-общество». Т. 4.
2008.
Фундаментальная наука в XXI веке. Надеюсь, что будет жить // Вопросы
философии. 2008. № 5.
Язык науки как философско-методологическая проблема (историко-методологи-
ческий очерк) // Язык педагогики в контексте современного научного знания.
Волгоград — Краснодар — Москва, 2008 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Perspective sémiotique de la méthodologie des sciences humaines chez Gustave Chpet //
Slavica Occitania. 2008. № 26.
2009
Философия в современной культуре (к 60-летию журнала «Вопросы философии»).
Брошюра. М., 2009 (соавт. В. А. Лекторский).
Семен Франк и Густав Шпет: две стратегии постижения культуры // Идейное
наследие С. Л. Франка в контексте современной культуры / под ред. В. Н. Пору-
са. М., 2009 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Конструктивизм как умонастроение и как методология // Конструктивистский
подход в эпистемологии и науках о человеке. М., 2009 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М., 2009.
Монография.
Владислав Лекторский: неклассический мир классической эпистемологии //
Российская философия продолжается: из XX века в XXI / под ред. Б. И. Пружи-
нина. М., 2009.
Неклассическая эпистемология: взгляд из классики // Постнеклассика:
философия, наука, культура. Коллективная монография / отв. ред. Л. П. Киященко,
В. С. Степин. СПб., 2009.
Информационное общество: информация без знания? // Труды научного
семинара «Философия — образование — общество» / под ред. В. А. Лекторского. М.,
2009.
Философия науки (соавт. И. Т. Касавин); Фундаментальное и прикладное в науке
// Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009.
Герменевтика как методология гуманитарных наук (контуры проблемы) //
Современные тенденции развития педагогики как гуманитарной научной
дисциплины. Краснодар, 2009 (соавт. Т. Г. Щедрина).
2010
Информационный подход в междисциплинарной перспективе (материалы
«круглого стола») // Вопросы философии. 2010. № 2.
Рациональность как проблема: Владимир Швырев между классикой и неклассикой //
На пути к неклассической эпистемологии (памяти В. С. Швырева). М., 2009.
Семиотическая перспектива методологии гуманитарных наук Густава Шпета //
Густав Шпет и его философское наследие. У истоков семиотики и
структурализма. Коллективная монография / науч. ред. Т. Г. Щедрина. М., 2010.
Выступление на круглом столе «Густав Шпет и философия гуманитарного знания.
Встреча вторая» // Вопросы философии. 2010. № 7.
Избранная библиография Б. И. Пружинила
581
Выступление на обсуждении книги «Энциклопедия эпистемологии и философии
науки» // Вопросы философии. 2010. №11.
Истоки культурно-исторической психологии: философско-гуманитарный
контекст. Монография. М., 2010 (соавт. В. П. Зинченко, Т. Г. Щедрина).
Искусство как феномен культурно-исторического познания (из истории
гуманитарной науки в России) // Пространство культуры. Дом Бурганова. 2010. № 1.
(соавт. В. П. Зинченко, Т. Г. Щедрина).
Рецензия на книгу: Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин —
Лотман — Гаспаров. М., 2009 // Вопросы философии. 2010. № 5.
Неокантианство и радикальный конструктивизм: тема реальности //
Эпистемология и философия культуры. Неокантианство немецкое и русское: между
теорией познания и критикой культуры. М., 2010.
«Исторический материализм»: наука vs идеология (Из истории философии в
России 2-й половины XX века) // Человек в интеллектуальном и духовном
пространствах. Сб. научных трудов к 90-летию профессора В. Ж. Келле / отв. ред.
М. С. Киселева. М., 2010.
Педагогическая наука и идеология // Идеологические аспекты методологического
обеспечения научных исследований. М., 2010.
Наука и ее язык (философско-методологические рассуждения) // Философия
познания. К юбилею Л. А. Микешиной. М., 2010 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Рецензия на книгу: Л. А. Микешина, М. Ю. Опенков. Новые образы познания и
реальности (2 изд.) // Философия познания. К юбилею Л. А. Микешиной. М.,
2010.
2011
Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле (11 мая 2010 г.) // Вопросы философии.
2011. № 1.
Культурно-историческая природа познания и стиль научного мышления // Стиль
мышления: проблема исторического единства научного знания. К
80-летию Владимира Петровича Зинченко. Коллективная монография / под ред.
Т. Г. Щедриной. М., 2011.
«Стиль научного мышления» в отечественной философии науки // Вопросы
философии. 2011. № 6.
Философско-методологическое самосознание современной науки и
педагогическое исследование // Методологические подходы в современной науке и
проблемы их применения в педагогических исследованиях. Сборник трудов
Всероссийского семинара по методологии педагогики. Краснодар, 2011 (соавт.
Т. Г. Щедрина).
Учебная программа дисциплины «История и философия науки» // Преподавание
философских дисциплин в вузе: опыт Дальнего Востока. Сб. ст.
научно-практических конференций. Владивосток, 26 июня 2009 г.; Владивосток, 25—26
ноября 2010 г. Уссурийск, 2011 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Культурно-исторический подход в гуманитарных науках //
Культурно-исторический подход в гуманитарных науках: проблемы и перспективы. Материалы
Международной научной конференции. Владивосток 10—14 октября 2011 г.
Владивосток, 2011 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Скептицизм Юма и современные проблемы культурно-исторической
эпистемологии // Дэвид Юм и современная философия: материалы конференции. М.,
2011. Т. 2 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Фундаментальная наука и кризис образования // Преподавание философских
дисциплин в вузе: опыт Дальнего Востока. Сб. ст. научно-практических
конференций. Владивосток, 26 июня 2009 г.; Владивосток, 25—26 ноября 2010 г.
Уссурийск, 2011.
582
Философия России второй половины XX века (участие в «круглом столе») //
Вопросы философии. 2011. № 4.
Знание о прошлом в современной культуре (участие в «круглом столе») //
Вопросы философии. 2011. № 8.
Единство мира и многообразие культур (участие в «круглом столе») // Вопросы
философии. 2011. № 9; на украин. яз.: Философска думка. 2011. № 4.
«Стиль научного мышления» в контексте эпистемологических традиций русской
философии // Философские исследования. М., 2011. № 4.
2012
Наука и эпистемология в «цивилизации знания» // Эпистемология: перспективы
развития / отв. ред. В. А. Лекторский. М, 2012.
Социологизм в эпистемологии (критические заметки) // Релятивизм, плюрализм,
критицизм: эпистемологический анализ. М., 2012.
Неклассическая классика (о стиле эпистемологического мышления В. А.
Лекторского) // Человек в мире знания. К 80-летию Владислава
Александровича Лекторского / отв. ред.-сост. Н. С. Автономова, Б. И. Пружинин; науч. ред.
Т. Г. Щедрина. М, 2012.
Знание в современной культуре (материалы "круглого стола") // Вопросы
философии. М., 2012. № 9.
Давид Юм и Густав Шпет: проблема эмпиризма в историческом познании //
Вопросы философии. 2012. № 7 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Конструктивизм в контексте культурно-исторического подхода // Человек в мире
знания. К 80-летию В. А. Лекторского. М., 2012 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Методология психологии. Коллективная монография. М., СПб., 2012 (соавт.
Ф. Е. Василюк, В. П. Зинченко, Б. Г. Мещеряков, В. А. Петровский, Б. И.
Пружинин, Т. Г. Щедрина).
Скептицизм Д. Юма в контексте его исторических исследований и современные
проблемы культурно-исторической эпистемологии // Дэвид Юм и
современная философия / под ред. И. Т. Касавина. М., 2012 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Семен Франк и Густав Шпет: две стратегии постижения оснований культуры //
Семен Людвигович Франк / под ред. В. Н. Поруса. М., 2012. Серия
«Философия России первой половины XX века». Гл. ред. серии Б. И. Пружинин [Ре-
публ. статьи 2009 года, соавт. Т. Г. Щедрина].
2013
Интерпретация и методологическая норма // Гуманитарные исследования в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (ГИСДВ). 2013. № 4 (соавт. Т. Г.
Щедрина).
Антиномизм как принцип культурно-исторической эпистемологии, или об одной
линии преемственности в русской философии // Рациональность и культура.
К юбилею В. Н. Поруса. Коллективная монография / отв. ред. Е. Г. Драгалина-
Черная, В. В. Долгоруков. СПб., 2013 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Отечественная философия и методология науки 60—80-х годов XX века: От
идеологии к науке // Проблемы и дискуссии в философии России второй половины
XX в.: современный взгляд / под ред. В. А. Лекторского. М., 2013.
Историзм как эпистемологическое основание русской философии и современные
проблемы методологии гуманитарного знания // Гуманитарные исследования в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (ГИСДВ). 2013. № 5 (соавт. Т. Г.
Щедрина).
Педагогическое исследование и философско-методологическое самосознание
современной науки // Инновации в образовательном процессе:
методологические, теоретические и дисциплинарные аспекты. М.; Усть-Каменогорск, 2013
(соавт. Т. Г. Щедрина).
Избранная библиография Б. И. Пружинила
583
Социальные технологии как средство принуждения к конвенции // Конвенция
как методологическая стратегия социально-гуманитарного знания. Материалы
научной конференции. Владивосток 14—19 октября 2013 / отв. ред. Ф. Е.
Джимов, науч. ред. Т. Г. Щедрина. Владивосток, 2013.
Эпистемологический стиль в русской интеллектуальной культуре XIX—XX веков:
От личности к традиции. Коллективная монография / под ред. Б. И. Пружини-
на, Т. Г. Щедриной. Составители: Н. С. Автономова, Б. И. Пружинин, Т. Г.
Щедрина. М., 2013.
В поисках эпистемологии общения: Николай Бердяев — Густав Шпет — Лев
Шестов // Николай Александрович Бердяев / под ред. В. Н. Поруса. М., 2013.
Серия: Философия России первой половины XX века (Републ. статьи 2007 года,
соавт. Т. Г. Щедрина).
От редакторов // Русский марксизм: Георгий Валентинович Плеханов, Владимир
Ильич Ульянов (Ленин) / под ред. А. В. Бузгалина, Б. И. Пружинина. М., 2013.
Серия: Философия России первой половины XX века.
Русская философская традиция как европейская: эпистемологический стиль
интеллектуальной культуры // Философские исследования. 2013. № 1—2.
Russian philosophical tradition as european: epistemological style of intellectuall
culture // Philosophy: Theory and Practice: Selected Papers presented at the XXIII
World Congress of Philosophy / ed.: V. Sharova etc. M., 2013.
Методологическое сознание науки в междисциплинарной перспективе: опыт
культурно-исторического подхода в психологии // Познание и сознание в
междисциплинарной перспективе. Ч. 1. М., 2013 (соавт. Т. Г. Щедрина).
2014
Конференция — «круглый стол» «Философия России первой половины XX века» //
Вопросы философии. 2014. № 7 (соавт. В. А. Лекторский, Л. А. Микешина,
A. И. Алешин, В. А. Бажанов, А. А. Ермичёв, В. К. Кантор, Ф. Лесур, Ю. Б. Ме-
лих, С. С. Хоружий, А. В. Черняев, Т. Г. Щедрина, П. Г. Щедровицкий).
Книга «Явление и смысл» Густава Шпета и ее значение в интеллектуальной
культуре XX века (материалы «конференции — круглого стола») // Вопросы
философии. 2014. № 5 (соавт. М. Денн, И. А. Михайлов, В. И. Молчанов, Н. В. Мо-
трошилова, Т. Немет, А. Э. Савин, Ф. Тепп, А. Хан, У. Шмид, Т. Г. Щедрина).
«Достоинство знания»: современные методологические проблемы гуманитарной
науки в контексте традиции «положительной философии» в России // Наука
и социальная картина мира. К 80-летию академика В. С. Стёпина / под ред.
B. И. Аршинова, И. Т. Касавина. М., 2014 (соавт. Т. Г. Щедрина).
Введение: Специфика культурно-исторической эпистемологии // Культурно-
историческая эпистемология: проблемы и перспективы. К 70-летию Бориса
Исаевича Пружинина. М., 2014.
Знание как ценность (Этюд по культурно-исторической эпистемологии) //
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (ГИСДВ).
2014. № 1.
Философия России сегодня: тенденции и перспективы // Гуманитарные
исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (ГИСДВ). 2014. № 3.
О том, что мерить нельзя // Вопросы философии. 2014. № 4.
Перспективы российской науки как социального и культурного института.
Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. 2014. № 8 (соавт. В. А. Бажанов,
О. В. Гаман-Голутвина, В. Г. Горохов, А. А. Гусейнов, И. Т. Касавин, Л. П. Киящен-
ко, Н. И. Кузнецова, В. А. Лекторский, Е. А. Мамчур, Л. А. Микешина, А. Н.
Паршин, А. Н. Целищев, Т. В. Черниговская, В. В. Чешев, Б. Г. Юдин, А. В. Юревич).
Культурно-историческая эпистемология: концептуальные возможности и
методологические перспективы // Вопросы философии. 2014. № 12.
Указатель имен
Абрамов А.И. 428
Августин Блаженный 280, 324, 348, 510
Автономов B.C. 302, 304
Автономова Н.С. 209-211, 215, 216,
220, 221, 249, 257, 442, 451-457, 529,
532, 565, 574
Аганбегян А.Г. 518
Агасси Э. 574
АдамарЖ. 510
Аджита, ученик Будды 372
Адодуров В.Е. 142—144
Акчурин И.А. 523
Александр I 326, 327
Александр II 325, 331
Александр Невский 518
Александров А.Д. 563
Александров А.П. 505
Александров Г.Ф. 498, 513, 517-519
Александрова Л. 451
Алексеев А.П. 459
Алексеев П.В. 459
Алешин А.И. 281
Алешковский Ю. 443
Алферов Ж. 194
Альберт Великий 112
Альберт Саксонский 102
Альтюссер Л. 534
Амида, будда Неизмеримого света 365,
366, 376
Амстердамский С. 565
Ананьев Б.Г. 562
Андреев Э.П. 521
Андреева Г.М. 472
Андрей Первозванный 383
Анесаки Масахару 365
Аникин A.B. 301
Анкерсмит Ф.Р. 259, 387
Анненский И.Ф. 341
АпельК.-О. 163, 166, 167,574
Аристотель 91, 103, 105-108, ПО, 111,
228, 238, 247, 250, 296, 309
АрноА. 281
АрсеньевA.C. 516, 524
Архимед 98, 387
Архипцев Ф.Т. 552
АршиновВ.И. 41, 159
Арьядева 374
Асанга 373, 374
Асанга 373, 374
Асмус В.Ф. 452, 453
Афанасьев В.М. 481
Ахутин A.B. 485, 524
Ашвагхоша 373, 376
Бабкова М.В. 367
Бабст И.К. 329
Бабурин В.Л. 403
Бажанов В.А. 196-198
Баженов Л.Б. 439, 448, 458
Байрон Дж.Г. 338
Бакунин М.А. 328, 331, 452
Барабанов О.Н. 381
Бардин И.П. 499
БарнсБ. 180, 183
БартлеттФ. 55, 313
Барышева И.В. 452
Басов М.С. 314
Батищев Г.С. 442, 444, 457, 513, 518,
519, 523, 526, 527, 529-531, 535, 551,
567, 570
Батищев СП. 518, 519, 523
Батищева Я.Г. 457
Баткин Л.М. 344
Бахтин М.М. 65, 177, 259, 261, 267, 268,
311, 312-318, 426, 510, 511, 526, 527,
575
БашлярГ. 91,95, 98
Бекетов А. Н. 341
Беклемишев Д.В. 331
Белецкий З.Я. 467, 477
Белинский ВТ. 331, 333, 334
Белла Р. 365
Белль Г. 356, 357
Белостоцкая Д. И. 512
Белый А. 330, 340, 341
Бенкендорф А.Х. 328
Бентам И. 290, 295
Бергер Д. 437
Бергсон А. 310, 320
Беркли Дж. 50, 51,58
Берлин И. 447
БерналДж. 84, 120
Указательимен
585
Бернштейн H.A. 310, 311, 314, 315, 318,
319,323,324
Берталанфи Л. фон 387
Беспалов Б.И. 313
Бехман Г. 37
БибихинВ.В. 324, 344, 510
Библер B.C. 523, 524, 527
БиглиГК. 8-10, 31,32, 38, 39
Блауберг И.В. 485, 524, 532, 572
Блауг М. 301
Блок A.A. 338, 339, 340, 341
БлокА.Л. 341
Блур Д. 53, 82, 83, 179-183
Блэк М. 249
Блюментрост И.Л. 141
Богатуров А.Д. 388
Богданов A.A. 95, 387
Богомолов A.C. 452
Богосян П. 183-191
БомД. 168
Бонавентура Дж. 112
Бонхёффер Д. 360
БорН. 166, 168, 170, 172, 195
Бородай Ю.М. 488, 493
Бородин А.П. 152
Борткевич В.И. 305
Бранский В.П. 564, 566
Бредсли М. 249
Брентано Ф. 246
Бродский И. 237
Брун O.E. 385
Брундтланд Г.Х. 404
Бруннер Д. 313
Бруцкус Б.Д. 305
Брушлинский A.B. 528
Брюне А. 405, 407
Брюсов В.Я. 341
Бугаев Н.В. 340, 341
Будда Шакьямуни 367, 370
Буддхабхадра 374
Буева Л.П. 567
Булгаков А.И. 340
Булгаков М.А. 340
Булгаков С.Н. 290
Булл X. 387, 388
БульДж. 545, 546
БунгеМ. 177,565
Бунин И.А. 342
Буридан Ж. 102
Бурлак В. 463
Бутенко А.П. 478
Бутлеров А.М. 152, 152, 344
Бхававивека 373
Быховский Б.Э. 517, 518
Бэббидж Ч. 93
Бэкон Фр. 114, 132, 176, 269, 291, 399
БюхнерЛ. 177
ВалериП. 274, 275, 281,284
Валлон А. 310
ВальрасЛ. 299
ВарелаФ. 159, 165, 168, 171
Васильева Т.В. 19
Васио Дзюнкэй 363
Васубандху 373, 374, 375
Ватсипутра 373
Вдовина И.С. 238, 246
Вебер М. 84, 233
Вейгель Э. 292
Величковский Б.М. 313
Вергилес Н.Ю. 505
Берлинский А.Л. 348
Вернадский В.И. 147, 195, 294, 344, 409,
521
Вертгеймер М. 310, 313
Вивекананда С. 222
Вигнер 168
Визгин В.В. 524
Виндельбанд В. 84
Винер Н. 94, 96
Витгенштейн Л. 182, 189, 190, 566
Виткин М.А. 427, 496, 550
Владимов Г.Н. 446
Войшвилло Е.К. 472, 545, 553
Вольтер Ф.М.О. 416-418
Вольф Ф. 383
Вольф Хр. 239, 326
Воннегут К. 443
Ворошилов К.Е. 475
Вучетич Г. Г. 313
Выготский Л.С. 84, 177, 182, 200, 307,
308, 310, 311, 313, 315, 318-321, 507,
527, 535
Вылегжанин А.Н. 391
Высоцкий B.C. 344, 446
Вышеславцев Б.П. 482
Вяккерев Ф.Ф. 566
ГадамерГ.-Г. 251,417
Гайдар Е.Т. 409
Гайденко П.П. 102, 210, 277, 280, 479,
485, 524
ГакГ.М. 491
Гален Г. 109
586
Галилей Г. 386
Галич A.A. (Гинзбург) 446
Галич А.И. 331
Гальперин П.Я. 310, 311, 464, 515
Ганн Г. 254
Гартман Н. 570
Гаршин В.М. 266
Гаспаров М.Л. 221
Гассенди П. 281
Гачев Г. 438
Гвардини Р. 352, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 360, 361
Гваттари Ф. 159, 172
Гегель Г.В.Ф. 50, 76, 85, 86, 234, 242,
243, 308, 352, 353, 388, 464, 476, 509,
520, 527, 535
Гейзенберг В. 85, 168
ГеккельЭ. 137
Геллнер Э. 396
Гельмгольц Г. 230
Гемпель 50
Генис А. 443
Генэн 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376
Георгиев Ф.И. 472, 481, 514
Герц Г. 127, 230
Герцен А.И. 328, 329, 333, 541
Гессен Б.М. 84, 177
Гете И.В. 85, 237, 307, 312, 350
Геттиер Э. 20
Гибсон Дж. 59, 60
Гидденс Э. 380
Гильберт Д. 195
Гиндилис Л.М. 420
Гиппиус З.Н. 342
Гиршович Е.И. 562
Гитлер А. 360
Гишар Ж.-П. 405, 407
Глинский Б.А. 466, 471
Гмелин И. 146
ГоббсТ. 114, 177,281,292,293
Гобечия A.B. 458
Гоголь Н.В. 331
Голдман Э. 182
Голицын Дм. 153, 154
Гонкур Ж. де 266
Гонкур Э. де 266
Гончаров И.А. 266
Горбачев М.С. 555, 567, 568, 573, 575
ГордееваН.Д. 313,323
Горин Г.И. 447
Горнунг Б.В. 266, 267
Горохов В.Г 37
Горский Д.П. 552-555
Готт B.C. 470, 575
Градовский А.Д. 332
Грановский Т.Н. 328, 329, 331
Грегори Р.Л. 99
Грибовский Н.В. 304
Григорий Нисский 348, 352
Григорьев Т.П. 365
Громогласова Е.С. 384, 385, 386
Гроций Г. 292, 293
Грушин Б.А. 493
Грязнов Б.С. 210, 435, 466,472, 477, 480,
481,484,545,546
Губерман И. 314
Гудмэн Н. 55, 189
Гулыга A.B. 493
Гумбольдт А. фон 146
Гумбольдт В. фон 227, 265, 268, 271,
303, 308, 316, 399
Гуревич А.Я. 261
Гусейнов A.A. 74, 75, 524, 535
Гуссерль Э. 50, 92, 172, 178, 211-214,
226, 229, 234, 244-247, 250, 285, 527
Гущин Д.А. 566
Гэмбо 375
Гюйгенс X. 421
Давыдов В.В. 100, 499, 500, 505, 525,
527, 566
Дали С. 449, 450
Данилевский Н.Я. 418
Данте Алигьери 349
Данто А. 574
Дао-сюань (596-667) 374
Дао-сюань (702-760) 375
Дарвин Ч.195, 353
Декарт Р. 58, 92, 114, 176, 177, 238, 256,
273-286, 291, 312, 507
ДелезЖ. 159, 172
Демина Н.В. 149, 150
Демокрит 103,104
Деннет Д. 56
ДерридаЖ. 211-215, 217, 219-221, 249
Джевонс У. 303
Джексон Ф. 101
Дзиэн, монах 368
ДзолоД. 162
Диккенс Ч. 266
Дильтей В. 225
Дирак П. 73
Дмитриев А.Н. 304
Указательимен
587
Дмитриев В.К. 300, 304
Дмитриев Т.А. 274
Дмитрий Донской 518
Догэн 366, 367, 368, 369
Доманска Э. 260
Достоевский Ф.М. 266, 267, 312, 332,
336,337,511,514
Дридзе Т.М. 178
Дробницкий О.Г. 523, 535
Дувакин В.Д. 426
ДункерК. 313
Дуне Скот 109, 111
Дхармакшема 374
Дхармапала 373
Дынин B.C. 442, 443, 447, 448, 457, 481,
482, 529, 550, 551
Дынин К.Б. 447
Дынин СИ. 447
Дынина Е.М. 447
Дынина М. 447
Дышлев П.С. 569
Дьюи Д. 570
Дэвидсон Д. 62
Дюгем П. 230
Дюрер А. 247
Дюринг К.Е. 548
Евдокимов B.C. 440, 458
Евклид 269
Евтихиев H.H. 504
Евтушенко Е.А. 344
ЕголинА.С. 518
Егоров Ю.М. 467
Екатерина I 326
Екатерина II 144, 153, 326
Елизавета Петровна 145, 156, 326
Ельцин Б.Н. 573
Ефремов Ю.Н. 199
Жванецкий М.М. 446
Жинкин Н.И. 308
Жучков В.А. 242
Заиченко Г.А. 478
Запорожец A.B. 323, 502
Захаров В.А. 384
Звегинцев В.А. 308
Зворыкин В.К. 383
Зеленов A.A. 567
Зельдович Я.Б. 503
Зельман Р. 574
Зенон Элейский 103
Зеньковский В.В. 508
Зиммель Г. 233
ЗининаН.Н. 151
Зиновьев A.A. 428, 448, 449, 452, 477,
485, 500, 503, 516, 520-523, 527, 534,
536, 545, 548, 549
Зинченко В.П. 178, 200, 289, 306, 313,
498,500-512,527
Зинченко П.И. 313
Злобин Н.С. 493, 496, 497
Золя Э. 266
Зорькин В.Д. 381
Зотов А.Ф. 85, 435, 472
Зубов А.Б. 410
И Син 374
Иванов Вяч.И. 341
Иванов Р. 8
Иванов Ю. 514
Ивин A.A. 565
Игнатович А.Н. 365
Ильенков Э.В. 100, 428, 432, 442, 457,
485, 500, 506, 507, 515-517, 519-523,
525-527, 532, 534, 548, 551, 552
Ильин А.Я. 467, 471,472
Ильин В.В. 564
Ильин И.А. 509
Ильин М.В. 381,382, 392
Ильин Н.П. (Мальчевский) 411, 415
Ильичев Л.Ф. 532
Инфельд Л. 513
Иоанн Дамаскин 111
Иовчук М.Т. 479, 518
Иовчук М.Т. 494
Ицкович Г. 126, 127
Кабанов А.М. 365
Кавелин A.A. 329, 333, 334, 335, 336
Казанцев A.A. 380
Казин П.Ф. 555, 556
Каменский А.Б. 151
Каммари М.Д. 490
Камю А. 346, 354, 360
Кант И. 21,50, 58, 72, 86, 113, 114, 167,
190, 211, 212, 214, 215, 223, 238-245,
247, 250, 352, 507, 521, 527
Кантемир Д. 383
Кантор В.К. 325, 336, 451, 524, 555
Кантор Г. 195
Капица А.П. 402
Капица СП. 402
Капица П.Л. 11, 12,42
588
Каплан M. 387
Каплан CA. 420
Караганов CA. 409
Карлейль T. 260
Карлов Н.В. 257
Кармин A.C. 564, 571
Карнап Р. 50, 189, 254
Карякин Ю.Ф. 462, 464
Касавин И.Т. 41, 138, 175, 180, 181, 196,
210, 254, 257, 262, 264, 265, 268, 565,
569
Кассирер Э. 94, 527
Кастельс М. 385
Кашьяпа, ученик Будды 372
Кашьяпа-матанга 373
Кедров Б.М. 477, 479, 483, 484, 495, 496,
523, 524, 525, 527, 529, 534, 550-552,
574
Кейнс Дж.Н. 303
Келер В. 319
Келле В.Ж. 479, 486, 488, 489, 492, 494-
497, 530
Келлер Г. 266
Кеннеди Дж.Ф. 406
Кеплер И. 184, 198
Киммэй 374
Киплинг Р. 98
КирдинаС.Г. 301
Кирилл (Константин Философ) 383
Кирхгофф Г. 230
Киселева М.С. 325, 345
Кисунько Г.В. 503
Китагава Дж. 365
КияшенкоЛ.П. 115, 117, 119
Клаузевиц К. фон 498
Клевер Ю.Ю. 331
Клюкин П.Н. 302
Ключевский В.О. 140, 329, 344
Кнорр-Цетина К. 82, 83
Князева E.H. 389
Ковалев A.M. 482
Ковальзон М.Я. 463, 467, 479, 489, 490,
492, 500
Коген Г. 98, 527
Козлова М.С. 562, 564, 566
Козловски П. 294
Колпакова В.А. 569
Комарова З.И. 178
Коменский Я.А. 292
Кондаков 525
Кондратьев Н.Д. 300, 305, 388
КонопкинА.М. 196-198
Конопкин O.A. 502
Константинов Ф.В. 489, 518, 530, 534
КонтО. 69, 415,418
Коперник Н. 184
Копнин П.В. 493, 516, 520, 522, 523,
527, 528, 530, 548-550, 569
Кормер В.Ф. 449, 524
Коровиков В.И. 515-517, 522
Короленко В.Г. 266
Коршунов А.М. 434, 439-441, 458-
462,464-473,467,481
Коршунова Л.С. 237
Косарева Л.М. 257
Костюк К.Н. 196
Котошихин Г. 325
КоффкаК. 313
Кравченко С.А. 389
Краевский В.В. 483
Крашенинников СП. 142, 145—147,
153
Крипке С. 63
Кройер Д. де л а 146
Кронеберг И.Я. 331
Кропоткин П.А. 328
Крымский СБ. 568, 569
Ксенофонт 296
КуайнУ. 181,574
Кудряшов Б. 462
Кудряшова И.В. 381
Кузнец С 305
Кузнецов В.Г. 571
Кузнецова Л.Ф. 567
Кузнецова Н.И. 131, 133, 148, 300, 428,
569
Кузничевский В. 435
Кузьмин В.П. 505, 507
Кукай 375
Кукарцева М.А. 260
Куклинский Дж. 385
Кулишев А.П. 410
Кулишер И.М. 300
Кулькин А.М. 465, 466
Кумараджива 374
Кун Т. 23, 51-54, 62, 83, 118, 121, 181,
182, 189, 198, 201, 202, 296, 570
Куницын А.П. 331
Курдюмов СП. 389
Курода Тосио 366, 367
Кутасов Д.А. 463
Кутузов М.И. 498, 518
Кьеркегор С 347, 352
Кэрнс Д.Э. 303
Указатель имен
589
Лавров П.Л. 328
Ламарк Ж. 72
Ламетри Ж.О. де 177
Ландау Л.Д. 135
Лаплас П.-С. 72, 414, 415
Ларионов М.П. 482
Латов Ю.В. 303
Латур Б. 40, 83, 178, 179, 180, 182, 183
Ле Гофф Ж. 327
Лебедев С.А. 503
Лебедева М.М. 380, 381
Левада Ю.А. 493, 496
Левин А.Е. 140, 153,398
Левин К. 319
Левитанский Ю.Д. 411
Лейбниц Г.В. 93, 114, 239, 291, 326, 418
Лейдесдорфф Л. 126, 127
Лекторский В.А. 24, 45, 179, 180, 192,
210, 257, 274, 278, 283, 285, 426, 436,
437, 442, 444, 457, 458, 473, 477, 481,
482, 509, 513, 514, 517, 521, 523, 525,
527-533, 535, 536, 557, 564, 565, 569,
571
Лекторский И.В. 528
Ленин В.И. 230, 342, 433, 491, 495, 511,
514,521,525
Леннон К. 189
Леонова А. Б. 313
Леонтьев A.A. 308
Леонтьев А.Н. 311, 313, 464, 507, 527,
535
Леонтьев В.В. 305
ЛефеврВ.А. 171,503,508
Ли Л.О. 406
Либих Ю. фон 152, 399
Ливанов Д.В. 194
Лившиц М.А. 523
Лифшиц Е.М. 135
Лихачев Д.С. 133
ЛоккДж. 114, 176,335,418
Ломов Б.Ф. 507
Ломоносов М.В. 140, 142, 143, 147, 151,
153, 156,331
Лопатин Л.М. 281
Лоренцо Валла 349
Лосев А.Ф. 452
Лосский Н.О. 239
Лотман Ю.М. 70, 216-219, 223
Лукач Г.О. 444, 520
Лукашук И.И. 381
Лукман Т. 437
Луллий Р. 93
Луман Н. 69, 118, 159, 164, 168, 172
ЛурияА.Р. 313, 318,464
Лурье В.М. 348
Лысенко Т.Д. 472
Лэш К. 396, 397, 410
ЛюриД.И. 404
Лютер M. 114, 349
Ляцкий Е. 145
Магницкий М.Л. 327, 343
Маергойз И.М. 408
Майзель И.А. 564
Майоров Г.Г. 567, 570
Майтрейя 373
МакДауэлл Дж. 527
Маклеланд Ч. 387
Маковский К.Е. 331
Максимова Н.В. 562
Максимович М.А. 150
Маленков Г.М. 498, 516
Мамардашвили М.К. 257, 276, 282, 283,
285, 344, 426, 437, 452, 485, 505, 507,
508, 522-524, 527, 535, 567
Мамчур Е.А. 180, 257, 565, 570
Мангейм К. 82
Мандельштам О. 311, 508, 533
Мансилья Г. 515
Мантатов В.В. 468
Маренко И.Л. 467
Марков Б.В. 167
Маркова Л.А. 180,569
Маркс К. 69, 83, 84, 178, 301, 314, 353,
388, 397, 464, 494, 519, 525, 530, 531,
534, 535
Марсель Г. 261
Маршалл А. 299
МатуранаУ. 159, 165, 168
Мах Э. 50, 58, 195, 230, 540
Махадева 373
Махлин В.Л. 575
Мацумото Сиро 368
МачтетГ.А. 331
Маяковский В.В. 344
Мегилл А. 260
Меерзон Л. 574
Межуев В.М. 256-257, 427, 493
Мелешкина Е.Ю. 382
Мельвиль А.Ю. 382, 389, 464
Мельникова З.А. 460
Менгер К. 303
Менделеев Д.И. 341, 344
Мережковский Д.С. 341
590
Мерзляков А.Ф. 331
Мерло-Понти М. 360, 527
Мерсен М. 281
Мертон Р.К. 82, 116, 118, 121, 123, 124,
130, 138, 149-151,402
Мефодий (Михаил) 383
Мещеряков А.Н. 363
Мёэ 367
Микешин М.М. 562
Микешина Л.А. 180, 182, 224, 257, 277,
278, 281, 282, 562
Миклухо-Маклай H.H. 383
Микулинский СР. 483-485, 497
Миллер Г.Ф. 151
Милль Дж.Ст. 303
Мильдон В. 438
Милюков П.Н. 337
Минджони Э. 558
Миндлин И. 491,492
Минин К. 518
Мирабо В. 294
Миронов В.В. 571
Миронюк М.Г. 382
Мирская Е.З. 115, 125
МитинМ.Б. 517, 518, 534
Митрохин Л.Н. 426, 456, 462, 523, 552
Митюшин Ю. 504
Михайлов A.A. 567
Михайловский Н.К. 332
Могилев А. 516, 517
Модельски Дж. 388
Модзалевский Б.Л. 412
МокирДж. 169
Молешотт Я. 92
Молодцов B.C. 466
Молчанов В.И. 257
Молчанов Ю.В. 565
Мононобэ-но Мория 374
Монтень М. де 130, 280
Мопассан Г. де 266
Морен Э. 159, 161, 164, 171, 172
Моркина Ю.С. 182
Мотовникова E.H. 411
Мотрошилова Н.В. 260,426,493, 523, 565
Мохов 468
Моцарт В.А. 512
Мочалов И.И. 521
Мудзю Итиэн 371, 375
Мудрагей В.И. 426, 435-439, 442-445,
449, 455, 458, 538
Мудрагей Н.С. 21, 442-444, 455, 458,
482, 529
Мунипов В.М. 503
Мюллер М. 363
Мясников Г.И. 495
Набоков В.В. 312
Нагараджуна 373, 374
Нагель Т. 61
Нагель Э. 100, 101
НадеждинН.И. 331,334
НадсонС.Я. 331
Назаров А.И. 313
Назарова O.A. 254
НайссерУ. 312
Налимов В.В. 165
Нандзё Бунъю 363
Наполеон Бонапарт 399
Нарский И.С. 548, 553
Небылицын В.Д. 500
Невважай И.Д. 571
Негиши Т. 295
Нейман фон 168
Нейрат О. 254
Некрасов H.A. 142, 147, 336
Немцов Б.Е. 409
Неретина С.С. 473, 558
Никитин А.Н. 383
Никитин Е.П. 21, 210, 230, 428, 442,
443, 445, 448-450, 457, 458, 466, 473,
482, 529, 532, 569
Никитин О.В. 144
Никифоров AJT. 190,191,210,254,257,569
Николай I 327, 330, 343
Николай из Отрекура 102, 113
Никольский Б. 342
Нитирэн 366
Ницше Ф. 200, 353
Новоселов М.М. 485, 503
НовотныХ. 163-165
НоукД. 385
Нума Хоре 370
Ньютон И. 52, 63, 84, 85, 184, 195, 198,
269, 295, 387
Овсянников М.Ф. 472, 520
Овчинников Н.Ф. 534
Огава Канъити 363
Огарев Н.П. 328, 540
Огурцов А.П. 473, 479, 524, 558
Одуев С.Ф. 493
Ожегов СИ. 88
Ойзерман Т.Н. 243, 464, 467, 515, 521,
523, 528
Указатель имен
591
ОккамУ. 102, 111, 112, 114,256
Окуджава Б.Ш. 344, 446
Ольхов П.А. 253
Омельяновский М.Э. 534
Ope О. 387
Орем Н.102
Ориген 109
Орлов М.Ф. 301
Ортега-и-Гассет X. 337, 360
Оруджев Д.М. 551
Остин Дж. 308
Павлов И.П. 93, 310, 344
Пажитнов Л.Н. 520
Панов Д.Ю. 502, 503
Парменид 103, 270
Парнкж М.А. 565
Парсонс Т. 60, 574
Пастернак Б.Л. 509, 525
ПатнэмХ. 189,527
Паустовский К. Г. 512
Пахомов Б.Я. 465
Пахомов СВ. 365
Пекарский П.П. 143
Пелагий 349
Переверзев Л.Б. 502
Пестель П.И. 301
Петр I 139, 141, 143, 145, 147, 155, 325,
326
Петр Ломбардский 112
Петр Пекарский 141
Петров М.К. 70, 177, 398, 399, 527
Петров Ю.А. 553
Петровский И.Г. 502
Пиаже Ж. 56, 57, 310, 313, 451
Пикван 375
Пикельнер СБ. 420
Пико дела Мирандола Дж. 349
Пикус H.H. 478
Пилипенко Н.В. 496
Пилясов А.Н. 408
Пирогов Н.И. 336
Писарев Д.И. 141,332,514
Писемский А.Ф. 266
Платон 18-20, 103-105, 107, 108, 237-
239, 253, 306
Платонов Г.В. 489, 518
Плимак Е.Г. 462, 464, 488, 493, 495, 497
Плотин 108
Погодин М.П. 331
Пожарский Д. 518
Покровский Н.Е. 559
Полани М. 88, 120, 163
Полевой Б.П. 146
Полунин Ю.А. 382
Понтекорво Б.М. 383
Попов П.С 463
Поппер К. 66, 83, 182, 198, 207, 237,
296, 572
Порус В.Н. 119, 193, 210, 211, 256, 539,
540, 544-556, 560, 565
Посошков И. 301
Потапенко И.Н. 331
Потебня A.A. 308, 320, 508
Прайс Д. 120
Прангишвили A.C. 498
Пригожий И.Р. 159, 160, 165, 171, 195,
218, 389
Протагор 50
Пружинин А.Б. 457, 558
Пружинин Б.И. 21, 24, 36,41, 45, 78, 82,
115, 131-133, 136, 157, 175, 178, 192,
193, 200, 206, 209, 210, 211, 224, 229-
231, 233-237, 253-262, 265, 266, 269,
273, 274, 276, 289, 300, 305, 362, 377,
378, 397, 399, 403, 411, 414, 425, 429,
443-445, 450-457, 459-462, 464-
477, 480-487, 489, 490, 494-498,
500-504, 506-508, 510, 512-514,
521, 523, 525, 527-533, 536, 538, 539,
544, 546-552, 554-561, 565, 569
Пружинин И.С. 433
Пружинин СИ. 428, 431-433, 470, 471
Пружинина A.A. 470
Пружинина О.Б. 457, 558
Пружинина Р.Б. 432
Пуанкаре А. 230, 389
Пу-гуан 374
Пукшанский Б.Я. 562
Путин В.В. 408, 409
Пуффендорф С. фон 292
Пушкин A.C. 142, 222, 237, 327, 328,
331,446
Пушкин В.Н. 502
Пышков Б.М. 500, 504, 505
Пятигорский A.M. 311, 508
Рабинович В.Л. 524
Радищев А.Н. 301
Радугин A.A. 451, 452
Разумовский И.С. 275, 281
Райл Г. 293
РакитовА.И. 210
Расплетин A.A. 503
592
Рассел Б. 58, 171, 190
Рац М.В. 196, 257
Рачков П.А. 491,556
РежабекБ.Г. 571
Резерфорд Э. 402
Рейхенбах 50
Рерих Н.К. 531,568
Рикер П. 238, 246-252, 437
Риккерт Г. 84
РиклефсР. 137
Риковер Х.Г. 406
Риман Б. 28, 29
Ричарде И.А. 249
Робеспьер М. 261
Родионова И. 481
Розенберг О.О. 363, 364
Розенталь М.М. 525
Розов М.А. 535, 569
Романовский СИ. 147
Рорти Р. 57, 189, 574
Ростовцев М.И. 343
Рубинштейн С.Л. 307, 311, 313,
321-323,498,500,527,535
Рунич П.С. 327
Руссо Ж.-Ж. 248
Руткевич А.М. 559, 560
Руткевич М.Н. 479, 493, 496
Руцкой A.B. 573
Рязанов Э.А. 456
Савельева В.И. 451
Савельева Л.С. 532, 533
Савосин Г. 462
Садовский В.Н. 477, 485, 503, 524,
564, 572
Сайте 375
Сакс Дж. 447
Салтыков-Щедрин М.Е. 266, 326
Самарин Ю.Ф. 334, 336, 337
Сангхабхадра 373
Сартр Ж.-П. 246, 247, 354
Сафрански Р. 122
Сахаров А.Д. 567
Сачков Ю.В. 528
Свечников Г.А. 565
Свидерский В.И. 563
Свинцов В.И. 559
Селиверстов Н.М. 365
Семенихин B.C. 503, 504
Семигин Г.Ю. 181
Сенковский О.И. 334
Сепир Э. 54
Серебряков О.Ф.563
СерльДж.Р. 168
Сётоку 374, 375
Сеченов И.М. 309
Сидоренко Е.А. 452, 553
Сидорина Т.Ю. 557
Синран 366, 375
Сказкин С.Д. 514
СказкинаВ.Д. 514
Скворцов Л.В. 428,442
Слуцкий Е.Е. 300, 302, 304
Смирнов A.A. 500
Смирнов В.А. 523, 527, 564, 572
Смирнов Г.Л. 505, 530, 531, 555, 556
Смирнов Л.В. 562
Смирнова Е.Д. 453
Смирнова Н.М. 237, 253
СмитА. 290, 294, 295, 298, 299, 335
Сморгунов Л.В. 385, 386
Соколов А.Н. 308
Соколов В. В. 277
Соколов Н.М. 562
Сократ 442
Сокулер З.А. 210
Солженицын А.И. 441
Соловьев B.C. 39, 88, 280, 281, 283, 337,
338,341,426
Соловьев М.С. 341
Соловьев СМ. 140, 142, 145, 326, 329,
330,337,341,342,344
Соловьев СМ. мл. 341
Соловьев Э.С 283
Соловьев Э.Ю. 493, 524
Соловьев Ю.И. 152
Сонмён 374
Сорокин A.A. 455, 456
Спекторский Е.В. 292
Спенсер Г. 69, 340
Спенсер-Браун Дж. 159, 166, 171, 172
СперлингДж. 312
Спивак М. 340
Спиноза Б. 114,291-293,319
Спиркин А. Г. 495, 549
Спиркин А. Г. 549
Сталин И.В. 494, 499, 500, 515, 518-
520,521,522,533,547
Станкевич Н.В. 328
Стасюлевич М.М. 337
Стаферова Е.Л. 303
Стенгерс И. 160
Степанян Э.Х. 491
Степанянц М.Т. 363
Указательимен
593
Степанянц Ц.А. 489
Степин B.C. 67, 72, 159, 180, 181, 160,
169, 210, 485, 523, 524, 531, 534, 535,
566, 567, 570
Степун Ф.А. 426
Страда В. 526
Страхов H.H. 411-422
Стрелков Ю.К. 313
Строганов С.Г. 329
Стросон П. 527
Стросс-Кан Д. 41
Стяжкин Н.И. 545, 546
Суворов 496
Суворов A.B. 518
Судзуки Дайсэцу 365
Суслов М.А. 530
Сухозанет И.О. 326
Сухомлинов М.И. 332
Сюань-цзань 374
ТаванецП.В. 549, 551,552
Тальман П. 145
Тамура Ёсиро 367
Тарковский A.A. 446
Тарле Е.В. 326
Татищев В.Н. 141
Теккерей У.М. 266
Теплов Б.М. 498
Тимирязев А. К. 340
Тимирязев К.А. 344
Тимофеев И.Н. 382, 474-485
Тимофеева Н.В. 474, 477-483
ТищенкоП.Д. 119
Тодоров Ц. 249
Толстой А.К. 333
Толстой Л.Н. 266, 411, 412, 418, 422,
462, 514
Толстых В.И. 493
Томпсон У. 127
Торкунов A.B. 380, 394
Тороп П. 218,
Тредиаковский В. К. 142, 144, 145, 248
Троцкий Л.Д. 495
Трубецкой E.H., кн. 348, 349
Трубецкой С.Н., кн. 338
Трубников H.H. 427, 436, 442-446, 450,
455, 457, 458, 473, 482, 523, 529, 532,
535, 548-550
Трубникова H.H. 362, 363, 366, 367, 370,
371,538
Труфанова Е.О. 286
Туган-Барановский М.И. 300, 302—304
Тугаринов В.П. 570
Тулмин С. 83, 291
Тургенев И.С. 266
Тургенев Н.И. 301
Тьюринг А. 168
Тянь-тай Чжи-и 369
Уваров С.С. 330
Угринович Д.М. 462, 467, 468
Уиггинс А. 412
Уильяме Ч. 144
УиннЧ. 412
Украинцев B.C. 448, 493, 495, 496, 529
Уолферс А. 381
Уорф Б. 54
Уотсон Дж. 310
Ухтомский A.A. 311, 316, 323
Ушаков И.А. 503
Ушакова H.H. 451
Уэллс Г. 342
Фа-бао 374
Фа-ли 374
Фарман И.П. 529
Фаталиев Х.М. 489
Фа-цзан 374
Федина А. 449
Федоров В.М. 466
Федосеев П.Н. 496, 518, 525
Федотова В.Г. 397, 400, 406
Федянина В.А. 368
Фейерабенд П. 52-54, 83, 181, 196, 512
Фельдман Д.М. 377, 381, 440, 471, 472
Фельтринелли Дж. 525, 526
Феофан Грек 383
Ферстер X. фон 159, 164, 165, 168, 171
Фет A.A. 418
Фигуровский H.A. 152
Филатов В.П. 180, 289, 529, 530, 559
Филатьева Т. 478
Филиппов Л. 462, 464
Филолай 184
Фихте И.Г. 50, 58, 114, 242, 381, 535
ФлекЛ. 83, 117
Флобер Г. 266
Флоренский П.А. 229-231, 256, 411
Фок В.А. 563
Фома Аквинский 110—113
Фоминых С.Ф. 304
Фонтенель Б.Л.Б. де 416—418
Формозов A.A. 261
Франк С.Л. 257
594
Франк-Каменецкий М.Д. 134
Фрейд 3. 99
Фридрих Вильгельм III 399
Фролов Г. К. 20
Фролов И.Т. 462, 495, 523, 524, 527, 534,
535, 570, 574
Фуко М. 209, 210, 296-299, 303
Фукуяма Ф. 76
Фуллер С. 180, 182
ФурцеваЕ.А. 517
Хабермас Ю. 220, 223, 397
Хазаров Г.А. 305
Хайблонер Р. 298
Хайдеггер М. 97, 98, 212, 227, 240, 308,
324, 510, 567
ХайекФ. фон 410
Хакамая Нориаки 368, 369
ХакенГ. 159, 165, 171
ХанД.-П. 8,9
Хара Кацуро 365
Харе Р. 527
Хариварман 373
Харитон Ю.Б. 503, 505
Харкевич М.В. 380, 392
Хасбулатов Р.И. 573
Хевеши М. 478
Хесле В. 285, 286
Хлябич И.А. 467
ХокингС. 168
Холквист М. 575
Холодковский H.A. 307
Хомский Н. 61
ХофштадтерД. 171
Хрущев Н.С. 516, 532, 547
Хуэй-го 374
Хуэй-инь 374
Хуэй-сы 374
Хуэй-чжао 374
Хуэй-юань 374
Цветаев И.В. 341
Цветаева М.И. 341
Цзи-цзан 374
Цзы-энь 374
Цзянь-чжэнь 375
Циммерман Л. 184
ЦыпникЛ. 528
Чаадаев П.Я. 401
Чаянов A.B. 300, 305
Челпанов Г.И. 508
Черномырдин B.C. 410
Черный Ю.Ю. 196
Чернышевский Н.Г. 301, 326, 331
Черчилль У. 511
Черчленд П.М. 177
Черчленд П.С. 177
ЧесноковД.И. 466
Чехов А.П. 266, 336
Чжи-и 374
Чжу Фалань 373
Чжэн-гуань 374
Чичерин Б.Н. 329, 333, 335
ЧугаевА.Я. 491
Чумаков А.Н. 567, 568
Чупров A.A. 300, 303, 305
Шведова Н.Ю. 88
Швырев B.C. 210, 283, 442, 455-457,
523, 529, 532, 535, 564, 569
Шевченко Т.Г. 98
ШевыревС.П. 331
Шекспир У. 222
Шелер М. 570
Шеллинг Ф.В.Й. 242, 352, 415
Шептулин А.П. 468, 552
Шеррингтон Ч. 314
Шинкарук В.И. 535
Шкаратов О.И. 558
Шкловский И.С. 419
ШкуриновП.С. 471
Шмит Т.К. 394
Шмоллер Г. 303
Шнедельбах Г. 303
Шохин В.К. 366
Шпенглер О. 387
Шпет Г.Г. 34, 201, 224-229, 231-236,
256, 258, 260, 262, 263, 265-272, 278,
279, 307, 308, 311, 314-318, 323, 324,
330, 508-510
Штерн В. 324
Шторм Т. 266
ШторхМ.Г. 512
Штофф В.А. 562-564
Штракс Г.М. 467
Шуман Р. 339
Шумахер И.Д. 141
Шумпетер Й. 296, 297, 299
Щедрина И.О. 273
Щедрина Т.Г. 34, 36, 41, 178, 224, 234,
257, 259, 262, 279, 289, 305, 327, 451-
457, 473-475, 477-479, 498, 509-
Указатель имен
595
512, 539, 540, 544-548, 551-553,
546-548, 551-553
Щедровицкий Г.П. 502, 503, 522, 523,
526, 527, 535
Щедровицкий П.Г. 473
Щипанов И.Я. 464
Эйлер Л. 144
Эйнштейн А. 52, 63, 127, 168, 195, 513
Элиот Т. 308
Элис И. 551
ЭллисЛ. М. 8,9, 31, 32, 38, 39
Эмерсон Р.У. 573
Энгельс Ф. 91, 182,353,495
Эразм Роттердамский 349
Юдин Б.Г. 524
ЮдинП.Ф. 518, 534
Юдин Э.Г. 532
ЮкаваХ. 154, 155
Юлина Н.С. 428, 508
Юм Д. 58, 114, 154, 190,239
Юнг К.Г. 437
Юркевич П.Д. 39, 224, 236, 261
Ющенко В.А. 409
Явлинский Г.А. 409
Ягодкин В.Н. 467, 495, 547
Якобсон P.O. 216, 249, 251, 252
Яновская CA. 463, 485
Andersson G. 215
Barnes S.B. 124
Boghossian P.A. 176
Börzel T.A. 385
Boudon R. 209
Brimer J. 56
Dolby R.G. 124
Eemeren F.H. van 191
Emo-Kjolhede E. 120
EtzioniA. 381
Foard J.H. 367
Forman P. 300
GeraetsT. 215
Grootendorst R. 191
Hacking I. 63
Heilbron J. 300
Hubbard J. 368
Hunter J. 367
Janicaud D. 209
Kahn A. 209
Kemeny J.G. 387
KrasnerSt.D. 381
Leighton T.D. 367
Paltrinieri L. 209
Payne R.K. 367
Prüden L.M. 370
Rassmussen J.L. 380
ResherN. 191
Snell J. 387
Swanson PL. 368
Thom R. 223
Thomas-Fogiel I. 209
Weart S. 300
Wessels W. 384
Wright G.H. von 191
Zartman I.W. 380
Сведения об авторах
Лвтономова Наталия Сергеевна — доктор философских наук, главный
научный сотрудник сектора теории познания ИФ РАН, Москва.
Аршинов Владимир Иванович — доктор философских наук, главный
научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем научно-
технического развития ИФ РАН, Москва
Гайденко Пиама Павловна — член-корреспондент РАН, главный
научный сотрудник сектора античной и средневековой философии и
науки ИФ РАН, Москва.
Зинченко Владимир Петрович (1932—2014) — психолог, философ,
автор трудов по экспериментальной психологии, методологии
психологии, педагогике, культурно-исторической психологии,
философии сознания и деятельности.
Зотов Анатолий Федорович — доктор философских наук, профессор
кафедры истории зарубежной философии МГУ, Москва.
Кантор Владимир Карлович — доктор философских наук, ординарный
профессор НИУ ВШЭ, редактор отдела журнала «Вопросы
философии», Москва.
Касавин Илья Теодорович — член-корреспондент РАН, заведующий
сектором социальной эпистемологии ИФ РАН, Москва.
Келле Владислав Жанович (1920—2010) — философ, специалист в
области социальной философии, автор трудов по проблемам
социального анализа науки.
Киселева Марина Сергеевна — доктор философских наук, профессор,
заведующая сектором методологии междисциплинарных
исследований человека ИФ РАН, Москва.
Киященко Лариса Павловна — доктор философских наук, профессор,
начальник отдела РГНФ, Москва.
Коршунов Анатолий Михайлович — доктор философских наук,
профессор кафедры философии гуманитарных факультетов философского
факультета МГУ, Москва.
Кузнецова Наталья Ивановна — доктор философских наук, профессор
кафедры современных проблем философии философского
факультета РГГУ, Москва.
Лекторский Владислав Александрович — действительный член РАН,
председатель международного редакционного совета журнала
«Вопросы философии», заведующий сектором теории познания
ИФ РАН, Москва.
Сведения об авторах
597
Микешина Людмила Александровна — доктор философских наук,
профессор кафедры философии МП ГУ, Москва.
Мирская Елена Зиновьевна — доктор социологических наук,
заведующая сектором социологии науки И И ET им. СИ. Вавилова РАН,
Москва.
Мотовникова Елена Николаевна — кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и теологии социально-теологического
факультета НИУ «БелГУ», Белгород.
Мудрагей Нэлля Степановна — Старший научный сотрудник сектора
теории познания ИФ РАН, Москва.
Ольхов Павел Анатольевич — доктор философских наук, профессор
кафедры философии БелГУ, Белгород.
Порус Владимир Натанович — доктор философских наук, заведующий
кафедрой философского факультета НИУ ВШЭ, Москва.
Пружинин Борис Исаевич — доктор философских наук, главный
редактор журнала «Вопросы философии», Москва.
Сидорина Татьяна Юрьевна — доктор философских наук, ординарный
профессор НИУ ВШЭ, Москва.
Смирнова Наталья Михайловна — доктор философских наук,
профессор, заведующий сектором философских проблем творчества
ИФ РАН, Москва.
Степин Вячеслав Семенович — действительный член РАН, советник
РАН, почетный директор ИФ РАН, Москва.
Тимофеев Илья Семенович (1923—2014) — философ, автор трудов в
области философии и методологии науки.
Тимофеева Нина Вячеславовна — кандидат философских наук, доцент,
Москва.
Трубникова Надежда Николаевна — доктор философских наук,
профессор, заместитель главного редактора журнала «Вопросы
философии», Москва.
Фельдман Дмитрий Михайлович — доктор политических наук,
профессор кафедры Мировых политических процессов факультета
политологии МГИМО(У) МИД РФ, Москва.
Филатов Владимир Петрович — доктор философских наук,
заведующий кафедрой современных проблем философии философского
факультета РГГУ, Москва.
Шупер Вячеслав Александрович — доктор географических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник ИГ РАН, Москва.
Щедрина Ирина Олеговна — магистрант философского факультета ГА-
УГН, Москва.
Щедрина Татьяна Геннадьевна — доктор философских наук,
профессор кафедры философии МП ГУ, Москва.
598
Содержание
Введение
Б. И. Пружинин. Введение: Специфика культурно-
исторической эпистемологии 7
Раздел 1. Общие проблемы эпистемологам
В. А. Лекторский. Релятивизм как феномен современной
культуры 45
В. С. Степин. Картина мира и современные проблемы
научного знания 67
A. Ф. Зотов. Фаустовский вопрос теории познания 85
П. П. Гайденко. Средневековый номинализм и генезис
новоевропейского сознания 102
Л. П. Киященко, Е. 3. Мирская. Этос науки: нормативные
идеалы и современные реалии 115
Н. И. Кузнецова. Феномен российской науки: культурно-
исторический подход 131
B. И. Аршинов. Постнеклассическая междисциплинарность
в контексте парадигмы сложности 159
Раздел 2. Теоретические проблемы современных неклассических
эпистемологических практик
И. Т. Касавин. Что значит быть реалистом? Тест для социальной
и культурно-исторической эпистемологии 175
В. Н. Порус. Научная рациональность в культурно-
историческом контуре 193
Н. С. Автономова. Перспективы рациональности: новый
виток проблематизации 209
Л. А. Микешина. Достоинства гуманитарных наук:
эпистемологические смыслы 224
H. M. Смирнова. Когнитивные функции воображения 237
П. А. Олъхов. Ratio vocans: перспектива культурно-
исторической эпистемологии 253
Т. Г. Щедрина. Культурно-историческая эпистемология
и социальная эпистемология: два пути к реальности 262
И. О. Щедрина. Когнитивное и ценностное в трудах Рене
Декарта: взгляд из неклассической эпистемологии 273
Содержание
599
Раздел 3. Культурно-исторический подход в социально-
гуманитарных науках
В. П. Филатов. От мысли к науке: культурно-исторический
подход к генезису экономической науки 289
В. П. Зинченко. Философско-гуманитарные истоки
психологии действия 306
В. К. Кантор. Университеты и профессорство в России 325
М. С. Киселева. Концепт выбора в христианской
и постхристианской культурах 345
H. H. Трубникова. О возможностях культурно-исторического
подхода к изучению буддизма на примере японских
буддийских школ 362
Д. М. Фельдман. Культурно-историческая обусловленность
правил мировой политики 377
В. А. Шупер. Рационалистическое мировоззрение в условиях
кризиса 396
Е. Н. Мотовникова. «Чужие» или «Другие»? Культурно-
исторические метаморфозы проблемы внеземных цивилизаций....411
Раздел 4. О времени и о себе...
Б. И. Пружинин. Историзм устной истории 425
Б. И. Пружинин. О судьбе, о себе и о точках бифуркации 429
И. С. Мудрагей. Membra sumus corporis, или Наш карасе
по Воннегуту 443
Разговор Б. И. Пружинина с Н. С. Автономовой
иТ. Г. Щедриной 451
Беседа Б. И. Пружинина с А. М. Коршуновым 459
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной
с И. С. и Н. В. Тимофеевыми 474
Беседа Б. И. Пружинина с В. Ж. Келле 486
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с В. П. Зинченко. 498
Беседа Б. И. Пружинина с В. А. Лекторским 513
Беседа Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной с В. Н. Порусом 539
Т. Ю. Сидорина. О Борисе Исаевиче Пружинине 557
Л. А. Микешина. 50 лет как живу в философии 562
Избранная библиография Б.И. Пружинина 576
Указатель имен. Сост. И. О. Щедрина 584
Сведения об авторах 596
Научное издание
Humanitas
Культурно-историческая эпистемология:
проблемы и перспективы
К 70-летию Бориса Исаевича Пружинина
Книга, посвященная 70-летию одного из крупнейших
отечественных философов-эпистемологов Бориса Исаевича
Пружинина, выходит в свет как раз вовремя.
И дана нам в предостережение.
Она поднимает вопросы высшего культурного достоинства:
оставаться европейской культуре верной своим истокам,
отмеченным непреходящей ценностью Разума и пафосом поиска
Истины, или погибнуть, низведя Разум до суетливого слуги
сиюминутных, меркантильных интересов?
Главный, «фаустовский» вопрос книги, по существу, и состоит
в том, каковы социально-исторические перспективы общества,
которое лишает научный разум его самодовлеющей культурной
мощи. Так частные вопросы философской методологии
о когнитивных характеристиках прикладной науки вырастают
до бытийно-экзистенциальных поисков смысла культурных
перспектив современного общественного развития.
Ответ на эти вопросы и призвана дать конституированная
авторами особая область общей теории познания -
культурно-историческая эпистемология.