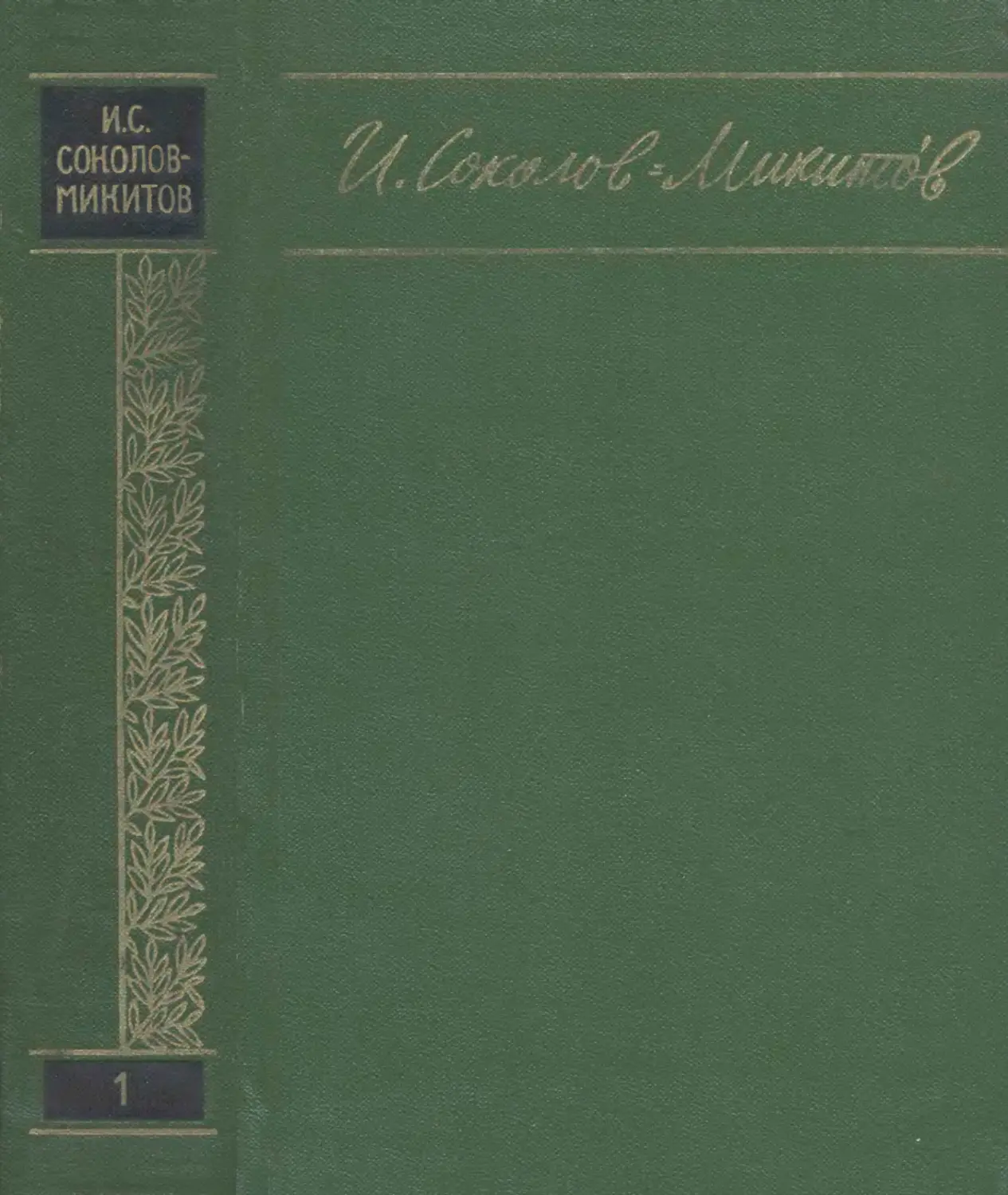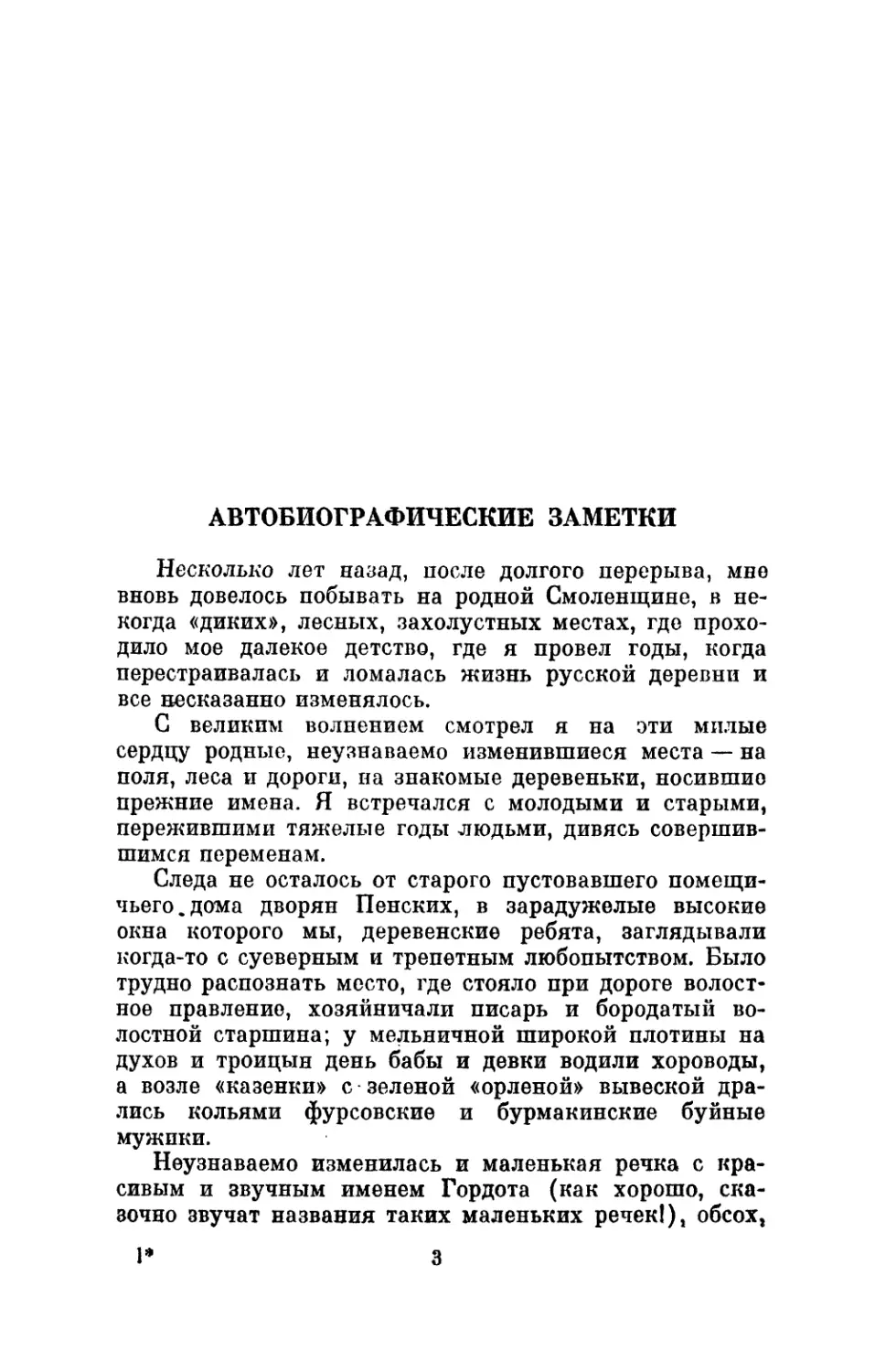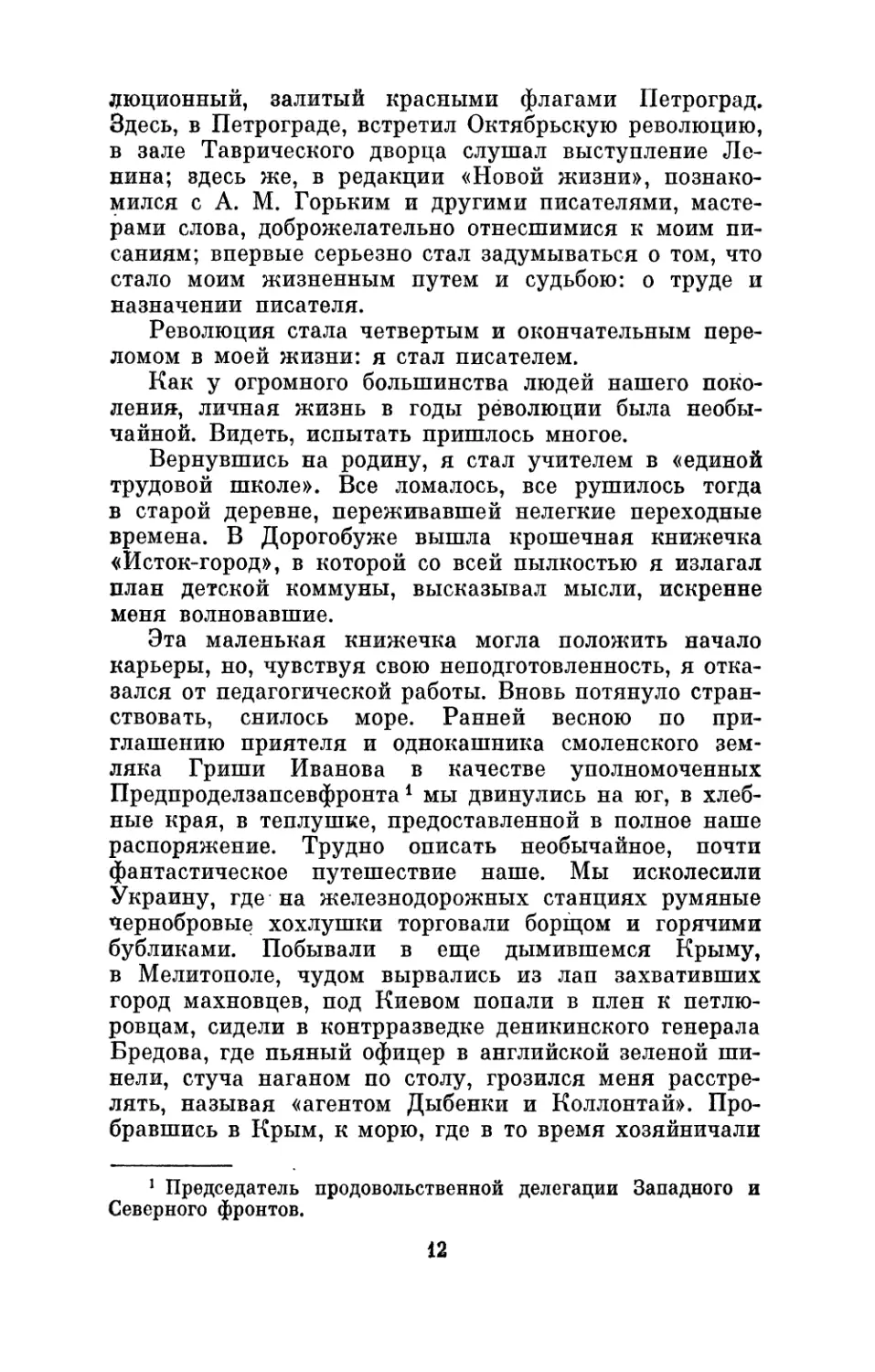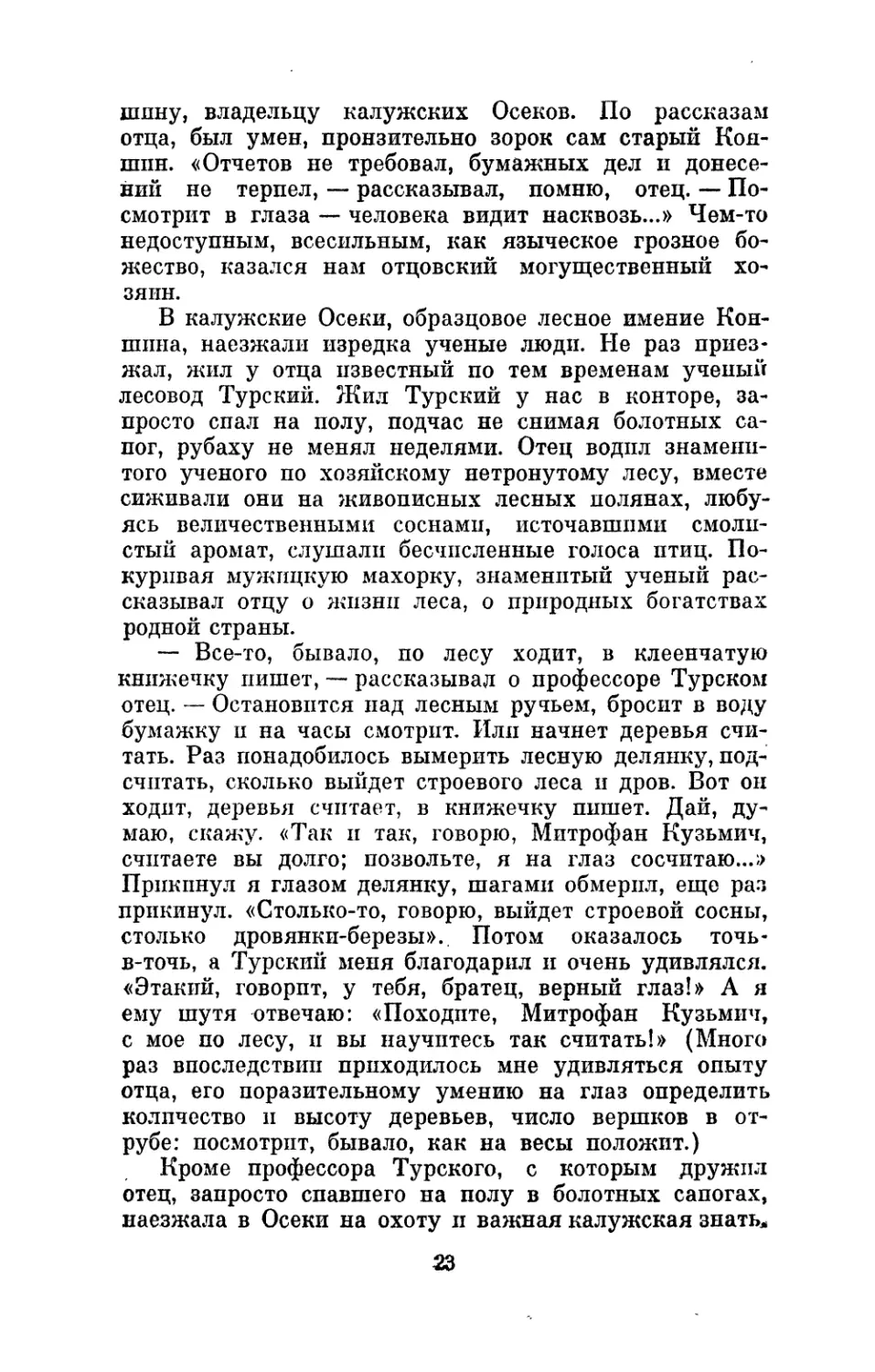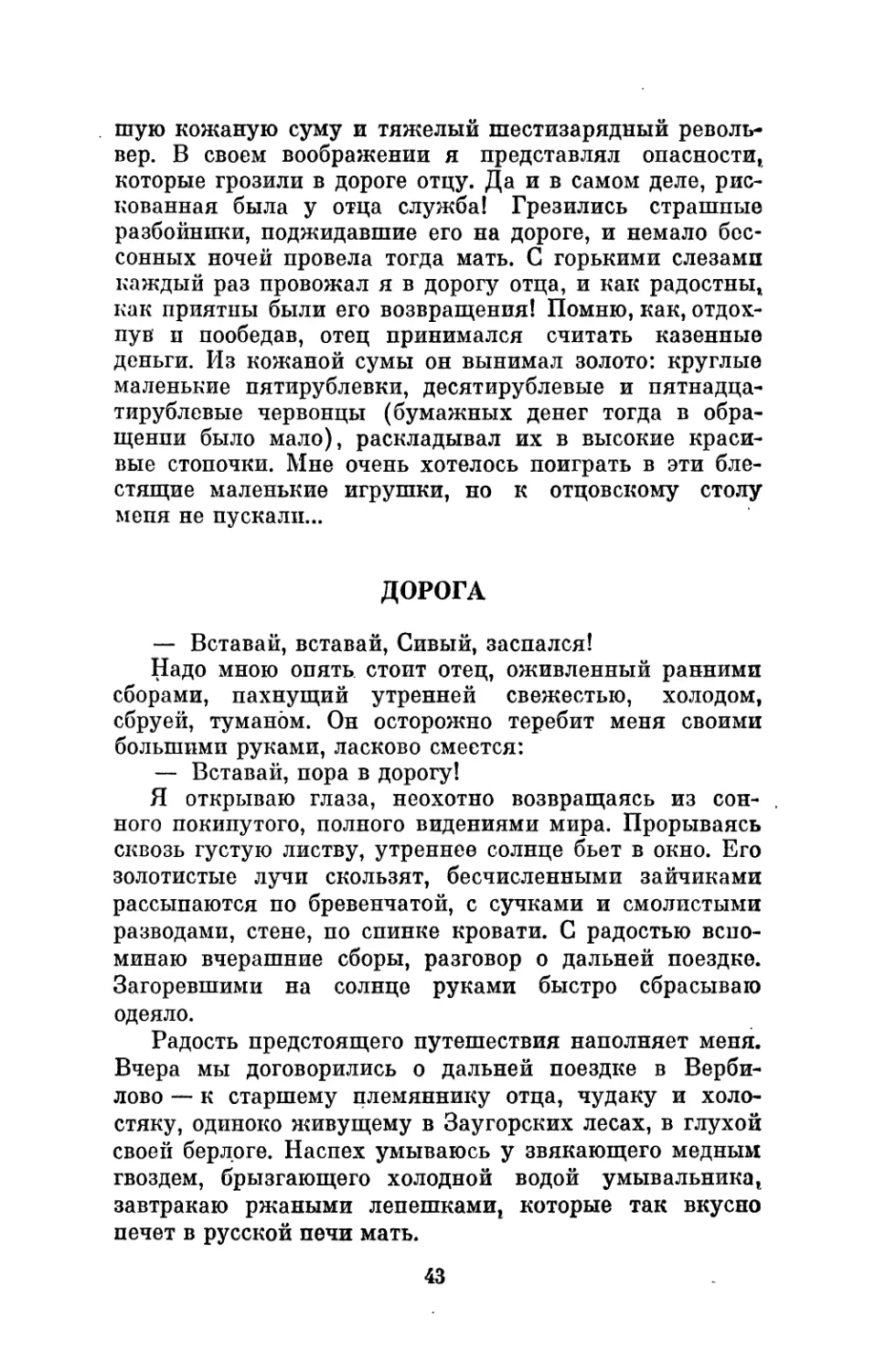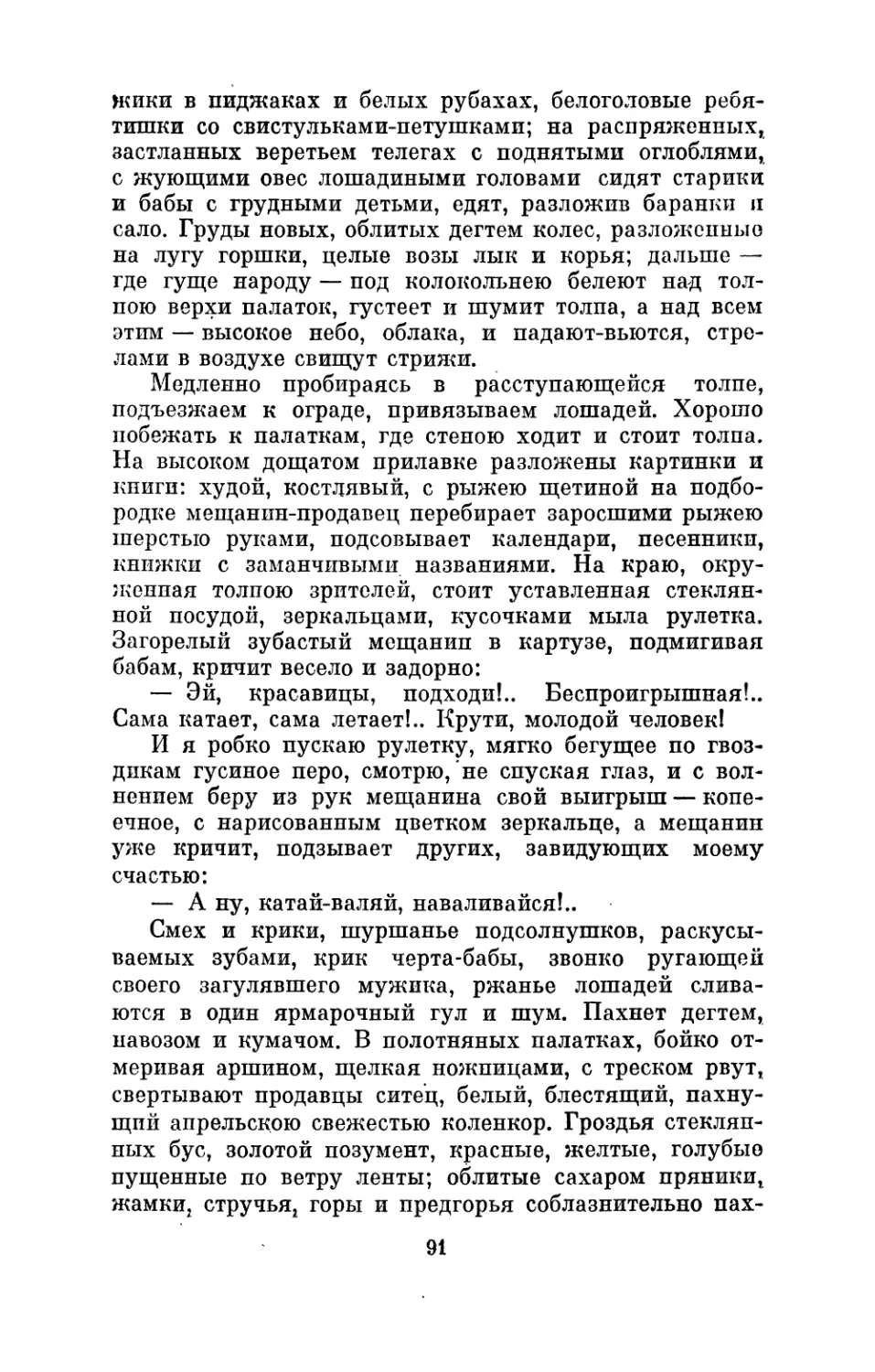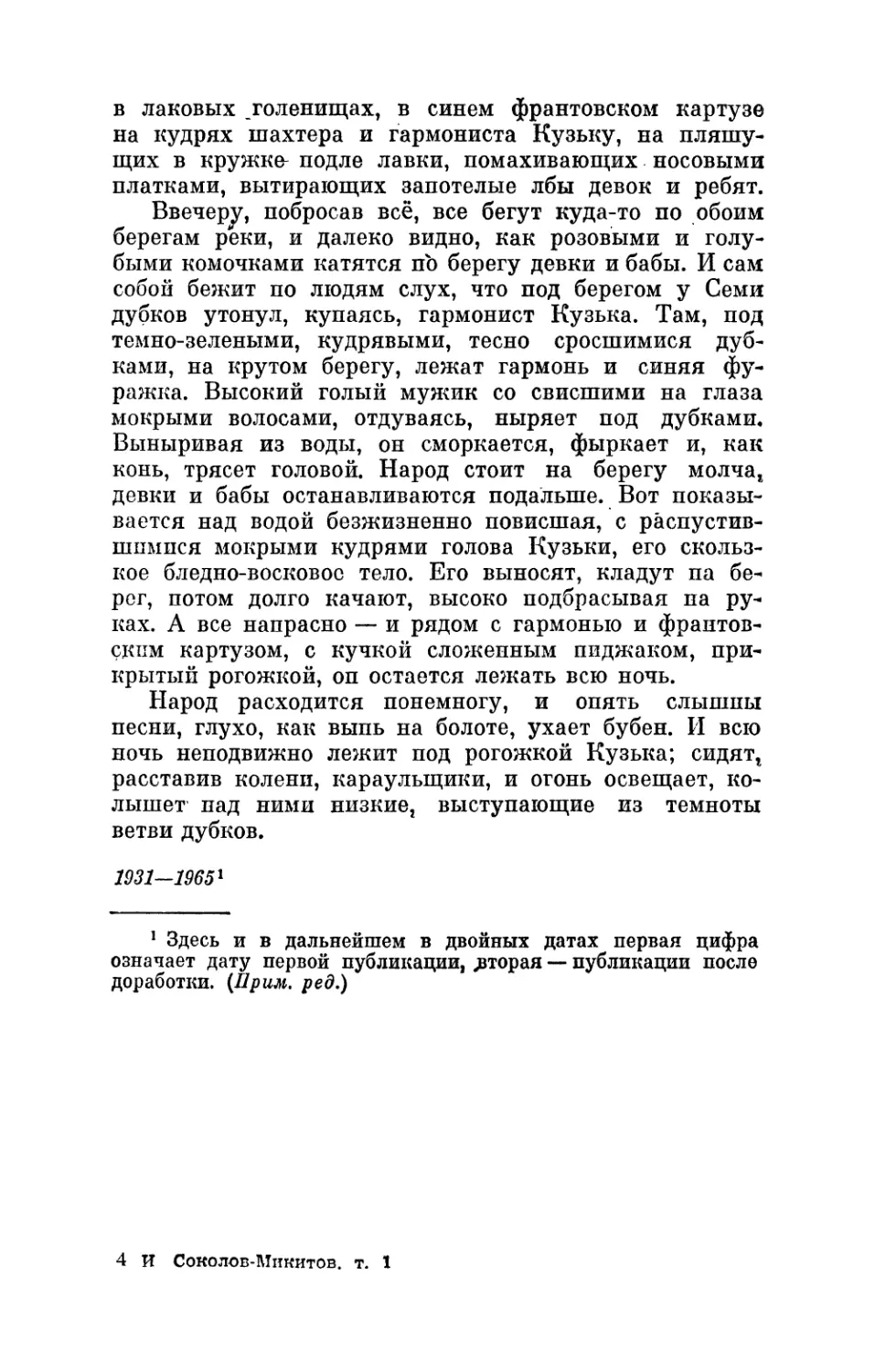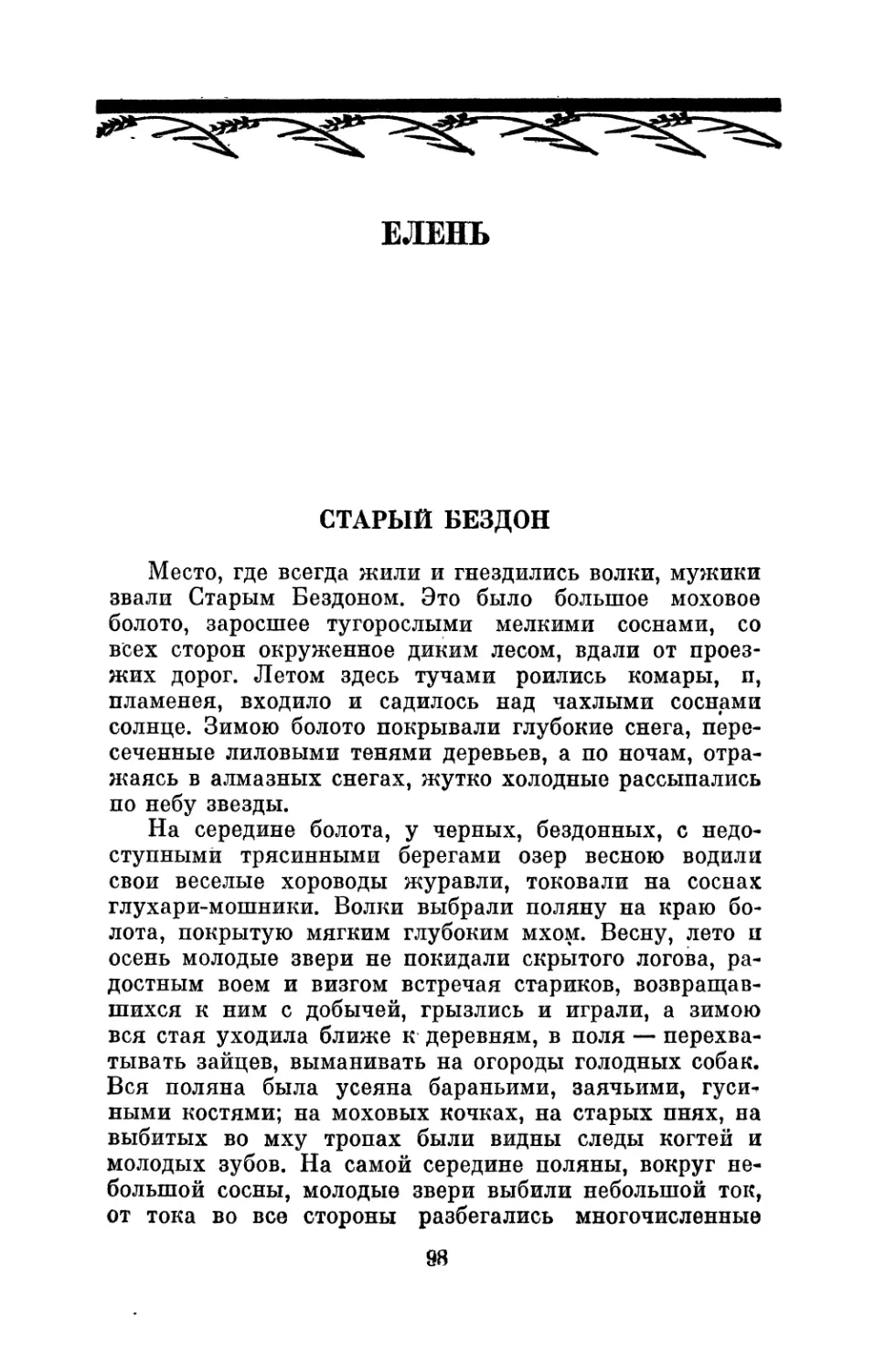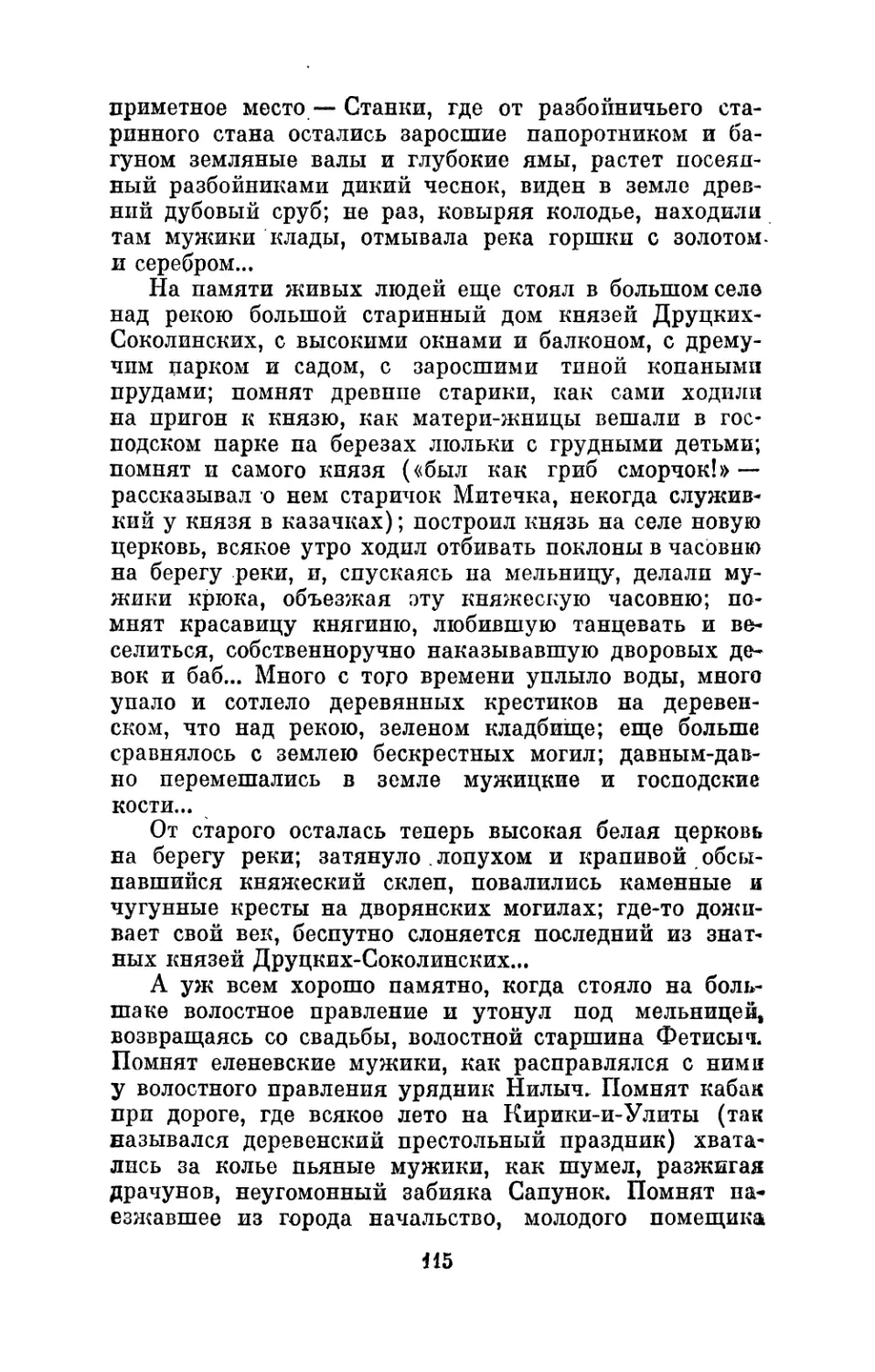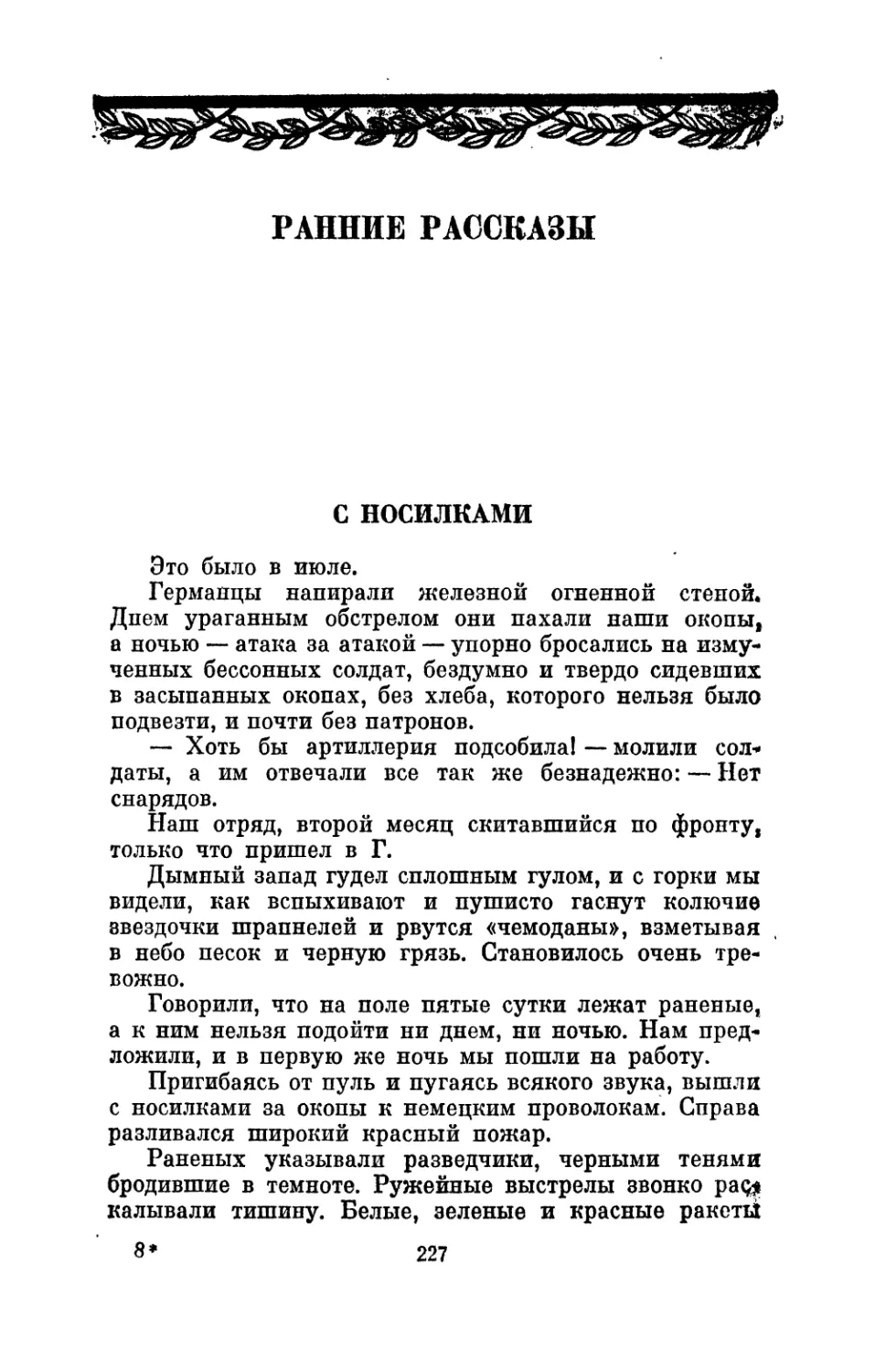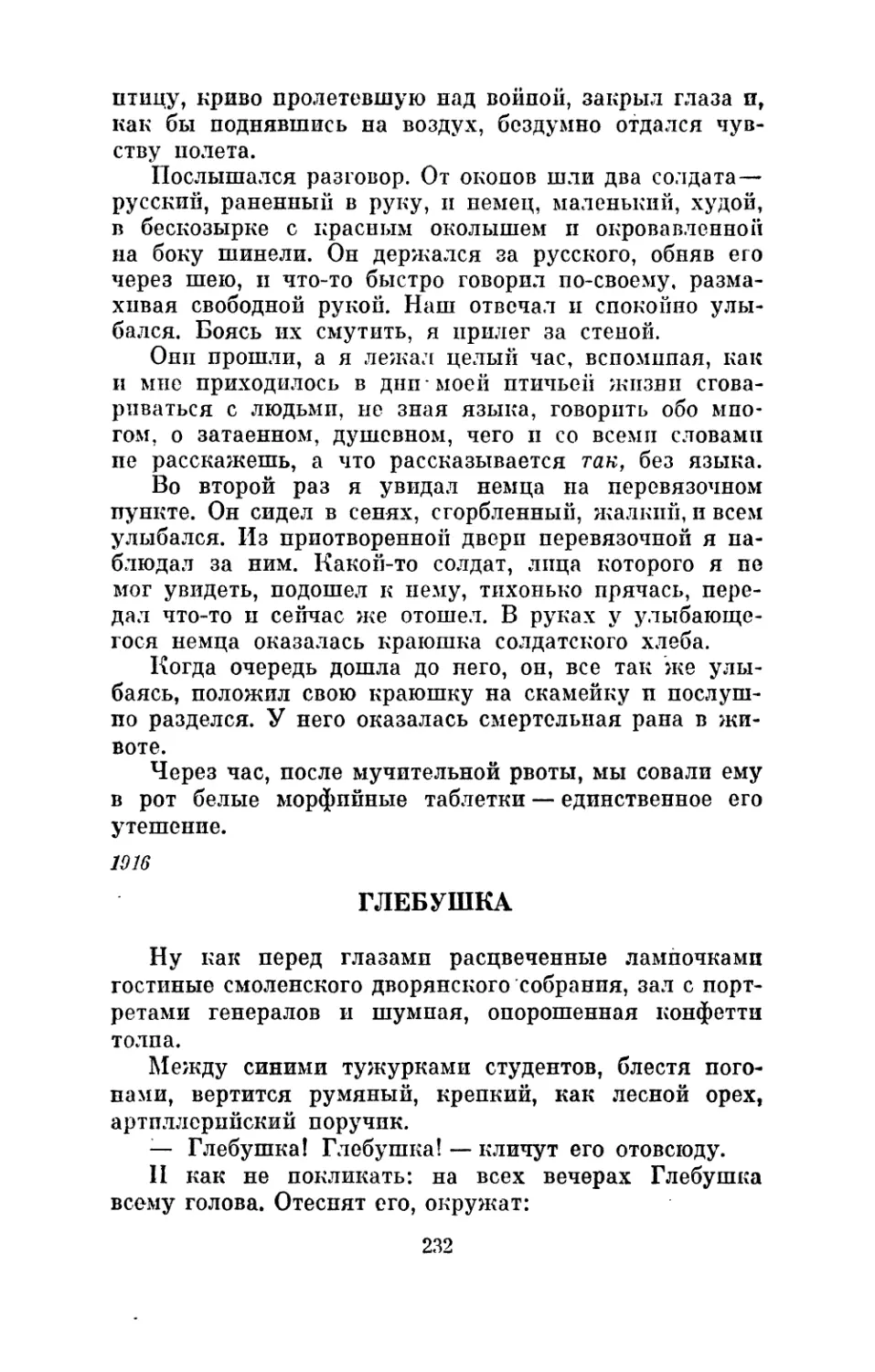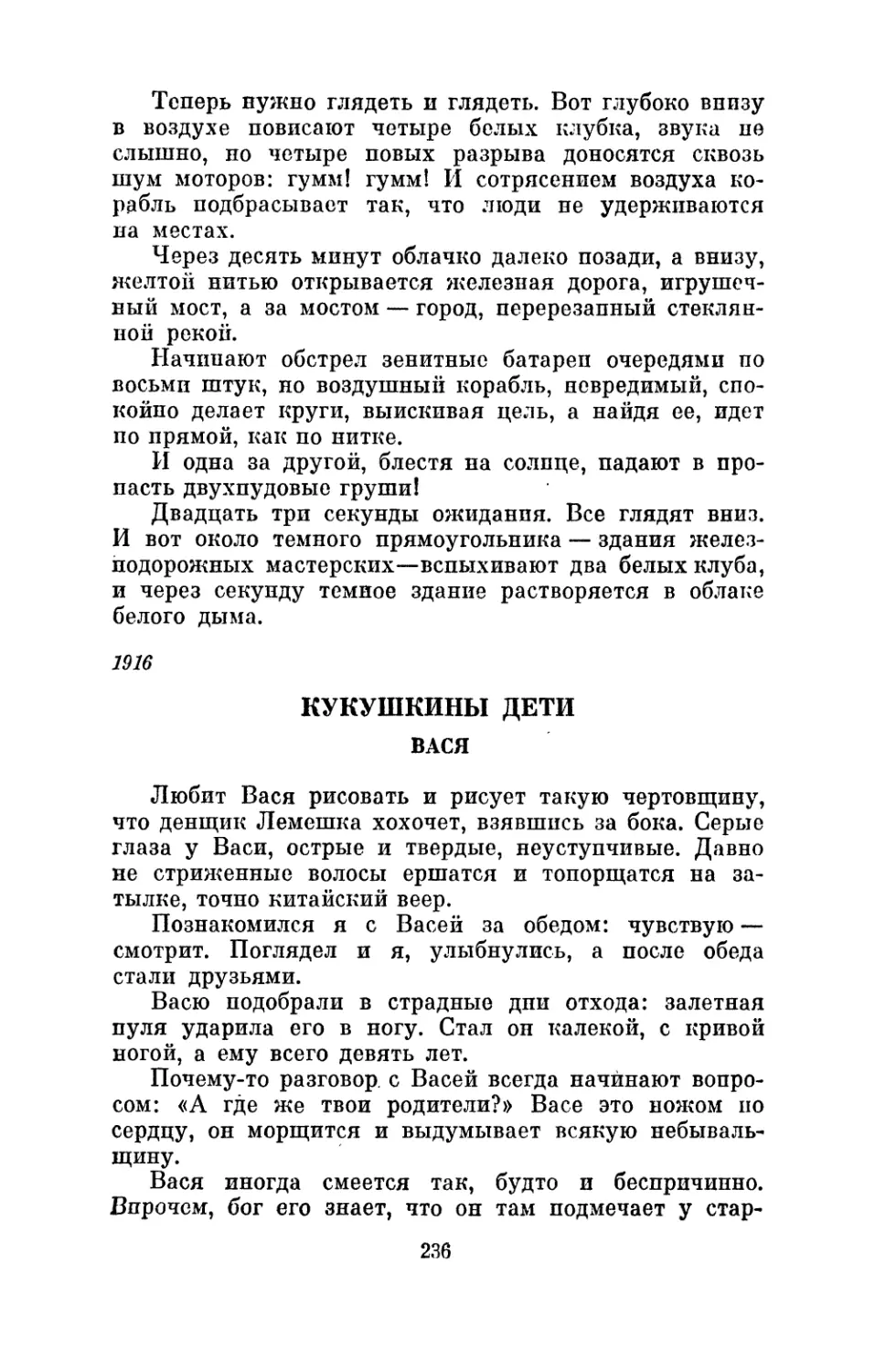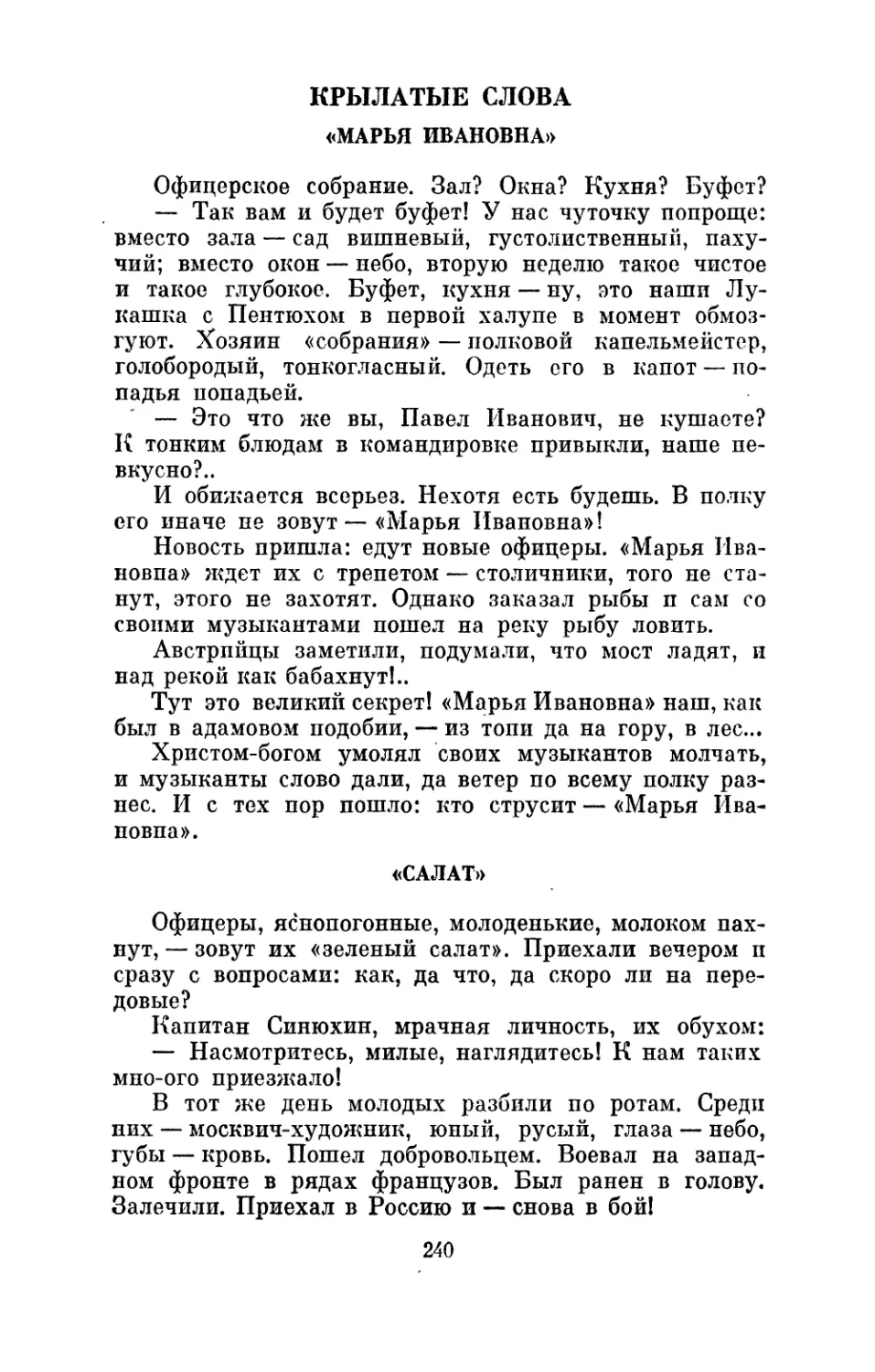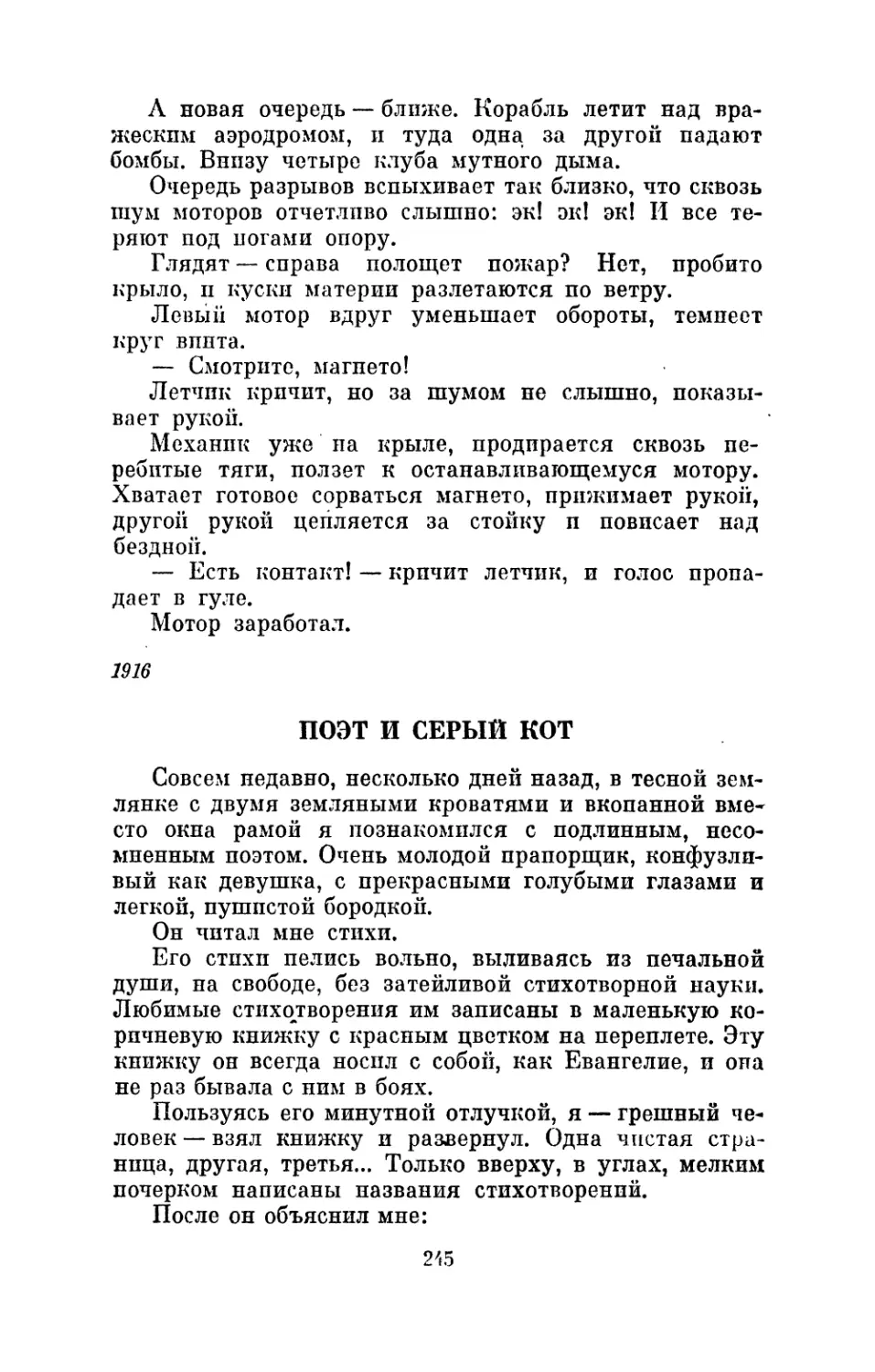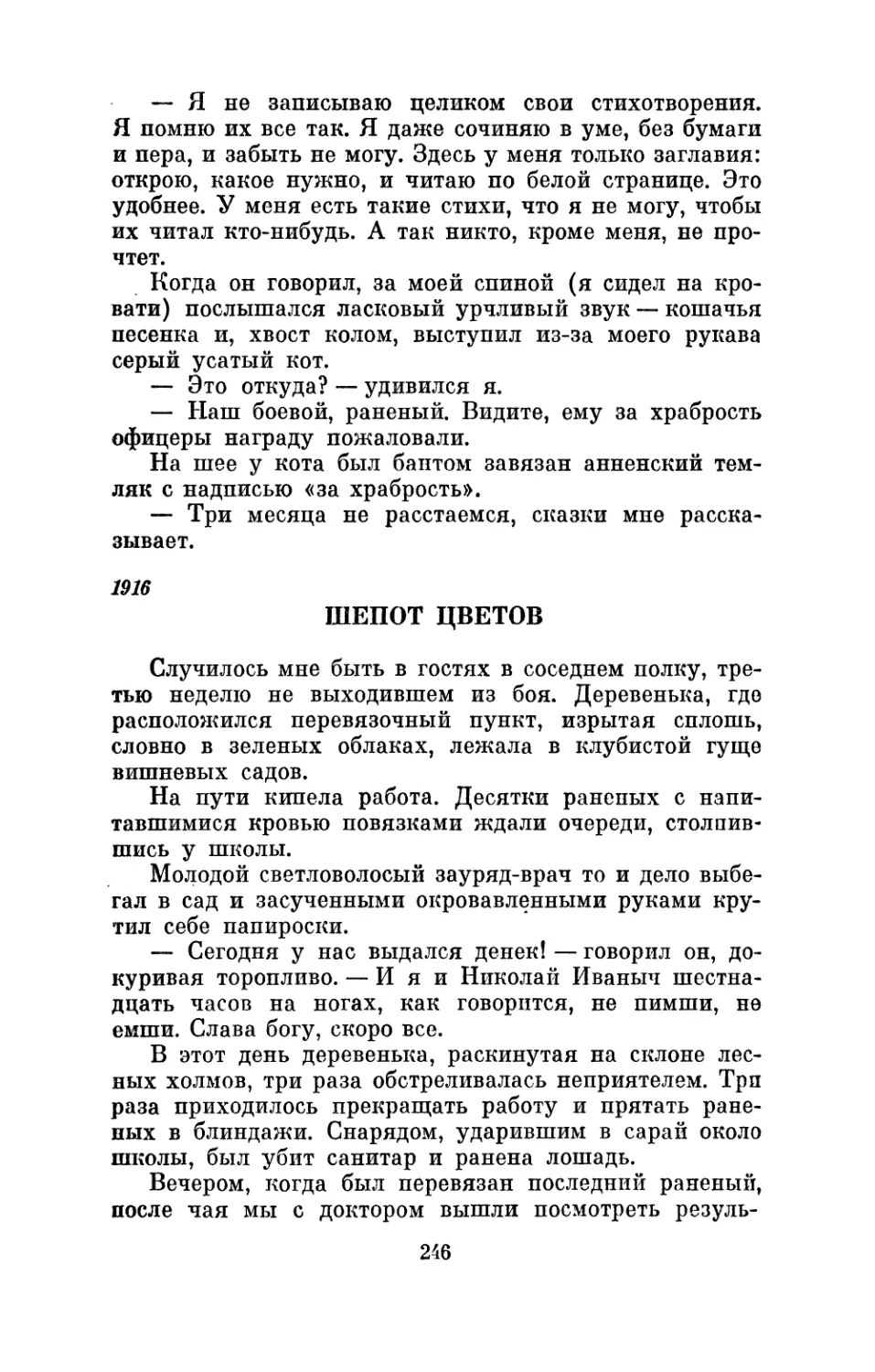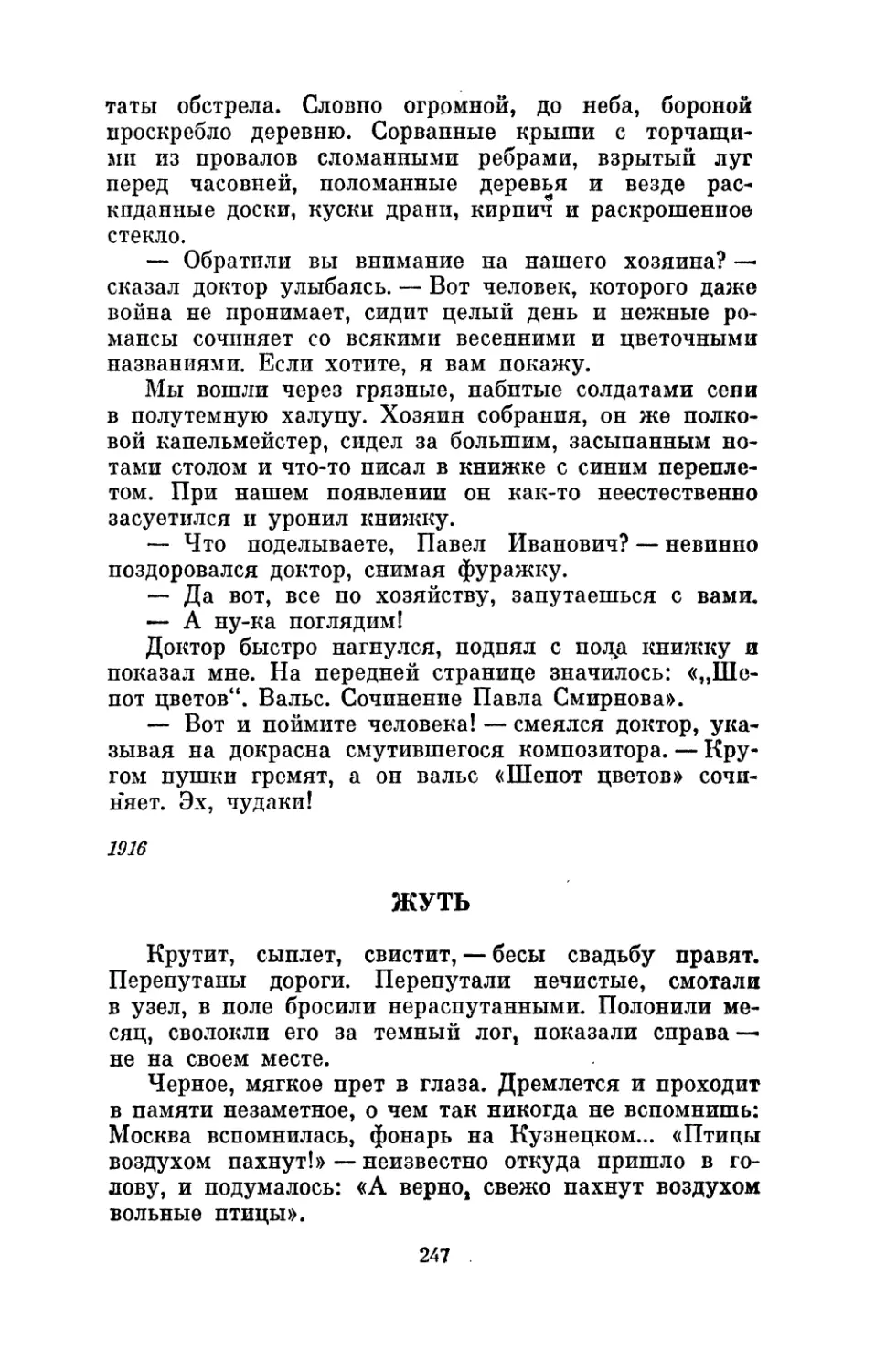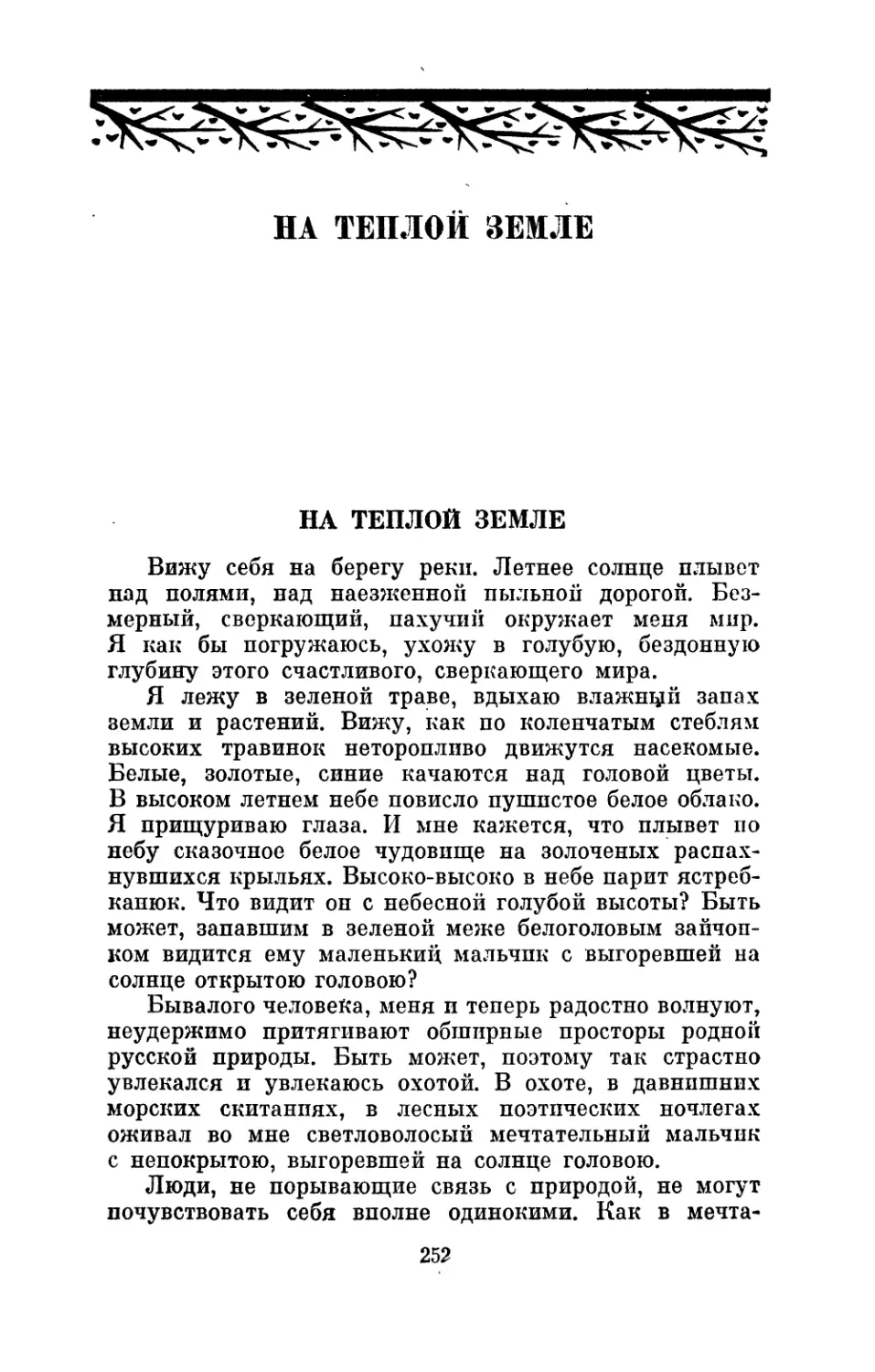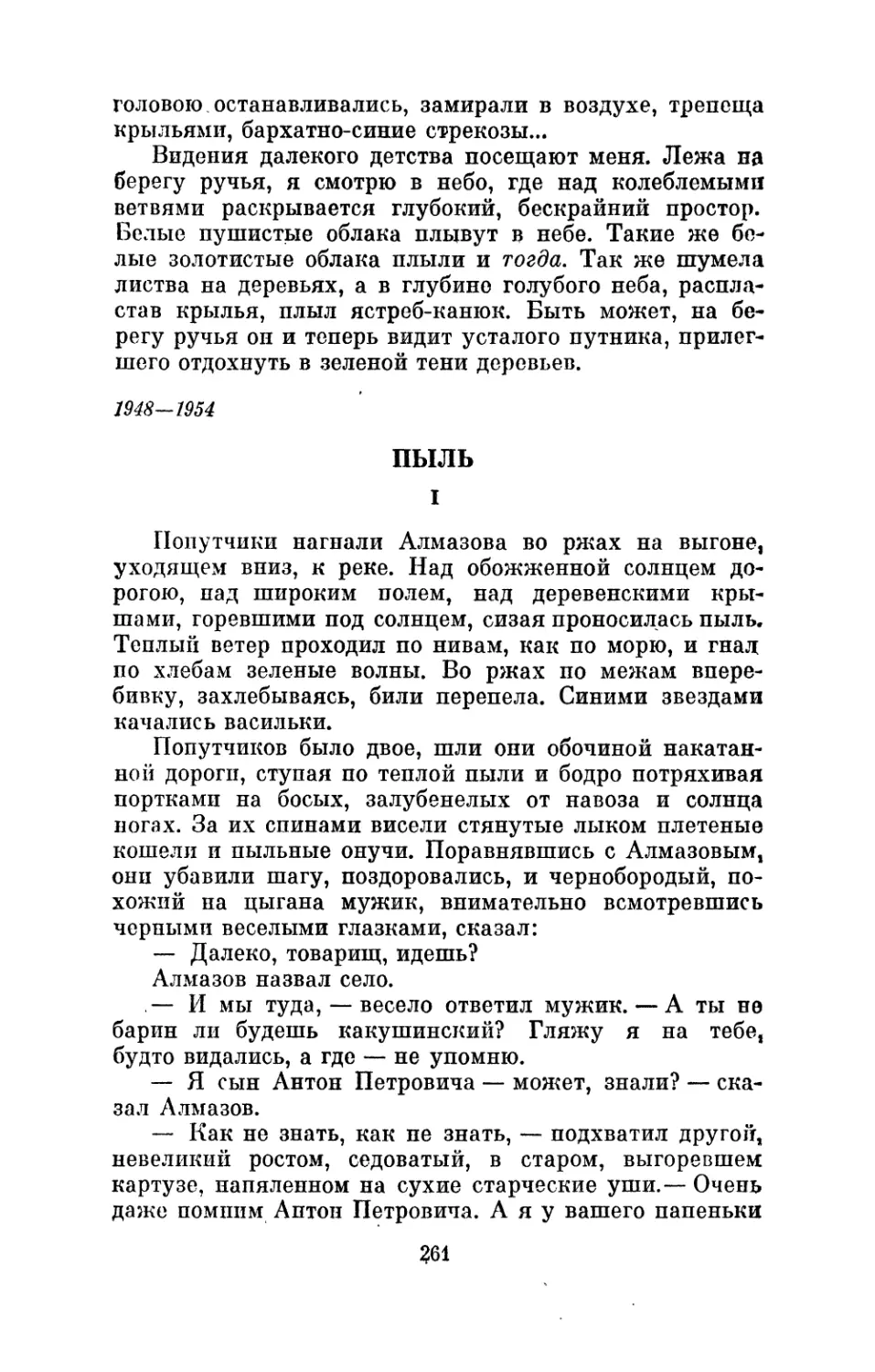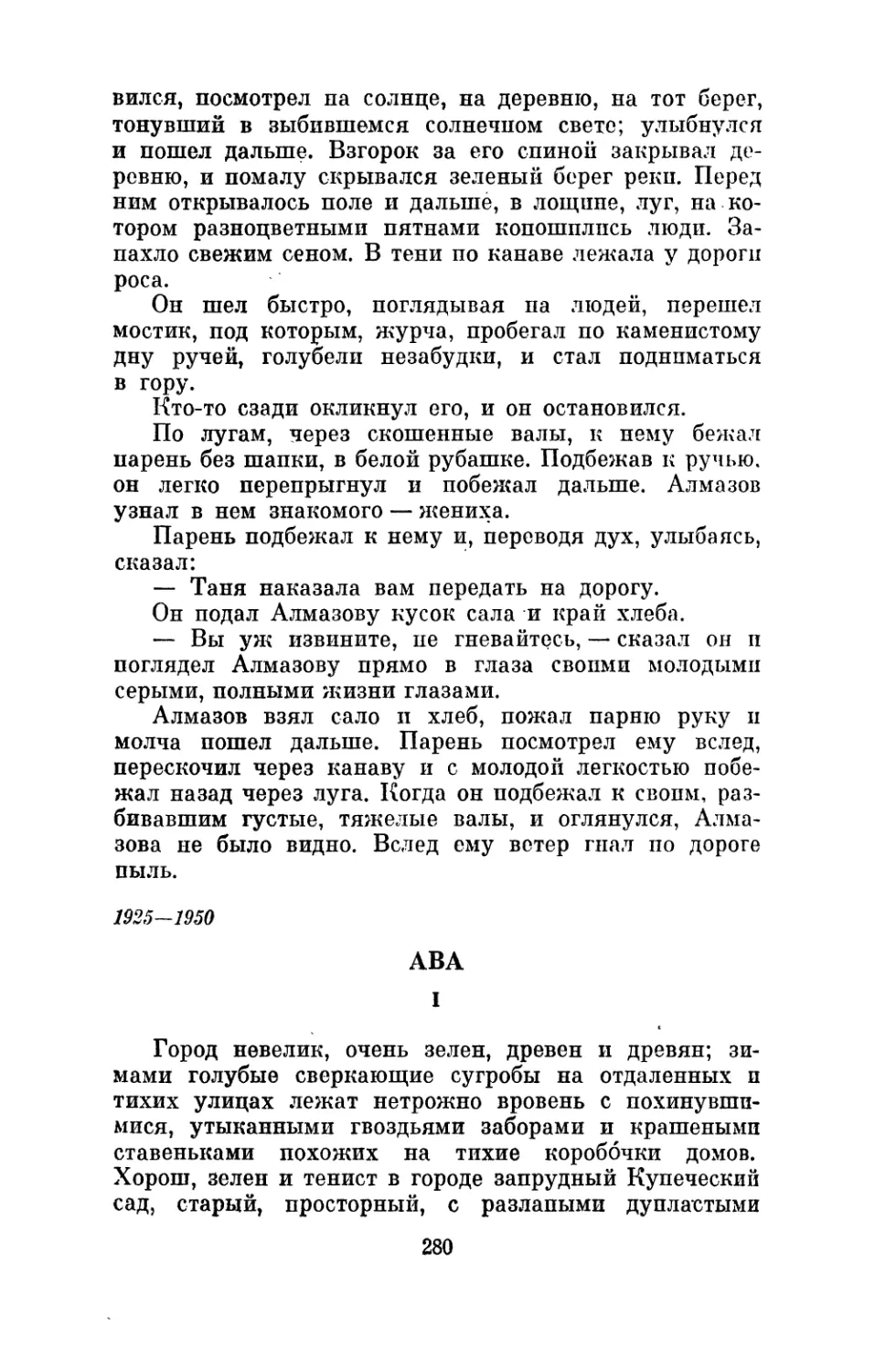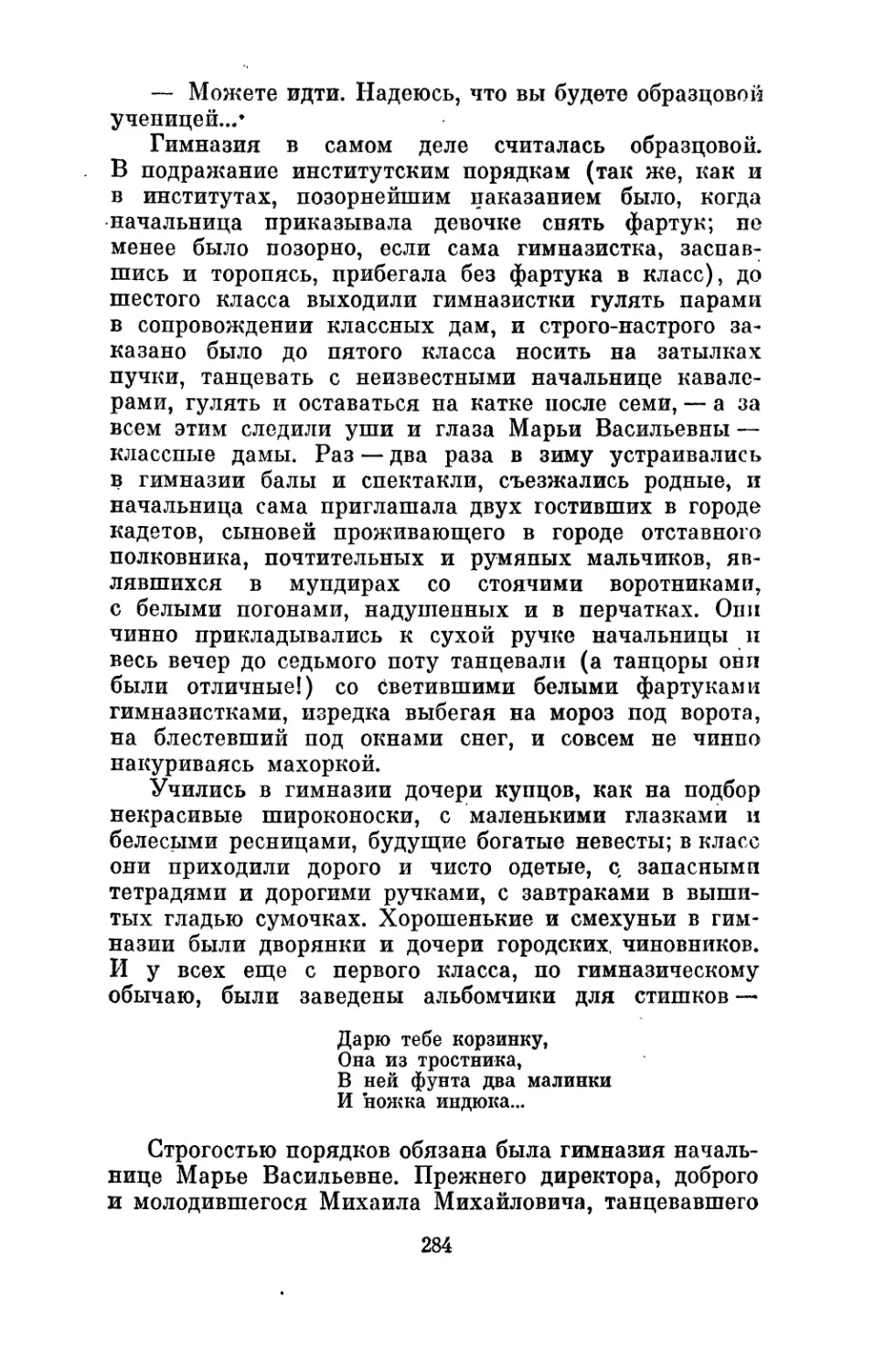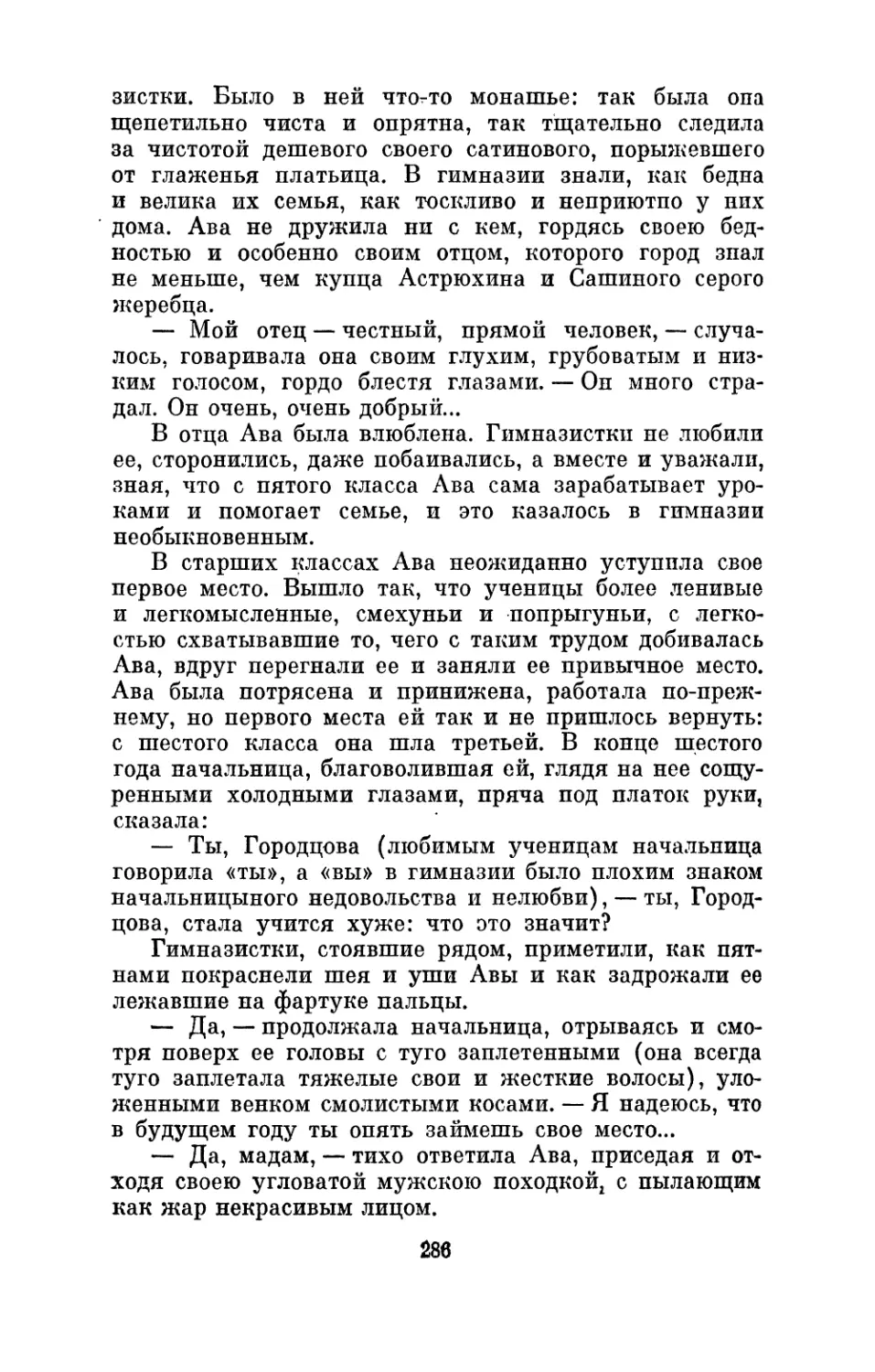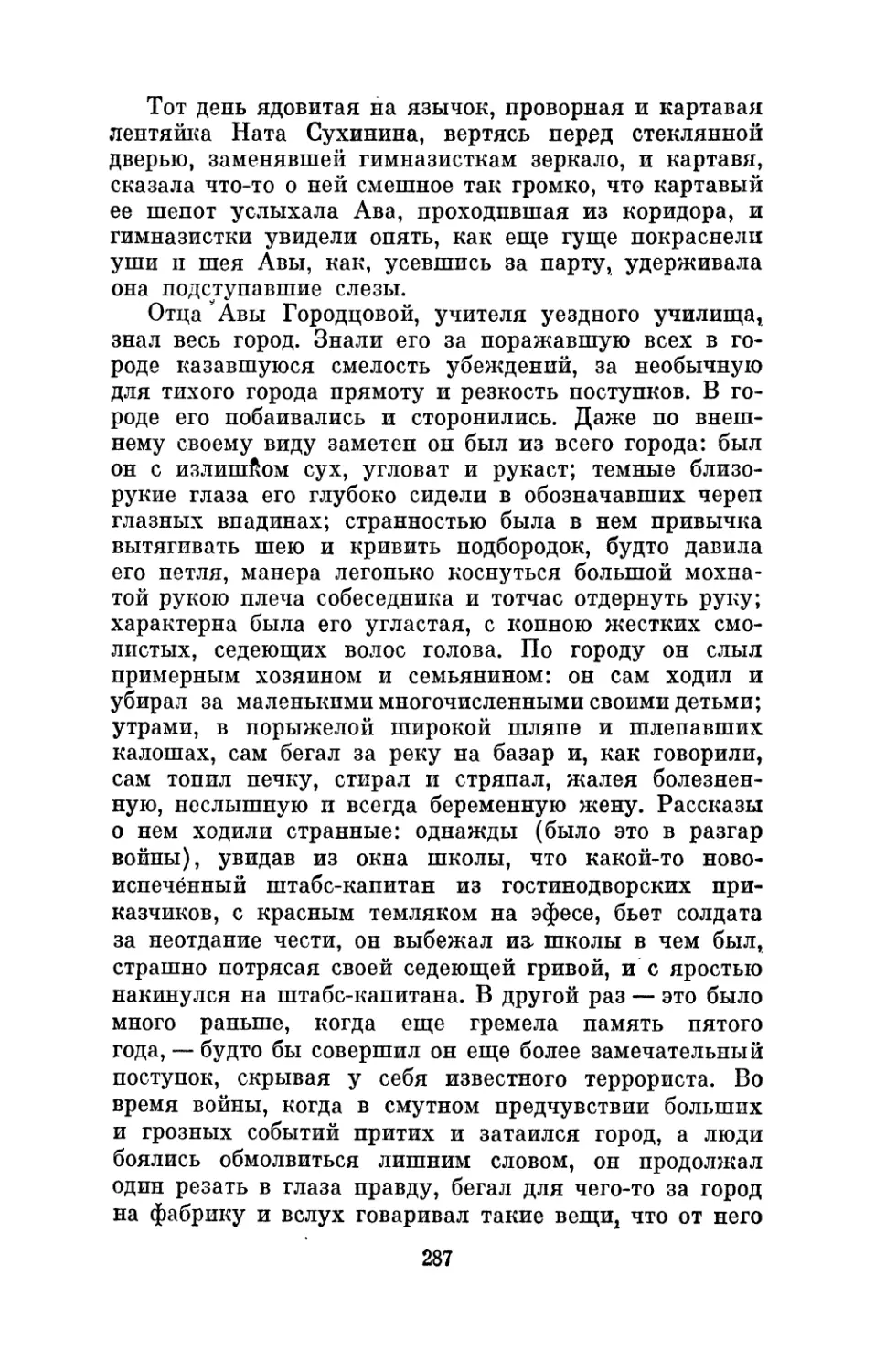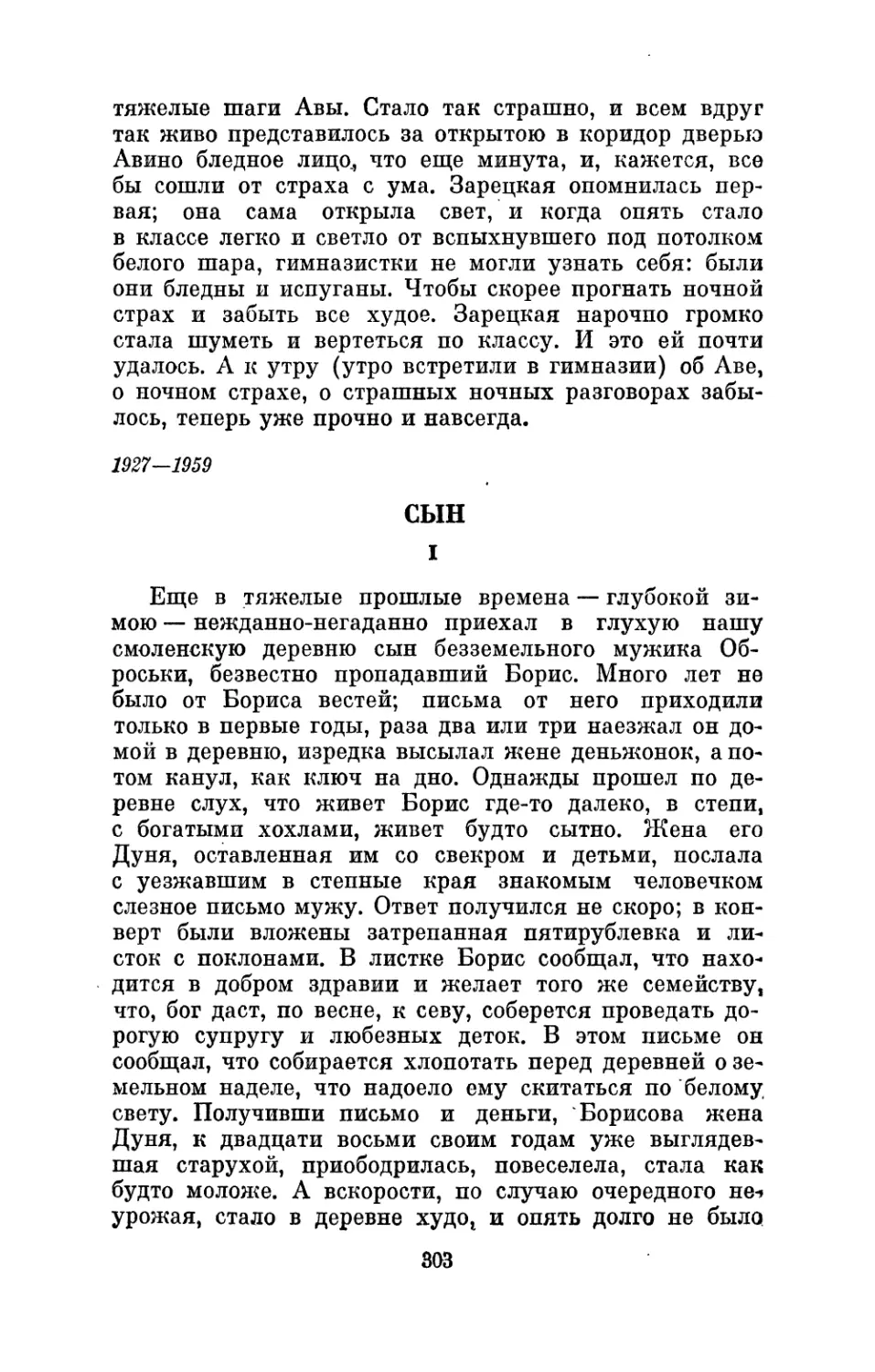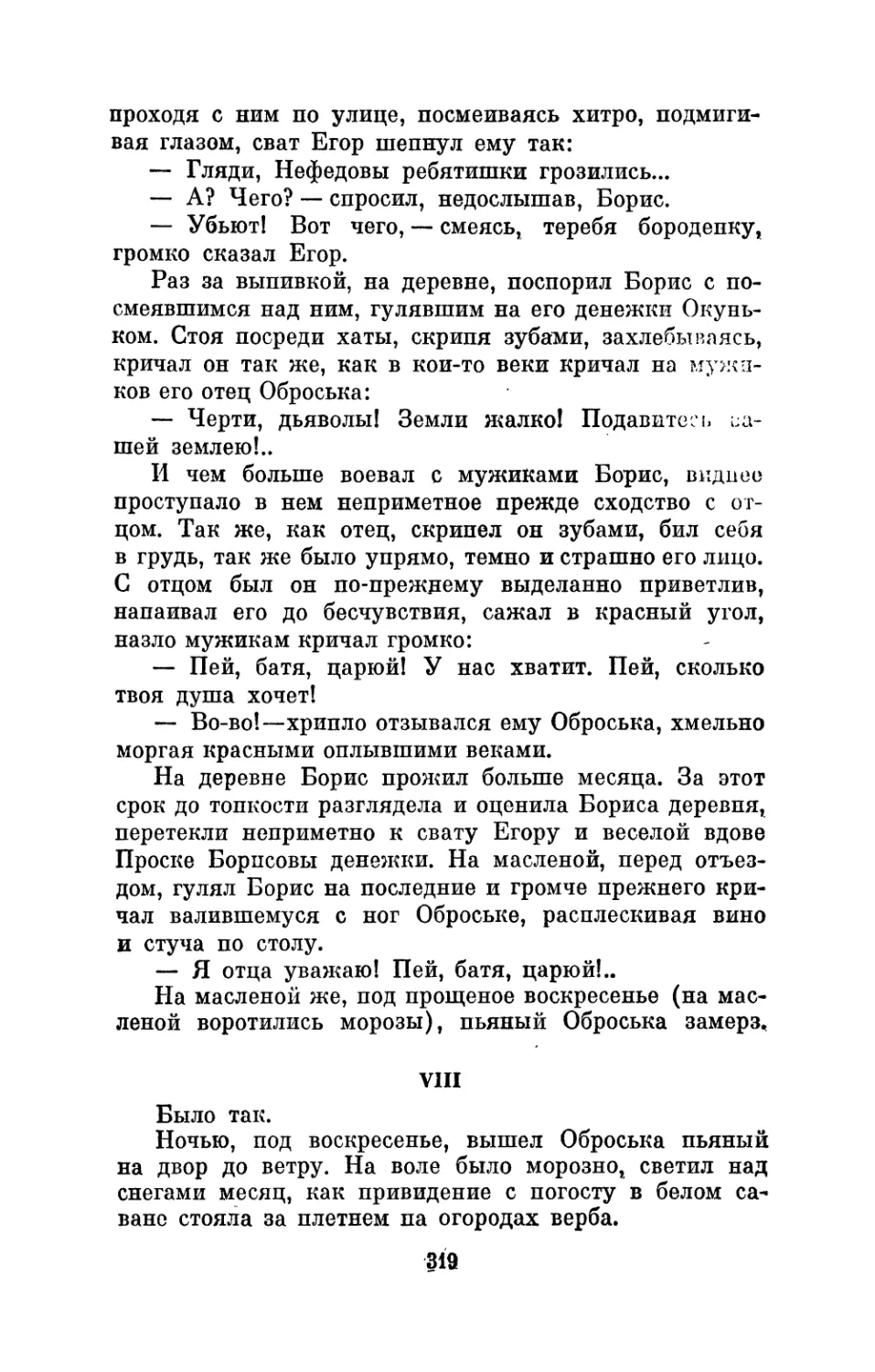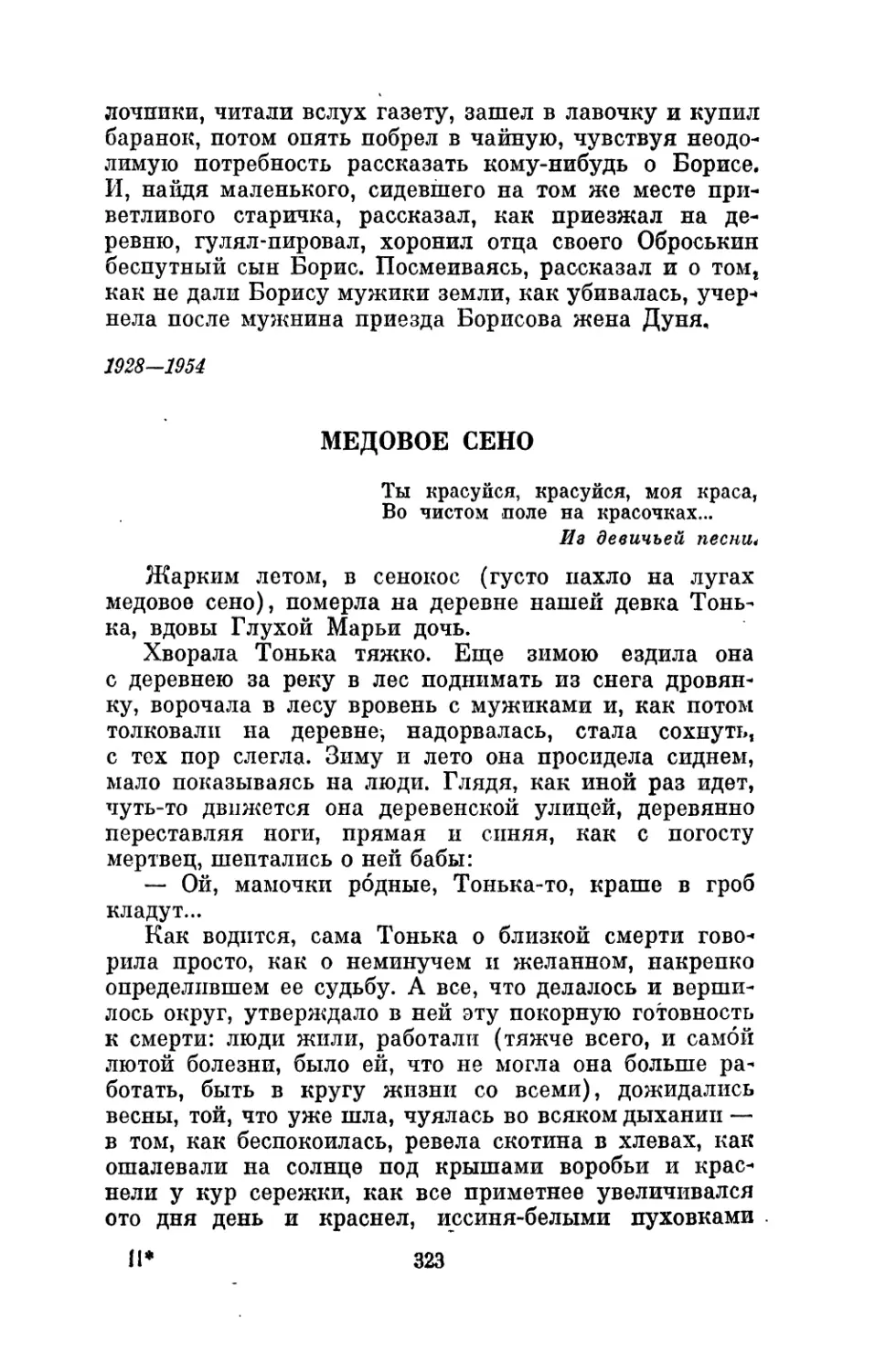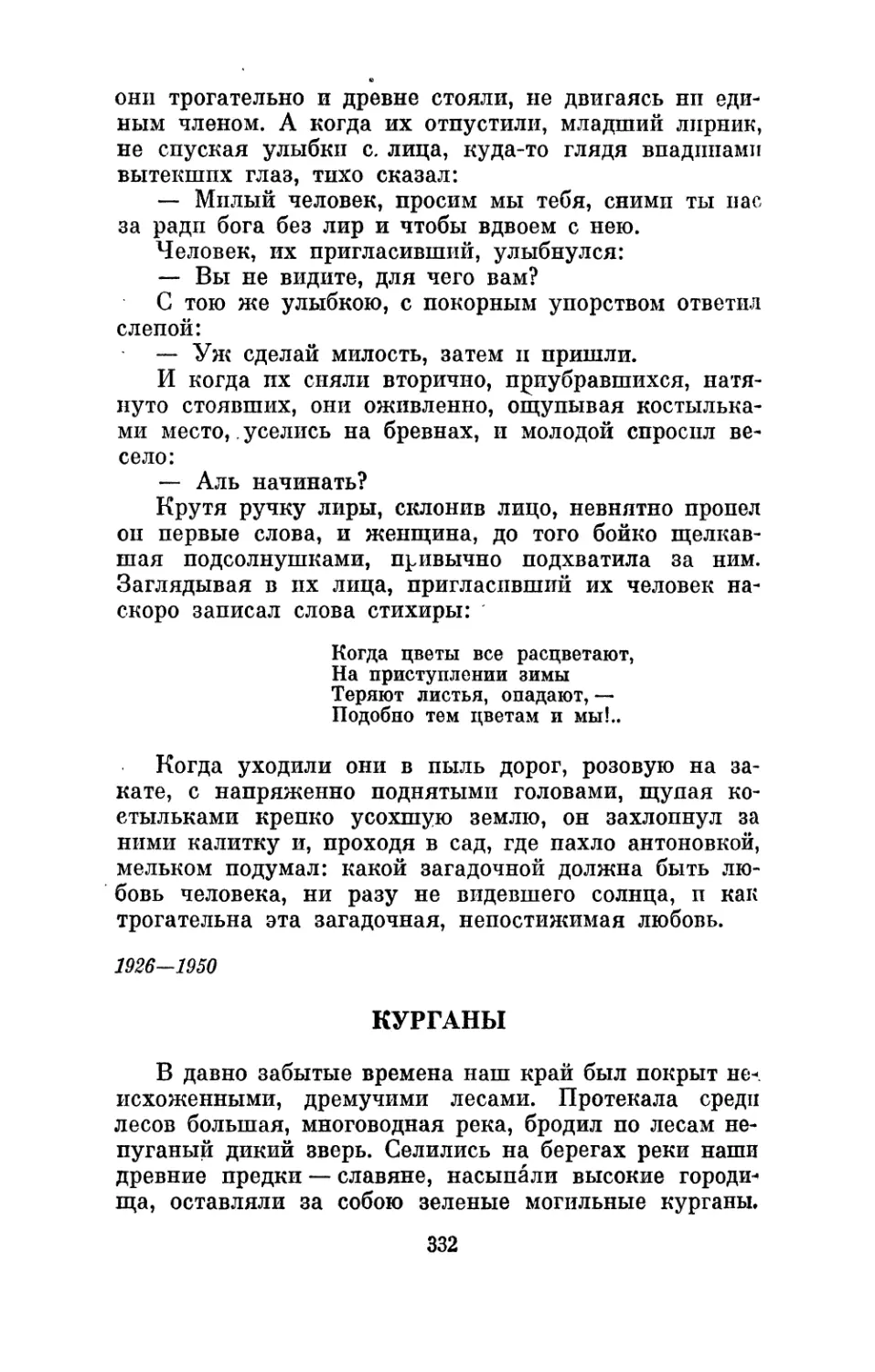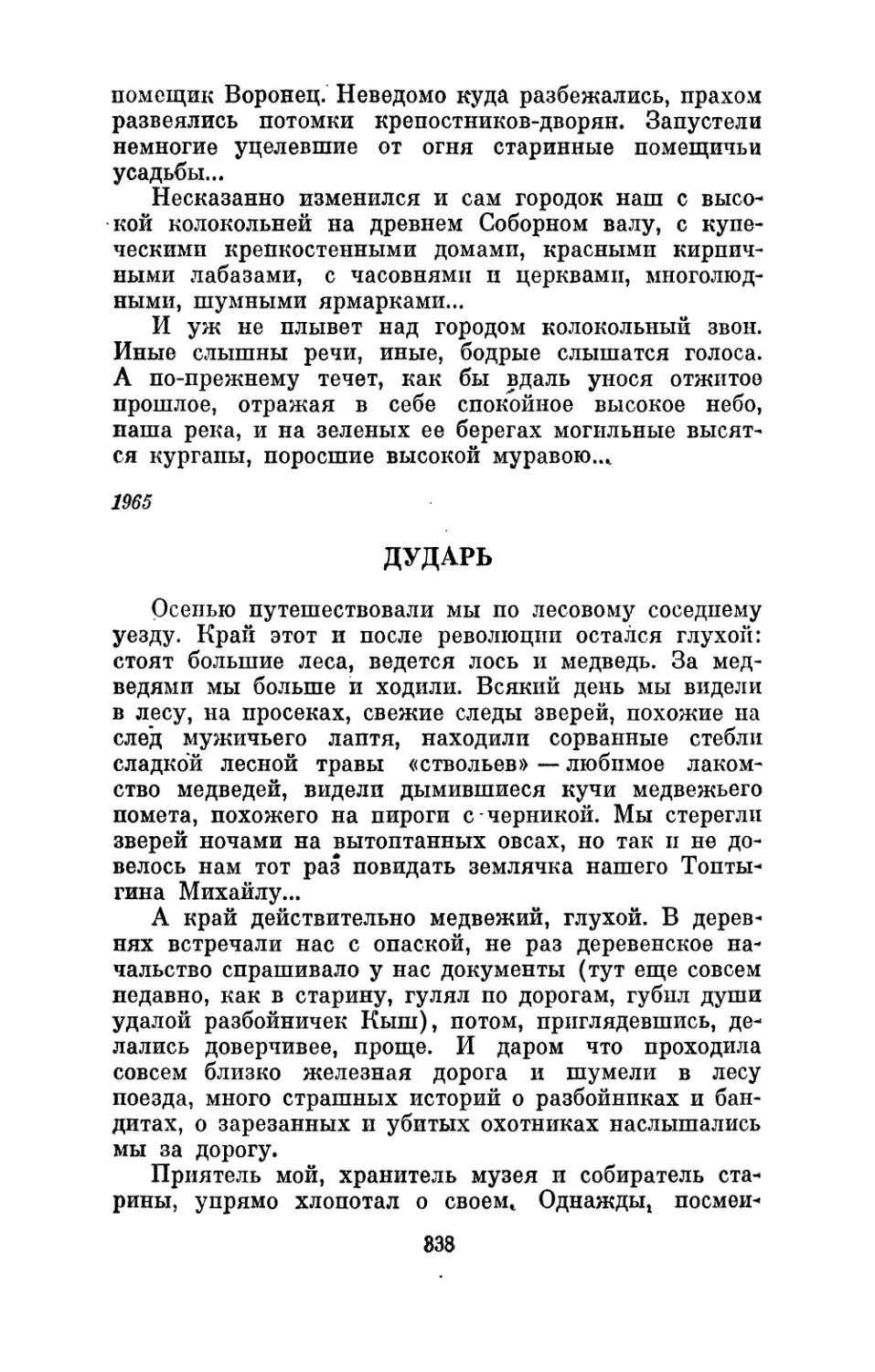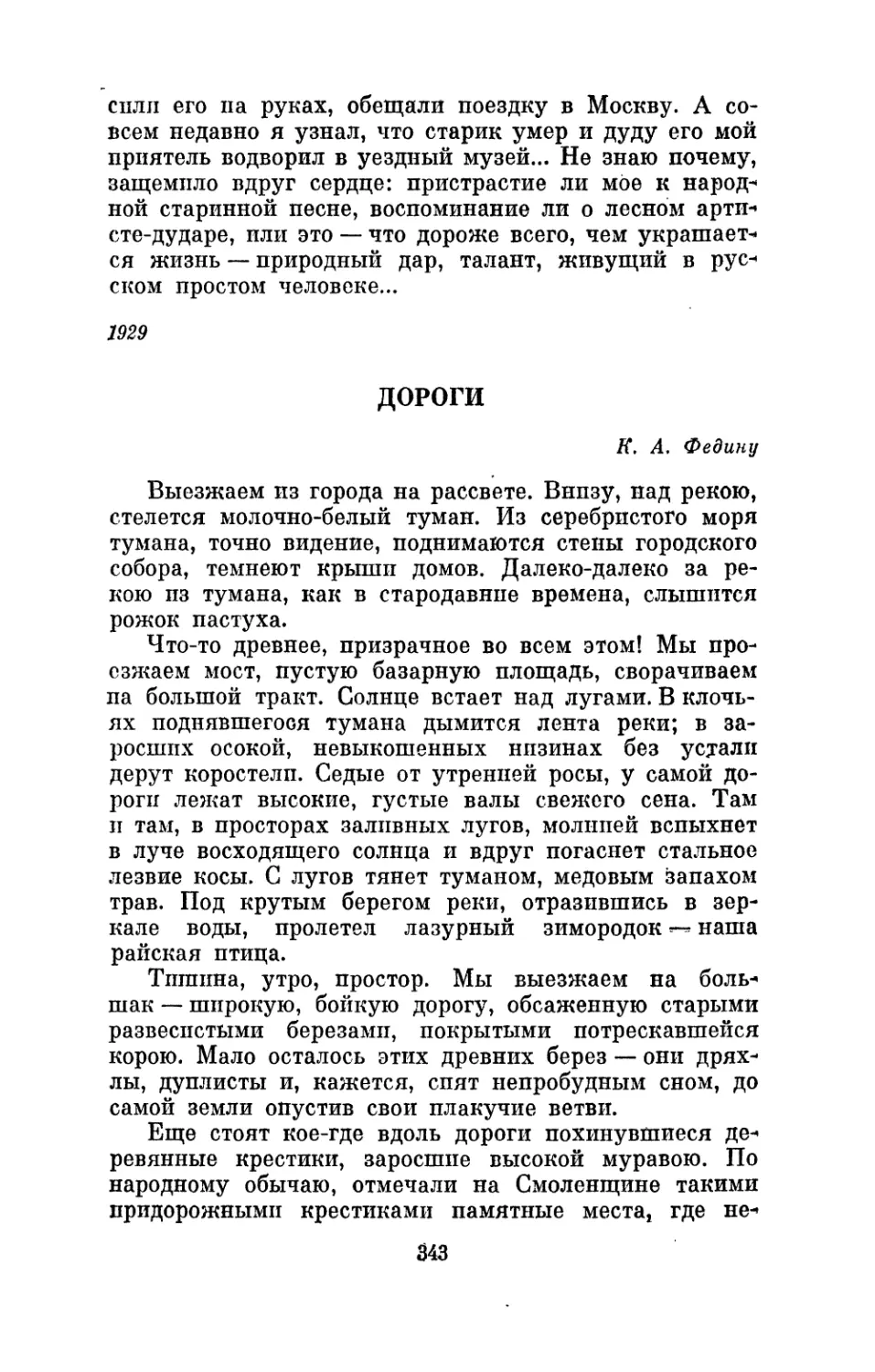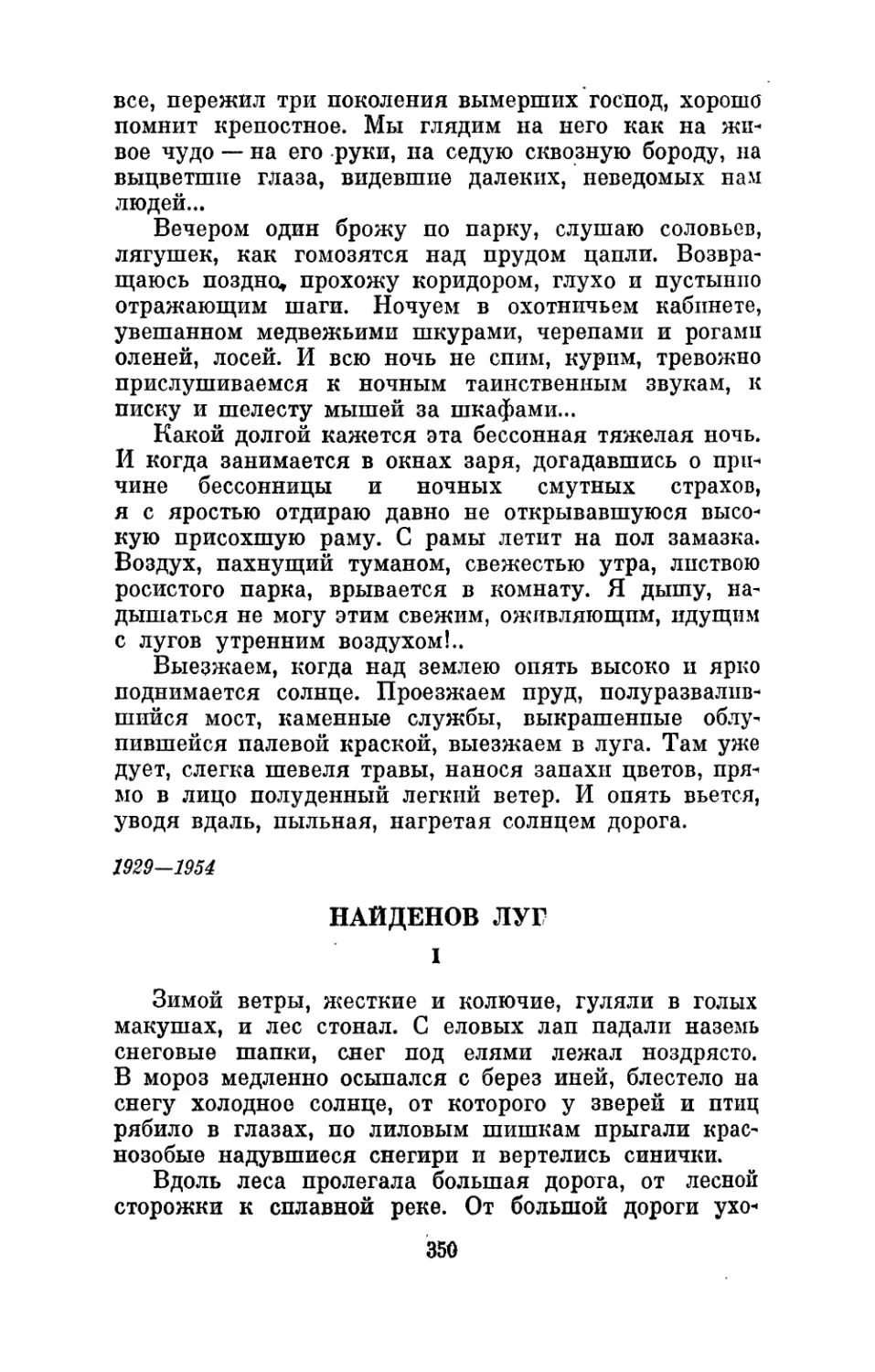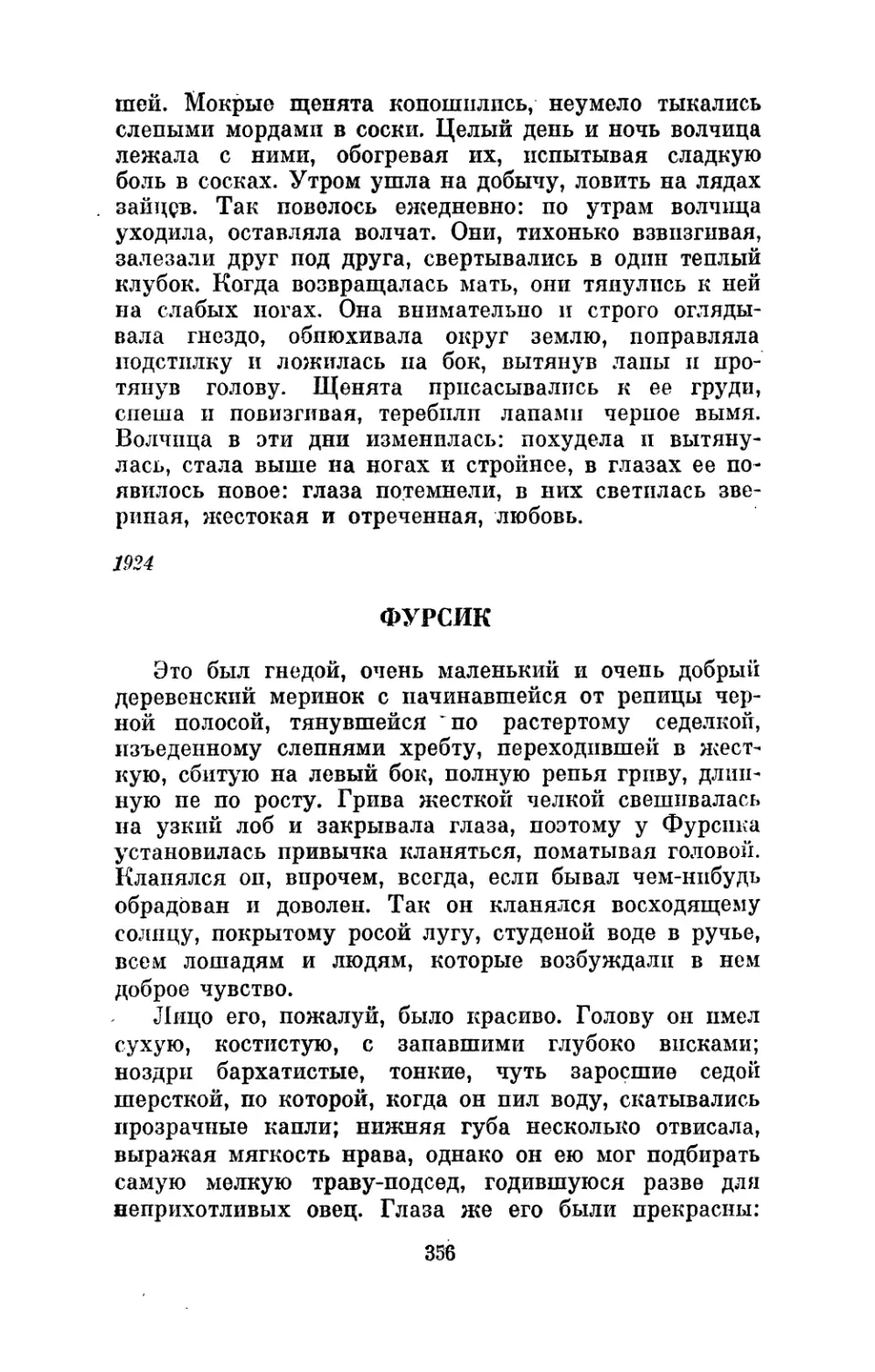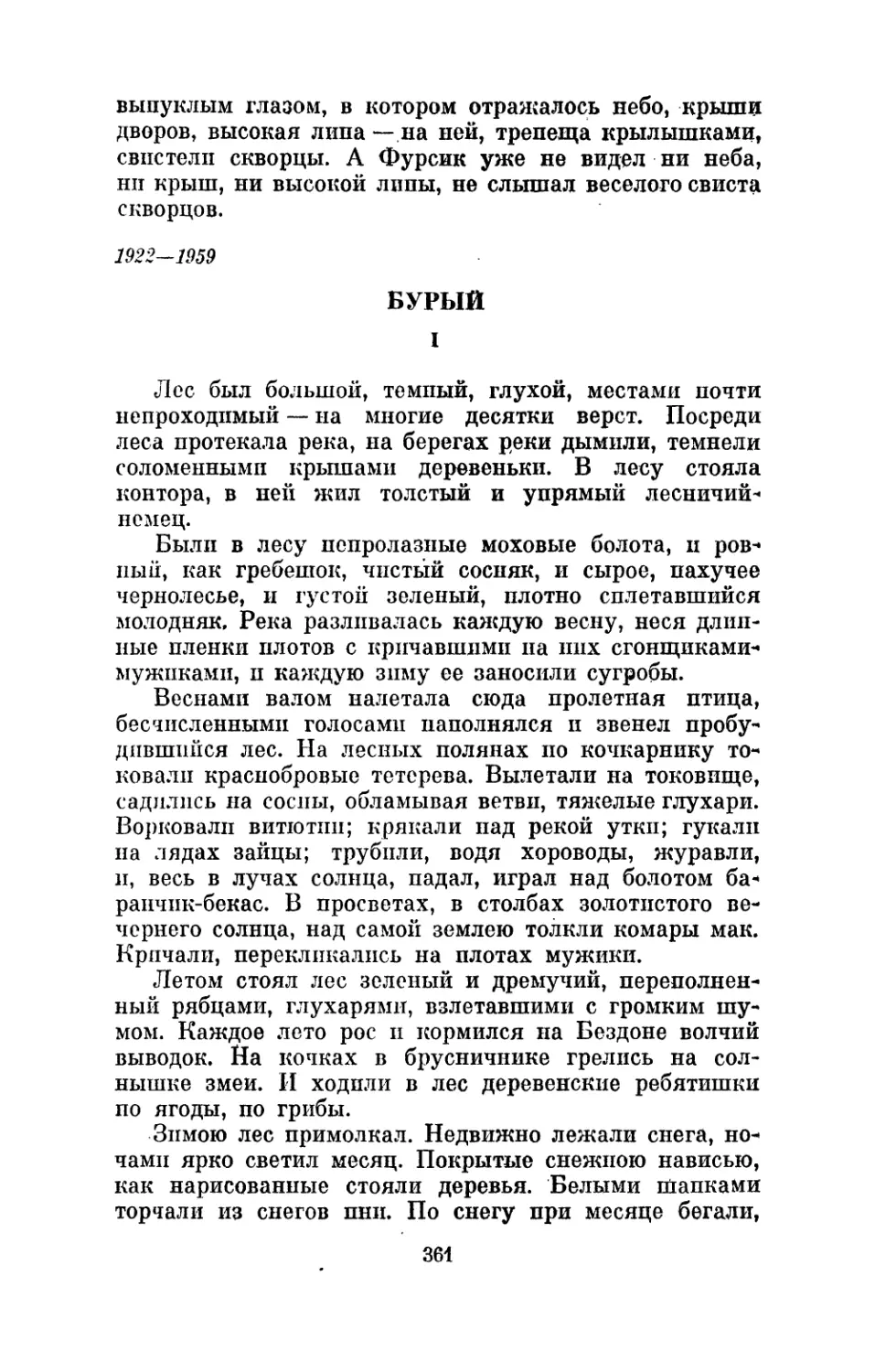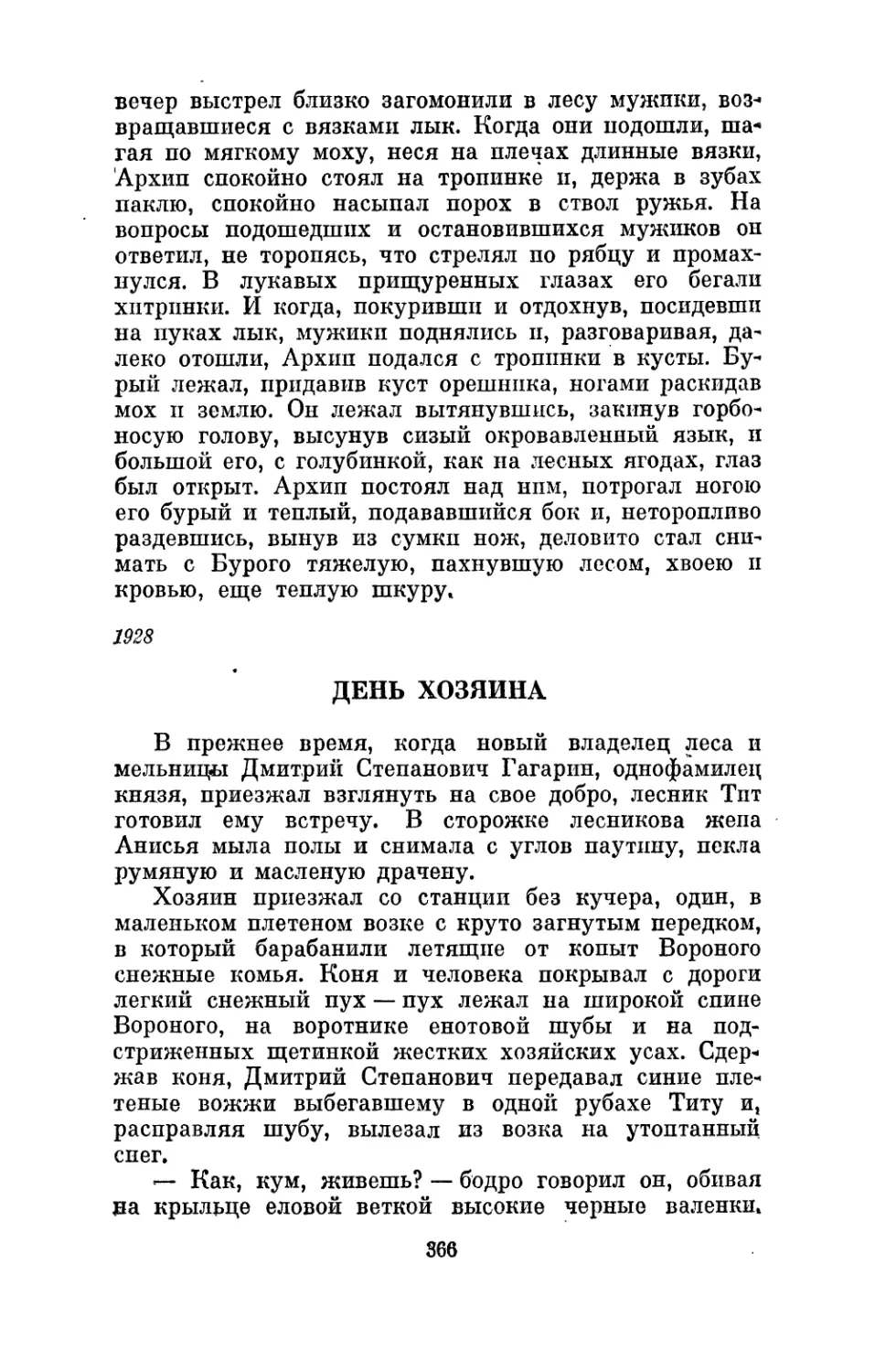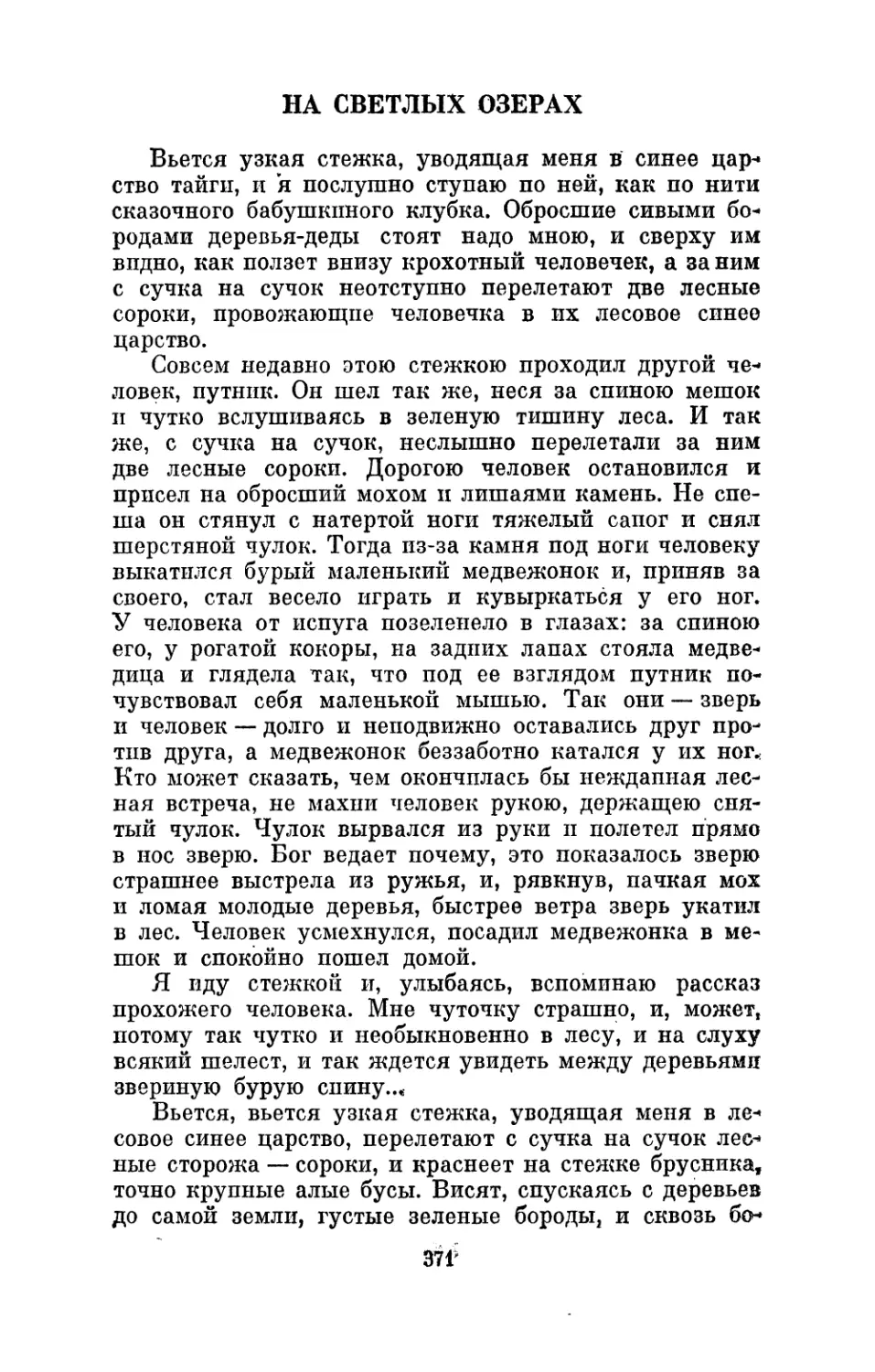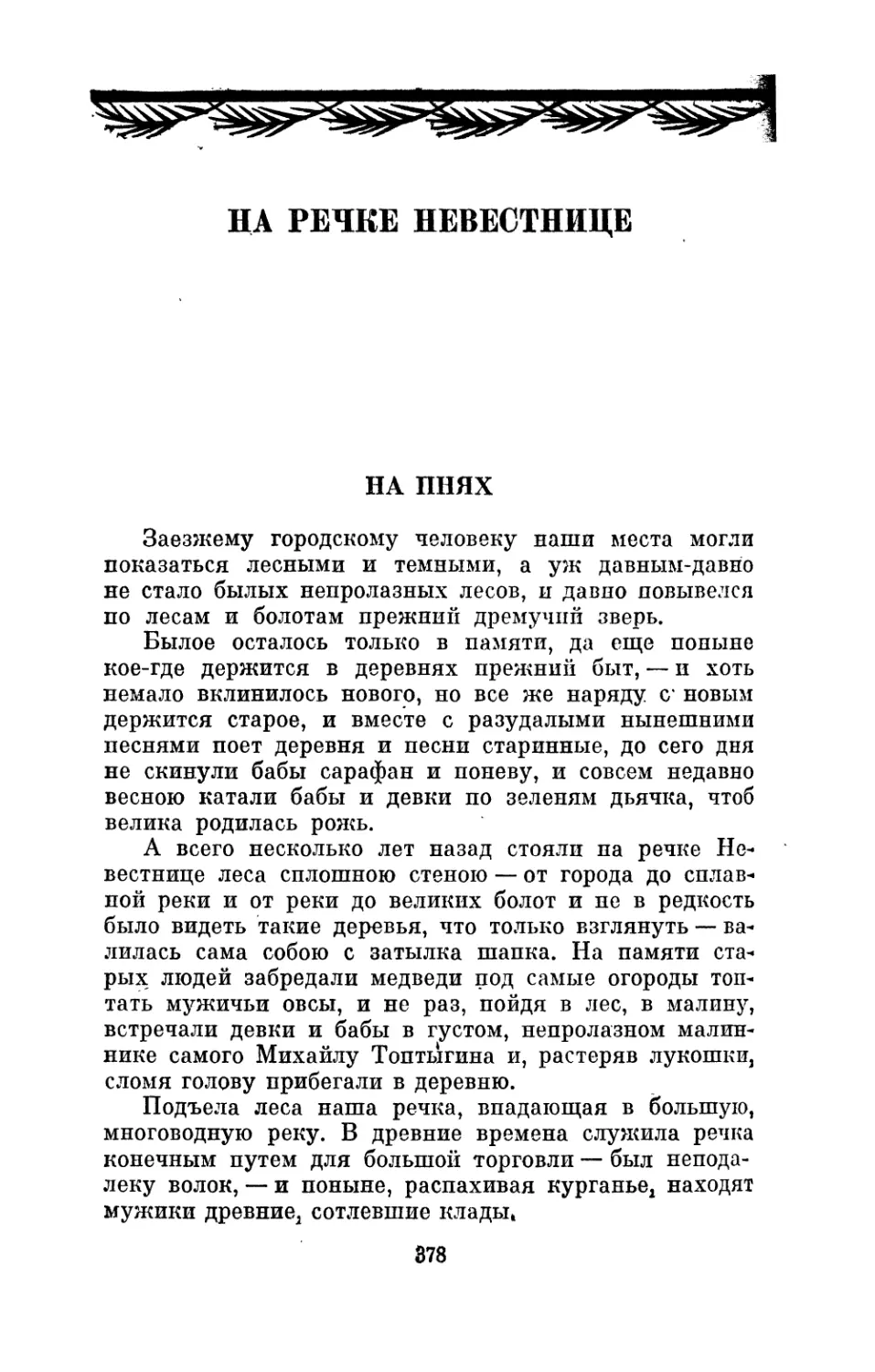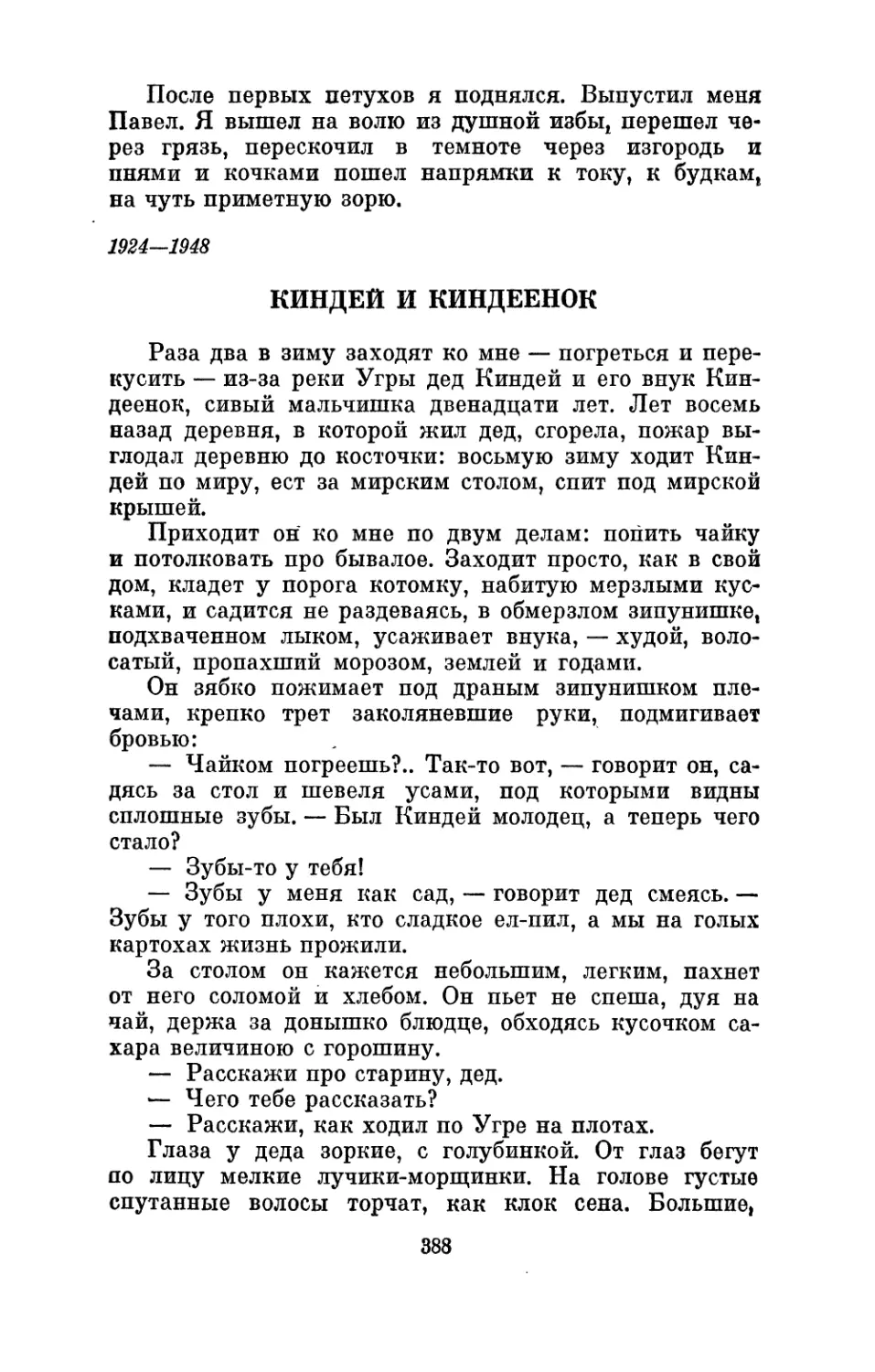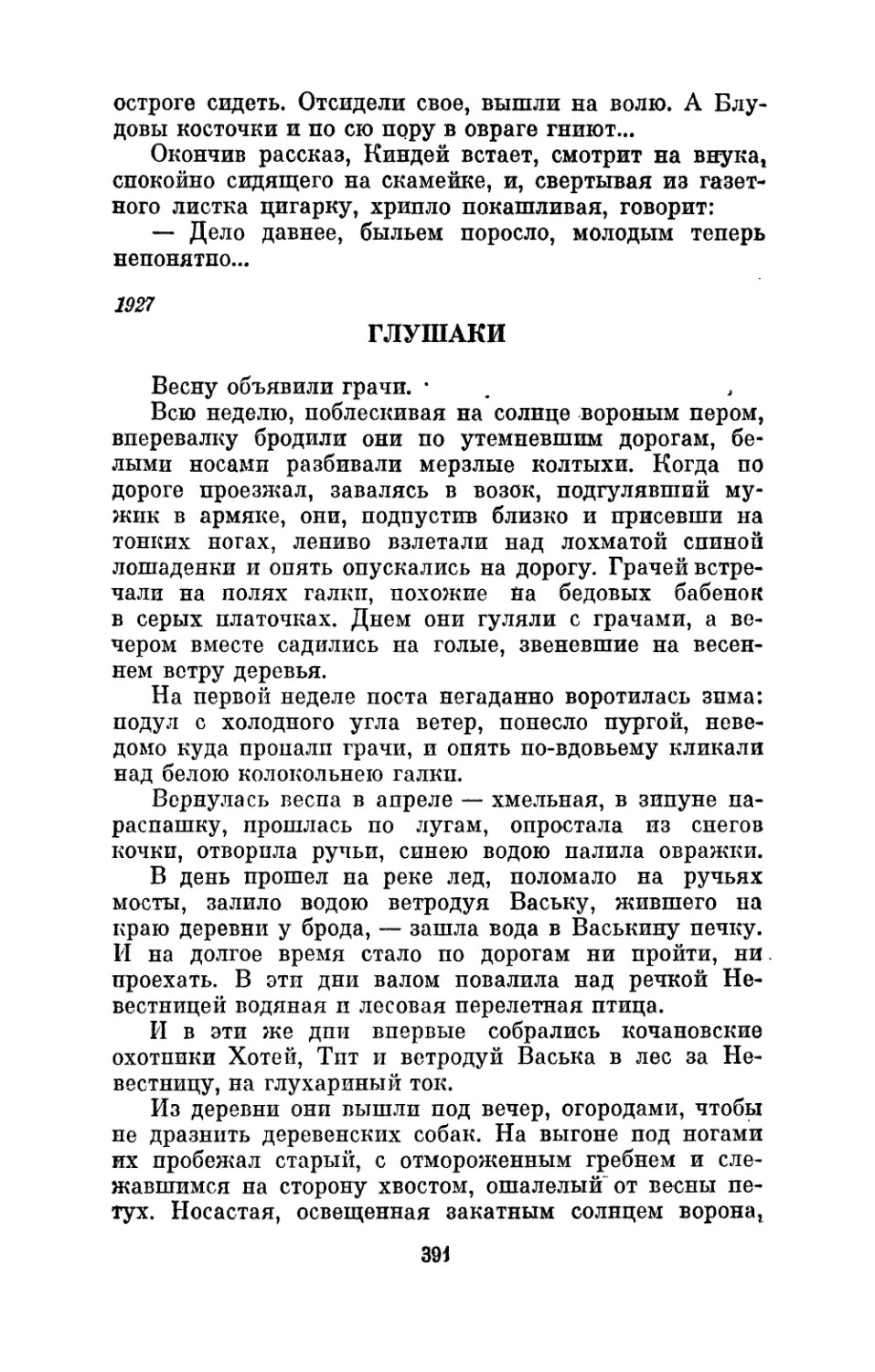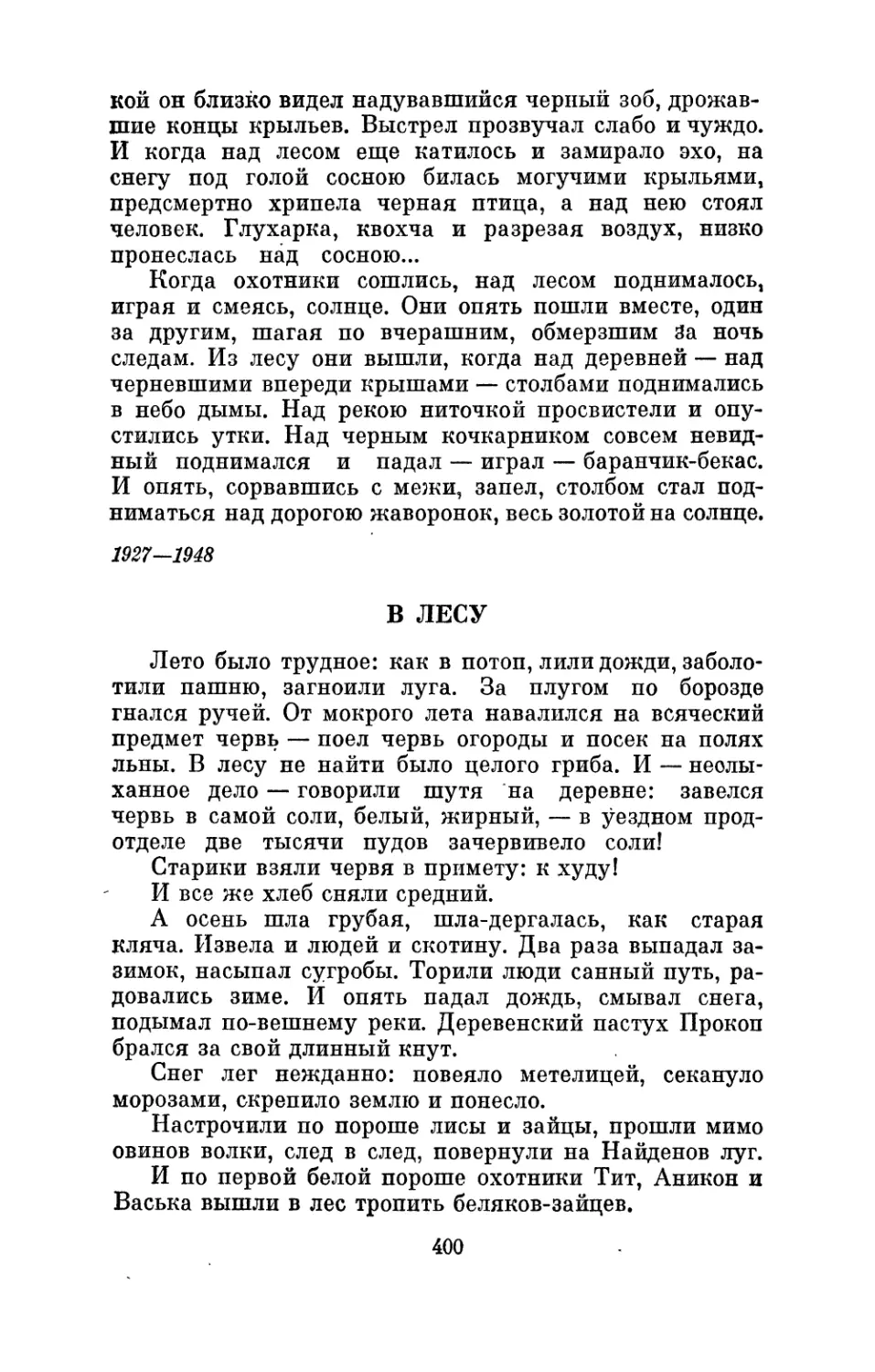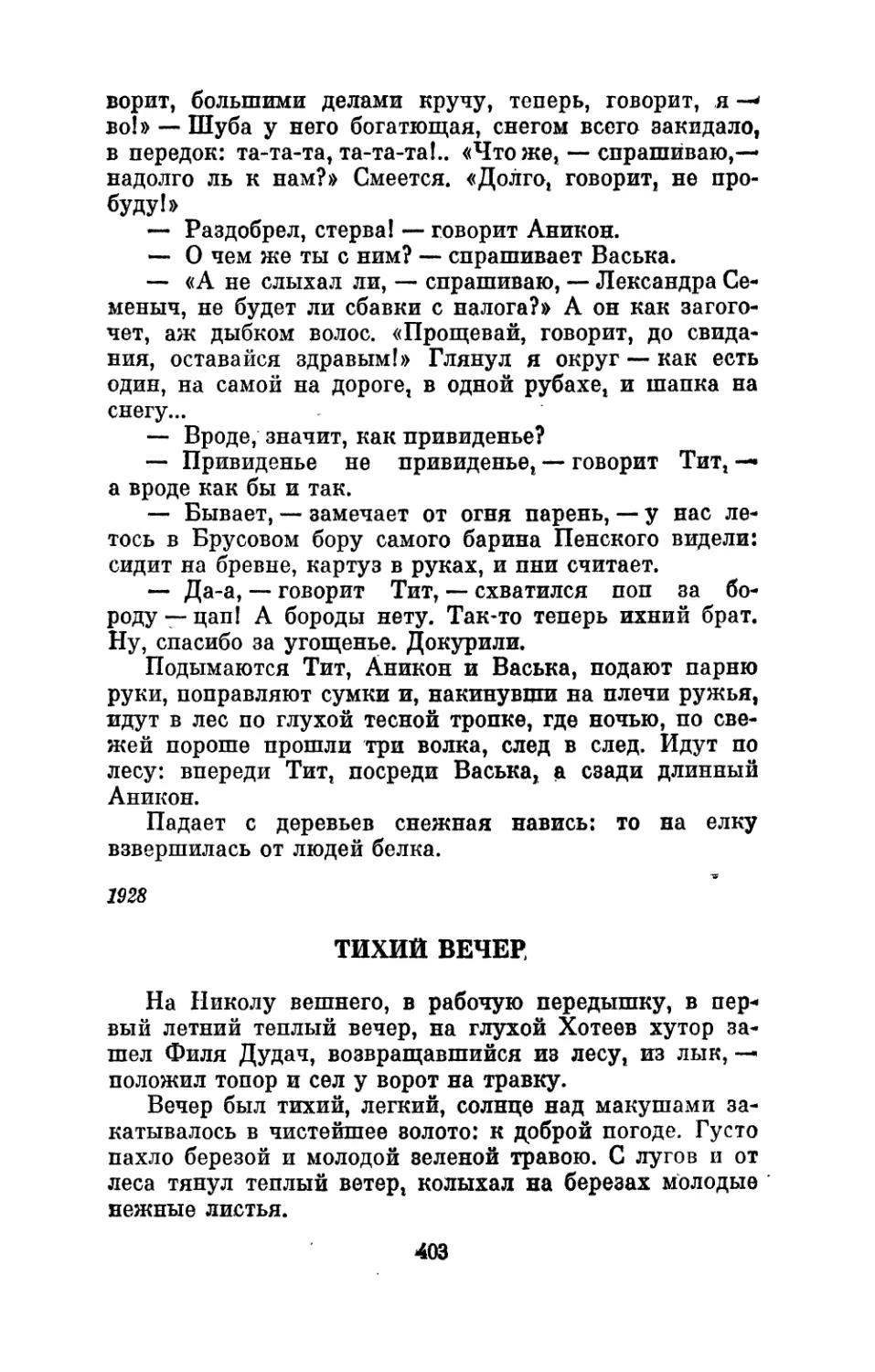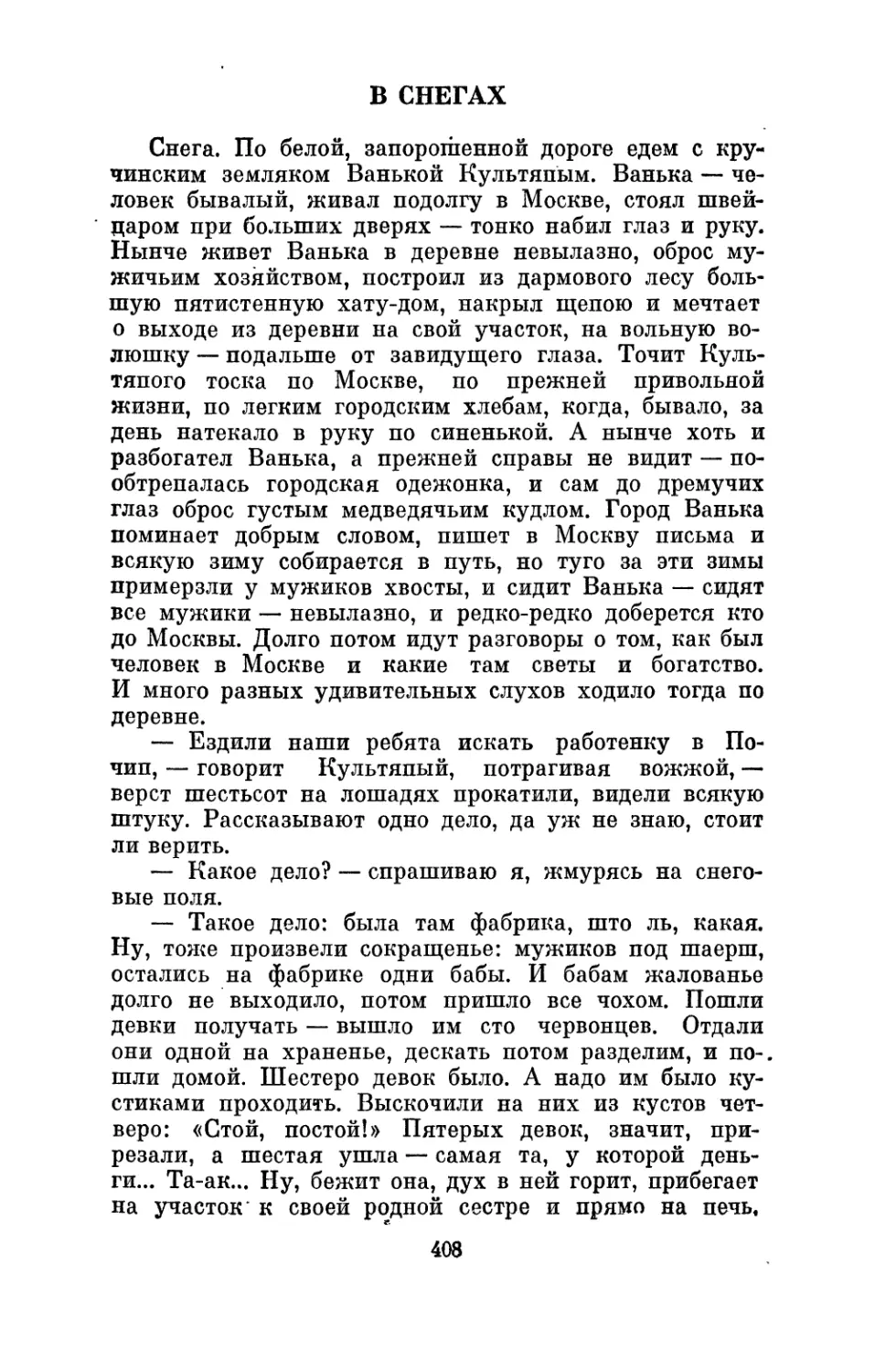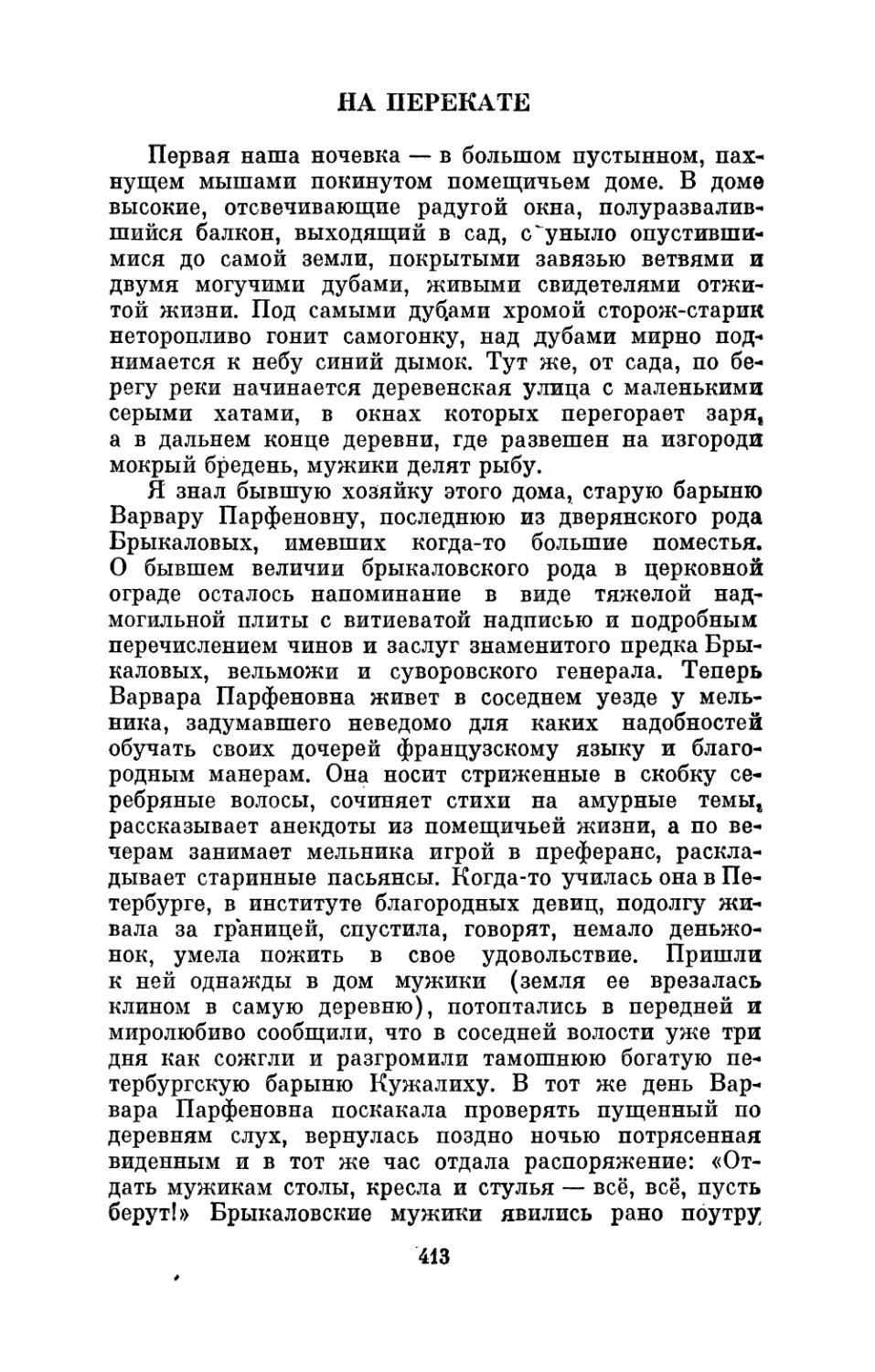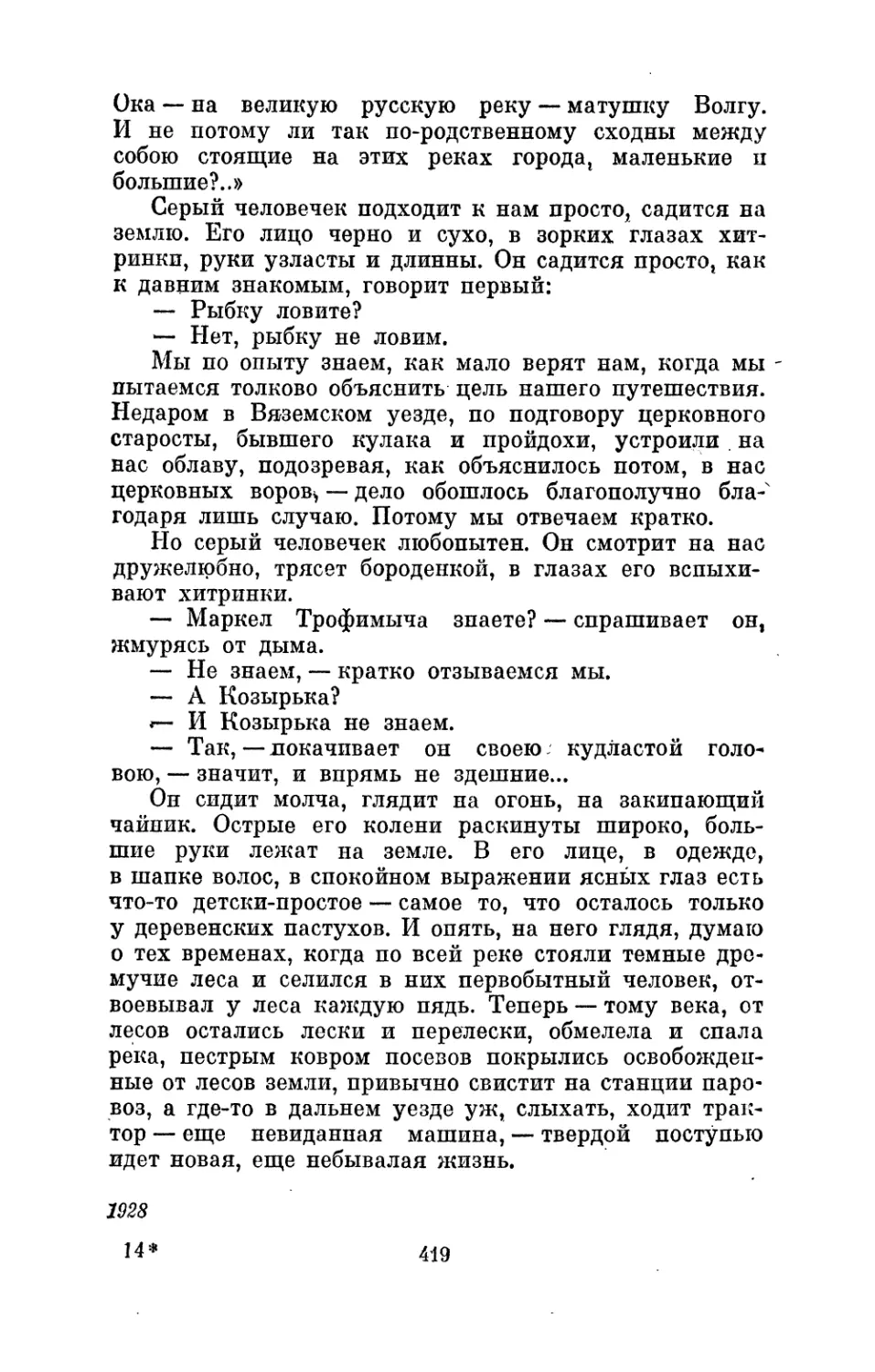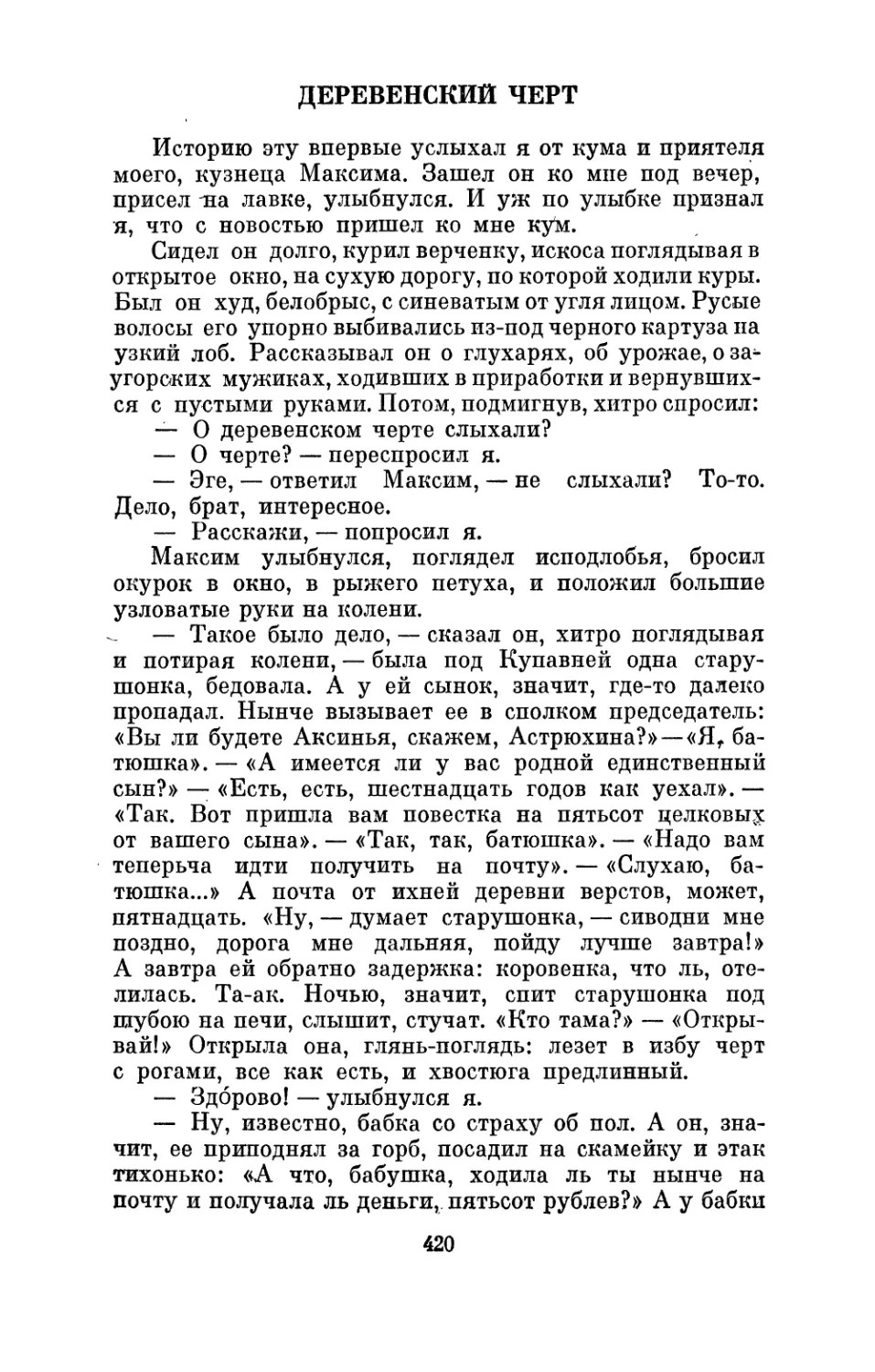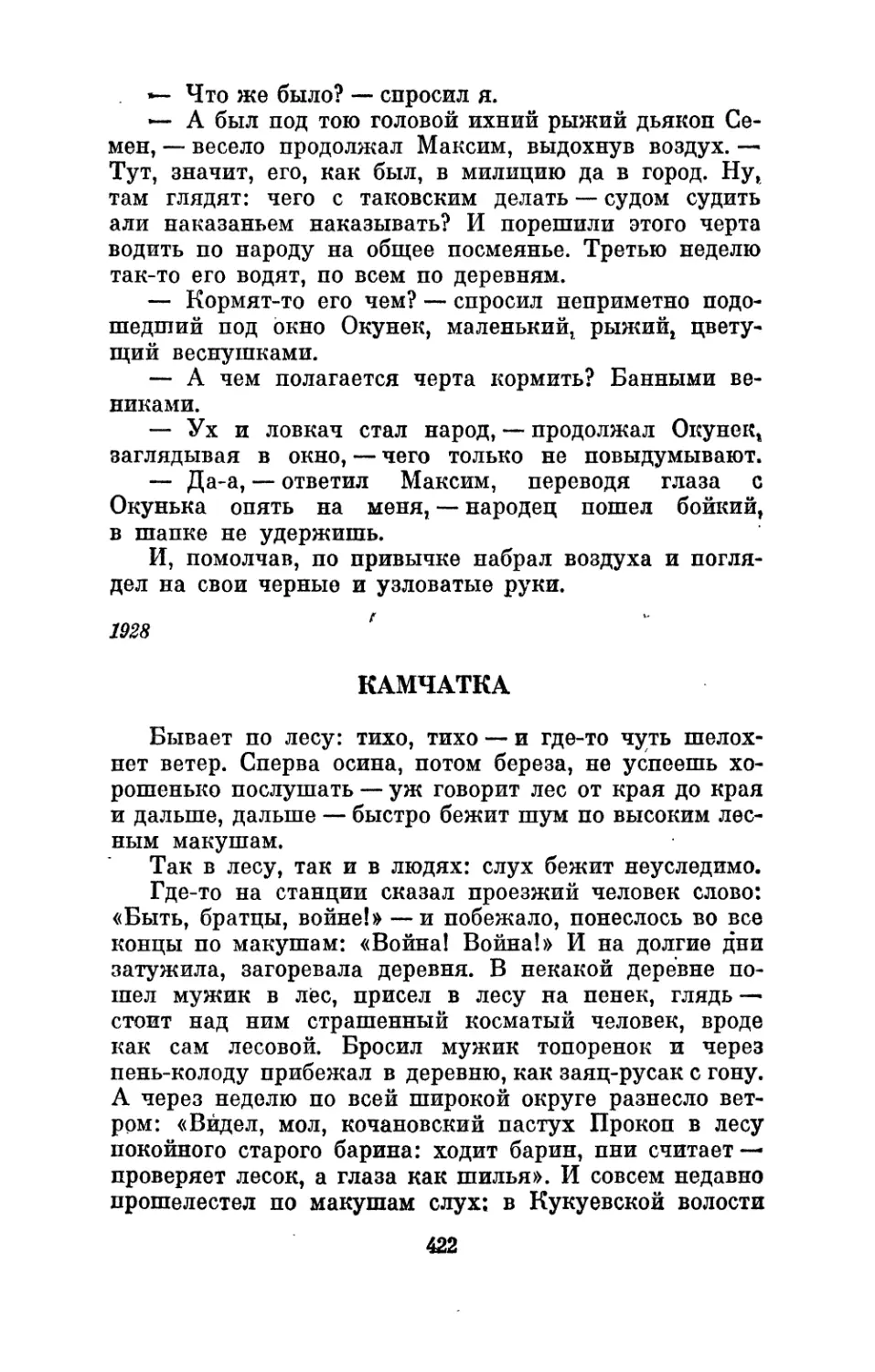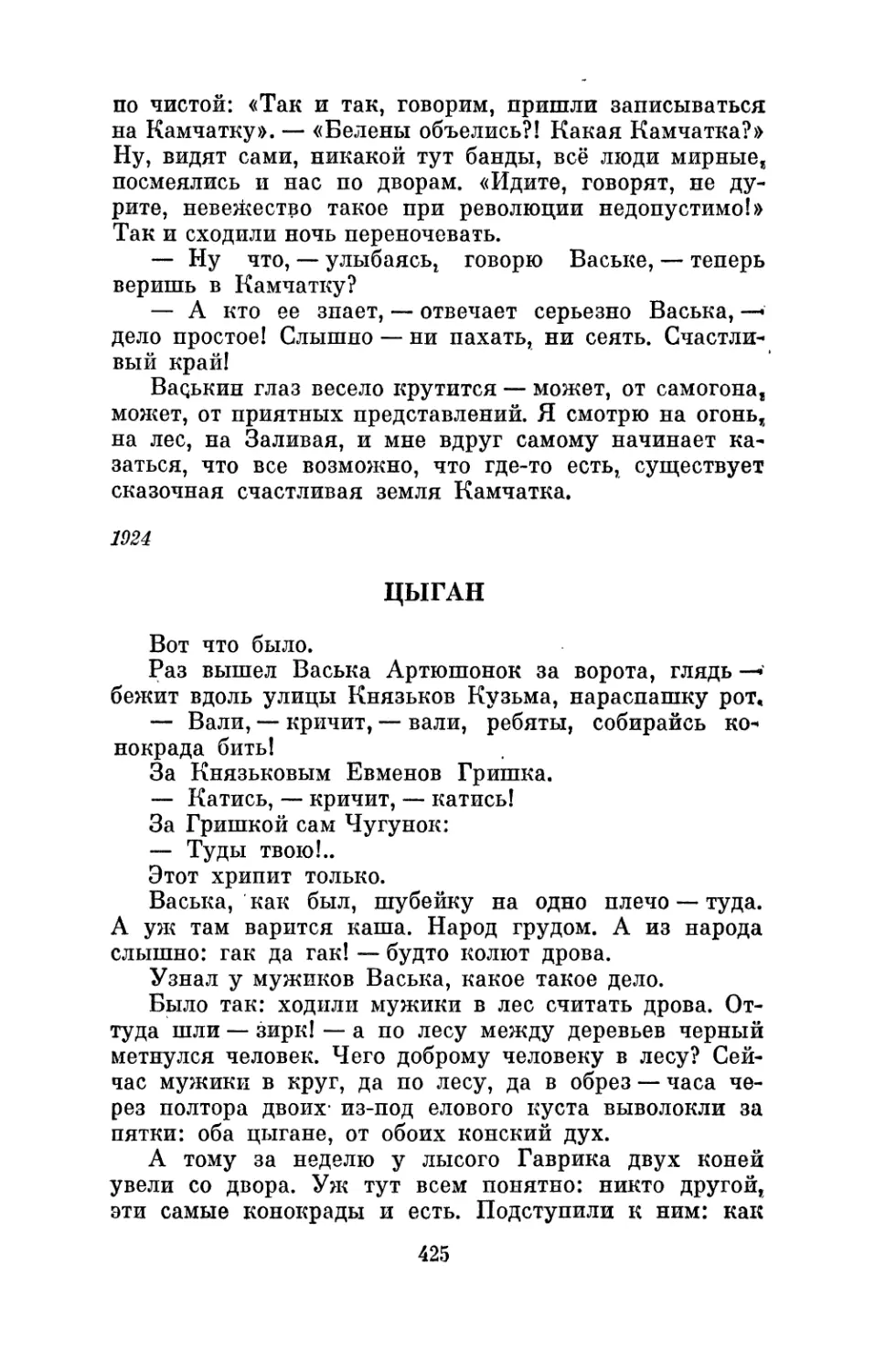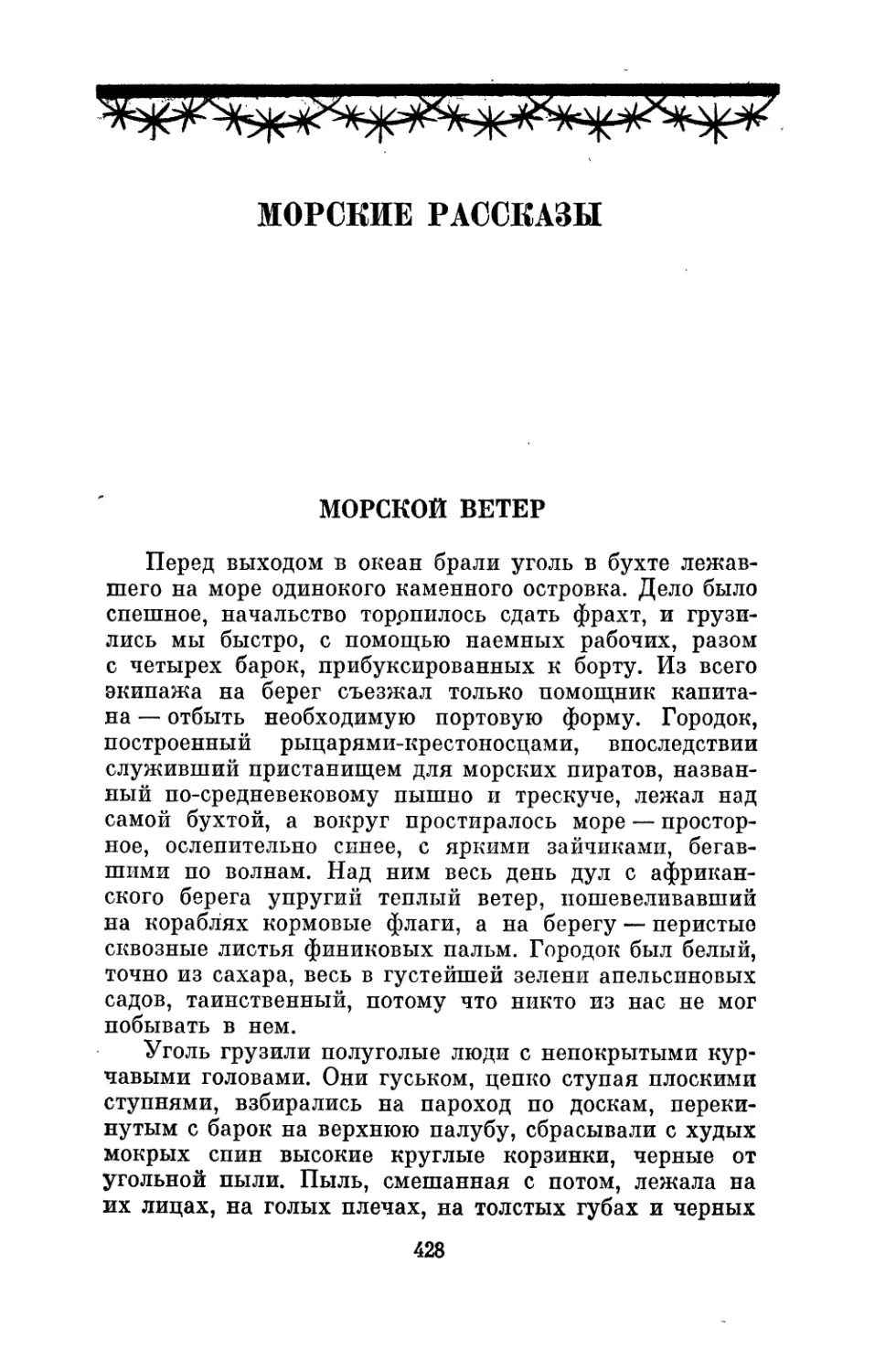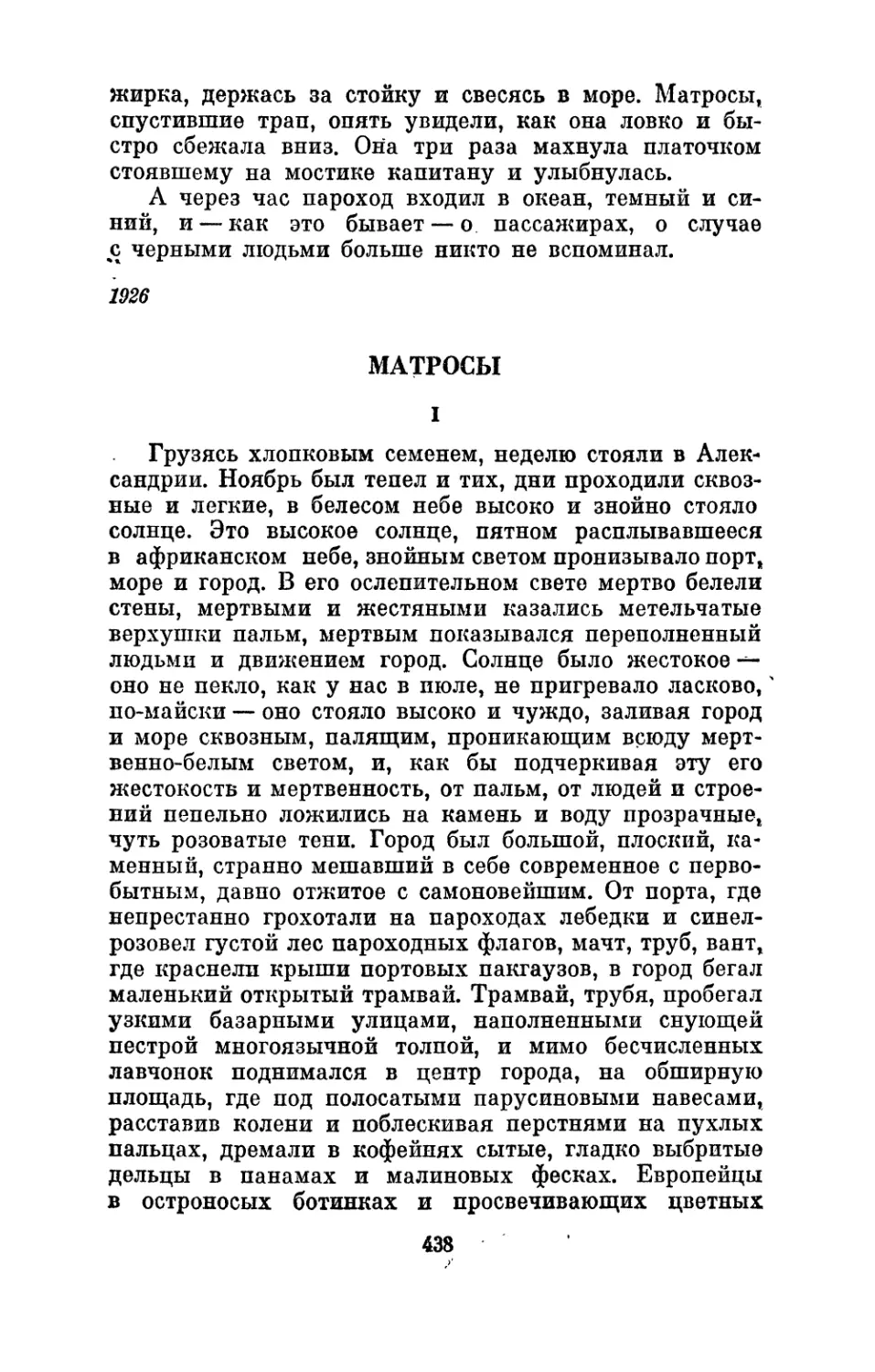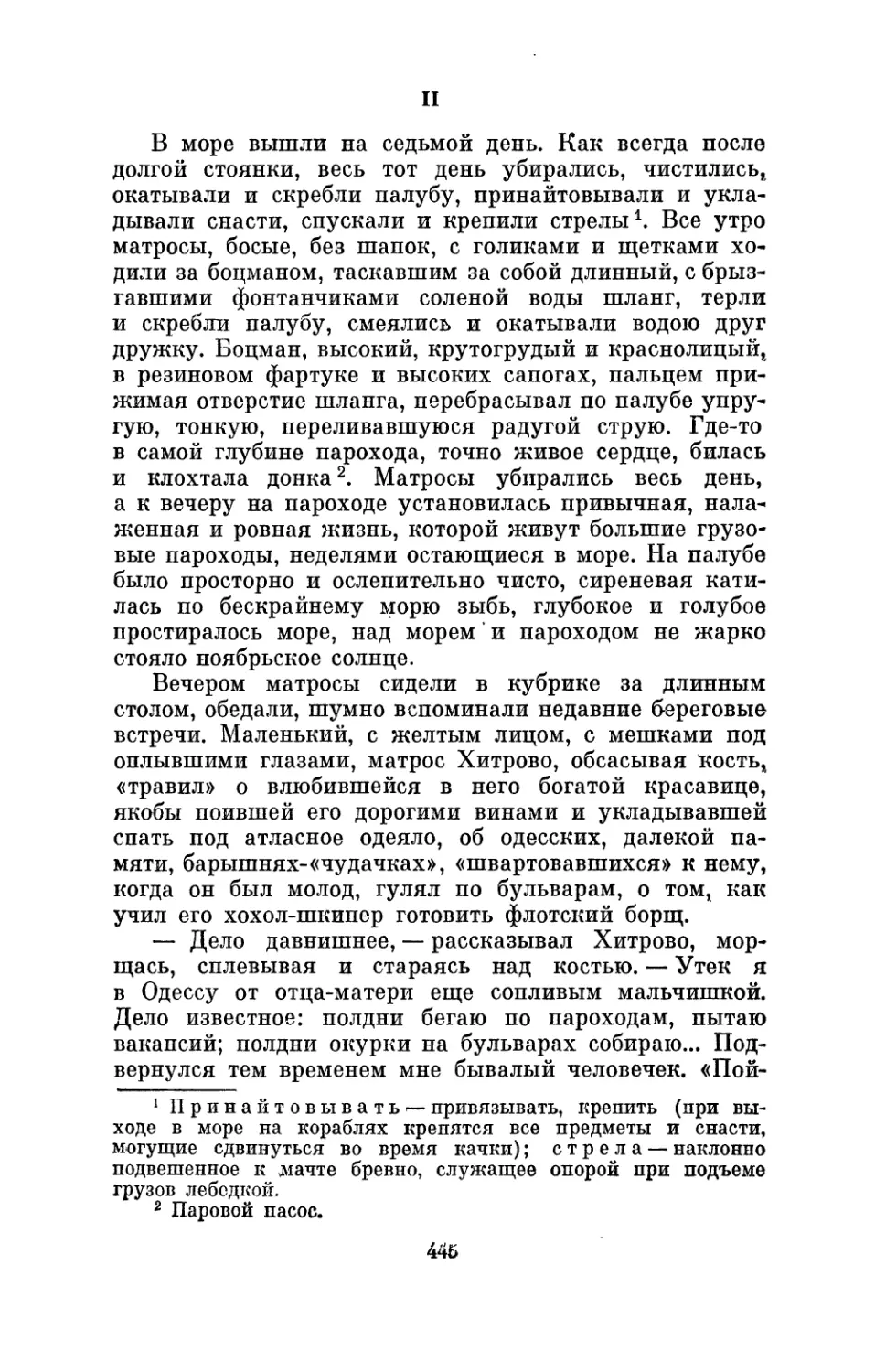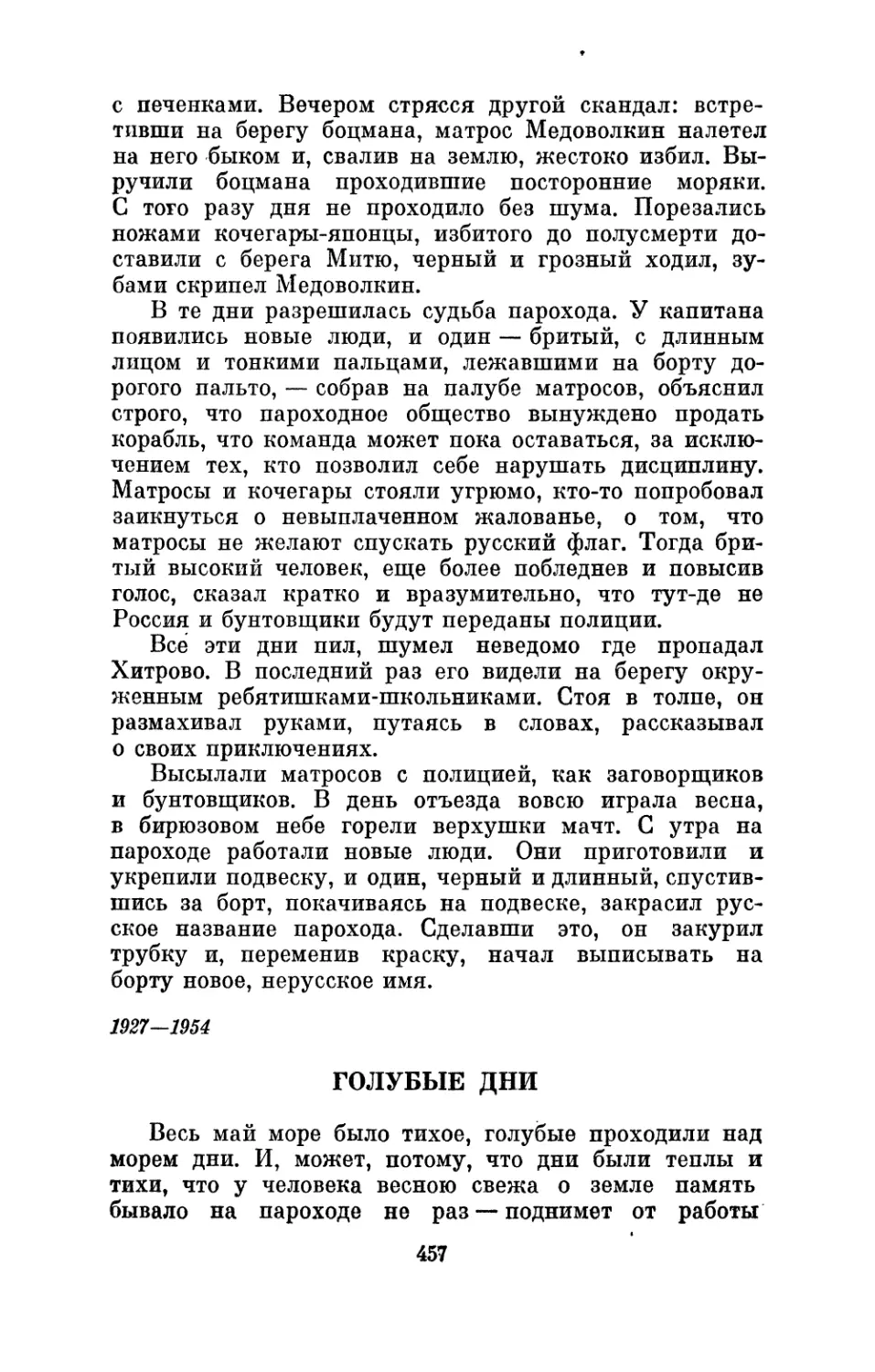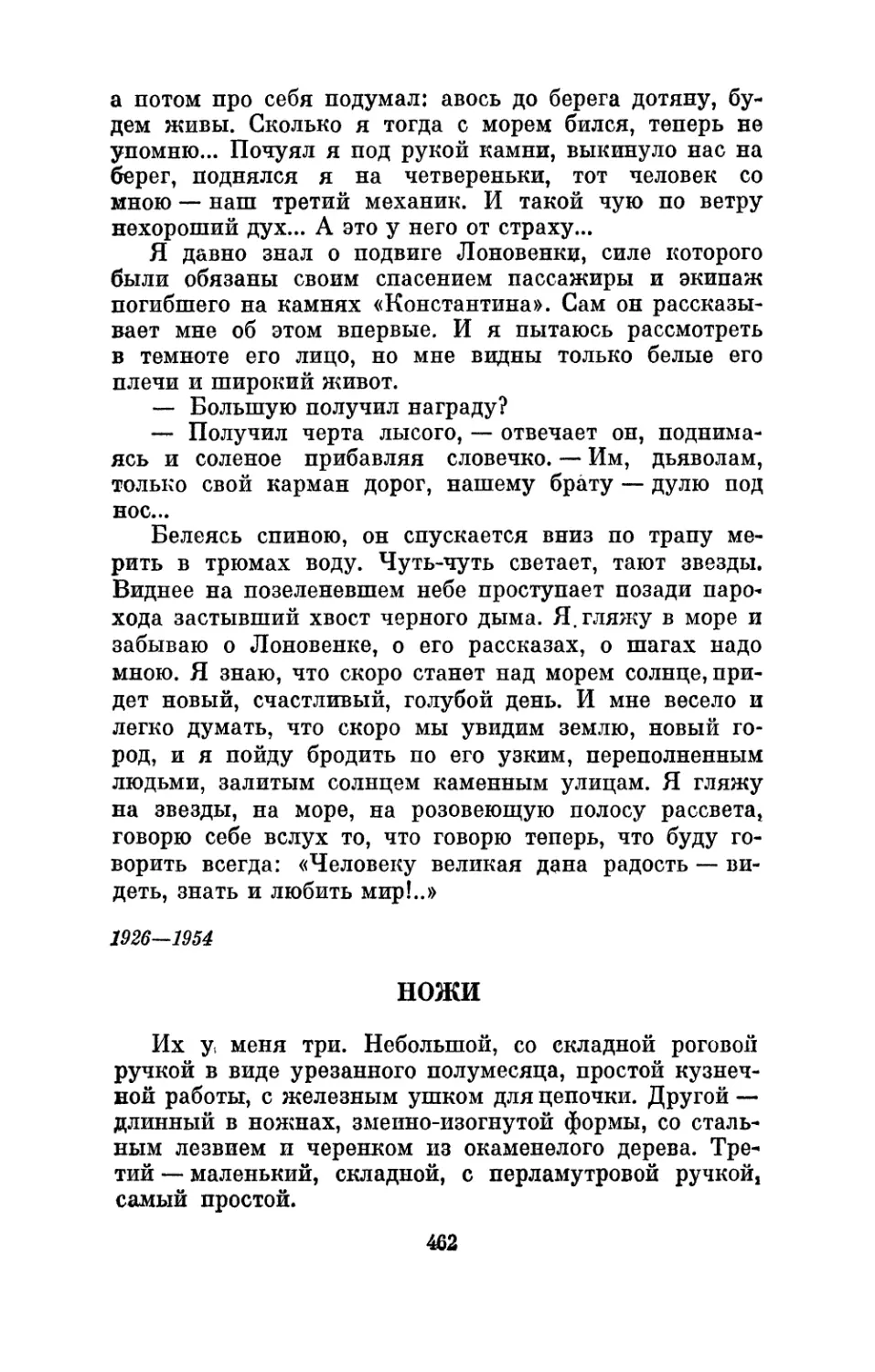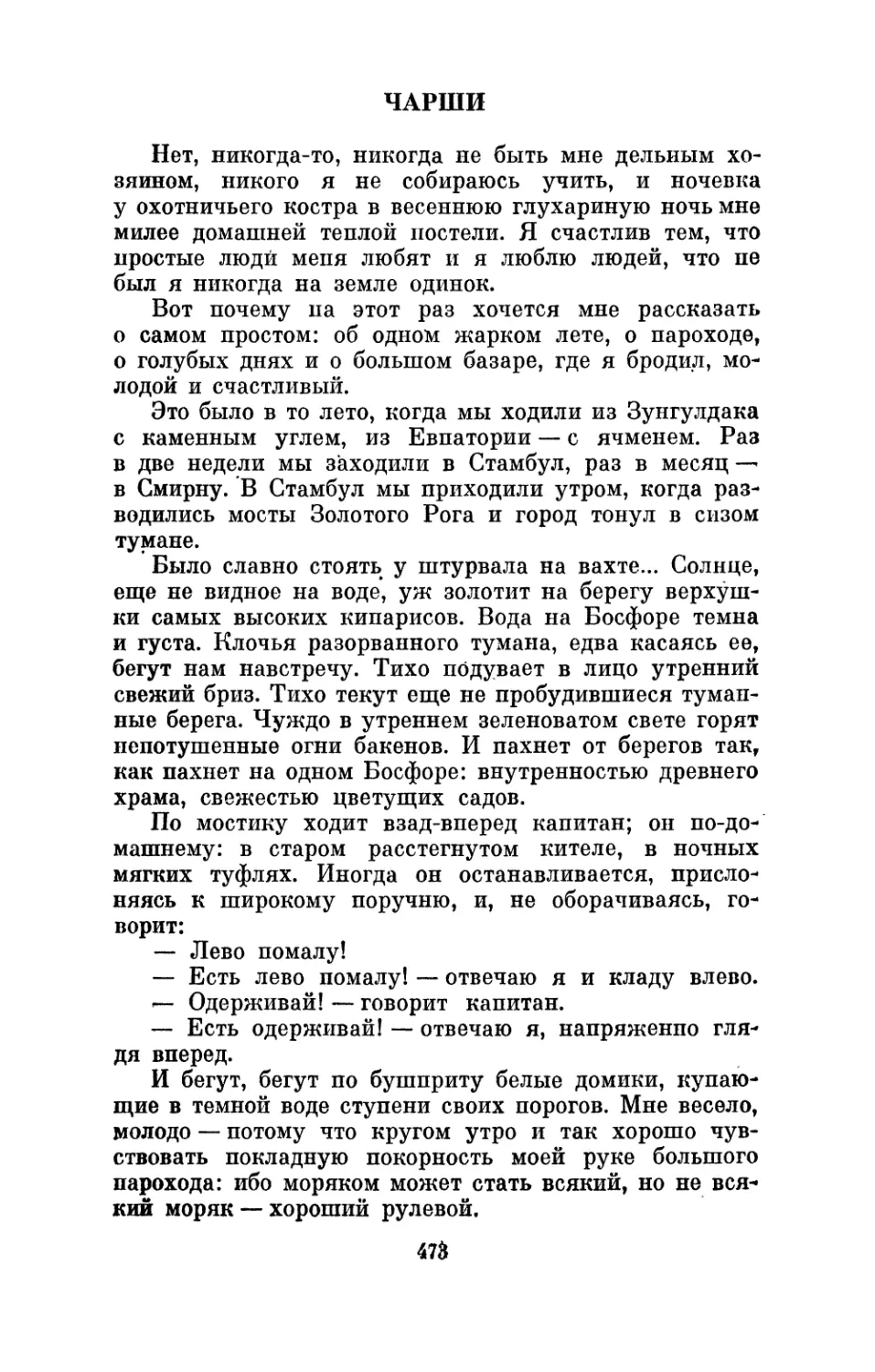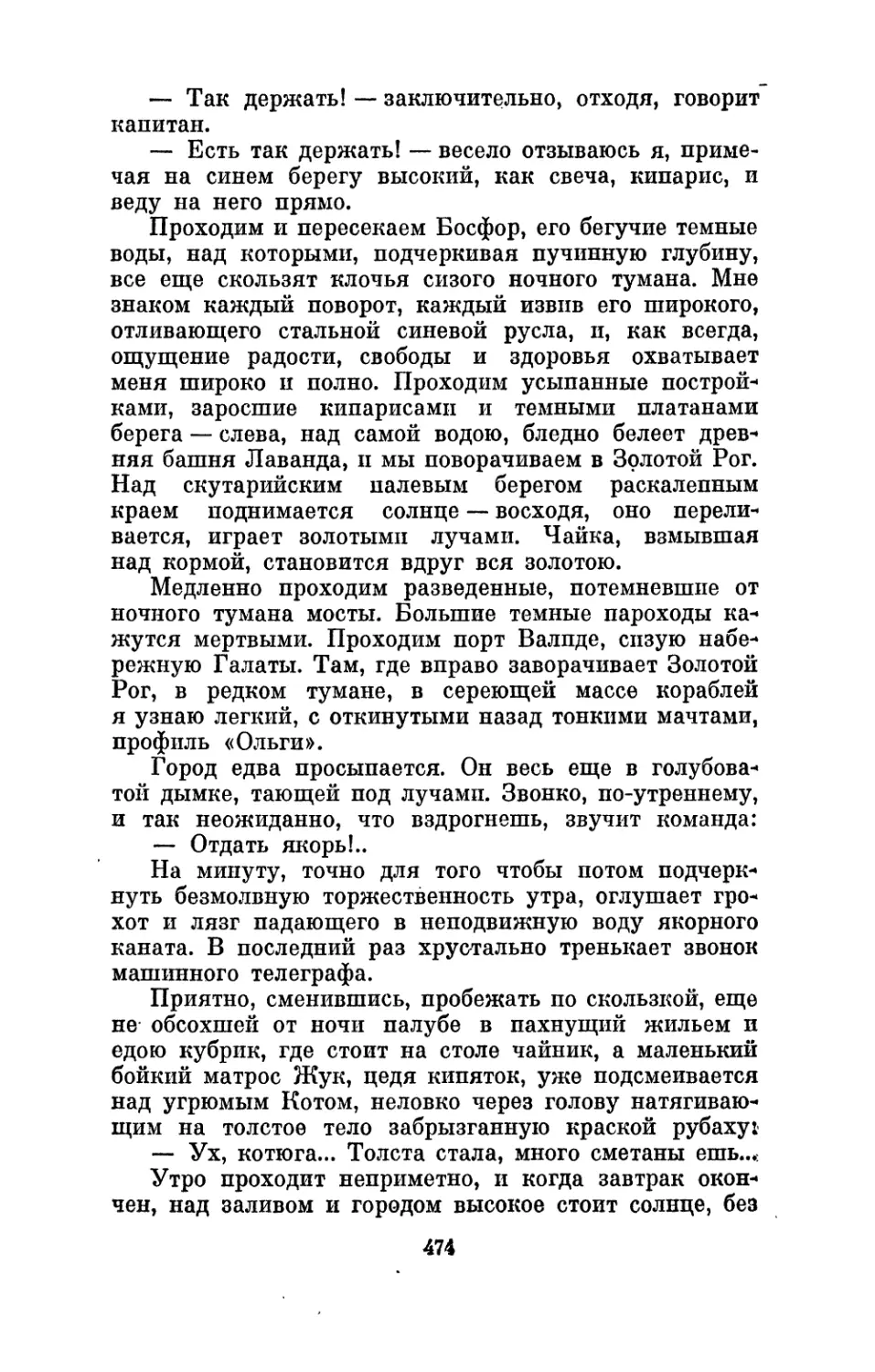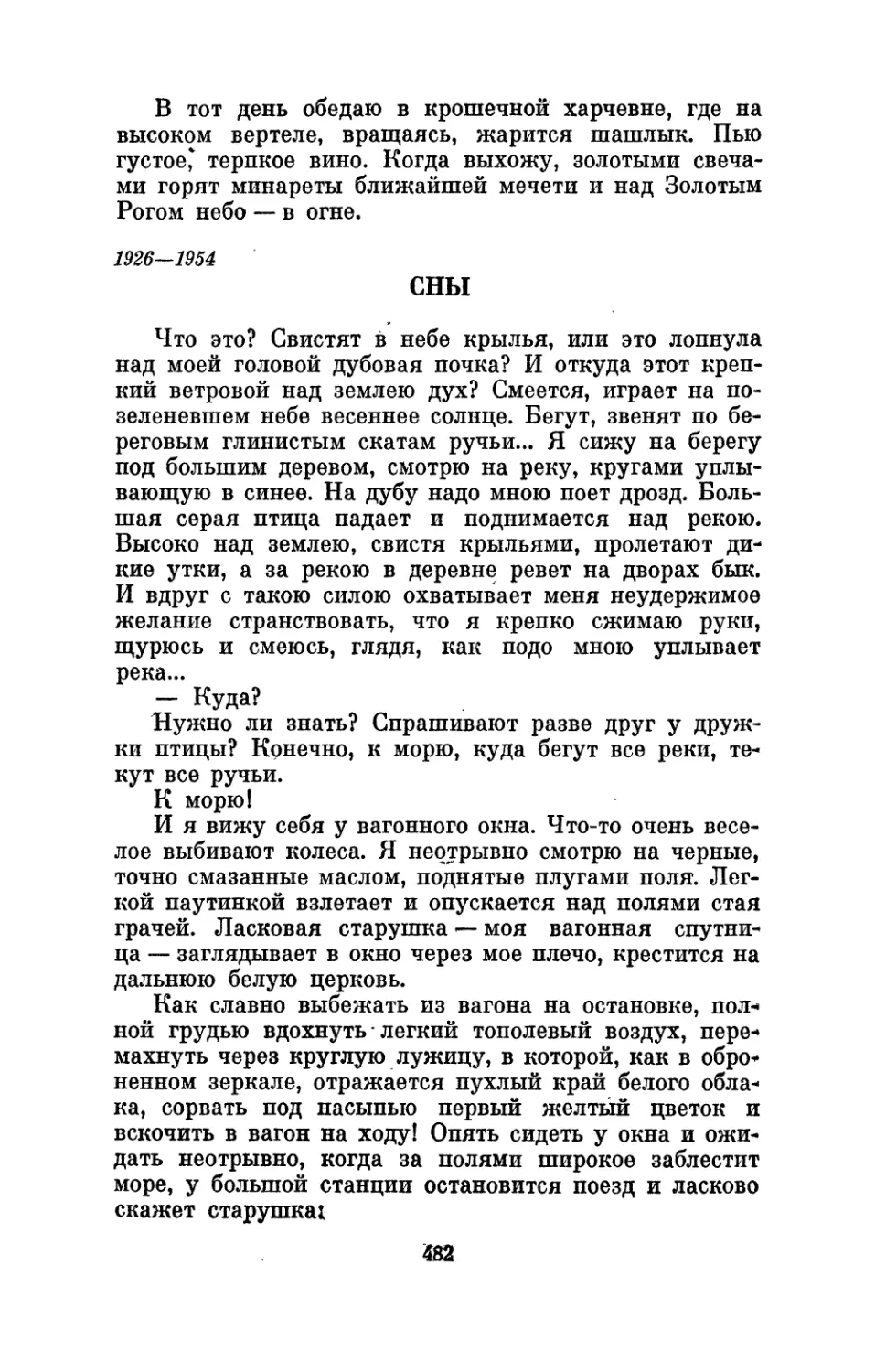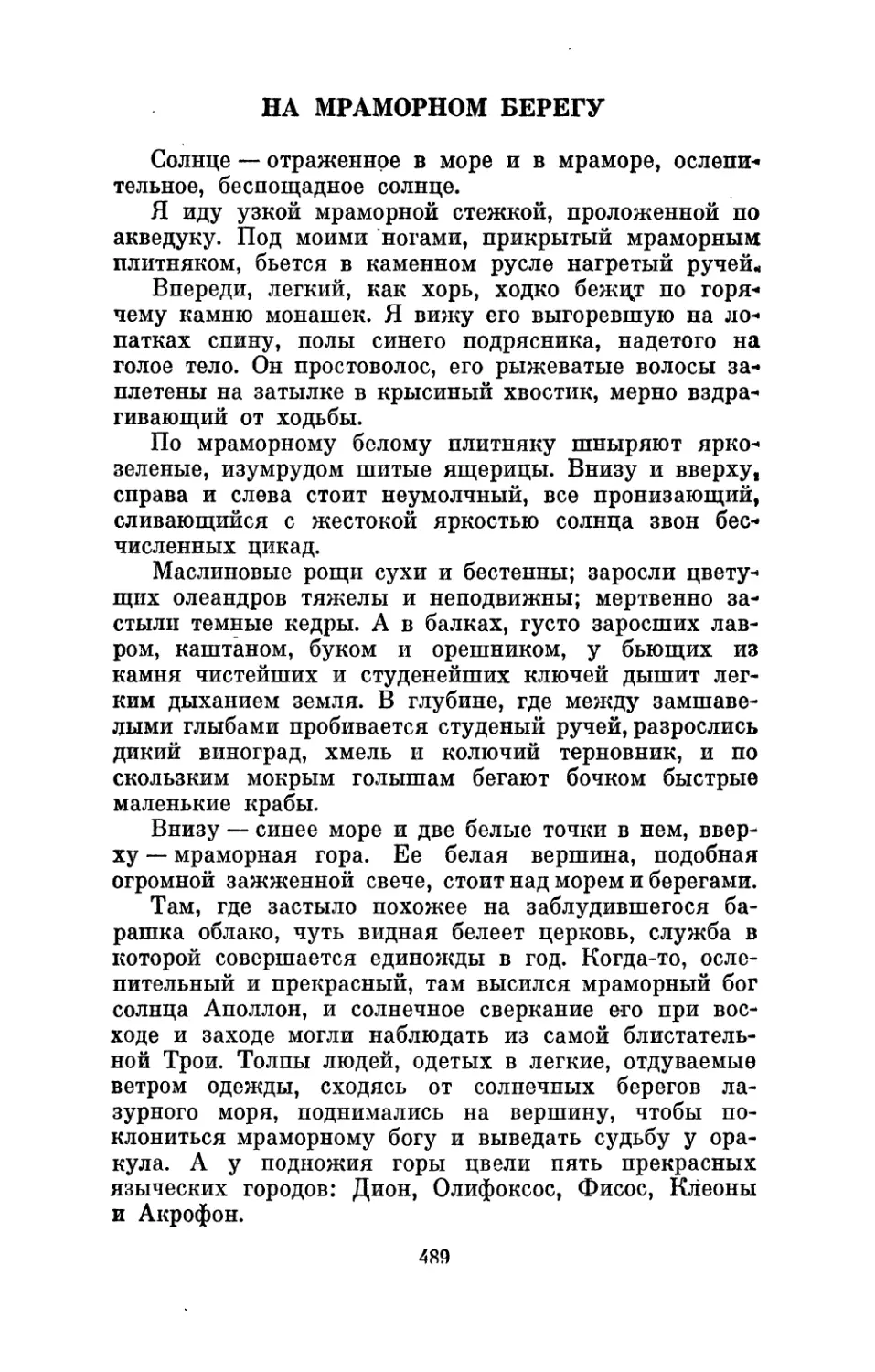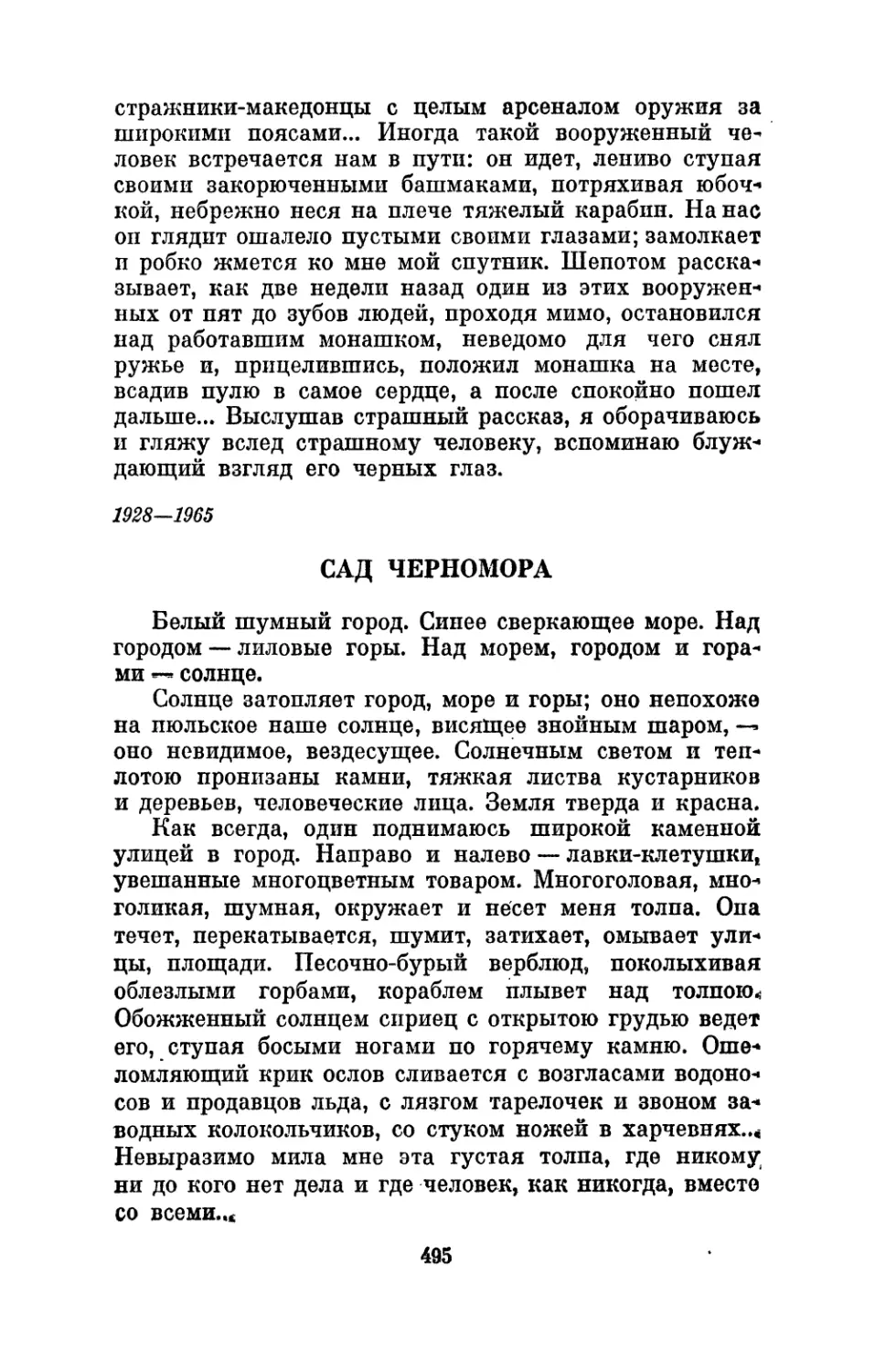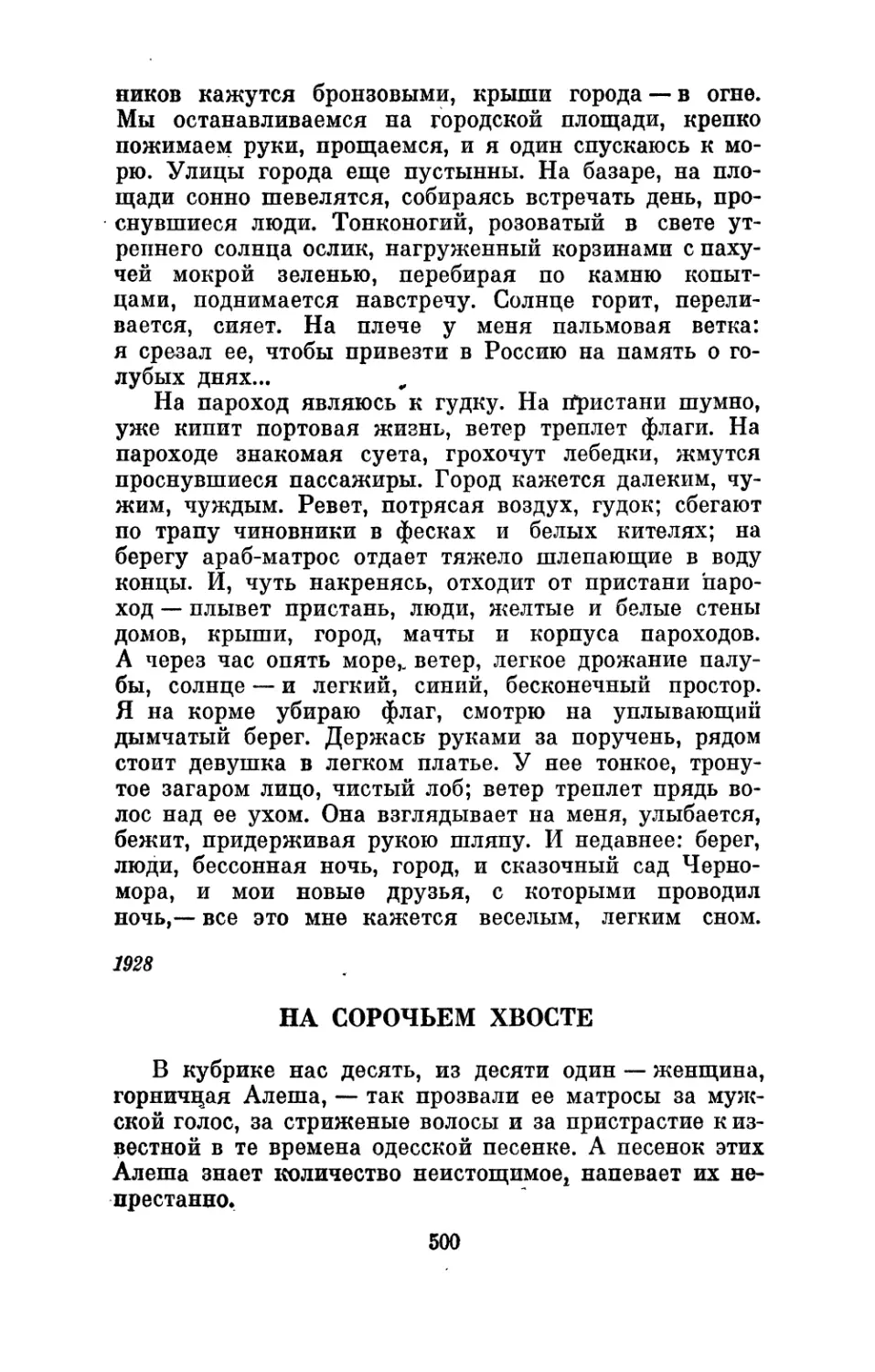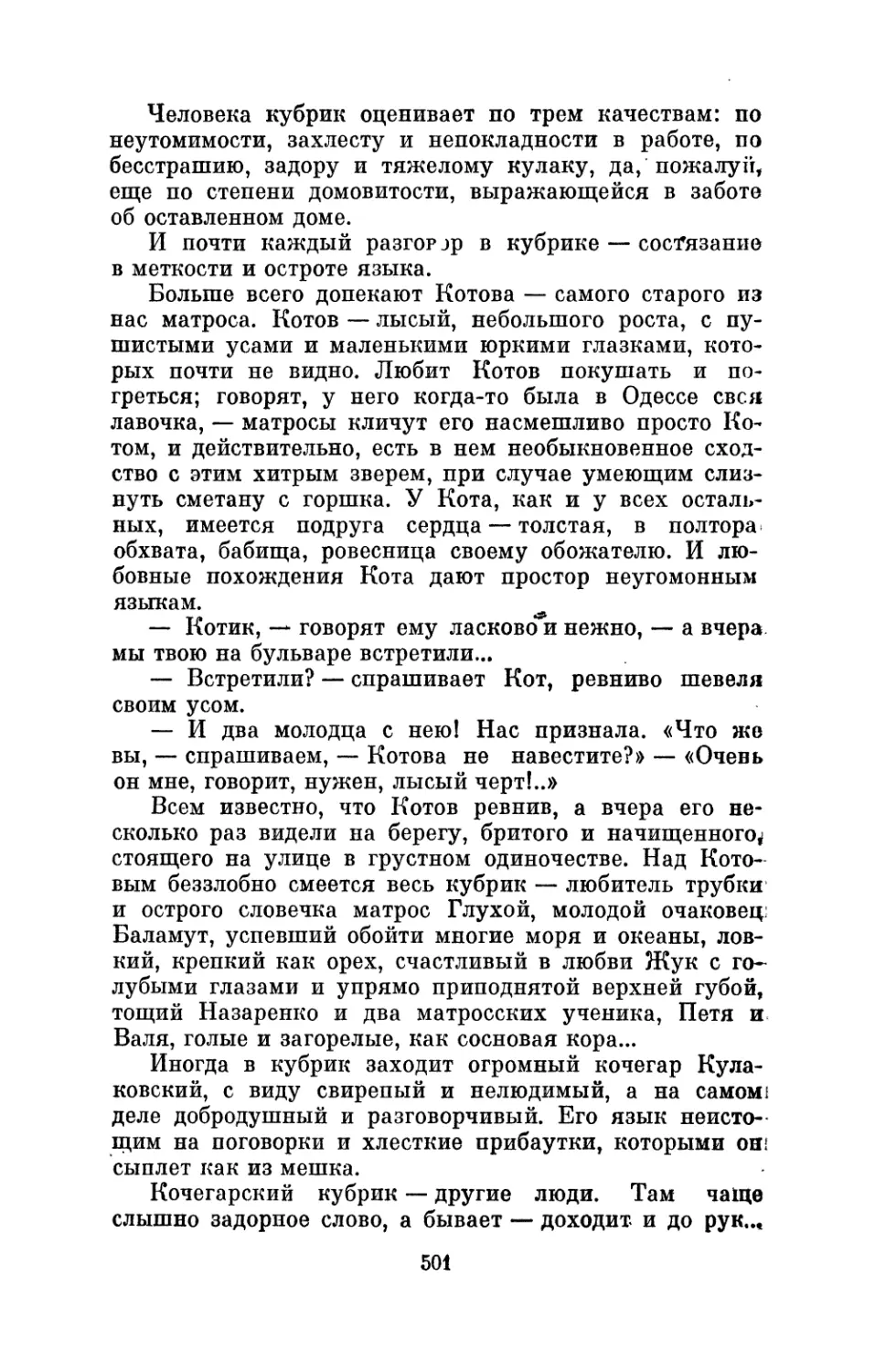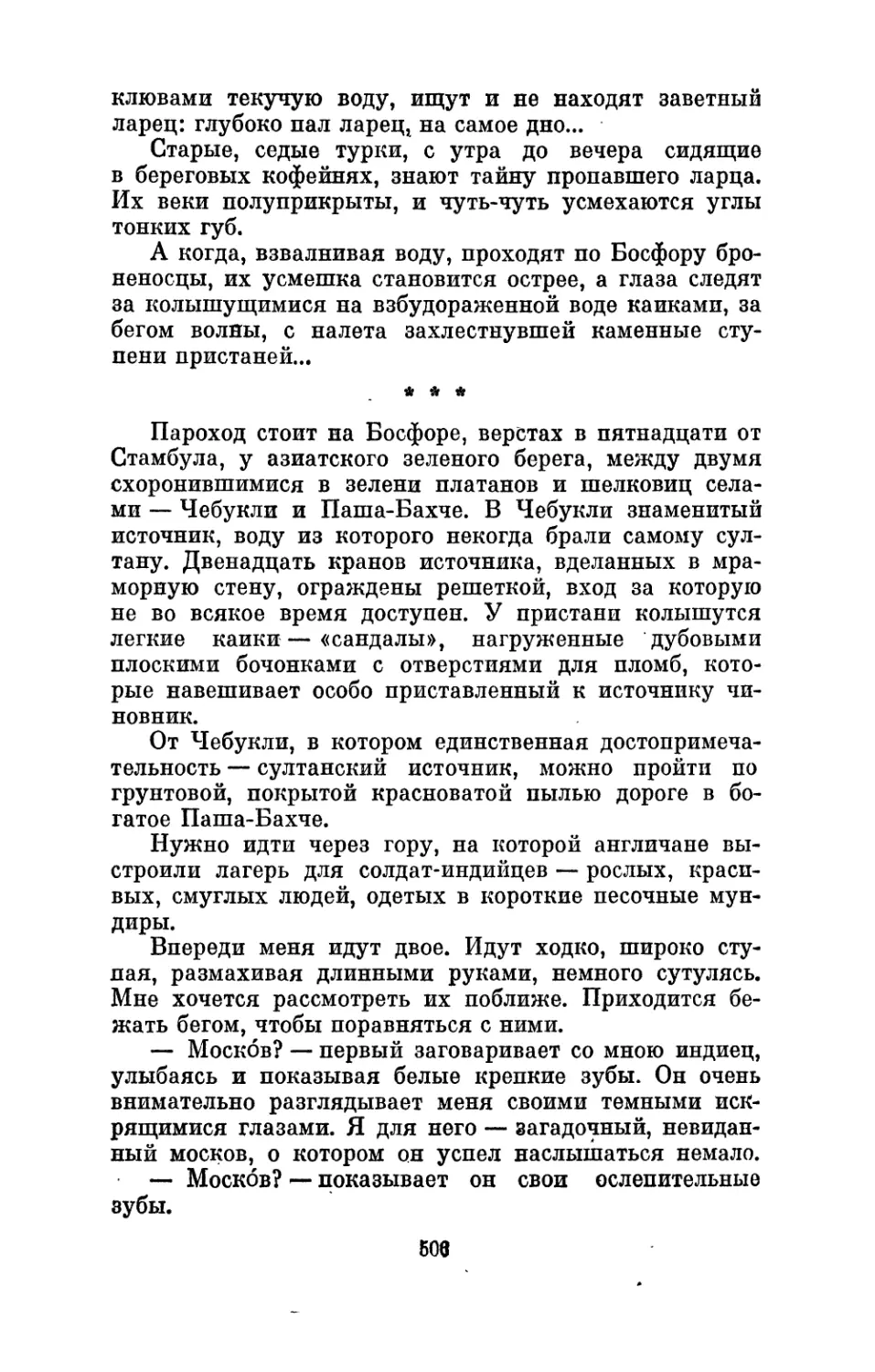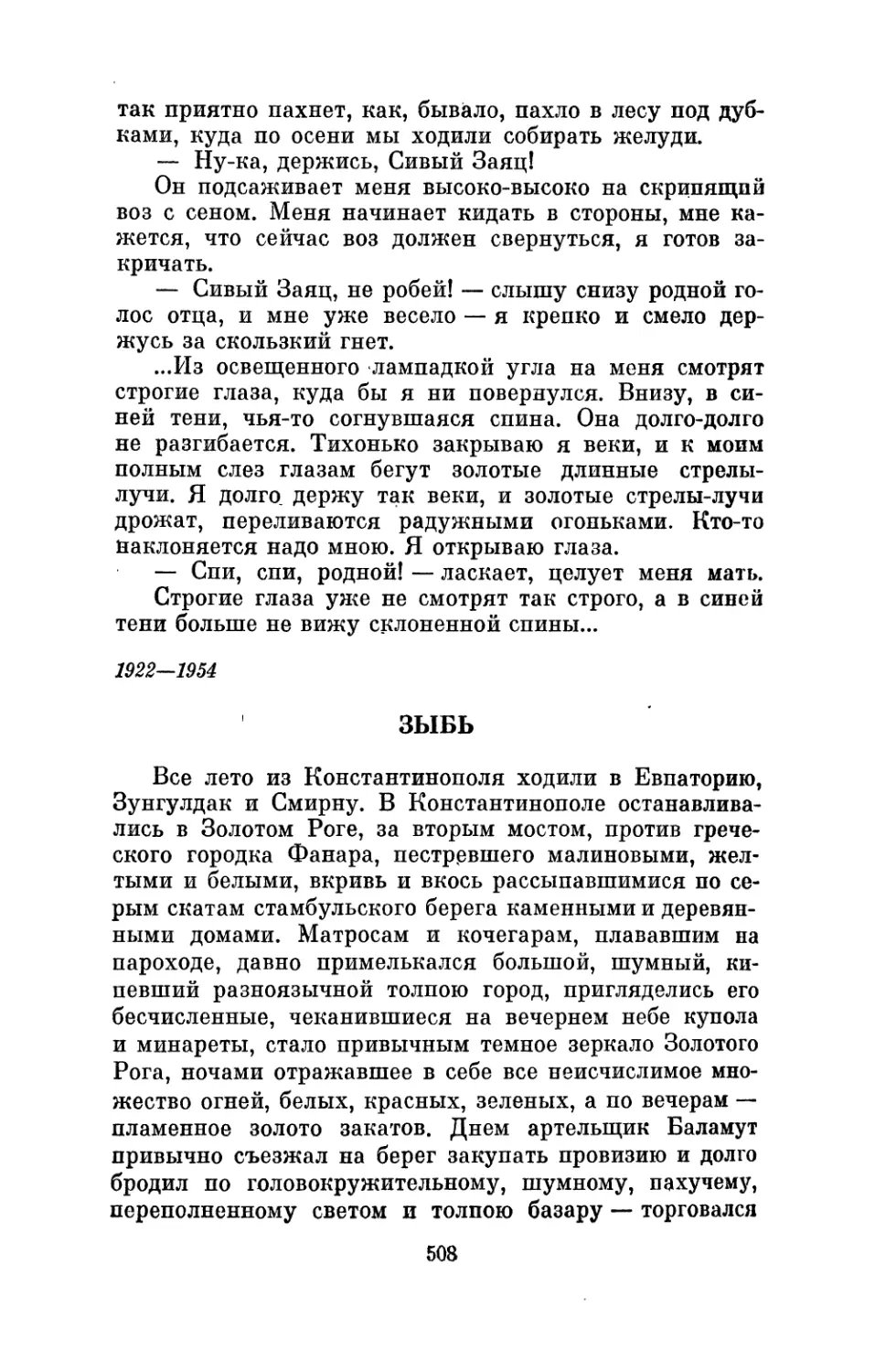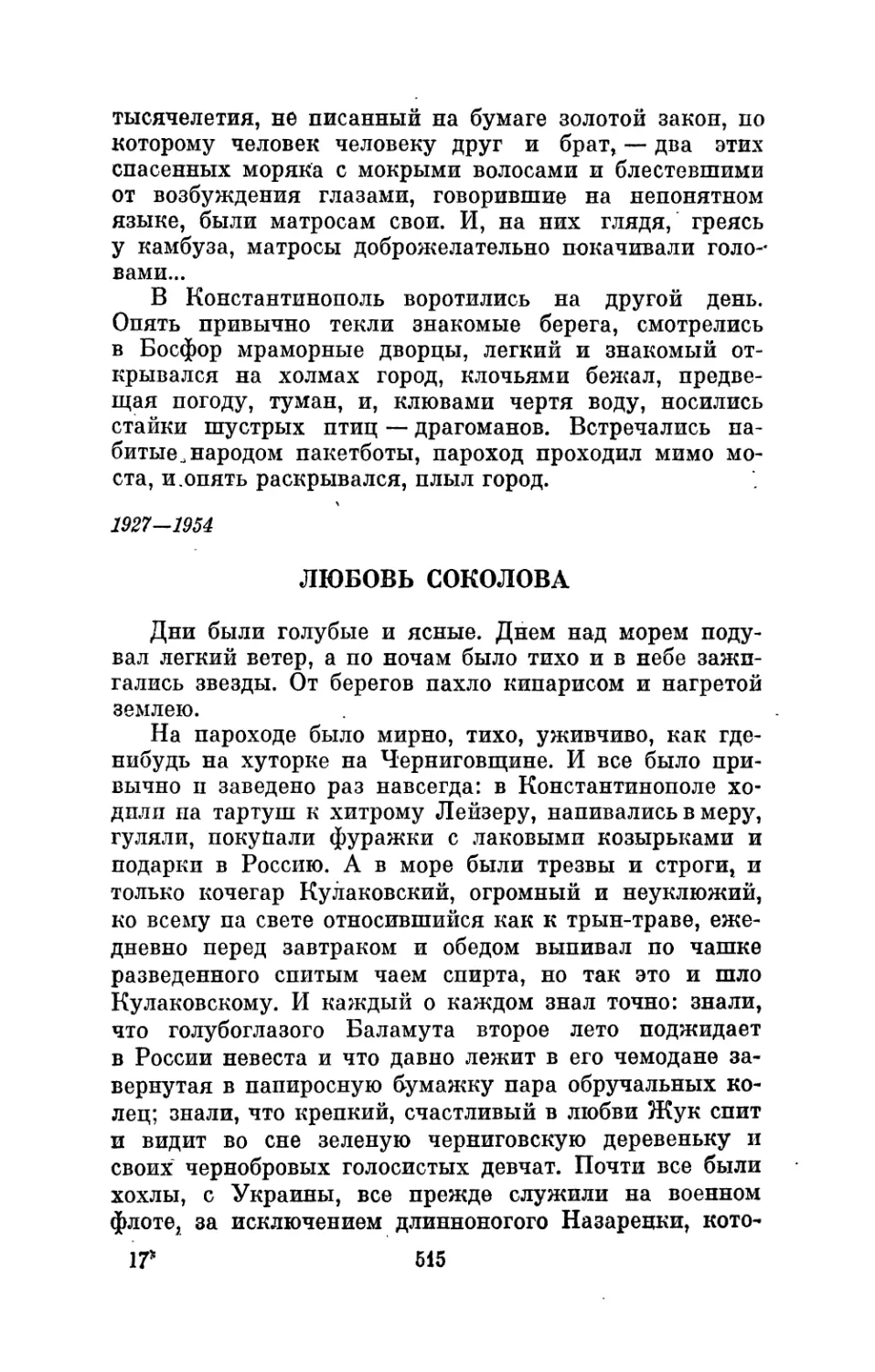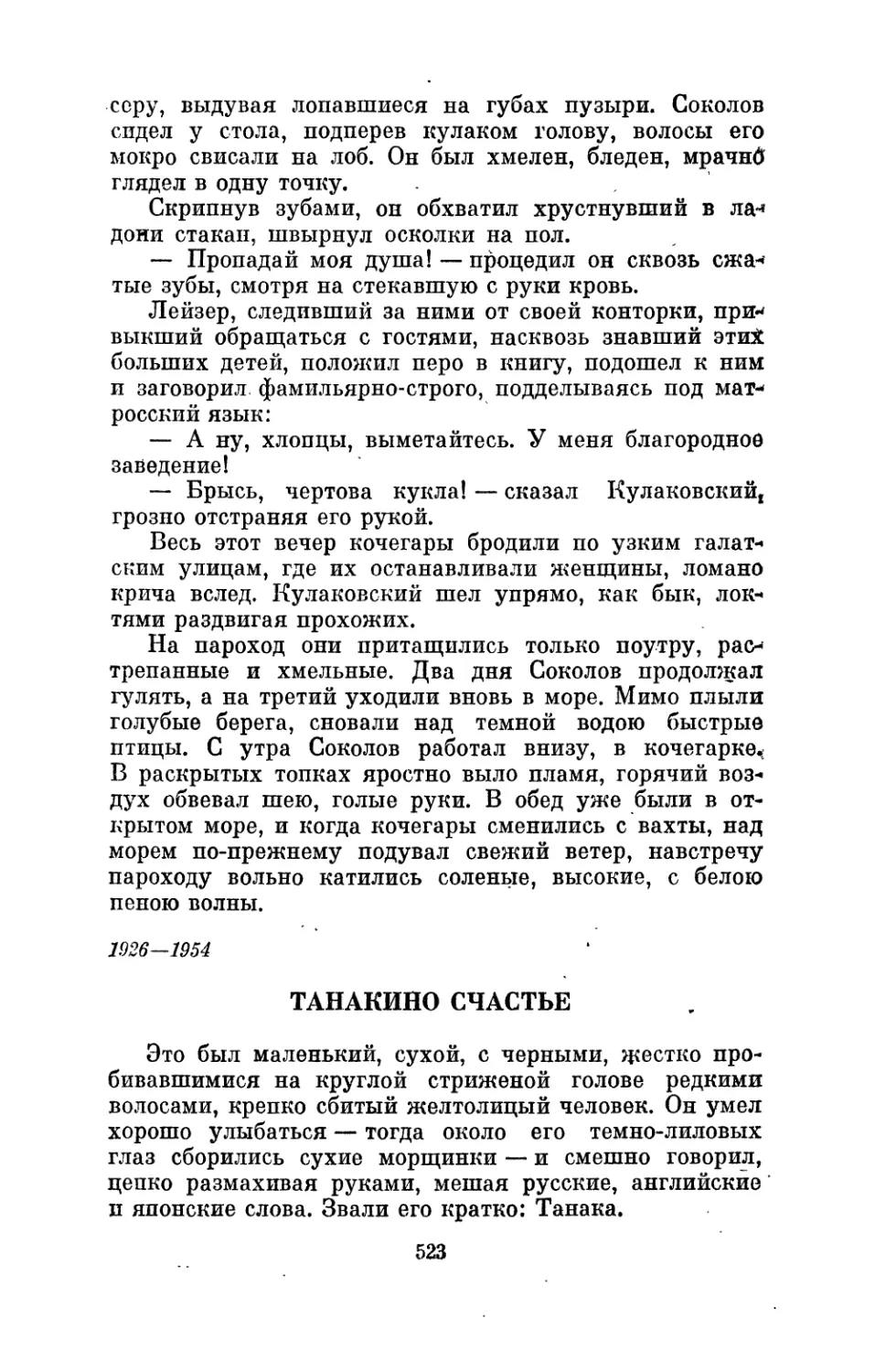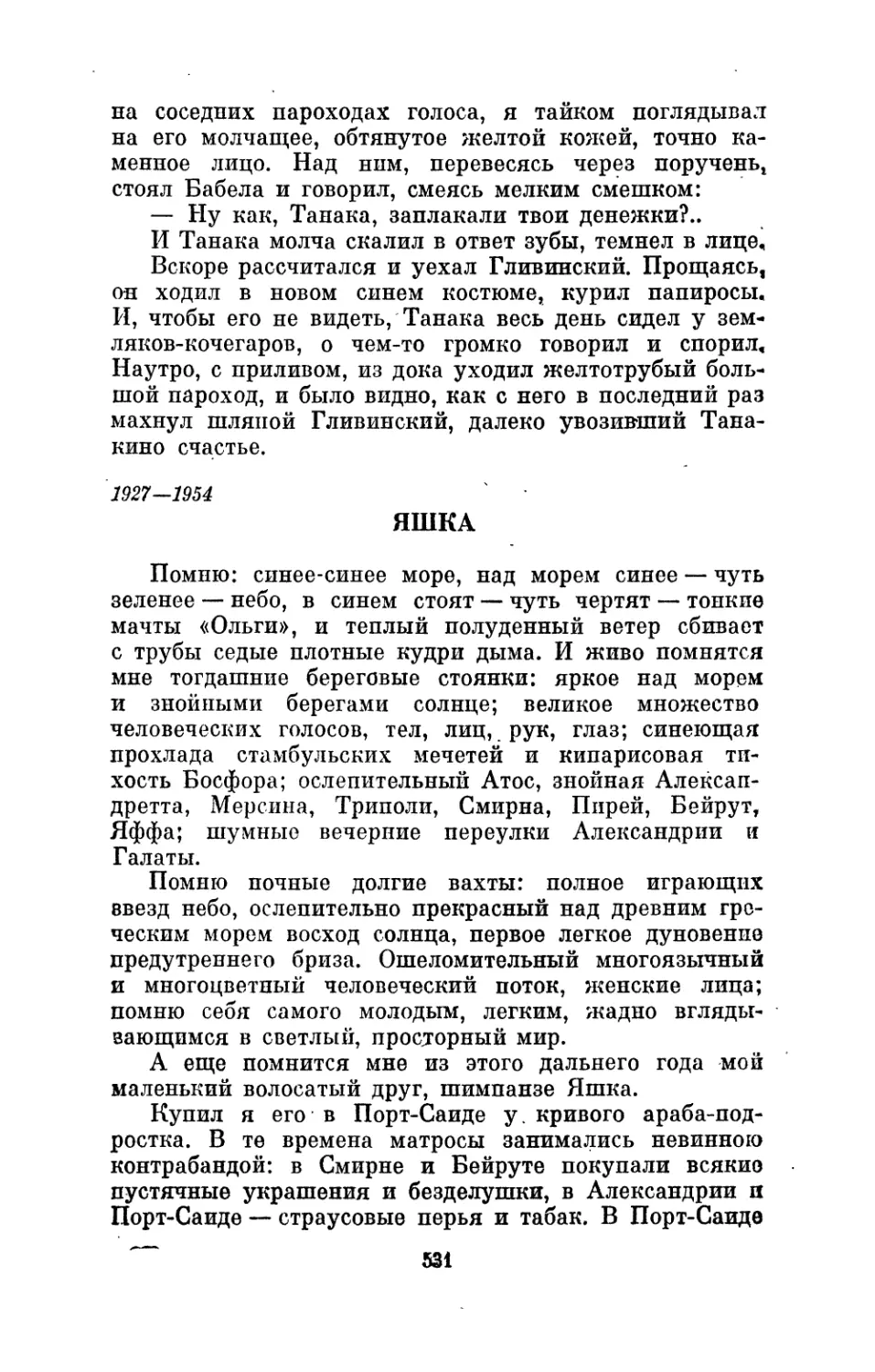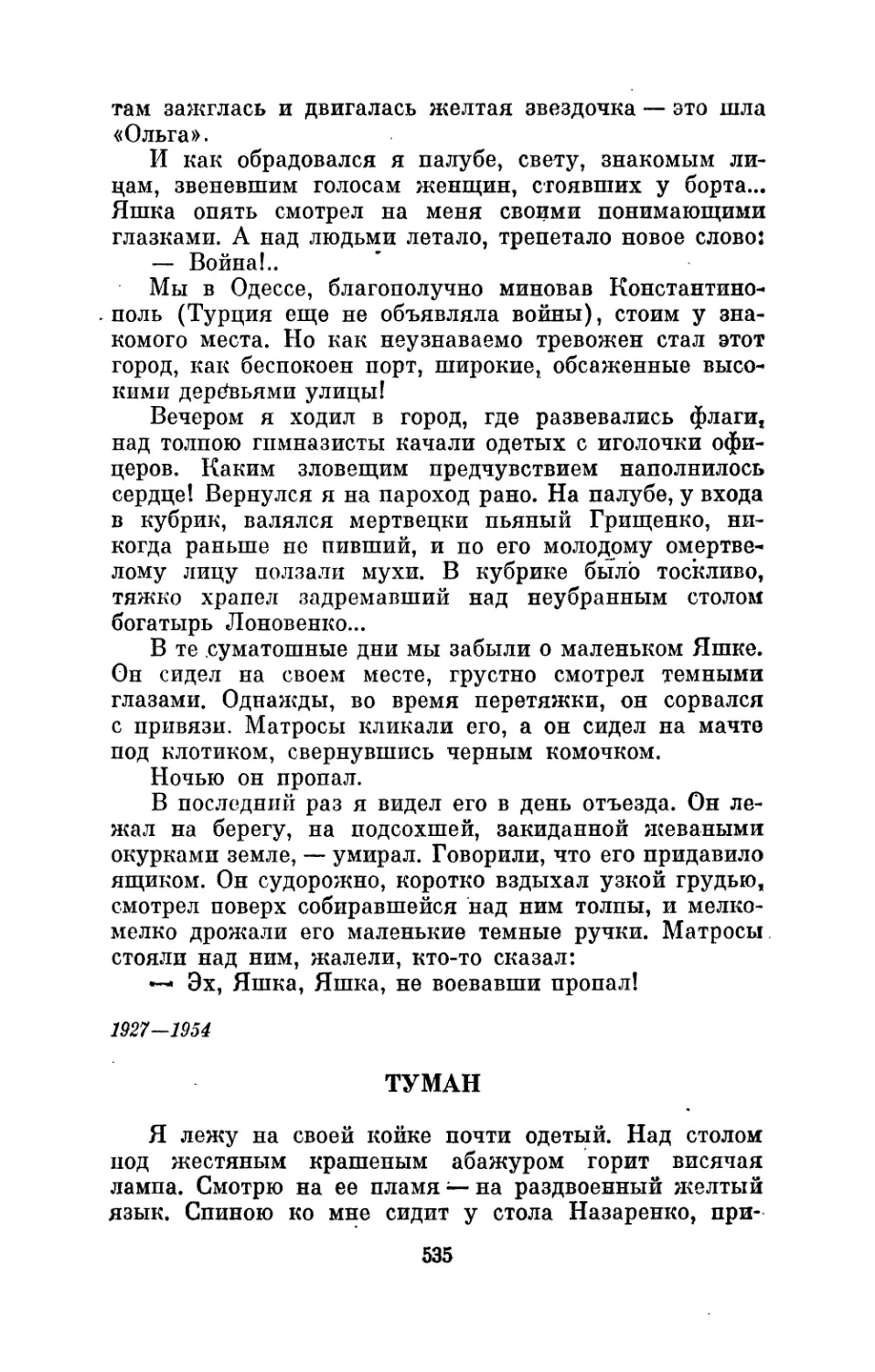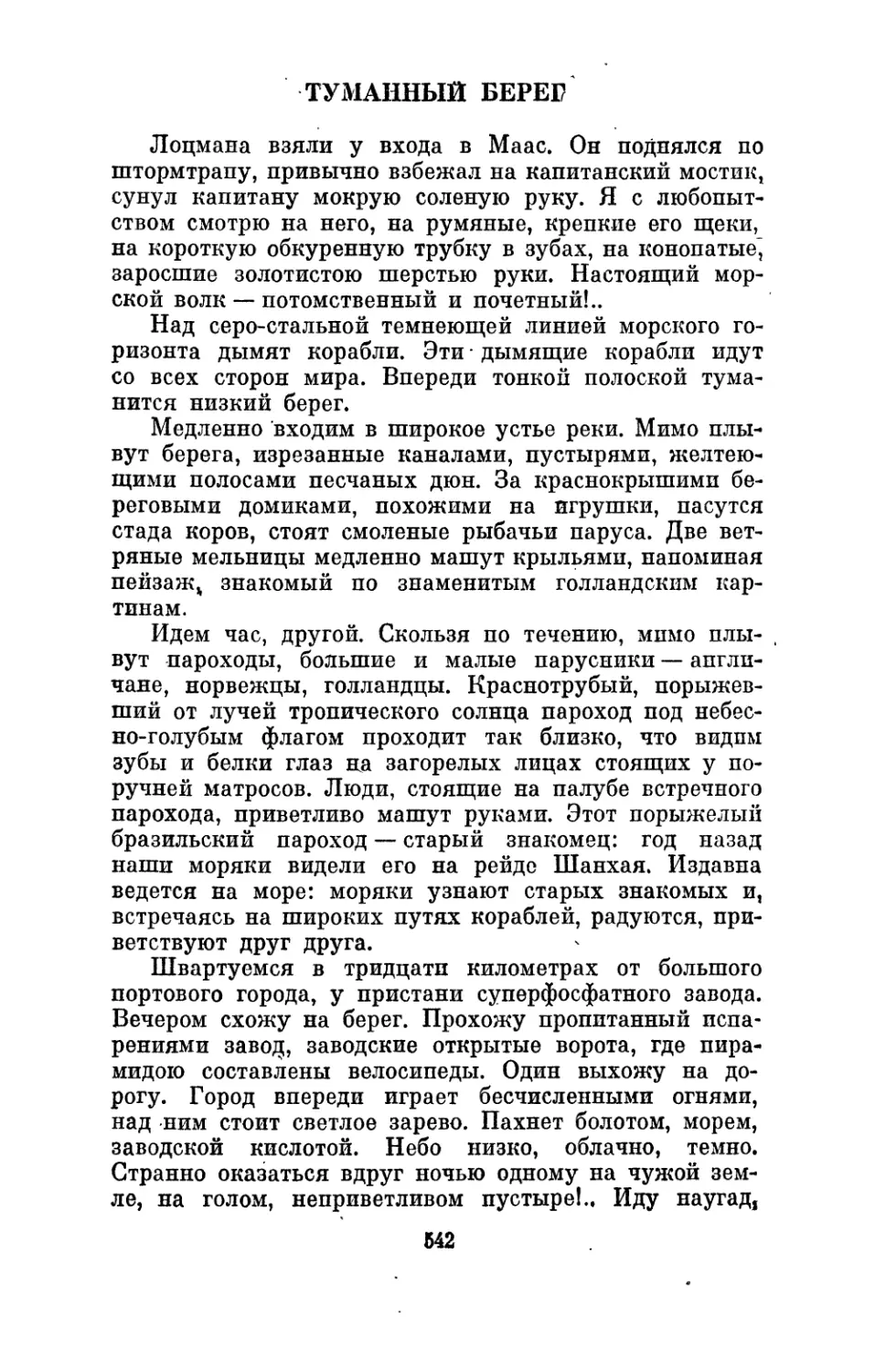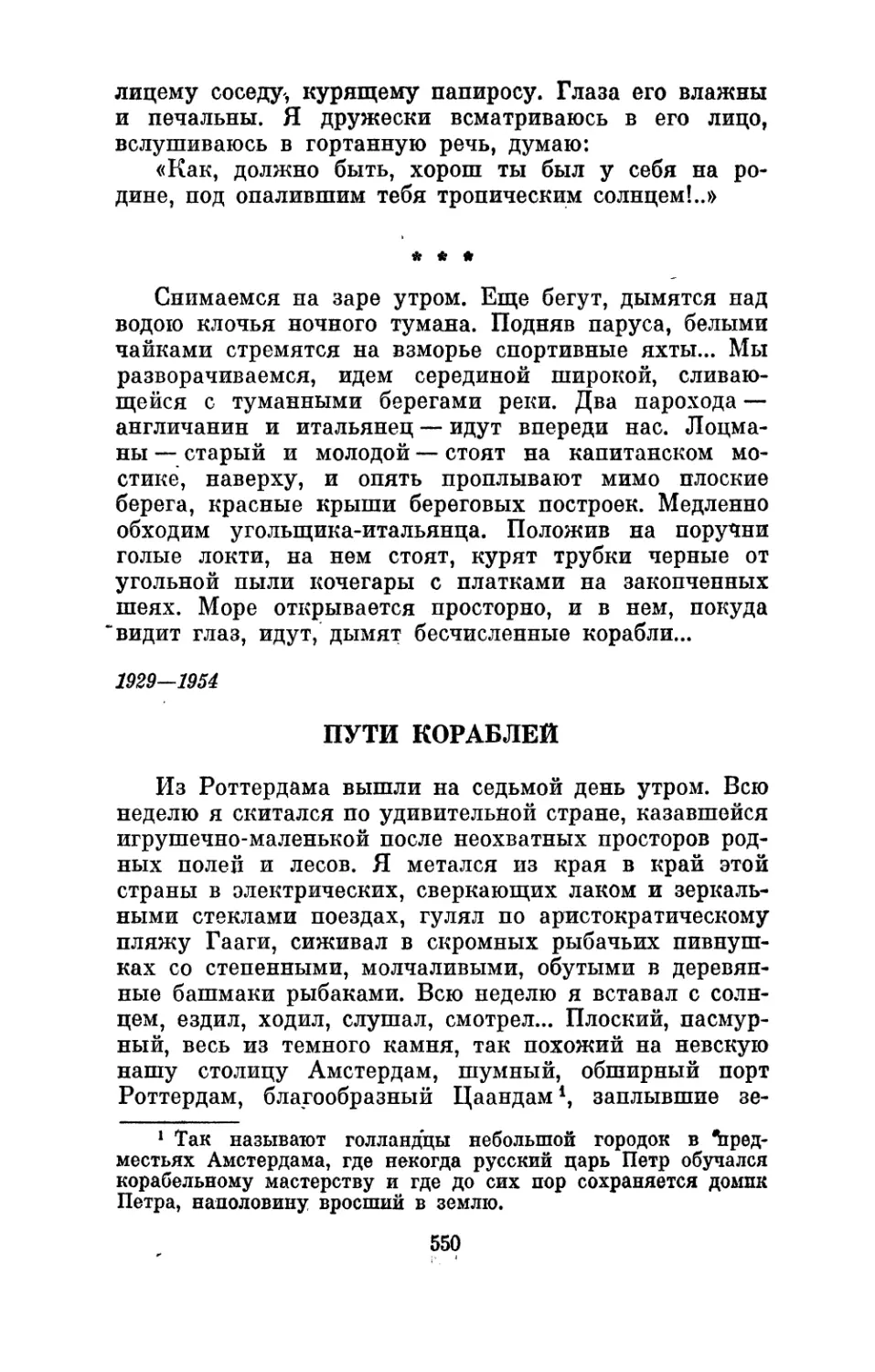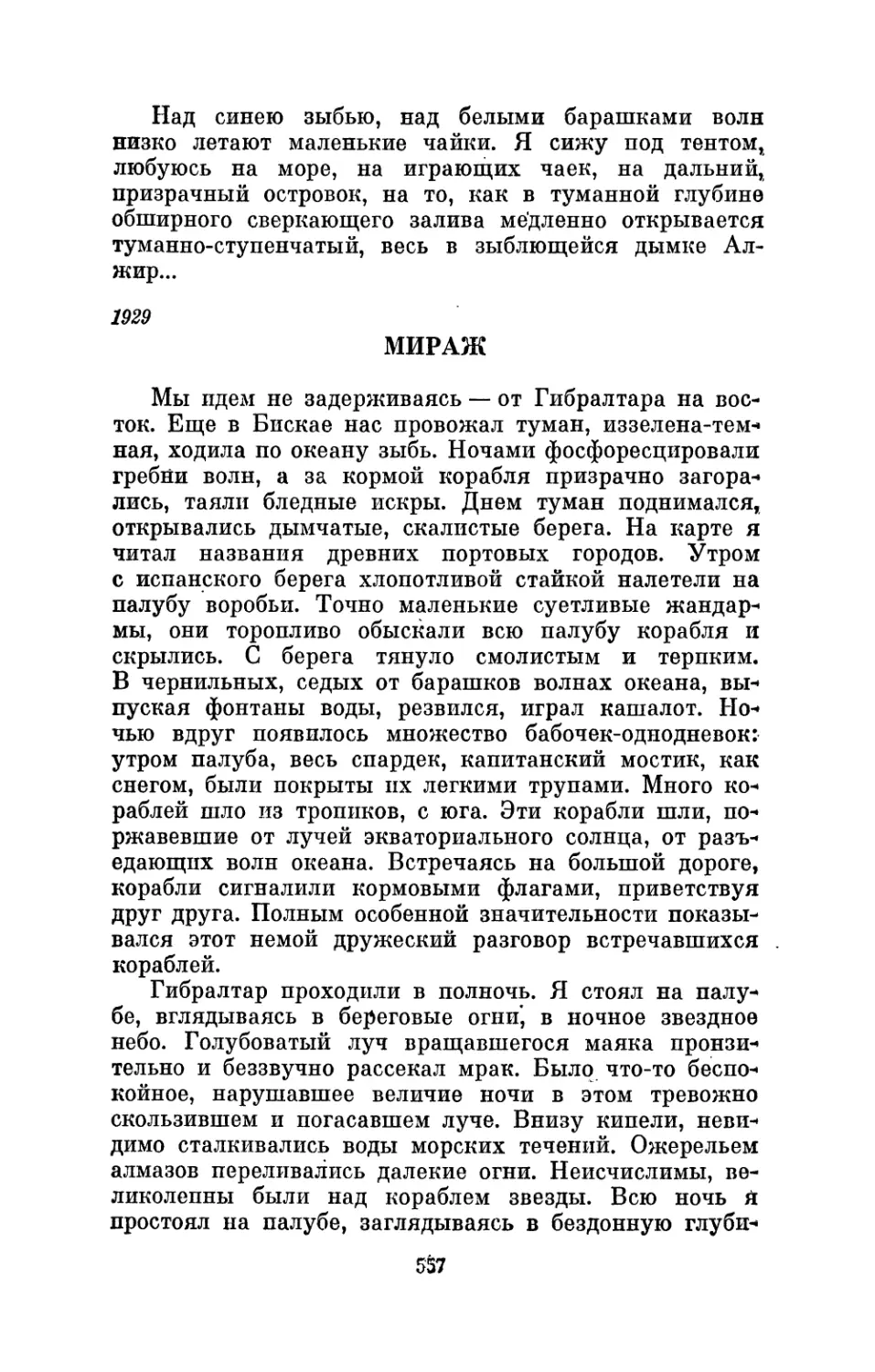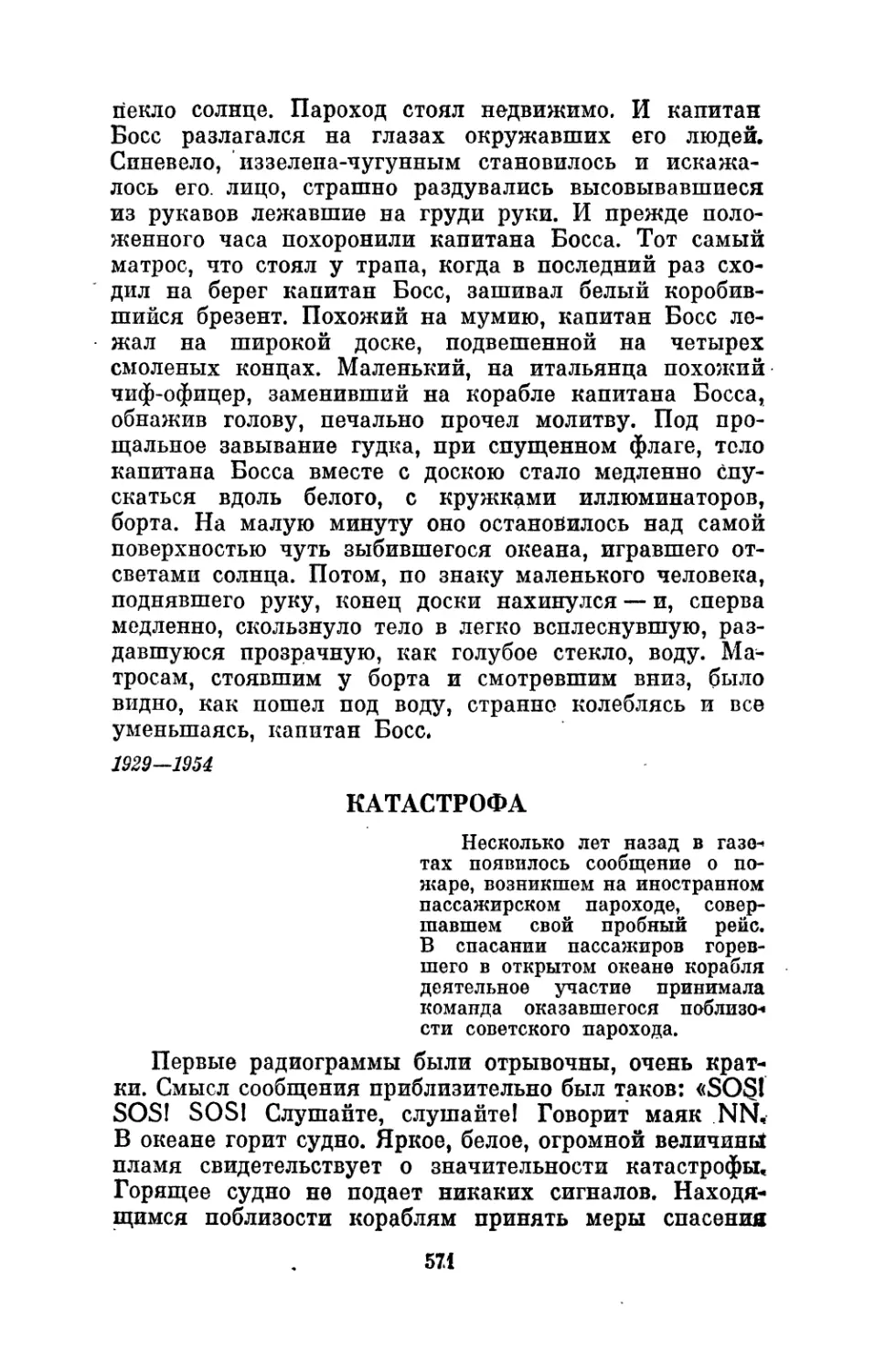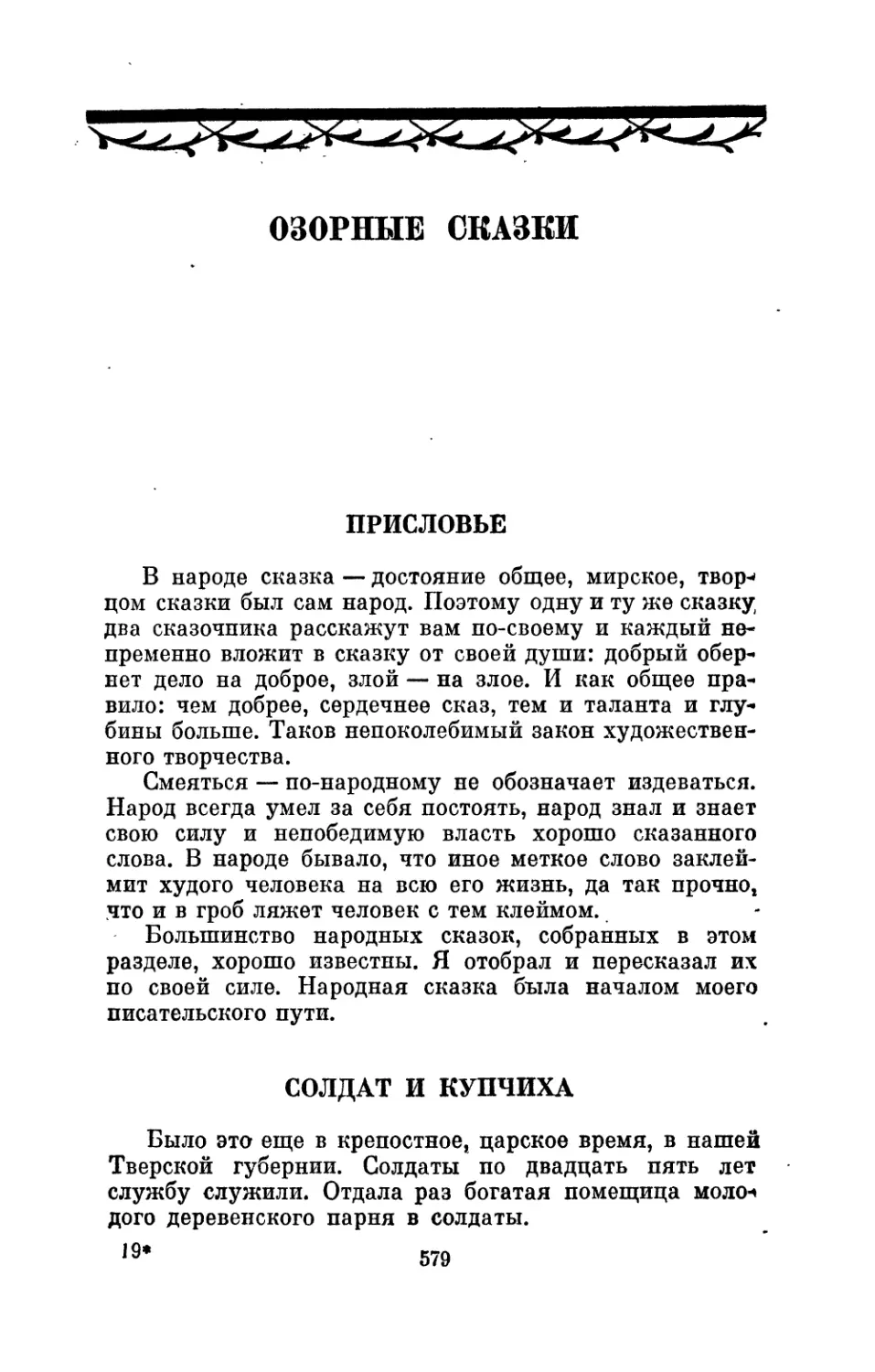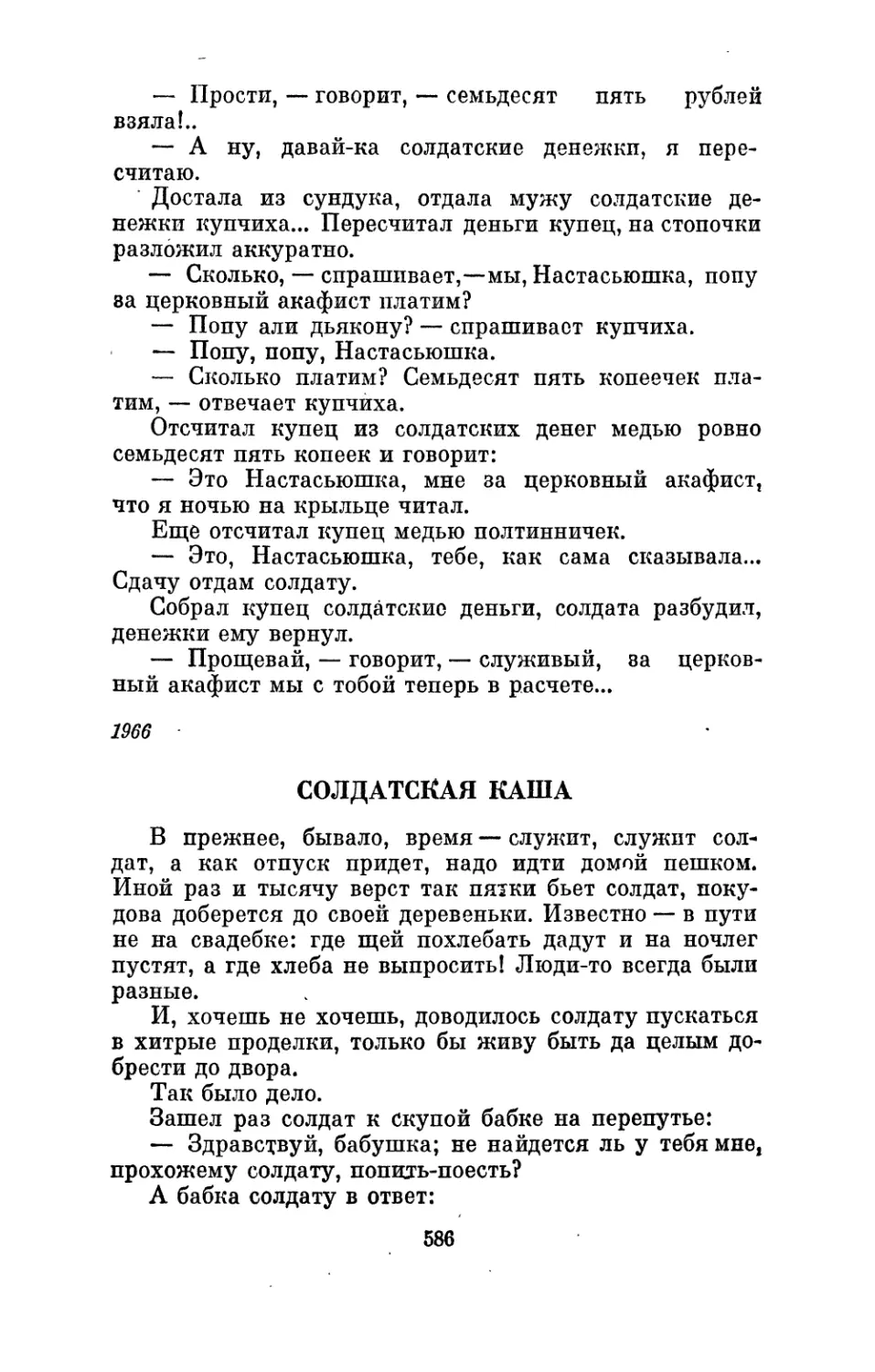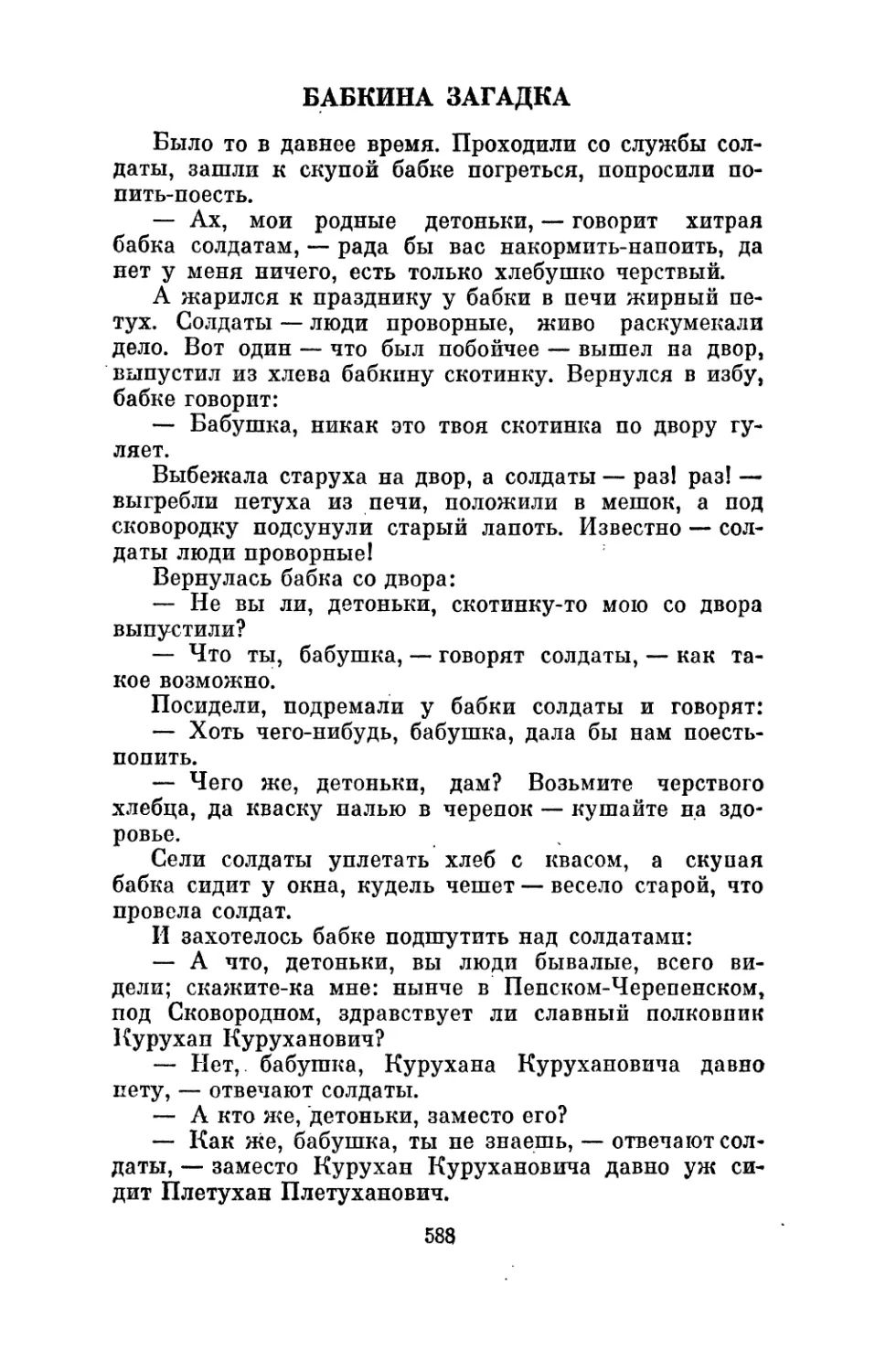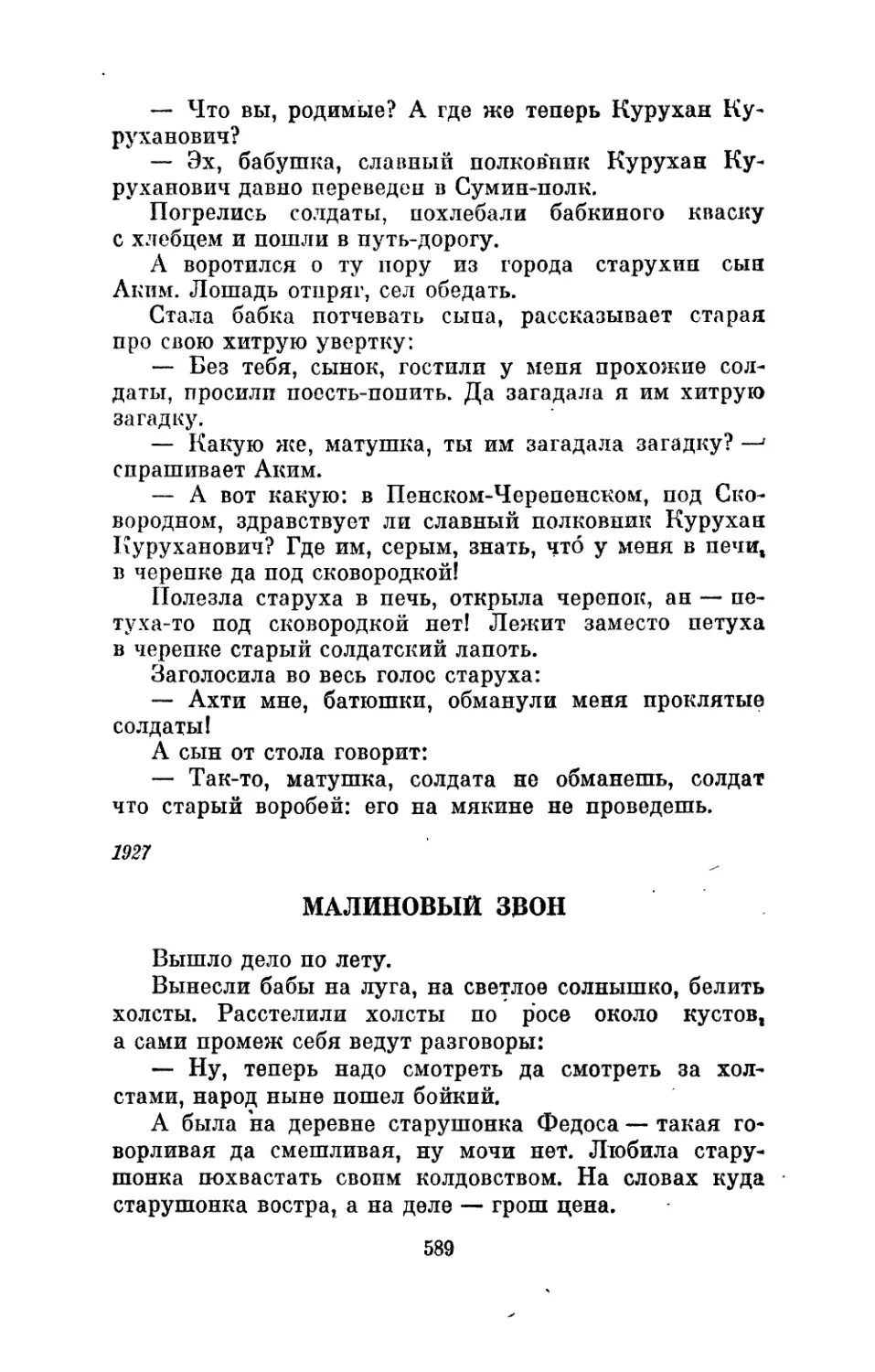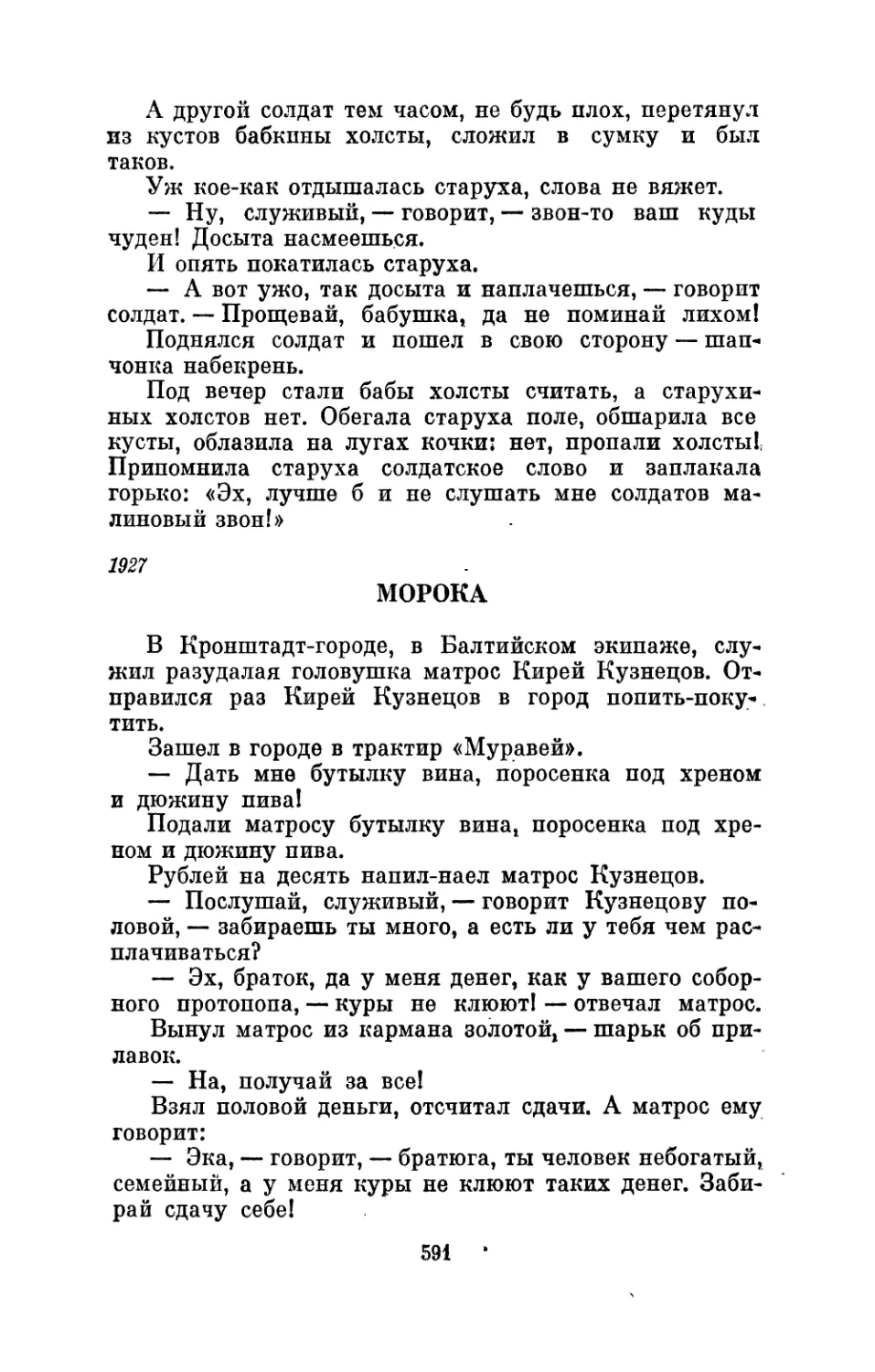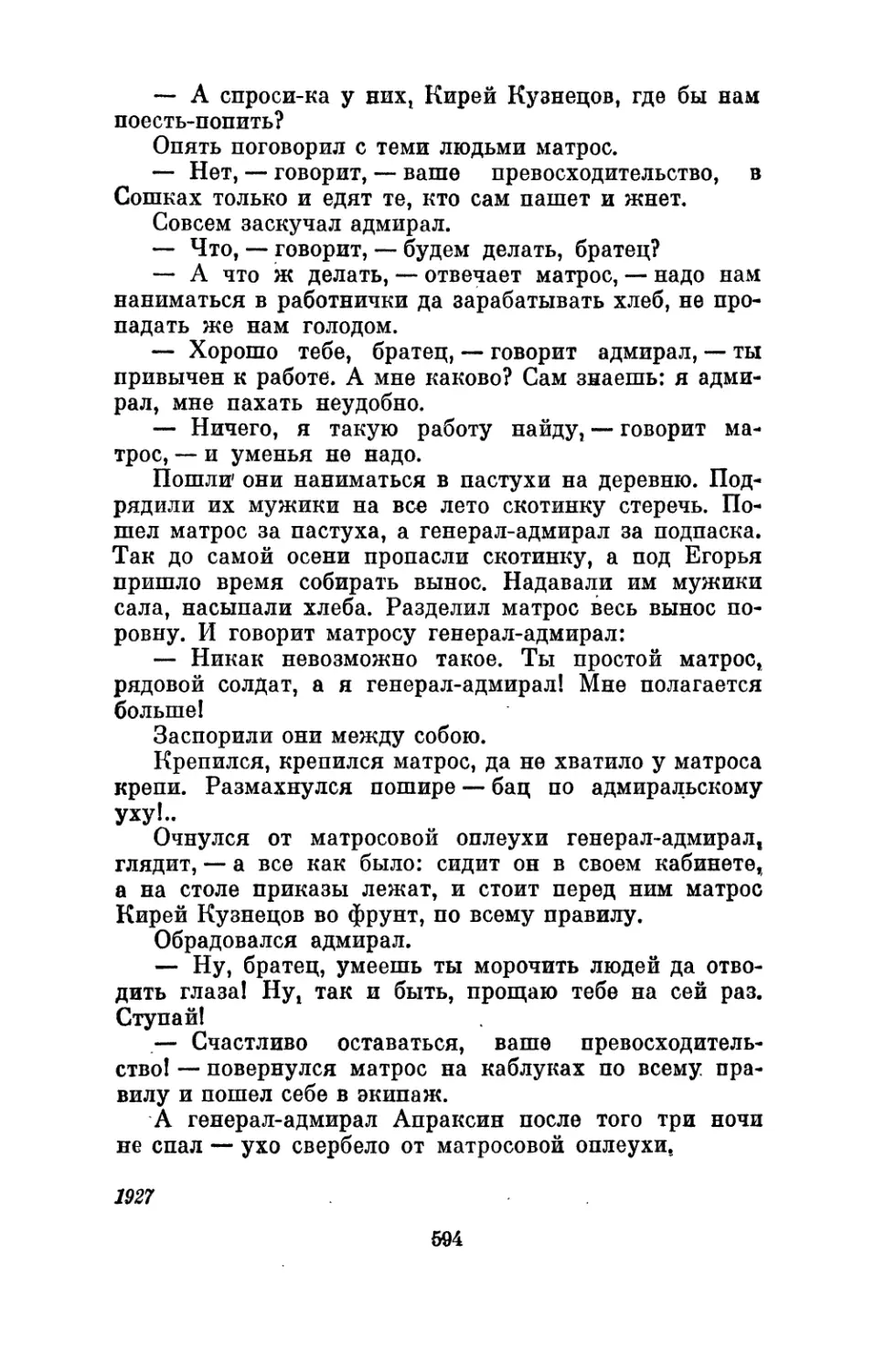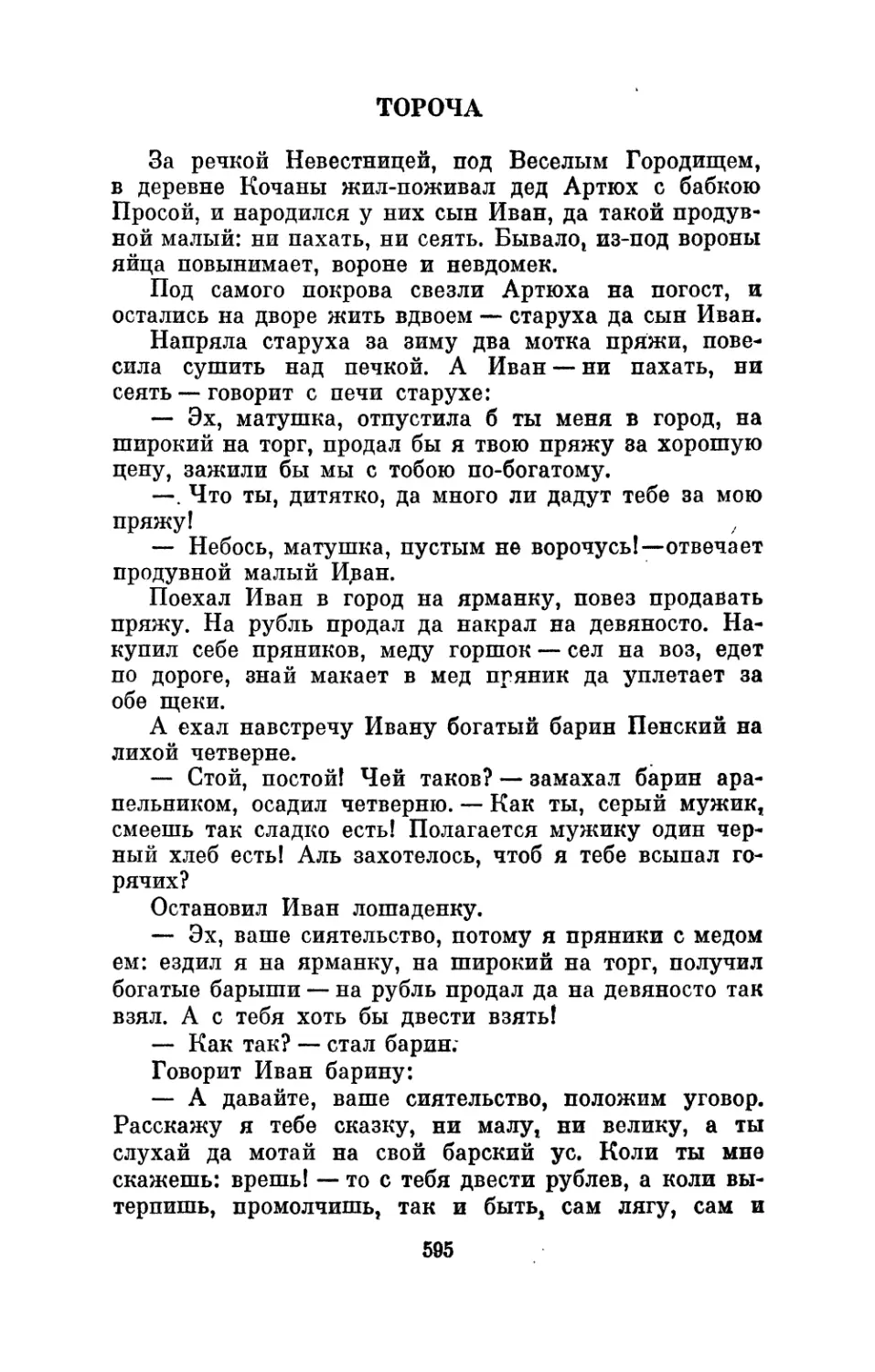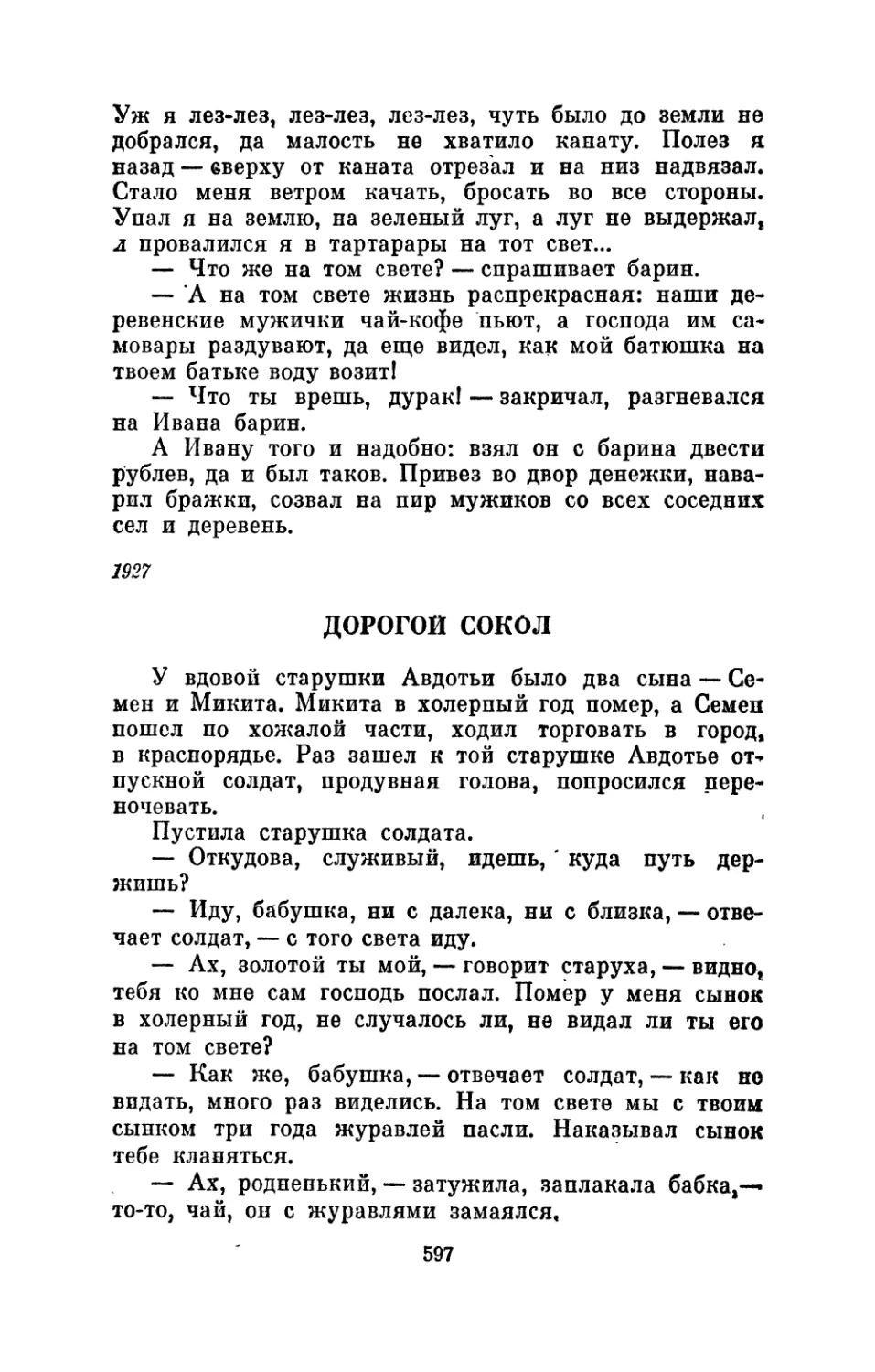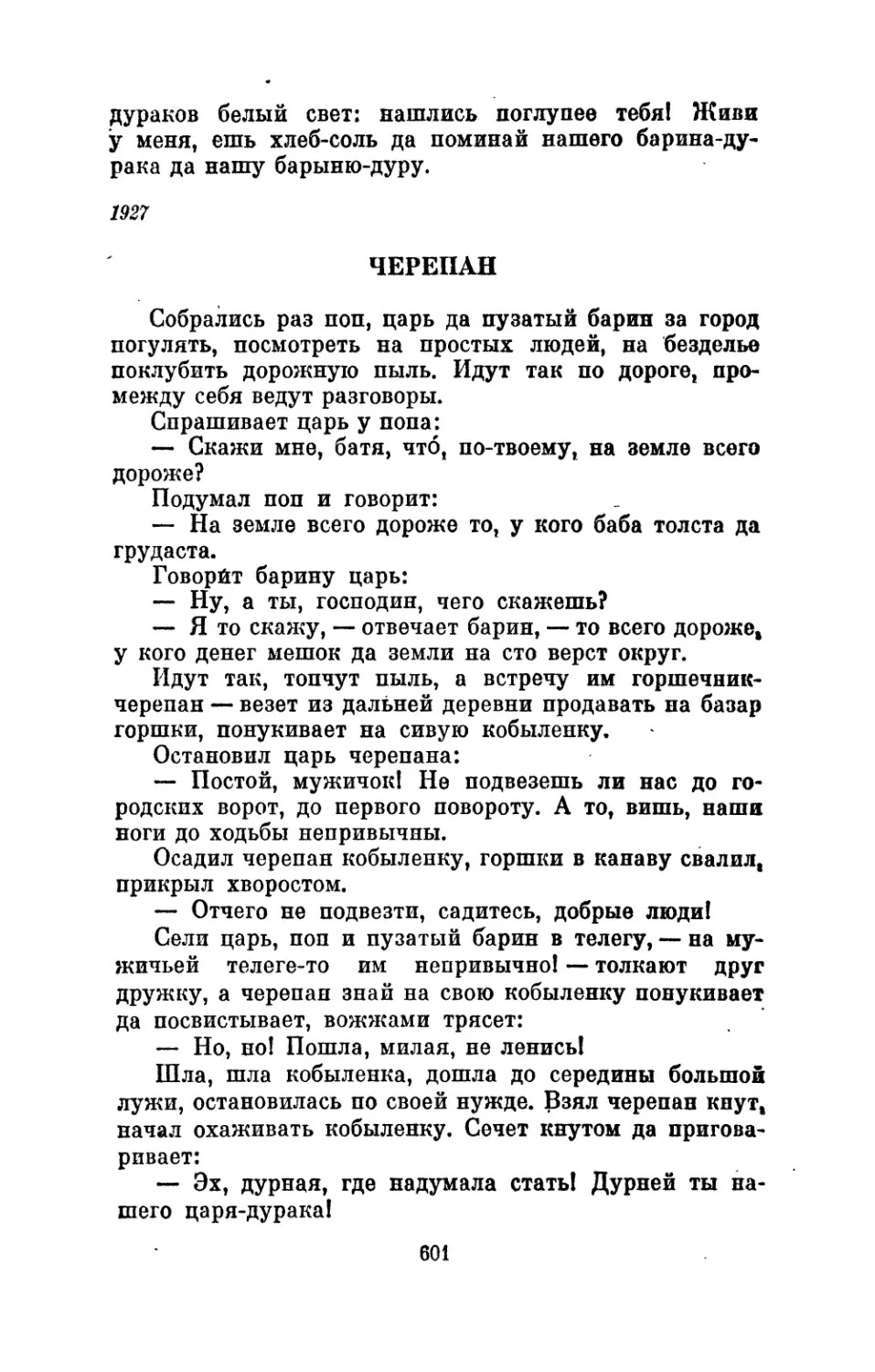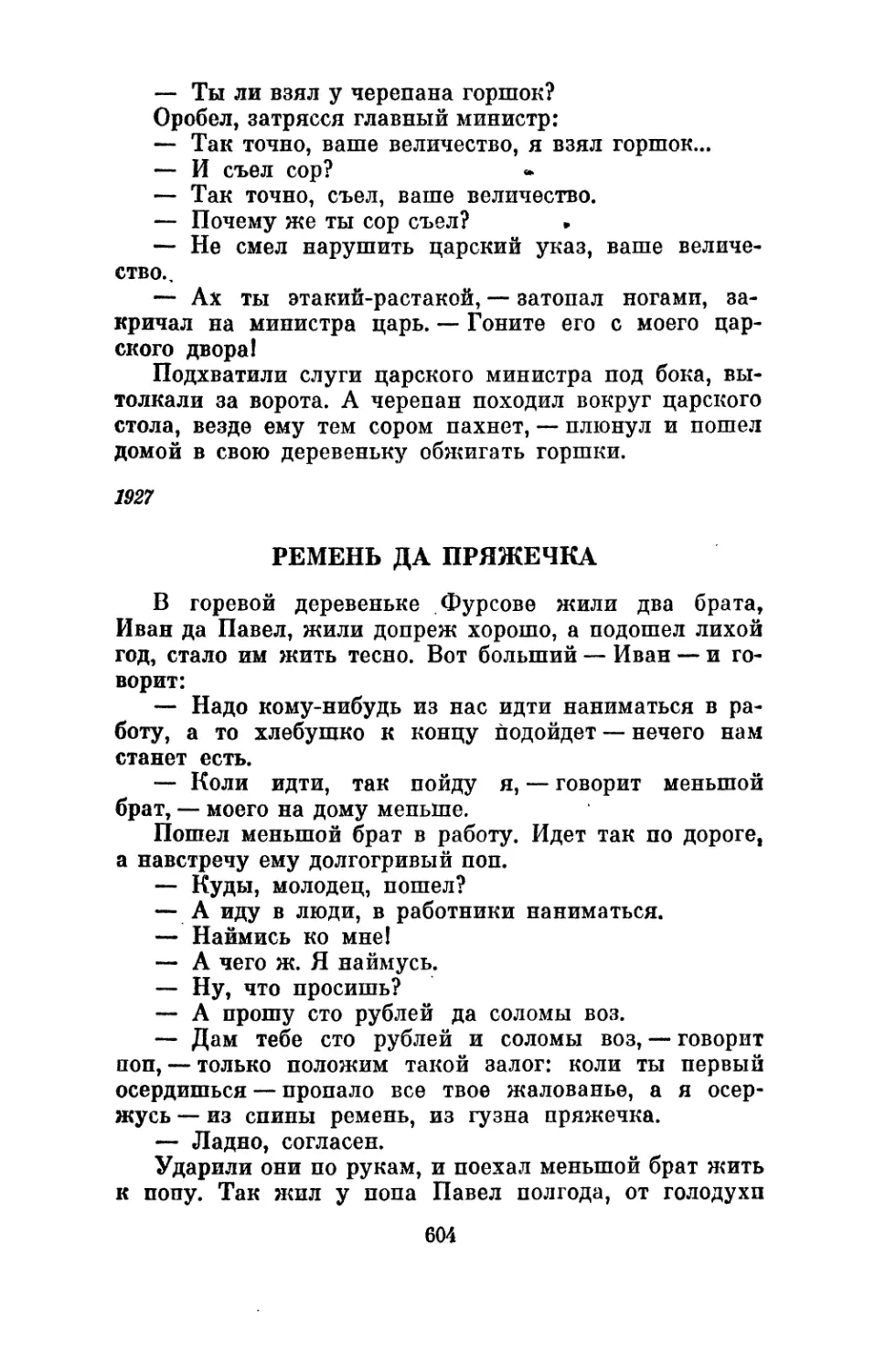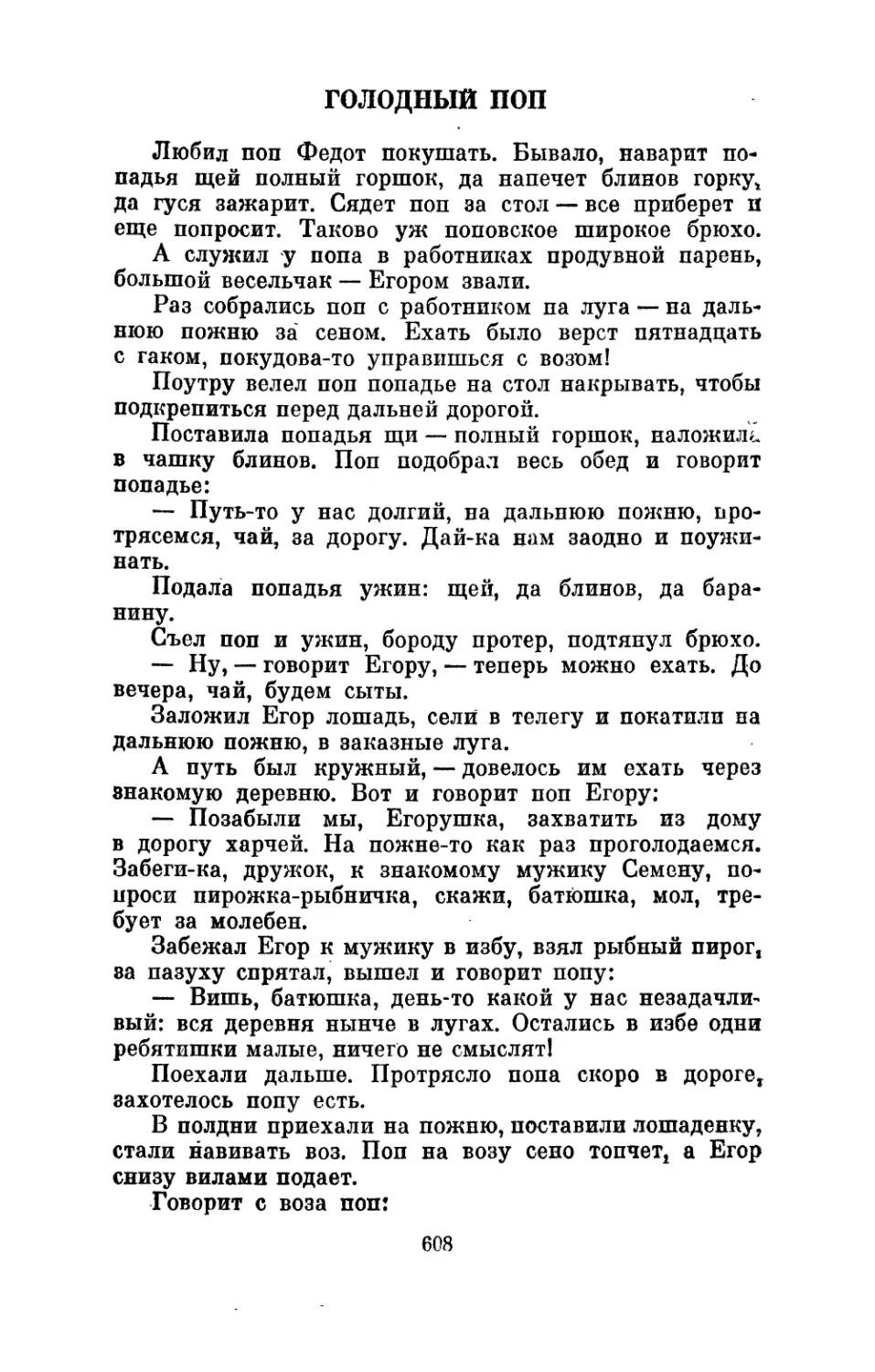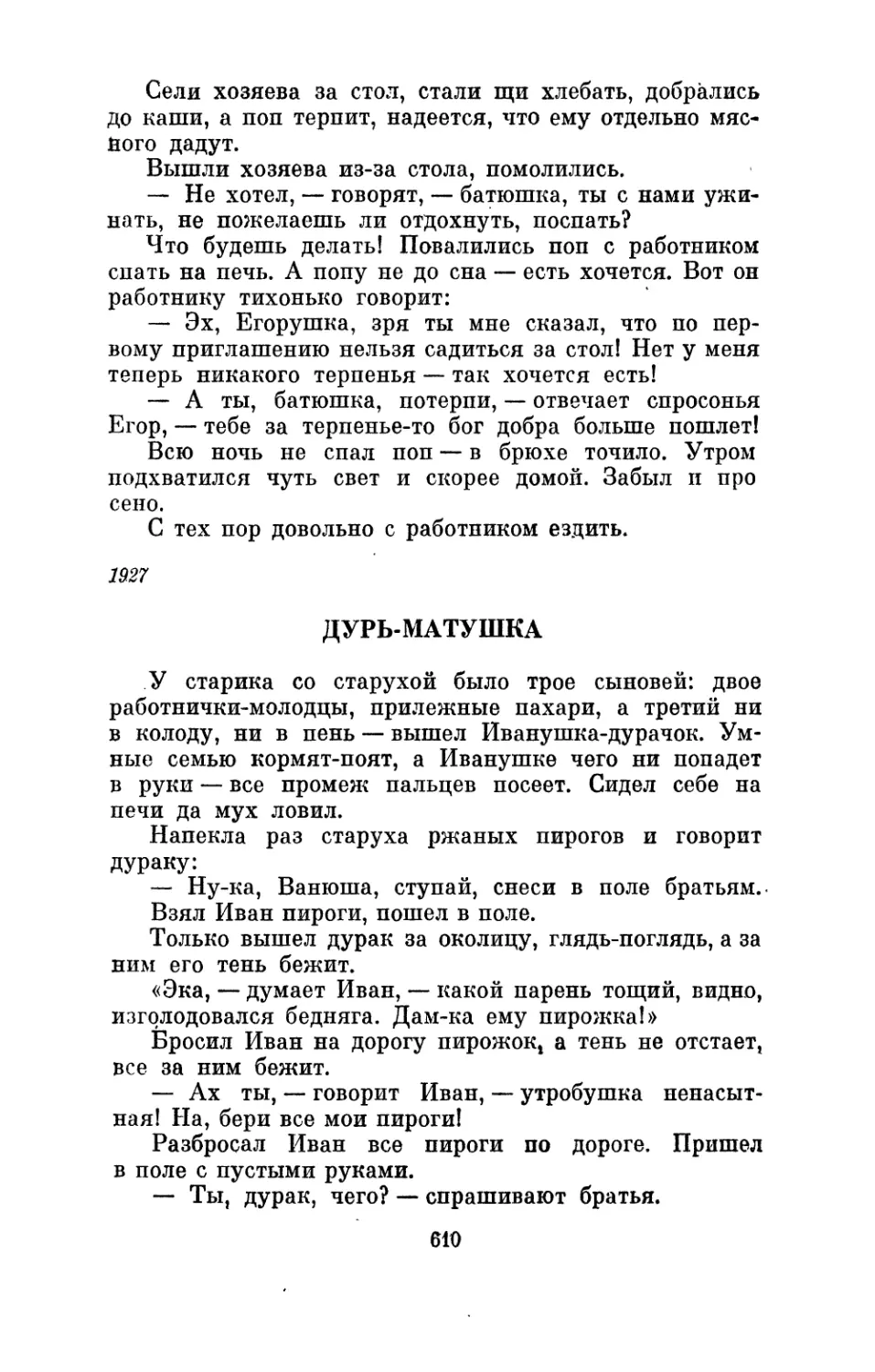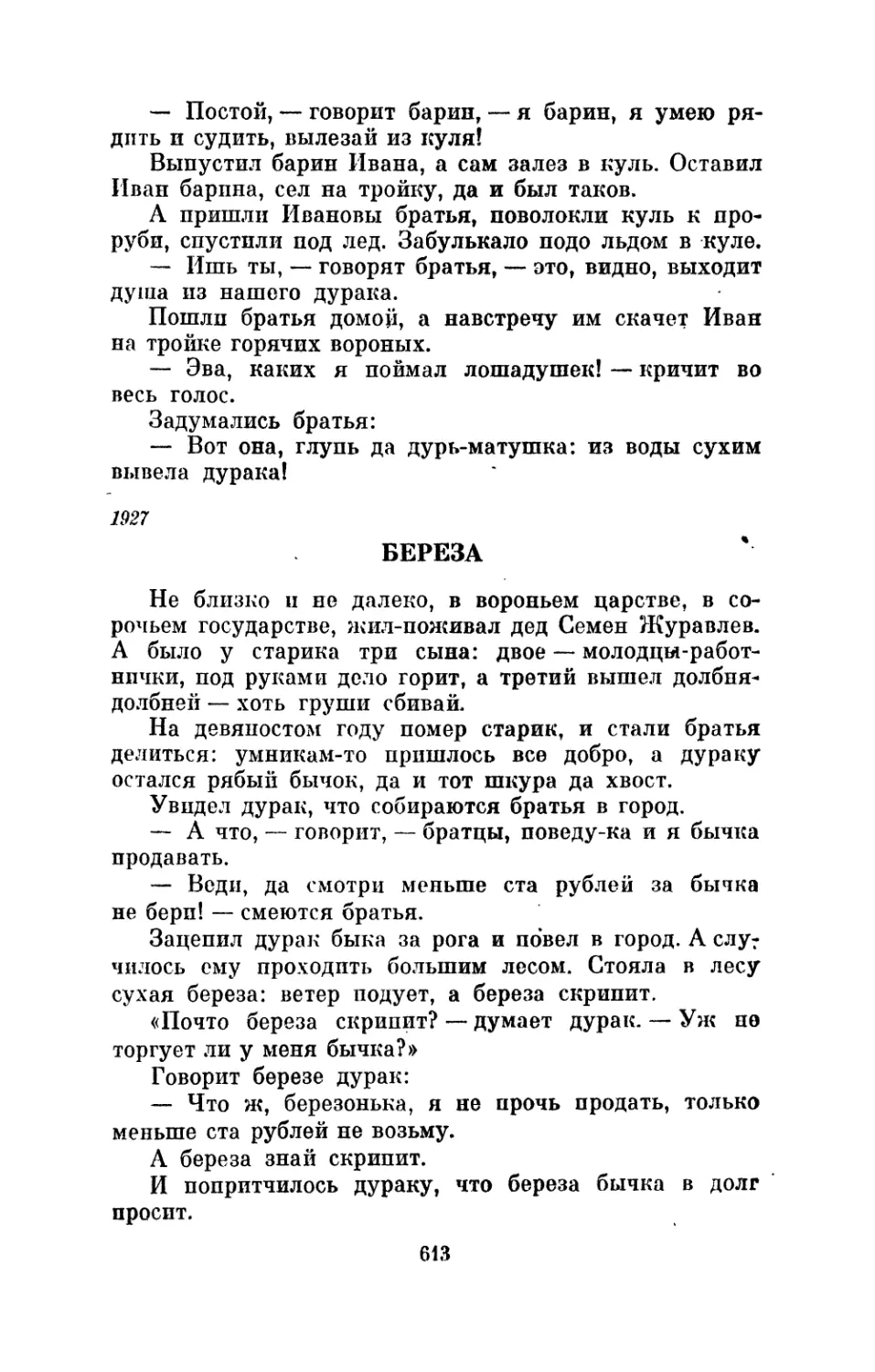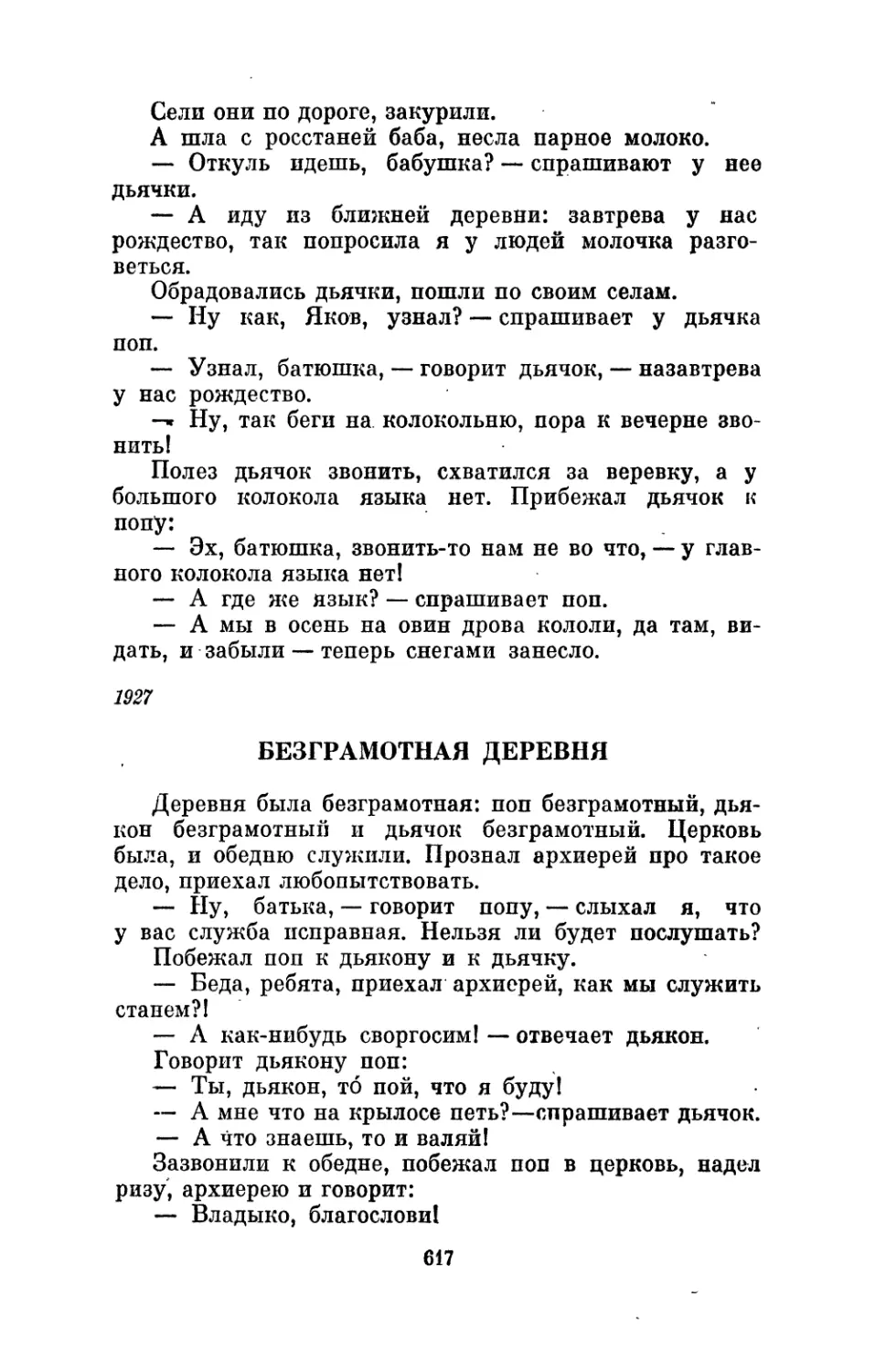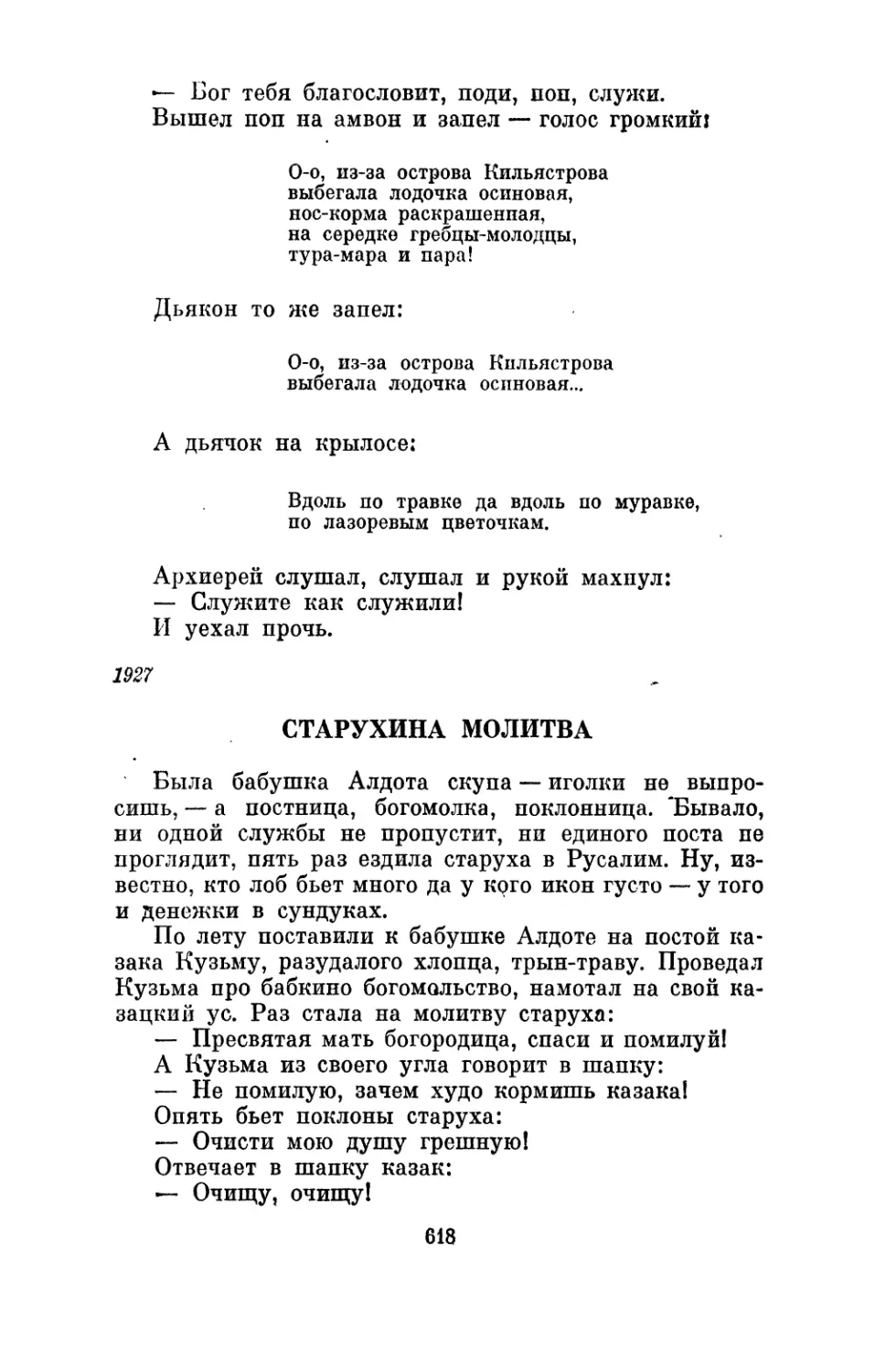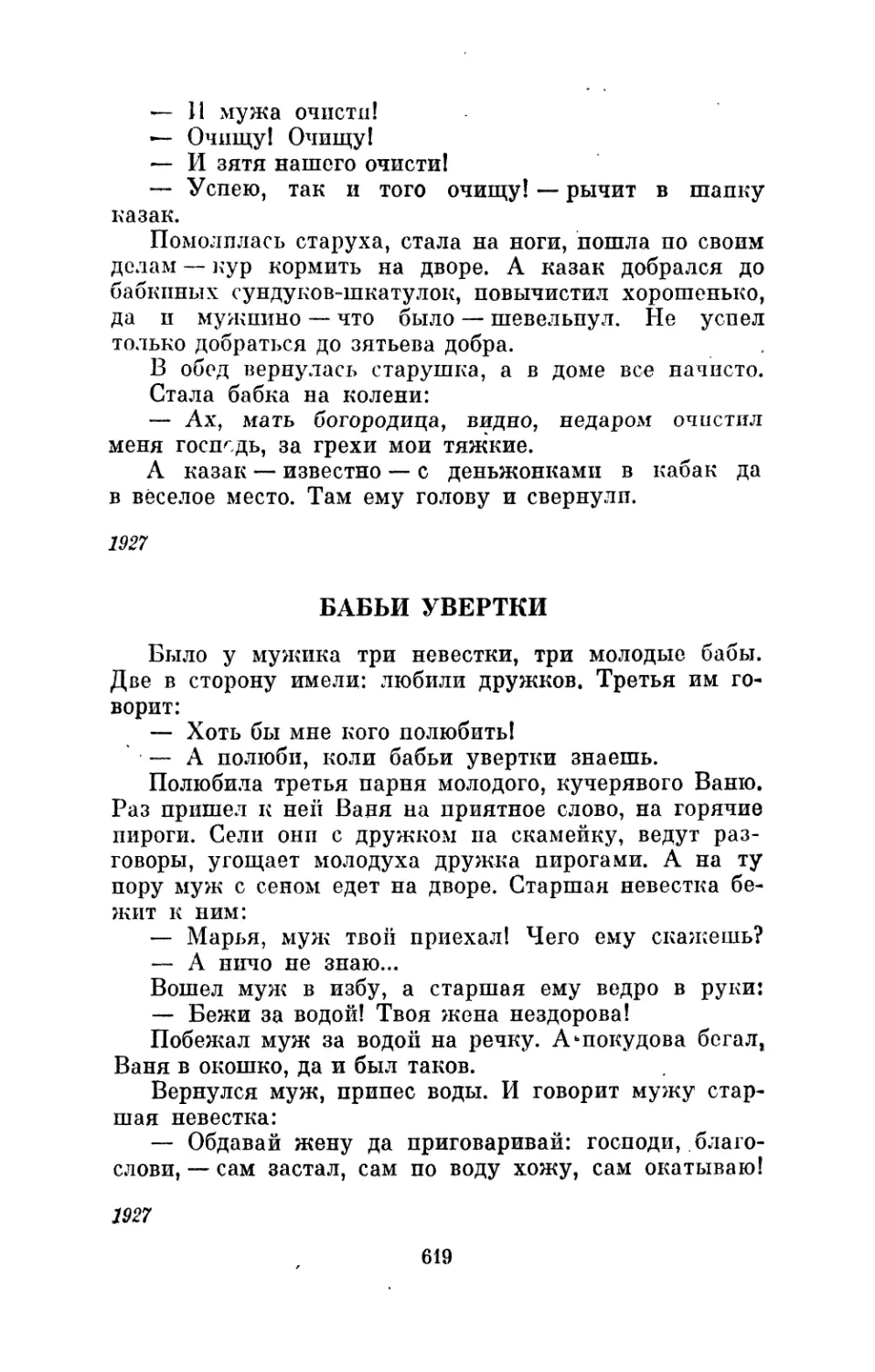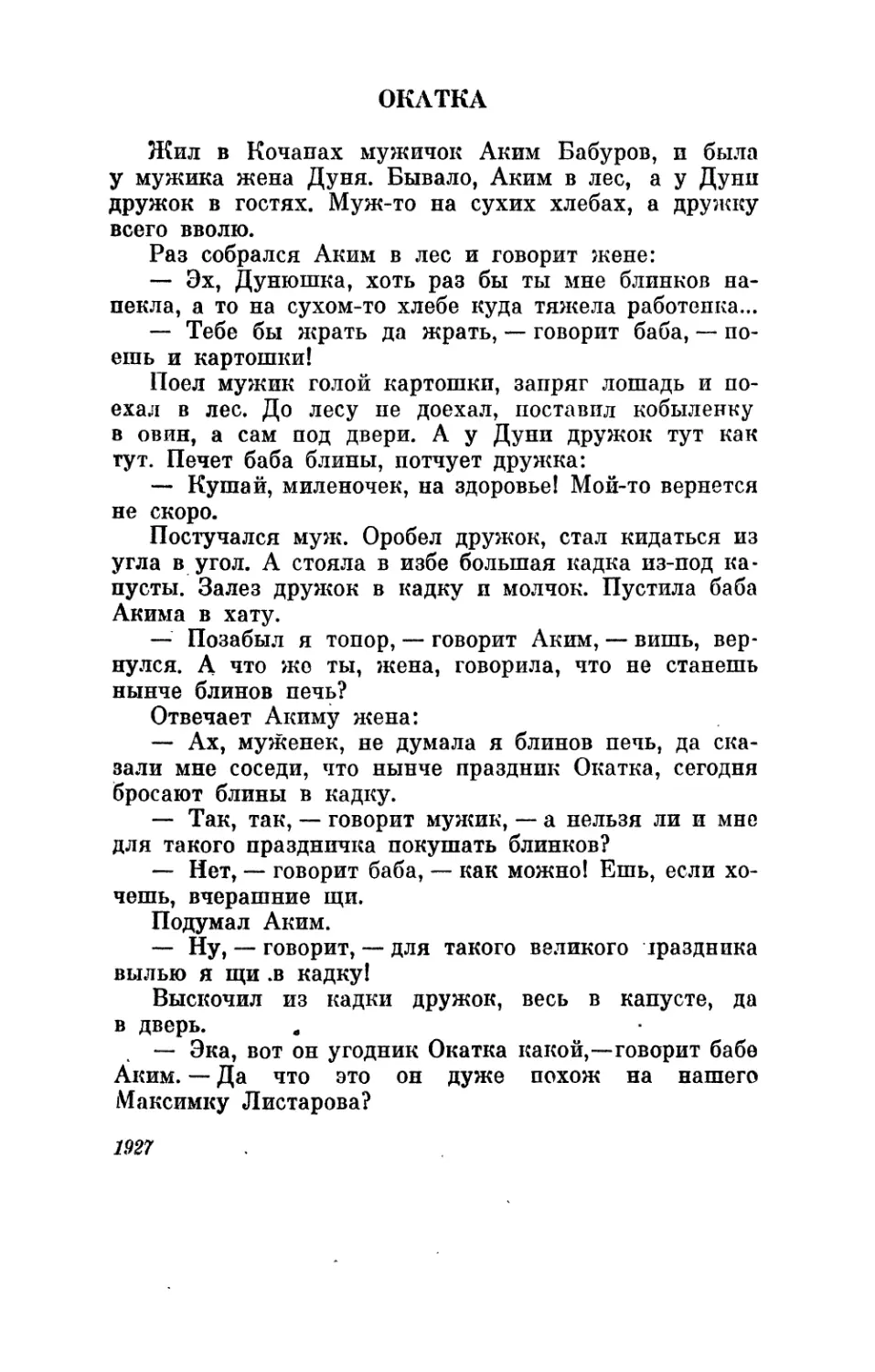Текст
И.С0Н0Л0В-Г1ИКИТ0В
избранные произведени я в двух то мах
том
1
ПОВЕСТИ
❖
РАССКАЗЫ И СКАЗКИ ❖
ш
Издательство «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» Ленинградское отделение Ленинград *1972
Оформление художника А. Г ас ни ко в а
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Несколько лет назад, после долгого перерыва, мне вновь довелось побывать на родной Смоленщине, в некогда «диких», лесных, захолустных местах, где проходило мое далекое детство, где я провел годы, когда перестраивалась и ломалась жизнь русской деревни и все несказанно изменялось.
С великим волнением смотрел я на эти милые сердцу родные, неузнаваемо изменившиеся места — на поля, леса и дороги, на знакомые деревеньки, носившие прежние имена. Я встречался с молодыми и старыми, пережившими тяжелые годы людьми, дивясь совершившимся переменам.
Следа не осталось от старого пустовавшего помещичьего, дома дворян Пенских, в зарадужелые высокие окна которого мы, деревенские ребята, заглядывали когда-то с суеверным и трепетным любопытством. Было трудно распознать место, где стояло при дороге волостное правление, хозяйничали писарь и бородатый волостной старшина; у мельничной широкой плотины на духов и троицын день бабы и девки водили хороводы, а возле «казенки» с зеленой «орленой» вывеской дрались кольями фурсовские и бурмакинские буйные мужики.
Неузнаваемо изменилась и маленькая речка с красивым и звучным именем Гор дота (как хорошо, сказочно звучат названия таких маленьких речек!), обсох,
1*
3
зарос непролазным мелким олешником мельничный старый пруд. Лишь в тихих заводях знакомой реки по-прежнему отражались летние облака, плавали белые лилии и желтые кувшинки, на круглые листья которых трепетно присаживались стрекозы.
. Я долго стоял на берегу родной реки, радуясь и печалясь, невольно вспоминая давние, навсегда отжитые времена, думая о великих свершениях и переменах. Трогательно связана моя жизнь с этой маленькой речкой, текущей в зеленых кудрявых берегах. Здесь прошло мое детство, перед глазами впервые раскрывался живой радостный мир. Здесь услышал я русскую ладную речь, слушал чудесные народные песни. И здесь же почувствовал, полюбил материнское тепло родной земли, родившей меня и вскормившей.
Пройдут времена, думаю я теперь, и поколения людей спросят у нас о пережитых и переживаемых нами величественных и трагических днях, о чудесных подвигах, свершаемых нашим народом. Первый и важнейший долг художника быть беспристрастным и верным свидетелем, живописцем свой эпохи, изобразителем неповторимого времени, когда на глазах наших изменялся мир. Писателю-художнику нужно сказать свое слово о родине нашего народа, о родной земле, — о наших полях и лесах, о больших и маленьких реках, о милой поэтической их красоте. Следует вспомнить живших на русской земле дедов и отцов наших, создавших могучий язык, на котором мы пишем и говорим, великую силу которого ныне узнал и почуял весь мир.
В судьбе, вкусах и характере человека огромное значение имеет его детство, влияние людей, среди которых воспитывался он и вырастал. Слова, которые слышали мы от своей матери, цвет увиденного над землей неба, ласковое тепло земли, березки под окном родного дома навеки остаются в памяти нашей.
Я родился и вырос в простой трудовой семье, прадеды и деды мои вековечно связаны с землею. Раннее детство прошло среди лесных просторов Смоленщины, ее милой, скромной и очень женственной природы. В те времена в смоленской деревне еще сохранялся старинный быт и уклад, и первыми сильнейшими впечатлениями были празднику гулянья, деревенские ярмарки
4
и хороводы. Первые услышанные мною слова были народные яркие слова, первые сказки — народные устные сказки, первая музыка, которую я услышал, — крестьянские песни, быть может, те самые песни, которыми был некогда вдохновлен великий русский композитор Глинка, родившийся в нашем смоленском краю.
От матери, калужской потомственной крестьянки (отец женился, будучи на службе в Калужской губернии) , я заимствовал чутье к слову, беспокойство характера, от отца — любовь к природе, лирический склад души. Поездки с отцом, прогулки в лес, рыбная ловля в пруду, каждый уголок которого мне был известен, рассказы и сказки отца оставили неизгладимое впечатление.
Вместе с мечтами о путешествиях отец пробудил во мне страсть к охоте. Под руководством отца очень рано научился я разбираться в явлениях окружавшей нас природы. Развитию наблюдательности способствовало одиночество, это же вынужденное одиночество (в семье я рос единственным ребенком) наложило печать некоторой грусти, мечтательности, почти болезненной застенчивости на мое детство, на всю жизненную судьбу, хотя мрачным, завистливым, подозрительным к людям я никогда не был, даже в самые тяжкие времена.
В числе близких людей значительное влияние имел на меня мой крестный, старший брат отца. Это был незаурядный человек, справедливо пользовавшийся уважением среди окружных крестьян. Имя Ивана Никитича Микитбва (Микитбвыми, с ударением на последнем слоге, называли нас в деревне по имени моего деда дьякона Никиты) было широко известно. К Ивану Никитичу хаживали за советами люди из дальних волостей. Он слыл знающим, честным, начитанным человеком.
Еще в молодости крестный служил в смоленском имении Погодиных (в Ельнинском уезде), куда не один раз наезжал гостить знаменитый историк М. П. Погодин. Молодой сообразительный конторщик полюбился старику Погодину, он не раз возил его в Москву. Под влиянием Погодина крестный почтительно относился к книге, а имена русских великих писателей в доме нашем были священны. Живым дыханием, казалось, дышали эти любимые имена. Почитанию писательского призвания способствовала близость к родовым гнездам прославленных людей. Для наших дедов еще современ¬
5
ником был Пушкин, недалеко от родины матери здравствовал Лев Толстой, слухи о жизни которого приходили к нам народными, а не книжными путями.
В моем ранней детстве я нахожу много общего с детством аксаковского героя, хотя уже иные были времена, другие жили люди. Но почти такая же обильная, нетронутая окружала меня природа. Я рос среди простодушных, добрых людей, сердечно радовавшихся каждому гостю, со всяким прохожим и проезжим доверчиво деливших и кров и стол.
Наивный доверчивый мир, в котором протекало мое детство — мир старой деревни, охотничьих акса- ковских угодий, яснополянской усадебной тишины, — уже не существует. Разумеется, я никогда не жалел и не вздыхал об этом утраченном мире, но, несомненно, в моих книгах еще живут слова и чувства, подслушанные в детстве, как в глазах моих живут глаза моей матери и моего отца. Этому деревенскому, усадебному миру, окружавшим меня простым людям, русской родной природе обязан я лирическим свойством моего таланта.
Уже в десять лет впервые круто сломалась моя жизнь. Из поэтических охотничьих приволий (отец в то время служил в Дорогобужском уезде, возле села Волочка, управляющим лесными имениями калужского купца Козлова, тоже охотника страстного, но грубого самодура), от дупелиных и тетеревиных редкостных токов, на которые меня водил отец, от лесной привычной тишины и домашнего спокойного уюта меня перевезли в город — в украшенный древними, годуновскимц стенами Смоленск. Меня поразили непривычный городской шум, городское движение, неведомые мне городские люди. Учение в реальном училище с первых же лет показалось мне каторгой. Должен сознаться, учение гало плохо (училище вообще отличалось сухой казенщиной), особенно в последние месяцы учебного года, когда запахи пробуждавшейся земли неудержимо тянули за Днепр, на его берега, покрывавшиеся нежной дымкой распускавшейся листвы.
Из первых лет жизни в Смоленске помню революцию пятого года, забастовки в гимназии и реальном училище, помню, как старшие реалисты и гимназисты ходили «снимать» с уроков гимназисток, жалостно пла¬
кавших и сморкавшихся в кружевные платочки. По городу и вокзалу бродили солдаты в косматых маньчжурских папахах. В городе происходили революционные демонстрации. Отчетливо помню возникшее в душе чувство восторга, слияния с людьми, когда первый раз после сходки за Днепром, в Народном доме, шел в революционной демонстрации молодежи под звуки песен, вырывавшихся из общей груди; как бы врываясь в песню, в лица наши дул ветер, трепал полотнища красных флагов. Рабочих и молодежь разгоняли нагайками казаки и выписанные губернатором черкесыг размещавшиеся на дворе полицейского управления* рядом с нашим училищем. Помню еврейские погромы* появлявшихся с Рачевки страшных погромщиков-чер- носотенцев, носивших по улицам портреты царя; пожары, происходившие в Смоленске почти ежедневно...
Краткие приезды домой, в деревню, были самым счастливым временем. Ясные дни детства, казалось, тогда возвращались. Особенно памятны зимние короткие каникулы, веселые деревенские святки: поездки в гости, шумные деревенские вечера, первая влюбленность в кокетливую русоволосую девочку Дуню, внучку дьячка. Помню знойное деревенское, лето, когда съезжалась в деревню молодежь. Помню, как приехавшие «на эпизоотию» студенты-ветеринары «совращали» полицейского урядника, под хмельную руку вместе с ними распевавшего запрещенные песни.
В эти летние и зимние наезды особенно закреплялась во мне связь с деревней, знание людей и природы, умение видеть и наблюдать. Многое узнавал и видел я, пропадая на мельнице и в волостном правлении, где всегда толклись люди, и у меня оказались друзья. Уже многое понимал я тогда, что делается и вершится в неустроенной старой деревне...
Учение шло по-прежнему туго, но иногда я выправлялся. Учился хорошо по рисованию, по естественно- историческим предметам. По-прежнему особенно туго было весною, когда начинала оживать земля. В последней — решающей — четверти неизменно оказывалось много двоек, незаконно пропущенных уроков. В училище особенно не ладил с законоучителем, классным наставником, неведомо за что меня невзлюбившим. Недобрый ученый поп, заядлый картежник, на первых порах моей жизни причинил мне много тяжелых огорчений.
7
С четвертого класса стал увлекаться театром. Однажды, пробравшись на сцену, прильнув глазом к одной из бесчисленных дырочек в полотнище декорации, был обнаружен помощником режиссера, страшным по виду человеком с львиною гривой волос и рыкающим голосом. Этот похожий на старого льва, рыкающий человек приказал завернуть меня в пыльную бурку, и с грязной папахой, надвинутой на глаза, я был вынесен на освещенную сцену. На грудь мне бросилась Загримированная актриса, а в изголовье, скрестив на груди руки, пел Демон: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно!» Лежа на сцене, понял я, что изображаю убитого князя Синодала, и, разумеется, возгордился. С тех пор я неизменно выступал статистом в различных труппах, приезжавших в Смоленск на гастроли. Увлечение театром (никакими актерскими способностями, впрочем, я не отличался) наравне с юношеской влюбчивостью наделало много бед...
Годы были мрачные. В городах и деревне уже свирепствовала реакция. Среди городской молодежи, по слухам, появились «огарки» (так назывались тогда кружки гнилой молодежи, занимавшейся развратом и пьянством). Лучшая молодежь тосковала, мучительно искала выход, подчас бессмысленно погибала. Старший товарищ наш, изгнанный «за политику» гимназист Боровиков, называвший себя анархистом-террористом, живя у сестры на окраине Смоленска, ежедневно упражнялся в стрельбе из револьвера. Лежа в кровати, он без промаха палил в деревянный потолок по сучкам- глазкам, приводя в ужас сестру. Этот смирный и добрый юноша в концерте знаменитой по тем временам певицы и красавицы Лины Кавальери, приехавшей в Смоленск на гастроли, застрелил из «веллодога» ни в чем не повинного человека, ошибочно приняв его за князя Урусова, предводителя дворянства, в имениях которого была учинена над крестьянами жестокая расправа. К гимназисту Боровикову, растерянно стоявшему с дымившимся револьвером в руке, подбежал поручик Нарвского полка Сорнев, повалил его на пол и, придерживая за волосы рукою, выпустил в спину из браунинга целую обойму. Темное пятно крови долго оставалось не смытым на дубовом паркете зала Дворянского собрания, где в пасхальные каникулы устраивались обычные студенческие вечера.
8
В тот же год однокашник мой реалист Щепилло- Полесский, странноватый задумчивый парень (кликали его просто Щепилкой), публично «бил морду» инспектору реального училища Сычу, за что был присужден окружным судом к тюремному заключению.
Из пятого класса реального училища, после многих огорчений, терпеливо пережитых родителями, я был изгнан с волчьим билетом окончательно, «по подозрению в принадлежности к ученическим революционным организациям».* Изгнанию из училища предшествовал обыск в моей комнате на Запольной улице в присутствии жандармского ротмистра и двух городовых. Как выяснилось позднее, причиною обыска был донос провокатора, служившего приказчиком в табачной лавочке, за перегородкой которой иногда мы собирались.
Изгнание из училища было вторым крупнейшим переломом, совершившимся в моей жизни.
И после этого перелома от гибели, от обычной печальной судьбы многих отчаявшихся молодых людей спасли меня природа, чуткость и любовь отца, помогшего мне в трудный час жизни сохранить веру в людей* в себя и в свои силы.
По окончательном изгнании из училища лето я провел в деревне. Много и жадно читал. С книгами под головой, накрывшись пропахшим лошадиным потом стареньким армяком, спал под открытым небом, в саду. Летние ночи были чудесны. Чудесны были и ранние пробуждения под гул пчел, пролетавших над самой моей головою.
Общаясь с людьми, я начал о многом задумываться. Остро запоминались слова, поражала талантливость простого народа, богатство, образность народного языка. С юношеской пылкостью, болезненно переживая несправедливость неравенства людей, ощущал остроту контрастов: бедности и богатства, голода и довольства. И все ближе узнавал и видел многообразную, сложную и многоликую жизнь деревни, мало известную городским людям.
В этой старой деревне уже давно разорялись помещики-дворяне, спивались дворянские сынки. Прибрав к рукам разорившихся дворян, распоясался кулак- скупщик, безжалостно вырубавший чеховские «вишневые сады», на дрова ломавший тургеневские «дворян-
ские гнезда». Даже в глухую деревню протягивал руки вромыш ленник-капитал ист: на глазах наших беспощадно истреблялись, вырубались леса. Покрякивал, качал головою, помню, отец, наблюдая, как целая армия прислужников смоленского банкира Шварца расправляется со скупленными крестьянскими и помещичьими лесами, безжалостно превращая живые прекрасные деревья в товар и баланс. Страдая от безземелья, от неустройства и чересполосицы, в поисках лучшей жизни смоленские мужики , разбегались, кидались в Сибирь — на загадочные кисельные берега. Страдавшую от нужды русскую деревню приходилось мне видеть и наблюдать ежедневно.
Прожив целый год в деревне, незадолго до смерти Льва Толстого, глубоко потрясшей русскую молодежь, я оказался в Петербурге. С этого момента начался сложный период самостоятельной жизни. Я поступил на Сельскохозяйственные курсы (ныне Ленинградский сельскохозяйственный институт), не чувствуя, впрочем, большого влечения к сельскому хозяйству, как и вообще никогда, не испытывал влечения к оседлости, собственности и домоседству. О курсах вычитал объявление в газетах. На частные курсы принимали без аттестатов и без свидетельств о политической благонадежности.
По переезде в Петербург поселился на Большой Зелениной улице, в огромном розовом доме, который студенты называли в шутку Симеоновской лаврой, по имени владельца дома. Началась сумбурная студенческая жизнь.
От тех времен вспоминаются товарищи студенты, почему-то больше вятичи и вологжане, добродушные, славные ребята, с приятным говорком на «о». Ходили в студенческую пивную на Рыбацкой улице. В этой пивной появлялись интересные люди. Здесь познакомился с известным путешественником 3. Ф. Сватошем, успевшим побывать в Центральной Африке и на полярном Шпицбергене. С увлечением слушал его рассказы .о приключениях на озере Виктория-Ньянца, об охоте на львов и носорогов (эти рассказы, несомненно, разжигали во мне страсть к путешествиям). Здесь же появлялся похожий на провинциального актера маленький бритый человечек со странной фамилией Липцо. Человечек этот уговорил меня уехать в Ревель на должность секретаря .принадлежавшей ему газетки «Ревельский листок»*
40
Работой в «Ревельском листке» началась моя «литературная деятельность». Ежедневно я писал передовицы, печатал свои рассказы, статьи и стихи. В редакции подружился с дьяконом морской Николы Мокрого церкви, приносившим в газетку городскую хронику, сообщения о городских грабежах и пожарах. Приятель дьякон, имевший связи в штабе военного флота, устроил меня в первое плавание на посыльном судне «Могучий».
Первое впечатление от моря было потрясающе. В каюте за рюмкою водки (рюмку за необъятные ее размеры моряки, помню, в шутку называли фаэтоном) собеседник мой, старший штурман, носивший многоэтажную немецкую фамилию, убеждал меня стать моряком.
— Голову кладу на отсечение, — говорил он, выкатывая глаза, разглаживая раздвоенную «скобелевскую» бородку, — из тебя выйдет моряк!..
Море покорило меня. С письмом от нового покровителя явился я в Петербург на стоявший у пристани торговый пароход «Меркурий». Меня приняли в матросские ученики. С тех пор начались морские скитания почти по всему свету.
Служил матросом на пароходах торгового флота. Плавая ежегодно, посетил многие города и страны, видел многие моря. Каждое лето мы заходили в турецкие, сирийские, греческие, африканские и европейские порты, кипевшие шумною жизнью. Пожалуй, это было самое счастливое время моей юношеской жизни, когда я сходился и знакомился с простыми людьми, а сердце мое трепетало от полноты и радости ощущения земных просторов.
События первой мировой войны застали меня далеко от родины, на берегах Эгейского моря, где я без копейки в кармане скитался по Халкидонскому полуострову, вблизи легендарного Олимпа. В Россию вернулся морским путем, когда над миром уже бушевала война.
Эта первая мировая война, потрясшая устои старого мира, стала третьим жизненным испытанием.
Прожив недолго в деревне, я ушел на фронт добровольцем, служил в санитарных отрядах, потом летал на первом русском тяжелом бомбардировщике «Илья Муромец», командиром которого был смоленский земляк Г. В. Алехнович — один из первых славных пилотов России.
Февральскую революцию встретил на фронте. В качестве депутата от фронтовых солдат приехал в рево-
11
роционный, залитый красными флагами Петроград. Здесь, в Петрограде, встретил Октябрьскую революцию, в зале Таврического дворца слушал выступление Ленина; здесь же, в редакции «Новой жизни», познакомился с А. М. Горьким и другими писателями, мастерами слова, доброжелательно отнесшимися к моим писаниям; впервые серьезно стал задумываться о том, что стало моим жизненным путем и судьбою: о труде и назначении писателя.
Революция стала четвертым и окончательным переломом в моей жизни: я стал писателем.
Как у огромного большинства людей нашего поколения, личная жизнь в годы революции была необычайной. Видеть, испытать пришлось многое.
Вернувшись на родину, я стал учителем в «единой трудовой школе». Все ломалось, все рушилось тогда в старой деревне, переживавшей нелегкие переходные времена. В Дорогобуже вышла крошечная книжечка «Йсток-город», в которой со всей пылкостью я излагал план детской коммуны, высказывал мысли, искренне меня волновавшие.
Эта маленькая книжечка могла положить начало карьеры, но, чувствуя свою неподготовленность, я отказался от педагогической работы. Вновь потянуло странствовать, снилось море. Ранней весною по приглашению приятеля и однокашника смоленского земляка Гриши Иванова в качестве уполномоченных Предпроделзапсевфронта1 мы двинулись на юг, в хлебные края, в теплушке, предоставленной в полное наше распоряжение. Трудно описать необычайное, почти фантастическое путешествие наше. Мы исколесили Украину, где на железнодорожных станциях румяные чернобровые хохлушки торговали борщом и горячими бубликами. Побывали в еще дымившемся Крыму, в Мелитополе, чудом вырвались из лап захвативших город махновцев, под Киевом попали в плен к петлюровцам, сидели в контрразведке деникинского генерала Бредова, где пьяный офицер в английской зеленой шинели, стуча наганом по столу, грозился меня расстрелять, называя «агентом Дыбенки и Коллонтай». Пробравшись в Крым, к морю, где в то время хозяйничали
1 Председатель продовольственной делегации Западного и Северного фронтов.
12
белогвардейские банды Деникина и Слащева, а на фонарных столбах на симферопольском и севастопольском базарах ветер раскачивал трупы повешенных подполь- щиков-болыпевиков, после тяжких и голодных мытарств я устроился матросом на шхуну «Дых-Тау». Вновь начались морские скитания, на первых порах омраченные тяжелой болезнью, причиной которой была перенесенная в Крыму дистрофия. Я вновь побывал во многих азиатских, африканских, европейских портах. В двадцатом году на пароходе «Омск» с грузом хлопкового семени пришли в Англию. Забастовка докеров и угольщиков надолго задержала в Гулле наш пароход, проданный с аукциона самозванными властями. В Англии прожил более года, скитаясь по морским ночлежкам и притонам доков «Вест-Индия» и «Ост-Индия».
В двадцать первом году, мучительно тоскуя о родине, перебрался в Германию, в Берлин, показавшийся тогда преддверием России. Здесь, в Берлине, переполненном русскими людьми и русскими издательствами, познакомился и близко сдружился с А. Н. Толстым, еще раз встретился с А. М. Горьким, гостил у него в Херингдорфе, на берегу Северного моря.
В Берлине вернулся к литературной работе. Летом двадцать второго года, после долгой разлуки с родиной, приехал в Россию морским путем. Задержавшись недолго в Петрограде, прибыл на жительство в родные смоленские края. Встреча со Смоленщиной, с близкими людьми, с природой была самым сильным, самым трогательным, самым памятным событием в моей жизни.
В деревне жил почти безвыездно (жизнь в деревенской глуши лишь изредка прерывалась далекими поездками). Несмотря на трудные времена, в писательской судьбе, быть может, это было самое плодотворное,, счастливое, полное впечатлениями время. Я вплотную наблюдал окружавших меня людей, много охотился, много бродил по лесным смоленским краям, видел, как на моих глазах ломается уклад старой деревни, как на смену отживающему старому миру приходит мир новый.
Почти с первых лет революции, оказавшейся для нас великим обновляющим испытанием, с некоторыми перерывами я занимаюсь литературйым трудом. Основой и радостью этого труда всегда оставалась и остается
13
любовь к людям, к родной стране, к ее природе, к живому светлому миру, частицей которого я чувствовал себя неизменно.
Темой моих первых рассказов была деревня, родная природа, которую знал с детства, морские мои путешествия. Источником словесного мастерства — народные сказки, живое народное слово, книги великих русских писателей, особенно Аксакова, Тургенева, Толстого, у которых, по мере сил и способностей, я учился писать правдиво.
Зажженная моим отцом любовь к природе никогда во мне не погасала. С охотничьим ружьем в руках много раз побывал я в самых далеких краях нашей страны. В этих путешествиях неизменно находил я верных друзей, каждое путешествие закрепляло веру в нового, советского человека, творящего чудеса на обновленной земле.
Теперь, на пороге глубокой старости, я нередко думаю о судьбе людей, вместе со мною родившихся и выросших еще в прошлые, уже далекие времена.
Судьбой нашей стала самая бурная в истории эпоха. Из глухих деревень и тихих-усадеб, из захолустных городков уездной России, еще восседавшей у гоголевских самоваров, мы были некогда переброшены в самое пекло первой мировой войны. Именно нашему поколению пришлось идти на войну лобовыми солдатами, стать участниками великих событий.
Опустошительная война началась, когда наши души и кости еще не окрепли, а первая юношеская любовь не успела отцвести. Очень немногие из нас остались живыми. Быть может, поэтому так возненавидели мы самое слово «война» — то самое слово, которым нам вновь угрождют враги человеческого счастья, наши враги.
Мне кажется, что основное назначение советского писателя — каков бы ни был его творческий путь — служить миру и счастью людей, делу освобождения созидательного труда, которое возглавляет наш народ, самоотверженно и мужественно строящий новую мирную жизнь на земле.
1950-1970
ПОВЕСТИ
ДЕТСТВО
СИВЫЙ
Я не могу определить, сон или явь это: на коленях матери я сижу у открытого окна, теплого от высокого летнего солнца. И мать, и окно, и теплота нагретого солнцем, еще не выкрашенного подоконника сливаются в один синий, звучащий, ослепительный мир. Я еще плохо различаю в этом сверкающем просторном мире отдельные черты — пыльную за окном дорогу, красные стволы сосен, высокое небо с белыми недвижными облаками. Мать, подоконник с прозрачными капельками смолы, синее небо сливаются в блаженное ощущение тепла, света и удовольствия. Я тянусь к свету, прутом изгибаюсь на руках, бью мягкими кулачками и смеюсь, смеюсь.
Смутно, точно сквозь слой воды, помнится мне дом, в котором я родился, жил первые годы моей жизни* Помню, бревенчатые свежие стены с сучками и разводами смолистых слоев, похожими на сказочных птиц и рыб; цветную картинку над дверью в позолоченной узенькой рамке «Барышня-крестьянка»; темный угол за печью, запах глины и теплого кирпича. Памятны мне окружавшие дом, шумевшие по ночам столетние сосны, отец, приходивший из леса, пахнувший смолой и ветром, как поднимает он меня большими, сильными руками, борода и усы его колются и холодят.
— Сивый, — говорит он, подбрасывая меня под подтолок и смеясь, — смотри, Сивый Заяц, Москву!.,
Кроме матери, отца, кроме бревенчатых сосновых стен и пушкинской «барышни-крестьянки» в красном платочке, запомнил я широкую, смутно белевшую в берегах реку, v большой, со шлепающим по воде длинным канатом, городской перевоз, губернский город Калугу, лесника Герасима, ходившего с отцом на охоту, как однажды водили меня в городской сад показывать фейерверк и как я кричал, вырывался из рук, испугавшись стрелявших, дождем рассыпавшихся в звездном небе разноцветных огней.
А всего ярче запомнился мне от тех уходящих в зыбкий туман времен тогдашний мой друг и приятель, впервые поразивший мне сердце привязанностью и любовью, обозный солдат Серега. Вижу: высокое, обшитое новым тесом крыльцо с облитыми солнечным светом ступеньками на дорогу. Я на крыльце строю из ореховых палок-бирюлек игрушечный колодец. Длинные косые тени деревьев тянутся к дому. На белой, крепко укатанной, со слежавшейся пылью дороге показываются идущие из лагерей солдаты. Солдаты проходят близко, пыля сапогами, сморкаясь, вытирая рукавами парусиновых рубах катящийся по загорелым, запыленным лицам пот. Сзади едут зеленые повозки на высоких колесах, погромыхивает кухня с железной трубой. Я бросаю свои игрушки и с бьющимся от волнения сердцем жду. Вот с последней повозки, стукнув о землю тяжелыми сапогами, ловко соскочил молодой солдат, придерживая на боку обшитую сукном манерку, он подбегает, садится на корточки и подает гостинец — глиняную раскрашенную . игрушку, — сви- стульку-петушка.
— Ай да петух! — говорит он, сидя на корточках, выказывая сплошные белые зубы, в солдатской набекрень бескозырке и парусиновой, пузырем ставшей на спине рубахе. — Этот петух всем петухам петух, по- слухай, как выговаривает...
И, двигая всем своим смеющимся потным лицом, перебирая пальцами, начинает дуть в свистульку-пе- тушка. Я стою очарованный, онемевший от восторга и любви к этому веселому, теплому, зубастому человеку. Чтобы ответить ему, я бегу хлопотливо, спотыкаясь обутыми в желтые башмачки ногами, в комнату, где. накрыт стол, тащу за конец скатерти, со скатерти падают, на пол сахарница, хлеб, варенье. Я забираю все
18
вто и несу ожидающему меня, весело смеющемуся сердечному другу Сереге.
Памятен мне другой мой приятель, пастушок Пронька, ходивший за хозяйским стадом. Вот мы сидим на полу, катаем большой резиновый мячик, что привез усатый дядя, приехавший из города в лес на охоту. Дядя сидит за столом, пьет чай и курит. На нем высокие болотные сапоги с ремешками и пряжками, в зубах мундштук с резной собачьей головою.
— Ну-с, — говорит он, поворачиваясь на стуле и выпуская из усов сизый дым, — скажи, Сивый, кем ты будешь, когда вырастешь большой?
Дым вылетает великолепными кольцами. Кольца под потолком вытягиваются, колышутся, висят синими лентами. Я вижу, как улыбается мать и подает дяде наполненный чаем стакан, как, отражаясь в зеркало самовара, волосатой рукою через стол берет из рук матери этот стакан дядя. Вижу тонкую руку матери, привычно трогающую начищенную шишечку крана.
— Буду генералом, потом офицером, потом солдатом, — уверенно говорю усатому городскому дяде, — потом Пронькой-пастухом!
Дядя смеется, пускает дым и звенит ложечкой. От сапог его приятно пахнет дегтем. Пятнистая собака, помахивая хвостом, подходит к нему, ласково кладет голову на колено.
В этих отдаленных воспоминаниях я не могу отличить яви от сновидений. Многое, быть может, снилось, и я запомнил это как пережитую явь. Многое, бывшее наяву, стало как давно виденный и забытый сон. Не знаю, была ли наяву или снилась мне такая страшная картина: пожар, вижу языки пламени, перемешанного с черным дымом, столбы брызжущих в нависшее тем'* ное небо искр, освещенные пожаром, низко согнувшиеся над землею деревья. Какой-то мужик в посконной, распояской, рубахе 'завязывает высокий, накрытый рогожею воз. Мужик сопит, упирается, изо всех сил тащит затягивающую воз веревку. Я вижу, как рвется веревка, как падает в огонь мужик, вижу его страшное, заросшее бородою, освещенное пожаром лицо, и от охватившего меня ужаса кричу, кричу...
Я не знаю, сои ли страшное это видение — мужик, затягивающий веревку, — или действительное происшествие при переезде из Осеков в Кислово, когда
19
горела хозяйская баня и завязывались высокие, накрытые рогожами возы.
Знаю другое. Я смотрю на сохранившуюся, уже пожелтевшую фотографию, где на березовом бутафорском пне сидит, подобрав в башмачках ноги, одетый девочкой мальчик. Глаза его печальны. Что, какая черта отделяет меня — нынешнего — от мальчика с перекрещенными пальчиками маленьких рук? Я не нахожу такой черты. Но знаю, что будет жить во мне, в каждом моем слове, до последних моих дней мальчик Ваня с печальными глазами, некогда смешно го- воривший:
— Буду генералом, потом офицером, потом солда- том, потом Пронькой-пастухом!..
ОСЕКИ
Отец мой, когда я родился, служил приказчиком по лесному делу у богатых московских купцов Коншиных, владевших известной Серпуховской мануфактурой. Жили мы в осековской лесной конторе, под Калугой. Я почти ничего не запомнил от тех туманнодалеких для меня времен. Знаю, что родился я и жили мы в новом хозяйском доме, окруженном со всех сторон вековым бором, что над самой крышей конторы ночью и днем шумели высокие сосны; шума этих сосен, длинных зимних ночей, когда долго не возвращался отец, боялась и нередко плакала мать. Как сквозь сон помню нашу спальную комнату, освещенную скудным светом лампадки, с глубокими по углам тенями, с запахом жарко натопленной русской лежанки. На полу, освещенная мерцающим светом, в синей тени стоит на коленях мать. Я вижу ее спину, распущенные по плечам черные волосы. С нестерпимою силою охватывают меня жалость и любовь к ней, я силюсь удержаться, зарываюсь в подушку и тихонько, мучительно плачу. Мать подходит, останавливается надо мною, тревожно касается моей головы рукой, я целую, обливаю слезами ее ласковую руку. Потом, притворившись спящим, долго лежу, смотрю на тоненький мигающий огонек. Я закрываю глаза, и от огонька к ресницам в темноте бегут и бегут, дрожат золотые стрелы-лучи*
20
В те времена купеческой славой еще гремела Калуга. Мне памятны слышанные в детстве рассказы о кутежах, закатываемых калужскими лесопромыш- ленниками-куицами по окончании удачного сплава, о смоленских серых мужиках-плотогонах, которых городские жители презрительно называли «польгаями» в знак былой близости Смоленщины к Польше, в весенние месяцы наполнявших город шумной, бесцеремонно толкавшейся по улицам толпою, бестолково забредавших в лавки и магазины. Помню смешной рассказ, как какой-то калужский купец-самодур, зарядив ружье клюквой, выстрелил в мужика, усевшегося под Купцовым забором «до ветру», и как, увидевши на голом заду «кровь», завопил благим матом тот смоленский мужик на всю Никитскую улицу:
— Караул, братцы, ратуйте! Наших, смоленских убивают!..
Удивительными кажутся мне эти, теперь уже далекие, времена, когда с такой легкостью наживались купеческие миллионы на спинах доверчивых мужиков; сказочными показываются и самые смоленские мужики, за полторы красных (то есть всего за пятнадцать целковых, получаемых от Хозяйских приказчиков после сплава леса) всю весну по уши купавшиеся в ледяной воде, своими горбами умножавшие купеческие капиталы. Сколько издевательских рассказов, злых анекдотов ходило тогда среди калужских мещан, высмеивавших корявых, до самых глаз заросших дремучими бородами, по-медвежьи ступавших смоленских сиволапых «польгаев»; какие придумывали им едчай- шие клички! А бывало, загулявший чиновник казенной палаты, выходя из трактирной бильярдной, остановив посреди улицы мужика-плотогона, уперев руки в бока, начальнически сверкая золотыми орлеными пуговицами, начинал грозно вычитывать ломавшему шапку сиволапому мужику:
— Гляди, кто перед тобой стоит! Что глазами, как баран, хлопаешь? Помнить обязан: ты есть тварь, ничтожество!.. Кланяйся, сучий сын, в землю!..
Много наслышался я о самих Коншиных, хозяевах моего отца, о многомиллионном богатстве, огромном размахе коншинского дела, — о деде миллионера Кок- шина, простом синелыцике-мужике, некогда набивавшем синие узоры на бабьих холстах, а потом сказочно
21
разбогатевшем. (Рассказывали, что в кои-то веки дед Коншина — смекалистая голова! — приобрел караван верблюдов и через пустыню погнал на восток дешевые цветастые ситцы; на этих дешевых ситцах были нажиты коншинские миллионы.) Помню разговоры о любовницах старого Коншина, о его незаконнорожденных детях, которых рассылали по многочисленным кон- шинским имениям и конторам Наслышался и о трагической судьбе семьи богачей Коншиных, владевших фабриками и заводами, о сыновьях Коншина, получавших образование за границей, о младшем его сыне —« яром толстовце, отказавшемся от наследства, ходившем в мужицких лаптях; о судьбе другого сына, построившего дворец на берегу Оки, увлекшегося модным в те времена спиритизмом, «по велению тусторон- них сил» застрелившегося на глазах своей жены, красавицы американки, которая после смерти мужа приняла православие и построила вблизи Калуги новый женский монастырь...
На глазах людей вырождалась семья миллионеров Коншиных, отходили от дела, один за другим погибали и стрелялись его образованные сыновья, но все еще силен был сам старик Коншин, крепко держали хозяйские руки руль огромного корабля. В Серпухове действовала мануфактурная фабрика, процветали знаменитые коншинские заводы; в верховьях рек Оки и Угры у прогоревших дворян, покидавших родовые гнезда, коншинские приказчики за бесценок скупали лесные имения. Фабриканта Коншина не интересовали запущенные помещичьи земли, запустелая дворянская старина. Скупавшиеся у помещиков леса рубили напропалую, превращали в ходкий товар: дрова, бревна и доски. На дешевом труде голодных смоленских му- жиков-плотогонов вырастали коншинские фабрики и заводы, разворачивалось и росло многомиллионное дело...
Своих московских хозяев отец видывал редко. Раз или два в зиму являлся он в Москву к старику Кон¬
1 Один из таких незаконнорожденных сыновей миллионера Коншина, известный в свое время поэт Н. Н. Николаев, воспитывался некогда в смоленском имении Коншина под наблюдением старшего брата моего отца, до самой смерти сохранявшего добрую память о рано погибшем, спившемся поэте.
22
шину, владельцу калужских Осеков. По рассказам отца, был умен, пронзительно зорок сам старый Коншин. «Отчетов не требовал, бумажных дел и донесений не терпел, — рассказывал, помню, отец. — Посмотрит в глаза — человека видит насквозь...» Чем-то недоступным, всесильным, как языческое грозное божество, казался нам отцовский могущественный хозяин.
В калужские Осеки, образцовое лесное имение Коншина, наезжали изредка ученые люди. Не раз приезжал, жил у отца известный по тем временам ученый лесовод Турский. Жил Турский у нас в конторе, запросто спал на полу, подчас не снимая болотных сапог, рубаху не менял неделями. Отец водил знаменитого ученого по хозяйскому нетронутому лесу, вместе сиживали они на живописных лесных полянах, любуясь величественными соснами, источавшими смолистый аромат, слушали бесчисленные голоса птиц. Покуривая мужицкую махорку, знаменитый ученый рассказывал отцу о жизни леса, о природных богатствах родной страны.
— Все-то, бывало, по лесу ходит, в клеенчатую книжечку пишет, рассказывал о профессоре Турском отец. — Остановится над лесным ручьем, бросит в воду бумажку и на часы смотрит. Или начнет деревья считать. Раз понадобилось вымерить лесную делянку, подсчитать, сколько выйдет строевого леса и дров. Вот он ходит, деревья считает, в книжечку пишет. Дай, думаю, скажу. «Так и так, говорю, Митрофан Кузьмич, считаете вы долго; позвольте, я на глаз сосчитаю.../) Прикинул я глазом делянку, шагами обмерил, еще раз прикинул. «Столько-то, говорю, выйдет строевой сосны, столько дровянки-березы». Потом оказалось точь- в-точь, а Турский меня благодарил и очень удивлялся. «Этакий, говорит, у тебя, братец, верный глаз!» А я ему шутя отвечаю: «Походите, Митрофан Кузьмич, с мое по лесу, и вы научитесь так считать!» (Много раз впоследствии приходилось мне удивляться опыту отца, его поразительному умению на глаз определить количество и высоту деревьев, число вершков в отрубе: посмотрит, бывало, как на весы положит.)
Кроме профессора Турского, с которым дружил отец, запросто спавшего на полу в болотных сапогах, наезжала в Осеки на охоту и важная калужская знать*
23
Прикатывал на паре орловских крапчатых рысаков калужский полицеймейстер Трояновский с лихо закрученными усами, наезжал сам губернатор, князь Голицын. Этому важному сановнику устроил я, говорили, маленькую пакость. Тогда было мне от роду месяца три. Отец вынес меня показать калужскому важному начальству. Чадолюбивый сановник взял меня на руки, причмокивая губами, стал бережно тотош- кать, и — видимо, по свойственному мне природному неуважению ко всяческому важному начальству — от верху до низу я испортил новенький губернаторский костюм.
Помню разговоры о том, как однажды приезжал охотиться под Калугою сам великий князь Николай Николаевич, прославившийся громкими кутежами. Долго рассказывали о том, как великокняжеские егеря ловили по деревням красивых девок и молодух, как жарили княжеские повара куриные котлетки для любимых кобелей, о том, как калужские губернские дамы, встречая великого князя, проехавшего верхом незаметно, по ошибке поднесли букет великокняжескому повару, ехавшему в великокняжеском экипаже...
Слабые воспоминания о тех давно минувших временах раннего моего детства поддерживают немногие оставшиеся после отца письма и старые бумаги. Говорится в них о вершках и бревнах, о хозяйских рублях и копейках, о том, как под тяжестью коншинских миллионов трещали привычные шеи смоленских голодных мужиков.
МАТЬ
В самых отдаленных, теперь уже почти стершихся в моей памяти впечатлениях детства смутно представляю мать. Я чувствовал теплоту груди, прикосновения нежных рук, слышал ее ласковый голос. С ощущением света, звуков и тепла сливались мои первые воспоминания. Еще неотделим я был от матери, от бережных ее рук, в начальные дни моего существования. Мать наполняла тогда весь окружавший меня мир с его светом, теплом, разнообразием звуков.
По словам самой матери, я родился в солнечный день. Если верить приметам, жизнь моя должна быть счастливой. В день моего появления на свет было без^
24
облачно небо, весеннее пение птиц шумно врывалось в открытые окна просторного хозяйского дома.
Человеческую жизнь можно сравнить с ручейком, берущим начало свое в недрах земли. Ручейки эти, сливаясь, образуют величественные реки общей человеческой жизни, замутненные потоками сточной воды. Из светлого родника материнской и отцовской любви вытекал искрящийся ручеек моей жизни.
Много долгих и не всегда безоблачных дней протекло с тех пор, когда услышал я первые звуки родной земли, увидел сверкающий солнечный свет. И я обращаю взор к далеким истокам моей жизни, к светлым родникам окружавшей меня любви.
Где родилась, как воспитывалась и росла, из каких глубин жизни народной пришла моя мать, наделившая меня страстной любовью к светлому миру, женственной природой своей души?
Нелегко было детство матери в суровом дедовском доме. Строг и суров был ее отец — мой дед, круты, а подчас и жестоки нравы. С малых лет втянулась она в простую работу, училась прясть и ткать (вытканные, вышитые ее руками тонкие скатерти и полотенца и теперь у меня хранятся; немногие женщины умели так тонко ткать и вышивать!).
С детства привыкла мать рано вставать и поздно ложиться. «Бывало, еще до. света накинешь шубейку на одно плечо, да так и носишься весь день по хозяйству, — рассказывала о своей молодости мать. — То в поле, то в хлев, то в амбар. Мечтать, сидеть сложа руки было некогда...» ■ ,
Среди лугов и полей, в привольных просторах калужской земли проходили детство и девичество матери. До конца своих дней удивляла она собеседников богатством народных слов, знанием пословиц и поговорок, неутомимостью и проворством в труде.
По рассказам матери, почти до совершеннолетия сохраняла она привязанность к любимым детским забавам. На русской печи, в заветном уголке, хранились любимые ее игрушки. С этими детскими игрушками произошло смешное приключение. Однажды приехал сватать ее городской жених из Калуги. Деду не хотелось выдавать любимую младшую дочь, да и молода еще была невеста, не понравился деду расфранченный, надушенный завитой жених. О приезде сватов шед-
нули матери ее подружки. Очень захотелось посмотреть на жениха. Невеста взобралась на печь, стала тихонько подглядывать, нечаянно столкнула свои старательно спрятанные игрушки. К ногам нарядного жениха с печи посыпались тряпичные куклы в ситцевых сарафанчиках и платочках.
Ухмыльнулся, погладил бороду дед.
— Вот она, невеста, — подмигивая, сказал дед удивленному жениху. — Сам теперь видишь: в куклы играет! А ты ее сватать собрался. Видно, придется тебе, дружок, повременить...
Уже подрастая, от окружающих меня близких людей я узнал, как поженились мои мать и отец, как сошлись, неразрывно сомкнулись в один путь их жизненные пути.
О своем сватовстве, добродушно посмеиваясь, рассказывал, помню, отец. Служил он в те времена у богача Коншина под Калугой. Приятели нахваливали невесту, хвалили зажиточный дедов дом. «Строговат, богомолен старик, — говорили отцу сваты, — копеечку бережет крепко. А дочь у него все хозяйство ведет: не белоручка, не привередница, мужу на шею не сядет...»
В те времена сватовство было дело обычное. Без родительского благословения дочери не выходили замуж, не женились даже взрослые сыновья. Соблюдая обычай, отец отправился со сватами смотреть невесту. Строгий дед любезно принял гостей. Отец ему полюбился, понравилась степенность отца, надежной казалась отцовская служба. Не пришлось по душе только то, что слишком небрежно, неумело перекрестился на иконы отец (несмотря на предупреждения сватов, отец не мог притворяться перед будущим тестем слишком почтительным и богомольным). «Крестится, словно мух отгоняет!» — подумал, хмуря брови, дед.
Ничего не подозревавшая невеста хлопотала на дворе по хозяйству. Усадив гостей, дед приказал прислать со двора дочь. Она явилась в чем была — в нагольном полушубке, в головном вязаном платке. И платок и полушубок очень шли к ее разрумянившемуся на морозе лицу.
— Ну-ка, Машенька, — любуясь дочерью, ласково сказал дед, — сбегай, голубушка, в амбар, зачерпни совочек овса. Вишь, купцы к нам из Калуги пожаловали, овес покупают...
26
Не взглянув на приезжих (на двор к деду нередко заглядывали и настоящие купцы), мать принесла овес, остановилась перед гостями — в руках совок с золотым зерном.
— Подхожу к гостям, — вспоминая прошлое, с улыбкой рассказывала она об этой первой встрече с моим отцом. — Вижу, гости дорогие не на овес смотрят, а больше разглядывают меня. Догадалась, каковские купцы пожаловали, какой им нужен товар. Повернулась да на двор...
Отец сватался уже немолодым, к матери заглядывали и другие женихи, помоложе. Сватался начальник станции, наведывался купеческий сынок из Калуги. Суровый дед на сей раз не стеснял дочь. «Не мне с твоим мужем жить, — говорил он дочери-невесте. — Жениха выбирай сама, который по сердцу...»
По обычаю, мать поехала в ближайший монастырь, в Оптину пустынь, к знаменитому по тем временам старцу Амвросию. Опытный в житейских делах старец обстоятельно расспросил мать о ее трех женихах. Простой дал совет:
— Выбирай, Машенька, жениха, чтобы был не вертопрах. Благословляю тебя выходить за Сергея, за того лесовика. Не горюй, что годами постарше тебя; слюбитесь, обживетесь, будете счастливо жить...
Оптинский старец не ошибся, предсказывая матери счастливую судьбу. До самой смерти ладно жили мать и отец, тень раздоров и пустых неполадок редко накрывала их семейный счастливый очаг.
Ровно через год после свадьбы родился в Осеках я. Мучительно досталось матери мое появление на свет. Роды были трудные, затяжные, мать тяжко болела после родов. От тех дней сохранилась у меня ее фотография: я смотрю на родное лицо, еще овеянное дыханием болезни, на материнские нежные руки, некогда державшие меня у груди.
Мучительные роды и перенесенные страдания еще болезненнее, страстнее сделали любовь ко мне. Всю силу сердца вложила мать в единственного своего ребенка,' и подчас — уже подрастая — я испытывал гнет ее ревнивой любви. Болезненная любовь матери наложила печать на мое раннее детство. Уж слишком требовательна, ревнива была эта самозабвенная2 подчас мучительная любовь.
27
ПЕРЕЕЗД
В коншинских Осеках под Калугой мы прожили три года. Потом из Смоленской губернии приехал старший брат моего отца, тоже служивший у Коншиных, и уговорил отца перебраться на родину. Отцу не хотелось уезжать из Осеков, но доводы брата о необходимости иметь собственный угол казались убедительными; кроме того, пошли неприятности в службе (отцу не по душе были хозяйские требования пожестче обращаться с мужиками). Отец беспрекословно отдал старшему брату скопленные на службе деньги, и наш переезд был решен.
Больше всех от предстоящего переезда страдала мать. Не нравилось ей название смоленской усадьбы, и сиволапые смоленские мужики, которых она боялась, и отдаленность от родных мест, где пролетела девичья короткая юность. Покню очень смутно, как на осеков- ском просторном дворе увязывались высокие, укрытые новыми рогожами возы, как шумели, переругивались возле увязанных возов подгулявшие возчики, гнулись и шумели под ветром высокие сосны. Далекое Кислово (так называлась купленная братом отца усадьба) почему-то представлялось мне пустырем, новый дом казался пустым и огромным, с высокими раскрытыми окнами и серым, глядевшим в них дождливым небом. Не нравилось матери и название смоленской деревни. Сама долгая дорога вспоминается смутно. Помню пыльный большак с плакучими древними березами (эти русские большаки, неизменной чертою входившие в родной пейзаж, неизгладимое впечатление оставили в памяти детства). Ехали мы на лошадях, по-старинному: с остановками в деревнях, с ночевками в дорожных трактирах, где для нас грели самовары, а на застеленном скатертью столе мать раскладывала дорожную провизию; паром, на который отец осторожно вводил испуганно фыркающих лошадей; дочерна загорелых бородатых перевозчиков, привычными движениями перехватывавших перетянутый с берега на берег мокрый канат. В дороге произошло со мною печальное приключение. Где-то у берега реки я закапризничал, упорно стал проситься на козлы к отцу, правившему лошадьми,. Меня уговаривали долго, потом, видя мое упорство,' отец остановил лошадей и, чтобы меня постращать, со¬
28
рвал высокую травинку, погрозил высечь. Мне ничуть не было больно, но непереносимой показалась первая в моей жизни обида (и впоследствии болезненно чуток я был к несправедливости и обидам). Я вырвался из рук отца, побежал к берегу реки. Я бежал, раздвигая высокую, закрывавшую меня с головой траву, душистые полевые цветы, захлебывался слезами. Отец догнал меня; смеясь, ласково целуя, уступив моему упрямству, посадил рядом на козлы, и мы поехали дальше. Надолго осталась во мне горечь первой и, казалось мне, невыносимой обиды, которую нанес мне отец, никогда не наказывавший меня и ни в чем никогда не упрекавший.
Помню застигнувшую нас в дороге грозу. Я сидел с матерью в деревенском овине под соломенной крышей. В открытых, мутных от проливного дождя воротах голубыми зигзагами полыхала молния. Торопливо крестилась мать, крепко прижимая меня к груди. Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким раскатам грома, к грозному, раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному шуршанию мышей в овсяной соломе, на которой мы сидели. Когда мы поднялись, в воротах еще висела алмазная сетка дождя, а сквозь прозрачные падающие капли уже сияло, переливалось лучами летнее радостное солнце. Отец запрягал запутавшихся в постромках, лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и беспокойно переступавших ногами. Еще веселее показалась обсаженная березами, омытая дождем дорога; мутные потоки стремились по склонам; многоцветная радуга висела над лугом, яркое солнце блестело на спинах игравших селезенками, бодро бежавших лошадей. Я сидел рядом с отцом на козлах, глядел на блестевшую лужами, извивавшуюся впереди дорогу, на уходившую темную, освещенную солнцем и все еще грозную тучу, на столб белого дыма, подымавшегося вдалеке над зажженным грозою сараем, слушал веселые голоса птиц в открывавшемся мне умытом, чудесном солнечном мире.
В смоленском Кислове, небольшой и уютной усадьбе, еще не был достроен наш дом, и мы временно поселились в сельской школе. Помню приютившего нас учителя-старичка, его подстриженную клинышком бородку, рассыпанные по полу складные картонные буквы, исписанную мелом черную школьную доску.
29
Учитель с седой бородой, рассыпанные буквы, черная школьная доска, особенный школьный запах — было первое мое впечатление от Кислова. Дом, где нам предстояло жить, еще не был выделан, в нем вместо пола лежали кучи сосновых стружек и щеп, по бревенчатым стенам лазили плотники в посконных серых руба- хахГ Невысокий, курчавый, со стружками в черных густых волосах, похожий на цыгана артельщик Петр, свесивши ноги, сидел на бревне и, встряхивая волосами, ходко рубил угол. Белые щепки взлетали фонтаном, падали на землю. Завидевши нас, Петр втыкал топор, приветливо здоровался и, сидя в расстегнутой на волосатой груди, пропотевшей в подмышках рубахе, доставал из кармана сшитый из ситцевых лоскутков кисет. Я смотрел на него, на его лицо с черной цыганской бородою, на его мозолистые руки, словно высекавшие из кремня огонь, и опять он, его руки, смолистые стены недостроенного дома, простор окружавших нас полей и синее летнее небо с пушистыми облаками сливались в ощущение близкого, просторного, меня наполнявшего мира.
Было приятно смотреть на добродушно шутивших со мною плотников, на их спорую работу, наблюдать, как под их умелыми, сильными руками растут розовато-белые стены дома, поднимается сквозная решетка новых стропил. Весело было катать по дороге отрезанные от бревен смолистые пахучие кругляки. А еще веселее, приятнее было ходить на заросшую ивняком и олешником речку, где в тихих затонах на зеркальной воде плавали желтые и белые кувшинки, сквозь слой прозрачной волны сквозило освещенное солнцем, заросшее зелеными водорослями речное дно. И особенно запомнилось от тех далеких, уже почти непостижимых времен, как тосковавшая по своей родине мать водила меня на берег под Семь Дубков. (Эти семь кудрявых, зеленых, тесно обнявшихся на берегу братьев- дубков накрепко вошли в отдаленнейшие воспоминания моего детства.) Мы сидели на берегу, над рекою, на высоких рядах скошенной мокрой, пахучей травы, смотрели на реку, на противоположный берег с волнами сизой, дымившейся ржи, на высокие, плывшие по небу облака. Мать гребнем чесала распущенные волосы и вдруг, засмотревшись, уронила руку. Очнувшись, она положила мою голову себе в колени, и в моих волосах
90
быстро побежали ее пальцы. Мне на лицо падали ее слезы, я чувствовал движение ее пальцев, -умирал от жалости и любви к ней. Потом, поднявшись и улыбаясь, она достала из узелка яблоко и, разломив его, дала мне половинку. Не знаю почему — тот летний день, мать, ее поразившие меня до глубины души слезы, дубки, разломанное яблоко остались мне памятны навсегда.
САД
Начало кисловской нашей жизни совсем выветрилось из моей памяти. Помню позднейшее, когда тверже и быстрее стали ноги, окрепли руки, иным, многообразным стал показываться окружавший меня зеленый н солнечный мир.
Отрывочное осталось в моей памяти от тех времен.
Вот люди сажают сад. Выкопаны круглые ямы., чернеет привезенная с огородов навозная земля. В саду работают мужики с лопатами, в посконных рубахах распояской. Они ходко всаживают в землю лопаты с железными, до яркого блеска натертыми наконечниками, выкидывают куски сырой, красной, маслянисто лоснящейся глины. Посреди сада горит сухая поваленная елка. От елки по земле тянется белесый дым. Мне очень хочется пробежать сквозь полосу молочно-белого, стелющегося по траве дыма. Я крепко зажмуриваю глаза, перестаю дышать и пробегаю раз, другой. Теплый едкий дым окутывает меня, лезет в ноздри, в глаза, горячая искра стреляет в самое ухо, и, схватившись за ухо, я креплюсь и бегу через сад.
На краю сада, под молодыми, редкими, ярко белеющими березками горит невидимый в дневном свете огонек. У огня, побросав лопаты, отдыхают и курят мужики. Крестный Иван Никитич, в картузе, в синей ситцевой рубахе, сидит на корточках над огнем, печет картошку. В его руках обожженная, изогнутая кочережкою палка. Морщась от наносимого ветерком дыма, пошевеливает он в золе дымящейся кочережкой, выкатывает из огня черные, обуглившиеся картошки.
— Попробуй, Сивый, нашего гостинцу, —■ говорит он, улыбаясь, с руки на руки перекатывая и протягивая мне горячую картошку.
31
Обжигаясь, дуя на пальцы, я разламываю и ем. Ах, какой чудесной показывается эта, без соли и хлеба, горячая, дымящаяся, пахучая картошка!
В обед, воткнувши в землю лопаты, мужики идут ловить рыбу. Они не торопясь снимают развешанный на изгороди залубеневший,' спутанный засохшими водорослями невод. Скатавши, они несут его на плечах* мерно покачиваясь, на берег, где на зеркально гладкой воде, на неподвижных лакированных листьях кувшинок ярко горит и переливается солнце.
Навязавши веревки и приготовив невод, мужики лезут в воду. Передом идет деревенский заядлый рыболов, длинный и кривой Артюшонок. Перекрестившись, ступает он в воду в рубахе и портках и, поднявши над головой руки, надуваясь, бредет глубже и глубже. Рубаха за 'спиною его надувается пузырем, сцепившиеся стрекозы садятся на его выгоревший, торчком стоящий над водою картуз. Вот он ныряет на глубоком и, взявши в зубы веревку, с надувшейся горбом рубахой, неловко плывет. За ним плывут, колотя по воде ногами, зубастый Васька и рыжий, веснушчатый Окунек.
Невод точно сам собою сползает за ними в воду, прижимая траву и волоча мокрый песок. Мокрые поплавки ныряют и вновь показываются над водою. Тащат молчком, изредка переругиваясь. Давно известны каждая Зацепина на дне пруда, всякий подводный камень. А все же за что-то неведомое зацепляется невод, и длинный, худой Артюшонок, бросив веревку, боком, отдуваясь, плывет к месту, где над водою кипят пузыри. Страшно тряся бородою, отфыркиваясь, выкатывая глаза, ныряет он под воду.
— Пошел! Пошел! — кричат с берега мужики.
Невод трогается, и, завязая в илистом дне, с кисетами в картузах (чтобы не подмочить табак), мужики волокут его к берегу. Мелкая рыбешка дождем перепрыгивает через поплавки. В мутной воде видно, как ткнулась в надувшуюся под водою сеть и скрылась большая золотистая рыба.
Мужики тащат, шлепая по воде, пятясь, выволакивают на берег мокрые, обвешанные водорослями «клячи». С обвислых порток ручьями льется вода. Артюшонок, весь облепленный тиной, стоя на четвереньках, руками «сшивает» под водою нижнюю тетиву. Тол¬
32
стая спина и золотой бок огромного леща показываются в грязной воде.
— Есть, есть рыбка! — веселые кричат голоса.
Вместе с Артюшонком, пятящимся по-рачьи, выходит из воды тяжелая, наполненная рыбой мотня. В ней
бьется, переливается что-то скользкое, серебряное и живое. Мужики, побросав крылья, шаркая облипшими на теле портками, подбегают, хватаются за шнуры. .
— Есть, есть рыба! — кричат они, выворачивая на берег наполненную лещами мотню.
— Лещи, братцы!..
— Пудов пятнадцать!..
— Черти, дьяволы, невод порвете! — надрывая голос, кричит в азарте, хватаясь за голову, роняя трубку в осоку, командующий рыбною ловлей Иван Никитич.
Мужики и прибежавшие из деревни белоголовые ребята окружают на берегу невод. Тяжелых, с черными спинами, открывающих жабры золотистых лещей начинают выбрасывать на берег в траву. Они шлепаются тяжело, бьются в мокрой траве и, поблескивая широкими боками, высоко подскакивают из густой зеленой травы.
Еще долго вытрясают мужики невод, отбрасывая в реку негодную мелочь. Потом, сложив невод, вынув из картузов кисеты, приступают к дележке. Рыбу раскладывают в кучки. Мокрый, как водяная крыса, Артюшонок, дрожа от холода и улыбаясь, посиневшими пальцами свертывает, слюнит, закуривает цигарку.
— Это ты, черт косой, наколдовал! — говорит ему Иван Никитич, больше всех радуясь удаче.
ЛЕТО
Разбуженный громкими веселыми голосами, я открываю глаза. Вижу спинку кровати, окно, в которое бьет утреннее горячее солнце. Сон еще одолевает меня, я весь в сонном, зыбком и призрачном мире, который мне жалко покинуть. Я закрываю глаза, зарываюсь в подушки, стараюсь заснуть. Но громче слышатся голоса, все дальше уплывает, неуловимее становится покинутый мною ночной призрачный мир.
Я опять открываю глаза и вижу отца. Он стоит надо mhok)j огромный и бодрый, ласково щекочет меня
2 И. Соколов-Микитов, т, 1 33
большой загорелой рукой. Я беру и целую его пахнущую душистым сеном руку.
— Вставай, вставай, Сивый!
И просыпаюсь совсем. Чувство радости жизни, яркого летнего утра полно охватывает меня. Я одеваюсь торопливо и, стуча бурыми от загара ногами, выбегаю на волю.
Солнце высоко. Под зеленой развесистой березой лежит седая роса. В тени по-утреннему прохладно, свежо, а на крыльце уж по-полуденному начинает припекать. Широкая, искусно наведенная за ночь паутина, вся серебряная от капелек росы, отчетливо, каждой своею ниточкой выделяется на фоне густой темной листвы. В небе ни облачка; ни единый не двинется лист.
Через час я в загороди, на берегу реки. На лугу, в лозовых кустах, движутся девки и бабы в цветных сарафанах, в белых и красных головных платках. Поматывая подолами, они ходят с граблями, разбивают и сушат сено, сгребают в копны и накладывают возы. На том берегу, за извилистой речкой, заросшей черным олешником, светло-зеленым морем ходит, колышется рожь. Солнце стоит высоко, печет. В объеденном лозняке, в сухом медовом сене неутомимо, неустанно звенят кузнечики. Звон их удивительно сливается с глубокой синевой и неподвижностью сухого июльского дня.
На деревянной телеге, подоткнув сарафан, в голубом, спустившемся на шею платке топчет сено девка Акулька. Широко раскрывая руки, она принимает охапки, которые ей подает снизу Оброська-дед. 06- роська, с березовыми вилами в руках, неспешно втыкает рожки вил в сухое пахучее сено и, кряхтя, осыпая себя дождем сухих травинок, подает. В его путаных волосах, в серой жидкой бородке висят набившиеся сухие листочки. Наложив воз, понюхав из берестяной обтершейся табакерки, он неторопливо протягивает стоящей на возу девке круглый скользкий гнет *, закидывает и смурыжит в ладонях пеньковую веревку. Меня подсаживают высоко на воз. Воз скрипит, качается, я сижу, крепко держась за деревянный гнет и толстую веревку, смотрю с высоты на Оброську, идущего с ви-
. 1 Длинное бревно, с помощью которого увязывают, «при^ гнетают» веревкой возы.
84
лами на плече, на напрягающуюся в оглоблях лошадь, на кузнечиков, с треском рассыпающихся из-под копыт лошади и падающих в траву дождем, на собаку Чубрика, устало бредущую с высунутым розовым языком.
Чудесно и в сенном сарае, в деревянной пуньке, набитой почти до самого верха, под крышей, теплой от солнца. Хорошо топтать мягкое, забирающееся под рубашку сено, прыгать вниз головою со скользких балок, ползать и кувыркаться. В сарае живут голуби. Хлопая крыльями, обдавая ветром, они проносятся над самою головою. Ласточки-касатки влетают в широкие, открытые настежь, заваленные сеном ворота.
Скрипя и покачиваясь, блестя шинами, воз подкатывает к воротам. Оброська подворачивает лошадь и, взявшись 8а конец оси, с трудом валит воз. Опять мы лезем на сено, опять, поплевав на руки, неторопливо берется за вилы дед Оброська...
В обед, в самую жару, все на час затихает. Спит дед Оброська, прикрывшись от мух пропотелым выгоревшим картузом, спит под телегой, задравши на голову сарафан и протянувши босые ноги, девка Акулька, спит, забравшись под, лопухи и щелкая мух, старый пес Чубрик. Не спит конь Фурсик, спокойно пощипывающий траву и хвостом отгоняющий слепней, да свистят, режут синее небо, купаются высоко в воздухе, стрелами падают над землею стрижи.
По накатанной, с горячей мягкой пылью дороге я бегу к мельнице на плотину. Под старыми ветлами в нагретой, просвеченной солнцем воде дремлют-стоят толстоспинные голавли. Они стоят недвижимо, чуть пошевеливая плавниками. Быстрая уклея, пуская по воде круги и ловя падающих на воду мошек, стадами гуляет в прозрачной воде.
На мельнице под мостом шумит вода, вертится большое мокрое колесо, стоят возы с поднятыми связанными оглоблями. На минуту я заглядываю в широкие, серые от мучной пыли ворота. Там, в полутьме, что-то ладно шумит и стучит, видна белая борода мельника, весь белый от пыли мужик совком насыпает в мешок горячую, изжелта-белую, струйкой бегущую из лотка муку.
Заглянув на мельницу, бегу вниз на речку, где бе- жит-льется по камням вода и. яркое отражается н&
2*
да
воде солнце. Я засучиваю выше колен штанишки, ступаю в прозрачную воду. Речка заросла кустами, изъеденными жучками черным ольховником, зеленой ло- вою. Над лозою, над высокими цветами береговой медуницы летают и, хрустально трепеща крыльями, останавливаются в воздухе темно-синие, прозрачные, 0 изумрудными глазами стрекозы. Вода журчит вокруг коих ног. Осторожно ступая по скользким подводным голышам, я бреду по речному, с перебегающими солнечными зайчиками дну. Осторожно поднимаю под водою и отвожу большой скользкий камень. Там, в чуть замутившейся воде, прикрытый зелеными водорослями, задом пятится рак. Я лодочкой подвожу к раку руки. С непостижимой быстротою исчезает под берегом рак, а там, где я его видел, остается облачко мути. Я долго брожу по реке, отворачиваю заросшие зелеными бородами камни, любуюсь на золотое, усыпанное разноцветными ракушками дно, на прозрачно-желтых, перебегающих по дну пескарей, слушаю шум воды, дальние голоса на деревне...
Возвращаюсь полем, через огороды. Перелезаю изгородь, иду крепкой стежкой, протоптанной в пахучей, закрывающей меня с головою зеленой конопле. А как чудесно засесть в густую пахучую коноплю, в высокую золотистую рожь, неподвижно сидеть, видеть синее небо, медленно кланяющиеся над непокрытой головою колосья, смотреть, как по высокой коленчатой соломинке неторопливо поднимается усеянная мелкими точками божья коровка, как высоко в небе, под белыми облаками, распластав крылья, парит ястреб-канюк.
ПЛОТИК
В самом отдаленном периоде детства, для меня уже почти незапамятном, ближе мне была мать. Мать я чувствовал весь окружавший меня мир, в котором я еще не умел различать отдельных предметов, — как теплоту и свет яркого солнца, на которое меня выносили, как полюбившееся мне купанье в корытце, как сладкую теплоту материнского молока. Мне тепло и приятно было у нее на руках, была приятна близость ее рук и груди, ее голос; я узнавал ее по знакомому запаху и по чему-то особому, еще кровно соединявшему
нас, и, чувствуя ее запах, слыша знакомый звук голоса, смеялся,, всем тельцем* лез из пеленок. Отец казался чем-то огромным, колючим, пахнувшим менее приятно. И мать тогда наполняла меня, вливалась в широкий, ослепительный и непостижимый мир, окружавший меня в первые дни моего детства. Сливался и я с этим видимым, слышимым, осязаемым мною миром.
Чем больше я подрастал — дальше уходил из этого теплого, растворявшего меня мира, отчетливее видел и осязал предметы, чувствовал земные запахи, слышал живые голоса. И чем дальше отходил от матери — ближе, понятнее, роднее становился отец.
После переезда в Кислово я почти не расставался с отцом. Ночью мы спали в одной постели, днем уходили в залитые солнечным светом поля, любовались зелеными рощами, в которых встречали нас веселые голоса птиц. Глазами отца я видел раскрывшийся передо мною величественный мир родной русской природы. Чудесными казались тропинки, широкий простор полей, высокая синева неба с застывшими белыми облаками. Мы ходили на реку, где я слушал журчание воды, протекавшей в заросших осокою берегах, треск кузнечиков и шелест листвы на деревьях*
Навсегда в моей памяти остались эти первые наши прогулки. Особенно помню любимый «Ровок», где в тени под дубами росли ландыши (эти лесные цветы, их тончайший аромат и теперь неизменно возвращают меня к первым радостным восприятиям детства), а в июньские жаркие дни я собирал в густой траве душистую землянику. Счастливый, взволнованный новыми впечатлениями я возвращался из этих прогулок.
Особенно запомнил я зимние деревенские вечера, нашу семейную комнату в доме, скудно освещенную огоньком синей лампадки. Нередко я засыпал на груди отца. Вот я лежу подле него, всем детским тельцем чувствуя теплоту его большого, сильного тела. Уступая моим настойчивым просьбам, сам увлекаясь своей выдумкой, он рассказывает мне сказку.
Я не упомню всего, о чем рассказывал мне в долгие вечера отец. Помню, что называлась наша любимая сказка «Плотик», что сказывалось в ней о приключениях двух смелых мальчиков, Сережи и Пети. Связанные братской любовью, Сережа и Петя построили из
37
бревен плотик и отправились на нем в далекие, сказочные страны. Уж не припомню теперь всех удивительных похождений Сережи и Пети, всех чудесных встреч и приключений, но и теперь волнуют меня давние переживания, — отчетливо помню, как дрожал я, как впивался в каждое слово отца, придумывавшего новые и новые подвиги наших героев.
Сказки отца, от которых, быть может, пошла моя страсть к путешествиям, распаляли воображение. ’Чудесный плотик уносил меня в страны вымыслов и приключений. Зажмурив глаза, я плыл в тридевятое царство, где нас ждали сказочные приключения, творились невиданные чудеса.
Сила вымысла мною владела. Долго не засыпал я, поддавшись полету фантазии. Почти наяву слышал голоса, видел вымышленных героев.
Хорошо помню, как, ежась под одеялом от пред^» стоящего удовольствия, говорю начинавшему похрапывать отцу:
— Расскажи о плотике! Ты обещал рассказать...
— Спать пора, Сивый, — с напускной строгостью сонным голосом отвечает, бывало, отец. — Вчера я уже все рассказал. Спи!.
— Пожалуйста, расскажи... Ну, еще один разочек. Расскажи, как они повстречали медведя...
И, уступая моей настойчивой просьбе, оживляясь по мере рассказа, в сотый раз начинает „отец давно знакомую сказку:
— Ну, слушай, Сивый: в прошлые времена, в далекие годы жили в селе Щекине, на речке Невестнице два маленьках брата Сережа и Петя (в придуманной им сказке отец рассказывал о себе самом и о своем младшем братишке Пете, с которым дружил в детстве). Они часто ходили в лес по малину. Раз они взяли топор, позвали собаку Полкана и пошли в лес. А надо было речку переходить, вот младший брат Петя и говорит: «Давай сделаем плотик, поплывем по реке в, далекие страны...»
Воодушевляясь вымыслом, отец сочиняет что придет в голову, а я слушаю с замиранием сердца. Вместе с Сережей и Петей, с умной собакой Полканом отправляемся мы в воображаемое далекое путешествие. За темные леса, за синее море, за высокие горы несет нас по речке Невестнице сказочный плотик. И непри¬
38
метно мне, как гаснет в углу лампадка, как поднимается от бревенчатых стен что-то мохнатое и большое, ласково накрывает меня, шепчет в самое ухо: «Спи, Сивый, спи!» Не слышу, как отец вынимает из-под моей головы свою руку, укладывает рядом с собою* Не слышу, как он засыпает. Мяр ночных сновидений властвует надо мною. В царство этих видений несет меня сказочный плотик...
Казалось, все было светло и безоблачно в окружавшем и радовавшем меня мире, где в неведомые далекие страны каждую ночь уносил меня наш сказочный плотик. Светлы и почти безмятежны были дни. Был молод, бодр, весел отец; тиха и нежна, ревнива своею любовью мать. Нужда, непоправимые несчастья, болезни, утраты и самая смерть, казалось, щадили наш дом. В раннем детстве я не знал и не видел тяжелых обид, ожесточающих человеческие сердца. Ласковые руки поддерживали меня и берегли. И я благодарю судьбу, наградившую меня светлыми днями детства — теми счастливыми днями, когда в нетронутых сердцах людей закладываются родники любви.
Но уже в первом сознательном периоде детства смутно чувствовал я, что не все справедливо и благополучно в окружавшем наш теплый дом мире. Я видел заходивших в дом голодных нищих, жалких калек, оставлявших в душе тяжелые впечатления, видел окружавшую нас нужду и несчастья. Само безоблачное счастье казалось тогда признаком грядущих утрат, неизбежных тяжелых испытаний.
В часы беспредметной детской тоски мучительно сжималось мое сердце. Воображением постигал я мука одиночества, остроту и несправедливость обид. Я воображал себя одиноким, видел обиженных близких людей. В этом детском неосознанном чувстве не было и капли сентиментальности, слащавого сюсюканья, которое я всегда ненавидел. Чувство жалости, которое я испытывал к людям, была любовь. Чем сильнее, мучительнее была эта любовь, острее испытывал я чувство жалости, захватывавшее меня почти с невыносимою силой. Любовь и была тот сказочный плотик, на котором, минуя опасности, свершал я многолетний жизненный путь.
39
ДЕРЕВНЯ
В те времена, когда перебрались мы с родины матери в отцовскую глухую Смоленщину, уже многое менялось, иным становилось в окружавшей нас жизни. Редели дремучие леса, для опытных, старых охотников редкостью стал обычный в смоленских лесах крупный зверь. На деньги предпринимателей-капиталистов строились и прокладывались железные дороги. На смену прогоревшим помещикам-дворянам, имевшим свои родовые гнезда, шел хищник-купец, мало интересовавшийся лирической усадебной тишиною. Исчезали поэтические ларинские усадьбы. Богатые и некогда знатные помещики-дворяне под нажимом грубой купеческой руки бросали насиженные дедовские дома и старые усадьбыт разбегались в столичные, губернские и уездные города. Мелкие «омужичившиеся» дворяне, утратив прежнюю спесь, помалу спивались, жили неряхами, бирюками, становились шутами, на потеху издевавшимся над ними мужикам. Давно исчез старинный помещичий быт, описанный в тургеневских романах; заколоченными стояли старинные усадебные дома, за- радужелыми окнами слепо глядевшие на новую жизнь. Лопухом и крапивою зарастали мраморные памятники в церковных оградах, где еще можно было разобрать начертанные золотом забытые имена...
Кое-где по деревням шатались совсем спившиеся, прогоревшие дворяне, потомки бывших крепостных Ьладык. За полбутылки водки им срезали косою бороды, заставляли плясать и кривляться. Странное дело: к таким прогоревшим дворянам деревня, особенно деревенские сердобольные бабы, относилась милостиво, считала их своими. «Вон наш «дикий барин» идет!» — скажут, бывало, показывая на приближавшегося человека, одетого в полугородской, полудеревенский костюм.
Был и в наших местах такой «дикий барин». Жил он где-то в лесной деревеньке, показывался иногда у «монопольки» или на мельнице. Как жалок, убог был его вид! Помню его соломенную шляпу, летний чесучовый пиджачок, камышовую тросточку в смуглой костлявой руке. Помню шутливые разговоры* которые" вели с ним на мельнице мужики:
— А ну, Гамзей Гамзеич, — говорил какой-либо мужик, — подсаживайся к нашей компании!..
«Дикий барин» подсаживался к мужикам, трясущейся рукою брал чайную чашку, которую ему подносили, с жалкой улыбкой благодарил и жадно выпивал водку, запрокидывая голову и дергаясь кадыком на необыкновенно тонкой жилистой шее. Я с острым детским любопытством смотрел на него, на его двигающийся под сморщенной кожей кадык, на узкую седеющую бороденку. И еще жальче, покорнее была его беспомощная улыбка. Умер он, как тогда говорили, бесприкаянно. Нашли его у дороги, у развалившегося мостика, под тремя старыми березами (с тех пор это место, на котором был поставлен деревянный крестик, нам было особенно страшно). «Весу-то в нем почесь никакого!»— с усмешкою вспоминали мужики, которым пришлось хоронить «дикого барина» на деревенском кладбище, рядом с могилами бывших крепостных рабов его вымерших предков...
Собственно, еще до моей сознательной жизни сам собою начал рушиться в деревне старый, отживавший мир. Что-то чуждое, сказочное виделось нам в окнах пустого огромного дома дворян Пенских, давным-давно покинутого владельцами, нежилого почти с крепостных времен. Дом этот, стоявший в соседнем селе, навсегда запечатлелся в моей памяти. С какой жаждой чудесного заглядывали мы в высокие мертвые окна, за которыми сквозили рассыпавшиеся в пра& занавеси, какие фантастические ходили среди ребят и взрослых рассказы о привидениях, о старой барыне Пенчихе, якобы бродившей по комнатам со свечкой! Казался таинственным старый помещичий парк с дуплистыми древними липами, в которых гнездились галки, ночные сычи.
Изменялась помалу и самая жизнь простого народа, пережившего своих прежних крепостных владык. Все изменялось тогда в деревне. Все чаще и чаще, страдая от безработицы и безземелья, уходили мужчины на заработки в города, переселялись на шахты, на заводы. Возвращавшаяся из города молодежь, хлебнув иной жизни, привозила новые слова, новые слышались в деревне речи...
Но еще оставалось много старого, почти нетронутого в глухой смоленской деревне, во многом отличав-
41
шейся от калужских мест. Еще стояли кой-где леса. Как при Иване Грозном, пахали мужики деревянной сохою, боронили еловой бороной. Колдунами и знахарями был полон край. И раннее детство мое, проведенное в деревне, надолго запечатлелось в душе: без малейшего сомнения верил я в колдунов, в нечистую силу, в «анчуток» и домовых, смутными страхами наполнялась впечатлительная душа. На печи, где пахло лучиной, наслушался я много страшных рассказов. Детские страхи эти, увеличенные силою воображения, усиливала и закрепляла церковь, церковная мрачная служба, темные лики святых, всегда вызывавшие в моей душе смутный трепет и страх. Страшны, неприятны были попы, приезжавшие к нам по большим праздникам — на рождество и на пасху, — их потертые, тусклые ризы, голос седого дьячка, выводивший непонятные, странные слова; неприятным и страшным казался сам поп Иван, под благословение которого насильно заставляли меня подходить. Колдуны, страшные сказки, церковь, попы поселяли первый болезненный страх в моей чуткой душе, едва не превратившийся в болезнь (ночами, после сказок и церковных молитв, посещали меня тяжелые, болезненные видения, одно приближение которых меня ужасало). Спасла меня от этой болезни, от одолевавших детскую душу страхов, как и впоследствии спасала не раз, природа: свет яркого солнца, голубизна чистого неба, приволье окружавших меня полей. Здоровое влияние оказывал на меня отец — его веселый* светлый характер, неизменная его доброта...
Яснее, живее был для меня другой, близкий и доступный мир. Не было в этом отчетливом мире ни дворянских обширных палат, ни страшных сказочных преданий. Были просты и понятны окружавшие меня люди, особенно близок и дорог стал отец.
Закончив службу у Коншина, перебравшись с братом в общее гнездо, скоро 'почувствовал он себя пе у дел. Да и не хватало денег на жизнь, пришлось искать службу. В ту пору открылась в России «монополия», и отец поступил сборщиком денег. Служба была несложная. Два раза в месяц отец объезжал вверенный ему участок, В дорогу отец брал с собою боль¬
42
шую кожаную суму и тяжелый шестизарядный револьвер. В своем воображении я представлял опасности, которые грозили в дороге отцу. Да и в самом деле, рискованная была у отца служба! Грезились страшные разбойники, поджидавшие его на дороге, и немало бессонных ночей провела тогда мать. С горькими слезами каждый раз провожал я в дорогу отца, и как радостны* как приятны были его возвращения! Помню, как, отдох- пув и пообедав, отец принимался считать казенные деньги. Из кожаной сумы он вынимал золото: круглые маленькие пятирублевки, десятирублевые и пятнадцатирублевые червонцы (бумажных денег тогда в обращении было мало), раскладывал их в высокие красивые стопочки. Мне очень хотелось поиграть в эти блестящие маленькие игрушки, но к отцовскому столу меня не пускали...
ДОРОГА
— Вставай, вставай, Сивый, заспался!
Надо мною опять стоит отец, оживленный ранними сборами, пахнущий утренней свежестью, холодом, сбруей, туманом. Он осторожно теребит меня своими большими руками, ласково смеется:
— Вставай, пора в дорогу!
Я открываю глаза, неохотно возвращаясь из сонного покинутого, полного видениями мира. Прорываясь сквозь густую листву, утреннее солнце бьет в окно. Его золотистые лучи скользят, бесчисленными зайчиками рассыпаются по бревенчатой, с сучками и смолистыми разводами, стене, по спинке кровати. С радостью вспоминаю вчерашние сборы, разговор о дальней поездке. Загоревшими на солнце руками быстро сбрасываю одеяло.
Радость предстоящего путешествия наполняет меня. Вчера мы договорились о дальней поездке в Верби- лово — к старшему племяннику отца, чудаку и холостяку, одиноко живущему в Заугорских лесах, в глухой своей берлоге. Наспех умываюсь у звякающего медным гвоздем, брызгающего холодной водой умывальника, завтракаю ржаными лепешками* которые так вкусно печет в русской печи мать.
43
Запряженный в дрожки смирный гнедой меринок терпеливо ждет у крыльца. Золотистые клочья тумана стелются над рекою. Бесчисленными алмазами блестит на листьях деревьев роса.
Отвязав меринка, усаживаемся на кожаном сиденье дрожек, и отец отвязывает, разбирает в руках вожжи.
— Ну, с богом! — говорит мать, целуя меня в голову. — Будь молодцом, слушайся отца!
Я отвечаю ей что-то совсем невпопад, дрожки тро- гаются с места, оставляя за собою темные полосы следов на покрытой росою траве.
Едем по пыльной, крепко накатанной проселочной дороге. Крепко держась за нагретую солнцем подушку, сижу за спиною отца. На небе ни облачка, на открытых местах начинает уже припекать. Серая клубится под колесами пыль. Над вымазанной дегтем седелкой, над потемневшей спиной меринка жадно снуют слепни. Концом кнутовища и вожжами отец сбивает липнущих к потной лошади мух и оводов. Среди полей и кудрявых перелесков вьется веселая укатанная дорога.
Погромыхивая шкворнем, мягко катятся дрожки по наполненным пылью колеям. Вокруг — родные, знакомые места: золотятся, бархатными волнами ходят
хлеба, задевая ступицы колес, колосятся овсы, голубыми нежными звездочками цветет лен. Исконные края, наша родная Смоленщина: поля и перелески, старинные большаки с вековыми плакучими березами, голые, безлюдные проселки! Разбросанные деревеньки, жердяные околицы, за которыми качается, душно пахнет высокая зеленая конопля* Высоко над соломенными крышами, задирая голову, скрипят колодезные журавли...
Небольшие, с соломенными крышами, деревеньки как бы затерялись в полях и лесах. В летний день на улицах одни беловолосые ребятишки. В деревнях пахнет навозом, дымком. В некоторых избах под окнами белеют холщовые полотенца. Это значит, что здесь был покойник, закончивший земное свое бытие человек. Странным, страшным кажется мне старинный языческий обычай. «Сорок ден душенька по родному дому тоскует, — вспоминаю разговоры баб, — прилетит, хлебца откушает, водички напьется, ручником утрется!» Но и волнуют, разжигая воображение, эти народные поверья. Радуют дорожные встречи: одетые в сарафаны
44
бабы, бородатые мужики в картузах, приветливо здоровающиеся с отцом. Радостно волнует и самая дорога: поля и леса, заросшие черным олешником овраги и речки, бревенчатые дырявые мосты, по которым с грохотом катятся наши дрожки...
Далекие времена, почти сказочные воспоминания! Но все ли так радостно и безоблачно в этих детских воспоминаниях? Сквозь туман отжитых годов я вижу много печального. Я вижу узенькие, жалкие нивы, засеянные крестьянским хлебом. («Колос от колоса — не слыхать человечьего голоса!» — говаривали, бывало, в деревне.) Боже мой, сколько бесхозных, запустелых, заросших сорняками «вдовьих» нив! Множество васильков синевеет по бесчисленным межам. А как жалки покрытые ветхой соломой, по брюхо вросшие в землю хатенки деревенских безземельных бедняков-бобылей! Убоги деревянные сохи, за которыми, переступая по сырой борозде босыми заЛубенелыми ногами, ходили длиннобородые пахари, не раз воспетые поэтами в стихах. Допотопны еловые рогатые бороны, которыми наши смоленские мужички еще при царе Горохе ковыряли неродимую, тощую землицу...
Вот, как бы подчеркивая острое чувство контраста между бедностью и богатством, катит со станции в новой заграничной коляске богатая помещица Кужалиха. Кучер в плисовой безрукавке, в шапке с павлиньими перьями, с широкими, раздувающимися на ветру рукавами шелковой рубахи туго держит плетеные вожжи. Коляска с кружевной старой барыней проносится, как видение, и надолго наполняет мою душу недоброе чувство отчужденности и неприязни. Следом за Кужали- хой едет волостное начальство: полицейский урядник и волостной старшина. Рожа урядника сияет, как тульский самовар, черную старшинину бороду относит в сторону ветер. Старшина и урядник косятся на дрожки, на отца и, поднимая облако пыли, прокатывают мимо.
Но все покрывает и скрашивает счастливая молодость, светлое детство! Мир кажется ясным — пусть пропадут все барыни Кужалихи! — по-прежнему веселой кажется дорога, чудесными — кудрявые перелески* нарядными — бедные нивы, заросшие васильками!
На краю глухой маленькой деревеньки Выгорь (это название деревеньки и теперь осталось в моей памяти)
45
отец останавливает лошадь. Из узкого оконца амба- рушки, у самой дороги, высовывается обнаженная, высохшая, как черная кость, рука. Здесь, в пустой ам- барушке, живет разбитый параличом мужик (калеки, нищие, слепые особенно поражали тогда детское мое воображение). Он мычит что-то непонятное, кивает заросшей густым волосьем головою. Отец слезает с дрожек иг передав мне вожжи, достав из кармана старый, потертый кошелек, кладет в руку калеки милостыщо. На всю жизнь' памятна мне эта глухая деревенька, несчастный калека, отец, подающий милостыню!..
Но как чудесен, несказанно свеж, хорош и пахуч казенный бор, в который въезжаем мы за деревенькой! Направо и налево над нами высятся столетние сосны. В голубое с легкими летними облаками небо возносятся их темно-зеленые вершины, красноватой бронзой отсвечивают освещенные солнцем, покрытые толстой корою стволы.
Соскочив с дрожек, мы идем по обочине песчаной лесной дороги. Толстые, узластые, изъезженные колесами корни стелются над землею. В лесу пахнет багульником, смолой, земляникой. Вверху, на березах, пересвистываются невидимые иволги, барабанят дятлы. В глубине бора таинственно дудукает сказочная птица удод.
Подъезжаем к Вербилову под вечер. Ведя под уздцы меринка, отец осторожно спускает по крутому размытому косогору на берег реки, к броду, отвязывает от дуги повод, распускает чересседельник. Обнюхав бегущую у ног воду, прижав уши, осторожно и долго пьет меринок. Напившись, отфыркиваясь, поводя боками, он задумчиво поднимает голову. С отвисшей бархатной губы меринка прозрачными каплями стекает вода.
Отец опять усаживается на дрожки, берет из моих рук вожжи. Лошадь осторожно ступает в быстро бегущую, играющую солнечными зайчиками воду. Гремят по хрящеватому дну колеса,, блестит обмытое железо шин. Глубже и глубже, поводя ушами, входит меринок в воду; подобрав ноги, все крепче держусь я за жесткую кожаную подушку за спиною отца.
Перейдя вброд реку, напрягаясь, блестя обмытыми ляжками, меринок быстро выносит на берег дрожки*
46
Весело светит солнце, серебряной лентой блестит река. Пропадая в небе, над дорогой заливаются жаворонки. Легкая пыль вьется под копытами меринка.
Пьем чай и останавливаемся ночевать у моего двоюродного брата, племянника отца.
Спим в сарае, на сеновале. Душно, медово пахнет сено; всю ночь над головою что-то ползает и шуршит. В щели драночной крыши пробивается яркий свет месяца, серебря в сене травинки.
Я долго не сплю, взволнованный переживаниями дня. Потом засыпаю внезапно и просыпаюсь, когда уже высоко пригревает солнце, а над самой головою — то и дело ныряя в раскрытые ворота — весело носятся длиннокрылые касатки-ласточки...
КРЕСТНЫЙ
Я вижу его так, точно это было вчера. Вот он сидит за освещенным лампой с голубым абажуром, накрытым суровой скатертью столом. Он только что вернулся из бани, где, по слову добрых людей, был* такой дух, что трещал на голове волос. Воротник широкой, стираной, с нераспустившимися складками рубахи как-то особенно опрятно обнимает его стариковскую, красную, в мелких морщинках шею. Седые на висках волосы аккуратно зачесаны на косой пробор. Ладная, с мучнистой проседью, аккуратно подстриженная борода особенно идет к его загорелому приятному лицу. Пахнет от него веником, дегтярным мылом и еще чем-то похожим на запах печеного хлеба и на то, как пахнет осенью под дубами, — и этот приятный смешанный запах мыла, стираного ситца, крепкого трубочного табака и печеного хлеба создает особенное впечатление старческой крепости и чистоты.
Он сидит на своем месте, расставив под столом ноги в коротеньких шерстяных носках и кожаных опорках, в очках на большом, с поперечной складкой, носу. Стакан крепкого, как деготь, чая стоит перед ним на столе. Лицо его до половины освещено лампой, левой рукой с оттопыренным мизинцем он подпирает голову ? козырьком держа над глазами сложенные пальцы; правая, с узлами старческих жил, с крепкими горбатыми ногтями, лежит на развернутой газете. Читая газету,
47
он трясет под столом коленкой, изредка поглядывая поверх очков.
В комнате светло, шумит самовар. В запотевших окнах синё отражается ночь. Проснувшиеся большие зимние мухи бьются над лампой о потолок.
В нем много оригинального, своего, принадлежавшего ему одному: в походке, в манере смеяться и говорить, даже в том, как он держит за столом в кулаке свою деревянную ложку. Глядя, бывало, как бежит он под ветлами по мельничной плотине мелкими своими шажками, с накинутым на руку пиджачком, добродушно говаривали о моем крестном отце сидевшие на мельнице мужики:
— Гляди, гляди, Микитбв строчит!..
Со времен коншинской службы крестьян он знал наперечет во всей широкой округе, всех узнавал в лицо, и далеко знали люди о самом Иване Никитиче Микитове. Терпеть он не мог начальства, воевал с приставами и урядниками, с хозяйскими приказчиками- плутами, ненавидевшими его за доброе отношение к мужикам (да и со службы пришлось ему уйти за это хорошее отношение к мужикам; так и сказал ему на прощание хозяин: «Слаб, слаб,* с мужика надо три шкуры драть, а у тебя на то руки непригодные!»). Самые замечательные, с необыкновенной меткостью, умел он давать мужикам клички, и чуть не половина уезда ходила с Микитовыми меткими кличками.
Бывало, сидя на бревнышке, выколачивая трубку, смеясь особенным своим смехом, притопывая ножкой, говорил он лохматому, вспыльчивому куму Ведехе, дравшемуся со своей бабой, всегда и везде лезшему на рожон:
— Ты, брат, как самовар, — гляди, конфорку собьют...
И на весь век свой, по крылатому слову крестного, вздорный мужик Ведеха остался Самоваром.
Не знаю, была ли в его жизни любовь. Помню смешной рассказ о том, как еще в молодые годы задумал крестный жениться на француженке, гувернантке соседних помещиков-господ, но неведомо почему расстроилась свадьба. Помню его холостяцкую комнату, всегда чисто прибранную, с волчьей на стене шкурой. Порядок он любил необыкновенно, жары и холода не страшился. И до самой смерти своей никогда не хво¬
рал, никогда не баливали у него зубы, никогда не жаловался он на недомогание.
Для меня самое значительное в комнате крестного был столярный верстак и черный, висевший над верстаком шкафчик. Шкафчик открывался редко, в исключительных случаях, когда требовалась в хозяйство починка. Я очень любил, когда распахивались дверцы заветного шкафчика, за которыми в аккуратнейшем порядке были разложены всевозможные инструменты, висели долота и стамески, лежали рубанки, клещи и молотки. А сколько бывало шуму, когда сам Иван Никитич брался за дело, сколько на все стороны выпускалось добродушных ругательных словечек. (Этим самым словечкам, со свойственной детям подражательностью, быстро я научился; помню, с каким ужасом замахал на меня в монастырской гостинице, где мы однажды остановились с матерью, старичок монах, услышав, как с каждым словом поминаю я черта; как сконфузилась за меня мать.)
Теперь, когда Ивана Никитича нет и все это стало давнишним и трогательным прошлым, понимаю я, какой, в сущности, добрейший, и по-своему одинокий он был человек. Замечательны были и отношения с братом, моим отцом. Годами жили они вместе, всякий день садились за один стол, глубоко друг друга любил и* а случалось, по целым месяцам не вымолвят слова. Еще задумав жениться, приезя^ал Иван Никитич в Калугу к отцу, три дня промолчал и уж на вокзале, прощаюсь, когда пробил третий звонок, наконец молвил;
— А я, брат, женюсь, к тебе приехал посоветоваться...
Так и недослышал отец, о чем хотел посоветоваться с ним мой крестный Иван Никитич, какую выбрал себе невесту, — паровоз громко свистнул, поезд пошел.
Постороннему глазу могло показаться, что в нашей семье не все ладно, ненаблюдательному человеку мог и сам Иван Никитич показаться слишком неразговорчивым и угрюмым. А как расходился он, как веселел, как заразительно смеялся, рассказывал и притопывал ножкой, когда заходило о медвежьей охоте, об охотничьих приключениях, рассказывать о которых крест- йый был большой мастер!
Любимым же коньком крестного были рассказы о прежней службе у Погодиных, о знаменйтом историке
49
Михайле Петровиче Погодине, которого он нередко видел, о виденных чудесах в московском погодинском доме, куда Иван Никитич возил в подарок хозяину мед и убитых медведей. Рассказывал и об Арсеньевых, родственниках Лермонтова, в доме которых был принят и любим.
Службу свою четырнадцатилетним мальчишкой начал Иван Никитич в Ельнинском уезде, у генеральши Бологовской, близкой родственницы Погодиных. От нее перешел конторщиком к Погодиным, в село Гнездилово (всю дальнейшую судьбу нашей семьи решала эта служба у Погодиных). В те времена еще был жив сам знаменитый историк Михайло Петрович, наезжавший гостить к своему женатому сыну, писавший в Гнезди- лове историю Петра. Иван Никитич хорошо запомнил его черный длиннополыи сюртук, мохнатые брови, шишку на щеке возле носа. Был похож Михайло Погодин на корявого крепкого мужичка. Бывало, придет в церковь, станет в уголку, за свечным ящиком, с суковатой можжевеловой палкой в руках. Чуть разговорятся о своих делах бабы, он тюк костылем по макушке:
— Здесь вам, бабы, не ярмарка!
Раз встретил его в парке Иван Никитич. Идет по дорожке, задумался, мохнатые брови висят. Крестный Иван Никитич, чтобы не помешать, отбежал на цыпочках за старую липу, схоронился. А он — зоркий! — увидел.
— Ты зачем стал! Ты стал, и я стал, а дело кто будет делать?
Постучал костылем, брови поднял. Лучше бы Ивану Никитичу провалиться.
Другой раз в поле, во ржах, на дороге остановил, спросил:
—* Карандаш у тебя есть?
Стал Иван Никитич по карманам шарить, а карандаша, как на грех, нет.
— Плохо, плохо, — наставительно сказал старик,— у всякого грамотного должен быть в кармане карандаш.
Бывал крестный Иван Никитич и в московском: доме, на Девичьем Поле, у Погодина, который за что-то полюбил и приласкал его, — видел знаменитое древлехранилище, что после смерти Погодина по рукам разволокла челядь, своими глазами видел гоголевскую за¬
50
мусоленную жилетку, видел сюртук Пушкина, простреленный на дуэли, бережно хранимый Погодиным в стеклянном фууляре. На память о себе Погодин подарил Ивану Никитичу с надписью свою книжку «Простая речь о мудреных вещах». Этою погодинской книжкой до самой смерти гордился мой крестный Иван Никитич.
Наивна и трогательна была жизнь нашего дома. В смоленских краях Иван Никитич слыл чудаком, был непохож на окружающих людей. Именно поэтому не совсем долюбливало его местное начальство. Нещадно воевал он с «долгогривыми» попами (что ему не помещало быть избранным от крестьян церковным старостой, стоять в церкви за свечным ящиком), не ладил с местной полицией, урядниками и приставами, косо поглядывавшими на дружбу его с мужиками, в которой усматривалось опасное вольнодумство.
Мне странно перебирать теперь оставшееся после Ивана Никитича наследство: старательно подшитые его рукою, успевшие пожелтеть письма и деловые хозяйственные бумаги. С удивлением, странным бережным чувством смотрю на них, вспоминаю его лицо, его голос, быструю, торопливую его походку. Теперь это лишь пепел, прах.
ОТЕЦ
Мнкитбвыми стали нас кликать по деду моему, дьякону щекинской заштатной церкви. В те времена стояло село Щекино в большом дремучем лесу, на берегу небольшой речки Угры, и белая светилась между деревьями колокольня. Село было бедное, деревни кругом — голытьба, и кормился дьякон, как Адам, на земле: пчелами и садом. Было у деда девять человек детей. Понять невозможно, как он успел выходить, вырастить, всех выпустить в люди.
Деда мне не довелось видеть, а по рассказам отца был дед невеликий ростом, сухой, любивший всякую деятельность, очень веселый и очень подвижной человек. В прошлые времена был на нем грех: любил дьякон выпить. Умирая после родов, жена его, моя бабка, просила деда бросить пить, детей всех поставить на ноги. И, обливаясь слезами, прощаясь с ней, дал дед
51
крепкое слово — слово выдержал до конца. Последние времена жил он у еще холостого отца моего, имевшего маленькое на службе хозяйство (по окончании городского училища отец мой некоторое время был сельским учителем, потом бросил — слишком ответственным показалось ему учительское дело), водил пчел и ловил раков, с колодою карт в кармане подрясника бегал на мельницу играть в свои козыри с замелыциками-мужи- ками. До самой своей смерти не переставал он суетиться, ездить и хлопотать. Отлично знали его в смоленской консистории, и старичок архиерей однажды ему сказал так: «Ты, Никита, как ерш, покою тебе нету, все суетишься, все судишься, пора бы и остепениться...» И, видимо, любил дьякон складный словесный оборот, красно вымолвленное словечке. В единственном сохранившемся у меня писанном его рукою письме, адресованном какому-то московскому гостю, начальству моего отца, в особенных, складных выражениях сообщает он о «пламенном своем желании побывать в Москве, привезти подарок — кутьи и липового лучшего меду». Был дьякон, как и свойственно подвижному, живому человеку, большой рыболов и охотник. За век свой пережил он на селе полдесятка попов, великую вел дружбу с пономарем Семеном, во всем ему покорявшимся, и не раз, состряпав прошение,- выживали они из села нелюбых попов. Помню много раз слышанный от отца рассказ о том, как однажды в весеннее время, крепко попарившись в бане и выскочив на крыльцо отдышаться, увидел дед, что в осоке у самого берега трется превеликая щука. И так обуяла дьякона охотничья страсть, что, побросав шайку и ковшик, прикрывши веником наготу, через все село побежал он к пономарю за французским длинным ружьем и, схвативши ружье, примчался на берег. Выстрелив из ружья, верхом засел дьякон на щуку, и — уж верить не верить — потащила щука деда под воду, а и там не помиловал ее дед, и, покатавши его под водою, покорилась, сама вынесла деда на берег...
Не могу я похвастать ни дворянскою чистою кровью, ни происхождением знатным, ни бывшим богатством, ни чинами и орденами моих босых предков. Знаю, что был у меня прадед пономарь Иван Егорыч, что ходил прадед в лаптях, наравне с мужиками ковырял сохою землицуt что ни единая теперь не укажет
52
душа, где, в каких местах, под которой березою лежат прадедовы кости. О Щекине, о деде, о щекииской поэтической речке Невестнице слышал я от самого отца. Раза два ездили мы в Щекино, на его родину, на могилу моего деда. Хорошо помню эти поездки — зыбучую песчаную лесную дорогу, протянутые через дорогу узластые сосновые коренья, цветущий сухой вереск, ягоды — толокнянку, за которой, соскочив с дрожек, хожу по сухой, мягкой, покрытой скользкой сосновой хвоей земле. Помню и самое село Щекино — церковь, чай у заросшего львовою гривою седого попа, толстую матушку; помню могилу деда с похинув- шимся крестиком, на которой отец заказывал панихиду; дым и запах кадила, странно не идущий к ослепительному летнему дню, к треску кузнечиков в зеленой, покрывавшей могилу траве, слабый на ветру голос дьячка, блеск парчи на поповской ризе.
Особенными, полными значительности показывались отцовские места — место, где стоял дедовский домик, одна уцелевшая яблоня, берег реки, на котором некогда играл и бегал отец, строился, плыл в тридевятое царство наш сказочный «плотик»...
Детство отца, о котором он сам рассказывал мне в наши таинственные вечера, казалось мне сказкой. Сказочным представляется мне тогдашнее отцовское Щекйно, с косматыми медведями, приплывавшими через реку ломать пчел на огород к моему деду; речка Невестница, в которой водились необыкновенные лини и щуки, а раков было столь великое множество, что в пору, когда зацветает на полях лен, нужно было брать с собою на ловлю большой осьминный мешок. Сказочным представляется отцовское учение в городе Дорогобуже, в городском училище, куда, наклавши сухарей в сумку, с младшим братишкой Петей пешком сорок верст босиком топали они по лесным дорогам, рассказ о том, как встречал их каждый раз на полдороге любимый пес Полкан. Теперь, когда вспоминаю отца, его простую ясную душу, по-прежнему со всею силою чувствую, как значителен был нас связывавший нерушимый и светлый мир взаимной нашей любви.
Мне особенно памятно знакомое место у Семи дубков. Сюда водил меня отец. Среди колыхавшейся, с синими звездами васильков ржи мы проходили межою,
53
заросшей травой и лиловыми колокольчиками. Кузнечики дождем рассыпались из-под наших ног. Колосившаяся .рожь покрывала меня с головою.
Иногда отец брал меня на руки — и с высоты его . роста я видел поля, знакомую речку, опушку зеленого леса, радостно прижимался к его широкой груди.
Мы выходили на берег пруда, где под Семью дубками росли по весне ландыши — белыми нежными цветами был покрыт крутой берег. Я любил собирать ландыши, любил запах этих лесных цветов. Вместе с отцом спускались к реке — к пруду, заросшему лопухом и кувшинками. Здесь в глухих и зеленых заводях гнездились дикие утки, жили пузатые золотистые лини, которых отец ловил норотами. В лодке-плоскодонке выплывали мы на середину заводи. Отец вынимал из воды мокрые, обвитые водорослями плетеные норота. Тяжелые лини бились в них, разбрызгивая ил.
Засучив рукава, я доставал выскользавших из рук сильных живых рыб, бросал их на дно лодки. Отец с гордостью смотрел на наш улов. На загорелом и добром лице его светилась веселая улыбка.
— Ну и ловко мы с тобой, Сивый, рыбешку ловим!.. — говорил отец.
Сильными руками он правил лодкой, перебрасывая с одной в другую мокрое весло. На воду, на листья водяных растений падали брызги. Кругами, журчащими воронками крутилась за лодкой вода. Я смотрел на воду, на белые цветы купавниц, на задремавших под листвою щурят-челночков, на голубое летнее небо, отражавшееся в неподвижной воде, — и счастье, полное, радостное счастье переполняло душу. Счастлив и весел был отец. Казалось, счастлив был окружавший нас мир.
УЧЕНИЕ
Читать и писать меня учила вдова младшего брата отца Наталья Даниловна, одинокая несчастная женщина, которую я звал просто Натальей. Уже тогда я знал о печальной смерти единственного сына ее, двоюродного моего братца Митрофанчика, фотографическая карточка которого хранилась в нашем семейном альбоме. Необычайною смертью умер ее муж, люби¬
54
мый брат отца, также служивший у Коншиных, неудержимо и много пивший. В зимнюю морозную НОЧБ мертвого из гостей привезла его на двор лошадь.
Всем сердцем я привязался к моей тетке Наталье. Болезненно привязалась и она ко мне, заменившему ей погибшего Митрофанчика (эта болезненная привязанность нередко делала меня предметом ревности и раздора между матерью и Натальей). Удивительно умела она делать и вырезать игрушки, клеить из бумаги цветы. Строгий крестный Иван Никитич недолюбливал Наталью Даниловну, считал ее повинной в неудержимом пьянстве покойного брата. Пила и сама несчастная тетушка Наталья. Раз в году ездила она на свою родину, в село Великополье, на могилу сына, возвращалась оттуда странно возбужденная, с неестественно блестевшими глазами, с незнакомой конфузливой улыбкой. Сурово поглядывал на нее крестный, хмурилась и сердилась мать.
О Наталье, учившей меня читать и писать, вырезавшей и клеившей игрушки, я знал, что родилась и выросла она при каком-то помещичьем доме, а ее отец был у помещика крепостным музыкантом. От отца ей осталось старинное разбитое фортепьяно с порванными струнами и пожелтевшими провалившимися клавишами, хранившееся в амбаре.
Дальнейшее мое обучение было поручено проживавшей в нашем доме деревенской учительнице Клавдии Владимировне, очень худой и высокой, окончившей городскую гимназию женщине со странной прической и холодными бледными пальцами, которыми она помогала мне выводить буквы. С двоюродной сестрой Маней мы сидели за маленьким столом у замерзшего, покрытого узорами окна, на котором были нарисованы диковинные цветы и снежные сказочные птицы.
В раскрытых тетрадях с линейками старательно писали мы толстые и тонкие палочки, крючочки. Поставив кляксу, сестра Маня делала гримасу, трясла головою, косички ее смешно шевелились.
С Клавдией Владимировной мы зубрили таблицу умножения, «коренные» слова с «ятью».
— Бег, беда, белый, бес... — назубок, торопливой деревянной скороговоркой выпаливали мы эти заученные слова.
55
Наизусть в один голос читали стишки из грамматики, в которых наглядно разъяснялось правило ударений:
На пути я вижу сброк Резво скачущих сорок.
Этот вид мне очень дорог Средь неведомых дорог...
Не знаю почему, именно эти нелепые придуманные стишки произвели на меня тогда особое впечатление (может быть, больше всего и поражала их навязчивая нелепость). Необузданное детское воображение рисовало белую снежную пустыню, разбегавшиеся ленты неведомых дорог, одиноко скачущих по этим дорогам сказочных длиннохвостых сорок, своим присутствием подчеркивавших грустную безлюдность воображаемой пустыни...
Каждое слово, каждое движение, всякий доносившийся звук дополнял я тогда своим воображением, все сливалось в сказочные образы и представления.
Необыкновенно быстро я научился читать. И каким мучением и радостью стало для меня ненасытное чтение книг! Семи-восьми лет от роду я уже проглатывал книги подчас совсем не по возрасту. Первыми прочитанными книжками были неряшливо напечатанные, с выпадавшими серыми листками, лубочные брошюрки с раскрашенными картинками: «Еруслан Лазаревич», «Королевич Бова», «Вол4пебный бог Обе- рона». Содержание книг до болезненности распаляло воображение, ночами мне снились богатыри, рыцари в шлемах (впечатление от этих лубочных книжек равнялось впечатлению от страшных сказок, которые рассказывал мне на печи работник Панкрат). Решительно ничего не осталось в моей памяти от выписанного отцом детского журнала «Малютка», наполненного слащавыми картинками и стишками, рассчитанными на городских маменькиных сынков...
Раз, два раза в зиму происходило в доме событие, надолго нас потрясавшее. У засыпанного снегом крыльца останавливались два воза, закрытые рогожами и крепко увязанные веревками. По ступенькам крыльца, обивая кнутовищем высокие валенки, не спеша поднимался черноволосый, похожий на цыгана, уже знакомый нам человек. От него пахло овчиной, морозом и тем самым4 чем пахнет за прилавками в лавках:
56
ситцами, рогожами, краской. Веселая, возбужденная вбегала со двора девка Акулька, сообщала радостную весть:
— Венгерцы приехали!
Из развязанных, раскрытых возов в дом вносили тяжелые холодные тюки, наполненные красным товаром. Разъезжие купцы (их почему-то было принято называть венгерцами) раскладывали на столах пахучие ситцы, сарпинки, свертки красного кумача и синей китайки, цветастые женские платки.
Женщины тесным кругом собирались у заваленного товаром стола, рассматривали, отбирали понравившиеся гостинцы. С удовольствием наблюдал я, как мелькает в руках венгерца железный аршин, как ловко с сухим треском отрезает он от куска ситец, холодный накрахмаленный коленкор...
С великим нетерпением ожидали мы, когда принесут и раскроют большой лубяной короб с мелочами. На глазах наших развязывалась, снималась крышка тяжелого короба. Один за другим на столе появлялись раскладные картонные листы с разложенным мелким товаром: катушками, пуговицами, мылом, духами, гребешками, наперстками, стеклянными бусами, зеркальцами. Как сейчас вижу эти раскрывшиеся перед глазами, потрясавшие нас богатства. На самом дне короба лежали игрушки: картонные плясуны, мячики, раскрашенные картинки, книжки. Вот эти-то лубочные книжки вместе с детскими пистолетами и картонными плясунами были для нас главной приманкой...
Уже хорошо грамотным пошел я в деревенскую школу.
До сих пор отчетливо памятно мне исслеженное детскими лапотками крылечко, кислый запах холодной прихожей, где висели на стенах полушубки и суконные зипунишки учеников, бревенчатый класс с иконой в углу, с доскою и длинными партами, за которыми сидели мы по четыре человека. Памятны пахнувшие клебом, овчиною деревенские приятели-ребятишки, в одних холщовых рубашках вываливавшие с крыльца на снег... Добрую память оставил учитель Петр Ананьич, высокий, обросший бородою, похожий на медведя человек, нередко захаживавший в наш дом. Помню, как усаживал он меня за парту (в классе по возрасту я был самый младший), как заставлял петь
наклоняя к своему лицу ухо (петь я не умел и не имел хорошего голоса, музыкального слуха), помню, как приезжал из села раз в неделю батюшка, отец Иоанн, неприветливый и волосатый, учивший читать по-славянски из Часослова, спрашивал строго молитвы...
И весь этот школьный деревенский период детства остался как далекое, почти исчезнувшее воспоминание.
КОЧАНОВСКАЯ БАБУШКА
По словам отца, наш микитовский род славился наследственной красотою женщин, необычайной подчас их судьбою. Справедливо слыла красавицей Маня Атлярская, дочь покойной сестры отца — круглая сирота, вместе с другой двоюродной сестрой, Добровой Маней, воспитывавшаяся в нашем кисловском доме. За писаную красоту сосватал некогда мою бабушку, родную тетку отца, помещик Смирнов. Ко времени нашего переезда недалеко от Кислова жила эта давно овдовевшая богатая бабушка в своем небольшом имении со странным названием Кочаны. Даже в глубокой старости сохранила она на своем лице следы былой красоты. Ходили слухи, что еще в молодости, выйдя замуж из бедной дьячковской семьи, скоро стала она показывать^ в супружеской жизни строптивый характер. Муж бабушки, мелкий помещик Смирнов, чудаковатый болезненный человек, во вред своему слабому здоровью любивший прикладываться к рюмочке, до страсти увлекался чтением книг (остатки его старинной библиотеки уже много лет спустя я обнаружил в углу бабушкиного амбара: переплетенные в кожу книги были изгрызены крысами и мышами). Красавица бабушка держала покойного мужа под башмаком. Рассказывали, что однажды, вернувшись из города с ярмарки, привез он молодой жене ценный подарок. Поссорившись с му^ жем, бабушка выбросила из сундука, драгоценный голубой атлас и, схватив ножницы, стала резать, кромсать. Перепуганный муж бегал вокруг, со слезами умоляя супругу не портить его подарок. Уже много позже, вспоминая молодость, признавалась бабушка, что хотела тогда припугнуть мужа:
— Кромсаю, ножницами режу, а он-то вокруг меня куропаткою бегает2 ладошки сложил, Христом-богом
58
молит: «Голубушка, опомнись! Голубушка, очнись!» Не понимает того, — лукаво улыбаясь, рассказывала бабушка, — что ножницами орудую лишь для одного виду: режу, как для кройки платья полагается, ни одного кусочка атласа не испортила!..
Скончался бабушкин муж еще молодым, от скоротечной чахотки, оставив вдове небольшое именьице в смоленской глуши. Во младенчестве погиб единственный сын бабушки. «Куском сахара за столом подавился!»— рассказывали, помню, люди о нелепой смерти бабушкиного сына. Печально угасла жизнь взрослой дочери, Марьи Васильевны, тихой, спокойной женщины (мне хорошо запомнилась ее тихая улыбка, пуховый белый платок, в который зябко кутала она свои плечи); жестоко обманул ее городской «образованный» проходимец, испытанными путями пробравшийся к доверчивому женскому сердцу. Никогда не езживала кочановская бабушка по железным дорогам, не бывала в больших городах. Отжитыми, гоголевскими временами веяло от бабушкиного старого дома с обвитым хмелем крылечком, с крошечными комнатками, оклеенными бумажными обоями, от изразцовых печей и жарко натопленных лежанок. Отец недолюбливал богатую и капризную кочановскую бабушку, падкую на лесть и притворство. Недолюбливала и она моего отца, не умевшего лгать и прикидываться, кривить душою.
Несколько раз в году, по большим праздникам, мы навещали кочановскую бабушку. Мне особенно запомнились святочные поездки (уступая настойчивым просьбам, мать иногда брала и меня): скрипучая зимняя дорога, алмазное мерцание снегов, набегавшие из темноты вешки, которые детское воображение превращало в живых волков. Прокатив деревенской улицей со светившимися пятнами мерзлых окон, Сани со скрипом останавливались у бабушкиного крыльца. Закутанные в тяжелые тулупы и полушубки, ряженные цыганами и цыганками гости шумно вваливались в маленькую переднюю, где было трудно всем разместиться. Дух молодой, свежий врывался в бабушкины покои. Веселыми голосами наполнялся старый дом. Уже в передней пахло пирогами, поджаренной рождественской колбасой. Не очень ласкова была бабушка и со мною. С некоторым страхом смотрел я на ее лицо, на сухие старческие и все еще красивые руки, слушал ее голос*
59
произносивший обычные слова. Молодежь наполняла дом шумным весельем. С великим аппетитом уничтожали гости бабушкино вкусное угощение: слоеные пироги с вареньем, медовые пряники и «волоские» орехи, прикладывались и к сладкой бабушкиной наливке. Кто знает — может, и самой строгой бабушке нравился этот молодой праздничный шум...
Забравшись в угол, с восхищением смотрел я на веселившуюся, плясавшую молодежь* До сих пор звучат в ушах моих слова старинных веселых песен — «Конопельки» и «Селезня»:
Как повадился, как повадился В мою конопельку, в мою зеленую Вор воробей!
Вор воробей!
Сама кочановская бабушка в это время сидела в маленькой душной гостиной, окруженная гостьями, рассказывала им свои вещие сны — как ходила во сне по мукам, видела в аду всех врагов своих, кипевших в котле со смолою, жаловалась на убытки, бранила баб и мужиков. С особенным выражением рассказывала она о пьяном индюке, который однажды вывел индюшат.
— Миленькие мои, —- громко говорила бабушка, обводя строгим взглядом почтительно слушавших ее гостей. — Вот какая вышла в моем хозяйстве история. Сидела у меня на гнезде индюшка. И стряслась с этой индюшкой беда. Одной только недели не досидела — околела от куриной холеры. Вижу, пропадает все гнездо. Хотела было курицу-наседку на ее место посадить яйца досиживать, да, как на грех, ни одной рассидевшейся курицы на дворе нет. Всю деревню обегала, на село, помню, к попадье посылала. Богу молилась: «Помоги, господи, в моей беде!» И что вы думаете, явилась тот день из деревни кума Степанида, ровесница моя. «О чем, — спрашивает, — убиваешься, Анна Осиповна, али стряслась беда?» — «Как, говорю, не быть беде: вишь, индюшка околела, пропадает все гнездо!» —- «Не тужи, говорит, дам тебе совет...» ,
На этом месте рассказа кочановская бабушка почти до шепота снижала свой громкий голос:
— «Индюк-то, — спрашивает Степанида, — у тебя, Анна Осиповна, есть?» — «Как не быть индюку!» —
60
/
«А что он у тебя делает?» — «Известно что: по двору* чай, ходит, соплю распустивши!» — «А ты, матушка, с индюком вот что сотвори: прикажи-ка его изловить да сама своими ручками влей ему в рот хорошую чарку водки, как мужикам нашим в праздники подносишь. Заснет после чарки индюк, а ты его, пьяненького, заместо покойной индюшки на гнездо посади. Утром очухается, проснется, — водичкой холодной с похмелья пог^тчуй, дай овсеца поклевать, да опять ему чарочку! Так за неделю, глядишь, и выведет индюшат». И что думаете, — заканчивала свой святочный рассказ кочановская бабушка, — ведь вывел, пятнадцать индюшат у меня вывел пьяненький индюк. Только после беда случилась: с утра, как очухается, отправляется, бывало, прямо к казенному кабаку, где мужики на бревнышках водку пьют. Кой-кто ради смеху и поднесет ему. Под вечер только и возвращался, об индюшках совсем позабыл. Завалится пьяный в крапиву, а индюшки кругом ходят, убиваются: «Клю, клю, клю!
Клю, клю, клю!..» Вот дело какое получилось...
Гости почтительно слушали бабушку, сидевшую в кресле, прикрытом холщовым чехлом, поддакивали ей, иногда перемигивались между собою, смеялись. С удовольствием слушал и я бабушкин святочный рассказ.
Уже позднею ночью, усталого, возбужденного, укладывала меня мать в глубокие бабушкины перины. И еще долго-долго слушал я, как шумят в комнатах гости, как звенят мужские и женские голоса:
Кому мои кудри, кому мои русы Достанется расчесать!
Вернувшись домой, в Кислово, двоюродная сестра Маня Атлярская с удивительным мастерством передразнивала кочановскую бабушку, передавая рассказ о пьяном индюке:
— «Клю, клю, клю! Клю, клю, клю!» — выговаривала она голосом бабушки, и мы все долго покатывались со смеху...
Кроме кочановской бабушки, угощавшей нас слоеными пирогами и рассказывавшей о пьяном индюке, ездили мы к другой отцовской родне — Атлярским в Левшино, От Левшина я запомнил бедный дом, ста¬
61
ринные часы с кукушкой, заросший маленький садик, где мы собирали летом сладкие сливы, покрытые сизым, стиравшимся под пальцами налетом. Отец иногда брал меня к старшему брату осиротевшей семьи Атлярских, чудаку, холостяку и домоседу, жившему в маленьком домике за Угрою, заставленном старинною мебелью, заваленном книгами и журналами — «Родиной», «Нивой». Духом отжитого прошлого уже тогда веяло от этого исчезавшего аксаковского и гоголевского мира...
Из такого же исчезавшего, но более стойкого и цепкого мира был редкий наш гость Василий Дейч, сосед и приятель кочановской бабушки, необыкновенно подвижной, лысый и маленький человек, поражавший меня своими смешными и злыми рассказами. Обычно приезжал Дейч на сытом жеребчике и, привязав его у крылечка, шумно вкатывался в дом. Отец отзывался о Дейче неодобрительно, говорил о темных его делишках. В прошлые времена, еще до «монополии», держал Дейч трактир на большой дороге. В рассказах его было много свойственной городским кулакам-мещанам злой насмешки над серыми наивными мужиками.
— Заезжает раз ко мне в трактир один мужичок,— рассказывал, помню, Дейч. — Ездил в Вязьму пеньку продавать. Купил новые рукавицы, гостинцев набрал бабам. Ввалился в трактир с морозу. Рукавицами похваляется: расписные кожаные рукавицы! Скинул тулуп, рукавицы на полку положил. Начал хвастать. «В Вязьме, говорит, был я в городском трактире, там господа и купцы сидят, поджарку кушают, канарейка в клетке поет! Можешь, говорит, ты мне точно такую поджарку сготовить здесь?» — «Отчего не могу, с полным моим удовольствием!» Подмигнул я пареньку Мишке, незаметно стянул Мишка с полки одну рукавицу. Приказал я ту рукавицу топором мелко-намелко изрубить да на сковородке с лучком и сметаной поджарить. Заказал мужичок полштофа, выпивает, ест, кушанье похваливает: «Ай да господская поджарка!» 13сю сковородку вылизал, водку допил, стал одеваться: хвать, а рукавицы нет! «Где, куда подевалась моя рукавица?» А я так спокойненько говорю: «Съел, брат, ты свою рукавицу всю до основания, — вот и живые свидетели у меня есть, все подтвердят, как ты рукавицу ел да похваливал!..»
62
Уже и тогда не нравились, смущали меня Деичевы насмешливые рассказы. Неприятным казался сам лысый, слишком подвижной бабушкин приятель Дейч, необычным шумом наполнявший наш тихий дом.
ХВАЛОВО
Раз в лето, к медовому спасу, когда заканчивалось меженное время и на полях оставались одни яровые* уезжали мы с матерью на лошадях на ее родину, в Калужскую губернию. Каждую нашу поездку гостили мы в Хвалове, на родине матери, по нескольку дней. Мне хорошо запомнился хваловский большой сад со старыми, сплетавшимися в одну зеленую крышу высокими деревами; широкий, заросший лопухами двор; сажалка с мутной зеленоватой водою, по которой белыми корабликами плавал гусиный пух; деревянное скрипучее колесо под навесом у колодца и особенный, весь дом наполнявший, принадлежавший всем жившим в хвалов- ском доме, домашний хваловский запах. Пахло в хва- ловском доме медом, сушеными яблоками, нюхательным табаком, который употреблял дед, особыми, хва- ловскими, полюбившимися мне пирогами-ситниками и еще чем-то своим, свойственным каждому дому. Особенно был силен этот хваловский запах от самого деда, ходившего в порыжелой, с отвисавшими карманами жилетке поверх длинной рубахи, носившего седую, мб- дово-желтую, волочившуюся по груди бороду, гладко примасленные, кружочком курчавившиеся во1фуг .головы волосы. Помню, как целовал меня в губы, щекоча бородою, пахнувшею этим особенным хваловским запахом и нюхательным табаком.
Теперь, когда вспоминаю его, слушаю сохранившиеся о нем рассказы, смотрю на уцелевшую eito фотографию, — мне понятно, какой это был образец чистопородного крестьянина-великоросса. Его речь, нравившаяся мне и тогда, неторопливая, с обилием ласкательных слов, весь его облик и образ жизни, чуть-чуть сбивавшийся к староверству (дед и крестился двуперстно, размашисто кладя кресты и поясно кланяясь, хотя и ходил в православную церковь), его чудачество и веселый, живой —■ порою крутой — нрав, дедовы веселые шутки* бесчисленные пословицы и пого¬
63
ворки, которыми сыпал он как из рукава, его медовая борода, жилетка с обвисавшими, обтершимися до блеска карманами, короткие сапожки, нюхательный табак, нюхать который он уходил за печку, чтобы никто не смотрел, — сливаются для меня в одно представление цельного, старинного, давно уже вымершего человека.
Жила в последние времена хваловская большая семья жизнью благополучного, со старинным строгим укладом крестьянского дома. До благополучной своей жизни многое испытал дед. Никто толком не знает, откуда пошел, был кто, где похоронен прадед мой, дедов отец. Знаю, что звались мы по деревне Васины, — и теперь так зовутся оставшиеся в деревне дальние родственники наши, — что Новиковыми (фамилия матери) окрестил деда барин, при котором дед состоял доезжачим, что прадеда моего, тоже крепостного охотника, выменяв на борзых, барин вывез откуда-то из Новгородской губернии. Мать моя смутно помнила далекое, тяжелое для нее время: широкий зеленый двор, белые, обглоданные собаками конские кости (собак, господскую псарню, которую барин сохранил и после отмены крепостного права, кормили кониной). Всех, мал мала меньше, было у деда десять человек детей, и мать была младшенькая (родилась мать в сарае, в зимнюю студеную ночь, когда приехали к деду господские гости, а бабке пришел час рожать; ушла она в сарай, в сено, закрыл ее там на замок приходивший за сеном псарь, да так, забытая всеми, и пролежала там с ребеночком до утра). Помнит она, как, держась за сарафан бабки, бегает по двору. Не ведаю я, как уходил от барина дед. Знаю, что до самой смерти барина были они в большой дружбе, что старый холостяк барин любил деда преданной любовью и, как бывало нередко, побаивался его не в шутку, что в молодости был дед неутомимым и горячим охотником-доезжачим, а умирая, барин будто бы посылал за ним, чтобы передать завещание, но случилось, что в самый тот день прислали на село нового попа, дед пошел слушать попов голос и прослушал большое наследство: барин помер, а ловкие люди выкрали завещание, деду от баринова добра не досталось на понюх табаку. Хваловский дом и сад он купил у дорогобужского купца Колупанова и долго по частям возил в Дорогобуж деньги, выпрашивая у купца отсрочки.
64
От прежней охотничьей страсти к псовой охоте, бешеной гоньбе за затравленным зверем на всю жизнь осталась у деда граничащая с цыганской страсть к лошадям и канарейкам. Да и приятельствовал он с ло- шадниками-цыганами, нередко табором останавливавшимися на большой проезжей дороге, с цыганками и голыми цыганятами, любил менять, любил объезжать молодых горячих лошадей. И — дело давнишнее —■ но раз по горячим цыганским следам, гремя колокольчиком, прикатывал на дедов хваловский двор становой пристав... Матери моей каждый год дед дарил хвалов- ского завода жеребенка-третьяка, и помнится, как водили мы на поводу этих дареных жеребят в Смоленскую губернию. Помню и самый дедов табун, — как, бывало, широко распахнут ворота, и выбегут во двор, стреляя, лоснясь гладкими спинами, задрав хвосты и прядая ушами, серые (дед особенно любил серую масть), караковые, вороные и пойдут играть и резвиться по широкому, поросшему зеленой мелкой муравой лугу. Сам дед стоит посреди двора в широкополой, глубоко надвинутой на голову шляпе, с выпущенным из-под жилетки длинным подолом синей в горошек рубахи, с грушевым костыликом в правой руке, — любуется, как, блестя на солнце, поддавая и докусывая, подбегает табун на водопой к колодцу, к длинной, вросшей в землю, долбленой комяге.
Канареек водил дед во множестве. (В прежние времена под Калугою многие важивали канареек, было это вроде особенной охоты и соревнования, а еще и теперь на Полотняном Заводе, на родине Натали Пушкиной, супруги великого русского поэта, по старой па* мяти кой у кого сохранились канареечные садки и заводы.) В те времена, когда мы приезжали гостить, в ХваЛове еще был цел большой канареечник, обтянутый железною сеткою, с гнездами и сухими деревцами, по которым перепархивали, чистили перышки небольшие золотистые птички, много висело на чердаке пустых клеток, в которых в прежнее время сидели на гнездах* выводили птенцов кенарки. В выводе канареек, в ис« кусстве певцов-кенаров (был у деда когда-то особен-* ный, дорогой кенар, за которого давали заводского жеребца, и дед поскупился, не променял кенара, умершего тот же год от куриной холеры) соперничал дед с соседом и сватом своим Карповым, жившим через дорогу*
3 И, Соколов-Микитов, т. 1 65
и не раз ссорились из-за птичьего пения, на долгое время расходились сваты.
Нас, редких смоленских гостей, дед встречал особенной ласкою. Мать была его любимая младшая дочь (да и похожа она целиком на деда). Помню, как кликал он ее Машенькой, как гладила мою голову его шершавая, с протабаченными пальцами, пахнувшая нюхательным табаком рука. И воспоминание хваловского дома неотделимо в сознании моем от этого особого дедова запаха и шершавой дедовой ласки.
АТЛАСНАЯ ТУФЕЛЬКА
От хваловского дома особенно запомнилась мпе большая дедова комната с иконами в дереднем углу, полутемная от росших под самыми окнами молодых и кудрявых лип, со старинным, красного дерева, шкафчиком-поставцом, имевшим много потайных, пахнувших сухими лечебными травами и цветами выдвижных ящиков, из которых, провожая нас, дед доставал и дарил мне завернутые столбиком серебряные маленькие пятачки, с широким старинным диваном, на котором спал дед, с висевшей на стене картиной, изображавшей заходящее над рекой солнце и опрокинутую лодку на заросшем деревьями берегу. В этой комнате молился по вечерам дед. Помню наступавшую тишину, когда становился на колени дед, как перешептывались и на цыпочках ходили по дому взрослые и ребята. В открытую, выкрашенную голубой потрескавшейся краской дверь я видел дедову спину и отвисавшую на жилетке медную пряжечку, лежавший на полу подол длинной рубахи, дедов затылок с седыми, промасленными, курчавившимися на концах волосами. Он читал молихвы, вслух произнося каждое слово, и по всему дому был слышен его голос, произносивший имена бесчисленных, ему одному известных святых. Помню, как поражало меня это, производившее непонятный страх и тишину, шепотом произносимое: «Дедушка молится!..»
В большие двунадесятые праздники, еще до еды, молились обычно в большой дедушкиной комнате всею семьею. Внуков и внучек дед заставлял снимать сапоги и башмаки, девицы стояли перед иконами на коленях, выставив из-под платьев голые пятки. Дедушка читал
молитвы вслух, сурово хмуря брови и шевеля медовой своей бородою, перед каждым молящимся крест-накрест кадил старинной староверской кадильницей, от которой по всему дому растекался синий приторный дымок ладана. После молитвы, сморкаясь и кашляя, чинно шли в столовую, садились за накрытый домотканой скатертью стол с шумевшим начищенным бузиной самоваром и целой кучей румяных пшеничных пирогов на подносе. Перекрестившись широким крестом, встряхнув волосами, дед обычно говорил:
— Ну, девки и ребята, беритесь-ка теперь за горячие пироги!
Помню, моя двоюродная сестра Маня, первая проказница и шалунья в хваловском доме, не выдержав торжественного благочестия праздничной молитвы, стоя на коленях сзади любимой дедушкиной внучки Вавочки, усердно клавшей земные поклоны, поддавшись искушению, тихонечко пощекотала ее выставленную голую пятку. Отчаянный визг нарушил торжественную строгость молитвы. Дед выгнал проказницу Маню на улйцу, не позволил садиться за стол, пригрозил больно высечь.
Несмотря на показную суровость, приверженность деда к старинным правилам и обрядам, многое уже менялось и в хваловском строгом доме. Давно вывелись жестокие наказания, смелее держалась наезжавшая гостить молодежь. Тихонько поговаривали старшие внуки и внучки, что был не безгрешен некогда сам дед, что, несмотря на всю строгость его и богомольство, живет в деревне его бывшая любовница Акулина и теперь — по старой памяти — дед. посылает ей из хваловского сада подарки, яблоков и меду, что когда-то, в дни молодости ревнивая наша бабка Авдотья Петровна, застав деда с любовницей, откусила нос у соперницы своей Акулины...
По-прежнему непримирим был дед к модникам-уха- жерам, повадившимся ходить в Хвалово к внучкам- невестам. Придут из Бабынина, с новой железнодорожной станции, франты телеграфисты в высоких накрахмаленных воротничках, в фуражках с желтыми кантами, заведут с барышнями разговоры, начнут писать чувствительные стишки в альбомы. Напудренных сердцеедов телеграфистов дед бесцеремонно называл «бес-
3*
67
портошными». Выйдет, бывало, в садг увидев незваных гостей, насмешливо вслух скажет:
— Господам беспортошным мое почтение!
От стыда сгорали от этих неприличных дедовых Слов стыдливые хваловские девицы...
Вместе со скаредной скупостью, показной строгостью были в хваловском доме и настоящее добродушие, простая доверчивость, открытое русское хлебосольство. Внуками и внучками полнился дом. Почти безбоязненно бродили мы по старому хваловскому саду с глубокими карасевыми сажалками и высокими деревами, облепленными гнездами грачей, залезали на яблони, трясли груши — бабушкин бергамот и бессемянку, объедались сладкими сливами. Не очень страшил нас костыль, которым дед грозился на проказников, затаившихся в вершине яблони или груши. Детские наши сердца безошибочно чувствовали доброту деда, скрытую под напускной его строгостью. Чутко чувствовал и я скрытое добродушие хваловского деда. Бывало, подзовет меня, пощекочет своей бородою, ласково скажет:
— Расти, Сивый, велик, расти высок —во-о-от какой!..
И своими старческими, но все еще сильными руками, беззубо усмехаясь, обдавая знакомым запахом нюхательного табака, поднимет под самый потолок.
Мне, любимому внуку, редкому гостю, разрешалось бывать в дедовой комнате. С волнением разглядывал я дедовы вещи: столярные и шорные инструменты, долота, клещи, молотки. Из многих вещей особенно запомнилась изящная атласная туфелька, бережно хранимая дедом в ящике старинного, красного дерева, поставца. Уже много позже узнал я от матери романтическую историю атласной туфельки, еще больше укрепившую во мне уважительное чувство к деду.
Эту трогательную историю, помню, мать рассказывала так. Некогда, еще в своей молодости, будучи крепостным, жил дед у своего помещика Филимонова, в селе Матюкове. Раз вышел он ночью на крылечко — видит, зажегся в церковных окнах свет. Дед подумал, что в церковь забрались воры, побежал к ограде, чтобы ударить в набат. Подбежав к ограде, увидел он за церковью тройку запряженных в карету лошадей, от нетерпения рывших копытами землю. Догадался дед, что кто-то венчается тайно в церкви* и только успел сту¬
68
пить на паперть, а навстречу ему спешат молодые, уже из-под венца. Дед узнал под фатою невесту — это была соседнего богатого помещика единственная дочь. Признал и ее жениха —■ отставного драгунского офицера, забулдыгу и мота, на всю губернию прославившегося кутежами и картежной игрой, давно спустившего отцовское состояние.
Только вышли молодые из церкви — слышат, за нпми летит погопя, подкатывает к воротам церковной ограды отец невесты. Услыхала невеста голос отца, упала в обморок. Подхватил ее на руки молодой муж и при помощи деда, любившего рискованные приключения, стал пересаживать через высокую каменную ограду. В торопливости и спешке обронила с ноги атласную белую туфельку насмерть перепуганная, бесчувственная невеста.
Самую эту туфельку бережно спрятал за пазуху дед и, в воспоминание о пережитом в молодости романтическом приключении, свято хранил до своей смерти.
Рассказывала мать, что отец похищенной невесты до самой реки гнался за молодыми, и когда подкатила к перевозу его замыленная тройка, беглецы были уже па том берегу. Выхватив из рук перевозчика топор, похититель перерубил перекинутый через реку канат, ничем не удерживаемый паром поплыл по течению. Долго стоял на берегу, потрясая над головой кулаками, .грозясь своему врагу, проклиная смертным проклятием родную дочь, оскорбленный отец.
Как это обычно бывало, жестоко несчастна была в браке обманутая проходимцем невеста; зло насмеялся, выгнал ее из дома развратный муж. До самой смерти, так и не добившись прощения от разбитого параличом отца, скиталась она с детьми по чужим людям. Даже на смертном одре, когда, прося о пощаде, припала дочь к холодеющей отцовской руке, не простил ее-умиравший отец, все свое состояние отказавший посторонним людям. У отцовского смертного одра еще раз услышала она его последнее жестокое слово:
— Проклинаю!..
Атласная белая туфелька, бережно хранимая дедом, печальный и трогательный рассказ о несчастной, поруганной женщине еще и тогда производили на меня неизгладимое впечатление. Подолгу держал я в руках
атласную туфельку, и пылкое мое воображение отчетливо рисовало несчастную невесту, ее беспощадного деспота отца.
Рядом с большой комнатой, где жил и молился дед, а в ящике старинного поставца хранилась заветная атласная туфелька, напоминавшая деду о его молодости и отошедших временах, — в отгороженной маленькой комнатенке с оконцем, выходившим в зеленый, гудящий пчелами сад, недвижимо лежала больная водянкой родная бабка моя Авдотья Петровна. Я совсем не помню ее здоровой, ходящей на своих ногах. Помню, как всякий раз, приезжая в Хвалово, мать плакала над постелью бабки и посылала за фельдшером в село, как приезжал в Хвалово самый этот фельдшер с побелевшей от пыли бородою и от него пахло карболкой. Мало осталось в моей памяти от старой хваловской бабушки. Запомнились тяжелый наполнявший ее комнатку воздух, как сидит, плачет у ее изголовья мать, а она лежит недвижимо, закрывши глаза, тяжело дышит. Запомнились ее неподвижные руки, доброе желтоватое лицо с татарскими глазами. Так же, как о своем деде, по рассказам людей я знаю, что до болезни своей была бабка неутомимой хозяйкой, что и не успевала* она надевать в рукава шубу, зимою и летом летая по хозяйству/— без устали носили ее ноги от одного к другому делу. И еще запомнился мне бабушкин медовый квас, которым она меня угощала, — как шипит, пенится, бьет в нос любимая ее шипучая водица.
А всего больше из хваловского дома запомнилось большое застолье. Садилось в Хвалове всякий день за стол не менее пятнадцати человек, больших и малых, в глубокой долбленой чашке подавались на стол деревянные ложки. И у всякого была своя, отмеченная зарубками ложка. На пятнадцать больших кусков делил дядя Аким над столом хлеб. Хлебали все из одной большой чашки, подставляя под ложки кусочки черного хлеба, кладя на стол ложки горбами кверху. Сам дед хлебал кипарисовой монастырской ложкой с резным крестом на стебле. И плохо приходилось тому, кто положит ложку на горб, уронит кусочек хлеба или хихикнет невзначай за столом.
— Ах ты таракан запечный! — скажет, бывало, дед, и дедова монастырская ложка пребольно хлопнет виновника по лбу.
70
ДЯДЯ АКИМ
В те времена, когда мы приезжали гостить в Хва- лово, уж терял над домашними свою грозную власть старый наш дед Иван. Недвижима, в водянке и пролежнях, лежала бабка, верная помощница деда. По старой памяти еще побаивались домашние деда, притихал по вечерам на время молитвы весь хваловский дом, еще с хозяйской точностью выходил дед любоваться на водопой, на игравший и кусавшийся табун* — а уж не те были люди, не те наступали времена.
В самую силу свою дед ходил от крестьян выборным гласным, правил своими и общественными делами. Несмотря на свою деловитость, всю жизнь дед остался безграмотным, не разбирал букв и цифр, сложную хозяйственную бухгалтерию вел на своем обтершемся от рук костыле. Костыль, с которым не расставался дед, служил ему приходо-расходной и памятной книгой. Бывало, продавши на стороне хлеб или дрова, посылал он с покупателем костыль свой для передачи своему ровеснику и однодеревенцу Федору, единственному в Хвалове человеку, совсем не боявшемуся деда, и Федор, один разбиравшийся в дедовых крестиках и мудреных зарубках, говаривал пытавшемуся его обмануть, божившемуся, крестившемуся на иконы прасолу- мещанину:
— Верю, верю, дружок, что у тебя все заплачено* не божись, не гневи бога. А лучше выкладывай денежки по уговору либо оглобли поворачивай со двора...
В прежние времена, когда еще не была замужем мать, не знали в хваловском доме железных замков и запоров. Амбар и кладовая запирались попросту на дубовые задвижки, открывавшиеся дубовыми же крючками. Висели эти крючки на своем месте, под притолокой, у выходной двери. Замки и ключи завелись позже, когда стал попивать, стал горько загуливать дядя Аким, младший сын деда.
Не знаю, как и когда стал пить дядя Аким. Слышал я позже, что силою женил его дед на дочери приятеля своего и соседа, некрасивой и вялой девушке Марье, что еще до женитьбы была у дяди где-то в городе любовная связь с молодой и веселой купчихой-вдовой, что на коленях валялся он перед дедом* прося отпустить*
71
выдать паспорт, но на своем настоял строгий дед. На собственной свадьбе впервые мертвецки напился дядя Аким и с тех пор стал пить запойно. Однажды, повздорив с дедом, дядя Аким убежал от нелюбимой жены в Москву. Знакомые люди видели дядю Акима в Москве на церковной паперти, протягивавшим руку вместе с попрошайками-босяками. Много раз посылал дед в Москву верных людей, чтобы уговорить сына вернуться. Однажды на Хитровке посланцам удалось залучить дядю Акима, привести в чайную. Там, за чаем и закуской, дедовы посланцы стали его убеждать вернуться домой к покинутой семье, рассказали, как трудно деду управляться с хозяйством, от имени самого деда обещали прощение всех старых обид. Дядя Аким слушал речи посланцев внимательно, потом, вдруг задумавшись, попросился на минуту отлучиться и не вернулся совсем. Уж во "второй раз дедовы посланцы хитростью заманили дядю и, напоив мертвецки, силком, чуть пе связанного доставили в Хвалово, в дедовский дом.
Пил дядя Аким в периоды запоя безудержно, пропиваясь до последней нитки, и не раз привозили его в дом полумертвым. Тогда запирали дядю Акима в пустую кладовку в саду, и он, мучаясь жаждой, жгучим желанием опохмелиться, сидел у прорубленного в стене оконца, жалобно плакал. В такие разы его выручали племянники-ребятишки, игравшие в лопухах за кладовкой. Бывало, подманит нас к окошку, станет просить- умолять:
— Ребятушки, голубчики, налейте мне рюмочку, хоть самую маленькую...
— Нету у нас, дяденька.
— А вы на село сбегайте, купите. Вам тетя Маша по двугривенному подарит...
Дядя Аким так жалобно просил, так горько плакал и обливал слезами паши маленькие руки, что нельзя было не пожалеть его. И с детским горячим желанием помочь несчастному дяде Акиму мы бежали на станцию к Потапычу, с великими предосторожностями приносили водку, купленную на подаренные нам моей матерью деньги.
— Вот вам, дяденька, — говорили мы, просовывая из лопухов бутылку.
72
А дядя Аким отказывался брать целую бутылку; жалобно говорил:
— Вы мне, ребятушки, самую маленькую, только полрюмочки налейте да сюда в руки подайте,
Мы наливали, протягивали ему водку в оконце* А как плакал тогда, благодарил, целовал наши загорелые руки несчастный дядя Аким. Через час он опять призывал нас, просил налить еще полрюмочки, опять плакал, трогательно нас благодарил.
Когда бывало выпито все вино, дядя Аким становился вдруг строгим и трезвым, говорил твердым голосом:
— Теперь ступайте, ребятки, кличьте дедушку!..
По нашему зову дедушка брал ключи, шел освобождать дядю Акима. А дядя падал перед дедушкой на колени, целовал землю, клялся и зарекался больше не пить. Слово свое он держал иногда долгие месяцы* потом срывался, — и опять привозили его растерзанным, потерявшим человеческий облик, он опять плакал и клялся, просил хоть капельку опохмелиться.
Кроме дяди Акима, в многолюдном хваловском доме жил, помню, из близких людей родной брат деда, холостой дедушка Михайло. Жил он и ночевал в бане, в дом приходил обедать, в хозяйстве занимался птицами и пчелами; шапку свою, большой выгоревший картуз, вешал всегда на одно место — на стену под часами с длинным качавшимся маятником.
— Дедушка Михайло, а дедушка Михайло, а гусыни-то все яйца перебили, — скажем, бывало, ему за столом.
— Ах вы разэтакие, вот я вам! — рассердится дедушка Михайло, ввернет крутое словечко.
— Ты бы полегше, Михайло! — строго заметит, бывало, дед Иван. — Чай, за столом сидишь.
— А что же они, туды-растуды, над дедкой смеются! — еще солонее запустит по всему застолью Михай- ло-дед.
А запомнился мне дедушка Михайло пчелами: как идет, бывало, с дядей Акимом с пчельни, в лубяной надетой на голову сетке, с новым липовым корытом в руках, полным чистого сотового меда: как лакомились мы намазанными на свежие зеленые огурцы душистым и теплым дедушкиным медом!
73
СМЕРТЬ ДЯДИ АКИМА
Уже много позже я узнал, как мучительно, трагически умер, страдая раком, неугомонный дядя Аким. Люди рассказывали, что лежал он в гробу тихий, под образами, где обычно молился наш дед. Приглашенная из Калуги старушка монашка, третью ночь читавшая псалтырь, выпив для поддержания сил рюмочку крепкой вишневой наливки, задремала над покойником, уронила на* тюлевый покров зажженную свечку, легкий тюль вспыхнул, сгорели волосы и борода у покойника, оголилось, помолодело лицо. Вдова дяди Акима Марья Петровна, убивавшаяся по мужу (несмотря на муки и все жестокие издевательства, своего мужа она любила мучительной, беззаветной любовью), подводила к гробу гостей, показывая на неузнаваемо изменившееся мужнино лицо, с улыбкой говорила:
— Посмотрите-ка, как помолодел, похорошел мой голубчш#. Опять женишком стал...
Невыразимо тяжела была в суровом хваловском доме судьба этой несчастной, нелюбимой женщины. Смутно помню ее бледное, некрасивое, с нездоровой желтизною лицо, бледные вялые руки, черную косынку. Помнится, почти не выходила она из своей полутемной комнатки, занятой двуспальной деревянной кроватью, с единственным оконцем в сад. В хваловской семье она не имела голоса, все, что делалось в доме — даже судьба ее родных детей, — решалось помимо ее воли, ее желаний. Насильно выдал хваловский дед ее старшую дочь Алену за безграмотного богатого мужика. Жених был нелюб невесте, не нравилось его простое деревенское имя: Никита. «Нос-то у твоего жениха утиный!» — нашептывали невесте подружки. И впрямь неказист, дурковат был этот нелюбый жених. Головой билась она о пол- перед свадьбой, валялась у деда в ногах, но был неумолим к девичьим слезам суровый наш дед. Подобно деду, неухмолимым оказался и родной отец. «Стерпится — слюбятся!» — твердили они в один голос на все мольбы убивавшейся невесты.
Перед самым венцом порвала она на себе подвенечное платье, разбросала белые восковые цветы, которыми украшали ее голову. В тот день, хоть и приказано было женщинам не спускать с нее глаз, убежала
74
ода в сад, пропала. Жившая в черной избе дурочка Феня видела, как тайком по снегу пробиралась невеста к пруду. «Не велела сказывать никому!» -—твердила на все вопросы Феня. Строго допросив Феню, кинулись по следам невесты в . сад. Нашли Алену на пруду возле проруби. Бросившись в узкую прорубь, безуспешно пыталась она утопиться. Привели ее в дом мокрую, с растрепавшимися обмерзшими волосами, наспех одели и причесами, отправили под венец в церковь. Так и стояла она под венцом с непросохшими черными ко- сами. Предсказание деда, казалось, сбылось. Через год родила Алена первого ребенка. «Стерпятся — слюбятся!»—упорно твердил дед, во всем упрекая нелюбимую сноху, несчастную мать Алены. Но, видно, не прошли для Алены ее сердечные тяжкие муки: рассказывали люди потом, что, народив много детей, сошла Алена с ума, вообразила себя собакой, по-собачьему лаяла, бросалась на людей, ходила на четвереньках. Еду ей ставили в собачьей плошке в углу. Садиться за общий стол она упорно отказывалась.
Приезжая на праздники в Хвалово, мать с особенным ласковым участием относилась к своей несчастной невестке. Не раз настойчиво защищала ее перед дедом, спорила с дядей Акимом, не страшилась говорить правду в глаза. С приездом матери оживала, смелее смотрела на людей забитая Марья Петровна, румянец появлялся на вялых ее щеках. И — странное дело'— с приездом матери как бы оживал хваловский дом, добрее разговаривали между собою люди, приветливо смотрел суровый хваловский дед.
Еще раньше дяди Акима умерла в хваловском доме моя бабка Авдотья. В прошлые времена, до тяжкой болезни, надолго уложившел ее в постель, не знала она покоя. Сама вела в доме хозяйство, возила в Калугу продавать яблоки, битую дичь. Еще задолго до смерти тайно от деда составила она завещание, в котором принадлежавшую ей часть купчей земли завещала своим дочерям: Любови и Марии. Завещание бабушки, как водилось тогда, в сороковой день на поминках огласил матюковский поп. Когда подали кисель, он торжественно встал, оправляя волосы, внятным голосом от слова до слова прочитал завещание. Побагровел, стал пунцовым дед, зашумели обделенные братья Аким и Алексей. Со злобою глядя на родных сестер, вспыльчи¬
75
вый дядя Аким при всех людях крикнул сестрам через поминальное застолье:
— Разорили, обули нас, братьев* в лапти родные сестрицы! Хомут придется надевать...
Покойный дядя Аким преувеличивал, был неправ. Еще много оставалось у деда земли, был нетронут и молод сад, велика была хваловская пчельня: хватило бы добра и не на одну семью. Но так уж водилось в прежние времена: наследство разделяло и ссорило подчас самых близких людей.
С тех пор как бы надорвались отношения у моей матери с хваловским родным домом. Не могла она гостить подолгу в Хвалове, несправедливой казалась нанесенная покойным братом обида, отвратительной казалась жадность обделенных наследников.
Все наследство свое — землю и деньги — мать уступила старшей многодетной сестре своей Любе, прожи* вавшей с семьей в Сухоломе. Мой отец не перечил. «Делай, как знаешь, — сказал он моей матери с обычным своим добродушием, — твое добро —твоя воля!»
СУХОЛОМ
Всякий раз, возвращаясь из Хвалова в нашу лесную Смоленщину, заезжали мы по дороге к старшей и любимой сестре моей матери — в шумный, многолюдный, веселый Сухолом.
Помню пыльный большак, старые развесистые березы, калужские села и деревни, которыми мы проезжали: покрытые соломой бедные избы, жалкие цер- ковушки, над которыми с пронзительным свистом носились в голубом небе стрижи. Возбужденная близкой встречей с любимой сестрой, мать рассказывала о своем детстве, о том, как когда-то ездила с дедом по этой дороге.
Незабываемое впечатление произвел на меня сухо- ломский дом, с утра до позднего вечера полнившийся звоном голосов, топотом детских ног. Всего оглушительнее, покрывая крики и смех детей, раздавался голос мужа тети моей, Александра Александровича Доброва, отца многочисленного семейства. Как сейчас вижу его обожженное солнцем доброе, круглое, с морщинками вокруг серых глаз лицо, большие руки, ко¬
76
торыми он размахивал при разговоре, его трубный го л ос, весь день раздававшийся то в просторных комнатах старинного барского дома, то на широком дворе, то в убранном поле за ригой, где гремела конная молотилка, то в старом саду — прибежище наших игр и проказ. Несмотря на свою вспыльчивость, напускную шумливость, был Александр Александрович умелым и дельным хозяином, разумно правил хозяйством, которое снимал в аренду у проживавших в городе некогда богатых и знатных помещиков Филимоновых, забросивших свое родовое гнездо. Сухоломский дом всегда был полон гостями. Званые и незваные садились в Сухоломе за стол, жили во всех больших и малых комнатах старинного просторного дома, ночевали в беседках, на сеновалах, в саду, И удивительное дело: на всех званых и незваных гостей хватало и места и хлеба в гостеприимном доме, каждому новому гостю шумно радовалась добродушная семья. Казалось, сама фамилия этой семьи — Добровы — необыкновенно подходила к сухоломскому дому, славившемуся радушием и хлебосольством.
Даже теперь, спустя многие годы, с особенным чувством я вспоминаю сухоломский дом, большую и шумную добровскую семью. Вспоминаю тетю Любу, в облике которой многое напоминало мне родную матц приветливую и тихую ее улыбку, вспоминаю ее мужа Александра Александровича, громовой его голос, как^ вернувшись с поля, наводит он, бывало, в своей шумной семье порядок. Но больше всех пз сухоломского многолюдного дома запомнилась родная сестра Александра Александровича, которую мы, дети, ласкательно называли Титией (так называла ее когда-то старшая дочь тети Любы, и это ласкательное имя, произнесенное еще младенческими устами, осталось за ней навсегда). Все свое многолюбивое сердце отдала эта одинокая женщина семейству брата. На руках Титии —' от мала до велика — выросли добровские дети, вся огромная и шумная добровская семья. Дети любили Ти- тию нежной, преданной любовью, детские сердца безошибочно чувствовали ее глубокую самоотверженную доброту. Никогда ни перед кем из детей она не заискивала, ни па кого не раздражалась, умиротворенно и ласково звучал ее тихий голос. Помню сухую, худенькую фигурку, взгляд добрых глаз, папироску в
77
маленькой быстрой руке, бородавку на ее морщинистом лице (казалось, самая эта бородавка особенно подчеркивала доброе выражение ее лица). Помню, как, окружив тесным кольцом, теребили ее племянники и племянницы, как наперебой слышалось:
— Титиюшечка, Титияшечка, Тития!..
Верной нашей защитницей была Тития, когда самым неугомонным проказникам грозило наказание (в сухоломском доме розги и строгие наказания применялись лишь в исключительных случаях). До самой смерти, пользуясь неизменной любовью, прожила она в семье брата, по-прежнему заботясь о взрослых, уже поженившихся, вышедших замуж своих племянниках и племянницах, с тою же ласкою произносивших дорогое всем имя:
— Титиюшечка, Титияшечка, Тития!..
Из бедной дворянской семьи происходил сам Александр Александрович, в жолодости служивший офицером. Говорили, что поигрывал он некогда в карты, что не полюбилась ему беспутная жизнь в пехотном полку. Выйдя в отставку, женился он на сестре моей матери — тихой и очень спокойной женщине, стал служить, арендовал у помещиков землю. (Хозяин он был замечательный, эти хозяйственные способности передал своим детям, из которых двоюродная сестра моя Маня, пользующаяся общей любовью, и по сие время руководит большим цветочным хозяйством.) Даже в самой внешности Александра Александровича было что-то от прошлого, от старых, отжшых времен. Такие лица видел я на портретах людей в старинных книгах и журналах. Отец мой, изредка наезжая в калужские края, дружил с Александром Александровичем. Вместе посмеивались друзья-свояки над мужицкою скаредностью тестя, над его напускным богомольством. Нет, не был похож сухоломский шумный н веселый дом на суровое и строгое дедовское Хвалово...
Нас, редких смоленских гостей, в сухоломском доме встречали с особенным вниманием и любовью. Помню, как радовалась встрече с сестрою мать, как запирались, не могли наговориться после долгой разлуки родные сестры, как подхватывал меня незнакомый и шумный водоворот сухоломской жизни. После кисловского вынужденного одиночества, поэтических сказок отца, после любимых моих уголков, где я непосредственно
78
сливался с природой, сухоломская шумная жизнь меня потрясала. С утра до вечера носились мы по старому парку, взбирались на чердаки, где с покрытых пометом балок и гнезд шумно срывались голуби. Тайнами, сказочными чудесами был полон для нас сухоломский старинный дом. Братья и сестры шепотом рассказывали о привидениях, о таинственных шагах, раздававшихся по ночам на чердаке. С трепетом заглядывали мы в замочную скважину запертого кабинета, где еще с крепостного времени, вместе с кадушками овса, хранилось охотничье снаряжение, висели на стенах старые седла, ружья и пистолеты. Эта таинственная, никогда не отпиравшаяся комната была источником вымыслов и наших страхов. Не раз видели здесь покойного сухоломского барина, с трубкой в руках, в колпаке и халате. Досужие рассказы распаляли наше детское воображение. Взявшись за руки, тайно от верного нашего стража Титии, выходили мы слушать таинственные шаги. Дрожа от ночного холодка, в одних рубашках, босиком стояли мы в большой нежилой комнате с балконом в сад. Лунный свет лился в окна, отчалнно бились сжимаемые страхом маленькие наши сердца. Помню холодок ужаса, пробежавший по корням волос, когда бойкая проказница сестра Маня* умирая от страха, мне прошептала:
— Идет, слышишь — идет!..
Я не знаю, кто производил эти загадочные звуки (быть может, гомозились на чердаке голуби, или наше воспаленное воображение само их создавало), но мы все отчетливо тогда слышали приближавшиеся таинственные шаги. Кряхтя и покашливая, кто-то спускался с чердачной лестницы. Объятые трепетным страхом, держась за руки, убегали мы в детскую комнату, где горела тихим светом лампадка, спокойно и мирно похрапывая, спала в своем уголку не подозревавшая о наших ночных похождениях верный наш страж Тития...
Забившись под одеяло, долго не мог я заснуть. Мир ночных ужасов, фантастических страхов, с непостижимою силою притягивавших к себе воображение, властвовал над болезненно восприимчивой душою. И особенно радостным казалось тогда пробуждение: яркий свет солнца, бодрый крик петухов, вместе с утренним
79
ветром врывавшийся в раскрытые окна детской спальни, ласковый и спокойный голос будившей нас Титии.
В шумном, многолюдном Сухоломе гостили мы целую неделю. Всю зиму вспоминался мне Сухолом, многолюдная добровская семья, наши детские приключения и проказы. И особенно запомнились таинствен* ные шаги в старинном сухоломском домё, ночные детские страхи, надолго оставившие след в моей впечатлительной душе. j
ЗИМНИЙ ДЕНЬ
Короток кисловский зимний день. Бывало, проснешься рано, разбуженный грохотом просыпавшейся на пол вязанки дров. На замерзшем окне алмазами переливается солнце. Хорошо полежать, пригревшись, думать, что на дворе мороз и отлично должна замерзнуть политая с вечера опрокинутая с крыльца «коза». Хороша вскочить и, ежась от холода, бежать через сени в избу, где жарко топится печка, а проворная девка Кулинка с закутанной в платок головой хлопочет и носится по хозяйству. Холодно — бррр! — умываться обжигающей водой, в которой плавают, стек- лянно стукаются прозрачные льдинки. Хорошо стоять у полыхающей печи, греть спину, слушать, как в сенцах чьи-то скрипят шаги, в тяжело открывшейся двери вместе с облаком пара показывается нищий. Он останавливается у порога, неторопливо стаскивает шапчонку с лысой восковой головы, крестится на угол, где на столе под полотенцем лежит початая коврига, здоровается мирно:
— Хозяину и хозяюшке хлеб да соль!
— Замерз, дедушка? — ласково говорит Кулинка, вытирая о фартук мокрые руки, подходит к столу.
— Бяда, милая. Совсем застыл, — весело, точно чему-то радуясь, отвечает ей нищий.
Он стоит у дверей, потирая заколяневшие пальцы, повесив на костыль шапку. На нем короткая, с пришитыми старыми полами шубейка, поверх шубейки ветхий, подпоясанный лыком зипун. Через плечо висит длинная холщовая сумка. На бороде его, на усах тают сосульки.
Кулинка, двигая локтями, отрезает, подает нищему большой ломоть. Он с поклоном принимает хлеб, кладет в сумку.
— Издалече идешь, дедушка?
— Дальние мы, — отвечает дед, с трудом засовывая в суму ломоть, — дальние, дочушка, заугорские, нуж- дишка погнала.
— Да ты погрейся, садись.
Дед садится на край высокой скамейки, не выпуская костыль, расставив тяжелые обмерзлые лапти.
— Мороз — бяда, — говорит он громко, сгребая с усов сосульки. — На мельнице анадысь сказывали: девяносто пять градусов. Крепче шпирту...
Кулинкины локти двигаются быстро. Она загребает переливающиеся жаром угли, бойко поматывая подолом, заметает мокрым помелом печь. Маленькие серые глазки из-под косматых бровей привычно и благожелательно глядят на быстрые Кулинкины локти, на Кулин- кину широкую спину. Сколько раз видели эти глаза, как бабьи руки вынимают тесто, бросают на осыпанную мукой лопату, как вырастает, ладится под быстрыми пальцами сырая - хлебная коврига!..
— Чаю выпей, погрейся, дедушка, — ласковым голосом говорит Кулинка, отрываясь на малую минутку, запястьем вытирая запотевший под платком лоб.
Прислонив к стене костыль, старик неторопливо подвигается к столу, сам наливает чашку из погасшего самовара. Крестясь, дуя на одубеневшие пальцы, держит за донышко блюдце. Я с великим любопытством, со странным чувством влечения и страха (дед страшен: страшны его тяжелые руки, его косматые брови) смотрю на его заросшее седыми волосами лицо, черные его, точно налитые чугуном руки, на серые, нечеловечески зоркие глазки, на сплошные желтые зубы, которые открываются под съеденными зеленоватыми усами. Есть в нем что-то пугающее меня. Нечеловеческим показываются его голос; спокойная неторопливость его движений, звериная косматость его лица. Пугает он меня этой косматостью, громовым своим голосом, привлекает своею простотой, бедностью одежды.
— Сколько годов тебе, дед? — спрашивает, возясь у печи, Кулинка.
— Годов-то? Годов, дочушь, много, чай, за сотнф перекатило...
б И, Соколов-Микитов, т« 1 81
Он выпивает десять чашек, выцеживает остатки и, опрокинув чашку, перекрестившись, садится к окну, на прежнее место.
— Вот и отогрелся, спасибо, дочушь, — говорит он, усаживаясь и беря костыль.
Я, не спуская глаз, смотрю на его лицо, на полы шубенки, на его обмотанные оборами ноги, на обтаявшие новые лапти.
Он сидит долго, греется, потом, попрощавшись, выходит на мороз, слышно, как скрипит ступеньками, сходит с крыльца. Я одеваюсь, закутываюсь, выбегаю следом за ним. На воле ослепляет отраженное в снегах солнце, перехватывает дыхание мороз. Жмурясь от яркого света, чихая, натягивая рукавички, спускаюсь па снег. Береза, вся в белом, роняет легкие, крутящиеся в морозном воздухе хлопья. На ольхе висят черные шишки. Хорошо, прикрывши рукавичкой лицо, бежать по поющему алмазному снегу! Ярко блестит дорога, отчетливо чернеет на снегу обледенелый навоз. За деревней, под мельницей, катаются с горки ребята. Замороженная «коза» летит, подскакивая и кренясь, я обеими руками крепко держусь за ее верхнюю доску, в лицо дует и свистит ветер. «Эй, эй, берегись!..» — кричу, вылетая на раскатанную у мельницы дорогу.
Снег поднимается пылью, забивается в рукава, под сбившийся башлык. Приятно горят руки, щиплет щеки мороз, а еще не скоро весь в снегу возвращаюсь домой, и, оттирая щеки, укоризненно говорит мне мать:
— Вот подожди, набегаешься, отморозишь нос!..
БРАТЕЦ
Я застал еще отживавших свой век странных, невозможных на нынешний глаз людей, с их старинными привычками и укладом, панической боязнью перед всем новым.
Таким странным, не от мира сего, человеком был двоюродный братец мой Александр, проживавший в пятнадцати верстах от нашего дома в маленькой, доставшейся ему по наследству усадьбе. Раз в зиму мы ездили с отцом в гости к этому одичавшему и добродушному отшельнику, ни разу за всю жизнь свою не побывавшему в городе, не ездившему по железной до¬
роге. Отец относился к племяннику с добродушной насмешливостью, любил пошутить над чудаком, над его боязнью всего и старинными привычками. Мне запомнился небольшой, под деревянною крышей, домик на краю деревеньки, голые старые липы, скворечня на по- хинувшемся высоком шесту, обмерзлая, вмерзшая в снег водопойная комяга, утонувшая в кучах конского и коровьего навоза. Братец встречал нас с приветливостью, но как бы и с испугом. Добродушный взгляд его выражал беспокойство. «Как бы чему не повредили, не нарушили привычный порядок...» — думал он, встречая дорогих гостей. Зимою братец жил в двух нестерпимо накопленных комнатах с маленькими, покрытыми ледяным узором оконцами, с полыхавшей жаром лежанкою, украшенной старинными .изразцами, на которых были изображены голубые цветы. Сопровождаемые братцем, не перестававшим приветливо улыбаться, вваливались мы в его жаркую и тесную берлогу. Все здесь было в беспорядке: мебель, посуда, домашние вещи, книги и газеты, грудою хранившиеся на полках и под диваном. Но этот беспорядок, свежему человеку казавшийся хаосом, и был тот привычный домашний порядок, нарушения которого больше всего страшился холостяк-бирюк. Добрые глаза его как бы молили: «Ешьте, пейте, но, бога ради, не трогайте, не касайтесь моих привычных вещей, — я привык так жить».
Для него нестерпимым казался всякий шум, громкий, веселый или повышенный голос приезжего человека. Говорил он, несмотря на свой большой рост, голосом тихим, как бы боясь вымолвить лишнее слово. Движения его были медлительны и ленивы; большие добрые руки двигались только при крайней необходимости, они тоже страшились что-либо нарушить* передвинуть с привычного места.
— Ну, медведь, как живешь? — говаривал отец, смеясь и снимая холодный, обындевелый тулуп, с мо«* роза сильно пахнувший овчиной.
— Спасибо, дяденька. Здоровье слабое...
— Здоровье? — говорил громко отец. — Женить тебя надо! Вот и поправится здоровье.
— Что вы! Что вы, дяденька, — ужасался братец.
— А мы, брат, и невесту для тебя приглядели, —* подмигивал отец. — И хороша, и румяна, и с приданым.
6*
83
— Долно шутить-то, дяденька...
В углу горела лампада, синенький огонек тускло освещал оклад старинной иконы.
— Живешь точно подвижник, угодникам молишься, — шутил отец, — чай, ешь одно постное. А мы, брат* скоромники. Выставляй-ка угощение, корми гостей.
— Да нету у меня ничего, дяденька...
— Врешь, врешь, ставь на стол. А то вот сам пойду, запасы твои проверю.
На столе мало-помалу, как бы преодолевая всеобщую неподвижность, неохотно появлялись кипевший старинный самовар, нарезанное на тарелке сало, сахар и мед, малиновое варенье в большой старинной вазочке, ссохшиеся баранки, топленое молоко с надувшейся пахучей пенкой.
— Ну и скуп ты, брат, — говорил отец, решительно принимаясь за еду.
Ночевали мы в маленькой комнатке на старинной деревянной кровати, скрипевшей при малейшем движении. Братец спал на горячей лежанке, накрывшись с головой овчинным тулупом. Жара была невыносимая.
Лежа рядом с отцом, я то задремывал, и тогда обступали меня видения, то вдруг просыпался, чувствуя нестерпимый зуд, смотрел на мигающий огонек лампадки.
— Ну, брат, и блох у тебя! —* говорил, почесываясь, отец. — И духота нестерпимая. Дай хоть свежего воздуху пущу.
Отец подходил к двери и широко раскрывал ее. Свежий морозный воздух врывался сильной струей. Мы дышали, как у свежей проруби рыбы в замерзшем
пруду.
— Боже мой, боже мой! — жалобно вздыхал братец, ворочаясь на горячей лежанке. — Выстудите, дяденька, комнату. Замерзнем.
— Ничего, не замерзнешь! — говорил отец.
Странно мне теперь вспоминать моего братца-чу-
дака, допотопного человека, как бы вышедшего из далекого, отжитого мира, давние наши поездки, веселые шутки отца. Уже пережив революцию, переселился он к старшей сестре своей Клавдии в село Вознесенье. Умер он тихо и скоропостижно, на старой железной кровати, держа в руках раскрытую книгу моих первых рассказов* которою очень гордился,
В4
ДЕРЕВЕНСКИЕ ГОСТИ
А всего милее мне было, когда по большим праздникам — на рождество, в николыцину, на масленой — собирались у нас гости. Над выскобленным, с коробившейся доскою, с набившейся в щелях грязью столом, стоявшим в переднем углу, горела под жестяным, засиженным мухами щитком лампочка. Гости — молчаливый Панкрат с цыганской курчавившейся бородою и такими же курчавившимися на голове черными волосами, в чистой, застегнутой на стеклянные пуговки рубахе; пастушонок Егор, веселый и белобрысый, с белыми зубами и безбородым, вечно смеющимся лицом, с шрамом на подбородке; Андрей, чахоточный и высокий, сидевший чрезвычайно прямо, с испитым птичьим лицом и рыжеватой просвечивающей бородой, — все гости сидели за столом, играли в свои козыри на баранки. Оброська, в шапке, в застегнутой старой шубейке, сидел на скамейке, насасывал глиняную, изображавшую человеческую голову трубочку, плевал и хрипел грудью.
В избе тепло от большой русской печи, пахнет хлебом и хомутами. В углах и за печкой таинственный полумрак. Желтый шипящий в пузыре огонек освещает мужицкие волосатые головы, стол с кучками замызганных баранок, лицо сидящего в углу под иконами азартно спорящего и приступами кашляющего Андрея.
Я присаживался к не обращавшим никакого внимания на меня игрокам, начинал внимательно наблюдать. Азартнее всех играл и горячился чахоточный длинный Андрей. Он прятал под стол зажатые в руке согнутые желобком карты, подолгу думал, сердился, а при удаче громко шлепал о стол разбухшей колодой и хрипуче смеялся, открывая гнилые, черные зубы. Егор, наваливавший под Андрея, играл весело, заразительно скалил сплошные, белые, как чеснок, зубы и то и дело закатывался своим заразительным смехом, и тогда казалось, что в нем смеется каждая его черточка: его руки, голубые глаза, обтянутые холщовой рубахой плечи и даже проступавший на голом подбородке шрам. Панкрат играл молчаливо, толстыми пальцами неловко заскребал со стола карты. В картах ему явно везло, он обыгрывал всех, и куча баранок подле него росла.
85
— Везет дьяволу! — зло, сворачивая папироску дрожащими, желтыми от махорки пальцами, говорил ему проигравший Андрей.
Скаля зубы, подмигивая на тянувшуюся через стол Кулинку, поправлявшую в лампе огонь, Егор замечал:
— Ему девки ворожат.
— Отвяжись, черт косой, вон ряшку какую наел, скоро в дверь не пролезешь! — притворно, замахиваясь на его зубастое, смеющееся лицо, огрызалась Кулинка.
Карты сдавал проигрывавший Андрей. Он с трудом отдирал карты, то и дело плевал на костлявые, длинные пальцы и, сдавши, прятал под стол руки. Зубастый Егор, ходя под Андрея, наваливая, смеялся так, что в лампочке над столом моргал огонек.
— Ишь его разбирает, — захлебываясь кашлем, отплевываясь, сердился Андрей. — Подожди, брат, насмеешься...
Мне очень нравился веселый Егор, и было жалко больного, кашлявшего Андрея. В душе я был на стороне молодого и веселого Егора, заражавшего меня своим смехом, весело шутившего над Андреем. Но покорившим мое воображение был черный Панкрат. С почтительным чувством удивления смотрел я на его курчавую, освещенную лампой голову, на черные, медленно двигавшиеся над столом руки.
Андрей, живший на деревне у брата, к нам приходил часто. Я знал: был Андрей когда-то в солдатах, потом жил в Москве, в людях. Разору и болезни его много способствовала жена, тоже жившая в Москве, в кухарках, любившая веселую городскую жизнь, в деревню приезжавшая редко и щеголявшая в шелковых платьях, мужа презрительно называвшая мужиком. Пить он стал с Москвы, после военной службы. Пил сперва жестоко, запойно, потом стал мучиться невыносимо, стал кашлять кровью и после каждой выпивки неделями пластом валялся в соломе, клялся и зарекался капли не брать на язык, а вытерпев небольшой срок, срывался, опять чернел.
На деревне жил Андрей у богатого старшего брата. Как все чахоточные, твердо он верил в свое выздоровление, ждал нечаянного богатства. Из желания выиграть садился он за карты, всегда появлялся там, где заводилась игра. Играя на деньги, бледнел он смертельной бледностью1 тощею, трепетавшею рукою выти¬
рал катившийся со лба пот. А так и не выиграл он богатства, не дождался своего счастья: выгнанный бога^ чом братом, ушел скитаться; нашли его в шести верстах мертвым в мороз в кочках, запорошенных снегом. На месте, где Андрей умер, по тогдашнему обычаю поставили люди у самой дороги сосновый крест.
МУЖИКИ
Оброська, сидевший у окна на скамейке и не принимавший прямого участия в игре, хрипел чубуком маленькой своей обсосанной трубки и, внимательно кося серыми глазками, следил за игроками, изредка вставляя свое словечко. Был он невелик ростом, узок в плечах и сер. Серо было его неподвижное, никогда не улыбавшееся лицо. Серы, цвета печной золы, были редкие волосы, посконная, видневшаяся под шубейкой рубаха; серы и неуследимы были его маленькие, хоронившиеся глазки. Не в лад с маленьким ростом, непомерно велики и тяжелы были кисти его лежавших на коленях иссиза-чугунных рук. В избе он сидел в шапке, не двигаясь, изредка поднимая правую руку, и, к негодованию Кулинки, не выпуская насасывал вонявшую махоркой, пускавшую синий дым трубку.
— У, дьявол, — говорила Кулинка зло, — всю избу табачищем провонял!..
И на сердившуюся Кулинку Оброська не обращал ни малейшего внимания.
К нам в Кислово он приходил из соседней деревни, где жил на краю, над речкой, в похинувшейся, по самое окошко вросшей в землю избенке. Из всей деревни удивительна была эта Оброськина избенка, с иззелена- бархатной, мхом поросшею крышей, с единственным, заткнутым обрывком старой овчины окошком. Нельзя было представить, что живет в этой избенке, летует и зимует, спит и думает свои думы живой человек. На деревне он был безземельным, кормился чем приведет бог. И, как водится, за беспутство деревня ненавидела Оброську; каждое лето бивали его мужики смертным боем, и он, в крови, облепленный мухами, подолгу лежал у дороги в канаве; отлежавшись, приходил на деревню — опять лез на рожон. Терпелив он был невыразимо, спокоен, как пень. Падай на землю небо, гори дерев-
87
ня, погибай родной его сын — не выпустит Оброська изо рта слюнявую свою трубку, пальцем не шевельнет.
Случалось, под хмельную руку приходил он на мельницу, где на мешках сидели замелыцики-мужики, шумела вода на колесе и в раскрытых воротах, перебирая красными лапками, бочком, надуваясь, ходили сизые голуби. Там, на потеху замелыцикам, за полбутылку продавал он кулаку-мельнику свою бороду. Когда под смех мужиков отрезал ему мельник бороду, по- прежнему был спокоен и невозмутим Оброська, точно и не над ним смеялись мужики.
Полною противоположностью Оброськи был черный Панкрат. Был Панкрат высок ростом, широк в плечах, по-мужицки жаден на всякую работу. На своем и чужом работал он без устали, не покладая рук, ничего не оставлял недоделанным. За летние месяцы он ссыхался от работы, делался черней головешки. И, как бывает нередко, не везло ему в жизни, одно за другим валились на него несчастья. То умирала в самое горячее время жена, оставив малых детей, то сгорал со всем хлебом овин, то — у одного из всей деревни — падала ни с того ни с сего скотина. Несчастья свои Панкрат переносил мужественно, обстраивался и вновь обзаводился хозяйством, потом неизбежно сваливалась на Панкратову голову новая негаданная беда, опять приходилось начинать сызнова. Окончательно разорило Панкрата последнее горе: в третий раз сгорел его двор, погорели коровы и овечки. И опять, не упав духом, тянулся, с черепка начинал новую жизнь Панкрат.
Особенно загадочным, внушавшим страх и таинственность казался мне Панкрат за то, что когда-то убил человека. Человека Панкрат убил давно, на шахтах, по несчастной случайности. Я со страхом и трепетом смотрел на черные Панкратовы руки. Самое же главное, что внушало мне уважение к Панкрату, — сказочная Панкратова сила, в которую веровал я непоколебимо. Верил я, что Панкрат одним махом может побить целое войско и что по силам Панкрату любой подвиг. Случалось, я забирался к нему на печь, где он спал зимою, где душно пахло овчиной, слушал Панкратовы рассказы. Я закрывал глаза, дрожа от волнения, с почтительным трепетом чувствуя возле себя лежавшего на спине, почесывавшегося, белевшего в темноте рубахой сказочного богатыря.
88
Кроме Оброськи и Панкрата, кроме зубастого пастуха Васьки, хорошо запомнился мне наш кисловский мужик, цьяница Аниська. Ходил он всегда пьяный, далеко было слышно, как кричит истошным голосом, зовет жену свою Катюху: «Ка-тюх!.. Ка-тюх!..»
Уважали Аниську деревенские собаки. Визжа от радости, виляя усеянными репьями кудлатыми хвостами, кидались они на грудь Аниське, лизали ему руки и лицо. Й Аниська разговаривал с ними, как с живыми людьми, жаловался, изливал свое горе.
Не страшились Аниськи и деревенские ребятишки. Толпою ходили за ним по плотине, просили крикнуть:
— Анись, крикни!
Чтобы потешить ребят, Аниська останавливался, задирал голову и, стуча кулаком в грудь, кричал:
— Ка-тюх!.. Ка-тюх!..
Сказывали, что в молодости был Аниська дельный и благополучный мужик, что и не было умнее его на деревне, что запил он и загулял после того, как сошлась с мельником, спрокудилась единственная его дочь. Пил он беспросыпно, пропивал все; ворочаясь домой, бил окна и горшки в печи. На наших глазах Аниська утонул. Раз, выпив и накричавшись, поплыл через пруд. Смеявшиеся пад ним ребята видели с плотины, как стал на середине пруда нырять Аниська* поднимать над водой руки. А никому не пришло в голову, что Аниська тонет, что надо его спасать. Вытащили Аниську под вечер, часа через четыре. В облипшей на костлявом теле рубахе, с набившейся во рту тиной лежал он на берегу под олешником, а кругом толпился народ. Мне было страшно подходить близко, я смотрел издалека, и после долго боялись мы выходить по вечерам на пруд, где все виделось лежавшее па берегу Аниськино тело, чудился знакомый голос:
— Ка-тюх!.. Ка-тюх!..
ЯРМАРКА
Помню: ясный весенний день, на синем и знойном небе недвижно стоят пухлые белые облаку С утра парит, над лесом, над соломенными крышами дрожит и зыблется нагретый воздух. Пара разномастных лошадок, Смольник и Фурсик, вскидывая гривами, побряки¬
89
вая кольцами на уздечке, бойко мчит нас но усохшей, накатанной, покрытой слоем пыли, вьющейся среди дозревающих ржей дороге. Куда ни глянь, волнами ходит рожь, синим туманным кольцом замыкает поля дальний зубчатый лес; внизу, над рекою, чернеют крыши соседней деревни. Впереди в облаках пыли с грохотом скачут по накатанной дороге телеги. В них, свесивши ноги, держа в руках $ожжи, сидят мужики в вышитых рубахах; бабы в разноцветных сарафанах и лиловых повойниках с широкими лентами трясутся в телегах, вытянув ноги. Белоголовые ребятишки тор- чат в телегах грибами. Иногда, чтобы не дышать пылью, облаком стоящей над дорогой, мы обгоняем трясущиеся, подскакивающие телеги, иногда обгоняют пас. Пыль серым слоем лежит на придорожной подъеденной мелкой траве. Едем по ржи, уже дозревающей, медово-желтой, с синими звездами васильков. Колосья качаются и, поникнув, висят недвижимо. Мы догоняем празднично одетых девок и баб, бойко ступающих босыми загорелыми, печатающими на пыли ногами. Девки несут в руках башмаки, останавливаются, смотрят, — на их загорелых лицах оживленно и весело блестят молодые глаза. Слепни и мухи вьются над лошадиными спинами, липнут на пропотевшее дно Панкратова картуза. Панкрат сидит бочком, расставив на передке ноги, привычно покрикивает на лошадей, перегибаясь, кнутовищем сбивает из-под прыгающей шлеи налипших оводов и слепней.
Перед самым селом нужно вброд переезжать речку. Коренник осторожно спускает по усыпанному камень- ем, разъезженному колесами косогору. В воде шуршат по каменьям колеса, струится, обмывая шины, вода. Через речку, подняв сарафаны, держа в зубах узелки с башмаками, переходят бабы, садятся на берегу обуваться. С обмытыми, блестящими шинами и мокрыми ступицами бойко выезжаем на берег, по мягкой дорожке легко катимся дальше. Ярко блестит на солнце, дугою уходит река, белеет впереди колокольня, и, подчеркивая ее белизну, темнеет позади церкви старинный господский парк. На скате под церковью разливается море сарафанов, мужичьих голов. Чудесным показывается на зеленом, изумрудном лугу этот живой пестрый ковер. Народу все больше; бабы и девки, му-
90
ншки в пиджаках и белых рубахах, белоголовые ребятишки со свистульками-петушками; на распряженных, застланных веретьем телегах с поднятыми оглоблями, с жующими овес лошадиными головами сидят старики и бабы с грудными детьми, едят, разложив баранки и сало. Груды новых, облитых дегтем колес, разложенные на лугу горшки, целые возы лык и корья; дальше — где гуще народу — под колокольнею белеют над толпою верхи палаток, густеет и шумит толпа, а над всем этим —■ высокое небо, облака, и падают-вьются, стрелами в воздухе свищут стрияш.
Медленно пробираясь в расступающейся толпе, подъезжаем к ограде, привязываем лошадей. Хорошо побежать к палаткам, где стеною ходит и стоит толпа. На высоком дощатом прилавке разложены картинки и книги: худой, костлявый, с рыжею щетиной на подбородке мещанин-продавец перебирает заросшими рыжею шерстью руками, подсовывает календари, песенники, книжки с заманчивыми названиями. На краю, окруженная толпою зрителей, стоит уставленная стеклянной посудой, зеркальцами, кусочками мыла рулетка. Загорелый зубастый мещанин в картузе, подмигивая бабам, кричит весело и задорно:
— Эй, красавицы, подходи!.. Беспроигрышная!.. Сама катает, сама летает!.. Крути, молодой человек!
И я робко пускаю рулетку, мягко бегущее по гвоздикам гусиное перо, смотрю, не спуская глаз, и с волнением беру из рук мещанина свой выигрыш — копеечное, с нарисованным цветком зеркальце, а мещанин уже кричит, подзывает других, завидующих моему счастью:
— А ну, катай-валяй, наваливайся!..
Смех и крики, шуршанье подсолнушков, раскусываемых зубами, крик черта-бабы, звонко ругающей своего загулявшего мужика, ржанье лошадей сливаются в один ярмарочный гул и шум. Пахнет дегтем, навозом и кумачом. В полотняных палатках, бойко отмеривая аршином, щелкая ножницами, с треском рвут, свертывают продавцы ситец, белый, блестящий, пахнущий апрельскою свежестью коленкор. Гроздья стеклянных бус, золотой позумент, красные, желтые, голубые пущенные по ветру ленты; облитые сахаром пряники, жамки2 стручья2 горы и предгорья соблазнительно пах¬
91
нущих подрумяненных баранок; хомуты, лапти, кожа; у телеги с брусками и косами гурьбою стоят мужики, бьют потылицей о грядку, прислушиваясь к звону, пробуют на язык бруски; внизу, на проезжей дороге, бойко торгует кабак, выходят на крыльцо, засовывая в карманы бутылки, мужики. На лугу за церковью стоят, торгуются, проваживают лошадей барышники-цыгане. По ярмарке, в толпе, взявшись за плечи, гуськом проходят нищие слепцы. Они останавливаются у ограды на солнечном припеке и, ощупав костыльками землю, садятся. Страшны и черны дх безглазые лица, их косматые, заросшие волосьем головы.
В обед негаданно собирается туча, гремит гром. Дождь крупными каплями, поднимая пыль, стучит по прибитой, усыпанной подсолнечной шелухою дороге, по головам и плечам девок, бегущих с задранными на головы сарафанами в парк, под деревья. Синяя с огненными краями туча грозно висит над колокольней. Ветер хлопает потемневшими верхами палаток и балаганов, раздувает ленты. Пустеет, суетится, разбегается потревоженная дождем и грозою ярмарка. А все чаще и быстрее носятся над землею ласточки, громче и страшнее гремит приближающийся гром. Вся ярмарка, краснеясь сарафанами, стоит под деревьями. Но быстро, как начался, проходит и кончается летний дождь. Яркая радуга, упершись одним концом в реку, еще серо-молочную от дождя, широким полотенцем раскидывается над ярмаркой, над колокольней. И опять, точно умывшись и повеселев, собирается, оживленнее прежнего шумит народ, а над обмытой, с катящимися мутными ручьями землею по-прежнему падают и свистят стрижи. И опять кричит, зазывает повеселевший зубастый мещанин:
— А вот обмылись, помылись, подмолодились!.. Подходи, девки, бабы, не жалей!.. Плохое разобрали, хорошее осталось!.. Вот бокальчики, стаканчики, серебряные розанчики!.. Подходи, красавицы!..
Солнце косо светит из-за лиловой миновавшей тучи на колокольню, на потемневшую, со следами босых ног и колес дорогу. Ярко зеленеет на лугу трава, маслянисто блестят, роняя капли, листья старого дуба, и сладко пахнут обмывшиеся молодые березы. С ярмарки начинают разъезжаться после обеда. Первая уезжает помещица Кужалиха. Окруженная толпою, она садится
92
в обмытый дождем, с опущенным верхом экипаж, усаживает с събою востромордую борзую собаку, и, громыхнув бубенцами, экипаж трогается с места. «Э-эй!»— кричит на сторонящихся, разбегающихся баб и ребят, туго держа синие вожжи в обеих руках, плечистый, в шапочке с павлиньими перьями, с желтыми, выпущенными из плисовой безрукавки рукавами сердитый кучер.
К вечеру больше пьяных, шумнее, азартнее за кабаком и на распряженных телегах. Ниже груды колес и кадушек, меньше остается на лугу горшков, и уже осипшим, другим голосом покрикивает мещанин у ру-. летки. Помалу расходится и разъезжается шумная ярмарка, сереет от подсолнечной шелухи луг, мцого валяется теплого, дымящегося навоза. Еще шумят пьяные мужики, баба на возу унимает раскричавшегося ребенка, а уж близится над селом вечер; опустив головы, последними расходятся с ярмарки нищие слепцы.
ДЕТСТВО
Многое переменилось за эти годы, много утекло в море воды, а мы, пережившие это время, стоим как бы на другом берегу. И как в тот дальний, смутно зыб- лющийся берег, вглядываюсь в далекое свое детство, в тогдашнюю окружавшую меня жизнь. Много еще живет людей, переживших, как и я, эти годы, живы пахнувшие хлебом, овчиной и избяным дымом приятели мои Ваньки, Семки, Петьки, ходившие со мною к нашему учителю Петру Ананьевичу в школу, игравшие в рюхи и сучку; быть может, где-нибудь жив и сам любимый наш учитель Ананьич, а уж трудно узнать этих прошедших огни, трубы и чугунные повороты Семок, Петек и Ванек. Переменилось, стало неузнаваемо и прежнее Кислово. По-прежнему стоят, смотрятся в воду широкие зеленые ветлы, выплывают в полдень на солнце, недвижимо стоят красноперые голавли, по вечерам низко носятся над рекою, задевая крылом и оставляя разбегающийся на воде кружочек, белогрудые ласточки; по-прежнему встает и заходит, играя и переливаясь, солнце. И по-прежнему колосятся, волнами ходят за рекою поля, чернеют деревенские крышиг шумит на мельничном колесе вода и стучат,
93
отбивая косы, за деревней молотки, грохочет по мосту телега, в которой, свесивши с грядки ноги, сидит рыжий, в нахлобученном картузе, мужик. Еще стоит наш кисловский домик, а уя^ давным-давно нет Ивана Никитича, в земле лежит мой отец, рассказывавший мне о чудесном сказочном плотике, и ничего не знаю и не узнал я о кучерявом и черном бога-тыре Папкрате, рассказывавшем мне на печи страшные сказки. Уж больше не водят деревенские молодухи* и^ девки на горе хороводов, редко-редко покажется на улице сарафан, и редко сыграют ввечеру старинную протяжную песню. Во многом переменилась самая местность: исчез, точно и не было, кудрявый, зеленый деревенский лесок, а на том месте, где стояла при большаке волость и каталась по большаку барыня Кужалиха, уж идет, движется новая, ничем не похожая на старинную жизнь.
Мне нечего жалеть из этого прошлого. Жалко лишь тетеревиных выводков, деревенских песен и сарафанов, жалко некогда наполнявшего меня детского чувства радости и любви, которого никакими силами невозможно теперь вернуть. А многое невесело мне вспоминать...
Вот на заросшей зелено-черным олешником-подседом полянке, за кабаком, начинают драку фурсовские и бурмакинские мужики, косяком ходит, скрипит зубами, быком ревет рябой мужик Николай, воробьями рассыпаются в стороны, визжат ребята и плачут бабы. Издали похоже, что играют мужики в жмурки. Яркое светит солнце, свистят и купаются в синем прозрачном небе стрижи, и странно смотреть на бегающих с кольями в руках по изумрудному блестящему лугу дерущихся мужиков.
Вот, спускаясь от деревенской школы, катит по белой пыльной дороге, мягко покачиваясь на рессорах, побрякивая упряжью, запряженный в дышло парой лоснящихся, высоко вскидывающих ноги, екающих селезенками гнедых рысаков, нарядный шарабан на высоких желтых колесах. В шарабане, держа новые вожжи, сидит в белом кителе и голубой гвардейской фуражке, с болезненной синевой под глазами высокий, худой офицер; барыня в кремовом платье и кружевной шляпе, с прилипшим к щеке трепещущим шарфом, сидит затянуто и прямо. Они быстро прокатывают, шурша
94
колесами по песку, и, как привидение пронесясь мимо стоящих на мосту, разевающих рты мужиков, начинают медленно подниматься на рызмытый, краснеющий глиной, усыпанный каменьями косогор. Впереди, часто оглядываясь, быстро мелькая пятками, бегут деревенские ребятишки. Барыня белой рукой бросает конфеты, и, как воробьи, ребятишки кидаются поднимать, а из открытого окошка ближней избенки высовывается старушечья, в повойнике, голова, грозит ребятам пальцем. Навстречу лакированной коляске едет на дрожках волостное начальство: писарь и старшина. Оно почтительно сворачивает в рожь и, поклонясь низко, трясется дальше на дребезжащих дрожках, поставив на передок ноги в смазных, запыленных добела сапогах. У старшины широкая с проседью борода, висят из-под пид- я^ака концы плетеного пояска. Начальство останавливает у волости лошадь и, замотав вожжи, неторопливо слезает, поднимается на крыльцо, где сидят, дожидаются просители-мужики, скрывается за дверью. Мужики, подмигивая, идут следом, за перегородку с прибитыми, засиженными мухами портретами царей и цариц, и уж бежит, отстукивая пятками, волостной сторожок Петька в кабак за водкой.
Вот в августовский тихий и прозрачный вечер с газетой в руках выходит на мельничную плотину наш деревенский ученый и грамотей, фельдшер Трофимыч. Он стоит долго на деревянном, с пляшущими мостовинами, мосту и, набивая табаком нос, важно сбочив лохматую голову, любуется на перегорающую, отразившуюся в зеркальной поверхцости зорю, на садящееся за лес, переливающее жаром солнце и, сопя, вещает сосредоточенно и учено:
— Сие есть великолепное явление природы: горизонт с атмосферой сошелся...
Нет, приятнее и веселее мйе вспоминать и описывать совсем другое...
На зеленом, освещенном высоким июньским солнцем, усыпанном подсолнечной шелухою, утоптанном полсапожками широком лугу водят хоровод бабы. Там и там, в густых ольховых кустах над рекой, под мельницей, мелькают яркие сарафаны, кучками толкутся ребята. На лужку г подле лавки с открытыми настежь
95
дверями, вертится карусель, играет шарманка, глухо ухает бубен. Можно, заплативши копейку пучеглазому карусельщику, сесть на деревянного, выкрашенного облезлой краской, покачивающегося коня. Карусельщик звонит в колокол, и карусель двигается, сперва медленно, потом быстрее и быстрее. Ветер задувает в лицо, шевелит за спиной рубашку, и всё быстрее проносятся мимо, сливаясь в одну розово-белую полосу, лица и бабьи сарафаны, мелькает в толпе высокая фигура отца. Я крепко сижу на деревянном коне, держась за железный прут, жмуря глаза от мелькающего розовобелого круга. Карусель вертится, пока не раздастся звонок, и медленно останавливается. Не спеша слеза- ешь с коня, чувствуя, как еще ходит и кружится под ногами земля и куда-то соскальзывает, проваливается в толпе смеющееся лицо отца. Улыбаешься и сам, а на коней уже влезают другие, усаживаются розовые и голубые девки с узелками в крепких, с оловянными колечками на загорелых пальцах, руках...
Хоровод стоит на лугу широким цветастым кругом. Можно пробраться вперед, протолкавшись среди пахнущих кумачом и солнцем девок и баб. В словах хороводной, выпеваемой бабьими звонкими голосами, песни можно различить отдельные слова:
Как по морю, морю синему,
По синему да по Хвалынскому,
Плыла лебедь с лебедятами,
Со малыми со детятами...
По просторному кругу парами ходят девки и парни, по песне останавливаются друг против дружки, машут платками и идут дальше. В конце песни парни снимают фуражки, троекратно, крест-накрест, целуются с девками, а девки и молодухи, вытирая платочком губы, смотря в землю, быстро расходятся в круг по местам. Солнце светит жарко, выворачивая наизнанку листья, дует с полей легкий летний ветер; на пруду на солнце ярко блестит и рябит вода, плавают белые лилии и желтые кувшинки. Девки и молодухи бегают на берег пить^ подобрав сарафаны, становятся на колени, черпают воду горстями.
Вместе с ребятами я толкаюсь между пахнущих кумачом и чем-то солнечным и здоровым, щелкающих подсолнушки девок и молодух, любуюсь на кучерявого,
96
в лаковых .голенищах, в синем франтовском картузе на кудрях шахтера и гармониста Кузьку, на пляшущих в кружке подле лавки, помахивающих носовыми платками, вытирающих запотелые лбы девок и ребят.
Ввечеру, побросав всё, все бегут куда-то по обоим берегам реки, и далеко видно, как розовыми и голубыми комочками катятся по берегу девки и бабы. И сам собой бежит по людям слух, что под берегом у Семи дубков утонул, купаясь, гармонист Кузька. Там, под темно-зелеными, кудрявыми, тесно сросшимися дубками, на крутом берегу, лежат гармонь и синяя фуражка. Высокий голый мужик со свисшими на глаза мокрыми волосами, отдуваясь, ныряет под дубками* Выныривая из воды, он сморкается, фыркает и, как конь, трясет головой. Народ стоит на берегу молча, девки и бабы останавливаются подальше. Вот показывается над водой безжизненно повисшая, с распустившимися мокрыми кудрями голова Кузьки, его скользкое бледно-восковое тело. Его выносят, кладут на берег, потом долго качают, высоко подбрасывая па руках. А все напрасно — и рядом с гармонью и франтовским картузом, с кучкой сложенным пиджаком, прикрытый рогожкой, ои остается лежать всю ночь.
Народ расходится понемногу, и опять слышны песни, глухо, как выпь на болоте, ухает бубен. И всю цочь неподвижно лежит под рогожкой Кузька; сидят^ расставив колени, караульщики, и огонь освещает, колышет над ними низкие, выступающие из темноты ветви дубков.
1931-19651
1 Здесь и в дальнейшем в двойных датах первая цифра
означает дату первой публикации, ^вторая — публикации после
доработки. (Прим. ред.)
4 И Соколов-Микитов. т. 1
ЕЛЕНЬ
СТАРЫЙ БЕЗДОН
Место, где всегда жили и гнездились волки, мужики звали Старым Бездоном. Это было большое моховое болото, заросшее тугорослыми мелкими соснами, со всех сторон окруженное диким лесом, вдали от проезжих дорог. Летом здесь тучами роились комары, и, пламенея, входило и садилось над чахлыми соснами солнце. Зимою болото покрывали глубокие снега, пересеченные лиловыми тенями деревьев, а по ночам, отражаясь в алмазных снегах, жутко холодные рассыпались по небу звезды.
На середине болота, у черных, бездонных, с недоступными трясинными берегами озер весною водили свои веселые хороводы журавли, токовали на соснах глухари-мошники. Волки выбрали поляну на краю болота, покрытую мягким глубоким мхом. Весну, лето и осень молодые звери не покидали скрытого логова, радостным воем и визгом встречая стариков, возвращавшихся к ним с добычей, грызлись и играли, а зимою вся стая уходила ближе к деревням, в поля — перехватывать зайцев, выманивать на огороды голодных собак. Вся поляна была усеяна бараньими, заячьими, гуси^ ными костями; на моховых кочках, на старых пнях, на выбитых во мху тропах были видны следы когтей и молодых зубов. На самой середине поляны, вокруг небольшой сосны, молодые звери выбили небольшой ток, от тока во все стороны разбегались многочисленные
98
тропы. Здесь из года в год жил, рос и скрывался волчий выводок, и здесь же в прежние времена устраивал облавы* владелец леса, богач, лесопромышленник и охотник Дмитрий Яковлевич Хлудов.
Обычно за две недели до приезда охотников прибывали в Елень окладчики-псковичи. Это были веселые, легкие на ногу, бойкие молодцы. Несколько дней они пропадали в лесу, выслеживая зверя, скупали и резали старых лошадей, клали в лесу приваду. Сами охотники приезжали позже, и тогда на день, на два ломала себе голову, как в праздники шумела лесовая деревенька Елень.
Охотники приезжали со станции, гремя бубенцами, в длинных, до пят, оленьих дохах, в меховых круглых шапках с козырьками. Миновав деревню, где, захлебываясь лаем, их провожали тощие злые кобели, всею ватагой останавливались они у лесника Фрола, жившего в лесу в новой сторожке, уютно пахнувшей хлебом, и лесникова жена Марья, молодая приветливая женщина, вынимала из сундука старинные полотенца, чтобы застлать для гостей стол и скамейки.
Гости привозили в плетеных корзинках бутылки, покрывавшиеся холодным налетом, сами раскладывали на столе закуску, говорили возбужденными, осипшими на морозе голосами, пили из серебряных дорожных стаканчиков водку, приятно возбуждаясь тем, что вокруг был лес, тишина и простое, опрятное мужицкое бытье-житье. Случалось, с охотниками приезжали из города женщины. Они со смехом входили в сторожку, наполняя ее запахом дорогих духов, пряча в мех молодые, похорошевшие от мороза лица, и, сочувственно им улыбаясь, во все сияющие жизнью и любопытством глаза смотрела на них лесникова жена Марья. До прихода окладчиков охотники пили, закусывали, рассказывали анекдоты и курили дорогие папиросы, от которых, колыхаясь по избе, плавал синий душистый дым. Все это время лесник Фрол, невысокий, густоволосых!, молчаливый, неподвижно стоял у дверей и спокойно смотрел на господ своими зеленоватыми, лесовыми глазами. Он стоял молча, изредка оправляя подол свежей рубахи, переглядываясь с женой, кормившей за положком ребенка.
Гостей было много, сидели они, наполняя сторожку непривычными речами и смехом, и Марья, неприметно
4*
83
переглядываясь с мужем, жадно слушала, запоминала и давилась смехом, глядя на маленького сидевшего в углу за столом старичка с крашеной бородой, частенько жевавшего вставными зубами и сморкавшегося в надушенный платок, смешно выговаривавшего слова. «Зубы-то, зубы!»■— думала она, глядя на жевавшего старичка, и, как девчонка, стараясь удержать давивший ее смех, низко наклонялась над ребенком круглой своей, покрытой платком головой. Фрол строго и * неодобрительно поглядывал на нее со своего места, и только им двоим был понятен их немой разговор. Гости оставались в сторожке, пока окладчики делали в лесу круг по глубокому белому, оседавшему под лыжами снегу. Через час-другой окладчики прибегали с сизыми от мороза щеками, обсыпанные сухим инеем, громко обивали в сенях намерзшие валенки и вваливались в сторожку вместе с клубами пара и густым запахом мороза. Им подносили по стакану водки, и, обобрав сосульки с усов, сняв лисьи шапки с облипших мокрых волос, они не спеша выпивали, утирались полами полушубков и, стоя среди хаты, скупо докладывали о зверях.
— Восемь штук в кругу... На Черемуховой дороге стрелков поставим... По лесу шастко... — говорил, по- разбойничьи смотря в сторону, старший, похожий на цыгана, окладчик Семен.
Шумно разбирая ружья и пригибаясь непривычно в дверях, стукаясь головами, охотники выходили па волю, на ослепительно искрившийся снег, перерезаемый синеватыми тенями деревьев. У крыльца их поджидали собравшиеся из деревни загонщики-крикуны: лохматые, с обмерзшими бородами взрослые мужики и безбородые, румяные от мороза ребятишки в овчинных шапках, в обшарпанных шубейках, с трещотками и засунутыми за пояса топорами. В ожидании господ загонщики курили, толкались и, чтобы согреться, боролись в снегу, переругивались и покашливали зябко. Завидев выходивших охотников, они поспешно бросали окурки и, переступая по утоптанному снегу обмотанными онучами ногами, окружали их толпой, жадно засматривая в лица. Хлудов осматривал их быстро (он был на голову выше, и резко отличалось своей нежной белизною, чернотой выхоленной бороды его крупное горбрносое лицо от сероватых и мелких лиц мужиков),
100
I
хозяйственно пересчитывая, здороваясь, со знакомыми, и, потоптавшись, скрипя снегом, охота трогалась в лес. Дорогу торили окладчики — они бойко шли передом, высокими валенками мешая сухой, рассыпавшийся снег, не останавливаясь, а за ними гуськом тянулись стрелки в белых коленкоровых балахонах и крикуны в рваных шапках. В лесу было бело и тихо, падал с еловых сучьев снег; случалось, вспыхивал позади придушенный смех; чахоточный долговязый мужик, увязавшийся в облаву, боясь разгневать господ, валился животом в сугроб и кашлял в шапку. Иногда, передовой молча показывал рукавицей в сторону под деревья, "где перемахивал и пропадал свежий волчий след.
Охота начиналась и шла по всем правилам строгого облавного устава. Придя на место, чернобородый окладчик-пскович срывал с запотелой головы шапку и, кося глазами, тряс жеребья. Соблюдая тишину, почти торжественно, стрелки снимали с рук меховые перчатки, по очереди вынимали номера (последний номер, сверх очереди, всякий раз безропотно брал примазавшийся к охоте местный захудалый помещик Розанов, тянувшийся изо всех сил за богачами). По уставу же охотники расходршись по своим номерам, которые отмечали на снегу псковичи, и уж не сходили с них до конца. Каждый, занимая номер, оглядывался, стараясь угадать лаз; оглядевшись и проваливаясь в снегу по пояс, отходил в сторону и отаптывал место, обламывал мешавшие стрельбе, стеклянно ломавшиеся на морозе сучки, натыкал перед собой веток, заряжал ружье и терпеливо оставался ждать. Лес стоял тихо. Чуть хряпал, ломая сучки, сосед. В последний раз, расставив стрелков и загонщиков, растянув флажки, словно перед решительным боем, пробегал, проверяя оклад, запотелый старший окладчик Семен, одобрительно кивал рыжей шапкой.
САПУНОК
Волки обычно ложились в густом, заваленном снегами еловом хмызнике-цодседе. Они лежали в обледенелых глубоких лежках, свернувшись серо-желтыми клубками, строго наставив уши и чутко прислушиваясь к звукам. Вот застучал по сухому дереву дятел, смолк
101
и, погромыхивая крыльями, мелькнув красным под- хвостьем, перепорхнул на новое место. Уронила обглоданную шишку белка. Стайка краснозобых клестов- еловиков, осыпая иней, весело опустилась на закачавшийся белый куст. Где-то два раза прогремел и смолк рябчик. Свалилась с высокой густой елки, цепляясь по сучьям, рассыпаясь алмазной пылью, снежная шапка, и сама собою долго колыхалась над снегом задетая ею еловая ветка. Далекие, едва уловимые звуки иногда долетали до слуха, и волки поднимали головы, вслушивались, зевали, открывая черно-синие пасти, и опять уютно подбирались в прогретых лежках.
Первый звук начинавшейся облавы долежал слабо: казалось, что далеко за лесом, в деревне, загомонили ребята. Потом сухо и колко, словно хряпнуло на корню сухое дерево, хлопал в загоне сигнальный выстрел. И тотчас, наполняя, глуша и тревожа лес, начинали гукать и шуметь голоса, трубить рог, бить трещотки. Казалось, стала над лесом волна страшного, невиданного еще звериного страха. Волки вскакивали с лежек, прислушивались и не спеша, соблюдая звериную осторожность, осыпая на спины пушистый иней, по уши завязая в рыхлом снегу, вприпрыжку шли туда, где было беззвучно, где лес стоял знакомо и тихо, — на цепь замерзших, пристально вглядывавшихся в прикрытую снегом чащу стрелков, державших наготове ружья... Охотнику, на которого шел первый зверь, было видно сквозь чащу, как, осыпая с кустов г иней, переваливаясь и оседая, тихонько шурша, метнулась черно-желтая спина и мелькнул светлый бок зверя; как разом из-за куста, прижатого снегом, вывалил на-видно зверь, лобастая его, низко опущенная, с тесно прижатыми ушами и вываленным языком голова, черно-рыжая холка, — он напускал и, поднявши ружье, метил прямо в широкий опущенный лоб... Второго зверя охотник клал на скаку, за большой, покрытой снегом макушей, и было видно, как зло рявкнул, метнулся назад головой смертельно раненный волк, яростно щелкая зубами, ловя невидимого врага и задом оседая в снег...
Чем чаще стучали сухие выстрелы — горластее и звончее кричали загонщики, теснее сходился круг. Раненые и оставшиеся в кругу звери, обезумев, метались по кругу с широко открытыми пастями, наскакивали
102
в упор на охотников и крикунов, поднимавших вой и визг; их били наверняка. После облавы мокрые, возбужденные и усталые загонщики, выбравшиеся из лесной чащи, с криком и смехом за хвосты выволакивали из ельника убитых зверей, клали рядком на утоптанную дорогу. Раненый старый, седой волк сидел в снегу, откинув хвост, скаля страшные зубы в розовых деснах, смотрел на людей своими зверино-ясными, выражавшими жестокую и непримиримую ненависть глазами. Над ним толпились запотевшие загонщики, смеялись, поглядывая на стоявших в стороне, щелкавших портсигарами стрелков, откалывали шуточки.
— Смотри, глядит!.. — испуганно кричали и пихались над волком робевшие ребятишки.
— Полно овечек наших лупить!..
Длинный и тощий, с красным зазябшим носом на безбровом рябом лице, безбородый и белесый Макси- мелок, притворно смеясь и оглядываясь на охотников, совал осиновый кол в пасть зверю, и волк страшно рванул, как лучинку расщепляя зубами, мерзлое дерево.
— Ах ты черт, дьявол! — одобрительно ругались мужики.
Приканчивали зверя выстрелом в упор. Он ложился, пачкая снег кровью и черным пометом, судорожно дергаясь хвостом. Даже после смерти страшно и непримиримо смотрели зеленовато-желтые открытые глаза его. Загонщики злобно били обмерзлыми лаптями по его мертвой, стукавшейся об утоптанный снег лобастой голове, а рябой длинный парень задирал его заднюю, обросшую изнутри светлою шерстью и еще теплую ногу и объявлял, радостно хохоча:
— Кобель, черт!..
— Вот бы на тебя такой вывалил, чай бы портки потерял!..
— Жирные, черти...
— Гляди, гляди, Сапунок лезет! — тонкими голосами кричали ребята, завидев вылезавшего из леса, засыпанного снегом рыжего рукастого мужика. Увидав рыжего и все поглядывая на охотников, загонщики примолкли, ожидая от Саоунка смешной штуки. А Сапунок, не торопясь, волоча лапти, даже не взглянувши па лежавших врастяжку убитых зверей, подходил прямо к охотникам, сдергивал с путаных волос шапку
№
и, нагло смотря прозрачными косившими глазками, говорил смеясь:
На водочку с вашей милости...
Откинув полу романовского полушубка, Хлудов, довольный удачей, жмурясь от папиросы, белыми узкими руками доставал кошелек и протягивал ему красненькую. Сапунок принимал деньги, бровь его поднималась хитро, он лукаво кому-то подмигивал и, выказывая щербатые обкуренные зубы, не отходил, продолжая держать в вытянутой руке бумажку.
— Маловато, ваша светлость, весь лес излазили...
Кто-то тянул рыжего Сапунка за рукав, а он отмахивался головой и под сдержапный поощряющий смех упирался.
— Самый большой шельма из вся деревня, — шепотом говорил Хлудову стоявший рядом его управляющий-немец, грузный и краснолицый, с выпученными голубыми глазами и большим животом, вылезавшим из распахнутой шубы. — Их вся деревня вор — вор на вор, вор погоняй...
— А ты, Карля Карлыч, помалкивай, держи язык за зубами! — дерзко поблескивая глазками, уловив шепот немца, говорил рыжий. — Твоя хата с краю...
После облавы (волков несли на колебавшихся шестах мужики) опять сидели в сторожке, пили водку, коньяк, шумели, и опять молчаливо и почтительно стоял у дверей лесник Фрол, горланили на дороге* укладывая в сани убитых зверей, загонщики, размахивал руками, метался над всеми, сплетал чепуху рябой Максимспок.
ПОСЛЕ ОХОТЫ
Бывало, что после удачной охоты господа задерживались па деревне, в лучшей, просторной избе. Убитые звери лежали у крыльца на розвальнях; фыркали, чуя звериный дух, позвякивали бубенцами продрогшие, застоявшиеся лошади. Зверей окружали бабы и малые ребята, трогали и шутили. Женщины толпились в избе* где гуляли охотники. Они спервоначала робко толкались у дверей, хихикали и шептались, подталкивали друг дружку. Потом самая смелая и разбитная выкрикивала задорно:
№
— Бабам поднесть надо! Бабы, чай, тоже старались...
Пили они неловко, твердыми пальцами беря серебряный стаканчик, расплескивая и смеясь до слез, утираясь рукавами рубах. Молодой белобрысый, с подстриженными щеточкой белесыми усиками и уже плешивый конфетный фабрикант Абрикосов угощал их из большого бумажного мешка карамелью. Женщины смелели, запускали в мешок руки, шутили с белобрысым, говорили, хохоча звонко:
— Наскучили барышни-то городские? Погуляй, ба- рпн, с бабами. Мы горячие...
Вечером в избе было душно и шумно, моргала под закопченным пузырем лампочка, они плясали, лихо отстукивая полсапожками, подгулявшие, и никак нельзя было признать в них тех закутанных, унылых и серолицых баб, что поутру стояли у порогов хат и у колодцев, робко сторонясь пролетавших троек, — так были они полны шальной, ведьмовской жизнью, так носились по тесной, не вмещавшей всего шума избе, обдавая гостей горячими взглядами. Первый не выдерживал пьяненький Розанов, местный помещик (хорошо его знавшие обращались с ним бесцеремонно и в глаза кликали «штопаным»), и, всплеснув руками, топнув ногой, обнявшись с самой бойкой и зубастой солдаткой Санькой, кидался в их горячий круг. Его подхватывали, тискали, мяли, и Розанов не скоро выплывал из круга, валился на лавку, обессилевший и мокрый, как распаренное лыко...
В такие разы уезжали гости далеко за полночь, к курьерскому. После шума и пляски, женских разгоряченных лиц, блестевших молодых зубов, после отчаянных песен и коньячного хмеля, после пьяного Са- пунка, все валившегося с улицы в избу и шумевшего в сенях с уговаривавшими его хозяевами, необыкновенным и прекрасным показывалось высокое, запорошенное частыми звездами небо; крепко перехватывал дыхание мороз. Гости запахивались в шубы, глубоко усаживались в сани, и застоявшиеся кони, свистя подрезами, бросаясь снегом, выносили их в поля за деревню, где колдовски сверкали в звездном свете снега, набегали из темноты вешки. Через час-другой охотники входили в теплый вагон, укладывали в сетки ружейные футляры, раздевались, наполняя весь вагон свежим
105
запахом мороза и холодных шуб, громким шумом, на который удивленно поднимали головы заспанные пассажиры.
' С платформы, где пронзительно свистел пробегавший в тулупе кондуктор и неведомо для чего мерз под фонарем длинный человек в армяке, с обындевевшей бородою, в настывшее морозными цветами, тускло светившееся вагонное окно все стучал уже забытый охотниками, чувствовавший себя покинутым, отрезвевший от мороза и злой нахлынувшей тоски увязавшийся провожать их Розанов. Потом охотники ужинали в ярко освещенном вагоне-ресторане, мягко стучавшем на мерзлых рельсах, пили шампанское. В вагоне было светло и тепло, покачивались живые цветы на столах, на порожних столиках острыми колпачками стояли накрахмаленные салфетки. Охотники ели, пили и, как далекое и в то же время близкое, вспоминали Елень, облаву, бойких еленевских баб. В самое это время Розанов — проводив седой от снежной пыли поезд с двумя рубиновыми, убегавшими в ночь огоньками, — совсем упав духом, сидел на станции у мещанина Рукосуя, сонно раздиравшего и крестившего волосатый рот, пил с кучером Тихоном водку. Рукосуй, в жилетке и в теплой бумазейной рубашке со скатавшимся воротом, после каждого зевка оправлявший рачьи усы, медлительно рассказывал о коновалах, испортивших его боровка (было слышно, как на дворе в хлеву визжит этот испорченный боровок), об убийстве рядчика-богача в соседнем уезде, о ценах на сено и на корье... В помещении было мутно и холодно, воняло пеленками и угаром, за оклеенной перегородкой с портретами царей и цариц, с тикавшими часиками кто-то тяжело храпел и стонал. Розанов, в поддевке и с башлыком на шее, сидел на сундуке, повалившись на стол русоволосой своей, детски курчавившейся на затылке головою, жестоко мучился рвотою.
Кучер Тихон — трезвый, тихий, похожий на монастырского послушника, белолицый и безбородый, давным-давно прибравший к рукам прогоревшего барина, тишком его спаивавший и живший с его женою, *— молча крошил на краешке стола сало и, слушая Рукосуя, равнодушно смотрел круглыми, галочьими глазками, как дергается затылком, плачет и мучительно давится вконец захмелевший барин. Потом, дожевав сало,
•'406
сложив ножичек и перекрестившись, попрощавшись с мещанином, отыскав в углу кнут и валявшуюся под столом шапку, грубо нахлобучив ее на мертвую голову барина, подпоясавшись, он взваливав его на спину и нес на улицу в сани, запряженные гуськом парой за- паленно дышавших, заиндевевших розановских лошадей...
А в это же время бродила по Бездону, нюхая волчьи и человечьи следы, жалобно выла молодая волчица, одна уцелевшая после облавы; мирно спала в глубоких снегах, точно и нет ее, деревенька Елень. В поисках стаи волчица подходила близко и, остановившись у занесенных сугробами деревенских овинов, стоя на державшем ее алмазно блестевшем снегу, выла жалобно, ероша на холке шерсть, дрожа и поджимая хвост. В ответ ей заскулила и тотчас примолкла забившаяся в сарай от мороза деревенская собачонка. Волчица проходила деревней, улицей, из края в край, между мертвых тускло отсвечивавших оконцами черных хат и колодцев с горками обледенелого снега (ночью все это волчице казалось своим и нестрашным). По дороге за деревнею от станции кто-то ехал. Волчица останавливалась и откидывалась в снег. Она видела, как проходили по дороге понурые лошади, волоча скрипевшие полозьями сани. Потом шла целиной в лес, опять на Бездон, мимо лесной, мерцающей снежной крышей сторожки.
ХЛУДОВ
Когда-то начинались леса под Белой и шли грядою на юг по двум тихим и рыбным рекам: Гор доте и Елени. Лет полсотни назад, на памяти живых людей, еще сплошпой стеной стояли леса, и много велось в них дремучего красного зверя — медведей, лосей, рысей, куниц.
В далекие времена перешли леса крепкому мужичку из староверов — Никите Игнатьичу Хлудову, деду Дмитрия Яковлевича, приезжавшего в Елень на oxotfy. Приобрел он их у прежнего барина и владельца, графа Олсуфьева, бывшего царским послом в Царе- граде, человека государственного и занятого, в делах житейских оставшегося малым ребенком. Сказывали, что старый Хлудов чуть не пешком, с лыковой коше л-
107
кой за плечами (в кошелке лежали черные сухари и радужные ассигнации), явился к нему на Босфор в Константинополь и так околдовал барина благочестивым своим обхождением и умной выдержкой, что графское имение — земля и тысячи десятин векового, дремучего леса — досталось Хлудову почти даром. Из Ца- реграда вернулся старый Хлудов полным хозяином над землей и тотчас, в сотрудничестве с Яковом-сыном, круто повернул дело. С того времени и зашатался, загудел под топорами дремучий еленевский лес: резали лес па шцалы для проводившейся новой дороги, пережигали в уголье, а больше шел лес плотами вниз к Белгороду, где строилась хлудовская новая фабрика. И каждую весну тесно было на реке от плотов, шумно от мужичьих перекликавшихся голосов: по первой
большой воде шли плотами дрова, а за ними — лес, ровный, красный и гонкий.
Еще задолго до японской войны скончался сын старого Хлудова Яков, оставив дело и весь умножившийся капитал Дмитрию Яковлевичу, похожему на деда разве шириной плеч, черною рассыпистой бородою и вспыхивавшим блеском карих глаз, глядевших не по-хлудов- ски болезненно и тревожно. Характером Дмитрий выдался в мать — женщину тихую, богомольную, целиком подчинявшуюся мужу, жившую в вечном ожидании грозных и небывалых бед, которым якобы суждено было неизбежно разразиться над хлудовским домом. Всю свою жизнь она провела взаперти, в городе, в каменном купеческом доме. И от раннего детства запомнились Мите шелест ее черного, пошитого на монашеский покрой платья, запах воска в образной, треск свечей перед черными ликами старинных, в тяжелых окладах икон, прикосновения материнских рук, сухих и пахнущих ладаном, блеск ее глаз, темных, впалых, не имеющих дна. (Потом, уже вырастая, много раз содрогался он от страшных предчувствий и болезненно думал, что причиною материнского страдания была, быть может, страшная сокрытая от него тайна.) Мальчиком она часто возила его в монастырь, лежавший неподалеку от города, и на всю жизнь запомнил он высокие стволы сосен, окружавшие монастырь, уродов, лежавших на монастырским дворе, вымощенном круглым и горячим от солнца булыжником, с туго пробивавшейся зеленою травою, двух монастырских ручных жу-'
108
равлей; холодок храма, тусклый и страшный блеск серебряной раки, у которой неведомо почему крупно и ужасно билось его маленькое сердце, черные тени стоявших у стен монахов. Страхом и ужасом наполнилось его сердце, когда однажды над источником —- в небольшой дощатой купальне, покрывавшей «святой колодец» с темной, студеной как лед водою, — окруженная чужими, мать его вдруг упала, забилась исступленно на руках женщин, и он, крупно дрожа, широко открывши высушенные ужасом глаза, забившись в сырой дощатый угол, смотрел, как судорожно бьется на чужих руках ее белое, восковое тело. Запомнил он ласковые прозрачные руки и редкую бороду знаменитого старца, к которому водила его мать, черную его ряску; узкий диванчик у стены, проникновенный запах богородичной травки, висевшей пучками под потолком, слабый шелест его слов:
— Эка, дружок, волосики-то у тебя как пух.
Оставшись хозяином, молодой Хлудов растерялся; почти жутким — как монастырские детские впечатления, неведомым казалось отцовское дело. Отец умирал тяжко, туго, до последнего вздоха борясь с навалившейся смертью. И так же, как в детстве над святым колодцем, с ужасом, широкими сухими глазами смотрел он из угла на умиравшего отца: на его большие, грузные руки с набухшими жилами и крепкими старческими ногтями, заскребавшими тяжелое одеяло, на его все открывавшийся и закрывавшийся глаз, на открывшуюся под серой свалявшейся бородой шею, в которой что-то судорожно билось и клокотало. Отец гнал попа и мать, стоявшую у окна в черном, не желая брать свечу, которую насильно вставляла в его деревенеющие, с опухшими суставами пальцы сестра его — рослая, громогласная и строгая женщина, правившая в те дни хлудовским домом. Иногда он поднимался на постели, опираясь на руку, клохча грудью, задыхаясь, страшный, как из гроба мертвец, глядел куда-то открытыми невидящими глазами и, захлебываясь, начинал браниться кощунственно и страшно. Мать падала черным комочком на пол и недвижно лежала, прикрытая складками монашьего черного платья. Умер отец Хлудова без покаяния, не сдаваясь, точно насильно задушенный железной рукою того невидимого, с которым он так страшно бранился и боролся перед своею смер-
109
тыо; на шее его, под бородою, после смерти выступили синие рубцы, будто от чьих-то железных пальцев.
Как бы ни умирал старый Хлудов, после его смерти все пошло своим чередом и с такою верной и быстрой налаженностью, точно все было готово давным-давно и нужно было только открыть всему этому дверь. Мать лежала без памяти в своей половине; Дмитрий сидел неподвижно, растерявшись, не притрагиваясь ни к чему, а все шло своим чередом. Внешне всем заправляла сестра умершего, не потерявшая присутствия духа, а кто знает — не будь сестры, распорядительной женщины, все шло бы само собою, как река течет. Чьи-то руки обмыли и убрали покойника, уложили в угловой, за время выстуженной комнате под образа. И он лежал, как все покойники, умиротворенный, тихий, с запавшими глубоко глазами, с облитыми восковою кожею костями широкого хлудовского лица. И молодой Хлудов, подойдя ближе, вместо страха и отвращения впервые почувствовал в себе острую жалость; что-то остро и больно обожгло его далеким воспоминанием, и он заплакал, конфузливо скрывая слезы.
Шло так, точно совсем не в покойнике было дело, а было что-то более важное. Покойник лежал холодный, чуждый всем и всему, дожидаясь, когда его возьмут, отнесут и зароют в холодную землю. Вокруг ходили, жили, переговаривались, оправляли наплывавшие свечи; черные монашенки, похожие на сундучных мышей, неслышно сменялись над закапанной воском книгой. Делали они свое с видимым удовольствием, ни с кем не мешаясь; с удовольствием в передышках пили в маленькой, бтведенной для них комнатке чай, держа белыми пухлыми пальцами чайные блюдечки, опустив над дымившимся чаем вострые мышиные носики; с удовольствием закусывали икрой и балычком, которые им подкладывала сестра усопшего, успевавшая во все концы и плакать, и хозяйничать, и считать серебряную посуду...
От тех дней молодой Хлудов' запомнил множество людей, лиц, знакомых и незнакомых, носивших одно и то же выражение озабоченности о чем-то, что несравнимо важнее холодного покойника, дожидавшегося в нетопленой комнате отправки в могилу. Это самое важное слышалось в том, как заботливо и тщательно готовился в доме поминальный обед, как торжественно*
с особым выражением вибрирующего тонкого голоса служил и кадил знакомый священник с подобранными под лиловую ризу, гладко причесанными волосами* в почтительном старании певчих, сдержанно и охрипло покашливавших в кулаки. Молодой Хлудов сперва не понимал и не пытался, понять, что есть это самое важное, пока сама тетушка, сестрица покойного, остановив его в холодной, с закапанным полом, пахнувшей сосновой водою комнате, сказала просто, со свойственной ей решимостью и прямотой, прямо глядя своими выпуклыми серыми глазами:
— Что ты как Сысой ходишь?.. Умер батюшка — и царство небесное, вечный покой. Чай ты теперь хозяин (на «ты» она сделала особое ударение и подняла густую бровь), дела не упускай. Пойдем-ка, обдумаем... Слезы слезами, а дело делом. Мать-то твоя без ума...
Она строго, взяв под локоть, повела его в пустые комнаты покойного, где пахло печкой и бились о потолок тяжелые зимние мухи. А он покорно и туманна слушал тетушкины строгие наставления, глядел на ее руки, не понимая читал синие, тугие в сгибах, пахнувшие сургучом гербовые бумаги.
Этот деловой разговор с тетушкой запомнился ему отчетливо, как и многое другое из тех дней: как он с толпою провожавших шел за гробом по скрипевшему, наезженному до лоска снегу; зимнее, слепившее глаза солнце; как покачивался впереди открытый гроб с восковой головою покойника отца; как выбежали из ворот и заляли на толпу две молодые и очень веселые собаки. В церкви он стоял, прислонясь к холодной стене, и все время чувствовал сладковатый, приторный, набегавший по холодку нетопленой церкви дух, смотрел на покойника, ожидавшего могилы. Поразило его, когда стоявший у гроба великан Крючин, приказчик отца по лесному делу, его правая рука и ровесник, вдруг рухнул на каменный пол, содрогаясь всем своим десятипудовым, затянутым в лисью поддевку телом. Кто мог думать, что Крючин — Крючин, этот полуграмотный тяжелый человек, жестокий с мужиками-сгонгцикамиг верный хозяйский пес, берегший хозяйское добро, за что прощались ему вольные и невольные грехи и грешки, — может плакать так безнадежно, причитая...
Похоронили отца молодого Хлудова в большом и богатом монастыре, на видном месте, рядом с дедом*
Баплатив немалые деньги, и во всем тетушка распоряжалась сама, пугая монахов своим архангелотрубным голосом, привычкою переспрашивать грозно:
— А? Что говоришь?
И памятник был поставлен по ее личному выбору: стопудовый, тесаного камня, с золотыми литерами, похожий на огромный сундук; тяжко угибалась под ним земля, будто для того и ставили, чтобы покрепче припечатать в могиле покойника, чтобы невзначай не вылез покойничек на свет.
СЫН
- То, о чем говорила старая тетка, очень скоро и неизбежно стало молодому Хлудову самым главным, решившим его жизнь. 1
Наследство ему досталось огромное, вложенное в большое и сложное дело, требовавшее и ума, и глаза, и умелых рук. Под городом шла новая фабрика, вверху, на реке, по-прежнему заготовлялся лес. И молодой хозяин сперва во всем старался подражать отцу: справил такой же, как у отца, короткополый сюртук; носил — по-купечески — глубокий картуз;* на пристани и на фабрику ездил в отцовском тряском шарабанчике, сам правя вороной лошадкой, спускавшей осторожно под гору к реке; в трактире, где собирались купцы, в подражание отцу и знаменитому деду, пил чай вприкуску из белых пузатых чайников, водку требовал подешевле, по-дедовски приказывая половому: «Ту, ту, братец, в высокой бутылке, перцовочку, — нам, брат, коньяки не по карману!..» Потом все это — сюртук с короткими полами и шарабанчик, бутылка с перцовкой, — как водится, сорвалось, полетело вверх тормашками к дьяволу, к черту. Не по молодой голове пришлась дедова шапка. И Хлудов забросил дела, передав на руки лебезивших приказчиков и подручных; возненавидел и приказал беспощадно изводить отцовские и дедовские порядки; шумно загулял, запил, шарабанчик сменил на караковых рысаков и резиновые шины, перцовочку — на шампанское-; тяжесть отцовских миллионов была велика, не по молодым плечам... Да и времена не те, не дедовские, когда наживались эти миллионы, не те люди. Крючин, последний отцовский слуга, наколачи¬
112
вавший хлудовские миллионы на костлявых спинах еленевских мужиков, стал больше ни к чему, знал это сам и, получая до последнего своего дня прежнее жалованье (по распоряжению старого Хлудова, кроме обычного жалованья, выдавалась особо значительная сумма на крючинское неуемное чрево, требовавшее большого и сытного харча), с помощью еленевских му- жиков-сгонщиков, над которыми издевался, поспешил отправиться за хозяином, над гробом которого так потерянно плакал. Умерла вскорости и неугомонная тетушка — негаданно, словно разбившись с налету.
Окончательно погубила Хлудова несчастная его женитьба.
Женился он на молодой пышной красавице, дочери прогоревшего помещика-дворянина, пользовавшегося незавидной славой, откровенно надеявшегося погреть руки у хлудовских миллионов. И, точно сорвавшись с последней зарубки, покатилась сломя голову уже подсеченная жизнь Хлудова после женитьбы. В старом хлудовском крепкостенном доме с укладом, устоявшимся многими годами, все пошло по-другому со дня переезда молодой. Перебрался с нею в хлудовский дом — и в хлудовские дела — и отец ее, короткопалый, неприятно обрюзгший и нечистоплотный плешивый человечек с крашеной сединой вокруг желтой лысины. И жизнь в хлудовском старом доме почти с первого жо дня свадьбы стала похожа на кромешный ад. Так говорили люди, обвиняя то молодую — в жестокости сердца, то самого Хлудова, не умевшего взять в рука жену, — его тяжелый, ревнивый и подозрительный характер. И, обвиняя Хлудова и его жену, те же люди чуть не с первого месяца начали каркать, что такое не кончается ладно, что пахнет в хлудовском доме скорой бедой.
Люди говорили, что молодые живут неладно, что кто-то не раз видел ее в сорочке, с распущенными волосами, бегущую ночью от хлудовского дома к реке; пересказывали шепотком, будто молодая хотела отравить Хлудова по подговору отца, что спасся Хлудов случайно, уронив стакан с ядом... Таковы были слухи. А на виду у всех молодая красавица Хлудова сорила деньгами, разъезжала по городу на сытых караковых рысаках, кружила головы городской молодежи, ослепляя всех своей красотой, туалетами. Хлудов волочился
113
за ней молчаливою тенью; его она точно не замечала. Уступая ее настойчивому желанию, он продал подвернувшемуся немцу построенную отцом фабрику и купил имение на юге, в Крыму, с садами и табачными плантациями, заплатив бешеные деньги (имение надоело очень скоро); много раз они ездили за границу, откуда всякий раз возвращались врозь, в ссоре. И детей у них не было по ее желанию; по ее же требованию две трети года проводили они в утомительных и дорогих разъездах. За это время была ликвидирована большая часть лесных имений и заложено оказавшееся убыточным крымское, с плантациями и садами. Так жили они, жестоко мучая себя, разрывая и сходясь (на деревне, куда наезжал Хлудов, почти ничего не знали об этой несчастной жизни его, а если бы и Зкали, понять было трудно: так далека, так чужда была эта праздная жизнь простой жизни деревенской), все теснее затягивая роковой связывавший их узел, не имея сил уйти от того, что нависло над ними как неизбежность, чего с такою болезненною уверенностью всю свою жизнь ожидала мать, предчувствовавшая страшную, неотвратимую над хлудовским домом беду.
ЕЛЕНЬ
В те не так уж и далекие времена, когда наезжал на охоту Хлудов, не велика и не мала была лесовая деревенька Елень: двадцать шесть дворов. И, может, потому, что неродима была моховая болотная земля, что спокон веку одолевали мужиков леса и болота, жили мужики в лесу худо, хатенки были дырявые. И прошлое помнили люди мало. Слышали старики, водился некогда в лесах золоторогий зверь олень, наезжали в незапамятные времена ловцы ловить того золоторогого быстрого зверя, а по имени зверя названа деревенька. Слышали, будто в кои-то веки сидел над Еленью грозный барин Топтыгин и будто завели своего барина мужики в лес, на Бездон, продели в рукава длинный шест, распяли по шесту руки и пустили путаться по густому темному лесу, а задрал барина в jfecy медведь... Й будто’ в те же, совсем уже незапамятные времена стояли во мхах на Бездоне удалые разбойники, грабившие на дорогах проезжих купцов, и теперь там
114
приметное место — Станки, где от разбойничьего старинного стана остались заросшие папоротником и ба- гуном земляные валы и глубокие ямы, растет посеянный разбойниками дикий чеснок, виден в земле древний дубовый сруб; не раз, ковыряя колодье, находили там мужики''клады, отмывала река горшки с золотом* и серебром...
На памяти живых людей еще стоял в большом сел© над рекою большой старинный дом князей Друцких- Соколинских, с высокими окнами и балконом, с дремучим царком и садом, с заросшими тиной копаными прудами; помнят древние старики, как сами ходили на пригон к князю, как матери-жницы вешали в господском парке на березах люльки с грудными детьми; помнят и самого князя («был как гриб сморчок!» — рассказывал о нем старичок Митечка, некогда служив- кий у князя в казачках); построил князь на селе новую церковь, всякое утро ходил отбивать поклоны в часовню на берегу реки, и, спускаясь на мельницу, делали мужики крюка, объезжая эту княжескую часовню; помнят красавицу княгиню, любившую танцевать и веселиться, собственноручно наказывавшую дворовых девок и баб... Много с того времени уплыло воды, много упало и сотлело деревянных крестиков на деревенском, что над рекою, зеленом кладбище; еще больше сравнялось с землею бескрестиых могил; давным-давно перемешались в земле мужицкие и господские кости...
От старого осталась теперь высокая белая церковь на берегу реки; затянуло . лопухом и крапивой обсыпавшийся княжеский склеп, повалились каменные и чугунные кресты на дворянских могилах; где-то доживает свой век, беспутно слоняется последний из знатных князей Друцких-Соколинских...
А уж всем хорошо памятно, когда стояло на большаке волостное правление и утонул под мельницей, возвращаясь со свадьбы, волостной старшина Фетисыч. Помнят еленевские мужики, как расправлялся с ними у волостного правления урядник Нилыч. Помнят кабак при дороге, где всякое лето на Кирики-и-Улиты (так назывался деревенский престольный праздник) хватались за колье пьяные мужики, как шумел, разжигая драчунов, неугомонный забияка Санунок. Помнят наезжавшее из города начальство, молодого помещика
415
Розанова, спускавшего отцовское добришко. Помнят хлудовскую лесную контору, управляющего немца Карлу и хозяйского приказчика Крючина, наживавшего хлудовские миллионы, как приезжал на охоту, гостил у лесника Фрола молодой купец и богач Хлудов.
ВОЛОСТЬ
Волостное правление, или, как называли просто мужики, волость, где решались их дела, стояло на берегу реки, за старой помещичьей усадьбой. Был это старый, с облезлою вывеской, крытый щепою дом. У волостного правления росли три обломанные плакучие березы, под которыми обычно дремали прикрытые армяками пузатые лошаденки. В будни ц праздники толклись у волости трезвые и пьяные мужики.
В волостном правлении всегда было накурено, грязно. На черных от копоти стенах, по которым шустро пробегали тараканы, висели прикленные хлебом пожелтевшие, с оторванными углами объявления и приказы. В переднем углу, над окованным железом сундуком, темнела закопченная икона неведомо какого святого. За покрытым солдатским сукном, залитым чернилами столом, под засиженными мухами портретами царя и царицы, подобрав ноги в пахнувших дегтем сапогах, склонив над бумагами голову, сидел волостной писарь Егорыч, в очках, с заткнутыми ватой, заросшими волосьем ушами. Егорыч был туг на ухо, сутул и костляв, лисьи маленькие глазки его исподлобья смотрели на подходивших к решетке пахнувших овчиной мужиков.
Все дела в волости решал писарь Егорыч, один из всех умевший разбираться в постановлениях и законах. На квартиру к Егорычу, в пристроенную к волостному правлению избенку, просители носили подарки. Поросятами, гусями, салом была полна кладовая.
Раз в месяц в волостном правлении собирался суд. Тогда за придвинутым к деревянной решетке столом, нацепив медали, восседали выбранные сходом судьи — почтенные, богатые мужики. Восседали они за столом неподвижно, лишь изредка задавая вопросы толпившимся у решетки судившимся между собою о земельных и семейных разделах мужикам. В самое это время,
Ив
огородами через тын, волостной сторожонок Митька таскал из «монополии» угощение судьям, уединявшимся для совещаний в особую каморку. В конце дня, тыкаясь в грязь, на карачках расползались по домам волостные праведные судьи.
Два-три раза в год приезжал из уездного города земский начальник. Перед приездом начальства выскабливали бабы-поденщицы в волостном правлении пол, постилали его свежей соломой; расчесывал бороду, смачивал квасом белобрысые редкие волосы старшина Коныч. Летом земский начальник приезжал на тройке, с колокольчиком под дугой. Останавливался он в помещичьей усадьбе, купался в заросшем кувшинками живописном пруду. Скинув шапки с путаных волос, почтительно ожидали его на берегу просители-мужички; с медалью на шее, моргая распухшими веками, тянулся перед вылезавшим из воды голым начальством волостной старшина.
— Что скажете, землячки? — отдуваясь и фыркая, вытираясь мохнатым полотенцем, спрашивал мужиков- ходоков земский начальник.
— К вашей милости, — косясь на голый зад, па господское сытое тело начальства, кланялись мужики.— К вашему благородию, потому как есть мы безземельные, третий год ожидаем окончания нашего дела насчет земельного положения...
— Потерпите, потерпите, землячки, обсудим, решим, — весело перебивало их освеженное купанием начальство...
Позавтракав в помещичьем доме, земский начальник шел в волостное правление судить и рядить.
Иногда весною он присутствовал на экзаменах в земской школе, где его почтительно встречали учитель Ананьич и бронзоволосый, семинарски развязный священник отец Василий, с неряшливыми руками, торчавшими из рукавов рясы. Вместе с священником земский начальник садился за экзаменационный стол, к которому подходили, робко ступая по вымытому полу, пахнувшие хлебом вихрастые деревенские ребятишки. Батюшка отец Василий задавал вопросы из «священной истории», о том, «когда начался всемирный потоп?», «в какой день бог сотворил небо и землю?» Закончив экзамены, отпустив ребятишек, веселой гурьбой расходившихся по деревням, чрмский начальник и
117
батюшка возвращались в розановский дом отдохнуть, выпить зубровочки, перекинуться вечерком в префе- рансик...
Бывали на деревне праздники. Раз в год собиралась у волостного правления ярмарка, приезжали из города мещане-торговцы с увязанными, наполненными товаром возами. Балаганами, пестрой шумной толпою наполнялся луг. По укатанным, мягким от пыли дорогам гремели наполненные бабами и ребятишками телеги. Много народу тянулось на ярмарку пешком. Переходя вброд реку, бабы и девки задирали праздничные сарафаны, садились на бережку обуваться. Над берегом по дороге расхаживали подвыпившие ребята с песнями и гармоньею.
Хороводы водили за церковью, на заливном лугу. Веселым цветником рассыпались на лугу одетые в новые сарафаны бабы и девки, звенели женские голоса...
Всякий раз прикатывал на ярмарку сам становой пристав Душак, франтоватый злой человек с подстриженной черной бородкой. Порядки на ярмарке наводил полицейский урядник Нилыч, расправлявшийся с мужиками казачьей плетеной нагайкой и собственными пудовыми кулаками.
Вечером в помещичьем доме с высокими, отсвечивавшими на угасавшей заре окнами, на балконе, укрытом разросшейся сиренью, пристав Душак ухаживал за молодой женой Розанова. А в открытую дверь балкона слышался из гостиной семинарский бас отца Василия, внушительно произносивший:
— Пики-пикиндрясы!.. Семь без козыря!..
И в это же время еще слышались на деревне песни, заливались в розановском парке соловьи. Лесными неведомыми тропами возвращались на Бездон в свое логово волки...
НА ЧУЖОМ ДОБРОМ
Отца лесника Фрола — кликали его на деревне за маленький рост и торопливость Окуньком — убило в хлудовском лесу деревом. Фрол был тогда еще семилетним мальчишкой, и смерть отца осталась как давнишний страшный сон. Запомнил Фрол падавший тихо снег4 черную, с очищенным комлем, лежавшую в глу¬
118
боком снегу макушку, всю в лиловых смолистых шишках (он был с отцом и старшим братом в лесу), таявшие на провислой спине меринка медленно крутившиеся в воздухе снежинки. Балуясь, он срывал с ма- куши налитые смолой тяжелые шишки, швырял ими в пустую белочью гаюшку, застрявшую между двух густых елок. В лесу, на вырубке, было разоренно и неприютно: всюду валялись неприбранное сучье и отрезанные макуши, из разъезженного, истоптанпого лаптями снега торчали пни, и, как воины после побоища, лежали под снегом спиленные, сложенные в кучи бревна. Было слышно, как в лесу — там и там — стучат топоры, как тяжело ухают, падая, подрубленные деревья, как загомонили, зашумели вдруг в одной стороне мужики.
Длинный мужик в подпоясанной короткой шубейке и распахнувшемся армяке ходко сигал через пни и су- чьё. На мужике была косматая шапка, под шапкой краснела рыжая борода, и по бороде Фрол признал дядьку Архипа. Архип подбежал близко и, не останавливаясь, на ходу крикнул:
— Тятьку твойго притиснуло! Беги скорей!..
Чувствуя, как закатилось сердце и захватило дух,
себя не помня, падая, спотыкаясь намерзшими лаптями о запорошенные сучья и пни, побежал Фрол туда, откуда появился дядька Архип и все еще гудели тревожные голоса.
Отца он увидел на снегу, за деревьями. Вокруг стояли мужики, без шапок, с топорами за поясами. Отец лежал навзничь, откинув голову, и судорожно, хрипло набирая грудью воздух, дышал. Тут же оседало на снегу и еще шевелило густыми темно-зелеными сучьями большое поваленное дерево. Лицо у отца было чужое. На его лицо, на шубейку, на оседавшее шевелившееся дерево и открытые головы мужиков медленно узорными звездочками садился снег. Открытые глаза отца смотрели чудно — пусто над лесом и над людьми — в мутно-молочное, низко нависшее небо, в котором все рождался и сыпал пушистый снег.
Фрол подбежал, остановился, переводя дух, расталкивая мужиков. Белобородый, востроглазый, обсыпанный снегом мужик в кожаных рукавицах сказал строго:
— Шапку скинь — вишь, батька отходит!
119
Фрол снял шапку с торчавших на затылке волос, стал смотреть. Отцовская рука в овчинном продранном рукаве медленно сгибалась и дрожала. Струйка черной крови сползала изо рта под редкую бороду. Окунек вздрагивал, силясь оторвать от груди руку. Фрол видел, как судорожно и беспомощно задвигались, царапая полушубок, толстые скрюченные пальцы, как отец оторвал от груди руку — страшно блеснув белками, закатились под лоб его глаза — и точно погаснул. Остекленевшие глаза смотрели в небо; снежинки, кружась, садились — и уж больше не таяли — на лицо, па редкую бороду отца, на его губы, на смотревшие в мутное небо открытые глаза. Фролу показалось, что лежавший па снегу, непохожий на отца человек в разодранной, испачканной кровью шубейке стал еще меньше.
— Кончился! — сказал тот востроглазый белый мужик, что заставлял Фрола скинуть шапку.
— На чужом добром, — сказал другой, длинный, в лаптях и суконных онучах.
— Отдерут подковки, — добавил третий.
Фрол стоял молча, пе понимая, ничего не чувствуя к лежавшему на снегу неподвижному человеку. Понял он, когда прибежал из лесу его старший брат Федор и, запыхавшись, с открытой мокрой головою, с поднятыми плечами остановился над отцом. Посмотрев па брата, заплакал вдруг громко и жалобно, по-заячьему, Фрол.
Потом, окоченевший и маленький, засыпанный пушистым снегом, отец лежал на узких обледенелых дровнях, на еловых, пахнущих смолою ветках. Брат шел рядом, придерживая на раскатах дровни; Фрол сидел в ногах покойника, скорчившись и дрожа. Чалый, почерневший от таявшего снега меринок шел привычно, опустив костлявую голову, распусти» уши. Все гуще, все белее валил из низко насунувшегося неба снег.
На росстанях, под деревней, их встретила мать. Она бежала навстречу под падавшим снегом, странно кидаясь из стороны в сторону, как черная на ветру птица. Подбежав к дровням, она схлестнула над головой руки и повалилась на покойника, закрывая его собою, цепляясь скрюченными пальцами, заголосила. Брат стоял молча, держа вожжи; понуро, насторожив ухо, остановился и опустил голову меринок. Видя, как воет и уби¬
120
вается мать, опять по-заячьему заплакал маленький Фрол.
Потом шло так, как шло и повторялось несчетно. Покойника обмыли и положили под образа на лавку, накрыли чистой холстиной. И, по обычаю, выла, причитала мать, — уговаривали мать, толпились в избе деревенские бабы.
Могилу отцу рыл брат. За эти дни он изменился, точно состарился, возмужал, упорно молчал и о чем-то думал. Похоронили отца на деревенском кладбище, над замерзшей рекою, под старыми соснами, где спокон веку лежали деды и отцы — вся топтавшая когда-то землю, терпевшая нужду, ходившая с плотами глухая деревенька Елень. И крест над могилой поставили наскоро, кое-как сбитый, точно для того, чтобы поскорее затерялся на земле последний Окуньков след.
И как много миллионов раз, своим неизбежным кругом пошла в Окуньковом дворе сиротская и вдовья жизнь.
Хозяином во дворе остался семнадцатилетний Федор. Он стал еще молчаливее, по-отцовски подсох, из подражания мужикам начал ходить вразвалку, покончил играть с ребятами в бабки, завел сшитый из цвег- пых лоскутов табачный кисет. И на сходки, где реша* лись мирские дела, стал ходить как взрослый, замещая отца; как взрослый сидел и слушал. Мать сжалась, примолкла, теснее слиплись, суше стали ее тонкие губы, запали глубже, тревожнее глядели глаза. Всех во двору оставалось четверо: мать, Федор, Фрол и маленький брат Степка, ползавший под лавками на голом залу.
АВДЕЙ
Люди им сразу не помогли, а без людей пришлось бы погибнуть неминуче. И тою же зимой, великим постом, когда подъели последний хлеб, впервые пошел с матерью Фрол по миру. Мать пошила из холстины длинные сумки, и, надевши их, поплакав, попрощавшись с Федором, оставшимся во двору за хозяина, поручив соседям «несмысля» Степку, крестясь, неторопливо вышли они за деревню на потемневшую, убегавшую по снегам дорогу. День, когда они вышли, был первый, предвесенний: яркое светило над ними солнце*
Ш
глазам было больно от нестерпимо блестевших снегов, прозрачное высокое небо широко покрывало блистающий белизною и светом мир. Мать, согнувшаяся еще круче, с закутанной в платок головою, шла тихо, и, забегая вперед, все оглядывался на нее, на ее обвязанную голову, на большие, переступавшие по снегу лапти, маленький Фрол. На всю жизнь запомнил он, как первый раз брались они за холодную скобку чужой двери, за которою шумели чужие веселые голоса. Как вошли в полную людьми избу, и на минуту люди примолкли, разглядывая вошедших, а нарядная красивая молодуха, продолжая смеяться, неторопливо поднявшись и отодвинув прялку, раскачивая висевшие в ушах сережки, подошла к столу и, приложив к мягкой груди хлеб, отрезала большой ломоть — подала матери первую милостыню. Как, сморгая зазябшим носом, непохожая на себя, худою трясущейся рукою неловко приняла и опустила мать этот первый ломоть в сумку, как вышли они из избы, благодаря и крестясь, оставив за собою чужое благополучие и довольство.
Потом стало привычно. Они заходили в чужие избы, останавливались, крестясь, у порога, им подавали милостыню молча, как подавали на деревне всем, кого водила по чужим порогам нужда. Случалось, их сажали за стол. Мать рассказывала о своем горе, и, ее слушая, вздыхали, покачивали головами бабы. Так ходили они по миру до самой весны, пока держали дороги, пока стояла река.
Летом Фрол пошел в подпаски к пастуху Авдею. Все лето ходил он за деревенским стадом, волоча за собою длинный кнут, изо всех сил крича на отбивавшихся от стада коров. Наставник его Авдей был лохмат, легок и худ, неизменно весел и хрипуч. Всякий день поднимались они до солнца, когда еще стлался над рекою туман и, сивая от росы, туманилась в лугах трава; по-утреннему звонко кричали, хлопали крыльями петухи, хрипели в тумане коростели-дергачи. Заспанные бабы с хворостинами в руках перебегали дорогу. Всякое утро видели они, как встает над землей солнце, как просыпается в лугах над рекой звонкая жизнь. И до последнего кустика Фрол знал свой лес и луга, знал норов каждой скотины в деревенском стаде. По заведенному со старины обычаю, садились они каждый день к чужому столу, под чужой спали крышей, носили
122
«мирскую» одежду. Раз пять в лето, по большим празд- никам, деревня делала пастухам «вынос». Тогда мать ходила по избам, собирала за сына хлеб. В эти праздничные дни выноса загуливал на деревне Авдей.
— Нищий гуляет — господь радуется! — притаптывая лаптями, весело выкрикивал Авдей свои любимые словечки.
— А ну, повесели народ! — говаривали Авдею окружавшие его толпою, смеявшиеся над ним ребята и мужики.
И, тряся портками, неловко пускался плясать в расступившемся круге пьяный Авдей. В эти праздничные дни до поздней ночи был слышен на улице Авдеев хрипучий голос.
От наставника своего Авдея перенял Фрол умение трубить в длинную берестяную трубу, которую носили с собою пастухи, плесть лапти. А было в нем и природное, свое: был он молчаливее, прочнее и строже наставника своего Авдея, со строгой внимательностью смотрели на мир и людей его серые спокойные глаза. Не было в нем Авдеевой беспечной легкости, открытой веселости Авдеевых глаз, не знал он веселых Авдеевых словечек...
ЖИЗНЬ ФРОЛА
Многие свои качества унаследовал Фрол от матери. Ко времени женитьбы Фрола это была еще сильная, маленькая, черная от работы женщина. Трех сыновей выходила она сама. Сама же, по первым годам, несла всю мужицкую работу: работала в поле, ездила с топором и пилою в лес, наряду с мужиками возила на реку бревна и — будь силы больше — пошла бы сама на хлудовских плотах вниз, как всякую весну ходил ее муж Окунек. После смерти мужа она подсохла, глубже провалились ее глаза и как бы скрылся их прежний жизненный блеск. Головной платок стала она опускать на глаза ниже, стала суше, ссутулилась ее спина; вместе с блеском глаз ушло, скрылось у нее женское, молодое, что оставалось в ней раньше. Реже стала она смеяться, а все так же — пожалуй, еще быстрее — продолжали двигаться ее сухие, тонкие руки, быстрее ступали ноги, суше, грубее стал голос. И редко-редко, в легкую минуту, возвращалось к ней преж¬
123
нее, — тогда былою силою жизни светились ее глаза, свежел и изменялся голос... По деревенскому свычаю, ей почти никто не помог: старая деревня сурово глядела на свалившееся на ближнего несчастье, и, зная это, приняла она свое горе покорно, наперед чуя, сколько доведется хлебнуть этого горя, и, может, именно потому так по первому разу горьки были ее слезы, так истошно она причитала над покойным своим Окуньком. Но и в самые тяжкие дни не теряла она головы: еще и в то время, когда Окунек — легкий, с далеким и чужим лицом — лежал в избе «под богами», скотина была накормлена-напоена (тут помогали соседи), накормлен был младший сын, ползунок Степка.
Когда женился старший брат Федор, Фрол еще ходил в подпасках. Женившись, Федор еще теспее замкнулся, учернел, стал упорнее смотреть в землю. Веснами ходил Федор на плотах, приносил из города жене подарки, потом отделился, упорнее стал глядеть под ноги. Хозяином во двору остался Фрол.
Женила его мать па шестнадцатилетней Марье, из бедного двора. Мать сама ездила сватать, сама сговаривалась о приданом, и, как полагалось тогда, свадьба была справлена честь честью. В день свадьбы, после венца, молодые сидели за длинным столом — раз в жизни «князь и княгиня», — в избе пели, обыгрывали молодых веселые голосистые бабы. Мать, в новых вязовых лапотках, сплетенных к свадебному дню Авдеем, в беленых онучах, разломила над головами молодых хлебную ковригу, и, по старинному обычаю, невеста, сидевшая за столом с опущенным на лицо платком, зубами выдернула торчавшую в хлебной корке серебряную денежку. Широкобородый сват-крестный, пригубив из чашки, вытирая бороду, подмигивал хитро, сказал громко;
— Хороша бражка, да горьковата!..
И первый раз, привстав, неловко поцеловались за столом молодые «князь и княгиня»...
А вскорости забрили Фрола в солдаты. На призыв он пошел в город вместе с однолетками рекрутами. В городе молодые рекруты шумели, пели песни, слонялись по улицам, притворяясь веселыми и хмельными. Прощаясь с молодой женой Марьей, заплакал Фрол совсем по-ребячьи, по-ребячьи катились по безусому его лицу слезы. Провожая его, Марья в первый раз
124
крепко обняла его с такой еще неведомой ему лаской, что помутилась у него от тоски голова, и долго потом сидел он, не видя окружавших его кричавших и смеявшихся людей, не слыша, как стучит, погромыхивает на стрелках, трясется набитый новобранцами товарный вагон.
ТЯЖЕЛЫЙ ГОД
Служить Фролу довелось в большом приморском городе, залитом южным солнцем, обдутом морскими ветрамй. После глухой деревни удивительными показались ему просторное море, блеск яркого солнца, дымившие на рейде военные корабли, мертвая недвижность листвы на незнакомых деревьях.
Через месяц-другой пригляделся, обтерся Фрол, стал обычным русским солдатом — ладно носил парусиновую, с погонами, рубаху, лихо сдвигал на ухо солдатскую бескозырку, отбивал на учении шаг, с непоколебимым терпением переносил солдатскую нужду, издевательства фельдфебеля, требовавшего от солдат подарков.
Раз, два раза в год приходили письма из деревни (Марья бегала в волостное правление, где эти письма писал писарь Егорыч, короткопалый, протухший табаком и сивухою человечек). Письма были длинные, написанные писарски, с хвостами и росчерками, со множеством поклонов и пожеланий, с кратким сообщением о главном в самом конце. Из первого, полученного на святках письмах узнал Фрол, что родился у него и вскорости умер первенький его сын Павел. В другом письме, полгода спустя, кратко сообщалось, что старший брат Федор, задумавший совсем отделяться, требует свою долю, что, дожидаючись мужа, давно она выплакала глазоньки и, «будь востры крылышки, слетала б сама повидать милого дружка хоть малый разочек...» По тому, что было сказано в этом письме, а еще больше по тому, чего в письме сказано не было и о чем нужно было догадываться, понял Фрол, что дома не все ладно, что нужно бы ехать самому налаживать пошатнувшееся в дому хозяйство...
А так и не довелось ему побывать дома. Тот год началась японская война, и Фрол остался в казармах дожидаться отправки в далекую, чужую Маньчжурию,
125
Полк их погнали не скоро. Их долго трясли в телячьих вагонах, томили на захолустных таежных станциях и полустанках, где низко стояло над тайгою сизое от мороза солнце и равнодушно смотрели на них сибирские мужики в собачьих тулупах. Война была далеко, знали о ней мало, а что знали — казалось нелепым, чудным, почти сказочным; сказочными казались и самые враги — японцы. Все мутнее, тревожнее ходили слухи. Так и не довелось Фролу повидать войну: скоро побежал слух о мире, о продавшихся японцам министрах и царских генералах, о хитрой «англичанке», порешившей сгубить Россию, о бунтах и смуте. Их полк вернули с дороги, отправили назад в приморский город, где уже вовсю бродил тревожный дух.
Летом вернулся Фрол в Деревню. То, что видел он в городе и Сибири, чего наслышался дорогой в вагонах, докатилось и в глухую Елень. Еще мутнее, непонятнее толковали мужики о продавшихся министрах и «англичанке», о пойманных где-то бунтовщиках-сту- дентах, о какой-то дальней деревне, где прикончили мужики барина. Все громче шумел на сходках, размахивая руками, неугомонный Сапунок. И смелее стали ездить мужики в хлудовский лес, громче стали постукивать в лесу мужицкие топоры...
Ко времени возвращения Фрола не многое переменилось на Елени. Пришел он нежданно-негаданно, обросший бородою, в солдатской шинели и гимнастерке. Не сразу, как бы его не узнав, обрадовались ему мать и жена.
Ив первые же дни был Фрол на селе, в волости. Там было набито битком, как в потревоженном улье, шумели, горланили мужики.
В волостном правлении, наполненном народом, припертый к стене мужиками, держась руками за стол, стоял хлудовский управляющий-немец. Мужики окружали его живой, плотной, дышавшей ненавистью толпою. На управляющего наседал, брызгал слюной, размахивал руками, яростно кричал Сапунок.
Управляющий-немец стоял молча, стиснув зубы, криво усмехался. По его дрожавшим рукам, по мертвенной бледности обрюзгшего лица можно было понять, что мучился немец смертным страхом.
— Живоеды! Попили нашей кровушки!.. — гудели, наседали на управляющего мужики.
426
— Чего на него глядеть! — кричал, размахивая кулаками, Сапунок. — Попили, попировали, теперь шабаш!..
Управляющий стоял, хмурясь, как от яркого света, пусто смотря поверх голов бушевавших толпившихся мужиков.
— Змей, как есть змей смотрит! — яростно взвизгнула пробравшаяся с мужиками баба-солдатка.
Спас от расправы управляющего-немца старый цыган Лекса. Цыгана привели в волость соседние мужики. Они ввалились толпою, распихивая народ, яростно крича. Цыган Лекса — без шапки, со смоляно-седыми, жесткими, как конская грива, шапкой курчавившимися волосами, на голову был выше окружавших его мужиков. Он стоял в толпе, подняв свою черную, отсвечивавшую сединой голову, в расстегнутой на груди рубахе, с запекшейся кровью на смуглом лице. Коротконогий, похожий на барсука мужик в лаптях, выкатывая глаза, тряс за грудки стоявшего перед ним цыгана, тонко кричал:
— Он у меня коня в третьем годе увел чалого! Я цельный год за конем гонялся, хозяйство все запустил!.. Первый он наш враг оказывается...
Старый цыган стоял один в толпе против маленького кричавшего мужика. В глубоких иссиня-черных цыганских глазах играл злой огонь. Он в упор ненавистно глядел в глаза и лица наседавших на него мужиков, открывал сплошные, белые, как чеснок, зубы, говорил раздельно и зло:
— Ты видел, как цыган Лекса твоего коня брал? Видел?..
Мужики оставили управляющего и оборотились все на цыгана. Застоявшаяся, накипевшая ненависть нашла себе выход. Цыган один посреди всех стоял с высоко поднятой головой, смотрел дерзко. Мужики ревели, кричали, яростно размахивая руками:
— Конокрад!
— Мир грабил!
— Через них терпим!..
Коротконогий мужик первый ударил и толкнул в грудь цыгана.
— Чего глядеть, бей его!—на все волостное прав* ление завопил его плачущий голос.
127
Фрол не стал смотреть, как избивали цыгана Лексу. Он вернулся в деревню и, не отдыхая, с первого дня стал устраивать, собирать запущенное свое хозяйство,..
В то самое лето, когда хотели мужики расправиться с хлудовским управляющим Карлой, сгорел у помещика Розанова (тогда только начинавшего мотать отцовское наследство) сарай с клевером, и присланные на усмирение охранники-черкесы забрали трех мужиков, заподозренных в поджоге и покушении на убийство управляющего-немца, — горластого рыжего Са- пунка, больше всех шумевшего на деревне, веселого еленевского гармониста Кузьку, приехавшего с шахт на деревню, и ни в чем не повинного безземельного бедняка Халамея, за весь свой век не обидевшего мухи. Осенью приезжал в волостное правление со становым Душаком следователь — пил с Розановым водку, а отъезжая, оставил становому наказ: Сапунка, Кузьку и Халамея погнать в город, в тюрьму. Всю зиму мужики просидели в тюрьме, вернулись только весною. Если бы не затаенный в глазах мужиков недобрый взгляд, можно было думать, что ничего не изменилось. Так быстро пошло все по-старому: по-прежпему шумел на деревне, горланил Сапунок, уехал на шахты гармонист Кузька и все так же чудачил, бродил по селу пьяненький Халамей. После тюрьмы повадился Халамей ходить на помещичью усадьбу. Приходил он растерзанный, с заплывшим лицом, кулаком бил себя в грудь, и его не трогали — на удивление всем — злые розановскио собаки.
Тою же зимою, после раздела с братом, оставшись без хозяйства и дома, поступил Фрол служить лесником в лесную хлудовскую контору.
КОНТОРА
Контору в лесу поставил еще отец Хлудова. При отце выкопали пруд, запустили в пруд, карасей и лещей, поставили высокий, с балконом и светлыми окнами, сосновый сруб. При Дмитрии Яковлевиче в конторе Жил немец-лесничий Карла. Немец поставил при конторе лесопилку, порядки в лесу завел строгие. При нем всякую зиму возили мужики на лесопилку лес, и с каждым годом росла под конторой гора желтых опи¬
128
лок. Лесничий с презрением глядел на еленевских кудлатых мужиков, расправлялся с ними самолично. Раз, после пятого неспокойного года, захватили в лесу мужики Карлу, и уж кое-кое-как ушел от топоров, отстрелялся из ружья от мужиков толстый лесничий. То лето прислали в контору из губернии для охраны лесов черкесов. Жили черкесы в конторе, жарили на кинжалах баранов, пели дикие свои песни. И, как черных дьяволов, боялись черкесов бабы и мужики. А и впрямь похожи они были на чертей, когда разъезжали по просекам в мохнатых, стоявших колом бурках с кинжалами поперек перетянутых животов, и глядя, бывало, на них, на их черные, крючковатые, заросшие синей щетиной лица, торопились старухи креститься, а молодухи, как при татарах, прятались по загуменьям...
Еще в те времена чаще стал наезжать Хлудов в Елень — последнее его незаложенное имение. Должно быть, была мила молодому Хлудову Елень своею тишиною, непроницаемой дикостью лесных тихих речек, где как деготь черна и густа вода. И останавливался он последние годы не в просторной своей конторе, у управляющего (презирал управляющий и самого Хлудова за нераспорядительность и русскую халатность), а ближе к охоте, в новой сторожке, у лесника Фрола, жившего в лесу с семьею.
Лесник Фрол был на год моложе хозяина, но и сравнивать их было невозможно, настолько казался Фрол моложе и легче носила его земля. Был он невысок ростом, легок, холщовая серая рубаха ладно лежала на его покатых нешироких плечах. Ходить он мог неутомимо, не меняя легкого шага, почти безотдышно. Лес знал зверино, видеть и слышать мог замечательно: за полдесятины примечали глаза его схоронившегося в еловой чаще рябчика, за два квартала слышал он певшего глухаря. Громоздким и тяжелым, каким-то на земле лишним казался с ним рядом широкий и черный Хлудов.
Характером был Фрол молчалив, сдержан, казалось — суров. Было в нем что-то отличавшее его от других мужиков. Д$же внешне отличался от других Фрол необычайной опрятностью своей одежи, чистотой новой сторожки, еще светившей стругаными белыми стенами со слезинками выступавшей смолы, с широкою чистою печью и новым, покрытым суровою скатертью
5# И. Соколов-Микитов, т. 1 129
липовым столом, с высокой, пристроенной у стены постелью, с особым запахом опрятного человеческого жилья — смешанным запахом дыма и хлеба, сосновых степ и чего-то такого, чем пахнет здоровый, ничем не поврежденный человек. (О чистоте их житья недобро говорили па деревне завидовавшие Марье бабы: «Пожди, пожди, обсыпешься детями, как мы, позабудешь наводить чистоту, это тебе не на господском готовеньком!..») А еще больше привлекала Хлудова счастливая, по-первобытному простая и ясная, такая непохожая па его личную, семейная жизнь Фрола. Он с удовольствием, сам того не замечая, не раздеваясь и не снимая патронташей, огромный и черный, часами просиживал в сторожке, поглядывая на копавшуюся у печи, уже привыкшую к хозяйским наездам молодуху: на маленькие ^е крепкие ноги, на ее руки, которыми она брала из дежи тесто, клала на выстланную кленовым листом лопату и, ополоснувши пальцы, быстро и сильно, размахивая подолом, начинала вымазывать хлебную ковригу. Хлудов смотрел на ее локти, на открытое запотевшее лицо, смотрел в ее оборачивавшиеся на пего сиявшие жизнью глаза, из которых лилось, волнуя тоской, о неиспытанном, человеческое полное счастье. С удовольствием оставался Хлудов ночевать весною в болоте, на глухариных токах, куда водил его Фрол. Фрол разводил огонь и натаскивал к огню суши, набрасывал пахучих еловых лапок на сырой мох, под которым еще чувствовалась твердая, промерзшая земля, и так целую ночь — хозяин и лесник — лежали они у жарко трещавшего огня, смотря на погасавшие в дыму искры, слушая, как за Бездоном гудит отколовшийся волк, как глухо шумят на плотах, над рекою, голоса.
По приказу хозяина, зиму и лето Фрол следил за стадом лосей, ежегодно зимовавших в еленевских густых лесах. Летом лоси кочевали, топча и сбивая молодой липник-подсед, зимами забирались в густой кустарник, жевали побеги. Фрол знал точно, где останавливаются на зимовье лоси, где и когда проходят па водопой. Не раз, подкравшись, он видел в лесу их бурые спины, поднимавшиеся над кустарником рога; случалось, подолгу наблюдал, как паслись они на лесных закрайках, как играли телята и часовым стоял, стерег стадо, высокий бурый рогаль. По приказанию Хлудова,
13G
всякое лето косил он и заготовлял в лесу для лосей сено, веснами, когда шли по реке плоты и прилетала на Елень пролетная птица, 'ходил проверять следы.
И всякую весну толпились у хлудовской лесной конторы, горланили на реке, плотили лес и дрова еле- невские мужики; поднимала река и несла эти плоты.
ПЛОТЫ
Еще во времена старого Хлудова илоты шли весной, когда широко, затопляя привольные заливные луга, разливалась тихая речка Елень. Плоты шли гужом, длинными пленками, с веслами на голове и хвосту. На плотах желтели соломенные крыши шалашей, синими паутинками вились над рекою дымки костров, горевших под закопченными чугунками с картофельной похлебкой. Река шла, кружась, по-весеннему мутная, неся хлопья пены, сор, вырванные с корнем деревья, а случалось — целые крыши смытых половодьем деревенских построек. Над рекой нролеталй, свистя крыльями, дикие утки; кликали, кружась в весеннем небе* журавли. «Чьи вы? Чьи вы?» — кричали, падая над плотами, долгокрылые чибисы.
Мужики-сгонщики жили на плотах особою, привычною жизнью. Плоты шли по светлой, извивпо лежавшей, широко разлившейся реке, а навстречу им плыли изжелта-бурые пологие берега с отражавшимися в воде белыми церквушками, темнели соломенные крыши, и над ними по утрам розовыми столбами поднимались в небо дымы. На берегах, нагнувшись, поматывая мокрыми подолами, били вальками бабы. Плотогоны кричали им с реки соленые, занозистые словечки, и, упирая руки в бока, бабы отвечали им еще занозистее и солонее.
Древнее, вековечное было во всем этом: в том, как шли-плыли по светлой реке плоты, как всякий день вставало и закатывалось над рекой солнце, в звуках перекликавшихся голосов, в свисте крыльев бесчисленных птичьих стай.
Были на реке места, где требовалось много сноровки и глаза, чтобы благополучно провести плоты, не сделав загрома. В таких местах в прежние времена день и ночь дежурили хозяйские приказчики-матюшники (иа-
134
зывали их матюшниками за то, что главная их обязан^ ность состояла в том, чтобы покрепче ругать и подгонять мужиков-плотогоиов). Здесь же стояли ушаты с родкой. Случалось не раз: на крутом завороте станет головной плот дыбом, навалится на него другой, третий, и пойдет рушить, крушить. На языке плотогонов называлось такое загромом, гудела в такие часы река от. несусветного, кромешного мата: с берега, подбадривая заколяневших в ледяной воде мужиков, орали приказ- чики-матюшники, с плотов им отвечали мужики-плотогоны. Вот тут-то и пригождалась хозяйская водочка, запасенная в ушатах: выпив по ковшику водки, закусив хлебом-сольцей, очертя голову лезли сгонщики в студеную воду выручать хозяйское погибавшее добро. А бывало не раз: затирала в загромах, губила, уносила река людей, спасавших купеческие капиталы.
Так по реке вместе с бородатыми мужиками-водо- хлёбами, с закопченными чугунками, с кромешным всея Руси матом капля за каплей плыли в купеческие карманы миллионы. Встречая под городом благополучно приплывшие плоты, с крутого берега орал, бывало, на реку в сложенные ладони радовавшийся наживе купец:
— Лес-от че-ей?..
— Архаровска-а-а!.. — доносилось протяжно и тонко с плотов.
— Че-ей лес?.. — повторял, будто недослышав, выставив брюхо, купец.
— Архаров-ска-а-ай!.. — докатывалось громче и отчетливее с плотов.
И, повернув круглое брюхо, затянутое в жилетку* перепоясанное часовой цепочкой, поскребывая в бороде, тихо говаривал купец Архаров слушавшим его присным:
— Мой, ребятушки, лесок-от идет!..
Теперь уже странно слушать рассказы о тех отдаленных временах, когда гремела по реке громкая купеческая слава, царевал над еленевскими мужиками старый хлудовский приказчик, правая хозяйская рука, десятипудовый Крючин.
Живы еще людишки, сами ходившие по реке с купеческим лесом. Живы людишки, но какой недосягаемо дальней кажется прежняя жизнь! Странно слы- шать, что зарабатывал в прежние времена, работая ot
132
темна до темна, рискуя своею жизнью, сильный взрослый человек всего десять — пятнадцать целковых за всю тяжелую весну, что за подвозку леса на пристань платили с лошадью человеку на своем хлебе-овсе по четвертаку в день, что за «плотку» и сгон, за подвозку прутья —за полтора месяца труднейшей работы, нередко по шею в ледяной весенней воде, — получали еле- невские мужики по пяти целковых да по полфунта табаку-полукрупки на душу.
ВОДОХЛЁБЫ
Должно быть, в те времена и окликали еленевских мужиков-сгонщиков в городец куда приходили плоть^ в насмешку водохлёбами, серыми идолами и кое-чем посолонее. Весною, когда приплывали плоты, наполняли опи город серой, беспорядочной толпой; в ожидании расчета бродили по улицам, всегда серединою, не понимая городских правил, задирая на верхние этажи кудластые головы, рассматривая (впрочем, без особого удивления и почета) проезжавшее в колясках начальство, «чагокая» и «кагокая» так громка и безбоязненно, точно были не в городе, у губернаторского белого дома с полосатыми будками, а на реке, на плотах; серой угрюмой гурьбою стояли под окпами губернской гимназии, и гимназисты, смеясь, кидали им из окон клочки ненужной бумаги на цигарки. И такой же беспорядочной, упорной, топтавшей все, что попадало под ноги, всех расталкивавшей толпой бродили они по базару, выводя из последнего терпения торговцев; подолгу и кропотливо, перекидываясь замечаниями, копались в разложенных товарах, звонили о лотки косами, пробовали на зуб подошвы, лизали каменные брускй для точки кос. Разгневанные торговцы кричали им вслед:
— Черти, серые идолы, водохлёбы!..
Но и на ругань не обращали они ни малейшего внимания.
Так продолжали они заполнять город, сердить торговцев, пока наконец, получивши расчет и зашив деньги в шапки, закинув лапти за плечи, с гостинцами — по фунтику сахарку, по красненькому платочку в кошелях — отправлялись пешком на Елень, йёрст полтораста откалывать голыми пятками...
133
Рассказывать о тех временах почти нечего. Помнят старики, как гуляли в те времена в городу купцы, как шумели после сплава, на дыбки становился от их гуляния весь город. Помнят своего же еленевского му- жика-богатыря Оську — будто жил-был Оська, ростом мал и копыляст, а сила в нем была медвежья. И вся сила была в Оськином брюхе. Будто он, подпоясавшись натуго и надувшись, мог рвать на своем брюхе новые пеньковые вожжи. И будто за самое это умение приглашали его купцы после сплава в ресторан, в отдельные кабинеты, напаивали коньяком, чтобы похвастать, какова, мол, сила у серого мужика, и будто там он и надорвался, стараясь перед купцами: лопнула от натуги в животе главная жила, и оттого помер Оська на месте.
Сказочным кажется теперь хлудовский приказчик Крючин. Запомнили о нем, что был непомерно толст, в три обхвата, съедал за присест свиной окорок, водку глушил четвертями; что ездил по пристаням на беговых дрожках, на сером жеребце, а дрожки для него были особые, по заказу, а делал дрожки жулевский кузнец Максим, большой этого дела мастер. Запомнили, что был Крючин из своего же брата, из серых посконных мужиков, что такие-то, из своих — из грязи князи, — всегда бывают лютее; что и не было у Крю- чина для мужиков слова иного: «змеи» да «дьяволы», и, приезжая на пристань, поставив жеребчика и сползши с дрожек, имел он обыкновение, здороваясь с плотившими на берегу лес, в ответ на их приветствия и поклоны поворачиваться к ним широким своим задом и, приседая во все стороны, отвечать:
— Здравствуйте, дьяволы! Здравствуйте, водохлёбы! Здравствуйте, серые идолы!..
Бывало, поймавши за рукав робевшего приказчика из молодых, указывая толстым перстом на стоявшего перед ним мужика без шапки, просившего Христа ради деньжонок за давно отработанное, тыча в худую бороденку, говаривал Крючин едким, тонким, никак не идущим к огромному его росту и толщине, скрипучим голоском:
— Гляди, гляди, у него глаза змеиные, глаза змеиные!.. Ты думаешь, ему деньги нужны? Они, дьяволы, трухой питаются, как мыши, их, чертей, ежели хлебом кормить — все передохнут, как тараканы от фран¬
Ш
цузского порошку... Что надо, змея полосатая? — обращался он к понуро стоявшему, теребившему в руках лохматую шапку мужику. — Денег? Я денег не кую. Да ты стой, стой, стой, тебя Корешком кличут, прутье где? Ты мне за прошедшее не отработал. Нет, брат, нету тебе денег, потерпишь. Год терпел — еще потерпишь, не сдохнешь...
— Сделай божецкую милость, Кузьма Игнатьич...— безнадежно настаивал мужик, вертя шапку, с испугом и ненавистью разглядывая огромный, напиравший па него живот Крючина.
— Цел, цел будешь!..
И, проводив отходившего по берегу своею жалкою, приседающей походкой мужика, с гадливым презрением глядя ему вслед, бывало, учил Крючйн молодого приказчика уму-разуму:
— Первым делом им, серым чертям, не верь на ломаный грош.— Она — как змея (из особого презрения он кликал мужиков в женском-роде: она). Говорит тебе: «Жрать хочу!» — брешет. Говорит: «Ой, батюшки, помираю!» — врет, подлец. Она — жиловатая, терпеть любит, полгода на лебеде проживет. Мужик с порожним брюхом на работу злее.
И, тяжело взбираясь на дрожки, разбирая толстыми пальцами ременные, привязанные к козырьку вожжи, усаживаясь, продолжал Крючин наставлять неопытного своего подручного:
— Дело делом, службу служи, а свой карман помнить надо. У хозяина миллионы, у нас мелкие рублики. Хозяин на нас — как земля на китах... У меня вот загром на реке. Приезжаю так-то, жеребчика бросил, сам бегу. Гляжу: светопреставление!.. А они, дьяволы, на берегу стоят, сопли распустивши, под ними хоть земля трясись. Вижу, наковыряет на большие тысячи. «Что вы, разэтакие-такие, сукины сыны, подохли?..» Выискался один, с бороденкой. «Полезай, говорит, сам, а мы нипочем не полезем, хоть все плоты переверни!..» — «Как не полезете?..» — «А так, говорит, так...» — «Эге, — сам себе думаю, — видывали и таких!.. Так и так, говорю, братцы, выручайте, все вам будет, айда за мною!..» Хлебастнули они по целому ковшику водки на пустое брюхо — и пошла писать губерния! Без погонялки сами в воду полезли. Дал я на
135
рыло по двугривенному, а в книгу пишу: «Случилсяг мол, преведикий загром, двести поденщиков по целковому...» Хозяин вытерпит, и тысячи целы. Так-то вот, это я к тому, — договаривал он, трогая жеребчика и отъезжая по мокрому, засыпанному корьем полю, — со зушою жить — из одного ковша воду пить. Не сумеешь — перышко в зад!..
КОНЕЦ КРЮЧИНА
А помнят и до наших дней, как стряслась над Крю- чиным большая беда, как отправили его еленевские мужички на тот свет.
Рассказывают об этом старики так.
Случился на реке как-то большой загром. Погода — не доведи бог: рвет, мечет, над рекой беляки бегают. Причалил один мужичок к берегу, соскочил в воду по пояс, канат ухватил, чтобы причалить, закрепить к берегу плот. А вода прет по-весеннему. Увидал на берегу деревцо, худую олешенку, конец вокруг дерева обмотал, ногами уперся, положил конец на плечо... Оле- шенка — хрясь! Канат потянуло, а у того мужика, что держал конец, от плеча до пальцев как ножом срезало — содрало с руки мясо. Кровь льет, присел он, опустил руку в воду — вода в реке стала красная.
Самое это время и налетел на него Крючин. Жеребчика и дрожки бросил, бежит, трясет брюхом, орет на всю реку. «Туды вашу растуды, такие-сякие, немазаные!..»
Наскочил на мужичка.
Поднялся мужик — из руки кровь ручьем льет, лящо белей мелу, на руке под мясом голая кость видна. Поднялся — и за топоренок.
Горой на него Крючин.
А мужик ближе, в здоровой руке топоренок:
— Бочка ты сорокаведерная, попила ты нашей кровушки, и когда ты, бочка, лопнешь!..
Теперь это — как сказка. Давным-давно нет Крю- чина и его подручных матюшников со складными аршинами в глубоких карманах, и ни единая не укажет душа, где, в каких краях гниет в земле неуемное его чрево, на которое особо отпускал старый Хлудов
136
сумму, чтобы меньше воровал. Нет — быльем поросло —- еленевского богатыря Оськи, живот свой положившего на потеху купцам. Пропали, погибли, как от засухи мышь, царевавшие над рекой и лесами люди, обдиравшие серых еленевских мужиков.
А переживши этих людей, по-прежнему гудят па Бездоне волки, и, как в сказке, гужом летит по весне птица, но-прежнему разливается — морем идет — в своих берегах тихая речка Елень.
1929-1954
ЧИЖИКОВА ЛАВРА
I
Неладно у меня в груди.
Вчера выстукивал меня наш доктор Евсей Рома- ныч. Заставил меня раздеться, вертел долго. Экие у него холодные и конопатые пальцы, а в ушах воло- сья, как у медведя. А пахнет от него горелым болотом.
Выслушал, выстукал и, закурив папироску, посмотрел этак бочком через очки.
*— Неладно, — говорит, — батенька: верхушки!
Я уж знаю, какие такие верхушки: чахотка.
И откудова она ко мне? Всегда был здоров и прочен, как пень. И не помнится, чтобы сохли во всем нашем роду. Батюшка мой всю жизнь прожил в разъездах и в своем понятии не имел, какая такая болезнь. А разъезды были какие: бывало, осень, дождь, самая непогодь, белые мухи летят через поле, а он в одной своей кацавейке. По осени всегда уезжал закупать по деревням скот. Домой, бывало, приедет — гуща-гущей. И все нипочем.
Не люблю я желтых здешних туманов.
А Россия мне как сон.
По утрам всего тяжче. Проснешься — сумерок, в окно — чужое небо, чужие деревья. В комнате холо- дюга. Тут-то и лезут в голову воспоминания.
А всему-то виною война.
Раз так-то слышу: стонет. Кошек и собак здесь нету; приподнял я голову, а это старичок наш, Лукич, свернулся под одеялом калачиком и всем своим телом
нет-нет и вздрогнет. Поразило это меня насквозь. Тогда я виду не выказал. Только уж не мог спокойно глядеть на Лукича, на бороденку его, па птичью его шею. Такая к нему жалость.
Откудова человеку такая жалость? Больней это больной боли.
Мне Сотов рассказывал, как здесь живут наши. Не знал, век не поверил бы. Проживает тут русский, Медвёдков, бывший большой миллионер. Кой-какие денежки его лежали в здешних банках. Приехал, значит, на готовенькое. Купил домик, а домики тут как конфетки. Так кот этот Медвёдков взял к себе в услужение другого бывшего миллионера, Карташева, уже пожилого человека, в сединах. Приходился ему дальней родней. А капитал у этого Карташева в России в революцию фукнул. Остался и наг и бос. Уж как попал сюда — неизвестно. К родственничку — зятьком, что ль, приводился — пробрался. Вот зятек и устроил его себе в лакеи, подавать чай. Так он ежедневно такую над ним манеру: нажмет кнопку и ждет. Тот явится: стоит, стоит у дверей, а зятек знай ликеры сосет, задеря ноги, ни единого слова. Раз до трех этак. Потом скажет: «Подай мне ботинки!»
Сотов тоже из богачей, но приятный. Были у его отца в Петербурге мучные лабазы. Отобрали всё. И старика расстреляли. А сын бегает тут — комиссионером от водочного завода. Весь день в бегах. За день набегает этак на кусок хлеба. Был он и у Медвёдкова: не принял. Жена у него милая, тихая, одно слово — русская женщина. И живут они в комнатенке, что рядом с нашею переплетной, наверху, где семейные. Целый день она не выходит.
Большой мне Сотов приятель.
— А я вот научился переплетному делу. Мы двое: отец Мефодий и я. Ну, разумеется, работать приходится больше мне. У отца Мефодия свои дела.
Удивительный это человек.
Теперь мы шрифты приобрели для корешков, русские. Я в этом деле нахожу даже вкус. Главное, чтобы не тесно вязать, чтобы книга раскрывалась свободно... Теперь переплеты у нас хоть на выставку.
Отец Мефодий принимает заказы. У него знакомства. Всякие у нас заказчики. Есть и писатель, уж много лет здесь проживает, ему я переплел всю биб¬
139
лиотеку. Очень приятный человек и заплатил. Вообще книг печатается много, и работа есть. Как-никак кусок хлеба.
Эх, все бы, кажись, хорошо, кабы хоть малая весточка. У меня в России семья и невеста. Уж я и писал и людей просил. А теперь Россия что темная ночь. Уж и не знаю, придется ль увидеть кого.
Очень я скучаю по родине.
Бывает, хоть головой о косяк. До того вдруг здешнее станет в противность.
Как-то ездил я в центр города к одному человечку получать деньги за переплеты. Три часа просидел на стуле. Бегают люди, а я сижу. В четвертый раз так-то. Плюнул и ушел.
Проходил я тот день по улице, где лучшие магазины. Автомобили, люди, шум, гам. Непривычному человеку, пожалуй, не вытерпеть. За зеркальными стеклами манекенщицы в модных платьях; кофей на столиках, арапчата при них в голубых куртках.
Вот вижу, у самого края, перед зеркальными окнами, стоит автомобиль. Длинный, новенький, ясный, весь как игрушка. Внутри обит розовым шелком. Шофер в картузе, розовый. За спиной у шофера, рядом с этакими часиками, цветы в особой трубке с водою, белые розы. И садит в автомобиле, завалясь в уголок, девица или дама, мисс или мистрис, тоже вся в розовом, и смеется; вечернее солнце ей в открытый ротик заглянуло — розовый ротик, розовый язычок, а зубки белые, вострые.
И до того я вдруг возненавидел эту самую мисс или мистрис, даже пересохло во рту. Валялась • у нас на дворе в навозе березовая зимняя оглобля. Так я эту оглоблю вдруг вспомнил. Оглоблей бы в розовый ротик!
Так это пришло, что даже испугался себя. Побежал и про себя думаю: вот те и большевик! Потом самому стало смешно.
Очень нас, русских, здесь презирают, и^очень это тяжело. Тут-то еще ничего, тут нас мало. А вот, где глаза намозолили, говорят, очень не сладко. А за какую такую провинность? Говорят нам: предатели!
А кто нам судья? Да и как ответить, кто предавал, а кто нет. Зачем же всех под один гребешок.
А тут именно так: «Русский?» — «Русский!» —
«Ну и не впускать erof» Вроде как чумные.
140
И не приходится спорить. Да и как спорить: кто станет слушать? Пропадаешь — ну и пропадай на здоровье, Сдыхаешь —ну и сдыхай, сделай милость!
Тут человеку погибнуть самое распростое дело. И не единая не заметит душа.
Я это вот когда понял, когда из больницы вышел и отпустили меня на четыре стороны. Пошел я в русское консульство, а мпе только руками этак: ничего не можем, знаете, что делается в России, на оказание помощи средств не имеем. Выдали мне паспорт: «По уполномочию Российского Временного правительства».
Спрятал я паспорт и пошел по городу. А город что море-океан. Поплыл, как чешуйка.
Присел на скамеечке в сквере. И сейчас на меня с дерева — прыг, прыг —две ручные белки. Мне на рукав, глазки как черные бусинки. Тут их тысяча: дамы их из карманов кормят орешками.
Купил и я орешков. Набежало их ко мне с десяток. Сидят и этак быстро-быстро около мордочек лапками. Очень я тогда задумался: очень большая должна быть культура, чтобы так со зверями. И о своей подумал доле: а мне-то вот как, мне-то, человеку, не дадут ведь орешков.
Ходил я тот день, сказать можно, без пути, куда глаза смотрят. Было мне и горько и радостно, что вот вышел наконец из больницы и хожу жив и здоров. После болезни всегда так.
Был рядом зоологический сад. Пошел я туда. Я зверей очень люблю. У нас дома, бывало, и козы, и кошки, и собаки. И за всеми ходил я. Я все знаю повадки звериные.
Растрогал меня Миша, медведь. Под клеткой у него надпись: «Привезен из России». Землячок. Так я ему обрадовался, как родному. Глазки маленькие, невеселые, — о чем вспоминает? — пожалуй, как и я, о родных наших лесах. Скормил ему большую булку.
Весь тот день прошел для меня непутем.
Забудусь, забудусь, а потом схватит за сердце: пропал! Не пил я, а тут зашел в кабак. Накурено — свету не видно. Столов не полагается. Стоят округ стойки и сидят на высоких стульях. Тянут по капелькам. И всё без закуски. За вечер иной сколько так вытянет, а пьяных, чтобы как у нас, нет.
141
Присел и я, выпил. И от слабости, видно, пошла у меня кругом голова. Развеселился.
Хорошенько всего уж и не припомню.
Оказался я по соседству с каким-то. Пальто дорогое, широкое, пушистое, хочется рукою потрогать. На ворсинках капельки от тумана. Пальто меня и привлекло.
А тут у них не принято разговаривать с незнаком мыми.
Посмотрел он па меня, вежливо спрашивает:
— Позвольте узнать, вы иностранец?
— Да, — говорю.
— Француз? — лицо такое сделал любезное. 1
— Нет, — говорю, — не француз. Я русский.
Сразу у него лицо другое. Точно с высоты на меня
смотрит* Усмехнулся.
— Большевик?
И улыбка у него такая неприятная.
Подмыло меня:
— Большевик, — говорю, и по-русски: — что, выкусил?
А он все так же, с крыши, и тоже по-русски, с легоньким акцентом:
— Я в России жил и русских людей знаю: рабы! А вы здесь зачем же?
Я бы ему рассказал зачем!
Ту ночь я так и пробродил по городу без ночлегу. Ходил из улицы в улицу и все думал. И такая меня ела тоска. Вышел я на мост, посмотрел в воду. Кругом огни, в тумане круги радужные. Не знаю, кончилось бы чем. Подошли ко мне полицейские, — они тут всегда парами, — фонариком в лицо — и поплелся я дальше.
Видно, и у них немало таковских, кому ночевать негде. Встретил я большую повозку, вроде как бы товарный на колесах вагон. Одна дверца открыта, и там яркий свет. На полках большие белые ч&шки. И вижу — люди, человека два-три, пьют горячее.
— Что это? — спрашиваю.
— А это, — отвечают, — «Армия спасения» для не имеющих крова устроила ночную передвижную чайную — кому надо.
Выпил и я большую чашку. И почти всю ночь просидел там.
142
д
Я о себе скажу: никогда и не думал быть дальним путешественником. Не будь войны, вся жизнь моя прошла бы на домашнем полозу.
Терпеть не могу ссор и драк. Надо мною еще в училище ребята посмеивались; а трогать боялись. Я всегда был один. Это от отца у меня: очень он миролюбивый и сурьезный человек. Услышит ли ссору или, того хуже, дерутся — зажмет уши и прочь. А большой силы был человек, быков свободно клал за рога. Раз только и вышло с ним на моей памяти: забрел в наш огород, в капусту, пьяненький мужичонка, ходит по грядам и несет невесть что. А вышла на огород моя матушка, он того пуще. Не выдержал папаша, выскочил на огород со двора, где набивал колодки, схватил за воротник мужичонку и перебросил через плетень, как люди шапку бросают, не бил, не ругал. Мужичонка сам после того два года хвастал на базаре, как его Арсентий Ильич учил летать.
Я тоже, как и папаша, не переношу зла. Бывало, мать с отцом не поладят, а я на себе рубашки деру. Не было со мной случая, чтобы с кем дрался. Только один раз с ребятами, — уж больно меня доняли, и заступался я за одного мальчонку, катались мы на салазках. До того я вдруг разошелся — и себя уж не по- мпнл, вышиб Кольке Гужеву три зуба. После того случая трп дня не поднимал глаз.
Рано меня стала пронимать жалость, и в такой силе, что высказать невозможно. Жили у нас на доме, над карнизом, ласточки. Это как сейчас помню. Кинул я, балуясь, кирпичинкой и подбил одну птичку. Упала она на землю, крылышки врозь, ротиком дышит. Поднял я ее, и стало мне так, точно совершил я великое злодейство. Отнес я ее за амбар, положил на травку, смотрю: дышит, вся как пушинка, и воздухом пахнет. И вот побежал я, ни слова никому, за реку в Святоду- ховский монастырь отмаливать грех и просить о чуде. Всю обедню простоял в уголку на коленях. Потом воротился с тревогою, пошел смотреть за амбар: нет
птички — улетела, ожила, а может, подобрал кот.
Теперь вспомнить смешно, а тогда пережил великов потрясение..
И всю мою жизнь так-то.
Ш
Я у родителей моих- был единственный. Ни братьев у меня, ни сестер. И, родив меня, мать уж не могла иметь детей.
Понятно, кем я был в семье.
Детство мое прошло под городом на большой и светлой реке. Я и теперь помню: домики маленькие, с крашеными ставнями, сады и огороды. Весной на реке плоты, и мужики на плотах с шестами, голоса звонкие. Был у нас сад, небольшой, но справный, яблони густые, тенистые, трава в саду высоченная — и густо-густо пахнет землей.
И никогда-то, никогда ничем не обидел меня отец. Даже слова не сказал строгого. Один раз только чуть- чуть взял за волосики для острастки: уж больно я надоел, просясь с ним в отъезд. Так я тогда чуть слезами не изошел от первой обиды. Даже и теперь помню, точно вчера.
Учился я в городском училище, в нашем же городе. Об эту пору я уж и отцу помогал, доводилось с ним ездить.
На возу, бывало, лежишь, под голову руки: надо мной небо, облака большие, звезды. Вокруг бычьи и коровьи рогатые головы. Отец обочь идет, в сапогах, кнутик за ним бежит по траве.
Много я тогда насмотрелся и принял в себя.
После училища поступил я в приказчики, в оптовую торговлю, и началась настоящая моя жизнь. Сталя меня в другие города посылать за делом: было у нас льняное дело и пенька. И очень я подошел к делу. Хозяин был старовер, человек крепкий, отцу хороший знакомый. Пришелся я ему по душе, и стал он доверять мне большие дела. А у меня к этому смекалка, и бухгалтерию я понимал хорошо.
Еще со школьного времени приглянулась мне девушка из Заречья, из военной семьи. Проще сказать: был я тогда влюблен. Была она добрая, кроткая, волосы у нее очень чудные, и носила она за спиной две тяжелые косы; звали ее Соня. Учил я ее кататься на велосипеде, ходили мы гулять за город, в монастырскую сосновую рощу, что над рекою, а сосны там как восковые свечи, глядятся в воду. Кто не поймет?.. Очень долго у нас тянулось, даже являлась опаска, как бы не перебил кто' мое счастье. А когда нашел я свою дорогу и стал твердо, пришло время решаться.
144
Ответила она мне, что согласна, порешили мы отгулять свадьбу по осени, когда кончится у нее траур по умершей тот год ее матери.
В это самое лето и грянула над Россией война.
Теперь, когда вспомню, такое было то лето! Я, разумеется, ничегошеньки не видел округ, летал как на крыльях; а уж потом говорила мне мать — жуткое было лето. Ходили люди как перед грозою. Мать моя сказывала, что перед самой войной очень изменилась дети, точно бы чувствовали, и не было у них другой игры: в штыки да ружья. А бабушка видела видение: будто едут с отцом по шоссейке, сосонником, и видит — метнулось через дорогу; стала она приглядываться, и будто стоит человек, и сабелька на правом боку... А был то Вильгельм сухорукий. Я, конечно, тогда посмеялся, только очень меня потом удивило, когда после узнал, что и впрямь у Вильгельма правая рука была сухая. А уж в канун четырнадцатого июля весь наш город видел, как над рекою, на западе, отражаясь в багровой воде, стоял большой огненный крест.
В день объявления войны я был по делам в другом городе. Там и услышал. II так у меня вдруг забилося сердце, когда вошел в номер товарищ (стояли мы в Коммерческой гостинице, в одном номере) — веселый, показал белый листок:
— Мобилизация! Война!
— Какая война?
— Германия нам объявила войну! —А сам смеется.
И так меня это подмыло, даже краска в лицо.
— Да ты что, шутишь?
— Чего шутить, смотри сам. ) .
Посмотрел я —правильно: мобилизация, война*
— Да что ж ты, — говорю, — смеешься, дурак?
Посмотрел он на меня, усмехнулся.
— Ну, — говорит, — это разве надолго, а нам заработку прибавит.
А я только покачал головою. И зажало у меня сердце: быть беде! Так, точно моя решалась судьба.
Вышел я вечером па волю, а уж там ходят, орут. Гимназисты и прочая молодежь. В руках царские портреты, флаги. Поют и кричат ура. И увидел я: несет мой приятель древко, рот раскрыт, глаза глупые. До того мне стало противно и тошно* плюнул я на землю и пошел в номер.
145
Заперся я тогда в номере, а потом уехал.
А в городе у нас то же, хоть и полегче. Председатель управы Верзилов, вижу, по городу ездит в автомобиле, уж при погонах, морда широкая. Солдат стали сгонять запасных. Кабаки поприхлопнули. Боялись бунтов, но обошлось гладко. И так повели дело, вроде как празднуют праздник.
Газеты аршинными буквами: «Война, победим!»
Понасыпали денег. И поползла тут всякая сволочь.
Не я один ходил те дни с таким сердцем, только мало мы были приметны.
Прибавилось и нашей фирме делов. Кой-кого взяли, — пришли прощаться, в солдатских рубахах, новенькие погоны. А я пока остался, как единственный сын. Набавилось и на мою долю работы. Стали мы заниматься поставками на оборону. Пришлось немало тогда покрутиться на людях. И нагляделся... Сколько поднялось подлости, подлогу и воровства!.. Сбывали всякую дрянь. Мой хозяин держался, а другие враз поделали капиталы. А уж там лилась кровь... Увидел я первых раненых, — серые, в белых повязках, глаза глядят недобро, карболкой пахнет. Успел спросить у одного: «Ну, как?» — Только махнул рукою.
Так и пошло. Писали, что конец войне через три месяца. В цирках и театрах играли союзные гимны. И всяческий день гнали и гнали с вокзалов солдат. И сколько было тогда, ежели повнимательнее приглядеться к людям, тупости, дури и безрассудства.
Думаю я, что в те дни и зародилась моя болезнь.
III
Всего не опишешь. Ездил я по городам всяческим, многих встречал людей; и ни разу не порадовалось сердце. Как захолонуло тогда, в номере, когда товарищ принес белый листок, так и осталось. Сплю — думаю, ем — думаю, хожу — думаю.
И пришлось отложить свадьбу, потому что потребовали ее отца в армию, ей пришлось остаться за хозяйку в семье. Да и у меня прихлынуло дела, некогда минуты урвать: приеду, забегу — и опять в душный вагон. И точно пролегла между нами тень.
№
Через год потребовали и меня. Большое это было огорчение в семье, но примирились: брали всех. Попал я в пехотный запасный полк, три месяца гоняли меня с ружьем, три месяца провалялся на гнилой соломе. Потом удалось отцу устроить меня к нашему воинскому начальнику в писаря.
Стал я сидеть с бумажками, стучать на машинке. После прежней самостоятельной службы показалось тяжеленько, но сам себе говорил: а другим каково? Больше всего неприятны были мои товарищи: очень уж сквалыжный этот писарской люд.
Прослужил я так больше года, а потом приказ: всех, кто с образованием, даже малым, командировать в школы прапорщиков. Тогда этих прапорщиков, как курица из яиц, высиживали. Можно сказать, на убой. И-, надо признаться, много всякой дряни щеголяло в офицерских погонах. Большое это имело влияние.
Прошел я всю муштру, произвели меня в офицеры. Фотографию я папаше в город послал, на стенку: висе как следует — погоны со звездочкой и школьный значок. А было это как раз в Февральскую революцию, текло с крыш. Назначили меня в полк «защищать свободу».
Получил я краткосрочный отпуск для свидания со своими. Нарочно не известил, чтобы порадовать больше. Приезжаю на станцию, нанял извозчика (железная дорога от нашего города более десяти верст). А извозчики наши с незапамятных пор имеют обычай меряться на кнут, кому везти седока. Достался мне старичок рыженький, Семен, из Ямщины. Повез оп меня на своей таратайке, дорога плохая. Переехали мы мост, шлагбаум, выбрались в наши поля. Ветер подул весенний, земляной. По дороге ходят грачи, и носы у них белые.
— Ну, как, Семен, —' спрашиваю, — как повстречали свободу?
Сидит он спиною ко мне, в рыжем армячишке, солдатская шапчонка ушастая.
— А черт ё знает, — говорит. — Знать, посадили нового справпика!
— Как так исправника? Исправников теперь нет.
— А черт ё знает!
Спускались мы с горы кустами. Вижу, идут впереди трое в солдатских шинелях, за плечьми сумки.
447
Оглянулися на нас, заприметили, видно, меня — и в кусты. Как сдуло.
— Это кто ж такие? — спрашиваю.
— А это дезертёры. Теперьча их много. Запужа- лись твоих ёполетов.
Проехали мы овражек, стали подниматься. Подвязал он вожжи, соскочил на дорогу, идет рядом и крутит цигарку, рукава длинные, рваные, под мышкою кнут.
— А что, барин, — говорит мне (так и назвал: барин),— пора ведь кончать воевать, а? Народишка-то израсходовался, три годика кормили Рассею бабы. Гляди-ка, поля! — и показал кнутовищем.
Поглядел я на поля, и впрямь: много, много заоб- ложило бесхозяйных нив.
— Вот то-то, — говорит, — вот и бегут дезертёры.
Докурил он цигарку, оправился, догнал лошадей,
проскакал на одной ножке и вскочил на свое место. Ударил по лошади, оборотился ко мне, отвернул воротник армяка, — вижу, глаза веселые, подмигивает:
— А у нас ямские ребятенки до винного складу добираются, до очистного! Стосковались по водочке. Уж и будет жара!
Повернулся и опять по лошадям.
Приехал я домой, в город, — и узнать нельзя. Начальство всё поснимали. Исправник Василий Матвеич (большой был любитель до редкостных кур и индюшек, — был у него целый птичий завод) в тюрьме, за погостом. По городу надписи: «Война до победы!» и такое все прочее.
Угадал я в суматошное время.
Стали таскать меня как «делегата с фронта». Никакой я не делегат и еще не был на фронте, — все равно, не стали и слушать, подхватили и даже подбрасывали Hia руках. Отвечал я всем за Керенского.
Очень мне это было противно.
И опять, как тогда, перед войною, вижу: ни у кого- то, ни у кого в глазах радости. Повыпустили из острога воров, стали они шалить по Заречью, потом перебрались и в город. Очень было в то время тогда неспокойно. И сидели люди по домам, за замками.
А больше пугали тревожные слухи о готовящемся разгроме винного склада. Стоял этот склад за городом, возле казарм. Большой, красный, всем на виду. Ни
148
единый мужик, проезжая на базар мимо, не мог. удержаться, чтобы не сказать этак: «Ишь, тлеет добрдшко!» А хранилось, говорили, на складе несколько тысяч ведер опечатанного вина и спирта — целое море. Слух об этом вине давно ползал по городу, и темные личности на базаре подмигивали друг дружке. И почему- то больше всего страшило: стояли в городе два запасных полка, — вырос подле старого города новый деревянный поселок из бараков и /кухонь. Сддели солдаты смирно, молчали, но в этом и чуяли самое страшное.
На другой день по моем приезде было в городе совещание о том, как быть с вином и как уберечь город от возможного погрома. Приволокли и меня, как «делегата». Присел4 я в сторонке на стуле, слушаю.
Председательствовал на собрании гарнизонный врач, из эсеров. Зубы, видно, у него болели, и распухлую свою щеку подвязал он носовым белым платком. Держал он в руках синий химический карандаш — и все по лицу себя мазал, весь в синяках.
Разного я там насмотрелся.
Долговязый поручик предложил пустить все вино в продажу и вырученные деньги оборотить на пользу «нуждающегося человечества». Некоторые предлагали поставить округ склада стражу из членов комитета общественной безопасности и установить пулеметы. Под конец выступил солдат запасного полка, в унтер-офицерской форме — видимо, из взводных или из писарь- ков. Глазки у него были маленькие, черные, мышьи. Заговорил он очень гладко и точно — и как-то сразу убедил всех.
А предложение его заключалось в том, чтобы поручить ему в большой тайне набрать «комиссию» из вернейших людей и с помощью их начать тайное уничтожение вина на складе. Так, чтобы ко времени разгрома никакого вина не оказалось.
Предполагалось же, что, кроме неразлитого вина и спирта, хранится на складе около пяти тысяч ведер в стеклянной посуде — в четвертях, бутылках и мелких «мерзавчиках». Черненький унтеришка предлагал: спирт из цистерн вылить в подполье на землю, а уничтожение «мерзавчиков» поручить вернейшим людям под его руководством. В две-три ночи он брался сделать дело начисто.
149
Так на том и постановили.
Разумеется, что получилось из всего этого.
На другой же день началось невероятнейшее вокруг склада. Началось, по-видимому, от самой же «комиссии», усиленно занимавшейся истреблением стеклянных «мерзавчиков». Уж рано поутру вокруг склада бушевала толпа. И надо отдать справедливость, менее всего принимали в том деле участие солдаты и простые рабочие люди. Скоро весть пошла по деревням. Понаехало множество крестьянских подвод с кадками и ведрами. Спирт и водка, мешаясь с грязью, из разбитых цистерн растекались через дорогу. Водку черпали прямо с земли, вместе с навозом. Тут же в лужах разлитого вина ложились пьяные мертвецки. Двое утонули в чанах. Тот день я своими глазами много раз видел, как почтеннейшие в городе лица, охранители порядка, даже священнослужители и учителя местной гимназии, отцы города, волокли по улицам, едва прикрыв полою, охапки веселых бутылок. Одного своего знакомого из городской управы я остановил на улице и поинтересовался: «Это вы куда же?» — «Э, — кивнул он головою (обе руки у него были заняты), — теперь все едино, надо припрятать в запас!» И подмигнул глазом, точь- в-точь как тогда мне Семен. И опять я должен отметить, что многие и многие простые люди даже по своему почину пытались прекратить безобразие, но что можно было сделать?
В обед, из озорства или случайно, чья-то рука подожгла растекавшийся по двору спирт. Все вспыхнуло сразу голубым пламенем, среди белого дня. Многие получили ожоги, а восемнадцать человек, как потом сосчитали, погибли в огне.
Очень сильное впечатление на жителей произвел этот страшный пожар. На другой день тород казался вымершим — так было тихо и пусто. И многое другое, что произошло в те дни, казалось малым и незначительным.
В городе я пробыл семь дней. За эту неделю в личной моей судьбе немалая произошла перемена. Я и раньше приметил, что между Соней и мной пролегла тень. А теперь еще стало виднее: встретила она меня неприветно, как-то чуждаясь, не глядя в глаза. Разумеется, я не подал виду. Я приходил к ней, вел разговоры и нарочно не начинал о нашем — ожидал, когда
№
заговорит сама. А она все молчит. Служила Соня в сестрах в местном госпитале, ходила дежурить. Очень мне это не нравилось, и о медицинских сестрах я, был наслышан. Но и тут не сказал ни слова. Молчал.
Видел я ее раз на улице с офицером запасного полка. Говорила она очень взволнованно. А я даже нё подал виду, свернул в сторонку.
Уж мать мне раз намекнула, видя мое беспокойство, чтобы поменьше я верил в людей. А я сам видел* какое время: люди охолодели, истосковались, — столько покинутых жен и невест, столько мужчин без семьи! — и даже оправдывал многое. Разумеется, не все!
О Соне у меня и в мыслях худого не могло быть, и все это к слову и определению времени.
А перед отъездом пошел я к ней и сказал откровенно:
— Помните, — говорю, — Софья Николаевна, слово, сказанное между нами, и не забывайте, что есть человек, который любит вас больше всего на свете, несмотря ни на что. Теперь я .уезжаю и, может быть, не скоро ворочусь, — может, вы в чем передо мной и виноваты, я вас прошу только, не терзайте себя, — вы должны оценить человеческое сердце и возьмите себя в руки.
После этих слов бросилась она мне на шею и зарыдала. А я понял по ее словам, что виновата, но любит меня, любит.
С тем я и уехал, уж прямо в маршевый полк.
IV
Что могу сказать про войну?
Одно могу: очень страшно. Когда пригнали наш полк на позиции, — а время было какое! и рассадили по окопам, началась для меня новая жизнь. И раньше я понимал, а теперь убедился, что чем человек проще, тем и душа у него теплее. И стал я приближаться к солдатам и отходить от начальства. Разумеется, не проходило мне такое-даром.
Тогда, в окопах, понял я многое: что уж никакой войны нету, что не Ячелает народ войны. А от Керенского всё приезжали, сгоняли солдат, и крик былодипг «До победы!» Наш полк слушал молча, зато чего только
151
нс говорилось в окопах. И вместе с солдатами понимал я горькую ошибку наезжих «орателей».
Сидели мы в ожидании приказа о наступлении. А когда вышел приказ наступать нашему .корпусу, пошли по частям споры. Наш полк согласился вести наступление.
Это было первое мое боевое крещение.
И ничего-то я, ничего не запомнил, кроме смертного страха, свиста пуль и великого отвращения к непонятному мне убийству.
Как и следовало ожидать, окончилось все очень плохо: вся наша дивизия, растерявшись и упустив связь, оказалась в плену.
Была это третья неделя моей фронтовой жизни: погнали нас в плен, как овечек.
И. вышло нам в плену, не в пример прочим, полное благополучие. Взяла нас всех, кто шел «за свободу», на свое попечение одна большая иностранная держава. Стали нам высылать пайки, одежду, еду, даже выплачивали жалованье. Зажили мы, сказать можно, припеваючи. Другие, кого угораздило в плен еще при царе, заборы грызут с голодухи, а у нас — кофей, какао, шоколад, шерстяное белье... И свободой мы пользовались немалой: можно было ходить в городок и иметь при себе деньжонки. В те дни Германия маленько уж по- отпустила вожжи. Насмотрелися мы там на голодуху, на человеческое горе-беду. Наша тогдашняя российская жизнь была противу ихней как царство небесное, и никакого у них выхода, точно зажали себя в чугунные тиски.
И особенно было жалко, когда многие стали около нас крутиться. А были мы там как знатные богачи, и стали к нам прибиваться оголодалые, особенно ихние девушки. Бывало, с утра мелькают между соснами их белые платья. И что таить греха, многие из наших находили в том вкус, и за кусочек мыла или за плиточку шоколада можно было получить удовольствие. И никакие уж не удерживали меры: все шло на провал и к концу. Думаю я, что уж и тогда каждый из них про себя свое знал, и только так держались, для виду.
Очень растрогал меня один случай.
Окарауливали наш лагерь часовые из ландштурмистов, можно сказать, старики. Довелось мне раз
152
остаться с таковским один на один. Дело было под вечер, наши разошлись в город, и осталось во всем бараке человека два-три да тот часовой, лысый й ветхий.
И бескозырочка на голой его голове торчала смешно.
Я как раз разбирал очередную посылку (высылали нам наши пайки в посылках еженедельно, в ловких ящичках с клеймами). Вынимаю помаленьку из ящичка: мыло, одеколон, пасту зубную; потом пошло съестное: шоколад в толстых плитках, какао, сгущенное молоко, бульон в пузырьках, варенье из апельсинов. А он у окна близко, и чувствую, что глядит, но не подает виду. Разложил я всю получку на одеяло и стал приводить в порядок. И вдруг слышу, быстро-быстро так и чуть слышно:
— Маленькая, маленькая у меня внучка!
Оглянулся я и вижу: глядит и весь покраснел,
а глаз не спускает. Голубые, выцветшие, стариковские глаза со слезинкой.
Сунул я ему неприметно плитку и флакон с бульоном (запрещалось им брать вещи у пленных), а он быстро так, быстро под свою серую курточку. И отвел от меня глаза.
А дня через четыре повстречал я его в коридоре, остановил он меня на минутку и сует что-то в руку. Посмотрел я — колечко.
— От внучки. На память!
Пожал мне так руку, повыше локтя:
— Скоро, скоро войне конец!
Поглядел я близко в его выцветшие глаза и сразу увидел всю страшную нищету его и отчаяние. II опять сжалося у меня сердце: для чего, для какой нужды, для какого черного дьявола затеяли люди войну себе на погибель?
Так и осталось у меня то колечко, простенькое, ' с голубым камушком, храню на память, как сердечный подарок от недавнего моего «врага».
Захаживали к нам пленные, из русских. Все расспрашивали о России. Но как-то не могли мы с ними сойтись. Было им непонятно: как же так, революция, а мы опять пошли на войну!.. И то, что нам сл^али пайки и были мы вроде как на особом счету, — отшатывало: казались мы им чем-то вроде предателей их общего дела. А нам нелегко было это видеть, и сами мы от них сторонились.
153
Нас, офицеров, сразу же отделили. Жили мы особо и особо получали пайки. И, волей-неволей, довелось сживаться с новыми людьми.
Сошелся я с одним прапорщиком из нашего же полка, Южаковым. Был он, как и я, из простого семейства, служил у «Проводника» в Москве по резиновому делу. Понравился он мне за простоту и веселость. У кого горе, тоска, лихоманка, а у него всегда в зубах праздник. Все, бывало, шутка да смех, — и зубы у него были ровные, белые, полный рот. Очень он любил выпить и напивался так, что, бывало, и с ног долой. А па другой день вскочит, водицы хлебнет — опять весел и свеж. Выразить невозможно, как любили его бабы. Сколько у него за время нашего сидения было романов — сосчитать невозможно. Сам говаривал, бывало: «Меня поп бабьим миром помазал!» — и зубы покажет как сад. Не было в нем никакой жадности, и очень меня то привлекало. Хоть, сказать правду, распущенности я его не хвалил: все, как получит, раздаст. И много околачивалось вокруг него всяческого народу.
Влюбилась в него одна немочка, беленькая, кругленькая, щечки в румянце, даром что кормилась картофельной шелухой. И так она к нему привязалась, а когда мы уходили, бросилась на шею при всех, — это к. пленному! А он пообещал обязательно прибыть за нею из России, как только установится полный мир. На том только и помирились.
С этим Южаковым довелось мне впоследствии помыкать горе.
А про себя я знаю, что человек аккуратный. Это у меня от отца. Расстройства и непорядка я не терплю.
Пока сидели в плену, занялся я изучением языков* И очень пошло у меня ходко. Ну, разумеется, время было довольно, а к занятиям я всегда был прилежен. Полагал я, что потом может мне пригодиться на службе. Изучал я два языка: немецкий и английский, и через два месяца кое-что уж кумекал. Частенько доводилось мне для Южакова переводить письма от его поклонниц и даже писать ответы. Сам Южа- ков — ни бум-бум за все наше время, и уж бог его ведает, на каком языке объяснялся он со своими подружками*
Ш
Жалованье наше я тоже берег, .не тратил и зашивал все в подкладку. И понемногу набралась у меня сумма, чтобы вернуться в Россию не с пустыми руками и не сесть с налету на чужую шею.
V
Очень мы тогда надеялись на скорое возвращение.
Из России приходили вести, и даже издавалась для нас газета, но толком ничего мы не знали. И письма из России не доходили. Писал я домой часто, но так и не дождался ответа.
А жили мы под маленьким городком, в лесистой местности, поблизости от железной дороги. Лагерь был новый, особый, и жили мы как на даче. Вокруг стояли сосны, большие и голые, и внизу озеро, а дальше — горы. И, можно сказать, до того за те месяцы все пригляделось: каждый кустик и каждая кочка, каждый камушек на дороге, что вот и теперь тошно. И присмотрелись мы друг к дружке, каждый знал другого до ногтя, и глядели мы оттого в стороны. Только одно и соединяло: мечта о России.
Так прошло лето, и подкатилась осень: ветер загулял по макушам. Пошли слухи, что в России новая перемена. Немцы молчали: у них было свое, думали о своем. Газеты писали, что по России бои, что власть берут большевики. А мы не знали, чему верить и чего ожидать.
Еще тогда начался между нами разлад. Большинство сидело примолкнув, да и, сказать правду, нашлось немало, что были вполне довольны, — слава богу, живы да сыты, и не забывает дружественная держава!.. Большую же часть наших пайков мы продавали и жили вполне прилично.
В самое то время почувствовал я себя худо, показалась горлом кровь. Отправили меня в околоток, —* потискал меня доктор, тоже из пленных, пожал плечами. Вернулся я на свое место и стал жить по-прежнему. Только вдруг точно стал видеть зорчее и глубже понимать людей.
А вскоре подлинные пришли слухи о перевороте, и больше стали говорить про мир. В других лагерях было большое волнение, многие из пленных, что сн-
155
дели подолгу, убежали домой самоволкой: многих
немцы вернули, а иные, как видно, пробрались. В то время уж глубоко забрались немцы в Россию.
После переворота стали к нам прочие пленные хуже. Свои и чужие нас в глаза называли предателями. А по мнению русских выходило, если б не мы, офицеры Керенского, давно войне был бы конец.
А потом, вскорости, пришла весть о мире. Большое было ликование у немцев, и городишко наш весь был в флагах, а к нам приходили делегации поздравлять. А мы не понимали, радоваться или горевать и как принимать нам немецкое ликование. Прошел в те дни между нами слух, что теперь нас, пожалуй, бросят и непременно лишат пайка, и правильно-верно, некоторое время не было нам никаких посылок, потом опять стали присылать и даже прибавили жалованья.
В эти дни немалые были между нами споры, и наезжали к нам делегаты из других лагерей, толковали по-разному. Солдаты все как один знали свое: мир, по домам, в Россию!.. И немало приняли немцы трудов, чтобы ввести мало-мальский порядок. Тогда мы узнали, что нам, «керенцам», возвращаться в последнюю очередь, когда пройдут все. Очень нас это огорчило, и опять пошли у нас споры. Многие захотели теперь же, другие соглашались ожидать. Многих пугала Россия: доходили слухи, что там голод и всех, кто приезжает из плена, берут на войну со своими: белые и красные, все равно. И этих слухов страшились. Все же некоторые из нас убея^али, но большинство, поспорив, осталось, тем более что опять стали получать прежний паек.
И странное дело: чем страшнее шли из России вести, тем больше меня тянуло туда. И многие-многие не спал я тогда ночи.
В то время немцы нас как-то вдруг позабыли. Очень скоро поняли они, что не кончена для них война, и все свои силы устремили на другой фронт. Очень было тяжелое время: решалась участь Германии. И по их лицам видел я, что все решено и как они смертельно устали. Жила Германия тогда на последние свои кровинки.
Довелось мне познакомиться с одним немецким семейством. Свел меня, конечно, Южаков. Были в том семействе две дочери-барышни, они затащили его, а он привел и меня. А ходили мы в то время свободно.
156
Старик, отец барышень, служил на почте мелким чиновником. Барышни тоже где-то служили, бегали с папками. Южаков половину своего пайка оставлял у них.
Было у старика два сына: одного убили на русском фронте под Варшавою, другой, уже раненный дважды, сражался против французов.
Вскоре после мира с Россией приезжал он в .отпуск, и я познакомился с ним. Был он какой-то весь серый* и правое веко его дергалось непрерывно. Что-то было в нем настороженное, будто прислушивался, и что-то очень недоброе. Заметил я за ним, что ничего-то не доедает и не допивает: в чашке непременно оставит кофе, хоть одну ложечку, и не доест свой* сухарик. Очень это не подходило к немцу, да еще в такое время, когда питались люди одной картошкой. А со мною он был вежлив и даже любезен.
Однажды заговорили мы о войн.е, о том, когда можно ожидать конца. И вдруг он так резко, точно сорвался с зарубки:
— Э, война!..
И так-то зло посмотрел на портреты, висевшие у них над диванчиком: Вильгельм со всеми своими сыновьями. И задергалось у него веко.
Слова простые, а сказал он их с таким выражением, что понял я многое и поскорее перевел разговор.
Наступали тяжкие дни. Видел я, какие были у них в те дни лица, точно перед последним часом. И как перед последним часом, нет-нет и всплывала надежда. Стояли они тогда под Парижем, и многое писали газеты, а радости ни у кого я не приметил. Ежедневно проходили мимо нашего городка эшелоны с русского фронта, выскакивали из поездов солдаты, брали воду, н у всех-то лица серые, закопченные, точно по году просидели в подвалах. И все были молчаливы, и, как тот мой знакомый, все чего-то не успевали доделать: то не дождутся воды, то опоздают на поезд. А больше молчали.
И было мне так, как тогда в России: большая к людям жалость.
А вскорости рухнуло.
Видели мы, как началось у них то же, что зйали мы про Россию. Было все очень похоже: так же вдруг побежали куда-то люди, и те же вырывались слова.
157
Появились солдаты с фронта, были они встревожены и, как наши, оборваны, свалявшиеся отросшие бороды их были в земле, и лица под бородами казались серее, и виднее проступала на них черная густая грязь, страшнее блестели глаза. Заполонили они наш вокзаль- чик, разбежались по всему лесу, заходили и к нам. Дрожали у них руки, ж рассказывали они о войне страсти, и, как тогда у нас, вдруг не стало отдельных Иванов и отдельных Фрицев — все катилось, как один прорвавший запруду мутный и серый поток. И необыкновенно много вдруг наподзло отовсюду калек и убогих — безногих, безруких, слепых. Ползали они по дорогам, стояли у вокзальных стен, пробивались в вагоны. Точно вдруг вывернула война перед всеми свое нутро. Очень нам было в те дни беспокойно. И многие тогда пожалели, что не убежали в Россию. Опять прекратились наши пайки. И, как незваные гости, отгуливали мы чужое похмелье.
А был то ноябрь. Видели мы и наблюдали, как рушится прежняя крепкая Германия. Не узнавали людей.
В то время появился в городе сын моего знакомого, солдат. При наступлении на Париж получил он третью рану, ходил с белой забинтованной рукою, посерел больше, и страшнее трепетало его правое веко.
Он собственноручно снял со стены портрет императора Вильгельма и первый объявил, что в Германии революция и что он член Совета солдатских депутатов. Он забегал к нам, говорил речи, взмахивая своей забинтованной рукою, и вскоре уехал. А без него городок остался тревожным, растерянным, собирающим свои крохи.
• В те дни гужом тянулись с запада поезда. Серые люди с солдатскими ранцами, без винтовок, в маленьких бескозырках и в стальных шлемах покрывали их саранчою. Они лежали на крышах, свешивались в открытые окна, висели на ступеньках.
И встречавшие их старые люди, сросшиеся с прежним порядком, слушали, -как катилось новое слово: «республика», а с ним и другое, не менее страшное: «позорный мир».
А вскоре пришло для нас предложение: помогавшая нам дружественная держава предлагала всех офицеров- керенцев взять на свою землю. Обещали при первой
158
возможности отправить нас на родину. Мы потолковали и согласились, тем более что на скорое возвращение пропала надежда и ходили тревожные слухи, что всех нас, керенцев, большевики будут в России строго судить.
Отправили нас перед рождеством, в декабре. Ехали мы через Данию, сухопутьем. Там посадили нас на пароход, большой, белый, пахнущий краской, и под охраною миноносца пошли мы к английскому берегу.
А я дорогою думал: как сложилась судьба, и какая сила разбрызгала людей по всему свету, до того мирных и привязчивых к месту!
Высадили нас в понедельник утром и того же дня отправили дальше, в Лондон — в самый большой город в Европе.
VI
И верно: очень это большой город и великолепный!
Много я перевидел городов в России, больших и малых, но даже и сравнивать невозможно. Это как перед Москвою наше Заречье, где капустные огороды.
И очень я подивился здешнему народу. Был я в те дни, сказать, как выпущенный из тюрьмы, и бегал целыми днями, покудова ноги носили, и много нагляделся.
Спервоначала очень казалось необыкновенно и даже так, словно совсем не знают нужды и нет людей, чтобы голодовали. А потом уж на своей шкуре узнали, что и здесь нужда, а если не больше, то, пожалуй, нашей и потужее, потому — на последний конец не пойдешь, как у нас, просить с протянутой рукой, а если прихватит безысходность, конец один: ложись, как собака, под куст. Казалося нам сперва, что совсем нет в этой стране нищих, а потом разглядели, что нищих, пожалуй, и побольше, только тут они по-особому: при воротничках и обязаны иметь вид веселый и бодрый, чтобы не оскорблять всеобщего благообразия. Узнал я впоследствии, что запрещает здешний закон собирать милостыню и каждый обязан заниматься работой, потому и ходят по улицам люди с трубами, бьют изо всех сил в барабаны или сидят на панели и рисуют по асфальту мелом картинки. Теперь-то все примелькалось и обжилось, и гляжу я на все как на привычное,
159
а по первому меня поразило: что за развеселые люди гремят в барабаны! Теперь я хорошо понимаю, что тут, ежели по-нашему, ради Христа да на глазах слезы, хоть год торчи на углу — ни единая душа не подаст! По первому казалось нам в диковинку, а теперь приноровились и наши. Проходил я этими днями по улице, гляжу — барабанят (тут очень большой почет этому инструменту, и каждое воскресенье слышно, как проходит по улицам «Армия спасения»). Вижу: один держит на животе огромный барабан, весь изогнулся, а двое дуют в трубы. Тот, что на барабане, так-то ловко выделывает палками, и этак и так, будто жонглер в цирке; подошел я поближе, гляжу: на барабане ленточка наша трехцветная, российский государственный флаг, и на трубах банты из национальных цветов, присмотрелсянаши, русские офицеры!..
Разумеется, кого не научит нуждишка.
Выло же нам по первому времени даже прекрасно. Отвели нам казенное помещение, на двоих комната. Содержание положили офицерское, одежду, белье, даже цветы каждый день свежие на столе. По утрам варенье из апельсинов, чай с молоком, завтрак, потом обед — больше мясное, тяжелое, и без хлеба. Очень мы тогда удивлялись, что едят здесь без хлеба и суп только два раза в неделю, а потом попривыкли и даже понравилось.
Теперь я так полагаю, что очень этот народ живет по себе, потому что кругом море и большая у них власть, а детей они сызмальства научают о себе думать гордо. Очень тут ребята бедовые, сорванцы, и все, как один, коленки голые, этак всю зиму.
Приглядывался я к народу и старался хорошенько запомнить. Удивляло нас их умение делать всякий предмет прочно и крепко, так, что любо глазу. Показалось нам раем после нашей голой бедности и плохоты, а потом узнали, что не миновала им даром война: немало убивалось народу, и в три раза вздорожала каждая вещь.
Ходил я по городу без устали, учился языку, дивился на благополучие. Оделись мы тогда прилично, приобрели европейский вид и ходили здесь как свои, хоть и есть в русском человеке такое —как ни одень, издали видно, что русский.
Удивило меня, что нет в городе лошадей и трамваев* все движение под землею и на автомобилях. Есть
160
такие улицы, что перейти почти невозможно. Высмотрел я многие достопримечательности, был в музее, где собраны замечательные вещи со всего света. А больше удивляла здешняя жизнь.
Очень здесь придерживаются старины, в каждом доме на дверях колотушка, звонков нет, и, чтобы войти, нужно по-старинному постучаться. Показывали нам знаменитое аббатство и парламент — древнее здание, и там видел я трон, на котором коронуются короли: большой, изрезанный кинжалами, дубовый со спинкою, стул, и под ним простой камень, и очень нас удивило, что у каменных изображений старинных королей подряд отбиты носы: это много веков назад, когда была здесь революция, так и осталось на память потомству.
Довелось мне видеть, как выезжает из дворца король, и было веб очень просто, публика веселилась и хлопала по плечу часовых, наряженных в большие медвежьи шапки, — и вспомнил я^ каково было у нас.
Большое у них наблюдение за порядком и нравственностью, и даже особая есть полиция из женщин: тоже в касках, в черном и ходят попарно. Следят они за поведением публики и чтобы не было нарушепий. Только в скором времени разузнали наши, где водится «клубничка», и даже водили показывать, но было мне неприятно. Нам же вместе с жалованьем и пайком еженедельно из казны выдавали особый оловянный флакончик для предохранения от нехорошей болезни, с подробным наставлением.
А были тогда у них особые й радостные дни: вся страна праздновала победу, возвращались с фронта войска, и каждый день у вокзалов встречали солдат родные. Очень нам было тяжело видеть чужое счастье, и были мы тогда как без родины, голые сироты.
О России же, как и в плену, знали мы очень мало, — и что писали газеты, казалося нам пустяками. Мало тут знают Россию, можно сказать, до смешного.
Жили мы те дни в полном неведении, а скоро нам стало известно, что недаром нам выдавали пайки и выплачивали жалованье, — стали из нас формировать отряды для отправки в Россию на борьбу с большевиками. Было нам сказано, что в Сибири образовано новое правительство, и скоро будет взята Москва* и что прямым маршем попадем мы на родину,
6 И. Соколов-Мнкитов, т. 1 161
Шел февраль месяц, стояли туманы. А туманы здесь непроглядные, всю зиму, и люди бродят по городу, как в молоке. И опять открылася у меня горлом кровь.
Довелось мне идти на комиссию. И положили меня в военную больницу, в отдельную палату для легочных. Пролежал я там всю весну.
За самое это время и произошли главные перемены.
Уж первые наши отряды ушли на пароходах в Россию, как стало известно, что плохи дела у Колчака в Сибири.
А когда стало все точно известно, переменилось к нам отношение, словно отполоснули ножом. В то время я лежал в больнице, навещал меня Южаков, — он-то и принес новость, что всех русских офицеров лишают пайка, и живи каждый как знаешь. Рассказал он, что большое было между нашими возмущение, ходили по многим местам, но везде ответ был один.
И раньше ходили промеж нами слухи, что не добром нам кончится здешний «рай», — оно так и вышло: выкинули нас со двора, как худую скотинку.
Вышел я тогда из больницы, и началась для меня самая тяжелая полоса моей жизни.
VII
Скопил я в плену кое-какие деньжонки, зашивал в пиджак на скорое возвращение в Россию. Еще во время моей болезни стали писать газеты, что дешевеют немецкие деньги; каждый день я покупал газету —? тут газеты огромные, по двадцати и более страниц, — и сразу глядел на известную мне страницу. Каждый день выходило, что тают мои деньжонки, как вешний на кочке снег. Продавать я не решался, была у меня надежда, что скоро подымется на ноги Германия и все вернется. А скоро узнал, что почти ничего не осталось от моих денег.
Было у меня при выходе из больницы рублей пятьдесят на наши деньги. По здешней жизни — малые пустяки. С этими деньгами начал я новую жизнь.
Очень мне было в те дни тяжело. Первую ночь я так и пробродил по пустым улицам, и, сказать правду, так мне подошло к сердцу, такая охватила тоска,
162
чуть я не наложил на себя руки. Полагаю, большой причиной была моя болезнь, и все время чувствовал я себя неважно и очень тосковал по семье. Письма в Россию совсем не ходили, были мы как за глухой стеной.
Выручил меня Южаков. Жил он за городом, в предместье, поблизости от железной дороги, снимал в маленьком домике комнату. В отряд, что отправили перед тем в Россию, он не попал, остался, и когда лишили нас жалованья и пайка, стал он с другими офицерами заниматься комиссионерским делом — скупали они различные предметы, а потом продавали. И, по словам Южакова, на первых порах даже хорошо пошло дело и завелись у него деньжонки, а потом фукнуло: кто-то из них проворовался, запахло судом, и пришлось уходить Южакову.
Остался он, как и я, ни с чем и очень в те дни нуждался. Гонял он целыми днями по городу, высуня язык, искал по разным людям работы, но какую можно было найти работу, когда всякое воскресенье проходили по городу тысячи безработных? А мы были чужие... Питалися мы в те дни голым хлебом, а денежки берегли на разъезды, чтобы не бегать каждый день пешком.
Тогда и явилась у меня мыслишка опять обратиться в наше российское консульство, где получали мы паспорта. Было консульство еще на прежний лад, и чиновники служили прежние, и флаг висел прежний, трехцветный. Понимал я хорошо, что плохая надежда, и что сами они на нитке, в нужде, и что можно требовать, но был я тогда в большом отчаянии, сам не свой, болезнь из меня не совсем вышла.
Пришел я в консульство на Бикфорд-сквер, в квартал, где помещаются консульства всех великих держав. Вижу, у дверей доска медная, надпись, за дверями швейцар, очень чисто, и зародилася у меня надежда. Помню, встретил меня внизу человечек черненький, очень любезный.
Спрашивает меня человечек:
— Что вам угодно?
Говорю, что надо мне повидать консула, по своему делу.
— Вы, — спрашивает, — из интернированных?
— Да, — говорю, — офицер.
6*
163
— Хорошо, обождите.
Послали меня по лестнице наверх, в приемную. Комната большая, высокая, пахнет лаком. Двери тяжелые, резные, по лестнице зеркала, ковры, все очень солидно. По стенам стулья, и вижу, кроме меня сидят, ожидают.
Присел я на мягкое кресло, думаю про себя: сколько лет показывала себя здесь Россия, а теперь все это чье?
Вскорости вышел к нам секретарь. Рослый, плечистый, очень весь гладкий, в сером костюме, в одном глазу стеклышко, блестят ноготки. А фамилия у него нерусская и вид не наш. Очень я заметил в нем воспитание и большую сдержку, весь как большой серый кот.
Первым долгом обратился он к дожидавшейся даме, очень любезно и с большим умением. Потом дошло до Меня.
Стою перед ним, как мышь.
— Что скажете?
Вижу, лицо чистое, приятное; вижу, человек добрый, только самое это стеклышко в правом глазу блеснет, блеснет: нет, чужой, не поймет!.. Тогда и в голову мне не приходило, что не раз еще придется у него побывать.
— Что скажу, — говорю. — Я офицер, из интернированных, лежал в военной больнице. У меня в легких... непорядок. Теперь ’ меня выпустили. Очень вас прошу, не поможете ли найти мне работу. Могу я...
Повел он плечами, руками этак:
— Ничего не могу. У нас таких тысяча.
Поглядел я ему в лицо: стеклышко!
— Что делать, — говорю, — я бы ни за что не пошел досаждать. Я ваше положение очень хорошо понимаю. Вот все мои деньги (вынул я из кармана единственную бумажку), а больше нет у меня ничего. Работы я не боюсь никакой...
Вижу, точно бы потеплел, и погасло стеклышко, и вижу опять, человек добрый и, должно быть, сердечный, а может, как и мы, в беде, только самая эта корка на нем.
Задумался он, и руку ко лбу.
— Подумаю, — говорит. —- Есть у нас предложение. Быть может, вам подойдет. Зайдите через денек.
164
И руку мне — большую, теплую. Улыбается вежливо и блестит стеклышком:
— До свидания!
Проходил я день и другой как маятник, не помня себя. Часа три ходил так по самым людным улицам, глядел на людей, очутился около церкви: крыльцо большое, широкое, высокие такие колонны. Вижу, народ туда движется, очень много. Затерся с народом и я. В дверях дали мне билет и афишку очень любезные, чистые и сытые люди, — у них такие-то все! Посмотрел я на афишку: духовный концерт.
Прошел я с толпою внутрь, по коврам, — тепло, чистота, и совсем не похоже на церковь. Посереди, на две половины, скамейки и дубовые парты. Присел с другими за парту, гляжу. Рядом со мною старичок — чистенький, бритый, щеки сухие, с румянцем. Много было народу.
Дождался я начала, — все равно, думаю, буду как все. И когда заняли места, вышел на возвышение человек — в сюртуке, с сединой в волосах, очень красивый, — и стало очень тихо. Говорил он кругло и внятно, играя каждым словечком, — очень говорят тут красиво, — и было видно, что большого учения. Начал он о боге, о вере, о спасении души. Потом сказал о войне, разумеется, оправдал всех, кроме Германии, о мире, о воевавших народах, каждому отдал свою честь, только ни словом не обмолвился о России, точно и не бывало. Под конец пригласил всех помолиться о ниспослании тишины, о братстве народов и первый преклонил голову. И сколько было народу, закрывши глаза, спрятав лица в ладони, склонили головы на парты. То же самое сделал я. На долгую минуту стало тихо, как в глухом лесу, и даже показалося мне, не сон ли все это, мое горькое горе, и вдруг проснусь и увижу Соню, родных и Россию!..4 Услышал я, как рядом шевелит губами румяный старик. И стало мне вдруг, как еще никогда, одиноко, в минуту я постиг всю свою безнадежность... Потом все сразу и оживленно поднялись, и стало светлее; тот, проповедник, поднял руку и пригласил пропеть молитву. Чтобы не выделяться, делал я вид, что пою. А когда кончилось пение и сошел проповедников церкви появились музыканты, вышел высокий человек в военном мундире, с широким кожаным ремнем, поклонился и взмахнул белой палочкой. Заиграл духовой
465
оркестр. И опять, под оркестр, сидевшие подпевали, читая по афишкам слова стихов. Так просидел я до конца и вышел — прямо в гущу и суету самой людной в городе улицы.
Через день являюсь опять в наше консульство.
Встречает меня секретарь — любезный, стеклышко у него на шнурке, мне — руку.
— Ну-с, — говорит, — работа вам есть, в городе Г., а вот человек, который объяснит вам подробно.
Подвел он меня к рыжему человечку, сидевшему у стола в пальто:
— Пожалуйста, объяснитесь.
И отошел по своему делу.
Поглядел я на человечка: маленький, быстрый, руки сухие, в веснушках, пальцами перебирает по столу.
Сунул мне руку:
— Вы офицер?
— Да, — говорю, — офицер.
— Вот, — говорит, — какое дело: у нас в городе Г. еще до войны остались некоторые запасы смолы, вывезенной из Архангельска. Теперь мы открываем там завод для перегонки этой смолы в нэк, то есть в особое вещество для осмолки судовых палуб. Понадобятся нам рабочие, желательно из русских. Работа будет довольно трудная...
— Что ж, — говорю, — к работе я был привычен.
— Так, — говорит. — Плата будет невелика, три фунта в неделю, но больше мы не можем. Будет при заводе опытный руководитель. А требуется нам всего- навсего пять человек.
Вспомнил я тогда об Южакове, говорю:
— У меня товарищ тоже в бедственном положении, могу ли пригласить его?
— Хорошо, — говорит, — приглашайте. Только одного, остальные у меня набраны.
Так я тогда обрадовался, точно из погибели выплыл, даже позабыл спросить, чей же такой завод и на кого мы будем работать.
Сказал он мне на прощание:
— Сообщение получите на днях, а в Г. отправимся вместе.
Выбежал я тогда в превеликой надежде и, как бывает со мной, пробежал много улиц, не замечая и, как на крыльях2 прискакал к Южакову.
166
VIII
Через недельку получили мы извещение —на машинке, честь честыо: должны явиться по прилагаемому адресу. Тот же день поехали с Южаковым в город. Тут это просто, по подземной дороге, и поезда несутся один над другими, все очень удобно. Вышли мы в той части, где банки и конторы, — целый особенный город. Вылезли из земли на свет, и нас закрутило. Очень там много народу, а дома большие и тяжкие, в окна снаружи видать — столы, и ходят промеж столов люди, очень чисто, й большинство в цилиндрах. Нашли мтл по адресу, поднялись на машине: двери стеклянные, на дверях надписи, видно, как в комнатах занимаются люди. На одной двери прочли: «Российский транспорт». Здесь! Забилося у меня сердце.
Это у меня со школы: робею при всяком.начальстве.
Пригласили нас подождать — стулья большие, удобные, обиты кожей. Видно нам, как переходят от стола к столу бритые люди.
Вышел к нам из стеклянных Дверей человечек, тот самый, с веснушками на руках, и опять — руку:
— Пришли?
— Пришли, — говорим, — получили ваше письмо.
— Что же, — говорит, — едем, или нашли иную работу? Можете ли выехать завтра?
Разумеется, мы согласны: как говорится, нам не дом подымать!
Сказал он, когда быть на вокзале, и попрощался.
Весь тот вечер на радостях проходили мы с Южаковым по улицам. Вечером здесь удивительно. Столько огней, что жжет в глазах! Народу — как Ока. И никому нет ни до кого дела. Все отлично одеты, будто и нет бедных, а у женщин походка широкая, по-мужски, и очень все гордо. Разрешил себе Южаков выпить и даже меня подзадорил, и очень я на него удивлялся — все-то ему как с гуся. Толкались мы с ним полный вечер, до одиннадцатого часу, когда закрываются все заведения и расходится народ по домам. Час этот здесь соблюдается точно, и весь город рано ложится спать,— разумеется, кому есть где прилечь.
А па другое утро, захвативши вещички, поехали мы на вокзал через весь город, опять на подземке. Вок-
167
валы тут по-другому, без особых пристроек, и поезда чуть не на улице. Там уж поджидал нас рыжий.
Он сам взял билеты: нам третий класс, себе первый. И тронулись мы в путь.
Всю дорогу глядел я в окно: везде ровно город, на каждом тычке завод, трубы, как лес, и страшно подумать: такое богатство! Везде народ ражий, поля — как стол. И на каждом шагу футбол. Очень почитают здесь эту игру.
Ехали с нами матросы в вязаных рубахах, курили трубки, гоготали,
■ Приехали мы под вечер на большой вокзал. Поджидал нас на платформе наш человечек, дал на трамвай денег, сказал, куда ехать — в док.
Вот какой оказался самый наш завод: большущий деревянный сарай с подвалом. В подвале большой котел. А кругом сквозняки.
Познакомил нас человечек с нашим руководителем, — большой такой дядя, молчаливый и сосет трубку. Объяснил он нам, что делать: должны мы, как в пекле, держать под котлом огонь круглые сутки, на три смены, и следить, чтобы не загорелось, мешать смолу. Объяснивши, показал свои конские зубы и опять за трубку. Оглядели мы завод со всех концов, про себя думаем: слава богу и за это.
Повертелся туда-сюда наш человечек, выдал нам за неделю. '
—. Желаю, — говорит, — вам успеха! — и уехал.
Узнали мы наших товарищей по работе.
Из русских был один моряк, безработный, человек бывалый, пройди-море и очень себе на уме. Держался он от нас в сторонке и, видимо, не очень дорожил службой. С другим мы сошлиеь быстро. Был это крепкий лет девятнадцати парень, очень рослый, и лицо у него было румяное, нежнейшее, как у девушки. Очень мы впоследствии с ним подружились. Была его фамилия нерусская, трудная — Этчис, а стали звать мы его просто Андрюшей. Отец его, по происхождению — здешний, был наездником в Петербурге, в конюшнях у знатного князя. Очень он был бедовый, никому не давал спуску и частенько бушевал против здешних, пользовался своим правом. Мы, разумеется, держались Сторонкой.
168
Очень он помог нам по первому разу. Нашел нам квартирку в рабочем семействе, тут же неподалеку. Домики в той части все одинаковые, как ульи в саду, все под одну масть. Так тут везде в рабочих кварталах.
Отвели нам верхнее помещение, спальню. А спят тут в холоду, бедные и богатые, всю зиму при открытых окнах. Положили с нас хозяева по два с половиною фунта в неделю за стол и квартиру. Оставалось, значит, нам но полфунту на свою нуждишку — и на том спасибо. <
Хозяин наш служил на дороге — стрелочник; человек простой и приятный, к нам относился даже радушно и очень интересовался Россией. Было у него две дочери-барышни, попрыгуньи, и с ними мы подружились. Научил их Южаков нашему «Чижику»: «Чижик, чижик, где ты был?..», и так это у них смешно Bbixq- дило, дразнили мы их «рыжими» и много, смеялись. Окончили они курс в школе, но о России только и знали, что ходят по Москве медведи и снег лежит круглый год. А Южаков дразнил их нарочно.
Стали мы ходить на работу. Попервоначалу пока- залося трудно: болели руки, горели глаза. Очень едкие смоляные пары. Так что проходило даже сквозь платье. Руки у нас от смолы стали чернее ошметка, и отмыть было невозможно. Ходили мы на работу попарно, ночью и днем держали в топках огонь. Скоро научились шуровать и даже попривыкли к работе, но пугало меня здоровье. Гулял по всему сараю ветер, а мы в поту, над огнем, —■ и боялся я, как перенесу осень.
К городу и людям мы вскорости присмотрелись.
Городок — тому не в пример — был небольшой, приморский. Всякий день приходили огромные пароходы, останавливались в доке, и шумели по вечерам матросы. Славился город (тут такой уж обычай, и каждый город чем-нибудь славен) лошадьми, свиньями и церковными колоколами.
И, надо сказать, справедливо.
Таких лошадей я никогда не видывал и нигде. Спина—как печь, копыта по тарелке, мохнатые, — этакая потянет пятьсот пудов! И думал я, глядя: вот показать бы в Заречье.
Попривыкли мы понемногу к жизни. Вечером по субботам ходили гулять. По субботам в городе очень людно. Подивился я, как много у них молодежи, —
169
и все, как один, веселые. Вечером не продерешься. И очень бойкие девицы. Даже Южаков присмирел. Ну, разумеется, вскорости завелися и здесь зазнобы, без того уж не может. Приметил я, и «рыжие» неравнодушны, только все это у них по-другому.
А были мы по-прежнему в полном неведении о России. И по-прежнему мутила меня тоска, и стало казаться, что уж никогда-то, никогда не увижу своего Заречья, что так тут и подохну на черной смоле. Удерживал я себя от мыслей и старался глядеть веселее. Поддерживали меня Южаков и Андрюша.
Завидовал я тогда Южакову — тому, что всегда ему море по колено, и хоть и не будь для него никакой России, и всегда-то он был здоровенек. За эти месяцы очень я заметил, что делятся здесь русские на две различные половины: на тех, что тоскуют по России* и на тех, что ничего не помнят и не хотят помнить.
Я тосковал очень.
В то время прислали к нам на завод нового человека. Был он, как и мы, интернированный, офицер. Отрекомендовался он нам корнетом кавалерийского полка, и с первого взгляда не полюбился он нам своею надменностью и непростотой. И впоследствии большая нам получилась от него неприятность.
IX
Совсем Прижились мы в том городе и даже завели знакомства. Очень я стал понимать, что ко всему человек привыкает, хоть и к самой собачьей доле.
А сказать прямо: жилось нам не сладко, и из многих мы были беднее. И все, что получали, уходило, как из трубы дым. И даже завелися должишки,-— я, разумеется, был воздержан, а Южаков, известно, сорил.
Приглядывался я тогда к рабочей здешней жизни, к житью-бытыо. Хозяин наш жил прилично, а по-нашему даже выдающе. У всех велосипеды, а у «рыжих» и пианино^ и учил их Южаков бренчать наши русские песни.
Целый тут рабочий город.
И каждый человек получает газету* каждое утро чуть свет — под дверью.
170
Много раз я дивился, какой это на нас непохожий народ и какие у них закоренелые привычки.
По воскресеньям бывали в городе митинги, и проходили рабочие с флагами. Было там особое место для митингов: площадь перед вокзалом, около памятника, изображавшего солдата с винтовкой, стоящего на большом танке. На танк влезали ораторы и говорили.
Слышал я частенько, что говорят о России, о новых порядках.
И опять насмотрелся я, что немало тут бедности, только не для всех, видно. Мы же хорошо пообтерлись.
Были там лавочки, где продаются ракушки. Неопытный глаз и не приметит после зеркальных окон магазинов, но для многих было большое удобство: и на копейку можно получить порцию. Конечно, без привычки не полезет в горло, но как попривыкнешь, даже приятно. Уважают же устриц богатые люди!
А были и такие, что не хватало и на ракушки. Терлись они в доках, около пароходов: матросы — богатые люди, особливо американцы, и всегда от стола остается.
Тоже вот женщины. Строжайший здесь закон насчет нравственности и порядка, и даже так, что ни в одну гостиницу не пустят даже с родною сестрою. Но все это пустое, и очень я убедился, что немало тут пропащих. Южаков хорошо знал. Он и повел меня раз к такой-то, разумеется, по чистому делу, из любопытства. Был он у нее как свой.
Двое ребяток у нее, два мальчика. Камин нам затопила и сейчас кофе, как добрым знакомым. А Южаков, как родня, уж знает, где что: где сахар, где хлеб, — очень он перед женщинами брал этой своей простотой. С мальчишками занимался. Познакомился и я — «козу» им пропел, нашу русскую песенку, что мне певала мать. Стоят ребятки тихонько у меня в коленях, примолкли: ребятишки-то везде одинаковы. «Где же, говорю, ваш отец?» А она уж давно на меня от огня поглядывает, видит, как я с ребятишками. «Отец, говорит, далеко, три года, как на дне моря!» — «Что же, он у вас был моряк?» — «Моряк, моряк, говорит, королевского флота, погиб в сражении с германцами!» Поглядел я на нее: простая женщина, немолодая. А тут больше матросы; эти не очень разборчивы, да любо им после моря такое домашнее, чтобы с кофейничком да с ребятишками да чтобы побольше было похоже на семейный дом. Потом
171
я узнал, что бывает и так: загуляет какой-нибудь после долгого рейса, заберется, получивши деньжонки, и уж не выходит, покудова не проживет последний грош, пользуется теплом, а потом опять в океаны, на чертово бездорожье.
А мне та женщина очень полюбилась, и стал я к ней заходить попросту, без мыслей. Ребятишки ко мне привязались. Носил я им подарки, и она ко мне привыкла, и стал я у нее как дома. Теперь, как вспомню,'большое мне было в те дни облегчение! И хорошо мы понимали друг дружку. Теперь-то я хорошо знаю, что бедный бедного сознает без слов.
Русских в городе, сказать, почти не было. Стояли в доках два парохода русские, без команды, еще с военного времени; ходили слухи, что забраны они за долги России. Был в городе прежний русский консул.—сам иностранец, женатый на русской. К нему я захаживал, познакомил он нас с женою — очень благородная дама, но как-то уж тогда я стал очень стесняться, и руки у нас были черные, в смоле, и даже в освещенный магазин заходил я робко, и куда мне было проще с тою женщиной, вдовой моряка. И перестал я к ним ходить.
Однажды пришел к нам человек, очень худой и весь какой-то молочно-белый. Заговорил он по-русски, но так, как говорят здесь многие русские люди, давно отвыкшие от России, с особым акцентом. Совсем он не умел" улыбаться.
Рассказал он нам, что из России, из Новгородской губернии, портной, что пятнадцатый год живет здесь, имеет маленькую мастерскую, а фамилия его Зайцев. Звал он нас к себе и обещал познакомить со здешнею рабочею молодежью. Удивил он меня своей верой в Россию и большим упорством.
Пошел я к нему в воскресенье в мастерскую. Южаков, разумеется, улепетнул по своим сердечным делам. Встретил он меня уже одетый, и сейчас же мы пошли на собрание. Привел он меня в помещение, в холл, где сидели на стульях люди и барышня за столиком продавала значки. Стал я слушать. Говорили больше о России, о том, что в России теперь свобода и хорошая жизнь. Что надо и здесь ожидать такого, что скоро поймут и многое ждут от России. В конце он познакомил меня со своими, объявил, что я русский, и мне
172
пожимали руки. И когда мы вышли назад, он опять говорил мне о России и так же ни разу не улыбнулся.
Интерес к России у рабочих немалый.
Раз даже вышел с нами такой смешной случай, Затащил меня Южаков в кабачок около доков, где больше рабочие. Я почти не пью, а так разве пива. Л кабаки тут на особенный лад, и в каждом на три отделения, как бывало в наших трактирах, — для простых и чистых. Пиво одно, а цена на пиво различная, и в «дворянской» стакан дороже на одну копейку. Зашел я из любопытства. Была суббота, день общей получки, и народу — труба, продохнуть невозможно, все как есть прямо с работы, в рабочей одежде. Очень я заинтересовался и стал наблюдать. А пьют здесь потихоньку, и столиков в кабаке нет: ставят стаканы на особую полку над головами или просто себе под сиденье. Водку пьют из стаканов, на самом донышке, остальное же доливают водою. Южаков, разумеется, потребовал по русскому обычаю, взял зараз три стаканчика и вылил в один, на общее удивление, и скоро пришел в обычное свое состояние.
Нарочно я оставался при нем, чтобы удержать от неприятности. Присел я в сторонке, смотрю. Захотелось мне кое-чего записать (привык я во время плена, в одиночестве, записывать свои мысли), вынул я записную книжку, пишу. Поднял голову, вижу — смотрят, и сразу же отвели глаза. Стал я писать — и опять, чувствую, смотрят. А я уж знал, что большим неприличием почитается здесь любопытство, только, видно, очень их заинтересовало. Один, что поближе, не выдержал, спрашивает:
— Скажите, пожалуйста (тут у них так-то все, и отец сыну говорит «вы»), скажите, — говорит, — пожалуйста, вот уж сколько лет я хожу в самое это место и ни единого разу не видел, чтобы кто-нибудь тут занимался писанием. Вижу я, что вы иностранец, и по рукам признаю, что рабочий. Очень меня интересует, не будете ль вы из России?
— Да, — говорю, — я русский, из России.
Тогда он как-то торжественно поднялся, приподнял шапчонку и крепко пожал мою руку. Другие, кто слышал, тоже подошли и подали мне руки:
Бол’шевик! Бол’шевик!
Кончилось, разумеется, недобром.
173
Перед самым закрытием Южаков наскандалил. Тут у них точное правило: закрываются кабаки в десять, а за пять .минут хозяин подает свисток, и тогда, кто как бы ни был, спешат допивать свое. Тут-то и нашумел Южаков:
— Как так, почему* когда самое время и я только промочил горло!
Очень он задорный пьяный. Стал я его уговаривать перед хозяином извиниться, — не тут-то было.
Ну, думаю, не быть добру.
Так оно и вышло: вышел хозяин преспокойно, как был, с засученными рукавами, полыхнул в свисточек, пришли двое — и так-то ловко Южакова под ручки, особым приемом. Дорогой вижу: когда идет Южаков смирно — отпустят, как только забушует — опять прижмут руки навыверт, даже зубами скрипит. Вижу, вынимает он из кармана серебряную монету, дает полицейскому, а тот, что постарше, взял преспокойно, положил в карман и под козырек:
— Благодарю!
Отпустить же не отпустили. И уж на другой день, в обед, явился Южаков помятый, скалит зубы, — оштрафовали его за веселость на полфунта.
А ему как с гуся.
— Это, — говорит, — гулял я за счет его величества короля!..
X
Большая неприятность вышла у нас с корнетом.
Был он человек гордый и всегда держался в особицу. Поселился он попервоначалу с нами, в одной комнатушке. Был у него единственный костюмчик, серый, сшитый по-модному, на одной пуговке. И каждый свободный вечер, собираясь в город, по часу, бывало* сидит перед зеркалом. А личико у него было маленькое, птичье, и пальцы на руках конопатые, ноготки плоские; начищал он их порошком.
Хорошо он знал языки и умел держаться со многими. Дома же у него постоянно был беспорядок, и любил он поваляться в постели, и все-то у него вверх дном. А я еще в плену хорошо подметил, что очень часто чем человек попроще и воспитания небольшого, тем больше следит за собою и в большей живет чи¬
174
стоте. Каждый вечер изливал он перед нами свою душу, рассказывал о своей прежней жизни. И, разумеется, пришлась ему не по вкусу работа. А главное, смущало, что портятся от смолы руки, и выходил он на работу в перчатках.
Посмеивался над ним Андрюша, а мне* сказать правду, было жалко.
С Андрюшей и получилось у них столкновение.
По осени рассчитался с завода моряк, поступил на пароход на службу — в Америку. В Америке он жил раньше, и давно была у него мыслишка. Тут многие об Америке мечтают, и для многих она как небесное царство.
Только и попасть туда, как в небесное царство.
А я давненько приметил, что многие русские, поживши в Америке, потаскавши американский хомут, как-то пустеют, точно уходит душа, и все-то у них ради денег. Разумеется, не все так-то, но много я видел таковских.
Пришел он перед отъездом прощаться, принес бутылку. Был он довольный, в новом костюме. Посадили мы его внизу, в общей комнате, у хозяев: тут такой уж порядок, и в спальню гостей не приводят.
Угостил он нас водкой и понес про свою жизнь:
— Очень я обожаю Америку, я десять лет в ней безвыездно прожил, и только расстроила мою судьбу война; я, — говорит, — там жил прекрасно, и у меня даже лежал капиталец.
Сказал я ему.
—- Как же, — говорю, — для вас Россия?
Он усмехнулся, повел усом:
— Что ж Россия* Россия по мне хоть и не будь!
Сидели мы все вместе у камина, за маленьким
столиком. А корнет поковырял в камине щипцами и говорит нам этак с улыбочкой:
— Правильно, — говорит. - А я на Россию...
Очень грубо сказал, по-солдатски. А полагаю, от
глупости он, не подумав, но из этого и вышла самая неприятность. Поднялся вдруг Андрюша, — я только и успел заметить, что был он весь красный, — и не успели мы его удержать — так-то хлестко корнета по щеке!.. Потом по другой!.. Очень получилось все неприятно* такой парень порох. Убежал тогда корнет наверх* зарылся в одеяло* а мы остались.
175
Нехорошая осталась у меня о том дне память. Попрощались мы с моряком сухо, а я долго после того думал: какие есть люди, и, видно, никогда-то не поймет человек человека.
Большая завелась с того дня между нами неладида, и смотрел на нас корнет волком, не говорил ни слова. Большого мне досталось труда, чтобы помирить их, но зло так и не вывелось, и уж впоследствии пришлось нам за него поплатиться.
В самое то время довелось мне в утешение познакомиться с одним русским, и навсегда у меня осталась добрая о нем память, хоть и видел я его совсем недолго и не знаю, где носит его теперь судьба и пришлось ли сбыться его заветному желанию. Довелось мне тогда па нем убедиться, что не одинаковы люди и нельзя всех класть на одну мерйу.
Пришел он к нам сам, уже под вечер, присел не раздеваясь. Сказал, что узнал о нас случайно от Зайцева и в городе остановился проездом, что едет в Россию, на родину, и зашел повидать земляков.
Пригласил он меня пройтись в «рум», посидеть, хотелось ему, видно, поговорить со своим человеком, и я не мог ему отказать. Погода была негодная, пошли мы по улицам — дождь, ревет с моря ветер, фонари отражаются в лужах.
Зашли мы, сели за столик, заказали горячий ром. Вижу, на меня смотрит, что-то хочет сказать. А я очень приметлив, сам вижу: надо выговориться человеку.
И вижу, что есть у него горе.
— Что же, — спрашиваю,—как решились в Россию?
Посмотрел он на меня, улыбнулся. Отхлебнул из
стакана.
— Решился, — говорит, —■ тридцать второй год как не был, а помнил всегда.
— Как же так вышло?
Отодвинул он от себя стакан, сел покрепче, вижу: говорить хочет (простые-то люди о своем заветном всегда очень открыто).
— Жил я, — говорит, — последнее время в Австралии, имел хозяйство. Я, конечно, человек трезвый. Четырнадцать лет проплавал я до того на миссионерском судне, и ходили мы по океану, по самым глухим островам, где людоеды. Был я на пароходе плотником. Пойдем, бывало, года на два с евангельским грузом. И оста-
476
валося у меня целиком жалованье, за четырнадцать лет скопил кой-какую копейку. А в те времена много хвалили жизнь в Австралии. Там я и остался, купил землю, обзавелся хозяйством. Женился я еще раньше, на здешней; родилась у меня дочь. Сами понимаете, какая у моряка семейпГая жизнь. Хорошо, у кого крепкое сердце... Померла жена рано, пришлось отдать дочь в чужие руки, — по-русски она не умела. Так-то раз приезжаю: вижу, неладно, что-то от меня скрывает. А потом все объяснилось: сошлась она с каким-то, увез он ее далеко, в Южную Африку, там она и теперь, и нет никакого слуху... А я о России тосковал всегда, и всегда у меня была надежда вернуться, тридцать второй год этим живу. Убежал я еще от военной службы, от наказания, в далекие времена, — бежало нас пять человек, помогли нам люди пробраться за границу. Тут-то мы и порастерялись, и остался я в одиночестве. Поступил я на парусник. В те времена, знаете... Контракт на два года, по полтора фунта в месяц. Ходили мы с лесом в Австралию, по полгоду качались на океане. Хватил я тогда горя, и было мне полютей всякой каторги. Так вот мотался я более тридцати лет по всему белому свету...
Допил он свой стакан, вытер усы, посмотрел на меня приветно.
—■ Вот, — говорит, — а теперь собрался в Россию. Как услышал еще в Австралии о перевороте, так и решился. Все свое продал, — дом у меня новый, овец четыреста голов, — собрал кой-какие деньжонки и, как говорится, напропалую! А на что еду — не знаю. Я к вам зашел, думаю: не скажете ль вы о России...
— Рад бы, — говорю, — вам помочь, да сами ничего не знаем, и наше положение даже хуже, потому что не можем мы никуда двинуться.
— Разное пишут. ■
— Пишут, — говорю, — разное, только очень хорошо известно, что большой в России голод и множество людей помирает.
Посмотрел он на меня — улыбнулся.
— Нам, — говорит, — не пугаться. А помирать па своей земле легче.
Просидели мы так весь вечер. И очень он мне полюбился. Удивлялся я, что за тридцать два года пе разучился правильно говорить по-русски. Думал я: как
177
только не играет с человеком судьба, и сколько раскидано по свету людей, и даже стыдно мне стало за свое горе — разве я давно из России, и что я перетерпел в сравнении с ним?
Зашел он ко мне еще раз перед отъездом. Ехал он в Латвию, в Ригу, написал я с ним письмо своим, Соне, просил за меня не тревожиться, что сыт и здоров, — разумеется, кратко. Адреса своего не мог дать: еще не ходили из России письма.
XI
В скором времени произошли в нашей жизни новые перемены.
Позднею осенью прошел слух о забастовке. На городской площади с утра собирались шахтеры, прохаживались молчаливо, носили плакаты.
В те дни большое было в стране беспокойство. Газеты сообщали, что к шахтерам грозятся присоединиться железнодорожники и докеры, и наш квартирный хозяин приходил веселый, стучал о косяк трубкой, подмигивал нам глазом:
— Вот как наши ребята!
А в городе по видимости было как прежде. В доках же скоро притихло, и пароходы стояли недвижно. Ходили слухи, что забастовка продлится и станут заводы.
Частенько в те дни забегал ко мне Зайцев. Стал он еще худее, носился с газетами и по-прежнему ни разу не улыбнулся.
Недели через две навернулся к нам рыжий. Собрал он нас в сарае, объявил, что завод пока станет за неимением угля. Нас же оставляют на половинном окладе.
Повертелся он недолго, повесил замок и уехал. И остались мы гулять без всякого дела.
Очень тогда пришлось сократиться.
Задолжали мы в те дни за квартиру. Хозяева нас не притесняли, но все же было неловко. Отказался я от обедов и стал питаться на скорую руку, чтобы поскорее выйти из долга. Есть тут для таких-то особые лавочки, где продают рыбу. Очень это удобно. Открываются лавочки два раза в день, утром и вечером, в известное время. Кипит там в большом котле масло,
178
а в масло бросает человек рыбу большими кусками и тут же вынимает щипцами. А в другом котле — картошка, крошенная на машинке. Все очень дешево: пол- шиллинга—с уксусом. И каждый вечер большие сбивались у тех лавочек очереди.
Пришлось нам тугонько, и чем могли, мы друг с дружкой делились. Приняли мы в те дни хлопот с нашим корнетом: жил он по-прежнему с нами и целыми днями лежал на кровати. Занял он у меня полфунта и ходил обедать в город, когда зажигали огни. Приглядывался я к нему и никак не мог понять человека, и, признаться, не раз я тогда подосадовал: смотри за ним, как за малым! А потом довелось узнать, что ходит он к консулу и пришелся там ко двору, а раз и сам проговорился, что ожидает получить новую службу.
С Андрюшей в те дни мы сошлись крепче.
Жил он от нас в стороне и приходил каждый вечер. Было в нем детское и простое, а Россию он любил сердечно, — учился он в Петербурге, в реальном училище. Отец его жил теперь в Лондоне с семьей и присылал ему письма.
Ходили мы на митинги слушать, и опять я -им удивлялся: стоят кучно, все в вязаных шарфах, грызут свои трубки, и везде полный порядок.
В те дни пришлось нам понюхать полиции.
Задержались мы раз на городской площади после митинга. Есть там улица, где, как и у нас, в России, по вечерам происходит гулянье, собирается городская зеленая молодежь и матросы с иностранных пароходов. По вечерам всегда там шумно и толкотно, и ходит публика взад-вперед левою стороною. Прохаживались там и полицейские* за спину руки* следили за общим порядком.
Полицейские тут народ отвесный, на подбор, вершков от двенадцати, и ходят как лошади.
Вот с ними и вышло у нас приключение. Разумеется, отличился опять наш Андрюша.
Вышло из малого пустяка.
Остановился он, неизвестно для какой надобности* на панели, на самом ходу. Росту он долгого, как жердь, п далеко видно. Подошли к нему полицейские, на него животами: не полагается* мол* здесь стоять* загораживать людям дорогу!
479
Все бы тем и кончилось, но ответил им Андрюша по-ребячьи и что-то уя? очень резко.
И пошло у них за слово слово.
— Разве, — говорят ему, — вы иностранец, что не подчиняетесь общим порядкам?
А он им по-прежнему дерзко:
Нет, не иностранец, а потому желаю на вас начихать!..
И еще что-то брякнул, покрепче.
— Ах, так, — говорят, — будь вы иностранец, оставили бы вас без последствий, теперь же за слова ваши ответите перед Судом...
Так это у них получилось крепко. На грех, сунули меня в это дело; стал я с ними очень вежливо объясняться, что, мол, не следует обращать внимания па мальчишку, — и только подлил масла. Совсем разошелся Андрюша, и взяли нас, как тогда Южакова, не совсем даже и деликатно.
Первый раз за всю мою жизнь довелось мне быть под арестом, точно трамвайному жулику, и очень было досадно, что по такому глупому делу, и в душе я подо- садовая на Андрюшу.
Привели нас в полицию и рассадили по комнатушкам. Досталась мне комнатка небольшая, под потолком лампочка и у стены койка. Заперли за-мною дверь, как за арестантом. Присел я на койку и про себя думаю: горевать мне теперь или смеяться? Стал я от скуки разбирать на стенах надписи, — немало перебывало в клетушке . народу, и больше из загулявших матросов, — и даже нашел я одну по-русски: «Сидел Иван Журавлев. Пароход „Саратов"». Стало мне вдруг весело и спокойно, завалился я спать.
Поутру доставили нам любезным порядком кофею и по ломтю хлеба с маслом, и вспомнил я южаковскую шутку про «королевское угощение».
А после завтрака вывели нас во двор — и в автомобиль крытый, как ящик, повезли в суд. II подивился я тогда ихней скорости и устройству.
Потряслися мы в автомобиле минут двадцать, и высадили нас на большом чистом дворе, провели через черный ход. И с большим я наблюдал любопытством.
Оставили нас в коридоре, внизу, приказали ждать. А когда пришла наша очередь, показали на дверь — входить. И оказались мы за решеткой, посреди суда,
180
перед самим судьею. И тут же свидетели — вчерашние полицейские.
Сперва обратился судья к Андрюше.
Выспросил все точно о роде занятий, а главное, не знается ли с большевиками и какое имеет отношение к забастовке. Понял я по его вопросам, что подозревают нас в большом деле.
Отвечал Андрюша на суде вполне вежливо и все точно и по полной правде. Рассказал и о нашей нужде.
Обратился судья ко мне:
— Вы подданный чей?
— Российский.
— Большевик?
— Нет, я не большевик.
— В России все большевики! А что вас заставляет жить здесь?
Рассказал я ему подробно о своем положении. Выслушал он будто с сочувствием и, опросивши свидетелей, объявил приговор: оштрафовали Андрюшу на полфунта.
XII
Второй месяц не получали мы жалованья ни копейки, и прошел в те дни слух, что переходит завод в другие руки, а нам доведется тугонько.
А перед рождеством приехали на завод двое: нага рыжий и с ним другой, высокий, в черном, молчаливый. Было у черного лицо неподвижное, бледное, руки держал в карманах, на нас почти не взглянул. Рассыпался перед ним рыжий мелким бесом. Осмотрели они завод, черный — ни слова.
Поручили мце наши переговорить с ним.
Подошел я к нему, остановился. Вижу, глядит в землю.
Начал я очень вежливо.
— Позвольте, — говорю, — спросить: беспокоимся мы о нашей судьбе, потому прошли здесь слухи, и не получаем мы жалованья даже в половинном размере, как было обещано...
Посмотрел он на меня мельком, передернул плечом и этак твердо:
— Да, — говорит, — завод может стать. Жалованье вы получите, когда окончится Забастовка и у нас будут
181
деньги. Теперь могу вам выдать немного... по одному фунту.
Стал я было о крайней нашей нужде, о наших долгах, а он мне как-то небрежно:
— Как вам угодно. У вас полное право с нами судиться. Беспорядка и неподчинения мы не потерпим: здесь не Россия.
— Очень, — говорю, — понимаю, и нет у нас никакого желания с вами судиться, желаем мы жить миром, интересует нас наша судьба по вполне понятным причинам.
Поднял он голову, — глаза чужие и темные.
— Хорошо, — говорит, — мы вас известим.
Остались мы после торо в полном расстройстве, и
пошло у нас как-то все неладом. Переехал от нас корнет, получил место у консула, писцом, — видно, взяли его из милости. А мы остались без дела. Похуже это самой тяжкой работы. Бегал Южаков по знакомым, кормился, как птица небесная: У меня опять пошатнулось здоровье, томило по ночам в груди, и много изводила бессонница. Почти не спал я тогда, и голова у меня была пухлая, тяжкая, и дрожали руки. Голод мучил не сильно: приучил я себя есть мало, и была даже от того особая легкость в груди и ногах. Равнодушно засматривал я в магазинные окна, где на больших липовых досках лежало мясо — розовое, с белыми жилками, большими кусками: замечательное здесь
мясо! Думал я, какой теперь голод в России, и, может быть, погибают люди, а все-таки не знать им нашего горького горя — тоски по своему родному! И частенько вспоминал я Заречье, и как живая передо мною стояла Соня. Видел я во сне своих стариков, и всегда очень живо, и почему-то частенько мне представлялся отец: будто молодой и веселый, и бывало мне после тех снов жутко, и думалось, не случилось ли в доме худое?
А через короткое время пришла на мое имя записка от местного консула. Рука, вижу, знакомая, с росчерком, писал, видно, наш корнет. Сказано было в записке, чтобы зашел я по нужному делу. _
Подумал я, что с недобрым.
Так и вышло.
Пришел я в назначенный час, постучался. Открыл мне корнет, чистенький, бритый. Был он, видимо, за секретаря. Со мной поздоровался сухо.
182
Вышел ко мне консул, подал руку. Был он маленький, черный и, как муравей, быстрый. Посадил мепя в кресло.
— Так и так, — говорит, — должен я вам сообщить неприятность.
— Что ж, слушаю: нам к неприятностям не стать привыкать.
А мне и в самом деле было в тот раз все равно, хоть на какую беду.
Разглядывал я его кабинет: большой, заставленный мебелью, и был он между столами и стульями как в поленнице мышь.
Угостил он меня папироской.
— Получил я от вашего начальства извещение, что вы и другой, как его... здешний подданный, ваш сослуживец, больше не состоите на службе, и присланы вам для расчета деньги, по четыре фунта. Уполномочен я передать эти деньги.
Запнулся как будто.
— Вижу, — говорит, — по вашему лицу, что вы нездоровы. И зачем вам было путаться с Зайцевым? Имя его тут давно нам известно.
— Да что, что такое?
— Очень, — говорит, —- неприятно; известно нам, что были вы в сношении с врагами государственного порядка и сами сочувствуете... И даже судились.
Очень я удивился.
— Да кто это, — говорю, — вам наплел?
И тут мне в глаза: в углу за столиком сидит нага корнет при полном порядке, костюмчик на пуговке, в руках карандашик. И прячет глаза.
Усмехнулся я про себя.
— Нет, ни в чем я не виновен, и все это очень странно. Жить, — говорю, — нам действительно нечем...
Вижу, на меня смотрит: верить или не верить? — и в глазах его сожаление.
Повторил я еще раз:
— Можете, — говорю, — мне поверить.
Выдал он мне деньги, по четыре фунта, потом повернулся неловко, вынул бумажку пятифунтовую, подает мне.
— Извините, — говорит, —это от меня вам в долг, на время... Когда получите жалованье, возвратите,
183
Поглядел я на него: от чистого сердца! Понял я тогда, что, видно, нехорош у меня вид, коль этак жат леют люди. Поблагодарил я его и отказался от денег.
Проводил он меня до двери и сказал еще раз на прощание:
— Так-то, друг, держитесь этих людей подальше.
— Что же, так и не верите мне?
— Вам, — говорит, — верю, но русских людей я знаю — их слабость... Разумеется, ваше дело, только уж лучше вы образумьтесь.
Вышел я от него с легким сердцем, точно вдруг свалилась с меня гора. Так-то вот в лихом горе бывает частенько.
XIII
Правильно я тогда ему сказал: нам не стать привыкать! Поговорил я с Андрюшей, и порешили мы ехать немедля назад, в главный город. Приглашал он меня к своим жить, пока не найдем места.
Южаков оставался. Выходило ему где-то место на пароходе, и поджидал он окончания забастовки. К сообщению моему он отнесся равнодушно, а меня пожалел: немало с ним помыкали горя!
А я в своем характере стал замечать перемену: стал я точно смелее и глядел на людей прямо.
Обменялись мы с Южаковым на прощание письмами, каждый на свою родину, и положили друг дружке крепкое слово: кто будет жив и первый попадет в Россию, тот передаст письмо. Думалось мне почему-то, что не увижу Южакова и что прежде меня он проберется в Россию.
Уехали мы на другой день поутру. Провожал нас Южаков и наши «рыжие», знали они от нас несколько слов по-русски и кричали громко: «Прощай! Прощай!» и махали руками. Понял я, что хорошие девушки и к нам привыкли.
Андрюша очень бодрился. Был он в летнем пальтишке, длинный. Вагонов здесь не топят, и порядочно мы промерзли.
Всю дорогу держались мы весело, шутили над своею судьбой, и было нам от того легче.
Приехали мы еще засветло, и повел он меня прямо к своим.
184
Сколько народу! И этот воздух, городской, особенный, помирать буду —узнаю. Хорошо я приметил, что в каждом городе свой собственный запах, и можно узнать даже с завязанными глазами. И опять почувствовал я, что нездоров, холодно стало дышать, и подумал я с большим страхом, что стану делать, еслц, опять захвораю?
Пошли мы пешком большой и широкой улицей, и опять нам навстречу катились автомобили и рекой текли люди. Закружилася у меня голова, и даже пришлось придержаться. Справился я с собой скоро.
Шли мы пешком версты две. Отец Андрюши жил по-здешнему недалеко, в темной и глухой улице, где по обе стороны чередой тянулись ворота, большие и темные, будто не открывавшиеся никогда. В одни такие ворота зашли мы.
Был это гараж для автомобилей, большой и мрачный. Поднялись мы со двора по узенькой лестнице наверх, постучались. Жил отец Андрюши сторожем при гараже, в двух комнатушках.
Встретили нас с большой радостью. Старик — отец Андрюши — был маленький, легкий и в морщинках. А мать — высокая, крупная, и на нее всем своим обликом походил Андрюша.
Выбежала к нам сестренка его, девушка, тоже высокая и лицом чистая, как брат. А за нею два мальчика в курточках. И чем-то сразу напомнила она мне Соню: какою-то черточкою в лице, своею улыбкою, и так это вышло, что вдруг забилось у меня сердце... Понял я тогда, что живут они в большой нужде и очень теснятся: пять человек на две комнатки, — и пожалел я, что, не подумавши, согласился на Андрюшино предложение.
А тут они на меня все:
— Вы русский, русский?
— Да, — говорю, — русский, самый что ни па есть.
— Ну, вот как хорошо, как мы рады! Ведь вы Андрюшин приятель, он нам писал.
И больше всех Андрюшина сестренка — Наташа, глаза так и блестят:
— Так мы здесь по России скучаем и о русских людях!..
185
Понял я, что и впрямь рады сердечно, — хорошие люди. А старик округ нас ходит, тоже доволен, поглядывает на Андрюшу.
Поставили для нас кофей, усадили, всё по-семейному, и первый раз почувствовал я себя так, точно вдруг перенесся в Россию, — такие были ласковые и простые люди.
Разглядел я всех. Понравилась мне Андрюшина мать. Была она совсем простая, и лицо у нее бабье, деревенское, русское.
Помню, спросил я у нее между прочим:
— Как же, — говорю, — привыкаете к чужой стороне?
Взглянула она на меня.
— Никогда, — говорит, — не привыкну и не думаю привыкать! Тут мне каждый камушек лежит поперек.
И опять я загляделся на сестренку Андрюшину. Было у ней что-то от Сони: нет-нет и проглянет где-то в улыбке ее, в самых губах. А так была непохожа: выше ростом и держалась смелее. И почемугто билось у меня сердце.
Попервоначалу ничего не объявил Андрюша о нашем положении, о том, что остались мы без работы и приехали искать места.
Просидели мы так весь вечер в разговорах. Рассказал мне Андрюшин отец, как выехали они из Петербурга сюда, на хорошее жительство, и как вот тут приходится мыкать горе. Старые-то корни давненько подгнили.
А сестренка знай режет свое:
— В Россию, в Россию! Видеть, — говорит, — не могу здешних.
Улеглись мы в тот день поздно, наговорившись. Потеснились для нас в комнатенке, освободили место, и долго я лежал не засыпая, сдерживал кашель. Не выходила у меня из головы Соня, а с нею Россия. Когда-то увижу?
Есть у меня примета: всякий раз перед болезнью теснит в груди и немеют ноги, и чувствовал я, что не выдержу долго.
Поутру объявил Андрюша, что выгнали нас с завода и приехали мы искать места. Рассказал все подробно.
Выслушал нас старше покачал головою:
186
— Все это прискорбно, но не следует падать духом. Время, конечно, такое, и безработных в стране очепь много...
Присоветовал он нам идти в контору требовать наше жалованье, и тут мы и порешили начать с того день,
XIV
Тогда же поутру пошли мы в контору, а по-здешнему в офис, куда давненько приходили с Южаковым, чтобы сговориться о месте. И опять сидели на кожаных стульях и видели, как за стеклянною дверью перебегают люди и блестят у них на головах проборы.
Держали нас очень долго.
Принял нас тот черный, что был у нас на заводе. Сидел он перед столом в вертящемся стуле и писал быстро золотой ручкой, и запомнил я его пальцы — длинные и костлявые.
Положил он ручку и поворотился к нам на винту вместе со стулом:
— Что хотите сказать?
Объявил я ему точно, что уволены мы с завода по неизвестным причинам и выплачено нам жалованья всего лишь по четыре фунта.
Было мне почему-то неловко, и глядел я на его руки: я по рукам узнаю человека.
Усмехнулся он тонко, взглянул исподлобья.
— О причинах вам неизвестно?
— Да, — говорю, —• понять мы не можем и не знаем за собою вины.
Стал он очень холодный.
— Так, — говорит, — вы должны понимать, что мы не можем держать у себя лиц, могущих нас скомпрометировать в глазах державы, давшей нам приют. Вы, разумеется, помните, что взяты по рекомендации консульства, и тем более должны были себя соблюдать.
И дальше, дальше, — все очень чисто и точно.
Даже вступился за меня Андрюша:
Как же так, мы вместе работали, и мне все известно...
Перебил его черный:
— Ваше дело иное, вы подданный здешний и не можете класть пятна. Деньги мы выплатим вам теперь
187
же, с условием, что вы дадите расписку в том, что ни теперь, ни впредь не будете иметь к нам никаких претензий.
И тут нам бумажку, что писал при нашем приходе.
Переглянулись мы с Андрюшей: подпишем?
Выдали нам деньги, по шести с чем-то фунтов. Ыа том и покончили йавсегда. И, выходя из конторы, опять я подумал: так вот мне всегда, еще со школы, всегда я без вины виноватый.
В тот депь перебрался я на новое жительство. Не пускали меня в Андрюшином семействе, и сам Андрюша грозил запомнить навек, но понимал я их тесноту и сослался на свое нездоровье.
Остановился я в частном доме, в «хоузе», в другой стороне города, у самых доков, где беднейшие люди. Был это большой дом, мрачный и старый, видавший виды. Через улицу начинались склады. По вечерам там тускло горели фонари, было темно, и — потом узнал я — худая ходила о тех местах слава; мне же было тогда безразлично, и не^было во мне никакого страху.
Комната досталась мне большая и мрачная, как подземелье. Встретила меня хозяйка, седая и говорливая, сказала цену: два шиллинга за неделю. О том, кто я и откуда, почти не спросила; видно, такой был порядок.
Долго буду помнить то время.
Стояли в комнате две большие кровати, рядышком, как в семейной спальне. Мне указала хозяйка на одну, что была подальше.,, А на другой спал человек, и виднелся из-под одеяла стриженый его затылок, волосы редкие, рыжие. И тут же обочь стул, и на стуле пиджак черный и подтяжки. Валялись под кроватью грязные сапоги.
Спросил я у хозяйки тихонько:
— Кто этот человек будет, и с кем мне доведется жить?
— А это, — говорит, — норвежец, безработный, человек честный, и вы, пожалуйста, будьте покойны.
А я ко всему попривыкнул и даже обрадовался, что вот опять не один буду.
Остался я жить в той комнате вместе с норвежцем.
Великие стояли туманы, и в комнате всегда было темно, как в могиле, и с утра надо было зажигать газ.
Ложился я и вставал рано и уходил на целый день: не мог я тогда сидеть в комнате один на один, точила
188
меня тоска, и бродил я по городуt сказать можно, бесцельно, куда заведут глаза.
Вредят мне туманы.
И каждый вечер меня знобило. Приходил я рано, забирался под одеяло, накрывался с головою своим пальтишком. Донимал меня те дни холод. И придумал я каждое утро покупать большую газету: хватало мне под фуфайку и в сапоги на стельку. Шелестел я, как мешок с сухим листом, но от холода было надежно. И смеялся я тогда над собою, что вот и газета может спасти человека!
Жестоко я в те дни простудился. Известно, ноги сырые, калош здесь не носят. И каждую ночь колотила меня лихорадка.
Сожитель мой приходил поздно, и за три недели на единого разу не видел я его лица. Приходил он осторожно и ложился, не зажигая огня. И каждый раз слышал я, как засыпает, и тянуло от него легонько джином.
Утром я поднимался раньше и опять видел его затылок и на стуле подтяжки — сиреневые, с узором. И за три недели ни единым не обмолвилися мы словом.
Спали мы почти рядом, и я чувствовал его теплоту. Было мне по ночам трудно, мучили меня видения, и радовался я, приходя в себя, что вот рядом лежит со мной живой человек. Прислушивался я к его дыханию, и становилось мне легче. Был мне тот чужой человек ночами как близкий родной.
Никогда не забуду тех дней.
Ходил я как не в своем уме. Бывало, закружится, закружится голова, и сам я легкий, вот-вот вознесусь на воздух, и в груди — как голубь крылами. Даже страшился: думал, как бы не умереть невзначай.
Слонялся я по всему городу, куда носили ноги.
Мне на людях легче. Бывало, брожу по базарам —’ люди,- люди, люди, и я меж людей как пылинка. А на базарах я люблю с детства: базары везде одинаковы — здесь и у нас, в Заречье, и так же ходуном ходят люди.
Забегал я разок к Андрею, но и у него не мог усидеть долго, не мог я тогда говорить с людьми, и все-то точило меня бежать. Даже Андрюша заметил: «Ишь, так вас и подмывает, ну, куда, говорит, спешите?»
А сказать правду, подойди ко мне такой. человек, чтобы в силе:
189
— Вот тебе, мол, вольная дорожка, снимай сапоги* беги босиком в твое Заречье, как мать родила!
И побежал бы! Вот мне как было, и совсем я был невменяем.
Бывало со мною и так: бегу, бегу и забудусь. Какая улица, где бегу? Стану как полоумный и уж когда-то приду в свою память.
Так-то раз со мной на базаре. Остановился я перед одним человеком. Очень он мне напомнил дьякона нашей зареченской, Николы Мокрого, церкви, — черный, горластый, волосья по ветру. Продавал он какую-то мазь для ращения волос. Тут таких шарлатанов и жуликов много. Стоял он на помосте лицом к публике. Лицо грязное, в синих угрях, волосье как у льва, из рукава манжеты оборванные. Остановился я близко и все на ботинки его смотрел, на серые гетры с круглыми пуговицами. И много зевак его слушало. А он нет-нет и обернется на публику задом, запустит лапищи в свою поповскую гриву: смотрите, мол, леди и джентльмены, что делает моя мазь, убедитесь!..
И вдруг меня словно копытом в лоб:
— Пропадаю!
Так это мне, точно спал и вдруг пробудился, и поплыла подо мною земля. Навек запал мне тот кудластый. И уж не мог я отделаться от той пронзительной мысли:
— Пропадаю!
Не сознавал я себя толком, было передо мною одно: что вот округ люди, дома, магазины — и стены, стены, стены и что тут человеку погибнуть, как где-нибудь в сибирской тайге... Никто даже и не заметит, ни единая не сдвинется точка. Так мне это стало тогда страшно, что хоть головой о камень. Разумеется, был я в болезни и не в себе.
Тогда-то и побежал я опять в наше консульство, не помня себя хорошо. Как там меня приняли, что я наговорил в лихорадке?.. И мало того, уж дома, вернувшись, накатал я самому консулу письмецо и только опомнился, когда получил ответ: мое же письмо с малой припиской, что, мол, по-видимому, «не по адресу».
Так мне стало неловко за мою поспешность.
Оправился я немного и пошел извиняться. Принял меня секретарь холодно1 или так уж казалось. Расска¬
190
зал я ему о своем положении, извинился. Да и рассказывать было не нужно, — вид мой за себя говорил сам.
Вижу, отошел он немного, на меня глядя.
— Как же, — говорит, — рекомендовал я вас за свой риск и страх на службу, а вы такую нам неприятность... Была даже о вас переписка с полицией.
И уж совсем отошел, спрашивает:
— Где вы теперь обитаете?
Рассказал я ему подробно, где живу и о своей болезни. Почесал он ноготком переносье.
— Вот что, — говорит, — устрою вас в нашем общежитии при посольской церкви. Там уже есть жильцы. А если случится какой-нибудь заработок, известим непременно.
Выдал он мне записку на окраину города, в местность под Лондоном, называемую Чизик, все написал точно.
XV
Такие стояли туманы! Ходили люди, как в мутном пруду рыба; И город был страшный, невидный и мертвенно-желтый.
Было у меня пальтишко легонькое, на резине. Бегал я в том пальтишке, и очень меня пронимало: забирался туман снизу, оседал на резине, и ходил я всю зиму промокший.
Поехал я по адресу на другой день.
Тут по утрам удивительно, когда спешат люди на службу. В вагонах полно, и все читают газеты, только и видно: торчат из-под раскрытых газет человечьи ноги.
Сошел я в указанном месте.
Лило от тумана с деревьев. Пошел я по улицам, по незнакомому месту: тут, в предместьях, улицы ровные, чистые, и домики как один, очень все гладко. Отыскал я наш домик — небольшой, двухэтажный, ничем не приметный, — ив голову мне тогда не пришло, что придется прожить в нем немалое время.
Помню первый день чижиковского моего новоселья. Открыла мне старушка, наша «собашница», заговорила по-русски. Было мне приятно услышать. Объяснил я ей мое дело, и повела она меня наверх, к заведующему.
Теперь вспоминаю: посадил он меня за стол, посмотрел бумажонку и с первого слова стал жаловаться
191
на судьбу. Рассказал он, что имел в Петербурге три фабрики, а теперь приходится мыкать большую нужду. Узнал я потом, что и впрямь был он в России большим миллионером, а тут проживал с семьей и очень нуждался.
Долго он томил меня разговором и уж под конец объяснил, что поместит меня внизу в общежитии, где одинокие.
Провел он меня вниз, в нашу общую, показал мое место.
А был о тот час в комнате из всех жильцов один человек— старичок, легкий, в очках, наш Лукич. Варил он что-то у окна на спиртовке и на меня взглянул боком, через очки.
Показал мне заведующий койку, раскланялся деликатно, и остались мы с Лукичом один на один.
Помню, поглядел он на меня еще раз от своей спиртовки, — бороденка сквозная и легкая.
— Ну, что, — говорит, — и вы в нашу лавру?
— То есть, — говорю, — как?
— А у нас тут прозывается Чижикова лавра. Скоро узнаете сами.
Вижу, смеется, и глаза у него простые и добрые. Рассказал я ему о себе, что из офицеров, интернированный, и болел долго, и что направили меня сюда из российского консульства.
— Ну вот, — говорит, —* значит, прибыло нашего полку.
Угостил он меня чаем. Просидели мы долго. Про себя он рассказал мнение много. Сказал, что из России, из южного города, и уж только потом узнал я, сколько пришлось пережить человеку.
Объяснил он, что сами обитатели прозвали наш дом в насмешку Чижиковой лаврой, по названию местности и по горькому нашему горю.
И в первый же день многому пришлось подивиться.
Под вечер собралися жильцы нашей общей. Обратил мое внимание огромный, волосатый и черный, очень похожий на того шарлатана, что продавал на базаре мазь; лежал он у стены на своей койке, заломив за голову руки и задрав ноги на спинку. На меня он посмотрел равнодушно, точно не видя. Был это бас Выдра, и много впоследствии довелось нам над ним посмеяться...
192
Сбоку, у двери, тоже на койке, лежал — не б пример волосатому тонкий, худой п бледный — мичман Реймерс, наш «изобретатель». Стоял перед его койкою небольшой столик, засыпанный табаком и бумагой. Удивила, помню, меня его худоба и бледность.
Остался в моей памяти тот первый день.
Вечером подошел ко мне человек. Был он весь сморщенный и обвислый, будто ходил раньше толстым и вдруг высох, сморщился и пожелтела на нем кожа. Присел он рядком, на соседнюю койку, подобрал ножки и стал па меня глядеть пристально. Костюмчик на нем был желтый, потертый и тоже обвисший, точно на другого был шит человека. Глядел он на меня уж очень по-жалкому, по-собачьп, и поразило меня его личико: левый глаз его открывался широко и, казалось, плакал и был полон слезою, а правый жмурился хитро и точно смеялся. Уставился он па меня тем глазом, не опуская,, и стало мне даже неловко: этакий, думаю, человек странный! Спросил я его о чем-то. Подмигнул он мне одним глазом и вдруг на всю нашу комнату:
— Туды твою так-растак-так!.. — со всей, вариацией, как у нас, бывало, на Заречье по весне плотогоны.
Не знал я, чего и подумать.
Уж Лукич мне от своего места:
— Это, — говорит, — наш, жертва «ханжи», не обращайте внимания...
Л он, вижу, на меня смотрит, кивает своей головкой: так, мол, совершенно все точно!..
Очень я тогда удивился.
I — Как, — говорю, — почему жертва?
Засмеялся Лукич, похлопал его по плечу.
— Очень, — говорит, просто: перед отъездом из России хватил он на базаре «ханжишки», и отнялась у него говорилка. Только и осталось от России самое это трехэтажное российское словечко, и больше ничего не может.
И опять, вижу, он мне этак головкой согласно, и левый глаз его плачет.
Так мне стало его жалко!..
И уж потом узнал я о нем подробно.
Тут их два брата, английские подданные, и всю-то свою жизнь просидели в России. Имели они в Москве оптический магазин на Кузнецком, лучший в России,
7 И. Соколов-Мшштов, т. 1 ”193
и жили богато. Англии своей они, сказать, почти не внали, но, разумеется, собрались с великой надеждою. Думали, что тут их, как званых, с горячими пирогами...
А младший всегда-то не прочь был выпить. На радостях перед отъездом хлебнул он какого-то ядовитого самогону, «ханжой» тогда называли, и с ним приключилось: отнялся у него язык, таким он сюда и приехал совместно с другими.
Большое получилось им тут разочарование. Надеялись на пироги, а им — горячего камня. Конечно, у кого оставались деньжонки или какие ни на есть корни, те здесь прижились, а таковским пришлось очень туго. И пришлось им всем, у кого было пусто в карманах, опять идти к русским, на последние крохи. Вот и устроили их русские к своим, в нашу лавру, на черствую русскую корку.
Тут и живут они вместе, два брата, и уж потом узнал я про старшего. И тоже чудак, молчальник, и все-то молится богу и читает Евангелие. Любитель он покушать и прячет еду под подушку, и частенько я по ночам слышу, как что-то жует, и всегда у него на пиджачке крошки, и личико пухлое, желтое, и непомерно торчат уши. Как видно, есть у него и деньжонки, и прячет он их от немого, держит его в ежовых.
Вот с какими довелось людьми...
Теперь, за долгий-то срок, все мне обжилось и притерпелось, а по первому разу немало я подивился.
Устроился я тогда на свое место, с Лукичом рядом, на долгое жительство. Был я слаб от болезни, и хотелось мне поскорее забыться. Дал я себе слово высидеть дома, пока не пройдет лихорадка и опять стану здоров.
XVI
А было нас о ту пору всех обитателей — больших и малых, холостых и семейных — человек двадцать. Семейные и женщины размещались наверху в небольших комнатках, а мы, бобыли, жили в общей, внизу.
И как подумаю я теперь: все-то, все было с чудинкой!
Из всех мне полюбился Лукич. Держался он ото всех стороною и почти не выходил в город. Только, бывало, и пробежит за картошкой или на вокзал за газе*
194
той. Показался он мне попервоначалу скрытным, а потом я хорошо в нем разобрался: не из зависти да скупости прятался человек — большая была в нем обидй.
Сам-то он о себе ни полслова, и уж узнал я о ого судьбе стороною, впоследствии. Значился он тоже подданным здешним. Был он но своему званию инженер- путеец и в России служил на юге, в большом городе, был директором школы, — в России он и родился. И уш в революцию, когда случилась на юге война, предложили ему уехать. Выбрался он один, чтобы хорошенько разведать и вызвать за собою семейство, да так тут и остался.
Сказали ему тут деликатно, что жить может свободно под защитой законов, — и до свидания!
И болырую принял он от англичан обиду.
От этой обиды и не выходил он в город. Сидел он целыми днями в нашей комнате, читал газету. Или так лежит, бывало, глядит куда-то, и губы его шевелятся, все-то про себя шепчет. Частенько я по ночам слышал —- не спит, и однажды мне показалось, будто плачет; поднял я голову — так и есть: лежит он с головою под одеялом и нет-нет всем телом так и вздрогнет, как малый ребенок.
Раз только и вырвалось у него о себе слово:
— Нет уж, пока я не узнаю, что можно в Россию, никуда не выйду, шагу не ступлю в город... *
Кормился он одною картошкой, и, бывало, каждое утро шипит у него на окне машинка. И очень он был строг с собою.
Помню, проходил он раз по комнате и на ровном мо* сте споткнулся.
А сидела у нас, генеральша, сверху, с газетами.
Поглядел на нее Лукич, усмехнулся:
— Со мной второй раз сегодня! На улице чуть но упал так-то...
— Да вы стары ли? — спрашивает генеральша.
— Пятьдесят два! А пережил на целые восемьдесят...
— Я на сто, батюшка, на сто!..
Присел он на свое место, перевел дух.
— У меня, — говорит, — семья осталась в России, жду, когда написать можно, хочу послать свое благо* словение... А тут вот в газетах, что в России социализация женщин, а у меня дочери...
7*
495
А это верно: много тут пишут газеты, и не всему можно верить.
А верный человек был Лукич, и хорошая у меня о нем память.
Другие-то у нас попроще.
Взять хотя бы Выдру... Такого ни колом, ни шилом. Он у нас в лавре древнейший. Приехал он сюда ещо до войны, когда открывалась при посольстве православная церковь; был он по своему званию регент, и выписали его для устройства церковного русского хора. Тут-то и накрыла его война. Ему, разумеется, на руку, только бы не в солдаты, — просидел он тут всю войну и великолепно ко всему пообвыкнул. Вид же у него сохранился некасаемо воистину русский, волосье буйное, черное, на носу оспины. Разумеется, одевается он здесь прилично, но остался у него запах особый, еще от России, как от кадушки с кислым тестом.
Терпеть он не может нашего начальства. Такое уж у человека понятие, что через него вся наша обида. А тут, после войны, сказать надо, все стали мы раздра- жёпиы. И в больших неладах он с нашим заведующим. До того напугал его Выдра, что и теперь он боится заходить в пашу общую, а если бывает нужда, посылает нам сверху записки.
Таинственный человек был для пас Выдра.
Каждое утро, чуть свет, поднимался он со своей койки и готовился в путь. Видел я, как начищает он свои ботинки и водичкой обновляет костюмчик. И редко мы видели его дома.
Скоро после моего приезда подошел он ко мое ти- хоиько, ранним еще утром, спросил:
— Спите?
— Нет, — говорю, — я не сплю.
— Очень, — говорит, — извиняюсь, с большою к вам просьбой: не одолжите ли мне до вечера шесть пенсов?
Поднялся я со своей койки, выдал ему монетку. Про себя, помню, подумал: «А ведь, пожалуй, не отдаст этот дядя!»
А на другое утро, проснувшись, гляжу: лежит моя монетка на краешке стула. Это он положил ночью, когда возвращался, в точности выполнил слово.
А приходил он почти каждый день очень поздно, и ни единая не знала у нас душа, за каким ходит де¬
196
лом п на какие пробивается средства? И уж потом-то неожиданно все раскрылось...
Невзлюбил его почему-то наш мичман.
До того доходило — след на след hj наступят. И изводили они друг дружку словами.
Бывало, воротится из похода Выдра, начнет складывать костюмчик. А мичман на него уж смотрит из-под одеяла, со своей койки. II так его колотит, как от мороза.
Скажет^ не выдержит:
— Господин В-выдра, вы бы сходили в баню. От вас нехорошо пахнет!..
А Выдра знай нарочно помалкивает, чтобы раззудить больше.
Потом этак баском, равнодушно:
— Что ж, что от меня пахнет?.. Медведь всю жизнь не моется, а здоров...
— Так то медведь. '
— А вот вы моетесь, душитесь, а зубов у вас нету...
II до того он мог довести мичмана спокойствием своим, каменным равнодушием: бывало, вскочит, завопит, как есть в одной нижней рубашке, и ноги голые, тощие, кулаком об подушку:
— Хам! Хам! Хам!
А Выдра ему равнодушно:
— От хама и слышу!
И завалится спать.
Целую ночь, бывало, не спит мичман, глотает лекарство, и слышно, как давится из стакана. А то заплачет, как малый ребенок, в подушку. А Выдра себе знай храпит: на храгх он здоров и даже до невозможности.
Вот какие собрались у нас люди!
Тоже и мичман.
Приехал он сюда из Архангельска. Воевал он там с большевиками, а как взяли большевики верх, пробрался вместе с другими сюда.
Был он какой-то весь плохой, бледный и весь как тонкое шило. И ни едииого во рту зуба. Даже глядеть странно: молодой, почти мальчик, а говорит — плюется.
Занимается он здесь великими изобретениями. Бывало, весь день сидит, чертит, руки в чернилах,
197
Объяснял он мне, что изобретает особенный двигатель для автомобиля и что возьмет в Америке за свое изобретение большие миллионы. И до того он с тем своим изобретением доходил — смотреть было жалко.
А он из нас человек семейный. Приходит к нему жена — англичанка, высокая, молчаливая. Придет, сядет, на нас глядит исподлобья. Перекинутся словом, и опять он за свое дело. Есть у них дети, двое маленьких, она приносит. Видели мы: великую она терпит нужду.
Добивался он, чтобы отвели ему у нас комнату, как семейному, наверху. Живет у нас наверху старушонка^ ’«собашшща», держит при себе двух собак и двух кошек. Собачонки паршивые, тощие, и одна даже на трех ногах. Вот мичман и хлопотал все лето выжить эту самую старушонку. И уж чего-чего только не делал. И заявления составлял и бумажонки приносил из посольства, а старушонка-то оказалась сучок.
— Что хотите, — говорит, — делайте, хоть убейте и меня и моих дорогих зверьков. А я из своей конуры по выйду, не уступлю этому лодырю!..
Так и не уступила.
И уж чего только не делал, поставила на своем старушонка, и живет он по-прежнему внизу, с нами, а старушонка со своими собачками в комнате. И по- прежнему приходит к нему жена, — глаза большие, голодные. Должно быть, кажемся мы ей дикарями, страшными выходцами.
А подумаешь: до того недалеко...
XVII
Тут-то у нас терпимо, а у других, говорят, и похуже.
Навертывался к нам в Чижикову человечек видалый, пожил с нами полторы недели. Прошел он огни, п воды, и чугунные повороты.
Был он на юге, с Деникиным. И такие нам порассказал страсти, аж дыбком волос. Был он и у красных и у белых и всего-то там нагляделся.
Как выгнали их большевики из России, довелось им удирать на пароходе в самую Турцию. Надеялись они, что тут, в загранице, будет им всяческое снисхож-
т
деиие. Народу пабилося множество, бежали целыми семьями, не разбираясь, бежали от смерти и от лютой жизни, а лучшего не увидели.., И такое там было на пароходах — страшно было и слушать. Приплыли они в Турцию, поставили их французы на рейде, как чумных, и ни единого человека на берег. Сперва-то они, конечно, шумели, кричали французам с пароходов: «Мы, мол, ваши союзники и друзья ваши!»— а потом нонритихли. Морили их так-то дня три, и ничего они не знали о своей участи. Вышла у них в те дни пресная вода. А были на пароходе женщины, дети, больные — народу битком. И все эти дни было с парохода видно, как ходят но городу люди, и слушали, как играет музыка на берегу, в ресторанах. Стояла от них недалеко яхта какого-то американского миллиардера, изволил он путешествовать для своего удовольствия, — белая, нарядная, — и было им видно, как любуется на них в трубу миллиардер со своей яхты, А потом подобрались к их пароходам на шлюиках греки, подвезли пресную воду. Узнали их по крестикам по нательным, и такая поднялась радость: «Наши, православные, во
Христе братья, от них мы приняли веру, эти нас не оставят!» Великое было ликование. Потянулись к ним за водою, навязали на бечевки бутылочки, котелки, ведра, опустили все это с бортов.
А те-то, «православные», ни мур-мур, знай себе пыха ют папиросками и усы крутят.
А вода у них иод ногами в бочках: чистая, сладкая, речная вода...
И так-то в ответ преспокойно:
— Деньги!..
Это за воду-то, за простую, за обыкновенную!
Опустилися у наших руки.
— Как же, — спрашивают, — сколько вы хотите?
А «православные» знай папиросками пышут.
— Цена, — отвечают, — наша такая-то!.. — И заломили, как... за шампанское.
И знай посмеиваются про себя. Понимали, значит, что бывает минутка, когда и речная водичка подороже бывает червонного золота.
И покупали у них, покупали по золотой цене, стиснувши зубы, только бы напоить детей.
Вот они, «православные» во Христе-боге братья! Позабыли, сколько передавали им русские люди в одна
499
монастыри ихние, «на святую водичку»! Сколько миллионов наносили к Иверской...
А, потом, вместо снисхождения, выгнали их французы на острова, куда вывозили раньше турки бездомных собак, поставили часовых, солдат с ружьями, обнесли проволокой. Хорошо, у кого были деньжонки или, как этот наш гость, кто был побойчее. Оказалися «союзники» не лучше «православных во Христе братьев»... II теперь там мыкаются наши, подбирают из помоек. Рассказывал нам тот человечек, что каждый день стоят очереди из русских за гнилыми консервами, а рядом самые эти часовые, и в руках кнуты гуськовые...
Ночи я не спал, думал. За что, за какую вину? И неужто им-то, им не отплатится!
А там-то, в России, про нас думают, что живем на сытых хлебах, и, может, завидуют.
Да, уж конечно, завидуют!..
Раз так-то нагрянул к нам в лавру целый взвод бабий. Приехали они все из России, тоже на горячие пироги.
Жили они у нас с неделю, а на колготили на полгода. Ух, и невзлюбил их Лукич!
А были они из высокого свету и очень этим гордились. А я здесь хорошо приметил, что этакие-то, из «высоких», ежели хорошенько копнуться, пожалуй, и поплошей нашего брата.
Выбрал я, помню, минутку, спросил у одной:
— Как же теперь в России?
Закрутила она головою:
— Плохо, очень, очень плохо!.. На Невском растет трава. А все-таки было нам там лучше. Тут такие мерзавцы, такие мерзавцы!..
— Так зачем же, — говорю, — сюда ехали?
— А как же, — говорит, — не ехать: там все полагают, что здесь, в Европе, легкая жизнь.
Вот у них как.
А выехали они из России способом совсем даже необыкновенным. Сами же о том и проболтались. Подыскали они в Петербурге за хорошие, разумеется, деньги себе женихов из подданных здешних, — видно, есть, промышляют этаким люди, — и, получивши иностранное подданство, отправились сюда, в «небесное царство». Высадили их с парохода в том портовом городе, где мы по лету варили смолу. Поболтались опи там
200
с месяц, спустили деньжонки и уж кое-как добрались сюда. Большую смуту намутили у нас эти дамы.
Повертелись они без всякого толку, да так и пропали. Уж встречали мы кой-кого после, — й все-то пошли по легкой дорожке...
И одно я скажу теперь: жалкие люди!
Мне батюшка наш, отец Мефодий, рассказывал нынче. Крестил он в прошлом году у князя Голицына. Были у этого князя в России владения — большие тысячи десятин. И очень пышные были крестины, со званым обедом, с разливанным шампанским. Во многих здешних журналах были помещены фотографии. И заплатил в тот раз князь ему за требу десять фунтов.
А нынче опять его туда позвали, ко второму ребенку. Привез он с собою купель в автомобиле. И видит: начали у князя шептаться, бегать по комнатам. А потом уж сам князь ему откровенно:
— Извините, — говорит, — батюшка, оказались мы сегодня без денег и очень вас просим: уплатите, ежели у вас есть, из своих за доставку купели...
А всего-то надо было два шиллинга!
Заплатил батюшка из своих, окрестил им ребенка. И уж ни гостей, ни шампанского, — угостили его голым чаем, а на прощание сунул ему князь узелочек. Дома развернул батюшка: был то платок, дорогой, шелковый, княжеский. Платочком с ним расплатились.
Теперь я многое увидел и многих перевидал людей. И какого только не перемыкали.горя!.. У иного всего-то имущества, что штаны да подтяжки, а мнение о себе прежнее. Титулы соблюдают и друг с дружкою церемонно: граф, графиня!.. II ни к чему-то, ни к чему не лежат у них руки.
Обитает у нас наверху барыня, генеральша Веретенникова, очень важная дама. Занимает она комнату угловую, окнами в сад. Живет она с сыновьями с двумя: этакие мордастые лодыри!
Приходит она иногда вниз, приносит газеты. Получает она из Парижа русские газеты, небольшие листки. Лукич, бывало, сидит, слушает и молчит, а она ему в три ряда:
— Я, я, я, я!..
А сынки у нас всякий день. Место у нас просторное между кроватями. Приходят они упражняться в боксе. Станут в одних рубашках друг против дружки, в
201
больших рукавицах, шеи голые, и давай друг дружку охаживать по щекам. На шеях у них ладанки, крестики только подскакивают.
Грешным делом сквозь смех и подумаешь:
«Этдких кобелей да кули бы таскать!..»
А она за ними как за малыми детками.
Принесет чего-нибудь сладенького в блюдечке, остановится на пороге:
— Толя, Валентин, покушайте...
Они знай друг дружку охаживают по мордасам.
— Толя, остановись!
Остановятся они, поглядят. И этак недовольно, в растяжечку:
— Ах, мамаша, опять вы нам какой-нибудь клейстер!..
Слопают — опять за свое.
Так вся у них жизнь.
XVIII
Так вот и пошло чижиково мое жительство, а теперь, как подумаешь, скоро год, как я тогда переехал, и столько перемен в жизни.
Время-то как река, рукавом не загородишь.
Так вот недавно сел я перед зеркалом бриться и точно впервые увидел свои глаза. Видел я такие глаза в дальнем моем детстве, — ехали мы с отцом по Со- ловьевскому большаку, вели бычков. А у нас перед городом большая гора, и внизу мост через Глушнцу, — вот один бычок-летошник и провалился, поломал передние ноги. Пришлось его там же и прирезать.
Были у того летошнпка глаза, как теперь у меня.
И в висках серебра много.
Отец мой до пятидесяти годов был как смоль, кучерявый, грудь широченная.
Вижу его, как теперь.
Пахло от него по-особому деготком и чуть ветром (сапоги он- носил большие, высокие, и всегда-то в дороге на ветру). Бойкие у нас были лошадки, вороные, спины широкие, с блеском. Бывало, подкатит к воротам, а я уж хорошо знаю по одному стуку, по тому, как лает в саду Чубрик. Выбегу к нему на крыльцо в чем был, а он весь белый от пыли, лицо загорелое,
202
в кудрях запутался колосок овсяной — ночевал где-нибудь в омете, — а глаза молодые, веселые.
— Ну, что, — скажет, — Сивый, как живешь?
Подхватит меня на руки:
— Смотри Москву!
А как я его любил! Случись худое — не выдержал бы, в могилу бы с ним лег. И когда бывал дома, не отступался я от него ни на шаг, так вместе и ходили: ои на базар *— и я на базар, он к людям — и я за ним.
Теперь-то хорошо понимаю: великая у него была любовь к жизни. И всякую он примечал мелочишку. Думаю я: теперь-то вот таким всего и труднее!
И всякий день вспоминаю я наш городок. Весь-то он в зелени, в густых садах, и река широкая, тихая...
А тут вот береза в диковинку. Только и видел ео в саду ботаническом, обрадовался, как сестренке родной, чуть было не расцеловал у всех на виду.
И ничего бы я не хотел, никакого богатства, — в Россию! И все крепче берег я в себе ту мысль и тем, можно сказать, все это время и жил. И всякие придумывал планы.
А вышло-то все по-иному...
Недельки через две получил я записку из консульства. Просили меня зайти по нужному делу.
А я почти не выходил то время из дома и сидел крепко, набирался здоровья.
Поехал я, как было указано, в центр города, по адресу.
Принял меня человек высокий, смуглый, с ястребиным носом, весь какой-то тонкий и, как налим, склизкий.
— Так и так, — говорит, — рекомендовали мне вас в нашем консульстве, и вот у меня какое к вам дело: можете ли играть на балалайке?
Очень я удивился.
А он на меня смотрит — нос сухой, длинный.
— Организуем мы, — говорит, — хор балалаечников для выступления в театрах, и нужны нам люди.
А я еще в школе, у нас в Заречье, немного бренчал, и даже был у нас свой ученический оркестр, наяривали мы «Во лузях» и «Светит месяц».
— Играл, — говорю, — давно, а теперь не знаю..,
— Это неважно, здесь мы подучимся.
203
Подумал я: отчего не согласиться?
Сказал он, когда быть на первую репетицию, а потом прибавил:
— Нужны нам в оркестр также дамы или барышни. Не можете ли вы кого указать?
Вспомнил я тогда про сестренку Андрюшину.
— Есть, — говорю, — у меня на примете одна девушка, русская, я узнаю. ’
— Пожалуйста, — говорит, — непременно, нам с дамами будет успешней.
А я давненько, за моею болезнью, не навещал Андрюшу и ничего не знал о его судьбе. И признаться, стеснялся я тогда своим расстроенным п больным видом.
Привел я себя маленько в порядок и выбрался к ним на другое утро.
* Обрадовались они мне опять по-родному. Андрюши я так и не увидел: сказали мне старики, что поступил он от нужды на военную службу, как подданный здешний, и что послали его в Германию, в оккупационные войска на долгое время. Объяснили мне старики, что хорошее получает жалованье и что каждый день выдают им варенье.
Подумал я тогда, подивился: трудненько мне было представить Андрюшу английским солдатом.
Оставили они меня обедать. А за обедом объявил я Наташе, по какому пришел к ним делу. Очень она загорелась: хотелось ей иметь заработок и помогать семье. Сговорился я с нею, где и когда встретиться, чтобы идти на первую репетицию вместе.
И опять напомнила она мне Сошо малой черточкой, и весь тот день было у меня к ней доброе и близкое чувство.
А через день заехал я за нею нарочно.
Поехали мы вместе на басе — такие тут автомобили, — на самой верхушке. Шел в тот день снег, белыми мухами, тихо таял па ее щеках. Сидела она со мной рядом, смотрели мы вместе, как вьются над нами снежинки, и вспоминали нашу Россию: какие у нас снега и морозы.
Поглядела она на меня, улыбнулась.
— Поедемте, — говорит, — поскорее в Россию. Вместе!
204
— Что ж, — говорю, — поедем!..
Пожал я ее руку, и была она мне на улице между чужими ближе, точно мы двое, а вокруг этот большой и чужой город.
А проезжали мы улицами большими и людными, и казалось сверху, точно плывем на пароходе и нам внизу уступают дорогу. И за долгое время первый раз было мне 'счастливо, и о многом мы с ней говорили.
XIX
Приняли нас в оркестр, и начали мы ежедневно по вечерам заниматься. И много нас набралось русских, из всякого звания — на кусок хлеба.
А правил нами бывший царский посланник у персидского шаха, князь Агибалов. Добыл он где-то инструменты и сам учил нас бренчать на балалайках и домрах. Был он человек ловкий и во всех делах поворотливый, и на первых норах ходко пошло у пас дело.
А когда начали мы выступать на театрах, надевал он на себя, на фрак, все свои кресты и звезды, русские и персидские, и грудь его так и сияла. Принимала его публика за знатного человека, и большое это имело влияние для успеха.
А сказать правду, сыгралис-я мы скоро и дружно. II после первого выступления стали о нас писать газеты, что, мол, народная русская музыка, и выступают потерпевшие от революции русские знатные лорды... И напечатали о нас фотографию: впереди всех князь Агибалов, при всех своих звездах и орденах, вид такой гордый, и в руках белая палочка.
Играли мы сперва в тесном театрике, а как стали о нас писать и печатать портреты, пришло нам приглашение выступить в самом большом- театре, на много тысяч народу, и, разумеется, большая то была для нас удача.
А театры здесь по-особому и совсем неподходящи к нашим. Любит здешняя публика легкое, и чтобы на скорую руку, и так, чтобы пе ломать голову. И каждый вечер, как в цирке, всяческие сменяются номера, а перед нами всякий вечер выходила американская дрессировщица тигров и змей.
205
Заставил нас Агибалов одеться. Приобрел я тогда смокинг, белье (и теперь лежат у меня в чемодане); бывало, погляжу на себя в зеркало: и я и не я... Вот, думаю, таковским бы заявиться в Заречье!
Стали мы зарабатывать, и даже недурно. Разумеется, делили мы наш заработок на многие части, а все-таки жить было можно, и до самого лета не пришлось мне увидеть нужды.
И многое я мог бы порассказать о тех времепах...
Теперь, как подумаешь, — и слезы и смех, и на какие пускались мы по нашей нужде увертки... Было нас попервоначалу, мужчин и женщин, всех человек тридцать, а в театре поставили нам условием и в контракт записали, чтобы было не меньше пятидесяти, для заполнения сцены. И довелось нашему князю набирать кой-кого наспех, на слепую руку, с бора да с сосенки. Сажали мы таковских для отвода глаз позади, неприметнее, а чтобы не получалося нам от них помехи, выдал им князь без струн балалайки и приказал настрого, чтобы полностью делали вид, будто играют. Разумеется, из публики струн не видно, а они у нас так старались, что даже можно было подумать, будто они-то и есть главные музыканты...
И чуть не получился у нас с теми бесструнными великий конфуз.
Сообщил нам однажды Агибалов, что интересуется нашею игрою король и что прислано нам приглашение выступить во дворце. Большое было у нас волнение перед тем выступлением, а готовились мы долго и с немалым старанием.
А когда подошел назначенный день, отправились мы во дворец в полном нашем -составе и в большом ожидании. Подивилися мы здешней простоте и обычаям, точно и не в королевский прибыли дворец. Отвели нам особую комнату для концертов. Поглядывали мы друг на дружку, посмеивались. А нага Агибалов — как рыба в пруду...
Сообщили нам, что скоро должен выйти король со своим семейством, и приготовилися мы встретить его гимном. И чуть было не получилась у нас неприятность от большого волнения: видим, выходит из дверей человек, высокий, в красном мундире, в брюках в обтя- жечку, и чуть не грянули ему встречу. Уж наш Агиба¬
206
лов, сделавши нам глаза и колыхнув палочкой, остановил нас от конфуза.
А корольсовсем даже неприметный, вроде сморчка. Даже и не поверилось: прошел этак по комнате, седенький, в сюртучке, нам улыбнулся. Те, что с ним были, принцы и принцессы, куда перед ним великолепнее.
Грянули мы им встречу с полным умением. Выслушал нас король стоя, сурьезно, — бородка подрубленная. Наш перед ним как коромысло.
Поздоровался с ним король за руку, взглянул на звезды его. Спросил:
— Вы из России?
— Да, ваше величество.
— В России теперь голод?
— Да, ваше величество, великий голод.
— Как же вы здесь?
— О, ваше величество, в большой нужде!..
Разумеется, мы во все глаза. Хорошо я его разглядел, и показался он мне каким-то усталым, точно не выспался. Поговорил он немного, слышим:
— Теперь, пожалуйста, прошу вас, сыграйте нам русский гимн.
А наш перед ним, как лычко, весь так и вьется:
— Простите, ваше королевское величество, по некоторым причинам нам теперь неудобно...
— Тогда, пожалуйста, народную песню.
Уселися они в кресла, а наш своей палочкой — тук-тук-тук! по пюпитру и нам шепотком: «Реченьку».
Очень им полюбилось.
Так им понравилось! Когда проиграли весь наш репертуар, стали принцы и принцессы к нам подходить и рассматривать инструменты (сам король ушел скоро, всего не дослушав, с нами любезно раскланялся) и, признаться, много мы тогда переволновались: а ну, ну ухватятся за бесструнную!..
Было нам после концерта от короля угощение: посадили пас за стол, и подавали нам лакеи в чулках и перчатках. Сидели с нами принцы и принцессы, а наши под конец осмелели, навалились изо всех сил, даже, признаться, неловко. Осталася у меня о том вечере память: карточка с золотым обрезом, мейю нашего обеда,, и расписалися на ней принцы и принцессы, нам в воспоминанье. Вот покажу в Заречье!.*
207
XX
Вот какие дела!
Л все то время проживал я в Чижиковой лавре не- грожно и ко всему пригляделся. И хорошо мы за все это время друг дружку узнали,
Подружился я с Сотовым, что сверху.
Крестил я у них ребенка, девочку, назвали Татьяной. Тут и родилась она, в нашей лавре, Сотову в утешение. Ходит теперь Сотов гордо: папаша! —и весь-то денек в бегах, добывает копейки. И узнали мы недавно, что по законам здешним крестница моя будет считаться подданной здешней и будут у нее права и своя особая родина...
А кумой у меня — Зося. Удивительный &то человек и тишайший. Живет она наверху у нашего заведующего, и редко ее видно. Робкая она и маленькая, словно мышь. Необыкновенная у нее судьба. Жила она в России, в каком-то городишке под Москвою. Отец ее еще до войны уехал за границу, и осталась она в России одна. II вот порешила она после войны ехать разыскивать своего отца. Были у нее какие-то вести. Продала она, какое оставалось, добришко, нашла человека, латыша, выдал он ее за свою дочь, получила она латышский паспорт и уехала из России в белый свет. Разумеется, обобрал ее тот латыш до последней нитки. А слышала она, что отец ее здесь, в этом городе, и уж как-то ухитрилась, со всею своею слабостью, — таким-то вот удается! — добралася сюда одна. А добравшись, только и узнала, что умер отец давно, еще в войну, и ни единый человек не мог ей показать его могилы.
Так и осталась она бедовать.
Занимается она шитьем, берет от русских работу, и никогда-то ее не слышно, точно и нет на свете таковского человека.
И все-то тут — один почуднее другого...
Сошелся я с отцом Мефодием, нашим священником. Отведена ему у нас наверху небольшая комната водно окно, и занимается он в свободное время переплетением книг. Это уж как убавился наш балалаечный успех и довелось мне опять искать заработка, стал и я учиться у него переплету...
II тоже — удивительный он человек,
208
Там-то, в России, никто бы о нем и не слыхивал, и жил бы он мирно и тихо со своей попадьей и детишками, а тут многое довелось пережить, и далеко о нем ходят слухи.
А приехал он сюда, как и мы, с военнопленными из Германии. Был он полковым священником в нашей дивизии, а до того жил где-то в Тульской, под Ешь фанью, в глухом селе, там и осталась его семья. Попал оп на фронт под конец, когда было объявлено по духовному ведомству о приглашении духовенства на должности в армии. Приходик у него был небольшой, бедный, вот п соблазнился оп на хорошее жалованье...
И ничуть-то он здесь не изменился: как был, коротенький, на маленьких ножках, и глазки небольшие, запавшие, точно ото сна встал, и никогда не глядит прямо. Ходит он в штатском, в куценьком пиджачке, и бороденка у него клинушком, красная.
А хорошо бы мог жить человек. Тут на всю нашу колонию два русских священника: протоиерей, на¬
стоятель прежней посольской церкви, ученый и бородатый, и этот наш, отец Мефодий. И удивительное дело, полюбили здешние русские люди отца Мефодия. Крестины ль, венчание, исповедь —* все к нему. И во многих русских семействах преподает он детям закон божий. В больших они за все это неладах с ученым посольским протоиереем.
Мог бы хорошо жить человек, да вот, поди ж ты, не хочет... Водится за ним тот грешок, что и за Южако- вым: любит он погулять и выпить, да только не сходит ему чието с рук, как, бывало, у нашего Южакова.
В то время, когда перебрался я в лавру и пока занимались мы в оркестре, жил он скромно, переплетал книги, и запретили ему доктора настрого пить, и по лицу его было видно, что мучает человека болезнь: был он обрюзгший и желтый, и всегда под глазами мешки, и глазки у него как щелочки.
А потом довелось мне услышать, что не по одному, докторскому запрещению держался он в то время, — были у него в городе две истории, и большой получился из-за того скандал, и было ему кой от кого сказано, чтобы во избежание больших неприятностей держался покрепче.
Сам-то он, разумеется, о своих похождениях ни гугу, и уж после пересказал мне подробно Сотов,
209
А дело было такое.
Еще о прошлом лете, когда варили мы смолу, вышло с ним первое приключение. Подкатился он раз — разумеется* выпивши — на главной улице к проходившей молодой даме. Может, и ничего не сказал он ей нехорошего, а только захотелось ему выразить свое сердце, и, может, вспомнил в ту минуту свою нопадыо.., А тут насчет женской чести и некасаемости закон самый строжайший, и до того даже, что всякая, ежели пожелает, может загубить нашего брата: стоит ей только заявить где надо, что, мол, покушался такой-то на ее женскую честь.
Разумеется, не поняла его чувств та самая дама и с великим удивлением посмотрела на странного человека и кому надо — пальчиком.
Долго понять не мог отец Мефодий, за какую провинность забрали его тогда в кутузку.
Стали его там допрашивать по порядку. А когда дошло до рода занятий, вынул он свои бумаги.
— Я, — говорит, — священник. '
А им, пожалуй, как стоит город, пе доводилось, чтобы за такое брали священников с улиц.
Показал он бумажки, на ихнем же языке, все честь честью.
И так это им показалось невероятно, что, может, в их жизни первый раз не поверили даме. И в тот жо вечер доставили отца Мефодия в лавру с великими извинениями на казенном автомобиле.
Удивлялся я, на него глядя: трезвый — робкий
и неслышный, воды не замутит, а выпьет — и морюшко ему по колено. И откудова берется у него такая прыть!..
А после того первого случая скоро вышел другой. И опять забрали его за то же самое и на том же месте...
На другой раз большая была неприятность: передали дело в полицейский суд, и приговорил суд отца Мефодия к уплате штрафа в десять фунтов за оскорбление женской чести. Предупредили его в суде, что за новое повторение посадят надолго в тюрьму, и сообщили нашему консульству, и двойная от того получилась неприятность.
По этой причине он и остановился пить на AQJjroe время*
Ж
Только раз, помню, и сорвалось.
Это уж было по лету, когда работал я с ним в переплетной. Получил он от какого-то русского за венец деньги и на радостях позвал меня в город поужинать. И так стал звать и просить, что невольно я согласился.
И надолго запомнилась мне та наша прогулка.
Поехали мы ввиду хорошей погоды на басе, опять па верхушке, и очень он разговорился. И всю-то дорогу без умолку рассказывал мне о своей родине и о семействе, хвалил село, попадью и детей (их у пего пятеро), рассказал, как всякую зиму, в филипповки, ловил налимов, и какие в их речке огромадные щуки, и как однажды, по большому к нему доверию, посылали его мужики в Тулу закупать для общества хомутину... А как приехали на главную* улицу, повел он меня в лучший ресторан с зеркальным входом, и оказалось, что уж знают его там как облупленного. Подавали нам барышни в белых передниках, и с ними он по-приятельски, и все ему глазки. А я, признаться, непривычен к таковским местам и очень стеснялся. Помню, подошел к нам человек на деревянной ноге, прихрамывая, поздоровался с батюшкой, а мне отрекомендовался российским полковником, присел к нам за столик. Был он какой-то облезлый, и руки у него потные, липкие. Врал он нам несудом и, видимо, хорошо знал батюшкин легкий на деньги характер. Весь вечер он просидел за нашим столом и подмигивал какой-то барышне в шелковой шапочке, сидевшей от нас неподалеку. И почему-то запомнилась мне та барышня: молоденькая, розовая, с пушком на щеках.
И как ни старался я удержать батюшку от лишних расходов, спустил он в тот вечер все свои денежки до последней копейки и так разошелся, что нельзя было его узнать. Оставил он подававшим нам девушкам на чай но полфунта! А когда выходили, уж силою и обманом кое-как увез я его в автомобиле домой на свои деньги.
А утром гляжу: опять тихий и скромный, не проронит ни единого слова, точно и не было шгсего. Только потолще под глазами мешки.
И опять я подумал: какие есть люд^ и откудова у них в иные минутки такая прыть?
XXI
Частенько мы толковали о России.
И какие только не ходили о России слухи, и чего- чего не писали газеты!.. Разумеется, никто не знал толком, и врали все несудом, как тот безногий полковник. И не знали мы, чему верить и чего ожидать.
Лукич от досады даже перестал глядеть в газеты.
А больше всех суетились наш мичман и Веретенникова, генеральша, и 'всякий день они ожидали, что новые придут вести и будет нам можно в Россию.
Есть здесь в городе русские, прежние деятели и депутаты и бывшие важные лица. Видели мы их редко и почти не встречались, и только единственный раз дове- лося мне побывать на ихнем собрании. Было это еще зимою, и забежал я по делу повидать одного человека. Стал я у стенки, не раздеваясь, и странное у меня было чувство: что чужой я всем этим людям и они мне чужие, и было мне почему-то неловко, точно вот все на меня одного смотрят, и с большою робостью подошел я но окончании к нужному человеку. Чувствовал я себя перед ним точно школьник. И подумалось мне, что в тысячу раз был мне ближе тот норвежец, с которым я в жару провалялся три недели и ни разу не видел его лица...
По лету довелось мне переплетать книги для одной русской дамы, проживающей в городе. Муж у нее здешний, человек известный, писатель. Много я па него любовался: высокий, бритый, с седой головою и какой-то весь складный. Оставили они меня обедать. А сидел у них гость из Парижа, бывший депутат думы, и портреты его я видел еще в России. Был он невысокий и чистый, с серебряной бородою, и руки пухлые, мягкие, 6 обручальным колечком, и разводил он ими особенно и будто что гладил. Заметил я, Что фальшивые у него зубы и что жует он частенько, по-мышьи, а за едою причмокивает языком, и какие-то неверные у него глаза. И за все время обеда разговаривал он один и очень аккуратно кушал котлетки, и почему-то ничего не осталось у меня в памяти от его разговора.
И подумал я, на него глядя, что знают такие-то не . больше нашего о России, а может, и поменьше...
А каких, каких не наслышались мы тут вестей!
Так-то раз прибегает к нам наш мичман, точно с цепи, в руках газета:
212
— Господа, едем!
— Куда едем?
— Едем, едем! В Россию!
Были мы тот раз все дома, даже Выдра лежал на своей копке, задеря, по обыкновению, ноги.
Разумеется, все подхватилися, кроме Выдры. Оживился и повеселел Лукич.
Окружили мы мичмана, спрашиваем:
— Где, где, покажите!
Сунул он нам газету и тычет пальцем:
— Вот, читайте!
Стали мы разбираться, и точно, большими буквами: «В Москву вступил генерал Брусилов!» Смотрим, газета большая, солидная, все очень точно. Верить нам или не верить?
И вдруг из угла, с Выдриной койки, этакий рассыпчатый бас:
— Брехня!
Точно окатил нас водою.
Так раззадорил он мичмана, даже слюною забрызгал:
, — Как так брехня? Тут факт, телеграмма, и падо иметь дубовую, как у вас, голову!..
Повернулся Выдра на другой бок, точно ничего не случилось, и слышим опять из угла:
— Брехня!
А на поверку вышло по-Выдриному.
Вот с этим Выдрою и получилась по лету история, и неожиданно открылася вся его тайна.
Гуляем мы раз с Сотовым в Гайд-парке, где всякое воскресенье народу собирается большие тысячи. Есть там особая аллея для верховой езды, и каждый праздник катаются богачи и знатные лорды, и тогда можно на них смотреть. Разъезжают они по этой аллее па кровных лошадях взад-вперед, мужчины в цилиндрах, а дамы в длинных шелковых платьях, бочком, и в руках хлыстики. И знаменитые у них лошади: головы маленькие, сухие, а ноги как струны и в резиновых кольцах...
А простой народ гуляет по всему парку. Принято здесь ходить по траве, не разбирая дорожек, и трава на удивление зеленая и густая, и вытоптать ее невозможно. Полагаю я, что это от большой здешней сырости и туманов.
В этом же парке имеется особое собачье кладбище. Все как следует: мраморные памятники и надгробия
213
с надписями, есть даже собачьи часовни. Хоронят здесь собачек богатые дамы, и писали недавно в газетах, что похороны такой собачонки обошлись одной знатной леди больше пяти тысяч фунтов. Это пятьдесят тысяч рублей на наши деньги, — вот и подумай!
Помню, пошли мы с Сотовым в то место, где собираются митинги и всякие ораторы и произносят перед публикой речи. Видим, везде кучки народу, и над каждой кучкой на возвышении что-нибудь говорят. Подошли послушать, видим: человек высокий, черный, в арабской чалме и белом балахоне. Лицо темное, и глазищи как уголья, ручищами так и загребает.
Стали слушать.
А это проповедник мусульманской религии и предлагает принимать ^турецкую веру. Уверял он слушателей, что скоро свету конец и пора людям спасаться. Посмотрел я на слушателей: стоят, сосут свои трубки, поплевывают, шляпы насунувши, и ни единого звука, точно не для них говорилось.
Пошли дальше по кучкам и чего-чего не наслушались: о спасении душ, о революции, о большевиках, о России.
Обошли мы так несколько кучек и вдруг слышим: знакомый голос. Оглянулися мы и не верим глазам: Выдра!
Подошли нарочно поближе, думаем, что ошиблись,— нет, самый он, стоит на помосте, без шапки, — его во- лосье, и лицо в оспинах, и рот большой, скривленный. Вот, думаем, притча. Стали слушать, — господи боже мой!
Рассказывал он, будто бежал недавно из России, и будто хотели его там повесить, и вырвался он из тюрьмы, подкупив стражу и задушив трех комиссаров. Будто с его отца живьем содрали в Москве шкуру и что с голодухи в тюрьме целый месяц питался он живыми вшами.
Признаться, подумали мы тогда: уж не рехнулся ли Выдра от нашей чижиковской жизни...
Только окончил он и, вытерши со лба пот, стал сходить со своего помоста — мы к нему:
— Что вы это?
Очень он спервоначала сконфузился, и даже краска в лицо. Потом рассердился:
— Мое дело! — и пошел от нас прочь.
214
Рассказали мы, придя домой, Лукичу и долго над Выдрой смеялись. А потом уж сама объяснилась вся Выдрина тайна и куда он всю зиму уходил от нас под секретом: получал он кой от кого деньжонки и состоял как бы на службе. А взяли его за отличное знание языка и за страшную его видимость: очень он большое впечатление мог производить на людей страшным своим видом.
XXII
Так вот, день за день, неприметно прожил я в Чижиковой нашей лавре почти целый год, а теперь, как окинешь, будто и недавно все это было: Германия, плен и как варили мы с Южаковым смолу.
Быстро бежит время.
И уж четвертый год, как я из России и как тогда попрощался с Соней. И ничего-то мы не знали о России, только и знали, что пишут газеты, что вот приехали из России большевики, торговая делегация, и будут с Россией сношения.
А о том, когда нам можно в Россию, ничего не известно.
Уж давно не играл я в оркестре, и нетрожно лежал в чемодане мой смокинг. И почти все лето просидел я дома с отцом Мефодием в переплетной, и никуда-то мне не хотелось. Только и уезжал по делам — отвозить переплеты.
И думалось в иную мипутку: да есть ли, существует ли такое Заречье, течет ли где-нибудь речка Глушица, и есть ли наш сад, зареченские огороды, не приснилось ли мне все это во сне?..
И приметил я: как здесь меняются люди!
Повстречал я в вагоне Наташу, сестренку Андрюшину. Не был я у них с того разу, еще когда играли в оркестре.
Был у нее в руках чемоданчик, и с первого взгляда заметил я в ней перемену. Посмотрела она на меня странно и точно сконфузилась.
Подсел я к ней, и разговорились.
— Как же, — говорю, — как вы живете и где теперь ваш Андрюша?
И опять она на меня как-то странно:
— Андрюша в Германии, а мы всё по-прежнему.
215
— А помните, — говорю, — как мы вместе собирались в Россию?
— Хорошо помню.
— Ну, как же, когда поедем?
Передернулася она как-то вся, руки на чемоданчике переложила, в лайковых перчатках.
— Ничего, ничего я теперь не знаю...
Посмотрел я ей в глаза прямо: новое в глазах, тесное, и уже не умеет глядеть прямо.
Взял я ее за руку:
— Что с вами, Наташа?
Остановились мы на какой-то подземной станции,—* электричество, народ, плакаты на стенах яркие, — заторопилась она, подхватила свой чемоданчик и так мне быстро руку.
— Прощайте, — говорит, — и... простите. Когда-нибудь с вами увидимся.
Увидел я, как вышел из вагона ей навстречу из толпы господин, с усиками, румяный, из нашего же орхсестра, бывший гвардейский офицер. И по походке ее, по спине, мелькнувшей в толпе, в минуту охватил я, что стала другая, другая...
Долго я потом думал: что с нею и откудова такая перемена? Написал я ей письмецо небольшое, открытку, и так и не получил ответа и ничего до сего ..время не знаю.
И все-то собирался я к ним поехать, навестить Андрюшиных стариков, и не мог выбрать минутки. II как- то уж не хотелось мне, как Лукичу, никуда выходить, и если бы можно, так и сидел бы все время дома.
А тут произошло событие, немало меня взволновавшее, и поднялася во мне надежда скоро увидеть Россию.
-Отцу Мефодию пришло из России письмо от его попадьи, из Тульской губернии. Маленькое письмецо, пять строчек, в самодельном конверте. Писала ему попадья, что, слава богу, жива, перебивается, что в России помаленьку налаживается жизйь, и Христом-богом умоляла приехать.
Ходил он в те дни сам не свой и совсем перестал работать. Только и было у нас разговору — про Россию. И под большим секретом признался мне отец Мефодий, что месяц назад ходил он в большевистскую делегацию справляться, нельзя ли проехать в Россию. Приняли
216
его там любезно и объяснили, что в Россию пока нет отправки и что можно попасть лишь через Францию, откудова отправляют на пароходах русских солдат, воевавших во Франции, и что нужно для того получить от французов визу. Письмо в Россию от него взяли и объяснили, что пошлют со своим курьером в Москву, и растолковали, как получить из России ответ. Мало он надеялся, что дойдет до его попадьи письмо, — и вот неждаппо-негадапно получил ответ — из Рос с и и, и даже кто-то наклеил здесь на письмо марки.
Так это меня взволновало, перестал я по ночам спать и все думал, что вот открылась возможность и что только нужно взяться покрепче...
Тогда решился я пойти в русскую делегацию, к большевикам.
Это здесь па большой и богатой улице, где лучшие магазины. Нашел я дом, большой и высокий. У входа швейцар, спросил он, куда мне надо, оглядел с головы до ног и поднял меня на машине на самый верх. Би- лося у хмеия сердце. Вошел я в комнату, — столик простой, деревянный, еще пе устроено, на столике чернильница и чей-то лежит портфель... Вышел нз другой комнаты человек, очень приветливый, в сером пальто, очки на носу большие, круглые. Подошел ко мне просто:
— Что скажете, товарищ?
— Будьте, —- говорю, — добры, я из пленных, здесь из Германии; можно ли нам надеяться на скорую отправку в Россию?
Взглянул он на меня, захватил со стола портфель, плечами пожал:
— Что поделаешь, товарищ, пока мы никого не отправляем. Посоветую вам единственный путь: постарайтесь пробраться во Францию, оттуда отправляют русских солдат, и если вам э>то удастся, можете с ними проехать.
*— Спасибо, — говорю, — а можно ли отправить в Россию письмо?
— Отчего же, давайте.
Отдал я ему заготовленное письмецо своим в Заречье, всего в трех словах, — и, как учил меня батюшка, написал им, как отправлять ответ, и все точно, большими буквами вывел по-здешнему наш адрес.
Сунул он мое письмецо в портфель, щелкнул замочком.
217
— Прощайте, — говорит, — спешу!
И побежал.
Вышел я за ним. Спустился по лестнице вниз, па улицу, иду, а сам себе улыбаюсь:
— Так вот они каковские, большевики!
XXIII
Крепко я задумал в Россию!
Знал я, что большие после войны трудности и ни одна держава не впускает русских, боятся заразы, и что много хлопотать надо, чтобы получить визу. Но большая у меня была надеяеда, — с тем я и решил попытать у французов счастья.
А консульство французское в том же квартале, где наше, почти по соседству. Долго я колебался и наконец собрался, на счастье. Чувствовал я себя так, точно навсегда решалась моя судьба. И с большим волнением подошел я ко входу; вижу, дверь высокая, резная и на дверях записка. Поднялся я по ступенькам, посмотрел на записку — белый листок, на машинке:
ГЕРМАНСКИМ
АВСТРИЙСКИМ
БОЛГАРСКИМ
ТУРЕЦКИМ
И
РОССИИСКИМ ПОДДАННЫМ ПРИЕМА НЕТ
Забилося у меня сердце, и даже потемнело в глазах. Вот, значит, как нас определили!.. Остановился я на ступеньках и думаю: идти или не идти? И вижу, стоит рядом со мною человечек, в пальтишке, тоже записку читает, на меня взглянул, улыбнулся. Говорят мне. по-русски:
— Видите, как нас?
— Да, — говорю, — вижу.
— А вы идите, не обращайте внимания. Я вот тоже сюда. Если теперь на все внимание обращать, на все запреты, то нашему брату и жить невозможно...
Так подбодрил меня тот в пальтишке. Подумал я и решился: «была не была!» —* и открыл двери.
218
Вошли мы вместе в приемную, большую и тмхую, и везде мебель тяжелая, темная, на полу ковры. Сидело там несколько человек по стенкам в ожидании бче*
реди. Подошел ко мне прислужник, старичок в очках,
подал белый листок, анкету для заполнения.
Написал я, что следовало, на вопросы, пометил, что подданный русский. Принял от меня старичок листок, посмотрел поверх очков, покачал головою — и мне назад:
— Вы русский?
— Да, — говорю, — русский.
— Русским визы не выдаются.
— Позвольте, — говорю, — я офицер русской армии, я был в плену. Мне необходимо.
Пожал он плечами:
— Не могу.
И уж не знаю, откудова напала на меня такая смелость, стал я своего добиваться и его уговаривать.
— Я, — говорю, — имею рекомендации и бумаги и убедительно вас прошу.
Так это у меня вышло, — вижу, заколебался, поглядел на меня еще раз, взял бумажку.
— Хорошо, — говорит, — доложу.
Вижу, прошел в боковую дверь по ковру, в руках моя бумажка. Ну, думаю, что будет?
Пробыл он минуты две, вышел с пустыми, на меня не взглянул. Слышу, шепчет мне тот в пальтишке, смеется: «Ну, теперь ваше дело в шляпе, примет, теперь от вас будет зависеть!..»
Л было перед нами человек десять иностранцев, и очень с ними распорядились скоро и любезно, и, уж конечно, ни одному из них и в голову не пришло, что вот сидит тут человек и мучается, что могут ему отказать... Им-то никому не отказывали, и подумать о том не могли.
После всех вызвал меня старичок, поманил пальцем.
Вошел я в кабинет, большой, светлый. На середине стол, большой, тяжелый, на львиных резных головах, и над столом флаг французский, трехцветный. Обочь стоит человек, черный, в черном костюмчике, с усиками, пальчики этак на столе врастопырку, смотрит на меня сердито.
Не поздоровался, не пригласил сесть. И так-то отрывисто:
Вы русский?
219
— Да, русский.
— Что вам угодно?
Объяснил я ему подробно, что офицер, интернированный, был в плену, что хочу ехать на родину через Францию и что нужна мне виза. И все время глядел на мепя, как волк.
— Паспорт!
Протянул я ему мой паспорт: «По уполномочию Времепиого российского правительства», — на двух языках, на русском и на французском.
Просмотрел он его быстро.
— Имя?
— Иван.
Л он этак костяшечкой среднего пальца по паспорту и зло-зло на меня:
— Тут написано: Джон!
— Да, — говорю, — это в переводе, по-здешнему мое имя...
Л он так вдруг и палился кровыо, усики шильями.
— Как вы смеете, — так и закричал, — как вы смеете называть себя Джоном!.. — И рукою по паспорту: — Вы Иван, вы русский Иван!
— Позвольте, — говорю, — я в этом деле неповинен, и гак написали в консульстве...
А он не дает вымолвить слова:
— Не может русский Иван называть себя Джоном!
Бросил он паспорт на стол, достал из кармана ключик, открыл в столе ящик и вынул большую тетрадь в синей обложке. Взял какую-то книжку и от меня заслонил, чтобы не было мне видпо, что у него в тетради.
Перевернул две-три страницы — усики шильями:
— Вы были в Новороссийске в девятнадцатом году в ноябре?
— Нет, я никогда не был в Новороссийске.
— Вы большевик?
— Я офицер русской армии.
Захлопнул он тетрадь, придавил рукою и на меня этак пронзительно:
— У меня есть точные сведения, что в Новороссийске при посадке на пароход одного иностранного офицера вы похитили принадлежавший ему багаж.
Я только развел руками.
*— Извольте, — говорю, — вот мои документы, устанавливающие точно...
220
Посмотрел он мои бумажки, а в них все точно, опять заглянул в тетрадь, еще раз в пасцорт. Потом говорит так:.
— Хорошо, я наведу точные справки. Прошу вас зайти через неделю...
И вдруг такое поднялось во мне зло к его рукам, к черненьким усикам, даже стиснуло горло. Сдержал я себя, говорю:
— Спасибо вам, я раздумал. Позвольте паспорт.
И уже в дверях так захотелось ему крикнуть:
«Да что ты, как ты смеешь, может, и сидишь-то ты тут потому, что вывезла тебя из войны на своих плечах Россия!..»
Подбежал ко мне в приемной новый знакомый:
— Ну, как, что, дали?
Я только отмахнулся рукою.
XXIV
Так это на меня, такая обида!
И уж никуда не пошел больше, не мог. Не мог даже глядеть на людей, на их лица, на сытость и здешнее благополучие.
II опять мне стало так, как тогда в болезни: вот-вот погибну, и ни единая душа не подаст руки... Большое поднялось во мне озлобление. Не мог я никого видеть.
За что, за какую вину?
Тут вот у них столпотворение вавилонское, и по газетам великий шум, а всего-то дерутся два человека на кулачки, чемпионы бокса, француз и здешний, и вся страна точно сошла с ума. Только о том и слышно, и все-то ставят ставки, и большие стекутся миллионы. А все для того, что два человека повывернут друг дружке скулы.
А в России голод. А . тут никому никакого дела, точно и цету России, и в газетах о России на самом последнем месте, мелкими буковками.
А боятся! Боятся нас. Если бы не боялись, не стали бы так огораживаться. И тот французик боится.
А забыли, как перед войною, что писали тогда?..
Это вот мне рассказал один человек русский, морской капитан. Познакомился я здесь с ним в русской книжной лавочке, что около музея.
221
Тут в аббатстве, в старинном соборе, видел я могилы великих людей. И посреди тех могил, на почетнейшем месте — новенькая плита. Похоронен под ней простой солдат, из братской могилы, с полей сражения. И никто не знает имени того солдата. И всякий день над могилою гора свежих цветов. Всякий день на могилу приходят невесты, матери, жены, сестры убитых в войне воинов и приносят цветы, как на родную могилу — на могилу жениха, сына, мужа, брата... Много я подивился.
Так вот, рассказывал мне русский моряк, что после войны во Франции, в Париже, тоже так похоронили солдата с полей сражения из общей братской могилы. И великие были отданы тому солдату почести, и великое было стечение народа. Съехалися со всего мира короли, президенты, правители всех стран, воевавших противу Германии, и невиданный был устроен парад, и участвовали в том параде войска многих государств и многих народов белокожие, чернокожие н желтокожие. Миллионы людей принесли с собою цветы. И только не присутствовала на тех похоронах Россия, и не участвовали в параде российские войска. Почитались тогда русские люди предателями.
А когда похоронили неведомого солдата, взятого из безыменной могилы, и множество людей ежедневно стало стекаться, чтобы поклониться его праху, — страшная и странная распространилась молва: будто неизвестный солдат, которому поклоняются миллионы, был русский... Будто взяли из могилы случайно русскбго — из экспедиционного корпуса, — убитого солдата, и ныне вся Франция и другие народы носят цветы на могилу неведомого русского мужика...
Вот какая молва!
Вот бы порассказать французику.
И очень я себя стал чувствовать плохо, и такая опять тоска. Точно и немил больше свет. И опять мне стало казаться, что уж никогда, никогда не увижу Россию.
А тут вот самое это с Лукичом.
Был он последнее время какой-то не в себе. Сидит и смотрит, про себя шепчет, и глаза страшные и чужие, точно видит сквозь стенку. Окликпешь его — обернется. И улыбка жалкая, детская. И все-то валилося у него из рук. Столько раз оборачивал свою керосинку, раз едва потушили пожар.
222
Донимал его наш заведующий. Этакой костривый и досадный немец. Полагается здесь с нас плата, пустяшная: в неделю по шиллингу, на уборку. Так вот, не было у Лукича денег, и задолжал он за месяц. А тот его письмами, принесет и сам положит на подушку: «Милостивый государь, прошу уплатить...» Письма эти Лукича и доконали..
Очень он был аккуратный и за себя был гордый.
Уж мы с Сотовым сговорились: нет-нет, соберем деньжонок и ему скажем, что вот, мол, получена помощь из такого-то комитета, по стольку на человека. Всучим ему обманом.
А так —не возьмет. Лучше голодовать станет.
И как тосковал он по России!
Дотосковался... Так раз под вечер приехал я из города, привез заказ — книги. Вхожу в переплетную, — она у нас наверху и всегда открыта, — и вижу: стоит у самого окна человек, голову нахинувши, и будто смотрит на стол. Там у нас всякие лоскутки и банки с клеем. Подошел я ближе: Лукич, — по пиджаку я признал, по серенькому. И как-то очень уж неподвижно.
— Лукич!
Грохнул я книгами о пол.
— Лукич! Лукич!..
А он холодный. И ноги этак на вершок от самого полу. Крючок у нас над окном, для занавески, вот он со стола шнурочек и зацепил. Со стола и спрыгнул. Уронил баночку с клеем.
Собрали мы ему на похороны у нас же, в лавре.
С того времени и заболел я серьезно. И точно рас- кровянили мою душу. Совсем я перестал спать, и опять появились видения, и уж три раза шла горлом кровь.
Увидел я: поплыл, поплыл надо мною потолок, покачнулся... Хлопнулся я, как был, под стол. И уж не скоро меня отходили. Очнулся я, лежу, надо мною наш доктор Евсей Романыч (живет он поблизости и тоже человек странный, живет как медведь), и пахнет от него лекарством.
Вижу его очки.
— Неладно, — говорит, — неладно, батенька. Вы офицер, а такого испугались пустяка... Надо держаться.
А куда там держаться!
Прописал он мне лекарство: этакие пилюльки, для сна.
А я уж так теперь думаю: не помогут пилюльки.
223
XXV
Уж зимою, под самое здешнее рождество, пришло я на мое имя долгожданное письмецо из России. Письма у нас оставляют в прихожей, на камине. Вижу, конвертик маленький, из печатной бумаги, и на адресе рука моей матушки. Знала она иностранные буквы.
Разорвал я конвертик, чуть перевожу дух.
А письмецо такое коротенькое, в две строчки: «Жива, здорова, живем-в своем доме. Отца похоронила в ноябре в год твоего отъезда, в ограде нашей Никольской церкви. Целую тебя крепко».
А внизу приписка: «Соня Кочеткова, ты ее знаешь, замужем за нашим военным комиссаром».
И больше ни слова.
Спрятал я письмецо в бумажник и присел на койку. Что ж, думаю, ее воля, ее и ответ! Видно, тогда я ошибся... Конечно, мне тяжеленько. Но, видно, попривыкли люди переносить горе. И даже иной раз сам себе улыбнусь: пускай, пусть!..
По-прежнему плохо здоровье. По вечерам жар, горю. На Лукичову койку вселился теперь Выдра. Храпит он невозможно, и прежний от него дух.
По утрам по-прежнему работаю я в переплетной. Теперь я один. Отец Мефодий в тюрьме. Опять он не выдержал и попал на том же. Обошлись с ним очень строго, был суд, и приговорили ему в тюрьму на полтора года. А я один справляюсь с работой: стало меньше заказов.
И в тумане, тумане голова. И опять — сны, и больше детское: река наша светлая, мужики на плотах с шестами, мы с отцом ставим скворешни. И часто вижу отца: будто молодой и веселый, идем на охоту, и над нами березовый лес, и свистят иволги.
10261
1 Здесь и в дальнейшем указана дата первой публикации. (Прим. ред.)
РАССКАЗЫ И СКАЗКИ
РАННИЕ РАССКАЗЫ
С НОСИЛКАМИ
Это было в июле.
Германцы напирали железной огненной стеной. Днем ураганным обстрелом они пахали наши окопы, а ночью — атака за атакой — упорно бросались на измученных бессонных солдат, бездумно и твердо сидевших в засыпанных окопах, без хлеба, которого нельзя было подвезти, и почти без патронов.
— Хоть бы артиллерия подсобила! — молили сол* даты, а им отвечали все так же безнадежно: — Нет снарядов.
Наш отряд, второй месяц скитавшийся по фронту, только что пришел в Г.
Дымный запад гудел сплошным гулом, и с горки мы видели, как вспыхивают и пушисто гаснут колючие звездочки шрапнелей и рвутся «чемоданы», взметывая в небо песок и черную грязь. Становилось очень тревожно.
Говорили, что на поле пятые сутки лежат раненые, а к ним нельзя подойти ни днем, ни ночью. Нам предложили, и в первую же ночь мы пошли на работу.
Пригибаясь от пуль и пугаясь всякого звука, вышли с носилками за окопы к немецким проволокам. Справа разливался широкий красный пожар.
Раненых указывали разведчики, черными тенями бродившие в темноте. Ружейные выстрелы звонко ра<$ калывали тишину. Белые, зеленые и красные ракетхл:
8*
227
искрами вылетали из немецких окопов и, разгоревшись в небе, освещали поле, как белую скатерть. Мы ставили носилки, ложились пластом на мокрую пахучую землю и замирали.
И вот прорвалось! Атака.
Застучали четкие пулеметы и, где-то далеко справа, густо натянулись невидимые струны.
II, как были, упали на мокрую землю, лицом в колючую траву.
Горячие пули, жужжа и чмокая, близко зарывались в землю, шуршали по траве и пели над головой, скрещиваясь и шелестя воздухом, точно мелким, сухим и звонким песком. Сосед мой схватился за простреленную фуражку д замотал головой. Справа и слева у самой земли вспыхнули бледные лучистые огоньки разрывных пуль... или мне померещились эти огоньки?
Я лег головой на выстрелы, стараясь до минимума сократить угрожаемую площадь тела. Боясь повернуться, пополз ногами вперед, надеясь найти прикрытие —- межу, кочку или камень. Задралась к подбородку гимнастерка, стучало сердце — это я помню.
Я полз быстрее и быстрее, задыхаясь и боясь высоко подняться на локтях, а когда не хватило силы — покатился боком. Так было легче и не слышно пронзительного, разъедающего душу свиста.
Выбившись из сил, я поднял голову. Яркий пожар, горевший справа, освещал теперь слева. Красные языки жарко лизали звездное небо, и чуть доносился шум, как от воды. У меня промелькнуло: заблудился!
Стрельба приутихла. За темнотой слышался глухой говор.
— Двуко-олки! — вырвалось у меня.
Никто не отзывался, по-прежнему гудели голоса. Не помня себя, я вскочил. Полоса росного, густого хлеба что-то напомнила мне, и я выбежал на дорогу, где дожидались нагруженные двуколки...
* * *
Отправив двуколки, пошли к горевшему заводу. К пулям попривыкли, разгоряченные работой. Шагов через триста наткнулись на два трупа в шинелях, положенные рядком на дорогу.
228
Деревня Т. наполовину занята немцами, наполовину нами.
Случилось, что противники зашли друг другу в тыл, все смешалось, и никто не знал, где немцы и где русские.
Пройдя открытым местом версты полторы, остановились у разбитого кирпичного сарая. Там нашли троих: немца и двух русских. Немец — познанский поляк. Он не переставал тихо плакать и на вопросы отвечал по-польски:
— Я ведь ваш... ваш!
Положив раненых в одно место, отправились дальше по взрытому огороду. Поперек дороги лежало дерево, должно быть дуб, протянувшее во мраке свои ветви, Под деревом подняли еще одного.
Дальше начиналась деревня. Шли осторожно и молчаливо, ощупывая каждый закоулок, каждую брешь.
— Was fur 'em blauer Stoff! 1 — донеслось со дна глубокой воропки так ясно, точпо сказал здоровый, спокойный человек.
Спустившись на четвереньках, нашел человека в шинели и ранце, лежавшего ничком и бредившею глухо и невнятно. Лишь некоторые слова, поднимая голову, он выкрикивал громко и отчетливо, как здоровый.
Мы перенесли беспамятного немца к сараю, где лежали первые раненые. Там, вместо четырех, оставленных нами, их оказалось около пятнадцати.
Прослышав, что подбирают, стали приносить из ближайших окопов все больше и больше. Скоро набралось до тридцати, а наши восемь двуколок могли взять только шестнадцать тяжелых.
Клали прямо на дорогу, стонущих, бредящих, просивших воды. У нас опустели фляжки. Вышел коньяк.
Видя, что забирают не всех, раненые заволновались и, хватая наши ноги, просили:
— Я давно... третий день! Не оставляйте!.. Ради Христа!..
Что было делать!
Мы говорили, что двуколки вернутся, что невозможно взять всех сразу, а нам не верили и умолкали, покоряясь судьбе.
1 Какое синее сукно! (нем.).
229
* * *
Светлело и золотилось небо с нашей, русской стороны. Звук пролетающих пуль изменился, стал продолжительным, хлестким и отголосистым, как непрерывный свист длинного стального бича. Выстрелы не глушились темнотой, а разносились звонко и сухо по утреннему крепкому воздуху. Земля отуманилась, и совсем побледнел догорающий пожар в Т.
Я помогал маленькому вольноопределяющемуся ве- стд ротного командира, раненого и оглушенного. Офицер едва переступал и скоро совсем отказался идти. Протащив с четверть версты грузное, большое тело, мы положили его в придорожную канаву и сели отдыхать. Маленький вольноопределяющийся съежился, упершись -локтями в коленки, и все время менял недокуренные папиросы.
* — Мне теперь стало все равно. И к смерти и к боли я стал равнодушен, как к погоде. Вот прапорщик, — показал он на уснувшего или обморочного офицера, — все кричал от боли, а меня злость донимала — чего кричишь! Тащу и ругаюсь, и если бы руки свободны были, непременно ударил бы.
Переменив папироску, он продолжал:
— А все-таки, черт возьми, что-то есть в войне! Я все записывать собираюсь, только некогда. Очень много всяких мыслей приходит. Главное, конечно, не пропадет, в душе останется. После войны книгу напишу...
Что-то серое показалось на дороге. Я вскочил и побежал навстречу, мой сосед даже не пошевелился.
Цепляясь за землю и припадая, полз раненый. Спустившиеся штаны, почерневшие от крови, волочились. по дороге, оставляя на земле кровяной след. На обнажившемся теле прилипла скомканпая грязная рубаха.
— Ну, куда ты! — обратился я к нему, не зная, что сказать.
Раненый поднял голову, и мне подумалось, что он не видит меня своими серыми круглыми глазами. Не останавливаясь, он полз дальше.
— Постой же, постой, ради бога! — пробовал я удержать, став на дороге.
Он полз стороной и потащился дальше, волоча ногу.
230
« * *
В тесной, разделенной надвое халупе некуда ступить, пахло потом и кровью. От стены до стены па окровавленной соломе лежали раненые в порванной одежде, залубеневшей от крови и грязи. Многие спали* часто и мелко дыша, вздрагивая серыми веками и шевеля грязными пальцами.
В углу на поломанной деревянной кровати спал доктор, неловко спустив ногу в грязном сапоге со шпорой. Около пего сидел раненный в руку прапорщик и пил мутный чай.
Сонный фельдшер за перегородкой перевязывал простреленного в грудь. Раненый, обессилевший от потери крови и бессонных ночей, засыпал в руках державших его санитаров и начинал жутко храпеть. Его будили, или он сам просыпался от боли, поднимал голову и снова засыпал с храпом, похожим на предсмертный хрип.
Студенты-санитары явились помогать.
— Э, господа, так не годится, надо беречь материал, — сказал проснувшийся доктор, видя, что мы выкидываем розовые «индивидуальные» бинты, которыми раненые сами делали себе первую перевязку, иногда совсем не на ране. — Тут не до чистоты!
Было понятно. Фельдшер, четвертые сутки работавший без спа и отдыха, разве может заботиться о чистоте. У него там все помутилось. Были случаи, оказывалась перевязанной здоровая спина, когда ранед живот. Привозили с вывалившимися кишками, а оцарапанный палец был аккуратно забинтован.
Когда на пыльном стекле зазолотилось солнце, я вышел на улицу. Начинала артиллерия. Голова кружилась, и в груди чувствовались пустота и легкость, замирало сердце. Начинали болеть мускулы. Я Пошел на край к пустым сараям со сквозящими крышами.
Из окопов на отдых шла рота. Человек сорок, как-то не похожих на людей, молча шли через опустевшую деревню. Сзади двое катили пулемет.
* * *
За деревню я вышел с тяжелым и тупым чувством. Зашел в сарай и лег на кучу гнилой соломы. Я смотрел на небо, на зеленую траву, проследил испуганную
231
птицу, криво пролетевшую над войной, закрыл глаза и, как бы поднявшись на воздух, бездумно отдался чувству полета.
Послышался разговор. От окопов шли два солдата— русский, раненный в руку, и немец, маленький, худой, в бескозырке с красным околышем и окровавленной на боку шинели. Он держался за русского, обняв его через шею, и что-то быстро говорил по-своему, размахивая свободной рукой. Наш отвечал и спокойно улыбался. Боясь их смутить, я прилег за стеной.
Онн прошли, а я лежал целый час, вспоминая, как и мне приходилось в дни моей птичьей жизни сговариваться с людьми, не зная языка, говорить обо многом, о затаенном, душевном, чего и со всеми словами пе расскажешь, а что рассказывается так, без языка.
Во второй раз я увидал немца на перевязочном пункте. Он сидел в сенях, сгорбленный, жалкий, и всем улыбался. Из приотворенной двери перевязочной я наблюдал за ним. Какой-то солдат, лица которого я пе мог увидеть, подошел к нему, тихонько прячась, передал что-то и сейчас же отошел. В руках у улыбающегося немца оказалась краюшка солдатского хлеба.
Когда очередь дошла до него, он, все так же улыбаясь, положил свою краюшку на скамейку и послушно разделся. У него оказалась смертельная рана в животе.
Через час, после мучительной рвоты, мы совали ему в рот белые морфийные таблетки — единственное его утешение.
1916
ГЛЕБУШКА
Ну как перед глазами расцвеченные лампочками гостиные смоленского дворянского собрания, зал с портретами генералов и шумная, опорошенная конфетти толпа.
Между синими тужурками студентов, блестя погонами, вертится румяный, крепкий, как лесной орех, артиллерийский поручик.
— Глебушка! Глебушка! — кличут его отовсюду.
II как не покликать: на всех вечерах Глебушка всему голова. Отеснят его, окружат:
232
— Глебушка! Глебушка!
И Глебушка поспевает повсюду, и брызжет от него смех, и танцует, и в игры играет, и с дамами. А говор у него сквозь зубы, — говорит, ну словно каленые орехи щелкает.
Глебушку в Смоленске не только все офицеры знают, — последний сопляк-приготовишка...
— Как пе знать! Да с Глебушкой у нас всякая собака знакома!
II что верно, то верно: Глебушка — собачий батько. Все уличные Жучки, Бульки, Бишки — первые у него приятели. Только покажется — тут как тут: и косматые, и лохматые, и бородатые, всех мастей, — окружат собачьей ратью, лижутся, и не знает Глебушка, кого погладить: ревность у собак собачья.
А кроме собак и кошек, влюблялись в Глебушку смоленские гимназистки, сразу всей гимназией. Две гимназии в Смоленске, Мариинская и Вторая женская, так и соперничали гимназия с гимназией.
В девятьсот восьмом году гордая весть прилетела: человек летает!
II так, нам, гимназистам и реалистам, голову вскружило: все авиаторами стать захотели. Науку побоку, изобретать стали парашюты, геликоптеры, планеры, и, на уроках, вместо прежних шутих, с «камчатки» вылетал на кафедру воробей не воробей — настоящий аэроплан маленький. II начальство терпело — самим любопытно, сами изобретали. И можно ли сердиться, когда все об одном:
— Человек полетел!
В те же времена в Смоленске завелась кем-то привитая новая забава: лыжеходство. Собрались в общество, печать заказали и по воскресеньям уходили по здоровому, хрустящему снегу в лыжное катание.
А голова всему — Глебушка.
Под Смоленском горы — голову свернешь! Испугаешься, бывало, а Глебушка подоспевает:
— Э-эх, вы! — взмахнет палками и уж внизу между кустами в снежной пыли мчится, подлетая на ухабах* крепкий, упругий, как лесной орех.
А за Глебушкой и остальные, — кто кувырком, а кто и на собственных... Мельком мелькают.
Глебушка между нами — единственный офицер, не гнушался санкюлотством нашим. Придем в деревню,
всех молоком угощает, — а* у нас какие деньги? Все молоко в деревне рублей на пять выпьем.
Тогда и заладил Глебушка:
— Полечу и полечу!..
Грешил и я мечтой о полетах, о птичьем счастье. По этому делу отыскал я Глебушку в Петербурге, на Песках.
Шел десятый год. Сказка претворялась в жизнь: человек отрастил сильные, вольные крылья! О чем говорили как о диве-дивном — стало обыденным, и люди- птицы уже летали под Петербургом, никого не удивляя.
Глебушка, один из первых русских, получил пилотский диплом. Сбылось желанное, но испытания не кончились: Глебушке жилось не сладко.
Летчикам в те времена не платили. Кому нужен летающий человек? «От добра не полетишь!»—говорили. Смотреть на полеты валили валом, но гривенники берегли: все равно и через забор видно. Любовались красивыми вирая^ами, охали и ахали, ура-ура кричали* а никто не думал, чего стоят эти показные полеты, когда летчик должен лететь на испорченной, неуравновешенной машине, чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу, требующую назад деньги...
Глебушку я нашел в тесной комнатке пишущим письмо. Меня он не узнал, не помнил, но встретил как старинного приятеля. Он изменился: глаза посерели, лицо обветрилось, руки обмозолели, и в движениях появились нервозность и порывистость. Только говорил он по-прежнему, словно каленые орехи щелкал.
В коридоре звякнул телефон, и Глебушка подскочил, как от выстрела.
— Изнервничался, — жаловался, — не сплю совсем...
И было видно: не от одних полетов, от другого
измотался человек — от крайней нужды.
— Было такое, — рассказывает он теперь, — сяду в трамвай и думаю, хватит ли на билет...
Многое перенес молодой авиатор, прежде чем научили. Отдал все деньги и получил машину—летай в отставку, сколотив рублей пятьсот. Даром нигде не учили. Отдал все деньги и получил машину —летай как знаешь! Ни инструкторов, ни указаний, садись и сам обучайся. Однако, почти без поломок, Глебушка научился и выдержал экзамен. Попал в первые два десятка дипломированных пилотов всего мира.
234
Отличительная черта карьеры Глебушки: отсутствие рекламы. Только этим и объясняется его сравнительно малая популярность в широкой публике.
Много авиаторов стали авиаторами на фу-фу, из-за моды, случайно. У Глебушки же — птичья кровь. Глебушка родился в птичьем гнезде, ему отроду летать написано.
Отнимите от поэта песню, у Глебушки летание — и пожухнут оба. И Глебушка любит свое поэтически. Недаром он суеверен. У него есть слоник об одной золотой подковке: насчитается тысяча полетов — будет другая подковка.
Дана задача: выследить передвижение немецких войск, сфотографировать укрепления и, главное, взорвать построенные немцами железнодорожные мастерские.
Ночью сеял дождик, барометр снижался, обещалось сердитое, ветреное утро. С двух часов, еще темно, — Глебушка на аэродроме. Теперь он особенно не похож на прежнего прыскучего Глебушку. Он молчаливы^ серьезный и ходит недовольный, придраться ищет:
— Это не то! — шипит перед упарившимся механиком. — Опять мотор сдает!
И когда взвоют все четыре винта и с моториста, похожего в своей куртке на ворону, срывает ветром шапку, Глебушка берется за штурвал, пробует рулиг дает полный — и вся громадина, вырвавшись из рук удерживавших солдат, легко и ровно улетает в небо. Сделав два круга, корабль улетает на запад, где целый день гремят пушки.
— Счастливый путь!
А на улетающем корабле каждый молчаливо сидит на своем месте. Набирают высь: иначе зенитные батареи будут бить наверняка.
Уйдя за облака, плывут, как над вспененным морем* и лишь в прорехах открывается земля, коробочки домов, темные пятна лесов, линии дорог и блестящая в извивах река.
Там, зарывшись в землю, сидят враги. Окопы и зиг- заговые ходы сообщений представляются с высоты как узор на зеленом бархате.
235
Теперь нужно глядеть и глядеть. Вот глубоко внизу в воздухе повисают четыре белых клубка, звука не слышно, но четыре новых разрыва доносятся сквозь шум моторов: гумм! гумм! И сотрясением воздуха корабль подбрасывает так, что люди не удерживаются на местах.
Через десять минут облачко далеко позади, а внизу, желтой нитью открывается железная дорога, игрушечный мост, а за мостом — город, перерезапный стеклянной рекой.
Начинают обстрел зенитные батареи очередями по восьми штук, но воздушный корабль, невредимый, спокойно делает круги, выискивая цель, а найдя ее, идет по прямой, как по нитке.
И одна за другой, блестя на солнце, падают в пропасть двухпудовые груши!
Двадцать три секунды ожидания. Все глядят вниз. И вот около темного прямоугольника — здания железнодорожных мастерских—вспыхивают два белых клуба, и через секунду темное здание растворяется в облаке белого дыма.
1916
КУКУШКИНЫ ДЕТИ ВАСЯ
Любит Вася рисовать и рисует такую чертовщину, что денщик Лемешка хохочет, взявшись за бока. Серые глаза у Васи, острые и твердые, неуступчивые. Давно не стриженные волосы ершатся и топорщатся на затылке, точно китайский веер.
Познакомился я с Васей за обедом: чувствую — смотрит. Поглядел и я, улыбнулись, а после обеда стали друзьями.
Васю подобрали в страдные дни отхода: залетная пуля ударила его в ногу. Стал он калекой, с кривой ногой, а ему всего девять лет.
Почему-то разговор, с Васей всегда начинают вопросом: «А где же твои родители?» Васе это ножом но сердцу, он морщится и выдумывает всякую небывальщину.
Вася иногда смеется так, будто и беспричинно. Впрочем, бог его знает, что он там подмечает у стар¬
236
ших, когда они за обедом заводят свои разговоры. Или в их глазах читает Вася смешное.
Не всякому Вася люб. «Дикий, — говорят про него, — и лгун».
Переменились люди, — ушли прежние, приютившие Васю, явились новые — и все какие-то с тугими закрученными усами, с остолбенением в пустых глазах.
И в первый же обед Вася не выдержал. Я видел, каким смехом наполнялись его глаза. Уставившись в тарелку, он изо всех сил долго крепился, чтобы пе прыснуть, и не выдержал. И так залился, что во все стороны нолетело.
Это очень не понравилось, а Вася не мог остановиться, весь красный от смеха.
— Вася, — строго сказал один усач, — ты не умеешь себя вести за столом.
А Вася, как ни старался, ничего не мог с собой поделать.
— Я тебя отправлю па кухню! — сердился усач.
Вася встал и, хромая, вышел.
И с тех пор в столовой он больше не показывался. II лишь из кухни доносился его громкий и звонкий, как птичья песня, смех.
МЫШКА
Заехал в нашу пустыню приятель.
— Привез я вам золото, — сказал он, — радуйтесь. Вот!
Он указал на худенького, бледного солдатика с Георгием на нескладно-грубой шинели. Не нужно было приглядываться, чтобы узнать в юном солдатике женщину: выдавали глаза, губы — всё, и особенная стыдливость.
— Возьмите, ради бога! Измучила. Раньше покоя не давала, так и прет на рожон, а нынче — слезы.
Девушка-солдатик потупилась.
Мы разглядывали ее как редкость. Она была такая юная и такая нежная, просто не верилось.
— Как же это вы? — спросил кто-то.
— Не знаю... — еще больше застыдилась она.
И все улыбнулись.
— Возьмем?
— Ну, конечно.
Через два дня Оля уже была настоящей сестрой, в сером платье, переднике и в белой косынке, а сама такая робкая, пу, словно мышка.
— Как же это вы? — нет-нет да и спросят ее: трудно было поверить.
А очень просто. Она москвичка, сирота, жила с теткой. Увидела раз на вокзале, как отправляли на войну солдат, и стало ей так, что больше жить она по-прежнему не может, не может остаться в теплой, сытой Москве, когда люди идут страдать. И с этих пор ходила она сама не своя: хотела сама пострадать. Идти сестрой ей казалось мало, это барское дело. С утра до вечера толкалась она по вокзалам, подходила к солдатам, смотрела, и однажды, как птица, снялась, —* взяли ее солдаты в теплушку и под шинелью привезли на войну, а там и приняли. Отпробовала она досыта солдатской каши, всего наслышалась, всего насмотрелась. И не выдержала.
Да, трудно было поверить.
И у нас она работала изо всех сил, и в ее глазах было столько твердости и решимости!.. А сама такая — в чем душа...
— Унесет нашу сестрицу ветер!
БОБКА
— Вот вы над Бобкой смеялись, — сказал обросший козлом Михаил Михайлович, — а посмотрите-ка, что он выделывает.
— Что такое?
— А всё. Щуку на сухом месте поймал, фунтов пять щука.
— Что вы говорите?
— Ей-богу, поймал. Воды на пять верст кругом не найдешь, а он поймал. Мы у щуки ноги искали, думали — сухопутная.
— Какая сухопутная?
— Да вы спросите у Евгения Иваныча. Евгений Иваныч, ели вы Бобкину щуку?
Бритый Евгений Иванович в зеленом полушубке широко улыбнулся.
— Что ели, то ели.
238
— Ну, то-то, Фома неверный.
А и правда Бобка на сухом месте щуку поймал. Бобка — ветров сын и птичий родственник. А подцепили его в походе, как цепляются песчинки на колесо. Сначала-то не замечали — солдаты в карман прятали,— а заметили — стал Бобка своим, разве с мясом оторвать.
Длинный, сутулый и худой, в широкой гимназической куртке с лоснящимся воротником, в штиблетиш- ках и в солдатской заломленной папахе, — что-то жалкое было во всем этом, а главное—короткие штанишки; очень жалко, и опять же — всегда молчком. Однажды его позвали помогать денщикам за обедом, и вдруг Бобка заговорил. Да как!
Были гости: доктор и две сестры. И одна из них — графиня, с черными усиками — разговаривала с хозяином о всяких умных вещах.
И вдруг Бобка ни с того ни с сего показал на нее, очень довольно улыбаясь:
— Эту сестрицу я знаю.
— Знаешь?
— Знаю! — весело заговорил Бобка. —* Певица, по усам признал. В Киеве в театре пела: «Эй, Макаркаг живо, живо, подавай бутылку пива!»
Гости вытаращили глаза. Сестра покраснела.
— Замолчи-ка лучше! — остановил хозяин.
Но Бобку трудно было унять. Он как разошелся — и пошел. И все по-неожйданному, по-своему.
— Вот у меня! — вынул он из-за пазухи карты. — Всегда ношу. Я в карты пятьдесят рублей выиграл: везет!
И это он так говорил, будто вызывал с ним сразиться.
Было очень неловко. Чтобы рассеять эту неловкость, кто-то задал Бобке шутливый вопрос, а Бобка в ответ такое, что пришлось либо заткнуть ему рот, либо...
— Пошел вон! — крикнул рассердившийся хозяин.
Бобка ушел и уж больше не показывался.
— Надо отправить. На кой черт нам такие, еще карточную игру заведет. По лицу видно, что за птица!
— Жулик!
Но Бобка остался. Бобку за что-то любили солдаты,
1916
239
КРЫЛАТЫЕ СЛОВА
«МАРЬЯ ИВАНОВНА»
Офицерское собрание. Зал? Окна? Кухня? Буфет?
— Так вам и будет буфет! У нас чуточку попроще: вместо зала — сад вишневый, густолиственный, пахучий; вместо окон — небо, вторую неделю такое чистое и такое глубокое. Буфет, кухня — ну, это наши Лу- кашка с Пентюхом в первой халупе в момент обмозгуют. Хозяин «собрания» — полковой капельмейстер, голобородый, тонкогласный. Одеть его в капот — попадья попадьей.
— Это что же вы, Павел Иванович, не кушаете? К тонким блюдам в командировке привыкли, наше невкусно?..
И обижается всерьез. Нехотя есть будешь. В полку его иначе пе зовут — «Марья Ивановна»!
Новость пришла: едут новые офицеры. «Марья Ивановна» ждет их с трепетом — столичники, того не станут, этого не захотят. Однако заказал рыбы и сам со своими музыкантами пошел на реку рыбу ловить.
Австрийцы заметили, подумали, что мост ладят, и над рекой как бабахнут!..
Тут это великий секрет! «Марья Ивановна» наш, как был в адамовом подобии, — из топи да на гору, в лес...
Христом-богом умолял своих музыкантов молчать, и музыканты слово дали, да ветер по всему полку разнес. И с тех пор пошло: кто струсит — «Марья Ивановна».
«САЛАТ»
Офицеры, яснопогонные, молоденькие, молоком пахнут, — зовут их «зеленый салат». Приехали вечером и сразу с вопросами: как, да что, да скоро ли на передовые?
Капитан Синюхин, мрачная личность, их обухом:
— Насмотритесь, милые, наглядитесь! К нам таких мно-ого приезжало!
В тот же день молодых разбили по ротам. Среди них — москвич-художник, юный, русый, глаза — небо, губы — кровь. Пошел добровольцем. Воевал на западном фронте в рядах французов. Был ранен в голову. Залечили. Приехал в Россию и — снова в бой!
240
На него стоит посмотреть: весь — порыв, сила, огонь живой. Он рассказывал о французах, как у них все лучшие на войну ушли:
— Поглядели бы, что делалось! Одних художников, поэтов — целый полк, первыми пошли и... легли. Ахг там этих безымянных, святых могил — сотни. Говорят, что немцы своих ученых, поэтов на войну не пускают, берегут для «будущей Германии». А германские поэты сами не очень просятся, ради «будущего» целехоньки сидят...
Интересны его сравнения: французский фронт
и наш.
— Окопы почти такие же. Ну, а жизнь в окопах — это разница, и преогромная... Заметили на фотографиях, что французские солдаты все смеются? Есть снимки, где их тысячи. Присмотритесь — и вы не увидите ни одного хмурого лица. Ну, а в наших журналах такие картинки: «Едут», «Развлекаются», «Гармошку получают», «В окопах» — везде серьезные, нахмуренные бородатые лица, тяжелый взгляд, и даже пляшут, словно священнодействуют. Редко улыбка, и не французская, горячая — наша, мягкая, тихая, грустная улыбка! Так и в окопах. Французы горят, запевают, у них минута не проходит без выдумок, шуток, затей. Сегодня—окопная газета «Береги голову», завтра — театр, послезавтра — кафе-концерт.
А наши? Ну, эти кафе-концертов не станут устраивать. И газет не издают — неграмотные. А соберутся сказка про «долю солдатскую», о том, как солдат черта в голенище носил. Чаще всего о земле говорят, о земле — больше всего! У французов — «товарищ». У нас — «земляк». Слово-то какое, вдумайтесь! И поют совсем не так. В атаку французы тихо не могут, а у нас ура кричат, когда на половину поля прибегут. Ну — тогда гудеть: у-у-у-у! И бьют наши грудью, заливают лавой, а французы режут, колют, палят...
«ФОТОГРАФЫ»
Окопавшиеся австрийцы крепко уцепились за свои многочисленные укрепления. Все утро гремит наша тяжелая артиллерия, сокрушая их каменные норы и валя проволоку. К знойному полдню все тихо отдыхают.
241
В большой гористой деревне сошлись так близко, что перемешались. Никто не знал — где русские, а где австрийцы: за всяким углом смерть. В вымершей тишине двойным сухим щелканьем вспыхивают одиночные выстрелы.
Посреди неширокая, снарядами изрытая дорога. Ночью сквозь ружейную трескотню слышно, как на дороге воют немецкие самоходы и шипят шоссейные паровозы.
С обеих сторон вдоль дороги наведены пулеметы и раскиданы бревна, — это чтобы железным машинам не проехать.
Недавно среди бела дня был такой случай: наши пулеметчики увидели, что на них от австрийцев катят открытые автомобили с людьми. Хотели стрелять, да, разглядев, что автомобили не вооружены, решили подпустить ближе. Автомобили, не уменьшая хода, промчались мимо и остановились на площади. Из них вышли австрийские офицеры с фотографическими аппаратами в руках и направились к разрушенному костелу.
В то же время, словно из земли, выползли серые притулившиеся люди, замкнулись в кольцо и — цап- царап! Завертелись австрийцы. Пробовали было австрийцы отмахиваться, кто за револьвер, да когда же: крепко сцепились сильные руки.
Пленные — австрийские летчики. Ехали они войну посмотреть. Что занято было нами — им неизвестно; свои пропустили, пальбы не было, дорога ровная, едут да едут. На площади их заинтересовали воронки от тяжелых разрывов, хотели сфотографировать и... как мухи в сметану...
На дороге один из них, безусый, светлоглазый, чуть не со слезами воскликнул:
— Не беда, что в плен, беда, что дурнями прослывем!
С тех пор, кто облапоушится, зовут в полку: «фотограф».
«КОНЧАЛ ВОЙНА!»
Третий день гонят пленных. В городке С. ни пройтц, ни проехать: полно сизыми, запыленными людьми. Здесь их кормят и переписывают,
242
Площадь перед костелом вся голубая от шинелей в курток — спят австрияку измученные войной и дорогой.
За костелом в загороди котлы с варевом дымятся и пахнет едой. Туда пленных пускают очередями человек по восемьдесят, остальные ждут, сгрудившись у прохода. Польский, русинский, немецкий стоит говор.
За варевом подходят с жестяными широкими тазами, жадно глядят на черпак, строго отмеривающий порции,
— Чего смотришь? — грозит им кашевар-армянин. — Ходы, ходы мимо, когда получил!
Два австрияка, спрятавшись за кирпичами, поспешно забивают рот хлебом.
— Да вы что, черти кажурые, — подбегает дежурный с метлой, — что чужое-то жрете?!
Австрияки покорно протягивают таз.
— Будете не жрамши, черти!
А когда их товарищи, которых они хотели объесть, уселись вокруг таза, солдат с метлой подтолкнул провинившихся:
— Идите, что ль, ешьте!
Сквозь туманную, спутанную толпу пленных пробирается русский офицер. Увидевши его, испуганно отскакивают, давая дорогу, толкают зазевавшихся и, становясь во фронт, берут под козырек. Вся их толпа похожа на стадо глумных овец, попавших на чужой двор.
Какой-то серенький, маленький, пробегая с тазом, нечаянно толкнул офицера. Стоявший навытяжку австрийский унтер схватил его за рукав и так ударил по затылку, что расплескался суп.
—- Что ты, с ума сошел, — остановил офицер, — тут тебе не Австрия!
К вечеру подвалила новая тысячная партия. Сизым стадом растянулись по шоссе. Отставшие ковыляли далеко сзади. Большинство в разбитых башмаках и растрепанных обмотках на икрах. Многие босиком. Как пришли, гуртом бросились на колодцы, черпая шапками, котелками и пригоршнями. Многие сунулись к реке, блестевшей под горою. Их остановили конвойные:
— Туда нельзя!
243
По городу проходили пленные партиями. В одной из партий черномазый, губастый, похожий па цыгана парень то и дело приседал и подпрыгивал, словно в пляс готовился пуститься. Лицо его под слоем пыли так и играло: человеку нестерпимо весело. Встречным он улыбался п махал рукою. Сумасшедший, что ли?
— Ты что? — спрашивали у него.
— Кончал война! — крикнул он по-русски. — Кончал война!
И столько было радости в его черных прыскучих глазах, в его торопливых жестах и запыленной улыбке, — так и пустился бы в пляс.
— Кончал война!
«ЕСТЬ КОНТАКТ!»
Когда заводят винт, моторист докладывает приготовившемуся летчику:
— Контакт!
Летчик включает зажигание и отвечает:
— Есть контакт!
Когда взяли две тысячи восьмисотую высотку, земля ослепла, затянувшись, словно бельмом, молочным слоистым туманом. Внизу маковка церкви блеснула два раза и залилась в молоке. Погасло озеро, ясневшее впереди, и закрылся темный лес. Белое,-бескрайнее внизу море облаков. Вверху — поседевшее пебо. Одна надежда — компас доведет.
А лететь далеко. Сказано: быть там-то и там-то, сделать то-то и то-то...
Над белым морем час, другой. Слава богу, машины, струня воздух, идут ровно. Бензином запаслись.
А белое море облаков все плотнее, все молочнее. Еще час!
Три часа — триста верст. Что внизу? Лес, поле, болото, город? Или... Море не так далеко от базы и, если ветер...
Летят еще полчаса. И вот внизу серебром сверкнула река!
Немцы?
Сомнений нет: в воздухе, как белый цух, ниточкой повисли шрапнельные разрывы. Далеко!
244
Л новая очередь — ближе. Корабль летит над вражеским аэродромом, и туда одна за другой падают бомбы. Внизу четыре клуба мутного дыма.
Очередь разрывов вспыхивает так близко, что сквозь шум моторов отчетливо слышно: эк! эк! эк! И все теряют под ногами опору.
Глядят — справа полощет пожар? Нет, пробито крыло, п куски материи разлетаются по ветру.
Левый мотор вдруг уменьшает обороты, темнеет круг винта.
— Смотрите, магнето!
Летчик кричит, но за шумом не слышно, показывает рукой.
Механик уже на крыле, продирается сквозь перебитые тяги, ползет к останавливающемуся мотору. Хватает готовое сорваться магнето, прижимает рукой, другой рукой цепляется за стойку и повисает над бездной.
— Есть контакт! — кричит летчик, и голос пропадает в гуле.
Мотор заработал.
1916
ПОЭТ И СЕРЫЙ КОТ
Совсем недавно, несколько дней назад, в тесной землянке с двумя земляными кроватями и вкопанной вместо окна рамой я познакомился с подлинным, несомненным поэтом. Очень молодой прапорщик, конфузливый как девушка, с прекрасными голубыми глазами и легкой, пушистой бородкой.
Он читал мне стихи.
Его стихи пелись вольно, выливаясь из печальной души, на свободе, без затейливой стихотворной науки. Любимые стихо^творения им записаны в маленькую коричневую книжку с красным цветком на переплете. Эту книжку он всегда носил с собой, как Евангелие, и она не раз бывала с ним в боях.
Пользуясь его минутной отлучкой, я — грешный человек — взял книжку и развернул. Одна чистая страница, другая, третья... Только вверху, в углах, мелким почерком написаны названия стихотворений.
После он объяснил мне:
245
— Я не записываю целиком свои стихотворения. Я помню их все так. Я даже сочиняю в уме, без бумаги и пера, и забыть не могу. Здесь у меня только заглавия: открою, какое нужно, и читаю по белой странице. Это удобнее. У меня есть такие стихи, что я не могу, чтобы их читал кто-нибудь. А так никто, кроме меня, не прочтет.
Когда он говорил, за моей спиной (я сидел на кровати) послышался ласковый урчливый звук — кошачья песенка и, хвост колом, выступил из-за моего рукава серый усатый кот.
— Это откуда? — удивился я.
— Наш боевой, раненый. Видите, ему за храбрость офицеры награду пожаловали.
На шее у кота был баптом завязан анненский темляк с надписью «за храбрость».
— Три месяца не расстаемся, сказки мне рассказывает.
1916
ШЕПОТ ЦВЕТОВ
Случилось мне быть в гостях в соседнем полку, третью неделю не выходившем из боя. Деревенька, где расположился перевязочный пункт, изрытая сплошь, словно в зеленых облаках, лежала в клубистой гуще вишневых садов.
На пути кипела работа. Десятки раненых с напитавшимися кровью повязками ждали очереди, столпившись у школы.
Молодой светловолосый зауряд-врач то и дело выбегал в сад и засученными окровавленными руками крутил себе папироски.
— Сегодня у нас выдался денек! — говорил он, докуривая торопливо. — И я и Николай Иваныч шестнадцать часов на ногах, как говорится, не пимши, не емши. Слава богу, скоро все.
В этот день деревенька, раскинутая на склоне лесных холмов, три раза обстреливалась неприятелем. Три раза приходилось прекращать работу и прятать раненых в блиндажи. Снарядом, ударившим в сарай около школы, был убит санитар и ранена лошадь.
Вечером, когда был перевязан последний раненый, после чая мы с доктором вышли посмотреть резуль¬
246
таты обстрела. Словно огромной, до неба, бороной проскребло деревню. Сорванные крыши с торчащими из провалов сломанными ребрами, взрытый луг перед часовней, поломанные деревья и везде раскиданные доски, куски драни, кирпич и раскрошенное стекло.
— Обратили вы внимание на нашего хозяина? — сказал доктор улыбаясь. — Вот человек, которого даже война не пронимает, сидит целый день и нежные романсы сочиняет со всякими весенними и цветочными названиями. Если хотите, я вам покажу.
Мы вошли через грязные, набитые солдатами сени в полутемную халупу. Хозяин собрания, он же полковой капельмейстер, сидел за большим, засыпанным нотами столом и что-то писал в книжке с синим переплетом. При нашем появлении он как-то неестественно засуетился и уронил книжку.
— Что поделываете, Павел Иванович? — невинпо поздоровался доктор, снимая фуражку.
— Да вот, все по хозяйству, запутаешься с вами.
— А ну-ка поглядим!
Доктор быстро нагнулся, поднял с подд книжку и показал мне. На передней странице значилось: «„Шепот цветов". Вальс. Сочинение Павла Смирнова».
— Вот и поймите человека! — смеялся доктор, указывая на докрасна смутившегося композитора. — Кругом пушки гремят, а он вальс «Шепот цветов» сочиняет. Эх, чудаки!
1916
ЖУТЬ
Крутит, сыплет, свистит, — бесы свадьбу правят. Перепутаны дороги. Перепутали нечистые, смотали в узел, в поле бросили нераспутанными. Полонили месяц, сволокли его за темный лог* показали справа —■ не на своем месте.
Черное, мягкое прет в глаза. Дремлется и проходит в памяти незаметное, о чем так никогда не вспомнишь: Москва вспомнилась, фонарь на Кузнецком... «Птицы воздухом пахнут!» — неизвестно откуда пришло в голову, и подумалось: «А верно, свежо пахнут воздухом вольные птицы».
247
И вдруг все как стекло о камень.
Вылезаю из широкого мехового одеяла-бороницы:
— Ну, куда ты смотрел!.. — с черным словом набрасываюсь на солдата.
— Пути нет, ваше благородие.
Бричка лежит на боку, и у меня свой разбитый бок болит.
-— Куда же это мы заехали, Степан? А?
Свистит под башлык ветер, забивает уши.
— Нет пути, ваше благородие.
— Ну, едем назад.
Ветер доносит дробный стук, такой шумный, будто телега по мостовой.
— Стреляют, — сказал Стенан и вздохнул.
«Стреляют, — значит, мы близко к боевой линии. Не
попасть бы в историю», — подумалось невольно.
— Ну, заворачивай!
Едем на размотавшейся бричке по замерзшим буграм и колеям, и вдогонку воет несносная, сыплет, задувает под колено. Чертова погода.
Усталые лошади идут шагом — стал им кнут пухом.
II снова черное, мягкое прет в глаза, и кажется мне, еду я по полю, так еду, и оттого, что некуда спешить, мне свободно и весело, и готов я ехать под своими бо- роницами хоть целый год.
Вылупилась из непогоды темная халупа с освещенным окном.
— Обогреемся, что ль? — говорю Степану.
— Так точно, следувает.
Слезаю с брички — и к окну: там на полу всплошную, с раскинутыми руками и в шинелях, снят солдаты. Двое-трое у коптилки, должно быть, охотятся...
Захожу в халупу.
В заснеженной шинели, башлыке и валенках я но похож на "офицера. Принимают по-братски:
— Замерзли небось? Обогрейтесь! Ночуйте, места хватит.
Отказываюсь, говорю, что спешить нужно,—-служба.
— Куда теперь! — уговаривают. — До штаба еще верст двенадцать, пусть лошади отдохнут.
Им усердно вторнл Степан, ему до смерти надоело. Степан пробует соблазнить меня чаем:
— Чайку завтра выпьем тепленького да пораньше и выедем.
248
Солдаты за него:
— Оставайтесь, куда теперь...
Я делаю вид, что согласился. Обрадованный Степап побежал откладывать лошадей. Я тоже вышел.
— Садись, едем дальше, — приказываю я.
Степан возразить ие смеет, но зато сейчас же вспоминает, что забыл рукавицы, и просится в халупу. Пошел и пропал.
А мне не хочется идти назад. Знаю, Степан уже рассказал обо мне. Не хочется беспокоить солдат.
Наконец-то выходит.
— Ваше благородие, здесь прапорщик недалеко, к нему можно.
— Садись, — говорю, — садись!
Степан уселся покорно. Степап такой добрый мужик, совсем не солдат.
И опять крутит, но уж сбоку, сыплет крупой, стебает в лицо, залепило правый глаз. Чертова погода.
И снова мы сбились. Солдаты говорили, что на третьей версте будет нам горбатый мост, мы проехали все шесть, а никаких мостов не видали. Степан помалкивал.
И вот ровно пз-под земли выросла перед нами черпая стена.
— Ну, теперь как хотите, ваше благородие, нужно заночевать, — прохрипел Степан из башлыка. — Прикажете постучаться?
— Стучи! —- Мне было все равно.
Степан долго стучит деревянной щеколдой, бьет в дверь ногами и, не вытерпев, подбегает к окну.
— Откройте, — кричит, — офицер приехал!
Должно быть, оттуда ему возражают. Степан сердится.
— Чего, дурак, трусишь? Свои люди, открой, не немцы приехали.
Дверь скрипит. Степан на минуту пропал в черной дыре. Потом опять, вижу, идет.
— Здесь одни ребята, ваше благородие, старших совсем нет. Боятся очень, пуганные.
Пролезая через сугроб, входим.
В халупе темно и холодно. Пахнет сыростью, морозом и гнилой соломой. Зажечь нечего. Освещаю походным фонариком, и мой свет скользит по голым беленым стенам, по сорному земляному полу и холодной печи.
249
На деревянной кровати у печи прижался мальчик и, прячась за спинку, жмурится не то от страха, не то от моего света.
— Ты один здесь? — спрашиваю, отводя фонарик.
Молчит.
— Один ты здесь? — повторяю.
— С братом, — шепчет мальчик.
— А где же брат?
— Вот, — шепчет мальчик.
Я посветил в угол кровати, и из-под груды тряпья и соломы два близких блеснули глаза не то страхом* не то голодом.
— А где же ваши?..
— Мать померла.
— А отец?
— На войне, солдатом воюет.
Мальчик дрожал. А его братишка с головой в тряпье так и замер.
В окне свистало, в печке гудела злая вьрга, прилипла она бледным лицом к разбитому стеклу, дула из угла снегом — ложился снег островерхой грудкой от стены к столовой ножке.
— Как же вы тут живете?
Мальчик дрожал.
И стало мне так, точно от покойника. Ходят по этой халупе, скользят... Или черти, беспалые, безногие, крутили над ребятишками, грозя, улюлюкали?
Я помню, сколько, бывало, для меня таилось страхов в темной комнате, а здесь ведь, здесь они одни среди дымного серого поля, под гул пушек, под злой хохот злой непогоды... Что передумали, и какие сказки рассказывала им эта жуть? А жутче и самой жуткой сказки их своя жизнь.
Коля потом рассказывал мне.
Его отца забрали с первыми на войну. Сперва-то жили они сносно. Получали паек. Накрыла беда Россию, и узнали дети такое горе, о котором знает одна вот эта ночь!
Когда были немцы, приехали три «германа» на конях, сошел один с пикой и прямо к матери* требует яиц. А сам пикой.
Должно быть, от страху у матери нога и вспухла.
А когда пришли русские, мать уж лежала, а нога ее что гора.
250
В соседней деревне останавливался Красный крест, бегал туда Коля за доктором. Был доктор, трогал ногу, сказал, что резать нужно. А назавтра уехал Красный крест со своими флагами.
Подобрал Коля в сосоннике, в окопах, где валялось всякого добра много, размотанный розовый бинт и принес матери ногу обвязать. И обвязал, да только хуже стало: почернела нога, словно от бинта, розового, и к ночи умерла мать с пеной на губах, и лежала так мертвая дней пять, пока солдаты нашли ее, разлагавшуюся, и двух ее ребят за печкой. Целых пять дней пе пили и не ели малыши. Накормили их солдаты, а покойницу похоронили, как хоронят воинов убитых, — ветер пел панихиду.
— Уходите-ка, ребята, отсюда, — посоветовали солдаты, и сами ушли дальше.
Взялись было Коля с Ваней за солдатами идти, да куда им, так и остались на могиле. Ели птичью еду: нюньки в болоте, репу сырую да морковь. Потом от соседей научились на земский пункт ходить за едой. Так и живут.
Когда это рассказывал маленький Коля, мне казалось, раскрывается черное остылое сердце земли — матери человеческого страдания* стыда и ужаса.
1916
НА ТЕПЛОЙ ЗЕМЛЕ
НА ТЕПЛОЙ ЗЕМЛЕ
Вижу себя на берегу реки. Летнее солнце плывет над полями, над наезженной пыльной дорогой. Безмерный, сверкающий, пахучий окружает меня мир. Я как бы погружаюсь, ухожу в голубую, бездонную глубину этого счастливого, сверкающего мира.
Я лежу в зеленой траве, вдыхаю влажнщй запах земли и растений. Вижу, как по коленчатым стеблям высоких травинок неторопливо движутся насекомые. Белые, золотые, синие качаются над головой цветы. В высоком летнем небе повисло пушистое белое облако. Я прищуриваю глаза. И мне кажется, что плывет по небу сказочное белое чудовище на золоченых распахнувшихся крыльях. Высоко-высоко в небе парит ястреб- канюк. Что видит он с небесной голубой высоты? Быть может, запавшим в зеленой меже белоголовым зайчонком видится ему маленькиц мальчик с выгоревшей на солнце открытою головою?
Бывалого человека, меня и теперь радостно волнуют, неудержимо притягивают обширные просторы родной русской природы. Быть может, поэтому так страстно увлекался и увлекаюсь охотой. В охоте, в давнишних морских скитаниях, в лесных поэтических ночлегах оживал во мне светловолосый мечтательный мальчик с непокрытою, выгоревшей на солнце головою.
Люди, не порывающие связь с природой, не могут почувствовать себя вполне одинокими. Как в мечта¬
252
тельном детстве, по-прежнему раскрыт перед ними пре<- красный солнечный мир. Все чисто, радостно и привольно в ослепительном этом мире! И, как в далекие дни детства, над головою усталого путника, прилегшего отдохнуть после утомительного похода, колышутся белые и золотые цветы, а высоко в небе кружит, высматривая добычу, ястреб-канюк.
Отлежавшись в пахучей траве, налюбовавшись золотистыми летними облаками, недвижно застывшими в небесном океане, с новым приливом сил поднимаюсь с теплой родимой земли, чтобы продолжать свой путь среди цветущего любимого мира...
* «г *
Из глубины памяти, освещающей события первых лет жизни, слышу голос, напевающий слова сказки. Ритм и печаль сказки потрясают меня. Сколько поколений русских детей слушали этот старинный напев? В древней народной сказке — такая печаль, обреченность судьбе, что замирает от жалости сердце. И с остановившимся сердцем я слушал слова:
А-аленушка,
Сестрица моя...
Я не помню, самому ли доводилось мне слушать от деда старинную печальную сказку, или это о своем детстве рассказывала мне мать. Я вижу лицо деда, седую его медовую бороду, слышу глухой дедов голос:
Огни го-орят горючие,
Котлы ки-йпят кипучие,
Ножи тф-очат булатные...
С потрясающей очевидностью представлял я себе огромные закопченные, черные котлы, над которыми в кровавом отблеске костров двигались разбойники с отточенными ножами в волосатых руках. Судьба сестрицы Аленушки и братца Иванушки потрясла меня, предчувствия разлуки, утрат, неотвратимых бедствий вселялись в душу. И я плакал горючими слезами, как сам братец Иванушка, потерявший любимую свою сестрицу. Даже теперь, седого, насквозь просмоленного жизнью человека, до слез волнуют меня отдаленней¬
253
шие воспоминания, возвращающие меня к таинствен* пым истокам моей судьбы:
Ах, братец мой Иванушка!
Тяжел камень ко дну тянет,
Шелкова трава ноги спутала,
Желты пески на грудь легли...
Но и от этих тяжелых, мучительных представлений неизменно спасали меня природа, свет яркого солнца, родное тепло земли...
* * *
Как и когда родилась моя страсть к путешествиям, любовь к природе, к своей земле?
В голубые, ясные дни детства мною владела мечта о далеких скитаниях, о счастливых сказочных странах. На крыльях воображения уносился я далеко над землею. Подо мной проплывали снежные горы, голубые моря и леса, серебряные реки и озера. Птицы, их радостная свобода, манили меня. С особенным чувством смотрел я на пролетавших я^уравлей. Недаром весною, в дни пролета птиц, с особенной силой тянуло меня странствовать. Весною — уже взрослым — обычно отправлялся я в самые далекие и удачные путешествия.
Еще в годы раннего детства хранил я тайную уверенность увидеть и об<£Йти мир. С величайшим увлечением отдавался чтению книг, в которых описывались похождения отважных охотников-следопытов. Воображение с необычайною силою переносило меня в далекие страны. Закрыв глаза, я предавался страстным мечтаниям. И я уже видел себя путешественником, искателем приключений. В этих мечтах не было ничего «житейского». Я мог думать об открытии неведомых земель, о грудах золота и алмазов, описываемых в фантастических романах. Страсти к наживе и богатству у меня никогда не было, даже в детских мечтах. Я мечтал о будущих путешествиях, беспечно и весело пролетая над расстилавшейся подо мною любимой землею...
Одною из первых книг, некогда покорявших мое воображение и отнимавших у меня много ночей (прочитанное я переживал с такою силой, что не мог иногда спать), была дешевая лубочная книжка о рыцаре Гуаке,
254
Кто и когда принес мне эту книжку в облупленном переплете? Я помню запах страниц, старинный шрифт со странными буквами, на первых порах мешавший мне бегло читать (даже самый старинный шрифт производил на меня особое впечатление). Таинственность и волшебные превращения, описанные в этой, наверное, очень плохой книжке, несказанно меня увлекали. К чтению баснословных приключений я приступил с трепетом. Помню, я прятался от людей, скрывался в одному мне известных уголках.
Описанные в книге подвиги и приключения волновали меня необычайно. Отрываясь от книги, я как бы своими глазами видел стальные доспехи, сверкающие шлемы, мечи. Вызванные воображением видения обступали меня. Действительность мешалась подчас со сновидениями. Во сне я видел описанных в книге рыцарей, страшных чудовищ, сражался с ними и побеждал.
Трудно представить теперь чудесную игру воображения, которая владела нами в детстве. Коня с мочальною гривой представляли мы живым, горячим скаку- ном-иноходцем. Пламя и дым вырываются из ноздрей коня, с серебряных удил падает клочьями пена. Выструганный из лучины меч был настоящий рыцарский меч-кладенец. С несокрушимою силою поражал я несметную вражескую рать. Под ударами игрушечного меча слетали с высокой, разросшейся крапивы пушистые вражеские головы. Вражеская несметная рать лежала поверженной. Вложив «окровавленный» меч в ножны, через поле битвы я гордо возвращался в заветный свой уголок.
Немногие из нас, взрослых, сохранили эту чудесную способность преображаться. Редки и счастливы посещающие нас мгновения, когда мы опять можем почувствовать себя детьми. В дальних скитаниях при встрече с любезными сердцу людьми переживаю я прежнее счастье, по-прежпему крепко и радостно бьется мое сердце.
* * *
Скромная природа тех мест, где я провел первые годы моей сознательной жизни, не блистала пышною красотою. Здесь не было величественных гор и скал, окруженных облаками; эффектных, соблазнительных
255
для художников, потрясающих панорам. Это был обычный русский простор: поля, леса, деревни с соломенными и деревянными кровлями, поросшими бархатным мохом, с тусклыми маленькими оконцами, из которых выглядывали бледные лица людей. Едешь, едешь, бывало, десятки верст, и как бы не изменяется, почти не движется окружающий вас пейзаж. Видишь кольцо леса, дальнюю церковку, поля, исполосованные жалкими нивами, на которых копошится деревенский люд. Вот женщина поднимается, рукавом холщовой рубахи вытирает с лица пот. На ее изможденном загорелом лице светятся глаза. В голой, обожженной солнцем руке она держит серп...
Я вижу родные поля, лес, пыльный, извивно бегущий в полях проселок. Столб легкой пыли стоит над дорогой. В синем и знойном небе ничто не колеблется. Как бы подчеркивая застывшую неподвижность июльского дня, поют-заливаются полевые кузнечики. Их тонкий оглушительный звон непрерывно преследует путника, тихо бредущего вдоль наезженной, пыльной дороги...
Но чудесным, полным бурной радостной жизни казался мне этот знакомый и родной мир. Чудесной казалась маленькая речка Гордота, с зелеными, заросшими берегами, лес, поля, березовые кудрявые перелески. Один, босиком, я бродил по лесным закрайкам, поросшим иван-да-марьей, с деревенскими ребятишками ловил в реке раков, а синие и стеклянно-прозрачные светлые стрекозы доверчиво садились на наши открытые беловолосые головы. Здесь, в лесном краю, родилась моя любовь к живой, радостной природе, к родной земле. Каждый заветный уголок в лесу, в густом зеленом кустарнике, в пахучей высокой траве полнился жизнью. Я любил хорониться в высокой дозревающей ржи, в пахучей зеленой конопле, качавшей над головою пушистые свои метелки. Спрятавшись в траве и цветах, я чувствовал себя счастливым. Я помню тепло нагретой солпцем земли, аромат окружавших меня цветов. Краски, запахи, звуки наполняли насущный чувственный мир...
То, что я видел и ощущал днем, наполняло п ночные мои сновидения. В первых детских снах (я и теперь нередко возвращаюсь во сне к отдаленнейшим моим детским видениям) видел я окружавшую меня
256
природу. Ярки, чисты, прозрачны были эти далекие сны.
Близость к природе и одиночество сделали меня мечтателем-фантазером. Забившись в кусты, я жил воображением. И каждое растение, каждый знакомый предмет наделял особенным содержанием, глубоким смыслом.
Смерть — слепое и страшное значение этого слова еще не волновало меня. Спокойно смотрел я на падай- шие под топорами стволы кудрявых, веселых деревьев, на смертельно вздрагивавшие, покрытые листвою, распластавшиеся по земле ветви. Отец рано стал брать меня на охоту. После выстрела с любопытством брал я в руки еще треретавших, судорожно бившихся птиц. Детскому возрасту не свойственны мысли о кратковременности и бренности нашей жизни.
Я радостно жил, двигался в окружавшем меня солнечном, радостном мире, был сам частицею этого счастливого мира. Казалось, никто не мог нарушить окружавших меня покоя и красоты. Но уже и тогда наше деревенское кладбище с покосившимися маленькими крестами и могильными холмиками, поросшими травою, казалось нам страшным местом. Никто — даже самые отчаянные из деревенских ребят — не осмеливался пройти туда ночью. Причиною страха, быть может, были слышанные сказки о мертвецах и чудовищных вурдалаках...
Впервые я увидел покойника в чужом доме, на родине матери. Был знойный и ясный августовский спа- сов день. Над полями и улицей плыла паутина, пахло яблоками и медом.
Мать ввела меня в низкую комнату с цветами и кружевными занавесками на маленьких окнах. В сенях, у открытых дверей, толпился народ. Люди расступились (покойница была дальней родственницей матери), пропустили нас в комнату, где пахло ладаном и цветами, плавал Синий дым. На столе, под божницей, освещенная лучами пробившегося в окно солнца, лежала покойница. Меня поразило ее восково-прозрачное, четкое лицо, восково-прозрачные, сложенные на груди неподвижные руки. По лицу, по закрытым ввалившимся векам и ресницам покойницы спокойно разгуливали мухи. Эти маленькие черные мухи испугали меня больше всего. Помнится, я заплакал, схватил за
9 И. Соколов-Микитов, т, 1 257
руку мать. Взглянув на мое лицо, мать вывела меня из комнаты с занавесками и цветами. И как обрадовался я тогда солнцу, людям, жаворонкам, пыли, вившейся над дорогой, знакомому свисту стрижей...
# * #
Когда рассказываю о жизни и судьбе мальчика с открытою светловолосою головою, образ этот сливается с представлением о моей родине и природе. Судьба мальчика была необычайна. Раннее одиночество научило меня слышать и видеть лучше других. В первых детских скитаниях я научился фантазировать, пылко мечтать. Как первобытный дикарь, окружавшую меня природу я населял живыми сказочными существами. Оставшись в лесу один, случалось, я оглядывался, чтобы застать вымышленный мною невидимый мир. В детстве я жил сказочным вымыслом, снами, подчас подменявшими действительную, обычную жизнь.
Отец-охотник рано научил меня стрелять. Из своего маленького ружья почти без промаха я срезал на лету птиц. От отца перешло ко мне поэтическое чувство природы. Отец любил лес особенной, бодрой любовью охотника. До старческого возраста сохранил он в себе, несмотря на недуги, юношескую бодрость духа, неизменное свое добродушие. Обидеть или оскорбить человека казалось для него подлинным несчастьем. Выпив, бывало, за обедом привычную рюмочку, взглянув на мать, он застенчиво улыбался. Меня он любил страстно, беззаветной горячей любовью отплачивал я отцу.
В детстве я жил под обаянием любви к отцу. От него слышал увлекательные сказки о плотике, уносившем нас в далекие чудесные страны. Эти давние сказки отца, быть может, заронили в меня первую искру страсти к скитаниям. Помню доброе лицо, большие теплые руки отца. В этих сильных руках тяжелое охотничье ружье казалось мне легоньким перышком. Помню, как после долгих и настойчивых просьб первый раз набивал он для меня настоящие охотничьи патроны. На широкую ладонь он высыпал кучку пороха — половинный маленький заряд. Мы вышли в лес, в загородь. Я сам нес заряженное ружье. Мы долго искали и выглядывали подходящую дичь. В этот особенный день, каза-
258
лось попрятались все дятлы и трясогузки. Отец хотел пайти выводок рябчиков. На нижних ветках молодой сосны, попискивая, прыгали черноголовые шустрые синички.
— Вот твоя дичь! — шутливо сказал отец. — Целься хорошенько, да не закрывай глаза...
Я выцелил пухлую синичку, сидевшую на сухом сучке. Грянул выстрел, ружье толкнуло в плечо. Пополз синий дым, запахло порохом. Мертвая синичка повисла в развилине сучка.
С диким восторгом кинулся я к моей первой добыче. Я чувствовал себя героем. Маленькая птичка серым легким комочком лежала в моей руке. Мне было немного жалко . маленькую, напрасно застреленную птичку.
На охотничьем веку многое множество перестрелял я птиц и зверей, но эта маленькая пушистая синичка, моя первая охотничья добыча, осталась в памяти на всю жизнь. Со всею четкостью помню сентябрьский день, прыгающую по ветвям синичку и свой первый выстрел...
« т »
По крепко накатанной, обмытой теплым дождем лесной мягкой дороге бесшумно катятся дрожки. По* добрав ноги, я сижу за спиною отца. Рядом, блестя обмытою железною шиной, весело вертится колесо.
В лесу тишина, после дождя сильно пахнет грибами. На ходу под ветвями деревьев я вижу красные зонтики мухоморов, бледные шляпки мокрых груздей* растущих у самой дороги.
Темной стеною высится лес. Неслышно катятся дрожки, разбрызгивая воду, скопившуюся в колеях и канавах.
— Приехали! — говорит отец, придерживая лошадь.,
Первым соскакиваю с дрожек. Чернобородый, узкий
в плечах и груди, встречает нас лесник Зюня. На открытой его голове ветер пошевеливает густые с проседью пряди волос.
Пьем чай с медом за большим новым столом, накрытым чистой холщовой скатертью. В лесной сторожке светло, пахнет смолою, вынутым из печи горячим хлебом. Необыкновенно вкусным кажется мне этот черный *хлеб, густо намазанный липовым медом.
259
После чая и деловых разговоров отец направляется в лес на охоту. Ах, как памятны эти первые охотничьи походы! Мы идем лесной вырубкой, узкой тропою, заросшей малинником и медуницей. Здесь пахнет малиной, травой и цветами.
Глухариные выводки любят такие заросшие места. Как бы оправдывая охотничьи ожидания, хлопая мощными крыльями, из-под ног тяжело срываются огромные птицы, одна за другою. Отец стреляет, и, перевернувшись, роняя перья, птица грузно падает. Раздвигая упругие стебли иван-чая, покрытые пышными цветами, я подбегаю, вижу упавшую тяжелую птицу, бьющую по земле крылами. Ни малейшей жалости не испытываю я, поднимая огромную, еще живую, трепещущую птицу...
* * *
Уж много лет не был я на своей родине, и каждое новое посёщение наполняет мое сердце радостью и печалью. Я вижу новую, преображенную страну. Богатыми урожаями колышутся поля. С первого взгляда не узнаю берегов реки. Разрослась, одряхлела, частью вырублена, неузнаваемо изменилась знакомая роща. Только одно старое дерево стоит еще нетрожно. Я узнаю раскидистую, кудрявую его вершину. Сколько раз забирался я в тень ее листвы! Здесь, на ветвях дерева, я чувствовал себя невидимкой. И, не страшась меня, близко садились, громко распевали лесные маленькие птички...
Ступая босыми загорелыми ногами, я крался по луговым стежкам, ловил рыбу в реке. И я опять наклоняюсь над водою, отражающей высокое летнее небо. Все так же бежит, журча на камнях, знакомый ручей. Стелются по дну, колышутся зеленые бороды водорослей. Маленькая рыбка — как и тогда — серебряной стрелкой скользнула по дну и пропала...
Я умываюсь в ручье и в зеркале воды вижу седую голову, свое отразившееся лицо. Капли прозрачной воды стекают с рук. Играя цветастыми зайчиками, струится по каменистому дну ручей. И вдруг, как живой, возникает в моем воспоминании задумчивый мальчик с выгоревшей на солнце светловолосой головою. Засучив порточки2 бродил он здесь по ручью. Над его
260
головою останавливались, замирали в воздухе, трепеща крыльями, бархатно-синие стрекозы...
Видения далекого детства посещают меня. Лежа на берегу ручья, я смотрю в небо, где над колеблемыми ветвями раскрывается глубокий, бескрайний простор. Белые пушистые облака плщвут в небе. Такие же белые золотистые облака плыли и тогда. Так же шумела листва на деревьях, а в глубине голубого неба, распластав крылья, плыл ястреб-канюк. Быть может, на берегу ручья он и теперь видит усталого путника, прилегшего отдохнуть в зеленой тени деревьев.
1948-1954
ПЫЛЬ
I
Попутчики нагнали Алмазова во ржах на выгоне, уходящем вниз, к реке. Над обожженной солнцем дорогою, над широким полем, над деревенскими крышами, горевшими под солнцем, сизая проносилась пыль. Теплый ветер проходил по нивам, как по морю, и гнад по хлебам зеленые волны. Во ржах по межам вперебивку, захлебываясь, били перепела. Синими звездами качались васильки.
Попутчиков было двое, шли они обочиной накатанной дороги, ступая по теплой пыли и бодро потряхивая портками на босых, залубенелых от навоза и солнца ногах. За их спинами висели стянутые лыком плетеные кошели и пыльные онучи. Поравнявшись с Алмазовым, они убавили шагу, поздоровались, и чернобородый, похожий на цыгана мужик, внимательно всмотревшись черными веселыми глазками, сказал:
— Далеко, товарищ, идешь?
Алмазов назвал село.
И мы туда, — весело ответил мужик.— А ты но барин ли будешь какушинский? Гляжу я на тебе, будто видались, а где — не упомню.
— Я сын Антон Петровича — может, знали? — сказал Алмазов.
— Как не знать, как не знать, — подхватил другой, невеликий ростом, седоватый, в старом, выгоревшем картузе, напяленном на сухие старческие уши.— Очень даже помним Антон Петровича. А я у вашего папеньки
361
частенько бывал, на работу хаживал. Как не знать.., Что ж, теперь родные места проведать идешь?
— Хочу поглядеть, — ответил Алмазов.
— Погляди, погляди, — сказал мужик, — только смотреть-то, брат, не на что, всеё гнездышко по сучкам разволокли, пожалуй, и не признаешь.
Пошли рядом: бывший барин и мужики. -Черный шел споро, босыми ногами поднимая пыль, подхватываемую ветром. Старик все забегал вперед и перекатывал плечи, оттянутые кошелем.
— А я гляжу, гляжу, — с удовольствием говорил он, заглядывая в лицо Алмазова, по походке алма- зовский, а личность вроде не тая. Я тебе еще во-от каким знавал, на своей ладони тебе носил, и был ты чуть поболе воробья. О ту пору мы к твоему папеньке приходили канавы рыть на лугах, а ты, бывалча, все в речке сидишь под мельницей, порточки засучимши. Бывало, идем мимо, а ты из речки решетом трясешь: гляди, мол, вот она, рыба!
Мужики засмеялись.
— А теперь ты, братец, совсем скис, нипочем тебе не признать... Как живешь-то? — продолжал мужик.
— Живу, — ответил Алмазов.
Мужики переглянулись: так не соответствовала вся видимость барина этому слову — был он худ, длинен, измят. Городская обтрепанная одежонка висела на нем, как на голом колу, соломенная шляпа съехала на затылок, обнажив немужицкое, нездорово загоревшее лицо с детским ртом и испуганными глазами. На шляпе, на длинных ресницах, на небритой русой бороде густым налетом лежала серая пыль.
— Так, так, — сказал черный, — вот оно какая дело. Не чаял небось пешечком пыль-то клубить?
Шли полями по скату. Внизу лентой свивалась река. За рекой полого поднимался противоположный скат, и было видно, как по нему, по хлебам, ходили такие же волны, точно невидимая рука гладила зеленый бархат. Над полями, над рекой, над зелеными волнами высоко в небе висели пуховые белые облака, казалось, неподвижно. В том, как зеленели вокруг хлеба и высоко в небе стоял над полями ястреб-канюк, была такая полная, вечная тишина, что Алмазову стало казаться, будто ничего не изменялось. По-прежнему по канаве душно цвела медуница* а внизу, над ручьем,
262
горела куриная слепота. А на том берегу, за деревней, где раньше лежала алмазовская усадьба, сквозили мужичьи поля и бесконечно ходили зеленые волны.
— Запахали землицу, — догадываясь о мыслях Алмазова, сказал черный мужик.
— Тебе-то пебось жалко, — с сочувствием спросил старик, — от сладкого к горькому привыкать? Эх, — вздохнул он, не то жалея, не то радуясь, — так-то вся-* кому человеку своя черта. Твой папенька, бывало, ка* тит со станции — пыль столбом, а ты вот не хуже нашенского пятки бьешь.
Деревня, в которую входили мужики, по видимости ничем не разнилась от той, что с детства запомнил Алмазов. По-прежнему солнце освещало неширокую улицу, покрытую подсохшей, крепко убитой грязью. Два ряда изб уныло глядели маленькими окнами друг на дружку. По-прежнему, осевши на все четыре угла, доживала свой век хатенка беспутного деревенского пастуха и бобыля Ореха, горького пьяницы. Нового было в деревне — белевшие свежим деревом дома-пятистенки, ладно крытые под щепу, с пустыми окнами и ненавешенными дверями.
Заходи, заходи, — весело сказал Алмазову черный мужик, останавливаясь у новой избы, — заходй, гостем будешь.
Алмазов вошел в сени, пахнувшие струганым деревом и дегтем, и прошел за хозяином через нежилую половину, где на дубовых спицах висела смазанная дегтем сбруя. В избе было жарко и светло, гудели над столом мухи. На печи, спустив тощие ноги, сидела старуха — одна в избе — и большим кленовым гребнем вы* чесывала голову. Войдя в избу, мужик скинул кошелку и бросил в угол.
— Чей такой? — спросила старуха, вглядываясь в Алмазова.
Не спеша мужик снял шапку и повесил над дверыо3 не спеша ответил:
— Гостя привел — Антон Петровича сынок.
— Ух и худущ, — сказала старуха, старчески зоркими глазами разглядывая гостя. — Аль голодом (5идел?
— А ты не чеши язык! — строго сказал черный.
Он снял с полки большой позеленелый самовар, перевернул над лоханкою, вытряс золу и, стоя с пучком полыхающей лучины в руках, сбочив голову2 говорил!
263
— Теперь время рабочая — межень, всеё семейство в лугах, одна старуха дома. А мы вот который день понапрасну лапти бьем — все насчет землицы. Вашей землицы, — добавил он. — Ты уж не гневайся. Землица-то тебе все едино теперь не нужна.
Алмазов кивнул утвердительно.
Все в черном мужике было ладно, пригнано, крепко, как в хорошо срубленной избе. И делал он свое дело споро, ладно и весело, точно играя. Лад и хозяйская крепость примечались во всем: лес на избе был ровный, прямой, щитно пригнанный, подоконники дубовые, толстые, стол новый, прочный, печь, занимавшая пол-избы, — велика и плечиста. Даже закипавший перед печью самовар был коренаст, устойчив и так же черен.
Алмазов сидел у окна на скамейке. Мягкие его белокурые волосы были мокры и примяты, лицо бледно. Он с любопытством поглядывал на черного мужика, возившегося около самовара, и барабанил по столу тонкими пальцами. За его спиной на новой, еще не давшей трещин стене с выступившими слезинками смолы висели старинные фотографии без рамок: господа в широких светлых брюках, со взбитыми густыми прическами— может статься, предки Алмазова, извлеченные из господского альбома и вывешенные на мужицкую стену для утехи.
— Ты мене-то небось не помнишь? — продолжал хозяин, сдувая с * поспевшего самовара пыль. —- А я тебе хорошо помню. Киндея Гаврилова, может, слыхал?
—■ Кажется, помню, — ответил Алмазов. — Печник?
— Во-во-во, —' радостно заговорил мужик. — Отец мой. У вас в хлигелю клал печи. А я его сын — Лек- сей. Тогда и я хаживал к вам. Ты-то был во-от такой.
— Много воды утекло, — сказал Алмазов. .
— Воды, брат, утекло много, — подхватил хозяин, садясь за стол и подставляя под кран чашку. — Время было — упаси бог, — всего перепробовали, теперя вспомянуть тошно. Нынче мало-мальски опять на своем, подошли к обзаведению. И хлебушка есть.
— Семья-то у вас велика? — спросил Алмазов.
Семья? Семья, брат, сам-пят. Да вот дочку отдаю, тебе будет на свадьбе гулять.
Вместо чая пили пряный малиновый лист. На лбу у мужика крупно выступил пот, глаза подобрели. Он
264
утирался кондом полотенца и наливал в маледькую чашку, терявшуюся в его большой смуглой руке. На стол косяком падало из окна солнце, и по белому потолку от чашки бегал и трепетал зайчик.
Алмазов выглянул в окно. По улице, освещенной солнцем, ходили куры, ветер трепал длинное черное перо в петушьем хвосте. С лугов возвращались люди с граблями па плечах, с блестевшими на солнце полосами кос. От пестрой кучки баб, проходивших по улице, отделилась девка в малиновом сарафане, побежала к избе.
— Нашп идут, — сказал Лексей, заглядывая в окно.
Из сенец вошла девка в белом платке, спустившемся на голую загорелую шею. Увидев гостя, она остановилась, вытерла широким рукавом лицо и улыб* нуласъ. И по улыбке Алмазов признал в ней бойкую девочку, когда-то приносившую к ним в дом в лубяном лукошке, повязанном красным головным платком, пахучую лесную малину. И девка узнала Алмазова, по* краснела, поправила платок и подала горячую и жесткую руку.
— Узнали? — спросила смело.
— Узнал, узнал, — поспешно ответил Алмазов.— Все такая же.
— Ну, где такая, — бойко ответила девка. — Теперь в старухах хожу.
По тому, как смело и прямо глядела девка, как уверенно и весело блестели ее карие глаза, Алмазов понял, что она была молода и счастлива.
Под вечер он пошел за деревню, вниз к реке. Вся деревня уже знала о приезде барина, на него глядели как на чудо, и загорелые лица следили за ним в открытые окна.
Выйдя за деревню, он свернул с дороги и пошел межою к реке. Солнце опускалось над лесом. Подойдя к речке, он разулся и перешел вброд по голым и холодным камням, и вода журчала вокруг его ног. И Алмазов припомнил, как в детстве лазил по этим же камням и вместе с деревенскими ребятами ловил под берегом раков.
Перейдя реку, Алмазов обулся и по обрыву поднялся к усадьбе. Парк наполовину был вырублен. Грачи гомозились на немногих оставшихся деревьях. Над спущенным прудом, заросшим травою, лежали
265
дубовые вершины, еще не сбросившие сухих, звеневших по ветру листьев. Вокруг пруда и по парку дико разрослась сирень. Там, где стоял алмазовский высокий с.колоннами дом, окнами на церковь, чернела куча обгорелых обломков, затянутая бурьяном, и вокруг колосился ячмень, буйный, зеленый, местами полегший от тучности. В парке по траве рассыпались одуванчики, Ж цод уцелевшими липами ковром цвела иван-да-марья. Пахло нагретой землей и медом. Старая яблоня наклонилась ветвями до самой земли.
Алмазов пошел к церкви, мертво сквозившей за деревьями. В ограде было пустынно, зеленела густая трава, и со свистом падали над белой колокольней стрижи. Одно окно за витой решеткой заблестело нестерпимо ярко. Алмазов прошел мимо знакомой паперти с большими, выкрашенными в зеленую краску дверями и, шурша высокою травою, завернул за алтарь, к фамильному склепу дворян Алмазовых. На него по- прежнему взглянул мраморный неподвижный ангел с раскрытой книгой у сердца. На месте мраморной доски с алмазовскими именами в сером камне темнели четыре дыры от болтов. Алмазов присел на памятник, снял шляпу, задумался. Под ногами его пробежала по камню полевая мышь и скрылась в траве. Холодно краснела на последнем солнце колокольня и погасала быстро. И тотчас же внизу, на пенькомочище, громко закричали лягушки. Опять на минуту Алмазову показалось, что он босоногий восьмилетний мальчик, забежавший после игры в ограду.
Когда зашло солнце и улеглась на дорогах пыль, а над лесом, над полями опустилась широкая, теплая, как дыхание человека, вечерняя тишина, Алмазов вернулся в деревню. У околицы его повстречали ребята, приодевшиеся в городские короткие пиджачки, и поздоровались дружелюбно.
Он пошел улицей на голоса.
Посредине деревни, на взгорке, где скатывалась к реке дорога, толкалась, приодевшаяся молодежь. Алмазов подошел поближе. Увидев сидевших на бревнах под амбарушкой мужиков, он завернул к ним и поздоровался. Ближние ответили ему, коснувшись фуражек, другие, внимательно разглядывая, промолчали. Чувствуя неловкость, Алмазов присел рядом с невысоким плотным мужиком, державшим в коленях маленькую
девочку с добела выгоревшими, заплетенными в косичку волосами. Девочка, не моргая, уставилась на незнакомого человека своими большими и ясными глазами.
По улице в сумерках стенкой прохаживались ребята. Средний — в закинутом на затылок приплюснутом картузе и ситцевой косоворотке — нес на ремне гармонь и бойко перебирал по ладам. На губе его белел потухший окурок. В ногу с гармонистом шагал длинноносый парень в косматой овчинной шапке и, скаля белые зубы, надсадно запевал под гармонь страданье:
Черным-черно мое сердце,
Черней черного чела...
И стенка подхватывала враз:
Не видал свою зазнобу Ни сегодня, ни вчера.
Ребята прошлись раз и два по деревне, из конца в конец, никакого внимания не обращая на сидевших под амбарушкой мужиков и на сбившихся у колодца по-праздничному разодетых девок и баб. За ребятами, ходившими по деревне с гармонистом, клубками катились босые ребятишки и звонко подсвистывали в два пальца. Пронзительная песня* то притихала, когда парни удалялись в конец деревни, то опять звучала так, что у Алмазова начинало звенеть в ушах. Пройдя в третий раз, стенка остановилась против колодца, и гармонист, вытирая со лба пот, присел на комяжку. Скинув с плеча широкий ремень, он заиграл частень- кую, и девки окружили его плотным, пахнущим кумачом и зноем кольцом.
Носатый парень в овчинной шапке лихо стукнул сапогом о дорогу и, перебирая плечами, подкатился к девкам и выбрал одну — широкоплечую, ладную, в домотканой тяжелой безрукавке с выпущенными вышитыми рукавами. Девка пошла с ним, коротко повертываясь, пристукивая каблуками и раздувая подол голубого сарафана. Загорелое лицо ее под белым платочком было каменно сурово, губы тверды и сухи. Польку танцевали до поту, топчась на одном месте2 плотно стиснутые жарким человеческим кругом.
267
Алмазов подошел к пестрому кружку девок и баб. Он через головы видел подпрыгивающие в лад с гармоникой цветные бабьи платки и мотающуюся косматую шапку носатого парня. Гармонь заиграла теперь совсем тихо, чуть пиликая, задушенная кольцом зри- телей. Под ногами Алмазова лазали и толкались ребятишки, заглядывали ему в лицо чужими и зоркими, как у зверьков, глазами.
Кто-то легонько толкнул его под локоть. Обернувшись, он увидел маленькое, заросшее рыжей бородою лицо и темный, хмельной, подмигивающий ему глаз.
— Ну как, барин, весело? Гуляет народ.
Алмазов внимательно посмотрел на невысокого мужика и узнал в нем Халамея, в прежние времена частенько приходившего на алмазовский двор просить у Антона Петровича на водку. Памятен Алмазову был Халамей тем, что когда-то посадил его Антон Петрович за поджог сенного сарая, и после тюрьмы Халамей пьяный приходил на усадьбу — его почему-то пе трогали собаки, — бросал на дорогу шапчонку и, затоптав ее в пыль, плакал и жаловался так громко, что в парке ему откликалось эхо. Дети не боялись его и, сбившись вместе, смотрели на него широко раскрытыми, полными внимания глазами.
Теперь Халамей почти не изменился, только посерела у висков бороденка и глубже ушли темные глазки да виднее просвечивала в них прикрытая боль.
II
Ночевал Алмазов в сене, под сквозной крышей, в которую всю ночь светил месяц. Сено еще не остыло от полевого зноя, и где-то около головы Алмазова всю ночь пел и ползал кузнечик. Спал он чутко, чувствуя па лице дыхание сквозняка и холодный свет месяца.
С ним спал младший сын Лексея, мертво, не шевелясь и неслышно дыша.
Поутру Алмазов ушел за деревню. Он прошел огородами через пахучую высокую коноплю, с которой падала каплями ночная роса, обошел деревню, звучавшую петухами, и спустился в луга. Он шел берегом, сбивая с ольховых кустов холодные капли, и за ним, на седой от росы высокой траве, оставался видпый след.
268
Над тихой водою, над зелеными лопухами кувшинок курился парок. Дикая утка, подняв сноп брызг, вырвалась из-под его пог. Изо всех сил кричали в^зеленой осоке коростели. Он шел в луга, на солнце, поднимавшееся над туманом. Покудова хватал глаз, на зеленом просторе белыми точками двигались люди. Изредка ослепительно вспыхивала на солнце коса и погасала.
Алмазов пошел к двум ближайшим косцам, бойко махавшим новыми белыми косовищами. Было слышно, как бодро жигают по густой, тяжелой траве косы и стучит брус в подвязанной к коленке бруснице. Пожилой широкий мужик с плотной курчавой бородой, в холщовой рубахе, уже пропотевшей па лопатках, босой, в полинялых, вымоченных росою по колено портках, ходко гнал широкий прокос. За ним шел молодой парень без шапки, в рубахе распояской, с жестяной бруспицей, привязанной лыком к ноге. Вокруг обкошенных кустов лежали густые, пахучие и мокрые валы. На голой кочке у вросшего в землю черного камня валялся плетеный кошель и стоял глиняный кувшин, заткнутый зеленым лопухом.
Завидев Алмазова, мужик остановился и отставил косу.
—* Бог помочь, — сказал, подходя, Алмазов.
Мужик взглянул на него серыми прищуренными глазами и весело ответил:
— Спасибо. Подходи к нам закуривать.
Он присел на корточки, достал из лежавшего под кустом пиджака кисет, вынул бумажку.
— Утро сегодня, — сказал он, сидя на корточках, с прилипшей к губе бумажкой, и кроша на ладонь табак, — благодать. Не слыхать, как коса режет.
Алмазов присел па сырую кочку и взял у мужика бумажку.
— Надолго к нам? — спросил мужик.
—- Нет, — ответил Алмазов, — не пробуду долго.
— Поглядеть пришел?
— Хочу поглядеть, — сказал Алмазов.
— Так, — ответил мужик, свертывая цигарку и садясь, — глядеть-то не на что стало. Вот, ваши лужки косим.
Парень в рубахе распояской, звонко и быстро шаркая, наточил косу, засунул в брусницу брусок и продолжал обкашивать густой, сивый от росы куст. Добив
прокос, он положил на плечо мокрую косу и, шагая через валы, подошел к старику. На молодом, безусом лице его по кирпичному загару золотился сухой пушок. В его глазах, как и у старика, светился веселый задор работы, а на лбу, под спустившимися густыми темными волосами, мелкими капельками блестел пот.
Он положил косу на землю и присел на скошенную траву. Старик перебросил ему кисет.
— Жених, — подмигнул он Алмазову. — Завтрева свадьба, а он у меня лямку трет.
Парень застенчиво улыбнулся.
— Теперь время рабочая, — говорил старик, — раз, два, и готово. Пироги не простынут — валяй сено возить.
Не спеша докурив, он напился из кувшина, дергаясь кадыком на серой морщинистой шее, крякнул, заткнул горлышко смятым лопухом, смахнул большой рукой капельки с бороды и усмехнулся.
—- Не хошь ли с нами помаяться? — шутя сказал Алмазову. — Запасная коса есть.
— А что ж, — ответил Алмазов, — я бы не прочь.
— Бери, попробуй.
Парень, улыбаясь, достал из куста косу и подал Алмазову.
— Постой, я тебе наточу, — сказал старик и, взяв горсть зеленой мокрой травы, вытер косу, упер косовище в землю и звонко зашаркал по тонкому лезвию коротким отбитым бруском.
— На, получай, — как бритва.
Алмазов неловко взял косу, попробовал замахнуться, и коса воткнулась в землю.
Мужики засмеялись.
— Это, брат, тебе не книжки читать, — сказал старик.
Понемногу Алмазов размахался. Прокос выходил неровный, коса срывалась, но ему не хотелось отступаться. Старик отвел его вниз к реке, в осоку, и сказал:
— Пяткой, пяткой нажимай. Тут тебе самая косьба.
Осока резалась легко. Оставшись один, Алмазов
прошел ряд до реки и посмотрел вверх, где догоняли его старик и молодой. Поднявшееся солнце уже подсушило росу. Под ногами Алмазова выступала и хлюпала вода, зыбился луг. Солнце освещало дно реки,
270
заросшее длинными, склоненными течением водорослями, и Алмазов видел, как между водорослями по цесчаному дну перебегают юркие пескари. Появились маленькие мушки и дадоедливо лезли в глаза. Стало припекать.
— Подрядье-то, — весело сказал старик, прогнав длинный прокос и подходя к Алмазову, — за это нашего брата, бывало, по шапке.
Алмазов вытер со лба пот и улыбнулся.
Ему было легко. Поднявшийся полуденный ветер обвевал ему голову, руки понемногу привыкли к косе. Было приятно, что высокая, жестко шелестящая осока ровно и легко ложится под косой.
Пройдя шестой ряд, старик обмыл в реке косу и сказал:
— Ну, барин, довольно. Теперь бабы придут ворошить. Пойдем свадьбу гулять.
Алмазов отдал косу и остался тут же. Он лег на спину, на свежескошенную траву, в тень, и стал глядеть в небо, по которому, словно бараны по полю* рассыпались мелкие облачка.
Весь день он проходил по лугам, заходил в лес, где на лицо липко садилась паутина и на березах пересвистывались невидимые иволги, заходил в поля и подолгу смотрел на зеленые волны хлебов.
Вечером ему повстречались спешившие с хуторов на свадьбу ребята, ж он пошел с ними.
В деревне около Лексеевой новой избы толклись и визжали ребятишки, заглядывали в окна.
Алмазов вошел в избу, тесно набитую народом. В передней половине, покрытые суровыми скатертями, во всю стену стояли сдвинутые столы, и в красном углу, воткнутая в ковригу, убранная цветными бумажками, стояла сосна. За столом тесно сидели девки, раскрасневшиеся, с блестящими глазами. В самом углу, за сосной, через головы баб и ребят, стоявших округ стола, Алмазов разглядел невесту. Лицо ее было заплакано, платок низко спущен на лоб, но под платком глаза глядели весело и бойко.
Когда входил Алмазов, девки молчали, перешептывались и кусали подсолнушки. У стола посредине хаты стоял сам Лексей в черной жилетке поверх вышитой рубахи. Черная борода его блестела как вороново крыло, щеки пылали. Он казался шире и выше всех*
271
Завидев Алмазова, он улыбнулся, сожмурил хмельные глаза и поманил пальцем.
— Пожалуй с нами свадьбу гулять, Сергей Анто- ныч! — крикнул он через головы.
Выждав время, девки запели свадебную. Одна — белозубая — начинала, и другие подхватывали звонкими голосами. Песня была грустная, прощальная, свековавшая века, и Алмазов приметил, как невеста, наклонив голову, тихонько вытерла концом платка слезы.
Девки пели не спеша, берегли себя: впереди, до приезда сватов, была целая ночь. В перерывах они шептались и исподлобья поглядывали на гостей, толпившихся вокруг стола. В холодной половине баловались ребятишки, и Лексей выходил к дверям, кричал на них:
— Кыш, жигуны, вот я вам!
В избе было жарко, девки утирали губы платками и потели. Алмазов долго стоял у двери, стиснутый людьми, чувствовал, как в дверь просачивается с улицы свежий воздух.
— К жениху пройдите, — сказал ему стоявший возле него черный парень.
— А где жених? — спросил Алмазов.
— Я доведу, — с готовностью ответил парень, — ступайте за мной.
Алмазов вышел за парнем, и они пошли улицей, ступая по крепко убитой дороге. С речки тянуло холодком, зажигались на небе первые звезды.
— Теперя на целую ночь заведут, — говорил парень, — вам-то наше дело, конечно, неизвестно.
— Как на целую ночь? — спросил Алмазов.
— А так: теперя у жениха и невесты гуляют, а к рассвету приедут к невесте сваты — опять гулять.
Подошли к другой освещенной избе. Алмазов увидел в окно косматые затылки мужиков, сидевших за столом, и красные платки баб. Звонкие бабьи голоса пели бойкую плясовую.
У жениха было так же тесно. За столом сидели мужики и бабы и не спеша ели. Отец жениха — веселый старик, с которым Алмазов утром косил на речке, — не очереди наливал гостям из четверти и каждого уговаривал выпить. Мужики пили молча и, закусив холодцом, клали ложки спинками кверху, бабы морщились и утирались платочками. Жених сидел за
272
столом в черной сатинетовой рубашке с вышитым на груди кармашком и неподвижно, как на фотографии, смотрел перед собою.
У стола перед сватами, сидевшими в головах, толклись бойкие бабы с хмельными и потными лицами и почти без перерыва, с вывизгом и притопыванпем, веселыми песнями обыгрывали жениха. Две молодые бабы, без платков, в малиновых повойниках на гладко зачесанных волосах, хмельно блестя глазами и показывая белые, как чеснок, зубы, вертели над головами белыми платочками и бойко отплясывали. Песня была задорная, аховая:
Без тебя, мой друг, постелька холодна, Одеяльце заиндевело...
Алмазов чувствовал жаркое дыхание баб, певших песню, глаза их, горевшие задором и весельем, обжигали его, под ногами ходуном ходили шаткие половицы.
Его посадили за стол рядом с мужиками, молчаливо глядевшими на веселых баб. Хозяин налил в стакан и поднес ему.
— Ты выпей небось, — сказал ему сидевший обочь мужик, — от этого не сохнут.
Алмазов выпил полный стакан мутной, пахнущей хлебом самогонки и поморщился.
— Наша горькая, — подмигнул хозяин, глядя ему в рот.
— Да ты ешь, ешь, — уговаривал его мужик, — закусывай.
Алмазов закусил густым холодцом и почувствовал, как самогонка ударила в голову, захотелось смеяться. Он улыбнулся, вздохнул и поглядел на сидевших с ним мужиков. Ему было приятно оттого, что по телу разливается тепло и легкой стала голова.
— Весело у вас, — сказал он мужику.
— У нас, брат, весело, — ответил мужик, подмаргивая веселым глазом.
III
Вышел Алмазов из избы на крыльцо, когда над деревней, над полями лежала теплая ночь и месяц светил на порожнюю улицу. Над рекою, за старой алмазовской усадьбой, расплывалось по небу дальнее зарево. Над
273
головой Алмазова пискнула и неслышно пала в ночь летучая мышь.
К нему подошел мужик в белой рубахе и, пошатываясь, сказал:
— Гуляешь, Сергей Антоныч?
— Гуляю, — ответил Алмазов.
Мужик стоял перед ним и улыбался в темноте.
— Аль не узнаешь?
— Ванька? — спросил Алмазов, признав в мужике своего приятеля по детству* сына алмазовского лесника Семена.
— Признал, признал, — ответил мужик.
— Был Ванька, а стал Иван Семеныч, — насмешливо вставил из сеней чей-то голос.
— Сергей Антоныч, — сказал Ванька, трогая Алмазова за локоть, — пожалуйста, на пару слов.
Алмазов сошел с крыльца. Ванька показал на отдувавшийся карман и сказал тихо, наклоняясь к уху:
— Прошу тебе, сделай милость, зайди.
Они пошли на край деревни, к Ванькиной хате. Дорогой Ванька покряхтывал, шел впереди и молчал. У своей избы он остановился и пропустил Алмазова в темные сени.
В избе тускло горела лампочка под засиженным мухами пузырем. У окна на скамейке сидел, положа руки на колени, лысый тощий старик и пьяно моргал маленькими глазками. Алмазов узнал в нем старого Ореха, ходившего в пастухах за алмазовским стадом.
Изба была просторная, разделенная стеной на две части, с двумя нескладными печами. Строил ее Ванькин батька, лесник Семен из вольного лесу, но, видно, у Семена, занимавшегося больше охотою, не хватило терпения, и вышла изба неладная, с непомерно низкими потолками, с маленькими оконцами, которые можно было прикрыть шапкою. В избе было тесно и сорно, где попало валялась посуда, а из лоханки у порога текло. Потолок и стены были иссиза-черны, и по ним, шустро поблескивая, перебегали прусаки. В углу на божнице, украшенной резаной газетной бумагой, темнели иконы, дочерна засиженные мухами.
— Привел, — сказал Ванька, впуская Алмазова в избу.
Алмазов увидел около печки бабу, наклонившуюся над зыбкой и кормившую ребенка2 задиравшего из тря¬
274
пья кривые ножки. Она кивнула ему и, спрятав грудь, стала качать привязанную к длинному шесту полную тряпья лубяпую зыбку.
Орех, шатнувшись, поднялся навстречу Алмазову и схватил его за руку.
— Барин, милый мой, — хмельно заговорил он, ладя поцеловать.
Алмазов, конфузясь, отвел его и присел у стола.
— Разорили соколика, а? — говорил Орех, старчески шепелявя и глядя на Алмазова маленькими слезящимися глазками. — До чего довели. Папенька-то твой, бывало, — ух!.. — И, не договорив, Орех завалился на скамейку.
Ванька, поглядывая на стол, шептался с хозяйкой. Был он короток, легок и безбород на маленьком носу его и на щеках роились веснушки. Что-то оставалось в нем детское — от тех времен, когда лазали они с Алмазовым шарить по липам галочьи гнезда.
— Давно женился? — спросил у него Алмазов.
За пего ответила баба, придерживая на груди холстяную рубаху и передавая Ваньке зыбку.
— Сёмый год с мясоеда, — сказала она, убирая со стола, — сёмый год живем.
— Много детей?—спросил Алмазов, глядя на зыбку*
— Трое, — ответила баба, — да один помер.
Не зная, о чем говорить, Алмазов покачал головой.
Баба ничуть не походила на Ваньку. Была она крупна, широка в кости, плечиста и — что редко на деревне — для своих лет свежа pi сильна. Она быстро убрала со стола, наколола косарем от сухого полена лучины и развела на загнетке огонь. Алмазов не хотел есть, но хозяйка так настойчиво стала его угощать, что пришлось согласиться. /
Укачав кашлявшего ребенка, Ванька подошел к столу и присел. С его безбрового и безусого лица не сходила детская улыбка.
— Где же теперь Семен? — спросил Алмазов, вспоминая Ванькиного батьку, чудака и пьяницу, предпочитавшего всему на свете охоту и некогда на смех деревне обменявшего последнюю кобыленку на пегого гончего кобеля.
— Жив, жив, — радостно ответил Ванька, — на свадьбе гуляет, сейчас будет тут. Тебе все хотел поглядеть: его* говорит, я на руках носил..,
т
Баба подала на стол крутую яишпю в высокой сковородке с отбитым краем. Ванька палпл в стакан самогонки и по обычаю выпил первый, потом налил Алмазову. Задремавший у окна старик зашевелился, подсел к столу и осоловело стал глядеть иа бутылку.
На улице, а потом в сенях послышались громкие голоса. В избу ввалилось разом душ пять мужиков. Впереди, широко размахивая руками и громко говоря, брел Семен. Он почти не изменился, так же щетинкой торчала его рыжеватая бороденка и так же неистово гремел его хохот.
Завидев Алмазова, он растопырил руки и завопил:
— Барин! Сереженька!.. Друг любезный! Пожаловал. Дай тебе расцелую. А? На руках носил! — кричал он, обращаясь к молчаливо стоявшим за ним мужикам. —' На руках носил, ей-богу. Бывало, мамаша прикажут, а я ношу, по двору ношу. А они на ласточек смотрят. А теперь-то, — продолжал оп, переводя голос и отстраняясь, — тебе не признать, убей мене гром, пе признать — встретились бы и разошлись, ей-богу.
— Как живешь? — спросил Алмазов у Семена растерянно, не зная, о чем сказать.
— Как живем? — опять завопил Семен. — Живем — хлеб жуем. Наша житье известная.
За Семеном молчаливо стоял огромный мужик с широкими, как ворота, плечами. Бритое лицо его было каменно, серые небольшие глаза светились задорным огнем, из-под закинутой на затылок шапки на низкий лоб высыпались прямые соломенного цвета волосы. Узкий вышитый воротник холщовой рубахи, застегнутый на одну стеклянную пуговку, обнимал могучую, загорелую докрасна шею. Алмазов невольно на него загляделся.
Он подал Алмазову свою тяжелую, широкую, как совок, руку и сказал Ваньке глухим, с хрипотцой голосом:
— Наливай, чего смотришь — с барином выпьем.
— Выпьем, выпьем, — подхватил Семен, — душа горит.
— Подожди, — сказал мужик, рукой отстраняя Семена,—дай на барина посмотреть, сколько лет господ не видали.
Лицо его показалось Алмазову необыкновенно большим и широким. Прищуренные глаза мужика свети¬
276
лись буйством и насмешкой. Он стал перед Алмазовым, скрестив руки. Все остальные примолкли, слушали с любопытством.
— Сергей Антоныч, — деланно вежливо произнес он, наклоняясь к лицу Алмазова и обдавая его перегаром, — Сереженька. Поглядеть пришли?.. Погляди, погляди, как землицу твою освежевали... Ты нашего брата не осудь.
— Саш, брось, — растерянно улыбаясь, сказал Ванька.
— А ручки-то у тебя белые, — продолжал мужик, разглядывая руки Алмазова и подмигивая кому-то через стол, — перчаточек просят. А! — воскликнул он вдруг глухим, страшным голосом, — Тут, брат, твое дело шабаш. Вот захочу — раздавлю! —* Шально блестя глазами, он протянул над столом огромную руку, покрытую курчавыми, густыми, как у зверя, волосами, раскрыл огромную крепкую ладонь и сжал пальцы в кулак, точно выдавливая из чего-то сок. — Испу- жался?
— Не шуми, Саш, — умоляюще произнес Ванька.
— Да я шучу, — подмигивая и опускаясь рядом с Алмазовым, сказал мужик. — Эй, барин, Сергей Антоныч, пей, друг, мужицкую, на слезах настоянную. Пей! — Он своей тяжкой ладонью похлопал Алмазова по тощей спине. — Пей — не робей! Теперь ты есть пыль. Пальцем тебе никто не зачепит. Не пужайся.
Он налил в стакан Алмазову, чокнулся громко, разбрызгав по скатерти, но сам выпил не много, только пригубил, и стал ходить по избе из угла в угол, широко размахивая большими руками.
Против Алмазова за столом сидел, выпучив глаза, ввалившийся с Семеном грузный мужик и молчал. На его бороде висли крошки, в пьяных глазах стояли прозрачные слезы. Слушая Сашку, он волновался, дергался,* слезинки на глазах его наливались тяжелее.
— Мне Сашка — тьфу! — проговорил он тяжело и бессмысленно, глядя в одну точку и точно не видя.
— Не лезь, Якуш, —- сказал Семен.
— Мне Сашка — тьфу! — упрямо повторил мужик.—У мене сыны альвы. Из порток Сашку выбросят.
Сашка ходил по избе из угла в угол. Ворот белой рубахи его расстегнулся, и виднелось тело, крепкоег
277
покрытое такими же, как и руки, курчавыми волосами. Изба тесна была ему.
И Алмазов потом не мог всего припомнить: лицо старого мужика с выпученными глазами мелькнуло над столом. Огромная Сашкина ручища накрыла его, скомкала и отправила куда-то под стол. Алмазов увидел широкую Сашкину спину, наклонившуюся над скамейкой.
И тотчас же под окном завопил пронзительный бабий голос:
— Яку-ша убива-ають...
Изба опустела. Упало и покатилось ведро. На полу у дверей валялась сбитая с кого-то шапка. Алмазов остался с Ванькой, побледневшим, дрожавшими руками наливавшим в стакан самогонку.
Под окном бабий голос завопил еще отчаяннее:
— С кольями, с кольями иду-уть...
Господи Сусе,—сказала Ванькина баба, отчаянно укачивая проснувшегося ребенка, — это якушата идуть на Сашку. У них зло давнишнее. Будет беда.
В избу вошел Сашка. По виду он был по-прежнему спокоен, так же лихо держалась на затылке ушастая шапка, только сузившиеся глаза блестели да ходили мослаки под бритыми щеками.
— Уходи, барин, — сказал он Алмазову, — не стой у дороги, нечай колесом заденут!
Надев дрожащими руками шляпу, Алмазов выбежал на волю. Слышно было, как горланили по улице удалявшиеся мужики. Что в избе казалось страшным и громоздким — на воле стало просто, и не верилось, что близко ссорятся и дерутся люди. С бьющимся сердцем он перелез изгородь и огородами пошел к Лексеевой пуньке.
На сене он лежал долго, не засыпая, слушая голоса на деревне.
Семенов голос звенел всех громче. Помалу муяшки затихли, стало слышно, как кричат коростели на лугах, и опять порыв ночного теплого ветра донес с деревни бойкую плясовую:
Без тебя, мой друг, постелька холодна, Одеяльце заиндевело...
«Милый друг, — писал Алмазов карандашом на клочке бумагу — четвертый день* как я в деревне.
273
слушаю деревенскую тишину. Здесь мне родной каждый камень; я ходил на реку, бродил по лесу, где когда-то мы с тобой собирали грибы (впрочем, тебе не узнать теперь нашей рощи), пробовал косить с мужиками на «наших» лугах, гулял на мужичьей свадьбе и слушал деревенские песни, те самые, что слушали мы, когда ты приезжала в Алмазовку, пил — это уж от нынешнего — с мужиками самогонку, пахнущую горелым хвостом болотного черта. Был пьян и чуть не попал в драку... Пожалуйста, не пугайся, я невредим, сейчас гляжу на небо, в котором совсем нетрожно — как и тогда — висит ястреб. Я вижу, как над деревней столбами стоят дымы. Сейчас утро, бабы растапливают печи, и опять, как и тогда, здесь пахнет коноплей, сеном и дымом. Все эти дни воздух так чист, что я вижу отсюда, как за рекой зеленятся хлеба и на Маришином лугу ковром цветет куриная слепота...
На месте нашего старого дома растут прекрасные лопухи, величиною в твой дождевой зонтик. В крапиве ты смело спрячешься с головой. А вокруг колосится мужичий ячмень, от тучности почти черный. В парке, от которого осталось немного деревьев, живут грачи, потомки тех, «наших» грачей, с которыми мы так старательно воевали. Так же, пожалуй немного грустнее, свистят вокруг колокольни стрижи, а с алмазовского памятника давно ободрана мраморная доска, и памятник стоит безыменным. Это все, что осталось от Алмазовых...
Здесь я чувствую себя так, точно мне триста лет и я помню царя Гороха. Я нахожу странное отношение ко мне людей: меня встречают как нищего. В сущности, меня так и приняли. Третьего дня один мужик меня назвал так: ты — пыль.
Как это верно!»
Когда Алмазов выходил из деревни, над полями поднималось солнце, теплый ветер опять гнал по дороге легкую пыль. Над головой Алмазова, купаясь в воздухе, пел жаворонок. На выгоне, над рекою, играл на трубе пастух, заливисто, с переборами, и за деревней пастуху отвечало эхо. Пели на деревне петухи.
Алмазов шел легко по краю дороги, и колосья шелестели по его рукаву. Выйдя на взгорок^ он остано¬
279
вился, посмотрел на солнце,, на деревню, на тот берег, тонувший в зыбившемся солнечном свете; улыбнулся и пошел дальше. Взгорок за его спиной закрывал деревню, и помалу скрывался зеленый берег реки. Перед ним открывалось поле и дальше, в лощине, луг, на котором разноцветными пятнами копошились люди. Запахло свежим сеном. В тени по канаве лежала у дороги роса.
Он шел быстро, поглядывая па людей, перешел мостик, под которым, журча, пробегал по каменистому дну ручей, голубели незабудки, и стал подниматься в гору.
Кто-то сзади окликнул его, и он остановился.
По лугам, через скошенные валы, к нему бежал парень без шапки, в белой рубашке. Подбежав к ручью, он легко перепрыгнул и побежал дальше. Алмазов узнал в нем знакомого — жениха.
Парень подбежал к нему и, переводя дух, улыбаясь, сказал:
— Таня наказала вам передать на дорогу.
Он подал Алмазову кусок сала и край хлеба.
— Вы уж извините, ие гневайтесь, — сказал он п поглядел Алмазову прямо в глаза своими молодыми серыми, полными жизни глазами.
Алмазов взял сало и хлеб, пожал парню руку и молча пошел дальше. Парень посмотрел ему вслед, перескочил через канаву и с молодой легкостью побежал назад через луга. Когда он подбежал к своим, разбивавшим густые, тяжелые валы, и оглянулся, Алмазова не было видно. Вслед ему ветер гнал по дороге пыль.
1925-1950
АВА
I
Город невелик, очень зелен, древен и древян; зимами голубые сверкающие сугробы на отдаленных и тихих улицах лежат нетрожно вровень с похинувши- мися, утыканными гвоздьями заборами и крашеными ставеньками похожих на тихие коробочки домов. Хорош, зелен и тенист в городе запрудный Купеческий сад, старый, просторный, с разлапыми дуплаътыми
280
липами, дубами, кленами и конскими каштанами* помнящими золотые времена, когда был город богат, славен и бел; с заплывшим зеленою недвижною ряскою прудом; пегими, чекочущими под берегом пекин- ками-утками; с покосившеюся, испибанною и изрезанною ножами беседкою «Блюдечком» на древнем высоком валу, откуда широко и просторно открывается вид па осыпанные стогами заливные луга, на извивную светлую реку (вид этот особенно хорош весною, когда разливается и широко идет — стоит река), на железнодорожный высокий мост, по которому медленно про- ползают длинные товарные поезда.
В прежние времена славен был город крепким бытьем-житьем, миллионщицами-невестами, монастырями мужскими и женскими, купеческими свадьбами и похоронами, зелеными кладбищами, яблочной пастилой, налимьей ухою (а водились налимы в речке Ка- линовке, под городом, и ловили их больше зимою в лунках), тем, что в кои-то веки, проездом в изгнание, останавливался и гостил в городе Пушкин, и скромное имя города увековечено в стихах и прозе великого поэта.
Теперь это далекое. От золотого бытья-житья остались воспоминание и пепел; лопухом и непролазной крапивою затянуло забрызганные птичьим известковым пометом купеческие покосившиеся памятники и литеры; на монастырских просторных^ дворах ветер треплет развешанные на грушах и яблонях мокрые подштанники и пеленки.
А будто и недавно все это было: утро, белая Пушкинская, белыми хлопьями кружит и тихо опускается снег; бегут в гимназию, смеясь, оскользаясь новыми блестящими калошками, гимназистки, и на их румяные лица, на шубки и шапочки, на книги, которые они несут, прижимая к шубкам, садится и тает снег; долговязые гимназисты, трогая невыросшие усы, раскланиваются степенно, двумя пальцами касаясь козырьков лихо измятых фуражек; вот, частенько шагая низкими сапожками, выплыл и, засыпаемый снегом, остановился на углу у красной часовни с горящей лампадою, с прибитыми к стене запечатанными кружками и с похожей на мышь востроносой монашкой в стеганой ватной скуфейке, покрестил бороду и, поставив свечку, проплыл дальше купец Астрюхин; на прямой как стрела* мутной
281
от падающего снега, обсаженной стрижеными, похожими на кружевные шары, тополями Большой Дворянской улице, будто внезапно родившись в падающей снежной пелене, выкидывая ноги в кольцах, играя желваками и ёкая, бросаясь в зеленую надутую сетку, промчался навстречу гимназисткам темно-серый рысак, легко неся высокие бегунки с держащим ярко-синие вожжи краснолицым человеком в бобровой шапке и маленькой женщиной, закрывшей лицо меховой муфтой (серого ёкавшего жеребца, мужчину в бобровой шапке и маленькую женщину знает и говорит о ней весь город)... Жеребец проносится, как видение, и тотчас вылупляется в падающей снежной пелене черное и недвижимое; это черное — высокий воз с угольными, запорошенными снегом кулями; маленькая и тоже черная лошадка, распустив уши и кланяясь с каждым шагом, медленно его тащит; похожий на арапа лохматый человек в заячьей ушастой шапке, с черным лицом, поводя белками глаз, сидит на возу, растопырив черные, обшитые кожею валенки, и кричит знакомо и неподражаемо:
— У-голья! У-голья!.. Вот у-голь-яя!..
— У-голья! У-голья!.. Во-от у-гольяя! — тоненькими голосками передразнивают гимназисты-приготовишки в длинных, на рост, шинелях с мокрыми полами, гурьбою, с побрякивающими ранцами, бегущие серединою улицы и на ходу дующие в заколяневшие от снежков пальцы.
И так же,, как купец Астрюхин, идущий открывать свою лавку, как серый ёкающий жеребец с проматывающим отцовские тысячи забубенною головушкой купецким сынком Сашей, — словно видение, скрывается черный воз с арапом в заячьей шапке, а из сплошного сыплющегося снега еще долго-долго слыхать:
— У-голья! У-голья!.. Во-от березовы сахарны у-голья-я!..
II
Женскую гимназию в городе, в пику разорившемуся и обедневшему дворянству, построили купцы (собственно, на виду в городе и было дворян, что земские начальники из отставных поручиков и капитанов да начальник тюрьмы* высокий и затянутый человека
282
а своего предводителя дворянства, глухого и чудаковатого, нюхавшего табак и пившего настоечку из зверобоя старика Корфа, сами дворяне в шутку звали предводителем начальника тюрьмы). Дом вышел тяжкий, с претензиями на пышный стиль, с тяжелою колоннадою и лавровым венком на фронтоне, с такими толстыми стенами, хоть из пушки бей... Гимназию город назвал Пушкинской, в честь поэта, и в гимназической зале со стеклянными дверями и высокими окнами в сад, на кружевные макуши кленов и лип, висел портрет поэта в тяжелой позолоченной раме, писанный маслом, но и в портрете было что-то тяжкое, будто глядел из золотой рамы на ряды гимназисток, каждое утро выстраивавшихся на молитву, какой-то лохматый и хмурый гостинодворец.
Строили гимназию для своих дочерей купцы прочно, и порядки в гимназии были прочные, строгие, как в монастыре.
В кабинете начальницы — высокой, полутемной от штор и от росших под окнами лип комнате с блестевшим черною крышкою роялем, с длинными, отражавшимися в налощенном паркете шкафами по стенам, с портретом царя в боярском наряде и царицы в жемчужной кичке, с большим письменным, убранным чистейше столом — у входа стояла под стеклянным колпаком кукла, одетая гимназисткой: в коричневом платьице на корсаже, с высоким глухим воротником,, в черном кашемировом фартуке, обтягивавшем спину и грудь, с узенькими кантиками батиста на обшлагах и воротнике. Гимназисток, переводившихся из других городов и гимназий, где порядки были легче, начальница Марья Васильевна, высокая и очень прямая дама с голубыми тонкими пальцами, с правильным и холодным лицом, приглашала в кабинет, сама подводила к кукле, таращившей нарисованные глаза, и говорила строго:
— Прошу вас, милая, помнить, что у меня вы должны одеваться и причесываться по форме, висюлек и челок я не допущу. Помните всегда, вы — гимназистка...
И, оглядев своими серыми холодными глазами приседавшую в глубоком реверансе, заливавшуюся по всему лицу краскою молоденькую гимназистку, прибавляла, пряча под пуховый платок свои сухие, недобрые руки:
283
— Можете идти. Надеюсь, что вы будете образцовой ученицей...*
Гимназия в самом деле считалась образцовой. В подражание институтским порядкам (так же, как и в институтах, позорнейшим наказанием было, когда начальница приказывала девочке снять фартук; не менее было позорно, если сама гимназистка, заспавшись и торопясь, прибегала без фартука в класс), до шестого класса выходили гимназистки гулять парами в сопровождении классных дам, и строго-настрого заказано было до пятого класса носить на затылках пучки, танцевать с неизвестными начальнице кавалерами, гулять и оставаться на катке после семи, — а за всем этим следили уши и глаза Марьи Васильевны — классные дамы. Раз — два раза в зиму устраивались в гимназии балы и спектакли, съезжались родные, и начальница сама приглашала двух гостивших в городе кадетов, сыновей проживающего в городе отставного полковника, почтительных и румяных мальчиков, являвшихся в мундирах со стоячими воротниками, с белыми погонами, надушенных и в перчатках. Они чинно прикладывались к сухой ручке начальницы и весь вечер до седьмого поту танцевали (а танцоры они были отличные!) со светившими белыми фартуками гимназистками, изредка выбегая на мороз под ворота, на блестевший под окнами снег, и совсем не чинно накуриваясь махоркой.
Учились в гимназии дочери купцов, как на подбор некрасивые широконоски, с маленькими глазками и белесыми ресницами, будущие богатые невесты; в класс они приходили дорого и чисто одетые, с запасными тетрадями и дорогими ручками, с завтраками в вышитых гладью сумочках. Хорошенькие и смехуньи в гимназии были дворянки и дочери городских, чиновников. И у всех еще с первого класса, по гимназическому обычаю, были заведены альбомчики для стишков —-
Дарю тебе корзинку,
Она из тростника,
В ней фунта два малинки И ножка индюка...
Строгостью порядков обязана была гимназия начальнице Марье Васильевне. Прежнего директора, доброго и молодившегося Михаила Михайловича, танцевавшего
284
на балах со старшими гимназистками вальс, Марья Васильевна выжила очень скоро. А по ее хлопотам назначили в гимназию директора нового, маленького и плешивого старичка, страдавшего зобом и одышкою, носившего легкие, без каблуков, сапожки, отложные воротнички, имевшего смешную привычку плевать на кончики пальцев. Новый директор был тих и почтителен с Марьей Васильевной, забравшей в гимназии полную силу, ходил в своих тихоньких сапожках молча, мертво поглядывая поверх вросших в переносицу золотых очков. И этого его взгляда, тихих шажков боялась гимназия не меньше холодных глаз и грозного голоса самой Марьи Васильевны. Встречаясь с ним в длинных гимназических коридорах, гимназистки жались к стенам, замирали и холодели, припадали в глубоких реверансах.
А все же, несмотря на такую строгость, жизнь в гимназии била звонким ключом; непривычному уху было больно от визга, шума и топота, поднимавшегося в гимназии на переменах. Носилась сломя голову, всюду мелькая своим разгоревшимся личиком, с упрямой, выбивавшейся на розовую щеку прядью, душа й любимица младших классов — Ляля Зарецкая. Это она, завидев, бывало, поднимавшегося по лестнице директора (она всегда 'замечала все первая), вихрем, едва касаясь туфлями пола, взбивая коленками юбку, влетала в класс, останавливалась, с трудом удерживая дыхание, и делала такие глаза, что замирал класс.
— Шш! Шш!—выговаривала она, переводя дух и поднимая палец. — Шш! Шш! Вафля идет!
III
С младших классов первой шла Ава Городцова.
По установившемуся в гимназии порядку, в каждом классе отмечались лучшие пять учениц, и из первых пяти впереди была Ава. Спокойно и уверенно поднималась она на вызов и шла к доске; четко и без запинки отвечала всегда твердо заученные уроки, стоя у стола и, по обычаю, держа на фартуке руки в обшлагах с белою каемкой, ладонь в ладонь, опустив большие, темные и действительно красивые, немного близорукие глаза, которым завидовали самые хорошенькие гимна¬
285
зистки. Было в ней чтогто монашье: так была она щепетильно чиста и опрятна, так тщательно следила за чистотой дешевого своего сатинового, порыжевшего от глаженья платьица. В гимназии знали, как бедна и велика их семья, как тоскливо и неприютно у них дома. Ава не дружила ни с кем, гордясь своею бедностью и особенно своим отцом, которого город знал не меньше, чем купца Астрюхина и Сашиного серого жеребца.
— Мой отец — честный, прямой человек, — случалось, говаривала она своим глухим, грубоватым и низким голосом, гордо блестя глазами. — Он много страдал. Он очень, очень добрый...
В отца Ава была влюблена. Гимназистки не любили ее, сторонились, даже побаивались, а вместе и уважали, зная, что с пятого класса Ава сама зарабатывает уроками и помогает семье, и это казалось в гимназии необыкновенным.
В старших классах Ава неожиданно уступила свое первое место. Вышло так, что ученицы более ленивые и легкомысленные, смехуньи и попрыгуньи, с легкостью схватывавшие то, чего с таким трудом добивалась Ава, вдруг перегнали ее и заняли ее привычное место. Ава была потрясена и принижена, работала по-прежнему, но первого места ей так и не пришлось вернуть: с шестого класса она шла третьей. В конце шестого года начальница, благоволившая ей, глядя на нее сощуренными холодными глазами, пряча под платок руки, сказала:
— Ты, Городцова (любимым ученицам начальница говорила «ты», а «вы» в гимназии было плохим знаком начальницыного недовольства и нелюбви), — ты, Городцова, стала учится хуже: что это значит?
Гимназистки, стоявшие рядом, приметили, как пятнами покраснели шея и уши Авы и как задрожали ее лежавшие на фартуке пальцы.
— Да, — продолжала начальница, отрываясь и смотря поверх ее головы с туго заплетенными (она всегда туго заплетала тяжелые свои и жесткие волосы), уложенными венком смолистыми косами. — Я надеюсь, что в будущем году ты опять займешь свое место...
— Да, мадам, — тихо ответила Ава, приседая и отходя своею угловатой мужскою походкой* с пылающим как жар некрасивым лицом.
286
Тот день ядовитая на язычок, проворная и картавая лентяйка Ната Сухинина, вертясь перед стеклянной дверью, заменявшей гимназисткам зеркало, и картавя, сказала что-то о ней смешное так громко, что картавый ее шепот услыхала Ава, проходившая из коридора, и гимназистки увидели опять, как еще гуще покраснели уши и шея Авы, как, усевшись за парту, удерживала она подступавшие слезы.
Отца'Авы Городцовой, учителя уездного училища, знал весь город. Знали его за поражавшую всех в городе казавшуюся смелость убеждений, за необычную для тихого города прямоту и резкость поступков. В городе его побаивались и сторонились. Даже по внешнему своему виду заметен он был из всего города: был он с излишйом сух, угловат и рукаст; темные близорукие глаза его глубоко сидели в обозначавших череп глазных впадинах; странностью была в нем привычка вытягивать шею и кривить подбородок, будто давила его петля, манера легонько коснуться большой мохнатой рукою плеча собеседника и тотчас отдернуть руку; характерна была его угластая, с копною жестких смолистых, седеющих волос голова. По городу он слыл примерным хозяином и семьянином: он сам ходил и убирал за маленькими многочисленными своими детьми; утрами, в порыжелой широкой шляпе и шлепавших калошах, сам бегал за реку на базар и, как говорили, сам топил печку, стирал и стряпал, жалея болезненную, неслышную и всегда беременную жену. Рассказы о нем ходили странные: однажды (было это в разгар войны), увидав из окна школы, что какой-то новоиспечённый штабс-капитан из гостинодворских приказчиков, с красным темляком на эфесе, бьет солдата за неотдание чести, он выбежал иа школы в чем был, страшно потрясая своей седеющей гривой, и с яростью накинулся на штабс-капитана. В другой раз — это было много раньше, когда еще гремела память пятого года, — будто бы совершил он еще более замечательный поступок, скрывая у себя известного террориста. Во время войны, когда в смутном предчувствии больших и грозных событий притих и затаился город, а люди боялись обмолвиться лишним словом, он продолжал один резать в глаза правду, бегал для чего-то за город на фабрику и вслух говаривал такие вещи* что от него
287
шарахались, как от чумного. Этими поступками и поведением отца очень гордилась Ава.
— Да, да, — все убежденнее повторяла она, краснея пятнами и нервно блестя глазами. — Отец мой никогда ни перед кем не унижался. Он очень смелый.
Это она выговаривала так, что не-верить словам ее было нельзя. И ей в гимназии верили, считали ее отца необыкновенным, встречая его на улице, всегда куда-то спешившего, хлюпавшего калошами, торопились почтительно поклониться. И как должное и непременное принимала это почтительное отношение подруг сама Ава.
IV
Были в ней черты, за которые недолюбливали ее гимназистки. Слишком уважала она свое положение лучшей в гимназии ученицы, слишком старалась выделиться из всех. На уроках, когда терялась и путалась вызванная к доске гимназистка, Ава, всегда неторопливо и спокойно, поднималась со своего места и терпеливо ожидала, когда спросят ее. Однажды в уборной, поправляя сбившуюся прическу и поднявши над головой испачканные мелом локти, смотря исподлобья, держа во рту шпильки и шепелявя смешно, Ляля За- рецкая сказала ей так:
— Ну, зачем ты, Авка, всегда поспеваешь? Как не стыдно! Сегодня Маня Зубакина из-за тебя ревела...
Ава, не любившая Зарецкую за ее отца, богатого и важного чиновника, презрительпо взглянув на нее своими близорукими темными глазами, ответила кратко:
— Я знаю, что делаю.
— Ей-богу, Авка, стыдно.
— Пожалуйста, не учи! — ответила, вспыхивая и отходя, Ава.
Было что-то особенное даже в ее внешности. Плечи ее были сухи и квадратны, руки длинны и тверды, и говорила она резко, отрывисто. Даже стихи любимого в гимназии Пушкина читала она так, что учительница по русскому — молоденькая и постоянно красневшая за свою молодость Ксения Михайловна, которую ученицы доводили до слез признаниями в любви («Вы, Ксения Михайловна, такая хорошенькая, мы вас любим, любим, любим, — кричали, бывало, они.всем клас¬
288
сом,— у вас такой чудесный цвет лица!» —и Ксения Михайловна, не в силах справиться с классом, вынуждена была приглашать классную даму, строгую и зеленую Опенку, которая усаживалась на ее уроках у окна с вязанием в руках, в качестве как бы полицейской силы), —даже Ксения Михайловна, краснея и конфузясь, сказала Аве однажды:
— Вы, Городцова, стихи не читаете, а точно рапортуете... будто солдат...
Особенно, с какою-то грубоватою старательностью и серьезностью, делала Ава обязательные в гимназии реверансы, выводя из себя этой серьезностью тех вертушек и попрыгуний, которым начальница часто выговаривала:
— Лучше уж совсем не делайте мне реверансов, а выкидывать перед начальницей какого-то хохлацкого гопака, согласитесь сами, неприлично.
Война вдруг изменила, преобразила город, всколыхнула городское привычное бытье-житье. Город наполнили новые люди. По бульвару и Пушкинской, где, бывало, толклись вечерами гимназисты, пробегали на каток, смеясь и позванивая снегурками, румяные гимназистки, нынче гуляли новоиспеченные прапорщики в ремнях и новеньких погонах; проходили, семеня ножками, сестры милосердия в черных монашьих косынках. Город будто примолк, посерел, стал беспорядочнее и грязнее. Первое время все это — прапорщики, ремни, косынки, музыка и песни всякий день проходивших по городу и топтавших рыжий снег солдат — казалось занимательным и модным. Гимназистки сходили с ума, мечтая о косынках милосердных сестер; гимназисты готовились добровольцами на фронт. Гимназисты и гимназистки бегали на вокзал за город провожать отправлявшиеся на войну эшелоны — вонявшие дымом и табаком теплушки, набитые серыми, невеселыми, выскакивавшими за кипятком па утоптанный снег людьми; кричали тоненькими голосками ура и пели гимн. Осенью, в начале учебного года, кроме обычного молебна, батюшка отец Валериан, маленький, робкий и белокурый, служил в гимназии о ниспослании победы христолюбивому воинству. Он стоял на коленях в зеленой, коробом топырившейся над его разноволосой приглаженной головою ризе, а за ним коричневыми рядами коленопреклоненно молилась и плакала вся
10 И. Соколов-Микитов, т.~1 289
гимназия — кланялись и поднимались темные и светлые девичьи головы, мелькали руки. Война издали казалась завлекательным зрелищем, такою, как видели ее па картинках: с красавцами генералами и на белых и вороных конях, с живописными клубами порохового дыма. И было обидно, когда Тонечке Петуховой, тоненькой гимназистке с веснушками на носу, громче всех кричавшей на вокзале ура, проходивший бородатый солдат в шинели внакидку, остановившись и капая из чайника кипятком, сказал, укоризненно покачивая головою: «И-ох, барышни, барышни, лучше бы делом занялись, папаше-мамаше чай наливали!..» — но маленькая эта неприятность очень скоро забылась. В женской гимназии, как и следовало тот первый год, на уроках рукоделия у круглой, похожей на крашеное пасхальное яичко, Павлы Петровны гимназистки прилежно шили кисеты и вязали шарфы, вкладывали в махорку надушенные записочки солдатам в окопы, а немка Деми- цилия Адольфовна (в шутку гимназистки звали ее Бациллой Адольфовной), чувствовавшая себя виновной за разразившуюся войну, не спрашивая уроков, всем стала ставить пятерки.
Так было первое время. Потом потекли будни. В город доставили первых раненых. На первых порах они казались людьми особенными, видевшими своими глазами войну, и было удивительно, что так просто, как самые обыкновенные люди, они стоят у входа в коммерческое собрание, где городское купечество устроило лазарет, в белье и больничных халатах внакидку, с белыми забинтованными култышками, курят и смеются. Лица у них были по-больничному желты, и на них неприятно сквозили отросшие бороды, а пахло от них аптекой и чем-то больничным, кислым. Гимназистки, всякий день проходившие мимо лазарета с повисшим флагом над входом, стали отдавать раненым свои завтраки и покупать на карманные деньги папиросы. И всякий раз раненые поджидали проходивших гурьбою, звеневших голосами девочек, принимали подарки, ласково шутили. Весело смеялся, открывая ровные, сплошные и белейшие зубы, раненный в руку веселый солдат Серега, которого знала и любила вся шенская гимназия...
•Потом все это стало буднично и привычно. Давно пригляделись франтившие перед отправкою на войну
290
прапорщики, примелькались монашеские косынки сестер, будничнее и грознее стала казаться война, чаще ходили недобрые по городу слухи. Весною, перед экзаменами, у Сони Воронцовой убшуя на войне брата, и она неделю не ходила в класс, потом явилась заплаканная, бледная, с крепом на гимназическом значке. У многих девочек забрали отцов и братьев. Взяли из гимназии сторожа Степана, открывавшего парадную дверь и звонившего на лестнице в колокольчик; у Степана под лестницей, в каморке, которую он занимал, с маленьким оконцем на задний двор, оставались жена и ребенок, и вся гимназия перебывала под лестницей смотреть маленького, еще морковно-красного, фыркавшего приплюснутым носиком и топорщившего красные пальчики сына Степана, на Степанову заплаканную и растерянную жену Дашу, сидевшую на краю кровати со сбитым ситцевым одеялом, плакавшую горько и кормившую грудью ребенка. Куда-то пропал, не летал по городу и базару серый Сашин рысак, не кричал неподражаемо, не ездил больше похожий на черного арапа угольщик-мужик.
v
Сперва казалось, скоро-скоро въедут храбрые русские генералы на белых и вороных конях в главный немецкий город, кончится война, и будет долго ликовать Россия. Немка Демицилия Адольфовна ходила сконфуженная, робея поднять глаза, а чтобы покрепче ей насолить, розовая и круглая Дуня Кудрявцева, сидевшая на крайней парте, перестала, как всегда делала раньше, вскакивать и закрывать за немкою дверь. Краснея, теряясь на глазах недружелюбно молчавшего класса, Демицилия Адольфовна неловко поворачивалась длинною своею, затянутой в форменное зеленое платье спиной и сама закрывала за собою стеклянную дверь. В то же время гимназисты до обморока качали на руках француза Эмиля Альфредовича Корню, высокого, черноусого многосемейного человека, занимавшегося прежде скромным кондитерским ремеслом.
В гимназии было по-прежпему строго, и по-прежнему всякое утро рядами выстраивались гимназистки в большой белой зале, где смотрел на них хмурый и
10*
291
кудлатый Пушкин, пели молитвы и гимн; по-прежнему прямая и холодная, как статуя, стояла в дверях начальница Марья Васильевна, и, проходя парами, наклоняя головы, гимназистки приседали перед ней в реверансах.
А еще строже, по распоряжению Марьи Васильевны (воинственное ее и патриотическое настроение не мешало ей косо смотреть на франтивших по городу прапорщиков), стали следить за гимназистками классные дамы. По-прежнему раз — два раза в зиму бывали в гимназии балы, и начальница сама приглашала умевших себя держать кавалеров-гостей. На балах в гимназической зале, под портретом царя, в кружевной белой коробке, на особом возвышении стояла большая нарядная кукла с дорогим приданым, сделанным руками гимназисток на уроках Павлы Петровны, а на серебряном подносе лежал розовый запечатанный конверт с именем куклы. Это была особая, придуманная начальницей благотворительная игра: надо было угадать имя куклы, а желавшие участвовать в игре (на балы съезжались богатые родные гимназисток) клали па поднос деньги — разумеется, в пользу раненых и увечных, пострадавших па войне воинов.
По-прежнему великим постом, когда особенно была хороша и бела в последние свои дни зима, вся гимназия говела у гимназического отца Валериана, конфузливо спрашивавшего у девочек их детские грехи, короткими белыми и пухлыми пальцами листавшего на аналое книгу и накрывавшего девичьи клонившиеся головы пахнувшей орехами епитрахилью, красиво читавшего молитву. На причастие вся гимназия являлась в белых, накрахмаленных, туго хрустевших передниках, и день этот казался особенным и счастливым.
И по-прежнему, идя в гимназию, гимназистки нарочно проходили мимо красной церкви Бориса и Глеба, где под шатровою древнею колокольней с оравшими галками, с длинными сосульками на ограде, сидел всему городу известный безбородый и безбровый юродивый Огонек. В гимназии было заведено издавна и считалось доброй приметой перед экзаменом и трудным уроком дать Огоньку копейку, попросить помолиться за рабу такую-то, имярек...
В конце долгой Пушкинской, обсаженной стрижеными тополями, с белою паутиною свисавших, пухлых от инея проводов, недалеко от гимназии стояла шелко¬
292
прядильная фабрика. Это было кирпичное красное прямое здание с широкими решетчатыми окнами, за которыми день и ночь тускло и желто горели электрические лампочки, был слышен непрерывный жужжащий звук машин и несмолкаемый гомон женских голосов. На фабрике работали девушки-прядильщицы. Случалось, что занятия в гимназии и работы на фабрике оканчивались в одно время, и тогда оттуда и оттуда — из гимназии и красных ворот фабрики — вываливала на белый скрипучий снег голосистая текучая девичья толпа. Фабричные были в коротеньких жакетках, в валенках, с покрытыми вязаными платочками головами, с длинными, заплетенными голубым шелковым газом косами. Они валили серединою улицы со своими частушками-песнями, и плохо приходилось, ежели встречу им попадались возвращавшиеся из гимназии гимназистки. Встречая чистеньких гимназисток, они задирали их зло, забрасывали снежками, валили в снег и щекотали, крича вслед:
— Барышни, беленькие, в перчаточках, белоручки, а черт бы вас побрал!..
А больше всех дойимала гимназисток Маша Груз- дова, самая бойкая из фабричных, дочь зареченского кузнеца Максима, чернобровая и долгокосая красавица. Она ловко догоняла хоронившихся от нее, с испугу ронявших книги и тетради гимназисток, подставляла им по-мальчишески ножку и валилась с ними в снег.
— Косы-то, косы-то! Мышиные хвостики! — кричала звонко, зло щекоча плакавших от обиды, визжавших гимназисток, теребила плохонькие их,г действительно похожие на мышиные хвостики косы.
Гимназистки как огня боялись чернобровой красавицы Маши. Завидев ее, они спешили поскорее перебежать на другую сторону, схорониться подальше* пробежать незаметно... Однажды у Павы Судейкиной, дочери исправника, вечером спешившей на гимназический бал, фабричные отняли мешочек с гостинцами и на глазах горько плакавшей Павы, дуя в зазябшие пальцы, разделшш и слопали предназначавшиеся на бал слоеные пирожки с вишневым вареньем. После этого случая на Пушкинской, подле гимназии, в часы роспуска стал дежурить городовой Василий Князев* огромный и краснолицый дядька с белыми от мороза усами. Под его защитой гимназистки ходили смелее|
293;
а чтобы отомстить фабричным, при встрече задирали носы и начинали говорить громко по-французски заученными из хрестоматии словами:
— «Вороне где-то бог послал кусочек сыру...» — выступая важно, говорила, бывало, одна по-французски заученным из басни стишком.
— «На ель ворона взгромоздясь...» — того важнее по-французски же отвечала ей подруга, делая строгие глаза и отворачиваясь от проходивших фабричных.
Смутно знали гимназистки о загородной, спускавшейся на обрыв, где зимою сваливали городские отбросы и бродили, бездомные псы, глухой улице с деревянными домами, всегда закрытыми ставнями, — в гимназии, в старших классах, тайно прочли «Яму» писателя Куприна, — и вся гимназия знала проститутку (слово это боялись выговорить вслух) Настю Танго. Знали ее потому, что иной раз показывалась Настя днем, в какой-то странной ярко-желтой шляпе, ярко накрашенная, с угольно-черными длинными бровями, нарочно останавливалась там, где проходили гимназистки, и, с папиросой во рту, уперев в бока руки, перегнувшись, ненавистно смотрела на них прижмуренными глазами. Гимназистки боялись взглянуть на страшное лицо Насти, чувствовали холодный и непонятный ужас и, точно чего-то стыдясь, спешили пробежать мимо, а редкая осмеливалась оглянуться на Настю, все так же стоявшую в неестественной позе, руки в бока, жевавшую папироску и хрипло и ненавистно хохотавшую гимназисткам вслед...
VI
Со второго года войны, после того как мужская гимназия отошла под казармы для стоявшего в городе запасного полка, в женской гимназии по вечерам стали заниматься гимназисты. Пылью, шумом и грохотом, непривычною топотнею наполнились коридор и чистенькие классы женской гимназии. Больше всех сердился на гимназистов кривой Авдеич, гимназический сторож, ставший на место Степана, писавшего жене письма пз немецкого плена (письма эти жене Степана, по-прежнему жившей под лестницей, приходили читать гимназистки, и о Степановых бедах знала вся гимназия).
294
Авдеич ходил хмурый, сердито глядел одним своим глазом, сердито бубнил себе под нос:
— Жеребцы, ветрогоны, пакостники, за ними на уберешься, всю гимназию перепакостили.
По утрам гимназистки находили в партах измятые окурки, а в уборных нестерпимо разило табачным дымом. Однажды на задней парте, где всегда сидела Зарецкая, объявилось послание от неведомого тоскующего гимназиста. На черной лакированной доске парты выведены были карандашом печатные знаки, что-то вроде: «И скучно, и грустно, и некому руку пожать...», а под пими две буквы — Н и С. На уроке французского, прикусив язычок и низко наклонив голову с черным бантом в косе, Зарецкая долго рисовала на парте вытянутую женскую ручку в гимназическом обшлажке, с браслеткой-часиками на запястье, и, удерживая смех, написала тоскующему гимназисту ответ! «Вот вам моя рука».
На другой день на парте оказалась отлично нарисованная мужская рука, крепко пожимавшая изображенную Зарецкой маленькую ручку, а в парте лежала записка, написанная четким и прямым почерком, с предложением познакомиться и поговорить. Зарецкая, sapanee радуясь своей затее, всегда готовая на выдумку, ответила гимназисту, что рада познакомиться и сама назначила место: после занятий на углу Дворянской, под большим тополем. «А чтобы нам узнать друг друга, — писала она, — держите в левой руке книгу».
Тот день Зарецкая, как всегда, насажав гимназисток в маленькие ковровые санки, на которых приезжал за нею в гимназию скалозубый денщик Отрошка, очень любивший катать Лялиных веселых подруг, нарочно поехала по Дворянской, и гимназистки, помирая со смеху, видели на углу под тополем стоявшего в грустном одиночестве с книгою в руке, длинноволосого и высокого гимназиста Колю Смоленского. Гимназистки прокатили мимо, а Коля еще долго стоял один в мечтательном ожидании...
Тот год до самого февраля своею привычною жизнью продолжал жить город. Как всегда, по воскресеньям и средам хаживали люди на базар, где лохматые мужики с сосульками на усах продавали пахнув- шпе деревом кадушки и живых, отчаянно визжавших
поросят; ходили в собор слушать по большим праздни-
\
Ж
нам приезжавшего из Москвы знаменитого протодьякона Розова; ссорились, праздновали именины, поигрывали в картишки и служили молебны. Как всегда, в часы окончания работ, усталые и молчаливые, угрюмо валили рабочие с фабрики. По-прежнему начальница казенной гимназии Марья Васильевна соперничала в строгости порядков и благочинии с начальницей гимназии частной, тоже Марьей и тоже Васильевной. И по-прежнему месили на улицах солдаты рыжий снег, а бойкие прапорщики, ведя роту и встречая проходившую по тротуару хорошенькую городскую барышню, подмигивали солдатам, и рота отхватывала так, что шарахались у ехавших с базара мужиков лошади и дребезжали в окошках стекла:
Здравствуй, Mania, здравствуй, Даша,
Здравствуй, милая моя!..
Зимою, перед Февральской революцией, стряслась история с маленькой и тишайшей Зоечкой Прибыловой, надолго переполошившая всю гимназию. Зоечца два дня не приходила в класс, а на третий неведомо от кого по гимназии прокатился слух, что Зоечку увезли с собою в Москву офицеры. Пришла Зоечка только на четвертый день, и вся гимназия встретила ее так, что Зоечка, и не подозревавшая, какие про нее ходят слухи, узнав о причине недоброго к себе отношения (сама Зоечка уверяла потом, что она только прокатилась две станции, провожая двоюродного брата), вдруг стала неузнаваемой, стала дерзить подругам, наговорила грубостей начальнице, вызывавшей ее в кабинет на объяснение, и постановлением педагогического совета Зоечку исключили из гимназии. Это был единственный за все время существования гимназии случай.
Дни были теплые, текло с крыш, оголтело кричали, предчувствуя весну, воробьи. Город стал похож на большую разворошенную муравьиную кучу. Люди были как воробьи, обрадовавшиеся веспе. По городу ходили толпы; исчез куда-то, словно провалился, городовой Василий Князев; арестовали и отпустили вышедшего на дежурство, потерявшего голову жандарма Трушко, любителя голубиной охоты; в женской гимназии по ошибке вместо портрета царя Авдеич снял и отнес на чердак портрет самого Пушкина. Марья Васильевна
296
встретила революцию как новое и великое испытание п еще с большей строгостью сама стала следить за нерушимостью установленного порядка, а гимназистки слышали, как она делала строгий выговор Авдеичу, забывшему по случаю революционных торжеств стереть пыль с ножек рояля. В гимназии отец Валериан служил молебен, и гимназистки, как прежде, чинно стояли в белых нарядных фартуках, а после молебпа Марья Васильевна обратилась с речью, требуя от гимназисток еще большего внимания к своим обязанностям, объявила под копец, что с этого дня им разрешается носить открытые на платьях воротнички. На другой день почти все гимназистки явились в класс в переделанных платьях, с голыми шеями.
Тогда же ходили отпирать тюрьму. Черная на снегу толпа — гимназисты, солдаты, рабочие, родственники и приятели сидевших в тюрьме воров — стояла у большого красного закопченного здания тюрьмы, требовала освобождения политических. Сверху, залепляя решетки серыми пятнами лиц, жадно смотрели арестанты. У ворот тюрьмы спорил с толпою высокий бородатый старик надзиратель с ключами у пояса, бил себя в грудь и божился, что нет в тюрьме политических, не хотел отдавать ключей, и толпа, не веря на слово бородатому, выбрала делегацию (главным в делегации был гимназист Коля Смоленский) для проверки.
Однажды на уроке физики вызвали из класса сестер Чувствиных, двух пухленьких и белокурых, недавно переведенных из другого города девочек, до восьмого класса носивших короткие платьица, писавших в альбомы стишки, неловко носивших в те дни свои красные бантики. Чувствины вышли мелово побелевшие, а на другой день в гимназии знали, что арестован и посажен в тюрьму отец Чувствиных, жандармский полковник, недавно присланный в город. Арестовали и отца Павы Судейкиной, а по городу было немало разговоров о том, как мать Судейкиной, роскошная и важная дама, полдня стояла на коленях перед новым начальством, вымаливая прощение мужу, и побежденное ее упорством начальство обещало Судейкина отпустить.
Те дни было в гимназии суетно и невесело; для многих гимназисток странными, пугающими казались проплывавшие под окнами красные флаги. И только
297
Ава, одна из всего класса, была па своем месте, и никогда еще не видывали подруги ее такою деятельной и. возбужденной. Тем ужаснее и непостижимей показалась разразившаяся над Авой беда.
VII
Тот роковой для нее год Ава удивительно изменилась. Перемена с нею произошла летом в деревне, где она была на уроке, а в гимназии ее пе узнали —* так она располнела, округлилась, так поднялась ее грудь и изменилась походка. Ава конфузилась этой происшедшей с ней перемены, краснела от шуток подруг, ее поздравлявших, сердилась, отвечая невпопад, носила платье так, чтобы неприметнее была фигура. В восьмом классе гимназистки чувствовали себя взрослыми, держались барышнями, и, по распоряжению Марьи Васильевны, у них, в отличие от младших, которым давали они пробные уроки, была особая форма: серые гладкие платья и черные фартуки. Ава, готовившаяся стать учительницей, изо всех сил выбивалась, стараясь заслужить любовь младших классов. Она целые дни проводила с ними. А как сердилась она, когда маленькие, крича и визжа, вскидывая на спинах косенки — мышиные хвостики, — кидались от нее к Зарецкой, стоило только той показаться.
— Ляля, Ляля! Зарецкая! — визжалй они на все голоса, скача вокруг Зарецкой, смеявшейся с ними и закрывавшей себе ладонями уши.
— В салочки! В салочки! — кричали другие, предлагая любимую игру.
— Танцевать! Танцевать! — пронзительно требовали третьи.
Однажды, в самую сумятицу комитетов, торжеств и речей, придя в гимназию утром, восьмиклассницы увидели на доске написанное мелом, четким и прямым почерком, обращенное к ним послание восьмиклассни- ков-гимназистов. Гимназисты уговаривали гимназисток объединиться с ними, учиться совместно, и для почина предлагали устроить собрание и общий избрать комитет.
Весь тот день восьмой класс горячо обсуждал послание гимназистов. Класс, с Зарецкой во главе, стоял против, и Зарецкая, поднимаясь на цыпочки* кроша
мел, сгоряча лепя ошибку на ошибку, загибая строки вверх, написала гимназистам ответ. Она писала вкривь и вкось до доске, что они — вся женская гимназия — знать не знают дурацких предложений. Написав это, она остановилась перевести дух, прочла вслух и, не утерпев, добавила к написанному уж на самом краешке доски, что, мол, «совсем не для революции вы к нам подъезжаете, а только бы поухаживать за хорошенькими, а мы вам нос, нос, нос!» —ив самом деле, в завершение изобразила на доске большой, предназначавшийся гимназистам нос. Против такого добавления пробовали возражать наиболее серьезные гимназистки, но Зарецкая завизжала так, что, хочешь не хочешь, пришлось покориться, и ответ гимназистам остался неприкосновенным.
— Это у них Коля Смоленский все верховодит, я по почерку знаю! — продолжала она воевать. И, крепко ухватив за руку хорошенькую и застенчивую, вырывавшуюся от нее Марусю Погодину, за которой на последнем балу ухаживал Коля, обнимая ее и близко засматривая в лицо, стала упрашивать, обдавая ее своим дыханием: — Марусенька, голубушка, солнышко, милюсенькая, Марусенция, пожалуйста, наставь твоему Коле нос!..
Застрелилась Ава вскорости после ареста отца сестер Чувствиных. Однажды Ава не пришла в класс. Это было тем более удивительно, что Ава, не опаздывавшая никогда, тот день должна была быть на собрании с гимназистами, назначенном, несмотря на ответ Зарецкой (на сумбурное и неграмотное письмо Зарецкой Коля Смоленский отозвался снисходительной насмешкой, назвав автора его маменькиной дочкой и несознательной). В тот день узнали, что Ава больше никогда не придет в гимназию. Нашли ее на валу в беседке, на «Блюдечке» над рекою: она лежала мертвая, лицом вниз, на оттаявшей земле, с простреленной грудью. Рядом на льду, под скамейкой, валялся большой черный револьвер...
* А па другой день весь город и вся гимназия знали, что причиною гибели Авы было сразившее ее и потрясшее весь город открытие: отец ее, честностью и чистотой которого так гордилась перед подругами Ава, был предателем, давно служил, как выяснилось, в царской охранке, а выдал его отец Чувствиных — все это па до-
209
iipoce и при очной ставке с Чувствиным с несомненностью объявилось.
День, когда застрелилась Ава, был ясный, весенний; надулась и посерела река. На время смерть Авы заслонила в гимназии и отодвинула все другое. Хоронили ее гимназистки очень торжественно. В гробу Ава была неожиданно хороша. Она лежала с утончившимся, прозрачным и спокойным лицом, с тесно сжатыми губами, чужая и далекая тому, что совершалось и проходило над ее гробом, похожая в украшавших ее цветах на невесту. Провожали Аву как любимую сестру: навзрыд плакал весь восьмой класс, а горше всех ревела над гробом Зарецкая Ляля. Зарецкая сама ходила выбирать на кладбище место, сама хлопотала и заботилась о торжественности похорон так, точно это имело для нее какое-то особое и большое значение. И весь восьмой класс шел за белым открытым, колыхавшимся на руках, как ладья, гробом. Весенний ветер дул сильно с реки; лицо Авы было открыто; яркое солнце освещало гроб. На углу Дворянской встречу гробу двигалась манифестация. Город все еще праздновал революцию, и манифестация была многолюдна. Коля Смоленский шел впереди, нес надутое ветром красное знамя.
Похоронили Аву на старом кладбище, за Николо- девичьим монастырем. Зарецкая сама хлопотала о кресте над могилою Авы. Крест был самый простой, маленький и дешевый, и, может, потому, что был он очень прост, казался он среди чугунных и каменных плит легким и красивым.
VIII
О смерти Авы очень скоро забылось. Некоторое время говорили по городу обо всей истории, повторяли повое слово предатель, передавали, что и кличка у этого человека, столь еще всем памятного, была собачья — Полкан. Рассказывали, будто обоих их — самого Городцова-Полкана и выдавшего его жандарма Чувствина — кто-то видел в тюремной церкви на первый день пасхи, у плащаницы. Потом о судьбе их ничего не стало известно. Да и всю эту историю, одну из множества пережитых других, город забыл навсегда и прочно, совершенно так, как навсегда и прочно забыто многое другое.
300
Последний раз вспомнили гимназистки Аву на выпускном балу, после акта. Тот год акт проходил почти с обычной торжественностью: по-прежнему в зале, под портретом Пушкина, стоял большой, накрытый малиновым сукноод стол. По-прежнему вызывала Марья Васильевна, стоявших в накрахмаленных фартуках выпускных гимназисток и протягивала через стол отпечатанные на синеватой плотной бумаге аттестаты и каждой говорила несколько ласковых напутственных слов, а гимназистки делали глубокие реверансы и, отходя, вынимали платочки... Мямлил что-то, плевал на кончики пальцев сидевший рядом с Марьей Васильевной лысый директор; смешил гимназисток торчавший на краю стола гимназический письмоводитель Будкин —• Кувшинное Рыло, до смерти робевший Марьи Васильевны и от смущения потевший так, что блестел нос.
После акта, как водится, попрощавшись с начальницей и учительницами, впервые подававшими им, как ровне, руки, обежав на прощание все уголочки гимназии, поплакав и расцеловавшись под лестницей со Степановой женой, распростившись с ежегодно плакавшей в этот день Опенкой и соблюдая обычай, выпускные гимназистки устраивали в гимназии вечер. Они сами готовили угощенье, сами стряпали и сдвигали столы. Муся Половинкина, дочь городского трактирщика, доставила на бал посуду и огромный трактирный самовар. А вечером гимназистки явились в новых белых платьях с мережкою, завитые и в прическах (с косою пришла одна Зарецкая, никак не хотевшая расстаться со своим черным бантом). Зарецкая была и старшею распорядительницей бала, гордо носила свой, цвета сомон, распорядительский бант, встречала на лестнице гостей, распоряжалась буфетом и танцами. Она была так хороша и весела, что приглашенные на бал кавалеры были от нее в восхищении и, заставляя ее краснеть, как у хозяйки бала, наперебой целовали у нее ручки. По обычаю пели студенческие песни и читали стихи. На возвышении, под портретом, стояла Тонечка Петухова и, волнуясь, заливаясь до ушей краскою, декламировала модные тот год стишки:
Молнии нас озарили,
Мы на распутье стоим.
Мертвые в гробах почили,
Дело настало живым!..
301
Разговор вперемежку шел о революции, о танцах, о женских курсах и университете (на балу присутствовал и Коля Смоленский, он весь вечер просидел в углу, разговаривая со строгой Фисой, смотрел на танцующих и вскидывал падавшие на лоб длинные свои волосы). Гимназисты лопали угощенье, танцевали и ухаживали, щипали усы и в шутку называли курсы, на которые собирались поступать гимназистки, «исаевскими» (от церковного венчального возгласа: «Исаия, ликуй!»). Оля Яковлева, первая сорвиголова, добыла откуда-то и принесла на вечер пузатую, оплетенную травой бутылочку, и, собравшись в уборцой одни, чувствуя себя заговорщицами, гимназистки выпили по крошечной рюмочке обжигавшего рот коньяка, чтобы живее блестели глаза. Вечером расходившаяся Оля, похожая лицом на деревенскую молодушку, бойко плясала русскую, плавала уточкой по паркету, крутила над головой белым платочком, и ей хлопали так, что в зале упала и разбилась большая китайская ваза.
А к полуночи гимназисткам захотелось опять поплакать, побыть одним — «в самый последний разочек», как говорила Ната Сухинина. И, выпроводив кавалеров, потушив в зале свет, они оставались в гимназии до утра. Они сидели одни в своем большом, ночью казавшемся каким-то особенным и высоким, классе, доедали припрятанное от гимназистов угощение, в последний раз прощались с гимназией. Им было хорошо, они обнимались, наперебой говорили, плакали, вспоминали гимназию и клялись встречаться и сходить так каждый год. Потом кто-то шутя погасил в классе электричество, и на белом потолке недвижными косыми полосами лег мертвенный, проникавший в высокие окна свет уличного фонаря. В темноте стало тихо, жутко и таинственно. Гимназистки сидели обнявшись, притихнув и прислушиваясь к наполнившей коридор и порожние классы гулкой и притаившейся ночной темноте, слушали, как глухо и быстро бьются сердца. В эту минуту и вспомнила Зарецкая Аву. Она вздохнула, обняла крепко сидевшую с ней Нату Сухинину и, вслушиваясь в тишину с широко открытыми глазами, прошептала ей в самое ухо так, что тихий ее шепот услыхали все:
— Слышишь? Слышишь? Ава!.. Это Ава идет!..
И на минуту всем почудились в темном коридоре
тяжелые шаги Авы. Стало так страшно, и всем вдруг так живо представилось за открытою в коридор дверью Авино бледное лицо., что еще минута, и, кажется, все бы сошли от страха с ума. Зарецкая опомнилась первая; она сама открыла свет, и когда опять стало в классе легко и светло от вспыхнувшего под потолком белого шара, гимназистки не могли узнать себя: были они бледны и испуганы. Чтобы скорее прогнать ночной страх и забыть все худое. Зарецкая нарочно громко стала шуметь и вертеться по классу. И это ей почти удалось. А к утру (утро встретили в гимназии) об Аве, о ночном страхе, о страшных ночных разговорах забылось, теперь уже прочно и навсегда,
1927—1959
СЫН
I
Еще в тяжелые прошлые времена — глубокой зимою — нежданно-негаданно приехал в глухую нашу смоленскую деревню сын безземельного мужика 06- роськи, безвестно пропадавший Борис. Много лет не было от Бориса вестей; цисьма от него приходили только в первые годы, раза два или три наезжал он домой в деревню, изредка высылал жене деньжонок, а потом канул, как ключ на дно. Однажды прошел по деревне слух, что живет Борис где-то далеко, в степи, с богатыми хохлами, живет будто сытно. Жена его Дуня, оставленная им со свекром и детьми, послала с уезжавшим в степные края знакомым человечком слезное письмо мужу. Ответ получился не скоро; в конверт были вложены затрепанная пятирублевка и листок с поклонами. В листке Борис сообщал, что находится в добром здравии и желает того же семейству, что, бог даст, по весне, к севу, соберется проведать дорогую супругу и любезных деток. В этом письме он сообщал, что собирается хлопотать перед деревней о земельном наделе, что надоело ему скитаться по белому свету. Получивши письмо и деньги, Борисова жена Дуня, к двадцати восьми своим годам уже выглядев^ шая старухой, приободрилась, повеселела, стала как будто моложе. А вскорости, по случаю очередного не*» урожая, стало в деревне худо* и опять долго не было
заз
от Бориса никаких вестей. И самое голодное время довелось Дуне переживать одной, в односилку выхаживать детей, поддерживать хозяйство.
Тот год, когда негаданно прикатил Борис, деревня уже выплыла из беды. Лошадей он нанял на станции, сторговавшись с извозчиком в трактире, где было шумно и людно, сидели и спали на грязном полу наезжие мужики. От станции его вез на бойких, весело побрякивавших бубенцами лошадках рыжий, туго подпоясанный по бобриковому армяку, бойкий на язык мещанин Рукосуй. Всю дорогу они весело разговаривали, а рыжий мещанин с лупившимся от мороза и ветра маленьким носиком на заросшем свалявшейся бородою лице не пропускал . ни одного встречного человека, чтобы не перекинуться словечком, и почти в каждой деревне заезжал к знакомым, где им жарили сало и угощали пахнувшею овином самогонкой.
К концу дороги оба были хмельны, выделанно веселы, пели веселые песни. День был зимний, ясный п тихий, под вечер крепко морозило, глазам было больно смотреть на снега. Дорогу Борис признавал плохо: так изменилась за годы его отсутствия местность, столько торчало из снега пней, столько рассыпалось во всех сторонах новых выселков и хуторов! Он сидел развалясь в гремевшем возке, дышал колючим, морозным воздухом, жмурясь, равнодушно смотрел на снега, ва пухлые крыши выселков, на гнавшихся за возком, зло скаливших зубы хуторских кобелей. В лесу было бело и тихо: как нарисованные, стояли заваленные снегом елки и сосны, а с кружевных берез, висевших через дорогу, сыпался на дугу, на спины лошадей, на шапки и за воротники легкий, крутившийся на воздухе, алмазно блестевший иней.
Под Нижними Нивками, на большой дороге, им повстречался обоз. Мещанин неохотно, топя лошадей, свернул в снег и остановился. Косматые лошаденки, кланяясь обындевевшими головами, дыша паром, медленно тащили визжавшие по дороге, нырявшие на ухабах туго увязанные возы. Возчики в армяках и тулупах, с белыми обмерзшими бородами, шли позади возов. Высокий редкобородый мужик в овчинной шапке остановился на дороге, вглядываясь в лицо Бориса, и вдруг заулыбался, оскаливая из армяка зубы:
— К праздничкам?
304
— Ты, сват Егор? — спросил, тоже улыбаясь и узнавая встречного мужика, поднимаясь в возке, Борис.
— Он самый! — еще шире скаля зубы, весело крикнул мужик. — Самый он и есть! —повторил он, чему-то очень радуясь и разглядывая во все глаза Бориса.
Со сватом Егором и любопытствовавшими, разглядывавшими Бориса возчиками постояли, покурили на дороге, пока проходил обоз. Потом, когда проползла, запаленно дыша, последняя приставшая мокрая лошаденка, попрощавшись, Егор побежал догонять своих, раздувая полы армяка и докуривая на бегу. Даже по его длинной сутулой спине было приметно, как заинтересовала его неожиданная встреча.
В село въезжали под вечер. Огромное, пылающее на закате солнце садилось за край синевшего леса. Высокая колокольня стояла холодно и мертво, всем и всему чужая. Пусто сквозил над рекою вырубленный липовый парк, и в нем, на месте крепостного помещичьего дома, белели крыши каких-то новых построек. На реке, куда спустились по раскатанному ребятами косогору, на обледенелой проруби баба дополаскивала холсты. Она посмотрела на переезжавших реку незнакомых людей, постояла, высморкалась морковно-красными, за- коляневшими от ледяной воды пальцами и, нагнувшись, размахивая подолом, стала звонко бить вальком по холсту. И, раскатившись у кузницы под крутой откос, крича, мещанин погнал улицей, мимо черных с белыми крышами хат и обледенелых колодцев, у которых стояли, понуро смотрели на них, подняв мохнатые головы и отводя зады, выпущенные на водопой жеребята.
И
Избенка, где жил-бедовал отец Бориса, — на краю деревни, на выгоне. Они прокатили всю улицу, гремя бубенцами, дразня вязавшихся за ними собак (мещанину веселое было дело хлестать собак ременным кнутом по глазам, отчего они визжали, захлебываясь злобно), удивляя глазевших на них мужиков и баб, и остановились у занесенной великим сугробом, глядевшей окнами в поле избенки.
Всякому глазу отлична была из всей деревни заваленная сугробом Оброськина избенка. Была она без
305
сеней (вместо сеней беспечный хозяин прислонил к . крыше длинные слеги, прикрытые летошним, давно обсыпавшимся хвойничком), с черной, склизкой, проросшей инеем по щелям дверью прямо на улицу, на вольный свет. Тут же, на снегу у двери, прикрытая дощечкой, стояла кадушка с мерзлой капустой; худая рябая кошка, подобравши хвост, царапалась и пищала у двери. А как бы в завершение мрачной картины на длинном шесте над крышей висела головой вниз высохшая, растрепанная ветром дохлая ворона. И все это — глядевшая в поле избенка с надутым на потолке островерхим сугробом, кадушка с полопавшимися обручами, рябая кошка и ворона, вывешенная в виде какого-то зловещего черного флага, — было такое, что всякий мало-мальски приметливый человек, проезжая мимо, не мог удержаться, чтобы не сказать этак: «Ну, и живет, прости господи, человечек!»
Из возка Борис вылез неспешно, помялся на снегу, отпихнул ногою пищавшую кошку и потянул за проволочную скобку набрякшую дверь. Спертым жилым духом и вонью хлынуло из избы.
Оброська сидел у заросшего ледяными узорами окна, плел лапоть. Появлению сына он не изумился, не выказал особенной радости. Разглядевши и узнав его, он неторопливо поднялся, бросил колодку с лаптем под стол. И Борису показался он все таким же. Так же сквозила, стала чуть серее его редкая бороденка, так же хрипло он откашлянулся, так же потянулась темная рука чесать под рубахой. Двое ребят, мальчик и девочка, смотрели на гостя большими испуганными глазами. Мальчик был в старой, обшмыганной, застегнутой криво шубейке, с румяными от мороза щеками и блестевшими черными глазками; девочка сидела за прялкою to спустившимся с заплетенных в косичку волос платком, едва доставая до полу своею тонкою босою ножкой.
Мещанин, ввалившийся с Борисом в избу, закрывши за собою дверь, кряхтя с морозу и обирая сосульки с усов, сказал стоявшему посреди хаты и глядевшему на них Оброське:
— Принимай, хозяин, гостей! Сынка вам доставил...
Оброська поглядел на веселого мещанина и, как бы сообразив, что приезд сына должен обозначать для него перемену жизни* вдруг необычно оживился* надел
806
шапку, побежал помогать мещанину отпрягать и ставить на двор лошадей...
А через час сидели все за столом, разговаривали и опять пили. Дуня (о приезде мужа ей сообщили на деревне ребята: «Тетка Дуня, тетка Дуня, Борис-то твой прикатил, па-арой, бяги скорей!»—и, услышав это, она чуть не грохнулась оземь: так захолонуло вдруг
в сердце), Дуня хлопотала около загнетки, раздувала огонь, колола лучину, ссыпала на шипевшую сковородку мелко накрошенное сало и все поглядывала украдкой на сидевшего за столом Бориса. Приездом мужа она была потрясена и взволнована, чуяла пере- мену своей горькой судьбы и все старалась угадать по лицу: с чем-то приехал? А угадать было трудно: встретился он с нею очень уж как-то равнодушно, целуясь, обдал перегаром, слова не сказал путного. «Будто чугунный, — думала она, быстро ломая на колене трещавшую лучину и мельком поглядывая на Бориса, — и на детей не взглянул толком!» Впрямь, был Борис будто чугунный: иссиня-черен, как-то каменно-неподвижен. За столом в углу он сидел прямой, тяжелый, подпирая спиной стену, ел большими кусками, пил из стакана помногу, не передыхая. Лицо у него было синеватое, словно весь день жег уголь, глаза сидели глубоко и тревожно, черно-синие волосы жестким клоком прикрывали лоб. А было в нем и знакомое, очень давнишнее и родное, от тех времен, когда на этом же месте и за этим столом (стены и стол были тогда новей и белее) сидел он в свежей, вышитой ею рубахе (как все это было памятно самой Дуне!), темноглазый, и застенчиво улыбался; рядом сидела она, спустивши головной платок на свое заплаканное лицо, а веселый, осипший от водки и холода сват Кирей держал перед ними стакан и, хрипуче прокашливаясь, говорил, что, мол, вино горько, надо бы подсластить... Борис теперь сидел молча, пил и ел, смотрел тяжело и хмельно, почти не моргая. «Прочухается, — думала, поправляя огонь, слыша бившееся свое сердце Дуня. — Это с дороги он такой смутный...»
В хате собрались незваные гости. Заходили они будто невзначай, здоровались через стол с Борисом, разглядывали его любопытно, потоптавшись, садились на лавку, не раздеваясь и не скидывая шапок. От угощения из церемонии они отказывались* потом прици-
30?
мали стакан, шутили и поздравляли с приездом угощавшего их сидевшего в углу Бориса, а выпив, садились поодаль. За столом бойчее всех говорил мещанин. Он сидел в расстегнутом полушубке, с шарфом на шее, раздвинув под столом ноги, пил и багрово краснел. Чувствовал он себя как дома, пил, жадно закусывал, шарил бегучими глазками, нес несусветную чепуху. Держа в руке вилку'с насаженным салом, прожевывая, он рассказывал слушавшим его мужикам о ловких городских жуликах, срезавших на ходу подметки, о том, как якобы под городом останавливали лихие люди возвращавшихся с базара мужиков. ГЗрал он и смеялся с видимым удовольствием. Борисов отец Оброська, сидевший па краю стола, хрипло дышавший своею костлявою грудью, быстро хмелея, пусто смотрел на мещанина набрякшими слезою выцветшими глазами, иногда вставлял и свое словечко:
— Это давай сюды! Это возможное дело! Теперя, брат, народец — во!
Борис был грузнее, чернее и волосатее (был он в покойную мать, как сказывали на деревне бабы), а было в сыне и отце что-то общее: одинаково тяжело смотрели исподлобья их глаза, одинаково деревянно л грубо они смеялись, и были похожи их большие, узла- стые, с толстыми суставами и неповоротливыми пальцами руки. И только однажды оживился отец, когда Борис, хвастаясь, вынул из кармана бумажник и, щелкнув им по краю стола, стал показывать деньги — грязные, истершиеся по рукам бумажки. Денег, на глаз мещанина, было сотни три или четыре, держал их Борис в своих толстых пальцах веером над мокрым столом. Мужики смотрели на деньги, завидуя, отводя глаза; подмигивал хитро мещанин, и, испуганно опершись на ухват, глядела на мужнины деньги, робела и молчала Дуня.
III
А удивительный и самый бестолошный на деревне человек был Оброська!
На деревне считался он безземельным. В кои еще веки пристал он из другой дальней деревни в зятья к глухой и черной девке Раките, курившей трубку и ругавшейся на сходках по-мужицки. Век прожили они
308
в ссорах и драках, и померла Ракита от побоев (раз крепче привычного поколотил ее Оброська), оставив мужу одного сына. И, может, потому, что был Оброська чужой на деревне и пришлый, смотрели на него мужики с презрительной усмешкой, презирая за беспечность и лень. Над ним часто посмеивались, а случалось, крепко бивали; он все это сносил как должное, как дождичек теплый. И мужиков он ругал подчас злобно, выворачивая крутые словечки. Должно быть, для того, чтобы уж совсем отвернуться от мужиков и деревни, поставил свою избенку Оброська нарочно на отлете, не по-людски: окнами в чистое поле, задом — на деревенскую улицу.
Избенку ему помог поставить — отпустил из лесу макушек — помещик Строев, холостяк и чудак, живший в именьице невылазно, ходивший с пенковой трубочкой, весь свой век что-то строивший и возводивший и так и не достроивший до конца. Оброська кормился возле Строева, заставлявшего его на себя работать, взамен платы отрезавшего в имении клочок запольной земли и лужок на болоте. Зимами заменял Оброська у Строева скотника, задавал скоту корм, на руках приносил в теплый коровник мокрых, шатавшихся на длинных ногах, тупо глядевших влажными глазами, жалобно мычавших новорожденных телят. Трезвый Оброська был тих, молчалив и угрюм; поговаривали о нем, что был нечист на руку, и не раз видели люди, как пропивал в кабаке строевские хомуты и седелки. Случалось, загуливал он на долгие сроки и в такие разы ходил растрепанный, странный, с -соломой в путаных волосах, забредал пьяный в волостное правление, стоявшее при дороге, настырно лез за решетку, в глаза бранил взяточника писаря и волостного старшину. Всякий раз старшина Василий Коныч, глупый бородатый мужик, выйдя из терпения, запирал его в клоповник, где Оброська бушевал до утра, гремел кулаками в закрытую на засов дверь. Заходил он браниться и к полицейскому уряднику, жившему за рекою, свирепому кривоносому человеку. Урядник нещадно избивал Оброську* и все село видело, как, стоя посреди дороги в разорванной до пупа рубахе, обливаясь кровью, бил себя кулаками* в грудь, проклинал урядника Оброська, вопя так, что все деревенские собаки поднимали неистовый лай.
309
Били Оброську часто и жестоко. По суткам лежал он без памяти, избитый и недвижимый, в запекшейся крови, облепленный мухами, где-нибудь у дороги в канаве; испуганно шарахались от него лошади. Отлежавшись, он вставал, черный, страшный, шел, шатаясь, и еще настойчивее, злее ругал мужиков и волостное начальство. Били его деловито, подолгу, с желанием добить до конца, а добить никак не могли: каждый раз, казалось уже бездыханный, отлеживался он в канаве, опять упрямо лез на рожон.
И все эти годы ни слуху ни духу не было о его сыне Борисе. Только раз зашел к ним со стороны, попросился переночевать прохожий человек. Рассказывал он, будто видел Бориса в каком-то приморском городе, на юге. И неведомо было — верить или не верить тому прохожему человеку.
IV
Негаданный приезд сына выбил Оброську из его обычной жизни. Праздники он ходил по-прежнему шальной, пьяный, тряс бороденкою, тупо моргал набрякшими красными веками, хрипло пел и бранился. Борис был с ним почтителен напоказ, перед гостями сажал за стол на первое место, подносил первому, почтительно величал папашей, но забывал о нем скоро, а тогда Оброська сидел один, чужой и забытый, тупо глядел на пирующих гостей. Иногда, вдруг вспомнив молодые привычки, выходил Оброська на деревенскую улицу и, надсадно кривя рот, хрипучим старческим голосом начинал петь старинные, забытые деревнею песни. Шатаясь, стуча кулаками в грудь, бродил он по скользкой, накатанной улице, плакал и кричал, опять призывая покойницу жену.
Как всегда, лаяли на пьяного Оброську деревенские собаки, бегали за ним, смеялись, толкая друг дружку, ребятишки. Деревенские парни и девки останавливали его, дразнили:
— Гляди, гляди, посклизнешься!
— Теперя он богатый!
— Обрось, крикни!
Выворачивая круглые, занозистые словечки, непристойно ругая отворачивающихся девок, Оброська останавливался перед кучкою дразнившей его молодежи,
310
страшно скрипел зубами и, поднявши над головою шапку, обеими руками швырял ее оземь, долго топтал лаптями. И нельзя было понять, радуется он или горюет.
О том, что будто приехал Борис не зря и большие привез деньжонки, говорила вся деревня, О Борисе толковали, на сходках в Акимовой избе, где всю зиму собирались по вечерам мужики; слух о Борисовом приезде, легких Борисовых деньгах закружился далеко по соседним деревням. В деревне к нему приглядывались, старались отгадать, с чем приехал, за глаза относились недружелюбно. На сходках, в прокуренной4 Акимовой избе, хлестко и зло смеялся над ним гулявший на его денежки и спаивавший его, вострый на слово богатый и злой мужик Окунек.
А в глаза Борису по-прежнему льстили, в гостях у него бывала почти вся деревня. Все рождественские праздники Борис продолжал гулять, хвастал деньгами, угощал гостей. И все праздники бродил по деревне, бил себя в грудь, на смех молодежи топтал лохматую свою шапку пьяный Оброська, праздновавший приезд сына...
Когда-то, еще малым мальчишкою, Борис ходил на село играть с подрядчиковым сыном Петей Завьяловым. Зимами заставляли его там разуваться, оставлять в людской лапти, и они вдвоем бегали в чистой, застеленной половиками и заставленной цветами в кадках горнице. Петя был болезненный долгорукий мальчик, страдавший неизлечимой болезнью. Мать Пети, рыхлая и слезливая женщина, дарила Борису баранку. Однажды он больно и жестоко прибил Петю и с тех пор перестал показываться Завьяловым на глаза.
Детство Бориса было дикое. Маленький, когда жива была мать, бегал он по деревне в рваной рубахе, с вымазанным землей личиком, с похожим на барабан, тугим от картошки, поднимавшимся под рубахою животом. С деревенскими ребятами лазил он по чужим огородам и на деревья, вытаскивал из гнезд голых пищавших птенцов, целыми днями полоскался на броду в речке, тонул много раз, дрался. Маленькие ноги его обрастали за лето корою, волосы на макушке выгорали от солнца, тело делалось сухим и шершавым. Частенько, вымещая свою обиду, его била мать, а он визжал так, что было слышно за рекой в соседней деревне.
311
Однажды с деревенскими ребятами-несмыслями, оставшись один, устроил он на деревне пожар, разведя на улице огонь, и от его руки выгорела половина деревни.
Раз остановили его на дороге гости соседнего богатого помещика, офицер и нарядная барыня, проезжавшие в шарабане, спросили дорогу и подарили двугривенный. Спрятав деньги за щеку, Борис стоял на дороге и, как волчонок, смотрел вслед удалявшемуся, пылившему колесами, покачивавшемуся на дорожных выбоинах красивому экипажу...
В школу, к учителю Петру Ананьевичу, он ходил две зимы, а на третью бросил учиться, чтобы «не бить лаптей». Да и учение с первого раза не пошло ему впрок; невзлюбил его за молчаливость и тяжелодум- ство учитель, а ребята, бойкие, вихрастые, пахнувшие печеным хлебом и коноплей, дразнили его, кликали за неповоротливость сомом. Бывало, Борис догонял какого-нибудь из обидчиков и, засевши верхом, жестоко отомщал ему.
Рос Борис как волчонок. Летом с длинным, волочившимся по земле кнутом бегал он по жнивью за деревенскими долгорылыми свиньями, свистал в два пальца, кричал до хрипоты в горле. Зимами помогал отцу ходить за строевским скотом. С детства был он молчалив, угрюм и черен — в свою покойную мать.
Женил его Оброська по приезде сестры своей Марьи. То (шло особенное лето в Оброськипой нерадостной жизни. Сестра привезла из города подарков (поговаривали тогда в деревне, что темного происхождения были те подарки), стала заводить хозяйство. Женил его Оброська — брали невесту из голодного двора Дуню — еще безусым, свадьбу отпировали честно (посаженой была сама Борисова тетка Марья, сидевшая за столом в городском платье и Цветных шелковых лентах), а оженившись, потоптавшись еще годок на деревне, поехал Борис в заработки: захватили его с собою одно- деревенцы-земляки, устроили в городе «шестеркой» в трактир. Первое время, вместе с сослуживцами-зем- ляками, он наезжал летом в деревню в новом картузе и блестевших новых калошах, привозил Дуне гостинцев, а потом пропал. Где и как носило его, в каких был местах и на каких службах, чем занимался эти долгие годы, толком он и сам рассказать не мог.
312
Й поговаривали на деревне, что не раз нюхал Борис тюрьму, что и незачем бы ему ехать сюда, на деревню. Говорить говорили, а толком не ведал никто, а и ведай- знай на деревне, кому до~того дело.
v
После приезда, пока держались деньжонки, шумел на деревне, пировал Борис; с утра увивались подле него, охаживали его людишки. Пуще других охаживал, спаивал Бориса хитрый сват Егор. И еще тревожнее смотрела своими печальными глазами, ночей не спала Дуня, успевшая отгадать, что мало хорошего сулит ей приезд мужа.
Ночами дулись в карты, в очко. В избе было тесно, накурено, мутно горела над: столом, над лохматыми головами мужиков, лампочка, стонал во сне и хрипел на печи старый Оброська. Борис, с деревянной кривой улыбкой, не сходившей с его утемневшего лица, хлопал разбухшими картами по столу, неизменно проигрывал. Около него похихикивал и покашливал, загребая деньги с кона, ухмылялся в редкую свою бороденку чахоточный рыжеватый Егор. Сват Егор пил мало, играл в карты по маленькой, словечки вставлял лукавые. Принимая карты, он долго рассматривал их из-под согнутой в лодочку ладони, дул, как бы желая сдуть лишнее очко, выкидывая на стол карты, хохотал мелко п, загребая деньги корявыми пальцами, приговаривал:
— Играть не устать, не ушло бы дело!
И все напролет ночи, слушая картежные споры, не смыкала глаз Дуня. Был с нею Борис, как и в первый день, молчалив и тяжел: «чугунный». И никак не могла она выбрать минутки, вызвать на откровенный разговор, узнать от пего точно, как и зачем приехал. Он ходил каменный, требовал, чтобы готовили для гостей закуску, в редкие минуты, когда оставались одни, был груб и хмелен. Она убивалась, думала горькие свои думы, с ненавистью смотрела, как вставал от стола, подходил к двери, к ведру и пил воду, ухмылялся и выполаскивал кружку сват Егор.
«Змей подколодный!» —думала она, глядя на Егорову руку, державшую жестяную кружку, на двигавшийся под окутывавшим шею теплым платком его
313
острый кадык, на мочальные, облипшие волосы, на белесые, насмешливо окидывавшие ее глазки.
На праздничных гулянках Борис сторговал и купил у проезжего цыгана Лексы вороного жеребчика-пяти- летка с упряжкой. Лекса — черно-седой, со смелыми, косившими, мимо глядевшими лиловыми, как у лошадей, глазами, с жесткими кудрями седоватых смоляных волос, густо выбивавшихся из-под шапки, — божилс'я и говорил громко, стучал смоляной короткопалой рукой по столу, расхваливал лошадь. Весь день они гоняли жеребчика по деревне, пробуя ход, а сойдясь наконец в цене, ударивши по рукам, поставивши жеребчика в дырявый Оброськин сарайчик с забитыми снегом щелями и сугробами по углам, полную ночь пропивали магарыч.
На первых порах, купивши жеребчика, Борис загулял еще круче.
С утра закладывал он жеребчика в санки и уезжал по гостям. Иногда он брал с собою жену Дуню, сидевшую в возке одеревенело, и, выставив в валенке ногу, почмокивая на доброго, прижимавшего уши, норовившего играть жеребчика, гнал по обвешённой елками бойкой укатанной дороге. На селе Борис заезжал к мельнику, толстому человеку в высоких валенках, свысока совавшему Борису свою толстую, с мягкими пальцами, белую от муки руку и хозяйственно оглядывавшему жеребчика. На мельнице всегда было густо народу; кучились задками сани и «лисички», жевали сено и понуро мерзли серые, вороные, чалые и гнедые косматые лошаденки; длиннолицая, обвязанная платком мельничиха в подоткнутой юбке и грязных сапогах носилась с ведром по двору, а за нею гонялись большой голенастый петух с отмороженным запекшимся гребнем и пухлые куры; топтались, надувая зобы, неуклюжие утки; на порог мельницы, под навес, подсаживались и кружились, взлетали, громко трепеща крыльями, от гонявшегося за ними щенка голуби. Мужики в армяках и тулупах, в рукавицах, с посеревшими за зиму лицами сидели на мельнице на мешках, где мельник вешал зерно, разговаривали и курили. И все с любопытством смотрели на Бориса, на его лошадь, на то, как здоровается с Борисом мельник. Веселый, подвыпивший мужик с белой от мучной пыли курчавой бородою, с запудренными ресницами, нагибаясь и черпая из ящика сыпавшуюся из-под камня теплую муку} го¬
314
ворил весело, смеясь всем своим запорошенным пылыо белым лицом:
— Хороша мучица: бабам блины печь!
— Блины — дело хорошее, — замечал знакомый Борису парень в армяке, с перешибленной бровью и живыми глазами, сморкаясь и вытирая полою нос.
— А то как же? — говорил кучерявый запыленный мужик, ссыпая горячую муку в мешок, который помогала ему держать кривая нищенка-старуха, и взглядывая на Бориса.
В том, как говорил с ним и здоровался мельник, в разговоре и взглядах земелыциков Борис замечал особенное, обращенное на него и льстившее ему любопытство. Он еще долго стоял с толстым мельником и шутившими мужиками, потом отвязывал лошадь и, повалившись, на виду всех в санки, ехал на село в гору.
Бывал Борис и у Пети Завьялова — того самого, с которым гуляли в далеком детстве. Жил Завьялов с семьею на краю села, в кривой хибарке, оставшейся из всего наследства на прожитье. Жил Завьялов хуже худого, впроголодь, но селу бродил рваный и задерганный, кашляя так, что было страшно на него глядеть. Борис подолгу сидел у него за круглым разломанным столом, упрямо уговаривал пить. Перед ними на столе стоял привезенный Борисом пузатый кувшин с самогонкой. Жена Завьялова, высохшая до костей женщина, испуганно смотрела на Бориса черными своими провалившимися глазами, раздраженно кричала на хоронившихся за перегородкою испитых детей, на слепую мать Завьялова, сидевшую на сундуке и все закатывавшую свои слепые глаза. А Борис сидел тяжкий, чугунный, не видя и не слыша, глядя на кашлявшего, дергавшегося плечами Завьялова, деревянно говорил одни и те же слова:
— А ну, выпьем... Давай выпьем... А ну...
После праздничных гулянок повадился Борис катать на хутора к развеселой солдатской вдове Проске. Свел его с Проской и дорогу проторил сват Егор. С Егором они там и пропадали. Проска, разбитная, быстроглазая, жившая по городам бабенка, встречала их как гостей званых, белой городской скатертью накрывала стол, и все чаще и чаще заночевывал и пропадал у той Проски Борис. И все отчаяннее ругала на деревне Дуня ухмылявшегося в бороду, насмешливо подмигивавшего глазами свата Егора, разбившего ее счастье.
315
VI
За время скитаний Бориса многое переменилось на деревне. По-новому вытянулась, разбилась, нескладно расстроилась деревенская улица. По-новому гуляла, шумела, стенкой прохаживалась, играла залихватские песни деревенская молодежь. По-старому в великом посту, перед весною, ходили по деревням нищие, собирали ломти хлеба. И всякую зиму откупали мужики хату у длинного, рябого, некогда ходившего в золоторотцах Акима Бабуренка. Всякий вечер собирались мужики у Акима, и много за эти зимы услыхали Акимовы черные стены мужичьих дум и дел.
Всякий вечер в Акимовой избе было полно, желто горела над столом лампочка-пятилинейка, освещавшая мужичьи лица и головы. Мужики сидели в избе густо, каждый на своем привычном месте. Сам Аким, один из всех по-домашнему, в серой рубахе, сидел у стола, кулаком подперев скулу, хмуро слушал мужицкие разговоры, время от времени хозяйски оправляя моргавшую лампочку. За долгие зимы давным-давно были переговорены все разговоры и порассказаны россказни, и каждого своего человека со всей его подноготной знала, как стеклышко, деревня.
Негаданный приезд Бориса на долгое время всполошил деревню. О Борисе, о шальных деньгах, которые он будто привез с собою, говорилось в Акимовой избе много. Гулявшие с Борисом мужики-пустобрехи несу- дом врали, будто есть у Бориса немалые тыщи, что, подожди, дай срок, он раздокажет свое. Кто поумнее, молчали, зорко приглядывались к Борису, слухам ве- ршги мало, недружелюбно поглядывали на проносившегося по деревне Борисова вороного жеребёнка, на шумевшего на деревне пьяного Оброську. Голобородый, красный, едкий на слово Окунек говаривал о Борисовом хвастовстве так:
— Хорошо поет птичка, где-то сядет...
— Пожди, дай срок, увидим, — заметил на это, не торопясь, ухмыляясь в русую бороду, крепко расставляя слова, сидевший в тени у дверей хозяйственный мужик Иван Осипов, к слову которого прислушивалась вся деревня...
Однажды Борис явился в Акимову избу сам (захаживал он и раньше, по пьяному делу, пошуметь и вы¬
316
пить). Пришел он совсем трезвый, на себя непохожий, в избу вошел тихо, и уж по одному его необычному виду поняли мужики, что пришел недаром на сходку Борис. Широкий, сидевший с краю мужик подвинулся и подобрал полу, давая место Борису.
Почти весь вечер Борис сидел молча и неподвижно, а все чувствовали его присутствие и ожидали, когда начнет говорить о своем. Заговорил он не скоро, громоздко поднявшись, держа в руках шапку. Стоя, точно перед начальством, допрашивавшим его, нескладно подбирая слова и отводя глаза от глядевших на него в упор мужиков, объявил он, что думает остаться в деревне навсегда, затем и приехал; что надобна ему теперь для прокормления и постройки своя усадьба и требует он выделить ему по едокам землю. Слушали Бориса молча и недружелюбно. И нельзя бщло понять, что думают, слушая его, мужики.
— Это ловко! — громко сказал из темного угла чей-то голос, когда Борис замолчал, стоя среди мужиков, черный и большой, волосами касаясь низкого потолка.
— Дело это обдумать надо, — строго сказал, выждав молчание, сидевший у печки, уступивший место Борису широкий мужик.
— Почему пе дать? Дать можно! Выходи на Лода- рево лядо. Место отличное! — насмешливо сказал кто-то, и мужики засмеялись, смехом показывая, какое нестоящее место было это самое лядо.
— Он па конопляник просится...
— Губа не дура, — заговорил вдруг, хрипя и размахивая длинными руками, сидевший у окна узкобородый черный мужик Нефед, первый богатей на деревне, все время зло поглядывавший на Бориса. — Батька его век земли не пахал, не знал, как плуг в руках держат...
После узкобородого богатея заговорили многие, точно то, о чем объявил Борис, имело для всех какую-то особенную важность. Большинство мужиков были сверстниками Бориса, вместе когда-то ловили в реке на броду раков. Теперь Борис стоял покорно, вертя в руках шапку, один против всех, молчал. Громче всех кричал скрипучим голосом и размахивал руками узкобородый черный Нефед, неведомо за что возненавидев-
317
ший безземельного Бориса. Веселый, сидевший на полу и все время улыбавшийся моложавый мужик, один из всех доброжелательно относившийся к Борису, сказал черному кричавшему Нефеду:
— Жаден ты больно. С собой не заберешь всего. Гляди, закопают самого скоро...
Над Борисовой задачей проспорили до ночи и ни на чем не сошлись. Когда кончилась сходка и вместе- с другими, надевая шапку и пригибаясь в дверях, вышел Борис, — на воле, в черно-черно-синем, висевшем над деревнею небе густо, как зерно на току, были насыпаны звезды. Черный шест колодезного журавля с бадьею чуть проступал в небе. Из избы вываливали мужики, останавливаясь, кряхтели и мочились на снег, закуривали, освещая спичками бороды, и, поскрипывая снегом, расходились. Даже в темноте недобрыми казались их шаги. На горке, над речкою, Бориса догнал отставший от мужиков сват Егор, и они пошли вместе.
VII
Как будто все осталось по-прежнему. По-прежнему еще целый месяц шумел и гулял, проматывая легкие свои денежки, Борис. По-прежнему всякий день толпились, на дармовщинку пили, захаживали перед Борисом, дулись в очко Борисовы приятели-гости.
А что-то как будто и переменилось.
Больше стал пропадать Борис на хуторах у развеселой вдовы Проски, встречавшей его как любезного своего дружка, лукаво переглядывавшейся со сватом Егором. Горевала, сохла от тоски и горькой обиды Борисова жена Дуня. А все недружелюбнее поглядывали на Бориса его деревенские враги, все злее посмеивался над ним в Акимовой избе Окунек.
Раза два-три Борис приходил на сходку, опять говорил о земле, и всякий раз по-прежнему кричали п волновались мужики, хрипел, плевался, размахивал черными руками узкобородый Нефед. И огрызался хмуро, по-отцовски, смотрел исподлобья на мужиков черными недобрыми своими глазками Борис.
Чем больше спорил с мужиками о земле Борис, недружелюбнее глядела на него деревня. Однажды1
318
проходя с ним по улице, посмеиваясь хитро, подмигивая глазом, сват Егор шепнул ему так:
— Гляди, Нефедовы ребятишки грозились...
— А? Чего? спросил, недослышав, Борис.
— Убьют! Вот чего, — смеясь, теребя бороденку, громко сказал Егор.
Раз за выпивкой, на деревне, поспорил Борис с посмеявшимся над ним, гулявшим на его денежки Окуньком. Стоя посреди хаты, скрипя зубами, захлебываясь, кричал он так же, как в кои-то веки кричал на мужиков его отец Оброська:
— Черти, дьяволы! Земли жалко! Подавитесь иа- шей землею!..
И чем больше воевал с мужиками Борис, виднее проступало в нем неприметное прежде сходство с отцом. Так же, как отец, скрипел он зубами, бил себя в грудь, так же было упрямо, темно и страшно его лицо. С отцом был он по-преждему выделанно приветлив, напаивал его до бесчувствия, сажал в красный угол, назло мужикам кричал громко:
— Пей, батя, царюй! У нас хватит. Пей, сколько твоя душа хочет!
— Во-во!— хрипло отзывался ему Оброська, хмельно моргая красными оплывшими веками.
На деревне Борис прожил больше месяца. За этот срок до тонкости разглядела и оценила Бориса деревня, перетекли неприметно к свату Егору и веселой вдове Проске Борисовы денежки. На масленой, перед отъездом, гулял Борис на последние и громче прежнего кричал валившемуся с ног Оброське, расплескивая вино и стуча по столу.
— Я отца уважаю! Пей, батя, царюй!..
На масленой же, под прощеное воскресенье (на масленой воротились морозы), пьяный Оброська замерз,
VIII
Было так.
Ночью, под воскресенье, вышел Оброська пьяный на двор до ветру. На воле было морозно, светил над снегами месяц, как привидение с погосту в белом саване стояла за плетнем на огородах верба.
319
За дровами, где присел Оброська, подошли к нему, поскрипывая по насту. Один, почерней и повыше, в богатой шубе, светясь глазами, потрепал по плечу Оброську, сказал-приказал:
— Старичка попотчевать надо. Пойдем!
Повели Оброську, в чем был, огородами над рекою, по крепкому насту. А удивительное дело — светил месяц, и будто уж не своя деревня, шли над рекою, сугробами, а там, где за конопляниками стоял прежде Нефедов овин, ярко светился высокими окнами длинный, никогда не виданный пятистенка-дом, стояла у крыльца тройка, били копытамц вороные нетерпеливые кони. «Уж пе Борис ли гуляет?» — смутно подумал Оброська. Взвели его на крыльцо под руки, обили в сенях веником ноги, и черный сам отворил дверь. А в избе было полно и светло, сидели вокруг стола люди. И все вдруг загомонили, обрадовались новому гостю, стали сажать в передний угол. И, будто на богатой свадьбе, пили и гуляли за столом неведомые Оброське богатые мужики, плясали и пели, обыгрывали гостей веселые бабы — бабы вертелись как ведьмы, лбы у баб были потные, ходуном ходили под ногами баб скрипучие' половицы. Черный сидел рядом с 06- роськой, поблескивал зубами, и было Оброське как никогда в жизни... И уж плохо он разбирал, как плясали и пели над ним, величали князем, лихо крутили платочками бабы, как шумели, поили-кормили его люди, как катал он с черным — быстрей быстрого ветра — по мерцавшим снегам на вороной огненной тройке и хохотал над его ухом, страшно скаля зубы, черный. Потом сгинуло все, стучал зубами, замерзая, тыкался в темноте Оброська в мерзлую стену... «Умираю, могила!»— подумал он покорно и в последний раз, собрав силы, попробовал крикнуть:
— Бо-орис! Бо-о...
И голос его застыл.
Нашли Оброську по следам наутро в Нефедовой овине. Сидел он в углу, уже околяневший, под старою бороною. Так, околяневшего, с замерзшими открытыми глазами, перенесли его мужики в избу. Как водится, обмыли Оброську бабы, горшок разбили на перекрестке, подушку под голову (а и опочивал ли когда Оброська на подушках?) набили березовым, с вениковг
320
листом. И выла над ним, по обычаю причитала сноха Дуня.
Под богами Оброська лежал маленький, чугунносиний, с большими, скрюченными, скрещенными на груди руками. В избу весь день ходили бабы, напускали морозу в дверь, топтались у порога, смотрели на мертвеца сузившимися глазами, шептались тихонько. Рассказывали шепотом девки, будто слышали ночью, как кричал в овине, замерзая, Оброська, звал покойницу жену...
Борис хоронил отца торжественно.
В церковь несли Оброську как князя; впереди шел Борис, без шапки, держа в руках черный, закапанный многолетним воском, повязанный полотенцем с трепавшимися по ветру красными концами крест. Дорога от церкви до погоста по-городски была усыпана зеленым, пахнувшим на морозе смолою рубленым ельником. Гроб несли на выструганных, связанных холстом бо- лых шестах; носильщики неловко ступали по выкатап- ной желобом, скользкой, блестевшей на солнце дороге; высоко лежала в открытом гробу мертвая голова 06- роськи с серевшей и сквозившей на ней бороденкой; останавливались и снимали перед Оброськой шапки друзья его и враги, удивлялись небывалой торжественности Оброськиного пути... И, будто князю, звонили- перезванивали, плакали над селом колокола.
Закопали Оброську на старом деревенском кладбище, под березами, ронявшими на гроб иней. Могилу рыл и закапывал Оброську веселый сват Егор. Весело, точно делалось самое приятное дело, разбивал он и сгребал лопатой в могилу промерзшую за ночь, комьями падавшую на тесовый гроб землю и, Соскочивши в могилу, прибивал лаптями, будто плясал зГа свадьбе. Когда над Оброськой вырос чуждо желтевший в снегу холмик, Егор в последний раз обровнял его лопатой, отошел в сторону и поглядел, любуясь, говоря будто: «Чисто сделано, не встанет!..»
Поминки отцу Борис справил княжеские; напоследок пировала у Бориса почти вся деревня — враги и друзья. И в последний раз шумел на поминках Борис; бил кулаками в грудь, плакал и жаловался мужикам на горькую свою долю. И слушали его на тот раз мужики спокойно, не торопясь пили.
11 И. Соколов-Микитов, т. 1 321
Л на другой день Борис продавал жеребчика мельнику. Опять толклись, разглядывая Бориса, на мельнице люди, важно переваливаясь, выступал в высоких валенках мельник, гонялись за тощей мельничихой по двору куры. Жеребчика мельник осматривал деловито, обходил кругом, глядел в зубы, хлопал белой рукой по вздрагивавшей его спине. И, получая от мельника деньги, был похож Борис на беспутного отца своего Оброську...
IX
Спустя неделю, похоронивши отца, Борис уехал. На станцию вез его сват Егор. Егор был еще веселее, румяное лицо его светилось, то и дело соскакивал он с возка и бежал сзади, покрикивая на лениво шагавшего мерина, весело говорил хмуро слушавшему его Борису:
— Эх, выпить бы, обогреться!..
На полпути, в Ерзовке, выпили.
А выпив, повеселел Борис, и, как тогда с Рукосуем, играли они песни. День был яркий, слепило, отражаясь в снегах, февральское солнце, в деревнях по-весеннему чирикали воробьи, в ролях чернелись из снегов кочки. В поле было холоднее, дул предвесенний пахучий ветер, заворачивал у мерина хвост. И опять гнались за ними, зло скаля зубы, и останавливались у перезимовавших вешек хуторские кобели...
На станции, до поезда, сидели в чайной, опять пили, и Егор с удовольствием рассматривал висевшие на стенах картинки, заговаривал с сидевшими за столом плотниками, ехавшими на заработки в город, с маленьким приветливым старичком в армяке, евшим из кошеля хлеб и на всякое слово ласково покачивавшим головою.
К поезду вышли хмельные. Как всегда, визжали и стукали на морозе станционные двери, топтались на платформе, рассаживались по вагонам сидевшие в чайной плотники. На глазах Егора Борис смешался с ними, стал похожим на выскакивавших из вагонов чужих, незнакомых людей, потонул в накрывшей его толпе. А Егор еще долго стоял на платформе, следя, как тает, уменьшается, скрывается за подъемом поезд. На станции он заглянул в комнату, где сидели на столе стре¬
322
лочники, читали вслух газету, зашел в лавочку и купил баранок, потом опять побрел в чайную, чувствуя неодолимую потребность рассказать кому-нибудь о Борисе. PI, найдя маленького, сидевшего на том же месте приветливого старичка, рассказал, как приезжал на деревню, гулял-пировал, хоронил отца своего Оброськин беспутный сын Борис. Посмеиваясь, рассказал и о том* как не дали Борису мужики земли, как убивалась, учер* нела после мужнина приезда Борисова жена Дуня,
1928-1954
МЕДОВОЕ СЕНО
Ты красуйся, красуйся, моя краса, Во чистом поле на красочках...
Из девичьей песни<
Жарким летом, в сенокос (густо пахло на лугах медовое сено), померла на деревне нашей девка Тонька, вдовы Глухой Марьи дочь.
Хворала Тонька тяжко. Еще зимою ездила она с деревнею за реку в лес поднимать из снега дровян- ку, ворочала в лесу вровень с мужиками и, как потом толковали на деревне, надорвалась, стала сохнуть, с тех пор слегла. Зиму и лето она просидела сиднем, мало показываясь на люди. Глядя, как иной раз идет, чуть-то движется она деревенской улицей, деревянно переставляя ноги, прямая и синяя, как с погосту мертвец, шептались о ней бабы:
— Ой, мамочки родные, Тонька-то, краше в гроб кладут...
Как водится, сама Тонька о близкой смерти говорила просто, как о неминучем и желанном, накрепко определившем ее судьбу. А все, что делалось и вершилось округ, утверждало в ней эту покорную готовность к смерти: люди жили, работали (тяжче всего, и самой лютой болезни, было ей, что не могла она больше работать, быть в кругу жизни со всеми), дожидались весны, той, что уже шла, чуялась во всяком дыхании — в том, как беспокоилась, ревела скотина в хлевах, как ошалевали на солнце под крышами воробьи и краснели у кур сережки, как все приметнее увеличивался ото дня день и краснел, иссиня-белымй пуховками
И*
323
надувался под окошком вербовый куст. Дожидалась весны и Тонька. «Только бы весеннего солнушка дождаться, — говорила она своим глухим, запавшим голосом, сидя у окошка, кленовым гребнем вычесывая свои редевшие, секшиеся, черные у корней волосы и рассматривая на свет гребень, — только бы солнушка, тогда и земля отойдет, могилку будет рыть легче...» Не стесняясь ее, ничуть не заботясь, что это может ее опечалить, усложнить тяжкую ее болезнь, говорили ей бабы прямо в глаза, как будто даже с сочувствием, что вот она дождалась своего конца, помирает:
— Помрешь, Тонюшка, нарядят тебя девки, как невесту, понесут на погост на руках. А нынче пасха ранняя — может, на самые праздники и помрешь...
— Что вы, такие-разэтакие, живую хороните? — скажет, бывало, Тонькин дядька Астах, лохматый, черный и беззаботный мужик, вваливаясь с морозу и останавливаясь посреди избы в шапке. — Девка-то, может, и вас, кобыл, переживет!
— Не-е, милый, — пели бабы свое. — Теперя ей и до воды не дожить. Не жильцы такие-то на свете...
Тонька смотрела на девок и баб ввалившимися, странно строгими и глубокими глазами, кашляла глухо, содрогаясь по-детски плечами, прикладывая ко рту платок, и тогда чувствовали бабы тяжкий, смертный от нее дух. А и впрямь была не жилица на свете Тонька. Страшно, до самой кости, высохли ее руки; обтянулось желтой прозрачйой кожей ее лицо; спеклись и облипли на белых ровных зубах тонкие ее губы. Живыми оставались на лице глаза, прикрытые густыми длинными ресницами, оттенявшими мертвенную прозрачность ее лица. И голос у нее стал глухой, запавший, неслышный. Загасло в ней женское, девичье. Однажды — уж незадолго до смерти — в сумерках спустила она рубаху и показала подружкам-девкам грудь, гладкую и узкую, как у семилетнего хлопца, покрытую темными пятнами пролежней. И вид этой похожей на мальчишескую, ссохшейся груди Тоньки особенно поразил Тонькиных подруг-девок.
Смёртное в могилу она готовила сама, еще задолго, с таким же прилежным старанием, как готовила недавно девичье свое приданое: складывала в материнский, пахнущий ситцем и мылом сундук белую вышитую рубаху, подвенечный голубой сарафан (хоронят по нашей
324
местности еще по-язычески нарядно), шелковый платок-полушалок, широкую пояс-ленту, новые, крепкие, ненадеванные полусапожки. Больная, не могла она оставаться без заботы — все что-нибудь делала, пока была сила: зиму пряла, тянула тонкими своими пальцами кудель, чистила над лоханкой картошку, все отрываясь и заглядываясь в темный угол на что-то, не видиоелшкому («Чтой-то ты все глядишь?» —спросит, бывало, с тревогою мать, а она промолчит, улыбнется); ложилась, когда было совсем невмочь, когда валил ее на постель жар. Ложась на лавку, — а любила она летом спать на лавке, под самым окошком, — говорила матери, топтавшейся по хозяйству:
— А я полежу, мам, чтой-то голова кружится.
— Ай? — спрашивала, недослышав, мать.
— Полежу я, — говорила она, слабея, закрывая глаза и вытягиваясь на лавке, как мертвая.
Весну и лето просидела она у окошка, откуда были видны край деревенской улицы с новым колодцем и раскиданной по траве красной глиной, размытый дождями и засыпанный камнями косогор, где проезжие, спускаясь к броду, сводили под уздцы лошадей; светлая, заросшая лозой и олешником, загибавшаяся дугою река и старая, обвешанная шапками вороньих гнезд береза; вросшие в грязь кладки, по которым, подбирая сарафаны, переходили улицу бабы, перебегали голопятые ребятишки. Из окошка наблюдала она, как неизменным кругом своим идет-течет деревенская жизнь. По утрам слушала, как трубит на росу пастух, как злыми голосами перекликаются на деревне недоспавшие бабы, смотрела на проходивших под самыми окнами, колыхавших боками коров, на бестолково толкавшихся и блеявших овец. За время болезни насторожился у нее слух. Чуяла она по ночам, как в дальне** селе отбивает сторож часы и плывет по ночи медленный звон; как за овинами плачет и ухает сыч; как гомозятся, перешептываются под крышею спящие куры. Ночи она почти не спала, лежала с открытыми в темноту глазами, слушала, как сопит и скрипит зубами во сне брат. И ночами бывало с ней: видела, будто загорался и дрожал, несся из темноты и все разгорался живой уголек, падало смертно сердце, и чуяла, как мягкое, черное будто тулупом покрывает ее и куда-то несет; нетерпеливо ждала, когда начнет выкраиваться
325
из мрака окно и сгинет ночной, мучавший ее смертный ч^трах; когда весело и заливисто, примечая утро, заиграет на трубе пастух Филька... А почти всякий день приходили проведывать ее деревенские девки-подружки. Девки приходили шумно, рассаживались в избе по лавкам, концами пальцев привычно поправляли на головах платочки. Летом пахло от них полем, землею, свежим медовым сеном, ягодами и цветами; зимою — хлебом, овчинами, дымом, крепким морозным днем. Тонька радостно* смотрела на их знакомые лица, на их руки с белыми колечками на твердых пальцах; слушала их знакомый смех. От девок знала она все, что делалось и вершилось по всей деревне. С ними, бывало, оживлялась она, румянец выбивался на затухших ее щеках...
Еще до болезни из всех девок была самая смирная Тонька. Не по-деревенски была она легка и тонка в кости; тонки и белы были у нее руки; темны и густы были ее тяжелые косы (уж в болезни жаловалась она подружкам, что болит у нее от тяжести кос голова). А всего приметнее были Тонькины загибавшиеся брови, длинные черные ресницы, оттенявшие чистую белизну ее лица. На деревне почитали ее некрасивой (уважает деревня красоту яркую, писаную, чтобы горело, дым шел!), а все же не считалась она и дурну- хой. Не к лицу ей были новые прививавшиеся наряды, безобразила модная, пущенная на лоб челка. Сарафан бы к ней, строгую сукманку! В играх и танцах была она точно лишняя, деревянная, с ребятами держалась скучно. А бывало — об этом потом вспоминали девки — находило на Тоньку веселье, не могли признать ее девки. Сватали ее женихи, да очень уж голодный и голый был вдовий двор. И последний ее жених, Оська, заспорил о приданом, а потом совсем бросил, укатил в Москву. Вскорости и слегла Тонька, а никто не ведает точно: дрова ли, Оська ли уложили ее в болезнь.
Была она в отца своего, Федора Сибиряка. Такой же он был болезненный, смирный (рахмаными на* зывают по местности нашей таких людей), такие же длинные ресницы выделялись на его не по-мужичьи белом и чистом, опушенном черной бородкой лице. Жили они допрежь сыто. Свела их в желудовую ча¬
326
шечку шальная затея ехать в Сибирь — на кисельные берега, на молочные реки. Люди помнят, как ходила по всей деревне Марья, сама подбивавшая мужа на переселение, сбывала за полцены добришко, хвалилась бабам, что будут в Сибири есть белые пироги с вареньем. «Натерпелися, настрадалися, — пела она насмешливо слушавшим ее бабам, — теперя хоть сладкой жизни попробуем...» Воротились они из Сибири через год, обнищавшие, в чем душа. «Повезли добра воз, — говорили, издеваясь над ними в деревне, — а привезли вшей полный гашник...» В деревне уж было стерто их место, избенка стояла заколоченная, землицу пахали соседи. И довелось им принять и стыд, и голод, и последнее унижение: ходить по издевавшимся над их несчастьем людям, выпрашивать Христа ради на обзаведение. С той поры стал Федор сохнуть, стал пить* стал шуметь с однодеревенцамн-мужиками. Похоронили его вскорости перед войной: поел на голодное брюхо селедок, скрутило его. С тех пор осталась вдовой Марья.
Великую нужду приняли они в лютые годы. Рассказать невозможно, как жили, чем питались, как выходила Марья Тоньку и сына Егора. Те годы лихо жила деревня, люди мерли как раки. А все же выползли из беды, пережили, выкарабкались на другой берег. Выкарабкалась со всеми и Марья, только оглохла и оглумела.
— Оглумеешь, — говорила она бабам, давным-давно позабыв о пирогах с вареньем, сама смеясь над своим горем. — Не такие-то оглумели...
Со смерти отца Тонька стала главной помощницей по хозяйству. Брат был мал и ленив; на Тоньке осталась вся забота. Вровень с мужиками работала Тонька, пахала и косила, ездила с топором в лес, ходила со сходкой делить луга. С тех пор, когда был жив отец, многое изменилось на деревне, а многое и самое главное — осталось неизменным... Как-то уговорила Тоньку ехать в Москву бедовая баба-разжениха Домна, поставила на место, в прислуги. В Москве дали Тоньке глухую каморку, научили бегать по лавкам, разжигать примус. От примуса она больше и сбежала. «Чего хочешь давай, — говорила она смеявшейся над нею Домне, — теперь в Москву нипочем не поеду, там от одной этой копоти пропадешь...»
327
А вскорости и слегла Тонька. За год перемучилась она своею болезнью, своею неспособностью помогать матери. Однажды, в межень, попробовала она пойти за реку в поле и едва воротилась: так закружилась от летнего жаркого дня, от треска кузнечиков голова, так вдруг подкосились на броду ноги. «Нет, не работница я, помру», — думала она, сидя на краю погоста, под березами, на выгоревшей сухой земле, следя, как под березами над иван-да-марьей гудит желтобрюхий шмель и качаются под его тяжестью желто-лиловые цветы. Все было полно, насыщено теплотой, солнцем; наливалась в полях рожь; медово пахло зеленое сено. Она долго сидела под березами, прощаясь с зеленым, родившим и выкормившим ее миром. А много было в этом сверкающем счастливом мире такого, как она сама!.. Тихо ступая, держа в руке осыпанную ягодами ветку крушины, обошла она деревенское кладбище. Много было старых, мшавых, покосившихся и совсем упавших деревянных крестов. За крестами и белыми стволами берез чисто сквозили поля и спневело глубокое, без облачка, небо. Бархатно волишшсь-ходшш поля; зелено темнели картофельные, осыпанные лиловыми и белыми колокольчиками-цветами нивы... И, словно высматривая себе место, она еще раз обошла все кладбище, заглянула в старую каплицу, где пахло нежильем, прелью, стояли на низкой полке облупленные черные образки, висело ветхое, залубеневшее от времени полотенце. Какая-то птица шарахнулась близко, неслышно обдав ее ветром, и Тонька ахнула, присела, схватилась за сердце. «Нет, не работница я, помру!» — подумала она опять, отдышавшись, пошла тихо, как тень, на деревню.
С того дня упорнее стала готовиться Тонька к смерти, замкнулась, ушла в себя: клещами слова не вытянешь. Переменилась она со своими подружками-дев- ками, будто состарилась, стала глядеть на них словно старшая. Перед смертью стала она кротка, нездешняя. Странные выражала она желания; вспоминала Москву, Домну, городские гостинцы, все просила малинки.
— Малинки бы, — говорила, странно улыбаясь, девкам, — малинки бы мне покушать...
И, чтобы угодить ей, весь лес облазили девки. А обрадовалась же она лесной мелкой малине, а есть так и не стала, не дотронулась до лукошка. Умерла Тонь¬
328
ка просто, в обед: утром попросила мать перевести ее к окошку, в полдни потянулась поглядеть на солнце, на свет, на проходивших под окном людей, задохнулась, откинулась, вздохнула разика три и скончалась...
Мертвая, она лежала на скамье под богами в голубом подвенечном сарафане, с.ресницами, синевевшпми на ее восковом лице, в ненадеванных, с желтыми подошвами, полсапожках. И весь вечер приходили в избу, останавливались у порога, крестились, тянулись через плечи стоявших впереди, молчаливо смотрели на тор- я^ественно-спокойное лицо мертвой Тоньки... Исполни* лось последнее желание Тоньки: на погост несли ее на руках девки на другой день, ранним утром. Солнце поднималось над лугами; над рекою, над седым от росы лугом плыл белый туман. Через речку перешли разувшись, ступая по холодному, засыпанному камушками, игравшему золотыми узорами дну. Гроб несли без попа одни девки на двух белых, выструганных, перевитых холстиною шестах. По обычаю, на разлучье разбили горшок, бросили веник. Утро было золотое; как бескрайнее синее море, дымилась и просыпалась земля. Посмотреть от церкви с холма — казалось, не двигались на извилистой дороге белевшие платками девки. И ничтожно малым, совсем потонувшим в зыб- лющемся синем и блистающем мире казался гроб Тоньки, колыхавшийся на плечах девок. А точно для того, чтобы выразить всю силу этого блистающего, просторного и навеки нерушимого мира, всю дорогу заливались над девками жаворонки, невидимые в высоком небе.
1929
СЛЕПЦЫ
За три дня до престольного праздника их видели в городе на летней ежегодной ярмарке. Весь день бродили они в оживленной, пестрой толпе среди облитых смолою колес, сияющих белизною дерева кадок, горшков, по которым бабы и мужики щелкали заскорузлыми ногтями, пробуя добротность. Сопровождаемые взглядами любопытных, поднимались они мимо ларьков, расцвеченных трепавшимися по ветру лентами и кружевами, на гору, на базарную площадь, где бойкий воронобородый цыган, подхватив за повод гнедого ме¬
329
ринка, ожесточенно хлопая кнутом, пробегал взад и вперед перед покупателем-мещанином. Они проходили, сливаясь с толпою и в то же время выделяясь своею покорной настойчивостью, с которою продирались через самые толкучие места. Брели они гуськом, держа друг дружку за плечи, а впереди шел их поводырь, маленький, огненно-рыжий, оборванный и клокастый паренек, с косившими внутрь глазами. Он сосал пряник, изображавший раскрашенного петуха. На его лицо, на покрытые цыпками руки липли мухи. Слепцы брели за ним в густой шумной толпе, и летнее солнце ласково светило в их немые, с застылыми улыбками лица, которые они поднимали кверху, всем на йогля- денье выворачивая свою слепоту и убожество, и им уступали дорогу.
Останавливались они, где было посвободнее, ощупав костыльками место, садились на землю, горячую от солнца, покрытую навозом, и не спеша снимали с плеч лиры. Не считая рыжего поводырька, их было ■irpoe: двое мужчин и одна женщина. У самого старого была седая свалявшаяся борода, коротко подъеденные усы, запавшие, тесно сжатые веки. Подтягивая молодому, он криво с надсадою раскрывал рот, показывал съеденные под корешок зубы. На лире начинал молодой. Он сидел с остро поднятыми коленями, с большими ступнями, сизыми от пыли и загара. На обнаженной голове его, отсвечивая на солнце, дыбились густые волосы. Он упрямо и виновато — как всегда виновато улыбаются слепые от рождения — улыбался, запевал глухим, едва слышным голосом:
Эта жизнь даиа на время,
Скоро кончится она, —
Человеческое племя
Когда пробудится от сна...
С его голоса сильно п уверенно подхватывала сидевшая рядом молодая женщина. Лицо ее, изгрызенное оспою, еще хранило следы миловидности, маленькие уши с серебряными подвесками были прикрыты густыми светлыми волосами, завязанными на затылке по-городски в узел. И еще страшнее матовели на ее молодом лице неживые глаза с непрерывно набегающею слезой, которую обирала она уголком ситцевого платка, покрывавшего ее тонкую женственную шею*
330
Она пела резким и сильным голосом, держа на отлет голову, сверкая молодыми, белыми как кицень зубами. Загорелая рука с оловянным кольцом на указательном пальце теребила шейный платок, и голос ее, вблизи гнусавых голосов двух слепцов* неожиданно был молод и свеж.
Тесным жарким кольцом их окружали люди, молчаливо-сосредоточенные, внимательно вглядывавшиеся в их немые глаза; и всем этим сероглазым, карегла- зым, молодым, крепконогим было любопытно и страш- но заглядывать в лица сидевших слепцов, а еще страшнее представлять окружавший их мрак. С напряженным любопытством всматривались в слепых женщины, стоявшие в примолкнувшем человечьем кругу, всегда падкие до зрелищ. От их взглядов не скрылась проступавшая на лице слепой женщины едва приметная круглота и прозрачность, что бывает почти у каждой беременной женщины. Они остро приметили, что под грубой, крестьянского сукна одеждой круглится ее живот. И еще с большим любопытством глядели они на ее соседа, вертевшего ручку лиры, чутьем ловя неусле- днмое, что проходило между ним и ею, — в движениях рук, в подобии улыбки, проходившей по его лицу, когда касались их плечи. И когда загорелые, сухие, твердые руки торопливо и неловко опустили несколько медных монет в лежавшую на земле шапку, он, пальцами ощупав каждую монету, выделив старику долю, все свое отдал ей, и по тому, как трогательно отдавал, женщины поняли, что была у него любовь к ней, непостижимо-загадочная, потому что душа слепого зрячему всегда кажется тайной.
А вечером, когда отпылавшее летнее солнце медленно закатывалось за городские сады и с полей возвращалась скотина, лениво неся тяжелые розово-нежные, наполненные молоком вымена, притомившиеся, загоревшие на солнце, охрипшие от пения слепцы прошли в Заречье, на край города, к одинокому человеку* занимавшемуся собиранием песен и местной старины. Днем он повстречал их на базаре и, пообещав плату, пригласил к себе, чтобы записать от них стихи и старины и снять фотографию. И, снимаясь в саду, освещенные закатным солнцем, простоволосые, с ореховыми посошками в руках, со старыми лирами за спиною,
331
они трогательно и древне стояли, не двигаясь ни единым членом. А когда их отпустили, младший лирник, не спуская улыбки с. лица, куда-то глядя впадинами вытекших глаз, тихо сказал:
— Милый человек, просим мы тебя, сними ты нас за ради бога без лир и чтобы вдвоем с нею.
Человек, их пригласивший, улыбнулся:
— Вы не видите, для чего вам?
С тою же улыбкою, с покорным упорством ответил слепой:
— Уж сделай милость, затем и пришли.
И когда их сияли вторично, приубравшихся, натянуто стоявших, они оживленно, ощупывая костыльками место, уселись на бревнах, и молодой спросил весело:
— Аль начинать?
Крутя ручку лиры, склонив лицо, невнятно пропел он первые слова, и женщина, до того бойко щелкавшая подсолнушками, привычно подхватила за ним. Заглядывая в их лица, пригласивший их человек наскоро записал слова стихиры:
Когда цветы все расцветают,
На приступлении зимы Теряют листья, опадают, —- Подобно тем цветам и мы!..
Когда уходили они в пыль дорог, розовую на закате, с напряженно поднятыми головами, щупая костыльками крепко усохшую землю, он захлопнул за ними калитку и, проходя в сад, где пахло антоновкой, мельком подумал: какой загадочной должна быть любовь человека, ни разу не видевшего солнца, и как трогательна эта загадочная, непостижимая любовь.
1926-1950
КУРГАНЫ
В давно забытые времена наш край был покрыт не*, исхоженными, дремучими лесами. Протекала среди лесов большая, многоводная река, бродил по лесам непуганый дикий зверь. Селились на берегах реки наши древние предки —' славяне, насыпали высокие городи* ща, оставляли за собою зеленые могильные курганы*
332
И теперь можно видеть эти высокие городища, еще не все раскопаны и распаханы древние могилы. Среди опустелых лесов по-прежнему течет река. Застроены, обжиты людьми городища, памятниками забытого далекого прошлого высятся но берегам реки зеленые курганы...
По сохранившимся преданиям, пришел некогда в лесной, дикий наш край неведомый старец-подвижник Герасим с длинной седой бородою, основал у светлого озера, недалеко от реки, монастырь. Долгие годы был сей монастырь славен и богат, владел обширными вотчинами, засылал на далекий север своих людишек ловить рыбу снытку.
У самого монастыря, среди лесов и болот, пролегала большая дорога, соединявшая два отдаленных мира. Дорогою той, топями и медвежьими чащобами проходили в Московию с запада богатые посольские поезда. «Тяжек был путь, — говорит летописец, — полон диких зверей нескончаемый лес, волосаты, звероподобны, страшны московитские мужики, ужасна дорога, которую, чтобы не потонуть в топи, русские люди устилают бревенчатой гатью...»
Здесь же, по этой большой дороге, обсаженной высокими плакучими березами, проходила некогда на Москву великая армия императора Наполеона, а сам император останавливался в покинутых хозяевами дворянских усадьбах, где на него и его блестящую свиту, прячась в кустах, глазели одетые в холщовые сарафаны дворовые девки и бабы. По окрестным деревням рыскали французские солдаты, отбирали у мужиков хлеб, ловили и резали кур, ломали на огородах пчелиные ульи. Еще до прихода французов покидали усадьбы, куда-то за Волгу бежали, увозя в сундуках и шкатулках фамильное добро, напуганные помещики- дворяне. Оставшись на своей воле, разорили господские амбары, волокли оставленное господское добро смоленские мужики...
Потом, уже зимою, бежала из Москвы победоносная армия, одетая в бабьи салопы, теряя замерзавших людей, награбленное в Москве добро, разбитые повозки, исхудавших некормленых лошадей (с тех давних пор появилось у нас французское словечко «шваль», приобретшее новый, презрительный смысл). Много прошло годов, травою и лесом покрыты французские и
333
русские забытые могилы; умирали, родились и вырастали поколения людей, несказанно изменялась сама жизнь.
А еще в более давние времена переходил наш край из рук в руки, долго владела нами Литва, была близка польская граница. В крестьянских обычаях и обрядах сохранялся древний языческий лад. Старинные пели песни, водили по деревням хороводы, по-язычески справляли поминки, пекли блины. И по-прежнему текла в зеленых своих берегах красавица река...
Не раз приходили в наш край чужеземные люди, в удельные времена резались мея^ду собою князья и князьки: на смуте, междоусобице замешено темное прошлое. Потом царевали над мужиками помещики- крепостники (чем мельче, малоземельнее был иной раз помещик — злее старался показать свою силу), и, должно быть, от тех давних времен каждая деревушка сохранила свое лицо. Чем настырнее, злее был в старину барин-помещик, тем забитее глядели исподлобья мужики.
По местам нашим давным-давно пошли под топор дремучие леса, помещичьи обширные парки, разорены усадьбы с большими каменными и деревянными домами-дворцами, окруженными старыми дуплистыми липами, развесистыми дубами и высокими кленами, кустами разросшейся сирени, старыми, поколовшимися яблонями, с соловьями, обитавшими в непролазных парковых чащобах, с голосистыми лягушками в заросших зеленой осокою сажалках-прудах, с тенистыми беседками, устроенными для томных вздыханий и бессонницы. На месте парков и дворянских усадеб беспорядочно торчат новые крыши деревенских хуторов- выселков, кланяется журавель нового колодца; под недокрытыми голыми крышами течет кротовья упрямая мужицкая жизнь... Разве по двум-трем неведомо как уцелевшим одичавшим яблоням и грушам, одиноко торчащим на мужицких огородах, да но заросшим дедовником и крапивою, заваленным землею ямам, по обломкам старинного крупного кирпича можно признать, где была когда-то, цвела господская богатая усадьба, текла иная, ныне забытая, навеки похороненная жизнь. Здесь жили, веселились, влюблялись, стрелялись из пистолетов, увозили на лихих тройках похищенных невест, проигрывали в карты людей и де*
834
ревни, пили, устраивали балы помещики-дворяне, а мечтательные дворянские барыпищ в открытых кружевных платьях, в завитых локонах вздыхали над чувствительными стихами и романами в кожаных с золотым тиснением переплетах..,
Нынче от прошлого осталось мало: редкий человек рассказать может, как жили, кто, какие были люди; мало, мало осталось в народной темной памяти от давнего прошлого... Лишь где-нибудь за облупленной, всеми покинутой церковушкой, в обвалившейся камен- ной церковной ограде, на каменных и чугунных плитах, потонувших в бурьяне, загаженных молодыми грачами, видны холодные, никому не нужные имена. Да и поныне где-то живут, носят громкие фамилии прежних господ затерявшиеся потомки некогда гремевших крепостных владык...
Здесь, в наших краях, была усадьба русского композитора Глинки, здесь родился, рос и воспитывался, купался в реке декабрист Каховский. Здесь же неподалеку стояли вымышленные Львом Толстым Лысые Горы князей Болконских, чудачил старый князь, скакал по большаку Алпатыч, молилась, принимала прохожих юродивых-бродяг княжна Марья... Ныне портреты знатных дворян и мечтательных нежных красавиц в кружевных платьях пошли на потеху деревен-* ским ребятам, или увезены в Москву, или висят в уездном нетопленом музее, где по средам и воскресеньям, в базарные дни, забредшим с базара с городскими гостинцами в лыковых кошелях бабам и мужикам дает объяснения хранитель музея Николай Иванович Савин. (Во всяком, и самом маленьком, городке непременно были подобные заступники и попечители местной старины.) А странно, чуждо, точно из иного, загробного мира глядят с портретов удивленные, мечтательные глаза неведомых красавиц в бальных платьях на собравшихся мужиков и баб, на то, как от мужичьих обмерзших и обсосулевших бород поднимается легкий пар...
А еще недавно, незадолго- до революции, на памяти живых, здравствующих людей, доживали по местам нашим потомки этих некогда сильных, державших в руках своих силу и власть имен. Хлебосольничал, держал псовую охоту, во всем старался подражать широкому прошлому старик Воронец; гуляли, катались на
335
рысаках, пугали автомобилем деревенских ребят и баб, ирошвыривали отцовские крохи братья Станкевичи; перестрелялось, спилось, отдалось в руки пройдохам- плутам, пылью рассыпалось некогда большое, по-старинному крепкое семейство дворян Крымовых. И топтались в городских прихожих, ломали перед господскими плутами-приказчиками свои рваные шапки, неслн в задаток за купленную помещичью землю завернутые в тряпички засаленные рублевки и трояки, упрямо хлопотали насчет господских лугов и землицы мужички-серячки.
Памятен и уездный городок наш на берегу реки. В кои-то веки был городок богат, славен и бел; большая торговая пролегала через него дорога: торговали пенькой, льном, Далеко хаживали с обозами, крепко сколачивалц копеечку городские купцы. Строили купцы каменные, крепкостенные, крепкобокие дома, с резными тяжелыми воротами, с маленькими тюремными оконцами, прикрытыми ставнями, кружевными белыми занавесками, с лежанками и кафельными печами- голландками, горячими как пожар, с темными комнатушками и чуланами, с большими, тяжелыми замкаА\ш и железными засовами па дверях и воротах, со злыми цепными собаками, караулившими купеческое добро. Были в купеческих домах всегдашний сумрак, мыши и тишина, сугубое почитание; стояли по углам обитые железами пузатые сундуки, возвышались у стен многоспальные кровати с высокими пуховыми перинами и снежно-белыми подушками в изголовьях. Сияли в застекленных, пахнувших кипарисом и богородичной травкой, киотах серебряные ризы старинных темноликих икон; неугасимо горели перед иконами в синих и красных стеклянных стаканчиках, чадили деревянным маслом желтые язычки лампад. И, помолясь с земными поклонами, заставив свечей перед святыми подвижниками, намочив квасом подстриженные в скобку волосы, брались за свое торговое дело купцы...
Сидели купцы в гостином ряду, в каменных крепких лабазах, за обитыми жестью прилавками, грелись на холоду горячим чайком, играли в шашки. И бойко щелкали на купеческих старых счетах, отсчитывая рублики, желтые и черные круглые костяшки...
336
В давние те времена стоял в городке пехотный полк, окрестные помещики устраивали званые балы, наряжались, взбивали локоны помещичьи дочери- невесты, пылили по дорогам, ямщицкие и помещичьи бойкие тройки. И белел над городком, прочно возвышался на городском зеленом валу собор, бродили под пожарной каланчой (в первый год революции на самой этой каланче, вместо разбежавшихся пожарных, уездное новое начальство заставило дежурить городских попов) исправниковы и Протопоповы индюшки; сидя в полосатой будке у исправникова двухэтажного дома, ковырял в носу городовой Нилыч; кораблем плыл по базарной площади соборный протопоп Елеофантов, народивший шестнадцать дочерей, и как бегучие волны расступались перед ним базарные лю- дишки.
Единожды в год, на светлую, собиралась в городке шумная ярмарка, съезжались помещики и барышники- купцы, со всех концов нашего глухого уезда везли мужики деготь и лыко, колеса и глиняные горшки, вели продавать лошадей и мелких своих коровенок. Табором стояли за рекою цыгане с цыганками и го* лыми загорелыми цыганятами; бродили черноглазые, чернобородые цыгане по ярмарке в широких плисовых шароварах, в синих измятых картузах. Клялись и божились, сбывая краденых и опоенных лошадей, бойко щелкали ременными кнутами. Зад к заду кучились на ярмарке с задранными березовыми оглоблями мужицкие телеги; сидели на телегах деревенские бабы- молодухи в расшитых повойниках и праздничных сарафанах, лакомились городскими гостинцами. Звонили на соборной колокольне колокола, и праздничный звон растекался над городом п рекою...
* * *
В последние памятные годы несказанно изменялся глухой некогда и лесовой край наш, менялись и изменялись люди. По-прежнему праздновали в деревнях праздники, пели на свадьбах старинные веселые песни, поминали покойников. Но уже не разъезжали на тройках, не проматывали оставшиеся от дедовского богатства крохи помещичьи сынки; скоропостижно умер, попарившись в бане, последний старый
337
помещик Воронец. Неведомо куда разбежались, прахом развеялись потомки крепостников-дворян. Запустели немногие уцелевшие от огня старинные помещичьи усадьбы...
Несказанно изменился и сам городок наш с высокой колокольней на древнем Соборном валу, с купеческими крепкостенными домами, красными кирпичными лабазами, с часовнями и церквами, многолюдными, шумными ярмарками...
И уж не плывет над городом колокольный звон. Иные слышны речи, иные, бодрые слышатся голоса. А по-прежнему течет, как бы вдаль унося отжитое прошлое, отражая в себе спокойное высокое небо, наша река, и на зеленых ее берегах могильные высятся курганы, поросшие высокой муравою...:
1965
ДУДАРЬ
Осенью путешествовали мы по лесовому соседнему уезду. Край этот и после революции остался глухой: стоят большие леса, ведется лось и медведь. За медведями мы больше и ходили. Всякий день мы видели в лесу, на просеках, свежие следы зверей, похожие на след мужичьего лаптя, находили сорванные стебли сладкой лесной травы «ствольев» — любимое лакомство медведей, видели дымившиеся кучи медвежьего помета, похожего на пироги с черникой. Мы стерегли зверей ночами на вытоптанных овсах, но так и не довелось нам тот раз повидать землячка нашего Топтыгина Михайлу...
А край действительно медвежий, глухой. В деревнях встречали нас с опаской, не раз деревенское начальство спрашивало у нас документы (тут еще совсем недавно, как в старину, гулял по дорогам, губил души удалой разбойничек Кыш), потом, приглядевшись, делались доверчивее, проще. И даром что проходила совсем близко железная дорога и шумели в лесу поезда, много страшных историй о разбойниках и бандитах, о зарезанных и убитых охотниках наслышались мы за дорогу.
Приятель мой, хранитель музея и собиратель старины, упрямо хлопотал о своем* Однажды! посмеи¬
838
ваясь, угостивши нас чаем и новостями, деревенский председатель нам сказал:
— Есть, есть у нас один старичок, зовут Семеном.: На старинной умеет играть дуде, песен много знает вы к нему пройдите...
Напившись чаю, мы отправились искать Семенов двор. Деревни в Вельском уезде, не в пример нашим, дорогобужским, глядят чисто, крыши тесовые, лес на стенах ровный, избы высокие, светлые. Мы вошли в новую, наполовину отделанную избу. Курносая девка выбежала нам навстречу, ахнув от испуга, и, топая босыми пятками, скрылась. В избе было просторно и пусто. Мы остановились.
Молодой бритый мужик вошел, подозрительно оглядывая нас и наши охотничьи ружья. Мы поспешили рассказать, что приехали из города, занимаемся охо- той, что надо бы нам повидать старичка Семена, послушать его игру на старинной дуде.
Молодой хозяин был уже бывалый, смекалистый человек. Чуялось это и по говору с газетными городскими словечками и по тому, как пренебрежительно он улыбнулся, узнав, что ищем мы старика, интересуемся его дудою.
— Марья, покличь батьку! — крикнул он, приоткрыв дверь.
Он провел нас в неотделанную половину, где было прохладно, лежали в углу на выструганном, чистом полу стружки, приятно пахло смолой. Мы сели и закурили, поглядывая в окошко на деревенскую чистую улицу с новым колодцем и колодезным журавлем.
Старик пришел не скоро. Вошел он, тихонько ступая лаптями, осторожно прикрыл за собою дверь* С нами он поздоровался за руку. Был он мал ростом, сух, узок в плечах; на маленьком загорелом, смуглом лице его курчавилась короткая легкая бороденка, улыбался он по-детски, виновато, как улыбаются чувствующие себя лишними, обиженные в семьях старики.
Все в нем было легкое: походка, спутанные на голове серые волосы, взгляд, манера легонько покашливать и прикладывать к губам руку, даже белая холщовая рубаха как-то особенно и легко лежала на покатых его плечах. Руки его быйи легки, сухи и почти по-женски малы.
839
— Здравствуй, Семей, — сказали мы. Вот мы из города, за медведями вашими ходим...
— Дело хорошее, — сказал он, улыбаясь и оглядывая нас живыми глазами. — Дело хорошее: надо попугать зверя...
— Медведи-то медведями, а вот слыхивали мы, что ты большой мастер играть на дуде, петь старинные песни. Покажи-ка нам свое искусство.
Он не стал много запираться, отнекиваться, ответил просто, будто того и ждал от нас:
— На дуде? Эх, братики, дуда-то моя, чай, теперь уж рассохлась: двадцать годиков в руки не брал, навряд вспомню сыграть.
— Вспомни, пожалуйста!
— Не знаю, не знаю, — ответил он, — навряд вспомню... Да и дуду теперь не сыщешь, на чердаке куры загадили...
Мы долго уговаривали его отыскать дуду. Должно быть, и в самом деле далеконько завалилась дедова дуда: мы слышали, как он лазил на чердак, приставлял к стене лестницу, как ходил потом на колодец отмывать с дуды грязь.
— Вот она, старинная! — сказал он, показывая свой музыкальный инструмент из телячьей, снятой мешком, шкуры с пришитой деревянной дудкой. В руках он держал маленький пищик из камыша.— Пищик рассохся, а в пищике — главное дело, да и мех плох стал, воздух проиущает! — говорил он, беря мешок под левый локоть и его надувая.
Послышался жалобный, тонкий звук. Он остановился, цабрал воздуха, поднимая под рубахою костлявую старческую грудь, и, склонив набок голову, заиграл, перебирая пальцами. Звук был тонкий, похожий на плач, — звук свирели, тростниковой жалейки, непрерывный, потому что старик время от времени надувал мех, склоняя голову и отставив ногу.
— В старину, бывало, на свадьбах играл, — сказал он, вытирая губы и смотря на нас веселыми, помолодевшими глазами. — Я прежде хороший игрок был. Тогда балалаек этих, гармоней еще не ведали. Под дуду и плясали; бывало, суток двое жаришь без передыху, а хозяева тебя за это водочкой угощают. Теперь позабыл, не могу, да и пищик не годится, новый надо делать.
340
И, надувши мех, он заиграл горевую старинную, сохранившуюся еще от крепостных времен, мужицкую песню, выговаривая слова на смоленский лад:
Ох — и на проходе уси веселая наши деньки, Ох — и наступают слизовыи на нас времена: Разоряють нас лихие, лихие воры — господа...
В избу вошел его сын, стал у порога, деревянно улыбаясь. Старик как будто застыдился сына, бросил играть, поглядел виновато.
— Вот она, старинная музыка! — презрительно сказал сын.
— Надо тебе, дедушка, в Москву ехать, — сказали мы.— Там тебе большой почет будет.
— Эх, Москва, Москва — золотые маковки! — старинной скоморошьей скороговоркой отвечал дед. — Мы лесные, серые, на печи привыкли сидеть, куда нам в Москву...
Помню, мы стали уговаривать старика побывать в городе, показать себя людям. Он посмеивался, продувал пищик, шутил. Даже к нашему замечанию о деньгах, что в городе можно, мол, заработать, отнесся он равнодушно.
Заслышав о деньгах, сын насторожился, заулыбался и, садясь на подоконник, сказал:
— Вот не даром тогда хлеб будешь есть.
— Правильно, — говорим, — дедушка, поезжай.
— Уж я поеду, поеду, — полушутя, полусерьезно отвечал старик. — Вишь, карета моя еще не готова..*
Он проиграл нам весь свой запас, спел много песен.: Я смотрел на него, на его руки, на то, как ладно притопывает по полу его нога в мягком лапоточке, думал, что перед нами настоящий природный артист.
Мы ушли, взволнованные нашей находкой. Быть может, мы преувеличивали, быть может, ни один человек не станет слушать теперь старинную дуду, но что- то говорило нам, что в старике есть подлинный талант*
Мы вышли, когда уж стало меркнуть, пошли на овсы, куда ходил по вечерам медведь. Над лесом закатывалось солнце, а на золотом небе четко чернели лесные макуши. Я прошел лугом, десятиной, и влез на зеленый дубок, где был приготовлен «лабаз». Стало тихо; сорвался и прогремел вдали тетерев. Лаяли на деревне собаки, женский голос звонко манил в лесу
341
заблудившуюся корову. Я сидел на дубу, как Соловей- разбойник, слушал и смотрел, как опускается за лес большое, багровое на закате солнце, кончается над землею день.
* * *
Последний раз я видел старика зимою у приятеля моего в городе, перед концертом. Старик сидел за столом, пил чай, держа в руке блюдце, крепкими зубами откусывая сахар. Для выступления на концерте он принарядился. На прямой пробор были расчесаны * его курчавившиеся на концах легкие волосы, воротник чистой рубахи опрятно обнимал тонкую морщинистую шею. В углу на диване сидел его сын в черной вышитой рубахе, вертел в руках балалайку. Мы поздоровались, старик улыбнулся, подмигивая сказал:
Вот и довелось опять встретиться...
— Где же дуда твоя?
— Тут дуда, новый мех для дуды справил, старину подымаю...
— Да ты пей, пей, потом покажешь...
Вечером мы отправились в клуб, где был назначен концерт.
В клубе было холодно, стучал по крыше мороз. Мы пришли, когда еще никого не было. Пустынно стояли стулья, мигало электричество.
Концерт не удался. Слушателей оказалось мало. Помешал мороз, какой-то праздник, кино, да и не охотник был в те времена уездный человек до таких концертов.
А я смотрел, слушал и дивился. Кто учил этого старика так выступать на сцене, так свободно держаться?.. Невольно вспоминалось мне, как, бывало, на деревенских свадьбах, на праздниках вдруг прорвется, и глазу не поверишь, как преобразится какая-нибудь молчаливая баба, сколько блеснет жару, таланта, каким пожаром запылает зарумянившееся, помолодевшее лицо!..
После концерта я подошел, чтобы ободрить старика. Он был весел, возбужден; неудача не произвела на него никакого впечатления. Сын сердито подсчитывал небогатую выручку.
Потом слышал я, что старик выступал в губернском городе, что был у него там шумный успех, но¬
842
сили его на руках, обещали поездку в Москву. А совсем недавно я узнал, что старик умер и дуду его мой приятель водворил в уездный музей... Не знаю почему, защемило вдруг сердце: пристрастие ли мое к народной старинной песне, воспоминание ли о лесном арти- сте-дударе, или это — что дороже всего, чем украшается жизнь — природный дар, талант, живущий в русском простом человеке...
1929
ДОРОГИ
К. А, Федину
Выезжаем из города на рассвете. Внизу, над рекою, стелется молочно-белый туман. Из серебристого моря тумана, точно видение, поднимаются стены городского собора, темнеют крыши домов. Далеко-далеко за рекою из тумана, как в стародавние времена, слышится рожок пастуха.
Что-то древнее, призрачное во всем этом! Мы проезжаем мост, пустую базарную площадь, сворачиваем па большой тракт. Солнце встает над лугами. В клочьях поднявшегося тумана дымится лента реки; в заросших осокой, невыкошенных низинах без уехали дерут коростели. Седые от утренней росы, у самой дороги лежат высокие, густые валы свежего сена. Там и там, в просторах заливных лугов, молнией вспыхнет в луче восходящего солнца и вдруг погаснет стальное лезвие косы. С лугов тянет туманом, медовым запахом трав. Под крутым берегом реки, отразившись в зеркале воды, пролетел лазурный зимородок наша райская птица.
Тишина, утро, простор. Мы выезжаем на большак — широкую, бойкую дорогу, обсаженную старыми развесистыми березами, покрытыми потрескавшейся корою. Мало осталось этих древних берез — они дряхлы, дуплисты и, кажется, спят непробудным сном, до самой земли опустив свои плакучие ветви.
Еще стоят кое-где вдоль дороги похинувшиеся деревянные крестики, заросшие высокой муравою. По народному обычаю, отмечали на Смоленщине такими придорожными крестиками памятные места, где не¬
343
жданная смерть застигала, прохожего или проезжего человека. Сколько страшных рассказов слышал я в детстве об убиенных и умерших в пути, опившихся, сраженных грозою, утопших! Тревожное чувство вызывали эти немые памятники печальных событий. Помню, как набожно крестилась мать, как торопили мы, бывало, лошадей, минуя место, овеянное памятью давней трагической кончины...
Вот на перекрестке дорог высится знакомый тесаный камень. По рассказам стариков, некогда здесь стоял веселый кабак; гремя бубенцами, сюда подкатывали ямщицкие и помещичьи тройки, у изгрызенной коновязи, прикрытые армяками, дремали лохматые лошаденки возвращавшихся из города загулявших мужичков. По старинному обычаю, вместо писано i t вывески над крышею кабака висела «ведьмина метла» — густая еловая ветка, служившая призывным маяком для проезжих и прохожих гуляк.
Дорога бежит, извивается, пропадает в кудрявых березовых рощах, исчезает в заросших ольшаником глубоких оврагах и рвах, темнеет весенними промоинами, краснеет размытой глиной. Вокруг — холмы, поля, колышется и дымит рожь, нежно зеленеют овсы, туманятся луга. Солнце светит весело и ярко; пухлые, белые, чуть золотистые облака плывут по синему летнему небу, а по холмам за рекою, по сизым хлебам, скользят их лиловые тени... Чернеют соломенными старыми крышами деревни, синевеют за рекою нетронутые леса; зеленым островком кажется деревенское старое кладбище с высокими соснами, с покосившимися крестиками на могилах, с островерхой крышей кладбищенской часовни — каплицы. От кладбища не спеша идет человек в подпоясанной ремешком рубахе; босые, серые от пыли ноги мягко ступают по гладкой, горячей от солнца дороге, стариковские зоркие глаза глядят на нас с любопытством...
Мы едем не торопясь, иногда идем пешком на подъемах. Ямщик идет рядом с дугою, бодро пощелкивая кнутовищем по пыльным солдатским сапогам. Бронзово-черный затылок его оброс курчавыми волосами; на выцветшем сукне старой солдатской гимнастерки налипли слепни. Слепни жадно вьются над потной спиной лошади, липнут на холку, на грудь. Скаля зубы, ямщик давит их рукою, вытирая
344
о колени испачканную кровью грязную мозолистую ладонь.
День занимается ясный, паркий, высоко стоит солнце. По макушкам берез нет-нет прошумит и затихнет полуденный теплый ветерок. Он колышет ветви берез, наносит с полей запах трав и хлебов. В рощах пахнет сыростью, грибами, кое-где под деревьями еще лежит роса. Повиснув в знойном воздухе, плещется над межою крыльями длиннохвостая пустельга...
Я смотрю на поля, на деревья, на недвижно повисшую в воздухе освещенную солнцем пустельгу. Сколько картин, событий, забытых судеб, историй воскрешают эти знакомые с детства места, дороги! Вот здесь, над рекою, стоял против церкви большой, с пустыми зара- дужелыми окнами, нежилой дом дворян Пенских, и мне вспоминаются слышанные некогда рассказы о грозной барыне Пенчихе, беспощадно поровшей дворовых девок и баб, о полусумасшедшем карлике-барине, ходившем молиться в поле под старый дуб (развесистый дуб этот показывали мне в детстве). Далеким, почти сказочным показывается и недавнее прошлое: волостное правление на краю села, казенка, окруженная шумливыми хмельными мужиками, чернобородый старшина Фетисыч с заплывшими маленькими глазками, чахоточный длинношеий писарь... Далеким прошлым кажутся эти отжитые времена...
Стерт с лица земли, по бревнышкам разнесен дом дворян Пенских; сожжено, головешки не сыщешь, волостное правление; с землею сравняли мужики двор кузпечихи Марьи, в смутные годы скрывавшей у себя разбойников-бандитов... Осталась от прежнего высокая белая колокольня, да по-прежнему вьется-бежит среди зеленых лугов знакомая наезженная дорога.
* * *
Кормить останавливаемся в старинном Болдинском монастыре.
Проезжаем подмонастырную, богатую некогда деревню с высокими тесовыми крышами, резными нарядными крылечками, с затейливыми скворечнями на деревьях. Монастырь обнесен кирпичной оградой с бойницами, через которые — сказывают люди — некогда лазили по ночам гулять к солдаткам-бабам мо-
345
лодые монахи. Тяжелы, несокрушимы монастырские кованые ворота с тяжелым железным запором. Прославился монастырь веселыми похождениями монахов, которых духовные власти ссылали на покаяние в эту глухую обитель. Теперь в монастыре — музей и хозяйственный склад, а на опустевшем монастырском дворе пробивается между камнями веселая зеленая мурава. Темная фигура единственного уцелевшего мо- наха-скопца, отрекшегося от своего сана и оставшегося жить при музее, испуганной птицей метнулась за углом каменного дома...
В опустелом монастыре задерживаемся недолго. Солнце уже высоко, поднимается над дорогою легкая пыль. Дороги здесь вьются вдоль реки перелесками, полями — уводят в синюю зыблющуюся даль.
Большая темная туча растет за рекою. Мы наблюдаем, как надвигается с запада страшная туча, как клубятся, сивой грядою бегут впереди нее грозные клокастые облака. Застывший воздух тяжел и недвижен. Как бы стараясь подчеркнуть наступившую предгрозовую тишину, наперебой изо всех сил стрекочут кузнечики; еще настойчивее липнут к усталой лошади злые слепни. Отсвет пробившегося сквозь облака солнца янтарными бликами ложится на лица. Внезапно налетевший вихрь вдруг поднимает с дороги, несет в глаза пыль, отчаянно треплет, заворачивает на деревьях листву, играет гривою лошади с завязшими в ней репьями. Все громче, все грознее приближаются громовые раскаты. Смутное чувство забытого детского страха возникает в душе.
Первые капли дождя, смешиваясь с пылью, грузно падают на дорогу, на пыльные крылья тележки. Подгоняя лошадь, мы едем, пока позволяет дождь, потом, торопливо привязав к изгороди лошадь, скрываемся в лес под деревья. Макушки деревьев грозно качаются над нами, уныло скрипят. Беспрерывно одна за другою полыхают молнии, громыхает гром, с треском обрушиваются близкие удары, после которых еще сильнее вдруг припускает дождь.
Пережидая грозу, мы сидим долго в лесу под деревьями, потом, мокрые почти до костей, по прибитой дождем траве выходим на 8алитую водой дорогу. Потемневшая от дождя лошадь радостным ржаньем приветствует нас. Далеко-далеко за полями поднимаются
346
шзые клубы дыма. Это горит деревенский сарай, зажженный прокатившейся грозою. Грозная темная туча медленно уходит. Все реже и реже полощут молнии, дальше и дальше громыхает гром. Впереди над дорогой, над умытой березовой рощей уже открылось высокое чистое небо и, — как бы ничего не было — по ясной его голубизне тихо плывут и плывут высокие легкие облака. Радостно зеленеет и пахнет роща, празднично, точно невесты, белеют стволы умытых берез. Поток мутной дождевой воды стремительно несется по дороге, обмывая вертящиеся ступицы колес.
Из молодой березовой рощи навстречу нам выбегает веселый табун молодых лошадей. Сытые жеребята резвятся, носятся по лугу, трубою раскинув хвосты, копытами разбивая зеркальные лужи. Солнце играет на их лоснящихся мокрых спинах, отражается в белых стволах берез. Через полуразрушенные каменные ворота мы въезжаем в старинный помещичий парк, едем под деревьями, роняющими на дорогу редкие капли, останавливаемся у подъезда огромного старинного, с колоннами, дома-дворца и, привязав лошадь, идем по широкой лестнице вверх.
В этом огромном, похожем на дворец доме жили когда-то богатейшие люди нашего края ■— знаменитые дворяне Барышниковы, владевшие состоянием почти несметным. Теперь тут государственное коннозаводство, обосновался усадебный музей, живут и работают иные, новые люди.
В верхних, отведенных под музей комнатах — мертвая тишина. На пыльных высоких стенах висят темные, тускло отсвечивающие портреты. Высокие окна пыльны и мутны, за давным-давно не выставлявшимися рамами скопились слои осенних мертвых мух. Воздух в комнатах тяжкий, могильный. Мы проходим пустынные комнаты, уставленные мебелью, столами и креслами, высокими секретерами. На круглых столах лежат альбомы, выцветшие фотографии. В просторных стенных шкафах коричневеют корешки кожаных переплетов, хранятся стопки писем, перевязанные выцветшими атласными ленточками. Я беру, читаю одно письмо, написанное замысловатым старинным почерком на серой плотной бумаге. Какой далекий, чуждый, навеки похороненный мирЦ
347 *
Здесь, в этих комнатах, жили, воспитывались, родились и умирали поколения людей, державших в руках своих судьбы многих человеческих жизней. Я вспоминаю предание об откупщике, основателе знатного рода Барышниковых, сыне простого посадского, по сохранившейся в народе легенде присвоившего себе золото, полученное фельдмаршалом Апраксиным в подкуп от прусского короля (золото это, как говорит предание, было доставлено в бочках под видом сельдей); вспоминаю романтическую историю одного из Барышниковых, замечательного, но безвестного художника, рожденного от дочери крепостного позолотчика, простой крестьянки, впоследствии усыновленного своим знатным отцом и воспитывавшегося в Мюнхене, не раз привозившего гостить в смоленские дебри своих друзей, знаменитых немецких художников, картины которых, изображающие жизнь русской деревни, поныне висят в европейских художественных галереях... Живы рассказы о последнем крепостном помещике из рода Барышниковых — толстяке, насмешнике и дебошире, не знавшем удержу в своих безобразных выходках. Это о нем рассказывали старики, как, встретивши раз на большаке мужичка-дегтяря, он велел тому крепостному мужичку под страхом жестокого наказания окунуться трижды в дегтярной бочке; как однажды, проезжая в город на дворянские выборы, завидев по дороге купавшегося в пруду своего соседа, бедного помещика, приказал кучеру остановиться и, подозвав из воды голого соседа, стыдливо прикрывавшего руками наготу, силою усадил в коляску, да так и примчал в Адамовом подобии в город, на многолюдное собрание дворян. О нем же рассказывали, что перед самою смертью, вскочив с одра, гонялся он с заряженным пистолетом за привезенным из Москвы знаменитым лекарем-немцем, крича во все горло: «Сперва ты умрешь, немецкий колпак, а я еще поживу, посеку моих мужичков!..» Много таких рассказов ходило о проделках барина-самодура... В старинных письмах, сохранившихся в потайных ящиках секретеров, повествуется о необыкновенной любви к художнику Барышникову молодой его соседки Бегичевой, на всю жизнь оставшейся верной единственной своей страсти. Перед ее портретом, писанным самим художником, с особенным вниманием останавливается хранитель
348
музея, страстный любитель старины. Приветливо глядит из золоченой овальной рамы прекрасное лицо девушки с чуть раскосыми, приподнятыми татарскими бровями, в белой атласной душегрейке, накинутой на еще детские плечи, с открытой тонкой шеей, с белым цветком лесного шиповника за маленьким нежным ухом. Все это кажется теперь недосягаемо далеким; от старых любовных писем пахнет пылью и прелью, но в городе многие знают, что совсем недавно, уже в глубокой старости, умерла изображенная на портрете красавица, навеки сохранившая верность своей первой и последней любви; что доживает свой век в соседнем городишке, питаясь подаянием, распродавая остатки имущества, последняя из богатейшего рода Барышниковых, одинокая старая дева... А еще долго будет стоять огромный каменный дворец, построенный крепостным архитектором Семеном, — с колоннадами, с английским парком, с большими прудами, на которых недавно умер последний лебедь, со старыми березами на берегу пруда, на которых гнездятся цапли... Многое могли бы еще рассказать старые письма и письмена, но не охотник я долго копаться в старинных бумагах, могильным склепом кажутся мне музейные комнаты с зарадужелыми окнами, с тускло отсвечивающими портретами на стенах, с толстым слоем мерт« вых мух за невыставлявшимися оконными рамами. Приятнее выйти па свет, на летнее солнце, на легкий эетер, иесущий запах трав и цветов, вздохнуть полной грудью, услышать свист иволги, увидеть живого, веселого, смеющегося человека, ехать-трястись пыльным проселком среди полей и лесов...
Мы проходим все комнаты, поднимаемся в детскую половину, откуда открывается вид на пруд, на заглохший цветник, где на запущенных клумбах пасется привязанный на веревке теленок. Но все еще прекрасен и густ старый парк, чудесен пруд с островами, развалившимися беседками, берегами, непролазной чащобой. Какие-то задичавшие, выродившиеся цветы сиротливо тянутся по кирпичной обсыпавшейся ограде..*.
Выходим на волю, в парк. Седой высокий старик встречается нам в аллее. Он останавливается, заговаривает с нами; еще зорко смотрят его выцветшие, глубоко запавшие глаза, высохшие темные пальцы старческих рук цепко держат обтертый костыль. Он знает
349
все, пережил три поколения вымерших господ, хороша помнит крепостное. Мы глядим на него как на живое чудо— на его руки, на седую сквозную бороду, на выцветшие глаза, видевшие далеких, неведомых нам людей...
Вечером один брожу по парку, слушаю соловьев, лягушек, как гомозятся над прудом цапли. Возвращаюсь поздно, прохожу коридором, глухо и пустынно отражающим шаги. Ночуем в охотничьем кабинете, увешанном медвежьими шкурами, черепами и рогами оленей, лосей. И всю ночь не спим, курим, тревожно прислушиваемся к ночным таинственным звукам, к писку и шелесту мышей за шкафами...
Какой долгой кажется эта бессонная тяжелая ночь. И когда занимается в окнах заря, догадавшись о причине бессонницы и ночных смутных страхов, я с яростью отдираю давно не открывавшуюся высокую присохшую раму. С рамы летит на пол замазка. Воздух, пахнущий туманом, свежестью утра, листвою росистого парка, врывается в комнату. Я дышу, надышаться не могу этим свежим, оживляющим, идущим с лугов утренним воздухом!..
Выезжаем, когда над землею опять высоко и ярко поднимается солнце. Проезжаем пруд, полуразвалив- шийся мост, каменные службы, выкрашенные облупившейся палевой краской, выезжаем в луга. Там уже дует, слегка шевеля травы, нанося запахи цветов, прямо в лицо полуденный легкий ветер. И опять вьется, уводя вдаль, пыльная, нагретая солнцем дорога.
1929-1954
НАЙДЕНОВ ЛУГ
I
Зимой ветры, жесткие и колючие, гуляли в голых макушах, и лес стонал. С еловых лап падали наземь снеговые шапки, снег под елями лежал ноздрясто. В мороз медленно осыпался с берез иней, блестело на снегу холодное солнце, от которого у зверей и птиц рябило в глазах, по лиловым шишкам прыгали крас- нозобые надувшиеся снегири и вертелись синички.
Вдоль леса пролегала большая дорога, от лесной сторожки к сплавной реке. От большой дороги ухо¬
356
дили в лес лесные стежки и тропы, от стежек разбегался звериный след — разгонистый заячий, строченый лисичий и волчий, крупный, как человечья широкая ладонь. Волки избегали проложенных человеком дорог, зимою они держались кучно от страха перед лунными ночами — глядели светящимися глазами на холодное и темное небо, жались задами и, не вынося лунной тоски, начинали выть. На вой отзывались в деревне собаки. Дрожа, волки поднимались, трусили между деревьев, стряхивая с кустов себе на спины серебряный иней, и, выбежав на опушку, шли гуськом через поле к овинам. От деревни пахло дымом и овцами, жалобно замирая, брехали собаки.
Каждую ночь волки подходили ближе, садились на снег, нюхали сладкий воздух и вызывали собак. Однажды, завороженпая месяцем, пестренькая деревенская собачонка, не помня себя, выскочила из де- ревни на огороды, где на кольях трепалась прошлогодняя конопля, и завыла. Тотчас вся стая, взметая пушистый снег, ринулась через изгородь на огороды. Завороженная собачонка не успела взвизгнуть, ее затоптали в снег, и, впившись в ее тощую глотку жадными челюстями, высокий худой волк взвалил ее себе на костлявую спину.
Покончили с пестренькой собачонкой в березняке на опушке, молчаливо и скоро.
Горячими языками начисто вылизали закровавив- шийся снег, почесались, скалясь, и гуськом медленно пошли в лес, через дорогу, к болоту, где в самой чаще было избранное на зимовье место « заросший березняком и ольхою Найденов Луг*
II
В стае ту зиму ходила не успевшая поседеть молодая волчица, не позабывшая ребячьих своих забав. Днем, когда волки, свернувшись в клубки, неподвижно дремали в снегу, она вскакивала на ноги, кружилась, утаптывая снег, будила стариков. Волки нехотя поднимались из снега, тыкались в нее холодными носами, а она шутливо огрызалась и кусала их за ноги* Старые волчихи, свернувшись и не поднимая голов, искоса поглядывали на молодую проказницу* Однаж¬
351
ды ночью, когда взошел месяц и осветил снега, молодая волчица поднялась и побежала в холодное поле, а за нею, высунув языки, затряслись старики,—волчихи лежали долго, потом им стало страшно, и они побежали вслед.
Волки бежали гуськом по дороге, а за волками скользили, ломаясь на снегу, тени. Снег блестел алмазно. От деревни послышался звон бубенцов — точно далеко зазвенели, покатившись по дороге, упавшие с неба звезды. Волки быстро сметнулись, завязая по брюхо, перекидываясь, отошли в поле и легли, повернувшись мордами на деревню.
По дороге катился обоз — пять подвод, одна за другою. Лошади, учуяв стаю, сбились и захрапели. У волков на хребтах поднялась шерсть. Они лежали в снегу, дрожа, светясь глазами и нюхая воздух, раздражительно запахший лошадиным потом. На дороге зашумели слабые человеческие голоса, вспыхнул на задних санях зажженный пук соломы. Волки медленно поднялись и, поджав между ног хвосты, пошли в поле. Перед лесом они вышли на дорогу, жадно обнюхали лошадиный парной помет и нерешительно остановились. Молодая волчица села в снег, подняв голову, и первый раз в жизни завыла жалобно и тонко, не спуская глаз с месяца. Вой ее слушали волки, и в сердцах их, холодя на спинах шерсть, просыпались чувства злой тоски, голода и бесприютности. Волчица пела свою песню, высоко задрав голову и глядя на месяц; заслышав ее, зайцы, вышедшие на поле откапывать зеленую озимь, испуганно поднялись на пятки и поставили уши, ухнула по лесу сова, и жалобным воем отозвались в деревне собаки. Волкам было невыразимо, по- волчьи тоскливо, они стояли завороженно, глядели мерцающими глазами на снег, на длинные тени придорожных кустов и на высокие звезды.
III
Целую неделю волчица водила за собою стаю. Целую неделю волки почти не ели, если не считать двух зайцев, которых случайно загнали волчихи. Когда прошла неделя и ущербился на небе месяц, а по ночам гуще высыпало на небе звезд, волчица стала уеди-
352
пяться, ложилась в. снег, свернувшись клубком, и подолгу лежала, думая о еде.
Все силы и чувства молодой волчицы влились в одно желание — во что бы ни стало добыть пищу. К другим волкам она относилась теперь почти враждебно и скрытно, тайком уходила вынюхивать зайцев. И однажды, подняв большого серого русака, гонялась за ним до утра, сберегая силы, и когда русак от усталости стал западать, настигла его одним прыжком и, затоптав в снег, впилась клыками в мягкое, теплое брюхо. Съела она его тут же, поспешно, глотая большие куски, с костями и шерстью, боясь, что ее могут застать другие волки, слизала вместе со снегом кровь и улеглась, свернувшись клубком, с обмерзшей на усах розовой пеной и. раздувшимся животом. Теперь все ее существо было устремлено к тому, что начинало жить в ней, но чего она не могла осязать. Из веселого и глупого подростка она сразу стала умным и хитрым животным, умеющим беречь свои силы, когда нужно — притворяться, по целым суткам лежать неподвижно, сберегая теплоту своего тела и переваривая драгоценную пищу. Даже вылазки на деревенские огороды, где так соблазнительно пахло овечиной и где волки успели уже выманить другую глупую собачонку, стали для нее незанятны.
IV
Иногда волки не ели неделями, завывала над лесом и полями пурга, засыпала становище, засекала глаза. Волки друг на друга глядели жадно. Стая разбилась — ходили парами и в одиночку, за много верст, кто куда, тоскуя и ища пищи. В поисках пищи стая уходила далеко, за реку, подходила к лесной сторожке, к самым окнам, и слушала, как за стеною плачет человечий детеныш. Людей волки видели редко, почти никогда, но присутствие их всегда ощущали —• человека ненавидели и боялись. В эти жестокие дни далеко от становища, за рекою, волки напали в лесу на лошадиный труп. Около падла разворачивался санный след, пахло человеком. Сперва боялись брать, облизывались, сидя на поджатых хвостах, потом молодые, не выдержав, кинулись рвать —* вывалили на снег синюю требуху, быстро оголили желтые ребра. Целую ночь,
1? И. Соколов-Микитов, т. 1 353
упираясь лапами и тряся головами, рвали мерзлое мясо и, давясь, глотали нежеваные куски, а когда животы раздулись и отяжелели, отошли недалеко в лес и зарылись. В следующую ночь стая вернулась на мясо. Ели не так жадно. Оторвав кусок, отходили поодаль, ложились на брюхо, удерживая мясо в передних лапах, не спеша грызли. Под утро, когда стая ушла на становище, из лесу из-под нависших еловых лап выбежала рыжая лисица, остановилась, поджав переднюю ногу, и мелкой трусцой, неся над снегом хвост, побежала к волчьим объедкам, долго копалась в обмерзшей синей требухе, под обглоданными ребрами. В полдень пришли на лыжах люди в овчинных куртках и вале- ных сапогах, и лисица быстро сметнулась в лес под елки. Люди осмотрели волчьи следы и растащенные по поляне кости; сняв рукавицы, закурили и, подтянув на куртках пояса, разошлись в обход волчьему следу. На другой день те же люди еще привезли на санях мертвую лошадь и свалили в снег на полянке. Волки две ночи не выходили на мясо, вылеживались, забравшись в ельник. Однажды утром стая поднялась тревожно: по лесу катились незнакомые звуки, приблп* жаясь и отдаляясь, и внезапно наполнили лес. Напрягши слух и нюхая воздух, дрожа коленками задних ног, волки сбились в кучу. Старый волк, хорошо знавший, что сулят незнакомые звуки, поднял шерсть и, прижав уши, скрылся в лес. Стая поняла, что идет большая опасность и то, что старик покинул стаю, значит: каждый заботься о себе!
V
Молодая волчица переживала то, что переживал каждый волк: страх, от которого сжималась и теснила на лбу и на спине кожа, и острое желание жить. Звериным умом своим она понимала, что нельзя бежать прямо, по старому следу, и свернула в QTOpoHy, наперерез голосам. Она шла не шибко, прижав к затылку уши, нюхая ветер. Деревья стояли тихо, придавленные снегом. Валились с макуш, цепляясь по сучьям, сбитые белкой снежные шапки, и волчица пугливо приседала в рыхлый снег. Там, где кончался лес и выступал кустарник* она увидела над снегом красный
354
болтающийся язык. Не решаясь подойти близко, она свернула вправо, но и там— но и там трепался такой же язык, красный и длинный. Красные языки висели один за другим под деревьями.
Волчица пошла вдоль притуло и осторожно. Так она вышла в поросшую ольхой лощину, на занесенную снегом лесную речку и остановилась.
Выбежал из лесу, завязая в снегу, заяц. И тут она впервые в жизни увидела человека. Он стоял в снегу, прикрытый стволом старой елки, и глядел на зайца.
Волчица присела, поджала ноги и, оттолкнувшись со всей силой, осыпая иней, прыгнула в кусты и побежала. Человек схватился, волчица услыхала резкий звук, почувствовала удар по ноге и, кровавя снег, из всех сил пошла вприпрыжку кустами вдоль речки. За нею еще раз хлестнуло, драли по спине и бокам сучья, а она бежала, нескладно вскидывая зад. Она бежала вдоль речки, покуда хватило сил, потом пристала, остановилась и села. Вдали щелкнуло раз за разом, потом еще и еще. Волчица тихо, выбирая чащу погуще, пошла туда, где, по ее соображению, был Найденов Луг, на котором она родилась и росла.
VI
Волчица не знала, что только одна она уцелела из стаи. Она долго ждала и искала, выходила по ночам к реке, потом помалу привыкла к новой, одинокой жизни. Логовом себе она выбрала дикий кустарник у болота. Здесь волчица дожидалась весны.
Весною из-под снега вышли мокрые кочки и прошлогодний лист, прохоркал зарею над молодняком вальдшнеп. С вечера тяжело перелетали глухари на токовище, садились на деревья. Еще с февраля звери пошли рыскать, кричали на лядах заливисто зайцы, хрюкал в лесу хорь. Заспанные барсуки выходили на волю. Птицами наполнился лес.
Волчица отяжелела, носила щенят. Для гнезда она -выбрала место — широкую, сокрытую мхом сухую кочку. Разгребла лапами хворост, утоптала мох. Однажды утром, когда всходило над лесом солнце и заиграл в небе первый баранчик-бекас, у нее родились один за другим девять слепых большеголовых детены*
355
шей. Мокрые щенята копошились/ неумело тыкались слепыми мордами в соски. Целый день и ночь волчица лежала с ними, обогревая их, испытывая сладкую боль в сосках. Утром ушла на добычу, ловить на лядах зайцрв. Так повелось ежедневно: по утрам волчица уходила, оставляла волчат. Они, тихонько взвизгивая, залезали друг под друга, свертывались в один теплый клубок. Когда возвращалась мать, они тянулись к ней на слабых ногах. Она внимательно и строго оглядывала гнездо, обнюхивала округ землю, поправляла подстилку и ложилась на бок, вытянув лапы и протянув голову. Щенята присасывались к ее груди, спеша и повизгивая, теребили лапами черное вымя. Волчица в эти дни изменилась: похудела и вытянулась, стала выше на ногах и стройнее, в глазах ее появилось новое: глаза потемнели, в них светилась звериная, жестокая и отреченная, любовь.
1924
ФУРСИК
Это был гнедой, очень маленький и очень добрый деревенский меринок с начинавшейся от репицы черной полосой, тянувшейся по растертому седелкой, изъеденному слепнями хребту, переходившей в жесткую, сбитую на левый бок, полную репья гриву, длинную не по росту. Грива жесткой челкой свешивалась на узкий лоб и закрывала глаза, поэтому у Фурсика установилась привычка кланяться, поматывая головой. Кланялся ои, впрочем, всегда, если бывал чем-нибудь обрадован и доволен. Так он кланялся восходящему солнцу, покрытому росой лугу, студеной воде в ручье, всем лошадям и людям, которые возбуждали в нем доброе чувство.
Лицо его, пожалуй, было красиво. Голову он имел сухую, костистую, с запавшими глубоко висками; ноздри бархатистые, тонкие, чуть заросшие седой шерсткой, по которой, когда он пил воду, скатывались прозрачные капли; нижняя губа несколько отвисала, выражая мягкость нрава, однако он ею мог подбирать самую мелкую траву-подсед, годившуюся разве для неприхотливых овец. Глаза же его были прекрасны:
356
в них выражалась неведомая человеку грусть и беснре-? дельная покорность.
Незадолго перед войною Фурсика купил богатый мельник у обедневшего мужика Семена. Выпив мага- рычи, захмелев, колотя кулаком в грудь, расставался Семен с коньком, которого, взяв за повод, вел на конюшню богатый, зло насмешливый новый хозяин Фурсика — мельник.
В работе на мельнице Фурсик оказался необыкновенно вынослив. Невелики были его силенки, но усталости он не знал. С готовностью подвижника отдавался он работе, и не было случая, чтобы играл хомутом или слабил постромки. В плугу и в оглоблях он отдавал все свои силы, никогда не останавливался и, если бы пришлось, тянул до последнего вздоха.
Однажды Фурсика запрягли в троечную повозку, нагруженную тяжелыми мешками. Он шел на пристяжке, не отставая от рослого коренника, выкидывая маленькую блестящую подкову на задней ноге.
До города было шестьдесят верст с гаком. И на следующий день на мельнице увидели, как, запряженная одним Фурсиком, возвращалась тяжелая повозка, а сзади на.поводах шли коренник Вороной и хвастливый Сокол. У молодого и хвастливого Сокола устало подкашивались ноги, временами ои останавливался и натягивал поводья. Фурсик тогда тащил не только повозку, но и насмерть уставшего Сокола, который от слабости непрерывно наполнял воздух запахом прелого сена. .
Фурсик п не подумал похвастать, когда его отпрягали и выпустили на луг (его не боялись горячего выпускать, зная его осторожность и опыт). Спокойно, не торопясь, испытывая в теле слабость освобождения от хомута и сбруи, он выбрал место, где было меньше съедобной травы, повалился, давя мыльной спиной желтые одуванчики и белую кашку с завязшими в ней хмельными пчелами. Два-три раза перевалился, расставив задние ноги, показывая черный, мягкий, заживший рубец между ними. Медленно поднялся сперва на передние, потом на задние ноги, слегка отряхнулся п тотчас же принялся есть. Ел не торопясь, не слишком разборчиво, но и не слишком рассеянно, выбирая траву помоложе и повкуснее. Ему хотелось пить, но он по пошел к реке, зная, л то молодая, сочная трава утолит
357
жажду. Над его спиной сновали тяжелые оводы с изумрудными головами, вились серые злые слепни. На тех местах, которые он не мог достать хвостом, ногой или мордой — недалеко от холки, на самом крупе и на груди, — слепни и мухи-жигухи разъели кожу и, опьянев от7 крови, налипли сплошной живой пленкой. У него оставалась для отдыха ночь, он спешил наесться, чтобы поспать и немного подумать. Он любил дремать и думать, когда над лугом п лесом светил большой желтый месяц.
Всегдашнее одиночество (даже в конюшне держался он особливо) развило в нем способность наблюдательности и спокойную молчаливость. Может быть, поэтому никогда он не пугался, не знал страха, который испытывают почти все лошади перед незнакомыми предметами, никогда не храпел и не фыркал. Самое страшное, чего так боялись деревенские лошади, — поезда железной дороги ничуть его не пугали. По первому разу ему закрывали на переезде шапкой глаза, а он и ногой не переступил, когда мимо проносился громыхающий поезд, так пугавший молодых деревенских лошадей.
Он не знал любви, а способности любить лишили его очень рано. Эта жестокая минута решила его судьбу. Однажды приключилось с ним никогда не испытанное. Был он в ночном в лесу. Краснел потухавший костер, вокруг которого спали ребятишки, накрывшись овчинными старыми полушубками с вылезавшей из дыр шерстью. Он перестал щипать траву й стоя задремал. Проснулся он, когда от реки надвигался тумап, светлело небо, а в лесу на опушке звонко свистела какая-то певчая птица.
Его поразил не слышанный прежде голос, придушенный и страстный. Сквозь кусты он увидел, как из перелеска выскочили двое — молодая кобыла Солоха, четвертый день проявлявшая особую шаловливость, за нею — вороной незнакомец. В незнакомце Фурсик чутьем узнал жеребца.
Незнакомый жеребец ласково грыз гнедую Солоху, и зоркий глаз Фурсика видел, что Солоха только для виду противится, грозит ударить. Впервые почувствовал он йриступ тоски и первый раз в яшзни, не сдержав себя, поднял голову и заржал, а утреннее эхо отразило его тонкий, смешной голос*
358
С этого утра Фурсик еще больше уединился.
Как-то по лету — уже шла война — всех лошадей повели на сборный. У волостного правления Фурсщ: увидел множество меринов, кобыл и жеребцов — гнедых, чалых, вороных, буланых. Жеребцы повизгивали и грызлись, мерины стояли понуро, а кобылы деловито жевали сено. Всех лошадей поочередно подводили к столику, за которым сидели трое усатых людей с золотыми погонами на плечах. Четвертый, в короткой бобриковой куртке* смотрел лошадям в зубы, прикидывал рост, щупал подбрюшье. Провели и Фурсика — человек в бобриковой куртке только махнул рукой,
С этого дня жизнь Фурсика переломилась. С конюшни увели целую тройку: хвастуна Сокола, Вороного и толстозадую Солоху. Фурсику стало работы втрое. Прежде он отдыхал в праздники, теперь по воскресеньям мельник сам закладывал его в дрожки, и, привязанный у церковной ограды, подолгу стоял он, терпеливо ожидая, когда, крестясь и нахлобучивая на жирный затылок шапку, из церкви выйдет хозяин.
А через год пришлось еще тяжелее.
Не стало ходившего за лошадьми и скотом хромого Оброськи. Зимой привели купленных за дешевку, возвращенных с войны больных лошадей, едва державшихся на ногах. В первые же дни одна из них умерла, поутру ее труп оттащили за огороды, зарыли в землю. Остальные протянули до весны, д от них Фурсик заразился чесоткой.
Помалу на его ребрах, на ляжках и на спине вылезла шерсть, обнажилась шелушистая темная кожа. Во всем теле он чувствовал жестокий зуд, худел, но не переставал крепиться. Лицо его стало еще костистей, ниже отвисла губа, а в темных глазах появилось выражение обреченности, тоски и боли.
Несмотря на жестокий зуд, он иногда засыпал, по и самый сон, полный видениями, не успокаивал и не укреплял его. Он часто видел во сне свою мать — гнедую лохматую лошаденку с войлоком вылезавшей после зимы шерсти. Видел он ее запряженною в березовые кривые оглобли, под тяжелой, расписанной узорами дугой. Рядом с огромным возом казалась она букашкой. Расставив передние длинные ноги, натыкаясь
359
на оглоблю, Фурсик тянулся под ее брюхо. Ее хозяин Семен, в посконной, распояской, рубахе, грозно покрикивал на мать, грозил хворостиной. Она, влегая в хомут, с усилием дергала раз, другой. На ее ляжках под искусанной, в волдырях, кожей напрягались мышцы. Скрипел передок, и воз начинал трястись, с него да спину матери сыпались сухие травинки. Фурсику было досадно, что помешали. Он подбегал к оглобле и напирал задом. Мать, опустив голову, кланяясь с каждым шагом, тащила тяжелый, скрипучий воз. От колес оставался на скошенном лугу след. Блестели обмытые росой железные шины. Фурсику нравился этот блеск, и он бежал возле заднего вращающегося колеса. Широкая полоса дозревающего высокого хлеба, отгороженная от луга, привлекала его. Он подбегал к изгороди и, просунув голову между жердями, близко видел качающиеся на высоких стеблях лиловые колокольчики, белые ромашки, а за ними высокую стену колосившейся ржи. Уши матери были направлены в ту сторону, где резвился ее сын. Вот она тихо и нежно заржала. Хотелось бы еще побегать, перескочить через высокую изгородь, но, не желая огорчать старуху, он быстро, едва не поскользнувшись, скачет к ней, в лад выбрасывая тонкие ноги...
Лето Фурсик перетерпел, а с холодами ему стало легче. Облезлая кожа не зарастала, но зуд стал не так жесток. Его опять стали запрягать, и редко oii ночевал дома. Сутками он мерз у крыльца, у запертых ворот, радовался холоду, с наслаяедением ощущая падающие па голую спину холодные снежинки.
Первые весенние лучи, которые так любил Фурсик, обострили его болезнь. До последнего своего часу он продолжал работать — возил из леса дрова, таскал пле- туху с мякиной. И час его совпал с весенним солнечным днем. Проваливаясь в рыхлом снегу, ничего не видя и не замечая, он тянул по обтаявшей дороге тяжелую плетуху и первый раз в жизни почувствовал, что больше не может: споткнулся, упал грудыо в мокрый снег и, ляснувшись мордой о дорогу, больше не поднимался.
На порыжелом мокром снегу Фурсик умирал. Он лежал, вытянув облезлую, голую шею, на которой, замирая, еще билась жила; не моргая, глядел большим,
360
выпуклым -глазом,'в котором отражалось небо, крыши дворов, высокая липа —на ней, трепеща крылышками, свистели скворцы. А Фурсик уже не видел ни неба, ни крыш, ни высокой липы, не слышал веселого свиста скворцов.
1922-1959
БУРЫЙ
I
Лес был большой, темный, глухой, местами почти непроходимый — па многие десятки верст. Посреди леса протекала река, на берегах реки дымили, темнели соломенными крышами деревеньки. В лесу стояла контора, в ней жил толстый и упрямый лесничий- немец.
Были в лесу непролазные моховые болота, и ровный, как гребешок, чистый сосняк, и сырое, пахучее чернолесье, и густой зеленый, плотно сплетавшийся молодняк. Река разливалась каждую весну, неся длинные пленки плотов с кричавшими па них сгонщиками- мужиками, и каждую зиму ее заносили сугробы.
Веснами валом налетала сюда пролетная птица, бесчисленными голосами наполнялся и звенел пробудившийся лес. На лесных полянах по кочкарнику токовали краснобровые тетерева. Вылетали на токовище, садились на сосны, обламывая ветви, тяжелые глухари. Ворковали витютни; крякали над рекой утки; гукали на лядах зайцы; трубили, водя хороводы, журавли, и, весь в лучах солнца, падал, играл над болотом баранчик-бекас. В просветах, в столбах золотистого вечернего солнца, над самой землею толкли комары мак. Кричали, перекликались на плотах мужики.
Летом стоял лес зеленый и дремучий, переполненный рябцами, глухарями, взлетавшими с громким шумом. Каждое лето рос и кормился на Бездоне волчий выводок. На кочках в брусничнике грелись на солнышке змеи. II ходили в лес деревенские ребятишки по ягоды, по грибы.
Зимою лес примолкал. Недвижно лежали снега, ночами ярко светил месяц. Покрытые снежною нависью, как нарисованные стояли деревья. Белыми шапками торчали из снегов пни. По снегу при месяце бегали,
361
грызли осиновые побеги беляки-зайцы. Сугробами до самых крыш заносило деревни.
Зиму и лето, осень и весну из года в год жили, кор-» мились, вековали в лесу лоси.
II
’Ч
Их было восемь. Летом держались они зеленых луговин и заросших вырубок, где росла высокая пахучая трава. Зимами забирались в молодой осинник, глодали и грызли побеги. О том, что в лесу жили лоси, люди знали по их следам и помету, по тому, что иной раз слышали, как что-то шумно срывалось в лесу, и, ломая сушь, летело, подобно вихрю.
Из восьми была пара сосуиов-телят на тонких, длинных, сухих в суставах, покрытых короткой шер- стью ногах; две безрогие матки с женственно смотревшими большими влажными глазами; два летош- ника подтелка, смешно отбивавшихся от комаров и мошек, которые тучей висели над стадом, а с ними молодой, стройный и высокий, с длинной красивой шеей и молодыми, обозначавшимися под шерстыо рогами двухлетний бык. Вожаком в стаде был большой, с длинной горбатой мордой, с огромными ветвистыми, и тяжелыми рогами, которые он на бегу бережно клал на спину, старый и сильный самец. Это был Бурый.
Бура, сива и жестка была его шерсть, под цвет коры старых деревьев. Ноги его были сильны, высоки и узласты. Глаза выпуклы и темны, как болотная вода в Бездоне. На правой лопатке, пониже плеча, был шрам от скользнувшей пули, и жесткая шерсть по зажившему шраму стояла бугром. Прислушиваясь, он поднимал голову на длинной, со свисавшей бородою шее, и длинные ворсинки в * его ноздрях мелко дрожали.
Жизнь их была проста. Тысячи лесных скрытых тайн для них не были тайнами. Из множества лесных звуков они безошибочно отличали, что свое и чего нужно бояться. Они не пугались/когда, шумя по шершавому насту, в мартовские темные ночи к ним подбегали и садились на задние лапы зайцы. Живя в лесу, спокойно. прислушивались они^ как гомозятся, строя
в густой вершине е?ли свое гнездо, тетеревятники-ястре* ба, как в весенние темные ночи, сопя и пыхтя, носятся •по лесу барсуки. Они слушали, как в вечернюю зорю, когда в лучах заходящего солнца свечами горят ма- кушки высоких сосен, перелетают и садятся на токо-* вище тяжелые глухари, как попискивают лесные мыши и поскрипывают в сухостое пилильщики-жуки. Рядом с ними, в глухом моховом болоте, жили волки. Там был целый разбойничий стан с выбитыми во мху тропами, с грудами обглоданных, выбеленных солнцем костей. Но и волков они не страшились. Однажды зимой оголодавшая стая пыталась на них напасть. Они выстроились головами к стае, оставив телят в кругу, и первого нападавшего волка Бурый высоко поднял на широких рогах. С тех пор у волков не хватало дерзости нападать на них*
111
В лесу они были последние. Прежде леса были больше и темнее, водились в лесах медведи. Человек, которому принадлежали эти леса, был богат. В своих лесных имениях он бывал редко, и люди завидовали его богатству, удивлялись сумрачному его виду, ранней седине в его черной выхоленной бороде. В лесу, на проезжей дороге, стояла контора, где жил лесничий, а по всему лесу в глухих кварталах были разбросаны сторожки. Сторожам было приказано не пускать охотников в лес, ловить и наказывать лесорубов. Раза два в году наезжал сам хозяин устраивать на волков облавы, охотиться на глухариных токах. С лесником Архипом, угрюмым и молчаливым, по-звериному знавшим лес, умевшим неслышно ходить на своих легких, обутых в мягкие лапти ногах, ходили они на охоту* Иногда ночевали они в лесу, и Архип раскладывал костер, стелил для хозяина у костра пахучие еловые ветки.
По приказу хозяина на зиму в лесу косили и за- 4 пасали в стогах сено. Лоси подходили к стогам, ложились в чащобе, наминая глубокие лежки, дремля*и прислушиваясь к звукам.
А все .же их могло быть больше. Одного — самую старую матку —убили браконьеры.; Они разделили
363
мясо, а кожу зарыли в землю. Тот раз в деревню приезжал урядник, грозил тюрьмой, но не мог ничего добиться. Других двух — молодого быка и телку — убили помещик Корф и его гости. Хмельные, за картами на именинах у Корфа, они уговорились заплатить штраф п устроили облаву. Третьего лося, старого вожака, ранил па облаве в лопатку сам помещик Корф.
IV
Лесник Архип жил просто. Его сторожка стояла в глухом лесу, у лесной узкой, засыпанной мягкой хвоей дороги. Весной почти па крышу к нему прилетали токовать глухари, а ночами под окнами кружились и бегали зайцы.
О жизни хозяина он знал мало. Покорно водил его на охоту, показывал места, разжигал костры и настилал еловые ветки. Когда пришла война, Архипа взяли в солдаты. Полгода он просидел в городе в казармах, полгода — на войне, в окопах, полгода — у немцев в плену. И в казармах, и на войне, и в плену у немцев думал Архип о доме, о лесе, о земле, о жене и детях. Раза два писал он с войны барину, просил поддержать оставленное семейство, но никакого ответа не получил. Когда вернулся из плена Архип, в деревне уже многое переменилось. И, как многие другие, с большими трудами добрался Архип домой, тотчас же взялся налаживать нарушенное хозяйство. При нем сожгли мужики лесную контору и выгнали упрямого лесни- чего-немца. И опять он поселился в своей сторожке, стеречь теперь уже ничей лес. И, как многие деревенские Архипы в тот трудный год, спасаясь от голода, ездил он в степь за солью и хлебом, которых в деревне тогда не хватало. Q бывшем хозяине знали мало; прошел по деревням слух, будто барин где-то пропал — замерз, не то расстреляли. И к этому слуху отнесся Архип равнодушно.
' К его возвращению лосей в лесу осталось двенадцать. Он сам сосчитал их по маленьким и большим следам. Тихо подкравшись, видел в лесу, в мелком кустарнике, их спины, как стоял, вытянув шею, прислушивался Бурый. Под лаптем треснула сухая ветка, п лоси исчезли так быстро, точно их сдуло*
364
Первую облаву устраивали мужики многими деревнями. С одностволками, заряженными свинцовой се- ченкой, с винтовками, привезенными с войны, стояли они в широком обложенном кругу. В первую большую охоту убили обеих маток-коров и молодого, красивого, уже отращивавшего рога бычка. По Бурому почти в упор стрелял из длинного одноствольного ружья сидевший за кустом мужичок в лохматой овчинной шапке. Раненный легко в грудь, сбивая с ветвей снег, Бурый, как на крыльях, несся на стрелявшего в него, насмерть испугавшегося мужичка. И, сбив охотника с йог, пыля снегом, скрылся в лесу. За зиму перебили почти всех лосей. Мясо справедливо делили, развешивали на контарях, кожи распределяли по жеребьям, иногда пропивали.
V
На лето в лесу оставался один Бурый. Он вдвойне стал осторожен и чуток. В одиночку бродил он по лесу, шарахаясь от каждого тревожного звука, а за ним упорно, изо дня в день, из ночи в ночь, ходил, подстерегал его Архип. Архип знал все его лазы и ночные переходы. Ночами он садился в лозняках, на водопое, с ружьем на коленях, прислушивался и ждал. И Бурый долго от него уходил, был осторожен и неуловим. Много раз слышал Архип его приближавшиеся шаги, тихое потрескивание сухих веток, осторожно поднимал ружье, потом все затихало, и Архип слушал, как, сорвавшись, катился по лесу, сокрушая сучья и сушь, быстрый вихрь.
Однажды — был тихий вечер, и солнце золотило макуши, громко отбивала на сухом дереве мелкую дробь желна, — стоя на лесной тропинке, густо заросшей липняком и малиной, вправо от себя Архип услыхал шаги. Шаги Бурого, тихий хруст веток он отличил от множества звуков и сразу узнал. Он присел за большим деревом, тихо поправил на боку кожаную сумку и, приготовив ружье, стал терпеливо ждать. Над зеленым, густым, осыпанным круглыми ягодами кустом крушинника показался ветвистый рог. Сидя за деревом и положив ружье на сук, прицеливаясь и почти не дыша, Архип напустил его близко. На гулкий под
365
вечер выстрел близко загомонили в лесу мужики, возвращавшиеся с вязками лык. Когда они нодошли, шагая по мягкому моху, неся на плечах длинные вязки, Архип спокойно стоял на тропинке и, держа в зубах паклю, спокойно насыпал порох в ствол ружья. На вопросы подошедших и остановившихся мужиков он ответил, не торопясь, что стрелял по рябцу и промахнулся. В лукавых прищуренных глазах его бегали хитринки. И когда, покуривши и отдохнув, посидевши на пуках лык, мужики поднялись и, разговаривая, далеко отошли, Архип подался с тропинки в кусты. Бурый лежал, придавив куст орешника, ногами раскидав мох и землю. Он лежал вытянувшись, закинув горбоносую голову, высунув сизый окровавленный язык, и большой его, с голубинкой, как на лесных ягодах, глаз был открыт. Архип постоял над ним, потрогал ногою его бурый и теплый, подававшийся бок и, неторопливо раздевшись, вынув из сумки нож, деловито стал снимать с Бурого тяжелую, пахнувшую лесом, хвоею и кровью, еще теплую шкуру *
1928
ДЕНЬ ХОЗЯИНА
В прежнее время, когда новый владелец леса и мельницы Дмитрий Степанович Гагарин, однофамилец князя, приезжал взглянуть на свое добро, лесник Тит готовил ему встречу. В сторожке лесникова жена Анисья мыла полы и снимала с углов паутину, пекла румяную и масленую драчену.
Хозяин приезжал со станции без кучера, один, в маленьком плетеном возке с круто загнутым передком, в который барабанили летящие от копыт Вороного снежные комья. Коня и человека покрывал с дороги легкий снежный пух — пух лежал на широкой спине Вороного, на воротнике енотовой шубы и на подстриженных щетинкой жестких хозяйских усах. Сдержав коня, Дмитрий Степанович передавал синие плетеные вожжи выбегавшему в одной рубахе Титу и, расправляя шубу, вылезал из возка на утоптанный снег,
— Как, кум, живешь? — бодро говорил он, обивая па крыльце еловой веткой высокие черные валенки,
366
— Что нам, — отвечал в тон ему Тит, подводя Вороного к воротам, — живем! Заходи, Дмитрий Степанович, в избу.
Пригибаясь в низкой двери, хозяин входил в сторожку, светлую и теплую, разделенную надвое сосновой перегородкой, на которой висел отрывной календарь с портретами царя и румяной царицы и бойко махающие маятником часы, снимал шубу и заиндевелую шапку, потирал закоченевшие руки. Глядел на Титову жену Аксинью, раздувавшую у печи самовар.
— Отогревай, кума! — улыбался красными от мороза щеками, дул в руки.;
С лесником Титом и Аксиньей он покумился по лету, когда приезжал покупать лес, «=* записали его заочно крестным новорожденной дочки Тита, лежавшей в люльке под ситцевой занавеской.
Лес, мельницу и сторожку Гагарин купил у прежнего владельца, важного и ученого дворянина, служившего в столице на важном посту по переселению безземельных мужиков в сибирскую тайгу, на корчевье.; Гагарин явился к нему лиса лисой, льстил и захаживал и в два счета обвел барина вокруг пальца: лес, з!емлю и мельницу взял почти задаром. И насколько был слаб и далек от дела прежний хозяин, настолько быстро новый прибрал дело к рукам, извел старые и завел новые порядки, занялся беспощадной сводкой лесов, был мужикам свой, крепко и жадно держался своего доброго, говорил круто и солоно ругался.: И поэтому держались с ним мужики просто. С кумом Титом он был на ты, говорил простыми мужичьими словами, и глядели ©ни друг на друга понимающими! подмигивающими глазами.
— Ну, — сказал хозяин вернувшемуся со двора Титу, — отогревай! Не кормя еду от города.
— Много ли за коня отдал? — спросил Тит.;
— Хорош? Оцени!
— Пять сотенных отдал? — подмигивая, сказал Тит.Хорош конек!
— Надбавь две! — ответил хозяин, подмигивая так же и пролезая за стол.
Повернувшись в избе и поторопив бабу, Тит накидывал полушубок, убегал в деревню за водкой, а хозяин, еще холодный и пахнущий морозом, разбирал
367
плетеную корзинку, доставал замороженную закуску и деловые бумаги, заложенные в черной папке.
Через полчаса прибегал Тит, ставил на скатерть матовую от мороза бутылку, и тотчас же начинался у них деловой разговор.
— Много ли со Шведовой делянки осталось возить? — спрашивал хозяин, раскладывая на газетпой бумаге разрезанного гуся.
— .Разделили, — отвечал Тит, наливая в чашки,— трехаршинку вывезли, а полуторка вся лежит. В Блудовой даче есть семерки, девятки, а тройнику массыя. Там тройник по пять, по семь вершков будет!
— А дрова как? — спрашивал хозяин, по-мужицки, в ладонь, принимая чашку.
— За Невестницей дрова легкие, — отвечал Тит, — возить так — ай! Наши полну пристань завалили. А у Садовникова возили — всю дровянку откапывали.
Опорожнив бутылку, садились за чай. Пузатый большой самовар играл нутром, йел тонко, присвистывал. Хозяин выпивал пять стаканов вприкуску, чувствовал, как от водки и чаю горячеет кровь. Хозяину хотелось шутить, похвастать. Он вынимал бумажник, показывал деньги — широкие серые пятисотки, глядел на свет. Потом рассказывал о городских делах, о московских трактирах, как гулял с мильенщиками купцами. Тит, так же как хозяин, хитро подмигивал, смотрел на деньги, угощал чаем.
После чая хозяин надевал короткий меховой пиджак, и шли в лес на рубку.
Хозяин был крупен, румян и здоров. Когда шли с Титом по лесу, по выкатанной желобом, точно смазанной маслом, скользкой дороге, внутри его, каквТи- товом самоваре, играло й кипело, выводил веселый голос. Лес стоял по обе стороны дороги тихо и темно, спал. Качались на шишках красногрудые клесты и пухлые синички. Падала комьями с сучьев снежная навись. «Шапка валится! — думал хозяин, глядя на освещенные холодным солнцем макуши. — Пора и этот сводить». Он с удовольствием представлял, как увидит сейчас обындевелых и обмерзших рубщиков, как будет считать и вымерять с мужиками. Приметив на пушистом сухом снегу свежий след беляка, он сказал Титу:
— Надо на зайцев сходить. Ишь напутал косой.
368
— Волков обложим, Дмитрий Степаныч, — ответил Тит, нагоняя, — волчка забьешь!
— Хорошо бы волчка, — улыбаясь, говорил хозяин*
Впереди в лесу гулко стучал топор, и гулко ухнуло,
падая, дерево. И тотчас тревожно и вперебивку закричали человеческие голоса. Приостановился, слушая, Тит.
— Человека, знать, задавило! — сказал он тихо.
Пошли шибче на голоса. Хозяин — высокий и плечистый, в валенках выше колен, Тит — легкий, худой, в зимних, подплетенных пенькой лаптях. Где начиналась делянка, снег по сторонам дороги был исслежен и разбит. В поредевшем лесу топырились из снега припорошенные наметью еловые макушй, торчали пии. Дорога разбилась на много лесных дорожек и троп. Хозяин и лесник свернули в снега и пошли к рубке.
У срезанной разлапой и большой ели, спинами к подходившим, стояли кучей люди в обтертых полушубках, в надвинутых на уши шапках. Обросшие инеем, с отвислыми животами, дремали в снегу лошаденки. Люди стояли неподвижно.
— Вот, хозяин, человека загубили, — недружелюбно сказал Дмитрию Степановичу мужик в белой от инея бороде.
Рубщики подались, пропустили хозяина в круг. Дмитрий Степанович увидел лежавшего на снегу мужика, почерневшее его лицо. Правая рука в овчинном продранном рукаве медленно сгибалась. На обмерзшей бороде пристыла кровь.
— Помирает, — сказал мужик в белой бороде.
Дмитрий Степанович узнал в умиравшем мужике
рыжего Чугунка, ходившего с. ним прошлым летом по визиркам и подсвистывавшего в заячыо кость рябцов. Прежний Чугунок очень четко припомнился Дмитрию Степановичу, и было странно, что этот лежащий на снегу и уже ни на кого не похожий человек — тот самый пьяница, охальник Чугунок, которого на деревне бивали несметно и не могли убить. В прошлом лете, ходя по лесу, Чугунок рассказывал Дмитрию Степановичу о сыне, искалеченном на шахтах, жаловался на лихую бедность и просил работенки. Дмитрий Степанович обещал и забыл тотчас же, занятый деловыми заботами. Теперь забытое обещание и сам прежний
369
Чугунок, рыжий и жалкий, с рассеченной, как у зайца, верхней губою, из-под которой всегда виднелись передние редкие зубы, припомнились Дмитрию Степановичу, и почему-то стало неловко, точно уличили его в нечистом на людях*
Дмитрий Степанович наклонился и тронул на плече Чугунка розовый продолговатый лапик, вшитый в старую, замызганную овчину. Сквозь полуприкрытые веки глядели глаза — пусто, над снегом. Под рассеченной заячьей губой желтели зубы.
— Нехай душа уходит! — сказал в кругу голос,
Дмитрий Степанович поднялся.
— Как же он, братцы?
— Известно как: дерево взгнездило. Стали другое резать, а оно — ах! — и отскочить не успел.л Сучьем его хлобыстнуло.
Помрет? — спросил Дмитрий Степанович. И оттого, что никто не хотел ответить, увеличилось его досадное чувство.
— Известно, помрет, ответил, выждав молчание, серьезный старый мужик. — За женкой послали.
Чего зря толочь, — сердито заметил другой мужик, — кормить его детей не станешь!
Веселое настроение Дмитрия Степановича миновало. Он оглянулся виновато, увидел серьезные лица, обмерзлые бороды и засосулевшие усы мужиков, лап- ленные по старому новым, как у Чугунка, полушубки. «Вот, хозяин, человека загубили!» — точно к нему относился этот угрожающий голос.
Так у нас в прошлом лете в Брусовой даче Акима Артюхова притиснуло. Кишки ротом вышли, того зараз, — продолжал голос.
, Дмитрий Степанович отошел и присел на мерзлое бревно, достал из кармана на груди папиросницу, угостил мужиков. Мужики засунули за пояс рукавицы, заскорузлыми пальцами взяли по папироске. Дмитрию Степановичу почему-то не понравился табак. «Не надо было брать в этой обертке», — подумал он и почувствовал, что случай с Чугунком окончательно отравил день.
1926—1959
870
НА СВЕТЛЫХ ОЗЕРАХ
Вьется узкая стежка, уводящая меня в синее царство тайги, и я послушно ступаю по ней, как по нити сказочного бабушкиного клубка. Обросшие сивыми бородами деревья-деды стоят надо мною, и сверху им видно, как ползет внизу крохотный человечек, а за ним с сучка на сучок неотступно перелетают две лесные сороки, провожающие человечка в их лесовое синее царство.
Совсем недавно этою стежкою проходил другой человек, путник. Он шел так же, неся за спиною мешок и чутко вслушиваясь в зеленую тишину леса. И так же, с сучка на сучок, неслышно перелетали за ним две лесные сороки. Дорогою человек остановился и присел на обросший мохом и лишаями камень. Не спеша он стянул с натертой ноги тяжелый сапог и снял шерстяной чулок. Тогда из-за камня под ноги человеку выкатился бурый маленький медвежонок и, приняв за своего, стал весело играть и кувыркаться у его ног. У человека от испуга позеленело в глазах: за спиною его, у рогатой кокоры, на задних лапах стояла медве- дица и глядела так, что под ее взглядом путник почувствовал себя маленькой мышью. Так они — зверь и человек — долго и неподвижно оставались друг против друга, а медвежонок беззаботно катался у их ног* Кто может сказать, чем окончилась бы нежданная лесная встреча, не махни человек рукою, держащею снятый чулок. Чулок вырвался из руки и полетел прямо в нос зверю. Бог ведает почему, это показалось зверю страшнее выстрела из ружья, и, рявкнув, пачкая мох и ломая молодые деревья, быстрее ветра зверь укатил в лес. Человек усмехнулся, посадил медвежонка в мешок и спокойно пошел домой.
Я иду стежкой и, улыбаясь, вспоминаю рассказ прохожего человека. Мне чуточку страшно, и, может, потому так чутко и необыкновенно в лесу, и на слуху всякий шелест, и так ждется увидеть между деревьями звериную бурую спину..*
Вьется, вьется узкая стежка, уводящая меня в лесовое синее царство, перелетают с сучка на сучок лесные сторожа — сороки, и краснеет на стежке брусника, точно крупные алые бусы. Висят, спускаясь с деревьев до самой земли, густые зеленые бороды, и сквозь бо¬
Ш
роды видно: на берегу светлого озера стоит древний дед.
— Здравствуй, дедушка, как живешь-можешь?
Зелеными, лесовыми глазами смотрит на меня сивый дед.
— Живем — хлеб жуем! Заходи, обогрейся.
И, пригибаясь в дверях, захожу в дедову хатку, где на низких, до блеска обмызганных скамьях грудами лежит береста. Тяжелая слепая старуха, заслоняя оконце, поднимается мне навстречу.
— Чей, молодец, будешь?
— Дальний, бабушка, дальний.
И, глядя на черные стены, думаю улыбаясь: уж и впрямь, не завела ль меня лесовая дремучая стежка прямо в избушку на курьих ножках, к самому лесовому деду! Стукнувшись о матицу головою, снимаю с плеча ружье и сая^усь на скамью у окошка. II тотчас же, торопясь и сбиваясь, старуха спешит рассказать мне о своем горьком горе: о том, что давно перемерли у них дети, что выело лихо-горе глаза у- старухи и что все бы ничего, терпеть можно, да последняя прискакала беда: собрался с дурной головы старик уходить на Онего, пораспродал достояние, и остается ей помирать нынче. Много бы еще рассказала старуха, да вошел в избу дед. Он вошел неспешно, хтал на пороге, и по тому, как замерла, затихла старуха, понял я, что, пожалуй, и впрямь вернулся в избушку суровый дед-лесовик.
— Эхе-хе,— крякнул дед, вешая над дверями шапчонку.—Время пришло —хоть иод лавку!
— Что, дедушка, так?
— А то так, — отвечает дед, сердито смотря в угол, — то так — раньше рыба была, олени гуляли. Теперь рыбы, оленей нет, а видимо-невидимо напущено кротов, медведей...
Покряхтывая, достает дед с печи длинное сухое нолено.
— То так, — говорит, упираясь поленом в грудь и отщепляя лучииу, — прежде на озере деревня была, осьмнадцать дворов, а теперь я один остался, дед...
Как же, дедушка, куда народ делся?
— Туда делся, -*■ повторяет дед,— где и мы будем. Перемерли все.
Копается дед с самоваром, стучит крышкой, разливает по полу воду.
372
' Слушает его старуха, шебаршит в углу —досадно ей, что напортит без нее дед, не уладит ласково принять гостя:
— Ходи, дед, ходи веселей!
— Чего тебе, старая?
— То-то чего. Тихо, говорю, ходишь!
Потом, держа в зубах зажженную, полыхающую лучину, варит дед на загнетке уху из ершей, и красноватый огонь освещает его длинную бороду. Я сижу на скамейке, подобрав под себя ноги, тихонько сам себе улыбаюсь.
— Уходить надо, — говорит дед, вынимая изо рта лучину и заглядывая в чугунок. — Плюну и пойду^ Куда я теперь досюльный гожусь?..
Из угла, где притихла слепая, слыхать, будто червячок точит: это тишком, слушая деда, плачет немыми слезами старуха.
— Ноги не носят, двор валится, — суровее продолжает дед. — А мне одному много ль надо: на день по зернышку!
Точит, хочит в углу червячок.
— Землю жалко, — свое продолжает дед. — Уйду леском зарастет...
— Старуху-то, дедушка, куда поведешь?
— Старуху? — небрежно, помолчав, говорит дед. —» Да куда ю вестп-то — дерьмо? Пущай ее медведь съест.
И опять слышу, точно мыщи зашебаршили в тем-» ном углу: не сдержала своих слез слепая старуха.
И, чтобы отвести деда от горьких слов, пытаю:
— Скоро ль, дедушка, зима придет?
— Крот в зем'лю пойдет — ожидай зимы!
— Когда, дедушка, ложится медведь?
— За неделю до Митрова дня ложится медведь, на Елдокею оттыкает окошко медведь, на Егорья совсем стает...
— Спасибо, дедушка, все буду помнить.
Хороша дедова уха: с дымком! Пока сидим ужинаем, поплевываем косточками, старуха ощупью стелет нам на полу постель. Поужинав, ложимся рядом и затихаем. Я слышу, как по-мышьему шебаршит и шебаршит в углу. Старик поворачивается на бок. И, как всегда в пути, я засыпаю не скоро, недавние встречи встают передо мною. Открытыми глазами, как в детстве, вглядываюсь в темноту, и кажется мне, что кто-
373
то мягкий и ласковый наваливается на меня. И, как в детстве, засыпаю внезайно, точно застреленный, и снится мне серый заяц. Утром, когда просышгёось, дед-лесовик уж тюкает топором под оконцем и по- мышьему шебаршит в углу старушонка:
— Хорошо ли, молодец, спалось?
— Спасибо, бабушка, спалось, как богатырю Илье.
Когда, испив молока, выхожу — уж поднимается
над лесами ясное солнце. Сизый туман ползет над рекою. Дед-лесовик провожает меня и, приложив козырьком руку, смотрит мне вслед, на дорогу.
— Уходить надо, — слышу позади себя. — Плюну и пойду. Куда я теперь досюльный гожусь?.*
* * *
Опять я прохожу лесом, ц надо мною, впереди, округ, на лесовых толстых сучьях до самой земли висят серо-зеленые бороды, и кажется мне, что синему лесу нет конца-края. Иногда сквозь бороды и дремучую лесовую темь впереди вдруг что-то блеснет.: И, будто окно в сказочный синий мир, лесное, сизое от тумана, светлое открывается озеро. Откуда-то из тумана широкими кругами идут по всему озеру волны. Человек останавливает у берега лошадь и, раковиной приложив ко рту руки, кричит через озеро в сизую озерную даль:
— Лопяков в лодке-то есть?
Точно на больших колесах, катится по озеру его крик. Два белых лебедя, плававших на середине, как белые корабли, вдруг ударяют крылами и строго изгибают длинные свои шеи. А через долгую минуту так же, на колесах, возвращается с того берега крик:
— Есть, есть!
— Приходи обутки-то шить! — катится с берега крик,
« А-а!.. — не скоро докатывается оттуда.
— В четверг приходи! — долго катится на колесах крик.
— А-а...
И в последний раз, набрав воздуху и досадливо тряхнув головою, кричит в синюю глубину лесовой человек:
— Ни хрена не слышу-у!,*
374
— ,..У-у-у!.. — катится, гаснет, поднимается и па* дает над озером эхо.
Белые лебеди, вспугнутые голосами, широко расправляют свои паруса-крылья, бьют по воде и, далеко вытянув белые шеи, летят куда-то в синее лесовое и водяное царство. И долго-долго слышатся над лесом и озером их трубные, архангельские голоса.
Один ухожу я вперед по лесной каменной стежке* на которой большими кучами чернеет медвежий помет. Я иду лесом и смотрю на деревья, стоящие надо мною. Есть среди них старцы, видевшие на этой тропе первых длиннобородых человеков, приходивших сюда, чтобы поставить срубы и часовни с высокими Шатровыми крышами, такими смоляными и крепкими, что не могли их изгрызть века. Многие из деревьев мертвы: они стоят над лесом, растопырив свои узластые голые сучья-руки, и дятлы барабанят по их мертвому телу. И еще долгие-долгие годы будут стоять так голые лесные великаны, раскрестав над лесом корявые свои руки.
Тропинка поднимается на серые скалы, где, облапив корнями камень, смотрятся в небо красные сосны, и падает в моховые болота. Стоит отступить шаг, и не останется ничего, что бы напомнило о следах человека. Самец-рябец с грохотом срывается от моих ног, и в мелком хмызнике мелькает его серая с желтизною спинка.
Как чуждо и глухо звучит по лесу мой выстрел, и как по-человечьему притихает лес! И на минуту мне начинает казаться, что деревья насторожили невидимые свои уши, а тысячи синих глаз недобро глядят, как, теряя пух, бьется на зеленом мху подстреленная птица...
Когда подхожу к деревне, солнце высоко и бледно стоит над лесами. Широкая в плечах женщина, прикрываясь рукою от солнца, смотрит с дороги на выходящего из лесу гостя, и по лицу ее проходит улыбка. Я вижу, как, сорвавшись с места* она бежит на деревню, и далеко слышу ее голос:
— Батюшки, Астахов пришел!
Когда вхожу, меня встречают собаки и люди.
Собаки бегут мне навстречу с поднятыми султанами- хвостами и зорко смотрят такими же, как у людей, острыми глазками. Я сдышу, как говорят в толпе:
— Нет, православные, сей человек не Астахов, у того был нос кратче.
— Тот бровастый.
375
— Здравствуй, добрый человек, не ты ль будешь Астахов?
— Нет, я не Астахов! Я просто прохожий любопытствующий человек, я полесую. А кто же такой Астахов?
— Астахов, — отвечают мне, — это человек с Шол- то-порога, двадцать годов назад ходивший в лес на медведя и с тех пор бесследно пропавший. Умел Астахов оковывать медью деревянные порошницы, и у него под левой скулой была дырка.
Нет, я не Астахов, но это не портит дела, и принимают меня, точно и есть я самый настоящий Астахов, негаданно воротившийся с того света. И пусть не умею я оковать порошницы и нет у меня иод скулой дыр- , ки — я сажусь за стол, как свой у своих, и кормят меня пирогом с рыбой, а вечером, засыпая на полу в светелке, я опять думаю смутно, как, бывало, думалось в детстве, что это сорока носит меня на своем длинном хвосте по своему синему лесовому царству.
* * *
Рано поутру мы спускаемся к озеру. Еще бежит- стелется над водою сизый туман. Собаки весело катятся впереди нас: они здесь такие же рыболовы н ягодники, как и люди. Собаки выгоняют из плавней гагару, и она плывет по . озеру, задрав голову, похожую на курок кремневой винтовки, и распуская по зеркальной воде два серебряных уса; потом ныряет, и ее долго не видно, точно и совсем ушла в воду. Хозяин со вдовою соседкой (у них общие снасти) бойко расправляют невод, складывают в лодку. Потом мы плывем, поскрипывают в уключинах весла, весело смеется за моей спиной баба. Я сижу на сухом неводе, смотрю на озеро, где уплывают от нас два белых лебедя. Вот один вскрикнул и ударил крыльями, предупреждая: «Не подплывай, не подплывай, улетим!» И когда, переплыв озеро, подходим к ловушкам, над озером уже нет тумана, макушами вниз отражаются расцвеченные осенью берега, и вода так прозрачна, что видна каждая травинка на дне. И быстро и неслышно подплываем мы к берегу. Я прыгаю на мягкий лесовой мох и остаюсь смотреть, как ловко и споро сбрасывает баба невод, как быстро и бесшумно делает круг лодка. Потом
376
мы вместе выбираем в лодку невод, и лобастая голова показывается нам в замутившейся воде.
— Щука! — шепчет хозяин, коляными руками хватаясь за тетиву.
— Щука! — глазами говорят собаки, успевшие обежать озеро и с берега заглядывающие в лодку.
— Щука! —- единым вздохом выговаривает баба.
И по тому, как начинают дрожать хозяйские перебирающие тетиву руки, как трясется над водой его бороденка, догадываюсь, что нам в невод попалась та древняя пудовая щука-непоймайка, о которой я наслышался еще на деревне.
Когда выволакиваем невод в лодку, в нем, в самой мошне, лежит черная неподвижная колода. Хозяин с трудом переваливает колоду в лодку и судорожно кричит бабе: *
— Бей, бей в голову!
Я вижу, как оживает, поворашивается черная колода, как топырятся, хватая воздух, страшные жабры и открывается пасть, в которую, как в печь, можно засунуть большую ковригу. «Бей, бей!» — повторяет хозяин, и баба бьет щуку веслом промеж зеленых глаз в огромную голову, и, показав нам скользкое свое брюхо, извернувшись под неводом, щука с такою силою ударяет хвостом о лодку, что мы долго не можем про- моргаться от залепившей нам глаза грязи.
Эта щука — мое счастье. Закидывая невод, хозяин мне говорил: на твое счастье! Теперь он смотрит на меня своими маленькими зелеными глазками, и улыбка раздвигает его усы.
— Под такое дело — выпить! — говорит он, подмигивая глазом.
— Выпить! — должно быть, соглашаются собаки, успевшие обежать озеро и заглядывающие в лодку.
— Выпить! — смеется, сверкая белыми зубами, баба.
II опять, садясь на весла, рассказывает он мне, какая это была непоймайка-щука и что это у одного меня такое большое на рыбный лов счастье.
1927
НА РЕЧКЕ НЕВЕСТНИЦЕ
НА ПНЯХ
Заезжему городскому человеку наши места могли показаться лесными и темными, а уж давным-давно не стало былых непролазных лесов, и давно повывелся по лесам и болотам прежний дремучий зверь.
Былое осталось только в памяти, да еще поныне кое-где держится в деревнях прежний быт, — и хоть немало вклинилось нового, но все же наряду с* новым держится старое, и вместе с разудалыми нынешними песнями поет деревня и песни старинные, до сего дня не скинули бабы сарафан и поневу, и совсем недавно весною катали бабы и девки по зеленям дьячка, чтоб велика родилась рожь.
А всего несколько лет назад стояли па речке Не- вестнице леса сплошною стеною — от города до сплавной реки и от реки до великих болот и не в редкость было видеть такие деревья, что только взглянуть — валилась сама собою с затылка шапка. На памяти старых людей забредали медведи под самые огороды топтать мужичьи овсы, и не раз, пойдя в лес, в малину, встречали девки и бабы в густом, непролазном малиннике самого Михайлу Топтыгина и, растеряв лукошки, сломя голову прибегали в деревню.
Подъела леса наша речка, впадающая в большую, многоводную реку. В древние времена служила речка конечным путем для большой торговли — был неподалеку волок, — и поныне, распахивая курганье2 находят мужики древнивд сотлевшие клады»
378
Начали изводить лес лет сорок — пятьдесят тому назад. В те годы объявились в наших местах обдели- стые и богатые люди — и под топорами зашатался и зашумел лес. Река была удобна для сплава, и в десять — двадцать лет дремучих мест стало не узнать.
Рубка леса продолжалась все прошлые годы, и сплав стал главным подсобным прибытком деревни: всякую весну мужская половина деревни уходила на плотах вниз, на большую реку.
В прошлые медовые времена немалые наживались по нашим местам капиталы, богател на наших лесах купец, — и по сей день рассказывают на деревне о том, как умели в прежние времена жить-богатеть на заугор- ских лесах обделистые жадные люди.
Так мало-помалу из-под лесов освободились широкие земли. Земли эти в те времена отдавались за бесценок — дорожили землей люди мало (да и что в ней, в нашей землице: подзол и суглинок!), — и мало-помалу селился на пнях человек, выжигал ляда, обогревал под собой задичавшую землю. Где недавно одни бродили медведи да перехлестывали с макуши на ма- кушу легкие белки, — угнездился, прилепился к земле человек. А по соседству со старыми, закоптелыми деревнями, как грибы в парной дождь, стали вырастать одна за другою новые белые крыши — ца пняхг на необжитых местах.
Нынче в какую сторону ни кинься — упрешься в новоселов. От прежних лесов оставались кусты и перелески — и, куда ни глянь, над кустами и перелесками столбами стоят дымы, а утренней зарею на первый петушиный крик со всех сторон отзываются пестрые петушиные голоса.
От былого дремучего зверя и лесной дичи остался на речке Невестнице разве глухарь-мошник, да по- прежнему много ведется всякой лесовой и луговой птицы, и весною зори от тетеревиного тока гудом гудут,
* * *
Каждый вечер, как только неторопливое солнце зазолотит лесные макуши, я спускаюсь с прежней дороги в болото и по чуть видной, ежелетно запахиваемой тропинке пролезаю через невыжженные ляда к Новой Деревне, крыши которой неприметно тонут в глубокой,
379
густо заросшей молодняком-парусником мокрой лощине.
Лет десять — двенадцать назад, как повырубили на Мутишинской дороге леса, из соседней волости, с песчаных бугров, где жить стало тесно, деревня перешла на новое место, села в болото, на голые пни.
Десять лет назад было в Новой Деревне всего четыре двора, а нынче дворов стало двенадцать, не считая тех, что в прошлом лете своею волею сели на особняки*.
По самое болото молодой мешаный лес повален всплошную. С трудом пробираюсь сквозь пни и раскиданное сучье, перелезаю через колодье. Нынче по лету весь этот повал станут жечь, и долго и тревожно будет валить в небо легкий лесовой дым. На обожженном ляде, продрав самодельной рогатой бороною по корням мох, осенью между пнями посеют рожь, и потом на многие лета хватит труда людям выковыривать из земли коренье и колодье, пока на прежнем лесовом месте скатертью ляжет чистое поле.
Каждый раз, проходя полями и видя, как мурашом копошатся над землею люди, я думаю: какой каторжный труд пришлось принять человеку, отнимая у лесов каждую пядь!
Я ночую в Новой Деревне у старого приятеля, колесника Павла, с которым, как говорится, еще наши отцы в одну солонку макали. Павел — мужик простой и добрый, сказочник и балагур, затейщик. За свою жизнь исходил он землю поперек и вдоль, жил долго по людям, батрачил, три года живейничал1 по Москве. Сказки его больше лютые: то как попов черт топит в проруби, то как разбойники проезжих купцов режут. Научился он сказкам в Москве на извозных дворах. Простых, не свирепых сказок у него— ни од¬
1 Особняками называли тогда па деревне отдельные хутора, на которые расселялись до коллективизации деревни.
2 Ж и в е и н и ч а т ь — заниматься легковым извозом; жн- вейник — легковой извозчик, по-старинному — ванька. В каждой местности мужики имели какую-нибудь свою отхожую специальность: бизюковцы — плотники, юхцовцы —■ граборы
(землекопы), наши — пекаря и шестерки (половые в трактирах) , да еще шахтеры — отпетые головушки. Живейник по нашему месту большая редкость. Живейннчали больше подгородные крестьяне.
380
ной не запомнил. Но человек по себе Павел не злой, из тех, что готовы скинуть рубаху, поделиться последней краюхой.
Живет он хозяйством, но землю не любит и больше кормится колесным прибытком — впрочем, как и вся Новая Деревня, — гнет и вяжет ободья, точит из березы ступицы. (Ездят по нашей местности мужики на осях деревянных, на коротких телегах, у которых передняя грядка вдвое шире задней,— и колеса выходят большие, по пуду весом, со ступицей, похожей на пушку.) С Павликом живет родной брат Аверя, тоже человек бывалый, прошедший чугунные повороты: жизнь вернула его на отцовский корень, и нынче в нем по видимости от городского не осталось и на понюшку. Ему тридцать три, а глядит он сорокапятилетним: жизнь помяла. Он тоже человек добрый и любит порассказать сказки, и сказки его попроще.
Во двору две бабы и куча белоголовых ребятишек. У старшего, Павла, поднимается сын-подросток Никита — деловой и степенный, как взрослый. У Авери — сопляки-девчонки с белыми как лен волосами, в холстяных, крашенных ольхою сарафанах. Старшей лет восемь, но говорят они как взрослые бабы, с полным понятием в хозяйстве, растягивая но-бабьи слова.
Каждый вечер, как только стемнеет, я подхожу к Павликовой хате, перелезаю через сучлявую изгородь (воротами за грязыо пройти невозможно) и вхожу на крыльцо пятистенки, срубленной из вольного лесу и до сих нор недокрытой.
Я прихожу поздно с тяги — бабы и дети в избе уже спят. Меня встречает сам Павел, отодвигает дверную задвижку. В темноте он достает из-под лавки закопченный светец, зажигает лучину — и сухой, сгорбленный по-мужицки, в одннх белых портах и расстегнутой рубахе распояской останавливается у огня свернуть из газетной бумаги цигарку. Руки у него большие и черные, и он неловко справляется с ними. Полыхающий огонь освещает его приметное, доброе и широкоскулое лицо, опушенное редкой бородкой. Склонив голову набок и переставив светец, он закуривает от огня и садится на лавку, почесывая под рубахой.
— Эх-хе, — говорит он, позевывая, — житье наше кочережка!
— Чем недоволен? — спрашиваю я.
381
— Чем довольным быть? Сам знаешь. Вот лето идет —надевай хомут!
— Пни одолели?
— Да-а, — отвечает он не мне, а своим мыслям, с которыми, видимо, ложился cnaTbj — нельзя нашему брату жить здеся. Замучили пни.
Мне давно известна Павликова заветная мечта о счастливой и легкой жизни. По нашим местам, не богатым землею, мало какой человек в мирное время не уходил на зиму в город в приработки, искать счастья, и хоть не близка от нас Москва, но редко можно найти человека, чтобы не тосковал о веселой городской жизни. После войны ходить стало некуда, а тоска не унялась. Бывало не раз — живет мужик крепко, кажется — никаким рычагом подворошить его невозможно, и вдруг бросит все сразу, распродаст нажитое и пойдет колесить свет, искать нового счастья. И всякому слуху, самой нелепой поголоске охотнее верил он* чем очевиднейшей были и явной яви.
Неизвестно, от кого и откуда пошел этот слух, что в «степу» на Кубани открылись свободные земли, что, каждому можно ехать, что у кого-то в земельном отделе там служит брательник и все может... Стало слышно, что уж многие снялись деревни, что собирается на Кубань пол-уезда, что земли там отдаются задаром, кому сколько угодно, что чернозем там как масло и о навозе не нужно и думать, что едят люди один ситный, а о черном хлебе забыли, что в будни живут, как у нас в редкий праздник... Слух растекался по деревням сам собою, но я ни разу не встречал человека, который бы все это видел своими глазами, своими ощупал руками.
Я давно подозревал, что слух о земле обетованной ' закрутил и моего приятеля Павла. Недаром он ходил точно сонный, отбился от дела, каждый раз начинал с того же: клял пни и ругал порядки, жаловался на лихую недостачу. Я хорошо знал, что под внешней деловитостью Павла, под его умением чесануть язык скрывается детская, простая душа, что трудолюбие его больше напускное и что десять лет назад поселился он на проклятые пниа увлекпгисб. мечтой о новой и счастливой жизни.
Нтобы возразить Павлу, я говорю*
882
— Богатство свое человек в руках носит. Возьми Саиунка: вот живет человек! Заходил я к нему, глядеть мило — точно улей с медом. Вся семья на ходу. А всего второй год, как на пни вышли.
— Сапунок! — оживленно всполохнувшись и соска-* кивая с места, заговорил Павел. — У Сапунка семейство не та. Пять сынов! Все жеребцы. Двенадцать рук на один пень. А ты с этакими посопи, — указал он на две люльки: на свою и на братинину,— с этакими помощи никами! У Сапунка — куст: один наметит, другой наставит, третий рубанет, — там дело на кипу. И землица-не наша. Мы обойденные. Теперь мутишинских возьми: лежат как брусья, земли много, а земля сахарная. А нам чего пришлось? Это кто с имениями межевал, тот и урвал, а нам — кочатыг пососи. Как жили с дятлами, так и живем. Кабы не колесы — давно бы трава выросла. И колесы теперь такое дело: кыш под печь!
В сепях послышались твердые шаги. Вошел старший Павликов сын Никита, гулявший в четырех верстах, в нашей деревне. Поздоровавшись со мною, он сел на лавку и стал снимать сапоги, носок о носок. По тщательной осторожности, с которой он дотрагивался до своих новых сапог, было приметно, какую драгоценность они для него представляют. Потом он с тою же осторожностью снял штаны галифе и скинул картуз. Белесые волосы, курчавившиеся на концах, были по-модному зачесаны челкой на самый нос, так что мешали глядеть, и он, как конь, часто встряхивал головою. Он — опять же по моде — держался развязно и грубо, очевидно кому-то подражая, но под модной челкой светились умные и добрые, как у отца, глаза.
— Ребры целы? — посмеиваясь, спросил Павел.
Никита ответил не сразу, бережно вешая на стену
галифе.
— Коли сам не полезешь — завсегда будут целы* —• сказал он.
— Горячая ваша деревня, — сказал Павел мне, —< живорезы. Спустят ему у вас шкуру.
— Да уж, горячая, — ответил я, вспоминая, как на маслениде попал под «красную сметану», как из пустяков в великое побоище превратился развеселый самогонный праздник, как было странно и страшно глядеть со стороны на бегавших по улице с огромными кольями
383
в руках мужиков, точно игравших в пятнашки, Tt на голосивших за углами перепуганных баб.
— Наша смирная, — говорил Павел, забираясь спать. — У нас этого не бывает, избави бог. — Эхе-хе, — вздохнул он своему неотступному. — Давай спать! Не проспи.
Я лег на свое место под кут. Тотчас же на мои ноги вскочил котенок и замурлыкал. Зашелестели у головы тараканы. Огонь в светце вспыхнул и погас. Закрывая глаза, я почувствовал в веках горечь—от дыма лучины.
* * *
Недели через две—уже пахали яровое, и люди да полях копошились, как мураши у своей кучи — я опять ночевал у Павла. На лядах горели груды, и к небу поднимались густые опаловые клубы дыма, пронизываемые снизу красными языками огня. Дымом пахло в лесу на тяге. Я пришел поздно, но в Павликовой хате еще светил огонь. В избе было много народу. Люди стояли, скучившись у светца в переднем углу, — я разглядел много круглых детских голов. Из угла доносился громкий уверенный голос, с тем противным приговором, которым говорят давно отбившиеся от деревни крестьяне, досыта хлебнувшие базарной культуры. По одному приговору, не видя, я вдруг почувствовал злую вражду к говорившему, по опыту хорошо зная, что чем горластее человек, тем поганее его совесть.
— Народ там развеселый, — смело говорил бойкий голос, когда я тихонько, никем не замеченный, снимал ружье и сумку, — как соберутся, сейчас петь-плясать. Не цо-нашему. Жизнь там легкая. Виноград там этот растет, арбузы. Из арбузов мед гонят. Тростник сажают сладкий — сейчас сварят: мед. А пчел развести распростое дело. Мед тамошний и зимой не густеет. Лошади и скотина там, верно, в цене. Среднюю кобы- ленку взять — пятьсот рублей. Это верно! Голод скотину подобрал.
— Скотинку отседова повести можно, — вставил Павликов голос.
- — Обязательно отседова, — перебил бойкий, — вагон
особый дадут на дороге со скидкой. А там дело развернешь скоро* Земля там —Чернозем на три аршина,
384
на хлеб мажь да ешь. А земли — сколько душа желает, — сейчас приходишь, бумажку на стол: «Пожалуйте землицы, товарищ!» — «Извольте! В какую ста- ницыю желаете записаться?» А стацицыи там есть и на пятьсот дворов. Ну, конечно, избираешь себе где попросторней: места довольно, каждому человеку
рады...
— Тоже небось подмаслить кой-кому надо, — заметил из угла чей-то угрюмый голос. — Сухая ложка рот дерет.
— Там, братцы, на каждом столбе: «Смерть взятке!», там по этому делу строго! — тем же бойким голосом, точно отчитывая, продолжал шустрый.
— Вот это свобода! — восторженно произнес Павликов голос. — Это вот да!
Шустрый хотел говорить дальше, но его перебил черный угрюмый мужик, вдруг во весь рост поднявшийся с лавки.
— Не может наш брат, — заговорил он угрюмо, путаясь, спеша и тыча руками, — наш брат темный, как бутылка. Чего мы можем? Нашего хоть на золотое место посадь. Мы так и на эти пни садились — одних вшей с собой принесли, а чего вышло: как дятлы по пням живем!
Он так же резко и неожиданно прервал свою речь, как и начал. Сел на свое место и потом опять быстро поднялся.
— Нашего брата хоть скобелкой части, опять обрастем грязью, — проговорил он быстро, с отчаянием и снова сел;
— Никак нет, — уверенно перебил его шустрый, — народ разный есть. Одни, верно, и на затычку не годятся, а у кого в голове есть — все можно. Теперь время такая: живи мозгой! Почин дела не портит. Тоже бабы, — продолжал он почти без передыху, — бабы много путают дело.
— Бабы, верно, путают дело, — сочувственно вставил Павликов голос. — Говорится: ночная кукушка
дневную перекукует. У нас такое дело было — жил один человек в городе, держал извоз: четыре лошаденки, полное хозяйство. Приработок был солидный. А в самое это время затужила баба: хочу на родину, и никаких! Мужик и так и сяк — бабы не переспоришь: лоша-
13 И, Соколов-Микитов, т. 1 385
денок продал, сбыл хозяйство и авда. Сюда приехал, а уж тут место стерто, деревня не приймает. Как быть? Бился, бился, покуль не проел лошаденок, а теперь чуть не по миру ходит..,
В углу примолкли; потухла лучина, в темноте живым червячком алел уголек. Кто-то из молодых откусил зубами от новой лучины тонкую щепку и стал дуть. Вспыхнул, осветив его лицо, яркий огонь.
— А много ль станет доехать до тех местов? — спросил угрюмый голос.
— Как ехать, — быстро ответил шустрый. — Одному ехать — счет один, всем хозяйством — счет другой. Я на себя червёнца три проездил. А там продукта дешевая.
— Тыща целковых, поди? — добивался голос.
— Тыща не тыща, — продолжал шустрый, — а на все обзаведение, известно, капитал требуется, без капиталу, брат, и труба не дымит...
Из рассказа бойкого парня я узнал, что он недавно оттуда, что его записали в станицу и он якобы успел посеять две десятины озимой пшеницы, — казаки взялись ему обработать за милое слово, — что он ходил там по свадьбам с гармоньей и на свадьбах кормили его до отвала.
— С капиталом везде прожить можно, — не унимался угрюмый, — дай мне капиталу, я и тут кадилу до небу раздую! Мне только па ноги стать.
Понемногу я разглядел всех. Кроме хозяйской семьи, было человек пять пришлых. Шустрый сидел в углу на лавке. Медное лицо его так и сияло. Одет он был по-городскому: в пиджаке и ботинках. Глаза его бегали так быстро, что невозможно было уследить выражение их. Завидев меня, он оборвал разговор и подошел ко мне, всем видом своим изображая, что считает меня за своего, и по-городски подал руку. Мне было неприятно, что он сел рядом и старается показать, будто может говорить со мной на каком-то особенном языке, понятном только нам двоим.
Черный угрюмый мужик неловко закопошился, надел шапку и, потоптавшись, вышел. Его проводили неприветливо.
— Темнота! — подмигнул шустрый. — Теши ему кол на голове, все свое. А откудова такое? Темнота деревенская, несуразность. Презрительный народ. На юге
Ж
народ другой. Там культурный мозг. Там жизнь приятная.
Я узнал, что шустрый родом из недальней деревни, что давно мотается по городам и приехал на родину продавать свой надел. Он знал обо всем:, о ружьях, о политике, о хозяйстве. Дети слушали его, не сводя глаз.
Бабы собрали на стол. Шустрого посадили под богов в угол. Он снял пиджак и остался в одной вышитой рубашке. Подали в чашках молоко и похлебку. Бабы, по обычаю, при гостях не сели за стол и ели стоя, доставая через головы мужиков, после каждого хлебка кладя на стол ложки спинками кверху. За столом молчали.
После ужина шустрый собрался. Хозяин вышел проводить его в сени, и я еще долго слышал за дверью их голоса.
Ложась спать, я не вытерпел и сказал вернувшемуся Павлу:
— А гостек-то твой бойкий, — все глазами по углам шарит. Должно, в Москве по карманам гулял.
—. Бог его ведает, — уклончиво ответил Павел, *— человек бывалый, много видел.
— Что говорить: много! — заметил я.
— Что ж такое, — продолжал Павел, — есть же места, где люди счастьем живут. Не наши пни. Город- ковского дьякона Барбосова шурин в тех местах служит, народ приглашает. Земля, говорит, нетрожна — сахар.
— Тут пропадать все едино, — вставила убиравшая со стола Павликова баба, худая, темная со впалой грудью, в самокрашенном грубом сарафане. — Хуть хлебушка пашанишного поедим.
Я понял, что мечта въелась, накрепко, что спорить и отговаривать напрасно. Мне плохо верилось, чтобы Павлик так сразу покинул свое нажитое, бросил хозяйство и свою новую пятистенку; а в то же время подумалось: отчего и не бросить, ведь бросал же раньше, и разве мало было таких чудаков Павликов по земляной Руси во все сроки и во все времена?
Ночью мы спали плохо. Я боялся проспать петухов и проглядеть зорю. Павлик ворочался, должно быть представляя обетованную землю, где чернозем «хоть на хлеб мажь».
13*
88?
После первых петухов я поднялся. Выпустил меня Павел. Я вышел на волю из душной избы, перешел через грязь, перескочил в темноте через изгородь и пнями и кочками пошел напрямки к току, к будкам, на чуть приметную зорю.
1924-1948
КИНДЕЙ И КИНДЕЕНОК
Раза два в зиму заходят ко мне — погреться и перекусить — из-за реки Угры дед Киндей и его внук Кин- деенок, сивый мальчишка двенадцати лет. Лет восемь назад деревня, в которой жил дед, сгорела, пожар выглодал деревню до косточки: восьмую зиму ходит Киндей по миру, ест за мирским столом, спит под мирской крышей.
Приходит он ко мне по двум делам: попить чайку и потолковать про бывалое. Заходит просто, как в свой дом, кладет у порога котомку, набитую мерзлыми кусками, и садится не раздеваясь, в обмерзлом зипунишке, подхваченном лыком, усаживает внука, — худой, волосатый, пропахший морозом, землей и годами.
Он зябко пожимает под драным зипунишком плечами, крепко трет заколяневшие руки, подмигивает бровью:
— Чайком погреешь?.. Так-то вот, — говорит он, садясь за стол и шевеля усами, под которыми видны сплошные зубы. — Был Киндей молодец, а теперь чего стало?
— Зубы-то у тебя!
— Зубы у меня как сад, *— говорит дед смеясь. — Зубы у того плохи, кто сладкое ел-пил, а мы на голых картохах жизнь прожили.
За столом он кажется небольшим, легким, пахнет от него соломой и хлебом. Он пьет не спеша, дуя на чай, держа за донышко блюдце, обходясь кусочком сахара величиною с горошину.
— Расскажи про старину, дед.
*— Чего тебе рассказать?
— Расскажи, как ходил по Угре на плотах.
Глаза у деда зоркие, с голубинкой. От глаз бегут по лицу мелкие лучики-морщинки. На голове густые спутанные волосы торчат, как клок сена. Большие,
заколяневшие на работе руки неловко держат хрупкое блюдце. Внук сидит тихо, внимательно смотрит ясными голубыми глазами, сморгает прозябшим носом. На обветренных щеках его золотится нежный пушскк.
— Ходили, — говорит дед, оживляясь, наливая в блюдце чай. — Тогда, брат, леса не таковские стояли по нашим местам. Бывало, от медведей отбою нет, в лес не ходи без топора. Землицы, известно, запахивали мало, да и какой прок в нашей землице? Выгонят на барщину мужиков, а им и порток не на чем прихватить, так и жили — из пуста в пусто. Лесок-то изводить не так давно стали. Первый по этому делу был у нас купеческий приказной Блудов. Прикатит на при- станя, брюхо выставит, глотка — как труба ерихонская. Гаркнет, бывало, — у мужиков шапки сами собой с голов валятся. Много он душ на тот свет перевел. На плотах, сам знаешь, какова работа. Самый разрой, весна, по реке лед плывет. А мы с утра по шею в воде, купецкий лесок бережем. А Блудов на берегу — как бес. И много пропадало народу. Придет на плотах в город — получай по двенадцать целковых на душу. Вот тебе и весь доход. Купцы по трактирам сидят, музыку слухают, а мы — деньжонки в шапку да по домам. Пе- Хпим порядком дуем, голым путем. Беретов полтораста отстукаем этак босиком...
У деда такое лицо, точно вспоминает о чем-то очень приятном, а голос — будто не за столом сидит, а кричит на реке с плотов.
— Лесу в те времена по Угре гнали — бяда! Бывало, воды не видать, все купецкие плоты идут. Тут коншинский, тут козловский — конца-краю нет. По весне вся местность наша, все мужики на плотах хо-» дили. Оставались в деревнях бабы да несмышленыши ребятенки. Я сам двадцать шесть весен подряд отходил, три раза под плотами воду глотал да раз чуть без головы не остался...
— Как же так — под плотами?
— А так, — говорит дед, — знаешь, как второпях, да когда дело не ладится. Стал с пленки на пленку сигать, бревна в воде склизкие, посклизнулся, и головой промеж плотов. Зажал в грудях дух, держусь, а надо мною плоты идут — куда ни ткнусь* — головой о бревно,
389
Сколько времени так под плотами пробыл, чего натерпелся, рассказать невозможно. На счастье, случился прозор: вынырнул на божий свет, вылез, как черт, из воды, — четыре пленки тогда надо мной прошли. Вот оно как...
Смеется, покрякивает, вспоминает прошлое дед.
— Так-то был у нас на плотах мужичонко один. Ростом с колпак, а сила в нем была медведячья. Бывало, перепояшет по животу пеньковые вожжи, натужится — тресь!.. Водили его купцы по трахтерам, поили водкой, а он на брюхе вожжевки рвет. Купцам потеха. Затиснуло раз этого мужичка промежду плотов на моих глазах. Добежать к нему не поспел — кишки ротом вышли. А Блудов за ним, как коршун над куренком... Вот я тебе об самом этом Блудове расскажу. Бо-оль- шая сила у нас была! Бывало, выкатит на реку — жеребец у него серый, в яблоках, — свалится с дрожек, и пошла писать губерния. Тут уж держись! А такой же сиволапый, из мужиков. Я тебе скажу — такие-то, из нашего брата, из грязи да в князи, куда злее. Дыхать мужикам не давал. Все в его кулаке были. Всеми он купецкими делами и мильенами крутил, чистый цепной пес. А нашего брата ты сам знаешь. Притом же нужда — за тридцать копеек ходили к нему с санями и лошадью на поденщину, с пристаня лес возить. В ледяной воде плоты вязали. А он знай матюгом кроет; матюжник был такой — плюнешь и прочь пойдешь. Раз как-то и наскочил, нашел свой конец. Прикончили его кольчугинские мужики, добился своего...
Вспоминая далекое прошлое, Киндей не спеша допил свой чай, положил набок порожний стакан и стал свертывать из табака-самосева верченку.
— Что же было?
— Дело давнишнее, теперь чего хоронить. До того он наших мужиков допек — терпения никакого не стало. Перехватили его кольчугинские на дороге, вож- жевкой руки скрутили. «Попил, говорят, ты нашей кровушки, послужил купецкому карману, а теперь будя, шабаш!..» Крови из него вышло, как из кормного борова. Стащили его мужики в лес, в овражное место, сучьем завалили. Долго полиция путалась с этим делом. Дело известное* пришлось кой-кому в царском
остроге сидеть. Отсидели свое, вышли на волю. А Блудовы косточки и по сю нору в овраге гниют...
Окончив рассказ, Киндей встает, смотрит на внука, спокойно сидящего на скамейке, и, свертывая из газетного листка цигарку, хрипло покашливая, говорит:
— Дело давнее, быльем поросло, молодым теперь непонятно...
1927
ГЛУШАКИ
Весну объявили грачи. *
Всю неделю, поблескивая на солнце вороным пером, вперевалку бродили они по утемневшим дорогам, белыми носами разбивали мерзлые колтыхи. Когда по дороге проезжал, завалясь в возок, подгулявший му^ жик в армяке, они, подпустив близко и присевши Hai тонких ногах, лениво взлетали над лохматой спиной лошаденки и опять опускались на дорогу. Грачей встречали на полях галки, похожие йа бедовых бабенок в серых платочках. Днем они гуляли с грачами, а вечером вместе садились на голые, звеневшие на весеннем ветру деревья.
На первой неделе поста негаданно воротилась зима: подул с холодного угла ветер, понесло пургой, неведомо куда пропали грачи, и опять по-вдовьему кликали над белою колокольнею галки.
Вернулась весна в апреле — хмельная, в зипуне нараспашку, прошлась по лугам, опростала из снегов кочки, отворила ручьи, синею водою налила овражкрт.
В день прошел на реке лед, поломало на ручьях мосты, залило водою ветродуя Ваську, жившего на краю деревни у брода, — зашла вода в Васькину печку. И на долгое время стало по дорогам ни пройти, ни проехать. В эти дни валом повалила над речкой Не- вестницей водяная и лесовая перелетная птица.
И в эти же дни впервые собрались кочановские охотники Хотей, Тит и ветродуй Васька в лес за Не- вестницу, на глухариный ток.
Из деревни они вышли под вечер, огородами, чтобы не дразнить деревенских собак. На выгоне под ногами их пробежал старый, с отмороженным гребнем и слежавшимся на сторону хвостом, ошалелый-от весны петух. Носастая, освещенная закатным солнцем ворона,
39*
сидя на голой березе на огородах и глядя вниз на черный навоз, хрипела, качаясь на ветке и давясь:
Калач! Калач! Калач!..
— Разоралась, стерва! — сказал Васька, перемахивая под березою через лужу, и деловито заметил: — Высоко ворона сидит — обязательно к тихой погоде.
Пройдя овины и перелезши высокий, нанесенный за зиму сугроб, охотники выбрались на дорогу, еще покрытую ледяной коркой, и молча пошли друг за дружкой к сииевевшему впереди лесу. Тотчас, сорвавшись С межи, над ними запел, задрожал жаворонок и уже не отставал от них до самого леса. Высоко в небе, над лесом, легкою паутинкой проклинали журавли. Быстро, догоняя друг дружку, пронеслась над дорогой пара витютней, и жалобно-горько заныл над канавою чибис. В поле были места, где теплым дыханием дышала земля и охотников обдавало теплом, как из раскрывшейся пазухи.
Под старою угольницею мужики по жердочкам перешли набухший ручей и, остановившись, свернули цигарки. Синий дымившийся лес накрыл их просто и невидно, как свою родню.
По лесу они брели долго, срываясь на мерзлой ле- совой дороге, иной раз по колено бредя в ледяной воде, громко шлепая по грязи лаптями. В болоте, погоревшем прошлое лето, лес густо лежал повалом; они брели узкой стежкой, еще зимой пробитой в повале. Справа и слева непролазно лежали вывернутые с корнем ели и сосны, одиноко стояли обгорелые снизу осины.
Место, куда они шли, звалось на деревне Грядою. Это был редкий, приземистый, тугорослый сосонник, пересекавшийся полосою черного леса. Еще недавно там водились медведи и рыси, всякий год жил, рос и кормился волчий выводок, и недавно последнего извели мужики лося. Там, где сосны были реже и выше, по осевшему вешнему снегу кругами шли тропы и стежки; от стежек разбегался звериный обледенелый след. Везде под деревьями червячками валялся на снегу свежий и перезимовавший глухариный помет.
На место они пришли под самый закат. Золотом полыхало над лесом небо, сгорало и высоко таяло в небе одинокое, с огненными краями облако, сосны стояли
392
как зажженные свечи. Охотники постояли, покурили и разошлись на «подслух».
Вечер в лесу подходил тихо. Пискнула, промелькнув от пенька на пенек, пропала под кореньями мышь. Щелкнуло где-то в лесу, упала, долго цепляясь по сучьям, сухая сосновая ветка,
Чуфистнул два раза* сорвался и забормотал далеко тетерев-полевик.
Первый над лесом протянул вальдшнеп, испуганно цвиркнул и, забирая крылами по золотому, повернул на болото.
В последний раз багрово вспыхнула над лесом вершина самой высокой сосны и погасла.
В эту минуту, неведомо откуда, большая черная птица быстро пролетела над лесом. Было слышно, как ухнуло по лесу, и далеко видно, как гомозилась она на вершине, усаживаясь и обрываясь. Так она сидела, прислушиваясь к лесной тишине, и на золотившемся небе четко и сторожко виднелась поднятая над маку- шей ее голова. Когда в небе первая зажглась звезда, она щелкнула, заворошилась* с шумом спустилась на нижний сук.
Охотники неслышно стояли, пока стемнело и рассыпались по небу звезды. Тогда они отошли в сторону* выбрали под елками место и, повесив на сучках ружья, отправились ломать для костра сушь. Огонь разжигал Васька. Лежа на снегу брюхом, он запалил спичку, дунул, и огонь осветил раздутые его ноздри. Поднявшись, он лаптем придавил разгоравшийся костер, и в небо,* стреляя, посыпали искры.
— Славное дело! — сказал он, жмурясь, смеясь и отшатываясь от жарко взявшегося огня.
Охотники натаскали суши, наломали под себя пахнувших смолою вешек и, покряхтывая, расселись округ огня. Было слышно, как далеко за болотом тоненько пробрехала лисица, а на лядах жалобно гукнул заяц.
— Гуляет косой! — сказал, усаживаясь у огня Тит. — Теперя им самая гульня.
Тит и Хотей разулись, расправили и повесили над огнем мокрые онучи. Васька, как был, в лаптях, завалился на еловые вешки, оскалил на огонь белые свои зубы.
— Гляди* копыта отвалятся, — сказал ему Тит,
зэа
— Мои привычные! — с хохотом отозвался ему Васька, постукивая лапоть о лапоть. — Мои сам черт не сгрызет.
Костер разгорался. Стреляли из огня искры и вместе с дымом улетали в звездное небо. Колыхались над костром еловые лапы. Лисица пролаяла еще раз — теперь в другой стороне — и замолкла.
— Раньше зверя-птицы не в пример было, — стариковски строго заговорил Хотей. — По восьми глушаков аа утро брали. Бывало, к одному бежишь, а пять обочь играют. Тогда, брат, охота была. Свалятся на земли драться, треск пойдет по лесу. На них глядевши, животики надорвешь...
— Большая уменья надо, — заметил Тит, большой, неладный, в лохматой овчинной шапке, закрывавшей его маленькие, блестевшие под овчинными кудлами глазки. — Не всякого, брат, возьмешь. Кто по лесу, как корова, ходит, тому век не взять. Играет — хучь с пушки пали, а замолчит — ни брясь, стой! Хитрая птица... Есть такой, самый старый, — играть не играет, только слухает — не идет ли охотник. Где такой заведется — лучше не суйся...
Жмурясь от дыма, он поправил костер, подкинул на огонь суши, сел и протянул к огню свои большие, С шевелившимися пальцами ноги.
— Так-то вот, — продолжал он, ниже надвигая на лицо шапку, — ходили мы в прежнее время с барином, с Иван Лексеичем, на самое это место под глушаков. Бывало, вешек ему навалю, огонь разведем, ляжет он и все на огонь смотрит. «Страшно, — скажет, — тебе, Тит, одному в лесу ночевать?» г- «Почему страшно, мы к этому привычны, нам не страшно...» — «Расскажи, — скажет, — Тит мне про что-нибудь, а я не желаю спать...» — «Чего, говорю, рассказывать? Спите себе епокойно, а утро придет — глушачка забьешь!» Под утро, бывала, заспит, стану его будить — мычит, как теленок. Подниму его, пойдем вот так-то в лес. А глушаков в те времена было по этим местам массыя, наш брат тогда не ходил. Поставлю его: «Слышишь?» — «Нет, ничего, говорит, не слышу, окромя как ветерок по макушам ходит». — «Ладно, говорю, поспевай за мной!..» Стану под песню сигать, а он за мною. Слышу, играет — совсем даже явственно. «Ну, теперь слышите?» — «Нет, говорит, не слышу, только вроде
394
как сорока на крыше чекочет...»—«Он самый и есть!» — говорю. Подскочили раз как-то под сосонку — так, раз-^ лапая сосонка, вижу — глухарь на суку, вижу — на зорьке борода трясется, и как начнет его забирать, весь сук ходуном ходит. Под песню показываю барину: «Видишь?» Крутит он головою: «Нет, мол, не вижу...» — «Эх, думаю, — кочережка тебе под самый под хвост! Как не видишь? Да он вот он, бей скорее!..» Вижу, стал он прицеливаться, думаю, ну, готов, раскрывай, Тит* сумку! Ударил он — с сосны хмызник посыпался. А глушак помолчал, послуха л и опять пошел. «Ну, — думаю, — обязательно мимо! Опять под песню кричу. «Бей, — кричу, — целься!» Приложился он —бац! А глушак знай свое дует, потому под песню коло него хоть из орудиев бей. Такая мене досада взяла, прихватил я ружьишко, сматюгнулся, барину кулаком, — гляжу, на концу сука вешка колышется. «Эва, думаю* вона во что барин пулял!» Приложился — хрясь! Он с самой этой сосонки, как мешок, нам под 1аоги. «Ну что, говорю, Лексеич, что?» — «Понять, говорит, невозможно...» — «То-то понять, ты ведь в веху стрелял пожди, говорю, походишь по лесу с наше, обучишься...»
Тит замолчал, улыбнулся своему прошлому. Мужики молчали, грелись, сушили над огнем онучи. Хо- тей сидел неподвижно, подобрав ноги, и черными косившими лесовыми глазками неотрывно глядел в огонь. И, как всегда в глухом лесу в весеннюю ночь, жалобно задудукала на болоте в свою дудочку какая-то полночная птица. «Ду-ду-ду, ду-ду-ду!» — дудукала птица, и ниже под ее дудочку насунулаСь на огонь ночь, теснее обступили людей невидные в лесу деревья.
— Алдотик затрубил, — сказал Хотей. — Скоро полночь.
— Очень даже удивительно, — прислушиваясь и зевая, заметил Васька. — Летось я полное утро за ей бегал: подбегу, подбегу, вот она, вот; стану глядеть — ан нету, опять за три десятины дудит. Всеё утро зря прогонял. Никто этого алдотика не могет видеть...
Мужики молчали, слушали, смотрели на огонь, на падавшие и погасавшие над огнем искры. Над ними на еловых лапах неслышно колыхались черные тени. Далеко на лугах завыл, заплакал и замолчал волк. Васька поднялся, отошел в темноту и, приложив ковшиком руки* ответил по-волчьи. За Невестницей* в болоте* на
395
Старом Ёездоне ему откликнулись волчьи тоскливые Полоса.
— Тут их до черта! — весело, словно радуясь, сказал Васька, возвращаясь к огню и садясь. — Подожди, вот лето придет — начнут наших овечек лупить.
Растревоженные волки гудели долго. Иногда казалось, что они приближаются, чудился в темноте их звериный шаг. Темнее и темнее опускалась над лесом ночь, жалостнее и глуше дудукал на болоте неугомонный алдотик.
Приближался тот торжественный полуночный час, когда ломается над землею ночь, на свой положенный срок затихает и молчит все, что живет, дышит и растет в лесу. Словно для того, чтобы подчеркнуть торжественность наступившей тишины, где-то близко сорвался и упал на землю легкий сучок. Люди при- колкли, слушали, подчиняясь нахлынувшей тишине.
— В самую ночь-полночь никакая не поет птица и не матусится в лесу зверь, — строго сказал, подбираясь у огня, Хотей.
Мужики зашевелились, сняли просохшие, заскоруз- невшие онучи, размяли в руках и не торопясь обулись. Васька, скорчившись и накрывшись шубейкой, лег у огня, как зарезанный захрапел. Тит долго крутил над коленями и слюнил цигарку.
— Была со мною история, — заговорил он, закуривая, садясь и бросая в огонь горячую головешку. — Пошел так-то один за Невестницу, разложил огонек, сижу — и тоже алдотик дудит, и такая на мене, братец мой, напала тоска-страх. Подкинул я на огонь сучья, задремал, и только задремал — стоит надо мною человек, борода сивая. «Куды, говорит, подевал обля- чья?..» 1 Спохватился я, стал — нет никого, огонюшко гаснет, и алдотик этот совсем над моей головой, близко. «Ну, — думаю, — скоро свет, пойду...» Накинул ружьишко, подобрался и айда в лес. А ночь в лесу — темень, того и гляди глаза выхлестнешь. Бегу и бегу. И слышу, братец мой: играет!.. Бегу и бегу, а он и дует, песня за песней. Слышу — тут, близко. Вижу — осина высокая. «Ну, — думаю, — обязательно на этой самой осине...» Подскочил я под осину, стою. А он надо мной
1 О б л ячья — молодые дубки и клены, что рубили в лесу мужикй на полозья для саней (Смоленская область).
896
так и жарит, слышно, как перья звенят, как помет сверху валится... А ночь темная, ни зги не видать. Сам себе: дай, думаю, обожду, рассветет—будет мой! Сел я под тую осинку, прихинулся, слухаю. И не то задремал* не то так: стоит опять надо мною человек тот с бородою: «Отдавай облячья!..» Опять я подхватился — свет, навроде как зорька над макушами займается... «Ну, — думаю, — пора!» Стал я подверх смотреть: тут он, есть, большущий, и крылья по суку распустил. Приложился я по нем — хлысь! — как он оттудова, как копна, как забьет по снегу крылами, мне под самые ноги, и вижу — брови у него красные, глаз такой едкий. «Стой, — думаю, — есть!» Только я к нему — цап| А он от меня под пенек, у меня в руках перо из хвоста, — и пошел по роженью скакать. Я, конечно, за ним: по роженью, вот-вот на хвост наступлю, и такая мено досада берет. «Стой, — думаю, — не уйдешь, до вечера буду гоняться — не уйдешь!..» И какая, братец мой, штука, — тут-то и вышло самое это приключение. Так я и не пойму, как мы к тому месту вывернулись, где хлудовская сторожка стояла. Ты, дядя Хотей, знаешь, Колодец там от того времени остался, сруб сгнил, а яма и потеперь есть. И нужно такому делу — на все леса одна эта яма, снегом ее за зиму запорошило — глушак . через, я за ним, да как ухну — шапка надо мной и по-* плыла. Хлопочу, значит, тай внизу, — помогай господь! Спасибо, ктой-то оставил с лета жердину, дно мерили, — поймал я тую жердину да по ней и выбрался на божий свет. Вылез — давай одежу скидывать, разделся догола, голой на снегу стою, выжимаю, — огонь бы рас- класть, да спички подмокли. И вот, веришь ли, слышу — шух-шух по снегу, гляжу — заяц сел так, на мене смотрит. «Эх, — сам себе думаю, — много я вас, косых, перевел, было бы и тебе то, да подмокло мое ружье...». Стою так, зубами стучу, вижу — другой, третий, десятка два зайцбв собралось, скачут округ мене, бегают* Друг дружку на снегу топчут. Оделся я кой-как, шугнул их, а к обеду чуть домой прибрел... Вот какая история! — заключил Тит, поглядывая на неподвижно сидевшего над огнем и слушавшего его Хотея.
Договоривши, он встал* отошел от огня и, оправляясь, посмотрел на небо: звезды блестели ярко, синими зубцами поднимался в небо лес. Глубокая, таинственная* напряженная тишина накрыла и обняла его.
397
Он взглянул на горевший огненным глазом костер, на сидевшего у огня Хотея, на освещенные, выступавшие из темноты стволы ближних елок и, громко хрустя лаптями по насту, отошел в сторону, на полянку. Две яркие звезды, одна над другою, горели над самым лесом. В последний раз далеко и глухо продудукал алдо- тик и смолк. Наступал торжественный, напряженный полуночный час. Тит стоял на поляне, окруженный лесом — свой в своем, — и долго слушал наступившую глубокую тишину. Долго ли, коротко совершался в лесу этот полуночный торжественный час, а когда совершился, Титу послышалось, что в самой глубине .леса хряпнул и сломался тонкий сухой сучок, и тотчас высоко по макушам пробежал предутренний ветерок* звонче и веселее задудукал алдотик, и далеко на участках тонко пропел петух.
— Скоро свет, — сказал он, возвращаясь и взваливая на огонь затрещавшую сухую макушу. — Храпит* словно пеньку продал, душенька беззаботная! — проговорил он, взглянув на храпевшего' Ваську и укладываясь у жарко вспыхнувшего огня, осветившего его скуластое, широкое лицо.
Перед светом охотники задремали. Они лежали* свернувшись у догоравшего костра, а над ними низконизко, словно разглядывая маленьких человечков, насунулся темный лес.
Первым проснулся старик Хотей. Он быстро и молодо вскочил на тонкие ноги, подкинул в потухавший костер остатки суши, разбудил своих. Пожимаясь от холода, зевая, охотники размялись над огнем и, накинув ружье, растаскав костер, пошли в лес.
Они уходили от тлевших головешек, а высоко над ними пробегал и затихал в макушах холодный предрассветный ветер.
— Зоряет, — тихо сказал Хотей, когда они вышли на поляну и остановились.
На востоке над лесом чуть занималась заря. Большая розовая звезда Зорянка стояла над поднимавшейся из леса высокой черной елью. Длинное тонкое облако проступало на позеленевшем небе.
На поляне охотники разделились и, похряпывая по насту, разошлись. Тит шел один, не торопясь, останавливаясь и вслушиваясь в пробуждавшийся лес. Иногда ему слышалось* где-то играет глухарь* —он напрягал
слух так, что звенело в ушах, и, постояв, шагал дальше по хрустевшему снегу. Низко над его головой прохор- кал в темноте вальдшнеп. «Утро, — глушак теперь играет!»—подумал Тит и пошел быстрее, осторожно ступая лаптями. Внезапно, наполнив лес трубными звуками, загалдели и загомозились на болоте проснувшиеся журавли.
Тит шел привычно, чутьем угадывая в темноте путь. Остановившись под высокой разлапой сосной, он услышал далеко впереди едва уловимый, похожий на стук падающих капель, выделенный им из множества других лесовой тихий звук. Он пошел осторожнее, останавливаясь и замирая.
Два беляка-зайца, смешно подкидывая длинными ногами, один за другим пробежали от него в десяти шагах. Спускаясь к болоту и продравшись сквозь чащу молодого и цепкого ельника, он отчетливо услыхал от от себя вправо громкое глухариное щелканье, скрежет и песню и, словно подброшенный, кинулся в снег. Определив направление, он бежал напрямик лесом, сигая под песню через колодье и замирая. Случалось, глухарь замолкал, слушал, и тогда Тит стоял неподвижно, дрожа подвернувшейся неловко коленкой. Однажды, свистя воздухом и глухо квохча, пролетела над ним глухарка и, глухарь замолчал надолго; слушал, мерз и неподвижно стоял в снегу Тит.
Место, по которому бежал Тит, было сухое, поросшее редкими соснами болото. Игравшую птицу Тит увидел внезапно. Глухарь сидел на длинном голом суку, четко обозначаясь на просветлевшем небе. Было видно, как во время песни дрожит высоко поднятая глухарья голова и подергивается надутый веером хвост. Тит, делая теперь один большой шаг и приседая, по открытому месту подбегал к сосне. Глухарь играл над его головою. Тит под песню оправился, откинул на затылок шапку и стал смотреть. Глухарь над ним был так близко, что в полутьме раннего утра отчетливо виднелись его шея, клюв и два торчавших сломанных в крыле пера, — был слышеп каждый звук и шуршание перьев. Тит, наслаждаясь, стоял, слушал, смотрел. Вальдшнеп пролетел над болотом, цвикнул, и глухарь примолк на минуту. Потом заиграл жарче, трепеща опущенными крыльями и содрогаясь. Тит под песню взвел курок и поднял свою одностволочку. Над муш¬
399
кой он близко видел надувавшийся черный зоб, дрожавшие концы крыльев. Выстрел прозвучал слабо и чуждо. И когда над лесом еще катилось и замирало эхо, на снегу под голой сосною билась могучими крыльями, предсмертно хрипела черная птица, а над нею стоял человек. Глухарка, квохча и разрезая воздух, низко пронеслась над сосною...
Когда охотники сошлись, над лесом поднималось, играя и смеясь, солнце. Они опять пошли вместе, один за другим, шагая по вчерашним, обмерзшим За ночь следам. Из лесу они вышли, когда над деревней — над черневшими впереди крышами — столбами поднимались в небо дымы. Над рекою ниточкой просвистели и опустились утки. Над черным кочкарником совсем невидный поднимался и падал — играл — баранчик-бекас. И опять, сорвавшись с межи, запел, столбом стал подниматься над дорогою жаворонок, весь золотой на солнце.
1927—1948
В ЛЕСУ
Лето было трудное: как в потоп, лили дожди, заболотили пашню, загноили луга. За плугом по борозде гнался ручей. От мокрого лета навалился на всяческий предмет червь — поел червь огороды и посек на полях льны. В лесу не найти было целого гриба. И — неслыханное дело — говорили шутя на деревне: завелся
червь в самой соли, белый, жирный, — в уездном прод- отделе две тысячи пудов зачервивело соли!
Старики взяли червя в примету: к худу!
И все же хлеб сняли средний.
А осень шла грубая, шла-дергалась, как старая кляча. Извела и людей и скотину. Два раза выпадал зазимок, насыпал сугробы. Торили люди санный путь, радовались зиме. И опять падал дождь, смывал снега, подымал по-вешнему реки. Деревенский пастух Прокоп брался за свой длинный кнут.
Снег лег нежданно: повеяло метелицей, секануло морозами, скрепило землю и понесло.
Настрочили по пороше лисы и зайцы, прошли мимо овинов волки, след в след, повернули на Найденов луг.
И по первой белой пороше охотники Тит, Аникон и Васька вышли в лес тропить беляков-зайцев.
400
В лесу с еловых веток, шелестя, падает снежная навись. Качаются на лиловых шишках синички. Тит, Аникон и Васька остановились, по-волчьему понюхали воздух.
— Пахнет дымком! — сказал Васька.
— Дымком! — подтвердил Тит.
— Завернем!—решили все вместе.
Сошли с дороги, осыпая навись с деревьев, и, как волки, по нюху, след в след, пошли через колодье. На опушке в елках, ободранных топором, потрескивает огонек, стоят распряженные сани-лисички. Над огнем два чугунка, горшок-окаренок и два корытца со снегом и водою. Из корытец цо трубке бежит самогон«живая водица».
— С первачом! — скаля зубы, говорит Васька парню, поправляющему огонь под чугунками. — Как идет дело?
— Дело идет! — отвечает весело парень, поднимаясь и обтирая о полу руку. — Отдохните.
И тут ненарушимый закон гостеприимства: так по всем лесам, но всем деревням — на горький дымок сходятся люди.
— Откушайте моего, — говорит парень и берет жестяную кружку, споласкивает в корытце и, нацедив из мутной бутылки, подносит по очереди всем по полкружке. Самогон пахнет горько, болотом и гарью.
Выпив, садятся у огонька на лисички, свертывают из табака-самосева цигарки.
— Летось дядя Хотей дочк^ замуж отдавал, — говорит Аникон, закуривая от головешки, — клал на свадьбе в самогон сахарину. Очень даже приятно!
— Можно обтравиться, — замечает Тит, — если много выпить этого сахарину. Дьякон пустошинский рыжий так-то пил, пил у вдовы Марьи самогон с сахарином, покуда дух вон. Мертвый и на двор приехал.
Под каждым корытцем поставлен столбик-чурак. На столбиках бутылки. По нитке из холодильника- трубки каплет в бутылки слеза за слезою.
— Что слышно нового, дядя Тит? — спрашивает парень, поправляя под чугунком и сменяя бутылку.
— Наше новое, — говорит Тит, — бабка на дедку, дедка на бабку, вот и весь конец.
— Уголь возили?
— Возили уголь. Наши на станции слышали: в не- какой губернии пал, говорят, с неба огромадный ка¬
401
мень, пол-уезда прикрыл, а теперь горит вся губерния. Что зубы скалишь? Очень даже возможно.
— Чего невозможно?—отвечает смешливый Васька.
Слеза за слезою каплет в бутылки «живая водица».
Парень сменяет в корытцах согретую воду, подмазывает глиною чугунки. Лес стоит молча, кроет и зверя и человека. По лесу пахнет гарью и елкой.
— Перед самой войною шел заяц-русак, — говорит длинный Аникон, — а нынче опять пошел беляк. К чему бы это?
— Да-а, — вспоминает Тит, глядя на лупленые елки,— покойничка Семен Петровича теперь бы на лесок взглянуть.
— Поредел лесок.
— Котовье это, объездчики, попили, погуляли,— отзывается от огня парень, — кому одна хата нужна — поставил две.
— Много и зря лесу пошло, — говорит Тит. — Иной богатей пятистенку какую выставил, так и мокнет пустая зря под дождем.
— У кого хлеба да жадности много, тот и поставил, а у кого мышь в закроме голову разобьет, тот без крыши сидит.
—* Да-а, — опять говорит Тит, — хлудовский прежний приказчик на праздниках к нам наезжал, сам видел.
— Блудов?
— Он самый. Только зашел я за угол,—господи боже ж, — из-за угла: тр-р-р!... Самый как есть он. И жеребец вороной, желваки перекатываются. Я и портки подхватить не поспел. Тр-р-р!.. «Тит, ты?» — «Я, я, говорю, а не вы ли к нам, Лександра Семенович, будете?» Гляжу, под кудластым воротником зубы блестят: самый он!
— Ну?
— «Вались, говорит, в сани, не стоит мой жеребец!» Ну, и пахнули мы за деревню, аж залепило глаза. Прикатился он этак плечом: «А ну, как господский лесок?» И глазом сверлит. «Что ж лесок, порубили лесок!» — говорю. «А сучья?» — «Сучья? Сожгли, говорю, сучья!» — «Эх, зря, говорит, нужны будут...»
— Ишь, сучий сын, куды гнет, — замечает Васька.— Держи карман!
— Да-а... «Это я смеюсь, говорит, не робей, Тит!» — «Чего робеть, да вы сами откедова к нам?» — «А я, го¬
402
ворит, большими делами кручу, теперь, говорит, я —* во!» — Шуба у него богатющая, снегом всего закидало, в передок: та-та-та, та-та-та!.. «Что же, — спрашиваю,— надолго ль к нам?» Смеется. «Долго, говорит, не пробуду!»
— Раздобрел, стерва! — говорит Аникон.
— О чем же ты с ним? — спрашивает Васька.
— «А не слыхал ли, — спрашиваю, — Лександра Семеныч, не будет ли сбавки с налога?» А он как загогочет, аж дыбком волос. «Прощевай, говорит, до свидания, оставайся здравым!» Глянул я округ — как есть один, на самой на дороге* в одной рубахе* и шапка на снегу...
— Вроде, значит, как привиденье?
— Привиденье не привиденье* — говорит Тит, —• а вроде как бы и так.
— Бывает, — замечает от огня парень, — у нас ле- тось в Брусовом бору самого барина Пенского видели: сидит на бревне, картуз в руках, и пни считает.
— Да-а, — говорит Тит, — схватился поп за бороду — цап! А бороды нету. Так-то теперь ихний брат. Ну, спасибо за угощенье. Докурили,
Подымаются Тит, Аникон и Васька, подают парню руки, поправляют сумки и, накинувши на плечи ружья, идут в лес по глухой тесной тропке, где ночью, по свежей пороше прошли три волка, след в след. Идут по лесу: впереди Тит, посреди Васька, а сзади длинный Аникон.
Падает с деревьев снежная навись: то на елку взвершилась от людей белка.
1928
ТИХИЙ ВЕЧЕР,
На Николу вешнего, в рабочую передышку, в первый летний теплый вечер, на глухой Хотеев хутор зашел Филя Дудач, возвращавшийся из лесу, из лык, — положил топор и сел у ворот на травку.
Вечер был тихий, легкий, солнце над макушами закатывалось в чистейшее волото: к доброй погоде. Густо пахло березой и молодой веленой травою. С лугов и от леса тянул теплый ветер* колыхал на березах молодые нежные листья.
403
К Дудачу подсел хозяин хутора Хотей Белый (на деревне был и другой Хотей — Черный, Хотей Жук), сутулый и длинный, крепко загоревший под первым горячим солнцем.
— Покурить найдется? — спросил он, подбирая босые длинные ноги, черные от земли и навоза.
Дудач добыл из кармана кисет, размотал шнурок и вынул сложенный книжкой кусок печатной бумаги.
— Добрый сегодня вечер, — сказал он, кладя на землю кисет и подавая Хотею бумагу, — зеленя пойдут шибко.
— Погода устоится, — ответил Хотей, — паука много. Должны зеленя быть.
Отделив бумажки, мужики стали не спеша крутить цигарки. С поля возвращалась скотина, впереди стада понуро брел бычок. Со двора выскочила простоволосая бойкая девочка и заскрипела воротами. Мужики помолчали, проводили глазами скотину и начали свертывать цигарки.
— Что нового слышно? — спросил Хотей.
— Новенького? — ответил Дудач. — Есть новенькое.
— Сказывай, — попросил Хотей.
Дудач взглянул на него боком. Большие его белые усы топорщились по-рачьи, глаза смотрели хитро. Цигарку он слюнил долго, шевелил усами, мял закостенелыми пальцами. Потом вынул из кисета кремень, отколупнул кусочек желтого трута и прижал ногтем. По его пальцам два раза секанули быстрые искры.
— Митька Расколин опять крутит, —* сказал он, дуя на трут.
— Ну? — удивился Хотей.
— Был я анамедни в Дуденках, — продолжал Дудач, закурив и передавая огонь Хотею, — там все и слышал. Зашел он, значит, в село безо всякой боязни. Заскочил в потребиловку — потрогал того-сего. «Не разменяете ль сотельный мой билет?» Вынул бумажник — шарьк о прилавок! А там полным-полно напхано чер- вёнцев. «Ну, — думают, — это Митька!» А спросить не может никто — боятся. «Нет, говорят, у нас таких капиталов, разменять сотельный ваш билет не сильны». — «А можно ль у вас напиться?» — «Вода у нас имеется, ключевая, из колодцу». — «Нет, говорит, мне угодно напитков, нет ли у вас напитков?» — «Напитков у нас никаких не имеется», — «Так, TaKt говорит, а как от-
404
селева дорога на Подопхаи?» Ну, ему показали, он и пошел тихим шагом через село, плеточкой по голенищам щелк-щелк, безо всякой опаски* волосы длинные, ветром шевелит, пошел и пошел.
— Ишь ты, — с удовольствием вставил Хотей, безбоязный.
— Дошло до милиции, — продолжал Дудач, неторопливо выпуская каждое слово. — Был, значит, Митька! Ну, где да откуда? А вот, говорят, был в потребиловке, менял сто червёнцев, спрашивал напитков* пошел через село тихим шагом. «Значит, будет он теперь находиться у Кривой Марьи, на участках, никак не иначе!» Старший — ретивый, сейчас понятых скликал, взял винтовку и — туда* на участок...
На интересном месте Дудач остановился, стал поправлять цигарку, чтобы пожарче разжечь Хотеево любопытство.
— Да-а, — продолжал он, выждав время, — отправились туда, на участок к Кривой этой Марье. А Марья по тем местам — первейший самогонщик, у нее Митька навсегда и бытует. Приходят на участок, — милицио- йер одного своего в кустах посадил, около дороги, с винтовкой. «Как будет, говорит, бечь, — стреляй без пощады!» Другого поставил стеречь в сенях, у дверей. А сам — в избу. А там сидит Митька на лавке, выпивает, перед им закуска. Только, значит, тот к нему с леворвертом — он цап ему за руку! «Ага, не такие, говорит, меня лавливали — поймать не могли, а таким-то я и пол подотру!» Сейчас скрутил вожжевкой по рукам-ногам, кинул на лавку под образа. «Лежи, говорит, как покойник!» А сам по-прежнему сел, ест, выливает, покуль подобрал все. Встал, подтянулся: «Ну, говорит, много я перевел вашего брата, было б и тебе то, да только сиводни у меня настроение добрая, сиво- дни я именинник, посему оставляю тебя в живых — помни Митьку Расколина!» А за дверьми понятой сидит. Как увидел Митьку — шасть за кадушку! Пошел себе Митька, тросткой по голенищам щелк-щелк, прямо в лес мимо того, что с винтовкой в кустах сидел. Тот — бац мордой в мох! Так и ушел Митька, ничем не поврежденный.
— Ишь, черт, — воскликнул Хотей, — это ловко!
Пылающее солнце опустилось за зубчатую гряду
леса. Зазолотившиеся листья березы трепетали тихо.
405
Ветер стихал. Защелкал в кустах соловей: «Девку, девку, к тыну, к тыну!..» и засвистел громко. Куковали и перехохатывались в березняке кукушки. По золотому небу, испуганно забирая крыльями, протянул первый вальдшнеп.
*—■ Просто его взять невозможно, — продолжал Дудач. — Раз пробовали брать, да не вышло. Захватили его, приволокли в избу. Он вошел преспокойно и говорит этак: «Дозвольте мне в чулан за перегородку, собрать кое-какие вещишки в дальнюю дорогу!» Отчего, думают, не дозволить: стена глухая, курице — и той ходу нету. «Ступай, говорят, соберися». Минуты он там не пробыл — видят, выходит из чулана гнилой старичонка, до земли согнутый, с седою бородою. Ну, думают, пошел дед до ветру. Ждать-пождать — нету Митьки. Пошли глядеть, ан в чулане пусто: Митька-то старичонкой и вышел.
— Озеляет *, — вставил Хотей.
— Это ему только давай.
Докурив, Дудач сплюнул сквозь зубы и потянул на плечи пиджачишко. Дыхнуло вечерним холодком. Загудели над березой жуки.
— Такое было дело, — продолжал он, накрывшись пиджачком и охватив руками поднятые коленки, — скородила на Пономаревом поле девчонка, у самой дороги. Вдруг подходит к ней человек кудлатый, без шапки, на ляжках галифе, как море. «Страдаишь, говорит, девица? Ну, отпрягай-ка кобылу!» Девка смекнула — сейчас хомут прочь, стала кобылку муздать. А он стоит, папироску курит, за плечами ружьишко. «Не утруждай своих рук,— говорит девке,— сам за- муздаю!» Сейчас вскочил махом на кобыленку, подо^ брал поводья, выехал на дорогу, остановился. «Проще- вай, — говорит девице, — скажи отцу твоему, Ивану Осиповичу, чтоб через три дни являлся на такое-то место получать кобыленку!» Ну, девке что же, воротилась к дому: так и так, был Митька Расколин, угнал кобыленку, наказывал быть через три дни в таком-то месте. Мужик так и сполнил: приходит через три дни на тое место, а кобыленка привязана к дубу, ногами выбила яйу. А к грйве пришита бумажка. Развернул бумажку: десять червёнцев!..
1 Озедять — отводить глаза.
406
— Ловко! — заметил Хотей.
— Приезжает как-то на Арсеньевскую мельницу* Лошаденку поставил, подошел к телеге — под одну руку мешок восемь пудов да под другую мешок, и пошел легонько. «Ну-ка, говорит, граждани, дозвольте дорогу!» Мужики, известно, рты пораскрыли. «Чего, говорит, удивляетесь? Не видали?» Сбросил мешочки, пальтишко раззявил и показывает на два леворверта. «Есть ли, — спрашивает, — у кого какая обида или несправедливость?» — «Есть, говорят, у нас обида и несправедливость, — а первая та несправедливость, что берет мельник за размол четыре фунта, а вторая несправедливость — загнали кручинские мужики с наших лугов скотину, в хлеве держат, совсем перепала наша скотинка». — «Все это, говорит, я вам исправлю в моменту!» Сейчас призывает мельника. «Стань, говорит, передо мною! По какому писаному праву дерешь с крестьянства по четыре фунта? Желаишь ли живота али смерти?» Сейчас мельник перед ним бух на колени: «Не желаю, говорит, смерти и буду молоть по три фунта!» Поворотился от него Митька. «Ну, говорит, одно дело справил, теперь пойдем справлять другое!» Вывел мужиков на волю. «Где, говорит, сохнет ваша скотинка?» Там и там-то. Сейчас пошли на деревню. Так и так, приказывает Митька: отпустить из хлева скотинку! «Нет, говорит, такого праву, чтобы теснили люди друг дружку, и почто лучше справедливейшо жить!» Один мужичонка против него заспорил, а он только завострил так-то на него палец: «Глянь-ка, от- кедова у тебя в бороде крысы?» Мужик за бороду цап, а там два крысенка волосья дерут... Мужик бац об землю: «Спаси, говорит, и помилуй!» — «Так-то, про- тиву мине не ставай! — махнул Митька рукой, и пропало. — Помните, говорит, Расколина Митьку, защитника рабочего крестьянского класу...»
На крыльцо выбежала бойкая простоволосая девочка, недавно загонявшая скотину, остановилась и тонким голоском покликала отца вечерять.
Мужики поднялись. Дудач поднял топор и, засунув его за спину, топорищем за пояс, пошел по росе в лес своей мужицкой походкой с развальцем. Темнело. Лес неприметно накрыл его.
1924
407
В СНЕГАХ
Снега. По белой, запорошенной дороге едем с кру- чинским земляком Ванькой Культяпым. Ванька — человек бывалый, живал подолгу в Москве, стоял швейцаром при больших дверях — тонко набил глаз и руку. Нынче живет Ванька в деревне невылазно, оброс мужичьим хозяйством, построил из дармового лесу большую пятистенную хату-дом, накрыл щепою и мечтает о выходе из деревни на свой участок, на вольную волюшку — подальше от завидущего глаза. Точит Куль- тяпого тоска по Москве, по прежней привольной жизни, по легким городским хлебам, когда, бывало, за день натекало в руку по синенькой. А нынче хоть и разбогател Ванька, а прежней справы не видит пообтрепалась городская одежонка, и сам до дремучих глаз оброс густым медведячьим кудлом. Город Ванька поминает добрым словом, пишет в Москву письма и всякую зиму собирается в путь, но туго за эти зимы примерзли у мужиков хвосты, и сидит Ванька — сидят все мужики — невылазно, и редко-редко доберется кто до Москвы. Долго потом идут разговоры о том, как был человек в Москве и какие там светы и богатство. И много разных удивительных слухов ходило тогда по деревне.
— Ездили наши ребята искать работенку в Почин, — говорит Культяпый, потрагивая вожжой, — верст шестьсот на лошадях прокатили, видели всякую штуку. Рассказывают одно дело, да уж не знаю, стоит ли верить.
— Какое дело? — спрашиваю я, жмурясь на снеговые поля.
— Такое дело: была там фабрика, што ль, какая. Ну, тоже произвели сокращенье: мужиков под шаерш, остались на фабрике одни бабы. И бабам жалованье долго не выходило, потом пришло все чохом. Пошли девки получать — вышло им сто червонцев. Отдали они одной на храненье, дескать потом разделим, и пошли домой. Шестеро девок было. А надо им было кустиками проходить. Выскочили на них из кустов четверо: «Стой, постой!» Пятерых девок, значит, прирезали, а шестая ушла — самая та, у которой деньги... Та-ак... Ну, бежит она, дух в ней горит, прибегает на участок к своей родной сестре и прямо на печь.
408
«Ты чего?» — спрашивает сестра. А та чуть дух переводит...
Навстречу по извилистой дороге выползает из ку* стов обоз — везут строевой лес. Культяпый торопливо перебирает вожжами, гонит лошадь в снег. Косматый вороной меринок Жук тонет в рыхлом снегу по брюхо* сани ныряют с дороги, и, задев нас по раздужине, проходит близко первая подвода. За нею медленно проходят обындевелые лошади, понуро кланяясь добрыми мохнатыми головами; мужики в обмерзлых лаптях й армяках сидят на бревнах, а бревна, приятно позванивая, волокутся по снежной укатанной дороге.
— Откуда? — спрашивает Ванька обледенелого мужика в овчинной шапке.
— Из Блудовой, — отвечает мужик.
— Везут мужички лес, — замечает Ванька, подмигивая глазом.
Мы молчим, пережидаем, пока проходит последняя подвода и пробегает за нею оставшийся мужик. Потом взбираемся на дорогу, и опять, позванивая кольцом на уздечке, весело бежит по белой дороге Жук.
— К старому подходят, — говорит Ванька, — опять лесок на реку повезли. Капитал нашелся, теперь заиграет дело. Возчикам по три целковых в день за лошадь платят.
— Чем же история с девками кончилась? — перебиваю я Ваньку.
— История? История, брат, длинная... Ну, лежит девка на печи, ничего не говорит, — язык, значит, у ей со страху пристыл, будто заснула. А в самое это время приходит в избу сестрин муж, молодой такой парень, и прямо к рукомольнику, руки мыть. «Чего это у тебя руки-то в крови?» — спрашивает его баба. «А провалилось, говорит, наше дело!» И сам такой досадный; «Прирезали, говорит, пять девок, а шестая ушла, все денещки с собой унесла, понапрасну руки марали». — «Тш-ш, — говорит жена, — помолчи: тут она, на печке спит!» Ну, и стали они думать-гадать: как, значит, им с девкой поступить. Берет парень топор: «Заодно, говорит, теперь руки марать!» — и к печке. А баба ему: «Постой, так дело не правится, всю избу скровянишь!» Начали они спорить, а девка на печи не спит, слышит. «Надо ее в землю зарыть, — говорит баба. — Бери скребку да иди на огород яму рыть, а я тебе под¬
409
соблю...» Только они из избы вышли — девка с печи прыг да к двери, дерг-подерг — заложена дверь снаружи. Закинула она на двери крюк, подбежала к окну, выдрала раму — да на улицу, бежать...
Жук, перестав чувствовать вожжу, помалу сбавляет шаг, потом останавливается совсем. Ванька подсвистывает ему, как на водопое, натягивает вожжи. Под ногами у Жука растет большое оранжевое пятно.
— Та-ак, — продолжает Ванька, дав постоять Жуку, — бежит она полем, прибегает к другому хутору- участку, только торнулась в избу, глядь-поглядь, и там человек руки моет. Побежала она еще к другой хате — ж там то же. Куда ни торнется — везде на кровь. «Не- куды мне деваться, побегу, — думает, — в лес!» Бежит она лесом, дух переводит. Навстречу: «Стой!» — «Ну, теперь я совсем пропала!» Только сунулась за пенек, выходит милиция. «Почему, говорит молчишь, голосу не даешь?»— «Так и так, говорит, спасалась я от разбойников — думала, и от вас то же будет».—«Мы милиция, объясните нам по порядку». Рассказала она все как было, и про яму и про то, как руки с кровей обмывали. Пошли они, значит, на первый участок, прямо и напали: роет мужик за огородами яму. «Для какой надобности яму роешь?» — «А коровенка у меня на аркане задавилась, вот и рою». — «Покажь коровенку!» А коровенки- то никакой нету. Он туды-сюды. «Это, говорит, я заране рою: вся скотина моя .плохая, а потом ямы не выроешь, земля подмерзнет». — «Врешь, не для скотины ты роешь яму!» Пошли они в избу, цап за скобу, а изба заперта снутри. Тут вышла тая самая девка: так и так, говорит, было. Забрали их, значит, пошли других брать, всех позабирали. Судом не судили, йривязали к сохлой осине, да тут и расстреляли. Верить ли такому делу?
— Кто знает, — говорю я, — дело далекое.
— Народ огрубел, — продолжает Ванька, — теперь все возможно. Ни черт, ни перст: народ развожжался. У нас на деревне рукавиц не снимай, сейчас схапают. А человека зарезать — что трубку выкурить. Да и то сказать: войнушка приучила!
— Приучила война, — подтверждаю я.
— Сколько этих самых убийств было, никаким счетом не обымешь — кровь разгулялась. Нынче маленько унялись — понял народ, где тихие воды текут, а недавнее вспомянешь, ой! И уж как со всяким лиходей¬
410
ством справлялись, ничего не брало. Бывало, чуть чего — на мороз да в воду! Первое было наказание: учить, как гусь зимой цлавает...
— Было у нас поначалу одно дело, — продолжает он, помолчав и обирая под себя полы, — в Дудёнской волости председатель проворовался. Арестовали его и к допросу, а он ни мур-мур. Стали его пронимать: ноготки на руках поковыряли, пятки жгли — молчит. Что, — думают, — делать? Давай, ребята, голышом погоняем по морозцу! Раздели его, конечно, и вдоль деревни, пригнали к речке, поставили у проруби: «Окатывай, туды его так!» Стали его студеной водичкой окатывать, тут только и признался. Ловко!.. Теперь этакого нет, — прибавляет Ванька, — народ теперь осмирел...
Мы едем снеговыми широкими полями, мертвыми и спокойными, как сон. По бокам дороги торчат припа- лые темные вешки, отмечающие путь в зимнюю непогоду, — след человечьей заботливой руки, и мне радостно думать, что заботится человек о человеке.
— Снега нынче большие, — говорит Ванька, — будет травы неукосно. Поедим летом меду.
— Воды будет много, — замечаю я.
Черный Ванькин конек Жук, обросший на зиму лохматой и густой шерстью, опузатевший от зимнего корму, весело бежит по белой дороге, поскрипывая снегом и попыхивая нам в ноздри запахом навозца. На дороге, в снегах — ни соринки. Белеют по сторонам крыши недостроенных выселков: за эти годы не узнать стало знакомого места — рассыпался, рассеялся по разным тычкам человек, и где недавно еще стояли стеною леса, нынче голое поле, и кое-где из снегов торчат белые шапки пней, да маячат над ними одинокие «семенные» березы, а на березах, на кружевных, обындевевших ветвях висят-кормятся тетерева, точно тяжелые черные груши. Куда ни глянь — крыши: хутора, хутора, хутора, и протянулись по снегам дороги.
— Славное дело, — говорит Ванька оживленно, кнутовищем показывая на заснеженные крыши и выпрастывая из армяка обмерзшую бороду, — живут люди, не горюют.
— Что ж, этак способней? — спрашиваю я.
— Какая сравнения! — горячо говорит Ванька. —• Работишки положить надо, а потом сам себе князь.
411
Я знаю давнишнюю Ванькину мечту и, чтобы поддержать разговор, говорю:
— Наши на хутора вышли — теперь осину зубами гложут.
— Дураки, потому и гложут, — убежденно говорит Ванька.
— Ну, а ты устроился бы как?
— Я? — отвечает Ванька, и я вижу, как поднимаются его брови. — Я бы кадилу раздул! У меня семья спорая, миром живем, а шешнадцать бы рук взялись. В деревне душу намозолили, куды ни сунься — чужой глаз. Всякому до меня дело, а сяду на участок, меня вилами не возьмешь, там я себе пан: коровенок пущу, того, сего, этого — через три года помещиком буду. А первое дело — сам себе голова.
— Так, — говорю, — ну, а почему ж ты раньше о таком не думал?
— Раньше сумку сложил, да и пошел в вольный свет, — говорит Ванька, — а нынче у мужика хвост примерз.
— Прежде, значит, спорей было?
— Как сказать, — отвечает Ванька, подумав, — голодуха людей подмяла: научились друг дружке в роты глядеть. И опять же сунуться некуда, никакого приработку, а в этом мужику зарез. Ну, а насчет житья, пожалуй, и легше: землицы прирезали, скотину мужик развел — раньше по стольку разве водили?
— Ну, а налог?
— Что ж налог? — говорит Ванька, подмигивая. — Налог что еловый пень: кто легок, тот и перескочит.
Опять мы едем трушком, бегут навстречу припалые вешки — снега, снега, и вдали, над снегами, видна белая церковь.
Поле кончилось. Мы въезжаем в село, переезжаем речку, где еще видна крещенская, в виде креста, прорубь. На горе — высокая церковь. Церковь эту некогда построил барин Пенский. Еще недавно за церковью стоял большой барский дом, в революцию в нем устроили склад для мирской картошки, а потом подожгли. Теперь от прежнего остались только церковь и большой старый парк, да дико разрослась вокруг церкви сирень — голые кустья.
1924
412
НА ПЕРЕКАТЕ
Первая наша ночевка — в большом пустынном, пахнущем мышами покинутом помещичьем доме. В доме высокие, отсвечивающие радугой окна, полуразвалив- шийся балкон, выходящий в сад, с 'у ныло опустившимися до самой земли, покрытыми завязью ветвями и двумя могучими дубами, живыми свидетелями отжитой жизни. Под самыми дугами хромой сторож-старик неторопливо гонит самогонку, над дубами мирно поднимается к небу синий дымок. Тут же, от сада, по берегу реки начинается деревенская улица с маленькими серыми хатами, в окнах которых перегорает заря, а в дальнем конце деревни, где развешен на изгороди мокрый бредень, мужики делят рыбу.
Я знал бывшую хозяйку этого дома, старую барыню Варвару Парфеновну, последнюю из дверянского рода Брыкаловых, имевших когда-то большие поместья, О бывшем величии брыкаловского рода в церковной ограде осталось напоминание в виде тяжелой надмогильной плиты с витиеватой надписью и подробным перечислением чинов и заслуг знаменитого предка Брыкаловых, вельможи и суворовского генерала. Теперь Варвара Парфеновна живет в соседнем уезде у мельника, задумавшего неведомо для каких надобностей обучать своих дочерей французскому языку и благородным манерам. Она носит стриженные в скобку серебряные волосы, сочиняет стихи на амурные темы^ рассказывает анекдоты из помещичьей жизни, а по вечерам занимает мельника игрой в преферанс, раскладывает старинные пасьянсы. Когда-то училась она в Петербурге, в институте благородных девиц, подолгу живала за границей, спустила, говорят, немало деньжонок, умела пожить в свое удовольствие. Пришли к ней однажды в дом мужики (земля ее врезалась клином в самую деревню), потоптались в передней и миролюбиво сообщили, что в соседней волости уже три дня как сожгли и разгромили тамошнюю богатую петербургскую барыню Кужалиху. В тот же день Варвара Парфеновна поскакала проверять пущенный по деревням слух, вернулась поздно ночью потрясенная виденным и в тот же час отдала распоряжение: «Отдать мужикам столы, кресла и стулья — всё, всё, пусть берут!» Брыкаловские мужики явились рано поутру
413
всей деревней, деловито наступчивые, впереди шел солдат. Барыня пила чай со сливками и, завидев их, уронила стакан. «Ах, — воскликнула она, видя перед собой внакомыё и будто чужие теперь лица, — я вам отдаю все!» *—«Зачем отдавать, сами возьмем!» — заявил выступавший впереди солдат и снял со стола кипевший самовар. «Ты, барыня, погуляла, — шально блестя глазами, сказал ей черный мужик, ее же кум и приятель,— теперь погуляем мы!»
Так решилась судьба брыкаловской барыни, которой мужики, однако, не причинили большого вреда. Все эти годы она одиноко скиталась по деревням с котомкою за плечами, с колодою карт в чулке, — за пару яиц и совочек мучицы гадала бабам и девкам на трефовых и бубновых королей. И поговаривали на деревне беззлобно, что замечали не раз, как бывшая дворянка, воспитанница института благородных девиц, тайком шарила в покосное время в лугах по кошелям и котомкам, воруя мужицкое сало и хлеб...
В доме старой барыни на недолгое время обосновалась деревенская школа, потом ссыпали общественный хлеб. В комнатах пустынно и тихо — на окнах, на полу, на ломберном изломанном столике рассыпан мы- шийый помет. Жалобно кричит в саду какая-то птичка, все одно и то же выводя на человеческий голос: «Не тро-онь меня!..», словно это сама барынина душа здесь скулит и тоскует. Сторож-старик, глуховатый, бестолковей, принес соломы, бросил на пол, сел в угол на кресло и стал смотреть на нас подслеповатыми глазами, видавшими всякие виды.
— Ну, как ваша барыня? — спрашиваю его, ложась на солому, закидывая под голову руки.
— Что ж барыня, пожила барыня, — спокойно отвечает он, глядя на меня выцветшими спокойными глазами. — Она у нас была девушка-вековуха, мужики кликали ее векшей. Землица эта у ней в самую нашу деревню упершись, ну, скажем, петух через дорогу, и тот не перескочи. Вся деревня была в ее руках. Было нам, признаться, от этого большое беспокойство...
Он перемолчал, сплюнул на пол, поправил ногтем огонь в обгорелой глиняной трубке, продолжал:
— И какая, братец ты мой, вышла с ней история. Было у нее еще от отца-матери золото кой-какое, бру-
414
слеты и кольца. Вот призывает она одного знакомого человечка — первый был у нее здесь приятель, здешний лавошник, заядлый кулак — наш церковный староста. «Так и так, мол, Маркел Трофимыч, окажи бо- жецкую милость, схорони фамильное богатство мое, я уж тебе за то отблагодарствую». Тот, известно, с великим его удовольствием. Отдала она ему, что у нее было, на верное бережение. Прошло время, заявляется к ему барыня: «Здравствуй, Маркел Трофимыч!» — «Здравствуй, Варвара Парфеновна!» — «Ну, как мое богатство, сберег?» — «Какое-такое богатство? Знать, говорит, не знаю, ведать не ведаю и никакого твоего богатства не видывал в глаза!» — «Как так?» — «А так, говорит, так». — «Побойся бога, Маркел Трофимыч!» — «Я бога, говорит, боюсь, а тебя Варвара Парфеновна, матушка, мне бояться нечего, ступай-ка со Христом-бо- гом откелева заявилась!..» Да так с тем самым ее и отпустил... Вот какая, милый человек, стряслась с нашей барыней беда...
* * *
Наш путь по малой зеленой речке Невестнице — в широкую реку Оку. По тому, как широко обмелевшее русло, как круты высокие берега, можно узнать, что в отжитое время речка была многоводной: по ней лежал один из древних путей, соединявших два моря, два далеких друг от друга торговых мира. В незапамятные времена населяли берега реки далекие наши предки — кривичи-славяне, люди с серыми глазами, носившие на себе украшения из бронзы и серебра, свято почитавшие память своих отцов. От них и теперь остались на берегах высокие городища и живописные курганы. И уж после много проходило рекою народа, каждый оставлял на берегах свою мету.
Со мною путешествует молодой археолог, влюбленный в отжитую, далекую жизнь. Он подолгу копается в береговых размывах, радуется каждому древнему выщербленному черепку. И, поджидая его, я долго сижу у большого белого камня, неведомо в какие времена занесенного сюда древними ледниками, слежу, как в пронизанной солнцем воде под крутым берегом лениво плавают толстомордые красноперые голавли, слушаю, как побулькивает в недальнем заколе вода.
415
Рядом со мною сидит на берегу рыболов, живой потомок сероглазых наших предков, что в кои-то веки насыпали стоящее над рекою городище. Он, как и я, глядит в воду на голавлей, внимательно следит за заколом, мнет в корявых пальцах травинку. Солнце светит на его открытую голову, на загорелые дочерна руки.
— Обмелела река, —■ говорит он. — Курица, и та перейдет вброд. Теперь возьми сам: на моей памяти от этого камня стояли леса до Верхнего брода. Теперь гляди: весь лесок барышники-купчишки свели. Большую деньгу наживали...
Я смотрю в ту сторону: спускаясь покато к реке, зелеными волнами колышутся хлеба. У самого ската беспомощно прилепилось несколько деревьев, а дальше, как сыпь по нездоровому телу, торчат обгорелые голые пни.
— Теперя, скажем, рыба, — продолжает он, поворачиваясь ко мне лицом, — сиди день-деньской и благодари бога, коли из всех вершей вытрясешь фунтов десяток—пяток. И все мелочь, ерши. Ершей развелось, а путной рыбы — леща, скажем — нету...
— Что ж, в прежнее время рыбы больше было?
— Какая сравнения! — подхватывает рыболов оживленно. — Раньше, бывало, лещей ловили, судаков... А теперь мальгавку поймаешь, и той рад...
Я слушаю его и думаю о тех не так уж и отдаленных временах, когда стояли по нашей реке большие, темные леса. Мне известно недавнее прошлое обитателей ее берегов, наполовину белорусов, наполовину великороссов, говоривших вместо «в» — «у», вместо «чего» — «чаго» (по реке проходит граница, этнографически отделяющая Россию Великую от России Белой) . В деревне и по сие время очень четко проступает лицо прошлого, приобретенное в эпоху крепостного рабства: там, где легче жилось в крепостное время, веселее до сего времени смотрит деревня, живее у мужиков глаза, шире раздвинуты плечи. Поэтому так отличимы государственные деревни*, не переносившие на себе произвола помещиков-царьков: по сей день эти
1 Государственными деревнями в прошлые, крепостные времена назывались деревни, принадлежавшие казне и не подвергавшиеся непосредственному произволу помещиков.
416
деревни легко узнать но ладным широким дворам, по тесовым крышам, по мужичьим широким бородам.
В глухих местах наших земля никогда не кормила досыта человека, и потому с давних пор были вынуждены люди отходить в сторону за приработком, а главная тяжесть труда валилась на деревенскую женщину. В последние перед революцией годы особенно развилась и укрепилась отхожесть: каждый уезд, каждая волость и даже каждая деревня избирали свою специ- альцость, так пошли знаменитые юхновские земле- коны-курлыки, руками которых насыпана не одна тысяча верст железнодорожных путей; так появились дорогобужские плотники-бизюки, ельнинские сгонщики-плотогоны; золотари. В течение нескольких десятков лет река кормила мужиков: шел в Калугу и Серпухов купеческий лес, и каждую весну, из года в год, спускались мужики на плотах вниз, на Оку, где их встречали другие, тамошние льрди.
В те времена появились на реке богатые, обдели- стые люди, имевшие острый нюх на наживу, и из года в год повелось хищническое истребление прежде дремучих лесов, а следом — обмеление рек и ручьев; зашатался, загудел под купеческой беспощадной рукою лес.
Так мало-помалу обмелела бывшая когда-то многоводной река, рыбы стало не в пример меньше, легли под купеческими беспощадными топорами дремучие «леса. От прежних времен осталась у людей память о тех днях, когда гуляли-шумели на реке приказные, мурашом шевелились мужики на плотах, своими мозолями наживали купцам капиталы.
От прежних времен осталась мужикам только далекая память. По-прежнему бежит в своих высоких берегах обмелевшая река, и, хитро хмурясь на солнце, сидит на берегу у белого камня переживший богатеев купцов русоволосый рыболов — прямой потомок тех сероглазых предков славян, что насыпали стоящее над рекой городище.
* * #
Под Кольчугином к нам подошел пастух с берестяною трубою под мышкой, в зипунишке* и2 поглядывая хитро, не торопясь молвил:
— Трудитесь, ребятки?
Н и. Соколов-Микитов, т, 1 417
И, присевши легко над водою, помочив рассохшуюся трубу и опять поднявшись на легкие ноги, поощрительно прибавил:
— Ну, трудитесь, трудитесь! Бог труды любит...
В его замечании была добродушная ирония: второй час мы крепко сидим на мели, на перекате, и наша лодка-плоскодонка тоскливо и безнадежно задирает над быстрой водою свою еловую — из горелого пня и клока моха —рогатую голову. Мы стоим обочь над нагруженной походным добром лодкой, грустно прикидываем глазом расстояние до лежащего внизу плеса, где заманчиво и широко темнеет русло реки. Бегучая вода журчит по нашим босым ногам; на голые руки садятся стрекозы. Дно реки в длинных, зеленых, расчесанных течением русалочьих волосах, и нередко босая нога чувствует под их густыми,и мягкими прядями ускользающую налимью или щучью холодную спину. Вокруг плоскодонки по колени в воде неподвижно стоит деревенское стадо: белые, рыжие, пегие рогатые головы с любопытством смотрят на нас. А над нами, над рекою, над берегом горит-плывет летнее солнце, миллионы ослепительных зайчиков скачут и мечутся по каменистому дну переката...
Иногда мы враз беремся за лодку, я подкладываю под корму весло, и, скрипя по каменьям, тяжелая плоскодонка продвигается на шаг, на два... И, может, оттого, что хорошо греет над нами солнце, что весело звенит-беягат вода и речные пескари щекотно точатся под наши голые пятки, неудержимо хочется смеяться...
Через час мы внизу, за перекатом. Плоскодонка удовлетворенно покачивается в камышах, а на нее, подняв холку, с берега брешет дурковатый деревенский кобель; синим червячком ползет от нашего костра дым. Берег над нами крут и высок, река внизу широка и просторна, а перекат — как серебряная живая дорога. Мы лежим на траве у костра, и не видный на солнечном свету огонь лижет закопченный, видавший всяческие виды чайник, а наш проводник и оруженосец Вася, стоя на четвереньках и припадая головою к земле, изо всех сил дует в огонь.
«Русские чудесные реки — как родные сестры, — думаю я, лежа на траве и глядя на реку, — поэтому маленькая речка Невестница так похожа на соседнюю речку Гордоту* Гордота — на Угру* Угра — на Оку,
418
Ока — на великую русскую реку — матушку Волгу. И не потому ли так по-родственному сходны между собою стоящие на этих реках города1 маленькие ц большие?..»
Серый человечек подходит к нам просто, садится на землю. Его лицо черно и сухо, в зорких глазах хитринки, руки узласты и длинны. Он садится просто, как к давним знакомым, говорит первый:
— Рыбку ловите?
— Нет, рыбку не ловим.
Мы по опыту знаем, как мало верят нам, когда мы - пытаемся толково объяснить цель нашего путешествия. Недаром в Вяземском уезде, по подговору церковного старосты, бывшего кулака и пройдохи, устроили на нас облаву, подозревая, как объяснилось потом, в нас церковных воров^ — дело обошлось благополучно бла-4 годаря лишь случаю. Потому мы отвечаем кратко.
Но серый человечек любопытен. Он смотрит на нас дружелюбно, трясет бороденкой, в глазах его вспыхивают хитринки.
— Маркел Трофимыча знаете? — спрашивает он, жмурясь от дыма.
— Не знаем, — кратко отзываемся мы.
— А Козырька?
И Козырька не знаем.
— Так, — локачивает он своею: кудластой головою, — значит, и впрямь не здешние...
Он сидит молча, глядит на огонь, на закипающий чайник. Острые его колени раскинуты широко, большие руки лежат на земле. В его лице, в одежде, в шапке волос, в спокойном выражении ясных глаз есть что-то детски-простое — самое то, что осталось только у деревенских пастухов. И опять, на него глядя, думаю о тех временах, когда по всей реке стояли темные дремучие леса и селился в них первобытный человек, отвоевывал у леса каждую пядь. Теперь — тому века, от лесов остались лески и перелески, обмелела и спала река, пестрым ковром посевов покрылись освобожденные от лесов земли, привычно свистит на станции паровоз, а где-то в дальнем уезде уж, слыхать, ходит трактор — еще невиданная машина, — твердой поступью идет новая, еще небывалая жизнь.
1928
14*
419
ДЕРЕВЕНСКИЙ ЧЕРТ
Историю эту впервые услыхал я от кума и приятеля моего, кузнеца Максима. Зашел он ко мне под вечер, присел гна лавке, улыбнулся. И уж по улыбке признал я, что с новостью пришел ко мне ку^м.
Сидел он долго, курил верченку, искоса поглядывая в открытое окно, на сухую дорогу, по которой ходили куры. Был он худ, белобрыс, с синеватым от угля лицом. Русые волосы его упорно выбивались из-под черного картуза на узкий лоб. Рассказывал он о глухарях, об урожае, о за^- угорских мужиках, ходивших в приработки и вернувшихся с пустыми руками. Потом, подмигнув, хитро спросил:
— О деревенском черте слыхали?
— О черте? — переспросил я.
— Эге, — ответил Максим, — не слыхали? То-то. Дело, брат, интересное.
— Расскажи, — попросил я.
Максим улыбнулся, поглядел исподлобья, бросил окурок в окно, в рыжего петуха, и положил большие узловатые руки на колени.
— Такое было дело, — сказал он, хитро поглядывая и потирая колени, — была под Купавней одна старушонка, бедовала. А у ей сынок, значит, где-то далеко пропадал. Нынче вызывает ее в сполком председатель: «Вы ли будете Аксинья, скажем, Астрюхина?» — «Я, батюшка». — «А имеется ли у вас родной единственный сын?» — «Есть, есть, шестнадцать годов как уехал». — «Так. Вот пришла вам повестка на пятьсот целковы^ от вашего сына». — «Так, так, батюшка». — «Надо вам теперьча идти получить на почту». — «Слухаю, батюшка...» А почта от ихней деревни верстов, может, пятнадцать. «Ну, — думает старушонка, — сиводни мне поздно, дорога мне дальняя, пойду лучше завтра!» А завтра ей обратно задержка: коровенка, что ль, отелилась. Та-ак. Ночью, значит, спит старушонка под шубою на печи, слышит, стучат. «Кто тама?» — «Открывай!» Открыла она, глянь-поглядь: лезет в избу черт с рогами, все как есть, и хвостюга предлинный.
— Здорово! — улыбнулся я.
— Ну, известно, бабка со страху об пол. А он, значит, ее приподнял за горб, посадил на скамейку и этак тихонько: «А что, бабушка, ходила ль ты нынче на почту и получала ль деньги, пятьсот рублев?» А у бабки
420
чуть ходит язык. «Нет, говорит, не получала...»
«А почему не получала?» — «А не получала я потому, что отелилась у мене коровенка, а до почты верстов, может, пятнадцать». — «Когда получать будешь?» — «А вот, коли останусь жива, завтрева пойду чуть свет». — «Ну ладно, вот тебе мой чертячий приказ: жди мене завтрева об самую эту пору да приготовь деньжонки...» Ну, значит, повернулся рогами в дверь и был таков. Та-ак. Назавтрева снарядилась на почту старуха чуть свет. Приходит на почту — тут, значит, всякая объявления, газеты, поворотиться страшно. «Так и так* говорит, прислал мне сынок деньжонки, нельзя ли получить?» — «Есть, есть, говорят, пятьсот вам рублев, получить можно». — «Вы уж, батюшка, не выдавайте мне все, выдайте для первого разу хоть рублей пятьдесят». — «Нет, говорят, невозможно такое, да и почему вы не желаете получить все?» — «А так и так, был у меня о полночь черт, обещал опять быть да велел денежки приготовить, так уж я лучше ему не все отдам». — «Как так черт?» — «А так, черт, с рогами, и хвостюга предлинный».—«Не моясет такого быть!»—«Да уж как не может — сама видела, чуть осталась жива». Известно, начальник за это дело, значит, уцепился. Позвал уголрозыск и милицию, все, что надо. «Так и так, говорит, вот у этой бабушки повадился черт, нельзя ли ему обломать рога?» Пошел, значит, уголрозыск и милиция за бабкою в тую самую деревню и велели себя в сенцах спрятать. «Ты, говорят, бабка, не бойся, отворяй, как только зачнет стучать, а мы поглядим, какие такие есть черти на свете». Ну ладно. Только, значит, пробило полночь — стучится. Вышла отпирать бабка и только открыла — лезет тот самый, с рогами: «Ну как, на почту ходила?» — «Ходила, батюшка». — «Получила деньжонки?» — «Получила, батюшка». — «Ну, подавай сюда!»—«А вон на божнице лежат, за Миколой-угодни- ком». — «Мне с богом не полагается говорить, подавай сюда, в руки!» Взяла она, значит, деньги с божницы и подала черту. Взял черт деньги, за пазуху спрятал и только было в сени, — а там уголрозыск бац по рогам! Выволокли его, значит, в избу, стали трясти за рога — голова бычья и отвалилась. Глядят они и глазам не верят...
На этом 'месте, остановившись и набрав воздуху, Максим поглядел на меня с таким видом* точно ждал от меня великого удивления.
421
*— Что же было? — спросил я.
— А был под тою головой ихний рыжий дьякон Семен, — весело продолжал Максим, выдохнув воздух. — Тут, значит, его, как был, в милицию да в город. Ну, там глядят: чего с таковским делать — судом судить али наказаньем наказывать? И порешили этого черта водить по народу на общее посмеянье. Третью неделю так-то его водят, по всем по деревням.
— Кормят-то его чем? — спросил неприметно подошедший под окно Окунек, маленький, рыжий, цветущий веснушками.
— А чем полагается черта кормить? Банными вениками.
— Ух и ловкач стал народ, — продолжал Окунек* заглядывая в окно, — чего только не повыдумывают,
— Да-а, — ответил Максим, переводя глаза с Окунька опять на меня, — народец пошел бойкий, в шапке не удержишь.
И, помолчав, по привычке набрал воздуха и поглядел на свои черные и узловатые руки.
1928 ’
КАМЧАТКА
Бывает по лесу: тихо, тихо — и где-то чуть шелохнет ветер. Сперва осина, потом береза, не успеешь хорошенько послушать — уж говорит лес от края до края и дальше, дальше — быстро бежит шум по высоким лесным макушам.
Так в лесу, так и в людях: слух бежит неуследимо.
Где-то на станции сказал проезжий человек слово: «Быть, братцы, войне!» —и побежало, понеслось во все концы по макушам: «Война! Война!» И на долгие дни затужила, загоревала деревня. В некакой деревне пошел мужик в лес, присел в лесу на пенек, глядь — стоит над ним страшенный косматый человек, вроде как сам лесовой. Бросил мужик топоренок и через пень-колоду прибежал в деревню, как заяц-русак с гону. А через неделю по всей широкой округе разнесло ветром: «Видел, мол, кочановский пастух Прокоп в лесу покойного старого барина: ходит барин, пни считает — проверяет лесок, а глаза как шилья». И совсем недавно прошелестел по макушам слух: в Кукуевской волости
422
поймал мужик на огороде невесть что •—ни человек, ни зверь. Голос бабий, шерсть овечья, глаза свиные. Передавал слух, что посадил мужик «невесть что» в сундук и показывает, кому охота, за самогону бутылку. И видели своими глазами: так точно — голос бабий, шерсть овечья, а глаза свиные...
От извечной ли тоски русской души по путям и далям или от чего другого — уж который раз подымался по деревне тот же слух о чудесной земле Камчатке.
—- Вот, братцы мои, *— говаривал на деревне кузнец Максим, ездивший в город за железом, — вот, братцы мои, видел я на станции человечка, очень человечек верный, говорил он мне, что приехали на станцию люди, скликают народ на Камчатку. Дают на рыло по пятьдесят червёнцев, дорога туды и сюды, а ехать через всю Сибирь, на два года. Ситного — сколько хочешь! А нужны мужики на Камчатку копать золото. Дело простое.
Извечная ли тоска русской души о путях и далях, или просто заела лихая скука (за эту зиму мужики до мозолей отсидели себе зады), только окреп слух, взвихрился, и через неделю по всей волости только и говорили:
— Приехали на станцию люди,4 открыли контору, записывают на Камчатку. На рыло по двести червёнцев, дорога туды и сюды, харч казенный — ешь, сколько влезет! А ехать через Сибирь два года. Дело самое плевое: копать золото. Не зевай, айда, ребята!
Огрлтела, зашевелилась деревня: точно бес вставил мужикам острые шилья. Днем на сходках, ночью с бабами на полатях всё о том и том же: айда на Камчатку! Держались разве старики, да из молодых, кто покрепче, молчали.
Пришел тот день, собрали мужики кошелки, захватили на денек хлеба— харч ведь казенный!—и айда! Заскулили по деревне охолостелые бабы.
Уж как там ходили — неизвестно. Только на третий день был дома мой кум и приятель Васька, а на четвертый по-прежнему вышли мы на охоту раным-рано, и по-прежнему, наводя собак, кричал на весь лес Васька: «Эхэ-хэ! Эхэ-хэ! Эхэ-хэ!» — точно кончался. И когда, подманив на свист глухую тетерю, с удачной охотой остановились мы отдохнуть под старой горелой елью и развели огонь, узнал я от Васьки правду.
423
— Сходили, — говорил Васька, насаживая сало на прутик и весело крутя своим серым глазом (левый глаз ему выбило на войне оскретком разрывной пули), — хлебнули лаптем щей!
— Да что такое?
— Прогулялись, поцеловали подворотню, сук им горячий!
— Ну, говори.
v Не спеша жарит Васька сало, протянув ноги к огню; от мокрых лаптей идет пар. Поворачивает Васька прутик, и сало, шипя, роняет на уголья горящие капли.
—■ Не отсохнет у чертей язык! Скажи, пожалуйста, кто первый пустил?!
— Да ты расскажи толком!
— Чего толком. Приходим, а там ничего, никакой этой конторы. Милиция переполошилась — думала, идет банда. «Чего вы?» — спрашивают. «На Камчатку!» — «Угу!» — говорят.
— Ну?
— «Угу», — говорят... Ходим мы, ищем самую эту контору, у всех выспрашиваем. А на нас как на волков диких смотрят. «Врете, — смекаем, — никак это не возможно, сами небось наточили носы. Дело тайное!» Ходим молчком. Подметнулся какой-то: «Чего, товарищи, ищете?» — «Ищем, говорим, того-сего, хлеба с квасом!»
Не спеша вынимает Васька из сумки хлеб, облипший тетеревиным пухом, обдувает, кладет хлеб на землю. В кармане у него заткнутая грязной тряпицей бутылка, в бутылке — мутная жидкость.
— Погрейтесь! — говорит он, вынув тряпицу и протягивая бутылку с самогоном. — Первый сорт!
Я выпиваю из бутылки — на охоте без того нельзя, — закусываю салом и отдаю бутылку. На нас и паше сало, наклонив голову, смотрит рыжеухий Заливай. В его глазах сказано: «Выпивайте на здоровье, а мне бы корочку хлебца!» Васька отпивает свое и, отломив кусок хлеба, бросает половину в пасть Заливаю. Заливай проглатывает не жуя, и опять в его глазах: «Пейте на здоровье, а мне бы кусочек хлебца!»
— Набралось нас на станции народу, может, с полсотни, — продолжает Васька, прожевывая сало, — ходим, шарим. Под вечер — бац! Окружили нас: «Изволь сдаваться!» Заперли в сарай, ночь проморили, утром к допросу: «Зачем произвели скопление?» Тут мы всё
424
по чистой: «Так и так, говорим, пришли записываться на Камчатку». — «Белены объелись?! Какая Камчатка?» Ну, видят сами, никакой тут банды, всё люди мирные* посмеялись и нас по дворам. «Идите, говорят, не дурите, невежество такое при революции недопустимо!» Так и сходили ночь переночевать.
— Ну что, — улыбаясьг говорю Ваське, — теперь веришь в Камчатку?
— А кто ее знает, — отвечает серьезно Васька, дело простое! Слышно — ни пахать, ни сеять. Счастливый край!
Вас;ькин глаз весело крутится—может, от самогона, может, от приятных представлений. Я смотрю на огонь* на лес, на Заливая, и мне вдруг самому начинает казаться, что все возможно, что где-то есть, существует сказочная счастливая земля Камчатка.
1924
ЦЫГАН
Вот что было.
Раз вышел Васька Артюшонок за ворота, глядь бежит вдоль улицы Князьков Кузьма, нараспашку рот,
— Вали, — кричит, — вали, ребяты, собирайсь конокрада бить!
За Князьковым Евменов Гришка.
— Катись, — кричит, — катись!
За Гришкой сам Чугунок:
— Туды твою!..
Этот хрипит только.
Васька, как был, шубейку на одно плечо — туда. А уж там варится каша. Народ грудом. А из народа слышно: гак да гак! — будто колют дрова.
Узнал у мужиков Васька, какое такое дело.
Было так: ходили мужики в лес считать дрова. Оттуда шли — зирк! — а по лесу между деревьев черный метнулся человек. Чего доброму человеку в лесу? Сейчас мужики в круг, да по лесу, да в обрез — часа через полтора двоих- из-под елового куста выволокли за пятки: оба цыгане, от обоих конский дух.
А тому за неделю у лысого Гаврика двух коней увели со двора. Уж тут всем понятно: никто другой* эти самые конокрады и есть. Подступили к ним: как
425
да где? А те ни мур-мур. Только и сказали друг дружке пару слов на своем языке.
Связали им руки, повели в деревню.
Уж как там вышло, один с дороги —- ать! — да через канаву, да в кусты, да по полю, только стрекочут пятки. У мужиков зады тяжелые — не догнать мужику цыгана в поле!
Сиганули было — держи ветер.
Другого скрутили потуже и на деревню. Привели, поклали поперек избы. «Где кони, туды твою так?» Молчит. «Говори, убьем!» Молчит. «А-а!» Размахнулся один — р-раз! Молчит. Как каменный.
— Посылай за Лексой!
А Лекса — это цыган, на деревне уж двадцать годов как угнездился, — свой. Лекса знает в округе всех конокрадов.
Пришел Лекса, расступился народ. Тот цыган па полу лежит, мордой вниз, на бороде красные пузыри. Подошел Лекса, ногой в бок:
— Гыр, гыр, гыр!
Тот ему:
— Гыр, гыр, гыр!
Лекса ему опять в бок.
— Какой ты, — говорит, — есть цыган, коли выдаешь своего брата. Какой ты есть цыган! Я молодой был, мне шкуру сдирали, пятки жгли, а я молчал. Да я, — говорит, — пришью тебя первый, хоть ты и цыган, мне брат!
Повернулся — вон.
Навалились мужики — и уж чем, кто во что, дотуль били — из ушей руда. А цыган молчит. И только под вечер заговорил.
Толста цыганская шкура, крепка цыганская кость, — а не выдержал к вечеру, зашептал цыган:
— Отпустите душу.
— Говори, где кони?
— Отпустите, скажу.
Уж как это вышло — сказал цыган: стоят копи в лесу, пара, привязаны к дереву, и место рассказал точно. Только в одном уперся: в сообщниках —* кто да откуда — не сказал ни одного слова. Замок.
Кинулись мужики в лес, и точно: на самом том месте стоят кони, поводами к дубу... Обглодана кора на дубу: не ели кони три дня — кожа да кости.
426
Привели мужики коней на деревню. Опять к цыгану:
— С кем был?
Молчит.
— Убьем!
Опять молчит.
— Га-ак!
Заговорил цыган. И так заговорил чудно:
— Пустите, братцы, я вам на гармонье сыграю!
— На гармонье? — У мужиков и рот поперек: виданное ли дело — полдня били человека. — На гармонье!
— Га! — гакнули мужики. — Шутник цыган!
— Чего будем, ребяты?
— Пущай играет!
— Неси гармонь!
Смотались за гармоньей. Принесли.
— Играй, — говорят.
А цыган:
— Самогоночки бы...
— Ах, туды твою... Влей ему!
Поставили четвертную — «гусака»,
— Пей!
Выпил цыган одну, вторую, кровь на морде ладонью протер, гармонь на коленку и по ладам — как серебром. И набежали слушать цыгана со всей деревни бабы. Лезли бабы валом. Играл цыган. Орали по зыбкам в избах голодные ребята. Стояли мужики, распахнувши рты, — заезжай в рот с возом.
Играл цыган, а перед ним росла гора: несли бабы яйца, несли бабы пироги.
Играл цыган час, играл два — до поздней темной ночи. Три дня не отпускали цыгана бабы.
Выросла гора до самого до потолка.
Поднялся цыган, свалил кучу в мешок — здорово живешь! Взвалил на плечи и пошел.
Так и ушел цыган, и не узнал никто, кто был и откуда. Ушел цыган, а помнили долго: эх2 за такую» игру и двух коней позабыть не жаль!
1923
МОРСКИЕ РАССКАЗЫ
МОРСКОЙ ВЕТЕР
Перед выходом в океан брали уголь в бухте лежавшего на море одинокого каменного островка. Дело было спешное, начальство торрпилось сдать фрахт, и грузились мы быстро, с помощью наемных рабочих, разом с четырех барок, прибуксированных к борту. Из всего экипажа на берег съезжал только помощник капитана — отбыть необходимую портовую форму. Городок, построенный рыцарями-крестоносцами, впоследствии служивший пристанищем для морских пиратов, названный по-средневековому пышно и трескуче, лежал над самой бухтой, а вокруг простиралось море — просторное, ослепительно синее, с яркими зайчиками, бегавшими по волнам. Над ним весь день дул с африканского берега упругий теплый ветер, пошевеливавший на кораблях кормовые флаги, а на берегу — перистые сквозные листья финиковых пальм. Городок был белый, точно из сахара, весь в густейшей зелени апельсиновых садов, таинственный, потому что никто из нас не мог побывать в нем.
Уголь грузили полуголые люди с непокрытыми курчавыми головами. Они гуськом, цепко ступая плоскими ступнями, взбирались на пароход по доскам, перекинутым с барок на верхнюю палубу, сбрасывали с худых мокрых спин высокие круглые корзинки, черные от угольной пыли. Пыль, смешанная с потом, лежала на их лицах, на голых плечах, на толстых губах и черных
428
ресницах. Вытянув шеи, опустив темные длинные руки* они тяжко взбирались на палубу и, выпрямившись, быстро сбегали по гибкой, колебавшейся под ногами сходне вниз, в барку, где шестеро таких же вычерненных углем людей большими лопатами набрасывали в корзины тяжелый, смолистый, тускло блестевший на изломах кардиф. Работали они неутомимо, без отдыха, и смолистый поток угля по их спинам непрерывно поднимался вверх, падал в черную пасть угольных ям. Внизу два человека привычным движением взваливали наполненные углем корзины на подставляемые плечи, мокрые от пота, с проступающими под темной кожей мослаками мышц и костей, а наверху другие два опрокидывали корзины в яму, и каждый раз над ямой поднимался клуб сизой, металлически блестевшей пыли. Иногда один из них, поднимаясь по доскам, испускал тонкий продолжительный крик, и тогда все отвечали ему такими же жалобными криками. Работа шла быстро, потому что внизу, отражаясь в воде головой вниз, стоял невысокий, гладкий, празднично выбритый человек в легкой, надвинутой на глаза шляпе-панаме, в просторном летнем костюме и ботинках светло-желтого цвета с широкими каблуками. Невысокий человек, оберегаясь от пыли, лениво стоял на борту и, заложив за спину руки, медленно перекатывал в пухлых пальцах костяшки янтарных четок. Круглые серые, с острыми точками зрачков, глаза его зорко следили за непрерывным потоком угля, взбегавшим на пароход по мокрым человеческим спинам. Изредка, не разжимая зубов, он произносил краткое горловое слово., и тогда вся человеческая очередь двигалась быстрее.
Уголь стали грузить с полудня, когда прозрачное, как всегда над морем, все переполнявшее солнце светом пронизывало город и море, а от людей ложились на палубу короткие тени. С парохода б&ша видна, белая набережная, освещенная солнцем, по ней проходили женщины и мужчины, — женщины в черных шелковых покрывалах, похожих на большие раскрытые крылья. И весь день на пароходе была та суета, которою неизбежно сопровождается всякая торопливая погрузка.
Матросы работали внизу, в пароходных коридорах, где было темно, дул теплый сквозняк, нагретым маслом пахло из машины. За железною дверью камбуза сонно возился с кастрюлями старый китаец-кок, и
429
слышно было, как за перегородкой с грохотом падает уголь.
На задней палубе, у входа в кубрик, свободные от вахты кочегары, облокотись на поручни, глядели вниз, где на тяжелой, медленно вздыхавшей воде колыхалась наполненная фруктами шлюпка. В ней стоял рослый грек и, задрав голову, пошевеливая закрученными черными усами, предлагал свои товары. Другой грек, в шерстяных полосатых чулках, с непокрытой седеющей головой, сидел на веслах. На дне шлюпки лежали свежие апельсины, коробки с сардинами, египетские папиросы и греческий коньяк в толстых бутылках. Кочегары от скуки торговались, пользуясь тем смешанным языком, состоящим из набора английских, итальянских, греческих и арабских слов, на котором обычно переговариваются между собою моряки разных наций. Время от времени они спускали на тонкой бечевке корзинку с серебряной мелочью и взамен получали кучу мелких тугих апельсинов. На палубе остро и свежо пахло апельсинной коркой.
Под вечер, когда маленький широкозадый буксир отводил от парохода опорожненные барки и матросы смывали с палубы черную пыль, к пароходу подошла нарядная моторная лодка. В ней, кроме двух матросов в навернутых на головы белых повязках, сидели пассажиры: молодой румяный человек в пробковом шлеме и стройная девушка, одетая с тою дорогой и тщательной простотой, по которой узнаются богатые люди. Молодой человек первый взошел на решетку спущенного для них трапа, подал спутнице руку. И матросы, протиравшие щетками палубу, видели, как она легко и бойко взбежала по трапу. Бой-китаец, продувной парень, сухой, как рыбья кость, скатываясь вниз за чемоданами, успел подмигнуть вахтенному, стоявшему у трапа, робко поглядывавшему вслед новой гостье.
А вечером, когда вышли в море и на пароходе установилась привычная, налаженная тишина, свойственная большим грузовым пароходам, обычно не берущим пассажиров и неделями остающимся в море, о новых людях знал уже весь кубрик. Как всегда, пароходные новости приходили через буфетную прислугу, и от ки- тайца-боя, носившего мудреное для произношения имя, переименованного на пароходе просто в Ивана, матросы узнали, что пассажир и пассажирка — брат и сестра,
430
очень богатые люди, владельцы хлопковых плантаций в английских колониях, что едут они до Гибралтара. Взяли их на пароход по просьбе пароходного агента, пз уважения к их богатству. Вечером каждый из команды, по делу и без дела, старался пробежать мимо открытой двери приготовленной для пассажиров каюты, откуда уже пахло дорогими духами.
Весь день пассажиры оставались наверху, на спардеке. Между собой они говорили мало, с тем спокойным равнодушием, с каким говорят друг с дружкой близкие люди. Она выходила на мостик и, прислонясь к стойке, смотрела па море, на заходившее солнце, разговаривала с третьим капитанским помощником, молодым черноголовым латышом, игравшим под американца. Смеясь, она показывала острые, хищно выдающиеся вперед зубки. Помощник капитана притворялся старым морским волком, поминутно притрагивался к козырьку, сердито отводил глаза, ловя насмешливый взгляд рулевого, стоявшего над компасом. К концу дня на пароходе не оставалось человека, кто бы невзначай не подошел к трапу взглянуть, как вокруг девичьей головы вьется легчайший светло-зеленый газ. Недаром моряки — чувствительнейший народ на свете, и у каждого моряка под рубахой бьется мечтательное сердце.
Потому-то после ужина, когда дневальный Миша, молодой прыщеватый парень, поставил на выскобленный стол большой медный чайник, сидевший верхом на скамейке с иголкой в руках старший матрос Сусликов сказал вздыхая:
— Эх, он-то за ней ходит. Бережет ярочку, чтобы волк не съел...
И, откинувшись от шитья, почесав ушком иголки жиловатую, темную от загара шею, прибавил:
— Хороша девица!..
Ночыо пассажиры почти не ложились. Прикрывшись пуховыми пледами, они до утра сидели на палубе в раскрытых лонгшезах. Месяц, почти уже полный, тихо плыл над морем. В его свете казался пароход большим, призрачным: мертво желтели на мачтах огни, в небе холодно таяли звезды. Пароход шел серединою широкой, протянувшейся, к месяцу серебряной дороги, и в мерцающем свете месяца четко чеканились силуэт бака, кружево вант. Два раза мимо пассажиров торопко и деловито пробегал., на ют вахтенный.
431
Прошел стороною пассажирский пароход, и долго таинственно светились его огни. С моря тянуло сыростью, туманом, йодом. И уж ^а полночь, когда отошла в сторону и сгасла серебряная дорога, они спустились в каюту.
А утром на другой день на пароходе произошло событие, на целые сутки отсрочившее прибытие пассажиров.
Было так. В тот самый час, когда окончилась ночная вахта и над порозовевшим морем поднималось умытое солнце, на палубе появились два новых человека. Сидели они на крышке трюма, на парусине, еще влажной от ночи. Были они худы, черны, почти обнажены. Их головы, покрытые мелкими, завивавшимися в барашек волосами, были малы и темны. Большие, узловатые, сухие в запястьях руки казались длинными непомерно. Тот, что был выше и старше, обеими руками держался за колено правой ноги, ступня которой с уродливо растопыренными пальцами была залита кровью. Пересиливая боль, он старался улыбнуться, бледно скалил крепкие зубы.
Над ним во весь свой рост стоял кочегар Митя, только сменившийся с вахты, бывший борец, огромный, рыхлый, в грязной сетке поверх облитого потом тела, с черными от угля ноздрями, с маленькими глазками, подведенными угольной пылыо. Он стоял, уперев кулаки в бедра, разминая в пальцах масленую ветошь, и спрашивал хрипло:
— Откуда вы взялись, братишки?
Они смотрели на него снизу вверх влажными, темными, как у ночных птиц, глазами, скалились жалкими улыбками.
— Ф-фу, черти, далеко ли собрались ехать? — грубосочувственно говорил Митя.
Тогда тот, что был моложе и чернее, почти мальчик, показал Мите длинной голой рукой куда-то в зорявшее море.
— Москбв! Москбв! — сказал он горловым птичьим голосом.
— Го-го-го! — загоготал Митя, содрогаясь голым телом. — Далеконько, братишки, ехать вам до Москвы!
К ним спустился со спардека боцман, белесый и крутогрудый, налитый здоровой кровью, ко всему на свете одинаково равнодушный. На черных людей он
432
взглянул мельком, не спуская с лица тугой улыбки, спросил равнодушно:
— Зайцы?
— Черти, — ответил, не оборачиваясь, Митя. — Прятались в угольной яме. Одному ногу перешибло.
И боцман, привыкший ничему не удивляться, еще не проспавшийся, не задерживаясь, прошел в кубрик подымать йа работу матросов.
Через полчаса матросы, позевывая, выходили из кубрика умываться, фыркая в полотенца, останавливались над трюмом. А черные люди улыбались им наивно-лукаво, в их темных глазах было сказано: «Мы никому не хотим зла, мы немного вас обманули, но вы нас поймете и разве станете возвращаться ради нас — таких бедных и жалких?..»
Матросы глядели на них, покачивая головами, посмеиваясь. И опять тот, что был моложе, блеснув вдруг зубами, показал рукой на зорявшее море:
— Москбв! Москбв!
Мимо еще раз прошел боцман. Был он в фартуке, забрызганном краской, в рабочем костюме. Он прошелх деловито оглядывая палубу, и, как всегда в это время, поднялся на мостик, где прохаживался старший помощник капитана — большой, белый, только что ставший на вахту, пахнувший одеколоном. Поднявшись по трапу, держась руками за поручни, он хозяйственно доложил о текущей на пароходе работе: о рассохшихся шлюпках, которые следовало перекрасить, о свинцовом сурике, купленном в Александрии, о перетершемся при погрузке угля тросе,уи под конец сообщил, что на пароходе находятся два посторонних человека — по-видимому, из грузчиков угля, — спрятавшихся в угольной яме.
Что на пароходе были обнаружены «зайцы», разумеется, никого не могло удивить. Экое, подумаешь, дело! Разве можно найти моряка, чтобы не мог рассказать о многих чудаках, предпочитающих угольные ямы грузовиков люкс-кабинам трансатлантических пароходов. Но пароход шел в чужую страну, где законы были незыблемы и жестоки к простым, бедным людям. В те годы в России еще бушевала гражданская война, русские порты были закрыты, и много кораблей, оставшихся в руках белогвардейцев, скиталось по морям и океанам: недостижима была Россия. На пароходе было
~ 433
известно распоряжение правительства чужой неприветливой страны, запретившего капитанам судов, под страхом жестокого штрафа, ввозить людей, могущих прибавить лишние рты и лишние неприятности.
Вот почему через десять минут перед людьми, сидевшими на крышке заднего трюма, стоял сам капитан— невысокий, коренастый, нездорово желтолицый нерусский человек, страдавший, как и многие моряки его возраста, сердцем и печенью, по утрам всегда раздраженный.
Ободренные общим сочувствием, повеселевшие, они глядели на него смело, доверчиво улыбаясь. Перед ними па люке стоял жестяной бак с остатками матросского завтрака, который им вынес дневальный. Они брали из бака своими длинными пальцами и, пошевеливая раковинами больших ушей, не торопясь ели. На капитана они взглянули с тем простодушным лукавым -доброжелательством, с которым глядели на матросов. Облизывая пальцы, сидели они перед ним, говорили глазами: «Вот видишь, все хорошо, мы немножко тебя обманули, но, разумеется, ты не желаешь нам зла».
Капитан стоял в расстегнутом кителе, в туфлях, странно не идущих к порыжелой от ржавчины палубе, смотрел на них с растущей досадой.
— Куда? — спросил он по-английски, хмурясь.
Тогда молодой, проглотив свой кусок и вытерев ладонью толстые губы, взглянул на него весело, дружески встряхнув головой, и опять показал вдаль:
— Москбв! Москбв!
— Черт знает что! — сказал капитан, разглядывая их, и, выругавшись солоно, так, чтобы не раздражаться больше, быстро прошел на мостик, где уже подувал просыпавшийся полуденный ветер, было светло, пустынно и чисто. — Черт знает что! — повторил он, поднявшись по трапу, и, взглянув на рулевого* приказал быстро: — Лево на борт!
Рулевой, стоявший на верхнем штурвале, привычно пошевелился, ответил ему в тон:
— Есть лево на борт!
Было видно, как, чуть накренясь, покатился налево пароход, быстрее и быстрее* оставляя за собой широкий, кипящий пеною круг.
Когда солнце ударило в глаза и тени побежали по палубе* а перед пароходом на волнах нестерпимо
ваиграли солнечные блики, капитан уже спокойно сказал:
— Одерживай.
—- Есть одерживай!
— Так держать.
— Есть так держать!.. — ответил рулевой2 быстро перехватывая рожки штурвала.
К тому времени, когда проснулись пассажиры, пароход шел обратно. Они вышли умытые, освежившиеся, чуть пахнувшие духами, в легких костюмах, с едва приметной синевой под глазами. И опять она, молодо перехватываясь руками, показывая обтянутые чулками икры, быстро взбежала с нижней палубы на спардек, навстречу дневному свежему ветру. На минуту ветер плотно прихлестнул к ногам ее короткую белую юбку. Борясь с ветром, наклонив голову, смеясь, пробежала она, топоча каблучками, мимо матросов, работавших у запасной шлюпки, и в запахе ветра и масляной краски скользнул ее запах — запах молодой женщины и духов. А через минуту пассажиры стояли на мостике перед самим капитаном. И капитан, недавно грубо бранившийся, объясняясь с ними, был. подчеркнуто вежлив той грубоватой вежливостью, которой щеголяют старые моряки, прошедшие муштру от матросского кубрика до салонов океанского парохода. Он говорил по- английски, любезно поблескивая золотом зубов, и, слушая его, пассажиры хмурились недовольно. Он с видом любезного, но непреклонного хозяина объяснил им суровую строгость законов. Тогда брат пассажирки, уступая его упорству, пожал под белым спортивным жакетом плечами и, притронувшись к козырьку шлема, прекратил разговор. И так же, как вчера, весь день провели они на спардеке, и матросы, проходя мимо, видели, как на ее коленях ветер играл листками развернутой книги.
А все это время полуголые темные люди по-прежнему сидели на люке заднего трюма, вытянув ноги. Теперь им прямо в лица светило яркое солнце, ветер обдувал их открытые головы. В свете утреннего солнца еще отчетливее виднелись их нагота и убожество, ветер пошевеливал лохмотьями их одежды. К ним подходили матросы, дружелюбно хлопали по плечу и го** ворили, показывая на восток:
— Назад идем, домой вас!
435
И они, не догадываясь о том, что их везут туда, откуда они убежали, скалили зубы, весело и дружелюбно глядели темными покорными глазами.
— Москбв? — спрашиал кто-нибудь, пробегая.
— Москбв! Москбв! — стремительно отзывались они, кланяясь и прикладывая к груди темные ладони.
Так проходил день. Они сидели на люках, глядели на море, на дальние золотистые облака, на нестерпимо блиставшую, солнечную дорогу, на длинную полосу дыма, относимую ветром, и тот, у которого была перебита нога, тихонько покачивался, изредка закрывая глаза, как это делают птицы. К пяти часам, когда люди, закончив работу, приходили на ужин, они уже освоились настолько, что тот, что был моложе, горловым голосом запевал странную, тоскливую песню.
А под вечер, когда показались берега острова, дымчато-синие, похожие на далекое облако, их опять окружили матросы, показывая на туманную береговую полосу:
— Домой, домой! Понимаешь?
Поняли они, когда пароход подошел совсем близко и на передней мачте пестро затрепетали флаги, вызывавшие портовую власть. Узнали они внезапно по какой-то примете, открывшейся им на берегу. И так был непередаваемо выразителен ужас, отразившийся в их темных глазах, что ни у кого не хватило духу, глядя на них, улыбнуться. Они точно окаменели, сникли, а когда, колыхаясь на волнах, подвалила портовая шлюпка и по шторм-трапу на пароход поднялись трое— в красных фесках, с полицейскими бляхами на синих мундирах, — они были готовы, сами покорно спустились в шлюпку.
Через полчаса пароход, оставив на волнах шлюпку, вдруг сразу уменьшившуюся, шел в море, а в кают- компании, большой и чистой, ветер отдувал сквозившие занавески, солнце, проникнув в иллюминатор, зайчиком бегало по стенам. Пассажиры сиделы за длинным, покрытым льняной скатертью столом. Они успели позабыть впечатление 'утРеннего объяснения, шутили с капитаном. И капитан, как всегда под вечер, чувствовавший себя помолодевшим, любезнее им улыбался, глядел на девушку непроницаемо зоркими черными глазами. В подражание океанскому укладу, обедали очень долго. Чуть-чуть качало, бегал по стенам зайчик,
и каждый раз, на него глядя, чувствовала пассажирка, как легко и приятно кружится голова, хотелось беспредметно смеяться.
После обеда, состоявшего из многих блюд, когда зайчик на стене стал оранжево-желтым, капитан приказал бою принести из каюты ликер. За ликером и кофе, поданным в маленьких чашках, впервые вспомнили пассажиры о неожиданной причине, замедлившей их путешествие. Вспоминая о черных людях, ради которых пароходу пришлось задержаться, румяный брат пассажирки вынул из кармана золотое перо и, набросав телеграмму о невольной задержке, передал ее телеграфисту, молодому американцу, почтительно присутствовавшему за обедом.
Ночью пассажиры, утомленные путешествием, согнувшись, дремали под пледами, и опять над морем тихо плыл месяц. Синим, мертвенным светом вспыхивала открытая дверь рубки, где работал молочно-белый телеграфист, теперь странно похожий на чародея. Под утро они спустились в каюту, еще сохранившую духоту дня. Их разбудили только в полдень, когда справа был виден гористый берег, дымчато-призрачный, с белою полосою прибоя. Маленькие яхты с парусами, похожими на крыло чайки, казалось, стояли недвижно. Было видно, как быстро темнело на горизонте небо и море делалось густым и темным. На ближайшей к пароходу яхте, яростно качавшейся на волнах, быстро спускали парус. Пассажиры — уже одетые — стояли на мостике, в бинокль наблюдали, как идет на пароход ветер, как быстро густеет море. Ветер надвигался из океана, и весь пароход чуть-чуть звенел.
Это продолжалось час: в лица пассажиров летела пена, дышать было трудно, пели ванты, хлестко бились о мачты фалы сигнальных флагов. Наклонив голову, обеими руками держась за шляпу, девушка смеялась ветру, дувшему из океана, открывшегося за берегами пролива.
Было видно, как под пароходом кипит и кружит вода двух сталкивающихся течений, как далеко и грозно ходят в океане волны. От правого берега, выступавшего в море, навстречу пароходу шел катер. Повернувшись быстро, катер подвалил к борту, и стало видно, что в нем стоят две женщины и мужчина. Женщины, смеясь, махали платками, им отвечала пасса¬
437
жирка, держась за стойку и свесясь в море. Матросы, спустившие трап, опять увидели, как она ловко и быстро сбежала вниз. Она три раза махнула платочком стоявшему на мостике капитану и улыбнулась.
А через час пароход входил в океан, темный и синий, и — как это бывает — о пассажирах, о случае с черными людьми больше никто не вспоминал.
1926
МАТРОСЫ
I
Грузясь хлопковым семенем, неделю стояли в Александрии. Ноябрь был тепел и тих, дни проходили сквозные и легкие, в белесом небе высоко и знойно стояло солнце. Это высокое солнце, пятном расплывавшееся в африканском небе, знойным светом пронизывало порт, море и город. В его ослепительном свете мертво белели стены, мертвыми и жестяными казались метельчатые верхушки пальм, мертвым показывался переполненный людьми и движением город. Солнце было жестокое — оно не пекло, как у нас в июле, не пригревало ласково, по-майски — оно стояло высоко и чуждо, заливая город и море сквозным, палящим, проникающим всюду мертвенно-белым светом, и, как бы подчеркивая эту его жестокость и мертвенность, от пальм, от людей и строений пепельно ложились на камень и воду прозрачные, чуть розоватые тени. Город был большой, плоский, каменный, странно мешавший в себе современное с первобытным, давно отжитое с самоновейшим. От порта, где непрестанно грохотали на пароходах лебедки и синел- розовел густой лес пароходных флагов, мачт, труб, вант, где краснели крыши портовых пакгаузов, в город бегал маленький открытый трамвай. Трамвай, трубя, пробегал узкими базарными улицами, наполненными снующей пестрой многоязычной толпой, и мимо бесчисленных лавчонок поднимался в центр города, на обширную площадь, где под полосатыми парусиновыми навесами, расставив колени и поблескивая перстнями на пухлых пальцах, дремали в кофейнях сытые, гладко выбритые дельцы в панамах и малиновых фесках. Европейцы в остроносых ботинках и просвечивающих цветных
438
носках; европеянки в белых платьях (ослепительными пятнами выделявшиеся из толпы); сухие коричневые феллахи в голубых выгоревших, надетых на голое тело капотах; феллашки в черных широких платьях, костлявыми темными пальцами придерживавшие на лицах покрывала; итальянцы, англичане, французы, греки* голландцы, арабы, негры, американцы,, немцы; купцы, рабочие, чистильщики сапог, туристы, разносчики, моряки, погонщики мулов, контрабандисты, рассыльные, продавцы лимонада и папирос живым кипучим потоком наполняли город — ходили, ехали, бежали, терялись, кричали, беседовали, размахивали руками, сидели в ко- фейнях, в конторах, в тавернах, с намыленными подбородками восседали в уличных цирюльнях. И над всем этим, заливая ослепляющим светом, высоко и неподвижно сияло жестокое, знойное, как бы расплавившееся в небе солнце. Иногда, разрезая и расталкивая густую толпу, непрестанно звоня и крича, прижав к обнаженной груди кулаки, мелькая голенями, серединой улицы пробегали лоснившиеся потом черноголовые скороходы, а за ними в открытых машинах следовала богатая арабская свадьба: каштановолицый женйх
с накрахмаленной грудью и белым цветком в петлице и невеста в фате и наколке, букетом белых роз прикрывавшая лицо. Толпа оглядывалась, густела, затихала па минуту и забывала тотчас же, как только исчезало видение, и опять плыл, переливался, шумел по улицам города живой широкий человеческий поток.
За городом, куда тянуло бежать, в конце широких белых и пустынных улиц, застроенных роскошными особняками со спущенными зелеными жалюзи, обсаженных жестколистыми, не дававшими тени растениями, пустынно и чуждо лежали поля, засеянные хлопком и маисом, виднелись глиняные хижины феллахов- крестьян, а в окружавших их грязных, вонючих лужах — остатках древнейшего канала — отражалось белесое, мутное безоблачное небо; высокие, тонкие, в серых кольцах, чуть сгибавшиеся пальмы поднимали свои сухие, легкие метелки с гроздьями запекшихся, прикрытых рогожками плодов. И, как это бывает в городах и землях, давно отживших свое великое прошлоа и подчинившихся новому, пришлому, здесь с особенной отчетливостью противостояли бедность и богатство, нищета и благополучие, сила и слабость. Там, где конча-
т
лись за городом затененные садами и жалюзи тихие виллы и особняки, на берегах заплывшего сизым илом канала, в немногих верстах от огромного порта, в котором всякий день останавливались и разгружались океанские блистающие чистотой и порядком пароходы, — под старыми пальмами скрипели древние коромысла, в первобытных топчанах ходили быки, и одетые в черное женщины с глазами, изъеденными трахомой, с кувшинами на плечах проходили на круглые каменные колодцы. И по тому, что с великой скупостью была использована и обработана каждая пядь земли, было видно, как несказанно дорога людям эта испепеленная солнцем, перетроганная миллионами человеческих рук коричневая сухая земля.
В городе было людно, богато и шумно. Гудели, раздвигая толпу, машины, степенно прохаживались полицейские, в зеркальных магазинах горело золото и сверкал хрусталь, в порту ежедневно грузились и разгружались океанские пароходы, выкидывая толпы людей, и на пристанях было тесно от сложенных в штабеля ящиков, бочек, тюков, жестянок, не вмещавшихся в портовые склады. Ночами над городом в осыпанном звездами черно-черно-синем небе полыхало зарево огней, и над темнеющей пустыней моря зажигался и беззвучно сгасал луч маяка. Город был как освещенный корабль в безбрежном море, и как перехлестнувшая через борт соленая морская волна напоминает пассажирам корабля об окружающем их бушующем море, окружавшая большой город иная, страшная жизнь напоминала о себе ползавшими под ногами толпы, изъеденными трахомой и волчанкой ужасными нищими, вопившими такими страшными голосами, что мороз пробегал по спине, девушкой-арабкой с неприкрытой грудью, растерянно прижимавшейся к раскаленной стене, полуголыми наглыми людьми, появлявшимися тотчас же, стоило остаться на улице одному, — теми людьми, что остановили у самых ворот порта запоздавшего в городе матроса Придворова и, оглушив кастетом, пригрозив ножами, ограбили его догола. А еще больше напоминала о себе эта страшная, окружавшая город жизнь скрытым недобрым огнем, загоравшимся в глазах людей и как бы утверждавшим, что нет и нет благополучия в разлагавшемся, изживавшем себя этом мире...
440
В порту стояли неделю. Днем матросы работали в трюмах, где пыль стояла таким густым туманом, что в трех шагах не было видно человека. Хлопковое семя грузили феллахи; скрываясь в клубах пыли, они широкими лопатами разгребали серые пыльные вороха и с корзинами на плечах взбегали на пароход по сходням, перекликались, смеялись, ссорились, закусывали на ходу бобами, которые варились тут же, на пристани* в высоких глиняных кувшинах. Палубу наполняли полуголые люди — они толклись в коридорах, в проходах, жадно заглядывали в камбуз, где возился с кастрюлями китаец-кок и соблазнительно пахло едою.
У входа в кубрик, подобрав под себя ноги, сидел старый, иссохший, как черная кость, араб-факир. Маленькая серебряно-седая голова его была небрежно обмотана полосатой чалмой. Тонкими старческими пальцами он брал длинные булавки, лежавшие в подоле балахона, и одну за другой глубоко втыкал в свои запавшие щеки, в высунутый язык, в иссохшие мускулы рук и в заросшую седыми колечками волос открытую грудь. Глаза его, с вывороченными нижними веками, с коричневыми белками, пустынно, жалостно и тупо оглядывали толпившихся над ним кочегаров. С торчавшими в теле булавками, он медленно поворачивал на тонкой шее обезображенную, с проткнутым языком и щеками, старческую голову, протягивал ладонью вверх длинную дрожавшую руку. Кочегары клали в его ладонь никелевые монетки и брезгливо отходили. Тотчас к ним подбегал молодой полуголый татуированный человек с курчавой круглой головою и, улыбаясь толстыми губами, таинственно вынимал из продырявленной коробки сонного хамелеона, лениво расправлявшего свои ручки-лапы. Он сажал серое маленькое чудовище на голую руку, и на глазах оно начинало темнеть, принимая коричнево-каштановый цвет руки. Молодого араба сменял юркий слезливый человечек — продавец картинок и игральных карт. До позднего вечера, наступавшего по-африкански быстро и незаметно, в кубрике и на палубе толклись худые, обожженные солнцем оборванцы — продавцы гашиша, египетских папирос, шпанских мушек, перьев страуса, поддельных скарабеев и всяческой дребедени.
Работы на пароходе заканчивались поздно, когда над городом высоко вставало электрическое зарево ог¬
441
ней и город казался большим, таинственным, манящим. Матросы умывались, ужинали, одевались, чтобы идти в город, манивший их огнями, шумом, ожиданием встреч.
Смеясь и разговаривая, они проходили порт, ворота, пустынные складские улицы, в которых гулко раздавались шаги и голоса. В городе матросы и кочегары заходили в таверну, где над непокрытыми столами колыхался табачный дым, гудели многоязычные хмельные голоса. Макросы занимали стол, спрашивали греческую водку дузику, пили, весело чувствуя, как бросается в голову кровь, как приближаются, добреют, колышутся в сизом тумане лица соседей. К ним, разбирая стулья, подсаживались кочегары-французы в синих куртках, в спущенных на глаза кепках, — дружелюбно ш вежливо улыбались и, узнав русских, пили за Россию, стуча о стол донышками стаканов, пожимая матросам руки. Из таверны матросы вываливались возбужденные и хмельные и, как водится, всей гурьбой шли на тартуш.
С большой, освещенной, переполненной толпою улицы они сворачивали в знакомый по прежним посещениям узкий, как щель, проулок, поднимались по выбитым каменным ступеням, попадали в тесный крикливый арабский городок.
Здесь не было ничего похожего на тот залитый светом, с катившимися автомобилями, с витринами и подъездами богатый город, из которого матросы только что вышли. В перепутанных и узких улицах арабского городка было что-то от недосягаемо далеких времен — от времен морских пиратов и невольничьих рынков, когда по этой же земле, прогретой солнцем, в таких же шумных перепутанных улицах и проулках ходили, кричали, ссорились увешанные оружием, черные от загара, исполосованные татуировкой, зажившими шрамами морские разбойники и понуро, опустив лиловы, сидели, дожидаясь своей судьбы, толпы смуглых невольников и невольниц. И то, что была над землей ночь, что ярко горели вверху звезды (такие же крупные звезды горели когда-то и над древним невольничьим рынком), что плакала о чем-то несказанно древнем неведомо откуда исходившая тягучая музыка и гукал барабан, укрепляло и усиливало это чувство далекого страшного прошлого.
Ш
Об этом чувстве давно отжитого матросы не думали, не замечали невыразимой тоскливости музыки. Держась друг дружки, они весело проходили тесными, тускло освещенными электричеством улицами, мимо маленьких домиков, -у порогов которых сидели черные, коричневые, белые женщины, что-то кричавшие хриплыми голосами. Женщины сидели, задрав ноги в чулках, перекликались, курили, жевали серу, перебегали с места на место, смеясь и заглядывая в лица матросов. У порогов их клетушек дымился в жаровнях ладан, и пахучий приторный дым синими слоями плавал над полуосвещенными улицами тартуша. На перекрестках улиц, на низенышх камышовых табуретках восседали обвешанные побрякушками, похожие на ведьм старухи (такие же ведьмы-старухи, должно быть, восседали здесь много веков тому назад, карауля невольниц) и ястребиными глазами следили за женщинами* с порогов своих хижин заманивавшими гостей.
Матросы, не останавливаясь, стараясь не глядеть в лица женщин, проходили из улицы в улицу. Рукастая* с длинной спиной, сухоногая негритянка, звеня браслетами на тонких ногах, подбежала сзади и со звериной цепкостью сорвала с отставшего молодого кочегара фуражку. Визжа и кривляясь, она скрылась в дверях своего домика. Кочегар, улыбаясь и бранясь, неловко пошел за нею. Тотчас за ними захлопнулась оклеенная цветною бумагой дверь. Матросы остановились, закурили, терпеливо ожидая товарища. А через пять минут он вышел, неловко держа в руках измятую фуражку, конфузливо оправляя сбившиеся волосы, не глядя в глаза матросам. Негритянка с длинной папироской в черных пальцах равнодушно провожала его на пороге хижины, а с ее черного, матового, изуродованного татуировкой лица нечеловечески печально глядели большие, влажные темные глаза.
На углу полутемной улицы матросы завернули в кофейню, где было сизо от дыма и на развернутом пестром ковре, побрякивая блестяшками, танцевала высокая женщина. Одетый в белый, свисавший складками балахон, старик слепец сидел на утоптанной земле* широко раскинув черные, высохшие, как кость, ноги, играл на длинной деревянной дудке, уперев раструб ее между черных ног в землю (звуки музыки, точно исходившей из земли* матросы слышали раньше* но не
могли догадаться об их происхождении, так они были глухи и ни на что не похожи), а на белом, мертвом, с заросшими глазами лице старика, как два огромных пузыря, растягивались и надувались щеки. Он набирал в них воздух, и звук был непрерывный, трепещущий, жалобный невыразимо. С ним сидел на земле худой, с голой грудью и сережками в оттянутых ушах араб и, склонив голову, палкой бил в высокий, издававший глухое ухацье барабан. Под их музыку кружилась и останавливалась на ковре женщина, и, на нее глядя, вокруг сидели зрители в капотах и пиджаках, сосали из мундштуков холодный дым наргиле, и когда она остановилась, несколько серебряных монет упало к ее ногам на ковер.
Ночью матросы и кочегары ходили в отдаленный квартал. Там было «по-европейски» чисто (в этот квартал ходили капитаны, помощники и механики с кораблей), в «заведениях» блестели у стен позолоченные трюмо, и женщины, изображая дам, чинно сидели на бархатных диванах. В одном из домов матросам привели русскую — высокую русоволосую женщину, и она, ничуть не обрадовавшись землякам, вяло и неохотно расспрашивала об Одессе, рассказывала об Аргентине, куда собиралась ехать, и матросам было с ней скучно.
По дороге в порт, под утро, у ворот таможни матросов остановил рослый таможенный. Он. грубо и привычно обыскал матросов, отобрал у кочегара Мити початую бутылку и осведомился зло:
— Инглиш?
— Ноу.
— Италиен?
— Ноу.
— Френч?
— Ноу, ноу, — весело отозвался Митя, подмигивая и смеясь. — Ай эм рошиен! Русский! Москбв!
Таможенный вдруг оскалился, подобрел и, отдавая Мите бутылку, заговорил дружелюбно и быстро:
— Москбв! Москбв!
— То-то, — ответил Митя, пряча бутылку и добродушно похлопывая таможенного по плечу. — Свои2 бра- типи^ свои!..
444
II
В море вышли на седьмой день. Как всегда после долгой стоянки, весь тот день убирались, чистились, окатывали и скребли палубу, принайтовывали и укладывали снасти, спускали и крепили стрелы1. Все утро матросы, босые, без шапок, с голиками и щетками ходили за боцманом, таскавшим за собой длинный, с брызгавшими фонтанчиками соленой воды шланг, терли и скребли палубу, смеялись и окатывали водою друг дружку. Боцман, высокий, крутогрудый и краснолицый, в резиновом фартуке и высоких сапогах, пальцем прижимая отверстие шланга, перебрасывал по палубе упругую, тонкую, переливавшуюся радугой струю. Где-то в самой глубине парохода, точно живое сердце, билась и клохтала донка2. Матросы убирались весь день, а к вечеру на пароходе установилась привычная, налаженная и ровная жизнь, которой живут большие грузовые пароходы, неделями остающиеся в море. На палубе было просторно и ослепительно чисто, сиреневая катилась по бескрайнему морю зыбь, глубокое и голубое простиралось море, над морем и пароходом не жарко стояло ноябрьское солнце.
Вечером матросы сидели в кубрике за длинным столом, обедали, шумно вспоминали недавние береговые встречи. Маленький, с желтым лицом, с мешками под оплывшими глазами, матрос Хитрово, обсасывая Кость, «травил» о влюбившейся в него богатой красавице, якобы поившей его дорогими винами и укладывавшей спать под атласное одеяло, об одесских, далекой памяти, барышнях-«чудачках», «швартовавшихся» к нему, когда он был молод, гулял по бульварам, о том, как учил его хохол-шкипер готовить флотский борщ.
— Дело давнишнее, — рассказывал Хитрово, морщась, сплевывая и стараясь над костью. — Утек я в Одессу от отца-матери еще сопливым мальчишкой. Дело известное: полдни бегаю по пароходам, пытаю вакансий; полдни окурки на бульварах собираю... Подвернулся тем временем мне бывалый человечек. «Пой-
1 При найтов ывать^- привязывать, крепить (при выходе в море на кораблях крепятся все предметы и снасти, могущие сдвинуться во время качки); стрела — наклонно подвешенное к доачте бревно, служащее опорой при подъеме грузов лебедкой.
2 Паровой насос.
Ш
дем, говорит, есть важный шкипер, шукает себе на парусник кока...»' Пошли мы до того шкипера к морю. Вижу, сидит себе на мешках босый дядько, ноготь на большом пальце как копыто, и сам как бугай черный, — на стульчаке перед ним кварта... Гляжу на тот его ноготь, слушаю, как у меня пытает. «Чего, говорит* хлопче,. можешь?..» — «Могу все!» — «Ой, ой, не бреши, хлопче... Флотский борщ сварить можешь?» — «М6- жу!» — «Ну, вира! Приноси скорей вещи, да смотри, сучий сын, недаром тебе буду платить в месяц три карбованца!..» Смотался я в город, принес свою робу, сунул под койку. И опять говорит мне тот шкипер: «Как звать-то тебе, хлопче?» — «Михайла». — «Доброе имя! А ну, Михайло, свари мне к обеду флотский борщ...» А я того флотского борща не видывал вовек... Навалил я в котел капусты, накрошил луку, соли насыпал, налил воды — варю, а сам себе думаю: «Нехай, может* чего и выйдет!..» Сварил я борщ, сели за стол обедать. Шкипер откушал, усы протер. «Гарный, говорит, у тебя, хлопец, борщ! А ну, ходи сюды, Михайло!» Подошел я к нему, стою... «А ну, достань из-за борта ведро соленой воды!» Достал я воды, а он то ведро взял и в борщ!.. «Эге, думаю, дело теперь неладно, скорей на ванты — раз, раз! — сижу на клотике, как воробей. А он на меня снизу ревет, в руках пеньковый конец: «Слезай на палубу, чертов сын! Буду учить тебе, как флотский борщ варят». А моей бабушке сто тринадцать лет, она меня раньше учила, как в таких положениях быть...
Рассказывая, Хитрово морщил свое обезьянье личико, чмокал над костью и потешно поднимал брови. Матросы ели, слушали и, посмеиваясь, поддразнивали Хитрово.
— Сколько за бортом? — насмешливо спрашивал с конца чей-нибудь голос.
— Сорок!—ничуть не смущаясь насмешкой, смешно морща свое желтое личико, отзывался Хитрово.
— Мало, еще трави!..1
1 При отдаче якоря с грохотам выходит за борт якорный канат, и время от времени капитан окликает на баке боцмана, следящего за канатом: «Сколько за бортом?» Боцман кратко передает, сколько саженей вышло каната. «Трави еще!»‘—приказывает капитан. Все это вошло в матросский жаргон: «тра^ вить» —врать, брехать. «Сколько за бортом? смеются над вавравшимся Хитрово. Трави еще!»
446
До Гибралтара шли спокойно. Дни были тихие, легкие, днём высоко стояло солнце, а ночью над морем рассыпались звезды, серебряным корабликом плыл ме-^ сяц. Просыпаясь и засыпая, матросы слышали, как бурлит под кормой винт, как гулко хлещется о борта зыбь* работали, отстаивали вахту, сменялись, отдыхали, ели и пили, спорили, играли по вечерам в карты. По утрам в кубрик приходил боцман, поднимал матросов, присаживался бочком на скамейку, шутил, и матросы поднимались неспешно, натягивали робу, мылись, завтракали н выходили на работу. И было весело, приятно отстаивать вахту, поглядывая на компас, перекидывать из руки в руку точеные рожки штурвала, чувствовать, как покорно слушается руки большой пароход...
Уголь брали на Мальте. Опять до полудня было на пароходе суетно и неловко, черной копотью ложилась на палубу угольная пыль, угрюмо и тяжко, словно огромные утюги, дремали на рейде английские броненосцы, сновали, бороздя лазурную воду, быстроходные катера. Городок на берегу лежал белый, залитый солнцем, обдутый морскими ветрами, а с палубы было видно, как по белой набережной проходят женщины в надуваемых ветром шелковых покрывалах, бегают дети.
Вечером опять уходили, и опять пустынно и бескрайно лежало впереди море, пламенно закатывалось солнце, скользили над зыбью летучие рыбы. За Гибралтаром океан дышал тяжко и холодно. Ночью из мрака шли на пароход волны, не ослабевая дул и свистел ветер, хлестал косой холодный дождь. Волны ухали в левый борт, и от их ударов гудел, содрогался пароход, черно и мутно висела над океаном ночь. Случалось, что со всей силой обрушивалась на пароход зыбь и, кипя, не вмещаясь в стоках, журча, покрывая палубу пеной, каталась от борта к борту. Люди перебегали, хватаясь за ванты, чтобы не упасть па мокрой взлетавшей и падавшей палубе. Однажды огромная волна обрушилась на заднюю палубу, заставила тяя^ко задрожать пароход, кипящим рокочущим потоком наполнила коридор, ворвалась в кубрик. Матросы увидели зеленовато-мутную, вливавшуюся в дверь волну. Минуту всем казалось, что пароход идет ко дну, — потом вода спокойно разлилась по палубе кубрика, на ней, колыхаясь, плавали окурку матросские сапоги.
447
В Бискае капитан приказал вахтенным лазить на мачту, чтобы высматривать огни маяков. Это было самое неприятное: в кромешном мраке размахиваться над бушующим, невидным внизу океаном, бороться с отрывающим от мачты ветром...
Лоцмана брали в Дувре. Две ночи и день с непостижимым упорством он безотдышно ходил по мостику, цепко ступая короткими, обутыми в толстые ботинки ногами. На затылке его, за ушами, пятнами багровела кожа. Иногда он останавливался над компасом, смотрел на колебавшуюся под мокрым стеклом картушку1 и, не выпуская изо рта трубки, моргая красными веками, приказывал рулевому, смешно выговаривая русские слова:
— Пьять градусов лево!
Несколько раз в день на мостик поднимался с подносом китаец-бой в белой короткой куртке, с трепавшейся под локтем салфеткой. Короткими, поросшими рыжей шерстью мокрыми пальцами лоцман брал с подноса стаканчик, вынимал изо рта трубку и выпивал залпом.
В Северном море две ночи дул злейший норд. Над кипевшим изжелта-седым морем, задевая верхушки мачт, сизыми клочьями низко проносились штормовые облака. Пароход шел, едва продвигаясь против ветра, и штурвальные шалели, стараясь держать на курсе. Ночами слышнее ухали о борта волны, высоко мотались над пароходом на мачтах огни, и выходивший из-под колпака компаса свет холодно освещал покрытое солеными брызгами лицо рулевого...
На место пришли на рассвете. Тонкой синевеющей полосою лежал берег. Над городом, над устьем реки неподвижно висела сизая мгла; в просветах облаков сквозило холодное чужое небо. Пользуясь приливом, два маленьких буксира втащили пароход в док. Мимо проплывали покрытые асфальтом берега, белели штабеля досок, краснели крыши бесчисленных складов. Равнодушно поглядывая на проходивший пароход, на берегу стояли люди. С парохода были видны их гладкие, отливавшие здоровой синевой лица. Работавший
1 В морском компасе вместо стрелки подвешивается бумажный круг, разделенный на градусы, с прикрепленными к нему намагниченными стерженьками, — это и есть картушка. Моряки слово компас выговаривают с ударением на а: компас.
44S
во второй вахте матрос Бабела, глядя на них, выругался солоно и сердито.
Вечером матросы брились, чистились, вынимали из чемоданов слежавшиеся костюмы, непривычными руками повязывали галстуки. Город за воротами дока опять встречал их ошеломительным шумом, ослепительным блеском магазинных витрин. Возбужденные городским шумом, они шли освещенными улицами, мешаясь с толпою. Женщины шли навстречу, четко отстукивая каблучками. Толпа наполняла улицы, и, отдавшись течению, матросы проходили мимо освещенных витрин, забредали в портовые кабачки, где люди сидели, поставив на полки недопитые стаканы. Матросы пили пиво и виски, разговаривали и смеялись. Город казался таинственным и огромным, — над городскими крышами, над мачтами кораблей плыл звон колоколов, перекликались гудки пароходов.
Ill
Пароход был большой, океанский, после мировой войны застрявший где-то в Америке, надолго оторвавшийся от России. Из Америки шли с грузом через Панаму, океан, Гавайские острова, Японию и дальше — на Индию, Суэц — в Европу. Как всегда в плавании, жизнь на пароходе текла своим положенным порядком. О России, о том, что совершалось в ней тогда, знали мало, но непостижимо близка была Россия каждому матросу. Всякий день открывалась перед глазами величественная бескрайность океанов, и было трудно представить, что где-то на родине по-прежнему топят бабы печи, глубокие высятся сугробы, новая строится жизнь.
И бывало на пароходе не раз — задумается кто-нибудь, глядя на море, неожиданно скажет:
— А у нас теперь зима, снег, вешки по дорогам торчат, волки бродят. Бывало, насажаем девок полные сани. Три гармошки у нас на деревне...
Всех в кубрике было пятнадцать. И, как бывает всегда, каждый занимал свое место, о каждом знали точно: знали, что у красавца Македонского хранится карточка его невесты, дожидающейся его в Одессе, что любит погулять старший матрос Гриша Сусликов. А больше
J5 И. Соколов-Микитов, т. 1 449
всего говорили о женщинах. Говорили о женщинах грубо и солоно, но, случалось, находила минута — вдруг вспомнит кто-нибудь свою сестренку-невесту, и станет в кубрике тихо... И почти у каждого лежал припасенный в Россию подарок.
А больше всех мог бы рассказать любимец кубрика,^ легкая душа, «царь-человек» — Сусликов.
Это был сухощавый, долгоносый, длиннорукий жилистей хлопец с сильными рабочими руками. Койка его, крайняя слева, была опрятно застелена. На крашеной обшивке над койкой висел портрет женщины в платочке и маленькой девочки — жены и ребенка, оставленных им в России. Из России Сусликов уехал давно (он был сибиряк, томчанин). Много лет жизни в чужой стране изменили его внешность: он подсох, гладко брился, носил воротнички, по-русски говорил с легким акцентом, к которому привыкают многие говорящие по-английски. На пароход он поступил в Гонолулу, надеясь пробраться в Россию, куда после четырнадцати лет жизни в чужих краях его потянуло неудержимо, точно так, как в эти годы неодолимо звала Россия простых русских людей, живших вне своей родины.
По основному ремеслу Сусликов был столяр, и столяр отличный. В свободное время матросы любили ходить на бак, где работал у верстака Сусликов, смотрели, как ходко кипит под его руками работа, как вьются под волосатыми пальцами кудрявые.стружки, смотрели на его жилистые руки, на его потное, строгое на работе лицо.
— Горяч ты, Сусликов, на работу!..
Как все настоящие мастера, Сусликов был горд, знал себе цену. В кубрике Сусликова почитали за его талант, за легкий товарищеский характер. Со всеми он был уживчив, общителен, прост, и в свободное время было приятно пойти с ним на берег выпить...
Весь рейс от Константинополя до Александрии был шальной. В Константинополе пили, гуляли, не жалеючи пускали на ветер трудовые кровные денежки. И то ли, что далека, недостижима была в те годы Россия, что каждый в глубине души мучился разлукой, что иной раз легок простой человек поставить на ребро последний грош, — многие из Константинополя выходили с пустыми карманами.
450
До Александрии в кубрике по вечерам резались в карты. В кубрик приходил боцман, приводил своего земляка, усатого мрачного чухонца. В карты играли те, у кого шевелились деньжонки. Боцман играл зло, молчаливо, сухо постукивая по столу. Земляк его сидел сумрачно, не играя. Под привычное покачивание парохода нередко играли до утра, и до самого утра в кубрике было сизо от табачного дыма; дерзко врывался в дверь морской пахучий ветер.
Сусликов, свесив босые ноги, обычно сидел на своей койке, смотрел на игравших. Однажды, не выдержав, он соскочил с койки, побежал, к приятелю-машинисту занимать денег. На час ему повезло: перед ним лежали измятые бумажки, грудкой высилось серебро. Потом, как это часто бывает в игре, безудержно таяли и текли из его рук деньги. *
В Александрии, после проигрыша, Сусликов первые дни не сходил на берег, был мрачен и трезв, сурово отказывал приглашавшим его на берег матросам, был молчалив, работал зло, потом не выдержал, сорвался. На берег Сусликов пошел, прихватив для компании Хитрово. Они пили в каком-то переполненном портовом кабачке. Сусликов хмелел туго, угощал Хитрово, слушая его нескончаемую веселую болтовню. Потом они бродили по улицам, переполненным шумной разноцветной толпою.
В городе их повстречали свои. Тот вечер на пароход вернулись поздно. Было слышно, как пустынно и гулко звучат шаги, как раздаются в опустевших припортовых улицах матросские голоса.
IV
Самый приметный на пароходе человек был бывший борец, гроза припортовых кабаков и притонов — кочегар Митя. Хорошо помнили Митю на одесских спусках, в карантине. А еще крепче запомнили Митю стамбульские греки-пиндосы, менялы и торгаши, которых он не раз мял и трепал в тесных галатских проулках, где всякое утро полиция подбирала неудачливых участников ночных побоищ и драк.
Росту Митя был огромного. На широких и толстых плечах его, раздиравших синюю кочегарскую куртку.
15*
451
конусом поднималась толстая шея. Ходил он упрямо, по-борцовски раскинувши локти, и, на него глядя — па бычью шею, на могучую грудь, —- встречный спешил посторониться. Как многие сильные физически и уверенные в себе люди, на язык он был неожиданно насмешлив и зол; горько приходилось тому, кто попадал на его зубок.
Хитрово он донимал лоцманским званием, его слабостью к воспоминаниям о минувших золотых денечках. Это бывало так: сидит, случалось, Хитрово на юте, курит «травит» матросам о своих похождениях и сердечных победах, и вдруг над трапом с палубы показывается Митина бритая голова. Хитрово замолкает, жмется в тени шлюпки, всячески стараясь, чтобы не увидел его Митя. А Митя непременно его замечает, подходит, садится рядом, обнимая Хитрово своей тяжелой лапищей, и, огромный, в расстегнутой куртке, с черными от угля ноздрями, говорит ласково и притворно:
— Капитан, друг-товарищ, одолжи папироску.
— Да ты же не куришь! — морщась, отодвигаясь, плаксиво говорит Хитрово.
— Папиросочку, — подмигивая и налегая на Хитрово, продолжает приставать Митя.
— Отстань, черт!
А бывало и так: докурив папироску, добрел, замолкал Митя, смотрел на вечернее, дышавшее тихой зыбью море, мирно и неподдельно предлагал примолкнувшему Хитрово:
— А ну, Хитрово, давай петь!
Помолчавши, они делали строгие лица и, братски обнявшись, ладно и чисто запевали таявшую над вечерним морем морскую страдательную:
Казав мини батько:
В море не ходи;
Сиди, сыну, дома,
Хозяйство гляди...
— Хозяйство гляди-и!.. — тенорком выводил Хитрово, и с его голоса ладно подхватывал Митя.
В кубрике добродушно смеялись над Хитрово, с первых же дней добровольно взявшим на себя роль пароходного шута. Знали о нем, что в кои-то веки он учился в мореходке, имел диплом лоцмана, некогда командовал
452
катером, спился и долгое время скитался по одесским ночлежкам и спускам, где ютилась и перебивалась портовая голь и шать.
Как полагается моряку, в жизни своей Хитрово видывал всяческие виды. На море он убежал еще от отца-матери вместе с таким же, как он, приятелем- мальчишкой. Вместе они спрятались в трюме большого океанского парохода. Выползли они на свет только в море, и матросы их накормили, приютили в кубрике на койке. Весь рейс они присматривались к новой жизни, прислушивались к незнакомой речи окружавших их людей, куривших вонючие трубки, жевавших табак. В чужой стране, куда пришел пароход, они сошли на берег. В первые дни они чуть не погибли от голода, потом нашли земляка-кока, и он указал им ночлежку, где жили безработные моряки. Здесь, в ночлежке, их залучил жулик-шипмайстер, поставлявший на корабли дешевые руки, напоил спиртом, и они очутились на паруснике, прямым рейсом идущем в Австралию. Хозяин-шкипер показал им бумагу, в которой под хмельную руку они расписались в получении жалованья за весь рейс вперед. Шкипер так выразительно помотал над головами бедных хлопцев концом просмоленного линя, что им осталось покориться. Шесть месяцев мотались они по океанам, ели гнилую солонину, пили затхлую воду, и только на обратном пути, в Копенгагене, удалось сбежать на берег, где их выручил и отправил на родину русский консул.
В кубрике Хитрово рассказывал смешные истории из морской и одесской жизни, о своей небывалой лю- бовнице-американке, имевшей три миллиона капитала; о том, как, спустивши у Дофиновки шлюпку и пристав к берегу, одесские горе-мореходы спрашивали у мужика, купавшего лошадей: «А скажите нам, дядько, это якого царя земля?»; как задумал один шкипер- хохол жениться на образованной благородной девице, и одесская сваха нашла ему невесту, — будто, гуляя по судну, обмолвилась та «благородная» невеста так: «А туточки у вас что такое?» — «Что ты сказала? — грозно спросил ее шкипер. — Туточки? Боцман, гони ее в шею!..» — закатываясь мелким смешком, заканчивал свой рассказ Хитрово.
, .-— Спой, Хитрово, «Чайника»! — в шутку просили иногда матросы.
453
И,, готовый на сметное, Хитрово делал баранье лицо, набирал воздуху, начинал карантинную нелепую песенку, которую певала в прошлые времена одесская веселая голь. /
V
В порту простояли всю зиму.
За долгую зиму примелькался чужой город, присмотрелись люди, осточертели скучные чужие порядки.
Матросы бродили по кабачкам — «румам», гуляли по улицам, где вечерами двигалась шумная толпа, встречались и знакомились с женщинами. Случалось, кто-нибудь забредал в кино, где было темно и уютно, под музыку целовались влюбленные пары.
За зиму матросам запомнился город: широкие освещенные улицы, торжественно плывущий над крышами звон колоколов, дождливое небо и гремевший крышами ветер, дымившие в небо трубы фабрик, приходившие и уходившие пароходы, вечерние лавочки, где жарилась рыба и у дверей стояли очереди бедных людей. Четко запомнился нищий старик, стоявший на городской площади и предлагавший спички: «Спички! Спички! Купите, добрые джентльмены, спички!..»
Запомнилась забастовка рабочих-докеров, ее первые дни: пикеты забастовщиков, с утра сходившихся у ворот дока, митинги в скверах, каменная молчаливость толпы, колонны безработных, сопровождаемые рослыми полицейскими, в черных мундирах и касках с лакированными ремешками на подбородках.
Однажды в матросский кубрик зашел худой, как жердь, моряк-безработный. Застенчиво улыбаясь, скаля длинные зубы, он поздоровался, стал смотреть на обедавших за длинным столом матросов. В его глазах, в том, как коцфузливо и неловко прятал он свои большие, покрытые веснушками руки, было выражение потерянности и несчастья. Матросы усадили его за стол, а дневальный Миша поставил перед ним бачок с едою. Все так же улыбаясь, он принялся жадно хлебать борщ. Оживившись после еды, он рассказал, что безработных моряков в стране очень много, что ему, ирландцу, особенно трудно получить работу.
На другой день он привел с собою своего товарища, такого же голодного парня. Их опять посадили за стол*
454
и после обеда они взялись помогать дневальному Мише выметать кубрик, убирать стол. Весь месяц они ходили кормиться, и на пароходе к ним привыкли, как к своим.
Чем дольше стоял у чужого туманного берега пароход — живее вспоминались матросам родная Россия, семьи и русские женщины, все чаще бывало, что загля- дится на огонь хлопец, неожиданно молвит:
— Теперь у нас самое время свадьбы играть... Сваты, бывало, с колокольчиками ездят, женишкам невест выбирают... Мужики сидят с бородами... На девит- никах девки вокруг стола песни поют... А у меня на деревне сестренка осталась...
— Невеста?
— Невеста, красавица... Такая плясунья, хороводница, бывало всех девок-баб переворошит, ребят наизнанку повернет. А деревня у нас бедовая, бабы-девки ядреные, ребятишки бойкие...
Лежат хлопцы по койкдм, а у каждого перед глазами: знакомая улица, женщины, поскрипывая морозцем, идут за водою, табунятся у водопоя застоявшиеся лошаденки, валят гурьбою девки, а попереди всех, а покраше всех — белозубая девка-певунья, щеки как ягода. И так близко да живо — не выдержит иной хлопец, повернется на бок и крякнет:
— Хорошо бы, братишки, в Россию...
В феврале всей команде сбавили жалованье, и еще тоскливее, безнадежнее показалось вынужденное береговое сидение. Опять по вечерам резались в карты, И, как после Константинополя, в кубрик приходил боцман, скалил зубы, садился, и на столе появлялись карты. Все злее, азартнее шумели в кочегарском кубрике японцы. До бесчувствия накуривались опиумом бои-китайцы, сонный и желтый ходил кок Чя^ан.
Зимою на пароходе появилась женщина. Ее привез на пароход сам капитан — хоть запрещалось по закону появляться женщинам в доках, но за взятку можно сделать... Она приехала в автомобиле, и матросы видели, как бойко взбежала по трапу, а за нею степенно и важно прошел старик капитан. На пароходе видели ее ежедневно. Днем она сидела в рубке за книжкой, поглядывала на проходивших матросов. От боев, разносивших по пароходу вести, знали матросы, что «ка- питанша» держит под каблучком молодящегося капитана, что уступил, подчинился девчонке старик капи¬
455
тан. И всю зиму следили за ней матросы, всякий ладил пробежать мимо рубки, чтобы ее увидеть. Однажды она сама зашла в -кубрик. Сусликов — носастый, длинный— гладил на столе белье. Матросы торопливо вскочили со взбитых коек, встретили ее приветливо и знакомо. Смеясь, придерживая накинутое пальто, она подошла к Сусликову, взяла утюг и стала гладить. Матросы смотрели на ее руки, на завязанные тяжелым узлом волосы, на улыбавшееся лицо.
В марте прокатился слух о подготовлявшейся белогвардейцами продаже парохода. Через стюарда-китайца знали в кубрике, что в кают-компании шел разговор о продаже: будто покупают пароход англичане и всей команде нужно ждать расчета. Второй месяц матросы и кочегары не получали жалованья, тревожнее ходили слухи, все тошнее, невыносимее казалась стоянка.
И чем ближе подступала весна — живее, тоскливее вспоминалась Россия. Чаще и чаще такие слышались разговоры.
— Эх, ребятки, до чего осточертело тут сидеть, — говорил кто-нибудь, бросая в сердцах недокуренную папироску. — Скинул бы сапоги — и в Россию, пешком... Тут у них весна не весна, смотреть тошно... А что-то у нас делается?.. Народ новую жизнь строит...
Весна пришла с моря. Шла она с ветрами, с бегучими облаками, с редким солнцем, скупо светившим на чужую землю. Матросы ходили в парк смотреть, как наливаются на деревьях почки. И весна брала силу: все тоскливее поглядывали на море матросы, все живее, неотступнее представлялась Россия.
И, должно быть, потому, что всех крепко проняла весна, каждому по-ребячьи хотелось выкинуть веселую штуку. Однажды, работая на спардеке, матросы изловили капитанского кота Джека, и Хитрово, падкий на веселые выдумки, суриком выкрасил ему хвост.
История с Джеком имела последствия. Бог ведает, какими путями капитану стало известно о главном виновнике ребячьей проделки (в кубрике давно косились на толстяка Бабелу), и утром, поднимая матросов, боцман сказал лениво одевавшемуся Хитрово:
— Можешь спать, дружок. Приказано на работу тебя не тревожить. Сегодня получишь расчет...
В тот день Хитрово вернулся с берега пьяный, барабанил о стол кудаком, грозил капитану вырвать горло
45$
с печенками. Вечером стрясся другой скандал: встретивши на берегу боцмана, матрос Медоволкин налетел на него быком и, свалив на землю, жестоко избил. Выручили боцмана проходившие посторонние моряки. С того разу дня не проходило без шума. Порезались ножами кочегары-японцы, избитого до полусмерти доставили с берега Митю, черный и грозный ходил, зубами скрипел Медоволкин.
В те дни разрешилась судьба парохода. У капитана появились новые люди, и один — бритый, с длинным лицом и тонкими пальцами, лежавшими на борту дорогого пальто, — собрав на палубе матросов, объяснил строго, что пароходное общество вынуждено продать корабль, что команда может пока оставаться, за исключением тех, кто позволил себе нарушать дисциплину. Матросы и кочегары стояли угрюмо, кто-то попробовал заикнуться о невыплаченном жалованье, о том, что матросы не желают спускать русский флаг. Тогда бритый высокий человек, еще более побледнев и повысив голос, сказал кратко и вразумительно, что тут-де не Россия и бунтовщики будут переданы полиции.
Все эти дни пил, шумел неведомо где пропадал Хитрово. В последний раз его видели на берегу окруженным ребятишками-школьниками. Стоя в толпе, он размахивал руками, путаясь в словах, рассказывал о своих приключениях.
Высылали матросов с полицией, как заговорщиков и бунтовщиков. В день отъезда вовсю играла весна, в бирюзовом небе горели верхушки мачт. С утра на пароходе работали новые люди. Они приготовили и укрепили подвеску, и один, черный и длинный, спустившись за борт, покачиваясь на подвеске, закрасил русское название парохода. Сделавши это, он закурил трубку и, переменив краску, начал выписывать на борту новое, нерусское имя.
1927-1954
ГОЛУБЫЕ ДНИ
Весь май море было тихое, голубые проходили над морем дни. И, может, потому, что дни были теплы и тихи, что у человека весною свежа о земле память бывало на пароходе не раз — поднимет от работы
457
какой-нибудь из матросов свою светловолосую голову, уставится в голубое и, вспоминая далекую родину, вдруг молвит:
— Веселое, братцы, наше село! Земля у нас сахарная, мужики сытые, бабы круглые. Скотинки худой у нас не найдешь. У нас бык в стаде ходил — рога по аршину. Бывало, мимо идем, он землю роет. Кони у нас — лёт, спина как палуба, шея дугой. Улица в селе светлая, колокольня — шестьдесят сажен, строили выше, да обвалилась. Птица, грачи, поле обсядут как черный снег. У нас петух жил — гребень в ладонь. Речка у нас, Гордота,.-— ры-бы! Бывало, пойдем верши трясть — суму накладешь, рубаху скинешь — накладешь. Да поболе того — назад в речку... От ягоды, бывало, в глазах рябит. Девчата наши по ягоду ходят в лес... Ух, и горячи наши бабы и девки песни играть...
Теперь мне все это как давнишний молодой сон. Но как памятна каждая подробность этого далекого сна! И я вижу себя совсем юным и легким, с головокружительным ощущением молодости в сердце, с ненасытной жаждой странствовать...
- Мы на вахте. Над пароходом и морем ночное лежит небо. Если смотреть на звезды, кажется — чуть колышется небо, и в нем, как неподвижная стрелка, стоит клотик мачты. Из трубы в темно-синее небо черными клубами валит дым, а над ним мигают, как живые глаза, ясные звезды. Тихо так, что слышен шелест воды, бегущей за бортом. Я стою на спардеке, под капитанским мостиком, у трапа. Слышно, как над нашими головами ходит взад и вперед вахтенный штурман. Иногда он тихо стучит по медному поручню.
— Есть! — говорю, подбегая, останавливаюсь в темноте у трапа.
— На лаг! — приказывает штурман.
— Есть на лаг.
Топоча каблуками по пустынной палубе, поспешно бегу на корму, где от уложенных в бухты снастей крепко пахнет смолой и, сгущая синюю темноту ночи* тускло горит под решеткой одинокая лампочка. Когда поднимаюсь на мостик, слева — у невидимого берега — вспыхивает, медленно погасает огонь маяка, на
458
минуту вдруг начинает казаться, что нет парохода, нет ночи и звезд и что все это хороший, молодой, радостный сон.
Мой товарищ по вахте — старый матрос Лоновенко^ видавший на своем веку виды, такой широкий й круглый, что даже в темноте огромными кажутся его обтянутые белой рубахой грудь и живот. Поль-» зуясь случаем, он лежит, развалясь в забытом на спардеке удобном лонгшезе, и, чтобы отогнать сон, рассказывает занятные истории из своей жизни. При звездном свете чуть видйй его лицо, сложенные на животе руки.
— Силы у меня, дружок, — говорит он, справляясь со своим зычным голосом, — силы у меня очень даже много. В Киеве была со мной история, в городском цирке. Были мы там на борьбе. А борцы всё-то народ тощий, ляжками дрыгают. Вот вызывают из публики желающих бороться. Толкают меня товарищи под бок. «Выйди, говорят, Лоновенко, выйди!..» Ну, я взял и вышел. Лезу через скамейки с галерки, а публика во все горло орет. Вылез, стою. А он передо мною сучит голыми ляжками. «Согласны?» — «Согласен, говорю, затем и лез». Оглядел он меня с головы до ног. «Разрешите, говорит, начинать?» ~ «Начинайте!» А галерка, известно, мою держит руку. Очень меня это ободрило. Стали мы в позу, по всему правилу, пожали друг дружке руки, и как ухватил я его поперек — заплакали его косточки!.. Подбегает ихний, в колокольчик звонит: «Не по правилу! Не по правилу!..» — «Как не по правилу?» А наверху галерка ревмя ревет, мою сторону держит...
Он долго рассказывает, о своей силе: о том, как семерых соленых греков один уложил в одесском «Медведе», как, сидя на злом декохте, таскал в порту кули и удивлял грузчиков-персов, как в прежнее время бабы драли из-за него друг дружке волосья. Многое в его рассказах отдает выдумкой, но какое мне до того дело... Ночь идет тихая, чуть колышется пароход, в синем ночном небе широким потоком льется Млечный Путь, а в нем, раскинувши крылья, летит звездный Лебедь. И мертвенно-белый загорается, опять гаснет над морём молчаливый огонь маяка.
—- Расскажи, как вы погибали на «Константине», — рассеянно говорю я.
450
Он долго молчит, точно дремлет. Мне видны его белая рубаха, руки на животе, верх белой фуражки.
— О, це було дило! — отвечает он по-украински, подбирая толстые ноги. — Плавали мы тогда на анатолийской. Поганое было время. Закрутил нас под Бургасом штормюга, сбились с курса. А капитан у нас, Лазарев, что теперь на «Николае», — парень бравый...
Лица его мне не видно, но я очень живо представляю маленькие его глазки, широкие скулы и большой прикрытый усами рот. Я стою рядом, прислонясь к холодной стойке, смотрю в море.
— Сели мы тою ночью на камень у самого берега. Штормюга ревет, жгем фальшфейеры, воду качаем. Всех пассажиров приставили к делу. А пароход на той каменюке — как черт на кресту. Вот, думаем, развернет пробоину, сломится пароход пополам. Вышло нам приказание: завозить .якорь. Стали мы спускать шлюпку — до половины не спустили, разбило ту шлюпку на мелкие дребезги. Другую кой-как сбросили на воду. Посажались в нее люди, стали завозить якорь. Может, сажен пятнадцать отошли от парохода, перевернуло шлюпку, и пошел ко дну якорь. Осталася на пароходе одна последняя шлюпка. Призывает нас капитан: так и так, говорит, братцы, осталась у нас одна шлюпка, надо будет завезти на берег конец, установить связь... А нам очень хорошо слышно, как у берега бьет о камни прибой... Спустили мы благополучно шлюпку, сели в нее гребцы и третий капитанский помощник. Через час слышим — с берега кричат в рупор, запалили огонь: шлюпку разбило о камни, а люди все живы. Призывает меня капитан Лазарев, вот этак перед собою поставил, смотрит в глаза. «Ну, говорит, Лоновенко, последняя на тебя надежда: можешь ли добросить до берега лот? — «Что ж, говорю, попытаюсь, авось и доброшу...» — «Стой, говорит, обожди, надо тебе подкрепиться для такого дела!..» Налил он мне коньяку стакан полный. «На, говорит, выпей...» Выхожу я на палубу: пароход на камне весь так и трясется, мачта пляшет, порвало ванты. Под мачтой как раз и приходилась пробоина. Пассажиры, что безголовые куры, цапаются за руки. «Цыц, говорю, не мешайте!» Сейчас скинул я с себя все до сподних, вылез на бушприт, кончиком притянулся: ну, благослови, думаю, боже! —■ стал
460
крутить лот... Бросил — самую малость до берега не докинул. А позади весь пароход на меня смотрит, капитан с людьми стоит, дожидает: на меня вся надежда. Такая меня разобрала досада: разорвусь, думаю, а докину... Опять я смотал лотлинь, начал над головою крутить, аж гудёт, слышу, — кинул... Зарябило у меня в глазах. Слушаю, сквозь ветер кричат и с берега потянули: есть! Не подкачал Лоновенко!.. А сказать, не соврать: до берега саженей сто было хороших...
И опять, помолчав, почесывая под мышкой и скрипя лонгшезом, не вмещающим его тяжелого тела, положив ногу на ногу, продолжает:
— Тою минутою отдали мы на берег манильский конец, приготовили блок, закрепили на мачту, а к блоку принайтовали сетку, что вирают из трюмов грузы. И — раз, раз! — пассажиров в ту сетку сажать по три человека, сперва баб и детей, потом мужиков. Глядеть было страшно, как их с мачты да по концу на берег вниз... Так-то всех переправили, остался на пароходе один пассажир, грек соленый, видать, из богатых купцов, в шляпе, с чемоданчиком (видно, деньги были), зубами стучит, боится. Подмигнул мне капитан, схватил я того соленого грека поцерек хребта, скрутил руки-ноги, бросил в сетку, и только доставили мы его тем порядком на берег —■ сорвалась с палубы мачта, упала в море. И так на малый от меня вершочек, даже содрало кожу с плеча... Остались мы на палубе одни. Собрал нас капитан всех до кучи. «Ну, говорит, хлопцы, теперь я вам не капитан больше, каждый теперь действуй по своей воле. А спасение, говорит, осталось нам всем одно: кто доплывет до берега, тому счастье. А перед тем следует нам всем перекусить и подкрепиться, потому не ели мы целые сутки, а теперь зову вас всех в мою каюту...» Пошли мы в его каюту, матросы и кочегары, поставил он нам на стол все, что у него было. Выпили мы, закусили, начали друг с дружкой прощаться. Говорит нам капитан просто: «Ну, говорит, братцы, надевайте теперь пояса, и все на бак — недолго теперь продержится на камне пароход...» И только мы на бак вышли, случилось по его слову: разломился пароход на две части, и посыпались мы с бака в море, как груши с подноса... Пал я в море, кой-как вынырнул из воды и чую: держится за мою ногу человек, и так прочно* словно клещами... Хотел я его пристукнуть,
461
а потом про себя подумал: авось до берега дотяну, будем живы. Сколько я тогда с морем бился, теперь не упомню... Почуял я под рукой камни, выкинуло нас на берег, поднялся я на четвереньки, тот человек со мною — наш третий механик. И такой чую по ветру нехороший дух... А это у него от страху...
Я давно знал о подвиге Лоновенки, силе которого были обязаны своим спасением пассажиры и экипаж погибшего на камнях «Константина». Сам он рассказывает мне об этом впервые. И я пытаюсь рассмотреть в темноте его лицо, но мне видны только белые его плечи и широкий живот.
— Большую получил награду?
— Получил черта лысого, — отвечает он, поднимаясь и соленое прибавляя словечко. — Им, дьяволам, только свой карман дорог, нашему брату — дулю под нос...
Белеясь спиною, он спускается вниз по трапу мерить в трюмах воду. Чуть-чуть светает, тают звезды. Виднее на позеленевшем небе проступает позади парохода застывший хвост черного дыма. Я. гляжу в море и забываю о Лоновенке, о его рассказах, о шагах надо мною. Я знаю, что скоро станет над морем солнце, придет новый, счастливый, голубой день. И мне весело и легко думать, что скоро мы увидим землю, новый город, и я пойду бродить по его узким, переполненным людьми, залитым солнцем каменным улицам. Я гляжу на звезды, на море, на розовеющую полосу рассвета, говорю себе вслух то, что говорю теперь, что буду говорить всегда: «Человеку великая дана радость — видеть, знать и любить мир!..»
1926-1954
НОЖИ
Их у меня три. Небольшой, со складной роговой ручкой в виде урезанного полумесяца, простой кузнечной работы, с железным ушком для цепочки. Другой — длинный в ножнах, змеино-изогнутой формы, со стальным лезвием и черенком из окаменелого дерева. Третий —- маленький, складной, с перламутровой ручкой, самый простой.
462
i
Помню — синее небо, синее море, белый на берегу город и высоко над городом лиловые горы. За горо« дом — пальмы, на их сером войлоке дремлют ленивые ящерицы. В канавы и теплые лужи чебурахают с бе* рега тяжелые черепахи. На горячих дорогах поц солнцем, выставив колени, лежат верблюды. Солнцё светит так, что если закрыть на минуту глаза, сквозь закрытые плотно веки как бы видишь пламенную за* весу пожара.
Один поднимаюсь в горы каменной стежкой. Изумрудная ящерпца висит на кусте олеандра, и когда протягиваю руку, она исчезает так быстро, что протираю глаза: была ли? Стежка поднимается круто, я слышу, как стучит в висках кровь. Так иду час, другой, чувствуя под ногами, как накалена земля. На выступе, покрытом сожя^енной травою, останавливаюсь, смотрю вннз. Мне виден весь залив, широкий как блюдо. Синие горы обступили его, и похоже, что город и залив лежат на дне голубой чаши.
Зачем я иду, куда?.. Снизу казалось, что легко дойти до вершины, — теперь я вижу, что на это нужен не один день. Но я все иду выше, ступаю упорно с камня на камень, и моя тень скользит позади. Впереди надо мной горы. Они поднимаются синевеющими зубцами, похожие на груды далеких вечерних облаков. Синяя снизу и седая сверху большая туча висит над ними, бросая на горы лиловую тень.
Потом я останавливаюсь, сажусь на камень. Слышу, как глухо стучит сердце, а дышать так тяжело, что нет силы идти. Я смотрю вниз, на залив, кажущийся еще глубже, вижу в нем продолговатую точку — наш пароход. Понять невозможно, какгкогда выросла и приблизилась синяя туча. Над горами она кажется зловещей, я вижу над собой ее седые, освещенные солнцем космы* Тихо так, что отчетливо слышно, как ползают насекомые в обожженной траве. Лиловая тень накрывает горы, и видно, как над другой частью гор, над городом по-прежнему светит солнце. Душно... И я вспоминаю рассказы о грозах в горах над этим заливом, похожим на дно голубой чаши. Тучи, спустившиеся в чашу, не имеют выхода, дождь льет, пока не выльется весь,
463
молнии бьют, пока не израсходуется накопленное электричество.
Первый удар прогремел так, точно где-то близко -упала скала и обломки посыпались вниз. И еще душнее насунулась и выросла туча. Я сидел на камнях, положив голову на руки: голова, руки и ноги были точно налиты горячим свинцом. Второй удар ухнул так близко и грозно, что я долго не мог опомниться и поднять голову.
Все, что было потом, не похоже ни на что пережитое мною. Я видел наши июльские грозы, когда небо рвется, как кусок ситца в сильных руках... Видывал град, дочиста выхлестывающий стекла и кладущий в лоск хлеба; бури, поднимающие на воздух крыши.
Я лежал на земле, цепляясь за камни руками, захлебываясь в потоках холодной воды, которые проносились через меня, грозя унести. Я видел эти клубившиеся потоки. Молнии хлестали надо мной, они рождались и загорались тут, близко, вокруг меня, и я видел, как по мокрым белым от их света камням прыгают, легко отскакивая, голубые электрические мячи. Если бы я мог тогда думать, мне казалось бы, вероятно, что я умер и что не наврали попы: есть ад, и черти меня опускают в самую преисподнюю...
Не знаю, сколько времени продолжался этот ад. Когда я очнулся, сквозь тучи сияло солнце, я казался себе воскресшим.
Первое, что я увидел: надо мною на мокром камне, опустив руки, стоял полуголый молодой араб и с великим изумлением глядел на меня. По его плечам и груди еще струилась вода, в курчавых волосах блестели круглые прозрачные капли, а солнце, пробившее тучу, каким-то необыкновенным багровым светом освещало его лицо, курчавые волосы. Минуту я думал, что передо мною видение.
Глядя на меня, он улыбнулся и показал зубы, отразившие тот же багровый призрачный свет. Я поднялся, чувствуя, как заструилась с меня вода. Но куда подевалась грозная туча? Остатки ее быстро таяли в небе, солнце забирало силу, араб-пастух стоял надо мною и приветливо улыбался (я только теперь увидел его стадо: мокрых овец, спокойно пасшихся на горе, и удивился, как не заметил их прежде).
464
— Аллалала... — что-то сказал он мне по-своему и приложил тонкую руку к груди.
Глядя на меня с приветливым удивлением, он показал рукою на свой шалаш, возвышавшийся под скалою в нескольких шагах от того места, где я пережил грозу, и по его жесту понял я, что он меня приглашает в гости.
В шалаше было пусто и сухо. В углу лежали лохмотья одежды, стоял высокий глиняный кувшин. Мы вползли в шалаш и сели на землю. Он так же приветливо улыбался, открывал свои белые зубы. Я близко видел татуировку на его коричневой сухой коже, его худые и длинные руки с костлявыми быстрыми пальцами, приплюснутый нос, толстые губы. Сидел он на пятках, раскинув острые колени. Продолжая улыбаться, добыл он из-под тряпья колоду карт и, показывая мне, сказал что-то длинное.
«Я человек хороший, и ты человек хороший, — понял я. — Я рад, что ты пришел ко мне в гости. Сиди и сушись. А чтобы не было тебе скучно, давай играть в карты. Видал ли ты когда-нибудь карты?»
Я ответил ему по-русски, что у нас точно такие же карты и играют наши в дурака, в свои козыри, в короли. Умеет ли он, например, в носики или в щелканцы?..
Он кивнул головой так, точно все понял.
Усевшись и расстелив на земле тряпку, он стал сдавать.
«Боже мой, — думал я, глядя на его быстрые руки, на курчавую голову, на открывавшиеся зубы. — Как могло случиться: я, родившийся под Калугой, вырос* ший в русских лесах, и этот курчавый проворный хлопец, — как могло случиться, что вот мы сидим тут, в лиловых горах, над синейшим морем, и, как лучшие друзья, мирно дуемся в карты?..»
Под вечер вместе спускались мы к белевшему внизу городу. Он шел, легко ступая босыми темными, плоскими в ступнях ногами, и на курчавую его голову ложились лучи солнца. Я вспомнил полуголых, нахальных порт-саидских и яффских арабчат-подростков. Почему же так прост, так первобытно-благороден, так человечески близок мне этот легкий, коричневый до черноты хлопец?
— Аллалала!.. — говорил он мне по-своему, блестя зубами.
465
«Вот видишь, понимал я, — хорошо, что ты не отказался у меня погостить. Теперь мы большие друзья. Я не знаю, кто ты и откуда, и никогда не слыхал о далекой твоей родине, но разве это может нам помешать быть друзьями?»
Под городом от пальм лежали на земле вечерние розоватые тени. Мулла, весь в белом, как в саване, € белой башенки "мечети вопил что-то древнее и тоскливое. В городе было суетно и крикливо, изредка проходили завернутые в черное женщины. У набережной колыхались на вздыхавшей воде белые шлюпки, было бело и чисто, широко открывался синий залив.
Молодой араб проводил меня на самую пристань. Даже в этом маленьком сирийском городке казался он необычным своею дикою первобытностью, убожеством своего наряда, бронзовой своей наготою. Не зная, чем отблагодарить его, я купил и подарил ему пачку сигарет. Он обрадовался порывисто, по-детски и, задумавшись на малую секунду, наклонив голову, сорвал со своей тонкой шеи висевший на шнурке складной простой ножик с роговой ручкой. Это все, что он имел и что мог подарить мне.
Когда я сидел в шлюпке, он стоял на пристани и сверху махал мне рукою. С ним рядом стоял монах- миссионер в черной рясе, в широкой шляпе с завернутыми в трубку полями. Сложив на животе пухлые руки, склонив голову, узкими глазками монах смотрел на сверкавшее море. И каким отвратительным показался мне этот бритый толстый монах!..
— Аллалала!.. — крикнул мне с берега улыбавшийся араб.
«Прощай. Счастливый путь!»—перевел я его слова.
Его подарок я рассмотрел, когда мы, колыхаясь на зыби, плыли к пароходу, уже дававшему второй гудок: это был небольшой кузнечной работы ножик с роговым черенком и железным колечком для шнурка.
II
Нож длинный, изогнутый, с черною ручкой. В' его форме что-то очень злое, древнее. Такие ножи, наверное, приобретали обманутые любовники и наемные
убийцы, он сам должен находить сердце врага. Им очень удобно разрезать книги...
Яркие голубые дни. Синее море. Яркое и горячее солнце, от которого больно глазам. Синце звездные ночи и ночные вахты, когда на рассвете, как это бывает в детстве, неудержимо клонит в сон. Восход и за-» ход солнца, всякий день по-особому прекрасный. Бос* фор, берега, туманы. Штормы и бури. Города и ветре-* чи. Пестрое многолюдство Чарши и ошеломительная Галата. Кубрик, матросы, матросские разговоры —* о далекой и милой России, о женщинах. О женщинах больше всего...
Всякий раз, как приходим в Константинополь, я одеваюсь и ухожу на берег. Я переплываю в легкой лодчонке залив и иду знакомой дорогой. Когда-то, бродя по Чарши, по запутанным, кривым — иногда переполненным шумной толпою, иногда мертво пустынным — проулкам, устланным горячим от солнца, истер-» тым миллионами ног белым камнем, попал я в спускавшуюся в мертвый, выгоревший город длинную улицу, казавшуюся почти безлюдной. Я шел серединою, жуя спелые финики, выплевывая косточки. Направо и налево в открытых настежь лабазах, таких же, как и у нас в России, копошились пыльные люди, лежали и висели порожние мешки, грудились ящики^ люди с большими носами, в пыльных фесках и фартуках длинными иглами шили мешки... Но что это?.« Я стою посреди улицы и стараюсь понять, что остако* вило меня, отчего так забилось вдруг сердце... С фиником во рту, я оглядываюсь по сторонам. Вот белая, облупленная, освещенная солнцем стена. Вот зеленая, открытая широко дверь, на которой висит вместо вывески новый грубый мешок. Вот в тени лабаза, низко нагнувшись, сидит над работою женщина... Я смотрю на нее и опять чувствую, как падает и бьется сердце* Но боже мой, какие синие-синие глаза!.. С замершим сердцем смотрю на нее: на ее рабочее, из мешочного холста, грубое платье, на русые волосы, прикрытые чем-то пыльным, — она сидит, низко склонясь над работой, в ее маленьких пальцах игла и пыльный мешок* И опять — на мгновение — поднимает она глаза... Чтобы опомниться, я иду дальше, проглатываю финик и думаю: «Турчанка? Но разве бывают так синеглазы турчанки?..» Медленно я дохожу до угла красного
467
неуклюжего здания, над которым старый платан протянул узластые сучья-лапы, ч смотрю на паутину под пыльным карнизом, на ласточкино гнездо, из которого вылетают белогрудые птички, и, поворотившись, иду назад. За зеленою дверью вижу седенького старичка в малиновой феске, с подрубленной седой бородою. Он стоит за ее спиной, морщинистыми руками перебирает клубки шпагата. «Отец?» — думаю, на него глядя. Я прохожу еще раз и еще — и опять на мгновение вижу ее глаза: она, она, сказочная, прекрасная, заморская царевна!..
На другой день я долго ищу ту длинную безлюдную улицу. Брожу бесчисленными переулками, десятки раз натыкаюсь на тех же людей и на те же стены, много раз кажется мне, что наконец нашел, но оказывается другое. Наконец попадаю неожиданно с другой стороны, от красного здания с гнилым платаном и ласточкиным гнездом, — узнаю знакомую зеленую дверь. Но как бьется мое сердце!.. Я подхожу взволнованный, не чуя ног, будто решается моя судьба, дотрагиваюсь протянутой рукой до висящего на двери мешка и спрашиваю ненатурально громко:
— Кач пара? 1
Она испуганно вздрагивает, оглядывается, что-то отвечает тихо.
— Кач пара? — повторяю я, срывая мешок, и, не считая, отдаю деньги. С мешком в руках я бегу вверх, почти счастливый...
То лето мы часто навещали Константинополь. И каждый раз, когда утрясалась на пароходе сумятица, я собирался на берег, бежал в Чарши, в знакомую длинную улицу. Я издали присматривался к зеленой двери и, если замечал феску и серебряную бороду, проходил мимо и терпеливо стоял под платаном у красного здания, следя за вылетавшими ласточками, за пауком, лениво ожидавшим добычу. Иногда я ловил муху и бросал ее в паутину. Я дожидался, когда уходил седой турок. Теперь мы были знакомы: она прямо смотрела на меня синими глазами, улыбалась, сама свертывала и передавала мне покупку. К концу лета под койкой у меня накопилось много новых мешков... На вахтах, в море, глядя на звезды, вспоминал я слы¬
1 Сколько стоит?
468
шанный ;когда-то рассказ, как один русский моряк полюбил турецкую женщину, лицо которой ему при* шлось увидеть случайно, полюбил так, что на ней сошлись все пути его. Чтобы жениться, русскому моряку довелось пройти многие сказочные испытания, принять мусульманство. «Но разве так страшно,-^ думал я, — мусульманство?..»
Всякий раз навещал я белую улицу, и все теснее становился наш немой роман, о котором, кажется, не ведал никто. Впрочем, однажды, когда мы молчаливо простились и я с покупкой в руках шел знакомой дорогой, на моем пути, среди улицы, стал высокий и черный, как смола, молодой араб. Он держал на обтершемся ремне лоток с ножами и смотрел на меня весело такими понимающими, насмешливыми глазами, что я почувствовал, как краснею.
Однажды — это было в конце лета, и над корзинами с виноградом уже вились желтобрюхие осы — я подходил к зеленой двери. По-видимому, все оставалось по-прежнему, так же белела освещенная солнцем знакомая стена, так же зеленела открытая широко дверь и над ней висел мешок, а за дверью клонилась над работой маленькая, покрытая пыльной повязкой голова. Я подошел быстро и спросил, как спрашивал всегда:
— Кач пара?
Высокий носастый черноглазый турок предупредительно поднялся мне навстречу. Я никогда не видал его прежде. И по какому-то неуследимому признаку, по тому, что не подняла на этот раз своих синих глаз моя заморская царевна, со всею убежденностью понял я. что этот носастый черноглазый турок — мой враг и соперник.
Минуту я стоял ошеломленный, мне показалось, что стряслось большое несчастье, что у меня отняли такое, что мне дороже всего. Потом я побежал так, как бегают сами от себя очень несчастные и очень сердитые люди... На пути моем, нос к носу, опять стал черный араб. Он смеялся глазами, скалил зубы и настойчиво говорил мне по-русски:
— Купи, рус, купи...
Не знаю почему, я остановился и, точно завороженный, внимательно стал копаться в его товаре. Из маленьких и больших ножей я выбрал этот нож с длин¬
ным, злым лезвием, которым так удобно доставать сердце врага и неудобно разрезать хлеб...
Теперь этот нож у меня на столе. Я привык к нему как к самой необходимой вещи: я разрезаю им книги и бумагу. Но иногда он напоминает мне прошлое: Босфор, Чарши и этот смешной роман с синеокой турчанкой (я и теперь удивляюсь, как сини были ее глаза, — уж не из степей ли России в незапамятные времена вывезена была полевая их синева?). Где она, где длинноносый и черноглазый мой соперник? Да и было ли? Было ли все это: солнце, море, люди — и голубые далекие дни?
Ill
Маленький, перочинный, фабричного производства, со штопором и сломанным лезвием. О нем очень кратко...
Тот год ходили мы в Александрию. Однажды, когда стояли у греческого Афона, у древнего ослепительного Атоса, я переоделся и пошел на спардек сказать старшему помощнику капитана о намерении своем здесь остаться..
Он, грузный, краснолицый, по обыкновению пахнувший коньяком, не удивившийся бы и светопреставлению, ответил спокойно:
— Есть, оставайся, отмаливай грехи...
На берег я съехал с* немногими паломниками и кудлатыми монахами в подрясниках и высоких шапках.
Шесть недель скитался я по Халкидонскому полуострову, по Старому Афону — по монашьему царству, где волосатые здоровые мужики, томимые греховными мыслями, наяву видят бесов.
Одним из многих спутников моих по скитаниям был московский иеродьякон, путешествовавший по «святым местам». Это был огромный, в два обхвата, очень сырой человек, страдавший одышкой. Путешествовал он на монастырском муле (было удивительно видеть, как его грузное тело держат и несут тонкие муловы ноги), на привалах спал, тяжело задыхаясь, и мне все время казалось — вот-вот дьякон крякнет и отправится на тот свет... Но он жил, ездил, ходил и даже не прочь был приложиться к бутылке с ракич-
470
кой, которая всегда находилась при нем на случай холодной росы и простуды.
Однажды — это было после длительного путешествия по греческим, болгарским й русским монасты-* рям, скитам, келиям и каливам — плыли мы на моторной лодке из Фиваиды в Старый Русик 1. Лодка была монастырская, старая, с пыхтевшим мотором, над которым возились два послушника-моториста. Плыли мы после хорошего обеда, которым угостили нас монахи (за обедом был омар длиною в полтора аршина и жареные осьминоги), и дьякон дремал, тяжело всхрапывая, а я поглядывал на вздыхавшее тихое море, на гористый, покрытый лесами берег, на работавших над мотором монахов, на их рыжую и черную бороды. Мы были на милю от берега и на полпути к монастырю, когда стряслось с нами несчастье. Было все очень неожиданно и необыкновенно, и было похоже на чудо, коему и положено совершаться на Святой горе. Глядя на монахов, я вдруг увидел, что ужасом исказились их спокойные до того лица, как вдруг, в пламени незаметно вспыхнувшего беизина, с их лиц чудесно исчезли — точно их сдуло — густые длинные бороды, как незамедлительно оба бросились в море, покинув лодку* Только через минуту разглядел я, что над мотором трепещут едва приметные на солнечном свете прозрач¬
1 Описанный в этом рассказе полуостров Старый Афон находится в Греции, недалеко от Салоник и древнего Олимпа* Гора Старый Афон — по-гречески Атос — с давних пор населялась монахами, построившими на месте развалин античных греческих городов свои каменные мрачные монастыри. На Святую гору женщин совсем не допускали, и, во избежание искушения, монахи не позволяли появляться даже безбородым юношам, видом своим напоминавшим о женской красоте. Предприимчивые пройдохи-монахи жици и кормились подаяниями, по сбору которых по всей России рыскали монастырские агенты-сборщики, хорошо знавшие адреса богомольных людей. Не было угла в царской глухой России, куда не проникали бы афонские сборщики-проныры, не рассылались печатные листовки, начинавшиеся обычно словами: «Келия моя пришла в разрушение...» В казну афонских монастырей стекались миллионы рублей; в больших городах афонские монахи строили гостиницы-подворья, вербовали богомольцев. Монахи, жившие на самом Афоне, делились на монахов монастырских, «общежительных», сиромахов (бездомных) и каливитов (отшелыти* ков), проживавших в отдельных маленьких хижинах — калк- вах. Автору этого рассказа, служившему матросом на пароходе, довелось путешествовать по Афону летом 1914 года, в канун первой мировой войны.
471
ные языки пламени: разгорался бензин. Я разбудил дьякона и заставил его броситься в воду (потом й узнал, что этот человек никогда в жизнц не плавал и даже не купался). Я плохой пловец и с большим трудом добрался до берега. К великому удивлению моему, когда я поднялся, на белой мраморной гальке, брюхом кверху уже лежал прежде меня добравшийся до берега дьякон. Непомерная толщина помогла ему держаться на воде. Если бы не поднимавшееся и судорожно опускавшееся мокрое брюхо, можно было подумать, что дьякон был мертв. Он лежал навзничь, с закатившимися глазами, и с него струйками сбегала морская вода. Я попробовал его разбудить, привести в чувство, но сделать ничего не мог. Так мы лежали на берегу, пока на море горела покинутая лодка. Пришел в себя дьякон не скоро. Сперва он открыл и закрыл один глаз. Потом вздохнул глубже, брюхо его колыхнулось. Потом отхаркался. Потом повернулся.
Через полчаса мы сидели на сухой гальке, наблюдая за лодкой, и он, добыв из кармана бутылку и большой огурец, припасенный на монашеском огороде, говорил, задыхаясь:
— Во имя отца и сына! Чудо, воистийу чудесное избавление!.. Век не плавал и воды страшился, яко адского пламени... Преславен покров твой, заступница светлая... Открой-ка — я огурчик очищу...
Он достал маленький ножик с перламутровой ручкой и, окончательно задохнувшись, передал мне, не в силах ничего делать.
— Яко Христос по водам пешешествовал, — продолжал он, отдуваясь. — Сие воистину в книгу великих чудес запишу... Молебен заступнице святогорской...
Слушая его, я очистил огурец, и мы выпили.
После мы не встречались: я ушел пеший, а он остался ждать лодку. В пути я нащупал ножичек, который по рассеянности положил в карман, и он у меня остался. Бог ведает, как сохранился в моих немногих вещах до нынешних дней этот маленький ножик. Теперь он у меня на столе, и, на него глядя, вспоминаю я иной раз о далеких днях — об Афоне, о многих удивительных встречах и вещах и о чудесном «хождении» дьякона над пучиной морской.
1927-1954
Щ
ЧАРШИ
Нет, никогда-то, никогда не быть мне дельным хозяином, никого я не собираюсь учить, и ночевка у охотничьего костра в весеннюю глухариную ночь мне милее домашней теплой постели. Я счастлив тем, что простые люди меня любят и я люблю людей, что не был я никогда на земле одинок.
Вот почему на этот раз хочется мне рассказать о самом простом: об одном жарком лете, о пароходе, о голубых днях и о большом базаре, где я бродил, молодой и счастливый.
Это было в то лето, когда мы ходили из Зунгулдака с каменным углем, из Евпатории — с ячменем. Раз в две недели мы заходили в Стамбул, раз в месяц —- в Смирну. В Стамбул мы приходили утром, когда разводились мосты Золотого Рога и город тонул в сизом тумане.
Было славно стоять у штурвала на вахте... Солнце, еще не видное на воде, уж золотит на берегу верхушки самых высоких кипарисов. Вода на Босфоре темна и густа. Клочья разорванного тумана, едва касаясь ее, бегут нам навстречу. Тихо подувает в лицо утренний свежий бриз. Тихо текут еще не пробудившиеся туманные берега. Чуждо в утреннем зеленоватом свете горят непотушенные огни бакенов. И пахнет от берегов так, как пахнет на одном Босфоре: внутренностью древнего храма, свежестью цветущих садов.
По мостику ходит взад-вперед капитан; он по-домашнему: в старом расстегнутом кителе, в ночных мягких туфлях. Иногда он останавливается, прислоняясь к широкому поручню, и, не оборачиваясь, говорит:
— Лево помалу!
— Есть лево помалу! — отвечаю я и кладу влево.
— Одерживай! — говорит капитан.
— Есть одерживай! — отвечаю я, напряженно глядя вперед.
И бегут, бегут по бушприту белые домики, купающие в темной воде ступени своих порогов. Мне весело, молодо — потому что кругом утро и так хорошо чувствовать покладную покорность моей руке большого парохода: ибо моряком может стать всякий, но не всякий моряк — хороший рулевой.
47&
— Так держать! — заключительно, отходя, говорит капитан.
— Есть так держать! — весело отзываюсь я, примечая на синем берегу высокий, как свеча, кипарис, и веду на него прямо.
Проходим и пересекаем Босфор, его бегучие темные воды, над которыми, подчеркивая пучинную глубину, все еще скользят клочья сизого ночного тумана. Мне знаком каждый поворот, каждый извив его широкого, отливающего стальной синевой русла, и, как всегда, ощущение радости, свободы и здоровья охватывает меня широко и полно. Проходим усыпанные постройками, заросшие кипарисами и темными платанами берега — слева, над самой водою, бледно белеет древняя башня Лаванда, и мы поворачиваем в Золотой Рог. Над скутарийским палевым берегом раскаленным краем поднимается солнце — восходя, оно переливается, играет золотыми лучами. Чайка, взмывшая над кормой, становится вдруг вся золотою.
Медленно проходим разведенные, потемневшие от ночного тумана мосты. Большие темные пароходы кажутся мертвыми. Проходим порт Валиде, сизую набережную Галаты. Там, где вправо заворачивает Золотой Рог, в редком тумане, в сереющей массе кораблей я узнаю легкий, с откинутыми назад тонкими мачтами, профиль «Ольги».
Город едва просыпается. Он весь еще в голубоватой дымке, тающей под лучами. Звонко, по-утреннему, и так неожиданно, что вздрогнешь, звучит команда:
— Отдать якорь!..
На минуту, точно для того чтобы потом подчеркнуть безмолвную торжественность утра, оглушает грохот и лязг падающего в неподвижную воду якорного каната. В последний раз хрустально тренькает звонок машинного телеграфа.
Приятно, сменившись, пробежать по скользкой, еще не обсохшей от ночи палубе в пахнущий жильем и едою кубрик, где стоит на столе чайник, а маленький бойкий матрос Жук, цедя кипяток, уже подсмеивается над угрюмым Котом, неловко через голову натягивающим на толстое тело забрызганную краской рубаху:
— Ух, котюга... Толста стала, много сметаны ешь..*;
Утро проходит неприметно, и когда завтрак окончен, над заливом и городом высокое стоит солнце, без
474
числа скользят по зыблющейся воде легкие остроносые лодки, доносятся с берега крики разносчиков, продающих рыбу и зелень, по-бабьему тонкий слышится свисток паровоза.
Палубу наполняют шумливые, обожженные солн* цем грузчики. Они привычно снимают с трюмов громы* хающие шины, волокут и складывают на палубе доски, и уж крепко стоит над пароходом тот свойственный каждому порту запах, по которому опытный моряк с завязанными глазами отличит Одессу от Константинополя, Владивосток от Джедды, Ливерпуль от Марселя....
Солнце светит полно и ярко, и по борту парохода, по смоленым краям барок зыблются и бегают быстрые блики. Город живет полной жизнью, и его шум доносится, как шум морского прибоя.
Славно спуститься по веревочному трапу в узкую легкую лодчонку черного лодочника-сандалджи, уютно сидящего на низкой скамейке. Славно ступить на берег, выбитый миллионами ног, и погрузиться в кипучую, пеструю, милую сердцу людскую сумятицу.
На базаре светло и шумно. Красные, как кровь, помидоры, стручковый перец, лиловые баклажаны, розовая морковь, густая пахучая зелень петрушки, полосатые зеленые арбузы, бледные капустные кочаны, укроп, сельдерей, лук — все это высокими грудамп разложено на земле, окроплено водой из фонтанов, пахнет свежестью и весною. Толстые черноглазые греки с по локоть засученными рукавами, со щеками, лоснящимися от солнца и сытости, стоя за горами овощей, перебрасываются быстрыми словами. А дальше, под парусиновыми козырьками, — мясные ряды: темно-синие, с радужным блеском, с узелками белого жира бараньи туши, мертвые бычьи головы с высунутыми языками, красное воловье мясо и нежно-розовая молодая говядина. Ниже к морю — длинный узкий рыбный ряд, в самом конце которого виден клочок воды, отражающий небо и черные носы рыбачьих лодок. Тут всего сильнее пахнет морем: на мокрых, засыпанных рыбьей чешуей прилавках навалена толстоспинная кефаль, серебряная, со стальной синевою скумбрия, шишковатая камбала и огромная морская рыба с костяным носом, похожим на меч. Ближе к морю, где у берега жмутся просмоленные лодки, осы¬
475
панные подсохшею рыбьею чешуей, греки-рыбаки, сидя на низких камышовых табуретках под навесом миниатюрных кофеен, пьют кофе, играют в кости. Можно присоединиться к ним, спросить мастики1 и кофе, который тут же неторопливо сварит на угольях хозяин-грек, позавтракать свежей рыбой, испеченной на угольях, слушать и глядеть...
Весело бродить по базару вместе с пароходным артельщиком Баламутом, веселым и говорливым, жевать теплые от солнца абрикосы, кидать в пыль скользкие косточки, слушать, как смешно и весело торгуется на всех языках Баламут, класть в мешок кочаны, зеленые огурцы и румяные помидоры — и потом, с мешком на плечах, пробираться к лодке на пристань, где сквозь зелено-синюю воду видно, как по бархатистому дну скользят солнечные зайчики-блики.
А еще славнее, расставшись с товарищами, остаться в городе одному, стать на углу круто загибающейся в гору, залитой солнцем узенькой улицы, пошире вздохнуть, улыбнуться себе самому, почувствовать, как сладко и здорово ноют повыше локтей от недавней работы руки, — и пойти наугад, не спрашивая, куда заведут дорога и случай. Так бродить весь день из улицы в улицу, счастливо чувствуя себя заблудившимся...
, Так идти мимо небольших каменных домиков, на порогах которых, вытянувшись в рост, греются на солнце ленивые коты. Улица выстлана камнем, горячим настолько, что нога чувствует жар сквозь подошву. Там, где улица упирается в стену, выложенную камнем, бьет из стены фонтан, проложена узкая, вытертая иодошвами ног каменная лестница. Надо подняться, и тотчас поверх черепитчатых, рассыпанных беспорядочно крыш откроются блестящее, изогнутое ятаганом лезвие Золотого Рога, серые скаты Галаты и Пера, древние кладбища, заросшие синими кипарисами, а на этом берегу — ближе — черная крыша Валиде и Чарши — Великий Базар, своими бесчисленными темноохряными куполками похожий на огромное осиное гнездо. Насмотревшись, идти дальше, под прохладную зеленоватую тень деревьев и деревянных турецких домов с зарешеченными окнами, таких тихих, что весь
1 Анисовая водка.
476
город вдруг начинает казаться вымершим или спящим. Идти дальше и выше, мимо большого вишневого здания, где стоит на часах чернолицый солдат и верхом на белой арабской лошади гарцует смуглый турецкий офицер. В небе купается, вспыхивая на солнце, стайка бело-коричневых голубей, а на земле переливаются, перебегают серо-зеленые тени листвы и золото зайчиков...
Дальше — мертвый каменный город. Он спускается вниз, к иссиня-светлому морю, перевитому белыми струйками течений. Разрущенные землетрясениями, обглоданные тысячелетием стены отжившего города белы и открыты, залиты солнцем.
Там, где мертвая улица выходит на твердую белую, обдутую ветром проезжую дорогу, прямо на горячей земле сидит человек.
Он босой. Его сухие, сизые, обросшие волосом ноги покрыты зажившими шрамами. Острые поднятые колени он держит широко врозь, подобрав под себя пятки. Большие узловатые руки свисают между ними. Он долго и внимательно глядит на меня, и его запекшиеся губы чуть шевелятся. Кто он: нищий, крестьянин, приходивший по делам в большой город, погонщик мулов или бездомный бродяга? Какое мне до этого дело!, Я чувствую лишь одно, что этот обглоданный солнцем и нуждою человек, черный как деготь, говорящий на непонятном мне языке, — мой родной брат.
— Селям! — говорю я, подходя ближе.
— Селям! — отвечает он, прикладывая большую черную руку к блестящему лбу, и прибавляет по- русски: — Здравствуй.
— Здравствуй, — говорю и сажусь рядом на прогретые солнцем камни, выпавшие из стен мертвого города, обхватываю руками колени — но нет, не научиться мне сидеть с таким живописным удобством на собственных пятках...
Мы сидим молча, припоминая слова, и смотрим под солнце. Серо-зеленая, точно щитая бисером ящерица, выбежав из-под камня, вдруг замирает у его ног, таких же черных и сизых, как сама земля. Мне видно, как часто-часто дышит ее светло-синеватое скользкое горло.
Мне хорошо, как бывало хорошо только в дальнем детстве, когда заберешься тишком в высокую, зыбко
477
ходящую рожь. Высоко в небе пел и купался жаворонок, и по высоким коленчатым нежно-зеленым былинкам цепко ползали божьи коровки. От земли пахло сыростью и чем-то волнующим, близким и теплым, хотелось прижаться к родной теплой земле.
— Война —нет карошо! — говорит турок, покачивая черной высокой головой. — Рус — кардаш, турок — кардаш. Инглиш — нет карошо.
Сидим долго. Солнце, стоящее над нами, прозрачно печет. Тени коротки и лиловы. В глазах от яркого света рябит, и если зажмуриться — видится, как в малиновом поле серебряные быстро катятся шарики.
И как бывает со мной всегда, когда я нахожу в простом человеке то, что мне всего дороже, — большое, легкое наполняет меня чувство, и, не желая себя сдерживать, я беру его большую, теплую от солнца руку, пожимаю крепко.
Когда ухожу в город, он долго провожает меня глазами, оставаясь по-прежнему неподвижным, точно темный и древний камень среди камней. Оставшись один, проходя дорогой, по которой вдруг, поднимая сор и пыль, волчком проносится быстрый вихрь, я мысленно говорю себе самые простые слова:
«Хорошо жить. Хорошо быть на земле своим и счастливым...»
И опять я иду в город, так чем-то похожий на огромное древнее кладбище. С ребячьим любопытством заглядываю в узкие зарешеченные окна усыпальниц, где громко воркуют голуби, а в зеленоватой прохладной пахучей полутьме глаз улавливает очертания каменной гробницы, мраморный столб с чалмою. Солнце, проникнув гущу листвы, дымящимися стрелами пронизывает полутьму.
Оторвавшись, иду дальше длинной широкой улицей, по которой, звеня и громыхая, крутя пыль, пробегает трамвайчик. Захожу в маленькую кофейню. Молодой красивый турок, в феске и белом халате, в туфлях, надетых поверх зеленых чулок, приветливо улыбается. Необыкновенно вкусным кажется кофе, поданный в крошечной чашечке.
Чувствуя сладкую усталость, опять выхожу на волю, под горячее солнце.
478
На просторном дворе белой, залитой солнцем мечети пустынно. Устилающий землю камень сер и горяч* Каменные водоемы фонтанов горячи и сухи.
Уставшие глаза отдыхают в прохладной полутьме мечети, выложенной синей холодной майоликой. Улетающие вверх колонны кажутся легкими. Свет проходит сверху, озаряя середину мечети, в тени оставляя высокие стены. Белый голубь с громким хлопаньем проносится над головою...
Вхожу в высокую приоткрытую дверь, неся в руках обувь и осторожно ступая босыми ногами на скользкие чистые циновки, и тотчас глубокая, прохладная тишина отрезает меня от мира.
В мечети пустынно. Упади капля — и ее стук тотчас подхватит, отразит насторожившаяся тишина. Тихо прохожу, держась синей тени. Под большой колонною, лицом к стене, неподвижно спит человек. Колени его подобраны к животу, в них зажата рука. Другая рука — под головой. Трогательно, по-детски лежат его плоские, с сухими выступающими мослаками ступни* Темное тело просвечивает в дырах изношенной куртки.; Мне виден его затылок, часть тонкой шеи.
— Свой! — улыбаюсь я проходя.
И, отойдя, так же как он, я опускаюсь на пахнущую завядшими цветами циновку, кладу в головах пыльные ботинки. Как приятно, чувствуя холодок пола, протянуть ноги, заснуть,, все время слушая, как высоко наверху звенят крылья голубей.
Будит меня журчание, подобное журчанию отдаленного ручья. Поднимаюсь, чувствуя в теле легкий озноб. Привыкшие к полутьме глаза теперь отчетливо видят глубокую голубоватую внутренность древней мечети. Поднимаюсь и обхожу ее еще раз: у одной из колонн, в столбе золотого дыма, неподвижно сидит дервиш-монах. Большая, тяжелая книга лежит на коленях. -
Улица ослепляет светом, оглушает криком осла, несущего высокие корзины, с верхом полные арбузами. Тень, скользящая передо мною, указывает мне путь.
Иду не торопясь, задерживая каждый шаг. Спускаюсь тихими улицами, кладбищенски прикрытыми неподвижной зеленью платанов и шелковиц. Сбегаю по обсохшему руслу ручья вниз, в запутаннейший ла¬
479
биринт тесных улиц, составляющих предместье Чар- щи — Великого Базара.
Я узнаю его по запаху аниса и ладана, по бесчисленным тесным лавчонкам, набитым ремесленным людом. Точильщики по кости и янтарю, кузнецы, катальщики меди, башмачники, гладильщики фесок, столяры, ножовщики, трепальщики пуха, взлетающего под тетивой лука белейшей пеной... Тесные закутки, гроздья разноцветных туфель, кожа, пахучая стружка, чад горнов, ослиный помет на вытертых камнях улиц. Позади большой сиво-черной мечети, под большим серым платаном, сидят писцы бумаг и прошений. Долго стою над одним. У него длинная борода, седые брови, большие очки на горбатом носу. Он обмакивает перо в пузырек, висящий у него на груди, и быстро пишет справа налево, и знаки бегут по бумаге, как черные муравьи. Ремесленный городок сменяют тихие, безлюдные ряды складов и каменных амбаров. Там, где кончаются склады, на небольшой площади над каменным водоемом бьет фонтан, в глухой стене темнеют ворота.
Это один из многих входов Чарши.
Как в подзещ>лье, вхожу под его нависшие своды, и тотчас меня принимает прохладная, пахучая полутьма. Сколько ни бывай здесь — запомнить невозможно всех бесчисленных коридоров, арок и узких проходов, скудно освещенных сквозь верхние окна. И опять я долго брожу по его тесным пахучим переходам. Старые турки с серебряной щетиной на впалых щеках неподвижно сидят в своих похожих на опрокинутые сундуки лавочках и не спеша посасывают из шарообразных мундштуков холодный дым наргиле. Но пустынно, одиноко звучат шаги под сводами коридоров, где, как на колокольне, подувает пахнущий нежилым сквозняк. Когда-то я любил бывать в большой и широкой зале, подпертой колоннами, освещенной тускло. На каменном полу, на прилавках, на широких полках грудами лежало новое и старинное оружие. Можно было целый день копаться в пистолетах, обделанных в золото и перламутр, дамасских кинжалах и саблях, изогнутых лунообразно, в тяжелых принадлежностях древних доспехов... Хозяин-турок в свежевыглаженной феске неподвижно сидел за конторкой. Его пальцы перебирали костяшки перламутровых'четок. И так величествен был его жест, которым он отвечал иностран¬
но
цу, задумавшему торговаться. Теперь здесь запустение, пыль: гулко отдаются шаги, толстый паук спускается с купола, мутно поблескивает запылившаяся сталь забытых на стене доспехов... И только сквозной небольшой ряд, торгующий ароматами, по-прежнему полон и головокружительно пахуч. Тут можно достать все, начиная с осьмушки сухой корицы и кончая смирнским ладаном и ливанским розовым' маслом... Сердце начинает вдруг крепко биться. Здесь от приземистых серых ворот идет вниз узкая улица, на которой мне давно памятен каждый камень. Торопясь и волнуясь, прохожу этой улицей, где у открытых пыльных лавок сидят продавцы мешков, седел и вьючных корзинок.
Быстро прохожу узкой улицей, одна сторона которой в розоватой тени, другая ярко освещена солнцем. Там, где улица поворачивает вниз, за открытой, выкрашенной в зеленую краску дверью мешочной лавки мне видна склоненная женская голова. Старый турок, с седою бородою, с длинной шеей, пересчитывает круглые мотки шпагата. Она сидит за работой, низко склонившись; на ее коленях кусок грубого мешочного холста. Прохожу быстро, едва успев заметить белые руки и прядь светлых волос, выбившуюся над виском. Привычно прохожу до угла красного здания с гнездами ласточек, прилепившимися у карниза. Слепой старый турок, держа в беззубом рту кривой нож, быстро плетет неподалеку от меня из зеленого камыша корзину. И каждая черточка его темного немого лица, движения губ и сухих жилистых рук навсегда остаются в моей памяти. Я стою долго и опять иду вверх, туда, где темнеет открытая дверь.
Старого турка нет. Пользуясь случаем, я подхожу близко и останавливаюсь.
— Кач пара? — говорю быстро, дотрагиваясь до мешка, висящего над открытой половинкой дверей.
На малую минуту вижу синие большие глаза, белое, вспыхнувшее румянцем прекрасное лицо, слышу голос.
— Кач пара? — повторяю, чувствуя, как густо и сильно бросается в лицо кровь.
И — счастливый, улыбаясь чему-то, с мешком в руках—через минуту убегаю вверх по горячим от солнца камням»
16 И. Соколов-Микитов, т. 1 481
В тот день обедаю в крошечной харчевне, где на высоком вертеле, вращаясь, жарится шашлык. Пью густое" терпкое вино. Когда выхожу, золотыми свечами горят минареты ближайшей мечети и над Золотым Рогом небо — в огне.
1926—1954
СНЫ
Что это? Свистят в небе крылья, или это лопнула над моей головой дубовая почка? И откуда этот крепкий ветровой над землею дух? Смеется, играет на позеленевшем небе весеннее солнце. Бегут, звенят по береговым глинистым скатам ручьи... Я сижу на берегу под большим деревом, смотрю на реку, кругами уплывающую в синее. На дубу надо мною поет дрозд. Большая серая птица падает и поднимается над рекою. Высоко над землею, свистя крыльями, пролетают дикие утки, а за рекою в деревне ревет на дворах бык. И вдруг с такою силою охватывает меня неудержимое желание странствовать, что я крепко сжимаю руки, щурюсь и смеюсь, глядя, как подо мною уплывает река...
— Куда?
Нужно ли знать? Спрашивают разве друг у дружки птицы? Конечно, к морю, куда бегут все реки, текут все ручьи.
К морю!
И я вижу себя у вагонного окна. Что-то очень веселое выбивают колеса. Я неотрывно смотрю на черные, точно смазанные маслом, поднятые плугами поля. Легкой паутинкой взлетает и опускается над полями стая грачей. Ласковая старушка — моя вагонная спутница — заглядывает в окно через мое плечо, крестится на дальнюю белую церковь.
Как славно выбежать из вагона на остановке, пол-* ной грудью вдохнуть легкий тополевый воздух, перемахнуть через круглую лужицу, в которой, как в оброненном зеркале, отражается пухлый край белого облака, сорвать под насыпью первый желтый цветок и вскочить в вагон на ходу! Опять сидеть у окна и ожидать неотрывно, когда за полями широкое заблестит море, у большой станции остановится поезд и ласково скажет старушка!
** Помоги-ка мне, милый...
Белый просторный город, синее море, и над городом и морем по голубому глубокому небу тихо плывет горячее солнце. Я с утра в порту, где один к одному стоят пароходы, пропахшие краской, дымом, морскими ветрами. Грохот лебедок, свист и шипение пара, скрип деревянной эстакады, по которой медленно движется поезд, стук отбивающих ржавчину молотков, трепетание флагов, вавилонское смешение наречий и языков— и над всем этим соленое и кроткое дыхание морского ветра. В конце эстакады, у мола, уходящего далеко в море, разгружается большой желтотрубый, только что прибывший из дальнего плавания грузовой пароход. Костлявые длинноносые персы, с выкрашенными в огненный цвет ладонями и ногтями рук, ходко бегают взад-вперед по перекинутым с берега сходням, а на каменном берегу растет высокая гора ящиков и мешков, под ногами хрустит шелуха рассыпанных китайских орешков. Я стою долго, смотрю на пароход, недавно переплывший океан, на лысого кочегара в синей куртке с засученными рукавами, стоящего над трапом с трубкою во рту и спокойно поплевывающего в воду.
Оглядываюсь, вижу невысокого человека в морской, с белым кантом, фуражке, в черных штанах клешем.: Он дружески подмигивает мне припухшим глазом, го- ворит с хрипотцой:
— Смотришь, дружок?
Мы знакомимся, бродим по порту, а через час я уже знаю всю его биографию — бывшего ученика мореходки, ныне сидящего на злом декохте и обивающего пароходные сходни. Он простодушно привирает, хвастает, но мне не много до того дела... Вечером мы сидим в «Гроте», где над бутафорскими скалами плавает сизый дым; раздувая короткие юбки, шустро бегают кельнерши, а над столиками, залитыми пивом, гудят хмельные голоса. Мы пьем пиво, слушаем знаменитого в те времена, прославленного Куприным скрипача Сашку, перебравшегося из некогда славного «Гамбринуса» в модный кабачок «Грот». Потом, пошатываясь, новый приятель ведет меня куда-то на спуск, на антресоли, к своей хозяйке с золотым зубом, сдающей углы морским и сухопутным людям; на долгое время устраиваюсь в
16*
483
большой, полутемной, пропахшей деревянным маслом и сыростью комнате, похожей на чердак.
Помню низенькие, в лазоревых цветочках, ситцевые ширмы, прикрывающие огромную, как гора, со множеством больших и малых подушек постель самой хозяйки — дамы плечистой, твердой в характере, ее золотушного, похожего на общипанного петуха мужа, с утра до вечера раскладывавшего на маленьком, покрытом вязаной скатертью столике пасьянсы, розовую лампаду перед иконой над кроватью и шесть узких кроватей у стен. Нас, жильцов, в комнате пятеро: три безработных моряка и двое береговых. В моей памяти четко стоит высокий худой человек с сеткою красных и лиловых жилок на лице, с обвислыми, как у птицы, дряблыми щечками. Каждое утро он аккуратно брился перед зеркалом, приглаживал гребешком редкие, пересыпанные перхотью волосы, вынимал из-под тоненького тюфяка брюки, сохранявшие модную складку, хрипло откашливаясь, долго возился с запонками и отложным гуттаперчевым воротничком, крылышком обмахивал высокий лоснившийся цилиндр и уходил точно в десять. Куда он уходил, чем занимался, откуда доставал те полтора целковых, что еженедельно с каждого из нас брала хозяйка за угол и кровать, — мы не знали, не спрашивали, да и не полагалось расспрашивать о таком. Только раз видел я его в городе сидящим за мраморным столиком большого кафе, где он, оттопырив мизинец с длинным отточенным ногтем, держа на отлет голову, читал газету. Из пяти жильцов была одна женщина. Ее чистенькая, с белоснежными подушками, пахнувшая духами девичья кровать стояла у задней стены, на лучшем месте. Владелица нарядной кровати была молодая белозубая веселая девушка, взатяжку курившая длинные папиросы, умевшая очень смешно морщить свой маленький носик, не раз выручавшая нас от лихой тоски своим беззаботным, открытым характером. Помню, с каким неуклюжим смирением ходили мы на цыпочках, когда по утрам, свернувшись под одеялом в калачик, она спала на своей кровати. И так же, как худой господин в цилиндре, она уходила почти каждое утро и возвращалась поздно, когда мы засыпали на своих жестких койках, торопко раздеваясь под одеялом. И, притаившись, мы долго прислушивались к шелесту, вздохам и ее дыханию.
484
Случалось, она угощала нас папиросами, наливкой и колбасой. Мы слушали, как она рассыписто и молодо Смеется, смотрели на сборившиеся на ее носу морщинки, смеялись сами и, кажется, были немножко в нее влюблены. И так же, как о господине в цилиндре, никто из нас не знгл толком, чем живет, кто, откуда веселая наша товарка...
Как памятен мне день поступления на «Ольгу»! Вот я медленно поднимаюсь по скрипучему высокому трапу, ступаю на чистую палубу. Тяжелый краснолицый человек сидит за дверью открытой каюты. Мне виден его затылок, въевшийся в красную шею воротник белого кителя, редкие, коротко обстриженные волосы и толстые, прижатые к голове уши. Он взглядывает на меня йельком, не меняя позы, продолжает набивать над столом папиросы. Я смотрю на его локти, на большие руки, берущие из коробки папиросные гильзы, на внутренность каюты: фотографии над покрытой коричневым одеялом койкой, японский веер, стеклянный аквариум с зелеными водорослями и маленькими рыбками.
— Паспорт есть? — коротко спрашивает он, укладывая в портсигар папиросы. И, тяжело повернувшись на складной табуретке, дыша коньяком, смотрит в упор своими опухшими глазками. — Можешь приносить вещи...
С каким неподкупным весельем проводим мы последний тот вечер!..
А через день пароход уходит в море. Как всегда перед отходом, на палубе шумно и толкотно. Играет на берегу оркестр. Чиновники в белых кителях и фуражках с белым верхом важно стоят в толпе. Плотно теснятся на краю серой каменной пристани женщины со смеющимися и заплаканными лицами, машут платками. Ревет третий гудок, от которого вздрагивает, глубоко дрожит железное нутро парохода, а женщины, морщась и смеясь, закрывают уши... Когда отрываюсь от работы, пристань уже далеко, уплывают крыши пакгаузов, белые кителя, блеск труб оркестра, тоненькая полоска толпы, над которой все еще трепещет белая пена платков.
А ночью я на вахте. Над морем, над пароходом глубокое, запорошенное звездами, темно-синее небо. Я стою
485
один на баке, смотрю на небо, на море, на кипящую, горою встающую под носом парохода воду, в которой все время загораются, гаснут голубые холодные искры, и при свете их мне видны веретенообразные гибкие спины дельфинов, играющих у самого пароходного носа. Сменяюсь, когда на востоке чуть зеленеет заря, а над самым морем ярко сияет одинокая звезда. Засыпая, думаю о завтрашнем дне, а будят меня, когда над морем уже встает-подымается большое, горячее солнце...
Было или не было?
Босфор и Константинополь, Смирна и Бейрут, Мер- сина и Триполи, Родос и Александретта, Пирей и Яффа! Мы возим старых, седых евреев, молчаливых турок, ленивых персов, говорливых греков, красивых болгар, огненноглазых итальянцев, каменно-спокойных англичан, стройных и легких арабов, калужских и ярославских, говорящих на а и на о стариков и старушек, круглолицых баб-паломниц, едущих через моря в Иерусалим — к «пупу земному». И помнятся дни, когда на обратном пути из Яффы равнодушный ко всему на свете юнга Ковальчук парусной иглою зашивал в старый. брезент не выдержавших далекого путешествия, обобранных иерусалимскими монахами старух богомолок, как, привязав к длинному свертку колосники, мы сбрасывали их в море, такое синее-синее — синей синьки, как знакомились с молодыми богомолками матросы и как по-крестьянски домашне, соскучившись по работе, они стирали наше белье. Помню вечерние матросские разговоры, голопузых порт-саидских ребят-араб- чонков, фокусников-феллахов в голубых капотах, александрийский тартуш, где у порогов белых клетушек сидели длиннорукие черные женщины с браслетами на щиколотках ног, а в базарных балаганах шустрые черномазые люди электрическими иглами синей и красной краской накалывали на матросских руках буквы и якоря; десятипудовых кайфских морских черепах, пожар на пароходе, клубы черного дыма, широкую спину боцмана, волокущего в трюм мокрый шланг, летающие над палубой вместе с дымом перья из распоротых перин и подушек. Помню поразившую меня своею красотою, как бы летящую над синим морем2 мраморную гору Афон..*
Как сон, помню кирпично-красный, покрытый садами берег, узкую, груженную ярко-желтыми лимонами барку, нахлест прибоя и далекое светло-синее небо..* Я один ухожу за город по каменной стежке, справа и слева огороженной каменным валом. За мною, ломаясь на камнях, катится прозрачная лиловая тень. Под ногами по каменному желобу бежит нагретая солнцем вода. В руках у меня жестяное ведерко и круглая сетка (отпуская на берег, старший помощник капитана Николай Николаевич наказывал наловить для аквариума рыбок). Я иду легко, жмурясь под солнцем, чуть позвякивая порожним ведерком. Там, где, скрытая зарослями, бежит по желтому дну веселая речка, сажусь на горячую землю, разуваюсь. Тяжелые черепахи грузно шлепают в воду. Рыжие бездомные собаки мирно греются на песке у самого берега.
Прохожу мимо, осторожно ступаю в прозрачную воду. Два обожженных солнцем пастушка-араба долго присматриваются ко мне с берега и, осмелившись, также ступают в реку, высоко поднимая ноги, идут по воде. Они с удивлением глядят на мою сетку, на ведро. Бронзовые их груди обнажены. Они подходят близко, заглядывают в ведерко, говорят что-то дтичьими голосами, доверчиво смотрят большими темными глазами.
Мы выходим на горячий берег. Я присаживаюсь на камень, обуваюсь. Похожая на дракона ящерица черными глазами-бусинками смотрит на нас со ствола пальмы.
— Оне метелик! — говорю я, вынимая маленькую никелевую монету, прося изловить ящерицу.
С быстротою молодых ястребов бросаются они к пальме и через минуту приносят живое чудовище, разевающее в их черных руках свою пасть.
— Родин, родин! — по-арабски называют они ящерицу, сажая в ведро.
Я даю им монетку, и, смеясь, вприпрыжку они бегут ловить для меня ящериц. Через полчаса ведерко мое полно: в нем бьются, скрежещут, царапаются серые, черные, зеленые маленькие чудовища. В моих карманах нет больше ни единого метелика. Последних двух ящериц они приносят мне в подарок, и, попрощавшись, я иду дальше, к верхнему городу.
487
Я прохожу садами, маслиновыми рощами, каменными акведуками, по которым, журча, текут прогретые солнцем ручьи, перепрыгиваю с камня на камень.
В городе — сером и плоском — останавливаюсь на мосту над рекою, и тотчас меня окружает пестрая густая толпа. Меня разглядывают, смеются, робко трогают пальцами. И опять я слышу:
— Инглиш? Италией? Френч?
—* Нет, нет, — отвечаю я. — Москбв! Русский.
— Москбв! Москбв! — передается, перекатывается, летит по базару. — Москбв! Москбв!
Чья-то любопытная рука неосторожно открывает крышку моего ведерка. Серые, черные, зеленые чудовища бросаются под ноги отхлынувшей толпы.
— Родин! Родин! — слышу знакомое, запомнившееся мне слово.
Вечером возвращаюсь. На пароход меня перевозят два черноголовых араба. С нахлынувшей волною они сталкивают шлюпку, и нас высоко подхватывает и опускает зыбь. Садится над морем круглое солнце, туманно уходит в золотую даль берег. Качаясь на зыби, мы плывем к стоящему на якоре пароходу. Далеко запрокидывая курчавые головы, арабы враз поднимают длинные весла, и на их темных лицах, на курчавящихся волосах, на мокрых веслах розовато отражается солнце. На пароходе привычно людно и толкотно, короткошеий могучий боцман, перегнувшись через белый поручень, сердито кричит вниз, в барки. Я быстро поднимаюсь по штормтрапу, и меня окружает знакомая, шумная, волнующая жизнь. И пусть ворчит начальство, что я не наловил для него рыбок, и бранится только что проснувшийся подвахтенный Жук, которому в сапог заскочила одна из разбежавшихся по кубрику ящериц... Вечером пароход уходит, а ночью я опять на вахте — горя? над морем и пароходом звезды, тускло желтеют на мачтах огни. Я стою на баке, в самом носу, свесясь в море, и мне до осязаемости начинает казаться, что нет парохода, нет кубрика, нет желтых огней, что я один лечу, а внизу, подо мной, море и надо мной — звезды.
1928-1954
488
НА МРАМОРНОМ БЕРЕГУ
Солнце — отраженное в море и в мраморе, ослепительное, беспощадное солнце.
Я иду узкой мраморной стежкой, проложенной по акведуку. Под моими ногами, прикрытый мраморным плитняком, бьется в каменном русле нагретый ручей*
Впереди, легкий, как хорь, ходко бежцт по горячему камню монашек. Я вижу его выгоревшую на лопатках спину, полы синего подрясника, надетого на голое тело. Он простоволос, его рыжеватые волосы заплетены на затылке в крысиный хвостик, мерно вздрагивающий от ходьбы.
По мраморному белому плитняку шныряют ярко- зеленые, изумрудом шитые ящерицы. Внизу и вверху, справа и слева стоит неумолчный, все пронизающий, сливающийся с жестокой яркостью солнца звон бесчисленных цикад.
Маслиновые рощи сухи и бестенны; заросли цветущих олеандров тяжелы и неподвижны; мертвенно застыли темные кедры. А в балках, густо заросших лавром, каштаном, буком и орешником, у бьющих из камня чистейших и студенейших ключей дышит легким дыханием земля. В глубине, где между замшаве- лыми глыбами пробивается студеный ручей, разрослись дикий виноград, хмель и колючий терновник, и по скользким мокрым голышам бегают бочком быстрые маленькие крабы.
Внизу — синее море и две белые точки в нем, вверху — мраморная гора. Ее белая вершина, подобная огромной зажженной свече, стоит над морем и берегами.
Там, где застыло похожее на заблудившегося барашка облако, чуть видная белеет церковь, служба в которой совершается единожды в год. Когда-то, ослепительный и прекрасный, там высился мраморный бог солнца Аполлон, и солнечное сверкание его при восходе и заходе могли наблюдать из самой блистательной Трои. Толпы людей, одетых в легкие, отдуваемые ветром одежды, сходясь от солнечных берегов лазурного моря, поднимались на вершину, чтобы поклониться мраморному богу и выведать судьбу у оракула. А у подножия горы цвели пять прекрасных языческих городов: Дион, Олифоксос, Фисос, Клеоны и Акрофон.
489
Предание рассказывает, что великий завоеватель Александр, увидя гору, соблазнился мыслию высечь из нее одну огромную статую, которая была бы видна от всех берегов моря. Нашелся, говорят, ваятель- безумец, взявший на себя нечеловеческую, невыполнимую задачу.
В Одессе, на пристани, я видел страшных, оброс-* ших до глаз, почти звероподобных людей — знаменитых в те времена афонских «имябожцев», приверженцев афонского бунтаря Антония Булатовича, — человека с удивительной судьбой и удивительной волей, проделавшего свой жизненный путь от блестящей карьеры кавалергардского офицера до скромного монастырского послушника, сменившего гвардейский мундир на холщовый подрясник афонского монаха-затвор- ника, славу героя великосветских романов и драм — на славу ересиарха, вождя религиозных фанатиков, на долгое время превративших Афон в поле брани.
Я видел в Одессе этих обросших, медведеподобных людей, одетых в синие подрясники и высокие шапки, по распоряжению святейшего синода высылаемых в отдаленные монастыри России. Доставившие их моряки рассказывали, смеясь, как Булатович с примкнувшей к нему афонской голытьбой объявил войну высшей монашеской власти, силою взял под свою власть два афонских монастыря, отобрав имущество и установив новые братские порядки, в Адамовом подобии изгнав старцев-игу- менов за монастырские ворота, как политием из пожарных труб усмиряли распалившихся страстьми иноков прибывшие на военном крейсере русские моряки...
Видел я монахов-афонцев в Константинополе, где были у них подворья в Галате, обочь с головокружительными проулками тартуша... Наблюдал их на пароходе — замкнуто-молчаливых, с опущенными глазами, иногда буйно-веселых, хмельных, досаждавших пассажирам и команде своею настырностью и хмельным любопытством..,,
Помню белую свою комнатку в царском фонда- рикё (гостинице Пантелеймонова монастыря). Окно выходит на залитый солнцем дворик, на мраморную бе¬
490
лую стену, укрытую густым темно-зеленым кустом цветущего олеандра. Под окном, на выжженном солнцем лугу, белеют каменные ступеньки возвышения, с которого едущие в горы взбираются на спины заседланных тонконогих мулов...
Комнатка белая, пахучая, почти без мебели. На маленьком белом столе — графин с вином и тарелка с маслинами и нарезанным ситным. Утром, в полдень, вечером стучится ко мне монах-фондаричный.
Входит он, огромный, широкогрудый, с голубыми, полными жизнью глазами, с копною русых волос. Русая густая борода широким щитом лежит на его груди.
— Как, отец, спалось? — говорит он ласково, бережно, с осторожностью богатырски сильного человека ставя на пол полный графин и глядя на меня сияющими глазами.
«Илья Муромец! — думаю, на него любуясь. — Какими судьбами, какими ветрами занесло его в это мертвое тридевятое царство?..»
Обедаю я иной раз в общей трапезной, где за длинными столами сидят братия и гости и на расписанное во всю стену изображение Страшного суда, на стрелохвостых чертей и огнедышащего змия* сквозь цветные оконные стекла падают синие, багряные и оранжевые пятна, иной раз — в столовой при фондарикё. Тогда перед каждым высокой горкой стоят большие и маленькие тарелки, и счету нет подносимым растительным и рыбным, огненно цаперченпым закускам и блюдам... Мы сидим молча, почтительно слушая старшего за столом, белолицего монаха — ученого библиотекаря, рассказывающего газетные новости о событиях на родине- и в Европе. С обеда возвращаюсь длинными темными коридорами, 'по которым гуляет пахучий сквозняк, и, заплутавшись, долго отыскиваю свою дверь. Белобородый, весь трясущийся, с прозрачным желтым лицом и какими-то уж очень ясными и детскими глазами старец останавливает меня и спрашивает тихо:
— Как, отец, ваше святое имечко?..
И, узнавши, долго поучает меня правилам сохранения здоровья: что пуще всего здесь нужно беречься сквозняков и вечернего холода, несущего лихорадку, не умываться и не пить воды, протекающей с гор по мраморным акведукам, ибо мрамор и солнце насыщают
491
воду ядами, от коих можно потерять навсегда зрение. Шепелявя и старчески задыхаясь, он с детской улыбкой рассказывает, как вредит мрамор монахам, выстаивающим долгие службы, что на всем Афоне нет человека без тяжкого ревматизма. Когда наконец нахожу дверь и вхожу в свою комнату, ошеломительный, неуемный треск цикад под окном в кусте олеандра оглушает меня. Я надеваю шляпу и выхожу на волю, прохожу вымощенный мрамором двор, мимо церкви, из открытого притвора которой несет холодком, ладаном и запахом горящего воска, прохожу врата, где низко-низко, касаясь рукою земли, кланяется мне привратник-послушник, и спускаюсь к морю. Но, боже мой, сколько синевы, сколько света, сколько блистающего на солнце ослепительно белого мрамора!.. Мрамор валяется под ногами, из него сложены стены зданий, мраморная лестница широкими покатыми ступенями спускается к морю, к белой мраморной пристани; белая, мраморная от основания до самой вершины, гора стоит-летит высоко над морем, и на вершине ее, где некогда высилась величайшая статуя Аполлона, бога солнца, служившая морякам путеводной вехой, и теперь чуть белеет храм Воздвиженья, — застыло белое, похожее на клок ваты, продолговатое облако...
Однажды во время всенощного бдения перед большим праздником, когда нас будили, чтобы выстаивать службу в темной, тускло освещаемой огнями восковых свечей, с едва обозначавшимися по стенам тенями монахов, казавшейся пустынной церкви, — во время большого каждения чья-то рука тихо коснулась в темноте моего плеча. Я оглянулся и в полумраке узнал бороду и широкие плечи фондарйчного. Он улыбался мне и кивал пальцем, приглашая идти. Я встал со своего места и пошел за ним. Мы шли длинными темными коридорами, спускаясь и поднимаясь. В своей маленькой комнате, заставленной шкафами и полками, он запалил свечу и посадил меня к столу. Я смотрел на его спину, на его плечи, на большие, накрывавшие на стол руки.
— Чай, от непривычки устал? — говорил он, улыбаясь, открывая крепчайшие зубы и ставя на стол графин с вином и бутылку с ракичкой.
Он сел, налил вина. Я смотрел на его лицо, на плечи и не понимал: сплю или не сплю? Сном казалась мне та долгая ночь, унисонное пение монахов, туск¬
492
лые огни свеч, тесная комната и этот могучий, с сияющими глазами, сидящий со мною человек.
— Да ты пей, пей, кушай, — говорил он, не наливая себе, — вам, мирским, не грешно. Кушай, благословись...
Я стал есть и пить. Он сидел против меня, смотрел на меня, улыбался, тень от рубинового стаканчика зажженной лампадки ложилась на его бороду.
«Илья Муромец!» — опять подумалось мне.
— Так-то, отец, — говорил он, разглаживая бороду и смеясь. *— Видишь наше убогое монашье житье. Живем милостью заступницы... Искушение... — добавил он обычное афонское словечко.
И всю ночь до солнца, пока за стеною шло бдение и подземно гудели голоса, рассказывал он мне певучим высоким голосом, разглаживая бороду и как бы купаясь в избытке здоровья и силы, о родине — Рязанской губернии, об Оке, о черноземе, о том, как служил в солдатах, в лейб-гвардии Преображенском полку, как за рост и красоту выбирали его во дворец нести караулы в дни царских балов, как стоял он с ружьем и красною грудью и с высоты своих богатырских плеч разглядывал княжон и всяких знатных дам и министров. И с особенным удовольствием рассказывал он о царских ужинах, о богатстве и пышности убранства, о том, как по окончании ужина, когда в зале оставались только лакеи в красных чулках, он и товарищ его, стоявший с ним в паре, подмигнув глазом друг дружке, урвавши минуту, хватали со стола и прятали под мундиры царские лакомства. Как по окончании службы, не откладывая и не возвращаясь в деревню, отправился он сюда, на Афон, в монахи...
Удивительным сном казалось мне и первое путешествие по горе. Солнце, неоглядное и синее море, стук сердца, пылающий жар камня, оглушительный, вездесущий, сливающийся с солнечным светом стон цикад, тяжкая духота ночей.. Листья олеандров по краям дороги тяжелы и недвижны, точно восковые. Недвижны сизые кедры, синие кипарисы, развесистые платаны и зеленые смоковницы, шелковицы, орех, пальмы, каштан, лавр; на диких лесных грушах, сливах и яблонях густо висят плоды — тронь рукою, и
493
сверху валится на голову тяжелый дождь... Неуемная, гнетущая, напряженная сила сокрыта в этой всеобщей мреющей недвижимости; сила эта плодородия вытянула из потрескавшейся от солнца земли толстые, ползущие по скалам и стенам узластые виноградные лозы, ею же налиты тяжелые гроздья просвечивающих ягод.
Мы не спеша бродим от монастыря к монастырю, из скита в скит, из келии в келию: от русских к грекам, от греков к болгарам, от болгар к сербам. Иногда мы ночуем в монастырях, на широкид и твердых, покрытых коврами нарах, иногда — по-апостольи, на воле, под густыми деревьями, на теплых от дневного зноя камнях, и тогда над нами тучею виснут москиты. В монастырях нас заедают злейшие блохи.
Спутник мой, монах Боголеп, жилистый, сухой, сиромах — нищий, бродяга, с цыганской растрепанной бородою, с маленькими медвежьими глазками, глядящими так, точно им нестерпимо больно от излишнего света. С ним сошлись мы в пути у источника; дико, недружелюбно взглянул он на меня, на мирскую мою одежду, на пробковый шлем, но — воистину на мир и соединение человекам сотворен дар сей: бутылка греческой водки ракички, хранившаяся в моей котомке, сделала нас скорыми и верными друзьями.
Сидя на камне, поблескивая дикими глазками и почесывая когтем в бороде, жуя, посвящал он меня в чудеса и сокрытые тайны святой Афонской горы. От него я узнал о скрывающихся в горах отшельниках, сокрушающих плоть постом и молитвою, об афонских старцах столетних, коих и до последнего часа не оставляет искушающий блудный бес, о многих видениях и чудесах, посещающих гору...
Цель нашего похода — вершина мраморной горы и та малодоступная ее сторона, где в хижинах, прикрепленных к отвесной скале, обитают над морем отшель- ники-каливиты. Мы не торопясь бредем пробитыми в мраморе стежками, останавливаемся на отдых у бьющих из скал студенейших и чистейших ключей, собираем под опавшими листьями осыпавшиеся с деревьев плоды, заходим в столицу старого Афона Карею — городок маленький, единственный в мире, где от построения его не ступала нога женщины... Мертвыми кажутся охряные улицы этого городка; поводя сонными черными глазами, ошалело бродят по его площади
494
стражники-македонцы с целым арсеналом оружия за широкими поясами... Иногда такой вооруженный человек встречается нам в пути: он идет, лениво ступая своими закорюченными башмаками, потряхивая юбочкой, небрежно неся на плече тяжелый карабин. На нас он глядит ошалело пустыми своими глазами; замолкает и робко жмется ко мне мой спутник. Шепотом рассказывает, как две недели назад один из этих вооруженных от пят до зубов людей, проходя мимо, остановился над работавшим монашком, неведомо для чего снял ружье и, прицелившись, положил монашка на месте, всадив пулю в самое сердце, а после спокойно пошел дальше... Выслушав страшный рассказ, я оборачиваюсь и гляжу вслед страшному человеку, вспоминаю блуждающий взгляд его черных глаз.
1928—1965
САД ЧЕРНОМОРА
Белый шумный город. Синее сверкающее море. Над городом —* лиловые горы. Над морем, городом и горами — солнце.
Солнце затопляет город, море и горы; оно непохоже на июльское наше солнце, висящее знойным шаром, оно невидимое, вездесущее. Солнечным светом и теплотою пронизаны камни, тяжкая листва кустарников и деревьев, человеческие лица. Земля тверда и красна.
Как всегда, один поднимаюсь широкой каменной улицей в город. Направо и налево — лавки-клетушки, увешанные многоцветным товаром. Многоголовая, многоликая, шумная, окружает и несет меня толпа. Она течет, перекатывается, шумит, затихает, омывает улицы, площади. Песочно-бурый верблюд, поколыхивая облезлыми горбами, кораблем плывет над толпою^ Обожженный солнцем сириец с открытою грудью ведет его, ступая босыми ногами по горячему камню. Ошеломляющий крик ослов сливается с возгласами водоносов и продавцов льда, с лязгом тарелочек и звоном заводных колокольчиков, со стуком ножей в харчевнях.., Невыразимо мила мне эта густая толпа, где никому ни до кого нет дела и где человек, как никогда, вместе со всеми..*
Я иду не спеша, незаметно вбирая в себя каждую подробность пути. Останавливаюсь на площадях и перекрестках улиц, переполненных людьми, верблюдами, ревущими ослами и мулами, нагруженными корзинами с виноградом; над журчащими фонтанами, у которых, раздвинув колени, сидят обожженные солнцем люди, подставляя пригоршни под хрустальные струйки воды. На площадях — скользящая тень шелковиц, паЛьм, платанов; под навесами в кофейнях, заставленных мраморными столиками, сидят недвижные люди в малиновых фесках; темноглазый стройный слуга-араб, ступая мягкими туфлями, разносит голубые узкогорлые кувшины наргиле, украшенные кистями и медными бляшками. Тут же гладильня фесок с длинноносым хозяином-греком и медными цилиндрами-болванами, расставленными на полках; прямо под солнцем курчавоголовый цирюльник в распахнутом балахоне с размаху накладывает мыльную пену на подбородок кофейно-черного великана, покорно задравшего голову с приплюснутым носом, с серебряной сережкою в черном обгрызенном ухе. И удивительным чудовищем, раздвигая, распарывая толпу, движется улицей, покачиваясь, гудя, открытый автомобиль с шофером в высокой феске.
Я иду дальше и выше, как всегда увлеченный, очарованный, забыв о дороге и времени. Куда иду, как? Я не спрашиваю у встречающихся мне длинноруких, длинношеих, одетых в коричневые балахоны людей. Наугад я иду узкими извивными улицами, останавливаюсь у лавчонок-клетушек, где, сидя на голой земле, засыпанной стружками, цепко придерживая большим пальцем ноги резец, старик араб точит из пальмового дерева трубочные мундштуки, темноглазые женщины тетивой лука взбивают пух, взлетающий над их руками легчайшей пеной, одноглазый человек сверлит янтарь, и на маленький столик сыплются мелкие, как пыль, опилки... Незаметно выхожу за город, прохожу горбатый каменный мост, под которым бьется, шумит на мокрых камнях мутный поток. Прохожу мимо белых, увитых цветущей геранью, укрытых маслянистою зеленью плоскокрыших домов,— из открытых зарешеченных темнеющих дверей и окон веет таинственной жизнью; женщины, закутанные с головы до ног в черное, встречаясь со мной,
496
спешат спустить на лица черное фередже... Иду, ступая по твердой, звенящей, раскаленной солнцем земле. Здесь, в немногих десятках верст, земля библейских преданий. И мне смутно вспоминается далекая родина — Россия, луга, покос, сверкающие в лугах косы, туман над рекою, стрижи, свист иволги в зеленой березовой роще... Солнце светит так, что больно глазам. Все недвижимо: камни и небо, синева моря и синева гор, жесткая, тяжелая листва садов и придорожных деревьев. Стон цикад странно сливается с этой застылой, знойной, полуденной тишиной. Чем дальше иду, глуше, тяжелее шумит в ушах кровь, чувствую, как бьется за ухом жилка, а самый воздух кажется густым и тяжелым. С тяжко бьющимся сердцем прохожу среди каменных плит и колючих кустарников по накаленной солнцем дороге. Легкое журчание слышится близко. Я останавливаюсь, прислушиваюсь и гляжу: справа, в каменйом айведуке, заросшем колючками, сочится ручей. Жадно бросаюсь к воде, обдирая лицо и руки, обливаю пригоршнями голову, мочу платок, шапку, вода струйками сбегает за воротник под рубаху...
Возвращаюсь иными путями. Синее, в светлых сверкающих жилках, открывается море. Город лежит, как полное блюдо. На крутых спусках камни катятся от моих ног. Я перепрыгиваю с камня на камень, иду заросшей кустарниками стежкой, незаметно погружаюсь в море садов. Пальмы легкими метелками стоят над садами, над каменными оградами, над плоскокры- шими домиками. Стволы их снизу заросли войлоком, иные наклонились над большими зеркальными лужами, точно глядят на себя не наглядятся; разноцветные ящерицы дремлют на их стволах, черепахи шумно падают в воду, зарываются в ил... За поворотом у каменного моста, похожего на выгнутый горб верблюда, под огромным тутовым деревом раскинулся пастушеский балаган. У балагана, подобрав под себя ноги, сидят на земле арабы-погонщики в коричневых бурнусах, в небрежно намотанных чалмах над загорелыми лицами. Два верблюда лежат на дороге* поднявши печальные головы. Сизый сторож-сириец сидит над жаровней, держа в руке вертел. Лицо его морщинисто, руки
497
длинны и костлявы, на меня он глядит снизу вверх дегтярно-темными смеющимися глазами.
Он что-то говорит мне, перекладывая из руки в руку вертел, прикладывая ко лбу ладонь.
— Меса бель хойр,—приветствую его по-арабски,— мир твоему дому.
И я сижу на маленькой плетеной табуретке, вынесенной хозяином из балагана, ем пастушескую лепешку, пропитанную бараньим салом. Хозяин глядит на меня дружески, смеется, выказывая белейшие зубы, и на высоком его потном лбу складываются морщины. Арабы-погонщики сидят молчаливо, поблескивая белками глаз.
А вечером (пароход уходит только поутру) опять сижу в большом шумном кафе на городской площади. Проворный слуга-кафеджи быстро варит па угольях кофе в маленьком медном кофейнике. В кафе шумно и тесно, люди в фесках, в легких костюмах лениво сосут шарообразные мундштуки наргиле. Я внимательно слежу, как поднимаются над игральными досками пухлые пальцы, держащие кости, как уминает табак и кладет в наргиле пышущий огнем уголь мальчик-слуга. С площади под парусиновый навес кафе проходит полуголый цыган, волоча на цепи ручного медведя. Он останавливается на пороге, прикладывает ко лбу руку, просит освободить для представления место. Железное кольцо продето в переносье медведя, дико глядят звериные глазки. И так же, как, бывало, в старину в России, начинается представление: побрякивая цепью, неуклюже переваливаясь, ученый медведь показывает фокусы: как малые ребятишки в горох ходят, как парятся бабы. Люди в малиновых фесках сидят равнодушно. От ближнего столика поднимается черный турок с усами, улыбаясь, останавливается надо мной, «Что надо турку?» — думаю я, улыбаясь ответно.
— Отдыхаешь, дружок? — говорит чуть с украинским выговором черный «турка». — С «Ольги»?
А через минуту мы сидим вместе друзьями, и, ухмыляясь в усы, рассказывает мне богатырь-«турка», что родом он с зеленой Черниговщины, что в городе их всего-навсего двое русских, что оба — матросы с броненосца «Потемккн», что уже третий год служат они здесь в шоферах, что хорошо бы по случаю встречи погулять с земляком ночку.**
И на весь вечер и на всю ночь остаюсь я с потем- кинцами-земляками. Как из дальнего далека помнится поездка за город. Как из сна —ночь, ясный месяц, сады, сказочная дорога; высокий допотопный экипаж, извозчик, восседающий на высоченных козлах и отчаянно трубящий в автомобильный рожок, прикрепленный к сиденью. Сказочными показываются сады, стройные свечи кипарисов, бледно белеющая дорога, лес каких-то змееподобных деревьев с голыми сплетенными стволами, блеск месяца на недвижимых метелках пальм.., ’ |
Мы едем далеко, долго. У спутников в руках русская гармонь. Необычайными кажутся здесь знакомые звуки гармоники, русской песни. Лес пальм кажется нескончаемым. Вся долина полна ароматом цветов;; широкие листья бананов, перегнувшиеся стволы пальм низко склоняются над дорогой...
Ниже и ниже спускаемся в глубину благоухающей долины. Перед каменной узкой лестницей, круто поднимающейся от дороги в густую заросль садов, экипаж останавливается. Ступая по обтершимся ступенькам, поднимаемся вверх, в сад. Длиннобородый старик ды- ходит на стук из калитки и, приложив к чалме руку, пропадает волшебно. Сказочным представляется дворик-сад, в котором устраиваемся на отдых; опахалами кажутся широкие листья бананов, низко свисающие над нами; какие-то неведомые деревья стоят в глубине сада. Скатерть-самобранка появляется перед нами* Я сижу очарованный, смотрю на спутников, на длинную бороду старика, и мне чудится —вот стронется, как на театре, декорация, и увидим сказочный сад Черномора, серебряные фонтаны... Седобородый старик почтительно стоит над нами, спутники наливают мне дузику, пряно пахнущую анисом. Приятель угощает папиросой; я затягиваюсь сладковатым, приторным дымом, далеко бросаю недокуренную папиросу* Возвращаемся на рассвете. Над всею долиной, голубоватый, призрачный, разливается свет. Чуть розовеют, обозначаются вершины гор. Мы опять едем белой дорогой, садами, но уже нет ночного прежнего очаро* вания. В теле — наполняющая легкость, голова кру« жится... В город въезжаем на восходе солнца; оно под* нимается из-за моря «огромным пламенеющим шаром, и на минуту торжественно все примолкает. Лица спут*
499
ников кажутся бронзовыми, крыши города — в огне. Мы останавливаемся на городской площади, крепко пожимаем руки, прощаемся, и я один спускаюсь к морю. Улицы города еще пустынны. На базаре, на площади сонно шевелятся, собираясь встречать день, проснувшиеся люди. Тонконогий, розоватый в свете утреннего солнца ослик, нагруженный корзинами сцаху- чей мокрой зеленью, перебирая по камню копытцами, поднимается навстречу. Солнце горит, переливается, сияет. На плече у меня пальмовая ветка: я срезал ее, чтобы привезти в Россию на память о голубых днях...
На пароход являюсь к гудку. На Цристани шумно, уже кипит портовая жизнь, ветер треплет флаги. На пароходе знакомая суета, грохочут лебедки, жмутся проснувшиеся пассажиры. Город кажется далеким, чужим, чуждым. Ревет, потрясая воздух, гудок; сбегают по трапу чиновники в фесках и белых кителях; на берегу араб-матрос отдает тяжело шлепающие в воду концы. И, чуть накренясь, отходит от пристани пароход — плывет пристань, люди, желтые и белые стены домов, крыши, город, мачты и корпуса пароходов. А через час опять море,, ветер, легкое дрожание палубы, солнце — и легкий, синий, бесконечный простор. Я на корме убираю флаг, смотрю на уплывающий дымчатый берег. Держась руками за поручень, рядом стоит девушка в легком платье. У нее тонкое, тронутое загаром лицо, чистый лоб; ветер треплет прядь волос над ее ухом. Она взглядывает на меня, улыбается, бежит, придерживая рукою шляпу. И недавнее: берег, люди, бессонная ночь, город, и сказочный сад Черномора, и мои новые друзья, с которыми проводил ночь,— все это мне кажется веселым, легким сном.
1928
НА СОРОЧЬЕМ ХВОСТЕ
В кубрике нас десять, из десяти один — женщина, горничная Алеша, — так прозвали ее матросы за мужской голос, за стриженые волосы и за пристрастие к известной в те времена одесской песенке. А песенок этих Алеша знает количество неистощимое* напевает их непрестанно.
500
Человека кубрик оценивает по трем качествам: по неутомимости, захлесту и непокладности в работе, по бесстрашию, задору и тяжелому кулаку, да,"пожалуй* еще по степени домовитости, выражающейся в заботе об оставленном доме.
И почти каждый разгорзр в кубрике — состязание в меткости и остроте языка.
Больше всего допекают Котова — самого старого из нас матроса. Котов — лысый, небольшого роста, с пушистыми усами и маленькими юркими глазками, которых почти не видно. Любит Котов покушать и погреться; говорят, у него когда-то была в Одессе свся лавочка, — матросы кличут его насмешливо просто Котом, и действительно, есть в нем необыкновенное сходство с этим хитрым зверем, при случае умеющим слизнуть сметану с горшка. У Кота, как и у всех остальных, имеется подруга сердца — толстая, в полтора обхвата, бабища, ровесница своему обожателю. И любовные похождения Кота дают простор неугомонным языкам.
—- Котик, — говорят ему ласково*и нежно, — а вчера; мы твою на бульваре встретили...
— Встретили? — спрашивает Кот, ревниво шевеля своим усом.
— И два молодца с нею! Нас признала. «Что же вы, — спрашиваем, — Котова не навестите?» — «Очевь он мне, говорит, нужен, лысый черт!..»
Всем известно, что Котов ревнив, а вчера его несколько раз видели на берегу, бритого и начищенного^ стоящего на улице в грустном одиночестве. Над Котовым беззлобно смеется весь кубрик — любитель трубки; и острого словечка матрос Глухой, молодой очаковещ Баламут, успевший обойти многие моря и океаны, ловкий, крепкий как орех, счастливый в любви Жук с голубыми глазами и упрямо приподнятой верхней губой, тощий Назаренко и два матросских ученика, Петя и Валя, голые и загорелые, как сосновая кора...
Иногда в кубрик заходит огромный кочегар Кула- ковский, с виду свирепый и нелюдимый, а на самом! деле добродушный и разговорчивый. Его язык неистощим на поговорки и хлесткие прибаутки, которыми ош сыплет как из мешка.
Кочегарский кубрик — другие люди. Там чаще слышно задорное слово, а бывает — доходит и до рук...
501
Первое место, куда совершенно неизбежно попадает в Стамбуле только что спущенный на берег загулявший матрос, — конечно, заведение Лейзера в галатском тартуше, которое знает обязательно и видалый, обглоданный ветром и суровой жизнью моряк и безусый мальчик, ученик мореходки, изо всех сил старающийся не сдрейфить перед другими. Заведение Лейзера — что-то вроде одесского, прославленного писателем Куприным «Гамбринуса» («Гамбринус» в последние годы уже растерял среди моряков срою былую славу), «Садика» или модного «Медведя», в которых матросская душа, жестокая и в то же время чувствительная, искала простора и размаха, где слезы, пролитые от изобилия дружелюбных чувств, и клятвенные обещания мгновенно сменялись поножовщиной и распоротыми животами.
Широкие окна Лейзерова заведения ярко расписаны перекрещенными пестрыми флагами всех национальностей. У окна, подобрав ноги на клеенчатый диван, с утра до вечера сидит молоденькая смуглая гречанка, грызет орехи и равнодушно улыбается слоняющимся по улице, ищущим встречи хмельным морякам, показывает белые, острые, как у хорька, зубы, которые в случае чего она умеет пустить в ход и как верное оружие. Вся ее несложная обязанность заключается в умении заманивать гостей. Когда входит в заведение соблазенный ее свежим личиком и улыбкой ожидающий встречи мужчина, иногда конфузливый и молчаливый, иногда деланно развязный, она подмигивает супруге Лейзера, исполняющей обязанности полового, и на мраморном столике появляется дузика — сладкая тминная водка. Она не пьет, разве для вида пригубит. Обычно после первой рюмки заказывают музыку и, ежели гость — иностранец, танцуют между раздвинутыми столиками вальс, ежели русский — польку, танцуют подолгу, гость с увлечением и красным от спирта и возбуждения лицом, девушка с застывшей улыбкой и невнятной, от веков оставшейся грустью в темных глазах; ее обтянутые шелковыми чулками ноги привычно и легко скользят рядом с огромными, неуклюжими, привыкшими к палубе и штормтрапам ножищами кавалера.
Из задней комнаты, в которой танцуют, — дверь на лестницу, ведущую наверх. Таццы обычно заканчиваются прогулкой на второй этаж. Но маленькая гречанка невинна, и когда терпение гостя истощено и, прижимая ей локоть, он шепчет последнее слово, она, точно ловкий зверек, вырывается из его рук, в два легких прыжка перебегает на свой диван, подбирает ноги, и ее личико по-прежнему зазывно улыбается проходящий мужчинам. •
К покинутому гостю подсаживается одна из двух женщин, живущих у Лейзера: или худая длинноносая еврейка Соня с огромным голубым бантом в черных во-J лосах, или русская — Даша, русоволосая и белолицая^ бог знает какими судьбами из Тульской губернии по-' павшая на галатский тартуш. Даша молчаливо и много; пьет, курит длинные папиросы, к концу дня бывает не-J изменно пьяна, во хмелю вспоминает Россию, сенокос в родимом селе, ласточек над прудами и белую коло^ кольню в гущине зеленых садов. У нее есть поклонники-русские матросы, навещающие ее при всяком заходе в порт. Их влечет к ней ее особое качество, успо-* каивающее тоску, которая одолевает каждого матроса,1 живущую и в самых грубых сердцах: тоску о семейном* счастье и женской ласке. 1
Иногда, заманенный лукавой улыбкой хорошенькой гречанки, быстро забежит в первую комнату американский или английский щеголеватый матросик, конфузливо оглянется, спросит пива и, видя, что его встречают нелюбезно, спешит исчезнуть.
Сам Лейзер, лысый, бледный и остроглазый, сидит1 за письменным столом и почти всегда что-то высчиты-1 вает. Он ведет большое, требующее исключительного* напряжения, энергии и внимания дело; в его глазах,^ в жестах сквозит сознание своего значения и силы. 1 Лейзер поименно знает всех моряков, каждого’ встречает точно своего исключительного и ближайшего1 друга, с каждым имеет дело, и каждый ему чем-нибудь1 обязан. Его агенты прежде всего узнают о приходе в порт пароходов, а толстый седой Абрамка, его ближайший помощник, неизменно появляется на пароходе, прежде чем кто-либо из команды успеет сойти на берег. От Лейзера не уйдет никакое дело, начиная от при-* везенного из России мешка пшеницы, банки контрабандного греческого спирта и кончая живым товаром —*
503
кажется, здесь наиболее ходким в отжитые, прошлые времена.
Язык тартуша — смешанный. На каждом шагу здесь русские, греческие, немецкие кабаки и пивнушки, в которых гармонисты наяривают и всероссийское «Яблочко», и немецкие вальсы, и особенно модного в те дни, вывезенного из Одессы «Алешу».
Русские моряки пляшут под гармонь совсем как на ярмарке в Полтаве и Харьковщине — упорно отстукивая каблуками, с вывертами и коленцами; женщины — с каменными, неподвижными лицами, с колышущимися в такт мелкой «уточке» сережками в ушах.
Иногда поют грустную:
Улица, улица,
Улица веселая,
Ах ты, время-времечко,
Времечко еловое!..
Душный воздух насыщен запахом анисовой и тминной водки, голого потного тела, кофейной гущи, розового масла и росного ладана. Глаза устают от пестроты и сумятицы, а в ушах больно от звона, шума и крика.
Очень часто кого-то бьют. Неожиданно из-за угла на узенькую улицу вываливается толпа. Мелькают кулаки и разгоряченные лица. Кто-то падает на камни, и на него набрасываются, бьют ногами и палками, сосредоточенно и молчаливо, так что слышно смертное гоханье избиваемого.
Вдоль бесчисленных узких улиц, сплошь занятых публичными домами, медленно бродят полуголые пухлые женщины, напоминающие мокриц, медленно переругиваются друг с другом, сонно зазывают проходящих матросов в свои похожие на хлевы конурки, где вся мебель состоит из циновки, разостланной на полу, жмурятся на солнце, сидя на низеньких табуретках, беспрестанно зевают, показывая вставные золотые зубы.
Тут же иногда пробегают дети, идет ходкая торговля черешней и лимонадом, торгуют маленькие кофейные, работают уличные парикмахерские.
И все шире, захватывая крутые улички, ведущие па ;Пера, где скопился праздный богатый люд, разрастается и ползет тартуш, заражая город сифилисом и ^адом бесстыдства*
504
* * *
В ветер и гладь от темнеющей глыбы Черного моря до золотых Принцевых островов неустанно пролетают над самой зыбью, чертя клювами текучую воду Босфора, стайки быстрых маленьких птиц — драгоманов, тех самых, о которых старые турки хранят свою сказку.
Было это так давно, что уже не помнят и каменные генунэзские башни, сторожащие вход в туманный голубой залив, и сам многовековой султанский платан позабыл.
В счастливые времена, когда месяц над Босфором опускался так низко, что достойнейшие из правоверных могли лобызать его пахнувший кипарисом серебряный край, сидел на султанстве Мухаммед Первый, а делами его заправлял мудрый Амалахмал, чародей и волшебник. Счастьем, изобилием и довольством полнилось султанство, и не было в мире войска, которое бы могло победить Мухаммеда.
Тайной счастья, изобилия и покоя обладал Амалахмал: в кованом серебряном ларце, украшенном тончайшим, как паутина, узором, под семью замками и тридцатью печатями хранилась заповедная грамота, и значились в грамоте судьбы султанства.
Понадобилось однажды Амалахмалу перевезти заповедный ларец через голубой Босфор. Сто вернейших чиновников и министров были приставлены для такого ответственного дела. И не могли уберечь ларец чиновники и министры: на самой середине опрокинулась позолоченная султанская фелюга, попадали в воду люди, а заповедный ларец пошел на дно, с ним счастье и судьба султанства.
С того часа не стало на султанстве благополучия и мира.
Мокрые, испуганные прибежали во дворец посланцы, пали на каменный пол и завыли, прося пощады.
Громовой вышел к ним Амалахмал.
— За оплошность вашу быть вам горькими птицами, — сказал он, — летать вам неотдышно до той поры, пока не вернете мне ларца!
До сей поры летают над Босфором черноспинные птицы, которых моряки зовут драгоманами, чертят
505
клювами текучую воду, ищут и не находят заветный ларец: глубоко пал ларецг на самое дно...
Старые, седые турки, с утра до вечера сидящие в береговых кофейнях, знают тайну пропавшего ларца. Их веки полуприкрыты, и чуть-чуть усмехаются углы тонких губ.
А когда, взвалнивая воду, проходят по Босфору броненосцы, их усмешка становится острее, а глаза следят за колышущимися на взбудораженной воде каиками, за бегом волны, с налета захлестнувшей каменные ступени пристаней...
* * *
Пароход стоит на Босфоре, верстах в пятнадцати от Стамбула, у азиатского зеленого берега, между двумя схоронившимися в зелени платанов и шелковиц селами — Чебукли и Паша-Бахче. В Чебукли знаменитый источник, воду из которого некогда брали самому султану. Двенадцать кранов источника, вделанных в мраморную стену, ограждены решеткой, вход за которую не во всякое время доступен. У пристани колышутся легкие каики—«сандалы», нагруженные дубовыми плоскими бочонками с отверстиями для пломб, которые навешивает особо приставленный к источнику чиновник.
От Чебукли, в котором единственная достопримечательность — султанский источник, можно пройти по грунтовой, покрытой красноватой пылью дороге в богатое Паша-Бахче.
Нужно идти через гору, на которой англичане выстроили лагерь для солдат-индийцев — рослых, красивых, смуглых людей, одетых в короткие песочные мундиры.
Впереди меня идут двое. Идут ходко, широко ступая, размахивая длинными руками, немного сутулясь. Мне хочется рассмотреть их поближе. Приходится бежать бегом, чтобы поравняться с ними.
— Москбв? — первый заговаривает со мною индиец, улыбаясь и показывая белые крепкие зубы. Он очень внимательно разглядывает меня своими темными искрящимися глазами. Я для него — загадочный, невиданный москов, о котором он успел наслышаться немало.
— Москбв?показывает он свои ослепительные зубы.
508
— Москбв! — говорю я, и мы улыбаемся оба. Мне необыкновенно приятно от его улыбки. Я также внимательно разглядываю его смуглое, обведенное редкой курчавой бородкой^ необыкновенно красивое, смелое лицо.
Мне вдруг представляется очень смешное: раздеть бы этого молодца, который одинаково прекрасен в одежде и нагой, а рядом поставить голого британца, его покорителя и хозяина, — коротконогого, прокуренного табачищем, обросшего редкими рыжими волосами, с бычачьим затылком, — то-то была бы картинка!
* * *
Я сижу на каменных мокрых ступенях, свесив босые ноги в вздыхающую прозрачную воду. Уходящая под воду каменная стена заросла зеленой , колеблющейся бородой. Стайка серебряных рыбок кует головками отвесную зеленую стену. Иногда я вижу, как в зеленой воде блестит серебряная рыбья чешуя. На самом дне, у замшелого круглого камня, лежит колючий толстый бычок. Он никакого внимания не обращает на рыбью резвящуюся мелкоту, которая старается, будто невзначай, зацепить его пером... Течение более быстрое, чем на Волге, по левому берегу — в Мраморное море, а по правому*—в Черное море. Иногда течения сталкиваются, образуют шумящие водовороты; на моих глазах течение меняется, то крепко ударяя в берег и трепля зеленую бороду водорослей, то унося от берега сбившийся сор и вытянутые радужные пятна нефти.
Серединою быстро проходит миноносец, подымая перед собою водяную гору. Ушел далеко, когда прихлынувшая волна вдруг накрыла по щиколотку мои ноги, щекочущими каплями сбежала с пальцев.
Я смотрю, вспоминаю, думаю.
В кубрике, на вахте, ночью и днем, в портовом кабаке и Софийской мечети я думаю все о том же.
Я вспоминаю родную маленькую речку Гордоту, заросшую ивняком и ольховником. В теплых илистщх затонах, над которыми летают синие стрекозы* я наперечет знаю утиные выводки2 знаю* сколько в каждом голов...
Между пахучими копнами, кое-где раструшенными, а кое-где сложенными в боровку вдет отец. От него
так приятно пахнет, как, бывало, пахло в лесу под дубками, куда по осени мы ходили собирать желуди.
— Ну-ка, держись, Сивый Заяц!
Он подсаживает меня высоко-высоко на скрипящий воз с сеном. Меня начинает кидать в стороны, мне кажется, что сейчас воз должен свернуться, я готов закричать.
— Сивый Заяц, не робей! — слышу снизу родной голос отца, и мне уже весело — я крепко и смело держусь за скользкий гнет.
...Из освещенного лампадкой угла на меня смотрят строгие глаза, куда бы я ни повернулся. Внизу, в синей тени, чья-то согнувшаяся спина. Она долго-долго не разгибается. Тихонько закрываю я веки, и к моим полным слез глазам бегут золотые длинные стрелы- лучи. Я долго держу так веки, и золотые стрелы-лучи дрожат, переливаются радужными огоньками. Кто-то наклоняется надо мною. Я открываю глаза.
— Спи, спи, родной! — ласкает, целует меня мать.
Строгие глаза уже не смотрят так строго, а в синей
тени больше не вижу склоненной спины...
1922—1954
ЗЫБЬ
Все лето из Константинополя ходили в Евпаторию, Зунгулдак и Смирну. В Константинополе останавливались в Золотом Роге, за вторым мостом, против греческого городка Фанара, пестревшего малиновыми, желтыми и белыми, вкривь и вкось рассыпавшимися по серым скатам стамбульского берега каменными и деревянными домами. Матросам и кочегарам, плававшим на пароходе, давно примелькался большой, шумный, кипевший разноязычной толпою город, пригляделись его бесчисленные, чеканившиеся на вечернем небе купола и минареты, стало привычным темное зеркало Золотого Рога, ночами отражавшее в себе все неисчислимое множество огней, белых, красных, зеленых, а по вечерам — пламенное золото закатов. Днем артельщик Баламут привычно съезжал на берег закупать провизию и долго бродил по головокружительному, шумному, пахучему, переполненному светом и толпою базару — торговался
508
с греками, сидевшими над грудами овощей, ссыпал в мешок пахнувшие росою и огородными грядами зеленые огурцы, капусту, перец и лиловые баклажаны. Вечером матросы и кочегары хаживали на тартуш к Лейзеру, пили вонючую водку, слушали, как до перезвона в ушах выделывает оркестр «Алешу» и «В жизни живем мы только раз», подпевали, а потом долго и шумно слонялись по тесным, путаным, вопившим разноязычными голосами, наполненным визгом шарманок улочкам и проулкам, а сидевшие в своих клетушках женщины, показывая золотые зубы, стучали им наперстками по стеклу и окликали сиплыми голосами: «Русски, русски! Матрос!..» Возвращались на пароход поздно, когда несметным множеством огней обозначался по темным холмам город и на пустынных улицах ночные сторожа стучали о мостовую деревянными звонкими палками, издававшими дребезжащий, далеко разносившийся над спящими улицами звук. Матросы спускались к берегу запущенным кладбищем, где в темносинее ночное небо, едва обозначаясь вершинами, поднимались кипарисы и густо-влажно пахло прогретой землею, а под огромным, закрывавшим полнеба платаном в густой, непроницаемой темноте беззвучно летали светляки. На пристани, где было пустынно и под ногами скрипели доски, матросы будили лодочника- турка, поторговавшись, прыгали в качавшуюся на черной воде узкую легкую лодку. Переплывая залив, они смотрели на змеившиеся отражения огней, на засыпанное звездной порошей высокое небо, слушали окружавшую их торжественную тишину, нарушаемую всплесками весел, и было негаданно и чуждо, когда из темноты вырастал борт своего парохода и кто-то сверху говорил насмешливо и знакомо: «А ну, хлопцы, как гуляли у Лейзера?..»
В ноябре первый прокатился над морем осенний шторм. Трое суток пароходы отстаивались, не выходили в море, — свистел и бушевал над городом ветер, закручивал по улицам пыль, люди пробегали по мосту, горбатясь, руками придерживая шляпы. В эти дни пришел и лагом стал с пароходом большой четырехмачтовый парусник под голубым флагом — бразильское учебное судно; с парохода было видно, как по его палубе проворно бегают босые, обожженные тропическим солнцем матросы-ученики. В море вышли на четвертые сутки*
509
За Босфором море темно ходило мертвой зыбью* быстрые проносились с севера облака; у самого выхода встретился итальянский пароход, и по его виду, по крутому крену, по порванным и болтавшимся на ветру вантам поняли матросы, что видел пароход гибель, что крепко потрепала его буря.
В море зыбь шла с востока. Она катилась, дышала, переливалась сизой сталью, подхватывала пароход и опускала. Обедая, матросы сидели, опершись локтями о стол, осторожно пронося над столом наполненные ложки, и над ними, позванивая, размашисто колыхалась висячая лампа.. Колыхалась и уходила из-под ног палуба, и, чтобы пройти в камбуз, дневальный Назаренко хватался за стойки, смешно расставляя по палубе длинные ноги. Матросы ели, шутили; глумился и трунил над мучившимся с похмелья усатым Котом веселый Жук.
В Зунгулдак пришли на рассвете. Три парохода и несколько крытых барж в ожидании очереди стояли на рейде, утомительно раскачиваясь вдоль и поперек зыби. А зыбь все шла и шла с моря; унылым и пустынным казался желтый берег, невеселый рассыпался по берегу город, над которым бежали охлопья дождевых туч.
На рейде кинули якорь, и пароход стал качаться на зыби, мачтами чертя по мутному небу. Всю неделю матросы дурели от качки и от безделья, ходили как пьяные, глядели с тоскою на землю, а ночами, чтобы не выпасть, привязывались к своим койкам. И всю неделю в кубрике было мутно и тошно, стонал и бранился страдавший морской болезнью Глухой, по вечерам боцман резался в шашки со стариком коком, каждое утро напивался забубенная головушка кочегар Ку- лаковский.
На четвертый день удалось спустить шлюпку. Ее чуть не разбило о борт качавшегося парохода; было видно, как внизу ее подхватила и взметнула зыбь, как в ней возился, расправляя заевший конец, Жук, как отошла она, неровно щетинясь веслами, и скрылась за поднявшейся над ней сине-зеленою зыбью... На берегу матросы долго бродили по единственной, упиравшейся прямо в горы городской улице, с наслаждением сидели на жесткой, сожженной солнцем и ветрами траве, ходили за город* где черные от угля и мокрые от пота и
610
грунтовых вод люди вручную выкатывали из шахт тяжелые вагонетки. Матросы по мосту переходили через клокотавшую по камням мутную речку, по красноватой от глины дороге поднимались в горы, и было далеко видно, как светлою зыбью ходит и колышется море, как малою точкою чернеет на море пароход... На перевале, в горах, им повстречался курд, на ходу вязавший из шерсти чулок, — курд взглянул на матросов и дружелюбно приложил ко лбу черную руку.
Под кран пароход стал на восьмой день. Весь этот день опять дул с моря ветер и, пенясь, скрежеща галькой, накатывали на берег мутные волны. Пароход стоял под краном за волноломом, оберегавшим его от моря, и весь день было слышно, как хлещут и разбиваются о волнолом волны, как, все нарастая, ревет над морем ветер. Уголь грузили костлявые и худые турки; они суматошно и бестолково, размахивая руками, бегали по пароходу, кричали и бранились, и над пароходом проплывала, с грохотом опрокидывалась, высыпая уголь, железная люлька. И опять матросы бродили по желтому городу — слушали, как грозно и страшно ревет, шумит море.
С вечера опять бушевал норд-ост, летели через волнолом брызги, скрипел и покачивался на заходившей за волноломом зыби осевший под тяжестью угля пароход, зябко мигали сквозь брызги и мрак огни баканов... Ночью в море гибли сорвавшиеся с якорей барки. Сквозь бурю слышались над морем человеческие голоса, вспыхнул мертвенно-белый огонь. фальшфейера и погас, осветив на минуту кипевшие над погибавшею баркою волны, метавшихся по корме людей. И всю ночь гудел и бушевал ветер, страшно ревело море, чудились над мраком и волнами слабые человеческие голоса.
На рассвете у берега качался черный остов разбитой барки, волны гулко ухали в ее дно, перекатывались через палубу, клубясь белой пеной. По берегу, заливаемому прибоем, голые люди гонялись за набегавшей и скатывавшейся по шумевшей гальке волною, на берегу подхватывали выбрасываемые морем куски угля с погибших барок и, когда волна возвращалась, поспешно от нее убегали. На берегу, на белой гальке, чернел уголь, а дальше, на сожженной траве, под опрокинутой лодкой, прикрытые парусом, лежали тела по-< гибших, выкинутых морем людей.
511
В море вышли в обед, уступив место французу. Было ужасно смотреть, как впереди кипит, седыми волнами ходит море, как ветер рвет с гребней белую пену. Матросы, убиравшие на юте концы, увидели, как огромная, седеющая пеной волна от носа до кормы накрыла пароход и, наполнив палубу рокочущей пеной, сорвала шлюпку, в щепы разбила привязанную на корме клетку с птицей и, отхлынув, поднялась позади парохода зеленой, тускло просвечивающей горою. Одно мгновение видели матросы на вершине этой зеленой водяной горы еще живого петуха, вылетевшего из разбитой клетки, — его красный гребень, трепавшийся на ветру хвост.
Чем дальше уходили в море, злее перекатывали через пароход волны, свирепее дул встречный ветер. Матросы, не отдыхая, стояли на спардеке, угрюмо смотрели на кипевшее впереди море, на полосу прибоя, разбивавшегося о берег. Капитан стоял на мостике, держась руками за поручень, борясь со сбивавшим с ног ветром. Позади капитана, в стеклянной рубке, перехватывая рожки штурвала и напряженно глядя на компас, каменел рулевой. На лице капитана нервно двигались скулы, краснела от ветра кожа, каплями соленой воды были забрызганы щеки. И в том, как двигались на мокром лице капитана скулы, как за отсвечивавшим стеклом рубки каменел рулевой, как молчаливо и угрюмо глядели на бушевавшее море матросы, было общее выражение готовности и сознания надвигавшейся опасности.
Под вечер стало известно, что пароход окончательно не справляется с ветром, относившим его на скалистый берег. Капитан трижды вызывал из машины механика, и механик, крренастый смуглый старик с серебряной бородою, с проступавшим на лице потом, вытирая руки, задыхаясь на ветру, докладывал капитану, что машина не может дать больше оборотов, что пар поднят до предела, что уже есть риск взрыва котлов.
Матросы своими глазами видели надвигавшуюся на пароход полоску прибоя, отчетливо различали, как у темневшего берега разбиваются о скалы, белою пеною высоко взлетают волны... Решаясь на последнее, капитан вызвал наверх матросов и кочегаров и, не глядя в глаза, объяснил сурово и скупо, что единственный остается выход — сделать попытку пройти в ближ¬
512
нюю бухту, что в такое волнение поворот вдоль волны для перегруженного парохода очень рискован, что надо быть ко всему готовыми, всем быть наверху, надеть пояса и приготовить шлюпки к спуску.
Перед опасным поворотом матросы и кочегары хмуро толпились наверху, у приготовленных шлюпок* В кубрике было темно и пусто, по-прежнему колыха* лась над столом разбитая лампа, и, свалившись с койки под стол, стонал, мучился морской болезнью Глухой, Одеваясь на рулевую вахту, придерживаясь рукою да стойку, говорил ему насмешливо Жук:
— Отгулял ты, Глухой, у Лейзера, скоро пойдешь раков кормить...
На мостике капитан, налегши на поручень, расставив ноги, в бинокль вглядывался в кипевшее волнами* ходившее зыбью море, отсчитывая ритм — тот строгий ритм, которому подчинено море и в самую страшную бурю. Было видно, как по кипевшему морю, покуда хватал глаз, шли, падали и поднимались седые от пены валы и — самый седой и высокий — двигался над ними девятый вал. Он подходил быстро, накрыв пароход пеной, перекинул через бак гору мутно-зеленой воды и покатил дальше. Следовавший за ним вал ударил слабее, а на третьем, едва перехлестнувшем чере& борт (поворот нужно делать в промежутке между^ двух девятых валов, когда ритм зыби спадает), капитан, не оборачиваясь и не отрываясь от бинокля, махнул стоявшему на руле Жуку.
— ...на борт! — услыхал Жук сорванное ветром слово и, строго и четко пустив штурвал, ответил:
— Есть лево на борт!
Матросы, следившие за морем и пароходом и тоже с беспокойством отсчитывавшие идущую на пароход зыбь, увидели, как вздрогнул и покатился — быстрее и быстрее, бортом становясь к зыби, — пароход. О борт ударилась, качнула и пеною накрыла пароход очередная волна, минуту всем казалось, что пароходу не выбраться из затопившей его воды и кипевшей пены. Вода еще катилась по палубе парохода, не вмещаясь в стоках, а капитан, отнимая бинокль, повернулся к Жуку, сказал спокойно:
— Одерживай.
— Есть одерживай! — веселее отозвался ему Жук.
17 И. Соколов-Микитов, т. 1 513
— Так держать! — сказал капитан, отходя* поворачиваясь к морю и опять берясь за бинокль.
— Так держать! — высоко и бодро, как на учении, ответил Жук, руками перехватывая мокрые рожки штурвала, светлея в лице...
Глухой, один оставшийся в кубрике, слышал, как перестала перекатывать через бак волна, как ухнул, качнулся и всем нутром загудел пароход, и Глухому показалось, что пришел конец, — он вспомнил непутевую свою жизнь, неверную женку, сбежавшую к фельдшеру и заставившую его пойти в море, сожмурился, ожидая увидеть, как хлынет в кубрик вода. Но глуше и глуше ухали о пароход волны, не перекатывало над головою через бак. «Видать, повернули, —- подумал он, радуясь спасению. — А нехай и поживет на божьем свити Глухой, еще полакает горилки...»
Вернувшиеся в кубрик возбужденные и повеселевшие матросы увидели его по-прежнему валявшимся под столом и стонавшим. И опять, быстро повертываясь, открывая зубы, весело и шутливо сказал ему сменившийся с руля мокрый с головы до ног Жук:
— Не журися, Глухой: в Константинополь придем, с тебя банку спирту, на поправку.
— Он за нас за всех тут богу молился, а ты с него спирту, — насмешливо жмурясь, заметил длинный и сумрачный Назаренко.
— А ты не хватай бога за бороду, — полушутя, полусерьезно ответил Жук, — борода в руках останется* а бог пийде...
Вечером, перед входом в бухту, увидели качавшуюся на волнах черную точку. Она то скрывалась в кипевших волнах, то опять показывалась на гребне. Точка, качавшаяся на волнах, оказалась разбитым бурею парусником, груженным лесом, со сбитыми мачтами и бушпритом. Парусник тащили на буксире два человека, свдевшие и взмахивавшие веслами в маленькой, страшно мотавшейся по волнам шлюпке. Чтобы взять на буксир парусник и спасти погибавших людей, пароход опять изменил курс, и, подойдя к шлюпке, матросы сбросили конец и трап. По трапу на пароход поднялись два измученных человека в потемневших от воды фесках и беспомощно опустились на мокрую палубу. И, может, потому что на море всегда жив свековавший
Ш
тысячелетия, не писанный на бумаге золотой закон, по которому человек человеку друг и брат, — два этих спасенных моряка с мокрыми волосами и блестевшими от возбуждения глазами, говорившие на непонятном языке, были матросам свои. И, на них глядя, греясь у камбуза, матросы доброжелательно покачивали головами...
В Константинополь воротились на другой день. Опять привычно текли знакомые берега, смотрелись в Босфор мраморные дворцы, легкий и знакомый открывался на холмах город, клочьями бежал, предвещая погоду, туман, и, клювами чертя воду, носились стайки шустрых птиц — драгоманов. Встречались набитые, народом пакетботы, пароход проходил мимо моста, и.опять раскрывался, плыл город.
1927-1954
ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА
Дни были голубые и ясные. Днем над морем подувал легкий ветер, а по ночам было тихо и в небе зажигались звезды. От берегов пахло кипарисом и нагретой землею.
На пароходе было мирно, тихо, уживчиво, как где- нибудь на хуторке на Черниговщине. И все было привычно и заведено раз навсегда: в Константинополе ходили на тартуш к хитрому Лейзеру, напивались в меру, гуляли, покупали фуражки с лаковыми козырьками и подарки в Россию. А в море были трезвы и строги, и только кочегар Кулаковский, огромный и неуклюжий, ко всему па свете относившийся как к трын-траве, ежедневно перед завтраком и обедом выпивал по чашке разведенного спитым чаем спирта, но так это и шло Кулаковскому. И каждый о каждом знал точно: знали, что голубоглазого Баламута второе лето поджидает в России невеста и что давно лежит в его чемодане завернутая в папиросную бумажку пара обручальных колец; знали, что крепкий, счастливый в любви Жук спит и видит во сне зеленую черниговскую деревеньку и своих чернобровых голосистых девчат. Почти все были хохлы, с Украины, все прежде служили на военном флоте, за исключением длинноногого Назарецки, кото-
17* 615
рого кликали на пароходе цаплей, за что он не раз, с ножом в руках и выкатывая страшно белки, гонялся за насмешниками по спардеку. И только боцман был из кацапов, смоленец, с огромными, пудовыми кулаками. В матросском кубрике жила женщина — горничная Алеша: так прозвали ее матросы за мальчишеский вид, за пристрастие к развеселой одесской песенке. Она говорила басом, курила и носила волосы обстриженными по-мужски в скобку. Спала Алеша на верхней койке, над Жуком, и всякое утро, когда боцман приходил поднимать на работу матросов, у них происходили шутливые разговоры... На пароходе у нее был полюбовник — кочегар Володя, пьяница, сорвиголова. После каждого рейса бил он ее на берегу смертным боем, отнимал деньги, и всякий раз после этого она приходила на пароход в слезах, клятьем проклинала Володю, божилась его забыть, зло грызла подушку. Однажды Володю нашли на берегу с ножом под лопаткою, раздетого догола. К удивлению всего кубрика, целый месяц Алеша проливала горькие слезы и после первого же рейса поставила над затерявшейся в греческом кладбище могилой Володи мраморный белый крестик — на все свое месячное жалованье.
Иногда пароход приходил в портовый город, веселый и белый, прикрытый садами. Когда-то в этом городе было богато и шумно, горячее грело солнце. От прежнего оставались только солнце да зеленая тень бульваров, но были непривычно бедны и пустынны белые улицы. Как и прежде, когда останавливался пароход, приходили таможенники в фуражках с зелеными кантами, глядели на матросов' прищуренными глазами. Они обнюхивали пароход, выстукивали костяшками пальцев обшивку, были строги и молчаливы, а через час сидели с матросами в кубрике за длинным столом. Спирт стоял прямо в жестяном бидоне, пили его почти голый, приправляя для вкуса чаем, закусывая разрезанными помидорами.
А вечером матросы и кочегары уходили в город принарядившиеся, в ярко начищенных ботинках, помолодевшие от бритья и новых костюмов. И, как это ведется, многие возвращались на пароход с женщинами, неумело ступавшими по железной палубе, конфузливо улыбавшимися, мявшими в руках платочки. И лишь один Кулаковский, огромный и косоглазый, по¬
516
чему-то не любивший женщин, подперев черными кулачищами голову, шумно запевал ходкую в тот год «Улицу»:
Улица, улица,
Улица веселая... .
И, остановившись, набрав воздуху и тряся стриженой круглой головой, перемахивал на фальцет:
Ах ты, время-времечко,
Времечко еловое...
В одну из таких стоянок кочегар Соколов, русоволосый и сероглазый, привел из города женщину. Что на пароход пришла женщина, никому не было в редкость — женщины ходили ко всем, — но та, которую привел Соколов, показалась особенною. У нее было белое лицо, белые руки и зеленоватые прозрачные глаза. Она вошла просто, ничуть не стесйяясь, приветливо улыбнулась, присела на скамью и, подняв локти, поправила волосы. И по какому-то неуловимому признаку почувствовали матросы, что баба — бой, что за таких-то и сохнут хлопцы. И все дни, пока стоял пароход в порту, она приходила, со всеми была ласкова и проста, для каждого у нее находилось словечко. «Этакое Соколову счастье!» — говорить в глаза не говорили, а уж думали непременно.
В порту пароход стоял неделю: выгружали уголь. И всю неделю море было тихое, иззелена-голубое; высокое простиралось над морем небо. И оттого, что было море просторно и тихо, что пахло от берегов кипарисом и цветущей акацией, люди были веселы, приветливы и просты.
Накануне отхода Соколов стоял в каюте перед капитаном, коренастым бритым человеком, видавшим на своем веку всяческие виды. Капитан набивал над столом трубку, и под расстегнутой ночной рубашкой была видна голая грудь.
— Что скажешь? — строго спрашивал капитан, искоса поглядывая на кочегара.
— Александр Федорович, — говорил Соколов, застенчиво смотря на капитанские руки, разминавшие на столе табак, — разрешите взять на пароход женщину, на один рейс.
517
Капитан взглянул еще раз, чуть-чуть — уголками губ улыбнулся:
Бабу берешь? Добру не быть.
Разрешите, Александр Федорович.
Если команда разрешает — бери.
Тот день они семейно устраивались на баке. Она сама раскинула положок, разостлала широкое одеяло. Утром на другой день уходили в море. Дул с моря ветер, кликали и кружились за кормою чайки. Белая нарядная шлюпка прошла под самой кормою, и кто-то в голубом помахал из нее платочком.
Женщина впервые плыла в море. Она стояла на баке, опершись на поручни, глядела в голубой простор, и на свету нежно розовели ее маленькие уши. По баку взад-вперед пробегали матросы, торопливо укладывали мокрые пеньковые концы, расстилали над палубой тент, а она смотрела на них ласковыми, ободряющими глазами, и каждому это было приятно. Все утро Соколов был на вахте, работал в кочегарке. В полдень он вышел, черный от угля, облитый потом, с блестевшими на лице глазами. И она встретила его улыбкой, раскрасневшаяся, возбужденная путешествием и морем. И опять, на них глядя, думали про себя матросы: «Этакое Соколову счастье!»
Вечером на другой день пароход подходил к Босфору. Его долго держали в карантине, в Каваках. На закате Босфор полыхал золотом, неподвижные лежали берега, и медленно по золотому плыли меж берегов черные фелюги с косыми смолеными парусами, а над самою водою неугомонно пролетали стайки маленьких морских птиц *— драгоманов. Утром весь экипаж съезжал на берег мыться в карантинной бане, где черный, с усиками, доктор-француз иглою колол руки матросам и длиннорукие бойкие люди в серых обмотках, дочерна обожженные солнцем, вынимали из дезинфектора смятое, связанное в узелки матросское платье.
В полдень опять тихо шли по Босфору, и мимо текли берега: правый — зеленый и гористый, весь в маленьких домиках, ступени которых иногда купались в море; левый — желтый и дикий, сурово закрывавший сухие азиатские пространства. Две башни, одна над другою, открывали поворот к городу. И пароход шел, следуя извивам пролива; цо-домашнему ходил по мостику ка-
Щ
питан,/спокойно стоял над штурвалом черный высокий рулевой. Сутки пароход стоял на рейде, у белой башни Лаванда, о которую разбивались бегучие струи, а рядом мертво дремал греческий грузовой* пароход, рябой от ржавчины и краски; шибко пробегал, пыхая дымом, портовый катер. Впереди открывалось Мраморное море, туманно-голубое, с белыми жилками пены, и, как под вуалью, зыбились Принцевы острова. Город лежал на желтых скатах, в зыби горячего воздуха, пронизанный солнечным светом. Вечером половодьем разливалась заря, и четче, яснее чеканился на золоте неба абрис древнего города.
Поутру спустили шлюпку. В нее 0£ли матросы — гребцы и артельщик. С ними спустились Соколов и женщина. Она неловко сошла по штормтрапу, неловко, по-женски, уселась в шлюпке. Гребли долго, перерезая течение, и все время она сидела с широко открытыми поголубевшими глазами, в которых отражались море и синева чистого неба. Там, где остановилась шлюпка, у каменной пристани, густо кучились лодки. Сквозило, переливалось золотом солнечных зайчиков зеленоватое морское дно.
Весь день они бродили по городу. Он водил ее по шумным, переполненным толпою улицам, пахнущим анисом и ладаном. В полдень они ходили по полутемному и прохладному Чарши, где на истертых каменных плитах, на разостланных коврах молчаливо сидели старые турки-купцы и под сводами галерей подувал легкий пахучий сквозняк. Под вечер обедали в греческой харчевне, ели шашлык, пили вино, темное и густое. И оттого, что нестерпимое над городом светило солнце, что остро пахло вином и анисом, у женщины хмельно кружилась голова, хотелось болтать и смеяться.
Вернулись они на пароход под вечер, усталые, на легкой лодчонке, в которой сидед молодой горбоносый гребец с черной, повязанной белым платком головою —«• он приложил ко лбу темную руку, улыбнулся, враз показав все свои зубы. И женщина взбежала на пароход веселая, немного хмельная, вся теплая от солнца, возбужденная впечатлениями дня.
А утром на другой день стало известно, что пароход пойдет в Смирну и Бейрут и дальше по большим средиземноморским портам — что в Россию вернутся но
скоро. И матросы, встречая на палубе женщину, шутливо ей говорили:
— Покатаетесь теперь с нами по морю, привыкнете к морской службе.
Весь июнь были в море. Подолгу стояли в Смирне, в большой круглой бухте, похожей на глубокую голубую чашу. И весь июнь легкий подувал над морем ветер, море было синее, город был в солнце; высоко над городом, на вершине холма, виднелась древняя турецкая крепость. Опять они бродили по базару, еще более пестрому, уходили за город, где по кирпично-красным дорогам тихо проходили верблюды, а на старых кладбищах высились недвижные кипарисы. Вечерами над улицами, над столиками уличных кофеен, в ярком свете электрических ламп, отбрасывая тени, беззвучно метались летучие мыши.
Так проходили дни. Пароход жил своею обычною жизнью. Женщине была непривычна и тяжела эта морская походная жизнь, так непохожая на береговую. Она улыбалась по-прежнему, глядела приветливо на матросов, но уж по одному тому, что ходил Соколов невеселый, заметили кочегары, что не все у них ладно. Недаром женоненавистник Кулаковский, лежа на взбитой койке, заломив за голову руки, говаривал чаще:
— Верьте моему слову: пропадет скоро хлопец...
В конце месяца опять шли в Зунгулдак. Перед тем дул норд-ост, море было сизое, без конца-края катилась по морю мертвая зыбь. Как всегда в большую качку, моряки были возбуждены, ели за обедом вдвое. Женщина, вдруг подурневшая, бледная, с синими провалами под глазами, неподвижно лежала на юте, где от больших черных клеток пахло птичником, недобро молчала и смотрела на ходившего за ней Соколова потемневшим, недружелюбным взглядом.
В Зунгулдак пришли в полдень. С моря был виден берег, иссиза-желтый, обдутый ветрами. Невысокие горы были покрыты лесом, с моря похожим на лохмсн ‘ тья старой овчины. Внизу желтел город, рассыпались рхряные домики, краснела поднимавшаяся в горы дорога. И казался городок неживым и безлюдным, скучным безмерно.
Всю неделю простояли на рейде, не подходя к берегу. И всю неделю зыбь шла с востока, по открытому .морю. Казалось* что море было живое — так тяжело оно
520
поднималось вверх и вниз, словно грудь человека. И небо было над ним как изнанка птичьего сизого крыла. Ближе к берегу на тяжелой воде качались железные барки и три парохода, каждый по-своему, вдоль и поперек зыби. Было тоскливо на них смотреть.
Женщина лежала внизу, на дне пустого трюма, где качка казалась легче. Всю неделю за ней бережно ухаживал Соколов, скучный и похудевший. Над ним подтрунивали кочегары, а он молчал терпеливо, теребил над лбом волосы, слушал, что бубнит по кубрику Ку- лаковский:
— Пропадет скоро хлопец!
Всю неделю пароход мотало на зыби. Поднималась и падала палуба, чертили по небу мачты, ходить по палубе было трудно. Ночами было душно, казалось, что падает, взлетает над палубой небо, было тошно глядеть на звезды, на отражения рейдовых огней в воде. Матросы спали, упершись в высокие бортики коек. Плавно колыхалась над столом лампа.
На восьмые сутки вошли в закрытую бухту. После многих дней голодовки женщина поднялась к обеду. Нетвердо ступила она на берег, на желтые камни мола. Болезненно жмурясь, чувствуя, что ходит и колышется под ногами земля, сжимая виски, она с трудом пошла за Соколовым в город, где на поднимавшейся от моря улице сидели продавцы овощей и раннего винограда, по которому кишмя ползали осы. И, не обращая ни на что внимания, с наслаждением опустилась под первое дерево, прямо на сухую теплую землю.
На пароход она возвратилась только вечером, когда зажигали огни. Запах парохода, краски и угля показался ей отвратительным. Борясь с тошнотой, закрывая лицо платком, она быстро прошла на ют и молчаливо одна просидела до ночи, с тоской смотря, как колышутся над водою красные и зеленые огни баканов...
А потом произошло все очень просто.
В Константинополе, куда пришли через день, женщина сошла на берег и не вернулась. Соколов, вдруг посеревший, весь день бегал по пароходу, ездил в город. А через день узнали, что она на «Бештау», что там у нее приятель боцман и,она у него в каюте и что они на днях уходят в Россию. На пароход она пришла на третий день, за вещами. Пришла просто, как приходила раньше, и только холоднее были ее глаза, чаще
521
и нервнее она поправляла прическу. С Соколовым она была молчалива и сдержанна, непоколебимо тверда.
В тот же вечер, сидя за столом, подперев угластую голову, жмуря маленькие карие глазки и шепелявя, Кулаковскйй говорил Соколову:
— Так-то, браток, не тужи. Выпьем по маленькой...
А Соколов сидел на койке измятый, светлые его волосы мокро прилипли ко лбу. В серых глазах была тоска.
Тогда же черный веселый лодочник, с глазами, похожими на чернослив, перевез их через залив к берегу. По воде плавали куски размякшего хлеба, множество мелкой рыбешки разбегалось под лодкой. Они сошли в том месте, где каменная набережная круто обрывалась в воду. Рядом грузился почтовый французский пароход, было видно, как быстро поднимаются на воздух и, медленно поворотившись, с грохотом опускаются в трюм тяжелые ящики. Все это матросам было знакомое, как крестьянам знакомо свое поле, и кочегары прошлр мимо, взглянув на пароход только мельком. Они прошли набережную, где в больших открытых кофейнях, раздвинув колени, сидели толстые люди в летних костюмах, с тросточками в пухлых руках, с круглыми обтянутыми животами. Кочегары прошли быстро, свернули в одну из боковых узких улиц, и тотчас их накрыл город, как вода накрывает брошенный на дно реки камень.
На углу узкой, вонючей, переполненной суетливою толпою улочки они зашли в знакомое заведение — небольшую комнату с мраморной стойкой и двумя парами столиков. Над входом в заведение красовалась вывеска, изображавшая моряка, танцующего с девушкой, оконные стекла были расписаны скрещенными разноцветными флагами всевозможных государств и стран. В углу за маленькие столиком сидели музыканты — флейтист и скрипач. У флейтиста была большая бритая голова, из ушей торчала вата. Моряков встретил сам хозяин заведения Лейзер, белолицый рыхлый человек с воспаленными водянистыми глазами. Он приятельски подал кочегарам руку.
Через час кочегары сидели за столиком, допивали водку, отдающую тмином, и Соколов хмелел. К ним подсела женщина с черными, как уголь, бровями, слушала равнодушно и2 положив на стул ноги* жевала
522
серу, выдувая лопавшиеся на губах пузыри. Соколов сидел у стола, подперев кулаком голову, волосы его мокро свисали на лоб. Он был хмелен, бледен, мрачн# глядел в одну точку.
Скрипнув зубами, он обхватил хрустнувший в ла** дони стакан, швырнул осколки на пол.
— Пропадай моя душа! — процедил он сквозь ежа-: тые зубы, смотря на стекавшую с руки кровь.
Лейзер, следивший за ними от своей конторки, при* вышний обращаться с гостями, насквозь знавший эти! больших детей, положил перо в книгу, подошел к ним и заговорил фамильярно-строго, подделываясь под матросский язык:
— А ну, хлопцы, выметайтесь. У меня благородное заведение!
— Брысь, чертова кукла! — сказал Кулаковский, грозно отстраняя его рукой.
Весь этот вечер кочегары бродили по узким галат- ским улицам, где их останавливали женщины, ломано крича вслед. Кулаковский шел упрямо, как бык, лок- тями раздвигая прохожих.
На пароход они притащились только поутру, растрепанные и хмельные. Два дня Соколов продолжал гулять, а на третий уходили вновь в море. Мимо плыли голубые берега, сновали над темной водою быстрые птицы. С утра Соколов работал внизу, в кочегарке^ В раскрытых топках яростно выло пламя, горячий воздух обвевал шею, голые руки. В обед уже были в открытом море, и когда кочегары сменились с вахты, над морем по-прежнему подувал свежий ветер, навстречу пароходу вольно катились соленые, высокие, с белою пеною волны.
1926—1954 ‘
ТАНАКИНО СЧАСТЬЕ
Это был маленький, сухой, с черными, жестко пробивавшимися на круглой стриженой голове редкими волосами, крепко сбитый желтолицый человек. Он умел хорошо улыбаться — тогда около его темно-лиловых глаз сборились сухие морщинки — и смешно говорил, цепко размахивая руками, мешая; русские, английские и японские слова. Звали его кратко: Танака.
523
На пароход он поступил в японском порту Кобе, где по пути из Гаваев неделю стоял пароход и матросы ходили на берег, знакомиться с маленькими смуглыми женщинами, дарившими им на память свои фотографические портреты. Он быстро и сметливо вошел в круг судовой жизни; на работе был jjobok, сдержан и молчалив; в обиходе — внимателен и чистоплотен; в еде — спартански воздержан.
В кубрике, среди русских, он был одинок. Койку он занимал верхнюю, над непутевым и беспорядочным Хитрово, и, как у девушки, было опрятно его светло- розовое одеяло. Всякий вечер, после работы, он ловко бегал по палубе на своих деревянных скамеечках-туфлях, долго и старательно мылся в нестерпимо горячей ванне и в кубрик возвращался свежо пахнущий баней, с перекинутым через плечо полотенцем. Он подолгу в одном белье сиживал на койке, подобрав под себя ноги, тихонько покачиваясь, и под белой вязаной рубашкой крепко желтели его руки, короткая шея. Случалось, улучив минуту, к нему подкатывал матрос Хитрово и говорил, шутовски тасуя английские и украинские слова:
—? Гив ми уан шиллинг грошей, а я тоби в четверг отгиберую...
Танака, улыбаясь, искал под подушкой портмоне, вынимал и клал в руку Хитрово белую монетку.
— Тенк ю! 1 — отвечал Хитрово, принимая монету и выкидывая смешной фортель. — Есть хлопцу на полрюмашки!..
Бывало, с ним пробовали заговаривать по-японски, ломая язык. И всякий раз он морщился, как от зубной боли, отмахивался руками, требовательно говорил:
— Спик, спик2 русски! Японски не умей. Спик русски... •
Тропики проходили в октябре. Днем жарко палило солнце; зелено-палевый, недвижно лежал океан. Иногда океан просыпался: стеною проливался над пароходом дождь, свирепо бушевал и ревел, перекидывая через трубу соленые брызги, тайфун. В Коломбо матросы сходили на берег, пили с ледяной водой виски, катались на рикшах. В Джедде в помощь кочегарам, изнемогав¬
1 Благодарю вас (англ.).
2 Говори, говори (англ.).
524
шим от зноя, приняли на пароход туземцев. В Александрии матросы и кочегары слонялись по тартушу, где длиннорукие, черные, пахнувшие касторкою женщины с порогов маленьких домиков цепко срывали с проходивших мужчин фуражки и зазывали матросов на всех языках мира.
В карты начали играть еще в океане. В кубрик по вечерам захаживал боцман, высокий, крепкий эстонец присаживался бочком на скамейку, и на столе появлялась колода карт. Как, водится, играли в очко, и тогда до позднего часу в кубрике плавал и колыхался над столом и стрижеными матросскими головами синий табачный дым. Звенели на столе деньги. Те, кто не хотел играть и у кого не было денег, лежали на койках! спали или в одних рубахах выходили на палубу, где чуть подувал теплый ветер, а по темно-синему небу густо и холодно рассыпались звезды. Слышно было, как плещется за бортом вода, как хрипит в черной трубе пар. Белеясь рубахами, матросы подходили к борту* глядели вниз, где в темной густой воде всё загорались кипели и волоклись за пароходом редкие светло-зеленые огоньки.
Случалось, постояв на падубе, Танака подсаживался к игравшим и, подобрав босые ноги, долго и внимательно смотрел на стол большими, темными, близорукими глазами.
— Сыграем, Танака? — в шутку приглашал его банкомет, выкидывавший на стол карты.
— Деньга мала! — отвечал он, почесывая голые локти,, широко скалясь.
— Ну, мало, — дразнили матросы. — А ты из-под подушки достань!
— Мала, мала, мала! — восклицал Танака, смеясь и показывая большие желтые зубы. — Понимай? Жена хорошо. Дома. Большой дома! Танака ходи, ходи! Ол райт!
Его слушали, посмеиваясь, занимаясь своим. Вечно злой, нездорово грузный и всегда голодный Бабела, игравший по маленькой и ко всему относившийся с насмешкой и завистью, щурясь заплывшими глазами, замечал зло:
— Мошна толстая!
— Мошна! Мошна! —* скалясь и сборя морщинки, повторял Танака понравившееся слово.
525
Изредка он захаживал в кочегарский кубрик, где помещались его земляки, черные узластые .люди, своим поведением мало походившие на трезвого и добродушного Танаку. Они буйно пили, носили в карманах складные ножи, и при ссорах ужасно было на ннх смотреть. Танака сбрасывал с ног деревяшки, подбирал на скамью пятки, и они долго беседовали гортанными громкими голосами. Однажды в кочегарском кубрике произошла ссора. Драку затеяли Танакины земляки, — они жестоко, через привинченный к палубе стол, резались ножами, и одному, самому из них пожилому, похожему на большую седую обезьяну, выпустили кишки. На берегу он лежал забинтованный, темный под желтизною кожи, непрестанно шевелил черными, запекшимися губами.
Весь долгий рейс Танака был строг и подвижнически воздержан. В Коломбо, в Александрии, в Константинополе он не истратил ни одного пенса, в пути был скромен и молчалив. К концу рейса все в кубрике знали, что у него в Японии осталась семья: жена и маленький сын, что он много лет плавал на каботажных японских пароходах, где платили по пятнадцати иен в месяц и кормили затхлым рисом, что мечта его жизни — скопить немного деньжонок и приобрести рыбачье судно — кавасаки. У берегов его родины много ловится рыбы, и такие легкие и веселые глядятся в воду хижины из бамбука и бумаги. И разве много надобно простому человеку, чтобы спокойно и счастливо любить семью...
Неведомо, почему, недолюбливали в кубрике Танаку. Быть может, скрытою причиною тому была память прошлой войны, быть может, более близкие времена: часть матросов была из Владивостока, где помнили, интервенцию, зверства японских офицеров. И потому, что его недолюбливали, что во мне нет недоверия к простому рабочему человеку, что когда-то, засыпая, я сам клал под подушку одетые в желтую кожу «Записки флота капитана Головнина», — этот маленький, желтый, сколоченный крепко человек возбуждал мое любопытство. И, угадывая мое расположение, он был со мною более, чем с другими, доверчив. На работе, когда требовалось быть вдвоем, на пару, как говорили матросы, он подходил ко мне, манил пальцем. Мы болтались за бортом на подвеске* где, свесив забрызганные суриком ноги,
52G
держа в руке кисть, он мурлыкал под нос свои гортанные песни. Однажды после работы, чистый, пахнущий баней и мылом, он подсел на мою койку и, улыбаясь, подал прозрачный вощеный конверт. В конверте был портрет маленькой, одетой в кимоно женщины с раскинутыми, как ласточкины крылья, черными узкими бровями, с высокой твердой прической. В тот вечер на палубе, путаясь в словах, он долго рассказывал мне о своем заветном. Он жмурил и открывал глаза, жестикулировал и что-то считал на пальцах. И так выразительно блестели его глаза, так были дружественно-доверчивы прикосновения его рук, ^то я понял без слов. Я понял, что он хотел поведать мне про. маленький бамбуковый домик, про зеленое море, игравшее при месяце береговой галькою, про высокие горы, похожие на огромные колпаки из серой бумаги. Маленькая женщина ожидает его... За десять лет тяжелой слуя^бы он скопил кое-какие деньжонки, надо прослужить еще два года: русские платят щедрее. Тогда он купит кава- саки с красивыми белыми парусами, станет ловить рыбу и не будет больше есть затхлый рис^ ссориться с боцманами...
-—О! — восклицал он, кончиками пальцев касаясь моего плеча. — Много, mhqfo хорош! Танака — сам капитан, Танака — сам боцман, Танака гуляй, гуляй...
Север почувствовали в Бискае. Дул и гулял ветер, окатывая вахтенных, летела через пароход водяная пыль, из мрака шла и шла на пароход зыбь. В Ламанш вошли ночью; синим, мертвенным светом освещая мачту и мокрую палубу, горел в руке вахтенного огонь фальшфейера, вызывавший с берега лоцмана. Ныряя по зыби, уютно светясь в иллюминаторах малиновыми занавесками, из мрака подвалил к пароходу лоцманский катер, и по штормтрапу на палубу поднялся человек в белом свитере под теплой пуховой курткой, подал капитану мокрую руку, привычно взошел на мостик. Две ночи человек в белом свитере не сходил с мостика, неутомимо шагая взад и вперед, на ветер роняя из трубки искры. На место пришли под утро. Сизело впереди устье, синяя мгла висела над берегом. В док вошли в полдень, вместе с приливом, иг как свой со своими, стал и замер среди других — чернотрубых, желтотрубых и краснотрубых — еще пахнувший морскими ветрами пароход. И в первый же день, отражаясь в мокром
527
асфальте, к пароходу на велосипеде подкатил высокий сухощавый человек в капитанской фуражке, снял с багажника связку проволочных крысоловок, поскрипывая протезом, похрамывая, с видом лорда поднялся на пароход; пробежали по самому краю набережной, мелькая голыми красными коленками и ни малейшего внимания не обратив на пароход, спортсмены-подростки; пришли и с места взялись за работу грузчики в коротеньких пиджачках и насунутых кепи. И все это — приведший пароход человек в белом свитере, синяя над городом мга, лордоподобный хромой крысолов и румяные спортсмены-подростки, куцые пиджачки досиня прокопченных угольной пылью рабочих, синевеющий над доками лес мачт и труб — была столь знакомая всякому моряку Англия.
В тот же вечер матросы и кочегары собирались в город. Они долго и старательно брились и чистились, неумелыми руками вставляли перед зеркальцем запонки, подвязывали галстуки, щетками чистили вынутые из чемоданов слежавшиеся костюмы. И город их принял и накрыл неприметно, как принимал ежедневно новых, приходивших из моря, стосковавшихся по земле людей...
В городе было светло и людно. Бегал, гремя на поворотах, ярко освещенный двухэтажный трамвай; лиловым светом горели круглые фонари; приветливо светились матовые окна «смокинг-румов», где вокруг высокой стойки толпились бритые люди с трубками в уголках твердых губ и с шарфами на синеватых от угля шеях. Как всегда перед берегом, матросы волновались смутным ожиданием счастливых ветрен (перед берегом больше, чем всегда, в кубрике говорилось о женщинах, и недаром так старательно завязывались галстуки и до зеркального блеска начищались ботинки). И в первый вечер ошеломительно веселым показывался город, ослепляли городские огни, нарядными и молодыми казались проходившие женщины. Зайдя на полчаса в кабачок, где коренастый и рыжий хозяин в жилетке, с выпущенными, подхваченными выше локтей белыми рукавами, наполнял высокие дивные стаканы, матросы выходили на улицу слегка хмельные и вместе с толпою долго двигались освещенными улицами, заглядывая в смеющиеся, мокрые от тумана, казавшиеся молодыми лица встречавшихся женщин. И многие воз¬
528
вращались на пароход только утром, когда, просыпаясь, гудел и синевел город...
В доке пароход простоял зиму. В декабре в городе начались забастовки: по улицам проходили черные от угольной пыли люди, спокойно курили короткие трубки, носили лозунги и плакаты. В доках стало мертво и тихо; неподвижно-холодные, дремали пароходы. Чаще и чаще на городской площади собирались люди. И все чаще и чаще взлетало и падало над толпою новое горячее слово: «Рошия, Рбшия! — Россия!..» Перед самым рождеством матросы бродили по большому базару, где желтыми ворохами высились апельсины; подолгу слушались ярмарочных зазывал, предлагавших шарлатанские снадобья, приглядывались и привыкали, как течет городская жизнь.
В январе матросам и кочегарам убавили жалованье, в феврале капитан рассчитал часть команды. И чем дольше и безнадежнее тянулась стоянка — тоскливее и однообразнее становилась пароходная жизнь. И потому, что не было на пароходе настоящего дела, что ночами сновали по койкам оголодалые крысы, матросы уже горевали о море, стало на пароходе худо. Началось с того, что матрос Медоволкин в кровь избил на берегу боцмана; пьяный, вконец опустившийся Хитрово забрел в каюту старшего помощника, спокойно пившего кофе, и ни с того ни с сего зло обругал его... И все чаще, азартнее резались матросы по вечерам в карты.
Казалось, один Танака не поддавался общему настроению. По-прежнему всякий день — пока держали на пароходе пар — он старательно и подолгу мылся в бане, а по вечерам спокойно восседал на своей койке, глядел на склоненные над столом матросские туманныо головы. Иногда, по воскресеньям, он надевал узкое с рыжетцой пальто, серую шляпу, уходил на берег. Там он заходил в бар и до позднего часа один сидел за стаканом' пива, смотрел и смеялся глазами, и никто ни единого раза не встречал его с женщиной. Доводилось, отправляясь в город и проходя мимо Танаки, стоявшего на вахте у трапа, матросы останавливались, и кто-нибудь шутя говорил:
— Идем, Танака, к девочкам!
— Девочкам, девочкам! — повторял Танака, широко скалясь и показывая зубы.
— Маруська, Маргарит, — понимаешь?
529
— Ходи, ходи! *- отшучивался Танака, толкая к трапу матросов, — Моя любит дома. Моя понимай! Хорошо...
Тем удивительнее была происшедшая с Танакою перемена. Однажды после обеда он сам сел за картежный стол и попросил карту. На него поглядели с удивлением; щурясь от дыма папироски, банкомет исполнил его просьбу. Танака долго и неумело подбирал со стола карты, шевелил губами, что-то считал. Каждую прикупаемую карту он старательно загораживал своими твердыми, негнувшимися пальцами и откидывался на скамейке.
— Моя, моя! — восклицал он, выкидывая на стол очко.
И то ли прорвалась в нем крепко сдерживаемая страсть, то ли проняло береговое сидение или велико было желание поскорее иметь кавасаки под белыми парусами, — с того памятного вечера Танака первый садился за стол.
Как бывает часто, поначалу Танаке сильно везло, он вскакивал на месте, хлопал по столу рукою, собирал и складывал в бумажник деньги. «О! — восклицал он, выигрывая и оглядывая окружавшие его матросские лица. — Танака, гуляй, хуляй!.. Ол райт!» Потом, как водится, счастье перевалило к другому. Этот другой был желторотый хлопец Гливинский. И случилось так, что на глазах всего кубрика потекли через стол заветные Танакины денежки в карман желторотого паренька.
За две недели Танака проиграл все свои сбережения. Он вскидывался от карт, взмахивал руками, и глаза его темнели. Потом он садился опять, судорожно хватал карты и яростно спорил с Гливинским. Глядя на Танаку, матросы посмеивались хитро:
— А ну, Танака, жги, жги!.. Отыгрывайся, Танака...
Ночью мне было слышно, как он всхлипывал и стонал, точно от нестерпимой боли. «О, о, о!» —выговаривал он, скрипя зубами и вдруг садясь. Виновник Танакиного несчастья Гливинский спал крепко, неслышно дыша, откинувши руку, и во сне был похож на девчонку...
Успокоился Танака сразу, точно окаменел. И мы рпять —в полдень—колыхались с ним на подвеске; дул 6 моря ветер, блестели на берегу лужи, перекликались
630
на соседних пароходах голоса, я тайком доглядывал на его молчащее, обтянутое желтой кожей, точно каменное лицо. Над ним, перевесясь через поручень* стоял Бабела и говорил, смеясь мелким смешком:
— Ну как, Танака, заплакали твои денежки?..
И Танака молча скалил в ответ зубы, темнел в лице.
Вскоре рассчитался и уехал Гливинский. Прощаясь, он ходил в новом синем костюме, курил папиросы, И, чтобы его не видеть, Танака весь день сидел у зем- ляков-кочегаров, о чем-то громко говорил и спорил. Наутро, с приливом, из дока уходил желтотрубый большой пароход, и было видно, как с него в последний раз махнул шляпой Гливинский, далеко увозивший Тана- кино счастье.
1927-1954
ЯШКА
Помню: синее-синее море, над морем синее — чуть зеленее — небо, в синем стоят — чуть чертят — тонкие мачты «Ольги», и теплый полуденный ветер сбивает с трубы седые плотные кудри дыма. И живо помнятся мне тогдашние береговые стоянки: яркое над морем и знойными берегами солнце; великое множество человеческих голосов, тел, лиц, рук, глаз; синеющая прохлада стамбульских мечетей и кипарисовая тихость Босфора; ослепительный Атос, знойная Александретта, Мерсина, Триполи, Смирна, Пирей, Бейрут, Яффа; шумные вечерние переулки Александрии и Галаты.
Помню ночные долгие вахты: полное играющих ввезд небо, ослепительно прекрасный над древним греческим морем восход солнца, первое легкое дуновение предутреннего бриза. Ошеломительный многоязычный и многоцветный человеческий поток, женские лица; помню себя самого молодым, легким, жадно вглядывающимся в светлый, просторный мир.
А еще помнится мне из этого дальнего года мой маленький волосатый друг, шимпанзе Яшка.
Купил я его в Порт-Саиде у. кривого араба-под- ростка. В те времена матросы занимались невинною контрабандой: в Смирне и Бейруте покупали всякио пустячные украшения и безделушки, в Александрии я Порт-Саиде — страусовые перья и табак. В Порт-Саиде
Ж
покупали матросы еще много всякой живой твари, и в кубрике было тесно от клеток с маленькими, жившими парами попугаями-неразлучниками, о которых рассказывали, что ежели погибал один — от тоски умирал и другой, от клеток с обезьянами и коробок с медлительными хамелеонами, вытягивавшими свои лапки...
Животных приносили на пароход арабы. Они наполняли палубу, толпились и кричали, размахивая руками, и можно было подумать, что на пароходе случилось несчастье... Весь день, пока разгружался и стоял в порту пароход, в канале, в зеленовато-мутной морской воде, точно лягушата, задирая на пароход курчавые головы, плавали голые коричневые арабчата, а сверху, с парохода, свесясь за поручни, глазевшие на них пассажиры изредка бросали в воду монету, и арабчата, как по команде, мелькнув желтизною пяток, ныряли, и через минуту одна за другою поплавками всплывали их круглые мокрые головы, и один из них показывал пойманную монету.
Яшку принес на пароход высокий араб с вытекшим глазом. Он долго таскал его по всему пароходу, держа на голом плече, прижимая к нему свою курчавую голову. Яшка сидел спокойно, по-человечьи держась за хозяина руками, печально поглядывая* на рассматривавших его людей. И то ли, что опоздал араб к разгару торговли или не умел соперничать со своими крикливыми земляками, — до позднего вечера он бродил по пароходу, и вышло так, что перед самым отходом Яшку купил у него я. Это был крупный самец шимпанзе, обросший густой шерстью, с серебряной — в виде полумесяца — серьгой в левом ухе, с поседевшей грудью* с черными ладонями маленьких рук, которыми он осторожно и цепко брал даже самые хрупкие предметы, со старушечьим лицом, на котором умно и печально глядели вертевшиеся в глазных впадинах недобрые темные глазки. Араб торговался долго, показывал на обезьяну, колотя себя в грудь, закатывая единственный глаз и жалобно скаля зубы. И мне показалось, что он жалеет продавать своего зверька. Показывая на серьгу в yxet улыбаясь, я спросил, как умел:
— Кардаш?.. Яхши?..
— О-о! — ответил он, раскачиваясь и прикладывая к голой груди свою темную руку. — О-о!.. Яхши* яхши!.. Хорош!..
532
Получив деньги, он передал мне конец тонкой цепочки, обвившей волосатую шею Яшки, раскинул острые колени, пружинисто опустился на своих тонких, сухих ногах и, посадив на палубу Яшку, чтобы пока- 8ать его умение, скомандовал громко:
— Селям!
Яшка обеими руками оперся о палубу, перекинул свой голый бородавчатый зад, смешно и жалко зашевелил бровями и, вытянувшись строго, приложил к голове козырьком руку, как это делают турецкие и египетские солдаты, отдавая честь.
Яшкой его оклйкали на пароходе матросы. И в первый же день оказалось, что у Яшки самый неуживчивый характер, что других самцов-обезьян он не терпит, при всяком случае ладит дать хорошего тумака, и его пришлось держать особо, на привязи. Местечко ему отвели под полубаком, в углу, на стружках. Он сидел покорно-печальный, брал от подходивших к нему матросов гостинцы, посматривал исподлобья, ловил и, рассмотревши в пальцах, не спеша казнил на зубах блох. Матросам он полюбился за скорую смекалку, за свой дерзкий характер, за умение выделывать всякие смешные штуки. К нему подходили, садились на корточки и говорили:
— Ай да Яшка! Молодчина! Не поддаешься!
И он смотрел снизу вверх, будто все понимая, жуя по-старушечьи губами.
— Яшка, селям!
Встряхнувши серьгою, подтолкнувшись, он быстро и отчетливо отдавал по-военному честь.
То лето — последнее перед мировой войной — я долго и счастливо скитался по широкой, теплой, обогретой солнцем и людьми земле. На пароходе я заведовал почтой. У меня было много свободы, я наскоро принимал и сдавал приезжавшим с берега чиновникам вапечатанные кожаные баулы, запирал почтовую кладовую и один уходил на берег — случалось, на целые дни. Так я бродил по горам над заросшею синими кипарисами Смирной, откуда море казалось синей, до краев налитой чашей; прятался от грозы в горах душной Александретты; блуждал в пальмовых долинах Бейрута, где земля на дорогах была горяча как жар. И все это время жил на пароходе, привыкал к людям и к морю наш маленький Яшка, по-прежнему баловали
533
его матросы, и случалось нередко, в слезовую минуту забредет к нему в угол подгулявший, расчувствовавшийся хлопец, сядет рядом и почнет изливать свое горе-тоску. Яшка смотрел человечески-понимающими глазами и говорил будто:
— А ну, дружок, не тужи, нам тужить— на белом свете не жить!..
И от полноты чувств крепче обнимал мохнатую его шею расчувствовавшийся хлопец, плакал п смеялся:
— Ты, Яшка, черт! Умница ты, Яшка...
В июне — это был самый жаркий месяц — мы подходили к Афону. Меня ошеломили, покорили красота мраморной горы, как бы летевшей над синим морем, белой от основания до горевшей на солнце вершины, и маленькие домики, прилепившиеся над нею на головокружительной высоте. И случилось — тогда я был молод, — сказавши два слова капитану, оставивши на пароходе Яшку, я съехал на берег.
Два йесяца бродил я по мраморным стежкам, нагретым солнцем, поднимался на мраморную вершину, где некогда высилась статуя Аполлона, бога солнца, сияние которого видели из самой Трои, по ступенькам, выбитым в скалах над синею бездною моря, спускался в почти недоступные жилища отшельников-каливитов, навсегда покинувших мир, отстаивал в полутемных храмах ночные бесконечные бдения, пил с бездомными сиромахами монастырскую водку ракичку, купался в море, где на глубине многих сажен было видно зеленое, призрачное, усеянное морскими ежами дно, ловил с монахами 'огромных омаров и доставал с морского дна осьминогов, из которых монахи делали кушанье. Однажды, садясь за трапезу и прочитавши молитвы, чернобородый иеромонах сказал нам тихим и дрожавшим голосом:
— В России началась война. Германия объявила войну...
Через три дня мы, спешившие в Россию, ожидали на монастырской пристани «Ольгу», возвращавшуюся из александрийского рейса. Ночь была тихая, тихое было море, тихо сыпались над морем звезды. Я отошел в сторону, на еще горячую от дневного зноя мраморную скалу, лег, глядя на звезды. И опять мне показалось — нет скалы, нет моря, я в мире один. Колю- дай краб пробежал по моей руке. Я поглядел в море:
534
там зажглась и двигалась желтая звездочка — это шла «Ольга».
И как обрадовался я палубе, свету, знакомым лицам, звеневшим голосам женщин, стоявших у борта... Яшка опять смотрел на меня своими понимающими глазками. А над людьми летало, трепетало новое слово:
— Война!..
Мы в Одессе, благополучно миновав Константинополь (Турция еще не объявляла войны), стоим у знакомого места. Но как неузнаваемо тревожен стал этот город, как беспокоен порт, широкие, обсаженные высокими деревьями улицы!
Вечером я ходил в город, где развевались флаги, над толпою гимназисты качали одетых с иголочки офицеров. Каким зловещим предчувствием наполнилось сердце! Вернулся я на пароход рано. На палубе, у входа в кубрик, валялся мертвецки пьяный Грищенко, никогда раньше не пивший, и по его молодому омертвелому лицу ползали мухи. В кубрике было тоскливо, тяжко храпел задремавший над неубранным столом богатырь Лоновенко...
В те суматошные дни мы забыли о маленьком Яшке. Он сидел на своем месте, грустно смотрел темными глазами. Однажды, во время перетяжки, он сорвался с привязи. Матросы кликали его, а он сидел на мачте под клотиком, свернувшись черным комочком.
Ночью он пропал.
В последний раз я видел его в день отъезда. Он лежал на берегу, на подсохшей, закиданной жеваными окурками земле, —- умирал. Говорили, что его придавило ящиком. Он судорожно, коротко вздыхал узкой грудью, смотрел поверх собиравшейся над ним толпы, и мелкомелко дрожали его маленькие темные ручки. Матросы стояли над ним, жалели, кто-то сказал:
“ Эх, Яшка, Яшка, не воевавши пропал!
1927-1954
ТУМАН
Я лежу на своей койке почти одетый. Над столом под жестяным крашеным абажуром горит висячая лампа. Смотрю на ее пламя —на раздвоенный желтый язык. Спиною ко мне сидит у стола Назаренко, при¬
535
шивает к штанам пуговицу. Снизу он кажется большим и широким, волосы его топырятся, левое ухо и скулы под лампою кажутся золотыми. Против него верхом на скамейке сидит Глухой в глубокой, по уши* шапке. Мне хорошо видно его освещенное лампой лицо: плутовато-равнодушные глаза, бритый подбородок, густые обвислые усы. Он смотрит на огонь щелочками глаз и, как всегда, неторопливо, насмешливо рассказывает о своей прошлой жизни. Надо мною, на верхней койке, храпит громко лысый Кот. Дверь в кубрик открыта, из нее тянет туманом, соленым дыханием моря. Чуть-чуть колеблется в лампочке под закопченным стеклом желтоватое пламя. И так тихо, недвижно вокруг, будто мы всё еще в открытом море, только не стучит машина и не качает морская волна.
Утром мы пришли из Зунгулдака, привезли уголь и жийых овец, широкоспинных, грязновато-белых^ с широкими грязными курдюками. Ими были тесно наполнены палубы, цередняя и задняя, ют. Покорно опустив горбоносые головы, переступая копытцами по железной обтершейся палубе, двое суток протомились они на пароходе. Когда пароход накреняло, они разом, валясь друг на дружку, падали на колени, спешили подняться, и было похоже, точно по их круглым спинам, как по морю, ходят волны. Двум овцам в пути сектором рулевого управления поломало ноги. Одну раздавило в бортовых кнехтах. Пара каким-то чудом оказалась в подшкиперской, и теперь их привязали в кубрике, под койкою артельщика Баламута, и завтра они пойдут в наш излюбленный, с красным перцем и помидорами, флотский борщ. Овец провожали их пастухи, полуголые, такие же горбоносые, обожженные солнцем, с открытыми бронзовыми плечами, прикрытыми простыми овчинами; всю дорогу провалялись они ра палубе под лебедками, укачавшись до полусмерти. Утром, исхудавшие, бледные под загаром, пошатываясь от усталости, они выгоняли овец по широким сходням в плоскодонные черные барки, подведенные к пароходу.
Я лежу на своей койке и вслушиваюсь в неторопливый гомон Глухого, борюсь с дремотой. Во всем теле приятная усталость, и, как в детстве, я жмурю глаза, и бегут, бегут к моим глазам от огня золотые стрелы- лучи.
536
— Прихожу я со службы, сундучок у меня за спиною, стучуся. Слышу, пытает меня за дверями: «Якой человек, чи добрый, чи злой?» — «Добрый, мамо, добрый, то ваш родный сын!» — «Воротився, сынку?» —•: «Воротився, мамо, топи печку да сустречай своего сыну...»
Кажется мне, что тонкий голос Глухого то отдаляется, то звучит совсем близко; я шире открываю глаза, вижу его широкое неподвижное лицо. Говорит он не спеша, нараспев, точно вычитывая, с каким-то — не то хохлацким, не то белорусским — приговором:
— «Ступайте, говорю, мамо, принесите мне закусить с пути-дороги и не лейте, не теряйте ваши слезы». Поворотився я по всей нашей хати: ага, видно, правду говорили мне добрые люди! Помолився я богу, сядаю за стол. «А где же, — пытаю, — женка доброго мужа, и почему я сядаю один, и какая тому есть причина?» Заплакала мамо горько: «Сыну, сыночек мой родный, нету твоей жинци...» — «То мне не новость, а где она будет?» — «Сынку, сыночек, будет она на сели, у больницы, у нашего фершалу, у Ермолаю...» — «Наливайте, говорю, мамо, наливайте мне горилки, с дальней моей дороги!..»
— Значит, сбежала, — чуть насмешливо говорит Назаренко, скусывая нитку и припадая к шитью угластой своей головою. в
— Доел я, допил, — не обратив внимания на замечание, продолжает вычитывать Глухой, — беруся за свою шапку. «Сыну, сынку, куда ты?» — «А то, мамо, сами будем ведать, а вы туточки посидите да мене дожидайте, бо скоро буду!» Выйшев я за вороты, пе- рейшел через речку, просидел в стогу ночку, утром к ней являюсь. Дом такой большой, желтый, кобель на мене брешет. Постучался я легонько. Отчинил мне сам фершал, и такой усатый, со сна весь в пухе: «Что вам, молодец, надо, чи вам к больному?» — «Никак, говорю, нет, не к больному, а дозвольте, говорю, у вас спытать, тут ли помещается Прасковья Михална, бо сильно мне надо». Закрутилися у него глазья. «А вы, говорит, кто кому будете и по какому делу?» — «Есть, говорю, я ей брательник и пришел повидаться». — «Хорошо, говорит, обождите!» Присел я на дровишки, ожидаю, палочка коло мене, посошок вязовый, кобель
537
на мене матуеится. Стал я от тошной моей скуки дразнить того кобеля. Вот выходит она ко мне сама, на голове платочек. «Ах, ах, это вы, Павло Петрович?» — «Да, говорю, я, и дозвольте, говорю, нам с. вами поговорить по тайному секрету». Побелела она тому моему слову, и опустилися у нее руки, стала как неживая. «Тут нам, говорю, неудобно, и могут нас услышать чужие, посторонние люди, прошу я вас за мною». Известно, я гляжу в землю. Пойшла она за мною вполне даже покорно. Пойшли по дороге, пройшли поповку, училище, яровое поле, вышли на погост на старый. «Стойте, говорю, тут остановитесь!» Стала она как лист передо мною. «Что это есть, говорю, и так ли сустречает жена доброго своего мужа?» А она как на мене глянет — и оземь. Поворотився я, пойшел потихоньку. Пришел ко своей хати. «Прощевайте, говорю, мамо, недолго я жил у вас, гостювал, пора хлопцу и в дорогу!» С того самого и ушел я в море...
Я слышу, как замолкает Глухой, и оттого прихожу в себя. Он по-прежнему сидит на скамейке, узкие его глазки задумчиво глядят на огонь, лицо печально. Назаренко, окончив штопку, угрюмо . поднимается со своего места, бросает штаны на койку, начинает раздеваться, поскребывая под рубахой.
— Эх, — говорит Глухой, вздыхая, — пора на вахту, браток! — Встает не спеша, подходит ко мне, трогает за плечо. *
Не спеша и покачиваясь, он выходит в дверь, слышно, как под его сапогами хрустит па палубе уголь. Я сажусь на койке, потягиваюсь, потом, накинув на плечи бушлат, выхожу за ним. Такой над заливом туман! Я стою на палубе, слушаю, как чуть плещется внизу невидная морская вода. Над городом широкое стоит зарево. Слышно, как где-то играет музыка, — справа или слева? Мы стоим в глубине Золотого Рога, за вторым мостом. Вокруг ближайших огней дрожат радужные неподвижные круги. Я стою так минуту и иду в кубрик: до вахты у меня остается немного.
Я ложусь и дремлю, и опять, быстрые, неуловимо скользят надо мною сны. Вижу Россию, свою деревеньку, и будто много-много народу, бойкая ярмарка, и визжит на возу гармонь, а я совсем маленький, и у меня в руках петушок* и кто-то с усамид как у Глухого* мне шепчет в самое ухо:
538
— Спишь, братишка? Пора на вахту.
Меня будит Глухой; он холодный от ночного воздуха, несет от него морской сыростью и туманом.
— Ну и туман, — говорит он, передергиваясь плечами, — как в Крыму — всё в дыму...
Разбудив меня, не отходя и посапывая, он начинает торопливо раздеваться. И когда я выхожу на палубу* в тумане над невидимым городом широко разливается зарево, чуть слышно звучит не то музыка, не то далекие голоса. Я один, совсем один слушаю потонувший в ночном тумане таинственный город. Осторожно иду по сложенным на палубе люкам. Под ногами хрустит каменный уголь. Прохожу на заднюю палубу, где пахнет камбузом и тускло светит на вантах фонарь* останавливаюсь у фонаря, долго смотрю на воду-* в густое молоко тумана.
За спиною у меня шаги. Я поворачиваюсь, вижу выходящего из тумана человека. Он не спеша подходит, в свете фонаря вижу его мокрое от росы лицо с большим крючковатым носом.
— Здравствуй! — говорит он, подходя близко.
— Здравствуй, — отвечаю я. — Ты тут чего?
Он подвигается еще ближе, я чувствую его запах — запах мокрой одежды и табака, — протягивает руку, показывает вниз, в молочно-белый туман, где должны стоять груженные углем барки.
На его голове мокрый башлык с двумя свисающими концами, на ногах солдатские тяжелые башмаки, за плечами на веревочке — винтовка. Даже при тусклом свете фонаря видно, как костляво и черно его лицо, как длинен, сух и горбат его нос.
— О! Много вор, много разбойник! — говорит он, и я вижу, как шевелятся на его лице черные брови.
Туман густой, осязаемый, молочно-белый, от него все влажное, неприятно холодное: волосы на голове, одежда, борта парохода, и слышно, как падают на железную палубу тяжелые капли.
— О-о... — вздыхает сторож.
Он угощает меня папироской, белая коробочка дрожит в его мокрой руке, закуривает сам, и огонек алеет у него под усами.
— Русски — кардаш! — улыбается он, глядя на меня верными глазами.
Ты был в России?
539
— Был! Был! — поспешно отвечает он. —■ Феодосия был, Одесса был* Батуми был... О!.. Кардаш русски, товарищ!..
Он подступает совсем близко, почти прижимается к моему рукаву, и произносит с каким-то детским восторгом:
— Турецки рабочий человек, русски рабочий человек — браты. Кончал война.
И он говорит о том, о чем во всех уголках города говорят такие же, как он, простые рабочие люди. О своей ненависти к англичанам, о братской любви к России, о том, что уже близко-близко новые, счастлй- вые времена, когда поднимутся на своих врагов все бедные люди. Я слушаю его, думаю, как могло случиться, что вот мы стоим здесь, в тумане, недавние враги? Или это породнила нас наша беда, общая наша доля: голый голому всегда брат... Удивительные люди, удивительные времена! И, думая так, вдруг начинаю чувствовать, как поднимается в моем сердце к этому чужому простодушному человеку счастливая человеческая близость, ощущение которой всегда .было мне дороже всего...
Мы стоим молча, думаем каждый свое. Вдруг ои напрягается, вытягивает шею, затихает. В мою сторону он протягивает руку с растопыренными пальцами, приглашая молчать. Я вслушиваюсь, вглядываюсь в туман и ничего, кроме однообразного тутуканья падающих на воду капель, не слышу. Сорвав с плеча винтовку, сторож вдруг бросается к борту; я на мгновение вижу его искаженное лицо, вижу, как, переваливаясь через борт, он кричит кому-то в туман отрывистые непонятные слова, слышу сухой лязг затвора — и, один за другим, пять выстрелов, сухо и одиноко утонувших в тумане. Слышу плеск, надсадные голоса, и опять над заливом, над городом, над мачтами парохода висит густая, неподвижная, белая, почти страшная тишина...
Сменяюсь утром, когда уже светло, солнце начинает справляться с туманом. Видно, как слоится туман, разорванными клочьями тянется над водою; из него смутно выпрастываются очертания темных барок, высокая корма рядом стоящего парохода. Я иду в кубрик, раздеваюсь. После бессонной ночи немного кружится голова. На столе готовы чай и завтрак. Как всегда по утрам, перед работой, матросы сосредоточенно
540
молчаливы, почти суровы, едят тороплйво. Как всегда, Глухой, делая лукаво-строгое лицо, говорит мальчику Вале, сыну кока, плавающему в учениках:
— Чи все у вас в Бахмуте, как ты, здоровы дрыхнуть? Вот подожди — в другой раз, коли спать долго будешь, окачу водой из-за борта...
Позавтракав, я ложусь (после ночной вахты полагается отдых) — и сплю и не сплю: слышу пронзительный грохот лебедок, голоса грузчиков-рабочих, чувствую, как врывается в кубрик свежий, пахнущий влагою и угольной пылью воздух. В обед я ухожу на берег: меня перевозит в легкой, как скрипка, пахнущей сандаловым деревом лодчонке старый лодочник-сандалджи в старой, потемневшей феске на стриженой седой голове. Он привычно гребет старческими сухими руками, распуская по воде весла, и при каждом взмахе раскрывается его узкая грудь — черная от загара, покрытая колечками серебряных волос. В лодочке чисто и сухо, так ласково пригревает сверху полуденное солнце, так сладко кружится голова! Я гляжу на его лицо, на его руки, на вытянутые ноги в шерстяных грубых чулках, упирающиеся в кипарисовую перекладину, и мне неудержимо вдруг хочется сказать ему что-нибудь очень хорошее.
— Турецкий рабочий человек, русский рабочий человек — братья! — говорю я. — Кончал война.
— Кончал! Кончал война!—радостно кивает он мне своею черной, коротко обстриженной головою. — Русски человек — кардаш!
Он подвозит меня к деревянным скрипучим мосткам, вокруг которых жмется много таких же легких лодчонок и сандалджи* в фесках, старые и молодые, с запекшимися лбами, сидят на солнце, положив на колени длинные темные руки.
Я расплачиваюсь, иду в старый город (я не терплю той, «европейской», банковской его части, где шумит и сверкает огнями Пера, где в публичных домах Галаты пьянствуют англичане и американцы, слышатся пронзительные крики уличных торговцев), прохожу греческую часть — вонючий и чадный базар, поднимаюсь мимо нестерпимо грязных палат «вселенского патриарха»я иду на Чарши и дальше — в древний Стамбул, вымерший город, где солнце, мертвая тихость домов, кладбища и над ними зеленая тень старых платанов. 1926—1954
541
ТУМАННЫЙ БЕРЕГ
Лоцмана взяли у входа в Маас. Он поднялся по штормтрапу, привычно взбежал на капитанский мостик, сунул капитану мокрую соленую руку. Я с любопытством смотрю на него, на румяные, крепкие его щеки, на короткую обкуренную трубку в зубах, на конопатые’ заросшие золотистою шерстью руки. Настоящий морской волк — потомственный и почетный!..
Над серо-стальной темнеющей линией морского горизонта дымят корабли. Эти * дымящие корабли идут со всех сторон мира. Впереди тонкой полоской туманится низкий берег.
Медленно входим в широкое устье реки. Мимо плывут берега, изрезанные каналами, пустырями, желтеющими полосами песчаных дюн. За краснокрышими береговыми домиками, похожими на игрушки, пасутся стада коров, стоят смоленые рыбачьи паруса. Две ветряные мельницы медленно машут крыльями, напоминая пейзаж* знакомый по знаменитым голландским картинам.
Идем час, другой. Скользя по течению, мимо плы- , вут пароходы, большие и малые парусники — англичане, норвежцы, голландцы. Краснотрубый, порыжевший от лучей тропического солнца пароход под небесно-голубым флагом проходит так близко, что видим зубы и белки глаз на загорелых лицах стоящих у поручней матросов. Люди, стоящие на палубе встречного парохода, приветливо машут руками. Этот порыжелый бразильский пароход — старый знакомец: год назад наши моряки видели его на рейде Шанхая. Издавна ведется на море: моряки узнают старых знакомых и, встречаясь на широких путях кораблей, радуются, приветствуют друг друга.
Швартуемся в тридцати километрах от большого портового города, у пристани суперфосфатного завода. Вечером схожу на берег. Прохожу пропитанный испарениями завод, заводские открытые ворота, где пирамидою составлены велосипеды. Один выхожу на дорогу. Город впереди играет бесчисленными огнями, над ним стоит светлое зарево. Пахнет болотом, морем, заводской кислотой. Небо низко, облачно, темно. Странно оказаться вдруг ночью одному на чужой земле, на голом, неприветливом пустыре!., Иду наугад,
542
держа путь на городские, играющие в темноте огни. Под ногами хрустит, рассыпается морской крупный песок. Автомобиль, выбежав из-за поворота, вдруг ослепляет огнями...
Наугад, пустырями, подхожу к рыбачьему городку* перехожу линию железной дороги с тускло блестящими* убегающими в темноту рельсами. Городок мал, ночью очень похож на театральную декорацию. На маленькой городской площади чисто и безлюдно, пахнет селедками. На углу уютно светятся стеклянные двери простонародного бара. Темны пеширокие прямые улицы с редкими, ярко освещенными лавочками, в которых с аппетитною аккуратностью разложен на полках скудный товар, висят гроздья бананов. У порогов крошечных домиков с наглухо закрытыми ставнями сидят и стоят люди, краснеют огоньки трубок. Дети перебегают улицу, выстланную камнями, смеются/ В глубине улицы слышится музыка, театрально колышутся огни. Музыка играет что-то знакомое... Толпа надвигается быстро, над головами идущих людей колышутся ацетиленовые фонари, знамена. Я останавливаюсь, смотрю вслед удаляющейся толпе. Что это? Рабочая демонстрация, религиозное шествие, национальный народный праздник?.. Ночь обманывает. И опять театральной декорацией кажется маленькая площадь, улица с кирпичными кукольными домами. Проводив шествие, захожу в простонародный бар. Два человека в рабочих куртках и кепи с треском гоняют шары на оклеенном сукном маленьком бильярде. На уставленном стаканами прилавке сидит большой дымчатый кот. Очень похожий на кота хозяин бара с засученными по локоть рукавами приветливо здоровается с гостем. Он наливает пиво, присаживается рядом к столику. Огромный кот, ласкаясь, прыгает на колени. Мы сидим, пьем жидкое пиво, дружески улыбаемся. Хозяин спрашивает, кто я и откуда. «О! — восклицает он с величайшим изумлением.—Большевик! Русский! О, о!» — повторяет он, принося пиво и угощая меня. Оставив бильярд, рабочие подходят ко MHet товарищески, дружески жмут руку...
Позднею ночью возвращаюсь на пароход. Опять долго блуждаю среди каналов и пустырей, теряюсь в бесчисленности далеких огней. Туман поднимается над землей и рекою, шуршит под ногами мокрый песок...
543
* * *
Перламутровым ранним утром игрушечный поезд «кукушка», фукая паром, трясясь, увозит меня с окраины чернокаменного просыпающегося Амстердама в провинциальнейший , Фолендам — старую Голландию ветряных мельниц, каналов, плотин и всего того, что знаем лишь по картинам. Состоящий из крошечных вагончиков поезд гремит и трясется, со скрипом останавливается на станциях, где из вагонов выходят пассажиры с мешками и складными удочками за плечами; медленно тащится по самому берегу заплывшего ряской канала, сотрясая подгнившие сваи, от которых кругами разбегаются волны, колеблющие отражения красно- крыших кукольных домиков. Покуда глаз видит — расстилаются зеленые пастбища и болота, а на них — стада черно-пегих сытЬга коров. Коровы пасутся, спокойно пережевывая жвачку, глядят на грохочущий поезд. Над пастбищами стелется легкий, розоватый на восходе солнца туман, белыми хлопьями взлетают и падают чайки. Охотничий глаз примечает хохлатых чибисов, водяных курочек, плавающих в каналах. Длинноногая серая цапля дремлет на самом берегу канала, спокойно поглядывая на проплывающую лодку, в которой стоят две коровы, а человек с трубкой в зубах упирается в берег длинным веслом. Раскрасневшаяся девушка в белой наколке, с привязанной к велосипеду корзиной, катит по гладкой, асфальтированной дороге.
Место, по которому едем, некогда было дном моря, отвоевано у моря людьми, веками строившими здесь знаменитые плотины. На бывшем дне моря краснеют черепитчатые крыши домов, машут крыльями ветряные мельницы. Звеня и шипя, поезд вкатывает прямо на улицу маленького городка с каменными домами, в окнах которых близко видим лица людей.
В тесном вагончике, поставив у ног плетеные сумки, сидят рыбаки — старик и старуха. Они точно такие, каких мы видели на голландских старинных картинах. У старика бритое, в глубоких звездообразных морщинах лицо; на худой морщинистой шее оставлен клок бороды. На старике круглая шапочка, теплый глухой жилет с пуговицами, непомерно широкие, со складками у пояса старинные панталоны. Старуха чиста, опрятна, такие же глубокие морщины лежат на подсушенном
544
ветрами лице. Она по-праздничному в белом, с выпущенными накрахмаленными уголками, средневековом чепце, в теплой стеганой кофте, обтянувшей ее плечи, в широкой сборчатой юбке, из-под которой выставляются кончики расписных деревянных башмаков. Старики сидят чинно, не шевелясь, неловко положив на колени свои большие, натруженные, обветренные руки.
Схожу на последней маленькой станции. За мной хлопотливо торопятся старик и старуха, величественно появляется из переднего вагона клетчатый американец- турист, помогая спутнице в темных роговых очках сойти на усыпанную песком и ракушками землю.
По освещенной жидким осенним солнцем, выстланной кирпичом дороге поднимаюсь на высокую старинную плотину. Впереди, над деревянной пристанью с черными лодками-баркасами, открывается, уходит в туманную даль зеркальная гладь залива. Направо и налево, вдоль гребня плотины, вытянулся рыбачий городок: крошечные домики с черепитчатыми крышами. Вот, стуча деревянными башмаками, совсем как в детском театре, из-за угла выходят два человека в широченных рыбачьих панталонах и, посасывая трубки, степенно спускаются на пристань, где сушатся смоленые паруса, бросая прозрачную тень, развешаны облепленные водорослями сети. Люди в деревянных башмаках неспешно проходят по скрипучим мосткам и, заложив руки в карманы, отражаясь вместе с пристанью и черными парусами, останавливаются над водою. На длинной каменной скамейке, греясь на солнышке, сидят скрюченные ревматизмом старики рыбаки. Они сидят, опустив морщинистые головы, сцепив на коленях не- гнущиеся, опухшие в суставах пальцы. И т'очно для того, чтобы подчеркнуть их убожество и древность, возле них стоит, прикрываясь рукою от солнца, веселая маленькая девочка в фартучке, в деревянных башмачках. Девочка срывается, бежит, грохоча башмачками, вдоль длинной, похожей на декорацию улицы.
Не торопясь (рыбачий городок так мал, что некуда торопиться) я прохожу следом за убежавшей маленькой девочкой. На черепитчатых крышах домиков свистят скворцы. В открытые окна и двери видна внутренность жилищ рыбаков: очаги с медными, до блеска начищенными украшениями, блестящие чистотою иолы, узенькие пороги, у которщх стоят большие и малень-
18 И, . Соколов-Микитов, Т. 1 545'
кие деревянные башмаки, по величине и количеству которых можно знать точно о хозяевах дома. Женщина в простом черном платье и белой косынке спускается к морю, неся на коромысле белье. У женщины открьь тая шея, голые по локоть руки, из кармана широкой* в складках юбки торчит недовязанный чулок. Широкоплечий молодой рыбак в круглом картузике, с платком на шее, с белесыми густыми бровями на крепко загоревшем лице, приветливо здоровается со мной. На дверях маленькой лавочки развешаны женские чепцы, башмаки, бусы. В кукольно-маленькой церкви звонит колокол, и по- разводному мостику в церковь проходят женщины в праздничных крахмальных чепцах, с маленькими молитвенниками в руках...
На берегу, над пристанью, у старого низкого здания толпятся молодые и старые рыбаки. Я заглядываю в дверь. Там складывают на весы пересыпанную льдом камбалу —- ночной улов. Рыбаки вытирают мокрые руки, набивают и закуривают трубки, подходят к оконцу, где толстый скупщик неторопливо отсчитывает серебряные и медные монеты. Позванивая в кармане скудными деньгами, рыбаки заходят в маленький кабачок, чтобы выпить по стакану пива.
Городок кукольно мал, беден и чист. За утро можно несколько раз обойти его из конца в конец, насидеться в кабачке вместе с веселыми, приветливыми рыбаками, добывать на плотинах за городом, где с одной стороны открываются исчерченные каналами пастбища, а с другой —- зеркальная гладь морского залива. В обед захожу в крошечный ресторанчик, где уже сидит клетчатый американец с очкастой американкой. На бритом лице американца и тощей его спутницы — тупое, надменное равнодушие. И какими выразительными, добродушными — в сравнении с мертвыми лицами американцев — кажутся мне лица простых рыбаков!..
* * *
Комфортабельный поезд электрической дороги, блистая лаком, стеклами зеркал, мчит с поразительной скоростью, чуть клонясь на поворотах.
За зеркальными окнами вагонов плывут освещенные солнцем пастбища, поля, красные крыши ферм* машущие крыльями мельницы, города, заводы. Поезд
546
!'
мчит, плавно покачиваясь, пламенно вспыхивая на солнце широкими стеклами окон. В вагонах на пахнущих кожей диванах, дымя сигарами, сидят чисто одетые люди. Они равнодушно глядят на проплывающие за окном пастбища, на бесчисленных велосипедистов, растянувшихся по длинной ленте шоссе, на раскинувшиеся поля цветущих тюльпанов.
Люди едут, не снимая шляп и пальто. Точно трамвайные остановки, мелькают названия городов: Амстердам, Лейден, Хаарлем, Гаага... Маленькая страна здесь похожа на цветник-сад. У подножий ветряных мельниц пестрым ковром расстилаются поля, сплошь засаженные цветами...
Город ошеломляет шумом, движением, людной теснотою улиц, необычайным обилием велосипедистов, движущихся по улицам непрерывным потоком. Главное в городе — порт. Как реки в море, сюда вливаются городские людные улицы, текут потоки велосипедистов, автомобилей, движутся толпы рабочих. Торговый порт Роттердама велик и туманен. Огромные океанские корабли, сверкающие чистотой корпуса трансатлантических пароходов-экспрессов, неуклюжие грузовики, грязные угольщики, стройные парусники и яхты, живое, движущееся месиво буксиров, рундфаров, моторных барж, паромов, густой лес мачт, флагов, труб, кипящая, взбудораженная движением судов, плещущая в каменную пристань вода... На каменной набережной ряды пароходных и банкирских контор, агентств, вывесок, медных и мраморных досок с именами владельцев, штабеля ящиков, тюков, бочек, потрясающий грохот лебедок, передвижных кранов, шараханье стрел, оттяжек, блоков... За широкими зеркальными окнами, в уюте кабинетов, удобных вращающихся кресел, конторок и бюро, скрипе сафьяна, в дыму кепстена1 и гаванских сигар властвует незримый простому глазу всемогущий, всеправящий мир гульденов, долларов, фунтов...
Весь день брожу по шумному городу, из улицы в улицу, из квартала в квартал. Набережные каналов, торговые улицы, людные площади, магазины. У разводного моста толпою стоят велосипедисты и пешеходы. Вращая железную ручку, мост медленно разводят два человека с трубками в зубах, с теплыми шарфами
1 К е п с т е н— душистый трубочный табак. 18* Ш
на сизо-багровых коротких шеях. Внизу, на маслянисто вздыхающей воде, изломно отражающей небо, набережную и головы людей, попыхивая кольцами синего дыма, проходит моторная баржа. Необыкновенно рослая женщина-шкипер, положив на штурвал руки, высится монументом над палубой баржи. Из кармана широкой юбки торчит клубок с воткнутыми блестящими спицами и недовязанный шерстяной чулок. Огромная, похожая на волка собака, стуча костями по железу, с лаем носится по палубе баржи. Не торопясь, не выпуская штурвала, женщина достает из кармана деньги, опускает монету в спущенный на веревочке башмак — плата за разводку моста. Толпа терпеливо ждет, смотрит вниз на играющую радужными пятнами воду, на проплывающую под мостом баржу, на похожую на монумент женщину-шкипера и лающую собаку...
Многолюдная толпа выносит меня на предпраздничный городской базар. Отдавшись течению, я скорлупкой плыву в густой толпе. У накрытых парусиной палаток, набивая на губах пену, кричат, звонят, стучат молотками бесчисленные зазывалы — продавцы сигар, подтяжек, цветочных луковиц, безопасных бритв... Груды овощей, фруктов, обрызганных водою живых цветов... На минуту я останавливаюсь у палатки, где, быстро двигая локтями, торгует селедками красавица рыбачка в крахмальной кружевной наколке... В конце базара, взгромоздившись на ящик, окруженный толпою зевак, выкатывая страшно белки, ораторствует черный, как вакса, шарлатан, предлагающий чудодейственное, волшебное лекарство, излечивающее все болезни...
* * *
Железный двухэтажный паровой паром, снизу доверху нагруженный автомобилями, грузовыми платформами, ручными тележками, наполненный многоголовой разнолицей толпою, перевозит меня на другой берег. Река кипит, плюется пеной, сердито хлещет в железные борта парома. Лес мачт, высокие стены корабельных корпусов смыкаются широким кругом. Быстроходные катера, переполненные людьми рундфары, похожие на черепах баржи, хлопотливые буксиры во всех направлениях пересекают и волнуют мутно-зеленоватую воду. Паром останавливается у набережной боль¬
шого острова. Здесь живут малайцы, чинезы — цветные «подданные» королевы Нидерландов, которым запрещено проживание в центральных частях городов. Я всякое утро вижу этих смуглолицых,. желтокожих, сильных и стройных людей, одетых в забрызганные краской, известкой, пропитанные маслом и угольной пылью рабочие костюмы, направляющихся в автобусах и трамваях на окраины города на черные работы...
Я ступаю с колыхающейся палубы парома на каменную набережную, прохожу мимо невысоких, грязных, серых от копоти и грязи домов и лачуг. Окна жалких харчевен занавешены синим ситцем, в окнах лавчонок выставлен дешевый товар. На углу узкой улицы одноглазый старик чинез продает какую-то мокрую снедь. В глубине площади, у бетонной глухой стены, отгораживающей жилые кварталы от доков, гудит
уличный орган. Маленький сморщенный человек вертит ручку органа. Другой, однорукий человек, держа смятую шляпу, стоит на дороге. На асфальтовом тротуаре, схватившись руками, танцуют девчонки-подростки...
Много раз прохожу улицей, стараясь заглянуть во внутренность таинственных харчевен и ночлежек, и наконец решаюсь зайти. Сухой желтолицый человек в круглой шапочке на выбритой голове, стоя у конторки, смотрит на меня удивленно. Я знаками объясняю, что хотел бы посмотреть, вежливо прошу разрешения. Желтолицый человек приветливо кивает головой, продолжает заниматься своим делом. Я захожу за пере¬
городку, оклеенную бумагой. Там стоят низенькие столики, расставлены раскладные узкие кровати. Кто ютится и живет в этой грязной трущобе? Жильцов в рабочий час здесь нет. За клеенчатой занавеской вижу
полки с посудой, синие грязные фартуки, чувствую
гнилой запах еды. Проходить дальше не решаюсь...
Долго брожу, приглядываясь к жизни грязных рабочих кварталов, ничем не похожей на шумную городскую торговую жизнь. Возвращаюсь на маленьком пароходике — рундфаре, бегущем от пристани к пристани, битком набитом портовым людом. Со мною едут рабочие-малайцы. С чувством влецения вглядываюсь в их смуглые лица, в темные глаза. Высокий темнолицый малаец с мелко курчавящимися, точно покрытыми сажей волосами, блестя желтоватыми белками глаз, рассказывает что-то такому же темноволосому и темно¬
549
лицему соседу, курящему папиросу. Глаза его влажны и печальны. Я дружески всматриваюсь в его лицо, вслушиваюсь в гортанную речь, думаю:
«Как, должно быть, хорош ты был у себя на родине, под опалившим тебя тропическим солнцем!..»
* * *
Снимаемся на заре утром. Еще бегут, дымятся над водою клочья ночного тумана. Подняв паруса, белыми чайками стремятся на взморье спортивные яхты... Мы разворачиваемся, идем серединой широкой, сливающейся с туманными берегами реки. Два парохода — англичанин и итальянец — идут впереди нас. Лоцманы — старый и молодой — стоят на капитанском мостике, наверху, и опять проплывают мимо плоские берега, красные крыши береговых построек. Медленно обходим уголыцика-итальянца. Положив на поручни голые локти, на нем стоят, курят трубки черные от угольной пыли кочегары с платками на закопченных шеях. Море открывается просторно, и в нем, покуда “видит глаз, идут, дымят бесчисленные корабли...
1929-1954
ПУТИ КОРАБЛЕЙ
Из Роттердама вышли на седьмой день утром. Всю неделю я скитался по удивительной стране, казавшейся игрушечно-маленькой после неохватных просторов родных полей и лесов. Я метался из края в край этой страны в электрических, сверкающих лаком и зеркальными стеклами поездах, гулял по аристократическому пляжу Гааги, сиживал в скромных рыбачьих пивнушках со степенными, молчаливыми, обутыми в деревянные башмаки рыбаками. Всю неделю я вставал с солнцем, ездил, ходил, слушал, смотрел... Плоский, пасмурный, весь из темного камня, так похожий на невскую нашу столицу Амстердам, шумный, обширный порт Роттердам, благообразный Цаандам*, заплывшие зе-
1 Так называют голландцы небольшой городок в Предместьях Амстердама, где некогда русский царь Петр обучался корабельному мастерству и где до сих пор сохраняется домпк Петра, наполовину вросший в землю.
550
левою ряскою каналы, поток велосипедистов на улицах и дорогах, базары и толкучки, бедные кварталы чернорабочих-малайцев и голландских чинезов, разносчики цветов и уличные продавцы селедок, загородные пастбища и болота, бесчисленные каналы и канавы, ветряные мельницы и у подножия их засаженные тюльпанами поля; куда ни поведи глазом — стада чернопегих сытых коров, красные черепитчатые крыши домов, падающие над каналами белые чайки и хохлатые чибисы на прибрежных кочках, шумные набережные, разводные мосты, плотины, старинные сокровищницы- музеи, хранящие произведения великого мастерства, рыбацкие чистенькие домики со скворцами на.черепитчатых крышах — и опять городской несмолкаемый шум, автомобили, банки, конторы, густой , лес флагов, мачт, труб, блеск зеркальных витрин и медные глотки отходящих в океан пароходов, — безостановочная, непрерывная, неумолкаемая суета сует!..
Накануне отхода я возвращался на пароход ночью. Над городом, над Маасом, над загородным шоссе стоял густой, непроницаемый молочно-белый туман. Автомобиль катился в нем черепашьим ходом. В молочно-призрачном месиве тумана вырастали, жутко увеличиваясь, огни встречных фар. Мы подвигались медленно, останавливаясь у каждого поворота. У суперфосфатного завода, где, вздымаясь смутною массой, стоял пароход, расплачиваясь, я увидел усталое, бледное, мокрое от тумана лицо шофера.
Утром на палубе растекались лужи пресной воды; над рекою и берегами ползли клочья растаявшего тумана. От пристани отошли поздно, когда совсем поднялся туман, одна за другой побежали вниз по реке красивые белопарусные яхты... Мы шли в море, к устью Мааса; справа и слева лежали плоские берега. Неряшливый черный угольщик заступил нам дорогу. Два крепыша лоцмана, положив на поручень волосатые короткие руки, сердито бранились между собою...
С чувством увеличивающейся радости я смотрю в приближающееся море, где пролегает широкий древний путь кораблей.
Мы выходим в море, прощаемся с лоцманами, дружески пожимающими нам руки. Море светло и спокойно; бескрайним чудится горизонт: недвижные
стоят дымки пароходов. Ночью проходим Ламанш
в- беззвучной черноте ночи видны огни Дувра; слева, едва различимый, открывается луч французского маяка. Справа и слева мерцают, плывут огоньки кораблей...
Долго стою на пустынной палубе, вслушиваясь в безмолвие ночи, вглядываясь в мерцание далеких огней. Потом спускаюсь в каюту, где уютно горит над столом лампа, лежит на столе тетрадь. Я .записываю два-три слова и опять спешу наверх.
Засыпаю только под утро, а когда просыпаюсь, уже светло, дрожит, чуть покачивается пароход. И я выбегаю на палубу, гляжу в открывшийся океан. На пароходе по-походному чисто и прибрано. Привычно расхаживает по мостику вахтенный штурман; что-то высчитывает в рубке над картой, пошевеливая усами, старик капитан. И мне живо вспоминается давнее — далекие голубые дни первых морских скитаний, когда полною романтических приключений казалась жизнь.
Капитан поднимает от карты, засыпанной крошками резинки, сухую седеющую голову, с удовольствием сообщает, что проходим французские острова Каскетки, описанные Гюго, что теперь мы уже в океане. Я смотрю на разложенную карту, на тонкую, прочерченную карандашом линию, обозначающую новый курс.
Весь этот день океан необыкновенно спокоен, прозрачно-белес. Белые, розоватые на восходе солнца, скользят над кормою чайки, и с палубы видно, как поворачивают длинноклювые головы, высматривая добычу, как взмывают и падают, садятся на воду, высоко поднимая над спиной крылья... Быстроходный пассажирский пароход обгоняет нас, оставляя за собой длинный хвост дыма. Откуда и куда он идет? В Индию, в далекий Китай, в Австралию?.. Радует и волнует, что здесь, в океане, я уже не первый раз, и опять вспоминается давнее, молодое: первый рейс на «Меркурии», лица и имена молодых друзей, давнишние чувства и впечатления... Но каким кажется все это далеким, как по-новому воспринимается жизнь!
Огромный старый корабль уже много видов видывал ца своем веку. Он старчески вибрирует каждой своей стойкой, каждым листом бортового железа. Мне приятна старость бывалого парохода. С удовольствием
552
разгуливаю я по просторной железной палубе, отдыхаю в хромом, ветхом лонгшезе. Мала и скромна моя каютка, неудобен и мал откидной письменный столик, узка и жестка высокая койка, но и эти маленькие неудобства особенно здесь приятны: я счастлив тем, что вижу вновь океан, что так хорошо вспоминается прошлое. И с особенным удовольствием сажусь за раскрытую тетрадь.
Вторник.
Начинает медленно, медленно «валять» настоящая океанская зыбь. Один брожу по пустой палубе, смотрю в наступающую ночь, на фосфоресцирующую пену* накатывающую под высоким форштевнем. На корабле тишина, безлюдье. Плотный соленый ветер дует упруго, увлажняя лицо и руки, соленым воздухом наполняет легкие. Небо над океаном почти беззвездно. Тускло я призрачно светят топовые огни. Черный дым над трубой смешивается с чернотой ночи. Страшен, молчалив океан.
Долго стою на носу парохода и, перевесясь, гляжу вниз, в черную со вспыхивающими бледными искрами воду, чувствую, как живой дрожью вибрирует на ходу пароход. Иногда прохожу палубой, поднимаюсь на мостик в рубку, где лежит на столе карта, пахнет кожей и краской. После освещенной рубки еще черней и беззвездней кажется ночь... С вечера рядом идет неизвестный пароход, то отставая от нас, то опять нагоняя; в беззвучной, бескрайней черноте океана едва видны его огни. Там, как и у нас, засунув руки в карманы, наверное ходит по мостику вахтенный штурман; перекладывая из руки в руку влажные рожки штурвала, стоит над компасом рулевой, и на его лицо снизу ложится бледный свет.
Спускаюсь в кают-компанию, где накурено, дымно, горит над столом белый матовый шар, ложечками звенят в стаканах сидящие за столом люди, ведут обычные разговоры... И опять выхожу на палубу, на морской ветер, в черную океанскую ночь.
Среда.
Бискайский залив, грозный Бискай, имя которого знакомо каждому моряку, — великое и страшное кладбище кораблей!
553
Утром проснулся от оглушительного, сотрясающего весь пароход гудка. Над океаном туман, непроницаемо белый, солено-влажный. В молоке сплошного тумана смутно обозначаются очертания мачт, снастей. Старик капитан, в теплом пальто, в надвинутой на глаза шапке, стоит наверху. Время от времени сухой маленькой рукою он тянет привязанную к проволоке деревяшку, и, захлебываясь паром, сотрясая влажный воздух, над нашими головами ревет широкое медное горло сирены... Медленно нарождается над океаном день. Медленно поднимается, тает над черными волнами, сивыми космами разбегается туман. Океан с утра темный, с зловещею сединою. Точно из чаши с дымящейся кровью, кровавое, дымно-багровое поднимается над ним солнце.
От берегов Голландии с нами на пароходе путешествует маленькая птичка. Жалобно чирикая, она перепархивает над палубой, садится на снасти. Странным кажется это ее чириканье в грозовом беззвучии океана. Иногда она весело взвивается на маленьких крыльях, пропадет за бортом и, как бы напуганная мрачностью океана, опять появляется, прячась в колесах лебедок. За нею охотится, припадая к палубе, извивая кончик хвоста, толстый пароходный кот Иван. Она перепархивает, садится на новое место. И вся команда парохода внимательно следит за этой охотой.
Ночь стоял на мостике со штурманом* вахту. Океан такой же черный и грозный, звезды видны лишь в зените, над верхушками мачт. И все так же рядом идет, то нагоняя, то отставая, исчезая в океанской зыби, вчерашний наш спутник — небольшой наливной пароходик.
Встречный большой пароход семафорил нам долго. Мы прошли молча, ему не ответив. Капитан объяснил, что так же под Сингапуром встречный анличанин вызывал долго, а узнав, что говорят русские, отвечал грубой дерзостью.
Четверг.
С каждым часом теплеет, проясняется небо, синеет седой океан. Проходим берега Португалии — теплый береговой ветер доносит терпкие запахи земли. Пахнет чем-то маслянистым, знойным, приторно цветущим, напоминающим Грецию, Крым, Кавказ.
ш
Сегодня моряки рассказали о страшном тайфуне, в который два года назад под Сабангом попал пароход. Было воистину ужасно. На мостике показали деревянную крышку от ящика для биноклей, за которую во время тайфуна ухватился руками сбитый страшным толчком с ног, потерявший равновесие капитан.
Здесь — тишина, лазурность. Кончается день, как всегда в море, неповторимо. Дальние облака похожи на озаренные солнцем снежные вершины гор. Опасаясь тумана, отходим от берегов дальше. И все ближе Африка, Гибралтар, легендарные Столпы Геркулесовы, сказочная Атлантида...
И все так же продолжает путешествовать с нами, перепархивая по палубе, жалобно чирикая, милый наш гость — маленькая птичка.
Пятница.
В открытом иллюминаторе виден испанский берег — сухой, пустынный, подмытый океаном. Солнце, по-южному призрачное, все наполняющее, освещает скалы, извилины, пески, кажущиеся мертвыми и безлюдными. На крутом, выступающем в океан мысу возвышается старинная каменная крепость. Черно-желтый флаг вьется над крепостью, а в бинокль виден мост, ворота! пустынная каменная, вьющаяся вдоль берега дорога. Вдали — лиловые дымчатые горы. Там древние испанские города, названия которых давно знакомы нам по романсам.
Океан спокойный, почти безжизненный. Редко пролетают маленькие острокрылые, как ласточки, чайки, взмывают и падают над водою, отражающею лазурную глубину неба.
Теплеет с каждым часом, в воздухе разлито «береговое вино». Два-три грузовых парохода, дымя, сходятся к воротам Гибралтара.
Два часа лочи. Гибралтар!
Вышел на палубу ослепленный чернотою ночи. Поднимаясь на мостик, заметил, как крупны, редкд здесь звезды. Взволновало обилие огней, береговых й корабельных, плескание воды за бортом... Медленно и спокойно, волоча бледно-призрачный луч* рассекая
555
мрак, вспыхивает и гаснет огонь маяка. Это европейский берег. Справа, из мрака, тройными быстрыми вспышками отвечает ему африканский маяк... Небо чуть светлеет на востоке (всходит луна, и поэтому видны только крупные звезды), чуть обозначаются берега, правый и левый. Огненной тонкой полоской, ожерельем огней светится на европейской стороне город. Долго смотрю на эту переливающуюся огнями полоску, на странно беззвучный луч маяка, слушаю, как плещется за бортом зыбь...
В капитанской рубке уютно, тепло. Старик капитан маленькими, почти женскими руками вычерчивает на карте новый курс. Потом мы вместе выходим на мостик, где дует в лицо свежий и ровный ветер — вечный здешний сквозняк. В небе черкнула, пролетела, рассыпая за собою тающий хвост, звезда. Капитан останавливается над компасом, тихо называет рулевому новый курс.
— Есть!.. — четко и бодро отвечает из темноты голос рулевого.
Всю ночь не сплю, скитаюсь по палубе, провожаю взглядом остающиеся позади огни. Нет больше упругого сквозняка, вечно дующего в проливе. Пахучий, влажный, теплый догоняет нас ветер... Средиземное море встречает рассветом. Холодные, колючие, одна за другой гаснут звезды.
...Весь день солнце, голубизна, упругий ветер, морской простор. Утром был виден европейский берег — туманные лиловые горы, мелово белеющий над морем городок, весь в тонкой палевой дымке. И опять море, солнце, ветер.
Вечером ветер свежее, но тепло, душно. Подходим к африканскому берегу.
Воскресенье.
Африка!
Видны туманные берега: плоские низкие холмы, очень похожие на складки материи, брошенной небрежной рукою, призрачные далекие горы, и над всем этим сизая легкая дымка... В бинокль видны песчаные косы, обожженные солнцем бугры, маленький рассыпавшийся на берегу городок — квадратные плоские крыши, белая башня на вершине горы, минареты* сквозные метелочки пальм.
556
Над синею зыбью, над белыми барашками волн низко летают маленькие чайки. Я сижу под тентом, любуюсь на море, на играющих чаек, на дальний, призрачный островок, на то, как в туманной глубине обширного сверкающего залива медленно открывается туманно-ступенчатый, весь в зыблющейся дымке Алжир...
1929
МИРАЖ
Мы идем не задерживаясь — от Гибралтара на восток. Еще в Бискае нас провожал туман, иззелена-тем- ная, ходила по океану зыбь. Ночами фосфоресцировали гребни волн, а за кормой корабля призрачно загорались, таяли бледные искры. Днем туман поднимался, открывались дымчатые, скалистые берега. На карте я читал названия древних портовых городов. Утром с испанского берега хлопотливой стайкой налетели на палубу воробьи. Точно маленькие суетливые жандармы, они торопливо обыскали всю палубу корабля и скрылись. С берега тянуло смолистым и терпким. В чернильных, седых от барашков волнах океана, выпуская фонтаны воды, резвился, играл кашалот. Ночью вдруг появилось множество бабочек-однодневок: утром палуба, весь спардек, капитанский мостик, как снегом, были покрыты их легкими трупами. Много кораблей шло из тропиков, с юга. Эти корабли шли, поржавевшие от лучей экваториального солнца, от разъедающих волн океана. Встречаясь на большой дороге, корабли сигналили кормовыми флагами, приветствуя друг друга. Полным особенной значительности показывался этот немой дружеский разговор встречавшихся кораблей.
Гибралтар проходили в полночь. Я стоял на палубе, вглядываясь в береговые огни, в ночное звездное небо. Голубоватый луч вращавшегося маяка пронзительно и беззвучно рассекал мрак. Было что-то беспокойное, нарушавшее величие ночи в этом тревожно скользившем и погасавшем луче. Внизу кипели, невидимо сталкивались воды морских течений. Ожерельем алмазов переливалргсь далекие огни. Неисчислимы, великолепны были над кораблем звезды. Всю ночь й простоял на палубе, заглядываясь в бездонную глуби¬
557
ну неба, в таинственное мерцание огней. Сильное, давно знакомое чувство наполняло душу. Я стоял, прислонясь к холодному, влажному железу поручней. Теплый ровный ветер дул с юга. Черный силуэт трубы, длинный, проступавший по звездному небу хвост дыма, мертвенный свет тускло блестевших на мачтах огней — все это казалось призрачным, сказочным, далеким. Иногда, насмотревшись в звездную глубину неба, я поднимался по трапу, заглядывал в капитанскую рубку. После величия африканской ночи странными казались домашний свет лампы, запах краски, ослепительная белизна разложенной на столе карты, сухие маленькие руки старика капитана, низко склонившегося над освещенным столом. И странным, домашним, не идущим к торжественному величию ночи показался сам капитан* когда, оторвавшись от карты, объявил просто, как объявляют о самых обыденных вещах:
— Идем хорошо. Ровно через тридцать два часа должны быть в Алжире...
Вновь поднимаюсь на верхний мостик, где в синеватой темноте ночи привычно шагает вахтенный штурман, а за стеклом рубки, слабо освещенной лампочкой компаса, неподвижно стоит рулевой. В темноте смутно белеет лицо штурмана, верх его летней фуражки. Мы стоим, беседуем, глядим в море; потом я один схожу на пустынную палубу, поднимаюсь на бак и долго стою, свесясь над бортом и наблюдая, как пенится, призрачным светом искрится рассекаемая форштевнем вода. Двурогий серп месяца всплывает над морем, в серебряном его свете одна за другой меркнут над мачтами звезды. Месяц поднимается выше; сверкающей кольчугой протягивается к нему длинная дорога. Неведомо откуда появившийся парусник, тихо покачиваясь, пересекает эту живую серебряную дорогу, и отчетливо, каждою снастью, чеканятся на серебряном фоне его мачты и черные паруса. Точно таинственный призрак, как ночное видение, без единого признака жизни проплывает мертвое судно, и опять блестит, бесчисленными чешуйками сияет раскинутая к месяцу дорога...
Я брожу по палубе до утра. Медленно разгорается на востоке небо; край пылающего солнца показы-
т
вается над горизонтом. Солнце светит ярко: ослепительно синее, все в белых барашках, бескрайне расстилается море. В лазурном просторе белыми точками видны паруса, острыми крыльями машут, взмывая и падая над палубой, чайки.
Алжир проходим на другой день. С мостика виден африканский берег: широкие, плоские, похожие на складки бархата горы. В бинокль можно хорошо рассмотреть город: плоскокрышие белые домики, ярусами спускающиеся к морю, серые метелочки пальм. Алжирский залив туманен, широк. Ослепительно отражаясь в окнах домов, вспыхивает и пламенно горпт солнце. Похожие на ласточек мелкие чайки скользят над водою. Близко вижу полуголых алжирцев-рыба- ков, их смуглые, повязанные цветными платками головы, обнаженные мускулистые руки, перебирающие мокрую снасть. Какою древнею жизнью веет от этой картины!.. И весь день, с тоскою, похожей на острую боль, я отдаюсь далеким воспоминаниям. Иногда, оторвав взор от моря, любуюсь на матросов. Высокий широкогрудый боцман держит в руках шланг. По издавна заведенному обычаю, возвращаясь на родину, моряки наводят праздничный порядок. Мне приятен этот трогательный, знакомый обычай. И особенно приятно, что пароход — старый, большой, что многое множество видывал он на своем веку. От друзей-моряков знаю о том, как по пути в Европу останавливался пароход в далеком азиатском порту, а на другой день матросы обнаружили в трюмах малайцев-рабочих, доверчиво собравшихся в манившую их далекую, но близкую простым сердцам Россию...
Второй день идем у берегов Африки, минуем Тунис. По-прежнему нестерпимо печет солнце; туманные, голые, плывут вдали берега. Вечером проходим одинокий островок Зембру. С моря островок этот очень похож на спину полосатой зебры, склонившейся над водою. Здесь впервые видим мираж — знойное африканское видение, пугавшее некогда суеверных моряков. Мираж открылся в зыблившейся, призрачной дымке, висевшей над морем. До самого горизонта море казалось зеркальным. Над линией горизонта отчетливо виделся повисший в воздухе парус. Это видение оставалось недвижным, а за ним, над зеркаль*
Щ
ной гладью моря, вырисовывался, плыл, зыбился берег. Мы видели горы, русла высохших рек, рассыпанный у подножия горы неведомый город... Видение висело в воздухе долго, но все дальше уходил, незримо таял в знойной дымке волшебный зыблющийся мираж...
Вечером сижу в каюте капитана, где уютно горит над столом лампа. Старый, опытный капитан, покуривая трубочку, говорит задумчиво и неторопливо:
— Как трудно теперь представить, что в этих самых местах, которые сейчас проходим, некогда разбойничали самые дерзкие пираты, происходили настоящие морские сражения, велась охота на «купцов» и купеческое золото, на невольников-негров, торговлей которыми поддерживалось тогда мореходство. Морским разбоем промышляла Англия, цепкие когти которой начинали охватывать весь земной шар. На берегах строились новые крепости, богатые города. Здесь процветали и рушились могучие торговые государства, память о которых хранится теперь лишь в музеях...
В капитанской каюте уютно и тихо. Чуть покачивается, мерной дрожью дрожит, вибрирует пароход. Мирно горит под зеленым колпаком лампа. Старый, видалый моряк-капитан сидит, завалясь в угол широкого кожаного кресла. Сухие, с узлами старческих жил, руки лежат на подлокотниках.
— В этих же самых местах в годы минувшей войны разбойничали подводные лодки, топили и расстреливали безоружные корабли, — продолжает говорить капитан. — Я не верю показному благополучию капиталистического мира, гордящегося цивилизацией и культурой. Неизбежность новой войны мы чувствуем всегда и везде. Скоро мы будем проходить проливы. Там вы увидите незалеченные рубцы. Мы, старые моряки, — видалый и наблюдательный народ. Капиталистические страны, объятые жаждой наживы, нам напоминают огромный сумасшедший дом. На ломаный грош не следует верить их показному благополучию...
Серые глаза старого капитана строги и серьезны. Мы сидим и разговариваем долго. Потом я один выхожу на воздух. Опять любуюсь на море, на сверкающие над кораблем звезды. С каждым часом короче до
560
родины путь. Захожу иногда в каюту, записываю в тетрадь несколько кратких слов.
«На рассвете прошли Сицилию. Яркое поднимается солнце. Теплый, пахучий дует бриз. Все утро играли у носа корабля летучие рыбы. Точно перламутровые стрелы, они проносились над зыбью, исчезали в искрящейся белой пене...
Все ближе и ближе восток — Эгея, знакомый лазурный Архипелаг. Всякий полдень вахтенный штурман на полчаса переводит часы. Все пустыннее, все темнее море. Суровее, каменистее берега...»
«Цод вечер подходим к Пелопоннессу.
Берег здесь видится четко. Лиловые, грозовые висят над островом облака. Трудно разобрать, где начинаются облака, где кончаются синие, темные горы...»
«Солнце закатывается, как огромный, раскаленный добела шар. Горизонт близок и четок. Видно, как вытягивается над ним, точно проваливается в преисподнюю, солнце. На месте провалившегося солнца вспыхнул и горит зеленоватый огонек. И ни зари, ни окрашенных в золото обычных вечерних облаков. Точно и в самом деле провалилось солнце».
«Сегодня — в Архипелаге.
Близко проходим мыс Мотопан. На горах недвижно лежат облака, очень похожие на спящих белых баранов. Внизу рассыпаны городки, села.
Видно, как суха, как каменна здесь выжженная солнцем земля!..»
«Ночью — Циклады, проходим Эгейское море. Видны Метелен, Тандос. Слева, в двух часах хода,—туманный Олимп, Халкида.
Сколько давнишних воспоминаний!..»
В Дарданеллы входим под вечер. Желтые, пустынные раскрываются берега. На берегах ни единого признака жизни. Высокий каменный обелиск-памятник маячит у входа. Пустынно и мертво море. Зловеще страшен свет заходящего, прикрытого низкими тучами солнца.
561
Этот янтарный зловещий свет освещает голые, пустынные берега и плоские, покрытые пятнами кустарников горы. В мертвенном свете заходящего солнца, в жуткой пустынности берегов видится призрак давно отгремевшей войны. На голом покатом берегу отчетливо видны четырехугольники виноградников или садов. Я беру бинокль и смотрю...
Страшными кажутся эти «виноградники»! Тысячи, десятки тысяч крестов, подобно кустам винограда, строгими рядами стоят на военных кладбищах, издали так похожих на обработанные сады...
Медленно входим в пустынную бухту смерти. Мне вспоминаются давние времена, когда движением и жизнью кипели эти запустевшие берега. Нынче берега пусты и безлюдны, и точно для того, чтобы подчеркнуть их безлюдную пустынность, сереет над берегом печальная кладбищенская капелла. Могильные кресты стройными рядами покрывают кладбища и разбросаны в одиночку. Красный, со звездой и полумесяцем, вьется над сигнальною мачтой флаг. Два полицейских пароходика застыли под ним неподвижно. И мы идем в пустынных, заросших колючками берегах. Безлюдным, мертвым кажется сам городок, где некогда останавливались все пароходы. Теперь пролив пуст. Мы долго ожидаем турецких портовых властей. Вот подкатывает полицейский катер, светясь в сумраке отличительным рубиновым огоньком. Человек в европейской шляпе, в шелковой модной рубашке поднимается по трапу. И, отбыв формальности, проводив полицейский катер, медленно движемся дальше между мертвыми берегами, над которыми быстро спускается южная темная ночь...
Чтобы не проспать рассвет, всю ночь лежу не раздеваясь. На рассвете будит меня капитан. Оц всю ночь на ногах, воротник его старенького пальто поднят, топорщатся мокрые седые усы. Молочный, густой стоит туман. Туманом покрыто Мраморное море, чуть заметны берега Принцевых островов. Дрожат и слезятся над мачтами последние редкие звезды. Разорванными клочьями туман ползет над водою...
И совсем призрачным, сказочным, как бы из «Тысячи и одной ночи», обрисовывается на берегу давпо знакомый мне город. Я вглядываюсь жадно, стараясь узнать знакомые черты. Медленно проходим древнюю,
омываемую течением Босфора башню Лаванда. Справа горят еще не погашенные огни азиатского берега Ску- тари. Быстро несутся над черной водою струйки тумана...
Здесь так же пустынно, мертво. В утреннем опаловом рассвете одиноко мигают над водой зеленые и красные огни. Пеленою тумана накрыт Стамбул; отчетливо рисуется на порозовевшем небе возвышенная часть города — Пера, галатская набережная, порт, кипевший некогда движением и кораблями, а теперь пустой и мертвый. Неспешно занимается над азиатским берегом заря. Минуем опустевшие босфорские дворцы, старинный султанский сераль —всё знакомые, много раз виденные места! Теперь Босфор пустынен, по- прежнему широк. Слепо смотрят на воду мертвыми окнами облупившиеся покинутые дачи, богатые особняки. Проходим Чебукли, Дере, заросшие кипарисами и платанами красивые берега пролива.
Как зыблющийся мираж, мне видится город, туманный Босфор, море, где когда-то — еще в юности — встречал я голубые дни первых морских скитаний.
1930-1954
ТАЙФУН
В канун последнего своего рейса капитан Босс ночевал на берегу. Сбираясь в город, он долго, с обычной неторопливостью европейца, привыкшего точно распределять время, одевался, натягивал на свое гладкое, побледневшее от прохладного душа тело короткое белье, скользкие шелковые чулки. На палубу, где с привычной почтительностью его провожал низенький быстрый, похожий на итальянца чиф-офицер, он вышел, великолепно сияя крахмальною белизною костю* ма, свежестью выбритого, еще моложавого широко* костого лица. Хозяйски привычно он оглядел пароход, блиставший такою же праздничной белизною. Справа за бортом густо синевел океан, слева белел город, ту* манио лиловели подковой огибавшие залив горы.. Вни* зу, у обитого медью трапа, дежурили лодки. Капитан, пожав руку провожавшему его чиф-офицеру, взяв под козырек двумя пальцами, колебля трап, хозяйски не*
Ш
спешно спустился мимо вытянувшегося в струнку вахтенного матроса и, помедлив, сел в ближайшую, длинную, как пирога, опустившуюся под его тяжестью лодку. Два малайца-гребца, молодой и старик, с открытыми, блестевшими кофейно-коричневой кожей головами, торопливо взялись за весла. На длинных, разбиравших весла руках малайцев, на голых шоколадных грудях с выступавшими точками сосков, на длинных шеях скользнули солнечные блики, отразившиеся от воды и белого борта корабля.
Капитан один сидел на корме, правил. Океан у берега резко изменял свой цвет. Шлюпка скользила быстро. На берегу ярко белел город, поднимались серые метелочки пальм. Малайцы гребли дружно, далеко откидываясь, вытягивая тонкие шеи, открывая крупные белые зубы. Иногда они произносили два-три слова. Океан был синий, лазоревый, высоко стояло солнце. И было больно глядеть на воду, на белевший на берегу город, на лиловевшие над городом, похожие на складки небрежно брошенной материи горы. Высоко отставив локоть, капитан положил право на борт, и лодка пристала, черкнув о каменную стену, под которой медленно колыхалась вода; было видно усеянное морскими ежами и круглыми камнями дно. Черные узкие руки малайцев легли на выступ белого камня. Капитан ловко выпрыгнул на мокрые, с разбегавшимися крабами, ступени и, не глядя на гребцов, бросил, в лодку две серебряные монеты. Неторопливо, как свой в своем, он поднялся по белым отлогим ступенькам и, твердо шагая, пошел вдоль широкой набережной, освещенной солнцем, неустанно шумевшей машинами и людьми.
Город, в котором провел последнюю на берегу ночь капитан Босс, был белый, насквозь пронизанный солнцем. На белых, ослепительно чистых улицах рядами высились пальмы, бросавшие скользящие тени на стены домов, на широкие каменные панели, по которым, шелестя обувью, двигалась-растекалась толпа. В центре широкой изумрудно-зеленой площади, поросшей подстриженной муравой, на мраморном пьедестале высился памятник. Лицо бронзовой женщины было обращено в туманившийся океан, откуда шли, точками показывались, дымили корабли. Капитан Бояс, плотно шагая, прошел набережную, застроенную складами
и конторами пароходных агентств, кишмя кишевшую людьми, не боявшимися палящего, недвижно стоявшего солнца. На углу площади Королевы он завернул в контору, где живой, черноволосый и черноглазый, в рубахе с засученными по локоть рукавами чиновник принял его с особой подобострастной почтительностью. Они сидели в кожаных, спиртуозно пахучих, глубоких креслах, говорили о делах, курили. Потом капитан Босс — опять пешком — прошел в банк и, стоя у окошка, прорезанного в толстом зеркальном стекле, распорядился о переводе денег. У капитана Босса, как и у многих других моряков, было две семьи — в Сабанге и в Роттердаме, — что не мешало ему быть отличным семьянином и отцом...
Родился капитан Босс в стране, воспитавшей и похоронившей поколения моряков. Отец Босса был моряк, и все предки, изображения которых висели в домашнем кабинете Босса, были моряками, тючио так, как предки земледельца непременно были земледельцами. Море воспитало Босса, как земля воспитывает земледельца. И, как положено моряку, от раннего детства и мореходной школы капитан Босс прошел долгую тяжелую дорогу, умел работать и бороться. Страна, в которой родился Босс, была некогда богата и славна. В отцовском доме с черепитчатой крышей, свистевшими над трубою скворцами, с кроватями, прятавшимися по-старинному в нишах стен, с потемневшею от времени моделью старинного парусного корабля, висевшею под потолком, с чистейшим, как стекло, полом и закрывавшимися на ночь ставнями капитан Босс недавно праздновал золотую свадьбу отца, и весь маленький, точно игрушечный, городок собрался под освещенные, открытые настежь окна, за которыми в тот вечер собралась вся многоголовая родня Боссов. Толпа стояла под окнами, пела и плясала. Старухи, сверстницы матери Босса, в масках, изображавших лица молодых женщин, водили хоровод, пели те песни, что некогда — полвека назад — пели на свадьбе старых Боссов. И певуньи так были молоды и свежи, такие выделывали па, что в них никак нельзя было признать семидесятилетних старух... Поля, засеянные тюльпанами, высокие ветряные мельницы, каналы и чибисы на серых кочках, чистейшие города и маленькие домики, у порогов которых стояли и курили по вечерам
565
трубки благополучные отцы семейств, тележки селедочников на углах и освещенные лавочки, тишина кирх и костелов, в которых, положив скрещенные руки на спинки резных стульев, стояли на коленях молящиеся,— все было незыблемо прочно, веками нерушимо в этом воспитавшем капитана Босса, мире. Люди умели побеждать, умели жить прочно. И родина Босса, некогда бывшая непроходимым болотом, стала похожа на великолепный цветник. Цветами были засеяны тысячи десятин, и объезжавшие города тележки с живыми, обрызганными водою цветами каждое утро останавливались у порогов маленьких домиков совершенно так же, как тележки с хлебом и молоком. Так было в каждом городе, во всей, казавшейся игрушечною, стране предков Босса. Цветами торговала страна, родившая Босса. Но не только цветами была крепка родина Босса. Тысячи кораблей приходили в порты, с каждым годом росли и крепли построенные на сваях города. И, как все люди его страны, капитан Босс умел работать неутомимо, был отменно здоров. Сердечная болезнь, свойственная профессии моряков, еще мало мучила его, он лишь начинал пить йод. Счастье само шло к капитану Боссу: к сорока пяти годам — возраст в Европе далеко не могильный—он был командиром большого парохода, возившего в Европу бананы и рис, и совладельцем крупного дела...
Мир, в котором жил и действовал капитан Босс, казалось, был непоколебим. Правда, после войны, расшатавшей и самые твердые устои, нечто нарушилось и в этом благополучном мире. Чаще застаивались корабли, немало разорилось богатых людей. Но дело, в котором работал и был совладельцем Босс, продолжало жить. А быть может, не все было благополучно и в этом, казавшемся нерушимым мире? Неблагополучие виделось в том, что во всех больших городах, сиявших великолепием и порядком, толпами ходили, умирали бездомные, голодные люди. Но и о смерти никогда не задумывался капитан Босс.
Вечером капитан Босс сидел в большом людном кафе с горевшими на столах китайскими фонарями, вокруг которых неслышно кружили ночные бабочки и светляки. Он пил ледяную воду и виски, смотрел на двигавшиеся, танцевавшие между столов пары, на ходившего в первой паре -неестественно красивого
566
брюнета, опускавшего обведенные кругами глаза, с подчеркнутой изможденностью выступавшего по блестевшему полу носками лакированных туфель. Потом, во втором часу ночи, под сине-сине-черным, усыпанным звездами, пересеченным Млечным Путем небом, мягко покачиваясь и шелестя глушителем, длинный лакированный автомобиль нес Босса за город, и в свете прожекторов волшебным казался лес каких-то змееподобных, валившихся на автомобиль деревьев. Ночевал капитан Босс в большом загородном отеле, тонувшем в ночной зелени садов, вместе с женщиной, записавшейся его женой.
Женщина, записавшаяся женою Босса, была не первой молодости. Она жадно и много курила, сидела у открытого, синевевшего звездным светом окна, подобрав ноги и выставив обтянутые шелком блестевшие колени. Было в ней что-то особенное, привлекавшее и даже пугавшее Босса. Это особенное было в некоторой неправильности ее излишне бледного лица, в бездонной глубине черных, тревояшо светившихся глаз, которыми она пристально, как бы с усмешкой следила за капитаном Боссом, в излишней порывистости движений, с которою она, точно от внезапной боли, вся вздрагивала и сжималась. Отличны были ее длинные, немного широкие в кистях руки, зыбкая и детская ее походка, которой, неслышно ступая по мягкому ковру, поднималась она по освещенной лестнице впереди тяжело шагавшего Босса.
Ночь капитан Босс провел отлично, ежели не считать дурных сновидений, вызванных отвычкою капитана спать на берегу в неподвижной постели, -г- всю ночь, стоило закрыть глаза, снился ему танцующий, томительно опускавший подведенные глаза молодой человек. Сновидение было столь навязчиво, что капитан Босс, не будя спавшую или притворявшуюся спящей подругу, встал рано, когда еще только начинал подниматься отель. Неслышно умывшись, положив на стол десятифунтовую бумажку и не прощаясь, капитан Босс вышел на волю. Опять автомобиль мчал его по красной твердой дороге, но уже не казался волшебным окружавший дорогу, сливавшийся в серую полосу лес. И опять капитан Босс зашел в контору, где тот же чиновник в белоснежной рубахе с засученными рукавами почтительно усаживал его в кресло и угощал сигарой..,
567
На пароход капитан Босс вернулся за час до отхода. Все так же порядком и чистотой сверкал пароход. Через час, молчаливый и величественный, весь в белом, Босс стоял на застекленном мостике, отражавшем слепящее солнце, отдавал приказания. Круглый, точно выкованный из чугуна лоцман-голландец, не выпуская из зубов трубки, хрипло кричал в телефон. На корме и на баке шевелились люди, неторопливо выбирая, укладывали тяжелые мокрые канаты — концы; медленно, звено за звеном, роняя мокрый сползавший грунт, выходил из воды якорный канат. Все шло на- лаженно и точно, как механизм отлично проверенной, тысячу раз испробованной машины. Минута в минуту, сотрясая воздух гудком, пароход тронулся с места, стал забирать в море. И капитан Босс опять спустился в свою каюту. Он долго сидел в ванной, сверкавшей мрамором и серебром кранов, тщательно, с наслаждением растирал и окатывал водою свое красневшее, вздрагивавшее, начинавшее жиреть тело; старательно и ритмично дыша, занимался гимнастикой, чувствуя, как приливает жизнерадостность, привычное желание работать. Потом — после кофе, которое подал в каюту белоснежно одетый, с синевевшей жесткими волосами головою стюард-чинез, — он сидел за большим, стоявшим на середине каюты, уставленным фотографиями столом. Каюта капитана Босса размерами и убранством похожа была на большой, роскошно убранный кабинет. И, как в наилучшем отеле, как в самом благоустроенном доме, все и во всякое время было к услугам капитана Босса. Капитан Босс, прошедший нелегкую дорогу от матроса до командира океанского корабля, отлично, с природным умением европейца пользовался окружавшими его удобствами, не замечая их, как человек не замечает воздуха, который вдыхает. Он сидел за столом в полосатой пижаме, писал. Все было отменно прекрасно: здоровье и дела капитана Босса, переливавший всеми цветами, игравший зайчиками на шелковых занавесках, чуть зыбившийся и покачивавший корабль океан. Сотни раз проходил этим путем капитан Босс. И океан, как никогда в это время года, был приветлив и нежен. Босс уже давно не восторгался величием океана, и, как многих закоренелых моряков, живее привлекали его земные дела. Давным-давно прошли времена, когда отважные предки Босса ходили на парусных ко<
568
раблях, гибли и побеждали. Давно известны пути, измерена каждая пядь, мириадами знаков и цифр испещрены новейшие мореходные карты. А бывало, как и в прежние времена, погребал океан большие океанские корабли; но меньше всего о гибели и опасности думал капитан Босс.
На третий день пути было получено радио о тайфуне. Радист, худощавый и белобрысый, с пробором в редких, прилизанных па круглой лобастой голове волосах, сам принес капитану депешу. Он почтительно постучал в дверь капитанской каюты, почтительно изогнувшись, стоял у капитанского, покрытого малиновым сукном стола. Тайфун был далеко, путь его расходился с путем корабля, и капитан Босс спокойно, откинувшись в кресле, прочитал синий, положенный перед ним листок. Тот же час в судовом журнале, с указанием долготы и широты, минут и часа, было отмечено кратко о появившемся на океане тайфуне...
Ни с чем не сравним, ужасен и гибелен для кораблей проходящий и внезапно пропадающий тайфун. Как одушевленное страшное существо, как бешеный зверь, сорвавшийся с цепи, мчится он по океану, и не ведает никто, когда и как изменяется его путь. Потому так сбивчивы и противоречивы были сыпавшиеся телеграммы в тот и на следующий день — с Гонконга, с Пратаса, из многих других мест — о движущемся, виденном кораблями тайфуне. Одно было ясно: радио вопило о небывалой силе продвигавшегося в океан тайфуна, о необычайной сжатости его круга. И капитан Босс, не желая заходить в Гонконг, дорожа временем и стараясь избежать встречи, трижды изменял курс, но было похоже, что тайфун, как дикий зверь, гоняется за пароходом. На третий день стало очевидностью, что, по выражению самого Босса, сохранявшего полное спокойствие и веселость, корабль идет прямо в зубы тайфуну. Ночью был объявлен аврал. Вся команда, выбиваясь из сил, в вое нагонявшего пароход урагана работала на палубе, в машинном отделении, приготовляясь к страшной встрече. Кратко запечатлевала начинавшееся бедствие судовая запись: «Ветер двенадцать баллов, крен двадцать пять градусов, вступаем в первую, поступательную четверть тайфуна...»
Никто потом не мог рассказать подробно. Люди помнили, что началось бедствие ужаснйм ветров что
569
в самый страшный час, когда пароход вступил в центр урагана, как бы не стало времени. Пароход то падал во внезапно открывавшиеся пропасти, то возносился на вершины водяных, чудовищно сталкивавшихся гор. От напора газов с треском лопались и взлетали в воздух трюмные люки. Как потом вспоминали люди, много необъяснимых явлений сопровождало тот страшный час. От избытка влаги коробилось дерево, сами собою оживали и двигались многие предметы, в свитки свертывались висевшие па стенах циновки, крупные капли ржавчины, подобно крови, выступили на белых стенах и потолках кают. Погас свет, птицы, которых везли в клетках из Японии матросы, в полночь запели, — странным и ужасным в грохоте бури казался тонкий птичий свист! Готовый разбиться в куски, озаряемый вспышками молнии и светом фосфоресцирующих брызг, увлекаемый в воронку урагана, обнажая дно и кингстоны, не слушаясь руля, целую ночь кидался пароход из пропасти в пропасть. И всю страшную ночь капитан Босс стоял на посту, крепко стиснув челюсти, обеими руками держась за деревянную крышку ящика для биноклей... Погиб капитан Босс, когда, негаданно одолев бурю* пароход уже выходил из центра тайфуна и, подавая людям надежду, стал медленно подниматься барометр. Толчком, подобным подземному удару, оторвало Босса от удерживавшей его опоры и, с куском дерева в руках, падая, ударился он головою о выступ компаса. С великим трудом, много раз падая, сбиваемые с ног, матросы перенесли его в роскошную, теперь растерзанную каюту, положили в раскачивавшуюся кровать. Скончался капитан Босс утром от сотрясения мозга, когда корабль, умытый ураганом, с поломанными мачтами и поврежденной трубой, спасшийся как бы ценой смерти самого капитана Босса, медленно плыл по зеркальному океану. И опять деловито и кратко, в простых немногих словах, запечатлел гибель капитана Босса судовой, никогда не прекращавшийся журнал.
Хоронили Босса на другой день. Опять был невозмутимо нежен, перламутром светился океан, легкий ветерок тянул с левого борта, относя черный, отражавшийся в зеркальной поверхности дым. Капитан Босс, нарядный и белоснежный, с надушенным платочком в боковом кармане, прикрытый до половины груди полотнищем флагаЛ лежал в глубоком лонгшезе. Яркое
570
пекло солнце. Пароход стоял недвижимо. И капитан Босс разлагался на глазах окружавших его людей. Синевело, иззелеиа-чугунным становилось и искажалось его. лицо, страшно раздувались высовывавшиеся из рукавов лежавшие на груди руки. И прежде положенного часа похоронили капитана Босса. Тот самый матрос, что стоял у трапа, когда в последний раз сходил на берег капитан Босс, зашивал белый коробившийся брезент. Похожий на мумию, капитан Босс лежал на широкой доске, подвешенной на четырех смоленых концах. Маленький, на итальянца похожий чиф-офицер, заменивший на корабле капитана Босса, обнажив голову, печально прочел молитву. Под прощальное завывание гудка, при спущенном флаге, тело капитана Босса вместе с доскою стало медленно спускаться вдоль белого, с кружками иллюминаторов, борта. На малую минуту оно остановилось над самой поверхностью чуть зыбившегося океана, игравшего отсветами солнца. Потом, по знаку маленького человека, поднявшего руку, конец доски нахинулся — и, сперва медленно, скользнуло тело в легко всплеснувшую, раздавшуюся прозрачную, как голубое стекло, воду. Матросам, стоявшим у борта и смотревшим вниз, было видно, как пошел под воду, странно колеблясь и все уменьшаясь, капитан Босс.
1929-1954
КАТАСТРОФА
Несколько лет назад в газе-* тах появилось сообщение о пожаре, возникшем на иностранном пассажирском пароходе, совершавшем свой пробный рейс. В спасании пассажиров горевшего в открытом океане корабля деятельное участие принимала команда оказавшегося поблизо* сти советского парохода.
Первые радиограммы были отрывочны, очень кратки. Смысл сообщения приблизительно был таков: «SCX3! SOS! SOS! Слушайте, слушайте! Говорит маяк NN, В океане горит судно. Яркое, белое, огромной величина пламя свидетельствует о значительности катастрофы. Горящее судно не подает никаких сигналов. Находящимся поблизости кораблям принять меры спасения
571
гибнущего судна. Место катастрофы приблизительно... долготы... широты. Радиомаяк NN. SOS! SOS! SOS!»
Через день в газетах кратко сообщили о загадочной морской катастрофе. Национальность и принадлежность судна выяснялись. Десятки крупнейших пароходных компаний, беспокоясь о судьбе кораблей, во всех направлениях бороздивших просторы океана, рассылали срочные запросы.
Еще через день газеты были полны подробностями катастрофы. Со всею несомненностью была установлена национальность потерпевшего аварию корабля, носившего флаг благополучнейшего в мире государства, принадлежность его богатейшей компании, владевшей лучшими, быстроходными пассажирскими кораблями. Установлено также: новое судно, совершавшее свой первый рейс, погибло от пожара, возникшего от неизвестной причины и распространившегося со столь невероятной быстротой, что никакие меры не могли быть приняты.
В газетных сообщениях было многословно расписано, что' возвращался корабль из многодневного океанского рейса, что все путешествие протекало вполне благополучно, а последняя остановка была в большом восточном порту, где брали почту и пассажиров. Указывалось, что корабль был новейшей постройки (попутно упоминалась многомиллионная, умопомрачительная стоимость этой постройки), отличался небывалой изысканностью, обширностью помещений, предназначенных исключительно для того, чтобы сгладить неудобства длительного океанского перехода. Для развлечения пассажиров, плативших бешеные деньги, кроме зимнего и летнего сада, ресторанных, гимнастических и танцевальных зал, курительных и обсервационных салонов и оборудованных для литературных, музыкальных и научных занятий изолированных помещений, кроме бассейнов для плавания и площадки для игры в мяч, на корабле имелись патентованные аппараты для мгновенного прекращения мучительных приступов морской болезни. В нижней части корабля были устроены обширные сооружения, где, как в лучших магазинах Парижа, за зеркальными стеклами в голубом неоновом свете красовались обвернутые шелками затейливые модели. На облитых бархатом витринах миллионами брызг переливались вправленные в золото и платину алмазы и рубины. Соскучившийся
572
в долгом плавании путешественник мог зайти в магазин, где опытные руки миловидных выдрессированных приказчиц с непостижимой услужливостью помогали примерять модельную обувь, а представитель парижской фирмы собственноручно принимал заказы на незамедлительную пошивку модных платьев. Как на новейшее достижение указывалось, что каждая кабина первого класса, состоявшая из отдельных обширных апартаментов, имела свою особую, недоступную посторонним, открытую палубу для прогулок, с видом на море. Пассажир, путешествовавший в такой кабине, в течение полутора недель плавания мог никого не видеть, не слышать, пребывать в привычном уединении, как пребывал на берегу у себя дома в собственном богатом особняке. Корабль, предназначенный для совершения океанских рейсов, не был непомерно велик, подобно другим огромным кораблям, на которых обилие дешевых трюмных пассажиров не способствует спокойствию и комфорту избалованных богачей. В проспектах, извещавших о спуске нового корабля, обстоятельно было оповещено о надежнейших навигационных приборах, как бы навсегда и окончательно исключавших возможность негаданной катастрофы. Тем более чудовищным, тревожным и необъяснимым казалось сообщение о трагической гибели корабля...
В газетах намекали на возможность преступного умысла. Причиною невероятных предположений было то, что в старом, некогда благополучном и, казалось, неразрушимом мире давно не стало привычного благоденствия; этот благополучный внешне мир жил скрытым предчувствием невиданных, величайших катастроф. О неблагополучии старого мира со всею жестокой очевидностью свидетельствовал каждый проходящий и наступающий день. Захлебываясь, нещадно преувеличивая значение события, газетные репортеры уже вопили о небывалом, чудовищном преступлении, о новом несомненном доказательстве надвигавшихся бедствий...
А еще через несколько дней стали известны потрясающие подробности катастрофы. Со слов спасшихся пассажиров и пароходной команды (следуя в самолетах, на кораблях, по железным дорогам, навстречу возвращавшимся спасенным пассажирам корабля направилась туча газетных корреспондентов), по радио, по подводному кабелю, спешною эстафетою газетные
573
корреспонденты сообщали, что пожар начался глубокою ночью, когда многочисленное население корабля безмятежно почивало в своих удобнейших каютах, когда о катастрофе менее всего кто-либо думал. Огонь был обнаружен в кормовой части корабля и тотчас охватил жилые палубные надстройки. Обилие деревянных надстроек, пропитанных легковоспламеняющимися красками, легких лакированных переборок1 чрезвычайно способствовало распространению огня. В длинных бесчисленных коридорах, соединявших жилые помещения корабля, в начале пожара образовалась сильная тяга, раздувавшая огонь подобно тому, как раздувается пламя в топках гигантских печей. Празднично великолепный новый корабль представлял собою гигантский костер. Пожар распространялся с такой непостижимой быстротою, что уже в несколько минут вся жилая обширная часть корабля была охвачена огнем. Радиорубка, устроенная в центре деревянных надстроек, была отрезана бушующим морем огня (от необычайно высокой температуры, развившейся в зоне пожара, плавились и огненными каплями стекали медные и дюралюминиевые приборы). Корабль стал беспомощным, немым. Полыхая огромным, ослепительным пламенем, ярко отражавшимся в черной, колеблемой зыбью поверхности океана, он стоял недвижимо. Картина гибели была фантастична. Черная беззвучная гладь окружала место совершавшейся катастрофы. Как бы подчеркивая своим спокойствием незыблемость окружавшего корабль океана, в глубоком тропическом небе горело великое множество чистых, потрясающе спокойных звезд. Полуголые люди, освещенные столбом ослепительно белого пламени, бесились у борта. Рискуя задохнуться в клубах едкого дыма, обуглиться в вихре раскалённого воздуха, с риском для жизни матросы самоотверженно спускали уцелевшим от огня шлюпки. Ослепшие от нестерпимого блеска, обезумевшие от не¬
1 Как было выяснено позже, при постройке корабля, требовавшей максимальной заботы о комфортабельности помещений, предназначавшихся для богатых пассажиров, чтобы не слишком смещать центр тяжести и сохранить необходимую остойчивость судна, строители были вынуждены возводить непомерно разросшиеся надпалубные сооружения. Именно в них размещались кабины первого класса — из самого легчайшего и огнеопасного материала.
574
выносимого ужаса, люди бросались в океан. Вода у борта горевшего корабля кишела плававшими и не умевшими плавать людьми, захлебывавшимися горько- соленой водой океана. Сквозь сухой, ровный треск огня, пожиравшего верх корабля, были слышны беспомощно слабые человеческие голоса. Большая часть спасательных шлюпок уже была охвачена огнем, и не оставалось возможности подойти к ним.
В небольшое количество спущенных шлюпок поспешно усаживали вымокших, дрожавших от холода и страха, терявших сознание женщин и детей. Как потом выяснилось, в эти исключительные минуты смертельной опасности некоторые пассажиры выказывали мужество и твердую стойкость. Перед лицом верной гибели они жертвовали собой. Мужчины прощались, уступая женщинам место, пожимая руки друзьям.
«Огонь возник от неизвестной причины, — так, со слов немногих спасенных пассажиров погибшего корабля, записывали вооруженные золотыми перьями и толстыми роговыми очками корреспонденты многочисленных газет. — Мы поднялись от панического крика и воя, поднявшегося в жилых пароходных помещениях. В двери кают стучала чья-то тяжелая рука. Подвергшись общему паническому чувству, люди выбегали раздетыми в коридор. Двери кабин были распахнуты, в них виднелись перевернутые, раскинутые постели. Крики, вопли женщин, плач детей, которых выносили на руках отцы, сливались в общий стон... Мы с трудом вырвались на палубу и были ослеплены светом. Пламя пожирало среднюю часть корабля, слышался зловещий треск рушившихся надстроек. С необычайною быстротою огонь достиг капитанского мостика, языки пламени лизали основания широких белых труб. Часть надпалубных деков, второй и третий ярусы были в огне. От краски и лаков, которыми было пропитано дерево, пламя приобретало ослепительно белый свет, губительпо действовавший на сетчатую оболочку глаз. Освещенные пожарищем лица людей казались безумными. Огромные, длинные языки пламени реяли над гибнувшим кораблем, на далекое пространство освещая черную недвижимую гладь океана. Клубы освещенного снизу белого дыма поднимались в звездное небо. В страшном молчании океана, нарушавшемся лишь треском пожара, слышались голоса людей, тщетно призы¬
575
вавших на помощь. В густой, безумно мечущейся толпе мы не узнавали знакомых и друзей. Озаренные феерическим светом, спасаясь от пожирающего огня, люди влезали высоко на мачты, перебрасывались через поручни в океан и, на глазах живых, скрывались в казавшихся раскаленными волнах».
Записывая рассказы спасенных, корреспонденты газет более всего заботились о сгущении красок. Однако и без усилий корреспондентов эти рассказы были страшны. А самое страшное было безумие, потерянность, жалкая беспомощность людей, мучившихся перед лицом верной гибели. Страшное и жалкое было в том, что люди, еще перед самою катастрофой наслаждавшиеся тишиною тропической звездной ночи, обильно и прекрасно поужинавшие (установленному на корабле распорядку не препятствовала тропическая, тяжело переносимая европейцами жара), спокойно почивавшие в мягких постелях после прохладных ванн, привычных гимнастических упражнений в освещенных отраженным матовым светом специальных залах, после неутомляющих разговоров и удобного чтения, — молодые, старые, стареющие, здоровые и страдающие изысканными болезнями, имевшие и не имеющие власть (среди пассажиров погибшего корабля было несколько очень богатых людей, почитавших себя вершителями земного благополучия, — именно они занимали наиболее благоустроенные и пострадавшие от огня помещения), — все эти люди оказались беспомощными и бессильными, как выпавшие из гнезда слепые птенцы!..
Корреспонденты справедливо описывали самоотверженное мужество некоторых пассажиров, проявленное в минуты величайшей опасности. Особенно трогательно ц подробно был описан отец, в течение многих часов с пятимесячным ребенком на руках державшийся на волнах. И отец и еще живой ребенок были подобраны подоспевшей спасательной шлюпкой... В газетных сообщениях было дано все: справедливое и трогательное изображение перенесенных страданий, подробное описание костюмов, имен, семейного и имущественного положения пострадавших. Особо подчеркивалось, что в спасании бедствовавших пассажиров принимало участие несколько пароходов, привлеченных к месту по- дсара ярким заревом, поднимавшимся над океаном. Упоминалось также, что первым к месту катастрофы
676
прибыло советское торговое судно. Указанное судно принимало деятельное участие в спасании погибавших пассажиров корабля, и все спасенные, будучи доставлены на судно, были накормлены и одеты, а раненым и обгоревшим была оказана медицинская помощь. Особенно было отмечено, что команда подоспевшего корабля, принимая участие в спасании погибавших, как один человек, братски делилась со спасенными своими постелями, одеждой, бельем. Из показаний самих*спасенных стало известно о трогательной заботе матросов и кочегаров советского судна...
«Дорогой друг! — сообщал в своем первом письме один из спасенных пассажиров сгоревшего корабля. —- Вы, наверное, уже знаете, что мне довелось быть в числе пострадавших при известной уже вам. катастрофе* Как видите, я уцелел почти невредимым: у меня обожжено плечо и несколько затемнено зрение. Подробностей я не стану описывать. Вы их прочтете в газетах, у которых болыгге места для трогательных описаний, К тому же, признаюсь, описывать пережитое я не в состоянии. Впечатления еще слишком живы. В ушах моих еще отчетливо стоят треск разгорающегося пожара, крики жертв. Плечо мое порядочно ноет. Впрочем, я с достаточным мужеством, достойным человека нашего времени, перенес испытание. Говорят, что я даже помог кому-то выбраться из воды. Но, впрочем, это пустяки... В свое время мы недурно переносили ураганный огонь противника и даже имели мужество весело шутить под грохот разрывавшихся снарядов... Вы, конечно, помните, как на глазах наших взрывом снаряда разорвало маленького лейтенанта, прибывшего накануне в полк. На родину мы отослали все, что осталось от маленького лейтенанта: золотое кольцо с камнем (найденное вместе с оторванной кистью руки) а крошечную записную книжку в сафьяновом переплете...
Письмо это я пишу, сидя на палубе дружески приютившего нас корабля. Непостижимая потребность высказаться заставляет меня писать, несмотря на все несоответствие окружающей обстановки. Я понимаю отлично, что в этом отражается некоторое нервное потрясение. Мне хочется выговориться, чтобы... не плакать. Не смейтесь, мои друг, мы избалованны и нежны, к тому же даже самые мужественные люди бывают иногда слезливы...
19 И. Соколов-Микитов, т. 1 577
Вокруг меня много новых людей. Мы одеты в самые разнообразные костюмы, которые предоставила нам команда подобравшего нас советского корабля. Мы, наверное, напоминаем теперь стаю обессилевших птиц, опустившихся на палубу парохода. Таких птиц можно брать руками...
За нами здесь ухаживают, и это трогает. Мне хочется описать вам людей, которым довелось стать нашими спасителями. Вы, разумеется, помните рисунки и фотографии в наших журналах, уродливо изображающие русских?
Теперь они окружают нас. Большинство из них очень молоды. У них светлые волосы, веселые серые глаза. Они очень хорошо смеются.
Сейчас передо мною стоит один из них. Он сйотрит на меня, на мой костюм и смеется. Зубы его сверкают. Я знаю, что его зовут Мишка. Так в России, кажется, называют медведей... Он добродушно похлопывает меня по плечу, говорит что-то по-русски. Очень возможно, что он немного издевается над нами...
Впрочем, я отклоняюсь (это опять следствие пережитого потрясения). Надеюсь, все это скоро пройдет. Но мне хочется, пока это свежо, высказать самое главное, чего, наверное, не сумеют высказать газетные корреспонденты. Это самое главное—чувство окружающей наш старый мир пустоты, ощущение которой в эти дни я испытал с особенной силой. Мир этот мне представляется как бы остывшим. Нам некуда идти. Пустота! Пустота! Мы стараемся ее заполнить — и не можем. Скрытая боязнь гибели гоняет нас по всему свету. Мы путешествуем, летаем за облака. И все это не может нас спасти...
Разумеется, мое нервное расстройство — результат перенесенного шока. Рука у меня дрожит, в глазах круги. Это, быть может, нервный бред, я не стану больше писать. Надо мной стоит Мишка. Он очень приятно смеется. В молодых его глазах — упорство жизни. Как живет и что думает он?
Прощайте, рука начинает болеть. Я надеюсь, что мы скоро увидимся и я окончательно излечусь к тому времени от непобедимого желания «изливаться»*
Прощайте!..»
1934—1954
ОЗОРНЫЕ СКАЗКИ
ПРИСЛОВЬЕ
В народе сказка — достояние общее, мирское, твор-* цом сказки был сам народ. Поэтому одну и ту же сказку два сказочника расскажут вам по-своему и каждый непременно вложит в сказку от своей души: добрый обернет дело на доброе, злой — на злое. И как общее правило: чем добрее, сердечнее сказ, тем и таланта и глубины больше. Таков непоколебимый закон художественного творчества.
Смеяться — по-народному не обозначает издеваться. Народ всегда умел за себя постоять, народ знал и знает свою силу и непобедимую власть хорошо сказанного слова. В народе бывало, что иное меткое слово заклеймит худого человека на всю его жизнь, да так прочно, что и в гроб ляжет человек с тем клеймом.
Большинство народных сказок, собранных в этом разделе, хорошо известны. Я отобрал и пересказал их по своей силе. Народная сказка была началом моего писательского пути.
СОЛДАТ И КУПЧИХА
Было это еще в крепостное, царское время, в нашей Тверской губернии. Солдаты по двадцать пять лет службу служили. Отдала раз богатая помещица моло« дого деревенского парня в солдаты.
«Погиблая моя доля, — думает паренек/— ни жены, ни хозяйства у меня нету, придется двадцать пять лет солдатское горе мыкать. Ворочусь на деревню стариком: кто за старого замуж пойдет!..»
И положил себе паренек твердый зарок: не пить, не курить, за всю солдатскую службу до женского полу не касаться.
«Стану копить из солдатских денег всё до копеечки, авось не нищим домой вернусь, какой ни на есть дворишко построю, вдовушку пожилую присватаю...»
За всю свою службу не отступил от своего зарока солдат. И на Кавказе был и в Севастополе. .Вышел ему наконец срок домой возвращаться. А в те поры железных дорог еще не было, солдаты со службы пешком возвращались. Идет солдат пешком через шесть губерний, пыль по дороге клубит. Кровные солдатские денежки в тряпицу зашил, спрятал в сапог за голенище. Идет так, где отдохнуть присядет, где попросится на ночлег. В богатые, дома не просился, — все, бывало, к беднякам да бобылям ладил. Высмотрит, где избенка поплоше, соломой крыта, постучится под окопце — и никогда не было отказу. И хлебца отрежут, и тюрьки дадут похлебать, и спать уложат.
Вот раз приходит солдат в богатое торговое село. А был в том селе престольный праздник, была ярмарка — купцы барыши обмывали. Встретил на улице солдата загулявший веселый купец.
— Куда, — спрашивает, — идешь, служивый? Далеко ли путь держишь?
Рассказал солдат, как и куда идет, поведал купцу свое солдатское горе.
— Цойдем, друг любезный, ко мне ночевать, — говорит купец. — Дорогим гостем у меня будешь!
Подумал, подумал солдат: не доводилось ему в богатых купеческих домах гостить.
«Аль и вправду сходить? Посмотрю, как богатые люди живут, какую хлеб-соль кушают».
Согласился солдат к богатому купцу ^ на ночлег пойти. Приводит его купец: дом высокий, просторный, крыша железная. В комнатах икон полный угол, все в серебряных кованых окладах. Перед иконами на золоченых подвесках лампады горят. Посадил солдата купец за стол, приказал купчихе гостя кормить. Поставила купчиха перед солдатом горшок щей с говядиной
580
да пирог толстый. Штоф с вином, чарку из поставца вынула.
— Ешь, пей, — смеется купец, — угощайся!
Выпил, закусил солдат, а купец сидит, ухмыляется,
потчует солдата:
— Не стесняйся, служивый: и питья и еды у меня на целый полк ваш хватит!
Навалился солдат на щи, на купчихин пирог, водочки, перекрестясь, выпил.
— Ну, купчиха, теперь стели постель, — говорит купец, — надо служивому выспаться.
Мягко было спать солдату на купеческой перине. Утром проснулся, а купец с купчихой его опять за стол сажают.
— Садись, — говорят, — служивый, подкрепись перед путем-дорогою.
Еще раз поел, выпил солдат, стал с хозяевами прощаться, за хлеб-соль благодарить. А купец ухмыляется, бороду гладит.
— У нас, — говорит, — у купцов, такое обзаведение: рады попотчевать гостя.
Вот и задумался солдат. Вышел на дорогу, костыли- ком подпирается. Думает думу:
«Ходил-де я все по бедным людям, совестился заглядывать к богачам, а богачи-то слаще кормят, водочкой потчуют, и спать у богачей помягче. Буду теперь на ночлег к богатым людям проситься».
Так и сделал солдат. Придет в село или в деревню, смотрит, — который дом побогаче, — туда и стучится* Иной раз пускали солдата, иной раз отказывали.
Пришел так-то солдат в губернский город. Посреди города река течет, собор стоит на горе. Остановился, любуется городом солдат.
«К кому бы, — думает, — на ночлег попроситься?»
Приглянулся ему за Волгой купеческий домик один. В домике окна настежь открыты, а у одного окна молодая купчиха сидит, оперлась локотками на пуховую подушку, орешки щелкает. Увидел солдат купчиху—залюбовался: никогда таких красавиц еще не видывал!
Улыбнулась молодая купчиха солдату, скорлупку выплюнула.
«Эх, — думает солдат, — была не была: попрошусь, ночевать, авось пустят!»
581
Пустдла купчиха ночевать солдата. Угощение на стол поставила, чарочку налила. Сама за стол против солдата села, на локотки оперлась, ласково смотрит.
Не ест, не пьет солдат, отвернулся.
— Что ж ты, служивый, задумался, не ешь, не пьешь? — спрашивает купчиха.
— Так, думушку свою вспомнил, — говорит солдат.
— А какая у тебя думушка? — добивается хитрая купчиха.
«Сказать ей, что ли? — думает солдат. — Дело мое прохожее, солдатское — почему не сказать?»
И рассказал солдат молодой купчихе, как отдали его холостым в солдаты, как дал он себе на солдатской службе зарок не пить, не курить, до женского полу не касаться, солдатскую копеечку беречь...
— Скопил я, — говорит солдат, — за двадцать пять лет солдатской службы немного деньжонок на обзаведение, двор думал купить. А вот как тебя увидел, думаю: за такую кралю не жалко и все деньги отдать...
Усмехнулась, повела бровью купчиха:
— А много ль накопил ты денег, служивый?
— Семьдесят пять рублев накопил.
— Невелик капитал, — усмехнулась купчиха. — Ну, да что делать, давай сюда денежки: я согласна.
Жалко стало солдату своих кровных денежек, да и на попятный отступать совестно. Вздохнул солдат, за голенище полез, достал тряпицу, развернул деньги.
— Дай-ка сюда, я сама пересчитаю! — говорит жадная купчиха.
Отдал солдат деньги, а купчиха солдатские потные рублики все до копеечки не торопясь пересчитала да в сундук спрятала на самое дно. Ключ от сундука схоронила. Стала постелю стелить.
Постлала пуховую постель, потом на двор сходила, охапку соломы принесла, на пол бросила, сверху покрыла простынкой.
— Солому-то для кого стелешь? — спрашивает солдат.
— А это на случай, если из соборной церкви с вечерни муж вернется до времени. Он у меня богомольный, так чтобы худого не подумал про нас.
Стала раздеваться купчиха, огонь притушила, полезла в постель под одеяло. Солдата пальчиком манит. Только было приготовился солдат, слышат — стучатся
582
в дверь. Вернулся купец из собора. Лег солдат на солому, шинелишкой с головой накрылся, похрапывает. Увидел купец на полу человека1 спрашивает у жены:
— Кто таков на полу лежит?
—- А это солдатик прохожий ночевать попросился. Накормила его* напоила и спать уложила. Давно спит сердешный.
*— Божье дело* божье дело1 — говорит богомольный купец.
Легли купец с купчихой, стали похрапывать, а солдату не до сна. Лежит, думушку думает. Слышит: застонала вдруг, заохала купчиха:
— Ох, батюшки, смерть моя! Ох, помираю!
Проснулся купец, спрашивает жену:
— Что с тобой, Настасыошка?
— Ох, батюшки, ох, умру!..
— Да что с тобой? Аль за фершалом сбегать?
— Ох, не надо фершала!
— Да что, скажи, Настасыошка, что с тобой?
— Второй раз так-то, — говорит купчиха. — И без тебя прихватывало, совсем помирала... Да, спасибо, соседка Фекла меня спасла, дай бог ей здоровья...
— Чем же соседка Фекла тебя спасла?
— «Как попритчится, говорит с тобой, — первым делом надо церковный акафист Миколе-угоднику три раза на крыльце прочитать. Как рукой снимет...»
— Ну, акафист-то я и сам могу прочитать, — говорит купец, — чай, грамотный, понимаю церковную службу.
Оделся, вышел на крыльцо купец, священную книгу, с собой взял. Стал читать церковный акафист.
Купчиха солдату и говорит:
— Не зевай, служивый, пока муж-то акафист читает!
Три раза прочитал на крыльце муж акафист. Вернулся в дом, а солдат уж на соломе лежит, с головою шинелишкой накрылся. Вернулся купец, спрашивает жену:
— Ну как, Настасьюшка, легче тебе стало?
— Ах, легче, ах, все прошло! — отвечает купчиха.
Легли они спать, захрапели, а солдату не до сна.
Стало ему жалко кровных своих денежек.
583
«Двадцать пять лет себя мучил, каждую копеечку берег, а тут все отобрала у меня проклятая купчиха! Не для чего теперь домой ворочаться. Пойду лучше утоплюсь в Волге-реке!»
Оделся тихонько солдат, котомочку из-под головы вынул, вышел из купеческого дома. Пришел на мост, посмотрел на реку. Вода внизу черная, холодная. ' Страшно стало солдату.
«Ну, — думает, •—теперь все равно, видывал и не такое!»
Котомочку сбросил, шинельку аккуратно сложил и только хотел в реку с моста броситься, — в самый тот час на соборной колокольне колокол:
— Бух!
Опомнился солдат.
«Что, — думает, — я делаю! Без покаяния и молитвы на такое дело решился! Видно, надо мне в церковь сходить, покаяться и помолиться».
Оделся солдат, приходит в церковь, в городской собор. А в соборе старушонки по стенам стоят, молятся.. Лампады у икон теплятся. Стал в уголку солдат на колени, хотел помолиться, да только молитвы стал припоминать, представилось ему, как прошлой ночью купец на крыльце акафист читал. Забыл все молитвы солдат, засмеялся.
А в самое то время зашел в собор купец, у которого ночевал солдат, темные грешки замаливать. Увидел солдата, дцвится: почему незнакомый солдат то молится, то смеется.
«Дай, — думает, — спрошу после службы».
Дождался купец, когда кончилась служба, догнал солдата на паперти, спрашивает:
— Скажи, служивый, почему ты в церкви то молишься, то смеешься?
Не признал солдат купца, покаялся, все рассказал: как со службы до города шел, #ак пустила на ночлег и взяла у него все деньги молодая купчиха, как хотел он после того утопиться, да ударил на соборной колокольне колокол и пошел он молиться в собор, да вспомнилось ему за молитвой, как купец ночью на крыльце акафист читал. Не выдержал — засмеялся.
«Не иначе —: моя Настасьюшка», — думает купец а говорит солдату:
584
— Утопиться, служивый, ты всегда успеешь. Пойдем-ка лучше с тобой побеседуем. Надо мне одпо словечко тебе сказать.
Подумал солдат.
«Верно, — думает, — утопиться всегда успею. Пойду-ка сперва побеседую с добрым человеком!»
Привел его купец к своему дому. Узнал солдат знакомый дом, испугался. Открыла им дверь купчиха, — того больше оробела, как увидела солдата. А купец, как ни в чем не бывало, приказывает купчихе:
— Угощай-ка нас, Настасьюшка, я дорогого гостя привел!
Поставила купчиха на стол угощение, от страху трясется: боится — не проговорился бы, не выдал бы ее солдат.
А купец напоил, накормил солдата и говорит:
— Теперь, служивый, иди отдохни. Побеседовать успеем потом.
Отвел солдата купец в чулан, на мягкую постель уложил, дверь запер на ключ. Приходит к купчихе в комнату.
— Присядь-ка, — говорит, — Настасьюшка. Надо нам побеседовать.
Присела купчиха на краешек стула. А купец задумался и говорит жене:
— Виноват, — говорит, — я перед тобой, Настась- юшка. Давно хочу покаяться в моей вине. Ведь я, как по городам на ярмарки езжу, каждый раз в веселый дом к распутным девкам спать хожу...
— Как так! — закричала купчиха.— Да много ль ты тем девкам платишь?
— Сказать страшно, Настасьюшка, Десять рублей плачу.
— Ах ты такой, разэтакий! — затопала ногами жадная купчиха. — Добрые люди таким девкам цо полтинничку платят, а ты десять рублей!.. Проживемся так!..
Посмотрел купец на купчиху, тихонечко спрашивает:
— А ты, Настасыошка, с прохожего солдата сколько взяла?
Поняла купчиха, что обо всем рассказал солдат, бро- силась в ноги купцу...
585
— Прости, —■ говорит, — семьдесят пять рублей взяла!..
— А ну, давай-ка солдатские денежки, я пересчитаю.
Достала из сундука, отдала мужу солдатские денежки купчиха... Пересчитал деньги купец, на стопочки разложил аккуратно.
— Сколько, — спрашивает,—мы, Настасьюшка, попу за церковный акафист платим?
— Попу али дьякону? — спрашивает купчиха.
— Попу, попу, Настасьюшка.
— Сколько платим? Семьдесят пять копеечек платим, — отвечает купчиха.
Отсчитал купец из солдатских денег медью ровно семьдесят пять копеек и говорит:
— Это Настасьюшка, мне за церковный акафист, что я ночью на крыльце читал.
Еще отсчитал купец медью полтинничек.
— Это, Настасьюшка, тебе, как сама сказывала... Сдачу отдам солдату.
Собрал купец солдатские деньги, солдата разбудил, денежки ему вернул.
— Прощевай, — говорит, — служивый, 8а церковный акафист мы с тобой теперь в расчете...
1966
СОЛДАТСКАЯ КАША
В прежнее, бывало, время — служит, служит солдат, а как отпуск придет, надо идти домой пешком. Иной раз и тысячу верст так пязки бьет солдат, покудова доберется до своей деревеньки. Известно — в пути не на свадебке: где щей похлебать дадут и на ночлег пустят, а где хлеба не выпросить! Люди-то всегда были разные.
И, хочешь не хочешь, доводилось солдату пускаться в хитрые проделки, только бы живу быть да целым добрести до двора.
Так было дело.
Зашел раз солдат к скупой бабке на перепутье:
— Здравствуй, бабушка; не найдется ль у тебя мне, прохожему солдату, попидъ-поесть?
А бабка солдату в ответ:
586
— Вот там на гвоздичке повесь!
— Аль ты, бабушка, глуха, что не чуешь? — говорит солдат.
— А где хошь, там и заночуешь! — отвечает бойкая бабка.
— Ах ты, старая ведьма, — разгневался солдат на жадную старуху, — вот я те вылечу глухоту!
И показал солдат бабке, каков есть солдатский кулачище.
Оробела бабка — и глухота долой.
— Што ты, сынок* я рада бы тебя накормить, да нет у меня ничего.
— Вари, старая карга, кашу!
— И рада бы, милый, кашу сварить, да варить у меня не из чего.
— Давай топор, я из топора солдатскую кашу сварю! — говорит солдат.
«Эка, — думает бабка, — погляжу, как будет солдат из топора кашу варить».
Принесла бабка топор.
Положил солдат топор в горшок, налил воды, поставил в печку варить.
— Всем бы, — говорит, — взяла каша, только надо бы толику круп.
Принесла бабка круп.
Насыпал солдат в горшок круп — и опять на огонь.
. — Скоро,— говорит, — будет каша готова, только бы маслицем сдобрить.
Достала старуха и масла.
— Ну, бабка, — говорит солдат, — теперь солдатская каша готова. Подавай хлеб-соль да принимайся за ложку.
Съели они так всю кашу, облизываются. Ух, и хороша удалась солдатская каша!
Спрашивает у солдата бабка: v
— Ну, а когда-то, служивый, топор станем есть?
— Да, вишь, не уварился топор, — говорит солдат, — где-нибудь доварю по дороге.
Засунул солдат топор за пояс, попрощался с бабкой — и был таков.
А бабка и потеперь вспоминает солдатскую кашу,
1927
587
БАБКИНА ЗАГАДКА
Было то в давнее время. Проходили со службы солдаты, зашли к скупой бабке погреться, попросили по- пить-поесть.
— Ах, мои родные детоньки, — говорит хитрая бабка солдатам, — рада бы вас накормить-напоить, да нет у меня ничего, есть только хлебушко черствый.
А жарился к празднику у бабки в печи жирный петух. Солдаты — люди проворные, живо раскумекали дело. Вот один — что был побойчее — вышел на двор, выпустил из хлева бабкину скотинку. Вернулся в избу, бабке говорит:
— Бабушка, никак это твоя скотинка по двору гуляет.
Выбежала старуха на двор, а солдаты — раз! раз! — выгребли петуха из печи, положили в мешок, а под сковородку подсунули старый лапоть. Известно — солдаты люди проворные!
Вернулась бабка со двора:
— Не вы ли, детоньки, скотинку-то мою со двора выпустили?
— Что ты, бабушка, — говорят солдаты, — как такое возможно.
Посидели, подремали у бабки солдаты и говорят:
— Хоть чего-нибудь, бабушка, дала бы нам поесть- попить.
— Чего же, детоньки, дам? Возьмите черствого хлебца, да кваску палью в черепок — кушайте на здоровье.
Сели солдаты уплетать хлеб с квасом, а скупая бабка сидит у окна, кудель чешет — весело старой, что провела солдат.
И захотелось бабке подшутить над солдатами:
— А что, детоньки, вы люди бывалые, всего видели; скажите-ка мне: нынче в Пепском-Черепенском, под Сковородном, здравствует ли славный полковник Курухап Куруханович?
— Нет, бабушка, Курухана Курухановича давно пету, — отвечают солдаты.
— А кто же, детоньки, заместо его?
— Как же, бабушка, ты не знаешь, — отвечают солдаты, — заместо Курухан Курухановича давно уж сидит Плетухан Плетуханович.
588
— Что вы, родимые? А где же теперь Курухан Ку- руханович?
— Эх, бабушка, славный полковник Курухан Ку- руханович давно переведен в Сумин-полк.
Погрелись солдаты, похлебали бабкиного кваску с хлебцем и пошли в путь-дорогу,
А воротился о ту пору из города старухин сын Аким. Лошадь отпряг, сел обедать.
Стала бабка потчевать сына, рассказывает старая про свою хитрую увертку:
— Без тебя, сынок, гостили у меня прохожие солдаты, просили поесть-попить. Да загадала я им хитрую загадку.
— Какую же, матушка, ты им загадала загадку? спрашивает Аким.
— А вот какую: в Пенском-Черепенском, под Сковородном, здравствует ли славный полковник Курухан Куруханович? Где им, серым, знать, что у меня в печи* в черепке да под сковородкой!
Полезла старуха в печь, открыла черепок, ан — пе- туха-то под сковородкой нет! Лежит заместо петуха в черепке старый солдатский лапоть.
Заголосила во весь голос старуха:
— Ахти мне, батюшки, обманули меня проклятые солдаты!
А сын от стола говорит:
— Так-то, матушка, солдата не обманешь, солдат что старый воробей: его на мякине не проведешь.
1927
МАЛИНОВЫЙ ЗВОН
Вышло дело по лету.
Вынесли бабы на луга, на светлое солнышко, белить холсты. Расстелили холсты по росе около кустов, а сами промеж себя ведут разговоры:
— Ну, теперь надо смотреть да смотреть за холстами, народ ныне пошел бойкий.
А была ка деревне старушонка Федоса — такая говорливая да смешливая, ну мочи нет. Любила старушонка похвастать своим колдовством. На словах куда старушонка востра, а на деле — грош цена.
589
Расхвасталась перед бабами старушонка:
— Это у кого другого, а у меня никакой вор не возьмет! Потому — знаю я петушиное слово от всякого вора и от разбойника.
Известно — похвальные речи гнилые.
Села старушонка от других в стороне. «Ну, — про себя думает, — пусть бабы свои холсты глядят, у меня будут целехоньки!»
А проходили мимо из отпуска два солдата, два удалых молодца, приметили холсты на лугах.
— Что, землячок, — говорит один, — холсты-то, похоже, припасены про нас. Залезай в кусты да гляди в оба! Я пойду с бабкой лясы точить.
Подошел солдат к старухе:
— Здравствуй, бабушка, как живешь-можешь?
— Здравствуй, дружок. Далеко ли идешь?
— Наше дело солдатское, — говорит солдат, — иду туда — незнамо куда, иду за тем — незнамо зачем!
— И-и, родимый, служба-то у вас куда мудрена!
— Мудрена, бабушка, мудрена, — говорит солдат.-— А я вот к тебе с запросом, вижу, что ты старушка бывалая, знаешь многое. Объясни-ка наш давнишний солдатский спор. Говорят мои землячки, что в вашей стороне звонят не по-нашенски.
— Как можно такое, — говорит старуха, — чай, и у вас и у нас колокола медные, а звон один.
— Так-то так, — отвечает солдат, — да хотелось бы мне для верности выслушать, как у вас звонят.
— Чудак ты, землячок, — как звонят? Да очень просто, слухай: тинь-тинь-тинь — дон-дон, тинь-тинь- тинь — дон-д он!..
Смешно старухе, разошлась старая, не остановить:
— Тинь-тинь-тинь — дон-дон, тинь-тинь-тинь —дон- дон!..
— Невелика разница, — отвечает солдат, — а звон не тот. В нашем краю звон малиновый, чуть пореже, вот этак: тяни-тяни — потягивай, тяни-тяни — потягивай!..
— Как, как, землячок? — покатилась со смеху старуха.
— А все так же, бабушка: тяни-тяни — потягивай, тяни-тяни — потягивай!..
Совсем ослабла старуха смеявшись.
590
А другой солдат тем часом, не будь плох, перетянул из кустов бабкины холсты, сложил в сумку и был таков.
Уж кое-как отдышалась старуха, слова не вяжет.
— Ну, служивый, — говорит, — звон-то ваш куды чуден! Досыта насмеешься.
И опять покатилась старуха.
— А вот ужо, так досыта и наплачешься, — говорит солдат. — Прощевай, бабушка, да не поминай лихом!
Поднялся солдат и пошел в свою сторону — шапчонка набекрень.
Под вечер стали бабы холсты считать, а старухиных холстов нет. Обегала старуха поле, обшарила все кусты, облазила на лугах кочки; нет, пропали холсты!. Припомнила старуха солдатское слово и заплакала горько: «Эх, лучше б и не слушать мне солдатов малиновый звон!»
1927
МОРОКА
В Кронштадт-городе, в Балтийском экипаже, служил разудалая головушка матрос Кирей Кузнецов. Отправился раз Кирей Кузнецов в город попить-поку* тить.
Зашел в городе в трактир «Муравей».
— Дать мне бутылку вина, поросенка под хреном и дюжину пива!
Подали матросу бутылку вина, поросенка под хреном и дюжину пива.
Рублей на десять напил-наел матрос Кузнецов.
— Послушай, служивый, — говорит Кузнецову половой, — забираешь ты много, а есть ли у тебя чем расплачиваться?
— Эх, браток, да у меня денег, как у вашего соборного протопопа, — куры не клюют! — отвечал матрос.
Вынул матрос из кармана золотой* — шарьк об прилавок.
— На, получай за все!
Взял половой деньги, отсчитал сдачи. А матрос ему говорит:
— Эка, — говорит, — братюга, ты человек небогатый, семейный, а у меня куры не клюют таких денег. Забирай сдачу себе!
594
На другой день опять заявился матрос в трактир, — рублей на пятнадцать напил-наел, и опять — шарьк золотым по прилавку.
— Сдачи, — говорит, — не надо!
Повадился так матрос каждый день в трактире бывать и каждый день оставлял в трактире по золотому. Набралось у трактирщика матросовых золотых — полный кошель.
Взяло трактирщика беспокойство:
«Матросишка — так себе, пустяковый, а поди, деньгами как сорит!.. Жалованье ихнее мне известно. Не иначе — казну обобрал. Не ровен час, угодишь за чужой грех в Сибирь на каторгу, камень долбить...»
Пошел трактирщик к морскому начальству:
— Так и так, ходит ко мне в трактир «Муравей» матрос, —- матросишко так себе, пустяковый, а деньгами, как мякиной, сорит. Цела ли ваша морская казна?..
Дошло до самого генерал-адмирала Апраксина. Призывает генерал-адмирал к себе в кабинет матроса.
— Скажи мне, — говорит, — Кирей Кузнецов, от- куль берешь деньги?
Стал матрос перед адмиралом во фрунт, по всему правилу.
— Никак нет, ваше превосходительство, — ниотку- дова я их не брал, а денег таких сколько хочешь во всякой помойке.
— Как так? Что ты брешешь! — рассердился адмирал.
— Никак нет, ваше превосходительство: не я брешу, брешет трактирщик. Прикажите трактирщику показать мое золото.
Велел адмирал трактирщику принести матросово золото. Принес трактирщик кошель и подает адмиралу. Открыл адмирал кошель, а там голые костяшки, полный кошель.
Говорит Кузнецову адмиралу
— Как же ты, братец, — платил ты трактирщику золотом, а оказались костяшки? Покажи, как ты такое делал.
— Слушаю, ваше превосходительство! — говорит матрос.
Повернулся на каблуках матрос, подмигнул глазом:
592
— Ах, ваше превосходительство, спасайтесь, нам погибель пришла!..
Поглядел адмирал — в двери, в окна рекой льет вода. Вскочил адмирал на стол, а вода выше, подступила адмиралу под самую бороду.
Совсем от страху ошалел адмирал.
— Ай, землячок, что мне делать? Сейчас утону!
А матрос рядом стоит.
— Коли не хотите помирать, ваше превосходительство, полезайте за мной в трубу.
Полезли они в трубу. Залез адмирал на крышу, а вода уж затопила весь город. Только и осталась над водою одна труба. Гуляют по вольной воде синие волны — вот-вот затопят волны трубу.
Сидит адмирал на трубе, от страху чуть жив.
— Ну, братец, — говорит, — видно, пришла наша смерть.
— А что ж, ваше превосходительство, помирать — не пахать! — отвечает матрос.
Откуда , ни возьмись — плывет по волнам ялик. Зацепил его рычажком матрос и говорит адмиралу:
— Ну, ваше превосходительство, садись! Авось куда доплывем.
Сели они в ялик, и понесло их по волнам ветром: день плывут и другой плывут, на третий прибило их к зеленому берегу.
Вышли на берег матрос и адмирал.
А на берегу незнакомые люди пашут. Увидали они адмирала, сбежались со всех сторон. Глядят, смеются, тычут пальцами в генераловы золотые эполеты. Никогда не видали такой смехоты.
— Что это за земля, — спрашивает адмирал,— и чье государство?
А те только смеются да пальцами в адмирала тычут.
Рассердился адмирал:
— Как смеете смеяться надо мной, адмиралом? Подать мне ваше начальство!
А матрос по-ихнему потолковал и говорит адмиралу:
— Так и так, ваше превосходительство, попали мы в тридевятое царство. Говорят они, что называется их земля Сошки, а столица у них — Борона. По-
нашему они не понимают, и никакого начальства у них нет.
Покрутил адмирал свой адмиральский ус,
гад
— А спроси-ка у них, Кирей Кузнецов, где бы нам поесть-попить?
Опять поговорил с теми людьми матрос.
— Нет, — говорит, — ваше превосходительство, в Сошках только и едят те, кто сам пашет и жнет.
Совсем заскучал адмирал.
—• Что, — говорит, — будем делать, братец?
— А что ж делать, — отвечает матрос, — надо нам наниматься в работнички да зарабатывать хлеб, не пропадать же нам голодом.
— Хорошо тебе, братец, — говорит адмирал, — ты привычен к работе. А мне каково? Сам знаешь: я адмирал, мне пахать неудобно.
— Ничего, я такую работу найду, — говорит матрос, — и уменья не надо.
Пошли' они наниматься в пастухи на деревню. Подрядили их мужики на все лето скотинку стеречь. Пошел матрос за пастуха, а генерал-адмирал за подпаска. Так до самой осени пропасли скотинку, а под Егорья пришло время собирать вынос. Надавали им мужики сала, насыпали хлеба. Разделил матрос весь вынос поровну. И говорит матросу генерал-адмирал:
— Никак невозможно такое. Ты простой матрос, рядовой солдат, а я генерал-адмирал! Мне полагается больше!
Заспорили они между собою.
Крепился, крепился матрос, да не хватило у матроса крепи. Размахнулся пошире — бац по адмиральскому уху!..
Очнулся от матросовой оплеухи генерал-адмирал, глядит, — а все как было: сидит он в своем кабинете, а на столе приказы лежат, и стоит перед ним матрос Кирей Кузнецов во фрунт, по всему правилу.
Обрадовался адмирал.
— Ну, братец, умеешь ты морочить людей да отводить глаза! Ну, так и быть, прощаю тебе на сей раз. Ступай!
— Счастливо оставаться, ваше превосходительство! — повернулся матрос на каблуках по всему правилу и пошел себе в экипаж.
А генерал-адмирал Апраксин после того три ночи не спал — ухо свербело от матросовой оплеухи.
1927
694
ТОРОЧА
За речкой Невестницей, под Веселым Городищем, в деревне Кочаны жил-поживал дед Артюх с бабкою Просой, и народился у них сын Иван, да такой продувной малый: ни пахать, ни сеять. Бывало1 из-под вороны яйца повынимает, вороне и невдомек.
Под самого покрова свезли Артюха на погост, и остались на дворе жить вдвоем — старуха да сын Иван.
Напряла старуха за зиму два мотка пряжи, повесила сушить над печкой. А Иван — ни пахать, ни сеять — говорит с печи старухе:
— Эх, матушка, отпустила б ты меня в город, на широкий на торг, продал бы я твою пряжу за хорошую цену, зажили бы мы с тобою по-богатому.
—. Что ты, дитятко, да много ли дадут тебе за мою пряжу!
— Небось, матушка, пустым не ворочусь!—-отвечает продувной малый Иван.
Поехал Иван в город на ярманку, повез продавать пряжу. На рубль продал да накрал на девяносто. Накупил себе пряников, меду горшок — сел на воз, едет по дороге, знай макает в мед пряник да уплетает за обе щеки.
А ехал навстречу Ивану богатый барин Пенский на лихой четверне.
— Стой, постой! Чей таков? — замахал барин ара- пельником, осадил четверню. — Как ты, серый мужик, смеешь так сладко есть! Полагается мужику один черный хлеб есть! Аль захотелось, чтоб я тебе всыпал горячих?
Остановил Иван лошаденку.
— Эх, ваше сиятельство, потому я пряники с медом ем: ездил я на ярманку, на широкий на торг, получил богатые барыши — на рубль продал да на девяносто так взял. А с тебя хоть бы двести взять!
— Как так? — стал барин;
Говорит Иван барину:
— А давайте, ваше сиятельство, положим уговор. Расскажу я тебе сказку, ни малу, ни велику, а ты слухай да мотай на свой барский ус. Коли ты мне скажешь: врешь! — то с тебя двести рублев, а коли вытерпишь, промолчишь, так и быть* сам лягу, сам и
595
портки спущу: секи меня вволю, угождай твоей барской светлости.
— Ладно, — говорит барин, — я согласен.
Ударили они по рукам, слез барин с брички, и стал
Иван сказывать свою сказку:
— Лет тому ни длинно, ни коротко — а много воды утекло, ходил я у отца-матери без порток, не умел от носу откинуть сопель. Пошел я в те поры в лес по дрова, увидел в дубу дупло, а в дупле — жареные перепелята гнездо свили. Сунул я в дупло руку — не лезет, сунул я ногу — не лезет, разбежался с горки и вскочил в дупло. Наелся-пакушался, захотел вылезть, — ан не тут-то было: от еды брюхо толсто! Я, добрый молодец, был догадчив, сбегал домой за топором, прорубил дыру и вылез па божий свет...
— Так, так, — говорит барин, — все это правда истинная.
.-*• Вздумалось мне напиться: пришел я, к Mopiot снял с головы череп, зачерпнул воды. Все бы ладно, да уронил я череп в воду, гляжу — а череп средь моря плавает, утки-гуси в нем гнездо свили, яиц нанесли. Что тут делать? Раз топором кинул — не докинул, другой кинул — перекинул, а третий — совсем не попал. Так-то перебил я всех уток-гусей, поклал в сумку, а яйца за море улетели. Зашел я в конец моря, высек огонь да и подпалил море. Горело море пять ден, на шестой все выгорело. Достал я череп и пошел по белому свету...
— Так, так, — говорит барин, — продолжай, молодец. Все это правда истинная.
— Поехал я в лес за дровами, привязал лошаденку к березе, а сам пошел дрова собирать. А пока там-сям бродил, набежали серые волки, прогрызли у моей лошаденки брюхо. А я догадчив был: кишки собрал, поклал в брюхо и зашил березовым прутом. Наложил воз дров и стал собираться в путь, тронул лошаденку—ан ни с места! Что за диво? Смотрю, а березовый прут за облаки задевает. Полез я по пруту на небо, все выглядел, все высмотрел, пора и назад. На беду дернула лошаденка, и повалился прут. Как мне быть, чем пособить горю? Набрал я на небе >пыли-копоти, что с дымом на небо летит, свил из пыли-копоти потуже канат, зацепил за облака и давай спускаться.
596
Уж я лез-лез, лез-лез, лез-лез, чуть было до земли не добрался, да малость не хватило канату. Полез я назад — вверху от каната отрезал и на низ надвязал. Стало меня ветром качать, бросать во все стороны. Упал я на землю, на зеленый луг, а луг не выдержал, л провалился я в тартарары на тот свет...
— Что же на том свете? — спрашивает барин.
— А на том свете жизнь распрекрасная: наши деревенские мужички чай-кофе пьют, а господа им самовары раздувают, да еще видел, как мой батюшка на твоем батьке воду возит!
— Что ты врешь, дурак! — закричал, разгневался на Ивана барин.
А Ивану того и надобно: взял он с барина двести рублев, да и был таков. Привез во двор денежки, наварил бражки, созвал на пир мужиков со всех соседних сел и деревень.
1927
ДОРОГОЙ сокол
У вдовой старушки Авдотьи было два сына— Семен и Микита. Микита в холерный год помер, а Семен пошел по хожалой части, ходил торговать в город, в краснорядье. Раз зашел к той старушке Авдотье от» пускной солдат, продувная голова, попросился переночевать.
Пустила старушка солдата.
— Откудова, служивый, идешь,' куда путь держишь?
— Иду, бабушка, ни с далека, ни с близка, — отвечает солдат, — с того света иду.
— Ах, золотой ты мой, — говорит старуха, — видно, тебя ко мне сам господь послал. Помер у меня сынок в холерный год, не случалось ли, не видал ли ты его на том свете?
— Как же, бабушка, — отвечает солдат, — как но видать, много раз виделись. На том свете мы с твоим сынком три года журавлей пасли. Наказывал сынок тебе кланяться.
— Ах, родненький, — затужила, заплакала бабка,— то-тоа чай, он с журавлями замаялся,
597
— Еще как замаялся, — отвечает бабке продувной солдат, — журавли-то на небе все по шиповнику да колючему рогознику бродят.
— Чай, и обносился сердешный?
— Еще как обносился: без порток по небу ходит.
Подумала старушка, поковырялась в добришке,
солдату говорит:
— Послушай-ка, землячок, есть у меня кусочек холста аршин сорок да денег две красненьких. Сделай старухе такую милость: отнеси на тот свет, на небо, передай сынку подарочек.
— Изволь, бабушка, почему не отнесть!
Свернул солдат бабкин холст, положил деньги
в карман, попрощался — и был таков.
А приехал из города, с краснорядья, другой бабкин сын, Семен. Стала ему бабка рассказывать про солдата:
— Ну, сынок, гостевал у меня человек с того свету, принес поклон от Микиты. Послала я с ним Миките на небо подарочек: кусок холста да денег две красненьких.
— А кто таков был у тебя?
— Был человек прохожий, отпускной солдат.
Положил ложку старухин сын, отказался щи
хлебать.
— Ну, матушка, много ходил я по свету, знавал простаков, а проще тебя не видывал. Жить с тобой — последнее проживем. Пойду лучше в люди; коль найду кого простоватее — буду тебя кормить и поить, а не найду — домой меня не жди, не ворочуся, живи сама как знаешь!
Надел Семен шапку, стукнул дверью и пошел из родного дома в белый свет.
Зашел так-то Семен на господский двор, остановился перед господским домом, под самыми окнами. А ходила по господскому двору рябая свинья с поросятами. Стал Семен перед свиньей на колени и давай свинье в землю кланяться.
А сидела у окна барыня, поглядывала от безделья на свой господский двор. Увидала барыня незнакомого мужика.
— Эй, Марья, ступай на двор да спроси: для чего мужик свинье кланяется?
Побежала дворовая девка на двор, спрашивает му- ЖЕка:
598
— Скажи, мужичок, для какой надобности ты свинье земные поклоны бьешь?
Отвечает Семен девке:
— Ах, милая моя барышня, для того я свинье поклоны бью, что ваша свинья моему деду приходится крестницей. А прошу я свинью на мою свадьбу. Не отпустит ли ваша добрая барыня свинью ко мне в свахи, а поросят — в поезжане?
Побежала девка в дом, доложила барын^ как объяснил мужик.
Говорит барыня:
— Экий мужик дурак! Слыхано ли, видано ли, чтобы свиньи на свадьбах гуляли? Ну, так и быть, скажи дураку, что отпускаю на свадьбу нашу свинью. Наряди свинью в новую лисью шубу да вели запречь тройку лошадей в господскую бричку* — пусть посмеются над дураком люди!
Запрягли конюхи тройку господских лошадей, посадили в бричку свинью с поросятами в барыниной шубе. Сел Семен рядом со свиньёй, ударил по лошадям и был таков.
О самую ту пору вернулся с охоты барин. Встретила его на крыльце барыня:
— Ах, душенька, была у нас без тебя здесь потеха! Приходил к нам на двор незнакомый мужичок, кланялся нашей свинье земно, просил меня отпустить ее на свадьбу в свахи, а поросят — в поезжане.
— Где же теперь свинья? — спрашивает барин.
— Нарядила я, душенька, свинью в мою лисью шубу, приказала запречь в бричку тройку лошадей,— пусть посмеются над дураком люди!
— Да откудова мужик тот? — закипел на барыню барин.
— Не знаю, не спрашивала, голубчик.
Осерчал барин, затопал ногами:
— Выходит, не мужик дурак, а ты и есть первая дура! Обманул тебя, дуру, хитрый мужик.
Велел барин седлать лучшего жеребца, вскочил в седло, поскакал за мужиком в погоню.
А Семен как заслышал, что нагоняет его барин, спрятал лошадей в лесу, привязал под деревьями. Сам сел на пенек у дороги, положил возле себя свой вале- ный колпак.
599
Подскакал к нему бария:
— Эй, борода, не видал ли, не проезжал здесь мужик на тройке лошадей в господской бричке?
— Как не видать — давненько проехал.
— А в какую сторону он поехал, как бы его догнать?
— Догнать — не устать, — отвечает Семен. — Да, вишь, повороток в лесу много! Тебе, чай, наши дороги неведомы.
Задумался барин.
— Не возьмешься ли, дружок, догнать того мужика?
— Никак нет, ваше сиятельство, — отвечает Семен. — Рад бы тебе услужить, да отойти невозможно: сидит у меня под колпаком живой сокол, птица дорогая, нельзя мне его оставить.
— Ничего, мужичок, я постерегу твоего сокола.
— Эх, ваше сиятельство, и рад бы оставить сокола, да боюсь, как бы не выпустил ты его, — хозяин мой за такое меня со света сживет.
— А дорого ли стоит сокол?
— Да что стоит? Говаривал мой хозяин, что за пятьсот рублей не отдаст.
— Ладно, — говорит барин, — я буду твоего сокола стеречь, а коли упущу, заплачу пятьсот рублей.
— Нет, ваше сиятельство, не будь во гнев сказано: сулишь ты заплатить, а что будет потом — неведомо.
— Ах ты невежа, дурак! Разве станет обманывать барин! Если барскому слову не веришь, вот тебе деньги, получай в заклад пятьсот рублей!
Взял Семен в заклад господские денежки, сел на баринова жеребца, поскакал в темный лес.
Долго ждал мужика барин, — уж и солнышко закатилось, а мужика нет и нет.
«Ну-ка, — думает барин, — погляжу, что за сокол под мужицким колпаком».
Поднял барин колпак, а под колпаком пусто. Плюнул барин с досады, пешком пошел на свой барский двор.
А Семен прискакал домой на господской тройке и господского жеребца на поводу привел. Старухе говорит:
— Ну, матушка, не хотел я тебя кормить и поить, думал, что нет тебя проще на свете, да, видно, пе без
600
дураков белый свет: нашлись поглупее тебя! Живи у меня, ешь хлеб-соль да поминай нашего барина-ду- рака да нашу барыню-дуру.
1927
ЧЕРЕПАН
Собрались раз поп, царь да пузатый барин за город погулять, посмотреть на простых людей, на безделье поклубить дорожную пыль. Идут так по дороге, промежду себя ведут разговоры.
Спрашивает царь у попа:
— Скажи мне, батя, что, по-твоему, на земле всего дороже?
Подумал поп и говорит:
— На земле всего дороже то, у кого баба толста да грудаста.
Говорйт барину царь:
— Ну, а ты, господин, чего скажешь?
— Я то скажу, — отвечает барин, — то всего дороже* у кого денег мешок да земли на сто верст округ.
Идут так, топчут пыль, а встречу им горшечник- черепан — везет из дальней деревни продавать на базар горшки, понукивает на сивую кобыленку.
Остановил царь черепана:
— Постой, мужичок! Не подвезешь ли нас до городских ворот, до первого повороту. А то, вишь, наша ноги до ходьбы непривычны.
Осадил черепан кобыленку, горшки в канаву свалил, прикрыл хворостом.
— Отчего не подвезти, садитесь, добрые люди!
Сели царь, поп и пузатый барин в телегу, — на мужичьей телеге-то им непривычно! — толкают друг дружку, а черепан знай на свою кобыленку понукивает да посвистывает, вожжами трясет:
— Но, но! Пошла, милая, не ленись!
Шла, шла кобыленка, дошла до середины большой лужи, остановилась по своей нужде. Взял черепан кнут, начал охаживать кобыленку. Сечет кнутом да приговаривает:
— Эх, дурная, где надумала стать! Дурней ты нашего царя-дурака!
601
Вышла кобыленка из лужи, а царь у черепана сора- шивает:
— Скажи мне, мужичок, разве царь у вас дурак?
— Дурак не дурак, — отвечает черепан, — а вот у царских больших бояр полны погреба денег лежат, да всё их, бояр, жалует. А у нашего брата, темного мужика, с зубов кожу дерет, за всякую пустяковину подати лупит,
«Ну, — думает царь, — мужичок-то, видно, не прост, попытаю его хорошенько».
Спрашивает у черепана царь:
— Скажи-ка, мужичок, отгадай мою загадку: кому на земле дороже, чтобы баба была толста да грудаста?
— А это, надо быть, поп либо монах: они до баб лакомы.
Опять спрашивает царь:
— А ну, скажи, мужичок, отгадай другую загадку: кому на земле всего дороже, чтобы денег мешок да земли на сто верст округ?
— А это, видать, барин а ли барский сынок: они, баре, до денег да до земли жадные.
Доехали так до городских ворот, остановил черепан кобыленку. Стали все трое с телеги слезать. На прощание говорит черепану царь:
— Поезжай теперь, мужичок, забирай свои горшки да привози в город, — завтра в городе горшки будут дороги. Да гляди не ошибайся — дешево не продавай. Будет у царя пир на весь мир, много знатных гостей съедется. Приходи сам на званый пир да не забудь в подарок царю горшок принести.
Вернулся черепан, навалил на воз горшки, привез в город. Поутру разложил на базаре свой товар, сам сел покупателей ждать. А царь в тот день созвал знатных гостей, и вышел от царя строгий указ всем званым гостям и боярам нести во дворец по горшку в подарок царю. Вот едут знатные гости-бояре к царю на пир, по дороге заворачивают на базар за горшками к черепану. Продавал черепан горшки по пять, потом по десять рублей пустил, дошло до пятидесяти, а уж под конец и по сту рублей за горшок брал. Остался у него один щербатый, худой горшок. Вот скачет на пир к царю самый главный царский министр Аракчей. Припоздал к царскому пиру, заворачивает к черепану;
— Продай, мужичок, горшок!
602
— Не осуди, милый человек; нет у меня боле горшков, остался один щербатый, да себе надобен.
— Сделай милость, уступи, — говорит Аракчей.— Сколь потребуешь, столько и заплачу* Я первый царский министр.
Подумал черепан.
— Пожалуй, уступлю тебе горшок. Денег мне от тебя не надобно, только сделай так, как я скажу. *
— А что такое сделать?
— А вот я сору-мусору наложу в горшок; если съешь мой сор, будет горшок твой, а не съешь, не получишь горшка, не гневайся.
Покрутился министр и так и сяк.
— Ну что ж, — говорит, — отведаю, авось и съем.
Наложил черепан полный горшок сору. Весь сор
съел царский министр. Прикрыл полою горшок и скорей на царский двор.
А черепан и сам скоро там, как ни в чем не бывало. Увидел его на пиру царь:
— Что же ты, мужичок, поскупился? Пожалел принести мне в подарок горшок, а был у тебя горшков полный воз.
— Помилуй, царское величество, — говорит черепан, — оставался у меня для тебя один горшок, да отбил его твой первый министр.
— Сколько же ты денег взял за тот горшок? — спрашивает царь.
— Помилуй, царское величество, не взял и одного гроша.
— Даром, что ли, горшок отдал?
— Не даром отдал. А эа что отдал, боюсь сказать твоей милости.
— Не бойся, мужичок, говори чистую правду.
— За то я тот горшок отдал, что твой министр мой сор-мусор съел.
— А можешь ли узнать того министра? — говорит грозно царь.
— Посмотрю, так узнаю.
Приказал царь черепану осмотреть всех своих гостей.
Осмотрелся черепан, показал пальцем на главного министра.
— Вот тот самый мой сор съел!
Подзывает царь министра к себе:
603
— Ты ли взял у черепана горшок?
Оробел, затрясся главный министр:
— Так точно, ваше величество, я взял горшок...
— И съел сор?
— Так точно, съел, ваше величество.
— Почему же ты сор съел?
— Не смел нарушить царский указ, ваше величество.,
— Ах ты этакий-растакой, — затопал ногами, закричал на министра царь. — Гоните его с моего царского двора!
Подхватили слуги царского министра под бока, вытолкали за ворота. А черепан походил вокруг царского стола, везде ему тем сором пахнет, — плюнул и пошел домой в свою деревеньку обжигать горшки.
1927
РЕМЕНЬ ДА ПРЯЖЕЧКА
В горевой деревеньке Фурсове жили два брата, Иван да Павел, жили допреж хорошо, а подошел лихой год, стало им жить тесно. Вот больший — Иван — и говорит:
— Надо кому-нибудь из нас идти наниматься в работу, а то хлебушко к концу подойдет — нечего нам станет есть.
— Коли идти, так пойду я, — говорит меньшой брат, — моего на дому меньше.
Пошел меньшой брат в работу. Идет так по дороге, а навстречу ему долгогривый поп.
— Куды, молодец, пошел?
— А иду в люди, в работники наниматься.
— Наймись ко мне!
— А чего ж. Я наймусь.
— Ну, что просишь?
— А прошу сто рублей да соломы воз.
— Дам тебе сто рублей и соломы воз, — говорит поп, — только положим такой залог: коли ты первый осердишься — пропало все твое жалованье, а я осержусь — из спины ремень, из гузна пряжечка.
— Ладно, согласен.
Ударили они по рукам, и поехал меньшой брат жить к попу. Так жил у попа Павел полгода, от голодухи
604
совсем ослаб, уж не носят и ноги. Приметил под, что ходит работничек невеселый:
— Что ты, молодец, невесел ходишь, аль серчаешь за что?
Говорит попу Павел:
— Побыл бы ты батя, на моем месте, так осерчал бы с первого дня, а я полгода терплю. Да нынче лопнуло и мое терпенье!
— Так, так, — говорит поп. — Чай, ты, молодец, наш уговор помнишь: коли ты первый осердишься — пропало твое жалованье, а я осержусь — из едины ремень, из гузна пряжечка.
Так и пошел Павел от попа ни с чем. Пришел домой, принес ничего. Спрашивает Павла брат:
— Ну, Павел, где был, что принес?
— А где был, там все и осталось, — отвечает Павел. — Иди теперь ты, Иван, в люди, авось твое счастье круглее!
Пошел старший брат в люди искать работенки. Идет так-то по дороге, а навстречу ему поп.
— Куды, молодец, идешь?
— А иду искать работенки.
— Наймись ко мне!
— Отчего ж,. я наймусь.
— А чего просишь?
— Прошу в год сто рублей да соломы воз.
— Дам тебе сто рублей и соломы воз, — говорит поп, — только положим сперва залог: ты первый осердишься — тебе платы нет, а я осержусь — из спины ремень, из гузна пряжечка.
— Ладно,^согласен.
Ударили по рукам, и пошел старший брат жить к попу. Живет так Иван у попа с полгода, стал совсем плохой на лицо. Заметил поп, что работник невеселый ходит.
— Что ты, дружок, — говорит, — невеселый ходишь, аль осердился за что на меня? . ■
— Эх, батюшка, был бы ты на моем месте, давно б осердился, а я у тебя вот полгода живу, а не сержусь на тебя ни на эстолько. 4
Под Миколин день собрался поп в гости.
— Смотри, Иван, — говорит работнику, — мы с попадьей уезжаем, может пробудем неделю. А ты гляди
605
sa нашим добром, а пуще стереги амбарные двери, смотри, чтоб кто не забрался.
Уехали поп с попадьей, а Иван пошел к амбару, снял двери с крюков, на плечи взвалил, принес в избу и запихал на полати. А сам на дверях лег. Приезжает через неделю поп из гостей.
— Эй, Иван, не ты ли тут?
—. Я.
— Как же ты, велел я тебе амбарные двери стеречь, а ты на печи спишь.
— Амбарные двери у меня тут, эва, подо мной. Целехоньки! — говорит работник.
Побежал поп в амбар, а там все пусто — мышь лоб разобьет. Заревел поп с досады:
— У-у! Это ли нам, попадья, не беда!
А Иван с полатей говорит попу:
— Что ты, батюшка, не осердился ль чего на меня?
— Нет, зачем осержусь! — отвечает поп.
Пришла ночь, легли они спать — поп с попадьей на
кровати, Иван на полу.
Вот ночью говорит попу попадья:
— Что, батя, будем делать? Довел нас работничек до беды, — гляди, как бы и совсем не упек! Поставлю- ка я опары побольше, насушу сухарей да сложу в мешки. Ты возьмешь что побольше, а я —что поменьше, и убежим в лес, пока живы.
Плохо спится работнику, слышит попадьин разговор.
Утром попадья зачала хлебы печь да складывать по мешкам. А Иван примечает, где попадья мешки ставит. Подошел вечер, легли спать поп с попадьей на кровати, работник на полу. Ночью работник собрал одёжу, завертел под одеяло, вышел потихоньку в сени, высыпал из большого мешка хлеб и залез в мешок сам.
Прохватилась попадья ночью:
— Вставай, поп, вставай, вторые петухи поют!
Выбежали поп с попадьей в сени, схватил поп побольше мешок, а попадья поменьше, и побежали. Бежали, бежали по чистому полю, и случилась им на пути река. Побросали они мешки на траву, присели на кочку. Выложила попадья пироги из мешка и говорит попу:
— Слава те господи, убежали от элодея — хоть отобедаем вольно.
Отвечает попадье поп:
606
— Слава богу, мать, теперь убежали!
А Иван из мешка тут как тут:
— Не хвались, батя, прежде времени!
Ахнул поп, — чего станешь делать! Посадил и работника к пирогам. А Иван не шибко устал, покатавшись на поповском горбу. Укусил он пирога и пошел по своему делу к реке. А крутой был угорыш — Ивана за угорышем не видать.
Вот и говорит попадья попу:
— Ты, батя, как ложиться будем, вались на гору* а я под гору лягу. А работничка положим на край. Ты прохватись ночью и легонько толкни меня, а я его пуще пихну, он и упадет под угорыш.
Легли спать: поп на гору, попадья под гору, работника положили на край. Поп и попадья заспали с устатку, а Ивану не спится. Пошевелил он попадью маленько, попадья и откатилась на край. А Иван лег на попадьи- ’ но место и поджидает: «Ну, когда-то меня поп толкнет!»
Проснулся поп, Ивана легонько толкнул, а тот и и того пуще пихнул попадью. Полетела попадья с уго- рыша в холодную воду.
Вскочил поп на ноги:
— Ставай, попадья, ставай! Утонул наш элодей* слава богу!
Поднялся и работник:
— Батюшка, да ведь это попадья твоя утонула. Я тут, жив стою.
Схватился поп за бороду, волосья дерет.
Говорит Иван попу:
— Батюшка, не осердился ль ты на меня?
Заревел на него поп:
— Ах ты, дубина, дурак! Как бы ты меня упек, не осердился б я. А за попадью я тебе век не прощу.
— Батюшка, — говорит работник, — а помнишь ли наш залог?
— Был залог, — говорит поп, — да ведь ты у меня и так всё упек.
—* Я бы с тебя ничего не взял, — говорит Иван, — да уж только больно жаден ты, поп. Ступай — попадья твоя вон за кусток ухватилась, жива. Да хорошенько запомни, что за тобой залог: из спины ремень* а из гузна пряжечка.
1927
607
ГОЛОДНЫЙ ПОП
Любил поп Федот покушать. Бывало, наварит попадья щей полный горшок, да напечет блинов горку* да гуся зажарит. Сядет поп за стол — все приберет и еще попросит. Таково уж поповское широкое брюхо.
А слуяшл у попа в работниках продувной парень, большой весельчак — Егором звали.
Раз собрались поп с работником па луга — на дальнюю пожню за сеном. Ехать было верст пятнадцать с гаком, покудова-то управишься с возтом!
Поутру велел поп попадье на стол накрывать, чтобы подкрепиться перед дальней дорогой.
Поставила попадья щи — полный горшок, наложил! в чашку блинов. Поп подобрал весь обед и говорит попадье:
— Путь-то у нас долгий, на дальнюю пожню, протрясемся, чай, за дорогу. Дай-ка нам заодно и поужинать.
Подала попадья ужин: щей, да блинов, да баранину.
Съел поп и ужин, бороду протер, подтянул брюхо.
— Ну, — говорит Егору, — теперь можно ехать. До вечера, чай, будем сыты.
Заложил Егор лошадь, сели в телегу и покатили на дальнюю пожню, в заказные луга.
А путь был кружный, — довелось им ехать через внакомую деревню. Вот и говорит поп Егору:
— Позабыли мы, Егорушка, захватить из дому в дорогу харчей. На пожне-то как раз проголодаемся. Забеги-ка, дружок, к знакомому мужику Семену, попроси пирожка-рыбничка, скажи, батюшка, мол, требует за молебен.
Забежал Егор к мужику в избу, взял рыбный пирог, 8а пазуху спрятал, вышел и говорит попу:
— Вишь, батюшка, день-то какой у нас незадачливый: вся деревня нынче в лугах. Остались в избе одни ребятишки малые, ничего не смыслят!
Поехали дальше. Протрясло попа скоро в дороге, захотелось попу есть.
В полдни приехали на пожню, поставили лошаденку, стали навивать воз. Поп на возу сено топчет* а Егор снизу вилами подает.
Говорит с воза поп:
608
— Клади, Егорушка, веселей, поедем поскорее до- ^юй, что-то мне есть захотелось!
Егор знай не спеша шевелится: отойдет за воз, откусит от пирога — и опять помаленьку подает попу сено.
Кое-как навили воз, спустился поп с воза, пот с лысины обтер и говорит:
— Слава те господи, — полдела прочь, поедем домой ужинать.
А Егор про себя думает:
«Поморю попа хорошенько!»
Подвернул Егор передок телеги покруче-—завалился в канаву воз.
— Эка, батюшка, какая сегодня нам незадача: опять надо воз навивать!
f: Потоптался около воза поп, почесал в бороде.
— А что, дружок, —■ говорит, — не заехать ли нам сперва в соседнюю деревню поужинать. Подкрепимся, тогда воз накладем.
— Как можно, батюшка, надо сперва воз наложить, тогда поедем! — отвечает Егор.
Стали они опять воз навивать. Попу’давно невтерпеж, а Егор не торопясь сено кладет да знай откусывает от пирога.
Наклали они воз, поехали.
А надо было спускаться с косогора под речку.
Нарочно подвернул Егор лошадь — опять завалился воз. '
Совсем загоревал поп:
— Теперь, как хочешь, Егор, сперва в деревню поедем, поужинаем! *
Приехали они на деревню, к знакомому мужику. Привязал Егор лошадь, сам скорее в избу.
— Слушайте, — говорит, — братцы, ехал со мною поп, всю дорогу гшроги ел, — много его не угощайте. Раз попросите за стол, а если не сядет сразу, больше его не просите.
Вернулся Егор из избы, говорит попу:
— На этой деревне живут мужики-чудаки, у них обычай таков: если попросят тебя, батюшка, раз — не садись за стол, если попросят другой — не садись, а только после третьего разу садись.
Зашли они в избу, стали хозяева попа угощать, сажать за стол. А поп отказывается, не садится, помнит Егоров наказ.
20 И. Соколов-Микитов, т. 1 609
Сели хозяева за стол, стали щи хлебать, добрались до каши, а поп терпит, надеется, что ему отдельно мяс- його дадут.
Вышли хозяева из-за стола, помолились.
— Не хотел, — говорят, — батюшка, ты с нами ужинать, не пожелаешь ли отдохнуть, поспать?
Что будешь делать! Повалились поп с работником спать на печь. А попу не до сна *— есть хочется. Вот он работнику тихонько говорит:
— Эх, Егорушка, зря ты мне сказал, что по первому приглашению нельзя садиться за стол! Нет у меня теперь никакого терпенья — так хочется есть!
— А ты, батюшка, потерпи, —. отвечает спросонья Егор, — тебе за терпенье-то бог добра больше пошлет!
Всю ночь не спал поп — в брюхе точило. Утром подхватился чуть свет и скорее домой. Забыл и про сено.
С тех пор довольно с работником ездить.
19.27
ДУРЬ-МАТУШКА
У старика со старухой было трое сыновей: двое работнички-молодцы, прилежные пахари, а третий ни в колоду, ни в пень —вышел Йванушка-дурачок. Умные семью кормят-поят, а Иванушке чего ни попадет в руки — все промеж пальцев посеет. Сидел себе на печи да мух ловил.
Напекла раз старуха ржаных пирогов и говорит дураку:
— Ну-ка, Ванюша, ступай, снеси в поле братьям.
Взял Иван пироги, пошел в поле.
Только вышел дурак за околицу, глядь-поглядь, а за ним его тень бежит.
«Эка, — думает Иван, — какой парень тощий, видно, изголодовался бедняга. Дам-ка ему пирожка!»
Бросил Иван на дорогу пирожок, а тень не отстает, все за ним бежит.
— Ах ты, — говорит Иван, — утробушка ненасытная! На, бери все мои пироги!
Разбросал Иван все пироги по дороге. Пришел в поле с пустыми руками.
— Ты, дурак, чего? — спрашивают братья.
610
■ . • — А принес вам обедать, — говорит Иван.
— Где ж обед? Подавай сюда.
— Ах, братцы, — отвечает Иван, — такое у меня дело вышло: шел я к вам дорогой, и привязался ко мне чужой человек, поел ваши пироги.
— Каков-таков человек? — спрашивают братья.
— А вот он, и сейчас тут!
Рассердились,* побили Ивана братья, а ему, дураку, и кулак в благодать: стоит да почесывается.
Так-то раз вышло: послали братья Ивана в город на базар, закупить кой-чего по хозяйству. Всего закупил Иван: стол новый, дубовый, ложек кленовых, чашек липовых расписных, глиняных горшков, калачей, мяса и соли, навалил полный воз всякой всячины. Едет помаленьку домой, а кобыленка у Ивана лядащая — не столько везет, сколько хвостом мух отгоняет.
«Ну,— думает Иван, — у моей кобыленки четыре ноги и у стола четыре, авось и сам добежит!»
Снял Иван с воза стол, поставил на дорогу, ударил кнутом по столешне:
— Н-но, не отставай, догоняй нас!
Едет дальше, а над дорогой вороны вьются, покар- кивают:
—• Калач, калач, калач!
«Эх, — думает Иван — вишь, разлетались сердешные, калачика просят. Видно, не евши давно».
Вынул дурак .калачи, мясо достал, побросал все на дорогу воронам.
— Кушайте, сестрицы, на доброе здоровье!
Едет так дальше, по подлесью, а кругом пни торчат обгорелые.
«Эка, — думает Иван, — какие ребята-молодцы стоят, и все без шапок, озябнут так-то!»
Достал дурак с воза все новые горшки и расписные чашки, понадевал на горелые пни, на каждый пень по горшку да по чашке.
— Ну, — говорит, — теперь есть в чем ребятам гулять!
Доехал так Иван до реки, остановился лошадь поить, а кобыленка пугливая — боится, не идет к воде.
«Видно, вода в реке несолена, оттого нейдет кобыленка, — думает Иван, — надо посолить воду маленько».
20*
611
Снял дурак с воза куль с солью, высыпал соль в реку, посвистывает кобыленке:
—: Фыо, фью, матушка, пей — и свежа водица, и солона, и прохладна!
Остались на возу у Ивана одни ложки в лыковом кошеле. Поехал Иван дальше, а ложки в кошеле побрякивают: бряк да бряк! Послышалось Ивану, будто про пего говорят ложки:
— Дурак да дурак!
Рассердился Иван, выкинул ложки из кошеля, стал лаптями топтать:
— Вот вам за дурака, негодные!
Воротился Иван домой, въехал во двор с пустым возом.
— Ну, братики, накупил я всего, как вы приказывали.
—. Спасибо, Ваня. А где ж твои покупки?
— Стол у меня позади бежит, нас догоняет, — говорит Иван, — калачи и мясо голодные вороны-сестрицы кушают на дороге, горшки я ребятам в лесу за- место шапок отдал, а солью в реке воду солил, чтобы пила лошаденка.
Ахнули братья, выслушав Ивана. Кинулись на дорогу собирать добро. Остался Иван одип в избе, залез иа печь мух ловить. А утворялась к празднику на печи в большой кадке бражка. Слышит Иван, что в кадке побулькивает: буль, буль! буль, буль! Показалось ему, что это его, дурака, дразнят. Опрокинул Иван кадку, выпустил бражку на пол. Сам сел в корыто — сидит в корыте, на всю избу дурацкие песни поет.
Вернулись братья, увидели Ивана посереди хаты в корыте, осерчали:
— От тебя, дурака, и нам, умным, житья нету!
. Посадили братья дурака в рогожный куль, поволокли в воду сажать. А пока искали прорубь в реке, остался Иван один. Сидит Иван в рогожном куле да знай поет веселые песни.
А на ту пору ехал по большому тракту барин на тройке вороных коней. Увидел барин рогожный куль, остановился.
А Иван кричит из куля:
— Ой, ратуйте меня, добрые люди! Садят меня на воеводство, хотят воеводой сделать, мужиков судить- рядить. А я ни судить, ни рядить, только мух ловить!
612
— Постой, — говорит барин, — я барин, я умею рядить и судить, вылезай из куля!
Выпустил барин Ивана, а сам залез в куль. Оставил Иван барина, сел на тройку, да и был таков.
А пришли Ивановы братья, поволокли куль к проруби, спустили под лед. Забулькало подо льдом в куле.
— Ишь ты, — говорят братья, — это, видно, выходйт душа из нашего дурака.
Пошли братья домой, а навстречу им скачет Иван на тройке горячих вороных.
— Эва, каких я поймал лошадушек! — кричит во весь голос.
Задумались братья:
— Вот она, глупь да дурь-матушка: из воды сухим вывела дурака! '
1927
БЕРЕЗА
Не близко и не далеко, в вороньем царстве, в сорочьем государстве, жил-поживал дед Семен Журавлев. А было у старика три сына: двое — молодцы-работнички, под руками дело горит, а третий вышел долбня- долбней — хоть груши сбивай.
На девяностом году помер старик, и стали братья делиться: умникам-то пришлось все добро, а дураку остался рябый бычок, да и тот шкура да хвост.
Увидел дурак, что собираются братья в город.
— А что, — говорит, — братцы, поведу-ка и я бычка продавать.
— Веди, да смотри меньше ста рублей за бычка не бери! — смеются братья.
Зацепил дурак быка за рога и повел в город. А слуг чилось ему проходить большим лесом. Стояла в лесу сухая береза: ветер подует, а береза скрипит.
«Почто береза скрипит? — думает дурак. — Уж не торгует ли у меня бычка?»
Говорит березе дурак:
— Что ж, березонька, я не прочь продать, только меньше ста рублей не возьму.
А береза знай скрипит.
И попритчилось дураку, что береза бычка в долг просит.
613
—- Ладно, березушка, изволь, — говорит дурак, — так и быть, деньги я до завтрева подожду!
Привязал дурак бычка к березе, попрощался и пошел домой.
Спрашивают у дурака братья:
— Ну, что, Иван, продал бычка?
— Как не продать — продал!
— Л сколько же ты за бычка взял?
— Да ни мало, ни много —■ взял сто рублей.
— А деньги где?
— Денег не получал: сказано —- приходить за деньгами завтра.
— Ах ‘ты простота, дурачина, — говорят братья, — да кому же теперь в долг можно верить!
На другой день встал дурак раным-рано, снарядился и пошел к березе за деньгами. Приходит в лес, а бычка под березой нету: ночью зарезали бычка волки.
— Ну, березонька, выкладывай деньги, как вчера с тобой договорились, — говорит дурак.
Береза себе знай скрипит.
Послышалось дураку, что береза отсрочки просит.
— Ну ладно, — говорит Иван, — подожду еще один денек, а больше отсрочки у меня не проси: самому деньги до зарезу.
Воротился дурак домой, а братья опять к нему:
— Что, братец, получил деньги?
— Нет, — говорит дурак, —- еще не получал. Просят обождать денек.
— Да кому же ты бычка продал?
— А продал я бычка сухой березе в лесу, — говорит дурак.
— Ну и дурак! — развели братья руками.
На третий день захватил дурак топор и опять в лес.
— Ну, березонька, отдавай долг, я шутить не люблю. Не отдашь долг — топором срублю.
А береза знай скрипит.
Размахнулся дурак топором — только щепки посыпались. Хряпнула, развалилась сухая береза.
А было в старой березе большое дупло, в старинные времена прятали разбойники в том дупле награбленное золото.
Посыпалось золото из дупла к дураковым лаптям. Нагреб дурак золота полную шапку —* и домой.
Принес домой золото, высыпал на полйцу.
614
—■ Вот, — говорит, — принес я вашим ребятам гу- люшки!..
Увидели золото умные братья, загорелись у них глаза.
— Где ты, — спрашивают, — дурак, столько добыл?
— А это мне березонька за бычка заплатила! Там еще много таких гулюшек осталось.
Побежали братья в лес добирать золото. Насыпали золота по целому лукошку, едва несут, а по дороге наказывают дураку:
— Смотри, братец, не говори, не рассказывай никому, не то быть беде!
— Зачем мне рассказывать, — отвечает братьям дурак.
Повстречался им по пути долгогривый поп. С прихода, с престольного праздника возвращался.
— Чего это вы, ребятушки, из лесу тащите?
Умные братья говорят попу:
— Да вот, батюшка, ходили мы по рыжики, набрали рыжиков по лукошку!
Ивану непонятно — зачем это о рыжиках говорят братья?
— Врут они, — говорит дурак попу, — мы золото несем, вот сам посмотри!
А долгогривый поп — ему только золото покажь, — бросился поп на лукошко, и рвет, и дерет, и в карманы пхает.
Рассердился дурак на попа.
— Ах ты, — говорит, — ненасытная утробушка, да ты что чужое берешь!—Тюкнул нечаянно дурак попа топором, убил до смерти.
— Ах, дурак, дурак! — оробели братья, что ты наделал! Теперь сам пропадешь, да и 'нас загубишь. Куда будем прятать мертвое тело?!
Думали братья, думали и порешили — стащить попа в темный погреб.
Вечером говорит середнему старший брат:
— Дело-то, Василий, выходит неладное. Как станут про попа спрашивать — наш дурак обязательно все расскажет. Где ему, дураку, умолчать. Давай-ка прирежем козла да отнесем в погреб, а мертвого попа спрячем в другое место.
Дождались братья ночи, убили козла и бросили в погреб, а мертвое тело зарыли на огороде.
615
Прошло так с неделю, стали люди про попа спрашивать — куда занебытился поп?
А дурак попросту говорит:
— Эва, когда схватились! Я еще неделю назад вашего попа пристукнул, а братья мертвое тело в погреб снесли!
Стали допрашивать люди дурака:
— Веди нас, дурак, показывай!
Полез дурак в погреб, нащупал козлиную голову, спрашивает:
— Ваш поп был черный?
— Черный.
— А была у вашего попа борода?
— Была борода.
— А рога есть?
— Какие, дурак, у попа рога!
—~ А вот сами глядите! — выбросил дурак из погреба козлиную голову. Смотрйт люди — как есть козел; плюнули, разошлись по домам.
А умные _ братья и посейчас на дураково золото живут.
1927
ЛЕБЕДЯНЬ
Было село Лебедянь — поп пьян, дьякон пьян и дьячок завсегда пьян.
Говорит дьякону поп Федот:
— А что, отец дьякон, никак Спиридона-поворота прошло, дни прибывать стали на овсяное зерно, надо быть скоро рождеству, а в какой день — незнамо.
А у дьякона с похмелья в голове гудит.
— А кто, — говорит, — его знает. Придется, видно, нам послать дьячка в другое село, спросить у отца Вакулы.
А отец Вакула о ту пору тоже про рождество вспомнил и стал спрашивать у своего дьячка:
— Посту, надо быть, конец. Видно, скоро рождество будет. Сходи-ка к отцу Федоту, узнай хорошенько.
Встретились дьячки на пути:
— Здоров, друг Яков, куда тебя ноги несут?
— Да иду в ваше село к попу Вакуле. У нас из ума выбило — когда рождество.
— Эх, друг, да ведь и я к вам с тем же.
616
Сели они по дороге, закурили.
А шла с росстаней баба, несла парное молоко.
— Откуль идешь, бабушка? — спрашивают у нее дьячки.
—- А иду из ближней деревни: завтрева у нас рождество, так попросила я у людей молочка разговеться.
Обрадовались дьячки, пошли по своим селам.
— Ну какj Яков, узнал? — спрашивает у дьячка поп.
— Узнал, батюшка, — говорит дьячок, — назавтрева у нас рождество.
Ну, так беги на колокольню, пора к вечерне звонить!
Полез дьячок звонить, схватился за веревку, а у большого колокола языка нет. Прибежал дьячок к попу;
— Эх, батюшка, звонить-то нам не во что,— у главного колокола языка нет!
— А где же язык? — спрашивает поп.
— А мы в осень на овин дрова кололи, да там, видать, и забыли — теперь снегами занесло.
1927
БЕЗГРАМОТНАЯ ДЕРЕВНЯ
Деревня была безграмотная: поп безграмотный, дьякон безграмотный и дьячок безграмотный. Церковь была, и обедню служили. Прознал архиерей про такое дело, приехал любопытствовать.
— Ну, батька, — говорит попу, — слыхал я, что у вас служба исправная. Нельзя ли будет послушать?
Побежал поп к дьякону и к дьячку.
— Беда, ребята, приехал архиерей, как мы служить станем?!
— А как-нибудь своргосим! — отвечает дьякон.
Говорит дьякону поп:
— Ты, дьякон, то пой, что я буду!
-- А мне что на крылосе петь?—-спрашивает дьячок.
— А что знаешь, то и валяй!
Зазвонили к обедне, побежал поп в церковь, надел ризу, архиерею и говорит:
— Владыко, благослови!
617
— Бог тебя благословит, поди, поп, служи.
Вышел поп па амвон и запел — голос громкий!
О-о, из-за острова Кильястрова выбегала лодочка осиновая, нос-корма раскрашенная, на середке гребцы-молодцы, тура-мара и пара!
Дьякон то же запел:
О-о, из-за острова Кильястрова выбегала лодочка осиновая...
А дьячок на крылосе:
Вдоль по травке да вдоль по муравке, по лазоревым цветочкам.
Архиерей слушал, слушал и рукой махнул:
— Служите как служили!
И уехал прочь.
1927
СТАРУХИНА МОЛИТВА
Была бабушка Алдота скупа — иголки не выпросишь, — а постница, богомолка, поклонница. "Бывало, ни одной службы не пропустит, ни единого поста пе проглядит, пять раз ездила старуха в Русалим. Ну, известно, кто лоб бьет много да у кого икон густо — у того и денежки в сундуках.
По лету поставили к бабушке Алдоте на постой казака Кузьму, разудалого хлопца, трын-траву. Проведал Кузьма про бабкино богомольство, намотал на свой казацкий ус. Раз стала на молитву старуха:
— Пресвятая мать богородица, спаси и помилуй!
А Кузьма из своего угла говорит в шапку:
— Не помилую, зачем худо кормишь казака!
Опять бьет поклоны старуха:
— Очисти мою душу грешную!
Отвечает в шапку казак:
— Очищу, очищу!
618
— И мужа очисти!
— Очищу! Очищу!
— И зятя нашего очисти!
— Успею, так и того очищу!—-рычит в шапку казак.
Помолилась старуха, стала на ноги, пошла по своим делам —- кур кормить на дворе. А казак добрался до бабкиных сундуков-шкатулок, повычистил хорошенько, да и мужнино — что было — шевельнул. Не успел только добраться до зятьева добра.
В обед вернулась старушка, а в доме все начисто. Стала бабка на колени:
— Ах, мать богородица, видно, недаром очистил меня господь, за грехи мои тяжкие.
А казак — известно — с деньжонками в кабак да в веселое место. Там ему голову и свернули.
1927
БАБЬИ УВЕРТКИ
Было у мужика три невестки, три молодые бабы. Две в сторону имели: любили дружков. Третья им говорит:
— Хоть бы мне кого полюбить!
— А полюби, коли бабьи увертки знаешь. Полюбила третья парня молодого, кучерявого Ваню.
Раз пришел к ней Ваня на приятное слово, на горячие пироги. Сели они с дружком на скамейку, ведут разговоры, угощает молодуха дружка пирогами. А на ту пору муж с сеном едет на дворе. Старшая невестка бежит к ним:
— Марья, муж твой приехал! Чего ему скажешь?
— А ничо не знаю...
Вошел муж в избу, а старшая ему ведро в руки:
— Бежи за водой! Твоя жена нездорова!
Побежал муж за водой на речку. Аьпокудова бегал,
Ваня в окошко, да и был таков.
Вернулся муж, принес воды. И говорит мужу старшая невестка:
— Обдавай жену да приговаривай: господи, благослови, — сам застал, сам по воду хожу, сам окатываю!
1927
619
ОКАТКА
Жил в Кочанах мужичок Аким Бабуров, и была у мужика жена Дуня. Бывало, Аким в лес, а у Дуни дружок в гостях. Муж-то на сухих хлебах, а дружку всего вволю.
Раз собрался Аким в лес и говорит жене:
— Эх, Дунюшка, хоть раз бы ты мне блинков напекла, а то на сухом-то хлебе куда тяжела работенка...
— Тебе бы жрать да жрать, — говорит баба, — поешь и картошки!
Поел мужик голой картошки, запряг лошадь и поехал в лес. До лесу не доехал, поставил кобыленку в овин, а сам под двери. А у Дуни дружок тут как тут. Печет баба блины, потчует дружка:
— Кушай, миленочек, на здоровье! Мой-то вернется не скоро.
Постучался муж. Оробел дружок, стал кидаться из угла в угол. А стояла в избе большая кадка из-под капусты. Залез дружок в кадку и молчок. Пустила баба Акима в хату.
— Позабыл я топор, — говорит Аким, — вишь, вернулся. А что же ты, жена, говорила, что не станешь нынче блинов печь?
Отвечает Акиму жена:
— Ах, муженек, не думала я блинов печь, да сказали мне соседи, что нынче праздник Окатка, сегодня бросают блины в кадку.
— Так, так, — говорит мужик, — а нельзя ли и мне для такого праздничка покушать блинков?
— Нет, — говорит баба, — как можно! Ешь, если хочешь, вчерашние щи.
Подумал Аким.
— Ну, — говорит, — для такого великого праздника вылью я щи .в кадку!
Выскочил из кадки дружок, весь в капусте, да в дверь. , .
— Эка, вот он угодник Окатка какой,—говорит бабе Аким. — Да что это он дуже похож на нашего Максимку Листарова?
1927
СОДЕРЖАНИЕ
Автобиографические заметки 3
ПОВЕСТИ
Детство 17
Елень 98
Чижикова лавра 138
РАССКАЗЫ И СКАЗКИ
РАННИЕ РАССКАЗЫ
С носилками 227
Глебушка 232
Кукушкины дети 236
Крылатые слова 240
Поэт и серый кот 245
Шепот цветов 246
Жуть 247
НА ТЕПЛОЙ ЗЕМЛЕ
На теплой земле 252
Пыль 201
Ава 280
621
Сын 303
Медовое сено 323
Слепцы 329
Курганы 332
Дударь 338
Дороги 343
Найденов луг 350
Фурсик 356
Бурый 361
День хозяина 366
На светлых озерах 371
НА РЕЧКЕ НЕВЕСТНИЦЕ
На пнях 378
Киндей и Киндеенок 388
Глушаки 391
В лесу 400
Тихий вечер 403
В снегах 408
На перекате 413
Деревенский черт 420
Камчатка 422
Цыган 425
МОРСКИЕ РАССКАЗЫ
Морской ветер 428
Матросы 438
Голубые дни 457
Ножи 462
Чарши 473
Сны 482
На мраморном берегу 489
Сад Черномора 495
На сорочьем хвосте 500
Зыбь 508
Любовь Соколова 515
Танакино счастье 523
Яшка 531
Туман 535
Туманный берег 542
Пути кораблей 550
622
Мираж 557
Тайфун 563
Катастрофа 571
ОЗОРНЫЕ СКАЗКИ
Присловье 579
Солдат и купчиха 579
Солдатская каша 586
Бабкина загадка 588
Малиновый звон 589
Морока 591
Тороча 595
Дорогой сокол 597
Черепан 601
Ремень да пряжечка 604
Голодный поп 608
Дурь-матушка 610
Береза 613
Лебедянь 616
Безграмотная деревня 617
Старухина молитва 618
Бабьи увертки 619
Окатка 620
Иван Сергеевич СОКОЛОВ-МИКИТОВ
Избранные произведения, т. 1.
Редактор Я. Булгакова Художественный редактор А. Гасникоэ Технический редактор М. Андреева Корректоры В. Урес и Л, Никулъшина
;Сдано в набор 5/1 1972 г. Подписано к печати 16/111 1972 г. Бум. тип. № .3. Формат 84X108732. 19,5 печ. л.
32,76 уел. печ. л. 32,986+1 вкл. «*» = 33,047 уч.-изд. л*. Тираж 75 000 экз. Заказ Лэ 1386. Цена 1 р. 21 к.
Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28
Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 им. Ев г. Соколовой Глав полиграф- прома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Измайловский пр., 29, с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.